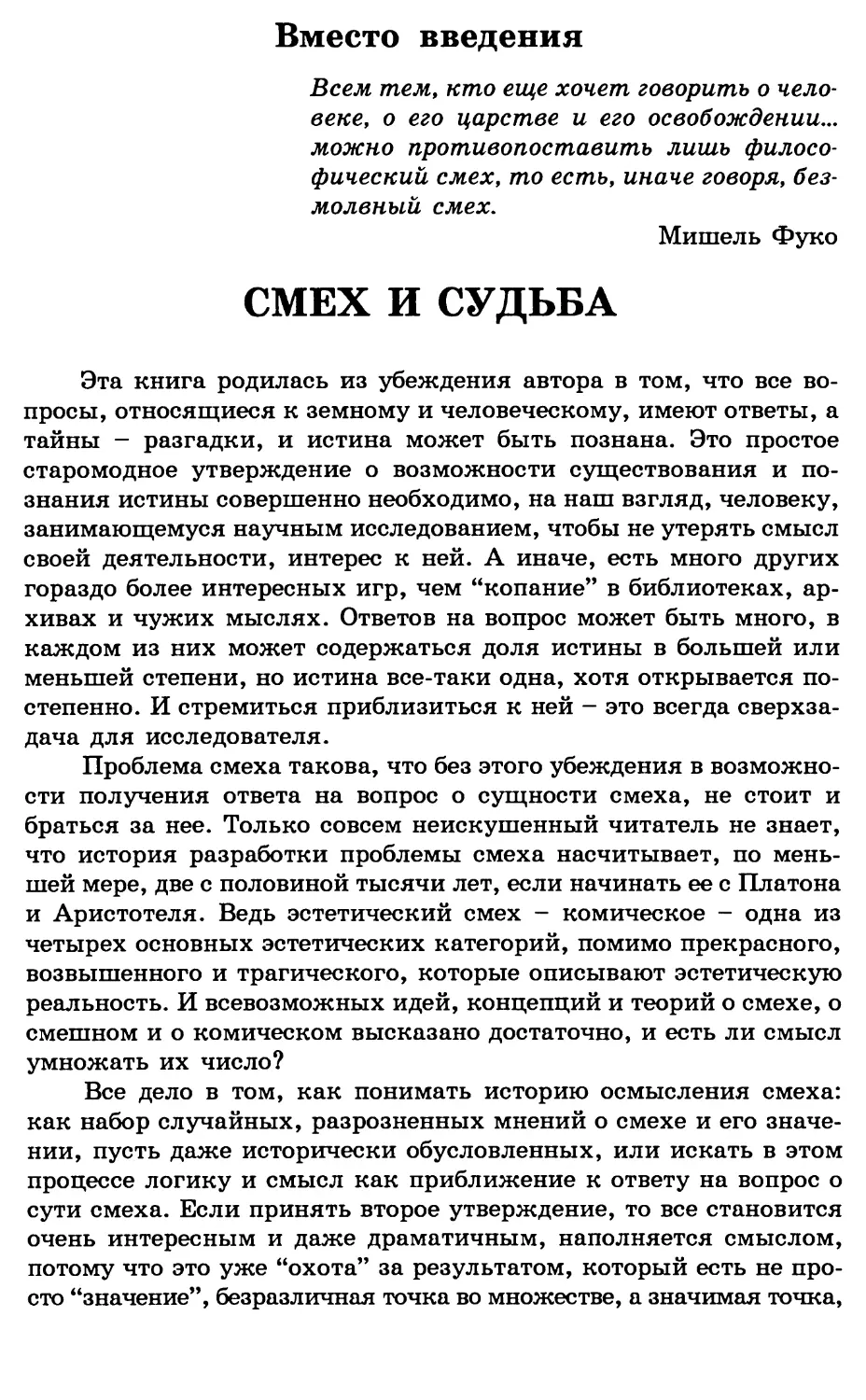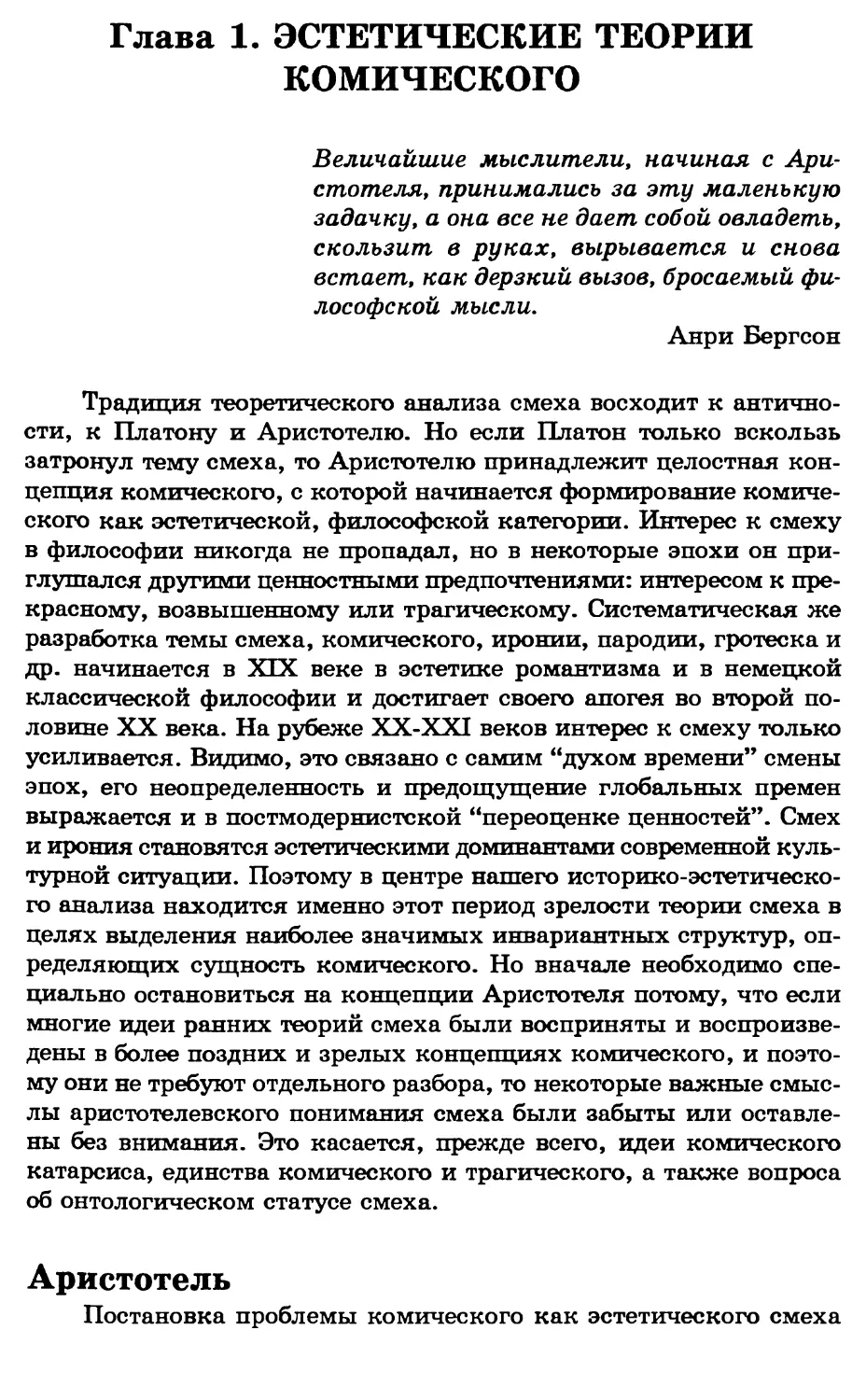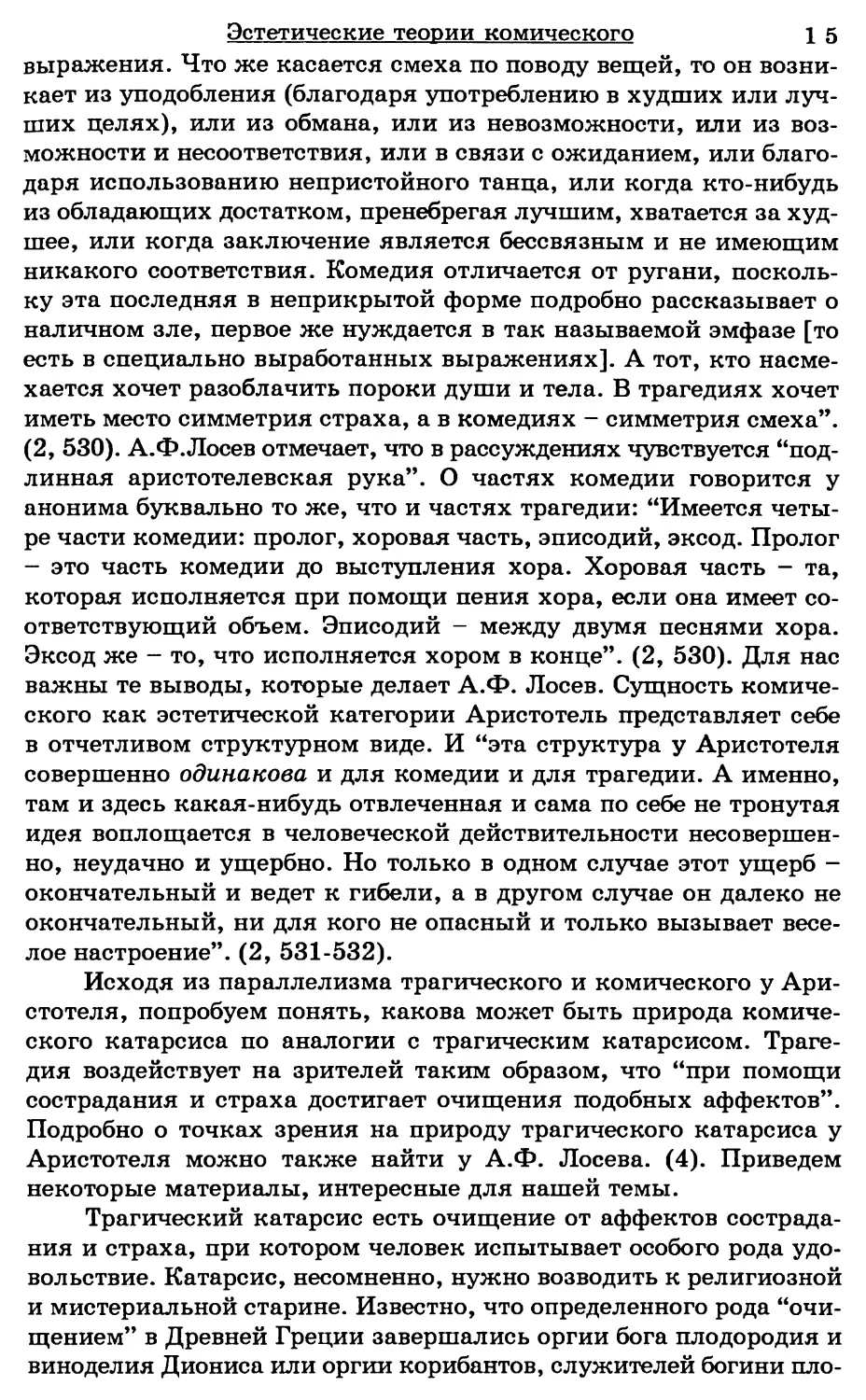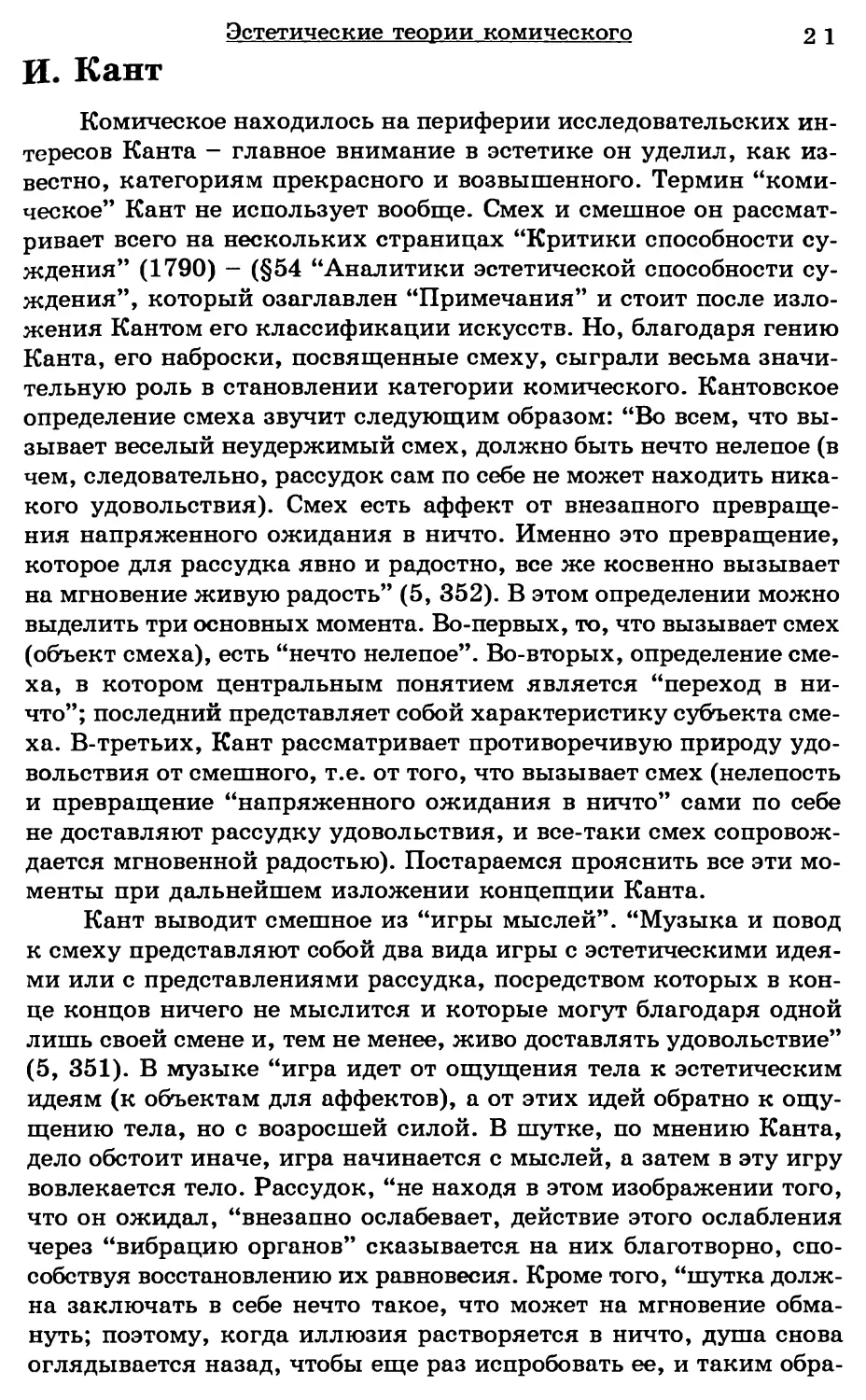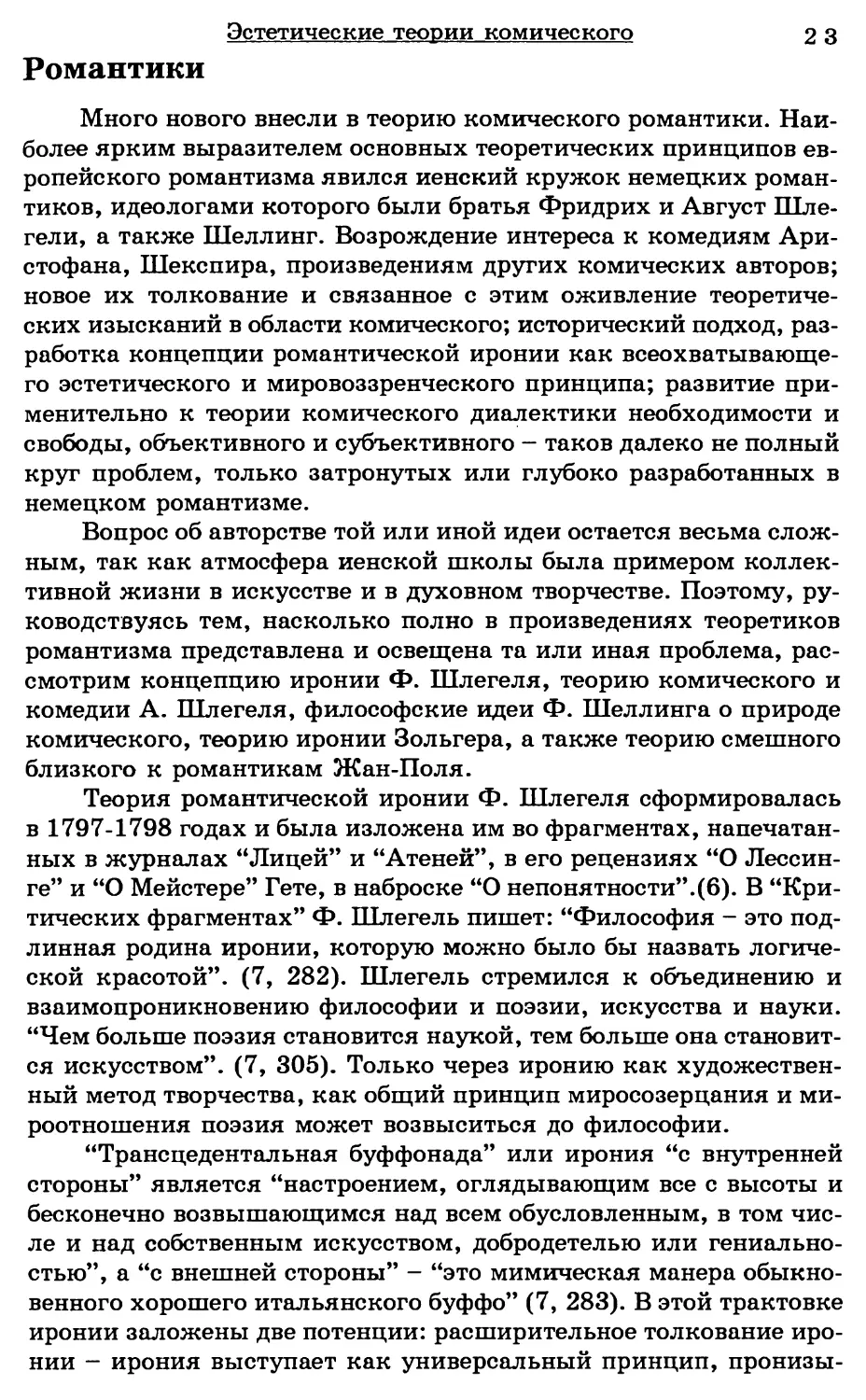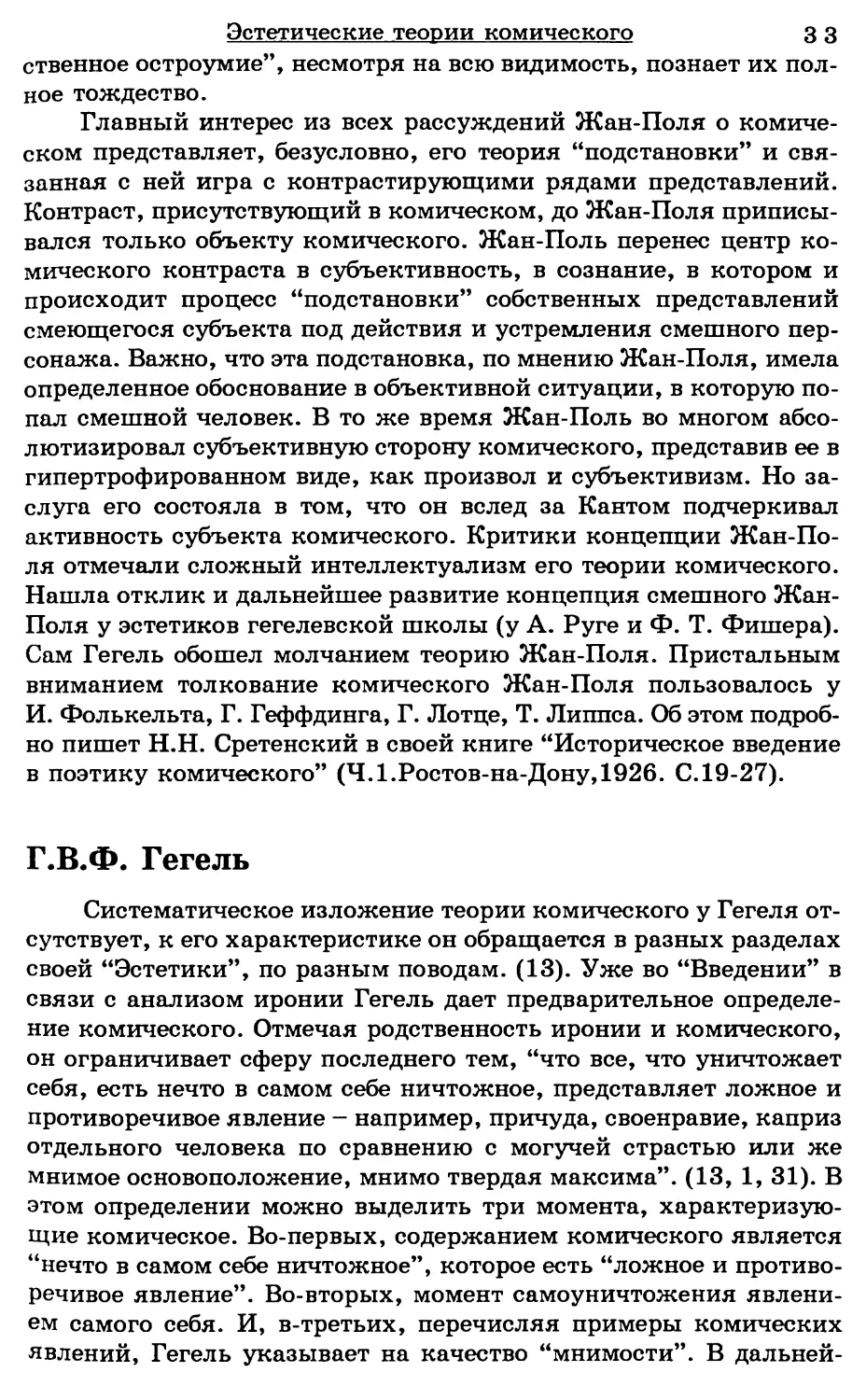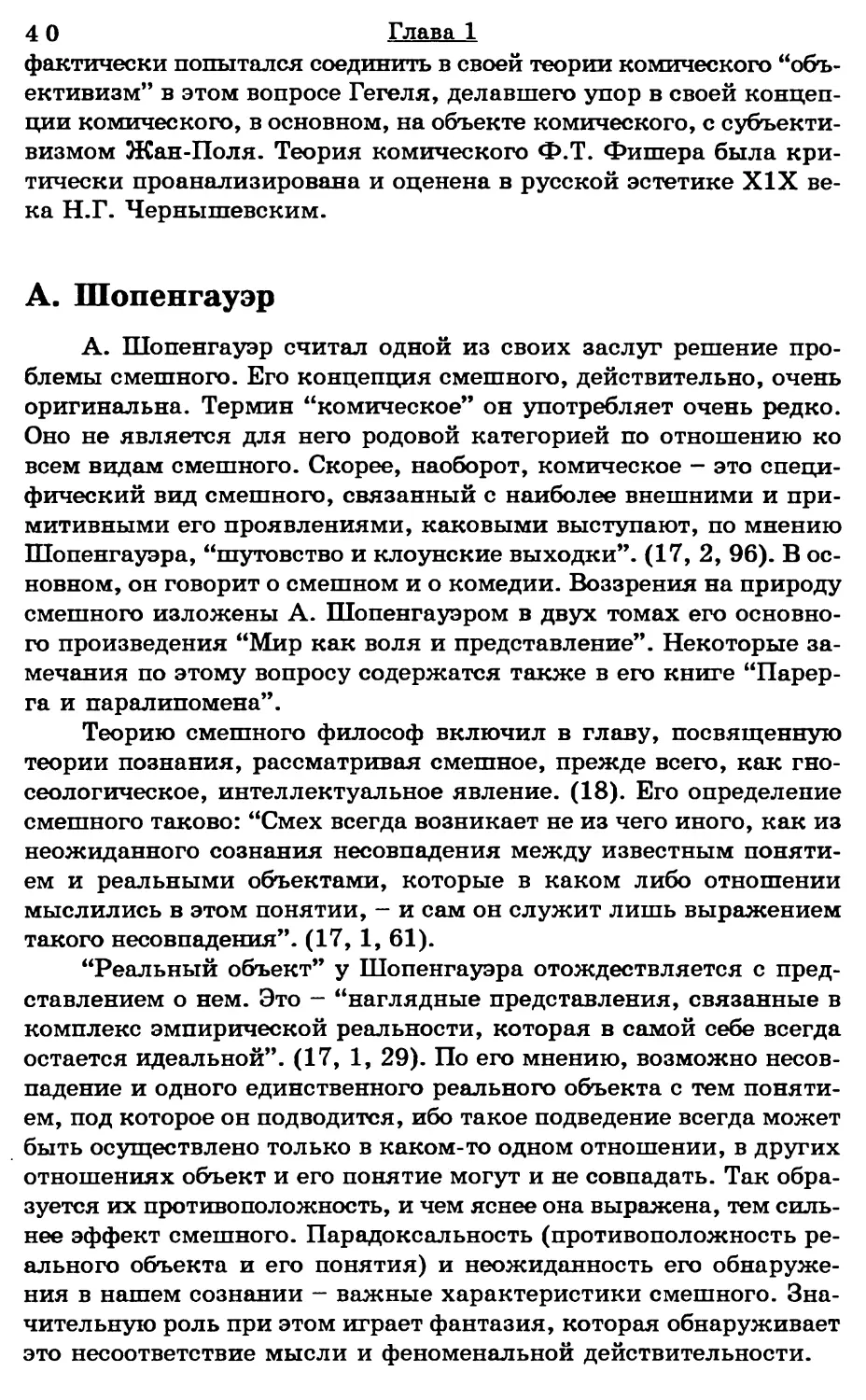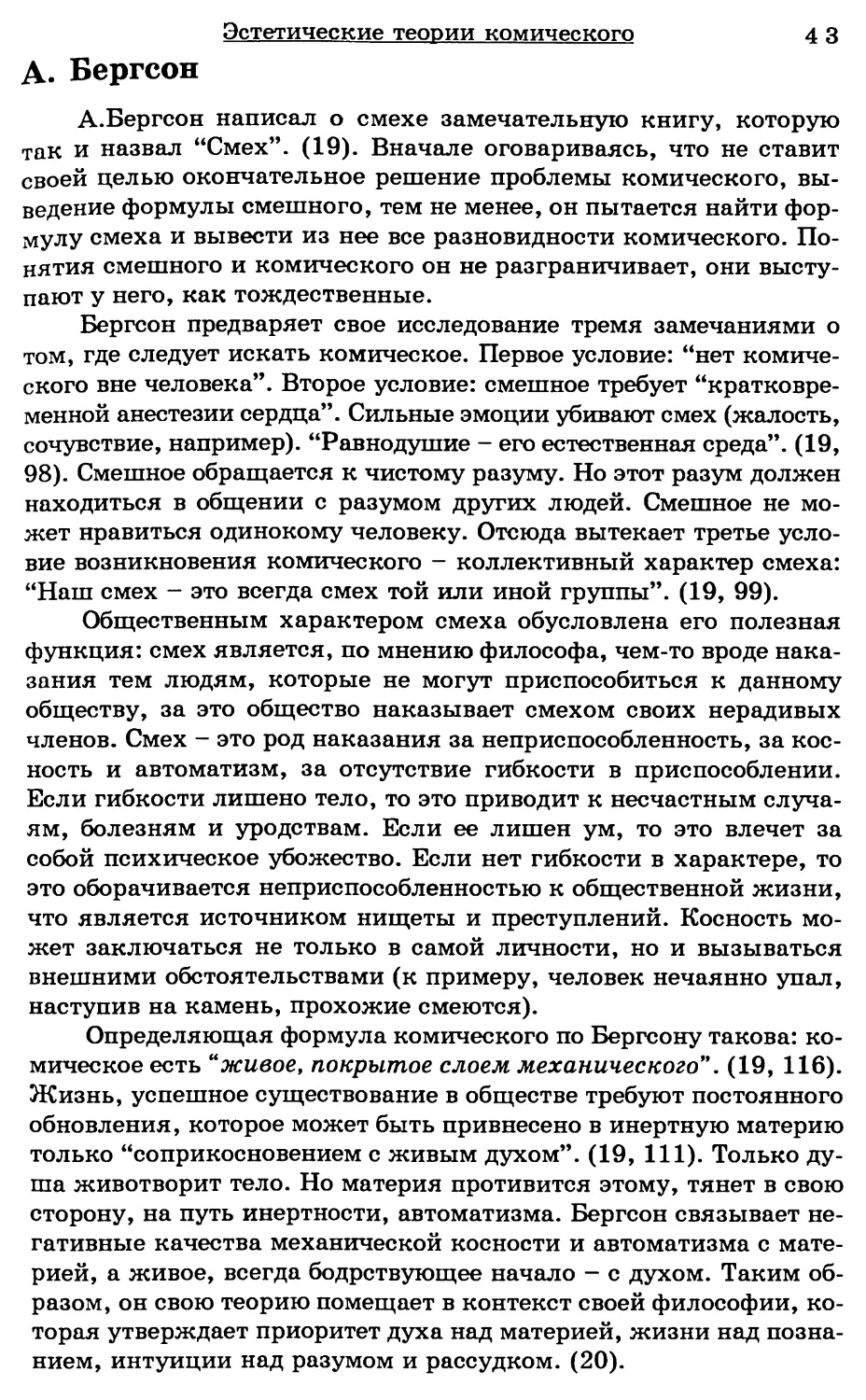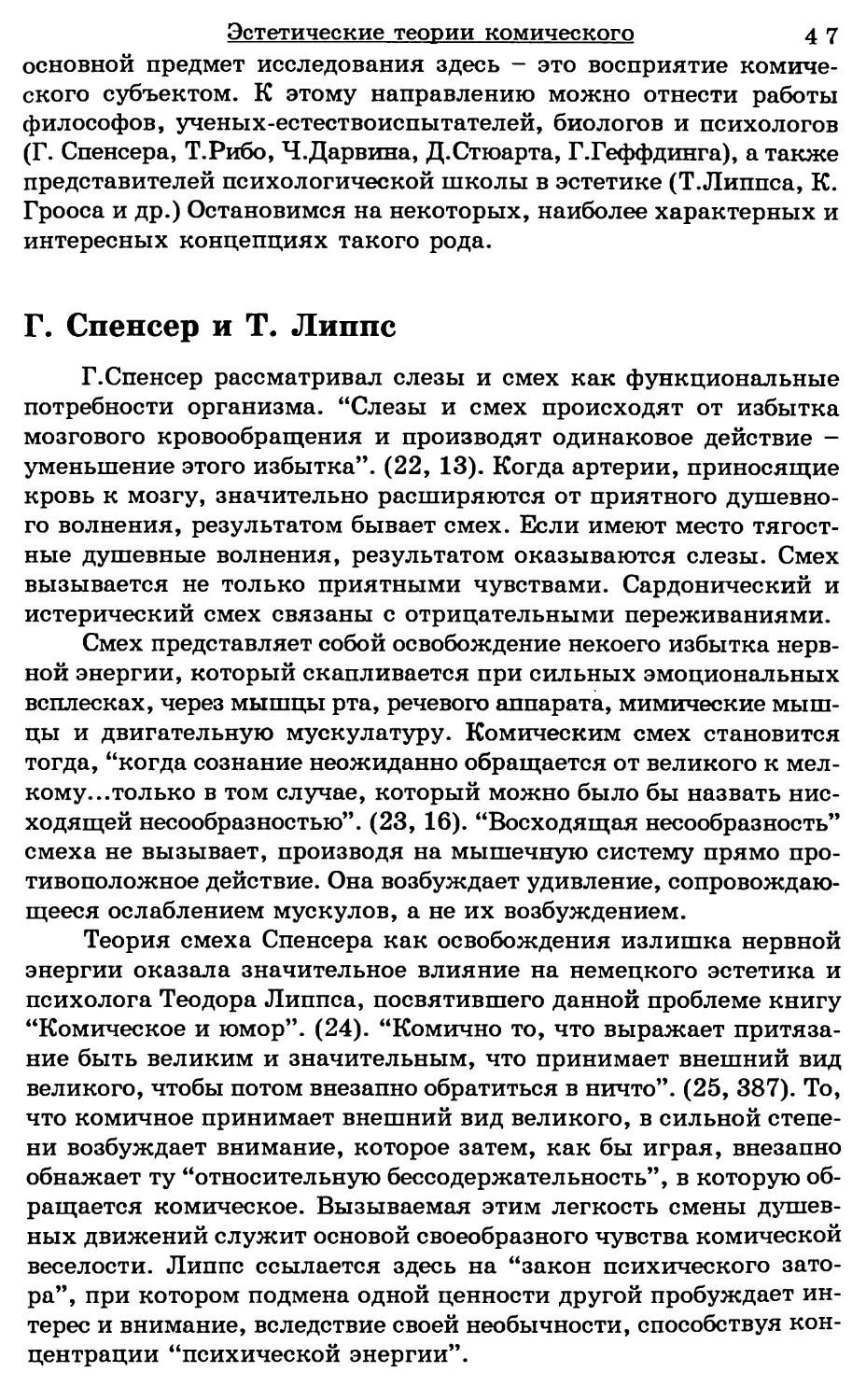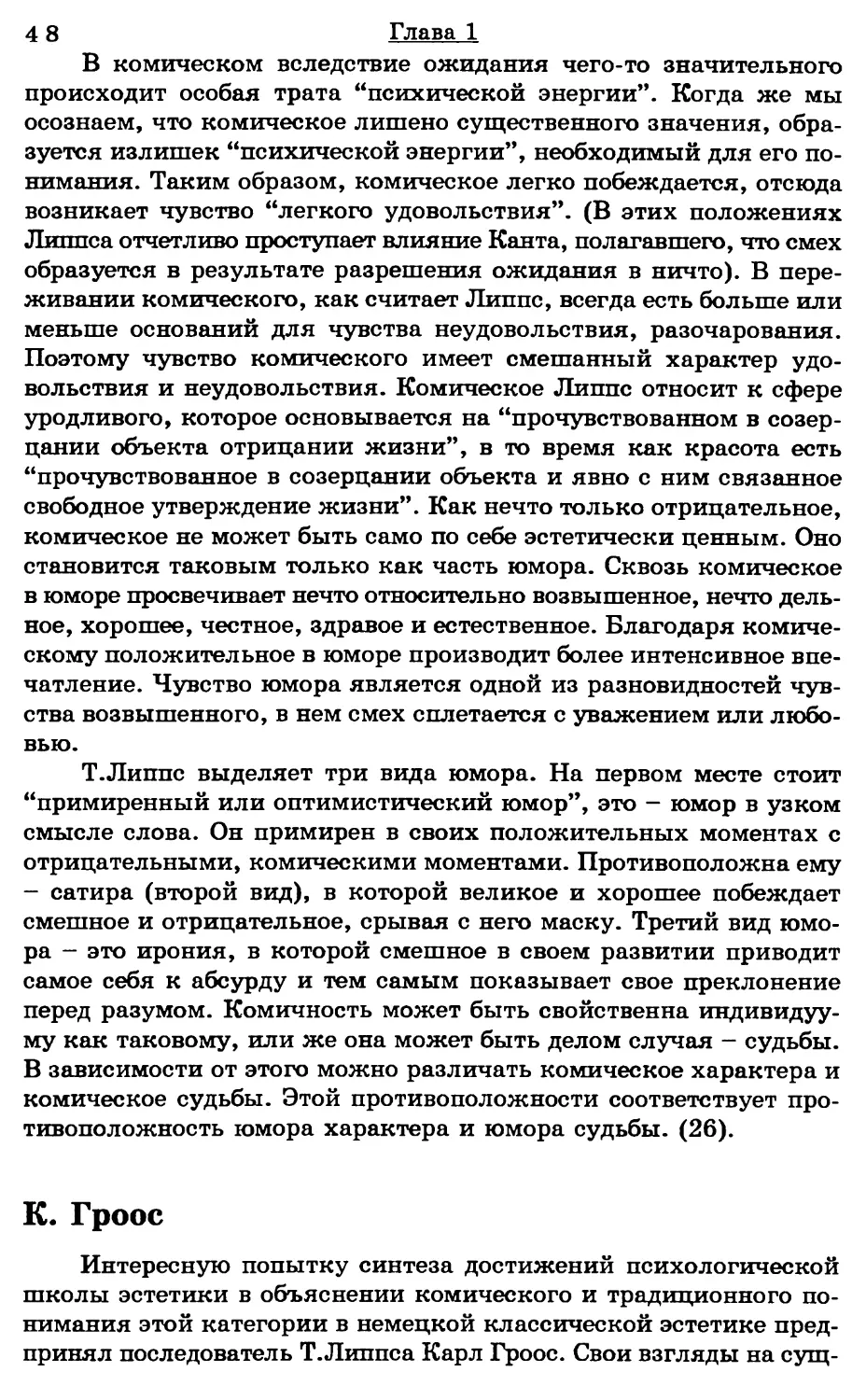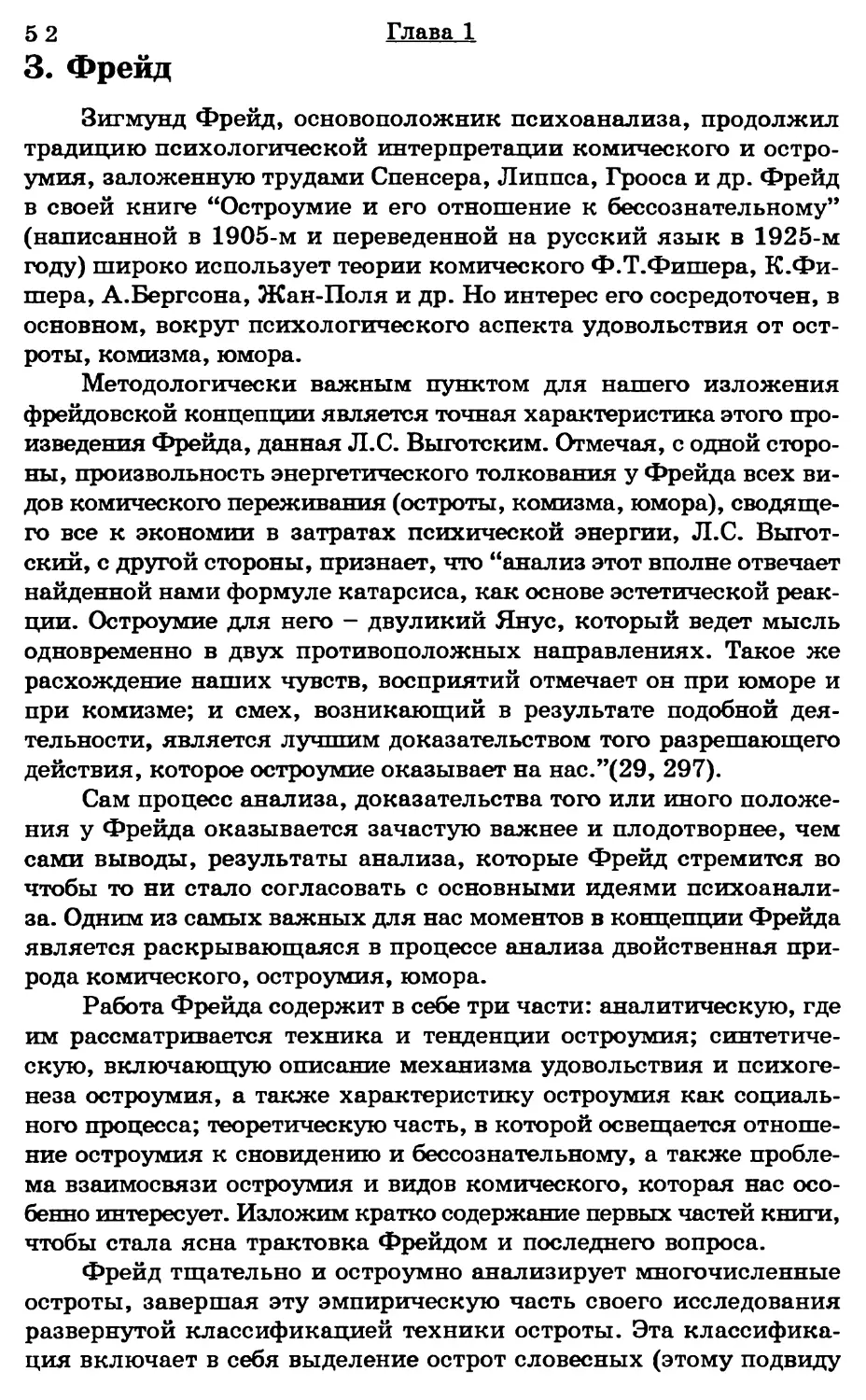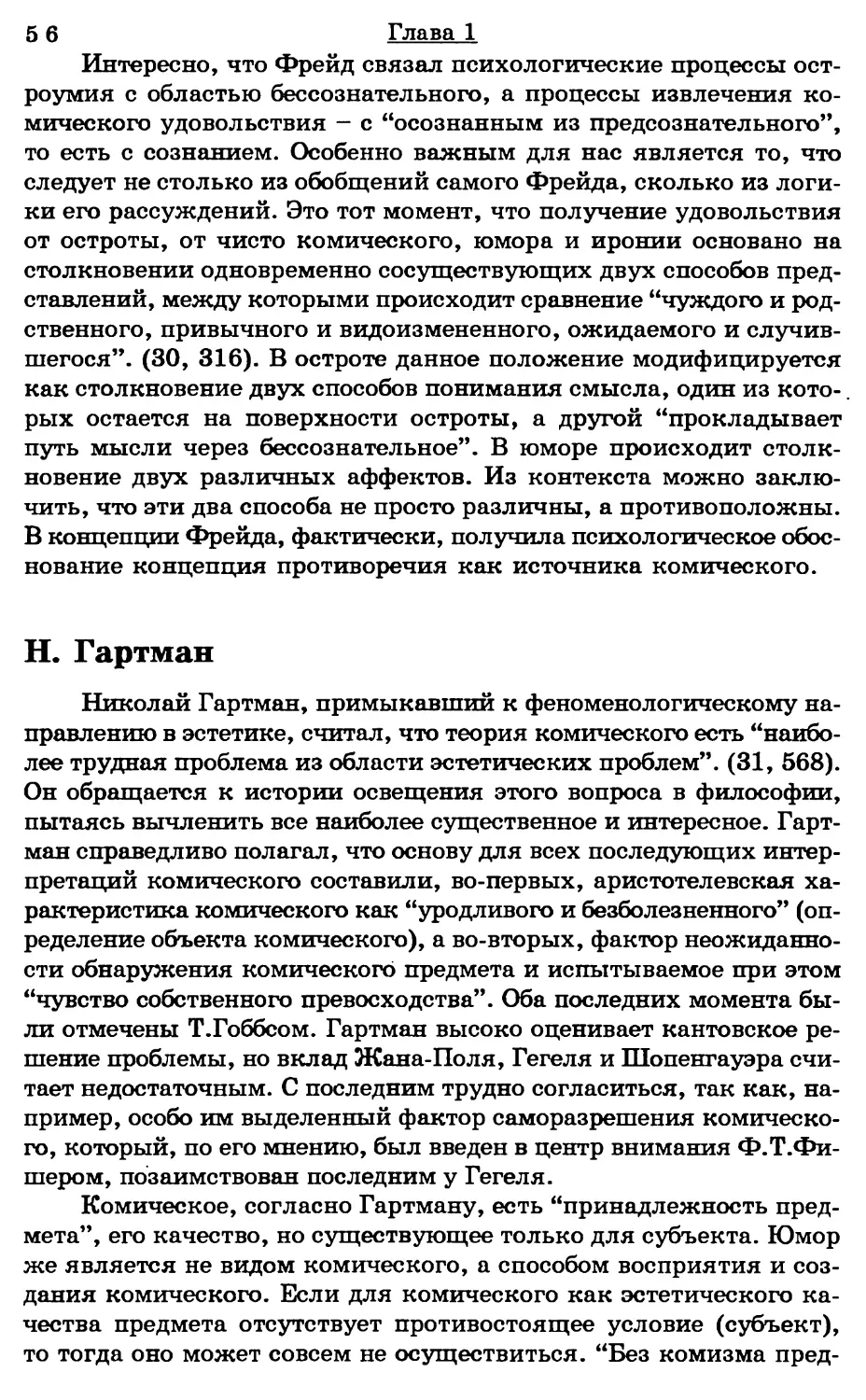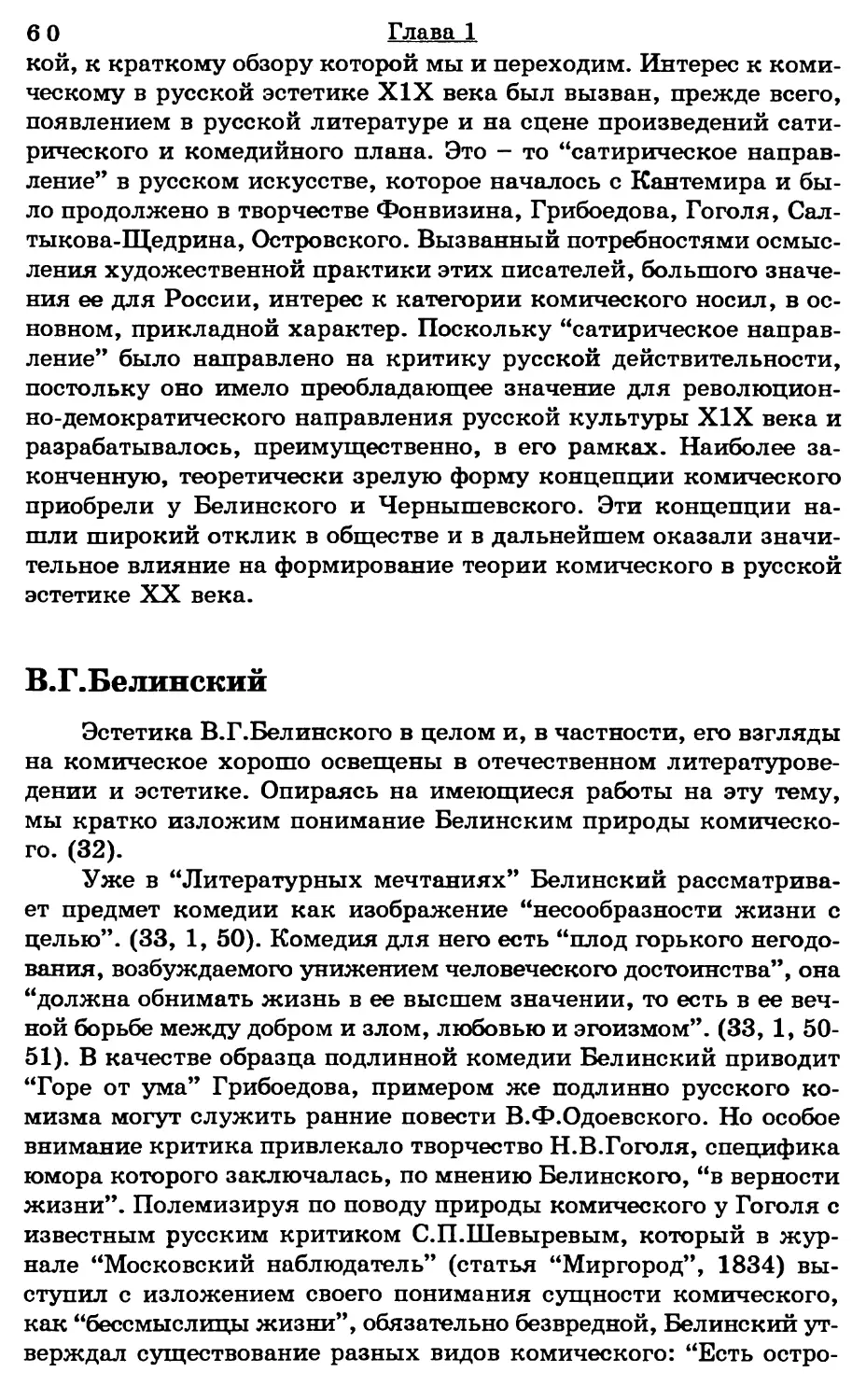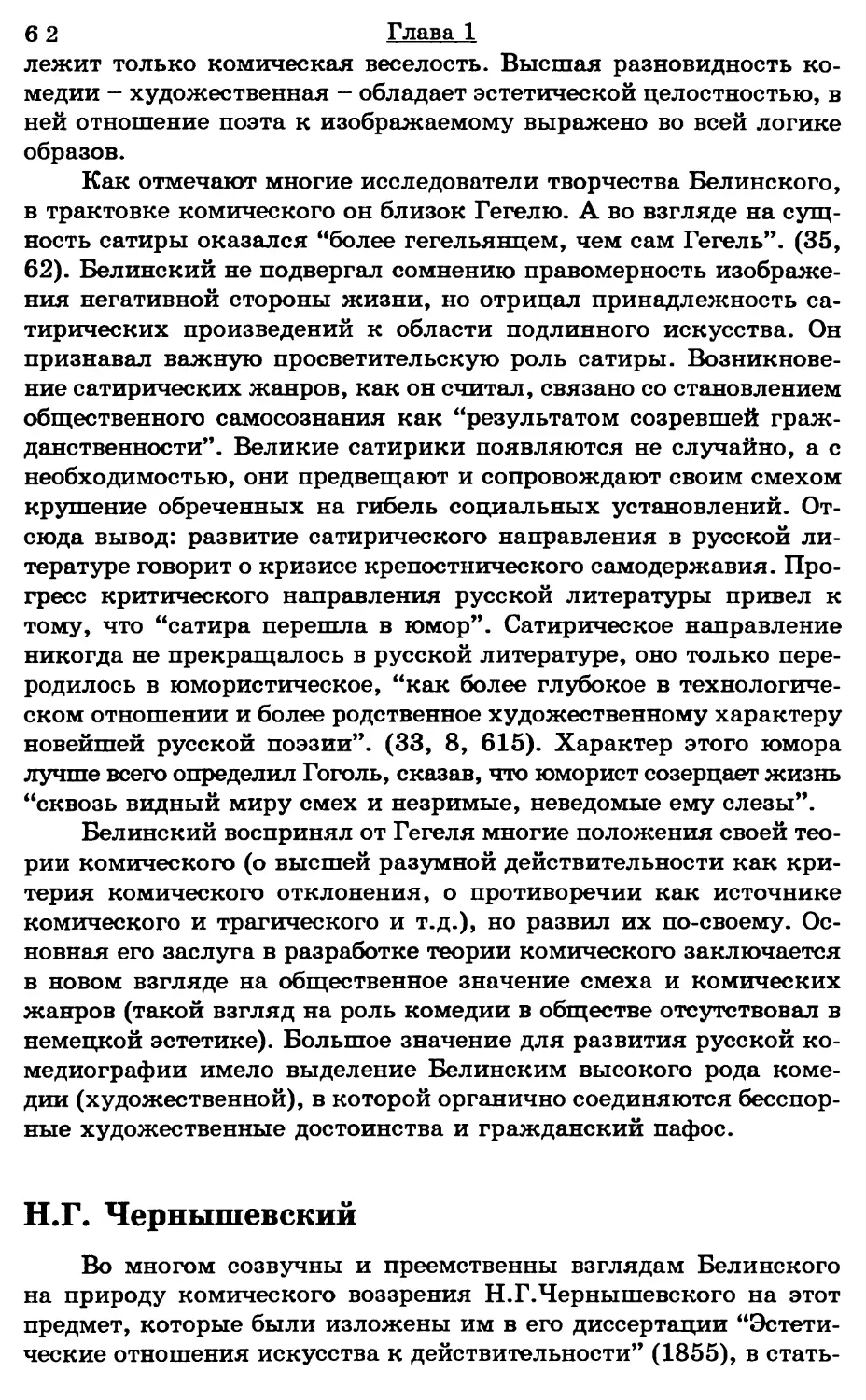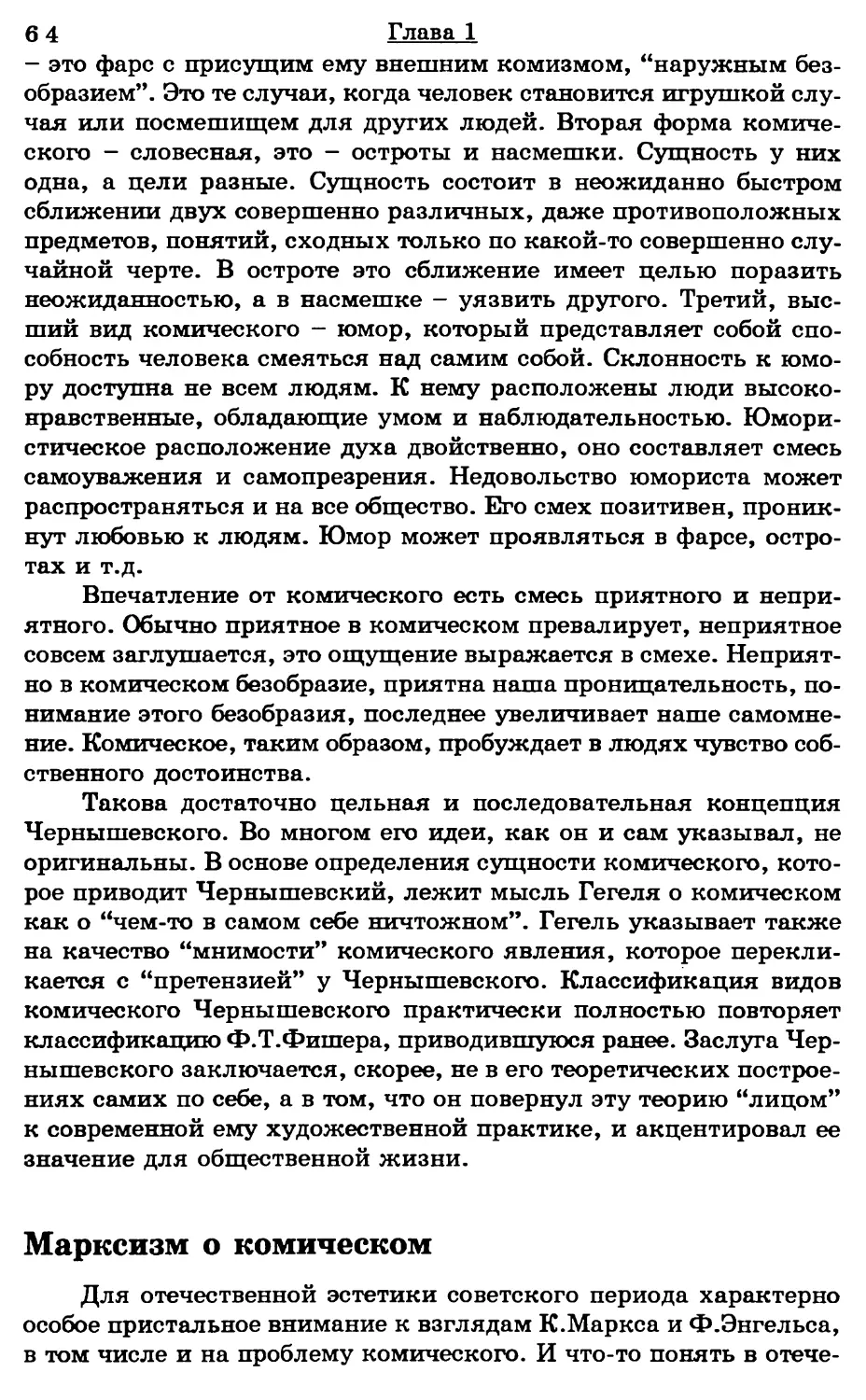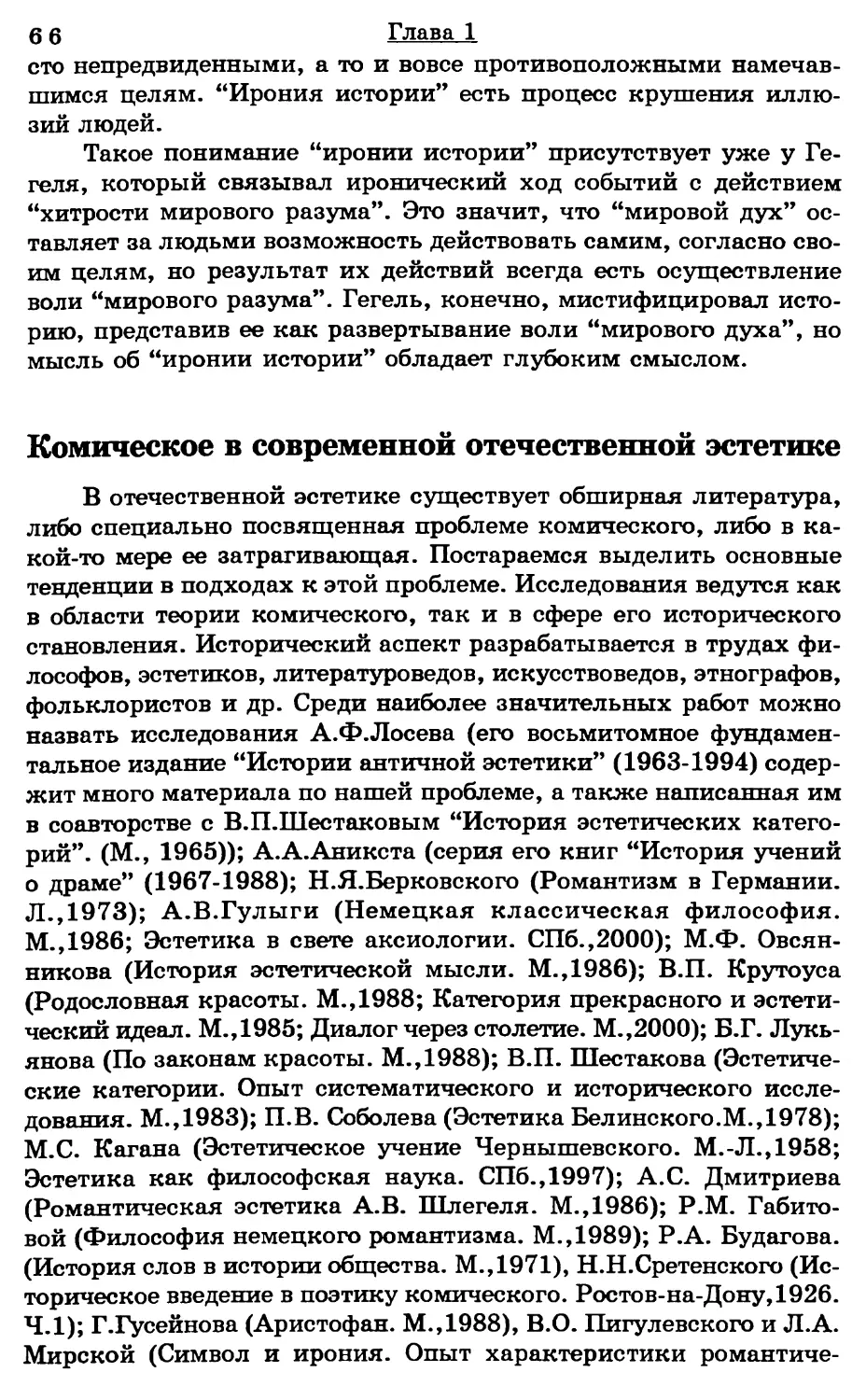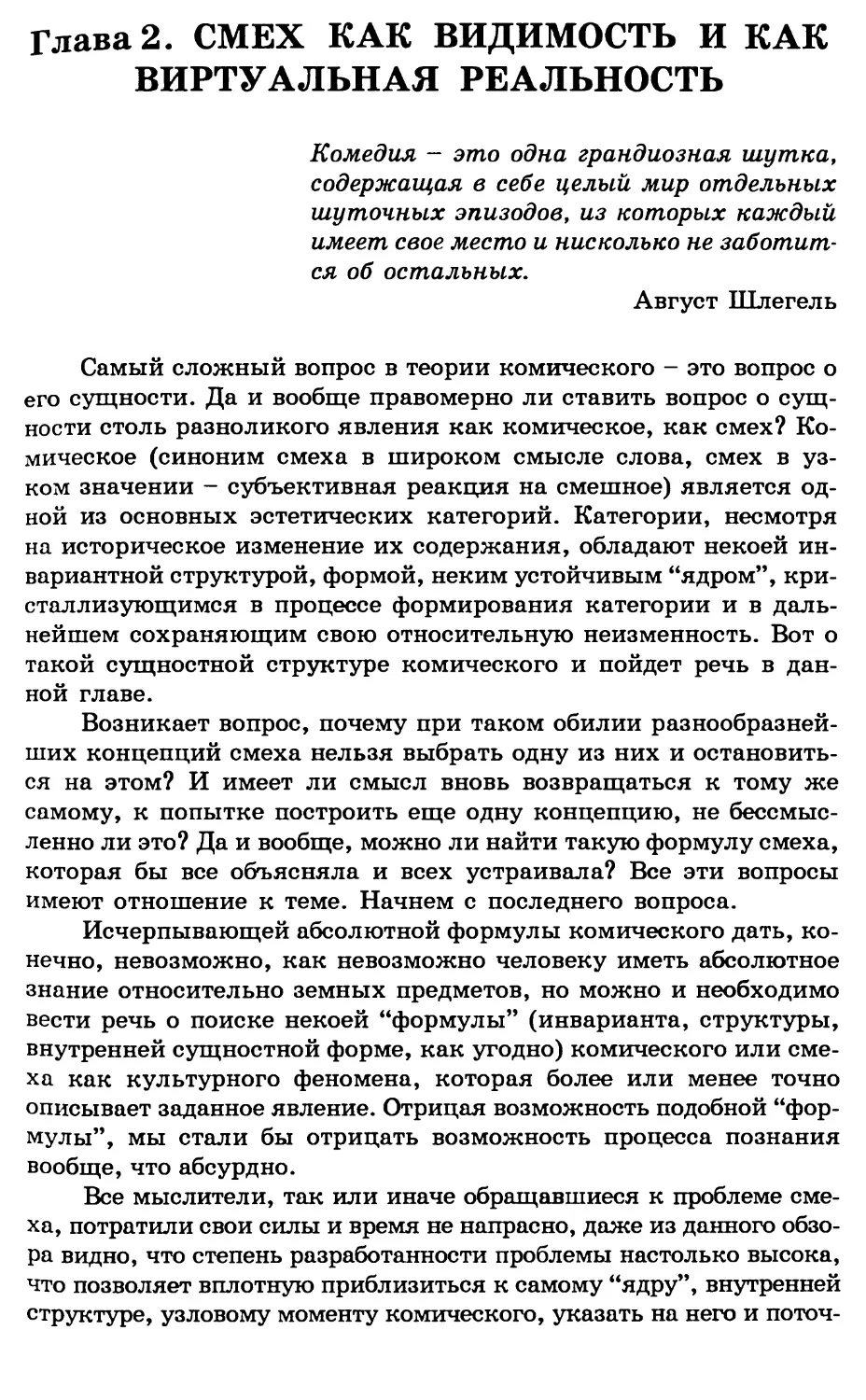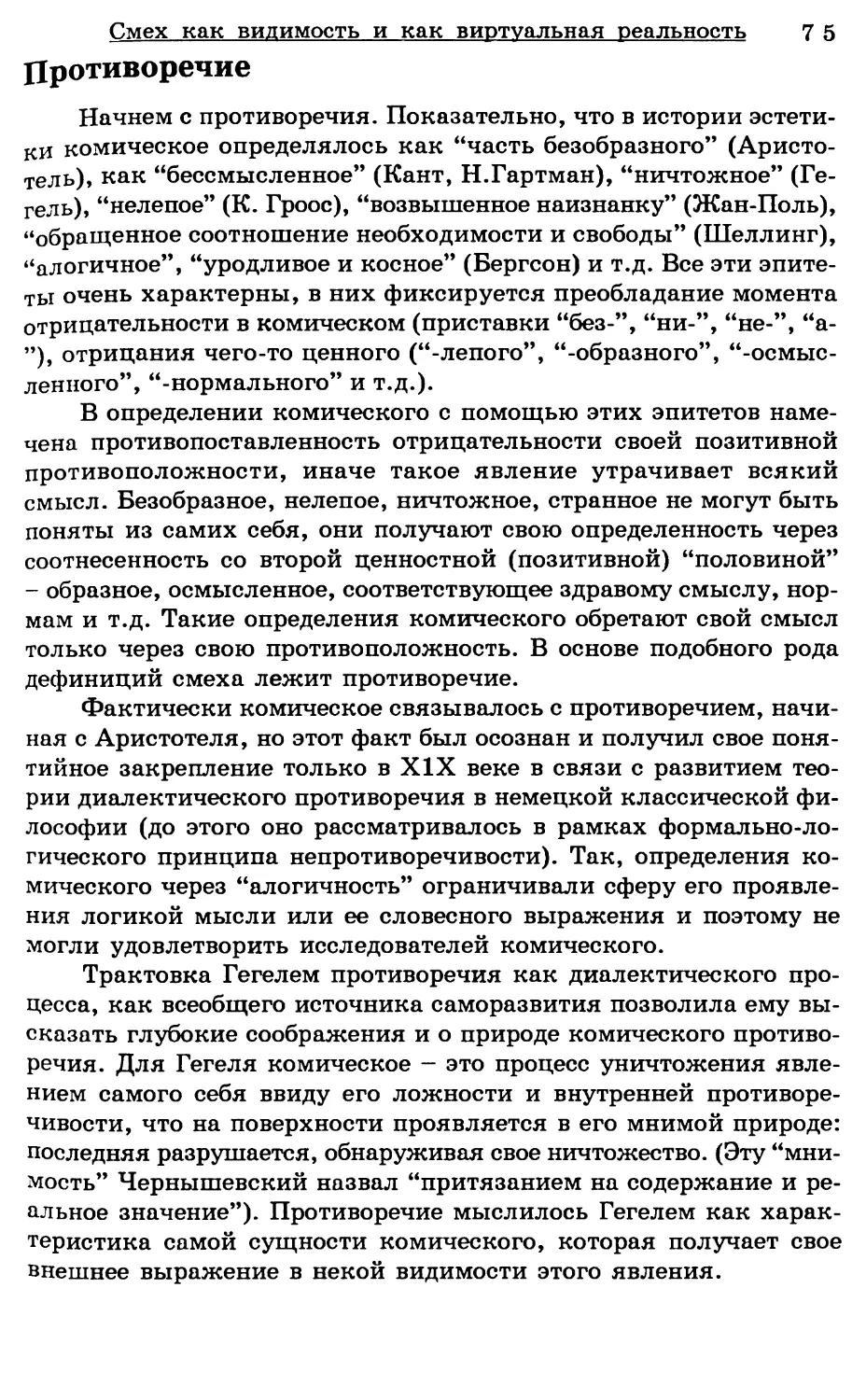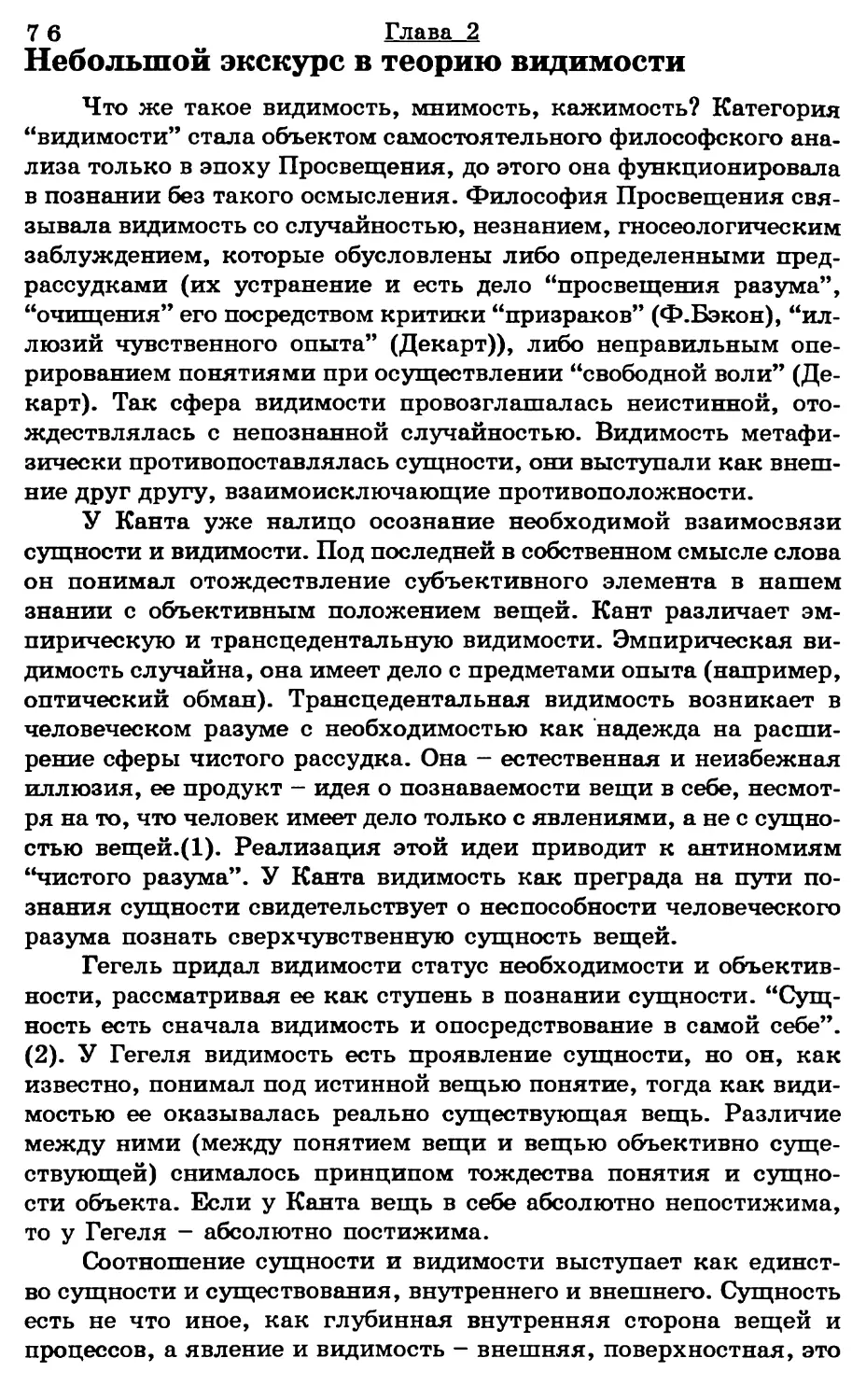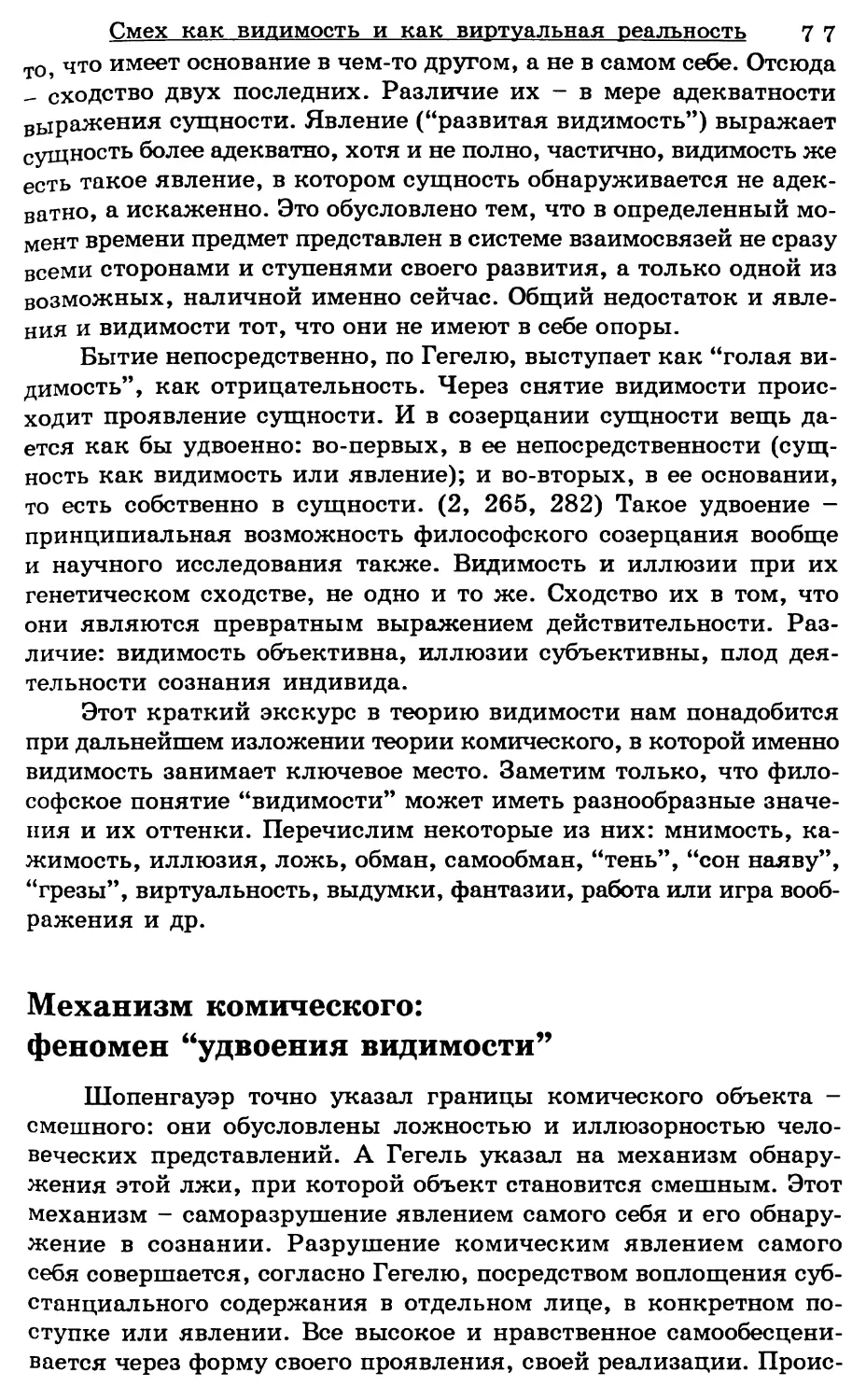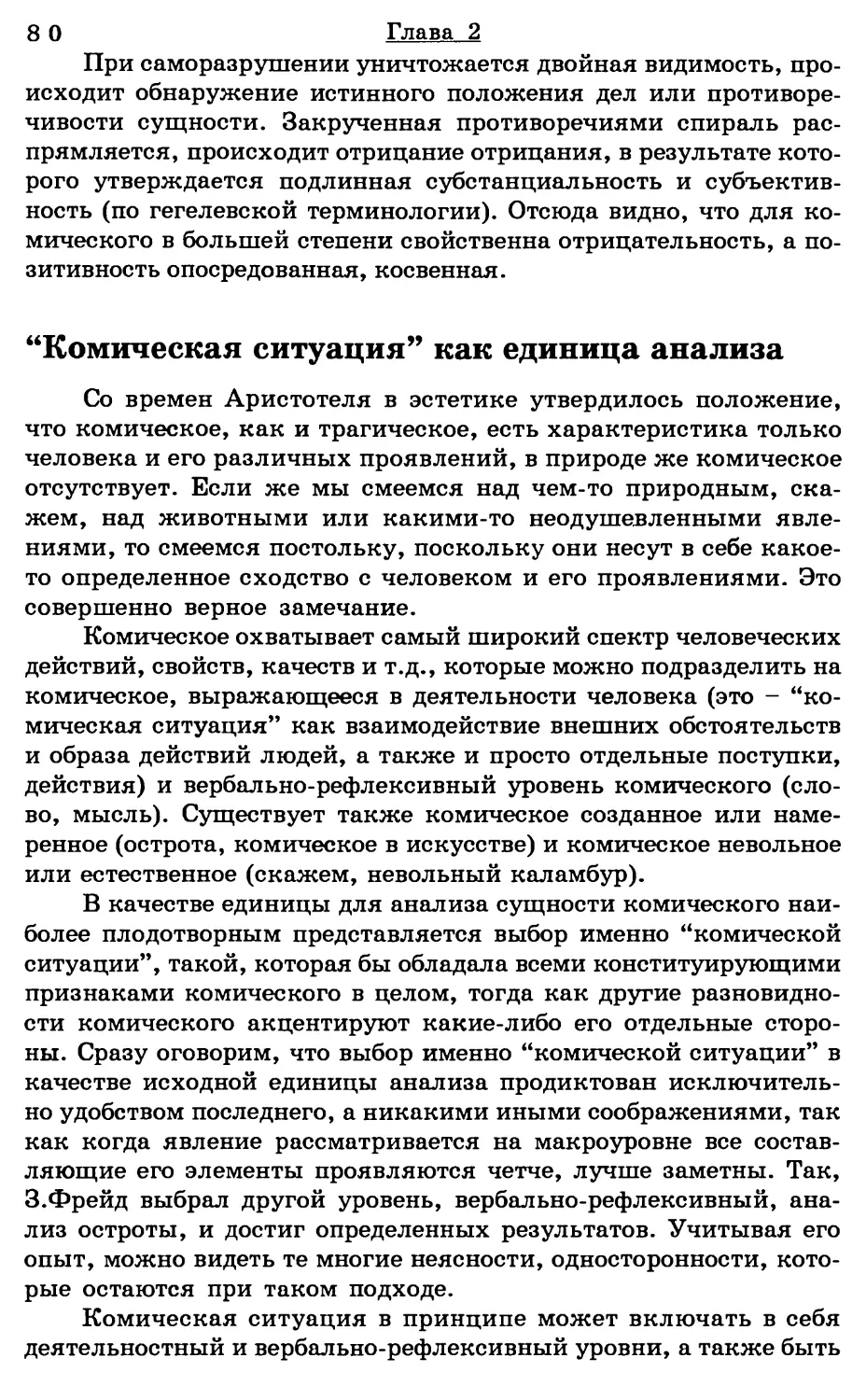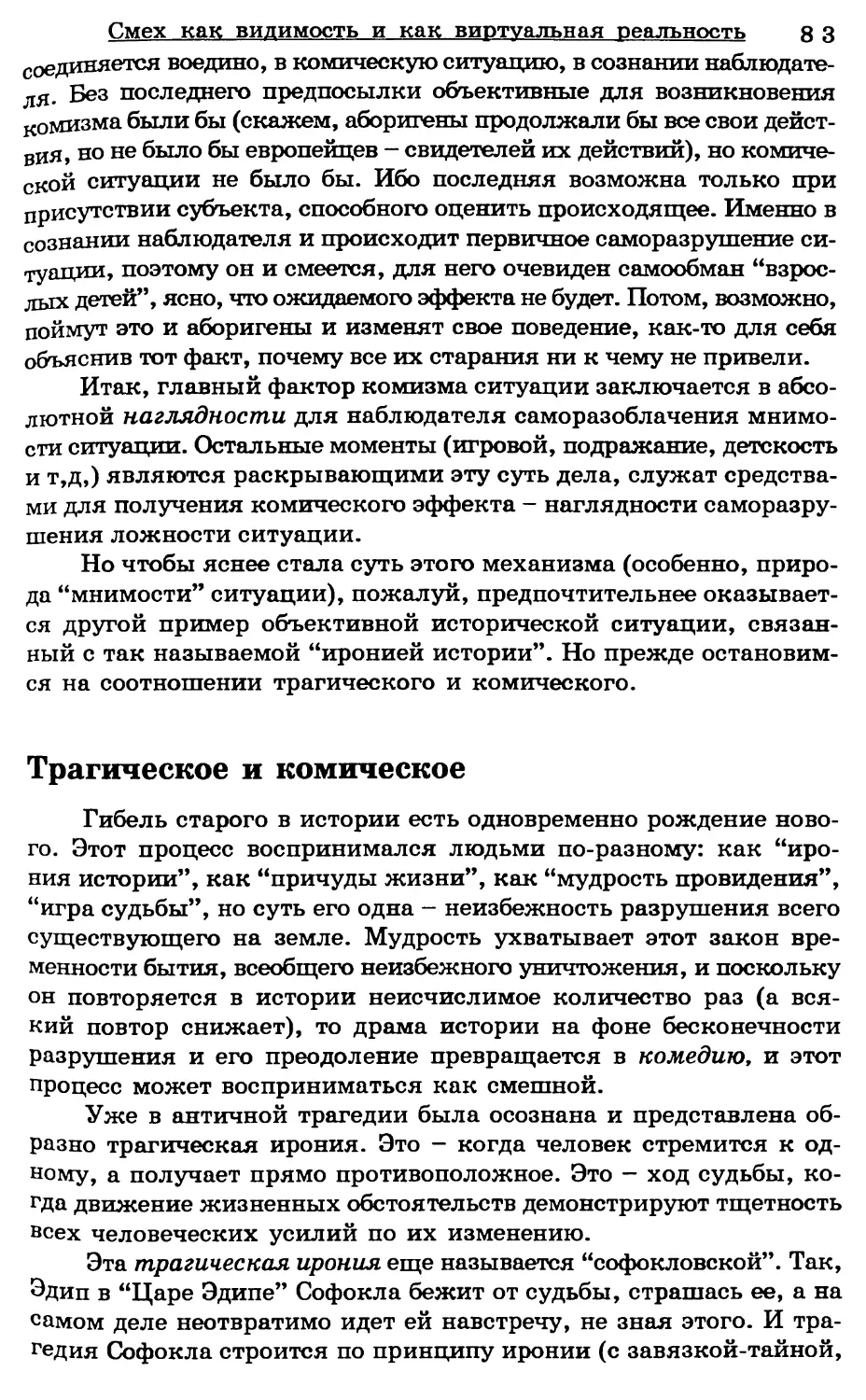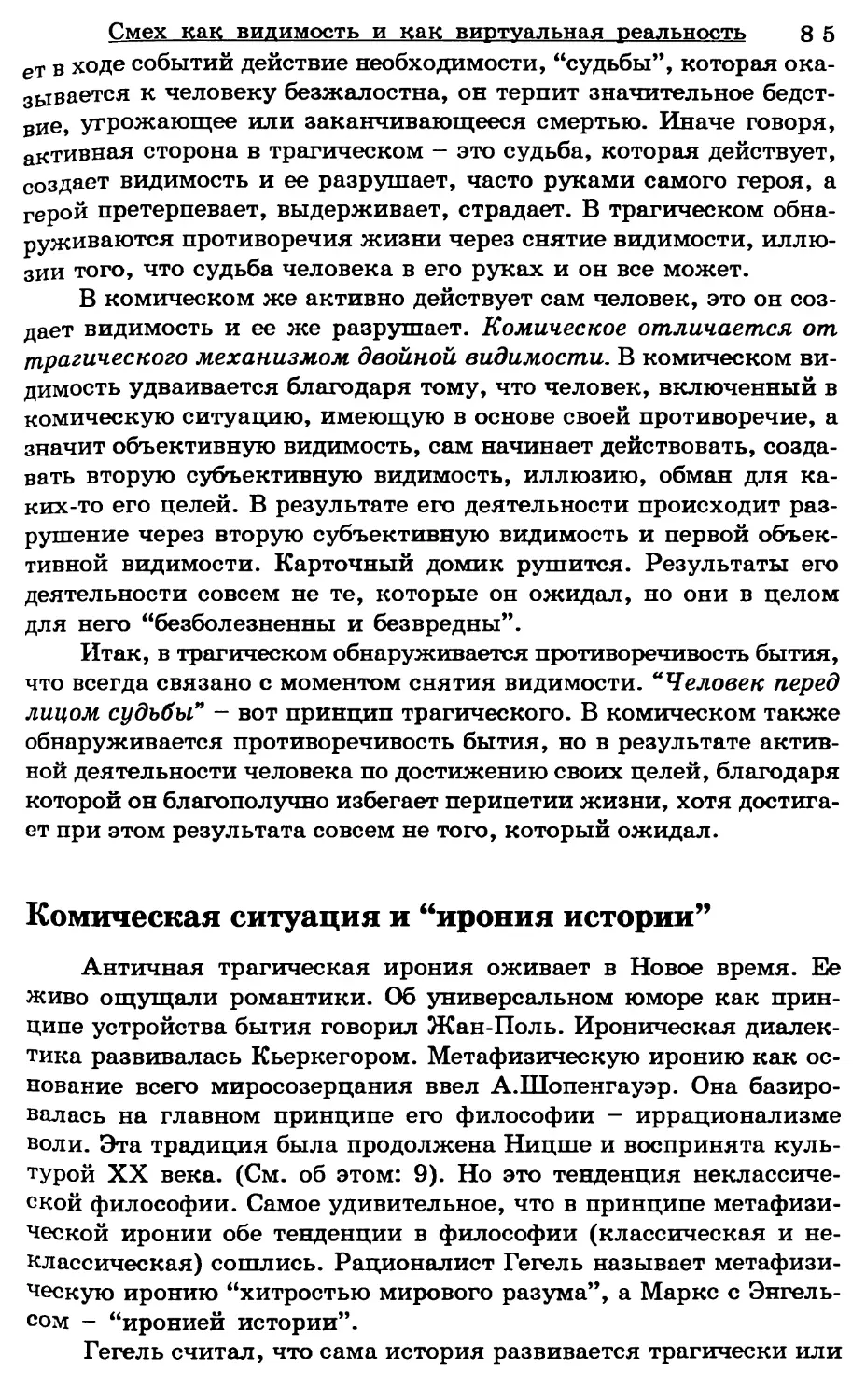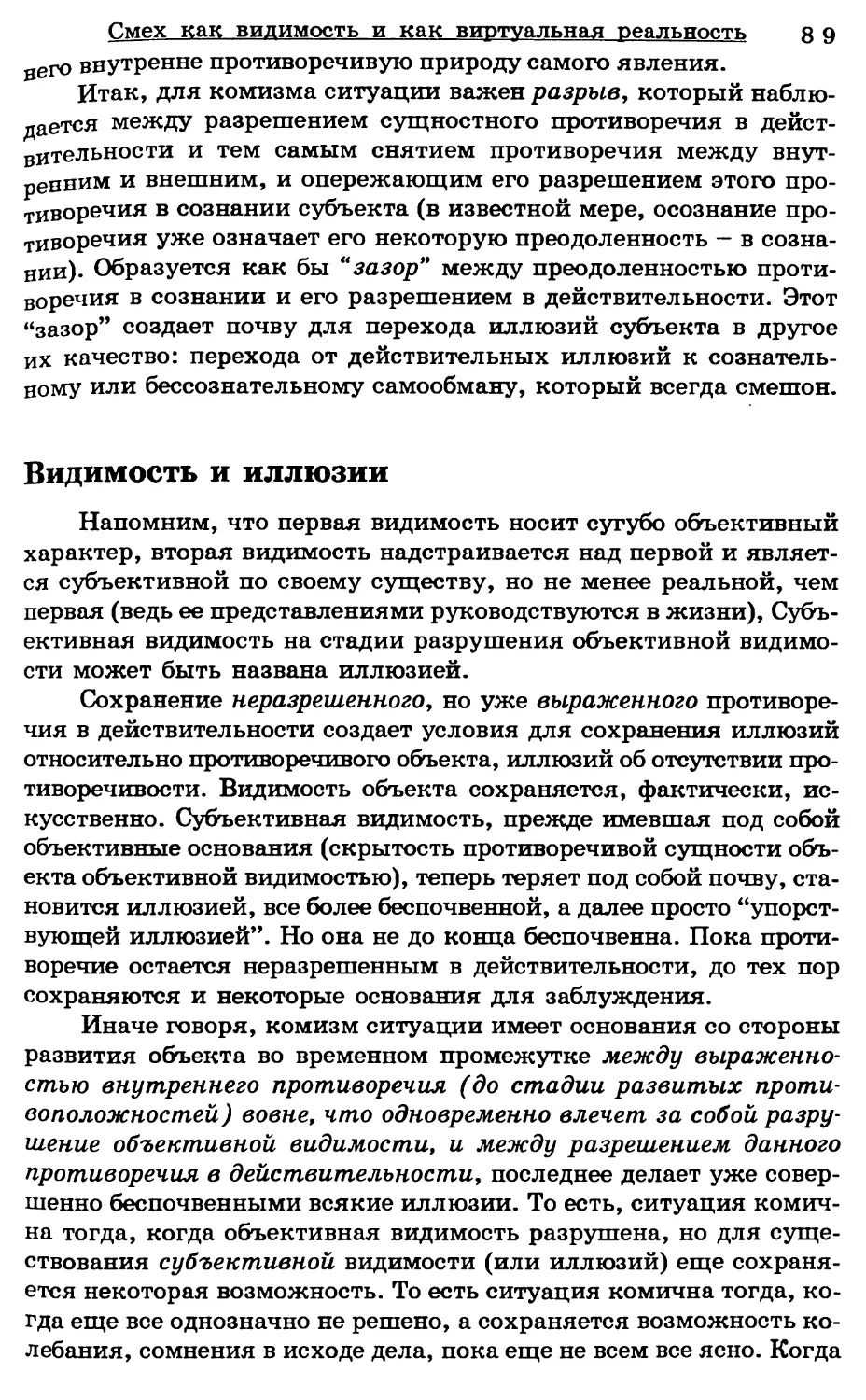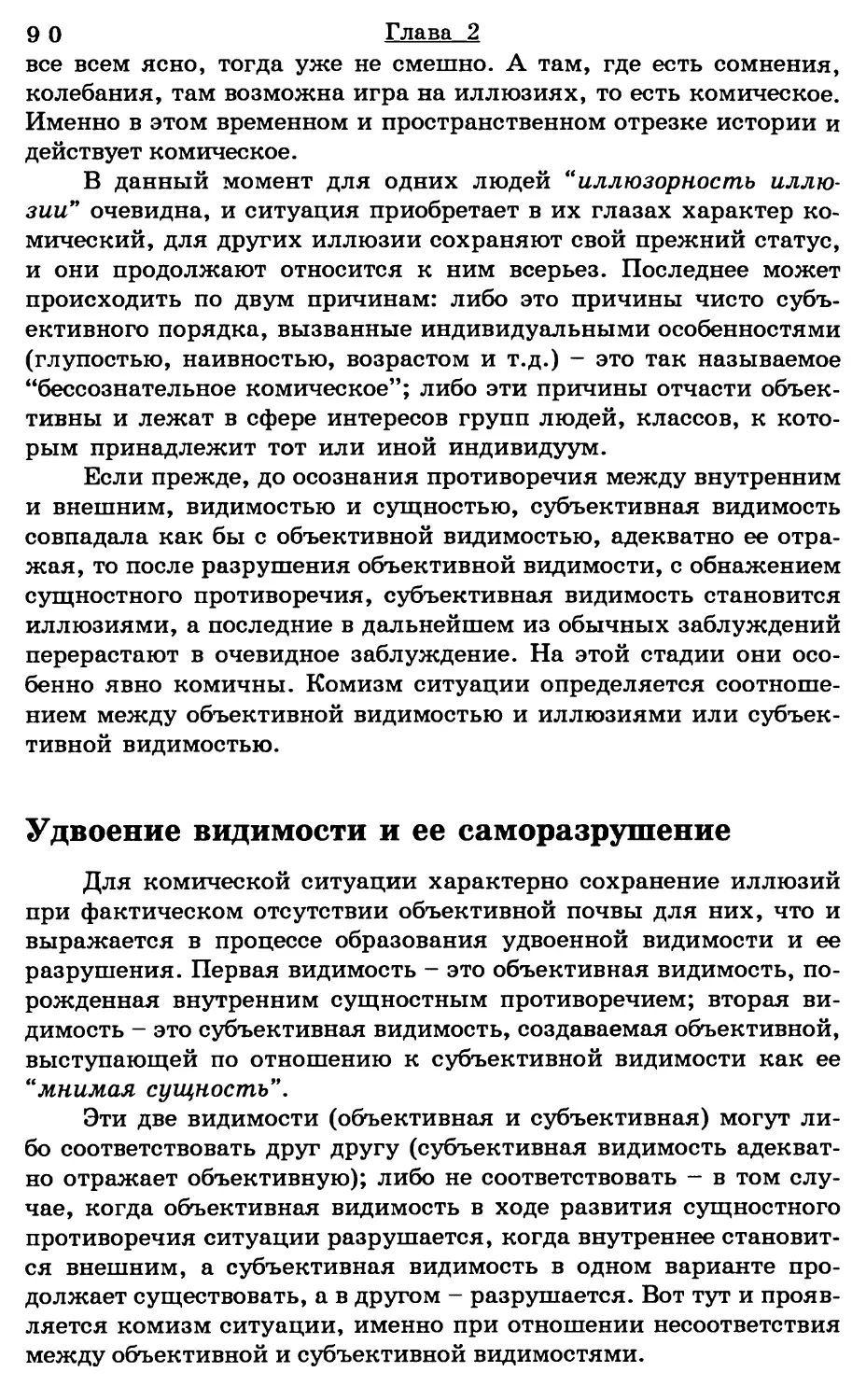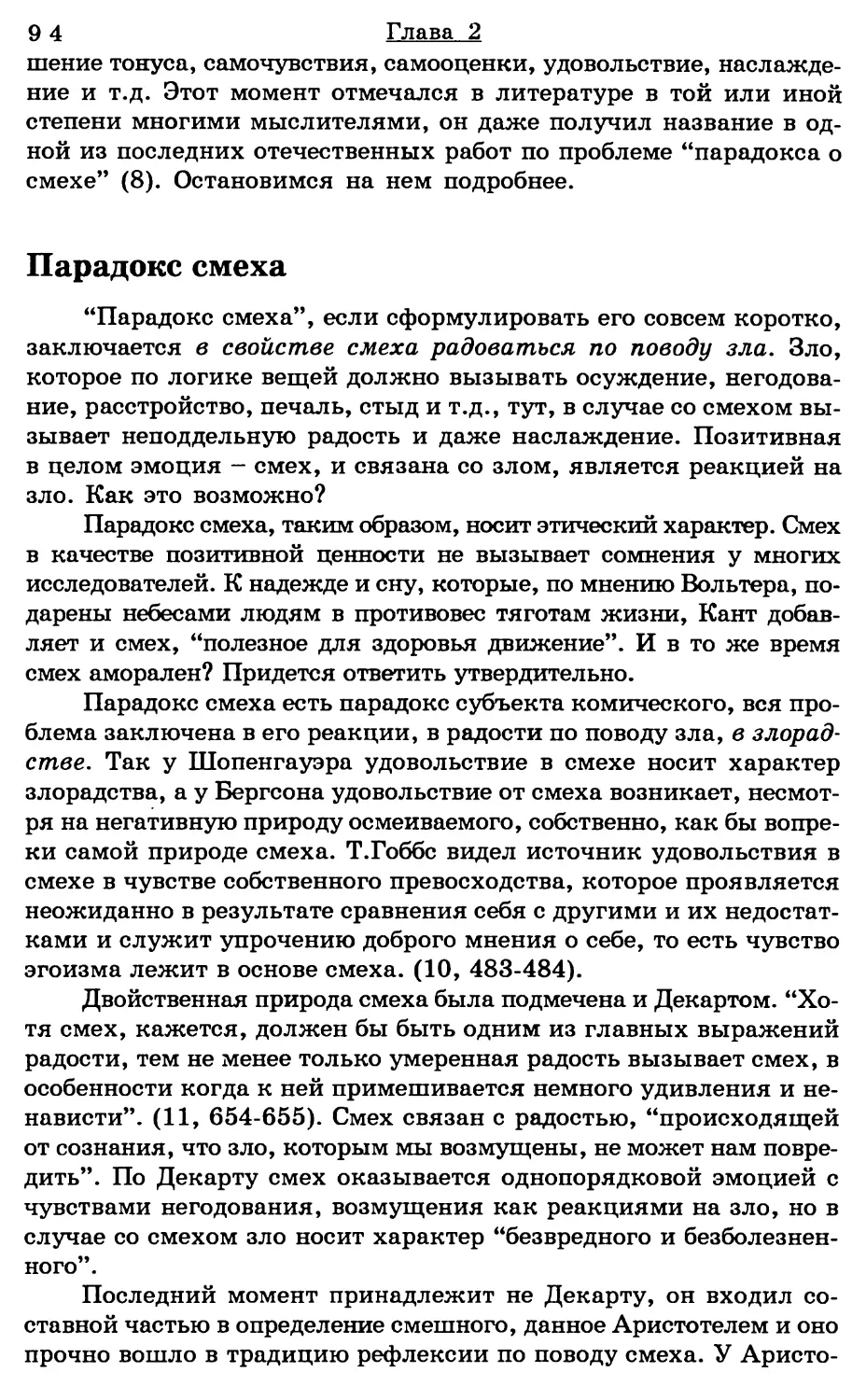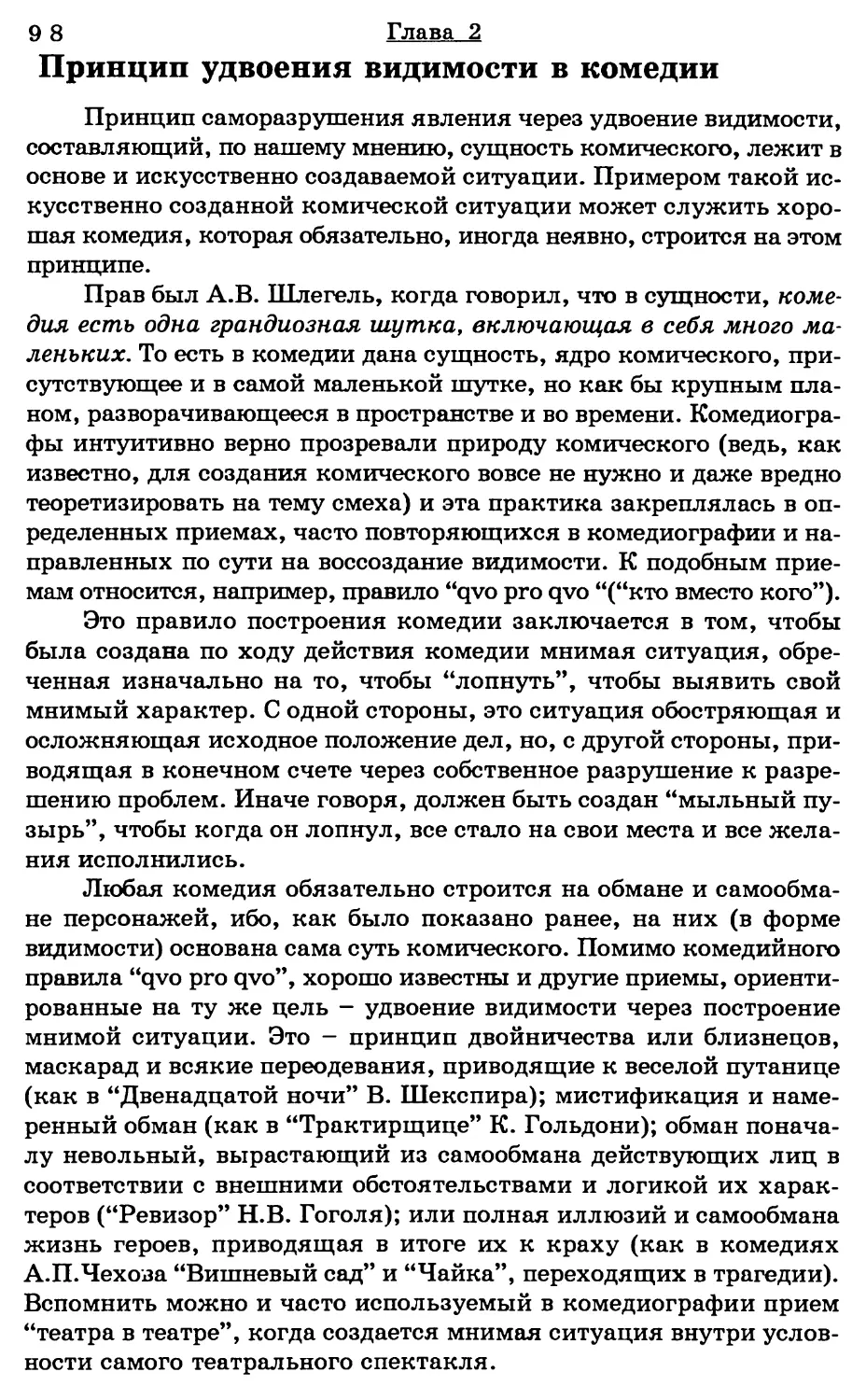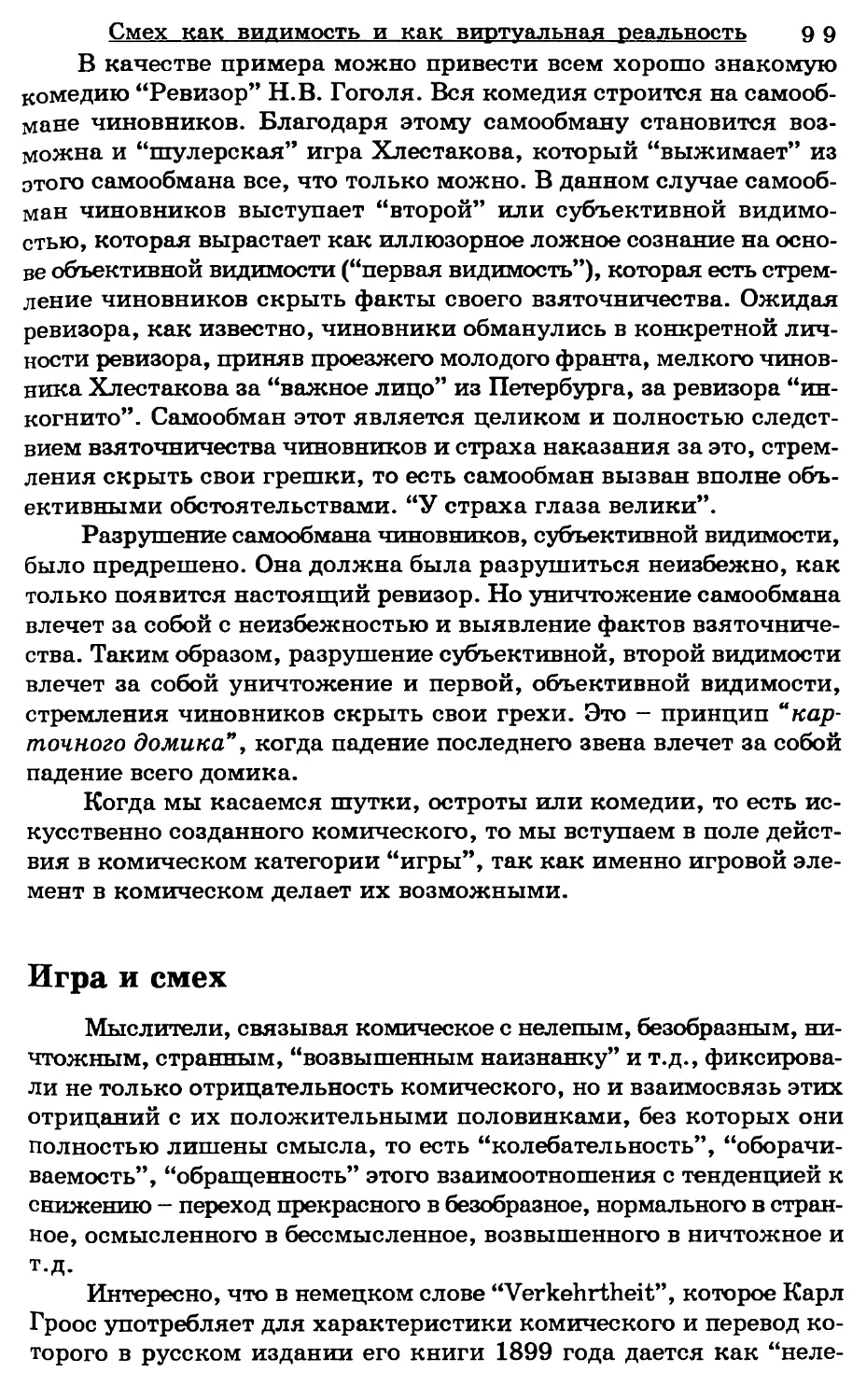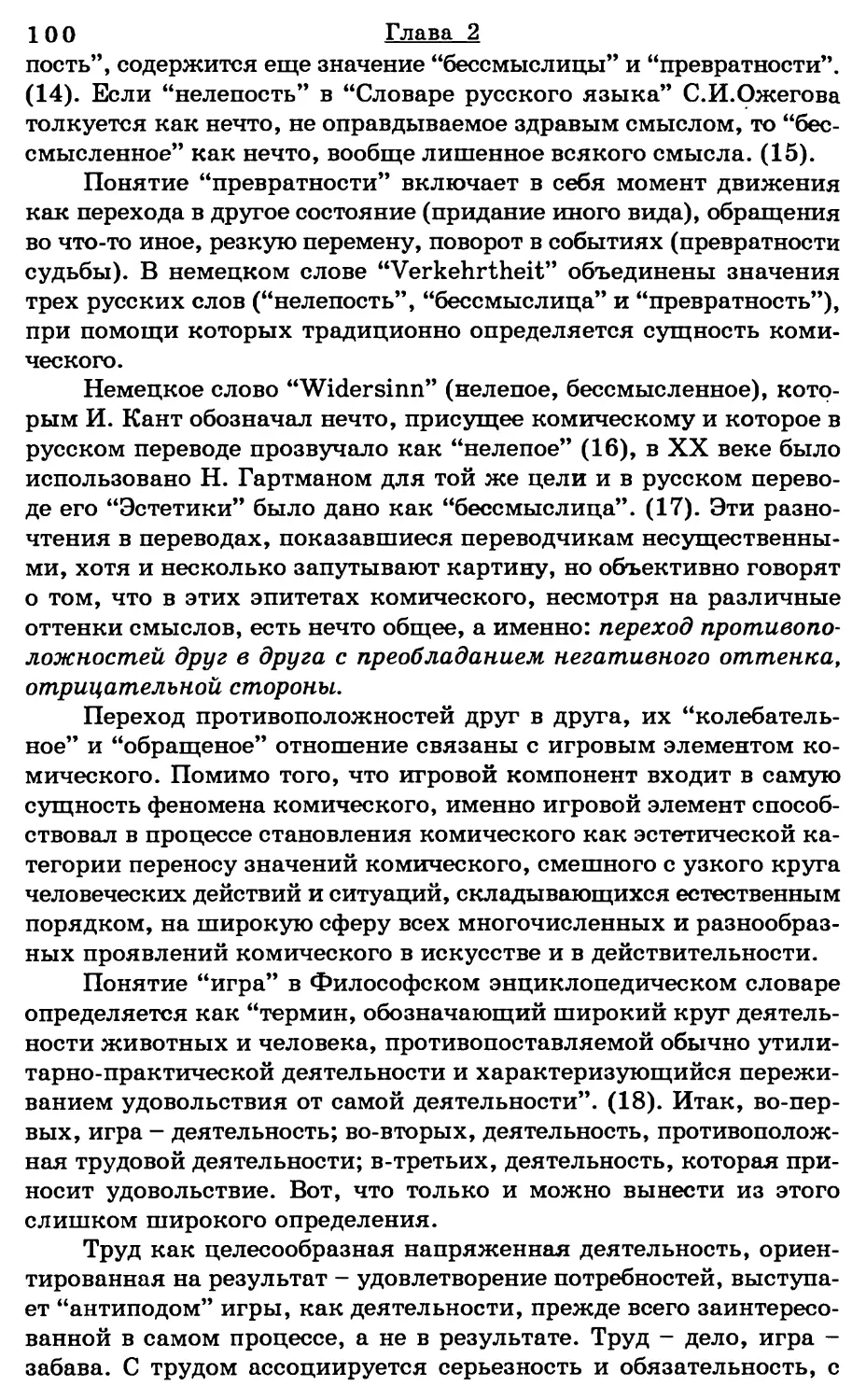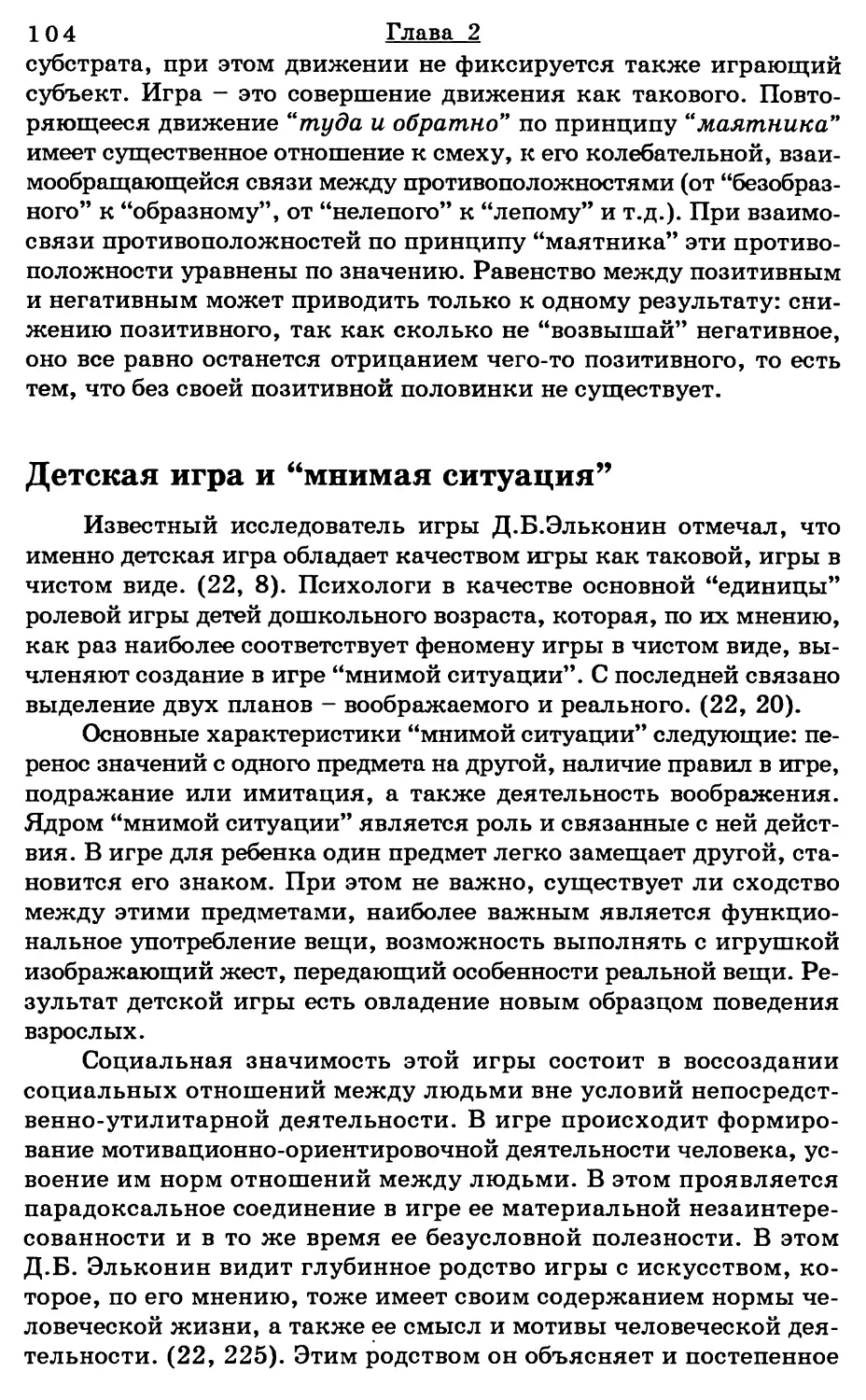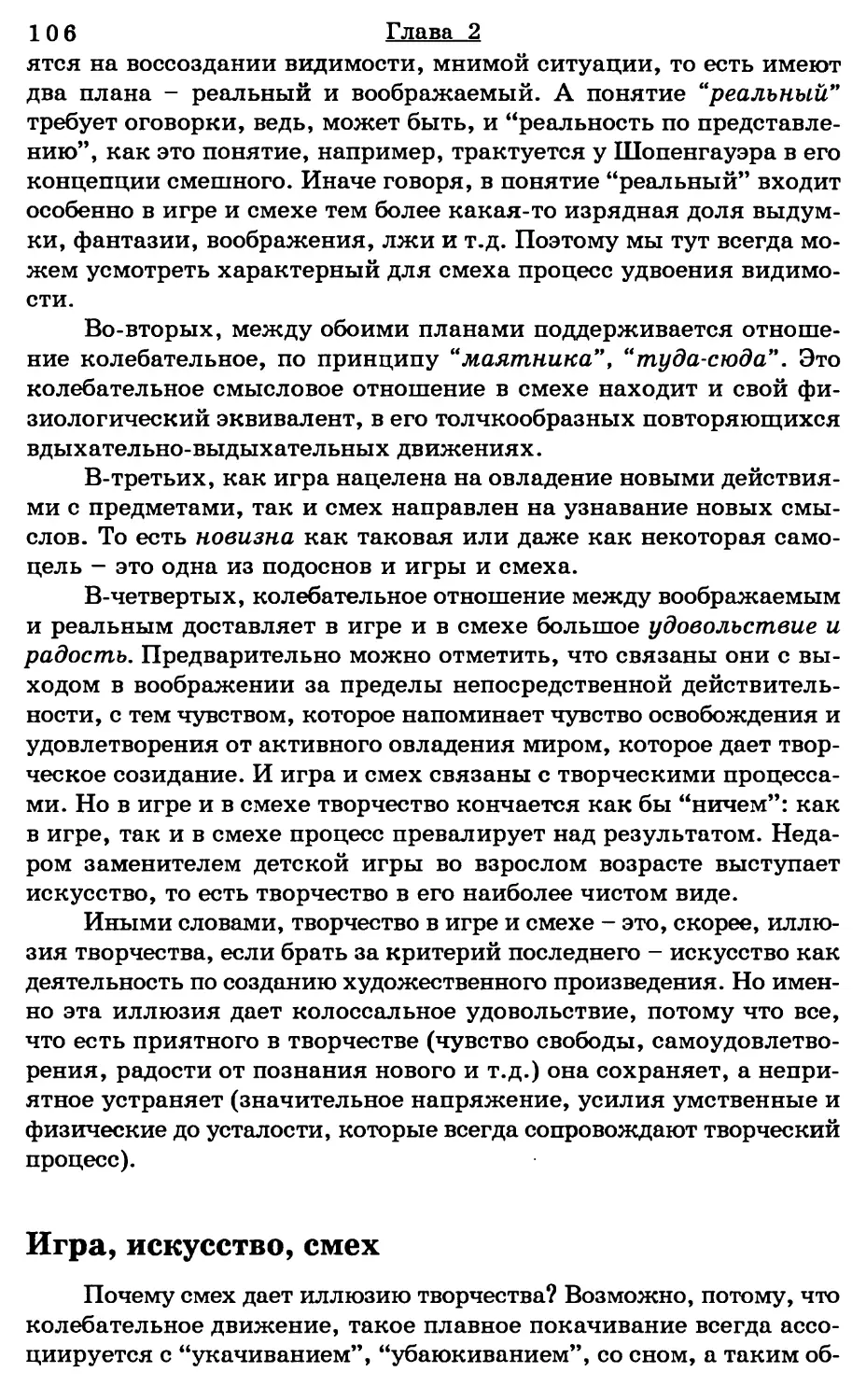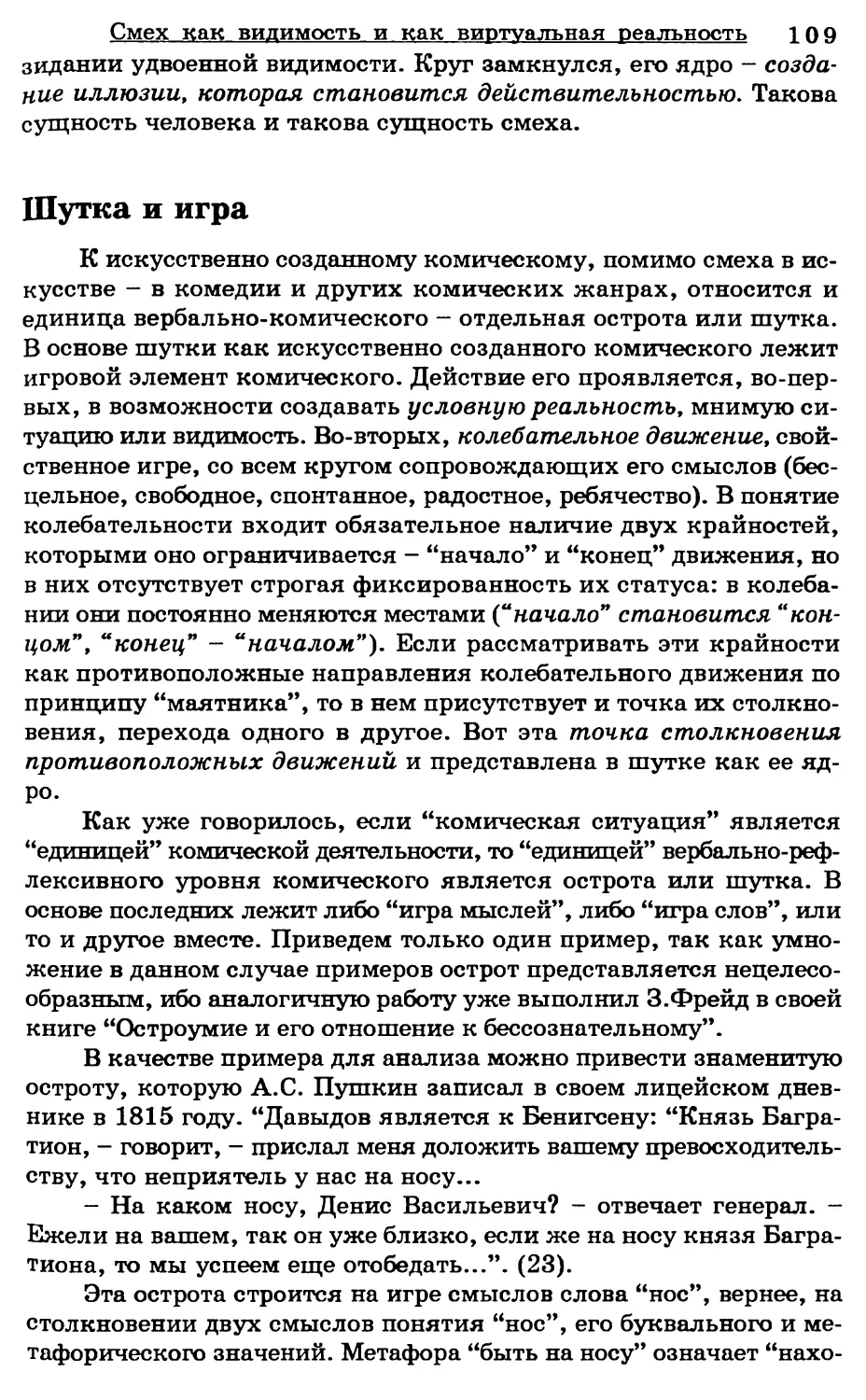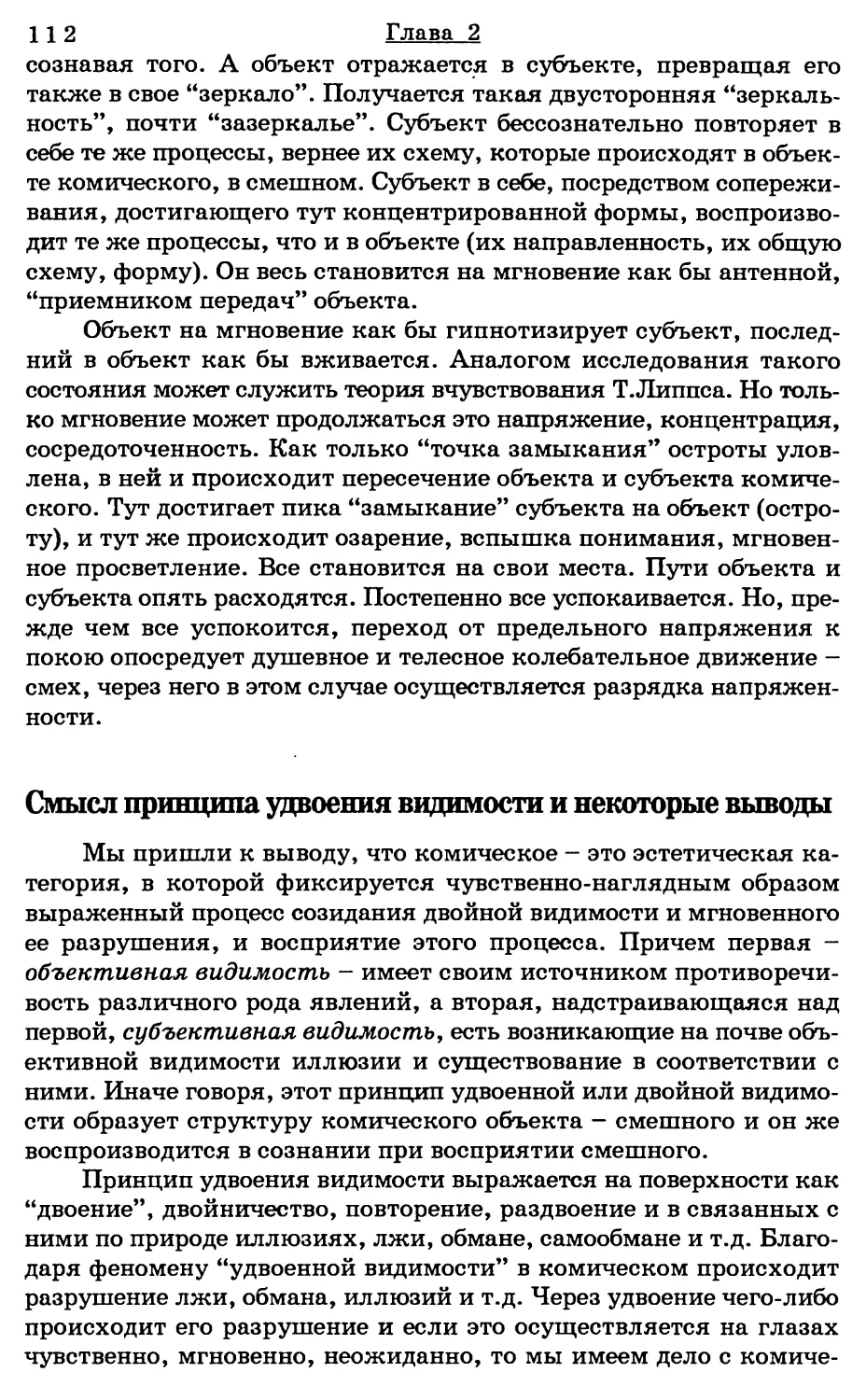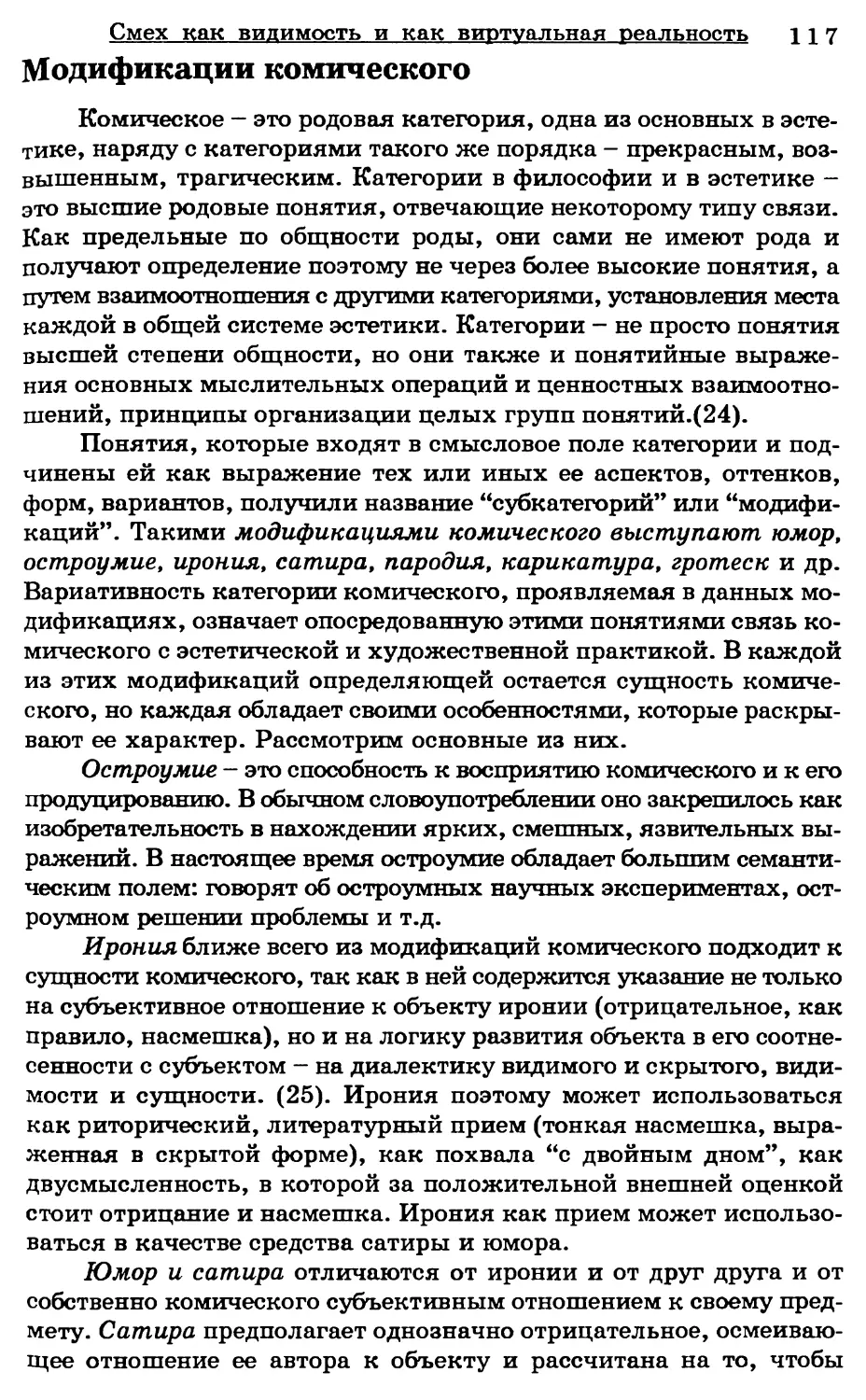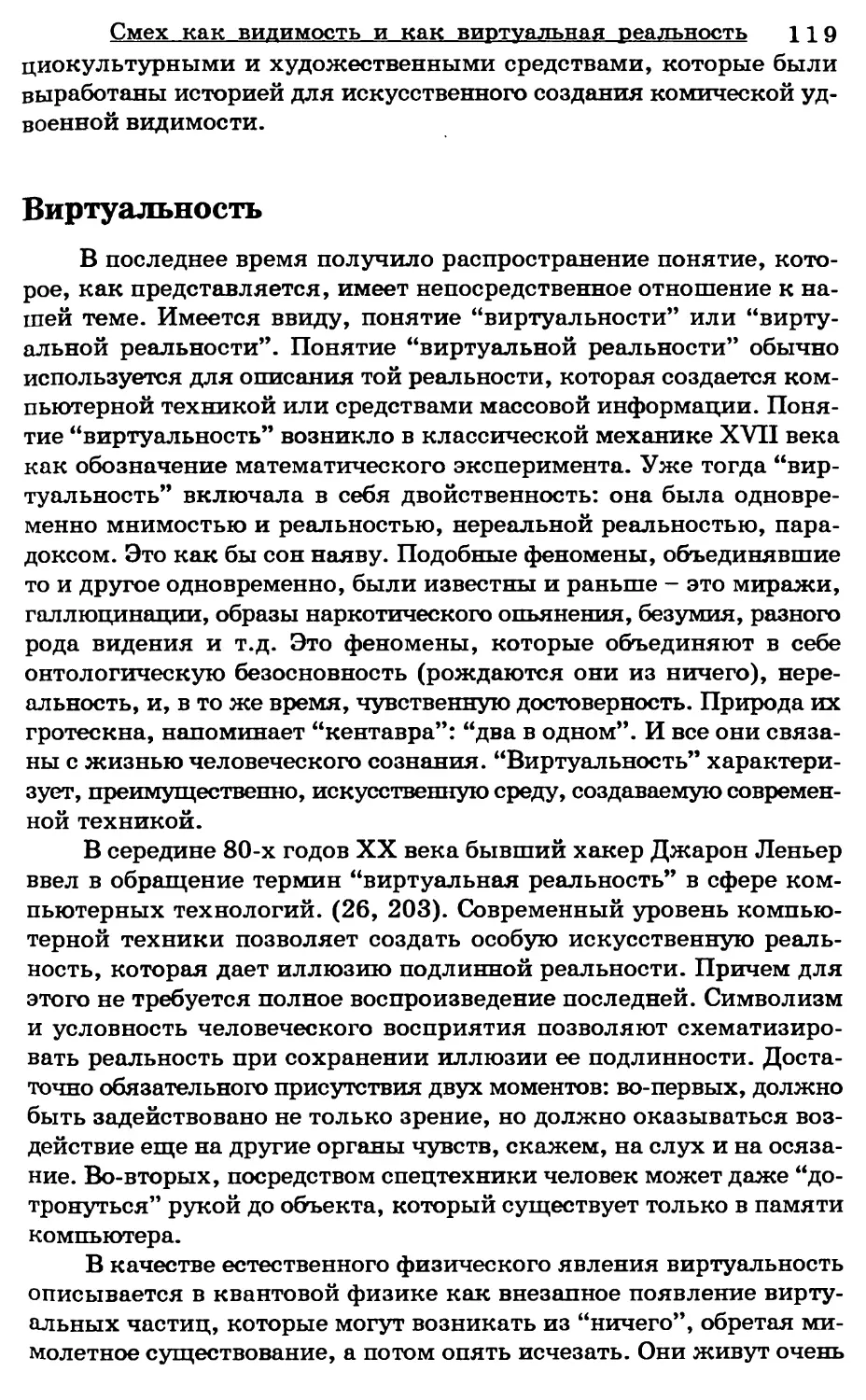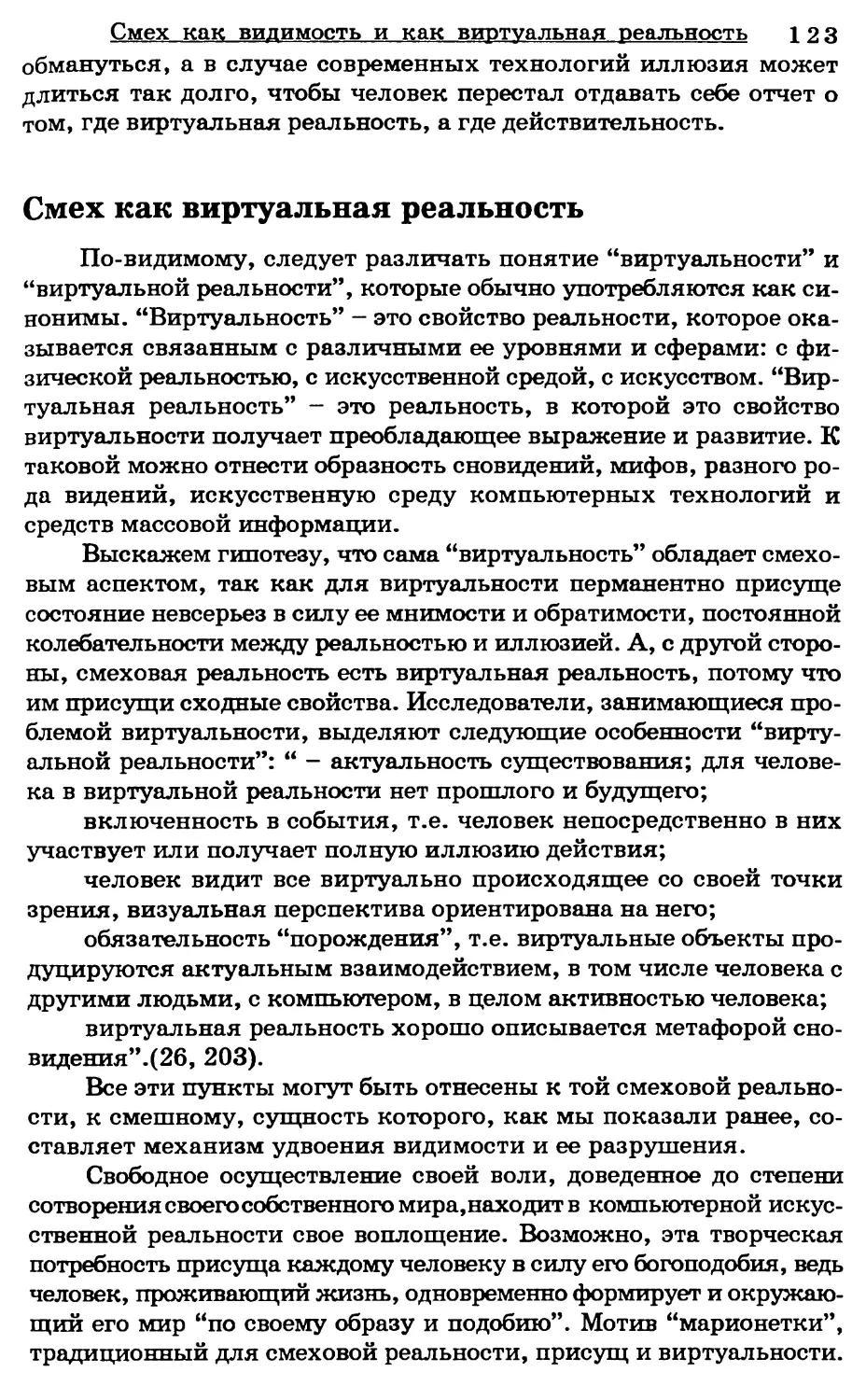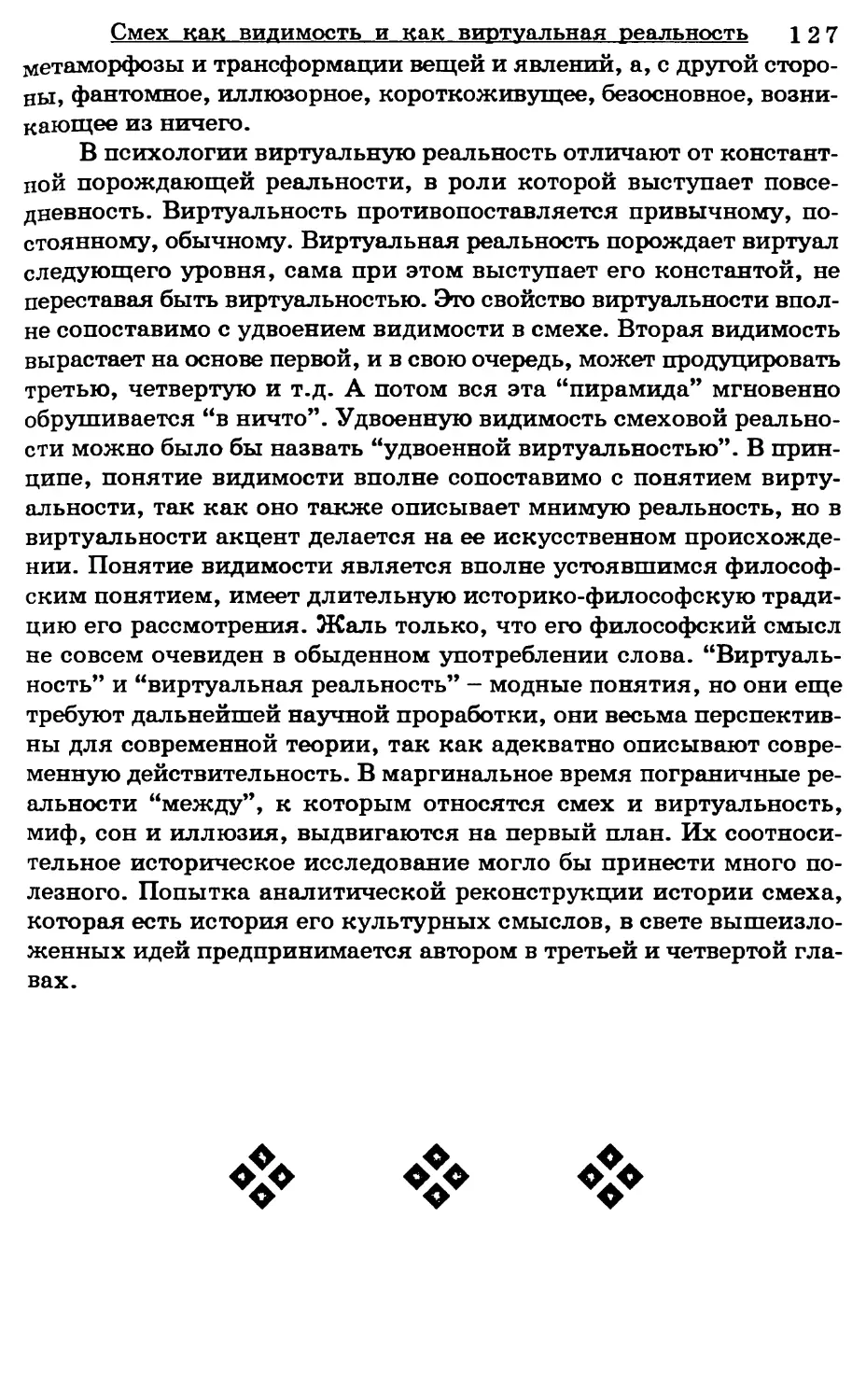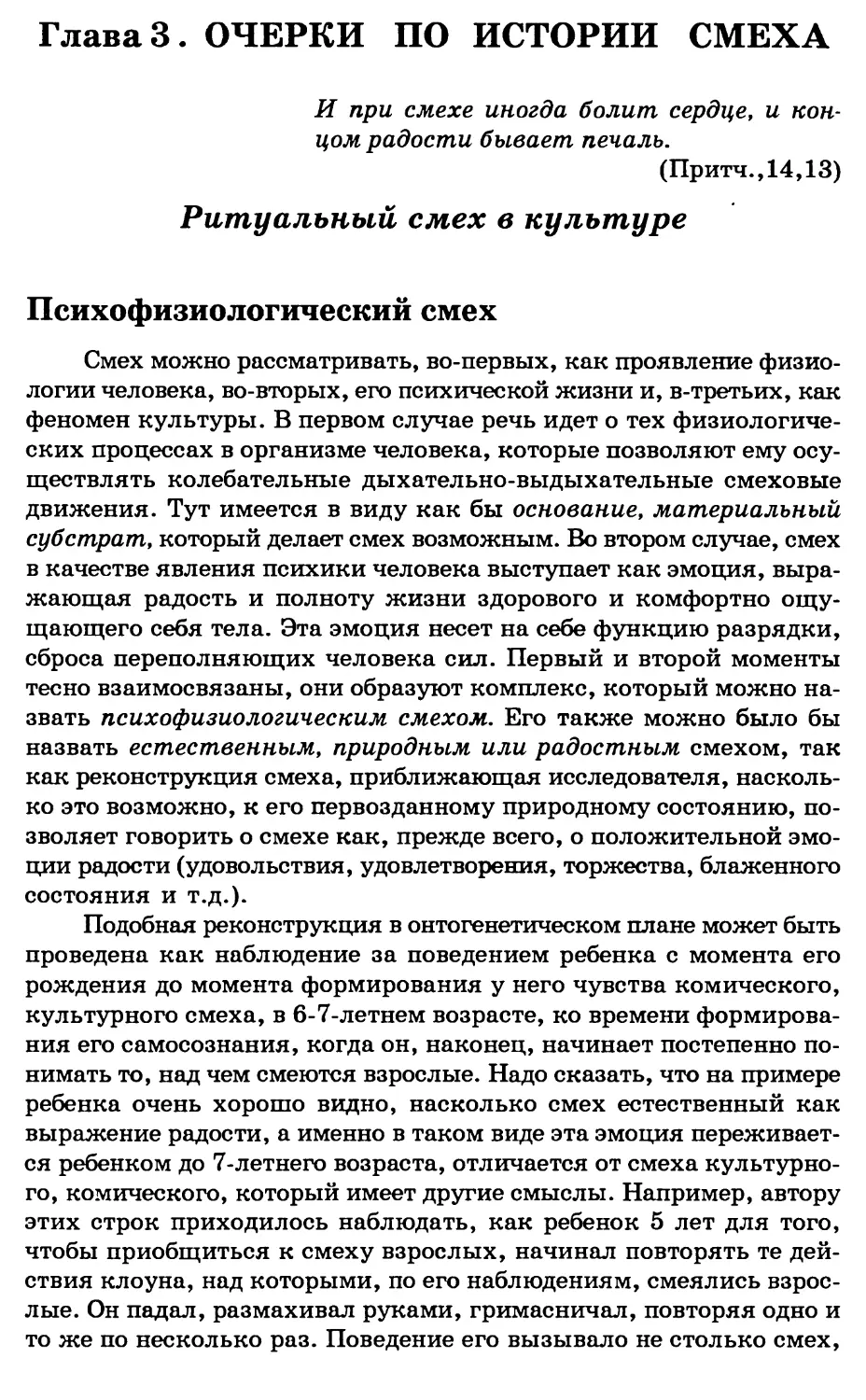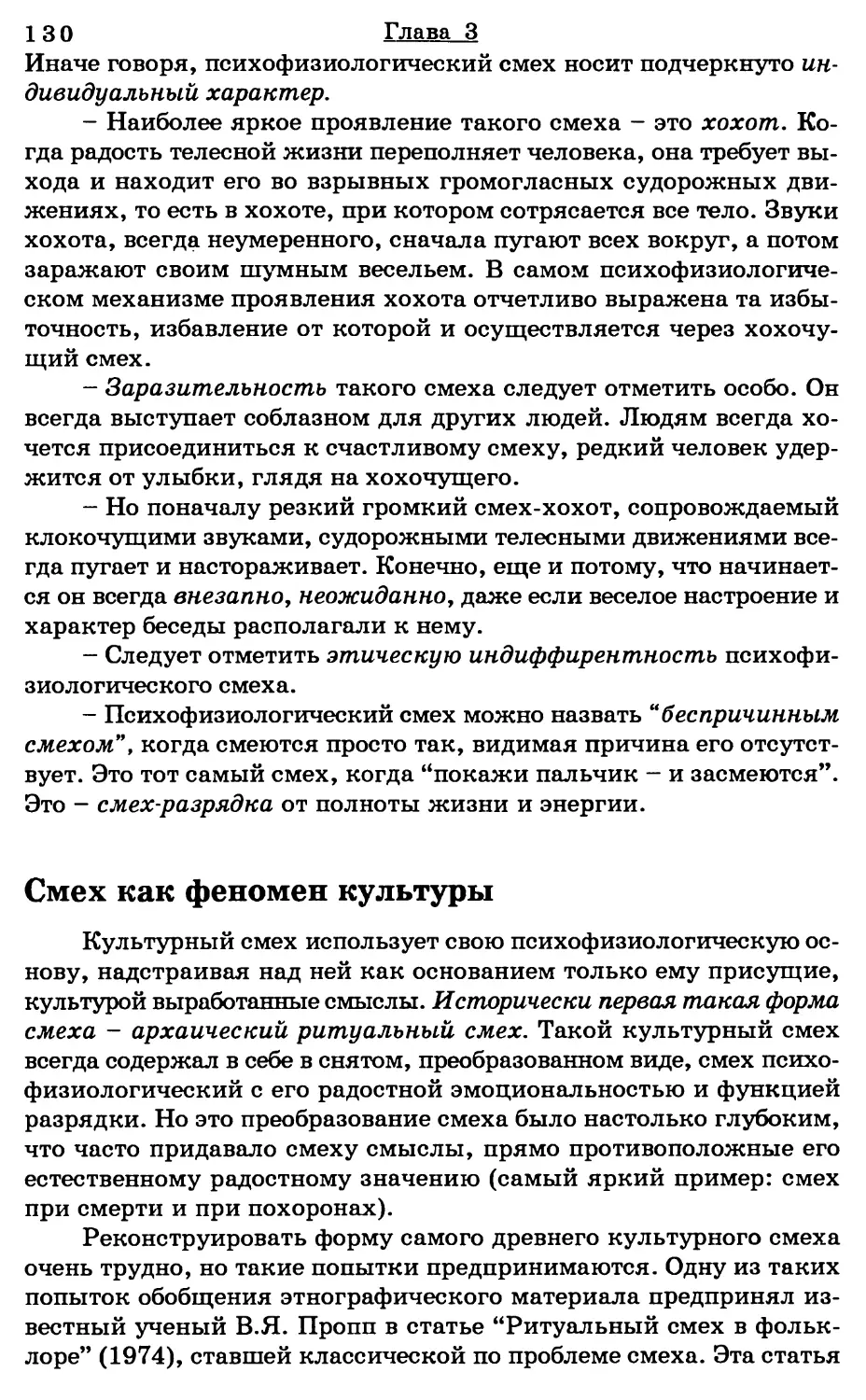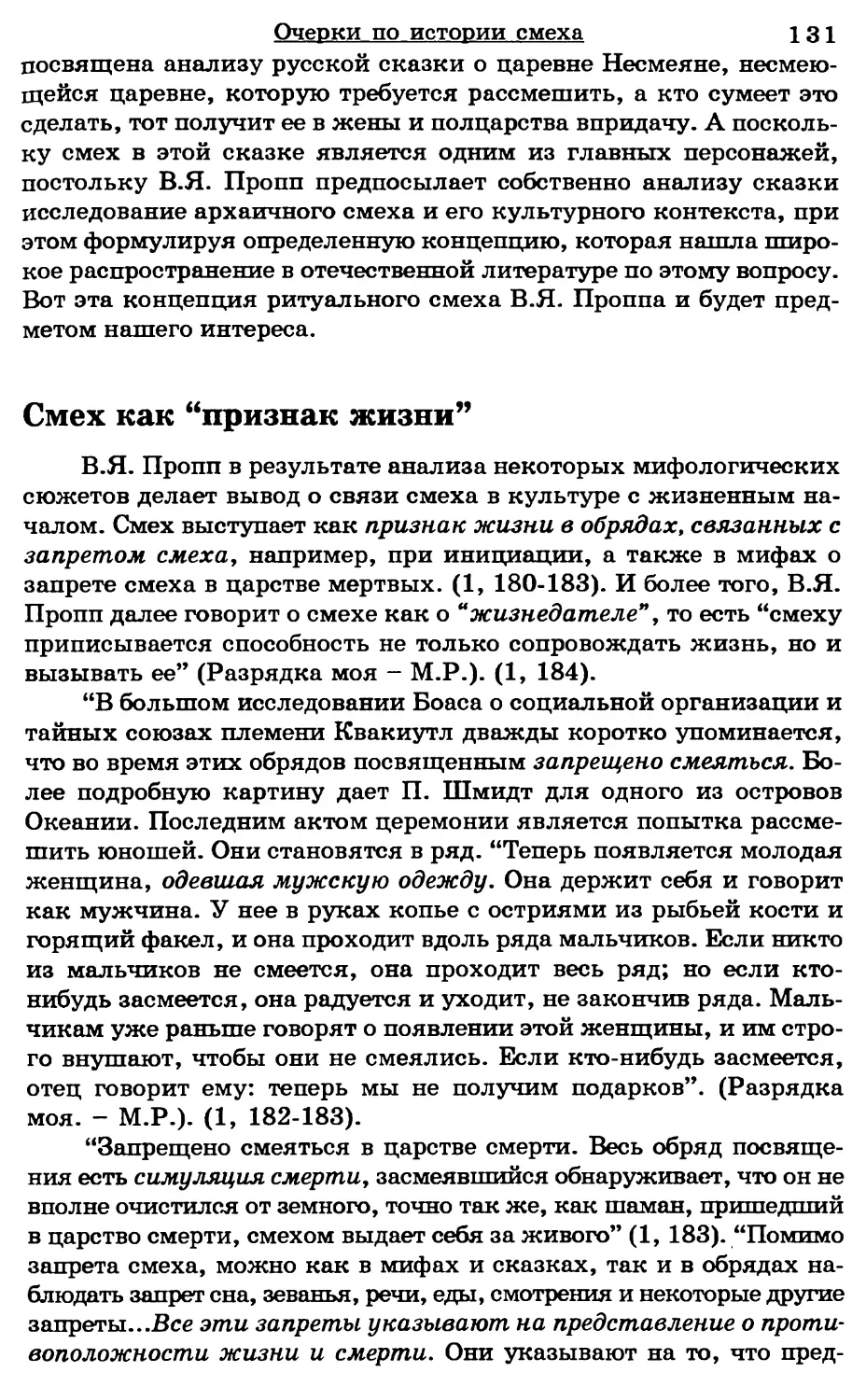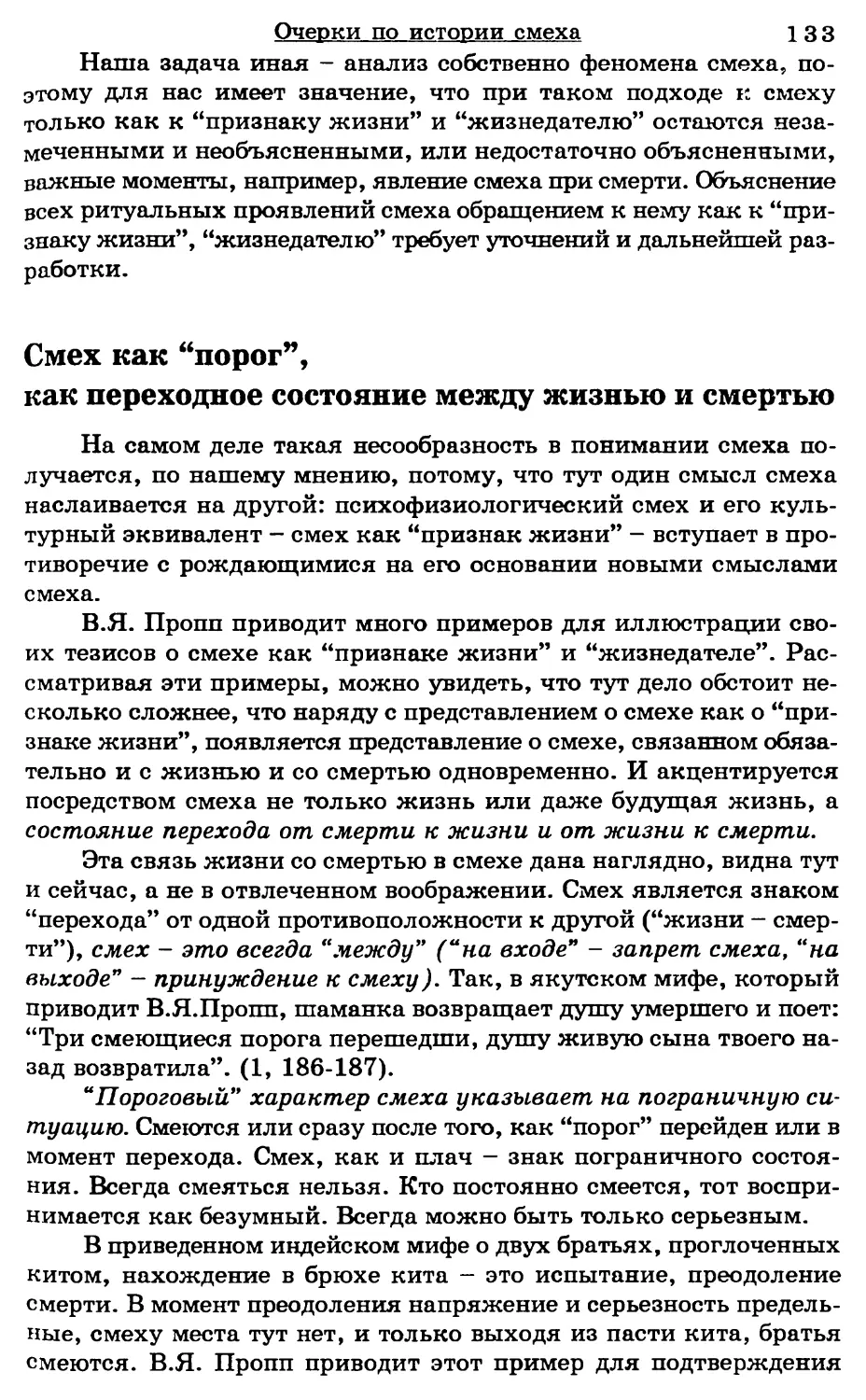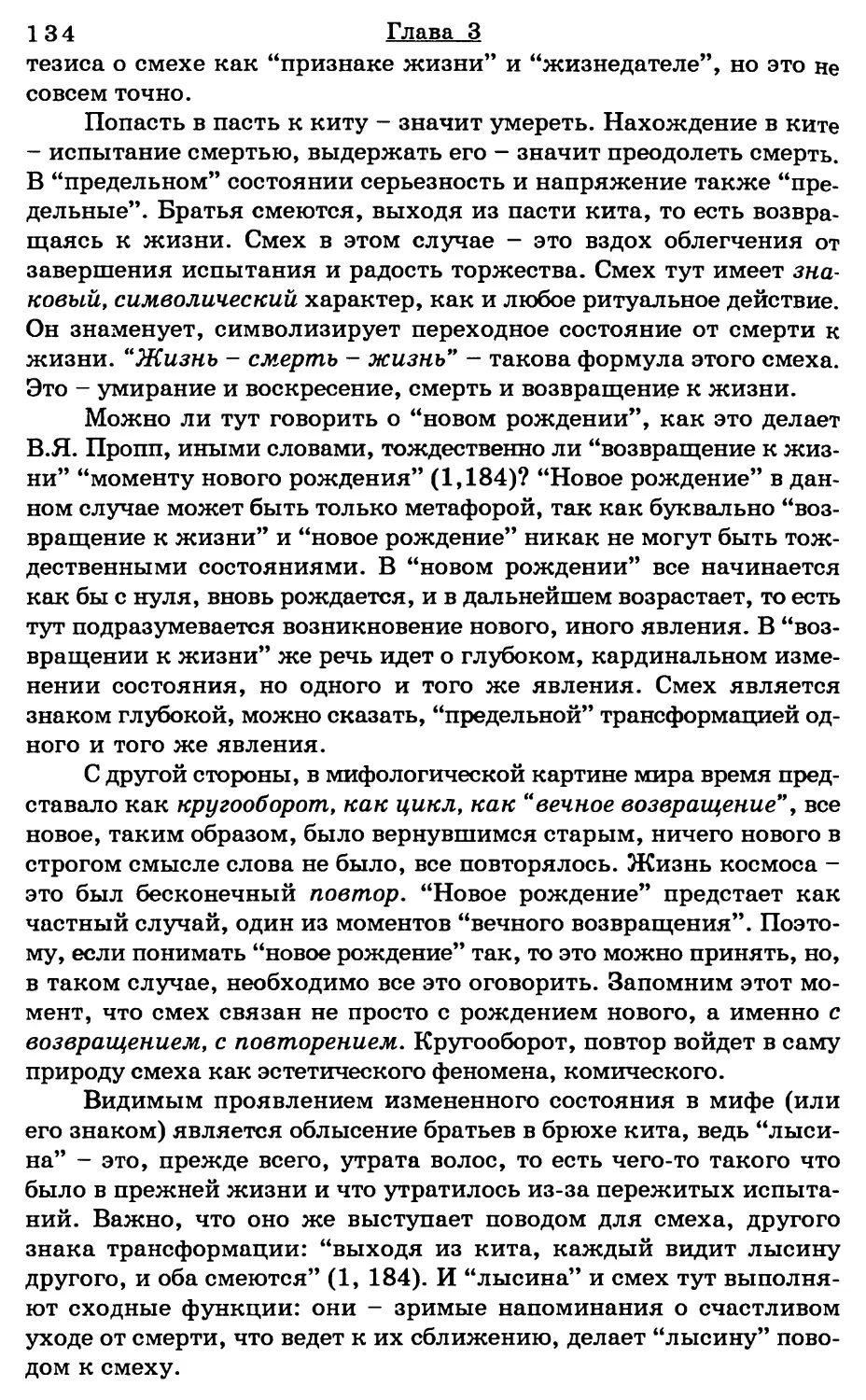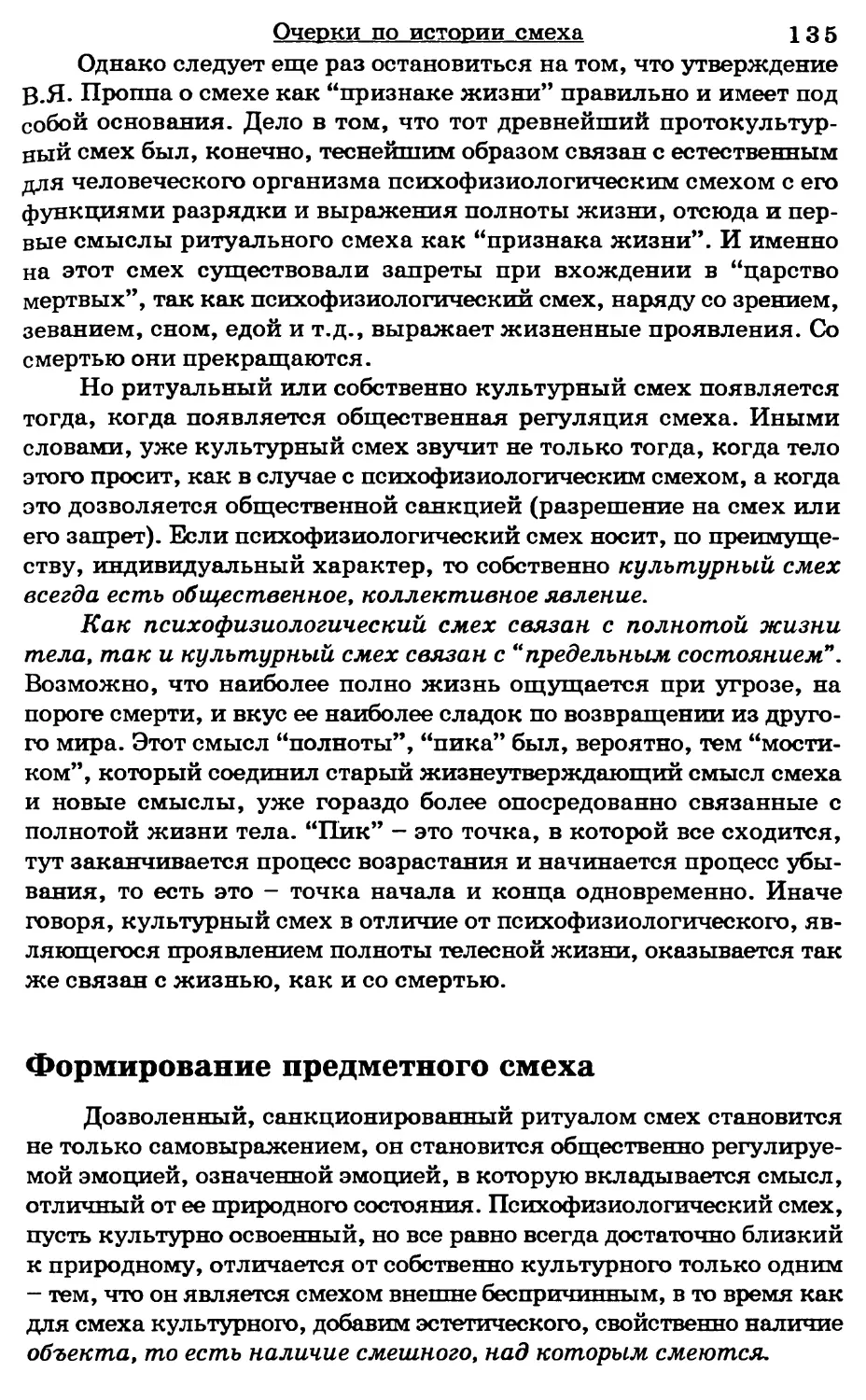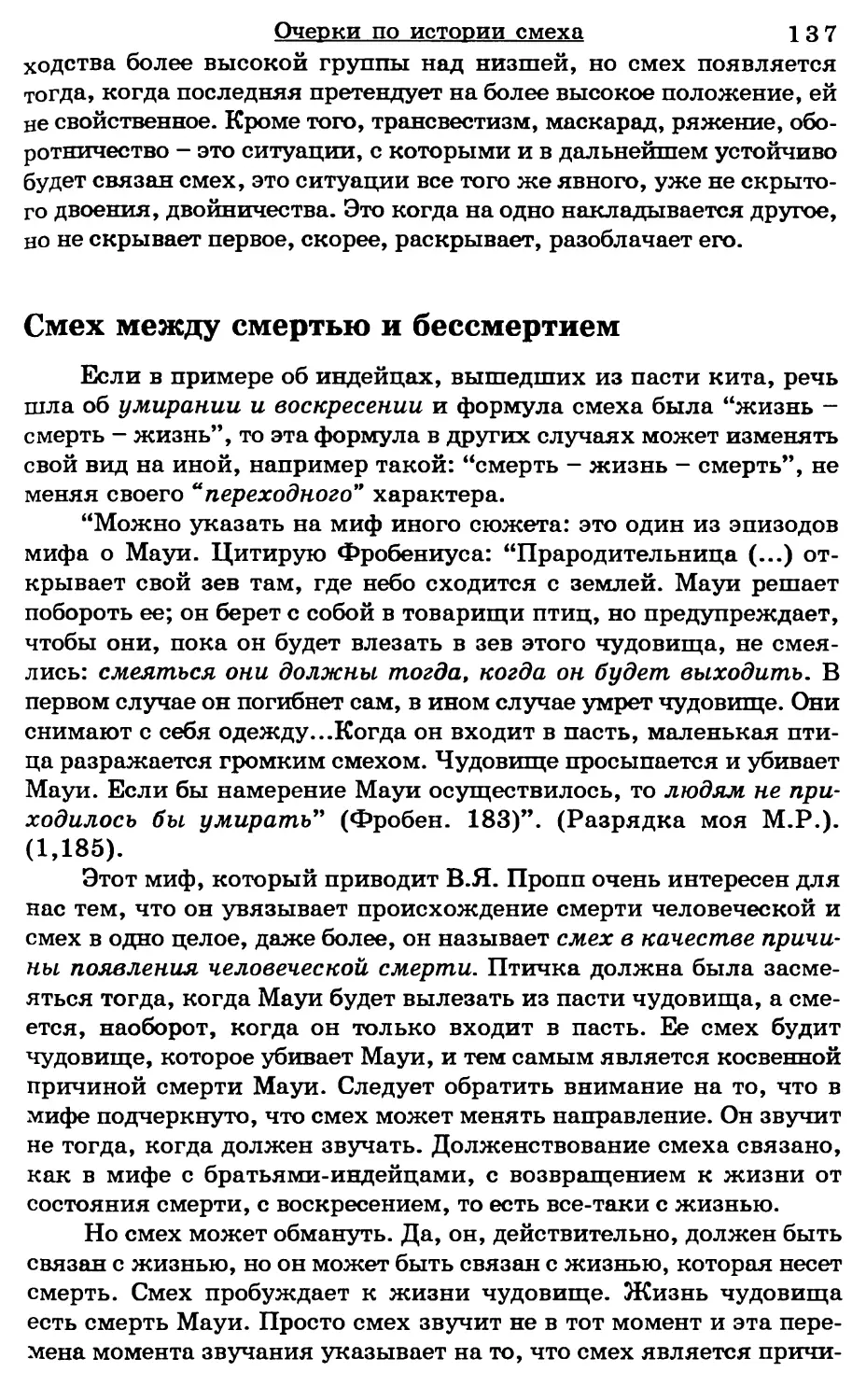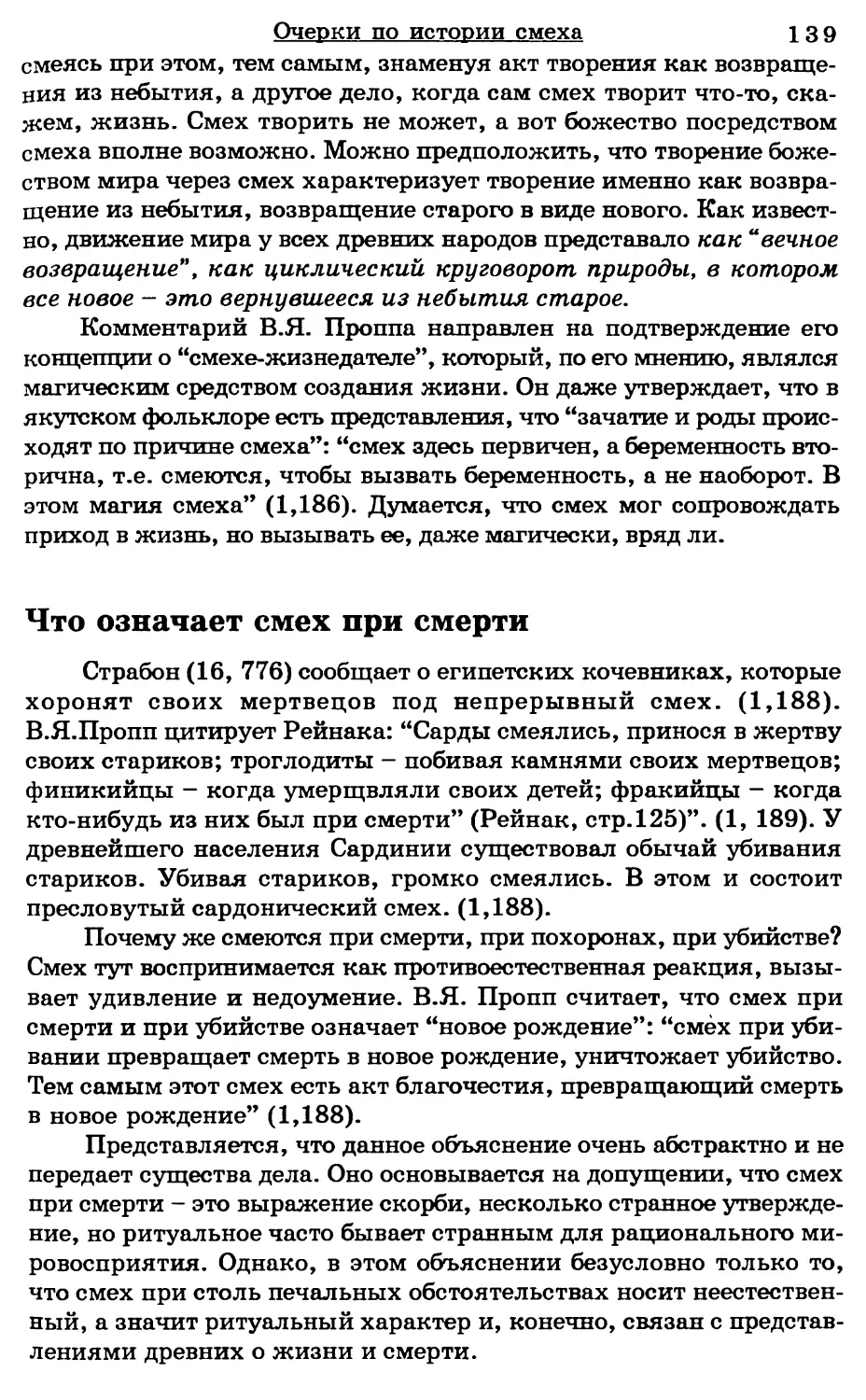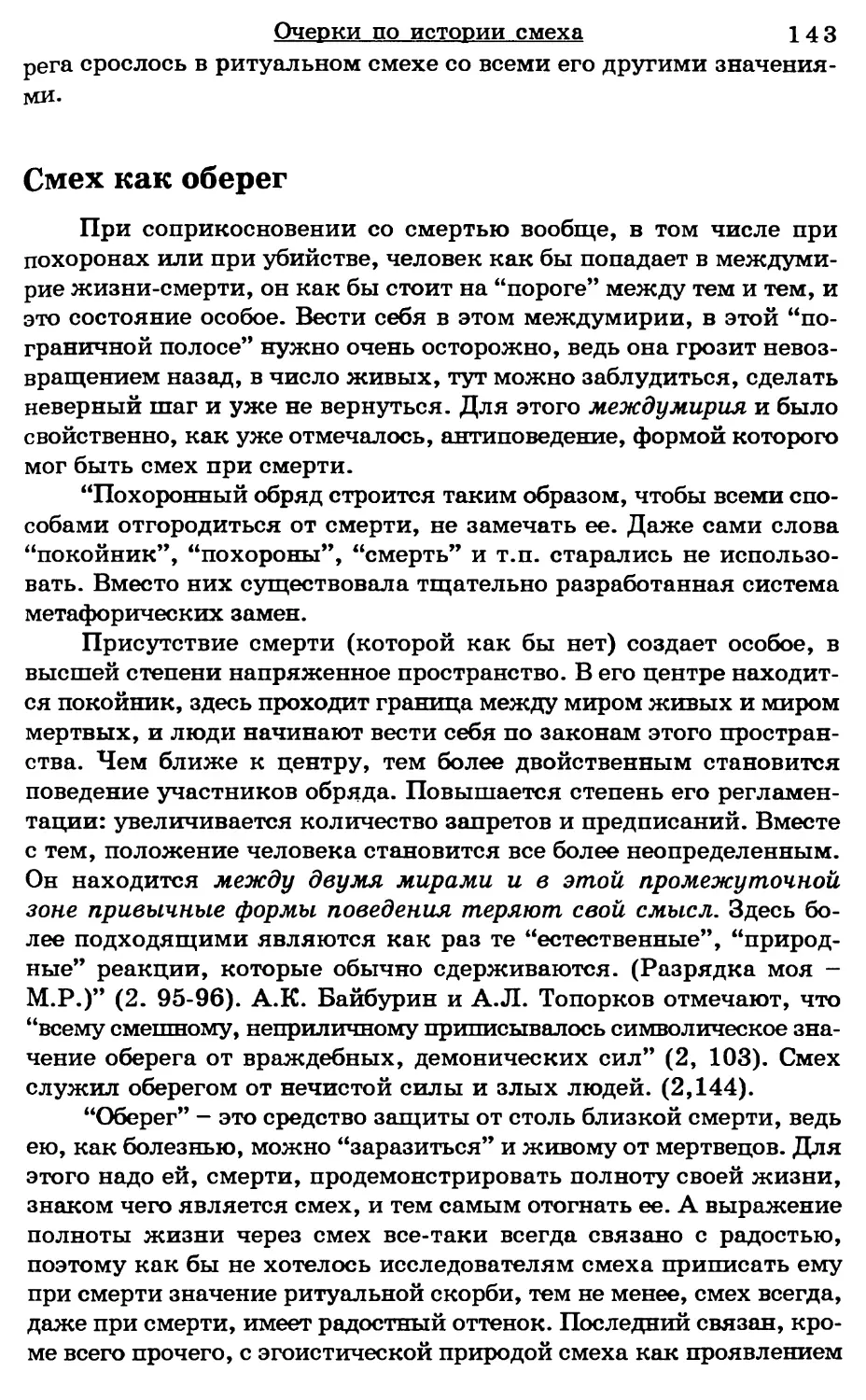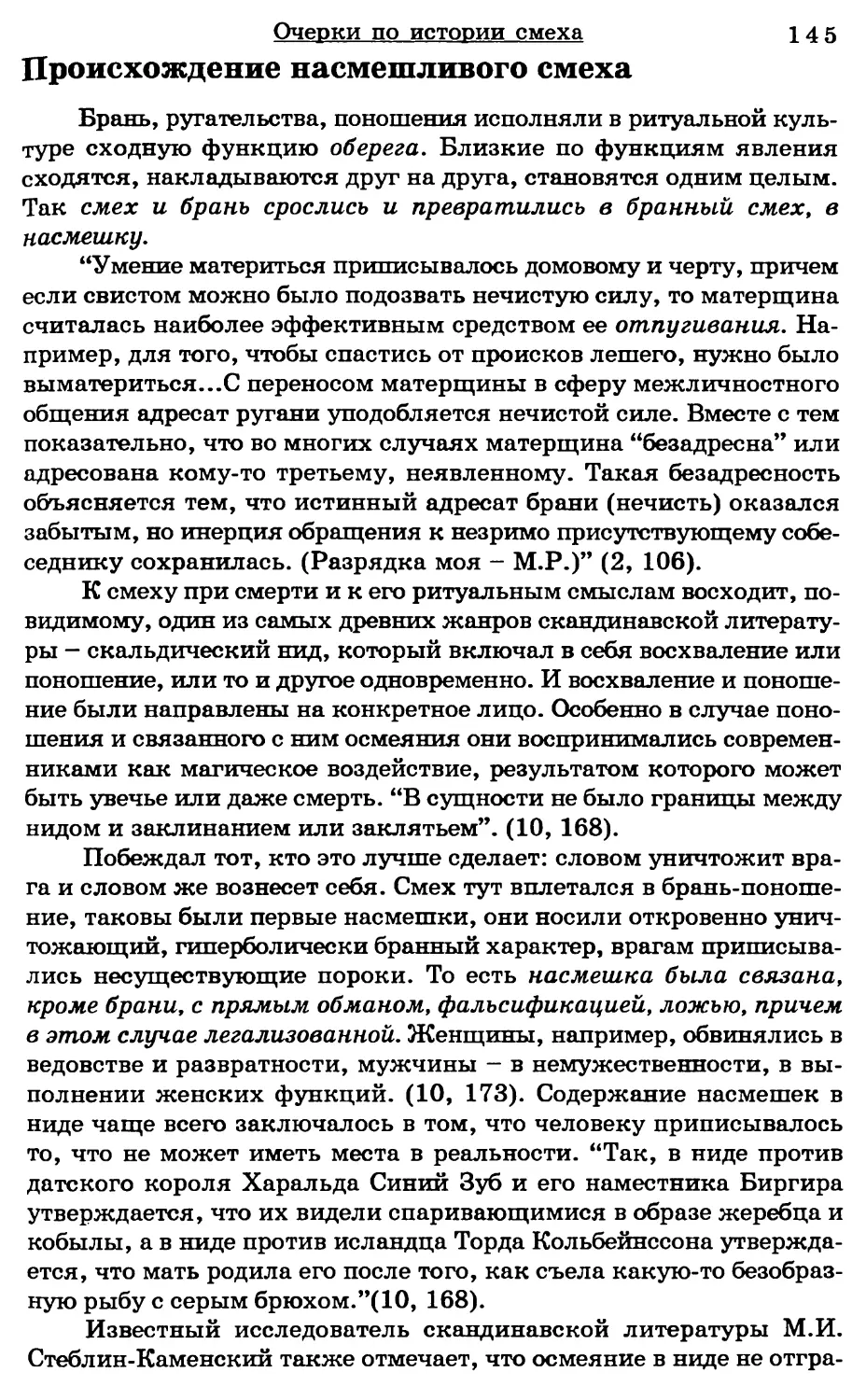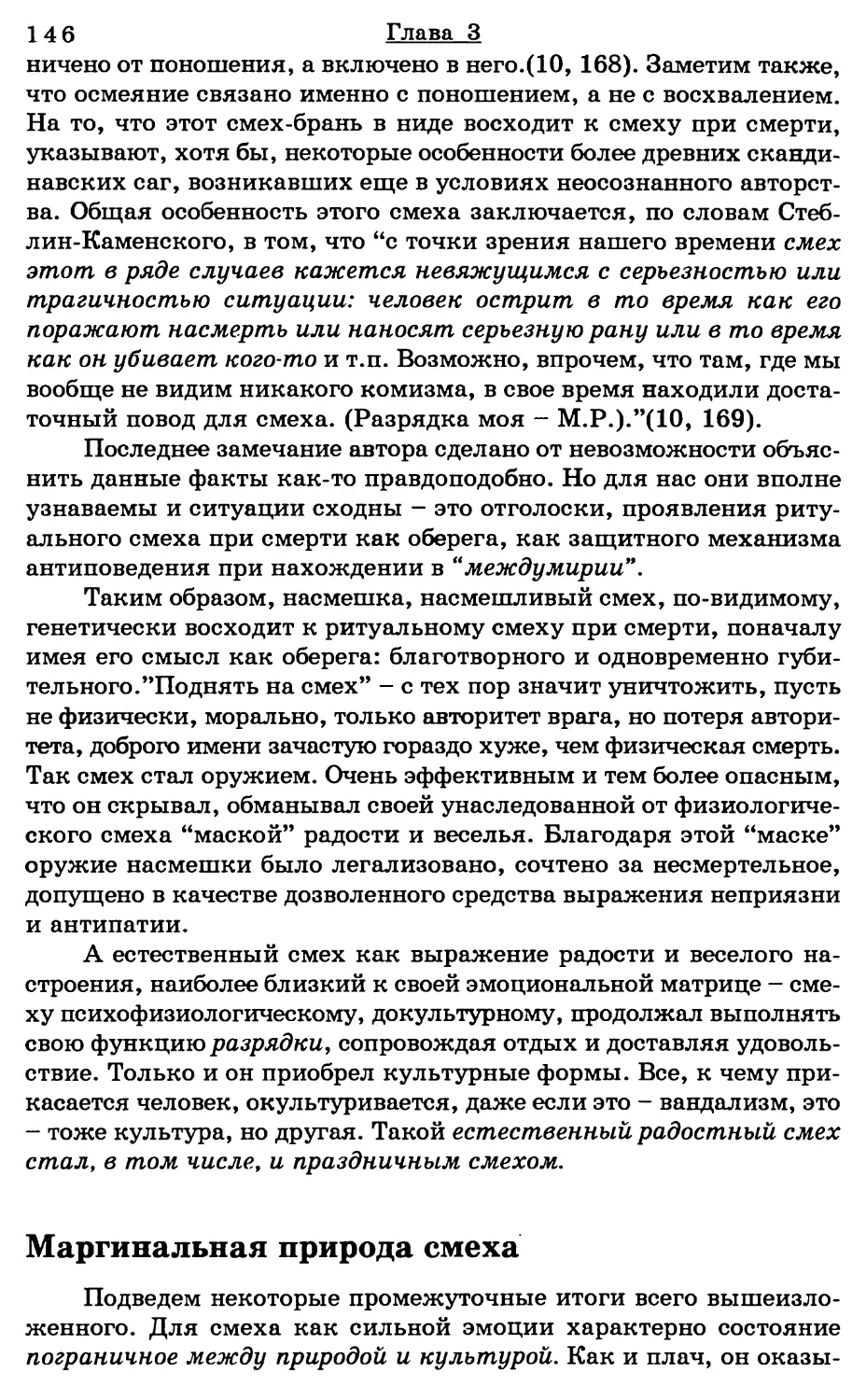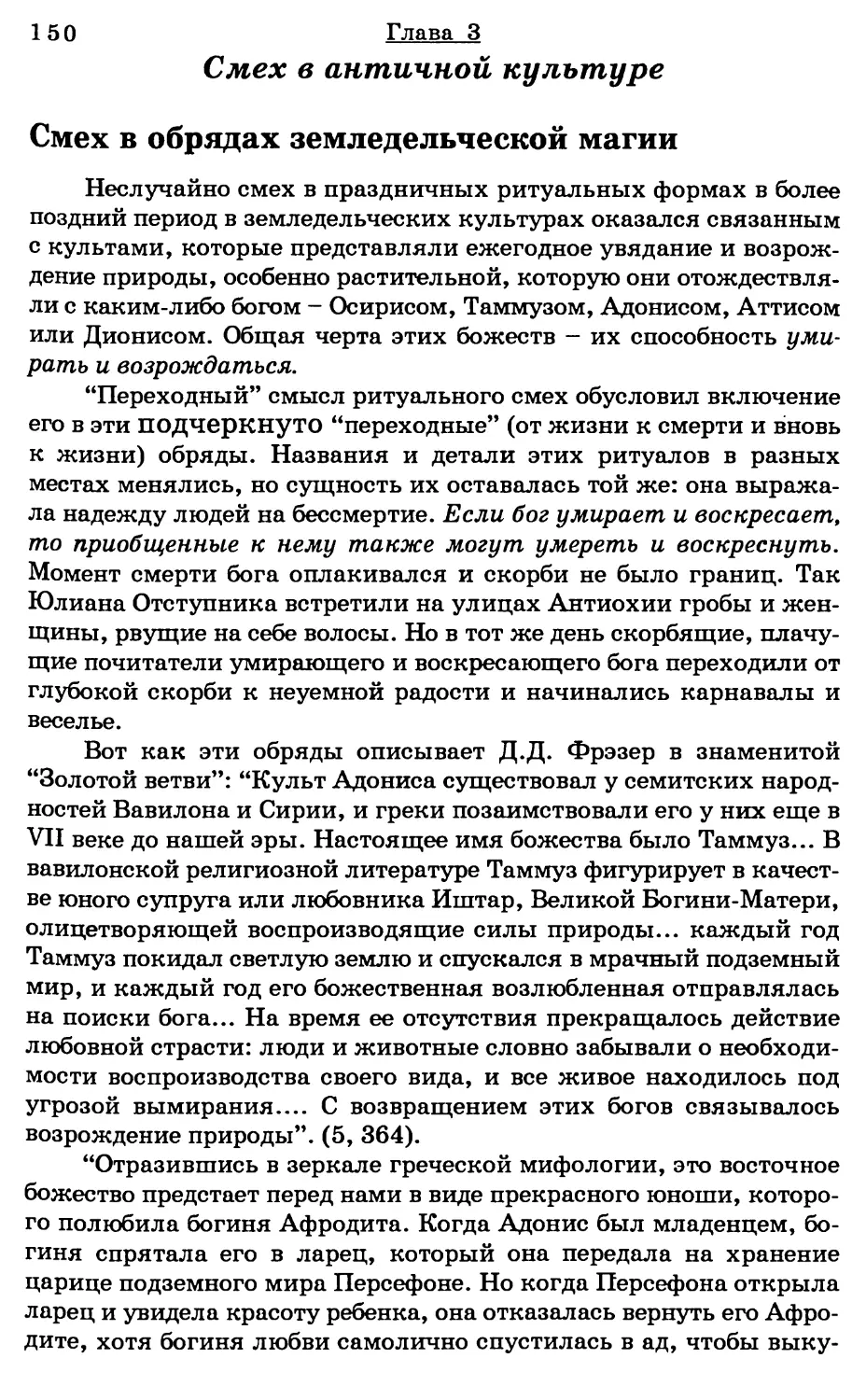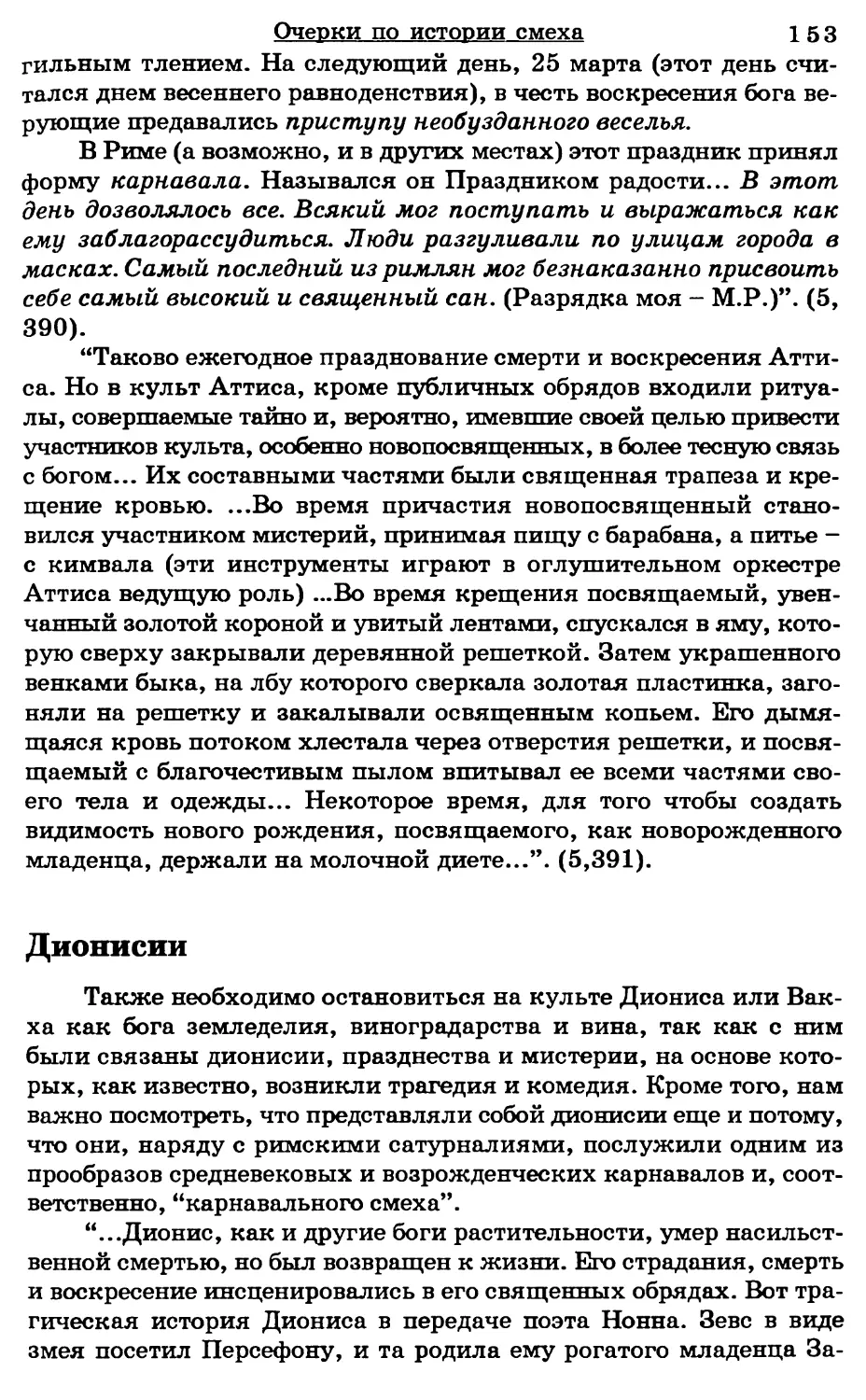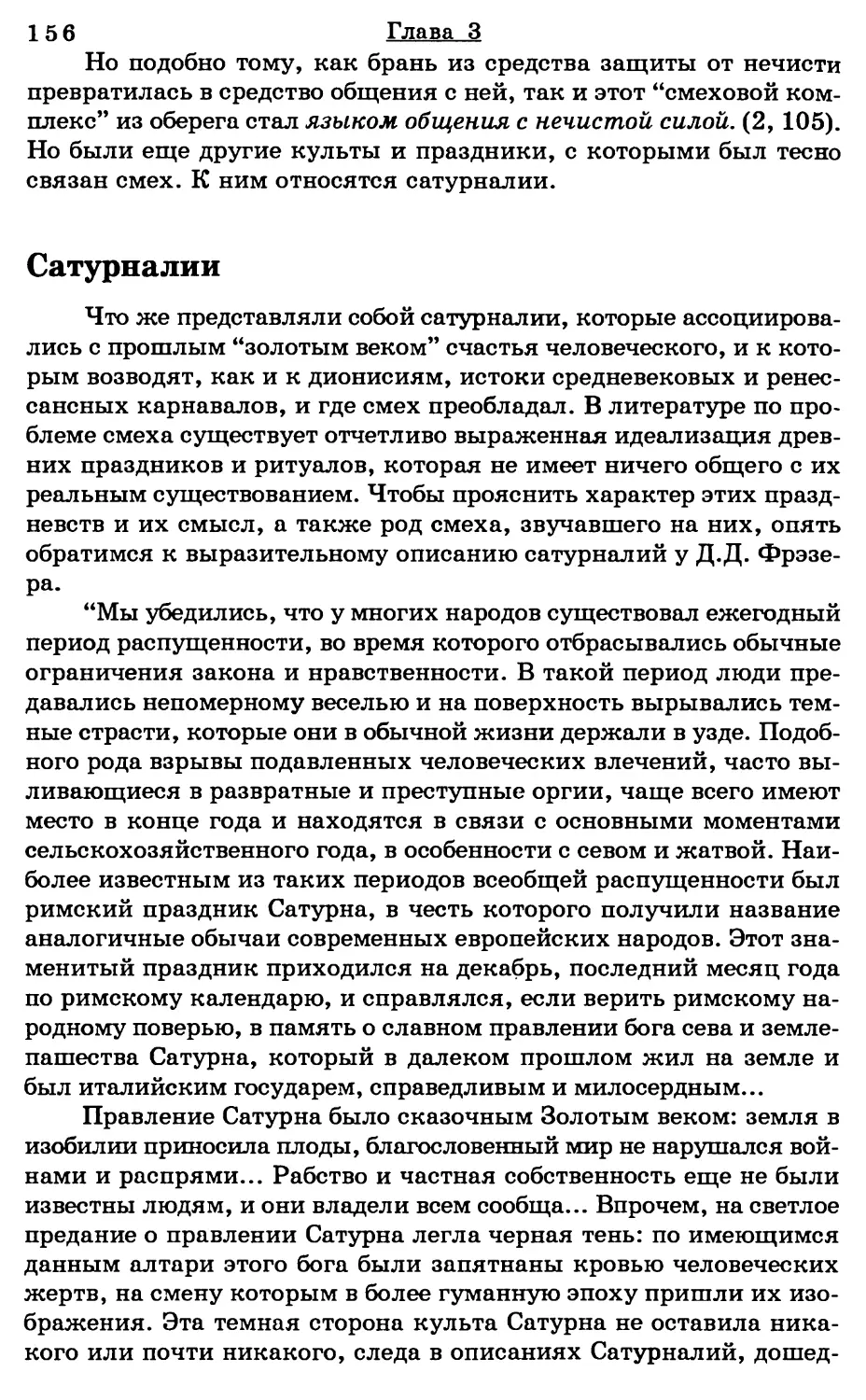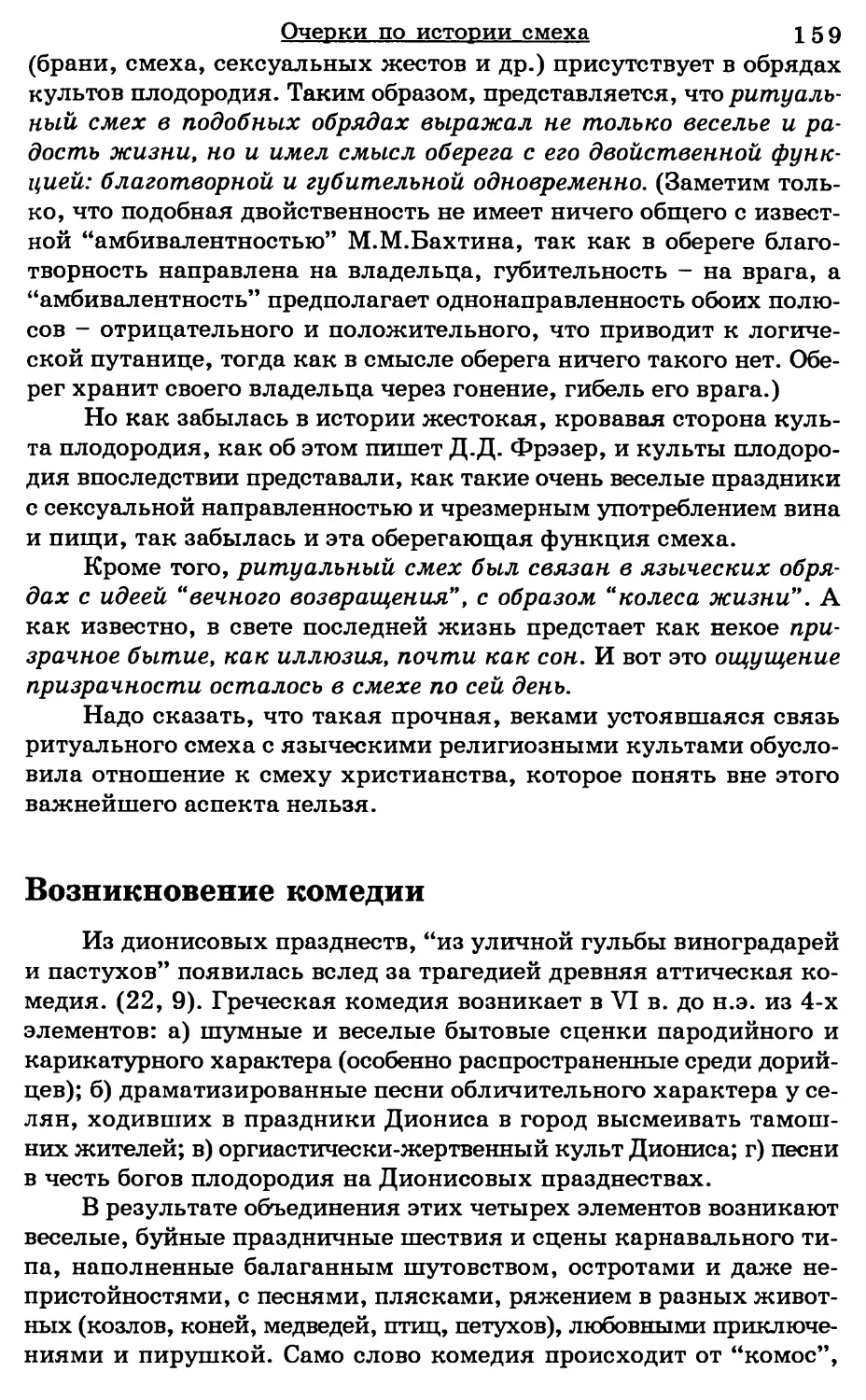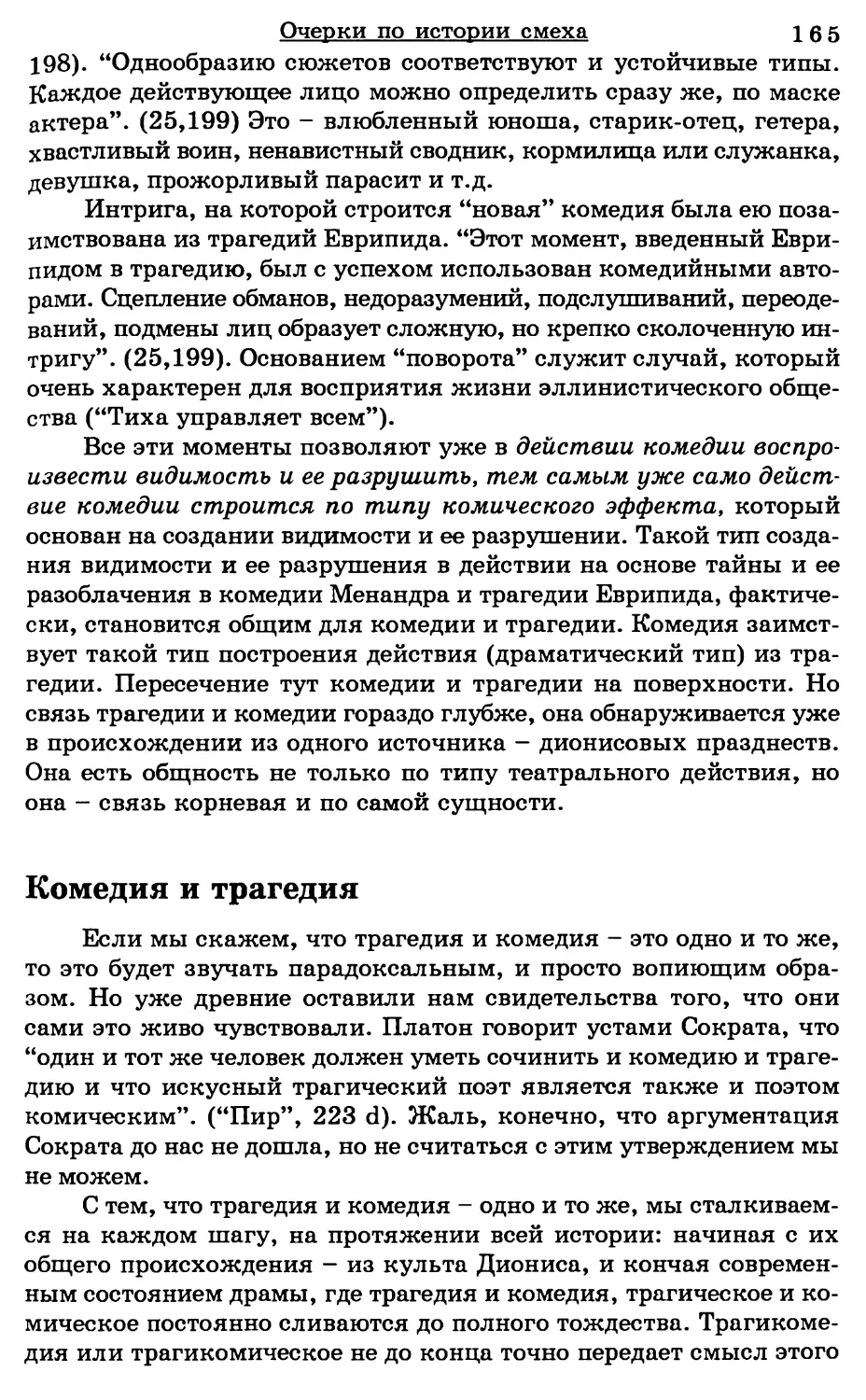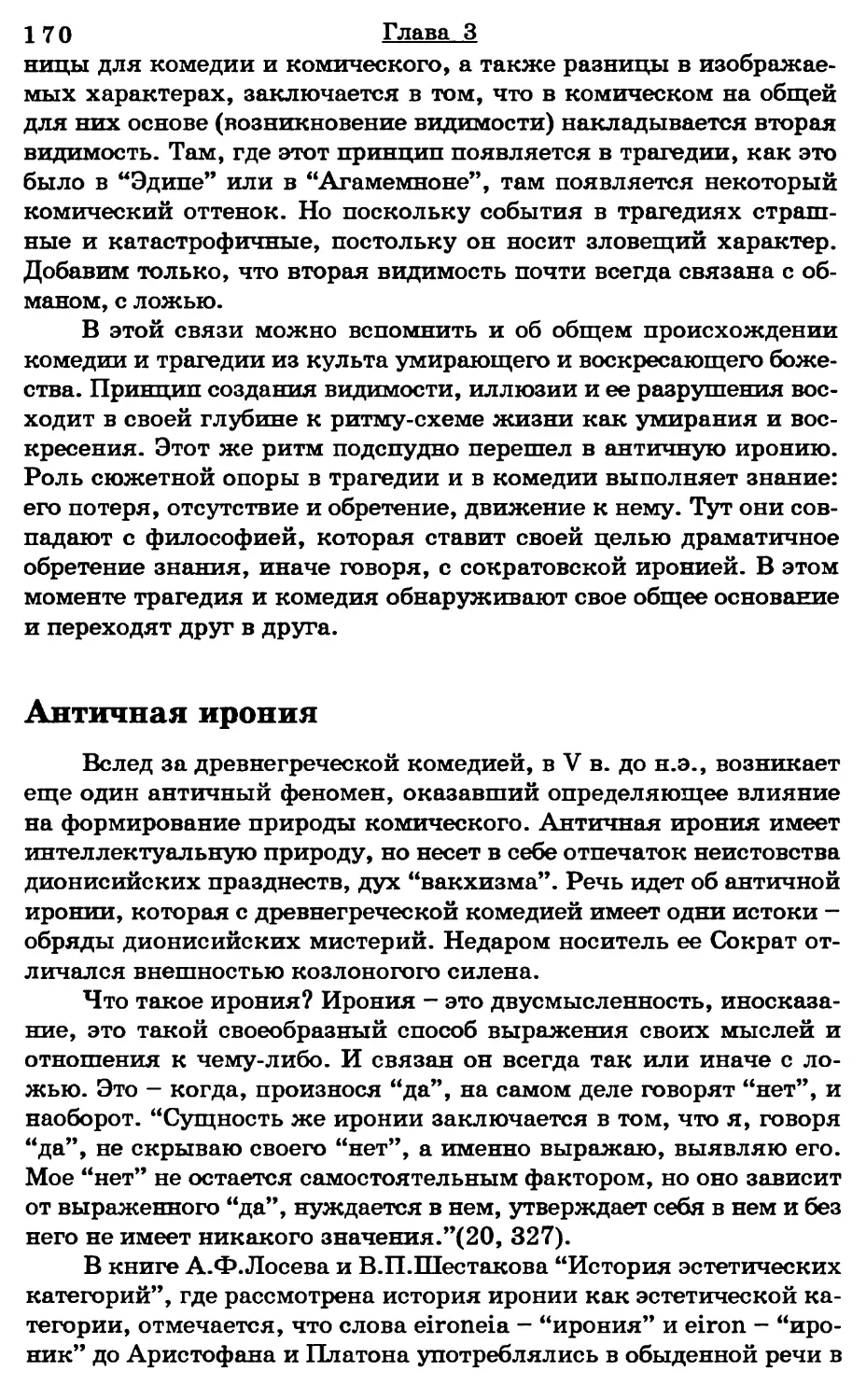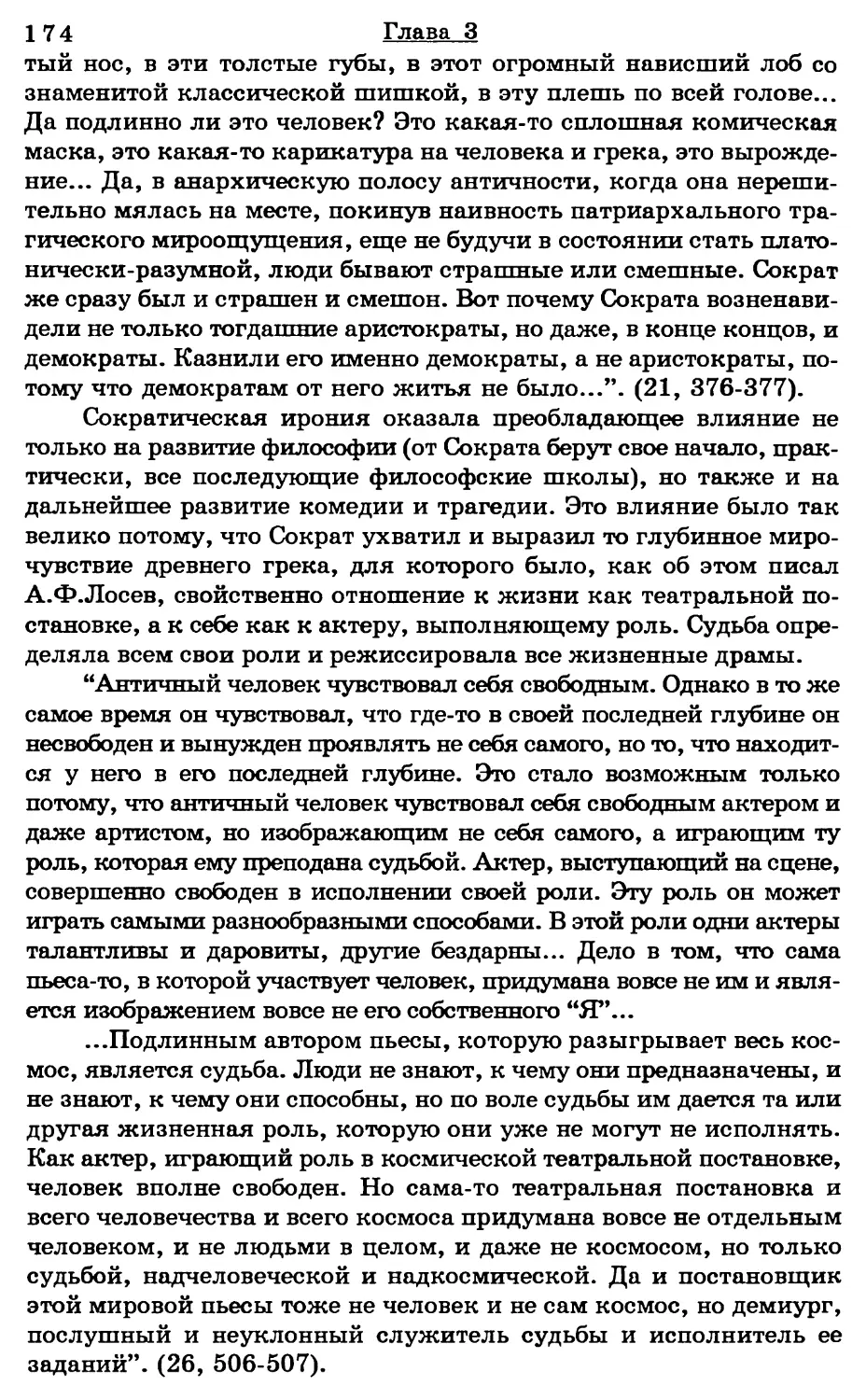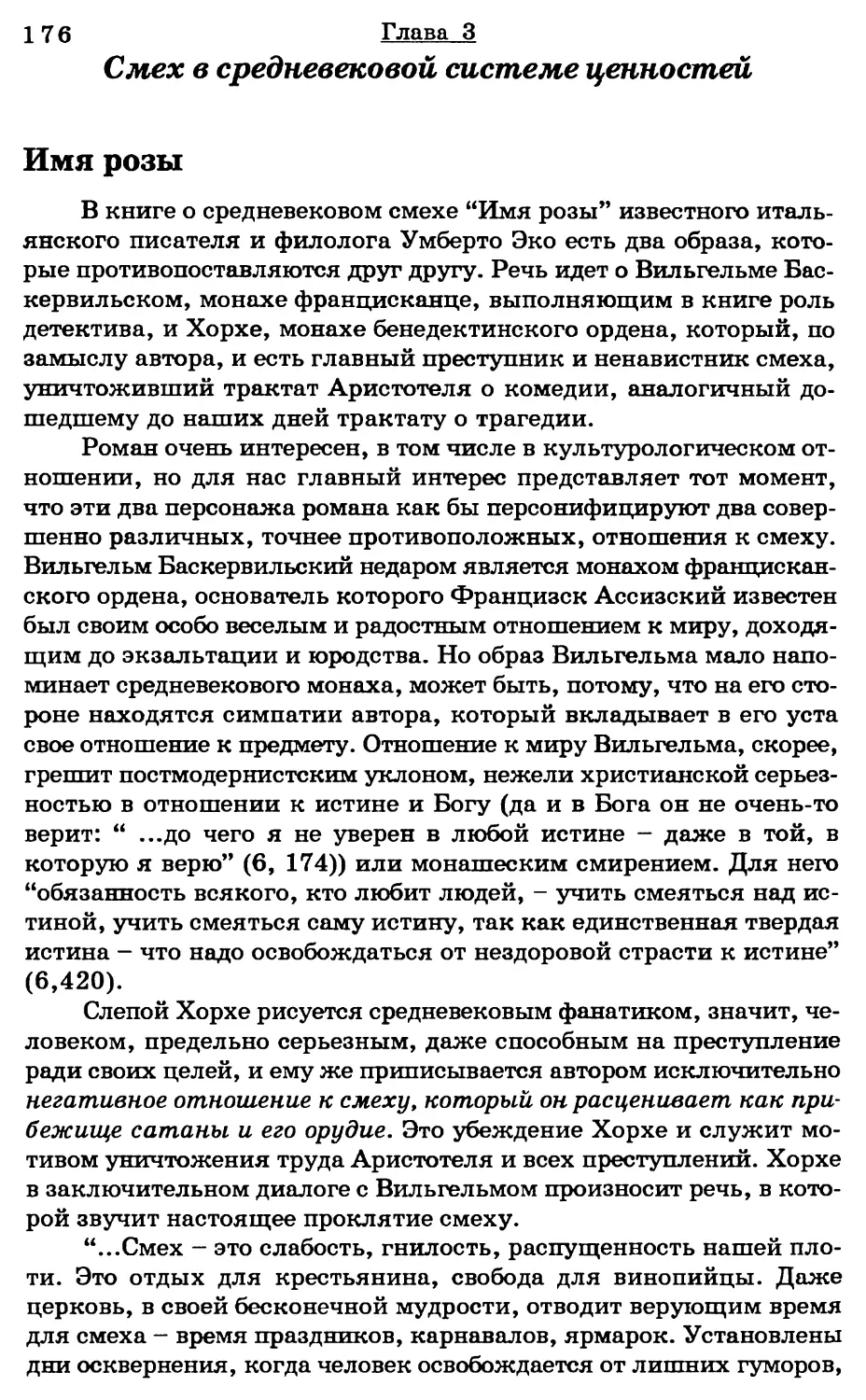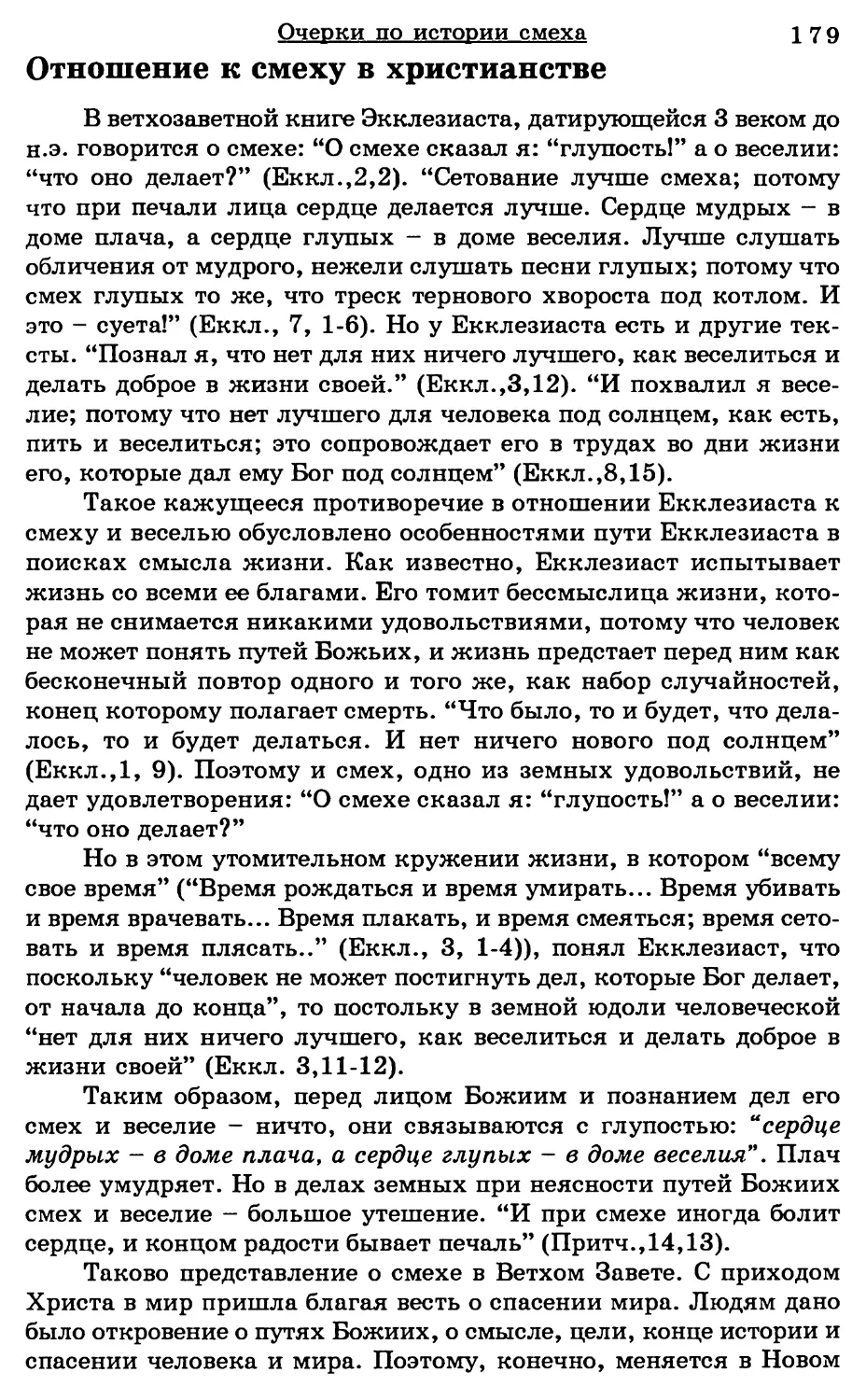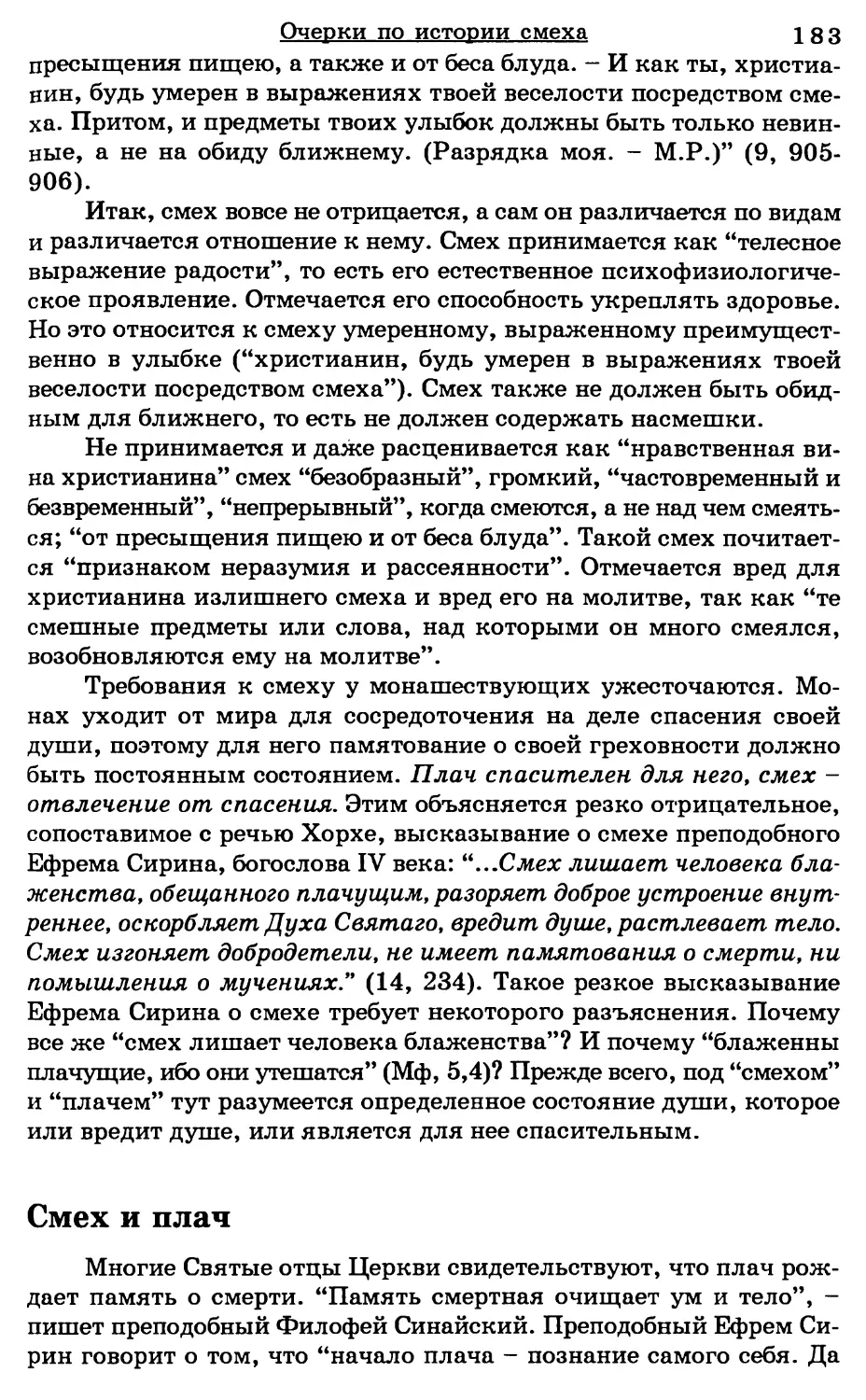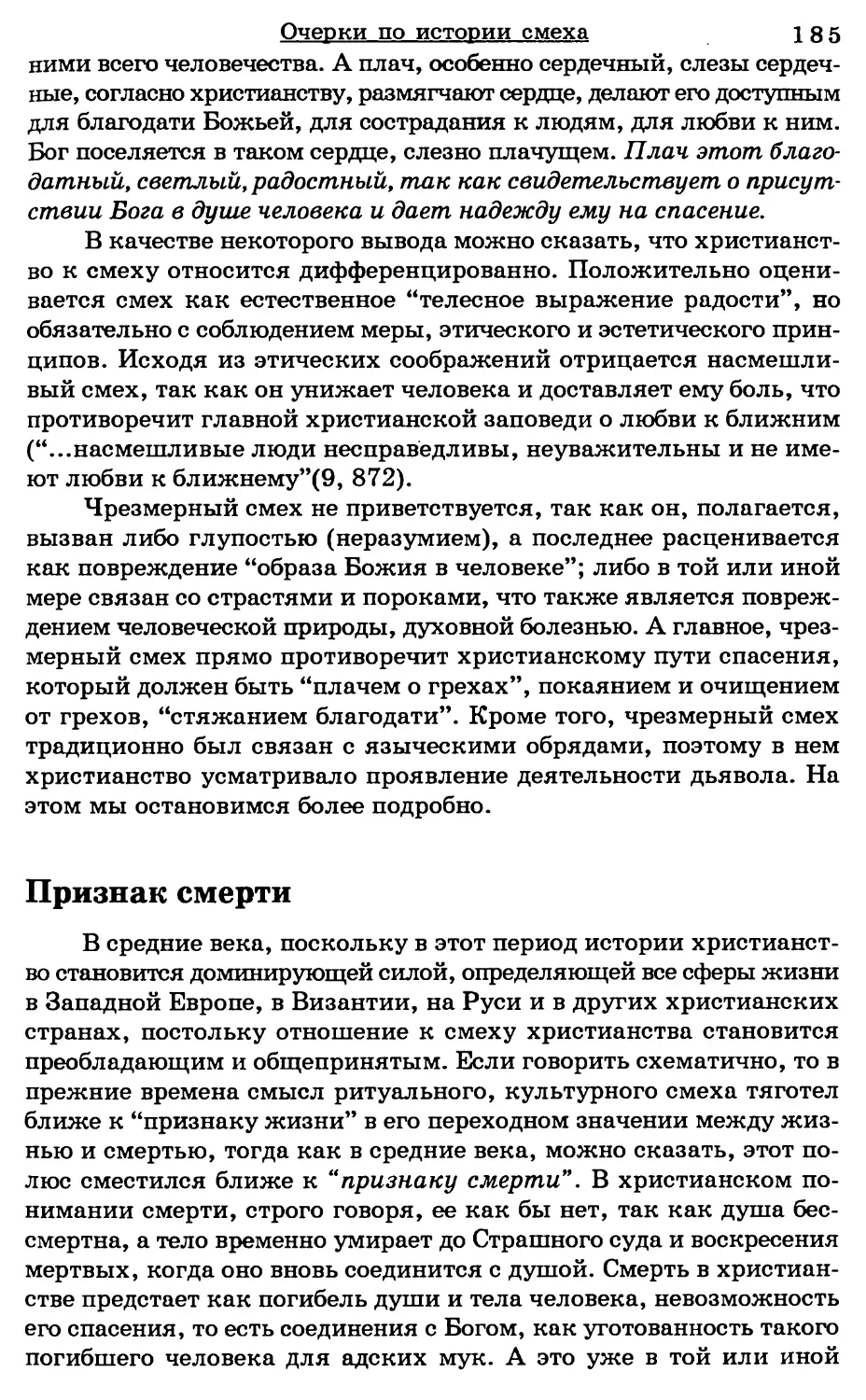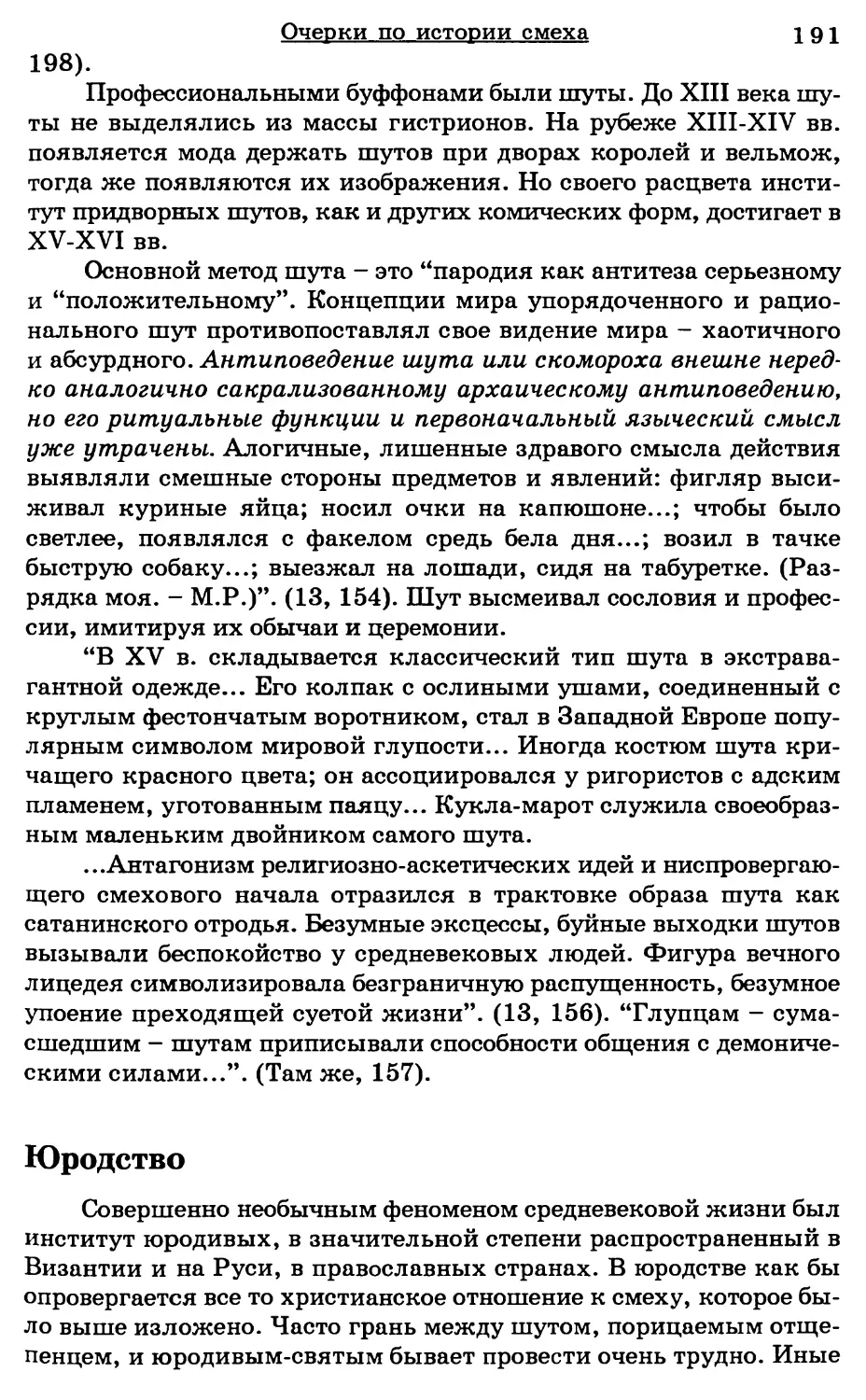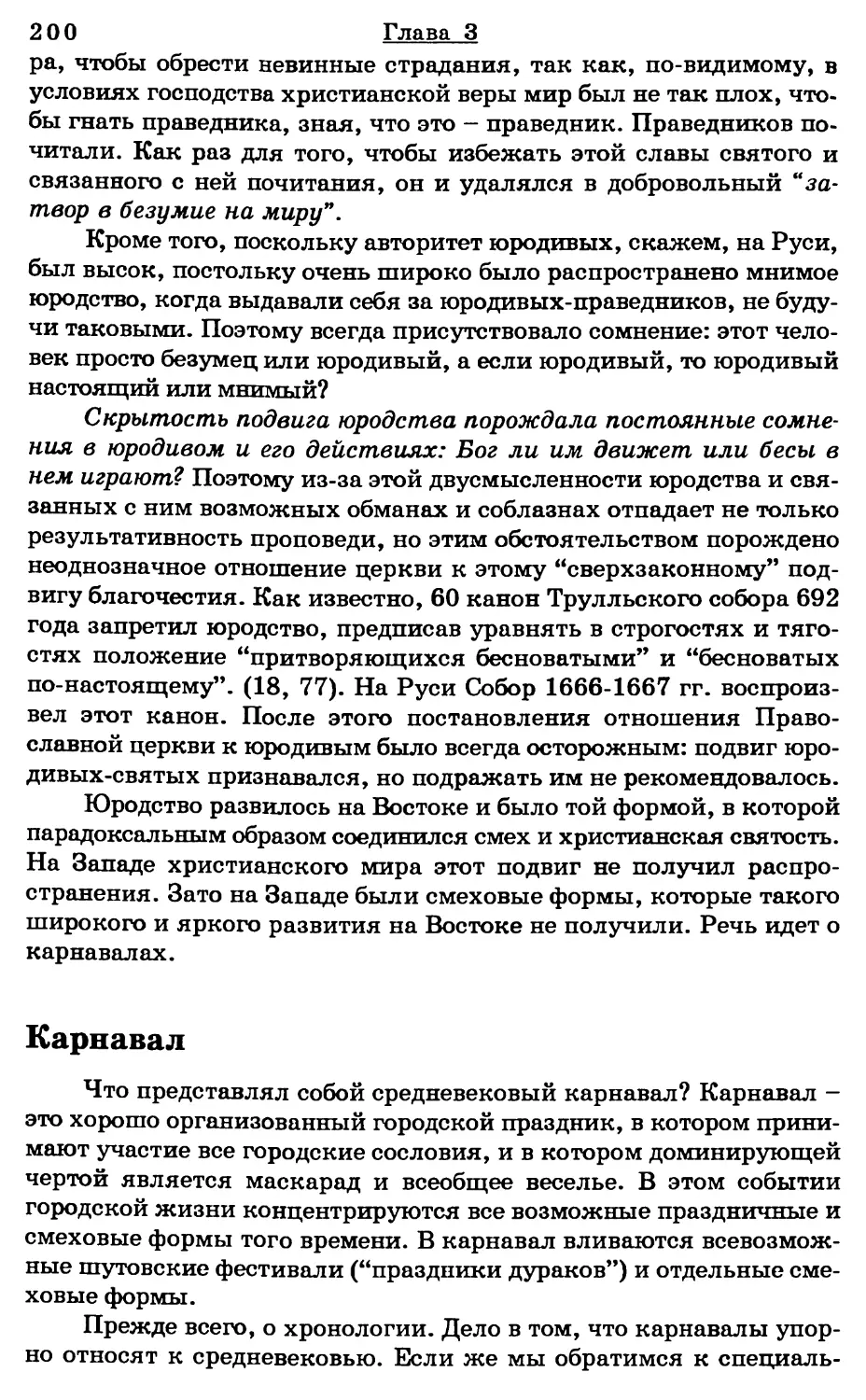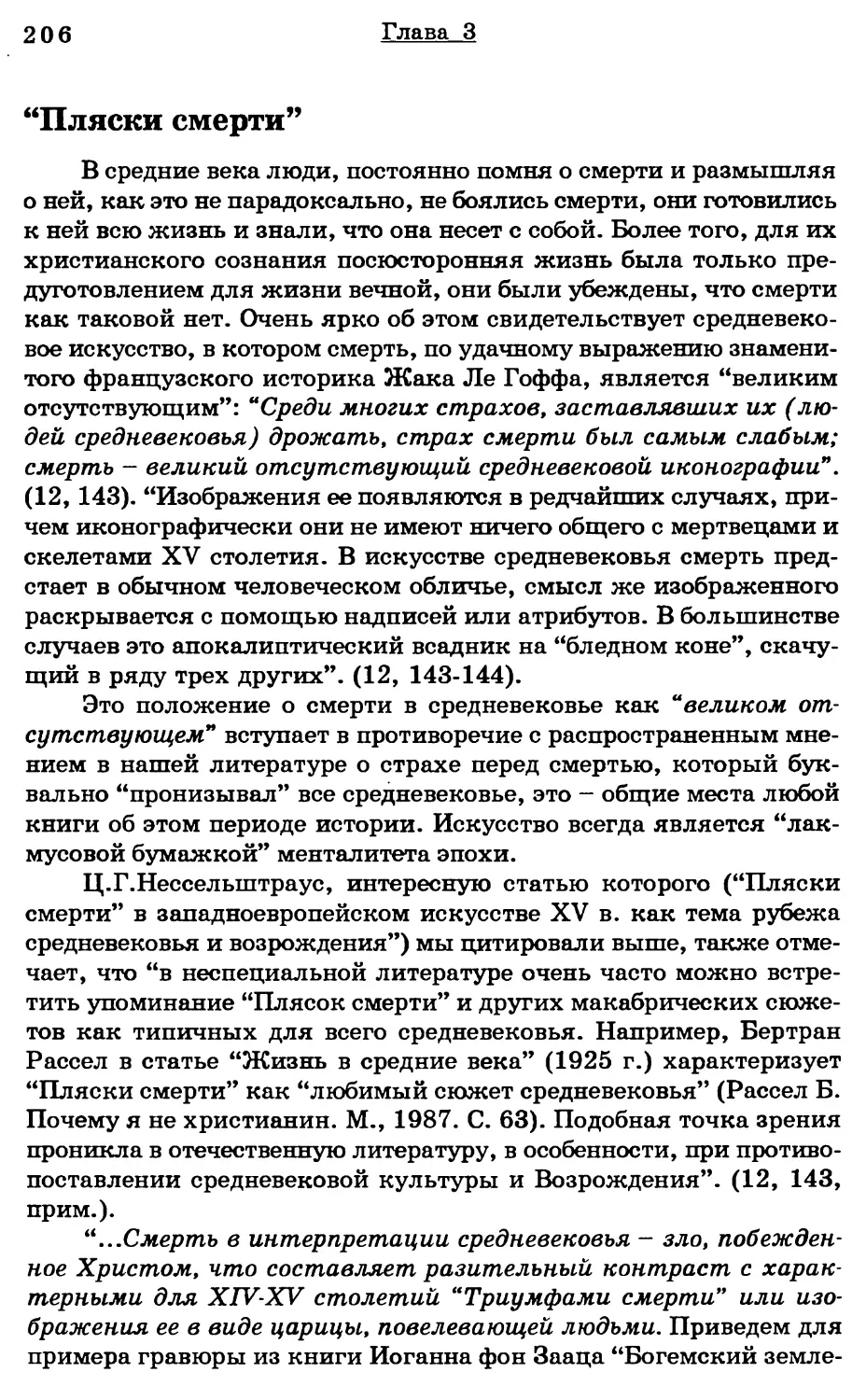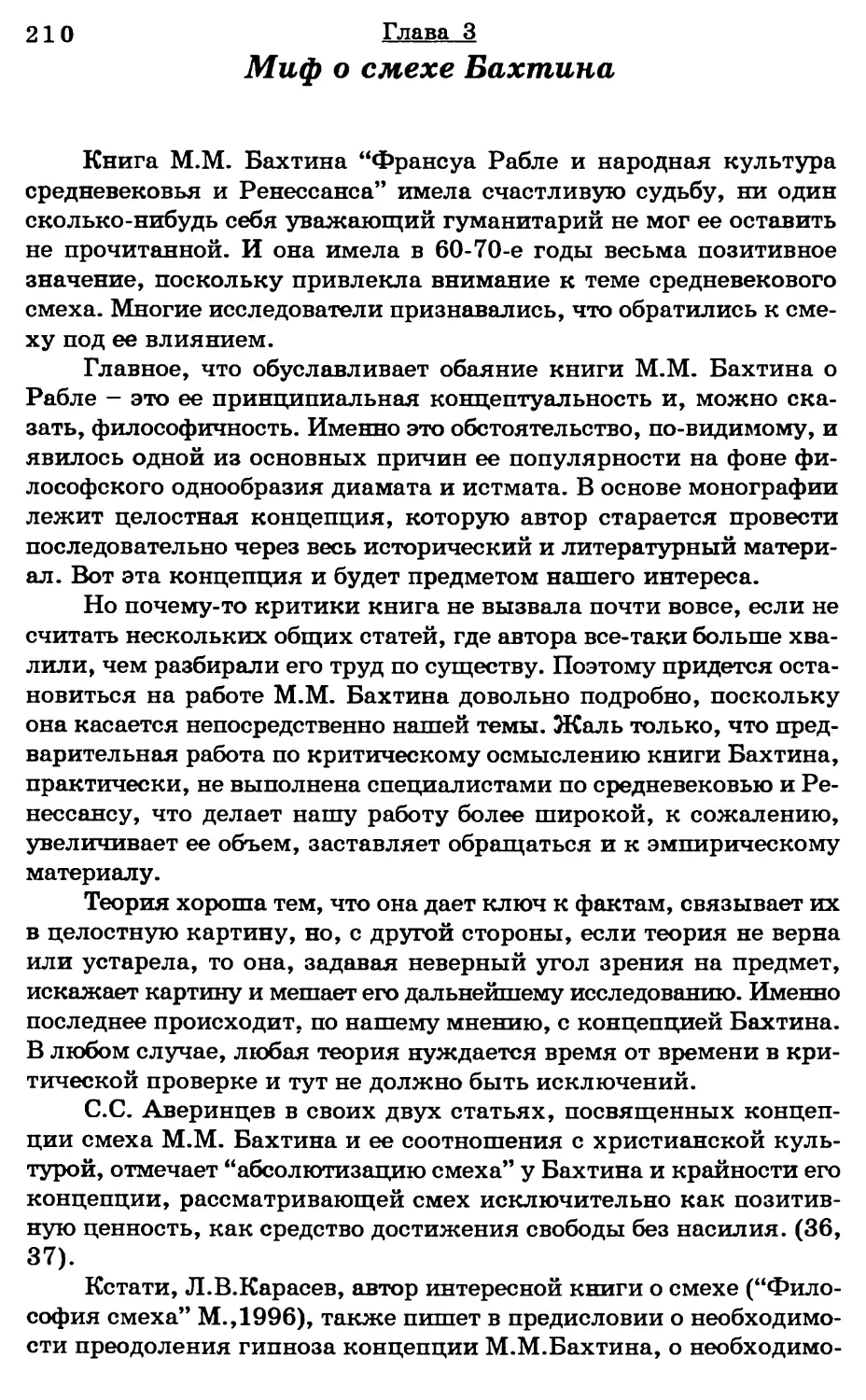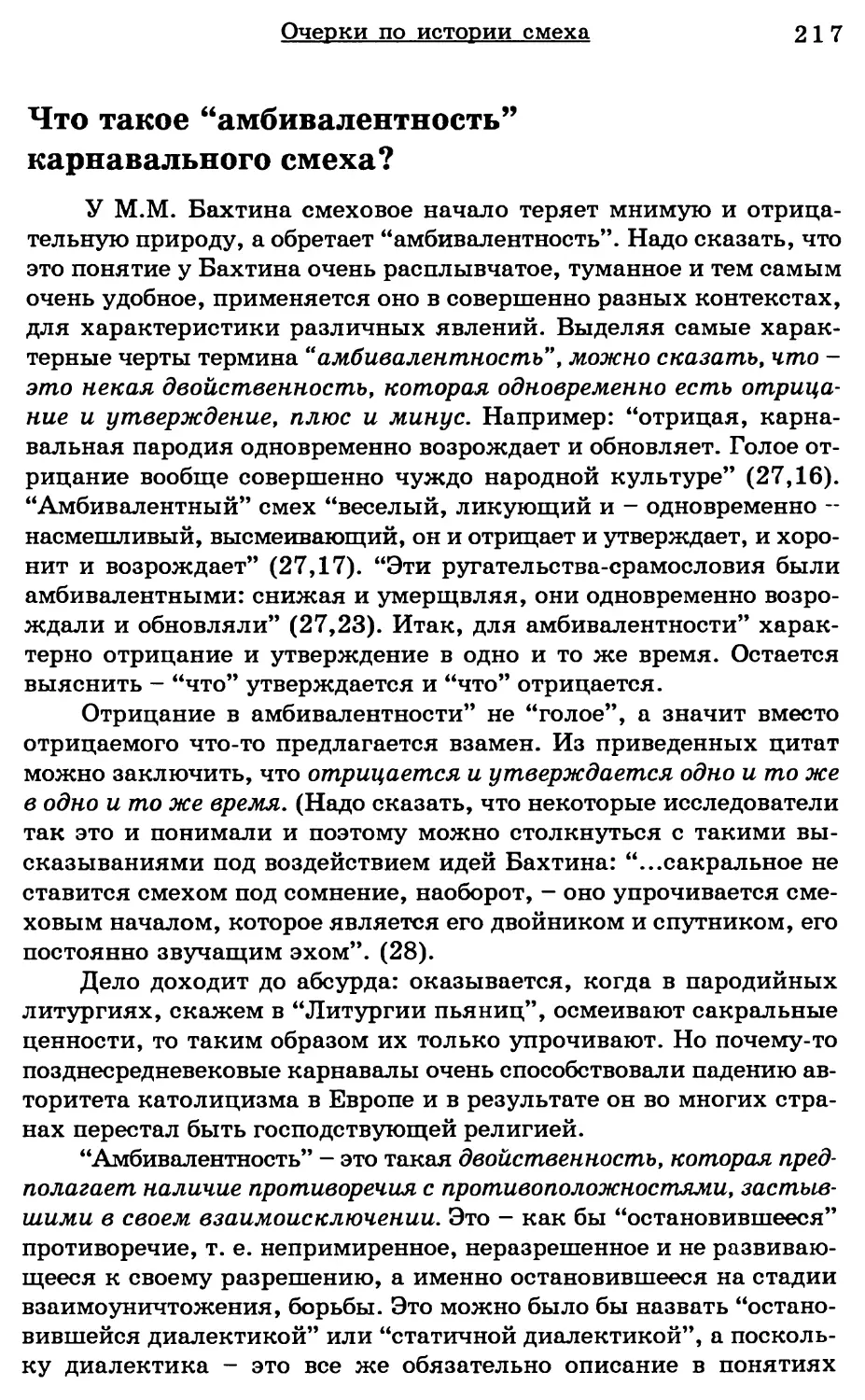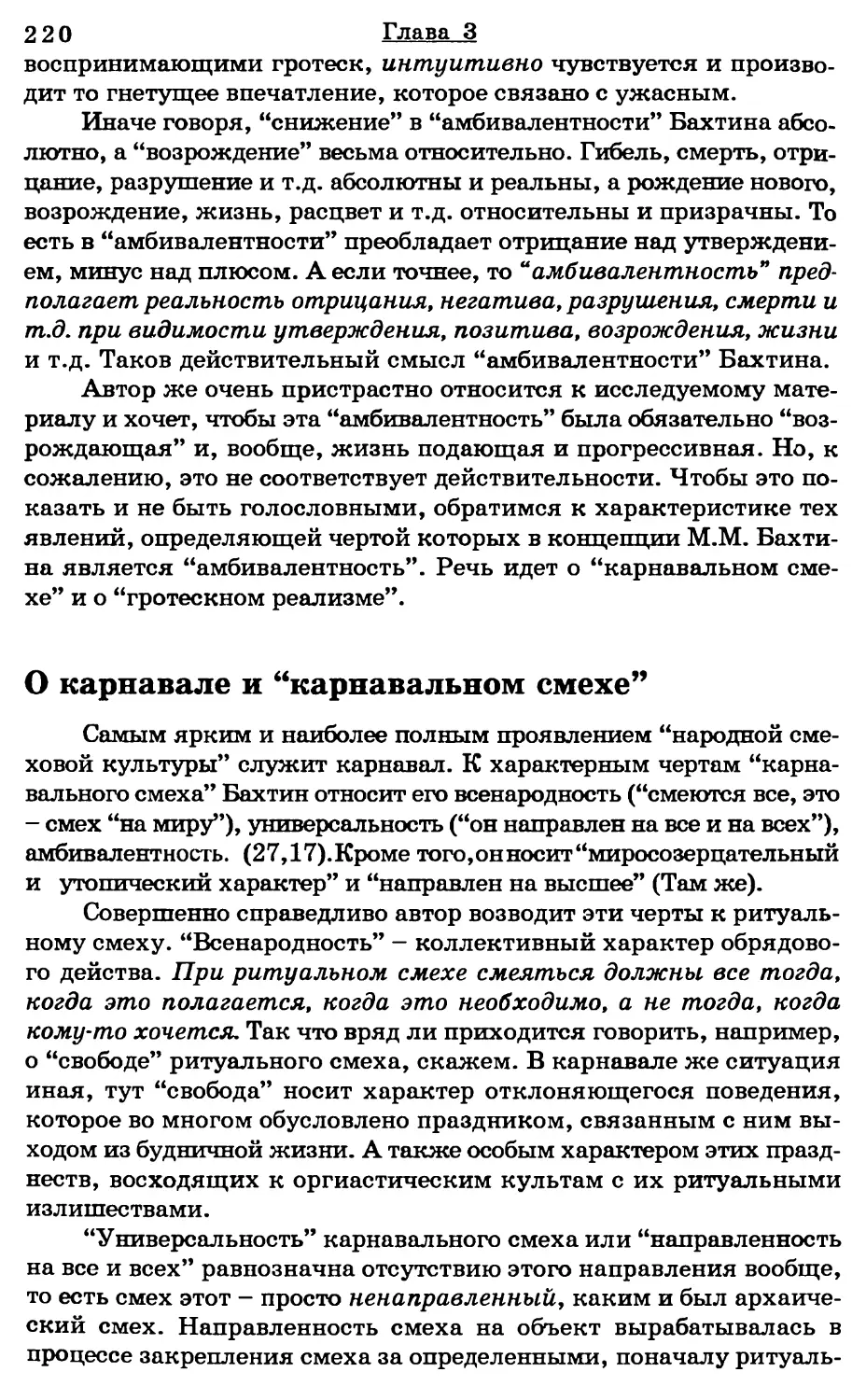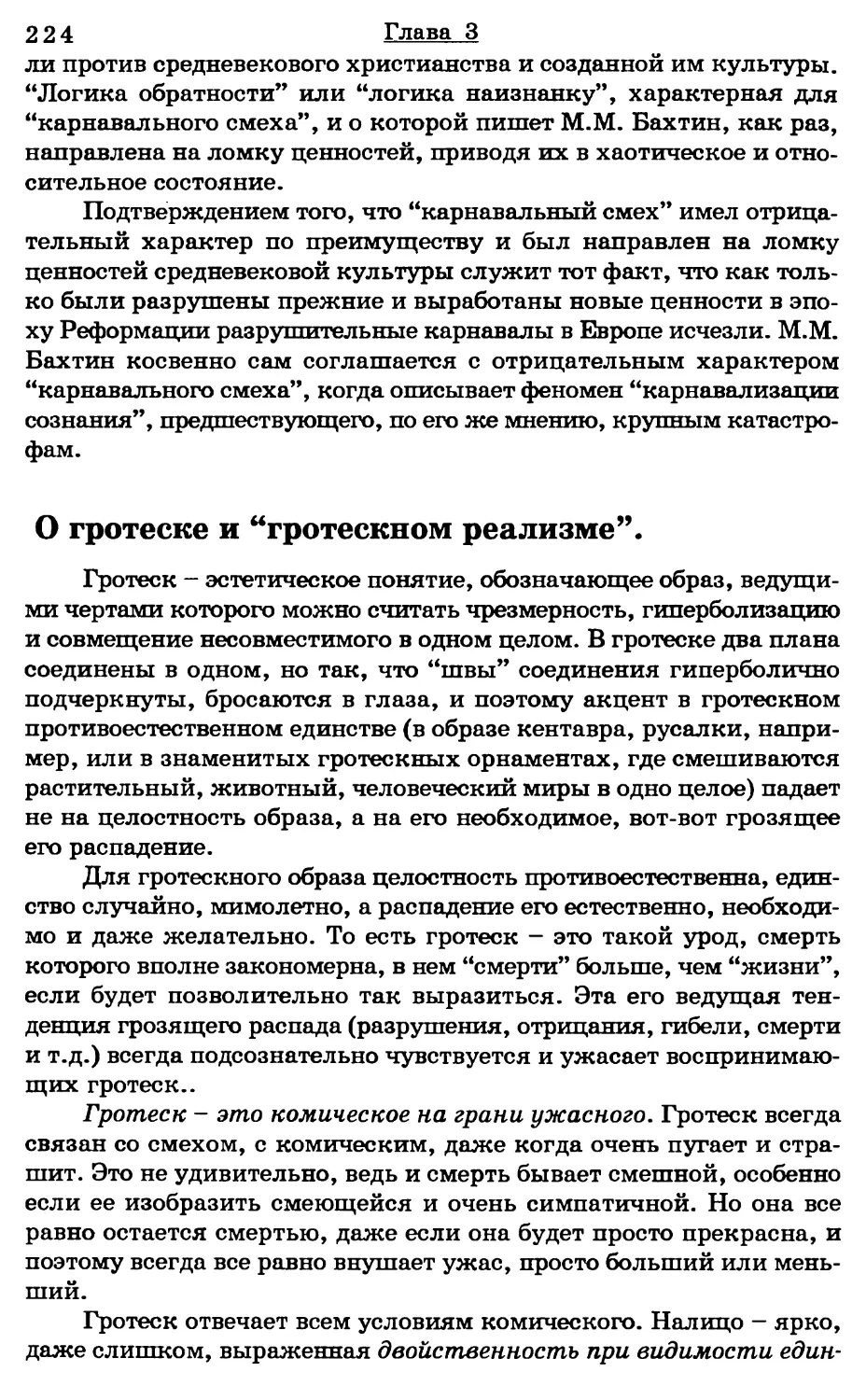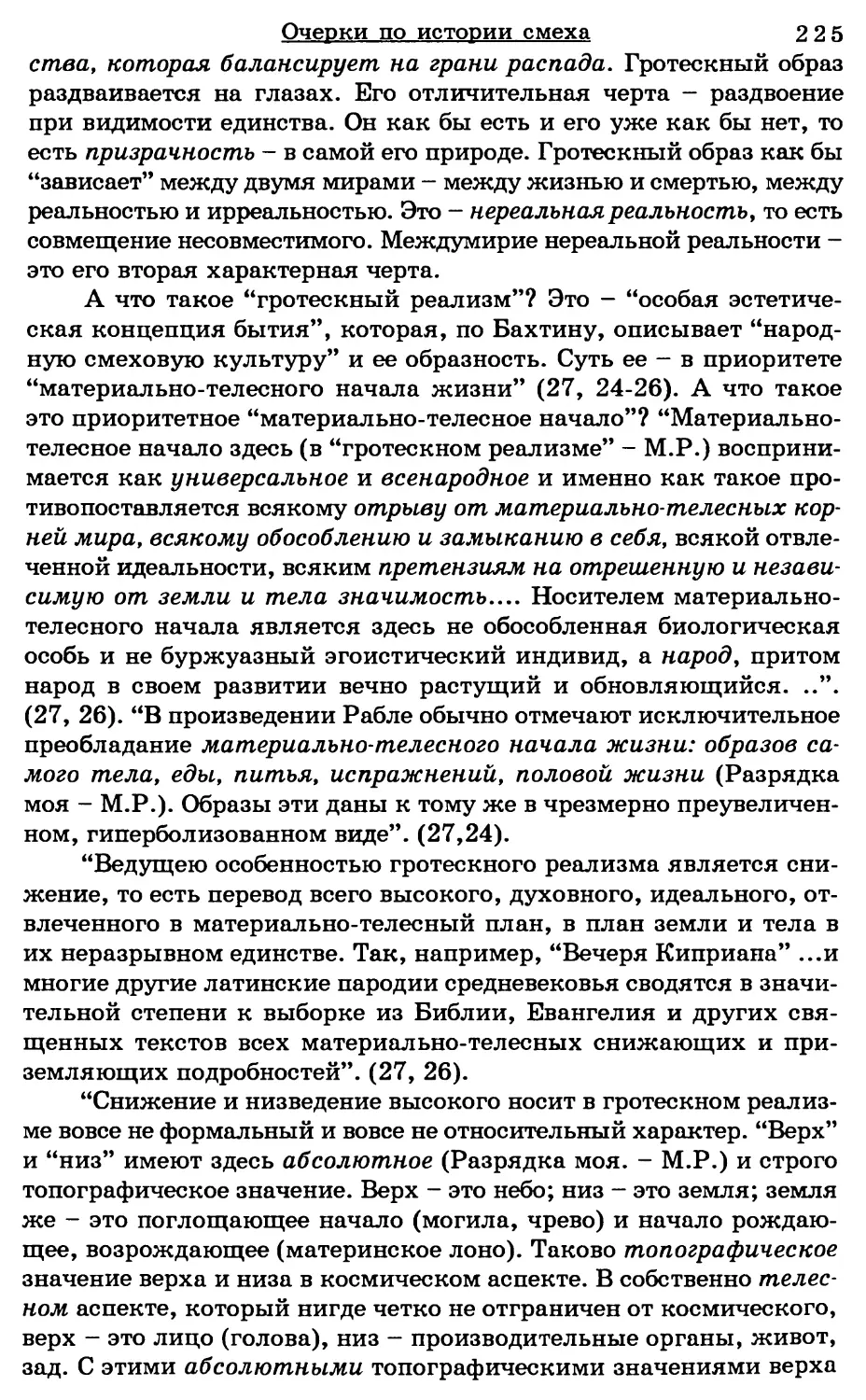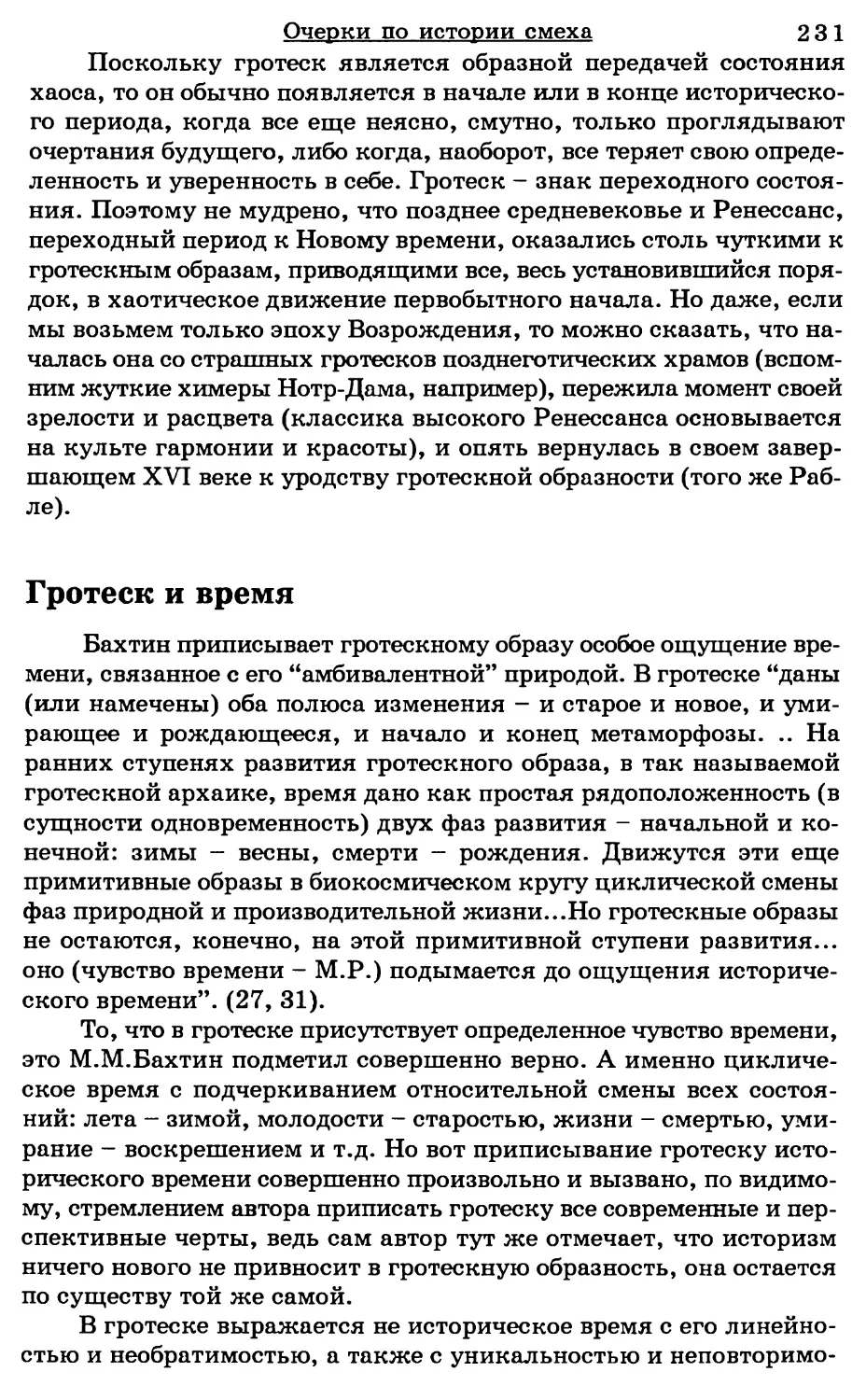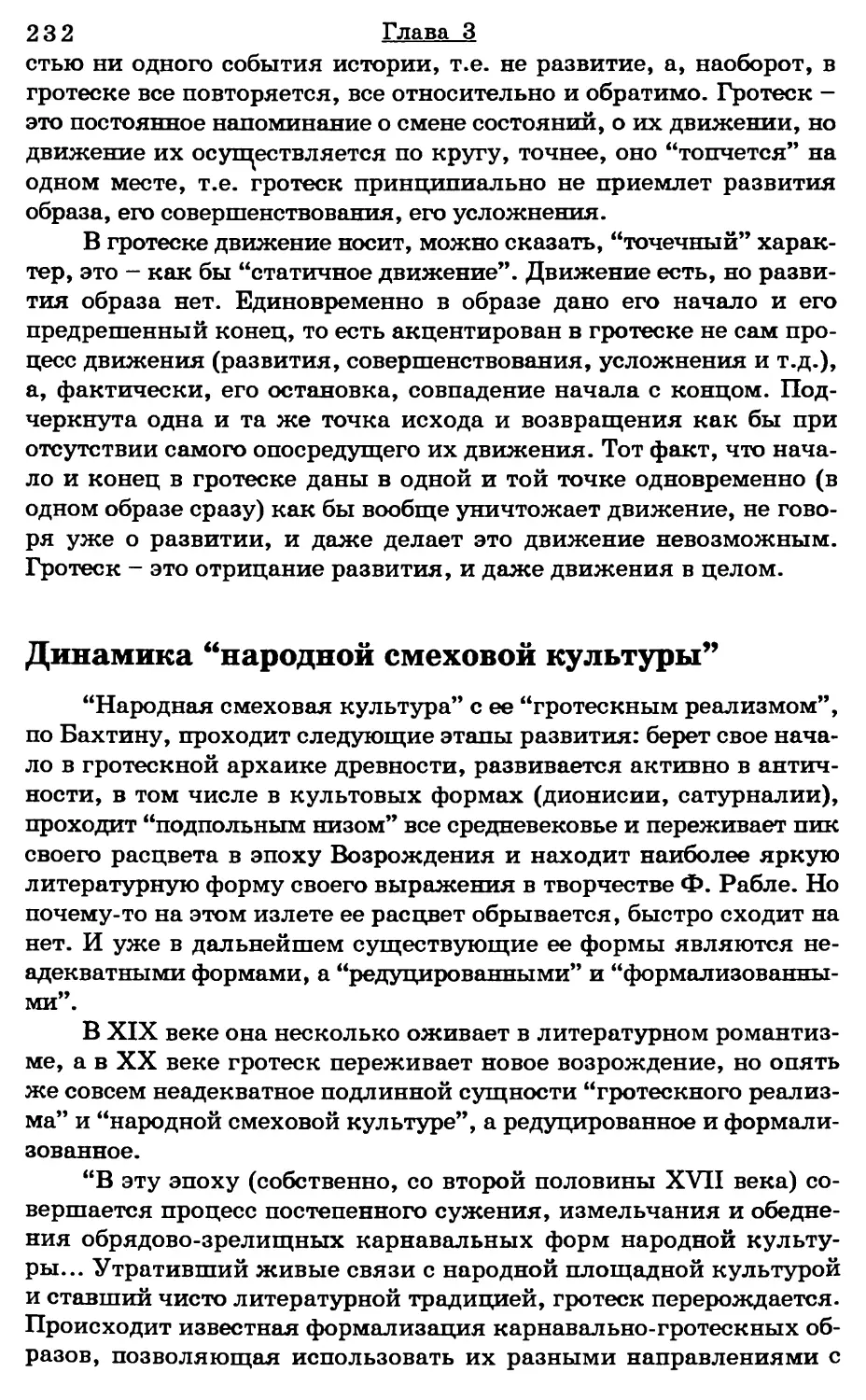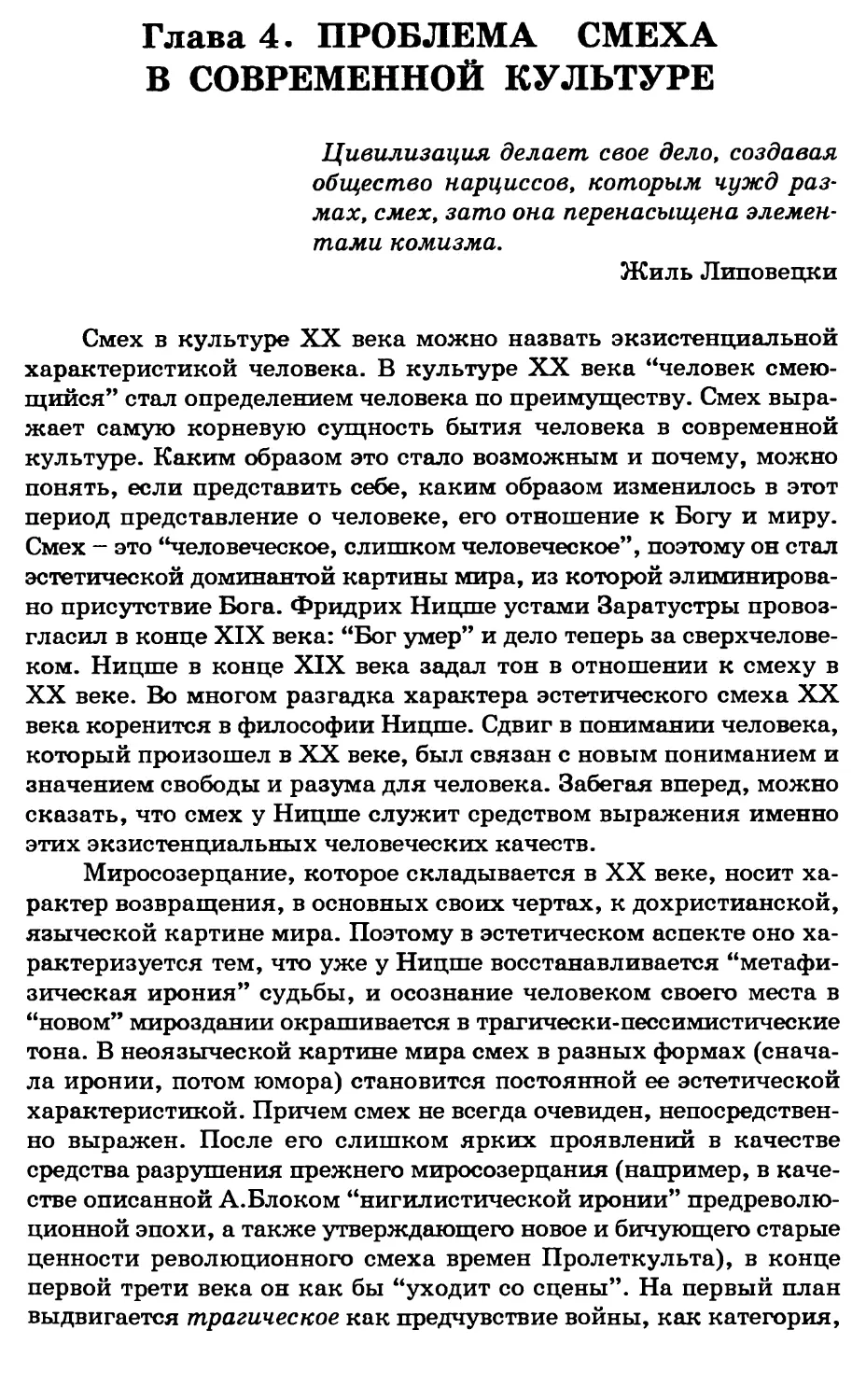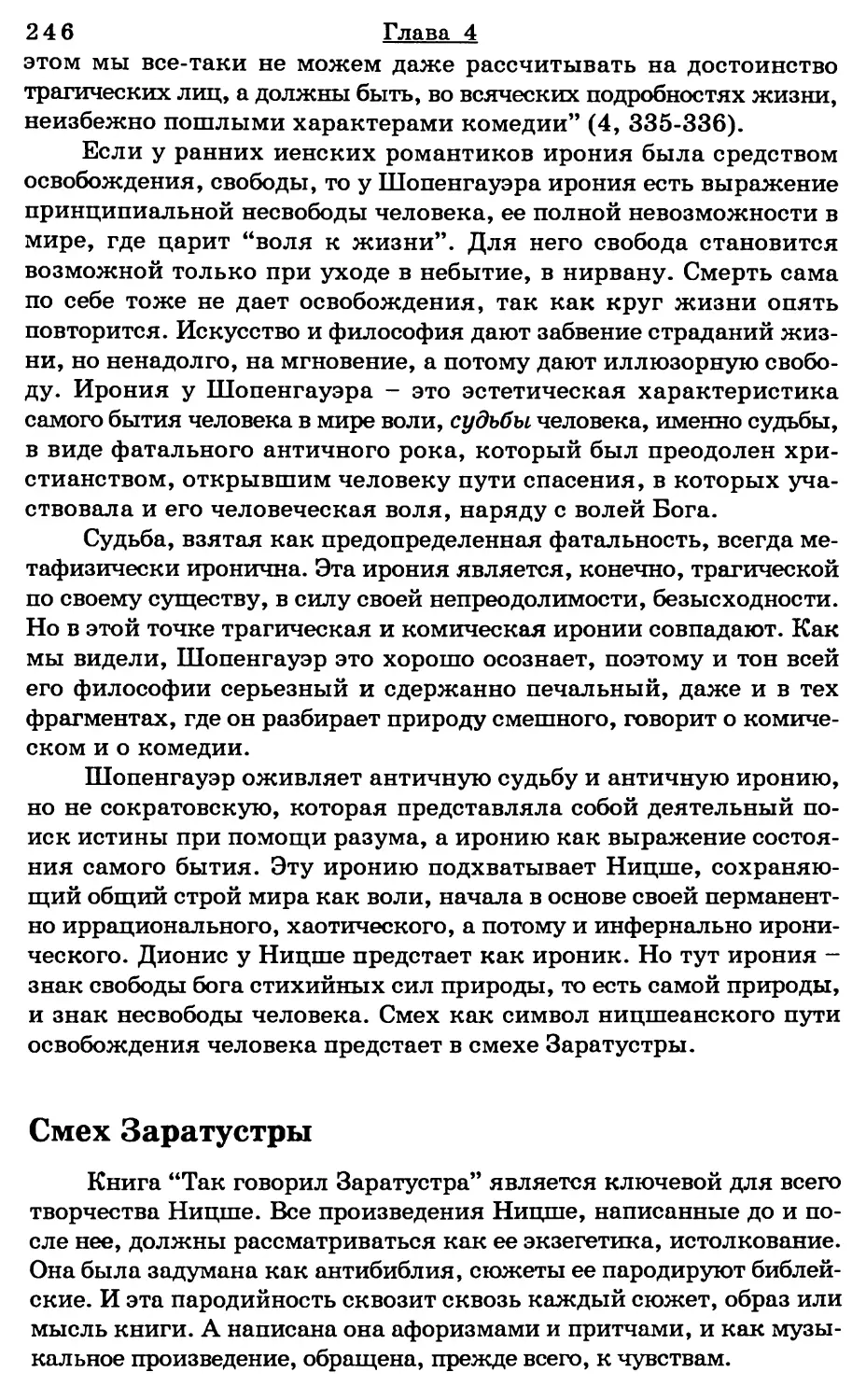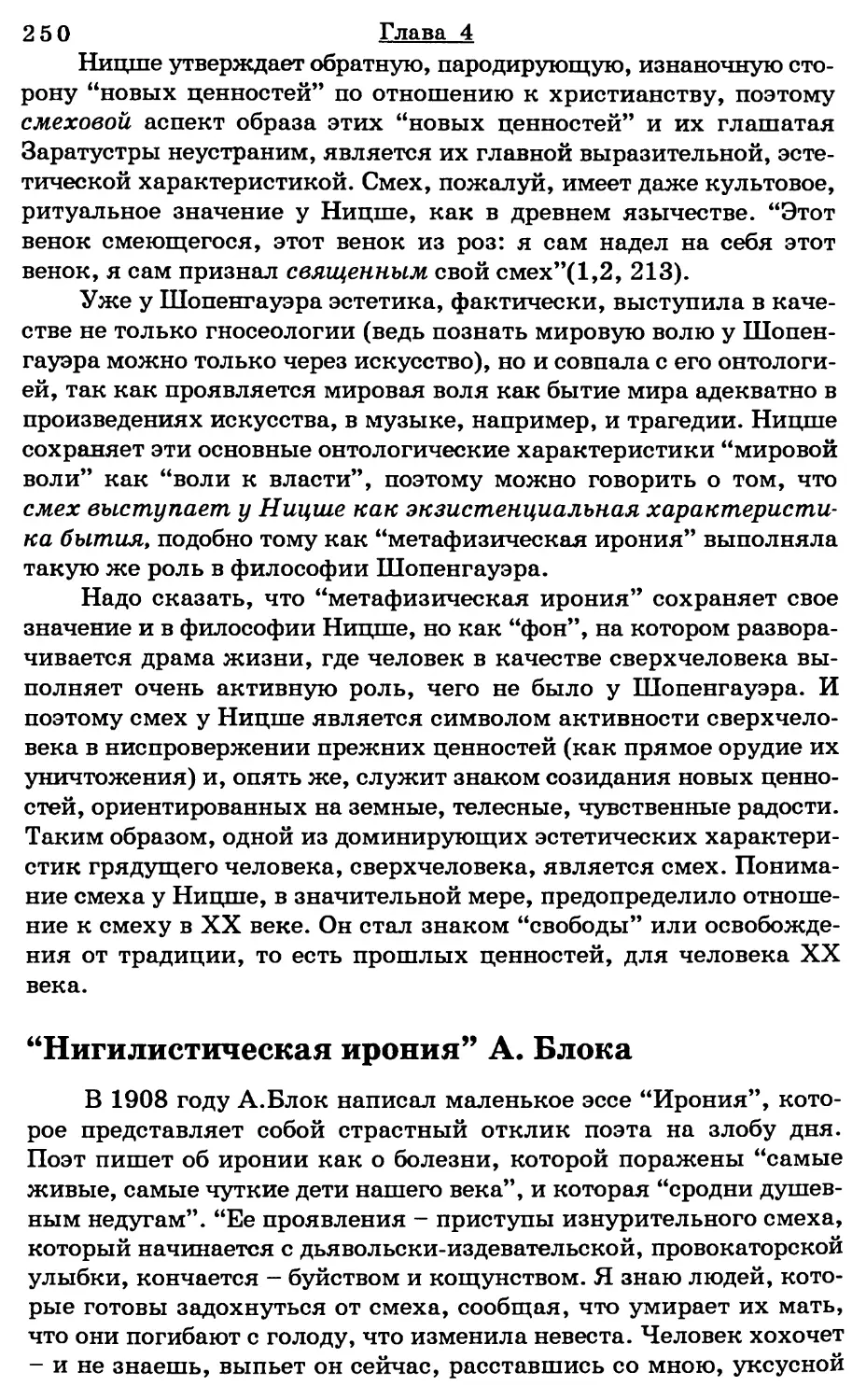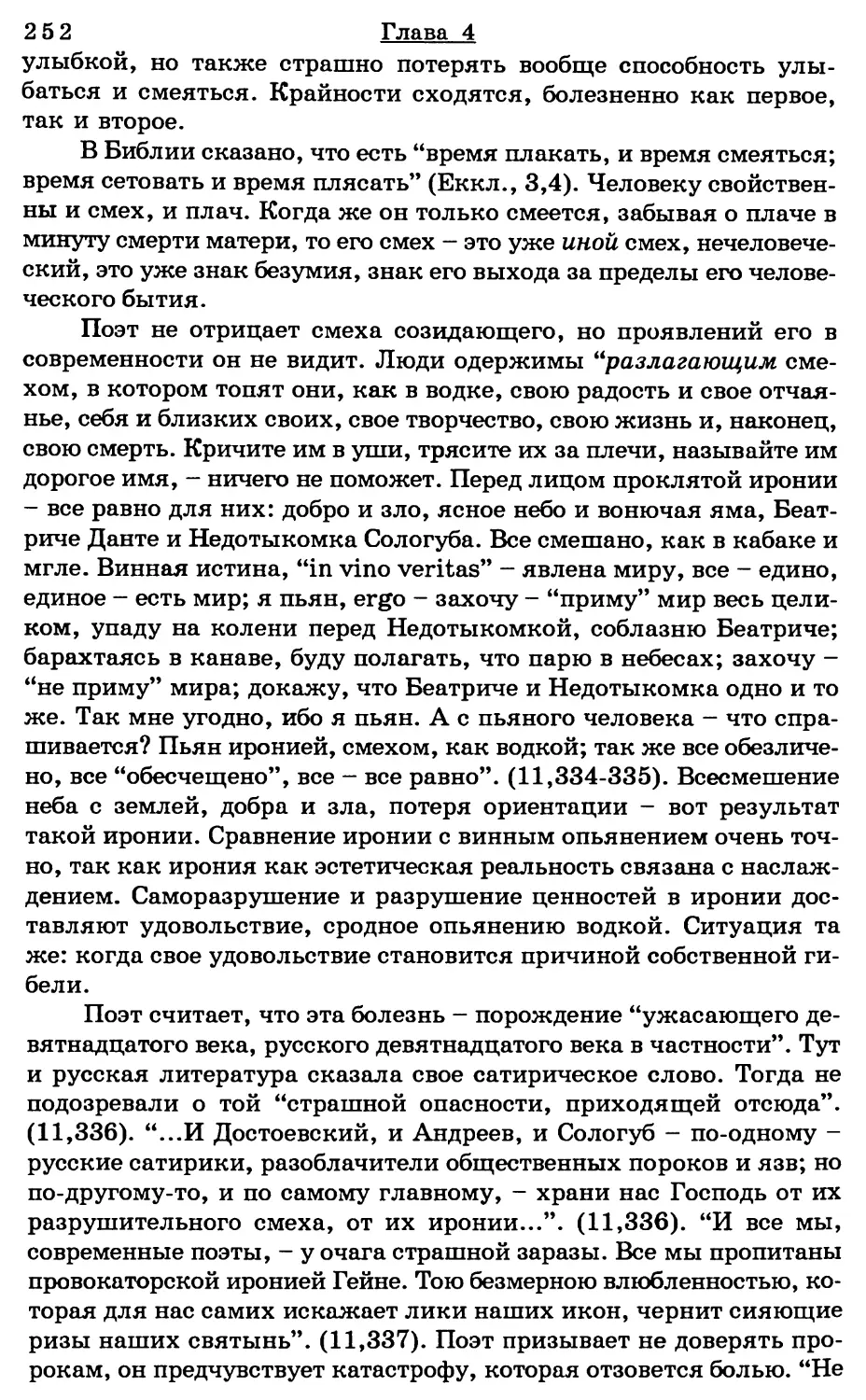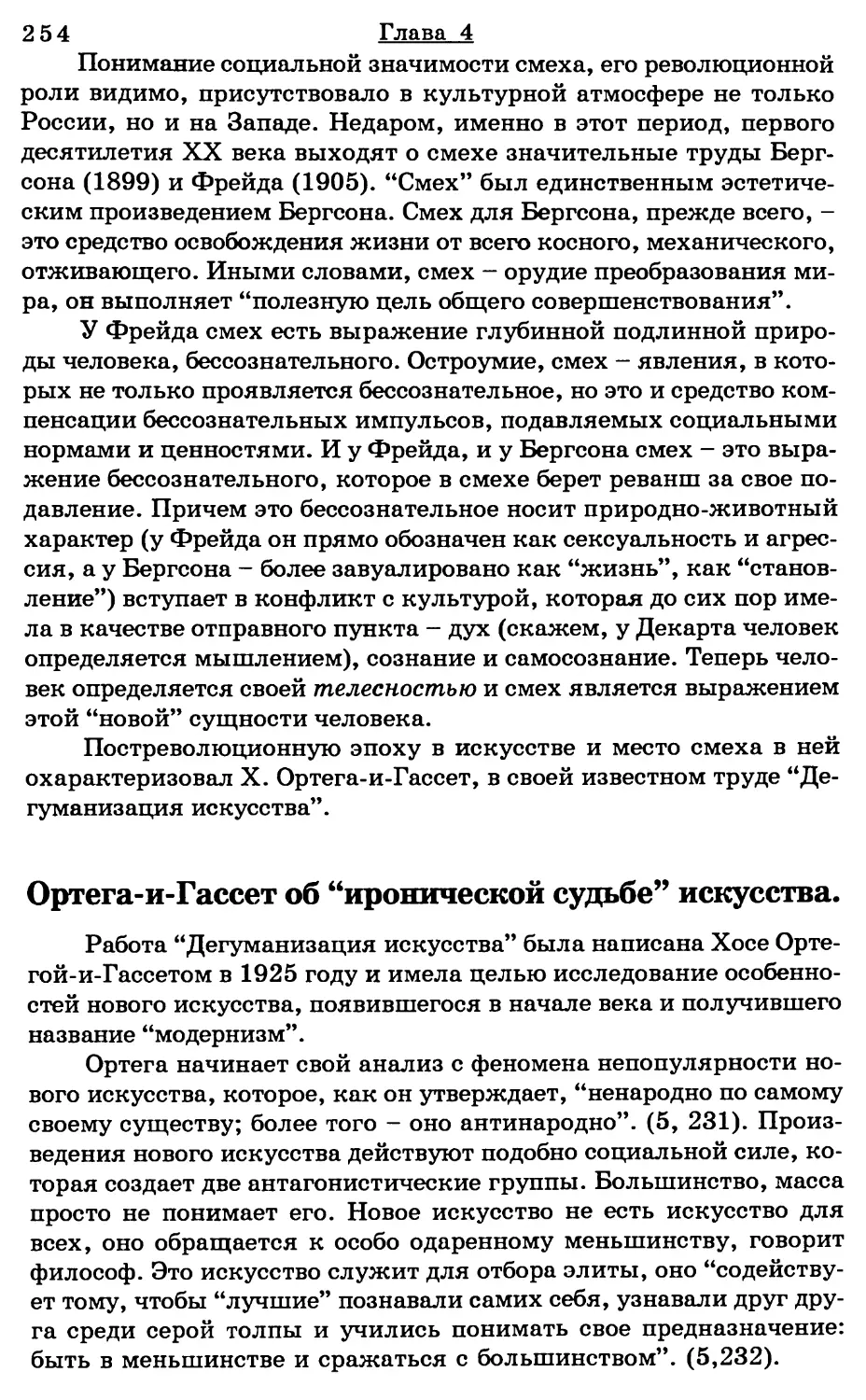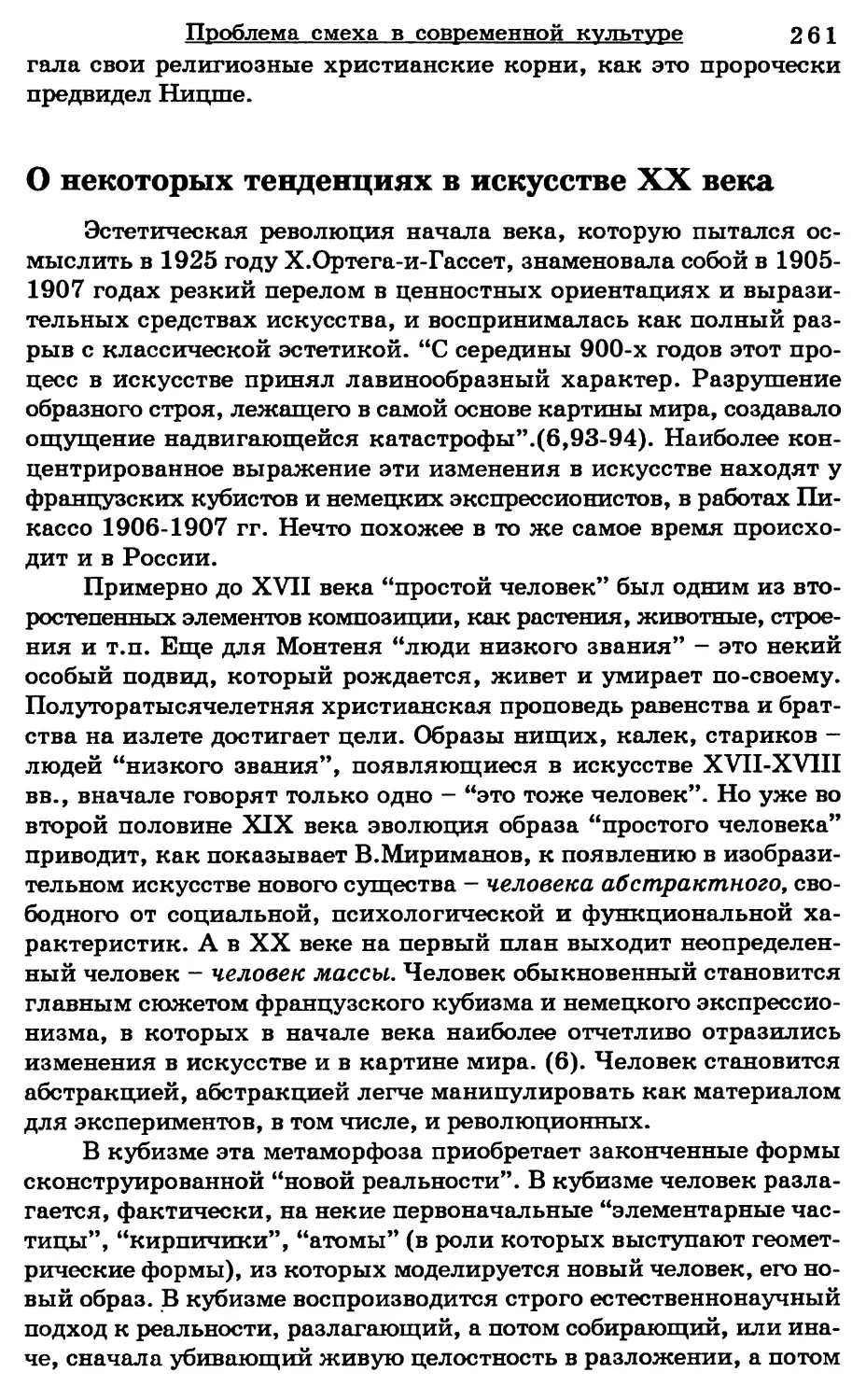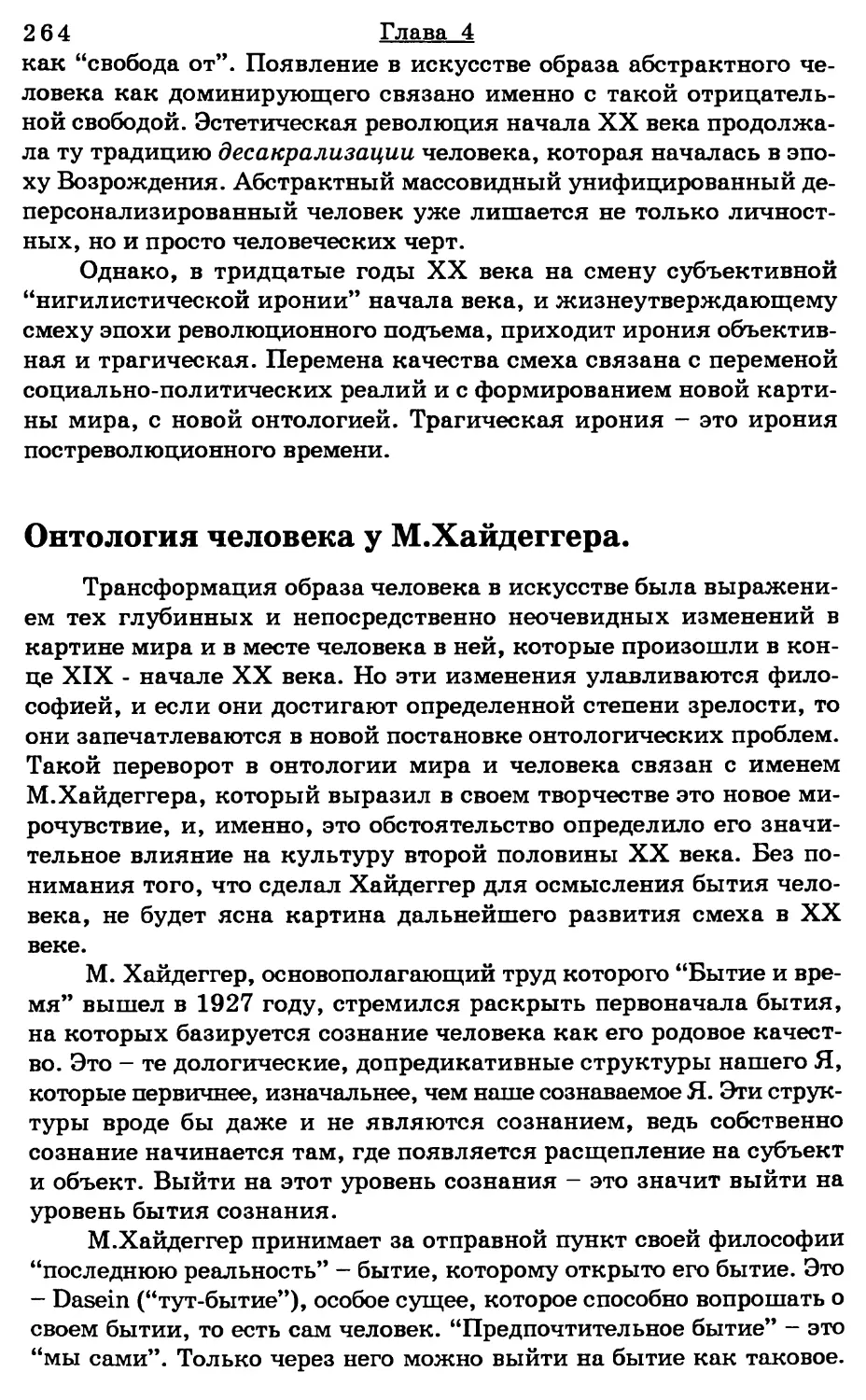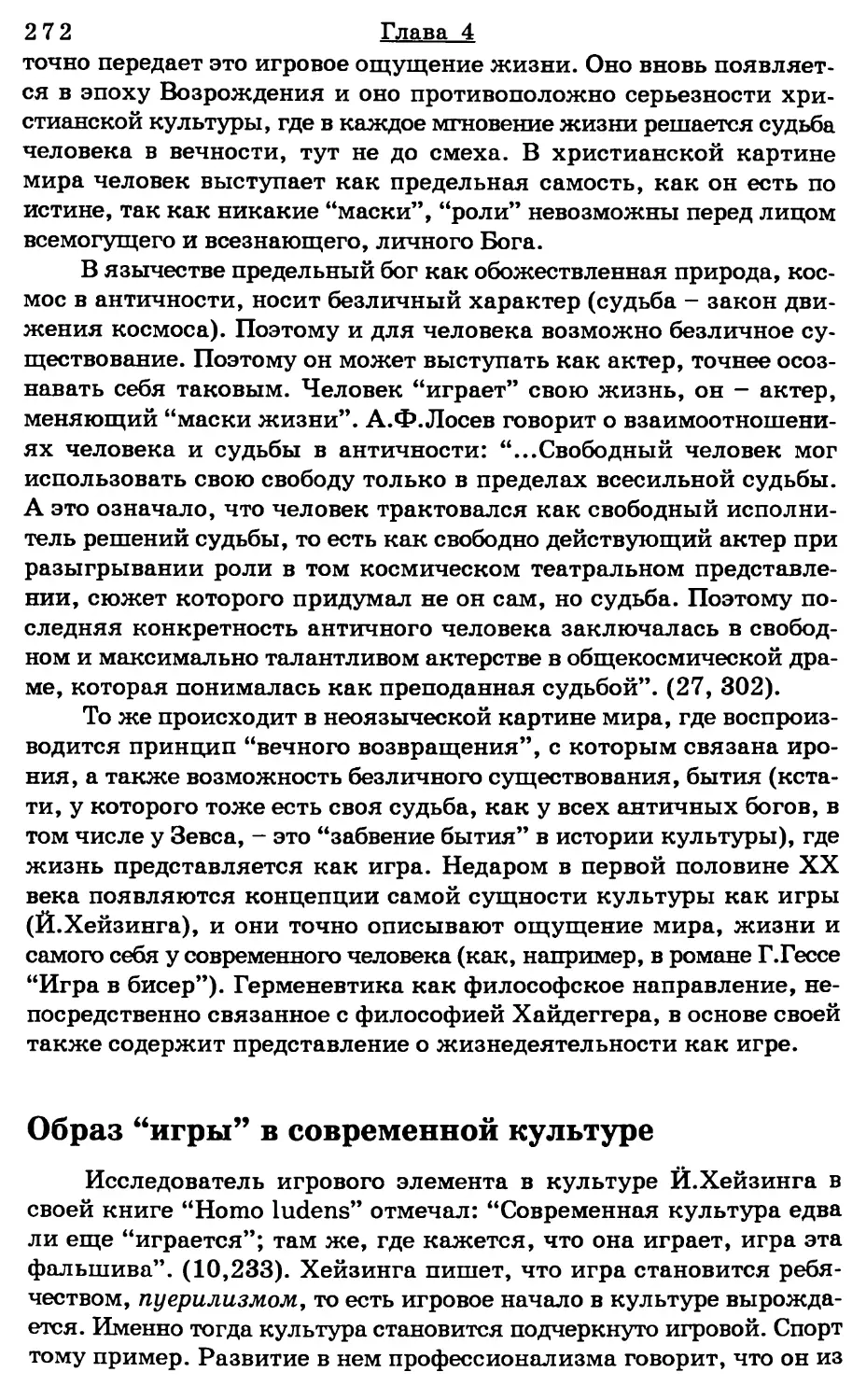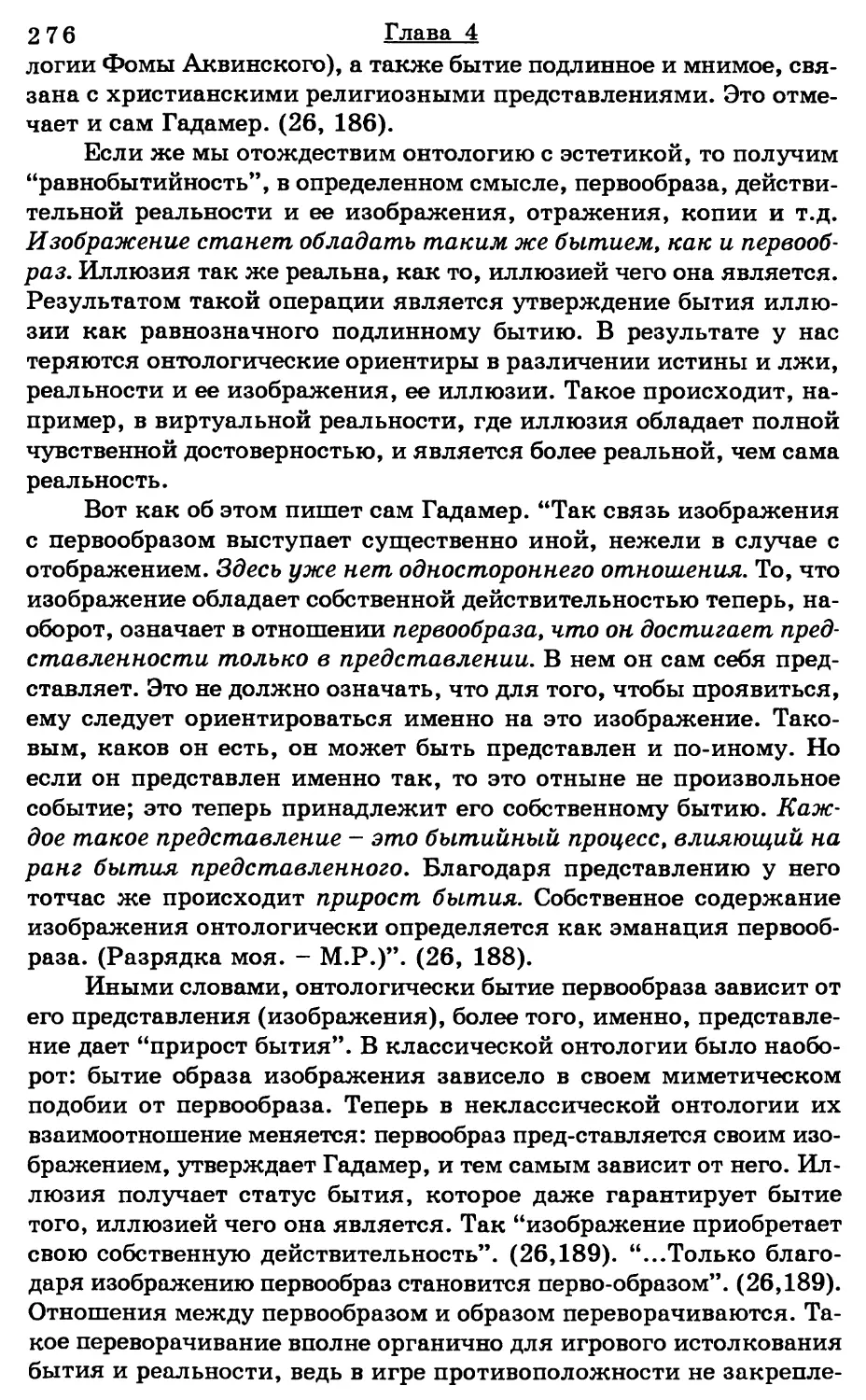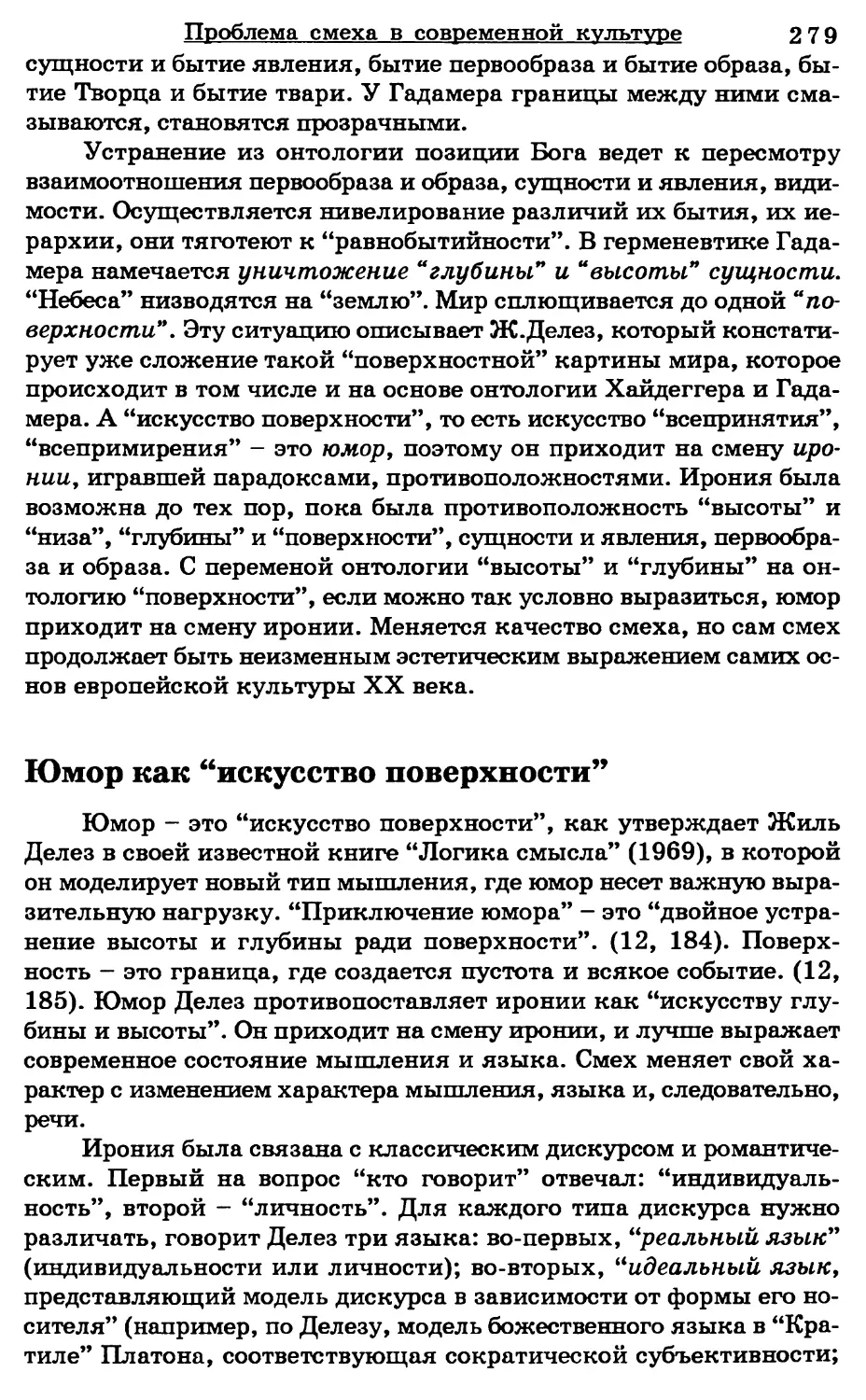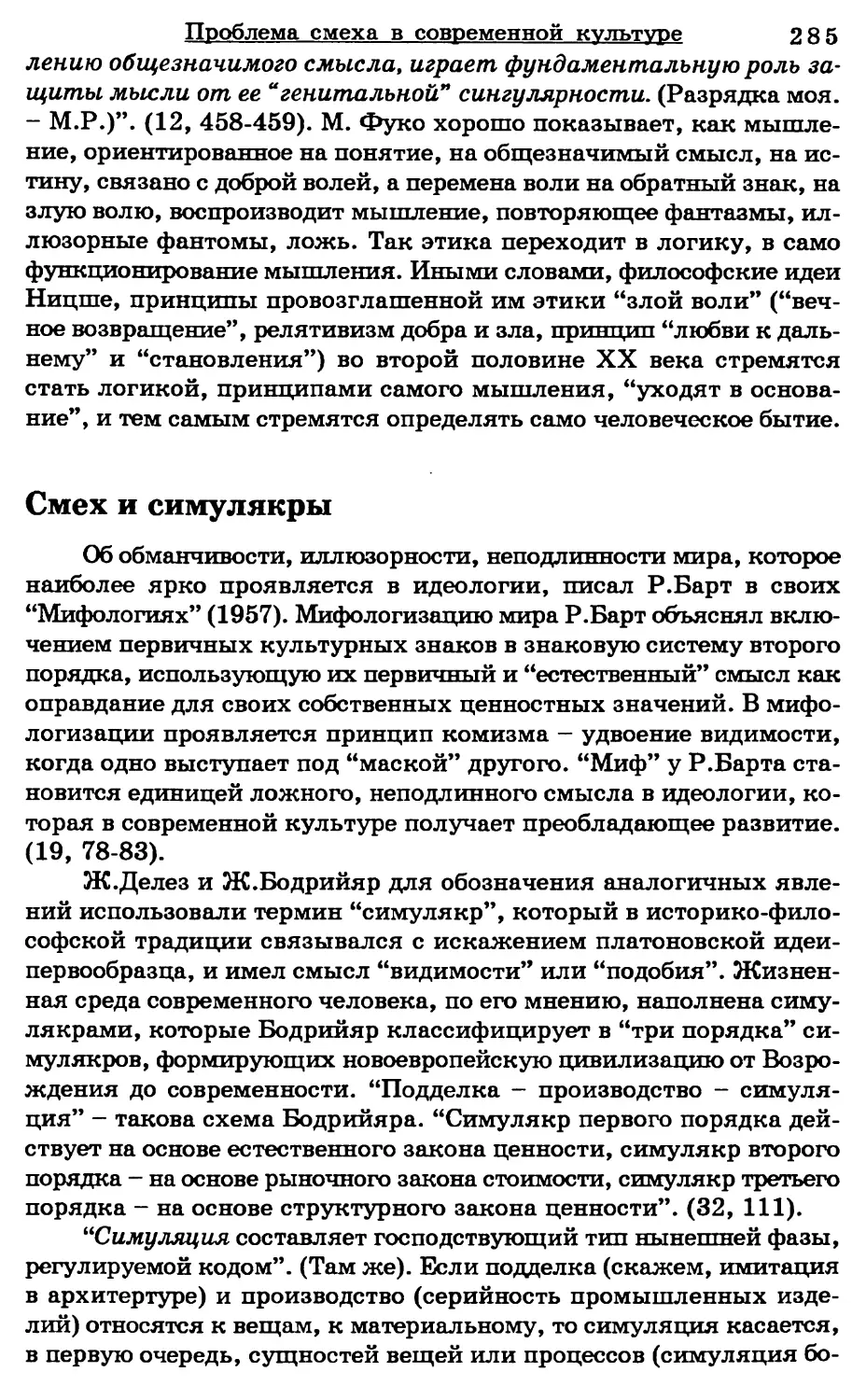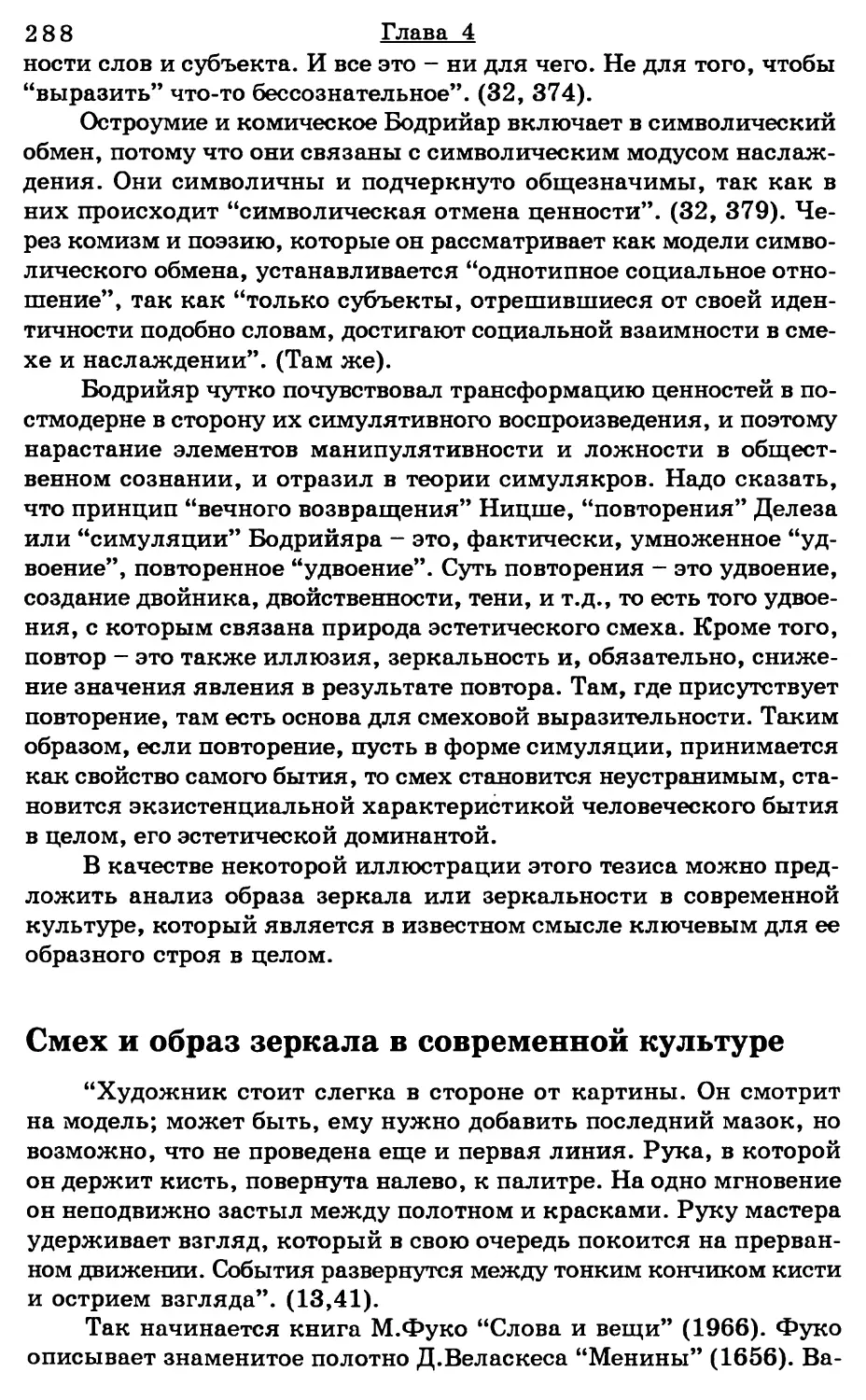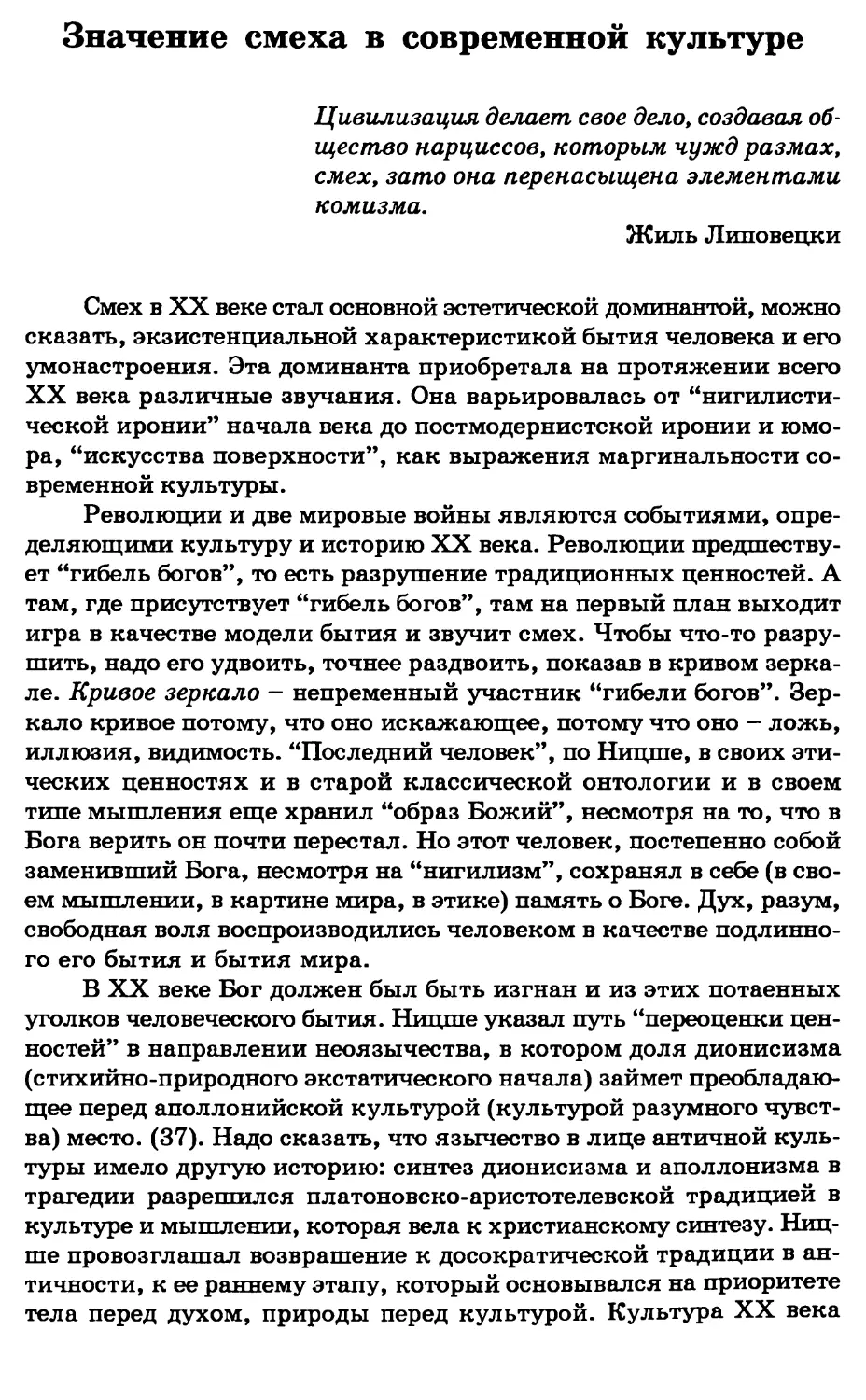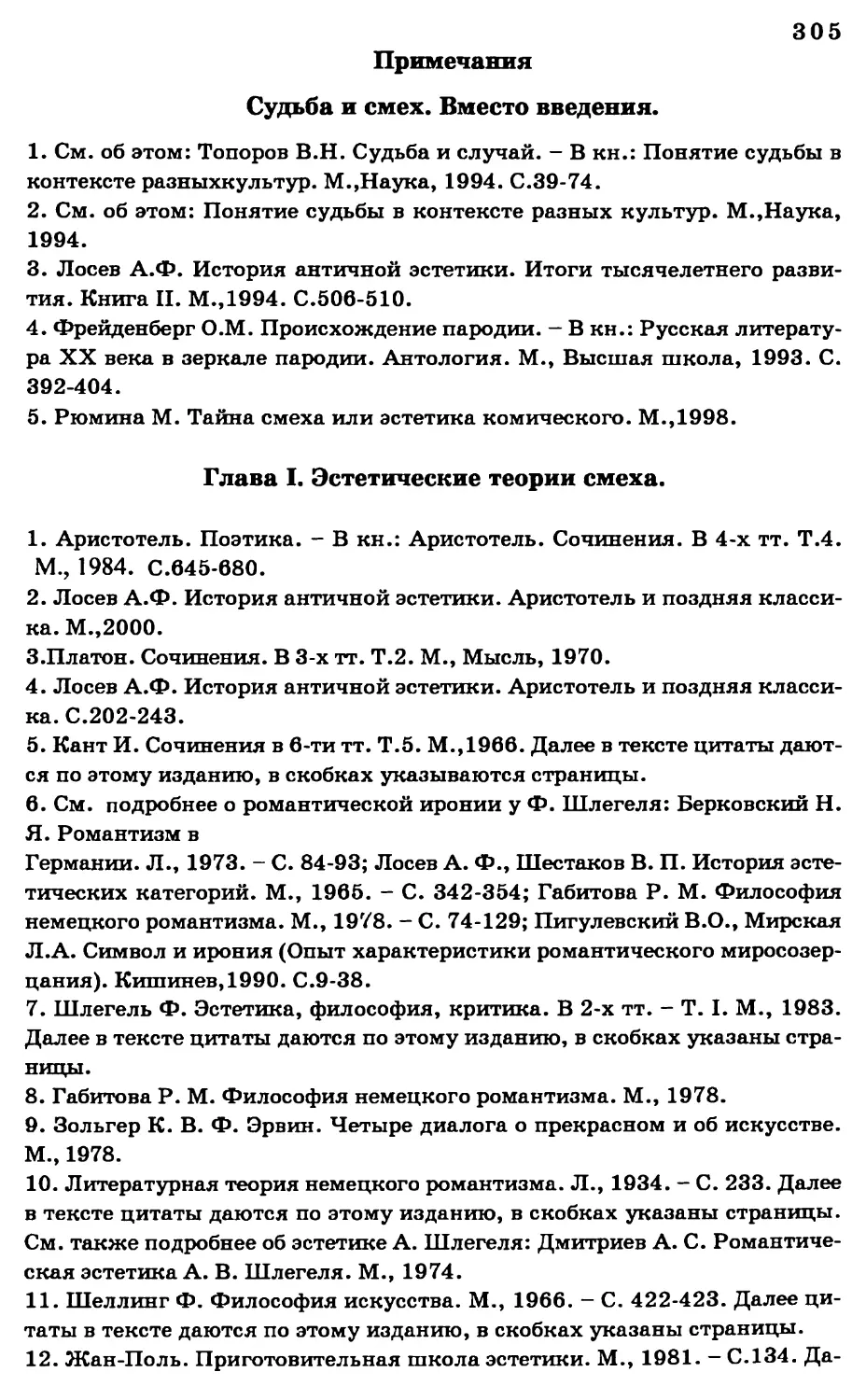Автор: Рюмина М.Т.
Теги: культура культурное строительство философия психология
ISBN: 978-5-397-01130-3
Год: 2010
Текст
M. T. Рюмина
ЭСТЕТИКА СМЕХА
Смех как виртуальная
реальность
Издание третье
URSS
МОСКВА
ББК 71 87.3 87.8 88
Рюмина Марина Тулеухановна
Эстетика смеха: Смех как виртуальная реальность. Изд. 3-е.
М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. — 320 с.
Книга посвящена философско-эстетическому исследованию смеха как явления
культуры. В ней рассматривается самый широкий круг проблем, связанных со смехом
и комическим. В работе анализируются самые значительные теории смеха в истории
философии (Аристотеля, Г.В.Ф.Гегеля, А.Шопенгауэра, А.Бергсона, З.Фрейда и
др.). В оригинальной авторской концепции смех определяется как феномен,
построенный на «игре иллюзий» и тем самым непосредственно связанный с виртуальной
реальностью.
В книге также представлены очерки по истории смеха (о ритуальном смехе, о
возникновении комедии и трагедии, о средневековом смехе и т. д.). Специально
рассматривается значение проблемы смеха в современной социокультурной ситуации.
Книга адресована не только философам, филологам, историкам, психологам,
культурологам, искусствоведам, но и широкому кругу читателей.
Рецензенты:
д-р филос. наук, проф. В. И. Самохвалова;
д-р филос. наук, проф. Д. А. Силичев
При оформлении обложки использовались произведения:
Генрих Фогггерр Младший «Шут в колпаке»;
Иероним Босх «Корабль дураков»
Издательство «Книжный дом "ЛИБРОКОМ"».
117312, Москва, пр-т Шестидесятилетия Октября, 9.
Формат 60x90/16. Печ. л. 20. Зак. № 2888.
Отпечатано в ООО «ЛЕНАНД».
117312, Москва, пр-т Шестидесятилетия Октября, ПА, стр. 11.
ISBN 978-5-397-01130-3
) M. T. Рюмина, 2003,2009
) Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009
НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
E-mail: URSS@URSS.ru
Каталог изданий в Интернете:
http://URSS.ru
Тел./факс: 7 (499) 135-^2-16
URSS Тел./факс: 7 (499) 135~42-46
7850 ID 107099
Все права защищены. Никакая часть настоящей книги не может быть воспроизведена или передана в
какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические,
включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, а также размещение в Интернете, если на то
нет письменного разрешения владельцев.
Вместо введения
Всем тем, кто еще хочет говорить о
человеке, о его царстве и его освобождении...
можно противопоставить лишь
философический смех, то есть, иначе говоря,
безмолвный смех.
Мишель Фуко
СМЕХ И СУДЬБА
Эта книга родилась из убеждения автора в том, что все
вопросы, относящиеся к земному и человеческому, имеют ответы, а
тайны - разгадки, и истина может быть познана. Это простое
старомодное утверждение о возможности существования и
познания истины совершенно необходимо, на наш взгляд, человеку,
занимающемуся научным исследованием, чтобы не утерять смысл
своей деятельности, интерес к ней. А иначе, есть много других
гораздо более интересных игр, чем "копание" в библиотеках,
архивах и чужих мыслях. Ответов на вопрос может быть много, в
каждом из них может содержаться доля истины в большей или
меньшей степени, но истина все-таки одна, хотя открывается
постепенно. И стремиться приблизиться к ней - это всегда
сверхзадача для исследователя.
Проблема смеха такова, что без этого убеждения в
возможности получения ответа на вопрос о сущности смеха, не стоит и
браться за нее. Только совсем неискушенный читатель не знает,
что история разработки проблемы смеха насчитывает, по
меньшей мере, две с половиной тысячи лет, если начинать ее с Платона
и Аристотеля. Ведь эстетический смех - комическое - одна из
четырех основных эстетических категорий, помимо прекрасного,
возвышенного и трагического, которые описывают эстетическую
реальность. И всевозможных идей, концепций и теорий о смехе, о
смешном и о комическом высказано достаточно, и есть ли смысл
умножать их число?
Все дело в том, как понимать историю осмысления смеха:
как набор случайных, разрозненных мнений о смехе и его
значении, пусть даже исторически обусловленных, или искать в этом
процессе логику и смысл как приближение к ответу на вопрос о
сути смеха. Если принять второе утверждение, то все становится
очень интересным и даже драматичным, наполняется смыслом,
потому что это уже "охота" за результатом, который есть не
просто "значение", безразличная точка во множестве, а значимая точка,
2 Вместо введения
которая может изменить судьбу. При ближайшем знакомстве с
проблемой смеха, как она была поставлена в истории культуры и
как развивалась, столь хорошо знакомое любому человеку,
обычное его качество — смех, предстает совершенно в новом, часто
приводящем в недоумение, неузнаваемом виде. При знакомстве с
историей и теорией смеха все стереотипы о нем рушатся,
поражает его нагруженность разными смыслами, особенно
философскими.
Древние обычаи опровергают наше представление о смехе и
о том, когда нужно смеяться, а когда - лучше плакать. Смех - это
эмоция радости и удовольствия, но почему-то в Древнем Риме
смеялись на похоронах? Почему на острове Сардиния в древности
убивали стариков и при этом смеялись? Зачем в якутских
древних ритуалах предписывалось женщине при родах смеяться, а
юродивым в Византии и в Древней Руси дозволялось смеяться
над самым святым, и при этом они почитались святыми? В силу
каких соображений, наконец, смерть в эпоху Возрождения
изображалась смеющейся? Смех - благо, а связан со злом и смертью.
Одни загадки и парадоксы. И они говорят о том, что смех и его
смыслы в культуре менялись со временем, даже на прямо
противоположные. По-видимому, это связано с тем, что смех
парадоксален по своей природе.
Смех есть не только субъективная реакция на внешние
раздражители, но смех в широком смысле слова - эстетический смех,
то есть комическое - включает в себя и объект смеха. Смешное -
это объект смеха, то, над чем человек смеется. "Смех" же в узком
значении этого слова, это и есть, собственно, субъективная реакция
на смешное. Кроме того, смех можно рассматривать в трех
аспектах: как проявление физиологии человека, проявление его
психической жизни и как феномен культуры. В первом случае речь
идет о тех физиологических процессах в организме человека,
которые позволяют ему осуществлять колебательные
дыхательно-выдыхательные смеховые движения. Тут имеется в виду как бы
основание, материальный субстрат, который делает смех возможным.
Смех в качестве явления психики человека выступает как
эмоция, выражающая радость и полноту жизни здорового и
комфортно ощущающего себя тела. Эта эмоция несет на себе
функцию разрядки, сброса переполняющих человека сил. Смех - это
всегда трата энергии. Первый и второй моменты тесно
взаимосвязаны, они образуют комплекс, который можно назвать
психофизиологическим смехом. Он есть также естественный,
природный или радостный смех, так как в своем первозданном
природном состоянии смех является, конечно, положительной эмоцией
радости (удовольствия, удовлетворения, торжества, блаженного со-
Смех и судьба 3
стояния, довольства, комфорта и т.д.). Речь у нас идет, прежде
всего, об эстетическом смехе, о комическом, о смехе как явлении
культуры. И именно его природа парадоксальна.
Парадокс образуется там, где противоположности меняются
своими местами. Например, жизнь оборачивается смертью в
средневековом дьявольском смехе, который из прежнего языческого
"смеха-жизнедателя" становится "смехом-душегубом". Смех
меняет знак с плюса на минус, но природа-то его остается в основе
своей неизменной, так как смыслы его лежат "между"
противоположностями. Потому что, сразу скажем, пограничностъ, марги-
налъностъ, "пороговостъ", обращаемость, двусторонностъ,
двусмысленность, двойственность и есть то, что составляет его суть.
А крайние концы этого "между" - противоположности, они
могут меняться без перемены сути.
Эта двойственность, обращаемость смеха связана, по мнению
автора, с самой сущностью эстетического смеха потому, что он в
основе своей определяется некоей инвариантной структурой,
сохраняющей свое значение и в исторически изменчивых формах
смеха. Таким структурным ядром комического является
выделенный автором принцип "удвоение видимости и ее
разрушение", где "удвоение" служит причиной уничтожения видимости.
Этот сущностный принцип связан с видимостью и ее
проявлениями: иллюзиями, обманом, самообманом, ложью,
виртуальностью, симулякрами, то есть лжеподобиями и т.д. И проявляется
как пародийность, как "раздвоение-удвоение", как двойничество,
двусмысленность, как появление двойника, повторение, ведущее к
снижению, тиражирование и т.п.
Благодаря феномену "удвоенной видимости", "удвоенной
иллюзии" в комическом происходит воссоздание на основе одной
видимости другой (на одну ложь накладывается другая), и это
умножение приводит к их мгновенному обрушению. Можно сказать,
что в смехе обнаруживается такая "игра иллюзий", которая
уничтожает эти иллюзии. Постмодернистская "машинность", к
примеру, как механическое многократное повторение, скажем, события и
желания, наиболее ярко эстетически проявляется именно в смехе,
в иронии, так как основы явлений "машинности" и смеха в
определенной мере совпадают.
Этот феномен особого рода иллюзорности, виртуальности
передается в языке такими метафорическими образами, как
"построить дом на песке", или как словосочетание - "развалиться
как карточный домик", или еще: как "мыльный пузырь",
который обязательно должен лопнуть. В основе этих образов лежит
представление о том, что некоторого рода творения легко
возникают и обречены на гибель в силу самой своей природы, так как
4 Вместо введения
они построены "из ничего", "на песке", имеют "призрачную",
"карточную", "мыльную" природу. Эстетический смех имеет тоже
иллюзорное, виртуальное основание - "видимость" и "игру с ней".
Этот же принцип заложен и в эффекте зеркальности с его
иллюзорным сотворением "двойника" или в виртуальной реальности,
онтологическое основание которой является неопределенным, так
как она как бы возникает "из ничего" и разрешается "в ничто".
Но, несмотря на свою "призрачную" игровую природу, и
виртуальность, и смех оказывают значительное воздействие на
окружающий мир, преобразуют его, так как они изменяют сознание
человека.
Часто смех справедливо сравнивали с древнегреческим
божком Протеем, который мог принимать любые обличил и так
растворяться в мире, что его было не найти. Сравнивали его и с
древнеримским богом дверей - двуликим Янусом, два лица
которого смотрят в разные стороны. Оба являются очень точными
сравнениями, ведь пространство смеха, практически, совпадает со
всем человеческим пространством, и поэтому его проявления так
многоразличны, что неуловимы. А двуликий Янус — это бог
"порога", где сходятся два пространства, и то ли различаются, то ли
совпадают, в общем, переходят друг в друга.
По своей неуловимости и двойственности смех может
сравниться только с судьбой. Сравнение неожиданное и странное. Но
именно оно, как представляется автору при длительном занятии
проблемой смеха, позволяет приоткрыть завесу над тайной смеха
и его значения для человека в его прошлом и настоящем, что
важно для понимания людей и их судеб. Сравнение смеха с
судьбой позволит наилучшим образом, как полагает автор, ввести
читателя в проблемное поле смеха и комического, дать краткий
предварительный обзор вопросов, которые обсуждаются в книге.
При первом взгляде, в смехе и судьбе больше различного,
чем сходного. Судьба - необходимость, незримый закон бытия,
предопределенность, а смех, вроде бы, всегда свободен, случаен,
импульсивен, неожиданен. Но, с одной стороны, и судьба не чужда
случая, случай часто и реализует осуществление необходимости
судьбы (1), а, с другой стороны, судьба бывает разная: имеются в
виду интерпретации судьбы в контекстах различных времен и
культур (2).
Казалось бы, нет ничего проще и естественнее, чем прожитая
жизнь или прозвучавший смех, но эти совершившиеся события
при ближайшем рассмотрении и вдумчивом отношении
оказываются весьма сложными и не всегда понимаемыми. И как
человек всегда стремится понять свою судьбу, одновременно
проживая ее, так и смех бессознательно прозвучавший, вновь возвраща-
Смех и судьба 5
ется так или иначе, никогда не проходит бесследно, недаром
говорится, что хорошо смеется тот, кто смеется последний.
"Последний смех" - это, видимо, смех осуществившейся судьбы.
Смех сопровождает человека всю жизнь, меняется вместе с
ним, есть внешнее отражение его внутренних движений,
состояний, и больше того - есть, в определенном смысле, выражение его
судьбы. Можно было бы сказать еще точнее: смех есть
предвосхищение судьбы человека, предчувствие судьбы. Между жизнью
и смертью осуществляется судьба. Но и смех функционирует в
том же пространстве, а, точнее, в междумирии жизни-смерти, на
их границе. И время смеха, так же как время судьбы необратимо,
и в нем мгновение, случай, неожиданность, непредсказуемость
играют ключевую роль. И в нем также есть начало и есть конец.
Итак, смех и судьба оказываются взаимосвязаны. Они -
сущностные характеристики человека, его "человеческое в человеке".
Смех есть выражение его внутренней жизни, состояния души.
Судьба человека - это тоже совпадение внутреннего с внешним:
характера, духа, души с обстоятельствами жизни, линия которых
выстраивается в историю жизни не только внешним роком, но и
самим человеком. Кроме того, у смеха и у судьбы есть общие,
опосредствующие их связь элементы - разумность, смертность,
зло и игра, которые только и делают их возможными. Еще
Владимир Соловьев считал, что если заменить homo sapiens на homo
ridens, "человека разумного" на "человека смеющегося", в
качестве определения человека, то суть дела от этого не изменится. И он
был совершенно прав, ибо смех - это, конечно, эмоция, но эмоция,
пронизанная интеллектом. Анри Бергсон писал, что смех связан
с "анестезией сердца" и взывает к разуму, то есть смех возможен
при эмоциональном равнодушии и обращен к интеллекту. Кант
полагал, что смех вызывается "игрой мыслей".
Однако, разумность смеха не всегда непосредственно
очевидна. Наоборот, проявления его бывают настолько бурными,
подобно хохоту Гаргантюа у Рабле или Мефистофеля в опере Гуно
"Фауст", что он воспринимается как некий иррациональный
феномен, чувственная импульсивность которого просто
неуправляема. На первый план выступает неожиданный, взрывчатый,
громкий, чувственно-наглядный характер смеха (вздымающаяся грудь,
выпученные глаза, раскрытый рот, колебательные дыхательные
движения и т.д. и т.п.). Скрытость интеллектуальной стороны
смеха и бросающаяся в глаза чувственная его достоверность
вызваны, кроме всего прочего, и самой историей формирования
смеха как культурной эмоции, в которой переплелись природный
смех и смех, наделенный культурными смыслами. Таким
образом, в смехе двойственность проявляется на всех уровнях, и в
6 Вместо введения
единстве разумности и эмоциональности в том числе.
Двойственность, маргинальность, пороговость свойственны
игре как феномену культуры, так как игра основана на
совмещении реальности и условности. Даже культура в целом, как это
показал Й.Хейзинга в книге "Человек играющий", может
рассматриваться как игровая реальность. А там, где - игра, там
всегда - смех, ведь игровое отношение в себе самом несет
несерьезность. А несерьезность всегда присутствует там, где более важно
не достижение цели, не результат, а - процесс, как в игре. Смех
связан с игрой еще и потому, что он, как и игра, тоже продуцирует
свой иллюзорный мир, который рождается на грани иллюзии с
реальностью. Как Платон говорил: люди - это куклы богов. Этот
образ человека-куклы, марионетки, и играющей с ним судьбы,
наиболее характерен для языческого мировосприятия. Судьба есть
рок, фатум. И поэтому человек - это актер, играющий пьесу,
которую ему предназначил режиссер - судьба (3). И тут главное для
человека - сохранить присутствие духа перед неожиданными
поворотами судьбы, в этом его мужество и его свобода. Из такого
мировосприятия родились трагедия и комедия, родился театр -
представление на сцене судеб людей и богов. И эти
метафизические, мифологические, сакральные истоки комического и
трагического навсегда остались с ними. Тут и лежит основание для
единства судьбы, комического и трагического.
С понятиями смерти и зла у смеха сложные
взаимоотношения, но очень тесные. Ницше щюницательно отмечал в своей книге
"Так говорил Заратустра": "...В смехе все злое собрано вместе, но
признано священным и оправдано своим собственным
блаженством". Но это вовсе неочевидно. И источник этого нужно искать
опять в двойственности смеха. Так, в древних языческих
ритуалах смех понимался как "признак жизни" и противоположность
смерти, а потом в христианстве был осмыслен как "признак
смерти". Отношение к смеху в христианстве и в язычестве - совсем
не простой вопрос. Смех - тот оселок, на котором сталкиваются
две системы ценностей - христианская и языческая - очень ярко
и зримо. В христианстве происходит перемена знака отношения
к смеху с плюса на минус. Почему? Для современного человека
это бывает просто не понятно.
Как нам рассказывает Гомер, хохот бессмертных богов
звучал на Олимпе беспрестанно. Смех в язычестве - это выражение
блаженного состояния античных богов, их бессмертной судьбы.
Человек должен был стремиться подражать богам. Но если он
станет смеяться всегда, то он будет другими воспринят либо как
шут, либо как безумец, но никак не уподобленный богам. Почему
античные боги могли смеяться всегда, а человек этого не мог? И
Смех и судьба 7
почему в истории человек все-таки отказался от этих всегда
смеющихся богов. Очень распространена в нашей литературе цитата
из Климента Александрийского о том, что "Христос никогда не
смеялся". И это звучит даже как упрек Богочеловеку, как якобы
свидетельство того, что Он не мог радоваться, а только был
серьезен и печален. При этом не объясняется, почему же все-таки
Христос никогда не смеялся. Действительно, Священное Писание
не сохранило свидетельств того, что Богочеловек смеялся. Он и
не мог смеяться, так как Он не мог смеяться по поводу зла и греха,
в которых пребывают люди. Он по любви и милосердию к людям,
пришел спасти их, искупить первородный грех Своей жизнью и
крестной смертью, а не смеяться над ними. Античные боги знали
судьбы людей, но все равно смеялись над ними, в том числе и над
их смертью.
Кроме того, не зря русская пословица говорит: "Где смех,
там и грех". Она точно характеризует положение дел. Смех,
действительно, имеет отношение к греху и злу. И поэтому
Богочеловек, отличавшийся от любого человека только тем, что был без
греха, не мог смеяться. Все люди грешны, поэтому они все так
или иначе смеются. И смех вовсе не тождественен радости.
Радость бывает разная и по-разному выражается. "Радуйтесь и
веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах..." (Мф,5,12). А
бывает радость по поводу зла. Анализ природы смеха как
явления культуры показывает, что в глубине его, действительно,
присутствует "радость по поводу зла", происходящего с другим, или
даже с самим собой.
Разумность в судьбе и смехе особого порядка, она
парадоксальна, как и все, что относится к смеху и судьбе. Это -
неразумная разумность, порядок, основанный на хаосе, и который
никогда не забывает о своем первоначале. Можно сказать даже, что и
смех и судьба имеют своим истоком хаос - хаос реальности,
поступков, смыслов, слов, понятий, чего угодно. Хаос - это
питательная почва для осуществления судьбы и смеха: они из хаоса
появляются, выстраиваются в определенный порядок, но он хрупок,
как карточный домик, он всегда - перед лицом катастрофы. И
катастрофа неотвратимо приходит, и весь этот эфемерный
порядок смеха или человеческой жизни обрушивается в никуда,
почти в ничто. То есть и смех и судьба вседа развиваются под
знаком катастрофы, приходящей из хаоса. А если предельное
выражение катастрофы - смерть, то тяготение к ней - всегда, так или
иначе, зло.
Иррациональность и слепота судьбы вошли в поговорку,
воспринимаются почти как ее синонимы. Разумность судьбы
высшего порядка, для богов смыслы судьбы открыты, для человека
8 Вместо введения
судьба всегда скрыта и осуществление ее неожиданно. Вот это
соотношение разумности-неразумности, скрытости-явленности, как
это не удивительно, повторяется все время в "комической
ситуации", где обязательно присутствует наблюдатель и участник.
Наблюдатель оказывается как бы на месте богов, как бы на
"Олимпе", и для него ситуация разворачивается как "на ладони", а
участник событий терпит бедствие, но еще не осознает этого, а,
наоборот, пребывает в эйфории благополучия, и заблуждается. С этим
обстоятельством связано единство и различие комического и
трагического.
Обычно судьба сравнивается не с комедией и комическим, а,
именно, с трагедией и трагическим, и это верно. Это сравнение
восходит к "Поэтике" Аристотеля, где он называл наилучшей ту
трагедию, которая, подобно "Царю Эдипу" Софокла, содержит
судьбоносный момент "узнавания" в качестве узлового переломного
пункта самого действия трагедии. Но тут нет противоречия: жизнь
человеческая, а в ее завершенном, проясненном и уже
мифологизированном виде - судьба, является содержанием любой драмы,
любого театрального действия, эстетическим оформлением
которого служат трагедия и комедия (или их разнообразные
смешения - трагикомедия, мелодрама и т.д.). Но в глубинной основе
своей трагическое и комическое как эстетические аспекты
реальности совпадают, и это будет подробно раскрыто в книге. Это
обстоятельство подметил еще Платон в "Пире", когда устами
Сократа говорил о том, что каждый хороший поэт должен уметь
сочинять и трагедию, и комедию. Об этом писали романтики в
XIX веке, ведь в романтической иронии комическое и
трагическое являют собой единое целое, переходят одно в другое. В
советской литературе О.М. Фрейденберг высказывала
плодотворные мысли о единстве трагического и смешного, которое
обнаруживается в пародии, в своей статье "Происхождение пародии".
"Черты трагедии, которые так явственны в древней комедии,
смежность в композиции, хоровых партиях и языке объясняются
одним общим происхождением их и одной общей их природой".
(4, 399).
Судьба есть трагедия и комедия одновременно. Комическое
и трагическое в ней наиболее явственно совпадают, потому что по
своей объективной структуре по ситуации, которую они
описывают, они сходны. Эта ситуация включает в себя человека
(субъекта-участника) и обстоятельства, которые с ним совершаются, а
также человека, который наблюдает за происходящими
событиями (субъект-наблюдатель). Существо коллизии может быть
сведено к ситуции разоблачения самообмана, снятия видимости,
разрушения иллюзий самим ходом событий. Различие между тра-
Смех и судьба 9
гическим и комическим заключается в том, точку зрения какого
человека они воспроизводят: участника событий или
наблюдателя.
Трагическое воспроизводит позицию человека, включенного
в движение событий, над которым "судьба-история" и
совершается (субъекта-участника), а комическое рисует картину
происходящего с точки зрения человека-наблюдателя
(субъекта-наблюдателя), как бы возвышающегося над событиями и обозревающего
"судьбу-историю" в целом. Общее - объективный ход событий,
отличие - в субъективном отношении к ним. Ведь можно
плакать вместе с Эдипом, а можно и бессердечно посмеяться над ним,
ведь история с ним приключилась в целом объективно смешная -
сплошная ирония: бежал от судьбы, а пришел к ней.
Трагическая ирония, которую еще называют софокловской, как раз и
раскрывает эту общую основу трагического и комического. Различие,
таким образом, зависит от субъективного фактора, от позиции и
настроения субъекта, от его душевного строя. Тут в комическом
сказывается "анестезия сердца", все-таки, в смехе присутствует
некоторая бесчувственность по отношению к тому, над кем
смеются, в то время как трагическое мироощущение всегда
предполагает сочувствие и сопереживание к участнику событий,
складывающихся для него неблагоприятно. Со времен Аристотеля
подобной катастрофичности был поставлен предел - "безвредность
и безболезненность" последствий этой катастрофы, которая
является, конечно, злом. "Безвредность и безболезненность" относится
как к самому смешному, так и к тому, кто смеется. Смеющийся в
силу своего нравственного чувства должен поставить предел
своему смеху, ведь бывают ситуации, которые воспроизводят
принцип удвоения видимости, но заканчиваются они значительным
ущербом или даже гибелью. И тогда смех, возможный по
объективным условиям, согласуясь с нравственными критериями,
должен смолкнуть. Тут вступает в свои права трагедия и
трагическое.
Эта модель "комической ситуации" послужила полем для
авторского анализа смеха. Как это не парадоксально, но она
воспроизводит ситуацию "судьбы". Выскажем гипотезу, что
структура судьбы как события, и структура смеха как комической
ситуации во многом совпадают. Здесь находится, по-видимому, ключ
к пониманию смеха, а, может быть, и самой судьбы. Ведь судьба и
смех - это всегда история, длящееся во времени событие и его
отражение в сознании, то есть определенная ситуация и ее
понимание. И именно в этом единстве действительности и ее
понимания открывается природа той двойственности (двусмысленности,
пороговости, маргинальности, двоения, двойничества, пародийности,
1 0 Вместо введения
наконец, и т.д и т.п.) смеха в ее универсальности.
У смеха и судьбы всегда есть два измерения -
поверхностный, непосредственно воспринимаемый, измерение видимости,
иллюзорности, и глубинный, скрытый, метафизический, сущностный,
который в определенный момент проявляется, выходит на
поверхность, и все преображает в свете этого свершившегося
события, его значения и смысла - и прошлое, и будущее. И эта точка
прозрения (момент "узнавания", "перелома" у Аристотеля) и есть
"момент судьбы". Смех, как мы в дальнейшем покажем, имеет
такой же "пик" - момент "откровения", перелома, прозрения,
понимания, открытия смыслов. И именно когда он наступает,
всегда "после" него, раздается смех.
Мы осветили некоторые подходы к проблеме смеха и
некоторые идеи, которые раскрываются в книге. Автор видел свою
задачу в том, чтобы выявить логику комического как
эстетической категории, родовой по отношению к различным
проявлениям смеха. Он стремился выявить фундаментальные элементы
сущности комического, которые, в основном, уже были выделены
(может быть, не всегда явно) в истории философии и эстетики.
Автор ставил себе цель - собрать эти золотые крупицы мудрости
и попыться сложить из них "мозаику" смысла смеха, его
сущности. Этим обстоятельством и продиктована структура книги. Она
включает историко-философское введение в проблему смеха (1
глава), в которой рассматриваются наиболее значимые
концепции комического; теоретическую часть работы, где излагается
авторская концепция смеха (2 глава); заметки об историческом
развитии смеха (3 глава), в которой затрагиваются и некоторые
спорные аспекты теории комического. Третья глава
одновременно выступает и как некоторая "практическая" проверка
авторской теории смеха. По мнению автора, его концепция природы
смеха, вполне согласуется с историческим материалом. Впрочем,
об этом судить читателю. Четвертая глава книги посвящена
проблеме смеха в культуре XX века и новым тенденциям культуры
рубежа XX-XXI веков, в которых проявляется смеховая
реальность. Некоторые фрагменты работы были опубликованы
автором в книге "Тайна смеха и эстетика комического" (1998). (5).
Цель данной книги и ее жанр далеки от развлекательности.
Но сам предмет анализа - смех - настолько захватывающе
интересен, что скучное научное исследование превращается в
настоящую драму, и даже мистерию. Приобщение к тайне смеха
приоткрывает и тайну человеческих судеб, потому что, оказывается,
судьба и смех неразрывно связаны, во всяком случае, на
метафизическом уровне очень тесно. Это хорошо понимал Данте, назвавший
свою драму человеческих судеб "Божественной комедией". Вряд
Смех и судьба 1 1
ли Данте хотел посмеяться над людьми, он был слишком мудр
для этого, хотя тонкая ирония в поэме присутствует. Его выбор
названия для своей поэмы очень точен помимо всего прочего еще
и потому, что комическое воспроизводит всю ситуацию судьбы
как бы целиком, с позиций Бога, а трагическое представляет
ситуацию с точки зрения людей, вовлеченных в кругооборот
судьбы. Поэтому комедия всегда является "божественной", даже
когда речь в ней идет о вещах совсем прозаических.
♦ ♦ ♦
♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦
Глава 1. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ
КОМИЧЕСКОГО
Величайшие мыслители, начиная с
Аристотеля, принимались за эту маленькую
задачку, а она все не дает собой овладеть,
скользит в руках, вырывается и снова
встает, как дерзкий вызов, бросаемый
философской мысли.
Анри Бергсон
Традиция теоретического анализа смеха восходит к
античности, к Платону и Аристотелю. Но если Платон только вскользь
затронул тему смеха, то Аристотелю принадлежит целостная
концепция комического, с которой начинается формирование
комического как эстетической, философской категории. Интерес к смеху
в философии никогда не пропадал, но в некоторые эпохи он
приглушался другими ценностными предпочтениями: интересом к
прекрасному, возвышенному или трагическому. Систематическая же
разработка темы смеха, комического, иронии, пародии, гротеска и
др. начинается в ХГХ веке в эстетике романтизма и в немецкой
классической философии и достигает своего апогея во второй
половине XX века. На рубеже XX-XXI веков интерес к смеху только
усиливается. Видимо, это связано с самим "духом времени" смены
эпох, его неопределенность и предощущение глобальных премен
выражается и в постмодернистской "переоценке ценностей". Смех
и ирония становятся эстетическими доминантами современной
культурной ситуации. Поэтому в центре нашего историко-эстетическо-
го анализа находится именно этот период зрелости теории смеха в
целях выделения наиболее значимых инвариантных структур,
определяющих сущность комического. Но вначале необходимо
специально остановиться на концепции Аристотеля потому, что если
многие идеи ранних теорий смеха были восприняты и
воспроизведены в более поздних и зрелых концепциях комического, и
поэтому они не требуют отдельного разбора, то некоторые важные
смыслы аристотелевского понимания смеха были забыты или
оставлены без внимания. Это касается, прежде всего, идеи комического
катарсиса, единства комического и трагического, а также вопроса
об онтологическом статусе смеха.
Аристотель
Постановка проблемы комического как эстетического смеха
Эстетические теории комического 1 з
принадлежит Аристотелю. "Поэтика" Аристотеля рассматривала
не только трагедию, но и комедию, однако ее часть, посвященная
комедии, не сохранилась. Поэтому мы располагаем только
некоторыми замечаниями о комедии в первой части "Поэтики". Тут
Аристотель дает свое знаменитое определение комедии и
смешного: "Комедия же, как сказано, есть подражание (людям) худшим,
хотя и не во всей их подлости: ведь смешное есть (лишь) часть
безобразного, В самом деле, смешное есть некоторая ошибка и
уродство, но безболезненное и безвредное; так, чтобы недалеко (ходить
за примером), смешная маска есть нечто безобразное и
искаженное, но без боли. ("Поэтика", 1449 а 30-35). (1, 650).
В этом определении можно выделить три важные момента.
Во-первых, в комедии представлены "люди худшие, хотя и не во
всей их подлости". Тем самым Аристотель дает нравственную
ориентацию комедии и комическому. Последнее для него,
по-видимому, тождественно со смешным. Во-вторых, смешное выступает как
"часть безобразного", как "некоторая ошибка и уродство".
Смешное принадлежит не только к области худшего в мире людей, но и
шире к сфере ложного, безобразного, уродливого вообще, но не в
полном их проявлении. С ограничением этого безобразного,
худшего, ложного, уродливого связан третий момент в дефиниции -
их "безвредность и безболезненность". Все эти моменты
определения комического Аристотеля сохранили свое значение до наших
дней.
Блестящий знаток античной эстетики А.Ф. Лосев,
комментируя эти мысли о комическом Аристотеля, высказывает очень
интересные замечания: "...даваемое здесь Аристотелем определение
весьма близко правильному. Ведь самым существенным для
комического является то, что здесь изображается то или иное
отрицательное явление, но без тех жизненно-катастрофических
результатов, которые могли бы быть свойственны этому явлению как
отрицательному. Комическое возникает тогда, когда идея
пробует осуществиться в том или другом образе, но это ей никак не
удается, так что образ все время остается с большими
дефектами, с указаниями на всякого рода неудачи и с доведением
однажды заданной идеи до ее беспомощного состояния. В случае,
когда это не приводит ни к какой катастрофе, а может иметь
значение само по себе без всякого страха и сострадания, это и
будет то, что Аристотель называет "комическим" или "смешным".
Правда, с точки зрения современной нам эстетики, которая умеет
различать такие тонкие понятия, как комическое, смешное и
комедийное, приведенное определение Аристотеля, конечно,
является несколько примитивным. Тем не менее самая главная сторона
дела схвачена здесь достаточно ясно. Во всяком случае, для
определения того, что такое трагическое у Аристотеля, как мы видели
1 4 Глава 1
выше, не нашлось достаточно простых и ясных слов, какие он
нашел для комического". (Разрядка моя. - М.Р.). (2, 527).
Интересна тут мысль самого А.Ф.Лосева о сущности
комического как об ущербном проявлении идеи в действительности без
катастроф и без страха и сострадания. Последние намекают на
существование комического катарсиса в параллель трагическому
катарсису, но который не связан со страхом и состраданием, в то
время как трагический катарсис, как известно, согласно
Аристотелю, вызывает "посредством сострадания и страха очищение
(katharsis) подобных страстей".
О таком параллельном существовании трагического и
комического повествует рукопись X века, так называемый "Коаленов-
ский трактат" (Traktatus coislinianus), в котором приводится
определение комедии и комического, которые являются как бы
эквивалентами аристотелевского определения трагедии и
трагического. "Комедия есть подражание действию смешному и
неудачному совершенного размера, в каждой из своих частей в образах
разыгрываемое, а не рассказываемое, через удовольствие и смех
осуществляющее очищение подобных аффектов. Она имеет своей
матерью смех". (2, 529). В этом определении бросается в глаза
почти полное тождество с определением трагедии из 6-й главы
"Поэтики". В основе и комедии и трагедии лежит мимезис,
подражание. Оба жанра должны обладать совершенным размером,
разыгрываться в действии. Катарсис свойственен и трагедии, и
комедии. Неизвестный автор Коаленовского трактата имел
некоторые основания для такого отождествления трагедии и комедии,
ведь сам Аристотель говорил, что "трагедия и комедия возникают
из одних и тех же букв". А Аристотель следовал в этом Платону,
который в диалоге "Пир" устами Сократа утверждал, что "один и
тот же человек должен уметь сочинить и комедию и трагедию и
что искусный трагический поэт является также и поэтом
комическим".^, 156).
Различие между комедией и трагедией, согласно
анонимному автору трактата, который якобы пересказывает Аристотеля,
заключается только в двух моментах. Во-первых, предмет
подражания здесь не "серьезный", а "смешной" и "неудачный".
Во-вторых, очищение достигается в комедии не через страх и
сострадание, но при помощи "удовольствия и смеха". Общими же
являются моменты неожиданности и противоположности обыденному
течению событий.
"Смех возникает или от словесного выражения, или по
поводу вещей. От словесного выражения - в связи с омонимией,
синонимией, балагурством, паронимией (в связи с утверждением и
отрицанием), прикрасой, новизной (в звуке, в чем-нибудь
однородном) [В смысле изменения его в разнородные], и фигурой самого
Эстетические теории комического 1 5
выражения. Что же касается смеха по поводу вещей, то он
возникает из уподобления (благодаря употреблению в худших или
лучших целях), или из обмана, или из невозможности, или из
возможности и несоответствия, или в связи с ожиданием, или
благодаря использованию непристойного танца, или когда кто-нибудь
из обладающих достатком, пренебрегая лучшим, хватается за
худшее, или когда заключение является бессвязным и не имеющим
никакого соответствия. Комедия отличается от ругани,
поскольку эта последняя в неприкрытой форме подробно рассказывает о
наличном зле, первое же нуждается в так называемой эмфазе [то
есть в специально выработанных выражениях]. А тот, кто
насмехается хочет разоблачить пороки души и тела. В трагедиях хочет
иметь место симметрия страха, а в комедиях - симметрия смеха".
(2, 530). А.Ф.Лосев отмечает, что в рассуждениях чувствуется
"подлинная аристотелевская рука". О частях комедии говорится у
анонима буквально то же, что и частях трагедии: "Имеется
четыре части комедии: пролог, хоровая часть, эписодии, эксод. Пролог
- это часть комедии до выступления хора. Хоровая часть - та,
которая исполняется при помощи пения хора, если она имеет
соответствующий объем. Эписодии - между двумя песнями хора.
Эксод же - то, что исполняется хором в конце". (2, 530). Для нас
важны те выводы, которые делает А.Ф. Лосев. Сущность
комического как эстетической категории Аристотель представляет себе
в отчетливом структурном виде. И "эта структура у Аристотеля
совершенно одинакова и для комедии и для трагедии. А именно,
там и здесь какая-нибудь отвлеченная и сама по себе не тронутая
идея воплощается в человеческой действительности
несовершенно, неудачно и ущербно. Но только в одном случае этот ущерб -
окончательный и ведет к гибели, а в другом случае он далеко не
окончательный, ни для кого не опасный и только вызывает
веселое настроение". (2, 531-532).
Исходя из параллелизма трагического и комического у
Аристотеля, попробуем понять, какова может быть природа
комического катарсиса по аналогии с трагическим катарсисом.
Трагедия воздействует на зрителей таким образом, что "при помощи
сострадания и страха достигает очищения подобных аффектов".
Подробно о точках зрения на природу трагического катарсиса у
Аристотеля можно также найти у А.Ф. Лосева. (4). Приведем
некоторые материалы, интересные для нашей темы.
Трагический катарсис есть очищение от аффектов
сострадания и страха, при котором человек испытывает особого рода
удовольствие. Катарсис, несомненно, нужно возводить к религиозной
и мистериальной старине. Известно, что определенного рода
"очищением" в Древней Греции завершались оргии бога плодородия и
виноделия Диониса или оргии корибантов, служителей богини пло-
1 6 Глава 1
дородия фригийского происхождения Кибелы, особого рода
"очищение" было и в культе бога врачевания Асклепия.
Существовала древняя практика очищения преступников, особенно
"оскверненных" убийством родных, посредством религиозного ритуала.
Такого рода очищение мало зависит от сознания и воли
преступника. Преступление понималось в Древней Греции как
осквернение. И поэтому те или иные таинства и обряды могли
совершаться не только над преступником, но и "над всеми вообще в целях
своеобразной мистериальной дезинфекции". (4, 218). Подобные
обряды были, по-видимому, отдаленными предшественниками
аристотелевского катарсиса.
Традиционно исследователи видели в катарсисе
превращение порочных наклонностей в добродетель, а "очищение" - в
моральном удовлетворении и торжестве. Так полагал, например, Лес-
синг. Другие сводили "катарсис" к гедонизму и удовольствию. И
это удовольствие связано, прежде всего, с природой искусства
трагедии как подражания, как мимезиса. Аристотель говорит, что
"подражание всем доставляет удовольствие. Доказательством этого
служит то, что мы испытываем перед созданиями искусства. Мы
с удовольствием смотрим на самые точные изображения того, на
что в действительности смотреть неприятно, например, на
изображения отвратительнейших зверей и трупов. Причиной этого
служит то, что приобретать знания чрезвычайно приятно не только
философам, но также и всем другим, только другие уделяют этому
мало времени" (Поэтика", 4,1448 b 8-15).
Третьи исследователи сравнивали трагический катарсис с
очищением желудка и утверждали, что сущность трагического
очищения сводилась у Аристотеля к облегчению и разгрузке души
от ненужного балласта (Я. Бернайс, А. Вайль, Дж. Мильтон и др.).
Катарсис тут выступает приятным чувством освобождения от
неприятных тягостных эмоций, прежде всего, от страха и
сострадания, которое также в Древней Греции и в древности вообще не
считалось положительной эмоцией. Это так называемый
медицинский взгляд на катарсис. Аристотель, сын врача, и сам
получивший медицинское образование, прекрасно знал теорию
Гиппократа, восходящую к пифагорейцам, о том, что здоровье человека
возможно только при равновесии в его организме четырех
жидкостей - крови, слизи, желтой (холодной) и черной (или горячей и
горькой) желчи. Значительный избыток черной желчи ведет к
сумасшествию, а небольшой ее избыток - к неуравновешенности
и излишней возбуждаемости. Черная желчь, считалось, выступает
также в трагических аффектах. А музыка, танец и драматическое
зрелище, имеющее свой исток в религиозном ритуале,
противодействуют тому влиянию, которое оказывает на душу черная желчь.
Современные исследователи стремятся, чтобы избежать односто-
Эстетические теории комического 1 7
ронности, объединить вышеприведенные точки зрения на
катарсис: моральную, гедонистическую, медицинскую и мистериальную.
(4, 223-224).
Сам А.Ф. Лосев выдвигает философскую интерпретацию
катарсиса, которую он называет "ноологической", и которая
представляется наиболее близкой к истине. Она основана на XII
книге "Метафизики" Аристотеля, где дано понятие прекрасного во
всей его полноте, которое есть Ум, и описано его состояние
вечного самоудовлетворения и пребывания в себе самом. Если
прекрасное таково вообще, в космосе, то таково оно и в частностях, в
отдельных субъектах и произведениях искусства. "Это блаженное
самодовление, наступающее после пережитого его разрушения, и
есть подлинное очищение, о котором говорит Аристотель". (4, 228-
229).
"...Новейшая психология в корне отличается от античной,
предполагая некоторый стационарный субъект и в нем уже
находя сторону интеллектуальную, волевую и сторону чувства. Как бы
психология не объединяла эти стороны и как бы она не говорила
о единстве психической жизни, все равно субъект для нее -
последняя опора всего психического, и он - носитель всех своих
состояний. Совершенно обратное этому находим мы в античной
психологии и, в частности, у Аристотеля. Здесь все душевные
силы, постепенно освобождаясь от потока становления, в котором
они только и возможны, превращаются в некоторое единое
духовное средоточие, в Ум, который не есть интеллектуальная сторона
души, но который выше самой души и представляет собою
высшую собранность всего растекающегося множества психической
жизни в некое неподвижное самодовлеющее пребывание в одной
точке. О сосредоточенности в уме нельзя сказать, что в нем
преобладает момент чувства или момент интеллектуальный.
Сосредоточенность в уме выше самой души со всеми присущими ей
отдельными силами". (4, 229).
"Очищение совершается не в морали, но в уме, если этот ум
понимать по-аристотелевски. И если уж говорить о морали, то в
трагедии она дана в ужасающем виде. Преступления, смерти,
поругания и всяческие моральные бесчинства здесь на каждом
шагу, и никакое возмездие и месть не в силах восстановить
поруганной чести, вернуть к жизни убитого, преодолеть всю тьму и смрад
совершенных преступлений". (4, 230). Очищение, с такой точки
зрения, оказывается существенно связанным со страхом и
состраданием. "Страх сопровождает собой наблюдение того, как
умственная сущность отдается во власть тьмы, необходимости и
саморазрушения; страх есть оценка трагического преступления в
процессе его подготовки и совершения - с точки зрения нерушимой
невиновности и счастья. Сострадание есть оценка преступника
1 8 Глава 1
или его жертвы уже после совершения разрыва с невиновностью,
оценка - с той же самой точки зрения - самого результата этого
разрыва. Наконец, очищение есть оценка, опять-таки все с той
же единственной точки зрения, процесса возвращения
отпавших частей бытия к первозданной чистоте, процесса (или
результата) восстановления и оправдания поруганного и
обесчещенного. Так глубинно оказываются связанными между собою и
с самой сущностью трагического мифа эти три, имманентно
присущие всякому трагическому сюжету, начала — страх, сострадание
и очищение" (Разрядка моя. - М.Р.). (4, 232).
"... С точки зрения Аристотеля и, как кажется, всей
греческой философии, весь мир представляет собою трагическое целое.
В нем, как мы видели, и блаженство самосозерцающего и
вращающегося в себе ума; в нем и распад этого перводвижения ума, через
разные небесные сферы, вплоть до Земли, где под Луной уже
главным образом царство необходимости и где мы находим как
неправильности в движении тел, так и отсутствие ровного и
спокойно-радостного сияния идеальных сущностей и сил в звездах. В
мире вечно творится преступление, вечно искупается и
преодолевается вина; и вечно сияет катартически-просветленная,
блаженная первоэнергия всеобщей сущности ума. Поэтому трагедия
человека есть частный и, быть может, наиболее показательный
случай общего мирового трагизма. И не поняв всей трагической
сущности аристотелевского космоса в его полноте, нельзя понять и
того, как ему представлялась та трагедия, которую он видел на
подмостках греческих театров.
Так из учения об Уме как перводвигателе дедуцируются все
основные внутренние моменты трагического мифа - "перипетия",
"узнавание", "пафос", "страх", "сострадание" и "очищение". (Там
же, С.233).
Если вспомнить о комическом катарсисе и мыслить его по
аналогии с трагическим катарсисом, то тогда структура комедии
может быть ключом для реставрации комического катарсиса,
подобно тому, как ключом для понимания трагического катарсиса
оказывается структура трагедии. Поскольку, согласно
Аристотелю, в основе трагедии и комедии лежит подражание (мимезис),
постольку удовольствие от него находится в основе как
трагического, так и комического катарсиса. Мимезис и катарсис разлиты
вообще по всей трагедии или "разделяют вместе со всей
трагедией ее структурное построение". (4, 218). Эти мысли
представляются очень важными для выработки теории смеха. Структура
комедии - это смех, развернутый в пространстве и во времени, то есть
это - комическая или смешная ситуация. Исходя из нее, можно
понять природу смеха и его воздействия - комический катарсис,
его возвышающий и освобождающий характер. Важна также и
Эстетические теории комического 1 9
идея о подражательной сущности комического смеха, который в
основе своей оказывается связан с повторением, удвоением
реальности.
Но самое главное - это мысль о фундаментальном единстве
трагического и комического в их структурном основании,
которую А.Ф.Лосев усматривает у Аристотеля. Это понимание
комического и трагического как ущербное воплощение идеи в
действительности, различное только по результатам: в трагическом оно
ведет к катастрофе и к гибели, в комическом - оно "безвредно и
безболезненно". Надо сказать, что подобное понимание
комического, трагического как неадекватного воплощения идеи в
действительности есть у Платона, а потом - у Гегеля, романтика Золь-
гера и др. Думается, что этот принцип понимания прекрасного
как адекватного воплощения идеи в действительности, а
трагического и комического - как неадекватного воплощения идеи в
действительности является общим для идеалистических систем. И
он имеет под собой глубокие основания, если принять, что мир и
его бытие имеют какой-либо объективный смысл.
К Платону и Аристотелю восходит традиция понимания
трагедии и комедии как космических явлений. Если трагедию
можно рассматривать как частный случай общего мирового трагизма,
то по аналогии и комедия - только частный случай мирового
космического комизма. Космос, весь мир, предстает как одна
грандиозная трагедия или драма, разворачивающаяся по своим
законам. И эта космическая драма - судьба Космоса-мира. Эту
космическую драму можно рассматривать как трагедию, но можно и
как комедию. Все зависит от точки зрения. Если вспомнить
хохот богов на Олимпе у Гомера как выразительный символ их
блаженного бессмертного состояния, то можно сказать, что в
философском смысле позиция комическая - это позиция "места
богов" у смеющихся над миром и над людьми, то есть позиция
наблюдателей и вершителей судеб. А позиция трагическая - это
"место людей" у которые живут и умирают и не ведают своей
судьбы.
И если трагический катарсис связан с выходом человека в
определенное состояние "духовного сосредоточия в Уме", когда
открывается вся драма Космоса. Фактически, тут человек при
созерцании и трагедии и комедии становится на точку зрения
богов, живущих на Олимпе. Это и есть главная точка отсчета и
оценки событий. Этим обстоятельством определяется как
трагический, так и комический катарсис. Но если олимпийские боги
всегда смеялись, то человек, когда он оказывается на "Олимпе",
может поступить по разному: он может смеяться, а может и из
сочувствия и сострадания к людям плакать, потому что он может
себя поставить на их место. Смех же богов - смех бессердечный,
2 0 Глава 1
смех безжалостный. Но это смех освобождения и возвышения
над миром и людьми. Это тогда, когда трагедия и комедия
совпадают, а разнятся только позицией наблюдателя. В этом случае
природа комического катарсиса почти совпадает с природой
трагического катарсиса. Различие в следующем: трагическая
позиция как бы "низводит с небес" и заставляет переживать вместе с
людьми их беды, испытывать страх за них и сострадание к ним.
Комическая позиция, наоборот, возводит "на небеса", то есть
действует возвышающе и освобождающе. Это - позиция
самоудовлетворения и свободы, и эмоции, связанные с ней - это чувства
торжества, радости, самодовольства, удовольствия от полноты жизни,
безопасности и бессмертия. И это позиция эгоизма, так как все,
что касается других, не касается тебя.
Но если дана вполне земная обычная комедия, то должен
присутствовать нравственный предел "безвредного и
безболезненного" относительно результатов событий, тогда смех нравственно
санкционирован и он звучит "с чистой совестью". Это смех
человеческий, он нравственный и сердечный.
Моральная, гедонистическая, медицинская и мистериальная
интерпретации трагического катарсиса могут быть
распространены и на комический катарсис. Удовольствие от комедии связано
с удовольствием от смеха и от подражания. И это удовольствие
может носить вполне самодовлеющий характер. Медицинский
аспект проявляется в связи с разрядкой эмоций, с получаемым
посредством смеха снятием напряжения. Ныне смех далее
используется в психиатрии для лечения шизофрении, и в некоторых
случаях вполне успешно. Моральная позиция вызвана тем, что
комедия должна, все-таки, быть направлена на улучшение нравов,
и служить для поучения людей, предостерегать от пороков. Смех
всегда или морален или аморален. По смеху можно далее
определять степень нравственного сознания человека. Мистериальная
сторона дела тоже имеет значение и для комического, так как
комедия, как и трагедия, появляется из народных увеселений,
шествий ряженых в культе Диониса, и ритуальный смех имел в
древности столь же сакральное значение, как и ритуальный плач.
Аристотелевская концепция комического оказала огромное
влияние на всю последующую теорию смеха. Самые
значительные теории смеха появились много позже античности, только в
Новое время, хотя интерес к смеху, особенно к остроумию, резко
возрастает в эпоху Возрождения. Но только, начиная с Канта и
романтиков XIX века, теория комического получает серьезную
философскую разработку. Поэтому необходимо более подробно
остановиться на эстетических теориях XIX и XX веков.
Эстетические теории комического 2 1
И. Кант
Комическое находилось на периферии исследовательских
интересов Канта - главное внимание в эстетике он уделил, как
известно, категориям прекрасного и возвышенного. Термин
"комическое" Кант не использует вообще. Смех и смешное он
рассматривает всего на нескольких страницах "Критики способности
суждения" (1790) - (§54 "Аналитики эстетической способности
суждения", который озаглавлен "Примечания" и стоит после
изложения Кантом его классификации искусств. Но, благодаря гению
Канта, его наброски, посвященные смеху, сыграли весьма
значительную роль в становлении категории комического. Кантовское
определение смеха звучит следующим образом: "Во всем, что
вызывает веселый неудержимый смех, должно быть нечто нелепое (в
чем, следовательно, рассудок сам по себе не может находить
никакого удовольствия). Смех есть аффект от внезапного
превращения напряженного ожидания в ничто. Именно это превращение,
которое для рассудка явно и радостно, все же косвенно вызывает
на мгновение живую радость" (5, 352). В этом определении можно
выделить три основных момента. Во-первых, то, что вызывает смех
(объект смеха), есть "нечто нелепое". Во-вторых, определение
смеха, в котором центральным понятием является "переход в
ничто"; последний представляет собой характеристику субъекта
смеха. В-третьих, Кант рассматривает противоречивую природу
удовольствия от смешного, т.е. от того, что вызывает смех (нелепость
и превращение "напряженного ожидания в ничто" сами по себе
не доставляют рассудку удовольствия, и все-таки смех
сопровождается мгновенной радостью). Постараемся прояснить все эти
моменты при дальнейшем изложении концепции Канта.
Кант выводит смешное из "игры мыслей". "Музыка и повод
к смеху представляют собой два вида игры с эстетическими
идеями или с представлениями рассудка, посредством которых в
конце концов ничего не мыслится и которые могут благодаря одной
лишь своей смене и, тем не менее, живо доставлять удовольствие"
(5, 351). В музыке "игра идет от ощущения тела к эстетическим
идеям (к объектам для аффектов), а от этих идей обратно к
ощущению тела, но с возросшей силой. В шутке, по мнению Канта,
дело обстоит иначе, игра начинается с мыслей, а затем в эту игру
вовлекается тело. Рассудок, "не находя в этом изображении того,
что он ожидал, "внезапно ослабевает, действие этого ослабления
через "вибрацию органов" сказывается на них благотворно,
способствуя восстановлению их равновесия. Кроме того, "шутка
должна заключать в себе нечто такое, что может на мгновение
обмануть; поэтому, когда иллюзия растворяется в ничто, душа снова
оглядывается назад, чтобы еще раз испробовать ее, и таким обра-
2 2 Глава 1
зом, через быстро сменяющиеся напряжение и расслабление
спешит то туда, то сюда, отчего и происходит колебание". (5, 353).
Эти колебания напряжения и расслабления возбуждают
душевное волнение. Затем внезапно "как бы натянутая струна"
рвется, а не постепенно ослабляется. В этом случае осуществляется
переход от первоначального чувства заинтересованной
неизвестности (ожидания) в хорошее, благоприятное для самочувствия
состояние (разрешение напряженного ожидания "в ничто" как вздох
облегчения). Таков, по мнению Канта, психологический механизм
действия шутки, возникновения удовольствия от нее.
Руководствуясь той точкой зрения, что "со всеми нашими мыслями
гармонически связано и некоторое движение в органах тела", Кант
пытается объяснить и смех как "полезное для здоровья движение". К
надежде и сну, которые, по мнению Вольтера, подарены небесами
людям в противовес тягостям жизни, Кант добавляет и смех.
Итак, согласно Канту, объект смеха ("повод к смеху") есть
"игра мыслей", которая заключает в себе "нечто нелепое" и
мгновенный обман; то есть нелепость скрыта поначалу за некоторой
видимостью, которая может быть даже прекрасной. Восприятие
субъектом "повода к смеху" построено, по мнению Канта, на "обманутом
ожидании", при котором напряженное ожидание внезапно
разрешается "в ничто". Из изложения Канта можно сделать вывод, да и
он сам прямо указывает на то, что этот процесс есть процесс
разрушения иллюзии субъекта относительно объекта. Для получения
удовольствия от смешного важно то, что посредством "игры
мыслей" происходит задержка в узнавании. Разрешение
напряженного томления, вызванного задержкой, осознанием, приносит
облегчение и удовольствие, что выражается в смехе или улыбке. В этот
процесс переживания включено все тело и выражается
колебанием "упругих частей наших внутренних органов". (5, 354).
Именно такое телесное движение и есть источник
удовольствия от смешного, как считает Кант, а не собственная деятельность
рассудка. Констатацией телесной природы удовольствия от смеха
Кант устраняет то противоречие, которое вызвано тем, что, как
было отмечено нами вначале, нелепость и обманутое ожидание,
взятые сами по себе, не могут приносить рассудку удовольствие.
Мысли Канта о смехе нашли отклик у последующих
исследователей комического. Кантовское "обманутое ожидание",
разрешающееся "в ничто", положил в основу своей концепции
комического теоретик психологической школы в эстетике второй
половины XIX века Т. Липпс. (24). Содержащиеся имплицитно в
кантовском толковании комического контраст, противоречие, а
также мотивы "игры" и скрытого за видимостью объекта смешного,
послужили исходным пунктом для разработки теории
комического в эстетике немецких романтиков, а затем у Гегеля.
Эстетические теории комического 2 3
Романтики
Много нового внесли в теорию комического романтики.
Наиболее ярким выразителем основных теоретических принципов
европейского романтизма явился иенский кружок немецких
романтиков, идеологами которого были братья Фридрих и Август Шле-
гели, а также Шеллинг. Возрождение интереса к комедиям
Аристофана, Шекспира, произведениям других комических авторов;
новое их толкование и связанное с этим оживление
теоретических изысканий в области комического; исторический подход,
разработка концепции романтической иронии как
всеохватывающего эстетического и мировоззренческого принципа; развитие
применительно к теории комического диалектики необходимости и
свободы, объективного и субъективного - таков далеко не полный
круг проблем, только затронутых или глубоко разработанных в
немецком романтизме.
Вопрос об авторстве той или иной идеи остается весьма
сложным, так как атмосфера иенской школы была примером
коллективной жизни в искусстве и в духовном творчестве. Поэтому,
руководствуясь тем, насколько полно в произведениях теоретиков
романтизма представлена и освещена та или иная проблема,
рассмотрим концепцию иронии Ф. Шлегеля, теорию комического и
комедии А. Шлегеля, философские идеи Ф. Шеллинга о природе
комического, теорию иронии Зольгера, а также теорию смешного
близкого к романтикам Жан-Поля.
Теория романтической иронии Ф. Шлегеля сформировалась
в 1797-1798 годах и была изложена им во фрагментах,
напечатанных в журналах "Лицей" и "Атеней", в его рецензиях "О Лессин-
ге" и "О Мейстере" Гете, в наброске "О непонятности".(6). В
"Критических фрагментах" Ф. Шлегель пишет: "Философия - это
подлинная родина иронии, которую можно было бы назвать
логической красотой". (7, 282). Шлегель стремился к объединению и
взаимопроникновению философии и поэзии, искусства и науки.
"Чем больше поэзия становится наукой, тем больше она
становится искусством". (7, 305). Только через иронию как
художественный метод творчества, как общий принцип миросозерцания и ми-
роотношения поэзия может возвыситься до философии.
"Трансцедентальная буффонада" или ирония "с внутренней
стороны" является "настроением, оглядывающим все с высоты и
бесконечно возвышающимся над всем обусловленным, в том
числе и над собственным искусством, добродетелью или
гениальностью", а "с внешней стороны" - "это мимическая манера
обыкновенного хорошего итальянского буффо" (7, 283). В этой трактовке
иронии заложены две потенции: расширительное толкование
иронии - ирония выступает как универсальный принцип, пронизы-
2 4 Глава 1
вающий все сферы духовной жизни человека (философию, этику,
эстетику, поэзию, литературную критику), более узкое ее
понимание - ирония является специфической формой
жизнедеятельности самого индивидуального сознания.
Шлегель говорит о том, что действительно свободный и
образованный человек может произвольно, по своему желанию,
настраиваться на любой лад, философский или исторический, античный
или современный. Человек не может сосредоточиться на чем-то
одном, он должен быть таким же изменчивым и текучим, как "дух,
содержащий в себе как бы множество духов и целую систему лиц,
дух, в чьем внутреннем мире вырос и созрел универсум, который,
как говорят, должен прорастать в каждой монаде". (7, 297).
Ирония есть "форма парадоксального". "Парадоксально все
хорошее и великое одновременно" (7, 283). Ирония есть
совмещение противоположностей, выражение противоречивого.
Противоречивый характер иронии Ф. Шлегель определяет как
"химический" характер иронического мышления. Во времена Шлегеля
определение "химический" в самом общем плане означало -
разлагающий на противоположности и соединяющий
противоположности (8, 78-80). Иронический дух, таким образом, как это
мыслится Шлегелем, пребывает в состоянии вечного разделения и
соединения противоположного. Для Шлегеля вся современная ему
эпоха есть "химическая эпоха" в силу ее революционности.
"Революция - это универсальные, не органические, а химические
движения" (7, 313). И французская нация, сотворившая революцию,
тоже "химическая" нация.
Ирония как способ философского познания мира
противопоставляется рассудку, который схватывает только какую-то
одностороннюю истину и не состоянии обнять мир и жизнь в их
целостности. Острота выходит за рамки логического парадокса
(остроумие, острота, ирония, юмор - для Шлегеля понятия
синонимичные). Она сталкивает противоположности в необычном
кричащем противоречии, и тем самым намекает на более глубокую
связь, которая кроется в синтезе этих противоположностей. В
логическом же парадоксе отсутствует ступень синтеза.
Но синтез или "законченность" в иронии для Шлегеля
означает не абсолютную законченность в смысле синтеза
противоположностей, а "законченность" в смысле постоянно
возобновляющегося взаимодействия противоречивых сил. (8, 84). "Идея - это
понятие, доведенное до иронии в своей завершенности,
абсолютный синтез абсолютных антитез, постоянно воспроизводящая
себя смена двух борющихся мыслей...". (7, 296). Синтез, как он
мыслится Шлегелем, не дает "завершенности", он предстает
постоянным воспроизведением одного и того же противоречия. Синтез
оказывается, по существу, иллюзорным, синтезом невсерьез.
Эстетические теории комического 2 5
Ироническая диалектика Ф. Шлегеля - это "несерьезная"
диалектика, это произвольная игра субъективного духа. "Она
содержит и пробуждает чувство неразрешимого противоречия
между безусловным и обусловленным, между невозможностью и
необходимостью исчерпывающей полноты высказывания" (7, 287). Для
того, чтобы совместить в себе самые разные противоречия и
охватить жизнь во всей полноте, ироничный субъект не должен
всерьез относиться к противоречиям. Все окружающее по его
собственному произволу становится видимостью. Все лишается
"субстанциальности" (по выражению Гегеля, остро критиковавшего
романтическую иронию за беспредельный субъективизм (13, 1, 70-
72)) и все уравнивается в своих правах, второстепенное и
существенное. Все тонет в деталях, тогда как охватить целостность мира,
к чему стремились романтики, возможно, только выделив и
познав существенное, согласно тому же Гегелю, законы развития мира.
Таким образом, стремление романтиков к универсальной
целостности отношения к миру остается "кажимостью" и
иллюзией, только "томлением" по целостности мира. Гегель справедливо
указывал на субъективно-идеалистическую философию Фихте как
на философский исток романтической иронии. Он же настаивал
на глубинном различии между иронией Ф. Шлегеля и
сократовской иронией, хотя их общность постоянно подчеркивалась Шле-
гелем. Субъективизму романтической иронии Гегель
противопоставил трактовку иронии К.-В.-Ф. Зольгером, которого он высоко
ценил. Ирония как "над всем царящий, все разрушающий взгляд",
согласно Зольгеру, есть "подлинное средоточие искусства", "где
объединяются в одно остроумие и размышление, каждое из
которых созидает и разрушает с противоположными устремлениями"
(9, 381). Художественное творчество, по Зольгеру, является
диалектическим единством двух моментов: иронии и вдохновения.
Через вдохновение идея раскрывает себя в действительности, но
вдохновение необходимо связано с иронией, так как всякая
действительность есть разложение и гибель идеи.
Посредством иронии идея гибнет в действительности, но
благодаря этому впервые возникает сама действительность, и в этом
проявляется торжество идеи. Таким образом, у Зольгера ирония
выступает как момент развития самой объективной идеи, которая
переходит в бытие. И в противовес романтикам Зольгер
рассматривал иронию не как абсолютное отрицание, а как
диалектический момент отрицания отрицания. Как отмечает Гегель, Зольгер
"натолкнулся на диалектический момент идеи, на тот пункт,
который я называю "бесконечно абсолютной отрицательностью", на
деятельность идеи, состоящую в том, что она отрицает себя как
бесконечную, чтобы перейти в конечность и особенность, а затем в
свою очередь также снимает эту отрицательность, и таким обра-
2 6 Глава 1
зом, снова восстанавливает всеобщее и бесконечное в конечном и
особенном". (13, 1, 74). Ироническая диалектика, разработанная
Фридрихом Шлегелем, и Зольгером, представляла собой попытку
выразить диалектичность процесса мышления, попытку, "снятую
несколько позднее Гегелем двояким образом: как его критикой
романтической иронии, так и систематическим развитием
диалектической логики" (8, 91). Концепция иронии имела большое
значение для развития философско-эстетической базы теории
комического.
Вся теория смеха у ранних романтиков построена на
полемике с его бюргерским пониманием. Бюргер расчетлив и
осторожен во всем, даже в праздничном веселье. Для романтиков
примером самозабвенного, ликующего, переходящего все границы
юмора был юмор комедий Аристофана со свойственным им "веселым
хаосом, готовым все на свете перемолоть и переустроить заново".
Братья Шлегели одними из первых заговорили об античных
дионисиях как об основе античного театра и драмы, о
продолжающих традиции дионисии карнавалах и масленичных праздников
у новых народов.
Август Шлегель в Венском курсе лекций "Чтения о
драматическом искусстве и литературе" (1809-1811) стремился
представить в систематическом виде в соответствии с философско-
эстетической концепцией иенских романтиков процесс развития
искусства от его зачатков до Нового времени. (10). Он изложил
историю комедии как историю вымирания в комедии
поэтического момента, стихийного смеха, от Аристофана до Мольера (к
творчеству последнего он был несправедлив, видя в нем
виновника упадка комедии в Новое время).
Противоположность трагического и комического, согласно А.
В. Шлегелю, проявляется в том, что трагедия связана с серьезным,
а комедия - с шуткой. Серьезное есть "сосредоточение душевных
сил на одной определенной цели и в связи с этим - в ограничении
их деятельности". (10, 233). Противоположный принцип
(комический) заключается "в кажущейся бесцельности, в снятии всех
рамок, ограничивающих деятельность душевных сил". Комедия как
жанр искусства стоит тем выше, чем шире "применяются в дело
эти душевные силы и чем правдоподобнее становится видимость
бесцельной игры и неограниченного произвола". (10, 233). И
комизм, соответственно, усиливается тем, что бесцельность
становится явственнее, где разного рода ошибки, недоразумения, тщетные
усилия в конечном счете разрушаются в ничто. "Игра душевных
сил" и ее "разрешение в ничто" присутствуют и в кантовской
характеристике комического.
Интересно, что противоположность комедии и трагедии
углубляется А. Шлегелем до противоположения серьезного идеала
Эстетические теории комического 2 7
("единое и гармоническое претворение чувственного человека в
духовного") комическому идеалу. (10, 234). Комическое
противополагается не трагическому, а серьезному, хотя они находятся в
диалектической взаимосвязи: остроумие и насмешка не
исключают серьезности, могут служить выражением даже ненависти.
Причем серьезное связывается с целесообразностью и
ограниченностью, а комическое - с хаотичностью, бесцельностью, анархией,
полной свободой душевных сил. Но эта полная свобода душевных
сил носит иной характер, нежели внутренняя свобода в
трагическом. Последняя, согласно А. Шлегелю, имеет нравственный
характер и самоутверждается в борьбе с внешней необходимостью.
В комическом же свобода основана на "игре без цели",
подавляемые нравственностью животные желания здесь выплескиваются
наружу.
В наиболее чистом виде комическое воплощается, как считал
А. Шлегель вместе с другими романтиками, в комедиях
Аристофана, где комической является даже сама форма, определяемая
кажущейся бесцельностью и произволом. Все произведение в
целом у Аристофана есть "одна грандиозная шутка, в свою очередь
содержащая в себе целый мир отдельных шуточных эпизодов, из
которых каждый имеет свое место и, очевидно, нисколько не
заботится об остальных". (10, 234). Существо древней комедии
состоит в том, что комическим является не только самый предмет, но и
способ его интерпретации. Неограниченное господство комизма
проявляется и в том, что сама форма комедии, несмотря на то, что
в ней наличествует основная цель, известный систематический
порядок в изложении материала, и в силу этого она стремится к
серьезности, все же не принимается до конца всерьез. Дела
семейные и приватные составляют предмет новейшей комедии, тогда
как античная комедия затрагивала их лишь в той мере, в которой
они касаются общественной жизни. Неограниченной свободы
юмора уже нет, и данный недостаток комедиографы Нового времени
стремятся заменить внесением серьезного элемента,
заимствованного у трагедии.
Заслуживает внимания положение А. Шлегеля о том, что
шутливое настроение при восприятии комедии зрителями исключает
моральную оценку героев и искреннее сочувствие их
переживаниям, ибо и то, и другое - носители элемента серьезного,
убивающего веселое расположение духа. Последнее достигается тем, что
герои комедии выступают как законченные эгоисты, "люди
противопоставлены друг другу как простые физические существа,
которые меряются силами, в том числе и духовными". (10, 244).
Мысль А. Шлегеля представляется не бесспорной, но в ней есть
рациональное зерно. Для того, чтобы воспринять комическое в
той или иной его форме, необходима особого рода эстетическая
2 8 Глава 1
дистанция, которая смягчает, например, моральное негодование
по поводу смешных обманов и хитрости, но не снимает его
полностью, моральная оценка увиденного все равно совершается.
В концепции комического и комедии Ф. Шеллинга, который
в молодости принадлежал к кружку иенских романтиков, есть
много общего с мыслями братьев Шлегелей по поводу
комического. Он также видит в Аристофане классический образец
комедиографа, хотя трактует его комедии по-своему. Он так же, как и
Август Шлегель оспаривает мнение Д. Дидро о комедии как
жанре, наиболее характерным для монархии, в отличие от трагедии,
которая имеет будто бы республиканский характер. "Комедии
Аристофана... служат достаточным доказательством того, что
комедия в ее подлинном виде всецело есть лишь плод высшей
культуры, а также и того, что она может существовать только в
свободном государстве". (11, 423). Он даже идет дальше братьев
Шлегелей в прокламировании гражданской природы античной
комедии, прямо связывая расцвет древнеаттической комедии с
демократичным устройством государства Древней Греции. С
разрушением такого строя гибнет и подлинно свободная комедия, на
смену ей приходит мещанская бытовая комедия, которая, как
считает Шеллинг, типична для эпох, когда писатели лишены
возможности заниматься общественными и государственными
проблемами.
Трагедия, как считает Шеллинг, опиралась на мифологию
"трагического века", комедия создает свою мифологию сама из
современной общественной жизни, для чего необходим "такой
политический строй, который не только доставляет материал, но и
позволяет его использование". (11, 424). Когда же комическим
писателям навязываются ограничения в их деятельности (Шеллинг
упоминает тот факт, что во времена владычества тридцати тиранов в
Афинах драматургам было законодательно запрещено упоминать
на сцене имена действительно существующих лиц), тогда они
обращаются к древним мифам, что ведет к вырождению самой
комедии, которая существует только благодаря "свободе и
подвижности общественной жизни" (11, 424). Тот факт, что Шеллинг
проводит исторический взгляд на развитие искусства комедии (в чем
он един со Шлегелями) и ставит его в прямую зависимость от
степени свободы в общественной жизни и в государстве,
представляется очень важным и сохраняющим значение до наших дней.
Очень оригинальна трактовка Шеллингом сущности
комедии и комического. Он выводит ее из взаимодействия
необходимости и свободы. Для Шеллинга изначальное их соотношение
таково, что необходимость проявляется в качестве объекта, а
свобода - в качестве субъекта. На этом строится трагедия. Основной
закон комедии заключается в их перевернутом или "обращен-
Эстетические теории комического 2 9
ном" отношении: в комедии необходимость связана с субъектом,
а свобода - с объектом. (11, 418). Подобное переворачивание
основывается на "бросающемся в глаза противоречии". Таким
образом, в комедии устраняется страх перед необходимостью как
неотвратимой судьбой. В подобном варианте соотнесенности
необходимости и свободы вообще исчезает действительная судьба,
поэтому становится возможным "чистое удовольствие по поводу
данного несоответствия, как такового, и это удовольствие есть то, что
вообще можно назвать комическим и что внешне выражается в
свободной смене напряжения и ослабления". (11, 419). Мы
напрягаемся, чтобы пристально всмотреться в то, что противоречит
нашему пониманию такого явления, и замечаем полную
противоречивость и невозможность данного отношения, поэтому
напряжение тотчас же переходит в ослабление, что внешне выражается в
смехе.
Шеллинг полагает, что вообще всякое переворачивание
первоначально данного имеет комическое действие. Он приводит
примеры подобного рода комических ситуаций: когда трус
становится в такое положение, что ему приходится быть храбрым, когда
жадному приходится быть расточительным, когда в доме жена и
муж меняются местами по своим функциям и т.д. Но таких
ситуаций множество, их невозможно всех охватить. Поэтому важно
определить "высшую точку" такого рода отношений. Она
находится там, где "вскрывается общая противоположность свободы и
необходимости, притом так, что необходимость попадает в субъект,
а свобода - в объект". (11, 419).
Но такое переворачивание является неестественным, не
соответствует самой природе необходимости и свободы. Поэтому в
комическом необходимость в субъекте может лишь "претендовать на
объективность", быть лишь "притворной абсолютностью". Хотя в
комическом необходимость принимает "видимость свободы",
подлинная объективная необходимость сохраняет свое действие, и конце
концов, уничтожает эту мнимую необходимость. Таким образом, в
комедии получает свое выражение "высшая судьба" и комедия
превращается в "высшую трагедию". (11, 420). Судьба в комедии
проявляется через обращение в природу, противоположную своей
собственной, как ирония, а не как "рок необходимости".
Задача комедии - сделать наглядной эту претензию, но
придать ей известную необходимость, что выражается в специальных
характерах, обладающих абсолютностью, а именно, в
общественных характерах. Личность в комедии как бы сбрасывает свой
персональный характер и становится общезначимой или
символической. Аристофановская комедия в этом плане есть
единственный высший вид комедии, поскольку она опирается на
общественные характеры действительных лиц и пользуется ими как
3 0 Глава 1
формой, "в которую она вливает свой замысел". Как пример
такого обобщенного или символического общественного характера
Шеллинг приводит изображение Сократа в комедии Аристофана
"Облака". Он считает, что поэтичность комедии Аристофана
заключается как раз в искажении действительного облика Сократа,
известное имя которого понадобилось Аристофану для того,
чтобы добиться правдоподобия, наглядности и доступности своих
замыслов.
Философское толкование Шеллингом природы комического
как перевернутого соотношения необходимости и свободы, в
котором необходимость получает характер "видимости", "притворной
абсолютности", но в конечном счете обнаруживает свою
подлинную объективную природу, представляется весьма глубоким.
Такой подход к комическому в дальнейшем был развит Гегелем.
Интересно и то, что Шеллинг за основу своего анализа берет
комическую ситуацию, в которой присутствует легко
обнаруживающееся противоречие. Несмотря на некоторую фрагментарность,
эти замечания Шеллинга относительно сущности комического
имели большое значение для развития теории комического.
Жан-Поль, писатель, близкий к романтикам, свое понимание
смешного в "Приготовительной школе эстетики" (1804) начинает
с критики определений смешного Канта, А. В. Шлегеля и самого
Шеллинга. Если кантовское определение просто очень
неопределенно, как считает Жан-Поль, то с романтиками он не согласен в
противопоставлении смешного серьезному (А. Шлегель), или
трагическому (Шеллинг).
Он также против выведения смешного из
противоположности необходимости и свободы (Шеллинг). Сам Жан-Поль
противополагает смешное возвышенному как малое -
бесконечно-великому. Но в "царстве морали" нет малого, поэтому для смешного
остается только "царство рассудка", а из всего этого царства
только одна его область - безрассудное. (12, 134). Но простая
безрассудность, как и простое заблуждение, не могут быть смешными,
необходимо, чтобы они получили чувственную наглядность.
Здоровый человек, считающий себя больным, станет смешным только
тогда, когда станет принимать чрезвычайные меры против своего
недуга.
Внутреннее стремление и сама ситуация, конфликт которых
продуцирует смешное, по мнению Жан-Поля, должны быть
одинаково наглядны, "чтобы довести до комических высот свое
противоречие друг другу". (12, 135). Если Санчо Панса целую ночь
провисел над неглубокой ямой, думая, что под ним пропасть, то его
поведение свидетельствует только о его рассудительности. Но
почему же мы смеемся? Потому, по мнению Жан-Поля, что "мы
придаем его устремлению свое ведение и видение и благодаря такому
Эстетические теории комического 3 1
противоречию производим на свет бесконечную несуразицу". (12,
135). Такая подстановка нашего знания о ситуации и о том, как
надо действовать в ней, под "чужое устремление" превращает
последнее в наглядно созерцаемое безрассудство, над которым мы и
смеемся. В таком случае фантазия выступает "посредницей"
между внутренним и внешним. Таким образом, комическое (оно
рассматривается Жан-Полем как синоним смешного), как и
возвышенное, "никогда не обитает в объекте, но всегда обитает в
субъекте". (12, 135).
Жан-Поль выделяет три составные части смешного как
чувственно созерцаемого бесконечного безрассудства: 1)
объективный контраст - противоречие устремления или бытия смешного
существа с чувственно созерцаемым положением дел; 2) само это
положение должно быть представлено чувственно; 3)
субъективный контраст образует противоречие между двумя предыдущими
моментами, которое мы навязываем комическому существу как
его второй ряд мыслей, ссужая ему свою душу и взгляд на вещи.
(12, 139). Из трех составных частей смешного Жан-Поль выводит
специфику комического удовольствия как "одновременного
наслаждения тремя рядами мысли, предстающими и
утверждаемыми в едином созерцании": это, во-первых, "наш собственный
истинный ряд"; во-вторых, "чужой истинный", в-третьих, "чужой
иллюзорный, который подставляем мы сами". (12, 146). Рассудок
словно играет этими тремя цепочками умозаключений "как
цветочными гирляндами", поэтому комическое есть наслаждение
свободного и раскованного рассудка.
Это наслаждение рассудка отличается от прочих его
удовольствий также тремя моментами: 1. Отсутствием сильного чувства,
что позволяет рассудку ничего не задевать, но и его ничего не
трогает (сохранение "безболезненного и безвредного"
Аристотеля). 2. Соседством комического и остроумия, самое важное
различие между которыми заключается в том, что остроумие (рассудок
остроумный) "перебирает лишь односторонние отношения вещей",
а рассудок комический - "многосторонние отношения лиц". (12,
146). В комическом также присутствует элемент чувственной
наглядности, отсутствующий в остроумии. 3. В комическое
наслаждение входит и "прелесть неопределенности", "щекочущее душу
колебание между мнимоприятным (ничтожеством чувственного
рассудка) и приятным (правильностью своего взгляда), причем то
и другое, будучи в нашей власти, тем сладостнее ...колет и дразнит
нас". (12, 147). Такова, в самых общих чертах, теория смешного
Жан-Поля.
Из определения комического как взаимодействия
объективного и субъективного контрастов Жан-Поль выводит различные
формы комического: юмор, иронию, бурлеск. При подчеркивании
3 2 Глава 1
объективного контраста, как это имеет место в эпосе, образуется
ирония, форма эпического комизма, в которой "эпическая
существенность должна придавать себе видимость некоего разумного
принципа". (12, 174). В иронии за видимостью серьезности
скрывается насмешка. Но ирония основана на сдержанности и
объективности, последняя дается тем труднее, чем комичнее сам
предмет иронии. Определенное равновесие объективного и
субъективного контрастов свойственно комической драме, комедии. В
комической лирике - перевес на стороне чувственности и
субъективного контраста. Тут юмор является в форме более низкой, как
каприз и бурлеск. Впрочем, Жан-Поль весьма вольно обращался
с данной классификацией, оставляя за собой право, с присущим
ему юмором, перемешивать все и вся.
Основное понятие поэтики комического Жан-Поля, да и всей
его эстетики, - понятие юмора, который основан у него на
бесконечном контрасте идеи разума и самого мира, конечного в целом.
Таким образом, юмор выходит далеко за пределы рассудка и
мира объектов. В юморе преобладает субъективный контраст как
ссужаемое смешному существу противоречие между
"подстановкой нашего знания" и его действием. Юмор как "возвышенное
наоборот" уничтожает не отдельное, а конечное через контраст
его с идеей. Для него нет отдельной глупости и глупцов, а есть
только Глупость и безумный мир. Он возвышает малое и унижает
великое. Жан-Поль наделяет юмор свойством целокупности или
всеобщности, юмор обладает "ничтожающей или бесконечной
идеей", он субъективен и чувственен. В своей основе юмор глубоко
серьезен, он вызывает смех, "в котором есть величие и боль". (12,
152). Этот юмор объединяет философский принципиальный смысл
и житейскую легкость. "Ирония, юмор, комическое выступают в
сопровождении Witz (юмора - М. Р.), слагаясь вместе с ним в
широкий принцип построения мира". Жан-полевский юмор
близок романтической иронии принципом преодоления
односторонности, своей свободой, произвольностью.
В понимании сатиры Жан-Поль часто противоречит сам
себе. С одной стороны, понимая ее в духе эстетики классицизма как
жанр дидактический и отличный от комического по содержанию,
он выводит сатиру за рамки комического. С другой стороны, при
конкретном анализе художественных произведений сатирические
произведения вовлекаются им в круг комических жанров, а
сатира рассматривается им как подвид комического. За пределы
комического Жан-Поль выводит также остроумие, посвящая ему,
однако, интересные страницы своей книги. Остроумие в широком
смысле включает в себя остроумие в узком смысле, которое
находит отношения сходства: проницательный ум, который
отыскивает отношения несходства; глубокий ум, "словно наивысшее, боже-
Эстетические теории комического 3 3
ственное остроумие", несмотря на всю видимость, познает их
полное тождество.
Главный интерес из всех рассуждений Жан-Поля о
комическом представляет, безусловно, его теория "подстановки" и
связанная с ней игра с контрастирующими рядами представлений.
Контраст, присутствующий в комическом, до Жан-Поля
приписывался только объекту комического. Жан-Поль перенес центр
комического контраста в субъективность, в сознание, в котором и
происходит процесс "подстановки" собственных представлений
смеющегося субъекта под действия и устремления смешного
персонажа. Важно, что эта подстановка, по мнению Жан-Поля, имела
определенное обоснование в объективной ситуации, в которую
попал смешной человек. В то же время Жан-Поль во многом
абсолютизировал субъективную сторону комического, представив ее в
гипертрофированном виде, как произвол и субъективизм. Но
заслуга его состояла в том, что он вслед за Кантом подчеркивал
активность субъекта комического. Критики концепции
Жан-Поля отмечали сложный интеллектуализм его теории комического.
Нашла отклик и дальнейшее развитие концепция смешного Жан-
Поля у эстетиков гегелевской школы (у А. Руге и Ф. Т. Фишера).
Сам Гегель обошел молчанием теорию Жан-Поля. Пристальным
вниманием толкование комического Жан-Поля пользовалось у
И. Фолькельта, Г. Геффдинга, Г. Лотце, Т. Липпса. Об этом
подробно пишет H.H. Сретенский в своей книге "Историческое введение
в поэтику комического" (4.1.Ростов-на-Дону, 1926. С. 19-27).
Г.В.Ф. Гегель
Систематическое изложение теории комического у Гегеля
отсутствует, к его характеристике он обращается в разных разделах
своей "Эстетики", по разным поводам. (13). Уже во "Введении" в
связи с анализом иронии Гегель дает предварительное
определение комического. Отмечая родственность иронии и комического,
он ограничивает сферу последнего тем, "что все, что уничтожает
себя, есть нечто в самом себе ничтожное, представляет ложное и
противоречивое явление - например, причуда, своенравие, каприз
отдельного человека по сравнению с могучей страстью или же
мнимое основоположение, мнимо твердая максима". (13, 1, 31). В
этом определении можно выделить три момента,
характеризующие комическое. Во-первых, содержанием комического является
"нечто в самом себе ничтожное", которое есть "ложное и
противоречивое явление". Во-вторых, момент самоуничтожения
явлением самого себя. И, в-третьих, перечисляя примеры комических
явлений, Гегель указывает на качество "мнимости". В дальней-
34 Глава 1
шем мы проследим, как Гегель, в основном сохраняя эти
характеристики комического, конкретизирует и дополняет их.
Гегель рассматривает иронию, как правило, в двух смыслах:
в контексте теории иронии иенских романтиков, к которой он
относился отрицательно, и в качестве "подлинной иронии", о
которой он говорит, например, характеризуя "Дон-Кихота"
Сервантеса как "осмеяние романтического рыцарства". Романтическая
форма иронии, взятая абстрактно, по мнению Гегеля, близко
затрагивает принцип комического.
Что же у них есть общего? То, что объект как комического,
так и иронии является чем-то ничтожным и пустым. Только
объект комического, его содержание обладает качеством
"ничтожности" в силу объективных причин - противоречивости своей
собственной природы. А ирония наделяет этим качеством всю
действительность без разбора, включая и все "великое и превосходное",
с высоты "божественной гениальности субъекта". Объект иронии
становится ничтожным произвольно, из-за субъективного
каприза ироника. Подлинной ирония является в том случае, если в
самом объекте ее заложена возможность насмешки над ним.
Общим для иронии и комического является также момент
самоуничтожения содержания какого-либо явления через форму
его проявления. Механизм этого саморазрушения таков: некое в
себе субстанциальное содержание обнаруживает себя в отдельном
лице и благодаря ему ничтожным и жалким. Все, в том числе
высокое и нравственное, самообесценивается через свое
проявление, реализацию в отдельных лицах, характерах, поступках в силу
их ничтожности и является иронией над самим собой.
Со стороны иронической субъективности механизм
саморазрушения выглядит следующим образом: иронический субъект
выносится за рамки событий, "драмы истории", он выступает
наблюдателем и единственным ценителем хода действия. Если он
вступает в отношения с окружающими людьми, участвует в событиях,
то все это остается внешним для него, не затрагивает ядро его
субъективности. Этим обуславливается несерьезное отношение
ироника к миру. Но человеку по его природе, замечает Гегель,
присуще "испытывать жажду чего-то прочного и субстанциального,
потребность в определенных и существенных интересах", возникает
"несчастное состояние", противоречие, связанное с тем, что
"субъект хочет войти в царство истины, носит в себе стремление к
объективности" и в то же время неспособен вырваться из
одиночества "абстрактной внутренней жизни". (13, 1, 72).
Результат саморазрушения объективного мира, переживание
которого составляло основу "самонаслаждения" ироника,
оказывается для него неожиданным. Этот процесс захватывает и его
самого, оборачивается для него серьезной трагедией, "страстным
Эстетические теории комического 3 5
томлением", "чувством ничтожности". Для комической
субъективности результат процесса самоуничтожения, как считает
Гегель, прямо противоположен соответствующему результату для
ироника. Комическая субъективность "благодаря самой себе
приводит свои действия к противоречию и разрушает их, но при этом
по-прежнему остается спокойной и уверенной в себе". (13, 3, 598).
В комическом саморазрушение обходится без ущерба для
субъекта.
Качество "мнимости" или "видимости" (третий момент
характеристики комического) свойственно и иронии, но имеет свой
особый смысл. В иронии ничтожность действительности есть
видимость, которая рождается произволом субъекта. В комическом
видимость носит более превратный характер. Ничтожное само по
себе явление претендует на нечто подлинное и субстанциальное,
не являясь таковым, тем самым создавая видимость, скрывая свое
истинное незначительное содержание.
Более подробно этот момент Гегель разбирает на примере
комедии в 3-м томе своей "Эстетики". При этом он дает такую
характеристику комического: "Поскольку комическое по самой своей
природе покоится на противоречащих контрастах между целями
внутри их самих и их содержанием, с одной стороны, и
случайным характером субъективности и внешних обстоятельств - с
другой, то комическое действие с еще большей настоятельностью,
чем трагическое, нуждается в разрешении. А именно
противоречие между истинным в себе и для себя началом и его
индивидуальной реальностью выявляется в комическом действии с еще
большей глубиной". (13, 3, 581). Разберем это положение
подробнее.
В характере содержания комического действия Гегель
выделяет три возможности с точки зрения взаимодействия
субстанциальности и субъективности. Это, во-первых, случай, когда цели и
характеры действующих лиц комедии лишены субстанции, т.е.
ничтожны на самом деле, как цели, так и характеры, хотя
последние при этом могут принимать "вид большой серьезности". Во-
вторых, противоположность субстанциальных целей слабости
средств их реализации, т.е. мизерности характеров, воплощающих
эти цели. В качестве третьего варианта Гегель называет
использование в комическом внешнего случая, провоцирующего
комические ситуации. (13, 3, 581).
Из анализа этих вариантов основы комического действия
следует предположить, что видимость субстанциального
характера цели и разрушение ее - это две стороны комического
эффекта. Видимость субстанциального характера цели
заключается в противоречии между ее подлинной субстанциальностью, то
есть ее сущностью, и проявлением этой цели в характерах, по
3 6 Глава 1
своей слабости неспособных к ее реализации. Но эта видимость
в комическом, как кажется, становится как бы видимостью "в
квадрате", так как на это первое "снижение" цели
(неадекватность между целью и средствами) - первая видимость -
накладывается ее претензия придать себе "вид и ценность
существенного" - вторая видимость. Поскольку Гегель говорит, что
"вообще невозможно извне высмеять то, что не имеет в самом себе
насмешки и иронии над собой", постольку процесс "снятия"
видимости, разрушения комического противоречия приобретает
характер саморазрушения. Закономерна сама необходимость
разрешения противоречия.
Конкретная форма процесса саморазрушения, как оно
произойдет в каждом отдельном варианте связана с внешним
случаем, определяющим многообразные комические ситуации,
конфликты и способы их разрешения. В процессе самоуничтожения
комическим самого себя клубок противоречий распутывается,
свернутая пружина распрямляется, заложенное в самом основании
комического противоречие снимается, происходит отрицание
отрицания. Цели возвращается ее настоящее достоинство,
уничтожается, раскрывается извращавшая ее видимость.
Гегель различает смешное и собственно комическое. Основу
смешивания того и другого он видит в том, что "не всякое
действие, лишенное субстанции, комично уже из-за своего
ничтожества". (13, 3, 579). Факт ничтожества как отсутствия
субстанциальных интересов еще недостаточен для собственно комического.
"Смешон может быть всякий контраст существенного и его явления,
цели и средств, противоречие, благодаря которому явление
снимает себя в самом себе, а цель в своей реализации упускает себя".
(13, 3, 579). Область смешного очень обширна - от пороков,
глупостей людей, от пошлых и плоских вещей до "значительнейших и
глубочайших явлений, если только в них объявится
какая-нибудь совершенно несущественная сторона, противоречащая
привычкам и повседневному созерцанию людей". (13, 3, 579). В
последнем случае, смех - это выражение "самодовольного
практического ума", ощущающего свое превосходство.
К собственно комическому Гегель предъявляет более
глубокое требование, ему свойственна "бесконечная благожелательность
и уверенность в своем безусловном возвышении над собственным
противоречием, а не печальное и горестное его переживание". (13,
3, 580). Если смешон может быть любой объект вне зависимости
от его значимости, уже в силу противоречия между его
сущностной природой и формами проявления последней, то комичным он
может быть только будучи ничтожным по самой своей природе.
Если объектом смеха выступает человек, то он может либо легко
и весело относиться к осмеянию себя, оставаясь уверенным в себе
Эстетические теории комического 3 7
и смеясь над собой вместе с другими, либо тяжело переживать
происходящее с ним, что становится предметом смеха со стороны.
В первом варианте смех наблюдателя является морально
оправданным, чаще всего благожелательным. Только такое положение
является для Гегеля собственно комическим. Второй случай
совсем не подпадает под гегелевское комическое.
Показательно, что Гегель связывает смешное как основу
комического и само комическое с противоречивой природой
явления. М.Ф. Овсянников, известный исследователь философии
Гегеля, отмечал, что комические и трагические конфликты
осмысляются у Гегеля как понятия, в которых отражаются противоречия,
специфичные для разных ступеней человеческой истории.
Комические и трагические конфликты характерны для кризисных
моментов истории. (14, 107-109). Само историческое движение
происходит посредством обострения различий до противоречия,
которое требует своего разрешения. Максимальное заострение этого
противоречия, конкретного для каждой эпохи и его разрешение в
более высоком синтезе, есть содержание трагического у Гегеля,
как полагает Т.Б.Любимова. (15, 63). Но трагическое не
существует без своей противоположности - комического, случайный ход
событий может обратить первое во второе и наоборот.
Комическое Гегель связывает с внутренним разложением
явления в самом себе, с той стадией развития явления, когда оно
перерастает самое себя, когда возникает потребность "обратиться
против того содержания, которое одно до сих пор обладало
значимостью. Так, Аристофан восстал против своего времени, Лукиан -
против всего греческого прошлого, а в Италии и Испании на
исходе средних веков Ариосто и Сервантес начали выступать против
рыцарства". (13, 2, 316). Продолжая гегелевскую мысль, можно
сказать, что если трагическое есть заостренное противоречие и
его разрешение, то комическое служит как бы средством этого
заострения, способствуя своими особыми методами разведению
истинных противоположностей, снимая видимость с явления,
выявляя его сущность. Это Гегель фиксирует в принципе
самоуничтожения комическим явлением самого себя.
Комическое искусство Гегель рассматривает исторически, в
процессе его развития. Подлинное начало драматической поэзии
он находит у древних греков, у которых впервые обнаруживается
сознание того, чем являются трагическое и комическое по своему
существу как "способы созерцания человеческих поступков".
Позже эти противоположности отделяются друг от друга,"пребывают
в устойчивом обособлении". Достигают вершины сначала
трагедия, а потом и комедия. Возникли же они обе из "низменного
фарса", грубых празднеств в честь Вакха. Фарс в его чистом виде
Гегель связывает с полным отсутствием серьезности в комиче-
38 Глава 1
ском действии. (13, 4, 447). Наиболее полное и яркое воплощение
собственно комическое находит в творчестве Аристофана (в этом
он идет вслед за романтиками).
Комические жанры искусства или жанры, близко к ним
стоящие, выступают у Гегеля как соответствующие стадиям
разложения форм искусства (символической, классической и
романтической). На стадии разложения символической формы комическое
начало присутствует в басне или загадке, эпиграмме. Разложение
классического искусства связано с сатирой как переходной
формой классического идеала, а распад романтического искусства — с
юмором.
В сатире, согласно Гегелю, обнаруживается образ
"противоположности между конечной субъективностью и выродившимся
внешним миром". (13, 2, 224). Она обуславливается нарастанием
субъективности, формированием самосознательного субъекта,
удовлетворенного только своей внутренней жизнью. В сатире нет ничего
поэтического, она насквозь прозаична и дидактична. "Здесь в
пустых декламациях стремится излиться дух добродетельной досады
на окружающий мир". (13, 2, 226). Более поэтичной сатира может
стать тогда, когда "она воссоздает перед нашим взором образ
испорченной действительности так, что эта испорченность
разрушается в самой себе вследствие собственной нелепости". (Там же). Из
приведенного высказывания видно, что принцип сатиры очень
близок принципу комического. Механизм саморазрушения
ничтожного в самом себе содержания тот же. Различие между
сатирическим и собственно комическим связано с свойственным сатире
разладом между абстрактным внутренним содержанием и внешней
объективностью. Сатира родственна комическому по характеру
рассматриваемых проблем, по типу противоречий, по способу их
снятия через обнаружение нелепости. Но в ней присутствует
серьезное, даже страстное отношение к предмету обличения, а это чуждо
комическому. В сатире чрезвычайно акцентированы
противоположности добродетельной субъективности и испорченной
действительности, и в силу этого они носят абстрактный характер. Отсюда
и неспособность их к примирению.
Заключительный этап романтического искусства, согласно
Гегелю, определяется внутренним разложением самого материала
искусства. Происходит распадение двух сторон искусства,
составляющих его понятие: с одной стороны, искусство переходит к
изображению обыденной действительности в ее текучести и
изменчивости, с другой стороны, "это искусство впадает в
полнейшую субъективную случайность понимания и изображения, в юмор,
как в искажение и смещение всякой предметности и реальности
посредством остроумия и игры субъективного взгляда на мир".
(13, 2, 287-288).
Эстетические теории комического 3 9
В юморе уничтожается всякая самостоятельность
объективного содержания, существенные связи между предметами не
принимаются во внимание. Юмор у Гегеля выступает как
определенное субъективное отношение к миру, как такое миросозерцание,
когда субъект, сосредотачиваясь на своей внутренней жизни,
остается равнодушен к внешней реальности. Порожденное этим
равнодушием произвольное манипулирование субстанциальными
связями между предметами может доходить до каприза, до "дурного
остроумия". Случайность и субъективность, согласно Гегелю, есть
основные характеристики субъективного юмора. Юмор, по
Гегелю, это средство, способное "расшатать и разложить всякую
определенность" ограниченного содержания отдельного
человеческого существования, которое есть предмет современного искусства.
Тем самым юмор как бы выводит искусство за его собственные
пределы.
Подводя итоги, можно сказать, что гегелевское собственно
комическое выступает абсолютной противоположностью
трагическому, если рассматривать в качестве принципа их поляризации
противоположность "смешное - серьезное", где серьезность
связывается с присутствием субстанциальности, а смешное - с ее
отсутствием. Но это в идеале. Конкретное функционирование
трагического и комического в действительности и в искусстве, их
развитие в истории обнаруживают тенденцию к их слиянию, к
конкретному тождеству, предполагающему сохранение
противоположностей. В основе эстетических категорий иронии, сатиры, юмора,
согласно их характеристике у Гегеля, лежит противоречие,
сходное с его комической формой. Для Гегеля эти категории рядопо-
ложены, они не находятся друг с другом в иерархической
зависимости. Но их корневое сходство с категорией собственно
комического и гегелевское понимание их места в системе эстетики
создают предпосылки для трактовки комического как родовой
категории по отношению к ироническому, сатирическому,
юмористическому.
Эту сторону теории комического Гегеля развил его
последователь Ф.Т. Фишер, который распространил на все комическое в
позднейшем понимании те особенности, которые Гегель связывал
с узко понимаемым комическим. У Фишера комическое
выступает уже в качестве родовой категории по отношению к фарсу
(наивно комическое), к остроумию (комическое рассудка), к юмору
(комическое разума). (16, 140-151). Ф.Т. Фишер противополагал
комическое не трагическому, как это было у Гегеля, а
возвышенному, следуя в этом за Жан-Полем. Но это противоположение
носит не абсолютный, а относительный характер. Так как всякое
возвышенное не свободно от недостатков, здесь содержится
возможность осмеяния даже самого высокого возвышенного. Фишер
4 0 Глава 1
фактически попытался соединить в своей теории комического
"объективизм" в этом вопросе Гегеля, делавшего упор в своей
концепции комического, в основном, на объекте комического, с
субъективизмом Жан-Поля. Теория комического Ф.Т. Фишера была
критически проанализирована и оценена в русской эстетике XIX
века Н.Г. Чернышевским.
А. Шопенгауэр
А. Шопенгауэр считал одной из своих заслуг решение
проблемы смешного. Его концепция смешного, действительно, очень
оригинальна. Термин "комическое" он употребляет очень редко.
Оно не является для него родовой категорией по отношению ко
всем видам смешного. Скорее, наоборот, комическое - это
специфический вид смешного, связанный с наиболее внешними и
примитивными его проявлениями, каковыми выступают, по мнению
Шопенгауэра, "шутовство и клоунские выходки". (17, 2, 96). В
основном, он говорит о смешном и о комедии. Воззрения на природу
смешного изложены А. Шопенгауэром в двух томах его
основного произведения "Мир как воля и представление". Некоторые
замечания по этому вопросу содержатся также в его книге "Парер-
га и паралипомена".
Теорию смешного философ включил в главу, посвященную
теории познания, рассматривая смешное, прежде всего, как
гносеологическое, интеллектуальное явление. (18). Его определение
смешного таково: "Смех всегда возникает не из чего иного, как из
неожиданного сознания несовпадения между известным
понятием и реальными объектами, которые в каком либо отношении
мыслились в этом понятии, - и сам он служит лишь выражением
такого несовпадения". (17, 1, 61).
"Реальный объект" у Шопенгауэра отождествляется с
представлением о нем. Это - "наглядные представления, связанные в
комплекс эмпирической реальности, которая в самой себе всегда
остается идеальной". (17, 1, 29). По его мнению, возможно
несовпадение и одного единственного реального объекта с тем
понятием, под которое он подводится, ибо такое подведение всегда может
быть осуществлено только в каком-то одном отношении, в других
отношениях объект и его понятие могут и не совпадать. Так
образуется их противоположность, и чем яснее она выражена, тем
сильнее эффект смешного. Парадоксальность (противоположность
реального объекта и его понятия) и неожиданность его
обнаружения в нашем сознании - важные характеристики смешного.
Значительную роль при этом играет фантазия, которая обнаруживает
это несоответствие мысли и феноменальной действительности.
Эстетические теории комического 4 1
Такое толкование смешного Шопенгауэр выводит из своей
теории двойного интеллекта. Человек, как он считал, обладает
двумя познавательными способностями - умом и разумом. (17, 1, 58-
64). Первое - это чувственное или созерцательное познание,
второе - рефлектирующее или мыслящее. Ум оперирует
созерцательными представлениями, разум - представлениями
представлений или понятиями. Понятия похожи на созерцательные
представления в той мере, в какой сказывается их происхождение из
последних, и в какой они являются их отражениями.
Одновременно понятия совершенно не похожи на созерцательные
представления, даже противоположны им, так как понятия по своей
природе являются отвлеченными и абстрактными, а созерцания
конкретны и наглядны. Такое же двоякое отношение существует
между созерцательным и отвлеченным (абстрактным)
познанием. На согласии того и другого основывается истина
человеческого познания и серьезность воззрения на жизнь, на их несогласии
(контрасте) - смешное во всех его проявлениях.
Таким образом, у Шопенгауэра смешное оказывается
противопоставленным истине в познании, а значит, связано с ложью.
Это, во-первых, а во-вторых, смешное у него - результат осознания
несоответствия одного представления, наглядного, другому
представлению, абстрактному. Поэтому смешное помещено в сферу
иллюзий человека о мире и оно обнаруживает эту иллюзорность
иллюзии человеческого познания и сознания вообще. Смешное -
это точка, где приоткрывается тайна "покрывала майи",
становится очевидной иллюзорность человеческого сознания.
Там, где нет понятий, не может быть и смешного. Животные,
не имеющие рефлексии, сознания, не смеются. Шопенгауэр
выделяет два рода смешного: смешное в мысли - остроту, для которой
характерен переход от реального к понятию при раскрытии их
несовпадения, и смешное в поступке - глупость или нелепость, при
которых акцентируется переход от понятия к реальному. К
первому роду смешного, остроте, примыкает или является ее
"незаконной" разновидностью каламбур (двусмысленность, игра слов). Тут
два различных понятия, пользуясь случайностью, соединяются в
одно слово, контраст возникает тот же, но бледнее и поверхностнее,
ибо его источник уже не в существе дела, а в случайности
наименования. (17, 1,64).
При остроте тождество заключается в понятии, различие - в
действительности; при двусмысленности, наоборот, различие - в
понятиях, а тождество - в действительности. Острота бывает
невольной и намеренной. Разновидность остроты - двусмысленность
(каламбур, игра слов) - может носить как невольный, так и
намеренный характер; шутка и пародия - только намеренный.
Несколько особняком стоит смешное "ассоциации идей": это тот
4 2 Глава 1
случай, когда понятие, под которое подводится наглядный акт, не
нуждается в словесном выражении или ином указании, а само
приходит на ум (например, вид животных наводит на мысль об их
сходстве с человеком).
Смешное у Шопенгауэра противополагается серьезному.
Сочетание наиболее чисто выраженного смешного, шутки, и серьезного
порождает самые сложные формы смешного: юмор и иронию.
"Если шутка прячется за серьезное, то получается ирония", а юмор -
"это серьезное, спрятанное за шуткой". (17, 2, 96). Ирония
объективна, рассчитана на других, юмор субъективен и ориентирован на
наше собственное "Я". Юмор признается самым "высоким"
смешным, по природе своей связанным с возвышенным и глубоким
пониманием жизни, для него необходима полная духовная свобода.
Такова продуманная и последовательная классификация форм
смешного Шопенгауэра. Смешное поступка (глупость)
используется в комедии, поскольку театральная пьеса основывается на
действии. С обращением к пониманию Шопенгауэром комедии мы
оказываемся в сфере его эстетики. У Шопенгауэра есть развернутая
теория трагедии, в которой он видит вершину поэтического
искусства, отражение в искусстве мировой воли, главного "действующего
лица" его философии. В целом отношение Шопенгауэра к комедии
резко отрицательное, так как примиряет с жизнью, показывая ее
светлую сторону. А это находится в противоречии с пессимизмом
его философии, усматривающей сущность жизни - в страдании, а
предназначение человека - в преодолении страдания, что для него
означает отказ от жизни со всеми ее горестями и радостями. Удел
комедии - только развлечение публики, и
презрительно-снисходительное отношение к ней Шопенгауэра смягчается только
сознанием ее необходимости для народа для заполнения его досуга.
В заключение характеристики теории смешного
Шопенгауэра следует отметить несомненную ценность некоторых его идей
о смешном. Исключительно показателен исходный пункт его
концепции - несовпадение понятия и действительности, мыслимого
и реального, который сразу же обозначает сферу действия
смешного как ложь и иллюзию, которые получаются в результате
активной деятельности человека по освоению мира. В этом пункте
его теория перекликается с концепцией комического Гегеля с его
"мнимостью" как моментом в движении комического, хотя
последний воспринимался Шопенгауэром как собственный
"антипод". И то, что Шопенгауэр отнес смешное целиком к области
гносеологии, конечно, слишком ссужает сферу эстетического, она
гораздо шире, она почти как сама жизнь, тем не менее это для
комического "точный адрес" в том смысле, что комическое, смех и
смешное в его развитом виде есть, безусловно, результат развития
разума и познавательных способностей человека.
Эстетические теории комического 4 3
А. Бергсон
А.Бергсон написал о смехе замечательную книгу, которую
так и назвал "Смех". (19). Вначале оговариваясь, что не ставит
своей целью окончательное решение проблемы комического,
выведение формулы смешного, тем не менее, он пытается найти
формулу смеха и вывести из нее все разновидности комического.
Понятия смешного и комического он не разграничивает, они
выступают у него, как тождественные.
Бергсон предваряет свое исследование тремя замечаниями о
том, где следует искать комическое. Первое условие: "нет
комического вне человека". Второе условие: смешное требует
"кратковременной анестезии сердца". Сильные эмоции убивают смех (жалость,
сочувствие, например). "Равнодушие - его естественная среда". (19,
98). Смешное обращается к чистому разуму. Но этот разум должен
находиться в общении с разумом других людей. Смешное не
может нравиться одинокому человеку. Отсюда вытекает третье
условие возникновения комического - коллективный характер смеха:
"Наш смех - это всегда смех той или иной группы". (19, 99).
Общественным характером смеха обусловлена его полезная
функция: смех является, по мнению философа, чем-то вроде
наказания тем людям, которые не могут приспособиться к данному
обществу, за это общество наказывает смехом своих нерадивых
членов. Смех - это род наказания за неприспособленность, за
косность и автоматизм, за отсутствие гибкости в приспособлении.
Если гибкости лишено тело, то это приводит к несчастным
случаям, болезням и уродствам. Если ее лишен ум, то это влечет за
собой психическое убожество. Если нет гибкости в характере, то
это оборачивается неприспособленностью к общественной жизни,
что является источником нищеты и преступлений. Косность
может заключаться не только в самой личности, но и вызываться
внешними обстоятельствами (к примеру, человек нечаянно упал,
наступив на камень, прохожие смеются).
Определяющая формула комического по Бергсону такова:
комическое есть "живое, покрытое слоем механического". (19, 116).
Жизнь, успешное существование в обществе требуют постоянного
обновления, которое может быть привнесено в инертную материю
только "соприкосновением с живым духом". (19, 111). Только
душа животворит тело. Но материя противится этому, тянет в свою
сторону, на путь инертности, автоматизма. Бергсон связывает
негативные качества механической косности и автоматизма с
материей, а живое, всегда бодрствующее начало - с духом. Таким
образом, он свою теорию помещает в контекст своей философии,
которая утверждает приоритет духа над материей, жизни над
познанием, интуиции над разумом и рассудком. (20).
4 4 Глава 1
Смешное, для Бергсона, не чисто эстетическое явление. Оно
выполняет "полезную цель общего совершенствования", часто
даже нарушая требования морали. "Смешное есть нечто,
колеблющееся между жизнью и искусством". (19, 107). Но формула
смешного ("живое, покрытое слоем механического") не развертывается,
как полагает Бергсон, "с должной правильностью". Из нее
вытекают преобладающие комические эффекты (модели), около
которых, в свою очередь, "по кругу" располагаются другие, сходные с
ними (по принципу родства) эффекты, но последние
непосредственно из формулы выведены быть не могут.
Бергсон рассматривает три главных направления получения,
выведения многочисленных форм смешного. Первое направление
- это неловкое подражание гибкости жизни. Пример тому: мода,
для которой характерны выработка и распространение
привычного отношения к определенному рода платью. Комическое тут
пребывает в скрытом состоянии и становится явным только при
очевидном отклонении от моды (экстравагантность, чудачество в
одежде). В этом случае проявляется эффект "переряживания",
вызывающий комические эмоции. Второй путь из той же исходной
точки - формулы комического - начинается с представления о
теле, как о "стеснительной оболочке для души". Отсюда вытекает
основной закон: "Комично каждое, привлекающее наше
внимание, проявление физической стороны личности, когда дело идет о
ее моральной стороне". (19, 123). Пример: оратор, чихающий в
самый патетический момент своей речи. Если расширить
представление о "теле, берущем перевес над душой", то, согласно
Бергсону, можно получить нечто более общее: "Форму, стремящуюся
господствовать над содержанием, букву, спорящую с духом". (19,
125). Третье направление базируется на переходе от точного
понятия механизма к неопределенному понятию вещи вообще. Смех
вызывается в этом случае "мгновенным преображением личности
в вещь". Мы смеемся над Санчо Пансой, которого подбрасывают,
как мячик, и над клоунами, колотящими друг друга по голове и
т.д.
В основе другой классификации модификаций комического
у Бергсона (комическое форм и движений, комическое
положений, речи или слов, комическое характеров) лежат три приема,
дающие комический эффект: повторение, инверсия
(перестановка) и "интерференция серий" (тут комическое возникает на
пересечении двух серий независимых друг от друга событий и может
быть истолковано одновременно в двух различных смыслах).
Простое повторение само по себе не смешно, оно вызывает смех
потому, что символизирует "особенную игру элементов морального
свойства", за которой скрывается игра вполне вещественного
порядка. (19, 135). Инверсия образуется при перемене ролей тогда, ко-
Эстетические теории комического 4 5
гда "данное положение превратится в свою противоположность".
(19, 147). Примеры: обманутый обманщик, обкраденный вор.
Весьма интересно замечание Бергсона в связи с этим: "Комическая
сцена, воспроизводимая часто, переходит в разряд "категорий",
становится образцом". (19, 148). Она становится забавной сама по
себе, независимо от тех причин, которые ее сделали смешной.
Ситуация "обкраденный вор" излучает комизм на многие другие
сцены, делает смешной всякую неудачу, которая постигает
пострадавшего по своей вине.
"Интерференция серий" основана на ошибке действующих
лиц, на двусмысленности, которая смешна только потому, что
обнаруживает совпадение двух независимых рядов. Например, в
театральной пьесе один смысл - возможный, который придают
событию актеры, а другой смысл - действительный, который
придает ему публика. (19, 149). Нетрудно заметить, что эти три приема,
как их описывает Бергсон, основаны на игре противоречиями и
видимостью. "Каждую минуту все готово рухнуть, но все снова
приходит в порядок; и эта-то игра и вызывает смех в гораздо
большей степени, чем колебания нашей мысли между двумя
противоречивыми суждениями". (19, 150). Колебание между
противоречивыми суждениями - средство сделать видимой
"интерференцию серий".
Существуют, согласно Бергсону, два крайних предела
сравнения - очень большое и очень маленькое, наилучшее и наихудшее.
Ссуживая постепенно промежуток между ними, получаем
пределы с контрастом все менее и менее резким и эффекты
комического все более и более тонкие. Наиболее общее из этих
противоположений - противоположность между юмором и иронией. Ирония
состоит в том, чтобы, притворяясь, говорить о должном как о
существующем в действительности. Когда же действительное
описывается как должное, тогда речь идет о юморе. Ирония и юмор -
формы сатиры.
К впечатлению от комического, несмотря на его обличающий
характер, примешивается симпатия как следствие рассеянности,
но только на мгновение. Это мгновение дает нам
кратковременное "отдохновение от жизни". В нем Бергсон видит источник
удовольствия от смешного. Удовольствие от комического связано
также с особой, иллюзорной природой комической нелепости,
которая, по Бергсону, не создает смешного, как полагали некоторые
философы, а скорее, наоборот, происходит от него, является
следствием автоматизма и косности как причины смешного. Дон-Кихот
~ образец общего типа комической нелепости, в котором
доминирует навязчивая идея. "Комическая нелепость одинакова по
своей природе с нелепостью грез". (19, 199). Комическая иллюзия
есть иллюзия грезы, а логика комического есть логика сновиде-
4 6 Глава 1
ния. Игру грез будет напоминать всякая игра идей, и поэтому она
будет нас забавлять. Эти идеи воспринял и развил в своей теории
остроумия и комического З.Фрейд.
Такова в самых общих чертах теория комического Бергсона.
Самое в ней замечательное то, что Бергсон пытается подойти к
комическому систематически и даже создать целую систему
комического. Такой подход можно только приветствовать,
вызывает сомнение, однако, ее главный системообразующий принцип. Этот
один системообразующий принцип - ядро комического -
является формулой комического ("живое, покрытое слоем
механического"). Этот принцип непосредственно вытекает из его философии
жизни как творческого порыва и фиксирует ее основное
космическое противоречие между "живым" и "мертвым" для
комического ("механическое" выступает как признак мертвого).
Провести этот принцип в качестве основного через
различные проявления комического Бергсону удается потому, что этот
частный вид противоречия все время негласно подменяется
противоречиями более общего порядка (формы и содержания,
причины и следствия, индивидуального и общего, естественного и
искусственного и т.д.). Но сам Бергсон настойчиво повторял, что
противоречивость есть следствие, а не причина смешного, только
средство для обнаружения сущности смешного. А сама сущность
вне противоречия. Очевидно, что это не так, даже исходя только
из анализа взглядов Бергсона на смех. Противоположность
живого механическому подразумевается и предшествует факту
"наложения" механического на живое. Вся теория комического
Бергсона, вопреки его утверждениям, оказывается теорией,
объясняющей смешное из одного вида противоречия.
Особо следует отметить его идеи о "логике комического",
схожей с "логикой сновидения", связанной с воображением и
фантазией, с "игрой ума"; а также идею о выработке стереотипных
комических ситуаций; об обрядовой стороне общественной жизни,
которая заключает в себе комизм в скрытой форме; о связи
комических ситуаций с детской игрой. Все эти идеи можно
плодотворно использовать при дальнейшей разработке теории
комического. Взгляды Бергсона оказали большое влияние на дальнейшее
развитие теории комического в современной западной эстетике
(например, Е. Обуэ, К.Краузе и др.) (21, 17).
Во второй половине XIX века возникает и устойчиво
держится интерес к психологическим особенностям комического.
Основы такого подхода (психологического) были заложены
Р.Декартом (трактат "О страстях души"), Т.Гоббсом и И.Кантом. Но
уже со времен Гиппократа известны попытки объяснить смех
физиологическими причинами). Это направление в исследовании
комического можно назвать субъективно-психологическим, так как
Эстетические теории комического 4 7
основной предмет исследования здесь - это восприятие
комического субъектом. К этому направлению можно отнести работы
философов, ученых-естествоиспытателей, биологов и психологов
(Г. Спенсера, Т.Рибо, Ч.Дарвина, Д.Стюарта, Г.Геффдинга), а также
представителей психологической школы в эстетике (Т.Липпса, К.
Грооса и др.) Остановимся на некоторых, наиболее характерных и
интересных концепциях такого рода.
Г. Спенсер и Т. Липпс
Г.Спенсер рассматривал слезы и смех как функциональные
потребности организма. "Слезы и смех происходят от избытка
мозгового кровообращения и производят одинаковое действие -
уменьшение этого избытка". (22, 13). Когда артерии, приносящие
кровь к мозгу, значительно расширяются от приятного
душевного волнения, результатом бывает смех. Если имеют место
тягостные душевные волнения, результатом оказываются слезы. Смех
вызывается не только приятными чувствами. Сардонический и
истерический смех связаны с отрицательными переживаниями.
Смех представляет собой освобождение некоего избытка
нервной энергии, который скапливается при сильных эмоциональных
всплесках, через мышцы рта, речевого аппарата, мимические
мышцы и двигательную мускулатуру. Комическим смех становится
тогда, "когда сознание неожиданно обращается от великого к
мелкому...только в том случае, который можно было бы назвать
нисходящей несообразностью". (23, 16). "Восходящая несообразность"
смеха не вызывает, производя на мышечную систему прямо
противоположное действие. Она возбуждает удивление,
сопровождающееся ослаблением мускулов, а не их возбуждением.
Теория смеха Спенсера как освобождения излишка нервной
энергии оказала значительное влияние на немецкого эстетика и
психолога Теодора Липпса, посвятившего данной проблеме книгу
"Комическое и юмор". (24). "Комично то, что выражает
притязание быть великим и значительным, что принимает внешний вид
великого, чтобы потом внезапно обратиться в ничто". (25, 387). То,
что комичное принимает внешний вид великого, в сильной
степени возбуждает внимание, которое затем, как бы играя, внезапно
обнажает ту "относительную бессодержательность", в которую
обращается комическое. Вызываемая этим легкость смены
душевных движений служит основой своеобразного чувства комической
веселости. Липпс ссылается здесь на "закон психического
затора", при котором подмена одной ценности другой пробуждает
интерес и внимание, вследствие своей необычности, способствуя
концентрации "психической энергии".
4 8 Глава 1
В комическом вследствие ожидания чего-то значительного
происходит особая трата "психической энергии". Когда же мы
осознаем, что комическое лишено существенного значения,
образуется излишек "психической энергии", необходимый для его
понимания. Таким образом, комическое легко побеждается, отсюда
возникает чувство "легкого удовольствия". (В этих положениях
Липпса отчетливо проступает влияние Канта, полагавшего, что смех
образуется в результате разрешения ожидания в ничто). В
переживании комического, как считает Липпс, всегда есть больше или
меньше оснований для чувства неудовольствия, разочарования.
Поэтому чувство комического имеет смешанный характер
удовольствия и неудовольствия. Комическое Липпс относит к сфере
уродливого, которое основывается на "прочувствованном в
созерцании объекта отрицании жизни", в то время как красота есть
"прочувствованное в созерцании объекта и явно с ним связанное
свободное утверждение жизни". Как нечто только отрицательное,
комическое не может быть само по себе эстетически ценным. Оно
становится таковым только как часть юмора. Сквозь комическое
в юморе просвечивает нечто относительно возвышенное, нечто
дельное, хорошее, честное, здравое и естественное. Благодаря
комическому положительное в юморе производит более интенсивное
впечатление. Чувство юмора является одной из разновидностей
чувства возвышенного, в нем смех сплетается с уважением или
любовью.
Т.Липпс выделяет три вида юмора. На первом месте стоит
"примиренный или оптимистический юмор", это - юмор в узком
смысле слова. Он примирен в своих положительных моментах с
отрицательными, комическими моментами. Противоположна ему
- сатира (второй вид), в которой великое и хорошее побеждает
смешное и отрицательное, срывая с него маску. Третий вид
юмора - это ирония, в которой смешное в своем развитии приводит
самое себя к абсурду и тем самым показывает свое преклонение
перед разумом. Комичность может быть свойственна
индивидууму как таковому, или же она может быть делом случая - судьбы.
В зависимости от этого можно различать комическое характера и
комическое судьбы. Этой противоположности соответствует
противоположность юмора характера и юмора судьбы. (26).
К. Гроос
Интересную попытку синтеза достижений психологической
школы эстетики в объяснении комического и традиционного
понимания этой категории в немецкой классической эстетике
предпринял последователь Т.Липпса Карл Гроос. Свои взгляды на сущ-
Эстетические теории комического 4 9
ность комического он изложил в книге "Введение в эстетику"
(1892), которая в 1899 году была переведена и издана на русском
языке. (27).
Вся теория комического Грооса основывается на трех
предпосылках: во-первых, на выяснении внеэстетической основы
комического; во-вторых, на анализе средств, которые
благоприятствуют осуществлению комического; в-третьих, на рассмотрении
самого психологического процесса возникновения комического. Вне-
эстетическая основа комического определяется наличием в нем
как положительного момента, включающего в себя что-то
нелепое (объект комического), и субъективную реакцию на эту
нелепость (субъект комического). Отрицательное условие сводится к
отсутствию при восприятии комического сильных аффектов
(например, ужаса, сострадания и др.)
Значительное место Гроос отводит в своей работе
доказательству того, что внеэстетическая основа комического заключается в
нелепости, вызывающей приятное чувство собственного
превосходства. Для этого он использует следующую классификацию
видов нелепости. Последняя бывает двоякого рода: "нелепость во
внешнем проявлении" и "нелепость (ненормальность) в духовной
сфере". "Нелепость во внешнем проявлении" включает в себя
"неподвижную и подвижную внешность", а "нелепость в духовной
сфере" также содержит в себе "нелепость в физическом
существовании и слове". (27, 288).
Гроос объясняет свой выбор слова "нелепость" для
характеристики внеэстетической основы комического тем, что понятие
"нелепое" кажется ему более широким, чем обычно
употребляемые понятия "противоречивое", "бессмысленное", "нелогичное".
(27, 290). Понятие противоречия Гроос связывает исключительно
с логическим противоречием, не принимая во внимание
диалектического противоречия, введенного в философию Гегелем. Он
полемизирует с гегелевской точкой зрения на комическое как на
"самоуничтожение противоречивого", считая, что так можно
объяснить лишь некоторые случаи комического, но распространять
это объяснение на все комическое ошибочно.
Для Грооса очень важен вопрос: при каких условиях
нелепость достигает наиболее сильного комического действия?
Субъективное восприятие комического складывается, как он полагает,
из двух моментов: из состояния смущения, которое вызывается
поражающей нас нелепостью, и из радостного чувства
превосходства над нелепым. Кантовский тезис о содержащемся в шутке
мгновенном заблуждении Гроос распространяет на все
комическое. "Нелепое сочетание не распадается при первом же
брошенном на него взгляде без всякого сопротивления, напротив, мы
должны преодолеть известное сопротивление: комический объект при-
5 0 Глава 1
творяется, будто его противоречащие друг другу части находятся
в самой мирной и правильной связи, и лишь после того, как эта
мнимая связь нами разорвана, мы начинаем вполне испытывать
чувство нашего превосходства". (27, 300).
Из данной цитаты видно, что, отрицая вначале
"самоуничтожение противоречивого", Гроос затем, фактически, принимает этот
момент, но акцент делает на психологической стороне дела.
Субъективное крушение комического субъекта, по Гроосу, происходит
внутри созерцающего в результате познания нелепости объекта.
Само комическое при этом остается совершенно не затронутым.
Таким образом, Гроос переносит процесс самоуничтожения
комического в сам воспринимающий субъект. Объективные
предпосылки для такого субъективного процесса - в виде
самоуничтожения комического объекта - Гроос не признает необходимыми,
хотя они и могут иметь место, даже усиливая веселое настроение.
(27, 303). Например, толстяк, объясняясь в любви, бросается на
колени, а потом не может подняться. Это объяснение в любви
производит комическое впечатление. Усиливает веселое чувство
то обстоятельство, что нелепое и странное кажутся чем-то
естественным, а также то, что "нелепость врывается в наше сознание с
быстротой молнии". (27, 303). Гроос поясняет это: "Чем теснее
связь между противоречащими друг другу частями, тем больше
будет их напряжение, тем с большим треском они разлетятся при
более вдумчивом отношении с нашей стороны и тем выше ценим
победу над нелепостью". (27, 303).
Психологический процесс восприятия комического, по
Гроосу, включает в себя три стадии. Первая (смущение) - это самое
первое впечатление от комической нелепости, которое
озадачивает нас. Вторая стадия (просветление) продолжается от момента
смущения до того, когда нелепость, наконец, нами замечена.
Смущение является в то же время и напряжением. Но тут вдруг
"мыльный пузырь", представившийся нам "массивным шаром",
внезапно лопается, смущение исчезает и наступает осознание
собственного превосходства над нелепостью. Третья стадия и есть
собственно наслаждение чувством превосходства, она начинается
тогда, когда "просветление" завершилось. Продолжительное
чувство веселья заключается в том, что мы, продлевая удовольствие,
повторяем вновь и вновь эту смену напряжения разрешением его
до тех пор, пока контраст между ними не становится все слабее и,
наконец, наступает покой. Как отмечает сам Гроос, такое
психологическое объяснение восприятия комического восходит к кантов-
скому его пониманию как игре ошибкой, подобной игре в мяч.
На вопрос - насколько этот душевный процесс является в то
же время и эстетическим? - Гроос отвечает в соответствии со
своими общетеоретическими взглядами. Ядро эстетического созерца-
Эстетические теории комического 5 1
ния, его сущность, согласно ему, составляет "игра внутреннего
подражания", которая являет собой особый активный имитационно-
моторный и эмоциональный вид вчувствования субъекта в
объект. (28). Если "вчувствование" трактовалось Т.Липпсом, одним
из основателей этой теории, как непосредственное
чувственно-интеллектуальное понимание воспринимаемого (последнее в силу
особенностей нашей психики наделяется привносимым
содержанием), то Гроос делает акцент на органической и мускульной
природе вчувствования. У него "внутреннее подражание" является
символом "внешнего подражания", которое во многом сводится к
двигательным ощущениям. При внимательном самонаблюдении,
как он считает, можно уловить внутреннее "приспосабливание" к
воспроизводимым восприятиям, которое включает в себя, прежде
всего, мускульные иннервации и эмоциональные состояния.
Поэтому только на второй стадии психологического
процесса восприятия комического - от "смущения" до "просветления" -
комическое приобретает собственно эстетический характер. Ведь
только вторая стадия основана на "внутреннем подражании". На
первой стадии объект отталкивает наше "Я", на третьей стадии
наше "Я" со смехом оставляет объект. Только на второй стадии
наше "Я" переносит себя в объект: "если желаем овладеть
нелепостью, мы должны хоть на короткое время поддаться ей". В этом
и будет заключаться деятельность "внутреннего подражания".
В эстетическом состоянии мы стремимся, по мнению Грооса,
совершенно забыть себя в нелепом объекте и путем подражания
стать причастными к его глупости. Если во внеэстетическом
смехе центр тяжести лежит в насмешливом, не братском
возвеличивании себя, то эстетический смех облагораживает наслаждение
комическим, в нем гуманнее и мягче выражается наше
превосходство. Когда же чувство нашего превосходства оттеснено
совершенно, "смеющийся фарисей превращается в смеющегося
мытаря" и комическая точка зрения сменяется юмористической. (27,
311).
Наиболее ценным в теории комического К.Грооса, как и в
теориях других представителей психологической школы,
представляется разработка именно психологических аспектов восприятия
комического. В целом, концепция трех стадий созерцания
комического объекта Грооса выглядит очень убедительной. Особенно
интересна она потому, что, фактически, весь психологический
процесс восприятия комического в единстве 3-х стадий содержит в
своей основе, как объективное его условие, механизм
"самоуничтожения противоречивого", и является его аналогом со стороны
субъекта.
5 2 Глава 1
3. Фрейд
Зигмунд Фрейд, основоположник психоанализа, продолжил
традицию психологической интерпретации комического и
остроумия, заложенную трудами Спенсера, Липпса, Грооса и др. Фрейд
в своей книге "Остроумие и его отношение к бессознательному"
(написанной в 1905-м и переведенной на русский язык в 1925-м
году) широко использует теории комического Ф.Т.Фишера,
К.Фишера, А.Бергсона, Жан-Поля и др. Но интерес его сосредоточен, в
основном, вокруг психологического аспекта удовольствия от
остроты, комизма, юмора.
Методологически важным пунктом для нашего изложения
фрейдовской концепции является точная характеристика этого
произведения Фрейда, данная Л.С. Выготским. Отмечая, с одной
стороны, произвольность энергетического толкования у Фрейда всех
видов комического переживания (остроты, комизма, юмора),
сводящего все к экономии в затратах психической энергии, Л.С.
Выготский, с другой стороны, признает, что "анализ этот вполне отвечает
найденной нами формуле катарсиса, как основе эстетической
реакции. Остроумие для него - двуликий Янус, который ведет мысль
одновременно в двух противоположных направлениях. Такое же
расхождение наших чувств, восприятий отмечает он при юморе и
при комизме; и смех, возникающий в результате подобной
деятельности, является лучшим доказательством того разрешающего
действия, которое остроумие оказывает на нас."(29, 297).
Сам процесс анализа, доказательства того или иного
положения у Фрейда оказывается зачастую важнее и плодотворнее, чем
сами выводы, результаты анализа, которые Фрейд стремится во
чтобы то ни стало согласовать с основными идеями
психоанализа. Одним из самых важных для нас моментов в концепции Фрейда
является раскрывающаяся в процессе анализа двойственная
природа комического, остроумия, юмора.
Работа Фрейда содержит в себе три части: аналитическую, где
им рассматривается техника и тенденции остроумия;
синтетическую, включающую описание механизма удовольствия и
психогенеза остроумия, а также характеристику остроумия как
социального процесса; теоретическую часть, в которой освещается
отношение остроумия к сновидению и бессознательному, а также
проблема взаимосвязи остроумия и видов комического, которая нас
особенно интересует. Изложим кратко содержание первых частей книги,
чтобы стала ясна трактовка Фрейдом и последнего вопроса.
Фрейд тщательно и остроумно анализирует многочисленные
остроты, завершая эту эмпирическую часть своего исследования
развернутой классификацией техники остроты. Эта
классификация включает в себя выделение острот словесных (этому подвиду
Эстетические теории комического 5 3
соответствуют такие основные приемы образования острот и их
многообразных модификаций, как "сгущение", "употребление
одного и того же материала" и "двусмысленность" (30, 54); а также
острот по смыслу (основные приемы - "передвигание", "ошибки
мышления", "бессмыслица", "непрямое изображение",
"изображение при помощи противоположности" (30, 114)).
Если техника остроты характеризует ее со стороны формы,
то со стороны ее содержания определяющими являются, по
мнению Фрейда, тенденции остроумия, которые подразделяются им
на безобидную остроту (острота как самоцель) и тенденциозную
остроту, включающую в себя, в свою очередь, враждебную остроту
(агрессивность, сатира, оборона), скабрезную, циничную и
скептическую. Скептическая острота выражает сомнение или критику
надежности нашего познания, а циническая - критику святости
авторитетов в обществе. При безобидной остроте удовольствие
вызывается исключительно техникой остроумия, которая позволяет
избежать логического контроля, что приводит к экономии
нервной энергии. Приемы остроумия направлены на то, чтобы
логически верную мысль выразить логически неверным способом. Само
понимание этого контраста непосредственно доставляет
удовольствие. При восприятии тенденциозной остроты к удовольствию
от техники остроумия добавляется удовольствие от реализации
обычно сдерживаемых сексуальных и агрессивных влечений при
помощи остроумия, которое благодаря своим приемам, создающим
некий "фасад" пристойности и логичности, может избежать
"цензуры" воспитания, культурных, этических норм и т.д. Экономия
энергии, лежащая в основе подобного удовольствия, образуется от
устранения необходимости подавления и торможения
агрессивных и половых стремлений, открытое проявление которых
осуждается в обществе.
Все те процессы, которые участвуют в создании остроты ("пе-
редвигание", непрямое изображение, сгущение, бессмыслица и т.д.)
аналогичны, по мнению Фрейда, процессам, свойственным
сновидению. Но при всем сходстве остроумия и сновидения у них есть
существенные различия, важнейшее из которых заключается в
различии их социального статуса. "Сновидение является
совершенно асоциальным душевным продуктом; оно не может ничего
сказать другому человеку.. .Острота является, наоборот, самым
социальным из всех душевных механизмов, направленных на
получение удовольствия" (30, 241). В этом уподоблении остроумия
сновидению есть рациональное зерно. Фрейд первым предположил,
что остроумию присущи все особенности подсознательного
процесса, хотя идея о связи остроумия и интуиции существовала уже
У Жан-Поля и Шопенгауэра, а логику комического уподобил
"логике сновидения" А.Бергсон.
5 4 Глава 1
Острота имеет ярко выраженный характер "пришедшей в
голову мысли", человек испытывает при этом что-то подобное
"внезапному разряду интеллектуального напряжения", после
которого сразу оказывается созданной острота, в большинстве случаев
одновременно со своей оболочкой. Для создания и
воспроизведения остроты, по Фрейду, необходимы три лица. Первое лицо - это
сам создатель остроты; второе лицо — на которое направлена
острота (если объектами выступают вещи или животные, происходит
процесс персонификации, отождествления последних с какими-
либо проявлениями человека); третье лицо - это тот, кому
рассказывается острота и кто получает от нее удовольствие, кто
смеется, если острота комична. Необходимость третьего лица
вызвана тем, что с ним приходит доказательство успеха остроты,
добавляется удовольствие первого лица и восполняется недостаток
удовольствия, вызванный повтором (а не самостоятельным
продуцированием) остроты.
Двуликость остроты, "подобная Янусу", вытекает как из
двусмысленности содержания остроты (один смысл непосредственно
выражен в остроте, другой, скрытый, надо уловить), так и из
особенностей самой техники остроумия и из доставляемого ею
различного удовольствия для первого и третьего лица, участвующих
в психологическом процессе остроумия. "Острота - лукавая
плутовка, которая служит одновременно двум господам". (30, 208).
При получении удовольствия от комического важную роль
играют процессы идентификации человека, подмечающего комизм,
с тем лицом, в котором этот феномен подмечается, иначе говоря,
важно вчувствование в психические процессы другого человека,
желание его понять. В этом вопросе Фрейд отмечает свою
преемственность с той линией в исследовании комического, которая
началась с Жан-Поля и была продолжена психологической
школой в эстетике. Источник удовольствия от комического
качественно иной, чем в остроумии. Их различие вытекает из различия
в психологических процессах, которые происходят у нового лица,
которое в комическом подмечает комизм, а при остроумии
создает остроту.
При комизме, считает Фрейд, принимают участие два лица:
первое, которое находит комизм, второе, в котором находят комизм.
Если при создании остроты источником удовольствия у первого
лица выступают его собственные мыслительные процессы,
приводящие к формированию остроты и протекающие на
бессознательном уровне, то источником перцептивного комического
удовольствия служат процессы вчувствования, которые Фрейд сводит к
сравнению проявлений другого человека с нашими собственными. При
таком сравнении, которое локализуется в предсознании, образуется
"сэкономленная" разница в затратах нервной энергии, которая спо-
Эстетические теории комического 5 5
собна выразиться в смехе. Это положение Фрейд конкретизирует
при рассмотрении отдельных видов комического. Комическое
находят всюду: в движениях людей, их поступках, характерных
чертах, первоначально - в телесных, а потом и в душевных качествах
людей. Однако, комическое способно отделяться от людей, когда
распознано то условие, при котором личность становится
комической. Так возникает комизм ситуации.
В качестве исходного пункта анализа Фрейд выбирает
комизм движений. И на вопрос - почему мы смеемся над
движениями клоуна? - отвечает, потому, что они кажутся нам
чрезмерными и нецелесообразными. Такая их оценка выносится на
основе предшествующего опыта, который позволяет выделить
необходимую обычно затрату на производимое действие. С комизмом
движений сходен комизм телесных форм и черт лица.
Выпученные глаза, оттопыренные уши, горб и т.д. производят впечатление,
как будто они являются результатом преувеличенного и
бесцельного движения. При комизме движения и при примыкающем к
нему комизме телесных форм комично то, согласно Фрейду, что
другой человек производит большую затрату энергии,
необходимо. При комизме же душевных процессов и черт характера,
наоборот, комичное впечатление образуется тогда, когда другой
человек экономит затрату, которая представляется необходимой. (30,
262). Острота и комическое речи не совпадают между собой, но
могут комбинироваться. При чистом комизме речи устраняется
двусмысленность, присущая только остроте, в комическом
остается одна бессмыслица.
Фрейд выделяет условия для получения комического
удовольствия: благоприятные - "вообще веселое настроение духа"
как общая установка психики и "ожидание комизма" как
установка на комическое удовольствие; неблагоприятные - "работа
воображения или мышления с серьезными целями" (особенно
неблагоприятны все виды мыслительной деятельности), чрезмерная
фиксация внимания на сравнении, которое должно вызывать
комическую реакцию, а также развитие вильных аффектов.
Возникновению комического удовольствия, кроме того, может
способствовать всякая случайность.
Психогенез комического, как и психогенез остроумия, по
мнению Фрейда, основывается на аналогии с игрой ребенка. У
ребенка нет чувства комизма, оно возникает "в ходе душевного
развития", ибо у ребенка еще нет масштаба для сравнения, его
понимание связано только с подражанием. Воспитание ребенка
"награждает его стандартом". (30, 301). Смех у ребенка проистекает из
чувства чистого удовольствия или из чувства собственного
превосходства ("ты упал, а я нет"). Комическое Фрейд связывает с
проявлением "детской сущности вообще".
5 6 Глава 1
Интересно, что Фрейд связал психологические процессы
остроумия с областью бессознательного, а процессы извлечения
комического удовольствия - с "осознанным из предсознательного",
то есть с сознанием. Особенно важным для нас является то, что
следует не столько из обобщений самого Фрейда, сколько из
логики его рассуждений. Это тот момент, что получение удовольствия
от остроты, от чисто комического, юмора и иронии основано на
столкновении одновременно сосуществующих двух способов
представлений, между которыми происходит сравнение "чуждого и
родственного, привычного и видоизмененного, ожидаемого и
случившегося". (30, 316). В остроте данное положение модифицируется
как столкновение двух способов понимания смысла, один из кото-.
рых остается на поверхности остроты, а другой "прокладывает
путь мысли через бессознательное". В юморе происходит
столкновение двух различных аффектов. Из контекста можно
заключить, что эти два способа не просто различны, а противоположны.
В концепции Фрейда, фактически, получила психологическое
обоснование концепция противоречия как источника комического.
Н. Гартман
Николай Гартман, примыкавший к феноменологическому
направлению в эстетике, считал, что теория комического есть
"наиболее трудная проблема из области эстетических проблем". (31, 568).
Он обращается к истории освещения этого вопроса в философии,
пытаясь вычленить все наиболее существенное и интересное.
Гартман справедливо полагал, что основу для всех последующих
интерпретаций комического составили, во-первых, аристотелевская
характеристика комического как "уродливого и безболезненного"
(определение объекта комического), а во-вторых, фактор
неожиданности обнаружения комического предмета и испытываемое при этом
"чувство собственного превосходства". Оба последних момента
были отмечены Т.Гоббсом. Гартман высоко оценивает кантовское
решение проблемы, но вклад Жана-Поля, Гегеля и Шопенгауэра
считает недостаточным. С последним трудно согласиться, так как,
например, особо им выделенный фактор саморазрешения
комического, который, по его мнению, был введен в центр внимания
Ф.Т.Фишером, позаимствован последним у Гегеля.
Комическое, согласно Гартману, есть "принадлежность
предмета", его качество, но существующее только для субъекта. Юмор
же является не видом комического, а способом восприятия и
создания комического. Если для комического как эстетического
качества предмета отсутствует противостоящее условие (субъект),
то тогда оно может совсем не осуществиться. "Без комизма пред-
Эстетические теории комического 5 7
мета нет юмора восприятия..., но и без юмора восприятия нет
комизма предмета". (31, 607). Юмор понимается Гартманом как
любая реакция субъекта на комическое. Когда же юмор берется в
узком значении как "характерная окраска благосклонности и
добродушия", то наряду с ним Гартман выделяет и другие способы
оценки комического: "пустую забаву", шутку, иронию как
приобретение личного превосходства при помощи кажущегося
унижения своего "Я", сарказм - "уничтожающее отрицание в форме
преувеличенного признания". (31, 607). Такая последовательность
способов оценки комического характеризуется нарастанием
отрицательности "морального характера" смеха. Только в юморе
отношение отрицания смягчается, ибо он утверждает и
позитивное, видит "привлекательное и располагающее к себе в
безрассудном и ослепленном" (31, 609). Этическая окраска смеха вносит в
эстетический смех ту высшую разумность, без которой он
невозможен.
Сущность комического, согласно Гартману, включает в себя
четыре момента: "бессмыслицу, видимость значительного или
веского, которая должна существовать прежде всего,
саморазрешение видимости в ничто и неожиданное". (31, 616). Четко
выделены они только в шутке, доводящей комизм до крайности.
Бессмыслица вначале скрыта, на мгновение она принимает
"видимость разумного". Гартман исходит из противоположности
комического возвышенному, но они оба, считает он, являются
разновидностями прекрасного. В комическом всегда речь идет о малом
и ничтожном в людях, тогда как в возвышенном - о "неизмеримо
более великом". Для комизма имеют значение не одни
недостатки, но и их претензии "иметь значение полноценного или даже
чрезмерного". (31, 617). Таким условиям соответствуют три
группы явлений человеческой жизни. К первой группе относятся
явления, присущие людям морально слабым и низким, выдающим
свое ничтожество (лень, трусливость, легковерие, гнев,
педантичность и др.) за силу. Но эти явления не должны иметь вредных
последствий. Вторая группа содержит "более сильный
интеллектуальный дефект" и стоит ближе к нелогичности в бессмыслице
(предубежденность, глупость, дилетантство, высокомерие, "вообще
все морально поддельное").
Сущность комизма в этих двух группах заключается в
слепоте человека по отношению к своей ошибке или в тенденции скрыть
ее. Третья группа - самая "безобидная", она связана с
"нейтральным несогласием или неспособностью человека" (неловкость,
непрактичность, застенчивость, робость и др.). Каждому недостатку
из этой классификации сопутствует свой особый вид его
сокрытия. Видимость в этом случае трактуется как обман, как претензия
неважного на важное.
5 8 Глава 1
Бессмыслица и видимость, слабость и претензия есть две
взаимосвязанные стороны одного явления - комического, которое не
может существовать без третьего момента - "самоуничтожения
бессмысленного". "Молниеносное раскрытие извращенности" в
жизни и есть разрешение бессмыслицы, "переход в ничто" (Кант).
Схема "внешнего заострения" взята из строения шутки, "суть здесь
закончена в вершине падения". (31, 623). Шутка зависит от
"кульминационного пункта"; если он не достигается, то комического
эффекта не получается. Чем более значительно то, что мгновенно
превращается "в ничто", тем сильнее комический эффект.
Преждевременность самораскрытия "вершины" шутки убийственна для
Однако свойственное шутке "заострение" нельзя
экстраполировать на все комическое. Большая часть комического обходится без
"чудовищного падения из возвышенного", без "заострения", для него
имеется "бесчисленное множество градаций напряжения и падения"
или контрастов. Если для шутки свойственны "искусственно
заостренные противопололсности", то юмор действует более глубоко, он в
самой жизни отыскивает "большие падения" только там, где они
выступают как бы сами по себе. (31, 626). Удовольствие от комического
зависит не от бессмысленного, которое само по себе может вызвать
только неудовольствие, а от его разоблачения.
Как можно заметить из всего вышеизложенного, Н.Гартман
использует для характеристики сущности комического моменты,
которые были выделены прежде в истории эстетики, но
составляет из них целостность по-своему. Жаль, что его систематизация
не учитывает психологический аспект комического, его
восприятие. Кроме того, моменты сущности комического не приведены
им в диалектическую взаимозависимость, так как комическое не
рассматривается им в развитии, как процесс. Но как попытка
построения целостной теории комического с использованием
предшествующего опыта в освоении этой категории, концепция Н.Гарт-
мана представляется исключительно плодотворной и
заслуживающей всяческого внимания.
В качестве подведения некоторых итогов, можно отметить,
что развитие теории комического происходило по двум
направлениям: с одной стороны, в направлении определения
существенных моментов в объекте комического и, с другой стороны, в
направлении анализа субъективных условий для восприятия и
продуцирования комического. Философы, ученые в зависимости от
своих общемировоззренческих установок переносили центр
своего внимания то, преимущественно, на объект комического, то на
субъект. Но это не значит, что другое оставалось совершенно без
внимания, оно учитывалось, но оставалось на втором плане как
фон. Например, у Канта можно найти указания о природе объек-
Эстетические теории комического 5 9
та комического (нелепость, контраст, что-то, содержащее в себе
мгновенный обман), но главный его интерес вращается вокруг
субъекта комического, точнее, его удовольствия от комизма. Данная
линия "перевеса субъективного" была продолжена в концепциях
Жан-Поля, вообще переместившего комическое в субъект,
А.Шопенгауэра, Г.Спенсера, Т.Липпса, других представителей
психологической школы в эстетике, З.Фрейда. Разработка характеристик
объекта комического при сохранении интереса к его
субъективным условиям была продолжена преимущественно в трудах
теоретиков романтизма, братьев Шлегелей и Шеллинга, Гегеля и его
последователей. Причем объективная природа комического
мыслилась как связанная с контрастом, противоречием, отклонением
и т.д., а субъективная реакция на него или способности к его
созданию - с игрой (например, "игра мыслей" у Канта или "игра
без цели" у романтиков). Опосредующим звеном между тем и
другим во многих концепциях выступала особенность характера их
взаимосвязи, получившая свое закрепление в понятии видимости
или понятиях, близких ей по смыслу ("мгновенный обман" у
Канта, "видимость свободы" у Шеллинга, ""мнимость" и "видимость"
у Гегеля, "логика сновидения" у Бергсона и Фрейда и т.д.)
В зависимости от того, на что преимущественно был
направлен интерес мыслителя (на субъект или объект комического),
туда переносился и источник создания видимости (либо в объект
(Гегель), либо в субъект (Жан-Поль)). Глубина и плодотворность
концепции Гегеля были обусловлены тем, что он попытался
воссоздать логику объекта комического, основанную на диалектике
видимости и сущности как процесса саморазрушения
противоречивого явления, процесса обнаружения его "мнимости".
Интересно, что мысль Жан-Поля, серьезно занимавшегося проблемой
комического, двигалась, фактически, в том же направлении, только
от другой "точки отсчета" - от субъекта (субъективная игра
тремя рядами мыслей, один из которых - иллюзорный).
Стремление к определенному синтезу обоих направлений
отчетливо прослеживается в концепциях А.Бергсона, К.Грооса,
Н.Гартмана. Правда, с переменным успехом и с вариативным
выделением того главного содержания, которое было развито в этих
двух направлениях. Так, Бергсоном была воспринята трактовка
объекта комического как противоречивого, но оставлена без
внимания характеристика его как "самоуничтожения
противоречивого". А Н.Гартман остановился в рассмотрении субъективной
реакции на комическое на кантовском его понимании, не
учитывая того, что было сделано в этом направлении Жан-Полем, Т.Лип-
псом, З.Фрейдом и др.
Аналогичная задача синтеза достижений обоих направлений
в разработке комического стояла и перед отечественной эстети-
6 0 Глава 1
кой, к краткому обзору которой мы и переходим. Интерес к
комическому в русской эстетике XIX века был вызван, прежде всего,
появлением в русской литературе и на сцене произведений
сатирического и комедийного плана. Это - то "сатирическое
направление" в русском искусстве, которое началось с Кантемира и
было продолжено в творчестве Фонвизина, Грибоедова, Гоголя,
Салтыкова-Щедрина, Островского. Вызванный потребностями
осмысления художественной практики этих писателей, большого
значения ее для России, интерес к категории комического носил, в
основном, прикладной характер. Поскольку "сатирическое
направление" было направлено на критику русской действительности,
постольку оно имело преобладающее значение для
революционно-демократического направления русской культуры XIX века и
разрабатывалось, преимущественно, в его рамках. Наиболее
законченную, теоретически зрелую форму концепции комического
приобрели у Белинского и Чернышевского. Эти концепции
нашли широкий отклик в обществе и в дальнейшем оказали
значительное влияние на формирование теории комического в русской
эстетике XX века.
В.Г.Белинский
Эстетика В.Г.Белинского в целом и, в частности, его взгляды
на комическое хорошо освещены в отечественном
литературоведении и эстетике. Опираясь на имеющиеся работы на эту тему,
мы кратко изложим понимание Белинским природы
комического. (32).
Уже в "Литературных мечтаниях" Белинский
рассматривает предмет комедии как изображение "несообразности жизни с
целью". (33, 1, 50). Комедия для него есть "плод горького
негодования, возбуждаемого унижением человеческого достоинства", она
"должна обнимать жизнь в ее высшем значении, то есть в ее
вечной борьбе между добром и злом, любовью и эгоизмом". (33, 1, 50-
51). В качестве образца подлинной комедии Белинский приводит
"Горе от ума" Грибоедова, примером же подлинно русского
комизма могут служить ранние повести В.Ф.Одоевского. Но особое
внимание критика привлекало творчество Н.В.Гоголя, специфика
юмора которого заключалась, по мнению Белинского, "в верности
жизни". Полемизируя по поводу природы комического у Гоголя с
известным русским критиком С.П.Шевыревым, который в
журнале "Московский наблюдатель" (статья "Миргород", 1834)
выступил с изложением своего понимания сущности комического,
как "бессмыслицы жизни", обязательно безвредной, Белинский
утверждал существование разных видов комического: "Есть остро-
Эстетические теории комического 6 1
умие пустое, ничтожное, мелочное... есть остроумие,
происходящее от умения видеть вещи в настоящем виде, схватывать их
характеристические черты...". (33, 2, 136-137). Например, в повестях
Гоголя представлено комическое второго рода. В смехе Гоголя
много горечи и злости, это - "грозный юмор", бич, который
наказывает зло и ничтожество. Такого рода смех имеет большое
общественное значение. Эти мысли В.Г.Белинского оказали
несомненное влияние на формирование эстетических воззрений
Н.В.Гоголя, который расценивал свои комедии как художественное
средство критики и исправления нравов тогдашней российской
действительности. Правда, потом Гоголь разочаровался в
действенности искусства в этом направлении, в том числе и комического.
Основу комедии и трагедии Белинский видел в
"противоречии явления с собственной его сущностью или идеи с формою".
(33, 3, 448). Грандиозность трагедии вытекает из нравственного
закона, который осуществляется в судьбе героев трагедии.
Смешное комедии, которое составляет ее характер, происходит "из
беспрестанного противоречия явлений с законами высшей разумной
действительности". (Там же). Статья "Горе от ума", которая здесь
процитирована, была написана Белинским в период его
страстного увлечения Гегелем, в так называемый "период примирения"
критика с действительностью. Он часто пользуется
терминологией Гегеля, но вкладывает в нее свой смысл. (34).
Действительность для него есть все то, "в чем только есть движение, жизнь,
любовь; все мертвое, холодное, неразумное, эгоистическое есть
призрачность". Отсюда он выводит две стороны жизни -
действительная или разумная действительность есть положительное
жизни, а призрачная действительность есть отрицание жизни. Но обе
они обладают статусом необходимости.
Предметом комедии служит изображение отрицательной
стороны жизни, призрачной деятельности людей. Всякое
противоречие есть источник смешного и комического. Противоречие
явлений с законами разума может обнаруживаться в призрачности и
ограниченности существования людей. Примерами таких людей-
призраков служат гоголевские персонажи Иван Иванович и Иван
Никифорович. Противоречие явления с его сущностью, или идеи
с формой проявляется то как представление себя не тем, что
человек есть, то "как достолюбезность или смешная форма вследствие
воспитания, привычек, субъективной ограниченности,
односторонности понятий, странной наружности, манер, при достоинстве
содержания". (33, 3, 448). В статье "Разделение поэзии на роды и
виды" (1841) Белинский различает три разновидности комедии:
художественную комедию, в основании которой лежит
глубочайший юмор, дидактическую или тенденциозную, проводящую идеи
автора, и низшую разновидность комедии, в основании которой
6 2 Глава 1
лежит только комическая веселость. Высшая разновидность
комедии - художественная - обладает эстетической целостностью, в
ней отношение поэта к изображаемому выражено во всей логике
образов.
Как отмечают многие исследователи творчества Белинского,
в трактовке комического он близок Гегелю. А во взгляде на
сущность сатиры оказался "более гегельянцем, чем сам Гегель". (35,
62). Белинский не подвергал сомнению правомерность
изображения негативной стороны жизни, но отрицал принадлежность
сатирических произведений к области подлинного искусства. Он
признавал важную просветительскую роль сатиры.
Возникновение сатирических жанров, как он считал, связано со становлением
общественного самосознания как "результатом созревшей
гражданственности". Великие сатирики появляются не случайно, а с
необходимостью, они предвещают и сопровождают своим смехом
крушение обреченных на гибель социальных установлений.
Отсюда вывод: развитие сатирического направления в русской
литературе говорит о кризисе крепостнического самодержавия.
Прогресс критического направления русской литературы привел к
тому, что "сатира перешла в юмор". Сатирическое направление
никогда не прекращалось в русской литературе, оно только
переродилось в юмористическое, "как более глубокое в
технологическом отношении и более родственное художественному характеру
новейшей русской поэзии". (33, 8, 615). Характер этого юмора
лучше всего определил Гоголь, сказав, что юморист созерцает жизнь
"сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы".
Белинский воспринял от Гегеля многие положения своей
теории комического (о высшей разумной действительности как
критерия комического отклонения, о противоречии как источнике
комического и трагического и т.д.), но развил их по-своему.
Основная его заслуга в разработке теории комического заключается
в новом взгляде на общественное значение смеха и комических
жанров (такой взгляд на роль комедии в обществе отсутствовал в
немецкой эстетике). Большое значение для развития русской
комедиографии имело выделение Белинским высокого рода
комедии (художественной), в которой органично соединяются
бесспорные художественные достоинства и гражданский пафос.
Н.Г. Чернышевский
Во многом созвучны и преемственны взглядам Белинского
на природу комического воззрения Н.Г.Чернышевского на этот
предмет, которые были изложены им в его диссертации
"Эстетические отношения искусства к действительности" (1855), в стать-
Эстетические теории комического 6 3
ях "Критический взгляд на современные эстетические понятия"
и "Возвышенное и комическое" (последние увидели свет только в
1924 году). (36).
Если в вопросе о трагическом Чернышевский расходился с
общепринятыми мнениями, то в отношении комического, по его
словам, он в целом согласен с распространенными взглядами. Во
время Чернышевского самое широкое распространение получили
представления о комическом Гегеля и его последователей (в
частности, Ф.Т.Фишера). Сущность комического усматривалась в
перевесе образа над идеей, а сущность его противоположности -
возвышенного - в перевесе идеи над формой. Чернышевский
считает, что это не совсем так. Форма без идеи ничтожна, нелепа,
безобразна. Безобразие - начало и сущность комического. Правда,
безобразное является и в возвышенном, и в трагическом как
высшей форме возвышенного, но в этом случае, оно выступает в
качестве страшного и ужасного.
Комическое безобразие не ужасно, оно вызывает насмешку
над своей нелепостью. Нелепым оно становится тогда, когда
"усиливается казаться прекрасным". Однако это притязание остается
безуспешным и вызывает смех. Так Чернышевский раскрывает
смысл определения сущности комического, которое он дал в
своей диссертации: комическое есть "внутренняя пустота и
ничтожность, прикрывающаяся внешностью, имеющею притязание на
содержание и реальное значение". (37, 94).
Комическое и возвышенное, по мнению Чернышевского, не
противоположны, а только различны, ибо комическое безобразное
и безобразное возвышенного отличаются друг от друга не
качеством, а количеством. Поэтому Чернышевский противополагает
комическое прекрасному, что согласуется с его положением об
эстетических категориях как модификациях не прекрасного, а более
общей категории "интересного". Последняя включает в свое
содержание, прежде всего, социально-политические интересы
людей. Он отстаивал также объективность эстетических явлений,
которые, по его мнению, присущи самой жизни. Связывая
комическое с безобразным и безвредным, Чернышевский остается в
рамках традиционного рассмотрения комического, берущего свое
начало в "Поэтике" Аристотеля. Но он делает акцент на
социально безобразном, ибо истинная область комического - это
человеческая жизнь, общество. Все, что в жизни человека неудачно,
неуместно, все это является предметом комического. Само
трагическое превращается в комическое, когда остается одной только
претензией. Глупость во многих случаях главный источник
нелепого, а значит и комического.
От общих определений комического Чернышевский
переходит к его конкретным формам. Простейшая форма комического
6 4 Глава 1
- это фарс с присущим ему внешним комизмом, "наружным
безобразием". Это те случаи, когда человек становится игрушкой
случая или посмешищем для других людей. Вторая форма
комического - словесная, это - остроты и насмешки. Сущность у них
одна, а цели разные. Сущность состоит в неожиданно быстром
сближении двух совершенно различных, далее противоположных
предметов, понятий, сходных только по какой-то совершенно
случайной черте. В остроте это сближение имеет целью поразить
неожиданностью, а в насмешке - уязвить другого. Третий,
высший вид комического - юмор, который представляет собой
способность человека смеяться над самим собой. Склонность к
юмору доступна не всем людям. К нему расположены люди
высоконравственные, обладающие умом и наблюдательностью.
Юмористическое расположение духа двойственно, оно составляет смесь
самоуважения и самопрезрения. Недовольство юмориста может
распространяться и на все общество. Его смех позитивен,
проникнут любовью к людям. Юмор может проявляться в фарсе,
остротах и т.д.
Впечатление от комического есть смесь приятного и
неприятного. Обычно приятное в комическом превалирует, неприятное
совсем заглушается, это ощущение выражается в смехе.
Неприятно в комическом безобразие, приятна наша проницательность,
понимание этого безобразия, последнее увеличивает наше
самомнение. Комическое, таким образом, пробуждает в людях чувство
собственного достоинства.
Такова достаточно цельная и последовательная концепция
Чернышевского. Во многом его идеи, как он и сам указывал, не
оригинальны. В основе определения сущности комического,
которое приводит Чернышевский, лежит мысль Гегеля о комическом
как о "чем-то в самом себе ничтожном". Гегель указывает также
на качество "мнимости" комического явления, которое
перекликается с "претензией" у Чернышевского. Классификация видов
комического Чернышевского практически полностью повторяет
классификацию Ф.Т.Фишера, приводившуюся ранее. Заслуга
Чернышевского заключается, скорее, не в его теоретических
построениях самих по себе, а в том, что он повернул эту теорию "лицом"
к современной ему художественной практике, и акцентировал ее
значение для общественной жизни.
Марксизм о комическом
Для отечественной эстетики советского периода характерно
особое пристальное внимание к взглядам К.Маркса и Ф.Энгельса,
в том числе и на проблему комического. И что-то понять в отече-
Эстетические теории комического 6 5
сТвенной эстетике советского периода, не учитывая этого, просто
невозможно. Среди всей литературы по вопросу о комическом в
марксизме следует отметить как наиболее полные две книги:
работу Б.Г.Лукьянова "По законам красоты" (М., 1988), в которой
автор предпринял попытку рассмотреть эстетику марксизма как
целостную систему, и книгу Г.Н.Волкова "Наша дерзкая, веселая
проза" (М., 1986), имеющую подзаголовок: "Сатирический и худо-
ясественно-образный фермент в творчестве К.Маркса и
Ф.Энгельса".
Комическое рассматривалось классиками марксизма как
специфическое выражение противоречивости общественного
развития, основа комического для них заключалась в самих
объективных закономерностях общественного развития. (38, 320). Если
Гегель ограничивал сферу комического рамками искусства, то для
Маркса и Энгельса комическое существует и в самой
действительности, которое отражается в искусстве. "Что значат крохи
нашего остроумия по сравнению с потрясающим юмором,
который прокладывает себе путь в историческом развитии!" - писал
Ф.Энгельс. (39, 38, 338). Подобно тому, как остроумие, эта
способность разума схватывать и высказывать противоречия, дает
толчок процессу их осознания и тем самым - преодолению в
сознании, комическая ситуация в целом знаменует собой начало
разрешения противоречий в действительности, выступает, по словам
Маркса, фазой в истории. "Последний фазис всемирно-исторической
формы есть ее комедия ...Почему такой ход истории? Это нужно
для того, чтобы человечество весело расставалось со своим
прошлым". (39, 1, 418).
Комическое, по мнению Маркса и Энгельса, может проявляться
в "непреднамеренном комизме" самой объективной ситуации,
которая возникает в действиях отдельных людей или же
проявляется в общем ходе человеческой истории. "Ирония всемирной
истории ставит все вверх ногами". (39, 22, 546). Энгельс раскрывал
механизм действия "иронии истории" следующим образом:
"Предположим, люди воображают, что могут захватить власть... Пусть
только они пробьют брешь, которая разрушит плотину, поток сам
быстро положит конец их иллюзиям. Но если бы случилось так,
что эти иллюзии придали бы им большую силу воли, стоит ли на
это жаловаться? Люди, хвалившиеся тем, что сделали революцию,
всегда убеждались на другой день, что они не знали, что делали, -
что сделанная революция совсем не похожа на ту, которую они
хотели сделать. Это то, что Гегель называл иронией истории...".
(39, 36, 263). Люди преследуют собственные цели, но своими
действиями они вызывают к жизни новые грандиозные силы, "поток"
которых сносит и тех людей, которые дали толчок процессу его
развития. Поэтому последствия действий людей могут быть про-
6 6 Глава 1
сто непредвиденными, а то и вовсе противоположными
намечавшимся целям. "Ирония истории" есть процесс крушения
иллюзий людей.
Такое понимание "иронии истории" присутствует уже у
Гегеля, который связывал иронический ход событий с действием
"хитрости мирового разума". Это значит, что "мировой дух"
оставляет за людьми возможность действовать самим, согласно
своим целям, но результат их действий всегда есть осуществление
воли "мирового разума". Гегель, конечно, мистифицировал
историю, представив ее как развертывание воли "мирового духа", но
мысль об "иронии истории" обладает глубоким смыслом.
Комическое в современной отечественной эстетике
В отечественной эстетике существует обширная литература,
либо специально посвященная проблеме комического, либо в
какой-то мере ее затрагивающая. Постараемся выделить основные
тенденции в подходах к этой проблеме. Исследования ведутся как
в области теории комического, так и в сфере его исторического
становления. Исторический аспект разрабатывается в трудах
философов, эстетиков, литературоведов, искусствоведов, этнографов,
фольклористов и др. Среди наиболее значительных работ можно
назвать исследования А.Ф.Лосева (его восьмитомное
фундаментальное издание "Истории античной эстетики" (1963-1994)
содержит много материала по нашей проблеме, а также написанная им
в соавторстве с В.П.Шестаковым "История эстетических
категорий". (М., 1965)); А.А.Аникста (серия его книг "История учений
о драме" (1967-1988); Н.Я.Берковского (Романтизм в Германии.
Л.,1973); А.В.Гулыги (Немецкая классическая философия.
М.,1986; Эстетика в свете аксиологии. СПб.,2000); М.Ф.
Овсянникова (История эстетической мысли. М.,1986); В.П. Крутоуса
(Родословная красоты. М.,1988; Категория прекрасного и
эстетический идеал. М.,1985; Диалог через столетие. М.,2000); Б.Г.
Лукьянова (По законам красоты. М.,1988); В.П. Шестакова
(Эстетические категории. Опыт систематического и исторического
исследования. М.,1983); П.В. Соболева (Эстетика Белинского.М., 1978);
М.С. Кагана (Эстетическое учение Чернышевского. М.-Л.,1958;
Эстетика как философская наука. СПб.,1997); A.C. Дмитриева
(Романтическая эстетика A.B. Шлегеля. М.,1986); P.M. Габито-
вой (Философия немецкого романтизма. М.,1989); P.A. Будагова.
(История слов в истории общества. М.,1971), H.H.Сретенского
(Историческое введение в поэтику комического. Ростов-на-Дону, 1926.
4.1); Г.Гусейнова (Аристофан. М.,1988), В.О. Пигулевского и Л.А.
Мирской (Символ и ирония. Опыт характеристики романтиче-
Эстетические теории комического 6 7
ского миросозерцания. Кишинев, 1990); П.П.Гайденко (Прорыв к
трансцедентному. М., 1997); Н.Б.Маньковской (Эстетика
постмодернизма. СМб, 2000) и др.
Это - также составившая целую эпоху в изучении смеха книга
М.М.Бахтина (Творчество Франсуа Рабле и народная культура
средневековья и Ренессанса. М.,1965). Большое значение имели
работы М.И. Стеблин-Каменского (Историческая поэтика. Л., 1978),
О.М. Фрейденберг (Поэтика сюжета и жанра. Л., 1936; Миф и
литература древности. М.,1978); В.Я.Проппа (Ритуальный смех в
фольклоре. - В кн. В.Я. Пропп. Фольклор и действительность.
М.,1976; Проблемы комизма и смеха. СПб.,1997); Д.С. Лихачева,
A.M. Панченко, Н.В. Понырко (их совместная книга "Смех в
Древней Руси" (Л., 1984.); В.П.Даркевича (Народная культура
средневековья. М.,1988); Л.Е. Пинского (Реализм эпохи Возрождения.
М.,1961), В.Н. Ярхо (Аристофан. М.,1954; У истоков европейской
комедии. М.,1979); В.В. Ванслова (Эстетика романтизма. М.,1966);
А.Я. Гурёвича (Проблемы средневековой народной культуры.
М.,1979); Н.И. Хлодовского и М.Л. Андреева (Итальянская
литература зрелого и позднего Возрождения. М.,1988); Н.В. Кашиной
(Эстетика Ф.М.Достоевского. М.,1988); Л.Ф. Ершова
(Сатирические жанры русской и советской литературы. Л., 1977); П.Н. Бер-
кова (История русской комедии XVIII века. Л., 1977); Ю.В. Стен-
ника (Русская сатира XVIII века. Л., 1985); B.C. Дурова (Жанр
сатиры в римской литературе. Л., 1987); Иванова С.А.
(Византийское юродство. М., 1994; В.Колязина (От мистерии к карнавалу.
М., 2002) и др. В некоторых из перечисленных работ
разрабатываются и теоретические вопросы природы комического.
Одной из последних книг о смехе является очень интересная
книга А.В.Дмитриева "Социология политического юмора"
(М.,1998), где автор разрабатывает социологический аспект
комического. Он приводит любопытнейшие примеры разного рода
смехового политического творчества и раскрывает роль смеха в
обществе и в политике. В качестве его социальных функций
автор выделяет политическую социализацию, функции
идентификации, дифференциации и сплоченности, а также коммуникации,
конфликта и согласия. (50). Злободневной теме смеха в
политической реальности России посвящена и книга В.В.Разуваева
"Политический смех в современной России" (М.,2002). Значение смеха
в политике столь велико потому, считает автор, что "политическое
уже по своему происхождению и тем более по функциям не
может не быть комическим".(51). Может быть, это и несколько
чрезмерное обобщение, но предпринятую автором попытку
теоретического обобщения политического смеха в России можно только
приветствовать. Иллюстративная подборка материала
замечательна, книга читается на одном дыхании.
6 8 Глава 1
"Сталиниада" (M.,2003) Ю.Б. Борева, известного эстетика и
исследователя эстетических категорий, в том числе и комического,
привлекает особое внимание. Она свидетельствует о живучести и
неуничтожимости смеха ни при каких условиях, даже при
тоталитаризме XX века, когда за рассказанный анекдот сажали в
тюрьму. В смехе всегда выражается стремление к свободе. История смеха
XX столетия - актуальнейшая тема и требует своего дальнейшего
осмысления. Отрадно, что начало ему уже положено.
Интересный сборник по интересующей нас теме появился в
2002 году в Санкт-Петербурге - "Смех: истоки и функции" (СПб,
2002) (под редакцией А.Г.Козинцева). Это - пример
плодотворного междисциплинарного взаимодействия по теме смеха:
антропологов, этологов, этнографов, фольклористов. Однако, к сожалению,
практически не был учтен богатейший опыт по теме нашей
гуманитарной науки: филологии, философии, эстетики, психологии,
социологии, политологии и др. Поэтому в предисловии к сборнику
и указывается, что "междисциплинарная наука о смехе - назовем
ее антропологией смеха - находится в начальной стадии
формирования и у нас, и за рубежом" (52). Наверно, имелось в виду, что
эта будущая антропология смеха мыслится как сугубо
естественнонаучное знание, в то время как философия смеха насчитывает
уже тысячи лет. Но всегда радует то, что интерес к теме смеха
среди исследователей разных специальностей только возрастает.
Наиболее распространенной среди исследователей точкой
зрения на природу комического является взгляд на нее как на
эстетическое обобщение противоречий социальной действительности.
Основой и сущностью комического, как правило, признается
противоречие или несоответствие в работах А.П.Московского (О природе
комического. Иркутск, 1968); Ю.Б. Борева (Комическое. М.,1970;
Эстетика. М.,1988; Эстетика в 2-х тт. Смоленск, 1997); А.Я.Зися
(Искусство и эстетика. М.,1975; Е.Г.Яковлева (Проблема
систематизации категорий в марксистско-ленинской эстетике. М.,1983;
Эстетика. М.,1999); Э.Г.Красностанова и Д.Д. Среднего (их
совместная книга "Основные эстетические категории. М.,1976; Средний
Д.Д. Основные эстетические категории. М.,1974); Н.И.Крюковско-
го (Основные эстетические категории. Минск, 1974); Ф.С.Лиманто-
ва (Об эстетической категории комического. - В кн.: Ученые
записки Ленинградского государственного педагогического
института им. А.И.Герцена. Т.162.Ч.2.,Л.,1959); А.А.Карягина (статья
"Комическое" в Философской энциклопедии. Т.2. М., 1962.); М.С.Ка-
гана (Лекции по марксистско-ленинской эстетике. Л., 1971); Д.П.
Николаева (Смех - оружие сатиры. М.,1962); A.M. Макаряна (О
сатире. М.,1967); А.З Вулиса (В лаборатории смеха. М.,1966) и др.
Но среди исследователей нет единства во мнениях
относительно конкретной формы тех противоречий, которые отражают-
Эстетические теории комического q 9
сЯ комическим. А.А.Карягин выразил весьма распространенное
в советской эстетике мнение по поводу сущности комического
противоречия, когда в своей статье "Комическое" в Философской
энциклопедии определил его как эстетическую категорию, в
которой отражается "несоответствие между несовершенным,
отжившим, неполноценным содержанием явления или предмета и его
формой, претендующей на полноценность и значимость, между
важным действием и его несовершенным результатом, между
высокой целью и негодным средством". (40).
Ф.С.Лимантов гносеологическую основу комического
противоречия усматривает в несоответствии между бесконечным
числом связей и отношений каждого предмета с окружающим
миром и ограниченным кругом связей, отражаемых в человеческих
понятиях и представлениях. М.С.Каган полагает, что явление
становится комичным при разоблачении "антиидеальности"
реального (противоречие между реальным и идеальным). Его позиция
перекликается во взглядом Ю.Б.Борева на природу комического,
выражающуюся в общественно значимом противоречии,
несоответствии явления или одной из его сторон высоким эстетическим
идеалам. В принципе, именно эта и сходные с ней точки зрения
легли в основу того определения комического, которое дается в
словаре по эстетике: комическое - "одна из основных категорий
эстетики, отражающая социально значимые противоречия
действительности под углом зрения эмоционально-критического
отношения к ним с позиций эстетического идеала". (41, 153).
Некоторые исследователи (например, А.Я.Зись,
А.П.Московский) конкретизируют комическое противоречие, связывая его с
"претензией" объекта на то, чтобы скрыть свою сущность за
некоторой видимостью. Такой подход к проблеме, как это отмечают и
сами авторы, восходит к анализу комического у
Н.Г.Чернышевского, точка зрения которого во многом воспроизводила взгляды
Ф.Т.Фишера и Гегеля. Кроме того, эстетика Чернышеского и
Белинского, а также взгляды К.Маркса и Ф.Энгельса оказывали
определяющее воздействие на разработку проблемы комического
в советский период развития эстетики.
Большим признанием среди ученых пользовалась позиция
польского исследователя Б.Дземидока, усматривающего в
комическом момент отклонения от нормы. (42, 56). Последнее можно в
известном смысле рассматривать как противоречие между
нормой и отклоняющимся от нее явлением, так что принципиальной
разницы между концепцией Дземидока и охарактеризованными
ранее теориями нет.
К концепции Б.Дземидока примыкает точка зрения
В.Я.Проппа, согласно которой в основе комического всегда лежит
насмешливый смех, вызываемый изобличением недостатком в духовной
7 0 Глава 1
жизни человека. Основное условие возникновения комизма
заключается, как считает В.Я. Пропп, в несоответствии "инстинкта
должного" (своеобразная трактовка социокультурной нормы) и
того, что ему противоречит. (43, 144-145).
Л.В.Карасев, которому принадлежит интересная книга о смехе
("Философия смеха". М.,1996; его же: Парадокс о смехе. Вопросы
философии. М.,1989.№5; Мифология смеха. Вопросы философии.
М, 1991, №7. С.68-86), полагает, что парадоксальность свойственна
самой сущности смеха. "Смех парадоксален потому, что не
соответствует предмету, который его вызывает и в этом, внешне
неприметном, несоответствии кроется, может быть, главнейшая особенность
смеха". (44, 49). Подробный анализ концепции Л.В.Карасева дан во
второй главе данной книги в разделе "Парадокс смеха".
Наряду с этой линией в осмыслении сущности комического,
которую мы условно, отвлекаясь от ее многовариантности,
обозначаем в качестве направления разработки сущности комического
как противоречия (несоответствия, отклонения и т.д.), существует
другая линия в подходе к комическому, акцентирующая
преимущественно игровой момент в комическом или даже полностью
сводящая его сущность к игре. Часто эти две линии
пересекаются и лишь в редких случаях существуют по отдельности, не
контактируя друг с другом.
Работами, которые стимулировали у отечественных
исследователей интерес к комическому как к игре и которые нашли
многочисленных последователей, были труды М.М. Бахтина и Л.С.
Пинского, содержащие своеобразное толкование данной проблемы.
Характеристика карнавального смеха, признаки которого были
выделены М.М.Бахтиным на материале творчества Ф.Рабле (игровой
характер, всенародность, универсальность, амбивалентность, миросозер-
цательность, утопичность), а таклсе трактовка М.М. Бахтиным более
поздних форм комического (юмора, сатиры, иронии в той форме,
которую они получили в Новое время) как редуцированного
карнавального смеха средневековья и Ренессанса заложили
теоретическую основу под понимание смеха как преимущественно игрового
феномена. (Подробному разбору концепции М.М.Бахтина посвящен
специальный раздел в третьей главе книги).
Л.Е. Пинский выделил "архаический" синкретический смех
в качестве собственно "комического" смеха, в котором
потенциально или эмбрионально заложены все основные виды
комического, обособившиеся от него в ходе развития культуры (юмор,
ирония, сатира, остроумие). (45).
Т.Б.Любимова в своей статье "Понятие комического в
эстетике" понимает комическое как "игру со смыслом" и исходя из
этого строит целую интересную концепцию комического. Но, можно
сказать, что игра эта оказывается игрой с противоположными
Эстетические теории комического 7 1
смыслами (хотя на это указаний в статье непосредственных нет).
В ее понимании, например, остроумие есть способность
"сохранения двойного смысла, когда явный смысл противоположен
скрытому". (46, 116). Под это определение можно подвести и иронию, и
юмор, и все комическое, так как оно всегда содержит в себе
двусмысленность.
Близки к данной концепции взгляды С.С. Гусева и Г.Л. Туль-
чинского, согласно которым вызывает и стимулирует смех "игра
с пониманием" (отстранение, столкновение смыслов и значений);
последняя является верным свидетельством глубокого
понимания субъектом ситуации. (47, 172). Авторы уточняют свою
концепцию указанием на то, что в основе "игры с пониманием"
лежит противоречие должного и конкретной ситуации. (47, 172).
H.A. Дмитриева подходит к комическому как к "игре
случайностями", в которой проявляется бесконечная вариативность
развития. (48, 117) .Хотя Н.А.Дмитриева выражает несогласие в
авторами, которые усматривают сущность комического в
противоречии или несоответствии, она все же считает, что эвристически
юмор как "разрушитель стереотипов" направлен на поиск
отклонений от привычного, на поиск странностей, неожиданностей,
алогизмов, совмещенных несовместимостей.
В статье Г.О. Нодиа "Человек, смеющийся в контексте
философии культуры" сущность смеха ставится в непосредственную
связь с сущностью игры как выражением абсолютной свободы и
показателем меры "укорененности" человека в мире культуры.
(49). По мнению автора, смешное, комическое как "эстетически
оформленное смешное" находятся в целом в отрицательном
отношении к позитивным ценностям культуры, утверждают
значимость их через их же отрицание (своеобразная позиция,
получившая широкое распространение под воздействием
"амбивалентности" М.М. Бахтина).
Можно также выделить две тенденции в разработках теории
комического, чьи различия обусловлены, как представляется,
особенностями конкретного материала, из которого исходили
исследователи в своих теоретических построениях. Первая тенденция
представлена в трудах тех авторов, которые писали о сатире, а в
связи с ней - и о комическом. Например: Кирпотин В. Теория
сатиры. М.,1957; Эльсберг Я.Е. Вопросы теории сатиры. М.,1960;
Николаев Д.П. Смех - оружие сатиры. М.,1962; Макарян А. М. О
сатире. М.,1967; Минчин Б.М. Сатира в эстетике
социалистического реализма. Киев, 1967; и др. В этих концепциях "сатириза-
Ции" комического преобладающей является точка зрения на
комическое как на общественно значимое орудие критики
несовершенной действительности, как на специфическое проявление
эстетического отношения, отражающее объективные социальные про-
7 2 Глава 1
тиворечия. В некоторых таких концепциях из существования
"несмешной" сатиры делается вывод о существовании и
"несмешного" (серьезного) комического.
Во второй тенденции "юморизации" комического
представленной, как правило, авторами, анализирующими юмористические
произведения мировой литературы и искусства (М.М. Бахтиным, Л.Е.
Пинским, A.B. Бартошевичем, H.A. Дмитриевой и др.) на первый
план выдвигается стихия смеха в комическом, его игровое начало
как универсальное, его свобода, подчеркивается удовольствие от
комического, действительно, более свойственные юмору, нежели
сатире, предполагающей определенность, однозначность позиции по
отношению к осмеиваемым явлениям. В обеих тенденциях есть свои
недостатки и односторонности и есть положительные моменты. Если
избегать крайностей сведения комического к сатире или к юмору),
то можно рассматривать их как взаимодополнительные. В
большинстве работ авторы так и поступают.
Многие исследователи сходятся в том, что к основным
принципам комического как противоречия или как игры в качестве
дополнительных, но также относящихся к сущности комического,
добавляют в качестве уточняющих следующие положения:
аристотелевское "безвредное и безболезненное" в различных
трактовках; феномен неожиданности, функция комического как
"разрушителя стереотипов"; его роль в обнаружении нарушений
определенных ценностей, норм; комическое как исключительно
человеческое достояние; подчеркивается также
субъективно-объективная природа комического как эстетического явления, его
конкретно-историческая обусловленность; представление о нем, как
о сложном синтезе эмоционального, ценностного и
познавательного моментов. Все эти моменты особых споров не вызывают,
являются, практически, общепринятыми.
До сих пор продолжает дискутироваться проблема
соотношения смешного и комического, смеха эстетического и
неэстетического. Круг проблем, относящихся к сфере комического и
разрабатываемый в отечественной эстетике показывает, что последняя
сохраняет преемственность в осмыслении комического как
эстетической категории с историко-философской,
историко-культурной традицией его рассмотрения. К некоторым работам мы еще
вернемся ниже для их более подробного анализа.
Основной недостаток многих концепций комического
заключается в том, что все приведенные выше моменты анализируются
как разрозненные, вне общей связи, без связующего все в единую
целостность принципа. Автор видит свою задачу в том, чтобы
попытаться выявить логику взаимосвязи элементов комического,
которая выражает наиболее глубокое основание сущности
комического. Этому и посвящена вторая глава книги.
Глава 2. СМЕХ КАК ВИДИМОСТЬ И КАК
ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Комедия - это одна грандиозная шутка,
содержащая в себе целый мир отдельных
шуточных эпизодов, из которых каждый
имеет свое место и нисколько не
заботится об остальных.
Август Шлегель
Самый сложный вопрос в теории комического - это вопрос о
его сущности. Да и вообще правомерно ли ставить вопрос о
сущности столь разноликого явления как комическое, как смех?
Комическое (синоним смеха в широком смысле слова, смех в
узком значении - субъективная реакция на смешное) является
одной из основных эстетических категорий. Категории, несмотря
на историческое изменение их содержания, обладают некоей
инвариантной структурой, формой, неким устойчивым "ядром",
кристаллизующимся в процессе формирования категории и в
дальнейшем сохраняющим свою относительную неизменность. Вот о
такой сущностной структуре комического и пойдет речь в
данной главе.
Возникает вопрос, почему при таком обилии
разнообразнейших концепций смеха нельзя выбрать одну из них и
остановиться на этом? И имеет ли смысл вновь возвращаться к тому же
самому, к попытке построить еще одну концепцию, не
бессмысленно ли это? Да и вообще, можно ли найти такую формулу смеха,
которая бы все объясняла и всех устраивала? Все эти вопросы
имеют отношение к теме. Начнем с последнего вопроса.
Исчерпывающей абсолютной формулы комического дать,
конечно, невозможно, как невозможно человеку иметь абсолютное
знание относительно земных предметов, но можно и необходимо
вести речь о поиске некоей "формулы" (инварианта, структуры,
внутренней сущностной форме, как угодно) комического или
смеха как культурного феномена, которая более или менее точно
описывает заданное явление. Отрицая возможность подобной
"формулы", мы стали бы отрицать возможность процесса познания
вообще, что абсурдно.
Все мыслители, так или иначе обращавшиеся к проблеме
смеха, потратили свои силы и время не напрасно, даже из данного
обзора видно, что степень разработанности проблемы настолько высока,
что позволяет вплотную приблизиться к самому "ядру", внутренней
структуре, узловому моменту комического, указать на него и поточ-
7 4 Глава 2
нее сформулировать, а затем, исходя из этого основания построить
систему категории комического как целостного организма.
Иначе говоря, если до этого исследователи, в основном,
подмечали отдельные черты комического и рассматривали их как
ря до положенные, почти не касаясь их внутренних сущностных
взаимосвязей, за некоторым исключением, то теперь появилась
возможность, используя этот богатейший материал, попытаться
воссоздать логику развития и функционирования категории
комического как целостности, как единства, с единым "сердцем" и
"внутренним ритмом". Данная работа есть посильный вклад
автора в реализацию этой задачи, не претендующий на
всесторонность и полноту. Отсюда ясна и неудовлетворительность
вышеизложенных концепций, которая заключается в их
односторонности и отсутствии понимания комического в его органической
целостности.
Три мотива комического
На основе предшествующего анализа концепций
комического, можно выделить три основополагающих мотива, которые
красной нитью прослеживаются, практически, во всех теориях смеха
и имеют отношение к сущности комического. Это - мотив
противоречия (контраста, нелепости, безрассудства, бессмыслицы,
перехода в противоположность и т.д.), часто сопутствующий ему
мотив игры (оба эти мотива - игры и противоречия -
пересекаются в концепциях романтиков, Жана-Поля, К. Грооса, А.
Бергсона и др.)> и мотив видимости (мнимости, кажимости, лжи, обмана,
самообмана, иллюзии, виртуальности, претензии, "тени", "сна
наяву", "грезы" и т.д.). Как представляется, именно последний
мотив занимает определяющее место в сущности комического.
Данные мотивы в разных формах присутствуют так или иначе
почти в каждой концепции комического, в некоторых из них
более отчетливо, в других в смутном неотрефлексированном виде, и
необходим некоторый анализ для их проявления. Но сами по
себе мотивы противоречия, игры и видимости еще ни о чем не
говорят, они слишком широки по своему содержательному
охвату, они могут только указывать на возможное направление
поисков сущности смеха. Специфика последней заключается,
по-видимому, в каком-то их особенном соотношении, в особой
конструкции, связующей их воедино, в органической логике их
соотнесенности друг с другом. Иначе говоря, дело заключается в том,
чтобы найти принцип взаимосвязи противоречия, игры и
видимости. Возможно, что при этом добавляются, вытекают из
развития предмета, другие, второстепенные признаки.
Смех как видимость и как виртуальная реальность 7 5
Противоречие
Начнем с противоречия. Показательно, что в истории
эстетики комическое определялось как "часть безобразного"
(Аристотель), как "бессмысленное" (Кант, Н.Гартман), "ничтожное"
(Гегель), "нелепое" (К. Гроос), "возвышенное наизнанку" (Жан-Поль),
"обращенное соотношение необходимости и свободы" (Шеллинг),
"алогичное", "уродливое и косное" (Бергсон) и т.д. Все эти
эпитеты очень характерны, в них фиксируется преобладание момента
отрицательности в комическом (приставки "без-", "ни-", "не-", "а-
"), отрицания чего-то ценного ("-лепого", "-образного",
"-осмысленного", "-нормального" и т.д.).
В определении комического с помощью этих эпитетов
намечена противопоставленность отрицательности своей позитивной
противоположности, иначе такое явление утрачивает всякий
смысл. Безобразное, нелепое, ничтожное, странное не могут быть
поняты из самих себя, они получают свою определенность через
соотнесенность со второй ценностной (позитивной) "половиной"
- образное, осмысленное, соответствующее здравому смыслу,
нормам и т.д. Такие определения комического обретают свой смысл
только через свою противоположность. В основе подобного рода
дефиниций смеха лежит противоречие.
Фактически комическое связывалось с противоречием,
начиная с Аристотеля, но этот факт был осознан и получил свое
понятийное закрепление только в XIX веке в связи с развитием
теории диалектического противоречия в немецкой классической
философии (до этого оно рассматривалось в рамках
формально-логического принципа непротиворечивости). Так, определения
комического через "алогичность" ограничивали сферу его
проявления логикой мысли или ее словесного выражения и поэтому не
могли удовлетворить исследователей комического.
Трактовка Гегелем противоречия как диалектического
процесса, как всеобщего источника саморазвития позволила ему
высказать глубокие соображения и о природе комического
противоречия. Для Гегеля комическое - это процесс уничтожения
явлением самого себя ввиду его ложности и внутренней
противоречивости, что на поверхности проявляется в его мнимой природе:
последняя разрушается, обнаруживая свое ничтожество. (Эту
"мнимость" Чернышевский назвал "притязанием на содержание и
реальное значение"). Противоречие мыслилось Гегелем как
характеристика самой сущности комического, которая получает свое
внешнее выражение в некой видимости этого явления.
76 Глава 2
Небольшой экскурс в теорию видимости
Что же такое видимость, мнимость, кажимость? Категория
"видимости" стала объектом самостоятельного философского
анализа только в эпоху Просвещения, до этого она функционировала
в познании без такого осмысления. Философия Просвещения
связывала видимость со случайностью, незнанием, гносеологическим
заблуждением, которые обусловлены либо определенными
предрассудками (их устранение и есть дело "просвещения разума",
"очищения" его посредством критики "призраков" (Ф.Бэкон),
"иллюзий чувственного опыта" (Декарт)), либо неправильным
оперированием понятиями при осуществлении "свободной воли"
(Декарт). Так сфера видимости провозглашалась неистинной,
отождествлялась с непознанной случайностью. Видимость
метафизически противопоставлялась сущности, они выступали как
внешние друг другу, взаимоисключающие противоположности.
У Канта уже налицо осознание необходимой взаимосвязи
сущности и видимости. Под последней в собственном смысле слова
он понимал отождествление субъективного элемента в нашем
знании с объективным положением вещей. Кант различает
эмпирическую и трансцедентальную видимости. Эмпирическая
видимость случайна, она имеет дело с предметами опыта (например,
оптический обман). Трансцедентальная видимость возникает в
человеческом разуме с необходимостью как надежда на
расширение сферы чистого рассудка. Она - естественная и неизбежная
иллюзия, ее продукт - идея о познаваемости вещи в себе,
несмотря на то, что человек имеет дело только с явлениями, а не с
сущностью вещей.(1). Реализация этой идеи приводит к антиномиям
"чистого разума". У Канта видимость как преграда на пути
познания сущности свидетельствует о неспособности человеческого
разума познать сверхчувственную сущность вещей.
Гегель придал видимости статус необходимости и
объективности, рассматривая ее как ступень в познании сущности.
"Сущность есть сначала видимость и опосредствование в самой себе".
(2). У Гегеля видимость есть проявление сущности, но он, как
известно, понимал под истинной вещью понятие, тогда как
видимостью ее оказывалась реально существующая вещь. Различие
между ними (между понятием вещи и вещью объективно
существующей) снималось принципом тождества понятия и
сущности объекта. Если у Канта вещь в себе абсолютно непостижима,
то у Гегеля - абсолютно постижима.
Соотношение сущности и видимости выступает как
единство сущности и существования, внутреннего и внешнего. Сущность
есть не что иное, как глубинная внутренняя сторона вещей и
процессов, а явление и видимость - внешняя, поверхностная, это
Смех как видимость и как виртуальная реальность 7 7
то, что имеет основание в чем-то другом, а не в самом себе. Отсюда
- сходство двух последних. Различие их - в мере адекватности
вь1ражения сущности. Явление ("развитая видимость") выражает
сущность более адекватно, хотя и не полно, частично, видимость же
есть такое явление, в котором сущность обнаруживается не
адекватно, а искаженно. Это обусловлено тем, что в определенный
момент времени предмет представлен в системе взаимосвязей не сразу
всеми сторонами и ступенями своего развития, а только одной из
возможных, наличной именно сейчас. Общий недостаток и
явления и видимости тот, что они не имеют в себе опоры.
Бытие непосредственно, по Гегелю, выступает как "голая
видимость", как отрицательность. Через снятие видимости
происходит проявление сущности. И в созерцании сущности вещь
дается как бы удвоенно: во-первых, в ее непосредственности
(сущность как видимость или явление); и во-вторых, в ее основании,
то есть собственно в сущности. (2, 265, 282) Такое удвоение -
принципиальная возможность философского созерцания вообще
и научного исследования также. Видимость и иллюзии при их
генетическом сходстве, не одно и то же. Сходство их в том, что
они являются превратным выражением действительности.
Различие: видимость объективна, иллюзии субъективны, плод
деятельности сознания индивида.
Этот краткий экскурс в теорию видимости нам понадобится
при дальнейшем изложении теории комического, в которой именно
видимость занимает ключевое место. Заметим только, что
философское понятие "видимости" может иметь разнообразные
значения и их оттенки. Перечислим некоторые из них: мнимость,
кажимость, иллюзия, ложь, обман, самообман, "тень", "сон наяву",
"грезы", виртуальность, выдумки, фантазии, работа или игра
воображения и др.
Механизм комического:
феномен "удвоения видимости"
Шопенгауэр точно указал границы комического объекта -
смешного: они обусловлены ложностью и иллюзорностью
человеческих представлений. А Гегель указал на механизм
обнаружения этой лжи, при которой объект становится смешным. Этот
механизм - саморазрушение явлением самого себя и его
обнаружение в сознании. Разрушение комическим явлением самого
себя совершается, согласно Гегелю, посредством воплощения
субстанциального содержания в отдельном лице, в конкретном
поступке или явлении. Все высокое и нравственное
самообесценивается через форму своего проявления, своей реализации. Проис-
7 8 Глава 2
ходит как бы раздробление, измельчение высокой, истинной идеи.
Сходное понимание комического есть у другого немецкого
мыслителя, у Зольгера, который подразумевал под комическим
гибель идеи в действительности.
Как представляется, основное противоречие, лежащее в
основе смешного как объекта комического ("между истинным в себе
и для себя началом и его индивидуальной реальностью", по
Гегелю) - это частный случай противоречия между сущностью и ее
проявлением, ее видимостью, иначе говоря, частный случай внут-
рисущностного противоречия, поскольку видимость -
непосредственно данная в бытии ступень открытия сущности.
Сущностное противоречие может раскрываться через целый спектр
противоречий: между внутренним и внешним, формой и
содержанием, целью и средствами ее реализации, бесконечным и конечным,
идеальным и реальным и т.д.
Это все только разные ипостаси одного противоречия между
основанием сущности и его проявлением в видимости (то есть
когда сущность дана искаженно, неадекватно), ибо при помощи
этих парных категорий, противоположностей описывается какая-
либо одна сторона явления. Истоки основного противоречия
объекта комического (между сущностью и ее проявлением в
видимости) коренятся в противоречивости самого основания сущности.
Это противоречие не является, конечно, специфичным только
для комического. Специфичным для него является вытекающий
из основного противоречия процесс удвоения видимости и ее
уничтожения, который возникает при определенных условиях и
который влечет за собой саморазрушение явления в целом. В этом и
заключается суть объективного основания комизма. Что это
такое и как это происходит постараемся далее разъяснить. Но
собственно о специфике комизма можно говорить только учитывая
связь (отражение, взаимодействие, единство) объективного
основания с субъективным моментом, в комическом одного без
другого просто нет. Поэтому отделяем одно от другого условно,
исключительно в целях удобства анализа, постоянно помня о их
единстве.
Саморазрушение явлением самого себя становится
возможным тогда, когда сущностное противоречие на поверхности
выступает как видимость отсутствия этого противоречия, как
видимость адекватности сущности и ее явления. Происходит
как бы удвоение этой видимости: на первую видимость,
объективную по природе - неадекватность сущности и ее проявления
- накладывается вторая видимость, но уже субъективная, или
иллюзия - скрытость этой неадекватности, "претензия придать
себе вид и ценность существенного" (Гегель). Иначе говоря, эта
"претензия" (вторая видимость) носит субъективный характер.
Смех как видимость и как виртуальная реальность 7 9
Таким образом, продуцирование видимости "в квадрате" и ее
саморазрушение - это две стороны комического эффекта, в основе
которого лежит противоречивость сущности комического явления.
Ближе всего к этому подходу, кроме Гегеля, стоит Жан-Поль с
выделенными им в комическом объективным и субъективным
контрастами. Однако, концепция Жан-Поля отличается понятийной не-
ироработанностью, что затрудняет ее анализ. Последнее
обстоятельство обусловило, возможно, то, что концепция Жан-Поля часто
упоминается, но чрезвычайно редко разбирается подробно.
Жан-Поль живо чувствовал своеобразие природы смеха и
связь ее именно с видимостью и контрастами. Он говорил о
присущей комическому существу "видимости свободы", или
придании комическому существу "выдуманного внутреннего
противоречия с самим с собой" (мнимый характер субъективного
контраста). Ложность обычных определений смешного Жан-Поль
видел в признании одного реального контраста и забвении второго,
мнимого. (3, 138-139).
Некоторые наметки освещения этой особой мнимой
природы комического есть у Шеллинга в его теории комического как
"обращенного" или "перевернутого" соотношения необходимости
и свободы. Эта "обращенная неистинность" их соотношения (в
комическом необходимость связывается с субъектом, а свобода -
с объектом, в то время как подлинное их соотношение носит
обратный характер) порождает "притворную абсолютность" или
претензию на объективность". Необходимость принимает "видимость
свободы", но при сохранении действия подлинной необходимости,
связанной с объектом, которая, в конце концов, берет реванш,
уничтожая эту мнимость.
Сущностное противоречие объекта комического выступает
источником саморазвития комического явления, источником
образования двойной видимости. Из него же вытекает
необходимость его разрешения, которое приобретает форму
саморазрушения явлением самого себя. Включает же этот механизм
саморазрушения образование двойной видимости. Существование
последней свидетельствует о ложности ситуации. Ложность есть
проявление ничтожности и пустоты содержания явления, и,
следовательно, оно обречено на уничтожение.
Самоуничтожение чего-либо говорит о его ничтожности,
нежизнеспособности и обреченности, поэтому оно вызывает смех.
Иначе говоря, смех всегда связан, точнее, должен быть связан с
чем-либо саморазрушающимся. Последнее является
свидетельством опять же чего-либо ничтожного, пустого, никчемного и т.д.
"Все, что уничтожает себя, есть нечто в самом себе ничтожное,
представляет ложное и противоречивое явление" (Гегель). Смех
поэтому всегда выступает средством низведения с пьедестала.
8 0 Глава 2
При саморазрушении уничтожается двойная видимость,
происходит обнаружение истинного положения дел или
противоречивости сущности. Закрученная противоречиями спираль
распрямляется, происходит отрицание отрицания, в результате
которого утверждается подлинная субстанциальность и
субъективность (по гегелевской терминологии). Отсюда видно, что для
комического в большей степени свойственна отрицательность, а
позитивность опосредованная, косвенная.
"Комическая ситуация" как единица анализа
Со времен Аристотеля в эстетике утвердилось положение,
что комическое, как и трагическое, есть характеристика только
человека и его различных проявлений, в природе же комическое
отсутствует. Если же мы смеемся над чем-то природным,
скажем, над животными или какими-то неодушевленными
явлениями, то смеемся постольку, поскольку они несут в себе какое-
то определенное сходство с человеком и его проявлениями. Это
совершенно верное замечание.
Комическое охватывает самый широкий спектр человеческих
действий, свойств, качеств и т.д., которые можно подразделить на
комическое, выражающееся в деятельности человека (это -
"комическая ситуация" как взаимодействие внешних обстоятельств
и образа действий людей, а также и просто отдельные поступки,
действия) и вербально-рефлексивный уровень комического
(слово, мысль). Существует также комическое созданное или
намеренное (острота, комическое в искусстве) и комическое невольное
или естественное (скажем, невольный каламбур).
В качестве единицы для анализа сущности комического
наиболее плодотворным представляется выбор именно "комической
ситуации", такой, которая бы обладала всеми конституирующими
признаками комического в целом, тогда как другие
разновидности комического акцентируют какие-либо его отдельные
стороны. Сразу оговорим, что выбор именно "комической ситуации" в
качестве исходной единицы анализа продиктован
исключительно удобством последнего, а никакими иными соображениями, так
как когда явление рассматривается на макроуровне все
составляющие его элементы проявляются четче, лучше заметны. Так,
З.Фрейд выбрал другой уровень, вербально-рефлексивный,
анализ остроты, и достиг определенных результатов. Учитывая его
опыт, можно видеть те многие неясности, односторонности,
которые остаются при таком подходе.
Комическая ситуация в принципе может включать в себя
деятельностный и вербально-рефлексивный уровни, а также быть
Смех как видимость и как виртуальная реальность 8 1
как естественной, так и созданной. Комическая ситуация важна
наличием далее неразложимого единства компонентов,
составляющих феномен комического, а кроме того это единство
показывается как развивающееся, как разворачивающееся в
пространстве и во времени, что дает возможность и выявить
составляющие компоненты комического и их взаимосвязи. Эти элементы
тут предстанут как бы в "разомкнутом", а не в "спаренном"
виде.
Объективная историческая ситуация, воспринимающаяся как
смешная или комическая, в наибольшей мере соответствует
нашим целям. Используем в качестве примера известный в
этнографии и искусствоведении факт возникновения нового
магического культа "карго".
В известной книге Л. Повела и Ж. Бержье "Утро магов"
популярно рассказывается о возникновении магического обряда,
известного в этнографии как культ "карго". В 1946 году
австралийские военные обнаружили в неконтролируемых горных
районах Новой Гвинеи местные племена в состоянии большого
религиозного подъема: только что родился культ "карго". Карго -
английский термин, обозначенный на всех перевозимых грузах:
продуктах питания, промышленных товарах и т.п.
Все эти вещи по представлению туземцев не могли быть
сделаны белыми людьми, да и вообще людьми. Кроме того, никто не
видел белого человека за подобной работой. Зато белые люди
заняты чрезвычайно таинственной деятельностью. Они наносят
знаки на белые листы, сидят перед металлической коробкой и
слушают исходящие из нее странные звуки. Это и есть те
магические действия при помощи которых они добиваются
расположения богов, посылающих им "карго". И туземцы принялись
копировать эти действия: они пытались одеваться по-европейски,
говорили в консервные банки, укрепляли на крышах хижин
бамбуковые шесты, имитируя антенны, строили подобия посадочных
площадок в ожидании "карго". (4, 85-86).
Мало у кого поведение туземцев, кстати, совершенно
естественное для них, не вызовет улыбки и не покажется смешной. В.Б.
Мириманов справедливо замечает, что в этом случае магические
действия оказались полностью лишенными позитивного элемента,
поскольку новый культ родился в условиях, когда естественная связь
явлений оказалась грубо нарушенной. Конечно, выбор данной
ситуации в качестве комичной может быть спорным, но в истории
невозможно найти ситуации, которые бы всеми воспринимались как
комические. В данном случае, самим туземцам данная ситуация
отнюдь не казалась смешной, наоборот, они находились в состоянии
религиозного воодушевления, а подобное состояние прямо
противоречит смеху и более того делает его невозможным.
8 2 Глава 2
Но почему ситуация все-таки воспринимается как
комическая или даже трагикомическая, но с перевесом в комический
план? Потому ли, что туземцы, скажем, с точки зрения европейца,
ведут себя как дети, которые играют в серьезнейшую игру и
настолько вжились в свои игровые роли, что выйти из них не
могут. Или потому, что "игра" эта основана на подражании, повторе,
которое всегда ведет к снижению. И подражание это тем
комичней, но вместе с тем и трогательнее, что оно абсолютно серьезно и
по целям и по исполнению. В результате этого подражания
появляется некая мнимая реальность, видимость, ложность которой
и пустота по результатам совершенно очевидны для
наблюдателя. Она, действительно, разрешается в ничто.
Но мнимая реальность, ложность ситуации образуется вовсе
не потому, что здесь присутствует магия. В естественном
состоянии этих племен магия выполняет важную, в том числе и
адаптивную, функцию и результаты ее применения вовсе не пусты по
результату, хотя бы в субъективно-психологическом плане. Тут
иное имеется ввиду. Мнимость ситуации образуется потому, что
чисто человеческая деятельность по производству предметов
потребления является предметом почитания в качестве
божественной и чисто утилитарные действия расцениваются как
магические. Создается подмена одного плана другим, прозаического
обыденного плана высоким и религиозным.
Таким образом, если проанализировать ситуацию, то
исходным ее образующим, движущим противоречием можно считать
противоречие между желаниями, потребностями аборигенов в
предметах потребления (продукты, одежда и т.д.) и возможностями
их получения. На этом основании развивается деятельность,
которая рождает мнимую ситуацию. Магическая сакральная
деятельность в данном конкретном случае заключается в
подражании людям, которые получают желаемое. При полной
естественности и закономерности поведения аборигенов в данном
варианте их поведение не выглядит таковым, а напоминает поведение
детей или слабоумных, так как воспроизводятся действия,
которые, хотя и действительно влекут за собой появление
вожделенных благ, но они - лишь вершина "айсберга" деятельности по
производству и доставке вещей. И нельзя, конечно, винить
аборигенов в непонимании этого обстоятельства.
Первой видимостью можно считать неадекватность между
действиями и ожидаемыми результатами. Второй видимостью - их
субъективная убежденность в правильности исполняемого
магического обряда, которая в этом случае выглядит, скорее, как
"претензия" на божественное, магическое. Очень силен перепад между
утилитарностью и ничтожностью действий и тем высоким значением,
которое им придается. Все это, конечно, присутствует реально, но
Смех как видимость и как виртуальная реальность 8 3
соединяется воедино, в комическую ситуацию, в сознании
наблюдателя. Б03 последнего предпосылки объективные для возникновения
комизма были бы (скажем, аборигены продолжали бы все свои
действия, но не было бы европейцев - свидетелей их действий), но
комической ситуации не было бы. Ибо последняя возможна только при
присутствии субъекта, способного оценить происходящее. Именно в
сознании наблюдателя и происходит первичное саморазрушение
ситуации, поэтому он и смеется, для него очевиден самообман
"взрослых детей", ясно, что ожидаемого эффекта не будет. Потом, возможно,
поймут это и аборигены и изменят свое поведение, как-то для себя
объяснив тот факт, почему все их старания ни к чему не привели.
Итак, главный фактор комизма ситуации заключается в
абсолютной наглядности для наблюдателя саморазоблачения
мнимости ситуации. Остальные моменты (игровой, подражание, детскость
и т,д,) являются раскрывающими эту суть дела, служат
средствами для получения комического эффекта - наглядности
саморазрушения ложности ситуации.
Но чтобы яснее стала суть этого механизма (особенно,
природа "мнимости" ситуации), пожалуй, предпочтительнее
оказывается другой пример объективной исторической ситуации,
связанный с так называемой "иронией истории". Но прежде
остановимся на соотношении трагического и комического.
Трагическое и комическое
Гибель старого в истории есть одновременно рождение
нового. Этот процесс воспринимался людьми по-разному: как
"ирония истории", как "причуды жизни", как "мудрость провидения",
"игра судьбы", но суть его одна - неизбежность разрушения всего
существующего на земле. Мудрость ухватывает этот закон
временности бытия, всеобщего неизбежного уничтожения, и поскольку
он повторяется в истории неисчислимое количество раз (а
всякий повтор снижает), то драма истории на фоне бесконечности
разрушения и его преодоление превращается в комедию, и этот
процесс может восприниматься как смешной.
Уже в античной трагедии была осознана и представлена
образно трагическая ирония. Это - когда человек стремится к
одному, а получает прямо противоположное. Это - ход судьбы,
когда движение жизненных обстоятельств демонстрируют тщетность
всех человеческих усилий по их изменению.
Эта трагическая ирония еще называется "софокловской". Так,
Эдип в "Царе Эдипе" Софокла бежит от судьбы, страшась ее, а на
самом деле неотвратимо идет ей навстречу, не зная этого. И
трагедия Софокла строится по принципу иронии (с завязкой-тайной,
8 4 Глава 2
кульминацией-узнаванием и расплатой). Потом этот принцип
организации драматического действия был заимствован комедией. В
третьей главе этот вопрос рассматривается подробно. А сейчас
только отметим, что это было возможно потому, что комедия и
трагедия, комическое и трагическое имеют общую глубинную основу. И
наиболее ярко исторически это проявилось в сократовской и со-
фокловской иронии, в их безусловном глубинном сходстве. (См.: 9,
39-50). Их разница заключается в том, что в софокловской иронии
"иронически" ведут себя сами обстоятельства, внешняя по
отношению к человеку сила - судьба, а в сократовской иронии "ирониче-
ски" ведет себя сам человек, он творит иронию. Таково различие и
между трагическим и комическим.
Общность комического и трагического как эстетических
феноменов заключается в том, что они оба основаны на отражении
жизненных противоречий особенным образом - через
возникновение видимости и ее разрушение. В трагической иронии они
обнаруживают свою общую основу. В этой точке они
"пересекаются", но далее они "расходятся".
Трагическое - это всегда состояние человека перед лицом
катастрофы в его жизни, связанное со значительными потерями
для его духовной и физической жизни, включая смерть. Поэтому
всегда там, где есть беда, горе и человек, который "держит удар"
судьбы, стоически его переносит, там есть трагическое в жизни и
в искусстве. Но трагической может быть судьба человека, не
вынесшего "удар", сломавшегося или погибшего. И такая
катастрофа может происходить не обязательно в результате "иронически"
складывающихся обстоятельств.
В основе трагического и комического лежит такой ход
событий, когда существует некий скрытый план наряду с явным
(видимость), который вызывает заблуждение, иллюзии у героев или
действующих лиц. На этих заблуждениях строится и все
действие. Это - общая "ироническая" основа и трагического и
комического в их классическом, развитом состоянии.
Различаются они результатами событий для действующих
лиц, включенных в ситуацию. Тут вступает в силу принцип
"безвредного и безболезненного" Аристотеля как границы
комического. Он, как раз, имеет ввиду результаты хода событий. Он
ставит также нравственные пределы для смеха: безнравственно
смеяться над сильно обиженным и над человеком в горе и
несчастии. Этот принцип сохраняет свое значение и по сей день, другое
дело, что эти границы становятся очень растяжимы, и часто
смеются тогда, когда плакать надо.
Трагическое мы получаем тогда, когда результатом
событий оказывается "переход от счастья к несчастью", а комическое,
наоборот - "от несчастья к счастью". В трагическом превалиру-
Смех как видимость и как виртуальная реальность 8 5
ет в ходе событий действие необходимости, "судьбы", которая
оказывается к человеку безжалостна, он терпит значительное
бедствие, угрожающее или заканчивающееся смертью. Иначе говоря,
активная сторона в трагическом - это судьба, которая действует,
создает видимость и ее разрушает, часто руками самого героя, а
герой претерпевает, выдерживает, страдает. В трагическом
обнаруживаются противоречия жизни через снятие видимости,
иллюзии того, что судьба человека в его руках и он все может.
В комическом же активно действует сам человек, это он
создает видимость и ее же разрушает. Комическое отличается от
трагического механизмом двойной видимости. В комическом
видимость удваивается благодаря тому, что человек, включенный в
комическую ситуацию, имеющую в основе своей противоречие, а
значит объективную видимость, сам начинает действовать,
создавать вторую субъективную видимость, иллюзию, обман для
каких-то его целей. В результате его деятельности происходит
разрушение через вторую субъективную видимость и первой
объективной видимости. Карточный домик рушится. Результаты его
деятельности совсем не те, которые он ожидал, но они в целом
для него "безболезненны и безвредны".
Итак, в трагическом обнаруживается противоречивость бытия,
что всегда связано с моментом снятия видимости. "Человек перед
лицом судьбы" - вот принцип трагического. В комическом также
обнаруживается противоречивость бытия, но в результате
активной деятельности человека по достижению своих целей, благодаря
которой он благополучно избегает перипетии жизни, хотя
достигает при этом результата совсем не того, который ожидал.
Комическая ситуация и "ирония истории"
Античная трагическая ирония оживает в Новое время. Ее
живо ощущали романтики. Об универсальном юморе как
принципе устройства бытия говорил Жан-Поль. Ироническая
диалектика развивалась Кьеркегором. Метафизическую иронию как
основание всего миросозерцания ввел А.Шопенгауэр. Она
базировалась на главном принципе его философии - иррационализме
воли. Эта традиция была продолжена Ницше и воспринята
культурой XX века. (См. об этом: 9). Но это тенденция
неклассической философии. Самое удивительное, что в принципе
метафизической иронии обе тенденции в философии (классическая и
неклассическая) сошлись. Рационалист Гегель называет
метафизическую иронию "хитростью мирового разума", а Маркс с
Энгельсом - "иронией истории".
Гегель считал, что сама история развивается трагически или
8 6 Глава 2
комически. Завершение эпохи и ее разложение есть комическая
стадия истории, что отражено и в истории искусства, ибо
комическое, согласно Гегелю, делает очевидной "всеобщую превратность,
которая в наличной действительности оказывается присущей
даже основным направлениям общественного бытия".(5,586)
"Мировой разум" у Гегеля действует в истории хитростью. Он
предоставляет людям возможность действовать согласно их целям и
интересам, соответственно их природе, пребывая в иллюзии о своей
свободе. "Мировой дух" достигает своей цели косвенно,
опосредованно, не считаясь с людскими затратами. Он всегда "смеется" над
людьми и "смеется" последним. В общем, не ведают люди, что творят.
Сходное с гегелевским понимание хода истории есть у
Маркса. В нашей эстетической литературе эта концепция хорошо
известна благодаря длительному господству марксизма в
отечественной философии. И отсюда вытекают для нас два момента: с
одной стороны, игнорировать ее невозможно, да и не нужно, так
как это было бы научной недобросовестностью и хуже того,
принесением объективности исследования в жертву идеологической
конъюнктуре, то есть ее необходимо рассмотреть. С другой
стороны, поскольку марксистская концепция иронии истории
анализировалась в специальных работах, нет нужды останавливаться
собственно на ее изложении очень подробно, а только в том
ключе, который нас интересует.(6).
Ситуация иронии истории сложилась во Франции, в 1848 году,
когда "Наполеон маленький", Луи Бонапарт, подобно своему
великому дяде Наполеону I, разогнал Национальное собрание и
провозгласил себя императором. "История Франции вступила в стадию
совершеннейшего комизма. Что может быть смешнее, чем эта пародия на
18 брюмера, устроенная в мирное время при помощи недовольных
солдат самым ничтожным человеком в мире и не встретившая,
насколько можно пока судить, никакого сопротивления."(7,27,339).
По мнению Энгельса, ничтожность человеческих качеств Луи
Бонапарта настолько не соответствовала масштабу тех исторических
деяний, на повторение которых он претендовал, что это вызывало
комический эффект. Эта внутренняя ничтожность заведомо предрешала
гибель всех начинаний этого исторического деятеля.
В проявлениях "иронии истории", в которых выражены как
общие законы самой истории, так и законы комического,
наглядно проступает действие объективного комизма: превращение
вещей в свою противоположность через образование видимости и
ее разрушение. Люди, преследуя свои цели, вызывают к жизни
такие непредсказуемые грозные силы, которые сводят на нет все
их усилия, и более того, они сами становятся марионетками и
часто жертвами обстоятельств, которые сами же и вызвали. Вот в
чем заключается суть иронии истории.
Смех как видимость и как виртуальная реальность 8 7
Подводя некоторые итоги, можно сказать, что понятие
"комическая ситуация" содержит в себе и объект и восприятие объекта
субъектом, их взаимосвязь как единое целое. Для развития
подобной ситуации необходимо, во-первых, наличие внутренне
противоречивого явления, в котором противоречие выступает как
источник его самодвижения, саморазвития, иначе говоря, противоречие
находится в самом основании сущности. Во-вторых, находясь в
еще неразвитом, зачаточном состоянии, внутреннее противоречие
скрыто за внешней целостностью явления, последняя есть
видимость этого явления, имеющая объективный характер. В-третьих,
внутреннее сущностное противоречие порождает противоречие
между своим внутренним состоянием и его внешним проявлением,
между сущностью и видимостью. В-четвертых, противоречие
между внутренним и внешним может быть раскрыто тогда, когда
достигает определенного уровня развития внутреннее сущностное
противоречие (когда оно "вызревает", доходя до стадии выраженных
противоположностей), когда внутреннее становится внешним.
На стадии "созревания" объекта появляется возможность
осознания субъектом противоречия между внутренним и внешним,
между видимостью и сущностью. В этот момент на первый план
выходит неоднородность субъекта комической ситуации.
Происходит распадение субъекта на части: некоторые люди продолжают
быть включены в ситуацию, не понимая, что происходит, принимая
за чистую монету поверхность событий, а другие поняли, и тем
самым как бы вышли из ситуации, возвысились над ней.
Непонимание может быть вызвано разными обстоятельствами в каждом
конкретном случае: начиная от просто глупости, невежества,
кончая сугубым интересом, который не позволяет человеку снять
"шоры" с глаз.
Понять, что происходит, иначе говоря, "схватить"
вышеуказанное противоречие может только субъект, обладающий, так
скажем, "острым9* умом, остроумием. Буквальное понимание слова
"остроумие" точно передает суть дела. Для комического
действительно необходим острый ум, способный быстро разбираться в
ситуации, все ловящий налету. Тут происходит как бы
соревнование между людьми в понимании, выигрывающий получает приз
- он смеется, а другой находится в незавидном положении,
получается, что смеются над ним. Здесь присутствует, конечно,
моделирование ситуации в ее игровом варианте, хотя часто в
историческом плане кощунственно говорить об этом. Комедия истории
практически всегда бывает окрашена в трагические тона.
Еще раз подчеркнем, что в комической ситуации происходит
раздвоение субъекта на включенных в ситуацию и как бы
вышедших из нее, понимающих и не понимающих,
заблуждающихся в самом общем плане, смеющихся и над кем смеются. Разде-
8 8 Глава 2
ление субъекта происходит сначала по принципу рассудка, разума
сознания или понимания. Комическое поэтому всегда обращено к
разуму, что неоднократно отмечалось разными его
исследователями.
Важно также подчеркнуть и тот момент, что, так как
ситуация имеет общую тенденцию к саморазрушению и даже гибели,
то включенные в нее люди терпят бедствие, или, по меньшей мере,
некоторый ущерб (их состояние - страдательность в той или иной
мере), другие - вышедшие из ситуации - условно могут быть
охарактеризованы как "спасшиеся" (или "счастливо избегшие
печальной участи тонуть вместе с тонущим кораблем" - все это,
конечно метафоры, но смысл ситуации они передают достаточно
точно). "Спасшиеся", вполне естественно, рады, но радость их на
фоне гибели других, может быть трансформирована в радость по
поводу гибели последних и тогда она будет выглядеть несколько
сомнительно в нравственном плане. Именно это является
основой так называемого "парадокса смеха", который выражает
способность смеха (в целом позитивной ценности) быть радостью по
поводу зла, происходящего с другим.
Выход из ситуации носит, конечно, условный характер, так
как происходит в сознании субъекта. А значит возможен и
игровой элемент, элемент соревновательности, "агона" между людьми.
Важно подчеркнуть его схематичный, обобщенный,
моделирующий характер, акцентирующий просто повторение некоторых
характерных черт в ситуации, без вникания в ее существо. Тут
имеется ввиду та самая "анестезия сердца" Бергсона, которая
свойственна смеху. Чтобы над чем-то посмеяться, надо от этого
отвлечься, не принимать близко к сердцу, иначе смех невозможен.
Равнодушие и даже жестокосердие признавали другие
мыслители характерным состоянием для смеющегося. Может быть,
смеющийся не всегда равнодушен, но на некоторое время закрыть
свое сердце для сочувствия в смехе приходится. Это отвлечение
возможно также благодаря включению механизмов игры,
игрового отношения к чему-либо, так как именно последнее содержит в
себе компонент "безболезненности и приятности". И тут
возможно его автоматическое действие, отключающее на короткое время
эмоции сочувствия, жалости.
При осознании проявленного противоречия происходит
разрушение иллюзий субъекта относительно объекта, вызванных
восприятием внешней стороны объекта, его видимостью. Вместе с
тем, поскольку, остроумие связано с видимостью объекта, оно
оказывается поверхностным и не идет дальше, вглубь, не
доискивается причин противоречивости явления и разрушения его
видимости. Это дело "мыслящего разума" у который подвергает
ситуацию анализу и вскрывает за противоречием внутреннего и внеш-
Смех как видимость и как виртуальная реальность 8 9
еГО внутренне противоречивую природу самого явления.
Итак, для комизма ситуации важен разрыв, который
наблюдается между разрешением сущностного противоречия в
действительности и тем самым снятием противоречия между
внутренним и внешним, и опережающим его разрешением этого
противоречия в сознании субъекта (в известной мере, осознание
противоречия уже означает его некоторую преодоленность — в
сознании). Образуется как бы "зазор" между преодоленностью
противоречия в сознании и его разрешением в действительности. Этот
"зазор" создает почву для перехода иллюзий субъекта в другое
их качество: перехода от действительных иллюзий к
сознательному или бессознательному самообману, который всегда смешон.
Видимость и иллюзии
Напомним, что первая видимость носит сугубо объективный
характер, вторая видимость надстраивается над первой и
является субъективной по своему существу, но не менее реальной, чем
первая (ведь ее представлениями руководствуются в жизни),
Субъективная видимость на стадии разрушения объективной
видимости может быть названа иллюзией.
Сохранение неразрешенного, но уже выраженного
противоречия в действительности создает условия для сохранения иллюзий
относительно противоречивого объекта, иллюзий об отсутствии
противоречивости. Видимость объекта сохраняется, фактически,
искусственно. Субъективная видимость, прежде имевшая под собой
объективные основания (скрытость противоречивой сущности
объекта объективной видимостью), теперь теряет под собой почву,
становится иллюзией, все более беспочвенной, а далее просто
"упорствующей иллюзией". Но она не до конца беспочвенна. Пока
противоречие остается неразрешенным в действительности, до тех пор
сохраняются и некоторые основания для заблуждения.
Иначе говоря, комизм ситуации имеет основания со стороны
развития объекта во временном промежутке между
выраженностью внутреннего противоречия (до стадии развитых
противоположностей) вовне, что одновременно влечет за собой
разрушение объективной видимости, и между разрешением данного
противоречия в действительности, последнее делает уже
совершенно беспочвенными всякие иллюзии. То есть, ситуация
комична тогда, когда объективная видимость разрушена, но для
существования субъективной видимости (или иллюзий) еще
сохраняется некоторая возможность. То есть ситуация комична тогда,
когда еще все однозначно не решено, а сохраняется возможность
колебания, сомнения в исходе дела, пока еще не всем все ясно. Когда
9 0 Глава 2
все всем ясно, тогда уже не смешно. А там, где есть сомнения,
колебания, там возможна игра на иллюзиях, то есть комическое.
Именно в этом временном и пространственном отрезке истории и
действует комическое.
В данный момент для одних людей "иллюзорность
иллюзии" очевидна, и ситуация приобретает в их глазах характер
комический, для других иллюзии сохраняют свой прежний статус,
и они продолжают относится к ним всерьез. Последнее может
происходить по двум причинам: либо это причины чисто
субъективного порядка, вызванные индивидуальными особенностями
(глупостью, наивностью, возрастом и т.д.) - это так называемое
"бессознательное комическое"; либо эти причины отчасти
объективны и лежат в сфере интересов групп людей, классов, к
которым принадлежит тот или иной индивидуум.
Если прежде, до осознания противоречия между внутренним
и внешним, видимостью и сущностью, субъективная видимость
совпадала как бы с объективной видимостью, адекватно ее
отражая, то после разрушения объективной видимости, с обнажением
сущностного противоречия, субъективная видимость становится
иллюзиями, а последние в дальнейшем из обычных заблуждений
перерастают в очевидное заблуждение. На этой стадии они
особенно явно комичны. Комизм ситуации определяется
соотношением между объективной видимостью и иллюзиями или
субъективной видимостью.
Удвоение видимости и ее саморазрушение
Для комической ситуации характерно сохранение иллюзий
при фактическом отсутствии объективной почвы для них, что и
выражается в процессе образования удвоенной видимости и ее
разрушения. Первая видимость - это объективная видимость,
порожденная внутренним сущностным противоречием; вторая
видимость - это субъективная видимость, создаваемая объективной,
выступающей по отношению к субъективной видимости как ее
"мнимая сущность".
Эти две видимости (объективная и субъективная) могут
либо соответствовать друг другу (субъективная видимость
адекватно отражает объективную); либо не соответствовать - в том
случае, когда объективная видимость в ходе развития сущностного
противоречия ситуации разрушается, когда внутреннее
становится внешним, а субъективная видимость в одном варианте
продолжает существовать, а в другом - разрушается. Вот тут и
проявляется комизм ситуации, именно при отношении несоответствия
между объективной и субъективной видимостями.
Смех как видимость и как виртуальная реальность 9 1
Это несоответствие между объективной и субъективной види-
мостями должно быть представлено наглядно. Комизм ситуации
возможен благодаря неоднородности субъекта. Поскольку люди
всегда смеются только над собой, то есть над собственно
человеческим в разных проявлениях и в разных ситуациях, то и тут
комизм ситуации создается на основе несоответствия объективной и
субъективной видимостей при различии проявления субъективной
видимости.
Иными словами, в ситуации должны быть представлены оба
варианта существования субъективной видимости -
разрушенная и сохраняющаяся, то есть в комической ситуации должны
участвовать минимум два субъекта, один в качестве
наблюдателя, у которого не остается иллюзий. Ему соответствует
разрушенная субъективная видимость. Это и есть собственно субъект
комического. Другой субъект сохраняет свои иллюзии и находится
в состоянии несоответствия ситуации, то есть его неадекватное
ситуации, изменившимся обстоятельствам, поведение и является
объектом комического или смешным. Ему соответствует
сохраняющаяся субъективная видимость.
Сохранение иллюзий при отсутствии объективных
оснований для них заключает в себе возможность повтора прежних
представлений, что ведет к снижению их значения, их ценностному
снижению.
Противоречие в различных своих проявлениях выступает
пружиной развертывания комической ситуации, источником
продуцирования признака собственно комизма ситуации - удвоения
видимости, которое, в свою очередь развивается в сторону
возникновения противоречия между объективной и субъективной види-
мостями. С разрушением основы для объективной видимости
(проявлением сущностного противоречия как развитого, как
противостояния развитых противоположностей) происходит переход
одной объективной видимости в другую, соответствующую
качественно новому состоянию объекта. На этом этапе объективная
видимость вступает в противоречие с субъективной, с
сохраняющимися иллюзиями, которые задерживаются в своем
разрушении, но с необходимостью обречены на разрушение, вслед за
своей основой - объективной видимостью.
Именно этот этап расхождения, этап противоречия между
объективной и субъективной видимостями может быть
охарактеризован как комический этап в истории. Он продолжается до тех пор,
пока субъективная видимость не будет приведена в соответствие с
новой объективной видимостью, которую в дальнейшем также ждет
разрушение, и так до бесконечности.
Подводя некоторые итоги предпринятого нами анализа
комической ситуации, можно сказать, что взаимосвязь объективной
9 2 Глава 2
видимости с субъективным ее отражением (иллюзиями) - удвоение
видимости - выступает объектом в комической ситуации. Иными
словами, в объекте комического присутствует и субъективное
начало. Если упростить, то, скажем, объектом смеха выступает человек,
находящийся в противоречии с ситуацией, с внешними
обстоятельствам, но человек, "укорененный" в ситуации, вовлеченный в
нее, не сознающий своего с ситуацией несоответствия. Субъектом в
комической ситуации будет иное лицо, не вовлеченное в ситуацию,
и которое не питает уже иллюзий относительно ситуации, ее
мнимость для него ясна. Для наглядности попытаемся выразить это
схематично:
Комическая ситуация
Саморазрушение явлением самого себя через
возникновение удвоения видимости (на стадии противоречия между
субъективной и объективной видимостями, источник для которого
находится в противоречии основания сущности).
Объект комического (для него обязательно наличие
некоторой субъективности в определенных обстоятельствах, то есть
наличие субъекта-участника ситуации). Для субъекта-участника
комической ситуации характерна задержка в осознании истинного
характера ситуации, сохранение соответствия объективной и
субъективной видимостей, иначе говоря иллюзорное, ложное
сознание.
Субъект комического (субъект-наблюдатель). Для него
характерно осознание противоречия между объективной и
субъективной видимостями (разрушение иллюзий). Дистанция по
отношению к ситуации, которая появляется с разрушением иллюзий.
Отсюда видно, что, во-первых, принцип "удвоение
видимости" (сочетание объективной и субъективной видимостей)
характерен как для объекта, так и для субъекта комического.
Принцип удвоения видимости является организующим в
ситуации и отражается, понимается, "схватывается" субъектом,
воспринимающим эту комическую ситуацию. Во-вторых, в
объекте и в субъекте комического присутствует субъективность в
ситуации, вкупе с внешними обстоятельствами. Это
обстоятельство, как раз, перекликается с мнением Жан-Поля о том, что
"комическое, как и возвышенное, никогда не обитает в объекте,
но всегда обитает в субъекте". Иначе говоря, человеческое на-
Смех как видимость и как виртуальная реальность 9 3
чало обязательно должно быть и в объекте комического, то есть
смешного без него нет.
В известном смысле, смешное или объект комического
(человек плюс внешние обстоятельства) и смеющийся или субъект
комического связаны по принципу зеркального отражения.
Объект в субъекте отражается как в зеркале, и наоборот, субъект
смотрится в ситуацию, в смешное, как в зеркало. Чтобы этот
зеркальный эффект удвоения состоялся, субъективность должна
присутствовать и в объекте, в ситуации. Человек может смеяться только
над себе подобным, он почти всегда "смеется над самим собой".
Однако, часто он смеется только потому, что не осознает этого. Но
это все, конечно, то, что называется "доведение мысли до
логического конца". Принцип удвоения видимости - это объективная
структура двойничества, пародийности, зеркальности,
подражательности и т.д., которые и есть проявления комической
сущности в отдельных случаях.
В-третьих, для субъективности, укорененной в объекте
комического, характерна в ее представлении параллельность
объективной и субъективной видимостей, их соответствие, в то время
как оно уже нарушено. Иначе говоря, это лицо пребывает в
состоянии заблуждения.
В-четвертых, субъект комического обладает остроумием,
именно он осознает ложность разрушающейся объективной
видимости, и тем самым выходит из-под ее влияния, дистанцируется от
разрушающейся объективной видимости. В известном смысле
данный субъект становится свободным от прежней
разрушающейся ситуации, в то время как субъективность в объекте
комического сохраняет свою полную зависимость от ситуации.
В-пятых, комическая ситуация со всеми своими
компонентами может быть смоделирована искусственно, как например, в
комедии или в просто шутке, остроте.
В-шестых, комическая ситуация, поскольку в ней так
значителен элемент субъективности, может воспроизводиться в
воображении, сознании субъекта-наблюдателя и без непосредственного
присутствия объекта комического, то есть все это может существовать
только в голове смеющегося. Элементы комической ситуации при
многократном повторении подобных ситуаций имеют тенденцию
выделяться и обобщаться в определенный субстрат (форму),
который уже может применяться к различному содержанию и вообще ко
всем предметам и сторонам действительности.
В-седьмых, объект и субъект комического как бы разнона-
правлены. Смешное или объект комического, основанное на
удвоении видимости и ее разрушении, тяготеет к отрицательности,
к снижению своего общего положения, статуса, ценности. В то
время как для субъекта комического, наоборот, характерно новы-
9 4 Глава 2
шение тонуса, самочувствия, самооценки, удовольствие,
наслаждение и т.д. Этот момент отмечался в литературе в той или иной
степени многими мыслителями, он даже получил название в
одной из последних отечественных работ по проблеме "парадокса о
смехе" (8). Остановимся на нем подробнее.
Парадокс смеха
"Парадокс смеха", если сформулировать его совсем коротко,
заключается в свойстве смеха радоваться по поводу зла. Зло,
которое по логике вещей должно вызывать осуждение,
негодование, расстройство, печаль, стыд и т.д., тут, в случае со смехом
вызывает неподдельную радость и даже наслаждение. Позитивная
в целом эмоция - смех, и связана со злом, является реакцией на
зло. Как это возможно?
Парадокс смеха, таким образом, носит этический характер. Смех
в качестве позитивной ценности не вызывает сомнения у многих
исследователей. К надежде и сну, которые, по мнению Вольтера,
подарены небесами людям в противовес тяготам жизни, Кант
добавляет и смех, "полезное для здоровья движение". И в то же время
смех аморален? Придется ответить утвердительно.
Парадокс смеха есть парадокс субъекта комического, вся
проблема заключена в его реакции, в радости по поводу зла, в
злорадстве. Так у Шопенгауэра удовольствие в смехе носит характер
злорадства, а у Бергсона удовольствие от смеха возникает,
несмотря на негативную природу осмеиваемого, собственно, как бы
вопреки самой природе смеха. Т.Гоббс видел источник удовольствия в
смехе в чувстве собственного превосходства, которое проявляется
неожиданно в результате сравнения себя с другими и их
недостатками и служит упрочению доброго мнения о себе, то есть чувство
эгоизма лежит в основе смеха. (10, 483-484).
Двойственная природа смеха была подмечена и Декартом.
"Хотя смех, кажется, должен бы быть одним из главных выражений
радости, тем не менее только умеренная радость вызывает смех, в
особенности когда к ней примешивается немного удивления и
ненависти". (11, 654-655). Смех связан с радостью, "происходящей
от сознания, что зло, которым мы возмущены, не может нам
повредить". По Декарту смех оказывается однопорядковой эмоцией с
чувствами негодования, возмущения как реакциями на зло, но в
случае со смехом зло носит характер "безвредного и
безболезненного".
Последний момент принадлежит не Декарту, он входил
составной частью в определение смешного, данное Аристотелем и оно
прочно вошло в традицию рефлексии по поводу смеха. У Аристо-
Смех как видимость и как виртуальная реальность 9 5
теля же есть указание на смешное как на зло - "части
безобразного", "некоторой ошибки и уродства". (12, 650).
Что получается? Явление, которое вызывает смех, смешное по
природе своей является злом, это - нечто отрицательное, и тем не
менее оно вызывает радость и удовольствие? Может быть потому,
что присутствует в смешном определенная "мера" зла, оно
"безвредно и безболезненно". Если смех - реакция на зло, то она
должна быть обязательно негативной или защитной. Так откуда же в
смехе позитив, радость?
Л.В. Карасев, автор книги "Философия смеха" (1996), этот
парадокс смеха кладет в основание своей концепции. Он его четко
формулирует и отвечает на этот вопрос следующим образом.
Существует два вида смеха: "смех ума и смех плоти". "Смех ума"
является реакцией на зло, такой же какой является гнев и
страдание, поэтому и "гримасы-маски" этих эмоций так похожи. Но смех
является реакцией на меньшее зло, на "меру" зла. Смех рождается
от "внезапного... обнаружения того, что зло преодолимо". (8, 29).
"...Смех действительно являет собой высший и наиболее
соответствующий существу человека способ противостояния злу. Это
противление злу радостью, подвигающей зло к самоопределению:
потому-то смех и стоит здесь на голову выше любых других чувств
и интенций, во всякий момент готовых стать действием. В
противоположность им, направленным либо на саморазрушение
человека, как в горе и страдании, смех ничего не разрушает, а напротив,
сам стойко противостоит всякому разрушению; он отрицает, не
разрушая." (8, 31).
Л.В.Карасев совершенно точно уловил связь смеха со злом и
всю парадоксальность ситуации. Безусловно, можно согласиться с
его делением смеха на "смех ума и смех плоти", мы также
придерживаемся подобной классификации (смех как
психофизиологическое явление (телесный) и как явление культуры (культура -
способ жизни человека, родовое свойство которого - разум,
следовательно, смех культурный - смех разумный, "умный"). А также с
тем, что эти два вида смеха всегда как бы меняются местами,
путаются, а, если точнее, то "смех культурный" часто пользуется маской
"смеха телесного".
Автор "Философии смеха", как представляется, чрезмерно
увлекается этизацией смеха. Он очень хочет его ассоциировать
обязательно с добром и сделать обязательно позитивной ценностью
именно в этическом плане. Он выступает в качестве "адвоката"
смеха перед всеми обвинителями последнего в его злом характере.
"Смех не может быть источником зла, хотя его постоянный
контакт со злом и способен вызвать подобную иллюзию". (8, 41). Но
почему это обязательно должно быть так, только потому, что автор
субъективно очень хорошо относится к смеху?
9 6 Глава 2
Смех - явление, выходящее за рамки этики. Комическое -
эстетический феномен. И если уж красота может быть злой,
демонической, то что говорить о смехе, для которого дисгармония -
питательная среда. Смех может быть моральным, а может быть и
аморальным фактором. Он не лежит "по ту сторону добра и зла",
потому что, все что "там" лежит, связано, в конечном счете, со
злом. Смех может быть добром, а может быть и злом, и
выражением зла, смотря что под ним иметь ввиду.
Смех не является безусловно позитивной ценностью, потому что
смех бывает разный (от улыбки ребенка до демонического хохота -
это все смех), и поэтому он требует в этическом плане
дифференцированного отношения. А сам по себе смех как психофизиологическое
движение есть средство энергетической разрядки тела, психики от
напряжения, от полноты жизни, чувств, эмоций, такое же, как плач.
Кроме того, в истории так сложилось, что, возможно, поначалу
смех был средством защиты, "оберегом", от нечистой силы, от зла.
Но из средства защиты он постепенно превратился в средство
общения с этой демонической силой, а потом и просто стал ее
признаком, стал "признаком смерти", а потом и "признаком зла". В
этом его история сходна с историей феномена матерной брани,
которая также имела магические истоки. Более развернуто эту
историю смеха мы рассматриваем в третьей главе.
С излишней этизацией феномена смеха связано и то
обстоятельство, что Л.В. Карасев выдвигает в качестве антитезы смеху
стыд, а не серьезное, или трагическое. Стыд является развитой
моральной эмоцией, он связан с осознанием вины и греха.
Присутствие стыда всегда указывает на моральную оценку. Еще
Владимир Соловьев говорил, что человек, как существо моральное,
отличается от животного наличием жалости и стыда как возможной
основы для морали. Он же, отмечая разницу между человеком и
животным вообще, первое место все же отдал смеху: "человек
смеющийся" - так, по его мнению, человек должен определяться по
существу. И это не противоречие, так как смех и стыд - разные
плоскости человеческих проявлений.
Но если стыд - это основа морали, то противоположность
стыда - смех - есть тогда бесстыдство, отсутствие стыда. Но не
всякий же смех обязательно бесстыдный, хотя таким он должен
быть по логике Л.В.Карасева. Есть бесстыдный смех, но есть и
скромная улыбка от смущения, и она есть выражение стыда. Тут
присутствует логически некорректное противопоставление, смех и
стыд находятся в разных плоскостях, этической и эстетической, но
могут, конечно, и пересекаться. У смеха в области эстетической
антагонисты другие - трагическое, серьезное.
В "Философии смеха" очень удачны, на наш взгляд, очерки о
значении смеха в философии Ницше, в творчестве Андрея Плато-
Смех как видимость и как виртуальная реальность 9 7
нова, Умберто Эко. А также очень много тонких нюансов и
плодотворных идей содержит раздел "Феноменология смеха".
Но вызывает удивление негодование автора по поводу
интерпретации смеха у Э.Т.А. Гофмана как злого, демонического
начала. (8, 41-42). Это отношение к смеху свойственно вовсе не одному
Гофману и даже не только поздним романтикам, это есть давняя
традиция, восходящая к средневековью и христианству. В
"Ночных бдениях" Бонавентуры, например, смех объявляется средством,
при помощи которого дьявол овладевает миром. "Чего стоит вся
эта земля со своим сентиментальным спутником месяцем, если не
насмешки, да и ценность земли разве только в том, что на ней
обитает смех. На земле все было так слащаво и благостно
оборудовано, что дьявол, взглянув на нее скуки ради, разозлился и, чтобы
насолить строителю, послал смех, а смех ухитрился искусно и
незаметно закрасться в маску радости, которую люди охотно
примеряли; тогда смех сбросил эту личину, и на людей злобно глянула
сатира...". (13, 150-151).
Возражения вызывает также сравнение роли смеха в
христианской и эллинской культурах. Оно отличается некорректностью.
Так, например, отношение к телу как к "темнице души" - это
платонизм, а не христианство. (8, 47). Или такое высказывание:
"Для христианского ума все обстоит иначе. Смерть здесь -
высшая земная ценность...". (8, 49). В христианстве главное в земной
жизни человека - это выбор: с Богом ты или нет; и
соответственно, преображение своей жизни в соответствии с этим выбором,
стремление соединиться с Богом. А значение смерти - это уже результат
этого выбора и переход к вечной жизни. Поэтому главная
ценность и в земной и в загробной жизни человека - это Бог и
соединение с ним.
Сомнительно также утверждение: "смех - единственное, что
отличает человека от Богочеловека". (8, 49). Иисус Христос,
воплотившийся в человека, отличался от человека, помимо того, что он
был Богочеловек, Сын Божий, тем, что он был безгрешен, в то время
как любой человек рождается в грехе, живет в нем и умирает.
Неверна также интерпретация отношения к смеху в христианстве:
"Отрицая веселье, христианство отвергло и смех, не сделав для себя
в нем никаких различий". (8, 43). Отношение к смеху в
христианстве было дифференцированным, отрицались только крайние,
неумеренные формы смеха. Причем эта дифференциация есть уже у
Климента Александрийского, то есть на заре христианской эры. Да
и сам Л.В. Карасев противоречит себе, когда несколькими
страницами спустя приводит очень позитивный отзыв о смехе Иоанна
Златоуста. (8, 45). Подобные некорректности при сопоставлении
эпох, конечно, нежелательны, тем более когда это касается
христианских ценностей.
9 8 Глава 2
Принцип удвоения видимости в комедии
Принцип саморазрушения явления через удвоение видимости,
составляющий, по нашему мнению, сущность комического, лежит в
основе и искусственно создаваемой ситуации. Примером такой
искусственно созданной комической ситуации может служить
хорошая комедия, которая обязательно, иногда неявно, строится на этом
принципе.
Прав был A.B. Шлегель, когда говорил, что в сущности,
комедия есть одна грандиозная шутка, включающая в себя много
маленьких. То есть в комедии дана сущность, ядро комического,
присутствующее и в самой маленькой шутке, но как бы крупным
планом, разворачивающееся в пространстве и во времени.
Комедиографы интуитивно верно прозревали природу комического (ведь, как
известно, для создания комического вовсе не нужно и даже вредно
теоретизировать на тему смеха) и эта практика закреплялась в
определенных приемах, часто повторяющихся в комедиографии и
направленных по сути на воссоздание видимости. К подобным
приемам относится, например, правило "qvo pro qvo "("кто вместо кого").
Это правило построения комедии заключается в том, чтобы
была создана по ходу действия комедии мнимая ситуация,
обреченная изначально на то, чтобы "лопнуть", чтобы выявить свой
мнимый характер. С одной стороны, это ситуация обостряющая и
осложняющая исходное положение дел, но, с другой стороны,
приводящая в конечном счете через собственное разрушение к
разрешению проблем. Иначе говоря, должен быть создан "мыльный
пузырь", чтобы когда он лопнул, все стало на свои места и все
желания исполнились.
Любая комедия обязательно строится на обмане и
самообмане персонажей, ибо, как было показано ранее, на них (в форме
видимости) основана сама суть комического. Помимо комедийного
правила "qvo pro qvo", хорошо известны и другие приемы,
ориентированные на ту же цель - удвоение видимости через построение
мнимой ситуации. Это - принцип двойничества или близнецов,
маскарад и всякие переодевания, приводящие к веселой путанице
(как в "Двенадцатой ночи" В. Шекспира); мистификация и
намеренный обман (как в "Трактирщице" К. Гольдони); обман
поначалу невольный, вырастающий из самообмана действующих лиц в
соответствии с внешними обстоятельствами и логикой их
характеров ("Ревизор" Н.В. Гоголя); или полная иллюзий и самообмана
жизнь героев, приводящая в итоге их к краху (как в комедиях
А.П.Чехоза "Вишневый сад" и "Чайка", переходящих в трагедии).
Вспомнить можно и часто используемый в комедиографии прием
"театра в театре", когда создается мнимая ситуация внутри
условности самого театрального спектакля.
Смех как видимость и как виртуальная реальность 9 9
В качестве примера можно привести всем хорошо знакомую
комедию "Ревизор" Н.В. Гоголя. Вся комедия строится на
самообмане чиновников. Благодаря этому самообману становится
возможна и "шулерская" игра Хлестакова, который "выжимает" из
этого самообмана все, что только можно. В данном случае
самообман чиновников выступает "второй" или субъективной
видимостью, которая вырастает как иллюзорное ложное сознание на
основе объективной видимости ("первая видимость"), которая есть
стремление чиновников скрыть факты своего взяточничества. Ожидая
ревизора, как известно, чиновники обманулись в конкретной
личности ревизора, приняв проезжего молодого франта, мелкого
чиновника Хлестакова за "важное лицо" из Петербурга, за ревизора
"инкогнито". Самообман этот является целиком и полностью
следствием взяточничества чиновников и страха наказания за это,
стремления скрыть свои грешки, то есть самообман вызван вполне
объективными обстоятельствами. "У страха глаза велики".
Разрушение самообмана чиновников, субъективной видимости,
было предрешено. Она должна была разрушиться неизбежно, как
только появится настоящий ревизор. Но уничтожение самообмана
влечет за собой с неизбежностью и выявление фактов
взяточничества. Таким образом, разрушение субъективной, второй видимости
влечет за собой уничтожение и первой, объективной видимости,
стремления чиновников скрыть свои грехи. Это - принцип
"карточного домика" у когда падение последнего звена влечет за собой
падение всего домика.
Когда мы касаемся шутки, остроты или комедии, то есть
искусственно созданного комического, то мы вступаем в поле
действия в комическом категории "игры", так как именно игровой
элемент в комическом делает их возможными.
Игра и смех
Мыслители, связывая комическое с нелепым, безобразным,
ничтожным, странным, "возвышенным наизнанку" и т.д.,
фиксировали не только отрицательность комического, но и взаимосвязь этих
отрицаний с их положительными половинками, без которых они
полностью лишены смысла, то есть "колебательность",
"оборачиваемость", "обращенность" этого взаимоотношения с тенденцией к
снижению - переход прекрасного в безобразное, нормального в
странное, осмысленного в бессмысленное, возвышенного в ничтожное и
т.д.
Интересно, что в немецком слове "Verkehrtheit", которое Карл
Гроос употребляет для характеристики комического и перевод
которого в русском издании его книги 1899 года дается как "неле-
100 Глава 2
пость", содержится еще значение "бессмыслицы" и "превратности".
(14). Если "нелепость" в "Словаре русского языка" С.И.Ожегова
толкуется как нечто, не оправдываемое здравым смыслом, то
"бессмысленное" как нечто, вообще лишенное всякого смысла. (15).
Понятие "превратности" включает в себя момент движения
как перехода в другое состояние (придание иного вида), обращения
во что-то иное, резкую перемену, поворот в событиях (превратности
судьбы). В немецком слове "Verkehrtheit" объединены значения
трех русских слов ("нелепость", "бессмыслица" и "превратность"),
при помощи которых традиционно определяется сущность
комического.
Немецкое слово "Widersinn" (нелепое, бессмысленное),
которым И. Кант обозначал нечто, присущее комическому и которое в
русском переводе прозвучало как "нелепое" (16), в XX веке было
использовано Н. Гартманом для той же цели и в русском
переводе его "Эстетики" было дано как "бессмыслица". (17). Эти
разночтения в переводах, показавшиеся переводчикам
несущественными, хотя и несколько запутывают картину, но объективно говорят
о том, что в этих эпитетах комического, несмотря на различные
оттенки смыслов, есть нечто общее, а именно: переход
противоположностей друг в друга с преобладанием негативного оттенка,
отрицательной стороны.
Переход противоположностей друг в друга, их
"колебательное" и "обращеное" отношение связаны с игровым элементом
комического. Помимо того, что игровой компонент входит в самую
сущность феномена комического, именно игровой элемент
способствовал в процессе становления комического как эстетической
категории переносу значений комического, смешного с узкого круга
человеческих действий и ситуаций, складывающихся естественным
порядком, на широкую сферу всех многочисленных и
разнообразных проявлений комического в искусстве и в действительности.
Понятие "игра" в Философском энциклопедическом словаре
определяется как "термин, обозначающий широкий круг
деятельности животных и человека, противопоставляемой обычно
утилитарно-практической деятельности и характеризующийся
переживанием удовольствия от самой деятельности". (18). Итак,
во-первых, игра - деятельность; во-вторых, деятельность,
противоположная трудовой деятельности; в-третьих, деятельность, которая
приносит удовольствие. Вот, что только и можно вынести из этого
слишком широкого определения.
Труд как целесообразная напряженная деятельность,
ориентированная на результат - удовлетворение потребностей,
выступает "антиподом" игры, как деятельности, прежде всего
заинтересованной в самом процессе, а не в результате. Труд - дело, игра -
забава. С трудом ассоциируется серьезность и обязательность, с
Смех как видимость и как виртуальная реальность Ю1
игрой - известная свобода и творческое самовыражение,
удовольствие.
Известный исследователь игры Йохан Хейзинга в своей книге
"Homo ludens" дает такое определение игры: "игра есть
добровольное действие либо занятие, совершаемое внутри установленных
границ места и времени по добровольно принятым, но абсолютно
обязательным правилам с целью, заключенной в нем самом,
сопровождаемое чувством напряжения и радости, а также сознанием "иного
бытия", нежели "обыденная" жизнь". (19). Свободное действие;
условность правил, места и времени; цель в самом действии;
чувство напряжения и радости; а также сознание выхода за пределы
обыденной жизни в "иное бытие" - вот основные признаки
феномена игры.
Если поразмыслить, то, в принципе, все эти признаки можно
отнести и к смеху, к комическому. Смех всегда связан со
свободным самовыражением; а также с удовольствием, радостью, и с
разрядкой напряжения; а принцип удвоения видимости и ее
разрушения дает определенное расхождение с действительностью,
известную условность, дистанцию, "выпадение" из заведенного порядка
вещей, ощущение " над жирности".
Так каким же образом соотносятся смех и игра? Насколько
они соприкасаются друг с другом? Несмотря на все сходство, ясно,
что смех и игра не одно и то же. Можно сказать с известной
натяжкой, что смех есть игра, но, что игра есть смех, сказать уже
нельзя без того, чтобы не сузить и не исказить понятие игры. Игра
не исчерпывается смехом, как, впрочем, и смех не есть только игра.
И игре и смеху противостоит "серьезное", однако между
смехом и игрой "никоим образом нет необходимой связи. Дети,
спортсмены играют со всей серьезностью, без малейшей склонности
смеяться. Примечательное обстоятельство: как раз чисто
физиологическое отправление смеха присуще исключительно человеку, в то
время как содержательная функция игры является у него общей с
животными. "Аристотелевское animal ridens (смеющееся
животное) характеризует человека в противоположность животному,
пожалуй, еще более четко, нежели Homo sapiens... Сама по себе игра
не комична - ни для играющих, ни для зрителей... Мы называем
комическим клухт или комедию не из-за игрового действия
самого по себе, а из-за содержания." (19, 15-16).
Общее для смеха и игры заключается в том, что оба феномена,
каждый по своему связаны с удвоением реальности, с
воссозданием видимости, мнимой реальности, воображаемой, условной,
иллюзорной, то есть со всем тем кругом значений, которые вытекают из
соприкосновения с видимостью. Так, с сутью игры связано
создание условной ситуации, мнимой, игровой ситуации. В игре
выделяются два плана: реальный и воображаемый, условный. Игра все-
102 Глава 2
гда происходит как бы невсерьез, "понарошку", "невзаправду".
Если игра тяготеет к реальному плану (превалирует "игра как
средство"), стремится к реализации воображаемого, то она переходит в
другие виды деятельности (познание, спорт, труд, эстетическое
творчество и т.д.), утрачивая свою самоценность. В самоценности игры
"игра как цель" и "игра как средство" совпадают.
Игра обособляется от обыденной жизни местом действия и
продолжительностью (игровое пространство и время). И она
разворачивается по только ей присущим правилам, у нее есть
внутренне ей присущий порядок. Это как бы "временные миры внутри
обычного, созданные для выполнения замкнутого в себе действия".
Нарушить правила игры - значит нарушить иллюзию игры.
Для нас в исследовании комического важна главная черта
игры - это способность создавать внутри действительной
реальности другую - мнимую, воображаемую, со своим порядком, своими
законами, внутри одного мира - иной. Это качество игры
позволяет в комической ситуации наблюдателю (субъекту комического)
как бы "выпадать" из ситуации, переставать быть ее участником,
становясь ее сторонним зрителем, отвлекаться от нее,
дистанцироваться ("он есть и его пет").
Наблюдатель словно на какое-то мгновение становится
играющим, можно даже добавить - ребенком, ведь игра по своему
основному смыслу всегда остается именно детской деятельностью
по преимуществу, все остальное вторично (когда взрослые играют,
они как бы возвращаются в детство). Как только включается
механизм игры для продуцирования мнимой реальности или бывает,
что сама реальность словно подсказывает игровое к ней
отношение (в случае естественно складывающейся комической ситуации),
активизируются и все те побочные, но необходимые для игры
смыслы. Действие производится понарошку, не до конца, а значит
"безвредно и безболезненно", а доставляет значительное удовольствие.
Таким образом, еще раз подчеркнем, что состояние субъекта
при восприятии комической ситуации напоминает состояние
играющего и удовольствие от комического носит двойственный
характер: к удовольствию от понимания происходящего и к чувству
самоудовлетворения и самоутверждения с этим связанного,
добавляется удовольствие от игры. Можно также сказать, что
познавательный процесс, который происходит у наблюдателя в
комической ситуации, становится также и игровым. Это пересечение
познания с игрой делает возможным смех. Пересечение - это всегда
"точка", поэтому комическое, смех всегда кратковременны, мгновен-
ны.
"Точка" смеха - это точка совпадения на мгновение, как в
калейдоскопе, многих факторов, многих мозаик-элементов.
Повернул ребенок подзорную трубу с калейдоскопом и сложилась картин-
Смех как видимость и как виртуальная реальность юз
ка, а в следующее мгновение распалась. Так и с комическим в целом
и с комической ситуацией. На мгновение все совпало - и мнимая
реальность, приводящая к саморазрушению явления (точно, как
воздушные замки рождаются и гибнут на глазах) и понимание этого, и
игровая отстраненность, и мгновенная "анестезия сердца", и
удовольствие от игры и самоудовлетворение и т.д. И родился смех, но
не простой, а очень сложный культурный феномен - комическое.
Такая подвижность, "тoчeчнocть,,, мгновенность входит в саму суть
комического, поэтому такого неуловимого и многоликого.
Движение - это еще один момент смыслового пересечения
смеха и игры. Интересно, что в древности слово "игра"
связывалось, например, у евреев с понятием о шутке и смехе; у древних
греков с игрой ассоциировались действия, свойственные детям, и
это слово подразумевало "предаваться ребячеству". У римлян "ludo"
означало радость и веселье; древнегерманское слово "spilan"
передавало легкое плавное движение, наподобие качания маятника,
доставляющее при этом большое удовольствие. Впоследствии на всех
европейских языках словом "игра" отмечается большой круг
человеческих действий, не относящихся к тяжелому труду. (20).
Таким образом, изначальный смысл "игры" включал в себя
движение без цели "взад-вперед", "туда-сюда" (качание, колебание),
происходящее как бы само собой, а также удовольствие от него,
радость, веселье и шутку. Это "само собой" очень важно, так как
именно оно акцентирует свойственное комическому качество
самопроизвольности или ее видимости. Отсюда и свойственное смеху
ощущение свободы или ее видимости, одно другое не исключает.
Данная семантика слова "игра" послужила ядром для
современных различных его употреблений (от обозначения детской
игры до воспроизведения трагических героев на сцене). Отсутствие
определенной цели в движении "туда-сюда" давало возможность
толкования его как спонтанного и свободного, самопроизвольного,
а потому радостного и забавного.
Х.Г. Гадамер, поставивший понятие "игры" в центр своей
эстетики, отмечает, что во всех случаях употребления этого понятия
в языке центральным его смыслом остается "движение туда и
обратно", не связанное с определенной целью, которой оно и
заканчивалось бы. "Движение, которое и есть игра, лишено конечной
цели; оно обновляется в бесконечных повторениях". (21).То же
отмечает и Хейзинга: "Эта повторяемость есть одно из
существеннейших свойств игры. Она характеризует не только игру в целом,
но и ее внутреннюю структуру. Элементы повтора, рефрена,
чередования встречаются на каждом влагу почти во всех развитых
игровых формах". (19, 20).
Иначе говоря, повторяющееся движение "туда и обратно"
входит в саму сущность игры. Игровое движение как будто лишено
104 Глава 2
субстрата, при этом движении не фиксируется также играющий
субъект. Игра - это совершение движения как такового.
Повторяющееся движение "туда и обратно" по принципу "маятника"
имеет существенное отношение к смеху, к его колебательной, взаи-
мообращающейся связи между противоположностями (от
"безобразного" к "образному", от "нелепого" к "лепому" и т.д.). При
взаимосвязи противоположностей по принципу "маятника" эти
противоположности уравнены по значению. Равенство между позитивным
и негативным может приводить только к одному результату:
снижению позитивного, так как сколько не "возвышай" негативное,
оно все равно останется отрицанием чего-то позитивного, то есть
тем, что без своей позитивной половинки не существует.
Детская игра и "мнимая ситуация"
Известный исследователь игры Д.Б.Эльконин отмечал, что
именно детская игра обладает качеством игры как таковой, игры в
чистом виде. (22, 8). Психологи в качестве основной "единицы"
ролевой игры детей дошкольного возраста, которая, по их мнению,
как раз наиболее соответствует феномену игры в чистом виде,
вычленяют создание в игре "мнимой ситуации". С последней связано
выделение двух планов - воображаемого и реального. (22, 20).
Основные характеристики "мнимой ситуации" следующие:
перенос значений с одного предмета на другой, наличие правил в игре,
подражание или имитация, а также деятельность воображения.
Ядром "мнимой ситуации" является роль и связанные с ней
действия. В игре для ребенка один предмет легко замещает другой,
становится его знаком. При этом не важно, существует ли сходство
между этими предметами, наиболее важным является
функциональное употребление вещи, возможность выполнять с игрушкой
изображающий жест, передающий особенности реальной вещи.
Результат детской игры есть овладение новым образцом поведения
взрослых.
Социальная значимость этой игры состоит в воссоздании
социальных отношений между людьми вне условий
непосредственно-утилитарной деятельности. В игре происходит
формирование мотивационно-ориентировочной деятельности человека,
усвоение им норм отношений между людьми. В этом проявляется
парадоксальное соединение в игре ее материальной
незаинтересованности и в то же время ее безусловной полезности. В этом
Д.Б. Эльконин видит глубинное родство игры с искусством,
которое, по его мнению, тоже имеет своим содержанием нормы
человеческой жизни, а также ее смысл и мотивы человеческой
деятельности. (22, 225). Этим родством он объясняет и постепенное
Смех как видимость и как виртуальная реальность 1 05
вытеснение развернутых форм игровой деятельности из жизни
взрослых разнообразными формами искусства и спорта.
К сожалению, не проводилось никаких специальных
исследований, направленных на выяснение связи между игрой ребенка и
его смехом. Но можно сказать, ознакомившись с психологическими
исследованиями общего порядка в области детской ролевой игры,
что смех, улыбка как выражение морального удовлетворения от
выполнения правил игры, удовольствия от этого, отличаются от смеха,
вызываемого "игрой понарошку". А именно, последняя отличается
осознанием "ненастоящего" характера игры, противоречия между
правилами игры и реальными взаимоотношениями людей.
Осознание подобных противоречий ребенком осуществляется
на основе усвоения им обобщенного смысла конкретных
человеческих действий, усвоения им норм человеческого общежития. Можно
сказать, что смех как выражение особого комического отношения
человека к действительности, возникает у ребенка только вместе с
формированием его самосознания, с усвоением им норм и
стереотипов - сначала, возможно, действий с предметами и типов
поведения взрослых, а затем - норм и стереотипов мыслительной
деятельности. Последнее лежит в основе разведения в сознании
ребенка уровней реального и ирреального, "настоящего" и
"ненастоящего", "нормального" и "ненормального" и т.д.
Хотя смех в его развитом состоянии содержит и радость
морального удовлетворения от соответствия с должным (в детской
игре этим должным выступают ее правила), основой смеха
выступает именно расхождение планов реального и воображаемого,
которое может продуцировать сознательно создаваемую иллюзию.
Формирование этой предпосылки для эстетического восприятия
смешного происходит достаточно поздно, к концу дошкольного возраста,
к 6-7 годам. Жестко фиксированное значение действия с
предметом становится не таким жестким, как в раннем детстве, предметы
как бы теряют свое прежнее значение и приобретают новое, игровое,
в соответствии с которым ребенок их называет и производит с ними
действия.
Игра, таким образом, оказывается тем механизмом, при
помощи которого моделируется искусственное воспроизведение
основного признака комического - удвоения видимости и ее
разрушения. Это становится возможным в силу особенностей игры как
единства воображаемого и реального планов, их особого
"колебательного" соотношения в игре, что проявляется в размытости
границ между ними, и в постоянном переходе из одного плана в
другой.
Если подвести некоторый итог размышлениям о
соотношении смыслов игры и смеха, то можно сказать, что они обладают во
многом сходной основой: во-первых, и то и другое явления стро-
106 Глава 2
ятся на воссоздании видимости, мнимой ситуации, то есть имеют
два плана - реальный и воображаемый. А понятие "реальный"
требует оговорки, ведь, может быть, и "реальность по
представлению", как это понятие, например, трактуется у Шопенгауэра в его
концепции смешного. Иначе говоря, в понятие "реальный" входит
особенно в игре и смехе тем более какая-то изрядная доля
выдумки, фантазии, воображения, лжи и т.д. Поэтому мы тут всегда
можем усмотреть характерный для смеха процесс удвоения
видимости.
Во-вторых, между обоими планами поддерживается
отношение колебательное, по принципу "маятника", "туда-сюда". Это
колебательное смысловое отношение в смехе находит и свой
физиологический эквивалент, в его толчкообразных повторяющихся
вдыхательно-выдыхательных движениях.
В-третьих, как игра нацелена на овладение новыми
действиями с предметами, так и смех направлен на узнавание новых
смыслов. То есть новизна как таковая или даже как некоторая
самоцель - это одна из подоснов и игры и смеха.
В-четвертых, колебательное отношение между воображаемым
и реальным доставляет в игре и в смехе большое удовольствие и
радость. Предварительно можно отметить, что связаны они с
выходом в воображении за пределы непосредственной
действительности, с тем чувством, которое напоминает чувство освобождения и
удовлетворения от активного овладения миром, которое дает
творческое созидание. И игра и смех связаны с творческими
процессами. Но в игре и в смехе творчество кончается как бы "ничем": как
в игре, так и в смехе процесс превалирует над результатом.
Недаром заменителем детской игры во взрослом возрасте выступает
искусство, то есть творчество в его наиболее чистом виде.
Иными словами, творчество в игре и смехе - это, скорее,
иллюзия творчества, если брать за критерий последнего - искусство как
деятельность по созданию художественного произведения. Но
именно эта иллюзия дает колоссальное удовольствие, потому что все,
что есть приятного в творчестве (чувство свободы,
самоудовлетворения, радости от познания нового и т.д.) она сохраняет, а
неприятное устраняет (значительное напряжение, усилия умственные и
физические до усталости, которые всегда сопровождают творческий
процесс).
Игра, искусство, смех
Почему смех дает иллюзию творчества? Возможно, потому, что
колебательное движение, такое плавное покачивание всегда
ассоциируется с "укачиванием", "убаюкиванием", со сном, а таким об-
Смех как видимость и как виртуальная реальность 1 07
разом и со всеми смыслами, вытекающими отсюда. Получаются
"грезы" или как бы "сон наяву", о котором писал Бергсон. Да и
сотворение иллюзий - это всегда тоже сон наяву.
Колебательное движение между воображаемым и реальным
может иметь разный характер: если степень "отлета" от
реальности высока и присутствует долгая задержка "возвращения в
реальность", то может быть и полное "невозвращение", тогда речь идет
уже о безумии. Полный уход от реальности - это такая
неадекватность, которая в перспективе ведет к гибели, но есть "адекватные"
формы, так сказать, "ухода с возвращением" - игра, искусство, смех.
Это средства, которые позволяют на некоторое более или менее
длительное время "выпасть из действительности", скажем, чтобы
отдохнуть от нее. "Уйти, чтобы вернуться". При "возвращении" в
план реальный можно говорить о "просыпании", "пробуждении",
освобождении от иллюзий, об обретении истины и т.д. Степень
"невозвращения" в реальность может указывать на "детскость**,
"ребячество", в другом варианте на "глупость" (глупый человек -
это как бы неразвившийся ребенок), то же можно сказать о
простодушии, наивности и т.д.
В игре взаимодействие между обоими планами носит
характер переноса значений с одних предметов на другие, или с одних
действий с предметами на другие. Иначе говоря, предметы при
этом как бы теряют свои собственные очертания, границы, они
становятся другими, Границы между предметами становятся
зыбкими, текучими, одни вещи "перетекают" в другие, все "плывет".
Происходит всеобщее смешение, возможен хаос. Поэтому для
смеха так характерна относительность всего, относительность без
границ, близкая к хаосу. Конечно, все это осуществляется как во
сне, подобная вольность в обращении с миром возможна только
во сне, в воображении, в фантазии, или в припадке безумия.
Чтобы вернуться в реальность из игры, или из смеха, или из
искусства нужно сделать над собой усилие и вновь все расставить по
своим местам.
Игра - всегда процесс наибольшего проявления активности.
Недаром детство, особенно раннее, является самым активным
периодом в овладении миром в жизни человека (повторить все
действия маленького ребенка для взрослого представляется
невозможным, то же можно сказать и о работе его головы - столько,
сколько усваивает сведений об окружающем мире годовалый
ребенок - хватило бы взрослому по объему информации надолго,
если не на всю жизнь). Активность и свобода или, точнее,
иллюзия последней (сон, безумие, ребячество и т.д. - все это тоже
определенная степень свободы от мира) - основополагающие
свойства игры, которые также воздействуют на характер радости и
Удовольствия при игре.
108 Глава 2
Самоутвердиться, овладеть миром пусть в воображении, в
дальнейшем это пригодится в реальности (на это направлена игра в
целом), диктовать миру свои законы (перенос значений с предмета
на предмет) - все это приятно и вызывает легкое
"головокружение" от игры, знакомое каждому человеку с детства, когда он в
упоении творит свой игровой мир и с трудом выходит из него. Это
упоение игрой во взрослой жизни может быть сравнено только с
тем наслаждением, которое дает погружение в искусство, в иную
реальность, которую оно создает.
Да, в искусстве, как в игре и как в смехе мир удваивается:
наряду с действительностью, появляется иная реальность (на
полотне, в камне, на пленке и т.д.). Эта новая реальность также
является продуктом человеческой активности и творчества. Только в
искусстве, во всяком случае, в классическом, результат не менее
важен, чем процесс. Можно сказать, что до возникновения искусства
для искусства, игровой характер искусства никогда не выпячивался
на первый план, а, наоборот, непосредственно переходил в
ориентированную на конечный результат трудовую деятельность, как это
ясно видно из истоков искусства - из античного ремесла ("тэхне").
Но в смехе, игре и искусстве образование этой иной
реальности происходит по-разному, для разных целей. Игра, конечно,
первична по отношению к эстетическому смеху и искусству и оба эти
феномена возникали в истории на основе игры. И смех и искусство
в целом поэтому имеют в своем глубинном основании игровое
удвоение мира - на одну реальность накладывается еще одна -
воображаемая. Специфичным именно для смеха является процесс
удвоения воображаемой реальности или видимости, существо
которого разобрано нами выше.
Теперь можно понять, почему смех является одной из
главных характеристик человека ("человек смеющийся" как "человек
разумный" у Владимира Соловьева, или "человек как смертное,
разумное и смеющееся животное" у Ноткера Губастого,
средневекового богослова). Комическое наиболее точно через принцип
удвоения видимости воспроизводит основание человеческой
деятельности вообще, культуры как способа его жизнедеятельности -
принцип удвоения мира. Культура творится человеком как вторая
природа, ему близкая, родная, удобная, полезная.
Иначе говоря, самая суть человека проявляется в способе его
жизни как культурного существа. Культура - способ жизни
человека. Культура - результат разумной деятельности человека.
Самую сердцевину культуры, ее творящий принцип, удваивающий мир,
выражает искусство, которое призвано культивировать этот
принцип в чистом виде. Самую суть искусства - его активный
творческий характер по удвоению мира - выражает эстетический смех -
комическое, поскольку его сущность заключается в активном со-
Смех как видимость и как виртуальная реальность 109
задании удвоенной видимости. Круг замкнулся, его ядро -
создание иллюзии, которая становится действительностью. Такова
сущность человека и такова сущность смеха.
Шутка и игра
К искусственно созданному комическому, помимо смеха в
искусстве - в комедии и других комических жанрах, относится и
единица вербально-комического - отдельная острота или шутка.
В основе шутки как искусственно созданного комического лежит
игровой элемент комического. Действие его проявляется,
во-первых, в возможности создавать условную реальность, мнимую
ситуацию или видимость. Во-вторых, колебательное движение,
свойственное игре, со всем кругом сопровождающих его смыслов
(бесцельное, свободное, спонтанное, радостное, ребячество). В понятие
колебательности входит обязательное наличие двух крайностей,
которыми оно ограничивается - "начало" и "конец" движения, но
в них отсутствует строгая фиксированность их статуса: в
колебании они постоянно меняются местами ("начало" становится
"концом", "конец" - "началом"). Если рассматривать эти крайности
как противоположные направления колебательного движения по
принципу "маятника", то в нем присутствует и точка их
столкновения, перехода одного в другое. Вот эта точка столкновения
противоположных движений и представлена в шутке как ее
ядро.
Как уже говорилось, если "комическая ситуация" является
"единицей" комической деятельности, то "единицей" вербально-реф-
лексивного уровня комического является острота или шутка. В
основе последних лежит либо "игра мыслей", либо "игра слов", или
то и другое вместе. Приведем только один пример, так как
умножение в данном случае примеров острот представляется
нецелесообразным, ибо аналогичную работу уже выполнил З.Фрейд в своей
книге "Остроумие и его отношение к бессознательному".
В качестве примера для анализа можно привести знаменитую
остроту, которую A.C. Пушкин записал в своем лицейском
дневнике в 1815 году. "Давыдов является к Бенигсену: "Князь
Багратион, - говорит, - прислал меня доложить вашему
превосходительству, что неприятель у нас на носу...
- На каком носу, Денис Васильевич? - отвечает генерал. -
Ежели на вашем, так он уже близко, если же на носу князя
Багратиона, то мы успеем еще отобедать...". (23).
Эта острота строится на игре смыслов слова "нос", вернее, на
столкновении двух смыслов понятия "нос", его буквального и
метафорического значений. Метафора "быть на носу" означает "нахо-
110 Глава 2
диться очень, чрезвычайно близко", поскольку, что может быть ближе
к человеку, чем его собственный нос. Но носы бывают разные:
"...большой грузинский нос, а партизан и вовсе был без носу".
(23,7). И поэтому выражение "быть на носу" при столкновении с
буквальным значением слова "нос" может быть понято не только
по смыслу как "близко" ("короткий нос"), но и как "далеко"
("длинный нос"). Точкой пересечения смысловых рядов слова "нос"
служит его возможная "длина", наличие которой непременно
подразумевается в понятии "носа", но величина этой длины есть величина
переменная. Многозначность слова "нос" позволяет начать игру
смыслов. Но это не просто игра со смыслами, а комическая игра,
основной механизм которой заключается в воссоздании некоей
мнимости, видимости, мгновенно образующейся и тут же
разрушающейся.
Граф Леонтий Леонтьевич Бенигсен, бывший начальником
штаба действующей армии в 1812 году, отлично понял о чем
докладывает ему Денис Васильевич Давыдов, знаменитый партизан и
герой Отечественной войны 1812 года, но ответ свой он построил
на ином смысле понятия нос, не метафорическом, как ему было
предложено Давыдовым, а на буквальном. Такой перепад в иное
смысловое поле дал блестящую остроту, которая учитывала
своеобразие внешности обоих героев Отечественной войны, и Давыдова,
и грузинского князя Багратиона.
Из этого анализа роли игры как механизма воспроизведения
созданного комического (остроты) вытекают четыре важные для
нас момента. Во-первых, в созданном комическом (в остроте)
также с необходимостью присутствует процесс удвоения видимости,
выведенный нами в качестве ядра комического на основе разбора
комических ситуаций. Употребление Д.В.Давыдовым при докладе
метафорического значения слова "нос" ("быть на носу") образовало
как бы "первую видимость", так как сразу задало "разлом"
смыслового поля слова "нос", зафиксировало его двойственность,
противоречивость. Такое словоупотребление вероятнее всего было
невольным, естественным. Ответ графа Бенигсена был образованием
"второй видимости", созданной уже намеренно, сознательно
построенной на основе уже заданной "первой видимости". Они обе при
этом оказались разрушенными, смысловое поле слова "нос"
пришло в некий хаос, в котором все смешалось и в который все
обрушилось.
Итак, игра со смыслами слова "нос" дает образование
"мнимости", мгновенного "мыльного пузыря", который создается на точке
пересечения разных смысловых рядов. Они как бы на мгновение
образуют смысловой хаос, смешение всех смыслов, значений,
путаницу. В остроте на мгновение образуется некая "мнимая
реальность" или "вторая видимость", на которой происходит как бы
Смех как видимость и как виртуальная реальность 111
"короткое замыкание", и оба смысловых ряда опять расходятся, но
при этом разрушается представление об их самодовлеющем,
самостоятельном характере, на первый план выходит относительность
их значений. Тем самым происходит безусловное снижение
значения исходного смыслового ряда (в данном случае, близости
противника как реальной опасности) и его известное разрушение.
Вокруг мнимой реальности создается вихрь ощущений и
представлений, путаницы, хаоса, смешения, то есть в субъективном
восприятии остроты, в то время как внутри самой остроты господствует
упорядоченность, присутствуют свои правила, свой порядок, как и в
игровом пространстве.
Во-вторых, для создания остроты, той удвоенной видимости,
на которой она строится, необходима определенная устойчивость
или фиксированность смыслов понятия, а также знание
смыслового поля того или иного понятия или слова, и умение свободно себя
в нем чувствовать. То есть нужны некоторые отправные
устойчивые моменты, константы в сознании творца остроты и в сознании
воспринимающих ее. Эти константы должны быть общими. Это
говорит о необходимости принадлежности творца остроты и
воспринимающих остроту к одной культуре. Речь идет, иными
словами, о национальном характере смеха. Роль констант могут
выполнять сложившиеся в обществе нормы и стереотипы. Иначе
говоря, совершенно необходимо для возможности комической игры
наличие единого культурного пространства.
В-третьих, для шутки или остроты большое значение имеет
временной фактор. Мнимая реальность в остроте создается на
короткое время, которое нужно для того, чтобы понять в чем дело,
выйти из состояния замешательства, образующегося от того, что
воспринимающий остроту на мгновение сбит с толку. Таким
образом, острота должна быть короткой и неожиданной. Эффект
неожиданности достигается за счет мгновенного перепада смыслов,
мгновенного столкновения смыслов в одной "точке".
В-четвертых, если обобщить субъективную реакцию
воспринимающего остроту, связанную с фактором неожиданности и его
переживанием, то ее можно охарактеризовать как разрешение
напряжения от ожидания. Импульс к последнему берет начало в
интеллекте, но потом в этом напряженном ожидании
оказываются задействованы все душевные и телесные возможности человека.
Ведущим в этом процессе выступает разум, интеллект. Все
душевные и телесные способности человека вслед за разумом
фокусируются в одну точку, а потом, после мгновения узнавания, сразу
расслабляются, и как бы "разбегаются". Это и есть смех.
В-пятых, в субъекте комического происходят параллельно
те же процессы, что и в объекте комического, в нем они
зеркально отражаются. Субъект смотрится в объект, как в "зеркало", не
112 Глава 2
сознавая того. А объект отражается в субъекте, превращая его
также в свое "зеркало". Получается такая двусторонняя
"зеркальность", почти "Зазеркалье". Субъект бессознательно повторяет в
себе те же процессы, вернее их схему, которые происходят в
объекте комического, в смешном. Субъект в себе, посредством
сопереживания, достигающего тут концентрированной формы,
воспроизводит те же процессы, что и в объекте (их направленность, их общую
схему, форму). Он весь становится на мгновение как бы антенной,
"приемником передач" объекта.
Объект на мгновение как бы гипнотизирует субъект,
последний в объект как бы вживается. Аналогом исследования такого
состояния может служить теория вчувствования Т.Липпса. Но
только мгновение может продолжаться это напряжение, концентрация,
сосредоточенность. Как только "точка замыкания" остроты
уловлена, в ней и происходит пересечение объекта и субъекта
комического. Тут достигает пика "замыкание" субъекта на объект
(остроту), и тут же происходит озарение, вспышка понимания,
мгновенное просветление. Все становится на свои места. Пути объекта и
субъекта опять расходятся. Постепенно все успокаивается. Но,
прежде чем все успокоится, переход от предельного напряжения к
покою опосредует душевное и телесное колебательное движение -
смех, через него в этом случае осуществляется разрядка
напряженности.
Смысл принципа удвоения видимости и некоторые выводы
Мы пришли к выводу, что комическое - это эстетическая
категория, в которой фиксируется чувственно-наглядным образом
выраженный процесс созидания двойной видимости и мгновенного
ее разрушения, и восприятие этого процесса. Причем первая -
объективная видимость - имеет своим источником
противоречивость различного рода явлений, а вторая, надстраивающаяся над
первой, субъективная видимость, есть возникающие на почве
объективной видимости иллюзии и существование в соответствии с
ними. Иначе говоря, этот принцип удвоенной или двойной
видимости образует структуру комического объекта - смешного и он же
воспроизводится в сознании при восприятии смешного.
Принцип удвоения видимости выражается на поверхности как
"двоение", двойничество, повторение, раздвоение и в связанных с
ними по природе иллюзиях, лжи, обмане, самообмане и т.д.
Благодаря феномену "удвоенной видимости" в комическом происходит
разрушение лжи, обмана, иллюзий и т.д. Через удвоение чего-либо
происходит его разрушение и если это осуществляется на глазах
чувственно, мгновенно, неожиданно, то мы имеем дело с комиче-
Смех как видимость и как виртуальная реальность 113
ским. Зеркальность - это принцип двойничествау включающий в
себя двоение, раздвоение, сдвоение, удвоение и т.д.
Иными словами, принцип удвоения видимости - это
принцип зеркала или зеркальности. Что такое зеркало? Выразим это
всем понятное явление в понятиях субъектно-объектного
отношения. Зеркало - это когда субъект смотрит на объект, но сам
объект он не видит, а видит в нем себя, точнее, свое отражение (свой
призрак, свое иллюзорное повторение). Он видит себя как бы
раздвоившимся на "себя" и свое изображение, на иллюзию себя. Но
объект он также, конечно, видит. Объект этот и есть, собственно,
зеркало. Поэтому сам принцип, который включает в себя
отношение субъекта и объекта (человека, смотрящегося в зеркало), а не
только объект (в данном случае, зеркало), точнее было бы назвать
принципом зеркальности.
Человек, смотрящийся в зеркало, конечно, видит само зеркало,
то есть вещь, но свойства этого предмета (скажем, предельно
гладкую поверхность, позволяющую отражать световые лучи
определенным образом и под определенным углом) таковы, что они
позволяют этой предметности как бы отойти на второй план, а на первый
план выдвинуть отражение этого человека, его зеркальный образ.
Но это субъект-объектное выражение принципа зеркальности
полностью совпадает с параметрами комической ситуации в нашем
анализе, также выраженными в субъект-объектных понятиях. Тут
мы также имеем субъекта (наблюдателя), который смотрит на
смешное (объект комического) и смеется. И в объекте комического он
видит свое собственное отражение, так как объект комического
(комическая ситуация, в данном случае) представляет собой иного
субъекта-участника плюс окружающие его жизненные обстоятельства.
В объекте комического всегда присутствует другой субъект,
какое-либо субъективное начало. И субъект-наблюдатель глядит
на ситуацию, как в зеркало, как бы видит себя на месте другого
или, наоборот, другого в обстоятельствах, возможных и для
наблюдателя тоже. Мы тут имеем ситуацию "зеркального отражения'*
потому, что комический объект, смешное, обладает определенными
параметрами, позволяющими давать такое "зеркальное
изображение" - это присущий смешному момент удвоения видимости.
Итак, подобно тому, как зеркало имеет особые свойства,
позволяющие ему давать изображение глядящегося в него субъекта,
смешное, объект комического, также обладает определенными
свойствами, которые также позволяют на первый план выдвинуть,
фактически, "изображение" наблюдающего ситуацию субъекта.
Как было показано в вышеприведенном анализе комической
ситуации, взятой в процессе своего развития, она обязательно
содержит с себе какую-либо субъективность, иного субъекта
(отличного от субъекта-наблюдателя), участвующего в ситуации. Смеш-
114 Глава 2
ное - это и есть субъект в определенных обстоятельствах. И их
взаимоотношение выражено в принципе удвоения видимости, где
первая видимость - объективная видимость - рождается из
противоречий развития самого объекта, в данном случае, изменения
жизненных обстоятельств и существования человека в них.
Видимостью ситуацию можно назвать потому, что противоречие,
определяющее развитие ситуации, находится еще в скрытом состоянии,
оно еще на поверхности событий не проявилось.
Вторая видимость, субъективная видимость - это
отражение этих обстоятельств и положения человека в них в сознании, в
голове этого самого человека, участника комической ситуации. Это
отражение носит иллюзорный характер, так как человек -
действующее лицо ситуации заблуждается относительно характера
изменений в объективных обстоятельствах. И поэтому действия его,
вытекающие из его заблуждений, носят также неадекватный
ситуации характер. Но это субъекту-участнику ситуации не
известно, он пребывает в прямо противоположном иллюзорном
сознании своей правоты и адекватности.
Результат действий субъекта-участника, идущий вразрез с
направлением развития ситуации, должен быть для него плачевный,
в пределе может кончиться для него гибелью, но он этого не
сознает и пребывает в приятном обольщении своего соответствия и
понимания происходящего. Поскольку ситуация объективно
движется в одну сторону, а субъект, ее участник, заблуждаясь, в
другую, то они (объективная и субъективная видимости,
соответственно) находятся в противоречии друг с другом. Если первую
видимость порождает скрытость противоречивого хода объективных
событий, непроявленность этого противоречия на поверхности, то
субъективную видимость порождает их иллюзорное отражение в
сознании субъекта-участника ситуации.
Субъект-наблюдатель, в отличие от субъекта-участника, все
отлично видит и понимает, он как бы "вчувствуется" в ситуацию,
как бы тем самым воспроизводит в себе и объективную видимость
и субъективную видимость. Он в своем сознании, как в зеркале,
отражает, воспроизводит и ход объективных событий, и состояние
сознания действующего субъекта. И при этом он находится на
своем месте наблюдателя, имея свое собственное представление о
происходящем. У наблюдателя иллюзий нет, он адекватно
оценивает положение дел. При этом в сознании он как бы
раздваивается: он и чувствует себя в роли субъекта-участника, и в то же время
находится на своем посту наблюдателя.
Поэтому мы имеем как бы двойное отражение, двойное
зеркало: смеющийся субъект-наблюдатель глядится, как в зеркало, в
ситуацию, ставя себя на место ее субъекта-участника, видя себя на
его месте. И это возможно потому, что он отражает в своем созна-
Смех как видимость и как виртуальная реальность 11 5
нии все эти обстоятельства, то есть сам выступает в роли
"зеркала"'. Поэтому с этой двойной зеркальностью связан присущий
комическому принцип двойничества и иллюзорности. Таким
образом, смешное (объект комического) в принципе показывает
положение субъекта, терпящего бедствие, но не сознающего этого,
наоборот, пребывающего в полной иллюзии своего благополучия и
преуспеяния. Ситуация-то, в принципе, трагическая, так как такое
положение может кончиться плохо, вплоть до смерти, и момент
прозрения для действующего субъекта будет горьким. Мы,
фактически, имеем смешное как "ситуацию зла, происходящую с
другим" у и субъекта-наблюдателя, который это все видит и понимает.
Наслаждение субъекта-наблюдателя обусловлено тем, что он
находится вне этой ситуации, в безопасности, гибель грозит не ему,
а другому. И поэтому радость его вполне правомерна, хотя носит,
конечно, эгоистический характер. Перед ним как в театре
разворачивается жизненная драма, а он при этом все понимает, владеет
тем самым, ситуацией, и в то же время находится в полной
безопасности. Субъект-наблюдатель тут попадает как бы на место
Бога, который наблюдает за жизненными судьбами людей, которые
рождаются, живут и погибают, часто сами идут навстречу
собственной гибели, при этом не только не сознают этого, но пребывают в
прямо противоположном убеждении, что они готовят свое счастье.
Удовольствие, надо сказать, побывать на таком месте, пусть и
иллюзорно, ни с чем не сравнимое, оно также придает особую
пикантность радости при смехе.
Положение для субъекта-участника ситуации трагическое, а
для субъекта-наблюдателя - ситуация носит характер комический.
Мы видим, что трагическое и комическое почти во всем
совпадают (характер ситуации и положение человека в ней), а разнятся
только в выборе точки зрения. Они еще могут отличаться
нравственным отношением к ситуации и к происходящему, которое
поставит предел, до которого ситуация гибели, зла может быть
смешной, а после чего будет трагической и требующей слез, а не смеха.
Поэтому-то Аристотель вводит нравственное ограничение для
смеха - результат этого плачевного состояния, все-таки, не должен
переходить определенной границы, меры ("безвредной и
безболезненной" ) для действующего субъекта. Иначе, смех уже будет
аморальным, смех будет уже ничем не оправданным злорадством,
просто радостью по поводу зла, происходящего с другим. Но смех
может быть и таким, и тогда он переходит всякие рамки и
получает демонический оттенок. Это обстоятельство отмечали
романтики, а точнее всех выразил Ницше.
Поскольку присутствует в смехе нравственный ограничитель,
то есть смех измеряется высоким человеческим началом - его
нравственным состоянием, его душой, поэтому смех является та-
116 Глава 2
ким, каков человек. Поскольку в смехе смеющийся на мгновения
смеха попадает как бы "на место Бога", постольку можно понять и
культурные различия эпох, которые рождали своих богов и
отношение этих богов к смеху.
Так понятно, почему на Олимпе звучал непрерывный хохот
античных богов, как об этом нам рассказывает Гомер, так как они
видели перед собой бесконечные мытарства смертных людей,
которые сами подготавливали свою гибель, желая себе, естественно, только
добра. А сами боги были, как и наш субъект-наблюдатель,
вынесены за рамки ситуации превратной судьбы в силу своего бессмертия,
и они открыто в смехе-хохоте выражали радость по поводу
собственной безопасности, полноты жизни и олимпийского счастья.
Но, надо сказать, что и они ходили под судьбой, смеялись они
потому, что не знали своей судьбы. Ведь погибли они, перестали
люди принимать их всерьез, перестали в них верить и поклоняться
им. В том числе и по причине их аморальности, которая
выражалась в их непрерывном хохоте. Уже Аристотель, ставя границу
смеху, фиксировал иной уровень моральности людей, более
высокий, нежели уровень их старых богов. Смех человеческий имеет
границу, если человек морален. Если нет, то он может смеяться
вообще над всем, ничего святого у него нет. Такой человек
аморален полностью или он безумец.
Античные боги были аморальны и могли смеяться над всем,
даже над смертью людей. Христианский Бог иной, Он есть любовь.
Он, испытывая любовь и милосердие к людям, послал в мир Сына
Своего, чтобы люди получили возможность для спасения. Поэтому
ясно, почему по преданию Богочеловек Иисус Христос никогда не
смеялся. Потому что Он, будучи Богом любви и милосердия, не мог
смеяться над превратностями жизни людей, ведь он знал к чему
они ведут, к греху и смерти людей в вечности, к геене огненной.
Иисус Христос не смеялся и потому, что он был, в отличие от всех
людей, безгрешен. А как показал наш анализ, смех культурный,
комическое, имеет в своей глубине радость по поводу зла,
происходящего с другим, пусть даже она будет сведена к минимуму, и даже
может не осознаваться смеющимся. Но смех имеет на себе оттенок
греха, причастности к злу. Правильно русская пословица
отождествляет смех с грехом: "Где смех, там и грех", "Мал смех, да велик
грех". Иисус Христос пришел в мир, чтобы своей жизнью и
крестной смертью спасти людей от всевластия греха, а не смеяться над
грехами и смертью людей.
Но почему так сложилось в истории культуры, что смех стал
связываться с радостью по поводу зла? Ответу на этот вопрос
посвящена третья глава книги.
Смех как видимость и как виртуальная реальность 117
Модификации комического
Комическое - это родовая категория, одна из основных в
эстетике, наряду с категориями такого же порядка - прекрасным,
возвышенным, трагическим. Категории в философии и в эстетике -
это высшие родовые понятия, отвечающие некоторому типу связи.
Как предельные по общности роды, они сами не имеют рода и
получают определение поэтому не через более высокие понятия, а
путем взаимоотношения с другими категориями, установления места
каждой в общей системе эстетики. Категории - не просто понятия
высшей степени общности, но они также и понятийные
выражения основных мыслительных операций и ценностных
взаимоотношений, принципы организации целых групп понятий.(24).
Понятия, которые входят в смысловое поле категории и
подчинены ей как выражение тех или иных ее аспектов, оттенков,
форм, вариантов, получили название "субкатегорий" или
"модификаций". Такими модификациями комического выступают юмор,
остроумие, ирония, сатира, пародия, карикатура, гротеск и др.
Вариативность категории комического, проявляемая в данных
модификациях, означает опосредованную этими понятиями связь
комического с эстетической и художественной практикой. В каждой
из этих модификаций определяющей остается сущность
комического, но каждая обладает своими особенностями, которые
раскрывают ее характер. Рассмотрим основные из них.
Остроумие - это способность к восприятию комического и к его
щюдуцированию. В обычном словоупотреблении оно закрепилось как
изобретательность в нахождении ярких, смешных, язвительных
выражений. В настоящее время остроумие обладает большим
семантическим полем: говорят об остроумных научных экспериментах,
остроумном решении проблемы и т.д.
Ирония ближе всего из модификаций комического подходит к
сущности комического, так как в ней содержится указание не только
на субъективное отношение к объекту иронии (отрицательное, как
правило, насмешка), но и на логику развития объекта в его
соотнесенности с субъектом - на диалектику видимого и скрытого,
видимости и сущности. (25). Ирония поэтому может использоваться
как риторический, литературный прием (тонкая насмешка,
выраженная в скрытой форме), как похвала "с двойным дном", как
двусмысленность, в которой за положительной внешней оценкой
стоит отрицание и насмешка. Ирония как прием может
использоваться в качестве средства сатиры и юмора.
Юмор и сатира отличаются от иронии и от друг друга и от
собственно комического субъективным отношением к своему
предмету. Сатира предполагает однозначно отрицательное,
осмеивающее отношение ее автора к объекту и рассчитана на то, чтобы
118 Глава 2
вызвать подобное же отношение и у воспринимающего
сатирическое произведение. Особенность же юмора состоит в
примиряющем отношении к объекту осмеяния, выражающем внутреннее
принятие мира таким, каков он есть. То есть юмор - это, по
преимуществу, субъективная настроенность человека.
Для иронии, сатиры, юмора обязательно наличие той
отправной точки, с позиции которой вырабатывается, выражается
ироническое, сатирическое или юмористическое отношение к предмету,
явлению и т.д. Этими константами могут выступать определенные
идеалы, ориентиры разного порядка (мировоззренческого,
нравственного, например) нормы, стереотипы, представления,
господствующие в обществе, а также личные убеждения, принципы,
представления о желаемом и должном. Одни подвергаются осмеянию с
позиций других. Для воспроизведения комического необходимы как
бы два полюса, две определенности, которые ограничивают игровое
поле комического.
При всех различиях между юмором, сатирой и иронией, они
объединены, кроме их общей основы - принципа удвоения
видимости, который конструирует их объект и воспроизводится в
субъекте, наличием определенной субъективной позиции по отношению
к окружающему миру, особым характером мироощущения.
Гротеск, пародия, карикатура, также модификации
комического, являются категориями несколько иного порядка. Они
направлены на то, чтобы искусственно воссоздавать принцип
удвоения видимости. Они являются средствами конструирования
объекта комического (смешного) в искусстве. Все они основаны на
искажении реальных форм жизни.
В карикатуре через искажение отдельных черт внешней
пластичности формы подчеркиваются представляющиеся
существенными моменты внутреннего облика явления. В пародии
искажение достигается через утрированный повтор первоначально
данного. Природа гротескного искажения более сложна, она включает в
себя противоречивое совмещение двух планов - реального и
воображаемого. Если в карикатуре или в пародии еще требуется
внешнее подобие реальным формам или первоначально данному, их
узнаваемость (например, использование в пародии тем или
стилистических приемов пародируемого, или узнаваемость внешнего
сходства в карикатуре), то гротеск основан на сохранении внутреннего
подобия, поэтому посредством его возможно выражение
внутренних противоречий.
Все эти категории в своем пределе направлены на выявление
более глубокого внутреннего содержания, на поверхности,
возможно, не присутствующего, скрытого, на разрушение видимости
явления, иллюзии о нем. В их основе - выражение внутреннего,
подлинного через искажение видимого, внешнего. Они являются со-
Смех как видимость и как виртуальная реальность 119
циокультурными и художественными средствами, которые были
выработаны историей для искусственного создания комической
удвоенной видимости.
Виртуальность
В последнее время получило распространение понятие,
которое, как представляется, имеет непосредственное отношение к
нашей теме. Имеется ввиду, понятие "виртуальности" или
"виртуальной реальности". Понятие "виртуальной реальности" обычно
используется для описания той реальности, которая создается
компьютерной техникой или средствами массовой информации.
Понятие "виртуальность" возникло в классической механике XVII века
как обозначение математического эксперимента. Уже тогда
"виртуальность" включала в себя двойственность: она была
одновременно мнимостью и реальностью, нереальной реальностью,
парадоксом. Это как бы сон наяву. Подобные феномены, объединявшие
то и другое одновременно, были известны и раньше - это миражи,
галлюцинации, образы наркотического опьянения, безумия, разного
рода видения и т.д. Это феномены, которые объединяют в себе
онтологическую безосновность (рождаются они из ничего),
нереальность, и, в то же время, чувственную достоверность. Природа их
гротескна, напоминает "кентавра": "два в одном". И все они
связаны с жизнью человеческого сознания. "Виртуальность"
характеризует, преимущественно, искусственную среду, создаваемую
современной техникой.
В середине 80-х годов XX века бывший хакер Джарон Леньер
ввел в обращение термин "виртуальная реальность" в сфере
компьютерных технологий. (26, 203). Современный уровень
компьютерной техники позволяет создать особую искусственную
реальность, которая дает иллюзию подлинной реальности. Причем для
этого не требуется полное воспроизведение последней. Символизм
и условность человеческого восприятия позволяют
схематизировать реальность при сохранении иллюзии ее подлинности.
Достаточно обязательного присутствия двух моментов: во-первых, должно
быть задействовано не только зрение, но должно оказываться
воздействие еще на другие органы чувств, скажем, на слух и на
осязание. Во-вторых, посредством спецтехники человек может даже
"дотронуться" рукой до объекта, который существует только в памяти
компьютера.
В качестве естественного физического явления виртуальность
описывается в квантовой физике как внезапное появление
виртуальных частиц, которые могут возникать из "ничего", обретая
мимолетное существование, а потом опять исчезать. Они живут очень
120 Глава 2
короткое время, так как их энергия как бы "взята взаймы" в
результате квантовых эффектов и должна быть возвращена. (26, 198).
Теория квантового поля изображает все взаимодействия как
процесс обмена виртуальными частицами. Теория поля рассматривает
нуклоны в качестве центров постоянной активности, окруженных
"облаками" виртуальных частиц. Образуются целые виртуальные
"облака" - динамические паттерны, которые и определяют силы
взаимодействия. В этом проявляется динамическая природа
вакуума, который содержит в себе все формы частиц. Каждую
частицу можно рассматривать только во взаимосвязи с целым.
Появление виртуальной реальности спонтанно, внезапно,
напоминает "балансирование на грани", которое поддерживает
режим актуализации хаотического состояния. Так, например, при
"эффекте бабочки" система внезапно меняет все свои параметры.
Это, как раз, связано с тем, что в состоянии "балансирования"
между разными возможностями, небольшой толчок в сторону одной из
них несет с собой непредсказуемые последствия. Результатом
такого состояния системы, например, может стать явление
бифуркации, которое в теории катастроф описывает явление "раздвоения"
объектов при изменении определяющих их параметров. Можно
предположить, что свойства виртуальной реальности как
естественного явления, так или иначе, должны проявляться и в
искусственной виртуальности, особенно такие, как необычайный динамизм,
легкость перехода из одного состояния в другое, балансирование
на грани хаоса, непредсказуемость, склонность к катастрофизму и
раздвоению.
Интересно, что английское слово "virtual", переводом и
калькой с которого является русское слово "виртуальный", несет в себе
различные смыслы. Так, оно, прежде всего, имеет смысл "реального,
в противоположность формальному", то есть подлинно реального,
сущностного. (29). Но в специальной научной литературе слово
"виртуальный" уже приобретает смыслы: возможного,
предполагаемого, мнимого, а также эффективного. Прямой обыденный смысл
слова как "сущностный, подлинно реальный" оказывается
противопоставленным употреблению слова в искусственной технической
среде, где "виртуальный" выступает как мнимый и возможный. А
точнее, между смыслами "подлинной реальности, сущности" и
"мнимости" лежит смысл "возможности", который и является,
по-видимому, опосредствующим звеном в этой лингвистической
метаморфозе. Ведь в возможности и подлинная действительность может
оказаться мнимой, а мнимая реальность в возможности может
преобразиться в подлинность. А научный эксперимент всегда
ориентирован на возможность как на цель исследования и сквозь
призму возможности анализирует и оценивает действительность.
Кроме того, английское слово "virtue" имеет смыслы доброде-
Смех как видимость и как виртуальная реальность 121
тели и нравственности, в. том числе и в философском смысле
"естественных добродетелей", то есть основных, базовых для
осуществления человеческой природы, к каковым относили, например, в
античности умеренность, справедливость, храбрость, благоразумие, а в
средние века - веру, надежду, любовь. Добродетель - это идеал,
соединенный с поступком. Таким образом, в добродетели можно
усмотреть соединение смысла "подлинной сущности", взятой как
идеал, и смысла силы и направленности на непосредственное
осуществление в действии, в поступке, то есть на эффективность.
Необходимо учесть также смыслы слова virtuoso (виртуоз, ценитель и
знаток искусства и т.д.) или virtuosity (виртуозность, любовь к
искусству, художественный вкус и т.д.), которые нас отсылают к
эстетической реальности искусства, где соединяются "сущность",
"идеал" и "воплощенность в материале". Виртуозное подражание
природе стремится дать иллюзию последней и даже подменить ее.
Эта искусственная реальность обладает магической силой
"волшебного зеркала" (virtuous glass). И следует еще упомянуть о
словах virus (вирус, заразное начало, яд, отрава для умов и т.д.) и
virulent (опасный, "страшная болезнь", "смертельный яд", злобный,
жестокий, яростный и т.д.), в которых выпадает буква "t", но они
все же непосредственно примыкают к корневому ряду "virtu". И
если верить М.Хайдеггеру, что "язык есть дом бытия", то эта
взаимосвязь лингвистических форм и содержательных смыслов
озадачивает. Все смыслы сплетаются в клубок, и, так или иначе,
указывают на опасность виртуальной реальности как особого рода
магического искусства.
"Виртуальная система, по сути, служит, реализацией
исконного детского желания войти в зеркало и действовать в нем. Человек
нуждается в фиктивном удвоении мира. В этом смысле
телевидение и компьютерные средства визуализации помогают прояснить
природу человека. Потребность в иллюзорной жизни, когда мир
раскрывается как приключение, есть антропологическое свойство",
- пишут исследователи современных процессов в познании Л.А.Ми-
кешина и М.Ю.Опенков. (26, 204).
Действительно, у человека есть такая потребность,
обусловленная его сознанием, разумная природа которого является целе-
полагающей и стремящейся к предвидению. По-видимому,
удвоение мира есть фундаментальное свойство человеческого сознания.
Второй отралсенный мир выполняет роль модели мира, в которой
человек наделен большей степенью свободы, чем в обычном мире,
и в ней отрабатываются различные возможности поведения
человека и его последствия. Потребность в удвоении мира
удовлетворяли искусство, философия, религия, наука, другие
объективированные формы человеческого сознания. Удвоение мира в образах,
понятиях, схемах, формулах и т.д. позволяет человеку лучше ориен-
122 Глава 2
тироваться в реальном мире, овладевать им. Это удвоение мира
осуществляется "дневным сознанием", бодрствующим разумом. Но
есть и другие, скажем, "ночные" формы сознания, которые также
удваивают реальность, но сам разум при этом "спит",
отключается. Это - состояние сна, сновидения, безумия, бессознательности,
возможно, имеющей архетипическую природу.
Обычно первое удвоение отграничивается от второго,
"дневное" от "ночного". Так, Малкольм в своей книге "Состояние сна"
говорит о том, что разница между сном и реальностью обусловлена
существованием в сознании границы между ними. Но, бывает, они
смешиваются. Это происходит при безумии, при расщеплении
личности, при шизофрении, например. По-видимому, смешение
"дневного" и "ночного" происходит при виртуальной реальности, где
границы смещены и расплывчаты. Смещение границ между
мирами наблюдается также в том случае, когда "второй мир"
показывается как копия "первого", как его зеркальное отражение.
Зеркало - это образ удвоения мира в форме копии, двойника.
Копия и зеркальное отражение выступают в этом случае
синонимами. Копирование есть зеркальное удвоение. Именно в этом случае
также возможно смешение "дневного" и "ночного" миров,
реальности и иллюзии. И этот "второй мир" действует по принципу
зеркала. Человек глядит в зеркало и видит в нем себя, но измененного,
преображенного, лучше, выше, стройнее, красивее, чем он есть, или
наоборот. Зеркало - это такой предмет, который позволяет
проявляться посредством себя образу другого. Причем, сама поверхность
зеркала не воспринимается, вернее отодвигается на задний план при
восприятии, а оно фокусируется на отраженном образе. Сама
зеркальность - граница, позволяющая отделить подлинную реальность
от иллюзорной образности, подобно ряби на воде, в которую, как в
зеркало, смотрится человек. Три компоненты ситуации (человек, его
отражение и зеркальная поверхность) разведены как в
действительности, так и в сознании. Зеркальная поверхность находится как бы
"между" человеком и его отражением, и делает возможным
отражение, но это такое "между", которое, с одной стороны, есть граница
между реальностями, а с другой стороны, эта граница имеет
тенденцию исчезнуть, "раствориться" в образе. Образ отражения заслоняет
собой зеркало. Но пока зеркало учитывается в сознании, человек
сохраняет трезвость оценок и чувство реальности.
Виртуальная реальность продуцируется техникой, но техника
при этом также незрима, невоспринимаема, как поверхность
зеркала. Однако, современная техника дает отображение даже лучше,
чем зеркало, ведь зеркальное изображение двумерно, движение
ограничено плоскостью, а техника воспроизводит трехмерное
изображение, и оно двигается как живое, и осуществляет само желание
пользователя компьютера. Зеркало позволяет лишь на мгновение
Смех как видимость и как виртуальная реальность 123
обмануться, а в случае современных технологий иллюзия может
длиться так долго, чтобы человек перестал отдавать себе отчет о
том, где виртуальная реальность, а где действительность.
Смех как виртуальная реальность
По-видимому, следует различать понятие "виртуальности" и
"виртуальной реальности", которые обычно употребляются как
синонимы. "Виртуальность" - это свойство реальности, которое
оказывается связанным с различными ее уровнями и сферами: с
физической реальностью, с искусственной средой, с искусством.
"Виртуальная реальность" - это реальность, в которой это свойство
виртуальности получает преобладающее выражение и развитие. К
таковой можно отнести образность сновидений, мифов, разного
рода видений, искусственную среду компьютерных технологий и
средств массовой информации.
Выскажем гипотезу, что сама "виртуальность" обладает смехо-
вым аспектом, так как для виртуальности перманентно присуще
состояние невсерьез в силу ее мнимости и обратимости, постоянной
колебательности между реальностью и иллюзией. А, с другой
стороны, смеховая реальность есть виртуальная реальность, потому что
им присущи сходные свойства. Исследователи, занимающиеся
проблемой виртуальности, выделяют следующие особенности
"виртуальной реальности": " - актуальность существования; для
человека в виртуальной реальности нет прошлого и будущего;
включенность в события, т.е. человек непосредственно в них
участвует или получает полную иллюзию действия;
человек видит все виртуально происходящее со своей точки
зрения, визуальная перспектива ориентирована на него;
обязательность "порождения", т.е. виртуальные объекты
продуцируются актуальным взаимодействием, в том числе человека с
другими людьми, с компьютером, в целом активностью человека;
виртуальная реальность хорошо описывается метафорой сно-
видения".(26, 203).
Все эти пункты могут быть отнесены к той смеховой
реальности, к смешному, сущность которого, как мы показали ранее,
составляет механизм удвоения видимости и ее разрушения.
Свободное осуществление своей воли, доведенное до степени
сотворения своего собственного мира, находит в компьютерной
искусственной реальности свое воплощение. Возможно, эта творческая
потребность присуща каждому человеку в силу его богоподобия, ведь
человек, проживающий жизнь, одновременно формирует и
окружающий его мир "по своему образу и подобию". Мотив "марионетки",
традиционный для смеховой реальности, присущ и виртуальности.
124 Глава 2
Все персонажи виртуальных игр безличны, взаимозаменяемы и
управляемы, и кнопка компьютерной клавиатуры выполняет роль
"ниточки", за которую дергает управляющий. Если обычно в
комическом позиции наблюдателя и участника-деятеля разведены, то в
виртуальной реальности они совпадают. Пользователя компьютера,
желания которого выполняет машина, можно рассматривать в
качестве маленького "бога", создающего "свой" мир. Но это - первый
план реальности. На втором плане остается то обстоятельство, что
программа, по которой действуют и марионетки и "демиург"
запущена "третьей силой". И тогда демиург становится марионеткой. Но
эта модель может повторяться многократно. И всегда "смеется тот,
кто смеется последним". Кто, в конечном итоге, тот самый дирижер,
под руководством которого звучит весь оркестр компьютерных
программ и техники, их создателей и пользователей? Важно тут то, что
отношение "пользователь - компьютер" достаточно конкретно и
чувственно воспроизводит иллюзию "божественности" человека.
Феномен смеха также, как и виртуальная реальность,
является короткоживущим, так как его исходная зыбкая почва
видимости-иллюзии, можем сказать, виртуальности, обрекает его заранее
на разрушение. Новизна - вот то, что всегда связано с этим
"порождением", она каждый раз вновь возникает и вновь уничтожается.
Поэтому актуальность и автономность этой реальности - ее
отличительные свойства. Внутри нее - свой хронотоп, свое
пространственно-временное измерение, оно задает свой ритм событий.
Маргинальность, пограничность - это свойство, которое
отличает обе реальности: смеховую и виртуальную. Они обе -
реальности "между", возникающие на основе постоянного "балансирования
на грани", колебания между реальностью и иллюзией, которое дает
особое чувство свободы от них обеих. Эта их общность проявляется
в том, что образ "маски" является органичным для той и другой
реальности. Особенно анонимность и выступление под маской
характерно для общения в Интернете. Каждый в Сети может начать
"новую жизнь", с новой биографией и новыми друзьями, даже с
новыми родителями. И построить эту "новую жизнь" человек может в
соответствии со своими самыми смелыми и сокровенными
пожеланиями. Тут он в полноте себя ощущает этим маленьким "богом",
которому подвластно пространство, время и тайна жизни.
Ощущение, конечно, непередаваемое. Реальная жизнь в собственном идеале,
пусть и понятом, бывает, прозаически - это нескончаемый соблазн,
действующий неотразимо. И некоторым так это нравится, что они с
неохотой возвращаются в повседневность, в которой они начинают
чувствовать себя дискомфортно, все хуже ориентироваться, и
которая вызывает у них неизбежное разочарование.
Маска и анонимность, которую она дает, позволяют ощутить
особое чувство свободы, освобожденной от ответственности. Чело-
Смех как видимость и как виртуальная реальность 125
век делает то, на что он бы никогда не решился под своим именем
и со своим лицом. Так, на венецианских карнавалах в эпоху
Возрождения маска давала такую раскрепощенность от
общественных условностей, что становилась как бы "вторым лицом". Она
виртуозно делалась из кожи, которая буквально "прирастала" к
лицу, скрывая пороки, которым можно было безнаказанно
предаваться, не рискуя быть узнанным. Маска делала человека
путешественником по разным другим "жизням-ролям". Вообщем, "весь
мир - театр, а люди в нем - актеры". Этот принцип буквально
воплощается в виртуальной реальности. Все признаки карнавала
как игровой смеховой стихии применимы к виртуальной
реальности. Но карнавал ограничен во времени, компьютерный мир нет,
карнавал - публичен, виртуальная реальность приватна: это
карнавал для одного. Одиночество тут, однако, бывает родственно
беззащитности перед неизведанным.
Виртуальная реальность, которая маргинальна, гротескна, и
неявно всегда иронична, осуществляется невсерьез, вырабатывает
виртуальное мышление у пользователя, которое также отличается
двойственностью, маргинальностью и гротескностью, то есть это
значит, что оно имеет теденцию при длительном контакте с
виртуальностью смешивать реальности. Отношение обратимости,
свойственное смеху (смеховые "качели": движение "туда-сюда"),
присуще и виртуальности. Виртуальное мышление переносит
возможности виртуального мира в реальность: с легкостью соединяет
несоединимое и разрушает невосстановимое. Теряется чувство
реальности. Иллюзия многократного убийства и собственной к нему
причастности на дисплее, привычка к взаимозаменяемости
персонажей, вырабатывают легкое отношение к возможности смерти,
убийства в реальности. История смеха показывает, что постоянное
нахождение в смеховой реальности, грозит полной потерей границ, то
есть безумием. Кроме того, тут действует хорошо известное
свойство эстетического, которое через пркрасное изображение делает
привлекательным любое отвратительное и аморальное явление. И у
виртуальности тут самые широкие возможности. У человека,
постоянно пребывающего в виртуальной среде притупляется
этическое чувство, он начинает плохо различать добро и зло, ведь он
погружен в мир симулякров-лжеподобий.
С виртуальной реальностью связано формирование нового
типа эстетического сознания, которое отличается от
постмодернистской его разновидности. "Эстетика виртуальности концептуально
шире постмодернистской эстетики. В центре ее интересов - не
"третья реальность" постмодернистских художественных симулякров,
пародийно копирующих "вторую реальность" классического
искусства, но виртуальные артефакты как компьютерные двойники
действительности, иллюзорно-чувственная квазиреальность". (28, 311).
126 Глава 2
Виртуальный артефакт как единица виртуальной реальности
представляет собой нечто похожее на фантомный объект, лишенный
онтологической основы, который не отражает реальность, но
воспроизводит некую новую реальность - гиперреальность, основой
для которой выступает всеобщая "симуляция", тотальная
распространенность в культуре симулякров, лжеподобий. Но симулякры
уже не просто пародируют и отражают реальность, чем всегда
подчеркивается их вторичность и привязка к некоему первообразу, а
они наделяются самостоятельным существованием. Вторичность
и пародийность симулякров как бы отходит на второй план, а на
первый выдвигается их смысловая формальность, чистая знако-
вость и ее узнаваемость. Они становятся подобны сосуду, в
который наливается любое содержимое - вино, вода или бензин.
Остается только узнаваемая форма, которая отдаленным образом
указывает на позитивность содержания, но не гарантирует этого.
Исходная точка для виртуальной реальности - не объективная
реальность, а сознание воспринимающего ее человека. Ввиртуально-
сти совершенно буквально, чувственно-осязаемо и иронично
воплотилось cogito Декарта. Виртуальная реальность задает параметры
всей современной культуры, выстраивая ее под себя, по "своему
образу и подобию".
Симулякры лишают культуру определенности и
однозначности, устойчивости и сущностной укорененности. И границы форм
этой реальности становятся расплывчаты, неопределенны, текучи.
Миропорядок данной культуры рушится, становится хаосом, так
как ирреальность трансформируется постоянно в реальность и
наоборот. Происходит отелеснивание самых смелых и ужасных фан-
тазмов, образов сновидений. С этими метаморфозами связано
наделение виртуальным "телом" фантомных образов, смутных
чувствований, интимных страхов, галлюцинаций, теней. То есть не только
приятные образы воображения, но и теневые образы сознания
получают чувственную достоверность и наделяются движением и
жизнью. Все это напоминает наркотические галлюцинации (28,313).
Квазиреальную образность получает постмодернистское
отторжение бинарности: реальное - воображаемое, материальное -
духовное, живое - неживое, оригинальное - вторичное, естественное -
искусственное, внешнее - внутреннее, мужское - женское,
восточное - западное и т.д. (28, 313-314). Форма теряет всякую
определенность, становится текучей в результате непрерывных плавных
трансформаций. Эстетическая оппозиция "прекрасное -
безобразное" в постмодернизме также теряет смысл. На первый план
выдвигается тождество, всесмешение. Господствующим становится
старый принцип "все во всем". И в русле этой тенденции получают
преобладающее развитие, с одной стороны, маргинальное,
пограничное (все - "между"), пластичное, неопределенное, опосредствующее
Смех как видимость и как виртуальная реальность 12 7
метаморфозы и трансформации вещей и явлений, а, с другой
стороны, фантомное, иллюзорное, короткоживущее, безосновное,
возникающее из ничего.
В психологии виртуальную реальность отличают от
константной порождающей реальности, в роли которой выступает
повседневность. Виртуальность противопоставляется привычному,
постоянному, обычному. Виртуальная реальность порождает виртуал
следующего уровня, сама при этом выступает его константой, не
переставая быть виртуальностью. Это свойство виртуальности
вполне сопоставимо с удвоением видимости в смехе. Вторая видимость
вырастает на основе первой, и в свою очередь, может продуцировать
третью, четвертую и т.д. А потом вся эта "пирамида" мгновенно
обрушивается "в ничто". Удвоенную видимость смеховой
реальности можно было бы назвать "удвоенной виртуальностью". В
принципе, понятие видимости вполне сопоставимо с понятием
виртуальности, так как оно также описывает мнимую реальность, но в
виртуальности акцент делается на ее искусственном
происхождении. Понятие видимости является вполне устоявшимся
философским понятием, имеет длительную историко-философскую
традицию его рассмотрения. Жаль только, что его философский смысл
не совсем очевиден в обыденном употреблении слова.
"Виртуальность" и "виртуальная реальность" - модные понятия, но они еще
требуют дальнейшей научной проработки, они весьма
перспективны для современной теории, так как адекватно описывают
современную действительность. В маргинальное время пограничные
реальности "между", к которым относятся смех и виртуальность,
миф, сон и иллюзия, выдвигаются на первый план. Их
соотносительное историческое исследование могло бы принести много
полезного. Попытка аналитической реконструкции истории смеха,
которая есть история его культурных смыслов, в свете
вышеизложенных идей предпринимается автором в третьей и четвертой
главах.
♦t* ♦♦♦ ♦♦♦
Глава 3. ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ СМЕХА
И при смехе иногда болит сердце, и
концом радости бывает печаль.
(Притч., 14,13)
Ритуальный смех в культуре
Психофизиологический смех
Смех можно рассматривать, во-первых, как проявление
физиологии человека, во-вторых, его психической жизни и, в-третьих, как
феномен культуры. В первом случае речь идет о тех
физиологических процессах в организме человека, которые позволяют ему
осуществлять колебательные дыхательно-выдыхательные смеховые
движения. Тут имеется в виду как бы основание, материальный
субстрат, который делает смех возможным. Во втором случае, смех
в качестве явления психики человека выступает как эмоция,
выражающая радость и полноту жизни здорового и комфортно
ощущающего себя тела. Эта эмоция несет на себе функцию разрядки,
сброса переполняющих человека сил. Первый и второй моменты
тесно взаимосвязаны, они образуют комплекс, который можно
назвать психофизиологическим смехом. Его также можно было бы
назвать естественным, природным или радостным смехом, так
как реконструкция смеха, приближающая исследователя,
насколько это возможно, к его первозданному природному состоянию,
позволяет говорить о смехе как, прежде всего, о положительной
эмоции радости (удовольствия, удовлетворения, торжества, блаженного
состояния и т.д.).
Подобная реконструкция в онтогенетическом плане может быть
проведена как наблюдение за поведением ребенка с момента его
рождения до момента формирования у него чувства комического,
культурного смеха, в 6-7-летнем возрасте, ко времени
формирования его самосознания, когда он, наконец, начинает постепенно
понимать то, над чем смеются взрослые. Надо сказать, что на примере
ребенка очень хорошо видно, насколько смех естественный как
выражение радости, а именно в таком виде эта эмоция
переживается ребенком до 7-летнего возраста, отличается от смеха
культурного, комического, который имеет другие смыслы. Например, автору
этих строк приходилось наблюдать, как ребенок 5 лет для того,
чтобы приобщиться к смеху взрослых, начинал повторять те
действия клоуна, над которыми, по его наблюдениям, смеялись
взрослые. Он падал, размахивал руками, гримасничал, повторяя одно и
то же по несколько раз. Поведение его вызывало не столько смех,
Очерки по истории смеха 129
сколько удивление. На самом деле, он подражал взрослым,
совершенно не понимая, почему надо смеяться над падающим
человеком, тем более, что он сам при падении плакал, и это вызывало
сочувствие взрослых. А если бы они при этом смеялись, то это
было бы им воспринято как ужасная обида. Но кто поймет этих
взрослых, таких непоследовательных и нелогичных. Они смеются
не так и не над тем, над чем смеются дети и народы, стоящие на
ранних стадиях развития.
Недаром говорят, что первобытные люди смеются как дети, их
смех также, как и детский, приближен к естественному радостному
смеху. Но как детский смех меняется со временем, так и их смех
начинает приобретать иной характер, который связан со
специфически человеческим его функционированием в культуре. Речь идет
о третьем качестве, в котором выступает смех, речь идет о смехе
как феномене культуры.
Смех, как и плач, как и все другие эмоции человека, является
культурно отшлифованной эмоцией. Строго говоря, у человека
некультурных эмоций просто нет, так как культура - способ
существования человека, культура необходима человеку, как рыбе вода.
В философской литературе давно установилась традиция
некоторого условного противопоставления природы - культуре и
естественного - культурному, и мы следуем ей, и называем смех
психофизиологический смехом естественным и природным. Наиболее
яркими проявлениями последнего служит смех детский, а также
"беспричинный" смех радости от полноты жизни, смех комфортно себя
чувствующего тела. Отделить естественный смех от культурного у
современного человека и даже у ребенка можно, но чрезвычайно
трудно. Но, все-таки, разница между смехом детей и взрослых,
первобытных людей и людей, обремененных цивилизацией, есть, и для
целей аналитических, исследовательских можно проводить эту грань,
одновременно не забывая о ее условном характере.
Прежде чем перейти к смеху культурному, перечислим в
качестве итога некоторые наиболее характерные черты смеха
психофизиологического или естественного:
- Здоровая телесность, свойственное ей чувство полноты
жизни, выражаются в эмоции радости. Эта радость есть первое
эмоциональное основание естественного смеха.
- Радость подобного рода также может быть выражением
довольства собой, самодовольства, которое всегда сопровождает
самодовлеющее тело. Такая радость может быть бессознательно
связана с телесным эгоизмом. "Мне хорошо" и "я лучше всех" - вот
какие смыслы, опять же бессознательно, могут вкладываться в
такой смех.
- Эгоистический характер смеха непосредственно связан с его
концентрацией на проявлениях отдельного тела, его самочувствия.
130 Глава 3
Иначе говоря, психофизиологический смех носит подчеркнуто
индивидуальный характер,
- Наиболее яркое проявление такого смеха - это хохот.
Когда радость телесной жизни переполняет человека, она требует
выхода и находит его во взрывных громогласных судорожных
движениях, то есть в хохоте, при котором сотрясается все тело. Звуки
хохота, всегда неумеренного, сначала пугают всех вокруг, а потом
заражают своим шумным весельем. В самом
психофизиологическом механизме проявления хохота отчетливо выражена та
избыточность, избавление от которой и осуществляется через
хохочущий смех.
- Заразительность такого смеха следует отметить особо. Он
всегда выступает соблазном для других людей. Людям всегда
хочется присоединиться к счастливому смеху, редкий человек
удержится от улыбки, глядя на хохочущего.
- Но поначалу резкий громкий смех-хохот, сопровождаемый
клокочущими звуками, судорожными телесными движениями
всегда пугает и настораживает. Конечно, еще и потому, что
начинается он всегда внезапно, неожиданно, даже если веселое настроение и
характер беседы располагали к нему.
- Следует отметить этическую индиффирентность
психофизиологического смеха.
- Психофизиологический смех можно назвать "беспричинным
смехом", когда смеются просто так, видимая причина его
отсутствует. Это тот самый смех, когда "покажи пальчик - и засмеются".
Это - смех-разрядка от полноты жизни и энергии.
Смех как феномен культуры
Культурный смех использует свою психофизиологическую
основу, надстраивая над ней как основанием только ему присущие,
культурой выработанные смыслы. Исторически первая такая форма
смеха - архаический ритуальный смех. Такой культурный смех
всегда содержал в себе в снятом, преобразованном виде, смех
психофизиологический с его радостной эмоциональностью и функцией
разрядки. Но это преобразование смеха было настолько глубоким,
что часто придавало смеху смыслы, прямо противоположные его
естественному радостному значению (самый яркий пример: смех
при смерти и при похоронах).
Реконструировать форму самого древнего культурного смеха
очень трудно, но такие попытки предпринимаются. Одну из таких
попыток обобщения этнографического материала предпринял
известный ученый В.Я. Пропп в статье "Ритуальный смех в
фольклоре" (1974), ставшей классической по проблеме смеха. Эта статья
Очерки по истории смеха 131
посвящена анализу русской сказки о царевне Несмеяне,
несмеющейся царевне, которую требуется рассмешить, а кто сумеет это
сделать, тот получит ее в жены и полцарства впридачу. А
поскольку смех в этой сказке является одним из главных персонажей,
постольку В.Я. Пропп предпосылает собственно анализу сказки
исследование архаичного смеха и его культурного контекста, при
этом формулируя определенную концепцию, которая нашла
широкое распространение в отечественной литературе по этому вопросу.
Вот эта концепция ритуального смеха В.Я. Проппа и будет
предметом нашего интереса.
Смех как "признак жизни"
В.Я. Пропп в результате анализа некоторых мифологических
сюжетов делает вывод о связи смеха в культуре с жизненным
началом. Смех выступает как признак жизни в обрядах, связанных с
запретом смеха, например, при инициации, а также в мифах о
запрете смеха в царстве мертвых. (1, 180-183). И более того, В.Я.
Пропп далее говорит о смехе как о "жизнедателе", то есть "смеху
приписывается способность не только сопровождать жизнь, но и
вызывать ее" (Разрядка моя - М.Р.). (1, 184).
"В большом исследовании Боаса о социальной организации и
тайных союзах племени Квакиутл дважды коротко упоминается,
что во время этих обрядов посвященным запрещено смеяться.
Более подробную картину дает П. Шмидт для одного из островов
Океании. Последним актом церемонии является попытка
рассмешить юношей. Они становятся в ряд. "Теперь появляется молодая
женщина, одевшая мужскую одежду. Она держит себя и говорит
как мужчина. У нее в руках копье с остриями из рыбьей кости и
горящий факел, и она проходит вдоль ряда мальчиков. Если никто
из мальчиков не смеется, она проходит весь ряд; но если кто-
нибудь засмеется, она радуется и уходит, не закончив ряда.
Мальчикам уже раньше говорят о появлении этой женщины, и им
строго внушают, чтобы они не смеялись. Если кто-нибудь засмеется,
отец говорит ему: теперь мы не получим подарков". (Разрядка
моя. - М.Р.). (1, 182-183).
"Запрещено смеяться в царстве смерти. Весь обряд
посвящения есть симуляция смерти, засмеявшийся обнаруживает, что он не
вполне очистился от земного, точно так же, как шаман, пришедший
в царство смерти, смехом выдает себя за живого" (1, 183). "Помимо
запрета смеха, можно как в мифах и сказках, так и в обрядах
наблюдать запрет сна, зеванья, речи, еды, смотрения и некоторые другие
запреты...Все эти запреты указывают на представление о
противоположности жизни и смерти. Они указывают на то, что пред-
132 Глава 3
ставления о смерти (которые существовали не всегда и которым
предшествовало отсутствие представлений о смерти, полное
отождествление живых и мертвых) уже отдифференцировались, приобрели
контуры...Смерть испытывается как жизнь с обратным знаком.
Живые видят, говорят, зевают, спят, смеются. Мертвые этого не
делают. Но вместе с тем дифференциация еще не настолько закончена,
чтобы между живыми и мертвыми проложить пропасть. В
некоторых случаях живой (в большинстве случаев шаман, посвященный в
сказке - герой, причем царство смерти переосмысляется в иное,
тридесятое царство) может попасть туда при жизни, но тогда он должен
симулировать смерть: не спать, не говорить, не видеть, не смеяться.
Приведенные случаи ранние, исконные" (Разрядка моя - М.Р.).
(1,183).
"...В то время как пребывание в состоянии смерти
сопровождалось запретом смеха, возвращение к жизни, т.е. момент нового
рождения, наоборот, сопровождался смехом - может быть, даже
обязательным. В индейском мифе два брата проглочены китом. Кит переносит
их в другую страну. В брюхе кита так жарко, что они теряют волосы,
становятся лысыми. Выходя из кита, каждый видит лысину другого,
и оба смеются..."(1,184).
В.Я. Пропп закрепляет за смехом качество "признака жизни"
и на этом строит свою концепцию ритуального смеха и смысла
сказки о Несмеяне. Все, что связано так или иначе с жизнью
(производством, размножением и т.д.), связано и со смехом: Солнце,
свет, плодородие, производящая сила человека, животных, растений,
земли и т.д. Ритуальный смех он рассматривает даже как
"магическое средство создания жизни". Подобные представления о смехе
буквально как о "жизнедателе", как он полагает, основаны на
"непривычных представлениях о подлинных причинах рождения -
отголосок древнейших матриархальных отношений, когда
женщина, мать... почиталась за свою таинственную, еще непонятную
способность к воспроизведению вида. Роль мужчины еще не
осознана" (1, 191). "Смех здесь может быть сопоставлен с пляской...
Пляска есть не что иное, как судорожное усилие. Средством
шамана очень часто служат судорожные припадки. Именно такого рода
судорожным усилием на этой ступени является и смех. В этом
смысле смех есть "магическое" средство создания жизни, понимая
под этим средство, противоположное рациональному" (1, 191).
Исходя из такого понимания смеха как жизнедателя, В.Я.
Пропп интерпретирует сказку о царевне Несмеяне, рассмеять
которую, оказывается, значит - вызвать ее на сексуальное общение. В
этом ключе трактуются и все сюжетные атрибуты сказки (игра на
дудочке, пляска свинок, приметы, жест царевны и т.д.) и, таким
образом, получается целостное красивое объяснение и смеха и
сказки.
Очерки по истории смеха 133
Наша задача иная - анализ собственно феномена смеха,
поэтому для нас имеет значение, что при таком подходе к смеху
только как к "признаку жизни" и "жизнедателю" остаются
незамеченными и необъясненными, или недостаточно объясненными,
важные моменты, например, явление смеха при смерти. Объяснение
всех ритуальных проявлений смеха обращением к нему как к
"признаку жизни", "жизнедателю" требует уточнений и дальнейшей
разработки.
Смех как "порог",
как переходное состояние между жизнью и смертью
На самом деле такая несообразность в понимании смеха
получается, по нашему мнению, потому, что тут один смысл смеха
наслаивается на другой: психофизиологический смех и его
культурный эквивалент - смех как "признак жизни" - вступает в
противоречие с рождающимися на его основании новыми смыслами
смеха.
В.Я. Пропп приводит много примеров для иллюстрации
своих тезисов о смехе как "признаке жизни" и "жизнедателе".
Рассматривая эти примеры, можно увидеть, что тут дело обстоит
несколько сложнее, что наряду с представлением о смехе как о
"признаке жизни", появляется представление о смехе, связанном
обязательно и с жизнью и со смертью одновременно. И акцентируется
посредством смеха не только жизнь или даже будущая жизнь, а
состояние перехода от смерти к жизни и от жизни к смерти.
Эта связь жизни со смертью в смехе дана наглядно, видна тут
и сейчас, а не в отвлеченном воображении. Смех является знаком
"перехода" от одной противоположности к другой ("жизни -
смерти"), смех - это всегда "между" ("на входе" - запрет смеха, "на
выходе" — принуждение к смеху). Так, в якутском мифе, который
приводит В.Я.Пропп, шаманка возвращает душу умершего и поет:
"Три смеющиеся порога перешедши, душу живую сына твоего
назад возвратила". (1, 186-187).
"Пороговый" характер смеха указывает на пограничную
ситуацию. Смеются или сразу после того, как "порог" перейден или в
момент перехода. Смех, как и плач - знак пограничного
состояния. Всегда смеяться нельзя. Кто постоянно смеется, тот
воспринимается как безумный. Всегда можно быть только серьезным.
В приведенном индейском мифе о двух братьях, проглоченных
китом, нахождение в брюхе кита - это испытание, преодоление
смерти. В момент преодоления напряжение и серьезность
предельные, смеху места тут нет, и только выходя из пасти кита, братья
смеются. В.Я. Пропп приводит этот пример для подтверждения
134 Глава 3
тезиса о смехе как "признаке жизни" и "жизнедателе", но это не
совсем точно.
Попасть в пасть к киту - значит умереть. Нахождение в ките
- испытание смертью, выдержать его - значит преодолеть смерть.
В "предельном" состоянии серьезность и напряжение также
"предельные". Братья смеются, выходя из пасти кита, то есть
возвращаясь к жизни. Смех в этом случае - это вздох облегчения от
завершения испытания и радость торжества. Смех тут имеет
знаковый, символический характер, как и любое ритуальное действие.
Он знаменует, символизирует переходное состояние от смерти к
жизни. "Жизнь - смерть - жизнь" - такова формула этого смеха.
Это - умирание и воскресение, смерть и возвращение к жизни.
Можно ли тут говорить о "новом рождении", как это делает
В.Я. Пропп, иными словами, тождественно ли "возвращение к
жизни" "моменту нового рождения" (1,184)? "Новое рождение" в
данном случае может быть только метафорой, так как буквально
"возвращение к жизни" и "новое рождение" никак не могут быть
тождественными состояниями. В "новом рождении" все начинается
как бы с нуля, вновь рождается, и в дальнейшем возрастает, то есть
тут подразумевается возникновение нового, иного явления. В
"возвращении к жизни" же речь идет о глубоком, кардинальном
изменении состояния, но одного и того же явления. Смех является
знаком глубокой, можно сказать, "предельной" трансформацией
одного и того же явления.
С другой стороны, в мифологической картине мира время
представало как кругооборот, как цикл, как "вечное возвращение", все
новое, таким образом, было вернувшимся старым, ничего нового в
строгом смысле слова не было, все повторялось. Жизнь космоса -
это был бесконечный повтор. "Новое рождение" предстает как
частный случай, один из моментов "вечного возвращения".
Поэтому, если понимать "новое рождение" так, то это можно принять, но,
в таком случае, необходимо все это оговорить. Запомним этот
момент, что смех связан не просто с рождением нового, а именно с
возвращением, с повторением. Кругооборот, повтор войдет в саму
природу смеха как эстетического феномена, комического.
Видимым проявлением измененного состояния в мифе (или
его знаком) является облысение братьев в брюхе кита, ведь
"лысина" - это, прежде всего, утрата волос, то есть чего-то такого что
было в прежней жизни и что утратилось из-за пережитых
испытаний. Важно, что оно же выступает поводом для смеха, другого
знака трансформации: "выходя из кита, каждый видит лысину
другого, и оба смеются" (1, 184). И "лысина" и смех тут
выполняют сходные функции: они - зримые напоминания о счастливом
уходе от смерти, что ведет к их сближению, делает "лысину"
поводом к смеху.
Очерки по истории смеха 135
Однако следует еще раз остановиться на том, что утверждение
В.Я. Проппа о смехе как "признаке жизни" правильно и имеет под
собой основания. Дело в том, что тот древнейший протокультур-
ный смех был, конечно, теснейшим образом связан с естественным
для человеческого организма психофизиологическим смехом с его
функциями разрядки и выражения полноты жизни, отсюда и
первые смыслы ритуального смеха как "признака жизни". И именно
на этот смех существовали запреты при вхождении в "царство
мертвых", так как психофизиологический смех, наряду со зрением,
зеванием, сном, едой и т.д., выражает жизненные проявления. Со
смертью они прекращаются.
Но ритуальный или собственно культурный смех появляется
тогда, когда появляется общественная регуляция смеха. Иными
словами, уже культурный смех звучит не только тогда, когда тело
этого просит, как в случае с психофизиологическим смехом, а когда
это дозволяется общественной санкцией (разрешение на смех или
его запрет). Если психофизиологический смех носит, по
преимуществу, индивидуальный характер, то собственно культурный смех
всегда есть общественное, коллективное явление.
Как психофизиологический смех связан с полнотой жизни
тела, так и культурный смех связан с ипредельным состоянием*9.
Возможно, что наиболее полно жизнь ощущается при угрозе, на
пороге смерти, и вкус ее наиболее сладок по возвращении из
другого мира. Этот смысл "полноты", "пика" был, вероятно, тем
"мостиком", который соединил старый жизнеутверждающий смысл смеха
и новые смыслы, уже гораздо более опосредованно связанные с
полнотой жизни тела. "Пик" - это точка, в которой все сходится,
тут заканчивается процесс возрастания и начинается процесс
убывания, то есть это - точка начала и конца одновременно. Иначе
говоря, культурный смех в отличие от психофизиологического,
являющегося проявлением полноты телесной жизни, оказывается так
же связан с жизнью, как и со смертью.
Формирование предметного смеха
Дозволенный, санкционированный ритуалом смех становится
не только самовыражением, он становится общественно
регулируемой эмоцией, означенной эмоцией, в которую вкладывается смысл,
отличный от ее природного состояния. Психофизиологический смех,
пусть культурно освоенный, но все равно всегда достаточно близкий
к природному, отличается от собственно культурного только одним
- тем, что он является смехом внешне беспричинным, в то время как
для смеха культурного, добавим эстетического, свойственно наличие
объекта, то есть наличие смешного, над которым смеются.
136 Глава 3
Сначала ритуальный смех становится психологическим
сопровождением определенных ситуаций, ритуально многократно
повторяемых, а именно "пороговых", пограничных ситуаций между жизнью
и смертью. Воспроизведением таких ситуаций являются обряды
инициации, "переходные", испытательные обряды, Переходный" характер
имеют и относящиеся к ним мифы. Выскажем предположение, что
объект смеха - смешное формируется на основе тех ритуальных
ситуаций, при которых звучал обрядовый смех. Вспомним, например,
упомянутый ранее обряд инициации в племени Квакиутл, где
переодетая в мужскую одежду женщина пытается рассмешить юношей.
Запрет на смех при условии моделирования ситуации, которая
провоцирует смех, есть испытание человека, который должен научиться
управлять своими эмоциями, в том числе и такой трудно
управляемой эмоцией, как смех, чтобы быть способным на серьезное, то есть
жизненноважное дело. Это испытание умения владеть собой,
подобное испытанию на умение терпеть и преодолевать боль.
Интересна та ситуация, посредством представления которой
хотят вызвать у мальчиков смех. Это - женщина, переодетая в
мужскую одежду, которая держит себя и говорит как мужчина, но
при этом всем ясно видно, что это - женщина. Налицо - наглядно
разоблаченный обман, явная двусмысленность, несостоятельная
претензия, маскарад, не скрывающий, а открывающий суть дела.
Почему тут мальчики смеются или должны смеяться?
Женщина выдает себя за нечто иное, чем она является, за мужчину,
которым она при всем ее желании стать не сможет. Она взялась не
за свое дело, ее претензия несостоятельна. Возможно, что более
высокое положение мужчин в патриархальном обществе вызывает
женское им подражание. Но только у мальчиков есть возможность
стать мужчинами. Только мальчики, пройдя испытания в обряде
инициации, станут тем, на что они претендуют, настоящими
мужчинами, охотниками и почитаемыми членами группы, более
высокой по социальному положению, чем женщины. Смех мальчиков -
смех превосходства и торжества, возможно, злорадства тоже.
Смех торжества и превосходства своими корнями уходит в
психофизиологический смех как торжество плоти. Но мы видим,
как этот смех получает "предмет", направление, причину. И этот
предмет, объект смеха носит характер "наглядного двоения",
"разоблаченного обмана" или ставшее явным несоответствие видимости
и сущности явления. "Переходный" смысл ритуального смеха
является частным случаем такого "двоения" сущности и
видимости одного явления. Ведь в момент перехода от одного к другому,
всегда чувствуется за одним другое, которое еще не успело уйти и
границы между ними размыты.
В нашем примере смех выражает чувство превосходства
"мужчины по природе" над "мужчиной по видимости", это смех превос-
Очерки по истории смеха 137
ходства более высокой группы над низшей, но смех появляется
тогда, когда последняя претендует на более высокое положение, ей
не свойственное. Кроме того, трансвестизм, маскарад, ряжение, обо-
ротничество - это ситуации, с которыми и в дальнейшем устойчиво
будет связан смех, это ситуации все того же явного, уже не
скрытого двоения, двойничества. Это когда на одно накладывается другое,
но не скрывает первое, скорее, раскрывает, разоблачает его.
Смех между смертью и бессмертием
Если в примере об индейцах, вышедших из пасти кита, речь
шла об умирании и воскресении и формула смеха была "жизнь -
смерть - жизнь", то эта формула в других случаях может изменять
свой вид на иной, например такой: "смерть - жизнь - смерть", не
меняя своего "переходного" характера.
"Можно указать на миф иного сюжета: это один из эпизодов
мифа о Мауи. Цитирую Фробениуса: "Прародительница (...)
открывает свой зев там, где небо сходится с землей. Мауи решает
побороть ее; он берет с собой в товарищи птиц, но предупреждает,
чтобы они, пока он будет влезать в зев этого чудовища, не
смеялись: смеяться они должны тогда, когда он будет выходить. В
первом случае он погибнет сам, в ином случае умрет чудовище. Они
снимают с себя одежду...Когда он входит в пасть, маленькая
птица разражается громким смехом. Чудовище просыпается и убивает
Мауи. Если бы намерение Мауи осуществилось, то людям не
приходилось бы умирать" (Фробен. 183)". (Разрядка моя М.Р.).
(1,185).
Этот миф, который приводит В.Я. Пропп очень интересен для
нас тем, что он увязывает происхождение смерти человеческой и
смех в одно целое, даже более, он называет смех в качестве
причины появления человеческой смерти. Птичка должна была
засмеяться тогда, когда Мауи будет вылезать из пасти чудовища, а
смеется, наоборот, когда он только входит в пасть. Ее смех будит
чудовище, которое убивает Мауи, и тем самым является косвенной
причиной смерти Мауи. Следует обратить внимание на то, что в
мифе подчеркнуто, что смех может менять направление. Он звучит
не тогда, когда должен звучать. Долженствование смеха связано,
как в мифе с братьями-индейцами, с возвращением к жизни от
состояния смерти, с воскресением, то есть все-таки с жизнью.
Но смех может обмануть. Да, он, действительно, должен быть
связан с жизнью, но он может быть связан с жизнью, которая несет
смерть. Смех пробуждает к жизни чудовище. Жизнь чудовища
есть смерть Мауи. Просто смех звучит не в тот момент и эта
перемена момента звучания указывает на то, что смех является причи-
138 Глава 3
ной смерти, пусть косвенной, но, фактически, основной, ведь в мифе
вопрос ставится так: не было бы смеха, не погиб бы Мауи, если бы
прозвучал смех в другой момент, то Мауи был бы жив.
Согласно мифу, смех - причина смерти не только Мауи, но и
всех людей вообще. Смех птички - сигнал для пробуждения "смерти-
чудовища", до того момента спящей. Говорить тут о "новом
рождении" смерти-чудовища будет более, чем проблематично. Хотя здесь
также, в известном смысле, можно говорить о пробуждении к
жизни смерти-чудовища. Но эта жизнь смерти-чудовища является ей
только по видимости, на самом деле это - смерть. Мы видим
появление характерного для культурного смеха феномена двоения,
двойственности, когда одно подменяет другое, по видимости сходное с
первым, но по существу являющееся совершенно другим, часто прямо
противоположным. Например, оживание, которое знаменует смерть.
В мифе смех в образе смеющейся птички прямо обманывает
Мауи и вместо желаемого бессмертия он получает смерть. Тут
появляются те видимость и обман, которые входят в самую суть
предметного эстетического смеха. Смех приобретает свойственное
ему "двойное дно".
Тот факт, что смех в мифе меняет свое направление, является
свидетельством того, что культурный смех уже настолько
формализован, что он свободно может обращаться в контексте мифа к
явлениям прямо противоположным: смех из признака жизни
превращается в причину смерти. Обращение смеха к смерти по
одному только формальному признаку как знака
"оживания-пробуждения", содержательно нейтральному, говорит о формализации
основы смеха как признака жизни, смех становится знаком оживания
чего угодно, даже смерти. Поэтому можно предположить, что
появление мотивов смеха при смерти более поздний феномен по
сравнению со смехом как признаком жизни.
Смех связан с жизнью настолько, насколько он есть переход
от смерти к жизни и, наоборот, смех связан со смертью настолько,
насколько он является переходом от жизни к смерти. Например,
именно таким образом следует понимать миф о создании мира
смеющимся божеством. В греко-египетском трактате об этом
говорится так: "Семь раз рассмеялся бог, и родились семеро
охватывающих мир богов. В седьмой раз рассмеялся он смехом
радости и родилась психе". В лейденском папирусе III века н. э.
говорится: "Бог засмеялся, и родились семь богов, которые
управляют смертью... Когда он засмеялся, появился свет... Он
засмеялся во второй раз, все стало водой. С третьим раскатом смеха
появился Гермес" (Разрядка моя - MJP.). (1, 187).
В.Я. Пропп, приводя эти примеры, отмечает, что "божество
смеясь создает мир или смех божества создает мир" (1, 187). Союз
"или" тут вряд уместен, ведь одно дело, когда божество творит мир,
Очерки по истории смеха 139
смеясь при этом, тем самым, знаменуя акт творения как
возвращения из небытия, а другое дело, когда сам смех творит что-то,
скажем, жизнь. Смех творить не может, а вот божество посредством
смеха вполне возможно. Можно предположить, что творение
божеством мира через смех характеризует творение именно как
возвращение из небытия, возвращение старого в виде нового. Как
известно, движение мира у всех древних народов представало как "вечное
возвращение", как циклический круговорот природы, в котором
все новое - это вернувшееся из небытия старое.
Комментарий В.Я. Проппа направлен на подтверждение его
концепции о "смехе-жизнедателе", который, по его мнению, являлся
магическим средством создания жизни. Он даже утверждает, что в
якутском фольклоре есть представления, что "зачатие и роды
происходят по причине смеха": "смех здесь первичен, а беременность
вторична, т.е. смеются, чтобы вызвать беременность, а не наоборот. В
этом магия смеха" (1,186). Думается, что смех мог сопровождать
приход в жизнь, но вызывать ее, даже магически, вряд ли.
Что означает смех при смерти
Страбон (16, 776) сообщает о египетских кочевниках, которые
хоронят своих мертвецов под непрерывный смех. (1,188).
В.Я.Пропп цитирует Рейнака: "Сарды смеялись, принося в жертву
своих стариков; троглодиты - побивая камнями своих мертвецов;
финикийцы - когда умерщвляли своих детей; фракийцы - когда
кто-нибудь из них был при смерти" (Рейнак, стр.125)". (1, 189). У
древнейшего населения Сардинии существовал обычай убивания
стариков. Убивая стариков, громко смеялись. В этом и состоит
пресловутый сардонический смех. (1,188).
Почему же смеются при смерти, при похоронах, при убийстве?
Смех тут воспринимается как противоестественная реакция,
вызывает удивление и недоумение. В.Я. Пропп считает, что смех при
смерти и при убийстве означает "новое рождение": "смех при
убивании превращает смерть в новое рождение, уничтожает убийство.
Тем самым этот смех есть акт благочестия, превращающий смерть
в новое рождение" (1,188).
Представляется, что данное объяснение очень абстрактно и не
передает существа дела. Оно основывается на допущении, что смех
при смерти - это выражение скорби, несколько странное
утверждение, но ритуальное часто бывает странным для рационального
мировосприятия. Однако, в этом объяснении безусловно только то,
что смех при столь печальных обстоятельствах носит
неестественный, а значит ритуальный характер и, конечно, связан с
представлениями древних о жизни и смерти.
140 Глава 3
Может ли смех уничтожить убийство и превратить это
убийство в "новое рождение"? Даже имея ввиду магию, можно
усомниться в этом. Конечно, по закону партиципации,
сформулированному Леви-Брюлем для первобытного мышления, коллективные
представления строятся магически и по аналогии, а также в
симпатической магии все связано со всем, и все может воздействовать
на все, причинно-следственные связи в первобытном мышлении
очень своеобразны.(4).
Но дело в том, что первобытное мышление носит конкретный
характер, а объяснение Проппа апеллирует к слишком
отдаленным последствиям и к восприятию мира как целого, для которого
необходимо сохранение некоторого баланса жизней-смертей, а
значит к абстрактному мышлению, которое в такой развитой форме,
чтобы это учитывать, вряд ли могло быть свойственно столь
древнему, восходящему к матриархату обществу. Убийство зримо, оно
тут и сейчас, а "новое рождение" когда еще будет. Космологические
мифы, как известно, толкующие о происхождении мира как целого
появляются в развитой мифологии патриархального периода.
Надо иметь богатое воображение и развитое абстрактное
мышление, чтобы в момент убийства, даже ритуального, уже видеть
"превращение смерти в новое рождение". И чтобы при убийстве уже
желать уничтожения этого прискорбного факта, по меньшей мере,
следует чувствовать вину за это убийство, то есть уже иметь
понятие греха убийства. Не имеет ли тут место модернизация, не
приписывается ли тут первобытным народам более развитое и более
позднее представление о морали?
Но почему они должны были скорбеть, убивая? Ведь, когда они
убивали животных, они получали средства для продолжения своей
жизни и это они понимали очень хорошо, иначе они не могли бы
жить. Почему они не должны были при этом радоваться? Даже
когда они убивали своих стариков, а этот обычай возник,
по-видимому, от недостатка средств для жизни, они также получали
больше возможностей для продолжения жизни и это также могло
вызывать радость, как бы мы ни противились этому жестокому для
нас чувству. Скорее всего, они боялись мести со стороны духов
убиваемых, которые могли быть опасны и после смерти. И смех
при убийстве звучит как средство защиты, как оберег, от мести
мертвых и от смерти, а также от страха перед местью и перед
смертью.
Смех при убийстве животного по смыслу сродни смеху при
убийстве человека. Ведь в тотемистическом обществе животные
почитались не только как равные человеку, но и как старшие
братья, как первопредки рода, поэтому боязнь мести была также
высока. "Когда внесут попавшего в капкан горностая, ему мажут нос
маслом или сливками, хохочут и произносят заклинание. Когда
Очерки по истории смеха 141
завидят издали павшего на... самострел сохатого, то прыгают,
скажут, кричат, хохочут, таким образом стараясь показать, что очень
радуются. Некоторые вскакивают на сохатого верхом и хохочут. "(3,
5).
В.Я. Пропп считает, что этот случай, который приводит
исследователь якутского фольклора В.М. Ионов, следует понимать так,
что "смеялись ради возрождения убитого зверя к новой жизни и
вторичной его поимки, то есть смеялись "к рождению" зверя...
Смех есть один из способов этого создания и воссоздания жиз-
ни"( 1,190). Можно только добавить: если смех есть способ
создания и воссоздания жизни, то только через смерть. Хохотом при
убийстве сохатого задабривают и отпугивают душу убитого. Как
уже говорилось, нельзя исключать и просто радости от поимки
зверя, благодаря убийству которого они будут живы сами.
Когда можно объяснить что-либо вполне естественно и
просто, мы не должны этим пренебрегать только потому, что это
противоречит нашим собственным гуманным представлениям о
должном. Простое объяснение зачастую самое верное. И если нельзя
совсем с ним согласиться, так как в отношении смеха тут дело
гораздо, конечно, сложнее, то принять, что в смехе при смерти мы
никак не можем отрицать элемента радости - это безусловно.
Другое дело, что при стрессовых ситуациях, о которых мы говорим,
выражения радости или горя могут не совпадать с обычными, а
быть прямо противоположными. При горе - плач может
переходить в смех, а при радость может выражаться громким плачем.
В экстремальных ситуациях, как отмечают исследователи
этикетных форм культуры А.К. Байбурин и А.Л.Топорков, человек
попадает как бы в пространство "между культурой и природой" (2,99)
и тут размываются все границы между культурой и природой. Вот
что они пишут относительно проявлений скорби при похоронах.
"Все эти бурные проявления эмоций (громкий плач,
самоистязания - М.Р.) можно рассматривать как естественную реакцию на
стрессовую ситуацию. По наблюдениям психологов и физиологов,
перевозбуждение нередко проявляется в подобных формах, так как
мышечные усилия и причиняемая себе физическая боль несколько
притупляют душевные страдания. Вместе с тем уже в древности
плач и самоистязания становятся ритуально обязательными
формами проявления горя."(2, 96).
"...Плач - если и не вполне культурное явление, то и не чисто
биологический феномен. Кроме того, хорошо известно, что
некоторые люди плачут не только от горя, но и от радости. У населения
Сандвичевых островов слезы считались признаком счастья.
Любопытно, что выражение лица плачущего и смеющегося человека
нередко очень похоже. У детей и невротиков плач легко переходит в
смех". (Там же).
142 Глава 3
"Пребывание между культурой и природой характерно не
только для похорон и траура. Оно является необходимым
компонентом всех обрядов, совершаемых в переломные моменты жизненного
цикла: рождения, инициации, свадьбы. Общий принцип состоит в
том, что человек лишается тех признаков, которые указывают
на его принадлежность миру культуры...У хантов и манси во
время похорон никто не подпоясывался...Женщины носили
одежду и головные уборы наизнанку...Вдова покойного у хакасов
...надевала платье наизнанку, складку головного убора загибала не
вверх, а вниз. (Разрядка моя - М.Р.)" (2,99).
Возможно, что смех при смерти мог явиться элементом
такого антиповедения при экстремальной ситуации, когда человек
оказывается как бы между миром природы и культуры. Так, по
своего рода антитехнологиям изготавливались вещи для
покойника, еда на поминки, траурные одежды (например, саван шили левой
рукой, на "живую нитку", без узлов, иглу двигали от себя и т.д.
(2,100)). Таким образом, в смехе при смерти выразилось своего
рода антиповедение. Но это антиповедение служило "оберегом"
для человека, оказавшегося между жизнью и смертью, тем самым
между природой и культурой.
Как уже говорилось, смех при смерти - более позднее явление,
чем естественный смех. Как культурный феномен он формируется
при изменении направленности первоначального значения
культурного смеха как признака жизни. И он может иметь, по
меньшей мере, три смысла.
Во-первых, смех при смерти может означать переход умершего
в иной мир, ведь смерть есть одновременно вхождение в иную жизнь,
оживание для другой жизни. Жизнь после смерти понималась как
суррогат земной жизни, как земная жизнь, можно сказать, в
ослабленном варианте, как ее тень. Там тени умерших ведут призрачную
жизнь, где нет различия между добром и злом, как, например, в Аиде
- загробном царстве древних греков или в Шеоле - загробном мире
древних евреев. Смех при смерти может не только
ознаменовывать смерть как вхождение в иную жизнь, но и по
представлениям древних способствовать его благополучному осуществлению,
иначе говоря, переходу порога между жизнью и смертью. И тогда, в
известном смысле, можно его расценивать как "акт благочестия",
как оказание почтения умершему, как проводы его в последний путь,
как магическую помощь в преодолении "порога" между жизнью и
смертью. Во-вторых, смех при смерти - это "оберег", защита от
смерти и всего с ней связанного для живущих, в том числе и от
мести мертвых, и, в-третьих, связанное с ним значение смеха как
психологического средства избавления от страха перед смертью.
Принцип оберега (жизнь своего за счет смерти чужого) стал
принципом ритуального смеха. Это качество двойственности обе-
Очерки по истории смеха 143
рега срослось в ритуальном смехе со всеми его другими
значениями.
Смех как оберег
При соприкосновении со смертью вообще, в том числе при
похоронах или при убийстве, человек как бы попадает в междуми-
рие жизни-смерти, он как бы стоит на "пороге" между тем и тем, и
это состояние особое. Вести себя в этом междумирии, в этой
"пограничной полосе" нужно очень осторожно, ведь она грозит
невозвращением назад, в число живых, тут можно заблудиться, сделать
неверный шаг и уже не вернуться. Для этого междумирия и было
свойственно, как уже отмечалось, антиповедение, формой которого
мог быть смех при смерти.
"Похоронный обряд строится таким образом, чтобы всеми
способами отгородиться от смерти, не замечать ее. Даже сами слова
"покойник", "похороны", "смерть" и т.п. старались не
использовать. Вместо них существовала тщательно разработанная система
метафорических замен.
Присутствие смерти (которой как бы нет) создает особое, в
высшей степени напряженное пространство. В его центре
находится покойник, здесь проходит граница между миром живых и миром
мертвых, и люди начинают вести себя по законам этого
пространства. Чем ближе к центру, тем более двойственным становится
поведение участников обряда. Повышается степень его
регламентации: увеличивается количество запретов и предписаний. Вместе
с тем, положение человека становится все более неопределенным.
Он находится между двумя мирами и в этой промежуточной
зоне привычные формы поведения теряют свой смысл. Здесь
более подходящими являются как раз те "естественные",
"природные" реакции, которые обычно сдерживаются. (Разрядка моя -
М.Р.)" (2. 95-96). А.К. Байбурин и А.Л. Топорков отмечают, что
"всему смешному, неприличному приписывалось символическое
значение оберега от враждебных, демонических сил" (2, 103). Смех
служил оберегом от нечистой силы и злых людей. (2,144).
"Оберег" - это средство защиты от столь близкой смерти, ведь
ею, как болезнью, можно "заразиться" и живому от мертвецов. Для
этого надо ей, смерти, продемонстрировать полноту своей жизни,
знаком чего является смех, и тем самым отогнать ее. А выражение
полноты жизни через смех все-таки всегда связано с радостью,
поэтому как бы не хотелось исследователям смеха приписать ему
при смерти значение ритуальной скорби, тем не менее, смех всегда,
даже при смерти, имеет радостный оттенок. Последний связан,
кроме всего прочего, с эгоистической природой смеха как проявлением
144 Глава 3
полноты жизни тела. Этот момент восходит и к значению смеха
как оберега.
Любой оберег, не только смех, имеет двойственный характер,
он как бы направлен одновременно в два разных направления: с
одной стороны, оберег призван отгонять враждебные силы, как злых
людей, так и нечистую силу, а с другой - должен хранить и
оберегать своего владельца. Оберег направлен против чужого, но за
своего. Чтобы сохранить своего, он должен уничтожить чужого.
Отсюда ясна природа радости смеха при смерти, которая в
дальнейшем станет основой злорадного смеха. Первоначально
радость в смехе как обереге была связана с демонстрацией полноты
собственной жизни для своей защиты от смерти, нечистой силы,
духов мертвых. Но поскольку он звучал в момент присутствия
смерти, мертвого тела, похорон, то есть в ситуации, когда зло
господствует, в дальнейшем, когда преобладающей формой стал
направленный предметный смех и было утеряно древнее значение
смеха как оберега, произошло совмещение "радости" и "зла",
получилось, что смеясь, человек радуется по поводу зла. Потом это
вызывало удивление и было названо даже "парадоксом смеха". И,
конечно, такой "оборонительный смех" был торжествующим
смехом, так как он был направлен против врага, такой смех был
оружием.
Чужого отогнать, даже убить, своего сохранить и
утвердить - вот предельная функция ритуального смеха-оберега.
Недаром зачастую смех обвиняли в эгоистичности, как мы видим, это
обвинение имеет под собой основания. Во-первых, это "свое" в
смехе восходит к его архаической оберегающей функции, а во-вторых,
психофизиологический смех есть выражение благополучного
состояния "своего" тела. Поэтому тут отношение "своего"-"чужого"
и их отношений можно уподобить "качелям" (например, детские
качели - доска с упором посередине): когда одна сторона идет
вверх, другая одновременно опускается вниз. Этот пример хорошо
показывает, как возможно движение вверх (возвышение) одного
конца за счет одновременного снижения вниз (унижения) другого
конца. Смех дает жизнь через смерть, сохраняет жизнь своему
посредством смерти другого, чужого. И в этом действии оберега -
акте "убийства-спасения" - то и другое происходит одновременно.
Древняя мифология знает такие персонификации богов,
совмещающих в одном образе две взаимоисключающие стихии.
Например, носительницей одновременно любви и смерти является
римская богиня Либитина, или римский Янус имеет два лица,
обращенные в разные стороны, так как является богом "порога",
"входа" и "выхода" одновременно.
Очерки по истории смеха 145
Происхождение насмешливого смеха
Брань, ругательства, поношения исполняли в ритуальной
культуре сходную функцию оберега. Близкие по функциям явления
сходятся, накладываются друг на друга, становятся одним целым.
Так смех и брань срослись и превратились в бранный смех, в
насмешку.
"Умение материться приписывалось домовому и черту, причем
если свистом можно было подозвать нечистую силу, то матерщина
считалась наиболее эффективным средством ее отпугивания.
Например, для того, чтобы спастись от происков лешего, нужно было
выматериться...С переносом матерщины в сферу межличностного
общения адресат ругани уподобляется нечистой силе. Вместе с тем
показательно, что во многих случаях матерщина "безадресна" или
адресована кому-то третьему, неявленному. Такая безадресность
объясняется тем, что истинный адресат брани (нечисть) оказался
забытым, но инерция обращения к незримо присутствующему
собеседнику сохранилась. (Разрядка моя - М.Р.)" (2, 106).
К смеху при смерти и к его ритуальным смыслам восходит, по-
видимому, один из самых древних жанров скандинавской
литературы - скальдический нид, который включал в себя восхваление или
поношение, или то и другое одновременно. И восхваление и
поношение были направлены на конкретное лицо. Особенно в случае
поношения и связанного с ним осмеяния они воспринимались
современниками как магическое воздействие, результатом которого может
быть увечье или даже смерть. "В сущности не было границы между
нидом и заклинанием или заклятьем". (10, 168).
Побеждал тот, кто это лучше сделает: словом уничтожит
врага и словом же вознесет себя. Смех тут вплетался в
брань-поношение, таковы были первые насмешки, они носили откровенно
уничтожающий, гиперболически бранный характер, врагам
приписывались несуществующие пороки. То есть насмешка была связана,
кроме брани, с прямым обманом, фальсификацией, ложью, причем
в этом случае легализованной. Женщины, например, обвинялись в
ведовстве и развратности, мужчины - в немужественности, в
выполнении женских функций. (10, 173). Содержание насмешек в
ниде чаще всего заключалось в том, что человеку приписывалось
то, что не может иметь места в реальности. "Так, в ниде против
датского короля Харальда Синий Зуб и его наместника Биргира
утверждается, что их видели спаривающимися в образе жеребца и
кобылы, а в ниде против исландца Торда Кольбейнссона
утверждается, что мать родила его после того, как съела какую-то
безобразную рыбу с серым брюхом."(10, 168).
Известный исследователь скандинавской литературы М.И.
Стеблин-Каменский также отмечает, что осмеяние в ниде не отгра-
146 Глава 3
ничено от поношения, а включено в него.(10, 168). Заметим также,
что осмеяние связано именно с поношением, а не с восхвалением.
На то, что этот смех-брань в ниде восходит к смеху при смерти,
указывают, хотя бы, некоторые особенности более древних
скандинавских саг, возникавших еще в условиях неосознанного
авторства. Общая особенность этого смеха заключается, по словам Стеб-
лин-Каменского, в том, что "с точки зрения нашего времени смех
этот в ряде случаев кажется невяжущимся с серьезностью или
трагичностью ситуации: человек острит в то время как его
поражают насмерть или наносят серьезную рану или в то время
как он убивает кого-то и т.п. Возможно, впрочем, что там, где мы
вообще не видим никакого комизма, в свое время находили
достаточный повод для смеха. (Разрядка моя - М.Р.)."(Ю, 169).
Последнее замечание автора сделано от невозможности
объяснить данные факты как-то правдоподобно. Но для нас они вполне
узнаваемы и ситуации сходны - это отголоски, проявления
ритуального смеха при смерти как оберега, как защитного механизма
антиповедения при нахождении в "междумирии".
Таким образом, насмешка, насмешливый смех, по-видимому,
генетически восходит к ритуальному смеху при смерти, поначалу
имея его смысл как оберега: благотворного и одновременно губи-
тельного."Поднять на смех" - с тех пор значит уничтожить, пусть
не физически, морально, только авторитет врага, но потеря
авторитета, доброго имени зачастую гораздо хуже, чем физическая смерть.
Так смех стал оружием. Очень эффективным и тем более опасным,
что он скрывал, обманывал своей унаследованной от
физиологического смеха "маской" радости и веселья. Благодаря этой "маске"
оружие насмешки было легализовано, сочтено за несмертельное,
допущено в качестве дозволенного средства выражения неприязни
и антипатии.
А естественный смех как выражение радости и веселого
настроения, наиболее близкий к своей эмоциональной матрице -
смеху психофизиологическому, докультурному, продолжал выполнять
свою функцию разрядки, сопровождая отдых и доставляя
удовольствие. Только и он приобрел культурные формы. Все, к чему
прикасается человек, окультуривается, даже если это - вандализм, это
- тоже культура, но другая. Такой естественный радостный смех
стал, в том числе, и праздничным смехом.
Маргинальная природа смеха
Подведем некоторые промежуточные итоги всего
вышеизложенного. Для смеха как сильной эмоции характерно состояние
пограничное между природой и культурой. Как и плач, он оказы-
Очерки по истории смеха 147
вается связанным с событиями, переломными в жизни человека: с
рождением, инициациями, свадьбой, смертью. Самый древний
архаический смех носил, по-видимому, форму спонтанного, взрывного
изъявления эмоций, выплескивающих переизбыток энергии. Смех
служил выражением эмоций радости и был средством разрядки
напряженности. Это был психофизиологический смех, который
отражал внутреннее состояние, был индивидуальной эмоцией, хотя и
обладавшей сильной заразительной способностью, но поэтому еще
более опасной в неуправляемом виде. Как и детский смех, он был
смехом радостного самочувствия и игры.
Но как все сильные эмоции, он требовал регулировки.
Необходимо было научиться управлять стихийными выплесками своих
энергий, ведь собственная радость в ненужный момент, на охоте,
например, или на войне, могла привести к гибели. До нас дошли
формы такой регуляции смеха в ритуале - это "запрет на смех"
при событиях сакральных, связанных со смертью, с переходом в
царство мертвых, при событиях, требующих серьезности и
сосредоточенности. Запрет был на смех психофизиологический, смех
радости, он же приобрел значение "признака жизни". В ритуале
отрабатывалась возможность совместных слаженных действий,
передавались коллективные смыслы действий, поэтому в ритуале смех
приобретает особое значение, которое не всегда коррелирует с его
психофизиологическим основанием.
Иначе говоря, можно выделить два направления, по которым
могло идти осмысление и переработка смеха в культуре.
Во-первых, в направлении доведения всех, содержащихся потенциально
смыслов в психофизиологическом смехе до определенной
законченности. Речь идет о комплексе, который можно было бы обозначить в
его предельном варианте, как "торжествующая телесность". Это
смех внутреннего состояния тела, его полноты, переизбытка его
энергии, сил, это - смех телесной радости. Этот смех был закреплен за
всеми проявлениями полнокровного, цветущего тела, за всеми
телесными удовольствиями. Это - праздничный смех. Он
регламентируется определенными временными и пространственными рамками.
Во-вторых, в направлении формирования направленного на
некий объект смеха, то есть "насмешливого смеха", смеха как
оберега, средства защиты и одновременно как оружия.
Общественная регуляция смеха приводила к закреплению смеха за
определенными регулярно повторяющимися ситуациями. Последние
послужили прообразом предмета или объекта смеха. Главное
отличие второго направления от первого - это его предметный
характер, направленность смеха на определенный объект, в то время как
психофизиологический смех можно считать ненаправленным.
Возможно, что первым значением, закрепленным за
ритуальным смехом был "признак жизни", признак живого. Живые смеют-
148 Глава 3
ся - неживые не смеются. Когда попадаешь в царство мертвых,
смеяться нельзя, иначе умрешь, не выйдешь оттуда. Чтобы выйти,
надо обмануть его обитателей, выдав себя за мертвого. Так смех
уже на первых ступенях своего существования в культуре
оказался связанным не просто с жизнью, а с обманом, с созданием
видимости.
Представление о царстве мертвых и поведение в нем
строилось по типу антиповедения, там все наоборот по сравнению с
живыми. Поэтому во все обряды, так или иначе связанные со
смертью, смех как "признак живого" не допускался, его
проявление считалось аномалией. Смех на похоронах мог быть или
страшным оскорблением, в первую очередь, покойника, а также и всех
присутствующих, или проявлением безумия, а безумцам все
разрешалось. Надо сказать, что у большинства народов, это отношение
к смеху при трагических событиях так и осталось. Не смеются
на похоронах, а плачут. Может быть только смех как
истерическая реакция на потрясение, как разрядка от психического
перенапряжения.
Это его свойство быть средством разрядки, освобождения от
переполнения энергией, эмоций, а также первоначальный его
культурный смысл "признака жизни" обусловили появление и
закрепление за смехом значения оберега в ситуациях " между мирия",
существования как бы между жизнью и смертью или в ситуациях
"перехода" от жизни к смерти и наоборот.
Оберег - это средство защиты от нечистой силы и всякого
зла. Поэтому функция оберега двойственная, он призван защитить
владельца и отогнать или поразить врага одновременно, то есть его
предельный смысл такой: жизнь своего через смерть другого.
Таким образом, смысловая двойственность оберега накладывалась на
двоение "жизни-смерти" в переходных ситуациях, поэтому
"двойственность", "двоение" стало фактором самой природы
культурного смеха в отличие от смеха психофизиологического. А когда
за жизнью видится смерть и, наоборот ("колесо жизни"), они
меняются местами, тогда на первый план выдвигается призрачная,
иллюзорная природа жизни, и поэтому в смехе жизнь стала
восприниматься именно в таком значении видимости жизни, которую в
любой момент сменит смерть. Специфика смеха как "признака
жизни" (смысл "признака жизни" могли иметь и другие
жизненные проявления: чихание, питание, питье и др.) в этом и
заключается, что жизнь тут предстает в ее эфемерном^ призрачном,
иллюзорном плане, как видимость.
Смысл смеха в качестве оберега, по-видимому, вызвал
применение ритуального смеха в некоторых ситуациях, совершенно для
этого непривычных и неестественных: при смерти вообще, при
похоронах, при убийстве людей и животных. В этих случаях, также
Очерки по истории смеха 149
носивших переходный, "пороговый" характер "междумирия", смех
звучал как оберег для живых, средство отпугивания от них смерти
й мести мертвых.
Возможно, что обращение к смеху в близости смерти
строилось также по типу антиповедения в экстремальной ситуации.
Поскольку смех при смерти - это более позднее явление, чем
культурный смысл смеха в качестве признака жизни, постольку
последний смысл был закреплен в качестве "должного", а смех при
смерти выступал как явление противоположное, как "недолжное",
то есть как антиповедение. Но любое антиповедение было
механизмом защиты, то есть, в сущности, оберегом.
Со смехом как оберегом связано и происхождение
насмешливого смеха, который появился, как можно предполагать, в
результате интерференции смыслов брани как оберега и смеха как
оберега, соединившихся на основе этого защитного признака в единый
комплекс "защиты - нападения", в котором смех выступал,
практически, в качестве оружия.
Такая же интерференция смыслов наблюдалась и в развитии
и существовании выделенных нами двух направлений смеха:
вначале - психофизиологического и ритуального, а затем -
праздничного и насмешливого.
В более поздних обрядах земледельческой магии эти два
направления развития смеха в культуре (психофизиологическое и
ритуальное, праздничное и насмешливое) сплелись настолько
тесно, что отделить одно от другого было, практически, невозможно, и
составили комплекс "обрядово-праздничного смеха". Этот комплекс
наиболее ярко проявился в земледельческих культах плодородия,
таких как дионисии, сатурналии и др. С одной стороны, это были
культы плодородия, праздники изобилия, телесных удовольствий
вплоть до их необузданных проявлений (пьянства, обжорства,
сексуальных излишеств и т.д.). С другой стороны, это были
праздники "междумирия", знаменующие переходное состояние между сном
и явью, жизнью и смертью, умиранием природы и ее возрождением,
между посевом и жатвой и т.д.
150 Глава 3
Смех в античной культуре
Смех в обрядах земледельческой магии
Неслучайно смех в праздничных ритуальных формах в более
поздний период в земледельческих культурах оказался связанным
с культами, которые представляли ежегодное увядание и
возрождение природы, особенно растительной, которую они
отождествляли с каким-либо богом - Осирисом, Таммузом, Адонисом, Аттисом
или Дионисом. Общая черта этих божеств - их способность
умирать и возрождаться.
"Переходный" смысл ритуального смех обусловил включение
его в эти подчеркнуто "переходные" (от жизни к смерти и вновь
к жизни) обряды. Названия и детали этих ритуалов в разных
местах менялись, но сущность их оставалась той же: она
выражала надежду людей на бессмертие. Если бог умирает и воскресает,
то приобщенные к нему также могут умереть и воскреснуть.
Момент смерти бога оплакивался и скорби не было границ. Так
Юлиана Отступника встретили на улицах Антиохии гробы и
женщины, рвущие на себе волосы. Но в тот же день скорбящие,
плачущие почитатели умирающего и воскресающего бога переходили от
глубокой скорби к неуемной радости и начинались карнавалы и
веселье.
Вот как эти обряды описывает Д.Д. Фрэзер в знаменитой
"Золотой ветви": "Культ Адониса существовал у семитских
народностей Вавилона и Сирии, и греки позаимствовали его у них еще в
VII веке до нашей эры. Настоящее имя божества было Таммуз... В
вавилонской религиозной литературе Таммуз фигурирует в
качестве юного супруга или любовника Иштар, Великой Богини-Матери,
олицетворяющей воспроизводящие силы природы... каждый год
Таммуз покидал светлую землю и спускался в мрачный подземный
мир, и каждый год его божественная возлюбленная отправлялась
на поиски бога... На время ее отсутствия прекращалось действие
любовной страсти: люди и животные словно забывали о
необходимости воспроизводства своего вида, и все живое находилось под
угрозой вымирания.... С возвращением этих богов связывалось
возрождение природы". (5, 364).
"Отразившись в зеркале греческой мифологии, это восточное
божество предстает перед нами в виде прекрасного юноши,
которого полюбила богиня Афродита. Когда Адонис был младенцем,
богиня спрятала его в ларец, который она передала на хранение
царице подземного мира Персефоне. Но когда Персефона открыла
ларец и увидела красоту ребенка, она отказалась вернуть его
Афродите, хотя богиня любви самолично спустилась в ад, чтобы выку-
Очерки по истории смеха 151
пить свое сокровище из царства смерти. Спор между богинями
любви и смерти был разрешен Зевсом, который постановил, чтобы
Адонис одну часть года проводил с Персефоной в подземном мире,
а другую - с Афродитой на земле. В конце концов прекрасный
юноша во время охоты был убит вепрем, или ревнивым Аресом,
который превратился в вепря для того, чтобы устранить своего
соперника". (Разрядка моя - М.Р.). (5,365-366).
В этих мифах отразились представления о смерти и
возрождении природы, которое особенно ярко видно на примере гибнущей
зимой и воскресающей весной растительности. Недаром все эти
божества (Таммуз, Осирис, Адонис, Аттис, Дионис, Вакх) были
богами плодородия и растительности. Размах и неизменная ежегодная
повторяемость упадка и возрождения растительного мира, а также
тесная зависимость от него человека, отлились постепенно, с одной
стороны, в идею "вечного возвращения", а, с другой, навевали
представления о достижении бессмертия, о возможности воскресения
людей по примеру божества, вечно умиравшего и воскресавшего.
Иначе говоря, в центре этих мистерий (в том числе, Элевсинских
мистерий у древних греков) была идея преодоления смерти и
бессмертия души.
Так земледельческие культы плодородия, в которые
включался ритуальный смех, в основе своей связаны с культами
покойников, с культами смерти. Осирис в Древнем Египте, например, прямо
сочетал в себе функции бога зерна, плодородия и владыки
подземного мира, царства мертвых. (5,407). А в Афинах великий
праздник поминовения усопших приходился на середину марта, когда
зацветали первые цветы. Считалось, что в это время мертвые
восстают из могил и бродят по улицам, пытаясь войти в храмы и
жилища. Название этого праздника было "праздник цветов". 2К.
Ренан считал, что мистерии Адониса, бога растительности,
являлись культом смерти. (5, 379).
"Есть некоторые основания полагать, что персонификацией
Адониса в ту отдаленную эпоху был живой человек, в лице
которого этот бог умирал насильственной смертью. Известно, что у
земледельческих народов восточной части Средиземноморского
бассейна воплощениями духа злаков были люди, которых
приносили в жертву на поле жатвы. В таком случае не лишено
вероятности предположение, что в какой-то мере умилостивление духа
злаков сливается с культом покойников. Считалось, вероятно, что
души принесенных в жертву людей возвращались к жизни в
виде колосьев, которые взошли на их крови, и во второй раз
находили смерть в время жатвы. Но ведь души людей, умерших
насильственной смертью, полны гнева и при первой возможности
способны обрушить на убийц свою месть. Поэтому в народных
поверьях стремление умилостивить души убитых людей слива-
152 Глава 3
ется со стремлением задобрить убитого духа злаков. И как дух
зерна оживает в зеленеющих побегах, так, согласно поверью, и
принесенные в жертву люди возрождаются к жизни с весенними
цветами, пробужденными от долгого сна нежным дыханием
весны. Да, их кости упокоились в земле. Но что может быть
естественней мысли о том, что из их праха пробились фиалки и
гиацинты, розы и анемоны, что это кровь жертв окрасила цветы в
пурпурный и розовый тона, что цветы содержат в себе частицу души
принесенных в жертву людей?" (Разрядка моя - М.Р.). (5, 378-
379).
Ритуальный смех присутствует там, где за жизнью видится
смерть, где жизнь и смерть едины, накладываются одно на другое,
где выступает на поверхность призрачность жизни, ее временность.
Чтобы показать место смеха в этой земледельческой обрядности
(на которую есть столько ссылок в литературе о смехе, но почему-
то никогда никто не приводит ни одно описание такого обряда),
обратимся вновь к "Золотой ветви". Великий весенний праздник
Кибелы и Аттиса, культ которых был эквивалентен культу Тамму-
за и Астарты у семитских народов, культу Адониса и Афродиты у
греков, в римском варианте протекал следующим образом:
"22 марта в лесу срубали сосну. Ее приносили в святилище
Кибелы и обращались с ней как с великим божеством... 23 марта,
на второй день праздника, занимались преимущественно тем, что
трубили в трубы. Третий день назывался Кровавым. В этот день
архигалл (первосвященник) вскрывал себе вены на руке. Жрецы
более низкого ранга, возбужденные необузданной, варварской
музыкой - боем кимвалов, громыханием барабанов, гудением рогов и
визгом флейт, - с трясущимися головами и развевающимися
волосами кружились в танце до тех пор, пока, наконец, приведя себя в
состояние бешенства и потеряв чувствительность к боли, не
начинали наносить себе раны глиняными черепками и ножами,
забрызгивая алтарь и священное дерево своей кровью...
Доведя себя до наивысшей степени религиозного
возбуждения, жрецы оскопляли себя и бросали отрезанные части тела в
статую жестокой богини. Затем отрезанные детородные органы
осторожно завертывали и погребали в земле или в подземных
покоях Кибелы, где их наряду с принесенной в жертву кровью
использовали для того, чтобы вызывать к жизни Аттиса и ускорять
воскресение природы... (5, 388-389).
Кровавый день знаменовался трауром по Аттису, которого на
празднике олицетворяла статуэтка... Однако с наступлением ночи
скорбь верующих сменялась взрывом ликования. Во тьме
неожиданно вспыхивал свет, могила отверзалась, и бог восставал из
мертвых... Участники культа Аттиса шумно приветствовали
воскресение бога как залог того, что и сами они одержат победу над мо-
Очерки по истории смеха 153
гильным тлением. На следующий день, 25 марта (этот день
считался днем весеннего равноденствия), в честь воскресения бога
верующие предавались приступу необузданного веселья.
В Риме (а возможно, и в других местах) этот праздник принял
форму карнавала. Назывался он Праздником радости... В этот
день дозволялось все. Всякий мог поступать и выражаться как
ему заблагорассудиться. Люди разгуливали по улицам города в
масках. Самый последний из римлян мог безнаказанно присвоить
себе самый высокий и священный сан. (Разрядка моя - М.Р.)". (5,
390).
"Таково ежегодное празднование смерти и воскресения Атти-
са. Но в культ Аттиса, кроме публичных обрядов входили
ритуалы, совершаемые тайно и, вероятно, имевшие своей целью привести
участников культа, особенно новопосвященных, в более тесную связь
с богом... Их составными частями были священная трапеза и
крещение кровью. ...Во время причастия новопосвященный
становился участником мистерий, принимая пищу с барабана, а питье -
с кимвала (эти инструменты играют в оглушительном оркестре
Аттиса ведущую роль) ...Во время крещения посвящаемый,
увенчанный золотой короной и увитый лентами, спускался в яму,
которую сверху закрывали деревянной решеткой. Затем украшенного
венками быка, на лбу которого сверкала золотая пластинка,
загоняли на решетку и закалывали освященным копьем. Его
дымящаяся кровь потоком хлестала через отверстия решетки, и
посвящаемый с благочестивым пылом впитывал ее всеми частями
своего тела и одежды... Некоторое время, для того чтобы создать
видимость нового рождения, посвящаемого, как новорожденного
младенца, держали на молочной диете...". (5,391).
Дионисии
Также необходимо остановиться на культе Диониса или
Вакха как бога земледелия, виноградарства и вина, так как с ним
были связаны дионисии, празднества и мистерии, на основе
которых, как известно, возникли трагедия и комедия. Кроме того, нам
важно посмотреть, что представляли собой дионисии еще и потому,
что они, наряду с римскими сатурналиями, послужили одним из
прообразов средневековых и возрожденческих карнавалов и,
соответственно, "карнавального смеха".
"...Дионис, как и другие боги растительности, умер
насильственной смертью, но был возвращен к жизни. Его страдания, смерть
и воскресение инсценировались в его священных обрядах. Вот
трагическая история Диониса в передаче поэта Нонна. Зевс в виде
змея посетил Персефону, и та родила ему рогатого младенца За-
154 Глава 3
грея, то есть Диониса. Едва успев появиться на свет,
новорожденный воссел на трон своего отца Зевса и, в подражание великому
богу, стал своей крохотной ручонкой потрясать молнией. Но
просидел Дионис на троне недолго. Мальчик смотрелся в зеркало,
когда на него с ножами в руках и с выбеленными мелом лицами
напали коварные титаны. Какое-то время ему удавалось спасаться
от атак титанов, по очереди превращаясь то в Зевса, то в Крона, то
в юношу, то в льва, то в лошадь, то в змею. Но в конце концов
вражеские ножи настигли бога, принявшего образ быка, и
разрезали его на куски." (5, 430-431). "В других версиях просто
говорится, что вскоре после своего погребения Дионис восстал из мертвых
и вознесся на небеса...что Зевс проглотил сердце Диониса и дал
ему второе рождение через Семелу..."(5,432).
"Перейдем от мифа к ритуалу. Раз в два года жители Крита
устраивали праздник, на котором во всех подробностях
представляли страсти Диониса. Все предсмертные действия и страдания
этого бога разыгрывались перед глазами участников культа,
которые собственными зубами разрывали на куски живого быка и с
безумными воплями скитались по лесам. ...
...Представляется естественным считать богов
растительности, которые некоторую часть года проводят под землей, богами
подземного царства мертвых. Именно так древние мыслили себе
Диониса и Осириса." (5,432). "Миф гласил, что титаны разорвали
его на части в виде быка, поэтому разыгрывая страсти и смерть
Диониса, критяне зубами разрывали на части живого быка. ...
Разрывая на части и пожирая быка на празднике Диониса,
участники культа верили, что убивают бога, едят его плоть и пьют его
кровь. Принимал Дионис и облик козла. ...Поэтому, разрывая на
куски живого козла и поедая его мясо в сыром виде, участники
культа испытывали, должно быть, такое чувство, что питаются
плотью и кровью бога". (5, 433-434). "...Кое-где во время дионисий-
ских мистерий вместо животного на куски разрывали человека.
Так обстояли дела на островах Хиос и Тенедос. А в местечке Пот-
ния, в Беотии, бытовало предание, согласно которому козлопожира-
телю Дионису в прошлом приносили в жертву ребенка, которого
лишь позднее заменили козлом... Человеческая жертва, видимо,
служила воплощением бога, как позднее жертва в виде быка или
козла". (5,435).
Смыслом и целью столь экстатических празднеств было
приобщение к божеству умирающему и воскресающему, чтобы вместе с
ним умереть и воскреснуть. Приобщение к тайнам мистерии
Диониса, и сходного по смыслу с ним культа Деметры и Персефоны,
представленного в Элевсинских мистериях, открывало тайну бессмертия
души и давало надежду на посмертное воскресение, но только для
посвященных, то есть уже при жизни приобщившихся к культу.
Очерки по истории смеха 155
Кроме того, приобщение к божеству, далее полное
"растворение" в нем давало возможность ощутить свое единство с миром, с
природой. Но такое единство возможно было только при полном
отказе от самого себя, своих личностных свойств, при
самозабвении. Только в упоении и экстазе можно слиться с богом и через
него со всей природой, приобщиться к ее вечности и могуществу.
Кровь и опьяняющие напитки приводили в экстаз, к выходу за
свои собственные пределы, к временному безумию. "Экстаз и
экзальтация поклонников Диониса создавали у греков иллюзию
внутреннего единения с божеством и тем как бы уничтожали
непроходимую пропасть между богами и людьми. Бог становился
внутренне близок к человеку. Поэтому культ Диониса, увеличивая
человеческую самостоятельность, лишал ее мифологической
направленности". (24, 24). Дионисийские оргии носили сакральный,
магический характер, были направлены к одной цели - к самозабвению
для приобщения к вечности. Такое приобщение возможно было
только через смерть, так как объединение и для этого уравнение
всех возможно лишь в качестве праха, на уровне первоматерии.
Это - единство всех в смерти.
Смех в этих обрядах сопровождал экстатическое действо
обрядов и связанных с ними оргий. Прежде всего, он действовал, как
"клапан", как разрядка кипевших эмоций. Представляется, что он
выражал далее не столько радость и веселье, сколько освобождение
от эмоционального напряжения. "Ритуал не просто допускал, но и
предписывал действия, отрицавшие нормы повседневной жизни".
(2,103). Надо сказать, что "нарушение норм повседневной жизни"
было столь вопиюще, что римский сенат в 186 г. до н.э. запретил
культ Диониса в Риме и в Италии, а его сторонники были жестоко
наказаны, многие преданы смертной казни. (15, 193).
Для вызывания смеха в оргиастических культах
использовался жест обнажения или опять же жест с сексуальной символикой -
фига или кукиш. (2, 102-103). Символика кукиша вполне
прозрачна - это своего рода "запечатленный коитус", соединение мужского
и женского начал. И жест обнажения и кукиш помимо сексуальной
символики имели еще значение оберега ("функциональная
двойственность характерна и для жестов с сексуальной символикой").
"Нагота была не просто способом провоцирования смеха. Всему
смешному, неприличному приписывалось значение оберега от
враждебных демонических сил". (2,103). Брань, обнажение, кукиш (то
есть срамные жесты с сексуальной символикой), а также смех
имеют функциональную двойственность: помимо своего смысла,
они еще имеют смысл оберега от нечистой силы и злых людей. На
основе сходства по этому признаку они образуют единый комплекс,
который первоначально в ритуальных действах был направлен
против демонической нечистой силы, то есть против зла.
156 Глава 3
Но подобно тому, как брань из средства защиты от нечисти
превратилась в средство общения с ней, так и этот "смеховой
комплекс" из оберега стал языком общения с нечистой силой. (2, 105).
Но были еще другие культы и праздники, с которыми был тесно
связан смех. К ним относятся сатурналии.
Сатурналии
Что же представляли собой сатурналии, которые
ассоциировались с прошлым "золотым веком" счастья человеческого, и к
которым возводят, как и к дионисиям, истоки средневековых и ренес-
сансных карнавалов, и где смех преобладал. В литературе по
проблеме смеха существует отчетливо выраженная идеализация
древних праздников и ритуалов, которая не имеет ничего общего с их
реальным существованием. Чтобы прояснить характер этих празд-
невств и их смысл, а также род смеха, звучавшего на них, опять
обратимся к выразительному описанию сатурналий у Д.Д.
Фрэзера.
"Мы убедились, что у многих народов существовал ежегодный
период распущенности, во время которого отбрасывались обычные
ограничения закона и нравственности. В такой период люди
предавались непомерному веселью и на поверхность вырывались
темные страсти, которые они в обычной жизни держали в узде.
Подобного рода взрывы подавленных человеческих влечений, часто
выливающиеся в развратные и преступные оргии, чаще всего имеют
место в конце года и находятся в связи с основными моментами
сельскохозяйственного года, в особенности с севом и жатвой.
Наиболее известным из таких периодов всеобщей распущенности был
римский праздник Сатурна, в честь которого получили название
аналогичные обычаи современных европейских народов. Этот
знаменитый праздник приходился на декабрь, последний месяц года
по римскому календарю, и справлялся, если верить римскому
народному поверью, в память о славном правлении бога сева и
землепашества Сатурна, который в далеком прошлом жил на земле и
был италийским государем, справедливым и милосердным...
Правление Сатурна было сказочным Золотым веком: земля в
изобилии приносила плоды, благословенный мир не нарушался
войнами и распрями... Рабство и частная собственность еще не были
известны людям, и они владели всем сообща... Впрочем, на светлое
предание о правлении Сатурна легла черная тень: по имеющимся
данным алтари этого бога были запятнаны кровью человеческих
жертв, на смену которым в более гуманную эпоху пришли их
изображения. Эта темная сторона культа Сатурна не оставила
никакого или почти никакого, следа в описаниях Сатурналий, дошед-
Очерки по истории смеха 157
ших до нас в сочинениях древних авторов. Этот античный
карнавал - в том виде, в каком он в течение недели, с 17 по 23 декабря,
кипел на улицах Древнего Рима, - был отмечен пирами, кутежами
и бешеной погоней за всевозможными чувственными
удовольствиями.
Однако самой замечательной чертой этого праздника - она-то
больше всего поражала воображение древних - была свобода,
дававшаяся в такое время рабам. На время Сатурналий различие
между господами и рабами как бы упразднялось - раб получал
возможность поносить своего господина, напиваться, подобно
свободным, сидеть с ними за одним столом. Причем его нельзя было
даже словесно упрекнуть за поступки, за которые он в любое
другое время был бы наказан побоями, тюрьмой или казнен. Более
того, господа менялись местами со своими рабами и прислуживали
им за столом; с хозяйского стола убирали не раньше, чем окончил
свою трапезу раб. Эта инверсия ролей заходила так далеко, что
каждый дом на время превращался во что-то вроде
микрогосударства, в котором все высшие государственные посты занимали рабы
- они отдавали приказания, устанавливали законы, как если бы
были консулами, преторами или судьями. Бледным отражением
власти, которой на время Сатурналий наделялись рабы, было
избрание при помощи жребия лжецаря, в котором принимали
участие свободные граждане. Лицо, на которое падал жребий,
получало царский титул и отдавало своим подданным приказания
шутливого и нелепого свойства. Одному из них этот "царь" мог
приказать смешать вино, другому - выпить, третьему - спеть, четвертому
- станцевать, пятому - неодобрительно высказаться о себе самом,
шестому - на спине обнести вокруг дома флейтистку... (Разрядка
моя - М.Р.)". (5, 648-649).
"Сильным подтверждением, если не доказательством, этой
догадки (что первым лжецарем выступал сам Сатурн - М.Р.)
является любопытное сообщение о том, как во времена Максимиана и
Диоклетиана Сатурналии справляли римские солдаты,
расквартированные на Дунае... За 30 дней до начала праздника они по
жребию выбирали молодого и красивого человека, которого для
сходства с Сатурном обряжали в царские одежды. В таком
одеянии он разгуливал по городу в сопровождении толпы солдат. Ему
предоставлялась полная свобода удовлетворения своих
чувственных влечений и получения всех видов удовольствий, пусть далее
самых низменных и постыдных. Но веселое правление этого воина
было кратковременным и кончалось трагически: по окончании
тридцатидневного срока, в канун праздника Сатурна, ему перерезали
горло на алтаре этого бога, которого он представлял.
В 303 году нашей эры жребий пал на солдата-христианина
Дазия, который отказался играть роль языческого бога и запят-
158 Глава 3
нать распутством последние дни своей жизни. Непреклонную
решимость Дазия не сломили угрозы и доводы его командира,
офицера Басса, и, как со скрупулезной точностью сообщает житие
христианского мученика, в пятницу двадцатого дня ноября
месяца, в двадцать четвертый день по лунному календарю, в четыре
часа он был обезглавлен в Дуросторуме солдатом Иоанном". (5,
649-650).
"Обычай предавать лжецаря смертной казни в качестве
представителя бога не мог быть следствием его правления во время
праздничных застолий... мы можем с основанием допустить, что в
более раннюю и более варварскую эпоху в местах существования
культа Сатурна в Италии был повсеместно распространен обычай
выбирать на роль Сатурна человека, который на протяжении
сезона пользовался его прерогативами, после чего совершал
самоубийство или находил смерть от ножа, огня или петли в качестве
воплощения доброго бога, который дал миру жизнь... Бобовый
король двенадцатой ночи и такие средневековые персонажи, как
Епископ дураков, "Аббат безумия" и глава "пира дураков" в Англии и
Шотландии, имеют не только ярко выраженное сходство с царем
Сатурналий - скорее всего они имеют общее происхождение".
(5,652).
Как мы видим смех сатурналий, как впрочем и дионисии, с
привкусом крови и смерти. Если в дионисиях праздновалось
воскресение бога после его смерти, в сатурналиях, наоборот, делали
раба царем, а потом, после недолгого царствования, умерщвляли.
Причем в сатурналиях отчетливо выражена призрачная природа
всего праздника, особенно в фигуре лжецаря, главного комического
персонажа, который, по вполне обоснованному предположению
Фрэзера умирал насильственной смертью в его конце.
Все приведенные обряды ясно показывают, что культ
растительности, хлеба, зерна, плодородия непременно имеет в своей
основе культ смерти или тесно связан с ним, поскольку посев и
жатва, главные события в жизни земледельца означали смерть
бога зерна, хлеба, плодородия, растительности (Диониса, Сатурна,
Адониса, Аттиса). Этот же бог почитался как умирающее и
воскресающее божество. И именно в такого рода культах, где за жизнью
ясно присутствует смерть и, наоборот, есть переход от смерти к
жизни, важное место занимал ритуальный смех. Какое место
занимал ритуальный смех в этих обрядах, какую функцию он
выполнял?
Можно предположить, что поскольку культы плодородия так
тесно оказываются связанными с культами смерти, причем с
насильственной смертью бога хлеба, зерна, растительности и т.д.,
постольку люди, конечно, боялись его мести и мести богов (5, 430)
и очень нуждались в оберегах, поэтому весь комплекс оберегов
Очерки по истории смеха 159
(брани, смеха, сексуальных жестов и др.) присутствует в обрядах
культов плодородия. Таким образом, представляется, что
ритуальный смех в подобных обрядах выражал не только веселье и
радость жизни, но и имел смысл оберега с его двойственной
функцией: благотворной и губительной одновременно. (Заметим
только, что подобная двойственность не имеет ничего общего с
известной "амбивалентностью" М.М.Бахтина, так как в обереге
благотворность направлена на владельца, губительность - на врага, а
"амбивалентность" предполагает однонаправленность обоих
полюсов - отрицательного и положительного, что приводит к
логической путанице, тогда как в смысле оберега ничего такого нет.
Оберег хранит своего владельца через гонение, гибель его врага.)
Но как забылась в истории жестокая, кровавая сторона
культа плодородия, как об этом пишет Д.Д. Фрэзер, и культы
плодородия впоследствии представали, как такие очень веселые праздники
с сексуальной направленностью и чрезмерным употреблением вина
и пищи, так забылась и эта оберегающая функция смеха.
Кроме того, ритуальный смех был связан в языческих
обрядах с идеей "вечного возвращения", с образом "колеса жизни". А
как известно, в свете последней жизнь предстает как некое
призрачное бытие, как иллюзия, почти как сон. И вот это ощущение
призрачности осталось в смехе по сей день.
Надо сказать, что такая прочная, веками устоявшаяся связь
ритуального смеха с языческими религиозными культами
обусловила отношение к смеху христианства, которое понять вне этого
важнейшего аспекта нельзя.
Возникновение комедии
Из дионисовых празднеств, "из уличной гульбы виноградарей
и пастухов" появилась вслед за трагедией древняя аттическая
комедия. (22, 9). Греческая комедия возникает в VI в. до н.э. из 4-х
элементов: а) шумные и веселые бытовые сценки пародийного и
карикатурного характера (особенно распространенные среди
дорийцев); б) драматизированные песни обличительного характера у
селян, ходивших в праздники Диониса в город высмеивать
тамошних жителей; в) оргиастически-жертвенный культ Диониса; г) песни
в честь богов плодородия на Дионисовых празднествах.
В результате объединения этих четырех элементов возникают
веселые, буйные праздничные шествия и сцены карнавального
типа, наполненные балаганным шутовством, остротами и даже
непристойностями, с песнями, плясками, ряжением в разных
животных (козлов, коней, медведей, птиц, петухов), любовными
приключениями и пирушкой. Само слово комедия происходит от "комос",
160 Глава 3
т.е. празднично-веселая толпа, гулянка (или, по-другому, от -
"деревня" и - "песня"). (24, 148-149).
Комедия произошла от одного корня с трагедией - из культа
Диониса - и после трагедии, но между трагедией и комедией лежит
сатирова драма. Первоначальная поляризация на серьезное и
смешное первобытного поэтического синкретизма осуществилось
именно в виде трилогии трагедий и завершающей ее сатировой драмы,
представлявшей в пародийной веселой форме какой-нибудь миф.
Вот как образно описывает процесс возникновения комедии
Г.Гусейнов, автор книги о Аристофане.
"Афинский правитель Писистрат за сто лет до появления на
свет Аристофана превратил в общегосударственные праздники
деревенские обряды в честь Диониса. К тому времени Афины
сделались всенародным культовым и административным центром
Аттики. В городе, противостоявшем отныне некогда
самостоятельным аттическим волостям и такой цитадели жречества, какой
был Елевсин с его кастой жрецов Деметры и Персефоны,
появились первые театральные сооружения. Они являли собой
поначалу попытку упорядочить старинный ритуал, группируясь вокруг
общего центра - жертвенника, алтаря, ровная площадка которого
предназначалась для служителей, непосредственно занятых
магическими действиями: один вяжет скотину, другой протягивает
нож, третий воскуривает, четвертый возливает. Место толпы -
здесь же рядом: в идеале между жертвенником, жрецами и
каждым и всяким не должно быть ничего такого, что мешало бы
слышать, видеть, обонять, приобщаться. Поэтому чаша греческого
театра с длинными рядами ступеней внутри - вынужденная,
единственно возможная форма для сооружения такого рода...
Глубже укорененный в Аттике культ богинь родящей пашни
- Деметры и Персефоны, - распространенный к тому же в самой
богатой и людной части страны - в Елевсинской долине - был
колыбелью трагического театра. Один из Елевсинских жрецов -
Эсхил - сделал последний шаг к отделению театра зрителей от
орхестры профессиональных служителей нового обряда: рядом с
запевалою хора, корифеем, на сцене появляется новое лицо -
"собеседник", "ответчик", "показушник" - актер.
Дионис и его спутники - сатиры, включенные в стародавние
обряды земледельцев Аттики, - выступали в завершающей
трагический спектакль драме сатиров уже на рубеже VI и V столетий.
Возможно, с сатирами, друзьями Диониса, козлоногими, рогатыми и
похотливыми, связано само имя трагедии - "козьей песни". Этот
божок плодородия, по аттическому поверью, умножал козьи стада
и берег от порчи овец. За сатирами торопятся в город силены -
остроухие бородачи с конскими хвостами, вечно пьяные, вислопу-
зые...
Очерки по истории смеха 161
...Сатирова драма, теперь известная лишь по плохо читаемым
фрагментам, может быть, самая печальная из утрат греческой
драмы. По ее следам в театр Диониса пришла и комедия. Как именно
отделились беспокойные деревенские жрецы, провонялые козопасы
и виноградари-гроздари от зрителей, собравшихся в театре, сказать
трудно. Но важно другое: тогда именно и появилась комедия".
(22, 10-11).
В древнегреческую комедию от культа Диониса перешли
следующие черты, но в карикатурной и пародийной форме: это - хор,
агон (спор двух полухориев (по 12 человек)); парабаса (движение
хора в сторону зрителей и обращение к ним от имени поэта);
ряжение и маскарад; бомолох, "шут около алтаря" и
высмеиваемая им толпа ("аналогия жреца и народа"); пир, свадьба и
заключительное шествие с факелами ("аналогия старого жертвенного
оргиазма"). (24,149). Кстати, "маски свидетельствовали о
культовом происхождении театра, когда человек не мог выступать в
своем обычном виде, а надевал на себя как бы личину". (24, 98).
Согласно мифу, Деметра, оскорбленная похищением дочери Пер-
сефоны владыкой подземного царства Плутоном, явилась в Елев-
син в облике нищей плачущей старухи. Развеселить ее вызвалась
служанка Ямба. Крепко выругавшись, Ямба задрала подол своего
платья перед Деметрой. Богиня рассмеялась. Смех означал
возвращение богине плодородия ее порождающей силы. Комплекс
брани, смеха и эротических жестов образуют "оберег", который
необходим при "переходе" из небытия, откуда как из состояния
смерти возвращается сама Деметра, оживая заново, и с ней
вместе оживает и вся природа.
"Ямбистами" называли тех, "кто носил по городу искусно
сработанный фалл-чудодей, любезный земле, ожидающей вспашки.
Ритуальная ругань - чем забористей, тем действенней - сопутствует с
тех пор любому празднику земледельца. Заставить рассмеяться
Несмеяну (таков эпитет Деметры, печально сидевшей возле
бесплодной скалы над ручьем), да так, чтобы она не переставала
смеяться как можно дольше, - трудное дело. Ясно только, что суть
этого смеха - в прямоте и недвусмысленности". (22, 13).
"Ямбический" - значит "язвительный".
Смех древней комедии носил такой же бранный и
эротический характер, как и смех земледельческих ритуалов. Этот
эротизм и брань так и останутся навсегда в комедии, будет меняться
только их мера и способ оформления.
"В моде тогда еще были комедии грубые, резкие, пропитанные
деревенскою похабщиной и руганью, комедии старинного покроя.
Персонажи не выбегут на сцену без волочащегося по земле фалла,
сшитого из бычьего хвоста с подкрашенной кисточкой или
кривовато сработанного из сухой виноградной лозы. Они подерутся пря-
162 Глава 3
мо на проскении, издавая вопли и терпкие рулады мегарских
шуток о грудях, крепких, как груша, и сладких, как хурма, да о
ночных горшках". (22,9).
Но постепенно комедия совершенствовалась, целенаправленно
вырабатывала специальные приемы для достижения комического
эффекта. К ним относились, в основном, грубая карикатура и
пародия-передразнивание, всевозможные переворачивания и ситуации
"наизнанку", ну и, конечно, сама фабула комедии способствовала
достижению комического эффекта. Но строение фабулы, поначалу
содержавшей просто фантастический элемент для создания и
разрушения видимости как основы комического, достигло
максимально комического эффекта в своей структуре только в "новой"
комедии, которая непосредственно содержала в себе момент
разоблаченного обмана, скрытости, ставшей явной, всевозможные потери и
узнавания.
Древняя аттическая комедия, представленная наиболее ярко
творчеством Аристофана, была по преимуществу "комедией
общественно-политических идей, воплощаемых в том или ином
карикатурно-сатирическом образе (облака, осы, птицы и пр.), являющемся
исходным для всей комедии. Для нее характерны неимоверное
нагромождение всякой мелкой бутафории, постоянная клоунада,
яркость и пестрота костюмов, наличие грубого, базарно-ярмарочного
жаргона, пересыпанного ругательствами и нецензурными
выражениями". (24,151).
Основную комическую нагрузку в комедиях Аристофана несут
шутки-насмешки и общий веселый балаган с песнями и
плясками. Сюжеты его комедий основаны на фантастической утопии
(например, построение царства птиц в воздухе в "Птицах", или
путешествие Диониса в загробное царство за Еврипидом в "Лягушках"
и т.д.), которая позволяет Аристофану, с одной стороны, показать
возможность осуществления близких ему
общественно-политических идей и, с другой стороны, одновременно высмеять и принизить
своих противников. Фантастичность сюжета в комедиях
Аристофана также выполняет роль образования видимости и ее
снятия, которые для создания комического эффекта.
На примере развития античной комедии можно увидеть
парадокс развития комедии вообще: чем комедия действительно ближе
к жизни, тем она по форме далека от жизни, она как бы
притворяется, что ничего общего с жизнью не имеет. И чем комедия более
тяготеет к идеализации жизни, чем она более по сути "сказочна",
тем более она претендует на "подражание жизни". Так тенденция
развития аттической комедии была направлена от
общественно-политических идей в "древней" комедии (у Аристофана) через
"среднюю", уже по преимуществу бытовую и "мифологическую комедию"
к "новой" комедии, являющейся по существу бытовой драмой. Но
Очерки по истории смеха 163
любопытнее всего в этом случае момент "притворства" комедии, в
которой ее форма как бы "иронизирует" над собственным
содержанием. "Возьмем схему волшебной сказки: герой при содействии
чудесного помощника освобождает героиню, находящуюся во власти
какого-либо чудовища, и женится на ней. Если перенести эту схему
в бытовую обстановку состоятельных кругов Афин, получится один
из характерных сюжетов "новой" комедии". (25, 197-198).
Аристофана и его современников волновали вопросы войны и
мира, пороки государства и воспитания молодого поколения, самые
злободневные конфликты были питательной средой этой комедии.
Эта традиция утрачивается уже в IV веке. Комедия "деполитизи-
руется", она тяготеет к бытовому жанру. Каким образом действует
комедия в общественном сознании, как она влияет на него
показывает В.Н.Ярхо на примере так называемой "мифологической
комедии": "Ее сущность составляло пародирование мифа, низведение
его персонажей до уровня повседневности: из столкновения
"героических задач", стоявших в мифе перед каким-нибудь Ахиллом
или Одиссеем, с бытовой обстановкой, знакомой каждому
афинянину, возникал такой же комический эффект, как, скажем, в наше
время в вахтанговской постановке "Принцессы Турандот"...
...В первой половине IV в. мифологическая пародия
составляет значительную долю продукции комических поэтов, причем
наряду с самим мифом перелицовке на потешный лад
подвергаются и хорошо известные трагедии, содержание которых составлял,
как правило, тоже миф...
...Комический эффект в произведениях такого рода
достигался тем, что герой трагедии и мифа оказывался в ситуации
"наизнанку". Одна из пяти комедий, посвященных подвигам Одиссея,
называлась "Одиссей-ткач" - стало быть, в ней не Пенелопа ткала
и распускала погребальный саван для своего свекра Лаэрта, как
это известно из "Одиссеи", а сам герой был приставлен к такому
чисто женскому занятию... Сохранилось сообщение о комедии
Анаксила "Гиацинт-сводник": прекрасный юноша, любимец
Аполлона, промышлял здесь, как видно, отнюдь не божественным
ремеслом. В комедии Евбула "Эдип" главный герой был, очевидно,
изображен параситом - нахлебником при богатом молодом
человеке...
...К середине IV в. интерес к мифологической комедии
угасает. Подсчитано, что из всех датируемых комедий первой половины
этого столетия от одной трети до половины названий
предполагает комедию с мифологической пародией; между 350 и 320 гг. это
число сокращается до одной десятой, а в "новой" комедии
представлено от силы двумя-тремя пьесами у нескольких
драматургов... Причина упадка мифологической комедии - в деградации
мифологического мышления в целом. Потеря веры в героизм ле-
164 Глава 3
гендарных предков и в справедливость вечных богов лишает
смысла пародирование этих высоких идеалов...". (23, 51-54).
Движение во времени мифологической комедии наглядно
показывает пародирующий, разрушительный характер ее действия в
общественном сознании. Постоянное пародирование приводит к
тому, что пародируемое лишается своей силы, авторитета в
обществе и, в конце концов, исчезает. (Кстати, вместе с этим
исчезает и сама пародия, она не имеет самостоятельного
существования, она - всегда "паразит"). Так было с древнегреческой
мифологией, так было с афинской государственностью, для которой не
прошли бесследно постоянные высмеивания ее политических
деятелей и институтов, она просто так же перестала существовать как
независимое полисное государство в IV веке до н.э.
"Возникшая из культа Диониса трагедия использовала
мифологию в качестве только служебного материала, а возникшая
также из культа Диониса комедия прямо приводила к резкой критике
древних богов и их полному попранию. У Еврипида и Аристофана
мифологические боги свидетельствуют о своей пустоте и
ничтожестве; и явно, что мифология в греческой драме, а значит и в жизни,
обязательно приводит к самоотрицанию." (24,24).
Комедия, конечно, обладает "очищающим", катарсическим
воздействием, но это "очищение" от страстей, в основном, от страха,
такого рода, когда "выплескивают вместе с водой и ребенка", то
есть в этом освобождении от страстей весьма силен момент
разрушения.
Античная литературная теория века определяет "новую"
комедию как "воспроизведение жизни", причем под термином "жизнь"
понимается обыденная частная жизнь, быт в его
противоположности как фантастическому, так и политическому. (25,197). Сюжеты,
например, комедий Менандра строятся вокруг семейных
конфликтов в состоятельной рабовладельческой среде, но и тут выбирается
небольшой круг типичных ситуаций, мотивов и типичных фигур
действующих лиц. Собственно смешное отходит на второй план,
на первый выдвигается трогательное. (25, 200).
Характерный мотив "освобождения девушки"
перекрещивается обычно с другим мотивом "подкинутого и найденного ребенка".
Это - комедия интриги и комедия характеров, которая строится,
как и трагедия, на тайне и узнавании, на обмане и разоблачении.
Самый типичный сюжет выглядел приблизительно так: "Девушка,
вступившая в связь с сыном соседа или изнасилованная во время
ночного праздника пьяным юношей, рожает и подкидывает
ребенка (или близнецов); дети оказываются спасенными, и родители
впоследствии узнают их по каким-либо вещам, которые мать при
них оставила. На основе этого сюжета создается запутанная
интрига, приводящая к "узнаванию" и благополучному концу". (25,
Очерки по истории смеха 165
198). "Однообразию сюжетов соответствуют и устойчивые типы.
Каждое действующее лицо можно определить сразу же, по маске
актера". (25,199) Это - влюбленный юноша, старик-отец, гетера,
хвастливый воин, ненавистный сводник, кормилица или служанка,
девушка, прожорливый парасит и т.д.
Интрига, на которой строится "новая" комедия была ею
позаимствована из трагедий Еврипида. "Этот момент, введенный Еври-
пидом в трагедию, был с успехом использован комедийными
авторами. Сцепление обманов, недоразумений, подслушиваний,
переодеваний, подмены лиц образует сложную, но крепко сколоченную
интригу". (25,199). Основанием "поворота" служит случай, который
очень характерен для восприятия жизни эллинистического
общества ("Тиха управляет всем").
Все эти моменты позволяют уже в действии комедии
воспроизвести видимость и ее разрушить, тем самым уже само
действие комедии строится по типу комического эффекта, который
основан на создании видимости и ее разрушении. Такой тип
создания видимости и ее разрушения в действии на основе тайны и ее
разоблачения в комедии Менандра и трагедии Еврипида,
фактически, становится общим для комедии и трагедии. Комедия
заимствует такой тип построения действия (драматический тип) из
трагедии. Пересечение тут комедии и трагедии на поверхности. Но
связь трагедии и комедии гораздо глубже, она обнаруживается уже
в происхождении из одного источника - дионисовых празднеств.
Она есть общность не только по типу театрального действия, но
она - связь корневая и по самой сущности.
Комедия и трагедия
Если мы скажем, что трагедия и комедия - это одно и то же,
то это будет звучать парадоксальным, и просто вопиющим
образом. Но уже древние оставили нам свидетельства того, что они
сами это живо чувствовали. Платон говорит устами Сократа, что
"один и тот же человек должен уметь сочинить и комедию и
трагедию и что искусный трагический поэт является также и поэтом
комическим". ("Пир", 223 d). Жаль, конечно, что аргументация
Сократа до нас не дошла, но не считаться с этим утверждением мы
не можем.
С тем, что трагедия и комедия - одно и то же, мы
сталкиваемся на каждом шагу, на протяжении всей истории: начиная с их
общего происхождения - из культа Диониса, и кончая
современным состоянием драмы, где трагедия и комедия, трагическое и
комическое постоянно сливаются до полного тождества.
Трагикомедия или трагикомическое не до конца точно передает смысл этого
166 Глава 3
тождества, которое является не таким внешним "кентавром",
составленным из двух инородных половинок, механически
соединенных, а есть обнаружение их сущностного глубинного тождества.
В чем же заключается общность основания трагедии и
комедии? В том, что та и другая основаны на отражении жизненных
противоречий (на "подражании действию и людям" по
Аристотелю), которые обязательно проявляются через возникновение
видимости и ее разрушение. Последние проявляются в построении,
прежде всего, фабулы. В основе трагедии и достигшей зрелости
комедии лежит драма, ход событий, основанный на конфликте.
Фабула и трагедии и комедии обязательно имеет перипетии и
узнавание. Перипетия - это "перемена событий к
противоположному", т.е. переход от счастья к несчастью - в трагедии. В комедии
же, наоборот, перипетия развивается от несчастья к счастью. И этот
поворот и там и тут связан с узнаванием, и значит с
предшествующим ему заблуждением, которое, в одном случае, приводит к
катастрофе (в трагедии), в другом - к счастливому разрешению событий (в
комедии). То есть все действие построено на заблуждении, ошибке,
некоторого рода мнимости, видимости (Аристотель требует в
"Поэтике", чтобы это заблуждение было естественным, вытекало из
самого хода событий). И трагедия и комедия показывают как эта
мнимость, видимость возникает и как она уничтожается. Различие
начинается с последствий снятия видимости: в трагедии - они
катастрофичны, в комедии - благоприятны.
Кроме того, разница между трагедией и комедией еще и та, что
"одна стремится подражать худшим, другая - лучшим людям,
нежели нынешние" ("Поэтика", 1448а). То есть еще дело - в людях
и их характерах. "Комедия же, как сказано, есть подражание
(людям) худшим, хотя и не во всей их подлости: ведь смешное есть
(лишь) часть безобразного. В самом деле, смешное есть некоторая
ошибка и уродство, но безболезненное и безвредное; так, чтобы
недалеко (ходить за примером), смешная маска есть нечто
безобразное и искаженное, но без боли". ("Поэтика", 1449а). Надо
сказать, что определение комедии и смешного Аристотеля очень
точное. Отнесение того и другого "по ведомству" отрицательного,
снижающего - "худшего", "безобразного" и "уродства" -
справедливо, так же как и утверждение, что смешное - это не самое
"худшее безобразное", а то, над которым посмеяться можно, когда же
человек смеется, он в той или иной степени приемлет это "худшее"
и "безобразное", поэтому оно и должно быть обязательно "не во
всей своей подлости". Когда оно выступает "во всей своей
подлости" над ним смеяться нельзя, оно вызывает ужас и отвращение, но
не смех.
Понимание смешного как ошибки - это намек на его
иллюзорную природу, о которой мы так много говорим. И совсем неда-
Очерки по истории смеха 167
ром Аристотель неоднократно упоминает "безболезненность и
безвредность" смешного, его безобразие "без боли". Это "без боли" и
есть граница для "худшего", "безобразного", "подлого", "уродства".
Если они не переходят этой границы, они могут быть смешными,
если же переходят, то они становятся "ужасными",
"чудовищными", "отвратительными" и т.д., но уже не смешными. Важно, что
Аристотель ставит для смешного нравственные границы, включает
его в сферу морали, вернее, соотносит с ней.
Как Аристотель приводит "Царя Эдипа" Софокла в качестве
примера наилучшего узнавания (это такое, когда с ним вместе
происходит и перелом), так и мы обратимся за примером к Софоклу.
"В этой трагедии рассказывается о судьбе Эдипа, сына фиванского
царя Лая. Лаю, как это известно из мифа была предсказана смерть
от руки собственного сына. Он приказал проколоть ноги младенцу
и бросить его на горе Киферон. Однако раб, которому было
поручено убить маленького царевича спас ребенка, и Эдип (что в переводе
с греческого значит "с опухшими ногами") был воспитан
коринфским царем Полибом. Уже будучи взрослым, Эдип, узнав от
оракула, что он убьет отца и женится на матери, ушел из Коринфа,
считая коринфских царя и царицу своими родителями. По дороге
в Фивы он в ссоре убил неизвестного старика, который оказался
Лаем. Эдипу удалось освободить Фивы от чудовища Сфинкса. За
это он был избран царем Фив и женился на Иокасте, вдове Лая,
т.е. на собственной матери. В течение многих лет Эдип
пользовался заслуженной любовью народа.
Но вот в стране случился мор. Трагедия начинается как раз с
того момента, когда хор молит Эдипа спасти город от страшной
беды. Оракул объявил, что причина этого несчастья в том, что
среди граждан есть убийца, которого следует изгнать. Эдип всеми
силами стремится найти преступника, не зная, что им является он
сам. Когда же Эдипу стала известна истина, он ослепил себя,
считая, что это заслуженная кара за совершенное преступление". (24,
125-126).
Трагедия представляет собой катастрофическое разрушение
заблуждения Эдипа, которое приводит к осуществлению страшной
судьбы. Эдип бежит от своих родителей, думая, что он бежит от
своей судьбы, на самом деле он идет ей навстречу. Эдип
осуществляет волю богов, сам того не ведая. Он действует свободно,
руководясь собственными желаниями и страстями, но его свободная воля
оборачивается орудием божественной необходимости судьбы. Вся
трагедия пропитана конфликтом подлинности и мнимости.
Когда Эдип был зряч, он не видел, не знал, что судьба уже
совершилась, то есть был "слеп", а когда действительно стал слепцом,
наказав сам себя, он осуществил волю богов, тем самым он "прозрел".
Афоризмы в трагедии "Сей день родит и умертвит тебя", "Но твой
168 Глава 3
успех тебе же на погибель", "Зришь ныне день, но будешь видеть
мрак" выражают самую суть судьбы и трагедии Эдипа, которая
выступает как трагическая ирония. Она оказывается возможной
потому, что Эдип думает и стремится к одному, а достигает другого,
прямо противоположного. Судьба и боги как бы смеются над ним.
Древнее ощущение человеком себя как "игрушки богов" отчетливо
видно. Но ирония тут трагична по своим катастрофическим
последствиям.
Трагическая ирония также пронизывает всю трагедию
"Агамемнон" Эсхилла (первую в трилогии "Орестея"). "Уже с самого
начала Огорож, возвещающий о таком радостном событии, как взятие
Трои, делает тревожные намеки на такие предметы, которые
должны привести к глубокой печали. Глашатай, рассказывающий о
путешествии Агамемнона из-под Трои, тоже своими намеками
вызывает у зрителя опасение за исход его радостного прибытия. Самого
Агамемнона встречают дома по-царски, по-восточному пышно,
приглашают на пир, а готовится его смерть. Клитемнестра зовет и
Кассандру к очагу, где якобы нужно принести в жертву овцу и где
для этого уже готов нож, а это значит, что все готово к убийству
Агамемнона и Кассандры. Кассандра, прибывши к страшному дому
Агамемнона, предчувствует преступление, но хор говорит с нею в
таких тонах, как будто бы все нормально и никакого
преступления не задумано. И только после убийства Агамемнона и
Кассандры прекращается всякая ирония и сама Клитемнестра, и притом
без всякого стеснения, в вызывающей форме рассказывает о
подготовке и о совершенном преступлении. Этот метод трагической
иронии, несомненно, делает развитие действия очень острым, все время
увеличивая его напряженность". (24, 111-112).
Ирония начинается там, где есть обман, прикровенность,
заблуждение, где начинается, иначе говоря, комический принцип. И
на этом поле иронии встречаются трагическое и комическое. В
иронии трагедия и комедия обнаруживают свое тождество. Но
далеко не всякая трагедия строится как трагическая ирония. В
основном, трагедия показывает через столкновение характеров
противоречия разных жизненных проявлений и сил. В этом случае
общность трагедии и комедии проявляется в их драматическом
характере. А также в том, что они создают иллюзию, видимость
жизни ("подражание жизни"), и это в них совершенно отчетливо
проявляется, культивируется. Этот момент пародийности жизни в
театре придает ему всегда немного комический привкус.
Надо сказать, что это создание видимости, иллюзии жизни
("удвоения жизни") является принципом искусства в целом, а также
и философии, да и вообще он является принципом культуры как
способа человеческой деятельности (принцип "удвоения природы",
культуры как "второй природы"). Человек "удваивает" мир и тем
Очерки по истории смеха 169
живет. Получается, что даже немного "пародирует" его, и,
возможно, поэтому всегда немножко смешон. Но это можно понять
только как тонкую, еле уловимую черточку, но никак не определяющую
доминанту. Способность человека "удваивать" мир ярче всего
проявлена в искусстве, а среди всего искусства - в театре, имеется
ввиду не по результату, а по самой форме, а среди театра - в
комедии, потому что именно она делает принцип удвоения принципом
своего действия в целом.
В трагедии слишком велико значение неотвратимой судьбы,
воли богов, необходимости, то есть всего того, над чем человек не
властен. В комедии человек выступает как самостоятельная и почти
свободная во всем сила. Во всяком случае, он задумывает дело и
осуществляет его, ему сопутствует удача и успех (например, так в
"новой" комедии ловкие пронырливые помощники-рабы
устраивают счастливый брак своих господ). Одно из основных
составляющих удовольствия от комедии - это ее счастливая развязка, или
иллюзия счастья. Ведь в комедии счастье объявляется
достижимым и вполне возможным, если немного потрудиться для этого.
Иначе говоря, комедия отличается от трагедии тем, что их общая
основа - видимость - в комедии удваивается посредством
специально организованной человеческой деятельности, посредством
интриги, направленной к достижению определенных целей, но при
этом происходит разрушение и первой и второй видимостей.
Первые такие формы интриги мы находим в новой аттической
комедии с ее тайнами и узнаваниями, с ее потерянными и найденными
детьми, похищенными девушками и т.д.
Развившаяся комедия есть всегда комедия интриги, а потом
уже характеров и т.д. В комедии присутствует удвоение видимости,
принцип комического. Но прежде чем удвоение видимости стало в
дальнейшем принципом комического вообще как эстетической
категории, последний сначала сформировался и стал основой новой
аттической комедии. А в нее он попал и потом уже
эмансипировался под воздействием трагедии и философии, прежде всего, Сократа с
его ироническим методом получения философского знания.
В комедии и комическом наиболее ясно проявилась
человеческая активность, творческая его способность, человечность,
разумность именно в самой структуре, в самом существе древнегреческой
комедии. А под воздействием незабываемых образцов
древнегреческой комедии сформировалось и комическое вообще. Комическое
нельзя рассматривать статично, оно динамично изменялось в
истории, и свой нынешний облик сложного типа комизма с
консолидирующим его принципом удвоения видимости оно получило под
определяющим воздействием древнегреческой комедии.
Главное же отличие комедии и трагедии, комического и
трагического, помимо принципа "безвредного и безболезненного" как гра-
170 Глава 3
ницы для комедии и комического, а также разницы в
изображаемых характерах, заключается в том, что в комическом на общей
для них основе (возникновение видимости) накладывается вторая
видимость. Там, где этот принцип появляется в трагедии, как это
было в "Эдипе" или в "Агамемноне", там появляется некоторый
комический оттенок. Но поскольку события в трагедиях
страшные и катастрофичные, постольку он носит зловещий характер.
Добавим только, что вторая видимость почти всегда связана с
обманом, с ложью.
В этой связи можно вспомнить и об общем происхождении
комедии и трагедии из культа умирающего и воскресающего
божества. Принцип создания видимости, иллюзии и ее разрушения
восходит в своей глубине к ритму-схеме жизни как умирания и
воскресения. Этот же ритм подспудно перешел в античную иронию.
Роль сюжетной опоры в трагедии и в комедии выполняет знание:
его потеря, отсутствие и обретение, движение к нему. Тут они
совпадают с философией, которая ставит своей целью драматичное
обретение знания, иначе говоря, с сократовской иронией. В этом
моменте трагедия и комедия обнаруживают свое общее основание
и переходят друг в друга.
Античная ирония
Вслед за древнегреческой комедией, в V в. до н.э., возникает
еще один античный феномен, оказавший определяющее влияние
на формирование природы комического. Античная ирония имеет
интеллектуальную природу, но несет в себе отпечаток неистовства
дионисийских празднеств, дух "вакхизма". Речь идет об античной
иронии, которая с древнегреческой комедией имеет одни истоки -
обряды дионисийских мистерий. Недаром носитель ее Сократ
отличался внешностью козлоногого силена.
Что такое ирония? Ирония - это двусмысленность,
иносказание, это такой своеобразный способ выражения своих мыслей и
отношения к чему-либо. И связан он всегда так или иначе с
ложью. Это - когда, произнося "да", на самом деле говорят "нет", и
наоборот. "Сущность же иронии заключается в том, что я, говоря
"да", не скрываю своего "нет", а именно выражаю, выявляю его.
Мое "нет" не остается самостоятельным фактором, но оно зависит
от выраженного "да", нуждается в нем, утверждает себя в нем и без
него не имеет никакого значения."(20, 327).
В книге А.Ф.Лосева и В.П.Шестакова "История эстетических
категорий", где рассмотрена история иронии как эстетической
категории, отмечается, что слова eironeia - "ирония" и eiron - "иро-
ник" до Аристофана и Платона употреблялись в обыденной речи в
Очерки по истории смеха 171
значении обмана, плутовства, корыстной, злой болтовни, шутовства,
насмешки, "бузотерства", лицемерия, хвастовства, притворства.
(20,327-328). У Аристофана "ирония" употребляется в сходном
значении^
Античная ирония, на которую определяющее влияние имела
именно ирония Сократа, предстает как "сознание, оперирующее с
такими выразительными приемами, которые противоположны
выражаемой идее", но в которой эта противоположность имеет
позитивную цель - "выразить или породить эту или иную большую,
высокую идею" (20, 338). Для Платона - это идея глубокого
воздействия духовного, идеального мира на человека. Аристотель вслед за
Платоном также высоко оценивает иронию как свойство человека,
обладающего "величием души".Справедливости ради надо отметить,
что другие античные авторы, относились к иронии скорее негативно,
чем позитивно, как Платон и Аристотель, и подразумевали под
иронией "притворство в худшую сторону"(Теофраст), "хвастовство",
"высокомерие" (Аристон Кеосский, 111 в. до н.э.) и т.д. (20, 334-338).
Философское и эстетическое значение ирония впервые
получает у Платона. В диалоге "Софист" различаются два вида
"подражателей": те, которые подражают истине, и те, которые
подражают лжи, видимости. Подражатель второго вида называется
"ироническим подражателем". Сократ у Платона стремится
использовать иронию в качестве средства воспитания в человеке
добродетелей. Он ее еще называет "майевтикой", т.е. "родовспоможением"
при рождении мыслей, идей. Ирония оказывается своеобразным
средством нахождения истины, которая уже присутствует в самом
человеке. Но этот поиск предполагал интеллектуальную игру,
которая обрела форму иронии. (20, 328).
Эта ироническая интеллектуальная игра заключалась в
нарочитом самоуничижении Сократа и в одновременном нарочитом
превознесении других, обязательно с благородной целью достичь
определенного знания, достичь истины. Сомнительность поведения
Сократа снимается благородством цели. Сразу скажем, что истина,
однако, никогда при этом не достигалась, поиск истины и был для
Сократа самой истиной ("Я знаю, что я ничего не знаю" - вот
принцип философствования Сократа). Истины достиг Платон.
Сократ ограничился имитацией истины. (21,376).
Ситуация иронии начинается с самообмана собеседников
Сократа, с его заверения в собственном непонимании предмета и
убеждении собеседников, что такие простые вещи они-то знают лучше
всех, с по-видимости "простых" вопросов ("что такое прекрасное,
Гиппий?"); продолжается провоцирующим обманом Сократа
("наводящими" на истину вопросами) и завершается раскрытием этого
обмана, которое одновременно разоблачает и самообман
собеседников Сократа.
172 Глава 3
Лукавство и насмешка Сократа проявляются в том, что
Сократ скрывает свое знание, уничижается перед своими
собеседниками и предлагает начать старт к истине как бы с равных
положений незнающих, но стремящихся понять. Вроде бы далекими от
существа дела вопросами он ведет к только ему ведомой цели.
Поэтому в сократовской иронии есть два плана: внешний -
поддельное простодушие Сократа и игра в вопросы и ответы, и
внутренний - изначально присутствующий смысл этой игры, известный
только Сократу и который открывается в конце игры всем. Они
находятся в известном противоречии, что выражается в
притворстве Сократа.
Кроме того, этот конфликт внешнего и внутреннего
подчеркнут контрастом безобразной внешности Сократа ("Сократ имеет
внешность Силена или сатира, то есть козловидного, шершавого,
похотливого демона... Он всегда выставляет себя униженным,
убогим и даже безобразным" (20, 329)) и его прекрасной душой,
украшенной стремлением к истине и добродетели. "С внешней стороны
он выглядит словно вылепленный силен. А раскройте его изнутри,
и вы представить себе не можете... сколько в нем благоразумия"
("Пир", 216 Д).
Сократ создает, а потом разрушает им же самим созданную
иллюзию. Он выступает одновременно и как участник игры, и как
ее сторонний наблюдатель. Раздваивается как бы не только сам
Сократ на "внутреннего" и "внешнего", но и его позиция
раздваивается. Все в нем двойственно, двусмысленно. Слияние этих двух
точек зрения (наблюдателя и участника) происходит в
кульминации узнавания. Личина спадает, Сократ вновь становится "самым
мудрым из греков", а его собеседники невежами и глупцами. Надо
сказать, что не всем это нравилось, поэтому и кончилось это для
Сократа довольно плохо, казнили его афиняне.
В иронии Сократа впервые, как и в аттической комедии,
проявляется механизм создания комического - удвоения видимости
и ее разрушения. Вся ироническая игра Сократа построена для
того, чтобы создать "субъективную видимость", которая
надстраивается над изначальной противоречивостью исходного понятия,
поскольку она поначалу скрыта, то она образует "объективную
видимость". Таким образом на "объективную видимость"
накладывается вторая "субъективная видимость", причем при раскрытии
последней становится явной и первая. На этом строится комический
эффект. Но поскольку ироническая ситуация у Сократа растянута
во времени, она делает, во-первых, явным этот механизм создания
комического, проявляются все компоненты процесса, во-вторых, из-
за этой протяженности во времени ирония не производит того
комического эффекта, которое дает "мгновенное" снятие видимости,
как в остроте. Но комизм в иронии хорошо ощущается. Ирония -
Очерки по истории смеха 173
это и есть комическое, в котором на первый план выдвинут момент
явного притворства. Поэтому при иронической игре Сократа
создается отчетливое впечатление, что он фиглярствует, паясничает,
кривляется, что он "шут гороховый".
Вот какую характеристику неоднозначному облику Сократа
дает А.Ф. Лосев в своей фундаментальной "Истории античной
эстетики": "Этот общий облик загадочный и страшноватый. В
особенности не ухватишь этого человека в его постоянном
иронизировании, в его лукавом подмигивании, когда речь идет о великих
проблемах жизни и духа. Нельзя же быть вечно добродушным. А
Сократ был вечно добродушен и жизнерадостен. И не тем
бесплодным стариковским добродушием он отличался, которое многие
принимают за духовную высоту и внутреннее совершенство. Нет, он
был как-то особенно ехидно добродушен, саркастически
добродушен. Он мстил своим добродушием. Он что-то сокровенное и
секретное знал о каждом человеке, и знал особенно скверное в нем.
Правда, он не пользовался этим, а, наоборот, покрывал это своим
добродушием. Но это - тягостное добродушие. Иной предпочитает
прямой выговор или даже оскорбление, чем эти знающие ужимки
Приапа, от которых неизвестно чего ждать в дальнейшем...
...Кому нужна была эта диалектика? И чего мог он ею
достигнуть? Едва ли она была кому-нибудь нужна по существу. И едва
ли можно кого убедить диалектикой (речь идет, конечно, о
тогдашней диалектике). Но ему самому она очень была нужна. Она была
для него жизнью и Эросом. В ней было для него что-то половое,
пьяное". (21, 375).
"...Сократ был неспособен к гераклитовской трагедии вечного
становления, и эсхиловских воплей о космическом Роке он не
понимал. Но он выработал в себе новую силу, эту софистическую,
эротическую, приапическую мудрость и его улыбки приводили в
бешенство, его с виду нечаянные аргументы раздражали и
нервировали самых бойких и самых напористых. Такая ирония
нестерпима. Чем можно осадить такого неуловимого, извилистого оборотня?
Это ведь сатир, смешной и страшный синтез бога и козла. Его
нельзя раскритиковать, его недостаточно покинуть, забыть или
изолировать. Его невозможно переспорить или в чем-нибудь убедить.
Такого язвительного, ничем непобедимого старикашку можно
было только убить. Его и убили...
...Сократ считался вырождением старого благородного, дио-
нисийско-аполлонийского трагического эллинства. Действительно,
черты вырождения были свойственны ему даже физически. Кто не
знает этой крепкой, приземистой фигуры с отвисшим животом и
заплывшим коротким затылком? Всмотритесь в это мудрое и
ухмыляющееся лицо, в эти торчащие, как бы навыкате глаза,
смотревшие вполне по-бычачьи, в этот плоский и широкий, но вздерну-
1 74 Глава 3
тый нос, в эти толстые губы, в этот огромный нависший лоб со
знаменитой классической шишкой, в эту плешь по всей голове...
Да подлинно ли это человек? Это какая-то сплошная комическая
маска, это какая-то карикатура на человека и грека, это
вырождение... Да, в анархическую полосу античности, когда она
нерешительно мялась на месте, покинув наивность патриархального
трагического мироощущения, еще не будучи в состоянии стать
платонически-разумной, люди бывают страшные или смешные. Сократ
же сразу был и страшен и смешон. Вот почему Сократа
возненавидели не только тогдашние аристократы, но даже, в конце концов, и
демократы. Казнили его именно демократы, а не аристократы,
потому что демократам от него житья не было...". (21, 376-377).
Сократическая ирония оказала преобладающее влияние не
только на развитие философии (от Сократа берут свое начало,
практически, все последующие философские школы), но также и на
дальнейшее развитие комедии и трагедии. Это влияние было так
велико потому, что Сократ ухватил и выразил то глубинное миро-
чувствие древнего грека, для которого было, как об этом писал
А.Ф.Лосев, свойственно отношение к жизни как театральной
постановке, а к себе как к актеру, выполняющему роль. Судьба
определяла всем свои роли и режиссировала все жизненные драмы.
"Античный человек чувствовал себя свободным. Однако в то же
самое время он чувствовал, что где-то в своей последней глубине он
несвободен и вынужден проявлять не себя самого, но то, что
находится у него в его последней глубине. Это стало возможным только
потому, что античный человек чувствовал себя свободным актером и
далее артистом, но изображающим не себя самого, а играющим ту
роль, которая ему преподана судьбой. Актер, выступающий на сцене,
совершенно свободен в исполнении своей роли. Эту роль он может
играть самыми разнообразными способами. В этой роли одни актеры
талантливы и даровиты, другие бездарны... Дело в том, что сама
пьеса-то, в которой участвует человек, придумана вовсе не им и
является изображением вовсе не его собственного "Я"...
...Подлинным автором пьесы, которую разыгрывает весь
космос, является судьба. Люди не знают, к чему они предназначены, и
не знают, к чему они способны, но по воле судьбы им дается та или
другая жизненная роль, которую они уже не могут не исполнять.
Как актер, играющий роль в космической театральной постановке,
человек вполне свободен. Но сама-то театральная постановка и
всего человечества и всего космоса придумана вовсе не отдельным
человеком, и не людьми в целом, и даже не космосом, но только
судьбой, надчеловеческой и надкосмической. Да и постановщик
этой мировой пьесы тоже не человек и не сам космос, но демиург,
послушный и неуклонный служитель судьбы и исполнитель ее
заданий". (26, 506-507).
Очерки по истории смеха 175
А поскольку в конечном счете все определяет судьба, и
человек предстает как актер своей жизненной роли, как "кукла",
"марионетка", постольку все-таки и трагедия его жизни и даже драма
судьбы всего космоса носят всегда иронический оттенок. Комедия
лучше всего выражает характер этой постановки космической
пьесы. Но комедией она выглядит для стороннего наблюдателя, для
богов, которые хохочут на Олимпе, именно потому что они
бессмертны, а лучшее состояние для бессмертного - это смех,
выражение блаженного состояния постоянной молодости и расцвета. А
кроме того, перед богами разворачивается комедия жизни людей и
то ли люди пародируют богов, то ли боги людей, ведь и боги, в свою
очередь, тоже играют свою комедию, над которой смеется судьба.
Но драма жизни - для стороннего наблюдателя выглядит
комедией, для людей, включенных в ее перипетии - она трагедия
всегда с плохим исходом, смертельным. Но там, где присутствует
подход к жизни, как к игре, там всегда есть отношение к ней
невсерьез. Поэтому отношение к смеху в античной культуре было
очень положительным, ему отводилась в жизни человека и
общества почетная роль (и культовая, и роль оберега, и катарсического
воздействия комедий, и выражения радости жизни).
В эпоху средних веков отношение к смеху кардинально
меняется, связано это с изменением ценностей и картины мира в целом.
Вызвано это еще и тем, что жизнь теперь воспринимается
предельно серьезно, ибо в новой системе христианских ценностей каждое
мгновение земной жизни имеет непреходящее значение для ее
вечного продолжения, определяет его. Полностью исключается
отношение к жизни как к игре, так как каждое событие в ней
абсолютно и неповторимо, его нельзя переиграть. В том числе и поэтому в
отношении к смеху плюс меняется на минус. Из признака жизни
смех становится признаком смерти. Почему так происходит и
какое основание это имеет? Попробуем ответить на эти и другие
вопросы.
176 Глава 3
Смех в средневековой системе ценностей
Имя розы
В книге о средневековом смехе "Имя розы" известного
итальянского писателя и филолога Умберто Эко есть два образа,
которые противопоставляются друг другу. Речь идет о Вильгельме Бас-
кервильском, монахе францисканце, выполняющим в книге роль
детектива, и Хорхе, монахе бенедектинского ордена, который, по
замыслу автора, и есть главный преступник и ненавистник смеха,
уничтоживший трактат Аристотеля о комедии, аналогичный
дошедшему до наших дней трактату о трагедии.
Роман очень интересен, в том числе в культурологическом
отношении, но для нас главный интерес представляет тот момент,
что эти два персонажа романа как бы персонифицируют два
совершенно различных, точнее противоположных, отношения к смеху.
Вильгельм Баскервильский недаром является монахом
францисканского ордена, основатель которого Францизск Ассизский известен
был своим особо веселым и радостным отношением к миру,
доходящим до экзальтации и юродства. Но образ Вильгельма мало
напоминает средневекового монаха, может быть, потому, что на его
стороне находятся симпатии автора, который вкладывает в его уста
свое отношение к предмету. Отношение к миру Вильгельма, скорее,
грешит постмодернистским уклоном, нежели христианской
серьезностью в отношении к истине и Богу (да и в Бога он не очень-то
верит: " ...до чего я не уверен в любой истине - даже в той, в
которую я верю" (6, 174)) или монашеским смирением. Для него
"обязанность всякого, кто любит людей, - учить смеяться над
истиной, учить смеяться саму истину, так как единственная твердая
истина - что надо освобождаться от нездоровой страсти к истине"
(6,420).
Слепой Хорхе рисуется средневековым фанатиком, значит,
человеком, предельно серьезным, даже способным на преступление
ради своих целей, и ему же приписывается автором исключительно
негативное отношение к смеху, который он расценивает как
прибежище сатаны и его орудие. Это убеждение Хорхе и служит
мотивом уничтожения труда Аристотеля и всех преступлений. Хорхе
в заключительном диалоге с Вильгельмом произносит речь, в
которой звучит настоящее проклятие смеху.
"...Смех - это слабость, гнилость, распущенность нашей
плоти. Это отдых для крестьянина, свобода для винопиицы. Даже
церковь, в своей бесконечной мудрости, отводит верующим время
для смеха - время праздников, карнавалов, ярмарок. Установлены
дни осквернения, когда человек освобождается от лишних гуморов,
Очерки по истории смеха 177
от лишних желаний и замыслов... Самое главное - что при этом
смех остается низким занятием, отдушиной для простецов, пору-
ганьем таинства - для плебеев. Это говорил и апостол: чем
разжигаться, лучше вступайте в брак. Чем сопротивляться порядку,
заведенному Господом, смейтесь и развлекайтесь своими
жалкими пародиями на порядок, смейтесь после вкушения пищи, после
опустошения кувшинов и фляг. Выбирайте царя дураков,
дурачьте себя ослиными и поросячьими литургиями, играйте и
представляйте ваши сатурналии вверх тормашками... Но тут, тут, - и
Хорхе упорно долбил пальцем по столу рядом с книгой
(Аристотеля о комедии - М.Р.), лежавшей перед Вильгельмом, - тут
пересматривается функция смеха, смех возводится на уровень
искусства , смеху распахиваются двери в мир ученых, он становится
предметом философии и вероломного богословия... Важно, чтобы в
данном случае событие не выразилось в записи, чтобы то, что
говорится на народном языке, не обрело переводчика на латынь. Смех
освобождает простолюдина от страха перед дьяволом, потому
что на празднике дураков и дьявол выглядит бедным и
дураковатым, а значит - управляемым. Однако эта книга могла бы
посеять в мире мысль, что освобождение от страха перед дьяволом -
наука. Надсаживаясь с хохоту и полоща вином глотку, мужик
ощущает себя хозяином, потому что он перевернул отношения
власти; но эта книга могла бы указать ученым особые уловки
остроумия - они стали бы уловками ученого остроумия - и тем
узаконить переворот. Тогда среди умственных процессов стали бы
числиться те, которые до сих пор в неосмысленном обиходе
простолюдинов оставались, слава Богу, процессами утробными. Что смех
присущ человеку, это означает лишь одно: всем нам, увы,
присуща греховность, однако из этой книжки многие распущенные умы,
такие как твой, могли бы вывести конечный силлогизм, а
именно что смех - цель человека! Смех временно отрешает мужика от
страха. Однако закон может быть утверждаем только с помощью
страха, коего полное титулование - страх Божий. А из этой книги
могла бы вылететь люциферианская искра, которая учинила бы во
всем мире новый пожар; и смех бы утвердил себя как новый
способ, неизвестный даже Прометею, уничтожать страх. Когда мужик
смеется, в это время ему нет никакого дела до смерти; однако
потом вольница кончается, и литургия вселяет в мужика снова,
согласно божественному предопределению, страх перед смертью. А
из этой книги могло бы народиться новое сокрушительное
стремление уничтожить смерть путем освобождения от страха. А во что
превратимся мы, греховные существа, вне страха, возможно, самого
полезного, самого любовного из Божиих даров? Века за веками
доктора и отцы скапливали благоуханейшие токи священной
науки, дабы иметь возможность изживать, с помощью божественного
178 Глава 3
помышления о том, что вверху, гадкое убожество и
возмутительность того, что внизу. А эта книга, в которой утверждается, что
комедия, сатира и мим - сильнодействующие лекарства, способные
очистить от страстей через показывание и высмеивание
недостатка, порока, слабости, могла бы подтолкнуть лжеученого к попытке,
дьявольски перевертывая все на свете, изживать то, что наверху,
через приятие того, что внизу... Посмотри на монашков, бесстыдно
передразнивающих Писание в шутовской "Киприановой вечере"!
Какое дьявольское извращение Слова Божьего! Но они все-таки
осознают, что поступают дурно. Однако в тот день, когда
авторитетом Философа будут узаконены маргинальные игры распутного
воображения, о! В этот день действительно то, что было
маргинальным, побочным, перескочит в середину, а о середине утратится
всякое представление... Но если бы хоть однажды сыскался хоть
один, посмевший сказать (и быть услышанным): "Смеюсь над
Пресуществлением!" О! Тогда у нас не нашлось бы оружия против его
богохульства. Тогда пошли бы в наступление темные силы
плотского вещества, те силы, которые проявляются в рыгании и
газопускании, и газопускание и рыгание присвоили бы себе право,
которым пользуется один только дух, - дышать где хочет!
(Разрядка моя - М.Р.)." (6, 404-406). И хочется добавить: мир
задохнулся бы в зловонии...
Может быть, Хорхе слишком преувеличивает значение смеха,
его опасность? Разве смех может менять порядок, власть на земле?
Но что-то в его рассуждениях может показаться не только
безумием, но и хорошим знанием природы смеха и его возможностей,
особенно если вспомнить веселые позднесредневековые и ренессансные
карнавалы и подобные праздники, которые предшествовали в
Европе наступлению эпохи Реформации и ее переворотов религиозных,
политических, экономических. Что-то в страстных речах Хорхе о
смехе звучит как пророчество о будущем смеха и его возможной
роли. Опять же, если вспомнить ренессансную книгу Франсуа Рабле
"Гаргантюа и Пантагрюэль", в которой высмеивался весь мир, все
ставилось с ног на голову, низ уравнивался с верхом, а уж о "газо-
nycKaHHH" и "рыгании" было сказано очень много.
Но вообще-то говоря, обе фигуры Вильгельма и Хорхе -
только плюс и полный минус - это крайности, если говорить об
отношении христианства, в том числе и средневекового, к смеху. Но
верно то, что преобладает все-таки отношение к смеху негативное
в противоположность предшествующей традиции. Какой
заключен в этом смысл? Попробуем разобраться.
Очерки по истории смеха 179
Отношение к смеху в христианстве
В ветхозаветной книге Экклезиаста, датирующейся 3 веком до
н.э. говорится о смехе: "О смехе сказал я: "глупость!" а о веселии:
"что оно делает?" (Еккл.,2,2). "Сетование лучше смеха; потому
что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых - в
доме плача, а сердце глупых - в доме веселия. Лучше слушать
обличения от мудрого, нежели слушать песни глупых; потому что
смех глупых то же, что треск тернового хвороста под котлом. И
это - суета!" (Еккл., 7, 1-6). Но у Екклезиаста есть и другие
тексты. "Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и
делать доброе в жизни своей." (Еккл.,3,12). "И похвалил я
веселие; потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть,
пить и веселиться; это сопровождает его в трудах во дни жизни
его, которые дал ему Бог под солнцем" (Еккл.,8,15).
Такое кажущееся противоречие в отношении Екклезиаста к
смеху и веселью обусловлено особенностями пути Екклезиаста в
поисках смысла жизни. Как известно, Екклезиаст испытывает
жизнь со всеми ее благами. Его томит бессмыслица жизни,
которая не снимается никакими удовольствиями, потому что человек
не может понять путей Божьих, и жизнь предстает перед ним как
бесконечный повтор одного и того же, как набор случайностей,
конец которому полагает смерть. "Что было, то и будет, что
делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем"
(Еккл.,1, 9). Поэтому и смех, одно из земных удовольствий, не
дает удовлетворения: "О смехе сказал я: "глупость!" а о веселии:
"что оно делает?"
Но в этом утомительном кружении жизни, в котором "всему
свое время" ("Время рождаться и время умирать... Время убивать
и время врачевать... Время плакать, и время смеяться; время
сетовать и время плясать.." (Еккл., 3, 1-4)), понял Екклезиаст, что
поскольку "человек не может постигнуть дел, которые Бог делает,
от начала до конца", то постольку в земной юдоли человеческой
"нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в
жизни своей" (Еккл. 3,11-12).
Таким образом, перед лицом Божиим и познанием дел его
смех и веселие - ничто, они связываются с глупостью: "сердце
мудрых - в доме плача, а сердце глупых - в доме веселия". Плач
более умудряет. Но в делах земных при неясности путей Божиих
смех и веселие - большое утешение. "И при смехе иногда болит
сердце, и концом радости бывает печаль" (Притч., 14,13).
Таково представление о смехе в Ветхом Завете. С приходом
Христа в мир пришла благая весть о спасении мира. Людям дано
было откровение о путях Божиих, о смысле, цели, конце истории и
спасении человека и мира. Поэтому, конечно, меняется в Новом
180 Глава 3
завете и позиция по отношению к смеху, но не кардинально, а как
бы доводится до логического конца представление о смехе,
выраженное в книге Екклезиаста.
Цель человеческой жизни, согласно христианской доктрине,
заключается в "обожении", то есть в стремлении стать богом по
благодати, что значит также - соединение с Богом, так как по
природе человек, конечно, не может стать богом. Путь для
воссоединения с Богом был указан и предуготован для людей Иисусом
Христом, который своим воплощением, жизнью и крестной
смертью искупил первородный грех человеческий и тем самым сделал
возможным приход в мир Духа Святого, третьего Лица
христианской Троицы, с которым в мир вернулась благодать, прежде
отринутая Богом от мира из-за грехопадения Адама и Евы, и
необходимая для человеческого спасения, для соединения вновь человека с
Богом. Поэтому смысл человеческой жизни, согласно христианству,
это - стяжание благодати. А для этого необходим определенный
образ жизни в согласии с евангельскими заповедями.
Идеал христианского образа жизни особенно ярко выражен в
Нагорной проповеди Иисуса Христа, в Блаженствах, которые
характеризуют христианские ценности. Христос сказал, что
"Царство Мое не от мира сего", поэтому в них Царство Небесное
противопоставляется царству земному. И в этом противопоставлении смех
оказывается характеристикой царства земного, как и в Ветхом
Завете, в то время как плач - путь к Царству Небесному, так как
плач понимается как осознание и покаяние в своих грехах. Это
относится к смеху, но не к радости и веселью. "Радуйтесь и
веселитесь, - говорит Иисус Христос, - ибо велика ваша награда на
небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас" (Мф, 5,12).
"Блаженны плачущие, ибо они утешатся" (Мф£,4) Г
Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесъ" (Лк. 6,21). "Блаженны вы,
когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас и будут
поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына
Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам
награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их"
(Лк.,6,22-23). "Напротив горе вам, богатые! Ибо вы уже
получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне! Ибо взалчете.
Горе вам, смеющиеся ныне! Ибо восплачете и возрыдаете"
(Лк.,6,24-25).
Один из Святых отцов Церкви Иоанн Златоуст говорил о
значении плача следующим образом: "Но есть и другой путь
покаяния, Какой же это? Оплакивание греха. Ты согрешил? Плачь, и
изгладишь грех". (7,320). Он же приводил библейскую историю об
Ахаве, коварно убившем Навуфея, чтобы овладеть его
виноградником. Когда Илия пришел обличить его и возвестить волю Божью
по наказанию Ахава, то Ахав сильно плакал о грехе своем, он
Очерки по истории смеха 181
осознал свое беззаконие (грех) и Бог отменил приговор. (7,321).
В руководстве по христианской этике Климента
Александрийского, каковым является его "Педагог", очень здраво
замечается: "Что человеку самой природой устроено, того запрещать ему не
следует; но и в этом, нам свойственном от природы, необходимо
соблюдать правую меру, благовременность и целесообразность.
Нельзя же на том основании, что человеку свойственно смеяться
естественно, все делать предметом смеха. И лошадь, ведь, которой ржать
естественно, не на все ржет. В качестве творений, одаренных
разумом, должны мы поддерживать в себе надлежащую гармонию,
суровость своей серьезности и необычную сосредоточенность, ослабляя
изящно (эстетически), но не позволяя себе и распускаться до
неэстетичности. Гармоническая, разливающаяся по всему нашему
лицу веселость, прекрасная светлая разглаженность его черт,
представляя собою как бы тонов ослабление и смягчение при игре на
музыкальном каком инструменте, называется улыбкой; такая
улыбка может всходить на лице и мудреца. Неэстетичное же сведение
черт лица называется, если дело идет о женщине, хихиканьем, - но
это смех и непотребных женщин, - а если дело мужчин касается,
то - хохотом; и оно представляет собой смех бесчинный,
вызывающий. Глупый, говорит Священное Писание, в смехе возвышает
голос свой, а муж благоразумный едва тихо улыбнется (Сир.
21,23)...
Но даже и в простой улыбке следует выказывать
благовоспитанность; и если бы пришлось нам слушать о вещах гнусных, то
естественнее при этом краснеть, чем смеяться; в последнем случае
может показаться, что мы сочувствуем такого рода вещам и
находим в них удовольствие...Не следует и постоянно смеяться; это
выходило бы за пределы правой меры. ..Тем более не следует
смеяться перед всяким встречным, где бы он ни попался, всему и над
всем... А особенно вино, употреблю слово общеизвестное, всех
безумцев заставляет слащаво улыбаться и с удовольствием плясать
(Од.XIV, 465), а характер, уже и без того вялый, оно еще больше
расслабляет. - Следует и о том думать, как происходящей из
смеха вольностью речей простое их неприличие доводится до
срамословия... при разнузданной вольности речей за попойкой одежда
лицемерия отлагается, рассудок спать ложится... просыпаются
необычные страсти и при изнеможенном состоянии духа утверждают
свою власть над ним" (8, 149-151).
Для Климента Александрийского, человека эллинистической
культуры, очень важен в подходе к смеху помимо нравственного
аспекта принцип меры и эстетический момент. Он замечает, как
искажается, уродуется лицо при неумеренном смехе, оно теряет
гармонию, красоту. Не допустим смех и при созерцании гнусных
вещей, может показаться что он служит их одобрением. Но главное,
182 Глава 3
все же, громкий и непрерывный смех связывается с неразумием, с
глупостью, разумный же улыбается. Отсутствием разума и
наличием пороков и страстей объясняется Климентом Александрийским
смех при винопитии, "охмелении души". Последнему в
христианской этике противопоставляется постоянное трезвение и бдение
души в борьбе со своими грехами.
Кроме того, христианский богослов специально отмечает
способность насмешки и поэтому ее неприемлемость для христианина
"глумиться над словом и разумом, этими драгоценнейшими
благами человека". И шуты могут "о деле недостойном говорить в
таких выражениях, что ослабляют отвращение к нему". Поэтому не
следует быть шутом, шутником, и не делать из себя посмешище,
поскольку разве можно "внутреннего нашего человека открыто и
публично решиться показывать в виде смешном, со скорченной
смешным рожей?" (8,149). Для христианства свойственно
предельно серьезное отношение к душе человека и его внутренней
жизни, а поскольку внутреннее проявляется во внешнем, то
искажение лица при неумеренном смехе вполне справедливо
свидетельствует не только о его эстетической дисгармоничности, но и о
душевном неблагополучии этого человека, о его поврежденной
духовности.
С рассуждениями о смехе Климента Александрийского,
христианского богослова И-Ш веков, перекликается "Нравственное
богословие для мирян" конца XIX века, рассказывающее о
различных жизненных проявлениях и христианском отношении к ним.
Так что преемственность традиции сохраняется. "В одном месте на
страницах Библии сказано: есть время смеяться. Значит
позволяется и смех, как телесное выражение радости. Смех, равно как и
обращение с людьми добраго и веселаго характера, прекрасно
действуют на здоровье. Из всех телесных движений, которые
потрясают и тело и вместе с тем душу, смех есть самое здоровое:
он помогает пищеварению, благоприятствует кровообращениюt
ободряет жизнь. Но, вместе с тем, в слове Божием сказано: буй
(глупый) в смехе возносит глас свой (поднимает громкий смех):
разумный едва тихо осклабится (тихо улыбнется) (Сир.21,23).
Об этом-то безобразном смехе, а также о частовременном и
безвременном, и говорим мы, как о нравственной вине христианина.
Неподобный смех (хохот) уже и для здоровья вреден: от него
надсаживается грудь. Он неприятен для благородного слуха. А когда он
бывает безвременным и непрерывным, как у молодых девиц и
юношей (совсем не над чем смеяться, а смеются): то, подобно
болтливости, составляет признак неразумия и обличает крайнюю
рассеянность. Для духовного христианина излишний смех тем вреден, что
те смешные предметы или слова, над которыми он много смеялся,
возобновляются ему на молитве. Этот смех происходит тоже от
Очерки по истории смеха 183
пресыщения пищею, а также и от беса блуда. - И как ты,
христианин, будь умерен в выражениях твоей веселости посредством
смеха. Притом, и предметы твоих улыбок должны быть только
невинные, а не на обиду ближнему. (Разрядка моя. - М.Р.)" (9, 905-
906).
Итак, смех вовсе не отрицается, а сам он различается по видам
и различается отношение к нему. Смех принимается как "телесное
выражение радости", то есть его естественное
психофизиологическое проявление. Отмечается его способность укреплять здоровье.
Но это относится к смеху умеренному, выраженному
преимущественно в улыбке ("христианин, будь умерен в выражениях твоей
веселости посредством смеха"). Смех также не должен быть
обидным для ближнего, то есть не должен содержать насмешки.
Не принимается и даже расценивается как "нравственная
вина христианина" смех "безобразный", громкий, "частовременный и
безвременный", "непрерывный", когда смеются, а не над чем
смеяться; "от пресыщения пищею и от беса блуда". Такой смех
почитается "признаком неразумия и рассеянности". Отмечается вред для
христианина излишнего смеха и вред его на молитве, так как "те
смешные предметы или слова, над которыми он много смеялся,
возобновляются ему на молитве".
Требования к смеху у монашествующих ужесточаются.
Монах уходит от мира для сосредоточения на деле спасения своей
души, поэтому для него памятование о своей греховности должно
быть постоянным состоянием. Плач спасителен для него, смех -
отвлечение от спасения. Этим объясняется резко отрицательное,
сопоставимое с речью Хорхе, высказывание о смехе преподобного
Ефрема Сирина, богослова IV века: "...Смех лишает человека
блаженства, обещанного плачущим, разоряет доброе устроение
внутреннее, оскорбляет Духа Святаго, вредит душе, растлевает тело.
Смех изгоняет добродетели, не имеет памятования о смерти, ни
помышления о мучениях." (14, 234). Такое резкое высказывание
Ефрема Сирина о смехе требует некоторого разъяснения. Почему
все же "смех лишает человека блаженства"? И почему "блаженны
плачущие, ибо они утешатся" (Мф, 5,4)? Прежде всего, под "смехом"
и "плачем" тут разумеется определенное состояние души, которое
или вредит душе, или является для нее спасительным.
Смех и плач
Многие Святые отцы Церкви свидетельствуют, что плач
рождает память о смерти. "Память смертная очищает ум и тело", -
пишет преподобный Филофей Синайский. Преподобный Ефрем
Сирин говорит о том, что "начало плача - познание самого себя. Да
184 Глава 3
будет же плач наш не по человеку, но по Богу, Который знает
сокровенность сердца, чтобы от Него получить нам ублажение" (14,
275). Святой Симеон Новый Богослов отмечает: "Плач двоякое
имеет действие: и, как вода, погашает слезами весь пламень
страстей и омывает душу от скверны, причиняемой ей ими; и опять,
как огонь, присутствием Святого Духа животворит, согревает,
воспламеняет сердце и возбуждает в нем любовь и вожделение к
Богу".(14, 269). Воспоминание и размышление о смерти, утверждает
святой Иоанн Лествичник, есть источник нравственности и
добродетелей, а для иноков - "размышление о смерти нужнее всех
деланий. Памятование о смерти рождает в общежительных иноках
усердие к трудам и непрестанное приобучение себя к исполнению
евангельских заповедей... Невозможно настоящий день провести
благочестиво, если не будем считать его последним днем нашей
жизни...".(11, 176).
Таким образом, память о смерти - это одно из оснований
христианского отношения к миру и образа жизни, источник
христианских добродетелей, так как она не позволяет ни на минуту
забыть о бренности и скоротечности земной жизни и об
ответственности перед Богом и перед своей собственной душой. А плач
как осознание своих грехов, связан с памятью о смерти, устремлен
в вечность, смех же связан с быстротечным мгновением этой
жизни, а "неблагоразумный смех" способствует забвению о смерти,
освобождает от памяти о ней, дает иллюзию бессмертия, которая есть
обман, поскольку человек все-таки смертен. Но пока он забыл о
своей смертности, упустил мгновение своей жизни, овладели им
страсти и пороки, и погиб для жизни вечной.
Согласно христианству, благодетельнее для человека
состояние плача, чем смеха. Но ни в коем случае не плача как уныния,
потому что уныние, отчаяние считается тяжким грехом в
христианстве, а именно плача как покаяния о грехах своих и памяти
смерти. Преподобный Ефрем Сирин замечает: "У людей бывают
трех различных родов слезы. Бывают слезы о вещах видимых - и
они очень горьки и суетны. Бывают слезы покаяния, когда душа
возжелает вечных благ, - и они очень сладки и полезны. И бывают
слезы раскаяния там, где плач и скрежет зубов (Мф. 8,12), - и эти
слезы горьки, бесполезны, потому что вовсе бесплодны, когда уже
нет времени покаянию". (14, 273).
Смех дает "анестезию сердца" (А.Бергсон): сердце от смеха как
бы на мгновение каменеет, делается ко всему равнодушным, оно
лишено в этот момент сострадания, человек может в следующий момент
уже устыдиться своего смеха, а может и нет. В смехе, особенно
насмешливом, много гордости и эгоизма. А гордость почитается в
христианстве одним из самых тяжких грехов, потому что гордость -
источник всех иных грехов и грехопадения Адама и Евы, и вместе с
Очерки по истории смеха 185
ними всего человечества. А плач, особенно сердечный, слезы
сердечные, согласно христианству, размягчают сердце, делают его доступным
для благодати Божьей, для сострадания к людям, для любви к ним.
Бог поселяется в таком сердце, слезно плачущем. Плач этот
благодатный, светлый, радостный, так как свидетельствует о
присутствии Бога в душе человека и дает надежду ему на спасение.
В качестве некоторого вывода можно сказать, что
христианство к смеху относится дифференцированно. Положительно
оценивается смех как естественное "телесное выражение радости", но
обязательно с соблюдением меры, этического и эстетического
принципов. Исходя из этических соображений отрицается
насмешливый смех, так как он унижает человека и доставляет ему боль, что
противоречит главной христианской заповеди о любви к ближним
("...насмешливые люди несправедливы, неуважительны и не
имеют любви к ближнему"(9, 872).
Чрезмерный смех не приветствуется, так как он, полагается,
вызван либо глупостью (неразумием), а последнее расценивается
как повреждение "образа Божия в человеке"; либо в той или иной
мере связан со страстями и пороками, что также является
повреждением человеческой природы, духовной болезнью. А главное,
чрезмерный смех прямо противоречит христианскому пути спасения,
который должен быть "плачем о грехах", покаянием и очищением
от грехов, "стяжанием благодати". Кроме того, чрезмерный смех
традиционно был связан с языческими обрядами, поэтому в нем
христианство усматривало проявление деятельности дьявола. На
этом мы остановимся более подробно.
Признак смерти
В средние века, поскольку в этот период истории
христианство становится доминирующей силой, определяющей все сферы жизни
в Западной Европе, в Византии, на Руси и в других христианских
странах, постольку отношение к смеху христианства становится
преобладающим и общепринятым. Если говорить схематично, то в
прежние времена смысл ритуального, культурного смеха тяготел
ближе к "признаку жизни" в его переходном значении между
жизнью и смертью, тогда как в средние века, можно сказать, этот
полюс сместился ближе к "признаку смерти". В христианском
понимании смерти, строго говоря, ее как бы нет, так как душа
бессмертна, а тело временно умирает до Страшного суда и воскресения
мертвых, когда оно вновь соединится с душой. Смерть в
христианстве предстает как погибель души и тела человека, невозможность
его спасения, то есть соединения с Богом, как уготованность такого
погибшего человека для адских мук. А это уже в той или иной
186 Глава 3
мере проявляется при жизни человека, так как от того как он ее
проживает зависит его посмертная участь. Получается, что "смерть",
по христианским представлениям, есть просто иная жизнь после
смерти, вечная жизнь в раю или вечные муки в аду.
Поэтому смех в средние века в качестве "признака смерти"
оказывается связанным со злом и "кромешным миром", с его
главой - дьяволом и его приспешниками - бесами. По христианским
представлениям, после грехопадения первых людей земной мир во
зле лежит, и власть имеет в нем "князь мира сего" - дьявол,
поэтому пристрастие только ко всему мирскому, земному, материальному
оказывается проявлением зла и тяготением ко всему
дьявольскому, бесовскому. Хотя материальный мир не является источником
зла, зло коренится в свободной воле человека, которая в свободе
этой богоподобна, и всегда должна выбирать между добром и злом,
между Богом и дьяволом. Христос победил зло и смерть, поэтому и
человек может "посрамить" дьявола своей безгрешной жизнью. И
эта безгрешная жизнь пронизана радостью и весельем о Христе
("радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах"
(Мф,5,12)), но она оказывается не связана со смехом в его ярких,
чрезмерных проявлениях в отличие от мира бесовского, который
неистовствует в смехе.
Согласно христианскому богословию, зло не обладает
субстанциальным содержанием, которым обладает добро, поскольку Бог не
творит зло. Зло есть искажение добра, и как таковое оно
паразитирует на добре, без которого самостоятельно существовать не
может. То есть зло, фактически, не существует, оно есть иллюзия. И
вот в этом отношении к иллюзорности существования зло
перекликается с иллюзорной природой смеха. Зло по своей природе
также похоже на ложь, которая есть искажение истины. А "отец
лжи" - дьявол, "главный пародист", которого средневековые
богословы называли "обезьяна Бога". Так, почитание сатаны в "черной
мессе" представляло собой пародию на церковную службу.
Поэтому тут все смыкается на почве иллюзорности существования:
демонизм, зло, ложь, тень и смех.
Почему так произошло, что смех оказался характеристикой
смерти как "погибшей жизни", уже можно понять из
рассмотренного выше характера ритуального смеха и его места в языческих
обрядах, которые христианство отвергало и расценивало как
"бесовские игрища", как поклонение дьяволу, а также и из отношения
христианства к смеху в целом. Но в средние века все это
принимало чрезвычайно серьезный напряженный характер ожидания
конца истории. Иначе говоря, в средние века отношение к смеху было
очень серьезным.
"Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь" (Лк 6, 21).
"Горе вам смеющиеся ныне! Ибо восплачете и возрыдаете" (Лк 6,
Очерки по истории смеха 187
22-25). Эти слова Иисуса Христа из Нагорной проповеди
являются ключом для понимания отношения христианства к смеху
чрезмерному, связанному с благами и удовольствиями падшего, в
грехах пребывающего мира.
В средние века стремление только к земным благам ("жизнь
не для Бога, а для мира") расценивалось христианством как
погибель, "смерть" души для жизни вечной. Смех в его чрезмерных
формах (как "радование миру") связывался с такими
чувственными излишествами, с веселой разгульной жизнью в миру, что
говорило о забвении человеком заповедей Божьих. Смех, как уже
отмечалось, также входил в комплекс языческих обрядов и вместе с
ними осуждался как служение демонам и дьяволу. Так, например,
славяне в древности произносили при питье чаш заклятия от
имени языческих богов. В Киевской Руси в поучениях против
остатков язычества не раз говорится о наполнении черпал и питии чаш
в честь бесов, под которыми разумеются языческие боги. (2, 153).
Соответственно в старинных требниках обычным исповедным
вопросом было "Молилась бесом или чашу их пила?". Пьянство,
обжорство, сквернословие, другие формы антиповедения устойчиво
сохранялись во многих народных праздниках и обрядах, имеющих
языческие корни.(2, 154).
"Как и пьянство, обжорство имело первоначально
ритуальный характер и сопровождало культовые праздники древних
славян. Христианские проповедники осуждали и обжорство не
только как бытовой порок, но и как остаток языческого культа. По
представлениям восточных славян, обжорство объясняется тем, что
вместе с человеком в еде принимают участие "нечистики", ср.
Поговорки "Ест как не в свое брюхо" (т.е. много); "Ест (пьет) как не
своим ртом" (т.е. вяло, плохо). "Кто сядет есть, не умывши рук и
не помолившись, то этот человек съедает в три раза более, чем ему
полагается, потому что это будет есть не он, а с ним сидящие
домовые, лесовые и проч. Они сидят около немоляки, разинув рты.
Человек почерпнет ложку и думает, что это себе в рот несет, а это
кому-нибудь из сидящих с ним духов". Н.В.Гоголь вполне в духе
народных представлений описал подобную трапезу в "Пропавшей
грамоте"...
В фольклоре и в народных поверьях обжорство
приписывается демонологическим персонажам. Не удается накормить
уродливого крикливого ребенка, подброшенного ведьмой вместо
украденного человеческого дитя; стоит выйти из дома, как он съедает всю
пищу, да еще бьет горшки. Сверхъестественным аппетитом
обладают и ходячие мертвецы. В одной быличке мертвец выпивает два
ведра водки и съедает восемь ведер пищи. В былинах
нечеловеческим аппетитом отличаются враждебные персонажи - Тугарин,
Идолище". (2,155).
188 Глава 3
Смех в его специализированных формах находился на
периферии средневековой культуры и был представлен, в основном,
комическими представлениями различных жонглеров, гистрионов,
фокусников, скоморохов на Руси, поводырей медведей и дрессировщиков
других животных, и был приурочен к праздникам, к рождественским
и пасхальным. Тогда появлялись всякие ряженые, проводились
игры и соревнования, разыгрывались целые смеховые действа. В
позднее средневековье и в эпоху Ренессанса эти празднества выливались
в целые карнавалы. Характер этих праздников и карнавалов
достаточно хорошо разработан в отечественной научной литературе.
Исследованию народной праздничной культуры посвящена книга В.П.
Даркевича "Народная культура средневековья", в которой он дает
целостную картину народных праздников и показывает в том числе
и место в них смеховых форм. (13). К этой книге мы и отсылаем
читателя, желающего ознакомиться с подробным описанием и
анализом средневековых празднеств и карнавалов. Приведем
некоторые выдержки для иллюстрации всего вышесказанного.
"Судя по изобразительным материалам, многие массовые
праздники, где царил общинный дух, "коллективная форма самых
высоких порывов радости" (Й. Хейзинга), генетически восходили к
дохристианским ритуалам, к наиболее устойчивой низшей
мифологии. С удивительной жизнестойкостью они прошли сквозь
столетия и в традиционных обществах дожили до нашего времени,
постепенно видоизменяясь и теряя культовую направленность.
Особенно заметная роль принадлежала аграрно-магической
обрядности с ее ярко выраженным акцентом и избытком бурлескных
деталей. В праздничном поведении крестьян, приверженных магии,
бессознательно смешивалась древняя языческая практика с
поверхностно усвоенным христианством. Смеховые антиобряды
скоморохов ("ритуальный смех") неотделимы от идеи телесного
благополучия, плодовитости человеческого племени и плодородия земли.
(Разрядка моя. - М.Р.)" (13, 95-96).
"До недавнего времени по всей Европе ряженье,
сопровождаемое музыкой, танцами и инсценировками, оставалось частью
народной культуры, вобравшей в себя мощные пласты традиционных
дохристианских представлений. Перевоплощение человека в иное
существо сохраняло значение религиозного обряда, восходившего
к языческим аграрным празднествам. Ряженье в телячьи или
оленьи шкуры "по обычаям язычников" наглядно утверждало
единство человека с природой... На браслете из Старой Рязани
зооморфная личина, помещенная у ног плясуньи (мена верха и низа,
свойственная ряженным) - символический атрибут игрищ
скоморохов...Она подчеркивает культовую природу действа под
"гусельные словеса", их "черный", колдовской смысл. На романской
капители церкви в Тингстеде (Готланд) в похожей маске выступает
Очерки по истории смеха 189
акробат, стоящий на руках... Его высунутый язык означает
греховность, торжество плотского начала в человеке... Церковные
авторитеты утверждали, что ряженые, теряя образ человеческий,
созданный по подобию Божию, и приобретая жуткие демонические
черты представителей потустороннего мира, совершают вопиющее
святотатство, требующее искупления. В России сами ряженые
называли маски "личиной дьявола", "чертовой рожей", "чертовской
харей". Среди крестьянской молодежи ношение масок, в первую
очередь, масок нечисти, воспринималось как грех, подлежащий
очищению в освященной воде. На протяжении всего средневековья
"нелепые и глупые превращения" в зверей и чудищ,
сопровождаемые всевозможными бесчинствами, вызывали резкие нападки.
Согласно сирийскому епископу Севериану (рубеж IV-V вв.), на
новогоднем празднике январских кален "люди преображаются в
животных и мужчины в женщин - высмеивается благонравие,
насилуется законность, производится издевательство над общественной
нравственностью. (Разрядка моя. - М.Р.)" (13, 104-105).
"В масленичной потехе нюрнбергских мясников
перевоплощение в священного быка связано с его ролью в магии плодородия.
Возможно, по сценарию карнавальной игры предусматривали
"убийство и воскресение быка". В XIX в. в Словакии на рождество и
масленицу в свите "туроня" шел "мясник" с деревянным ножом.
При обходе крестьянских дворов он "перерезал" туроню горло.
Верили, что кровь жертвы, смешанная с навозом, увеличивала
урожай... В день св. Мартина (11 ноября) мясники выпускали на
улицу купленного в складчину быка, и каждый горожанин, воору-
жась дубинкой, мог принять участие в убое животного". (13, 107).
"В позднесредневековых мистериях и в изобразительном
искусстве остро выразительные образы демонов обладают
комическими чертами. В них синтезированно трагическое и пародийно-
гротескное, что вообще характерно для средневекового видения мира.
Снижающий комизм дьяблерий - особого рода: смешное входит
составной частью в теологические и драматические структуры,
развивается в рамках единственно значимых богословских доктрин.
В мире, разделенном между царством бога и царством сатаны,
комика и бурлеск при всей самодовлеющей занимательности
относились к демонической области, являлись достоянием человека,
который утратил божественную благодать. Дьявол театра
мистерий комичен и ужасен одновременно". (13, 118).
"Скоморохов обвиняли в самом тяжком из грехов -
соучастии в осмеянии Спасителя. В стенописях, иконах, книжных
миниатюрах эти исыны зла" предстают разнузданными
нечестивцами, осквернителями Христова дела... Фигуры "глумцов" в
сценах поношения Христа получили распространение в XIV-XV
вв. В композиции "Коронование терновым венцом" Иисус с тро-
190 Глава 3
стью вместо скипетра, в багрянице и босой предстает как
шутовской царь, выставленный на всенародное посмешище...
...В клейме "Поругание Христа" (новгородская икона
"Земная жизнь Христа", начало XV в.) "глумотворцы" в рубахах со
спущенными рукавами насмешливо пляшут по сторонам Иисуса...
Включение фигур лицедеев в сцены коронования терновым венцом
- наследие византийской иконографии". (13, 192-193).
"Отношение к буффонам как к пособникам демонических сил, их
отождествление с носителями самых темных суеверий и ересей, предавших
души сатане, отражено в изданной Иеронимусом Коком в
Антверпене гравюре по рисунку Брейгеля Старшего "Падение мага Гермо-
гена"... Кабинет чародея превращен в балаган, арену ярмарочного
спектакля, где его ученики - бесы - демонстрируют весь арсенал
трюков бродячих фигляров. В безумной круговерти сатанинское
сборище предается ведовскому разгулу. Дьяблерия полна
безудержного хаотического движения. Художник представил момент
полного поражения притязавшего на всемогущество надменного мага
- непримиримого врага христианства. Св. Иаков с жезлом в левой
руке простер руку, изгоняя нечисть, приведенную в смятение. По
этому знаку часть демонов подняла открытый мятеж против
своего повелителя. Они избивают его дубинками и, зацепив крюком, с
грохотом низвергают вниз головой с трона, как гипсовую статую...".
(13, 199).
"На центральной створке триптиха Босха "Искушение св.
Антония" изображено празднование идолопоклоннической черной
мессы...Спиритуалист и моралист, "живописец ужасов" заклеймил этот
обряд как верх гнусности. В тайной мистерии участвуют два
демонических буффона. Свиноголовый лютнист с совой на макушке
ведет на поводке дрессированную собачку. Безмолвная
неподвижная птица с гипнотическим взглядом - символ эзотерического
знания, атрибут алхимиков и оккультистов. За лютниста держится
слепой шарманщик - лысый горбун на деревянной ноге,
опирающийся на посох. Хвост с острыми шипами указывает на
бесовскую природу калеки. Для принятия нечестивого причастия оба
подходят к круглому столу, на котором стоит кувшин проклятого
зелья. За столом священнодействуют три "монахини" в
ритуальных одеяниях - жрицы культового таинства... Взаимодействие
трех колдуний - "царицы ночи", лунной женщины (воплощение
Луны) и чародейки со змеями (воплощение подземного мира) -
призвано вызвать к жизни все силы мрака с их ужасами, которые
безраздельно властвуют вокруг коленопреклоненного перед
распятием Антония.
...У Босха бесы-буффоны подвизаются в мире, где чтят сатану,
а не Бога, справляют черную мессу вместо мессы священной, где
демоны вытеснили ангелов, а ведьмы мучают святых". (13, 197-
Очерки по истории смеха 191
198).
Профессиональными буффонами были шуты. До XIII века
шуты не выделялись из массы гистрионов. На рубеже XIII-XIV вв.
появляется мода держать шутов при дворах королей и вельмож,
тогда же появляются их изображения. Но своего расцвета
институт придворных шутов, как и других комических форм, достигает в
XV-XVI вв.
Основной метод шута - это "пародия как антитеза серьезному
и "положительному". Концепции мира упорядоченного и
рационального шут противопоставлял свое видение мира - хаотичного
и абсурдного. Антиповедение шута или скомороха внешне
нередко аналогично сакрализованному архаическому антиповедению,
но его ритуальные функции и первоначальный языческий смысл
уже утрачены. Алогичные, лишенные здравого смысла действия
выявляли смешные стороны предметов и явлений: фигляр
высиживал куриные яйца; носил очки на капюшоне...; чтобы было
светлее, появлялся с факелом средь бела дня...; возил в тачке
быструю собаку...; выезжал на лошади, сидя на табуретке.
(Разрядка моя. - М.Р.)". (13, 154). Шут высмеивал сословия и
профессии, имитируя их обычаи и церемонии.
"В XV в. складывается классический тип шута в
экстравагантной одежде... Его колпак с ослиными ушами, соединенный с
круглым фестончатым воротником, стал в Западной Европе
популярным символом мировой глупости... Иногда костюм шута
кричащего красного цвета; он ассоциировался у ригористов с адским
пламенем, уготованным паяцу... Кукла-марот служила
своеобразным маленьким двойником самого шута.
...Антагонизм религиозно-аскетических идей и
ниспровергающего смехового начала отразился в трактовке образа шута как
сатанинского отродья. Безумные эксцессы, буйные выходки шутов
вызывали беспокойство у средневековых людей. Фигура вечного
лицедея символизировала безграничную распущенность, безумное
упоение преходящей суетой жизни". (13, 156). "Глупцам -
сумасшедшим - шутам приписывали способности общения с
демоническими силами...". (Там же, 157).
Юродство
Совершенно необычным феноменом средневековой жизни был
институт юродивых, в значительной степени распространенный в
Византии и на Руси, в православных странах. В юродстве как бы
опровергается все то христианское отношение к смеху, которое
было выше изложено. Часто грань между шутом, порицаемым
отщепенцем, и юродивым-святым бывает провести очень трудно. Иные
192 Глава 3
поступки самых прославленных юродивых-святых настолько
противоречат обычным представлениям о должном и нравственном
поведении, что вызывают удивление и непонимание. Кто такие
юродивые и какова разница между скоморохом и юродивым, если
первый отвергается христианским благочестием, а второй -
прославляется как святой?
В отечественной научной литературе немного работ по
юродству, но они дают общее впечатление об этом выдающемся
феномене (16,17,18,19). Для нас наибольший интерес представляет тот
момент, что явление юродства, во-первых, является как бы точкой
соприкосновения христианского благочестия, христианской
святости и смеховых форм средневековья. (16, 72). И, во-вторых, в этом
феномене особое значение имеет момент мнимости, кажимости,
обмана, мистификации, симуляции, который и делает возможным
ту парадоксальность юродства, которую отмечают все
исследователи, а также связь в этом случае христианского подвига со смехом,
даже в его чрезмерных формах, что обычно все-таки отвергается.
Юродство является подвигом христианского благочестия,
особенно трудным, для избранных, которые достигли определенного
совершенства. Эти подвижники не только отказывались от всех удобств
и благ жизни земной, но и отрекались от самого главного дара Бога
человеку - от разума, принимали на себя добровольное безумие.
Таким образом, безумие их было мнимым, но это хранилось в
строгой тайне до смерти праведника, лишь единицы были в это
посвящены. Столь тяжкое бремя имело целью дальнейшее
совершенствование этого человека на пути служения Богу, спасение от гордыни
праведника, чтобы скрыть свою добродетель, "посрамление бесов", а
также укор миру. Юродство как христианский подвиг следует
отличать от юродства природного, просто глупости или просто безумия.
A.M. Панченко существо юродства усматривает в следующем:
"Пассивная часть его - аскетическое самоуничижение, мнимое
безумие, оскорбление и умерщвление плоти, подкрепляемое
буквальным толкованием некоторых мест Нового Завета: "Аще кто хощет
ко мне ити, да отвержется себе" (Мф, 14,24-25)... Активная
сторона юродства заключается в обязанности "ругаться миру", т.е. жить
в миру, среди людей, обличая пороки и грехи сильных и слабых, и
не обращая внимания на общественные приличия.. Две стороны
юродства, активная и пассивная, как. бы уравновешивают и
обуславливают одна другую: добровольное подвижничество, полная
тягот и лишений жизнь дает юродивым право "ругаться
горделивому и суетному миру" (16, 79).
Обоснованием возможности юродства служат слова апостола
Павла, обличающего христиан в несмирении и нетерпении, в
пресыщении и обогащении: "Мы безумны Христа ради, а вы мудры во
Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в бесчестии.
Очерки по истории смеха 193
Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу и побои, и скитаемся,
и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы
благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим; мы как сор для
мира, как прах, всеми попираемый доныне". (1Кор., 4,10-13). А
также те слова апостола Павла, где он противопоставляет
мудрость мира и мудрость Христа, которая воспринимается мудростью
мира как безумие: "А мы проповедуем Христа распятого, для
Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие" (1Кор., 1,23).
"Никто не обольщай самого себя: если кто из вас думает
быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтоб быть мудрым.
Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано:
"уловляет мудрых в лукавстве их" (1Кор.,3,18-19). "Но Бог
избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира
избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и
уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить
значащее, - Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред
Богом". (1Кор.,1,27-29).
Вероучение христианства вступало в противоречие с
мудростью язычников, которые не могли поверить, что Бог может воче-
ловечиться, может страдать и погибнуть рабской смертью за грехи
человеческие. Проповедь Христа и апостолов никак не умещалась
в рациональные рамки эллинистической философии, в то, что
Иисус Христос и есть Мессия не верили иудеи. Истина христианства
выглядела в глазах многих полным безумием. Поскольку
христианство основано на откровении Бога, постольку его истины
выходят за пределы человеческого разума, их можно только "верою
понять", как говорит ап.Павел.
Чтобы оценить степень самоотречения и самоуничижения
христианского подвижника, становящегося юродивым, надо вспомнить
о том, что разум полагался проявлением образа Божия в человеке,
проявлением богоподобия человека, высшей ценностью духовного
человека. Безумный же человек расценивался как наказанный
Богом за какие-либо прегрешения, безумный - значит одержимый
бесами. Безумие - это духовная болезнь. Христос и его апостолы
излечивали от одержимости, изгоняя бесов, вошедших в этих
несчастных. Поэтому отношение к безумным в средневековом
христианском обществе в целом было негативным, как к духовно опасно
больным и париям. Тем более, человек разумный, нормальный,
попадавший в подобную ситуацию, должен был испытывать
постоянные мучительные страдания. Таким образом, этот подвиг есть
добровольное мученичество, и оно достигается посредством сокрытия
своей праведности, стремления к Богу через полное отвержение
мира, вплоть до самого себя.
Недаром исследователь византийского юродства С.А.Иванов
отмечает такую любопытную динамику исторического развития это-
194 Глава 3
го феномена в Византии: он появляется и распространяется
параллельно со становлением христианства в качестве
государственной религии с IV по VII века. В момент внешней и внутренней
опасности для христианской веры (нашествие арабов-мусульман и
иконоборческие споры), когда можно пострадать за веру от ее
врагов, подвиг юродства затихает. И вновь вспыхивает в период
относительного спокойствия в IX-X вв. (18, 82-85).
Священник И.Ковалевский, написавший апологию подвига
юродства в начале XX века, отмечал: "Путь юродства чрезвычайно
трудный и опасный путь. Как, подражая иногда безрассудству
людей самых низких, сохранять дух всегда возвышенный,
стремящийся к Богу, - постоянно ругаясь миру, обнимать однако же всех
совершенною любовию?! Наконец, как удержать себя от духовной
гордости тому, кто, перенося столько оскорблений и лишений,
сознает, что все это терпит он невинно и что он совсем не таков,
каким его считают многие. Это произвольное, постоянное
мученичество, это постоянная брань против себя, против мира и диа-
вола и притом борьба самая трудная и жестокая. (Разрядка моя.
- М.Р.)". (17,15).
Ковалевский точно подметил противоречивость юродства, его
постоянное балансирование на грани дозволенного и
недозволенного, греха и святости. В юродстве все доводится до логического
конца, до крайности, и это вкупе с моментом мнимости (кажимости,
обмана, лжи, симуляции и т.д.) рождает противоречия и
парадоксы, свойственные этому явлению. Как же все это совместить?
Какой в этом заключается смысл?
Источник выбора юродского жития, по-видимому, лежит в
древнем библейском образе "невинного страдальца"'. В юродстве
доводится до определенного конца мотив "невинного страдания",
"страдания праведника", который постоянно присутствует в Библии.
Вспомним страдания праведника Иова, которые особенно
усугублялись его невинностью перед Богом и людьми, а также какой
горечью этот мотив пронизан в книге Экклезиаста. Самым
безгрешным страдальцем был Богочеловек Иисус Христос. Он
единственно в чем отличался от падшей человеческой природы, тем, что
был без греха совсем. И Он претерпел самые ужасные смертные
муки, какие только может претерпеть человек. Таково было
искупление первородного греха человечества. Путь Спасителя
становится образцом для земного пути любого человека в Царство
Небесное.
Только перспектива посмертного воздаяния, воскресения
мертвых, Второго пришествия Иисуса Христа и Страшного суда
оправдывает и придает высший смысл существованию в мире невинного
страдальца. Такой страдалец как бы повторяет путь Иисуса
Христа, как бы уподобляется Богу. Но сразу следует оговорить тот
Очерки по истории смеха 195
момент, что, строго говоря, в земной жизни Иисуса Христа нельзя
усмотреть проявления юродства, так как он никогда не выдавал
себя за другого и никого этим не искушал. Он никогда не лгал. Но
говорил вещи столь выпадающие из общего ряда истин, что
апостол Павел имел полное право сказать: "Когда мир своею
мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было
Богу юродством проповеди спасти верующих" (1Кор.,1, 21).
Страдание дает человеку возможность прозрения и спасения, таково его
назначение в мире, согласно христианству. А из всех страданий
самые тяжелые, труднопереносимые - это невинные, поэтому они
вернее всего могут принести искупление, привести в Царствие
Небесное. Для того, чтобы страдания эти были невинные, необходимо,
чтобы никто не подозревал, что этот человек страдает без вины.
Надо, чтобы его праведность была скрыта. Люди могут гнать и
поносить человека, если убеждены в его греховности и
безнравственности. Но если они не знают, что он праведник, когда они
гонят и поносят его, то на них нет греха за это поношение. Они
своим незнанием как бы снимают с себя вину за гонения
праведника, которые тому необходимо претерпеть, чтобы им быть. "Если
бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы
говорите, что видите, то грех остается на вас". (Ин.,9,41).
Недаром, юродивые-святые так настаивают на соблюдении
тайны, вплоть до угроз тяжких наказаний разглашающим, или сразу
покидают то место, где тайна их разоблачена. Иначе нельзя
понять чем бывает вызвано столь строгое соблюдение тайны и
жестокость наказания, когда за разглашение тайны грозят адскими
муками. Возможно, что главный грех, который ощущает праведник
постоянно и который не дает развиться у него духовной гордыне
за переносимые невинно страдания - это, как раз, тот грех, что он
провоцирует, искушает людей. Поэтому юродивый-святой, как это
нам рассказывают жития все ночи проводит в тайных молитвах к
Богу о прощении людям, гонящим святого. Кроме того, на нем
лежит грех лжи, сокрытия, обмана, который также не дает
праведнику "почить на лаврах". Ведь мир лжи и обмана - это вотчина
дьявола. И когда он лжет, прежде всего, в самом своем мнимом
безумии, то он согрешает, попадает в руки нечистого. Но тут его
задача заключается в том, чтобы посрамить дьявола на его
территории, показать в полноте свое достигнутое совершенство в
бесстрастии, в умалении плоти, в попрании греха. Поэтому на такой
подвиг идут подвижники, уже подвизавшиеся в иночестве
длительное время, и обязательно, по внушению свыше. Об этом также
говорят все жития святых-юродивых.
Вот такой парадоксальный, несколько запутанный клубок
получается. Реконструировать это убеждение в наше время довольно
трудно, трудно понять бывает в наш атеистический век мотивы
196 Глава 3
столь глубоко религиозные и христианские. Но думается, что именно
такими соображениями руководствовались люди, принимавшие на
себя столь трудный подвиг.
Таким образом, скрытостъ, обман, ложь, мистификация
вызваны в юродстве, по-видимому, двумя соображениями и служат
достижению сразу двух целей. Во-первых, скрытостъ вызвана
необходимостью обретения "невинных страданий", которые вернее
всего служат достижению главной цели праведника - спасению,
соединению с Богом в Царстве Божьем, и которые страдалец
может получить через гонения от других людей. И, во-вторых,
избавлению этих людей от вины за гонения праведника
посредством их незнания, которое не вменяет им в вину грех гонения
святого. Получается парадоксальным образом, что скрытость
подвига позволяет соединить несоединимое: претерпение невинных
страданий и любовь к гонителям.
Скрытость подвига также важна и характерна только д^яя
периода господства христианской веры, когда она являлась
официальной религией в государстве и поддерживалась светской
властью. Для времени первых христиан, скажем, или для периода
иконоборчества в истории Византии, когда власть была враждебна
православной вере, подвиг святых заключался в том, чтобы
открыто, публично исповедовать христианскую веру. Поэтому и
необходимость в юродстве, то есть скрытом исповедании веры, как
подвиге для особо совершенных отпадает, и появляется вновь только
тогда, когда симфония властей светской и духовной более или
менее восстанавливается.
Любопытно, что исчезновение юродства на Руси совпадает с
гонениями на православную церковь, сначала которые совпадают с
церковным расколом при царе Алексее Михайловиче, затем
продолжаются во время Петра 1, и чуть далее, в эпоху Екатерины, то есть
когда намечается и осуществляется в ХУШ веке расхождение
между православной церковью и государством. Юродство как институт
христианского благочестия исчезает вместе со Святой Русью.
А.М.Панченко отмечает проявление парадоксальности, дву-
плановости юродства и по отношению к смеху: "Юродивый ведет
себя как шут..., но в то же время преследует дидактические цели".
(16, 103). "Когда скверные женщины затянули к себе Андрея Ца-
реградского и пытались его соблазнить, юродивый "нача плевати
часто и портом зая нос свой". Почему он так поступил?
Оказывается (так утверждает агиограф), не для того, чтобы оскорбить и
обличить грешных блудниц. Андрей Цареградскии узрел, что в толпе
соблазнительниц стоит смрадный черт, "блудный демон", т.е., по
всей видимости, Эрот...". (16, 103).
"Василий Блаженный, скитаясь по улицам Москвы,
задерживался у домов, "в них же живущий людие живут благоверно и пра-
Очерки по истории смеха 197
ведно и пекутся о душах своих... и ту блаженный остановляяся, и
собираше камение, и по углам того дома меташе, и бияше, и велик
звук творяше". Напротив, как заметили изумленные зрители, "егда
же минуяше мимо некоего дому, в нем же пиянство и плясание и
кощуны содевахуся, и прочия мерзъкая и скаредная дела творяху,
ту святой остановляяся и тому дому углы целоваше и аки с некими
беседоваше яже человеком непонятным разговором".
Значение этих загадочных для наблюдателя жестов,
оказывается, вот в чем: в дома праведников и благочестивых постников
бесовская сила проникнуть никак не может... и юродивый,
которому дано видеть утаенное от простых очей, их-то и побивает
каменьями... В домах пьяниц, блудников, зернщиков и кощунников
бесы ликуют и радуются, "аггели же божий хранители,
приставлении от святаго крещения на соблюдение души человечестей, в том
дому во оскверненном быти не могут". Этих-то ангелов, уныло
плачущих вне дома, и лобызал Василий Блаженный, с ними он и
беседовал "непонятным разговором". (16, 103).
A.M. Панченко особо отмечает зрелищность юродства, его
склонность к театральным эффектам, сравнивает его с институтом
европейских шутов . Только разницу между шутами и юродивыми
он усматривает в следующем: "Шут лечит пороки смехом,
юродивый провоцирует к смеху аудиторию перед которой разыгрывает
свой спектакль. Этот "спектакль одного актера" по внешним
признакам действительно смешон, но смеяться над ним могут только
грешники (сам смех греховен), не понимающие сокровенного,
"душеспасительного" смысла юродства. Рыдать над смешным - вот
благой эффект, к которому стремится юродивый" (16, 81).
Традиция приписывания смеху столь благой цели как
исправления общества в русской культуре восходит еще к Гоголю, в
чем надо сказать он совершенно разочаровался. Но "лечит" ли
смех, да еще смех средневековых шутов? Вряд ли они ставили себе
столь глобальные цели. Сама идея появилась в эпоху
Просвещения, и была связана с ее трепетным отношением к театру и с ее
надеждами, что театр, в том числе и комический, исправит нравы
общества, чего, однако, не случилось. Разница между шутом и
юродивым сводится к дидактическим целям последнего, когда зрелище
его шутовства идля грешных очей - соблазн, для праведных -
спасение" (16,91).
В юродстве ко всем его парадоксам добавляется противоречие
между "внутренним человеком" и "внешним". "Внутренне"
юродивый живет стремлением к Богу и добродетельной жизнью. Эту
свою "внутреннюю жизнь" он скрывает под "внешним" буйством,
надевает личину безумца. Этот конфликт между "внутренним" и
"внешним человеком" у юродивого более всего сближает его с
Сократом и его иронией.
198 Глава 3
Исследователи юродства указывают на сходство юродства и
кинизма, но сходство это внешнее, оно проявляется в похожем
образе жизни, полностью пренебрегающем приличиями. Но
идейные мотивы у них разные принципиально. Киники искренни во
всем, так как их принцип - "жизнь в согласии с природой",
доведенный до последовательного конца, предполагает самое полное
самовыражение, вплоть до публичных отправлений. У них нет тайн.
У юродивого же такой "безобразный" образ жизни призван скрыть
его "прекрасные" добродетели. Это очень напоминает соотношение
безобразного и прекрасного, внутреннего и внешнего в
сократической иронии.
Сократ самоуничижается перед своими собеседниками ради
благородной цели - получения знания, и юродивый
самоуничижается тоже ради высокой цели - своего спасения. Но у Сократа
результатом его самоуничижения является его самовозвышение,
недаром он прослыл среди греков самым мудрым. Ирония Сократа
- это жестокая насмешка над людьми, которым даже не просто
говорят, но доказывают, что они "дураки". Смех Сократа - это
смех гордости человека посвященного, знающего некую тайну,
истину, над глупцами, которыми оказываются все вокруг, Сократ
никого не щадит. Недаром для Сократа даже само добро оказывается
знанием. Знание выше всего, поэтому и знающий также
возносится.
Есть что-то в юродстве ироническое. Такое ощущение, что
юродивый как будто про себя посмеивается над людьми, которые
его обижают и "заушают". Юродивый был бы "ироником", если бы
не был христианином. Для него принцип "смеется тот, кто смеется
последним" не годится в принципе. Это принцип мести, а в
христианстве спасается тот, кто прощает своим личным врагам и молится
о них, что юродивый по ночам и делает. Юродивый своим
самоуничижением смиряет свою гордость, поэтому для него так важно,
чтобы тайна его не была раскрыта до смерти. Так что его
самоунижение не должно заканчиваться гордыней и самовозвеличиванием, а
наоборот, смирением и спасением. Кроме того, самоунижение
юродивого есть следование пути Бога, повторение кенозиса,
самоуничижения, Иисуса Христа. Юродивый следует словам "претерпевший
же до конца спасется".
Провести грань между шутом и юродивым, как и между
ироником и юродивым, также достаточно трудно. Подвиг юродства -
скрытый подвиг, поэтому можно усомниться в его дидактических
целях. Поскольку даже различие между юродивым-праведником и
просто юродивым-одержимым бесами скрыто, и на этой скрытости
строится все подвижничество, постольку вряд ли внешне можно
провести границу между действиями шута, скомороха и
юродивого.
Очерки по истории смеха 199
Разница лежит в области мотивации. Эту мотивацию A.M.
Панченко сводит к доминанте дидактических целей. Но чему может
научить зрелище безумства, нарушения общественных норм?
Единственно чему: "не верь глазам своим" (может быть, за этим
безумцем скрывается праведник, опять же из смирения скрывающий свою
праведность). Опять парадокс. А также мораль может быть такова:
стремись не осуждать ближнего своего, относись к нему с жалостью
и терпением.
Однако, дидактизм предполагает однозначность
положительности примера, образца, нормы, на которую надо ориентироваться. В
юродстве же нет этой однозначности, наоборот, мы все время имеем
дело с постоянными парадоксами, которые рождают сомнения и
двусмысленности. Последнее обстоятельство делает проблематичными
и дидактические цели и, соответственно, результаты. Но вряд ли
подвиг юродства имел целью исправление общественных нравов.
С.А.Иванов отмечает, что византийские юродивые с обличениями
против властей никогда не выступали. (18, 113-114). "...Юродивый
надевал личину мима не д,ля того, чтобы свободнее говорить
правду..., а чтобы полнее испить чашу унижения". (Там же, 125).
В русской традиции гораздо более выражена общественная
позиция юродивых, она даже вошла в русскую литературу. По
преданию юродивый Никола Салос спас Псков от опричного
разгрома в 1570 г. Иван Грозный после разговора с ним уехал из
Пскова. (18,147). Особенно иностранцы (Дж.Флетчер, Дж.Горсей)
отмечали общественное влияние юродивых на Руси. Но поскольку
русское юродство является преемником византийского юродства, и,
таким образом, оно вторично, значит, общественная активность
является скорее русской спецификой явления, чем относится к
характеристике его сущности. Интересно, что Иванов С.А. видит
причину этой приверженности русской культуры к юродству в
свойственном ей "бескомпромиссном стремлении к Абсолюту". (18,155)
С этим его мнением можно только согласиться.
Вероятнее всего, "ругаться миру" можно понимать не как
целенаправленное обличение мира (сатирического толка), а как
провоцирование мира на гонение праведника, при котором сам
"провокатор" также берет на себя вину за эту провокацию, что
парадоксальным образом позволяет ему достичь праведности. Это можно
понимать только как такой опосредованный укор миру. Но
главная цель тут - это собственное спасение. И не надо усматривать в
этом никакого индивидуализма или персонализма, позднейших
характеристик отъединенного существования человека. В
христианстве противоречие между личным спасением и общественным
служением снимается основной его заповедью любви к ближним,
когда "положить душу за други своя" значит спасти ее. Юродивый-
святой намеренно обрекает себя на одиночество, "умирает" для ми-
200 Глава 3
pa, чтобы обрести невинные страдания, так как, по-видимому, в
условиях господства христианской веры мир был не так плох,
чтобы гнать праведника, зная, что это - праведник. Праведников
почитали. Как раз для того, чтобы избежать этой славы святого и
связанного с ней почитания, он и удалялся в добровольный
"затвор в безумие на миру".
Кроме того, поскольку авторитет юродивых, скажем, на Руси,
был высок, постольку очень широко было распространено мнимое
юродство, когда выдавали себя за юродивых-праведников, не
будучи таковыми. Поэтому всегда присутствовало сомнение: этот
человек просто безумец или юродивый, а если юродивый, то юродивый
настоящий или мнимый?
Скрытость подвига юродства порождала постоянные
сомнения в юродивом и его действиях: Бог ли им движет или бесы в
нем играют? Поэтому из-за этой двусмысленности юродства и
связанных с ним возможных обманах и соблазнах отпадает не только
результативность проповеди, но этим обстоятельством порождено
неоднозначное отношение церкви к этому "сверхзаконному"
подвигу благочестия. Как известно, 60 канон Трулльского собора 692
года запретил юродство, предписав уравнять в строгостях и
тягостях положение "притворяющихся бесноватыми" и "бесноватых
по-настоящему". (18, 77). На Руси Собор 1666-1667 гг.
воспроизвел этот канон. После этого постановления отношения
Православной церкви к юродивым было всегда осторожным: подвиг
юродивых-святых признавался, но подражать им не рекомендовалось.
Юродство развилось на Востоке и было той формой, в которой
парадоксальным образом соединился смех и христианская святость.
На Западе христианского мира этот подвиг не получил
распространения. Зато на Западе были смеховые формы, которые такого
широкого и яркого развития на Востоке не получили. Речь идет о
карнавалах.
Карнавал
Что представлял собой средневековый карнавал? Карнавал -
это хорошо организованный городской праздник, в котором
принимают участие все городские сословия, и в котором доминирующей
чертой является маскарад и всеобщее веселье. В этом событии
городской жизни концентрируются все возможные праздничные и
смеховые формы того времени. В карнавал вливаются
всевозможные шутовские фестивали ("праздники дураков") и отдельные
смеховые формы.
Прежде всего, о хронологии. Дело в том, что карнавалы
упорно относят к средневековью. Если же мы обратимся к специаль-
Очерки по истории смеха 201
ной исторической, искусствоведческой литературе, то мы сразу
столкнемся с гораздо более конкретной хронологией, чем это размытое
"средневековье". И эта хронология очень показательна. Она
говорит о том, что в раннее и зрелое средневековье говорить о
карнавалах не приходится, их не было. Была праздничная жизнь, которая
строилась помимо церковной ее части достаточно спонтанно и, в то
же время, традиционно. Также, можем отметить, в целом
негативное отношение к смеху как со стороны духовенства, так и со
стороны разных сословий от низших до высших.
Но, начиная с XIII века в обществе начинает изменяться
атмосфера и меняется постепенно отношение к смеху. Оно движется
от полностью негативного к приемлемому и, затем, к очень даже
положительному. Вернее, зримая перемена отношения в обществе
к смеховым формам является показателем подспудных глубинных
процессов, которые вылились наружу в более позднее время в виде
Ренессанса и Реформации. Это выражается хотя бы в том, что
появляются легенды о "святых жонглерах", сюжет которых очень
прост, рассказывает о раскаявшемся добродетельном жонглере,
который посвящает свое искусство Богоматери. (13, 214-215).
Жонглер, гистрион, менестрель - почетная и важная фигура в
куртуазной символике с ее "грамматикой любви". Фома Аквинский в XIII
веке проповедует терпимость к человеческой жажде развлечений и
к ремеслу актера, "имеющего целью доставлять человеку
увеселение" (13, 213). Франциск Ассизский называл себя и своих
последователей "скоморохами Бога".
Апогея карнавальная жизнь, а вместе с ней развитие всех
форм смеха, достигают в XV-XVI веках. Если до XIV века
включительно отдельные элементы карнавала существовали отдельно,
и в целом он еще не оформился, то в XV-XVI вв. масленичный
карнавал уже имел свою законченную форму, ядром которой была
маскарадная процессия.(13, 167).
В XV веке процветают всевозможные шутовские гильдии,
особенно во Франции и Бельгии, объединяющие мелких судейских
чиновников, школяров, городской плебс. Первые упоминания о
шутовских фестивалях относятся к концу XII в., но апогея они достигли
в XIV- XV вв. (13, 161). На рубеж XV-XVI вв. приходится расцвет
нового комического жанра "соти", который методом аллегорий
изображал "безумный антимир, где действовали не бытовые персонажи,
а собирательные шутовские образы-маски: тщеславный воин,
судья-взяточник, алчный ростовщик, расточительная модница,
стремящийся к мирским наслаждениям священнослужитель" (13, 161).
С XV века светские шутовские общества молодежи
составляли постоянную "армию пародии". Все смеховые формы приобрели
отчетливо выраженную пародийную форму. В известной книге о
Рабле М.М. Бахтин отстаивает тезис о своеобразном, "амбивалент-
202 Глава 3
ном", лишенном пародийного и сатирического характера смехе
карнавалов. Подробно концепция М.М. Бахтина будет разобрана
ниже, тут только следует отметить, что она, несмотря на свою
оригинальность и привлекательность, не соответствует историческому
эмпирическому материалу, который носит отчетливо пародийный
характер. Можно привести для этого массу примеров, ограничимся
двумя, но выразительными.
"В некоторых церемониях осел находился в центре
внимания. Ежегодно на рождество справляли узаконенный церковью с
IX в. "ослиный праздник" в память библейского сказания о
пророке Валааме. "Валаам" ехал верхом на ослице в сопровождении
священников - "ветхозаветных пророков", провозглашавших
рождение Мессии. В воспоминание о бегстве святого семейства в
Египет праздник сопровождался и другой инсценировкой: переодетый
девушкой молодой человек с ребенком на руках или миловидная
девочка с куклой, представлявшие Деву Марию, триумфально
проезжали на осле от церкви по городским улицам в окружении
огромной толпы... Постепенно события священной истории
приобретают пародийную форму. К началу "ослиной мессы" у храма
появлялся осел в золотом церковном облачении. Перед главными
западными вратами его с почетом встречали клирики с бутылями
вина в руках, затем торжественно вводили в церковь и ставили у
алтаря. Осла приветствовало коленопреклоненное духовенство, ему
пели славословия и кадили благовониями. Каждую часть
бурлескной службы вместо "amen" заканчивали громогласным ослиным
ревом. Осел возил епископа глупцов... или подгулявшую девицу
легкого поведения...". (13, 163-164)
Дело в том, что пародия - всегда осмеяние, а осмеяние есть
обязательно смех насмешливый. А если есть насмешка, то какая
бы она не была своеобразная, обязательно, в той или иной мере она
включает в себя механизм уничтожения, уничижения, критики,
сатиры, как угодно. Другое дело, что критика и сатира ренессансные
совсем не похожи на сатиру и критику XIX-XX века, которые для
этого жанра сатиры служат точкой отсчета, классическим
образцом. Но критическое пародийное ядро сатирического жанра тут
налицо. Но, конечно, нельзя весь карнавальный смех, полный
неподдельного веселья и просто жизнерадостности, сводить к его
сатирической струе, но также нельзя ее совершенно исключать, и
рассматривать "карнавальный смех" совершенно
недифференцированно. В нем было и то, и другое. Поскольку карнавал был
наследником древних обрядов плодородия, в которых, как мы показали
выше, в единое целое были сплавлены смех естественный
психофизиологический, радостный, смех переизбытка энергии, и смех риту:
альный, постольку в карнавальном смехе представлены также
были и то, и другое: и смех радости, и насмешка.
Очерки по истории смеха 2 03
"Миниатюры "Книг Шембарта" показывают, что на
масленичных играх в позднесредневековой Германии усилились близкие
бюргерству сатирико-дидактические моменты. Карнавальное шествие
стало своеобразным аллегорическим "зерцалом" осуждаемых
людских пороков и недостатков. Комическому передразниванию
подвергали хорошо знакомые житейские типы, "ад" наполнили
представители разных сословий и профессий. В панораме многоликих
видов глупости проходили монахи-бражники и обжоры,
врачи-шарлатаны, псевдоученые астрологи, недалекие грубые крестьяне,
сварливые жены, торговцы, которые обвешивают покупателей, молодые
люди, обезумевшие от любви. Позднесредневековый карнавал,
особенно в период Реформации, допускал полемические выпады,
комически комментировал злободневные события. (Разрядка моя.
- М.Р.)". (13, 177).
"Праздники дураков" были особенно популярны у низшей
церковной и монастырской братии и среди студентов-вагантов, они
также приурочивались к церковным торжествам, первые
упоминания о них относятся к XII веку, а апогея они достигли в XIV-XV
вв. "В рождественские и новогодние "интеллектуальные
каникулы" с их вседозволенностью младшие чины церкви пародировали
культовые ритуалы и священные тексты. Неф собора превращался
в зал для танцев, литургия - в псевдорелигиозный фарс. "Во время
самой службы дьяконы и субъдьяконы в чудовищных харях и
одеждах женщин, сводников, гистрионов пляшут в храме, поют на
хорах непристойные песни, едят кровяные колбасы возле
алтаря...тут же играют в кости и наполняют церковь зловонным
дымом кадил, в которых сжигают куски старых подошв, скачут по
всей церкви и не стыдятся своих срамных плясаний и скаканий"...
(Окружное послание богословского факультета Парижского
университета от 12 марта 1444 г.). Уже в конце XII - начале XIII в.
"праздники безумных" подвергались интердиктам со стороны
высшего духовенства. Последние запретительные ордонансы
датированы концом XVI - началом XVII в. Игра и веселье,
"покрывающие стыдом духовную честность", вызывали резко отрицательную
реакцию в протестантскую эпоху" (13, 161-162).
Важным моментом карнавального зрелища было
провозглашение короля или императора дураков. По-видимому, эта фигура
"праздничного царя" восходила к "царю" сатурналий, обряд
которых включал его возведение на трон, краткое царствование, а затем
казнь. По политическому сыску 1666 г. известно о возведении
"праздничных царей" на масленичном маскараде у тверских
крестьян. "Царский завод" с комическими знаками отличия (воронка
вместо венца, носилки взамен престола, лукошки в качестве
барабанов, "платишко" на шесте вместо знамени, драницы вместо
ружей) власти расценили как "воровской обычай" - самозванство.
204 Глава 3
Крестьянским "царям" отсекли по два пальца правой руки, их
били кнутом "нещадно" и сослали с семьями в Сибирь. (13, 164).
В отечественной литературе распространилась совершенно
абсурдная идея, что подобные пародийные праздники не
противоречили сложившемуся средневековому порядку вещей, что
"пародийное высмеивание входило в контекст серьезного, сакрального". (13,
162). Но постоянные послания, интердикты, запрещающие и
осуждающие подобные бесчинства в церкви говорят об обратном. К
тому же, в христианской вероучительной доктрине нет ничего
такого, что санкционировало бы подобное поведение в церкви,
напротив, весь дух христианского учения говорит о другом, прямо
противоположном, рассматривая такое поведение как проявление
дьявольского начала. Кроме того, все исследователи сходятся в том,
что основа карнавальных празднеств была языческая, корни их
уходили в глубокую древность, к культам плодородия, к
почитанию умирающих и воскресающих божеств. Можно предположить,
что распространение подобной практики было вызвано "духом
времени", но отнюдь не всем средневековым периодом истории, а
именно этим временем смены эпох, глобальной ломки
хозяйственных укладов, идеологий, образа жизни, ценностей.
В недрах феодализма вызревал капитализм, с этими
подспудными изменениями был связан и сдвиг в ценностях, который
привел к тому, что западное христианство раскололось, появился
протестантизм. Весь Ренессанс пронизан оживлением языческих
мотивов в искусстве и в жизни. Нельзя недооценивать в этом
сложном процессе роль всеобщих праздников, карнавалов и т.д.,
которые, по словам исследователей, меняли местами "верх" и "низ",
создавали атмосферу относительности всех ценностей, тем самым
способствуя расшатыванию старого порядка, а вот "амбивалентному"
нарождению нового - это вряд ли, хотя смотря о чем идет речь.
Центральным событием карнавала была пышная
театрализованная маскарадная процессия, к которой горожане тщательно
готовились. По ходу шествий исполнялись фарсы, показывались
живые картины, пантомимы, дидактические и сатирические пьески. В
заключение брали штурмом и сжигали модель "ада" в виде
корабля, или в виде крепости, или в виде бородатого гиганта-людоеда
"Пожирателя детей". Фантазии не было предела. Во Франции и
Нидерландах центральным эпизодом последнего дня карнавала
("жирного вторника") была битва между Масленицей и Великим
Постом. У Брейгеля есть знаменитая картина на эту тему, которую
В.П. Даркевич назвал "истинной фольклорной энциклопедией",
"хроникой" масленичных гуляний. Приведем несколько выдержек из
его замечательного комментария к этой картине П.Брейгеля,
которая наилучшим образом дает почувствовать саму атмосферу
карнавала.
Очерки по истории смеха 20 5
"Площадь фламандского городка и соседние улицы, тесно
застроенные домами, кишат маленькими пестрыми фигурками. В
многолюдной толпе порой исчезает различие между человеческим
лицом и гротескной маской. Засилье маскоподобных физиономий
отвечает карнавальному мироощущению: бурлящая безликая
масса поглощает отдельную личность.
На переднем плане тучный и наглый король карнавала, или
просто Карнавал, вступает в сражение с тощей бесполой фигурой -
олицетворением Поста. "Герольд" с трехцветным флажком подает
сигнал к сближению противников. Похожий на мясника
Карнавал, румяный здоровяк с лоснящейся от жира рожей, вооружен
вертелом-"копьем". На острие нанизаны свиная голова, жареная
домашняя птица, ветчина. Копченая свиная голова - ритуальное
масленичное блюдо: в "обжорные" дни закалывали специально
взращенную свинью. Карнавал оседлал винную бочку, водруженную на
салазки и спереди украшенную свежим окороком, прибитым
ножом. Стременами пузану служат начищенные медные котлы,
шлемом - паштет из птицы (отражение обычая есть жирную курицу в
день карнавала). Возле бочки Карнавала разбросаны игральные
карты (намек на азартные игры, излюбленные в то время),
разбитые яйца, употреблявшиеся при изготовлении вафель, свиные
кости - отбросы "жирной кухни". Грех чревоугодия воплощает и
свинья, пожирающая фекалии возле колодца... (Разрядка моя. -
М.Р.)". (13, 177-178).
"Изможденный и унылый Пост, увенчанный пчелиным ульем
(напоминание о чистой пище небесного происхождения - меде
постных дней; улей - символ умеренности, прилежания и верности
христианской церкви), выезжает на шутовской турнир с
деревянной лопатой пекаря вместо копья. На лопате лежат две селедки -
главное блюдо "пепельной среды" (первый день великого поста) в
Нидерландах. В другой руке он держит пучок сухих прутьев, образ
бесплодия (или розгу, "чтобы сечь маленьких детей"). "Колесницу"
Поста - платформу на колесиках - тащат монах и монашенка,
чахлые, бледные, хмурые. "Император рыбоедов" восседает на
церковном стуле, на который повешены четки из луковиц: лук - один
из видов еды во время поста. На платформе разложены
"деликатесы" постного времени: корзина с сушеными фигами, крендели,
сухие лепешки...
Произведение Брейгеля, который смотрит на человеческий
муравейник как будто с дозорной башни, интерпретируют на двух
уровнях - буквальном и аллегорическом. Оно построено по
принципу контраста, отражает средневековую дихотомическую модель
мира, оппозицию антагонистических начал: дней "жирных" и
"тощих", зимы и весны, народных игр ("церковь дьявола") и
набожности". (13, 181-182).
206
Глава 3
"Пляски смерти"
В средние века люди, постоянно помня о смерти и размышляя
о ней, как это не парадоксально, не боялись смерти, они готовились
к ней всю жизнь и знали, что она несет с собой. Более того, для их
христианского сознания посюсторонняя жизнь была только пре-
дуготовлением для жизни вечной, они были убеждены, что смерти
как таковой нет. Очень ярко об этом свидетельствует
средневековое искусство, в котором смерть, по удачному выражению
знаменитого французского историка Жака Ле Гоффа, является "великим
отсутствующим": "Среди многих страхов, заставлявших их
(людей средневековья) дрожать, страх смерти был самым слабым;
смерть - великий отсутствующий средневековой иконографии".
(12, 143). "Изображения ее появляются в редчайших случаях,
причем иконографически они не имеют ничего общего с мертвецами и
скелетами XV столетия. В искусстве средневековья смерть
предстает в обычном человеческом обличье, смысл же изображенного
раскрывается с помощью надписей или атрибутов. В большинстве
случаев это апокалиптический всадник на "бледном коне",
скачущий в ряду трех других". (12, 143-144).
Это положение о смерти в средневековье как "великом
отсутствующем9* вступает в противоречие с распространенным
мнением в нашей литературе о страхе перед смертью, который
буквально "пронизывал" все средневековье, это - общие места любой
книги об этом периоде истории. Искусство всегда является
"лакмусовой бумажкой" менталитета эпохи.
Ц.Г.Несселыптраус, интересную статью которого ("Пляски
смерти" в западноевропейском искусстве XV в. как тема рубежа
средневековья и возрождения") мы цитировали выше, также
отмечает, что "в неспециальной литературе очень часто можно
встретить упоминание "Плясок смерти" и других макабрических
сюжетов как типичных для всего средневековья. Например, Бертран
Рассел в статье "Жизнь в средние века" (1925 г.) характеризует
"Пляски смерти" как "любимый сюжет средневековья" (Рассел Б.
Почему я не христианин. М., 1987. С. 63). Подобная точка зрения
проникла в отечественную литературу, в особенности, при
противопоставлении средневековой культуры и Возрождения". (12, 143,
прим.).
"...Смерть в интерпретации средневековья - зло,
побежденное Христом, что составляет разительный контраст с
характерными для XIV-XV столетий "Триумфами смерти" или
изображения ее в виде царицы, повелевающей людьми. Приведем для
примера гравюры из книги Иоганна фон Зааца "Богемский земле-
Очерки по истории смеха 207
пашец", изданной в 1463 г. в Бамберге Альбрехтом Пфистером.
Здесь смерть предстает в виде мертвеца в короне и со скипетром в
руке, восседающего на троне". (12, 144)
Тема смерти и макабрические мотивы появляются достаточно
поздно, во второй половине XIV века, и пронизывают
западноевропейскую культуру второй половины XIV-XV столетий. Во фресках,
в алтарной живописи, скульптуре, в литературе разных жанров и
направлений постоянно встречаются сюжеты "Трое мертвых и трое
живых", "Триумф смерти", "Пляски смерти", "Искусство умирать".
Смерть предстает в них то как старуха с косой, проносящаяся над
землей на перепончатых крыльях летучей мыши, то в виде
мертвецов с остатками плоти на костях, то в виде скелетов. "Над
живыми смеющаяся смерть", - так можно было бы охарактеризовать
эти макабрические образы. Не последнее место в них занимал смех.
"Триумфальные танцы скелетов, погоня мертвецов за людьми,
нескончаемые хороводы, куда мертвые вовлекают живых,
гримасничающие черепа кладбищенских оссуариев, леденящие кровь
картины тления - таков неполный репертуар макабрических образов
в искусстве второй половины XIV-XV столетий" (12,141).
Возможно, столь широкое распространение этих сюжетов в искусстве
XV века объясняется в качестве непосредственного повода
эпидемиями чумы, которые, начиная с 1348 года, периодически
опустошали европейские города. Столетняя война, голод, вторжение
турок также внесли свою лепту. Но не только эти события
послужили причиной "панического страха смерти, охватившего в XV
столетии население Европы". (12,141).
Ц.Г.Несселыптраус согласен с мнением современного
французского историка Жана Делюмо, считающего успех темы смерти
одним из проявлений великого страха, который охватил Европу
в переломный период ее истории. "Тогда были поколеблены
казавшиеся дотоле незыблемыми основы средневекового общества -
папство, авторитет которого был подорван авиньонским пленением
и последовавшей за ним великой схизмой, и империя,
подвластность которой законам времени была продемонстрирована
крушением тысячелетней Византии и глубоким кризисом Германской
империи. Эти события сопровождались социальными
потрясениями, распространением ересей и реформационных движений,
наконец, новой самой сильной вспышкой эсхатологических ожиданий,
приуроченных к 1500 г.
В литературе, посвященной "Пляскам смерти", подробно
рассматривался также вопрос об истоках этой темы. Бесспорно, тема
смерти всегда волновала человечество, и многое в культуре XV
столетия опирается на традиции, восходящие к глубокой
древности. Однако, вопреки чрезвычайно распространенному мнению,
тема смерти, как она предстает в литературе и изобразительном
208 Глава 3
искусстве XV в., не была унаследована от средневековья... В
поэзии средневековья власть, могущество, слава объявляются
призрачными с позиций "презрения к миру", тогда как в стихах Вий-
она звучит горькое сожаление о быстротечности времени и
мимолетности земных радостей". (12, 142-143).
"Из всех вариантов макабрических сюжетов наиболее
распространены в XV веке "Пляски смерти". Особенно популярны
они во Франции и Германии. Литературная редакция их
возникла, по-видимому, в конце XIV в., а изобразительный вариант - в
первой четверти XV в. Полагают, что одной из первых росписей
на эту тему была знаменитая фреска на стене галереи кладбища
при монастыре в честь невинно убиенных младенцев в Париже,
выполненная в 1423 или 1424 г. Кладбище это было одним из
самых популярных мест в тогдашнем Париже... Хоронить здесь
считалось почетным, а так как места всегда не хватало, старые
могилы раскапывали, а кости ссыпали в открытые оссуарии,
выставленные напоказ публике, охотно посещавшей кладбище. Это
служило наглядным примером всеобщего равенства перед
смертью.... Идеей всеобщего равенства перед смертью проникнут и
замысел росписи, состоявшей из длинной вереницы танцующих
пар. Представители всех сословий вовлекались здесь в хоровод
их партнерами-мертвецами, представленными в виде скелетов с
остатками плоти и вскрытым чревом... (Разрядка моя, - М.Р.)".(12,
146).
"Хельмут Розенфельд, Штефан Козаки и другие
исследователи, занимавшиеся "Плясками смерти" сходятся на том, что
танцует в хороводах не сама смерть, а лишь ее посланцы. Это мертвецы,
умершие двойники тех, кого они вовлекают в хоровод. Поверья о
кладбищенских плясках идут вразрез с церковным учением об
отделении души от тела в момент кончины человека. Долгое время
эти поверья осуждались как языческие... Лишь на исходе
средневековья, в XIV в., возникла компромиссная версия о "бедных
душах" - душах чистилища, иногда возвращающихся в свои тела. И
все же исключительная популярность "Плясок" никогда не
одобрялась церковью. (Разрядка моя. - М.Р.)". (12, 147).
"Итак, тема "Плясок смерти" не является средневековой.
Художественная культура той поры отразила скорее страх перед
адом, нежели перед концом земного существования. По
выражению Ле Гоффа, исмерть была первым открытием человека на
пороге нового времени. Страх смерти нашел отражение в
искусстве тогда, когда человек вновь открыл ценность сотворенного,
не вечного земного мира, подвластного законам времени. Именно
тогда появились персонифицированные изображения смерти и ее
посланцев в виде наводящих ужас мертвецов и скелетов и была
создана новая иконографическая традиция, не имеющая аналогий
Очерки по истории смеха 2 09
в искусстве средних веков поры его расцвета и зрелости.
(Разрядка моя. - М.Р.)". (12, 148).
На смену средневековой христианской идее равенства всех
перед Богом и его воздаяния по справедливости за прожитую
жизнь, следовательно идее неравенства всех перед смертью,
приходит идея равенства всех перед смертью. А равенство это перед
смертью находится в противоречии с идеей христианского
спасения и бессмертия. Та самая идея, которая в книге Экклезиаста
делала жизнь бессмысленной и земные радости и удовольствия
призрачными и тщетными. В эпоху Возрождения люди стали
ценить жизнь земную больше жизни небесной. На примере
распространения макабрических сюжетов в эпоху Ренессанса видно
выдвижение на первый план дохристианского, языческого
мироощущения и ценностей, по-новому переосмысленных.
Образ исмеющейся смерти" появляется на рубеже эпох, ярко
отражает смену ценностей и ориентиров, и может послужить даже
как бы эпилогом к уходящему средневековью и прологом к
грядущему Новому времени.
210 Глава 3
Миф о смехе Бахтина
Книга М.М. Бахтина "Франсуа Рабле и народная культура
средневековья и Ренессанса" имела счастливую судьбу, ни один
сколько-нибудь себя уважающий гуманитарий не мог ее оставить
не прочитанной. И она имела в 60-70-е годы весьма позитивное
значение, поскольку привлекла внимание к теме средневекового
смеха. Многие исследователи признавались, что обратились к
смеху под ее влиянием.
Главное, что обуславливает обаяние книги М.М. Бахтина о
Рабле - это ее принципиальная концептуальность и, можно
сказать, философичность. Именно это обстоятельство, по-видимому, и
явилось одной из основных причин ее популярности на фоне
философского однообразия диамата и истмата. В основе монографии
лежит целостная концепция, которую автор старается провести
последовательно через весь исторический и литературный
материал. Вот эта концепция и будет предметом нашего интереса.
Но почему-то критики книга не вызвала почти вовсе, если не
считать нескольких общих статей, где автора все-таки больше
хвалили, чем разбирали его труд по существу. Поэтому придется
остановиться на работе М.М. Бахтина довольно подробно, поскольку
она касается непосредственно нашей темы. Жаль только, что
предварительная работа по критическому осмыслению книги Бахтина,
практически, не выполнена специалистами по средневековью и
Ренессансу, что делает нашу работу более широкой, к сожалению,
увеличивает ее объем, заставляет обращаться и к эмпирическому
материалу.
Теория хороша тем, что она дает ключ к фактам, связывает их
в целостную картину, но, с другой стороны, если теория не верна
или устарела, то она, задавая неверный угол зрения на предмет,
искажает картину и мешает его дальнейшему исследованию. Именно
последнее происходит, по нашему мнению, с концепцией Бахтина.
В любом случае, любая теория нуждается время от времени в
критической проверке и тут не должно быть исключений.
С.С. Аверинцев в своих двух статьях, посвященных
концепции смеха М.М. Бахтина и ее соотношения с христианской
культурой, отмечает "абсолютизацию смеха" у Бахтина и крайности его
концепции, рассматривающей смех исключительно как
позитивную ценность, как средство достижения свободы без насилия. (36,
37).
Кстати, Л.В.Карасев, автор интересной книги о смехе
("Философия смеха" М.,1996), также пишет в предисловии о
необходимости преодоления гипноза концепции М.М.Бахтина, о необходимо-
Очерки по истории смеха 211
сти пересмотра и обновления подходов к смеху. Но он полагает,
что о "карнавале" и "амбивалентности" все уже сказано, и он,
конечно, прав. Но развернутой позитивной критики концепции
М.М.Бахтина в нашей литературе нет, а она необходима и для
того, чтобы отдать ей должное, показать ее значение, и,
одновременно, выявить ее ограниченность, и постараться ее преодолеть. Иначе
говоря, снять с нее мифологический ореол и включить в
нормальный научный процесс поиска истины.
"Народная смеховая культура
средневековья и Ренессанса"
Концепция М.М. Бахтина смеха и образности Рабле, их
неадекватного понимания в истории культуры, базируется на
допущении того, что в творчестве Рабле проявилась древняя культура,
которая в дальнейшем была утеряна. Поэтому книга Рабле "Гар-
гантюа и Пантагрюэль" нуждается в расшифровке. Ключом для
последней может быть реконструкция этой культуры по
остаточным ее явлениям. Это своего рода культурологическая или
литературная "археология". Загадка Рабле - это загадка почти
утерянной "народной смеховой культуры средневековья и Ренессанса".
Роман Рабле "должен стать ключом к мало изученным и почти
вовсе не понятым грандиозным сокровищницам народного смехо-
вого творчества". (27,7-8). Эта "народная смеховая культура" не
понята потому, что "специфическая природа народного смеха
воспринимается совершенно искаженно, так как к нему прилагают
совершенно чуждые ему представления и понятия о смехе,
сложившиеся в условиях буржуазной культуры и эстетики нового
времени" (27,8).
"Народная смеховая культура" включает в себя: 1) обрядово-
зрелищные формы (празднества карнавального типа и др.), 2)сло-
весные смеховые произведения, устные и письменные, на
латинском и на народных языках, 3) различные формы и жанры
фамильярно-площадной речи (ругательства, божба и др.). (27, 9). Они
отражают "единый смеховой аспект мира". Все эти формы
взаимосвязаны, "обладают единым стилем и являются частями и
частицами единой и целостной народно-смеховой, карнавальной
культуры". (27, 8). Эта культура своими корнями уходит в ритуальный
смех, римские сатурналии и греческие дионисии.
Концепция "народной смеховой культуры" М.М. Бахтина
основывается на его идее принципиальной раздвоенности
средневековой культуры на "официальную", церковную, "односторонне
серьезную" и "народную культуру", ядром которой служит карнавал и
смеховое начало. Вторая противостоит первой. "Целый необозри-
212 Глава 3
мый мир смеховых форм и проявлений противостоял официальной
и серьезной (по своему тону) культуре церковного и феодального
средневековья". (27, 8). Существо этого противостояния так
описывает автор: "Все эти обрядово-зрелищные формы, как
организованные на начале смеха, чрезвычайно резко, можно сказать
принципиально, отличались от серьезных официальных - церковных и
феодально-государственных - культовых форм и церемониалов.
Они давали совершенно иной, подчеркнуто неофициальный, вне-
церковный и внегосударственный аспект мира, человека и
человеческих отношений:, они как бы строили по ту сторону всего
официального второй мир и вторую жизнь, которым все
средневековые люди были в большей или меньшей степени причастны, в
которых они в определенные сроки жили. Это - особого рода
двумаркость, без учета которой ни культурное сознание
средневековья, ни культура Возрождения не могут быть правильно
понятыми". (27,10).
М.М. Бахтин считает, что такой "двойной аспект восприятия
мира и человеческой жизни существовал уже на самых ранних
стадиях развития культуры". Это - смеховые культы
("ритуальный смех"), мифы пародийные и бранные, двойники-дублеры героев
и др. Сначала, по мнению автора, "серьезный и смеховой аспекты
божества, мира и человека были, по-видимому, одинаково
священными, одинаково, так сказать, "официальными"... Но в условиях
сложившегося классового и государственного строя полное
равноправие двух аспектов становится невозможным и все смеховые
формы - одни раньше, другие позже - переходят на положение
неофициального аспекта, подвергаются известному переосмыслению,
осложнению, углублению и становятся основными формами
выражения народного мироощущения, народной культуры". (27,11).
Во-первых, столь категоричное разделение на две: серьезную,
официальную и неофициальную, смеховую и народную, причем
подлинность утверждается именно за последней, сразу настораживает, и
очень напоминает ленинское разделение культур на буржуазную и
пролетарскую, последняя, конечно, тождественна с народной. В
статье "Критические заметки по национальному вопросу" (1913)
Ленин утверждал: "В каждой национальной культуре есть, хотя бы не
развитые, элементы демократической и социалистической
культуры, ибо в каждой нации есть трудящаяся и эксплуатируемая
масса... Но в каждой нации есть также культура буржуазная (а в
большинстве еще черносотенная и клерикальная) - притом не в
виде только "элементов", а в виде господствующей культуры". (Поли.
Собр. соч., т.24. С. 120-121). То есть практика подобного деления,
слишком категоричного и все чрезмерно упрощающего в угоду
апологетики, была введена отнюдь не М.М. Бахтиным. И понятно,
почему она была воспринята в советское время специалистами как
Очерки по истории смеха 213
должное.
Если следовать М.М. Бахтину, то официальные в средние
века в Европе христианство и основанная на нем культура никак не
могли иметь народный характер. Но ведь это не так.
Общеизвестно, что в средние века христианство пронизывало вообще все
сферы жизни европейцев, от обыденного быта до праздников, от мира
до войны всегда и во всех слоях населения. Любой учебник по
истории средневековья содержит этому множество примеров, от
религиозного народного воодушевления в кризисные периоды войн и
эпидемий, вылившегося даже в форму крестовых походов, до
обыденной жизни, цикл и ритм которой до мелочей определялся
христианскими ценностями. Как "официальный" план, культуры в
средние века, так и "неофициальный" были христианскими.
Другое дело, что были, конечно, подпольные пласты культуры,
и последние, в основном, были связаны или с какими-нибудь
сектантскими движениями, либо с различными формами прежних
языческих верований народов. И надо сказать, что характеристика
Бахтиным "подлинной праздничности" и связи ее с "материально-
телесным низом" как раз и говорит о ее языческой природе. И
тогда противостояние "второй жизни", "второго мира" этих
языческих рецидивов христианству становится совершенно понятным.
Недаром М.М. Бахтин постоянно подчеркивает мировоззренческую
основу "смеховой культуры", отличную от христианской
"господствующей правды" и "высшие цели", соответственно, отличные от
высших целей христианства. Но тут же он пишет, что "все
карнавальные формы последовательно внецерковны и внерелигиозны".
(27,11). Внецерковны, может быть, но внерелигиозными никакие
формы жизни в средние века просто быть не могут, тем более,
праздники. Они просто могут быть связаны с иной религией, чем
христианство. И это действительно так, ведь, по мнению и самого
автора, эти смеховые формы восходят к языческой обрядности: к
ритуальному смеху, к сатурналиям и дионисиям.
Во-вторых, постулируемая М.М. Бахтиным "двумирность"
превращает средневекового человека в человека с расщепленным
сознанием, фактически, в больного. Ведь от того, что один и тот же
человек и смеется, и плачет, и бывает серьезным, от этого он не
перестает быть самим собой, целостной личностью. Наличие
разных состояний у него еще не является показателем его "двумирно-
сти", он не раскалывается в самом себе на "человека смеющегося"
и "человека серьезного", и первый не противопоставляется
второму. Если же это происходит, то можно констатировать
расщепление сознания, что является показателем болезненного
психического состояния. Кстати, З.Фрейд использовал термин
"амбивалентность", который по Бахтину является одним из определяющих
средневековый смех свойств, как раз, для характеристики таких пато-
214 Глава 3
логических двойственных состояний. Раздвоение личности,
наличие у нее "второй жизни", как это замечательно художественно
показал еще Ф.М. Достоевский в "Двойнике" на примере образа
господина Голядкина, заканчивается безумием и сумасшедшим
домом. Так, может быть, средневековые люди страдали
помешательством? Не больше, чем современные люди, а, может быть, и меньше.
Скорее, тут можно предположить модернизацию, приписывание
средневековым людям особенностей сознания современного человека.
Но вообще-то все сложнее. Дело в том, что расцвет
карнавалов в Западной Европе приходится на позднее средневековье,
начало Возрождения, то есть на переходное время от одной эпохи к
другой, к Новому времени. Поэтому в этот период, когда все
"поплыло", неизбежны были всякие значительные подвижки понятий,
ценностей, наложение их друг на друга или, наоборот, их
непримиримый конфликт. Не мудрено, что тут, в условиях начавшегося
хаоса ценностей, их релятивизации, наступило время как бы
"всеобщего безумия" у когда все смешалось, когда могли всерьез решить,
что все относительно, что вместо "лица" может быть "зад", а вместо
"верха" - "низ". Этот феномен очень точно подметил М.М. Бахтин,
назвав его "карнавализацией сознания", и он же верно отмечал, что
"карнавализация сознания" предшествует крупным катастрофам.
"Смеховое начало и карнавальное мироощущение, лежащие в
основе гротеска, разрушают ограниченную серьезность и всякие
претензии на вневременную значимость и безусловность
представлений о необходимости и освобождают человеческое сознание, мысль
и воображение для новых возможностей. Вот почему большим
переворотам даже в области науки всегда предшествует, подготовляя
их, известная карнавализация сознания (разрядка моя - М.Р.)".(27,
58).
Начало Возрождения было карнавально веселым, а конец -
кровавым и трагическим. Реформация сменила Ренессанс и
утвердила незыблемость новых ценностей, вернее переосмысленных по-
новому старых христианских. Действительно, вслед за
карнавалами в Европу пришли жесточайшие войны и она почти совсем
обезлюдела, особенно Германия, в результате Тридцатилетней войны, да
и другие страны заплатили свою цену.
"Карнавализация сознания" по сути означает "выбивание из
седла", потерю человеком всяких ориентиров, наступление "эры
относительности" всего, иначе говоря, "переоценку ценностей" или,
точнее, ее первоначальную щадящую стадию, когда прошлое
делается нелепым, смешным и ненавистным, а будущее желанно и
привлекательно, видится еще туманно и "в розовых тонах".
Дальнейшее движение истории, как показывает опыт, развеивает эти
первоначальные массовые иллюзии при наступлении жесткой
реальности, проходит и смех. Комедия переходит в трагедию. Как правило,
Очерки по истории смеха 215
судя по феномену "карнавализации сознания" и по истории,
карнавалы всегда "беременны" катастрофами.
В-третьих, идея, сходная с "двумирностью" М.М. Бахтина,
присутствует в работах О.М. Фрейденберг относительно пародийной
природы смеха и комического. "Двуединый мир постоянно и во
всем имел две колеи явлений, из которых одна пародировала
другую... Солнце сопровождалось "тенью", небо - землей, "суть" -
призраком, и "целое" достигалось только присутствием этих двух
различных начал. Говоря античными терминами, этот второй план
- гибристический. Мы его называем на нашем языке пародийным.
И это было бы правильно, если бы наше слово "пародия" не
отдавало абстракцией и не уводило к преднамеренности и
литературщине. Античная же пародия имела совершенно иную природу.
Она представляла собой гибристический аспект серьезного, во всех
деталях "выворачивающий наизнанку" подлинность и неизменно
сопровождавший как часть двучлена все настоящее. То, что было
священно, имело свое сопровождение в своей же "тени" и
"изнанке". Весь этот крупный мировоззрительный план, обратный и
противительный можно обозначить как план нарушителъный и
мнимый, в котором все формы совпадают с внешними формами
подлинности, но не имеют ее истинной сути (Разрядка моя -
М.Р.)". (29, 282).
Идея О.М. Фрейденберг о "двуедином мире" глубже и
адекватнее историческим и литературным реалиям, чем "двумирность"
М.М. Бахтина. Очень любопытна сама мысль о пародийном
двойнике, "тени", "изнанке" всех серьезных и подлинных явлений,
причем этот пародийный дублер совсем необязательно имеет
комическую форму. Самое главное, что О.М. Фрейденберг ясно пишет, что
этот пародийный двойнический аспект имеет отрицательный,
"нарушителъный и мнимый" характер, заключающийся в
повторении в пародии только внешней формы без подлинной сущности
явления. Ни о какой самостоятельности и "подлинности" этого
"второго мира", на чем базируется весь пафос книги Бахтина, речи
быть не может, наоборот, О.М. Фрейденберг подчеркивает его
мнимый, зависимый и "изнаночный" характер. Эти мысли О.М.
Фрейденберг очень близки нашей концепции комического о его мнимой
и двойнической природе, и поэтому остается только сожалеть, что
эта идея не была разработана ею детально, а лекции, читанные в
30-годы не были подготовлены ею самой для печати, тогда бы
многое в тексте прояснилось и логически выстроилось, а в таком
сыром виде в лекциях много пропусков (многоточий) и обрывов
мыслей, что очень затрудняет понимание.
Интересно и то, что О.М. Фрейденберг писала о
положительном и отрицательном аспектах мира, их сущности, то есть о том, что
в концепции Бахтина получило другое толкование под термином
216 Глава 3
"амбивалентность" (тут же следует отметить, что этим термином
сама О.М. Фрейденберг активно пользовалась, как и другие ученые
"семантического" направления еще в 20-е годы (29; 60, 533).
"Семантически речь идет о положительной и отрицательной
потенции, воплощенной в мифологических образах
космоса-созидания и космоса-разрушения". (29, 283). "Мифологические
варианты (в "Поэтике" я их называла мифологическими метафорами),
передающие эти два образа многочисленны. Но суть у них одна:
перипетия перехода чистого животного в нечистое (смерть) или
нечистого животного в чистое (обновленное рождение)... Катарти-
ческие образы всегда двучленны: линия "чистого" сопутствуется
линией "нечистого". То, что можно условно назвать
положительным началом, выражено многообразно в эпосе и лирике, в трагедии,
в философии. Но отрицательный план более однообразен в своей
архаике и на редкость верен самому себе: он везде и во всем
остается в античном смысле комическим. Вот почему я и начала с того,
что категория комического как основное проявление принципа
пародии является для античности универсальной" (Разрядка моя -
М.Р.). (29, 283).
Создается впечатление, что разработанную для античности идею
О.М. Фрейденберг о "двуедином мире", и о положительном и
отрицательном началах мира, М.М. Бахтин, совершенно ее переработав,
экстраполировал на средневековье. Только у него все наоборот:
"народная смеховая культура" объявлена подлинной, ибо именно
она обладает "подлинной праздничностью", где человек
"возвращается к себе самому", "ощущает себя человеком среди людей" и
обретает "подлинную человечность" (27,15), по его словам, в то время
как серьезные праздники "изменяют подлинной природе
человеческой праздничности". (27, 15). Позитив становится негативом.
Но парадокс у М.М. Бахтина заключается в том, что при всей
"подлинности" "вторая жизнь, второй мир народной культуры
строится в известной мере как пародия на обычную" (Разрядка
моя - М.Р.). (27,16). То есть карнавальная жизнь, будучи
пародией, еще и обладает сущностной подлинностью того, пародией
чего она является.
В текстах О.М.Фрейденберг хорошо показано, да это известно
и из теории литературы, что пародия "паразитирует" на том, что
пародирует и самостоятельной субстанциальной, то есть
сущностной, ценности не имеет, потому она и "тень" и "изнанка" чего-либо.
Поэтому одновременно нельзя обладать подлинной сущностью и
быть пародией. Надо сказать, что таких логических несуразностей
в книге много, но автор этого как будто не замечает. Возможно, что
это вызвано тем, что "амбивалентность" становится не только
признаком карнавального смеха, но и методологическим принципом
книги в целом.
Очерки по истории смеха
217
Что такое "амбивалентность"
карнавального смеха?
У М.М. Бахтина смеховое начало теряет мнимую и
отрицательную природу, а обретает "амбивалентность". Надо сказать, что
это понятие у Бахтина очень расплывчатое, туманное и тем самым
очень удобное, применяется оно в совершенно разных контекстах,
для характеристики различных явлений. Выделяя самые
характерные черты термина "амбивалентность", можно сказать, что -
это некая двойственность, которая одновременно есть
отрицание и утверждение, плюс и минус. Например: "отрицая,
карнавальная пародия одновременно возрождает и обновляет. Голое
отрицание вообще совершенно чуждо народной культуре" (27,16).
"Амбивалентный" смех "веселый, ликующий и - одновременно --
насмешливый, высмеивающий, он и отрицает и утверждает, и
хоронит и возрождает" (27,17). "Эти ругательства-срамословия были
амбивалентными: снижая и умерщвляя, они одновременно
возрождали и обновляли" (27,23). Итак, для амбивалентности"
характерно отрицание и утверждение в одно и то же время. Остается
выяснить - "что" утверждается и "что" отрицается.
Отрицание в амбивалентности" не "голое", а значит вместо
отрицаемого что-то предлагается взамен. Из приведенных цитат
можно заключить, что отрицается и утверждается одно и то же
в одно и то же время. (Надо сказать, что некоторые исследователи
так это и понимали и поэтому можно столкнуться с такими
высказываниями под воздействием идей Бахтина: "...сакральное не
ставится смехом под сомнение, наоборот, - оно упрочивается сме-
ховым началом, которое является его двойником и спутником, его
постоянно звучащим эхом". (28).
Дело доходит до абсурда: оказывается, когда в пародийных
литургиях, скажем в "Литургии пьяниц", осмеивают сакральные
ценности, то таким образом их только упрочивают. Но почему-то
позднесредневековые карнавалы очень способствовали падению
авторитета католицизма в Европе и в результате он во многих
странах перестал быть господствующей религией.
"Амбивалентность" - это такая двойственность, которая
предполагает наличие противоречия с противоположностями,
застывшими в своем взаимоисключении. Это - как бы "остановившееся"
противоречие, т. е. непримиренное, неразрешенное и не
развивающееся к своему разрешению, а именно остановившееся на стадии
взаимоуничтожения, борьбы. Это можно было бы назвать
"остановившейся диалектикой" или "статичной диалектикой", а
поскольку диалектика - это все же обязательно описание в понятиях
218 Глава 3
движения и развития, то это - видимость диалектики или
"претензия" на нее. Ее еще можно было бы назвать "призрачной
диалектикой", так как это, скорее, игра в диалектику, чем стремление
действительно диалектически мыслить.
Как известно, утверждение и отрицание одного и того же в
одно и то же время в формальной логике исключается и является
свидетельством ложного умозаключения или логического абсурда.
А в логике диалектической допускается только как момент в
развитии противоречия, который с необходимостью должен быть
разрешен и снят. Вырванный из процесса развития противоречия и
абсолютизированный, т.е. притязающий на самодостаточность, также
есть свидетельство абсурда и принципа самоуничтожения.
Есть, правда, разные другие диалектики, скажем, трансцеден-
тальная диалектика Канта с ее антиномиями, противоречиями,
которые нельзя устранить, чтобы мы не предпринимали, но тут мы
вступаем, по мнению самого Канта, в сферу трансцедентальной
видимости, т.е. на зыбкую почву метафизического неточного знания,
выходящего за пределы всякого опыта. Причем сама антиномич-
ность - это только знак, что вступаем в сферу метафизики чистого
разума, но здесь эти антиномии находят свое разрешение, другое
дело, что это разрешение может быть мнимым, сказать точно, где
истина в сфере трансцедентальной видимости мы не можем, так
как не можем прыгнуть выше собственной головы. Кроме того
метафизические антиномии Канта касаются только
космологических вопросов и бессмертия души.
Таким образом понимаемая "амбивалентность" представляет
собой, если не логический абсурд, то новую форму диалектики,
"остановившейся диалектики", т.е. диалектики, отрицающей самое себя.
Впрочем, в XX веке какие только не бывают диалектики, в том
числе и диалектики, которые уничтожают сами себя, как это
делает, например, "негативная диалектика" Т. Адорно, которая
стремится расколоть понятие надвое: на отрицаемое в нем
"тождественное" и искомое "нетождественное", и тем самым привести его к
саморазрушению. Поэтому "негативная диалектика" становится
"логикой разрушения". (30,212-220).
А техника этого разрушения понятия такова: "Задача такого
"раздвоенного" мышления заключается в том, чтобы раздваивать
(раскалывать) традиционное понятие, мысля в нем
противоположное тому, что "имеется в виду" этим понятием: "перечеркивая"
понятие, мышление тем самым намекает на то, что этим понятием
не ухватывается и существует за его пределами, - на
"нетождественное". Таким образом, из "позитивно"-диалектического, каким
было, скажем, гегелевское мышление, оно становится "негативно"-
диалектическим: мышлением, воюющим с самим собой,
озабоченным лишь тем, чтобы избавиться от своей собственной логически-
Очерки по истории смеха 219
понятийной стихии." (30,214-215). Подобная диалектика,
является только ее видимостью, призрачной диалектикой.
С другой стороны, у Бахтина есть тексты, которые позволяют
понимать "амбивалентность" иначе. Эти тексты относятся к
характеристике гротеска, определяющей чертой которого, согласно
концепции "гротескного реализма" Бахтина, является
"амбивалентность". Например: "Снижение здесь (в "гротескном реализме" -
М.Р.) значит приземление, приобщение к земле, как поглощающему
и одновременно рождающему началу: снижая, и хоронят и сеют
одновременно, умерщвляют, чтобы родить сызнова лучше и
больше... Снижение роет телесную могилу для нового рождения.
Поэтому оно имеет не только уничтожающее, отрицающее значение, но и
положительное: оно амбивалентно, оно отрицает и утверждает
одновременно".(27,28)
В "амбивалентной" гротескной образности даны "два тела в
одном: одно - рождающее и отмирающее, другое - зачинаемое,
вынашиваемое, рождаемое".(27,33). В керченских терракотах
беременные старухи смеются, "это очень характерный и
выразительный гротеск. Он амбивалентен: это беременная смерть,
рождающая смерть (курсив мой - М.Р.)... Здесь жизнь показана в ее
амбивалентном, внутренне противоречивом процессе". (27,33).
Вся концепция архаичного и средневекового смеха Бахтина
имеет своим методологическим стержнем "амбивалентность".
Последнюю, исходя из вышеприведенных текстов, можно понимать
как двойственность, включающую в себя одновременное
утверждение одного через отрицание другого, жизнь одного (скажем,
нового и даже лучшего) за счет смерти другого (старого и всегда
почему-то худшего). Но все это - утверждение и отрицание, жизнь
и смерть - в рамках одной целостности, даже в рамках одного
тела.
Единство некоей целостности как бы раскалывается изнутри,
целостность уничтожается через раздвоение. Это раздвоение
означает смерть целостности. Причем смерть через самоубийство. А
элемент "обновления", "возрождения", обещанный после смерти, это
не более, чем видимость, мираж, надежда, данная, чтобы легче было
самоуничтожиться, но ни к чему не обязывающая, подобно
надежде на призрачный "золотой век" Сатурна. Чтобы родить, все-таки
сначала предлагают умереть. Таким образом, сначала смерть, а
потом вслед за ней, "рождающей смертью", может быть, что-то
родится и заживет.
Но что может родить смерть, кроме смерти, ведь подобное
рождает подобное. Поэтому так ужасен гротеск, ибо в своей
изначальной двуплановости содержит тенденцию распада, смерти,
которая только по видимости затемняется флером возможной, а, может
быть, и не возможной будущей жизни. Эта тенденция всегда всеми,
220 Глава 3
воспринимающими гротеск, интуитивно чувствуется и
производит то гнетущее впечатление, которое связано с ужасным.
Иначе говоря, "снижение" в "амбивалентности" Бахтина
абсолютно, а "возрождение" весьма относительно. Гибель, смерть,
отрицание, разрушение и т.д. абсолютны и реальны, а рождение нового,
возрождение, жизнь, расцвет и т.д. относительны и призрачны. То
есть в "амбивалентности" преобладает отрицание над
утверждением, минус над плюсом. А если точнее, то "амбивалентность"
предполагает реальность отрицания, негатива, разрушения, смерти и
т.д. при видимости утверждения, позитива, возрождения, жизни
и т.д. Таков действительный смысл "амбивалентности" Бахтина.
Автор же очень пристрастно относится к исследуемому
материалу и хочет, чтобы эта "амбивалентность" была обязательно
"возрождающая" и, вообще, жизнь подающая и прогрессивная. Но, к
сожалению, это не соответствует действительности. Чтобы это
показать и не быть голословными, обратимся к характеристике тех
явлений, определяющей чертой которых в концепции М.М.
Бахтина является "амбивалентность". Речь идет о "карнавальном
смехе" и о "гротескном реализме".
О карнавале и "карнавальном смехе"
Самым ярким и наиболее полным проявлением "народной сме-
ховой культуры" служит карнавал. К характерным чертам
"карнавального смеха" Бахтин относит его всенародность ("смеются все, это
- смех "на миру"), универсальность ("он направлен на все и на всех"),
амбивалентность. (27,17).Кроме того, он носит "миросозерцательный
и утопический характер" и "направлен на высшее" (Там же).
Совершенно справедливо автор возводит эти черты к
ритуальному смеху. "Всенародность" - коллективный характер
обрядового действа. При ритуальном смехе смеяться должны все тогда,
когда это полагается, когда это необходимо, а не тогда, когда
кому-то хочется. Так что вряд ли приходится говорить, например,
о "свободе" ритуального смеха, скажем. В карнавале же ситуация
иная, тут "свобода" носит характер отклоняющегося поведения,
которое во многом обусловлено праздником, связанным с ним
выходом из будничной жизни. А также особым характером этих
празднеств, восходящих к оргиастическим культам с их ритуальными
излишествами.
"Универсальность" карнавального смеха или "направленность
на все и всех" равнозначна отсутствию этого направления вообще,
то есть смех этот - просто ненаправленный, каким и был
архаический смех. Направленность смеха на объект вырабатывалась в
процессе закрепления смеха за определенными, поначалу ритуаль-
Очерки по истории смеха 221
ными ситуациями, которые и послужили прообразами объекта
смеха.
Но "карнавальный смех" гораздо более позднее явление, чем
ритуальный смех, хотя корнями своими связан, конечно, с
последним. М.М. Бахтин считает, что карнавальная жизнь
средневековья и Ренессанса (и, соответственно, книга Ф.Рабле как ее
литературное выражение) являются апогеем, расцветом, пиком "народной
смеховой культуры".
Даже если допустить существование такого феномена как
"народная смеховая культура" никак нельзя согласиться с тем, что
своего наивысшего развития она достигает в этот период. Это,
может быть, наиболее ее яркое проявление (и то, вероятнее всего
потому, что более всего памятников его дошло до нас, а то, что
было раньше просто не сохранилось), яркое ее позднее цветение, но
уже с темными пятнами увядания и гибели.
Наш тезис можно было бы сформулировать таким образом:
"карнавальный смех" средневековья и Ренессанса - это
ритуальный смех на стадии своего затухания и заката, это
деградирующий и выродившийся ритуальный смех. И соответственно,
поскольку обрядовый, культовый, ритуальный, как угодно, смех и его
развитие являлись питательным истоком и живительным ядром
"народной смеховой культуры", а для нас точнее, смеховых форм
культуры или "обрядовой смеховой культуры" (термин "народный"
привносит в понятие "народной смеховой культуры" излишнюю
сомнительную идеологичность). Постольку вырождение и деградация
ритуального смеха означает вырождение и последующую гибель
"народной смеховой культуры". Или, вернее, кардинальное изменение
форм "смеховой культуры", которая, конечно, остается всегда, пока
жив человек, но меняет свои формы.
Об этом говорят следующие обстоятельства: во-первых,
наиболее широкое распространение карнавалы в Европе получили в
позднее средневековье и в эпоху Возрождения ("возрождения" в
том числе и язычества как мировоззренческой базы карнавалов),
то есть в переходный период к Новому времени, когда одни
ценности сменялись другими. Этот расцвет закончился вместе с
Ренессансом, и карнавальная жизнь почти полностью сошла на нет в
эпоху Реформации и позднее.
Во-вторых, карнавалы ушли с исторической сцены,
фактически, вместе с средневековым христианством, пародией и "тенью"
чего они являлись. Карнавалы не носили самостоятельного и
самоценного характера. Хронологически и по своему смыслу они
"привязывались" к христианским праздникам (к Рождеству
Христову - "рождественский смех", к Пасхе - "пасхальный" и т.д.) и
были как бы их продолжением, которое в позднее средневековье и
в эпоху Возрождения часто было направлено на осмеяние религи-
222 Глава 3
озной части праздника, превращало ее в фарс. По этой причине все
средневековье появляются церковные и иные документы,
свидетельствующие о борьбе христианства против такого рода
карнавальной жизни. (13,188-212; 32,145-176).
Причем в Европе чаще всего эти документы появляются до
XIII века, то есть в позднее средневековье частота их появления
становится заметно реже. Это говорит о том, что рецидивы
языческих проявлений на карнавалах становятся нормой и не
воспринимаются как нечто вопиющее, как это было раньше.
В-третьих, в общем нарастании языческих проявлений в
позднее средневековье, которое, в конце концов, привело к
"возрождению" язычества в эпоху Ренессанса, карнавальная жизнь в
качестве суррогатных проявлений обрядовой, культовой жизни
язычества, имела важное значение, так как носила массовый характер.
Карнавалы были языческими эрзац-культами. Их своеобразие
заключалось в том, что они пародировали как христианскую
церковную жизнь, так и настоящую языческую, высмеивая и ту и другую.
Все карнавальные игры и действа были выродившимися
языческими ритуалами (от ритуального смеха до всякого ряжения в
маски, в том числе и демонские, вождения "бесовской кобылки",
игры в "медведя и козу" и т.д.), потерявшими свой сакральный и
магический характер, или содержащими их в сильно ослабленном
виде.
В-четвертых, именно отсутствие магизма и сакральности в
карнавальных эрзац-ритуалах свидетельствует о их деградирующем и
вырождающемся характере. Вера в магическую силу совершаемых
действий освящает, облагораживает их, придает им высший смысл,
ту самую "миросозерцательность", на которой так настаивал М.М.
Бахтин. Даже если действия эти носят совсем неприличный и
малопривлекательный вид, каковыми были обжорство, пьянство, брань,
массовые оргии, имевшие сакральный смысл оберега, общения с
божеством, жертвоприношения и т.д. Но если нет магии, то нет
никаких "высших целей" и никакой "миросозерцательности", а
может быть только их видимость, пародия на них.
Например, формы "фамильярно-площадной речи" напрямую
восходят к языческой ритуальной брани, как говорит об этом сам
М.М.Бахтин, но имеют уже суррогатный характер. Он же отмечает,
что в условиях карнавала ругательства-срамословия подверглись
существенному переосмыслению: полностью утратили свой
магический и практический характер, приобрели "самоцельность,
универсальность и глубину". (27, 23). Отсутствие магизма для
Бахтина есть знак "самоцельности, универсальности и глубины". Но
если мы откинем связанную с ритуальной магией брани веру в то,
что она отпугивает нечистую силу и действует как оберег, как
очиститель бранящегося, а это и есть ее "миросозерцательный" смысл,
Очерки по истории смеха 2 23
то что останется? Останется просто тотальное грязное
сквернословие, обливание нечистотами всех и вся без всякого
"миросозерцательного" смысла, но имеющее "самоцельность, универсальность и
глубину".
Церковь, кстати, рассматривала брань как способ общения с
нечистой силой и знак ее присутствия рядом со сквернословами (2,
105-107), то есть не отрицала магического действия брани, даже
карнавальной. У М.М. Бахтина мы уже не в первый раз
сталкиваемся с подобным противоречием: он утверждает "миросозерцатель-
ность" карнавала, но отрицает магию, которая эту "миросозерца-
тельность" привносит. А другой религиозной основы для
карнавальной "миросозерцательности", кроме языческой магии, быть не
могло.
Ведь нельзя же всерьез принять, что в карнавале "все
культовое и ограниченное отпало, но осталось всечеловеческое,
универсальное и утопическое" (27,18). Смысл этого малопонятного
"всечеловеческого, универсального и утопического" карнавального
мироощущения передается М.М. Бахтиным следующим образом: "Человек
как бы перерождался для новых, чисто человеческих отношений.
Отчуждение временно исчезало. Человек возвращался к себе самому
и ощущал себя человеком среди людей. И эта подлинная
человечность отношений не была только предметом воображения или
абстрактной мысли, а реально осуществлялась и переживалась в живом
материально-чувственном контакте". (27,15). Нельзя же всерьез
предположить, что в средние века существовало некое внерелигиозное
мироощущение (неязыческое и нехристианское), "чисто человеческое",
самое "естественное", принимающее "естественного человека" (Жан-
Жака Руссо и других просветителей) с его "естественными правами"
и "человеческими отношениями" за исходное. Это модернизация и,
скорее, миф, чем научный анализ.
В-пятых, несамостоятельный, вторичный, производный и
пародийный характер карнавала говорит о его "паразитарной"
природе, а последняя обрекает его на гибель вместе с гибелью того, что
он пародирует. Действие позднесредневековых карнавалов было
похоже на действие вирусов, в том числе и компьютерных,
разрушающих все вокруг и погибающих вместе с тем, что они
разрушили.
В-шестых, о суррогатном и деградирующем характере
карнавального смеха свидетельствует и та его мировоззренческая база,
которую хорошо описал М.М. Бахтин, обозначив ее как
миросозерцательные ценности "материально-телесного низа". Подобное
мировоззрение можно было бы назвать сниженным или выродившимся
язычеством.
Итак, позднесредневековые карнавалы носили по
преимуществу отрицательный, разрушительный характер и направлены бы-
224 Глава 3
ли против средневекового христианства и созданной им культуры.
"Логика обратности" или "логика наизнанку", характерная для
"карнавального смеха", и о которой пишет М.М. Бахтин, как раз,
направлена на ломку ценностей, приводя их в хаотическое и
относительное состояние.
Подтверждением того, что "карнавальный смех" имел
отрицательный характер по преимуществу и был направлен на ломку
ценностей средневековой культуры служит тот факт, что как
только были разрушены прежние и выработаны новые ценности в
эпоху Реформации разрушительные карнавалы в Европе исчезли. М.М.
Бахтин косвенно сам соглашается с отрицательным характером
"карнавального смеха", когда описывает феномен "карнавализации
сознания", предшествующего, по его же мнению, крупным
катастрофам.
О гротеске и "гротескном реализме".
Гротеск - эстетическое понятие, обозначающее образ,
ведущими чертами которого можно считать чрезмерность, гиперболизацию
и совмещение несовместимого в одном целом. В гротеске два плана
соединены в одном, но так, что "швы" соединения гиперболично
подчеркнуты, бросаются в глаза, и поэтому акцент в гротескном
противоестественном единстве (в образе кентавра, русалки,
например, или в знаменитых гротескных орнаментах, где смешиваются
растительный, животный, человеческий миры в одно целое) падает
не на целостность образа, а на его необходимое, вот-вот грозящее
его распадение.
Для гротескного образа целостность противоестественна,
единство случайно, мимолетно, а распадение его естественно,
необходимо и даже желательно. То есть гротеск - это такой урод, смерть
которого вполне закономерна, в нем "смерти" больше, чем "жизни",
если будет позволительно так выразиться. Эта его ведущая
тенденция грозящего распада (разрушения, отрицания, гибели, смерти
и т.д.) всегда подсознательно чувствуется и ужасает
воспринимающих гротеск..
Гротеск - это комическое на грани ужасного. Гротеск всегда
связан со смехом, с комическим, даже когда очень пугает и
страшит. Это не удивительно, ведь и смерть бывает смешной, особенно
если ее изобразить смеющейся и очень симпатичной. Но она все
равно остается смертью, даже если она будет просто прекрасна, и
поэтому всегда все равно внушает ужас, просто больший или
меньший.
Гротеск отвечает всем условиям комического. Налицо - ярко,
даже слишком, выраженная двойственность при видимости един-
Очерки по истории смеха 2 25
ства, которая балансирует на грани распада. Гротескный образ
раздваивается на глазах. Его отличительная черта - раздвоение
при видимости единства. Он как бы есть и его уже как бы нет, то
есть призрачность - в самой его природе. Гротескный образ как бы
"зависает" между двумя мирами - между жизнью и смертью, между
реальностью и ирреальностью. Это - нереальная реальность, то есть
совмещение несовместимого. Междумирие нереальной реальности -
это его вторая характерная черта.
А что такое "гротескный реализм"? Это - "особая
эстетическая концепция бытия", которая, по Бахтину, описывает
"народную смеховую культуру" и ее образность. Суть ее - в приоритете
"материально-телесного начала жизни" (27, 24-26). А что такое
это приоритетное "материально-телесное начало"? "Материально-
телесное начало здесь (в "гротескном реализме" - М.Р.)
воспринимается как универсальное и всенародное и именно как такое
противопоставляется всякому отрыву от материально-телесных
корней мира, всякому обособлению и замыканию в себя, всякой
отвлеченной идеальности, всяким претензиям на отрешенную и
независимую от земли и тела значимость.... Носителем материально-
телесного начала является здесь не обособленная биологическая
особь и не буржуазный эгоистический индивид, а народ, притом
народ в своем развитии вечно растущий и обновляющийся. ..".
(27, 26). "В произведении Рабле обычно отмечают исключительное
преобладание материально-телесного начала жизни: образов
самого тела, еды, питья, испражнений, половой жизни (Разрядка
моя - М.Р.). Образы эти даны к тому же в чрезмерно
преувеличенном, гиперболизованном виде". (27,24).
"Ведущею особенностью гротескного реализма является
снижение, то есть перевод всего высокого, духовного, идеального,
отвлеченного в материально-телесный план, в план земли и тела в
их неразрывном единстве. Так, например, "Вечеря Киприана" ...и
многие другие латинские пародии средневековья сводятся в
значительной степени к выборке из Библии, Евангелия и других
священных текстов всех материально-телесных снижающих и
приземляющих подробностей". (27, 26).
"Снижение и низведение высокого носит в гротескном
реализме вовсе не формальный и вовсе не относительный характер. "Верх"
и "низ" имеют здесь абсолютное (Разрядка моя. - М.Р.) и строго
топографическое значение. Верх - это небо; низ - это земля; земля
же - это поглощающее начало (могила, чрево) и начало
рождающее, возрождающее (материнское лоно). Таково топографическое
значение верха и низа в космическом аспекте. В собственно
телесном аспекте, который нигде четко не отграничен от космического,
верх - это лицо (голова), низ - производительные органы, живот,
зад. С этими абсолютными топографическими значениями верха
226 Глава 3
и низа и работает гротескный реализм ... Снижение значит
также приобщение к жизни нижней части тела, жизни живота и
производительных органов, следовательно, и к таким актам, как
совокупление, зачатие, беременность, рождение, пожирание,
испражнение (Разрядка моя - М.Р.)". (27, 28)
Текст, надо сказать, вполне ясный и даже исчерпывающий.
Только почему-то исследователи всегда стыдливо цитируют другие
тексты из Бахтина, желательно без "зада" и "испражнений". И это
зря, так как они у Бахтина носят абсолютный характер, то есть
самоценный, полный, совершенно законченный характер "высших
ценностей" и "высшего смысла". И надо совершенно точно
отдавать себе отчет о том, что же предлагается взамен
"девальвированным" ценностям "верха" - духовным, идеальным, если угодно, и
христианским ценностям, ведь это их высмеивают Рабле и
средневековая пародия.
Кстати, Бахтин в своих очень экспрессивных текстах почему-
то не называет их иначе, как "отвлеченно-духовные претензии",
"односторонняя серьезность этих духовных претензий" (27,29),
"отвлеченная идеальность" и т.д. В характеристике духовной сферы
всегда почему-то содержится уничижительный и негативный
оттенок, при том, что постоянно подчеркивается положительная
"возрождающая сила" "материально-телесного низа". И наибольшие
возражения вызывает именно эмоциональная и идеологическая на-
груженность концепции Бахтина "гротескного реализма"
активным утверждением ценностей "материально-телесного низа" не
только для Рабле и его исторического контекста, но и вообще всегда и
везде и особенно для современности, не понимающей Рабле.
Взамен "духовных претензий" предлагается - "приобщение к
жизни нижней части тела, жизни живота и производительных
органов... к таким актам, как совокупление, зачатие, беременность,
рождение, пожирание, испражнение" (27, 28). Сами по себе жизнь
человеческого тела, его органы и их акты не несут в себе чего-то
предосудительного или нехорошего, наоборот, они необходимы, и
лучше, когда они здоровы и даже прекрасны, если они
облагорожены собственно человеческим, то есть все-таки душевным и
духовным смыслом. А сосредоточение на жизни только тела, хоть и
"всенародного", на том, что роднит человека с животным, а вовсе не
отличает от него, приведет к вырождению и деградации самого
человека, лишенного "всего высокого, идеального, отвлеченного",
души и духа, к оскудению и самого телесного начала без души.
Надо сказать, что сами европейские народы хорошо в этом
разобрались в эпоху Возрождения, когда им были предложены
историей среди всего прочего и ценности "материально-телесного низа"
Рабле. Они выбрали ценности духа и аскезы, еще большей, чем
раньше. Опять вернулись к христианству, хотя и переработанному по-
Очерки по истории смеха 22 7
новому, но уже так всерьез, что времена Реформации по суровости,
аскетизму, религиозному одушевлению могут сравниться только со
временами первых христиан. Причем много пищи для
размышления дает сам приведенный у Бахтина феномен многовекового
"непонимания Рабле" в европейской культуре, восприятие его творчества
как курьез, достойный смеха, удивления и не более того.
А ценности "материально-телесного низа" можно
квалифицировать как сниженный, буквально "приземленный" вариант
язычества без небес, без прекрасных античных богов, без красоты, без
"идей" и "идеалов". Ведь язычество всегда связано с культом тела,
телесности, но тело, как и язычество бывает представленным по-
разному. Развитое язычество культивирует прекрасное тело,
облагороженное умом и бессмертной душой.
В отличие от деятелей раннего и высокого Ренессанса,
культивировавших красоту и прекрасное тело во всех его проявлениях,
Рабле отрицает прекрасное, его привлекает чудовищное и
уродливое. В этом сниженном суррогатном язычестве присутствует вместо
"верха" - "низ", вместо "лица" - "зад", вместо "неба" - "земля" и
"подземелье" (ведь слово "гротеск" образовано от слова "грот" -
"подземный"), причем такая топография закреплена "абсолютно". В
этой "логике наизнанку", "логике навыворот" так и напрашивается
ее продолжение: "вместо небесных богов" - "подземные хтониче-
ские чудовища-демоны", вместо божественного - дьявольское,
вместо гармонии и красоты - уродство и чрезмерность, вместо жизни -
смерть и т.д.
Недаром А.Ф. Лосев, крупнейший исследователь эстетики в
отечественной культуре, относил Рабле к позднему
модифицированному Возрождению, то есть к периоду вырождения и
самоотрицания последнего, а реализм Рабле называл "эстетическим
апофеозом всякой гадости и пакости". (31,591). Надо сказать, что для
этого он имел веские основания: "Исключительное место
занимают всюду (т.е. в книге Ф.Рабле "Гаргантюа и Пантагрюэль". -
М.Р) испражнения. Так, в конце 4-й книги Панург, наклавший от
страха в штаны и затем оправившийся, дает 15 синонимов кала, в
передаче которых русский переводчик Н.Любимов проявил
незаурядное мастерство и изобретательность.
Большую роль у Рабле играют также забрасывание калом,
обливание мочой и потопление в моче. Гаргантюа обливает своей
мочой надоевших ему любопытных парижан, которые тонут в
количестве 260 418 человек; Пантагрюэль затопляет мочой лагерь
Анарха; кобыла Гаргантюа также затопляет в своей моче войско
врага.
Одной парижской даме, не ответившей ему взаимностью,
Панург подсыпает в платье размельченные половые органы суки, в
результате чего за этой дамой шли 600 014 собак и мочились на
228 Глава 3
нее. Находят свое место и менее значительные выделения - слюна,
рвота, пот и т.д. Недаром Гюго говорил, что у Рабле "весь человек
становится экскрементом" (totus homo fit excrementum)". (31,590-
591).
А характеристику смеха Рабле А.Ф.Лосев дает такую: "Дело
в том, что такого рода смех не просто относится к
противоречивому предмету, но, кроме того, он еще имеет для Рабле и вполне
самодовлеющее значение: он его успокаивает, он излечивает все
горе его жизни, он делает его независимым от объективного зла
жизни, он дает ему последнее утешение, и тем самым он
узаконивает всю эту комическую предметность, считает ее нормальной и
естественной, он совершенно далек от всяких вопросов преодоления
зла в жизни. И нужно поставить последнюю точку в этой
характеристике, которая заключается в том, что в результате такого
смеха Рабле становится рад этому жизненному злу, т.е. он не
только его узаконивает, но еще и считает своей последней радостью
и утешением. Только при этом условии эстетическая
характеристика раблезианского смеха получает свое окончательное
завершение. Это, мы бы сказали, вполне сатанинский смех. И реализм
Рабле в этом смысле есть сатанизм. (Разрядка моя. - М.Р."
(31,592).
Апология "абсолютного низа", таким образом, оборачивается
сатанизмом. И поэтому совсем неслучайно оказывается в
"гротескном реализме" преобладание всего, связанного со смертью.
"Абсолютный низ всегда смеется, это рождающая и смеющаяся смерть"
(27, 29). Все-таки "смерть", хоть и "рождающая". К тому же
снижение - эту самую "ведущую особенность гротескного реализма"
можно понимать и как умерщвление "всего высокого, духовного,
идеального, отвлеченного" (27,26) и, соответственно,
амбивалентное рождение ценностей "материально-телесного низа".
("Умерщвляют, чтобы родить сызнова лучше и болыпе"(27,28)). Так что
ведущей тенденцией концепции "гротескного реализма"
оказывается "движение к смерти" высокого и духовного через его
"унижение" ("снижение") в телесно низменную сферу. Получается такой
"гротескный образ" карнавального тела с задом вместо лица и
головы".
Какую философскую идею выражает эта гротескная
образность архаики и средневековья, от отрицания значимости которой
в истории культуры мы далеки.
Это - древняя идея всеобщего единства, всемирного родства,
соединения всего со всем, данного на уровне тела, материи, вещества.
Но взятая на уровне человека, она оборачивается уничтожением
личности и индивидуальности человека, в принципе, его смертью.
Человек родственен животному, минералу, цветку. Каждое из
них в своей особости, обособленности занимает определенное место
Очерки по истории смеха 2 29
в органичном и иерархичном порядке мира - космоса. В этом
космическом порядке на первый план выходят их различия, особости,
глубинная общность их скрыта, отодвинута на второй план. Но в
момент обязательной циклически предопределенной всеобщей
катастрофы ("мирового пожара" Гераклита, например, или "вечного
возвращения" Ницше), в первую очередь, все погибает в своей
определенности, разности. Ведь смерть - это и есть потеря своего
"лица", потеря своей особости, смешение со всем. Смерть - это и есть
хаос, потеря порядка. Жизнь же всегда стремится преодолеть это
всеобщее уравнение, всесмешение и развить свое особое жизненное
существование, живет ведь только особое.
В момент хаоса - в момент всеобщей относительности,
всеобщего уравнения и всеобщего смешения - на первый план
выходит это вещественное, материальное всеобщее единство,
соединение всего со всем, совпадение всего со всем (например, в "пер-
вовеществе" древних греков). Но это есть единство распада,
соединение в гибели, "равенство" и "братство" в смерти. У Эпихарма,
древнегреческого комедиографа, читаем: "Я - труп. Труп есть
навоз, навоз же есть земля. Если же земля есть бог, то я не труп, но
бог". (33,75). Такая вот логика, предельно ясная.
Если в гротеске акцентируется всеобщая связь (например,
знаменитые гротескные орнаменты, где человек переходит в животное,
то - в растение и т.д.), эта связь берется как
материально-вещественное единство на уровне "первовещества", если угодно, на
молекулярном, атомарном уровне. Когда все распадается на атомы, то
все, конечно, едино, но это единство распада и смерти. То есть в
гротеске обязательно присутствует тенденция к смерти.
Смерть - это всеобщее уравнение и безличие. И поэтому
человек в гротескном образе дается как существо безличное. Главная
особость человека - это его душа, дух. И поэтому в гротеске
акцент смещается с душевного и духовного в человеке на то, что его
более соединяет с окружающим миром - на его тело. Причем на те
его телесные проявления, которые наиболее обезличивают
человека - на его страстные проявления, где он как бы "забывает себя":
на половую жизнь и телесные поглощения и отправления.
В гротеске на первый план выходит не собственно
человеческое, то есть дух и душа и, и соответственно, одухотворенное тело, а
то, что его роднит с окружающим миром, точнее, растворяет
человека в нем. Недаром, Бахтин может найти пример для иллюстрации
существа гротескной "амбивалентности" из жизни-смерти...
одноклеточных организмов, но никак не людей. "Подлинный гротеск
менее всего статичен: он именно стремится захватить в своих
образах само становление, рост, вечную незавершенность, неготовость
бытия; поэтому он дает в своих образах оба полюса становления,
одновременно - уходящее и новое, умирающее и рождающееся; он
230 Глава 3
показывает в одном теле два тела, почкование и деление живой
клетки жизни. Здесь на высотах гротескного и фольклорного
реализма, как и при смерти одноклеточных организмов, никогда не
остается трупа (смерть одноклеточного организма совпадает с
его размножением на две клетки, два организма, без всяких
"смертных отходов") (Разрядка моя - М.Р.), здесь старость беременна,
смерть чревата, все ограниченно-характерное, застывшее, готовое
сбрасывается в телесный низ для переплавки и нового рождения".
(27,61-62).
Вот такая "безотходная смерть", сразу переходящая в жизнь.
Замечательно только при этом, что подобное возможно только на
нижайших уровнях жизни, никак ни на высших, тем более
невозможно для человека, так как для человека всегда "в остатке
смерти" остается он сам, его собственное личное тело и его собственная
душа, а дальше начинается жизнь уже другого тела и другой души,
хотя и родственной.
Для личности смерть - это абсолютный конец ее земного
бытия, и для нее невозможна такая "амбивалентная смерть". Другое
дело, что подобная "одноклеточная" концепция делает из смерти
мираж, иллюзию, прокламирует призрачное бессмертие, стремится
сделать такие категории как "личность", "душа", "дух"
несущественными, тем самым сводит человека до уровня одноклеточных
организмов.
Идея всеобщей материальной взаимосвязи в пространстве и
времени на уровне человеческого сообщества конкретизируется в
идее совершенного преобладания целого (рода, народа) над его
частями (индивидами), и даже поглощения, подавления этих
последних. Жизнь рода не просто продолжается сменой поколений, а на
архаической ступени развития, скажем, в период тотемизма, род,
обожествленный в образе животного - тотема, покровителя этого
рода, требовал жертвоприношений, в том числе и человеческих, и не
только чужих, но и своих соплеменников.
Для древней жизни рода-народа характерно состояние
безличия и безразличия к индивидуальным судьбам. Для архаического
неразвитого сознания состояние это естественно, но когда оно
выдвигается в качестве общественного "идеала всеобщей открытости,
изменчивости и незавершенного бытия" не только средневековой
"народно-смеховой культуры", но и на все времена, то это вызывает
удивление. Но еще большое удивление вызывает массовое
некритическое, а восторженное принятие этого "идеала" научной
общественностью. Этот феномен сам подлежит всяческому
исследованию и является примером функционирования современной
мифологии, где один миф наслаивается и подкрепляет другой, а люди
воспринимают только то, что хотят, или, вернее то, что им,
подсказывают.
Очерки по истории смеха 231
Поскольку гротеск является образной передачей состояния
хаоса, то он обычно появляется в начале или в конце
исторического периода, когда все еще неясно, смутно, только проглядывают
очертания будущего, либо когда, наоборот, все теряет свою
определенность и уверенность в себе. Гротеск - знак переходного
состояния. Поэтому не мудрено, что позднее средневековье и Ренессанс,
переходный период к Новому времени, оказались столь чуткими к
гротескным образам, приводящими все, весь установившийся
порядок, в хаотическое движение первобытного начала. Но даже, если
мы возьмем только эпоху Возрождения, то можно сказать, что
началась она со страшных гротесков позднеготических храмов
(вспомним жуткие химеры Нотр-Дама, например), пережила момент своей
зрелости и расцвета (классика высокого Ренессанса основывается
на культе гармонии и красоты), и опять вернулась в своем
завершающем XVI веке к уродству гротескной образности (того же
Рабле).
Гротеск и время
Бахтин приписывает гротескному образу особое ощущение
времени, связанное с его "амбивалентной" природой. В гротеске "даны
(или намечены) оба полюса изменения - и старое и новое, и
умирающее и рождающееся, и начало и конец метаморфозы. .. На
ранних ступенях развития гротескного образа, в так называемой
гротескной архаике, время дано как простая рядоположенность (в
сущности одновременность) двух фаз развития - начальной и
конечной: зимы - весны, смерти - рождения. Движутся эти еще
примитивные образы в биокосмическом кругу циклической смены
фаз природной и производительной жизни...Но гротескные образы
не остаются, конечно, на этой примитивной ступени развития...
оно (чувство времени - М.Р.) подымается до ощущения
исторического времени". (27, 31).
То, что в гротеске присутствует определенное чувство времени,
это М.М.Бахтин подметил совершенно верно. А именно
циклическое время с подчеркиванием относительной смены всех
состояний: лета - зимой, молодости - старостью, жизни - смертью,
умирание - воскрешением и т.д. Но вот приписывание гротеску
исторического времени совершенно произвольно и вызвано, по
видимому, стремлением автора приписать гротеску все современные и
перспективные черты, ведь сам автор тут же отмечает, что историзм
ничего нового не привносит в гротескную образность, она остается
по существу той же самой.
В гротеске выражается не историческое время с его
линейностью и необратимостью, а также с уникальностью и неповторимо-
232 Глава 3
стью ни одного события истории, т.е. не развитие, а, наоборот, в
гротеске все повторяется, все относительно и обратимо. Гротеск -
это постоянное напоминание о смене состояний, о их движении, но
движение их осуществляется по кругу, точнее, оно "топчется" на
одном месте, т.е. гротеск принципиально не приемлет развития
образа, его совершенствования, его усложнения.
В гротеске движение носит, можно сказать, "точечный"
характер, это - как бы "статичное движение". Движение есть, но
развития образа нет. Единовременно в образе дано его начало и его
предрешенный конец, то есть акцентирован в гротеске не сам
процесс движения (развития, совершенствования, усложнения и т.д.),
а, фактически, его остановка, совпадение начала с концом.
Подчеркнута одна и та же точка исхода и возвращения как бы при
отсутствии самого опосредущего их движения. Тот факт, что
начало и конец в гротеске даны в одной и той точке одновременно (в
одном образе сразу) как бы вообще уничтожает движение, не
говоря уже о развитии, и даже делает это движение невозможным.
Гротеск - это отрицание развития, и даже движения в целом.
Динамика "народной смеховой культуры"
"Народная смеховая культура" с ее "гротескным реализмом",
по Бахтину, проходит следующие этапы развития: берет свое
начало в гротескной архаике древности, развивается активно в
античности, в том числе в культовых формах (дионисии, сатурналии),
проходит "подпольным низом" все средневековье и переживает пик
своего расцвета в эпоху Возрождения и находит наиболее яркую
литературную форму своего выражения в творчестве Ф. Рабле. Но
почему-то на этом излете ее расцвет обрывается, быстро сходит на
нет. И уже в дальнейшем существующие ее формы являются
неадекватными формами, а "редуцированными" и "формализованны-
ми .
В XIX веке она несколько оживает в литературном
романтизме, а в XX веке гротеск переживает новое возрождение, но опять
же совсем неадекватное подлинной сущности "гротескного
реализма" и "народной смеховой культуре", а редуцированное и
формализованное.
"В эту эпоху (собственно, со второй половины XVII века)
совершается процесс постепенного сужения, измельчания и
обеднения обрядово-зрелищных карнавальных форм народной
культуры... Утративший живые связи с народной площадной культурой
и ставший чисто литературной традицией, гротеск перерождается.
Происходит известная формализация карнавально-гротескных
образов, позволяющая использовать их разными направлениями с
Очерки по истории смеха 2 33
разными целями". (27, 41-42). "...Смех в романтическом гротеске
редуцировался и принял форму юмора, иронии, сарказма. Он
перестал быть радостным и ликующим смехом. Положительный
возрождающий момент смехового начала ослаблен до минимума". (27,
46).
Вот такая динамика "народной смеховой культуры". Мы уже
говорили о том, что вряд ли можно считать правильной эту логику
ее изменения. Но тут для нас интересна общая тенденция ее
изменения. "Извращенный", неадекватный, редуцированный и
формализованный характер "нового и новейшего смеха" связан, по Бахтину,
с утратой смехом своего "амбивалентного" характера, а точнее, со
схождением на нет в процессе истории положительного полюса
"амбивалентности" и с нарастанием ее отрицательного полюса.
С точки зрения М.М. Бахтина, история смеха предстает как
история развития и вырождения "народной смеховой культуры",
где за критерий подлинного смеха, то есть за сущность смеха
принимается гротескный смех с его ядром - "амбивалентностью". Иными
словами, сущность эстетического смеха - комического как
обобщающей различные формы смеха эстетической категории -
сводится к гротеску. В качестве методологического приема - это вполне
приемлемо. Через исследование одной из ярких форм комического
можно понять сущность последнего в целом. Единственно, нужно
всегда иметь ввиду, что это все-таки только одна из форм смеха, и
делать соответствующие этому поправки в процессе
экстраполяции своих выводов на целое. Когда этого не происходит, возможно
искажение и довольно значительное.
Тенденция нарастания в процессе истории отрицательного
начала в смехе, отмеченная М.М. Бахтиным и другими
исследователями, совершенно справедлива. Причины этому он ищет в
наступлении капитализма и буржуазности ("огосударствление" и "быто-
визация"). Возможно, что в социальном плане это сыграло свою
роль, но тут были и иные причины, связанные с сущностью самого
смеха и ее проявлением.
Нарастание отрицательного начала в смехе связано не с
искажением исходного "амбивалентного" образца, а с наиболее
полным выявлением в процессе развития потенций сущности
феномена культурного смеха. Кроме того, в смехе как феномене
культуры, а не в физиологическом никогда положительное и
отрицательное начала не были на равных, всегда в культурном смехе,
даже в его самых ранних формах (ритуальном смехе) выделялось
в качестве ведущего начала отрицательное, разрушающее,
уничтожающее начало.
Поэтому говорить об "амбивалентном" в смысле Бахтина
отношении в смехе отрицания и утверждения, минуса и плюса,
жизни и смерти не приходится. Положительное тут не было равноцен-
234 Глава 3
ным отрицательному, оно, скорее, было призрачным, "утопическим",
как опять же верно подметил Бахтин. Привлекательное, но
иллюзорное "положительное", "возрождающее" нейтрализовывало в
восприятии людей, как бы маскировало непривлекательное, но более
реальное, дававшее непосредственный результат, "отрицательное",
"смертное" начало в смехе.
Положительное, радостное, веселое в смехе культурном было
наследием, остаточным явлением от смеха физиологического. На
заре культуры произошло раздвоение смеха на естественный,
физиологический, собственно радостный смех, который наиболее был
связан с докультурным смехом как непосредственной эмоцией
радости и благополучного состояния здорового тела, и культурный (в
древности - в форме ритуального смеха), совсем не обязательно
выражающий эмоции радости, а бывало - даже прямо наоборот
(ритуальный смех при убийстве и похоронах).
Знак остался один, прежний - смех, колебательные вдыха-
тельно-выдыхательные движения, а вот значение его поменялось,
значений стало, по меньшей мере, два, а потом и более. Поскольку
знак был один, а значений - два, то возможны были совмещение,
слияние, интерференция (наложение одного на другое), путаница
смысловых полей смеха физиологического, радостного и смеха
культурного. Точнее, смех культурный усвоил себе "маску" смеха
физиологического, радостного.
В древности смех из спонтанной и естественной эмоции стал
явлением культуры через включение его в обрядовую жизнь. В
ритуале он перестал быть частным делом отдельного человека, а
стал значимым совместным делом всех, кто участвовал в ритуале.
Тут же он стал принудительным, смеяться должны были все, когда
это диктовалось необходимостью, а не тогда, когда это требовало
собственное тело. Наоборот, нужно было учиться управлять своим
смехом: нарушение запрета на смех строго каралось (в мифах за
это грозит смерть).
Кто же хотел смеяться, когда ему вздумается, стал
выглядеть и расцениваться как "безумный". С тех еще пор смех не к
месту остался признаком безумия.
Подобно тому, что в жизни человека смех занимает приятное,
радостное, праздничное место, так и у народов смех сопровождал
моменты отдыха, радости, победы, успеха, торжества. Как правило,
эти моменты у народов ритуализируются, отмечаются обрядами,
становятся праздниками. Самыми яркими обрядами, в которые смех
включался в качестве своего прямого ритуального компонента и
которые дошли до нас, это были аграрные обряды земледельческой
магии.
Наиболее известные из них дионисии у греков, сатурналии у
римлян носят подчеркнуто экстатический характер. Например, дио-
Очерки по истории смеха 2 35
нисии были только косвенно связаны с земледельческими
обрядами. Смыслом и целью их было экстатическое слияние с божеством
- Дионисом. Способ "растворения в божестве" был старый -
опьяняющие напитки. В данном случае цель опьянения сакральная -
забыть себя, свою человеческую природу, а с ней и свою слабость,
частичность. Только в упоении и экстазе можно почувствовать
тождество с высшей могущественной силой. А потерять себя - это
значит потерять свой разум, как раз то, что человека выделяет из
природной среды, то, что человека делает личностью.
Поэтому тут все чрезмерно, все через край, на первый план
выступают животные страсти. Самозабвение было настолько
велико, что это состояние древнее мифологическое сознание
сохранило в мифе об Орфее, которого растерзали вакханки, и среди них
была его мать, которая не помнила ни себя, ни своего сына.
Именно в таком животном состоянии можно было почувствовать себя
неотъемлемой частью божества и через него глубинного единства
всей природы.
Далеким отголоском дионисийских или вакхических празд-
невств был средневековый карнавал с его разгулом страстей и с его
чрезмерностью во всем, только сакральность и магия этого разгула
были сведены почти на нет. Карнавал приобрел практически
полностью игровой характер, хотя, конечно, некоторая память об
обрядовом языческом смысле его игр и церемоний осталась, об этом
говорит хотя бы их регулярное осуждение со стороны
христианской церкви. Кроме того, пьянство, обжорство, половая
невоздержанность всегда расценивались христианской церковью как
устойчивые признаки языческого образа жизни.
Для язычества телесное начало, человеческое или мировое,
является определяющим, оно тут выступает как точка отсчета.
Таким образом, через обрядовую жизнь древности смех оказался
связанным в культуре с телом и с языческой магией. Причем не с его
апполонийскими спокойно-гармоническими формами язычества, а
с дионисийскими экстатическими его проявлениями. Но и
снижать смех в архаике до одного "материально-телесного низа" нельзя.
Цели-то были высокие - общение с божеством и этим все
освящалось. А средства - так других, кроме как телесных "выходов" из
обыденности не знали.
Во времена же постхристианские, когда уже была пройдена
целая эпоха развитой духовности, особенно на закате Ренессанса,
телесное начало оскудевает, маскируясь чрезмерностью проявлений, теряет
свои культивировавшиеся классикой Ренессанса прекрасные формы,
приобретает низкие и низменные формы с концентрацией на
натуралистических деталях, на смаковании подробностей своих выделений
(у Рабле это очень хорошо видно, у него уже нет никакой магии тела,
оно десекуляризовано, у него просто игра, разгул и кураж).
236 Глава 3
Книга М.М. Бахтина "Творчество Франсуа Рабле и народная
культура средневековья и Ренессанса" по сегодняшнему прочтению
оставляет странное впечатление. Теперь даже сложно понять,
каким образом она могла оказывать столь значительное влияние на
умы гуманитарной интеллигенции. Ведь она настолько
тенденциозна и субъективна, во многом поверхностна, что зачастую просто
противоречит историческому и этнографическому материалу. Но ни
одна работа не обходилась без того, чтобы не сделать реверанс в
сторону автора, его цитировали почти как классиков
марксизма-ленинизма, только их чаще всего принудительно, а Бахтина - по движению
души. А в литературе по смеху так из работы в работу можно
читать о "народной смеховой культуре" и "амбивалентности". (35,36).
Если мы посмотрим на дальнейшую, после Возрождения,
историю, то мы увидим нарастание удельного веса комического
элемента в культуре. Романтики уже осознавали мир с позиций
тотального иронического сознания. Ирония для них выступала
средством примирения всех противоположностей, всерьез никак не при-
миримых.
Мир для них представал таким глобальным Универсумом, где
все совмещается со всем. Фактически, они повторили
возрожденческий хаос и всеобщую относительность, но только в искусстве и
философии. И средством опять для воссоздания и
культивирования всесмешения и хаоса выступил смех, поначалу очень
радостный и приятный, но уже у поздних романтиков он приобрел
отчетливо демонический оттенок.
У Бонавентуры в "Ночных бдениях" смех предстает средством,
благодаря которому дьявол завоевывает мир. Очень хорошо
понимал природу смеха Ф. Ницше. У него достаточно текстов о
"веселой науке", где он декларирует это понимание. Он знал, что только
в смехе зло доставляет удовольствие и тем уже оправдывается.
"...В смехе все злое собрано вместе, но признано священным и
оправдано своим собственным блаженством" - писал он в своей
книге "Так говорил Заратустра", в которой выразил самое
сокровенное (34,2,168). "...Тайный смех мой, - говорит Заратустра, - я
угадываю, вы бы назвали моего сверхчеловека - дьяволом!" (34, 2,
104). В книге много аналогичных признаний.
И Ницше, и неоромантизм являются ценностными
составляющими современной неоязыческой культуры. Эта культура
неоднозначна, в ней много деструктивных элементов. Она также
используют смех в качестве средства, разрушающего ценности, не
оставляющего ничего святого для людей. Современный смех часто
переходит все границы. Он не считается ни с каким "безвредным и
безболезненным", у него нет нравственной меры, он - аморален, и
поэтому демоничен. История смеха, может быть, в современную
эпоху переживает свою кульминацию.
Очерки по истории смеха 237
Смех - эстетический феномен, который может быть
индифферентным по отношению к добру и злу, а точнее, может быть не
только добром и радостью, но и злым, зло-радством без границ.
Наши современники, продолжающие считать смех чисто
позитивной ценностью, как это утверждалось в советской традиции,
оказываются безоружными перед лицом воинствующего смеющегося зла,
оказывающего деструктивное воздействие на отечественную
культуру.
Христианская традиция отношения к смеху, учитывающая
эти особенности смеха, его возможные крайности, должна быть
восстановлена, должна стать общепонятной и быть позицией, с
которой считаются учреждения культуры, телевидение, другие средства
массовой информации, общественное мнение и т.д. Наша культура
может быть спасена, если она вновь прикоснется к живительным
истокам христианской духовности.
♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦
Глава 4. ПРОБЛЕМА СМЕХА
В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
Цивилизация делает свое дело, создавая
общество нарциссов, которым чужд
размах, смех, зато она перенасыщена
элементами комизма.
Жиль Липовецки
Смех в культуре XX века можно назвать экзистенциальной
характеристикой человека. В культуре XX века "человек
смеющийся" стал определением человека по преимуществу. Смех
выражает самую корневую сущность бытия человека в современной
культуре. Каким образом это стало возможным и почему, можно
понять, если представить себе, каким образом изменилось в этот
период представление о человеке, его отношение к Богу и миру.
Смех - это "человеческое, слишком человеческое", поэтому он стал
эстетической доминантой картины мира, из которой
элиминировано присутствие Бога. Фридрих Ницше устами Заратустры
провозгласил в конце XIX века: "Бог умер" и дело теперь за
сверхчеловеком. Ницше в конце XIX века задал тон в отношении к смеху в
XX веке. Во многом разгадка характера эстетического смеха XX
века коренится в философии Нищие. Сдвиг в понимании человека,
который произошел в XX веке, был связан с новым пониманием и
значением свободы и разума для человека. Забегая вперед, можно
сказать, что смех у Ницше служит средством выражения именно
этих экзистенциальных человеческих качеств.
Миросозерцание, которое складывается в XX веке, носит
характер возвращения, в основных своих чертах, к дохристианской,
языческой картине мира. Поэтому в эстетическом аспекте оно
характеризуется тем, что уже у Ницше восстанавливается
"метафизическая ирония" судьбы, и осознание человеком своего места в
"новом" мироздании окрашивается в трагически-пессимистические
тона. В неоязыческой картине мира смех в разных формах
(сначала иронии, потом юмора) становится постоянной ее эстетической
характеристикой. Причем смех не всегда очевиден,
непосредственно выражен. После его слишком ярких проявлений в качестве
средства разрушения прежнего миросозерцания (например, в
качестве описанной А.Блоком "нигилистической иронии"
предреволюционной эпохи, а также утверждающего новое и бичующего старые
ценности революционного смеха времен Пролеткульта), в конце
первой трети века он как бы "уходит со сцены". На первый план
выдвигается трагическое как предчувствие войны, как категория,
Проблема смеха в современной культуре 239
описывающая состояние метафизического страха (С.Кьеркегор),
метафизического ужаса (М.Хайдеггер), метафизической "тошноты"
(Ж.-П.Сартр), состояние отчаяния, одиночества и "зaбpoшeннocти,,
в этот мир и неизбежности смерти, бессмысленной в отсутствии
вечности.
Но смех тут никуда "не уходит", он является "фоном", на
котором разворачивается трагедия человеческой жизни. И более
того, можно сказать, что смех становится метафизическим,
неустранимым, так как складывающееся мироощущение онтологически
воспроизводит все признаки "комической ситуации" как игровой
реальности и, особенно, явным становится ее главное ядро:
"удвоение видимости и ее разрушение". Иными словами, в самой основе
мира нарастают проявления "ложности", "двусмысленности9*,
"раздвоения-удвоения", " двойничества". Виртуальная реальность
становится преобладающей. Ложная сторона мира стремится
получить равное бытие с истинной. Все теряет свои границы и
приходит в движение. "Игра" становится категорией, описывающей
сущность человека и сущность культуры (Й.Хейзинга). Общество
выступает как "общество театра". "Весь мир - театр, и люди в нем -
актеры". Литературный драматургический подход становится
самым распространенным, даже в претендующей на научность и фак-
тологичность социологии. А "человек смеющийся" всегда
является эстетическим выражением "человека играющего".
Хаос у порожденный нигилизмом как "основным законом
европейской истории" (М.Хайдеггер), до конца не устраняется из новой
картины мира и неклассического типа мышления,
складывающихся в завершенном целом уже после второй мировой войны. Более
того, этот хаос, по-видимому, вообще неустраним из нового
мышления, он становится его конституирующей стороной. Это хорошо
показано у Ж.Делеза в его анализе логики смысла в рамках новой
системы ценностей. Поэтому мышление становится маргинальным,
пограничным, балансирующим на грани смысла и абсурда. А где
все смешивается со всем, где "небеса" падают на "землю", смех -
неизменный спутник такого "всесмешения".
"Метафизическая ирония" Ф. Ницше
Смех в творчестве Ницше занимает исключительно важное
место и он многолик, но можно выделить его три основные образа,
которые обозначим как "греческая или сократическая веселость",
"смех Заратустры" и "метафизическая ирония". В этих образах
смеха дана, фактически, вся философия Ницше, так как первый
образ символизирует отвергаемую им европейскую традицию;
второй - то новое, что он утверждает, разрушая прежнее; третий -
240 Глава 4
характеризует глубинное настроение нового человека, его
метафизический пессимизм, который вызван переживанием открывшейся
ему тайны мира.
"Греческой веселостью" Ницше в своей первой значительной
работе "Рождение трагедии из духа музыки" называет тот дух
оптимизма, который был связан с культом разума античной
культуры, утверждавшей в лице Сократа: "добро есть знание". А у
Платона, ученика Сократа, этот этический идеал находит уже свое
онтологическое закрепление в "эйдосах" или "идеях", которые суть
"боги" вещей, их сущности, причины, цели и т.д. И "идеи"
познаваемы человеческим разумом. Человек, таким образом, через
познание, через свой разум, проникает в мир богов, уподобляется богам.
Этот интеллектуализм составлял основную интуицию античной
философии.
Дионисизм и аполлонизм - две культурообразующие силы,
которые на заре античности существовали на равных, в единстве и
борьбе. Их более или менее равновесное состояние дано в
древнегреческой трагедии. Дионисийское начало - это начало,
символизирующее свободную стихийную игру жизненных сил. Мир тут
дан в своем первозданном хаосе, как он есть на самом деле. Апол-
лонийское начало - оформленность и упорядоченность, или их
иллюзия, потому что человек создает их в своем воображении. Это -
иллюзия образа, мысли, смысла. Если дионисийский хаос рождает
ужас человека перед жизнью, то в аполлонийских иллюзиях
человек делает жизнь возможной и достойной. Аполлонийскую
иллюзию порядка природы рождает человек, он сам привносит смысл в
свою жизнь и в жизнь природы. В основе дионисийства - чувство,
страсть, в основе аполлонийства - разум.
Дионис олицетворяет хаос природы - бездну бытия, которая
есть скрытая почва для страдания, источник зла. В дионисииском
переживании происходит исчезновение субъективного, его
растворение в природном целом. Чтобы выдержать ужас бездны
первобытного природного хаоса, который всегда грозит гибелью, нужно
впасть в иллюзию, которую рождает искусство и особенно
трагедия. Трагедия рождает катарсис, очищение, снимает угнетенное
состояние, "паралич жизни", дает силы жить. Возвышенное для
Ницше - это "художественное преодоление ужасного". А комическое -
"художественное освобождение от отвращения, вызываемого
нелепым". (1,1,83). Так, эстетически, человек преодолевает ужас
жизни. Через аполлонийский порядок красоты, говорит Ницше,
развился олимпийский порядок. (1,1,75). Жизнь для Ницше
оправдана только как эстетический феномен. В этой ранней работе
Ницше даны почти все смыслы его зрелой философии.
Противостояние дионисийского и аполлонийского начал в
культуре служит основой для проявления "метафизической иро-
Проблема смеха в современной культуре 241
нии", которая выражает их истинное соотношение: иллюзорность
аполлонийства и неустранимость и вечность дионисийства.
Порядок хрупок, хаос постоянен, поэтому всегда надо ждать за красотой
и разумностью мира вдруг открывающуюся бездну безобразия, ужаса
и зла. (1,2,57). Поэтому мир в основе своей непостоянен,
переходит в свое иное. Это - ирония самого бытия, она носит вполне
объективный характер. Она является как бы "фоном", на котором
разворачиваются события человеческой жизни. Дионисийский
человек, понимающий истину жизни, является ироником.
Этой "метафизической иронии" дионисийства противостоит, по
Ницше, "сократическая веселость" греков, связанная с аполлоний-
ским принципом. Веселость этого рода - оптимизм активной
деятельности Сократа по поиску истины, "александрийская веселость
теоретического человека". Знание дает оптимизм в деле
исправления жизни в соответствии с образцами, "идеями", которые задают
смысл и цель жизни. Это - радость по поводу открытия разумного
смысла бытия. "Сократическая радость познавания и мечта
исцелить им вечную рану существования" одушевляла до сих пор
европейскую культуру. (1,1, 126). Но, по Ницше, это познание
иллюзорно, поскольку оно есть не приближение к истине, а удаление от
нее.
Современный мир - это сократическая культура. Фауст
представляет собой образ современного культурного человека,
неудовлетворенного, но не знающего собственно чего он хочет, "мечущегося по
всем факультетам" из-за стремления к знаниям, предавшегося магии
и черту, но совершенно несчастного. Источник его страданий,
согласно Ницше, заключается в индивидуации, в выделенности
индивидуума из природного единства, в его личном бытии, противопоставленном
природе. А последнее связано именно с развитием разума, сознания.
Идеализация индивидуальности - вот путь сократической
культуры. Красота и добро тут служат главными средствами. Но в
результате развития такого рода сократической культуры
наступает, как утверждает Ницше, потеря единства с природой, забвение
истины бытия - дионисийства. Тут лежит причина несчастий
современного человека. В возвращении к этой истине заключается
для Ницше путь к счастью, к восстановлению человеческой
природы, искаженной чрезмерным увлечением знанием.
Состояние индивидуации, разорванности, раздробленности -
основа страдания, собственно зла. Излечение от них дает
восстановление целостности через соединение с Дионисом, "богом вечной
жизни". "Вечная жизнь" в Дионисе представляет бессмертие, но
взятое как бесконечный кругооборот вещества и душ в природе,
бесконечное умирание и воскресение. Здесь бессмертие человек
получает как часть природы, слитый с ее беспредельным телом, но
теряющий свою индивидуальность. Дионисийская "вечная жизнь"
242 Глава 4
человеку обещана, но как безличному существу. Природное,
биологическое, телесное бессмертие возможно как растворение человека
в природном универсуме, при котором неизбежна потеря личности,
поскольку последняя связана именно с сознанием, разумом. Но у
Ницше дионисийское самозабвение оправдано эстетически, так как
оно доставляет невыразимое наслаждение: отказ от себя, от своей
личности, есть одновременно слияние с Дионисом, с вечностью
природы и ее безбрежным могуществом. Ницше находится тут в
оппозиции к христианскому пониманию бессмертия как личного
спасения, как соединения с Богом, но при сохранении своей личности.
Amor fati ("любовь к судьбе") предельно ярко выражает это
миросозерцание Ницше. (2). Оно впервые у Ницше появляется в
"Веселой науке" в 1881 году. В записи "на Новый год" мы читаем:
"Я хочу все больше учиться смотреть на необходимое в вещах как
на прекрасное: так, буду я одним из тех, кто делает вещи
прекрасными. Amor fati: пусть это будет отныне моей любовью! Я не хочу
вести никакой войны против безобразного". (1,1,624). Вызывает
уважение мужество Ницше перед судьбой и смертью. Он не устает
подчеркивать, что его привлекает только жизнь. "А во всем вместе
взятом я хочу однажды быть только утвердителем!" (там же). И
все-таки, порой стоическое приятие судьбы переходит в эстетическое
любование смертью, болью и страданием, в стремление добровольно
пойти навстречу гибели, наслаждаясь ее предчувствием и жаждой.
Тем более, что дионисизм подспудно всегда несет в себе тяготение к
растворению в безличном, в природе, что дается только смертью.
"...Быть самому вечной радостью становления...которая заключает
в себе и радость уничтожения", - пишет он в "Сумерках богов". (1,1,
629). Н.Бердяев называл, небезосновательно, дионисизм в
различных формах "космическим прельщением". Конечно, в дионисизме
присутствует соблазн жизнью, осознанно устремленной к смерти.
Дионисизм рождает или он сам является производным
глубокого пессимизма Ницше и связанного с ним постоянного иронизма,
пронизывающего все его творчество. Редкий его афоризм или
редкая его мысль не содержит иронии. "И - мне все еще смешон
каждый Мастер, кто сам себя не осмеял". (Из эпиграфа к "Веселой
науке"). Или "Человеческое, слишком человеческое" заканчивается
эпилогом, в котором смех является одним из главных
действующих лиц:
"...Помолчим, коль дело ладно,
Если ж худо - посмеемся,
Поведем его все хуже
И опять смеяться будем
И, смеясь, сойдем в могилу". (1,1,490).
Смех Ницше, с одной стороны, напоминает смех Демокрита,
который согласно легенде, всегда на людях смеялся и умер от сме-
Проблема смеха в современной культуре 243
ха. Смеялся он над людьми, так как считал, что они своей
глупостью и бессмысленной жизнью недостойны жалости, а достойны
только смеха. "Смеяться - значит быть злорадным, но с чистой
совестью", - пишет он в "Веселой науке". (1,1,612). А с другой
стороны, смех Ницше, когда он слишком явный, как в эпилоге, и
нарочито подчеркивается, тогда не оставляет впечатление, что это
- маска, (иногда - паяца, шута) которую он надевает, чтобы скрыть
себя иного, страдающего, слабого. Ницше - человек сильный, и он
не хотел бы, чтобы его жалели, как и он не жалел слабых. Но
ироничен и остроумен он всегда. "Актер в конце концов уже не
может перестать думать о впечатлении от своей личности и об
общем сценическом эффекте даже при самом глубоком страдании,
например, при погребении своего ребенка; он будет плакать над
собственным горем и его проявлениями, как если бы он был
зрителем самого себя". (1,1, 273).
Афористичность художественного стиля Ницше, в целом,
строится на иронии. Ирония у него выступает и доминирующим
настроением и, одновременно, художественным приемом построения
самого текста. Структура каждого отдельного афоризма, как
правило, содержит перепад мысли в противоположность, в парадокс.
"Гордый досадует даже на тех, кто продвигает его вперед: он
смотрит злобно на лошадей своей кареты" (1,1, 612). "Сон
добродетели. Когда добродетель выспится, она встает более свежей"
(1,1,285). "Злоба редка. Большинство людей слишком заняты
самими собой, чтобы быть злобными". (Там же). "Ревность -
остроумнейшая страсть и тем не менее все еще величайшая
глупость". (1,1,755). Однако, остроумие ("острый и быстрый ум")
всегда скользит по поверхности явлений, сопоставляя их по
парадоксальным и неожиданным основаниям, но докопаться до их
сути - оно такой задачи себе не ставит. Удивить, сбить с толку,
озадачить, посеять сомнения, доставить удовольствие игрой
языка и ума - это оно может. Но логически обосновать и доказать,
воспроизвести логику развития предмета - это вне его
компетенции. Поэтому основные принципы философии Ницше
открывались ему через озарение и интуицию ("вечное возвращение",
"сверхчеловек" и т.д.). А ирония была им использована как средство
для утверждения и иллюстрации его философских интуиции.
Ирония Ницше - не сократическая ирония, которая стремилась быть
поиском истины. Ирония Ницше более нигилистична, она, скорее,
игра, в которой разбиваются устоявшиеся стереотипы, ценности,
но которая не стремится указать верный путь. Путь этот потом
указал ницшевский Заратустра. Заратустра смеется над всеми и
над самим собой, но над сверхчеловеком он не смеется, то есть он
высшие ценности оставляет на их пьедестале, только одни он
заменяет другими.
244 Глава 4
Можно согласиться с В.Микушевичем, написавшим
интересную статью "Ирония Фридриха Ницше" в том, что "Ирония
присутствует в каждой фразе Ницше, в каждом слове, в каждом звуке.
Кто принимает высказывание Ницше за утверждение, не
улавливая в нем одновременного самоотрицания, тот попадает в ловушку
смешного, из героя иронии превращается в жертву тайного и тем
более язвительного осмеяния. Выспренная патетика Заратустры -
непрерывное самопародирование". (20, 202).
В.Микушевич сравнивает смех Ницше ("вечно дурацкое") с
христианским юродством. Сходство есть, но только по смеховой
форме. Цели противоположны (как Христос и антихрист), ведь
христианские юродивые, как и Ницше, никогда не забывали о том,
что для них было свято, хотя и не боялись осмеивать и святое для
них. Но утверждение высших ценностей, хотя и
противоположного порядка, для юродивых и для Ницше - главное. И тут одна
противоположность никогда не может перейти в другую, так как
сохраняется абсолютная точка отсчета, выстраивающая шкалу
ценностей. Поэтому нельзя сказать, что у Ницше "в яростных
нападках на христианство прочитывается апология Христа, в
антихристе распознается истинный христианин, если не сам Христос.
Чтение Ницше не только не отвращает от христианства, но и
приобщает к нему, о чем свидетельствует пример Серафима Роуза,
пришедшего через чтение Ницше к пламенному православному
благочестию" (20, 203). Серафим Роуз прошел свой путь к православию
и Ницше сыграл роль тут, возможно, "от противного". Но Серафим
Роуз - один на тысячи отвращенных Ницше от христианства,
потому что последний ставил себе именно такую цель и со страстью
ее добивался. Единственно верно то, что утверждение высших
ценностей присуще и христианству и Ницше, в то время как
постмодернизм именно их наличие ставит под сомнение и просто
отрицает, делая их относительными.
Метафизическая ирония восходит у Ницше, с одной стороны,
к античной традиции, а с другой, к философскому пессимизму
Шопенгауэра. Их сходство заключается в том, что в них всех в
различной форме отражен один принцип или одна модель миросоцер-
цания - "игра бытия" с человеком, которая всегда однообразна и
всегда оканчивается одним и тем же - гибелью и небытием.
Для Гераклита вечность - это "ребенок, играющий в шашки".
Платон говорит о людях, как о "куклах богов", марионетках,
которых боги не щадят и над которыми забавляются. Философское
умозрение в теории удваивает мир или открывает это удвоение,
разделяя его на подлинное бытие и неподлинное. И поэтому оно, в
определенной мере, всегда иронично. Античная философия,
осознавшая это данное культурой удвоение мира ("мир по истине" и
"мир по мнению"), несла в себе такого рода иронические мотивы. В
Проблема смеха в современной культуре 24 5
основе метафизической иронии лежит ощущение двойственности
мира и цикличности его движения, при котором все возвращается
на круги своя, все повторяется, "нет ничего нового под солнцем".
Ницше позже выразит это мироощущение в мифе о "вечном
возвращении", которое он открыл для себя и принял как истину
мира. "Вечное возвращение", бесконечный кругооборот тел и душ в
природе и есть языческое представление о мире и человеке.
Метафизическая ирония, в той или иной степени, всегда
сопровождает языческое мироощущение с его циклизмом. Этот
кругооборот тел и душ в природы, когда все возвращается вновь и
вновь, и даже в том же самом виде, обессмысливает человеческую
жизнь и бытие в мире. Если все повторяется, то значение любого
события снижается, ведь оно вновь и вновь повторится и уже не
ясно, где оригинал, а где - пародия. На всем, что повторяется
лежит налет пародийности и ироничности. Так, появление в эпоху
Возрождения в европейском искусстве известного мотива "Плясок
смерти", иронического по духу, который выражал ощущение
равенства всех перед смертью (а равенство - всегда повтор одного и того
же во многих), тщетность всех земных усилий по спасению души,
можно расценивать как знак возрождения языческих ценностей,
"вечного возвращения", судьбы. Христианство, под знаком
которого прошло все европейское средневековье, наоборот, говорило о
неравенстве всех перед смертью, ведь земной своей жизнью человек
заслуживал либо рай, либо ад.
Обращение к языческой традиции, в том числе буддистской,
свойственно философии Шопенгауэра. Шопенгауэр ввел в
качестве исходного принципа - мировую волю, которая стоит за всеми
объективациями ее в вещах и в видимых явлениях.
Иррациональная онтологическая основа бытия обессмысливает жизнь и
всю человеческую деятельность, вызванную "жаждой жизни". (2,
46-47). Сам принцип воли в эстетическом своем преломлении
делает иронию неустранимой в качестве определяющего
умонастроения человека, последнее является как бы фоном для всей
жизни человека вообще. Жизнь всякого человека в своих
значительных чертах, согласно Шопенгауэру, всегда представляет собой
трагедию, "но разработанная в частности, она имеет характер
комедии". "Ибо забота и муки дня, непрестанное поддразнивание
минуты, желание и опасение недели, ежечасные неудачи, при
помощи случайности, вечно готовой на проделку, - все это сцены
комедии. Но никогда не исполняемые желания, тщетное
стремление, судьбою немилосердно растоптанные надежды, неизреченные
заблуждения всей жизни, с возрастающими страданиями и
смертью в конце, дают всегда трагедию. Таким образом, словно судьба
желала к злополучию нашего бытия присовокупить еще
насмешку, наша жизнь должна заключать в себе все горе трагедии, при
246 Глава 4
этом мы все-таки не можем даже рассчитывать на достоинство
трагических лиц, а должны быть, во всяческих подробностях жизни,
неизбежно пошлыми характерами комедии" (4, 335-336).
Если у ранних иенских романтиков ирония была средством
освобождения, свободы, то у Шопенгауэра ирония есть выражение
принципиальной несвободы человека, ее полной невозможности в
мире, где царит "воля к жизни". Для него свобода становится
возможной только при уходе в небытие, в нирвану. Смерть сама
по себе тоже не дает освобождения, так как круг жизни опять
повторится. Искусство и философия дают забвение страданий
жизни, но ненадолго, на мгновение, а потому дают иллюзорную
свободу. Ирония у Шопенгауэра - это эстетическая характеристика
самого бытия человека в мире воли, судьбы человека, именно судьбы,
в виде фатального античного рока, который был преодолен
христианством, открывшим человеку пути спасения, в которых
участвовала и его человеческая воля, наряду с волей Бога.
Судьба, взятая как предопределенная фатальность, всегда
метафизически иронична. Эта ирония является, конечно, трагической
по своему существу, в силу своей непреодолимости, безысходности.
Но в этой точке трагическая и комическая иронии совпадают. Как
мы видели, Шопенгауэр это хорошо осознает, поэтому и тон всей
его философии серьезный и сдержанно печальный, даже и в тех
фрагментах, где он разбирает природу смешного, говорит о
комическом и о комедии.
Шопенгауэр оживляет античную судьбу и античную иронию,
но не сократовскую, которая представляла собой деятельный
поиск истины при помощи разума, а иронию как выражение
состояния самого бытия. Эту иронию подхватывает Ницше,
сохраняющий общий строй мира как воли, начала в основе своей
перманентно иррационального, хаотического, а потому и инфернально
иронического. Дионис у Ницше предстает как ироник. Но тут ирония -
знак свободы бога стихийных сил природы, то есть самой природы,
и знак несвободы человека. Смех как символ ницшеанского пути
освобождения человека предстает в смехе Заратустры.
Смех Заратустры
Книга "Так говорил Заратустра" является ключевой для всего
творчества Ницше. Все произведения Ницше, написанные до и
после нее, должны рассматриваться как ее экзегетика, истолкование.
Она была задумана как антибиблия, сюжеты ее пародируют
библейские. И эта пародийность сквозит сквозь каждый сюжет, образ или
мысль книги. А написана она афоризмами и притчами, и как
музыкальное произведение, обращена, прежде всего, к чувствам.
Проблема смеха в современной культуре 24 7
Заратустра сходит с гор, чтобы поведать миру, что ему
открылась тайна: "Бог умер" и дело жизни теперь за сверхчеловеком.
Нынешний человек, говорит Заратустра, есть "грязный поток",
который нужно перейти, "мост" между животным и сверхчеловеком,
"канат над пропастью", он есть переход и гибель. Он - стадное
животное, говорит Ницше, и собственное здоровье для него
превыше всего. Он - "мелкий" человек, живет "маленькими
удовольствиями", и это знак того, что он - "последний человек". Такой
человек не может быть "целью", он - только "мост" и "средство". На
смену ему должен прийти сверхчеловек.
Сверхчеловек - разрушитель, преступник и одновременно
созидатель новых ценностей. "Умерли все боги; теперь мы хотим, чтобы
жил сверхчеловек" (1,2, 57). Его главная заповедь - люби дальнего,
не щади ближнего, а падающего толкни. Для ее исполнения надо
научиться любить себя самого любовью цельной и здоровой: "чтобы
сносить себя самого и не скитаться всюду" (1,2,138). Такое скитание
- любовь к ближнему.
Как разрушитель сверхчеловек - нигилист. Убивают не
гневом, а смехом, утверждает Ницше. (1,2,30). Смех и есть гнев.
Смех - орудие уничтожения прежних ценностей, прежнего
человека. И, таким образом, смех есть путь освобождения от прежних
ценностей, от всего, от чего хочешь уйти. Чтобы разрушить что-
либо на деле, в реальности, надо сначало его уничтожить в своем
сознании, низвести его с пьедестала ценности, смешать с
неценностью, и тогда оно умрет. Смех осуществляет это лучше всего. Смех
есть убийца ценностей, освободитель от них. "Я смеялся над всем
прошлым их и гнилым, развалившимся блеском его", - так говорит
Заратустра.(1,2,141). Смех - это свобода, но свобода через
уничтожение, негативная свобода. "...Кто хочет окончательно убить,
тот с м е е т с я."(1,2,228).
Такой убивающий смех возможен потому, что абсолютных,
непреходящих добра и зла не существует. (1,2,83). Добродетель у
Ницше - самоутверждение жизни, ее становление, суть которого
есть воля к власти. А последняя лежит по ту сторону добра и зла,
поэтому и добродетель должна быть без морали. Сверхчеловек был
бы страшен в своей доброте. Быть добрым - болезнь. "Добрые не
могут созидать: они всегда есть начало конца", "разбейте, разбейте
добрых и праведных!", - проповедует Заратустра.(1,2,154-155).
"Истина - из зла" (1,2,144). "...Смейся, смейся, моя светлая, здоровая
злоба! С высоких гор бросай вниз свой сверкающий, презрительный
смех!"(1,2,172).
Заратустра постоянно смеется и сам говорит о своем смехе.
"Я смеялся часто над слабыми, которые мнят себя добрыми, потому
что у них бессильные руки". "Я продолжал смеяться, тогда как
мои ноги и сердце дрожали...". "Да, смех вызываете вы во мне, вы,
248 Глава 4
настоящие (т.е. люди современной культуры. - М.Р.)!". "Так
говорил Заратустра и опять засмеялся: но тут он вспомнил о своих
покинутых друзьях...И вскоре смеющийся заплакал: - от гнева и
тоски горько заплакал Заратустра". Заратустра не только живет
со смехом, он и о смерти говорит, что она будет от смеха.
"Поистине, моей смертью будет - задохнуться от смеха, глядя на пьяных
ослов и слушая ночных сторожей, сомневающихся в Боге".
Заратустра говорит о Иисусе Христе прикровенно: "Зачем не
остался он в пустыне и вдали от добрых и праведных! Быть может,
он научился бы жить и научился бы любить землю - и вместе с
тем смеяться". Смех выступает знаком жизни, ориентированной на
земные ценности, в противоположность христианству с его путем
спасения, ориентированным на посмертное воздаяние. Заратустра
говорит о смехе самой жизни: "Так смеялась она, невероятная; но
никогда не верю я ей и смеху ее, когда она дурно говорит о себе
самой". (1,2,77).
Смех выступает действующим "лицом" в одном из самых
сильных эпизодов книги, который имеет важное символическое
значение. "Я увидел молодого пастуха, задыхавшегося, корчившегося, с
искаженным лицом; изо рта у него висела черная, тяжелая змея...
Должно быть он спал? В это время змея заползла ему в глотку и
впилась в нее...Тогда из уст моих раздался крик: "Откуси!
...Откуси ей голову!"...Ибо это был призрак и предвидение: - что видел
я тогда в символе?...К т о этот человек, которому все самое
тяжелое, самое черное заползет в глотку? - И пастух откусил, как
советовал ему крик мой, откусил голову змеи! Далеко отплюнул он ее:
- и вскочил на ноги. - Ни пастуха, ни человека более, - предо
мной стоял преображенный, просветленный, который смеялся!
Никогда еще на земле не смеялся человек, как о н смеялся! О
братья мои, я слышал смех, который не был смехом человека, - и
теперь пожирает меня жажда, желание, которое никогда не
стихнет во мне. Желание этого смеха пожирает меня: о, как вынесу я
еще жизнь? И как вынес бы я теперь смерть! " (1,2,114).
Этот смеющийся преображенный человек для Ницше -
"выздоравливающий" от гнета прежних ценностей, всего "тяжелого",
"давящего", "черного", "душащего", от всего, чем жил прежде
человек. Это - образ рождения сверхчеловека, освобожденного от всего
"человеческого". "Великое отвращение к человеку -оно душило
меня и заползло мне в глотку...". (1,2,159). И этот сверхчеловек
смеется нечеловеческим смехомХ А каким?
Тайна смеха Заратустры приоткрывается, когда он говорит о
"тайном смехе своем": "я угадываю, вы бы назвали моего
сверхчеловека - дьяволом]" (1,2, 104). Ницше сам прямо указывает на
сатанинский характер смеха сверхчеловека. Смех становится
знаком человекобога. "Кто поднимается на высочайшие горы, тот сме-
Проблема смеха в современной культуре 24 9
ется над всякой трагедией сцены и жизни". (1,2,108). Как
смеются гомеровские боги на Олимпе, так смеются у Ницше люди,
ставшие "богами", убившие своего Бога. " И все боги смеялись тогда,
качаясь на своих сиденьях, и восклицали: "Разве не в том
божественность, что существуют боги, а не Бог! Имеющий уши, да слы-
шит".(1,2,131).
Ницше совершенно точно указывает при характеристике
смеха Заратустры на сущность смеха вообще: "...злоба моя -
смеющаяся злоба... ибо в смехе все злое собрано вместе, но признано
священным и оправдало своим собственным блаженством"
(Разрядка моя - М.Р.). (1,2,168). Иными словами, тайна смеха
заключается в том, что только в смехе зло доставляет удовольствие и
тем оправдано, таким образом, через смех зло "вползает" в мир.
Смех доставляет удовольствие потому, что он все тяжелое
делает легким, все ценное, значительное и потому серьезное,
"тяжелое", он облегчает, делает невесомым, ничего не значащим. И это
мгновенное "освобождение", даже иллюзорное, от тяжести
ценностей доставляет блаженство. Но остановиться на этом
"освобождении" (Ницше называет его нигилизмом), было бы подобно
самоубийству, так как эта свобода есть свобода не только от ценностей,
но и от жизни, так как последняя невозможна без ценностей, без
смысла.
Нигилизм - это, для Ницше, потеря смысла существования и
есть выражение декаданса, вырождения. С обесцениванием
ценностей, обесценивается сама жизнь - такова природа человека.
Чтобы возродить жизнь, надо создать новые ценности. Новые
ценности - это старая забытая истина, это - "вечное возвращение" и
"воля к власти", то есть дионисизм.
Новые ценности выстраиваются Ницше по типу зеркального
отражения, вернее отвержения, прежних христианских. Отчетливее
всего это проявлено в его последнем произведении "Антихрист",
само название которого говорит за себя. Антихрист - антитеза
Иисуса Христа, как и дьявол - обезьяна Бога. Антихрист по сути
- пародирующий двойник Иисуса Христа. Он явится в последние
времена и будет выдавать себя за Спасителя, но это только по
видимости, а по сути он будет губителем, уводящим от Бога, а не
соединяющим с ним.
Личному спасению в христианстве противопоставляет Ницше
"вечное возвращение", то есть безличное бессмертие природного
вещества; любви к ближнему как главной заповеди христианства -
любовь к дальнему, при которой не щадится ближний;
христианской святости как обожению - сверхчеловек как человекобог.
Христу противопоставляется Дионис, Богочеловеку - человекобог.
Иными словами, христианству в качестве антитезы и в качестве "новых
ценностей" выдвигается язычество.
250 Глава 4
Ницше утверждает обратную, пародирующую, изнаночную
сторону "новых ценностей" по отношению к христианству, поэтому
смеховой аспект образа этих "новых ценностей" и их глашатая
Заратустры неустраним, является их главной выразительной,
эстетической характеристикой. Смех, пожалуй, имеет даже культовое,
ритуальное значение у Ницше, как в древнем язычестве. "Этот
венок смеющегося, этот венок из роз: я сам надел на себя этот
венок, я сам признал священным свой смех"(1,2, 213).
Уже у Шопенгауэра эстетика, фактически, выступила в
качестве не только гносеологии (ведь познать мировую волю у
Шопенгауэра можно только через искусство), но и совпала с его
онтологией, так как проявляется мировая воля как бытие мира адекватно в
произведениях искусства, в музыке, например, и трагедии. Ницше
сохраняет эти основные онтологические характеристики "мировой
воли" как "воли к власти", поэтому можно говорить о том, что
смех выступает у Ницше как экзистенциальная
характеристика бытия, подобно тому как "метафизическая ирония" выполняла
такую же роль в философии Шопенгауэра.
Надо сказать, что "метафизическая ирония" сохраняет свое
значение и в философии Ницше, но как "фон", на котором
разворачивается драма жизни, где человек в качестве сверхчеловека
выполняет очень активную роль, чего не было у Шопенгауэра. И
поэтому смех у Ницше является символом активности
сверхчеловека в ниспровержении прежних ценностей (как прямое орудие их
уничтожения) и, опять же, служит знаком созидания новых
ценностей, ориентированных на земные, телесные, чувственные радости.
Таким образом, одной из доминирующих эстетических
характеристик грядущего человека, сверхчеловека, является смех.
Понимание смеха у Ницше, в значительной мере, предопределило
отношение к смеху в XX веке. Он стал знаком "свободы" или
освобождения от традиции, то есть прошлых ценностей, для человека XX
века.
"Нигилистическая ирония" А. Блока
В 1908 году А.Блок написал маленькое эссе "Ирония",
которое представляет собой страстный отклик поэта на злобу дня.
Поэт пишет об иронии как о болезни, которой поражены "самые
живые, самые чуткие дети нашего века", и которая "сродни
душевным недугам". "Ее проявления - приступы изнурительного смеха,
который начинается с дьявольски-издевательской, провокаторской
улыбки, кончается - буйством и кощунством. Я знаю людей,
которые готовы задохнуться от смеха, сообщая, что умирает их мать,
что они погибают с голоду, что изменила невеста. Человек хохочет
- и не знаешь, выпьет он сейчас, расставшись со мною, уксусной
Проблема смеха в современной культуре 251
эссенции, увижу ли его еще раз? И мне самому смешно, что этот
самый человек, терзаемый смехом, повествующий о том, что он
всеми унижен и всеми оставлен, - как бы отсутствует; будто не с ним
я говорю, будто и нет этого человека, только хохочет передо мною
его рот. Я хочу потрясти его за плечи, схватить за руки, закричать,
чтобы он перестал смеяться над тем, что ему дороже жизни, - и не
могу. Самого меня ломает бес смеха; и меня самого уже нет. Нас
обоих нет. Каждый из нас - только смех, оба мы - только нагло
хохочущие рты".(11,333).
Текст настолько ясный и сильный, что не требует
комментариев. В нем все есть, надо только вдуматься. Поэт воспринимает
такой смех как "болезнь душевную" и видит, что этой болезнью
больны слишком многие вокруг него, признается, что он и сам ею
болен. Заметим, что поэт четко отдает себе отчет о характере этого
смеха - он направлен на все самое дорогое, что есть у человека, на
уничтожение главных ценностей (взамосвязи поколений,
родителей и детей, любви обрученных, оснований самой жизни и т.д.).
Причем, 11уничтожителеУ199 выступает человек, для которого и должны
быть значимы эти ценности.
Разрушая эти ценности, он разрушает сам себя. Это -
самоубийство. Недаром поэт говорит, что человек этот в смехе такого
рода как бы отсутствует, его нет, "только хохочет передо мною
его рот". Разрушая все, что представляет ценность для духовной
жизни человека, он заживо себя убивает, он еще жив телесно, но
духовно мертв. Поэтому поэт и говорит, что неизвестно, увидит ли
он его еще. И его самого "ломает бес смеха". "Проклятая ирония"
- это одержимость "бесом смехап. И "нагло хохочущие рты",
которые остаются от зараженных этой болезнью, это указание на
то, что человек, зараженный ею как бы заживо распадается на
части, иными словами, становится человеком с выжженной такой
иронией душой, живым мертвецом.
Образ "хохочущего рта", живущего своей отдельной жизнью
от самого человека, одержимого "бесом смеха", неожиданно
напоминает другой художественный образ - улыбку Чеширского кота в
сказке Л.Кэррола, которая "гуляла сама по себе", появлялась и
исчезала, когда хотела. Оба образа символизируют всеприсутствие
смеха, состояние, когда смех становится преобладающим
настроением. Когда это происходит, он действует разрушающе.
Блоковский диагноз умонастроения начала века в России
среди людей духовно, эстетически чутких, точный - "эпидемия
свирепствует; кто не болен этой болезнью, болен обратной: он вовсе не
умеет улыбнуться, ему ничего не смешно. И по нынешним
временам это - не менее страшно, не менее болезненно; разве мало
теперь явлений в жизни, к которым нельзя отнестись иначе, как с
улыбкой?"(11,334). Нельзя все, что происходит, воспринимать с
252 Глава 4
улыбкой, но также страшно потерять вообще способность
улыбаться и смеяться. Крайности сходятся, болезненно как первое,
так и второе.
В Библии сказано, что есть "время плакать, и время смеяться;
время сетовать и время плясать" (Еккл., 3,4). Человеку
свойственны и смех, и плач. Когда же он только смеется, забывая о плаче в
минуту смерти матери, то его смех - это уже иной смех,
нечеловеческий, это уже знак безумия, знак его выхода за пределы его
человеческого бытия.
Поэт не отрицает смеха созидающего, но проявлений его в
современности он не видит. Люди одержимы "разлагающим
смехом, в котором топят они, как в водке, свою радость и свое
отчаянье, себя и близких своих, свое творчество, свою жизнь и, наконец,
свою смерть. Кричите им в уши, трясите их за плечи, называйте им
дорогое имя, - ничего не поможет. Перед лицом проклятой иронии
- все равно для них: добро и зло, ясное небо и вонючая яма,
Беатриче Данте и Недотыкомка Сологуба. Все смешано, как в кабаке и
мгле. Винная истина, "in vino Veritas" - явлена миру, все - едино,
единое - есть мир; я пьян, ergo - захочу - "приму" мир весь
целиком, упаду на колени перед Недотыкомкой, соблазню Беатриче;
барахтаясь в канаве, буду полагать, что парю в небесах; захочу -
"не приму" мира; докажу, что Беатриче и Недотыкомка одно и то
же. Так мне угодно, ибо я пьян. А с пьяного человека - что
спрашивается? Пьян иронией, смехом, как водкой; так же все
обезличено, все "обесчещено", все - все равно". (11,334-335). Всесмешение
неба с землей, добра и зла, потеря ориентации - вот результат
такой иронии. Сравнение иронии с винным опьянением очень
точно, так как ирония как эстетическая реальность связана с
наслаждением. Саморазрушение и разрушение ценностей в иронии
доставляют удовольствие, сродное опьянению водкой. Ситуация та
же: когда свое удовольствие становится причиной собственной
гибели.
Поэт считает, что эта болезнь - порождение "ужасающего
девятнадцатого века, русского девятнадцатого века в частности". Тут
и русская литература сказала свое сатирическое слово. Тогда не
подозревали о той "страшной опасности, приходящей отсюда".
(11,336). "...И Достоевский, и Андреев, и Сологуб - по-одному -
русские сатирики, разоблачители общественных пороков и язв; но
по-другому-то, и по самому главному, - храни нас Господь от их
разрушительного смеха, от их иронии...". (11,336). "И все мы,
современные поэты, - у очага страшной заразы. Все мы пропитаны
провокаторской иронией Гейне. Тою безмерною влюбленностью,
которая для нас самих искажает лики наших икон, чернит сияющие
ризы наших святынь". (11,337). Поэт призывает не доверять
пророкам, он предчувствует катастрофу, которая отзовется болью. "Не
Проблема смеха в современной культуре 2 53
слушайте нашего смеха, слушайте ту боль, которая за ним. Не
верьте никому из нас, верьте тому, что за нами. Если же мы не
способны явить вам то, что за нами... отвернитесь от нас скорее.
Не делайте из наших исканий - моды, из нашей души -
балаганных кукол...". (11,337).
Болезнь "ирония" есть болезнь личности, болезнь
"индивидуализма", говорит Блок. И это болезнь - эгоизм и гордыня.
Спасение от нее только одно, считает поэт, - самоотречение.
"Отрекись от себя для себя, но не для России" (Гоголь). "Личное
самоотречение не есть отречение от личности, а есть отречение лица от
своего эгоизма" (В.Соловьев).
Смех, о котором пишет А.Блок, - это отзвуки смеха Заратуст-
ры Ницше, низвергающего ценности "последнего человека", и
предвещающего приход "нового человека", который уничтожит старое
и установит новый, лучший порядок. А.Блок своей чуткой душой,
скорее, просто ощутил, чем сознательно понял, что его приход,
которого все ждали и к которому все стремились в начале XX века
(и он в том числе, находившийся как и другие русские литераторы
под влиянием Ницше) может принести с собой не только
ожидаемое, но и нечто непредвиденное, страшное. Блок почувствовал как
под ним, под всем миром земля заколебалась, почувствовал
сотрясение самих основ бытия, ужаснулся раскрывшейсяся бездне.
Несмотря на осознание опасности "разлагающего смеха",
творчество самого поэта не было свободно от "проклятой иронии".
Особенно это проявилось в загадочной поэме Блока "Двенадцать",
где эта ирония в образе Иисуса Христа, шествующего впереди
двенадцати "апостолов" революции, достигает ужасающего масштаба.
С.Л.Слободнюк показывает посредством анализа текста
поэмы и привлечения различных источников, что "блоковский
Христос совмещает в себе два противоположных начала: "зло" и
"добро"", и Христос Блока - это "демон", как и "апостолы", поддельный
Христос, Антихрист. (18,289-305). И все это революционное
действо у Блока разворачивается на фоне стихии смеха:
"Трах-тах-тах! - и только эхо
Откликается в домах...
Только вьюга долгим смехом
Заливается в снегах...". (11, 372).
Смех тут выступает "повивальной бабкой" революции. А
ирония - в форме "нигилистической иронии". А.Блок - человек той
предреволюционной эпохи с ее ироничной двойственностью: он
сознавал опасность такого смеха, низвергающего все и вся, но сам
освободиться от него не мог. Предчувствие Блока не обмануло:
ирония, разрушающая одного человека, ее носителя, явилась одним
из средств революционного переустройства социального мира в
целом.
254 Глава 4
Понимание социальной значимости смеха, его революционной
роли видимо, присутствовало в культурной атмосфере не только
России, но и на Западе. Недаром, именно в этот период, первого
десятилетия XX века выходят о смехе значительные труды
Бергсона (1899) и Фрейда (1905). "Смех" был единственным
эстетическим произведением Бергсона. Смех для Бергсона, прежде всего, -
это средство освобождения жизни от всего косного, механического,
отживающего. Иными словами, смех - орудие преобразования
мира, он выполняет "полезную цель общего совершенствования".
У Фрейда смех есть выражение глубинной подлинной
природы человека, бессознательного. Остроумие, смех - явления, в
которых не только проявляется бессознательное, но это и средство
компенсации бессознательных импульсов, подавляемых социальными
нормами и ценностями. И у Фрейда, и у Бергсона смех - это
выражение бессознательного, которое в смехе берет реванш за свое
подавление. Причем это бессознательное носит природно-животный
характер (у Фрейда он прямо обозначен как сексуальность и
агрессия, а у Бергсона - более завуалировано как "жизнь", как
"становление") вступает в конфликт с культурой, которая до сих пор
имела в качестве отправного пункта - дух (скажем, у Декарта человек
определяется мышлением), сознание и самосознание. Теперь
человек определяется своей телесностью и смех является выражением
этой "новой" сущности человека.
Постреволюционную эпоху в искусстве и место смеха в ней
охарактеризовал X. Ортега-и-Гассет, в своей известном труде
"Дегуманизация искусства".
Ортега-и-Гассет об "иронической судьбе" искусства.
Работа "Дегуманизация искусства" была написана Хосе Орте-
гой-и-Гассетом в 1925 году и имела целью исследование
особенностей нового искусства, появившегося в начале века и получившего
название "модернизм".
Ортега начинает свой анализ с феномена непопулярности
нового искусства, которое, как он утверждает, "ненародно по самому
своему существу; более того - оно антинародно". (5, 231).
Произведения нового искусства действуют подобно социальной силе,
которая создает две антагонистические группы. Большинство, масса
просто не понимает его. Новое искусство не есть искусство для
всех, оно обращается к особо одаренному меньшинству, говорит
философ. Это искусство служит для отбора элиты, оно
"содействует тому, чтобы "лучшие" познавали самих себя, узнавали друг
друга среди серой толпы и учились понимать свое предназначение:
быть в меньшинстве и сражаться с большинством". (5,232).
Проблема смеха в современной культуре 2 55
Ортега видит спасение культуры от массы в формировании
элитарного общества. "Близится время, когда общество от
политики и до искусства, вновь начнет складываться, как должно, в два
ордена или ранга: орден людей выдающихся и орден людей
заурядных. Все недуги Европы будут исцелены и устранены
благодаря этому новому спасительному разделению". (5,232). Ложный
постулат реального равенства людей, наконец, будет опровергнут,
надеется Ортега-и-Гассет. Ницшеанские мотивы в культуре и в
искусстве начинают нарастать и провозвестником этого, как
чувствует Ортега, служит новое искусство. Новое искусство выступает
средством отбора такой элиты "выдающихся людей".
Какой же, согласно Ортеге, сущностный принцип молодого
искусства модернизма? "Новое искусство - это чисто художественное
искусство"(5,236). Художественное искусство - это искусство
"идеалистическое", "нереальное" и "условное", в то время как народное
искусство всегда является, как утверждает Ортега-и-Гассет,
реалистическим, натуралистическим, почти "частью жизни".(5,236).
Потому последнее и понятно массе, что предмет его та же жизнь -
люди, их судьбы и страсти.
В "новом стиле" искусства философ выделяет такие
тенденции к дегуманизации: избегание живых форм; стремление к тому,
чтобы произведение искусства было лишь произведением
искусства; понимание искусства как игры и только; чуждость искусства
всякой трансцеденции; тщательное исполнительское мастерство; а
также тяготение к глубокой иронии. (5, 237).
"Новое вдохновение" всегда имеет непременно комический
характер, отмечает Ортега, в противоположность прежнему искусству,
ориентированному на изображение человека и его жизни,
гуманизированному. "В искусстве, обремененном "человечностью",
отразилось специфически "серьезное" отношение к жизни. Искусство
было штукой серьезной, почти священной. Иногда оно - например, от
имени Шопенгауэра и Вагнера - претендовало на спасение рода
человеческого - никак не меньше!" (5,257).
Новое искусство насыщено комизмом, "который простирается
от откровенной клоунады до едва заметного иронического
подмигивания, но никогда не исчезает вовсе. И не то, чтобы содержание
произведения было комичным - это значило бы вновь вернуться к
формам и категориям "человеческого" стиля, - дело в том, что
независимо от содержания само искусство становится игрой. А
стремление к игре, к фикции, как таковой ...может, очевидно, возникнуть
только в веселом расположении духа. К искусству стремятся именно
потому, что оно рассматривается как фарс (Разрядка моя - М.Р.)".
(5,257).
Ортега-и-Гассет говорит, что именно эта ироническая,
фарсовая позиция современного искусства затрудняет серьезным людям
256 Глава 4
с несовременной восприимчивостью его понимание, так как они
полагают, что новые живопись и музыка являются чистым
"фарсом" в худшем смысле слова и не допускают мысли, чтобы именно
в фарсе видеть главную миссию искусства и его благотворную роль.
И оно таким бы было, если бы современный художник, согласно
Ортеге, стремился соперничать с "серьезным" искусством прошлого
и кубистское полотно было бы рассчитано на то, чтобы вызвать
такой же почти религиозный восторг, как статуя Микеланджело.
Источник комизма нового вдохновения заключается в том, что "новое
искусство высмеивает самое искусство". (5, 257).
Это очень точное и важное наблюдение испанского философа,
он высоко оценивает эту способность модернизма. "Нигде искусство
так явно не демонстрирует свой магический дар, как в этой
насмешке над собой", "в жесте самоуничижения оно как раз и остается
искусством и в силу удивительной диалектики его отрицание есть
его самосохранение и триумф". (5, 258). Такого рода ирония
восходит к романтической иронии XIX века, считает Ортега, по причинам,
которые совпадают с новой направленностью искусства. "Миссия
искусства - создавать ирреальные горизонты. Чтобы добиться
этого, есть только один способ - отрицать нашу реальность,
возвышаясь над нею. Быть художником - значит не принимать всерьез
серьезных людей, каковыми являемся мы, когда не являемся
художниками. Ибо если ненависть живет в искусстве как серьезность, то
любовь в искусстве, добившемся своего триумфа, являет себя как
фарс, торжествующий над всем, включая себя самого, подобно тому
как в системе зеркал, бесконечное число раз отразившихся друг в
друге, ни один образ не бывает окончательным - все
перемигиваются, создавая чистую мнимость" (Разрядка моя - М.Р.). (5, 258).
Искусство носит игровой и мнимый характер и поэтому
ирония от них неотделима. Как было показано ранее, иллюзорность,
зеркальность, мнимость относятся к самой сущности эстетического
смеха вообще, поэтому понятно, что там, где появляется
представление об искусстве как об игре, иллюзии и фикции, там появляется
комизм как неустранимое качество искусства. Причем, очень
показательно сравнение Ортеги нового искусства с системой зеркал,
отражающихся друг в друге, и создающих "чистую мнимость". К
образу зеркала обратился и Кэролл Льюис для художественного
воплощения своих открытий в логике, и которые, в определенном
смысле, отражали дух времени. Его героиня, девочка Алиса,
оказывается в мире "Зазеркалья" (само название может быть прочитано
как "удвоенное" или "умноженное" зеркало), в царстве, где обычная
логика не действует, где все живет по иным, "изнаночным",
обратным обычным, законам.
Искусство - это "лакмусовая бумажка" состояния культуры,
ибо в его образах проявляются внутренние подспудные процессы,
Проблема смеха в современной культуре 257
которые в культуре протекают. Поэтому главное резюме работы
Ортеги-и-Гассета в интересующем нас ключе заключается в том,
что неустранимость, постоянство смехового, иронического, аспекта
авангардного искусства связано с трансформацией представлений
о человеке, а, именно, с их дегуманизацией, как совершенно точно
на это указывает Ортега. Иными словами, дегуманизация
искусства - это дегуманизация современного человека. Что же такое
дегуманизация в понимании Ортеги?
Искусство XIX века ставило своей задачей реалистическое
изображение действительности с позиций человека. Так, точкой
отсчета в линейной перспективе был человеческий глаз,
человеческое измерение. На полотне художника XIX века дом, гора или
человек узнаются с первого взгляда. Стилизация в новом
искусстве, говорит Ортега, означает дегуманизацию. "...Художник не
ошибается и не случайно отклоняется от "натуры", от
жизненно-человеческого, от сходства с ним, его отклонения указывают, что он
избрал путь, противоположный тому, который приводит к
"гуманизированному" объекту". (5,241). Но в чем заключается
особенность модернистской стилизации как дегуманизации? Сама по себе
стилизация вовсе не приводит к дегуманизации. Например,
древнеегипетское искусство, или искусство европейского средневековья
стилизованно, но каждое по-своему гуманистически
ориентированно, поскольку предметом своим имеет не только трансцедентную
сферу, Бога или богов, но и человека.
Человек не изымается из сюжетов нового искусства, он не
перестает быть его предметом, но он изображается с чувством
отвращения. "Мне думается, что новое художественное восприятие
руководится чувством отвращения к "человеческому" в
искусстве, чувством, весьма сходным с тем, которое ощущает человек
наедине с восковыми фигурами". (5, 246). "Что означает это
отвращение к "человеческому" в искусстве? ... читатель, слишком дерзко
об этом спрашивать и пока оставим это". (5, 246). Ортега не
решается прямо высказать то, что он подозревает. Но ответ он дает всей
своей работой в целом, тем утверждением, что формирование нового
искусства отражает глубинные процессы, происходящие в
культуре и процессы эти связаны с формированием элитарной культуры
и элитарного общества, в противоположность искусству XIX века,
ориентированному демократически. Ортега-и-Гассет приветствует
этот процесс, так как он в нем видит возрождение культуры
народов Европы. Он эту работу написал в 1925 году и, видимо, хорошо
почувствовал то, что уже присутствовало в культуре Европы, и что
разразилось в 30-е годы фашизмом, специфически "элитарным"
обществом.
Отметим, что это "отвращение" искусства авангарда к
человеку очень похоже на то отвращение "сверхчеловека" к "последнему
258 Глава 4
человеку", которое декларировал Ницше устами Заратустры.
Ницшеанская закваска, безусловно, присутствует в модернистском
искусстве, ведь каждый художник первой половины XX века
ориентирован на принципиальную гениальность, на самовыражение как
цель искусства.
В "человеческом" как комплексе элементов, составляющих наш
привычный мир, Ортега выделяет иерархию трех уровней.
"Высший - это ранг личности, далее - живых существ и, наконец, -
неорганических вещей. Ну что же: вето нового искусства
осуществляется с энергией, пропорциональной иерархической высоте
предмета. Личное, будучи самым человеческим, отвергается новым
искусством решительней всего. Это особенно ясно на примере
музыки и поэзии. От Бетховена до Вагнера основной темой музыки
было выражение личных чувств... Поэтому эстетическое
наслаждение было неочищенным... Это нечестно, сказал бы нынешний
художник. Это значит пользоваться благородной человеческой
слабостью, благодаря которой мы способны заражаться скорбью или
радостью ближнего. Однако эта способность заражаться - вовсе не
духовного порядка... Дело тут в автоматическом эффекте, не
больше... Искусство не может основываться на психическом
заражении...". (5,245).
Иными словами, искусство отвращается от мира чувств и
концентрируется на разуме, на духе, но понятом особенно, в
соответствии с установками феноменологии. "Эстетическое удовольствие
должно быть удовольствием разумным". (5,245). Связь с
человеческой чувственностью усматривается в основе реализма. Но это,
для Ортеги, - ложный подход. Реальность - это идеи о ней,
которые удается сформировать людям. "Наши идеи - как бы
смотровая площадка, с которой мы обозреваем весь мир... Мы видим вещи
с помощью идей о вещах". (5,251). Смешение предмета и идеи о
предмете и есть "врожденная наклонность к "человеческому".
Надо на место вещей, поставить идеи о вещах, и тем самым они будут
дегуманизированны.
Тут мы не идем от сознания к миру, как говорит Ортега, а
наоборот, "стремимся вдохнуть жизнь в схемы, объективируем эти
внутренние и субъективные конструкции" (5,252). "А что, если бы,
вместо того чтобы пытаться нарисовать человека, художник
решился нарисовать свою идею, свою схему этого человека? Тогда
картина была бы самой правдой, и не произошло бы неизбежного
поражения. Картина, отказавшись состязаться с реальностью,
превратилась бы в то, чем она является на самом деле, т.е. в
ирреальность. Экспрессионизм, кубизм и т.д. в разной мере пытались
осуществить на деле такую решимость, создавая в искусстве
радикальное направление. От изображения предметов перешли к
изображению идей: художник ослеп для внешнего мира и повернул
Проблема смеха в современной культуре 2 59
свой зрачок вовнутрь, в сторону субъективного ландшафта
(Разрядка моя. - М.Р.)". (5, 252).
В пьесе Пиранделло "Шесть персонажей в поисках автора"
представлены персонажи как таковые, то есть их идеи или чистые
схемы, а не личности, ибо ранее традиционный театр предлагал
видеть в персонажах личности. Это - подлинная драма идей как
таковых, драма субъективных фантомов, которые живут в
сознании автора. (5, 252). Вот она - самая суть дегуманизации. На
первом плане подчеркнутая театральная фикция происходящего
действа, то есть сама условность театра, его обман. На заднем
плане - сюжет, драма, характеры, судьбы и все, что уподобляет
театр жизни. Ирония поэтому окрашивает всю пьесу, можно
сказать, является ее "действующим лицом". "Публика стремится
отыскать "человеческую" драму, которую художественное
произведение все время обесценивает, отодвигает на задний план, над
которой оно постоянно иронизирует и на место которой, то есть на
первый план ставит самое театральную фикцию. Широкую
публику возмущает, что ее надувают, она не умеет находить
удовольствие в этом восхитительном обмане искусства, тем более чудесном,
чем откровеннее его обманная ткань". (5, 253).
Итак, причина и сущность дегуманизации искусства
заключены в принципиальной перемене точки зрения на мир, на человека,
фактически, в особенностях нового мышления, в направлении
зрения противоположном тому, которому мы стихийно следуем в
повседневной жизни, в этом заключается суть поворота к
"бес-человечному". Комическое же является преобладающей стихией
искусства авангарда потому, что само искусство выступает как чистая
ирреальность, условность, иллюзия, фикция, с которой
осуществляется игра, Причем, игра эта такого рода, когда от "перемены мест
слагаемых сумма не меняется", то есть это — манипулирование
фигурами, сюжетами, операциями, где в принципе имеет значение
только этот процесс манипуляции, но никак не порядок,
возникающий в его результате. Зеркальное отражение - лучший образ
такой игры и он становится очень устойчивым, "сквозным", в
культуре XX века.
Ортега-и-Гассет отмечает важное обстоятельство в динамике
мирового искусства: "художественное восприятие начинается с
поисков живой формы и завершается тем, что уходит от нее, как бы
исполненное страха и отвращения, прячась в абстрактных знаках
- в последнем прибежище одушевленных или космических
образов. Змея стилизуется как меандр, солнце - как свастика". (5,
253). Так было в эпоху итальянского Ренессанса,
отталкивающегося от готического канона, и провозгласившего в качестве идеала
жизнеподобные формы, так было в Византии в период
иконоборчества, когда, наоборот, были отвергнуты человеческие изображения.
260 Глава 4
"В новом искусстве явно действует это странное иконоборческое
сознание; его формулой может стать принятая манихеями
заповедь Порфирия, которую так оспаривал Св.Августин: "Omne corpus
fugiendum est" ("Следует бежать плоти". - М.Р.)". (5,254).
Новое искусство, констатирует Ортега, направлено против
традиции европейского искусства, особенно против реалистического
искусства XIX века, а симпатизирует "искусству первобытному и
варварской экзотике". Действительно, не случайно дата открытия
(1905-1907) африканского и океанийского искусства совпадает с
"эстетической революцией XX века". (6, 93). Ортега задает вопрос:
"признаком какого жизнеотношения является такое отрицание
традиции, ибо нападать на искусство прошлого - значит восставать
против самого Искусства: ведь что такое искусство без всего
созданного до сих пор?...Так что же выходит, под маской любви к
чистому искусству прячется пресыщение искусством, ненависть к
искусству? Мыслимо ли это? Ненависть к искусству может
возникнуть только там, где зарождается ненависть и к науке, и к
государству - ко всей культуре в целом. Не поднимается ли в сердцах
европейцев непостижимая злоба против своей исторической
сущности..." (5, 256).
Модернизм является нетрансцедентным искусством в том
смысле, что оно отрицает претензии прошлого искусства разрешать
серьезные проблемы жизни, как это было в XIX столетии. Тогда
поэзия и музыка имели огромный авторитет, от них ждали, по
меньшей мере, "спасения рода человеческого на руинах религии и на
фоне неумолимого релятивизма науки". В модернизме "если и можно
сказать, что искусство спасает человека, то только в том смысле,
что оно спасает его от серьезности жизни и пробуждает в нем
мальчишество. Символом искусства вновь становится волшебная
флейта Пана, которая заставляет козлят плясать на опушке леса".
(5, 259).
Ортега замечает, что новое искусство может быть понято, как
"опыт пробуждения мальчишеского духа в одряхлевшем мире".
Культура, с которой связано новое искусство, основана на культе
тела и знаком этого служат особое увлечение спортивными
состязаниями. Это же состояние культуры XX века отмечал и Й.Хей-
зинга в "Homo ludens", в "Человеке играющем". Культ тела
знаменует тот момент, что Европа "вступает в эпоху ребячества". Но это
не детство и не юность европейской культуры. Еще в 1919 году,
после первой мировой войны, О.Шпенглер заговорил о закате
Европы. На старости "впадение в ребячество" не всегда называется
"второй молодостью". Культ тела в европейской культуре XX века
может расцениваться только как противоположность культу духа,
с которым была связана ее средневековая юность и ренессансная
зрелость. Отвергая традицию в начале нашего века, Европа отвер-
Проблема смеха в современной культуре 261
гала свои религиозные христианские корни, как это пророчески
предвидел Ницше.
О некоторых тенденциях в искусстве XX века
Эстетическая революция начала века, которую пытался
осмыслить в 1925 году Х.Ортега-и-Гассет, знаменовала собой в 1905-
1907 годах резкий перелом в ценностных ориентациях и
выразительных средствах искусства, и воспринималась как полный
разрыв с классической эстетикой. "С середины 900-х годов этот
процесс в искусстве принял лавинообразный характер. Разрушение
образного строя, лежащего в самой основе картины мира, создавало
ощущение надвигающейся катастрофы".(6,93-94). Наиболее
концентрированное выражение эти изменения в искусстве находят у
французских кубистов и немецких экспрессионистов, в работах
Пикассо 1906-1907 гг. Нечто похожее в то же самое время
происходит и в России.
Примерно до XVII века "простой человек" был одним из
второстепенных элементов композиции, как растения, животные,
строения и т.п. Еще для Монтеня "люди низкого звания" - это некий
особый подвид, который рождается, живет и умирает по-своему.
Полуторатысячелетняя христианская проповедь равенства и
братства на излете достигает цели. Образы нищих, калек, стариков -
людей "низкого звания", появляющиеся в искусстве XVII-XVIII
вв., вначале говорят только одно - "это тоже человек". Но уже во
второй половине XIX века эволюция образа "простого человека"
приводит, как показывает В.Мириманов, к появлению в
изобразительном искусстве нового существа - человека абстрактного,
свободного от социальной, психологической и функциональной
характеристик. А в XX веке на первый план выходит
неопределенный человек - человек массы. Человек обыкновенный становится
главным сюжетом французского кубизма и немецкого
экспрессионизма, в которых в начале века наиболее отчетливо отразились
изменения в искусстве и в картине мира. (6). Человек становится
абстракцией, абстракцией легче манипулировать как материалом
для экспериментов, в том числе, и революционных.
В кубизме эта метаморфоза приобретает законченные формы
сконструированной "новой реальности". В кубизме человек
разлагается, фактически, на некие первоначальные "элементарные
частицы", "кирпичики", "атомы" (в роли которых выступают
геометрические формы), из которых моделируется новый человек, его
новый образ. В кубизме воспроизводится строго естественнонаучный
подход к реальности, разлагающий, а потом собирающий, или
иначе, сначала убивающий живую целостность в разложении, а потом
262 Глава 4
воссоздающий, оживляющий ее в ином механизированном
варианте.
Творческие эксперименты Пикассо положили начало этому
направлению в искусстве. Общая тенденция движения искусства
от "человека простого" к "просто человеку" в творчестве Пикассо
проявилась особенно отчетливо. С 1901 по 1906 г. живопись
Пикассо представляла собой сентиментализм с мягким колоритом,
эмоциональной окрашенностью, с литературными, театральными
персонажами, затем он сменяется вариациями на тему человека
условного, лишенного психологических, социальных и иных
характеристик.
Искусство обращается к первобытности как детству
человечества, чтобы выразить естественность человека как предельную
ценность в противовес культуре Нового времени. И это отрицание
европейской культуры носит не только игровой, но глубоко
ироничный характер. Эта ирония объективная и подспудная. Она
означает следующее: культура Европы насчитывает столетия и
тысячелетия, а человек, его природа не изменились. Под
культурным налетом он тот же самый, который жил в первобытности.
Одушевляет ли его иррациональная воля к власти, или
бессознательные инстинкты Эроса и Танатоса, но природа его всегда
довлеет над культурой. Ничего в природе человека не изменилось,
только он приобрел много власти над миром, но эта власть, вот ирония
истории, может обратиться против него самого, уничтожить
человека. Экспрессионисты в начале века в своем протесте против
бесчеловечности войны и власти живо это осознавали. Ощущение
такого рода ироничности бытия никогда не исчезало из
миросозерцания человека XX века. Эта ирония истории культуры, развитие
которой приводит к ее возможному самоубийству, во второй
половине века становится достоянием общественного сознания,
массовой культуры. А появилась она в элитарном модернистском
искусстве.
Художник-кубист чувствует себя ребенком, играющим
экзистенциальными основами человеческой природы. Он "разлагает"
реальность и "собирает" ее по своему произволу, подобно тому, как ребенок
строит дом из кубиков, разрушает его и снова строит, когда и как ему
хочется. Увлекательная игра. Он видит то, что не видят другие. В
модернизме игровой момент является преобладающим. Несерьезность,
ребячливость, смешливость, ирония чувствуются подспудно в
наслаждении от эпатажа публики, поначалу шокированной новым
искусством. Смех над публикой и над реальностью является одной из
доминант этого мироощущения.
Игра позволяет совместить несовместимое, все, что угодно с
чем угодно. Смех, даже если он не звучит непосредственно,
присутствует постоянно как фон. Это становится возможным потому, что
Проблема смеха в современной культуре 263
предпосылкой такого искусства является игровое отношение к
миру. Оно же проявляется в обращении искусства к первобытному
искусству, к детству человечества. Художник, чувствующий себя
ребенком, играющим в "кубики мироздания", возвращается как бы
в свое детство и возвращает всю европейскую культуру к детству
культуры в целом. Начала и концы сходятся.
Но в кубизме и в экспрессионизме есть и другая форма иронии -
субъективная, и она является преобладающей. Это та ирония,
которая восходит к романтической иронии как теории сотворения своего
"идеального мира". Теоретик кубизма французский поэт
Г.Аполлинер писал: "Отличает кубизм от прежней живописи то, что он
является искусством не подражательным, а концептуальным, которое
стремится подняться до уровня творения" (17, 24). Так же, как
романтики в начале XIX века, кубисты в начале XX века объявили
художника автономным творцом новой, "иной" действительности. В
сотворении нового мира кубисты, как и романтики, видели осуществление
человеческой свободы. И поэтому субъективная романтическая
ирония, хотя не всегда явно, присутствует в кубизме и экспрессионизме.
И в кубизме и в экспрессионизме субъективистский принцип
"самовыражения" романтизма доведен до возможного предела, до
революционного сознания, то есть до сознания, нацеленного на
преобразование реальности.
Искусство начала XX века, переделывая человека,
унифицируя его, разрушая старого и созидая нового, как бы предвосхищало
революционные преобразования XX века. Последние стали
возможны потому, что созрело в культуре отношение к человеку как к
существу, которое, с одной стороны, вызывает чувство отвращения,
то есть это существо - вовсе недостойно любви. А с другой
стороны - это существо, животное, которое, в принципе, от иных
природных "вещей" не отличается. От узаконенных наукой
экспериментов с природой перешли к экспериментам с людьми.
XX век - это век революций и экспериментов человека над
человеком. "Строительству нового человека предшествует
разрушение "до основания" старого. То, что от него остается, - набор
элементарных деталей, - это своего рода tabula rasa,
функциональная конструкция, универсальное вместилище. Эти определения
полностью соответствуют форме и сути, стереотипной в идеале,
традиционной ритуальной скульптуры, представляющей собой
безличную антропоморфную структуру".(6,115). Недаром П.Деке,
известный исследователь творчества П.Пикассо, называл его, с одной
стороны, "ликвидатором" европейского прошлого, а, с другой стороны,
человеком, который вернул европейской культуре ее истоки. (9,
10).
Ликвидация прошлого - это освобождение от него. В данном
случае свобода выступает как чистая негативность, как отрицание,
264 Глава 4
как "свобода от". Появление в искусстве образа абстрактного
человека как доминирующего связано именно с такой
отрицательной свободой. Эстетическая революция начала XX века
продолжала ту традицию десакрализации человека, которая началась в
эпоху Возрождения. Абстрактный массовидный унифицированный
деперсонализированный человек уже лишается не только
личностных, но и просто человеческих черт.
Однако, в тридцатые годы XX века на смену субъективной
"нигилистической иронии" начала века, и жизнеутверждающему
смеху эпохи революционного подъема, приходит ирония
объективная и трагическая. Перемена качества смеха связана с переменой
социально-политических реалий и с формированием новой
картины мира, с новой онтологией. Трагическая ирония - это ирония
постреволюционного времени.
Онтология человека у М.Хайдеггера,
Трансформация образа человека в искусстве была
выражением тех глубинных и непосредственно неочевидных изменений в
картине мира и в месте человека в ней, которые произошли в
конце XIX - начале XX века. Но эти изменения улавливаются
философией, и если они достигают определенной степени зрелости, то
они запечатлеваются в новой постановке онтологических проблем.
Такой переворот в онтологии мира и человека связан с именем
М.Хайдеггера, который выразил в своем творчестве это новое ми-
рочувствие, и, именно, это обстоятельство определило его
значительное влияние на культуру второй половины XX века. Без
понимания того, что сделал Хайдеггер для осмысления бытия
человека, не будет ясна картина дальнейшего развития смеха в XX
веке.
М. Хайдеггер, основополагающий труд которого "Бытие и
время" вышел в 1927 году, стремился раскрыть первоначала бытия,
на которых базируется сознание человека как его родовое
качество. Это - те дологические, допредикативные структуры нашего Я,
которые первичнее, изначальнее, чем наше сознаваемое Я. Эти
структуры вроде бы даже и не являются сознанием, ведь собственно
сознание начинается там, где появляется расщепление на субъект
и объект. Выйти на этот уровень сознания - это значит выйти на
уровень бытия сознания.
М.Хайдеггер принимает за отправной пункт своей философии
"последнюю реальность" - бытие, которому открыто его бытие. Это
- Dasein ("тут-бытие"), особое сущее, которое способно вопрошать о
своем бытии, то есть сам человек. "Предпочтительное бытие" - это
"мы сами". Только через него можно выйти на бытие как таковое.
Проблема смеха в современной культуре 26 5
Хайдеггер термином Dasein подчеркивает сиюмоментность,
временность, переменчивость, текучесть человеческого Я. Временность -
это главная характеристика тут-бытия. (24, 266-267, 323). Вопро-
шание или понимание у Хайдеггера тождественно открытости тут-
бытия. Благодаря этой открытости тут-бытие всегда существует в
мире, всегда есть бытие-в-мире. Мир раскрывается как нечто,
имеющее смысл только при Dasein. И все в этом мире обладает свойством
"сподручности", отличающее любой предмет этого мира. "Забота"
("озабоченность") тут-бытия формирует особое экзистенциальное
пространство, в котором оно живет. (24, 191-194). Забота всегда есть
проявление некоторого "неудобства", испытываемого субъектом, это
- недостаток до полноты тут-бытия. Поэтому "без-заботное" бытие
неактивно, незаметно, вообще не есть бытие.
"Бытие-в-мире" оказывается, по Хайдеггеру, "бытием-с-други-
ми" и "бытием-самого-себя". "Бытие-с-другими" имеет своей
тенденцией обезличивание человека, превращение его в "такого, как
все" (Man). Своеобразие, самость человека противится растворению
в Man, образует ядро его "Я". Таким образом, "самость" может
существовать только отталкиваясь от других, только как отличие
от них. Противостояние другим является главным
конституирующим моментом самости тут-бытия. Формирование личности
человека обусловлено позицией отрицания других, столкновением с
другими. Принцип "не такой, как другие" становится
единственным кирпичиком, за который можно зацепиться личности. Отсюда
эпатаж публики в искусстве модернизма как перманентное
состояние (без цели, ради него самого), иначе художник рискует потерять
себя как лицо. Если не стремиться к тому, чтобы быть "не таким,
как другие", то ты растворяешься в массе и становишься
безличным, Man. Третьего не дано. Ты не можешь принять цели и образ
жизни массы и остаться личностью.
Форма безликого существования - это экзистенциал,
который является базовым феноменом конституирования тут-бытия.
Свободное существование, что значит "быть самим собой" — это
модификация безличного опыта. Поэтому личность (свободное тут-
бытие) ощущает себя заброшенной в мир, от нее не зависящий,
противостоящий ей и прямо враждебный. Поэтому она
испытывает страх как экзистенциальное состояние. Страх снимается
пониманием, которое делает мир подручным и пригодным для жизни в
нем.
Когда историчность его бытия открывается человеку и
делается объектом его заботы, возникает традиция, и рефлексия по ее
поводу - история. Поэтому исторические науки и метод,
соответственно, исторический для других наук, имеют отношение к
описанию самого бытия человека. Мир не есть нечто внешнее
тут-бытию. Уже у Гуссерля "мир" выступает как горизонт трансцеден-
266 Глава 4
тальной субъективности. Быть-в-мире - это значит, по Хайдеггеру,
быть открытым, обладать изначальным пониманием, то есть быть
герменевтичным. Изначальная открытость - это есть некая
расположенность, настроеннность. Она предшествует всякой рефлексии,
самосознанию. Для настроенности уже открыто бытие-в-мире как
целое. Настроенность впервые делает возможной направленность
сознание на что-либо, то есть интенциональность. Настроенность
есть бытийная характеристика тут-бытия. Она - первичнее
всякого "переживания", которое уже предполагает рефлексию.
Настроенность - это допредикативное понимание. (22, 369-370).
Такое понимание человеком себя возможно, исходя из
собственной экзистенции - некоей "наполненности" человеческого
бытия конкретикой (ex-ist-enz - изложенность вовне, "вставленность"
человеческого бытия в том, что ему принадлежит, в том, что-для-
него сущее. Поскольку тут-бытие видимо только в существовании,
то тут-бытие под одним углом зрения (кто?) есть экзистенция
(выражают ее экзистенциалы), а под другим углом зрения (что?) -
"подручность" бытия (выражают ее категории). "Онтология -
сначала у Гуссерля, а затем у Хайдеггера - это феноменология; а
феноменология - это анализ смыслов. И, в отличие от гуссерлев-
ской, хайдеггеровская есть анализ "выставляющегося", экс-исти-
рующего субъекта, которого он поэтому и называет Dasein. Dasein
- это "здесь-и-сейчас-бытие", это "со-временность", которая есть и
"открытость" (уже потому, что "со-бытийность" того, что "здесь и
сейчас", неопределенна и, если хотите, необозрима), структуру
которой задает свобода: человек выбирает то, чему он, в
экзистенциальном смысле, современен, и только это составляет его мир". (21,
292).
Допредикативное, экзистенциальное понимание носит, по
Хайдеггеру, характер эмоционально-волевой, "практический":
"подручность" сущего первичнее его "наличности". Вещи окружающего
мира предстают перед человеком первоначально в качестве орудий,
средств для осуществления его намерений. Понимание, по
Хайдеггеру, онтологично, ибо укоренено в бытии человека. Онтология свою
он называет герменевтической, так как метод исследования у него
соответствует предмету. Предмет (тут-бытие) и метод равно герме-
невтичны.
В этой связи возникает проблема герменевтического круга, так
как экзистенциальное понимание, дорефлексивное и
допредикативное совершается не на уровне сознания, а есть само бытие человека,
а философ работает на уровне сознания и не может иначе.
Поэтому, учитывая это обстоятельство, Хайдеггер различает первичное
понимание, тождественное настроенности, открытости, и
вторичное, которое есть уже не способ бытия, а один из видов познания, то
есть возникает на уровне рефлексии. Вторичное понимание - это
Проблема смеха в современной культуре 26 7
филологическая интерпретация текстов как вид научного
познания, а коренится она - в первичном понимании. Первичное
понимание - это горизонт, от которого нельзя освободиться. Это есть
открытость тут-бытия. Наиболее адекватно первичное понимание,
пред понимание, выражено в стихии языка. "Язык - дом бытия",
так гласит его известный тезис.
"Сущность" человеческого бытия (Dasein) есть временность.
Временное в экзистенциальном смысле не тождественно "бытию во
времени", не является противоположностью вечному. Для
Хайдеггера временное и вечное "временны", когда дело идет о их бытии.
"Темпоральность" - погруженность в событийность - вот главная
онтологическая характеристика человека. Случившееся с
человеком не только было, оно есть в его бытии в качестве его прошлого,
которое предшествует его бытию.
Темпоральные границы человека - это рождение и смерть. Он
их не может пережить непосредственно, но они никогда не
исчезают из его бытия. Человек всегда "рожденный" и всегда
"смертный". В этом и проявляется временность тут-бытия, оно всегда
есть бытие от рождения до смерти и к смерти. Историчность
бытия складывается из смертности, вины, совести, свободы,
конечности. (24, 235-238). Предпосылочность бытия образует судьбу.
Человек поставлен всегда перед выбором возможностей в реализации
своей экзистенции. Делая выбор, он выбирает будущее, которое
является ведущим временным модусом историчности. Таким
образом, "скрытым основанием историчности Dasein является
смертность человека". (21, 288).
Иными словами, Хайдеггер "возвращает" античную судьбу в
европейскую культуру. Онтология Хайдеггера заканчивает смену
парадигм европейской культуры Нового времени, которая началась
с эпохи Возрождения и постепенно продолжалась до XX века. На
смену христианской онтологической парадигме именно у
Хайдеггера приходит онтология неоязыческая. В христианской картине
мира бытие человека определяется его сотворением Богом и его
божественной природой, к которой относятся дух и свободная
воля. Сопричастность человеческой природы Богу, делает
определяющим в его бытии стремление к вечности, к бессмертию в Боге.
Смертность человека оказывается в этой связи, с одной стороны,
следствием отпадения человека от Бога в грехопадении, и поэтому
наказанием за грех как за нарушение воли Бога; а, с другой
стороны, смерть оборачивается, в известном смысле, благом, поскольку
она ставит предел грешному существованию человека и обращает
его помыслы к Богу, тем самым способствуя его спасению.
Ницшевский тезис "Бог умер" как руководящий принцип для
этики и понимания жизни стал отправным моментом для
онтологии Хайдеггера, в свою очередь, ставшей фундаментом для совре-
268 Глава 4
менной философской антропологии. Хайдеггер пишет в
"Европейском нигилизме": "Нигилизм" употребляется Ницше как название
им впервые опознанного, пронизывающего предыдущие века и
определяющего собою ближайшее столетие исторического движения,
истолкование самой сути которого он сводит к короткому тезису:
"Бог умер". Это значит: "христианский Бог" утратил свою власть
над сущим и над предназначением человека. "Христианский Бог"
здесь одновременно служит ведущим представлением для
"сверхчувственного" вообще и его различных истолкований, для
"идеалов" и "норм", для "принципов" и "правил", для "целей" и
"ценностей", которые учреждены "над" сущим, чтобы придать сущему в
целом цель, порядок и - как вкратце говорят - "смысл". Нигилизм
есть тот исторический процесс, в ходе которого "сверхчувственное"
в его господствующей высоте становится шатким и ничтожным,
так что само сущее теряет свои ценность и смысл. Нигилизм есть
сама история сущего, когда медленно, но неудержимо выходит на
свет смерть христианского Бога". (23, 64). Хайдеггер утверждает,
что нигилизм как "упадок" "высших ценностей" есть "основной
процесс нашей западной истории" и именно он формирует
"историчность истории нашего собственного века". (23, 70).
Онтология Хайдеггера, принимая бытие как временность, а
бытие человека как его смертность, фиксирует онтологически
картину мира без присутствия Бога. Последнее влечет за собой и
понимание человека как конечного существа, жизнь которого
кончается ничем, то есть у человека отнимается его "будущее" после
смерти, то есть вечность, тем самым его жизнь лишается смысла,
точнее, объективного смысла. Теперь смысл жизни он должен
привнести в нее сам (в христианстве смысл жизни задан объективно и
он есть спасение человека как соединение с Богом), хотя выбор его
ограничен допредикативным опытом - судьбой (историей
культурной традиции), который закреплен в языке. Но в рамках этой
судьбы у него есть некоторая свобода выбора, чтобы получить свое
лицо, личность, своеобразие. Если он не отклоняется от других, то
он становится безличным. Тут свобода берется только как
негативность, как отрицательность. Французский экзистенциализм
(например, Ж.-П. Сартра), с его поддержкой маоизма, кубинской
революции, крайне левой радикальной революции (скажем, парижские
события 1968 года), имел, конечно, определенные корни в
философии Хайдеггера, хотя последний, как известно, отрицал свою
принадлежность к экзистенциализму ("Письмо о гуманизме"). Но
"отклонение", "левизна", перманентная революционность,
свойственные экзистенциализму, выросли, без сомнения, из понимания
самости человека как отрицательности у Хайдеггера.
Г.Гадамер, ученик Хайдеггера, отмечал, что тот, кто,
действительно, подготовил хайдеггеровскую позицию в вопросе о бытии
Проблема смеха в современной культуре 269
был Ницше. (22, 388). Иными словами, та переоценка ценностей,
которую, исходя из тезиса о смерти Бога, начал столь радикально
Ницше в философии на уровне мироощущения (воля к власти как
последняя реальность) и в этике (отвержение христианской этики
и формирование этики "по ту сторону добра и зла"), Хайдегтер
укоренил в онтологии (бытие как время). Забегая вперед, добавим,
что Ж.Делез в своей книге "Логика смысла" попытался
осуществить такого рода "переоценку ценностей" на уровне логики и
формирования смысла вообще.(12).
То же обстоятельство, но в другом аспекте, отмечают
А.Ф.Зотов и Ю.К.Мельвиль в своей книге "Западная философия XX
века": "Можно утверждать, что Хайдегтер - это "завершитель
триады" трансценденталистских преобразований классической
метафизики, метафизики платоновско-аристотелевского типа.
Первым был Кант с его "птолемеевокой контрреволюцией" в
трактовке взаимоотношений между Я и Миром. Вторым - Гуссерль с его
феноменологической онтологией "чистого сознания". Синхронно с
этими переменами росла роль изменчивости и индивидуальности
в качестве главного "цвета" метафизической картины бытия. Если
для классических форм (включая и средневековые христианские
концепции), содержанием метафизики бытия было "устойчивое",
"сохраняющееся" и даже " вечное** у то трансформация метафизики
в духе трансцедентализма означала обращение к мимолетному и
"текучему"«Дух как "сущность" человеческого субъекта все более
замещается "сознанием", которое не обитает в мире вечных идей,
каковым он изначально родственен, а имеет дело с предметами. То,
что мир становится предметным миром, а его центром -
человеческий индивидуальный субъект, приводит к тому, что
"безотносительное** исчезает: предметность предполагает отношение. И,
разумеется, тема "истины** как причастности к вечному и
абсолютному, к тому, что есть "в-себе и для-себя", сменяется темой
"смысла". Можно сказать, что трансцедентальная метафизика - это
"метафизика смыслов**', в то время как классическая была
"метафизикой сущностей9*. (Разрядка моя. - М.Р.)." (21,291-292).
Хайдеггеровская онтология отразила трансформацию в
представлении о мире и человеке в западноевропейской культуре. В
ней человек мерит свое бытие уже не Абсолютом, не своей
соотнесенностью с Богом, как это было в средние века и позже, и эта
связь сохранялась в той или иной форме до XX века. Например, у
Декарта (в принципе cogito ergo sum как фундаменте
нововременной картины мира) человек сохраняет свое богоподобие тем, что
его "человечность" сводится к мышлению, к духу. Человек у Хай-
деггера определяется не отношением к Богу, а соотнесенностью с
Ничто, непосредственное "соприкосновение" с которым
происходит в состоянии ужаса. В лекции "Что такое метафизика?" Хай-
270 Глава 4
деггер говорит: "Человеческое присутствие означает: выдвинутость
в Ничто" (23, 22). "Выдвинутость нашего бытия в Ничто на почве
потаенного ужаса есть перешагивание за сущее в целом: трансце-
денция". (23, 24).
Трансцедентное, с которым имеет дело человек в XX веке -
это Ничто, и оно отзывается в человеке неизбывным
перманентным ужасом, который проявляется как чувство бессилия,
обреченности, безразличия ко всему конкретному. О блаженстве при
взаимодействии с транцедентным, к которому стремились и которое
получали религиозные люди иных веков, современный человек и
не помышляет. Такое Ничто есть отрицание всякого сущего, его
низведения до уровня "ничтожности". То есть это Ничто есть
небытие ("Ничто есть противоположность всему сущему" (23,73)).
Теперь точкой отсчета служит для человека Ничто как небытие, в
то время как прежде такой точкой служило Абсолютное бытие ("Я
есмь Сущий"). Хайдеггер говорит, что Ничто открывает человеку
его бытие в максимальной освобожденности от "фактического
наполнения" этого бытия. Бытие как таковое, в освобождении от
всего конкретного, становится ощутимым как таковое, и это
ощущение есть ощущение экзистенциального ужаса. (23,24).
"Униженная" конкретность предмета, утратившая всякую
значимость для человека, уравнивает все предметы в их бытии, от них
остается лишь их бытие в моем мире. Перед лицом Цичто бытие
человека оказывается "пустым", "освобожденным". Это и есть
свобода человека. Она носит целиком негативный характер. Эта
свобода есть "лишенность", "недостаток". "Выдвинутость человека в
Ничто" есть основа его свободы. Ничто как метафизическая
позиция есть результат опознанного Ницше "нигилизма как движения
западной истории в Новое время". (23, 74).
В эстетическом аспекте онтология Хайдеггера проявляется
как трагическое мироощущение человека, его предельная
серьезность, как серьезен сам Хайдеггер. Он противопоставляет свою
онтологию субъективистским интерпретациям искусства и эстетики,
справедливо замечая, что перенесение центра тяжести
рассмотрения сущности творчества, искусства на личность художника-гения,
на психологию искусства, выразилось у иенских романтиков в
теории иронии. Его объективизм, ориентация на бытие, которое
определяет субъективность художника, предопределили его серьезность
и трагический тон. Это связано с тем обстоятельством, что, по
Хайдеггеру, искусство имеет непосредственно отношение к истине
бытия, к "несокрытости сущего". Произведение искусства, по
Хайдеггеру, есть "устойчивый облик истины", оно несет ее в себе, оно
истину не только открывает, но и скрывает. (22,341).
Произведение искусства поэтому не позволяет исчерпать свое
содержание рациональным путем. Хайдеггер считает, что главная
Проблема смеха в современной культуре 2 71
опасность для культуры и для искусства Европы в том, что не
осталось тайны, не осталось сокрытого и почитания его. Он
пытается восстановить ее, эту сокрытость и сакральность, нечто святое,
что утеряно, то есть тут его философия тяготеет к мифу и религии.
Искусство прикасается к тайне, но не раскрывает ее. Все разгадки
искусства тайн мира неуловимы и загадочны. Искусство не творит
"мир", а раскрывает его, делает его видимым, а таким образом
делает видимым и все бытие. Высший вид искусства для Хайдеггера -
это поэзия, творчество языка, а язык, слово, есть "дом бытия".
Искусство он рассматривает как теургический акт.
Искусство в стремящейся к десекуляризации культуре
Нового времени всегда тяготело к замещению постепенно пустеющего
места религиозных ценностей, чего-то святого, своей мифологией и
собственным культом. Об этом же пишет Х.-Г. Гадамер в своей
книге "Истина и метод": "...Выпавшее из своих религиозных
традиций образованное общество ожидает от искусства большего,
нежели может дать эстетическое сознание с "позиции искусства".
(26, 133). Этот процесс наиболее явно начинается с романтиков, с
Ф.Шлегеля и Ф.Шеллинга.
По Хайдеггеру, человек - не творец языка, а скорее, медиум,
через которого говорит язык, то есть само бытие. Он отдается
языку, а не подчиняет его себе, не овладевает им. Поэтому человек тут
выступает как нечто страдательное, несвободное. Поскольку через
него говорит бытие, то человек предстает как бы "игрушкой"
бытия, как он прежде был "игрушкой богов". Ведь бытие, открываясь
в языке, столько же открывает, сколько и скрывает. Сам человек
оказывается в роли комического субъекта в комической ситуации,
которая разворачивается через него, но помимо его воли.
Объективная ирония тут выступает как онтологическая
характеристика, при этом она носит у Хайдеггера, и в
экзистенциализме, подчеркнуто трагический характер. Ирония
воспроизводится с необходимостью потому, что она всегда сопровождает принцип
"вечного возвращения" как временную структуру, характерную для
язычества, ирония также связана и с моделью жизни как игры.
Трагическая ирония, совмещающая в себе трагическое и
комическое начала, лучше всего характеризует языческую картину мира.
Сократовская ирония описывала движение мысли, а софокловская
- движение жизни.
Человек в языческой картине мира уподобляется марионетке,
действия которой предопределены судьбой и богами, у Платона,
например, люди - это "куклы богов". Жизнь человеческая - это
"игра", мужчины и женщины поэтому должны играть в
"прекраснейшие игры" и это лучшее, что их ожидает в жизни. Религиозный
культ становится трагедией, а жизнь человеческая - театром. "Вся
жизнь - театр, и люди в ней - актеры", - эта фраза Шекспира
272 Глава 4
точно передает это игровое ощущение жизни. Оно вновь
появляется в эпоху Возрождения и оно противоположно серьезности
христианской культуры, где в каждое мгновение жизни решается судьба
человека в вечности, тут не до смеха. В христианской картине
мира человек выступает как предельная самость, как он есть по
истине, так как никакие "маски", "роли" невозможны перед лицом
всемогущего и всезнающего, личного Бога.
В язычестве предельный бог как обожествленная природа,
космос в античности, носит безличный характер (судьба - закон
движения космоса). Поэтому и для человека возможно безличное
существование. Поэтому он может выступать как актер, точнее
осознавать себя таковым. Человек "играет" свою жизнь, он - актер,
меняющий "маски жизни". А.Ф.Лосев говорит о
взаимоотношениях человека и судьбы в античности: "...Свободный человек мог
использовать свою свободу только в пределах всесильной судьбы.
А это означало, что человек трактовался как свободный
исполнитель решений судьбы, то есть как свободно действующий актер при
разыгрывании роли в том космическом театральном
представлении, сюжет которого придумал не он сам, но судьба. Поэтому
последняя конкретность античного человека заключалась в
свободном и максимально талантливом актерстве в общекосмической
драме, которая понималась как преподанная судьбой". (27, 302).
То же происходит в неоязыческой картине мира, где
воспроизводится принцип "вечного возвращения", с которым связана
ирония, а также возможность безличного существования, бытия
(кстати, у которого тоже есть своя судьба, как у всех античных богов, в
том числе у Зевса, - это "забвение бытия" в истории культуры), где
жизнь представляется как игра. Недаром в первой половине XX
века появляются концепции самой сущности культуры как игры
(Й.Хейзинга), и они точно описывают ощущение мира, жизни и
самого себя у современного человека (как, например, в романе Г.Гессе
"Игра в бисер"). Герменевтика как философское направление,
непосредственно связанное с философией Хайдеггера, в основе своей
также содержит представление о жизнедеятельности как игре.
Образ "игры" в современной культуре
Исследователь игрового элемента в культуре Й.Хейзинга в
своей книге "Homo ludens" отмечал: "Современная культура едва
ли еще "играется"; там же, где кажется, что она играет, игра эта
фальшива". (10,233). Хейзинга пишет, что игра становится
ребячеством, пуерилизмом, то есть игровое начало в культуре
вырождается. Именно тогда культура становится подчеркнуто игровой. Спорт
тому пример. Развитие в нем профессионализма говорит, что он из
Проблема смеха в современной культуре 2 73
игры становится трудовой серьезной деятельностью. В
современной культуре силен элемент псевдоигры, "видимости игрового
качества'*. (10, 230-231). И это обстоятельство косвенно
свидетельствует о вырождении культуры, согласно Хейзинге, так как
"подлинная культура требует всегда и в любом аспекте a fair play
(честной игры); a fair play есть не что иное, как выраженный в
терминах игры эквивалент порядочности. Нарушитель правил
игры разрушает самое культуру". (10,238).
Свойства, которые раскрывают понятие "пуерилизм", согласно
Хейзинге, следующие: "...Недостаток чувства юмора, неоправдано
бурная реакция на то или иное слово, далеко заходящая
подозрительность и нетерпимость к нечленам своей группы, безмерная
преувеличенность хвалы или хулы, подверженность всякой иллюзии,
если она льстит себялюбию или групповому эгоизму. Многие из
этих "пуерильных" черт можно встретить в ранние культурные
эпохи, однако в них нет той массовости и жестокости, с которой
они распространяются в общественной жизни сего дня... Состояние
духа незрелого юнца, не связанное воспитанием, формой и
традицией, в каждой области тщится получить перевес и слишком хорошо
в этом преуспевает. Целые области формирования общественного
мнения управляются темпераментом подрастающих юнцов и
мудростью молодежных клубов". (10,231).
И еще одну тенденцию усматривает Хейзинга в современной
культуре: "серьезное становится игрой" и, наоборот, "игра вновь
становится серьезным9*. (10,225). Так, крупное предприятие
сознательно внедряет в коллектив своих сотрудников спортивный
фактор, чтобы повысить производительность труда. А спорт
становится слишком серьезным делом.
Хейзинга отмечает, с одной стороны, ослабление игрового
элемента в жизни искусства (с XVIII века оно в этом качестве больше
потеряло, чем приобрело), а с другой стороны, его определенное
усиление специфического свойства. "Как и в глубокой древности,
искусству все необходима эзотеричность. В основе всякой эзотерич-
ности лежит уговор: мы, посвященные, будем считать это таким-то,
понимать так-то, восхищаться тем-то. Это предполагает игровую
общность, которая окапывается в своей тайне. Всюду, где пароль
на "-изм" открывает доступ в какое-нибудь направление искусства,
налицо квалификация такой игровой общности". (10,228).
В качестве резюме к приведенным текстам И.Хейзинги
отметим, что исследователь игрового элемента в культурах разных эпох
относительно современной культуры говорит об изменении
характера игры, она становится иллюзорной, ложной, фальшивой,
нечестной деятельностью, псевдоигрой, особенно в средствах массовой
информации, в пропаганде, используя игровые качества для
корыстных серьезных целей. А "современная война, похоже, утратила всякое
274 Глава 4
соприкосновение с игрой", то есть она перестала носить честный
характер выполнения правил войны и статей договоров. "С этим
отчуждением от игры война утратила и свое место как элемент
культуры" (10, 237). Это им было написано в 1938 году, накануне
войны, которая нарушила все законы божеские и человеческие.
Если, как считает Хейзинга, игра составляет сущность человека и
человеческой культуры, то в XX веке с сущностью человека не все
в порядке, в ней нарастает отчуждение, ложное состояние.
Игровой подход к искусству известен со времен Канта и
Шиллера. У Канта сфера эстетического вкуса определяется как сфера
игры, у Шиллера искусство также - это "царство видимости и
игры". Искусство как игру определяли и романтики. Х.-Г. Гада-
мер, ученик М.Хайдеггера, в XX веке, имея ввиду и теорию Й.Хей-
зинги, определяет игру как сущность языка.
Игра, для Гадамера, - это способ бытия произведения
искусства. Игра - это то, что имеет цель в себе. Язык есть игра. Через
игру у Гадамера соединяются язык и искусство. Для
характеристики герменевтического феномена применяется то же понятие
игры, что и для опыта прекрасного. При понимании текст нас также
захватывает, как и прекрасное. Чем ближе наше понимание к игре,
тем оно истиннее, говорит Гадамер. Понимание рассматривается
им по аналогии с эстетическим сознанием, сутью которого
является игра. Он утверждает, что чем дальше отстоит от нас
произведение искусства, тем легче нам его понять. П.П.Гайденко замечает
по этому поводу, что "так может рассуждать только тот, для кого
напрочь разведены жизнь и культура. Не есть ли это невольное
отражение той ситуации, что сложилась в современном обществе,
для которого традиция - это то, что умерло и может быть теперь
разве что предметом эстетской игры?" (22, 432).
Игра - это, по Гадамеру, непрерывное движение, качание туда-
сюда. В игре всегда должны быть двое: "чтобы игра состоялась
"другой" не обязательно должен в ней действительно участвовать,
но всегда должно наличествовать нечто, с чем играющий ведет
игру и что отвечает встречным ходом на ход игрока". (26, 151).
Субъект игры - это не игрок, а сама игра.(26, 152).
Играющего больше нет, есть только играемое им, потому что
стихия игры - это стихия языка. А язык - это "дом бытия",
Гадамер разделяет этот тезис Хайдеггера. Бытие - это время,
временность, историчность, бытие в горизонте времени. "Время потому и
становится онтологической категорией, что являет собой
воплощенную нетождественность"9 - отмечает П.П.Гайденко. (22,433).
Поэтому и играющий нетождественен с собой в отличие от
субъекта теоретического знания и нравственного поведения. Потому
модель эстетического сознания, игры выбирается Гадамером для
анализа бытия, так как оно тоже предполагает нетождественность
Проблема смеха в современной культуре 2 75
субъекта. Игровая природа языка лучше всего проявляется у
поэта и оракула, слово которых двусмысленно. Двусмысленность
всегда таит в себе иронию, несерьезность. Так понятие истины
ставится в связь с понятием игры и "победу торжествует полный
релятивизм". (22,433).
Игра - это язык, история, бытие и произведение искусства.
Поэтому истинное отношение к истории должно быть таким же,
как к произведению искусства. Связь традиции и современности у
Гадамера осуществляется по модели игры. Отстранение от
традиции тут достигает своего завершения. П.П.Гайденко такую
позицию Гадамера как продолжателя идей Хайдеггера связывает с
процессами секуляризации, отвержения христианских ценностей,
которые начались в эпоху Возрождения в европейской культуре. "Ибо
именно желание освободиться от присутствия в истории
недостаточно "обмирщенного" понятия вечности и составляет смысл хай-
деггеровского стремления понять бытие "в горизонте времени" -
стремления, которое полностью разделяет с ним и Гадамер. У
последнего эта тенденция достигает своего апогея, порождая
скептицизм и релятивизм". (22, 435).
Моделью для онтологии у Гадамера служит эстетика. Через
понятие игры эстетическая реальность приобретает у Гадамера
онтологические черты, также и сама онтология становится
эстетикой, происходит их определенное отождествление. Что это
означает? Это означает следующее. Эстетическая реальность, которая
предполагает игровое изображение действительности в искусстве,
предполагает удвоение реальности (первообраз и копия, или
изображение). В эстетическом аспекте копия, изображение обладает таким
же по значению бытием, как и первообраз. "Изображение... в
эстетическом смысле обладает собственным бытием". (26, 187).
Классическая онтология говорит о том, что подлинным
бытием, собственно бытием, обладает, лишь первообраз, а изображение,
образ, обладает миметическим подобием, своим бытием, которое
является отражением, видимостью бытия подлинного. Но образ все-
таки имеет отношение к подлинному бытию как его отражение,
имеет через подобие связь с ним. Это сходно с тем, как икона
является "образом первообраза", где их символическая связь
устанавливается, как говорит христианское богословие, посредством не-
тварных благодатных энергий, которые присутствуют в иконе, и
тем самым в ней присутствует Бог. Образ и Первообраз в иконе
связаны некоторым подобием, которое для Бога и Его образа носит
в большей степени символическое подобие, хотя образ Иисуса
Христа иконография стремится воспроизвести в соответствии с
традицией, с каноном. А иконы святых обязательно отражают сходство
с оригиналом. Иными словами, классическая онтология,
различающая разные степени бытия ("лестница бытия", восходящая к тео-
2 76 Глава 4
логии Фомы Аквинского), а также бытие подлинное и мнимое,
связана с христианскими религиозными представлениями. Это
отмечает и сам Гадамер. (26, 186).
Если же мы отождествим онтологию с эстетикой, то получим
"равнобытийность", в определенном смысле, первообраза,
действительной реальности и ее изображения, отражения, копии и т.д.
Изображение станет обладать таким же бытием, как и
первообраз. Иллюзия так же реальна, как то, иллюзией чего она является.
Результатом такой операции является утверждение бытия
иллюзии как равнозначного подлинному бытию. В результате у нас
теряются онтологические ориентиры в различении истины и лжи,
реальности и ее изображения, ее иллюзии. Такое происходит,
например, в виртуальной реальности, где иллюзия обладает полной
чувственной достоверностью, и является более реальной, чем сама
реальность.
Вот как об этом пишет сам Гадамер. "Так связь изображения
с первообразом выступает существенно иной, нежели в случае с
отображением. Здесь уже нет одностороннего отношения. То, что
изображение обладает собственной действительностью теперь,
наоборот, означает в отношении первообраза, что он достигает
представленности только в представлении. В нем он сам себя
представляет. Это не должно означать, что для того, чтобы проявиться,
ему следует ориентироваться именно на это изображение.
Таковым, каков он есть, он может быть представлен и по-иному. Но
если он представлен именно так, то это отныне не произвольное
событие; это теперь принадлежит его собственному бытию.
Каждое такое представление - это бытийный процесс, влияющий на
ранг бытия представленного. Благодаря представлению у него
тотчас же происходит прирост бытия. Собственное содержание
изображения онтологически определяется как эманация
первообраза. (Разрядка моя. - М.Р.)". (26, 188).
Иными словами, онтологически бытие первообраза зависит от
его представления (изображения), более того, именно,
представление дает "прирост бытия". В классической онтологии было
наоборот: бытие образа изображения зависело в своем миметическом
подобии от первообраза. Теперь в неклассической онтологии их
взаимоотношение меняется: первообраз пред-ставляется своим
изображением, утверждает Гадамер, и тем самым зависит от него.
Иллюзия получает статус бытия, которое даже гарантирует бытие
того, иллюзией чего она является. Так "изображение приобретает
свою собственную действительность". (26,189). "...Только
благодаря изображению первообраз становится перво-образом". (26,189).
Отношения между первообразом и образом переворачиваются.
Такое переворачивание вполне органично для игрового истолкования
бытия и реальности, ведь в игре противоположности не закрепле-
Проблема смеха в современной культуре 2 77
ны, а могут меняться местами, то есть онтологически они
неопределенны и принципиальной разницы между ними нет.
Ключевым образом для иллюстрации "перевернутого"
отношения бытия первообраза и образа является образ "зеркала",
которое дает изображение, образ не только по принципу подобия,
несущего нечто от первообраза, но имеющего и свои особые черты, а
как копию. Зеркало дает такое изображение, которое является
копией, отражением первообраза, и поэтому в "зеркале" сущность
можно спутать с видимостью, а первообраз с образом. Отражаясь в
"зеркале", можно увидеть себя раздвоенным-удвоенным, и при
определенных условиях, можно перепутать оригинал и отражение. С
другой стороны, зеркало служит моделью для ясного и отчетливого
различения между бытием оригинала и бытием копии, так как за
копией - только зеркальная поверхность и больше ничего. Так
что зеркало и открывает и скрывает, как, по Хайдеггеру, это делает
язык - "пред-ставление" бытия.
Вот, что пишет по этому поводу Гадамер. По причине того, что
"сущностная связь представления и представленного сохраняется
и даже входит в него как компонент. По этой причине зеркало
отражает изображение, а не отображение: это изображение того,
что представляется в зеркале, и оно неотделимо от наличия
последнего. Конечно, зеркало может дать и искаженное изображение,
но только в силу своей ущербности: в этом случае оно плохо
выполняет свою функцию. В этом отношении зеркало подкрепляет
основной тезис, который здесь необходимо высказать: в
отношении изображения интенция направлена на первоначальное
единство и неразличение изображения и изображаемого". (26, 186).
Идентичность и неразделенность изображаемого и
изображенного лежат, говорит Гадамер, в основе магических изображений на
заре истории. До сих пор "неразличение остается существенной
чертой всякого познания, базирующегося на изображении. Невос-
полнимость изображения, его травмируемость, его "священность"...
находят соответственное обоснование в предлагаемой онтологии
изображения". (26, 186-187). "Но эстетическое понятие
изображения, очевидно, охватывается моделью зеркала не в полном объеме
и не в полной сущности. Здесь нам может помочь только
онтологическая неотделимость изображения от "представленного". (26,
187).
За изображением, говорит Гадамер, следует признать его
собственное бытие. "Здесь теряет свое значение главная функция
изображения в зеркале. Оно - просто видимость, то есть лишено
подлинного бытия и в своем эфемерном существовании
понимается зависимым от отражения. Изображение же, однако, в
эстетическом смысле обладает собственным бытием. Это его бытие
позитивно отличает его от простого отображения, делает изображе-
278 Глава 4
нием, представлением, то есть именно тем, что не идентично
отображаемому". (26, 187). "То, что представление - это изображение, а
не сам первообраз, не означает ничего отрицательного, никакой
ущербности бытия, но скорее автономность действительности.
(Разрядка моя. - М.Р.)". (26, 187-188).
Зеркало - это то, что делает видимым невидимое. Святой
Григорий Палама, византийский богослов XIV века говорит: "Так
наше лицо делается видимым в зеркале, оставаясь невидимым для
нас самих" (Цит. по: 30, 67). Бог, неприступный по Своей природе,
присутствует в Своих энергиях, "как в зеркале", оставаясь
невидимым в том, что Он есть, то есть оставаясь неприступным в Своей
сущности. (30, 67). Образ зеркала В.Н.Лосский, современный
христианский богослов, использует для того, чтобы показать, как Бог
существует в двух модусах Божественного бытия - в сущности и
вне сущности через посредство благодатных нетварных энергий.
"Всецело непознаваемый в Своей Сущности, Бог всецело открывает
Себя в Своих энергиях...". (30, 67).
Образ зеркала тут у В.Н.Лосского служит для иллюстрации
того, как может открываться сокрытое, являться неприступное.
Через стяжание благодатных божественных энергий человек
соединяется с Богом, становится Его подобием. Если образ Божий
человек несет в своей природе (дух и свободная воля), так как,
согласно христианству, он был создан "по образу и подобию Бо-
жию", то уподобляется человек Богу через преображение своей
жизни. Человек имеет в своем бытии нечто от Бога, но его бытие -
особое, человеческое. Бытие его несет искру бытия Бога, но оно
иное. Но это человеческое бытие возможно только в силу
сопричастности к бытию Бога, поскольку Он есть Творец бытия тварного.
На этой посылке различения разных модусов бытия, где одно
признается сущностным, главным, а остальные возможны потому, что
имеют к нему отношение, основана классическая онтология.
Понятие субстанции закрепляет это исходное положение в
онтологии, которое сохраняется и тогда, когда в культуре наблюдается,
начиная с эпохи Возрождения, отход от христианской веры и
соответственной ей картины мира.
Надо сказать, что и Хайдеггер, и Гадамер изучали теологию и
были знакомы с предметом непосредственно. Герменевтика как
метод восходит к средневековой "экзегезе". Но они создают
онтологию, исходящую из признания, вслед за Ницше, "смерти Бога",
онтологию "в отсутствие Бога". Гадамер из того обстоятельства, что
первообраз определенным способом присутствует в изображении,
делает вывод о их "равнобытийности", о том, что они находятся
на одном уровне бытия, даже говорит о том, что изображение
"представляет" первообраз, гарантирует его бытие, обеспечивает
"прирост бытия". Но это есть вообще разные модусы бытия - бытие
Проблема смеха в современной культуре 2 79
сущности и бытие явления, бытие первообраза и бытие образа,
бытие Творца и бытие твари. У Гадамера границы между ними
смазываются, становятся прозрачными.
Устранение из онтологии позиции Бога ведет к пересмотру
взаимоотношения первообраза и образа, сущности и явления,
видимости. Осуществляется нивелирование различий их бытия, их
иерархии, они тяготеют к "равнобытийности". В герменевтике
Гадамера намечается уничтожение "глубины" и "высоты** сущности.
"Небеса" низводятся на "землю". Мир сплющивается до одной
"поверхности". Эту ситуацию описывает Ж.Делез, который
констатирует уже сложение такой "поверхностной" картины мира, которое
происходит в том числе и на основе онтологии Хайдеггера и
Гадамера. А "искусство поверхности", то есть искусство "всепринятия",
"всепримирения" - это юмор, поэтому он приходит на смену
иронии, игравшей парадоксами, противоположностями. Ирония была
возможна до тех пор, пока была противоположность "высоты" и
"низа", "глубины" и "поверхности", сущности и явления,
первообраза и образа. С переменой онтологии "высоты" и "глубины" на
онтологию "поверхности", если можно так условно выразиться, юмор
приходит на смену иронии. Меняется качество смеха, но сам смех
продолжает быть неизменным эстетическим выражением самих
основ европейской культуры XX века.
Юмор как "искусство поверхности"
Юмор - это "искусство поверхности", как утверждает Жиль
Делез в своей известной книге "Логика смысла" (1969), в которой
он моделирует новый тип мышления, где юмор несет важную
выразительную нагрузку. "Приключение юмора" - это "двойное
устранение высоты и глубины ради поверхности". (12, 184).
Поверхность - это граница, где создается пустота и всякое событие. (12,
185). Юмор Делез противопоставляет иронии как "искусству
глубины и высоты". Он приходит на смену иронии, и лучше выражает
современное состояние мышления и языка. Смех меняет свой
характер с изменением характера мышления, языка и, следовательно,
речи.
Ирония была связана с классическим дискурсом и
романтическим. Первый на вопрос "кто говорит" отвечал:
"индивидуальность", второй - "личность". Для каждого типа дискурса нужно
различать, говорит Делез три языка: во-первых, "реальный язык"
(индивидуальности или личности); во-вторых, "идеальный язык,
представляющий модель дискурса в зависимости от формы его
носителя" (например, по Делезу, модель божественного языка в "Кра-
тиле" Платона, соответствующая сократической субъективности;
280 Глава 4
рациональная модель Лейбница, соответствующая классической
индивидуальности; эволюционистская модель романтической
личности). В-третьих, "эзотерический язык, который всякий раз
приводит к низвержению идеального языка в основание и к распаду
носителя реального языка". (12, 189). Идеальная модель и
эзотерическая находятся в состоянии оппозиции, эзотерическая модель
образуется посредством переворачивания идеального языка. "Вот
почему тщетны все поиски единой формулы, единого понятия, под
которые можно было бы подвести любой вид эзотерического
языка". (12, 189). В таком же отношении находятся ирония и
"трагическое основание".
Общим моментом для разных типов иронии является то, что
они замыкают "сингулярность" ("единичность" по терминологии
Делеза) в пределах индивидуального и личного. "Но под обоими
дискурсами, расшатывая и разрушая их, теперь заговорило
безликое, грохочущее Основание". (12, 189). Язык основания - "язык,
сливающийся с глубиной тел". "Это - Дионис, затаившийся под
Сократом, но это еще и демон, подносящий Богу и его созданиям
зеркало, в котором расплываются черты любой индивидуальности.
Это и хаос, рассеивающий личности". (12, 189). Итак, мифологема,
которая связана у Делеза с юмором, описывается уже знакомым
нам рядом: Дионис, демон, зеркало, хаос, безличие...
Ирония появляется там, где есть "переворачивание" высоты и
дна, верха и низа, одним словом, противоположностей, но
топологически обозначенных, то есть там, где есть "глубина", где можно
дойти до корней, до сущности, даже если она понимается только
как "язык". Она все центрирует на себя, задает сразу определенную
иерархию. Ирония становится средством низведения одних
("идеального языка", божественного) и возвышения других
("эзотерического языка", иного). Ирония может устроить хаос "сущности" и
"второстепенного" (языка или чего угодно), но она не устраняет
сущности и тем самым иерархии. Ирония в своем "ироничном хаосе"
хранит память о существенном через саму противоположность его
иному и о низведенной иерархии.
На вопрос "кто говорит?" ответ гласит: либо
"индивидуальное", либо "личность", либо "само основание, сводящее на-нет
первые два". Но есть еще один ответ: "глубже всякого дна -
поверхность и кожа". "Здесь формируется новый тип эзотерического
языка, который сам по себе модель и реальность". (12, 190). Если мы
вспомним, что "эзотерический язык" образуется, согласно Делезу,
через "переворачивание" "идеального языка" и является
собственно отрицанием, то будем иметь ввиду, что новый тип
эзотерического языка, то есть отрицание, подменяет собой и идеальный язык и
реальный. Иными словами, вся позитивность исчезает, остается
голая отрицательность, видимо, про которую Делез говорит: "От-
Проблема смеха в современной культуре 281
рицание больше не выражает ничего негативного, оно
высвобождает чистое выражаемое с его двумя неравными половинами". (12,
185). Такое отрицание есть коррелят пустоты, которая и
"становится местом смысла-события, гармонично уравновешенного своим
нонсенсом...". (12, 185). А что такое пустота? "Сама пустота - это
парадоксальный элемент, нонсенс поверхности, всегда лишенная
места случайная точка, в которой событие вспыхивает как
смысл...Пустые небеса отвергают сразу и высшие мысли духа, и
главнейшие циклы природы". (12, 185). Выражением такой
пустоты, голой отрицательности, "пустых небес", является юмор,
искусство поверхности, потому что пустота и есть "поверхность, где
создается пустота". (12, 185).
"Трагическое и комическое освобождают место новой
ценности - юмору. Если ирония - это соразмерность бытия и
индивидуальности, или Я и представления, то юмор - соразмерность смысла
и нонсенса. Юмор - искусство поверхностей и двойников, номади-
ческих сингулярностей (единичностей. - М.Р.) и всегда
ускользающей случайной точки, искусство статичного генезиса, сноровка
чистого события и "четвертое число единственного числа", где не
имеют силы ни сигнификация (связь слова с общими понятиями.
- М.Р.), ни денотация (обозначение. - М.Р.), ни манифестация
(связь между предложением, речью и субъектом их выражающим.
- М.Р.), а всякая глубина и высота упразднены". (12, 190).
Ж.Делез продолжает низвержение платонизма, начатое еще
Ницше. М.Фуко в своем комментарии к "Логике смысла"
поясняет как именно это осуществляется Делезом: "Пересмотреть
платонизм - по Делезу - значит прокрасться внутрь последнего, снизить
планку, добраться до мельчайших жестов - дискретных, но
моральных, - которые служат для исключения симулякров (ложных
фантомов.- М.Р.)... Преобразовать платонизм (серьезная задача)
- значит усилить его сочувствие к реальности, миру и времени.
Низвергнуть платонизм - значит начать с вершины (вертикальная
дистанция иронии) и охватить его происхождение. Извратить же
платонизм - значит докопаться до его наимельчайших деталей,
снизойти (благодаря естественному тяготению юмора) вплоть до
корней его волос, до грязи под ногтями - до тех вещей, которые
никогда не освящались идеей; это значит открыть его
изначальную децентрированность для того, чтобы перецентрироваться
вокруг Модели, Тождественного и Того же Самого, это значит самим
так децентрироваться вокруг платонизма, чтобы вызвать игру (как
(происходит) в любом извращении) поверхностей на его границах.
Ирония возвышает и низвергает; юмор опускает и извращает.
(Разрядка моя. - М.Р.)". (12, 444).
Юмор потому сменяет иронию, что формируется или, точнее,
сформировалась новая метафизика, как утверждает М.Фуко, мета-
282 Глава 4
физика Ж.Делеза - это метафизика поверхности, "свободная от
своей изначальной глубинности так же, как и от высшего бытия",
метафизика, "где речь идет уже не о Едином Боге, а об отсутствии
Бога и эпидермической игре извращения". (12, 447). Новая
метафизика принципиально, то есть сознательно, устраняется от
поисков "глубины" явлений, которая одновременно является и их
"высотой" (так, "идея" Платона берет начало от "идеала" Сократа), то
есть от поисков сущности, истины явлений, объявляя их либо
несуществующими, либо рядоположенными с симулякрами, их
ложными копиями-двойниками. Согласно Делезу, "фантазмы", ложные
фантомы, образуют непроницаемую и бестелесную поверхность тел.
"...Метафизика фантазма вращается вокруг атеизма и трансгес-
сии. Сад, Батай и те, кто пришли после...". (12, 447).
Уравнивая ложь и истину, получают одну ложь. Истина, как
известно, всегда иерархична, то есть центрированна. Платон сделал
этот факт моделью миропознания. Выделение Идеи как центра всех
ее конкретных существований (как истинных, так и ложных)
является главным рациональным принципом отделения истины от лжи,
который выработала философия в своей истории. Поэтому устраняя
платонизм, философское мышление теряет рациональную основу,
погружается в хаос, в фантомы, в наркотический сон, в игру иллюзий, в
одну сплошную ложь, где затеряна, возможно, истина, но извлечь ее
уже не представляется никакой возможности. И средством для все-
смешения через игру поверхностей вещей, явлений выступает
"искусство поверхности" - юмор. Он не противопоставляет одно
другому, как это делает ирония, а утверждает как то, так и другое.
Ирония живет стремлением к истине, хотя и постоянно теряется в море
иллюзий. Такой была ирония Сократа, бесконечно вопрошающая о
истине. А в основе свойственного юмору все-утверждения, все-при-
мирения, все-соглашения, лежит равнодушие, теплохладностъ,
безразличие к противоположности истины и лжи.
Для формирования нового мышления, удерживающегося на
поверхности, необходимо изменить некоторые смыслы и
расставить некоторые акценты. Делез вводит для этого такое
образование, как "смысл-событие", а также операции "повторения" и
"различения". Событие - это всегда "битва", то есть борьба,
столкновение тел, "рана", победа-поражение. Физика рассматривает причины,
события - то, что возникает как их эффекты, и они имеют
бестелесную природу, это - столкновение, страдание, смешение тел, но не
сами тела и не положение тел. Умирание - это чистое событие.
Это М.Фуко поясняет так: "Марк Антоний умер" обозначает
положение вещей; выражает мое мнение или веру, сигнифицирует
утверждение; и, вдобавок, имеет смысл: "умирание". Неосязаемый
смысл, с одной стороны, обращен к вещам, поскольку "умирание" -
это то, что происходит как событие с Антонием, а, с другой стороны,
Проблема смеха в современной культуре 2 83
он обращен к предложению, поскольку "умирание" - это то, что
высказывается по поводу Антония в таком-то утверждении.
Умирать: измерение предложения; бестелесный эффект, производимый
мечом; смысл и событие; точка без толщины и субстанции, о
которой некто говорит и которая странствует по поверхности
вещей (Разрядка моя - М.Р.)". (12, 450). Адекватная грамматика
смысла-события предполагает инфинитивное наклонение и
настоящее время. Не "быть мертвым", не "быть живым", а - "умирать",
"жить". Умирать - это вечное настоящее, то есть вечное
повторение одного и того же. ""Умирать" никогда не локализуется в
плотности данного момента, но из его течения оно... бесконечно
выделяет наикратчайший момент. Умирать - это даже меньше того
момента, который требуется, чтобы об этом подумать, и тем не
менее, умирание неограниченно повторяется на обеих сторонах этой
лишенной ширины трещины (Разрядка моя. - М.Р.)". (12, 450-
451).
Событие - это "маскировка повторения, это всегда
сингулярная маска, которая ничего не скрывает, симулякры без симуляции,
нелепое убранство, прикрывающее несуществующую наготу, чистое
различие". (12, 453). Чистое различие или чистое событие, что
одно и то же - это различие, взятое как наивысшая сингулярность,
то есть как единичность как таковая. Такое различие
противопоставляется М.Фуко различию лежащему в основе различенного
единства понятий или идей, где общая модель отыскивается как
общезначимый смысл в каждом единичном существовании явления,
вещи. Тут различие связано и лежит в основе единства. Чистое
различие фиксирует распадение реальности на замкнутые в себе
единичности, сингулярные точки, телесные, грамматические,
мыслительные, какие угодно. А такая сингулярная точка, замкнутая на
самой себе и понятая как "смысл-событие" может существовать только
как повторение, то есть вращение на месте своей событийности,
как бесконечное самовращение, поскольку установить единство,
взаимосвязь оно не может в силу постулированного Делезом своего
чистого различия.
Такого рода операцией осуществляется попытка устранения
из мышления единства, которое заложено в нем самим фактом
существования понятий. Ведь "клеточка" мышления - понятие -
является как бы "маленьким богом", господином над тем классом,
родом явлений, которые описываются в своем единстве этим
понятием, и если мы "вынем" из этого класса явлений их связующий
центрирующий "стержень" - понятие, то этот класс явлений
превратится просто в набор единичных существований, сингулярно-
стей, запечатленных в своем "чистом различии".
Это будет хаос, всесмешение и "умирание", так как
сингулярное существование единичностей как "повторение" предполагает
284 Глава 4
их тихое угасание на своем месте, повторение со слабеющей силой.
Недаром "умирание", смерть - чаще других упоминаемые примеры
Ж.Делеза и М.Фуко. Так "мертвый Бог" проникает и в мышление,
и умирает уже "маленький бог" - понятие или идея. "Мертвый
Бог и содомия - таковы отправные пункты нового
метафизического эллипса", - говорит М.Фуко. (12, 447).
Если вынимают кирпичи, дом перестает существовать, так же
если мышление теряет свою опорную структуру - понятие,
вносящее в него порядок, логику, то такое мышление становится
безумием. Другое дело, что мышление в силу своей природы "потерять"
понятие в принципе не может, оно всегда будет понятийным, даже
когда оно это отрицает, даже когда оно безумно, прыгнуть выше
своей головы оно не может, оно может только извратить истинное
положение дел. Сам Фуко говорит, что новая метафизика -
"содомия" мышления, его извращение. Подобно тому, как содомия есть
замкнутость на своем половом различии, на "чистом различии", и
потому ее результат - бесплодность, а в пределе - смерть, как для
рода, так и для индивида; ведь для продолжения жизни
необходимо соединение разных полов, единство различного, так же и в
мышлении: его живое функционирование, ориентированное на
понимание, познание, истину, предполагает единство различного - понятие
как общий смысл единичных существований.
Безумие мышления заключается в том, что оно отказывается
от самого себя, отказываясь от своей сущности, при этом все
происходящее ясно сознавая. Происходит разрушение сознание при
свете сознания. Как такое возможно? Дело тут в направлении
мышления, которое задает его самого, в исходной "злой воле". И Фуко,
и Делез справедливо указывают на связь исходной
благорасположенности и мышления, именно первичная установка на "добрую
волю" делает мышление вообще возможным, подобно тому как
установка на поиски общезначимого добра у Сократа привела к
открытию идеи у Платона. Добро "рождает" истину.
"Общезначимый смысл выделяет общность объекта и одновременно пактом
доброй воли учреждает универсальность познающего субъекта".
(12, 458).
"Ну а что, если мы дадим свободу злой воле?", - вопрошает
Фуко. "Что, если бы она рассматривала различие
дифференцированно, а не искала общих элементов, лежащих в основе различия?
Тогда различие исчезло бы как общий признак, ведущий к
всеобщности понятия, и стало бы - различенной мыслью, мыслью о
различенном - чистым событием... Мысль уже не привязана к
конструированию понятий, коль скоро она избегает доброй воли и
администрирования общезначимого смысла, озабоченного тем, чтобы
подразделять и характеризовать. Скорее, она производит
смысл-событие, повторяя фантазм. Мораль доброй воли, содействующая мыш-
Проблема смеха в современной культуре 285
лению общезначимого смысла, играет фундаментальную роль
защиты мысли от ее и генитальной" сингулярности. (Разрядка моя.
- М.Р.)". (12, 458-459). М. Фуко хорошо показывает, как
мышление, ориентированное на понятие, на общезначимый смысл, на
истину, связано с доброй волей, а перемена воли на обратный знак, на
злую волю, воспроизводит мышление, повторяющее фантазмы,
иллюзорные фантомы, ложь. Так этика переходит в логику, в само
функционирование мыпшения. Иными словами, философские идеи
Ницше, принципы провозглашенной им этики "злой воли"
("вечное возвращение", релятивизм добра и зла, принцип "любви к
дальнему" и "становления") во второй половине XX века стремятся
стать логикой, принципами самого мышления, "уходят в
основание", и тем самым стремятся определять само человеческое бытие.
Смех и симулякры
Об обманчивости, иллюзорности, неподлинности мира, которое
наиболее ярко проявляется в идеологии, писал Р.Барт в своих
"Мифологиях" (1957). Мифологизацию мира Р.Барт объяснял
включением первичных культурных знаков в знаковую систему второго
порядка, использующую их первичный и "естественный" смысл как
оправдание для своих собственных ценностных значений. В
мифологизации проявляется принцип комизма — удвоение видимости,
когда одно выступает под "маской" другого. "Миф" у Р.Барта
становится единицей ложного, неподлинного смысла в идеологии,
которая в современной культуре получает преобладающее развитие.
(19, 78-83).
Ж.Делез и Ж.Бодрийяр для обозначения аналогичных
явлений использовали термин "симулякр", который в
историко-философской традиции связывался с искажением платоновской идеи-
первообразца, и имел смысл "видимости" или "подобия".
Жизненная среда современного человека, по его мнению, наполнена симу-
лякрами, которые Бодрийяр классифицирует в "три порядка" си-
мулякров, формирующих новоевропейскую цивилизацию от
Возрождения до современности. "Подделка - производство -
симуляция" - такова схема Бодрийяра. "Симулякр первого порядка
действует на основе естественного закона ценности, симулякр второго
порядка - на основе рыночного закона стоимости, симулякр третьего
порядка - на основе структурного закона ценности". (32, 111).
"Симуляция составляет господствующий тип нынешней фазы,
регулируемой кодом". (Там же). Если подделка (скажем, имитация
в архитертуре) и производство (серийность промышленных
изделий) относятся к вещам, к материальному, то симуляция касается,
в первую очередь, сущностей вещей или процессов (симуляция бо-
286 Глава 4
лезни, поступков и т.д.). В симуляции серийное производство
уступает первенство порождающим моделям. (32, 124). "Практически
и исторически это означает замену социального контроля через
цель... социальным контролем через предвидение, симуляцию,
опережающее программирование, не детерминированную, а
регулируемую кодом мутацию. Вместо целенаправленного процесса,
обладающего идеальным развитием, перед нами порождающие модели.
Вместо пророчеств - "зафиксированная программа"... От продук-
тивистско-капиталистического общества к кибернетическому
неокапитализму, ориентированному уже на абсолютный контроль, -
такова суть перемены... В этой перемене нет ничего
"недетерминированного": в ней находит завершение длительный процесс, когда
один за другим умерли Бог, Человек, Прогресс, сама История,
уступив место коду, когда умерла трансцедентность, уступив место
имманентности, соответствующей значительно более высокой стадии
ошеломляющего манипулирования общественными отношениями".
(32, 130).
Сущность симуляции - это манипулирование, манипуляция.
Слово "манипуляция" имеет корнем латинское слово manus -
рука^ manipulus - пригоршня,горсть,то есть "наполненная рука".
Оно включает в себя смысл обращения с объектами с
определенными целями, а переносное его значение - ловкое обращение с
людьми как с объектами, вещами. Ловкость рук в обращении с
вещами тут перенесена на управление людьми. (35, 19-20). Этот
смысл манипуляции был связан и с тем, что "манипулятором"
называли также фокусника, который работает без сложных
приспособлений, руками. Своих эффектов фокусник добивается,
используя психологические стереотипы зрителей, отвлекая их внимание
от происходящего, создавая иллюзии происходящего.
Манипуляция в современном смысле - это программирование мнений и
устремлений масс людей с целью обеспечить предсказуемость их
поведения и в нужном для манипуляторов направлении. Простейшим
примером манипуляции может служить реклама. Это - вид
духовного воздействия, которое оказывается тайно или скрытно. Успех
манипуляции гарантирован тогда, когда манипулируемый верит,
что все происходящее естественно и необходимо. Для
манипуляции необходима иллюзорная действительность, в которой
манипуляция не будет ощущаться. Для такого рода манипуляции
необходим высокий уровень технологического развития.
Люди - объекты манипуляции выступают в ней как "вещи",
как обезличенные объекты. Они понимаются как "марионетки" и
"куклы", а ситуация манипулирования ими - это ситуация "игры
бытия с человеком", только тут под это "бытие" подделываются
другие люди. То есть это - обман, но не простой, а обман соблазна,
в известном смысле, "одурачивание". Цель манипуляции - всегда
Проблема смеха в современной культуре 28 7
соблазн: заставить человека обмануться, да так, чтобы он сам
пожелал этого. Это - классическая комическая ситуация. И Бодрий-
яр говорит, что в такого рода ситуации симуляции (манипуляции)
воспроизводится "дух времени", времени симулякров. Например,
универсальной становится ситуация всеобщего тестирования. Тест
может быть рассмотрен как ситуация иллюзорного выбора между
возможностями, где возможности уже запрограммированны в коде
теста. Тест и референдум, утверждает Бодрийар, являются
идеальными формами симуляции: ответ подсказывается вопросом,
заранее моделируется. "...Референдум - это всегда не что иное, как
ультиматум...". (32, 134).
Симулякры - это пустая форма, которая может быть
наполнена любым содержанием. Симулякры упраздняют время тем, что
допускают его постоянное возвращение, воспроизводя вновь и вновь
призраки вещей и идей - их симулякры. А призраки, ведь, не
умирают, а обладают "послежитием". Основа для симуляции - это
бинарная структура (удвоение-раздвоение). "Как в мельчайшей
дизъюнктивной единице (элементарной частице "вопрос / ответ"),
так и на макроскопическом уровне общих систем чередования,
которые управляют экономикой, политикой, мирным
сосуществованием держав, первичная матрица всегда одна и та же -0/1,
бинарный ритм, утверждаемый как метастабильная или гомеоста-
тическая форма всех современных систем. Это ядро процессов
симуляции, под властью которых мы живем". (32, 145).
Сам Бодрийяр отмечает, что основополагающими
характеристиками остроумия оказываются сжатость и повторное
использование в разных модальностях одного и того же материала. (32,
366). Бодрийяр анализирует работу Фрейда "Остроумие и его
отношение к бессознательному" и вносит свои коррективы в
понимание комического. Сущность комизма он видит в эффекте взрыва,
короткого замыкания, в котором уничтожается особость и
отдельность разных сфер реальности. "Отмена в этот миг сверх-Я, отмена
усилий, которыми приходится поддерживать дисциплину
принципа реальности и рациональности смысла, означает не просто
отмену вытесняющей инстанции в пользу инстанции вытесненной, но
одновременное упразднение их обеих. Это и есть поэтическое
начало остроумия и комизма, идущее дальше навязчивого воскресения
фантазма и исполнения желания". (32, 374). Кантовская
интерпретация смеха как "разрешения в ничто" ему кажется весьма
правдоподобной, ведь, по его мнению, уничтожается "в ничто" в
момент смеха и само бессознательное. "Наслаждение - это крово-
истечение ценности, распад кода, репрессивного логоса. В
комическом оказывается снят моральный императив институциональных
кодов (ситуаций, ролей, социальных персонажей) - в остроте
оказывается уничтожен даже моральный императив самотождествен-
288 Глава 4
ности слов и субъекта. И все это - ни для чего. Не для того, чтобы
"выразить" что-то бессознательное". (32, 374).
Остроумие и комическое Бодрийар включает в символический
обмен, потому что они связаны с символическим модусом
наслаждения. Они символичны и подчеркнуто общезначимы, так как в
них происходит "символическая отмена ценности". (32, 379).
Через комизм и поэзию, которые он рассматривает как модели
символического обмена, устанавливается "однотипное социальное
отношение", так как "только субъекты, отрешившиеся от своей
идентичности подобно словам, достигают социальной взаимности в
смехе и наслаждении". (Там же).
Бодрийяр чутко почувствовал трансформацию ценностей в
постмодерне в сторону их симулятивного воспроизведения, и поэтому
нарастание элементов манипулятивности и ложности в
общественном сознании, и отразил в теории симулякров. Надо сказать,
что принцип "вечного возвращения" Ницше, "повторения" Делеза
или "симуляции" Бодрийяра - это, фактически, умноженное
"удвоение", повторенное "удвоение". Суть повторения - это удвоение,
создание двойника, двойственности, тени, и т.д., то есть того
удвоения, с которым связана природа эстетического смеха. Кроме того,
повтор - это также иллюзия, зеркальность и, обязательно,
снижение значения явления в результате повтора. Там, где присутствует
повторение, там есть основа для смеховой выразительности. Таким
образом, если повторение, пусть в форме симуляции, принимается
как свойство самого бытия, то смех становится неустранимым,
становится экзистенциальной характеристикой человеческого бытия
в целом, его эстетической доминантой.
В качестве некоторой иллюстрации этого тезиса можно
предложить анализ образа зеркала или зеркальности в современной
культуре, который является в известном смысле ключевым для ее
образного строя в целом.
Смех и образ зеркала в современной культуре
"Художник стоит слегка в стороне от картины. Он смотрит
на модель; может быть, ему нужно добавить последний мазок, но
возможно, что не проведена еще и первая линия. Рука, в которой
он держит кисть, повернута налево, к палитре. На одно мгновение
он неподвижно застыл между полотном и красками. Руку мастера
удерживает взгляд, который в свою очередь покоится на
прерванном движении. События развернутся между тонким кончиком кисти
и острием взгляда". (13,41).
Так начинается книга М.Фуко "Слова и вещи" (1966). Фуко
описывает знаменитое полотно Д.Веласкеса "Менины" (1656). Ва-
Проблема смеха в современной культуре 2 89
риации П.Пикассо "Менины" (1957) на тему одноименной
картины Веласкеса свидетельствуют о том, что на какое-то время
"Менины" полностью овладели его воображением. (6, 98). Пикассо и
Фуко интересует одно и то же - то, что чувствовал, или точнее,
предчувствовал Веласкес - "дух времени" смены эпох. В этом
ощущении перелома эпох XVII-й век и ХХ-й сходятся, ощущают свою
родственность, ибо в этом мирочувствии начало и конец Нового
времени совпадают. Но каким же образом в "Менинах" Веласкеса
выразился этот "дух времени", это мироощущение?
В загадочном шедевре Веласкеса представлен один из
дворцовых покоев, где художник пишет портрет короля Испании
Филиппа IV и его супруги Марианны. Образ художниках в "Менинах" -
единственный достоверный автопортрет Веласкеса. Королевская чета
не показана - видны только отражения в зеркале, висящем в
глубине комнаты. В этом уже проявилась смелость художника,
который позволил себе изобразить царствующих особ опосредованно,
через их отражение в зеркале, в глазах заполнивших первый план
гувернанток, слуг и служанок. Во время сеанса присутствует
инфанта Маргарита, по-видимому, для того, чтобы развлекать
родителей. Ее окружают молодые придворные дамы (по-испански -
"менины"), гофмаршал королевы, карлики. В дверном проеме в
глубине картины вырисовывается темная фигура мужчины, придворного,
наблюдающего за происходящим.
Композиция построена так, что пространство картины словно
продолжает реальное пространство, в котором находится зритель, а
все формы и краски воссозданы так, как их воспринимает глаз в
реальной световоздушной среде. Веласкес здесь достигает
предельной достоверности изображения, своего рода иллюзии жизни.
"Менины" соединяют в себе черты группового портрета и бытовой
картины. Веласкес как бы раздвигает границы этих жанров. (14, 145-
146).
Иными словами, загадочность картины Веласкеса заключена
в самой ее "маргинальности", в ней все балансирует как бы на
границе возможного и невозможного, существующего и
исчезающего, на грани дозволенного и недозволенного. Тревожное ощущение,
безотчетно возникающее, таково, что вот-вот балансирование на
границе приведет к ее нарушению, и что этот переход приведет к
разрушению сложившегося порядка. Порядок же задается
королевской четой (взгляды, внимание почти всех действующих лиц
направлены на нее, она связывает разнородные части картины в
одно целое). Но взгляды не всех персонажей направлены на
короля и королеву, хотя видно что даже те, кто не смотрит на них, в
своем поведении руководствуются сознанием их присутствия.
Королевская чета вынесена за рамки картины, на полотне
непосредственно присутствует лишь ее неясное зеркальное отражение, ко-
290 Глава 4
торое дает ощущение ее как бы исчезающего присутствия, чего-то
такого, что еще есть, но уже вроде и нет, чего-то уходящего,
растворяющегося в иллюзию и в небытие.
Центр картины, таким образом, вынесен вовне, и реально
видимым центром полотна являются автопортрет художника и инфанта
Маргарита на переднем плане. В картине ясно ощущается два плана,
непосредственно материальный, который дан как тела и портреты
слуг, художника с их плотной телесностью, и как свет, льющийся из
окна, вообщем, как та самая "иллюзия жизни", о которой говорят
искусствоведы. И второй план - духовный, который художественно
изображен как направление взгляда, "иcтeкaющeгo,, из души; как
"незримое присутствие" и как отражение в зеркале, как свет,
льющийся из открытой в иное пространство двери.
Если представить направление взгляда как геометрический
луч, то все полотно будет представлять пространство с взаимопере-
секающимися лучами с центрами не только в изображенных
персонажах-людях, но и в персонажах-портретах (все стены
изображенного помещения завешаны картинами), в зеркальных
отражениях. И тут есть определенный намек на стирание граней между
непосредственно реальным и иллюзорным, но то и другое, ведь,
равно реальны, хотя и по разному. Взаимоотражение лучей-взглядов
может быть увидено как взаимопереход реальности в иллюзию и
наоборот. И что реальнее, иллюзия, зеркальное отражение или
непосредственная телесность, неизвестно.
Надо сказать, что, хотя лицо художника серьезно, его усмешка
явственно ощущается. Серьезны и лица других персонажей,
только инфанта чуть-чуть, только глазами, приветливым взглядом,
улыбается. Но общий тон настроения картины, как-то подспудно
усмешливо-насмешливый, на что намекает и присутствие карлов-
шутов, хотя и у них серьезные лица. Возможно, что тот, кто
смеется, и его смех ощущается в картине как отраженный, как и все
остальное, тоже дан художником как "невидимое присутствие".
Открытая дверь в иное пространство намекает на это возможное
присутствие. Сам эффект взаимоотражения, раздвоения, удвоения,
на котором построена композиция картины, несет в себе дух смеха.
Тревожность рождается, по-видимому, тем, что отчетливо
ощущается то обстоятельство, что образ королевской четы как центр
картины, организующий единство композиции, "миропорядка"
картины, уже начинает как бы таять, плавиться, исчезать,
переходить в иное. Знак этому - "раздвоение" королевской четы на
"незримое присутствие" и на их зеркальное изображение, ибо
разделение - знак гибели. "Разделившееся в себе царство, погибнет", -
говорится в Библии. Можно себе представить, что произойдет,
когда образ королевской четы исчезнет совсем: персонажи переведут
взгляды на иное, каждый на свое, каждый замкнется на себе и
Проблема смеха в современной культуре 291
единство, целостность распадется на самодовлеющие "атомы",
порядок с общим центром перестанет существовать. Распадение и
множественность сменят единство и целостность. Кстати говоря, у
Пикассо, в его "Менинах", дана уже реальность как распавшаяся
на самозамкнутые единицы, между которыми торчат острые грани,
намекающие на характер взаимоотношений между этими
единицами, а "незримого присутствия", центра, уже нет, он "умер", истаял.
Намек на то, что придет после исчезновения "незримого
присутствия", на новый порядок, вернее, намек на его новый центр
может быть усмотрен в следующем обстоятельстве. В.Б.Мирима-
нов отмечает, что "Менины" не первая картина, где присутствует
автор, однако в отличие от них (от "Афинской школы" Рафаэля,
например), здесь к его фигуре сходятся силовые линии сюжета. На
это направлены формальные технические приемы, использованные
художником: освещенная вертикаль холста, застывшая кисть,
наклон головы, красный крест на груди художника и другие. (6, 99-
100). Автор, художник (его взгляд, настроение, понимание, чувство)
- вот кто стоит за всеми взаимоотражениями. Человек-творец -
вот кто выходит на первый план, кто сталкивает
разнонаправленные "лучи" персонажей, играет ими, расставляет их по своей воле,
развешивает зеркала и созданные им картины.
Что такое зеркальное отражение? Это — повторение одного и
того же, удвоение одного и того же, создание своего полного
двойника, только зеркального, иллюзорного, нетелесного, без ширины и
глубины, обладающего одной поверхностью. И косвенно
уподобляя людей-персонажей, зеркальным персонажам, картинным
изображениям, Веласкес их всех превращает в зеркала, которые в
своем зеркальном взаимоперекрещивании, взаимоотражении взглядов,
отражают только одно - взгляд автора, его самого. Поэтому все
бытие персонажей картины - это иллюзия, подлинность одна -
сам автор. И это, конечно, смешно. Но смешнее еще более другое:
при таком взаимоотражении, сам автор тоже раздваивается,
умножаются его копии, зеркальные, иллюзорные, в которых он сам
может затеряться и не отличить в следующий момент, где он сам, а
где его иллюзорное, зеркальное отражение без глубины и ширины,
с одной только поверхностью.
Иными словами, человек, ставящий себя центром
миропорядка, рождает своего зеркального двойника, который может его
переиграть. Сама ситуация, конечно, комическая, в силу своей
взаимооборачиваемости. А также в силу того, что человек, претендующий
на роль Абсолюта, сам относителен, что проявляется, скажем, в
культурном релятивизме, где понятие об одном предмете в разных
культурах бывает прямо противоположным. О смехе такого рода
писал Фуко. Это - смех, который, как он утверждает, сподвиг его
написать книгу "Слова и вещи", и который "колеблет все привыч-
292 Глава 4
ки нашего мышления...сотрясает все координаты и плоскости,
упорядочивающие для нас великое разнообразие существ, вследствие
чего утрачивается устойчивость и надежность нашего
тысячелетнего опыта Тождественного и Иного". (13, 28).
Веласкес сознательно, или не совсем, писал именно об этом - о
той границе, на которой балансирует мир и о переходе за нее.
Именно тема границы - это та общая тема, которая сводит
воедино начало и конец эпохи Нового времени. Мы опять подошли к
границе эпох и уже на грани перехода ее, в начале XXI века, это
витает в воздухе. О том, что Д.Веласкес это хорошо чувствовал и
понимал говорит то обстоятельство, что тема зеркальности,
взаимоотражения разных миров является также сюжетом его
последнего значительного полотна "Пряхи" (1657), где некие миры
также существуют как взаимоотражающиеся, и, одновременно, как
самозамкнутые.
Картина представляет собой три плана, разворачивающихся
последовательно перед зрителем. На переднем плане представлена
мастерская, где заняты работой молодые ткачихи. На заднем
плане художник изобразил придворных дам, которые пришли в
мастерскую и заняты оживленной беседой в своем кругу. Оба круга не
пересекаются, они как две непересекающиеся сферы бытия. Оба
плана, оба помещения отделены аркой и в ее проеме на стене
комнаты, где находятся придворные, виден ковер, на котором выткан
известный мифологический сюжет из "Метаморфоз" Овидия.
Разгневанная Афина указывает на чудесный ковер, сделанный Арах-
ной, простой девушкой, которая превзошла богиню в искусстве
ткачества и за это была жестоко наказана: Афина превратила
девушку в паука. Это - третий мифологический план. Замечательно, что
эти три плана никак не пересекаются.
В "Пряхах" Веласкес изображает людей труда более
реальными, чем придворные, которые, примыкая к мифологической сцене на
ковре, как бы сами уже готовы перейти в этот иллюзорный план, в
прошлое. Намек Веласкеса трудно не понять, и он тоже носит
характер еле уловимой насмешки, несмотря на общий подчеркнуто
поэтически-идиллический тон картины.
К художественному эффекту зеркала Веласкес обратился еще
в "Венере с зеркалом" (1650). Венера лежит спиной к зрителю и
зритель видит ее лицо, отраженным в зеркале. Эффект
удивительный, так как появляется ощущение, что у этой обнаженной
женщины тело живет само по себе, а лицо само по себе, отдельно друг
от друга. Зеркало в данном случае создает эффект раздвоения, ведь
на полотне, фактически, появляются две Венеры.
Образ зеркала можно рассматривать как символ потери
идентичности, потери Тождественного. В XX веке ярким примером
такой логики и художественной, и самой настоящей неклассиче-
Проблема смеха в современной культуре 293
ской, стали книги Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес'и
"Алиса в Зазеркалье". Это - очень серьезная литература для детей.
Алиса для Ж. Делеза в "Логике смысла" (1969) - главный пример
иной логики, к которому он беспрестанно обращается на
протяжении всей книги.(К.Льюис, логик и математик, как известно, еще в
1918 году указал на недостаточность классической логики, на так
называемые "парадоксы импликации", и предложил новую теорию
логического следования со строгой импликацией).
Мир, в который попадает маленькая девочка Алиса, - это мир
парадоксов, мир совмещения несовместимого, мир "АНТИ-ПОД-НА-
МИ".Этот мир у Кэрролла локализован: Алиса ныряет в нору
Кролика и проваливается под землю, а потом в подземелье она еще
долго-долго "падает, падает и думает, думает". Подземный мир или
мир Зазеркалья, по Ж.Делезу, - это мир "чистых событий" и
поверхности.
"Когда я говорю: "Алиса увеличивается", - я полагаю, что она
становится меньше, чем была. Но также верно, что она становится
меньше, чем сейчас. Конечно, она не межет быть больше и меньше
в одно и то же время. Сейчас она больше, до того была меньше. Но
она становится больше, чем была и меньше, чем стала, в один и тот
же момент. В этом суть одновременности становления, основная
черта которого - ускользнуть от настоящего. Именно из-за
такого ускользания от настоящего становление не терпит никакого
разделения или различения на до и после, на прошлое и будущее.
Сущность становления - движение, растягивание в двух
смыслах-направлениях сразу: Алиса не растет, не сжимаясь, и наоборот.
Здравый смысл утверждает, что у всех вещей есть четко
определенный смысл; но суть парадокса состоит в утверждении двух
смыслов одновременно (Разрядка моя. - М.Р.)". ( 12, 15). Через
становление и парадокс осуществляется потеря
самотождественности смыслов и вещей. "В этом и состоит двойное приключение
Алисы - умопомешательство и потеря имени". (12, 108). "Алиса
всегда движется в двух смыслах сразу: Страна Чудес (Wonderland)
находится на всегда разделенном двойном направлении. Алиса,
кроме того, утрачивает тождество, будь то ее собственная
самотождественность или же тождество вещей и мира". (12, 112-113).
"Каким путем, каким путем?" - спрашивает Алиса. Вопрос
остается без ответа, поскольку смысл в Зазеркалье
характеризуется тем, что у него тут нет общезначимого направления, "здравого
смысла", и что он тут сразу расходится в двух направлениях - "в
бесконечно делимое и растянутое прошлое-настоящее". (12, 110).
А смысл - это всегда эффект, говорит Делез. Это эффект и в
смысле "оптического эффекта", "звукового эффекта", то есть, эффекта
поверхностного, позиционного, лингвистического. Иными словами,
^эффект - вовсе не видимость или иллюзия, а продукт, развора-
294 Глава 4
чивающийся на поверхности и распространяющийся по всей ее
протяженности". (12, 102). Таким образом, через сведение всего к
эффекту и поверхности уравниваются в своих правах иллюзия и
реальность, смысл иллюзорный и смысл подлинный, ложь и
истина. Так логика двузначная (истина-ложь) превращается в логику
многозначную, со многими переменными, где оппозиция "истина-
ложь" теряет свое значение.
Эффект или приключение всей "Алисы" заключается во
введении хаоса в космос и в проигрывании последствий этого.
Последствия: умопомещательство и потеря имени. Имя - знак
самотождественности, самоидентичности. Девочка при попадании в
"Страну чудес", то есть в подземное "царство глубины", теряет себя саму,
все время сомневается, она это или не она. Алиса открывает
ложность глубины и то, что все происходит на границе ("за занавесом
нет ничего, на что можно было бы посмотреть. Если это и так, то
только потому, что видимым стало уже все, а лучше сказать, любая
возможная наука продвигается лишь вдоль занавеса"). (12,26).
По мере погружения Алисы в глубину начинается буквальное
превращение правого в левое, и наоборот. Под землей животные
оказываются на вторых ролях, первенствуют карточные фигуры без
толщины, без объема.Кэрролл хочет сказать: что мнилось
глубиной, оказалось шириной. А скольжение, "становление", по ширине
приводит только к ее выворачиванию наизнанку, то есть к той же
широте-поверхности, но наизнанку, подобно тому, как лента
Мебиуса незаметно переходит в свое иное, "верх" становится "низом",
и наоборот. Это незаметное выворачивание наизнанку есть
свойство поверхности, свойство тел без толщины. "Глубина - больше не
достоинство. Глубоки только животные, и оттого они не столь
благородны. Благороднее всего плоские животные". (12,26).
А в Зазеркалье Алиса, как раз, попадает уже в царство
поверхности, в тусклый бестелесный туман, исходящий от тел, который
похож на "пленку без объема, окутывающая их, зеркало,
отражающее их, шахматная доска, на которой они расставлены согласно
некоему плану. Алиса больше не может идти в глубину. Вместо
этого она отпускает своего бестелесного двойника. Именно следуя
границе, огибая поверхность, мы переходим от тел к
бестелесному". (12,27). Алиса раздваивается на себя и свое зеркальное
отражение, бестелесное и иллюзорное, и потом ей уже сложно
определить, где она, а где ее двойник, они постоянно меняются местами.
Ж.Делез говорит,что Л.Кэрролл вообще не любил мальчиков.
В них слишком много "фальшивой глубины - ложной мудрости и
животности. В Алисе ребенок мужского пола превращается в
поросенка. Как правило, только девочки понимают стоицизм. Они
улавливают смысл события и отпускают бестелесного двойника.
Но случается, что и маленький мальчик оказывается заикой и
Проблема смеха в современной культуре 29 5
левшой, а значит, улавливает смысл как двойной смысл
поверхности". (12,27).Иными словами, логика Кэрролла коррелируете
женской логикой, где переход одного в прямо противоположное
зависит только от прихоти и обстоятельств, но никак не от принципов,
не от стремления к истине.
Парадокс - это средство "освобождения глубины, выведения
события на поверхность и развертывания языка вдоль этого
предела". Юмор - искусство поверхности, противопоставленное ст -
рой иронии - искусству глубины и высоты, противопоставленное
так же, как Сократ и Платон противопоставлены стоикам, ведь
стоики проделали в истории философии ту же операцию по
"освобождению глубины" от сущностей-Идей и выведению их на
поверхность, каковую Кэрролл проделал в "Алисе" ив логике,а Делез
стремится проделать в "логике смысла" ("глубина" объявляется
ложной, сводится к противоположному смыслу-направлению).
Иными словами, формируется или сформировался иной по отношению
к платоновскому тип мышления, в котором Идея уже не занимает
место сущности-субстанции, "царицы" смыслов и вещей, а уравнена
в правах со своей челядью, с тем, что следует и зависит от нее.
Идея или понятие - опора тождества смысла и тождества
языка. Общезначимый смысл заключен в языке, и он в речи
субъекта присваивается им, манифестируется, становится достоянием
говорящего, индивидуализируется, выступает средством
идентификации субъекта с тем общим, что заключено в языке (культурой,
обществом, народом, Богом, наконец). Смысл вообще как нечто
функционирующее, живое, возникает на пересечении общезначимых
смыслов и их индивидуализации. "В такой взаимной
дополнительности здравого смысла и общезначимого смысла запечатлен альянс
между Я, миром и Богом - Богом как предельным исходом
направлений и верховным принципом тождеств". (12, 112).
Парадокс - "это пересмотр одновременно и здравого смысла, и
общезначимого смысла". Один из таких парадоксов - это парадокс
регресса, или неопределенного размножения. Он заключается в
бесконечном умножении вербальных сущностей. Он известен со
времен критики Аристотелем Платона, который показал, что между
вещью и ее идеей всегда можно поставить нечто третье, иную идею,
скажем, вместо родовой идеи для класса вещей можно поставить
видовую сущность (например, вместо "собаки" как родовой идеи,
сущности для любой конкретной собаки, можно взять вид -
скажем, "фокстерьер"). Но в своем просто вербальном звучании, где
снимаются различного рода ограничения действительности,
существования, логики классической, этот парадокс упрощается и
умножается. Он приобретает характер "серии" и, притом, бесконечной
серии: "серия может регрессировать бесконечно, чередуя реальное
имя и имя, обозначающее данную реальность". (12, 51). При этом
296 Глава 4
"двучленный регресс" (удвоение) - "минимальное необходимое
условие неопределенного размножения". (12, 52). Для нас важно тут
то, что данный парадокс имеет в основе своей как единицу -
удвоенную форму, то есть повтор, зеркальное отражение или
двойника. (У Делеза это обстоятельство тоже носит наименование
"парадокса стерильного раздвоения, или сухого повторения". (12, 53)).
А как мы установили, удвоение - это та структура, которая всегда,
так или иначе, имеет отношение к смеху. Поэтому мышление,
основанное на парадоксах, в плане своей эстетической
выразительности имеет смех, даже когда он не звучит, он подразумевается.
Поэтому, например, "Алиса" Кэрролла - это очень смешноепроизведе-
ние, причем всегда, а когда герои плачут и страдают, особенно.
Улыбка Чеширского кота, которая гуляет сама по себе и везде,
является, как раз, символом такого всеприсутствия смеха.
Чем, собственно, отличается раз-двоение от у-двоения? Корень
у них общий, и результат общий - появление двойника. Но
различаются они разными способами образования двойника и природой
последнего. При раздвоении происходит распадение одного на два,
может быть, равных, а может и нет. Но раздвоение предполагает
операцию деления, при которой результат деления не может быть
избыточен по отношению первоначальной целостности. Он всегда
- недостаток. Части начинают жить автономно по отношению к
целостности, что означает ее гибель. При удвоении происходит
воссоздание копии первоначального объекта. Копирование,
повторение - средство продлить, остановить мгновение. И оно, вроде,
безболезненно для оригинала, ничего от него не убывает. Но это только
до того, как их не поместили рядом, ря до положенное повторение
дает эффект снижения, результат - тот же, что и при раздвоении,
но получается косвенно. В зеркальном эффекте раздвоение и
удвоение совпадают, потому что природа двойника - зеркальная,
иллюзорная. Иллюзорный двойник при этом имеет видимость
настоящего оригинала.
Зазеркалье - это то, что возникает за пределами здравого
смысла, за пределами уничтоженного тождества. Там - безумие,
умопомешательство, потеря самоидентичности, раздвоение личности,
шизофрения, "Безтолкотня" и "Белиберда". "Безтолкотня", кстати, у
Кэрролла служит моделью идеальной игры. Это - бег покругу,где
каждый начинает, когда вздумается, и останавливается, когда
захочет. В ней много движения, но нет правил, нет победителей и
побежденных, нет ответственности. Если обычная игра - двойник рель-
ности, труда или этики, двойник пародирующий, удваивающий,
зеркальный, однако, сохраняющий в этом отражении качества
реальной деятельности, хотя и в сниженном виде; то идеальная игра
"Белиберда" - это двойник-антипод из Зазеркалья, который просто
отрицает все то, что делает игру возможной - правила, результат,
Проблема смеха в современной культуре 29 7
победителей. Все в ней под знаком "нет" и с приставкой "без-". И
потому эта игра неинтересна и скучна, совсем не развлекает, но она
смешна, как смешно все, что связано с двоением.
"Если в конце Х1Х-начале XX века идеи Л.Кэрролла не были до конца
восприняты и поэтому не были так известны и распространены в культуре,
то в конце XX века, в постмодернизме и постструктурализме (М.Фуко,
Ж.Делеза и др.), "перевернутая" логика Кэрролла становится основой
определенной культурологии и логикой смысла, типом мышления,
претендующим на общезначимость ("Алиса - все-таки, детская сказка)
и общсраспрастранснность. Парадокс заключается только в
том, что это такой тип мышления, который принципиально
отвергает наличие общезначимого смысла вообще, как, впрочем, и
здравого смысла тоже.Неклассическая логика Кэрролла,как и
любая другая многозначная логика, которых ныне много (например,
паранепротиворечивая логика, логика квантовой механики,
причинности, изменения и др.) имеет право на существование как
модель, корректирующая, дополняющая классическую двузначную
логику в том случае, если она не устраняет единство
логики вообще. Но если неклассическая логика подменяет собой
классическую, выворачивает ее наизнанку, то мы попадаем в
логику Зазеркалья, в логику "по ту сторону добра и зла", где только
одно - небытие.
Ж.Лакан использовал образ зеркала для характеристики
стадии развития психики человека, которую он назвал "стадией
зеркала". (28, 636-637). При помощи образа зеркала Лакан
показывает, что человек - это событие, которое опосредуется в своем
самосознании собственным образом тела. Этот образ тела формируется
на зеркальной стадии, которая им подразделяется на три этапа.
Сначала ребенок воспринимает зеркало как нечто реальное, затем
он его воспринимает как нечто нереальное, и только потом ребенок
видит в зеркале свое собственное отражение. Образ самого себя у
ребенка формируется раньше, чем образуется понятие телесной
схемы. Это происходит где-то между шестым и восемнадцатым
месяцами жизни ребенка, когда с зеркальным образом он
отождествляет свой собственный. Зеркало у Лакана выполняет символическую
функцию формирования образа целостности собственного тела,
которое, возможно, до этого не воспринималось как унитарная
тотальность.
Лакан пессимистически смотрел на человека и его
перспективы. Он писал, что после Коперника и Дарвина третью попытку
унизить человека предпринял Фрейд, который свел природу
человека к главенству бессознательного. Субъект и его сознание децен-
трированы, бессознательное является таким децентрированным
центром. Именно в нем проявляется подлинный человек, который
говорит: "Я мыслю там, где меня нет, и я есть там, где не мыслю".
298 Глава 4
Парадоксальность и иронизм становятся выражением
бессознательного человека, так как неявность, опосредованность, косвенность
присуща его проявлению.
Фуко писал, что человек - это некая мерцающая точка,
мигающая в океане возможностей, вызванных глубокими
подводными течениями, которые называются структурами. Современную
мысль, по его мнению, характеризует редукция человека к
окружающим его структурам, которые обуславливают человека, его
настоящее, прошлое и будущее. От декартова суверенного сознания
как центра человека в XX веке не остается почти ничего. В своей
книге "Слова и вещи" М.Фуко говорит об исчезновении человека.
"Мысль Ницше возвещает не только о смерти бога, но и (как
следствие этой смерти и глубокой связи с ней) о смерти его убийцы.
Это человеческое лицо, растерзанное смехом ; это возвращение
масок; это рассеивание глубинного потока времени, который
ощутимо увлекал человека и силу которого человек угадывал в самом
бытии вещей; это тождество Возврата Тождественного и
абсолютного распыления человека" (Разрядка моя.- М.Р.). (13, 403). "Всем
тем, кто еще хочет говорить о человеке, о его царстве и его
освобождении... можно противопоставить лишь философический смех,
то есть, иначе говоря, безмолвный смех". (13, 363). Так, у Фуко
смехом символизируется завершение той парадигмы человека как
свободной личности, волевой и сознающей, формирование которой
он относит к концу XVIII века.
♦♦♦ ♦$♦ ♦♦♦
Значение смеха в современной культуре
Цивилизация делает свое дело, создавая
общество нарциссов, которым чужд размах,
смех, зато она перенасыщена элементами
комизма.
Жиль Липовецки
Смех в XX веке стал основной эстетической доминантой, можно
сказать, экзистенциальной характеристикой бытия человека и его
умонастроения. Эта доминанта приобретала на протяжении всего
XX века различные звучания. Она варьировалась от
"нигилистической иронии" начала века до постмодернистской иронии и
юмора, "искусства поверхности", как выражения маргинальности
современной культуры.
Революции и две мировые войны являются событиями,
определяющими культуру и историю XX века. Революции
предшествует "гибель богов", то есть разрушение традиционных ценностей. А
там, где присутствует "гибель богов", там на первый план выходит
игра в качестве модели бытия и звучит смех. Чтобы что-то
разрушить, надо его удвоить, точнее раздвоить, показав в кривом
зеркале. Кривое зеркало - непременный участник "гибели богов".
Зеркало кривое потому, что оно искажающее, потому что оно - ложь,
иллюзия, видимость. "Последний человек", по Ницше, в своих
этических ценностях и в старой классической онтологии и в своем
типе мышления еще хранил "образ Божий", несмотря на то, что в
Бога верить он почти перестал. Но этот человек, постепенно собой
заменивший Бога, несмотря на "нигилизм", сохранял в себе (в
своем мышлении, в картине мира, в этике) память о Боге. Дух, разум,
свободная воля воспроизводились человеком в качестве
подлинного его бытия и бытия мира.
В XX веке Бог должен был быть изгнан и из этих потаенных
уголков человеческого бытия. Ницше указал путь "переоценки
ценностей" в направлении неоязычества, в котором доля дионисизма
(стихийно-природного экстатического начала) займет
преобладающее перед аполлонийской культурой (культурой разумного
чувства) место. (37). Надо сказать, что язычество в лице античной
культуры имело другую историю: синтез дионисизма и аполлонизма в
трагедии разрешился платоновско-аристотелевской традицией в
культуре и мышлении, которая вела к христианскому синтезу.
Ницше провозглашал возврашение к досократической традиции в
античности, к ее раннему этапу, который основывался на приоритете
тела перед духом, природы перед культурой. Культура XX века
300 Заключение
последовала этому призыву: в ней телесная интуиция получила
преобладающее значение.
Эрос и Танатос, влечение к любви и к смерти, как первичные
страсти-инстинкты, были приняты Фрейдом, а вслед за ним и
искусством, культурой за подлинное бытие человека, за "природу"
человека. Таким образом понятая "природа" человека как
"животное" в нем начало находилась в конфронтации с культурой,
выросшей на приоритете духовного начала человека, унаследованного от
христианской традиции. Культура была подвергнута
модернизации, чистке, деконструкции.
На различных уровнях развития культуры XX века (например,
на уровнях нами рассмотренных - эстетическом,
культурологическом, метафизическом, социологическом) можно наблюдать
воспроизведение и повторение структуры, которая нами была раскрыта
как "комическая ситуация". Ядром этой структуры выступает
механизм "удвоения видимости и ее разрушение", который составляет
объективное основание для комического. Частным примером
воспроизведения этой структуры может служить кубизм как
направление в искусстве модернизма, который, в силу своего значения для
модернистского искусства, может рассматриваться в качестве
модели, концентрирующей в себе особенности эстетизированного
революционного сознания. В метафизическом плане кубизм нацелен на
осуществление идеи человека-творца, созидателя нового мира,
подобно Богу создающего мир "из ничего" из якобы "первоначальных"
геометрических фигур.
Художник становится тем "сверхчеловеком", который
разрушает мир "до основания", до перманентных структур, а потом
формирует другой мир по "своему образу и подобию". Ситуация тут
носит характер комический потому, что в ней также
воспроизводится механизм удвоения видимости и ее разрушения. Дело в том,
что трансформация образа в кубизме дает видимость явления, его
зеркальное отражение. Разлагая образ на "первичные
геометрические формы", художник разрушает природоподобный образ. Но
восстановление образа проблематично, воспроизводится суррогат,
видимость восстановления, иллюзия образа. Сотворение остается
только претензией, так как этот механический "гомункулус" далек от
человека и его образа. Как карточный домик рушится, начиная с
последнего звена, так и эта сотворенная видимость образа человека
делает явным его саморазрушение.
Во второй половине XX века в качестве смеха наступает
перелом: на смену иронии приходит юмор. Ирония из
нигилистической, критической, саркастической, злой становится гораздо более
мягкой, улыбчивой, всепрощающей, то есть юмористической
иронией. Неуловимо меняется настроение, которое передается в качестве
смеха. Онтология Хайдеггера завершила построение картины ми-
Значение смеха в современной культуре 301
ра "в отсутствие Бога". Вслед за Богом "умирает" постепенно и
онтологизированный "человек-творец", созидающий мир по своей
свободной воле. Трансцедентальный субъект, выполнявший
функции Бога в картине мира, был устранен. Человек смирился с тем,
что он - "часть природы". Он стал медиумом природы, своего
бессознательного, или языка как самодостаточной реальности. Через
человека "заговорило" бытие. Он перестал быть игроком, как
прежде, и стал "игрушкой", играть с ним стало бытие. Иначе говоря,
он стал несвободен. И главная онтологическая характеристика
человека теперь - это его временность, конечность. Человек стал
смертен без вечности. И поэтому жизнь его потеряла смысл, стала
ощущаться как бессмысленный набор случайных событий, как
абсурд, где все повторяется и потом заканчивается с его смертью
ничем, небытием. Человек лишен цели - своего бессмертия.
Метафизический страх и ужас свойственны такому его мирочувствию
при столкновении с Ничто. Жизнь человека в свете ее
бессмысленности и конечности предстает как трагическая и несвободная.
Трагическая ирония судьбы описывает такое положение
человека в мире, в ней соединены комическое и трагическое начала.
Онтология Хайдеггера, в которой бытие - это время,
восстанавливает в своих правах модель "игры бытия с человеком", которая, в
свою очередь, всегда сопровождается объективным комизмом.
Человек же, находясь внутри ситуации "игры бытия с человеком",
опять чувствует себя "игрушкой богов" и его положение и
миросозерцание трагические. Когда бытие даровал Бог, личный,
милосердный и любящий, модель "игры бытия с человеком", характерная
для дохристианской картины мира, была невозможна, теряла смысл.
Безличное бытие, равнодушное к индивидуальной судьбе человека,
вновь восстановило эту модель как описывающую
взаимоотношения человека и мира. Игра бытия с человеком - это судьба. И
вновь, как в античной судьбе, человек выступает как несвободный,
ведомый иррациональной непознаваемой стихией. Отсюда
восстановление трагического миросозерцания. Но сейчас положение его
еще более отчаянное, так как богов, которым можно молиться и к
которым можно обратиться за помощью, у него не осталось.
Человек одинок в мире, за ним нет ни его рода, ни народа, государство
выступает лишь машиной для его подавления, все связи порваны
и обесценены. Он ощущает себя "посторонним", переживание
отчаяния, абсурда и бессмыслицы жизни - его удел.
В экзистенциализме абсурд жизни выступает как основа для
смеха. Человек, по Хайдеггеру, может получить свое лицо,
личность только посредством противопоставления себя другим.
Афоризм: "Ад - это другие", как известно, принадлежит Сартру.
Исходная противоречивость тезиса о характере социальности
человека дает основания для воспроизводства видимости. Последняя за-
30 2 Заключение
ключается в убеждении, что человек не может жить без других
людей, но в то же время не может и находиться с ними в единстве,
в согласии. И поэтому он попадает в замкнутый круг: человек
стремится к людям, но всегда получает только разочарование, его
отношения с ними никогда не складываются. Но несмотря ни на
что, человек все равно снова и снова (как Сизиф у А. Камю) идет с
ними на контакт, выстраивая определенные жизненные коллизии,
но они всегда кончаются ничем, кончаются разрушением
отношений. Нет ни любви, ни дружбы, они стали просто невозможны.
Смех в абсурде звучит редко, но он всегда подразумевается и
горько переживается, так как ситуация носит все признаки
"комической ситуации". В театре абсурда у С.Беккета и Э.Ионеско,
человек предстает безличным существом, часто даже без имени, он
похож на автомат или робот. Он двигается в соответствии с потоком
жизненных реалий, не претендует ни на какую свободу.
Подчеркнутая абсурдность жизни и поведения человека в ней делает из
человека "марионетку", "игрушку" безжалостного бытия. Причем,
это такая бессмысленная "кукла", которую даже и жалеть-то
странно, ибо чувство боли ей незнакомо, она уже не страдает (как,
например, персонажи пьесы Беккета "В ожидании Го до"). Кстати, в этой
пьесе удвоение, повтор, "бег по кругу", символизирующие
бессмысленность бытия, становятся и структурными принципами,
организующими само действие пьесы. Повторение жизненных кругов в
почти неизменном виде действует, как это и положено в механизме
"удвоения", снижающе и продуцирует комизм, который производит
жуткое и тягостное впечатление.
В постмодернизме противопоставленность человека и
общества, искусства и жизни, элитарной и массовой культуры снимается,
последние переходят одна в другую. Идеи всеобщей обратимости,
повторения, маргинальности, вторичности, эклектизма,
бесконфликтности становятся центральными в постмодернизме. Виртуальные
симулякры ("ложные подобия") приходят на смену миметической
образности искусства. Комизм становится легко узнаваемым и
постоянно воспроизводимым, то ли в виде юмора - "искусства
поверхности", то ли в виде постмодернистской иронии. Так Н.Б.Маньков-
ская в книге "Эстетика постмодернизма" отмечает, что в
эстетической реальности "центральное место занимает комическое в своей
иронической ипостаси: иронизм становится смыслообразующим
принципом мозаичного постмодернистского искусства". (34, 329).
А Ж.Липовецки в книге "Эра пустоты. Эссе о современном
индивидуализме" постмодернистское общество называет "юмористическим
обществом": "Но если каждая культура развивается в основном по
"комической" схеме, то лишь постмодернисткое общество может
быть названо юмористическим, лишь оно целиком создано в
рамках процесса, цель которого - покончить с противопоставлением -
Значение смеха в современной культуре 303
до этого четким - серьезного и несерьезного, а сами эти понятия
вполне могут быть отнесены к системе философских парных
категорий" (36, 201). "Как ни парадоксально, но именно в
юмористическом обществе смех исчезает... Начался "период обнищания
смехом", которое идет рука об руку с распространением
неонарциссизма. Благодаря повсеместному отрицанию социальных ценностей,
благодаря культу самоусовершенствования, постмодернистская
социализация делает индивида собственным узником, заставляет его
не только отказаться от участия в общественной жизни, но и, в
конце концов, отрешиться от индивидуальной сферы, поскольку она
подвержена частым кризисам и неврозам, поражающим нарциссов:
в процессе персонализации возникает зомбированный индивид, - то
спокойный и апатичный, то лишенный ощущения, что он
существует. Как же можно не заметить, что безразличие и
разочарованность у массы народа, усиление чувства внутренней пустоты и
постепенное угасание смеха происходят одновременно?" (36, 213-214).
Приемы тиражирования, взятые из рекламного бизнеса, где
симулякры получают преобладающее существование,
воспроизводят комический эффект "удвоения". В этом тиражировании, сте-
реотипизации, клонировании выражается "дух времени". Все
повторяется, удваивается, умножается. Например, многократное
повторение лиц Мерилин Монро у Э.Уорхолла на одной плоскости
передают идею тиражирования стереотипов. Вроде бы создается
впечатление, что за каждым ее ликом стоит один из тех, для кого
она стала кумиром, и как тождественны воспроизведенные лики
Мэрилин Монро, также и тождественны души тех, кто видят в ней
кумира. Стандарт - вот главная идея масс-культуры, но не просто
стандарт, а стандарт, доставляющий наслаждение. Образ
фокусирует вожделения, стремления людей в заданном направлении,
обезличивая их. Они подчиняются этому обезличивающему влиянию мас-
скультуры с наслаждением, с радостным смехом. Иными словами,
на смену противопоставления человека другим людям и
страданию, связанному с этим, приходит идентификация человека с
обществом, но эта идентификация осуществляется в суррогатных
формах, в масскультуре, где человек, как и предвидел Хайдеггер, теряет
свое лицо. За вожделенное чувство локтя, общности, он платит
потерей своей личности. Из-за отсутствия свободы и смысла
человек не страдает потому, что он получил симулякры свободы и
любых смыслов, и научился ими довольствоваться. "Комическое,
отнюдь не выражая праздничное настроение народа или состояние
его ума, стало всеобщим социальным императивом, создавая
атмосферу спокойствия, которая окружает человека в его
обыденной жизни". (36, 202).
В маргинальной, пограничной постмодернистской культуре,
совмещается все со всем, ничего не отрицается, все принимается, а это
3 04 Заключение
возможно только формально, поверхностно, а не по существу.
Софисты еще открыли то обстоятельство, что тезис "все ложно"
совпадает с тезисом "все истинно". Интуиция "все ложно" в
модернизме сменилась на интуицию "все истинно" в постмодернизме, но
суть дела от этого не изменилась. Изменилось только
мироощущение, пришло примирение со всем и удовлетворение от всего. Такова
трагичная история смеха в XX веке. Но, может быть, смех
поможет человеку сохранить свою свободу и свое лицо. И человек
вспомнит, что есть "время рождаться и время умирать... время убивать и
время врачевать... время плакать и время смеяться..." (Еккл.,3,1-
4).
♦ ♦ ♦
V V V
305
Примечания
Судьба и смех. Вместо введения.
1. См. об этом: Топоров В.Н. Судьба и случай. - В кн.: Понятие судьбы в
контексте разныхкультур. М.»Наука, 1994. С.39-74.
2. См. об этом: Понятие судьбы в контексте разных культур. М.,Наука,
1994.
3. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего
развития. Книга II. М.,1994. С.506-510.
4. Фрейденберг О.М. Происхождение пародии. - В кн.: Русская
литература XX века в зеркале пародии. Антология. М., Высшая школа, 1993. С.
392-404.
5. Рюмина М. Тайна смеха или эстетика комического. М.,1998.
Глава I. Эстетические теории смеха.
1. Аристотель. Поэтика. - В кн.: Аристотель. Сочинения. В 4-х тт. Т.4.
М., 1984. С.645-680.
2. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя
классика. М.,2000.
З.Платон. Сочинения. В 3-х тт. Т.2. М., Мысль, 1970.
4. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя
классика. С.202-243.
5. Кант И. Сочинения в 6-ти тт. Т.о. М.,1966. Далее в тексте цитаты
даются по этому изданию, в скобках указываются страницы.
в. См. подробнее о романтической иронии у Ф. Шлегеля: Берковский Н.
Я. Романтизм в
Германии. Л., 1973. - С. 84-93; Лосев А. Ф., Шестаков В. П. История
эстетических категорий. М., I960. - С. 342-354; Габитова Р. М. Философия
немецкого романтизма. М., 1978. - С. 74-129; Пигулевский В.О., Мирская
Л.А. Символ и ирония (Опыт характеристики романтического
миросозерцания). Кишинев, 1990. С.9-38.
7. Шлегель Ф. Эстетика, философия, критика. В 2-х тт. - Т. I. M., 1983.
Далее в тексте цитаты даются по этому изданию, в скобках указаны
страницы.
8. Габитова Р. М. Философия немецкого романтизма. М., 1978.
9. Зольгер К. В. Ф. Эрвин. Четыре диалога о прекрасном и об искусстве.
М., 1978.
10. Литературная теория немецкого романтизма. Л., 1934. - С. 233. Далее
в тексте цитаты даются по этому изданию, в скобках указаны страницы.
См. также подробнее об эстетике А. Шлегеля: Дмитриев А. С.
Романтическая эстетика А. В. Шлегеля. М., 1974.
11. Шеллинг Ф. Философия искусства. М., 1966. - С. 422-423. Далее
цитаты в тексте даются по этому изданию, в скобках указаны страницы.
12. Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики. М., 1981. - С. 134. Да-
306
лее цитаты в тексте даются по этому изданию, в скобках указаны
страницы. Подробный разбор теории комического Жан-Поля содержится в книге
H.H. Сретенского "Историческое введение в поэтику комического" (часть
I, Ростов-на-Дону, 1926).
13. Гегель Г. В. Ф. Эстетика в 4-х тт. М., 1968-1973. Далее цитаты в тексте
даются по этому изданию, в скобках указаны том и страница.
14. Овсянников М.Ф. История эстетической мысли. М.,1986.
15. Любимова Т.Б. Трагическое как эстетическая категория. М.,1985.
16. Аникст A.A. Теория драмы от Гегеля до Маркса. М.,1983.
17. Шопенгауэр А. Полное собрание сочинений. Тт. 1-4. М.,1901-1910.
Далее цитаты в тексте
даются по этому изданию, в скобках указаны том и страница.
18. См. подробнее о теории познания Шопенгауэра: Фишер К. А.
Шопенгауэр. М.,1896. С.226-230; Цертелев Д. Философия Шопенгауэра.
СПб., 1880. 4.1. Теория познания и метафизика. Быховский Б.Э.
Шопенгауэр. М.,1975. С.40-72.
19. Бергсон А. Смех. - В кн.: Собрание сочинений в 5-ти тт. Т.5. СПб.,
1914. Далее цитаты в тексте даются по этому изданию, в скобках указаны
страницы.
20. См. подробнее о философии и эстетике А. Бергсона: Лосский Н.
Интуитивная философия Бергсона. М.,1914; Гранжан Ф. Революция в
философии. Учение А. Бергсона. М., 1914; Чанышев А.Н. Философия Анри
Бергсона. М.,1960; Свасьян К.А. Эстетическая сущность интуитивной
философии А. Бергсона. Ереван, 1978; Новиков A.B. От позитивизма к
интуитивизму. М.,1976. С.165-182 и др.
21. См.: Лук А.Н. Юмор, остроумие, творчество. М.,1977.
22. Спенсер Г. Слезы, смех и грациозность. СПб., 1898.
23. Спенсер Г. Физиология смеха. СПб.,1881.
24. Lipps Т. Komik und Humor. Hamburg und Leipzig. 1898.
25. Липпс Т. Эстетика. - В кн.: Философия в систематическом изложении
В.Дильтея, А.Риля, В.Освальда, В.Вундта, Г.Эббингаузена, Р.Эйкена, Ф.Па-
ульсена, В.Мюнха, Т.Липпса. СПб., 1909.
26. См. о теории комического Липпса: Мейман Э. Введение в
современную эстетику. М.,1909. С.70-71; Дземидок Б. О комическом. М.,1974.
С.21-23.
27. Гроос К. Введение в эстетику. Харьков-Киев, 1899.
28. Понятие "вчувствование" разрабатывалось психологической эстетикой.
Краткую историю развития взглядов на это понятие см. в кн.: Э.Мейман.
Введение в современную эстетику. М.,1909. С.47-95; История
эстетической мысли в 6-ти тт. Т.4. М.,1987. С.169-179.
29. Выготский Л.С. Психология искусства. М.,1968.
30. Фрейд 3. Остроумие и его отношение к бессознательному.
М.,1925.Фрейд 3. Остроумие и его отношение к бессознательному. - В
кн.:З.Фрейд. "Я" и "Оно". В 2-х кн. Кн.2. Тбилиси, 1991. Ссылки даются
по первому изданию (1925).
31. Гартман Н. Эстетика. М.,1958.
32. См.: Лаврецкий А. Эстетика Белинского. М.,1959; Поляков М.Я.
Виссарион Белинский. Личность - идеи - эпоха. М., 1960; Тальников Д.Д.
307
Театральная эстетика Белинского. М., 1962; Соболев П. Эстетика
Белинского. М.Д978 и др.
33. Белинский В.Г. Поли. собр. соч. Тт.1-13. М., 1953-1956. Далее в тексте
цитаты даются по этому изданию, в скобках указаны том и страница.
34. См. подробнее о влиянии Гегеля на Белинского статью М.М.Григоряна
"В.Г.Белинский и проблема действительности в философии Гегеля" - в кн.
"Гегель и философия в России". М.,1974. С.69-85.
35. Соболев П. Эстетика Белинского. М.,1978.
36. Система эстетических категорий у Н.Г. Чернышевского является
хорошо разработанной в советской эстетике темой. См.: Белик А.П.
Эстетика Чернышевского. М.,1961; Каган М.С. Эстетическое учение
Чернышевского. М.-Л.,1958; Соловьев Г.А. Эстетические воззрения
Чернышевского. М.,1978; Мысляков В.А. К теории сатиры. - В кн.: Н.Г.
Чернышевский. Статьи. Исследования. Материалы. Саратов, 1971. Вы п. 6 и др.
37. Чернышевский Н.Г. Избранные эстетические произведения. М.,1978.
38. Овсянников М.Ф. История эстетической мысли. М.,1984.
39. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.
40. Карягин А. Комическое. Философская энциклопедия. Т.2.М.Д962.С573-
575.
41. Эстетика. Словарь. М.,1989.
42. Дземидок Б. О комическом. М.,1974.
43. Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. М.,1976. 2-е изд. СПб., 1997.
44. Карасев Л.В. Парадокс о смехе. Вопросы философии. М.,1989. №5.
45. См .работы Л.Е.Пинского: Реализм эпохи Возрождения. М.,1961;
Магистральный сюжет. М.,1989; статьи: "Юмор" в Краткой литературной
энциклопедии. Т.8.М.Д975. С.1012-1016; "Комическое" в Философском
Энциклопедическом словаре. М.,1983. С.265-266.
46. Любимова Т.Б. Понятие комического в эстетике. Вопросы философии.
М.,1980.№1. См. также Т.Б.Любимова. Комическое, его виды и жанры.
М.,1990.
47. Гусев С.С, Тульчинский Г.Л. Проблема понимания в философии.
М.,1985.
48. Дмитриева Н. Эвристическая роль юмора. Театр. М.,1977.№ 1.
49. Нодиа Г.О. Человек смеющийся в контексте философии культуры. В
кн.: Философия, культура, человек. Тбилиси, 1988. С.47-73.
50. Дмитриев A.B. Социология политического юмора. М.,1998.
51. Разуваев В.В. Политический смех в современной России. М.,2002. С. 12.
52. Смех: истоки и функции. СПб, 2002. С..З.
Глава II. Смех как видимость и как виртуальная реальность.
1. Кант И. Собр. Соч. в 6-ти тт.Т.З.М.,1969.С.338-339.
2. Гегель Ф.Г.В. Энциклопедия философских наук.Т.1. М., С.286.
3. Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики. М.,1981. С.138-139.
4. Мириманов В.Б. Первобытное и традиционное искусство. Малая
история искусств. М., 1973, с.85-86.
5. Гегель Ф.Г.В. Эстетика.Т.З. М.,1971.
308
6. См. об этом и шире о комическом у К. Маркса и Ф. Энгельса: Волков
Г.Н. "Наша дерзкая, веселая проза". М.,1986. ; Лукьянов Б.Г. По законам
красоты. М.,1988,с.192-259.
7. Маркс К., Энгельс Ф. Соч.,2-е изд.
8. Карасев Л. Философия смеха. М.,1996.
9. Пигулевский В.О., Мирская Л.А. Символ и ирония. Опыт
характеристики романтического миросозерцания. Кишинев, 1990.
10. Гоббс Т. Избранные произведения в 2-х тт. Т. 1.М.,1964.
11. Декарт Р. Избранные произведения. М.,1950.
12. Аристотель. Сочинения в 4-х тт. Т.4,М., 1984.
13. Бонавентура. Ночные бдения. М.,1990.
14. Groos К. Einleitung in die Aesthetik.Giessen, 1892, S.378. Сравни: Гроос
К. Введение в эстетику. Киев-Харьков, 1899, с.288.
15. Ожегов Е.И. Словарь русского языка. М.,1984, С.347.
16. Кант И. Собр. соч. в 6-ти тт. Т.5, М.,1966, с.352. Сравни: I.Kant. Kritik
der Urteilskraft. Leipzig,1948,S.190.
17. Гартман H. Эстетика. M.,1958, С.616. Ср.: N.Gartmann. Aesthetik.
Berlin, 1953, S.424.
18. Философский энциклопедический словарь. M., 1983, С.195.
19. Хейзинга Й. Homo ludens. M., 1992, С.41.
20. Покровский Е.А. Детские игры, преимущественно русские. М.,1887.
С. 1. О этимологии слова "игра" см. также: Хейзинга Й. Указ. соч.,с.40-
57.
21. Гадамер Х.Г. Истина и метод. М., 1988. С.147-180.
22. Эльконин Д.Б. Психология игры. M., 1978.C.8.
23. Пушкин A.C. Дневники. Записки. СПб.,1995. С.7.
24. См. о методологических аспектах исследования эстетических
категорий: В.П.Крутоус Родословная красоты. М.,1988. С.68-89. Его же:
Эвристика трагического на переломе эпох. - В кн.: Искусство и наука об
искусстве в переходные периоды истории культуры. М., 2000. С.347-367.
25. См. об иронии: Паси И. Ирония как эстетическая категория. - В кн.
Марксистско-ленинская эстетика в борьбе за прогрессивное искусство.
М.,1980. С.60-83; Пивоев В.М. Ирония как эстетическая категория. - В
ж. "Философские науки". М., 1982, № 4. С.54-61; Пигулевский В.О.,
Мирская Л.А. Символ и ирония. Кишинев, 1990.
26. Микешина Л.А., Опенков М.Ю. Новые образы познания и реальности.
М., РОССПЭН, 1997. Носов H.A. Реальные нереальности. - В ж. "Человек",
1993, №1. С.36-38. Носов H.A. Психологические виртуальные реальности.
М.,1994.
27. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. СПб, Алетейя, 2000.
29. Большой англо-русский словарь. В 2-х тт. Т.2. М.,1977. С.740.
Глава III. Очерки по истории смеха.
1. Пропп В.Я. Ритуальный смех в фольклоре. - В кн. Пропп В.Я. Фольк-
309
лор и действительность. М.,1976. Далее страницы указываются в тексте.
2. Байбурин А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета. М.,1990.
3. Ионов В.М. Дух-хозяин леса у якутов. Пг.,1916 (Сборник МАЭ,т.ГУ, 1).
4. Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. - В кн. Леви-Брюль Л.
Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1994, с. 35-65.
6. Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь. М.,1980.
в. Умберто Эко. Имя розы. М., 1989.
7. Иоанн Златоуст. Сочинения. СПб, 1899. Т.2, кн. 1, с.320.
8. Климент Александрийский. Педагог. М.,1996.
9. Нравственное богословие для мирян. Изд. Псково-Печерского
монастыря, 1994. Репринт издания 1901 года.
10. Стеблин-Каменский М.И. Апология смеха. - В кн. М.И.Стеблин-Ка-
менский. Историческая поэтика. Л.,1978. С.158-172.
11. Святитель Игнатий Брянчанинов. Слово о смерти. - В кн. Епископ
Игнатий Брянчанинов. Сочинения. Т.З, М., 1993. Репринт 1886 г.
12. Несселыптраус Ц.Г. "Пляски смерти" в западноевропейском
искусстве XV в. Как тема рубежа средневековья и Возрождения. - В кн. Культура
Возрождения и средние века. М., Наука, 1993.
13. Даркевич В.П. Народная культура средневековья. М., 1988.
14. Добротолюбие. Избранное для мирян. М.,1997.
15. Машкин H.A. История Древнего Рима. М.,1948.
16. Д.С.Лихачев, А.М.Панченко, Н.В.Понырко. Смех в Древней Руси. Л.,
1984.
17. Ковалевский И. Юродство о Христе и Христа ради юродивые
Восточной и Русской церкви. Исторический очерк и жития сих подвижников
благочестия. М., 1991. Репринт 1902 г.
18. Иванов С.А. Византийское юродство. М.,1994.
19. Ильин И.А. Свобода духа в России. Простецы по природе и юродивые
во Христе. - В кн. И.А. Ильин. Собрание сочинений в 10-ти тт. Т.6, Кн.З,
с.77-105.
20. Лосев А.Ф., Шестаков В.П. История эстетических категорий. М.,1965.
21. Лосев А.Ф., Тахо-Годи A.A. Платон. Аристотель. М.,1993.
22. Гусейнов Г. Аристофан. М.,1988.
23. Ярхо В.Н. У истоков европейской комедии. М.,1979.
24. Античная литература. Под ред. проф. А.А.Тахо-Годи.М.,1986.
25. Тройский И.М. История античной литературы. М.: ЛКИ/URSS, 2008.
26. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего
развития. Кн.2. М.,1994.
27. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура
средневековья и Ренессанса. М., 1994. Далее цитируемые страницы
указываются в тексте.
28. Гуревич А.Я. К истории гротеска: "Верх" и "низ" в средневековой
латинской литературе. Изв. АН СССР. 1975. Сер. лит. и яз. Т.34, н.4, с.327.
29. Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М.,1978, с.282- 283.
30. Идеалистическая диалектика в XX столетии. М.,1987.
310
31. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978.
32. Фаминцын A.C. Скоморохи на Руси. СПб., 1995.
33. Лосев А.Ф. Мифология греков и римлян. М.,1996, с. 75. В этой и
других книгах А.Ф. Лосева по мифологии можно найти массу примеров
гротескных образов и их скрупулезный и грамотный анализ. Например,
тексты о гротескных мифологических образах хтонических чудовищ доге-
роической эпохи античной культуры с объяснениями их смысла можно
найти в вышеприведенной книге на стр. 43-83, 164-253 и др.
34. Ницше Ф. Сочинения в 2-х тт. М.,1990.
35. Аверинцев С.С. Бахтин и русское отношение к смеху. - В кн. От мифа
к литературе. М.,1993. С.341-345.
36. Аверинцев С.С. Бахтин, смех, христианская культура. - М.М. Бахтин
как философ. М.,1992. С.7-19.
Глава IV. Проблема смеха в современной культуре
1. Ницше Ф. Сочинения в 2-х тт. М.,1990.
2. Семенова С.Г. Odium fati как духовная позиция в русской религиозной
философии. - В кн.: Понятие судьбы в контексте разных культур. М.,1994.
С.26-33.
3. Шопенгауэр А. О четверояком корне...Мир как воля и представление.
Т.1,2. М.,1993.
4. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Спб., 1893.
5. Ортега-и-Гассет X. Дегуманизация искусства. - В кн. "Самосознание
европейской культуры XX века". М., 1991. С.230-263.
6. Мириманов В.Б. Европейский авангард и традиционное искусство
(проблема конвергенции). - В жур. "Мировое древо". Вып.2, М.,1993. С.93-
120.
7. Виппер Б.Р. Итальянский Ренессанс XIII-XIV вв. М.,1977.
8. Гвардини Р. Конец нового времени. - В ж. "Вопросы философии". 1990,№
4.
9. Daix P. Le Cubism de Picasso. P., 1979.
10. Хейзинга Й. Homo ludens. M.,1992.
11. Блок А. И невозможное возможно...M., 1980.
12. Делез Ж. Логика смысла. М.Фуко. Theatrum philosophicum.
M.-Екатеринбург, 1998.
13. Фуко M. Слова и вещи. СПб.,1994.
14. Прусс И.Е. Малая история искусств. Западноевропейское искусство
ХУ11 века. М.,1974.
15. Ивин A.A. Логика. М.,1977.
16. Кэролл Л. Алиса в стране чудес. Алиса в Зазеркалье. М.,1991.
17. Apollinaire G. Les peintress cubistes. Paris, 1913.
18. Слободнюк С.Л. "Идущие путями зла...". Древний гностицизм и
русская литература 1880-1930 гг. СПб.,1998.
19. Барт Р. Избранные работы. М., 1994.
311
20. Микушевич В. Ирония Фридриха Ницше. - В ж. Логос, № 4, М., 1993.
С.199-203.
21. Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия XX века. М.,1994.
22. Гайденко П.П. Прорыв к трансцедентному. М,1997.
23. Хайдеггер М. Время и бытие. М.,1993.
24. Хайдеггер М. Бытие и время. М.,1997.
25. Современная западная философия. Словарь. М.,1991.
26. Гадамер Х.-Г. Истина и метод.М., 1988.
27. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего
развития. Кн.2. М.,1994.
28. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней.
От романтизма до наших дней. СПб., 1997.
29. Wild A. Horisons of assent: modernism, postmodernism and the ironic
imagination. Baltimore, L.,1981.
30. Лосский В.Н. Очерк мистического богословия восточной церкви.
Догматическое богословие. М.,1991.
31. Paronis M. Also sprach Zarathustra. Die Ironie Nietscher als
Gestaltungsprinzip. Bonn, 1976.
32. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.,2000.
33. Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М., 2000.
34. Маньковская Н. Эстетика постмодернизма. СПб.,2000.
35. Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. М., 2000.
36. Липовецки Ж. Эра пустоты. Эссе о современном индивидуализме. СПб.,
2001.
37. См. о значении Ницше для русской культуры: В.П.Крутоус.
Ф.Ницше о пирамиде культуры: от подножья к вершине и обратно. — В кн.:
Методология исследования истории, экономики и культуры Российской
провинции. Т.З. Кострома, 2001. С.10-15.
Содержание
Вместо введения. Смех и судьба 1
Глава 1. Эстетические теории комического 12
Аристотель 12
И.Кант 21
Романтики 23
Г.В.Ф.Гегель 33
А.Шопенгауэр 40
А.Бергсон 43
Г.Спенсер и Т.Липпс 47
К.Гроос 48
З.Фрейд 52
Н.Гартман 56
В.Г.Белинский 60
Н.Г.Чернышевский 62
Марксизм о комическом 64
Комическое в современной отечественной эстетике 66
Глава 2. Смех как видимость и как виртуальная реальность 73
Три мотива комического 74
Противоречие 75
Небольшой экскурс в теорию видимости 76
Механизм комического: феномен «удвоения видимости» 77
"Комическая ситуация" как единица анализа 80
Трагическое и комическое 83
Комическая ситуация и "ирония истории" 85
Видимость и иллюзии 89
Удвоение видимости и ее саморазрушение 90
Парадокс смеха 94
Принцип удвоения видимости в комедии 98
Игра и смех 99
Детская игра и "мнимая ситуация" 104
Игра, искусство, смех 106
Шутка и игра 109
Смысл принципа удвоения видимости и некоторые выводы 112
Модификации комического 117
Виртуальность 119
Смех как виртуальная реальность 123
Глава 3. Очерки по истории смеха 128
Ритуальный смех в культуре 128
Психофизиологический смех 128
313
Смех как феномен культуры 130
Смех как признак жизни 131
Смех как «порог» и как переходное состояние между жизнью и
смертью 133
Формирование "предметного" смеха 135
Смех между смертью и бессмертием 137
Что означает смех при смерти? 139
Смех как оберег 143
Происхождение насмешливого смеха 145
Маргинальная природа смеха 146
Смех в античной культуре 150
Смех в обрядах земледельческой магии 150
Дионисии 153
Сатурналии 156
Возникновение комедии 159
Комедия и трагедия 165
Античная ирония 170
Смех в средневековой системе ценностей 176
Имя розы 176
Отношение к смеху в христианстве 179
Смех и плач 183
Признак смерти 185
Юродство 191
Карнавал 200
"Пляски смерти" 206
Миф о смехе Бахтина 210
"Народная смеховая культура" средневековья и
Ренессанса 211
Что такое "амбивалентность" карнавального смеха? 217
О карнавале и "карнавальном смехе" 220
О гротеске и "гротескном реализме" 224
Гротеск и время 231
Динамика "народной смеховой культуры" 232
Глава 4. Проблема смеха в современной культуре 238
"Метафизическая ирония" Ф.Ницше 239
Смех Заратустры 246
"Нигилистическая ирония" А.Блока 250
Ортега-и-Гассет об "иронической судьбе" искусства 254
О некоторых тенденциях в искусстве XX века 261
Онтология человека у М.Хайдеггера 264
314
Образ "игры" в современной культуре 272
Юмор как "искусство поверхности" 279
Смех и симулякры 285
Смех и образ зеркала в культуре XX века 288
Значение смеха в современной культуре 299
Примечания 305
Содержание 312