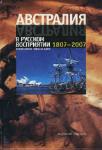Текст
КВ. МАЛАХОВСКИЙ
ИСТОРИЯ АВСТРАЛИИ
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
К.В. МАЛАХОВСКИЙ
ИСТОРИЯ АВСТРАЛИИ
8
Издательство «Наука» Главная редакция восточной литературы Москва 1980
9(М)7 М18
Ответственный редактор проф. П. И. ПУЧКОВ
Монография, посвященная исследованию истории Австралии, основана на архивных и официальных документах, критическом изучении фактического материала, содержащегося в наиболее значительных зарубежных работах по истории Австралии, в австралийской, английской, американской, новозеландской и японской периодике. В книге анализируются процесс британской колонизации и ее влияние на положение коренного населения, формирование классовой структуры и государственности Австралии, особенности австралийского колониализма.
10605-184
М ------------- 117-80. 0504000000
013(02)-80
© Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1980.
К ЧИТАТЕЛЮ
В течение более чем полутора столетий с начала британской колонизации роль Австралии в мировых делах почти не ощущалась. Огромный континент являлся далекой провинцией Британской империи. Положение изменилось лишь после второй мировой войны. Из аграрной страны, обеспечивавшей Великобританию сырьем, в основном сельскохозяйственным, Австралия со второй половины XX в. превратилась в индустриально-аграрное государство, входящее в десятку наиболее развитых капиталистических стран мира.
Открытие громадных запасов полезных ископаемых неизмеримо подняло роль Австралии в мировых экономических отношениях. Страна стала вести активную внешнюю политику, особенно в азиатско-тихоокеанском регионе.
Изменение положения Австралии в межгосударственных отношениях усилило интерес к изучению ее прошлого и настоящего. Международная «Австралиана» за послевоенные годы расширилась на сотни томов. Существенно увеличилась и советская литература по Австралии. Если в 20—40-е годы в Советском Союзе вышло буквально несколько работ, посвященных этой стране (наиболее крупное исследование — книга А. Г. Милейковского «Австралия. Очерк экономической географии». М., 1937), то в 50-70-х годах уже сложилось советское австраловедение.
Среди вышедших работ исследования В. М. Андреевой, А. И. Боброва, Э. Л. Вартумяна, В. А. Вревского, Б. Я. Дорофеева, В. И. Иванова, В. Р. Кабо, И. А. Лебедева, Н. П. Летовой, А. И. Мартынова, Н.В. Матковского, С. Н. Морозова, И. М. Пахомова, А. С. Петриковской, О. К. Русаковой, Я. М. Света, А. А. Углова, М. С. Ханина1.
1 В. М. Андреева. Австралия. Географический очерк. М., 1956; А. И. Б о б-р о в. Внешняя политика Австралии. М., 1962; Э. Л. Вартумян. Австралия и Океания. Экономико-статистический очерк. М., 1966; Э. Л. Вартумян. Австралия. Экономика и внешняя торговля. М., 1963; В. А. Вревский. Либеральная и аграрная партии Австралии. М., 1976; Б. Я. Дорофеев, А. А. Углов. Современная Австралия. М., 1959; В. И. Иванов. Иностранный капитал в Австралии после второй мировой войны. М., 1976; В. Р. Кабо. Происхождение и ранняя история аборигенов Австралии. М., -1969; И. А. Лебедев. Внешняя политика Австралии. М., 1975; о н ж е. Экономика и политика Австралии после второй мировой войны. М., 1966; Н. П. Летова. Австралия и страны Азии. Очерк международных отношений. 1945—1955. М., 1960; А. И. Мартынов, О. К. Русакова. Австралия в международных отношениях XX в. М., 1978;
3
Вышел в свет ряд коллективных трудов и сборников статей 2.
Предлагаемая читателю книга является обобщением моих исследований истории и современного положения Австралии, которыми я занимаюсь почти два десятилетия.
Н. В. Матковский. Австралийский Союз. М., 1956; С. Н. Морозов. Австралийский колониализм. М., 1967; И. М. Пахомов. Развитие некоторых отраслей промышленности Австралии после второй мировой войны. М., 1961; А. С. Петриковская. Генри Лоусон и рождение австралийского рассказа. М.» 1972; Я. М. Свет. История открытия и исследования Австралии и Океании. М.» 1966; М. С. Ханин. Транспорт современной Австралии. М., 1972.
2 Народы Австралии и Океании. М., 1956; Современная Австралия. М.» 1976; Австралия и Океания. История и современность. М., 1970; Новые тенденции в развитии Австралии и Океании. М., 1971; Новое в изучении Австралии и Океании. М., 1972; Австралия и Океания. История, география, культура. М., 1974; Проблемы изучения Австралии и Океании. М., 1976; Австралия и Океания. История, экономика, этнография. М., 1978; Австралийская литература. М., 1978; Прошлое и настоящее Австралии и Океании. М., 1979; Страны Южных морей. М., 1980.
АВСТРАЛИЯ до XX в.
Глава I
ОТКРЫТИЕ АВСТРАЛИИ
Парадоксально, но факт, что Австралийский континент, по площади почти равный Соединенным Штатам Америки (без Аляски), был открыт европейцами позже мелких островных групп Океании. Хотя в существовании Южной земли, или Terra Australis, были уверены еще античные картографы.
Когда испанцы утвердились в Америке, они, возбуждаемые легендами инков о богатейшей земле, расположенной в южной части Великого океана, стали посылать туда свои корабли. Экспедиции А. де Менданьи в 1567 и 1595 гг., П. де Кироса в 1605 г. открыли новые земли, но не материк, а небольшие архипелаги: Соломоновы и Маркизские острова, Новые Гебриды.
Один из кораблей Кироса, которым командовал Л. де Торрес, на обратном пути под действием муссонов отклонился к юго-западу и, обойдя Большой Барьерный риф, прошел через пролив, отделяющий Новую Гвинею от Австралии и названный впоследствии его именем.
Но к Австралийскому материку первыми из европейцев подошли не испанцы или португальцы, господствовавшие на протяжении XV—XVI вв. на Тихом океане, а голландцы. Случилось это в начале XVII столетия.
К этому времени голландцы и англичане покончили с морским колониальным преобладанием Португалии и Испании, в том числе и на Тихом океане. К началу 70-х годов XVI в. в руках Португалии из всех азиатских колоний остались Гоа, Даман и Диу в Индии и Макао в Китае. Власть Испании в Юго-Восточной Азии и Океании распространялась к тому времени лишь на Филиппины и острова Микронезии.
В 1595 г. была организована первая голландская экспедиция в Индию в составе четырех судов. Голландцы потеряли половину кораблей и третью часть экипажей, но убедились, что возможно достичь берегов Индии. В 1598 г. в Индию отправилась вторая экспедиция (семь судов). Она прошла с большим успехом: все
5
корабли возвратились с богатым грузом пряностей. В том же году голландцы закрепились на острове Ява, создали там торговые фактории, опираясь на которые они постепенно монополизировали торговлю со странами Южной и Юго-Восточной Азии, а также Дальнего Востока. В 1601 г. в Индию отправилось уже 40 голландских кораблей.
Убедившись в доходности таких предприятий, голландские купцы в марте 1602 г. создали общество по торговле с Индией — нидерландскую Ост-Индскую торговую компанию. Компания получила такие права и привилегии, что стала своего рода государством в государстве. Она не только монопольно торговала с Индией, но и имела право назначать чиновников в эту страну, вести войну и заключать мир, чеканить монету, строить города и крепости, образовывать колонии. Капитал компании был огромен по масштабам того времени. Если британская Ост-Индская компания начала свою деятельность в 1600 г. с капиталом 72 тыс. ф. ст., что равнялось 864 тыс. гульденов, то капитал нидерландской Ост-Индской компании составил 6,6 млн. гульденов.
С первых же шагов своей деятельности нидерландская Ост-Индская компания энергично занялась поисками Южной земли. Один из кораблей компании, ведомый капитаном В. Янсзоном,. обогнул с юга Новую Гвинею и достиг побережья Австралии у полуострова, называемого сейчас Кейп-Иорк. Матросы, высадившиеся на берег в поисках воды и пищи, были убиты местными жителями. Янсзон поспешил уйти от этих негостеприимных берегов и в июне 1606 г. вернулся в Батавию (современное название — Джакарта).
Судовой журнал экспедиции, руководимой В. Янсзоном, не сохранился. Совершенно очевидно, что сообщение капитана об открытой земле не было воодушевляющим. В книгах Ост-Индской компании есть краткая, но весьма выразительная запись: «Ничего хорошего не может быть там сделано». В последующие полстолетия эта фраза не раз повторялась руководителями компании.
Голландские моряки стали ходить в свои владения в Юго-Восточной Азии несколько иным путем, чем португальцы и испанцы, корабли которых плыли от мыса Доброй Надежды вдоль берегов Африки до самого экватора, а потом уже на восток. Голландцы избрали более короткий маршрут. В 1611 г. капитан X. Броуэр, пройдя 4 тыс. миль на восток от мыса Доброй Надежды, затем повернул на север, что сократило время перехода из Голландии в Батавию с восемнадцати месяцев до шести.
Директорат Ост-Индской компании в Амстердаме официально утвердил данный курс для своих кораблей. Это помогло голландцам обнаружить Южный континент и исследовать его западное и северо-западное побережья. Отзывы голландских моряков о новой земле были обескураживающими.
В 1623 г. голландский корабль под командованием Я. Кар-стенца, повторив маршрут Янсзона, вошел в большой залив на северном побережье Австралии. Карстенц назвал его заливом Кар-
6
иентария, в честь тогдашнего генерал-губернатора нидерландской Ост-Индии П. де Карпентера. В отчете о плавании капитан писал: «Мы не видели ни одного плодоносящего дерева, ничего такого, что человек мог бы использовать для себя... Жители — жалкие и бедные существа...» [89, с. 26].
В 1636 г. генерал-губернатором Батавии стал А. Ван Димен, который стремился к расширению нидерландских владений в Южных морях. Его целеустремленность и упорство очень ценились и поощрялись руководством нидерландской Ост-Индской компании. 16 сентября 1638 г. совет директоров компании писал Ван Димену: «Ваша милость действует мудро, уделяя большое внимание открытию Южной земли и золотоносных островов, которые были бы весьма полезны компании». По приказу Ван Димена два корабля под командованием капитана А. Тасмана в августе 1642 г. покинули Батавию и отправились исследовать «оставшуюся неизвестной часть земного шара» [67, с. 67].
Плывя на юго-восток от острова Маврикий, экспедиция достигла неизвестного острова, который получил название Земли Ван Димена (современное название — Тасмания). Продолжая плавание, Тасман подошел к берегам Новой Зеландии. Он принял ее за Южный материк. На следующий год Тасман исследовал северную часть Австралийского материка, но не нашел там ничего привлекательного для Ост-Индской компании, прежде всего золота и серебра. В результате компания утратила интерес к дальнейшим исследованиям Южных морей.
Следующим европейцем, посетившим берега Австралии, или, как тогда говорили, Новой Голландии, был англичанин У. Дам-лир.
Во второй половине XVII в. в трех морских войнах (1652— 1654; 1665—1667; 1672—1674) Англия нанесла Голландии сокрушительные поражения, низведя ее до положения второстепенной европейской страны. Став могущественной торговой и морской державой мира, Англия прочно утверждается и на тихоокеанской арене.
В январе 1688 г. У. Дампир достиг берегов Австралии и находился там три месяца. В следующем году он вторично был послан к Южному континенту. На этот раз Дампир исследовал северо-западную часть континента, но недостаток питьевой воды заставил Дампира прервать работу и повернуть корабль к острову Тимор.
Если о плаваниях Тасмана европейцы, в сущности, ничего не знали, поскольку нидерландская Ост-Индская компания старалась сохранить их в тайне, полагая, что в будущем голландцам могут понадобиться открытые им земли, то об экспедициях Дампира к берегам Новой Голландии стало широко известно, ибо английский мореплаватель написал две книги: «Новое плавание вокруг света» и «Плавание в Новую Голландию». Обе они имели большой успех и многократно переиздавались. «Жители этой страны,— писал Дампир в книге „Новое плавание вокруг света44, — несчастнейшие
7
люди на земле... они не имеют домов, одежды... скота и плодов земли... и, внешне напоминая человеческие существа, мало чем отличаются от зверей» [103, с. 312—313].
Начало британской колонизации в Южных морях было положено путешествием Дж. Кука.
В открытии англичанами восточных берегов Австралии и^ кстати сказать, Новой Зеландии, как ни странно это прозвучит, определенную роль сыграла планета Венера. Дело в том, что, по подсчетам астрономов, 3 июня 1769 г. Венера должна была пройти мимо солнечного диска. Для лучшего наблюдения за планетой Лондонское королевское общество содействия развитию естественных наук просило британское правительство послать в Южные моря группу астрономов. Получив отказ, общество обратилось прямо к королю, который одобрил этот план. Руководителем экспедиции был назначен Дж. Кук, только что вернувшийся из Ньюфаундленда. Этот человек не только был опытным мореходом, но и обладал познаниями в математике и астрономии.
Решение короля послать военный корабль в Тихий океан было продиктовано отнюдь не желанием доставить удовольствие астрономам. Это стало ясно Куку, когда он 26 августа 1768 г., находясь на борту корабля, плывшего по Темзе к Плимуту, вскрыл тщательно запечатанный пакет из адмиралтейства. «Есть основание полагать,— говорилось в приказе,— что континент или земля огромных размеров находится к югу от пути, пройденного недавно капитаном Уоллисом на корабле его величества „Дельфин", или от путей любых других, более ранних мореходов... Поэтому вам во исполнение воли его величества приказывается выйти в плавание... сразу же по окончании наблюдений за Венерой, и руководствоваться следующими инструкциями. Чтобы осуществить открытие упомянутого выше континента, вы должны отправиться на юг, пока не достигнете широты 40°, и если, сделав это, вы не откроете его... то должны продолжить поиски к западу, между упомянутой ранее широтой и широтой 35°, пока не найдете его или не встретитесь с восточной стороной земли, открытой Тасманом и называемой теперь Новая Зеландия» [67, с. 93—94].
Адмиралтейство предписывало далее: исследовать берега Новой Зеландии, составить карту островов, изучить полезные ископаемые, почву, животный и растительный мир, собрать образцы семян и плодов, а также объявить землю владением британского короля, добившись на то согласия местного населения, а в том случае, если его не окажется, оставить «видимые знаки и надписи как первооткрывателей и собственников» [67, с. 94].
13 апреля 1769 г. Кук прибыл на Таити, а 3 июня были успешно проведены астрономические наблюдения за Венерой. Затем Кук, выполняя предписания адмиралтейства, повел свой корабль на юг в поисках Южного континента.
7 октября 1769 г. Н. Юнг, слуга судового хирурга, первым увидел среди волн океана белый мыс. На следующий день корабль вошел в залив и стал на якорь недалеко от устья небольшой реки,
8
на берегах которой теперь расположен новозеландский город Гисборн. Местные жители — маори, предчувствуя недоброе, встретили пришельцев враждебно. В завязавшейся схватке было убито несколько аборигенов. Кук, как и Тасман, убедился в мужестве маори, не испугавшихся ни мушкетов, ни пушек европейцев.
Несмотря на очевидное неодобрение жителей, Кук, скрупулезно выполняя инструкцию адмиралтейства, укрепил на месте своей высадки древко с английским флагом и провозгласил Новую Зеландию собственностью британской короны [67, с. 98]. В марте 1770 г. Кук закончил исследование берегов Новой Зеландии. В апреле его корабль вошел в австралийские воды.
19 апреля 1770 г. взорам англичан открылись берега Австралии. «Я назвал это место Хикс,—писал в своем дневнике Дж. Кук,— потому что лейтенант Хикс был первым, кто увидел эту землю» [131, с. 298—299]. Кук шел вдоль берега на север, пока не достиг места, названного им Ботани-Бей, поскольку ботаники, принимавшие участие в экспедиции, обнаружили там большое количество неизвестных им ранее видов растений, птиц и животных.
29 апреля 1760 г. матросы высадились на берег. Местные жители осыпали их градом камней и копей, англичане ответили залпами из ружей. «Таким образом,— грустно отмечает современный австралийский историк М. Кларк,— европеец начал свое трагическое общение с аборигенами восточного берега» [95, т. 1, с. 49], До 6 мая Дж. Кук исследовал районы Ботани-Бей, а затем продолжил свое плавание. Выйдя к северу от Кейп-Иорка, он убедился, что открытый им материк отделен от Новой Гвинеи проливом. Дж. Кук объявил его собственностью британской короны. Сойдя на берег одного из островов Торресова пролива, названного Поссешен, Кук водрузил на нем британский флаг и объявил, что отныне власть британского государя распространяется на весь восточный берег материка от 38° южной широты до острова Поссешен. При этих словах стоявшие рядом с ним матросы дали три залпа из ружей; с корабля ответили выстрелами из пушек [95, с. 50]. Восточная часть Австралии, названная Куком Новым Южным Уэльсом, стала собственностью британской короны.
Европейские мореплаватели, открывая новые земли и объявляя их собственностью своих монархов, не особенно задумывались над происхождением и историей народов, их населяющих. Они просто констатировали факт присутствия там человеческих существ, стоявших по своему развитию на самом низком уровне. Кук взглянул на местных жителей несколько иными глазами. «Сначала, когда я увидел туземцев Новой Голландии,— писал он,— они произвели на меня впечатление самых жалких людей на земле; но в действительности они гораздо счастливее европейцев, ибо незнакомы не только с излишествами, но и с необходимыми удобствами, столь распространенными в Европе... Они живут в спокойствии, которое не нарушается неравенством положения. Земля и море снабжают их всем необходимым для жизни. Они не мечтают о великолепных домах, домашней прислуге и т. д.; они живут в теплом
9
и прекрасном климате и наслаждаются здоровым воздухом... Мне кажется, они считают, что имеют все необходимое для жизни» [91, с. 323].
Еще в самый ранний период европейской колонизации Австралии и Океании буржуазные ученые выдвинули «теорию» о неполноценности аборигенов, органической неспособности их к прогрессивному развитию, которая весьма помогала в «освоении» захваченных земель, связанном зачастую с массовым уничтожением коренного населения.
В наше время наука располагает данными, позволяющими утверждать, что отставание в развитии коренных жителей Австралии до прихода европейцев объясняется объективными общественно-историческими условиями. «Комплексное изучение самобытной культуры аборигенов Австралии,— пишет советский исследователь В. Р. Кабо, — свидетельствует, что в целом, несмотря на сохранение некоторых архаических элементов, она на протяжении многих тысячелетий непрерывно развивалась. И хотя австралийцам... довелось пережить глубокий культурный кризис, связанный главным образом с катастрофическими изменениями природных условий, развитие их культуры продолжалось, хотя и более замедленными темпами» [50, с. 53—54].
Как показали археологические открытия в Юго-Восточной Азии и Австралии в 50—60-х годах нашего столетия, заселение Австралии началось не менее 30 тыс. лет назад, в палеолитическую эпоху, когда пятый континент был связан с Юго-Восточной Азией материковыми мостами, азиатским и австралийским континентальными шельфами и проливы между ними не были непреодолимым препятствием даже для людей, обладавших крайне примитивными средствами навигации [50, с. 58].
Существовавшие в тот период естественно-географические условия благоприятствовали освоению и заселению людьми Австралийского континента, включая его внутренние области, которые превратились в зону пустынь и полупустынь лишь в период, термического максимума, т. е. от 7 тыс. до 4 тыс. лет назад. Резкое изменение среды обитания привело к значительному регрессу австралийской культуры. Этому содействовала глухая изоляция австралийцев от внешнего мира.
Приход европейцев не только не способствовал культурному развитию австралийских аборигенов, но, напротив, явился для них новым тяжелейшим испытанием, которое можно сравнить лишь со стихийным бедствием огромной разрушительной силы. Многие тысячи аборигенов были уничтожены. Колонизаторы вытеснили коренных жителей из прибрежных районов в пустыни и тем самым обрекли их на вымирание. Если к приходу англичан общая численность аборигенного населения достигала 300 тыс. человек, то спустя двести лет их число не превышает 150 тыс., включая метисов.
Глава II
БРИТАНСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ АВСТРАЛИИ В КОНЦЕ XVIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в*
Создание первой колонии в Австралии — Новый Южный Уэльс
Идеологи колониализма обычно стремятся доказать, что колонизация заморских территорий была объективно необходима вследствие перенаселения европейских государств. Однако история британской колонизации Австралии опровергает это утверждение. Лишь через восемнадцать лет после посещения Дж. Куком восточных берегов Австралии английское правительство вспомнило о своих «правах» на этот материк и приступило к его колонизации.
Но и в 80-х годах XVIII в. в Австралию начали переселяться не жители английских городов, а обитатели английских тюрем. Развитие капитализма в Англии сопровождалось страшным обнищанием народных масс. С конца XV в. в сельском хозяйстве Англии наблюдалось быстрое развитие овцеводства. Крупные землевладельцы во все более широких масштабах превращали свои земельные угодья в пастбища. Более того, они захватывали общинные земли и сгоняли крестьян с их наделов. При этом сносились не только отдельные крестьянские дома, но и целые деревни.
Крестьяне, лишившись земли, не имея возможности найти работу, вливались в огромную армию бродяг, скитавшихся по стране без средств к существованию. Те из них, кому удавалось найти работу на мануфактурах или крупных фермах, попадали в условия безжалостной эксплуатации. Рабочий день в централизованной мануфактуре продолжался 14—16 часов и более. Произвол хозяина был неограничен. Заработной платы не хватало даже на хлеб, поэтому широкое распространение получило нищенство. На мануфактурах применялся детский труд. «Несчастные дети в возрасте шести или семи лет должны были работать двенадцать часов в день, шесть дней в неделю в страшном шуме ткацких фабрик или под землей в темных как ночь угольных шахтах» [143, с. 6]. «Голодные женщины даже „продавали" своих детей на шахты и фабрики, ибо сами не в силах были найти себе работу. Тысячи и тысячи безработных, бездомных людей стояли перед дилеммой: „украсть или умереть"» [132, с. 6]. Результатом социальных бедствий был рост преступности. «Банды грабителей наводили ужас
11
на города. Правящая каста, страшась неуправляемых толп мужчин и женщин, обрушилась на них всей силой варварских уголовных законов» [132, с. 6].
Английские уголовные законы того времени отличались необычайной жестокостью. Смертная казнь предусматривалась за 150 видов преступлений — от убийства до кражи из кармана носового платка. Разрешалось вешать детей, достигших семилетнего возраста [132, с. 6].
Чтобы разгрузить тюрьмы, власти отправляли каторжников в Северную Америку. Плантаторы охотно оплачивали доставку даровой рабочей силы: от 10 до 25 ф. ст. за человека, в зависимости от его квалификации [132, с. 5]. В период между 1717 и 1776 гг. примерно 30 тыс. заключенных из Англии и Шотландии и 10 тыс. из Ирландии были высланы в американские колонии [95, т. 1, с. 61].
Когда же американские колонии добились независимости, британское правительство попыталось посылать заключенных в свои владения в Западной Африке. Последствия оказались катастрофическими. Губительный климат приводил к колоссальной смертности среди ссыльных. В 1775—1776 гг. в Западную Африку было выслано 746 заключенных. Из них 334 человека умерли, 271 человек погибли при попытке к бегству, об остальных министерство внутренних дел сведений не имело [79, с. 29]. Английскому правительству пришлось отказаться от использования западноафриканских колоний как места ссылки.
Прошло немало лет, прежде чем правительству Англии пришла мысль отправлять заключенных в Австралию. Ботаник Дж. Бенке, участник экспедиции Дж. Кука, в 1779 г. выступил перед специальным комитетом палаты общин, созданным для изучения вопроса о создании заокеанских поселений для заключенных британских тюрем.
Как свидетельствует протокольная запись, «Джозеф Бенке, когда его спросили, в каком отдаленном месте земного шара можно создать колонию для каторжников, откуда бы был затруднен побег и где плодородная почва дала бы им возможность существовать после первого года, в течение которого родина будет оказывать им небольшую помощь... информировал комитет, что, по его мнению, наиболее подходящим местом является Ботани-Бей в Новом Южном Уэльсе... плавание к которому из Англии занимает около семи месяцев и где весьма мала вероятность оппозиции со стороны туземцев. Бенке посетил этот залив в конце апреля — начале мая 1770 г., когда погода была мягкой и умеренной, как в Тулузе, на юге Франции. Площадь плодородных почв в сравнении с бесплодными пространствами невелика, но вполне достаточна, чтобы прокормить большое население. Здесь отсутствуют домашние животные, и в течение своего десятидневного пребывания Бенке не видел каких-либо диких зверей, кроме кенгуру... Он не сомневался, что овца и бык, если доставить их туда, приживутся и дадут потомство. Трава высокая и сочная, есть некоторые съедобные растения, одно из которых напоминает дикий шпинат. Район 12
хорошо снабжен водой, много леса, которого хватит для строительства любого количества зданий.
Когда Дж. Бенкса спросили, получит ли родина какую-нибудь выгоду от колонии, созданной в Ботани-Бей, он ответил: „Если будет создано гражданское управление, численность населения колонии неизбежно возрастет, а это даст возможность ввозить туда многие европейские товары; и нет сомнения в том, что такая страна, как Новая Голландия, которая по своим размерам превышает Европу, даст взамен много необходимого"» [ИЗ, с. 16—17].
Дж. Бенкса поддержал Дж. Матра, который также принимал участие в экспедиции Кука. Его семья сражалась с американскими колонистами на стороне английских войск. Дж. Матра предлагал предоставить колонистам бывших британских владений в Америке, оставшимся верными Великобритании, земельные участки на территории Нового Южного Уэльса. «Я хочу передать на решение нашего правительства предложение, которое со временем поможет возместить потерю наших американских колоний,—писал Дж. Матра в декабре 1784 г. лорду Сиднею, занимавшему пост министра внутренних дел.— Капитан Кук первым высадился и исследовал восточную часть той прекрасной страны (Новый Южный Уэльс.— К. М.) от 38° до 10° южной широты, о которой он дал самый благоприятный отчет. Населяют эту территорию немногочисленные черные жители, которые находятся на самой низшей ступени общественного развития и ведут животное существование... Климат и почвы столь хороши, что позволят производить все виды продуктов, как европейских, так и индейских. При хорошем управлении это позволит через 20—30 лет произвести переворот во всей системе европейской торговли и обеспечит Англии монополию на значительную ее часть» [113, с. 14—15].
Матра подчеркивал, что в новой колонии можно выращивать лен, указывал на высокие качества сосны, произраставшей на острове Норфолк. Эти аргументы были очень весомы, ибо лен и лес в то время имели такое же большое значение, как сталь и нефть в наши дни.
Для сохранения своего господствующего положения в мире Англия должна была иметь самый могущественный флот, а лес и лен были важнейшими компонентами тогдашнего судостроения. Англия ежегодно закупала в России лен на сумму около 500 тыс. ф. ст. Потеряв американские владения, Англия лишилась важнейшего поставщика леса.
Матра обращал внимание и на важное военное значение будущей колонии. «В случае войны с Голландией или Испанией мы сможем доставить очень большие неприятности этим государствам из нашего нового поселения», — писал он. Для осуществления своего плана Дж. Матра просил адмиралтейство выделить фрегат.
Однако первый лорд адмиралтейства Хау не разделял энтузиазма Дж. Матры. В письме лорду Сиднею он писал: «Я полагаю, что, если будет признано желательным увеличить число наг
13
ших поселений по плану, предлагаемому господином Матрой, возникнет необходимость использовать суда другой конструкции. Фрегаты непригодны для выполнения такого рода службы». Далее лорд Хау указывал на большие трудности, связанные с организацией колонии на столь далеком расстоянии от Англии: «Продолжительность навигации такова, что вряд ли можно надеяться на получение каких-либо выгод в торговле или войне, которые имеет в виду господин Матра» [113, с. 15].
Однако Матра не был обескуражен позицией первого лорда адмиралтейства. В начале 1785 г. он попросил адмирала Дж. Янга поддержать его проект, что последний охотно сделал. В своем письме правительству Янг подчеркивал, что создание колонии в Новом Южном Уэльсе позволило бы расширить торговлю с Японией и Китаем, а также имело бы важное военное значение. Янг, так же как и Матра, считал целесообразным отправлять в колонию заключенных из английских тюрем, так как ее отдаленность практически исключала возможность побега. Вмешательство адмирала Янга ускорило решение вопроса о создании колонии в Новом Южном Уэльсе. Следует сказать, что американские колонисты, сохранившие лояльность Англии, к тому времени получили земельные участки в Канаде.
18 августа 1786 г. британское правительство подготовило план создания колонии в Новом Южном Уэльсе. Лорд Сидней обратился к министру финансов с письмом, в котором указывал, что британские тюрьмы сильно переполнены и что это создает угрозу обществу, что попытки найти подходящий район для организации поселения в Африке не увенчались успехом. Поэтому, писал лорд Сидней, нужно выделить средства для отправки 750 заключенных в Ботани-Бей «с таким количеством продовольствия, необходимых предметов обихода и сельскохозяйственных орудий, которые могут им понадобиться по приезде» [ИЗ, с. 18]. В январе 1787 г. король Георг III сообщил об этом плане в своей речи в парламенте. Командовать транспортировкой первой партии ссыльных в австралийскую «колонию бесчестия», как тогда выражались, приказом министра внутренних дел лорда Сиднея было поручено капитану А. Филлипу. В его распоряжение было выделено 2 военных и 9 транспортных судов.
Не следует думать, что в отдаленнейшую ссылку были отправлены наиболее опасные и закоренелые преступники. Совсем наоборот: туда посылались в основном люди, осужденные за мелкие преступления, например за кражу двух кип шерсти, буханки хлеба, четырех ярдов ткани, кролика или десяти шиллингов [143, с. 8]. В большинстве своем это были истощенные, слабые и больные люди, среди них несколько десятков стариков, одной женщине было 87 лет [132, с. 8].
Подготовка экспедиции началась в марте 1787 г., а 13 мая флотилия покинула Англию. Плавание продолжалось более восьми месяцев. 26 января 1788 г. корабли подошли к Порт-Джексону. Филлип нашел там, как он писал лорду Сиднею, «прекраснейшую
14
в мире гавань, в которой тысяча кораблей может находиться в совершенной безопасности» [ИЗ, с. 26].
Из Англии отбыло 1026 человек, в том числе чиновников, их жен и детей, а также солдат—211, ссыльных мужчин — 565, женщин— 192, детей— 18. Во время путешествия умерло 50 человек, родилось 42. Первыми на берег высадились моряки. Они водрузили британский флаг и дали залп из ружей.
Так было основано первое поселение колонии Новый Южный Уэльс, названное Сиднеем в честь британского министра внутренних дел. За моряками на берег сошли заключенные-мужчины (женщины были высажены лишь 6 февраля). Их окружал девственный эвкалиптовый лес. Земля оказалась неплодородной. Не было никаких диких фруктов и овощей. Кенгуру после появления людей ушли на такое большое расстояние, что стала невозможной охота на них. Когда принялись за устройство колонии, увидели, как плохо подобраны для этого люди. Среди ссыльных было лишь 12 плотников, один каменщик и ни одного человека, разбирающегося в земледелии или огородничестве. Филлип писал Сиднею: «Необходимо регулярно в течение четырех или пяти лет снабжать колонию продовольствием, а также одеждой и обувью» [113, с. 27].
Торжественное открытие колонии Новый Южный Уэльс состоялось 7 февраля 1788 г. Судья Д. Коллинз прочитал королевский указ, в соответствии с которым капитан Филлип назначался губернатором колонии Новый Южный Уэльс. Этим актом определялись границы колонии: с севера на юг — от полуострова Кейп-Йорк до Южного мыса со всеми островами и на запад—до 135° восточной долготы. Затем были оглашены указы о назначении чиновников колонии и ее законодательство.
Губернатор наделялся такими широкими полномочиями, каких не имел ни один администратор в британских колониях. Он ведал внешней и внутренней торговлей, имел право раздавать земли по своему усмотрению, командовал вооруженными силами, производил все назначения на должности в колониальной администрации, имел право налагать штрафы, назначать наказания, вплоть до смертной казни, и освобождать от них.
В феврале 1788 г. Филлип впервые осуществил свое право карать колонистов смертной казнью. За кражу масла, свинины и гороха был повешен Т. Барретт. Через два дня за кражу муки были приговорены к смерти Дж. Фримен и его приятель. Филлип обещал освободить их от наказания, если Фримен согласится занять должность палача. Последний принял предложение и стал первым государственным палачом в истории Австралии.
Колонисты встретились в Австралии с большими трудностями. Истощенным людям было не под силу валить гигантские деревья и рыхлить каменистую почву. Филлип сообщал, что для двенадцати человек требуется пять дней, чтобы срубить и выкорчевать одно дерево [132, с. 17].
У Филлипа были и другие заботы. Через шесть дней после
15
того, как англичане высадились на берег, в Ботани-Бей вошли два французских военных корабля под командой капитана Лаперуза. Следует сказать, что Франция весьма ревниво следила за успехми англичан в Южных морях. Узнав о намерении Англии приступить к колонизации Австралии, французское правительство послало туда Лаперуза, чтобы захватить часть Австралийского материка. Как ни спешили французы, они и здесь отстали от англичан.
Появление Лаперуза взволновало ссыльных, увидевших реальную возможность бежать из этого казавшегося им гибельным места. Группа заключенных обратилась к французскому капитану с просьбой взять их на корабли. Они обещали за это привести с собой самых хорошеньких женщин из числа каторжанок. Лаперуз отказал англичанам. Но когда французские корабли покинули Ботани-Бей, губернатор Филлип недосчитался двух самых привлекательных женщин колонии. Галантный французский капитан захватил их с собой.
Для того чтобы обеспечить лучший надзор за колонистами, почти все они были сосредоточены на небольшой территории. Лишь маленькие группы отправились в район Парраматты и на остров Норфолк, где земли были более пригодны для земледелия, чем в Сиднее. Однако и там не удалось собрать сколько-нибудь ощутимого урожая. В Парраматте, например, в ноябре 1788 г. было получено 200 бушелей пшеницы и 35 бушелей ячменя. Весь этот урожай пошел на семена для следующего посева [106, с. 32]. В Сиднее дело обстояло еще хуже. Пшеница, маис, а также семена некоторых овощей, посеянные кое-как людьми, не имевшими сельскохозяйственного опыта, вообще не дали всходов. Привезенное продовольствие быстро истощалось. В колонии начался голод. Корабли с припасами, как это было обещано правительством, из Англии не пришли. В начале 1789 г. губернатор послал фрегат «Сириус» в голландскую колонию близ мыса Доброй Надежды за продовольствием. Корабль доставил 127 тыс. фунтов муки, но ее хватило ненадолго. Урожай, собранный в декабре 1789 г., был опять очень мал, и его решили оставить для нового посева в надежде, что скоро подойдут корабли из Англии. Но их по-прежнему не было.
Тогда Филлип, полагая, что на Норфолке собран хороший урожай, решил послать туда часть ссыльных. В феврале 1790 г. к острову отправились корабли «Сеппляй» и «Сириус», на которых находилось 184 взрослых и 27 детей. 13 марта прибывшие высадились на берег. Но буря заставила корабли уйти в море; ‘через шесть дней они опять подошли к берегу, при этом «Сириус» наткнулся на риф и затонул. Выбравшиеся на берег люди узнали, что собранный на острове урожай не может обеспечить даже население Норфолка. «Сеппляй» был вынужден доставить партию ссыльных обратно в Сидней. Недельный рацион питания колонистов был уменьшен до трех фунтов муки и полуфунта солонины.
16
Вместе с первой партией ссыльных в Сидней завезли европейских домашних животных, которые должны были стать основой для развития скотоводства в новой колонии. Многие животные погибли еще в пути. Перепись, сделанная в мае 1788 г., показала, что в колонии осталось 7 голов крупного рогатого скота и столько же лошадей, 29 баранов и овец, 19 коз, 25 свиней, 50 поросят, 5 кроликов, 18 индюшек, 35 уток, 29 гусей, 122 курицы и 97 цыплят [52, с. 75]. Все они, кроме лошадей, овец и коров, были съедены колонистами. Оставшиеся животные в основном погибли из-за отсутствия привычных для них кормов. Небольшое количество овец, выживших и приспособившихся к австралийским пастбищам, были разорваны собаками динго.
Голод в колонии усиливался. Никакими карами нельзя было удержать голодных людей от разграбления магазинов, от кражи продовольствия. А меры эти были весьма суровы. За кражу пары картофелин, например, наказывали 500 ударами кнута и на 6 месяцев лишали полагающейся им порции муки.
С кораблями Первого флота, возвращавшимися в Англию, Филлип послал британскому правительству письма, в которых просил срочно прислать продовольствие и сельскохозяйственные орудия, а также свободных поселенцев для организации ферм, обещая передать последним в качестве рабочей силы заключенных. Но ответа не было.
Наконец 3 июня 1890 г. австралийские колонисты увидели входившее в залив британское судно «Леди Юлиана». Это был первый из кораблей Второго флота, посланного английским правительством в Австралию. Велико же было разочарование колонистов, когда они узнали, что на корабле нет продовольствия, зато находятся 222 женщины-каторжанки.
Позднее подошли и другие суда Второго флота, доставившие в Новый Южный Уэльс еще свыше 1000 ссыльных. В составе этого флота было судно, груженное продовольствием, но 23 декабря 1789 г. у мыса Доброй Надежды оно наскочило на айсберг. Чтобы спасти начавший тонуть корабль, пришлось выбросить в море все запасы продовольствия.
Условия транспортировки ссыльных были чудовищны. Судовладельцы получали 17 ф. 7 шилл. 6 пенсов за каждого человека, независимо от того, будет он доставлен в Австралию живым или мертвым. Поэтому на корабли старались погрузить как можно больше заключенных.
Чтобы ссыльные не сбежали во время плавания, их сковывали рядами, и в таком положении они находились в трюмах кораблей многие месяцы пути. Бывали случаи, когда умершие подолгу оставались среди живых, которые скрывали смерть своих товарищей, чтобы получать их порции пищи. В пути умерло 267 человек. Из оставшихся в живых 488 были тяжело больны. В течение шести недель после прибытия в Сидней погибло еще около 100 человек.
До августа 1791 г. в колонию прибыло 1700 ссыльных, а в сентябре того же года — еще около 1900 человек. Таким образом,
2 Заказ 91
17
население Нового Южного Уэльса превысило 4 тыс. человек (вместе с солдатами и чиновниками).
Сколько-нибудь удовлетворительных урожаев собрать по-прежнему не удавалось. И если бы не продовольствие, доставленное на нескольких кораблях из Англии, население колонии погибло бы с голоду.
Транспортировка каторжников продолжалась. Условия их перевозки оставались весьма тяжелыми. Даже в 30-х годах XIX в. смертность в пути была достаточно высокой. Так, из 4981 ссыльного, отправленного в Австралию в 1830 г., в пути умерло 45 человек, в 1831 г. — 41 из 5303, в 1832 г. — 54 из 5117, в 1833 г.— 63 из 5560, в 1835 г. — 37 из 5315, в 1837 г. — 63 из 6190 [79, с. 217]. А в первое десятилетие заселения Австралии смертность была еще большей. Например, корабль, прибывший в Сидней в 1799 г., доставил лишь 200 из 300 ссыльных. Около 100 человек умерло в пути [79, с. 214].
Положение в Новом Южном Уэльсе продолжало оставаться плачевным. Капитан Филлип должен был создать в Австралии самоокупающуюся колонию, но в течение пяти лет его губернаторства Новый Южный Уэльс полностью зависел от поставок из Англии. За это время колония стоила английскому правительству 500 тыс. ф. ст. [162, с. 54]. Как уже отмечалось, Филлип настойчиво просил правительство организовать отправку в Новый Южный Уэльс свободных поселенцев, чтобы создать более устойчивую основу колонизации отдаленного материка. В одном из писем губернатор писал: «Пятьдесят фермеров со своими семьями в один год сделают для создания самоснабжающейся колонии больше, чем тысяча ссыльных» (цит. по [160, с. 19]). Но желающих добровольно поехать в «колонию бесчестия» в Англии было очень мало.
За первые пять лет существования колонии туда прибыло лишь 5 семей свободных колонистов, хотя британское правительство брало на себя все расходы по переезду, бесплатно снабжало продовольствием на два года, дарило землю и предоставляло в распоряжение переселенцев ссыльных для обработки земли, и даже питание этих ссыльных осуществлялось за счет казны.
Филлип давал землю заключенным, отбывшим сроки наказания, солдатам и матросам. Но их было очень мало (в 1791 г.— только 86 человек), и обрабатывали они немногим более 900 акров земли. Лишь после того, как губернатор получил право сокращать сроки наказания, ему удалось довести общий размер участков, обрабатываемых освобожденными ссыльными, до 3,5 тыс. акров.
В 1792 г. Филлип вернулся в Англию. Вместе с ним был возвращен на родину и отряд военных моряков, несший охранную службу. В колонии остался Полк Нового Южного Уэльса, солдаты которого начали прибывать в Австралию с 1791 г. Этот полк в-основном формировался из солдат и офицеров, скомпрометировавших себя на прежнем месте службы воровством, пьянством и т. п.у 18
либо выпущенных из военных тюрем, где они отбывали наказание за различные уголовные преступления.
После отъезда обязанности губернатора колонии стал исполнять командир полка майор Ф. Гроуз. На все гражданские должности он назначал офицеров, раздавал военным землю и заключенных для обработки полученных участков. Всего он раздал свыше 10 тыс. акров.
250 акров первоклассной земли в районе Парраматты получил офицер Дж. Маккартур, ставший впоследствии «отцом австралийского овцеводства». В то время он занимал пост инспектора общественных работ, и в его распоряжении находилась вся рабочая сила колонии. Маккартур направлял заключенных на фермы и вершил над ними суд по своему усмотрению. Не забывал он и собственные интересы, широко используя труд заключенных на принадлежавших ему землях. Не мудрено, что через два года Дж. Маккартур стал богатейшим человеком Нового Южного Уэльса. Покидая Англию, он имел 500 ф. ст. долга, к 1801 г. его собственность оценивалась в 20 тыс. ф. ст.
Вскоре действия Ф. Гроуза привели к тому, что власть в Новом Южном Уэльсе перешла в руки офицеров полка. Они монополизировали все торговые операции колонии, и прежде всего торговлю спиртными напитками. Офицеры заставляли заключенных гнать для них спирт и продавали его по баснословным ценам. Доход от продажи спирта достигал 500%. Видя это, изготовлением спирта занялись заключенные, отбывшие наказание и получившие земельные участки, а также солдаты полка. На эти цели шло зерно, предназначенное для производства хлеба.
Единственной реальной валютой в колонии стал ром, ради его приобретения люди шли на любые преступления. «В этом новом маленьком земном аду, которым являлся ранний Сидней, люди превыше всего жаждали рома. Ради него наиболее жестокие из заключенных по ночам убивали и грабили тех, кто его имел. Ромом они платили публичным женщинам... Ради рома они шпионили друг за другом и предавали друг друга» [143, с. 14].
Офицеры вскладчину покупали все товары, привозимые в колонию британскими судами, и перепродавали их населению, получая от этих операций до 300% прибыли. Почти все заключенные работали на землях, принадлежавших офицерам полка. По существу, это был рабский труд, с той лишь разницей, что рабовладельцы сами кормили своих рабов, а заключенные, работавшие на офицеров полка, находились на государственном обеспечении.
Дж. Маккартур писал своему брату: «Изменения, которые произошли со времени отъезда губернатора Филлипа, так велики и необычны, что рассказ о них может показаться неправдоподобным» [79, с. 721].
М. Твен, посетивший Австралию в 90-х годах XIX в., когда в памяти населения были еще свежи воспоминания об этих событиях, писал в книге «По экватору»: «Офицеры взялись за торговлю и притом самым беззаконным способом... Они стали ввозить
9*
19
ром, а также изготовлять его на собственных заводах... Они объединились и подчинили себе рынок... Они создали замкнутую монополию и крепко держали ее в руках... Они сделали ром валютой страны — ведь там почти не было денег,— и сохранили свою пагубную власть, держа колонию под каблуком лет восемнадцать-двадцать... Они приучили к пьянству всю колонию. Они спаивали поселенцев, прибирали к рукам их фермы одну за другой и богатели как крезы. Когда фермер вконец спивался, они сдирали с нею семь шкур за глоток рома. Известен случай, когда за галлон рома стоимостью в два доллара фермер отдал участок земли, который через несколько лет был продан за сто тысяч долларов» [65, т. 9^ с. 90—91].
Новый губернатор, флотский капитан Д. Хантер, приоыл в колонию 11 сентября 1795 г. Но он не смог сломить господства офицеров полка, прозванного «ромовым корпусом». Не удалось это и следующему губернатору — капитану У. Блаю, известному своим мужеством и упорством. Взбунтовавшиеся матросы корабля «Баунти» высадили его в мае 1789 г. среди бушующих волн Тихого океана в небольшую лодку с' 18 преданными ему членами экипажа. Оставленные на волю провидения, люди не погибли. После 48 дней страшных лишений капитан Блай привел лодку к острову Тимор, находившемуся в тысяче миль от того места, где их высадили с корабля. Из этой голландской колонии Блая и его товарищей доставили в Англию.
Блай вступил в борьбу с офицерами Полка Нового Южного Уэльса: запретил им беспошлинную торговлю спиртными напитками, не позволил Маккартуру построить винокуренный завод. Тогда офицеры решили свергнуть губернатора. Они собрали полк и с развернутыми знаменами направились к его дому. Через полчаса Блай был арестован и заключен в казарму. Управление колонией взял в свои руки командир полка майор Джонстон. Маккартур был назначен секретарем колонии.
Это произошло 26 января 1808 г., через 20 лет после прибытия в Австралию Первого флота. В течение двух последующих лет власть в Новом Южном Уэльсе безраздельно принадлежала «ромовому корпусу». Блай целый год находился под арестом, а затем был отправлен на Землю Ван Димена.
Лишь 31 декабря 1809 г. в колонию прибыл Л. Маккуори, посланный английским правительством для наведения порядка, а вместе с ним 73-й пехотный полк. Л. Маккуори имел следующие инструкции: восстановить в должности Блая, но лишь на одни сутки, с тем чтобы принять от него губернаторство; став губернатором колонии, Л. Маккуори должен был отменить все назначения^ судебные решения и раздачу земель, состоявшиеся со времени ареста Блая.
Л. Маккуори со скрупулезной точностью выполнил эти инструкции. Когда 17 января 1810 г. Блай вернулся с Земли Ван Димена в Сидней, Маккуори устроил ему пышную встречу — с салютом, парадом, иллюминацией и балом в губернаторском доме. По-
20
еле этого Блай был отправлен в Англию. Вместе с ним покинул Новый Южный Уэльс «ромовый корпус» во главе со своим командиром Джонстоном. Маккартур также вынужден был покинуть Австралию. По прибытии в Англию Джонстон и Маккартур предстали перед судом.
Первые шаги в изучении Австралийского континента
Прошло два десятилетия после создания колонии, но жителям* Нового Южного Уэльса было неизвестно, что представляет собой весь пятый континент. К этому времени были исследованы лишь отдельные участки в районе Сиднея, небольшой участок земли, находившийся в 90 милях к северу от Сиднея, а также район Хобарта на Земле Ван Димена. Австралия же, как известно, занимает площадь в 3 млн. кв. миль, т. е. почти равную площади Соединенных Штатов и в 50 раз превышающую территорию Англии.
Первая попытка пройти Голубые горы, находящиеся в 40 милях к западу от Сиднея, была предпринята лишь в мае 1813 г. Экспедиция состояла из трех служащих колонии — Г. Блексленда,. У. Уинтворта, У. Лаусона — и пяти заключенных. Через две недели они достигли западных склонов Голубых гор и обнаружили прекрасные пастбища, на которых можно было, как утверждали члены экспедиции, «кормить весь скот колонии в течение последующих тридцати лет» [162, с. 30]. Блексленд, Уинтворт и Лаусов были щедро вознаграждены за свое открытие. Каждый из них получил участок земли размером в 1000 акров.
По приказу губернатора заключенные начали спешно строить дорогу к вновь открытым районам. В январе 1815 г. Л. Маккубри смог уже проехать по ней до нового города Батерста, построенного* в 120 милях к западу от Сиднея.
Активизации исследования англичанами Австралийского материка способствовали три обстоятельства: попытки французов обосноваться в Австралии, необходимость расселять прибывавших ссыльных, а также недостаток пастбищ и воды.
В 1801 г. французские корабли «Географ» и «Натуралист» под командованием адмирала Н. Бодена исследовали южную и западную части Австралии. После этого англичане поспешили провозгласить свое формальное владение Землей Ван Димена, а затем приступили к созданию поселений в Маккуори-Харборе и Лонсестоне. Поселения появились также на восточном и южном? побережьях материка — на месте нынешних городов Ньюкасл^ Порт-Маккуори и Мельбурн. Исследования Д. Оксли в 1822 г. в северо-восточной части Австралии привели к созданию поселения в районе реки Брисбен.
Экспедиция французского капитана Ж. Дюмон-Дюрвилля побудила губернатора Нового Южного Уэльса создать в 1826 г. на южном побережье Австралии поселение Вестерн-Порт и послать майора Э. Локьира к проливу Короля Георга в юго-западной ча-
2£
<сти материка, где он основал поселение, получившее впоследствии название Олбани, и объявил о распространении власти британского короля на весь Австралийский материк. Британское поселение Порт-Эссингтон было основано в крайней северной точке континента.
Население новых форпостов Британии на Австралийском материке состояло из ссыльных. Транспортировка их из Англии шла интенсивнее год от года. Считается, что со времени основания колонии и до середины XIX в. в Австралию было отправлено 130— 160 тыс. заключенных [79, с. 210]. Поскольку поселения находились друг от друга на огромном расстоянии, помимо фактического захвата территории достигалась и другая цель — рассредоточение ссыльных.
В связи с быстрым ростом поголовья овец требовались новые пастбища и источники пресной воды. В 1810 г. колония произвела лишь 167 фунтов шерсти, а в 1829 г. — около 2 млн. фунтов [106, с. 91—92]. «Как невозможно заставить арабов пустыни жить в пределах круга, начерченного на песке,— говорил губернатор колонии Гиппс,— так невозможно ограничить передвижение овцеводов Нового Южного Уэльса определенными границами; совершенно очевидно, что, если бы это было сделано... стада крупного рогатого скота и овец Нового Южного Уэльса погибли бы и благополучию страны пришел конец» [160, с. 40].
Юго-восточную и южную части Австралии, их систему рек исследовали в 20-х годах XIX в. Д. Оксли, Г. Хьюм, А. Каннинг-хем и Ч. Стерт. Вклад последнего особенно значителен.
В 1826—1828 гг. в колонии была сильнейшая засуха. От отсутствия кормов падал скот, погибал урожай. Колонисты метались в поисках новых пастбищ и воды. «Огромные деревья уми* рали. Эму, вытянув шеи, жадно хватали воздух, страдая от жажды. Туземные собаки были так худы, что едва могли двигаться. Сами туземцы умирали от истощения. Они приносили своих детей к белым людям, прося дать какой-нибудь еды» [133, с. 38—39].
Тогдашний губернатор Нового Южного Уэльса Р. Дарлинг отправил капитана Ч. Стерта на поиски новых рек, а может быть, и больших внутренних морей, которые, по распространенному тогда мнению, должны были существовать в глубине Австралийского материка.
Экспедиция Стерта продолжалась с ноября 1828 по апрель 1829 г. Исследуя реку Маккуори, Стерт обнаружил, что она оканчивается большим болотом, заросшим тростником и камышом. Но вскоре он нашел к западу от Маккуори ручей, текущий на север. Двигаясь по нему, Стерт достиг широкой, полноводной реки, названной им в честь губернатора колонии Дарлинг. Вода в реке оказалась соленой, берега ее были совершенно голые, весьма чахлая растительность встречалась только в болотистых местах.
Результаты экспедиции не могли, конечно, удовлетворить губернатора колонии. В сентябре 1829 г. Стерт во главе небольшого отряда предпринял новую экспедицию. 25 сентября он достиг
22
реки Маррамбиджи. Встретившиеся ему местные жители утверждали, что она — приток другой большой реки. Тогда Стерт, взяв с собой шесть человек, начал исследование Маррамбиджи. Экспедиция передвигалась с огромными трудностями по незнакомой реке. 14 января 1830 г. путешественники достигли ее- устья и вошли в другую большую реку. Так Стерт открыл одну из крупнейших рек Австралии, назвав ее Муррей — в честь тогдашнего британского' министра колоний.
Не успели Стерт и его товарищи порадоваться своему открытию, как их встретила неприятность, едва не стоившая им жизни. Неожиданно их лодка села на мель, и вскоре они были окружены толпой аборигенов, настроенных весьма воинственно. Столкновение казалось неизбежным, англичане приготовились к смертельному бою. Но вдруг на берегу показался абориген гигантского роста.. Он бросился в реку и поплыл к отмели. Достигнув ее, он расшвырял находившихся там людей, подошел к лодке с англичанами и приветствовал их как друзей [133, с. 39—40]. На протяжении всего дальнейшего пути англичане встречали со стороны местных жителей только дружественное отношение.
После 33 дней пути, пройдя на лодке 1000 миль, Стерт и его спутники обнаружили озеро, названное ими Александрина, по имени британской принцессы. Двигаясь дальше, они нашли выход в открытое море. Это была большая победа. Лишь 25 мая 1830 г. Стерт с товарищами вернулся в Сидней.
Экспедиция, исследовавшая систему рек Южной Австралии, доказала, что водным путем можно добраться до южной оконечности материка, а также обнаружила большие пространства плодородных земель, чрезвычайно удобных для колонизации. «Я,— сообщал Стерт,— никогда не видел страны, которая имела бы более выгодную позицию... мы получили пять миллионов акров прекрасной земли» [106, с. 67]. Его сообщение повлекло за собой колонизацию Южной Австралии.
Открытия Стерта не давали покоя майору Т. Митчеллу. Этот честолюбивый человек не мог примириться с тем, что он, старший в чине, не был назначен главой экспедиций. Когда в 1831 г. Дарлинг, протежировавший Стерту, покинул колонию, Т. Митчелл предпринял свою первую экспедицию. Он собирался отыскать реку, будто бы впадавшую в залив Карпентария, о которой ему рассказал ссыльный Д. Кларк, живший некоторое время среди аборигенов. Экспедиция окончилась неудачей: реки, текущей на северо-запад, Митчелл не нашел, но достиг рек Намой и Гвидир. В стычке с местными жителями он потерял двух человек и все запасы продовольствия, поэтому вынужден был вернуться обратно. Следует отметить, что все экспедиции Митчелла, в отличие от экспедиций Стерта, сопровождались многочисленными стычками с аборигенами. Виной этому, несомненно, было недоброжелательное отношение Митчелла к последним.
Во время второго путешествия Митчелл достиг реки Дарлинг недалеко от того места, к которому подходил Стерт. Интересно,
2&
что Митчелл нашел воду Дарлинга совершенно пресной. Был построен укрепленный лагерь, названный Форт-Бурк, после чего экспедиция двинулась дальше по реке, впадавшей, как в этом убедился не веривший Стерту Митчелл, в реку Муррей. Дальнейший ход экспедиции был остановлен новой кровопролитной стычкой с аборигенами, заставившей путешественников повернуть назад.
Третья экспедиция Митчелла привела к открытию территории # югу от реки Муррей. Земля эта, которая, как утверждал Митчелл, «сможет родить пшеницу даже в самые засушливые сезоны и никогда не станет болотом в самое дождливое время» [106, с. 69], была названа «Счастливой Австралией».
Продолжая экспедицию, Митчелл вышел к берегу моря в районе бухты Портленд. Участники экспедиции были очень удивлены, обнаружив в бухте судно, а на берегу — европейских поселенцев. Это оказались колонисты, за два года до этого приехавшие с Земли Ван Димена.
Среди первооткрывателей юго-восточной части Австралии есть два польских исследователя — Я. Льхотский и П. Стшелецкий. Я. Льхотский, прибывший в Сидней в 1833 г., дал первое описание района, где теперь находится Канберра, и горной цепи, называемой сейчас Австралийские Альпы. П. Стшелецкий, появившийся в Сиднее в 1839 г., исследовал в 1840 г. самую южную часть континента, названную им Гиппсленд, в честь тогдашнего губернатора колонии, и первым поднялся на самую высокую гору Австралийских Альп, которую он назвал горой Косцюшко.
Примерно в это же время началось исследование западной части Австралии. Первая экспедиция, возглавляемая Д. Эйром, вышла из Аделаиды 18 июня 1840 г., в день двадцатипятилетней годовщины битвы при Ватерлоо, поэтому проводы ее были особенно торжественными. В путь отправились 6 человек с двумя повозками, 13 лошадьми и 40 овцами. В конечный пункт путешествия — британское поселение Олбани на берегу пролива Короля Георга — 7 июня 1841 г. пришел лишь Эйр, сопровождаемый аборигеном по имени Вилли. В следующем месяце Эйр на корабле отправился обратно в Аделаиду, куда прибыл 26 июля.
В 1844 г. возобновил свои экспедиции уже пятидесятилетний Ч. Стерт. На этот раз ему хотелось исследовать центральную часть континента. 15 августа 1844 г. он вышел из Аделаиды, направляясь на север. Путешествие продолжалось до 1846 г. Стерт убедился, что центр Австралии представляет собой настоящую пустыню, преодолеть которую он не смог. Тяжелобольной, ослепший, он вернулся в Аделаиду.
Исследовать северную часть Австралии первым пытался уже упоминавшийся Т. Митчелл. В 1845 г. он добрался до бассейна реки Барку, но из-за недостатка съестных припасов вернулся обратно. Наибольший же вклад в исследование севера страны внесли Л. Лейхгардт и Э. Кеннеди.
Власти Нового Южного Уэльса всячески поощряли исследования северной части континента, надеясь, что они приведут к от
24
крытию наиболее короткого и удобного торгового пути, соединяющего колонию с Индией.
Л. Лейхгардт, уроженец Германии, еще в университете в Гёттингене познакомился с англичанином Д. Никольсоном; в дальнейшем он сопровождал его в поездках по Франции, Италии и Англии. Не найдя работы в Англии, Лейхгардт в октябре 1841 г. отправился в Австралию. В Сидней он прибыл в феврале 1842 г. и вскоре зарекомендовал себя как способный естествоиспытатель. В свое первое путешествие он отправился в августе 1844 г. Через 16 месяцев Лейхгардт достиг Порт-Эссингтона. Путешествие было очень трудным. Много месяцев Лейхгардт и его спутники обходились без муки, сахара, соли и чая, целые четверть года они питались лишь сушеной говядиной [52, с. 218].
Вернувшись в Сидней, Лейхгардт начал готовить новую экспедицию. Он намеревался достичь севера континента, обогнув пустыню, найденную Стертом в центральной его части. Предполагалось, что путешествие будет весьма продолжительным, поэтому провизии захватили на два года.
12 декабря 1846 г. экспедиция в составе семи европейцев и двух аборигенов вышла из Дарлинг-Даунс. Путешественники имели 15 лошадей, 13 мулов, 40 коров, 270 коз, 100 свиней и 4 собаки [133, с. 72]. Однако большая часть скота пала, съестные припасы были почти целиком израсходованы, люди страдали от лихорадки. Не добившись ничего, Лейхгардт через 7 месяцев вернулся назад.
Неудача не остановила его. В апреле 1848 г. Лейхгардт вновь отправился на север. Его сопровождали 6 человек. На этот раз дело кончилось полной катастрофой: экспедиция исчезла в глубинах материка. В течение первых двух лет отсутствие сведений о ней не вызывало особого беспокойства в Новом Южном Уэльсе, поскольку она была рассчитана на длительный срок. Но в 1851 г. власти колонии начали поиски, которые не дали результатов. Судьба участников экспедиции так и осталась неизвестной.
В апреле 1848 г. из Сиднея вышла еще одна экспедиция, которая должна была исследовать север материка, найти наиболее удобный путь в Южную Азию и выбрать место для строительства порта на северном побережье Австралии для торговли с азиатскими странами. Возглавлял экспедицию Э. Кеннеди, принимавший ранее участие в экспедициях Т. Митчелла. Для того чтобы сократить время, часть пути была проделана на корабле.
21 мая 1848 г. путешественники достигли гавани Рокгемптон и высадились на берег. Страшная жара, болотистая местность, труднопроходимые заросли заставили их отказаться от намеченного маршрута — на северо-запад, к заливу Карпентария. Они пошли вдоль северо-восточного побережья материка, но и здесь-встречались с теми же трудностями. К тому же через месяц начались частые стычки с местными жителями.
В августе экспедиция должна была достичь залива Принцессы Шарлотты, где ее ждал специально посланный туда корабль. Но Кеннеди и его спутники добрались до залива лишь в октябре,
25
когда корабль уже ушел. Спасение было в том, чтобы добраться до Порт-Олбани. Но сделать это измученные, голодные и больные путешественники уже не смогли. В Порт-Олбани в декабре 1848 г. пришел лишь один участник экспедиции — абориген по имени Джеки-Джеки. Сразу же был снаряжен корабль для поисков оставшихся в живых членов экспедиции. 30 декабря корабль достиг залива Принцессы Шарлотты. Из восьми добравшихся сюда людей остались в живых лишь двое. Все остальные, в их числе и Кеннеди, погибли.
Экспедиции по исследованию Австралийского материка, проводившие с такими трудностями и потерями, имели очень большое значение для расширения и укрепления британского господства в Австралии.
Образование колоний Тасмания, Южная Австралия, Западная Австралия, Виктория и Квинсленд
В начале XIX в., после Амьенского мира 1802 г., наполеоновская Франция возобновила исследования Тихого океана. Как отмечалось выше, корабли «Географ» и «Натуралист» успешно исследовали южные и западные берега Австралийского континента и Земли Ван Димена. 8 апреля 1802 г. они встретились с британским кораблем, которым командовал М. Флиндерс. Бодэн заверил Флиндерса, что французы проявляют к этому району чисто научный интерес. Но когда в Париже была опубликована карта, на которой район, расположенный между полуостровом Вильсонс-Промонтори и заливом Спенсера, был обозначен как «Земля Наполеона», и поползли слухи, что французское правительство намеревается создать поселение на Земле Ван Димена, английское правительство и власти Нового Южного Уэльса решили, что необходимо ускорить как формальный, так и фактический захват Земли Ван Димена.
Губернатор Нового Южного Уэльса Кинг послал лейтенанта Роббинса в Бассов пролив. Официально было объявлено, что Роббинс должен более подробно изучить берега Австралийского материка и Земли Ван Димена. Секретная же инструкция обязывала лейтенанта следить за действиями французов и в случае необходимости объявить официально британское господство в районе Бассова пролива.
Роббинс встретился с французами на острове Кинг. Высадившись на берег с тремя матросами, он, к удивлению французов, немедленно провозгласил остров собственностью британского короля, поднял английский флаг, дал троекратный салют и покинул остров. Затем Роббинс посетил Порт-Филлип на континенте, а также район реки Деруэнт на Земле Ван Димена и оставил там по два солдата для подтверждения британской собственности на эти земли.
За год до этого в Порт-Филлипе побывал английский офицер
26
Д. Муррей. Он рекомендовал правительству использовать это место в качестве дополнительной ссыльной колонии. Основываясь на докладе Муррея, лорд Хобарт, тогдашний министр колоний, приказал подполковнику Д. Коллинзу возглавить экспедицию для организации новой колонии. В октябре 1803 г. 330 заключенных на двух судах были доставлены в Порт-Филлип. Место не понравилось Коллинзу. В соответствии с инструкцией, данной ему британским правительством, он имел право выбрать другую территорию для колонии при условии, что поиски нового, более удобного, места не будут затянуты. Поэтому в феврале 1804 г. Коллинз перевез всех колонистов на Землю Ван Димена и высадил их там, где сейчас расположен город Хобарт. Здесь он встретил девятнадцатилетнего лейтенанта Д. Боуена, который по приказу губернатора Кинга с небольшой партией свободных колонистов и заключенных в сентябре 1803 г. основал в этом месте британское поселение. Руководство объединенной колонией принял на себя Коллинз.
В первые годы существования колонии на Земле Ван Димена переселенцы столкнулись с такими трудностями, каких не знали колонисты Нового Южного Уэльса. Английское правительство полагало, что снабжение новой колонии должно осуществляться из Сиднея, губернатор же Нового Южного Уэльса считал, что это дело британского правительства. Связь между Сиднеем и Хобартом поддерживалась лишь небольшими судами, принадлежавшими колонии Новый Южный Уэльс, и была эпизодической. Если бы не мясо эму и кенгуру, имевшихся в большом количестве на острове,, население Хобарта скоро бы вымерло.
Британское правительство заселяло Землю Ван Димена заключенными и свободными колонистами, не заботясь о соответствующей материальной основе. Уже в ноябре 1804 г. на северном берегу острова, недалеко от места, где сейчас расположен город Лонсестон, возникла вторая колония, которую возглавил полковник Петерсон. В 1813 г. обе колонии были независимы друг от друга и подчинялись Новому Южному Уэльсу. Отношения между Петерсоном и Коллинзом обострились до такой степени, что гу^ бернатор Кинг вынужден был административно разделить остров на две части — северную, названную Землей Корнволл, и южную, названную Букингхемшир. В 1813 г. в Хобарт был прислан чиновник в ранге помощника губернатора Нового Южного Уэльса, ставший фактически руководителем на острове.
Постепенно новые колонии начали укрепляться. Если в 1813 г. в Хобарте обрабатывалось 2 тыс. акров земли, то в 1819 г.— до 8 тыс. акров. В 1820 г. Земля Ван Димена уже экспортировала пшеницу и мясо в Новый Южный Уэльс. В это время на острове жило 5500 человек, из них 2588 заключенных, 2880 свободных поселенцев; поголовье коров составляло 30 тыс., овец—180 тыс. [123, с. И].
В декабре 1825 г. Земля Ван Димена официально стала самостоятельной колонией. В этом же году в Англии была создана Компания Земли Ван Димена, которая должна была способство-
27
-вать развитию земледелия и скотоводства на острове. К середине XIX в. здесь обрабатывалось 170 тыс. акров земли, имелось 1,7 млн. овец и 80 тыс. голов крупного рогатого скота [79, с. 185—186].
Однако колония продолжала в значительной мере носить черты ссыльного поселения. Это объяснялось тем, что даже в начале второй половины XIX в. заключенные составляли одну треть населения острова. Транспортировка их в эту колонию была прекращена лишь в 1853 г.
Власть главы администрации острова была фактически безграничной. Она, писал в то время английский историк X. Мель-вилл, «превышала власть любого государя в христианском мире» [146, с. 212]. Условия содержания заключенных были хуже, чем в других британских колониях в Австралии. Не удивительно поэтому, что при первой возможности ссыльные пытались бежать. Беглые каторжники объединялись в отряды «бушрейнджеров», которые наводили ужас на всю колонию. Чтобы изловить и уничтожить эти отряды, власти организовывали многочисленные кровавые экспедиции.
Свободное население колонии требовало прекратить транспортировку ссыльных на остров. В 1845 г. британское правительство обещало выполнить это требование: в течение двух лет не посылать заключенных на Землю Ван Димена. По истечении этого срока министр колоний лорд Грей объявил, что правительство впредь не будет использовать Землю Ван Димена для ссыльных поселений. Но фактически заключенные продолжали прибывать на остров и в последующие годы. Так, в 1845—1847 гг. было доставлено 3 тыс. человек. Лишь с 1854 г. Земля Ван Димена была отнесена к колониям, в которые запрещалось высылать заключенных. В это же время колония была переименована в Тасманию, в честь первооткрывателя острова А. Тасмана. Исчезло название Земля Ван Димена, которое ссыльные изменили на Чертову землю, используя игру слов — Van Diemen’s Land и Van Demonians Land.
Если Новый Южный Уэльс и Тасмания возникли как ссыльные колонии, то Южная Австралия с самого начала была колонией свободных поселенцев. Ее организаторы попытались на практике воплотить идеи одного из виднейших идеологов британского колониализма первой половины XIX в., Э. Уэкфильда, сформулированные им в работе «Письма из Сиднея», которая вышла в свет в 1829 г. Разбору теории Э. Уэкфильда К. Маркс посвятил отдельный раздел в первом томе «Капитала».
Честолюбие было главной чертой характера Уэкфильда. Оно привело его в Ньюгейтскую тюрьму в Лондоне. Тридцатилетний Уэкфильд служил секретарем английского посольства в Париже, был вдов, имел двух детей и лелеял честолюбивую мечту стать пленом британского парламента, для осуществления которой ему не хватало денег. Для того чтобы разбогатеть, он решил жениться на богатой. Уэкфильд узнал, что пятнадцатилетняя Эллен Тарнер является единственной наследницей крупного промышленника.
Уэкфильд никогда не видел девушку, но это его нисколько не
28
смущало. Он прибыл в ливерпульскую школу и потребовал от директора отпустить Эллен с ним под тем предлогом, что ее мать серьезно больна. Девушке же он сказал, что отец ее внезапно разорился и для спасения семьи она должна выйти за него замуж. Видимо, Уэкфильд был весьма красноречив, поскольку повенчались они незамедлительно. Затем новобрачные поспешно выехали во Францию. Однако их медовый месяц в самом начале был прерван. Во Францию прибыли два дяди Эллен и увезли ее домой. Уэкфильд также вскоре возвратился в Англию, но был арестован и приговорен к трем годам тюрьмы. Так разбилась его мечта стать пленом парламента.
И тогда он избрал иную сферу деятельности, прославившую его имя: он стал создателем теории «систематической колонизации» и «достаточной» цены на землю в колониях. Уэкфильд доказывал, что колонизовать заокеанские территории следует не путем высылки туда каторжников, а привлечением вполне «добропорядочных» людей. Цены на землю в колониях должны быть настолько высокими, чтобы колонисты приобретали ее не сразу по приезде, а лишь проработав ряд лет. «Достаточная» цена на землю воспрепятствует превращению колонистов в независимых крестьян; когда же они ими станут, появятся другие, готовые занять их место на рынке наемного труда [1, т. 23, с. 782].
Деньги от продажи земли, по мнению Уэкфильда, должны идти главным образом на привлечение новых переселенцев, а частично — на нужды самих колоний, где постепенно будет расти и укрепляться слой мелких колонистов, которые составят твердую основу форпостов Британии в различных частях земного шара. Таким образом, та часть английского общества, которая в результате промышленного развития страны оставалась без работы и была реальной угрозой существующему порядку вещей, превращалась в среду, цементирующую Британскую империю.
В 1830 г. Уэкфильд развернул активную деятельность по практическому осуществлению своих идей. Он немало способствовал быстрой организации Национального общества колонизации, которое в том же году выпустило брошюру, озаглавленную «Изложение принципов и целей предполагаемого национального общества для исцеления от пауперизма и его предупреждения посредством систематической колонизации».
Примерно в то же время, когда книга Э. Уэкфильда увидела свет, в Англию пришли сведения о плодородных землях в долине реки Муррей, открытых Стертом. Деловые круги Англии, на которые книга Уэкфильда произвела большое впечатление, заинтересовались возможностью осуществить высказанные им идеи. В 1831 г. начались переговоры о создании компании, целью которой была бы колонизация земель, находящихся на юге Австралийского материка.
На заседании Национального общества колонизации, проходившем 3 августа под председательством полковника Торренса, был одобрен план колонизации Южной Австралии, который преду-
29
сматривал создание компании с капиталом 500 тыс. ф. ст., поделенным на 10 тыс. акций, каждая стоимостью 50 ф. ст. Компания должна была приобрести земли в южной части Австралийского материка и основать там колонию, взяв на себя всю финансовую ответственность, связанную с ее организацией и существованием.
Вскоре предложение правительству об основании колонии на южном берегу Австралии было направлено в министерство колоний, которое ответило, что не намерено рассматривать план по существу до тех пор, пока не будут собраны денежные средства, необходимые для осуществления деятельности планируемой компании [163, с. 58—59]. Таким образом, решение вопроса о создании колонии в Южной Австралии повисло в воздухе.
Однако это обстоятельство не обескуражило Э. Уэкфильда и его друзей. Он основал Южноавстралийскую ассоциацию, которая в декабре 1833 г. разработала новый проект колонизации южноавстралийских земель. Этот план предусматривал организацию Южноавстралийской земельной компании, на средства которой предполагалось создать колонию. На этот раз министерство колоний отнеслось к проекту положительно. 15 апреля 1837 г. министр колоний Стэнли ответил ассоциации, что ее проект одобрен, хотя с существенными добавлениями и исправлениями [163, с. 68—69].
3 июня 1834 г. Южноавстралийская ассоциация созвала первый публичный митинг, на котором присутствовало 2,5 тыс. человек. Собравшихся познакомили с планом создания колонии. В это же время в английском парламенте шло обсуждение разработанного ассоциацией проекта, который получил одобрение обеих палат. Оформленный в виде закона, проект был подписан королем и введен в действие королевским указом от 15 августа 1834 г.
В законе подчеркивалось, что создание колонии должно быть осуществлено Южноавстралийской земельной компанией. Предусматривалось, что власть в колонии будет принадлежать губернатору, назначенному королем, и уполномоченным компании. Губернатором колонии стал капитан Д. Хиндмарш, уполномоченным компании — X. Фишер, представителем совета Южноавстралийской земельной компании — полковник Торренс. Основу капитала Южноавстралийской земельной компании составил вклад богатого коммерсанта Д. Энгеса в размере 320 тыс. ф. ст. Дополнительный капитал компания собрала путем продажи прав на земельные участки в районе, о котором тогда не только в Лондоне, но и в Сиднее не имели, по существу, никакого представления. Компания продавала акции, которые давали их владельцам право на 120 акров земли на территории предполагаемой колонии и 1 акр в будущей ее столице.
Для привлечения колонистов в Англии были выпущены специальные брошюры, читались лекции. Сам Торренс написал книгу «Колонизация Южной Австралии», вышедшую в свет в июне 1835 г. Первую партию колонистов предполагалось отправить в Южную
зо
Австралию уже в сентябре 1835 г. Однако продажа участков затянулась до ноября, и было решено перенести экспедицию на следующий год. Она началась в марте 1836 г.
В июле 1836 г. к острову Кенгуру, находящемуся у берегов Южной Австралии, подошли три корабля компании, имевшие на борту 546 колонистов. Они оставались на острове до прибытия туда в августе полковника Лейта, который выбрал место для столицы. Сейчас там находится Аделаида.
Организация колонии шла быстро. В декабре приехал губернатор колонии Д. Хиндмарш. Ему не понравилось выбранное для столицы место, и он пытался найти другое. Это вызвало серьезные трения между ним и чиновниками администрации колонии, закончившиеся отставкой Хиндмарша и заменой его в 1838 г. на посту губернатора Тоулером.
Первые годы существования колонии характеризовались громадными земельными спекуляциями. Собственно, главной целью как самой Южноавстралийской земельной компании, так и колонистов было стремление к быстрому обогащению именно путем спекулятивных перепродаж приобретенных ими земельных участков. Широкое распространение получила система, дававшая право на 15 тыс. акров земли лицу, которое купило из этого количества по крайней мере 4 тыс. акров по 1 ф. ст. за акр. Оставшаяся часть земли покупалась им же постепенно по цене уже 5 шилл. 4 пенса за акр [52, с. 134—135]. Очень скоро это привело к тому, что все плодородные земли попали в руки не трудолюбивых земледельцев, которые, как предполагал Э. Уэкфильд, своим упорным трудом создадут богатство колонии, а спекулянтов землей, в большинстве своем живших не в Австралии, а в Англии.
Прошло 4 года со времени основания колонии, но ничего не было сделано для развития земледелия и скотоводства. Колония почти ничего не производила. В 1837 г. из проданных 3700 акров обрабатывалось лишь 4; в 1839 г. было продано 170,5 тыс. акров, а обрабатывалось 443. Стоимость импорта колонии в 1839 г. выросла до 346,6 тыс. ф. ст., тогда как стоимость экспорта составляла только 22,5 тыс. ф. ст. Администрация, не имевшая средств для освоения территории, строительства портов, дорог и т. п., вынуждена была обратиться за помощью к правительству. Как только об этом стало известно в Лондоне, среди держателей акций и кредиторов Южноавстралийской земельной компании началась настоящая паника. Они спешили избавиться от акций и предъявляли векселя к оплате. Компания оказалась банкротом. Колония переживала полный финансовый крах, люди бежали из колонии. За несколько месяцев ее население уменьшилось наполовину. Оставались только те, кто не имел возможности уехать. Цены на продукты питания катастрофически росли. Земельные участки невозможно было продать. Большинство землевладельцев, в том числе губернатор колонии Гоулер, полностью разорились.
Слухи о бедственном положении колонистов Южной Австралии достигли других британских колоний на континенте. Наиболее
31
предприимчивые скотоводы и земледельцы Нового Южного Уэльса и Порт-Филлипа начали проникать в Южную Австралию, надеясь с выгодой использовать ее плодородные земли. К концу 1841 г. на пастбищах Южной Австралии паслось уже 50 тыс. овец. В том же году были обнаружены залежи свинцовой, а в 1843 г.— медной руды. Скотоводство и горнодобывающая промышленность стали основой экономического развития колонии. Росло и ее население; в 1850 г., когда Южная Австралия получила права самоуправления, оно составляло 63 тыс. человек.
В состав Южной Австралии административно входили огромные пространства центральной и северной частей материка. Как уже отмечалось, их освоение было связано с поисками наиболее удобного торгового пути в Индию. В 1817 г. для тщательного исследования северного побережья Австралии был послан лейтенант Ф. Кинг. В своем докладе правительству Кинг сообщал, что северное побережье — идеальное место для строительства морских портов. На основе его доклада британское правительство послало в этот район капитана Г. Бремера, который в 1824 г. основал там первое британское поселение — Порт-Эссингтон.
Но в целом огромные пространства северной части материка оставались неосвоенными. Неоднократные попытки основать там поселения не имели успеха. Они довольно быстро прекращали свое существование. Вместе с ними угасала надежда использовать порты северного побережья для торговли с азиатскими странами.
Лишь в 1863 г., когда Северная Территория административно была подчинена колонии Южная Австралия, к ней ненадолго опять возник интерес. Туда был послан резидент, основавший небольшое поселение, названное Пальмерстоном, в честь тогдашнего британского премьер-министра. Но Южная Австралия ничего не могла сделать для развития гигантского и труднодоступного района. В 1911 г. Северная Территория перешла под непосредственное управление правительства Австралийского Союза. Город Пальмерстон был переименован в Дарвин.
Подобно Южной Австралии, Западная Австралия первоначально возникла как колония свободных поселенцев. В 1826 г. губернатор Нового Южного Уэльса Дарлинг поручил капитану Д. Стирлингу исследовать западное побережье Австралии для создания там британской колонии. Вернувшись в Сидней, капитан сообщил в своем докладе, что наиболее подходящим для организации колонии является район реки Суон. Он указывал на здоровый климат, плодородные почвы, обеспеченность пресной водой, а также на выгодное географическое положение, позволяющее создать там порт, через который можно было бы торговать со странами Востока. Д. Стирлинг подчеркивал, что необходимо действовать быстро ввиду реальной угрозы французской оккупации этого района. Губернатор Дарлинг поддержал предложения Д. Стирлинга и переслал его доклад в Лондон. Однако британское правительство не сочло возможным взять на себя бремя расходов по организации колонии.
32
В середине 1828 г. Д. Стирлинг, находясь в Лондоне, вновь обратился к правительству и вызвался руководить экспедицией по организации британской колонии на западном побережье Австралии. Поскольку британское правительство мотивировало свой первый отказ тем, что не может взять на себя расходы по устройству этой отдаленной колонии, Д. Стирлинг предложил создать частный синдикат.
На этот раз правительство, напуганное слухами о возможном захвате французами западного побережья Австралии, вняло настойчивому голосу капитана. Однако оно считало, что колония должна быть организована не частными лицами, а государством. Прежде всего необходимо было осуществить официальный захват западной части Австралийского материка, поскольку до этого Великобритания формально, устами Дж. Кука, провозгласила свою власть лишь над восточной его частью. С этой целью в ноябре 1828 г. капитан Фримантл на корабле «Челленджер» отправился к западным берегам Австралии. 2 мая 1829 г., высадившись в устье реки Суон, Фримантл провозгласил британский суверенитет над территорией, в десять раз превышавшей размеры Великобритании.
Деловые круги Англии проявляли к новой колонии большой интерес. В ноябре 1828 г. группа деловых людей Лондона, возглавляемая Т. Пилем, предложила британскому правительству доставить в колонию 10 тыс. человек, за что просила передать ей 4 млн. акров земли. Правительство согласилось лишь на 1 млн. акров. Было установлено, что каждый колонист получит право на земельный участок в 40 акров при условии, что он сразу уплатит 3 ф. ст. и в течение первых трех лет пользования землей израсходует на ее обработку еще не менее 3 ф. ст.
Руководителем новой колонии был назначен капитан Стирлинг. В июне 1829 г. первая партия колонистов в количестве 50 человек прибыла к берегам Западной Австралии. Следует сказать, что среди них почти не было людей, которые намеревались бы «в поте лица своего» обрабатывать девственные земли пятого континента. В далекую Австралию их влекла жажда быстрого и легкого обогащения. Компания по колонизации Западной Австралии всячески расхваливала плодородие новых земель. Колонисты, приобретая почти даром земельные участки в районе реки Суон, надеялись, что в самом скором времени они будут получать доходы, не уступающие тем, которые имеют землевладельцы в английских графствах.
Рассчитывая на безоблачную, богатую жизнь, колонисты привезли из Англии рояли, изящные коляски, чистокровных рысаков, дорогих охотничьих собак и т. п. Вскоре были заложены первые два города колонии: Перт и Фримантл. Жестокая действительность очень скоро рассеяла заблуждения англичан. Земля оказалась неплодородной. Из-за острой нехватки продовольствия скот пришлось забить, а мясо раздать колонистам.
Привезенные из Англии овцы не могли приспособиться к местным пастбищам и гибли. К тому же большую и лучшую часть по-
3 Заказ 91
33
лученной от правительства земли компания очень быстро продала весьма ограниченному кругу колонистов. Так, за 18 месяцев после создания колонии 70 колонистов приобрели право на полмиллио-,на акров земли в районе Перта. Остальные получали землю все дальше и дальше от берега. Дремучие лесные заросли и отсутствие дорог делали не только их обработку, но и доступ к ним очень затруднительным.
Поскольку колония ничего не производила и не вела торговых операций, денежные средства у нее отсутствовали. Единственной формой вознаграждения была раздача земельных участков. Даже губернатор колонии Стирлинг получал жалованье землей. Ему было дано 100 тыс. акров.
К 1832 г. общая площадь проданных земельных участков составляла миллион акров. Но они не обрабатывались. Колонисты начали покидать негостеприимные берега. Население Западной Австралии с 1830 по 1832 г. уменьшилось с 4 тыс. человек до 1,5 тыс.
Слухи о бедственном положении колонии достигли берегов Англии, и число желающих отправиться в Западную Австралию резко снизилось. В 1832 г. только 14 колонистов прибыли в Перт, в последующие годы положение существенно не изменилось, несмотря на широкую рекламу, организованную в Англии Западноавстралийской ассоциацией, которая была основана в Лондоне в 1835 г. Организатор колонии Т. Пиль разорился. Семья его вернулась в Англию, сам он продолжал жить в колонии в нищете. Священник Уолластон, посетивший его в 1842 г., так описывает жилище Пиля: «Он живет в убогом домишке из камня, с крышей из камыша. Все вокруг него свидетельствует о том, что он сломленный человек» [79, с. 199].
Западноавстралийская компания, созданная в Лондоне в конце 30-х — начале 40-х годов, попыталась активизировать колонизацию Западной Австралии. В 100 милях к югу от Перта предполагалось заложить город — центр колонии — и вокруг него селить колонистов, продавая им участки в 100 акров по цене 1 ф. ст. за акр. Первая партия колонистов (414 человек) прибыла в намеченный район в марте 1841 г., в 1842 г. их число увеличилось до 673 [100, с. 16]. Но сагитированные компанией люди вскоре, разочаровавшись в своей новой родине, начали разбегаться. Например, в 1845 г. из колонии уехало на 129 человек больше, чем приехало [100, с. 16].
В 1848 г. в Западной Австралии была проведена первая официальная перепись, согласно которой численность населения колонии спустя 20 лет после ее создания составляла всего 4622 человека [100, с. 17].
Идея организации свободных поселенцев явно провалилась. Тогда власти колонии в 1849 г. обратились к британскому правительству с просьбой прислать заключенных, используя которых они надеялись развернуть наконец действительное освоение колонии. Просьба эта встретила поддержку, и транспортировка заклю-34
ченных в Западную Австралию началась. В течение 18 лет туда было доставлено 10 тыс. ссыльных. Лишь в 1868 г., из-за решительного протеста соседних колоний, указавших на то, что Западная Австралия стала «трубопроводом, через который моральные нечистоты Великобритании выливаются в австралийские колонии» [106, с. 7], высылка заключенных в Западную Австралию была прекращена.
Политическое и экономическое развитие Западной Австралии шло медленнее, чем других колоний на этом континенте. В 1849 г. в Западной Австралии было 134 тыс. овец и 12 тыс. голов крупного рогатого скота. Обрабатывалось 7,2 тыс. акров земли, половина которой засевалась пшеницей [100, с. 20—21]. Права самоуправления Западная Австралия получила лишь в 1890 г.
Если все колонии, о которых речь шла выше, возникли с благословения британского правительства, то Виктория появилась вопреки намерениям правительства, но, как это часто случается е «незаконными» детьми, проявила большую жизнеспособность и вскоре сделалась одной из богатейших британских колоний в Австралии.
Как уже отмечалось, в 1809 г. к южному побережью Австралии отправился капитан Коллинз, для того чтобы организовать там британское поселение, но, не обнаружив достаточного количества пресной воды, он высадил своих спутников на берегу Земли Ван Димена.
Власти Нового Южного Уэльса еще неохотно шли на какое-либо расширение территории колонии. В 1829 г. губернатор Дарлинг разбил колонию на 19 округов, границы которых расширять строго запрещалось. Вся территория колонии простиралась на 300 миль в длину и 150 миль в ширину.
Но когда майор Митчелл в 1836 г., исследуя бассейн реки Муррей, вышел к южному побережью Австралии, он увидел там поселения британских колонистов. Они, действуя на свой страх и риск, пришли сюда с Земли Ван Димена.
Первой в декабре 1834 г. прибыла в район Порт-Филлипа семья Э. Генри, в конце мая 1835 г. — маленькая группа колонистов (всего 14 человек) во главе с Д. Бетманом. Они имели своего юриста, который оформил договор с местными жителями на «покупку» земли. Этот акт можно было бы назвать комическим, если бы он не носил столь издевательского в отношении аборигенов характера. За несколько одеял, ножей, кос и небольшое количество муки группа «приобрела» права на 600 тыс. акров плодородной земли. «Договор» был составлен на английском языке, и аборигены, ставя под ним свои знаки, понятия не имели о его содержании.
Конечно, англичане могли бы не утруждать себя и этим. Документ о купле-продаже земли был создан ими для того, чтобы доказать властям Нового Южного Уэльса «законность» приобретения и избежать уплаты денег британскому правительству.
Но ни губернатор Нового Южного Уэльса, ни британское пра-
з*
35
вительство, узнав через некоторое время об образовании поселения в районе Порт-Филлипа, не признали действительным договор, подписанный Д. Бетманом с местными жителями. Они исходили из того, что после открытия Дж. Кука все австралийские земли являются собственностью британской короны, а не аборигенов.
Однако колонистов не смутил гнев начальства. Они создали собственную администрацию, суд в составе трех человек, установили законы, согласно которым никто не имел права продавать участок в течение по крайней мере пяти лет. Допуск в колонию заключенных запрещался. Не разрешался ввоз спиртных напитков. Для уничтожения диких собак динго, мешавших развитию скотоводства, администрация колонии выплачивала 5 шилл. за каждую убитую собаку.
Через несколько недель после того, как Д. Бетман и его спутники высадились в Порт-Филлипе, туда прибыла с Земли Ван Димена еще одна группа колонистов во главе с Д. Фоукнером. В июне 1836 г. в районе Порт-Филлипа жило уже 177 человек, владевших 26,5 тыс. овец, коров и 60 лошадьми.
Но главный поток колонистов двигался не с юга, а с севера. После открытия Митчеллом в 1836 г. «Счастливой Австралии» туда устремились многочисленные колонисты из Сиднея.
Колония в Порт-Филлипе укреплялась, и губернатору Нового Южного Уэльса Берку не оставалось ничего другого, как официально признать ее существование. В сентябре 1836 г. в Порт-Филлип был направлен представитель губернатора капитан В. Лоунсдейль с четырьмя чиновниками и четырнадцатью солдатами. А в марте 1837 г. Берк посетил новую колонию и дал ее столице Порт-Филлипу новое название — Мельбурн, в честь тогдашнего английского премьер-министра. Тогда же он основал поселение, которое назвал Вильямстаун, в честь британского короля Вильяма IV.
В 1839 г. колония была включена в состав Нового Южного Уэльса. Колонисты Порт-Филлипа протестовали и требовали отделения на том основании, что Новый Южный Уэльс является колонией заключенных, а Порт-Филлип — колонией свободных поселенцев. Англия, говорил в Лондоне один из представителей колонистов Порт-Филлипа, должна быть заинтересована в обладании «свободной колонией, основанной на принципах мира и цивилизации, филантропии, морали и умеренности» [79, с. 188—189].
Британское правительство в то время отказало колонистам в их просьбе. Отделение Порт-Филлипа от Нового Южного Уэльса произошло лишь в 1850 г. При этом колония получила название Виктория, в честь царствующей тогда британской королевы Виктории. В тот период колонию населяло уже 77 тыс. человек. На ее пастбищах паслось свыше 5 млн. овец [79, с. 189].
Несмотря на то что именно с территории современного Квинсленда Дж. Кук в 1770 г. провозгласил Австралию собственностью британской короны, район этот долгое время не имел ни одного
36
английского поселения. Лишь в 1821 г. была создана небольшая ссыльная колония в Порт-Маккуори.
В 1823 г. губернатор Нового Южного Уэльса Т. Брисбен решил создать севернее этого района еще одно ссыльное поселение. С этой целью он послал туда водным путем Д. Оксли. Плывя вдоль северо-восточного берега материка на корабле «Мермейд», Оксли достиг района Порт-Кёртис. Место ему не понравилось, он вернулся к заливу Мортон и неожиданно встретил там на берегу двух англичан — Финнигена и Памфлета. Они вышли в море из Сиднея на небольшой лодке, не имея компаса. Налетевший шторм понес лодку в океан. Когда же англичане причалили к берегу, то решили, что находятся южнее Сиднея, и направились вдоль берега на север. На самом же деле они двигались в противоположную сторону, так как после бури подошли к берегу, расположенному севернее Сиднея. Люди погибли бы, если бы не помощь аборигенов. Кочуя вместе с ними, англичане хорошо изучили местность. Они рассказали, что недалеко находится река, впадающая в океан, берега которой удобны для организации колонии. Двигаясь в указанном направлении, экспедиция действительно обнаружила реку, которую Оксли назвал Брисбен, в честь губернатора, организовавшего экспедицию. По возвращении в Сидней Оксли рекомендовал создать новую колонию на берегах этой реки. Брисбен сам посетил Мортон и одобрил выбор Оксли.
В сентябре 1824 г. сюда прибыла первая партия из 30 ссыльных. В инструкции, которую губернатор дал коменданту колонии лейтенанту Миллеру, говорилось, что «ссыльные в первую очередь должны расчистить территорию для поселения, а когда это будет сделано, подготовить его для свободных поселенцев» [106, с. 85]. Поселение было построено на том месте, где сейчас стоит столица Квинсленда — Брисбен.
Колония еще долго оставалась лишь местом ссылки, несмотря на то что в 1827 г. А. Каннингхем обнаружил весьма удобные для скотоводства земли в Дарлинг-Даунсе. В 1830 г. в колонии находились 1 тыс. заключенных и 100 охранявших их солдат. В 30-х годах Брисбен не производил впечатления города [79, с. 192]. Лишь в 1840 г. П. Лесли привел первое стадо в район Дарлинг-Даунс. К 1851 г. в городке насчитывалось 2 тыс. жителей. Осваивались и другие земли, находящиеся к западу и северу от этого района.
Акт 1850 г. предусматривал отделение от Нового Южного Уэльса не только Виктории, но и всей территории севернее 30° южной широты для создания там самоуправляющейся колонии. Однако это произошло лишь через девять лет. Актом 1859 г. северная часть Нового Южного Уэльса провозглашалась отдельной колонией и получала название Квинсленд. К этому времени британское население колонии составляло 28 тыс. человек.
Глава III
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БРИТАНСКИХ КОЛОНИИ В АВСТРАЛИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
Посылая в 1787 г. капитана Филлипа в Порт-Джексон, британское правительство ставило перед ним задачу создания своего рода тюрьмы под открытым небом, в которой бы все потребности удовлетворялись исключительно за счет труда самих ее обитателей. Правительственная инструкция предписывала Филлипу «все виды продукции, произведенной трудом заключенных, рассматривать как общественный фонд», часть которого должна использоваться для снабжения самих заключенных, а также военнослужащих и гражданских чиновников колонии. «Оставшуюся часть,— говорилось в инструкции,— необходимо сохранить для снабжения других партий заключенных, которые прибудут позже» [171, с. 4—5].
Прошло 30 лет, и взгляд на Австралию решительно изменился. Бурно развивающаяся английская промышленность требовала дешевых источников сырья. На Австралийский континент теперь смотрели как на гигантское пастбище, где при минимальных затратах можно производить неисчерпаемое количество столь нужной английской промышленности шерсти. В 1828 г. специальный комитет палаты лордов по вопросам развития производства шерсти отметил, что Австралия поставляет самую лучшую и дешевую шерсть в мире [186, с. 12].
Уже в первые десятилетия XIX в. овцеводство стало господствующей отраслью британских колоний в Австралии. Увеличение-поголовья овец неизбежно влекло за собой расширение земельных участков под пастбища. Начался позорный для британских: колонизаторов период «очищения» австралийской территории от коренных жителей.
Аборигенов не только сгоняли со сколько-нибудь удобных для земледелия и скотоводства земель, но и пытались полностью истребить: на них устраивалась охота, как на диких зверей. Некоторое число коренных жителей уцелело благодаря тому, что они ушли в глубь континента, в места, почти недоступные для англичан. На сравнительно небольшом острове Тасмания у них не было этой возможности, и их полностью уничтожили. Когда англичане создали свои первые поселения на острове, там находилось 20 тыс.
38
британских колоний в Австралии. Старшим среди них становился 20 человек, в начале 70-х годов — ни одного человека.
История австралийского овцеводства началась практически в 1797 г., когда Дж. Маккартур и С. Мерсден создали свои первые фермы. В то время у каждого из них было по нескольку овец. К середине XIX в. Австралия уже являлась главным экспортером шерсти в Англию. Так, если в 1829 г. Англия, импортируя 21 млн. фунтов шерсти, более 14 млн. фунтов вывозила из Германии и лишь 1,8 млн. фунтов, или 712 часть, из Австралии, то в 1848 г. из общего английского импорта шерсти в 69 млн. фунтов почти 30 млн. шло из Австралии, а из Германии по-прежнему 14 млн. фунтов.
Земля в Австралии являлась собственностью британской короны. Заключенные, отбывшие наказание, и свободные колонисты из Англии получали земельные участки в виде дара от британского правительства. В августе 1824 г. британское правительство ввело систему продажи коронной земли в Австралии. К 1828 г. в Новом Южном Уэльсе было продано земли в 6 раз больше, чем за 10 лет до того.
Началась поистине «земельная лихорадка». За 8 лет из Англии приехало 30 тыс. колонистов. Жители колоний, независимо от их служебной деятельности, занимались земельными спекуляциями. «Священники, не отказываясь совсем от своих обязанностей, также часто превращаются в фермеров и спекулянтов,— писал Дж. Грей. — Врачи редко продолжают практику, если перед ними открывается такого же рода деятельность; солдаты забывают свою службу; правительственные чиновники все, в сущности, фермеры и биржевики» [115, с. 59—60]. За период с 1832 по 1837 г. было продано более миллиона акров земли за 360 тыс. ф. ст. «Земельная лихорадка» подталкивала исследователей на поиски новых земель.
В начале 30-х годов территория была разбита на 19 округов, за пределами которых селиться колонистам не разрешалось. Поток колонистов стал переливаться через установленные границы. В 1830 г. половина поголовья скота паслась за официальными пределами колонии. Но власти колонии ничего не могли с этим поделать, хотя министерство колоний объявило, что «любой акт, разрешающий австралийскому поселенцу перегонять свои стада в названные места без получения на то предварительного согласия ее величества, будет считаться незаконным» [120, с. 15]. Наконец в 1836 г. было выработано правило, разрешающее колонистам пользоваться новыми землями. Уплатив администрации 10 ф.ст. в год, они могли перегонять скот в любом количестве в любое место за пределами округов. Это удостоверялось в выдаваемых им лицензиях.
Судебные органы колонии поддерживали скотоводов, захвативших новые земли. Так, судья Стефен отмечал: «Человек прошел во внутренние области континента, занял участок земли, поставил дом, пас там своих овец. Участок земли должен считаться
39
его владением, и он может предпринять любое действие против лица, которое вторгается на его землю. Этот человек не обязан доказывать свои права на участок. Он просто скажет: „Я уже владел землей до того, как вы пришли сюда"» [79, с. 199].
Такой порядок приобретения земли просуществовал недолго. В 1839 г. губернатор Нового Южного Уэльса Дарлинг ввел новую систему, согласно которой колонист уплачивал по 1 ф. ст. в год за каждые 100 акров занятой им земли. Несколько позже размер платы был сокращен до 2 шилл. 6 пенсов. К концу 1838 г. было роздано лицензий на 73 млн. акров земли в Новом Южном Уэльсе и на 4,5 млн. акров на Земле Ван Димена. На пастбищах, организованных на этих участках, паслось 1,4 млн. овец, 376,7 тыс. коров и 7,1 тыс. лошадей [79, с. 143].
В начале 40-х годов XIX в. финансовый кризис в Англии и падение цен на шерсть довольно болезненно отразились на экономическом положении британских колоний в Австралии. Овцеводство начало свертываться, резко сократилась продажа земельных участков. Так, в 1840 г. в Новом Южном Уэльсе было продано земельных участков на 316 626 ф. ст., в 1841 г.— на 90 388 ф. ст., а в 1842 г.— на 14 575 ф. ст.; в Порт-Филлипе — соответственно на 217 128 ф. ст., на 71 152 ф. ст. и на 2730 ф. ст. [115, с. 84]. В 1844 г. цены на шерсть стали расти, положение овцеводов вновь укрепилось, что нашло отражение в Акте о землевладении, подписанном губернатором Фицроем в марте 1847 г. В соответствии с этим актом все пастбищные земли делились на заселенные, промежуточные и незаселенные. В заселенных районах поселенец-овцевод получал право пользования землей на 1 год, в промежуточных — на 8 и в незаселенных — на 14 лет. Теперь он платил ренту, размер которой варьировался в зависимости от качества полученного участка. Кроме того, поселенец получал право приобретать в собственность 160 акров земли и более по цене 20 шилл. за акр.
Развитие овцеводства все настойчивее требовало рабочих рук. В первые годы существования колоний Новый Южный Уэльс и Земля Ван Димена их население пополнялось фактически лишь за счет заключенных. Свободных колонистов было мало. Даже в 30-х годах, когда свободное переселение в Австралию значительно возросло, ссыльных было значительно больше, чем свободных поселенцев. В период с 1831 по 1837 г. в колонии ежегодно доставляли 6,5 тыс. человек, более половины которых составляли заключенные [115, с. 85—86].
Труд ссыльных был дешев, но весьма непроизводителен. Один из сыновей Джона Маккартура, Эдвард, в 1831 г. предложил предоставить крупным землевладельцам монополию на использование труда заключенных, а иммигрантов направлять в хозяйства мелких землевладельцев. Предложение это не было поддержано, но требования колоний увеличить свободную иммиграцию в Австралию делались все настойчивее.
Выступая в 1838 г. перед парламентской комиссией по вопросам транспортировки заключенных, другой сын Джона Маккарту-40
ра, Джеймс, сказал: «Я полагаю, что свободный труд в конце концов дешевле, чем рабский или принудительный». Члены комиссии задали ему вопрос: «Не думаете ли вы, что замена транспортировки заключенных свободной эмиграцией нанесет ущерб колонии?» Джеймс Маккартур ответил: «Напротив, это будет в высшей степени полезно для нее» [115, с. 87—88].
Однако все растущая «перенаселенность» английских тюрем побуждала правительство из года в год увеличивать количество высылаемых в Австралию арестантов. Если в 1810—1817 гг. в Англии ежегодно заключалось в тюрьмы 35 тыс. человек, в 1817— 1824 гг.—62 тыс., то в 1824—1831 гг.—85 тыс. [115, с. 87].
К 1828 г., т. е. через 40 лет после создания колонии Новый Южный Уэльс, в ней было всего 4600 свободных поселенцев и 24 тыс. заключенных [143, с. 34]. Женщин среди свободных поселенцев было 1800, среди заключенных — 2900. Рождаемость у ссыльных женщин была низкой, а детская смертность высокой, вследствие чего за первые 40 лет существования колонии у заключенных выжило не более 5 тыс. детей. Около 4 тыс. детей родилось за это время у свободных поселенцев [143, с. 34].
В 30-х годах были приняты специальные меры, направленные на увеличение женского населения Австралии. Если в 1830 г. в Новом Южном Уэльсе было 10 тыс. женщин всех возрастов, то к 1840 г. эта цифра поднялась до 42 тыс., а еще через 10 лет — до 112 тыс. [143, с. 28].
Несколько увеличился приток в Австралию свободных иммигрантов-мужчин, но рабочих рук все равно не хватало. Так, в августе 1838 г. уполномоченный по распределению заключенных Г. Слейд заявил комиссии Законодательного совета Нового Южного Уэльса, что за 12 месяцев он передал в распоряжение свободных колонистов 5454 заключенных, а заявок поступило на 12 тыс. человек. Все громче стали раздаваться голоса о ввозе рабочей силы из азиатских стран. Третий сын Дж. Маккартура, Уильям, выступая в Сиднее в 1838 г. перед членами специального комитета Законодательного совета Нового Южного Уэльса, сказал: «Если в ближайшее время не увеличится транспортировка рабочей силы из Соединенного Королевства, колонисты, чтобы избежать разорения, должны будут искать ее в любой другой части мира» [143, с. 88]. Тогда же 111 колонистов послали заявки на 1203 китайских и индийских рабочих.
Однако вопрос о привлечении рабочей силы из Азии сразу же вызвал большие споры. Противники ввоза в страну жителей азиатских стран доказывали, что это нанесет ущерб морали и благополучию сложившегося в колонии общества. Некоторые из них даже говорили о необходимости сохранения «расовой чистоты» колонии и в то же время пугали опасными политическими и экономическими последствиями, которые могут возникнуть при образовании в Австралии компактных групп населения азиатского происхождения. Сторонник противоположной точки зрения майор Э. Локнер в своем выступлении в Законодательном совете утверж
41
дал, что среди 30 тыс. азиатов, ввезенных в колонию, не будет такого количества воров, как среди втрое меньшего количества европейцев.
Дебаты приняли весьма ожесточенный характер В конце концов в 1841 г. власти Нового Южного Уэльса приняли решение о запрещении ввоза рабочей силы из Азии. Мотивировали они это тем, что опасно создавать две разные по культуре группы в рамках одного общества, особенно когда одной группе предопределено занимать подчиненное положение. Подобная ситуация, по их мнению, не только окажет неблагоприятное действие на европейских: рабочих и будущих иммигрантов, но также будет угрожать британской природе общества [118, с. 135].
Комиссия Законодательного совета Нового Южного Уэльса,, изучавшая целесообразность транспортировки ссыльных в колонию, пришла к заключению, что ее необходимо как можно скорее прекратить. Решение комиссии было поддержано министром колоний Гленелгом, и количество отправляемых в Австралию заключенных стало уменьшаться: в 1839 г. оно составило 2300 человек, в 1840 г.— 2000 человек. Актом от 22 мая 1840 г. транспортировка заключенных в Новый Южный Уэльс была запрещена.
Для привлечения большего числа свободных переселенцев из-Англии колонисты Нового Южного Уэльса создали в 1835 г. специальный денежный фонд для финансирования переезда из Англии свободных иммигрантов. С 1837 г. в этот фонд направлялась часть-доходов, получаемых казной Нового Южного Уэльса от продажи земли.
Эта система вербовки и транспортировки свободных иммигрантов в колонию просуществовала до 1856 г. Благодаря ей значительно увеличилось количество свободных работников на фермах,, расположенных за официальными пределами округов Нового Южного Уэльса, т. е. там, где в конце 30-х — начале 40-х годов особенно интенсивно развивалось овцеводство (табл. 1).
Таблица 1
Число свободных рабочих и заключенных, занятых на фермах *
Период Количество ферм Число свободных рабочих-мужчин Число заключенных рабочих-мужчин
II половина 1839 г. 694 3540 3126
I половина 1840 г. 673 3333 2672
II половина 1840 г. 718 3732 2598
I половина 1841 г. 761 4157 2794
II половина 1841 г. 806 4650 2697
I половина 1842 г. 781 4503 2291
II половина 1842 г. 881 5447 2168
I половина 1843 г. 907 5024 1685
II половина 1843 г. 879 5190 1260
♦В. Fitzpatrick. The British Empire in Australia, c. 93.
42
Женщин на этих фермах почти не было, в 1841 г. на одну ферму в среднем приходилось по одной женщине-рабочей.
Созданная в Сиднее система вербовки и транспортировки в Австралию иммигрантов не только давала достаточное количество рабочих рук, но и значительно снижала стоимость перевозки колонистов на Австралийский материк (табл. 2).
Таблица 2
Количество иммигрантов, прибывших в Австралию, и стоимость их транспортировки *
Год Число иммигрантов, посланных британским правительством Стоимость транспортировки, ф. ст. Стоимость транспортировки в пересчете на одного иммигранта, ф. ст. Число иммигрантов, посланных по сиднейской системе Стоимость транспортировки, ф. ст. Стоимость транспортировки в пересчете на одного иммигранта, ф. ст.
1837 2668 43 431 16,5 742 8585 11,12
1838 6463 122 313 18,18 4622 22 398 13,6
1839 4096 89 414 21,17 2814 43 026 15,5
* В. Fitzpatrick. The British Empire in Australia, c. 97.
Общая численность свободных иммигрантов в Новом Южном Уэльсе в течение 30—40-х годов значительно увеличилась. К 1841 г. их было уже 101 749 человек. Всего с 1820 по 1850 г. в Австралию прибыло Свыше 200 тыс. свободных иммигрантов. К началу второй половины XIX столетия все население британских колоний в Австралии превысило 400 тыс. человек, из которых на Новый Южный Уэльс приходилось 189 тыс., на Порт-Филлип — 76 тыс., на Землю Ван Димена—69 тыс., на Южную Австралию — 64 тыс., на Западную Австралию — 5 тыс. [120, с. 47, 50].
Для развития экономики колоний требовались огромные капиталовложения. В колониях один за другим возникали банки, бравшие на себя финансирование сельскохозяйственных и промышленных предприятий. Первый в истории британских колоний в Австралии банк был создан в Сиднее в 1817 г. Он получил название Банка Нового Южного Уэльса. В 1826 г. появился Банк Австралии. К 1840 г. открылось еще 5 банков: в 1835 г.— Банк Австралазии, имевший отделения в Сиднее, Хобарте и других городах, и Коммерческий банк Сиднея, в 1839 г.—Сиднейская банковская компания, Банк Порт-Филлипа, Объединенный банк Австралии с отделениями в Мельбурне, Хобарте и Лонсестоне.
В конце первой половины XIX в. господствующее положение в экономике колоний заняло овцеводство. Поголовье овец к этому времени составило 16 млн. Стремительно рос экспорт шерсти. Первые попытки экспорта шерсти относятся к 1820 г. В 1830 г. вывозилось уже 2 млн. фунтов шерсти, в 1840 г.—10 млн., в 1849 г.— 35 млн. [75, с. 89].
43
Другие отрасли сельского хозяйства хотя и получили известное развитие, но занимали подчиненное положение (табл. 3).
Таблица 3
Экономическое положение колоний в 1850 г. *
Колония Население, тыс. Площадь обработанных земель, тыс. акров Поголовье овец, млн. Поголовье рогатого скота, тыс. Импорт, тыс. ф. ст. Экспорт, тыс. ф. ст.
Новый Южный Уэльс . . . . 189 000 146 7 1360 2100 2400
Виктория ... 76 000 52 6 380 659 614
Земля Ван Димена 69 000 169 Е8 83 820 545
Южная Австралия 64 000 65 1 60 500 300
* В. Fitzpatrick. The British Empire in Australia, c. 437.
Развитие сельскохозяйственного производства создало основу для возникновения первых промышленных предприятий. Появились мукомольные, пивоваренные заводы, предприятия по производству мыла, свечей, а затем мебели, готового платья, обуви и т. п.
В области тяжелой промышленности получила развитие лишь одна отрасль — судостроение. Верфи располагались на берегах рек Деруэнт и Теймар на Земле Ван Димена. С 1840 по 1849 г. было построено 400 судов общим водоизмещением 24 тыс. т, в их числе корабли водоизмещением 600 т для использования на линии Австралия— Англия [70, с. 90].
Горнорудная промышленность колонии находилась в эмбриональном состоянии, несмотря на то что были обнаружены месторождения многих цветных металлов. К 1850 г. добывалось лишь небольшое количество угля в Новом Южном Уэльсе, свинца и меди — в Южной Австралии. Уголь использовался для местных нужд, цветные металлы вывозились и давали Южной Австралии некоторый доход. Так, в 1850 г. колония получила от экспорта свинца и цинка 300 тыс. ф. ст.
Начали развиваться и средства транспорта, прежде всего морского. Если Первому флоту понадобилось 250 дней, чтобы достичь Порт-Джексона, то в 40-х годах суда приходили из Англии в Австралию за 140 дней; к концу первой половины XIX в. это расстояние покрывалось уже за 90 дней и менее (рекордное время показал корабль «Фермопилы», который прошел этот путь за 63 дня и 17 часов). С 1852 г. «Р. энд О. компани» открыла пароходную линию между Англией и Австралией.
В сентябре 1848 г. была создана Сиднейская железнодорожная компания, президентом которой стал Ч. Коупер. К строительству первой в Австралии железной дороги приступили в 1850 г. Через 5 лет началось движение поездов на участке Сидней — Гренвилл протяженностью 13,3 мили.
44
Как уже отмечалось, в первые годы существования Нового Южного Уэльса заключенные использовались на работах, осуществляемых непосредственно колониальной администрацией, которая полностью снабжала их продуктами питания и одеждой. Однако уже в инструкциях, данных А. Филлипу британским правительством, указывалось, что ссыльные могут передаваться свободным иммигрантам для работы на фермах. Но вначале эта практика не получила широкого распространения. В августе 1800 г., например, в хозяйствах свободных колонистов работало около 360 заключенных. Какого-либо твердо установленного порядка, регулирующего их труд, в колонии не существовало.
В 1804 г. губернатор Кинг ввел регулирование труда ссыльных. Работодатели должны были предоставлять заключенным помещение, обеспечивать их одеждой и питанием по крайней мере 12 месяцев. Был установлен десятичасовой рабочий день в течение пяти дней недели и шестичасовой — в субботу. Остальное время ссыльный мог использовать по своему усмотрению, но в случае необходимости хозяин имел право заставить его работать сверхурочно при условии, что эта работа будет оплачена. Размер годового жалованья за работу в сверхурочное время устанавливался в 10 ф . ст. В 1805 г. у свободных колонистов работало 620 заключенных, в 1825 г.— 11 тыс. На Земле Ван Димена количество заключенных, работавших у свободных колонистов, с 1813 по 1820 г. увеличилось со 112 до 1030 человек.
Система использования заключенных в хозяйствах свободных колонистов просуществовала в Новом Южном Уэльсе до начала 40-х годов XIX в., а на Земле Ван Димена — до 1843 г. В Новом Южном Уэльсе наиболее широко она применялась в 1838 г., когда в частных хозяйствах использовалось 26 тыс. заключенных (общее их число составляло 38 тыс.), на Земле Ван Димена — в 1835 г., в течение этого года на фермах свободных переселенцев работало 12 тыс. ссыльных [70, с. 22].
В 1814 г. губернатор Маккуори отдал приказ, запрещавший заключенным уходить от хозяина, к которому они направлены, на работы в другие хозяйства. В 1816 г. Маккуори распорядился, чтобы хозяева не только обеспечивали заключенных помещением, одеждой и питанием, но и выплачивали им ежегодно денежное вознаграждение: мужчинам — по 10 ф. ст., женщинам — по 7 ф. ст.
Следует сказать, что никакого контроля за работой заключенных в частных хозяйствах колоний не существовало и это приводило к полному произволу фермеров. «Каждый хозяин действовал по собственному разумению и исходил из собственных интересов. Не удивительно, что его поведение не всегда было гуманным, — пишет об этом современный австралийский ученый Ф. Кроули. — Так или иначе, эта система вела к упадку и разложению высших классов колониального общества, она давала им не только богатство, но и досуг» [70, с. 24-—25].
Пролетариат британских колоний в Австралии формировался из сельскохозяйственных рабочих, которыми становились приез
45
жавшие из Европы свободные иммигранты и отбывшие наказание заключенные. Условия жизни и труда сельскохозяйственных рабочих в то время были тяжелыми. До 20-х годов XIX в. необходимых сельскохозяйственных орудий было очень мало. Повсеместно боронили, жали и молотили вручную. Жилища были самые примитивные. Ели работники обычно вместе с хозяевами [70, с. 29]. Какой-либо определенной системы оплаты труда свободных работников не существовало. В одних случаях хозяева платили им продуктами и вещами, в других — деньгами, иногда выдавали долговые расписки. Весьма распространенным средством оплаты труда в первые годы существования Нового Южного Уэльса был спирт. Надо сказать, что частичная оплата труда свободных рабочих продуктами и вещами сохранилась в колониях до 40-х годов XIX в. При этом хозяева, пользуясь неразвитостью внутренней торговли, выдавали своим работникам эти продукты и вещи по ценам, которые были значительно выше существовавших розничных пен.
Свободные рабочие и заключенные, по существу, трудились в одинаковых условиях. Поэтому заключенные мало выигрывали, получая права и привилегии свободных работников. В 1790 г. группа людей, отбывших сроки наказания, заявила губернатору, что не хочет работать на прежних условиях. «Если не будете этого делать, не получите еду»,— ответил он. Почти все бывшие каторжники, кроме десяти, решили продолжать работу. Отказавшимся губернатор приказал дать «хорошую порку» [70, с. 34].
Число свободных рабочих с каждым годом росло, поэтому колониальные власти должны были заниматься вопросами условий их труда. Еще в приказе от 10 марта 1797 г. губернатор Хантер рекомендовал заключать письменные соглашения между работодателями и рабочими. Некоторые распоряжения на этот счет были даны другими губернаторами, но системы трудового законодательства в этот период не существовало.
Политическое развитие британских колоний в Австралии обусловливалось потребностями их экономики.
В первые годы существования Нового Южного Уэльса управление носило военно-полицейский характер. И это вполне закономерно, ибо первая британская колония в Австралии являлась гигантской тюрьмой; ее население состояло почти исключительно из каторжников и охранявших их солдат. Хозяйство велось на основе использования принудительного труда заключенных.
Укомплектование органов управления колонии произошло задолго до того, как Первый флот достиг берегов пятого континента.
В октябре 1786 г. капитан А. Филлип был назначен губернатором колонии, Р. Росс — помощником губернатора, Д. Коллинз — заместителем главного судьи, Р. Джонсон — капелланом, Д. Уайт — главным врачом, У. Болмейн — помощником главного врача. Все члены администрации должны были исполнять свои обязанности «в соответствии с законами и требованиями военного времени».
46
К началу мая 1787 г. появились уголовный, гражданский и военно-морской суды колонии.
Губернатор колонии наделялся, по существу, диктаторскими правами. Он назначал чиновников колониальной администрации, был главой военной и гражданской юстиции, обладал правом устанавливать и смягчать наказания, производить конфискации, налагать штрафы. Губернатор также полновластно руководил экономической жизнью колонии. Он наделял землей, раздавал сельскохозяйственные орудия и семена, устанавливал цены на производимые в колонии сельскохозяйственные продукты, осуществлял регулирование внутренней и внешней торговли колонии. Таким образом, губернатор колонии фактически обладал такой громадной законодательной властью, бесконтрольной и зависевшей лишь от его инициативы, что она могла сравниться с прерогативами британского парламента и превосходила власть короля.
В 1789 г. А. Филлип получил дополнительные инструкции, согласно которым он имел право предоставлять земельные участки военнослужащим, выразившим желание заняться сельским хозяйством. Офицеры могли получить 100 акров, солдаты — 50 акров. Размер земельных участков, предоставлявшихся свободным поселенцам, прибывавшим в колонию, не должен был превышать 100 акров. Семена, сельскохозяйственные орудия, продукты питания выдавались в этих случаях бесплатно: военнослужащим — в течение 10 лет, свободным иммигрантам — 5 лет.
Эти права сохранялись за губернаторами Нового Южного Уэльса почти без изменений в течение первых трех десятилетий существования колонии.
Губернатор колонии имел исключительные права мобилизовать население на общественные работы (прокладка дорог, сооружение мостов, градостроительство и т. п.). Приказом губернатора Маккуори от 12 июля 1814 г. было начато строительство первой дороги через Синие горы протяженностью 100 миль. Работы были закончены по тем временам в необычно короткий срок — за 6 месяцев. Видимо, этому способствовало обещание Маккуори выпустить на свободу заключенных, направленных на строительство дороги, тотчас после завершения работ [142, с. 27].
Военно-полицейский характер управления нашел отражение и в судебной системе колонии. Судебные органы Нового Южного Уэльса, созданные Актом 1787 г., состояли из военнослужащих. Устанавливалась процедура, в соответствии с которой за тяжелые преступления предусматривалась смертная казнь, а во всех других случаях — телесные наказания.
Актом от 2 апреля 1787 г. была создана уголовная и гражданская юрисдикция: уголовный суд состоял из заместителя главного судьи (из числа офицеров) и шести членов, также офицеров, назначавшихся губернатором. Губернатор имел право продлить срок тюремного заключения, установленный приговором, помиловать человека, если только тот не совершил государственной измены и предумышленного убийства, но даже и в этих случаях он
47
мог отложить исполнение приговора, так же как и слушание дела. В гражданский суд, который также возглавлял заместитель главного судьи, входили еще два члена, назначавшиеся губернатором. К компетенции суда были отнесены все дела, «касавшиеся земли, домов, аренды, наследства, а также все иски о взыскании долгов, любые другие личные иски, споры по расчетам, по всем видам контрактов». Губернатор мог пересмотреть решение по особым спорам, иск по которым не превышал 300 ф. ст. [145, с. 13]. По искам, превышавшим эту сумму, окончательное решение принадлежало коронному суду в Англии.
Лишь в 1814 г. были образованы два самостоятельных гражданских суда — верховный и губернаторский. Последний рассматривал дела по искам, не превышавшим 50 ф. ст., первый — свыше 50 ф. ст. Верховный суд возглавлял профессиональный юрист, назначавшийся указом короля; в него входили еще два судьи, назначавшиеся губернатором. Губернаторский суд состоял из председателя суда и двух судей, также назначавшихся губернатором.
До начала 20-х годов XIX в. эта судебная система действовала, по существу, во всех британских поселениях в Австралии (Земля Ван Димена входила тогда в состав Нового Южного Уэльса). В 1821 г. на Земле Ван Димена были созданы самостоятельные судебные учреждения. Уголовный суд на острове Норфолк, появившийся в 1795 г., был копией соответствующего учреждения в Новом Южном Уэльсе, с той лишь разницей, что число членов суда было сокращено до четырех [130, с. 150—151].
В связи с экономическим развитием британских колоний в Австралии и увеличением числа свободных иммигрантов возникла необходимость изменения столь явно выраженного военно-полицейского характера управления. Уже в первые годы XIX в. раздавались требования ограничить диктаторскую власть губернатора Нового Южного Уэльса, при этом указывалось на злоупотребления, грубые нарушения законности, допускаемые колониальной администрацией, и в первую очередь губернатором.
Британское правительство вынуждено было образовать в феврале 1812 г. специальный комитет по изучению положения в Новом Южном Уэльсе. «Нельзя ожидать,— говорилось в докладе комитета,— чтобы столь огромная власть и ответственность, сосредоточенные в руках одного человека... со временем не вызвали недовольства людей, не привыкших в собственной стране видеть столь огромную монополию власти». В связи с этим комитет предлагал создать при губернаторе колонии совет, «который разделил бы с ним ответственность» [145, с. 49—50]. Однако британское правительство никак не реагировало на рекомендации комитета. Все его внимание в то время было сосредоточено на войне с наполеоновской Францией.
В 1819 г. в британском парламенте вновь вспыхнули дебаты по поводу положения в Новом Южном Уэльсе; правительство назначило новый комитет для расследования дел в колонии. В том же году в Новый Южный Уэльс был послан уполномоченный пра-48
Жительства Дж. Бигг. На основе его доклада правительство подготовило законопроект об изменении системы управления Новым Южным Уэльсом, получивший одобрение парламента и введенный в действие королевским указом от 19 июля 1923 г.
Акт 1823 г. предусматривал создание в колонии Законодательного совета в составе пяти, шести или семи членов, назначавшихся британским министерством колоний. Хотя этот орган имел лишь совещательные функции, он несколько, правда весьма незначительно, ограничивал власть губернатора, ибо последний не имел права обнародовать какой-либо закон без того, чтобы предварительно не ознакомить с ним членов совета. Если члены совета возражали против закона, они могли изложить свои доводы в протоколе заседания совета, который направлялся потом в министерство колоний. Члены совета могли ознакомиться с законом лишь после того, как главный судья колонии подтвердит его соответствие законам Англии «настолько, насколько это допускают условия колонии» [145, с. 99].
Британское правительство оставляло за собой последнее слово в вопросах законодательной деятельности в колонии. Разделы 30 и 31 Акта 1823 г. предусматривали передачу всех принятых в колонии законов в британский парламент и право правительства в течение трех лет объявить недействительным любой из них.
В соответствии с Актом 1823 г. в Новом Южном Уэльсе в 1825 г. был образован Законодательный совет в составе семи членов, из которых четыре были чиновники колониальной администрации. Такой же орган был создан на Земле Ван Димена.
В соответствии с Актом 1823 г. были внесены изменения и в судебную систему. Он предусматривал создание высших судов в Новом Южном Уэльсе и на Земле Ван Димена, каждый из которых возглавлялся главным судьей, назначавшимся указом короля. Было оговорено, что число судей может быть увеличено до трех.
Обвинение в уголовных делах поддерживал генеральный прокурор или «другое лицо, назначенное для этой цели». Заседатели назначались губернатором из офицеров флота или армии. Суды рассматривали и гражданские дела. В этом случае в их состав входили главный судья и два его помощника, назначавшиеся губернатором. Последнему предоставлялось право создавать местные суды, так называемые суды просьб, для рассмотрения гражданских дел, иски по которым не превышали 10 ф. ст.
В связи с принятием Акта 1823 г. потребовалось внести изменения в инструкцию правительства, на основании которой губернатор Нового Южного Уэльса осуществлял свою деятельность. Т. Брисбен, вступивший в должность губернатора в декабре 1821 г., руководствовался инструкцией, расходившейся с новым порядком управления колонией, что приводило к недоразумениям и спорам между губернатором и чиновниками колониальной администрации, назначенными в соответствии с Актом 1823 г.
Новая инструкция была разработана лишь в 1825 г., получил ее уже новый губернатор — Дарлинг. В соответствии с этим доку
4 Заказ 91
49
ментом Дарлинг одновременно являлся губернатором Нового Южного Уэльса и Земли Ван Димена, где его представляло специальное должностное лицо в ранге помощника губернатора. Инструкция предусматривала создание еще одного органа — Исполнительного совета, который создавался как в Новом Южном Уэльсе, так и на Земле Ван Димена. В инструкций не только устанавливалась процедура работы советов; но и назывались фамилии их членов. Правда, губернатор имел право приостановить полномочия того или иного члена совета и заполнить неожиданно возникавшую вакансию, однако любое его решение такого рода затем направлялось на рассмотрение британского правительства.
Губернатор обязан был по всем вопросам консультироваться с членами совета и действовать в соответствии с их рекомендациями, за исключением экстренных случаев, когда не было времени собрать заседание совета, а также при ясности и незначительности дела. Выносить дела на обсуждение должен был губернатор, однако члены совета могли просить губернатора поставить на обсуждение тот или иной вопрос. На каждом заседании велся: протокол. Дважды в год эти протоколы посылались на рассмотрение британского правительства. Губернатор имел право не согласиться с мнением членов совета и поступить по своему усмотрению. Но в этом случае он должен был послать британскому правительству записку с подробным объяснением своих действий.
По мере возникновения других британских колоний в Австралии в них создавались исполнительные советы. Понятно, что губернаторы, привыкшие к диктаторским полномочиям, весьма неохотно признавали этот орган. Губернатор Дарлинг постоянно конфликтовал с представителями своей администрации и часто, игнорировал мнение членов Исполнительного совета. В 1828 г. министр колоний Д. Муррей писал Дарлингу, что, просматривая протоколы заседаний Исполнительного совета, переданные в министерство, он обнаружил, что решения по большинству важнейших общественных дел колонии принимаются без консультации с этим органом. Министр колоний советовал губернатору читать инструкции и руководствоваться ими [145, с. 109—НО].
Действие Акта 1823 г. было рассчитано на четыре года (до 1 июля 1827 г.). Поэтому именно в 1827 г. развернулась особенно острая борьба за дальнейшие реформы в области управления в колониях. Надо сказать, что и до этого колонисты в Новом Южном Уэльсе неоднократно выражали неудовлетворенность системой управления. Проходили массовые митинги, где принимались петиции к королю, правительству и парламенту. Газета «Острэйлиен», начавшая выходить в 1824 г., а затем газета «Монитор», появившаяся в 1826 г., печатали материалы, в которых содержались требования реформы управления.
26 января 1827 г. в Сиднее состоялся митинг, которым руководил один из лидеров и теоретиков реформистского движения — У. Уэнтворт. В петиции, принятой на митинге, говорилось: дворянство, купечество, землевладельцы, фермеры, торговцы и дру-
50
гие свободные жители Нового Южного Уэльса надеются, что они обретут гражданские свободы и будут поставлены в такие же условия, какие существуют во всех других колониях, заселенных британскими подданными [145, с. 135].
Однако британское правительство не приняло во внимание эти петиции и выработало проект нового закона, не отличавшийся по существу от Акта 1823 г. Поскольку проект был представлен в палату общин в самом конце сессии, его решили рассмотреть на следующей сессии, а действие Акта 1823 г. продлить еще на один год.
После возобновления работы парламента законопроект был принят без изменений, несмотря на волну протестов против него, прокатившуюся в Австралии. Королевским указом от 25 июля 1828 г. этот акт был введен в действие.
Акт 1828 г. не менял системы управления, существовавшей в Новом Южном Уэльсе. Компетенция Исполнительного и Законодательного советов и их взаимоотношения с губернатором колонии оставались прежними. Число членов Законодательного совета увеличивалось до 15. Правила, согласно которым предлагаемый губернатором проект закона должен был получить предварительно поддержку большинства Законодательного совета, а главный судья мог признать его недействительным, были отменены. Вместо этого было введено правило, устанавливавшее, что в течение 14 дней после введения губернатором закона в действие Верховный суд может заявить протест и отказаться от его регистрации.
В области судопроизводства было отменено правило, в соответствии с которым решения Верховного суда обжаловались в апелляционном суде при губернаторе. Апелляции на решения Верховного суда колонии передавались теперь прямо в английский суд. Действие Акта 1828 г. было сразу же распространено на Землю Ван Димена. После образования колоний Западная Австралия (1829 г.) и Южная Австралия (1834 г.) там была создана система управления, аналогичная той, которая существовала в Новом Южном Уэльсе. Управление Порт-Филлипа осуществлялось из Сиднея через суперинтенданта и его аппарат.
Значительные изменения системы управления в Новом Южном Уэльсе произошли через 14 лет, что было зафиксировано в Акте 1842 г. Законодательный совет был расширен до 36 членов, из которых 12 назначались королем, а 24 избирались. При этом предусматривалось, что более половины назначенных членов совета могут быть чиновниками колониальной администрации. Члены совета сохраняли свои полномочия в течение пяти лет. Активным избирательным правом пользовались лица, достигшие 21 года и имевшие земельные участки стоимостью 200 ф. ст. или дом, приносивший доход до 20 ф. ст. ежегодно; пассивным — лица, достигшие 21 года и имевшие земельные участки стоимостью 200 ф. ст. Избиратели должны были быть британскими подданными по рождению или после натурализации. Заключенные не имели права голоса.
4*
51
Сессии Законодательного совета проводились не менее одного раза в год. Их место и время устанавливал губернатор. Последний имел право продлить полномочия Законодательного совета и распустить его. Совет назначал своего спикера, устанавливал правила процедуры. Правда, все это должен был утверждать губернатор, который терял исключительное право законодательной инициативы, но мог просить совет рассмотреть разработанный им закон, а также предлагать поправки и дополнения к проектам законов, подготовленным самим советом.
Британское правительство сохраняло за собой право в течение двух лет отменить любой закон, принятый советом.
Законодательный совет контролировал финансы колонии, исключая доходы, получаемые с коронных земель, а также расходы на содержание колониальной администрации (британское правительство выделяло на эти нужды 81,6 тыс. ф. ст.).
Актом 1842 г. предусматривалось создание местных органов управления. Губернатору было предоставлено право определять границы районов и создавать там советы. Первый их состав был предложен губернатором, но в дальнейшем они избирались населением района. Число членов* совета зависело от числа жителей района. Избирались они на три года. Во главе советов стояли председатели, назначавшиеся и смещавшиеся губернатором.
В компетенцию совета входили вопросы, касавшиеся назначения и смещения должностных лиц в районе, но эти решения должен был утвердить губернатор. Советам предоставлялось право-рассматривать и решать дела местного значения, включая право взимать пошлины и налоги с имущества, устанавливать размеры штрафов и т. п. Советы также обязаны были собирать и вносить в бюджет колонии определенную сумму на содержание полиции колонии. Ее размер, определявшийся губернатором и Законодательным советом, зависел от размера района. В случае увеличения этой суммы совету предоставлялось право взимать налоги со всех видов собственности.
Акт 1842 г. устанавливал право английского короля определять границы Нового Южного Уэльса, образовывать новые колонии на его территории. Однако земли, лежащие южнее 26-й параллели, отделять от Нового Южного Уэльса воспрещалось.
На основании Акта 1842 г. в Новом Южном Уэльсе были проведены выборы в Законодательный совет. Избирательные цензыу введенные актом, весьма ограничили участие населения в выборах. В то время в колонии проживало 160 тыс. человек, но в выборах участвовало лишь 8477 человек (табл. 4).
Естественно, что такой порядок вызывал недовольство населения. В ряде городов были отмечены волнения, которые привели к человеческим жертвам.
В течение 1843 г. на территории Нового Южного Уэльса было создано 29 районов и сформировано такое же количество местных советов.
Количественный состав членов советов устанавливался в за-
52
Таблица 4
Представительство в Законодательном совете Нового Южного Уэльса *
Города и населенные пункты Число избирателей Число избранных членов Законодательного совета
Сидней . . . • . • 2823 2
Кумберленд .... 1344 2
Гембден 386 2
Нортамберленд 369 1
Даргем Другие населенные пунк- 345 1
ты 2619 16
Итого | 8477 24
* Н. Е. М a i d а и. The History of Local Government in New South Wales, c. 51.
висимости от численности населения района. Районы с населением до 7 тыс. человек имели совет в составе 9 человек, от 7 да 10 тыс.— 12, от 10 тыс. до 20 тыс.—15, 20 тыс. и более — 21 человека [142, с. 51].
Британские колонии в Австралии развивались, поэтому уже через несколько лет после принятия Акта 1842 г. британское правительство вновь было вынуждено заниматься модификацией системы колониального управления на пятом материке. В 1848 г., специальный правительственный комитет начал подготовку нового законопроекта о конституционном устройстве британских колоний в Австралии. В июне 1849 г. этот законопроект был представлен на рассмотрение парламента. В нем предусматривалось отделение Порт-Филлипа от Нового Южного Уэльса и создание самостоятельной колонии — Виктории, в которой должна действовать система управления, введенная в Новом Южном Уэльсе Актом 1842 г.
Аналогичная система распространялась на колонии Южная Австралия, Земля Ван Димена и Западная Австралия. Но законодательные органы этих колоний уже получили право изменять цензы для избирателей и избираемых, варьировать численность советов, создавать в них двухпалатную систему. Была установлена, новая шкала расходов на управление колониями Новый Южный Уэльс, Земля Ван Димена и Южная Австралия. Предусматривалось создание Генеральной ассамблеи Австралии, состоящей из генерал-губернатора и палаты делегатов, члены которой избирались законодательными советами колоний (по два человека от колонии). Однако компетенция ассамблеи определена не была.
Нетрудно заметить, что законопроект, кроме оформления автономии новой колонии — Виктории, не вносил ничего нового в
53
действовавшее конституционное устройство британских колоний в Австралии.
Законопроект вызвал всеобщее недовольство в Австралии. В Сиднее и Мельбурне проходили массовые митинги. В Мельбурне основные требования сводились к скорейшему отделению от Нового Южного Уэльса; в Сиднее участники выступлений требовали либерализации избирательного закона, резкого снижения имущественного ценза и при пассивном и при активном избирательном праве. В северных районах Нового Южного Уэльса заметно усилились сепаратистские тенденции: ширились многочисленные выступления, участники которых требовали отделения этих районов от Нового Южного Уэльса. Это в значительной мере объяснялось тем, что скотоводы северных районов, испытывавшие острую нехватку рабочих рук, выступали за продолжение транспортировки в Австралию заключенных, в то время как население южных районов колонии придерживалось противоположной позиции. В петиции, направленной британскому правительству в мае 1850 г., скотоводы-северяне требовали отделения от Нового Южного Уэльса и транспортировки в их колонию ежегодно 2 тыс. заключенных и такого же числа свободных иммигрантов [75, с. 110].
Все эти обстоятельства заставили британское правительство отозвать законопроект 1849 г., пересмотреть его и вновь представить парламенту в 1850 г.
Однако и в измененном законопроекте содержалось лишь одно нововведение: возможность отделения от Нового Южного Уэльса территорий, расположенных севернее 30-й параллели. После довольно ожесточенных дебатов и в палате общин и в палате лордов, в ходе которых в законопроект были внесены некоторые поправки и дополнения, он был одобрен парламентом и введен в действие королевским указом от 5 августа 1850 г.
Но и в своем окончательном виде Акт 1850 г. не вносил каких-либо принципиальных изменений в конституционное устройство колоний. В этом смысле прав был лорд Дж. Грей, который, направляя копию акта губернатору Нового Южного Уэльса Фиц-рою, писал, что парламент решил сохранить, насколько это возможно, существовавшую систему управления в колонии, распространив ее в то же время на другие британские колонии в Австралии [145, с. 373]. Наиболее важными были разделы акта, в которых речь шла о создании новой колонии — Виктории — ио предоставлении королю права создать новую колонию на территории (севернее 30-й параллели), принадлежавшей Новому Южному Уэльсу. Предусматривалось, что в этих колониях будет введено конституционное устройство, аналогичное существовавшему в Новом Южном Уэльсе. Такая же система управления вводилась на Земле Ван Димена и в Южной Австралии. Что касается Западной Австралии, то в акте говорилось, что действующая там система управления будет сохранена до тех пор, пока не менее 73 населен ния колонии не потребует ее изменения.
Акт 1850 г. устанавливал своего рода иерархию губернаторов 54
британских колоний в Австралии. Старшим среди них становился губернатор Нового Южного Уэльса, который получал титул генерал-губернатора и формально становился губернатором всех существовавших тогда колоний. Губернаторы же Земли Ван Димена, Виктории, Южной Австралии низводились на должность помощников губернатора, хотя и сохраняли право поддерживать непосредственную связь с британским министерством колоний. Так был сделан первый шаг на пути объединения колоний в Австралии. Однако в 1855 г. титулы губернаторов были возвращены всем управляющим колониями; правда, за управляющим Новым Южным Уэльсом титул генерал-губернатора сохранялся до 1861 г. Но практически этот титул никакой дополнительной реальной власти губернатору Нового Южного Уэльса не давал. Интересно отметить, что Виктория, всегда ревниво относившаяся к прерогативам северной соседки, выплачивала своему губернатору жалованье, превышавшее жалованье губернатора Нового Южного Уэльса на 2 тыс. ф. ст. в год [130, с. 165].
Акт 1850 г. несколько снижал имущественный ценз при активном избирательном праве. Активным избирательным правом пользовались лица, владевшие земельными участками стоимостью 100 ф. ст. или занимавшие дома, которые приносили доход в 10 ф. ст. ежегодно. Кроме того, право голоса предоставлялось лицам, получившим лицензии на пользование пастбищами или внесшим арендную плату за землю в размере 10 ф. ст. в год. В связи с этим Законодательному совету Нового Южного Уэльса было дано право определить новое число своих членов и создать соответствующее количество избирательных округов.
Акт 1850 г. сохранял без изменений установленную Актом 1842 г. систему местного управления.
В январе 1851 г. Акт 1850 г. был передан губернатором сессии Законодательного совета Нового Южного Уэльса для ознакомления. Совет заявил, что разочарован актом, и создал специальный комитет для подготовки официального протеста. В протесте отмечалось, что в Акте 1850 г. повторены все разделы Акта 1842 г., ограничивавшие права британского населения колонии. Буквально на следующий день Законодательный совет был распущен [145, с. 380]. Петиция совета была послана губернатором Ч. Фицроем в Лондон.
Новый, избранный в соответствии с Актом 1850 г., Законодательный совет Нового Южного Уэльса состоял уже из 54 членов. Назначенных членов было 18, из них 9 являлись чиновниками колониальной администрации, а 9 других— частными лицами. Из 36 избранных членов совета 11 представляли население городов колонии, 17 — население графств и 8 — скотоводов, владевших пастбищными землями, которые находились за территорией графств.
Отношение нового состава совета к Акту 1850 г. было таким; же, как и предыдущего. В своем обращении к королю и парламенту совет заявил, что «постоянное и грубое вмешательство» министерства колоний «даже в дела чисто местного значения» нано-
5S
сит большую обиду колонии и затрудняет развитие ее связей с Великобританией. Законодательный совет выражал желание разработать новую конституцию колонии, которая предусматривала бы значительное расширение компетенции ее органов управления [145, с. 382—383].
Не дождавшись ответа британского правительства ни на петицию предшествовавшего состава, ни на свою собственную, Законодательный совет в июне 1852 г. создал комитет для подготовки проекта новой конституции. В сентябре 1852 г. комитет представил на рассмотрение совета три варианта проекта конституции. Ответ же британского министерства колоний, в котором давалось согласие на разработку новой конституции, был отправлен в Сидней лишь в январе 1853 г. За это время в министерстве Д. Грея сменил Д. Па-кингтон, а последнего— герцог Ньюкаслский.
Из трех вариантов проекта наибольший интерес вызвал третий, поскольку первый представлял собой попытку механически применить к Австралии британское конституционное устройство, а во втором главное внимание уделялось вопросам расширения финансовой компетенции колонии. Согласно третьему варианту законодательный орган колонии должен был состоять из двух палат: верхней — Законодательного совета, члены которого назначались пожизненно, и нижней — Законодательной ассамблеи, члены которой избирались на 5 лет, причем для избирателей сохранялся имущественный ценз, предусмотренный Актом 1850 г. В проекте предлагалось предоставить этому органу неограниченную компетенцию в вопросах местного значения.
Обсуждение представленных комитетом вариантов законопроекта в Законодательном совете затянулось. В мае 1853 г. Законодательный совет, учитывая многочисленные замечания и предложения по поводу конституционного устройства колонии, создал новый комитет, которому было поручено пересмотреть законопроекты 1852 г. В июле 1853 г. новый проект конституции был представлен на рассмотрение совета. Этот проект немногим отличался от третьего варианта законопроекта 1852 г. (несколько изменялся порядок формирования верхней палаты, но принцип назначения ее членов сохранялся, снижался имущественный ценз для избирателей). В Лондоне новый проект был получен лишь в конце мая 1854 г., когда сессия парламента подходила к концу и рассмотреть первый конституционный проект практически не представлялось возможным. К тому же в это время в Лондон поступили проекты конституций Виктории и Южной Австралии, разработанные законодательными советами этих колоний. Поэтому все конституционные проекты были переданы в юридическую комиссию и лишь в мае 1855 г. поступили на рассмотрение палаты общин. В Акте 1855 г., принятом после бурной дискуссии, конституционное устройство Нового Южного Уэльса представлялось в следующем виде.
Законодательный орган колонии состоял из двух палат. Верхняя палата — Законодательный совет — включала не менее 21 пожизненно назначаемого члена в возрасте не моложе 21 года, имею-56
щего британское подданство либо по рождению, либо после натурализации. Нижняя палата — Законодательная ассамблея — состояла из 44 выбранных членов. Они также должны были быть не моложе 21 года и иметь британское подданство. Сохранялся имущественный ценз для избирателей. Право голоса получали лица, имевшие земельные участки стоимостью 100 ф. ст. или доход в 100 ф. ст. либо платившие за квартиру или дом ежегодно не менее 40 ф. ст. Члены ассамблеи избирались на пять лет.
Законодательному органу колонии предоставлялась неограниченная компетенция в законодательной деятельности, касавшейся вопросов местного значения, а также контроль за коронными землями и получением доходов с них. Законодательный орган, однако, не наделялся правом назначать должностных лиц колониального управления. Всех чиновников администрации назначал губернатор по согласованию с Исполнительным советом.
Принципы конституционного устройства Нового Южного Уэльса были распространены на другие колонии в Австралии.
Начиная с 1856 г. в Новом Южном Уэльсе, а затем и в других колониях были созданы собственные правительства. Движение скотоводов северных районов Нового Южного Уэльса за создание там отдельной колонии в этот период особенно усилилось и привело в декабре 1859 г. к образованию новой колонии — Квинсленд. Заметная активизация политического развития британских колоний в Австралии в начале 50-х годов объяснялась резким изменением экономической ситуации.
В течение первых десятилетий существования колонии Новый Южный Уэльс расстановка общественных сил в ней определялась во многом ее каторжным происхождением. Даже в начале 20-х годов XIX в. колония оставалась «паразитической и инертной тюремной фермой» [121, с. 22], которую населяли заключенные и надзиратели. Но процесс классовой дифференциации шел и в те годы. Офицеры и солдаты охраны и гражданские чиновники колониальной администрации получали земельные участки, и интересы их сосредоточивались на поисках способов скорейшего обогащения. На заключенных они смотрели лишь как на даровую рабочую силу. В то же время заключенные, отбывшие сроки наказания и получившие землю, пополняли свободное земледельческое и скотоводческое население колонии, объединенное своими корпоративными интересами и делами.
Поток свободных британских иммигрантов, хлынувший в Австралию в 30—40-е годы XIX в., и прекращение транспортировки заключенных привели к значительному изменению состава населения британских колоний на Австралийском континенте.
С одной стороны, свободные иммигранты усилили количественно и качественно состав власть имущих. Все большую силу и влияние в колониях стали приобретать крупные землевладельцы, банкиры, торговцы, промышленники. С другой стороны, свободные иммигранты в несравненно более значительных масштабах увеличивали городской и сельский пролетариат колоний. Кроме того,
57
обе эти основные группы населения пополнялись за счет заключенных, отбывших срок наказания.
В это время в британских колониях в Австралии образовались два основных политических течения, идеологи которых дали им традиционные для Англии названия — тори и виги. Среди первых главную роль играли крупные землевладельцы из бывших офицеров и чиновников колониальной администрации, в их числе семьи Маккартуров, Боуменов, Думейресков, Хейсаллов, Джонсов, Клоусов и Тросби. Они совершенно не допускали в свою среду бывших заключенных, даже выбившихся, по их понятиям, «в люди», т. е. приобретших капитал. Политическим идеалом тори было создание «респектабельного назначенного совета», который управлялся бы олигархией, состоявшей из них самих и высших чинов колониальной администрации [70, с. 55]. Эти старые колониальные магнаты «установили специфический абсолютизм, характеризовавшийся искусственным сочетанием чувства полновластия, с одной стороны, и повиновения — с другой» [161, т. 1, с. 17].
Виги, или эмансиписты, также представляли зажиточные слои колоний. Они допускали в свой круг бывших заключенных, если те достигли необходимого имущественного положения. Лидеры их — Уэнтворт, Джеймсон, Форбес и Бленд (бывший заключенный)— выступали за развитие самоуправления колоний, создание «представительной власти».
Противоречия между этими группировками, с самого начала не носившие принципиального характера, в 40-х годах XIX в. совсем исчезли. Объединенными силами тори и виги начали выступать за проведение таких реформ управления, которые обеспечили бы их общие экономические интересы. Они добились значительно большей независимости правительств колоний от Англии в делах местного управления.
Рабочее движение в британских колониях в Австралии зародилось в 20-е годы XIX в. В это время начали создаваться общества взаимопомощи. В 1831 г., когда общая численность европейского населения на всем континенте не превышала 80 тыс. человек, действовало несколько таких организаций. Первое общество взаимопомощи возникло на верфях в Сиднее, затем были созданы еще три подобных общества в других отраслях.
К сожалению, не сохранилось уставов обществ взаимопомощи лого периода, но, судя по газетным сообщениям, их цели сводились главным образом к оказанию финансовой помощи членам организации в случае болезни, а также семьям в случае их смерти.
В 1844 г. в Мельбурне возникло общество взаимопомощи печатников. Вступительный взнос составил 5 шилл., членский — 1 шилл. в неделю. Если член общества заболевал или терял работу, он получал в течение определенного периода от 12 до 15 шилл. в неделю, а затем тоже в течение определенного срока — половину этой суммы. На похороны выделялось 5 ф. ст.
В 1845 г. возникла Австралийская ассоциация прогрессивных плотников и столяров, в задачу которой входило уже не только
58
оказание материальной помощи своим членам, но и забота об их интеллектуальном развитии. Аналогичные цели ставили и другие объединения, создаваемые в 40-е годы. Например, Ассоциация торговцев тканями в Сиднее в резолюции своего учредительного собрания отмечала: «Цель ассоциации — моральное и интеллектуальное развитие ее членов; в контакте с ней будет работать общество’ взаимопомощи, которое поддержит членов ассоциации при заболеваниях, потере работы и в других случаях, требующих помощи,, а также общество, призванное проводить дискуссии по темам, представляющим научный интерес» [180, с. 32—33].
Под влиянием широкого рабочего движения, развернувшегося в Англии в 1824—1844 гг., в Австралии начинают создаваться профсоюзные организации, проводятся первые забастовки и стачки. К середине XIX в. в Сиднее существовало около 25 профсоюзов, в Хобарте — 13. Небольшое число профсоюзов было в Мельбурне и Аделаиде.
В начале своей деятельности профсоюзы лишь требовали улучшения условий труда рабочих и служащих. Но уже эти первые организованные выступления рабочего класса испугали власти. В «Сидней газетт» от 20 августа 1840 г. можно было прочитать: «Стачечная мания, похоже, распространилась по всей Австралии. Бастуют портовики и представители многих других профессий. В газетах, полученных из Порт-Филлипа, сообщается, что плотники и столяры начали забастовку, отказавшись работать меньше чем за четыре гинеи в неделю... Любой простак воротит нос от зарплаты меньше чем один фунт в неделю» [180, с. 33]. В 1841 г. бастовали портные Сиднея, плотники и столяры Мельбурна. Последние требовали от предпринимателей увеличения зарплаты до 14 шилл. в неделю.
Власти отвечали на выступления рабочих репрессиями, Несмотря на широкое движение протеста, был принят Акт об отношениях между предпринимателями и рабочими, согласно которому забастовки и стачки за изменения условий труда карались тюремным заключением. Например, в 1848 г. 10 моряков были приговорены к различным срокам тюремного заключения за откаа выйти на работу [180, с. 33].
Постепенно требования профсоюзов расширялись. Они добивались участия рабочих в решении всех важных для жизни колоний вопросов. Однако от лица рабочих на всех публичных митингах во время политических кампаний выступали представители так называемых средних слоев: журналисты, коммерсанты, бывшие военнослужащие и т. д. Наиболее активными среди них были Н. Кен-тиш, У. Дункан, Д. Бибб, Д. Макичерн, У. Эдвардс, X. Макдермотт и Р. Хоркисс [70, с. 57].
Они протестовали против доставки заключенных в Австралию,, добивались ограничения использования их труда, так как ссыльные являлись конкурентами свободных рабочих. Это обстоятельство привело к созданию в 1833 г. Общества эмигрантов-механиков. Движение за снижение цен на хлеб вызвало к жизни в 1839 г.
5£>
Объединенную мучную и хлебную компанию. Безработица, явившаяся следствием экономического спада в начале 40-х годов, способствовала увеличению числа обществ взаимопомощи. В 1843 г. появилась Ассоциация взаимной защиты, целью которой было обеспечение представительства рабочих в советах, защита их интересов, борьба за проведение земельной реформы. Последняя должна была заключаться в перераспределении земли, с тем чтобы •основной формой землевладения в колониях был небольшой, равный для всех земельный участок.
Следует подчеркнуть, что в первой половине XIX в. рабочее движение в британских колониях в Австралии не оказывало еще существенного влияния на общественную жизнь.
В этот период начинает складываться собственная культура британских колоний в Австралии. Правда, она носит еще подражательный характер, копируя культуру Великобритании. Литературные произведения, появившиеся в 40—60-е годы, были ориентированы на вкусы читательской публики Британских островов и писались в распространенной там манере. Примером литературы такого рода могут служить повести Ч. Роукрофта «Колониальные рассказы» (1843 г.), К. Спенс «Клара Морисон» (1854 г.), Г. Кинг-лея «Воспоминания Джоффри Хемлин» и др., поэмы Ч. Херпура, У. Уэнтворта, Г. Кендалла. Появляются первые книги, посвященные истории британской колонизации Австралии, такие, как «История Тасмании» Д. Уэста (1852 г.) и др. Из английских авторов наиболее читаемым в Австралии был Ч. Диккенс.
К середине XIX в. выходит довольно много газет. В 1840, г., например, в одном Новом Южном Уэльсе выпускалось 10 газет, крупнейшей среди которых была «Сидней морнинг геральд», основанная в 1831 г. и ставшая ежедневной с 1841 г. Но большинство газет довольно быстро закрывалось. Так, в 1850—1860 гг. в Новом Южном Уэльсе появилось 50 газет, из которых лишь 8— 9 просуществовали более двух лет [186, с. 106].
Что касается живописи, то до 1850 г. она была английской «по характеру и чувству». Поскольку меценатами являлись богатые землевладельцы, наибольшее распространение в живописи получили портрет и сельский пейзаж.
Регулярные музыкальные концерты начались в Сиднее после 1826 г. Первый театр был открыт в Сиднее в 1833 г., в Хобарте в 1834 г., в Мельбурне в 1842 г., в Аделаиде в 1846 г. В театрах ставились как драматические, так и оперные спектакли.
К середине XIX в. британские колонии в Австралии характеризовались, хоть это и звучит парадоксально, высокой степенью урбанизации. Так, в Сиднее в 1850 г. насчитывалось 53 924 жителя, что составляло около 30% всего населения Нового Южного Уэльса [70, с. 95]. Города становились политическими центрами, в них концентрировалось руководство торгово-экономической и финансовой жизнью колоний. Наиболее крупные города являлись в то же время крупнейшими портами, через которые колонии осуществляли все внешнеторговые операции.
Глава IV
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БРИТАНСКИХ КОЛОНИЙ В АВСТРАЛИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
Образование в различных частях Австралии британских колоний, отделенных часто друг от друга громадными пространствами, их экономическое развитие требовали дальнейшего, более углубленного изучения Австралийского материка.
Южная Австралия и Виктория настойчиво искали путь с юга на север континента. ]В начале 1860 г. правительство Южной Австралии объявило, что выдаст премию в размере 2,5 тыс. ф. ст. тому, кто первым отыщет этот путь. На призыв правительства колонии откликнулись двое — Д. Стюарт и Р. Берк; последний из соседней колонии — Виктории.
Д. Стюарт был опытным исследователем. Он принимал участие еще в экспедициях Стерта в 40-х годах XIX в. Получив помощь от скотоводов В. Финка и Д. Чемберса, он с двумя спутниками вышел 2 марта 1860 г. из Чемберс-Крик и направился на север, туда, где еще не ступала нога европейца. Экспедиция имела 13 лошадей. 22 апреля Стюарт достиг географического центра Австралийского материка. Двигаясь дальше на север, Стюарт и его спутники встретили местных жителей. Между ними произошла схватка, вынудившая Стюарта вернуться в Аделаиду. Но, узнав, что Р. Берк из Мельбурна отправился в экспедицию, Стюарт снова заторопился в путь. На этот раз расходы на снаряжение экспедиции согласилось взять на себя правительство Южной Австралии. Стюарт двинулся по уже исследованному им пути и прошел па 100 миль дальше того места (Атак-Крик), которого он достиг во время первого путешествия. Выбившись из сил, он вынужден •был повернуть назад.
Однако прекращать свои исследования он не думал. 26 октября 1861 г. Стюарт с девятью спутниками отправился в свою третью экспедицию на север. На этот раз экспедиция была успешной. 24 июля 1862 г. Стюарт и его спутники достигли северного побережья материка у устья реки Аделаида. Стюарт был восхищен землями, которые он проходил на последнем этапе своего путешествия. «Если эта страна будет заселена,— писал он,— она станет одной из прекраснейших колоний британской короны» [197, с. 83]. Но надо было возвращаться назад. Преодоление 2 тыс.
61
миль потребовало от путешественников всех сил. Еле живые, Стюарт и его спутники вернулись в декабре 1862 г. в Аделаиду.
Город был погружен в траур: в этот же день в Аделаиду на пути в Мельбурн были доставлены тела Берка и его товарища Уиллса, которые погибли, возвращаясь из экспедиции. Они первыми достигли северных районов Австралии, пройдя материк с юга на север. Это произошло в феврале 1861 г. Однако премию правительства Южной Австралии получил все-таки Стюарт.
Сначала ничто не предвещало столь трагического конца экспедиции Берка. Мельбурн сделал все, чтобы представители Виктории первыми добрались до северной оконечности Австралии. Организация экспедиции стоила 12 тыс. ф. ст. Из Карачи были доставлены верблюды, сопровождаемые погонщиками-индийцами, для того чтобы ускорить движение экспедиции. Кроме этого экспедиция имела лошадей и специально изготовленные повозки для транспортировки снаряжения и продовольствия.
20 августа отряд в составе 18 человек, имевший 26 верблюдов и 22 лошади, покинул Мельбурн. Тысячи жителей города провожали его. Руководитель комитета по организации экспедиции, главный судья колонии У. Стэвелл в напутственной речи особенно настаивал на необходимости сохранения согласия среди ее членов. Но они перессорились еще до того, как покинули заселенные места. Двух членов экспедиции Берк отослал обратно в Мельбурн.
10 ноября 1860 г. часть экспедиции во главе с Берком достигла Куперс-Крик. В течение пяти недель Берк ждал подхода остальных участников экспедиции, возглавляемых Брейхом, но, потеряв терпение, 16 декабря двинулся к заливу Карпентария. И февраля следующего года Берк и его спутники достигли берега залива, но они израсходовали большую часть продовольствия. На обратном пути путешественники испытывали настоящий голод. Наконец 21 апреля после невероятных лишений они вернулись в Куперс-Крик, уверенные в том, что найдут там остальных членов экспедиции. Но они обнаружили лишь небольшое количество продуктов и записку, в которой говорилось, что Брейх и его группа утром этого же дня ушла из лагеря. Тогда Берк решил идти в сторону Хоуплесса, находившегося в 150 милях от Куперс-Крик, надеясь найти там скотоводческую станцию. Но сделать это совершенно истощенным путешественникам не удалось. Все они, кроме одного участника экспедиции — Кинга, погибли в июне 1861 г. Кинг же выжил и попал к местным жителям.
Мельбурн был очень встревожен исчезновением Берка и его спутников. На их поиски отправились экспедиции А. Хоуитта, У. Лендсборо, Ф. Уокера и Д. Мак-Кинли. В середине сентября 1861 г. А. Хоуитт нашел Кинга, а затем останки Берка и Уиллса.
Поиски экспедиции Берка позволили исследовать некоторые районы северо-восточной части Австралии.
Так, Мак-Кинли, выйдя из Аделаиды в августе 1861 г., 22 мая 1862 г., т. е. на два месяца раньше Стюарта, достиг залива Кар
62
пентария. Он не только пересек континент, но и привел с собой небольшое стадо овец. В дальнейшем Мак-Кинли в течение ряда лет по заданиям правительства Южной Австралии исследовал северное побережье материка.
В конце 60-х и в 70-е годы XIX в. ряд экспедиций исследовали западную часть Австралии. Среди них следует отметить экспедиции, возглавляемые Э. Джейлсом (1872—1876 гг.), П. Уорбер-тоном (1873 г.), Д. Форрестом (1874 г.) и А. Форрестом (1879 г.).
В 90-е годы XIX в. исследование западноавстралийских пустынь было продолжено. Большую пустыню Викторию исследовала в 1891’ г. экспедиция Д. Линдсея; в 1896—1897 гг. Большую Песчаную пустыню исследовали экспедиции Л. Уэлса, Д. Карнеги и Г. Флетчера.
Таким образом, во второй половине XIX в. исследователи прошли Австралийский материк с юга на север и с запада на восток. Но это было лишь первое и довольно поверхностное знакомство европейцев с «таинственной Южной землей». Слово «поверхностное» можно в данном случае применить и в прямом и в переносном смысле, ибо исследователей главным образом интересовала поверхность материка; они искали новые земли для полеводов и скотоводов. Недра земли путешественников интересовали .значительно меньше.
История колониализма свидетельствует о том, что поиски золота и других драгоценных металлов часто являлись той движущей силой, которая заставляла европейцев покидать родину и устремляться в неведомые дали в поисках новых земель.
Об этом пишут и буржуазные ученые. «Из прославленных бандитов,— отмечает А. Деберль,— хотели бы сделать нечто вроде .апостолов и видеть в них только ревнителей христианства, веровавших, что похвально и достойно нападать на всякого язычника и убивать его; но нет большей лжи, чем эта! Совершенно верно, что перед сражением они выслушивали мессу и шли резать в сопровождении священников, но это была с их стороны мера предосторожности в виде сохранения установленных отношений с Небом. Единственной их целью — и они никогда не имели другой — было разыскание золота; даже сама центральная власть не имела более благородного двигателя, чем корыстолюбие» [48, с. 87—88].
Откровенно хищнический характер колониализма проявился буквально с первых же дней его существования. Известный французский ученый П. Леруа Болье писал: «Золото, служившее для испанцев сначала единственной приманкой, не всегда способно было прикрепить их к одному месту, они устремлялись во все страны, где только надеялись отыскать это золото» [56, с. 4—5].
Процесс же британской колонизации Австралии в этом отношении развивался иначе вследствие того, что первые десятилетия пятый континент рассматривался лишь в качестве места ссылки каторжников, колониальные власти сначала не поощряли поиски месторождений золота, ибо обнаружение его могло вызвать большие беспорядки в колониях. Когда польский исследователь
63
П. Стшелецкий в 1839 г. обнаружил золото около Хартли (между Синими горами и Батерстом) и сообщил об этом губернатору Нового Южного Уэльса Гиппсу, то последний заметил: «Оставьте это, или нам всем перережут глотки!» [106, с. 97].
Однако частные попытки найти месторождения золота продолжались. Поступали все новые и новые сообщения о случаях обнаружения золота. Видя это, британское правительство решило взять в свои руки организацию научного геологического исследования Австралийского материка и в 1851 г. направило в Новый Южный Уэльс правительственного геолога Стетчборна, которому и была поручена эта работа.
К этому времени, как уже отмечалось выше, общая экономиче-ская и политическая обстановка в британских колониях в Австралии очень сильно изменилась. Крепнувшая местная буржуазия все настойчивее требовала большей самостоятельности, освобождения от опеки правительства метрополии. Она была заинтересована в получении дополнительных источников обогащения, в частности, от эксплуатации месторождений золота. Поэтому отношение к открытию золота Э. Харгрейвсом в 1851 г. со стороны властей Нового Южного Уэльса было уже совсем иным.
Родившийся в 1816 г. в Англии, Э. Харгрейвс прибыл в Австралию как матрос в 1832 г. Сначала он занимался рыболовством в районе Торресова пролива, а затем стал скотоводом. После обнаружения золота в Калифорнии он в 1849 г. отправился туда, но успеха не добился и в январе 1851 г. вернулся обратно в Новый Южный Уэльс.
Однако «золотая лихорадка» поразила Харгрейвса настолько основательно, что единственным его стремлением после возвращения стали поиски золота. Уже 5 февраля 1851 г. он отправился в глубь континента на поиски золотоносных земель, а 20 марта продемонстрировал властям колонии первые 4 унции добытого им золота. Правительственным приказом Стетчборн был послан в указанный Харгрейвсом район, для того чтобы подтвердить открытие месторождения золота. Сам Харгрейвс был назначен правительственным комиссаром этих земель, получил денежную награду в 10 тыс. ф. ст., и ему была назначена пожизненная пенсия. В 1854 г. он был представлен королеве Виктории. Британское правительство, уверовав в его счастливую звезду, посылало Харгрейвса на поиски золота в Тасманию и Западную Австралию, но больше счастье ему не улыбнулось.
Слухи об открытии Харгрейвса положили начало «золотой лихорадке» в Австралии. Через две недели уже 500 человек исследовали район Соммер-Хилл. Ажиотаж увеличился еще больше, когда сначала один мальчик нашел золотой самородок весом 11 унций, а затем местный житель принес величайший в мире самородок золота весом 106 фунтов.
Правительство Нового Южного Уэльса должно было ввести специальное законодательство, регулировавшее эксплуатацию месторождений золота. 22 мая 1851 г. губернатор Ч. Фицрой издал
64
постановление, объявлявшее все обнаруженные месторождения золота собственностью королевы. На эксплуатацию месторождений выдавалась лицензия, за которую уплачивалось ежемесячно 30 шилл. В дальнейшем стоимость лицензии была понижена до 30 шилл. в квартал [79, с. 252—253]. В 1855 г. лицензии были заменены правами на добычу золота, выдававшимися при уплате 20 шилл. в год.
На поиски золота в колонии устремились десятки тысяч людей. Горные дороги были забиты людьми, двигавшимися пешком и на лошадях. Города и селения опустели. Открывались все новые и новые золотоносные земли. Добыча золота стремительно росла. Наибольшее количество золота было добыто в Новом Южном Уэльсе в -1852 г.— на 2 660 946 ф. ст. Затем добыча его стала падать: в 1862 г. золота было добыто на 2 467 780 ф. ст., в начале же XX в. стоимость добытого золота не превышала 1 млн. ф. ст. (в 1909 г., например, 869 540 ф. ст.) [79, с. 252—253].
Но добыча золота не стала, конечно, монополией Нового Южного Уэльса. «Золотая лихорадка» захватила и другие колонии. Особенно сильной она была в Виктории. Созданный в Мельбурне Викторианский комитет по обнаружению золота объявил премию в 200 ф. ст. за открытие месторождения золота на территории колонии. Такое открытие было сделано в июне 1851 г. Дж. Эсмондом, который, так же как и Э. Харгрейвс, побывал до этого в Калифорнии. Через несколько месяцев 46 тыс. человек из 77 тыс. населения бросились на поиски золота [115, с. 156].
Если в 1851 г. Виктория добыла золота на 851 596 ф. ст., то уже через два года эта сумма составила 10 976 392 ф. ст., а в 1856 г.—12 214 976 ф. ст. В дальнейшем и в этой колонии добыча золота постепенно стала снижаться. В 1909 г., например, она выразилась в сумме 2 778 956 ф. ст. [115, с. 156]. Всего за первое десятилетие после открытия золота в Австралии его было добыто на 124 млн. ф. ст.
Добыча золота в Квинсленде и Западной Австралии началась в конце 50-х годов, но достигла настоящего размаха в Квинсленде в 80-х годах, в Западной Австралии в 90-х годах. В 90-е годы XIX в. Западная Австралия заняла первое место по добыче золота средн британских колоний в Австралии, давая 75% общей добычи.
Открытие месторождений золота вызвало стремительный рост населения всех британских колоний в Австралии (особенно Виктории) за счет громадного потока иммигрантов. Если в 1850 г. во всех колониях проживало 405 тыс. человек, то в 1860 г.— уже 1146 тыс. [79, с. 263]. Население Виктории, составлявшее в 1851 г. 77 тыс. человек, в течение следующих шести лет выросло до 500 тыс. [132, с. 133].
Иммигранты, как и прежде, в основном прибывали с Британских островов. В 1852 г., например, только 13 человек приехали из Соединенных Штатов Америки и 29 — из других стран. В 1861 г. в Виктории, где число иммигрантов небританского происхождения было наибольшим, они насчитывали лишь 46 338 человек из общей
5 Заказ 91
65
численности населения 540 322 человека, что составляло 8,57%. В их числе было 24 732 китайца, 10 211 немцев, 2554 американца и 1250 французов. В Новом Южном Уэльсе эти цифры были значительно ниже. В 1861 г. 9/ю населения Австралии составляли люди, родившиеся в Великобритании и в самой Австралии [77, с. 263— 264].
В числе иммигрантов небританского происхождения больше всего было китайцев. Для того чтобы ограничить приток китайских иммигрантов, правительство Виктории ввело в 1855 г. закон, по которому каждый приезжающий китаец для допуска в колонии должен был уплатить 10 ф. ст. Предусматривалось также, что корабли будут доставлять их из расчета один человек на каждые 10 т тоннажа корабля. Однако эта мера не помогала. Если в 1854 г. китайское население Виктории составляло 2 тыс. человек, то в марте 1857 г. оно достигло 25,4 тыс., в декабре того же года — 35 тыс., а в 1859 г.— 42 тыс. человек. Это составляло 8% всего населения колонии и почти 20% мужчин [170, с. 320]. Тогда власти стали прибегать к насильственной высылке китайцев за границу на основании создаваемых, часто искусственно, судебных дел об их «преступлениях против общества».
В 1881 г. в Виктории был введен в действие второй ограничительный акт, который оставлял в силе уплату 10 ф. ст. в качестве въездной пошлины, но устанавливал, что корабли могут доставлять китайских иммигрантов из расчета один человек на 100 т тоннажа каждого корабля.
На общеавстралийской конференции в Сиднее в июне 1888 г. все колонии приняли единые ограничительные правила, согласно которым въездная пошлина отменялась, но норма уменьшалась до одного человека на 500 т тоннажа корабля. В Виктории количество китайцев уменьшилось до 9377 в 1891 г. и до 7349 в 1901 г. Китайское население во всех британских колониях Австралии в то время составляло 38 077 человек, в том числе в Новом Южном Уэльсе — 14 757, Квинсленде — 8574, Южной Австралии — 3997, Тасмании — 1056 и в Западной Австралии — 917.
Рост добычи золота оказал заметное влияние на всю экономическую жизнь британских колоний в Австралии, как тех, на территории которых было найдено золото, так и тех (Тасмания и Южная Австралия), где его найти не удалось. В течение 1851 — 1860гг. в Австралии было добыто 25 млн. унций золота, или более 40% мировой его добычи. Экспорт золота в эти годы составлял 2/3 общего экспорта колоний.
Экспорт шерсти отступил на второй план. Правда, это продолжалось недолго. В следующем десятилетии (1861—1870) австралийские колоний дали 19 млн. унций золота, или более V3 мировой добычи, но доля золота в общем экспорте колоний в Великобританию составила уже менее 7з (60 млн. ф. ст. из 190 млн. ф. ст.) [34, 1936, с. 582]. Шерсть опять взяла верх.
В первое десятилетие «золотой лихорадки» произошел особенно резкий отлив населения из сельского хозяйства и промышлен
66
ности. В одной только Виктории число золотоискателей в течение 1851—1853 гг. достигло 100 тыс. Это происходило не только потому, что на поиски золота устремлялось население самой колонии из городов и с ферм, а также иммигранты из Европы, Азии и Америки, но и вследствие того, что в Викторию прибывали многие жители из других британских колоний в Австралии, прежде всего из Тасмании и Южной Австралии. К концу 1852 г., например, количество взрослого населения Тасмании уменьшилось наполовину [115, с. 156]. Такое же положение было в Южной Австралии.
Острая нехватка рабочих рук в сельском хозяйстве и промышленности приводила к необходимости значительно увеличивать зарплату тем, кто оставался, чтобы таким образом удержать их (табл. 5). Одновременно с ростом заработной платы росли цены на продукты питания и предметы широкого потребления (табл. 6).
В колониях, где не было обнаружено золото, наблюдался отток не только людей, но: и капиталов. Положение было настолько серьезным, что Законодательный совет Южной Австралии принял 24 января 1852 г. специальный Акт о золотых слитках. Этим актом все находившиеся в Аделаиде банки — Южноавстралийская банковская компания, отделения Объединенного и Австралийского банков — должны были активизировать деятельность и не допускать уменьшения своих фондов, происходившего вследствие перевода вкладчиками, уезжавшими на поиски золота, своих депозитов в Викторию. Создавалась пробирная палата, которая должна была принимать золотой песок от золотоискателей, изготавливать слитки и ставить на них пробу. Банки обязывались приобретать золотые слитки из расчета 3 ф. ст. И шилл. за унцию золота, в то время как в Мельбурне цена была 3 ф. ст., а в Сиднее —• 3 ф. ст. 3 шилл. за унцию. Это должно было, по мысли авторов акта, обеспечить приток золота в банки Аделаиды из других британских колоний в Австралии.
Положительные результаты мероприятий, предусмотренных актом, сказались очень быстро. В течение первых шести месяцев после введения его в действие пробирная палата в Аделаиде получила 219 370 унций золотого песка, причем поступления из месяца в месяц увеличивались. Если в феврале было приобретено 5 тыс. унций, то в июле —68 тыс. унций [115, с. 159].
В дальнейшем общеавстралийская цена на золото поднялась выше 3 ф. ст. 11 шилл., установленных в Южной Австралии Актом 1852 г. Однако колония к тому времени успела не только сохранить, но и значительно увеличить свои золотые запасы и накопить средства, которые были направлены на развитие сельского хозяйства. В Новом Южном Уэльсе и Виктории вследствие «золотой лихорадки» земледелие начало заметно хиреть, площади обрабатываемых земель сокращались (в Новом Южном Уэльсе с 1851 по 1853 г.— на 9%, а в Виктории — на 40%), а в Южной Австралии и Тасмании, наоборот, неуклонно росли. С 1850 по 1959 г. площади обрабатываемых земель в Южной Австралии увеличились почти на 500%, а в Тасмании— на 24%. Росло и количество продавае-
5*
67
о 00
Размер ежедневной зарплаты ♦
Таблица 5
Профессия 1850 г. 1853 г.
Мельбурн Сидней * Хобарт Мельбурн Сидней Хобарт
Каменщик 4 шилл. 6 пенсов 4 шилл. 6 пенсов 6 шилл. 1 ф. ст. 5 шилл. 15 шилл. 6 пенсов 15 шилл.
Плотник 6 шилл. 6 пенсов 4 шилл. 6 пенсов 5 шилл. 1 ф. ст. 5 шилл. 12 шилл. 6 пенсов 13 шилл.
Каменотес 4 шилл. 6 пенсов 4 шилл. 6 пенсов 6 шилл. 1 ф. ст. 10 шилл. 16 шилл. 15 шилл.
* В. Fitzpatrick. The British Empire in Australia, c. 157.
Таблица 6
Стоимость продуктов питания *
Продукты питания 1850 г. 1853 г.
Мельбурн Сидней Хобарт Мельбурн Сидней Хобарт
Хлеб (4 фунта) 6 пенсов 7 пенсов 10 пенсов 1 шилл. 1 пенс 1 шилл. 2 пенса 2 шилл. 4 пенса
Мясо (1 фунт) 2 пенса 1,75 пенса 3,5 пенса 6 пенсов 3,5 пенса 8,5 пенса
Масло (1 фунт) 1 шилл. 3 пенса 1 шилл. 3 пенса 1 шилл. 3 пенса 3 шилл. 1 шилл. 5 пенсов 3 шилл.
Картофель (50 кг) 6 шилл. 1 пенс 7 шилл. 3 шилл. 6 пенсов 1 ф. ст. 10 шилл. 13 шилл. 1 ф. ст. 8 шилл.
* В. Fitzpatrick. The British Empire in Australia, c. 157.
мых земельных участков в этих колониях. В Южной Австралии в 1852 г. было продано 87 тыс. акров коронных земель на 99 тыс. ф. ст., в 1853 г.— 213 тыс. акров на 292 тыс. ф. ст., в 1854 г.— 214 тыс.
акров на 375 ф. ст.; в Тасмании — соответственно на 42 тыс., 91 тыс. и 112 тыс. ф. ст. [115, с. 159]. Это позволило обеим колониям значительно увеличить продажу продовольственных товаров в соседние колонии.
В Новом Южном Уэльсе и Виктории в 1851 —1861 гг. основное внимание уделялось добыче золота, которая определяла экономическое положение колоний. Однако даже в эти годы росло производство шерсти. Виктория, например, в 1854 г. вывезла шерсти на 40% больше, чем в 1851 г., а Новый Южный Уэльс тогда же увеличил свой экспорт шерсти на 24%. В 1850 г. весь доход Виктории составлял 250 тыс. ф. ст., а в 1854 г.— 3 млн. ф. ст. Вклады в банках колонии за то же время увеличились в 6 раз.
Золотодобыча поглощала основную массу рабочей силы. Если количество рабочих, занятых в 1851 г. на золотых приисках, принять за 100 (на самом деле их тогда было 19,3 тыс. человек), то 1852—1858 годы дадут следующие индексы: 175, 274, 341, 568, 598, 702, 764. В 1859—1865 гг. число рабочих, правда, несколько снизилось, но все-таки индекс составлял 652, 563, 521, 484, 482, 440, 417.
Сокращение числа рабочих в эти годы объясняется не истощением золотоносных земель, а прежде всего улучшением методов добычи золота и отчасти тем, что открытие месторождений золота в Новой Зеландии в конце 50-х — начале 60-х годов XIX в. вызвало иммиграцию туда населения колоний. Например, в октябре — ноябре 1861 г. из Виктории в Новую Зеландию уехало 11,6 тыс. человек. Как отмечалось выше, в начале 60-х годов китайских иммигрантов в Австралии стало вдвое меньше, и они почти целиком работали на золотых приисках.
За 1851—1865 гг. Новый Южный Уэльс и Виктория вывезли 37 715 440 унций золота, причем 82,2% всего экспорта золота приходилось на Викторию [115, с. 161]:
1851 г. 1855 г. 1861 г. 1865 г.
Виктория Новый Юж- 145 146 2 751 535 ,1 967 420 1 543 801
ный Уэльс 144 120 64 384 488 293 682 521
Именно золотодобыча определила громадный рост внешнеторговых операций Виктории и Нового Южного Уэльса. В 1851 — 1860 гг. общий объем внешней торговли обеих колоний вырос по сравнению с 1841—1850 гг. в 10 раз. Это проявилось не только в резком увеличении экспорта, но и в том, что стремительный рост населения, вызванный «золотой лихорадкой», повлек за собой еще более значительное увеличение импорта. Например, в 1950 г. стоимость экспорта Виктории составляла 1 млн. ф. ст., а импорта — 750 тыс. ф. ст., в 1854 г. — соответственно 12 млн. и 18 млн. ф. ст. В пересчете на душу населения импорт колонии за то же время уве
69
личился с 12 до 70 ф. ст. в год. Если сравнить общие цифры внешней торговли всех британских колоний в Австралии за периоды 1841—1850 и 1851—1860 гг., то в пересчете на душу населения они: покажут увеличение стоимости экспорта с 6 ф. ст. 10 шилл. до 17 ф. ст., а импорта — с 8 до 19 ф. ст.
Понятно поэтому, что основной выигрыш от открытия золота в Австралии получила Великобритания. Среднегодовой экспорт Соединенного Королевства в его австралийские колонии, составлявший в 1844—1850 гг. 1,6 млн. ф. ст., увеличился в 1851— 1857 гг. до 8,7 млн. ф. ст., или на 444%. Если доля австралийских колоний в общебританском экспорте в 1844—1850 гг. составляла 2,6%, то в 1851—1857 гг. она поднялась до 9% [115, с. 165—167].
В 50-е годы наблюдался также значительный рост экспорта, британского капитала в австралийские колонии. Первое место в этом отношении занимал Новый Южный Уэльс. С 1851 по 1865 г. сюда было ввезено 20 млн. ф. ст., в Викторию — 14 млн. ф. ст. При: этом следует иметь в виду, что население Виктории на 50% превышало население Нового Южного Уэльса. Объем ее внутренней и внешней торговли был вдвое большим; последнее свидетельствует о том, что Виктория, получившая самостоятельность лишь в 1851 г., экономически была сильнее старейшей британской колонии в Австралии.
Экспорт капитала в британские колонии в Австралии происходил как в товарной, так и в денежной форме. К 1866 г. в обеих колониях действовало 19 банков (10 в Виктории и 9 в Новом Южном Уэльсе), а в 1850 г. их было всего 4. Как старые, так и новые банки в 1850—1866 гг. значительно увеличили свой капитал: Банк Австралазии, Банк Нового Южного Уэльса и Объединенный банк — на 73 млн. ф. ст., Сиднейский коммерческий банк — с 95 тыс. до 4 млн. ф. ст.
Иностранный капитал привлекался в колонии и посредством выпуска последними облигаций займов. Государственные долги Виктории и Нового Южного Уэльса, равнявшиеся в 1866 г. 16 млн. ф. ст., на 3/4 представляли собой займы на оплату железнодорожного строительства, облигации которых были проданы в большинстве своем в Лондоне [115, с. 173—174].
Следует отметить в связи с этим, что в 50-е годы в британских колониях в Австралии начинают производиться в заметных масштабах работы по строительству средств сообщения и связи. В 1854 г. центр Мельбурна был соединен с районом порта железной дорогой. В 1855 г. была открыта железнодорожная линия Сидней— Гелбурн протяженностью 13 миль. В 1856 г. железная дорога соединила Аделаиду с ее портом. В начале 1854 г. между Мельбурном и его пригородом Вильямстауном начала работать первая в Австралии телеграфная линия. Через два года местные телеграфные линии были созданы в Сиднее и Аделаиде. К 1858 г. телеграфные линии связали Мельбурн с Аделаидой и Сиднеем.
В Мельбурне и Сиднее ширилось коммунальное строительство: появились канализация, водопровод и газовое освещение.
70
Наконец, некоторая часть денежных средств, поступавших из Англии в австралийские колонии, шла на содержание британских войск в Австралии. Британские войска размещались в австралийских колониях в течение 83 лет (с 1788 по 1870 г.). До 1862 г. их «содержало британское правительство. В 1851—1862 гг. на эти цели расходовалось ежегодно больше 53 тыс. ф. ст. (из расчета 40 ф. ст. на человека; всего в Австралии в то время было около 1,4 тыс. британских солдат) [21, т. 4, с. 74—77].
В марте 1862 г. британская палата общин вынесла следующее решение: поскольку австралийские колонии получили права самоуправления, они должны взять на себя расходы по собственной защите. Это вызвало большое недовольство в австралийских колониях. Общеавстралийская конференция британских колоний также высказалась против этого решения. Спор был прекращен после вывода в 1870 г. всех британских войск с территории Австралии.
В первой половине 50-х годов в центре экономической жизни колоний была добыча золота. Она вызвала резкое увеличение иммиграции в Австралию. Именно в этот период на пятый континент иммигрирует наибольшее число людей, сорванных с места «золотой лихорадкой». Так, в 1852—1857 гг. в Австралию прибыло 390 тыс. иммигрантов, в то время как в 1858—1863 гг.— всего 193 тыс. Расширение золотодобычи в этот период пагубно отразилось не только на земледелии, но и на овцеводстве. Замедлился темп роста поголовья овец и производства шерсти, снизилось качество последней. Тем не менее овцеводство продолжало неизменно занимать господствующее положение в сельском хозяйстве британских колоний в Австралии. Более половины земельной площади Виктории, или 31,5 млн. акров, в середине 50-х годов использовалось для нужд скотоводства.
Рост добычи золота в Австралии и связанное с этим увеличение иммиграции, расширение импорта товаров и капитала оказали серьезное влияние на общемировое экономическое положение в тот период. В письме к К. Марксу от 24 августа 1852 г. Ф. Энгельс, указывая на причины, сдерживавшие наступление экономического кризиса в Европе, писал: «Австралия также мешает. Во-первых, непосредственно из-за золота и прекращения всякого другого экспорта из нее, а также из-за вызванного этим усиления ввоза всяких товаров, затем из-за выезда туда здешнего избыточного населения в количестве 5000 человек в неделю. Калифорния и Австралия — это такие два случая, которые не были предусмотрены в „Манифесте": создание новых больших рынков из ничего. Это придется учесть» [3, с. 97].
Во второй половине 50-х годов действие «золотой лихорадки» начинает ослабевать. Добыча золота заметно снижается. Сельское хозяйство, и в первую очередь овцеводство, начинает постепенно занимать утраченные позиции в экономике колоний. Это становится особенно очевидным в 60-е годы.
В 1859 г. в Новом Южном Уэльсе площадь обрабатываемых земель достигла уровня 1850 г. (следует учитывать, что в 1850 г.
71
в состав Нового Южного Уэльса входила Виктория, следовательно,, в 1859 г. Новый Южный Уэльс имел практически значительно большее увеличение посевных площадей). Виктория, в свою очередь, на 77% увеличила за это время свои посевные площади. Особенно большой рост посевных площадей отмечался в Южной Австралии, где в период с 1850 по 1860 г. они возросли в 7 раз. Южная Австралия заняла первое место по количеству обрабатываемой земли на душу населения. В 1860 г. ее население насчитывало 125 тыс. человек, а посевные площади занимали 429 тыс. акров, т. е. на душу населения приходилось 3,4 акра. Новый Южный Уэльс с населением в 350 тыс. человек имел 261 тыс. акров обрабатываемых земель, или 0,74 акра на душу населения, а Виктория— соответственно 538 тыс. и 419 тыс., или 0,78 акра.
Экспорт хлебных продуктов занимал тогда уже 7з всего* экспорта Южной Австралии, и даже в такой колонии, как Виктория, где в 1860 г. добыча золота сохраняла господствующее положение в экономике и доля вывоза золота составляла 2/3 всего экспорта колонии, количество фермерских хозяйств за период с 1854 по 1857 г. увеличилось с 3,2 тыс. до 8 тыс., а число работающих на них людей — с 4,3 тыс. до 15 тыс. человек [115, с. 179—181]. Приток рабочей силы в сельское хозяйство вызвал немедленное падение зарплаты. Неквалифицированные рабочие стали получать, в 1857 г. 8 шилл. в день против 10—15 шилл. в 1854 г. Зарплата квалифицированных рабочих (плотников, каменщиков и каменотесов) снизилась с 35—40 до 14—15 шилл. в день [115, с. 179—181] -
Развитие овцеводства во второй половине 50-х — первой половине 60-х годов шло еще более быстрыми темпами. Этому способствовало не только ослабление действия «золотой лихорадки», но и весьма выгодные для австралийских экспортеров шерсти условия на британском рынке, возникшие в связи с гражданской войной в США.
Как известно, южные штаты Америки были главными поставщиками хлопка для английской текстильной промышленности. Война привела к резкому падению их экспортных возможностей,, что, в свою очередь, значительно сократило производство хлопчатобумажных тканей в Англии. Если в 1858—1861 гг. Англия экспортировала ежегодно в среднем 2,6 млрд, ярдов хлопчатобумажных тканей, то в 1862—1866 гг.—1,8 млрд, ярдов, или на 30%. меньше. Стремясь компенсировать эту потерю, английские предприниматели развернули производство шерстяных тканей. В те же годы британский экспорт шерсти вырос с 161 млн. до 206 млн. ярдов, или на 28%. И хотя после гражданской войны американский хлопок быстро вернул утраченные позиции на британском рынке, производство и экспорт Англией шерстяных тканей во второй половине 60-х годов не только не снизились, но еще более выросли — в среднем на 25%.
Главным поставщиком шерсти в Англию была Австралия. В 1865 г. австралийская шерсть составляла половину всего британского импорта шерсти, в то время как в 1860 г.—2/s. Причем, если
72
ъ 1860 г. Англия импортировала всего 148 млн. фунтов шерсти, то в 1865 г.— 212 млн. фунтов [115, с. 178].
Следует также отметить, что в связи с сокращением американского экспорта хлопка в период гражданской войны была сделана попытка организовать его производство в Квинсленде. Экспорт австралийского хлопка начался в 1862 г. и продолжался до 1886 г., а затем был совершенно прекращен (в 1889 г., например, в Квинсленде плантации хлопка занимали площадь всего в 1 акр, в то время как в 1869—1872 гг.— до 15 тыс. акров). Возобновилось производство хлопка в Австралии лишь в следующем столетии [115, с. 189].
В 1860—1890 гг. овцеводство продолжало развиваться высокими темпами. Главным овцеводческим районом Австралии стал Новый Южный Уэльс. Количество овец в колонии увеличилось в этот период в И раз, а производство шерсти — в 17 раз (табл. 7).
Таблица 7
Производство шерсти и рост поголовья овец в британских колониях в Австралии
(шерсть — млн. фунтов, овцы — млн. голов) *
Колония 1861 г. 1871 г. 1881 г. 1891 г.
шерсть ОВЦЫ шерсть овцы шерсть овцы шерсть овцы
Новый Южный Уэльс 19 5,5 74 16 161 37 321 62
Виктория .... 27 6 64 10 68 10 69 13
Квинсленд .... 12 4 37 7 34 8 83 20
Южная Австралия 14 3 28 4 46 7 50 8
Западная Австралия 0,3 0,25 2 0,75 5 1,25 10 2
‘Тасмания .... 5 1,75 7 1,3 11 2 10 1,6
Всего 77,8 20,5 212 39,05 325 65,25 543 107,6
* В. Fitzpatrick. The British Empire in Australia, c. 196.
Естественно, что развитие овцеводства привело к значительному росту в этот период экспорта шерсти из британских колоний в Австралии. На их долю вместе с Новой Зеландией к 1890 г. приходилось почти 70% всего английского импорта шерсти, тогда как в 1861 г.— 47%.
Наряду с производством шерсти австралийские колонии в последней трети XIX в. начали усиленно развивать производство мясо-молочных продуктов. Это объяснялось тем, что разработанные в тот период методы консервирования и замораживания открыли широкие возможности экспорта этих видов продуктов в Европу.
Со второй половины 60-х годов Австралия начала поставлять в Англию консервированное мясо. В начале следующего десятиле
73
тия была организована транспортировка из австралийских колоний в Великобританию мороженого мяса.
В 1873 г. впервые в мире на выставке в Мельбурне демонстрировалась машина для производства льда, изобретенная жителем этого города Дж. Гаррисоном. С ее помощью он заморозил некоторое количество мяса и рыбы, которые спустя 6 месяцев после этого были поданы на публичном банкете в Мельбурне и найдены вполне сохранившими свои вкусовые качества. В июле этого же года Гаррисон отправил в Англию партию мороженого мяса на судне («Норфолк», на котором была установлена одна из его машин. На этот раз Гаррисона постигла неудача: мясо испортилось.
Первым удачным экспериментом в доставке мороженого мяса из Австралии в Англию был рейс судна «Стремлевен». Судно покинуло Австралию в начале декабря 1879 г. и 2 февраля 1880 г. благополучно доставило в Лондон 40 т мороженого мяса, где оно было сразу же продано по цене 4,5—5,5 пенса за фунт.
В 80-е годы начался экспорт австралийского масла в Англию.
Поголовье крупного рогатого скота в Австралии быстро росло: если в 1860 г. на пятом континенте было 4 млн. коров, то в 1890 г.— более 10 млн.
В 70—90-е годы XIX в. земледелие развивалось более быстрыми темпами, чем раньше. Этому способствовали улучшение техники обработки земли, распространение ирригации, развитие средств транспорта. В последнем десятилетии XIX в. общая площадь посевных земель Австралии составила 4 086 701 акр, тогда как в 60-х годах она равнялась 831 457 акрам. Производство зерна за то же время выросло с 10 621 697 до 29 933 993 бушелей.
В начале 60-х годов XIX в. в Австралии было налажено производство сахара. Первые попытки создать плантации сахарного тростника относятся еще к концу второго десятилетия XIX в. и связаны с именем Т. Скотта. Сначала он создал плантацию в районе Порт-Маккуори, а затем к северу от Сиднея, в районе Брисбен-Уотер. Но не Новый Южный Уэльс, а Квинсленд стал центром сахарного производства в Австралии.
Вначале сахарный тростник выращивался в Квинсленде лишь на территории Ботанического сада в Брисбене. В 1862/63 сельскохозяйственном году площадь под плантациями сахарного тростника в Квинсленде составляла 20 акров. Через 5 лет она увеличилась в 100 раз; 6 сахарных заводов производили до 170 т сахара. К началу 90-х годов ежегодное производство сахара в Квинсленде достигло 15 тыс. т, в Новом Южном Уэльсе — 7,5 тыс. т. Оба штата давали четвертую часть всего сахара, потребляемого в британских колониях в Австралии. Остальное количество сахара ввозилось с островов Ява и Маврикий. Следует отметить, что по потреблению сахара на душу населения Австралия занимала тогда первое место в мире. В Англии, которая занимала второе место, ежегодное потребление сахара на душу населения было на 16 фунтов меньше, чем в Австралии.
В 1842 г. в Сиднее была основана Австралийская сахарная
74
компания, которая сразу же монополизировала производство сахара. Спустя тридцать лет она была поглощена «Колониэл шугар рифайнинг компани», существующей и в настоящее время. На протяжении второй половины XIX и первой половины XX в. ее директорами были три Эдварда Нокса — отец (создатель компании и первый ее директор), сын и внук. Компания развернула свою деятельность не только в британских колониях в Австралии, но и на Новой Зеландии и на Фиджи. Если в 1855 г. она владела всего одним сахарным заводом, то в начале нынешнего столетия у нее было уже 18 предприятий, 5 из них находились в Сиднее, Мельбурне, Аделаиде, Брисбене и Окленде. Они производили 260 тыс. т сахара в год. Остальные 13 заводов, расположенные на территории Квинсленда, Нового Южного Уэльса и Фиджи, давали ежегодно еще 1,4 млн. т.
На предприятиях компании постоянно работало 10 тыс. человек, а на принадлежащих ей плантациях сахарного тростника в Квинсленде и северной части Нового Южного Уэльса — 2 тыс. фермеров. Кроме того, на плантациях Фиджи, площадь которых составляла 54 тыс. акров, работало 7,5 тыс. индийцев, привезенных с этой целью на острова [115, с. 389—390].
Если «золотая лихорадка» в Виктории привлекла иммигрантов из азиатских стран, то следствием «сахарного бума» в Квинсленде и в северной части Нового Южного Уэльса был приток рабочей силы с тихоокеанских островов. Жизнь азиатских иммигрантов в Виктории была мрачна, но и она не идет в сравнение со страшной судьбой квинслендских «черных дроздов». Так работорговцы называли коренных жителей тихоокеанских островов, которых они покупали у местных вождей для работы на плантациях сахарного тростника. Всего начиная с 60-х годов XIX в. и до 1903 г. было увезено на плантации Австралии более 60 тыс. жителей Соломоновых островов [83, с. 151]. «Эта мрачная и трагическая история полна вероломства, преступлений, злоупотреблений, борьбы, убийств» [105, с. 13]. Европейский миссионер, работавший на острове Белья Лавелья (в группе Соломоновых островов), писал: «Первыми белыми людьми, посетившими берега Вельи Лавельи, были охотники за „черными дроздами", которые в 70-х годах начали скандальную торговлю, увозя сильных и здоровых туземцев Соломоновых островов и отдавая их за хорошую цену плантаторам в Квинсленде и Фиджи... История их подлой работы никогда не была написана» [156, с. 40—41].
В 80—90-е годы XIX в. на плантациях сахарного тростника Квинсленда ежегодно работало до 10 тыс. человек. Именно коренные жители тихоокеанских островов производили основную часть сахара в Квинсленде. В начале XX в. они количественно составляли лишь V5 рабочих сахарных плантаций, а давали 3/4 всего производства сахара колонии. Это достигалось путем жесточайшей и ^бессовестнейшей их эксплуатации.
У. Брукс, член Законодательного совета Квинсленда, выступая в 1876 г., так характеризовал положение островитян на план-
75
тациях колонии: «Если бы нам сказали, что мужья разлучены с женами, тысячи детей оставлены без их естественных защитников, дома заброшены, деревни разграблены и сожжены, спаивание, обман и все другие бесчестные методы применяются для того, чтобы привезти этих людей, которые должны доставлять нам жизненные удобства, мы отнеслись бы к этому как к праздной выдумке сентиментальных филантропов. Но настало время сказать, что граждане, считающие себя религиозными людьми, служители церкви, более того, главы церквей без стыда пользуются трудом бедных, беззащитных рабов, которые были заманены, а во многих случаях просто проданы своими вождями и куплены на островах белыми людьми, а затем проданы и куплены вторично у нас — в Брисбене, Мэриборо, Рокгемптоне и Маккае» [107, с. 125—127].
О том, в каких условиях жили проданные на плантации островитяне, говорит тот факт, что смертность среди них была даже в последние годы XIX в. в 4 раза выше, чем среди европейских колонистов. В 1893 г., например, она составила у островитян около 53 человек на тысячу, а у европейцев — 13 человек [171, с. 245].
Развитие скотоводства и земледелия серьезно обострило борьбу за перераспределение земель в колониях. Большинство земель, как известно, находилось в руках скотоводов. Наиболее серьезная попытка достичь перераспределения земель была предпринята в Новом Южном Уэльсе в самом начале 60-х годов премьером Робертсоном, который сам был одновременно и землевладельцем и скотоводом. Он добился принятия парламентом колонии в 1861 г. актов о коронных землях, которые вводили так называемую систему селекции. Согласно этим актам любой человек, независимо от пола и возраста (даже ребенок), мог выбрать и купить участок земли размером от 40 до 320 акров в любом из освоенных или промежуточных районов. Была установлена цена — 1 ф. ст. за акр независимо от качества земли. После уплаты 74 всей стоимости участка лицо, выбравшее его, получало права землевладельца. При этом ставились следующие условия: новый землевладелец должен прожить на избранном им участке не менее года, заплатить оставшуюся часть стоимости участка в течение трех лет и вложить в его освоение не менее 1 ф. ст. на каждый акр.
Все скотоводческие лицензии, выданные или продленные после 1857 г., оставались в силе в течение одного года в освоенных районах и в течение пяти лет вне их после вступления в силу актов 1861 г. Но если земли, удерживавшиеся скотоводами на основании лицензий, были кем-либо выбраны и куплены, то лицензия теряла силу в любое время после этого. Права и интересы скотоводов были также защищены преимущественным правом на покупку участка, эксплуатируемого ими по лицензии.
Однако акты 1862 г. не дали желаемого результата: подавляющее большинство земель не попало в руки фермеров. Значительной частью земельных участков завладели различного рода дельцы и спекулянты, которые приобретали их с целью последующей перепродажи по более высоким ценам. Лесоторговцы также 76
покупали участки, внося вступительную плату, а затем вырубали весь имевшийся там лес и бросали их. Некоторые приобретали участки для занятия полеводством, но хищническая эксплуатация земли приводила к ее истощению. Участки забрасывались, в этом случае в казну ничего, кроме вступительного взноса, не поступало.
Постепенно скотоводы, опираясь на поддержку банков и торговых компаний, скупили большую часть коронных земель. В 1861— 1883 гг. в Новом Южном Уэльсе было продано 29 млн. акров коронных земель, а общая посевная площадь увеличилась за это же время менее чем на полмиллиона акров.
После 1884 г. земельное законодательство в Новом Южном Уэльсе претерпело изменения, но это уже не имело существенного практического значения, ибо подавляющая масса земель попала к тому времени в руки небольшого числа скотоводов и находилась под эффективным контролем банков и крупных скотоводческих компаний. Почти аналогичное положение наблюдалось и в других британских колониях в Австралии.
В Виктории земельные законы были приняты в 1860, 1862 и 1865 гг. Но и здесь земля не была поделена между мелкими фермерами, а оказалась у немногих крупных скотоводческих компаний и земельных магнатов. Так, по Акту 1862 г. в течение двух лег было продано 1,4 млн. акров наиболее плодородной аемли в районе открытой Митчеллом «Счастливой Австралии», при этом 2/3 ее попало в руки 100 человек. Всего за 1861—1881 гг. в колонии было продано 18 млн. акров земли, а посевные площади увеличились лишь на 1 млн. акров [70, с. 120].
В Квинсленде в период 1860—1884 гг. было принято не менее десяти земельных законов, открывавших для продажи коронные земли. Но в 1884 г. обрабатываемые земли составляли только 1,68% всей земельной площади. В Тасмании аналогичный закон был принят после 1858 г., в Западной Австралии — после 1872 г. Обрабатываемые земли в период 1861—1891 гг. увеличились в Тасмании с 163,4 тыс. до 168,1 тыс. акров, в Западной Австралии — с 24,7 тыс. до 64,2 тыс. акров [96, с. 582—586].
Исключение составляла только Южная Австралия, где посевные площади в 1850—1884 гг. увеличились с 65 тыс. до 2760 тыс. акров, что составило 7 акров на душу населения колонии, в то время как в Виктории—1,7 акра, а в Новом Южном Уэльсе — 0,8 акра. В 1880 г. Южная Австралия производила зерна почти столько же, сколько все другие британские колонии в Австралии, вместе взятые [171, с. 220]. Однако это объяснялось не совершенством южноавстралийского законодательства, а историческими условиями развития колонии, в которой земледельцы, ее основатели, занимали господствующие позиции. Эти позиции не были поколеблены начавшимся во второй половине XIX в. развитием в колонии овцеводства.
Промышленность в британских колониях в Австралии и во второй половине XIX в. развивалась медленно. Так, в середине 80-х годов половина всех австралийских предприятий, которых
77
тогда насчитывалось 10 тыс., с общим числом рабочих 105 тыс. человек, находилась в Виктории. К началу 90-х годов было 11 тыс. предприятий с общим числом рабочих 133 тыс. [115, с. 250—251]. В основном это были мелкие фабрики легкой и пищевкусовой промышленности. Например, в 1888 г. в число наиболее крупных предприятий Виктории, на каждом из которых работало свыше 100 рабочих, входило 5 фабрик по переработке мяса и овощей, 4 фабрики по изготовлению готового платья и лишь 2 металлообрабатывающих завода.
В горнодобывающей промышленности господствующее место по-прежнему занимала добыча золота. Но после взлета, достигнутого в 50-х годах, она в дальнейшем из десятилетия в десятилетие показывала постоянную тенденцию к понижению. Если в 50-х годах добывалось 25 млн. унций золота, то в 60-х годах — 19 млн., в 70-х годах—14,4 млн., в 80-х годах—11,6 млн. унций. Доля Австралии в мировой добыче золота соответственно равнялась 40, 35, 39 и 22%. Во второй половине 50-х годов в золотодобывающей промышленности Виктории было занято более 150 тыс. человек, в 1861 г — уже 83 тыс., в 1881 г.— 36 тыс., а в 1891 г.— 23 тыс. человек [115, с. 245]. В 1882 г. в Квинсленде, в районе горы Морган, в 22 милях к юго-западу от Рокгемптона, было открыто богатое месторождение золота. Добыча, начатая здесь в 1886 г., дала через 13 лет 2 млн. унций золота и принесла компании, производившей эти работы, дивиденд в размере 4475 млн. ф. ст., или около 6 ф. ст. на каждый фунт вложенного капитала [115, с. 246].
Открытие в 1885 г. месторождений золота в Западной Австралии, в районе Кимберли, вызвало оживление деловой активности в колонии, которое переросло в настоящий бум в 90-х годах, когда в 1892—1893 гг. были обнаружены богатые залежи золота в Кул-гарди и Калгурли. В колонию хлынул поток иммигрантов. Если в декабре 1885 г. население колонии составляло 35 тыс. человек, то в декабре 1890 г.— 46 тыс., а в декабре 1894 г.— 82 тыс. человек [101, с. 45—46]. Через год население Западной Австралии составляло 101 тыс. человек, а еще через 9 лет — 239 тыс. человек [100, с. 118], причем иммигранты прибывали в основном из других британских колоний в Австралии. Так, в 1901 г. лишь 33% населения колонии составляли лица, родившиеся в Западной Австралии, 41% — родившиеся в других британских колониях в Австралии и 23%—родившиеся в Великобритании и иммигрировавшие первоначально в другие британские колонии в Австралии. Остальная часть населения была представлена небольшими группами иммигрантов главным образом из стран континентальной Европы и США (в числе американских инженеров, работавших на золотых приисках Западной Австралии, был Г. Гувер, ставший впоследствии президентом США), а также афганцами (погонщики верблюдов) и китайцами.
Разработки месторождений золота привлекли в Западную Австралию капитал из Англии и из других британских колоний в Австралии. Уже к середине 90-х годов в Лондоне было создано 78
более 300 компаний по эксплуатации золотоносных месторождений в Западной Австралии. В колонии было открыто отделение Лондонской торговой палаты.
В течение 90-х годов сумма иностранного капитала в колонии выросла с 1,4 млн. до 12,2 млн. ф. ст. Добыча золота быстро увеличивалась. В 1897 г. было добыто 12 353 унции золота, в 1898 г.— 74 667 унций, в 1900 г.— 1 414 311 унций, а в 1903 г.— 2 064 801 унция [100, с. 119, 122, 130]. Столь же стремительно росли дивиденды компаний, эксплуатировавших золотоносные месторождения Западной Австралии. В 1899 г. они превысили 2 млн. ф. ст., а спустя 6 лет составили 13,8 млн. ф. ст. [100, с. 120].
Тем не менее большая часть рабочих горнодобывающей промышленности Австралии в последние десятилетия XIX в. была занята на добыче не золота, но других металлов, а также каменного угля. Так, в 1891 г. 2/3 всех рабочих горнодобывающей промышленности Нового Южного Уэльса трудились на месторождениях незолотых руд. Крупнейшей компанией в этой колонии стала «Брокен-Хилл пропрайэтри компани», с 1882 г. добывающая серебро и свинец, а с 1890 г.— золото и медь. С 1886 по 1898 г. на шахтах компании было добыто 100 млн. унций серебра, 400 т свинца, а также золото и медь, что принесло дивидендов на сумму 7280 тыс. ф. ст. Серебро, медь и олово в середине 80-х годов были обнаружены в Тасмании. Основным производителем меди оставалась Южная Австралия.
Что касается добычи железных руд и производства железа и сгали, то на протяжении всего XIX столетия эти отрасли не получили существенного развития в британских колониях в Австралии. Месторождения железной руды впервые были открыты Джексом в 1833 г. в районе Неттаи, недалеко от того места, где находится Миттагонг. Образцы обнаруженной породы он направил в Сидней, но власти колонии в то время мало интересовались развитием горнорудного дела в «колонии бесчестия».
Лишь в 1848 г., когда началось обсуждение вопроса о строительстве в Новом Южном Уэльсе железных дорог, по инициативе сиднейского дельца Т. Холмса была создана Компания по разработке месторождений железной руды в районе Неттаи. Однако у компаньонов не хватило средств, и в 1851 г. компания распалась, уступив место новому объединению, получившему название «Фиц-рой айрн энд кул майнинг компани». Деятельность этой компании была неудачной. Финансовые трудности, отсутствие необходимого оборудования и опыта ведения работ уже через 7 лет привели к прекращению работ. В 1859 г. несколько сиднейских и мельбурнских дельцов попытались возродить эту компанию, но безуспешно.
В 1860 г. Е. Хьюз создал в Мельбурне первое в истории Австралии металлургическое предприятие, работавшее на металлоломе. Он зарекомендовал себя опытным специалистом, и, когда мельбурнский коммерсант У. Леттин перекупил у «Фицрой айрн энд кул майнинг компани» право на разработку месторождений же
79
лезной руды в Миттагонге, он пригласил Е. Хьюза быть руководителем предприятия. На этот раз работа пошла успешнее. В июле 1864 г. начался выпуск чугуна, выплавлявшегося из местной железной руды.
В 1863 г. на территории Нового Южного Уэльса были обнаружены новые месторождения железных руд. «Маунт плезант кул майнинг компани», взявшая право на их разработку, начала экспериментальные работы по производству чугуна на базе этого месторождения. Примерно тогда же приступили к разработке месторождений железной руды в Тасмании. Добыча и производство железа на острове сосредоточились в руках двух компаний: «Бритиш энд Тасманиан айрн энд чакул компани» и «Тамар хеме-тайт айрн компани».
В Виктории в 1873 г. была создана компания «Лол Лол айрн майнинг компани» по разработке месторождений в районе Балларата. В Южной Австралии «Айрн энд стил компани» в начале 70-х годов начала разработку месторождения железной руды к северу от Виктор-Харбора.
Однако центром добычи и производства железа оставался Новый Южный Уэльс. В 1872 г. появилась «Фицрой Бессемер стил, хеметайт айрн энд кул компани», целью которой было расширение производства железа в районе Миттагонга. В 70-х годах «Экс-бенк айрнуоркс компани» начала производство железа в Литгоу (табл. 8).
Таблица 8
Производство чугуна в Австралии из местной руды в 1874—1884 гг. *,
т
Год Новый Южный Уэльс Тасмания Виктория Южная Австралия Всего
Митта-гонг Литгоу „Бритиш энд Тасманиан айрн энд чакул компани* „Тамар хеметайт айрн компани*
1874 30 30
1875 —, — 1100 ию — 1 210
1.876 3273 80 — — — — 3 353
1877 ——— —— —— — . .1 ——
1878 — 389 6500 — 140 — 7 029
1879 —1 148 — 52 — 170
1880 — 1200 — — 45 — 1 245
1881 —— 2737 —> 560 — 3 295
1882 —. 4320 — 300 — 4 620
1883 — —. __ — . 600 — 600
1884 — — — — 395 — 395
Всего. 3273 8844 6500 1100 2202 30 21 947
* Н. Hughes. The Australian Iron and Steel Industry 1848—1926, c. 17.
Развитие железнодорожного строительства в Австралии в 80-е годы требовало все большего количества железа. Внутреннее его производство ни в коей мере не удовлетворяло потребности колоний, что вело к росту импорта товаров, изготовленных из железа. В 80—90-е годы XIX в. британские колонии ежегодно импортировали железа на сумму 5—6 млн. ф. ст., в том числе Новый Южный Уэльс — на 2 млн. ф. ст. [128, с. 24, 29].
Из всех отраслей горнодобывающей промышленности самой старой являлась добыча каменного угля. Первые угольные месторождения были обнаружены еще в 90-е годы XVIII в. в районе Ньюкасла, который и стал центром угольной промышленности пятого континента. Первая партия ньюкаслского угля была экспортирована в 1801 г. К 1820 г. ежедневно добывалось 20 т угля. С 1824 по 1827 г. монополия на добычу угля в Австралии принадлежала Австралийской сельскохозяйственной компании. Добыча угля в это время составляла 17 тыс. т в год, к 50-м годам XIX в.— 190 тыс. т, а к началу 80-х годов — уже около 2 млн. т, половина из которых вывозилась из Нового Южного Уэльса в другие британские колонии в Австралии, а также в Индию, Китай и Соединенные Штаты Америки. К концу XIX в. ежегодная добыча угля в Австралии достигла 5 млн. т, из которых 4,5 млн. т давал Новый Южный Уэльс, 200 тыс. т — Виктория и 40 тыс. т — Тасмания [21, т. 2, с. 429].
Последняя треть XIX в. характеризовалась быстрым ростом средств транспорта и связи в британских колониях в Австралии. Если в 1870 г. общая протяженность железных дорог составляла 1 тыс. миль, то к 1890 г.—11 тыс. миль. Работы по железнодорожному строительству велись главным образом правительствами колоний, а не частными компаниями.
К концу 80-х годов протяженность телеграфных линий на пятом континенте достигала 40 тыс. миль (в Великобритании и Канаде— по 30 тыс. миль). В 1871 г. подводный кабель телеграфных линий связал Австралию с Явой, в 1872 г.— с Англией, в 1876 г.— с Новой Зеландией.
В 1851 г. в австралийские порты было совершено менее 5 тыс. судозаходов, количество перевезенных грузов составляло около 1 млн. т, в 1891 г.— соответственно 17 тыс. и 16,3 млн. т, а в 1901 г.—18,6 тыс. и 26,2 млн. т [46, с. 210]. Рост морских перевозок грузов явился следствием значительного развития внешней торговли британских колоний в Австралии. К началу 90-х годов они заняли третье место во внешней торговле Великобритании (65 млн. ф. ст.), уступив лишь США (145 млн. ф. ст.) и Франции (69 млн. ф. ст.) и обогнав Германию (57 млн. ф. ст.). В начале нынешнего века ежегодный товарооборот Австралии превысил 100 млн. ф. ст.
В последние десятилетия XIX в. значительно вырос ввоз иностранного капитала в Австралию. Это было связано прежде всего со строительством железных дорог, которое осуществлялось в значительной степени за счет займов, размещавшихся правитель-
б Заказ 91
81
ствами колоний за границей, в основном в Англии. Государственные долги британских колоний в Австралии стремительно росли из-года в год.
Иностранный капитал поступал в Австралию и в виде частных инвестиций. Так, с 1876 по 1880 г. все британские колонии в Австралии получили 22 млн. ф. ст. по иностранным займам и 12 млн. ф. ст. в виде частных инвестиций. В 1881 г. в Новый Южный Уэльс, Викторию, Квинсленд и Южную Австралию поступило 37,5 млн. ф. ст. по иностранным займам и 30 млн. ф. ст. в виде частных инвестиций. В 1885—1890 гг. общий размер иностранных инвестиций в Австралии составил 100 млн. ф. ст. [79, с. 409].
Иностранный капитал в Австралии был в основном британского происхождения. Так, в июне 1892 г. задолженность Виктории по иностранным займам составляла 46 711 тыс. ф. ст., из которых на Англию приходилось 44 762 тыс. ф. ст. [115, с. 229]. К началу нынешнего столетия общая сумма британского капитала, инвестированного в Австралии, составила 331 027 тыс. ф. ст. [191, с. 6, 45].
Расширялась и крепла банковская система. В 90-е годы там действовало 6 мощных банков с центральными правлениями в Лондоне: Австралазийский, Английский, Шотландский и Австралийский банки, Лондонский банк Австралии и Объединенный банк Австралии. Их общий капитал составлял 5471 тыс. ф. ст. Банки располагали 360 отделениями в британских колониях в Австралии,, в том числе в Виктории— 125 и в Новом Южном Уэльсе — 99.
Четыре крупных банка имели центральные правления в Мельбурне: Банк Виктории, Колониальный банк Австралазии, Коммерческий банк Австралии, Национальный банк Австралазии. Их капитал составлял 7285 тыс. ф. ст. У них было 326 отделений и агенств, в том числе 268 — в Виктории, 32 — в Южной Австралии и 6 — в Новом Южном Уэльсе.
Четыре банка имели центральные правления в Сиднее: Банк Нового Южного Уэльса, Городской банк Сиднея, Сиднейская коммерческая банковская компания, Австралийский объединенный банк. Их капитал составлял 5006 тыс. ф. ст. Им принадлежали 303 отделения и агенства.
Еще 7 крупных банков находились в других городах Австралии: Аделаидский банк (в Аделаиде, капитал 400 тыс. ф. ст.), Банк-Северного Квинсленда (в Брисбене, капитал 200 тыс. ф. ст.)г Квинслендский национальный банк (в Брисбене, капитал 454 тыс. ф. ст.), Королевский банк Квинсленда (в Брисбене, капитал 387 тыс. ф. ст.), Западноавстралийский банк (в Перте, капитал 100 тыс. ф. ст.), Национальный банк Тасмании (в Лонсестоне, капитал 152 тыс. ф. ст.) и Коммерческий банк Тасмании (в Хобарте, капитал 410 тыс. ф. ст.).
Финансовый капитал все активнее внедрялся в ведущие отрасли австралийской экономики. Член законодательной ассамблеи: Квинсленда Д. Денсфорд заявил на заседании ассамблеи в 1894 г. о том, что 5 банков владеют на территории колонии 1164 пастби-82
щами общей площадью 108 683 тыс. акров (что в 2 раза превышает площадь Британских островов) [36, 1894, с. 369]. Аналогичным было положение и в других колониях. Быстрое развитие британских колоний в Австралии было прервано в начале 90-х годов серьезным экономическим кризисом. Падение мировых цен на шерсть и другие виды сельскохозяйственных продуктов сильно ударило по экономике Австралии. Если в 1884 г. фунт шерсти продавался за 12,3 пенса, то в 1893 г. — лишь за 7 пенсов.
Испугавшись больших потерь, иностранные инвеститоры не только прекратили ввоз капитала в Австралию, но и пытались отозвать его оттуда. В колониях, особенно в Виктории, начались многочисленные банкротства. В 1891/92 финансовом году в Мельбурне была ликвидирована 21 строительная компания, а в Сиднее— 20. Большие потери понесло овцеводство. Если в 1891 г. в Австралии было 107,6 млн. овец, тр в 1901 г. — 72 млн. Производство шерсти сократилось с 634 млн. фунтов в 1891 г. до 539,4 млн. фунтов в 1901 г. Поголовье крупного рогатого скота за это время снизилось с 10,1 млн. до 8,5 млн. голов. Объем, экспортно-импортной торговли упал с 74 млн. ф. ст. в 1891 г. до 72,1 млн. ф. ст. в 1898 г. [97, с. 448—449]. Выросло число безработных. В Виктории, наиболее пострадавшей от кризиса, население в эти годы уменьшилось на 104 тыс. человек [115, с. 360]. В 1891 —1900 гг. общеавстралийское производство национального продукта из расчета на душу населения сократилось на 13% [66, с. 25].
Положение начало выправляться лишь в самом конце XIX в., причем решающую роль в этом сыграло не овцеводство, а другие отрасли хозяйства. Овцеводство достигло уровня 1891 г. лишь в начале 30-х годов XX в. Зато быстрыми темпами развивались земледелие и разведение крупного рогатого скота. За 1891—1901 гг. посевные площади и урожай зерновых удвоились. Соответственно вдвое увеличился экспорт зерна (с 10 млн. до 20 млн. бушелей). Производство масла выросло за это время в 2,5 раза, а стоимость его экспорта — почти в 8 раз (с 4,2 млн. до 35 млн. <ф. ст.). Несмотря на уменьшение поголовья скота в эти годы, стоимость экспорта мяса поднялась с 1 млн. до 5,2 млн. ф. ст. Экспорт сахара вырос с 0,3 млн. до 1,4 1илй. т [66, с. 27]. Добыча металлов увеличилась на 75%, а их экспорт — в 2 раза.
Падение добычи золота в 70—80-х годах было остановлено развитием золотодобывающей промышленности на новых месторождениях Квинсленда и особенно Западной Австралии. Если в 1861—1870 гг. золота добывалось ежегодно в среднем на 8,1 млн. ф. ст., в 1871—1880 гг.— на 6,1 млн., в 1881 —1890 гг.— на 4,9 млн., то в 1891 —1900 гг. —уже на 9 млн. ф. ст. Вследствие этих изменений доля шерсти в общем объеме экспорта Австралии сильно сократилась. Если в 1891 г. она составляла 55% стоимости всего австралийского экспорта, то в 1901 г. — лишь 30%.
В 1892 г. сельское хозяйство давало 58% общего объема производства, промышленность — 42%, в 1902 г.— соответственно 53 и 47% (табл. 9).
6*
83
Таблица 9
Производство продукции в стоимостном выражении *, млн. австрал. долл.
Отрасль 1892 г. 1902 г.
Земледелие 34 48
Овцеводство 62 54
Мясо-молочное производство 12 15
Другие отрасли сельского хозяйства 4 4
Все отрасли сельского хозяйства 112 121
Все отрасли промышленности 80 108
Общий объем производства 192 229
* Agriculture in the Australian Economy, c. 23.
C 1861 no 1901 г. ежегодный прирост производства совокупного национального продукта, несмотря на колебания, вызванные кризисом 90-х годов, составил в среднем 4,1% (табл. 10). Таким образом, по темпам экономического развития Австралия уступала только Соединенным Штатам.
Таблица 10
Доля различных отраслей в производстве совокупного национального продукта *, %
Отрасль 1890 г. 1900 г.
Овцеводство . 12,8 7,7
Земледелие 5,8 8,1
Мясо-молочное производство . . . 3,5 5,5
Горнорудная промышленность 4,2 9,7
Обрабатывающая промышленность VI ,8 12,6
Строительная промышленность 16,5 6,7
Сфера обслуживания и торговля 36,7 39,8
Аренда домостроений .... 8,7 9,7
* Agriculture in the Australian Economy, c. 9.
Значительные изменения произошли в течение второй половины XIX в. и в распределении рабочей силы по отраслям хозяйства. Если в 1856 г. в сельском хозяйстве было занято 30% всей рабочей силы, в горнорудной промышленности — 50, в обрабатывающей промышленности — 8, в сфере обслуживания—12%, то в 1901 г. в сельском хозяйстве и горнорудной промышленности — 32%, в обрабатывающей промышленности — 26, на транспорте и в торговле— 21, в сфере обслуживания— 14, в административно-управленческом аппарате — 7% [109, с. 128].
Глава V
РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ В БРИТАНСКИХ КОЛОНИЯХ В АВСТРАЛИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
Развитие капитализма в Австралийском Союзе во второй половине XIX в. привело к значительному обострению классовых отношений, росту рабочего движения. Двадцатилетие (1850—1870) можно рассматривать как переходный период от существования разрозненных мелких профсоюзов к созданию мощных профсоюзных объединений, выходивших за рамки отдельных колоний. Основной формой объединения на первом этапе был небольшой профсоюз, ставивший целью защиту интересов рабочих только своего предприятия.
«Золотая лихорадка» пагубно повлияла, особенно в первой половине 50-х годов, на развитие профсоюзного движения в Австралии. Например, Общество каменщиков, созданное в Мельбурне в 1850 г., распалось вследствие того, что его члены ушли на поиски золота. Восстановлено оно было лишь в 1855 г. То же произошло и с Ассоциацией типографских рабочих Мельбурна, которая возникла в 1851 г. Свою деятельность ассоциация возобновила в 1867 г.
Однако уже в эти годы в Австралии создаются профсоюзные объединения, ставящие перед собой более широкие цели. Примером могут служить Объединенное общество механиков (ООМ) и Австралийское общество прогрессивных плотников и столяров, организованные в Сиднее (первое — в 1852 г., второе — в 1854 г.) прибывавшими в Австралию рабочими — эмигрантами из Великобритании после поражения чартистского движения.
ООМ было создано еще на корабле, на котором британские рабочие ехали в Австралию. Сохранился документ, свидетельствующий об этом факте. «8 октября 1852 г.,— указывалось в нем,— на борту корабля „Фрэнсис Уолкер“ состоялось собрание, в котором участвовали члены Объединенного общества механиков. Было избрано временное руководство, которому предстояло принять необходимые меры для создания в Сиднее... первого Австралийского отделения Объединенного общества механиков» (цит. по [180, с. 44]).
ООМ, Австралийское общество прогрессивных плотников и столяров, а также другие объединения подобного рода создавались
85
именно как филиалы соответствующих британских тред-юнионов. Следует сказать, что австралийское рабочее движение вообще развивалось под определяющим влиянием английского тред-юнионизма. Оно получало из Великобритании не только идеи, но и руководителей.
Шотландец Дж. Флетчер, прибывший в Австралию в 1852 г., был создателем и руководителем Объединенной ассоциации шахтеров. По приезде в Австралию он начал работать на угольных шахтах в Ньюкасле (Новый Южный Уэльс), принадлежавших Австралийской сельскохозяйственной компании. По его инициативе на шахтах компании был создан первый в истории Австралии фонд помощи при заболеваниях и несчастных случаях, а также проведены некоторые меры по обеспечению безопасности труда шахтеров. Под руководством Флетчера на шахтах компании в мае 1854 г. прошла первая забастовка шахтеров, требовавших увеличения заработной платы. Забастовка кончилась через три недели победой шахтеров, несмотря на то что руководитель компании капитан Браунриг пытался (впервые в истории рабочего движения в Австралии) использовать штрейкбрехеров, доставленных из Мельбурна. 1 мая 1855 г. на шахтах компании вновь была проведена забастовка, длившаяся два с половиной месяца.
В 50-е годы в Австралии началось движение за установление восьмичасового рабочего дня, проходившее под девизом «8—8—8», т. е. «восемь часов работать, восемь часов отдыхать, восемь часов спать». В организации этого движения большую роль сыграл Дж. Стефенс, активный участник чартистского движения в Великобритании, прибывший в Австралию в 1853 г.
Борьбу за восьмичасовой рабочий день начали каменщики Мельбурна и Сиднея. Каменщики Нового Южного Уэльса и Виктории были организованы лучше, чем рабочие других отраслей, поэтому они смогли выступить с такой важной для всего австралийского рабочего класса инициативой. 28 февраля 1856 г. в газете «Сидней морнинг геральд» было напечатано письмо одного сиднейского рабочего-строителя. «Каждый, кто видит каменщиков во время их работы,— писал он,— приходит к заключению, что их профессия — самая тяжелая и что 10 часов такого труда ежедневно могут изнурить даже самого сильного человека» (цит. по [75, с. 59]).
5 марта 1856 г. каменщики Мельбурна провели собрание в отеле «Бельведер». В резолюции, принятой им, в частности, говорилось: «Собрание считает, что сокращение времени работы не только благоприятно отразится на условиях труда, но также приведет к улучшению социального и морального положения рабочих. Собрание обещает использовать все законные средства, чтобы добиться желаемого результата. Для реализации настоящей резолюции создан комитет из двенадцати членов. Комитет должен избрать из своей среды трех делегатов, которые встретятся с предпринимателями, выслушают их мнение по данной проблеме и пригласят в отель „Бельведер" 12 марта 1856 г, на переговоры» [75, 86
с. 61—62]. Предприниматели, прибывшие на эту встречу, попросили отложить решение вопроса на месяц. Тем не менее 26 марта было созвано новое собрание каменщиков, участники которого потребовали немедленного введения восьмичасового рабочего дня.
Движение каменщиков было поддержано другими отрядами строительных рабочих Мельбурна. Профсоюзы плотников, столяров, штукатуров, кровельщиков также организовали комитеты борьбы за восьмичасовой рабочий день. В апреле 1856 г. в Мельбурне была создана Лига восьмичасового рабочего дня. В резолюции организационного комитета по созданию лиги говорилось, что она должна объединить «рабочих всех профессий и специальностей» для достижения восьмичасового рабочего дня. «Мнение комитета, выраженное в резолюции,— писала 26 апреля мельбурнская газета „Геральд“,— основывалось на том, что начатое дело может оказаться в опасности, если оно будет вестись лишь несколькими местными союзами» [75, с. 66]. Уже в 1856 г. строители Мельбурна добились введения восьмичасового рабочего дня.
Движение за восьмичасовой рабочий день развернулось и в Сиднее, хотя и не столь успешно, как в Мельбурне. Еще 22 сентября 1855 г. Австралийское общество прогрессивных плотников и столяров, находившееся в Сиднее, на своем собрании единогласно приняло резолюцию, в которой говорилось, что «рабочий день должен продолжаться максимально восемь часов» [116, с. 82]. Когда же предприниматели отказались установить восьмичасовой рабочий день, строители начали забастовку. Им удалось добиться установления восьмичасового рабочего дня, но, к сожалению, ненадолго. Борьба продолжалась еще много лет и закончилась успешно в 1872 г.
Рабочие Квинсленда добились сокращения рабочего дня в 1866 г., Южной Австралии — в 1873 г., Тасмании — в 1890 г., Западной Австралии — в 1896 г.
Не следует думать, что предприниматели легко шли на сокращение рабочего дня. Не раз с помощью прессы они организовывали широкую антирабочую кампанию. Например, 22 апреля 1856 г. в мельбурнской газете «Геральд» была помещена статья, в которой требования рабочих об установлении восьмичасового рабочего дня назывались «абсолютно самоубийственными». Рабочие, утверждал автор статьи, стали жертвой агитации, начатой «злонамеренными болванами» [75, с. 65].
Большинство предпринимателей соглашались на установление восьмичасового рабочего дня лишь при условии соответственного снижения заработной платы. Они пользовались любой возможностью для того, чтобы восстановить прежнюю продолжительность рабочего дня, и только забастовки рабочих не позволяли предпринимателям осуществлять свои намерения.
Движение за восьмичасовой рабочий день способствовало организованности и сплоченности рабочего класса в борьбе за свои права.
Наиболее крупным выступлением австралийского пролетариа
87
та в 50-х годах было восстание рабочих золотых приисков Юрека (недалеко от Балларата, в Виктории). И ноября 1854 г. на массовом митинге старателей Балларата была создана Балларатская лига реформ, обратившаяся к правительству колонии с рядом политических и экономических требований, аналогичных требованиям английских чартистов: организации единых избирательных округов, выплаты жалованья членам парламента, отмены имущественного ценза для кандидатов в члены парламента, созыва ежегодных сессий парламента, установления тайного голосования при выборах в парламент. Единственным специфическим, чисто австралийским было требование отмены лицензий для старателей на добычу золота. Все требования рабочих правительство Виктории отклонило, а на прииски в начале декабря послало войска и полицию. В столкновении, происшедшем 3 декабря 1854 г., было убито около 30 рабочих.
К. Маркс, анализируя события в Балларате, подчеркивал: «Революционное движение в провинции Виктория вращается в сущности вокруг двух крупных вопросов, из-за которых разгорелась борьба. Золотоискатели требуют отмены патентов на добычу золота, то есть отмены налога, который падает непосредственно на труд; во-вторых, они настаивают на отмене имущественного ценза для членов палаты депутатов, стремясь таким образом взять в свои руки контроль над налогами и законодательством. Нетрудно заметить, что по существу эти мотивы аналогичны тем, которые привели к объявлению независимости Соединенных Штатов, только с той разницей, что в Австралии сопротивление монополистам, связанным с колониальной бюрократией, начато рабочими» [2, с. 111].
Несмотря на то что восстание 1854 г. было подавлено, оно оказало значительное влияние на развитие демократического движения в колонии. В середине 1855 г. в Виктории были отменены лицензии на добычу золота, в следующем году введено тайное голосование при выборах в парламент.
События в Балларате послужили толчком к дальнейшему развитию рабочего движения как в Виктории, так и в других колониях. Они, в частности, способствовали созданию в Ньюкасле объединения шахтеров, которые и в 60-е годы продолжали борьбу за повышение заработной платы и улучшение условий труда. Но к этому времени в Ньюкасле кроме Австралийской сельскохозяйственной компании действовало еще несколько компаний по добыче угля, такие, как «Уоллсенд кул компани», «Кул энд коппер компани» и «Д. энд А. Браум компани». В 1861 г. их руководители договорились между собой о совместных действиях против выступлений шахтеров (это первый случай координации действий предпринимателей Австралии) и объявили о сокращении с 16 августа заработной платы на 20%. На следующий день, 17 августа, шахтеры начали забастовку, которая продолжалась до 14 октября. Предприниматели вынуждены были отказаться от попыток сокращения заработной платы шахтеров.
70—80-е годы характеризовались значительным расширением
88
и укреплением тред-юнионизма в Австралии. В 1872—1873 гг. шахтеры Ньюкасла провели несколько успешных забастовок, которые заставили предпринимателей увеличить им заработную плату и сократить рабочий день с 12 до 10 часов (1 января 1874 г.).
Рост добычи угля в Австралии в 80—90-годы, разработка новых месторождений обусловили дальнейшее расширение рабочего движения в горнорудной промышленности, возникновение новых объединений шахтеров. В 1886 г. была создана Ассоциация по защите прав шахтеров, объединявшая 350 членов. Ее преемник — Союз шахтеров Литгоу, появившийся в 1889 г., имел уже 450 членов. В это же время были организованы Союз шахтеров Иллавары, насчитывавший 3 тыс. членов, и Союз шахтеров Ньюкасла — 7 тыс. членов.
К этому периоду относится возникновение профсоюзных объединений рабочих золотодобывающей промышленности. Первой была Ассоциация шахтеров Бендиго, созданная в феврале 1872 г. и в том же году добившаяся установления на приисках восьмичасового рабочего дня. В июне 1874 г. в Бендиго состоялась конференция представителей 12 профсоюзных организаций, на которой была учреждена Объединенная ассоциация шахтеров Виктории.
В 1873 г. складываются профсоюзы типографских рабочих Квинсленда и рабочих предприятий по выпуску сельскохозяйственной техники Виктории, в следующем году — профсоюзы типографских рабочих Южной Австралии, стригалей Тасмании, а также профсоюзы моряков Сиднея и Мельбурна. Следует отметить, что двум последним объединениям сразу же удалось добиться значительного успеха: морякам Сиднея была повышена заработная плата на 1 ф. в месяц, а морякам Мельбурна установлен восьмичасовой рабочий день. Объединившиеся тогда же в профсоюз маляры Сиднея вынудили предпринимателей поднять заработную плату до 9 шилл. в день.
В 1875 г. был учрежден профсоюз дубильщиков и ткачей Виктории. Эта организация вела упорную и длительную борьбу с предпринимателями за установление восьмичасового рабочего дня; к середине 80-х годов она добилась его введения для всех рабочих этой отрасли. В 1876 г. были созданы профсоюзы портных Нового Южного Уэльса и сапожников Тасмании, в следующем году — объединения плотников, столяров, каменщиков и наборщиков Хобарта. В 1879 г. возник профсоюз сапожников Виктории, в 1880 г.— объединения бондарей Нового Южного Уэльса, Виктории, Южной Австралии и Квинсленда, водопроводчиков Нового Южного Уэльса, продавцов готового платья Южной Австралии, котельщиков и судостроителей Квинсленда, портовых рабочих Виктории.
В 1881 г. в профсоюзы объединились металлисты и морские механики Нового Южного Уэльса, в 1882 г.— сапожники Южной Австралии и портные Виктории, в 1883 г.— металлисты Виктории, работники боен и мясники Нового Южного Уэльса, в 1884 г.-машинисты и пожарники Нового Южного Уэльса, строители и типографские рабочие Квинсленда, в 1885 г. — штукатуры Перта и
89
печатники Нового Южного Уэльса, в 1886 г. — железнодорожники и трамвайщики Нового Южного Уэльса, механики Квинсленда, работники газовой, мукомольной и мебельной промышленности Нового Южного Уэльса, типографские рабочие Западной Австралии, в 1889 г.— сапожники Нового Южного Уэльса и шахтеры Южной Австралии.
К этому же периоду относится возникновение широких профсоюзных объединений сельскохозяйственных рабочих Австралии. В 1886 г. в Виктории был создан союз стригалей, среди членов которого насчитывалось немало людей, совмещавших работу в качестве стригалей с работой на шахтах и именно там прошедших школу тред-юнионизма и привнесших свой опыт в сельскохозяйственные районы. В том же году союз стригалей появился в Квинсленде, позже аналогичные организации возникли и в других колониях. В 1894 г. все они объединились в Австралийский союз стригалей.
Даже этот далеко не полный перечень профсоюзов показывает, насколько широко развернулось тред-юнионистское движение в Австралии к началу 90-х годов XIX в.
Основные усилия профсоюзных организаций были направлены на сокращение рабочего дня и повышение заработной платы. Только непрекращающаяся упорная борьба позволяла рабочим добиваться уступок у предпринимателей.
Так, Ассоциация взаимопомощи шахтеров района реки Хантер в 1872 г. потребовала сокращения рабочего дня и увеличения заработной платы. Предприниматели согласились увеличить заработную плату, но отказались сократить рабочий день. Через несколько месяцев ассоциация вынесла постановление, в котором указывалось, что с 1 января 1873 г. ее члены должны работать не более 10 часов в день. Предприниматели по-прежнему не хотели сокращать рабочий день, но в конце концов вынуждены были уступить. Было достигнуто соглашение, которое устанавливало, что в течение 1873 г. продолжительность рабочего дня шахтеров будет 10 с половиной часов, а с 1 января 1874 г.—10 часов.
В 1872 г. профсоюз рабочих предприятий по выпуску сельскохозяйственной техники Виктории добился сокращения рабочего дня до 8 часов, но без соответствующего снижения заработной платы. На следующий год союз потребовал увеличения заработной платы и, когда предприниматели отказались это сделать, объявил забастовку, длившуюся два месяца. Это выступление рабочих окончилось пораженим. Их лидеры были арестованы, а организация прекратила существование. Возобновила она свою деятельность лишь в 1885 г.
Во второй половине 1873 г. металлисты Сиднея в ответ на отказ предпринимателей удовлетворить их требования о введении восьмичасового рабочего дня устроили забастовку. Предприниматели вынуждены были уступить, хотя и попытались ущемить интересы рабочих. Если раньше металлисты в течение дня имели два перерыва (один для завтрака, другой для обеда), то теперь уста
90
навливался лишь один перерыв. Рабочие не согласились с этим и в течение девяти недель отказывались работать по новой системе. В результате переговоров был достигнут компромисс: в зимнее время рабочие имели один перерыв, в летнее — два.
В 1876 г. произошла забастовка рабочих, занятых на строительстве сухого дока в Брисбене. Они требовали сокращения рабочего дня с 9 до 8 часов. Проявив настойчивость и упорство, строители добились успеха.
В 1882 г. бастовали портнихи Мельбурна. Вероятно, это была первая в Австралии забастовка работниц. Женщины требовали увеличения заработной платы и улучшения условий труда. Их требования были удовлетворены. Это совместное выступление объединило работниц и привело к созданию первой в Австралии женской профсоюзной организации — Союза портних Виктории.
В конце 1884 — начале 1885 г. обувщики Мельбурна организовали забастовку, требуя улучшить условия труда и восстановить, их право работать на дому. В забастовке приняло участие 1400 человек. Через несколько недель владельцы обувных предприятий согласились начать переговоры с представителями профсоюза. Каждая из спорящих сторон выдвинула по 10 делегатов; делегацию бастующих возглавил рабочий Тренвит. Предприниматели отказались вести с ним переговоры, и профсоюз возобновил забастовку. Она длилась три месяца, до тех пор, пока предприниматели не согласились приступить к переговорам, окончившимся победой рабочих.
В течение 1886 г. Союз стригалей провел серию забастовок, протестуя против намерения предпринимателей ввести так называемую «свободу контрактов», т. е. нанимать рабочих по своему усмотрению. Профсоюз же требовал, чтобы прием на работу и определение условий труда согласовывались с ним. В ходе забастовок стригали использовали своеобразный метод борьбы — организацию «забастовочных лагерей». Они селились около станций для стрижки овец и не допускали туда рабочих — не членов профсоюза, привозимых предпринимателями. Забастовочное движение стригалей охватило Новый Южный Уэльс и Викторию. Многие бастующие были арестованы и приговорены к различным срокам заключения. Но все-таки профсоюз добился известного улучшения условий труда и повышения заработной платы стригалям.
Другой проблемой, которой профсоюзы уделяли много внимания, была иммиграция рабочих из Азии. Предприниматели старались использовать их в борьбе с растущим рабочим движением в Австралии. Поэтому профсоюзы настойчиво требовали изгнания из страны иммигрантов из Азии. Положение особенно обострилось во второй половине XIX в. в связи с широким привлечением азиат^ ских рабочих на золотые прииски Нового Южного Уэльса, Виктории, Квинсленда и Западной Австралии.
Развитие профсоюзного движения в различных отраслях экономики требовало создания объединений в масштабах не только колоний, но и всего континента.
91
Отдельные попытки организовать такие объединения были предприняты еще в 50-х годах. Так, в 1856 г. в Мельбурне был создан Объединенный совет профсоюзов строительных рабочих, который не имел никаких административных функций и служил лишь консультативным органом для профсоюзов в случае их конфликтов с предпринимателями. В 1860 г. совет прекратил свое существование. В 1856 г. в Мельбурне был открыт Дом профессиональных союзов как место встреч профсоюзов различных отраслей. До 80-х годов Дом профессиональных союзов организационными делами не занимался.
Несколько позднее советы профсоюзов появились и в других городах: в Сиднее — в 1871 г., в Брисбене и Хобарте — в 1883 г., в Аделаиде — в 1884 г., в городах Западной Австралии — лишь в 1892 г.
Создавались также ассоциации рабочих одной профессии, имевшие филиалы в нескольких колониях, но до 80-х годов их было очень мало и объединяли они небольшое число рабочих. Например, Объединенная ассоциация шахтеров, организованная в Виктории в 1874 г., к концу 70-х годов насчитывала всего 300 членов. Через 10 лет положение кардинальным образом изменилось. В Объединенную ассоциацию шахтеров, имевшую отделения в Тасмании, Западной Австралии и даже в Новой Зеландии, входило уже несколько тысяч человек. В 1891 г. организация провела 37 забастовок. В 1896 г. ее отделения появились во всех колониях и объединяла она 24 тыс. человек.
Объединенный союз стригалей, созданный в Виктории в 1886 г., вначале насчитывал 9 тыс. членов, а в 1890 г.— уже 31 тыс. К этому времени союз имел отделения в Новом Южном Уэльсе, Южной Австралии и Квинсленде. В «Общих правилах союза стригалей», утвержденных на общей конференции организации в феврале 1890 г., говорилось, что его цель — защита прав и привилегий стригалей повсюду в Австралазии.
Развитию профсоюзного движения весьма способствовали общеавстралийские конгрессы профсоюзов. Первый из них состоялся в Сиднее в октябре 1879 г. На нем присутствовало 39 делегатов, представлявших более 11 тыс. членов профсоюзов. Среди обсуждавшихся вопросов были следующие: иммиграция из азиатских стран, введение восьмичасового рабочего дня, регулярность проведения общеавстралийских конгрессов профсоюзов, фабрично-заводское законодательство.
На II Общеавстралийском конгрессе профсоюзов, проходившем в Мельбурне, присутствовало 69 делегатов, которые представляли, по приблизительным подсчетам, 33,7 тыс. членов профсоюзов. На повестке дня этого конгресса стояли не только экономические, но и политические вопросы: представительство рабочих в парламентах колоний, оплата работы членов парламента, местное самоуправление.
До создания Австралийского Союза состоялось восемь общеавстралийских конгрессов профсоюзов. В их решениях подчерки-
92
жалась необходимость объединения профсоюзного движения. Так, в решении VII Общеавстралийского конгресса профсоюзов, состоявшегося в Балларате в 1891 г., говорилось: «Для сохранения и развития тред-юнионизма в Австралии целесообразно создать федерацию профсоюзов, которая предоставляла бы каждому отдельному союзу или объединению союзов все права в ведении их собственных дел и в то же время координировала бы их деятельность, а также способствовала сотрудничеству отдельных союзов в тех случаях, когда это необходимо для общей пользы» [75, с. 101].
В решениях конгрессов содержались требования распространения восьмичасового дня на все категории рабочих во всех колониях. «Восьмичасовой рабочий день, безусловно, должен стать узаконенным рабочим временем во всех колониях,— было записано в резолюции I Общеавстралийского конгресса профсоюзов,— :и все правительственные контракты должны содержать статью, аналогичную той, которая имеется в правительственных контрактах Виктории: каждый работодатель обязан устанавливать для работающих только восьмичасовой рабочий день» [75, с. 97].
Участники конгрессов требовали распространения тех прав, которыми пользовались британские тред-юнионы, на профсоюзы Австралии, в частности полной легализации всех форм их деятельности. Австралийские тред-юнионы добились этого в трудной и длительной борьбе. Закон, легализующий деятельность профсоюзов, основанный на соответствующем британском законе, первой в 1876 г. приняла Южная Австралия. Аналогичные законы появились в Новом Южном Уэльсе в 1881 г., в Виктории — в 1884 г., в Тасмании — в 1889 г., в Западной Австралии — в 1900 г.
На повестке дня многих общеавстралийских конгрессов профсоюзов стоял вопрос о прямом рабочем представительстве в парламентах.
«Необходимо сделать все возможное, чтобы добиться прямого представительства рабочих в парламенте, установления жалованья членам парламента в тех колониях, которые еще не приняли такого правила»,— отмечалось в резолюции, принятой VI Общеавстралийским конгрессом профсоюзов, проходившим в Хобарте в 1889 г. [75, с. 150]. Еще более энергично об этом говорилось в докладе комитета по политическим реформам VII Общеавстралийскому конгрессу профсоюзов в 1891 г.: «Недавние события, связанные с рабочим движением, показали народным массам Австралазии их политическую беззащитность, установленную существующей ныне системой управления. Меры, которые уже давно следовало принять в законодательном порядке, для того чтобы расширить демократию в австралазийских колониях, проводятся так медленно... что подавляющее большинство трудящихся все еще не представлено в законодательных органах... Трудящиеся должны иметь прямое представительство на том основании, что ,,классовые вопросы требуют классового самосознания, чтобы ставить их, и классовую солидарность, чтобы бороться за нее“» [75, с. 101].
До 90-х годов лишь несколько рабочих принимали участие в
93
работе парламента, среди них Ч. Дон, избранный в 50-х годах в парламент Виктории. Чтобы прокормить себя и свою семью, он днем продолжал работать по специальности, а депутатские обязанности исполнял вечером.
Профсоюзы внимательно следили за парламентской деятельностью своих депутатов и, если считали ее неудовлетворительной, принимали необходимые меры. Характерен в этом отношении такой пример. Депутат парламента Нового Южного Уэльса А. Камерон, который был первым парламентарием, получившим финансовую поддержку профсоюзов (его расходы во время выборов, проходивших в 1875 г., и последующие депутатские расходы были оплачены из фондов различных профсоюзов, входивших в Совет профсоюзов колонии), в 1876 г. вызвал недовольство профсоюзного актива тем, что при голосовании объединялся с депутатами, представлявшими интересы буржуазии. Был организован митинг избирателей, на который пригласили А. Камерона, но он не явился. Участники митинга приняли резолюцию, в которой указывалось, что депутат не оправдал доверия избирателей.
Лишь в начале XX в. профсоюзы добились широкого рабочего представительства в парламентах штатов.
Для активизации борьбы профсоюзов за улучшение законодательства о труде, за расширение рабочего представительства в парламентах были созданы парламентские комитеты профсоюзов. Впервые решение о необходимости создания таких комитетов было принято на II Общеавстралийском конгрессе профсоюзов. В резолюции конгресса говорилось: «Необходимо, чтобы рабочие организации различных колоний немедленно избрали парламентские комитеты... которые должны содействовать тому, чтобы через парламенты проходили законы, улучшающие положение трудящихся, а также, где это возможно, способствовать прямому представительству рабочих в парламенте» [180, с. 71].
Вначале парламентский комитет появился в Виктории, потом в Новом Южном Уэльсе, а затем и во всех других британских колониях в Австралии. Эти организации представляли общенациональным конгрессам профсоюзов доклады о своей деятельности. III конгресс предложил несколько демократизировать систему формирования парламентских комитетов. Комитеты, указывалось в решении конгресса, должны избираться не советами профсоюзов столичных городов колоний, а всеми рабочими организациями, которые будут направлять своих представителей на специальные выборные конференции.
Возникновение многочисленных профсоюзных объединений в британских колониях в Австралии вызвало к жизни идею создания организации, объединяющей профсоюзное движение в масштабах всего континента. Проект такой организации был представлен на рассмотрение VI Общеавстралийского конгресса профсоюзов, но не нашел тогда поддержки: отдельные профсоюзы высказали опасение, что в результате создания такого объединения они утратят свою самостоятельность.
94
Эта идея частично была воплощена в жизнь в Квинсленде. В 1890 г. профсоюзы шести округов объединились и организовали Австралийскую рабочую федерацию. Предполагалось, что после создания такой организации в масштабах всей Австралии учрежденная федерация будет ее секцией. На первом собрании Австралийской рабочей федерации в августе 1890 г. была принята ее политическая программа. В преамбуле отмечалось, что в австралийском обществе происходит постоянная борьба между меньшинством, богатство которого все время растет, и большинством, бедность которого становится все более глубокой. Меньшинство эксплуатирует большинство, процветание сменяется депрессией, женщины и дети работают в условиях рабского труда. Жизнь трудящихся масс не улучшится до тех пор, подчеркивалось в документе, пока на смену этому раздираемому противоречиями обществу не придет справедливый общественный строй. В программе содержались такие требования, как национализация средств производства и обмена, установление пенсий по старости и инвалидности, улучшение системы образования и здравоохранения. Предлагалось создать политическую ассоциацию, прочно связанную с профсоюзами, которая бы выставляла своих кандидатов на выборах в местные законодательные органы.
В 1890 г. активный деятель рабочего движения У. Лейн начал издавать газету «Уоркер». Социалист-утопист по своим убеждениям, У. Лейн в 1887 г. основал в Брисбене общество, занимавшееся распространением идей известного американского социалиста-утописта Э. Беллами. Лейн был организатором Австралийской рабочей федерации и ее духовным вождем. После поражения забастовочного движения в начале 90-х годов Лейн вместе с группой своих последователей покинул в июле 1893 г. Квинсленд и переехал в Парагвай, где создал общину Новая Австралия на принципах утопического социализма.
Действия профсоюзов Квинсленда способствовали тому, что на следующем, VII Общеавстралийском конгрессе профсоюзов единодушно было принято решение о создании Австралийской федерации труда. «Федерация будет состоять,— говорилось в резолюции конгресса,— из профсоюзов, объединенных для взаимной поддержки и для развития общего дела рабочего движения». Главными целями федерации, согласно принятой резолюции, провозглашались: улучшение условий и защита интересов всех трудящихся Австралии; обсуждение и осуществление проектов, направленных на улучшение руководства и расширение деятельности австралийских рабочих организаций; предотвращение, если это необходимо, путем созыва конгресса или каким-либо другим образом угрозы столкновений и споров между членами федерации и работодателями и использование в этих целях соответствующих примирительных средств; обеспечение прямого представительства трудящихся в парламенте и содействие принятию таких законодательных реформ, которые обеспечили бы социальную справедливость; защита в печати прав трудящихся [75, с. 102].
95
Вместе с тем конгресс не одобрил политической программы, разработанной квинслендской секцией Австралийской рабочей федерации, хотя и высказался за создание общеавстралийской политической организации рабочих.
В начале 90-х годов в Австралии обострился экономический кризис. Значительное сокращение деловой активности привело к: тому, что масса людей оказалась без работы.
Используя безработицу, предприниматели попытались снизить заработную плату, отменить законы о труде, установления которых профсоюзы добились в нелегкой борьбе. В условиях экономической депрессии тред-юнионам становилось все труднее отстаивать права рабочих.
По всей стране прокатилась невиданная по своей силе волна забастовок. Забастовка моряков, начавшаяся в августе 1890 г.,, всколыхнула все британские колонии в восточной части Австралии. К бастующим морякам присоединились шахтеры, транспортные и сельскохозяйственные рабочие. В конце сентября число бастующих составило 50 тыс. человек. Основные предприятия Австралии прекратили работу.
Забастовка моряков была вызвана тем, что Ассоциация офицеров торгового флота Австралии, созданная в октябре 1889 г.г приняла в марте 1890 г. решение войти в Мельбурнский совет профсоюзов. Если судовладельцы смирились с тем, что офицеры организовали собственный профсоюз, то стремление этого союза объединиться с другими рабочими организациями встретило с их стороны резкое сопротивление. Существо возражений изложил представитель Объединения судовладельцев Австралазии Д. Хеддерт в письме секретарю Ассоциации офицеров торгового флота Австралии Паркину от 13 августа 1890 г. «Большинство судовладельцев,— писал Д. Хеддерт,— не могут согласиться с присоединением вашей ассоциации к совету профсоюзов. Мы не возражаем против любого рабочего объединения, в том числе и Мельбурнского совета профсоюзов, но заявляем, что наши офицеры находятся на ответственном посту, представляя вместе с капитаном интересы судовладельцев. Поэтому они не должны объединяться с каким-либо профсоюзом, который может быть использован для того, чтобы насильственным путем заставить судовладельцев, капитанов и офицеров подчиниться требованиям, которые они сочтут необходимыми выдвинуть» [75, с. 125]. Одновременно Хеддерт, полагая, что это будет способствовать отмене принятого ассоциацией решения, сообщал, что судовладельцы согласились увеличить жалованье офицерам.
В ответном письме Паркин заявил: «Я не согласен с тем, что наше объединение с различными профсоюзами приведет к ухудшению дисциплины на судах. Мне известно, что мастера на различных предприятиях являются членами соответствующих профсоюзов вместе с рабочими, находящимися в их подчинении, и это не нарушает дисциплину, которая одинаково необходима как на судах, так и на фабриках. Почему мы должны быть в худшем поло
96
жении, чем они?» Относительно посула судовладельцев увеличить жалованье Паркин заметил: «Нам никогда не платили в соответствии с проделанной нами работой, и, если даже вы согласитесь дать нам все, что мы просим, это не возместит ни затрат нашего труда при выполнении возложенных на нас обязанностей, ни времени, которое мы на это потратили, будучи оторванными от наших семей» [75, с. 126].
Позицию, занятую Ассоциацией офицеров торгового флота, Мельбурнский совет профсоюзов полностью одобрил. В манифесте от 17 августа 1890 г. он призвал все объединения рабочих поддержать ассоциацию в ее борьбе с Объединением судовладельцев Австралазии.
Первыми откликнулись Объединение союза стригалей и его квинслендское отделение, которые насчитывали к тому времени 40 тыс. членов. Стригали выдвинули требование принимать на работу только членов союза. Аналогичным было требование забастовавших шахтеров, входивших в Объединенную шахтерскую ассоциацию (использование на работах в шахтах только членов ассоциации) .
Тем временем Ассоциация офицеров торгового флота предъявила Объединению судовладельцев Австралазии ультиматум, в котором говорилось, что, если объединение не одобрит решения ассоциации о вхождении в Мельбурнский совет профсоюзов, все офицеры покинут корабли. Объединение судовладельцев ответило отрицательно, и тогда забастовка началась.
Обе стороны старались укрепить свои позиции путем консолидации сил. Профсоюзы организовали Комитет защиты труда в Сиднее, который представлял большую часть рабочих организаций Нового Южного Уэльса, а затем превратился в межконтинентальный профсоюзный орган. Комитеты защиты были созданы также в Мельбурне и Брисбене. Но и предприниматели не теряли времени даром. «Все предприниматели Австралии,— заявил в июне 1890 г. председатель Ассоциации судовладельцев Уиллис,— заключили соглашение стоять друг за друга и ничего не предпринимать без предварительной договоренности. Они представляют собой единое целое, и я уверен, что никогда ранее не возникало такой возможности испытать соотношение сил труда и капитала» [116, с. 66]. Предпринимателей поддерживали правительства колоний, помогая им набирать штрейкбрехеров и доставляя транспорт для перевозки грузов. Крупные скотоводы вооружали нанятых ими рабочих — не членов союзов и создавали денежные фонды для борьбы с рабочим движением. На собрании скотоводов было принято решение принимать на работу только не членов союза.
Правительства Виктории и Нового Южного Уэльса послали войска и полицию в порты Мельбурна и Сиднея, а также на шахты Ньюкасла. Комитеты защиты труда развернули сбор средств в помощь бастующим рабочим. .В течение нескольких недель в Новом Южном Уэльсе было собрано 29 тыс. ф. ст., а в Виктории —•
7 Заказ 91
97
35 тыс. ф. ст.; 4 тыс. ф. ст. перевели по телеграфу английские профсоюзы.
Следует отметить, что за год до этого австралийские профсоюзы послали в Англию крупную сумму денег в фонд помощи бастовавшим докерам, что определило успех забастовки.
«Стачка докеров выиграна,— писал по этому поводу Ф. Энгельс в письме К. Каутскому от 15 сентября 1889 г.— Это — величайшее событие в Англии со времени обоих последних биллей о реформе, начало полной революции в Ист-Энде... Решили победу 14 000 фунтов стерлингов из Австралии; этим австралийские рабочие застраховали себя от внезапного массового импорта английских рабочих» [4, с. 230].
Но австралийские профсоюзы не могли отразить натиска объединенных сил предпринимателей и правительства. Трехмесячная борьба закончилась поражением профсоюзов.
Офицеры торгового флота, начавшие забастовку, первыми вернулись на суда. Вслед за ними возобновили работу на условиях, продиктованных предпринимателями, шахтеры и сельскохозяйственные рабочие.
Анализируя ход борьбы, генеральный секретарь Объединенного союза стригалей в своем докладе на V конференции союза в 1891 г. говорил: «Великая битва была выиграна организацией капиталистов, которые захватили профсоюзы врасплох... Капиталисты применили самые недостойные средства для разгрома профсоюзов (используя таких подонков общества, как штрейкбрехеры)...
Войска и полиция были мобилизованы и использованы в интересах капиталистов, чтобы устрашить и разгромить рабочих. Правительства колоний (за исключением, возможно, правительства Южной Австралии) взяли сторону капиталистов, так же как и вся пресса, за редким исключением. С помощью огромных богатств, украденных в прошлом у рабочих, поддержанные продажной капиталистической прессой и правительствами колоний, предприниматели одержали временную победу в споре, который они сами разожгли. Они могут радоваться, но недалеко то время, когда ход событий изменится и справедливость и законность восторжествуют» [75, с. 130—131].
Действительно, уже в следующем году волна забастовочного движения поднялась в Квинсленде. Федеральное объединение скотоводов, воспользовавшись разгромом рабочего движения в 1890 г., захотело навязать сельскохозяйственным рабочим такую форму трудового договора на 1891 г., в которой отсутствовало бы положение о восьмичасовом рабочем дне, но содержалось бы указание на право предпринимателей использовать на своих фермах как членов, так и не членов профсоюзных объединений. Объединенная скотоводческая ассоциация Квинсленда сразу же заявила, что она поддерживает такую форму договора и на ее основе члены объединения будут заключать трудовые соглашения с рабочими на сезон 1891 г.
Решение квинслендских скотоводов вызвало массовые проте
98
сты стригалей колонии, которые на своих собраниях принимали решения не заключать соглашений на таких условиях. В январе 1891 г. Австралийская рабочая федерация обратилась с письмом к Федеральному союзу предпринимателей, в котором предложила созвать специальную конференцию для выработки соглашения со стригалями. На это Федеральный союз предпринимателей ответил, что до начала переговоров Австралийская рабочая федерация должна признать принцип «свободы договоров», т. е. право предпринимателей заключать трудовые соглашения с любыми лицами, будь то члены профсоюзных организаций или нет.
В это время скотоводы колонии, предчувствуя неизбежность крупной забастовки, начали предпринимать меры, которые обрекли бы ее на неудачу. В Мельбурне они нанимали рабочих — не членов профсоюзов и отправляли их на свои фермы: Это нетрудно было сделать, поскольку начавшийся в Австралии экономический кризис привел уже тогда к увеличению числа безработных. Одновременно стягивались воинские и полицейские части.
В свою очередь, генеральный совет Австралийской рабочей федерации в выпущенном им манифесте призвал к сплочению в борьбе с объединенными силами австралийского капитализма, поддерживаемого «неограниченными средствами банков и Федеральным союзом предпринимателей, поощряемого квинслендским правительством и оправдываемого лживыми разъяснениями и заявлениями, которые всегда сопровождают атаки капитализма на рабочий класс» [70, с. 166].
Попытка забастовочного комитета в феврале достичь согла* шения с предпринимателями окончилась неудачей. Т. Маклерейт, исполнявший обязанности премьера квинслендского правительства, в ответ на просьбу комитета выступить в качестве арбитра между рабочими и предпринимателями настаивал на том, чтобы сначала было признано право последних на «свободу договоров».
Борьба, хотя и происходила в сельской местности, носила характер промышленной забастовки. Дело в том, что на территории Квинсленда тогда действовало не более 150 станций для стрижки овец и, таким образом, концентрация рабочей силы была довольно высокой. На отдельных станциях (таких, как Берколдин и Клермонт) находилось до 1000 рабочих. В феврале начались работы только на 20 станциях.
Правительство колонии двинуло туда войска. Партии штрейкбрехеров, прибывшие на станции, шли на работу под охраной солдат и полицейских. Сами штрейкбрехеры имели оружие, которым их снабдило правительство колонии. Кроме того, на станции направлялись вооруженные группы городской молодежи из Брисбена, сагитированные властями на борьбу с забастовщиками. Полицейский комиссариат в Берколдине, например, прямо советовал хозяину станции Дорр Ривер Доунс «указывать юным умам, куда они должны стрелять» [36, 1891, с. ИЗ].
На всех этапах борьбы с забастовщиками предприниматели действовали в тесном сотрудничестве с властями колонии. Прави
7*
99
тельственные агенты помогали вербовать штрейкбрехеров. В Бер-колдине полицейский комиссариат предложил даже бесплатное питание и свою защиту каждому, кто согласится вернуться на работу. В конце марта все члены забастовочного комитета Беркол-дина, куда входил и председатель Квинслендского союза стригалей. были арестованы. Аресту подверглись также члены забастовочного комитета Клермонта. Все они предстали перед судом по обвинению в заговоре и были осуждены на три года тюремного заключения. Многие рядовые забастовщики также попали за решетку. Им предъявлялось обвинение в нарушении общественного порядка и прав собственности.
Но пролетарии Квинсленда не сдавались. 1 мая 1891 г. в Бер-колдине была проведена первая в истории Австралии первомайская демонстрация. Вот как описывал ее корреспондент «Сидней морнинг геральд» в своем сообщении, помещенном в газете 2 мая 1891 г.: «Событием дня была большая демонстрация, организованная профсоюзами, в которой приняли участие 1340 человек. В это число не входит оркестр, который шел во главе процессии. За ним несли знамя Австралийской рабочей федерации и шли люди, несшие орудия труда тех отраслей, в которых они работали. Повозка, запряженная шестеркой лошадей, везла группу стригалей и загонщиков, причем первые были с тремя овцами, а вторые — с метлами и палками. За знаменем союза стригалей шли люди с ножницами и прутьями, одетые в шерстяные ткани. За знаменем союза перевозчиков двигались 12 пеших рабочих и 52 верховых. Много знамен было у рабочих, несших кирки, лопаты, сверла и другие орудия труда... Огромные толпы народа заполнили улицы...» [70, с. 167].
Против забастовщиков развернулась широкая кампания в буржуазной печати, ставившая своей целью восстановить общественное мнение против «вооруженных бандитов», покушающихся на «священные права» частной собственности. «В Квинсленде существует угроза вооруженного восстания,— писала в феврале 1891 г. газета ,,Сидней морнинг геральд“, — и есть только один курс, которому должно следовать правительство,— жестокое подавление восстания любой ценой» [75, с. 202].
Объединенным силам предпринимателей и правительства колонии удалось подавить один за другим очаги забастовочного движения. В июне Квинслендский союз стригалей дал указание выйти на работу тем рабочим, которые еще продолжали бастовать. В августе в Сиднее состоялась конференция представителей Федерального союза предпринимателей и Объединенного союза стригалей, которая закрепила победу предпринимателей, ибо союз стригалей согласился признать право предпринимателей на «свободу договоров».
В 90-е годы в Австралии еще дважды поднималась волна забастовочного движения: в 1892 и в 1894 гг. В 1892 г. забастовали шахтеры «Брокен-Хилл пропрайэтри компани». Этому событию предшествовало следующее.
100
В 1890 г., несмотря на поражение рабочих, в том числе и шахтеров Ньюкасла, в борьбе с предпринимателями, на отдельных предприятиях рабочим удалось одержать победу. Так, шахтеры Литгоу и Брокен-Хилла не допустили снижения зарплаты и добились сокращения рабочей недели с 57 до 54 часов и с 48 до 46 часов. Эта частичная победа шахтеров была закреплена в соглашении, заключенном в Мельбурне, между представителями шахтеров и администрации «Брокен-Хилл пропрайэтри компани». В соглашении говорилось: «1) все будущие споры должны передаваться на рассмотрение арбитражного совета, состоящего из равного числа представителей предпринимателей и рабочих, а если ему не удастся достичь соглашения, передаваться на рассмотрение верховного суда колонии; 2) зарплата, зафиксированная в соглашении, достигнутом в сентябре 1889 г., должна сохраниться неизменной (10 шилл. в день для шахтеров и 8 шилл. 4 пенса для наземных рабочих); 3) рабочая неделя должна составлять 46 вместо 48 часов» [116, с. 313].
Договоренность оставалась в силе в течение двух лет. Но в июне 1892 г. предприниматели решили нарушить ее. В письме от 30 июня 1892 г. они сообщили об этом профсоюзу шахтеров. «Компании пришли к выводу о необходимости,— говорилось в этом письме,— сообщить вашей ассоциации, что все соглашения, существующие между компаниями и Объединенной ассоциацией шахтеров, прекратят свое действие после 30 июня следующего года» [75, с. 141]. 3 июля шахтеры и наземные рабочие (всего около 7 тыс. человек) собрались на митинг, на котором вынесли решение начать на следующий день забастовку. «Теперь, когда конфликт возник,— писала 4 июля в передовой статье газета „Сильвер эйдж“,— благоразумие и выдержка должны господствовать в лагере шахтеров, как бы ни были жестоки необдуманные действия, предпринимаемые шахтовладельцами, и конечная победа должна венчать усилия рабочих, направленные на укрепление и защиту тред-юнионизма» [75, с. 143—144].
16 августа в Мельбурне состоялось заседание директоров компаний, на котором было решено использовать любые меры, чтобы добиться возобновления работы на шахтах с 25 августа, и, игнорируя требования профсоюзов, перейти к системе «свободных договоров». Предприниматели не сделали даже попытки урегулировать возникший конфликт арбитражным путем, как это предусматривалось сентябрьским соглашением 1890 г. Более того, увидев, что работы на шахтах возобновить не удается (25 августа на работу вышло не более 50 человек), они начали репрессии против бастующих. 26 августа было арестовано двое активистов. Одновременно на шахты полиция доставила штрейкбрехеров, набранных в Мельбурне. 15 сентября полиция окружила здание, в котором заседал стачечный комитет, и арестовала группу руководителей Объединенной ассоциации шахтеров.
Вот как описывается это событие в книге «Промышленная история Брокен-Хилла»: «В конце дня, когда в королевском театре
101
шло заседание Комитета защиты, туда вошли тридцать полицейских, вооруженных ружьями. Другие полицейские остались снаружи... Арестованные были выведены через черный ход и доставлены в полицейский участок. В это время большой отряд войск, вооруженных ружьями с примкнутыми штыками, покинул Таун Холл и занял позиции вокруг полицейского участка... Среди задержанных лиц были Г. Геберль (президент Объединенной ассоциации шахтеров), Г. Херн (президент секции наземных рабочих Объединенной ассоциации шахтеров), Э. Полкинг-Хорн (помощник секретаря Комитета защиты), Ф. Хьютт (руководитель пикетчиков) и Д. Баннетс (член Комитета защиты)» [152, с. 48—49].
Суд над руководителями Объединенной ассоциации шахтеров состоялся в Дениликуине в октябре 1892 г. «Шестого октября арестованные руководители забастовки были отправлены экспрессом через Аделаиду в Дениликуин, где 24 октября должен был состояться суд над ними. Огромные толпы собирались на каждой железнодорожной станции, чтобы пожелать им счастливого пути... Толпы приветствовали их почти в каждом городе, а в Аделаиде более тысячи человек с большим энтузиазмом встретили их и проводили до отеля. Такая же картина наблюдалась по приезде их в Мельбурн, и даже в консервативном Дениликуине их сердечно приветствовало практически все население города» [102, с. 54].
Процесс длился пять дней. Подсудимые были признаны виновными и приговорены к тюремному заключению на срок от трех месяцев до двух лет. Решение суда вызвало протесты во многих городах Австралии. Митинги и демонстрации прошли в Мельбурне и Сиднее. «Даже сонная Аделаида провела несколько митингов протеста в Трейд Холле и других местах» [102, с. 54].
Забастовка шахтеров «Брокен-Хилл пропрайэтри компани» в 1892 г., так же как и новая крупная забастовка стригалей Квинсленда в 1894 г., окончилась победой предпринимателей. Поражение забастовочного движения в начале 90-х годов было не случайным. В его ходе выявились симптомы опасной болезни, поразившей в дальнейшем австралийское рабочее движение: оппортунизма, мелкобуржуазности профсоюзного руководства, стремившегося в ходе борьбы не к достижению победы, а к поискам компромиссов по принципу «и овцы целы, и волки сыты». Начавшееся тогда кооперирование вождей тред-юнионизма с австралийскими буржуазными либералами привело к тому, что австралийское рабочее движение в своем развитии пошло в сторону от социализма, а его руководство превратилось, по выражению В. И. Ленина, в элемент «капиталопослушный», «совсем уже мирный, чисто либеральный» [5, с. 291].
Тем не менее, несмотря на неудачи и поражения рабочих в забастовочном движении 1891—1894 гг., эти классовые бои не прошли бесследно. Правительства колоний вынуждены были искать компромиссные пути урегулирования конфликтов между предпринимателями и рабочими. Королевская комиссия Нового Южного Уэльса по расследованию причин забастовки 1890 г. в своих 102
рекомендациях указала на необходимость создать систему арбитража для решения трудовых конфликтов. В 1891 г. в Новом Южном Уэльсе был введен в действие Акт об арбитраже, предусматривавший организацию советов из двух представителей от Совета профсоюзов и двух от Союза предпринимателей. Предполагалось, что спорные вопросы будет решать арбитраж, состоящий из трех членов, назначаемых правительством колонии. Причем одного представит Союз предпринимателей, другого — Совет профсоюзов, а третий — председатель — будет лицом, не связанным прямо ни с предпринимателями, ни с рабочими. Однако арбитражные органы оказались на практике нежизнеспособными. «Акт явился ничего не значащей бумагой, которую парламент утвердил, отказавшись выделить деньги» [168, с. 99].
В 1896 г. в Виктории был введен в действие Акт о промышленных и торговых предприятиях, предусматривавший создание органов для урегулирования трудовых споров, чаще всего связанных с заработной платой,— постоянно действующих трибуналов во всех отраслях хозяйства. Эти трибуналы, более известные под названием советы по зарплате, скоро появились во всех отраслях.
В Новом Южном Уэльсе новый Акт об урегулировании трудовых конфликтов Законодательный совет принял в 1901 г. Промышленные суды состояли из судьи, назначавшегося правительством колонии, и двух асессоров, один из которых избирался профсоюзом, другой — Союзом предпринимателей. Суды, обладавшие достаточной компетенцией, могли выносить не только решения по конкретному делу, находившемуся на рассмотрении, но и такие общие постановления, которые являлись обязательными для всех промышленных предприятий колонии. Суды имели право требовать у предприятий любые документы, но при этом обязаны были сохранять торговые и промышленные секреты. Проведение забастовок и локаутов в период рассмотрения споров в судах запрещалось под угрозой тюремного заключения сроком до двух месяцев или уплаты штрафа в 1000 ф. ст.
Необходимо подчеркнуть, что широкое введение в Австралии принудительного арбитража в значительной степени способствовало ускорению роста оппортунизма в австралийском рабочем движении. «Арбитражные суды,— писал в середине 40-х годов XX в. Э. Кэмпбелл,— стали одним из главных посредников, заставлявших капитал идти на уступки труду. Поэтому массам рабочих, недавно примкнувшим к рабочему движению, казалось, что суд, а не их собственное объединение приведет к улучшению условий труда. Таким образом, родилась наивная вера в арбитраж, которая была усилена сознательными действиями реформистских лидеров» [90, с. 47].
Если в 90-е годы лейбористы и профсоюзы еще как-то сопротивлялись принятию арбитражного законодательства, то ход обсуждения Акта об урегулировании трудовых конфликтов в 1901 г. показал всю глубину падения лейборизма, его срастания с буржуазным либерализмом. «Когда в 1901 г. законопроект был
103
представлен на рассмотрение палаты представителей,— писал Э. Кэмпбелл,— консервативный премьер Джон Си заметил: „По-видимому, нет различия во мнениях на этот предмет между партиями. Оппозиция выдвинула арбитраж в качестве одного из основных пунктов своей платформы. Правительство, конечно, сделало так же и выдвинуло его в качестве одного из важнейших своих пунктов. Лейбористская партия также сделала арбитраж одним из главных, если не самым главным пунктом своей платформы"» [90, с. 46—47].
Акт об арбитраже вызвал заметное развитие австралийского тред-юнионизма. «В течение двух лет, последовавших за принятием Акта 1901г., — отмечал Э. Кэмпбелл, — в Новом Южном Уэльсе было организовано не менее 111 новых профсоюзов, в то время как за десять предшествующих лет было создано всего 26 новых союзов... Одним из последствий этого было еще большее усиление мелкобуржуазного влияния» [90, с. 47].
Что же касается общего трудового законодательства, то история его появления такова.
Почти до самого конца XIX в. в британских колониях в Австралии не существовало действенного законодательного акта, регулировавшего рабочее время. Правда, формально подобные законы имелись. Так, в Виктории в 1873 г. был принят закон, запрещавший предпринимателям устанавливать для девушек и женщин рабочий день, превышавший 8 часов. Закон, ограничивавший рабочее время 8 часами, принимался в Виктории и в 1885 г. Этот же закон устанавливал время, в течение которого могли быть открыты магазины и работать продавцы (магазины должны были закрываться в 7 часов вечера пять дней в неделю, а в субботу — в 10 часов вечера).
Однако практически эти законы предпринимателями игнорировались. В докладе специальной комиссии, проводившей обследование предприятий в Виктории в 1889 г., говорилось, что рабочие многих предприятий работают по 16—18 часов. Грубые нарушения системы выплаты заработной платы (особенно несовершеннолетним) были обнаружены на очень многих предприятиях.
Лишь в 1896 г. в Новом Южном Уэльсе, Виктории и Квинсленде были приняты фабричные акты. Были изданы законы относительно условий труда в отдельных отраслях хозяйства, например в 1901 г. Акт о работе стригалей в Новом Южном Уэльсе, который, кстати сказать, никак их не удовлетворил, и еще раньше, в 90-е годы,— о работе шахтеров.
Ряд законов определял ответственность предпринимателей за увечья рабочих на предприятиях. Примером этого может служить Акт об ответственности предпринимателей, принятый в 1897 г. в Новом Южном Уэльсе. Следует отметить, что в нем отсутствовали еще положения (так же как в английском Акте о компенсации рабочим, принятом в том же, 1897 г.) о праве рабочего на компенсацию за увечье, полученное на производстве, независимо от того,, имелась ли его вина в этом или нет.
104
Пенсионное законодательство появилось в британских колониях в Австралии лишь в 1900 г., когда в Новом Южном Уэльсе и Виктории были приняты акты о пенсиях по старости. В преамбулах к этим актам очень прочувствованно говорилось о том, что пенсии не милость, а право. «Совершенно справедливо, что вышедшие в отставку люди, которые в течение предшествовавшего этому периода помогали нести общественное бремя колонии, платя налоги и увеличивая ее ресурсы своим трудом и знаниями,— отмечалось, например, во вступительной части Акта о пенсиях по старости Нового Южного Уэльса 1900 г.,— должны получать от колонии пенсии в старости». Но ничтожный размер пенсии — 10 шилл. в неделю, установленье актом, резко диссонировал с торжественными словами преамбулы. Надо сказать, что и в наши дни повышение размера пенсий по старости является одним из главных требований, выдвигаемых австралийским рабочим движением.
Поражения, понесенные рабочими в борьбе с предпринимателями, сильно разочаровали их в чисто профсоюзных формах борьбы, поколебали доверие к лидерам тред-юнионизма. Последние поняли, что вести за собой массы они смогут, только изменив методы своей работы, открыв для австралийского пролетариата путь к политической организации.
В стихотворении «Свобода в скитаниях», написанном в 1893 г. австралийским поэтом Г. Лоусоном, говорилось:
Как безработный с узелком, Бредет Свобода мирно. Ее призыв нам всем знаком В Австралии обширной. Она зажжет костер большой И, не считаясь с рангом, Тиранов всех сметет долой Могучим бумерангом!..
Мы подадим пример другим, Подняв восстанья знамя, И дружный хор подхватит гимн Свободы вместе с нами [63, с. 88—89].
Того, о чем писал поэт, не произошло. Но тем не менее бурные события начала 90-х годов послужили мощным толчком к созданию политической партии австралийского рабочего класса. Правда, сама эта идея зародилась в сознании австралийских рабочих значительно раньше, о чем свидетельствовали доклады, представляемые парламентскими комитетами во всех британских колониях в Австралии общеавстралийским конгрессам профсоюзов после 1886 г. Особенно ярко эта тенденция проявилась в Квинсленде. На первой сессии Австралийской рабочей федерации в Брисбене 1 августа 1890 г. была принята резолюция, намечавшая политическую программу федерации. В резолюции подчеркивалось, что достичь политических целей невозможно «до тех пор, пока народ лишен политической власти» [75, с. 207].
Генеральный совет Австралийской рабочей федерации призвал к развертыванию политической борьбы в общеавстралийских мас
105
штабах. Уничтожить существующую социальную систему, указывалось в резолюции, «могут только все рабочие вместе, когда один за всех и все за одного» [75, с. 207]. Призыв Генерального совета поддержал VII Общеавстралийский конгресс профсоюзов в 1891 г. Тем не менее политические организации рабочих первоначально стали возникать не в общеконтинентальном масштабе, а в отдельных колониях.
В 1891 г. в Новом Южном Уэльсе была создана Избирательная рабочая лига. Известные лейбористские деятели того периода, такие, как Д. Блек и Д. Фитцджеральд, подчеркивали прямую зависимость между забастовкой моряков 1890 г. и появлением первой политической рабочей организации. «Рабочая партия Нового Южного Уэльса, возникшая в 1891 г.,— писал Д. Блек,— была порождением забастовки моряков 1890 г. Рабочие тогда обнаружили, что забастовка была слишком дорогим и в значительной мере бесполезным методом достижения реформ» [85, с. 1]. «Надо признать,— вторил ему Д. Фитцджеральд,— что вторая большая забастовка моряков 1890 г. в значительной мере способствовала осуществлению идеи, которая долго вынашивалась в умах лидеров рабочего движения,— идеи прямого рабочего представительства в парламенте» [114, с. 17].
Программа новой партии состояла из 17 пунктов. Первым выдвигалось требование улучшения избирательной системы, в том числе запрещения создания денежных фондов на проведение избирательных кампаний, проведения выборов в один день (причем в нерабочий), закрытия всех общественных учреждений в часы голосования и др. Кроме того, содержались требования ликвидировать верхнюю палату парламента; ввести выборность местных органов власти; организовать министерство труда, национальный банк, национальную систему сохранения водных ресурсов и развития ирригации; принять меры к федеративному объединению британских колоний в Австралии, но «на национальной основе»; отменить существующую систему вооруженных сил и создать милицию на чисто добровольных началах; установить типовую форму трудового соглашения, восьмичасовой рабочий день для представителей всех профессий, обязательное образование; распространить на моряков Акт об ответственности работодателей и т. д.
На выборах в 1891 г. новая партия имела большой успех, получив в Законодательной ассамблее Нового Южного Уэльса 36 мест из 136.
Известного успеха добилась и квинслендская Австралийская рабочая федерация, проведя в 1893 г. 16 своих представителей в Законодательную ассамблею колонии.
Политические платформы Избирательной рабочей лиги Нового Южного Уэльса и квинслендской Австралийской рабочей федерации были почти одинаковыми.
Ничем существенным, кроме названия, не отличались и рабочие партии, возникшие в других британских колониях Австралии:. Виктории, Южной Австралии, Западной Австралии, Тасмании.
106
Довольно скоро лейбористское движение в Австралии добилось ощутимых успехов. В 1899 г. лейбористские партии пришли к власти в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде. Однако деятельность австралийских лейбористских партий носила буржуазно-либеральный характер. Так, получив значительное число мест на выборах в парламент Нового Южного Уэльса в 1891 г., эти партии не разработали собственной политической линии и даже не создали единой фракции, а сразу же раскололись на две группы, поддерживавшие две основные группировки буржуазных либералов: фритредеров, которых возглавлял Г. Паркс, и протекционистов во главе с Г. Диббом. Тогдашний премьер Г. Паркс, чтобы получить поддержку лейбористов, включил без опаски в речь губернатора колонии некоторые пункты из их программы: требование реформы избирательного права, фабричного и торгового законодательства и др.
Лейбористы выступали за введение общего трудового законодательства, единого таможенного тарифа, общего земельного налога, единого закона о школьном образовании. Специфичным в их деятельности было лишь то, что борьба против иммиграции рабочих из азиатских стран, возведенная их же усилиями на уровень государственной политики в форме реакционного принципа «белой Австралии», занимала в ней большое место.
Зачастую невозможно различить, где кончается лейборизм и начинается либерализм. Появление лейбористских партий не внесло существенных изменений в политическую жизнь Австралии. Об этом свидетельствуют сами буржуазные ученые. «Единственным пунктом, разделявшим политических деятелей до создания федерации,— писал Д. Портус,— был финансовый вопрос... Это не означало крена в сторону либерализма или консерватизма. Обе стороны претендовали быть либералами и получить признание в качестве либералов, соответствующих европейским стандартам. В этих обстоятельствах смена правительств вносила мало изменений в политику страны» [164, с. 74].
«В Новом Южном Уэльсе и Квинсленде,— пишет современный австралийский ученый Р. Голлан,— рабочие партии сохраняли особый характер в силу исключительности своей организации и тесных связей с профсоюзным движением, хотя в их программах было много требований, идентичных тем, которые выдвигали либералы. В Виктории положение было совершенно другим. Профсоюзная конвенция образовала Прогрессивную политическую лигу, но 10 ее членов, возвратившихся в парламент в 1892 г., считали себя не столько членами рабочей партии, сколько либералами и радикалами с некоторой специфической ответственностью перед рабочим движением. Профсоюзы, не удовлетворенные таким положением, добились от Совета профсоюзов созыва конференции, на которой была создана Объединенная рабочая партия Виктории. Но изменение названия не повлекло изменения позиции партии, и она продолжала быть фактически группой либералов, которую нелегко было отличить от других либералов» [70, с. 170—171].
Глава VI
АВСТРАЛИЙСКИЙ «ЛОКАЛЬНЫЙ» ИМПЕРИАЛИЗМ
Развивающаяся австралийская буржуазия в последней трети XIX в. стала все больше интересоваться тихоокеанскими островами прежде всего как источниками сырья и дешевой рабочей силы. Быстро возрастал товарооборот британских колоний в Австралии с островами Океании. В деловых кругах Австралии все сильнее раздавались голоса, ратующие за прямую аннексию тихоокеанских территорий. Но осуществить такую аннексию на практике для австралийской буржуазии было весьма затруднительно, ибо к этому времени на Тихом океане сложилась обстановка, которая характеризовалась все усиливающейся борьбой великих держав за колониальный раздел Океании.
В конце XVIII — первой половине XIX в. правительства европейских держав и США избегали прямых колониальных захватов, вмешиваясь лишь тогда, когда затрагивались интересы их торговцев и предпринимателей. Более того, в ряде случаев они даже отклоняли обращения местных вождей об установлении протектората над островами и дезавуировали своих ретивых представителей в Океании. Например, когда в 1793 г. представители британской Ост-Индской компании сделали попытку объявить суверенитет Англии над частью территории Новой Гвинеи, британское правительство не поддержало их действий. В 1843 г. Англия отклонила обращение гавайского короля о передаче островов под власть британской короны. При этом министерство иностранных дел подчеркивало, что было бы неправильно с политической точки зрения добиваться преобладающего влияния Великобритании на этих островах за счет других держав, а необходимо лишь стремиться к тому, чтобы ни одна другая держава, в том числе и США, не приобрела влияния большего, чем Великобритания. Примерно в то же время британское правительство отклонило предложение королевы Таити об установлении над островом британского протектората.
Сходную позицию в отношении тихоокеанских островов занимали и другие великие державы. В 1813 г. Портер, капитан первого американского военного судна, вошедшего в воды Тихого океана, объявил об аннексии Соединенными Штатами Америки острова Нуку-Хива. В декларации от 17 ноября 1813 г. Портер, дви-108
жимый «лучшими побуждениями», вдохновенно писал: «Туземцы должны уяснить себе, что они, будучи беззащитными, нуждаются в дружественной охране. Поэтому они принимаются в великую американскую семью, чья чисто республиканская политика так близка их собственной» [179, с. 85]. Однако правительство США не приняло этого подарка своего ретивого гражданина.
Интересы России сосредоточивались в северной части Тихого океана и не распространялись южнее Гавайских островов. На островах в этом районе Тихого океана русские имели, как тогда говорили, «оседлости». Когда же российскому правительству представилась в 1816—1818 гг. возможность захватить Гавайи, оно не только не воспользовалось ею, а, напротив, категорически заявило о своей незаинтересованности в приобретении этой территории.
Что касается германского правительства, то оно вплоть до 80-х годов XIX в. не уставало повторять о своем нежелании приобретать колонии в Тихом океане. В 1872 г. Бисмарк отклонил обращение короля Фиджи об установлении германского протектората над островами. «До тех пор, пока я являюсь имперским канцлером,— заявил он,— мы не будем вести колониальной политики» [117, с. 25].
Бисмарк, занятый в 60—70-е годы укреплением позиций германской империи в Европе, считал, что обладание заморскими территориями ослабит Германию. Поэтому Германия, разгромив Францию в 1871 г., не потребовала передачи ей французских колоний.
В 1873 г. в беседе с британским послом в Берлине лордом О. Расселом Бисмарк подчеркнул: «Колонии ослабили бы нас, потому что для их защиты требуется могущественный флот, а географическое положение Германии таково, что ей нет необходимости превращаться в первоклассную морскую державу» [117, с. 21].
В подобной «антиколониальной» позиции капиталистических государств нет ничего удивительного. В период процветания свободной конкуренции они вяло реагировали даже на возможность приобретения куда более богатых районов, чем маленькие вулканические и коралловые острова Тихого океана, отделенные от них многими тысячами миль морского пространства. Даже Африка к середине 70-х годов XIX в. была колонизована лишь на 10%. Известны слова Дизраэли: «Колонии — это мельничные жернова на нашей шее» (цит. по [6, с. 375]). Более того, буржуазные деятели самой крупной колониальной державы мира — Англии — «были против колониальной политики, считали освобождение колоний, полное отделение их от Англии неизбежным и полезным делом» [6, с. 375].
Тем не менее уже в первой половине XIX в. Голландия, Англия и Франция совершают свои первые прямые колониальные захваты в Океании. Так, 24 августа 1828 г. голландский уполномоченный Ван Делден провозгласил собственностью Нидерландов западную часть острова Новая Гвинея, а через 20 лет, 30 июля 1848 г., генерал-губернатор голландской Ост-Индии объявил, что
109
восточной границей владений Нидерландов на Новой Гвинее будет 141-й меридиан.
Отношение ведущих капиталистических держав к приобретению заморских территорий меняется коренным образом с середины 70-х годов XIX в., когда, как писал В. И. Ленин, «можно, в общем и целом, считать законченным развитие западноевропейского капитализма в его домонополистической стадии» [6, с. 377].
С этого времени началась интенсивнейшая колониальная экспансия европейских держав, а также США и Японии, закончившая «на границе XIX и XX веков раздел мира» [6, с. 378].
«Колониальные владения,— писал В. И. Ленин,— расширились после 1876 года в гигантских размерах: более чем в полтора раза, с 40 до 65 миллионов кв. км у шести крупнейших держав... Три державы (Германия, США и Япония.— К. Л4.) не имели в 1876 г. никаких колоний, а четвертая, Франция, почти не имела их. К 1914 году эти четыре державы приобрели колонии площадью в 14,1 млн. кв. км, т. е. приблизительно раза в полтора больше площади Европы, с населением почти в 100 миллионов» [6, с. 378].
Большую активность в захвате тихоокеанских территорий стала проявлять Германия, опоздавшая здесь, как и в других частях света, к началу колониального дележа и тем энергичнее стремившаяся участвовать в его завершении.
В 70-х — начале 80-х годов колониальная лихорадка все сильнее охватывала германскую промышленную и торговую буржуазию. В стране развернулась активная пропаганда колониальных захватов. Были созданы организации, которые ставили перед собой цель способствовать скорейшему осуществлению колониальной экспансии: Западногерманская ассоциация колонизации и экспорта, Германский колониальный союз и, наконец, Германское колониальное общество, являвшееся главным носителем колонизаторских идей в Германии. «К 1885 году,— пишет П. Т. Мун,— накопилось тридцать томов, заключавших в себе всевозможные колониальные проекты» [62, с. 16].
Колониальные вожделения германской буржуазии объяснялись, конечно, не любовью к экзотической природе тропиков, а значительно более прозаичными вещами: поисками новых рынков сбыта и источников сырья для своей промышленности.
Интересы капитала для буржуазного правительства превыше всего, Сдался и «железный канцлер». Вопреки своему категорическому заявлению о том, что Германии не нужны колонии, именно Бисмарк явился создателем германской колониальной политики, переросшей после Берлинской конференции 1885 г. в мировую политику, которая через три десятилетия привела Германию к первой катастрофе. «Имперское правительство,— говорил Бисмарк британскому послу в Берлине Э. Мейлету в январе 1885 г.,— намерено поставить под прямую защиту империи, как это было сделано в Западной Африке, а теперь также и в Южных морях, те районы, в которых деятельность германских коммерсантов стала достаточно активной» [144, с. 183] <
110
Первым колониальным приобретением Германии в Океании явились северо-восточная часть острова Новая Гвинея, которая после ее захвата немцами получила название Земля Кайзера Вильгельма, и прилегающие к ней острова, названные архипелагом Бисмарка. Это было зафиксировано в англо-германском соглашении от 25—29 апреля 1885 г. Соглашение завершало трехлетнюю острую борьбу между Англией и Германией за восточную часть этого крупнейшего в Океании острова.
Англичане, как известно, проявляли устойчивый интерес к Новой Гвинее. Но еще более привлекал этот остров австралийскую буржуазию, которая всячески подталкивала правительство, Англии к его захвату.
Австралийская буржуазия смотрела на Новую Гвинею как на место выгодного вложения капиталов и на источник дешевой рабочей силы для использования на плантациях Австралии. В этот период торговые отношения британских колоний в Австралии с Новой Гвинеей и островами Океании в целом были развиты слабо. Но представление о том, что Новая Гвинея — богатая, кладовая природных ископаемых, особенно золота, крепко засело в сознании австралийцев. Этому способствовал австралийский капитан Морсби, посланный британским адмиралтейством для изучения береговой линии Новой Гвинеи.
Характерным для тогдашних настроений определенной части австралийской буржуазии было публичное выступление в Сиднее в апреле 1867 г. А. К- Коллинза, который говорил о Новой Гвинее как об «огромном поле деятельности для предпринимателей» и о приближении того дня, «когда остров станет гигантской плантацией, не имеющей равных ни в одной стране мира, управляемой умелыми и знающими европейцами и обрабатываемой коренными жителями» [138, с. 13—14].
В этом же году в Австралии возникла Новогвинейская компания, целью которой являлась эксплуатация и колонизация острова. Одним из директоров компании был крупный австралийский предприниматель Д. Лэнг.
Выступая в 1871 г. перед членами Королевского общества Нового Южного Уэльса, он назвал Новую Гвинею «весьма многообещающей областью для поселения и колонизации» и даже указал на стратегическое положение острова.
Надо заметить, что активные захватнические действия европейских держав в Океании, в частности захват Францией Новой Каледонии в 1854 г. и приход германских торговцев на Новую Британию в 70-х годах, возбуждали колониальные аппетиты австралийской буржуазии.
Под давлением колоний в Австралии английское правительство создало верховный комиссариат в западной части Тихого океана, главным образом для защиты интересов британских подданных в этом районе.
Новогвинейская компания была не единственной организацией в Британской империи, стремившейся к колонизации острова.
111
В 1876 г. в Лондоне возникла Ассоциация колонизации Новой Гвинеи, а в 1879 г.— Австралийская колониальная ассоциация. Эти организации разработали несколько проектов захвата и колонизации Новой Гвинеи. Например, Ассоциация колонизации Новой Гвинеи предложила английскому правительству сформировать экспедиционный корпус в составе 250 человек под командованием председателя компании Р. Армита, за «подвиги» же членам корпуса предоставлять в Новой Гвинее участки земли размером 4 кв. мили.
Настойчиво ставил перед британским правительством вопрос об аннексии Новой Гвинеи лондонский юрист Лабилльер, австралиец по происхождению. В марте 1874 г. он обратился с письмом в министерство колоний, в котором, анализируя географическое и экономическое положение Новой Гвинеи, доказывал, что Англия получит большую выгоду от захвата этого острова. С присущим колонизаторам лицемерием Лабилльер вместе с тем подчеркивал пользу аннексии Новой Гвинеи для коренного населения. Письмо Лабилльера попало к заместителю министра колоний, который переслал его губернаторам английских колоний в Австралии, прося их высказать свои суждения.
Губернаторы поддержали предложение об аннексии Новой Гвинеи. Более того, губернатор Нового Южного Уэльса Г. Робинсон в своем письме министру колоний лорду Карнарвону от 3 июня 1875 г. заявил, что власть Британии должна быть распространена «не только на чудесный остров Новая Гвинея, но и на острова Новая Британия, Новая Ирландия и цепь островов к северо-востоку и востоку от Новой Гвинеи и Бугенвиля до Сан-Кристобаля, большинство юго-восточных островов Соломоновой группы, Новые Гебриды... Маршалловы острова, острова Гилберта и Эллис» [79, с. 442]. В июне того же года парламенты Квинсленда и Южной Австралии обратились к королеве Виктории со специальными посланиями, в которых убеждали королеву аннексировать Новую Гвинею.
Особую активность Нового Южного Уэльса и Квинсленда в подталкивании британского правительства к захвату Новой Гвинеи понять нетрудно. В 70-х годах, например, 83% всей австралийской и новозеландской торговли с островами западной части Тихого океана шло через порты Нового Южного Уэльса. Ежегодно Новый Южный Уэльс импортировал более чем на 200 тыс. ф. ст. товаров этих островов и вывозил туда свои товары на сумму 300 тыс. ф. ст.
Обе колонии были весьма заинтересованы в получении из Новой Гвинеи рабочей силы для хлопковых и сахарных плантаций как на собственной территории, так и на островах Фиджи, куда они проникли через ««Колониэл шугар рифайнинг компани».
Английское правительство в 70-е годы держалось в отношении предложений своих колоний в Австралии об аннексии Новой Гвинеи неизменной позиции, сводившейся к тому, что захват острова может быть осуществлен лишь в том случае, если колонии возь-112
мут на себя все расходы, связанные с аннексией и колонизацией Новой Гвинеи.
В июне 1875 г. в письме губернаторам Виктории, Квинсленда, Нового Южного Уэльса и Новой Зеландии Карнарвон спрашивал, будут ли колонии в дальнейшем покрывать расходы по захвату и управлению теми территориями, которые представляют для них интерес. Ответы правительств колоний были либо неопределенны, либо отрицательны. Так, губернатор Нового Южного Уэльса заявил. что, хотя британские колонии и заинтересованы в колонизации Новой Гвинеи, захват ее является общеимперским делом и, поскольку колонии не могут сказать свое слово по вопросу об управлении территорией, они не должны участвовать в каких-либо расходах [138, с. 17].
После обнаружения в районе Порт-Морсби золота требования об аннексии Новой Гвинеи стали еще настойчивее. Упоминавшийся уже Лабилльер, воспользовавшись вспыхнувшей «золотой лихорадкой», в письме от 18 сентября 1878 г. в министерство колоний настаивал на немедленном захвате острова, аргументируя это тем, что существует опасность оккупации его другой державой, а также необходимостью установить тщательный контроль за прибывающими на остров золотоискателями. Аналогичные соображения содержались и в письме английского верховного комиссара в западной части Тихого океана А. Гордона, где говорилось, что «аннексия Великобританией по крайней мере определенных частей Новой Гвинеи скоро станет неизбежной, если необходимость подобного шага уже не возникла» [138, с. 19]. Несмотря на то что к этому времени Карнарвона на посту министра колоний сменил М. Бич, позиция министерства оставалась неизменной и ответ Бича повторял упоминавшееся письмо Карнарвона, написанное в 1875 г.
Между тем А. Гордон в 1877 г. послал на Новую Гвинею австралийца С. Ромилли для тщательного изучения различных районов этого острова, а также островов Новая Британия и Новая Ирландия. Ромилли прежде всего интересовал вопрос транспортировки местной рабочей силы на сахарные плантации Квинсленда. С помощью Ромилли с мая 1883 по август 1889 г. в Квинсленд было доставлено 2,6 тыс. жителей сопредельных с Новой Гвинеей островов. А. Гордон в частном письме британскому премьер-министру Гладстону от 20 апреля 1883 г. отмечал, что передать управление Новой Гвинеей Квинсленду невозможно, поскольку в этом штате широко практикуется работорговля коренными жителями тихоокеанских островов, в том числе Новой Гвинеи. Нельзя не учитывать также трагический опыт обращения с австралийскими аборигенами, подчеркивал он.
В 1882 г. австралийская буржуазия была чрезвычайно взволнована сообщениями, поступившими из Европы, о близящейся германской оккупации Новой Гвинеи. Поводом для этого послужила статья, опубликованная 27 ноября 1882 г. в «Дойче альгемайне цайтунг», призывавшая к захвату Германией восточной части
8 Заказ 91
113
Новой Гвинеи. Такая сильная реакция буржуазии английских колоний в Австралии на, казалось бы, незначительное событие объяснялась тем, что германские предприниматели весьма активизировали свою деятельность в Тихом океане вообще и на Новой Гвинее в частности.
В начале 80-х годов на Новой Гвинее имелись торговые фактории германских предприятий «Дойче хандельс унд плантаген гезельшафт дер зюдзеенинзельн» и «Хернсхейм». Именно глава берлинской фирмы «Хернсхейм» А. фон Ханземанн в 1880 г. представил Бисмарку записку о колонизации островов Океании, в том числе Новой Гвинеи.
19 февраля 1883 г. губернатор Нового Южного Уэльса лорд Лофтус в письме к новому министру колоний лорду Дерби настаивал на срочном захвате юго-восточной части Гвинеи. Премьер Квинсленда Макилврейт 28 февраля послал в Лондон телеграмму аналогичного содержания.
Английское правительство продолжало занимать свою прежнюю позицию: хотите иметь колонии, берите на себя все расходы. К тому же, по мнению английского правительства, опасения австралийцев не имели реальных оснований, поскольку в намерения немцев якобы не входил захват острова. «Нет причин полагать,— писал в своем ответе правительствам колоний лорд Дерби,— что германское правительство обдумывает какой-либо план колонизации в направлении, указанном ,Дойче алыемайне цай-тунг“» (цит. по [138, с. 21]).
Видя, что британское правительство продолжает занимать уклончивую позицию, австралийцы решили действовать самостоятельно. 4 апреля 1883 г. Честер, выполняя поручение правительства Квинсленда, объявил в Порт-Морсби о присоединении к владениям британской королевы всей территории Новой Гвинеи и близлежащих островов между 141° и 155° восточной долготы. Действия квинслендского правительства получили полную поддержку правительств всех остальных английских колоний в Австралии.
Правительство Квинсленда тем не менее прекрасно понимало* что эта акция обретет законность лишь после одобрения британского правительства. Когда же премьер Квинсленда запросил британское правительство о его отношении к аннексии Новой Гвинеи, лорд Дерби ответил, что, поскольку, как было установлено, реальная угроза захвата острова Германией отсутствует, действия правительства Квинсленда являются не только ultra vires и потому незаконными, но еще и неполитичными [117, с. 75].
Несмотря на столь резкий ответ Лондона, австралийцы понимали, что британское правительство не только не осудит, но, напротив, одобрит захват новых территорий в Океании, лишь бы они были сделаны с достаточной ловкостью. Поэтому они продолжали упорствовать в намерении подарить британской короне новые земли. В декабре 1883 г. на совещании в Сиднее представители всех австралийских колоний заключили конвенцию, одобрившую аннексию Новой Гвинеи (кроме ее западной части) и при
114
летающих к ней островов, а также объявившую, что захваты какой-либо державой территорий в западной части Тихого океана южнее экватора являются угрозой безопасности британских владений в Океании.
Рассказывая об обстановке на конференции, премьер Виктории Сервис отметил в своем выступлении в Мельбурне 10 декабря 1883 г.: 1«В отношении немедленной аннексии Новой Гвинеи все делегаты были единодушны» [42, т. 2, с. 454].
Конвенция вызвала столь бурную реакцию в Германии, что помощник британского министра иностранных дел Ю. Пансефот в январе 1884 г. поспешил заверить германского посла в Лондоне, что Англия не имеет намерения захватывать новые территории в Океании. В действительности же министерство колоний в это время вело переговоры с правительствами австралийских колоний об условиях аннексии Новой Гвинеи. Уже в мае 1884 г. лорд Дерби в письме губернаторам колоний указал, что английское правительство согласно рассмотреть вопрос об установлении протектората над захваченной австралийцами территорией Новой Гвинеи при условии, что австралийские колонии примут участие в покрытии расходов, связанных с управлением этой территорией [42, т. 2, с. 76].
Немцы, в свою очередь, также решили действовать более энергично. А. фон Ханземанн вместе с банкиром Блейхредером выдвинули идею о создании консорциума для захвата территории восточной части Новой Гвинеи. Бисмарк одобрил проект, и 26 мая 1883 г. была создана Новогвинейская компания. Представитель компании О. Финш отправился на Новую Гвинею, с тем чтобы предъявить претензии на восточную часть острова и прилегающие к нему острова.
Компания не случайно послала на Новую Гвинею именно О. Финша. Он-то хорошо представлял свои задачи в этой стране. Еще в 1881 г. Финш встречался в Сиднее с Н. Н. Миклухо-Маклаем, долго и подробно расспрашивал его о Новой Гвинее.
Когда в октябре 1884 г. он высадился на новогвинейский берег в заливе Астролябия, то выдавал себя за друга Н. Н. Миклухо-Маклая, прекрасно понимая, что это сразу же позволит ему приобрести доверие папуасов. И действительно, Финш был восторженно встречен ими. Они называли его «Маклай-Германия». «Никогда бы я не поверил,— писал позднее Финш,— что те немногие русские слова, которые я выучил во время моего сибирского путешествия, могут мне пригодиться в общении с так называемыми дикарями на Новой Гвинее, но это было так! Глеба (хлеб), тапорр (топор), скирау (секира), ножа (нож) —слова эти постоянно повторялись папуасами» [59, т. 2, с. 744].
Обманув доверчивых папуасов, Финш, не теряя времени, поднял на Берегу Маклая германский флаг. «Что касается меня,— откровенно признавался он,— то я в первую очередь приобрел в порту Константин землю для Германии» [59, т. 2, 1950, с. 743].
Активность Германии подтолкнула колонии в решении взять
8*
115
на себя расходы, связанные с управлением захваченной территории на Новой Гвинее. После этого английское правительство больше не заставляло себя упрашивать и послало на Новую Гвинею коммодора Эрскайна, дав ему полномочия объявить английский протекторат над территорией.
Когда Эрскайн прибыл в 1884 г. на Новую Гвинею, он обнаружил, что до него Ромилли уже совершил процедуру передачи: острова под власть Англии. Но, выполняя инструкции правительства, Эрскайн вторично 6 ноября объявил британский протекторат над новогвинейской территорией. Он сделал это в присутствии тех коренных жителей, которых англичане принимали за местных вождей. Обращаясь к ним, Эрскайн сказал: «Я хочу от имени ее величества королевы объяснить вам значение церемонии, на которой вы сейчас присутствуете. С этого времени вы находитесь под покровительством правительства ее величества: никому не будет разрешено захватывать ваши острова или увозить вас... ваши земли будут сохранены за вами, жены и дети защищены. Если в отношении вас будет допущена какая-нибудь несправедливость, вы сможете немедленно сообщить об этом представителям ее величества^ которые будут жить среди вас, и они... восстановят справедливость» [84, с. 57]. Надо ли говорить, что все эти прекраснодушные слова остались лишь словами.
Эрскайн вскоре уехал. Управлять новой территорией в качестве представителя английского верховного комиссара в западной части Тихого океана остался Ромилли.
Действия Англии на Новой Гвинее весьма обострили ее отношения с Германией. Последовал поток взаимных обвинений в весьма резкой форме. Но в конце концов Англия и Германия сочли за благо договориться о разделе острова. По соглашению от 25— 29 апреля 1885 г. к Германии перешла северо-восточная часть Новой Гвинеи со всеми сопредельными островами. Германия получила также «права» на часть Соломоновых островов: Бугенвиль, Шуа-зёль и Санта-Исабель.
После заключения соглашения с Германией английскому правительству пришлось потратить некоторое время на урегулирование финансовых отношений с ее колониями в Австралии по поводу Новой Гвинеи.
Согласно предварительной договоренности, достигнутой еще до захвата Новой Гвинеи, колонии должны были нести расходы по управлению территорией и ассигновать 15 тыс. ф. ст. в счет выплаты своей доли расходов в первый год управления. Однако сразу же после заключения соглашения с Германией начался спор о том, какую часть расходов возьмет на себя Великобритания, какую — колонии и как будет распределена между колониями общая сумма их расходов по управлению «британской» Новой Гвинеей.
В конце концов договорились, что колонии внесут те же 15 тыс. ф. ст., а Великобритания купит корабль для нужд протектората и станет оплачивать стоимость его обслуживания.
22 ноября 1884 г. британское правительство назначило спе
116
циального комиссара по делам протектората — генерал-майора П. Скретчли, прибывшего в Порт-Морсби в августе 1885 г. Он выдвинул идею так называемого непрямого управления — через местных вождей, но претворить ее в жизнь П. Скретчли не смог, через три месяца он умер от малярии.
Специальным комиссаром по делам протектората был назначен бывший премьер Квинсленда Д. Дуглас, который оставался на этом посту до 1888 г., когда актом английского парламента территория в качестве новой колонии вошла в состав Британской империи, получив официальное название — Британская Новая. Гвинея.
Первым администратором новой колонии стал У. Мак-Грегор — шотландский врач, служивший до того на островах Фиджи. Его назначение явилось известной уступкой британского правительства своим австралийским колониям. Дело в том, что У. МакГрегор представлял Фиджи на сессии британских колоний, проходившей в Хобарте на Тасмании в 1886 г., и австралийцы убедились, что ему понятна их заинтересованность в Новой Гвинее. Однако У. Мак-Грегор считал, что управление новым владением должно находиться в руках британского министерства колоний.
4 сентября 1888 г. первый администратор прибыл в Порт-Морсби. Будучи представителем британского правительства, он в своих действиях отчитывался перед министерством колоний в Лондоне, и вместе с тем его контролировали правительства Квинсленда, Нового Южного Уэльса и Виктории, т. е. тех английских колоний в Австралии, которые выделяли средства на нужды управления Британской Новой Гвинеей. У. Мак-Грегору особенно досаждало правительство Квинсленда, претендовавшее на исключительную роль в управлении Британской Новой Гвинеей. Наиболее сильные столкновения у администрации происходили с Г. Норманом, занимавшим пост губернатора Квинсленда с 1889 по 1896 г. Мак-Грегор неоднократно угрожал уйти в отставку. О всех своих действиях ему сначала приходилось докладывать губернатору Квинсленда, а тот посылал эти доклады в Лондон. Ответ министерства колоний администратор Новой Гвинеи получал не раньше чем через 10 месяцев.
Мак-Грегор испытывал большие трудности с комплектованием штата колониальной администрации. Формально все чиновники считались служащими британского министерства колоний, но жалованье они получали из денежных фондов, образованных за счет взносов британских колоний в Австралии. Поэтому последние, особенно Квинсленд, контролировали назначения и передвижения чиновников колониальной администрации. Мак-Грегор постоянно сталкивался с финансовыми затруднениями.
При администраторе существовали Законодательный и Исполнительный советы. Они состояли полностью из британских чиновников и никакой роли в делах колонии практически не играли. В 1890 г. Мак-Грегор создал полицию. Первыми полицейскими были 2 фиджийца и 12 жителей Соломоновых островов, которых
117
специально для этой цели привезли на Новую Гвинею. Через два года в полиции служило 50 новогвинейцев, а в 1898 г., когда У. Мак-Грегор покинул пост администратора колонии,— НО человек. За службу в полиции местные жители получали 1 долл, в месяц в течение первого года службы и 2 долл., начиная со второго года службы.
Административно Британская Новая Гвинея делилась на районы. Сначала их было два — Западный и Центральный, позже образовали третий — Восточный. Каждым районом управлял районный администратор.
Поскольку у новогвинейцев отсутствовал институт вождей, Мак-Грегор распорядился, чтобы в деревнях избирались констебли, которые бы помогали районным администраторам управлять территорией. Но успеха в этом начинании Мак-Грегор не имел. В 1898 г. насчитывалось лишь 202 констебля.
В отношении отчуждения земель, принадлежавших коренным жителям, Мак-Грегор проводил очень осторожную политику, что вполне соответствовало его общей политической линии: непрямое управление колонией, сохранение патриархальных форм жизни островитян. За все годы его пребывания на Новой Гвинее некоренные жители получили не более 14 тыс. акров земли. Мак-Грегор резко изменил свою позицию в этом вопросе лишь однажды, в 1897 г., когда поддержал предложение о передаче 250 тыс. акров земли Британскому новогвинейскому синдикату. Это было вызвано следующими причинами.
Присоединение части новогвинейской территории к Великобритании не повлекло сколько-нибудь значительного притока в колонию английского или австралийского капитала, на что можно было рассчитывать, судя по заявлениям о блестящих перспективах для предпринимательской деятельности на острове, которые делались до аннексии в Англии и особенно в Австралии.
Английские и австралийские дельцы проявляли умеренный интерес к Новой Гвинее. Мак-гГрегор посылал в Лондон пессимистические доклады. «До сих пор,— писал он в отчете за 1889— 1890 гг.,— не найден район, в котором можно было бы провести в жизнь систематический план заселения его европейцами» [138, с. 90]. То же самое утверждал он в отчете за 1890—1891 гг.: «Приобретенный опыт и более широкое^ знакомство со страной лишь подтверждают мнение, высказанное мной ранее: какой-либо план заселения страны европейским сельскохозяйственным населением неосуществим» [138, с. 91].
Английская администрация в Новой Гвинее уже в первые годы управления территорией видела выход в создании крупной компании, которая по-настоящему занялась бы колонизацией. Еще в 1885 г. П. Скретчли ратовал за образование торговой компании типа Британской компании, действовавшей па Северном Борнео (Калимантан), предоставив ей значительные права не только в области торговли, но и в области управления, и предлагал отдать под ее контроль значительную часть территории. Идея Скретчли
118
не получила одобрения британского правительства. Но в 1897 г. в министерство поступило предложение, основанное на плане Скрет-чли о создании крупного синдиката, который бы приступил к организации каучуковых плантаций на Новой Гвинее.
В проекте о создании синдиката предусматривалась передача ему 250 тыс. акров земли, на которой будут культивироваться каучуковые деревья, но одновременно подчеркивалось стремление не ограничиваться лишь этой деятельностью, а заниматься экспортноимпортной торговлей всеми видами товаров. В проекте подчеркивалась также необходимость наделения синдиката административной властью.
Министерство колоний одобрило проект, но заявило о своем несогласии с пунктом, касающимся наделения синдиката административной властью.
Проект получил энергичную поддержку премьера Квинсленда X. Нельсона, находившегося в это время в Лондоне. Он же посоветовал послать представителей синдиката на Новую Гвинею для непосредственных переговоров с Мак-Грегором и предупредил о возможности оппозиции со стороны британских колоний в Австралии.
Представители синдиката Уайн и Лоулес немедленно выехали на Новую Гвинею, где очень быстро договорились с Мак-Грегором об условиях деятельности синдиката. Переговоры закончились в декабре 1897 г. подписанием соглашения.
Синдикат получал весьма широкие права, в частности становился полным хозяином передаваемых ему земельных участков. «Несмотря на положение ордонансов о коронной земле или ордонансов, относящихся к горному делу,— указывалось в ст. 16 соглашения,— на всех получаемых землях компания будет обладать правом полной собственности на все продукты земли, и прежде всего правом собственности на все шахты, минеральные запасы и т. д.» [138, с. 94].
Однако в министерстве колоний не стали спешить с утверждением соглашения. Объяснялось это тем, что некоторые деловые круги Англии, а особенно австралийская буржуазия, были крайне встревожены предоставлением синдикату столь значительных прав. Правительства Виктории и Нового Южного Уэльса направили британскому правительству свои решительные протесты. Австралийская буржуазия опасалась, что в новой колонии чрезмерно возрастет влияние английских предпринимателей. Премьер Виктории Тарнер, выступая в июне 1898 г. в Законодательном совете колонии, заявил, что соглашение дает «чрезвычайную власть компании, имеющей штаб-квартиру в Лондоне... делая, таким образом,, эфемерным австралийское влияние в колонии» [138, с. 96].
Столь активное сопротивление британских колоний в Австралии привело в конце концов к тому, что проект о создании синдиката был отклонен.
Попытка английских предпринимателей захватить контроль над Новой Гвинеей, политика британской администрации на тер
11.9
ритории, поощрявшей и поддерживавшей их намерения, способствовали тому, что интерес австралийской буржуазии к новой колонии значительно возрос и она предприняла шаги, направленные на то, чтобы единолично владеть территорией. Так, в 1899 г. полковник Бернс, директор-распорядитель компании «Бернс-Филп», предложил создать компанию, которая бы занялась развитием сельского хозяйства, попыталась приспособить землю для тропического земледелия, приобретала и продавала бы местный лес и разводила лошадей, мулов, овец [138, с. 114].
Однако практические результаты экономической деятельности европейцев в Британской Новой Гвинее оказались ничтожными. Британская королевская комиссия, обследовавшая положение дел в колонии в 1906 г., обнаружила лишь 6 плантаций, из которых только 3 можно было назвать доходными.
В середине 90-х годов колония начала экспортировать каучук. У берегов острова собирали жемчуг и ловили трепангов. Хотя за десятилетие торговля несколько выросла, ее уровень продолжал оставаться низким. Если в 1888—1889 гг. колония экспортировала продукцию на 11,9 тыс., а импортировала на 22,2 тыс. долл., то в 1897—1898 гг.— соответственно на 100,1 тыс. и 94 тыс. долл.
Рост экспорта объяснялся увеличением добычи золота, стоимость которого составляла половину стоимости всех экспортных товаров колонии. Впервые золото было найдено в Британской Новой Гвинее в 1851 г. Но «золотая лихорадка» по-настоящему охватила колонию в конце 70-х годов, когда немного золота нашли в Порт-Морсби. В 1888 г. золото обнаружили на архипелаге Луи-зиада, а затем в различных частях самой Новой Гвинеи. Некоторые золотоискатели действительно обогатились, но большинство погибло от тропических болезней и в столкновениях с местными жителями.
Что касается просвещения и здравоохранения в колонии, то они остались почти полностью вне сферы деятельности британской администрации.
В 1898 г. У. Мак-Грегор покинул Новую Гвинею. Пост главы колониальной администрации занял Г. Ле Хант, который еще в большей степени, чем его предшественник, сталкивался с проблемой изыскания денежных средств. Дело в том, что договоренность между Великобританией и ее австралийскими колониями о финансировании управления Британской Новой Гвинеей была установлена лишь на десять лет, т. е. с 1888 по 1898 г. Когда этот срок стал подходить к концу, британское правительство дало понять, что оно утратило интерес к Новой Гвинее и не собирается дальше нести расходы по управлению колонией. Тогда Ле Хант обратился к австралийцам. В августе 1900 г. он встретился с премьерами Квинсленда, Нового Южного Уэльса и Виктории, но эта встреча ни к чему не привела. И Британская Новая Гвинея оказалась, как писал в одном из писем Ле Хант, «на грани истощения своих ресурсов». Лишь один Квинсленд оказывал финансовую помощь адми
120
нистрации, да и то нерегулярно и в весьма ограниченных размерах.
Стараясь как-то вырвать необходимые средства у колоний в Австралии, Ле Хант то сулил им большие барыши от использования природных богатств Новой Гвинеи, то пугал их возможностью захвата Британской Новой Гвинеи иностранными державами и в связи с этим резкого ухудшения стратегического положения пятого континента.
Политика Австралии в Океании в последней четверти XIX в. характеризовалась двумя отчетливо выраженными тенденциями, отражавшими позицию австралийской буржуазии, которая в тот период и политически и экономически еще зависела от британского капитализма. Английский капитал господствовал в экономике британских колоний в Австралии. Не удивительно, что австралийская буржуазия поддерживала все внешнеполитические акции Великобритании, даже если она не видела в них прямой выгоды для себя. Но вместе с тем у буржуазии британских колоний в Австралии уже появились собственные интересы вне пятого континента. Она жаждала принять участие в колониальном разделе океанийских территорий. Но Австралия не могла соперничать с такими державами, как США, Германия и Франция, и потому она настойчиво подталкивала Англию к расширению колониальной экспансии в Океании.
В «Тетрадях по империализму» В. И. Ленин, характеризуя новозеландский империализм, отметил: «Два течения империализма (оба вполне примиримы): 1) великодержавный империализм (участие в империализме Великобритании). 2) „локальный империализм"...— своя обособленность... замкнутость» [8, с. 511]. Это определение может быть целиком применено и к Австралии.
После объединения британских колоний в 1901 г. в федерацию Австралийский Союз австралийский «локальный империализм» значительно усилился.
В ноябре 1901 г. Австралия взяла на себя финансирование администрации Британской Новой Гвинеи. Изменился и порядок отчетности администратора колонии. Теперь он посылал доклады не правительству Квинсленда, чтобы то, в свою очередь, отправило их в британское министерство колоний, а непосредственно австралийскому федеральному правительству.
Продолжали свое существование Законодательный и Исполнительный советы при администраторе, по-прежнему не игравшие никакой роли в жизни колонии и все так же целиком состоявшие из британских чиновников колониального управления. Но собирались советы чаще, чем при Мак-Грегоре. Если за девять лет деятельности первого администратора Исполнительный совет собирался 118 раз, то за три последующих года — 104 раза.
Ле Хант в основном проводил политику своего предшественника. Исключением являлся земельный вопрос. Ле Хант предлагал отчуждать большие земельные площади — до 500 тыс. акров. Но реализовать это не удалось. В ноябре 1901 г. по настоянию
121
правительства Австралии администрация вынесла решение отложить передачу земельных участков «до получения сообщений по этому вопросу от федерального правительства» [71, с. 26].
Ле Хант возглавлял администрацию колонии до 1903 г. Все это время влияние колониального управления на различные сферы жизни Британской Новой Гвинеи оставалось ничтожным. Если уж кто и обладал известной властью, то это миссионеры. Следует отметить, что в тот период почти все они получали материальную помощь преимущественно от австралийцев, и это служило дополнительным средством укрепления позиций Австралии в Новой Гвинее.
Постепенно власть над колонией и юридически переходила к Австралийскому Союзу. 15 марта 1902 г. британское правительство согласилось передать управление колонией Австралии. Но прошло 16 месяцев, прежде чем премьер-министр Австралии Бартон представил в федеральный парламент законопроект об управлении колонией. Парламент рассмотрел его лишь в июле 1904 г. К этому времени правительство Бартона пало, и законопроект представляло новое правительство во главе с Уотсоном. Пока шло рассмотрение билля, пало и правительство Уотсона. Его сменило правительство Рейда. Но и оно успело уйти в отставку до конца обсуждения законопроекта. Проект был одобрен в ноябре 1905 г. при правительстве Дикина. Потребовалось еще 10 месяцев для опубликования соответствующего акта, что и произошло в сентябре 1906 г.
Таким образом, в 1906 г. право управления Британской Новой Гвинеей юридически было передано Австралийскому Союзу, колония получила новое официальное название — Папуа. Акт 1906 г. об управлении Папуа оставался без изменений до 1949 г.
Согласно этому документу, во главе колонии стоял губернатор, назначавшийся генерал-губернатором Австралии и ответственный только перед последним. Количество членов в Законодательном и Исполнительном советах несколько увеличилось. В Законодательный совет теперь входило шесть человек. Все они по-прежнему являлись чиновниками колониальной администрации. Позднее в его состав были включены еще три неофициальных члена, назначавшиеся губернатором колонии. Выборные члены появились лишь после второй мировой войны.
Столь длительная задержка с утверждением законопроекта об управлении колонией объяснялась не тем, что австралийские парламентарии старались выработать наиболее продуманную и эффективную систему, а их незнанием предмета обсуждения и нежеланием вникнуть в действительные нужды колонии. Выдвигавшиеся ими идеи порой поражали своей курьезностью.
Все это время в Британской Новой Гвинее положение оставалось без каких-либо изменений. Вместо Ле Ханта, занявшего пост губернатора штата Южная Австралия, во главе администрации временно был поставлен С. Робинсон, молодой юрист из Квинсленда. Он продержался на этом посту лишь один год. В начале
122
1904 г. Робинсон поехал в район Гоарибари, чтобы расследовать дело об убийстве миссионеров местными жителями. В ходе разбирательства Робинсон проявил крайнюю жестокость, приведшую к столкновению с коренными жителями, несколько человек из которых погибло. Сведения об этом попали в австралийские газеты. Вспыхнул публичный скандал, и правительство Австралии вынуждено было создать специальную комиссию для расследования происшествия.
В феврале 1904 г. австралийский премьер-министр Дикин вместо Робинсона назначил администратором колонии Ф. Бартона, который прежде занимал пост начальника новогвинейской полиции. Вскоре у Бартона возник острый конфликт с чиновниками администрации и вообще с европейским населением колонии. Правительство Австралии назначило новую комиссию, теперь уже для расследования общего положения дел в колонии. Комиссия, проработавшая три месяца, подтвердила, что Бартон не способен управлять Папуа, что у него крайне плохие отношения с европейской частью населения, которое он делит на «любимчиков» и «постылых». Показания против Бартона давал Д. Муррей, юрист колонии. Он отозвался об администраторе как о «человеке слабом и подверженном чужим влияниям».
Комиссия отметила также неспособность администрации как-то оживить экономику колонии. Экспорт колонии вырос только за счет вывоза золота, его стоимость составила к 1905 г. 134,4 тыс. долл. Импорт же тогда оставался на уровне 152,9 тыс. долл. Комиссия всячески рекомендовала поощрять ввоз иностранного капитала, развитие европейских плантационных хозяйств и т. п.
Правительство Австралии начало искать замену Бартону. А. Дикин обратился к У. Мак-Грегору, занимавшему тогда пост губернатора Ньюфаундленда, с просьбой вновь возглавить управление в Новой Гвинее. Конфиденциальные переговоры Дикина с МакГрегором стали известны австралийской общественности. Возникла сильнейшая оппозиционная группировка, выступавшая за то, чтобы главой администрации стал австралиец, а не англичанин. Тогда Дикин выбрал Д. Муррея, который в начале 1907 г. был временно назначен губернатором колонии, а в 1908 г. утвержден в этой должности.
В течение 30 лет, до 1940 г., Д. Муррей возглавлял администрацию в Папуа, а после первой мировой войны и администрацию отошедшей к Австралии «германской» части Новой Гвинеи. С его именем связан длительный этап в истории австралийской колонизации острова.
Состояние дел в первой германской тихоокеанской колонии не следует рассматривать как нечто исключительное. До конца 90-х годов во всех германских колониях управление осуществлялось частными компаниями, которые формировали и оплачивали аппарат колониальной администрации. То же самое происходило в колониях и других европейских держав. Так, в течение определенного времени Индией управляла британская Ост-Индская компа
123
ния. Несколько компаний во второй половине XIX в. хозяйничали в колониях в Африке.
В 90-х годах управление островом постепенно переходит в руки германского правительства. Следует отметить, что вообще с 1890 г. германское государство, видя беспомощность колониальных обществ, начинает забирать в свои руки управление колониями. Компании же сравнительно быстро ликвидируются.
В 1890 г. в системе германского государственного управления появился специальный орган по делам колоний — Имперское колониальное управление, входящее в состав министерства иностранных дел. Наряду с ним на правах совещательного органа в том же году был создан Колониальный совет.
В первые годы своего существования колониальное управление занималось только вопросами внутренней организации колоний. Все военные дела, связанные с колониями, находились в компетенции морского министерства, а вопросы общей политики — министерства иностранных дел.
Все усиливавшаяся централизация государственного управления колониями привела к созданию 17 мая 1907 г. самостоятельного министерства по делам колоний и ликвидации Колониального совета. Изменилась система управления в колониях. С 1890 г. представителей частных компаний сменили губернаторы, назначенные императором. Губернатор «германской» Новой Гвинеи, прибывший сюда 1 апреля 1899 г., был наделен всей полнотой власти, как военной, так и гражданской.
Германская администрация осуществляла свою деятельность в колонии через назначавшихся ею вождей деревень — лулуаев, которые собирали налоги, занимались разбором незначительных споров, возникавших между местными жителями, сообщали колониальным властям о крупных конфликтах, контролировали выполнение предписаний германской администрации. В помощь лулуаям назначался тултул, осуществлявший связь между германскими властями и вождями деревень.
Германская колониальная администрация пыталась создать более широкие административные объединения из нескольких деревень, но это у нее не получилось. Коренным жителям была совершенно непонятна сама идея подобных объединений; к тому же на острове существовала сильнейшая межплеменная вражда.
Надо сказать, что между германской администрацией и коренными жителями установились враждебные отношения. Власти организовывали карательные экспедиции, в которых принимали участие полицейские подразделения, сначала состоявшие из малайцев, а затем из жителей сопредельных с Новой Гвинеей островов — Бука и Япен. Частями командовали германские офицеры. Экспедиции действовали крайне жестоко. Бывали случаи, когда во время рейда погибало до сотни жителей. Их дома и каноэ уничтожались. Подобные экспедиции не прекратились и в XX в.
На плантациях германские колонизаторы широко использовали рабский труд. К 1914 г. примерно 20 тыс. коренных жителей
124
тихоокеанских островов работали на плантациях Земли Кайзера Вильгельма. В основном их доставляли с островов Новая Ирландия и Лавонгай.
До 1888 г. труд рабочих на плантациях никак не регулировался. В 1888, а затем в 1909 г. было введено некоторое его регламентирование, но оно распространялось только на тех островитян, которые доставлялись на Новую Гвинею с отдаленных островов. На практике, однако, даже весьма куцые законоположения не проводились в жизнь. Плантаторы их попросту игнорировали, а колониальные власти смотрели на это сквозь пальцы. Если туземцы отказывались работать на плантациях, то плантаторы вызывали полицию. Они делали это всякий раз, когда встречали какое-либо сопротивление со стороны рабочих, и полиция жестоко наказывала «виновных».
Колониальная администрация в широких масштабах проводила захват земель коренных жителей. К 1914 г. в ее руки перешло 700 тыс. акров. Конечно, это незначительная часть земельной площади колонии, но надо иметь в виду, что территория Новой Гвинеи чаще всего малопригодна для земледелия. Колонизаторы забирали у населения лучшие земли, расположенные на побережье. Коренные жители, естественно, не могли спокойно относиться к изъятию у них земельных участков. Нередко это являлось причиной их выступлений против колониальных властей.
Германским колониальным властям не удалось изменить что-либо в экономической жизни колонии, как не удалось это сделать раньше Новогвинейской компании. Европейских поселенцев в «германской» Новой Гвинее было по-прежнему мало. Попытки организовать производство кофе, какао, перца, табака, хлопка, каучука закончились неудачей. Единственным товарным сельскохозяйственным продуктом оставалась копра. При этом следует отметить, что относительно развитое сельскохозяйственное производство, продукция которого шла на экспорт, было не на острове Новая Гвинея, а на архипелаге Бисмарка. Но и там удалось наладить лишь плантационное выращивание кокосовых пальм.
Несмотря на то что германские колониальные власти всеми средствами пытались внедрить в экономику колонии немецкий капитал, значительное влияние на нее оказывала Австралия, снабжавшая колонию мукой, мясом, лесом, углем. Ведущие позиции при этом занимала австралийская компания «Бернс-Филп». В 1912 г. колония импортировала из Австралии товаров на сумму 3380 тыс. марок, а из Германии—на сумму 3170 тыс. марок. Значительной была доля Австралии и в экспорте колонии. В том же году в Австралию было вывезено товаров на сумму 5970 тыс. марок, в Германию — на сумму 9650 тыс. марок.
Что касается состояния просвещения в колонии в период германского господства, то оно находилось на самом низком уровне. Преподавание было сосредоточено в руках христианских миссий, которые, выполняя предписание властей, начали вести обучение на немецком языке. В 1907 г. первая правительственная школа с
125
преподаванием на немецком языке открылась в Намануле, около Рабаула, на острове Новая Британия. До начала первой мировой войны она оставалась единственной государственной школой в «германской» Новой Гвинее.
Немцы, испытывая потребность в плотниках, механиках, торговцах, пытались организовать профессиональную подготовку коренных жителей. Но сколько-нибудь серьезных усилий к этому не прилагали, поэтому значительных успехов в этой области сделано' не было.
Германское господство в северо-восточной части Новой Гвинеи закончилось практически в первые дни мировой войны 1914— 1918 гг.
6 августа 1914 г. австралийское правительство получило телеграмму британского министра колоний, в которой содержалась просьба правительства Великобритании послать австралийские воинские подразделения для захвата германских владений в Тихом океане, в том числе на Новой Гвинее. '«Если ваши министры,— говорилось в телеграмме,— хотят захватить германские станции беспроволочного телеграфа на Новой Гвинее, на Яве, в группе Маршалловых островов и на Науру... и чувствуют себя готовыми к этому, мы будем рассматривать их действия как выполнение важной и срочной имперской миссии» [169, с. 2].
Австралийское правительство отреагировало немедленно. 10 августа 1914 г. британское правительство было уведомлено' о том, что 1,5 тыс. австралийских солдат готовы к действию.
После непродолжительной тренировки в Квинсленде австралийский экспедиционный корпус под командованием ветерана англо-бурской войны полковника У. Холтса 18 августа покинул Сидней, сопровождаемый кораблями военно-морского флота. И сентября 1914 г. австралийцы начали операции по захвату германской телеграфной станции на острове Новая Британия. В распоряжении германских властей находился 301 солдат, из них 240 являлись коренными жителями колонии. В боях за станцию погибло более 40 австралийцев. С немецкой стороны потери составили свыше 30 человек.
Австралийские войска быстро оккупировали германские территории. 17 сентября 1914 г. немцы капитулировали на Новой Британии, а к концу сентября австралийцы завладели Землей Кайзера Вильгельма. К 1921 г. власть в «германской» Новой Гвинее перешла в руки австралийской военной администрации.
Глава VII
СОЗДАНИЕ АВСТРАЛИЙСКОГО СОЮЗА
Практическое объединение британских колоний в Австралии иа федеративной основе совершилось в последние 10 лет XIX в., но идея создания Австралийского Союза начала распространяться еще во второй половине прошлого столетия. Мысль о необходимости объединения высказывалась и в Англии, и в самих колониях. В конце 40-х годов британский министр колоний Дж. Грей неоднократно, в различной связи, говорил о целесообразности организации центральной власти, которая бы осуществляла управление всем огромным материком. В 1850 г. он направил на рассмотрение парламента соответствующий законопроект.
В Австралии У. Уэнтворт и Д. Лэнг развивали идеи объединения колоний в единую нацию. Под влиянием У. Уэнтворта специальный комитет Законодательного совета Нового Южного Уэльса, учрежденный в 1853 г. для разработки конституции, включил в свои рекомендации предложение о создании общеколониального законодательного органа. Аналогичные предложения были сформулированы и соответствующим комитетом законодательного органа Виктории.
Как мы уже отмечали, губернатор Нового Южного Уэльса в 50-е годы получил титул генерал-губернатора и формально являлся главой британской колониальной администрации в Австралии. Но центробежные тенденции в жизни колоний в тот период были настолько велики, что практически ни о каком вмешательстве губернатора Нового Южного Уэльса в дела других колоний не могло быть и речи. Колонии не могли договориться между собой даже по каким-либо отдельным вопросам. Так, Новый Южный Уэльс, Виктория и Южная Австралия заключили между собой торговый договор сроком на три года, но он был расторгнут почти сразу же после его подписания.
В первые десятилетия XIX в. господствующей идеей в колониях был ярко выраженный сепаратизм. Это объяснялось в первую очередь уровнем их экономического развития. Британские колонии в Австралии, расположенные на громадном континенте, географически разобщенные, с весьма малым числом населения, сконцентрированного в немногих центрах, отдаленных друг от друга огромными расстояниями, развивались, по существу, самостоятельно, постоянно испытывая взаимное недоверие, недоброжелательство,
127
перераставшие в настоящую вражду. Складывавшаяся в колониях буржуазия была полностью сосредоточена на решении своих собственных, локальных финансовых и производственных задач. Интересы буржуазии различных колоний были часто прямо противоположны. Так, если буржуазия Нового Южного Уэльса отстаивала принцип фритредерства, то буржуазия Виктории твердо стояла на позициях протекционизма.
Пребывание Виктории, так же как Южной Австралии и Тасмании, в течение длительного времени в составе колонии Новый Южный Уэльс не только не привело к их сплочению и возникновению общих интересов, но, напротив, обострило сепаратистские тенденции, нашедшие свое выражение в движении за выход из-под власти сиднейской администрации и достижение полного самоуправления.
Напряженность отношений проявлялась в самых различных, подчас смехотворных формах, когда, например, Виктория пыталась «унизить» Новый Южный Уэльс, подчеркивая «благородство» своего происхождения фактом «свободнорожденности», в отличие от каторжного прошлого «колонии бесчестия».
Когда началось строительство железных дорог, Новый Южный Уэльс и Виктория строили вопреки очевидной экономической целесообразности колеи разной ширины. А ведь именно эти две колонии были и географически и экономически очень близко связаны. Что же говорить о Тасмании или Западной Австралии, главные центры которых отстояли от Сиднея на тысячи километров нелегкого по тогдашним временам пути! Колонии эти испытывали подлинный страх при мысли об объединении с могущественными в сравнении с ними восточноавстралийскими колониями.
Если у колоний отсутствовал внутриэкономический стимул к объединению, то и их внешнеполитическое положение не способствовало этому. Военное могущество Британской империи тогда было настолько велико, что ни у какой из западных держав не возникло серьезного желания захватить ее легкоуязвимые с военной точки зрения австралийские владения.
Что касается азиатских стран, относительно близких соседей Австралии, то в условиях колониальной системы они фактически были выключены из сферы международных отношений. До поры до времени австралийская буржуазия могла позволить себе попросту не брать их в расчет.
Но с начала 80-х годов отношение колоний к проблеме федерализма начало существенно меняться. Логика их экономического развития настойчиво требовала объединения. Стремительно увеличивалось поголовье овец и крупного рогатого скота, расширялись посевные площади, и поэтому необходимо было использовать земельные ресурсы в масштабах всего континента. Росли масштабы добычи золота, особенно в Виктории и Западной Австралии, и возникала необходимость привлечения рабочей силы из других колоний. Быстро развивавшиеся средства транспорта и связи уничтожали обособленность, замкнутость колоний.
128
Процесс дифференциации общества, идущий одновременно с экономическим развитием, сплачивал на одном полюсе всю австралийскую буржуазию, а на другом — весь австралийский рабочий класс, ломая границы отдельных колоний. Это, однако, совершенно не означало, что среди различных категорий буржуазии и рабочего класса не было внутренних противоречий, различия интересов и борьбы мнений. Весьма сильные позиции в Австралии занимали скотоводы. Ко времени «золотой лихорадки» владельцы гигантских скотоводческих хозяйств представляли собой господствующую группу и пытались играть роль элиты австралийского общества. Они выступали за ограничение власти колониальной администрации, за самоуправление колоний. Скотоводы создали политическую партию, целью которой была защита прав частной собственности. Партия, возглавляемая политиком либерального толка Уэнтвортом, пыталась бороться с явлениями, связанными с «золотой лихорадкой», появлением новых источников обогащения, угрожавших снизить решающее значение шерсти в экономике и положить конец привилегированному положению скотоводов в австралийском обществе. Интересы скотоводов противоречили интересам как развивавшейся промышленной буржуазии, так и растущего городского и сельского пролетариата.
Во второй половине XIX в. шел процесс объединения пролетариата всех колоний. Как уже отмечалось, создавшиеся в то время профсоюзы выходили за границы отдельных колоний. Буржуазия для борьбы с рабочим движением также пыталась объединяться в общеконтинентальные союзы.
Изменившаяся внешнеполитическая обстановка способствовала усилению в колониях центростремительных тенденций. Буржуазия австралийских колоний постепенно стала убеждаться в том, что полагаться только на Великобританию при колониальном разделе Океании, в котором Австралия хотела играть активную роль, нельзя. Англия вела сложную мировую политику, в которой Тихому океану уделялось отнюдь не первостепенное внимание. Буржуазия австралийских колоний, раздраженная медлительностью британского правительства, не могла сдержать нетерпения и жажды колониальных приобретений, рассчитывая на экономические выгоды, связанные с разделом Океании.
Страх, вызываемый ширящейся аннексией великих держав в Тихом океане, и одновременное стремление утвердиться на тихоокеанской сцене заставляли колонии все большее внимание уделять военным проблемам. К тому же Англия все упорнее пыталась переложить бремя расходов по защите колоний на них самих. В 1870 г. Великобритания полностью вывела свои войска из австралийских колоний. Вместо них были созданы местные военные милицейские формирования.
В 1887 г. на первой общеколониальной конференции, созванной в Лондоне, военный вопрос был одним из основных. На конференции было достигнуто соглашение о создании специальной военно-морской эскадры для защиты Австралии и Новой Зелан
9 Заказ 91
129
дии. Корабли этой эскадры строились на средства австралийских колоний, которые вместе с Новой Зеландией согласились передавать британскому правительству на эти цели ежегодно 126 тыс. ф. ст.
Эскадра должна была постоянно находиться в водах Австралии и Новой Зеландии, но подчиняться имперскому командованию как составная часть британского флота. Колонии брали на себя расходы и по обороне на суше. Для составления общего стратегического плана британское правительство направило в Австралию генерала Б. Эдвардса.
Была и еще одна специфически австралийская проблема, способствовавшая нагнетанию федералистских настроений в колониях,— это движение за «белую Австралию».
Уже упоминалось, что открытие золотоносных месторождений — сначала в Новом Южном Уэльсе и Виктории, а затем в Квинсленде и Западной Австралии—вызвало мощный поток азиатских (главным образом китайских) иммигрантов в Австралию. Дешевых рабочих рук требовало и развернувшееся в последней трети XIX в. железнодорожное строительство, и создание в Квинсленде плантаций сахарного тростника. В Австралии постепенно образовалась заметная прослойка китайских рабочих, к которым в дальнейшем добавились японцы, малайцы и коренные жители тихоокеанских островов.
Австралийские предприниматели, действовавшие в золотодобывающей промышленности, скоро разочаровались в возможностях использования китайской рабочей силы. Большинство китайцев, прибывавших на континент, были служащими соответствующих китайских компаний. Добывавшееся ими золото утекало из Австралии в Китай. Так, в период между июлем 1856 и июнем 1857 г. в Кантон было вывезено 116,9 тыс. унций золота на сумму свыше 500 тыс. ф. ст. [79, с. 446]. В то же время некоторые группы австралийской буржуазии, занимавшиеся железнодорожным строительством, добычей угля, пароходными сообщениями и т. п., были весьма заинтересованы в использовании китайцев на своих предприятиях. Например, в 1878 г. «Острэйлиен стим навигейшн компани» начала укомплектовывать судовые команды китайскими матросами. При этом им платили 2 ф. 15 шилл., в то время как зарплата австралийских матросов составляла 8 ф. ст. Значительное число азиатских рабочих использовалось в Северной территории, где климатические условия были особенно тяжелыми. Понятно поэтому, что отношение к использованию рабочей силы из азиатских стран в различных австралийских колониях было далеко не одинаковым и даже в одной и той же колонии претерпевало значительные изменения по мере ее экономического развития.
Когда Виктория начала вводить строгие ограничительные меры в отношении китайских иммигрантов, последние продолжали появляться на золотоносных землях колонии, проникая туда через Южную Австралию, где таких ограничений еще не существовало. В течение одного только 1857 года в Викторию через Южную
130
Австралию прибыло около 15 тыс. человек. Когда же после 1857 г. Южная Австралия ввела в действие ограничительные законы, подобные тем, которые действовали в Виктории, китайские иммигранты начали оседать в Новом Южном Уэльсе, где к началу 60-х годов их насчитывалось уже 21 тыс. человек—на каждые 16 жителей колонии приходился один китаец. В сентябре 1861 г. в Новом Южном Уэльсе также были введены строгие ограничения в отношении китайских иммигрантов, и в 1863 г., например, в колонию иммигрировало лишь 63 китайца.
Но «золотая лихорадка», начавшаяся в Квинсленде и Западной Австралии, привлекла поток китайских иммигрантов в эти колонии. Во второй половине 70-х годов в Квинсленде китайские иммигранты составили 10% европейского населения колонии. В 1877 г. ограничения в отношении китайских иммигрантов были введены и в Квинсленде. Это привело к тому, что в течение последующих десяти лет в колонию прибыло из Китая лишь 500 человек.
В конце 1880 г. по инициативе правительства Нового Южного Уэльса была созвана общеавстралийская конференция по вопросу об отношении к азиатским иммигрантам. Все колонии, кроме Западной Австралии, высказались за необходимость ввода общих жестких ограничительных мер. Но китайские иммигранты продолжали прибывать на континент через Западную Австралию и Северную территорию. Наконец, в начале второй половины 80-х годов и там были введены ограничительные законы. Общая численность китайских иммигрантов в Австралии сократилась с 50 тыс. в 1888 г. до 32 тыс. в 1901 г.
Следует подчеркнуть, что все политические группировки в австралийских колониях поддерживали движение за «белую Австралию». Профсоюзы и лейбористские партии, как уже отмечалось, рассматривали его в качестве одной из своих главных политических акций.
Вместе с тем постепенно достигнутое единство колоний в вопросе об азиатских иммигрантах обострило их отношения с Великобританией. В своих собственных интересах Англия заключила в тот период договоры о дружбе и торговле с Китаем и Японией, в силу которых формально не допускалась какая-либо дискриминация в отношении подданных этих стран на территориях, входящих в состав Британской империи. Грубо прямолинейные действия властей австралийских колоний мешали игре британского правительства и вызывали поэтому его недовольство.
Британское правительство сначала просто отказалось санкционировать вводимые в австралийских колониях законы, ограничивающие въезд азиатских иммигрантов. Лишь в 1880 г. оно согласилось отнести иммиграционные вопросы к компетенции правительств австралийских колоний.
Но когда в мае 1887 г. китайское правительство послало своих уполномоченных в Австралию для ознакомления с положением там китайских иммигрантов и после этого через своего посла в Лондоне направило британскому правительству ноту протеста, в
9*
131
которой указывалось, что введенные в Австралии иммиграционные ограничения противоречат нормам международного права и нарушают англо-китайский договор, британский министр колоний лорд Натсфорд обратил внимание правительств австралийских колоний на необходимость действовать по крайней мере более тактично. Он предложил ввести ограничения иммиграции из всех иностранных государств, предусмотрев при этом возможность временной приостановки или прекращения их действия.
Правительства колоний отказались выполнить эту рекомендацию, заявив, что никаких ограничений в отношении европейских иммигрантов они вводить не будут, а, напротив, намерены всячески поощрять их приезд на континент.
В июне 1888 г. состоялась общеавстралийская конференция, посвященная вопросу о китайских иммигрантах. Конференция подтвердила, что правительства всех австралийских колоний считают необходимым ввести жесткую систему ограничений въезда китайцев в Австралию. Спустя восемь лет, в марте 1896 г., была проведена еще одна конференция по этой же проблеме, где главное внимание было обращено на усиление японской иммиграции в Австралию в связи с англо-японским торговым договором 1894 г. Дело в том, что этот договор предусматривал предоставление подданным обоих государств права пребывания, ведения торговых операций, приобретения земельных участков на территориях, подвластных этим государствам. Послав 31 декабря 1894 г. правительствам австралийских колоний копии договора, британский министр колоний лорд Рипон одновременно сообщал, что, если они пожелают, они могут прислать свои ноты о присоединении к договору до 25 августа 1896 г. [196, с. 6]. И опять правительства колоний вопреки настойчивым рекомендациям британского правительства заняли непримиримо отрицательную позицию, отказавшись присоединиться к англо-японскому договору 1894 г. Более того, колонии приняли новые законы об ограничении иммиграции из Азии.
В силу указанных причин и некоторых других обстоятельств с самого начала 80-х годов предпринимаются попытки создать общеавстралийские органы, целью которых являлось бы постепенное сплачивание колоний. В конце 1880 г. премьер Нового Южного Уэльса Г. Паркс предложил создать Федеральный совет, который занимался бы делами, представлявшими интерес для всех колоний, и в то же время содействовал бы распространению идей федерализма среди населения колоний.
В меморандуме, разосланном в январе 1881 г. правительствам колоний, Г. Паркс предлагал подвергнуть широкому обсуждению следующие вопросы: 1. Не пришло ли время создать федеральную конституцию и австралийский федеральный парламент? 2. Не более ли эффективно общие дела всех колоний решать с помощью федеральной власти, а не самостоятельно? 3. Не следует ли учредить организацию, которая способствовала бы распространению идей федерации и служила бы инструментом образования федераль-
132
шого правительства? [42, т. 2, с. 451]. Тогда идеи, высказанные Парксом, не получили практического воплощения.
На общеавстралийской конференции, созванной в Сиднее в конце 1883 г., вновь был рассмотрен вопрос о создании Федерального совета. В законопроекте, одобренном конференцией, указывалось, что совет должен быть законодательным органом, к компе-
тенции которого следует отнести такие вопросы, как отношения Австралии с тихоокеанскими островами, недопущение доставки в Австралию уголовных преступников и др. Законы, принятые Федеральным советом, должны быть обязательны для тех колоний, которые предварительно рассмотрели и одобрили их проекты. Предполагалось, что совет может начать свою деятельность после того, как не менее четырех колоний дадут на это свое согласие. Законопроект о создании Федерального совета был утвержден британским парламентом в 1885 г. Виктория, Тасмания, Квинсленд, .Западная Австралия согласились принять участие в его работе.
Правительства этих колоний назначили в состав Федерального совета, который должен был собираться раз в два года, по два представителя. Местом его пребывания была избрана столица Тасмании Хобарт. К компетенции совета формально были отнесены следующие дела: отношения Австралии с тихоокеанскими островами; недопущение транспортировки заключенных в Австралию; рыболовство в пределах австралийских территориальных вод; обеспечение исполнения судебных приговоров за пределами отдельных колоний. С согласия двух или более колоний к компетенции совета могли быть отнесены также вопросы обороны, введения карантинов, патентного права, авторского права, натурализации, брачно-семейного права и др.
Новый Южный Уэльс отказался послать своих представителей в совет на том основании, что считал этот совет лишенным реальных прав и потому неэффективным. «Я считаю неправильной основу, на которой построено это дело,— заявил премьер Нового Южного Уэльса Г. Паркс.— Учреждение, конституционно более слабое, чем парламент колоний, не может вводить законы вопреки воле общественности... Для того чтобы Федеральный совет обладал высшей властью... он должен избираться представителями всего народа» [42, т. 2, с. 457]. Автор одной из статей, опубликованных в 1885 г. в журнале «Макмиллане мэгэзин», так охарактеризовал Федеральный совет: «Он во всех отношениях слабее правительств колоний, ибо не может вынести каких-либо постановлений как орган исполнительной власти, не имеет права санкционировать введение налогов. Он не может получить и пенни на федеральные расходы; совет не обладает никакими правами, которые позволили бы ему решать конфликты, возникающие между федеральной и местной властью. Таким образом, это правительство без ответственности, без власти, без средств» [193, с. 163]. Действительно, деятельность Федерального совета, существовавшего до 1899 г., практически не ощущалась в Австралии.
9 июля 1889 г. Г. Паркс обратился к премьеру Виктории.
133
Д. Гиллису с конфиденциальным письмом, в котором вновь поставил вопрос о создании «федерального парламента и правительства, наделенных всеми правами по типу доминиона Канада». В ответном письме от 12 августа Д. Гиллис писал, что считает это предложение одновременно и химерическим и ненужным. Химерическим потому, что он «не видит реальной перспективы его осуществления», и ненужным потому, что «Федеральный совет уже обладает необходимым механизмом для выполнения таких действий». В своем контрпредложении Д. Гиллис указывал на целесообразность участия Нового Южного Уэльса в работе Федерального совета, что придаст последнему «более представительный характер и может привести к тому, что законодательные органы колоний наделят его специальной компетенцией в области разработки предложений для расширения федерации» [194, с. 2].
9 октября 1889 г. в Австралии был опубликован доклад упоминавшегося уже нами генерала Б. Эдвардса, направленного британским правительством в Австралию для разработки предложений по организации ее обороны. В докладе указывалось, что необходимо создать общие вооруженные силы всех австралийских колоний, подчиненные единому командованию, а также построить стратегические дороги и опорные пункты в различных частях континента. Все это невозможно было осуществить без централизованной власти.
«Объединенные действия в обороне более экономичны и эффективны, чем нынешняя система чисто локальной обороны...— писал в своем докладе генерал Эдвардс.— Железные дороги являются сейчас таким важным фактором в войне, что никакая объединенная операция, проводимая в широких масштабах, без них невозможна. Существование разной ширины колеи железных дорог в колониях роковым образом отразится на быстроте маневрирования; эта разница помешает Виктории и Южной Австралии прийти на помощь Новому Южному Уэльсу и Квинсленду и по тем же причинам не даст возможности двум последним колониям оказать эффективную помощь Виктории и Южной Австралии... Не может быть создано никакой общей обороны Австралии до тех пор, пока отдаленные ее части не будут соединены с более населенными колониями на юге и востоке континента... Общая система обороны может быть осуществлена только при объединении вооруженных сил колоний... Для инспектирования вооруженных сил в мирное время и командования ими во время войны должен быть назначен офицер в ранге генерал-лейтенанта» [42, т. 2, с. 464—466].
Воспользовавшись докладом генерала Эдвардса, Г. Паркс послал 15 октября премьерам всех австралийских колоний телеграммы, в которых приглашал их на конференцию для обсуждения предложений Б. Эдвардса. От имени всех премьеров ответил Д. Гиллис. Он указал на нецелесообразность создания нового общеавстралийского органа, да еще с компетенцией, ограниченной лишь вопросами обороны, когда существует Федеральный совет. Далее он не без сарказма отметил, что если Паркс так заинтере
134
сован в развитии австралийского федерализма, то он должен был €ы способствовать присоединению Нового Южного Уэльса к Федеральному совету.
Через несколько дней после получения ответа от Д. Гиллиса Г. Паркс предпринял секретную поездку в Брисбен, где провел переговоры с премьером Квинсленда Б. Маурхедом и лидером оппозиции С. Гриффитом. Но и в Квинсленде он не получил поддержки. На обратном пути Паркс выступил с большой политической речью в городе Тентерфилде, стоящем на границе Нового Южного Уэльса и Квинсленда. И в этой своей речи, и в выступлении на заседании Законодательного совета Нового Южного Уэльса по возвращении из поездки он говорил о слабости Федерального совета, который некоторые «колониальные деятели» рассматривают в качестве уже действующего общеавстралийского органа, и снова предлагал создать центральный парламент, законодательная власть которого распространялась бы на всю Австралию.
«Федеральный совет,— говорил он,— не является избираемым органом, это орган, назначаемый правительствами отдельных колоний, поэтому он слаб... ибо может предлагать, но не может исполнять». Следовательно, важнейший вопрос, требующий немедленного решения, заключается в том, «настало ли время для создания на Австралийском континенте австралийского парламента, отдельного от местных парламентов, и австралийского правительства, отдельного от местных правительств... Это означает самостоятельную исполнительную и самостоятельную парламентскую власть, правительство для всей Австралии... Австралия имеет сейчас население три с половиной миллиона, а американский народ насчитывал только три или четыре миллиона, когда образовал великое содружество — Соединенные Штаты. Численность населения была почти такая же. Но нельзя ли то, чего американцы добились ценой гражданской войны, получить мирным путем? Откладывать это дело,— заключил Г. Паркс,— значит увеличивать трудности, стоящие на его пути» [194, с. 6—8].
Еще до конца октября Г. Паркс разослал письма всем премьерам австралийских колоний, в которых выдвинул предложение созвать специальную конференцию по этому вопросу. «Федеральное правительство,— писал Г. Паркс,— должно... быть того же типа, что и правительство Канады... При разработке конституции, несомненно, нужно использовать богатый источник политических знаний, заключенный в истории создания конституции Соединенных Штатов...» [194, с. 10—13].
Премьеры австралийских колоний не торопились с ответом. Тогда Г. Паркс направил им 4 ноября новое послание, в котором предлагал парламентам всех австралийских колоний рассмотреть разработанный им проект резолюции о создании федеральной конституции. Парламент колонии, было записано в проекте, считает целесообразным и желательным провести конференцию австралийских колоний с целью подготовки законопроекта о федерации колоний, предусматривавшего назначение генерал-губернатора, а
135
также создание тайного совета, верховного суда, федерального парламента, состоящего из сената и палаты общин; определения функций и прав федеральных органов; установления взаимоотношений между федеральными и местными органами; принятия обращения к британской королеве с просьбой представить законопроект о создании федерации австралийских колоний, разработанный общеавстралийской конференцией, на рассмотрение британского парламента.
На этот раз Г. Паркс получил ответы от правительств австралийских колоний, однако весьма неутешительные. Премьер Виктории Д. Гиллис возражал против проведения конференции по выработке федеральной конституции, считая нецелесообразным создание федеральной армии, и вновь призывал Новый Южный Уэльс к участию в Федеральном совете. Единственной его уступкой было предложение организовать встречу представителей Нового Южного Уэльса с представителями Федерального совета для «обсуждения и, если это будет необходимо, разработки соответствующей схемы федерального правительства» [194, с. 21]. Ответы премьеров Квинсленда — Маурхеда, Тасмании — Фиша, Южной Австралии — Кокберна и колониального секретаря Западной Австралии. Фрейзера по существу были такими же.
Казалось, что и эта попытка Г. Паркса окончилась полной неудачей. «Сидней морнинг геральд» в номере от 7 ноября 1889 г. писала: «Невероятно, чтобы конференция, предлагаемая сэром Генри Парксом, состоялась» [194, с. 21].
Однако потребности экономического и политического развития австралийских колоний все настойчивее требовали их объединения и создания централизованной власти. Движение за федерацию нашло поддержку британского правительства, надеявшегося таким образом не только укрепить свое отдаленнейшее владение, но и возложить на него заботу о внутреннем развитии и защите от нападения извне. Поэтому в конце 1889 г. ярыми поборниками идеи создания федерации выступили губернаторы австралийских колоний, наибольшую активность среди которых проявил губернатор Нового Южного Уэльса лорд Кэррингтон, позднее получивший титул маркиза Линкольншира. Их энергичное вмешательство привело к тому, что премьеры колоний согласились на созыв конференции, предлагаемой Г. Парксом. Она открылась в Мельбурне 6 февраля 1890 г.
Работа конференции показала, что правительства колоний отнюдь не сняли своих прежних возражений в отношении создания федерации. На конференции довольно четко определились три направления. К первому принадлежали сторонники сильной федеральной власти, «федералистов любой ценой», как их называли позднее, такие, как Паркс (Новый Южный Уэльс) и Макроссен (Квинсленд). Представители второго направления, такие, как Плейфорд (Южная Австралия) и Кларк (Тасмания), настаивали на сохранении у колоний широких прав при объединении их в федерацию. Третье — промежуточное между двумя крайними направ-136
лениями. Его выражал, в частности, Гриффит, являвшийся тогда лидером оппозиции в парламенте Квинсленда.
После оживленных дебатов удалось достичь соглашения о создании общеавстралийских законодательных и исполнительных органов. Было принято обращение ко всем парламентам колоний, в котором предлагалось выделить представителей на австралийскую национальную конференцию для выработки проекта федеральной конституции [42, т. 2, с. 479—480].
Эта конференция начала работу в Сиднее 2 марта 1891 г. Председателем ее был избран Г. Паркс. Из-за расхождения во взглядах у представителей колоний принятый ею проект конституции имел компромиссный характер.
По предложению Г. Паркса и А. Дикина новое федеральное государство получало название Австралийский Союз. Федеральный парламент должен был состоять из двух палат: сената и палаты представителей. Предполагалось, что члены сената будут избираться парламентами штатов, члены палаты представителей — путем всеобщего голосования. В компетенцию федерального парламента вошли вопросы обороны, он наделялся правом избрания федерального верховного суда. Финансовые вопросы, контроль за таможенными тарифами, налогообложением, торговлей между штатами, сформулированные весьма спорно и противоречиво, были отнесены к компетенции федеральной власти [42, т. 2, с. 481—483].
Проект конституции, принятый конференцией, должен был получить одобрение парламента колоний и лишь после этого мог быть передан на рассмотрение британского парламента. Парламенты Виктории и Южной Австралии поддержали его, Нового Южного Уэльса и Квинсленда — нет; парламент Тасмании отложил рассмотрение проекта до тех пор, пока Новый Южный Уэльс не примет окончательного решения. Западная Австралия, лишь год назад получившая самоуправление, не была заинтересована в создании федерации и не поддержала проект федеральной конституции.
Экономическая депрессия, обострение классовой борьбы в начале 90-х годов несколько ослабили движение за образование федерации. Но во второй половине 90-х годов оно получило новое развитие.
На конференции премьеров австралийских колоний, состоявшейся в Хобарте в феврале 1895 г., после довольно острых дебатов было принято решение созвать новую конференцию по выработке федеральной конституции. Предполагалось, что участники ее будут избираться путем всеобщего голосования, а не назначаться парламентами колоний. Проект конституции, подготовленный конференцией, было решено передать на всенародное обсуждение и в случае его одобрения населением не менее трех колоний — на утверждение британского правительства [42, т. 2, с. 501—502]. Решение конференции получило поддержку парламентов всех австралийских колоний, кроме Квинсленда.
В четырех колониях делегаты на конференцию были выбраны
137
путем всеобщего голосования, как предусматривалось в решении хобартской конференции 1895 г>, в Западной Австралии их избрал парламент, Квинсленд вообще не проводил выборов.
22 марта 1897 г. в Аделаиде начала свою работу первая сессия конференции. Подготовленный ею проект конституции был передан на рассмотрение парламентов колоний, а затем возвращен на новое обсуждение второй сессии конференции, которая проходила в Сиднее в сентябре того же года. Но сессия не смогла достигнуть согласованных решений и прервала свою работу. Возобновлена она была лишь 20 января 1898 г. в Мельбурне. В июне 1898 г. в Новом Южном Уэльсе, Виктории, Тасмании и Южной Австралии был проведен референдум по поводу проекта федеральной конституции.
В Виктории 100 520 человек из 122 619 голосовавших высказались за проект конституции, в Южной Австралии и Тасмании — соответственно 35 803 из 53 123 и 11 706 из 14 422. В Новом Южном Уэльсе обстановка сложилась иначе. Парламент колонии принял решение о том, что проект конституции будет считаться одобренным, если в процессе референдума он получит поддержку не менее 80 тыс. голосовавших. Когда же стали известны результаты голосования, проведенного 18 июня 1898 г., то оказалось, что за проект конституции было подано 71 595 голосов, против — 66 228. Пришлось в проект конституции вносить поправки, чтобы сделать его приемлемым для Нового Южного Уэльса. Наибольшие споры вызывали вопросы компетенции федеральных органов власти, бюджетно-финансовые вопросы, тарифная политика, порядок внесения изменений в конституцию. Квинсленд по-прежнему стоял в стороне от этого движения, а в Западной Австралии проведение референдума было отложено на год.
В 1899 г. был проведен новый референдум, в результате которого проект федеральной конституции одобрили пять колоний: Виктория, Новый Южный Уэльс, Южная Австралия, Тасмания и Квинсленд. По поводу проекта не высказалась лишь Западная Австралия (табл. 11).
В Англию направилась делегация представителей австралийских колоний, которая должна была представить проект федеральной конституции на утверждение британского парламента. В ее состав вошли: Э. Бартон (Новый Южный Уэльс), А. Дикин (Виктория), Д. Диксон (Квинсленд), Ч. Кингстон (Южная Австралия) и Ф. Фиш (Тасмания). Западная Австралия послала в Лондон своего представителя С. Паркера, поручив ему добиваться изменения ст. 95 проекта конституции, которая гласила, что Западная Австралия может сохранять существующий тариф на товары, импортируемые из других колоний, лишь в течение одного года после образования Австралийского Союза. В последующие четыре года она должна сокращать его размер (каждый год на 7s), с тем чтобы к концу пятого года совсем его отменить. Западная Австралия настаивала на полном сохранении тарифа в течение первых пяти лет существования федерации.
138
Таблица 11
Результаты референдума 1899 г. *
Колония Голоса, поданные за проект конституции Голоса, поданные против проекта конституции
Новый Южный Уэльс 107 420 82 741
Виктория 152 635 9 804
Квинсленд 35 181 28 965
Южная Австралия 65 990 17 053
Тасмания 13 437 791
Всего 374 663 139 354
* Т. А. С о g h 1 a n, Т. Y. Е w i и g. The Progress of Australasia in the Nineteenth Century, 432.
Однако, имея в виду отрицательное отношение остальных колоний к ее домогательствам и боясь не попасть в число первоначальных членов — учредителей Австралийского Союза, Западная Австралия сообщила британскому правительству в меморандуме от 30 марта 1900 г. о том, что немедленно соберет свой парламент для одобрения проекта федеральной конституции [42, т. 2, с. 526— 527]. Это было сделано за три дня до начала его рассмотрения британским парламентом. Референдум, проведенный в Западной Австралии в конце июля 1900 г., дал следующие результаты: из 64 491 голосовавшего за проект федеральной конституции высказалось 44 800, против — 19 691 человек [42, т. 2, с. 517].
Надо сказать, что проект конституции, привезенный австралийской делегацией, встретил серьезные возражения у британского министра колоний Д. Чемберлена. По его мнению, документ предусматривал слишком большую самостоятельность Австралии. Он внес пять поправок, в одной из которых указывалось, что Великобритания должна сохранить право контролировать законодательную деятельность федерации и отдельных ее штатов. В результате переговоров была найдена компромиссная формулировка, после чего проект конституции поступил на рассмотрение британского парламента и получил его одобрение. Королевским указом в июне 1900 г. закон о федеральной конституции Австралии был введен в действие. Австралийское правительство сформировалось в конце года, а 1 января 1901 г. было официально провозглашено создание Австралийского Союза. В мае того же года в Мельбурне герцог Йоркский от имени британской королевы открыл первую сессию парламента. Акт о конституции Австралийского Союза, принятый британским парламентом, определял структуру и функции государственного механизма новой федерации.
К компетенции федеральной власти были отнесены вопросы, касающиеся внешних отношений, торговли с иностранными госу
139
дарствами, налогообложения, почтово-телеграфной и телефонной связи, морской и сухопутной обороны, отношений с тихоокеанскими островами, мореплавания, железнодорожного строительства и контроля за существующей сетью железных дорог, ирригации, иммиграции и эмиграции, деятельности иностранных компаний, рыболовства в территориальных водах Австралии, банковской системы, валюты, мер и весов, страхования, авторских прав, брачно-семейного права, трудовых конфликтов, выходящих за рамки отдельных штатов, пенсий по старости и инвалидности, натурализации и др. В случаях возникновения каких-либо противоречий между федеральными законами и законами штатов преимущество давалось первым.
В течение двух лет после создания Австралийского Союза федеральное правительство должно было ввести единый таможенный закон и тариф и установить абсолютную свободу торговли между штатами.
Австралийская конституция, как и конституция США, предусматривала три вида власти: законодательную, исполнительную и судебную. Но в соответствии с британским образцом в австралийской конституции не было четкой грани между первыми двумя видами власти. В преамбуле конституции говорилось о том, что народы австралийских штатов объединяются «в единый нерасторжимый федеральный союз под властью британской короны». «Законодательной властью в союзе,— говорилось в ст. 1 конституции,— облечен федеральный парламент, в состав которого входят королева (во время принятия Акта о конституции Австралийского Союза в 1900 г. на британском престоле была королева Виктория.— А. Л1.), сенат и палата представителей... Исполнительной властью наделена королева, и эта власть осуществляется генерал-губернатором — представителем королевы и заключается в применении и защите конституции и законов суда». Таким образом, по конституции законодательная и исполнительная власть в Австралийском Союзе формально принадлежала британскому монарху, действовавшему через генерал-губернатора, назначавшегося им на пять лет.
Генерал-губернатор открывал сессии парламента, имел право распустить и продлить срок его работы, утверждал принятые парламентом законы, имел право аннулировать любой закон в течение одного года после его принятия парламентом, если этот закон противоречил интересам Британской империи. В то же время генерал-губернатор возглавлял Исполнительный совет, в состав которого первоначально входили кроме премьера семь «королевских государственных министров»: иностранных дел, финансов, юстиции, внутренних дел, торговли, обороны, почт и телеграфа. В дальнейшем число министров и соответственно число управляемых ими министерств значительно возросло. Формально назначение министров производил генерал-губернатор, фактически же состав правительства определялся, так же как и в Англии, соотношением сил в нижней палате парламента.
140
Федеральный парламент состоял из двух палат — сената и палаты представителей. В состав сената входили шесть представителей от каждого штата, избиравшиеся населением штата на шесть лет. Каждые три года половина членов сената переизбиралась.
Право быть избранным в сенат предоставлялось лицам не моложе 21 года, не менее трех лет прожившим в Австралии и являвшимся британскими подданными по рождению или получившим подданство путем натурализации не менее чем за три года до выборов.
Члены палаты представителей избирались на три года населением Австралийского Союза из расчета один представитель от 50 тыс. избирателей. Предусматривалось, что членов палаты представителей должно быть вдвое больше, чем сенаторов. Сенат и палата представителей получали одинаковые права законодательной инициативы, с тем лишь исключением, что законопроекты по бюджетно-финансовым вопросам должны были вноситься только нижней палатой. Сенат получал право отвергнуть любой законопроект, принятый палатой представителей. В этом случае законопроект возвращался на новое рассмотрение нижней палаты. Если сенат отказывался одобрить законопроект, вторично принятый палатой представителей, генерал-губернатор распускал обе палаты и назначал новые выборы. После избрания парламента законопроект в третий раз передавался на рассмотрение сената, и в случае отказа сената одобрить его созывалось совместное заседание обеих палат, которым практически и завершался спор, поскольку число членов палаты представителей вдвое превышало число сенаторов, что давало им подавляющее преимущество при голосовании.
Высшая судебная власть в федерации, согласно ст. 71 конституции, передавалась федеральному верховному суду, который стал называться Высшим судом Австралии. Он состоял из верховного судьи и такого числа судей, какое определялось парламентом. Члены суда назначались пожизненно. К его компетенции было отнесено право толкования конституционных законов, рассмотрение споров между властями отдельных штатов или их гражданами, касавшихся вопросов, отнесенных к компетенции федеральной власти. Суд являлся также высшей апелляционной инстанцией в решении дел, рассматривавшихся в судебных инстанциях отдельных штатов.
Принятие федеральной конституции и образование Австралийского Союза знаменовало собой завершение лишь первоначального периода долгой и сложной внутриполитической борьбы за создание единого государства на пятом континенте.
АВСТРАЛИЯ в XX в.
Глава I
АВСТРАЛИЯ НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Принятие конституции и объединение колоний в федеральный союз открыли австралийской буржуазии путь к созданию уже в 1901 г. общеавстралийского рынка, стимулировавшего развитие всех отраслей экономики. Общеавстралийский рынок требовал унификации фиска, создания единого тарифа. Однако ввести единый австралийский тариф было не так-то просто, ибо уровень экономического развития колоний, ставших штатами объединенного государства, был различен, а следствием этого явились различия в формировании статей дохода их бюджетов. Если в Тасмании поступления от таможенных и акцизных сборов составляли почти половину всего ее дохода, то в Новом Южном Уэльсе — лишь 7б часть (табл. 1).
Таблица 1
Доходы колоний в 1899 г. *, ф. ст.
Колония Общий доход Доход от таможенных и акцизных сборов Доход на душу населения
Новый Южный Уэльс 9 973 736 1 650 333 1 ф. ст. 4 шилл. 9 пенсов
Виктория .... 7 378 842 2 224 811 '1' ф. ст. 4 шилл. 6 пенсов
Квинсленд .... 4 174 086 1 568 744 3 ф. ст. 5 шилл. 10 пенсов
Южная Австралия 2 731 208 641 181 1 ф. ст. 15 шилл. 11 пенсов
Западная Австралия 2 478 811 859 915 5 ф. ст. 1 шилл. 5 пенсов
Тасмания .... 908 273 447 036 2 ф. ст. 12 шилл. 6 пенсов
* В. R. W i s е. The Commonwealth of Australia, с. 237.
142
Осложняло положение и то обстоятельство, что колонии проводили различную финансовую политику. Так, если Виктория стояла на позициях протекционизма, то Новый Южный Уэльс осуществлял политику фритредерства.
После многомесячных дебатов был выработан и принят парламентом в ноябре 1901 г. закон о тарифе, в котором были учтены существовавшие в колониях тарифные системы. Законом вводился порядок, по которому федеральное правительство могло расходовать не более !/4 доходов, получаемых от таможенных и акцизных сборов, остальная сумма должна была возвращаться штатам пропорционально вкладу каждого из них. Сама тарифная шкала была составлена с учетом интересов протекционистской Виктории и фритредерского Нового Южного Уэльса. В целом же тарифы были установлены достаточно высокие, с тем чтобы защитить местные отрасли экономики. До начала первой мировой войны федеральная тарифная система пересматривалась дважды — в 1908 и 1914 гг., но существо ее оставалось неизменным.
Образование общеавстралийского рынка и создание единого тарифа вызвали заметное оживление экономической жизни в стране.
В промышленности, которая в целом по-прежнему оставалась в эмбриональном состоянии, уже в первое десятилетие существования федерации наметились некоторые сдвиги (табл. 2).
Таблица 2
Показатели развития австралийской промышленности в 1903—1911 гг. *
Год Стоимость предприятий и оборудования, ф. ст. Число работающих Выплаченная зарплата, ф. ст.
1903 18 639 778 126 137 10 829 026
1904 22 307 532 203 339 11 966 135
1905 22 696 682 214 589 12 353 840
1906 23 744 298 228 560 13 207 159
1911 28 970 700 286 831 23 874 959
* В. R. W i s е. The Commonwealth of Australia, с. 249.
Однако подавляющее большинство предприятий представляло собой небольшие мастерские, буквально с несколькими рабочими. Например, сапожная мастерская, где работало хотя бы три человека, рассматривалась статистикой как «фабрика» и в ежегодных данных о развитии австралийской экономики включалась в раздел «обрабатывающая промышленность».
В 1906 г. на федеральной конференции специалистов-статистиков была принята новая классификация, согласно которой понятие «фабрика» относилось лишь к предприятиям, на которых
143
было занято не менее 19 рабочих. Но и после 1906 г. маленькие мастерские часто попадали в разряд «фабрик».
Металлообрабатывающие заводы составляли по количеству 14% общего числа промышленных предприятий, на них было занято около 20% общей численности промышленных рабочих Австралии. Общая стоимость зданий и оборудования этой отрасли промышленности составляла в 1910—1911 гг. 5255 тыс. ф. ст. [193, с. 151—152].
Остальные предприятия, кроме небольшого числа судостроительных заводов, занимались переработкой сельскохозяйственного сырья. Общая стоимость продукции австралийской обрабатывающей промышленности в 1910—1911 гг. составляла 120 770 тыс. ф. ст. [193, с. 151—152].
Австралия продолжала оставаться аграрной страной, где главную роль по-прежнему играло овцеводство. Количество овец увеличилось с 1901 по 1911 г. с 72 млн. до 97 млн. Производство шерсти выросло за этот же период с 539,4 млн. до 798,4 млн. ф. [70, с. 430]. Ежегодный доход, получаемый Австралией от продажи шерсти, составлял 25—30 млн. ф. ст. Только 1,5% производимой шерсти использовалось внутри страны, все остальное количество экспортировалось.
Производство мяса занимало второе место после шерсти. В 1911 г. в Австралийском Союзе насчитывалось 11 млн. голов крупного рогатого скота, 2 млн. лошадей и 1 млн. свиней. Экспорт мороженого мяса приносил стране 3,3 млн. ф. ст. Кроме того, экспортировались масло и сыр. Общий доход от экспорта шерсти и мясо-молочных продуктов давал Австралии около 40 млн. ф. ст. :[193, с. 146].
Заметное развитие в первое десятилетие после образования федерации получило земледелие, и в первую очередь производство пшеницы. Если в 1900—1901 гг. было произведено 48 353 тыс. бушелей пшеницы, то в 1910—1911 гг.— 95 111 тыс. бушелей (табл. 3). В 1910—1911 гг. Австралия экспортировала 47 761 тыс. бушелей пшеницы и 139 946 т муки.
Общая стоимость продуктов земледелия, экспортированных в 1910—1911 гг., составляла 11 884 тыс. ф. ст. [193, с. 149]. Развивалась, хотя и неравномерно, добыча цветных металлов. В 1910— 1911 гг. общая стоимость добытых цветных металлов равнялась 23 215 тыс. ф. ст.
Значительный рост показал в этот период внутренний и внешний товарооборот Австралии. Если в последнее пятилетие перед образованием федерации (1896—1901) внутриавстралийский товарооборот составлял ежегодно в среднем 26,4 млн. ф. ст., то в 1907 г., например, он достиг 42,3 млн. ф. ст. [193, с. 152—153].
Если в 1891—1900 гг. ежегодный австралийский внешнеторговый товарооборот в среднем оценивался в 65,2 млн. ф. ст., то в 1901—1910 гг.— в 101,6 млн. ф: ст. [79, с. 429]. В 1912 г. внешнеторговый товарооборот достиг 146,5 млн. ф. ст. [193, с. 154]. Все это привело к значительному росту национального дохода Австра-
144
Таблица 3
Производство продуктов земледелия в Австралии в 1910—1911 гг. *
Продукты Общее производство Площадь под культурой, акры Среднее производство на один акр Стоимость, ф. ст.
В бушелях
Пшеница . . . 95 111 983 7 372 456 12,90 16 458 187
Рис 15 428 456 676 688 22,80 1 709 378
Ячмень ...... 2 226 368 108 424 20,53 400 054
Кукуруза 13 044 081 414 914 31,44 Ч 805 548
Фасоль, горох . . . . 93'1 867 42 239 22,06
Рожь 128 091 10 004 12,80 —
В тоннах
Картофель ..... 399 851 151 515 2,64 1 940 857
Лук 41 276 6 846 6,01 —.
Другие корнеплоды . 153 667 13 965 11,00 —
Сахарный тростник 3 175 351 2 258 405 1,41 8 502 932
В галлонах
Вино ...... 5 866 049 59 114 — —
* В. R. W i s е. The Commonwealth of Australia, с. 147.
лии. Если в 1901 г. он равнялся 185 млн. ф. ст., то в 1914 г.— 325 млн. ф. ст. Несмотря на то, что население страны за это время выросло с 3,8 млн. до 5 млн. человек, национальный доход в расчете на душу населения увеличился с 92 до 104 ф. ст. [70, с. 432].
По сумме частного капитала на душу населения Австралия заняла второе место в мире (260 ф. ст.), уступив лишь Великобритании (300 ф. ст.) и оставив позади себя такие страны, как США и Канада. Но богатство это распределялось в Австралии уже тогда крайне неравномерно. Так, в Новом Южном Уэльсе, население которого в 1903 г. составляло 1,4 млн. человек, всего 987 человек владели собственностью общей стоимостью 130,5 млн. ф. ст., или 35,4% стоимости всей собственности, находившейся на территории штата. Другим 2086 принадлежала собственность общей стоимостью 168,8 млн. ф. ст., или 45,8% стоимости всей собственности, находившейся на территории штата. Таким образом, 3 тыс. человек сосредоточили в своих руках более 80% всех частных капиталов штата. «Нет оснований думать, — писал Б. Уайз, занимавший пост генерального прокурора Нового Южного Уэльса,— что положение в Новом Южном Уэльсе в отношении распределения богатств сильно отличается от положения в других штатах и поэтому эти цифры могут быть показателем распределения собственности на всей территории федерации» [193, с. 143].
Создание федерации позволило быстро довести до логического конца движение за «белую Австралию». В 1901 г. премьер-ми
10 Заказ 91 145
нистр федерального правительства Э. Бартон подготовил законопроект об ограничении иммиграции. Обсуждение законопроекта в федеральном парламенте показало, что каких-либо принципиальных разногласий по поводу ограничения иммиграции из азиатских стран не было. Представители буржуазии и лейбористы выступали в полном согласии. Показательно в этом смысле выступление члена палаты представителей протекциониста У. Соуе-ра, который сказал, что не стоит терять времени на обсуждение общих положений законопроекта, поскольку «в этом зале нет ни одного представителя, который бы отважился встать и заявить о том, что он возражает против идеи ,,белой Австралии"» [28, 6.IX. 1901, т. 4, с. 4660].
Следует отметить, что основные доводы в пользу запрещения: въезда в Австралию выходцев из Азии были расистского толка и их повторяли опять-таки с одинаковой настойчивостью как буржуазные, так и лейбористские парламентарии. Протекционист Й. Айзекс, уроженец Австралии, впоследствии ставший генерал-губернатором страны, аргументировал необходимость иммиграционных ограничений «портящим и разлагающим влиянием низших, рас» [28, 12.IX. 1900, т. 4, с. 4845]. Лидер лейбористов, в дальнейшем премьер-министр первого лейбористского федерального правительства, Д. Уотсон заявлял: «Возражения, которые я имею в отношении смешивания цветных народов с белыми людьми Австралии,— хоть я допускаю, что это в значительной степени вызывалось причинами экономического характера,— лежат главным образом в возможности и даже вероятности расовой порчи» [28, 6.IX. 1900, т. 4, с. 4633].
Характерен диалог, происшедший на заседании сената 14 ноября 1901 г. между сенатором Сергудом и сенатором-лейбористом Пирсом:
«Сенатор Сергуд. Вчера вечером сенатор Пирс сказал нам, что эту меру (запрещение иммиграции из Азии.— К. М.) нельзя объяснять лишь тем, что иммигранты составляют конкуренцию нашим рабочим, здесь имеются более высокие моральные причины.
Сенатор Пирс. Обеими причинами, но главная причина расовая» [196, с. 25].
Обосновывая необходимость ограничения иммиграции, премьер. Э. Бартон также ссылался на расовые причины. «Я не думаю, — говорил он на заседании палаты представителей 26 сентября 1901 г.,— что доктрина равенства людей когда-либо действительно предусматривала и расовое равенство» [28, т. 4, с. 5233).
После дебатов, касавшихся частных, а не принципиальных вопросов, закон об ограничении иммиграции был принят федеральным парламентом и 23 декабря 1901 г. введен в действие королевским указом.
Закон устанавливал (в ст. 3) категории лиц, которым запрещался въезд в Австралию:
«1. Любое лицо, которое не смогло по просьбе иммиграцион
146
ных властей написать под диктовку и подписать текст, состоящий из пятидесяти слов на каком-либо европейском языке. 2. Любое лицо, которое, по мнению иммиграционных властей или министерства внешних дел, может стать опасным для общественного порядка. 3. Идиоты и душевнобольные. 4. Любое лицо, страдающее инфекционной болезнью. 5. Любое лицо, приговоренное к тюремному заключению на срок не менее года не по политическому обвинению и не получившее амнистии. 6. Проститутки или лица, живущие за счет проституции других» [196, с. 157].
Хотя в тексте закона не содержалось прямо сформулированных положений о запрещении иммиграции в Австралию выходцев из Африки, Азии и с тихоокеанских островов, его смысл, конечно, был именно в этом.
Ответственность за исполнение закона 1901 г. была возложена на министерство внешних дел. Разъясняя иммиграционным властям отдельные статьи закона, министерство, в частности, писало по поводу применения первого пункта ст. 3 следующее: «Все коренные жители Африки, Азии и Полинезии должны обязательно подвергаться испытанию... В отношении представителей белой расы испытание может быть сделано только при особых обстоятельствах» [196, с. 46].
Результаты этих испытаний видны из приведенных ниже данных [196, с. 46]:
1902 г. 1903 г. 1904 г. 1905 г. 1907 г. 1908 г. 1909 г.
Число несдав- 618 136 115 104 61 107 107
ших Число сдавших 33 13 1 3 0 1 1
Вся совокупность мер, ограничивающих въезд в Австралию иммигрантов из афро-азиатских стран, привела уже в первое десятилетие существования федерации к значительному падению их численности на пятом континенте. Кстати сказать, одной из таких мер было запрещение этим категориям иммигрантов привозить в Австралию свои семьи. Исключение делалось лишь для сирийцев (табл. 4).
Как видно из табл. 4, лишь численность сирийцев несколько увеличилась. Уже после начала первой мировой войны, в октябре 1914 г., министерство внешних дел в специальном меморандуме так объясняло свою позицию в отношении сирийцев (точнее говоря, это были жители земель, входящих сейчас в состав Ливана): «Вопрос о том, как быть с сирийцами, доставил министерству значительные трудности... В то время как мнение относительно допуска лиц черной, коричневой и желтой рас практически было единодушным, существовало значительное расхождение в решениях по вопросу о допуске сирийцев... Люди, которых мы называем сирийцами, происходят из той части Турции, которая расположена в Северной Палестине и главными городами которой являются Бейрут, Дамаск и Триполи. Они занимают значительную часть береговой
10*
147
Таблица 4
Национальный состав иммигрантов *
1901 г. 1911 1 г.
Национальность Всего Процент мужчин среди иммигрантов Всего Процент мужчин среди иммигрантов
Китайцы 30 542 98 22 753 96
Индийцы 4 684 99 3 653 96
Японцы 3 554 93 3 489 94
Сирийцы 1 800 62 2 339 55
* А. Т. J а г w о о d. Asian Migration to Australia, c. 25.
линии и заселяют районы горного Ливана, где ведут мирную и умеренно зажиточную жизнь в качестве земледельцев. Эти люди выглядят смуглыми из-за темных волос и желтоватого оттенка кожи, но они гораздо ближе к европейскому типу... чем к какому-либо азиатскому... По внешнему виду их нельзя отличить от жителей Южной Италии, Испании и Греции... Сирийцы все практически христиане и принадлежат либо к греческой церкви, либо к церкви, примыкающей к римско-католической» [196, с. 141—142].
Расистские настроения были очень распространены в Австралии в это время. В письменных и устных выступлениях государственных и общественных деятелей, в газетах и журналах с удивительной откровенностью и беззастенчивостью высказывались чисто-расистские концепции и взгляды. Именно такой характер носили, многолетние дебаты по поводу допуска сирийцев в Австралию. Подробно анализировались антропологические данные сирийских мужчин и женщин. Так, сиднейский «Бюллетень», выступавший против допуска сирийцев, писал в январе 1906 г.: «Будучи азиатами, сирийцы действительно белые, похожие на южноевропейцев, имеющих темные волосы и оливковый цвет кожи...» О сирийских женщинах журнал писал: «Они привлекательны, пока молоды, несмотря на грубые черты лица. Иногда можно увидеть действительно красивое лицо, но все быстро исчезаете возрастом» [196, с. 144].
В конце концов сирийские иммигранты, несмотря на признанное австралийскими расистами внешнее сходство с южноевропейскими народами, так и не получили прав, равных правам европейские иммигрантов. Их третировали как «запрещенных иммигрантов» наряду с представителями других азиатских народов.. Предоставление им небольших льгот объяснялось, на наш взгляд, прежде всего тем, что число сирийцев было очень незначительно и невозможно было ожидать сколько-нибудь широкой их иммиграции в Австралию. Никаких проблем пребывание столь малочисленной этнической группы в Австралии не создавало.
148
Дискриминационная иммиграционная политика в отношении азиатских народов не мешала австралийской буржуазии поддерживать торговые отношения со странами Востока. Несмотря на малый удельный вес торговых операций с азиатскими странами в австралийской внешней торговле, в целом они имели постоянную тенденцию к увеличению (табл. 5).
Внешнеторговый баланс Австралии *
Таблица 5»
Экспорт Импорт
1899—1903 гг. 1909—1913 гг. 1899—1903 гг. 1909—1913 гг.
ф. ст. % ф. ст. % ф. ст. % ф. ст. %
Цейлон 2 223 487 4,7 3 194 757 4,24 481 627 1,22 816 220 1,21
Гонконг 403 776 0,85 741 365 0,98 299 872 0,76 287 127 0,44
Индия . 2 348 420 4,97 2 231 306 2,96 998 326 2,54 2 350 599 3,50
Китай 237 376 0,50 161 527 0,20 249 940 0,64 83 628 0,12
Япония 198 434 0,42 1 194 271 (1,58 290 835 0,74 804 346 1,20-
* А. Т. J а г w о о d. Asian Migration to Australia, c. 166.
Реакционная внутренняя политика австралийских правящих кругов определяла и внешнюю политику страны. Когда в самом начале нынешнего века Великобритания начала позорную войну с бурами, Австралия приняла в ней самое непосредственное участие. В войне с бурами участвовало 16 тыс. австралийских солдат. Потери австралийцев составили 500 человек. Далеко не все в Австралии считали действия Англии в отношении буров справедливыми. Так, мельбурнская газета «Набат» писала: «Тот, кто сам трудится, понимает, что рабочая партия в Иоганнесбурге поддерживает Крюгера и страшится Родса, что это не война англичанина против бура, а капиталистов против антикапиталистического правительства Крюгера» [174, с. 16].
С созданием федерации во внешней политике Австралии стали заметно проявляться милитаристские тенденции. По расходам на военные нужды в расчете на душу населения Австралия к 1912 г. вышла на третье место в мире, уступив лишь Великобритании и. Франции. Началом объединения вооруженных сил страны стало создание в 1901 г. федерального министерства обороны и назначение генерал-майора Э. Хаттона главнокомандующим австралийской армией.
Генерал Хаттон предложил следующее построение австралийской армии: постоянные регулярные силы, включающие генеральный штаб, артиллерийское соединение, небольшие инженерные, медицинские и вспомогательные службы; полевые войска, состоящие из шести бригад легкой кавалерии и трех пехотных бригад, в задачу которых входит защита всей территории Австралийского Союза; гарнизонные войска, сформированные из добровольцев, кото
149»
рые в соединении с милицией обеспечивают оборону отдельных штатов.
В 1908 г. в первую группу входило 1329 военнослужащих всех рангов, во вторую—15 445, в третью — 5,5 тыс. В случае необходимости эти войска могли быть усилены за счет членов стрелковых клубов, численность которых к 1908 г. составляла 42 899 человек [193, с. 327—328].
Росту милитаристских настроений способствовало создание Австралийской лиги обороны, во главе которой стояли известный лейбористский деятель У. Хьюз и представитель объединения стрелковых клубов полковник Кемпбелл. Печатный орган лиги газета «Призыв» пропагандировала идею создания национальной гвардии, с тем чтобы «оборона не была делом правительства или класса, но делом всего народа» [193, с. 333]. Эту идею поддержал А. Дикин, представивший соответствующий проект на рассмотрение палаты представителей в декабре 1907 г. Однако новая система организации обороны Австралии была принята лишь спустя четыре года Актом об обороне 1911 г.
Этот акт сохранял основные положения схемы генерала Хаттона, но одновременно вводил принцип обязательного военного обучения. Каждый житель Австралии, согласно акту, должен был пройти через следующие этапы военного обучения: от 12 до 14 лет — в рядах младших кадетов; от 14 до 18 лет — в рядах старших кадетов; от 18 до 46 лет — в рядах сил гражданской обороны.
Младшие кадеты занимались военной подготовкой 120 часов в год. Старшие кадеты должны были посвящать военной подготовке 4 занятия, рассчитанных на весь день, 12 занятий — на полдня и 24 ночных занятия в год. Военная подготовка сил гражданской обороны включала ежегодно 16 занятий, рассчитанных на весь день, из которых не менее восьми должны были проводиться в лагерях. Принятая система военной подготовки должна была в течение восьми лет дать Австралии 200 тыс. обученных военному делу людей.
Что касается австралийского военно-морского флота, то принципы его организации весьма оживленно дебатировались в федеральном парламенте. Выдвигались различные проекты и предложения. Одни считали, что Австралия должна иметь ограниченные военно-морские силы, лишь дополняющие британский флот, например некоторое число быстроходных «москитных» судов. Другие же высказывались за создание собственного флота, выполняющего самостоятельные задачи по защите страны. При этом ссылались на то, что Англии в случае войны будет трудно выделить для обороны Австралии нужные военно-морские силы. «Растущее соперничество со стороны иностранных военно-морских сил,— писал в газете „Призыв" полковник Репингтон, — заставляет Англию концентрировать свой флот дома. Эта вынужденная концентрация британских военно-морских сил коренным образом изменяет положение Австралии в войне, и изменяет его в худшую сторону... Существует
150
лишь одно средство, с помощью которого Австралия может сохранить свою безопасность,— сделать себя настолько сильной, чтобы любая попытка напасть на нее могла быть сорвана» [193, с. 336—-337].
В результате всех дискуссий было решено, что Австралия на свои средства создаст военно-морской флот в составе одного крейсера, двух вспомогательных крейсеров, шести миноносцев и трех подводных лодок. Экипажи всех судов будут укомплектованы австралийскими командами.
Внутриполитическая обстановка в Австралии в период между образованием федерации и началом первой мировой войны характеризовалась усилением оппортунизма и мелкобуржуазного реформизма в лейбористском движении, все более тесным сотрудничеством руководства рабочей партии с буржуазными либералами. Между ними, по существу, не было разногласий. Лидеры лейборизма не выработали самостоятельной политической программы, а балансировали между основными направлениями австралийского буржуазного либерализма.
На первых федеральных выборах в парламент лейбористы получили 16 мест в палате представителей и 8 — в сенате. Наиболее актуальным в тот период был вопрос об общеавстралийском тарифе. Лейбористская парламентская фракция не имела собственного мнения на этот счет. Один из современных австралийских историков, Дж. Хили, пишет по этому поводу: «Члены молодой лейбористской партии имели свободу действий по фискальным вопросам — другими словами, партия в то время не сформулировала свою политику в отношении фискальных дел. Однако большинство новых членов парламента — лейбористов были протекционистами по личным интересам, хотя лишь несколько из них голосовали вместе с оппозицией по первому тарифному вопросу» [125, с. 30].
Лейбористская партия полностью поддерживала австралийское правительство в практическом осуществлении политики «белой Австралии». В ходе обсуждения законопроекта об ограничении иммиграции лидер лейбористов Д. Уотсон даже настаивал на том, чтобы в нем были прямо перечислены те районы мира, коренному населению которых запрещался допуск в Австралию. К «запрещенным иммигрантам» по предложению Уотсона должно было» быть отнесено «любое лицо, являющееся аборигеном Африки, Азии или тихоокеанских островов». Это предложение Уотсона не получило поддержки даже в таком реакционном собрании, как австралийский парламент.
На вторых федеральных выборах в парламент, состоявшихся в декабре 1903 г., лейбористская партия добилась значительно более широкого представительства в законодательном органе страны, получив в палате представителей 25 мест, а в сенате — 14.
Главным вопросом, вокруг которого развернулась борьба в период избирательной кампании и после нее, был вопрос о формировании арбитражных судов для урегулирования трудовых конфликтов. И в этом случае никаких принципиальных разногласий
151
между лейбористами и либералами не было. И те и другие выступали за арбитражную систему. Расхождение заключалось в том, что лейбористы при рассмотрении соответствующего законопроекта в федеральном парламенте первого созыва настаивали на том, чтобы компетенция арбитражей была распространена также и на государственных служащих. Правительство возражало, ссылаясь, в частности, на то, что коронные чиновники не нуждаются в покровительстве арбитражей, регулирующих трудовые споры.
21 апреля 1904 г. Э. Фишер внес на рассмотрение вновь избранного состава палаты представителей законопроект об арбитражных судах с указанным выше дополнением. Правительство, возглавляемое А. Дикином, выступило с возражениями, но не было поддержано большинством палаты и подало в отставку. 27 апреля впервые было сформировано лейбористское федеральное правительство во главе с Д. Уотсоном.
Новый премьер-министр еще раз представил на рассмотрение палаты представителей 24 июня 1904 г. законопроект об арбитражных судах. Оппозиция, в свою очередь, внесла поправку к законопроекту, против которой правительство возражало. Но поправка была принята большинством голосов. Д. Уотсон заявил, что он настаивает на повторном голосовании, которое и состоялось 10 августа, и опять поправка была принята палатой. Правительству не оставалось ничего другого, как уйти в отставку. Таким образом, первое лейбористское правительство просуществовало немногим более трех месяцев. Новое правительство Рейда-Маклина, сформированное через неделю после этого, также оказалось нежизнеспособным. В июле 1905 г. А. Дикин вновь пришел к власти.
Примерно к этому времени относится любопытный документ — соглашение, заключенное лейбористской партией с либералами, которых возглавлял А. Дикин. В нем предусматривались согласованные действия в период выборов в федеральный парламент, а также объединенная политическая и экономическая программа, в которой говорилось о необходимости принятия законопроекта об арбитражных судах, законодательства, направленного на проведение в жизнь принципа «белой Австралии», законопроекта о торговых знаках, дополнений к избирательному закону, антитрестовского законодательства, законопроекта о Папуа, морского законодательства и т. д. [125, с. 35—37].
В тот самый день, когда А. Дикин стал премьер-министром, 5 июля 1905 г., он обратился с письмом к лидеру лейбористов Д. Уотсону, где вновь подчеркивал необходимость совместных действий и выражал надежду на успешное сотрудничество. Программа действий правительства, изложенная в письме А. Дикина, полностью совпадала с той, которая содержалась в указанном выше соглашении [125, с. 38—39].
В резолюции по поводу письма А. Дикина, принятой парламентской фракцией лейбористской партии, говорилось, что «партия, будучи информирована г-ном Уотсоном о мерах, намеченных к осуществлению г-ном Дикином, согласна оказать его правитель-£52
ству общую поддержку» [125, с. 39]. Парламентская группа высказалась, таким образом, от имени всей лейбористской партии. Каково же было действительное мнение на этот счет не руководства» а партии, сказать невозможно, ибо за 1900—1905 гг. не было созвано ни одной федеральной конференции лейбористской партии. Надо полагать, что это происходило не случайно. Лидеры лейборизма оказывались таким образом абсолютно вне контроля партийных масс.
Третья избирательная кампания в федеральный парламент принесла новый успех лейбористам. На выборах 12 декабря 1906 г. лейбористская партия получила 27 мандатов в палате представителей и 16 — в сенате. В палате представителей она имела по сравнению с другими партийными группировками наибольшее число мест. Так, либералы во главе с А. Дикином имели лишь 15 мест, оппозиционные группировки — 21 место. А. Дикин мог удержаться у власти, лишь опираясь на поддержку лейбористов, что он практически и сделал.
Либерально-лейбористский альянс просуществовал почти два года. Но в ноябре 1908 г. лейбористское руководство, используя благоприятную ситуацию, нарушило соглашение и выступило против правительства А. Дикина, что привело к его отставке 10 ноября 1908 г. Во главе лейбористской партии теперь стоял Э. Фишер,, сменивший Д. Уотсона, ушедшего с этого поста в октябре 1907 г. Э. Фишер и сформировал новое лейбористское федеральное правительство.
В том же, 1908 г. состоялась федеральная конференция лейбористской партии, принявшая ее программу. Лейбористское руководство в этой программе не сделало ни шагу вперед, оно упорно стояло на старых, в сущности своей буржуазно-либеральных, позициях. В качестве одной из ведущих задач партии провозглашалось «культивирование австралийского патриотизма, основанного на сохранении расовой чистоты, и развитие Австралии как просвещенного и уверенного в себе общества» (цит. по [125, с. 45]).
Правительство Фишера просуществовало всего 7 месяцев. В конце мая 1909 г. к власти вновь пришел кабинет А. Дикина. Но на новых федеральных выборах в парламент в 1910 г. лейбористы получили большинство мест в обеих палатах и в апреле 1910 г. сформировали федеральное правительство во главе с Э. Фишером. Это правительство просуществовало сравнительно долго — 3 года. В октябре 1910 г. лейбористы пришли к власти и в Новом Южном Уэльсе.
Однако ничем примечательным, кроме сильнейшего обострения внутрипартийной борьбы (прежде всего между руководством федеральной лейбористской партии и руководством лейбористской партии Нового Южного Уэльса), этот период лейбористского правления не ознаменовался. Попытки осуществить кое-какие программные требования вроде создания федерального банка, принятия закона о земельном налоге, направленного против крупных землевладельцев, практически никакого эффекта не имели. Федераль
153
ные выборы в парламент, проходившие в мае 1913 г., принесли лейбористам поражение. Новое федеральное правительство сформировали либералы. Премьер-министром стал Д. Кук, кстати сказать, состоявший в 90-х годах в лейбористской партии.
Но на новых выборах 5 сентября 1914 г., через месяц после начала первой мировой войны, лейбористы взяли реванш. Получив .значительное большинство в обеих палатах парламента, они сформировали федеральное правительство, во главе которого стал Э. Фишер.
Такая поистине «министерская чехарда» была не случайным явлением. Она объяснялась тем, что две боровшиеся политические группировки имели, по существу, одинаковое политическое лицо. Австралийские избиратели не видели разницы в программах политических партий, так как разницы и не было. Избирательные кампании превращались в своеобразную политическую игру, в которой все средства были хороши.
Замечательный революционер-большевик Ф. А. Сергеев (Артем), находившийся в ту пору в Австралии, писал в одном из писем по этому поводу следующее: «Избирательная кампания проходит тихо. Но настроение далеко не в пользу правительства. Агенты организованной купеческо-плантаторско-кабатчиковой камарильи уже начали избирательную кампанию. Они ходят по отдельным рабочим, выглядывают, кто послабее характером, таскают их по кабакам, бесплатно напаивая пьяными. Перед выборами опять же повторяется прежняя картина. Все кабаки с раннего утра начнут бесплатно отпускать спиртные напитки, слабохарактерная публика перепьется и не пойдет голосовать. Это здесь в обычае» [199, 1960, № 1, с. 61—62].
Лейборизм был господствующим политическим течением в австралийском рабочем движении, но не единственным. Еще в августе 1887 г. в Сиднее была создана Социалистическая лига. В 1907 г. она приняла новое название — Социалистическая рабочая партия. В том же году отколовшаяся от нее группа образовала Социал-демократическую партию, несколько позднее получившую название Интернациональный социалистический клуб. Существовали и другие социалистические группы, например Викторианская социалистическая партия, Социал-демократический авангард (Квинсленд), Социал-демократическая ассоциация (Западная Австралия) и др. В июле 1907 г. в Сиднее состоялась объединительная конференция различных австралийских социалистических партий и групп, на которой была создана Социалистическая федерация Австралии, ставшая в дальнейшем именоваться Австралийской социалистической партией (АСП).
В 1908 г. было создано первое в Австралии отделение организации «Индустриальные рабочие мира», созданной американской Социалистической рабочей партией в 1905 г. В 1913 г. другое ее отделение возникло в Сиднее. В дальнейшем именно сиднейское отделение стало общеавстралийским центром этого движения.
Программа организации «Индустриальные рабочие мира»
154
имела ярко выраженный анархо-синдикалистский характер. В ней констатировался антагонизм интересов рабочего класса и буржуазии: «Рабочий класс и эксплуатирующий класс не имеют ничего общего». В программе подчеркивалось все ухудшавшееся положение рабочих. «Это печальное положение может быть изменено и интересы рабочего класса защищены только организацией, созданной таким путем, что все ее члены, работающие в одной отрасли или во всех отраслях промышленности, если это необходимо, будут прекращать работу всякий раз, когда объявляется стачка или локаут».
В документе формулировались задачи движения: «Исторической миссией рабочего класса является уничтожение капитализма. Армия производителей должна быть организована не только для ежедневной борьбы с капиталистами, но также для продолжения производства продукции, когда капитализм будет свергнут. Создавая промышленную организацию, мы формируем структуру нового общества в недрах старого». Программа отвергла саму идею создания политической партии рабочего класса [82, с. 230—231].
Организация «Индустриальные рабочие мира» была довольно популярна в Австралии. К 1914 г. открылись ее отделения в Брокен-Хилле и Порт-Пири, на следующий год — в Мельбурне и Брисбене, еще через год — во Фримантле и на западноавстралийских золотых приисках. В начале 1914 г. организация начала выпускать газету «Прямое действие», тираж которой достигал 14 тыс. экземпляров.
Организация вела борьбу против тред-юнионизма, выступала против арбитражной системы рассмотрения трудовых конфликтов и участия рабочих в парламентской деятельности, обрушивалась на лейбористскую партию. Но, отвергая лейборизм и парламентарную борьбу, организация «Индустриальные рабочие мира» считала, что рабочему классу следует вообще отказаться от каких-либо политических акций, будь то реформистские или революционные действия. «Впервые за всю историю рабочего движения в Австралии, — говорилось в передовой статье первого номера газеты „Прямое действие”,— газета заявляет, что отстаивает принципы прямых действий, осуществлению которых препятствуют благопристойные теории парламентаризма, как революционные, так и всякие другие» (цит. по [90, с. 70]).
Влияние в Австралии организации «Индустриальные рабочие мира» объяснялось ее борьбой с оппортунистическими доктринами лейборизма, а после начала первой мировой войны — антивоенными выступлениями. Однако анархо-синдикализм сам по себе являлся изнанкой буржуазного реформизма. «Буржуазные идеологи, либералы и демократы,— писал в декабре 1910 г. В. И. Ленин,— не понимая марксизма, не понимая современного рабочего движения, постоянно перескакивают от одной беспомощной крайности к другой... Прямым продуктом этого буржуазного миросозерцания и его влияния надо считать и анархо-синдикализм и реформизм, хватающиеся за одну сторону рабочего движения, возводящие односто-
155
ронность в теорию, объявляющие взаимно исключающими такие тенденции или такие черты этого движения, которые составляют специфическую особенность того или иного периода, тех или иных условий деятельности рабочего класса... И те и другие тормозят самое важное, самое насущное дело: сплочение рабочих в крупные, сильные, хорошо функционирующие, умеющие при всяких условиях хорошо функционировать, организации, проникнутые духом классовой борьбы, ясно сознающие свои цели, воспитываемые в .действительно марксистском миросозерцании» [7, с. 66—67].
Анархо-синдикализм, распространяясь вширь, не имел глубоких корней в австралийском рабочем движении. После ареста руководителей австралийской организации «Индустриальные рабочие мира» в 1916 г. в ее деятельности начался резкий упадок, а в 1917 г. юна прекратила свое существование.
«Организация „Индустриальные рабочие мира“, — писал Л. Шарки, — быстро выросла на базе оппозиции к войне и осуждения реформизма. Но вследствие своей односторонности и сектантства, вследствие своей теоретической и организационной слабости она оказалась неспособной повести массы по социалистическому пути после войны и не сумела дать удовлетворительной альтернативы реформизму. Будучи атакована правительством, организация обнаружила неспособность вести политическую борьбу и погибла» [172, €. 13].
Характеризуя австралийское рабочее движение перед первой мировой войной, нельзя не остановиться на революционной деятельности русских рабочих, волею судеб оказавшихся на далеком пятом континенте.
Русскую эмиграцию в Австралии составляли рабочие, крестьяне, учащаяся молодежь, бежавшие из России после подавления революции 1905 г. от преследования царской охранки или прибывшие туда в поисках лучшей доли. Селились русские главным образом в Квинсленде. В столице штата Брисбене в 1911 г. была создана первая организация русских пролетариев — Союз русских рабочих в Австралии. В течение 1912—1913 гг. организация, принявшая название Союз русских эмигрантов, сформировалась окончательно. С июня 1912 г. начала издаваться газета «Эхо Австралии» на русском языке [198, 1960, № 1, с. 168], была основана библиотека. В конце 1912 г. выпуск газеты пришлось прекратить. Но через год появилась новая русская газета — «Известия Союза русских эмигрантов». Когда же в конце 1915 г. была закрыта и эта газета, вместо нее очень скоро стала выходить новая — «Рабочий путь».
Признанным руководителем русских рабочих в Австралии был Ф. А. Сергеев (Артем). Стойкий большевик, член РСДРП с 1901 г., имевший большой опыт партийной работы, он оказал положительное влияние на политическую деятельность организации русских рабочих. Союз занимался не только вопросами, касавшимися жизни русской эмигрантской колонии. «С не меньшим интересом, — писал в своих воспоминаниях один из активных его участников, 156
В. И. Пикунов, — Союз относился к вопросам австралийской жизни, -отстаивая интересы международной пролетарской солидарности и ведя пропаганду в духе идей международного социализма» [198, 1960, № 1, с. 171]. Союз собирал деньги в помощь забастовщикам на сахарных плантациях Квинсленда, боролся за свободу слова, причем Ф. А. Сергеев и двое других членов Союза (И. Грей и П. Иордан) за участие в этой кампании были брошены в тюрьму. Союз русских эмигрантов участвовал в 1915—1916 гг. в кампании, направленной против призыва в армию.
«У меня ведь тьма дел... никогда не имею свободного времени. То работа, то деловые собрания, то агитационные,— писал в марте 1913 г. Ф. А. Сергеев.— Три деловых собрания в неделю...» [199, 1960, № 1, с. 67].
Артем очень тонко разбирался во внутриполитической обстановке в Австралии. За показным демократизмом «страны всеобщего благоденствия» он видел сущность классовых отношений. «В искусстве убивать в человеке его независимость, волю и стремление к познанию,— писал Артем в декабре 1912 г.,— Новый Свет далеко опередил Старый» [199, 1960, № 1, с. 66].
«Капитализм в Австралии развивается по форме довольно своеобразно. Но при всей прихотливости, разнообразии и своеобразии форм в каждом отдельном случае содержание процесса то же: опираясь на силу и поддержку рабочих, используя материальные •силы власти, созданные до капитализма, капитализм стремится форсировать свое развитие, превращая рабочих в рабов класса капиталистов, а другие классы — в их данников. Искуснее всего это проделывается здесь, в Австралии» [199, 1960, № 1, с. 68].
Организация, руководимая Артемом, боролась против оппортунизма лейбористской партии. «Мы боролись против местной рабочей партии, которая была у власти,— писал Ф. А. Сергеев в июне 1913 г.— Все было против нас. Патриоты из рабочей партии едва не объявили нам бойкот. Нас в нашем профессиональном союзе всего два активных социалиста. Да человека три-четыре нас молчаливо поддерживают. Президент нашего юниона, министр юстиции Австралии, вот-вот готовится стать председателем междуштатной комиссии и получать жалованье около 100 рублей в день. Как видите, недурной оклад для человека, в России называемого крючником... Рабочая партия у власти, а рабочим живется хуже, чем раньше. Но они знают хорошо свою игру. Прежде всего, пока рабочие в их более развитой части имеют выход в высший класс, социализм — их враг. Их положение как рабочих является переходным,— они смотрят вперед, где им видятся депутатские и чиновничьи места, хорошая форма, положение мастера или хозяина мастерской. А чтобы этим „рабочим" придать необходимую энергию и создать благоприятную атмосферу, выдвинули лозунг борьбы с трестами и монополиями, которые необходимо создались под покровом запретительных пошлин» [199, 1960, № 1, с. 70].
В то же время Артем и его последователи всячески содействовали развитию социалистического движения в Австралии, дея
157
тельности Австралийской социалистической партии, поддерживали социалистические группы в отдельных штатах. В письме Е. Ф. Мечниковой от 12 апреля 1912 г. Ф. А. Сергеев сообщал о создании в Брисбене местной организации Социалистической рабочей партии. «Это немного скромнее, чем я предполагал для нас, — писал он. — Но это показало, что элементы социалистической партии здесь созрели., важно, что это выступление новой группы даст решительность и моим приятелям» [199, 1960, № 1, с. 62,63].
Русская рабочая организация действовала в интересах австралийских рабочих организаций. «Центр социалистических организаций и движения Новый Южный Уэльс сумел выставить кандидатов и собрать больше 20 000 голосов... Мы поддерживали, как могли, Новый Южный Уэльс», — писал Артем в июне 1913 г. [199, 1960, № 1, с. 70].
«Английская конституция разрешает, а начальник полиции не разрешает,— писал Артем из Брисбена 14 октября 1913 г.— И раз. дело идет о социалистах, суд и полиция заодно. Мы решаем вести до конца. Каждое воскресенье наши ораторы выходят говорить; говорят всегда на том же месте; их арестовывают. Но симпатии масс, очевидно, уже на нашей стороне. Тысячи народа собираются слушать наших ораторов. И с каждым воскресеньем народу прибывает все больше. Мы ожидаем каждый момент, что полиция от отдельных ораторов перейдет к организаторам этой борьбы и арестует Комитет борьбы за свободу слова... Мы думаем, что мы выиграем в этой борьбе очень много; нас здесь почти не знали раньше. Нам очень многие сочувствуют сейчас... Нас здесь, в городе, русских какая-нибудь сотня, а шуму и суеты больше, чем от десяти тысяч англичан» [199, 1960, № 1, с. 72—73].
И власти, и руководители тред-юнионов обрушились с жесточайшими гонениями на выходцев из России. «Так, еще в начале 1913 г.,— свидетельствует В. И. Пикунов,— Австралийский рабочий союз хотел применить к татарам, приехавшим из России на заработки, так называемый „азиатский" закон и лишить их работы на одной из вновь строившихся железных дорог, куда они были посланы. Эта затея, однако, не удалась благодаря вмешательству русской организации при содействии главным образом тов. Артема» [198, 1960, № 1, с. 171].
В реакционной печати велась травля руководителей Союза русских эмигрантов, которые назывались «преступниками, бежавшими из Сибири», а газета «Известия Союза русских эмигрантов» обвинялась в «проповедовании германской культуры» и получении денежных субсидий от германского правительства [198, 1960, № 1, с. 171].
Прогрессивные силы Австралии горячо приветствовали деятельность русских революционеров на пятом континенте. «В день 25-й годовщины Коммунистической партии Австралии,— писала газета „Гардиан" 19 октября 1945 г.,— мы отдаем должное работе русских иммигрантов в Австралии, чье участие в австралийском
158
рабочем движении помогло расширить интернациональны?! кругозор австралийских рабочих» [199, 1960, № 1, с. 74].
В последние дни июля 1914 г. австралийские газеты, так же как и вся мировая пресса, были полны сообщений о сараевских событиях и прогнозов относительно связанных с ними действий великих держав. 27 июля газета «Сидней морнинг геральд» опубликовала передовую статью под тревожным заголовком: «Это война?» .
29 июля австралийское правительство, как и правительства всех других британских доминионов, получило телеграмму от правительства Великобритании, предупреждавшую, что война неизбежна и что необходимо сделать соответствующие поиготов-лення.
Первым откликнулось новозеландское правительство, сообщив 30 июля о своей готовности в случае необходимости послать войска для участия в боевых операциях. На следующий лень аналогичный ответ был послан правительством Канады.
В Австралии в то время проходила избирательная кампания в федеральный парламент, и члены правительства, разъехавшись по стране, принимали в ней самое активное участие. Поэтому сразу провести заседание для обсуждения телеграммы британского правительства не удалось. Тем не менее министр обороны Э. Миллен поспешил заверить Великобританию, что Австралия «не будет ненадежным партнером».
К августу 1914 г. лейбористское движение оформилось в федеральную партию с отделениями в Новом Южном Уэльсе, Западной Австралии и Тасмании.
Лейбористы поставили своей целью завоевать большинство в федеральном парламенте и сформировать правительство. Стараясь заручиться поддержкой широких масс избирателей, они выдвинули программу, которая, по их мнению, представляла общенациональный интерес. Так, они утверждали, что Австралия — твердыня европейской цивилизации во враждебном окружении — может защититься от цветных орд, только опираясь на союз с Великобританией и полностью следуя имперской стратегии.
Вскоре после событий в Сараеве премьер-министр либерального правительства Д. Кук уведомил правительство Великобритании, что австралийская морская эскадра и экспедиционный корпус в составе 20 тыс. человек будут переданы в распоряжение империи. Лидер лейбористов Э. Фишер с верноподданническим пылом заявил, что Австралия останется со «своей старой родиной» до последнего человека и последнего шиллинга. Более того, лейбористские лидеры объявили о предвыборном перемирии с правительством. Но затем, боясь потерять голоса избирателей. отказались от этого.
На выборах лейбористская партия одержала внушительную победу. Фишер сформировал лейбористское правительство. Хотя шовинистический угар охватил в основном лейбористских лидеров, тем не менее профсоюзные организации поддержали военные ме-
159
роприятия правительства. Из 54 тыс. человек, вступивших в армию в первые пять месяцев войны, 43% были членами профсоюзов, что значительно превышало процент членов профсоюзов ко всему взрослому мужскому населению страны [183, с. 70].
Противоречивое отношение профсоюзных масс к войне выразила газета «Уоркер» в номере от 6 августа 1914 г.: «В этой войне ни одна из сторон не может выдвинуть какого-либо аргумента, оправдывающего смысл войны. Нет никакой великой тайной причины войны, нет разногласий, из-за которых два отважных и образованных народа могли бы всерьез считать необходимым пролитие крови... Австралия может пострадать в этой борьбе больше, чем кажется... Появятся тысячи безработных, беспринципная алчность воспользуется случаем взвинтить цены на необходимое для жизни... Мы должны защитить нашу страну. Мы должны свято хранить его великолепное наследство от бронированного кулака. Вот для чего создана наша армия и построен флот... Боже, помоги Австралии! Боже, помоги Англии! Боже, помоги Германии! Боже, помоги нам!» [183, с. 70].
Замешательство царило и среди австралийских социалистов. Они, по сути дела, заняли ту же позицию, что и их европейские коллеги по II Интернационалу, т. е. поддержали участие своей страны в кровавой бойне, развязанной империалистами. Лишь австралийская организация «Индустриальные рабочие мира» ясно заявила о своем отношении к войне: «Ответом на объявление войны является призыв к всеобщей забастовке... Не отправляйтесь в ад, для того чтобы дать пиратским плутократским паразитам больший кусок рая. Рабочие мира, объединяйтесь! Не превращайтесь в наемных убийц! Не присоединяйтесь к армии и флоту!» [183, с. 71].
Тем временем страна готовилась к войне. Австралийский флот сосредоточился в гавани Сиднея. 2 августа была объявлена «первая стадия» мобилизации.
На заседании правительства, состоявшемся 3 августа, задачи Австралии в надвигавшейся войне были сформулированы следующим образом: передать свой флот под командование британского адмиралтейства, послать 20 тыс. солдат в любое место, указанное британским правительством [81, с. 23].
4 августа Великобритания официально объявила войну Германии, а 6 августа английское правительство направило телеграмму австралийскому правительству с просьбой как можно скорее послать войска в Европу.
Австралийское правительство назначило генерала У. Бриджса командующим экспедиционным корпусом. 10 августа началась вербовка в ряды этого корпуса, получившего по предложению У. Бриджса название Австралийские имперские силы. Корпус должен был отплыть в Европу 12 сентября. Однако первые выстрелы по врагу австралийская армия сделала, не покидая родины. В гавани Мельбурна находился немецкий корабль «Пфальц». После объявления войны австралийские власти запретили ему покидать порт, но капитан «Пфальца» попытался вывести корабль в океан. Тогда
160
по нему открыли артиллерийский огонь. Корабль был остановлен и интернирован.
Скомплектовать экспедиционный корпус для действий вне территории страны было делом нелегким, поскольку австралийская армия строилась по территориальному признаку и состояла из местных формирований. Экспедиционный же корпус должен был представлять «всю Австралию». В конце концов первую австралийскую пехотную дивизию Австралийских имперских сил скомплектовали следующим образом: два наиболее богатых штата — Новый Южный Уэльс и Виктория — обеспечивали формирование первой и второй бригад (четырехбатальонного состава по 1017 человек в каждом), а остальные четыре штата — третьей бригады, причем каждый штат формировал батальон. Дивизии были приданы три артиллерийские бригады, состоящие из четырехорудийных батарей каждая (всего 36 орудий), полк легкой кавалерии в составе 546 всадников, формировавшийся штатом Виктория, а также инженерные и санитарные подразделения. Всего дивизия имела в своем составе 18 тыс. солдат.
Кроме того, была скомплектована первая бригада легкой кавалерии в составе трех полков (первый полк сформировал Новый Южный Уэльс, второй — Квинсленд, третий — Южная Австралия и Тасмания).
Отплытие транспортов с войсками состоялось на полтора месяца позже намеченного срока. Виной тому были активные действия в Тихом океане германской эскадры в составе тяжелых крейсеров «Шарнгорст» и «Гнейзенау» и нескольких легких крейсеров. Командовал эскадрой адмирал фон Шпее.
Адмирал Пети, возглавлявший австралийский флот, сосредоточенный в сиднейской гавани, получил задание уничтожить германскую эскадру, которая, как предполагалось, базировалась в гавани Рабаула. Поэтому австралийские корабли направились к Новой Гвинее и с наступлением темноты И августа подошли к порту, но германского флота там не было. Он находился в районе Марианских островов, в 1600 милях от Рабаула. Австралийские матросы, высадившиеся на берег, не нашли даже следов угольной станции и не могли пополнить подходившие к концу запасы угля и нефти на своих кораблях. Австралийский флот вынужден был вернуться в Порт-Морсби.
Пока австралийская эскадра двигалась к Новой Гвинее, австралийское правительство получило телеграмму от правительства Великобритании, в которой говорилось, что необходимо немедленно захватить германские владения в юго-западной части Тихого океана: на Новой Гвинее, Науру, Марианских, Каролинских и Маршалловых островах. В телеграмме сообщалось, что другие доминионы получили аналогичные задания; в частности, Новая Зеландия должна захватить Самоа [81, с. 31].
Австралийское правительство договорилось с правительством Новой Зеландии о совместных действиях в бассейне Тихого океана. Полковнику Леггу было поручено сформировать специальные
И Заказ 91
161
войска для решения задачи, поставленной британским правительством. Такое формирование, получившее название Австралийский военно-морской экспедиционный корпус, вскоре было создано.
Тем временем новозеландские войска под охраной двух австралийских и одного французского крейсера высадились на островах Самоа ц оккупировали их. Япония, вступившая в войну за неделю до этого, блокировала Киао-Чао (современное название Цзяо-чжоувань) и послала свой флот на поиски германской эскадры.
И сентября основные части Австралийского военно-морского экспедиционного корпуса высадились на восточном побережье острова Новая Гвинея, в Бленч-Бей. Через десять дней, понеся незначительные потери, австралийские войска оккупировали территорию германской колонии и на этом острове. Военные суда, эскортировавшие транспорты с солдатами корпуса в Новую Гвинею, были посланы на розыски германской эскадры, которая, как стало известно, 22 сентября появилась у берегов Таити.
Видя, что германская эскадра уходит все дальше от берегов Австралии (в середине октября она была уже у острова Пасхи), австралийское правительство разрешило начать транспортировку частей первой австралийской пехотной дивизии, которые к тому времени были сосредоточены в порту Олбани, на юго-западном побережье Австралии. 1 ноября 1914 г. 28 австралийских и 10 новозеландских транспортных судов под охраной смешанной эскадры английских, австралийских и японских военных кораблей покинули порт, направляясь к Суэцу. 3 декабря 1914 г. транспорты достигли Александрии. Высадившиеся на берег части первой австралийской пехотной дивизии по железной дороге были доставлены в район Каира, где вместе с новозеландскими войсками начали подготовку к боевым операциям.
По предложению английского военного министра лорда Китченера войска этих двух доминионов были объединены под единым командованием британского генерала Бридвуда и получили название Австралийско-новозеландский армейский корпус (АНЗАК).
В феврале 1915 г. в Египет прибыл второй контингент австралийских войск. В этому времени британское правительство приняло решение развернуть боевые операции против Турции, начавшей войну на стороне Германии в октябре 1914 г., форсировать Дарданеллы и захватить Галлипольский полуостров. Для осуществления этой операции была создана смешанная армия, куда наряду с англичанами и французами вошли австралийцы и новозеландцы.
Со своей стороны, турецкая армия под верховным командованием немецкого генерала фон Сандерса приступила к строительству укреплений на полуострове.
Союзные войска высадились на Галлипольском полуострове 25 апреля 1915 г. Тяжелые, кровопролитные бои продолжались до декабря 1915 г. Убедившись в бессмысленности продолжения операции, союзное командование приняло решение эвакуировать войска. В ходе боев союзные войска потеряли убитыми 35 тыс. чело
162
век, из них 8,5 тыс. австралийцев, а ранеными — 78,5 тыс. человек, среди которых было 19 тыс. австралийцев [167, с. 53]). Так посланцы далекой Австралии, которую миновал смерч европейских и азиатских войн, впервые почувствовали на себе его испепеляющее дыхание.
Австралийско-новозеландские войска были переброшены во Францию, где приняли участие в тяжелейших боях на реке Сомма. За несколько недель в июле и августе 1916 г. австралийцы потеряли 20 тыс. человек [167, с. 55].
Известия эти получили огромный резонанс в Австралии. Шовинистический угар первых дней войны сменился сильными антивоенными настроениями, захватывавшими все более широкие слои австралийского общества. Это особенно проявилось в движении против введения обязательной воинской повинности и принудительной отправки солдат на фронты мировой войны.
Обязательная военная подготовка была введена в Австралии в 1911 г. Войска могли быть использованы только внутри страны. Участие в боевых операциях вне территории осуществлялось на добровольной основе, в порядке вербовки волонтеров.
Акт 1911 г. сам по себе вызывал известное недовольство населения. В 1911 —1915 гг. не менее 34 тыс. человек отказались от прохождения обязательной военной подготовки, за что подверглись судебному преследованию [90, с. 72]. Против Акта 1911 г. активно выступали социалистические и пацифистские организации.
Большие потери, которые несли австралийскйе войска, все труднее было восполнять за счет волонтеров. Британское правительство настойчиво требовало увеличить число австралийских войск, участвовавших в боевых операциях. В феврале 1915 г. реакционная буржуазная организация Австралийская лига обороны потребовала от правительства «призвать мужчин нации для войны и обороны» [90, с. 72]. В июле того же года к этому требованию присоединились торговая и промышленная палаты.
Это вызвало активизацию и антивоенных сил. В Мельбурне были организованы Австралийский альянс мира и Товарищество против принудительной отправки солдат за границу, причем первый требовал также прекращения войны вообще и решения межгосударственных конфликтов с помощью международного арбитража. Против введения закона о принудительной отправке войск за границу выступили и крупные профсоюзы. Так, в июле 1915 г. резолюцию протеста приняла Объединенная ассоциация шахтеров. В этих условиях лидеры лейборизма поспешили заявить о том, что они поддерживают трудовую Австралию. У. Хьюз, выступая в августе в палате представителей, подчеркнул, что «ни при каких обстоятельствах не согласится с принудительной отправкой людей из страны для участия в боях». 24 сентября премьер-министр Э. Фишер сказал посетившим его депутатам тред-юнионов, что он и его министры «неизменно возражают против принудительной отправки солдат за границу» [125, с. 58]. В то же время федеральное лейбористское правительство приняло (в июле 1915 г.) Акт об
11*
163
учете военнообязанных, явившийся подготовительной мерой к введению закона о принудительной отправке военнослужащих за границу для участия в войне.
В октябре 1915 г. Э. Фишер ушел с поста премьер-министра. Его заменил У. Хьюз. По приглашению британского правительства он в ноябре выехал в Англию, где дал обещание послать на фронты мировой войны 50 тыс. австралийских солдат. Сразу же вслед за заявлением У. Хьюза в стране были распространены военноучетные карточки. Но 180 тыс. рабочих по призыву своих профсоюзов отказались их заполнять, что привело к срыву этой акции правительства и еще большей активизации антивоенных настроений.
В мае 1916 г. в Мельбурне специальная конференция профсоюзов Виктории выступила за абсолютную оппозицию к введению закона об обязательной отправке военнослужащих за границу. Аналогичное решение приняли конференции лейбористской партии Виктории и Нового Южного Уэльса.
У. Хьюз, вернувшись из Англии в августе 1916 г., немедленно собрал заседание представителей лейбористских партий почти всех штатов. 30 августа он сделал следующее заявление: «После срочных и важных переговоров с Военным советом Великобритании правительство пришло к заключению, что добровольная система набора армии не может обеспечить такого притока пополнений, который необходим для того, чтобы Австралийский экспедиционный корпус сохранял всю свою силу» [125, с. 60].
Через день, 1 сентября, У. Хьюз присутствовал на заседании исполкома лейбористской партии Виктории и в течение трех часов пытался склонить присутствующих к поддержке позиции федерального правительства, но потерпел полную неудачу. Исполком лейбористской партии Нового Южного Уэльса также отверг его предложение. Такую же позицию заняло руководство лейбористской партии Квинсленда [90, с. 75].
Однако это не остановило У. Хьюза. Он надеялся получить поддержку населения страны на референдуме, о проведении которого было объявлено федеральным правительством уже 30 августа. Премьер-министра энергично поддержал У. Хольман, ставший в это время лидером лейбористской партии и главой правительства Нового Южного Уэльса.
15 сентября исполком лейбористской партии исключил У. Хьюза из рядов партии и принял решение приостановить действие полномочий У. Хольмана и трех других членов лейбористской фракции парламента штата до проведения новых выборов. Одновременно члены партии были предупреждены, что, в случае если кто-либо из них выступит в поддержку правительства, с ними поступят таким же образом.
Хольман и большинство членов правительства Нового Южного Уэльса, которые поддерживали его, отказались подчиниться решению исполкома и были исключены из партии. Лидером лейбористской партии штата стал Дюрек, а Хольман и его коллеги присоединились к либералам.
164
Подготовка к референдуму, который был назначен на конец октября, приняла характер острой политической борьбы. Милитаристские силы получали финансовую помощь австралийской буржуазии, заинтересованной в расширении участия страны в мировой войне. Полную поддержку оказала им и вся буржуазная пресса Австралии. Тем не менее референдум, состоявшийся 28 октября 1916 г., принес победу антивоенным силам страны. 1 160 033 голоса было подано против принудительной отправки военнослужащих за границу для участия в войне, 1 087 557 человек высказалось в поддержку предложения правительства.
Оценивая результаты референдума, Э. Кэмпбелл писал: «Поражение защитников принудительной отправки военнослужащих за границу означало выдающуюся победу демократических сил в Австралии, и в первую очередь рабочего движения. Результаты референдума показали, что, хотя рабочие и средние классы были обмануты относительно действительного характера войны и большинство их не выступало активно против нее, они не были столь глубоко увлечены шовинизмом, чтобы позволить принести в жертву милитаризму остатки демократических прав» [90, с. 76—77].
В буржуазных кругах и Австралии и Великобритании результаты референдума вызвали сильное раздражение. Даже в вышедшей почти через полстолетие книге об Австралии английский буржуазный ученый Т. Рис писал по этому поводу: «Референдум бросил тень на усилия Австралии в войне; ее политика стала вульгарной и беспорядочной, и, несмотря на Галлиполи, она потеряла возможность поднять дух общества, чего старые нации достигли коллективной дисциплиной и жертвами, требующимися в дни национального бедствия» [167, с. 59].
Когда федеральный парламент возобновил свою работу, прерванную референдумом, состоялось заседание парламентской фракции лейбористской партии. На нем начались острые дебаты по поводу политики правительства, причем большинство членов фракции выступало против нее.
Тогда Хьюз призвал своих сторонников покинуть заседание. 25 человек последовали за ним, но 40 остались в зале. Они назвали свою организацию Австралийской рабочей партией, выбрали лидером Ф. Тюдора и перешли на положение парламентской оппозиции.
Не считаясь с волей большинства в парламентской фракции и в самой партии, Хьюз сформировал новое правительство, в которое вошли такие ренегаты, как Хольман и ему подобные. Объединившись с либералами, Хьюз и его сторонники образовали новую политическую организацию — Национальную партию. Опираясь на поддержку этой партии, Хьюз добился победы на парламентских выборах в мае 1917 г., получив большинство мандатов как в палате представителей, так и в сенате.
Тем временем бои в далекой Европе приобретали все более кровопролитный характер. Австралийский экспедиционный корпус, продолжавший сражаться во Франции, нес большие потери, вос-
165
полнить которые путем отправки волонтеров не удавалось. В течение апреля — ноября 1917 г. в боях на северо-востоке Франции австралийские войска потеряли около 50 тыс. человек [81, с. 344, 356, 376].
Австралийское правительство приняло решение провести новый, референдум, чтобы добиться получения права на принудительную отправку солдат на фронты мировой войны. 17 ноября 1917 г. население страны отвечало на вопрос: «Одобряете ли вы предложения правительства о пополнении австралийских имперских сил за границей?». Результаты референдума опять оказались неутешительными для правительства. Более того, число голосовавших, «против» увеличилось по сравнению с первым референдумом — оно достигло 1 187 474 человек, «за» подали голос 1015 159 человек.
У. Хьюз до начала референдума заявил, что покинет пост премьер-министра, если результаты референдума будут не в пользу правительства. Когда в январе 1918 г. парламент возобновил свою работу, он действительно подал в отставку. Но немедленно вслед за этим по предложению генерал-губернатора Австралии Р. Фергюсона было проведено совещание лидеров различных партий, которое попросило «досточтимого У. Хьюза» продолжать управлять государством. Вся эта затея с отставкой представляла собой, несомненно, хорошо рассчитанную политическую игру. Такой опытный в политических махинациях человек, как Г. Эватт, писал впоследствии: «Нельзя допустить, что Хьюз не использовал обстановку в парламенте, он знал превосходно, что его заявление об отставке будет чисто формальным» [125, с. 68—69]. Хьюз думал таким путем укрепить свое положение главы федерального правительства.
Обстановка в стране продолжала осложняться. Многие тысячи австралийских трудящихся потеряли работу. Стремительно росла стоимость жизни (к июлю 1917 г. она выросла по сравнению с довоенным уровнем более чем на 30% [90, с. 79]), в то время как зарплата во всех штатах была заморожена на довоенном уровне. Австралийские же предприниматели весьма значительно увеличили свои доходы. Так, например, дивиденды «Брокен-Хилл норт» возросли с 5 до 40%, а «Брокен-Хилл саут» — с 15 до 120%.
В начале войны были предприняты попытки провести через парламенты штатов единое законодательство, чтобы установить контроль над ценами. Но законодательные органы штатов не пошли на это. Была создана Королевская комиссия по ценам, но она не обладала исполнительной властью и потому в конце 1914 г. прекратила свое существование.
Лейбористские организации требовали проведения конституционной реформы, с тем чтобы «народ получил право контролировать тресты, чтобы гарантировать всем справедливую и разумную заработную плату, производителям — справедливую и разумную цену на их продукцию, защищать их от попыток ограбления трестами и поддерживать мир в промышленности» [183, с. 77]. В речи 166
1914 г., определившей политику правительства, Фишер дал торжественное обещание, что эти требования будут выдвинуты.
На Всеавстралийской конференции лейбористской партии, открывшейся 31 мая 1915 г. в Аделаиде, Э. Фишер заявил, что надеется на проведение референдума, так как «огромное большинство людей Австралии ожидает улучшения конституции страны» [183, с. 77]. Многие делегаты поддержали это предложение, и конференция его утвердила.
На конференции был создан федеральный Исполнительный совет, в который вошли по два делегата от каждого штата. На пер-вом своем заседании, 10 июня 1915 г., совет обратился к правительству с призывом ускорить подготовку к референдуму. Парламент принял соответствующий законопроект. Проведение референдума было назначено на 11 декабря 1915 г.
Когда же в августе правительство возглавил У. Хьюз, он постарался резко изменить курс и добился на конференции премьеров штатов отказа от проведения референдума. Аналогичное решение приняло закрытое совещание руководства лейбористской партии.
Трудящиеся Австралии упорно боролись за свои права. Из месяца в месяц ширилось забастовочное движение (табл. 6).
Таблица 6
Данные о забастовочном движении в Австралии в первые годы мировой войны *
Год Число забастовок Количество рабочих, участвовавших в забастовках
горнорудная промышленность другие отрасли промышленности вся промышленность горнорудная промышленность Другие отрасли промышленности вся промышленность
1913 81 69 160 29 000 13 000 42 000
1914 220 93 3/13 56 000 19 000 75 000
1915 225 89 314 66 000 28 000 94 000
1916 209 135 344 130 000 27 000 -1'57 000
* Е. W. Campbell. History of the Australian Labour Movement, c. 81.
С первых чисел августа 1917 г. в стране началась всеобщая забастовка. Решение об этом приняли представители ряда профсоюзов на заседании 2 августа. Через 5 дней, 7 августа, к ним присоединилось еще 18 профсоюзов, 30 тыс. рабочих прекратили работу. 9 августа число бастовавших увеличилось до 45 тыс. человек. В начале сентября бастовало 68 тыс. человек [90, с. 95].
Для борьбы с забастовкой правительство применило испытанный прием: оно наняло штрейкбрехеров, истратив на это значительные суммы из государственных средств. Вся буржуазная пресса включилась в кампанию по травле бастующих. В воскресных
167
номерах газет 12 августа было помещено правительственное заявление следующего содержания: «Врагам Британии и ее союзников удалось развернуть в Австралии всеобщую забастовку. В настоящее время они парализовали усилия нашей страны помочь в великой войне. За кулисами стачки скрываются организация „Индустриальные рабочие мира" и Организация прямых действий. Йе поняв этого, профсоюзы стали орудием нелояльных и революционных элементов. В течение двух последних лет был организован заговор с целью не дать Австралии возможности оказывать дальнейшую помощь Великобритании и ее союзникам. Каждый бастующий изо дня в день поет гимн организации „Индустриальные рабочие мира" и марширует под их музыку. Правительство не против профсоюзов. Члены профсоюза, которые добровольно выйдут на работу, будут признаны членами новых профсоюзов, зарегистрированных согласно Акту о профсоюзах. Кто за Австралию и ее союзников?» [99, с. 93].
14 и 17 августа были произведены первые аресты профсоюзных активистов, причем им предъявлялось обвинение именно в тайном заговоре. Правительство отказалось вести дальнейшие переговоры со стачечным комитетом, объявив его 24 августа нелегальной организацией. В этот очень важный для всего хода забастовки: момент комитет проявил очевидные признаки слабости и готовность сдать позиции. В выпущенном им манифесте, написанном, по справедливому замечанию Э. Кэмпбелла, «в подхалимском тоне», говорилось о согласии прекратить забастовку и начать переговоры с уполномоченными правительства. «Эта забастовка навязана нам. Мы действуем только в порядке самообороны»,— сетовал и одновременно оправдывался стачечный комитет [90, с. 98].
Такое поведение руководителей забастовки вызывало понятную растерянность, падение дисциплины в рядах бастующих. В то же время правительство действовало целеустремленно и четко.
6 сентября руководителям забастовки было предложено в двухдневный срок принять правительственные условия капитуляции. Поговорив для порядка о «борьбе до мученического конца»,, комитет принял эти условия, означавшие поражение забастовки. Рабочие массы выражали резкий протест против решения комитета, и продолжали борьбу. Фактически возобновить работу в промышленности и на транспорте удалось только через месяц. Так, шахтеры вышли на работу 3 октября, а моряки и докеры — 18 октября [90, с. 102].
Поражение всеобщей забастовки, показавшее очевидную слабость профсоюзного движения, заставило профсоюзы вновь вернуться к обсуждению вопроса о создании единой профсоюзной организации страны.
В августе 1918 г. в Сиднее конгресс профсоюзов Нового Южного Уэльса, на котором присутствовали представители 150 организаций, рассмотрел и одобрил план создания Единого большого союза. Такое же решение приняли конгрессы профсоюзов, прошедшие в других штатах. После этого план создания Единого 168
большого союза утвердил Общеавстралийский конгресс профсою-зов, состоявшийся в Мельбурне.
Однако этот план так и не был осуществлен. Лишь одна организация — Федерация шахтеров, одобрив его, изменила свое название на следующее: Союз индустриальных рабочих Австралии; отдел шахтеров. Все другие профсоюзы под действием своей бюрократической верхушки либо выразили несогласие с этим планом, либо, формально одобрив его, положили под сукно [90, с. 105].
Однако в Австралии в годы первой мировой войны консолидировались и левые, прогрессивные силы. Большую роль в этом сыграла Великая Октябрьская социалистическая революция. «Великая Октябрьская социалистическая революция,— писал Э. Кемпбелл,— оказала глубокое и плодотворное влияние на рабочее движение в Австралии... Влияние Октябрьской революции и начавшееся вслед за ней распространение в Австралии ленинского учения помогли австралийскому рабочему классу сделать этот решительный и огромной исторической важности шаг. 30 октября 1920 года была основана Коммунистическая партия Австралии» [51, с. 5].
В тот день в Сиднее начала свою работу созванная Австралийской социалистической партией конференция левых и социалистических групп. Конференция приняла решение о создании новой партии и избрала временный исполнительный комитет в составе 12 человек, включая трех представителей АСП, для управления делами партии на период, пока представители участвовавших в конференции групп ознакомят своих членов с ее решениями и получат их поддержку.
Конференция возобновила работу 6 ноября. Однако теперь представители АСП заняли иную позицию. Они заявили, что окончательное формирование партии следует отложить на два года. Под их давлением конференция и приняла такое решение. Поэтому фактически Коммунистическая партия Австралии начала свою деятельность с июня 1922 г.
Война наложила отпечаток на развитие австралийской экономики в 1914—1919 гг. Как уже отмечалось, Австралия, несмотря на некоторое развитие промышленности, продолжала оставаться аграрной страной, где производство шерсти занимало господствующее положение.
Германия являлась третьим после Великобритании и Франции покупателем австралийской шерсти. Одновременно она занимала весьма важное место в австралийском импорте. Начавшаяся мировая война положила конец германо-австралийским торговым отношениям. Однако вызванное войной увеличение потребления шерсти как в самой Австралии, так и в Великобритании и Франции, а также значительный рост цен на нее (на 55%) [79, с. 497J компенсировали австралийской буржуазии потерю германского рынка. Правительство создало Центральный комитет по шерсти, состоявший из представителей овцеводческих хозяйств, промышленных и
169
торговых предприятий. Комитет, действовавший до 1921 г., занимался всеми вопросами, связанными с производством и торговлей шерстью.
Значительные сложности возникли в период войны с экспортом пшеницы. Ее транспортировка требовала большого количества судов. Так, чтобы доставить 500 тыс. т австралийской пшеницы в Великобританию, требовалось 100 судов в течение шести месяцев,, курсировавших по маршруту, в три раза превышавшему путь из Канады.
Контроль за производством и торговлей зерном осуществлял в годы войны Совет по пшенице, председателем которого был сам премьер-министр Австралии. Каждый штат был представлен в совете посланцами четырех крупнейших зерновых фирм. Необходимые для деятельности совета средства в размере 15 млн. ф. ст. были выделены в его распоряжение австралийскими банками. Вопросы транспортировки входили в компетенцию Комитета по морскому транспорту, который имел два подкомитета: по заморским перевозкам (с местопребыванием в Сиднее) и по перевозкам между штатами (с местопребыванием в Мельбурне).
Для того чтобы облегчить транспортировку грузов из Австралии в Европу, премьер-министр У. Хьюз в 1916 г., находясь в Англии, купил 15 судов. Он заплатил за них 2 млн. ф. ст. Следует заметить, что уже через два года суда полностью окупили себя [79,. с. 500].
Очень строгий правительственный контроль был установлен за производством, а главное — за продажей цветных металлов. Созданный правительством Комитет по торговле металлами следил за тем, чтобы они продавались только в Англию и союзные державы. Цинк и медь экспортировались только в Великобританию. Члены комитета тщательно отбирались; в него не допускались иностранцы, даже натурализовавшиеся. В 1915 г. наиболее важные предприятия по производству металлов были поставлены под прямой контроль правительства. К их числу относились «Брокен-Хилл ассошиейтид смелтерс пропрайэтри», «Цинк ассошиейшн», «Коппер ассошиейшн». Совет директоров этих компаний состоял только из правительственных чиновников.
Значительное сокращение импорта в Австралию в годы войны повлекло за собой некоторое развитие местной промышленности. Но оно не было сколько-нибудь значительным. Так, если в 1913 г. в промышленности было занято 337 тыс. рабочих, то в 1918 г.— 376 тыс. [79, с. 501].
Гораздо большее влияние война оказала на географию внешней торговли Австралии. Доля британских товаров в общеавстралийском импорте снизилась к концу войны с 60 до 41%. В то же время импорт из США за это время вырос с 11 до 25%. Развивались торговые отношения с Японией и Италией [79, с. 501].
Участие в войне требовало от Австралии значительных денежных средств. Как отмечалось выше, развитие австралийской экономики было связано с использованием в больших размерах иност-
170
Потери стран Британской империи в первой мировой войне *
Таблица 7
Страна Население Состояло в армии Участвовало в боях Убито или умерло от ран Ранено Попало в плен Общие потери Процентное отношение
войск, участвовавших в боях, к численности населения потерь к общему числу войск. участвовавших в боях
Великобритания . 48 089 249 5 704 416 5 539 563 702 410 1 662 625 170 389 2 535 424 11,2 47,1
Канада 8 361 000 624 964 422 405 56 625 149 732 3 729 210 086 5,0 49,7
Австралия 4 875 325 416 809 331 781 59 342 152 171 4 084 215 045 6,8 64,8
Новая Зеландця . 1 099 449 428 525 98 950 16 654 41 317 530 58 501 8,9 58,6
Южная Африка . 6 685 827 136 070 136 070 6 928 11 444 228 18 600 2,0 13,6
Индия 315 200 000 1 440 437 1388 620 53 486 64 350 3 762 12'1 598 0,4 9,1
С. Е. W. В е a n. Anzac to Amiens, с. 532.
ранного капитала. Война вызвала резкое сокращение иностранных инвестиций в австралийскую экономику.
Эти два обстоятельства (большие военные расходы и сокращение иностранных инвестиций) значительно осложнили финансовое положение страны, особенно в первые два года войны. Правительство пыталось выйти из создавшегося положения, увеличивая размеры внешних и внутренних займов и налогообложение. К июню 1918 г. Австралия заняла у британского правительства 49 млн. ф. ст., а размер внутренних займов достиг 188,5 млн. ф. ст. [79, с. 503]. В 1914/15 г. за счет налогов были покрыты военные расходы на сумму 640,2 тыс. ф. ст., а за счет займов — 14 млн. ф. ст.; в 1915/16 г.— соответственно 3,8 млн. и 37,4 млн. ф. ст., в 1916/ 17 г.— 11,8 млн. и 53,1 млн. ф. ст., в 1917/18 г.— 11,9 млн. и 55 млн. ф. ст., в 1918/19 г. — 21,2 млн. и 62,2 млн. ф. ст. [79, с. 504].
Такая финансовая политика приводила к стремительному росту цен, резкому удорожанию стоимости жизни в Австралии.
В 1914—1918 гг. стоимость строительных материалов увеличилась на 144%, угля и металлов — на 119, текстиля — на 131, мяса — на 47, бакалейных товаров — на 37, зерновых продуктов — на 35, молочных продуктов — на 21%. В среднем стоимость жизни увеличилась почти на 50% [79, с. 504].
Заключительный этап мировой войны стоил австралийской армии новых больших жертв. В течение двух месяцев — с 8 августа по 5 октября 1918 г.— Австралийский экспедиционный корпус участвовал в кровопролитных боях под Амьеном.
Участие в первой мировой войне дорого обошлось австралийскому народу. По числу жертв (в процентном отношении к общей численности населения страны) Австралия заняла второе место среди стран Британской империи (табл. 7).
Общие военные расходы Австралии за 1914—1919 гг. составили 364 млн. ф. ст. [81, с. 533].
Глава II
АВСТРАЛИЯ МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ
Австралия встретила Версальский мирный договор в условиях значительного обострения внутриполитической обстановки.
Коммунистическая партия Австралии, возникшая в 1920 г., несмотря на все внутрипартийные разногласия и трудности, способствовала распространению марксистского учения в австралийском рабочем движении. В этой ситуации, для того чтобы сохранить в своих руках власть над профсоюзами, лейбористское руководство вынуждено было начать политическое маневрирование.
В начале 1921 г. федеральный исполком Австралийской лейбористской партии (АЛП) принял решение о проведении Общеавстралийского конгресса профсоюзов для выработки новой программы рабочего движения в Австралии.
Конгресс, на котором были представлены профсоюзы, объединявшие 700 тыс. австралийских рабочих, состоялся в Мельбурне в июне 1921 г. Открывая заседание, Э. Холлоуэй, являвшийся в то время председателем исполкома АЛП, заявил, что основная задача конгресса заключается в определении целей рабочего движения в Австралии, создании новой программы, поскольку существующая не соответствует изменившейся политической обстановке [125, с. 79].
В ходе дискуссии, развернувшейся на конгрессе, представители ряда профсоюзов весьма резко критиковали существовавшие политические институты и требовали коренного изменения программы лейбористской партии.
Так, представитель шахтеров М. Консидайн назвал федеральный парламент «инструментом, с помощью которого господствующее капиталистическое меньшинство держит в руках несведущее и апатичное большинство» [125, с. 79].
Представитель профсоюзов Виктории Э. Расселл предложил зафиксировать в программе, что «социализация промышленного производства, распределения и обмена является конечной целью лейбористской партии». После оживленного обсуждения это предложение было принято, и председательствующий заявил, что оно будет представлено на рассмотрение предстоящей конференции лейбористской партии [125, с. 79].
На конгрессе обсуждались также вопросы национализации банков, отмены обязательной военной подготовки, создания одного
173
большого союза и др. Работа конгресса закончилась, как говорилось в официальном отчете, исполнением песни «Красный флаг».
10 октября 1921 г. в Брисбене открылась 9-я Всеавстралийская конференция лейбористских партий. Главной задачей было обсуждение решений Общеавстралийского конгресса профсоюзов прежде всего по вопросу о программе партии.
Следует сказать, что действовавшая программа, принятая на 8-й конференции Австралийской лейбористской партии, состоявшейся в июне 1919 г., так определяла главную ее цель: «Культивирование австралийского чувства, сохранение политики „белой Австралии" и развитие просвещенного и уверенного в себе общества. Освобождение общественного труда от всех форм эксплуатации и получение всеми рабочими полного вознаграждения за их труд путем коллективного владения и демократического контроля коллектива, использующего агентства по производству, распределению и обмену. Сохранение и развитие братских отношений с рабочими организациями всех стран. Предотвращение войны посредством разрешения международных споров трибуналом, облеченным властью, достаточной, чтобы добиться выполнения своего решения» [125, с. 81],
Уже на второй день работы конференции У. Риордин (из Квинсленда) выдвинул предложение о том, чтобы, как это постановил Общеавстралийский конгресс профсоюзов, «социализация производства, распределения и обмена являлась конечной целью лейбористской партии» [125, с. 82].
Это предложение встретило резкие возражения со стороны одного из лидеров лейборизма — Э. Теодора. Если такая программа будет одобрена, заявил он, лейбористская партия сможет изменить свое название на Коммунистическую партию [90, с. 112]. «Нет и двух делегатов, — сказал Э. Теодор, — которые имели бы одинаковое представление о том, что такое социализация производства. Одни могли бы заявить, что социализация — это, по определению партии, коллективная собственность, другие могли бы придерживаться иного мнения». И тут же он предложил следующую редакцию определения главной цели партии: «Освобождение труда от всех форм капиталистической эксплуатации и получение всеми рабочими и производителями полного вознаграждения за свой труд с помощью: а) национализации тех объединений в области производства, распределения и обмена, которые используются при капитализме для ограбления общества; б) совместных действий в области финансирования производства, продажи и распределения продуктов сельского хозяйства» [125, с. 82]. Но более чем двойным большинством голосов эта поправка Э. Теодора была отвергнута.
В тот же день, И октября 1921 г., конференция приняла предложение У. Риордина о «конечной цели» Австралийской лейбористской партии.
Вслед за этим было предложено в соответствии с рекомендациями Общеавстралийского конгресса профсоюзов поставить пункт о «социализации производства, распределения и обмена» на одно
174
из первых мест в программе партии. Но в данном случае Теодору удалось взять реванш. Он добился принятия решения о* создании специального подкомитета для рассмотрения указанного предложения и избрания его самого в состав этого подкомитета.
Теодор убеждал членов подкомитета принять пункт о социализации в качестве «конечной» (читай: практически недостижимой!) цели, но не включать его в программу действий партии. Несмотря на возражения ряда членов подкомитета, Теодору удалось добиться отклонения конференцией (20 голосами против 11) предложения включить пункт о «социализации производства, распределения и обмена» в качестве центрального пункта в программу партии. Пункт о социализации был ослаблен еще и принятием ряда оговорок оппортунистического характера. Так, по предложению Теодора в программе было подчеркнуто, «что для достижения постав* ленной цели должны быть использованы конституционные методы экономических и парламентских действий». По предложению другого лидера лейборизма, который впоследствии занял пост премьер-министра Австралии, Д. Скеллина, в программу в качестве одного из главных принципов деятельности партии была включена старая формула о «культивировании австралийского чувства, сохранении политики „белой Австралии" и развитии просвещенного и уверенного в себе общества» [125, с. 83].
Не было достигнуто соглашения и о создании единого профсоюзного центра — Одного большого союза. В последующие годы, правда, был учрежден Австралийский совет профсоюзов, но он имел довольно расплывчатую организационную форму и ограниченную компетенцию. Так, все выносимые советом рекомендации до их принятия должны были получить одобрение профсоюзов большинства штатов.
На 10-й (1924 г.) и 11-й (1927 г.) конференциях АЛП основным вопросом было рассмотрение ее конституции. При этом вновь обсуждались формулировки, определяющие цели партии.
В окончательной редакции, принятой на 11-й Всеавстралий-ской конференции лейбористской партии, которая состоялась в Канберре в мае 1927 г., цель партии и методы ее достижения были определены следующим образом:
«Цель: социализация производства, распределения и обмена.
Методы: а) конституционное использование федерального парламента, парламентов штатов, муниципальных органов и всей административной системы; б) расширение компетенции федерального банка до такой степени, пока полный контроль над банками страны не будет в руках народа; в) организация кооперативной деятельности, которая позволит рабочим и другим производителям получить опыт управления, ответственности и контроля над производством; г) культивирование идей и принципов лейборизма, а также развитие духа социальной полезности; д) создание лейбористских исследовательских и информационных бюро; е) осуществление прогрессивных реформ, определенных лейбористской платформой» [125, с. 90—91].
175
Принятие такой формулировки означало, что буржуазно-оппортунистическим силам в Австралийской лейбористской партии в конце концов удалось пресечь попытки прогрессивной ее части вытащить партию из трясины реформизма.
Сложное положение складывалось и в правительственной коалиции. Национальная партия, созданная Хьюзом в период войны, разваливалась под давлением внутренних противоречий. Сильным ударом по Национальной партии оказалось создание в 1919 г. Аграрной партии, объединившей сельскохозяйственную буржуазию страны. Новая партия, возглавляемая Э. Пейджем, в короткий срок смогла добиться многого. Уже на федеральных выборах 1922 г. Аграрная партия получила 14 мест в парламенте. Теперь от нее зависело, останется ли у власти Национальная партия.
Пейдж заявил, что его партия поддержит националистов при условии, что Хьюз уйдет с поста премьер-министра. Переговоры продолжались несколько недель, в течение которых Хьюз продолжал выполнять обязанности главы государства. Наконец он сдался и, 2 февраля 1923 г. подав в отставку, рекомендовал генерал-губернатору Австралии на пост федерального премьер-министра С. Бруса, занимавшего в его правительстве пост министра финансов. Во вновь созданном правительстве Аграрная партия была представлена, по существу, на равных правах с либералами (5 министерских постов из 11). В состав правительства вошел и лидер аграриев Э. Пейдж. В истории этот кабинет известен под названием правительство Бруса — Пейджа.
Правительство Бруса — Пейджа находилось у власти 6 лет. На выборах в федеральный парламент в октябре 1929 г. либерально-аграрная коалиция потерпела серьезное поражение, потеряв в общей сложности 18 депутатских мандатов. В то же время лейбористы увеличили свое представительство в федеральном парламенте до 47 мест (из 66). Лейбористская партия опять пришла к власти. Вновь сформированное правительство возглавил Д. Скеллин, а Э. Теодор стал министром финансов.
Это было трудное для страны время. Экономический бум первой половины 20-х годов стал сменяться депрессией. Над Австралией уже распростерлась гигантская тень невиданного в истории капитализма мирового экономического кризиса.
20-е годы начались для Австралии весьма благоприятно. Цены на основные экспортные товары стремительно росли. Так, в 1925 г. экспортные цены на шерсть, зерно, масло и мясо по сравнению с ценами 1913 г. увеличились соответственно на 163, 50, 60 и 60% [192, с. 290—292].
В страну хлынул широкий поток людей и капиталов. За 1921 — 1927 гг. в Австралию прибыло 263 тыс. иммигрантов, а за 20 предшествующих лет — 248 тыс. К началу 30-х годов общая численность населения страны достигла 6,5 млн. человек. К этому времени объем иностранного капитала, ввезенного в страну, оценивался в 1188 млн. ф. ст., из которых британские инвестиции составляли 554 млн. ф. ст. [127, с. 109].
176
Выгодная экономическая конъюнктура способствовала развитию главных отраслей австралийской экономики. Производство шерсти выросло за 1920—1929 гг. с 625 млн. до 968 млн. фунтов, а поголовье овец — с 86,1 млн. до 106,2 млн. [192, с. 50].
Соответственно расширились экспортные возможности Австралии. Так, экспорт шерсти за 1920—1929 гг. увеличился с 542 млн. до 763 млн. фунтов, а его стоимость — с 42,1 млн. до 55,9 млн. ф. ст. Экспорт мороженого мяса к середине 20-х годов по количеству более чем вдвое превысил довоенный уровень (284 млн. фунтов против 130 млн.), а по стоимости — в 3 раза (4140 тыс. ф. ст. против 1460 тыс.) [192, с. 290—291].
Хотя Великобритания по-прежнему являлась основным торговым партнером Австралии, ее доля в австралийском внешнем товарообороте сократилась. Зато заметно выросла доля США и Японии. Если к началу первой мировой войны доля Англии в экспорте Австралии составляла 45,1%, то к 1929 г. она снизилась до 38%, а в импорте — с 59,7 до 39,7%. В то же время доля США увеличилась соответственно с 2,7 до 4% и с 1,3 до 3,4%, а Японии — с 1,6 до 7,9% и с 1,2 до 3,3% [192, с. 303—304].
Особенно заметно изменилось направление грузопотока главного австралийского экспортного товара — шерсти. За период 1921—1931 гг. доля Великобритании в экспорте австралийской шерсти снизилась с 47,5 до 29,7%, в то время как доля стран континентальной Европы и Японии возросла соответственно с 38,1 до 47,7% и с 7,1 до 19,7% [192, с. 54].
Все изменилось после печально знаменитого дня 24 октября 1929 г., когда на нью-йоркской бирже начали стремительно падать курсы акций. В течение месяца они упали в среднем на 40% ниже их прежней стоимости. Гигантская волна невиданного кризиса захлестнула прежде всего Соединенные Штаты. Тысячи промышленных, торговых и финансовых предприятий обанкротились. Миллионы людей остались без работы. В этих условиях слова, незадолго до этого сказанные президентом США Гувером: «Мы в Америке стали ближе к окончательному триумфу над бедностью, чем когда-либо в истории этой страны» [127, с. 109—110], воспринимались как ирония.
Очень быстро экономический кризис распространился на страны Европы и Японию. В 1932 г. общее число безработных в США, Японии и странах Западной Европы составило 30 млн. человек.
Мировой экономический кризис тяжело ударил и по Австралии. Цены на ее главные экспортные товары резко упали. Если в 1928 г. фунт шерсти стоил 15 пенсов, а бушель пшеницы — 5 шилл., то к концу 1930 г.— соответственно 8 пенсов и 2 шилл. 6 пенсов {127, с. 109—110]. Стоимость австралийского экспорта в 1930 г. равнялась лишь половине его стоимости в 1928 г. Национальный доход страны в 1930/31 г. уменьшился на V3. К 1933 г. почти третья часть австралийских трудящихся не имела работы. Заработная плата работавших сократилась на 20% [192, с. 8].
В 1930 г., в разгар экономического кризиса, когда десятки ты-
12 Заказ 91 177
Таблица 8
Стоимость продукции основных отраслей австралийской экономики *, тыс. ф. ст.
Отрасль 1933/34 г. 1934/35 г. 1935/36 г.
Земледелие 70 731 68 587 75 200
Овцеводство Мясо-молочное производ- 95 613 74 556 89 700
ство 40 306 44 763 48 500
Мясная промышленность
и рыболовство Горнорудная промыш- 9 605 '10 856 11 000
ленность . 17 608 19 949 23 500
Обрабатывающая про-
мышленность 123 355 137 638 155 900
Всего 357 218 356 349 403 800
* Department of Overseas Trade. Report on Economic and Commercial Conditions in Australia, c. 29.
сяч австралийских трудящихся дошли до полного обнищания, лейбористская партия провела свою 12-ю конференцию, на которой было подтверждено отрицательное отношение АЛП к коммунистическому движению в Австралии. «Ни коммунистическая партия, ни ее отделения,— отмечалось в документах конференции,— не могут объединиться с Австралийской лейбористской партией. Ни один член коммунистической партии не может стать членом Австралийской лейбористской партии; членам АЛП запрещается защищать политику коммунистической партии» [125, с. 97].
В то же время лейбористская партия оказалась неспособной решать сложные вопросы руководства страной в условиях экономического кризиса. В рядах партии начался разброд. Лидер лейбористов Нового Южного Уэльса Д. Лэнг в отсутствие премьер-министра Д. Скеллина, который находился в Англии на Имперской конференции, выдвинул свой план «спасения» страны, заключавшийся, по сути дела, в том, чтобы отказаться платить налоги Великобритании. Когда же его план не был поддержан АЛП, Лэнг вышел из нее, создав свою группу. Другой лейбористский деятель,. Д. Лайнс, в конце 1931 г., в преддверии федеральных выборов,, организовал группу, получившую название Объединенная австралийская партия. На выборах, состоявшихся б декабре 1931 г., эта партия завоевала большинство и в федеральном парламенте, и во всех парламентах штатов, кроме Квинсленда. Ее лидер Д. Лайнс сформировал новое правительство Австралийского Союза, главой которого он являлся до своей смерти в апреле 1939 г. Но созданная
178
им Объединенная австралийская партия оставалась у власти. Ее лидером и премьер-министром страны стал Р. Мензис.
С 1934 г. экономическое положение Австралии начало улучшаться. Кризис отступил, но его последствия продолжали ощущаться еще долго. Развитие экономики страны существенно замедлилось (табл.8).
Поголовье скота в эти годы было следующим (в тыс. голов) [29, с. 35]:
Год Овцы Крупный рогатый скот Лошади Свиньи
1933 109 921 13512 1763 1047
1934 113 048 14 049 1768 1158
1935 ПО 886 13 912 1764 1294
Производство шерсти, составлявшее в 1931 г. 1 007 455 фунтов, несколько увеличилось и в 1941 г. равнялось 1 167 158 фунтам. Количество овец за это время увеличилось со 110 618 893 до 125 189 129 голов [70, с. 430].
Производство масла характеризовалось следующими данными: в 1933/34 г.— 450 936 тыс. фунтов, в 1934/35 г.— 469 079 тыс., в 1935/36 г.— 433 722 тыс. фунтов, а сыра — соответственно 38476 тыс., 39 975 тыс., 38 599 тыс. фунтов [29, с. 45].
Не лучше было положение с производством пшеницы [29, с. 49]:
Размер посевных Общее производство Производство пшени-
Год площадей, тыс. пшеницы, тыс. бу-
акров шелей цы с акра, бушели
1933/34 14 901 177 338 11,90
1934/35 12 544 133 393 10,63
1935/36 11 957 144 217 12,06
1936/37 12 342 150 559 12,19
Изменения в производстве сахарного тростника характеризу-
ют следующие данные [29, с. 53]:
Год Общая площадь под сахарным тростником, тыс. акров Общее производство сахарного тростника, тыс. т
1933/34 329 4898
1934/35 322 4499
1935/36 335 4501
Австралийское хлопководство в этот период развивалось довольно неравномерно, о чем свидетельствуют приведенные ниже цифры [29, с. 61]:
Общая площадь под 1 од хлопком, акры 1933 87 096 1934 77 747 1935 57 017 1936 62 514 1937 55 133 Годовой сбор хлопка, фунты 17 718 000 26 924 000 20 766 209 19 198 600 11 792 828
12*
179
Производство риса было незначительным [29, с. 62]:
Год Общая площадь под Годовой урожай риса, рисом, акры тыс. бушелей
1933/34 1934/35 1935/36 1936/37 20 226 2172 21 746 1888 21705 2164 23 572 2240
Промышленность Австралии развивалась по сравнению с сельским хозяйством несколько более быстрыми темпами, занимая, правда, по-прежнему подчиненное положение в экономике страны.
Стоимость продукции горнорудной промышленности увеличилась с 1933 по 1936 г. с 17 608 тыс. до 27 562 тыс. ф. ст. Добыча золота за тот же период выросла с 714 135 до 1 169 301 унции, серебра — с 10 817 тыс. до 12 288 тыс. унций, меди — с 14 413 тыс. до 18 561 тыс. т, свинца — с 222 тыс, до 224 тыс. т, цинка — со 124 тыс. до 172 тыс. т, чугуна — с 336 тыс. до 783 тыс. т, стали — с 393 тыс. до 820 тыс. т, угля — с 9092 тыс. до 11 370 тыс. т [29, с. 68—71].
Общее число предприятий обрабатывающей промышленности увеличилось за 1934—1936 гг. с 23 297 до 24 894, а число работавших на них рабочих — с 405 909 до 492 775. Стоимость выпускавшейся продукции увеличилась за тот же период с 330 132 тыс. до 414 688 тыс. ф. ст [29, с. 73].
Объем внешней торговли Австралии в этот период увеличивался медленно, о чем свидетельствуют общие данные австралийского экспорта и импорта за 1933/34—1936/37 гг. (в тыс. ф. ст.) [29, с. 73]:
Год Экспорт Импорт
1933/34 98 572 60713
1934/35 90 225 74 119
1935/36 108 907 85 252
1936/37 128 191 92 534
Австралийский внешний товарооборот в конце второй половины 30-х годов оставался ниже уровня конца 20-х годов, когда стоимость экспорта достигала 141 633 тыс. ф. ст., а импорта — 143 648 тыс. ф. ст. (1928/29 г.) [29, с. 73].
Главными экспортными товарами по-прежнему были шерсть, зерно, мясо, масло. Основными покупателями австралийских товаров, как и прежде, являлись Великобритания, США и Япония. На долю Великобритании приходилось почти 50% всего австралийского экспорта, на долю США — более 10%, а Японии — более 6%. Эти же страны занимали ведущее место в австралийском импорте — соответственно 42, 14 и 4,3% [29, с. 84—88].
В Австралии в 30-е годы получили развитие новые отрасли промышленности, такие, как производство электроэнергии, автомобиле- и самолетостроение; стал развиваться автомобильный и авиационный транспорт. Если в 1922 г. в стране было всего 136 848 ав
180
томобилей, то в 1939 г.— 899 533. Крупнейшие в мире автомобильные компании открывали свои филиалы в Австралии (в 1925 г.—• «Форд», в 1931 г.— «Дженерал моторе», в 1939 г.— «Крайслер»). В 1923 г. начало свою деятельность крупнейшее в стране автомобильное предприятие — «Холден». Подавляющее большинство автомашин изготовлялось непосредственно в Австралии. Так, уже в 1928/29 г. в стране было выпущено более 72 тыс. автомобилей, а импортировано — менее 14 тыс. [127, с. 124—125].
Первый воздушный перелет из Европы в Австралию был совершен еще в 1919 г. братьями Россом и Кейтом Смитами, которые за 28 дней пролетели расстояние от Лондона до Дарвина. Несколько подобных перелетов состоялось затем во второй половине 20-х годов (в 1926 г.— А. Кобхэм, в 1928 г.— Б. Хинклер). Следует, отметить, что Б. Хинклер покрыл расстояние между Англией и Австралией уже за 16 дней, а австралийский авиатор К. Смит в-1929 г.— за 12 дней и 18 часов. В 1934 г., когда отмечалось столетие со дня основания Мельбурна, туда из Англии прилетели британские авиаторы К. Скотт и К. Блек, затратив на это 71 час.
В 20-е годы появились первые австралийские коммерческие авиакомпании, крупнейшими из которых стали «Квинсленд энд Нортерн территори айр сервис» («Квонтас») и «Острэйлиен нэшнл эйруэйз» (ОНЭ).
Вследствие ухудшения экономического положения Австралии в 30-х годах заметно уменьшился прирост населения: снизилась рождаемость, сократилась иммиграция. Если в 1921 —1930 гг. население страны возросло с 5 411 297 до 6 500 751 человека, т. е. ежегодно увеличивалось в среднем на 1,65%, в том числе за счет иммиграции — на 0,56%, то в 1931—1940 гг. оно увеличивалось ежегодно менее чем на 0,85%, в том числе за счет иммиграции — лишь на 0,05%. К 1941 г. население Австралии составило 7 077 586 человек [70, с. 428].
Внешняя политика Австралии в годы, предшествовавшие второй мировой войне, характеризовалась верноподданнической поддержкой внешнеполитических акций Великобритании.
До второй мировой войны Австралия не имела даже своих дипломатических представительств за границей, хотя по Вестминстерскому статусу 1931 г. получила, как и другие британские доминионы, право на осуществление самостоятельной внешней политики.
Министерство иностранных дел формально существовало в Австралии с 1901 г. Оно поддерживало контакты между Австралией и Великобританией, вело дела, связанные с интересами Австралии в районе Тихого океана, включая управление территорией Папуа, а также иммиграционные дела. В 1916 г. это министерство было ликвидировано. Его функции были переданы сначала канцелярии премьер-министра, а затем министру территорий. Восстановление министерства иностранных дел как самостоятельного государственного ведомства произошло лишь в середине 30-х годов. В это время австралийское правительство начало осуществлять так называе
181
мую службу связи: австралийские представители направлялись в британские посольства и миссии в странах, где Австралия имела особые интересы.
В разгар мюнхенского кризиса, в октябре 1938 г., Р. Мензис, выступая на заседании парламента, отверг саму возможность для британских доминионов проводить независимый внешнеполитический курс: «Принять такую линию поведения было бы самоубийством... Австралия не может остаться нейтральной в войне, которую ведет Британия» [28, 1938, т. 157, с. 429—431].
Все основные интересы, надежды и тревоги австралийцев были связаны в те годы с развитием событий в далекой Европе. Тем не менее Австралия не могла не чувствовать растущую опасность со стороны Японии, которая уже откровенно приступила к реализации своих империалистических замыслов в бассейне Тихого океана.
Еще в конце первой мировой войны в Австралии были известны японские материалы, свидетельствовавшие о вынашиваемых в Японии планах мирового господства. Так, в парламенте Южной Австралии на заседании 31 июля 1918 г. приводились отрывки из опубликованной в Японии работы «Третья империя». В ней, в частности, говорилось: «Мы должны ясно сказать нашему народу, что его великой миссией является создание мировой империи. Наша национальная политика должна быть обращена на юг, но юг означает не крошечные острова Южных морей... Сфера экспансии Японии лежит за экватором — в Австралии, Новой Зеландии и Тасмании... Австралия, конечно, предназначена богом для японцев, но украдена англичанами многие годы тому назад. Не должно быть никаких колебаний в нашем стремлении идти в Австралию. То, что туда не пускают японцев,— верх несправедливости. В интересах и Японии, и мировой экономики — дать Японии львиную долю при разделе Британской империи великими державами» [33, с. 51].
Не могло пройти в Австралии незамеченным и заявление военного министра Японии генерала Араки о том, что «миссией Японии является установление господства в Азии, Южных морях и в конце концов во всех четырех сторонах мира» [129, с. 15].
В австралийской прессе говорилось о «японской угрозе», о том, что Япония не простит австралийцам проведение политики «белой Австралии» и т. п.
Отношения с Японией осложнились еще и тем, что в конце мая 1936 г. австралийское правительство изменило в угоду Великобритании свою тарифную и лицензионную систему, упростив ее для последней, чтобы еще больше стимулировать англо-австралийскую торговлю, и введя ограничения в торговле с Японией.
Надо сказать, что к середине 30-х годов Япония занимала уже важное место во внешнеторговых отношениях Австралии. Она была вторым после Великобритании покупателем австралийской шерсти. В то же время Австралия закупала значительное количество японского текстиля. В 1935 г. состоялись даже австралийско-японские переговоры о расширении торгово-экономических отношений.
*82
После дискриминационных тарифных мер, принятых правительством Австралии, доля Японии в австралийском экспорте снизилась в 1936/37 г. до 4,3% против 6,3% в 1932/33 г. [29, с. 88].
Чтобы как-то «задобрить» Японию, австралийское правительство решило занять благожелательную позицию в отношении японского нападения на Китай в июле 1937 г. и «критиковать Японию не больше, чем это строго необходимо» [167, с. 102]. Более того, австралийское правительство постаралось быстро пресечь забастовку докеров, отказавшихся грузить металлолом на корабли, отправлявшиеся в Японию. «Вопрос не в том, правильны или неправильны взгляды докеров на то, какова должна быть международная политика Австралии,— заявил от имени правительства Р. Мензис, являвшийся тогда генеральным прокурором Австралии,— а в том, определяется ли эта политика конституционным правительством или какой-либо производственной группой» [167, с. 103]. Корабли, груженные металлоломом, направились в Японию, а австралийское правительство продолжало проводить политику попустительства в отношении японской агрессии в Китае.
Интересно в этой связи сообщение американского генерального консула в Сиднее Д. Моффета своему правительству. Так, в письме государственному секретарю Хеллу от 12 октября 1935 г. он писал: «Я до сих пор не встретил ни одного австралийца, который был бы против политики Японии в Маньчжурии и желал бы ухода Японии из Маньчжурии» [111, с. И]. В феврале 1936 г. Д. Моффет сообщал Хеллу, что Дж. Пирс, занимавший в то время пост министра иностранных дел, сказал ему, что хотя Австралия и относится с подозрением к политике Японии, но сократившаяся мощь британского флота и отсутствие надежды на получение помощи от США не оставляют Австралии никакой другой возможности, кроме проведения дружественной по отношению к Японии политики, чтобы не дать последней оснований осуществить агрессию против Австралии [111, с. И].
Австралийское правительство осознавало, конечно, реальность угрозы со стороны Японии. Об этом свидетельствует заявление премьер-министра Д. Лайнса, сделанное в декабре 1938 г.: «Впервые за всю историю Австралия может оказаться в зоне войны... Надо отчетливо понять, что в любое время в течение ближайших нескольких недель мы, австралийцы, можем быть поставлены перед необходимостью отразить нападение на нашу страну» [175, с. 115]. Тем не менее Австралия по-прежнему отказывалась применить какие-либо санкции против Японии [28, 1938, т. 157, с. 151, 470]. Более того, она продолжала переговоры с Японией о возобновлении австралийско-японского торгового договора [92, с. 292].
9 мая 1939 г. министр иностранных дел Г. Голлет сделал заявление, в котором стремился подчеркнуть дружественное отношение Австралии к Японии: «Почему Япония в случае войны или даже в те дни, когда мы живем под тенью войны, предпочтет новых друзей по антикоминтерновскому пакту своим старым друзьям в Британской империи?» [28, 1939, т. 159, с. 197].
183
Австралийское правительство в деле защиты страны от внешнего нападения, несмотря на наличие некоторого скепсиса в отношении возможностей британского флота, все-таки продолжало полностью полагаться на мощь Великобритании. Дж. Пирс, бывший тогда министром обороны, выступая в Сиднее в сентябре 1933 г., подчеркнул: «Первоочередной задачей Австралии должно быть создание отряда кораблей, способного эффективно кооперироваться с королевским военно-морским флотом». Как Пирс, так и его преемник на посту министра обороны А. Паркхилл считали, что действия Австралии в будущей войне должны сводиться только к участию в морских сражениях, осуществляемых совместно с британским флотом и имеющих цель не допустить морской блокады страны. «Если морские коммуникации Австралии будут прерваны,— заявил Дж. Пирс,— а ее импорт и экспорт остановлены действиями врага, страна может быть принуждена к поискам мира до того, как хоть один вражеский солдат появится у ее берегов» [167, с. 100].
Правда, в Австралии звучали голоса, возражавшие против официального курса в вопросе об обороне страны. В качестве примера можно привести статью полковника Г. Уинтера, опубликованную в британском военном журнале «Арми квотерли», в которой автор, соглашаясь с тем, что «важнейшей ролью австралийского военно-морского флота является кооперация с британским флотом, а не выполнение задач местной обороны», в то же время настаивал на том, что главными средствами местной обороны Австралии, учитывая условия, которые существуют, и несмотря на географическое положение Австралии, которое, казалось бы, требует другого решения, являются сухопутная армия и военно-воздушный флот. Полковник Уинтер подчеркивал важность этих родов войск и необходимость их развития [139, с. 19—20].
Такую же позицию занимал полковник Л. Бивс, выступавший с аналогичными заявлениями. Следует сказать, что оба этих офицера имели неприятности по службе за свои высказывания. Они были понижены в должности. Лишь после того, как министр обороны Паркхилл в апреле 1937 г. покинул свой пост, Уинтер и Бивс вновь заняли ответственные должности в австралийской армий [139, с. 19—20].
События в Европе приобретали угрожающий характер, неотвратимо надвигалась война, чему в немалой степени способствовала политика «умиротворения» фашистских агрессоров, проводимая британским правительством. Эта политика получила полное одобрение и поддержку со стороны правительства Австралии. Так, заместитель премьер-министра и лидер Аграрной партии Э. Пейдж, выступая 5 октября 1938 г. в парламенте, от имени австралийского правительства восторженно заявил: «Весь мир приветствует с облегчением завершение переговоров в Мюнхене, которые устранили реальную угрозу всеобщей войны, породили глубокое чувство признательности к тем, кто сделал возможным успех переговоров... можно надеяться, что Мюнхенское соглашение... откроет новую 184
эру в международных отношениях, когда противоречия, неизбежно возникающие время от времени между нациями, будут разрешаться путем мирных переговоров на основе разума и справедливости» [28, 1938, г. 157, с. 388, 391].
Вступив на пост премьер-министра, Р. Мензис в первом обращении к австралийскому народу 26 апреля 1939 г. поспешил подчеркнуть, что в своей внешней политике возглавляемое им правительство будет по-прежнему целиком ориентироваться на Великобританию. При этом он отметил «особую роль» Австралии на Тихом океане (что несколько лет спустя, после второй мировой войны, стало одним из главных принципов австралийской внешней политики). «Это правда, что мы немногочисленны, — говорил Мензис,— но у нас есть энергия, знания и ресурсы, и я не вижу причины, по которой мы не могли бы играть не только самостоятельную, но и эффективную роль в делах на Тихом океане». Мензис вновь повторил уже известные положения о том, что Австралия не будет нейтральной в войне, в которой примет участие Великобритания: «Ее мир — наш мир; если она воюет, то воюем и мы...» [187, с. 24].
Однако несмотря на то, что австралийское правительство занимало верноподданническую позицию в отношении Англии, оно предпринимало некоторые шаги, имевшие целью приобрести в лице Соединенных Штатов дополнительного гаранта безопасности Австралии. Но, делая их, австралийское правительство все время оглядывалось на своего британского патрона и потому часто сбивалось с пути и возвращалось на исходную позицию.
В начале 30-х годов австралийско-американские отношения приобрели даже довольно натянутый характер. Оснований к тому было несколько. В июле 1931 г. американская пароходная «Мэтсон навигейшн компани», обслуживавшая линию Сан-Франциско— Сидней, продолжила ее до Окленда. Британской компании «Юнион ронял мейл», которая и раньше сильно страдала от конкуренции американцев, был нанесен дополнительный удар. Британскую компанию поддержали профсоюзы моряков и докеров Австралии и Новой Зеландии, потребовавшие, чтобы правительства этих стран запретили американской компании осуществлять морские перевозки между двумя доминионами. Австралийское общественное мнение было отражено в статье, опубликованной в мельбурнской газете «Эйдж». В ней, в частности, говорилось: «Тщательно организованное американское вмешательство в морские перевозки между доминионами вызывает необходимость немедленных совместных оборонительных действий Австралии и Новой Зеландии... Поскольку американцев бесполезно уговаривать, главной обязанностью страны является защита своего собственного благополучия. Благосостояние Австралии и Новой Зеландии, конечно, не будет поднято смиренной передачей американцам монополии на осуществление пароходного движения в Тихом океане» (цит. по [111, с. 9]).
Под нажимом Великобритании австралийское правительство несколько лет откладывало принятие решения по этому делу. Не возымел действия даже вызов торгового консула британского по-
185
сольства в Вашингтоне Г. Чокли в государственный департамент, где ему было заявлено, что действия Англии и ее доминионов против «Мэтсон навигейшн компани» могут заставить американское правительство внести на рассмотрение конгресса ограничительный закон в отношении британских пароходных компаний [31, т. 1, с. 708—710].
Более того, в июне 1937 г. в государственный департамент США был передан меморандум австралийского правительства, подтвердивший его отрицательную позицию в отношении деятельности «/Мэтсон навигейшн компани». Но теперь реакция американского правительства была вялой, ибо, как сообщил Хеллу председатель морской комиссии конгресса Д. Кеннеди, по новому закону о торговом мореходстве 1936 г. субсидирование «Мэтсон навигейшн компани» прекратилось 30 июня 1937 г. и не будет возобновлено. Спор, длившийся 7 лет, сам по себе угас [31, т. 2, с. 106].
Другим фактором, омрачавшим австралийско-американские отношения, был постоянный дефицит в торговле Австралии с США. Так, за 1921/22—1929/30 гг. Австралия экспортировала в США товаров на сумму 85 756 тыс. ф. ст., а импортировала — на 296 215тыс. ф. ст. [192, с. 306].
Торговые связи Австралии с США затрудняло отсутствие торгового договора. Дело в том, что торговые отношения Британской империи с США основывались на торговом соглашении 1815 г., где говорилось о том, что его действие распространяется лишь на территорию Британских островов. Из-за отсутствия австралийско-американского торгового договора австралийские дельцы не имели права находиться на территории Соединенных Штатов и вести там коммерческие операции. Когда в 1924 г. США ввели у себя законодательство, ограничившее иммиграцию, австралийские бизнесмены могли въезжать в страну только в пределах квоты, установленной для всех австралийских иммигрантов (121 человек в год), или как временные посетители. Использование последней возможности, понятно, крайне затрудняло деятельность австралийских деловых людей в США.
Время от времени между Австралией и США начинались переговоры о заключении торгового договора, но всякий раз заканчивались неудачей. Это объяснялось тем, что американцы требовали от австралийского правительства отмены высоких тарифных барьеров для американских товаров в обмен на улучшение условий деятельности австралийских бизнесменов в США. Так, например, помощник государственного секретаря США Дж. Коттон в меморандуме от 12 января 1930 г. указывал на то, что статус австралийских бизнесменов в Соединенных Штатах «не так неудовлетворителен, как нынешний статус американских бизнесменов в Австралии, чьи торговые операции являются предметом едва ли не самой жесткой тарифной дискриминации» [111, с. 8—9].
Третьим обстоятельством, ухудшавшим австралийско-американские отношения, было принятие в США в 1932 г. закона о предоставлении Филиппинам независимости в течение десяти лет, вы-186
звавшее в Австралии сильное раздражение. Австралийское правительство усмотрело в этом желание Соединенных Штатов вообще уйти из западной части Тихого океана и тем значительно усложнить военно-стратегическое положение Австралии в этом районе. В одном из сообщений государственному секретарю Хеллу, относящемуся к февралю 1936 г., американский генеральный консул в Сиднее Д. Моффет писал о «растущем возмущении нашей политикой ухода с Филиппин» [111, с. 11].
Решение США было тем более неприятно австралийцам, что за два года до этого, в 1930 г., на Лондонской конференции, посвященной программам военно-морского строительства, Соединенные Штаты отказались дать согласие на значительное увеличение численности легких крейсеров британского флота. Австралийское правительство считало, что эти действия США наносят серьезный ущерб интересам обороны пятого континента.
Во второй половине 30-х годов австралийско-американские торгово-экономические отношения продолжали ухудшаться. Правда, в феврале 1938 г. была сделана попытка их улучшить — начались прямые австралийско-американские переговоры о заключении торгового договора между двумя странами. Но после весьма длительного и часто открыто неприязненного обмена мнениями они были практически прерваны в июне 1939 г. В сентябре началась вторая мировая война, а государственный департамент США. все еще ожидал ответа из Канберры на свое июньское послание-австралийскому правительству по поводу дальнейшего хода переговоров.
В годы, предшествовавшие второй мировой войне, еще более-вяло развивались австралийско-американские политические отношения. Несмотря на весьма недвусмысленные намеки американского правительства еще в 1938 г. о готовности установить прямые дипломатические отношения с Австралией, австралийское правительство направило в Вашингтон своего посланника лишь спустя полгода после начала второй мировой войны. Хотя правительство Австралии испытывало некоторые сомнения относительно мощи Великобритании и ее готовности оказать Австралии эффективную военную помощь, оно все-таки связывало судьбу страны с судьбой Альбиона. Поэтому, когда Великобритания объявила войну Германии, Мензис поступил в полном соответствии с программой, обнародованной 26 апреля 1939 г. В заявлении по радио, сделанном 3 сентября 1939 г., он сообщил австралийцам, что «Англия объявила войну Германии и следствием этого явилось то, что Австралия тоже вступила в войну» [124, с. 152].
Система австралийского колониального управления Папуа в 20—30-х годах не претерпела практически никаких изменений. Законодательный и Исполнительный советы продолжали по-прежнему существовать в качестве декорума. Произошли лишь количественные изменения. В 1924 г. состав Исполнительного совета увеличился с 6 до 9 членов (один из них — неофициальный — выбирался из числа неофициальных членов Законодательного совета).
187
Тогда же был расширен Законодательный совет, состоявший раньше из 6 официальных и 3 назначенных неофициальных членов. После 1924 г. в него вошли 8 официальных и 5 неофициальных членов, один из которых представлял христианские миссии, действующие в колонии. Практически же вся полнота власти безраздельно принадлежала губернатору.
В системе колониального управления существовало несколько департаментов: земельный, сельскохозяйственный, горнодобывающий, здравоохранения и др. Координировал их работу секретариат губернатора.
В деревнях были созданы деревенские советы, которые должны были выражать чаяния коренного населения и действовать, по выражению Муррея, «постоянно оглядываясь на туземные обычаи и традиции». Но в действительности эти советы использовались властями как дополнительный рычаг колониального администрирования.
Необходимо подчеркнуть, что колониальное управление по-прежнему распространялось фактически лишь на небольшую часть колонии. Правда, время от времени в глубь острова отправлялись экспедиции. Так, в 1907 г. Монктон пересек территорию от реки Уариа до Лейкекаму. В 1913 г. в западной части колонии было открыто озеро, названное озером Муррея. В 1928 г. два патрульных офицера, Кэриус и Чемпион, прошли от реки Флай до реки Сепик. В 1935 г. Хейдс и О’Молли во время экспедиции в горные районы западной части колонии обнаружили плато, которое было названо Большим Папуасским. Двумя годами раньше подобное плато нашли в горах западной части бывшей германской территории Новая Гвинея. Открытые районы были объявлены «неконтролируемыми областями», доступ в которые без особого разрешения был запрещен до 1939 г.
В 1906 г. был опубликован новый закон о порядке приобретения земли европейскими колонистами в Папуа. Согласно закону монопольное право на приобретение земельных участков у коренного населения сохранялось за австралийским правительством. Последнее передавало их колонистам не в собственность, а в аренду за незначительную плату на срок до 99 лет. Для стимулирования притока европейских поселенцев колониальные власти существенно изменили порядок уплаты ренты в первые годы пользования землей. Так, за обрабатываемые земли была установлена плата в размере 5% ее первоначальной стоимости. В тех случаях, когда земля предоставлялась в пользование на срок более 30 лет, за первые 10 лет не взималось никакой платы, а в течение последующих 10 лет арендаторы уплачивали не более 6 пенсов за акр. Для пастбищных земель была установлена иная плата — 2,5% ее первоначальной стоимости с аналогичными скидками для долгосрочной аренды. Известные льготы предоставлялись лицам, арендовавшим землю и на более короткие сроки. Не взималось, например, никакой платы за межевание земли, которую предполагалось продать.
188
Заявки на приобретение земельных участков рассматривались сначала земельной комиссией в составе трех членов, назначавшихся губернатором, а затем направлялись ему для окончательного решения. Для предотвращения спекуляции, к которой могли бы привести столь благоприятные условия аренды, были выработаны специальные положения, в соответствии с которыми земельная комиссия в случае злоупотреблений имела право выносить рекомендации об отмене льготных условий землепользования. В то же время при возникновении трудностей у арендатора комиссия могла предоставлять ему дополнительные льготы. Результатом введения закона 1906 г. было заметное оживление в приобретении земельных участков в Папуа европейскими колонистами. Если в середине 1906 г. в аренде находилось лишь 2089 акров, то в 1907 г.— 45 913, в 1908 г.— 194 393, а в 1911 г.— уже 364 088 акров; в последующие годы темпы приобретения земельных участков снизились.
Широкие размеры аренды земли в Папуа не повлекли соответствующего увеличения культивируемой площади в колонии, хотя некоторый рост наблюдался. Так, если в 1907 г. обрабатывалось 1467 акров, то к 1915 г.— 44 447 акров. Во время «земельного бума» многие арендаторы приобрели значительно больше земли, чем могли обработать. Колониальные власти вынуждены были отобрать часть предоставленных в аренду земель. Только в 1913/14 г. было конфисковано 78 457 акров.
Основу экономики колонии составляло сельское хозяйство, специализировавшееся на производстве копры и каучука, которые были главными статьями экспорта Папуа. Поскольку цены на них на мировом рынке постоянно колебались, то и размер выручки от экспортной торговли колонии резко менялся.
Что касается добычи золота, продажа которого ранее давала наибольший доход, то в годы, предшествовавшие первой мировой войне, она сократилась до минимума. Общее числе рабочих, занятых на золотых приисках, не превышало 200 человек.
Незадолго до начала первой мировой войны в Папуа были открыты новые месторождения золота, а также обнаружены запасы меди и нефти, что дало повод колониальной администрации вновь рекламировать Папуа как выгодное место для помещения капиталов.
Первая мировая война не коснулась непосредственно Папуа: на ее территории не происходило никаких военных действий, но она оказала отрицательное влияние на экономику колонии. Из-за войны закрылись многие рынки сбыта. Цены на местные товары резко упали, а транспортные расходы возросли. В первые послевоенные годы положение еще более ухудшилось. Если в 1919/20 г. было экспортировано 4080 т копры на сумму 124 035 ф. ст., то в 1921/22 г.— 5063 т на сумму 87 377 ф. ст. Аналогичное положение наблюдалось с экспортом каучука. В 1919/20 г. от его продажи было получено 41 542 ф. ст., а в 1922/23 г.— 5907 ф. ст.
Подобное явление объяснялось не только падением цен на эти товары, но и распространением на колонию в 1921 г. действия На
189
вигационного акта. Согласно акту, перевозить товары, производимые в колонии, могли только корабли, находившиеся в собственности австралийцев. Товары из Папуа доставлялись сначала в Сидней, а затем уже попадали на внешние рынки, что значительно увеличивало стоимость транспортировки. То же самое происходило и с товарами, ввозимыми в колонию. Хотя Папуа в основном торговала с Австралией, тем не менее ряд товаров поступал из других стран; в частности, рис колония получала из азиатских государств. Поэтому корабли сначала заходили в Сидней, а затем совершали обратный путь на север. Товары, вывозившиеся из Папуа в Англию, также доставлялись в Сидней, а лишь потом к берегам Великобритании.
После принятия Навигационного акта положение Папуа настолько ухудшилось, что туда была направлена специальная комиссия, которая сделала вывод, что применение акта к Папуа ошибочно. Комиссия также отметила: «Повсеместно наблюдается сильное негодование по поводу действий австралийского правительства... направленных на то, чтобы положить деньги в карманы сиднейских судовладельцев и торговцев» [71, с. 40]. В 1925 г. действие Навигационного акта в отношении Папуа было прекращено.
Но вскоре на колонию надвинулось новое бедствие: мировой экономический кризис, начавшийся в 1929 г., сильно ударил и по ее экономике. Если в 1927/28 г. колония экспортировала каучука на 102 158 ф. ст., то в 1928/29 г.— только на 46 816 ф. ст. Подобное положение сохранялось до середины 30-х годов. Лишь в 1936 г. стоимость экспорта каучука достигла 124 174 ф. ст. В 1930 г. копры было вывезено на 176 485 ф. ст., в 1931 г.— на 93 710 ф. ст. Положение с экспортом копры не улучшилось и во второй половине 30-х годов.
Большие надежды, которые колониальная администрация связывала с развитием добывающей промышленности, в общем-то не оправдались. Не удалось организовать не только промышленной добычи, но даже серьезного геологического изучения запасов нефти, открытых еще в 1911 г. Некоторое развитие получила добыча меди. В 1924 г. недалеко от Порт-Морсби началась довольно интенсивная разработка медных месторождений. Через два года на добыче меди было занято около 1 тыс. коренных жителей и 100 европейцев. Экспорт меди в то время составлял треть общего вывоза колонии. В 30-х годах ведущее место в экспорте Папуа вновь заняло золото.
Развитие плантационного хозяйства и добывающей промышленности в колонии значительно обострило проблему рабочей силы, потребовало пересмотра существовавшего трудового законодательства. Еще в 1907 г. был принят Закон № 1, вводивший новые положения о труде в Папуа. В этом законе, действовавшем до 1942 г., сохранялись многие черты старого законодательства, в частности лицензионная форма найма рабочих, которые привлекались к работе лишь с разрешения колониальных властей, выдававших в этих случаях специальные лицензии работодателям. Послед
190
ним позволялось самостоятельно нанимать только слуг. Работодатели могли нанять рабочих и до получения лицензии, но власти имели право аннулировать заключенные контракты.
Контракты должны были составляться только в письменной форме; в них содержалось обязательство работодателя после истечения срока контракта бесплатно доставлять нанятых им рабочих домой. Коренные жители колонии могли привлекаться на работы на срок до трех месяцев. Исключения из этого положения оговаривались в контракте.
Закон 1907 г., направленный на защиту интересов европейских колонистов, давал работодателям возможность заключать долгосрочные контракты, а также усиливал санкции, применявшиеся в отношении рабочих из коренного населения колонии. За невыход на работу нанятого рабочего подвергали тюремному заключению на срок до 14 дней или штрафу в размере двухнедельного заработка, за бегство заключали в тюрьму на срок до трех месяцев или направляли на принудительные работы на такой же срок. В 1910 г. по найму работало 5585 коренных жителей колонии — вдвое больше, чем в 1905 г., в 1919 г. — 8610 человек. В дальнейшем эта цифра снизилась вследствие экономической депрессии.
Несмотря на то что было принято трудовое законодательство, а также учреждены департамент по делам туземного населения и организация по наблюдению за выполнением этого законодательства, на плантациях царил произвол. Единственное положение из трудового законодательства, к которому охотно прибегали плантаторы,— это санкции в отношении рабочих. Труд рабочих на плантациях напоминал рабский. Интересно в этой связи привести рассуждения губернатора Папуа Д. Муррея. «Конечно, рабство есть явление, относящееся к прошлому,— заявил он, выступая в 1921 г. на заседании Австралийской ассоциации содействия развитию науки.— Но оно во многом остается в системе трудовых контрактов. И я не думаю, что будет преувеличением сказать, что в запрете этой системы больше лицемерия, чем в ее поддержке. К несчастью, система трудовых контрактов является необходимостью в ряде мест, в том числе на Новой Гвинее, но этот институт не следует считать постоянным» [71, с. 41—45].
В 1926 г. была принята поправка к трудовому законодательству, предоставлявшая возможность нанимать рабочих из коренного населения без контрактов и на неопределенный срок. Но плантаторы предпочитали пользоваться системой контрактов для найма рабочей силы.
Тяжелые условия труда пугали коренных жителей колонии, и они неохотно шли на заключение контрактов. Поэтому плантаторы испытывали постоянный недостаток в рабочей силе. Чтобы вынудить коренных жителей Папуа пойти на плантации, колониальная власть приняла в 1918 г. Закон о подушном налоге, согласно которому все мужчины из местного населения в возрасте от 16 до 36 лет должны были ежегодно уплачивать налог в размере 1 ф. ст. Колониальная администрация полагала, что, поскольку денег у
191
коренных жителей нет, они будут наниматься к европейским плантаторам. Действительно, введение закона привело к некоторому увеличению рабочих на плантациях: если в 1917 г. их насчитывалось 7059 человек, то в 1918 г.— 8610. Но и этого было недостаточно. В начале второй мировой войны, в 1940 г., общая численность рабочих в плантационных хозяйствах фактически не превышала 10 тыс. человек (общее население колонии в то время составляло 200 тыс. человек).
Не полагаясь на введение подушного налога, колониальная администрация приняла в 1918 г. закон о туземных плантациях, который обязывал жителей деревень отводить часть земельной площади (из расчета один акр на одного жителя) для создания плантационных хозяйств, производящих сельскохозяйственные культуры на экспорт. Колониальные власти предписывали, какие именно культуры должны выращиваться в той или иной деревне, в том или ином районе. Устанавливались санкции за отказ выполнять такие предписания. Часть урожая, размер которой определялся властями, являлась собственностью соответствующей деревни, остальное принадлежало колониальной администрации. Последняя реализовала весь урожай. Деньги, полученные от продажи доли урожая, принадлежавшей жителям деревни, после вычета подушного налога шли в деревенскую казну. Таким образом администрация рассчитывала расширить плантационное хозяйство для увеличения экспортных возможностей колонии и одновременно получить реальную основу для взимания подушного налога.
В течение всего периода между мировыми войнами колониальные власти настойчиво стремились провести в жизнь закон о туземных плантациях. Но результаты были плачевны. О производстве копры и каучука говорилось выше. Что касается кофе, то его в 1939 г. было продано всего 70 т, что дало коренным жителям выручку 1,9 тыс. ф. ст. Незначительным было и производство риса, несмотря на то что власти пытались создавать рисовые плантации в различных частях колонии.
Плантации продолжали существовать только вследствие того, что колониальные власти принуждали коренных жителей работать в этих хозяйствах. Это признавали и представители администрации. «Плантации выжили,— говорил один из чиновников.— только, как мне кажется, из-за страха туземцев перед тюремным заключением, которое грозило им в случае неповиновения» [71, с. 47].
Таким образом, почти за 4 десятилетия австралийского управления экономическая жизнь Папуа не претерпела почти никаких изменений. Колониальная администрация продолжала существовать за счет субсидий австралийского правительства. Если ко времени вступления Муррея на пост губернатора колонии эта субсидия ежегодно составляла 40 тыс. ф. ст., то в конце его деятельности, в 1940 г.,— 85 тыс. ф. ст.
Весьма плачевным было положение и в области просвещения и здравоохранения. Школьное образование в колонии оставалось в руках христианских миссий. Муррей пытался создать систему 192
правительственных школ. В 1908 г. он предложил организовать в каждом административном районе по одной правительственной школе, для преподавания в которых предполагалось привлекать австралийских учителей. Эти школы, по мысли Муррея, должны были готовить учителей для деревенских школ. Но этот план так и не был реализован.
В миссионерских школах преподавали учителя из коренного населения, которые сами, по сути дела, было малограмотными. Но даже и таких школ в колонии было недостаточно. К 1939 г. в Папуа действовало всего 45 школьных центров.
Медицинское обслуживание было крайне ограниченным. Имелось всего 3 больницы, в которых лечились главным образом европейцы. После первой мировой войны в деревнях время от времени стали появляться так называемые объездные доктора. В 1933 г. впервые группа коренных жителей была послана в Сидней для обучения начаткам медицинских знаний. Медицинскую помощь населению оказывали также христианские миссии, причем половину связанных с этим расходов несли колониальные власти.
Часть Новой Гвинеи, принадлежавшую Германии, Австралия захватила в начале первой мировой войны. До мая 1921 г. она управлялась австралийской военной администрацией. В сентябре 1914 г. в Рабауле была опубликована прокламация, в которой командующий австралийскими войсками полковник У. Холмс заявил, что «жизнь и имущество мирных европейских колонистов будут защищены, законы и обычаи колонии оставлены в силе, если они не будут противоречить условиям военного времени» [169, с. 3].
Принципы управления территорией были сформулированы в «условиях капитуляции», которые 17 сентября 1914 г. подписали Холмс и исполнявший обязанности губернатора «германской» Новой Гвинеи Хабер. Согласно этому документу, австралийская военная администрация получала абсолютную власть над территорией на весь период оккупации, до решения вопроса о дальнейшей ее судьбе в соответствующем мирном договоре.
В «условиях капитуляции» отмечалось, что все германские служащие становятся военнопленными, но те из них, «чьи обычные занятия имеют гражданский характер, после того как они дадут клятву о сохранении нейтралитета на весь период войны, освобождаются и им разрешается вернуться к исполнению обычных обязанностей» [169, с. 4]. Включение такого положения в «условия капитуляции» объяснялось не мягкостью У. Холмса, а его стремлением получить определенную выгоду от этого гуманного акта. Дело в том, что обстановка на острове была очень сложной. Война прервала обычные пути снабжения колонии продовольствием. Остро ощущалась нехватка риса и консервированного мяса. У коренного населения накопилось немало обид на колонизаторов. Мобилизация чиновников и бизнесменов в армию привела к ослаблению колониального режима и усилила волнения среди коренных жителей, рабочие начали покидать плантации.
13 Заказ 91
193
Остановить надвигавшийся хаос и сохранить колониальный режим можно было лишь срочным возвращением немецких служащих и бизнесменов на их посты. В том, что они будут вести себя лояльно по отношению к австралийским властям, можно было не сомневаться, ибо немцы боялись коренных жителей и искать защиты и покровительства могли только у австралийской армии.
Германские колониальные чиновники вернулись на свои должности, плантаторы — на плантации, а христианские миссионеры — в свои миссии. На территории продолжали действовать германские законы. Сохранились также назначенные еще германской колониальной администрацией местные власти — лулуаи и тултулы. Австралийцы оставили в неприкосновенности и германскую систему налогообложения.
В результате всех этих действий экономика колонии не пострадала. Было даже достигнуто некоторое увеличение производимой там продукции. Например, экспорт копры с 1915/16 по 1920/21 г. возрос с 11 тыс. до 23,7 тыс. т.
В бывшей «германской» Новой Гвинее, как и в Папуа, проблема обеспечения плантаций европейцев рабочей силой стояла весьма остро. В 1915 г. австралийская военная администрация ввела в действие Закон о труде, основанный на положениях законопроекта, который до первой мировой войны подготовили германские колониальные власти, но из-за начавшихся военных действий не успели утвердить. Закон предусматривал наказания за отказ работать, за небрежное выполнение обязанностей, за бегство с плантаций. Единственное положение, которое было опущено,— это существовавшее при немцах право плантаторов на телесные наказания рабочих из коренного населения. В 1919 г. австралийское правительство даже «абсолютно запретило телесные наказания», но плантаторы не придавали сколько-нибудь серьезного значения этим предписаниям и продолжали «воспитывать» туземцев кнутом. В отдельных случаях они выражали свое несогласие с решением колониальных властей. Так, группа плантаторов в письме австралийскому правительству писала: «Туземцы этих островов представляют собой человеческие создания, находящиеся на самом низком в мире уровне развития, и их воспитание поэтому равно нулю. Даже туземцы, живущие вокруг Рабаула, хоть и находятся в постоянном контакте с белым населением уже почти тридцать лет, являются не более чем детьми, и они должны подвергаться порке так же... как невоспитанные мальчики в цивилизованных странах» [84, с. 90].
Не возражали против телесных наказаний коренных жителей и христианские миссии. Так, лютеранские миссионеры советовали капитану корабля, принадлежавшего миссии, послать членов экипажа из коренных жителей к лулуаи находившейся вблизи миссии деревни, для того чтобы их «положили на ящик», т. е. высекли (в деревнях обычно секли людей на ящиках).
Австралийской военной администрации удалось несколько увеличить численность коренных жителей, работавших на плантациях.
194
Если в 1914 г. их было 20 тыс., то к 1921 г. — около 28 тыс. человек.
Правительству Австралии очень хотелось «оставить за собой» бывшую германскую колонию в Новой Гвинее. Поэтому сразу же после аахвата территории в австралийском парламенте начались дебаты о его юридическом оформлении. В речи лидера оппозиции Д. Кука, произнесенной в палате представителей в апреле 1915 г.* подчеркивалось, что судьба захваченных в Тихом океане германских колоний должна быть решена на общеимперской конференции еще до окончания войны. «Мы были бы рады взять на себя любую ответственность, вытекающую из факта обладания тихоокеанскими островами,— говорил Д. Кук,— хотя, по моему суждению, они вообще не должны были бы принадлежать какой-либо другой стране, кроме Австралии» [169, с. И]. Англо-германский договор о разделе Новой Гвинеи, результатом которого явилось образование германской колонии на острове, лидер либералов назвал «идиотским решением».
Тогдашний премьер-министр А. Фишер, лидер лейбористов, указав на то, что британское правительство не хотело бы созывать общеимперскую конференцию в 1915 г., заявил: «Если решение короля не совпадает с нашими желаниями, мы не должны на них настаивать... Это является политической линией нынешнего правительства не только в отношении созыва конференции, но и в отношении любого другого дела». Он попросил членов парламента воздержаться от дальнейшей дискуссии по территориальным проблемам и высказал уверенность, что британское правительство отнесется с пониманием к стремлению Австралии после войны «получить право на участие в выработке решений по политическим вопросам» [169, с. 12].
Во время войны австралийское правительство не имело ясного представления о том, какова позиция Великобритании в отношении дальнейшей судьбы бывшей германской колонии на Новой Гвинее. Дело в том, что Англия стремилась укрепить столь нужные ей связи с Японией. Зная большую заинтересованность последней в захвате германских колоний в Тихом океане, она вела с Японией политическую игру, пытаясь, с одной стороны, удовлетворить ее колониальные аппетиты, а с другой — не упустить своего на Тихом океане. В феврале 1917 г. Великобритания заключила с Японией секретное соглашение, в котором обязалась поддерживать претензии Токио на германские тихоокеанские колонии, расположенные севернее экватора, в обмен на согласие японцев поддержать британскую аннексию германских тихоокеанских колоний южнее экватора. О передаче этих колоний (речь шла о «германской» Новой Гвинее и острове Науру) Австралии в соглашении ничего не говорилось.
У. Хьюз, занимавший в то время пост премьер-министра Австралии, был поставлен в известность о заключенном соглашении, но не возражал против него, ибо дело происходило в разгар развернутой немцами смертоносной «подводной войны».
13*
195
После вступления в войну Соединенных Штатов положение Австралии как будущей наследницы германских тихоокеанских территорий стало еще более неопределенным. США, не заинтересованные в захвате германских колоний в Тихом океане другими державами, начали развивать идею о предоставлении им самоуправления. Эта позиция США нашла свое официальное выражение в послании американского президента В. Вильсона 8 января 1918 г., в пункте 5 которого, в частности, говорилось: «Абсолютно беспристрастное урегулирование всех колониальных притязаний должно происходить с учетом интересов туземного населения, имеющих такой же вес, как и обоснованные требования правительств, чьи права должны быть определены» [181, с. 9].
Реакция стран Антанты на этот пункт послания В. Вильсона была разная. В британском правительстве на этот счет не было единого мнения. Так, министр колоний В. Лонг выступил за аннексию германских колоний, а премьер-министр Д. Ллойд Джордж поддержал идею В. Вильсона.
В Австралии предложение американского президента не встретило сочувствия. Д. Кук, вошедший в австралийское правительство в качестве морского министра, заявил в парламенте: «Австралия была первой страной, захватившей германскую колонию, и мы будем продолжать ее удерживать. Я глубоко убежден, что мы имеем на это право». Сенатор М. Рейд, выступая на заседании сената, сказал: «Новая Гвинея является страной, которую мы должны удерживать как составную часть Австралии. Мы в долгу перед папуасской расой. Они попали в наши руки, и мы должны заботиться о них, как о детях, подготавливать их к самостоятельной жизни. Они верят нам... Мы не согласны с политикой, отрицающей аннексию. Мы должны удерживать Новую Гвинею ради ее народа и в интересах нашей будущей безопасности» (цит. по [169, с. 273]).
Правда, некоторые парламентарии утверждали, что обладание колониями создаст дополнительные трудности для Австралии. Делались заявления в духе В. Вильсона и Д. Ллойд Джорджа. Но в австралийских «верхах» все-таки преобладала точка зрения, которую выразил сенатор Т. Бэкхэп. «Современные австралийцы,— заявил он,— не хуже любого народа на земле могут справедливо обращаться с цветным населением, и потому, при всем уважении к В. Вильсону, нам не следует присоединяться к провозглашенному им политическому курсу, допускающему, чтобы туземцы различных колоний, которые были захвачены нами у врага, сами решали вопрос: перейти им под наш флаг или вернуться под флаг нашего врага. Воображаю каннибалов Новой Гвинеи, советующихся по поводу дела, которое представляет жизненно важный интерес для нашего потомства» (цит. по [169, с. 275]).
В апреле 1918 г. У. Хьюз и Д. Кук выехали в Лондон и оставались там до подписания Версальского мирного договора. Чтобы укрепить позиции своего премьер-министра, австралийский парламент 14 ноября 1918 г., сразу же после заключения перемирия, на совместном заседании обеих палат принял резолюцию, в которой
196
говорилось: «Для будущей безопасности и благосостояния Австралии весьма существенно, чтобы германские владения в Тихом океане, которые сейчас оккупированы австралийскими и новозеландскими войсками, ни при каких обстоятельствах не были возвращены Германии и чтобы при решении вопросов относительно этих островов были бы проведены консультации с Австралией» [169, с. 280].
Вопрос о судьбе бывших колониальных владений Германии решался на мирной конференции в Версале в 1919 г. По Версальскому договору Австралии был передан мандат на управление «германской» Новой Гвинеей. Сразу же после подписания договора У. Хьюз отправился на родину. Выступая в парламенте 19 сентября 1919 г. по поводу мандатной системы, Хьюз сказал: «Мы старались получить прямой контроль... но „четырнадцать пунктов" президента Вильсона запретили это и... был принят принцип мандата. Таким образом, существо спора изменилось, и, после того как нам был объяснен принцип мандата, мы увидели, что эта форма согласуется с интересами не только нашей национальной безопасности, но и нашего благосостояния» (цит. по [169, с. 48]). Парламент одобрил действия У. Хьюза и принятие мандатной системы.
Получив мандат на управление «германской» Новой Гвинеей, австралийское правительство прежде всего решило экспроприировать всю находившуюся там германскую собственность. Немецкие плантаторы и бизнесмены были высланы в Германию. Компенсацию за потерянное имущество им выплачивало германское правительство в счет военных репараций союзникам. Покинутые плантации были проданы австралийцам, в основном бывшим военнослужащим. Большинство из них не имели представления о ведении тропического земледелия и быстро обанкротились. В результате экономическое положение территории значительно ухудшилось, и австралийские власти пожалели о своем скором решении. Правительство Австралии рассматривало также вопрос о высылке с острова германских христианских миссионеров, опасаясь, что последние будут настраивать коренных жителей против австралийцев и сеять среди них смуту. Но в конце концов они были оставлены на острове.
Следующим шагом Австралии было решение вопроса об организации совместного управления Папуа и Новой Гвинеей (так стала называться территория, ранее являвшаяся колонией Германии). Королевская комиссия из трех членов, в числе которых был Д. Муррей, после ознакомления на месте с положением дел пришла к выводу о том, что целесообразно сохранить раздельное управление каждой из них, поскольку трудно управлять столь большой территорией из одного центра. Против этого решения в комиссии был лишь Муррей, рассчитывавший стать губернатором обоих владений.
Актом о Новой Гвинее, принятым австралийским парламентом в 1920 г., на территории было создано отдельное управление. Этот акт вошел в силу в мае 1921 г. Военная администрация передала
197
функции управления гражданской власти. Согласно Акту 1920 г., верховную власть в Новой Гвинее осуществлял генерал-губернатор Австралии, который назначал членов администрации территории. Ее глава — администратор — находился в Рабауле. Не было предусмотрено ни Законодательного, ни Исполнительного совета. Их создали позднее, в 1932 г.
В последующие годы, вплоть до второй мировой войны, Папуа и Новая Гвинея были отделены друг от друга не только юридически, но и по существу. Не разрешалось свободного перемещения из одной территории в другую не только для коренных жителей, но и для европейцев. Существовало даже два разных языка межгруппового общения коренного населения территорий: в Папуа — полицейский моту, а в Новой Гвинее — пиджин-инглиш.
Что касается системы управления, то и колония Папуа, и подмандатная территория Новая Гвинея управлялись совершенно одинаково — на старый колонизаторский манер, хотя Австралия дала торжественное обещание Лиге Наций готовить подмандатную территорию к получению самоуправления.
В соответствии с мандатом Австралия управляла Новой Гвинеей как составной частью своей территории. Германские законы были отменены. Вместо них стали действовать австралийские федеральные законы, законы штата Квинсленд, а также обычное право коренных жителей территории в отношении землевладения, охоты и рыболовства.
Но условия мандата требовали от Австралии еще и выполнения «священной миссии»: развития населения территории. Потому-то в Акте о Новой Гвинее 1920 г. указывалось, что австралийское правительство будет делать все возможное для материального и морального благополучия коренных жителей и их социального прогресса.
В течение двадцатилетнего пребывания Новой Гвинеи под австралийским мандатом в политическом положении территории не произошло никаких прогрессивных изменений. В первые 12 лет не существовало даже самого эфемерного декорума представительных органов, таких хотя бы, как в Папуа.
По Акту 1932 г. о Новой Гвинее, на территории взамен совещательного органа при администраторе был образован Исполнительный совет, который состоял из чиновников колониальной администрации и одного назначенного неофициального члена. Был создан, и Законодательный совет, в который наряду с колониальными чиновниками входили 7 неофициальных членов. Все неофициальные члены обоих советов являлись европейцами.
Местное управление в Новой Гвинее осталось без изменений. В деревнях сохранялись лулуаи и тултулы. В некоторых местах лулуаи назначались начальниками над несколькими деревнями, в этом случае власти выдавали им палки с серебряными набалдашниками. Австралийская администрация платила лулуаям маленькое жалованье. Они получали указания от патрульных офицеров* время от времени наезжавших в деревни.
198
Административно Новая Гвинея делилась на районы. Накануне японского вторжения в период второй мировой войны сущест-вовало 7 таких районов: 3 на самой Новой Гвинее, 4 — на сопредельных островах.
Делались робкие попытки создать деревенские советы. Они были образованы после 1935 г. в нескольких деревнях, но в дальнейшем этот процесс не получил никакого развития.
Не произошло сколько-нибудь существенных изменений и в экономике подмандатной территории. Как и немецкие хозяева Новой Гвинеи, австралийцы очень мало знали об управляемой ими территории. Фактически под их контролем находились небольшие районы вокруг Рабаула и Кокопо на Новой Британии, Маданга и Аитапы — на Новой Гвинее, часть острова Бугенвиль, остров Манус. В 1921 г. австралийцы имели представление лишь об 74 части своей подмандатной территории. Европейское влияние распространялось не более чем на 15—20 км от побережья в глубь острова.
Главным объектом внимания европейцев по-прежнему являлась копра. Австралийские власти пытались наладить производство других видов сельскохозяйственных культур, имевших экспортное значение. С этой целью в 1923 г. была введена должность директора сельскохозяйственного производства. Спустя несколько лет в различных районах подмандатной территории появились плантации хлопка, кофе и оливковых деревьев, но это не изменило положения. Накануне японского вторжения на Новую Гвинею в период второй мировой войны плантации кокосовых пальм занимали 233 тыс. акров (общая площадь европейских плантаций составляла тогда 243 тыс. акров). В период между двумя мировыми войнами объем экспорта копры, так же как и ее стоимость, претерпевал значительные изменения. Но если экспорт копры в основном имел тенденцию к повышению, то ее стоимость, напротив, к понижению. Так, в 1921 г. было экспортировано 23,7 тыс. т копры и получено 1,3 млн. долл., в 1928 г.— соответственно 62,3 тыс. т и 2,4 млн. долл., в 1938 г.— 73,7 тыс. т и 1,7 млн. долл.
В 1921 г. контроль за производством и экспортом копры на подмандатной территории перешел в ведение специально созданного для этой цели бюро. В 1923 г. через бюро было экспортировано 25 тыс. т копры (общий экспорт этой продукции составил 32,6 тыс. т). После 1926 г. плантации опять перешли в руки частных компаний и отдельных лиц.
В первой половине 20-х годов экспорт копры составлял 96% общего вывоза с подмандатной территории. Со второй половины 20-х годов положение коренным образом изменилось, несмотря на то что копра продолжала оставаться важным экспортным сельскохозяйственным продуктом. В 1938 г. экспорт копры составил лишь 7з всего экспорта Новой Гвинеи.
Ведущим экспортным товаром стало золото. В период германского господства золотоносных месторождений на территории Новой Гвинеи найти не удавалось. Немцы говорили, что все золо-
199
то на острове досталось англичанам, а затем австралийцам, захватившим Папуа.
После получения мандата на Новую Гвинею австралийцы в 1922 г. впервые обнаружили золото в районе рек Уариа и Булоло. Но «золотая лихорадка» началась в 1926 г., когда золото нашли в районе Эди-Крик, притока Булоло. Туда хлынули сотни людей. Места были труднодоступные. Снабжение шло через селение Сала-мауа, от которого до приисков добирались 8 дней. Золотодобыча никем не регулировалась, поэтому между золотоискателями происходили острые споры и столкновения. Вследствие антисанитарных условий на приисках вскоре началась эпидемия дизентерии. Австралийское правительство вынуждено было назначить в марте 1927 г. специальную комиссию. В том же году началось строительство двух дорог до приисков, но положение не улучшилось. Тогда австралийские власти решили использовать авиатранспорт для связи районов золотодобычи с внешним миром. По воздуху доставлялись оборудование, строительные материалы, продовольствие и необходимые товары для населения приисков, среди которого в начале 30-х годов было 700 европейцев и 6 тыс. коренных жителей. К этому времени вся золотодобыча перешла в руки нескольких крупных компаний, ведущими среди них были две: «Булоло голд дреджинг» и «Нью Гвини голдфилдс».
Через некоторое время золото было найдено в районе реки Пурари, а в 1937 г. —в районе реки Сепик. Размеры золотодобычи, естественно, быстро увеличивались. Если в 1926 г. было добыто 10,6 тыс. унций золота на сумму 50,3 тыс. долл., то в 1928 г.— 113,9 тыс. на сумму 512,4 тыс., в 1936 г.— 302,6 тыс. на сумму 3,7 млн., а в 1938 г.— 410,1 тыс. унций на сумму 4,1 млн. долл.
Поскольку золотодобывающие компании уплачивали австралийским властям в виде налога 5% стоимости всего добытого золота, у администрации подмандатной территории появился источник дохода. В 1939 г., например, доходы подмандатной территории Новая Гвинея составили 1 млн. долл., тогда как колонии Папуа — 290 тыс. долл. После 1926 г. подмандатная территория перешла, так сказать, на самоокупаемость. Но все это лишь в незначительной мере отразилось на положении коренного населения, ибо деньги, полученные администрацией, шли главным образом на выплату жалованья европейским чиновникам и бизнесменам.
Проблема рабочей силы на подмандатной территории была еще острее, чем в Папуа, поскольку в Новой Гвинее золотодобыча требовала большого числа рабочих рук.
Взамен отмененного германского законодательства австралийская управляющая власть ввела на подмандатной территории закон о труде, аналогичный закону, действовавшему в Папуа. Но в нем были и некоторые отличительные черты. Так, срок действия трудового контракта устанавливался, как правило, на три года, а не на один год, как в Папуа. Продолжительность рабочей недели составляла 55 часов, в Папуа — 50. Минимальная зарплата равнялась 1 долл, в месяц, в Папуа не было фиксированного ми-200
нимума зарплаты. Запрещался наем рабочей силы в деревнях, расположенных на высоте более чем 3 тыс. футов над уровнем моря, для работы на побережье. Объяснялось это тем, что жители горных районов, где не было малярии, попадая в зараженные ею места, в массе своей погибали. Существовало специальное регулирование труда шахтеров и носильщиков: срок действия трудового контракта — 2 года, продолжительность смены — 8 часов, зарплата — 1 долл, в месяц, максимальный груз для переноски — 50 фунтов.
Правда, все эти положения так и остались на бумаге. Плантаторы и владельцы золотых приисков остро нуждались в рабочей силе, но создавать сколько-нибудь сносные условия для рабочих не собирались, и поэтому коренные жители не шли к ним. Население заставляли подписывать контракты насильно. В одном районе, например, вербовщикам не удалось уговорить местных жителей добровольно подписать контракты и 400 местных жителей были попросту «реквизированы» патрульными офицерами. Этот факт стал широко известен, и австралийским властям пришлось назначить комиссию по расследованию инцидента. Последняя установила, что подобные действия обычны при вербовке рабочей силы, что вербовщиков очень часто сопровождают представители управляющей власти, применяющие насилие. Было также обнаружено, что переводчики по наущению вербовщиков переводят отрицательные ответы коренных жителей на вопрос представителей властей, согласны ли они заключить контракт, как положительные. Вербовщики получали от владельцев золотых приисков по 40— 50 долл, за каждого завербованного рабочего.
Несмотря на формальный запрет, на плантациях и приисках по-прежнему применялись телесные наказания рабочих из коренных жителей, по малейшему поводу их заключали в тюрьму. В 1925 г. департамент здравоохранения организовал проверку условий жизни рабочих на плантациях. Обследование показало, что многие из них умирали от дизентерии и пневмонии, 50% рабочих страдали болезнью бери-бери. Ежегодный уровень смертности составлял, по данным управляющей власти, 3,1%.
В соответствии с законом о труде администрация имела право запрещать вербовку слишком большого числа жителей в деревнях, чтобы не наносить ущерба местному сельскохозяйственному производству, но на практике австралийская администрация не только не препятствовала, а всячески способствовала вербовке в огромных масштабах, не считаясь с нуждами коренных жителей. В колониальной практике европейских государств наем 15% взрослого мужского населения рассматривался как максимум. На Новой Гвинее вербовали до 20% мужского населения, в некоторых областях этот процент был еще выше. В ряде деревень района Се-пик, например, ко времени второй мировой войны было взято почти 3/4 всех взрослых мужчин.
В период между двумя мировыми войнами общее число рабочих на европейских плантациях и приисках Новой Гвинеи увели-
201
чилось почти в 1,5 раза: в 1921 г. оно составляло 28 тыс., а в 1940 г.— 41 тыс. Коренные жители использовались также как матросы на кораблях, портовые рабочие, шоферы грузовиков и служащие магазинов. В Рабауле, самом крупном городе подмандатной территории, насчитывалось около 3,5 тыс. рабочих из коренных жителей. Именно здесь в январе 1929 г. произошла первая в истории Новой Гвинеи забастовка. Утром 3 января все рабочие и служащие из коренных жителей, включая полицейских, не вышли на работу. Руководили забастовкой владелец шхуны Самасума и сержант полиции Рами. Они собрали бастующих в католической и методистской миссиях, расположенных в окрестностях Рабаула. Их план заключался в том, чтобы вызвать в миссии европейских работодателей и обсудить с ними вопрос об увеличении зарплаты. Они наивно полагали, что европейцы, умиленные христианским смирением бастующих, немедленно согласятся на это.
Забастовщики напрасно прождали весь день; пищи у них не было, и на следующий день они вернулись на работу. Власти жестоко расправились с ними. 200 полицейских из 217 принимавших участие в забастовке были заключены в тюрьму. Арестовали также Самасуму и Рами. Во время судебного процесса они заявили, что стремились только к тому, чтобы улучшить условия жизни народа. Их приговорили к трем годам тюремного заключения.
Давая объяснения Постоянной мандатной комиссии Лиги Наций по поводу жестокой расправы с забастовщиками, австралийский делегат заявил: «Строгость была необходима... Бастующие вообще не имели никаких оснований для выступления. Они были в значительной степени побуждены к этому несколькими агитаторами. Поэтому жестокие приговоры, вынесенные агитаторам, предотвратят вероятность повторения в будущем подобных выступлений» [84, с. 103].
Но забастовки не прекратились. В 1935 г. бастовали рабочие приисков в районе Эди-Крик, в 1938 и 1941 гг. — в Булоло. Управляющая власть ввела на подмандатной территории закон, в соответствии с которым могла депортировать из Новой Гвинеи тех лиц, чье присутствие рассматривалось как опасное «для мира, порядка и доброго управления».
Отношения между европейским населением и коренными жителями Новой Гвинеи все ухудшались. Многие из тех, кто посещал в то время подмандатную территорию, свидетельствовали об «антитуземной истерии» у европейских колонистов и растущем недоверии и подозрительности у коренных жителей. Европейцы обвиняли христианских миссионеров в том, что они не держат в руках туземцев, а миссионеры ссылались на распущенность своей туземной паствы и безразличие ее к христианству.
Своеобразным выражением недовольства коренных жителей Новой Гвинеи европейским населением было широко распространившееся в 30-х годах движение «культа карго», или «товарного культа». Его проповедники убеждали жителей в том, что, если они будут надлежащим образом готовиться, боги пошлют им множе-202
ство тех товаров, которыми пользуются белые. Предвестником этого будут либо небесные явления, либо голоса. Чтобы открыть дорогу новым товарам, говорили проповедники, коренным жителям, возможно, придется уничтожить обычные деревенские продукты.
Австралийская администрация боролась с «культом карго» полицейскими методами. Проповедников культа арестовывали и подвергали тюремному заключению. Но движение не только не затихало, а получало все более широкое распространение.
В отношении туземного землевладения и землепользования австралийская администрация следовала германским образцам. Закон о земле 1922 г. повторял, в сущности, соответствующие положения германского колониального законодательства. Приобретать землю у коренного населения имела право только австралийская администрация. Полученные таким образом земельные участки власти сдавали в аренду европейским колонистам на срок до 99 лет. Следует подчеркнуть, что процесс приобретения земельных участков европейскими колонистами в Новой Гвинее шел значительно быстрее, чем в Папуа. К 1939 г. в Новой Гвинее в руках европейцев находилось более 900 тыс. акров земли, в то время как в Папуа — 250 тыс. акров.
Несмотря на то что вся земельная площадь, принадлежавшая европейцам, составляла лишь 1,5% общей площади подмандатной территории, коренные жители ощущали явную нехватку земли, поскольку европейские колонисты приобретали лучшие участки, к тому же вследствие особенностей рельефа очень небольшая часть всей территории Новой Гвинеи пригодна для обработки.
В ряде районов коренные жители начали копить деньги, чтобы выкупить земельные участки, проданные европейцам. Это движение получило у коренных жителей название «собачьего»: они считали, что европейские колонисты относятся к ним, как к собакам. И это движение, совершенно неопасное для управляющей власти, было запрещено австралийской администрацией, а его руководители арестованы.
Что касается традиционного сельскохозяйственного производства, то оно оставалось таким же патриархальным, как и в период германского господства. Пожалуй, австралийская администрация интересовалась им еще меньше, чем немецкая.
Просвещение на подмандатной территории, так же как и в годы германского управления, почти полностью находилось в руках христианских миссий, и уровень его был столь же низким. Правда, количество миссионерских школ постоянно росло. В 1922 г. их было 616, в них обучалось 22 199 человек, а в 1928 г. — 1288 школ с общим числом учащихся 36 812. К началу второй мировой войны миссионерские школы посещало около 65 тыс. человек, а правительственные — всего 385 человек. Миссионерские школы давали лишь некоторые начатки грамоты, главное внимание в них уделялось механическому заучиванию библейских текстов. Даже Постоянная мандатная комиссия Лиги Наций, благожелательно настроенная по отношению к державам-мандатариям, неоднократно от
203
мечала, что развитие образования — наиболее уязвимое звено в деятельности австралийской управляющей власти на подмандатной территории. В 1939 г. один из членов Постоянной мандатной комиссии заявил, что не знает другой такой подмандатной территории, где бы развитие системы образования шло так же медленно, как в Новой Гвинее.
Необходимо подчеркнуть, что такое положение не было случайным. Европейское население Новой Гвинеи крайне отрицательно относилось к просвещению коренных жителей. Директор департамента просвещения штата Квинсленд Б. Маккеннан после посещения Новой Гвинеи в своем отчете отмечал «враждебность белых поселенцев к любой системе образования аборигенов». В 1929 г. европейские жители Рабаула воспрепятствовали отправке группы молодых новогвинейцев на учение в Австралию.
Глава III
АВСТРАЛИЯ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В январе 1940 г. первые подразделения австралийских войск покинули родные берега. Они направлялись туда, откуда Австралийский экспедиционный корпус в период первой мировой войны начинал свои боевые операции,— на Ближний Восток.
Когда караван судов с австралийскими солдатами был еще в водах Австралии, двигаясь от Сиднея к Фримантлу, и находившиеся на судах люди сами толком не знали, куда посылает их командование, германское радио уже оповестило мир о том, что подразделения австралийской армии находятся на пути в Суэц.
12 февраля 1940 г. корабли достигли Исмаилии, где высадившихся на берег австралийских солдат приветствовал А. Илен, занимавший в то время пост британского министра по делам доминионов, а также главнокомандующий британскими вооруженными силами на Ближнем Востоке генерал А. Уейвелл. Австралийские части были направлены в район Газы, где находились уже два батальона британских войск.
В это время летчики австралийского военно-воздушного флота прибыли в Англию и были переданы в распоряжение британского авиационного командования. В дальнейшем они приняли участие в знаменитой воздушной «битве за Англию».
Задачей австралийского военно-морского флота было совместное с британским флотом конвоирование транспортных судов и проведение боевых операций в районе Средиземного моря.
Поначалу казалось, что австралийской армии суждено повторить опыт своего участия в войне 1914—1918 гг., осуществляя боевые операции на ближневосточных и европейских фронтах.
В январе—феврале 1941 г. австралийские войска участвовали в боях с итальянцами на территории Киренаики. 7 февраля 1941 г. англо-австралийские войска вошли в ее столицу — Бенгази. Но на следующий день, 8 февраля, греческое правительство обратилось за военной помощью к Великобритании, и последняя приняла решение послать туда экспедиционный корпус, части которого успешно действовали против итальянцев в Киренаике.
12 февраля У. Черчилль послал телеграмму генералу Уейвел-лу, в которой поздравил его с победой в Киренаике. «Ваша главная задача теперь, — писал он, — помочь Греции и Турции... Вы
205
должны поэтому обеспечить себе безопасность в Бенгази и сконцентрировать все наличные силы в дельте Нила для приготовления к переброске в Европу... Нам необходимо любой ценой удержать Крит и захватить все греческие острова, которые должны быть использованы в качестве баз для военно-воздушных сил» I [94, т. 3, с. 58—59].
Когда британское правительство обсуждало просьбу правительства Греции, в Лондон прибыл Р. Мензис. Он согласился на участие австралийских войск в боях в Греции, но все-таки запросил мнение своего кабинета. Члены австралийского военного кабинета ответили, что у них нет другого выхода, кроме как одобрить это решение британского правительства, но они надеются, что эта операция будет тщательно подготовлена, а главное, заранее будут обдуманы все вопросы, связанные с немедленной эвакуацией экспедиционного корпуса в случае необходимости.
Предусмотрительность австралийского кабинета оказалась пророческой. 7 марта экспедиционный корпус, насчитывавший более 57 тыс. солдат, высадился в Пирее. Но никакой помощи Греции он оказать не смог. Германские войска, вторгшиеся в Грецию в апреле, еще до конца месяца захватили Афины и вынудили экспедиционный корпус к беспорядочному бегству, при котором англо-австралийские войска потеряли пленными 15 тыс. солдат, а также оставили врагу все тяжелое вооружение.
Это поражение вызвало известную натянутость в отношениях между британским и австралийским правительствами. Последнее было недовольно тем, что его, по сути дела, постфактум поставили в известность о готовящейся операции с использованием австралийских войск. Германо-японская пропаганда старалась максимально использовать этот факт, она, например, даже утверждала, что Австралия прекратит дальнейшее участие в войне. Поэтому австралийское правительство вынуждено было публично заявить о неизменности союза Австралии с Великобританией, но в то же время подчеркнуть, что всякое участие австралийских войск в новых операциях должно происходить только после консультаций с правительством Австралии.
Часть эвакуированных из Греции англо-австралийских войск была размещена на острове Крит, оборону которого поручили новозеландскому генералу Фрейбергу. 20 мая германские войска атаковали Крит с воздуха. Выброшенным десантным частям удалось захватить аэродромы, а к концу месяца и всю территорию острова, вынудив союзные войска к новой эвакуации.
Горечь от этого нового поражения англосаксов была несколько сглажена успешным вторжением 8 июня на территорию Сирии и последующим захватом ее. В этой операции наряду с британскими, индийскими и французскими войсками принимали участие и австралийские подразделения.
Но главные сражения развернулись опять на североафриканском берегу. Германское командование, встревоженное разгромом своих союзников — итальянцев, с февраля 1941 г. начало посылать
206
войска в Ливию, и уже в марте генерал Э. Роммель был готов к ведению боевых операций. Использовав то обстоятельство, что часть англо-австралийских войск была направлена в Грецию, Роммель начал наступление и в начале апреля захватил Бенгази, а 11 апреля, преследуя британские войска, подошел к Тобруку. Здесь кроме английских войск находились 4 австралийские пехотные бригады. Положение их было критическим.
В июне командующий австралийскими войсками генерал Бле-ми обратился к Мензису с просьбой разрешить ему вывести австралийские части из Тобрука ввиду крайне тяжелой обстановки и направить их в Сирию, сконцентрировав таким образом все австралийские войска в одном месте. Австралийское правительство согласилось с просьбой Блеми и поставило об этом в известность британское правительство. Последнее было крайне недовольно таким оборотом дела, но настойчивость австралийского правительства привела к тому, что Черчилль вынужден был согласиться на вывод австралийских войск. В августе одна из австралийских бригад была заменена польскими войсками, а в сентябре — октябре и остальные подразделения австралийских войск уступили свои позиции в Тобруке прибывшей туда 70-й британской дивизии. Надо сказать, что уже в следующем месяце британские части начали успешное контрнаступление в районе Тобрука.
В последний месяц 1941 г. военная обстановка на тихоокеанском театре военных действий резко изменилась. В войну вступила Япония, неожиданно 7 декабря атаковав американский флот в Перл-Харборе.
Война впервые в истории Австралии подошла к берегам пятого континента. Англия не могла прийти на помощь, ибо сама, по существу, находилась накануне вторжения на ее территорию могущественного врага.
Это вызвало обострение и без того сложной внутриполитической обстановки в Австралии. Лейбористская партия не выразила сразу же своего отношения к решению правительства участвовать в мировой войне потому, что ее очередная 15-я Всеавстралийская конференция состоялась за 4 месяца до вступления Австралии в войну, а созвать новую конференцию немедленно после этого события было невозможно. Правда, в решениях АЛП было записано: «Конференция представителей труда всей Австралии, учитывая угрожающую международную обстановку, заявляет о своей верности принципам демократии и необходимости защиты наших свободных институтов от всех форм нападения и требует, чтобы мы способствовали сохранению Австралии как составной части Британского содружества наций, отстаивали политику полной национальной и экономической безопасности, защищали весь наш народ во всех штатах от агрессии любого рода» [125, с. 116].
Наконец в июне 1940 г. в Мельбурне была созвана чрезвычайная Всеавстралийская конференция АЛП, на которой обсуждалось отношение лейбористов к войне. После двухдневных дебатов была принята декларация следующего содержания:
207
«Учитывая угрожающую международную обстановку и опасность для Австралийского Союза, империи, союзников, конференция Австралийской лейбористской партии заявляет, что ее политикой являются:
1) полное и нерасторжимое единство с союзниками в войне;
2) контроль федерального правительства над всеми внутренними ресурсами Австралии (которые включают все производственные и финансовые организации) в целях использования их для национальных нужд, срочной и эффективной защиты Австралии и ведения войны;
3) обеспечение максимума усилий, направленных на то, чтобы все неработающие трудоспособные люди были заняты на производстве;
4) усиление военных и других отраслей на плановой основе для обеспечения наивысшей эффективности и наиболее экономичного использования ресурсов, имеющихся в нашем распоряжении;
5) национальное военное обучение на основе существующего Акта об обороне... Осуществление необходимых мер для укрепления дивизий Австралийских имперских сил, расширение участия в европейских операциях, определяемого в зависимости от обстоятельств и с учетом первостепенной необходимости защиты самой Австралии» [125, с. 117—118].
Одновременно лейбористское руководство недвусмысленно заявило о желании войти в федеральное правительство. По предложению Кэртина была принята резолюция, в которой говорилось, что «необходимо создать национальный военный кабинет, включающий представителей лейбористской партии, который бы давал правительству рекомендации, касающиеся ведения войны и подготовки к послевоенной реконструкции» [125, с. 119].
Следует отметить, что до этого Кэртин неоднократно публично высказывался против создания коалиционного правительства. Так, в одном из выступлений в парламенте в 1939 г. Кэртин заявил: «Если что-нибудь может быть хуже, чем правительство двух партий (Объединенной австралийской партии и Аграрной партии.— К. Л4.), то это правительство трех партий. Никогда нельзя будет принять никаких решений...» [125, с. 119].
На федеральных выборах, состоявшихся в сентябре 1940 г., лейбористы несколько расширили свое представительство в парламенте и почувствовали себя увереннее. В то же время они видели, что в правящей коалиции все более усиливаются расхождения во взглядах. ;Мензиса критиковали не только члены Аграрной партии, но и члены руководимой им Объединенной австралийской партии. Эта критика особенно усиливалась в периоды выездов Мензиса в Англию, когда исполнять обязанности премьер-министра оставался его заместитель, лидер аграриев А. Федден.
Правительство Мензиса, воспользовавшись военной обстановкой, приняло ряд законов, грубо попиравших политические и экономические права рабочего класса, чем восстановило против себя широкие массы австралийских трудящихся. В июне 1940 г. австра-208
лийское правительство объявило Коммунистическую партию Австралии «незаконной ассоциацией». На помещения организаций партии, ее издательства и книжные магазины были совершены полицейские налеты. Проводились обыски на квартирах членов партии, конфисковывались их личные библиотеки, причем наряду с произведениями классиков марксизма-ленинизма изымались книги Шекспира, Мильтона, Бёрнса, Гёте, Шелли и Лоусона [90, с. 155— 156]. Начались аресты коммунистов.
Правительство Мензиса оказалось неспособным понять характер мировой войны после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз в июне 1941 г. Даже буржуазная пресса выражала недовольство косностью Мензиса. Так, в июне 1941 г. «Сидней морнинг геральд» в передовой статье писала, что Мензис не может больше находиться на посту, «который требует от человека принятия быстрых решений, распределения ответственности и стремительных импровизаций» [167, с. 120].
Наконец понял это и сам Мензис. 28 августа 1941 г., выступая на заседании правительства, он заявил о своей отставке с поста премьер-министра. «Откровенная дискуссия с коллегами по кабинету показала, — заявил Мензис, — что, хотя они и выражают мне личную симпатию, многие из них чувствуют, что я непопулярен у большой части прессы и народа и эта непопулярность мешает эффективной работе правительства, позволяет расти сопротивлению его действиям и что имеющееся расхождение во взглядах внутри самих правящих партий не будет существовать при другом лидере» [167, с. 121].
Отставка Мензиса была принята, и на следующий день, 29 августа, во главе австралийского правительства стал А. Федден. Но власть его оказалась недолгой. По саркастическому выражению лейбористов, «Федден правил 40 дней и 40 ночей».
7 октября 1941 г. к управлению страной пришло лейбористское правительство во главе с Д, Кэртином.
Положение нового правительства осложнялось тем, что лейбористы были в меньшинстве в обеих палатах парламента. Тем не менее оно продержалось у власти до новых федеральных выборов, состоявшихся 21 августа 1943 г., в результате которых лейбористская партия получила уже подавляющее большинство мест и в палате представителей, и в сенате. Первые месяцы работы правительства Кэртина совпали с наиболее драматическим для Австралии периодом войны. Япония, вступившая в войну, одерживала одну победу за другой. В короткий срок она захватила Гонконг, Манилу, Рабаул. 15 февраля 1942 г. пал казавшийся неприступным Сингапур.
Австралийские войска несли тяжелые потери. В Сингапуре японцы захватили в плен 15 тыс. австралийских солдат. Незадолго до этого, 3 февраля, японцы пленили австралийский гарнизон на острове Амбоина (Молуккские острова). В конце февраля японцы захватили в плен свыше 1 тыс. австралийских солдат на острове Тимор, а в марте — около 3 тыс. на Яве.
|4 Заказ 91
209
Корреспондент британской газеты «Таймс» на тихоокеанском театре войны Д. Моррисон спаведливо отмечал: «В течение шести месяцев Япония захватила богатейшую колониальную область в мире и обеспечила себе неограниченный доступ к источникам снабжения теми видами сырья, отсутствие которых составляло главную слабость ее экономики» [153, с. 58].
Грозный и неумолимый враг подходил к берегам Австралии. Впервые за всю свою историю Австралия на себе почувствовала страшное дыхание войны. 19 февраля 1942 г. японцы бомбардировали Дарвин. Становилось очевидным, что Австралия была крайне плохо подготовлена к обороне. Правда, за время, прошедшее с начала войны, ее военно-экономический потенциал несколько увеличился. Так, производство чугуна и стали, составлявшее в 1939 г. 1105 тыс. и 1170 тыс. т, увеличилось в 1941 г. соответственно до* 1476 тыс. и 1647 тыс. т. Кульминационной точки, однако, производство чугуна и стали достигло в 1942 г. (1558 тыс. и 1700 тыс. т). Все последующие годы войны показали постоянное снижение производства чугуна и стали, составившее в 1945 г. 1118 тыс. и 1357 тыс. т. Этот процесс, кстати сказать, продолжался и в первые послевоенные годы. Лишь в 1953 г. был превышен уровень 1942 г. по производству чугуна и стали [128, с. 195—198]. Аналогичный процесс происходил и в угольной промышленности, где лишь в 1942 г. удалось близко подойти к необходимому для австралийской экономики уровню добычи угля — 15 млн. т (было добыто 14 950 тыс. т). Затем добыча угля неуклонно снижалась [173,. с. 53].
Было построено 35 новых военных предприятий и переоборудованы для военных нужд еще 77 предприятий. Непосредственно в военный промышленности было занято к началу третьего года войны 50 тыс. рабочих и около 150 тыс. человек работало на предприятиях, связанных с военной промышленностью [124, с. 560].
Однако этого было совершенно недостаточно. В стране не было проведено серьезной мобилизации сил и средств для создания эффективной обороны. Ко времени вступления в войну Японии в Австралии насчитывалось 2780 тыс. мужчин в возрасте от 14 лет и старше. Из них находилось в армии и работало в военной промышленности лишь 554 тыс. человек, или 20%. Женщин в возрасте от 14 лет и старше было в то время 2755 тыс., из них в армии находилось 3,6 тыс. человек, в военной промышленности и связанных с нею отраслях работало 71,2 тыс. человек. Всего, таким образом, непосредственно в обороне страны участвовало 74,8 тыс. женщин, или немногим более 2% общей их численности [188^ с. 491].
Ассигнования на военные нужды хотя и выросли за этот период, но не шли ни в какое сравнение с военными расходами Великобритании (имеются в виду, естественно, не абсолютные цифры, а их процентное отношение к общенациональным расходам). Так^ военные расходы Австралии, составлявшие в 1939/40 г. 50 млн. ф. ст., достигли 150 млн. ф. ст. в 1940/41 г. и 308 млн. ф. ст. в
210
1941/42 г., т. е. соответственно 4,9, 15,3 и 24% к общенациональным расходам. В Англии же военные расходы в 1939 г. составили 15%, в 1940 г.— 43, в 1941 г.— 52% к общенациональным расходам [88, с. 489]. «В целом австралийцы экономически не страдали в первые два года войны,— написано в австралийской официальной истории второй мировой войны,— и для многих из них она означала существенный рост жизненного уровня» [88, с. 501]. Действительно, расходы на личное потребление в первые годы войны изменились незначительно. Если в 1939/40 г. они составляли 696 млн. ф. ст., то в 1941/42 г.— 787 млн. ф. ст., а в процентном выражении к общенациональным расходам — соответственно 67,9 и 61,3 [88, с. 489].
Что касается австралийских вооруженных сил, то во время нападения Японии на Перл-Харбор они в основном находились за много тысяч километров от родных берегов, на Арабском Востоке. К началу декабря 1941 г. Австралийские имперские силы насчитывали всего 151 240 человек, из которых в военных действиях против Германии и Италии участвовало 120 569 человек [124, с. 559].
В этих условиях австралийское правительство было вынуждено обратиться к Соединенным Штатам с откровенной просьбой с спасении, которая была выражена в весьма эмоциональной форме в конце декабря 1941 г. премьер-министром Кэртином. «Не колеблясь,— говорил он в обращении к австралийскому народу,— я ясно заявляю, что Австралия смотрит на Америку без каких-либо угрызений совести относительно наших традиционных связей с Соединенным Королевством. Мы знаем проблемы, которые встали перед Соединенным Королевством. Мы знаем о постоянном страхе вторжения. Мы осознаем опасность, связанную с рассредоточением сил. Но мы также знаем, что Австралия может выйти из войны, а Британия в состоянии еще держаться. Поэтому мы заявляем, что Австралия не уйдет и мы мобилизуем всю нашу энергию, чтобы осуществить план, краеугольным камнем которого станут Соединенные Штаты и который даст нашей стране уверенность в том, что она в состоянии продержаться до тех пор, пока ход войны не изменится в нашу пользу» (цит. по [79, с. 558—559]).
Одновременно с этим австралийское правительство обратилось к правительству Великобритании с просьбой разрешить ему вернуть австралийские дивизии на родину. Черчилль дал на это согласие, и австралийские части при первой же возможности погрузились на суда и отбыли в Австралию. Но когда они еще находились в пути, 20 февраля 1942 г. Черчилль попросил австралийское правительство одну из эвакуированных дивизий направить в Бирму, где успешные действия японских войск поставили англичан в крайне тяжелое положение. Но Кэртин категорически отказался это сделать, подчеркнув в своем ответе, что австралийское правительство обязано «прежде всего спасти Австралию не только ради нее самой, но и для того, чтобы сохранить ее как базу для развития войны против Японии»(цит. по [167, с. 124]).
14*
211
Американцы быстро откликнулись на обращение Кэртина. На территории Австралии был размещен штаб главнокомандующего американскими силами в юго-западной части Тихого океана генерала Д. Макартура. Американский флот вошел в австралийские воды.
Японцы продолжали наступать. Японская армия в течение нескольких недель овладела целым рядом океанических территорий. В январе 1942 г. японские войска вторглись на Новую Гвинею.
Хотя Австралия уже почти два с половиной года находилась в состоянии войны, подвластные ей территории на острове Новая Гвинея оставались фактически беззащитными. В Рабауле на острове Новая Британия был размещен батальон пехоты с двумя зенитными пушками и двумя орудиями береговой обороны. За день до вступления Японии в войну, в декабре 1941 г., в Порт-Морсби прибыл батальон милиции, а в начале января 1942 г.— еще два батальона. Таким образом, подмандатную территорию’ защищало несколько сот солдат, сосредоточенных в районе Раба-ула, и 12 солдат под командованием одного офицера на острове Манус. Конечно, они не могли оказать серьезного сопротивления японцам.
Япония наносила удары крупными силами. Так, в районе Ра-баула высадилось 5 тыс. солдат, которых поддерживали корабли военно-морского флота и авиация. 23 января 1942 г. был захвачен Рабаул, а вскоре вся подмандатная территория была оккупирована японцами..
3 февраля японцы впервые бомбили Порт-Морсби. Семьи европейцев были эвакуированы из Папуа. 14 февраля 1942 г. власть в колонии перешла в руки военного командования во главе с генерал-майором Б. Моррисом. Л. Муррей, который после смерти своего знаменитого дяди Д. Муррея в 1940 г. занял пост администратора Папуа, уехал в Австралию.
Японцы в июле 1942 г. вторглись в Папуа. За этим последовала битва в районе Кокода, откуда японцы намеревались нанести удар по Порт-Морсби. Завязались кровопролитные бои. Японским войскам удалось подойти к Порт-Морсби на расстояние 32 миль. Но вскоре они были остановлены, а затем начали отступать. Дело в том, что к этому времени общая военная обстановка в южной части Тихого океана изменилась. 6 мая 1942 г. в крупном морском сражении в районе Большого Барьерного рифа военные корабли США нанесли японскому флоту тяжелое поражение.
Это, конечно, несколько охладило наступательный пыл японской армии, но она продолжала отчаянно сражаться. Японцы находились в Папуа до конца января 1943 г. К этому времени австралийские войска потеряли 1,5 тыс. человек; 2,5 тыс. солдат и офицеров были ранены и 36,5 тыс. тяжело больны. 30 января 1943 г. японские войска, оккупировавшие Папуа, в Санананде потерпели окончательное поражение. На Новой Гвинее высадились американские войска. Но до прекращения боевых операций было еще далеко. Упорные и кровопролитные сражения на Новой Гвинее и на
212
сопредельных с нею островах продолжались до августа 1945 г.г т. е. до подписания Японией акта о безоговорочной капитуляции.
Следует отметить, что Соединенные Штаты Америки, используя зависимость от них в этот тяжелый период войны всех государств— членов Британского содружества наций, стремились укрепить в этих странах свои экономические позиции, расшатать, максимально ослабить, а при возможности совсем уничтожить систему преференций, чтобы расчистить дорогу для своих товаров и капиталов.
Уже в преамбулу Атлантической хартии 1941 г. по настоянию Соединенных Штатов Америки был внесен пункт, в котором указывалось, что подписавшие ее державы будут стремиться к тому,, чтобы все государства, великие или малые, победители или побежденные, получили возможность на одинаковых условиях торговать и получать сырье, необходимое для их экономического процветания. Эта идея получила дальнейшее развитие в договоре о* взаимной помощи против агрессии, заключенном между США и Великобританией 23 февраля 1941 г. В ст. 7 документа опять подчеркивалось, что в целях развития торгово-экономических отношений между всеми странами необходимо уничтожить все формы дискриминационных правил в мировой торговле, тарифов и других торговых барьеров.
Тяжелые обстоятельства военного времени вынуждали Великобританию идти на включение подобных пунктов в договоры с США. У. Черчилль, выступая в палате общин 21 апреля 1944 г., заявил: «В феврале 1942 г., когда Соединенные Штаты были нашим ближайшим союзником, я не соглашался со статьей 7 договора о взаимной помощи, пока не получил от президента ясное заверение, что это не заставит нас упразднить имперские преференции, так же как американское правительство — отменить их высокие протекционные тарифы» [28, 1944, т. 399, с. 580].
Об этом же подробно говорил австралийский премьер-министр Дж. Чифли в палате представителей 26 февраля 1948 г. Он рассказал об обстоятельствах заключения с США договора о взаимной помощи, включавшего в себя ст. 7, так напугавшую австралийских бизнесменов, о причинах, побудивших британское правительство подписать этот договор, а австралийское правительство — присоединиться к нему. Чифли напомнил парламентариям об обстановке того времени. «Несомненно, — отметил Чифли,—Черчилль был вынужден принять эту статью». Хотя он «знал, что Соединенные Штаты всегда были недовольны имперскими преференциями... Австралия находилась в самом отчаянном положении и вынуждена была присоединиться к действиям, предпринятым Соединенными Штатами и Соединенным Королевством. В то время Соединенное Королевство не могло помочь нам, потому что физически не в состоянии было это сделать, и только помощь Соединенных Штатов солдатами, самолетами, военными материалами спасла Австралию от вражеского вторжения... Австралийское правительство полностью понимало положение Британии, и вследствие этого, а
213
также вследствие наших договорных обязательств, я бы сказал — моральных обязательств, мы согласились с положениями статьи 7» [28, 1948, т. 196, с. 253—256].
Ссылаясь на договоры и соглашения военного времени, Соединенные Штаты Америки в послевоенное время пытались сломить систему преференций, добиться снижения тарифов, в частности, в торговле с Австралией. Но теперь уже члены Британского содружества наций стояли твердо. «Австралийская делегация в Женеве,— заявил, например, в октябре 1947 г. австралийский министр по делам послевоенной реконструкции Д. Дедман,— отвергла все попытки Соединенных Штатов добиться сокращения тарифов и преференций» (цит. по [98, с. 14]).
Развертывание боевых операций потребовало от Австралии больших усилий и жертв. Военные ассигнования увеличились в 1942/43 г. до 537 млн. ф. ст. [88, с. 488]. Требовались все новые и новые контингенты войск. Опять, как и в дни первой мировой войны, перед австралийцами встал вопрос о введении воинской повинности с использованием мобилизованных солдат в боевых операциях за пределами австралийской территории. Д. Кэртин заявил, что успех обороны Австралии зависит от изгнания японцев с Тимора и Молуккских островов, а также из Папуа и Новой Гвинеи. В начале 1943 г. он внес на рассмотрение парламента законопроект о возможности использования армейских соединений в операциях в юго-западной части Тихого океана, ограниченной на западе 110-м меридианом восточной долготы, на севере — линией экватора, на востоке — 159-м меридианом восточной долготы.
Д. Кэртин не случайно так ограничил границы района предполагаемого использования австралийских войск. Помня опыт первой мировой войны, он опасался недовольства австралийской общественности, боялся подорвать шансы своей партии на предстоявших в том же, 1943 г. федеральных выборах. Однако настроения австралийцев в то время были не такими, как в период войны 1914—1918 гг. Теперь враг угрожал непосредственно их родине; совершенно иным был сам характер войны.
Оппозиция, учитывая это обстоятельство, начала выступать за расширение границ возможного использования мобилизованных солдат вне территории Австралии. Дебаты затянулись до августа 1943 г., когда произошли выборы в федеральный парламент. Как уже отмечалось, лейбористы добились на них большого успеха и нанесли Объединенной австралийской партии такое поражение, ют которого она уже никогда не оправилась. В конце 1944 г. Мензис реорганизовал ее, и она возобновила свою деятельность уже как Либеральная партия.
Война на Тихом океане теперь складывалась явно в пользу союзников. За битвами в Коралловом море и островах Мидуэй последовало сражение на Соломоновых островах, длившееся с августа 1942 по февраль 1943 г. и закончившееся также поражением японской армии.
С ноября 1942 г. американо-австралийские войска начали
214
операцию по захвату острова Новая Гвинея. Тяжелые, кровопролитные бои затянулись до 1944 г. Новая Гвинея и прилегающие к ней острова были очищены от японских войск. Война уходила на север. В январе 1945 г. американские войска вместе с австралийскими частями были уже на Филиппинах и Молуккских островах. Захватив Марианские острова и Гуам, американцы начали регулярные бомбардировки Японии. К концу июня 1945 г. японцы были полностью вытеснены с Окинавы. Последним крупным сражением на Тихом океане, в котором приняли участие австралийские войска, был захват порта Баликпапан на острове Борнео (Калимантан) .
Война на Тихом океане вступила в завершающую стадию в начале августа 1945 г., когда Советская Армия начала боевые операции против Японии, молниеносно разгромив сильнейшую группировку японских войск—Квантунскую армию. Япония капитулировала. 2 сентября в Токийском заливе на борту американского корабля «Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии.
Участие во второй мировой войне потребовало от Австралии больших усилий, чем в период первой мировой войны 1914— 1918 гг. Так, в 1939—1945 гг. в австралийскую армию, флот и авиацию вступило (цифры даются округленно) 728 тыс. человек против 417 тыс. в период 1914—1918 гг. Из них за пределами страны находилось 558 тыс., а в период первой мировой войны — 337 тыс. человек. Правда, потери австралийской армии во второй мировой войне были значительно меньшими, чем в первой мировой войне. Если общее число убитых и умерших от ран и болезней (в боях и небоевой обстановке) в 1939—1945 гг. составило 25 тыс., то в 1914— 1918 гг. — 60 тыс. Число раненых было соответственно 23 тыс. и 155 тыс., в том числе отравленных газами 16,5 тыс. человек. Но число пленных в 1939—1945 гг. было почти в шесть раз больше, чем в 1914—1918 гг., причем в войне против Германии было захвачено в плен 8 тыс., а против Японии — 14 тыс. австралийцев [140, с. 633—636].
В Австралии в последние три года войны шло интенсивно наращивание военно-экономического потенциала. Число рабочих, занятых в военном производстве, удвоилось по сравнению с концом первого военного трехлетия. Быстро развивались станкостроение, самолетостроение, судостроение. На фронтах второй мировой войны сражалось почти 560 тыс. солдат, и австралийская военная промышленность удовлетворяла их нужды.
Под давлением прогрессивных сил страны правительство Кэр-тина было вынуждено снять запрет на деятельность компартии. Вышедшая из подполья Коммунистическая партия Австралии имела в своих рядах больше членов, чем до запрещения, и продолжала быстро расти. В конце 1943 г. она насчитывала 20 тыс. человек [64, с. 120].
Растущая мощь страны, а также укрепление политических позиций АЛП (в 1943 г. лейбористы не только сформировали фе
215
деральное правительство, опиравшееся на большинство в обеих палатах парламента, но и находились у власти во всех штатах, кроме Южной Австралии) придали уверенность лейбористским лидерам, которые начали открыто высказываться за пересмотр положения Австралии внутри Британского содружества наций и общей направленности австралийской внешнеполитической линии.
В декабре 1943 г., выступая на Всеавстралийской конференции лейбористской партии, Кэртин сказал, что мир в ближайшие годы не станет таким, каким он был перед войной. Австралия должна иметь свободу действий. В силу своего географического положения Австралия — тихоокеанская держава, подчеркнул он. Поэтому наряду с участием в решении общемировых проблем во вновь созданной всемирной организации типа Лиги Наций Австралия должна теснее сотрудничать с державами, имеющими интересы на Тихом океане, и прежде всего с Новой Зеландией.
Курс на политическую самостоятельность Австралии проявился в начале 1944 г., когда в Канберре 21 января было заключено австралийско-новозеландское соглашение, которое предусматривало «полный обмен информацией о взглядах обоих правительств и фактах, имеющихся в их распоряжении, относительно дел, представляющих общий интерес», и создание постоянного секретариата «для осуществления непрерывного сотрудничества» [167, с. 130]. Несмотря на то что соглашение было подписано в разгар военных действий, акцент в нем делался на проблемах послевоенного устройства стран Тихого океана.
В соглашении декларировалось намерение обоих доминионов тесно сотрудничать в решении политических проблем бассейна Тихого океана, подчеркивалась необходимость создания оборонительной зоны, охватывающей цепь островов к северу и северо-востоку от Австралии до Западного Самоа и островов Кука. Ядром этой зоны должны были стать Австралия и Новая Зеландия.
Опасаясь за судьбу своих владений в Тихом океане, Австралия и Новая Зеландия записали в ст. 16 соглашения: оба правительства считают общепринятым принципом в международной практике, что сооружение и использование во время войны какой-либо державой морских, сухопутных или военно-воздушных баз на территориях, находящихся под суверенитетом или контролем другой державы, сами по себе не являются основанием для территориальных претензий, для установления суверенитета или контроля над этими территориями после прекращения военных действий. В то же время оба доминиона подчеркивали, что использование вражеских тихоокеанских территорий является «жизненно важным» для обеих стран и потому передача кому-либо суверенных прав на эти территории будет действительной «только с их согласия».
В соглашении указывалось, что Австралия и Новая Зеландия намерены создать специальную международную организацию стран бассейна Тихого океана, приглашая все заинтересованные
216
державы принять в ней участие. Пока же доминионы договорились о создании аппарата из представителей обеих стран для сотрудничества во всех вопросах, касавшихся Тихоокеанского бассейна.
Международная организация экономического характера была создана уже после окончания войны, 6 февраля 1947 г. Австралия, Новая Зеландия, Англия, Франция, США и Голландия подписали соглашение о создании Южнотихоокеанской комиссии.
Следует сказать, что официальная реакция в США на австралийско-новозеландское соглашение, и особенно на его ст. 16, была довольно сдержанной. Государственный секретарь К. Хелл лишь подчеркнул, что «было бы желательно договориться об условиях общей международной системы безопасности до того, как пытаться решать проблемы региональной безопасности» [195, с. 318]. Американские военные деятели и конгрессмены высказывались более откровенно, рассматривая это соглашение как попытку вытеснить США из южной части Тихого океана [195, с. 317].
Великобритания же, увидев в соглашении тенденцию к отходу Австралии и Новой Зеландии от тесного сотрудничества с США, отнеслась к нему благожелательно. Но в дальнейшем эти призрачные антиамериканские настроения в Австралии не получили развития.
Австралия и Новая Зеландия в период войны вели согласованную политику в отношении создания всемирной организации, призванной заменить Лигу Наций. На Веллингтонской конференции была выработана совместная платформа, одобренная австралийским правительством 10 ноября 1944 г. и ставшая основой позиции: Австралии на Сан-Францисской конференции 1945 г.
На конференции в Сан-Франциско, принявшей Устав Организации Объединенных Наций, австралийская делегация и ее глава Г. Эватт действовали очень активно, стремясь продемонстрировать перед всем миром свою политическую самостоятельность. Особенно энергично Эватт выступал против четкого проведения в Уставе ООН принципа единогласия «великих держав» при решении вопросов в Совете Безопасности, взяв на себя роль защитника интересов «второстепенных держав».
Лейбористское правительство продержалось у власти до 1949 г. 5 июля 1945 г. умер Д. Кэртин и премьер-министром Австралии был назначен Д. Чифли, занимавший до этого пост министра финансов. Он же стал лидером лейбористской партии. Но политика австралийского правительства от этого не изменилась. Стремление к политической самостоятельности продолжало усиливаться.
В конце войны Австралия имела уже сеть своих дипломатических представительств за границей. К образованным в 1940 г. дипломатическим представительствам в США, Японии, Канаде и Новой Каледонии добавились миссии на Тиморе, в Малайе, Китае, Нидерландах, СССР, Индии и Новой Зеландии. В середине нынешнего века Австралия имела свои дипломатические представительства уже в 24 странах. Численный состав министерства ино
217
странных дел возрос с 28 человек (из них 3—за Границей) в 1939 г. до 393 человек (из них 118 — за границей) в 1952 г. [93, с. 118].
Министр иностранных дел Г. Эватт в первые годы существования ООН поражал дипломатический мир своей необычайно активной деятельностью. Вспоминая об этом, П. Хэзлак в статье «Австралия и создание Организации Объединенных Наций» не без иронии назвал его «первым и последним удачливым политиканом» [211, т. 15, ч. 3, с. 176].
В первые годы после войны лейбористское правительство во внешнеполитической области проводило откровенно реакционный курс. Оно оказывало поддержку британским колонизаторам в их борьбе с национально-освободительным движением в Малайе, неоднократно выступало с предложениями о создании «антикоммунистического блока» в Юго-Восточной Азии, с резкими нападками на Советский Союз.
Подобный внешнеполитический курс отражал характер внутренней политики лейбористского правительства Чифли. Придя к власти в июле 1945 г., Чифли объявил о проведении экономических реформ, которые должны были заключаться в национализации ключевых отраслей экономики. Но практически эта программа осталась на бумаге. В экономике страны назревали кризисные явления, росла стоимость жизни, безработица. В парламенте был принят ряд антирабочих законов.
Классовые противоречия в стране обострились. Росло стачечное движение. В 1945 г. бастовало 316 тыс. человек, в 1946 г.— 349 тыс., в 1947 г. — 327 тыс. В 1949 г. произошел ряд крупных забастовок в различных отраслях экономики страны. Лейбористская партия теряла доверие избирателей. На всеобщих выборах в декабре 1949 г. лейбористская партия потерпела поражение. К власти в стране пришла либерально-аграрная коалиция. Новое федеральное правительство возглавил Р. Мензис. Лейбористы перешли на положение оппозиционной партии.
В течение войны управление Папуа и Новой Гвинеей находилось в руках австралийского военного командования. Осуществлялось оно через два специально созданных учреждения: Папуасский административный орган и Новогвинейский административный совет. Во главе первого стоял лейтенант С. Эллиот-Смит, во главе второго — капитан Г. Таунсенд. В апреле 1942 г. эти учреждения были объединены в одно — Австралийско-новогвинейский административный орган (АНГАУ). Его власть сначала распространялась лишь на Папуа, а после изгнания японцев с острова — и на Новую Гвинею.
Аппарат АНГАУ по своей численности во много раз превышал гражданские администрации Папуа и Новой Гвинеи, существовавшие в довоенное время. Если последние имели в своем распоряжении 430 человек, то в АНГАУ к концу 1944 г. работало более 2 тыс. служащих. Деятельность АНГАУ была направлена главным образом на помощь войскам, ведущим боевые операции (транспортировка грузов стратегического назначения, строительство
218
взлетно-посадочных полос и дорог, обеспечение войск проводниками, организация службы безопасности); на осуществление функций гражданского управления. В период ожесточенных боев с японскими войсками АНГАУ экономикой почти не занимался. По мере ослабления японского давления Австралийско-новогвинейский административный орган стал уделять большее внимание развитию местного производства в Папуа и Новой Гвинее.
Война оказала заметное влияние на жизнь населения этих территорий. Правда, жители глубинных районов, по сути дела, о войне вообще ничего не знали. Но в местах, где проходили боевые операции, островитяне воочию увидели страшное, разрушительное действие современной войны. Уничтожались деревни, гибли люди, домашний скот и птица забирались для снабжения армии. Около 5 тыс. коренных жителей Папуа и Новой Гвинеи были мобилизованы в армию и мужественно сражались бок о бок с австралийскими и американскими солдатами. Местное население Папуа и Новой Гвинеи самоотверженно помогало австралийско-американским войскам: аборигены были проводниками и носильщиками, они доставляли раненых в госпитали, совершая порой многокилометровые переходы. Этих добровольных санитаров в войсках союзников называли тогда «курчавыми ангелами».
Война стала для коренных жителей Папуа и Новой Гвинеи и своеобразной школой. Работая и сражаясь вместе со светлокожими пришельцами, они поняли, что последние по-разному относятся к ним. Если со стороны европейских плантаторов и колониальных чиновников аборигены видели лишь презрение и жестокость, то с австралийскими и американскими солдатами у них устанавливались дружеские отношения. Коренные жители Папуа и Новой Гвинеи увидели современные машины, военные базы с огромными складами военных материалов, одежды и пищи. Многие жители деревень втайне надеялись, что все это будет оставлено на острове. Так в сознание аборигенов входил неведомый, чужой, но уже сильно заинтересовавший их мир, благами которого они хотели пользоваться.
Если в ходе войны коренные жители Папуа и Новой Гвинеи открыли для себя новый мир, то и мир, в свою очередь, в сущности, тогда только узнал об этих территориях. На протяжении нескольких лет мировая пресса сообщала никому доселе не ведомые названия новогвинейских городов и деревень, тысячи семей в Австралии и США получали оттуда солдатские письма. Для многих из них эти труднопроизносимые названия запомнились навсегда как места гибели сыновей, отцов, братьев.
По мере сокращения боевых действий жизнь в Папуа и Новой Гвинее входила в обычную колею. Возвращались обратно плантаторы и владельцы приисков. АНГАУ предпринимал меры для возобновления производства, для снабжения европейских колонистов местной рабочей силой. В мае 1943 г. было создано бюро по контролю за производством, председателем которого стал глава военной администрации. В течение первого года работы бюро в частное
219
владение было передано 29 плантаций копры и 22 каучуковые плантации. Производство каучука превысило уровень 1940 г. К середине 1944 г. на плантациях работало 40 тыс. коренных жителей.
В октябре 1945 г. АНГАУ прекратил свою деятельность, была восстановлена гражданская администрация.
Следует сказать, что в ходе войны колониальные устремления австралийского правительства не только не ослабли, но, напротив, усилились. В 1941 г. были образованы самостоятельное федеральное ведомство по колониальным делам — министерство внешних территорий, а также исследовательский директорат, подчинявшийся премьер-министру и главнокомандующему австралийской армией. В задачу директората входила разработка планов после-воённого управления Папуа и Новой Гвинеей.
Лейбористское правительство, находившееся в период войны у власти, предпринимало все меры для сохранения подвластных территорий, но в то же время старалось показать, что руководствуется альтруистской «заботой о благе и развитии туземных народов». Поэтому, представляя в июне 1945 г. на рассмотрение австралийского парламента законопроект об управлении Папуа и Новой Гвинеи, министр внешних территорий Э. Уорд говорил: «Нынешнее правительство считает, что территориям до японского вторжения уделялось недостаточно внимания, недостаточно выделялось средств для их развития... Прогресс может быть достигнут только предоставлением средств для лучшей организации здравоохранения и образования, а также большим участием туземцев в развитии благосостояния их страны и косвенно в управлении ею». Неотложной задачей австралийского правительства, продолжал Э. Уорд, является восстановление хозяйств в районах, подвергшихся большим разрушениям в годы войны, и оказание им широкой экономической помощи «с целью подъема уровня благосостояния туземцев» [138, с. 192].
Актом, принятым парламентом, устанавливалась единая администрация для Папуа и Новой Гвинеи, которые теперь получили новое официальное название — Территория Папуа Новая Гвинея. Административным центром объединенной территории стал Порт-Морсби, администратором был назначен профессор Квинслендского университета Д. Муррей (однофамилец Д. Муррея, являвшегося главой австралийской администрации в Папуа с 1907 по 1940 г.)>
Таким образом, австралийское правительство распорядилось судьбой Папуа и Новой Гвинеи еще до того, как вопрос о послевоенном статусе колоний и зависимых территорий был решен в мировом масштабе.
После окончания второй мировой войны мандатная система управления зависимыми территориями была ликвидирована. По соглашению с ООН от 13 декабря 1946 г. Австралия получила Новую Гвинею «под опеку».
Глава IV
АВСТРАЛИЯ В 50—70-х ГОДАХ
После второй мировой войны австралийская экономика претерпела серьезные, глубокие изменения. Из страны преимущественно аграрной Австралия превратилась в индустриально-аграрное государство. Этот процесс начался, как уже отмечалось, еще в период второй мировой войны.
Если к началу войны в Австралии насчитывалось 27,3 тыс. предприятий обрабатывающей промышленности с общим числом рабочих 650 тыс. человек, то к 1946 г. существовало уже более 31 тыс. предприятий, на которых было занято 750 тыс. рабочих.
К концу 60-х годов на долю обрабатывающей промышленности приходилось более 60% общей стоимости выпускаемой продукции, а на долю сельского хозяйства — менее 30%. В 1967/68 г. количество предприятий обрабатывающей промышленности достигло 62,9 тыс., а число работавших на них — 1309 тыс. Стоимость выпускаемой ими продукции составила 7,4 млрд, австрал. долл., тогда как в 1940/41 г.— 515,8 млн. [34, 1976, № 61, с. 727]. Весьма заметно выросли активы предприятий обрабатывающей промышленности. Если в 1940/41 г. стоимость занимаемых ими земельных участков и зданий составляла 288,2 млн. австрал. долл., а стоимость машин и оборудования — 332,7 млн. австрал. долл., то в 1967/68 г. эти цифры увеличились соответственно до 4064 млн. и 4708 млн. австрал. долл. [34, 1976, № 61, с. 727].
Среди предприятий обрабатывающей промышленности больше всего было металлообрабатывающих и машиностроительных заводов, причем количество их из года в год росло. Если в 1962/63 г. насчитывалось 24,9 тыс. таких заводов, то в 1966/67 г.— 28,4 тыс. Число работавших увеличилось за этот период с 525,3 тыс. до 611,6 тыс. [34, 1968, № 54, с. 1078, 1083]. Однако, как свидетельствуют официальные данные за 1969 г., в австралийской обрабатывающей промышленности численно преобладали мелкие предприятия. Надо сказать, что австралийская статистика в категорию предприятий обрабатывающей промышленности включала наряду с металлургическими и нефтеочистительными предприятиями авторемонтные мастерские и даже мастерские по окраске и чистке
221
одежды и починке обуви. «И поэтому не должно вызывать удивления,— писал известный австралийский ученый О. Спейт,— что из общего (на 1963/64 г.) числа предприятий (59 тыс.) почти 43 тыс. имели до 10 рабочих; многие из них являлись, например, гаражами, которые обслуживали один взрослый рабочий и один подросток» [176, с. 139]. В 1966/67 г. количество предприятий обрабатывающей промышленности с числом рабочих до 10 человек увеличилось до 44,4 тыс., на них работало 167 тыс. человек [34, 1968». № 54, с. 1080].
В то же время происходила большая концентрация производства в ведущих отраслях обрабатываемой промышленности. «Впечатление распыленности предприятий,— подчеркивал О. Спейт,— обманчиво: хотя гигантских предприятий и мало — имеется лишь 81 предприятие с числом рабочих более 1 тыс. человек,— но фактом является высокая степень концентрации в наиболее важных отраслях промышленности... Мы можем обнаружить действительные монополии в сталелитейной, металлообрабатывающей промышленности, в производстве сахара, стекла, цемента, бумаги». Концентрация капитала в Австралии в 2 раза выше, чем в Соединенных Штатах [176, с. 139]. В 1966/67 г. количество предприятий с числом рабочих более 1 тыс. человек увеличилось до 91. На них работала уже 191 тыс. человек [34, 1968, № 54, с. 1080].
Предприятия обрабатывающей промышленности в основном были сконцентрированы в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория. В 1966/67 г. в первом было 24,9 тыс. таких предприятий, во втором — 18,1 тыс., среди них с числом рабочих более 1 тыс. человек—соответственно 44 и 26 [34, 1968, № 54, с. 1080].
В 1969 г. в Австралии была введена новая система учета промышленных предприятий и их основных показателей, в соответствии с которой очень большое число предприятий, ранее относившихся к категории «обрабатывающая промышленность», были исключены из нее. Химчистки, прачечные, авторемонтные, часовые, ювелирные, пошивочные, обувные мастерские по новой классифи-фикации были отнесены к торговым предприятиям. В то же время мясо-молочные заводы, издательства стали рассматриваться как предприятия обрабатывающей промышленности.
Но и при новой классификации статистика систематически показывает рост числа предприятий обрабатывающей промышленности. В 1973/74 г., например, их было 37,1 тыс. с числом рабочих 1338 тыс. [34, 1976, № 61, с. 730]. По-прежнему большинство предприятий сосредоточено в двух штатах — Новом Южном Уэльсе (13,8 тыс.) и Виктории (12 тыс.) [34, 1976, № 61, с. 734]. Еще более быстрыми темпами развивалась австралийская горнодобывающая промышленность, особенно в последнее 20-летие. В Австралии были обнаружены богатейшие месторождения бокситов, меди, железной руды, природного газа, нефти, урана. Наряду с этим в Австралии продолжали действовать и старые отрасли горнорудной промышленности — добыча золота, серебра, угля, марганца, свинца, олова’и др. (табл. 8а).
222
Таблица 8а
Рост выпуска продукции основных отраслей горнорудной промышленности Австралии *
Название 1962 г. 1965 г. 1970 г. 1975 г.
Бокситы, ТЫС. т. 29,5 1167,6 11 043,0 22 265,0
Медные концентраты, тыс. т 395,4 427,3 662,0 894,1
Железная руда, тыс. т 4 843 5 669 57 НО 98 159
Свинцовые концентраты, тыс. т 522,7 536,2 631,7
Марганцевая руда, тыс. т . 71,6 611,1 785,8 1409,7
Оловянные концентраты, тыс. т 3,8 5,3 16,0 19,6
Цинковые концентраты, тыс. т 572,9 588,8 770х9 879,6
Каменный уголь, тыс. т 24 469 27 401 40 720 70 142
Бурый уголь, тыс. т 17 137 19 035 19 168 24 491
•Сырая нефть, тыс. баррелей — <1 491 14 937 23,1
*Official Year Book of Australia, 1968, № 54, c. 1053—1054; Official Year Book of Australia, 1975 and 1976, № 61, c. 949.
За десять лет (1954—1964) стоимость продукции горнорудной промышленности увеличилась на 60% и составила почти 500 млн. лвстрал. долл. В 1970 г. эта цифра поднялась до 1,3 млрд., а в 1975 г.— до 2,6 млрд, австрал. долл. [34, 1968, № 54, с. 1045— 1047; 1976, № 61, с. 944]. В металлургической промышленности •объем выпускаемой продукции рос значительно быстрее, чем в других отраслях обрабатывающей промышленности. Так, в 1952— 1962 гг. производство стали выросло с 1,5 млн. до 4,1 млн. т. Таким образом, в среднем ежегодно производство стали увеличивалось на 17%. Если в 1952 г. в этой отрасли было занято 26,7 тыс. рабочих, то в 1962 г.— 43 тыс., т. е. число рабочих ежегодно возрастало в среднем на 5%. Совокупный национальный продукт страны в 1952—1962 гг. увеличивался ежегодно в среднем на 5,3%, а рабочая сила в среднем по стране — на 2,3% (в обрабатывающей промышленности — на 1,1%). В послевоенное 20-летие производство стали на душу населения росло ежегодно в среднем на 5%, в то время как в 20-летие между мировыми войнами — только на 2% [108, с. 230, 233].
В 1962—1966 гг. производство стали показало дальнейший рост — с 4260 тыс. до 6065 тыс. т. Производство чугуна за это время увеличилось с 3400 тыс. до 4893 тыс. т [34, 1968, № 54, с. 1067]. Этот же процесс продолжался в 70-е годы. В 1970 г. производство стали составило 6,8 млн. т, чугуна — 6,3 млн. т, а в 1975 г.— соответственно 8 млн. и 7,6 млн. т [34, 1976, № 61, с. 966]. Особенно быстрый рост показало производство алюминия. Если в 1972 г. его производилось 2,4 млн. т, то в 1975 г.— 5,1 млн. т [34, 1976, № 61, с. 966].
223
Транспорт Австралии в послевоенное время развивался неравномерно. Протяженность линий государственных железных дорог даже сократилась (с 43 829 км в 1941 г. до 40 604 км в 1975 г.). Сократилось и число перевозимых железными дорогами пассажиров (с 503,2 млн. в 1947 г. до 340 млн. в 1975 г.). Но количество перевозимых грузов значительно увеличилось (с 37,8 млн. т в 1947 г. до 103,5 млн. т в 1975 г.) [34, 1968, № 54, с. 412; 1976, № 61, с. 380].
Из года в год сокращались перевозки населения трамваями, автобусами, троллейбусами. Если в 1962 г. этими видами городского транспорта было перевезено всего 712 млн. человек, то в 1975 г.— 528,5 млн. человек [34, 1968, № 54, с. 425; 1976, № 61, с. 391].
В то же время воздушный и автомобильный транспорт показывали быстрый рост. Если в 1962 г. на внутренних авиационных линиях было перевезено 2,8 млн. пассажиров и 59,4 тыс. т грузов, то в 1975 г.— 9,4 млн. пассажиров и 107,8 тыс. т грузов [34, 1968, № 54, с. 434; 1976, № 61, с. 402].
На международных линиях за этот период число пассажиров, перевезенных австралийскими авиакомпаниями, выросло с 295 тыс. до 1,4 млн., а количество грузов — с 6,8 тыс. до 30 тыс. т [34, 1968, № 54, с. 434; 1976, № 61, с. 404]. Автомобильный парк увеличился за 1962—1975 гг. с 3,2 млн. до 6,5 млн. автомашин, т. е. с 296 автомашин на каждую тысячу человек населения страны-до 478 [34, 1968, № 54, с. 426; 1976, № 61, с. 394].
Значительно вырос объем международных морских перевозок Австралии. Если в 1962 г. в австралийские порты заходило 6762 иностранных судна общим тоннажем 37,6 млн. т, то в 1975 г.— соответственно 12 395 и 159,6 млн. т [34, 1962, № 54, с. 394; 1967, № 61, с. 372].
Продолжало развиваться и австралийское сельское хозяйство. Посевные площади за 1950—1975 гг. увеличились с 8,2 млн. до 13,9 млн. га, из них 8,3 млн. га были засеяны пшеницей. К середине 70-х годов Австралия производила около 12 млн. т пшеницы. Однако главной отраслью сельского хозяйства оставалось овцеводство. Ежегодное производство шерсти составляло 800 тыс. т. Количество овец достигло более 160 млн. голов. По производству шерсти Австралия занимает первое место среди капиталистических стран. Число работающих в сельском хозяйстве за послевоенное время значительно снизилось, составив в 1971 г. 386,4 тыс. человек [34, 1976, № 61, с. 688].
«Обычно за границей представляют,— писал О. Спейт,— что Австралия — это обожженная солнцем страна огромных пустынных пространств (что в действительности так и есть) и что австралийцы долговязые, крепкие, загорелые сельские жители, хотя таких среди них мало. Обычный австралиец в подавляющем большинстве предпочитает быть служащим и фабричным рабочим. Основным демографическим фактом страны является высокий процент концентрации населения в столицах; в шести столицах 224
штатов живет около 60% населения страны; в радиусе 50 миль около Сиднея и Мельбурна, что составляет лишь 0,34% всей территории страны, сосредоточено 43% ее населения» [176, с. 101].
Городское население постоянно растет. В 1971 г. в городах страны жило около 11 млн. человек, или 85,6% общей численности населения [34, 1976, № 61, с. 144].
Очень быстро в Австралии развивалась так называемая сфера услуг. Именно здесь было занято почти 55% общего числа рабочей силы в стране [34, 1976, № 61, с. 144].
Совокупный национальный продукт страны вырос за 1962/63 —• 1974/75 гг. в целом с 16,2 млрд, до 59 млрд, австрал. долл. [34, 1968, № 54, с. 621; 1976, № 61, с. 498].
Понятно, что столь значительный рост экономики вызвал увеличение экспортных возможностей Австралии. За 1946/47-^-1974/ 75 гг. стоимость общего австралийского внешнеторгового товарооборота увеличилась с 2,1 млрд, до 16,7 млрд, австрал. долл. [34, 1976, № 61, с. 333].
«В течение шестнадцати лет — с 1948/49 до 1963/64 г.,— отмечал О. Спейт,— только одна шерсть давала не менее 30% общего дохода от экспорта и, более того, за первое послевоенное десятилетие лишь дважды давала менее 45%. Доля всех сельскохозяйственных товаров составляла от 80 до 90% экспортной выручки в первое послевоенное десятилетие и от 75 до 80%—во второе, а товары обрабатывающей промышленности — лишь 12%» [176, с. ПО].
В 1968 г. общая стоимость австралийского экспорта составляла 3150 млн. австрал. долл., из них только на долю шерсти и пшеницы приходилось 1026 млн. австрал. долл. [219, 2.IX.1969, с. 10]. Стоимость экспорта всех сельскохозяйственных продуктов превышала 2 млрд, австрал. долл. Однако, несмотря на то что Австралия выступала на внешних рынках как поставщик сельскохозяйственных продуктов, экспорт промышленных изделий за 60-е годы увеличился почти в 3 раза.
Значительно вырос в этот период экспорт угля и металлов. Лишь за 1964—1966 гг. стоимость экспорта продукции горнорудной промышленности увеличилась с 226,6 млн. до 331,2 млн. австрал. долл., в том числе угля — с 41 млн. до 66,5 млн. австрал. долл., железной руды —с 76 тыс. до 16,9 млн., медной руды и концентратов — с 6,5 млн. до 9,6 млн. австрал. долл. [34, 1968, № 54, с. 1080].
В 1968 г. Австралия продала железной руды уже на 46 млн. австрал. долл. В 70-е годы экспорт металлических руд продолжал стремительно расти. В 1972/73 г. его стоимость составила 1,3 млрд, австрал. долл., а в 1974/75 г. — 2,3 млрд, австрал. долл., или 27% общей стоимости австралийского экспорта [34, 1976, № 61, с. 335].
Сдвиги в экономике Австралии привели к изменениям структуры занятости. В начале 70-х годов в сельском хозяйстве работало менее 7,4% общего числа занятых (перед войной — 20%), а
15 Заказ 91
225
в обрабатывающей промышленности — 23,2% (перед войной — 20%) [34, 1976, № 61, с. 688].
В отраслях хозяйства с наиболее тяжелыми условиями труда шире всего использовались иммигранты, которые в послевоенные годы являлись значительным источником пополнения населения и рабочей силы страны. В 1947—1961 гг. за счет иммигрантов население Австралии возросло почти на 1,5 млн. человек, что составило 54% роста мужского и 47% роста женского населения [76, с. 7].
Если в довоенное время население Австралии почти целиком формировалось из выходцев с Британских островов, то после войны это положение изменилось. «В 1947 г.,— указывал О. Спейт,— родившиеся в Австралии составляли 90% населения, а из трех четвертей миллиона родившихся за границей лишь около ПО тыс. были выходцами из континентальной Европы» [176, с. 284]. По данным переписи 1971 г., в Австралии родилось 10,2 млн. человек, за пределами страны — 2,6 млн. человек, из них в странах континентальной Европы — свыше 1 млн. человек [34, 1976, № 61, с. 150].
В числе иммигрантов в Австралию было доставлено значительное число так называемых перемещенных лиц: 167 тыс. за 1948—1951 гг. Основания, по которым они были допущены в страну, носили чисто экономический характер. Все иммигранты, независимо от их специальности и желания, использовались «на фермах, в шахтах и на общественных работах, там, где австралийцы работать избегают... Это было находкой для австралийской экономики» [76, с. 12]. Так, на строительных работах в Западной Австралии в 1953 г. было занято 36% проживающих в штате перемещенных лиц и только 6% австралийцев.
Австралия охотно принимала иммигрантов из стран Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. Это объяснялось отнюдь не альтруистскими настроениями австралийского правительства. В большинстве своем «новоавстралийцы» направлялись в горнодобывающую и обрабатывающую промышленность. «В 1952 г. они составляли,— писал О. Спейт,— 20% общего числа рабочих сталелитейных предприятий Ньюкасла и Порт-Кемблы... До сих пор существует тенденция использовать иммигрантов с Европейского континента в качестве лесорубов и ирригаторов...» [176, с. 290].
По официальным данным 1954 г., в обрабатывающей промышленности страны работало 37% иммигрантов из стран Центральной и Восточной Европы, 31%—из стран Южной Европы, 23%—из стран Северной Европы и лишь 15,8% австралийцев; в строительстве — соответственно 12, 12, 15 и 6% [76, с. 13].
Приток иммигрантов в Австралию увеличивался из года в год. Так, в 1964/65 г. в страну прибыло 140 тыс., в 1965/66 г.—144 тыс., в 1966/67 г.— 148 тыс., а в 1967/68 г.— 175 тыс. человек.
Если в 1951—1960 гг. население Австралии увеличилось всего на 2,1 млн. человек, в том числе за счет иммиграции — на 820 тыс., то в 1961—1970 гг. — на 2,2 млн. человек, в том числе за счет 226
иммиграции — примерно на 1 млн. человек [34, 1976, № 61, с. 139].
Приток иммигрантов давал Австралии большую экономию средств. В конце 60-х годов в числе рабочих насчитывалось более 1 млн. иммигрантов. Западноевропейские специалисты считают, что обучение одного рабочего обходится от 7 тыс. до 10 тыс. долл. Таким образом, заявил в марте 1969 г. министр иммиграции Б. Снидден, работающие в Австралии иммигранты дали стране в 1968/69 г. экономию в 500 млн. австрал. долл.
В 70-е годы число иммигрантов резко сократилось. Если в 1970 г. в Австралию иммигрировало 134,4 тыс. человек, то в 1975 г,—21,3 тыс. [34, 1976, № 61, с. 165].
В послевоенное время значительно увеличилось число работающих женщин. С 1947 по 1961 г. число женщин, работавших на предприятиях и в учреждениях, выросло на 47,7% и составило 20,4% общего числа женщин в стране; в 1971 г. этот процент поднялся почти до 30. В 1971 г. 19% занятых в обрабатывающей промышленности, 23,5% работников торговли, 25% работников административного аппарата составляли женщины. Как и во всех капиталистических странах, в Австралии труд женщин оплачивается ниже труда мужчин.
В связи с развитием экономики выросла потребность в квалифицированных кадрах. В послевоенные годы в Австралии значительно увеличилось число учащихся школ и университетов. Если в 1939 г. в начальных и средних школах обучалось 1178 тыс. человек, то в 1975 г.— 2919 тыс. человек. За это же время число учащихся в технических школах и колледжах увеличилось с 90 тыс. до 671 тыс., а студентов университетов — с 14,2 тыс. до 148,4 тыс. [76, с. 27; 34, 1976, № 61, с. 663, 664, 669].
В стране имеется довольно широкая сеть школ, как государственных, так и негосударственных, главным образом религиозных. Последние составляют более 20% общего количества школ. Свыше 80% школьников, занимающихся в религиозных учебных заведениях, посещают католические школы. Большинство остальных негосударственных школ, называемых частными или независимыми, связано с англиканской, лютеранской, методистской, пресвитерианской церковью. В крупных городах имеются и еврейские школы.
Обращает на себя внимание систематическое снижение при одновременном росте числа учащихся общего количества школ в результате значительного сокращения числа правительственных школ (табл. 9).
В 1961 г. число студентов университетов составляло 57 672, в 1967 г,—95 380, в 1975 г.— 148 338.
Буржуазные идеологи часто называли Австралию капиталистическим государством «всеобщего благоденствия». Однако, хотя и редко, раздавались трезвые голоса и в стане буржуазных экономистов. В этой связи интересно сослаться на статью об австралийской экономике, помещенную в сборнике «Австралийское общество». Она принадлежит перу М. Ньютона, бывшего редактора
15*
227
Таблица 9
Количество школ и число учащихся в 1967 и 1975 гг.*
Год Государственные школы Негосударственные школы Всего
количество школ число учащихся количество школ число учащихся школ учащихся
1967 7965 1 664 062 2149 527 197 10114 2 191 259
1975 7266 2 297 979 2140 621 301 9 406 2 919 280
*Official Year Book of Australia, 1968, № 54, c. ralia, 1975—1976, Ng 61, c. 622.
511. Official Year Book of Aust-
«Острэйлиен файненшл ревью». Широко распространены три мифа об австралийской экономике, писал автор статьи: во-первых, что это быстро растущая экономика; во-вторых, что получаемый доход распределяется равномерно; в-третьих, что в экономике нет засилья монополий [176, с. 230]. Разоблачая эти мифы, М. Ньютон отмечал, что в 50-х годах темпы роста австралийской экономики были относительно скромными. Сравнительные данные о темпах экономического роста ведущих капиталистических держав за этот период показывают, что Австралия занимала шестое место <4,3%) после Японии (9,1%), Западной Германии (7,5%), Австрии (5,7%), Италии (5,7%) и Голландии (4,6%). Положение не изменилось, по существу, и в 60-е годы. В 1960—1965 гг. ежегодный прирост национального продукта составлял в среднем 4— 4,5%, а во второй половине 50-х годов — немногим более 5% [219, 2.IX.1969, с. 10].
По росту же продукции на душу населения (учитывая, что увеличение населения в стране составляло более 2,5% в год) Австралия среди тех же держав занимала десятое место (1,5—2%). Отмечалась крайняя неравномерность экономического роста страны по годам. Так, в 1949/50 г. наблюдался рост на 7,3%, в 1951/ 52 г.— на 2,9%, в 1952/53 г. было падение на 1,1%, в 1953/54 г.— рост на 6,4%, в 1956/57 г.— рост на 1,8%, в 1959/60 г.— рост на 4%, в 1961/62 г, —падение на 0,6% [76, с. 223, 234]. Прирост национального продукта в 1965/66 г. составил 3%.
Опровергая второй миф о том, что «Австралия является страной равноправия и что это проявляется в более равномерном распределении доходов, чем в других развитых странах», М. Ньютон приводил статистическую таблицу из официального доклада Налогового управления за 1960/61 г.: 92,6% всех налогоплательщиков имели доход менее 2 тыс. ф. в год, но на их долю приходилось лишь 78,7% национального дохода, в то время как на 7,4% налогоплательщиков, чей доход превышал 2 тыс. ф., приходилось 21,8% национального дохода. В действительности, писал М. Нью-
228
тон, неравномерность распределения доходов в стране значительно больше, чем показано в таблице. «Это правда,— продолжал он,— что по сравнению с Британией, Соединенными Штатами и Западной Европой в Австралии масштабы различий в доходах меньшие, но пропорциональное распределение крупных и мелких доходов то же самое» [76, с. 236].
М. Ньютон опровергал мнение о том, что в Австралии господствует свободное предпринимательство: «Действительно, несколько важных видов частного бизнеса в Австралии действует с меньшими ограничениями и меньше отчитываются перед обществом за свои действия, чем в других странах с развитой экономикой. Так, в Австралии нет эффективного антитрестовского законодательства... Однако... ясно, что функционирование „нормальных соревнующихся рыночных сил“ значительно ограничено действиями самого бизнеса. Об этом свидетельствуют высокая степень концентрации австралийской промышленности и широкое распространение ограничительной практики» [76, с. 236, 237].
В подтверждение своих выводов Ньютон ссылался на данные, свидетельствующие о концентрации капитала в обрабатывающей промышленности. Например, контроль над производством в сталелитейной промышленности находился в руках одной компании, в сахарной промышленности — также в руках одной компании, в алюминиевой — в руках двух компаний.
Такой же точки зрения придерживался О. Спейт, отмечавший, что, возможно, «треть предприятий обрабатывающей промышленности полностью принадлежит иностранцам, 40% находится под эффективным иностранным контролем...» [176, с. 142].
Иностранный капитал господствовал в тракторной, автомобильной, химической, нефтеперерабатывающей, алюминиевой, металлургической, пищевой отраслях промышленности, в производстве телефонного оборудования, а также в производстве мыла и спичек. В металлургической промышленности иностранному капиталу принадлежало 207 компаний из 240, в нефтеперерабатывающей и химической — 106 из 168, в пищевой — 71 из 76. Ежегодные инвестиции иностранного частного капитала в австралийские предприятия увеличились в 1948/49 — 1964/65 гг. с 95 млн. до 600 млн. долл. [66, с. 129].
В 60-е годы иностранные инвестиции в гигантских размерах направлялись в австралийскую горнорудную промышленность. В 1963 г. они оценивались в 69,7 млн. долл., в 1964 г.— в 96,1 млн., в 1965 г. — в 120,9 млн. долл., что составило соответственно 26,7; 29,8; 33,7% ко всему капиталу, вложенному в австралийскую горнодобывающую промышленность [34, 1968, № 54, с. 1080].
В послевоенное время в страну широким потоком устремился американский капитал. По официальным данным министерства торговли США, на начало ноября 1968 г. общая сумма американских вложений в Австралии достигла 2,354 млн. долл. Только за один 1967 год американские компании инвестировали в экономику Австралии 324 млн. долл. В том же году прибыли американских
229
компаний в Австралии достигли 151 млн. долл., из которых 119 млн. долл, составили поступления из отраслей обрабатывающей промышленности.
Огромные прибыли, получаемые американскими предпринимателями, не давали покоя дельцам из других стран. Так, в начале ноября 1968 г. Австралию посетила весьма представительная делегация французских бизнесменов в составе 40 человек. Председатель французской торговой палаты в Сиднее заявил, что этот визит, возможно, явится поворотным пунктом в экономических отношениях между Францией и Австралией. Большую активность проявляли японские дельцы.
Если в 50-е и 60-е годы господствующее положение среди зарубежных инвестиций в экономику Австралии занимал британский капитал, то в 70-е годы — американский капитал (табл. 10).
Таблица 10
Ежегодные иностранные частные инвестиции в экономику Австралии в 1957 и 1975 гг. *, млн. австрал. долл.
Год Английский капитал Американский и канадский капитал Капитал других стран Всего
1957 123 55 23 209
1975 103 366 376 844
* Official Year Book of Australia, 1975 and 1976, № 61, c. 352.
В 50—60-е годы стремительно росли военные расходы страны, что было вызвано авантюристической политикой правительства либерально-аграрной коалиции, и в частности участием Австралии в войне во Вьетнаме.
Фейрхолл, занимавший пост министра обороны, отвечая в начале сентября 1967 г. в палате представителей на запрос относительно военных расходов в пересчете на душу населения, сообщил, что в 1950 г. военные расходы на душу населения составляли 14 австрал. долл. 23 цента, в 1962 г., ко времени посылки во Вьетнам первой группы австралийских советников, эта сумма удвоилась. В 1966 г., когда в Сайгон отправились первые пехотные батальоны, она возросла до 65 долл., а в 1967 г. составила более 100 австрал. долл, на душу населения.
В 1968/69 г. военные расходы Австралии составили 1164 млн. австрал. долл. Понятно, что это не могло не отразиться отрицательно на положении австралийских трудящихся. Так, в 1964/65 г. еженедельный прожиточный минимум возрос в Мельбурне на 15 шилл. 3 пенса, в Брисбене — на 13 шилл. 9 пенсов, в Аделаиде — на 12 шилл., в Перте — на 10 шилл., в Канберре — на
230
10 шилл., в Сиднее — на 11 шилл. 3 пенса. «Рост цен в середине 1975 г. уже в три раза опередил незначительное повышение заработной платы, проведенное в предыдущем году».
По данным Статистического управления Австралии, цены на основные виды продуктов в течение 1965 г. возросли на 5,5%. Во второй половине 1966 г. в крупнейшем штате Австралии — Новом Южном Уэльсе, на территории которого проживает около 40% населения страны, были значительно повышены прямые и косвенные налоги на доходы трудящихся. Стоимость медицинского обслуживания увеличилась на 36%, плата за проезд в автобусах и по железной дороге — до 12%, различные страховые сборы, земельная рента, отчисления от продажи и перевозки имущества, процентные сборы с кредитов и др.— до 30%. Это повлекло за собой дальнейший рост цен на продукты питания и товары широкого потребления, повышение квартплаты и т. д. Недаром сиднейская газета «Сан геральд» называла это время «самой черной страницей в истории штата».
Повышение сборов и налогов затронуло население и других штатов — Виктории и Западной Австралии, где стоимость медицинского обслуживания, плата за проезд в автобусах и поездах возросла на 15—30%.
1967—1969 годы не принесли улучшений. По данным Статистического управления Австралии, в 1967 г. в стране продолжалось падение реальной заработной платы. Конгресс Австралийского совета профсоюзов, проходивший в августе 1967 г. в Мельбурне, принял решение провести национальную кампанию за установление контроля над ценами, ибо, как отмечалось на конгрессе, в 1966/67 г. цены в стране повышались не менее 30 раз. Выступая 30 сентября 1968 г. перед членами Торговой палаты Аделаиды, Д. Антони, занимавший в то время пост министра сельского хозяйства, заявил, что доходы австралийских фермеров на протяжении последних 15 лет находились на одном и том же уровне, в то время как стоимость жизни в Австралии за этот же период возросла на 40%.
Действия правительства вызывали серьезное недовольство австралийских трудящихся. Даже из официальных данных видно, как стремительно росло забастовочное движение в стране: если в 1962 г. в результате забастовок было потеряно 508 755 рабочих дней, а в 1963 г.— 581518, то в 1964 г.— уже 911 358. В 1965 г. только в первом полугодии в результате забастовок было потеряно 560 096 рабочих дней.
В июле 1965 г. проводилась одна из крупнейших забастовок транспортников Австралии. В ней участвовало 56 тыс. машинистов поездов, водителей автобусов, кондукторов, входивших в 26 профсоюзов. В ноябре 1965 г. бастовали портовые рабочие Мельбурна, Джилонга, Портленда. В феврале 1966 г. проводилась забастовка работников городского, железнодорожного транспорта и коммунального хозяйства штата Виктория. В ней участвовало 100 тыс. человек.
231
После решения правительства штата Виктория повысить налоги и сборы рабочие Мельбурна и его пригородов провели в сентябре 1966 г. многолюдный митинг протеста. Участники митинга призвали трудящихся принять участие в массовой демонстрации протеста. Такое же решение приняли рабочие другого промышленного города штата — Бендиго. 21 сентября 1966 г. забастовку объявили рабочие трех крупных электростанций штата. На организованном ими митинге забастовщики обратились к рабочим всех электростанций штата с призывом присоединиться к их борьбе.
В середине сентября 1966 г. забастовали рабочие одной из крупнейших австралийских скотоводческих ферм — Веир-Хилл. Они требовали повышения заработной платы и «создания человеческих условий существования». К ним присоединились рабочие других ферм Северной территории. Рабочие скотобоен столицы территории — Дарвина — и других городов заявили, что не будут принимать скот от хозяев Веир-Хилла. Такое же решение приняли рабочие молочных предприятий. Хозяева фермы вынуждены были уступить и заявили о повышении с 1 ноября 1966 г. заработной платы скотоводам, а также об улучшении условий их труда. В июле 1967 г. бастовали все водители бензовозов Австралии, а в январе 1968 г. состоялась всеобщая забастовка почтовых работников. В октябре 1968 г. бастовали служащие всех австралийских станций слежения за полетами космических ракет.
По данным Статистического управления Австралии, за 9 месяцев 1968 г. в стране бастовало более 527 тыс. человек.
30 января 1969 г. 74 тыс. железнодорожников Австралии, объявив забастовку, потребовали повысить заработную плату. В конце ноября 1969 г. проводилась общенациональная забастовка моряков торгового флота.
Весьма тяжелым было положение австралийских аборигенов», которые жили в резервациях, находящихся в наиболее засушливых, пустынных районах континента. Они влачили жалкое существование и были лишены всех человеческих прав. Официальная австралийская статистика народонаселения в своих материалах аборигенов не учитывала. Положение в известной мере изменилось лишь в 1967 г., когда в результате общеавстралийского референдума коренному населению были предоставлены политические права.
В 70-х годах в австралийской экономике появились опасные кризисные симптомы. Ежегодный прирост продукции, составлявший во второй половине 60-х годов в среднем 5%, в 1971/72 г. снизился до 3%. В стране неуклонно росла инфляция. Число безработных к концу 1972 г. достигло самого высокого уровня после 1956 г. Австралию наводнил иностранный капитал, приток которого особенно увеличился в годы «минерального бума»; например, в 1971/72 г. в экономику Австралии было инвестировано 1,9 млрд, австрал. долл. Общая сумма иностранных инвестиций, поступивших с 1949 г., превысила 12 млрд, австрал. долл., большую часть их составлял американский и британский капитал. За 1962— 232
1972 гг. частные инвестиции из США и Великобритании удвоились: в 1962 г. американские вложения равнялись 218 млн. австрал. долл., а в 1972 г.— 462 млн., английские — соответственно 212 млн. и 412 млн. австрал. долл. К этому времени иностранный капитал контролировал 88% автомобильной промышленности, 80% —химической, 84%—проката и штамповки цветных металлов, 93%—1 фармацевтической промышленности, 62% —горнодобывающей, 60% —электротехнической промышленности.
В стране продолжался рост цен. За 1973 г. розничные цены поднялись на 13,2%. Австралийская пресса отмечала, что ничего подобного не происходило с 1952 г. Особенно заметно увеличились цены на мясо, картофель, хлеб и лук — почти на 20%.
Опросы общественного мнения, проведенные в августе 1974 г., показали, что большинство австралийцев считали усилия правительства по борьбе с инфляцией малоэффективными. В Австралии ширилось забастовочное движение. В феврале 1975 г. уровень инфляции достиг почти 20%. Резко возросло число безработных, достигнув 312 тыс., или 5,2% общей численности рабочей силы. Впервые за долгие годы платежный баланс страны стал пассивным. Если в 1972/73 г. Австралия имела активное сальдо платежного баланса в 625 млн. долл., то в 1973/74 г.— пассив в 678 млн. долл.
Внутриполитическое положение
Сложности послевоенного развития Австралии вызвали усиление внутриполитической борьбы между лейбористской партией, с одной стороны, Либеральной и Аграрной партиями — с другой. Несмотря на то что АЛП потерпела поражение на выборах 1949 г., она продолжала оставаться крупнейшей политической силой в стране, противостоять которой буржуазные партии могли, лишь объединившись в коалицию. Терпя поражение на всеобщих выборах в 50—60-х годах, лейбористы тем не менее лелеяли надежду прийти к управлению государством.
Для того чтобы понять роль и место лейбористской партии в политической жизни Австралийского Союза и отдельных штатов, необходимо рассмотреть ее организационную структуру, которая весьма специфична. Дело в том, что австралийские лейбористы имеют организации двух уровней: отдельных штатов и федеральную. Федеральная организация объединяет 6 отдельных лейбористских партий штатов, которые в значительной мере сохраняют свою независимость. Однако в основе деятельности лейбористских партий штатов лежат общие принципы: коллективное членство, подчиненность парламентария партии, «превосходство партийного движения в целом над теми, кто в нем участвует». Четвертый важнейший принцип состоит в признании того, что профсоюзы являются основой партии. Например, в штате Западная Австралия вплоть до 1963 г. лейбористская партия была официальным отделением Австралийского совета профсоюзов [134, с. 66], а испол-
233
Rom лейбористской партии штата функционировал как центральный профсоюзный орган и отделение совета профсоюзов [166, с. 20], члены же всех профсоюзов, входивших в Австралийский совет профсоюзов, автоматически считались членами партии. В остальных пяти штатах лейборизм имеет двойственный характер: членство в партии может быть прямым или индивидуальным, что выражается в принадлежности к местному отделению лейбористской партии, а также косвенным, что находит выражение в принадлежности к профсоюзной организации, присоединенной к лейбористской партии штата на правах коллективного члена.
Влияние профсоюзов на формирование партийной политики в разных штатах неодинаково. Оно определяется денежным взносом и зависит от количества членов профсоюза. Пропорции между коллективными и индивидуальными членами в партийных организациях штатов неодинаковы, но коллективные члены составляют везде подавляющее большинство. Этим объясняется исключительная зависимость лейбористской партии от профсоюзов в финансовом отношении. Профсоюзы передают средства в распоряжение исполкома партии штата и посылают своих делегатов на ежегодные партийные конференции штата. Число делегатов прямо зависит от численности профсоюза.
В штатах местные отделения лейбористской партии образуют электората, в функции которых входят проведение избирательных кампаний, решение внутренних проблем, таких, как определение территориальных границ того или иного отделения, образование новых местных отделений и выборы делегатов на конференции лейбористской партии штата. Только индивидуальные члены местного отделения имеют право занимать административные или выборные партийные должности. В городах конференции местных отделений лейбористских партий штатов созываются обычно ежемесячно, а в сельских районах из-за больших расстояний несколько реже. В любом случае конференции местных отделений созываются несколько раз в год, в то время как местные организации Либеральной партии собираются раз в год.
Электорат штата выбирает также и лейбористскую парламентскую фракцию, официально называющуюся парламентской лейбористской партией штата.
На ежегодных партийных конференциях штата обсуждаются политические, организационные вопросы, выбирается исполнительный комитет партии штата сроком на один год. В состав исполкома входит не менее двух полностью освобожденных представителей, оплачиваемых из партийной кассы. Исполнительный комитет руководит партией штата, осуществляет контроль за деятельностью отделений. Подчинен он только партийной конференции, которая во всех штатах является высшим партийным органом, но в действительности многие важные вопросы решают исполкомы, а вернее, секретари исполкомов.
Партийная конференция штата и исполком контролируют отбор кандидатов в парламент штата или федеральный парламент.
234
Наряду с местными партийными организациями действуют также женские лейбористские организационные комитеты, имеющие исполком на федеральном уровне и созывающие свою конференцию, а также молодежные лейбористские лиги. Они играют некоторую роль в привлечении голосов избирателей во время предвыборных кампаний, но реального воздействия на партийную политику и решение внутрипартийных вопросов эти организации не оказывают.
Федеральная Австралийская лейбористская партия, с одной стороны, объединяет профсоюзы (присоединенные к ней на правах коллективных членов), руководствующиеся своими особыми правилами и проводящие свою политическую линию, а с другой — партии штатов на основе принципа равного представительства штатов. На Всеавстралийской конференции АЛП, являющейся высшим партийным органом, каждый штат представляют семь кандидатов (один из них — лидер парламентской фракции штата или его заместитель). До 1951 г. Всеавстралийская конференция созывалась один раз в три года, а потом один раз в два года. После 1961 г. в работе конференции АЛП стали принимать участие еще 4 лидера федеральной парламентской лейбористской партии и один делегат от Северной территории, которые с того же времени входят в состав федерального исполкома (каждый штат в нем представлен двумя делегатами).
Федеральному исполнительному комитету принадлежит высшая партийная власть в периоды между конференциями Австралийской лейбористской партии, которой он подчиняется. Но федеральный исполком, находясь в значительной мере под влиянием парламентской фракции, является орудием в руках парламентских лейбористских лидеров.
Следует отметить, что до 1963 г. АЛП не имела даже постоянного штата сотрудников или советников на федеральном уровне. В 1967 г., после того как лидером оппозиции стал Г. Уитлем, в составе парламентской фракции был сформирован так называемый теневой кабинет, который возглавил Уитлем. Его заместителем был избран Л. Барнард. Теневой кабинет, после прихода к власти партии превращающийся в ядро правительства, призван привлекать к работе в правительстве других членов парламентской фракции, но вместе с тем прочно сохранять за собой ведущее положение в правительстве. Несмотря на то что парламентская фракция должна лишь определять повседневную тактику в парламенте и «использовать все возможные средства для осуществления партийной платформы и решений конференции» [22, с. 40], она фактически является руководителем всей лейбористской партии, что объясняется прочными позициями лейбористов-парламентариев в федеральном исполкоме, а также их постоянной деятельностью на высшем политическом уровне. Парламентская фракция — оплот правого крыла партии и фактор давления на левые низовые организации — ревизует основные цели партии, провозглашенные в программных документах.
235
Программа, утверждаемая Всеавстралийской конференцией, остается чисто партийным документом. Парламентская фракция и федеральный исполком разрабатывают предвыборную программу, рассчитанную на привлечение как можно более широкого круга избирателей. Этот документ, значительно менее «революционный», чем программа партии, подготавливается лидером партии, хотя формально его утверждает исполком. Предвыборная программа становится основой государственной деятельности будущего лейбористского правительства. Важное место в функционировании механизма Австралийской лейбористской партии на федеральном уровне принадлежит Австралийскому совету профсоюзов, который наряду с федеральным исполкомом и парламентской фракцией оказывает влияние на формирование партийной политики.
Лейбористская партия, находясь в оппозиции, все время вела упорную борьбу за власть с правящей либерально-аграрной коалицией. Особенно ожесточенным нападкам лейбористов подвергалась внутренняя политика правительства. В 1958 г. АЛП в своей предвыборной программе сконцентрировала внимание на проблеме повышения благосостояния австралийского народа, выдвинув лозунг: «Лейбористы ставят семью на первое место». АЛП обещала в случае прихода к власти незамедлительно увеличить размеры пенсий, пособий на детей и вообще расходы на социальные нужды, а также способствовать оживлению экономики.
В своей предвыборной программе в 1961 г. лейбористы провозгласили отказ от проведения национализации. «У лейбористов,— сказал лидер АЛП А. Коуэлл,— нет намерения национализировать банки, социализировать медицину или делать что-либо подобное» [137, с. 23]. В программе содержалось требование внести изменения в конституцию: предоставить федеральному правительству полномочия по делам аборигенов и упорядочить торговлю.
В последующие годы в предвыборных программах лейбористов вопросы внутренней политики трактовались примерно в таком же духе. До 1965 г. сохранялось требование «белой Австралии». Но и после официального исключения его из программных документов взгляды лейбористов, по существу, не изменились. А. Коуэлл, выступая по случаю своего 75-летия, заявил: «По дипломатическим соображениям лозунг „белой Австралии" был изъят из политики Австралийской лейбористской партии, но никто не может изъять его из сердец австралийцев» [214, 30.VIII. 1971].
В решении внутригосударственных проблем у лейбористской партии не было определенной линии. Отсутствовали ясность и последовательность в подходе к внешнеполитическим вопросам. Лейбористская партия не протестовала против участия Австралии в военных блоках, не требовала вывода войск из Вьетнама. Так, во время выборов в сенат в 1967 г. новый лидер лейбористов, Г. Уит-лем, делал акцент не на выводе войск из Вьетнама, а на проведении переговоров или по крайней мере постепенной деэскалации.
Одновременно руководство АЛП выступало за незыблемость союза с США, за сохранение американских военных баз на авст-236
ралийской территории. Позиция лейбористов по таким вопросам, как присоединение Австралии к договорам о нераспространении ядерного оружия, о запрещении его испытаний в трех сферах, об отзыве австралийских войск из Малайзии и Сингапура, не отличалась твердостью и определенностью.
Экономическая программа Австралийской лейбористской партии также была расплывчата и содержала ряд демагогических положений о распространении кооперативной собственности, ограничении прибылей и т. п. Следует сказать, что откровенный антикоммунизм определял как внутреннюю, так и внешнюю политику лейбористов.
В 1955—1958 гг. в Австралийской лейбористской партии произошел раскол. В 1955 г. была сформирована Антикоммунистическая партия Виктории. В 1957 г. отколовшиеся группировки в разных штатах объединились в Демократическую лейбористскую партию (ДЛП), которая, несмотря на свое название, является махрово-реакционной организацией. В ДЛП входят исключенные из лейбористской партии или вышедшие из нее представители крайне правого крыла лейборизма, в подавляющем большинстве тесно связанные с реакционными католическими кругами.
Обстановка, сложившаяся ко времени выборов в федеральный парламент в декабре 1972 г., и стремление победить заставили лейбористов перейти к более решительной тактике борьбы. АЛП выдвинула лозунг «Пора перемен».
На 29-й Всеавстралийской конференции, состоявшейся в Лонсестоне в августе 1971 г., были приняты платформа, конституция и утверждены правила Австралийской лейбористской, партии.
В преамбуле к платформе партии вновь подчеркивалось, что Австралийская лейбористская партия отвергает революционные теории и утверждает, что они имеют опасные последствия для народа и не приносят реальных и прочных благ.
Целью партии, говорилось в платформе, является демократическая социализация промышленности, производства, распределения и обмена в соответствии с принципами прогрессивных реформ, определенных в данном документе. Само же понятие «демократическая социализация» определялось как «использование экономических возможностей государства в интересах граждан». Человек, указывалось далее, важнее машин, которые он использует, и среды, в которой он живет. В качестве средств достижения поставленной цели программа предусматривала действия в рамках конституции через федеральный парламент и парламенты штатов, муниципальные и другие учреждения.
В положениях платформы не содержалось ничего такого, что представляло хотя бы малейшую угрозу капиталистической системе, существующей в стране. Поэтому австралийскую буржуазию не беспокоила перспектива прихода к власти лейбористов. Более того, определенные круги австралийской буржуазии, заинтересованные в ограничении позиций;иностранного капитала в стране, в более активных правительственных мерах, направленных на раз
23?
витие национального капитализма (а именно это обещали лейбористы, провозглашая лозунг «экономического национализма»), оказали поддержку лейбористам.
В разделе платформы, касающемся целей лейбористов в области экономики, подчеркивалось, что партия для обеспечения национальных интересов будет добиваться развития национальной промышленности, установит контроль над промышленностью и использованием природных ресурсов, над экспортом минерального сырья.
Платформа содержала многочисленные обещания улучшить социально-экономические условия жизни австралийских трудящихся: уничтожить безработицу, установить для всех граждан, независимо от расы, пола, вероисповедания и политических убеж-дений, равные права на получение работы; усовершенствовать и расширить школьную и университетскую систему образования; создать всеобъемлющую службу здравоохранения; обеспечить жильем всех, кто в нем нуждается; улучшить систему социального обеспечения; предоставить аборигенам равные права со всеми другими австралийцами и ликвидировать все формы их дискриминации.
Во внешнеполитическом разделе платформы говорилось, что Австралия не может отделять себя от борьбы народов мира за экономическое развитие, безопасность и независимость. В этой связи, указывалось в документе, необходима «твердая и непоколебимая поддержка Организации Объединенных Наций, ее органов, Устава ООН». АЛП обещала сделать все возможное для превращения ООН в эффективный инструмент защиты справедливости и мира, способствующий политическому, социальному и экономическому развитию. Партия, отмечалось в платформе, должна «содействовать развитию стран Юго-Восточной Азии, бассейнов Тихого и Индийского океанов».
На основе партийной платформы, утвержденной конференцией, лейбористы выдвинули лозунги, с которыми они вступили в предвыборную борьбу.
Либерально-аграрная коалиция, видя доходчивость и популярность лозунгов лейбористов, не придумала ничего лучшего, как «похитить гром», т. е. перехватить идеи конкурентов и начертать их лозунги на своих знаменах. Более того, правительство либерально-аграрной коалиции предложило беспрецедентный проект бюджета на 1972/73 г., в котором предусматривалось увеличение ассигнований на социальное обеспечение, жилищное строительство и образование на 89 млн. австрал. долл, (правда, при этом военные расходы возрастали на 106 млн. австрал. долл.), снижение подоходного налога на 10%, повышение пенсий на 1 австрал. долл, в неделю.
В конце сентября 1972 г. У. Макмагон, занимавший тогда пост премьер-министра, объявил о намерении правительства принять меры по контролю над иностранным капиталом, а именно запретить получение иностранных займов сроком до двух лет; ограни-
238
нить предоставление австралийских займов иностранным компаниям и поощрять вложения австралийцами капиталов за границей; создать специальный правительственный консультативный орган по контролю над приобретением иностранными корпорациями контрольного пакета акций австралийских компаний, капитал которых превышает 1 млн. австрал. долл.
Но уже ничего не могло спасти либерально-аграрную коалицию. Выборы в федеральный парламент, прошедшие в декабре 1972 г., принесли победу лейбористской партии, и ее лидер Г. Уит-лем сформировал правительство. После 23-летнего пребывания в оппозиции лейбористы пришли к власти. Настала пора выполнять данные партией обещания.
С азартом новопосвященных лейбористы начали свою государственную деятельность. Они настаивали на разрыве еще оставшихся традиционных связей с Великобританией, юридически оформленных в конституции страны. Г. Уитлем отказался стать членом Тайного совета при британской короне, как это всегда делали австралийские премьер-министры. Лейбористское правительство объявило, что оно поставит вопрос о лишении Тайного совета права отменять решения австралийских судов. Лейбористы потребовали, чтобы в австралийских документах королева Елизавета называлась только королевой Австралии. Было решено прекратить исполнение британского гимна «Боже, храни королеву» как государственного гимна Австралии и одновременно объявить конкурс на новый австралийский государственный гимн и флаг.
Лейбористское правительство отменило систему имперских наград и предложило установить австралийскую национальную форму признания заслуг на государственной и военной службе.
Впервые после создания Австралийского Союза в 1901 г. была созвана конференция по пересмотру конституции. Ее открытие состоялось в Сиднее в сентябре 1973 г. В работе конференции приняли участие 112 делегатов от федерального парламента и парламентов штатов.
Обстановка в Австралии требовала, чтобы правительство срочно обратило внимание прежде всего на роль в стране иностранного капитала, тем более что в своих предвыборных лозунгах лейбористская партия заявляла о «выкупе Австралии».
Действуя в этом направлении, правительство запретило получение краткосрочных (до двух лет) иностранных займов, установило контроль над приобретением иностранными корпорациями акций австралийских компаний, над приобретением иностранцами земельных участков, над экспортом всех полезных ископаемых как в виде сырья, так и в виде полуфабрикатов, провело девальвацию австралийского доллара, разработало план снижения доли иностранного участия в ряде важных для экономики страны отраслей, ввело систему льгот для австралийских предпринимателей при получении правительственных заказов.
Правительство одобрило предложение Австралийской фармацевтической комиссии национализировать две фармацевтические
23£
компании. Необходимо подчеркнуть, что именно в фармацевтической промышленности доля иностранного капитала является одной из наиболее высоких — 93%, доходность предприятий самой большой— 20% (в среднем для австралийских предприятий—13%),что объясняется взвинчиванием цен на лекарства; стоимость продаваемой отраслью продукции превышает 200 млн. австрал. долл. Правительственный контроль над этой отраслью промышленности и ее «австрализация» были весьма важны не только для того, чтобы получаемые дивиденды оставались в стране, но и с точки зрения создания условий для выполнения предвыборных обещаний лейбористов относительно улучшения медицинского обслуживания населения.
В центре внимания нового правительства находились вопросы добычи и экспорта минералов и нефти. И это понятно. Горнодобывающая и нефтяная промышленность играют всевозрастающую роль в австралийской экономике. В 1972 г. стоимость их продукции достигла 1,8 млрд, австрал. долл. Экспорт минерального сырья (без золота) составил в том же году 1,4 млрд. долл. (30% суммы общего экспорта страны). Правительство разработало план уменьшения в нефтяной промышленности доли иностранного капитала, которая к тому времени равнялась 70%.
Лейбористы приняли план изменения структуры автомобильной промышленности и, чтобы ослабить позиции филиалов американских корпораций «Форд» и «Дженерал моторе», привлекли японские компании «Тойота» и «Датсун».
Бесконтрольное хозяйничанье иностранных корпораций в австралийской добывающей промышленности и экспорте ее продукции вызывало большое беспокойство австралийской общественности. Весьма тревожным было то обстоятельство, что огромные массы вывозимого минерального сырья продавались по крайне низким ценам, причем, как показывали статистические данные, экспортные цены на австралийские сырьевые материалы постоянно падали. И тут дело было не только в политике иностранных монополий, контролирующих австралийскую добывающую промышленность, но и в эгоистической позиции правительств штатов, конкурирующих друг с другом в вывозе сырья.
В этой связи, можно сослаться на выступление федерального министра по социальным вопросам Б. Хайдена 30 января 1973 г., в котором он обвинил правительство Квинсленда в продаже Японии и некоторым другим странам угля, добываемого в штате, по заниженным ценам. В то время, когда мировой энергетический кризис принимает угрожающие размеры, сказал министр, австралийское правительство обязано заботиться об интересах австралийского народа, продавая уголь по самым высоким ценам, складывающимся на мировых рынках, а не по невыгодным ценам, устанавливаемым квинслендскими предпринимателями с целью добиться кратковременного преимущества перед предпринимателями Нового Южного Уэльса. В результате быстрое сокращение угольных запасов Австралии может вызвать острую нехватку
240
энергетических ресурсов в стране в будущем. Б. Хейден отметил, что в течение десяти месяцев 1972 г. японцы платили за тонну угля в среднем 17,42 австрал. долл., в то время как на мировом рынке тонна угля стоила 22,3 австрал. долл. Если это положение сохранится, продолжал министр, то в 1972/73 г. Австралия недополучит от экспорта угля по крайней мере 53 млн. австрал. долл.
Теоретическое обоснование действий правительства в отношении ослабления позиций иностранного капитала в Австралии дал министр труда К. Камерон в докладе «Борьба с гигантами», представленном в Университет Западной Австралии в июле 1973 г. Десять лет назад, писал К. Камерон, в словаре политических дискуссий не было термина «многонациональная корпорация». Сегодня деятельность многонациональных корпораций обсуждается в каждой стране западного мира. Ими занимаются правительства, бизнесмены и профсоюзы. Размеры ряда гигантских корпораций, действующих на международной арене, таковы, что каждая из двух самых маленьких из них имеет ежегодный оборот, превышающий австралийский. К концу нынешнего века 200 или 300 многонациональных корпораций будут давать более половины мирового производства. Увеличение числа и размеров предприятий, действующих за пределами государственных границ, неизбежно, сказал министр. Среди лидеров организованных рабочих распространяется мнение об антинациональном и антидемократическом влиянии многонациональных корпораций. Ни одно предшествующее австралийское правительство не сделало ни малейшей попытки проанализировать политический эффект иностранных инвестиций. Правительства, желающие сохранить доверие трудящихся, должны дать ясные обещания предпринять также шаги, чтобы предоставить возможность профсоюзам в своих странах изучить и понять влияние многонациональных корпораций. Действительно, патриотическое австралийское правительство не должно позволять иностранцам захватывать контроль над австралийской промышленностью и ресурсами страны.
На Всеавстралийской конференции Австралийской лейбористской партии, состоявшейся в июле 1973 г., было принято решение, обязывавшее правительство принять меры к «австрализации» предприятий по разработке нефти и природного газа. Тогда же был образован Комитет по расследованию всех аспектов производства и экспорта нефти и нефтепродуктов.
Действия лейбористского правительства в известной мере напугали иностранных инвеститоров, что привело к резкому сокращению притока иностранного капитала в страну. В 1972/73 г. размер иностранных капиталовложений в австралийскую экономику снизился до 275 млн. австрал. долл. Видя это, правительство поторопилось заявить, что оно не собиралось и не собирается ставить преграды на пути иностранных капиталовложений, а лишь хочет ввести элементы контроля над ними. Заместитель премьер-министра Л. Барнард, выступая 10 мая 1973 г. в Мельбурне на собрании Австралийско-японского комитета экономического сотрудничества,
16 Заказ 91
241
подчеркнул, что Австралия не думает «закрывать дверь» перед, иностранными инвестициями. Правда, продолжал он, мы намереваемся изучать предложения в более критическом свете, учитывая выгоды для нации в целом.
Г. Уитлем во время своего пребывания в Нью-Йорке в августе 1973 г. заявил на собрании Американо-австралийской ассоциации, что австралийское правительство придает большое значение тому вкладу, который вносит иностранный капитал в развитие экономики Австралии.
Вопрос о судьбе иностранных, и особенно японских, капиталовложений в Австралии был специально рассмотрен во время визита Г. Уитлема в Японию осенью 1973 г., что нашло отражение в заключительном совместном коммюнике, опубликованном в начале-ноября. Австралийские представители, говорилось в этом документе, объяснили основы политики австралийского правительства в отношении иностранных инвестиций и указали на их важную роль в развитии австралийской экономики. Все предложения об иностранных инвестициях в Австралии в дальнейшем будут рассматриваться более тщательно, чтобы определить их выгодность для страны. Японские представители заявили, что свободное движение иностранных капиталовложений имеет существенное значение для здорового развития международной экономики. Они, далее, подчеркнули, что цель японских инвеститоров состоит не в намерении овладеть природными ресурсами Австралии и начать их контролировать, а в том, чтобы внести вклад в развитие горнодобывающей промышленности страны преимущественно посредством участия в австралийских проектах.
Австралийская буржуазия приветствовала позицию лейбористского премьер-министра во время переговоров в Японии, о чем свидетельствовал единодушный хор похвал Г. Уитлему в австралийской прессе.
Лейбористское правительство поспешило также заверить австралийские деловые круги в том, что оно не намерено поощрять выступления профсоюзов за увеличение заработной платы трудящимся. Выступая на Всеавстралийской конференции Австралийской лейбористской партии, Г. Уитлем призвал всех членов партии и профсоюзов к самодисциплине, ибо усиление требований профсоюзов в настоящий момент, подчеркнул он, может затруднить ра* боту правительства. Эта часть речи Г. Уитлема вызвала немедленную положительную реакцию австралийских бизнесменов.
Во время встречи с промышленниками Южной Австралии, состоявшейся в сентябре 1973 г., Г. Уитлем подчеркнул намерение правительства максимально помочь росту и укреплению австралийской индустрии, справиться с экономическими трудностями, как теми, которые унаследованы, так и теми, которые возникли вновь. Лейбористы, сказал он, постараются не подвергать опасности основу мощи австралийской промышленности.
Правительство решило энергично вмешаться и в сельское хо*-зяйство — малоизвестную лейбористам сферу деятельности.
242
Сельскохозяйственное производство продолжало играть значительную роль в австралийской экономике и внешней торговле. Ежегодно из Австралии вывозилось 60% производимой в стране пшеницы и 93% шерсти, что давало стране до 2 млрд, австрал. долл.
Но, по сути дела, лейбористское правительство проводило в области сельского хозяйства политику правительства либерально-аграрной коалиции: выделяло прямые субсидии, предоставляло дешевые кредиты, брало на себя расходы по проведению научно-исследовательских работ в области сельского хозяйства, по строительству дорог, ирригационных сооружений и т. д.
В заявлении министра сельского хозяйства К. Ридта, сделанном 16 марта 1973 г., указывалось, что лейбористы намерены продолжать работы по осуществлению плана реконструкции сельского хозяйства, принятого правительством либерально-аграрной коалиции. Министр сообщил, что федеральное правительство отпустило штатам средства на реконструкцию сельского хозяйства из расчета: 25%—субсидия, 75%—заем сроком на 20 лет. Эта сумма на 1973/74 г. составила 39 млн. австрал. долл, плюс 3 млн. австрал. долл, дополнительно для штата Квинсленд.
Лейбористское правительство в соответствии с предвыборными обещаниями в первые недели своего пребывания у власти приняло ряд мер, направленных на улучшение жилищного строительства в городах. Так, оно предоставило штатам чрезвычайную субсидию в размере 6 млн. австрал. долл., о чем объявил министр жилищного строительства Л. Джонсон на собрании Ассоциации кооперативных строительных обществ 5 марта 1973 г.
Для претворения в жизнь обширного плана перестройки городов правительство создало в системе федерального управления министерство городского и районного развития. Глава этого ведомства Т. Юрен сообщил 6 марта 1973 г. об организации комиссии городов, которая должна заниматься изучением процесса развития как старых, так и новых городов и консультировать по этим вопросам министерство городского и районного развития.
Не остался без внимания правительства и австралийский общественный транспорт. 19 февраля 1973 г. министр транспорта и гражданской авиации Г. Джонс обнародовал правительственный план улучшения городского общественного транспорта страны. Опыт Соединенных Штатов Америки и других заокеанских стран, сказал министр, свидетельствует о серьезном ухудшении службы общественного транспорта. Многие аналогичные ошибки были сделаны в наших столичных городах, и моя партия считает, что в Австралии это положение должно быть исправлено.
Вопросы образования в период избирательной кампании служили предметом острых дискуссий. Уже в своей предвыборной программной речи 1 ноября 1972 г. Г. Уитлем обещал в случае прихода к власти лейбористского правительства разработать план перестройки образования в стране, с тем чтобы предоставить всем, независимо от происхождения, вероисповедания и места жительства,
16*
243
равные возможности для получения среднего и высшего образования.
Г. Уитлем в своем выступлении 18 марта 1973 г. подверг суровой критике действия правительства либерально-аграрной коалиции в области образования. До последнего времени, отметил премьер-министр, существовала вопиющая разница в уровне образования и возможностях его получения. В государственных школах стипендии получали 4% учащихся, в католических — 7%, в то время как в частных «независимых» школах с наиболее состоятельным контингентом учащихся стипендии выдавались 15% учащихся. Завершали курс среднего образования лишь 3 из каждых 10 учеников государственных и католических школ, а в частных некатолических школах — 8 из 10.
По решению лейбористского правительства в марте 1973 г. был создан Комитет по вопросам образования.
Уже в первые месяцы деятельности лейбористского правительства сократилось число безработных. Так, с конца января до конца февраля 1973 г. число безработных снизилось на 23,5%, за март — еще на 18,5%. Этот процесс продолжался и в дальнейшем.
Если новому правительству в известной степени удалось провести намеченные меры в области контроля над ресурсами страны и частично устранить безработицу, то оно оказалось беспомощным перед угрозой инфляции.
Выступая 10 мая 1973 г. на заседании премьеров штатов^ Г. Уитлем назвал инфляцию экономической проблемой номер один для Австралии. По официальным данным, стоимость жизни в стране с апреля по июнь 1973 г. увеличилась на 3,3% (самый большой рост за 21 год).
Для борьбы с инфляцией правительство пошло на беспрецедентную для Австралии меру: 18 июля 1973 г. оно объявило о снижении импортных тарифов на 25%. Это было сделано для того, указывалось в совместном заявлении Г. Уитлема и министра промышленности и торговли Д. Кэрнса, чтобы вызвать сокращение роста цен путем усиления конкуренции и стимулирования импорта товаров, имеющих высокий спрос у австралийского населения. В выступлении по радио Г. Уитлем подчеркнул, что у австралийского федерального правительства не было другого выхода, ибо замораживание цен в мирное время несовместимо с конституцией (правительства штатов могут это сделать). По той же причине ни федеральное правительство, ни правительства штатов, вместе или в отдельности, не имеют права в мирное время заморозить заработную плату.
Решение правительства о снижении импортных тарифов вызывало противоречивые чувства в деловых кругах Австралии. Так, генеральный директор Объединения промышленных палат У. Ген-дерсон сказал, что этот вопрос необходимо сделать предметом обсуждения на высшем уровне, учитывая очевидные нежелательные последствия для промышленности. Президент австралийской Торговой палаты К. Уильямс, напротив, подчеркнул, что, идя предло-244
женным путем, можно добиться реальных успехов в борьбе с инфляцией. Одобрил действия правительства и президент Австралийской федерации фермеров Н. Хоган, Лидеры же всех оппозиционных партий выступили с критическими заявлениями. Либерал А. Пикок заявил, что решение правительства нанесет серьезный ущерб важнейшим отраслям австралийской промышленности, а его антиинфляционный эффект будет ничтожным.
Еще раньше лидер либералов Б. Снедден сказал, что правительство атаковано инфляцией — врагом, который ворвался в область экономики, подобно танковым дивизиям. А правительство лишь обороняется, используя пропагандистские лозунги. Пропаганда же совершенно не способна предотвратить вражеское вторжение.
Для борьбы с инфляцией правительство решило создать трибунал цен. С 1 августа 1973 г. закон о трибунале вошел в силу. Теперь компании не могли произвольно менять цены. Закон о трибунале цен, заявил Л. Барнард, является ключевым элементом в борьбе правительства с инфляцией. Однако инфляция продолжала бушевать.
Несмотря на удовлетворительные темпы роста производства* страна испытывала трудности от постоянного повышения цен, нехватки рабочих рук и материалов. В конце сентября 1973 г. Ассоциация промышленных палат Австралии и Банк Нового Южного Уэльса в своем ежеквартальном издании указывали, что промышленники весьма скептически рассматривают возможности экономического развития страны.
Стремясь сосредоточить контроль над ценами полностью в своих руках, лейбористское правительство решило провести в стране референдум по вопросу о передаче правительствами штатов^ своих полномочий по контролю над ценами и доходами федеральному правительству, после чего оно смогло бы сделать соответствующие изменения в конституции. Референдум был назначен на декабрь 1973 г. По-видимому, правительство не сомневалось в успехе. Однако большинство избирателей во всех штатах проголосовали против установления даже кратковременного контроля федерального правительства над ценами и доходами в штатах.
Лейбористское правительство провело ряд мер, направленных на улучшение положения аборигенов страны. Прежде всего для ознакомления с условиями их жизни министр по делам аборигенов Г. Брайант предпринял в январе 1973 г. две поездки в районы поселений аборигенов в Квинсленде, Северной территории и Западной Австралии.
Выступая 4 февраля 1973 г., Г. Брайант заявил, что он был потрясен страшным видом их жилищ, очень высокой детской смертностью. В результате правительство выделило 3 млн. австрал. долл, на улучшение жизненных условий коренного населения Западной Австралии.
В дальнейшем организаций, занимающиеся делами аборигенов, получили от правительства еще некоторые суммы. Так, 25 мар
245
та 1973 г. Г. Брайант сообщил о предоставлении 55 тыс. австрал. долл, только что возникшей Службе здравоохранения для аборигенов штата Квинсленд. В апреле 1973 г. правительство приняло решение о том, чтобы все горнодобывающие компании Северной территории передавали в Фонд помощи аборигенам 10% стоимости производимых работ.
В апреле же правительство утвердило законопроект о создании земельного фонда аборигенов, предусматривавший приобретение для них земельных участков за границами существующих поселений. Тогда же было создано Юридическое агентство для правового обслуживания аборигенов, а в начале мая 1973 г.— Бюро по искусству аборигенов, в задачу которого входили поиски путей привлечения аборигенов к занятию традиционными ремеслами, методов контроля за ремеслами аборигенов и продажей их изделий.
На Всеавстралийской конференции Австралийской лейбористской партии, состоявшейся в июле 1973 г., была принята резолюция об аборигенах. В ней указывалось, что австралийское правительство возьмет на себя всю ответственность за судьбу аборигенов и законодательным путем уничтожит все формы дискриминации, с тем чтобы предоставить каждому человеку равные права и возможности во всех сферах деятельности. Но эти прекраснодушные слова оставались в значительной степени лишь словами. Практически жизнь аборигенов не изменилась. Воспользовавшись приездом королевы Елизаветы II, представители коренного населения страны провели в Канберре демонстрацию протеста. Собравшись у здания федерального парламента, они заявили, что лейбористская партия не выполнила своих обещаний.
21 августа 1973 г. министр финансов Ф. Крин представил на рассмотрение федерального парламента новый бюджет страны на 1973/74 г., назвав его «бюджетом реформ».
В нем были значительно увеличены расходы на образование, здравоохранение, социальное обеспечение, жилищное строительство, на нужды аборигенов.
Так, на образование ассигновывалось 843 млн. австрал. долл., т. е. на 92% больше, чем в прежнем бюджете, на здравоохранение— 979 млн. (на 25% больше), на социальное обеспечение — 2,5 млрд, (на 16,2% больше), на жилищное строительство и коммунальное хозяйство — 538 млн. (на 32,4% больше). Сумма, предоставляемая на нужды аборигенов, удваивалась и составляла 117 млн. австрал. долл.
В своем выступлении Ф. Крин отметил, что правительство добилось улучшения положения в промышленности и сельском хозяйстве, достигло успехов в борьбе с безработицей, в деле контроля над иностранным капиталом, но не сумело преодолеть инфляцию.
Бюджет лейбористского правительства подвергся резкой критике со стороны представителей оппозиционных партий. Лидер либералов Б. Снедден сказал, что бюджет не может быть назван «бюджетом благополучия», поскольку он ничего не даст для борьбы с инфляцией и лишь вызовет дополнительные инфляционные
246
проблемы и сокращение ресурсов. Буквально то же заявили лидер аграриев Д. Антони и лидер ДЛП В. Гэр. Газета «Сидней морнинг геральд» писала, что правительство, встретившись с бюджетными трудностями, вместо тщательного изучения их решило дать выход своим реформистским социальным амбициям.
Во время предвыборной кампании лейбористы обещали австралийскому народу внести коренные изменения в политическую жизнь страны. Их деятельность внешне характеризовалась большой активностью. Было сделано много важных заявлений, внесено-в парламент немало законопроектов. Дотошные журналисты подсчитали, что члены федерального парламента в 1973 г. потратили 908 часов на рассмотрение 203 законопроектов (рекордная цифра за последние 50 лет). Но, по существу, деятельность лейбористского правительства послужила всего лишь катализатором, ускорившим те перемены в области внутренней и внешней политики Австралии, потребность в которых уже ощущалась ко времени прихода лейбористов к власти.
В этом смысле не так уже не прав был лидер либералов Б. Снедден, который, анализируя внешнюю политику лейбористского правительства, заявил 3 марта 1973 г., что неправильно рассматривать акции лейбористского правительства как наступление новой эры в австралийской внешней политике. Многое из того, что относят к специфически лейбористской внешней политике, возникло и развилось в период деятельности предшествующего правительства.
Положительная сторона деятельности лейбористского правительства очевидна. Вместе с тем совершенно ясно, что никаких принципиальных изменений в политическом курсе австралийского правительства не произошло. Выступая в мае 1974 г., один из руководителей австралийского министерства иностранных дел, Р. Вул-скотт, мог с полным основанием заявить, что австралийская политика в Азии отражает в наибольшей степени после второй мировой войны двухпартийный подход к этому региону.
В области внутренней политики лейбористская партия дала понять, что она не только не посягнет на интересы австралийского бизнеса, но будет всячески их поддерживать. Мероприятия лейбористского правительства не внесли никаких изменений в социально-классовые отношения в стране. Более того, позиция лейбористов полностью соответствовала целям значительной части австралийской буржуазии, заинтересованной в последовательном проведении курса «экономического национализма».
Нетрудно заметить расхождения между энергичными лозунгами и скромными действиями правительства, которое объявила борьбу с засильем иностранного капитала, но быстро отказалось от своих намерений. Оно показало свою слабость и в борьбе с инфляцией.
В области внешней политики курс «регионального сотрудничества», провозглашенный правительством, не нашел конкретного выражения. Правительство не изменило своего прежнего подхода
247
к военным блокам, действующим в азиатско-тихоокеанском регионе, к иностранным военным базам на территории Австралии. Это не могло не вызвать озабоченность австралийской общественности.
В течение 1973 г. наблюдался ряд неприятных для лейбористской партии симптомов. На выборах в парламент штата Виктория 19 мая 1973 г. победу одержали консервативные партии. В обеих палатах парламента они получили больше мест, чем имели до этого.
На внеочередных выборах, проведенных в Парраматте 23 сентября 1973 г., на освободившееся место в федеральном парламенте прошел кандидат от Либеральной партии П. Раддок. На выборах в Законодательную ассамблею штата Новый Южный Уэльс 17 ноября 1973 г. консервативные партии завоевали на 9 мест больше, чем их соперники. На выборах в Законодательное собрание штата Западная Австралия 30 марта 1974 г. лейбористы также уступили большинство мест Либеральной партии. Тяжелое поражение понесли лейбористы на выборах в парламент штата Квинсленд 7 декабря 1974 г. Они потеряли 22 места, сохранив лишь 11 мандатов. Либерально-аграрная коалиция увеличила свое представительство в парламенте штата с 47 до 69 мандатов.
Все эти события воодушевили оппозиционные партии. Их лидеры, деморализованные после всеобщих выборов 2 декабря 1973 г., приободрились. В консервативных партиях анализировались причины поражения.
На конференции молодых либералов, проходившей в Аделаиде 12 февраля 1973 г., подчеркивалось, что либералы должны с большим вниманием прислушиваться к мнениям и настроениям других слоев общества — от экспертов в области промышленности и университетских ученых до домохозяек; действия партии должны приобрести более наступательный характер.
В марте 1973 г. Аграрная партия начала кампанию по обсуждению в своих низовых организациях политического курса партии. В течение года каждая из 1200 таких организаций высказала свои взгляды по основным политическим вопросам. Выступая в июне 1973 г. на конференции Аграрной партии Нового Южного Уэльса, ее лидер Д. Антони заявил, что необходимо изменить партийную политику, если Аграрная партия хочет сохранить себя как влиятельную политическую силу.
Все чаще стали раздаваться голоса о необходимости организационного слияния всех оппозиционных партий. Антисоциалистическое правительство вернется к власти, заявил Д. Антони в 1973 г., лишь в том случае, если либералы и аграрии будут работать в сплоченном союзе.
В этих условиях АЛП, чтобы сохранить за собой поддержку большинства австралийского народа, должна была показать свою способность на деле выполнить обещания, данные избирателям. Г. Уитлем, выступая 2 декабря 1973 г. по поводу годовщины пребывания лейбористов у власти, заявил, что правительство выполнит обязательства и провозглашенную программу. Десять дней
248
спустя в речи перед парламентской группой лейбористской партии премьер-министр сказал, что для преодоления сопротивления оппозиции, имеющей большинство в сенате федерального парламента, он пойдет на роспуск парламента и проведение новых всеобщих выборов в мае 1974 г.
Оппозиционные партии не вняли призывам лейбористского правительства и продолжали бойкотировать его действия. 10 апреля 1974 г., после того как правительству не удалось добиться одобрения сенатом законопроекта об ассигнованиях, Уитлем заявил о роспуске парламента и о назначении на 18 мая 1974 г. новых всеобщих выборов.
Открывая предвыборную кампанию, лидер лейбористов в своем выступлении 29 апреля 1974 г. в Блэктауне, западном пригороде Сиднея, сказал, что, если лейбористская партия сохранит власть, она и в дальнейшем будет проводить преобразования в области социального обеспечения, расширять контроль над природными ресурсами страны, в отличие от Либеральной и Аграрной партий, которые, по его словам, остаются апологетами иностранной собственности. Их возврат к власти, продолжал Г. Уитлем, вновь широко распахнет ворота перед иностранными компаниями. В результате их политики уже сейчас 68% энергетических ресурсов Австралии контролируется иностранцами. Если же лейбористское правительство вернется к власти, оно вновь займется выработкой правил для иностранных капиталовложений, в частности расширит нынешнюю систему контроля и установит единую процедуру контроля над передачей собственности иностранным компаниям и над новыми прямыми иностранными капиталовложениями.
Касаясь международных отношений, Г. Уитлем заявил, что Австралия никогда раньше не пользовалась таким престижем в мире и никогда безопасность ее не была столь надежной.
На следующий день в Сиднее выступил лидер оппозиций Б. Снедден. Он начал с резких нападок на лейбористов, эксперимент которых, по его словам, не удался. Инфляция, подчеркнул лидер оппозиции, свидетельствует о величайшем провале политики лейбористов. Чтобы победить инфляцию, австралийцы должны нанести поражение лейбористам. Только правительство либеральноаграрной коалиции способно управлять страной, заключил Снедден. Но, перейдя к конкретным предложениям, он повторил старые лозунги австралийских консерваторов.
Результаты выборов оказались не в пользу либерально-аграрной коалиции. Лейбористская партия получила большинство в палате представителей: 66 мест из 127. Оппозиционные партии — 61 место. В сенате лейбористы и либерально-аграрная коалиция имели одинаковое число мест — по 29. Два места — у независимых, бывших членов Либеральной партии, на устойчивую поддержку которых лейбористы рассчитывать никак не могли.
Выборы не изменили напряженную ситуацию. Правда, одновременный роспуск обеих палат парламента давал премьер-министру право (по конституции) созвать совместное заседание обеих
249-
палат для рассмотрения законопроектов, внесенных правительством. На совместном же заседании правительству при имеющемся у него большинстве в пять мест в палате представителей было обеспечено общее большинство в три места.
10 июня 1974 г. парламентская фракция лейбористской партии провела выборы своего руководства в правительстве и парламенте. Лидером партии и премьер-министром единогласно был избран Г. Уитлем, заместителем лидера партии и заместителем премьер-министра — министр внешней торговли Д. Кэрнс, заменивший на этих постах Л. Барнарда. Пост руководителя лейбористской фракции в сенате сохранил за собой Л. Мэрфи.
Лейбористское правительство осталось у власти. Но радость победы не могла отвлечь правящую партию от размышлений над «проклятыми вопросами», главным среди которых был вопрос о преодолении все растущей инфляции. Об этом говорил Г. Уитлем, выступая 7 июня 1974 г. на конференции премьеров австралийских штатов.
10 июня 1974 г. открылась первая сессия вновь избранного австралийского парламента. Лейбористское правительство сразу же внесло на рассмотрение парламента 6 законопроектов, двукратное отклонение которых ранее привело к роспуску парламента и новым всеобщим выборам. Сенат опять, в третий раз, отклонил эти законопроекты. Для того чтобы добиться их принятия, лейбористское правительство, основываясь на ст. 57 конституции страны, потребовало созыва совместного заседания обеих палат парламента.
Представители Либеральной и Аграрной партий обратились в Высший суд, надеясь, что последний запретит проведение совместного заседания обеих палат, но Высший суд единогласно отклонил ходатайство либерально-аграрной оппозиции. Совместное заседание палат, состоявшееся 6 августа 1974 г., приняло большинством голосов законопроекты, предложенные правительством.
Но это не привело к разрядке напряженности в политической и экономической жизни страны, тем более что конституция страны разрешает правительству подобный созыв заседаний двух палат для рассмотрения законопроектов лишь один раз. Таким образом, оппозиция опять в любое время могла вызвать политический кризис путем блокирования в сенате вносимых правительством законопроектов.
В мае 1975 г. на 31-й Всеавстралийской конференции Австралийской лейбористской партии были приняты новые платформа и конституция.
Целью партии, говорилось в документе, является «демократическая социализация промышленности, производства, распределения и обмена», т. е. «использование экономических возможностей государства в интересах граждан». Средство достижения цели — «конституционные действия через федеральный парламент и законодательные органы штатов, муниципальные и другие установленные законом органы» [24, с. 9].
250
В платформе подчеркивалось, что для установления контроля за деятельностью иностранных инвеститоров в развитие австралийской экономики необходимо ввести элементы плановости. «Иностранные инвестиции в Австралии должны поощряться только в том случае, если они связаны с использованием новой технологии и опыта, предусматривают австралийское участие в предприятиях, или каким-либо другим образом могут служить национальным интересам Австралии» [24, с. 9].
В платформе провозглашалось намерение АЛП «установить полную национальную собственность на уголь, нефть, газ, уран и все другие топливные и энергетические ресурсы и сохранить контроль над ними» [24, с. 18]. Конференция подтвердила свое отношение к многонациональным корпорациям, которое было зафиксировано в резолюции, принятой на конференции партии в 1973 г. Многонациональные корпорации, указывалось в платформе, наносят ущерб «национальной независимости, экономике и экономическому планированию, способности профсоюзов эффективно вести переговоры в интересах своих членов по делам трудовых отношений, обеспечению занятости». Конференция потребовала, чтобы лейбористское правительство провело официальное расследование деятельности этих корпораций и разработало меры по предотвращению ущерба, который «подобные корпорации наносят национальным интересам Австралии» [24, с. 60].
В платформе подробно излагались намерения Австралийской лейбористской партии в области экономики, социальных отношений, образования, научных исследований, охраны окружающей среды, здравоохранения, иммиграции, гражданских свобод, развития городов и сельскохозяйственных районов, индустриализации Северной территории страны и пр.
Политике партии в отношении аборигенов был посвящен специальный раздел. В нем говорилось, что на аборигенов будут распространены общие для всех австралийцев ставки заработной платы и нормы трудового законодательства, улучшатся системы их образования и здравоохранения. «Все семьи аборигенов,— указывалось далее,— в течение десяти лет получат собственные дома». Предусматривались меры по сохранению за аборигенами традиционно принадлежащих им земель. Наконец, в документе было записано, что «каждый австралийский ребенок будет изучать историю и культуру аборигенов Австралии и сопредельных островов как составную часть истории страны» [24, с. 43—44].
Поражение на всеобщих выборах в 1972, а затем и в 1974 г. заставило руководство Либеральной и Аграрной партий в известной мере пересмотреть сложившуюся партийную систему, внимательно изучить организационную структуру лейбористской партии.
Либеральная партия, возникшая в 1944 г., после поражения на всеобщих выборах Объединенной австралийской партии, во
251
многом сохранила организационные основы своей предшественницы.
Либеральные партии в штатах обладают значительной автономией. Их организационное построение далеко не одинаково. Так, все отделения Либеральной партии Виктории имеют прямое представительство в избирательных советах и равное число представителей (по 2 человека) в совете партии штата. Совет является высшим контролирующим партийным органом; на свои заседания он собирается 3 раза в год. Ежегодные партийные конференции не созываются. Высший исполнительный орган партии — исполнительный комитет; большинство его членов избирается советом из его же состава. Женские и юношеские организации Либеральной партии, так же как и в других штатах, структурно самостоятельны.
Во всех избираемых органах женщины и мужчины имеют равное представительство. Городские и сельские партийные организации также представлены равным числом делегатов. Это — специфика Либеральной партии Виктории (в либеральных партиях других штатов дело обстоит иначе). Еще одной специфической чертой этой партии является существование советов женских и молодежных организаций либералов в масштабах штата, собираемых ежеквартально.
Избрание представителей в федеральный совет партии, членов объединенного постоянного политического комитета партии штата и делегатов в Общеавстралийский центральный комитет молодых либералов происходит в централизованном порядке исполкомом совета Либеральной партии штата. Это тоже ее специфика. Либералы — члены парламента входят во все партийные органы, кроме исполнительного комитета совета, куда избирается лишь часть из них.
Пример иной организационной структуры дает Либеральная партия Квинсленда. Ее высший орган — ежегодная конференция, которой подчинен совет партии, собираемый также лишь раз в год. Следующим звеном являются местные отделения партии, действующие на территории избирательных округов штата (в федеральный парламент). Отделения проводят окружные конференции и формируют свои исполнительные органы. В работе конференции принимают участие все члены партии. В работе конференции и совета штата участвуют представители, избираемые окружными партийными организациями. Наряду с избираемыми делегатами в работе конференции и совета участвуют по должности все либералы — члены парламента.
Конституция партии не предусматривает специального представительства женщин в высших партийных органах штата.
Организационные принципы либеральных партий других штатов соединяют в себе элементы структуры либеральных партий Виктории и Квинсленда.
Высший орган Либеральной партии в общенациональном масштабе — федеральный совет, в который партии каждого штата посылают по восемь делегатов, в их состав по должности вхо
252
дят президент партии штата, президенты женской и молодежной организаций штата, а также лидер партии в парламенте штата. Федеральный совет принимает федеральную платформу партии, координирует деятельность партий штатов по вопросам, имеющим общенациональное значение, составляет партийный бюджет, создает специальные комитеты и федеральный секретариат.
В период между ежегодными конференциями федерального совета высшим органом партии является федеральный исполнительный комитет, состоящий из президента, двух вице-президентов (одного мужчины и одной женщины), шести президентов партий штатов, федерального казначея, президентов и вице-президентов женских и молодежных организаций, предшествовавшего президента федеральной Либеральной партии, трех руководящих деятелей партии — членов федерального парламента.
Федеральный исполнительный комитет имеет право назначать всех работников федерального секретариата партии, определять их зарплату и сферу деятельности. В сотрудничестве с соответствующими органами в штатах он координирует работу партийных организаций, печатную пропаганду в общенациональных масштабах, осуществляет связь между партией и населением страны.
Федеральная конституция партии предусматривает также создание федерального объединенного политического комитета, состоящего из членов федерального совета, либералов — членов федерального парламента, представителей федеральных либеральных женских и молодежных организаций, работников федерального секретариата партии.
Через два дня после поражения на выборах в федеральный парламент в 1972 г. федеральный президент Либеральной партии Р. Соути созвал специальное совещание федерального исполкома для обсуждения вопроса о будущем партии. В своем выступлении он заявил, что это совещание должно послужить началом реформ, направленных на укрепление централизованного руководства либеральным движением в стране, усиление контроля за деятельностью партии в федеральном парламенте [228, 5.ХП.1972].
Было решено пересмотреть федеральную платформу партии, которая в течение четверти века оставалась неизменной. С этой целью был создан специальный комитет из представителей федеральной партии и партий штатов [141, с. 60]. Для того чтобы добиться согласованности действий партий штатов в период всеобщих избирательных кампаний (недостаточная согласованность явилась одной из основных причин поражения в 1972 г.), федеральный исполком в марте 1973 г. принял решение учредить общенациональный комитет по проведению избирательных кампаний с общенациональным пропагандистским агентством (при организации последнего был использован опыт лейбористской партии).
В федеральный секретариат в феврале 1974 г. был включен политический отдел для разработки тактики партии. Этот отдел подготовил, в частности, основные принципы совместных действий Либеральной и Аграрной партий на внеочередных выборах в фе
253
деральный парламент в мае 1974 г. Роль федерального секретариата и его главы после этого печального для партии события была еще более усилена.
В октябре 1974 г. федеральный совет Либеральной партии утвердил новую федеральную платформу, в которой нашло отражение желание либералов расширить базу своей деятельности, увлечь за собой более широкие массы населения. «Либерализм,— записано в документе,— великая гуманистическая философия, основанная на понимании нужд и чаяний каждого индивидуума... Общество, как понимает его либерализм, является свободным объединением индивидуумов... в условиях которого они могут развивать свои способности, избирая свой собственный жизненный путь» [25, с. 3].
В платформе содержалось специальное обращение к молодежи: «Для молодых, стремящихся к умственному и физическому развитию... возмущающихся угнетением и отвергающих насилие, либерализм — философия, отвечающая духу времени» [25, с. 75].
Содержалось также положение, которое, по мысли либералов, должно было привлечь внимание рабочих: «Либерализм понимает, что в современном комплексном индустриальном обществе организованный труд имеет право на конструктивную роль в сбалансированном развитии общества и нации» [25, с. 4].
И, конечно, вновь провозглашалась незыблемость и святость частной собственности: «Право каждого иметь частную собственность является основой свободного общества». И далее: «Либерализм стремится к созданию общества, в котором бы существовала индивидуальная экономическая свобода... Свободное предпринимательство — ведущий фактор в достижении общего экономического прогресса... Эффективная конкуренция — средство против пороков монопольной власти и средство усиления производительности» [25, с. 4].
Учитывая недовольство австралийской общественности широким проникновением иностранного капитала в экономику страны,. Либеральная партия в новой платформе высказалась, правда в самой осторожной форме, за введение некоторых элементов контроля над ним. В разделе «Иностранные инвестиции» указывалось, что они вносят вклад в экономическое развитие Австралии путем передачи капитала, технологии и опыта, однако, подчеркивалось в документе, одним из основных принципов политики партии в отношении иностранных инвестиций должно быть «сохранение преобладания австралийского капитала в ключевых отраслях экономики, а также контроль за всеми иностранными компаниями, действующими в Австралии» [25, с. 61].
В платформе весьма эмоционально говорилось об австралийских минеральных и энергетических ресурсах, являющихся «национальным достоянием, которое, если его правильно использовать, даст великие выгоды австралийскому народу» [25, с. 65].
«Необходимость сохранить наше богатство и улучшить жизнь требует как общенациональных, так и региональных действий, ко
254
торые позволят... свести к минимуму отравление воздуха, земли и воды, сохранить флору и фауну, архитектурные памятники, сохранить прекрасные городские и сельские ландшафты и создать новые» [26, с. 54].
В платформу не вошли стереотипные высказывания об угрозе «международного коммунизма» и т. п., но были включены некоторые положения, выдержанные в антикоммунистическом и антисоциалистическом духе.
Поражение на всеобщих выборах 1972 и 1974 гг. заставило и австралийских аграриев начать некоторую перестройку организационных основ своих партий. Характерной в этом отношении явилась конференция Аграрной партии Нового Южного Уэльса, со-слоившаяся в 1974 г. Эта партия считается наиболее консервативной из всех аграрных партий страны. Хотя на конференции и подчеркивалась незыблемость традиционной основы деятельности партии как партии сельских хозяев, вместе с тем было признано необходимым усилить деятельность партии среди населения небольших городов штата [208, VII.1974, с. 1]. Было принято новое название партии — Австралийская аграрная партия (Новый Южный Уэльс).
Аграрная партия Нового Южного Уэльса имеет по сравнению с партиями других штатов самую централизованную организацию. Наиболее влиятельный орган партии — центральный совет, в состав которого входят представители избирательных советов в федеральный и местный парламент и несколько партийных деятелей. Выборных членов в составе совета нет. Заседания совета проходят раз в году, непосредственно перед партийной конференцией штата.
Совет избирает президента, вице-президента, казначея, платного генерального секретаря, а также свой исполнительный комитет. В работе ежегодной конференции партии участвуют делегаты ют окружных организаций, а также по должности аграрии — члены парламента. Конференция принимает партийную платформу и конституцию, обсуждает вопросы общей политики партии.
В штате существует отдельная партия молодых аграриев со своей собственной конституцией.
Организация Аграрной партии Виктории иная. Высший орган партии — ежегодная конференция, делегаты на которую в большинстве своем избираются окружными партийными организациями.
Конференция избирает всех высших должностных лиц и составы исполнительных органов партии. Но повестку дня конференции составляет центральный совет, и только через него могут делаться какие-либо предложения на этот счет. В состав совета входят представители окружных организаций и по должности пять членов парламента.
Совет назначает исполнительный комитет из девяти человек. Все решения комитета, как правило, вступают в силу лишь после их утверждения советом. В штате существуют отдельные женские
255
и молодежные аграрные организации. Имеется также избирательный совет, функционирующий только в период выборов.
Особенностью конституции Аграрной партии Виктории являются наличие в ней подробных положений, регламентирующих работу парламентской секции партии. В них, в частности, указывается, что состав правительства штата избирается парламентской секцией. Министры могут быть сняты с постов только после голосования в парламентской секции.
Организационная структура Аграрной партии Южной Австралии почти полностью копирует викторианскую.
Аграрная партия Квинсленда, которая с 1973 г. называется Национальная партия Австралии (Квинсленд), организационно отличается от первых трех. Высший орган партии —• конференция, на которой избираются высшие должностные лица партии, в их числе президент и 14 зональных вице-президентов. Зоны, как правило, совпадают с избирательными округами. Лишь от столицы штата — города Брисбена — избирается с 1973 г. 4 вице-президента (после поражения на всеобщих выборах 1972 г. аграрии стремятся усилить свое влияние среди городского населения).
Другим важным органом партии является центральный совет, состоящий из выборных членов (по одному от каждого избирательного округа по выборам в законодательный орган штата и по два от каждого избирательного округа по выборам в федеральный парламент) и входящих в него по должности всех квинслендских аграриев — парламентариев и представителей женских и молодежных организаций штата. Центральный совет собирается не менее четырех раз в год.
В 1973 г. было вдвое увеличено представительство отделений партии на конференции. Расширилось также представительство женских и молодежных организаций в центральном совете. Если раньше они направляли двух делегатов по должности, то теперь женские организации могут делегировать 8, а молодежные — 9 человек.
Высший исполнительный орган партии — административный комитет, состоящий из высших должностных лиц, включая зональных вице-президентов, трех членов парламента, представителей женских и молодежных организаций и членов центрального совета. Отличительной чертой организации Аграрной партии Западной Австралии является большая концентрация власти у совета. Хоть конституцию партии принимает конференция, толкование целей, задач, основных направлений политики партии дает совет.
Аграрные партии штатов автономны. По сути дела, вообще не существует организационного объединения их в масштабе страны. Федеральный совет не имеет власти, средств, аппарата и находится в руках аграриев — членов федерального парламента. Федеральный совет обладает только правом вето при решении вопроса о вхождении Аграрной партии в правительственную коалицию на федеральном уровне. Но этим правом он никогда не пользовался.
Конституция Аграрной партии весьма ограничивает компе
256
тенцию федерального совета партии. В ней предусматривается, что время от времени должны собираться совместные заседания совета и аграрной группы федерального парламента для обсуждения вопросов политики партии на федеральном уровне. Совет состоит из трех ведущих членов аграрной группы федерального парламента, членов федерального парламента от аграрных партий штатов, лидеров аграрных партий в парламентах штатов, трех представителей от каждой аграрной партии штата (не членов парламента), одного представителя от женских и одного — от юношеских аграрных организаций.
После поражения на всеобщих выборах в 1972 и 1974 гг. аграрии почувствовали, что отсутствие объединения на уровне федерации чревато серьезной опасностью. В начале мая 1975 г. состоялся первый съезд партии, на котором основное внимание было уделено консолидации аграрных партий штатов, их союзу с либералами. Съезд принял решение о создании Национальной аграрной партии Австралии.
Коммунистическая партия Австралии, вышедшая из подполья в 1942 г., в самом начале 50-х годов вновь подверглась гонению. Законопроект, внесенный правительством в октябре 1950 г., запрещал деятельность компартии и позволял расправляться как с коммунистами, так и с теми, кто участвовал в движении сторонников мира или в любом другом прогрессивном движении. Однако Высший суд признал этот законопроект противоречащим конституции, а общенациональный референдум отверг поправку к конституции, которая сделала бы возможным проведение законопроекта в жизнь.
Программа Коммунистической партии Австралии «Путь Австралии к социализму» была принята 18-м съездом партии в 1958 г. и дополнена на 20-м съезде в 1964 г. Компартия выступила за переход к социализму мирным путем, за национализацию крупных промышленных предприятий, крупной сельскохозяйственной собственности и банков, за мир во всем мире и предоставление независимости австралийским колониям. КПА пользовалась значительным влиянием в профсоюзах. Организационным принципом ее был демократический централизм. Партия участвовала в работе международных Совещаний коммунистических и рабочих партий в Москве в 1957 и 1960 г. и подписала итоговые документы этих совещаний.
В середине 60-х годов, после смерти Л. Шарки, долгое время возглавлявшего партию, было избрано новое руководство, по инициативе которого произошел пересмотр прежних позиций КПА. Наметился крен в сторону ревизионизма, отменена программа партии, из устава изъят пункт о демократическом централизме. На 22-м съезде в марте 1970 г. была принята новая программа: «Цели, методы и организация КПА». В отношении важнейших проблем международного коммунистического движения КПА отошла от принципов пролетарского интернационализма и отвергла международное значение опыта социалистических стран.
В 1971 г. часть членов КПА, не согласившихся с политикой ру
17 Заказ 91
257
ководства, вышла из партии и основала Социалистическую партию — политическую организацию рабочего класса, стоящую на позициях марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма. Учредительный съезд партии состоялся в сентябре — октябре 1972 г.
На 2-м съезде в июне 1975 г. была принята «Социалистическая программа». Социалистическая партия считает, говорилось в этом документе, что для объединения сил, которые способны осуществить социалистические перемены, необходимо решить четыре главные задачи:
1. Создать партию, основанную на принципах научного социализма, которая своей пропагандой, просветительной и организационной работой завоюет авторитет у рабочего класса и прогрессивной общественности.
2. Добиться такой сплоченности рабочего класса, чтобы он действовал решительно, настойчиво и через определенный период осуществил свою программу требований, направленных против государственно-монополистического капитализма, а также чтобы он был готов взять на себя руководство страной.
3. Объединить союзников рабочего класса, готовых принять его руководство и стать частью надежного антимонополистического союза, выступающего за прогресс и социализм.
4. Установить дружеские отношения с прогрессивными движениями и организациями других стран в целях достижения взаимопонимания и солидарности.
Социализма можно достигнуть только путем классовой борьбы — борьбы рабочего класса рука об руку с другими слоями народа, стремящимися к социальному прогрессу, под руководством марксистской партии. На протяжении всей истории Австралии эта борьба нарастала и будет нарастать до тех пор, пока общество коренным образом не перестроится.
Основными целями партии были провозглашены: мир между странами, более высокий и постоянно повышающийся жизненный уровень трудящихся, их уверенность в завтрашнем дне, создание возможностей для созидательной работы, расширение демократических прав народа, конец социальным несправедливостям и эксплуатации, социалистическая Австралия.
В разделе программы «Мирный и немирный переход к социализму» была определена стратегическая линия партии: при построении социалистического общества в Австралии управлять социалистическим государством будет демократическое правительство, представляющее все прогрессивные силы страны. Такое коренное изменение может быть достигнуто мирным или немирным путем в зависимости от обстоятельств... Социалистическая партия ставит своей задачей добиться перехода к социализму мирным путем, поскольку это соответствует интересам рабочего класса и народа в целом. Однако история показывает, что правящий класс никогда не отказывается от власти добровольно. Необходимо будет подавить различные формы сопротивления сил капитализма и пресечь
258
их попытки прибегнуть к вооруженному насилию. Народным силам нужно будет ликвидировать влияние оппортунистов и соглашателей всех мастей в руководстве профсоюзов, кооперативных и других массовых организаций.
К середине 70-х годов экономическое положение страны еще более ухудшилось. Из месяца в месяц росла безработица. В феврале 1975 г. безработные составили 4,2% общего числа рабочей силы, тогда как в сентябре 1974 г.— 2,1%. В марте количество безработных превысило 370 тыс. человек, или 4,5% общего числа рабочей силы, в октябре этот процент поднялся до 5,1 а в ноябре до 5,3. Уровень инфляции также продолжал оставаться высоким, составив в сентябре 17%.
Немалые трудности наблюдались в сельском хозяйстве. За три квартала 1974/75 г. австралийские фермеры экспортировали менее 30% всего производства говядины. Доходы от ее экспорта составили лишь 320 млн. австрал. долл., в то время как, например, в 1971/72 г. Австралия продала говядины на 653 млн. австрал. долл.
Бюджет на 1975/76 г., представленный правительством в августе 1975 г., предусматривал дефицит в 2798 млн. австрал. долл., т. е. на 232 млн. больше дефицита, фактически полученного в 1974/75 г.
Пытаясь заручиться поддержкой деловых кругов страны, лейбористы стали отказываться от своих лозунгов о национализации. На 31-й Всеавстралийской конференции АЛП подчеркивалось важное значение частного предпринимательства. В политической платформе, принятой конференцией, говорилось: «Частный сектор дает работу существенной части австралийского рабочего класса, эффективный и процветающий частный сектор важен для увеличения занятости» [24, с. 11]. Буржуазная пресса Австралии указывала, что лейбористы вынуждены выбирать между социалистическими принципами и политической властью; пока что они выбрали политическую власть.
Вместе с тем лейбористское правительство продолжало настаивать на ограничении иностранного капитала в экономике страны. 24 сентября 1975 г. Г. Уитлем объявил о намерении правительства установить максимум в 50% для иностранных владельцев австралийских предприятий, которые будут создаваться во всех отраслях горнорудной промышленности, кроме добычи урана, где за австралийцами должно сохраняться 100% собственности.
Оппозиция усиливала нажим. В начале марта 1975 г. она внесла в палате представителей предложение о вотуме недоверия правительству, мотивируя его тем, что правительство не способно справиться с трудностями, переживаемыми страной из-за продолжающейся инфляции и растущей безработицы. Палата представителей отклонила это предложение 64 голосами против 59.
17*
259
На конференции Либеральной партии, состоявшейся 21 марта 1975 г., лидером партии вместо Б. Снеддена был избран М. Фрейзер. Это свидетельствовало о еще большей активности либералов в борьбе за власть.
Пленум ЦК Социалистической партии, состоявшийся в марте 1975 г., обсудив обстановку, указал на активизацию правых сил в стране. Социалистическая партия обратилась с письмом к Г. Уит-лему, в котором говорилось о необходимости провести широкую кампанию «в поддержку прогрессивного законодательства, с тем чтобы предотвратить возвращение к власти коалиции Либеральной и Аграрной партий». Этот же вопрос стоял на повестке дня 2-го съезда партии.
На протяжении всего 1975 года оппозиционные партии блокировали в парламенте законодательную деятельность правительства, пользуясь тем, что лейбористы не имели большинства в сенате. Так, в течение первой половины года сенат отклонил 25 законопроектов, внесенных правительством, из них 10 — дважды. В их числе были 3 законопроекта о финансировании национальной программы Здравоохранения и 2 законопроекта о трудовых отношениях. Сенат не принял также законопроект о перераспределении избирательных округов, одобренный палатой представителей, что позволило бы уравнять число избирателей в городской и сельской местностях (разница не должна была превышать 10%) и тем самым устранить диспропорцию в пользу сельских округов. Существовавшее положение давало большое преимущество Аграрной партии, которая именно в силу этого обстоятельства смогла провести на предыдущих выборах 21 депутата в палату представителей.
Сенат не принял также законопроект о проведении выборов в обе палаты одновременно.
Внутриполитическая обстановка в стране крайне обострилась с середины октября 1975 г., после того как 15 октября оппозиция в сенате отклонила 29 голосами против 28 законопроект о бюджете. М. Фрейзер заявил, что оппозиция будет отклонять этот законопроект до тех пор, пока правительство не согласится назначить новые всеобщие выборы.
Г. Уитлем, в свою очередь, категорически отказался распустить парламент и провести новые выборы. Он заявил, что не оставит попыток провести законопроект о бюджете через сенат. 31 октября Уитлем сказал, что правительство сможет, по всей вероятности, продолжать свою деятельность без утвержденного парламентом бюджета.
2 декабря М. Фрейзер созвал в Мельбурне заседание лидеров Либеральной и Национальной аграрной партий. На следующий день лидер либералов имел встречу с генерал-губернатором Австралии Д. Кэрром, которому он передал заявление, подготовленное на заседании лидеров Либеральной и Национальной аграрной партий, о готовности оппозиции одобрить законопроект о бюджете немедленно после того, как будет ясно сказано, что выборы в палату представителей состоятся одновременно со следующими вы
260
борами в сенат, которые намечено провести до 30 июня следующего года.
Уитлем в тот же день выразил протест по поводу заявления М. Фрейзера. Система управления, которая существует в Австралии 75 лет, сказал он, была бы разрушена, если бы какой-либо премьер-министр сейчас или в будущем уступил подобному шантажу.
6 ноября Д. Кэрр имел встречи с Г. Уитлемом, министром финансов Б. Хейденом и М. Фрейзером. Официально сообщений об этом не последовало. После визита к Д. Кэрру М. Фрейзер сказал, что он продолжает настаивать на своем предложении, сделанном 3 ноября.
Развязка наступила неожиданно 11 ноября. В этот день было опубликовано заявление Д. Кэрра, в котором сообщалось, что он, внимательно изучив обстановку, пришел к выводу, что ликвидировать конституционный кризис можно путем прекращения полномочий премьер-министра Уитлема и предоставления переходному правительству возможности обеспечить принятие бюджетных ассигнований. Далее генерал-губернатор назвал причины, побудившие его принять такое решение: сенат имеет право отклонять или задерживать предоставление бюджетных ассигнований правительству. Поэтому премьер-министр, который не может получить бюджетных ассигнований, включая финансовые средства для продол^ жения обычных правительственных служб, должен либо предложить провести всеобщие выборы, либо подать в отставку. Если он отказывается так поступить, то я обязан в соответствии с конституцией прекратить его полномочия и пригласить лидера оппозиции сформировать переходное правительство. Генерал-губернатор заявил, что он принял свое решение после консультаций с председателем Высшего суда Австралии Барвиком.
Назначение М. Фрейзера премьер-министром переходного правительства не было одобрено большинством депутатов в палате представителей, которая вынесла ему вотум недоверия и просила спикера передать это решение генерал-губернатору.
На следующий день М. Фрейзер, назначенный премьер-министром переходного правительства, объявил, что Д. Кэрр дал согласие на проведение всеобщих выборов в парламент 13 декабря 1975 г.
С чисто правовой точки зрения Д. Кэрр мог отстранить премьер-министра, но, использовав это давно забытое право, он создал весьма опасный прецедент, что вызвало бурю протеста в стране. Г. Уитлем на пресс-конференции, состоявшейся в здании парламента, заявил, что на карту поставлена парламентская демократия в Австралии.
14 ноября 1975 г. в митингах протеста против отстранения от власти лейбористского правительства, прошедших в Мельбурне, Брисбене и Аделаиде, приняло участие 50 тыс. человек. Подобных политических манифестаций не было со времени войны во Вьетнаме. Тем не менее решение генерал-губернатора осталось в силе.
261
13 декабря 1975 г. состоялись выборы в парламент, в результате которых к власти пришла либерально-аграрная коалиция, получившая большинство мест в обеих палатах парламента.
Экономическое положение в стране продолжало оставаться сложным. В статье, помещенной 29 октября 1976 г. в журнале «Фар истерн экономик ревью», справедливо констатировалось: «Надежды на то, что отстранение в декабре прошлого года лейбористского правительства во главе с Гофом Уитлемом и приход на смену ему консервативной коалиции либеральной и национальной аграрной партий вызовет скорое оживление экономики, быстро* улетучиваются. Для австралийской экономики все еще характерны спад, инфляция, высокий уровень безработицы, медленные темпы использования частного капитала» [204, 29.Х.1976].
Действительно, уровень инфляции и безработицы в 1976 г. остался прежним, составляя соответственно 17 и 5,4%. В течение первой половины 1976/77 г. бюджетный дефицит составил 4362 млн. австрал. долл., тогда как за соответствующий период предыдущего года он равнялся 3792 млн. австрал. долл.
В середине сентября 1977 г. в Сиднее состоялся очередной конгресс Австралийского совета профсоюзов, крупнейшего профсоюзного объединения в стране, в которое входят 1,8 млн. человек,, или почти 80% всех трудящихся страны, объединенных в профсоюзы. Конгресс констатировал значительные экономические трудности Австралии, тесно связанной с мировым капиталистическим рынком и его валютной системой и в силу этого весьма чувствительной ко всякого рода колебаниям в мировой капиталистической экономике.
В материалах конгресса подчеркивалось, что австралийская экономика находится в кризисном состоянии, решения, которые принимало правительство Фрейзера, еще более усугубили тяжелое экономическое положение страны, а его экономическая стратегия доказала свою полную несостоятельность. В резолюции «Об экономической политике» указывалось, что ползущая вверх спираль инфляции стала прямым следствием политики правительства Фрейзера и что в результате действий правительства, приведших к сокращению реальной заработной платы, к ликвидации системы государственных страховых субсидий при заболеваниях, к девальвации австралийского доллара и принудительному замораживанию зарплаты, на плечи трудящихся легло дополнительное бремя экономических трудностей. Правительство, отмечалось в резолюции» не уделяет достаточного внимания вопросам, связанным с созданием дополнительных рабочих мест в целях сокращения безработицы, и не только не расширяет, а, наоборот, сокращает государственный сектор в экономике страны.
Бюджет на 1977/78 г. конгресс характеризовал как экономически безответственный и способствующий углублению социальных контрастов. Бюджет игнорирует то обстоятельство, что обычный ежегодный прирост работоспособного населения составляет 2%; составители бюджета, исходя в своих расчетах всего лишь из 1%, 262
по существу, планируют увеличение числа безработных на 60 тыс. человек. Предусмотренные в нем меры никак не гарантируют от роста инфляции, а новая система налогообложения приносит выгоду лицам, имеющим высокие доходы.
Конгресс выступил против засилья иностранного капитала в >стране. В резолюции «Экономическая политика», в частности, отмечалось значительное влияние иностранных корпораций на экономику Австралии. 65% капитала в добывающей промышленности и 50% в банковском секторе, указывалось в документе, принадлежат иностранцам. Из 200 крупнейших компаний, производящих половину промышленной продукции, 87 контролируется иностранным капиталом.
Первостепенную важность в политической жизни страны приобрел вопрос о добыче и экспорте урановой руды. В 1973 г. лейбористское правительство объявило мораторий на добычу и экспорт австралийского урана в связи с изучением вопроса о влиянии ^го добычи на окружающую среду и здоровье людей.
Поскольку консервативное правительство заявило о намерении возобновить добычу и экспорт урана, в стране началась широкая кампания протеста.
32-я Всеавстралийская конференция Австралийской лейбористской партии, состоявшаяся в Перте в начале июля 1977 г., приняла резолюцию, в которой предлагалось объявить на неопределенное время мораторий на добычу и экспорт урана.
Игнорируя требования общественности, консервативное правительство сообщило в середине августа 1977 г. о своем решении возобновить добычу и экспорт урановой руды. В решении правительства говорилось, что уран будет продаваться только в те страны, которые подписали договор о нераспространении ядерного -оружия; Австралия ставит условия, что ядерные материалы не должны использоваться в военных целях; должны заключаться двусторонние соглашения со странами, желающими импортировать австралийский уран; необходимо согласие Австралии на передачу •третьей стороне ядерного материала для повторной обработки при -обогащении урана более чем на 20%. Правительство объявило о создании Совещательного совета по урану, подчиненного министерству национальных ресурсов.
М. Фрейзер, выступая в парламенте, сказал, что решение возобновить добычу и экспорт урана мотивировано якобы высоким чувством моральной ответственности перед австралийцами и другими нациями. Это проистекает из необходимости сократить риск ядерного распространения, снабдить зарубежные страны существенными источниками энергии, недостающей в мире, эффективно защищать окружающую среду в районах добычи урана, обеспечить соответствующими условиями благополучие и интересы аборигенов.
Кроме М. Фрейзера выступили еще 5 министров, которые подчеркивали, что в государственную казну поступят большие суммы от продажи урана, что будет способствовать развитию и оздоров
263
лению экономики. По расчетам правительства, общий доход, страны от экспорта урана до 2000 г. составит более 20 млрд, австрал. долл.
Лидер оппозиции Г. Уитлем заявил, что политика правительства в отношении австралийского урана является рыночной политикой, не содержащей морали. Во многих городах страны состоялись демонстрации и митинги против политики правительства Фрейзера в отношении урана. В начале сентября 1977 г. исполнительный комитет Австралийского совета профсоюзов принял решение потребовать от правительства проведения в течение двух месяцев национального референдума по вопросу о добыче урана.
Правительство никак не отреагировало на решения профсоюзного центра. Однако дискуссии вокруг проблемы о добыче урана приняли весьма широкий размах, и 2 сентября 1977 г. заместитель премьер-министра Д. Антони заявил, что, возможно, придется провести досрочные всеобщие выборы, чтобы решить спор об уране.
Правящая коалиция решила провести досрочные выборы в декабре и начала активно к ним готовиться. По расчетам М. Фрейзера, консерваторы в тот период были достаточно сильны, чтобы остаться у власти. Если бы выборы состоялись в мае, когда до истечения срока полномочий правительства оставалось 7 или 8 месяцев, шансов сохранить власть у коалиции было бы значительно меньше. В октябре 1977 г. М. Фрейзер объявил о согласии генерал-губернатора Австралии Д. Кэрра на проведение выборов, в федеральный парламент 10 декабря 1977 г.
На выборах коалиционные партии одержали победу. После того как стали известны результаты голосования, Г. Уитлем объявил о своем уходе с поста лидера партии. Возглавил АЛП Б. Хейден. В интервью корреспонденту газеты «Острэйлиен» Хейден заявил, что, по его мнению, необходимо осуществить серьезные структурные изменения партии, внести новые элементы в программу и методы пропаганды.
Федеральный исполком АЛП создал комитет по исследованию возможностей проведения реформ в партии. Под руководством Б. Хейдена и Б. Хоука комитет рассмотрел более 250 предложений. Окончательный проект реформ в партии был опубликован осенью 1979 г.
Неожиданностью был успех на выборах Австралийской демократической партии, возникшей незадолго до выборов. Ее лидером является Д. Чипп, бывший член коалиционного правительства, порвавший с Либеральной партией из-за своих разногласий с М. Фрейзером. Австралийская демократическая партия, выступившая на выборах в качестве «третьей силы», собрала более 10% голосов избирателей страны. «Австралийской демократической партии только семь месяцев, — писал Д. Чипп в газете „Острэйлиен" 27 декабря 1977 г.,— но 10 декабря она собрала один миллион голосов из восьми с половиной миллионов. Мы этого достигли фактически без денег, без аппарата, без какой-либо поддержки. Мы не
264
имели даже времени полностью выработать нашу политику» [215, 27.XII.1977].
Партию в основном поддержали избиратели, разочарованные в политике либералов. Демократы же заявили о том, что они отвергают многие основные положения Либеральной партии. «Я твердо уверен,— заявил Д. Чипп,— что правительство избрало абсолютно неверную экономическую политику. Я предвижу, что у думающих австралийцев в течение 1978 г. появятся серьезные сомнения относительно возобновления разработок урана. Еще неизвестен способ безопасного хранения отходов радиоактивных элементов, сохраняющих свое действие в течение 100 000 лет, в то время как уран в лучшем случае может удовлетворить только 10% мировых потребностей в энергии в течение только 30 лет. Было бы плохим бизнесом уничтожить среду обитания на необозримый срок в 100 000 лет для столь краткосрочного и неполного решения энергетической проблемы» [215, 27.XII.1977].
Проблема разработки урановых руд продолжала волновать австралийскую общественность и после выборов. Лейбористская партия и профсоюзы по-прежнему выступали против решения правительства возобновить добычу и экспорт урана. Руководство АЛП заявило, что в случае прихода партии к власти решение о возобновлении добычи и экспорта урана будет отменено. Но правительство либерально-аграрной коалиции на протяжении 1977—1979 гг. предприняло ряд шагов, направленных на расширение экспорта урановой руды из Австралии и создание благоприятного климата для повышения роли страны в развитии мировой атомной энергетики. С этой целью правительство М. Фрейзера начало активно участвовать в международных организациях стран — экспортеров урана и в коллективных исследовательских программах по проблемам использования ядерной энергии в мирных целях.
Экономическое положение страны продолжало ухудшаться. Произошло дальнейшее сокращение темпов роста валового национального продукта страны. Если в 1976/77 г. он вырос на 4%, то в 1977/78 г.— всего на 1,4%. Небольшое снижение темпов инфляции в 1977 г. было достигнуто путем увеличения армии безработных. В январе 1978 г. в Австралии насчитывалось почти 450 тыс. безработных, или 7,2% общего числа рабочей силы. Такое положение сохранялось, в сущности, на протяжении всего 1978 года.
Предполагалось, что дефицит бюджета страны на 1977/78 г. составит 2,22 млрд, австрал. долл., фактически же он достиг 3,33 млрд, австрал. долл. Бюджет, принятый на 1978/79 г., предусматривал дефицит в размере 2,81 млрд, австрал. долл. Фактически он составил 3,5 млрд. долл. Следует отметить, что военные расходы в бюджете на 1978/79 г. вновь возросли: на них ассигновано 2,5 млрд, австрал. долл, против 2,38 млрд, австрал. долл, в бюджете предыдущего финансового года.
Вырос дефицит платежного баланса, и уменьшилось положительное сальдо торгового баланса. Если в 1976/77 г. платежный баланс был сведен с дефицитом в размере 491 млн. австрал. долл.,
265
то в 1977/78 г. он увеличился до 545 млн. австрал. долл. В 1976/ 77 г. положительное сальдо австралийского торгового баланса составило 1,06 млрд, австрал. долл., а в 1977/78 г.— 821 млн. австрал. долл.
Цены на потребительские товары с февраля 1977 по февраль 1978 г. поднялись на 10,4%. Общее увеличение цен на потребительские товары с середины 60-х годов составило 124%. Главным образом выросли цены на хлеб, мясо, молоко, на готовое платье, мебель, табачные изделия. Повысилась квартирная плата, стоимость проезда в общественном транспорте, взносы в кассы социального страхования.
Заметно усилились выступления австралийского пролетариата, против политики правительства, против действий предпринимателей, старающихся переложить на плечи трудящихся бремя экономического кризиса. В июле 1976 г. была проведена общенациональная забастовка, в которой приняли участие 2,5 млн. человек. Причиной забастовки послужило сокращение в бюджете на 1976/ 77 г. расходов на социальные нужды на 3,1 млрд, австрал. долл., а также существенное уменьшение государственных отчислений на страхование по болезни. По официальным данным, в 1977 г. в забастовке участвовало 600 тыс. трудящихся и было потеряно 1,7 млн. рабочих дней. Правительство отвечало на это принятием новых антизабастовочных законов.
Пытаясь преодолеть кризисные явления в экономике, либерально-аграрная коалиция девальвировала 28 ноября 1976 г. австралийский доллар на 17,5%, но затем, напуганная своим решением, путем нескольких небольших ревальваций подняла стоимость доллара на 5%. Подобные отчаянные попытки не привели к изменению ситуации, не остановили роста инфляции и безработицы в стране.
В бюджете на 1978/79 г. вновь проявилась антинародная политика консервативного правительства. Расширение доходных статей бюджета предусматривалось за счет резкого увеличения прямых и косвенных налогов. Была окончательно ликвидирована государственная система медицинского страхования «Медибэнк», введенная лейбористским правительством. В бюджете были уменьшены ассигнования государственным школам, сокращены пособия на детей и средства, выделяемые на нужды аборигенов.
Выступая против экономической политики правительства, орган Социалистической партии Австралии газета «Соушелист» призывала «положить конец возмутительным поблажкам и уступкам монополиям и многонациональным корпорациям» [225, 23.VIII. 1978]. При обсуждении бюджета в парламенте с резкой его критикой выступили лейбористы. Решительно осудили его также австралийские профсоюзы.
Г л а в a V
АВСТРАЛИЙСКИЙ КОЛОНИАЛИЗМ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Процесс ликвидации мировой колониальной системы империализма привел к тому, что Австралия со второй половины XX в. оказалась крупнейшей колониальной державой в бассейне Тихого океана. В австралийских колониальных владениях жило около 2,2 млн. человек.
Ее бывшая хозяйка — Великобритания, в колониальной империи которой когда-то «не заходило солнце», к тому времени почти полностью утратила свои заморские владения. Для управления оставшимися территориями британское правительство сочло неоправданным содержать специальное ведомство, и знаменитое министерство колоний после двухсотлетнего существования было закрыто.
До 1968 г. Австралия вместе с Англией и Новой Зеландией «опекали» остров Науру. До 1975 г> она управляла Территорией Папуа Новая Гвинея. Австралия и поныне владеет в Тихом океане островом Норфолк, а в Индийском океане — островами Рождества и Кокосовыми.
Остров Науру, несмотря на его ничтожные размеры, тем не менее имел, как отмечалось выше, наибольшее число «опекунов»: Англию, Новую Зеландию и Австралию. Функции управляющей власти были возложены на Австралию.
Колонизаторов привлекали огромные залежи фосфатов. В конце XIX в. один химик, служивший в Британской фосфатной компании, произвел анализ куска породы, привезенного из Науру агентом компании в качестве сувенира, и обнаружил в нем высокое содержание фосфата. Компания сразу заинтересовалась этим отдаленным островом, купила у ничего не подозревавших немцев — хозяев острова право на производство шахтных разработок и в 1906 г. приступила к работам [157, с. 219].
После первой мировой войны остров стал подмандатной территорией Англии, Новой Зеландии и Австралии, а после второй мировой войны перешел под их «опеку».
Управление территорией было возложено на администратора, «ответственного перед австралийским правительством через министра по делам внешних территорий. Администратор был уполномо-
267
чен издавать декреты, касавшиеся поддержания мира, порядка и управления территорией.
На острове имелся Науруанский совет местного управления, да 1951 г. именовавшийся Науруанским советом вождей. Он не имел какой-либо законодательной или административной власти, его консультативные функции были также ограничены. Совет состоял из 9 членов, избиравшихся на срок не свыше 4 лет. Возглавлял его главный вождь, который выбирался из числа членов совета. Интересно отметить, что с 1927 г., когда был учрежден совет, его функции совершенно не изменились, права его не были расширены.
Когда выездная миссия ООН в 1959 г. посетила остров, Науруанский совет местного управления выдвинул конкретные предложения по расширению своих прав. Они сводились к следующему:
1. Постановления совета по некоторым вопросам, касающимся жилищного плана, и по смежным вопросам должны носить окончательный характер.
2. Постановления совета по всем вопросам, касающимся контроля над деятельностью Науруанского кооперативного общества и управления им, должны носить окончательный характер.
3. Совету должно быть предоставлено право переводить ассигнованные средства из одной статьи бюджета в другую в рамках утвержденной бюджетной сметы совета без предварительного разрешения со стороны администратора.
4. Совету должна быть предоставлена полная власть в вопросах, касающихся вступления в состав членов науруанской общины и выхода из нее лиц, не являющихся науруанцами.
5. Совету должна быть предоставлена власть принимать решения по некоторым аспектам образования науруанцев (кроме вопросов составления школьных программ и их выполнения) и давать заключения относительно бюджета народного образования.
6. Совету должны быть предоставлены и другие полномочия, которые, по мнению компетентной власти, совет способен осуществлять, что вместе с тем поможет ему достигнуть окончательной цели— самоуправления [И, Т/1448, с. 16—22].
Если бы управляющая власть выполняла свои функции по развитию территории, она давно должна была бы сделать все, что предлагалось Науруанским советом местного управления. Однако управляющая власть не согласилась принять ни одного из перечисленных пунктов.
Науруанский совет предлагал также, чтобы представитель или представители коренного населения подопечных территорий присутствовали на заседаниях Совета по опеке, когда обсуждается вопрос о положении на соответствующей территории, а также когда выездная миссия представляет свой доклад на обсуждение совета.
Это предложение вызвало резкий отпор со стороны австралийских властей, нашедший поддержку у выездной миссии ООН 1959 г. Но даже эта весьма лояльная к колонизаторам миссия записала в своем докладе Совету по опеке, что ее поразила зрелость^ 268
проявленная некоторыми советниками из Науруанского совета местного управления. «Обе стороны,— указывалось в докладе,— извлекли бы пользу от привлечения науруанцев к работе австралийской делегации в Совете по опеке в качестве советников или консультантов на тех заседаниях, на которых обсуждается доклад выездной миссии о Науру» [И, Т/1448, с. 27].
После дискуссии по этому вопросу в Совете по опеке, на которой представитель СССР твердо отстаивал интересы науруанцев, управляющая власть вынуждена была согласиться с рекомендацией совета. На 27-й сессии совета она сообщила, что член Науруанского совета местного управления включен в состав австралийской делегации в качестве советника [37, с. 67].
Вопрос о расширении компетенции Науруанского совета, О' необходимости принять меры, направленные на политическое развитие территории, много раз обсуждался в ООН. Практических последствий эти обсуждения и принимаемые по ним резолюции не имели вследствие упорного нежелания управляющей власти идти навстречу интересам науруанцев.
Управляющие власти, препятствуя развитию политических институтов подопечных территорий, обычно ссылались на неподготов.-ленность, неграмотность населения. Но остров Науру в этом отношении отличался от других территорий. Население, грамотность которого составляла 95%, было достаточно подготовлено к самоуправлению и, как отмечалось на заседаниях Генеральной Ассамблеи, «проявило необычайную способность к скорому развитию» [16, с. 41].
Однако австралийская управляющая власть нашлась и здесь. Искусственное затягивание политического развития территории она объясняла «заботой» о местных жителях, которые, несмотря на определенные успехи, якобы еще не обладали «достаточной степенью зрелости для того, чтобы иметь высокоразвитую систему правления» [13, с. 213].
Политика австралийских властей на самом деле объяснялась очень просто. Они старались продлить свое господство на возможно более длительный срок, что было в интересах действительного хозяина территории — Британской фосфатной компании. Поэтому-то управляющая власть во всех своих отчетах указывала, что управление территорией проводится на основе соглашения, подписанного в 1919 г., по которому все права на разработку фосфатных залежей были переданы Британской фосфатной компании. Управление территорией контролировалось чиновниками этой компании, в их руках находились также финансы острова. Администратор территории не имел права ни контролировать, ни вообще вмешиваться в деятельность компании.
Британская фосфатная компания беззастенчиво расхищала природные богатства острова. «Экономика острова Науру,— говорил представитель Польши на VIII сессии Генеральной Ассамблеи ООН,— была переключена единственно в интересах иностранного капитала с сельского хозяйства на ничем не ограниченную эксплу
269
атацию залежей фосфата. Приблизительно через 70 лет залежи будут истощены, и тогда этот остров станет пустыней и его население, дальнейшая судьба которого не обеспечена, будет вынуждено его покинуть» [15, с. 459].
Компания получала большие прибыли, размер которых она тщательно скрывала, стараясь выдавать свою деятельность за некоего рода филантропию.
Науруанский совет местного управления заявил выездной миссии ООН 1959 г., что в течение некоторого времени он пытался узнать, каковы цены на фосфаты на мировом рынке, но безуспешно. Совет просил миссию помочь ему получить эти сведения. Миссия, в свою очередь, обратилась с данным вопросом к управляющей власти, но последняя отказалась сообщить какие-либо сведения [11, Т/1448, с. 32—33].
Вместе с тем было известно, что, например, в 1952 г. Британская фосфатная компания получила от экспорта фосфатов из Науру 1,3 млн. ф. ст., из которых 200 тыс. уплатила австралийской администрации. На нужды науруанцев (финансирование образования, здравоохранения и т. д.) компания передала только 55 тыс. ф. ст.
Темпы добычи фосфатов все время возрастали, что видно из следующих данных [39, с. 19]:
Количество
Год добытых фосфатов, т
1958 1959 1960 1961 1962 1 167 180 1 201 138 1 233 087 1 338 681 1 608 750
Всего с 1903 по 1963 г. был добыт 31 млн. т фосфатов [39,
с. 19]. Действительный размер повить вряд ли возможно. прибыли, полученной компанией, уста-Но некоторое представление об этом
дают цифры, приводившиеся в официальных отчетах управляющей власти. Из этих же отчетов видно, сколь ничтожную сумму выделяла компания населению территории в виде арендной платы за пользование землей острова (в австрал. ф.) [39, с. 19]:
Стоимость экспорта
*°Д фосфатов
1958
1959
1960
1961
1962
1963
2 421 898
2 492 361
2 836 261
2 945 098
3 391 634
3 981 656
Арендная плата жителям острова
92 402
179 825
213 506
242 440
277 545
296 976
Коренные жители получали от компании арендную плату из расчета 3 австрал. шилл. 8 пенсов (до 1960 г.— 1 шилл. 6 пенсов) с каждой вывезенной тонны фосфатов [34, 1963, № 49, с. 159],
270
«За несколько десятилетий в Австралию, Новую Зеландию и Соединенное Королевство,— говорил представитель СССР в Совете по опеке,— было вывезено примерно 25 млн. т фосфатов, что позволило этим странам сберечь крупные суммы по сравнению с теми, которые им пришлось бы иначе израсходовать на закупку более дорогих фосфатов из других частей мира. Настало время, когда управляющая власть обязана вернуть населению подопечной территории хотя бы часть этих денег. Именно эти деньги дали бы возможность науруанцам — с помощью управляющей власти, Организации Объединенных Наций и специализированных учреждений—• изучить все возможные средства развития экономики Науру и осуществить необходимые мероприятия для мелиорации почвы, которая была истощена добычей фосфатов, а также дали бы возможность создания на острове новых отраслей промышленности и развития сельского хозяйства, рыболовного промысла и т. д.» [13,. с. 218].
На 24-й сессии Совета по опеке представитель Индии, поддержанный представителем СССР, выступил с предложением принять меры, направленные на проведение на острове мелиоративных работ, с тем чтобы развить сельское хозяйство и создать базу для существования местного населения после истощения фосфатных залежей. Совет по опеке принял соответствующие резолюции. Но управляющая власть ничего не предприняла в этом направлении..
Все позитивные планы развития экономики острова, выдвигавшиеся представителями социалистических государств и молодыми суверенными государствами Азии и Африки, отвергались.
Австралийское правительство упорно выдвигало проекты переселения коренных жителей Науру после истощения запасов фосфатов на другой остров. Так, во время переговоров с Науруанским советом в августе — сентябре 1963 г. австралийцы предложили коренным жителям переселиться на остров Кёртис, находящийся недалеко от порта Гладстон, в штате Квинсленд, с тем, однако, чтобы те находились под юрисдикцией правительства Квинсленда. Совет решительно высказался против этого: «Если уж науруанцам придется покинуть родину, то новый остров должен стать их собственностью, а сами они должны получить право на независимое существование» [38, с. 24]. «Науруанцы заявляют,— писал журнал ,,Па-сифик айлендс мансли“,— что хотят остаться науруанцами... Они не желают ассимилироваться в австралийском обществе, где они будут... гражданами второго сорта, подвергаемыми расовой дискриминации» [210, март 1965, с. 33].
Позицию науруанцев поддержал в Совете по опеке советский представитель при обсуждении положения на острове. «Науруанцы,— подчеркнул он,— должны получить все суверенные права на остров, куда они согласятся переселиться. Необходимо предоставить им право организовать свою жизнь так, как они считают нужным, включая создание суверенного государства Науру. Острой Науру после переселения науруанцев должен остаться собственностью науруанского народа» [38, с. 25].
271
Представители Науруанского совета продолжали отстаивать свою позицию и на новой встрече с австралийцами в Канберре в июле — августе 1964 г. Они вновь отклонили предложение Австралии принять австралийское подданство и потребовали в случае переселения на остров Кёртис полной автономии. Автономия, подчеркнули они, необходима науруанцам для того, чтобы сохранить национальную самобытность и оградить себя от расовой дискриминации, существующей в Австралии. Наученные горьким опытом, они потребовали полного контроля над минеральными ресурсами острова Кёртис. Австралийцы возражали против всех предложений науруанцев. Тогда представители Науруанского совета заявили, что науруанцы отказываются переселяться куда-либо, и потребовали, чтобы к январю 1967 г. им предоставили независимость, а в качестве подготовительной меры — немедленно расширили самоуправление на острове и создали Законодательный совет [215, 3.IX. 1964].
Переговоры были прерваны. Уезжая из Австралии, глава науруанской делегации X. де Робурт заявил, обращаясь к австралийскому правительству: «Вы отнеслись к нам по-хулигански, и теперь весь мир узнает об этом» [215, 3.IX.1964].
Когда выездная миссия ООН вновь посетила в 1965 г. Науру, представители Науруанского совета подтвердили, что не намерены переселяться куда-либо. «Поэтому мы просим,— заявили они,— чтобы через два года после создания законодательного органа вопрос о положении острова был пересмотрен с целью предоставления независимости. В течение 37 лет мы обладали лишь совещательными функциями и полагаем, что период существования законодательного органа не должен быть столь же длительным. Может показаться странным, что остров, имеющий такую маленькую территорию и небольшое население, как Науру, стремится к независимости. Независимость — столь сложный институт, что лишь большие страны с многочисленным населением могут успешно его использовать. Однако мы чувствуем, что сложный механизм современного государственного управления может быть упрощен с уче-тохМ местных условий... Разумеется, могут быть вопросы, которые нельзя упростить... При решении их мы будем опираться на помощь и поддержку наций, желающих протянуть нам руку дружбы» 140, с. 1].
В своих выводах выездная миссия вынуждена была записать: «Проведя беседы с Науруанским советом и жителями, а также принимая во внимание соответствующие постановления Устава Организации Объединенных Наций и соглашения об опеке, миссия пришла к заключению, что науруанские лидеры сейчас способны управлять своими собственными внутренними делами, и поэтому рекомендует удовлетворить настойчивые просьбы представителей науруанского народа и создать Законодательный совет. Его образование будет первым шагом на пути к самоопределению, на которое науруанский народ имеет право» [40, с. 26—27].
В июне 1967 г. австралийско-науруанские переговоры возобно
272
вились. Они проходили нелегко, но закончились успешно для науруанцев. Была достигнута договоренность о значительном увеличении платы за вывозимые фосфаты и о предоставлении острову независимости в январе 1968 г.
31 января 1968 г. Науру было провозглашено суверенным государством.
В декабре 1944 г., когда только начинались переговоры между державами антигитлеровской коалиции о послевоенной судьбе колоний, Австралия и Новая Зеландия сделали совместное заявление, в котором указывалось, что доктрина опеки должна быть «применима в принципе ко всем колониальным территориям на Тихом океане и повсюду» и что «основной целью опеки является благосостояние туземных народов и их экономическое и политическое развитие» [138, с. 191].
В августе 1946 г. Д. Чифли, сменивший умершего Д. Кэртина на посту премьер-министра Австралии, заявил: «Мы с радостью принимаем на себя главную обязанность, определенную в Уставе ООН,— способствовать благосостоянию и прогрессивному развитию коренных жителей Новой Гвинеи» [84, с. 116].
После официального провозглашения «опеки» над Новой Гвинеей австралийское правительство не только не внесло каких-либо вытекающих из соглашения изменений в действовавшую систему совместного управления территорией Папуа Новая Гвинея, но, напротив, закрепило ее в Акте о Папуа Новой Гвинее, принятом австралийским парламентом в 1949 г.
Лейбористское правительство Австралии не уставало заявлять о своей преданности идее «благородного руководства отсталыми народами» для достижения ими независимости.
10 декабря 1949 г. на общих парламентских выборах лейбористская партия потерпела поражение и к власти в стране пришла либерально-аграрная коалиция. Новый кабинет министров был сформирован из представителей Либеральной и Аграрной партий. Премьер-министром стал Р. Мензис.
Новое правительство устами министра внешних территорий П. Спендера так сформулировало принципы политики правительства в отношении Папуа Новой Гвинеи: «Благосостояние и развитие туземных народов, а также их возрастающее участие в создании богатств территории; развитие ресурсов территории до такого уровня, при котором она могла бы удовлетворять собственные нужды, а также снабжать своими продуктами Австралию и другие страны» [84, с. 196].
В начале 1952 г. П. Хэзлак, ставший министром внешних территорий, сделал следующее заявление об отношениях Австралии с ее подопечной: «Новая Гвинея не является ни колонией, ни зависимой территорией: она находится в экспериментальной стадии чего-то, что мир до сих пор еще не видел... Это — попытка кооперации и взаимного сотрудничества между двумя народами, опекунство, при котором должны выжить и опекун и опекаемый» [226, т. 5, № 11, с. 229].
18 Заказ 91
273
Что же касается даты предоставления территории независимости, то австралийские государственные деятели не торопились назвать ее, традиционно ссылаясь на свои альтруистические чувства. Так, премьер-министр Австралии Р. Мензис, выступая по телевидению 31 июля 1962 г. по поводу рекомендаций Совета по опеке ООН об ускорении предоставления самоуправления подопечной территории Новая Гвинея, сказал: «Мы несем большую ответственность за Новую Гвинею. Было бы преступлением бросать ее на произвол судьбы» [211, 1962, № 2, с. 18]. Ему вторил П. Хэз-лак. В мае 1963 г. при обсуждении в австралийском парламенте Закона о Папуа Новой Гвинее он заявил, что требование о предоставлении Папуа Новой Гвинее самоуправления в 1970 г. или в ближайшие годы «нереально... и правительство отвергает его» [19, с. 1076]. В январе 1964 г. на открытии летней школы совета по обучению взрослых в Папуа Новой Гвинее П. Хэзлак повторил, что Австралия отказывается объявить дату предоставления независимости территории.
В начале апреля 1969 г. министр внешних территорий Бернс сказал, что, с его точки зрения, в предстоящее семилетие не должно произойти сколько-нибудь значительного конституционного развития территории. Таким образом, Австралия и не думала менять старые колониальные методы управления территорией, в какой-то мере считаться с принципами Устава ООН.
Вся полнота власти сосредоточивалась в руках администратора, при котором находился Исполнительный совет, состоявший из 9 должностных лиц, назначавшихся генерал-губернатором Австралии. Территорией управляли 14 департаментов под общим руководством администратора. Было создано 9 округов, во главе каждого из них стоял окружной комиссар. Он являлся представителем администратора и главным должностным лицом, ответственным за общее управление департаментами и координацию их деятельности в пределах данного округа.
В Законодательный совет Папуа Новой Гвинеи входили администратор, 15 должностных лиц, 3 выборных члена, 3 члена, назначенных от христианских миссий, и 3 — от коренных жителей, из которых двое представляли подопечную территорию. Все члены совета, за исключением трех выборных, назначались генерал-губернатором по представлении администратора. Законодательный совет был уполномочен издавать декреты, касавшиеся поддержания законности, порядка и обеспечения надлежащего управления территорией. Они вступали в силу после утверждения их администратором, но некоторые декреты представлялись на утверждение генерал-губернатору.
Нетрудно заметить, что система управления строилась таким образом, чтобы сосредоточить всю полноту власти в руках австралийцев и свести на нет участие в управлении представителей коренного населения. Даже Законодательный совет, члены которого* столь строго отбирались австралийскими властями и который ни в коей мере не мог называться представительным собранием, обла
274
дал ничтожными полномочиями: все акты, принимаемые им, подлежали последующему утверждению представителями управляющей власти.
Коренное население требовало расширить представительство в Законодательном совете. Совет по опеке неоднократно рассматривал эту проблему на своих сессиях и выражал надежду, что управляющая власть внемлет голосу народа Новой Гвинеи. В адрес выездной миссии ООН, посетившей территорию в 1959 г., поступили многочисленные заявления от коренных жителей по этому поводу. На вопрос членов выездной миссии о том, почему не увеличивается число коренных жителей в Законодательном совете, министр внешних территорий Австралии, он же член австралийского кабинета, на которого было возложено проведение правительственной политики в Новой Гвинее, ответил, что нелегко найти подлинно компетентных островитян, которые были бы способны принимать активное участие в работе совета. «Лучшие представители коренного населения,— сказал далее министр,— являются государственными служащими и как таковые не имеют права состоять членами совета. Среди остальных насчитывается не более двенадцати человек, которые имеют опыт в выступлении на собраниях или достаточно осведомлены о делах, чтобы принимать активное участие в работе Законодательного совета» [12, с. 37—38].
Столь циничное заявление члена австралийского правительства хорошо иллюстрирует позицию управляющей власти в отношении подготовки народа Новой Гвинеи к самоуправлению и независимости. Среди почти полуторамиллионного населения территории после 40 лет австралийского управления невозможно было найти нескольких человек для работы в Законодательном совете!
Даже выездная миссия ООН, возглавлявшаяся чанкайшистом, осудила заявление министра: «УАиссия считает, что администрация проявляет излишнюю консервативность... Она ничем особенно не рискует, если новый член совета не будет обладать достаточным опытом в публичных выступлениях, не будет осведомлен о делах или же окажется не в состоянии принимать активное участие в работе совета. По мнению миссии, никакого вреда нет в том, что все большее число коренных жителей во время периода обучения, который установит администрация, будет знакомиться с парламентской практикой и порядками Законодательного совета. Миссия полагает, что работа в совете позволит им приобрести необходимый опыт и знания. Она уверена в том, что на подопечной территории есть лица, которые оказались бы в совете более чем номинальными членами, и надеются, что... число членов совета из коренного населения будет увеличено» [12, с. 38].
Осуществляя те или иные мероприятия, австралийские власти не считались с интересами и нуждами коренного населения территории. Это приводило к кровавым столкновениям. Характерен случай, который произошел в деревне Навунерам, вблизи Рабаула. В 1958 г. в Новой Гвинее был введен подушный налог. Население Навунерама отказалось его платить. 23 июня должностные лица на
18*
275
основании полученного приказа захватили сельскохозяйственную продукцию за неуплату налога. Население Навунерама отняло ее у европейцев. Тогда управляющая власть решила употребить силу для поддержания «порядка» и «законности» и начала судебное преследование лиц, отказавшихся платить налог. Суд в составе представителей департамента по делам коренного населения, собравшийся 4 августа в деревне Навунерам, постановил, что жители деревни должны уплатить налог. Когда те снова отказались, полиция приступила к арестам. Встретив сопротивление населения, полицейские открыли огонь.
В 60-х годах также отмечались случаи отказа коренных жителей платить налоги, устанавливаемые австралийской администрацией. Управляющая власть жестоко карала за это. Так, лишь среди жителей небольшого острова Лавонгай было арестовано и осуждено около 150 человек. Однако островитяне продолжали упорствовать. Тогда на остров был послан отряд полиции, который применил слезоточивые газы против населения, участвовавшего в демонстрации, и произвел новые аресты.'
Под давлением коренных жителей территории и под воздействием критики в ООН управляющая власть вынуждена была объявить, что и в этом отдаленном уголке мира наступает эра «реформ». Законодательный совет по новому положению состоял из-администратора, 14 официальных, 12 выборных и 10 назначенных членов; 6 выборных членов представляли коренных жителей территории и 6 — некоренных, 5 назначенных членов являлись лицами, проживавшими на подопечной территории, 5 — коренными жителями.
Эти «реформы» хотя и несколько увеличивали число выборных представителей в центральных органах управления территории, но не меняли положения по существу. Политика дискриминации в отношении коренного населения сохранялась. Достаточно сказать, что почти 1,5 млн. коренных жителей имели в Законодательном совете И представителей, а 15 тыс. иностранцев — 26. Компетенция Законодательного совета не была расширена, и он по-прежнему оставался в полной зависимости от австралийских властей.
Австралия не принимала сколько-нибудь действенных мер по подготовке коренных жителей к государственной службе. Индийский представитель в Совете по опеке справедливо отмечал в своем выступлении на 27-й сессии совета в июле 1961 г., что «общее число служащих-новогвинейцев все еще крайне мало и им до сих пор не удается занять серьезных постов в государственном аппарате» [37, с. 47].
В апреле — мае 1962 г. Новую Гвинею посетила выездная миссия ООН. По ее докладу Совет по опеке в июле 1962 г. вынес рекомендации, в частности о том, что к концу 1963 г. необходимо избрать новый Законодательный совет в составе 100 человек, в основном из представителей коренного населения. Премьер-министр Австралии Р. Мензис, выступая по телевидению 31 июля 1962 г.„ заявил, что это предложение лишено смысла.
276
Решения Генеральной Ассамблеи ООН о скорейшей ликвидации колониального режима правительство Австралии неизменно игнорировало, ссылаясь на свои «высокие обязательства» в отношении островитян. Однако делать это становилось все труднее, и Австралии пришлось начать политические маневры.
В 1963 г. Р. Мензис посетил Папуа Новую Гвинею. Его визит должен был показать, что Австралия «серьезно воспринимает свою-ответственность» [228, 5.IX. 1963]. В этом же году австралийский парламент принял Закон о Папуа Новой Гвинее, вносивший изменения в организацию законодательного и исполнительного органов территории. Вместо Законодательного совета предусматривалось создать Палату ассамблеи, состоящую из 64 членов: предполагалось, что 10 официальных членов будут назначаться австралийскими властями из числа правительственных чиновников, 10 других членов из числа европейцев — избираться в закрытых округах, где кандидатуры будут выставлять только европейцы, остальные 44 члена — избираться в открытых округах, в которых кандидатуры смогут выставлять как европейцы, так и коренные жители. Для кворума в палате достаточно было присутствия 22 членов. Решение принималось простым большинством (но в законе не говорилось,, имеется в виду полный состав палаты или установленный кворум).
Решения палаты утверждались администратором территории. Он имел право отклонить их и вернуть на новое рассмотрение. Постановления по наиболее важным вопросам, а также те, которые,, по мнению администратора, не соответствовали договорным обязательствам правительства Австралии и обязательствам по соглашению об опеке, передавались на утверждение генерал-губернатора Австралии. Последний мог в течение шести месяцев утвердить то-или иное решение, отклонить его или возвратить администратору со своими рекомендациями и поправками.
Из компетенции Палаты ассамблеи были полностью изъяты такие вопросы, как оборона, государственная служба, условия найма местных жителей, распределение земли, иммиграция и депортация и даже некоторые вопросы брачно-семейных отношений, например расторжение брака. Они были целиком отнесены к компетенции австралийского правительства.
Исполнительный совет по закону 1963 г. состоял из администратора и 11 членов, в том числе 7 неофициальных, 5 из которых были коренными жителями.
В период предвыборной кампании один из кандидатов в члены Палаты ассамблеи от коренных жителей, Оала Раруа, выступая в округе Порт-Морсби, подчеркнул, что «Австралия вынуждена была пойти на учреждение в Папуа Новой Гвинее парламента под нажимом Организации Объединенных Наций» [266, 7.XI.1964].
Но, идя на некоторые уступки, австралийское правительство в то же время в основном сохраняло существующее положение. Это ясно и буржуазным ученым. Американский исследователь М. Лей-фер, анализируя маневры австралийского правительства с реорганизацией законодательного органа Папуа Новой Гвинеи, писал:
277
«Парламент, судя по недавним предложениям, может быть лишь фасадом, имитирующим то белое здание в Канберре, которое само во многих отношениях является только фасадом» [209, т. 36, № 3, с. 261].
Вполне понятно, что коренные жители территории были неудовлетворены новым законом. Об этом убедительно сказал во время своего пребывания в Австралии в январе 1963 г. член Законодательного совета от коренных жителей Д. Гиз: «Вы можете спросить меня, что я предлагаю. Мне кажется, что, во-первых, большая часть решений по политическим вопросам должна быть перенесена из Канберры в Порт-Морсби, а во-вторых, необходимо, чтобы представители коренного населения принимали участие в законодательной деятельности на самой ранней стадии... Эти изменения нужно сделать немедленно. Следует сократить время для создания собственного ответственного правительства» [209, т. 36, № 3, с. 262].
Однако австралийское правительство на дальнейшие уступки тогда не пошло. Реакция Совета по опеке на действия Австралии вследствие позиции, занятой колониальными державами и сочувствующими им членами совета, была вялой. Лишь представитель Советского Союза выступил с разоблачением лицемерных действий австралийского правительства. «Власть Палаты ассамблеи,— заявил он,— чрезвычайно ограниченна, поскольку генерал-губернатор и австралийское правительство сохраняют полный контроль над территорией и имеют право изменять любой закон, принятый палатой, или налагать на него вето... Если палате не будет дана власть утверждать законы и регулировать жизнь на территории и если ей не будут даны законодательные функции, а австралийские власти сохранят свою неограниченную власть над территорией, существо происшедших изменений будет весьма слабым и Палата ассамблеи будет фактически орехом без ядра... Основная проблема политического развития территории, а именно создание представительного парламента, наделенного всей полнотой власти, который явится краеугольным камнем будущего независимого государства, осталась нерешенной» [38, с. 11].
Советский представитель внес проект резолюции на 1239-е заседание Совета по опеке. В ее преамбуле выражалось сожаление в связи с тем, что управляющая власть не предприняла необходимых шагов для передачи всей власти народу территории в соответствии с § 5 Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам, принятой на XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1960 г. В постановляющей части резолюции предлагалось: а) подтвердить неотъемлемое право народа Папуа и Новой Гвинеи на самоопределение и независимость в соответствии с Декларацией; б) потребовать от управляющей власти выполнить постановления Декларации в отношении Папуа и Новой Гвинеи как можно скорее, во всяком случае, не позднее, чем к 20-й годовщине ООН; в) призвать управляющую власть принять срочные меры для передачи всей законодательной власти на территории Палате ассамблеи и исключить из избирательного за-278
кона дискриминационные пункты в отношении коренного населения; г) просить Генерального секретаря ООН дать указание директору информационного центра в Порт-Морсби довести эту резолюцию до сведения народа Папуа и Новой Гвинеи [37, 27.VI.1963— 29.VI.1964, с. 23]. Колониальные державы добились отклонения этого проекта резолюции.
Выборы в Палату ассамблеи состоялись в феврале — марте 1964 г. Коренное население территории, недовольное новым законом, в ряде мест, по существу, бойкотировало выборы. Так, на острове Новая Ирландия подавляющее большинство избирателей отказалось голосовать за выставленных кандидатов. Несмотря на нажим властей, в голосовании приняло участие всего лишь 25% избирателей.
В 1965 г. подопечную территорию Новая Гвинея посетила выездная миссия ООН. В беседах с ней многие члены Палаты ассамблеи прямо высказывали недовольство ходом политического развития территории. Необходимо принять конституцию, предусматривающую расширение прав коренного населения, утверждали они, «в противном случае территория будет иметь неприемлемую форму самоуправления, навязанную ей администрацией» [41г с. 18].
Во время дебатов, развернувшихся на заседании Палаты ассамблеи 22 января 1965 г., многие ее члены высказались за создание специального комитета по политическим делам, который бы разработал проект конституции территории. Представители коренного населения в палате упорно подчеркивали, что любая конституция для Папуа и Новой Гвинеи должна быть разработана на самой территории, необходимо также, чтобы она отражала волю народа. Нельзя допустить, чтобы Папуа и Новая Гвинея были поставлены в такое положение, когда нет другой альтернативы, кроме принятия конституции, поспешно составленной в Канберре. Они также говорили о том, что специальный комитет по политическим делам должен отвечать не перед министерством внешних территорий, находящихся в Канберре, а только перед Палатой ассамблеи Папуа и Новой Гвинеи.
Миссия ООН при всей благожелательности, проявленной к управляющей власти, не могла не отметить, что последняя не торопится предоставлять территории самоуправление, не говоря уже о независимости: коренным жителям по-прежнему не давали занимать сколько-нибудь важные посты в административном аппарате. «Лишь несколько новогвинейцев занимают значительные посты в администрации,— говорилось в отчете миссии.— Ожидается, что один туземный чиновник станет помощником районного начальника в 1967 г. и три — к 1969 г. В настоящее время имеются три туземных патрульных офицера и семь туземных патрульных офицеров подготавливаются. Исполнительная власть... находится полностью в руках австралийцев» [41, с. 70].
В своих выводах, составленных в весьма осторожных выражениях, миссия вынуждена была отметить, что необходимо принять
279
меры, которые покончат с прямой формой управления. «Наиболее достойные представители коренного населения должны более активно участвовать во всех сферах жизни территории, вместо того чтобы пассивно ждать, когда администрация удвоит свои усилия по претворению в жизнь планов, в которых они заинтересованы. Единственный способ научиться плавать — это войти в воду» [41, с. 6].
В этой связи миссия предложила, чтобы «управляющая власть и Палата ассамблеи пришли к соглашению, в силу которого последняя действительно в состоянии будет осуществлять те мероприятия, ради которых она создана» [41, с. 102]. Миссия также рекомендовала «немедленно подобрать среди коренных жителей территории лиц, которые... могли бы после кратковременной подготовки занять важные посты в центральной и окружной администрации» [41, с. 103].
Австралийские власти пошли на дальнейшее расширение представительства коренного населения в Палате ассамблеи. Выборы в палату в феврале — марте 1968 г. проходили уже иначе. Общее число членов палаты увеличилось с 64 до 94, местных жителей — с 44 до 69.
Одновременно претерпел реорганизацию высший исполнительный орган территории — Исполнительный совет, он был преобразован в Совет при администраторе.
В 1968 г. была принята поправка к Закону о Папуа Новой Гвинее, согласно которой в системе управления территорией создавалось семь департаментов. Их возглавляли члены Палаты ассамблеи, возведенные в ранг министров. Назначение министров происходило следующим образом: после консультаций между комитетом по назначениям Палаты ассамблеи и администратором территории составлялся список кандидатов, который передавался на утверждение палаты, а затем направлялся в австралийское министерство по делам внешних территорий.
В 1968 г. была принята и другая поправка, в соответствии с которой Совет при администраторе вновь заменялся Исполнительным советом при администраторе. В него входили администратор (председатель совета), три официальных члена Палаты ассамблеи, назначенные австралийским министром по делам внешних территорий (по представлению администратора), и семь руководителей департаментов (министров). Министру по делам внешних территорий предоставлялось также право назначать в совет (по представлению администратора) одного выборного члена Палаты ассамблеи.
С 1950 г. в Папуа Новой Гвинее начали создаваться районные советы. В 1950 г. на территории Папуа существовал только один совет, состоявший из 17 членов. Его деятельность распространялась на район с населением 2,5 тыс. человек. Через 15 лет в Папуа было уже 37 советов с общим числом членов 923. Эти местные органы управления охватывали районы с населением 308,3 тыс. человек. К 1970 г. количество местных советов возросло до 52, а число их .280
членов — до 1324. В районах, где действовали советы, проживало 520,9 тыс. человек. В Новой Гвинее было совершенно аналогичное положение. В 1950 г. существовал один совет, через 15 лет — 72, в которых работало 2089 человек. Деятельность советов распространялась на районы с населением 879,9 тыс. человек. К 1970 г. насчитывалось 90 советов с общим числом членов 2711 человек.
В районах, находящихся под их управлением, проживало 1,5 млн. человек.
Однако все это не привело к развитию самоуправления в Папуа Новой Гвинее., что констатировала выездная миссия ООН, посетившая территорию в 1968 г.
Политическое положение территории мало изменилось со времен управления У. Мак-Грегора. А. Монктон в книге «Из опыта деятельности управляющей власти в Новой Гвинее» вспоминает весьма характерный случай: «Однажды во время заседания Законодательного совета несколько его членов спросили ^Мак-Грегора смелее, чем обычно: „Что случится, ваше превосходительство, если совет разойдется с вами во мнении?“ — „Люди,— ответил сэр Уильям, — результат будет тот же“» [151, с. 26].
Недовольство коренного населения Папуа Новой Гвинеи системой австралийского управления территорией росло из года в год. В период предвыборной кампании в Палате ассамблеи в 1967 г. возникали политические группировки, выступавшие за немедленное предоставление территории самоуправления. Наиболее сильной среди них оказалась Объединенная партия Папуа и Новой Гвинеи (Пангу пати), которая в 1968 г. провела в Палату ассамблеи 11 своих членов.
Несмотря на препятствия, чинимые австралийскими властями, на территории росло профсоюзное движение. В 60-х годах в Папуа Новой Гвинее проходили забастовки рабочих и служащих из коренного населения, требовавших улучшения условий труда. В 1970 г. на территории действовали 34 профсоюзные организации, объединявшие 19,1 тыс. членов.
В экономической жизни Папуа Новой Гвинеи, так же как и в политической, не произошло сколько-нибудь существенных изменений к лучшему в течение первых двух десятилетий после окончания второй мировой войны. Совет по опеке неоднократно рассматривал состояние экономики территории и обязывал австралийское правительство принять меры к развитию промышленности и сельского хозяйства. Правительства, как лейбористские, так и либерально-аграрные, торжественно обещали сделать это, но все обещания остались лишь на бумаге.
Промышленность находилась в зачаточном состоянии. Управляющая власть объявила, что намерена сосредоточить главное внимание на развитии сельского хозяйства, которое позволит удовлетворять потребности все увеличивающегося населения и создаст основу для развития всего народного хозяйства. Представители австралийского правительства заявили даже, что разрабатываются перспективные планы развития экономики Папуа Новой Гвинеи.
281
На деле оказалось, что таких планов не существовало. «Во время своих бесед с администратором в Порт-Морсби и с министром по делам внешних территорий в Канберре миссия была поражена отсутствием общего плана развития»,— отмечалось в докладе выездной миссии ООН 1959 г. [12, с. 60].
Большое место в системе мероприятий по развитию сельского хозяйства территории должна была занять подготовка квалифицированных кадров. Однако в 1959 г., например, департамент сельского хозяйства организовал лишь одногодичный курс обучения в Магери (Папуа), который посещали всего 9 человек. В 1963— 1964 гг. 19 коренных жителей прошли обучение при департаменте рыболовства, а в декабре 1964 г. 6 человек окончили школу лесоводства. Только в начале 1965 г. первый местный житель Новой Гвинеи окончил австралийский университет и получил звание бакалавра сельскохозяйственных наук. Число учащихся технических школ составило в 1967 г. всего 1202 человека, увеличившись за пятилетие (1962—1967) лишь на 663 человека [41, с. 90]. Понятно, что такие темпы подготовки специалистов никак не могли удовлетворить потребности территории.
Вообще положение с образованием в Папуа Новой Гвинее оставалось крайне плачевным. К концу 50-х годов на подопечной территории Новая Гвинея в правительственных школах всех видов обучалось 12,5 тыс., а в миссионерских — 30,3 тыс. детей. В 60-х годах произошел заметный рост: в 1964 г. число учащихся в правительственных школах увеличилось до 36 тыс., в миссионерских — до 86,7 тыс., в 1969 г. — соответственно до 60 тыс. и 102,8 тыс. [47, с. 157].
В Папуа учащихся в правительственных и миссионерских школах было еще меньше, школьное образование развивалось более медленными темпами. В 1965 г. в правительственных школах занималось 28,1 тыс., в миссионерских — 43,4 тыс. человек, в 1969 г.— соответственно 33,6 тыс. и 38,1 тыс. человек [47, с. 143].
Таким образом, в Папуа Новой Гвинее в 1969 г. было 234,5 тыс. учащихся, а общее число детей в возрасте от 6 до 16 лет — около 500 тыс., из них 140,9 тыс. детей посещали миссионерские школы. Обучение в них было рассчитано, как правило, на один год, преподавали в них лица с очень низкой квалификацией, часто вообще не имевшие никакого педагогического образования.
Создание высших учебных заведений началось лишь во второй половине 60-х годов. В 1966 г. в Порт-Морсби был открыт Университет Папуа Новой Гвинеи, в котором обучалось 59 студентов. Число студентов в 1970 г. составляло 750, в 1972 г.— более 1 тыс. В 1967 г. в Лаэ начала работу Высшая технологическая школа, в которой вначале обучалось 34 коренных жителя, в 1970 г.— 200, а в 1972 г.— 350 человек. Штат преподавателей — 40 человек. В 1967 г. был создан учительский колледж в Гороке. В 1970 г. в нем было 200, а в 1973 г.— 400 студентов. Сельскохозяйственный колледж, созданный в 1965 г. в Керавате, насчитывал в 1970 г. 130 студентов. Открылись также лесная школа в Булоло (в 282
1970 г.— 130 студентов), медицинская школа в Порт-Морсби (в 1970 г.— 80 студентов), административный колледж, позднее названный Учебным центром административной службы. В 1969 г. 6 студентов из коренных жителей Повой Гвинеи учились в австралийских университетах |34, 1974, № 60, с. 1082, 47, с. 167; 47а, с. 80] Обучение грамоте взрослого населения было организовано лишь в 1963 г. и осуществлялось в весьма ограниченных масштабах.
Несмотря на определенное развитие системы образования в Папуа Новой Гвинее, оно охватывало очень небольшую часть коренного населения и продолжало оставаться на низком уровне. «Нынешнее правительство находится у власти с 1949 г.,— писал австралийский ученый Д. Керр,— и, естественно, будет рассматриваться... как правительство, прямо ответственное за то, что случилось в Новой Гвинее» [202, 1964, т. 18, № 3, с. 275].
Однако австралийских руководящих деятелей это, по всей вероятности, не смущало. «Наши расходы в Папуа Новой Гвинее,— говорил в 1964 г. в своей речи в австралийском парламенте член палаты представителей Бизли,— составляют 28 млн. фунтов. Из этой суммы немногим более 3 млн. фунтов идет на образование. Папуа Новая Гвинея имеет больше детей школьного возраста, чем штат Виктория. Но расходы на образование (начиная от университетского и кончая начальным), как государственные, так и частные, в штате Виктория составляют 65 млн. фунтов... В этом случае Новая Гвинея не будет подготовлена к независимости и через 50 лет...» [28, 13.VIII.1964].
«Невероятно трудно сказать четко, каковы масштабы неграмотности,— писал в статье „Что хотят новогвинейцы?" вице-канцлер Университета Папуа Новой Гвинеи доктор Д. Хантер.— Если определять уровень грамотности по тому, может ли человек написать самое простое письмо по-английски, то процент грамотных составит 10—15. Если же взять более простой определитель, как,, например, способность человека написать свое имя на документе, который он в состоянии прочитать или понять, или же способность написать письмо на одном из lingua franche, тогда процент грамотных окажется 25. Дети... быстро забывают английский язык, не пользуясь им после окончания школы. Необходимо иметь в виду, что английский не является родным языком новогвинейцев и полученные в школе знания быстро забываются, если школьник возвращается в свою деревню, где говорят только на местных языках или на одном из lingua franche... Вероятно, только 100 учеников, самое большее 200, оканчивают школу с таким же запасом английских слов, что и выпускники австралийских средних школ» [207,. июнь — июль 1966, с. 23].
В сельском хозяйстве, ведущей отрасли экономики Папуа Новой Гвинеи, главное внимание уделялось производству тех культур, которые имели экспортное значение и служили обогащению колонизаторов.
По официальным данным, в 1960 г. при общей стоимости экс-
283
порта 25,5 млн. австрал. ф. стоимость экспорта копры составила 9 млн. австрал. ф., т. е. около трети. Интересно, что в «Копра маркетинг борд», монополизировавшей торговлю копрой в Папуа и Новой Гвинее, как указывалось в докладе по опеке за 1961 г., не было ни одного представителя от коренного населения этих территорий, в то время как от европейского в нее входило 3 представителя [37, с. 50].
Коренное население в ряде районов жестоко страдало от нехватки земли вследствие постоянного отчуждения ее управляющей властью в пользу иностранных лиц. Особую остроту земельный вопрос приобрел на полуострове Газель, в Восточном Нагорье и некоторых других районах. Особое возмущение населения вызывало то обстоятельство, что отчужденные земли зачастую не обрабатывались.
Австралийские власти продолжали политику отчуждения земель. В 1960 г. администрация сдала в аренду 8 тыс. акров земли новым арендаторам, не принадлежавшим к коренному населению. В 1961 г. управляющая власть захватила еще 8215 акров земли, а 9739 акров отдала в аренду, из них 7729 акров — иностранным юридическим лицам, 1472 акра — иностранным миссиям и только 538 акров — новогвинейцам [37, с. 51].
Процесс отчуждения земель в пользу иностранцев все усиливался. За полвека колониального хозяйничанья Австралии и Германии в Новой Гвинее площадь, приобретенная разными путями у коренного населения, составила 2,5 млн. акров, причем, как указывалось в жалобах местных жителей, эти земли приобретались обманным путем: скупались за бесценок, а после сделки границы купленных участков расширялись. Неблагополучное положение с распределением земельных участков отмечала и выездная миссия ООН, посетившая Папуа Новую Гвинею в 1968 г.
Доля участия коренных жителей в товарном сельскохозяйственном производстве была крайне мала. В 1965/66 г. на долю товаров, произведенных коренными жителями, приходилось менее половины общей стоимости товаров, экспортированных территорией.
В Папуа Новой Гвинее обрабатывалось 15% всей площади, при этом 15% обрабатываемых земель принадлежало иностранцам. Главными культурами в хозяйствах коренных жителей являются кокосовая пальма, таро, ямс, бататы, какао, кофе, рис. Европейцы вели на территории плантационное хозяйство. На плантациях производили копру, каучук, кофе, какао, рис и чай.
В 60-х годах известное развитие получило производство какао, кофе, каучука (табл. 11).
Хотя копра и оставалась главным сельскохозяйственным продуктом, ее удельный вес в общем экспорте территории несколько снизился. Правда, это произошло лишь за счет снижения экспорта из Новой Гвинеи, в Папуа положение не изменилось. В 1965 г. из Новой Гвинеи было вывезено копры на 9,6 млн. австрал. долл., какао —• на 7 млн., кофе—на 7,3 млн. австрал. долл, (общая стоимость экспорта—40,1 млн.); в 1969 г. — соответственно на 12,2 млн., 284
Таблица 11
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в 1968 г. *
Вид продукции Площадь под урожаем, га Количество продукции, т
земли, принадлежавшие коренным жителям земли, принадлежавшие европейцам всего произведенной коренными жителями произведенной на европейских плантациях всего
Новая Гвинея
Копра 111 254 95 772 207 026 32 027 82 166 1114 193
Какао 14 491 48 106 62 597 5 485 17 976 23 461
Кофе 17 775 5 625 23 400 9410 5 193 14 603
Каучук НО 555 665 — — —
Папуа
Копра 28 180 13 568 41 748 6 617 9 119 15 736
Какао 1 522 4 386 5 908 61 1 213 1 274
Кофе 1 526 372 •1 898 225 66 291
Каучук 1 267 13 965 15 232 13 5711 5 724
* Territory of New Guinea. Report for 1968—1969, c. 268; Territory of Papua. Report for 1968—1969, c. 110.
15,9 млн. и 15,5 млн. австрал. долл, (общая стоимость экспорта — •64,4 млн.). В 1965 г. из Папуа копры было вывезено на 2,8 млн. австрал. долл., какао — на 71 тыс., кофе — на 19 тыс. австрал. долл, (общая стоимость экспорта — 9,1 млн.); в 1969 г.— соответственно на 2,6 млн., 83 тыс. и 7 тыс. австрал. долл, (общая стоимость экспорта— 11 млн.) [47, с. 258; 47а, с. 105].
В 1970 г. при общей стоимости экспорта Папуа Новой Гвинеи, равной 74,4 млн. долл., стоимость вывезенной копры (вместе с кокосовым маслом), какао и кофе составила соответственно 24,1 млн., 13.6 млн. и 20,6 млн. австрал. долл. [34, 1974, № 60, с. 1079]. При этом хозяйства коренных жителей давали, например, в 1969 г. только 7з вывозимой копры, 1/4 какао и 2/з кофе.
Кроме этих ведущих видов продукции во второй половине 60-х годов получило некоторое развитие производство чая, пиретрума и каучука.
В 1969 г. из общего количества произведенной копры только 45 тыс. т использовали предприятия Папуа Новой Гвинеи: завод в Рабауле, построенный в 1952 г.,— 40 тыс. т и завод в Кокопо, построенный в 1968 г.,— 5 тыс. т. 45 тыс. т копры было вывезено в Великобританию, 25 тыс. т — в Австралию, 15 тыс. т — в Японию.
Какао, кофе и каучук в основном шли на экспорт. Так, в 1969 г. в Великобританию было вывезено 1,6 тыс. т какао, в Австралию — 3,2 тыс., в Нидерланды — 5,8 тыс., в США — 3,1 тыс., в ФРГ — 8 тыс., в Бельгию—1,2 тыс., во Францию—1,7 тыс., в Италию —
285
1,5 тыс. т. В том же году в Австралию было экспортировано 7 тыс. т кофе, в США — 4,8 тыс., в ФРГ — 3,6 тыс., в Великобританию — 3,6 тыс. т. В 1969 г. Папуа Новая Гвинея продала чая на сумму 297,1 тыс. австрал. долл., пиретрума — на сумму 313 тыс. австрал. долл. В 1970 г. стоимость вывезенного чая составила 645 тыс. австрал. долл., пиретрума — 332 тыс. австрал. долл. Стоимость экспортированного каучука в 1970 г. оценивалась в 2,3 млн. австрал. долл.
Пятилетний план развития экономики Папуа Новой Гвинеи на 1967/68—1972/73 гг. предусматривал дальнейшее развитие именно этих отраслей сельского хозяйства. Было намечено расширить площади под посадками кокосовых пальм на 160 тыс. акров и довести производство копры в стоимостном выражении до 30 млн. австрал. долл, в год. Плантации какао предполагалось увеличить на 57 тыс. акров, каучука — на 25 тыс. акров. Плантации под кофе было решено не увеличивать из-за больших затруднений с его реализацией.
Европейские колонизаторы совершенно не заботились о том, чтобы земледелие удовлетворяло нужды населения. С годами снабжение местных жителей продуктами питания становилось все хуже. В плачевном положении находилось и животноводство. «Территория,—писал Б. Эссей, в течение 10 лет работавший в административном аппарате Папуа Новой Гвинеи,— не может удовлетворить своих потребностей в мясе, и импорт его из Австралии постоянно увеличивается» [ПО, с. 120]. Нечто похожее происходило и с рыболовством. «Вообще говоря,— отмечал Б. Эссей,— коммерческого рыболовства на территории не существует... Торговля рыбой в незначительных масштабах ведется между жителями береговой полосы и жителями внутренних районов» [110, с. 126—127].
В 60-х годах несколько интенсивнее начало развиваться животноводство, но оно по-прежнему не удовлетворяло потребности населения Папуа Новой Гвинеи. Общее количество крупного рогатого скота на территории в 1965 г. достигло 40,3 тыс. голов, а в 1969 г.— 68,3 тыс. И это на страну с населением почти 2,5 млн. человек! Причем коренному населению принадлежало лишь 6 тыс. голов крупного рогатого скота [47, с. 270; 47а, с. 110]. Стоимость продукции животноводства составляла в 1968 г. 1 млн. австрал. долл.
Рыболовство оставалось, в сущности, на прежнем уровне. Ежегодный улов рыбы не превышал 16 тыс. т. Несколько увеличился лишь сбор морских раковин, которые шли на экспорт (ежегодный доход от продажи раковин составляет 40—50 тыс. австрал. долл.) [47, с. 258].
По пятилетнему плану на 1967/68—1972/73 гг. общее поголовье крупного рогатого скота намечалось довести до 137 тыс. голов, в том числе находящегося в собственности коренного населения — до 31 тыс. голов. Развития рыболовства не намечалось.
Подобное положение в сельском хозяйстве территории делало необходимым ввоз во всевозрастающих размерах сельскохозяйственных продуктов, хотя имелась возможность организовать их про
286
изводство на месте. Если в 1965 г. при общей стоимости импорта Папуа Новой Гвинеи, равной 86,8 млн. австрал. долл., стоимость ввезенного продовольствия, напитков и табака составила 22 млн. австрал. долл., то в 1969 г. при общей стоимости импорта, равной 149,9 млн. австрал. долл., было ввезено продовольствия, напитков и табака на 36,9 млн. австрал. долл. [47, с. 246; 47а, с. 103].
Леса покрывают более 70% территории Папуа Новой Гвинеи. В 1969 г. эксплуатировалось лишь 422,1 тыс. га, или около 25% всей пригодной для промышленной эксплуатации площади. 60% лесотоваров шло на экспорт. В 1969 г. их было продано на 4,7 млн. австрал. долл. [47, с. 273]. Основным потребителем леса являлись Австралия и Япония. В Австралию экспортировалась почти вся фанера и 2/з пиломатериалов. В Японию вывозилось более половины балансов. К началу 70-х годов на территории работало 57 лесозаводов. В 1969 г. в деревообрабатывающей промышленности было занято 5242 человека, в том числе 4769 коренных жителей.
Долгое время золото и серебро были почти единственными полезными ископаемыми, добывавшимися в Папуа Новой Гвинее. Однако в послевоенное время природные запасы золота в значительной мере истощились. Добыча его с 1964 по 1969 г. упала с 42,4 тыс. до 25,8 тыс. унций. В 1959/60 г. золота было вывезено на 1410 тыс. австрал. долл., а в 1968/69 г. — только на 806 тыс. австрал. долл. Добыча серебра также снизилась с 23,7 тыс. унций в 1964 г. до 17,1 тыс. унций в 1969 г. [47, с. 274; 47а, с. 115].
Полезные ископаемые были разведаны очень слабо. Изыскания активизировались лишь в 60-х годах и привели к открытию крупных месторождений меди на острове Бугенвиль, запасы которых были определены в 1 млрд, т руды. На протяжении 60-х годов велась разведка на нефть и газ, но без особого успеха. В горнодобывающей промышленности в 1969 г. работало 6013 человек, в том числе 5561 коренной житель [47, с. 275; 47а, с. 116].
Обрабатывающая промышленность была представлена в Папуа Новой Гвинее лишь мелкими предприятиями по переработке местного сельскохозяйственного сырья и лесоматериалов. Никаких сколько-нибудь существенных изменений в течение 25 лет, прошедших со времени окончания второй мировой войны, в этой области не произошло. В отчете Совету по опеке за 1968—1969 гг. отмечалось: «Традиционно обрабатывающая промышленность на территории преимущественно связана с приготовлением местного сырья для экспорта... Производство все еще находится на ранней стадии развития» [47, с. 99]. Число рабочих на предприятиях обрабатывающей промышленности в 1969 г. составляло 11,4 тыс. человек, в том числе 9,3 тыс. коренных жителей (9162 мужчины и 176 женщин) [47, с. 256; 47а, с. 117].
Отсутствие в Папуа Новой Гвинее современной индустрии, естественно, приводило к неуклонному росту импорта промышленных товаров. Если в 1965 г. на территорию ввозилось промышленного оборудования и товаров на сумму 50,4 млн. австрал. долл., то в 1969 г.— на 87,7 млн. австрал. долл. [47, с. 256; 47а, с. 103].
287
Внешнеторговый баланс Папуа Новой Гвинеи в 1969 г. складывался следующим образом: экспорт составлял 75,4 млн., импорт— 150 млн. австрал. долл. Главным торговым партнером территории являлась Австралия. На нее приходился 31% экспорта и 54,8% импорта Папуа Новой Гвинеи. Экспорт в Великобританию составлял 29%, в США — 9, в Японию — 6%; импорт из этих стран — соответственно 5,7; 7,7 и 11,7% [47, с. 255, 258—259; 47а, с. 103—104].
Однако, хотя Австралия и продолжала занимать ведущее место во внешнеторговых операциях Папуа Новой Гвинеи, ее удельный вес в них заметно уменьшился. Так, в 1960 г. на долю Австралии приходилось в общей сложности 60% экспорта и импорта территории.
Рассматривая в целом экономическое положение территории накануне 70-х годов, нельзя не заметить некоторых новых явлений, давЩих о себе знать во второй половине 60-х годов. Это прежде всего значительное увеличение производства в товарном секторе. Если в 1966 г. стоимость совокупного продукта, произведенного товарным сектором, составляла по рыночным ценам 174,5 млн. австрал. долл., а в 1969 г.— 261,8 млн. (среднегодовой рост — 14,5%), то в 1970 г. она достигла 348,6 млн. австрал. долл., т. е. увеличилась по сравнению с 1969 г. на 33,2%.
Рост производства в товарном секторе объяснялся стремительным увеличением притока частного капитала в экспортные отрасли экономики территории (принципиального значения для ее развития он не имел). Если в 1968 г. прямые иностранные частные инвестиции в Папуа Новой Гвинее составили 20,2 млн. австрал. долл., а в 1969 г.— 31,8 млн., то в 1970 г.— 108,3 млн. австрал. долл. Выгоды от роста товарного сектора получали в первую очередь иностранные инвеститоры, а также иностранные рабочие и служащие. Положение же коренного населения, в сущности, не изменилось. Из 2,5 млн. коренных жителей не более 50 тыс, человек на длительные сроки порывали связи с традиционным экономическим укладом. 98% местного самодеятельного населения по-прежнему было занято в сельском хозяйстве, либо обрабатывая свои земельные участки, либо работая по найму.
Бюджет Папуа Новой Гвинеи в послевоенное время постоянно сводился с большим дефицитом, который покрывался за счет австралийских дотаций. В этой связи австралийские власти не уставали повторять, что управляют территорией из чисто филантропических соображений. Так, в статье двух австралийских экономистов, Э. Фиска и М. Тейт, подчеркивалось: «Есть только один мотив, чисто альтруистический, побуждающий нас нести столь большие расходы, — это забота об интересах народа Папуа Новой Гвинеи» [207, 1972, № 7, с. 43].
В действительности все обстояло иначе. В австралийском федеральном бюджете на 1960/61 г. расходы на развитие Папуа Новой Гвинеи равнялись 1 % всей расходной части бюджета, хотя население территории составляло 20% населения Австралии. При
288
этом следует иметь в виду, что основная часть выделяемых средств шла не на развитие промышленности и жилищное строительство, а на сооружение административных зданий, в которых размещались колониальные власти, на содержание колониальной администрации, строительство аэродромов, портов, дорог и объектов, имевших стратегическое значение.
Австралийские предприниматели получали в Папуа Новой Гвинее большие прибыли. «Ежегодно из Папуа Новой Гвинеи,— заявил член австралийского парламента Бизли,— уплывает капитал на сумму 5 млн. ф.— в основном с плантаций» [28, 13.VIII.1964]. Австралийские компании на территории росли как грибы. С июня 1955 по июнь 1960 г. число зарегистрированных австралийских компаний увеличилось с 261 до 477, а их номинальный капитал вырос более чем в 2 раза. Господствующее положение занимали три: «Бернс-Филп», «Карпентер» и «Стимшип трейдинг компани».
В погоне за дополнительными прибылями капиталистические монополии в Папуа Новой Гвинее чудовищно эксплуатировали коренное население. В 1960 г. 30 899 рабочих из 44 774 получали в среднем 1 ф. 14 шилл. 4 пенса в месяц (официальный прожиточный минимум семьи — 30 ф. ст. в месяц). При этом проводилась грубая дискриминация в отношении оплаты труда рабочих из числа коренных жителей, которые получали в 10—20 раз меньше европейских рабочих. Но даже при такой нищенской оплате труда все мужчины из коренного населения старше 18 лет платили подушный налог в размере 2 ф. ст. в год. Советский представитель заявил на заседании Совета по опеке в 1964 г.: «Существует дискриминация в оплате труда; только 7 тыс. из 56 тыс. работающих являются членами профсоюза; нет законодательства, регулирующего отношения между рабочими и работодателями; нет системы социального обеспечения» [38, с. 19].
Выездная миссия, посетившая территорию в 1965 г., сообщила, что она получила многочисленные жалобы коренных жителей на грубую дискриминацию в оплате труда, на заведомо заниженные цены на сельскохозяйственные продукты, производимые местным населением. «Они считают,— говорилось в докладе выездной миссии,— что заработная плата местных жителей, а также цены на сельскохозяйственные продукты, производимые ими, слишком низкие, а цены на товары широкого потребления слишком высокие... Они хотят быть равными с австралийцами; они... реагируют на все виды дискриминации» [41, с. 60].
Развитие товарного сектора в экономике Папуа Новой Гвинеи в 60-х годах вело к росту доходов лиц, приехавших на территорию, а отнюдь не коренных жителей. Если в 1960/61 г. доля некоренных жителей в доходах товарного сектора составляла 62,5%, а в 1965/ 66 г.— 64, то в 1969/70 г.— 68%. В 1971/72 г. 8,5 тыс. некоренных жителей, привлеченных австралийской администрацией к работам на территории, получили в виде жалованья и различного рода денежных дотаций 58,2 млн. австрал. долл., в то время как 25,2 тыс. островитян — 23,8 млн. австрал. долл. Зарплата специалиста из
19 Заказ 91
289
коренных жителей, имевшего такое же образование, как его коллега из некоренных жителей, по официальным данным, была в 4 раза меньше.
В июне — сентябре 1963 г. Папуа Новую Гвинею посетила миссия Международного банка реконструкции и развития (МБРР). В докладе, составленном после подробного ознакомления с положением дел, миссия подвергла резкой критике послевоенную деятельность австралийского правительства в области развития экономики территории и разработала ряд рекомендаций, которые сводились к следующему: 1) Австралии необходимо значительно увеличить свои ежегодные ассигнования на развитие территории; 2) поскольку, по мнению комиссии, будущее территории зависит от сельского хозяйства и лесоводства, основные капиталовложения следует направлять в эти отрасли; в частности, необходимо увеличить поголовье скота в течение 10 лет до 300 тыс.; 3) большое внимание нужно уделять расширению технического и высшего образования на территории [210, 1965, № 1, с. 41—45].
Миссия ратовала также за развитие туризма в Папуа Новой Гвинее. Приманкой для иностранных туристов, указывала миссия, явится то,, что «в культурном отношении население территории лишь недавно вышло из каменнного века» [210, 1965, № 1, с. 212]. Хорошая косвенная оценка многолетней «культурной миссии» австралийцев в Папуа Новой Гвинее!
Выездная миссия ООН 1965 г. в своем докладе подчеркнула, что австралийское правительство должно серьезно изучить предложения миссии МБРР. «Миссия надеется, что теперь, когда управляющая власть имеет предложения банка, она сможет в короткий срок разработать определенный план сбалансированного экономического развития... Когда же такой план будет составлен и одобрен, его исполнение следует поручить управлению экономического развития, которое должно быть создано на территории. Этому управлению, наделенному широкими полномочиями, смогут помогать окружные комиссии, в которые войдут представители всех административных департаментов. В пределах своего округа они будут осуществлять общую политику, разработанную для всей территории. В этих комиссиях, естественно, должны быть представлены коренные жители» [41, с. 80].
Австралийское правительство вынуждено было заявить о том, что оно принимает предложения миссии МБРР, и даже несколько увеличило размеры ежегодного финансирования территории. В 1965 г. они составляли 28 млн. австрал. ф. Для сравнения укажем, что на развитие города Канберры с населением 77 тыс. человек на 1964/65 г. было ассигновано 29 млн. австрал. ф.
Несмотря на пылкие заверения, управляющая власть не думала всерьез заниматься развитием территории. До этого ассигнования составляли 25 млн. ф. ст.: «по признанию печати, эта сумма в 10 раз меньше той, которая необходима для развития Папуа Новой Гвинеи» [220, 4.IX.1963]. Таким образом, никаких принципиальных изменений не произошло.
290
Колонизаторы любят говорить об умственной неполноценности коренных жителей тихоокеанских островов. Часто в этой связи можно встретить рассуждения о том, что влияние культуры «цивилизованных» стран на культуру островитян привело к возникновению у последних чувства потерянности, нашедшего отражение в «культе карго», т. е. в вере в то, что скоро прибудут большие запасы товаров и продуктов питания на кораблях, отправленных духами предков. Однако знакомство с деятельностью управляющей власти в политико-экономической и социальной областях помогает понять, что «культ карго» имеет весьма земную основу. За долгие годы колониального рабства жители острова убедились в том, что у цивилизованных «опекунов» они никогда не найдут серьезной помощи и поддержки.
В своем докладе Совету по опеке члены выездной миссии ООН 1959 г. писали, что в различных частях территории они столкнулись с враждебным отношением населения к администрации. В докладе было приведено следующее высказывание одного из местных вождей, выразившего настроения коренных жителей: «1Мужчины и женщины не считают свою жизнь удовлетворительной. Когда пришли европейцы, люди поняли, что их образ жизни хуже образа жизни европейцев... в отношении питания и материального благополучия... Они не понимают, почему европейцы не помогли им достигнуть такого же жизненного уровня... Все народы Папуа Новой Гвинеи недовольны тем, что администрация не сумела предоставить им то, чего они желают» [12, с. 13].
Выездная миссия ООН, посетившая Папуа Новую Гвинею и 1968 г., в своем докладе Совету по опеке также приводила многочисленные жалобы коренных жителей территории на действия австралийской администрации.
«Войти в гавань Порт-Морсби,— писали уже упоминавшиеся выше австралийские ученые Э. Фиск и М. Тейт,— можно лишь через проход в коралловых рифах. Большие корабли вынуждены были стоять за рифами по нескольку часов, пока прилив не создавал благоприятные условия для их захода в порт. Говорят, что раньше папуасы верили, будто грузы, находившиеся на этих кораблях, посланы им их предками, а остановку кораблей за рифами объясняли тем, что австралийские чиновники изменяли на этих товарах папуасские адреса на австралийские. Сегодня большинство искушенных папуасов не принимает всерьез эти идеи, хотя они и не совсем еще исчезли. Однако многие папуасы, новогвинейцы и даже австралийцы чувствуют, что нечто подобное все еще происходит с австралийской помощью, которая ежегодно предоставляется этой стране. Людям говорят, что Австралия выделяет огромные суммы для повышения благосостояния папуасов и новогвинейцев для того, чтобы они стали богаче. Однако когда те смотрят на результаты этой помощи, то видят, что, хотя многие местные жители становятся образованнее и тяжелым трудом добиваются большего денежного дохода, чем раньше, уровень их жизни продолжает оставаться очень низким. Вместе с тем они видят, что число людей, пришед-
19*
291
ших в их страну, удвоилось за последние десять лет и что эти люди очень разбогатели» [207, 1972, № 7, с. 36].
Во второй половине 60-х годов австралийские власти вынуждены были увеличить ассигнования на развитие Папуа Новой Гвинеи. В 1969/70 г. эта сумма составила 108,3 млн. австрал. долл., но она, конечно, не могла удовлетворить насущных нужд территории.
Австралийские власти уделяли большое внимание укреплению своих военных позиций на острове. И тут они не скупились. Как известно, территория Папуа Новая Гвинея была включена в зону действия военного блока АНЗЮС. В коммюнике 11-й сессии Совета АНЗЮС, состоявшейся в Канберре 8—9 мая 1962 г., указывалось: «Министры обсудили текущие события и будущее тихоокеанских территорий, подвластных правительствам — участникам АНЗЮС. Подтвердив обязательства о взаимной помощи, взятые Австралией, Новой Зеландией и США в соответствии с договором, министры подчеркнули, что в случае вооруженного нападения эти обязательства должны выполняться не только метрополиями, но также и островными территориями, находящимися под юрисдикцией любого из трех правительств» [203, май 1962, с. 7].
В военно-стратегических планах Австралии Папуа Новой Гвинее отводилось значительное место. На территории сооружались многочисленные военные объекты, была увеличена численность расквартированного со времен второй мировой войны тихоокеанского полка; здесь постоянно проводились маневры частей австралийской армии.
Папуа Новая Гвинея и в 70-е годы оставалась одной из самых отсталых стран планеты. Подавляющее большинство населения жило в условиях чуть ли не каменного века. Племена постоянно враждовали между собой. Этому способствовало разноязычие: 2,5 млн. человек говорили на нескольких сотнях языков. Иногда та или иная языковая группа объединяла не более 100 человек; 50 тыс. составляли уже крупную языковую общность.
В первой половине 70-х годов на страницах новогвинейской и австралийской печати то и дело мелькали сообщения о жестоких межплеменных распрях, особенно в горных районах территории. В ноябре 1974 г., например, кровавые столкновения происходили в районе Маунт-Хаген между племенами джига и ямуга. В течение десяти дней было убито 17 и ранено 100 человек.
Почти все население Папуа Новой Гвинеи продолжало жить в деревнях, причем больше половины вело натуральное хозяйство. Лишь 1 % работоспособного населения страны был занят на современных промышленных предприятиях. В 1970 г. промышленность в Папуа Новой Гвинее давала 7,1% совокупного национального продукта.
Европейская часть населения (в 1970 г. насчитывалось около 50 тыс. человек) составляла незначительный процент среди лиц, занятых в сфере товарного производства (не более 8), но удерживала господствующее положение во всех отраслях современной 292
промышленности. К 1970 г. в Папуа Новой Гвинее было только пять коренных жителей, имевших университетское образование.
Коренные жители, втянутые в сферу современного промышленного производства, так же как и деревенские жители, продолжали считать себя членами племени, на языке которого они говорили. Они оказывали материальную помощь всем своим соплеменникам, а в случае необходимости принимали участие в сражениях, отстаивая интересы своего племени. В журнале «ЮС ньюс энд уорлд рипорт» были приведены слова одного местного банковского служащего: «Если какой-нибудь человек зарабатывает 15 долларов в неделю, он отдает половину заработка своему брату по языковому клану, тот, в свою очередь, тоже отдает половину полученного и т. д. Таким образом, деньги расходуются большим числом людей, хотя большинство народа не имеет регулярно оплачиваемой работы» [229, З.ХП.1973].
Невесты продолжали являться предметом купли-продажи. Один из районных советов рекомендовал брать за невесту 240 австрал. долл, (одну половину в банкнотах, а другую — в традиционных денежных единицах — раковинах каури). В отдаленных районах «совершенно новая» невеста оценивалась в 240 австрал. долл, плюс 5 свиней и страус; женщина, бывшая замужем, стоила 30 австрал. долл, плюс один страус. Женщина, бывшая замужем больше двух раз, не имела «коммерческой стоимости».
В Папуа Новой Гвинее продолжали существовать многие варианты «культа карго». Наибольшее распространение получил «культ янгору», проповедовать который начал М. Яливан, некоторое время служивший в одной из католических миссий. Центром этого движения стал район Сепика. В 1962 г. американской и австралийской авиацией во время картографических съемок на вершине горы Туру (в Восточном Сепике) были установлены бетонные топографические знаки. Местные жители считали, что это вызвало недовольство горных духов. По их мнению, с тех пор снизились урожаи, перестали водиться звери. Если новогвинейцы снесут топографические знаки, говорил в своих проповедях М. Яливан, то с неба упадут к ним многочисленные товары. Он призывал жителей расчистить на вершине горы Туру площадку для посадки сотен самолетов, которые и доставят им все это богатство. Яливан уверял жителей, что если закопать в землю австралийские двухдолларовые банкноты, то из них вырастут пятидесятидолларовые, так же как из семян вырастают растения.
Несмотря на то что пророчества Яливана не сбывались, жители продолжали верить его прорицаниям. В июле 1971 г., например, на горе Туру состоялась церемония, во время которой был торжественно, с пением молитв, вынесен и сдан представителям власти последний топографический знак. В процессии приняло участие около 10 тыс. человек, в их числе советники местного управления, деревенские старосты из Западного и Восточного Сепика.
Присутствовавшие на церемонии иностранные корреспонденты спрашивали ее участников, как они понимают «культ карго». Отве
293
ты были различными. Одни говорили, что сторонники культа будут получать более высокие урожаи, удачнее охотиться и ловить больше рыбы. Другие утверждали, что приземлятся американские самолеты, доставят им товары и деньги. Один из сподвижников Яли-вана сказал, что в культе воплощены идеи братства и объединения всех народов мира.
В районе города Киета в начале декабря 1974 г. заметно оживилось местное движение «культа карго», возглавляемое П. Меной, бежавшим в 1964 г. из киетской тюрьмы и организовавшим это движение. Участники местного движения культа считают, что духи предков, чьи кости они помещают вместе с деньгами в специально приготовленные ящики, приумножат количество денег, положенных в ящики. Во время рейда в деревню Пондона, находящуюся в 45 км к юго-западу от Киеты, полиция и представители местных властей обнаружили в домах жителей ящики с человеческими костями и деньгами. Три человека были арестованы. П. Мене удалось скрыться в лесу.
Коренным жителям, в подавляющем большинстве своем находившимся на низком уровне развития, трудно было осознать даже сами понятия «самоуправление» или «независимость». В упоминавшейся выше статье из журнала «ЮС ньюс энд уорлд рипорт» приводилось высказывание П. Хавлчи — районного чиновника из поселка Кингкио, расположенного в центральной части Новой Гвинеи. В обязанности Хавлчи входило разъяснение местным жителям смысла самоуправления. «Вчера один из вождей деревни говорил мне несколько раз, что самоуправление — это когда придет большой человек и принесет деревне много вещей. Кроме того, они думают, что независимость будет чем-то вроде большого праздника, вроде поминок, которые они устраивают, когда кто-нибудь умирает» [229, З.ХИ.1973].
Но наряду с этой потрясающей и как будто бы непреодолимой отсталостью в Папуа Новой Гвинее появились факторы, позволяющие считать предоставление ей независимости не только возможным, но и неотложным делом. С 60-х годов заметно увеличилась образованная прослойка среди коренных жителей. Появилась даже местная художественная литература. При Университете Папуа Новой Гвинеи был создан литературный кружок, результатом работы которого явились серии книг «Поэты Новой Гвинеи» и «Поэты Папуа». Издательство «Джакаранда» в Брисбене начало специализироваться на выпуске книг новогвинейских авторов. Оно стало издавать первый новогвинейский литературный журнал — «Ко-ваве», выпустило сборник «Пять новогвинейских пьес» и первый новогвинейский роман — «Крокодил», написаннный В. Эри. В 1970 г. были проведены литературные конкурсы. В Рабауле открылись литературные курсы. С марта 1974 г. в Порт-Морсби работает Институт по изучению Папуа Новой Гвинеи.
Промышленность втягивала коренных жителей в современную жизнь, а значительно расширившиеся транспортные связи территории познакомили их с внешним миром.
294
В 1967 г. началась разработка залежей медной руды на острове Бугенвиль. В соглашении, заключенном тогда же австралийской компанией «Концинк Риотинто оф Острэйлиа», контролируемой британским капиталом, с австралийской администрацией, выступавшей от имени Папуа Новой Гвинеи, было оговорено, что 20% прибыли будет получать территория. Ежегодно добывается 180 тыс. т меди в концентратах. В районе реки Ок-Теди были найдены новые месторождения медной руды, и начались переговоры с американским предприятием «Кепнекот коппер компани» об их разработке. Разведанные запасы меди этого месторождения составляют 150 млн. т. Ежегодная добыча может достичь 75—80 тыс. т. Уже в 1972/73 г. стоимость экспорта медной руды и концентратов намного превысила совокупную стоимость всех остальных видов экспортных товаров, что видно из следующих данных (в млн. австрал. долл.) [34, 1974, № 60, с. 1079]:
Копра 8,8 Чай 2,0
Кокосовое масло » 6,1 Лесоматериалы 10,4
Кофе 23,2 Рыба 2,5
Какао 14,4 Медная руда и
Каучук .... 2,0 концентраты . . 125,6
Весьма важную роль в будущем развитии Папуа Новой Гвинеи должен сыграть гидроэнергетический комплекс на реке Пу-рари.
В заливе Папуа в конце 60-х годов был найден газ. Исследования должны установить, возможна ли его промышленная добыча. Там же компания «Филлипс ойл» ведет разведку на нефть.
Оценивая экономическое положение Папуа Новой Гвинеи, «Пэ-сифик айлендс мансли» отмечал, что Папуа Новая Гвинея сумеет после получения независимости сбалансировать свою внешнюю торговлю за счет продажи бугенвильской меди. Япония, ФРГ и Испания уже гарантировали закупки 2 млн. т медного концентрата по складывающимся рыночным ценам (при минимальной цене 30 центов за фунт концентрата) в течение 15 лет. Внешняя задолженность Папуа Новой Гвинеи, писал журнал, не превышала 413 млн. долл. Журнал также указывал на то, что инфляция в Папуа Новой Гвинее шла относительно замедленно: «Хотя уровень инфляции здесь выше, чем в предыдущие годы, но он все еще ниже уровня, наблюдаемого в большинстве других развивающихся стран» [210, 1974, № 1, с. 90—91].
Существенным фактором социально-экономической жизни страны является кооперативное движение. Кооперативные общества появились в деревнях вскоре после окончания второй мировой войны. К середине 1971 г. лишь в бывшей подопечной территории Новая Гвинея насчитывалось свыше 170 зарегистрированных кооперативов, в которых состояло более 100 тыс. человек. Годовой оборот этих хозяйств оценивался примерно в 4,75 млн. австрал. долл. В целом же в стране, согласно официальным австралийским данным, к середине 1973 г. общее количество кооперативов состав
295
ляло 382 и охватывало 142 тыс. человек, ежегодный оборот кооперативных обществ — свыше 7,6 млн. австрал. долл., а постоянные активы достигли примерно 2,7 млн. австрал. долл.
Следует отметить, что в Папуа Новой Гвинее развитие кооперативного движения идет более быстрыми темпами, чем на других тихоокеанских островах (табл. 12).
Таблица 12
Развитие кооперативного движения в Океании в 1972 г. *
Страны и территории Число кооперативов Число членов Капитал, долл. Торговый оборот
Папуа Новая Гвинея 837 176 600 4 954 000 7 974 700
Соломоновы острова 179 8398 84 900 1 083 700
Новые Гебриды . 142 7747 350 900 2 149 200
Фиджи . 1043 33 944 2 306 800 7 379 000
Тонга .... 12 — — —-
Острова Кука 53 4754 — 717 200
Западное Самоа . 80 — — —
Острова Гилберта и Эллис ** . . . 51 20 054 151 200 2 157 000
Каролинские, Марианские, Маршалловы острова 35 10186 — 5 890 400
* О. К. J. W a h е f о г s. Report to the South Pacific Commission on Cooperative Education and Training in Selected South Pacific Countries, c. 22.
** Современное название островов Гилберта — Кирибати, островов Эллис — Тувалу, островов Новые Гебриды — Вануату.
Среди коооперативов Папуа Новой Гвинеи есть маленькие деревенские общества с ежегодным оборотом в 2 тыс. австрал. долл, и более крупные объединения, как, например, «Коуперэтив хоул-сейл сесайети», занимающийся импортом и оптовой торговлей в масштабах всей страны и имеющий ежегодный оборот в 2 млн. австрал. долл.
Наибольшее распространение получили сбытовые и потребительские кооперативные объединения. Подобная структура сложилась под влиянием колониальной политики Австралии. Защищая интересы иностранных промышленников и монополий, колониальная администрация стремилась создать более благоприятные условия для деятельности австралийского капитала в Папуа Новой Гвинее. Задача заключалась в том, чтобы с помощью кооперативов расшатать замкнутое натуральное хозяйство деревни и включить коренное население в систему экономических отношений между метрополией и управляемой территорией.
Насаждение сбытовых кооперативов сопровождалось улучшением условий сбора, транспортировки, а в отдельных случаях также первичной обработки традиционных видов экспортных сельскохозяйственных продуктов. Сбытовые кооперативы способствовали
не только увеличению количества и улучшению качества продукции, поступающей из колонии в метрополию, но и более широкому распространению товарно-денежных отношений в папуасских и меланезийских деревнях. У мелких производителей-крестьян появились деньги, а следовательно, возможность приобретать австралийские промышленные товары, ввозимые в колонию.
Не менее выгодным для иностранного капитала было возникновение потребительских кооперативных обществ, благодаря которым импортные товары начали проникать в самые отдаленные и труднодоступные деревни. Потребительские кооперативы не только значительно расширили географию торговли и увеличили соответственно число потребителей, но и взяли на себя расходы по транспортировке импортных товаров.
Сбытовые и потребительские кооперативы в условиях Папуа Новой Гвинеи стали катализаторами имущественного расслоения в деревне. Предприимчивые и удачливые члены кооперативных обществ, получив в них «начальное предпринимательское образование», выходили из кооперативов, организовывали собственные предприятия, открывали магазины, конкурировавшие с кооперативами. Как отмечает американский исследователь Т. Шварц, эти частные торговцы были связаны с иностранным торговым капиталом [207, 1967, № 8, с. 41].
Более того, по сведениям журнала «Австралийские внешние территории», иностранные бизнесмены налаживали контакты с кооперативами и использовали эти организации для извлечения прибыли [200, т. 12, 1972, № 1, с. 8].
Колониальная австралийская администрация с момента возникновения кооперативного движения установила над ним строгий контроль. В 1948 г. были разработаны первые правила по организации и регистрации кооперативных обществ. Согласно Закону о кооперативных обществах 1950 г. и Закону о туземном экономическом развитии 1951 г. деятельностью созданных и зарегистрированных кооперативов руководил отдел кооперативного развития австралийского министерства торговли и промышленности. В 1971 г. отдел кооперативного развития вошел в министерство развития предпринимательства. Он состоял из трех региональных управлений, размещавшихся в Рабауле, Гороке и Порт-Морсби.
Колониальные власти препятствовали появлению нежелательных для них кооперативов. В частности, с особой настороженностью администрация относилась к производственным кооперативам, в которых предпринимались попытки обобществить землю и труд членов общества. Т. Шварц описал случай, который произошел на острове Манус. Жители одной деревни, получив индивидуальные участки земли, объединились и стали работать коллективно на плантациях и огородах. Чиновники колониальной администрации оказали на них давление, требуя распустить кооператив.
Отдельные кооперативные общества Папуа Новой Гвинеи объединялись в ассоциации, сливавшиеся в региональные союзы, а последние входили в Федерацию кооперативных союзов.
297
С целью подготовки руководящего и технического персонала для кооперативов в Порт-Морсби в 1957 г. был открыт центр кооперативного обучения. Однако он плохо справлялся с делом. В мае 1971 г. начал работать колледж по подготовке кооперативных работников в Лалоки, в окрестностях Порт-Морсби.
Отмечая негативные стороны кооперативного движения в условиях колониальной зависимости Папуа Новой Гвинеи, нельзя не подчеркнуть и тот положительный вклад, который был объективно внесен ими в развитие территории. В тех случаях, когда кооператорам удавалось преодолеть клановые предубеждения, создавались межэтнические общества, способствовавшие сплочению коренных жителей страны и пробуждению национального самосознания. Наиболее прогрессивные по форме кооперативные общества, стремившиеся обобществить труд и средства производства, превращались в центры сопротивления коренных жителей действиям колониальной администрации.
Широкое распространение кооперативного движения в Папуа Новой Гвинее объясняется не столько деятельностью австралийской администрации, сколько тем, что идея объединения крестьян-общинников нашла благоприятную почву в сознании коренных жителей. До наших дней в сельских районах сохранились многие традиции первобытнообщинного коллективизма, такие, как родовая или деревенская собственность на землю, родственная и соседская взаимопомощь, совместное потребление продуктов питания на церемониальных обрядовых праздниках. Будущее покажет, сумеет ли народ Папуа Новой Гвинеи превратить кооперативы в организации, способствующие прогрессивному развитию страны, или же они останутся школой подготовки местных бизнесменов и орудием иностранной экономической и политической экспансии.
Развитие экономики на территории в начале 70-х годов показало, что, несмотря на все трудности, существует реальная возможность создать в Папуа Новой Гвинее экономическую основу независимого существования.
В 70-е годы заметно ускорился процесс политического развития территории. Возникновение в середине 60-х годов такого законодательного органа территории, как Палата ассамблеи, способствовало появлению политических группировок, внесших определенное оживление в политическую жизнь Папуа Новой Гвинеи. Многие из этих организаций часто имели очень недолгую жизнь, но главные не только сохранились, но и все время расширяли свое влияние. Политические организации существовали в Папуа Новой Гвинее и раньше. Первая из них — отделение гоминьдана — возникла еще в 20-х годах нынешнего столетия в Рабауле. К 1942 г. отделения гоминьдана появились в Маданге и Кавиенге (остров Новая Ирландия). В них входили лишь проживавшие в Папуа Новой Гвинее китайцы. Японцы, высадившиеся на Новой Гвинее в 1942 г., ликвидировали эти организации и расстреляли трех партийных лидеров.
В 30-х годах в Рабауле и Лаэ были созданы фашистские труп
298
пы, связанные с итальянскими и германскими фашистскими организациями. Все эти партийные группировки не были связаны с коренным населением. Перед войной отделения АЛП существовали в Рабауле, Порт-Морсби и Лаэ. Но создать сколько-нибудь сильную лейбористскую организацию в Папуа Новой Гвинее не удалось. В начале второй мировой войны все лейбористские организации были распущены. После окончания войны, в период пребывания у власти лейбористского правительства, АЛП делала попытки возродить лейбористское движение в Папуа Новой Гвинее, но безуспешно.
В дальнейшем отношение руководства АЛП к созданию своих филиалов в Папуа Новой Гвинее изменилось. В январе 1968 г. известный общественный деятель Папуа Новой Гвинеи Г. Мироу сообщил лидеру АЛП А. Коуэллу, что Ассоциация рабочих Порт-. Морсби хочет организовать Лейбористскую партию Папуа Новой Гвинеи, которая станет филиалом АЛП. А. Колуэлл не поддержал этого предложения. «Может быть создана лейбористская партия из коренного населения или смешанного, но она не должна объединяться прямо или косвенно с АЛП», — писал он [177, с. 361].
В январе 1971 г. новогвинеец У. Ховарри организовал Лейбористскую партию Папуа Новой Гвинеи, но она не оказала заметного влияния на политическую жизнь территории. 28 октября 1960 г. в Порт-Морсби было объявлено о создании Объединенной прогрессивной партии — первой в стране самостоятельной политической партии. Она возникла через месяц после того, как австралийский министр внешних территорий П. Хэзлак объявил о перестройке Законодательного совета (в него предполагалось ввести представителей коренного населения, избираемых последним). Партию организовали два европейца — Б. Бантинг и Д. Баррет, а также местный житель — С. Пит. Хотя партия пыталась представить себя выразительницей интересов всего населения Папуа Новой Гвинеи, но она защищала лишь интересы плантаторов. Именно это было причиной того, что она скоро прекратила свое существование. На выборах в Законодательный совет в 1961 г. партия потерпела жестокое поражение.
«Почему партия провалилась так быстро?» — спрашивает австралийский журналист Д. Вулфорд в статье «Партия белого человека» и отвечает: «Несмотря на ее притязание выступать от имени всех рас, она, в сущности, была партией для иностранцев... Ее связи с коренным населением не шли дальше стремления подчинить себе нескольких „добропорядочных" туземцев, которые символизировали бы ее межрасовый характер. Говоря прямо, партия хотела лишь манипулировать туземцами с целью защиты интересов иностранцев» [207, июнь — июль 1974, с. 57].
Но, строго говоря, партийная система в Папуа Новой Гвинее сложилась лишь со второй половины 60-х годов. Толчком к организации партийных группировок послужила подготовка к выборам в Палату ассамблеи в 1967 г. В течение года появилось на свет 6 партий: Христианская демократическая партия, Партия всего
299
народа, Аграрная партия территории, Партия аграрных реформ, Пангу пати, Национальная прогрессивная партия.
Христианская демократическая партия провозглашала своей целью борьбу за превращение Папуа Новой Гвинеи в седьмой штат Австралии, объявление города Лаэ столицей штата, а пиджин инглиш— национальным языком. На выборах партия не получила ни одного места в Палате ассамблеи и прекратила свое существование.
Партия всего народа выступала за сохранение существующего положения. Мы решительно против преждевременного предоставления независимости или самоуправления, отмечалось в программе партии. Трагическими последствиями обретения независимости будут общее смятение, коррупция и общественные беспорядки. В документе выражалась особая благодарность Австралии за развитие территории, говорилось о необходимости дальнейшего привлечения иностранного капитала. На выборах партия получила два места в Палате ассамблеи. На первом заседании палаты лидер партии Д. Маккинон заявил, что слово «партия» заменяется словом «группа». Вскоре партия совершенно сошла с политического горизонта.
Аграрная партия территории была создана Дж. Маккарти, проживавшим в Папуа Новой Гвинее с 1935 г. Он был корреспондентом газеты «Пост курьер», издаваемой в Порт-Морсби. Партия стояла на крайне реакционных позициях, отрицала возможность предоставления территории независимости. На выборах успеха не имела и прекратила свое существование.
В политической платформе Партии аграрных реформ независимость в принципе оценивалась как положительное явление, но о сроках ее предоставления не упоминалось. Говорилось о необходимости привлечения иностранного капитала. На выборах в Палату ассамблеи партия получила один мандат, но ее представитель объявил себя независимым. Вскоре партия распалась.
Из шести указанных выше партий сохранились лишь две — Пангу пати и Национальная прогрессивная партия. В ноябре 1970 г. была создана Народная прогрессивная партия. Эти три партии на выборах в Палату ассамблеи в 1972 г. получили большинство мест и сформировали коалиционное правительство, которое возглавил лидер Пангу пати М. Сомаре. В 1970 г. возникла Объединенная партия, ставшая в оппозицию к правительственной коалиции.
В коалиции ведущую роль играла Пангу пати. Со времени своего возникновения эта организация наиболее последовательно боролась за предоставление стране независимости. В политическом заявлении, сделанном во время выборов в Палату ассамблеи в. 1972 г., М. Сомаре подчеркул, что ближайшей целью партии является достижение самоуправления, без которого невозможно действительное политическое и экономическое развитие страны.
Две другие партии, входящие в коалицию, по принципиальным вопросам политического и экономического развития страны стояли на тех же позициях, что и Пангу пати, но тем не менее у руководителей этих организаций были некоторые расхождения во взглядах^
300
Так, в заявлении лидера Народной прогрессивной партии Ю. Чена, сделанном также в период выборов в Палату ассамблеи в 1972 г., подчеркивалось: «Весьма актуальным вопросом в Папуа Новой Гвинее является время предоставления самоуправления. Одна партия хочет, чтобы это произошло как можно скорее, если не немедленно, другая стремится отложить его на более отдаленное время. Для Народной прогрессивной партии главное не срок получения самоуправления, а тип самоуправления... „Сильное, стабильное, прогрессивное правительство" — это и есть та цель, к достижению которой готовит себя Народная прогрессивная партия» [180, с. 7].
Оппозиционная Объединенная партия, возникшая из так называемой группы независимых членов Палаты ассамблеи, несмотря на то что включала в свои ряды и европейцев, и коренных жителей, все-таки в значительной степени отражала интересы европейских бизнесменов в Папуа Новой Гвинее. И эта партия не отрицала того, что в конечном счете страна должна получить самоуправление и независимость, но подчеркивала, что это должно произойти тогда, когда Папуа Новая Гвинея достаточно разовьется в политическом, экономическом и культурном отношениях.
В заявлении, сделанном лидером партии Т. Абалом в период выборов в Палату ассамблеи в 1972 г., говорилось, что лозунг партии— «Объединенная страна Папуа Новая Гвинея под управлением правительства, избранного народом» [188, с. 24]. «Целью партии,— сказал Т. Абал,—является установление прочной системы управления на местном, районном, региональном и центральном уровнях в соответствии с законами, которые выражают желание народа Папуа Новой Гвинеи; развитие сильной экономической системы, с помощью которой независимая Папуа Новая Гвинея сможет поддержать такое управление; улучшение жизненного уровня всего народа... укрепление законности и порядка... развитие системы образования, с тем чтобы дать возможность народу Папуа Новой Гвинеи участвовать во всех делах страны» [188, с. 24—25].
Наряду с политическими партиями в Папуа Новой Гвинее сложились общественные движения, или так называемые группы давления, игравшие весьма существенную роль в политической жизни страны. Среди этих групп выделяются «Дамуни ассошиейшн», «Папуа экшн», «Матаунган ассошиейшн», «Напидакое навиту».
«Дамуни ассошиейшн» образовалась в районе Милн-Бей в 1970 г. Слово «дамуни» означает «отлив». Организация была создана ведущими членами местных советов при поддержке тогдашнего спикера Палаты ассамблеи Д. Гиза. В руководство ассоциации вошли К. Дибела (председатель совета в Верамо), В. Гиз (председатель совета в Мара-Матане) и У. Тэнби (председатель кооперативной ассоциации Милн-Бея). На учредительном заседании К. Дибела заявил: «Не получая ответа на наши постоянные просьбы о помощи, мы решили создать организацию, которая сможет найти собственный путь осуществления наших надежд в экономической области» [224, 22.VII.1970].
Следует отметить, что фактически начало этого движения от
301
носится к 1968 г., когда на конференции районного совета Милн-Бея был сформирован специальный комитет, который изучил причины отставания в развитии экономики района. В докладе комитета отмечалось, что население района разобщено, местные советы не занимаются экономическими вопросами, нет никаких планов, никакой координации усилий в развитии экономики, отсутствуют какие-либо программы использования молодежи, оканчивающей школы, и т. п. Комитет предлагал оживить работу районных координационных комитетов, создать инвестиционную компанию с индивидуальным членством, контролируемую населением и ответственную за развитие района. Эта компания, отмечалось в докладе, способствовала бы развитию товарно-денежных отношений, давала бы советы частным землевладельцам и разрабатывала бы новые экономические проекты.
Конференция совета Милн-Бея одобрила предложения комитета и обратилась к населению района с просьбой поддержать их. Рекомендации комитета были посланы в австралийское министерство торговли и промышленности, но ответа оттуда не последовало.
В ассоциацию вступило более 1000 членов, каждый из которых заплатил по 2 австрал. долл, в качестве вступительного взноса. В короткое время ассоциация весьма расширила свои ряды.
Следующей своей целью «Дамуни ассошиейшн» поставила создание экономической корпорации, которая бы содействовала развитию местной деловой активности, организации сельскохозяйственных, обрабатывающих предприятий, а также службы быта, где работали бы коренные жители. Руководство ассоциации считало, что основное внимание должно быть уделено расширению участия коренного населения в экономической жизни района, так как страна со всеми ее богатствами принадлежит коренному населению.
«Папуа экшн» возникла в ноябре 1970 г. Ее организатор Э. Олевале Тоза заявил в Палате ассамблеи: «Приближаются дни, когда могут возникнуть беспорядки, восстание в Папуа... вместо процесса консолидации всех частей страны...» [177, с. 142—143]. Выступление Э. Олевале Тоза вызвало резко отрицательную реакцию тогдашнего министра внешних территорий Бернса, но члены Палаты ассамблеи поддержали лидера «Папуа экшн». Так, член палаты от Пангу пати С. Эбел заявил, что папуасы станут ненавидеть Австралию, если она не даст больше денег на развитие Папуа. Спикер палаты Д. Гиз в письме к Бернсу критиковал австралийское правительство за недостаточную экономическую помощь Папуа. Д. Гиз предупреждал, что среди народа Папуа растет недовольство. Во время визита Г. Унтлема в Папуа Новую Гвинею в январе 1971 г. руководители «Папуа экшн» говорили ему, что они потребуют отделения от Новой Гвинеи, если Австралия не предоставит большую экономическую помощь Папуа. В дальнейшем «Папуа экшн» не выступала за отделение от Новой Гвинеи; ее руководитель Э. Олевале Тоза фактически присоединился к Пангу пати.
«Матаунган ассошиейшн» была создана в мае 1969 г. на полу
302
острове Газель (Новая Британия). Слово «матаунган» на языке племени толаи значит «впередсмотрящий». Один из лидеров ассоциации, Д. Капути, подчеркнул, что обретение политической независимости не означает действительной самостоятельности, прочность которой зависит от уровня социального и экономического развития. Движение быстро получило широкое распространение на полуострове. Это объяснялось политической обстановкой на Газеле, острым недовольством населения политикой властей. Дело в том, что именно на Газеле образовались первые в стране местные советы управления. Они были созданы 7 сентября 1950 г. в Реймбере и Вунамаму. В 1953 г. появились еще 3 совета: в Рабауле, Вунади-дире и Дивуане. 4 сентября 1963 г. все они объединились в местный совет управления полуострова Газель.
В первое время население не возражало против создания единого совета, но затем в ряде мест жители выступили против новой системы местного управления. «Мы простые, недостаточно образованные люди, — говорили они, — поэтому предпочитаем традиционный тип деревенского управления с помощью лулуаи» [177, с. 105]д Надо сказать, что европейцы, живущие на полуострове, поддерживали подобные настроения коренных жителей, считая, что создание новой системы местного управления может привести к концентрации чрезмерно большой власти в руках местного населения. В числе тех, кто поощрял это движение, были и старшие чины полиции.
Беспорядки начались в 1953 г., когда по приказу администратора территории стала вводиться новая система управления. Волнения приняли столь широкий размах, что тогдашний министр внешних территорий П. Хэзлак вылетел на Газель, но его усилия по наведению порядка не увенчались успехом. Местные жители отказывались платить налоги, бойкотировали работу советов. Когда в конце 50-х годов австралийские власти ввели на всей территории Папуа Новой Гвинеи подушный налог, население полуострова Газель отказалось платить и его. В 1958 г. полицейский патруль в На-вунараме-Тавилилиу попытался взыскать этот налог, но встретил ожесточенное сопротивление. В завязавшейся схватке было убито» два островитянина. Своего апогея движение сопротивления новой системе управления на полуострове достигло в конце 60-х годов, когда австралийские власти решили создать местный совет на межрасовой основе, т. е. включить в его состав наряду с коренными жителями представителей европейской и китайской частей населения.
В феврале 1969 г., после того как был принят Закон о создании совета на межрасовой основе, член Палаты ассамблеи от Кокопо (Газель) О. Таммур организовал кампанию против проведения выборов в этот совет. Тогда и родилась группа «Матаунган ассо-шиейшн». В мае 1969 г., за день до начала выборов, 10 тыс. человек во главе с О. Таммуром подошли к штаб-квартире австралийской администрации в Рабауле и потребовали отмены Закона о создании совета на межрасовой основе. Но австралийская адми-
303
нистрация не вняла их требованиям. Тогда О. Таммур призвал население бойкотировать выборы. В результате в них приняло участие лишь 23% избирателей. Власти продлили сроки выборов на неделю, надеясь, что избиратели в конце концов придут голосовать, но этого не случилось. О. Таммур опротестовал выборы, заявив*. «Если 77% не голосуют, то совершенно очевидно, что мы не будем счастливы с этими новыми советниками, и я требую, чтобы выборы были аннулированы!» Однако австралийская администрация утвердила результаты выборов.
Когда 1 июля 1969 г. вновь избранные советники пришли к зданию совета на свое первое заседание, сторонники О. Таммура преградили им дорогу, и депутатам пришлось пойти в штаб-квартиру австралийского администратора. «Администрация,— гневно заявил он,— не допустит, чтобы кто-то мешал законно избранным людям исполнять свой долг» [224, 2.VII.1969].
В сентябре 1969 г. члены ассоциации устроили многолюдную демонстрацию. Австралийская администрация вызвала в Рабаул дополнительные отряды полиции, пытаясь подавить движение. Одновременно администратор территории объявил в Палате ассамблеи о назначении специальной комиссии для расследования событий, происходящих на полуострове Газель. Комиссия должна была подготовить рекомендации относительно наиболее целесообразных форм местного управления.
В докладе комиссии была дана положительная оценка существующей системы управления и отвергались утверждения членов «Матаунган ассошиейшн», что система эта дает возможность европейцам занимать господствующее положение. «В действительности,— отмечалось в докладе, — нет признаков доминирования европейцев» [177, с. 112]. Комиссия рекомендовала создать в дополнение к межрасовому совету еще городской совет в Рабауле. Доклад был представлен Палате ассамблеи в ноябре 1969 г.
В декабре 1969 г. сторонники ассоциации совершили марш протеста в Рабаул. В город были стянуты полицейские силы, произведены многочисленные аресты. В Рабаул прибыл австралийский министр внешних территорий Бернс, осудивший в резких выражениях действия группы и потребовавший «восстановления порядка и законности». Г. Уитлем же, выступая на полуострове Газель в январе 1970 г. перед толпой сторонников ассоциации, сказал: «Мы восхищаемся вашей организацией, мы восхищаемся вашим воодушевлением, мы восхищаемся вашими лидерами» [177, с. 112].
Бернс заявил, что его удивляет позиция Уитлема, выступившего в поддержку «Матаунган ассошиейшн», которая «нарушила почти все демократические процессы, стремясь достичь своих целей» [177, с. 113]. Премьер-министр Австралии Д. Гортон в телеграмме, посланной совету полуострова Газель, писал, что заявление, сделанное Г. Уитлемом, усугубляет внутренние раздоры на Газеле. В июне 1970 г. австралийское правительство объявило о поездке Д. Гортона в Папуа Новую Гвинею. Сообщалось, что во время своего визита он посетит Рабаул. Многие расценивали это как по-304
пытку улучшить политическое положение на полуострове, снять впечатление о пребывании там Г. Уитлема.
Были приняты все меры, чтобы обезопасить пребывание австралийского премьер-министра на Новой Британии. Два патрульных судна стояли в порту Рабаула. Наготове были 2 скоростные моторные лодки, 3 вертолета и несколько машин, чтобы в случае необходимости немедленно увезти премьер-министра. В Рабаул было доставлено также 700 полицейских.
Когда 9 июля Д. Гортон прилетел в Рабаул, на аэродроме его встретила толпа сторонников «Матаунган ассошиейшн» в 10 тыс. человек. Д. Гортон обещал провести на полуострове референдум. Его заявление было встречено с большим энтузиазмом.
В сентябре 1970 г. ассоциация впервые за все время существования межрасового совета полуострова Газель вступила с ним в переговоры. В октябре того же года была достигнута договоренность о прекращении работы совета. Администратор территории Л. Джонсон одобрил это соглашение и заявил, что передаст его на рассмотрение Исполнительного совета. При этом Л. Джонсон заметил, что если большинство выскажется в пользу соглашения, то его, вероятно, примут. В ноябре 1970 г. «Матаунган ассошиейшн» объявила о намерении создать свой собственный совет управления, не зависящий от австралийской администрации. Представители ассоциации разъехались по районам полуострова, чтобы объяснить населению намерения организации и подготовить выборы в новый совет.
В январе 1971 г. Газель опять посетил Г. Уитлем. На аэродроме он был тепло встречен многотысячной толпой сторонников «Матаунган ассошиейшн». Позднее он рассказывал корреспондентам: «Мы увидели новее свидетельство высокой солидарности, дисциплины и организованности „Матаунган ассошиейшн*4... Я уверен, что руководители этого народа должны добиваться своих целей спокойными и законными методами» [177, с. 117].
Выборы в новый совет прошли в январе 1971 г. в течение трех недель. Видя такой поворот событий, администратор территории Л. Джонсон заявил, что он согласен изменить состав межрасового совета так, чтобы в нем было представлено лишь коренное население. Однако в конце мая 1971 г. на церемонии, посвященной началу деятельности совета, председатель заявил, что совет будет сотрудничать и с европейской частью населения полуострова.
Начало движению «Напидакое навиту» было положено в 1962 г. 9 сентября 1968 г. в Порт-Морсби группа бугенвильцев из 25 человек, в которую входили члены Палаты ассамблеи и студенты Университета Папуа Новой Гвинеи, призвали к проведению до 1970 г. референдума по вопросу об отделении Бугенвиля от Папуа Новой Гвинеи с последующим образованием независимого государства или присоединением острова к британским Соломоновым островам. Лишь один бугенвильский представитель в Палате ассамблеи, П. Лапун, выступил за сохранение острова в составе Папуа Новой Гвинеи.
20 Заказ 91
305
Через несколько недель митинг по поводу отделения Бугенвиля состоялся уже в Киете. Студент Университета Папуа Новой Гвинеи Л. Хэннетт, выступавший в Порт-Морсби за отделение Бугенвиля, заявил, что этот остров вошел в состав Папуа Новой Гвинеи случайно. «В историческом, этническом, расовом, географическом и политическом отношении мы связаны с группой Соломоновых островов. Связи эти намного сильнее, чем те, которые существуют между Бугенвилем и какой-либо другой частью территории. У многих людей на Бугенвиле члены их семей и родственники живут на Соломоновых островах. Несмотря на дружбу с нашими братьями в Папуа Новой Гвинее, между нами не существует реальных этнических связей» [226, 27.IX.1968].
В 1969 г. в Киете было официально объявлено о создании «Напидакое навиту» (название представляет собой анаграмму первых букв названий различных этнических групп в районе Киеты). Толчком к этому послужил спор местных жителей с австралийской администрацией по поводу земель в Ророване и Араве, где намечалось строительство медных рудников. В июле 1969 г. лидеры «Напидакое навиту» обратились с призывом к населению добиваться независимости, поскольку Палата ассамблеи не стала рассматривать этот вопрос на своей сессии в ноябре 1968 г., как того требовала «группа двадцати пяти».
В 1970 и 1972 гг. руководители «Напидакое навиту» безуспешно пытались провести референдум по вопросу об отделении Бугенвиля от Папуа Новой Гвинеи. Во время посещения территории в феврале 1971 г. выездной миссией ООН лидеры движения резко критиковали политику австралийской администрации, требовали провести референдум о политическом статусе острова.
Отношение консервативного правительства Австралии к растущей политической активности на территории продолжало оставаться сдержанным. Выступая в Порт-Морсби во время своего визита в Папуа Новую Гвинею в июле 1970 г., австралийский премьер-министр Д. Гортон сказал: «Я думаю, что территория Папуа Новая Гвинея и другие острова, которые мы в настоящий момент рассматриваем как единое целое, переживают наиболее трудный этап на пути к самоуправлению, а в дальнейшем — к независимости. Политическое развитие территории достигло такой стадии, когда становится очевидной необходимость преобразований или по крайней мере существенных изменений в различных областях... Я не говорю, что самоуправление наступит в 1972 г., я вообще не называю никаких дат... Каждый, кто попытается назвать определенный месяц определенного года, опасно упростит проблему и нанесет ущерб будущему народа» [178, с. 3—4].
Австралийское правительство крайне неохотно шло на расширение прав Палаты ассамблеи и министров территории. Но события заставляли его это делать. В 1970 г. администратор территории получил официальное предписание из Канберры консультироваться с министрами территории по тем делам, которые отнесены к их компетенции. Официальным членам Исполнительного со-306
вета при администраторе было приказано не принимать участия в голосовании при рассмотрении этих дел. В том же году комитет в составе четырех выборных членов Исполнительного совета при администраторе обсуждал основные статьи будущего бюджета непосредственно с министром внешних территорий и его аппаратом. В июле 1970 г. австралийский премьер-министр Д. Гортон обещал ввести закон, в соответствии с которым Австралия не могла бы накладывать вето на законодательные акты, принимаемые высшими органами территории по делам, отнесенным к их компетенции. Но министр внешних территорий Бернс заявил, что, поскольку австралийское правительство продолжает нести «ответственность... за управление территорией, оно и впредь должно сохранить за собой формальное право для вмешательства в ее дела» [207, 1972, № 6, с. 39].
24 июня 1969 г. Палата ассамблеи создала комитет по конституционному развитию, которому было поручено подготовить и представить палате для обсуждения основные положения будущей конституции. В ноябре 1970 г. комитет выдвинул свою концепцию самоуправления территории, которая заключалась в следующем. Вопросами внешней политики и обороны, как и раньше, будет заниматься Австралия. Контроль же за деятельностью полиции и аппарата управления, за мероприятиями по обеспечению внутренней безопасности, за функционированием судебной системы, торговли, банков, гражданской авиации должны осуществлять правительства Папуа Новой Гвинеи и Австралии. Иначе говоря, ответственность за управление территорией предлагалось возложить на министров, подотчетных Палате ассамблеи, которая должна была иметь право назначать и смещать их. Предполагалось, что министры будут согласовывать свои действия с администратором территории, который станет называться губернатором или верховным комиссаром. Папуа и Новая Гвинея останутся двумя отдельными территориями. Соглашение об опеке над Новой Гвинеей также останется в силе. На территории по-прежнему будут действовать австралийские законы. Австралия не прекратит финансовую помощь территории.
Нетрудно заметить, сколь еще робкими были конституционные предложения комитета, который 4 марта 1971 г. представил палате окончательный доклад, содержавший следующие основные положения: управление Папуа и Новой Гвинеей должно осуществляться единым центральным правительством; необходимо создать 18 региональных избирательных округов для выборов Палаты ассамблеи в 1972 г.; увеличить на 13 количество «открытых» избирательных округов, что повлечет за собой увеличение числа избираемых по этим округам членов Палаты ассамблеи до 82; число назначенных членов Палаты ассамблеи не должно быть больше трех, их следует назначать для специальных целей и только в том случае, если палата сочтет это необходимым; назначенным членом может быть лицо, прожившее на территории не менее пяти лет; лицо, не прошедшее на общих выборах в палату, не может быть ее назначенным членом; в 1972 г. в палату назначить 4 специальных
20*
307
членов; Палата ассамблеи в 1972 г. должна состоять из 18 членов, избранных в 18 региональных округах, 82 членов, избранных в открытых округах, 3 членов, назначенных палатой для специальных целей, и 4 официальных членов; Исполнительный совет при администраторе на период деятельности Палаты ассамблеи, избранной в 1972 г., будет состоять из администратора, 10 министров и 3 официальных членов.
В марте 1971 г. Палата ассамблеи рассмотрела также представленные комитетом предложения о государственном флаге и гербе. Флаг черно-красный с изображением райской птицы и пяти звезд Южного Креста. Герб — райская птица. Палата ассамблеи вынесла решение обратиться к австралийскому правительству с просьбой несколько изменить официальное название территории, что и было сделано. В «Правительственной газете Папуа и Новая Гвинея» от 1 июля 1971 г. сообщалось, что с 1 июля 1971 г. территория будет называться Папуа Новая Гвинея. Администратор станет называться администратором Папуа Новой Гвинеи, а не администратором Папуа и Новой Гвинеи; палата — Палатой ассамблеи, а не Палатой ассамблеи для Папуа и Новой Гвинеи, как раньше.
Выступая в 1960 г. в Палате представителей австралийского парламента по поводу политики в отношении Папуа Новой Гвинеи, тогдашний министр внешних территорий П. Хэзлак сказал: «Огромное большинство австралийского народа и все австралийские партии придерживаются одного мнения на этот счет... различия могут возникнуть лишь в деталях» [207, 1965, № 2, с. 37].
Действительно, каких-либо серьезных разногласий по поводу проведения политики в подвластных владениях на Новой Гвинее у ведущих австралийских политических партий не было. «Могут, конечно, возникнуть обстоятельства,— говорил в 1958 г. А. Коуэлл, являвшийся тогда заместителем председателя лейбористской партии,— при которых правительство и оппозиция разойдутся во взглядах на управление территорией, но я уверен, что серьезных разногласий в этом вопросе не будет. В отношении Папуа и Новой Гвинеи парламент проводит политику обеих партий» [155, с. 122]. Заявление А. Коуэлла отражало действительное положение дел, сложившееся во второй половине 40-х — первой половине 60-х годов. Лейбористское правительство во главе с У. Чифли проводило в 40-х годах в Папуа Новой Гвинее политику, которая, в сущности,, ничем не отличалась от политики правительства либерально-аграрной коалиции во главе с Р. Мензисом, пришедшим к власти в 1949 г.
В 1958 г. А. Коуэлл говорил, что предоставление независимости Папуа Новой Гвинее возможно не ранее, чем через 30 или 40 лет. Его позиция в этом вопросе не изменилась и позднее, когда он с марта 1960 г. стал лидером лейбористской партии. В политических платформах АЛП до 1961 г. вопрос о территории вскользь упоминался лишь в разделе «Развитие и заселение Северной Австралии». В 1963 г. А. Коуэлл опубликовал обширный доклад
308
«Роль лейбористской партии в современном обществе», на 192 страницах которого не было ни строчки, посвященной Папуа Новой Гвинее. К середине 60-х годов внутри партии начали раздаваться голоса, осуждавшие политику Коуэлла. Носителем подобных настроений был прежде всего заместитель председателя партии Г. Уитлем. В начале 1965 г., выступая в Гороке на семинаре, проводимом Советом по делам Новой Гвинеи, он заявил, что Австралия вряд, ли сохранит политическую ответственность за территорию после 1970 г. А. Коуэлл должен был учесть новые веяния и хотя бы внешне изменить консервативную политику в отношении подвластных Австралии территорий, но он этого не сделал. Австралийский ученый П. Уэстервей, работавший в 60-х годах на сиднейском телевидении, посетил в 1965 г. Канберру, для того чтобы взять интервью у лейбористских парламентариев о политике их партии в отношении Папуа Новой Гвинеи. Естественно, что в первую очередь он хотел встретиться с руководителем партии, но Коуэлл уклонился от этого, а позднее прислал письменное заявление, в котором отмечалось, что, хотя Новая Гвинея не может получить независимость к 1970 г., АЛП исходит из того, что этот процесс следует формировать.
В 1965 г. на Всеавстралийской конференции лейбористской партии была уже принята целая программа в отношении Папуа Новой Гвинеи. Главной целью австралийского правительства в Папуа Новой Гвинее, говорилось в документе, должно быть предоставление ей независимости как можно быстрее и таким образом, чтобы обеспечить безопасность и экономическое развитие страны. Забота о политическом, культурном, социальном и экономическом развитии Папуа Новой Гвинеи ложится тяжелым бременем на Австралию, и потому финансовую и техническую помощь ей должны оказывать Организация Объединенных Наций и ее специализированные агентства. Для того чтобы добиться политического прогресса в Папуа Новой Гвинее, отмечалось на конференции, необходимо обеспечить участие всего населения в выборах высших и местных органов; создать представительный парламент в количестве 100 членов, избрание в который будет производиться на основе равных выборов в открытых округах; постепенно отменить право вето администратора и генерал-губернатора в отношении законов, принятых парламентом территории; развивать министерскую систему управления, возложив на нее ответственность перед парламентом.
В программе указывалось также, что следует, расширить компетенцию местных органов управления на территории, предоставить им большую свободу в области финансовой политики, увеличить число избираемых населением муниципальных советов, ввести обязательное обучение всех детей, создать системы дошкольного, школьного и университетского образования, немедленно расширить среднее образование, предоставлять стипендии для получения высшего образования. В документе подчеркивалось, что федеральное правительство обязано развивать промышленность и транспорт;
309-
запретить изъятие земель, принадлежащих коренному населению; уничтожить все формы экономической и политической дискриминации; полностью пересмотреть нормы заработной платы иностранным и местным служащим.
В начале 70-х годов лейбористская партия, возглавляемая Г. Уитлемом, выступила за немедленное предоставление самоуправления, а затем и независимости Папуа Новой Гвинее. В январе 1971 г. Г. Уитлем посетил территорию. Выступая в Порт-Морсби, он сказал: «Мы не можем согласиться с тем, что один народ управляет другими народами; мы не верим в то, что люди не хотят быть свободными... Австралийское лейбористское правительство нельзя заставить взять на себя противоестественную роль властителя над теми, кто не имел и не мог иметь голоса при его избрач нии» [204, т. 79, 1973, № 7, с. 32]. Отметив, что в различных районах территории растут сепаратистские тенденции, которые используются реакционными силами в Австралии для того, чтобы затянуть предоставление Папуа Новой Гвинее самоуправления, Г. Уитлем подчеркнул: «Папуа Новая Гвинея имеет шанс сохранить единство только при условии, что в ближайшее время получит самоуправление, которое само по себе станет реальной объединяющей силой в этой стране. Откладывать предоставление самоуправления— значит способствовать усилению сепаратизма» [224, 4.1.1971].
Во время своей поездки Г. Уитлем подчеркивал и то обстоятельство, что Австралия, продолжая удерживать территорию под своим управлением, наносит себе большой ущерб в международных делах, прежде всего в развитии связей со странами Азии. «Роль Австралии как колониальной державы вредит нам,— говорил Г. Уитлем,— даже если абстрагироваться от того факта, что мы весьма проигрываем в глазах других стран. Мы не должны забывать об этом, особенно потому, что наши соседи... были раньше колониями и поэтому ненавидят колониализм. Для них каждое обоснование, которое австралийское правительство выдвигает для того, чтобы остаться в Папуа Новой Гвинее, каждый аргумент для доказательства неспособности туземного населения самостоятельно управлять своей страной отдают расизмом» [204, т. 79, 1973, № 7, с. 32]. Касаясь вопроса о том, каким будет положение австралийцев в Папуа Новой Гвинее после предоставления ей самоуправления, Г. Уитлем сказал: «Новогвинейцы в дальнейшем сами решат, сколько австралийцев потребуется здесь и чем они будут заниматься» [224, 13.1.1971].
В политической платформе лейбористской партии, принятой в августе 1971 г., категорически заявлялось: «Лейбористская партия сразу же после прихода к власти гарантирует надлежащую передачу Папуа Новой Гвинее прав самоуправления» [23, с. 41].
В ноябре 1972 г. в результате всеобщих парламентских выборов лейбористская партия пришла к власти. Наступила пора выполнять обязательства в отношении Папуа Новой Гвинеи, данные в предвыборный период и записанные в политической платформе 310
лейбористской партии. В речи на открытии летнего семинара Австралийского института политических наук в Канберре 27 января 1973 г. Г. Уитлем подчеркнул, что Папуа Новая Гвинея, став независимым государством, может рассчитывать на широкую экономическую помощь со стороны Австралии.
В феврале 1973 г. Г. Уитлем посетил Папуа Новую Гвинею. Решение о предоставлении независимости касается не только Папуа Новой Гвинеи, сказал премьер-министр на обеде в Порт-Морсби 18 февраля 1973 г., но и Австралии, которая не хочет больше владеть колонией. Г. Уитлем выдвинул три основные задачи, которые должна была решить Австралия в отношении Папуа Новой Гвинеи: 1) определить дату предоставления самоуправления и независимости; 2) заявить о том, что экономическая помощь будет оказываться и после предоставления независимости; 3) осуществить передачу власти над объединенной Папуа Новой Гвинеей центральному правительству и Палате ассамблеи.
Г. Уитлем сказал, что дата предоставления самоуправления и независимости должна быть определена с учетом мнения по этому вопросу Палаты ассамблеи. Обращаясь к М. Сомаре, Г. Уитлем заверил, что обещания, данные лейбористами народу Папуа Новой Гвинеи, остаются в силе. Австралийское правительство, продолжал он, решило дать правительству Папуа Новой Гвинеи гарантию относительно предоставления помощи и после выполнения трехлетней программы развития.
Г. Уитлем заявил, что политика его правительства, так же как и политика предшествующего правительства, заключается в передаче власти национальному и представительному правительству, свободно избранному всем народом Папуа Новой Гвинеи и выражающему интересы большинства народа. Отношения между двумя нашими странами, сказал далее Г. Уитлем, будут осуществляться через национальное правительство в Канберре и центральное правительство Папуа Новой Гвинеи. Австралийская помощь будет распределяться только через центральное правительство.
Настойчивое стремление лейбористского правительства форсировать предоставление Папуа Новой Гвинее самоуправления и независимости встречало известное сопротивление внутри Австралии. В конце 1972 — начале 1973 г. большинство газет помещало статьи, в которых выражалось отрицательное отношение к немедленному предоставлению самоуправления и независимости Папуа Новой Гвинее. Сообщения о декабрьских волнениях в горных районах Новой Гвинеи газеты пытались использовать в качестве аргумента против политики лейбористского правительства.
Так, корреспондент мельбурнской газеты «Эйдж» Я. Хикс систематически рассказывал о вспышках межплеменной вражды, неподчинении властям, кровавых столкновениях, насилиях. В номере от 18 декабря 1972 г. он писал: «Хрупкое здание законности, навязанной австралийцами, рухнуло, и горные кланы охвачены межплеменной войной. Полиция вынуждена регулярно патрулировать деревни, конфисковывать оружие, сжигать изготавливаемые в боль-
311
шом количестве луки и стрелы» [214, 18.ХП.1972]. Стычки между кланами, накопление запасов оружия Я. Хикс объяснял страхом населения перед приближающейся независимостью, а также «вакуумом законности», который возник в результате падения престижа белого патрульного офицера. Раньше его слово было законом. Теперь, сообщал Хикс, горцы не пугаются даже предупредительных выстрелов и спасаться бегством приходится представителям администрации. Правительство Папуа Новой Гвинеи, по утверждению корреспондента, вынуждено посылать в горные районы для наведения порядка специальные полицейские части, а это не только дорого, но и наносит большой ущерб престижу правительства. Единственный выход, по мнению Хикса, назначить деревенских констеблей, которые бы своевременно предотвращали кровопролитие, и учредить деревенские суды, предоставив им возможность вершить правосудие по законам племени. Иначе говоря, Я. Хикс предлагал использовать традиционные институты.
Многие австралийские газеты упрекали Г. Уитлема в том, что он требует предоставления самоуправления и независимости Папуа Новой Гвинее вопреки желанию ее народа, предрекали неминуемую катастрофу в случае осуществления политики лейбористского правительства в отношении территории. Австралийское правительство хочет как можно быстрее избавиться от «стереотипной роли» колонизатора и установить новые взаимоотношения с миром, в особенности с Азией, писала «Канберра тайме». «Уитлем и Сомаре должны поразмыслить над тем, чем рискует Австралия, если они будут настаивать на преждевременной независимости. Папуа Новой Гвинее следует позволить самой определить темп своего движения, без подстегивания со стороны» [217, 18.1.1973].
Возражения против предоставления Папуа Новой Гвинее независимости высказал и глава оппозиционной Объединенной партии Папуа Новой Гвинеи М. Толиман. Встретившись в начале января 1971 г. в Канберре с Г. Уитлемом, он убеждал австралийского премьер-министра не предоставлять независимость территории. При этом он заявил, что правительство Папуа Новой Гвинеи, по-видимому, готово получить независимость, произвольно и односторонне навязанную Австралией, но отвечать перед ООН за возможные последствия придется Австралии. После встречи М. То-лимана с Г. Уитлемом газета «Сидней морнинг геральд» писала: «Было бы неразумным сбросить со счетов опасения, разделяемые большинством новогвинейцев по поводу преждевременного получения независимости» [228, 10.1.1973]. Ей вторила «Уэст Острэйли-ен». Преждевременная независимость, отмечалось в газете, могла бы иметь катастрофические последствия. Австралия не должна... бросать на произвол судьбы Папуа Новую Гвинею до тех пор, пока та не обретет равновесия и устойчивости, необходимых, чтобы справиться с проблемами, рожденными национальной независимостью.
Часть газет поддерживала Г. Уитлема и выступала за предоставление Папуа Новой Гвинее самоуправления и независимости в 312
сроки, назначенные лейбористским правительством. «Срочное предоставление независимости, — указывалось в газете „Острэйлн-ен“,— окажется самым эффективным средством против сепаратистских тенденций». Сейчас главная опасность — распространение сепаратистских устремлений, готовых обернуться резней. Движение на островах Новая Британия и Бугенвиль возникло в последние годы австралийского правления, и сохранением остатков австралийского контроля над территорией горю не поможешь. «Папуа Новая Гвинея, по сути дела, искусственное порождение колониализма, и понадобятся огромные усилия, чтобы добиться в ней национального единства. В конце концов нет гарантии, что Папуа Новая Гвинея не расколется на ряд слабо связанных между собой объединений, основанных на племенной или географической общностях. Но это уже проблема, которую могут решить только папуасы и новогвинейцы» [215, 10.1.1972].
Несмотря на острые дебаты, австралийское правительство твердо определило дату предоставления Папуа Новой Гвинее самоуправления— 1 декабря 1973 г.— и независимости — ориентировочно через год. Обоснование позиции правительства дал министр внешних территорий У. Моррисон, выступивший 2 апреля 1973 г. в Мельбурне в Австралийском институте международных отношений. Лейбористскую партию обвиняют, сказал он, в стремлении навязать самоуправление и независимость Папуа Новой Гвинее вопреки желанию ее народа. Я не отрицаю, что лейбористская партия является инициатором, и не собираюсь извиняться за инициативу, которую мы проявили. Наша позиция легкообъяснима с точки зрения философских основ политики лейбористской партии. Как партия социальной демократии, АЛП исходит из того, что один человек не может повелевать другим и, следовательно, одна страна не может господствовать над другой. Теперь общепризнано, что колонии должны иметь право на самоуправление и независимость, но равным образом нельзя принуждать колониальную державу управлять своими колониями, хотя последнее, по общему мнению, не совсем обычно. Короче говоря, мы имеем право сказать, что не хотим быть властителями и никто не может заставить нас делать это против нашей воли. С идеологической точки зрения роль колониального хозяина чужда лейбористской партии. С прагматической точки зрения нам бы не хотелось повторять печальные уроки истории. Для тех из нас, кто знакомился с борьбой за независимость в других частях мира, ясно, что Папуа Новой Гвинее необходимо объединение, но оно не должно быть направлено против Австралии как общего врага.
Отвечая на критику политики правительства, У. Моррисон сказал, что аргументы о неспособности Папуа Новой Гвинеи управлять собой пропитаны духом расового превосходства. Далее министр внешних территорий дал определение понятия «самоуправление» и высказал взгляды правительства на сущность переходного периода от самоуправления к независимости, на характер отношений Австралии с будущим независимым государством Папуа Новая
313
Гвинея. Наиболее сложным периодом, подчеркнул У. Моррисон, является переход к самоуправлению, ибо именно в это время должна быть проделана вся работа по подготовке страны к независимому существованию. Австралия, отметил он, намерена во всевозрастающей степени привлекать правительство Папуа Новой Гвинеи к участию в государственной деятельности. В этом смысле сам акт предоставления самоуправления явится в значительной мере заключительным шагом длительного процесса, но отнюдь не внезапным прыжком из одного статуса в другой. Самоуправляющаяся Папуа Новая Гвинея будет осуществлять большинство функций независимого государства. Разница между самоуправлением и независимостью для Папуа Новой Гвинеи практически окажется небольшой. Ни в период самоуправления, ни после получения независимости правительство Папуа Новой Гвинеи не будет брошено Австралией на произвол судьбы. Подобные опасения беспочвенны. Австралийское правительство не намерено оставлять Папуа Новую Гвинею изолированной и лишенной помощи. По условиям соглашения об опеке Австралия будет отвечать за соблюдение законности, порядка и за доброе управление Папуа Новой Гвинеей до предоставления ей независимости. Австралийское правительство считает, подчеркнул У. Моррисон в заключение, что между предоставлением самоуправления и предоставлением независимости не должно быть длительного интервала.
В начале августа 1973 г. министр внешних территорий посетил Папуа Новую Гвинею. Он побывал в горных районах, встречался с М. Сомаре, членами Палаты ассамблеи. Выступая 6 августа в Порт-Морсби, он вновь подчеркнул, что правительство Папуа Новой Гвинеи должно уже сейчас взять на себя ответственность за управление страной. Передача 1 декабря прав самоуправления будет лишь формальным признанием существующего положения.
Вернувшись к Канберру, У. Моррисон представил 23 августа на рассмотрение федерального парламента 4 законопроекта, касающихся передачи Папуа Новой Гвинеи прав самоуправления. 29 ноября 1973 г. австралийский парламент утвердил эти законопроекты и принял резолюцию, в которой говорилось, что парламент шлет Палате ассамблеи Папуа Новой Гвинеи свои поздравления и теплые пожелания по случаю получения Папуа Новой Гвинеей самоуправления. У. Моррисон, выступив тогда в парламенте, заявил, что это его последнее появление на заседании в качестве министра внешних территорий. Действительно, на следующий день, 30 ноября, министерство внешних территорий было ликвидировано. У. Моррисон получил новый государственный пост — министра, помогающего министру иностранных дел по делам Папуа Новой Гвинеи.
1 декабря 1973 г. Папуа Новая Гвинея стала самоуправляющейся. В соответствии с ранее принятыми законоположениями в Папуа Новую Гвинею вместо администратора территории был назначен верховный комиссар — Т. Критчли, до этого занимавший пост австралийского посла в Таиланде. В заявлении министерства 314
иностранных дел говорилось, что Т. Критчли будет высшим представителем австралийского правительства и главой австралийской администрации в Папуа Новой Гвинее, а также станет выполнять определенные официальные функции, согласовывая свои действия с исполнительной властью Папуа Новой Гвинеи.
Министерство внешней торговли направило в Папуа Новую Гвинею своего специального представителя В. Брауна, перед которым была поставлена задача способствовать расширению австралийского экспорта в Папуа Новую Гвинею.
Лейбористское правительство, настойчиво проводя свою политическую линию в отношении Папуа Новой Гвинеи, уже в начале марта 1974 г. объявило о намерении предоставить Папуа Новой Гвинее независимость 1 декабря 1974 г. Обосновывая решение правительства, У. Моррисон в своем выступлении в парламенте 14 марта 1974 г. отметил, что опыт первых месяцев самоуправления Папуа Новой Гвинеи дает основание считать указанную дату предоставления ей независимости вполне реальной. Результаты впечатляющи, говорил министр, растет признание международного статуса Папуа Новой Гвинеи; в Порт-Морсби открылись консульские представительства ряда иностранных держав, Папуа Новая Гвинея как независимое государство участвует в международных конференциях, является членом международных организаций, ведет дипломатические переговоры с иностранными государствами. Вместе с тем, отвечая на возможную критику действий австралийского правительства, У. Моррисон заявил, что австралийское правительство сделает все необходимое, чтобы последние шаги к независимости Папуа Новой Гвинеи были сделаны спокойно и уверенно.
Политическое развитие в Папуа Новой Гвинее в 1972—1974 гг. шло быстро, но вовсе не просто и не гладко. Сепаратистские выступления не только не прекратились, но стали еще более интенсивными. В апреле 1973 г. возникло движение «Папуа бесена», возглавляемое депутатом Палаты ассамблеи Жозефиной Абиджа. Цель движения — образование самостоятельного государства Папуа. Аргументировалось это тем, что Папуа гораздо богаче Новой Гвинеи. Обладая такой же территорией, что и Новая Гвинея, Папуа имеет население в 2—3 раза меньше, следовательно, на каждого жителя Папуа приходится в 2—3 раза земли больше, чем на каждого жителя Новой Гвинеи. Папуа потенциально является одной из самых богатых стран Океании, имеющей огромные запасы полезных ископаемых, водные ресурсы, большие земельные площади, дающие возможность вести многоотраслевое сельское хозяйство. Культурный уровень папуасов выше, чем новогвинейцев. Австралия, говорилось в заявлении «Папуа бесена», может уйти из Папуа, но она не может заставить Папуа оставаться в союзе с другой страной против желания и воли огромного большинства ее народа.
В поддержку «Папуа бесена» выступили организованные в октябре 1973 г. Папуасский демократический союз и Группа па
315
пуасской черной власти. В 1974 г. «Папуа бесена» получило поддержку Ассоциации землевладельцев Немей.
Правительство Папуа Новой Гвинеи заняло решительную позицию в отношении «Папуа бесена». Выступая в Канберре в сентябре 1973 г., М. Сомаре сказал: «Мое правительство считает, что Папуа должна остаться частью единой страны... Концепция мисс Абиджа об отделении Папуа — ее неосуществимая мечта, которая и бессмысленна и беспочвенна. Папуа является порождением колониализма. Ее условная граница, проведенная на карте белыми колонизаторами в XIX столетии, отделила южную часть острова, названную Папуа и переданную Британии, от северной части — Новой Гвинеи, переданной Германии. Чем отличается Папуа от остальной страны? Может быть, этнически? Нет. Австралийский антрополог указал, что не существует разницы между папуасами и новогвинейцами. Может быть, в культурном отношении? Нет. Из 700 тыс. папуасов 200 тыс. живут в Южном Нагорье, и они весьма близки к другим горцам. Может быть, существуют языковые различия? Нет. На моту, языке большинства местных племен Центрального района, говорят лишь немногие. Хири моту, адаптированный моту, распространен более широко, но даже на нем говорит лишь небольшая часть папуасов... Руководители ,,Папуа бесена“ заявляют, что движение поддерживают 80% населения Папуа. Я берусь доказать, что это глупость. Они заявляют, что хотят отделения, потому что только оно позволит Папуа развиваться. Это неправда, ресурсы Папуа не имеют пока экономической ценности, поэтому независимая Папуа не сможет существовать без помощи извне. Это заявление ложно еще и потому, что мое правительство главное внимание уделяет развитию отсталых районов. Мы очень заинтересованы в субсидировании программы развития сельского хозяйства. Сейчас ведутся переговоры о таких огромных проектах, как сооружение гидроэнергетического комплекса на реке Пурари и разработка месторождения меди в районе реки Ок-Теди... Мое правительство готово дать автономию папуасам, если они этого пожелают. Однако мисс Абиджа заявила, что ее требование об отделении не подлежит обсуждению. ,,Папуа бесена“ не спрашивает нас о каких-либо формах автономии, не ищет конкретных путей для развития народа Папуа, а только требует отделения» [44, с. 36—38].
4 декабря 1974 г. совместная делегация «Папуа бесена» и «Папуа экшн», возглавляемая Ж. Абиджа, посетила австралийского верховного комиссара в Папуа Новой Гвинее и вручила ему петицию правительству Австралии, в которой содержалась просьба поддержать борьбу этих организаций за создание независимого государства Папуа. Делегаты просили австралийское правительство финансировать визит в Канберру 20 представителей сепаратистского движения для разъяснения австралийскому правительству своей позиции, а также посещение различных городов Австралии большой делегацией для ознакомления общественности страны с целями движения.
316
Критчли ответил, что цели сепаратистского движения идут вразрез с политикой Австралии в отношении Папуа Новой Гвинеи, что австралийское правительство выступает за независимую Папуа Новую Гвинею как единое государство, но обещал передать петицию правительству Австралии. Следует отметить, что «Папуа экшн» впервые объединилась с «Папуа бесена» в требовании предоставить полную независимость. До этого она выступала лишь за автономию Папуа в рамках единого государства Папуа Новая Гвинея.
Сепаратистские движения существуют на острове Бугенвиль, в горных районах Новой Гвинеи, на полуострове Газель в Новой Британии. В Бугенвиле сепаратистские тенденции проявились после открытия месторождений меди на острове. Перспектива получения огромных доходов, которые в случае отделения острова от Папуа Новой Гвинеи целиком перешли бы в руки местного правительства, казалась очень заманчивой. Вместе с тем нельзя не отметить справедливость требований бугенвильских деятелей о повышении доли новогвинейцев в доходах, получаемых компанией «Бугенвиль коп-пер лимитед», об установлении контроля правительства Папуа Новой Гвинеи над деятельностью этой компании и вообще над иностранным капиталом в стране.
М. Сомаре положительно отреагировал на эти требования и распорядился создать комитет экспертов, перед которым была поставлена задача выработать проект нового соглашения с компанией. В октябре 1974 г., после многомесячных переговоров, правительство Папуа Новой Гвинеи подписало с компанией новое соглашение, которое предусматривало введение налога на доходы компании не с 1978 или 1979 г., как было установлено раньше, а с 1 января 1974 г.; отмену уменьшения размера облагаемого налогом дохода на 20% (т. е. на ту часть, которая идет Папуа Новой Гвинее; теперь налог берется со всей суммы дохода, получаемой компанией) ; уплату компанией таможенных сборов за импортируемые товары, налогов на регистрируемые машины, почтовых сборов и т. д. В результате этого правительство Папуа Новой Гвинеи в 1974 г. получило дополнительно 55 млн. австрал. долл. Ожидается, что в следующие 10 лет страна дополнительно получит 200— 500 млн. австрал. долл.
Однако бугенвильцы на этом не успокоились. 12 ноября 1974 г. они потребовали, чтобы правительство Папуа Новой Гвинеи провело на острове 16 ноября специальное заседание, посвященное вопросам более широкого участия властей острова в контроле над деятельностью «Бугенвиль коппер лимитед» и ассигнованиям больших средств на местные нужды из сумм, получаемых правительством от экспорта меди [224, 13.XI.1974]. М. Сомаре отв-етил принципиальным согласием, но просил бугенвильские власти еще раз обдумать свою позицию. Глава провинциального правительства Л. Хэннет заявил, что бугенвильцы отвергают предложение М. Сомаре: «Мы чувствуем, что не нуждаемся в каких-либо дополнительных умозаключениях» [224, 14.XI.1974]. Переговоры были сор
317
ваны. В начале декабря 1974 г. бугенвильские власти потребовали^ чтобы уже все доходы от экспорта меди передавались непосредственно в их распоряжение. «В противном случае,— заявил Л. Хэн-нет,— будет полностью прекращено снабжение медных рудников водой из реки Яба, а если и эта мера не поможет, то сами рудники будут разрушены» [224, 8.XII.1974]. Правительство послало в Бугенвиль министра горной промышленности П. Лапуна для выяснения обстановки на месте. Но достигнуть тогда договоренности не удалось.
Внутриполитическая борьба в Папуа Новой Гвинее ярко проявилась в ходе обсуждения проекта конституции страны. Упоминавшийся выше Комитет конституционного развития в течение двух лет готовил проект системы конституционного устройства Папуа Новой Гвинеи и наконец в июле 1974 г. передал его на рассмотрение Палаты ассамблеи.
Одновременно палате был представлен проект так называемого меньшинства, подготовленный М. Сомаре и его заместителем Д. Гизом, которые по должности являлись членами комитета, а М. Сомаре — даже его председателем, но фактически работой руководил заместитель председателя комитета Дж. Момис (с острова Бугенвиль). Активное участие в работе комитета принимал министр юстиции Д. Капутин (с полуострова Газель). Понятно, что проект, представленный комитетом, отражал интересы сепаратистов.
Кроме этих двух проектов в Палату ассамблеи был направлен и третий проект, подготовленный оппозиционной Объединенной партией.
Обсуждение проектов конституции было весьма бурным. М. Сомаре отрицательно отнесся к ряду положений, разработанных комитетом. Д. Капутин, в свою очередь, ожесточенно нападал на правительственный проект. Дело дошло до того, что М. Сомаре заявил об увольнении Капутина с поста министра юстиции. Однако последний отказался покинуть его. Сомаре настаивал. Капутин не уступал. Сторонники Д. Капутина угрожали Сомаре убийством. Но глава правительства оставил свое решение в силе.
Проект конституции, представленный комитетом, состоял из, 15 статей. Споры шли почти по каждой из них. Так, правительство возражало против содержавшегося в ст. 2 положения о включении в конституцию законодательства, регулирующего объем капиталовложений. Правительство не соглашалось также с расширенным толкованием понятия «руководство», содержащимся в ст. 3. В соответствии с проектом комитета в руководство должны входить глава государства, премьер-министр и все члены правительства, члены парламента и члены провинциальной администрации, послы и высшие дипломатические чиновники, главы департаментов и ведомств, начальник полиции и главнокомандующий вооруженными силами, старшие чиновники министерства, а также ответственные партийные работники.
Ожесточенные дебаты разгорелись вокруг ст. 4, в которой го
318
ворилось, что гражданство автоматически получают лица, у которых бабушки и дедушки принадлежали к коренному населению. Правительство же предлагало, чтобы автоматически гражданство давалось лицам, у которых бабушки и дедушки родились в Папуа Новой Гвинее, но не обязательно принадлежали к коренному населению. Благодаря этой поправке гражданство могла иметь весьма значительная категория лиц смешанной крови. В статье также указывалось, что гражданство путем натурализации могут получать лица, проживающие в Папуа Новой Гвинее 8 лет и более, но при этом предусматривалась довольно сложная процедура. Правительство соглашалось с выдвинутым принципом натурализации, но выступало против усложнения ее процедуры.
Очень серьезные разногласия возникли по поводу ст. 7 об исполнительной власти. В ней отвергалась идея о главе государства и предлагалось создание Национального исполнительного комитета в составе премьер-министра, который будет «лидером группы министров — первым среди равных», а также всех министров. В статье говорилось, что существующее правительство должно сложить свои полномочия после вступления в силу новой конституции. Правительство настаивало на учреждении поста главы государства, избираемого абсолютным большинством парламента на 6 лет. Правительство предлагало и создание Национального исполнительного комитета в составе не менее 15 человек, назначаемых главой государства, по рекомендации премьер-министра. Правительство также считало, что для страны будет лучше, если в переходный период оно останется, а не уйдет в отставку автоматически, после введения новой конституции.
Много споров было по поводу ст. 10 о провинциальном управлении. В статье говорилось о необходимости предоставить большую власть провинциальным правительствам, создать ассамблеи (местные исполнительные органы), а также о том, что премьеры провинциальных правительств должны входить в состав совета премьеров при премьер-министре страны (совет следует собирать не реже одного раза в год). Правительство же настаивало на ограничении прав местных органов управления, на создании централизованного государства. «Тип почти феодальной системы,— говорилось в конституционном проекте, подготовленном правительством,— породит много правовых и административных проблем» [35, с. 35].
Несмотря на разногласия и споры, правительству удалось к концу декабря 1974 г. добиться поддержки (иногда, правда, незначительным большинством голосов) Палатой ассамблеи своего проекта конституции. Но это еще не означало окончания конституционных дебатов. В начале 1975 г. обсуждение конституции продолжилось, но теперь уже не трех, а одного документа.
Таким образом, оппозиционным силам удалось оттянуть предоставление стране независимости. Идя на компромисс, правительство согласилось с требованием оппозиции провозгласить независимость только после принятия Палатой ассамблеи окончательного текста конституции. Выступая в Порт-Морсби в начале декабря
319
1974 г., М. Сомаре заявил, что независимость страны будет объявлена 19 апреля 1975 г., в день трехлетней годовщины со дня прихода к власти коалиционного правительства Папуа Новой Гвинеи.
С приближением срока предоставления независимости Папуа Новой Гвинее все острее становилась проблема выбора путей экономического развития. Первый пятилетний план, принятый правительством в 1968 г., ускорил темпы развития современной промышленности в Папуа Новой Гвинее. Совокупный общественный продукт в секторе товарного производства в период между 1968/ 69—1969/70 гг. увеличился на 20,5%, а в период между 1969/70 и 1970/71 гг.— на 22,6%. Но это происходило главным образом за счет строительства медных рудников на острове Бугенвиль. С окончанием строительства темпы общего развития экономики страны сразу замедлились.
2 марта 1973 г. М. Сомаре сделал заявление о будущем экономическом строительстве в стране. Прежде всего он остановился на значении перспективного экономического планирования: «Как только мы разработаем наш экономический план, Папуа Новая Гвинея вступит в период быстрых экономических перемен. Этот план определит нашу жизнь на годы вперед» [43, с. 21]. М. Сомаре определил основные задачи плана развития страны: «Во-первых, мы хотим улучшить жизнь народа Папуа Новой Гвинеи... Во-вторых— встать на собственные ноги... Конечно, мы примем помощь от богатых наций. Было бы глупо не принять помощь, а Папуа Новая Гвинея не глупа. Но мы постараемся сделать все, чтобы не попасть в зависимость от какой-либо страны или от какой-либо отдельной компании, ибо это повлечет за собой необходимость проводить политику в интересах этой страны или компании вопреки нашим собственным интересам. В сложном современном мире нет ни одной совершенно независимой страны. Но мы хотим, насколько это возможно, стоять на собственных ногах. В-третьих, мы сами должны выбрать свое будущее. Есть много хорошего в развитой экономике Австралии, Японии и других стран. Но мы не будем имитировать каждую деталь. Мы постараемся использовать некоторые аспекты нашей традиционной культуры, но это не значит, что мы отвергнем все идеи извне. Нам необходима свобода выбора. И, завоевав эту свободу, мы должны создать сильную экономику» [43, с. 21—22].
Характеризуя экономическое положение страны, М. Сомаре указал на наличие как бы «двойной экономики»: с одной стороны, современной промышленности, в которой заправляют крупные компании типа «Бугенвиль коппер лимитед», с другой — натурального хозяйства, в котором занято подавляющее большинство населения. Довольно большая группа населения находится в основном на самообеспечении, но производит и товарный продукт, чтобы заработать деньги на уплату налогов, школьное образование, для покупки промышленных товаров.
«Самые значительные успехи,— продолжал М. Сомаре,— до
320
стигнуты в секторе современной экономики; большинство же деревенских жителей получало мало преимуществ от экономического роста. Это не критика прошлого экономического планирования, которое основывалось на идеях, широко распространенных по всему миру во время подготовки нашей пятилетней программы развития... При составлении новой программы мы должны исходить из того, что большой бизнес в больших городах не является единственным источником роста благосостояния. В то же время нужно помнить, что доходы от налогов, взимаемых с современных промышленных предприятий, необходимы для финансирования развития сельских районов. Как бы быстро ни росли крупные промышленные предприятия, они никогда не смогут дать работу каждому мужчине и каждой женщине, которые хотят работать. Но даже если это произойдет, разве мы захотим утратить наш традиционный образ жизни и стать страной больших городов? Во всех семистах языках нашей страны нет слов, выражающих такие понятия, как „загрязнение воздуха", „трущобы", „безработица". Разве мы хотим жить в стране, которая нуждалась бы в этих терминах? Мы жители не городов, а гор, полей и моря, и такими останемся. Мы и впредь будем расширять возможности для капиталовложений и содействовать развитию промышленности в интересах нашего народа. Но мы должны также... работать над улучшением положения сельских районов, ведь там живут девять из каждого десятка жителей Папуа Новой Гвинеи. Нужно создать дополнительные возможности заработать деньги, которые нужны людям на жизнь. Но мы не станем разрушать наш традиционный уклад жизни больше, чем это необходимо. Определение новых целей ни в коей мере не означает, что Папуа Новая Гвинея отказывается от иностранных капиталовложений или от помощи других государств. Мы нуждаемся в иностранных капиталовложениях для дальнейшего роста сектора современной экономики и приветствуем те виды капиталовложений, которые отвечают нашим целям» [43, с. 23—24].
Выработка политики в отношении иностранных капиталовложений стала вопросом первостепенной важности для правительства Папуа Новой Гвинеи. Иностранные капиталистические предприятия с большим интересом относятся к экономическому потенциалу этой страны. На территории Папуа Новой Гвинеи в 1973 г. действовало 650 иностранных инвеститоров. Особую экономическую активность проявляла Япония. В 1972 г. в Японию направлялось около 17% экспорта Папуа Новой Гвинеи, и она как импортер заняла второе место после Австралии. Япония, в свою очередь, поставляла около 20% импортируемых Папуа Новой Гвинеей товаров [34, 1974, № 60, с. 1078—1079]. До 1965 г. Папуа Новая Гвинея была закрыта для японцев. Сейчас же они частые гости в этой стране. Японские компании, особенно «Мицуи» и «Мицубиси», проявляют большой интерес к медным разработкам на острове Бугенвиль, они намерены закупать основную массу руды и концентратов. Компании «Ниттецу майнинг», «Ниппон майнинг» и «Миняр майнинг» участвуют в создании электростанции на реке Пурари. Электро
21 Заказ 91
321
энергию этой станции предполагается использовать для выплавки алюминия из австралийских бокситов для Японии. Японские компании «Хонсю пепер», «Номура секьюритис», «Дай-ити кангё» и «Мицуи» являются основными с японской стороны держателями акций в смешанном предприятии «Джапэн Нью Гуини тимбер», ведущем лесоразработки в районе Маданга. Компании «Соби адати» и «Тонан трейдинг» участвуют в лесоразработках на острове Новая Британия. «Мицубиси» проявляет интерес к строительству отелей. Японские компании «Кангай гёгё», «Кёкуё фишерис», «Ниппон свис-сан», «Хокоху марине» и «С. ито» сотрудничают с двумя австралийскими компаниями, «Карпентер» и «Голлиан энд компани», в ловле тунцов в водах северной части Новой Гвинеи. Как сообщалось в американском журнале «ЮС ньюс энд уорлд рипорт» в номере от 3 декабря 1973 г., один из высокопоставленных австралийских банковских служащих сказал: «Я советую всем банкирам, с которыми мне приходится встречаться, ехать в Новую Гвинею и знакомиться с возможностями горного дела, животноводства, лесного хозяйства и добычи нефти. Это — страна с будущим» [229, З.ХП.1973].
Подобные рекомендации находили отклик. Так, 15 июля 1973 г. международный синдикат, возглавляемый западногерманским «Дойче банк», предоставил Папуа Новой Гвинее заем в размере 50 млн. марок.
Выступая в Австралии 14 марта 1974 г., М. Сомаре сказал, что Новая Гвинея нуждается в получении иностранных капиталов, в приобретении технических и коммерческих знаний. В таких отраслях, как горнодобывающая, нефтяная, газовая, в стране еще мало специалистов, и правительство Папуа Новой Гвинеи будет обращаться к иностранным компаниям с просьбой подготовить кадры для местной промышленности. Вместе с тем М. Сомаре подчеркнул, что его правительство намерено следить за использованием ресурсов, а также за тем, чтобы не образовывалось привилегированной прослойки новогвинейцев. Для того чтобы доходы шли всему народу, будет увеличено налогообложение компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых, возрастет также доля участия правительства в иностранных корпорациях, ведущих добычу природных ресурсов. М. Сомаре сказал, что предполагается создать Национальное бюро по инвестициям и развитию, его задача — следить за тем, чтобы иностранный капитал привлекался только в те отрасли, которые не могут быть развиты самими новогвинейцами, например, в горнодобывающую, нефтяную, газовую. В таких отраслях, как дорожное строительство, сельское хозяйство, доля иностранного капитала будет сокращаться.
Правительство Папуа Новой Гвинеи неоднократно подчеркивало, что в своей политике оно намерено руководствоваться прежде всего интересами собственного народа. «Каждый, кто хочет жить в Новой Гвинее или сделать Новую Гвинею своей родиной,— говорил М. Сомаре,— должен изменить свое отношение к коренным жителям этой страны» [204, т. 81, 1973, № 26, с. 20].
27 ноября 1973 г. М. Сомаре представил на рассмотрение Па
322
латы ассамблеи предложение о создании Администрации по национальным капиталовложениям и развитию (НИДА), в компетенцию которой бы входило: регистрация всех существующих и новых иностранных предприятий в Папуа Новой Гвинее; рекомендации о создании государственных корпораций с целью ускорения промышленного развития; сотрудничество с Центральным бюро планирования по всем аспектам инвестиционного планирования; рекомендации правительству о путях и методах капиталовложений и т. д. [44, с. 51]. Палата поддержала предложение М. Сомаре, и Администрация по национальным капиталовложениям и развитию была создана.
Еще ранее правительство разработало так называемый план из восьми пунктов, который Палата ассамблеи одобрила в декабре 1972 г. Этот план, призванный определить стратегию экономического развития страны, содержал следующие положения:
1) быстрое и пропорциональное развитие экономики в соответствии с интересами народа Папуа Новой Гвинеи;
2) более равномерное распределение экономических благ, с тем чтобы в будущем выравнять доходы населения ш уровень развития различных районов страны;
3) децентрализация экономической активности, планирования и правительственных ассигнований, преимущественное развитие сельского хозяйства, внутренней торговли;
4) поощрение развития местной деловой активности;
5) дальнейшее развитие экономики, менее зависимой от иностранного капитала и лучше удовлетворяющей нужды народа;
6) увеличение доходов, поступающих «из местных источников;
7) вовлечение женщин в экономическую и общественную деятельность;
8) правительственный контроль над теми секторами экономики, где такой контроль необходим для достижения желаемого уровня развития [17, с. 70].
На основе плана из восьми пунктов был'разработан улучшенный план на 1972—1974 гг.
Несмотря на то что внешней политикой самоуправляющейся Папуа Новой Гвинеи занималась Австралия, с 1973—1974 гг. правительство М. Сомаре стало проявлять внешнеполитическую и внешнеэкономическую активность. В Порт-Морсби были открыты генеральные консульства Великобритании, Новой Зеландии, Соединенных Штатов Америки, Индонезии. Папуа Новая Гвинея стала членом Южнотихоокеанского форума и организации «План Коломбо». М. Сомаре совершил целый ряд заграничных поездок, вел переговоры с премьер-министром Японии Танакой, активно участвовал в работе Южнотихоокеанского форума и т. д.
Правительстве Папуа Новой Гвинеи большое внимание уделяло развитию отношений со своим соседом — Индонезией. В начале 1973 г. М. Сомаре посетил Джакарту, а вслед за этим последовало подписание соглашения по пограничным вопросам. В декабре 1973 г. министр иностранных дел Индонезии А. Малик находил-
21*
323
ся в Папуа Новой Гвинее. Приветствуя его визит, министр обороны, иностранных дел и торговли Папуа Новой Гвинеи А. Кики подчеркнул необходимость установления и развития тесного сотрудничества между двумя странами.
2 октября 1974 г. А. Кики открыл в Джакарте генеральное консульство Папуа Новой Гвинеи (первое представительство страны за границей, не считая консульства в Австралии).
Тем не менее правительство Папуа Новой Гвинеи подчеркивало, что придает первостепенное значение отношениям со странами Океании. Комментируя предложение А. Малика о создании новой группировки, куда вошли бы Австралия, Новая Зеландия, Индонезия и Папуа Новая Гвинея, А. Кики заявил, что, хотя Папуа Новая Гвинея рассматривает себя в качестве «моста» между Юго-Восточной Азией и Тихим океаном, она будет по-прежнему ставить на первое место отношения с государствами и островными народами в Тихом океане, с которыми народ Папуа Новой Гвинеи имеет культурное родство.
Выступая в марте 1974 г. на Раротонге (острова Кука) с приветствием в адрес Южнотихоокеанского форума, М. Сомаре сказал: «Я хочу заверить вас в том, что мы чувствуем свои теснейшие этнические и культурные связи с островными народами южной части Тихого океана и потому придаем первостепенное значение установлению международных отношений именно с этими народами. Папуа Новая Гвинея географически находится западнее других участников форума, и я надеюсь, что народы тихоокеанских островов и их лидеры поймут, что для нас очень важно развивать хорошие отношения с нашими соседями на западе. Однако я еще раз хочу повторить, что наше основное внимание всегда будет направлено на улучшение добрососедских отношений с народами, представленными сегодня на форуме» [224, 22.III.1974].
Если пограничный вопрос с Индонезией был разрешен быстро, то пограничные споры с северным штатом Австралии Квинслендом, с которым Папуа Новая Гвинея граничит на юге, затянулись. Нынешняя граница была установлена еще в прошлом веке. Квинсленд получил острова и водное пространство, включая Торресов пролив и Большой Барьерный риф. Таким образом, этот австралийский штат завладел островами, населенными частично папуасами и расположенными лишь в сотне метров от берегов Папуа. После предоставления Папуа Новой Гвинее независимости ей по-прежнему не принадлежала бы та часть суши и морской территории, на которую она имела право. Кроме того, Торресов пролив получил бы значение международного морского пути, подобно Малаккскому проливу, и претензии Квинсленда, а следовательно, и Австралийского Союза на все водное пространство пролива, несомненно, вызвали бы международный протест.
Лейбористское правительство Г. Уитлема склонялось к тому, чтобы перенести границу к югу, но это вызвало ожесточенное сопротивление Квинсленда. Газета «Сидней морнинг геральд» сообщала, что в парламенте Квинсленда раздаются даже голоса, при-324
зывающие к выходу из Австралийского Союза в случае, если федеральное правительство не посчитается с мнением штата. Так возбуждающе подействовала на квинслендских бизнесменов перспектива разработок пока еще не открытых месторождений нефти и газа на севере Большого Барьерного рифа [228, 15.XII.1972].
Позиция Квинсленда подверглась критике в австралийской прессе. Известный австралийский специалист по Папуа Новой Гвинее П. Гастине писал в «Сидней морнинг геральд»: «Уитлем и Моррисон согласны с тем, что нынешняя граница несправедлива. Сомаре готов, как кажется, пожертвовать морским дном до 10-й параллели при условии, что разработки его богатств будут вестись совместно Австралией и Папуа Новой Гвинеей» [228, 21.1.1973].
Австралия и Папуа Новая Гвинея заняли разумную позицию в подходе к наболевшему вопросу о будущем островов Торресова пролива, писала газета «Уэст Острэйлиен» в номере от 20 января 1973 г. И Сомаре и премьер-министр согласны, что пора принять во внимание географическую реальность — у Австралии нет обоснованных притязаний на гроздь островов, близких к Папуа Новой Гвинее. Брисбену следовало бы примириться с неизбежным изменением границы, в результате которого Папуа Новая Гвинея получит принадлежащую ей по справедливости долю богатств моря и морского дна, примыкающего к ее берегу. Одновременно газета предупреждала, что независимая Папуа Новая Гвинея может обратиться с делом о границе в международный суд.
Переговоры приняли крайне затяжной характер. Австралийское правительство выдвинуло требование распространить суверенитет Австралии практически на весь пролив. А. Кики, возглавлявший делегацию Папуа Новой Гвинеи на переговорах с австралийским правительством, вынужден был сразу же прервать переговоры. «Австралия стремится сохранить положение, возникшее в результате колонизаторских действий много лет назад,— заявил А. Кики. — Правительство Папуа Новой Гвинеи предпринимает необходимые действия, чтобы защитить интересы страны» [210, март 1977, с. 15—16].
В течение 1976—1978 гг. состоялось еще несколько встреч министров иностранных дел Австралии и Папуа Новой Гвинеи. 5 мая 1978 г. министры договорились о принципах, на основе которых должен быть выработан проект договора о морской границе между двумя странами в Торресовом проливе. 25 мая этот документ был представлен на рассмотрение парламентов Австралии и Папуа Новой Гвинеи. В нем говорилось, что Австралия признает суверенитет Папуа Новой Гвинеи на ряд островов, расположенных в проливе, но на большинство островов по-прежнему будет распространяться юрисдикция Австралии.
Переговоры продолжались и дальше. В конце 1978 г. договор был подписан правительствами обеих стран. Обсуждение текста договора в австралийском парламенте вызвало острые дебаты, что затянуло его ратификацию до 1980 г.
События, происшедшие в Папуа Новой Гвинее после предо
325
ставления ей самоуправления, показали, что страна, несмотря на все трудности, может и должна стать независимой и что, чем скорее наступит этот день, тем здоровее будет новый государственный организм. В послании по случаю первой годовщины предоставления стране самоуправления М. Сомаре писал: «Год назад многие думали, что самоуправление пришло слишком быстро, но мы успешно со всем справились, и сейчас до независимости — лишь один шаг... лМы взяли под свой контроль большинство государственных органов... 1974 год был годом, в течение которого мы занимались обсуждением конституции и рассмотрением нужд народа. И, наконец, что очень важно,— это был год быстрого экономического подъема... В это время в будущем году мы сможем сказать самим себе: нация стоит на своих собственных ногах и занимает принадлежащее ей по праву место в семье народов» [224, 2.ХН.1974].
Проект конституции страны был окончательно одобрен Палатой ассамблеи 15 августа 1975 г., а за 2 месяца до этого, 18 июня, палата приняла решение провозгласить независимость страны 16 сентября 1975 г. Правда, оппозиция настаивала на другой дате — 1 декабря 1975 г., но большинство депутатов отвергли это предложение. В конце августа 1975 г. палата представителей австралийского парламента приняла закон о предоставлении независимости Папуа Новой Гвинее. У. Моррисон, передавший по поручению правительства закон на обсуждение парламента, заявил, что с 15 сентября 1975 г. Австралия перестанет быть колониальной державой.
За две недели до предоставления независимости Папуа Новой Гвинее провинциальные власти Бугенвиля объявили остров независимой Республикой Северных Соломоновых островов. Лидер провинциального правительства А. Сарей потребовал от Папуа Новой Гвинеи помощь в размере 50 млн. австрал. долл. В случае же отказа он угрожал наложить секвестр на медные рудники международной компании «Бугенвиль коппер лимитед». Он потребовал также, чтобы компания платила налоги правительству Бугенвиля, а не Папуа Новой Гвинеи.
Действия бугенвильских сепаратистов не получили поддержки ни у правительства Австралии, ни в Совете по опеке ООН. Совет по опеке, выслушав речь представителя Бугенвиля Д. Момиса, заявившего, что остров не будет частью Папуа Новой Гвинеи, проголосовал за предоставление независимости Папуа Новой Гвинее как единому государству и поздравил правительство Австралии «с предстоящим прекращением действия его обязательств по соглашению об опеке над Новой Гвинеей 1946 г.» [224, 1.IX.1975].
15 сентября 1975 г., в полдень, на центральном стадионе Порт-Морсби был спущен флаг Австралии. На следующий день в Вайга-ни, административном центре столицы, взвился черно-красный флаг с изображением райской птицы и пяти звезд Южного Креста. Папуа Новая Гвинея стала суверенным государством. В послании к народу глава правительства М. Сомаре писал: «Наша задача теперь состоит в том, чтобы найти тот путь, который будет отвечать
326
интересам нашего народа и в то же время позволит нам занять достойное место в семье народов мира» [224, 16.IX.1975].
С получением Папуа Новой Гвинеей независимости закончился растянувшийся почти на три четверти века период господства австралийского колониализма на Тихом океане.
Идеологи австралийской буржуазии стремятся доказать, что Австралия якобы не извлекла из обладания колониями никакой прибыли, а управляла ими, руководствуясь чистой филантропией.
По существу колониальная политика Австралии ничем не отличалась от колониальной политики других империалистических держав. Тем не менее нельзя не отметить некоторые отличительные черты австралийского колониализма, связанные с известной спецификой развития австралийского империализма. Прежде всего для австралийской буржуазии никогда не была важна прямая эксплуатация колоний. Экспорт капитала в колонии был невелик, ибо австралийская буржуазия имела возможность действовать на громадных просторах неосвоенного пятого континента [54, с. 247—248; 61, с. 81]. Кроме того, по уровню своего экономического развития даже самая крупная из подвластных Австралии территорий — Папуа Новая Гвинея — долгое время представляла собой «неудобный» объект для капиталовложений.
Однако австралийские предприниматели прибегали и к прямой эксплуатации коренного населения колоний, и к неэквивалентному обмену для получения весьма существенных прибылей. При этом с установлением австралийского колониального управления наиболее выгодные сферы колониального хозяйства попадали в руки нескольких компаний. Например, в Папуа Новой Гвинее действовали «Бернс-Филп» и «Карпентер». В эксплуатации колоний весьма активное участие принимали крупнейшие банки Австралии, прежде всего Банк Нового Южного Уэльса. На эксплуатации коренного населения Папуа Новой Гвинеи наживались и несколько тысяч австралийских плантаторов, целиком контролировавших товарное хозяйство территории [54, с. 252].
Австралийские колонизаторы не принимали сколько-нибудь серьезных мер для экономического развития зависимых территорий. Они также задерживали политический и социальный прогресс. Австралийское правительство, особенно после второй мировой войны, уделяло большое внимание стратегическому положению Папуа Новой Гвинеи. Территория была включена в сферу действия АНЗЮС.
До начала 60-х годов австралийское правительство не допускало мысли о предоставлении независимости Папуа Новой Гвинее. Лишь в 60-х годах под влиянием резкого усиления освободительного движения на территории и давления со стороны прогрессивных сил, возглавляемых СССР в Организации Объединенных Наций, австралийское правительство вынуждено было начать проведение некоторых реформ в управлении территорией. Но и тогда австралийские колонизаторы не думали уходить из Папуа Новой Гвинеи. В 60-х — самом начале 70-х годов ООН приняла несколько резо
327
люций, подтверждающих неотъемлемое право народа Папуа Новой Гвинеи на независимость. Но австралийское правительство отказывалось назвать даже приблизительную дату предоставления независимости территории. Лишь лейбористское правительство Австралии, пришедшее к власти в конце 1972 г., осуществило переход Папуа Новой Гвинеи к независимому существованию.
Но предоставление политической независимости Папуа Новой Гвинее, так же как и другим океанийским территориям, ни в коей мере не означало ухода оттуда Австралии. Напротив, в 70-х годах Австралия усилила внимание к Океании. Австралийский капитал продолжал расширять и укреплять свои позиции в этом районе.
Подобно другим империалистическим государствам, Австралия проводит в Океании неоколониалистскую политику. Австралийское правительство постоянно подчеркивает, что отношения с океанийскими государствами являются одним из важнейших направлений внешней политики страны. Австралия имеет свои представительства во всех независимых океанийских государствах. Осуществляются интенсивные контакты на уровне глав правительств, министров, парламентариев.
Австралия активно участвует в заседаниях южнотихоокеанских региональных организаций. Особое значение австралийское правительство придает участию в работе Южнотихоокеанского форума, в состав которого из империалистических государств входят лишь Австралия и Новая Зеландия.
Для закрепления своих позиций в Океании Австралия использует и региональные совещания глав правительств стран Содружества наций, в которых наряду с Австралией, Новой Зеландией, Индией, Бангладеш, Шри Ланкой, Сингапуром и Малайзией принимают участие Папуа Новая Гвинея, Фиджи, Науру, Тонга и Западное Самоа.
Австралия поддерживает и двусторонние контакты с океанийскими государствами. Так, за три года после получения независимости Папуа Новой Гвинеей Австралия заключила с молодым государством целую серию соглашений по военным, экономическим, торговым, транспортным и другим вопросам.
Во второй половине 70-х годов ежегодно происходили австралийско-фиджийские встречи на уровне министров иностранных дел, на которых обсуждались важнейшие вопросы политических и экономических отношений между двумя странами. В 1976—1978 гг. было значительно расширено австралийско-фиджийское военное сотрудничество. В 1977 г. 22 офицера фиджийских военно-морских сил проходили подготовку в Австралии; 7 кораблей военно-морского флота Австралии побывали в том же году в портах Фиджи с «дружескими визитами» и совместно с недавно созданной эскадрой кораблей фиджийского военно-морского флота принимали участие в маневрах. Углубляются и торгово-экономические связи.
Серьезные позиции австралийский капитал занимает в экономике Науру, Тонга, Западного Самоа и Новых Гебрид.
328
Во второй половине 70-х годов Австралия значительно увеличила размеры субсидий странам Океании. За 1976/77—1978/79 гг. субсидии, выделенные Фиджи, увеличились с 4,3 млн. до 8,6 млн. австрал. долл, (более чем в 2 раза); Ниуэ — с 11 тыс. до 146 тыс. (в 13 раз); островам Кука — со 176 тыс. до 507 тыс. (почти в 3 раза); Кирибати — с 260 тыс. до 2,7 млн. (более чем в 10 раз); Тувалу— с 35 тыс. до 686 тыс. (почти в 20 раз); Соломоновым островам— с 1,4 млн. до 3,4 млн. (более чем в 2 раза); Тонга — с 1 млн. до 3,6 млн. австрал. долл, (в 3,5 раза).
Финансовые субсидии Австралии Папуа Новой Гвинее и Западному Самоа за тот же период выросли соответственно со 100 млн. до 215 млн. австрал. долл, и с 3,9 млн. до 4,4 млн. австрал. долл. По соглашению от 4 марта 1976 г. Австралия выплачивает Папуа Новой Гвинее ежегодно 180 млн. австрал. долл., что составляет 37% всех бюджетных ассигнований страны. Предоставляемые средства направляются в первую очередь в те отрасли экономики, продукция которых идет на экспорт, что способствует увеличению вывоза в Австралию сырьевых товаров. Понятно, что с помощью этих все растущих финансовых субсидий Австралия получает возможность влиять как на экономическую, так и на политическую жизнь океанийских стран.
Глава VI
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ АВСТРАЛИИ В 50—70-х ГОДАХ
Одним из новых явлений в послевоенном мире стала заметная активизация Австралии в межгосударственных отношениях. До этого Австралийский Союз в международных делах оставался в тени, отбрасываемой Британской империей. Как уже отмечалось, процесс политической эмансипации Австралии, начавшийся еще в период второй мировой войны, объяснялся объективными причинами.
«Ни одна нация не может убежать от своего географического положения... и мы с этим ничего не можем сделать»,— говорил в марте 1950 г. П. Спендер, являвшийся в то время австралийским министром иностранных дел [203, т. 21, 1950, № 4, с. 160]. Это положение, взятое само по себе, конечно, неоспоримо. Но дело в том, что в процессе развития человеческого общества меняется оценка географического положения того или иного государства. Австралия — великолепный тому пример.
Австралийский материк все 200 лет, в течение которых он заселяется европейцами, естественно, оставался в определенном ему природой месте на земном шаре. Но как по-разному понималось его географическое положение даже за последние пятьдесят лет!
В начале нынешнего века Австралия воспринималась как страна, находящаяся вдали от мировых событий, как глухая провинция Британской империи, расположенная в неблизком окружении народов, выключенных стараниями европейских колонизаторов из общеисторического процесса. Казалось, ничто не могло нарушить спокойствия и неуязвимости ее положения. Географическая удаленность и мощь Британской империи надежно это гарантировали.
Когда разразилась первая мировая война, то ее фронты находились во многих тысячах километров от Австралии. Правда, это не спасло австралийский народ от необходимости принести кровавые жертвы во славу империи.
Два десятилетия, разделявшие первую и вторую мировые войны, существенно изменили представления человечества о расстояниях.
Во время второй мировой войны Австралия непосредственно попала в зону военных действий и над страной нависла реальная угроза вражеского вторжения.
330
Австралия оказалась в совершенно новых условиях и вынуждена была действовать в непривычной, чрезвычайно сложной обстановке. Руководители государства поняли, что впредь должны будут самостоятельно принимать решения, касающиеся самого существования страны. После окончания войны Австралия уже не могла вернуться к прежнему состоянию. Австралийские лидеры пытались повысить международный авторитет страны. Представители Австралии проявили необычайную активность на Сан-Францисской конференции 1945 г., внеся, в частности, 38 поправок к проекту Устава Организации Объединенных Наций [203, т. 16, 1945, № 6, с. 187].
Однако в первые послевоенные годы претензии Австралии были еще достаточно скромны. Выступая по британскому радио 10 мая 1946 г., австралийский министр иностранных дел Г. Эватт говорил: «Необходимо выработать новые методы, чтобы встретить новую ситуацию... Мы достигли той стадии в отношениях внутри Британского содружества, на которой существует разделение функций на региональной основе для выполнения определенных задач. Стало возможным для доминиона действовать не только ради самого себя, но также и для Соединенного Королевства и других доминионов» [112, с. 189].
Через два десятка лет голоса руководящих австралийских политических деятелей окрепли и в них звучали уже иные ноты» «Мы развиваемся своим собственным путем... и это существенно для нас и для наших соседей, которые должны ясно себе это представить... — говорил в 1964 г. Г. Барвик, занимавший тогда пост министра иностранных дел.— Будет существовать австралийская точка зрения, австралийская философия, австралийская внешняя политика» [148, с. 25].
Во второй половине 60-х годов Австралия имела уже довольно широкую сеть своих дипломатических представительств за границей (59 посольств, миссий, генеральных консульств и других представительств) [34, 1968, № 54, с. 111—112]. Количественный состав австралийского министерства иностранных дел (центральный аппарат и представительства за границей) превысил 1,5 тыс. человек [203, т. 38, 1967, № 2, с. 3].
Австралийские политические деятели с большой эмоциональностью говорили при случае о традиционных родственных связях Австралии с Великобританией. «Австралия также имеет традиционные и неизменные связи особого рода с Соединенным Королевством»,— отмечал в феврале 1967 г. в докладе о внешней политике Австралии в палате представителей П. Хэзлак, являвшийся тогда министром иностранных дел [203, т. 38, 1967, № 2, с. 51].
Но австралийское правительство убедилось уже в период второй мировой войны, что Великобритания утратила навсегда свое прежнее положение в мире, что надо искать нового могущественного покровителя. После войны эта мысль также не давала покоя австралийскому правительству. Мельбурнская газета «Аргус» в передовой статье 16 октября 1953 г. писала: «Географическое по
331
ложение Австралии как слабо заселенного белого аванпоста в Тихом океане вводит ее в орбиту американской мощи... Австралия более чем когда-либо зависит от американской поддержки» (цпт. по [122, с. 112]). Говоря в 1955 г. об основных принципах австралийской внешней политики, премьер-министр Р. Мензис особо подчеркивал: «Мы должны понимать, что, если мы будем вовлечены в войну, нам необходимо иметь сильных друзей, готовых оказать помощь» [158, с. 9].
Спустя 10 лет австралийский министр иностранных дел Г. Барвик сказал примерно то же самое: «Вывод о том, что наша способность защищаться не столь велика, чтобы мы могли стоять на собственных ногах... заставляет создавать военные союзы дополнительно к существующим традиционным отношениям с Британией и Содружеством» [148, с. 93].
Вследствие ослабления политических связей с Великобританией снижался уровень австрало-британских торгово-экономических отношений. Хотя британский капитал занимал первое место в экономике Австралии, американские инвестиции в целом лишь немногим уступали ему, а в ряде важнейших отраслей занимали господствующее положение. Резко снизилось значение Великобритании как торгового партнера Австралии. Если в 1947/48 г. Великобритания поглощала 34,8% австралийского экспорта шерсти, 36,4% —пшеницы, 74,1% —мяса, 78% — сахара, то в 1963/64 г.— соответственно 16; 10,7; 11,8; 31,6% [98, с. 574—575].
В австралийском импорте Великобритания уступила первое место США, размер британского экспорта в Австралию абсолютно и относительно падал из года в год. В 1964/65—1966/67 гг. стоимость британского экспорта в Австралию снизилась с 761,4 млн. до 723,8 млн. австрал. долл., а в процентном отношении его доля в общеавстралийском импорте сократилась с 26,2 до 23,7 [34, 1968, № 54, с. 347—348].
Место Великобритании в политической и экономической жизни Австралии прочно заняли Соединенные Штаты. Постоянно рос товарооборот между США и Австралией. В 1964/65 г. он составлял 956,5 млн., а в 1966/67 г.— 1140,7 млн. австрал. долл. [34, 1968, № 54, с. 347]. Необходимо, однако, отметить, что торговый баланс Австралии с США завершался ежегодно с большим дефицитом для Австралии. Если доля США в австралийском экспорте составляла 13%, то в австралийском импорте — 26%. Ежегодный дефицит торгового баланса Австралии с Соединенными Штатами составлял более 400 млн. австрал. долл.
Перед Австралией в послевоенные годы встала, по сути дела, совершенно новая проблема — отношения со странами Азии, в первую очередь со странами Тихоокеанского бассейна. Более того, в Канберре поняли, что жизненные интересы страны сосредоточены именно в этом районе земного шара. Новизна проблемы заключалась в том, что гигантский подъем национально-освободительной борьбы приводил к тому, что бесправные колониальные территории в том районе становились суверенными государствами.
332
«Если раньше мы жили в спокойном углу планеты,— сказал, выступая в парламенте в октябре 1954 г., Р. Кэзи, занимавший тогда пост министра иностранных дел Австралии,— то теперь мы находимся на краю самого беспокойного района в мире» [28, т. 5, 1954, с. 2382].
Новые условия диктовали новый подход к международным проблемам. «Нам необходимо понимать страны Южной и Юго-Восточной Азии и быть понятыми ими. Мы хотим помочь им всем, чем можем,— говорил в 1952 г. Р. Кэзи*—Огромные перемены, происшедшие на Востоке, изменили наши идеи безопасности, основывавшиеся на географической изоляции Австралии... Будущий мир пришел прямо к нашим берегам» [93, с. 3].
Австралия начала претендовать на особую роль в Азии. «Совершенно очевидно, что мы обладаем достоинствами, которые помогают нам служить более приемлемыми истолкователями европейских идей, чем сами европейцы,— заявил в 1960 г. министр иммиграции А. Доунер. — Между странами Азии и Австралией существует взаимный интерес, некоторые черты в соответствующих отраслях нашей экономики делают последние привлекательными для стран Азии. Все это может заставить Австралию стать мостом между Востоком и Западом... Это будет самым замечательным достижением на протяжении всей нашей истории» [104, с. 7]. Подобные высказывания австралийских политических деятелей можно было бы продолжить.
Эта тенденция в австралийской внешней политике находила полное одобрение Соединенных Штатов Америки. Помощник государственного секретаря США Р. Хилсман, выступая в Австралийском институте политических наук в 1964 г., весьма пространно говорил о все увеличивающейся роли Австралии в мировых делах. «Вы поставили вопрос об австралийской стратегической позиции,— заявил он.— Ответ неумолим: сейчас и до скончания мира Австралия располагается в Азии... перед которой стоят большие и сложные проблемы... Именно здесь сосредоточены наиболее значительные интересы Австралии и всего свободного мира... Именно здесь Австралия должна играть ведущую стратегическую роль... Именно здесь Австралия больше всего нуждается в эффективной стратегии для встречи с гигантски?ли проблемами этого района... Одним из обнадеживающих факторов в сегодняшней Азии является австралийская стратегическая позиция: вы не имеете другого выбора, кроме использования вашей силы... и использования ее в Азии» [148, с. 48—49].
Австралия охотно помогала США подавлять национально-освободительные движения в странах Азии. Это, конечно, была наиболее заметная линия ее азиатской политики. В книге, выпущенной в 1968 г. в Мельбурне австралийско-американской ассоциацией с предисловием Л. Джонсона, прямо говорилось, что «антикоммунизм занимает центральное место в австралийской внешней политике после 1950 г.» (цит. по [158, с. 8]). Но было бы неправильно все действия Австралии в Азиатском регионе сводить
333
лишь к участию' в американских военных авантюрах на Дальнем Востоке и Юго-Восточной Азии.
Существовала и вторая линия австралийской политики в Азии. Это — укрепление и расширение собственных позиций в столь важном для Австралии районе земного шара. Правящие круги страны понимали, что австралийцы в силу географического положения пятого континента связаны с азиатскими народами, и в первую очередь с народами Юго-Восточной Азии, гораздо сильнее, чем заокеанские покровители. Приходилось думать о том, что наступит время, когда громадные по численности населения страны этого района, несмотря на переживаемые ими трудности, в конце концов превратятся в столь мощные государства, что Австралия уже: не сможет смотреть на них свысока. Поэтому недостаточно вмешиваться во внутренние дела азиатских государств, чтобы направлять их развитие в благоприятном для себя направлении, надо постараться стать их «благодетелями» и в качестве таковых возможно прочнее обосноваться в этих странах, взять даже на себя «посредничество» в их отношениях с Европой и Америкой. Так формулировали политические задачи: Австралии в Азии ее лидеры.
Австралия весьма значительно расширила экономические и торговые отношения с азиатскими странами, в первую очередь со странами Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского бассейна, стала активно оказывать экономическую помощь развивающимся странам Азии.
«Руководители европейских государств отворачиваются от нас,— писал Г. Уитлем.— Британия становится все ближе и ближе к Европе. Япония уже сейчас является (для Австралии.—> К. Л4.) более важным рынком, чем Британия. Объективные причины заставляют нас коренным образом пересмотреть нашу позицию изолированной европейской общины. Мы быстро отходим от знакомого европейского мира и приближаемся к незнакомому афро-азиатскому миру» [189, с. 4].
Австралийский профессор Фитцджеральд писал: «Официальное австралийское отношение к новой (послевоенной.— К. М.) Азии состоит из одной надежды и двух страхов: надежды на то, что национализм, которому большинство австралийцев симпатизируют, принесет порядок и мир новым независимым нациям Азии; нового страха оттого, что коммунизм сможет завоевать большие, чем национализм, симпатии этих народов, и старого страха перед Японией...» (цит. по [72, с. 201]). Именно страх перед революционными процессами, сотрясающими гигантский Азиатский регион, в значительной мере определял курс австралийского правительства в отношении азиатских стран. «Нашим ближайшим соседом,— писал австралийский ученый Т. Миллар,— является Индонезия с населением почти в сто миллионов человек. В районе, обычно называемом Юго-Восточная Азия... проживает еще 140 млн. человек; в Китае — 700 млн.; в Японии—100 млн.; в Индии — 470 млн.; в Пакистане — свыше 100 млн. Таким образом, здесь проживает почти 2 млрд, азиатов, ежегодный прирост которых в несколько раз 334
превышает все население Австралии. Стратегически важным обстоятельством для нас является не только их численность, но и политические и экономические условия их существования, их идеология, их отношение друг с другом, к нам, к нашим друзьям и союзникам» [148, с. 31].
Австралия шла по пути все более тесного сближения с США, начало которому было положено в период второй мировой войны. Вместе с тем нельзя не согласиться с Т. Милларом, который писал в этой связи: «Соединенные Штаты пришли на помощь Австралии в период второй мировой войны не потому, что г-н Кэртин обратился к ним с призывом, а потому, что Австралия была удобной и безопасной базой для операций против Японии. Уместно сказать о том, что может также возникнуть вопрос о возможной базе для морских операций против Советского Союза или о трамплине для наземных операций в Юго-Восточной Азии. Мы уже предоставляем место для американских станций наблюдения за космическими полетами, а также для испытаний определенного ракетного оборудования» [148, с. 40].
Соединенные Штаты Америки требовали от Австралии все более весомых доказательств верности союзническому долгу. И австралийское правительство старалось не оставить сомнений на этот счет. Австралия первая из союзников США послала контингенты своих войск в Корею. Уже через четыре дня после начала военных действий, 29 июня 1950 г., австралийское правительство передало в распоряжение военного командования США 2 военных корабля, а на следующий день — эскадрилью боевых самолетов. Через месяц, 26 июля 1950 г., австралийское правительство приняло решение направить в Корею сухопутные части. Всего в боевых операциях в Корее участвовало 9 австралийских военных кораблей и 4,5 тыс. солдат. Активное участие в военной авантюре Соединенных Штатов Америки в Корее стоило Австралии сотен убитых солдат.
Старания австралийского правительства были оценены в Вашингтоне. Когда в июле 1950 г. австралийский премьер-министр Р. Мензис прибыл в США, его приняли значительно сердечнее, чем требуется по официальному этикету. Конгрессмены встретили его появление овацией, а американское правительство согласилось на предоставление займа в 250 млн. долл.
Пришло подходящее время для юридического оформления фактически существующего союза. После соответствующих переговоров 12 июля 1951 г. в Вашингтоне был подписан Тихоокеанский пакт безопасности, называемый также договором АНЗЮС, поскольку его участниками явились Австралия, Новая Зеландия и США. Договор вступил в силу 29 апреля 1952 г.
Тихоокеанский пакт был заключен почти в то же время, что и мирный договор с Японией. Договор вызвал резко отрицательную реакцию в Австралии, прежде всего из-за отсутствия специальных статей, ограничивающих возможность милитаризации Японии, однако австралийское правительство попыталось представить
335
дело таким образом, будто Тихоокеанский пакт служит дополнением к мирному договору с Японией, обеспечивая Австралии необходимые гарантии безопасности в случае возможного возрождения японского милитаризма.
Лейбористская оппозиция утверждала, однако, что американцы пошли на заключение Тихоокеанского пакта, чтобы добиться согласия австралийского правительства на мирный договор с Японией, нужный США и невыгодный Австралии. В то же время Соединенные Штаты, по мнению лейбористов, взяли на себя по Тихоокеанскому пакту ограниченные обязательства. Выступая в парламенте, лидер лейбористов Г. Эватт утверждал, что мирный договор с Японией «слишком высокая цена» за пакт АНЗЮС [187, с. 131]. А. Коуэлл, в то время заместитель лидера лейбористской партии, сравнил основные статьи договора АНЗЮС и договора НАТО. В ст. 4 договора АНЗЮС говорилось, что в случае опасности договаривающиеся стороны предпримут действия, соответствующие «их конституционным правам». В ст. 5 договора НАТО подчеркивалось, что участвующие в нем государства предпримут действия, какие будут необходимы, включая использование вооруженных сил. На этом основании А. Коуэлл утверждал, что «реальных обязательств для кого-либо в Тихоокеанском пакте не существует и потому было бы лучше не иметь договора вообще» [28, т. 216, с. 741].
И нападки оппозиции, и увертки правительства не отражали, однако, подлинного значения пакта для страны. В целом АНЗЮС прочно связывал договаривающиеся державы. Достаточно для этого процитировать главные статьи пакта.
Стороны будут консультироваться, говорилось в ст. 3, когда, по мнению кого-либо из них, на Тихом океане возникнет угроза территориальной целостности, политической независимости и безопасности любой из договаривающихся сторон.
Каждая из сторон определяет, отмечалось в ст. 4, создает ли вооруженное нападение в бассейне Тихого океана на какую-либо из договаривающихся держав угрозу ее собственному спокойствию и безопасности, и заявляет, что встретит общую опасность действиями, соответствующими ее конституционным правам.
И, наконец, в ст. 5 подчеркивалось: для целей ст. 4 под вооруженным нападением на любую из договаривающихся сторон понимается вооруженное нападение на территорию метрополии любой из сторон или на островные территории, находящиеся под ее юрисдикцией в Тихом океане, или на ее вооруженные силы, или на государственные суда, или на самолеты в Тихом океане.
Все эти статьи Тихоокеанского пакта предусматривали четкие обязательства участвующих в нем государств.
Что же касается существа пакта, то его острие было направлено не против японского милитаризма, а против национально-освободительного движения азиатских народов, и в первую очередь народов Юго-Восточной Азии. Ни одна азиатская страна не была приглашена участвовать в пакте. Наиболее дальновидные австра
336
лийские деятели понимали всю опасность Тихоокеанского пакта, крепко привязавшего Австралию к военной колеснице Соединенных Штатов Америки.
Так, Д. Бартон, являвшийся одно время секретарем министерства иностранных дел Австралии, писал, что АНЗЮС «расширяет области возможных конфликтов, вызывает враждебное отношение всех азиатских соседей... и вовлекает Австралию в каждый конфликт в бассейне Тихого океана, участником которого станет Америка... У Австралии остается не больше свободы действий, чем у любого штата Америки» [180, с. 74—79].
Укрепляя и расширяя союз с Соединенными Штатами Америки, Австралия тем не менее не собиралась рвать традиционные связи с Великобританией. «По правде говоря,— писал А. Уотт,— Австралия и Новая Зеландия стали союзниками Соединенных Штатов в АНЗЮС не потому, что они любят Америку больше, чем Великобританию, а потому, что расстановка сил на Тихом океане изменилась в течение второй мировой войны и после нее» [187, с. 140].
Англия не попала в число участников Тихоокеанского пакта по воле США, а не потому, что этого не хотели «белые доминионы». «Австралия сочувствовала стремлению Великобритании участвовать в пакте,— сказал Р. Мензис,— но, поскольку Соединенные Штаты не желали включить Великобританию, Австралии или Новой Зеландии не оставалось ничего другого, как денонсировать договор» [187, с. 140]. Поэтому Австралия и Новая Зеландия, обсуждая с США условия заключения АНЗЮС, вели неофициальные переговоры с Лондоном по поводу направления военных контингентов в район Малайи. Формально договор заключен не был, но было достигнуто соглашение о совместном проведении военных мероприятий в указанном районе. Это соглашение получило название АНЗАМ, поскольку в нем участвовали Англия, Австралия, Новая Зеландия и Малайя (впоследствии Малайзия).
В 1955 г. на основе проекта, подготовленного Комитетом обороны АНЗАМ, был создан Дальневосточный стратегический резерв, состоявший из сухопутных, морских и воздушных частей Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Главными задачами частей резерва были: ликвидация внутренних беспорядков в Малайе; оборона Малайи от внешнего нападения; выделение сил, которые бы в любой момент были готовы совместно с вооруженными силами других государств участвовать в военных акциях в районе действия пакта СЕАТО [148, с. 71].
После образования Малайзии Англия юридически оформила договор о внешней обороне и взаимной помощи, к которому присоединились Австралия и Новая Зеландия. Но ни АНЗЮС, ни АНЗАМ не были признаны австралийским правительством достаточными гарантами от «коммунистической угрозы». Выступая в парламенте в октябре 1954 г., министр иностранных дел Р. Кэзи сказал, что австралийское правительство никогда не рассматривало Тихоокеанский пакт как «полный и окончательный ответ на пробле
22 Заказ 91
337
мы безопасности на Тихом океане», но лишь как «значительный шаг на пути к безопасности в этом районе» [187, с. 143]. Поэтому австралийское правительство активно участвовало в создании нового пакта, значительно более широкого, чем два предыдущих.
8 сентября 1954 г. в Маниле представители Австралии, Франции,. Новой Зеландии, Пакистана, Филиппин, Таиланда, Великобритании и США создали организацию договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО).
Важнейшей статьей договора явилась ст. 14:
«1. Договаривающиеся стороны считают, что вооруженное нападение в зоне действия договора на любую из сторон или на любое государство и территорию, которые стороны по единодушному соглашению могут определить позднее, будет угрожать их собственному спокойствию и безопасности, и соглашаются в этом случае действовать, чтобы встретить общую опасность, в соответствии с их конституционными правами...
2. Если, по мнению любой из сторон, неприкосновенности, целостности, суверенитету, политической независимости любой из сторон в зоне действия договора или какого-либо другого государства или территории, которые, согласно постановлению пункта 1 настоящей статьи, время от времени включаются в зону действия договора, будет угрожать какая-либо другая опасность, а не вооруженное нападение, будет нанесен ущерб каким-либо событием или ситуацией, которые могут угрожать спокойствию в зоне действия договора, стороны незамедлительно проведут консультации, чтобы договориться о средствах, которые должны быть предприняты для общей обороны».
Интересно отметить, что США, главный вдохновитель создания СЕАТО, постарались в этом договоре в отличие от Тихоокеанского пакта прямо подчеркнуть его политическую направленность. В специальном дополнении к договору, сделанном США, указывалось, что механизм договора будет приведен в действие именно в случае «коммунистической агрессии» [148, с. 82].
Втягивание Австралии в военные блоки вызывало протесты прогрессивной общественности страны, а также резко отрицательное отношение крупнейших государств Азиатского региона. Вот что писал, например, А. Уотт: «Со времени своего создания СЕАТО является предметом серьезной критики. Неприсоединив-ши$ся страны, такие, как Индия, выступают против его основных положений, и их позиция используется некоторыми австралийцами для доказательства того, что участие Австралии в военных союзах сделает невозможным установление хороших отношений с азиатскими странами» [187, с. 158].
К числу упомянутых А. Уоттом «некоторых австралийцев» относился крупный австралийский ученый профессор У. Болл. В лекции, прочитанной в Мельбурне 1 ноября 1967 г., он так определил задачи Австралии в Азии: «Я уверен, что безопасность и процветание Австралии должны зависеть от нашей способности создать прочные деловые дружественные отношения с новыми государства
338
ми в Азии, а не от присутствия вооруженных сил Запада, держащих Азию вдалеке от нас» [78, с. 16].
Австралийские исследователи международных отношений не могли не видеть, что большинство азиатских стран неодобрительно относятся к политике правительства Австралии. Так, профессор Квинслендского университета Г. Гринвуд в 1963 г. писал, что курс австралийского правительства создает большие трудности «в установлении искренних взаимоотношений, особенно с неприсоеди-нившимися странами Азии, такими, как Индия и Индонезия, потому, что взгляд этих стран во многом или расходится с нашим, или диаметрально противоположен нашему. Австралийское правительство оказалось в оппозиции почти ко всем азиатским странам... Создание СЕАТО и участие Австралии в этой организации порождает резкую критику тех азиатских лидеров, которые видят в распространении таких союзов в Азии угрозу их усилиям не допустить присоединения континента к какому-либо блоку» [73, с. 93—94].
Критика внутри страны азиатского аспекта внешней политики Австралии также все время нарастала. Но австралийское правительство совершенно игнорировало эту критику, выполняя взятые по договорам обязательства. Так, в 1955 г. в Малайю были посланы австралийские части. Большую активность проявил Австралийский Союз в СЕАТО. В течение семи лет (1957—1964) австралийский представитель У. Уорт являлся заместителем генерального секретаря СЕАТО. Австралия была широко представлена во всех органах, созданных договором. Она покрывала около 14% расходов СЕАТО.
Австралийское правительство не захотело остаться в стороне от преступной войны, развязанной США во Вьетнаме, вопреки широкому движению протеста общественности всей страны. Однако Соединенные Штаты Америки считали, что Австралия предпринимает недостаточные усилия в этом направлении. Вашингтон оказал откровенный нажим на австралийское правительство, чтобы заставить Австралию более широко участвовать в агрессии во Вьетнаме. Эта тема была важнейшей во время переговоров президента США Л. Джонсона и вице-президента Г. Хэмфри с австралийским правительством при посещении ими Австралии в 1966 г., а затем в ходе визита в июле 1967 г. специальных представителей президента Л. Джонсона — М. Тейлора и К. Клиффорда.
Во время пребывания Г. Хэмфри в феврале 1966 г. в Австралии число австралийских войск в Южном Вьетнаме составляло 1,5 тыс. Чтобы не раздражать австралийское общественное мнение, и без того обеспокоенное военными акциями своего правительства, Г. Хэмфри дважды публично заявил, что он не обращался к австралийскому правительству с просьбой об отправке дополнительных войск во Вьетнам. Однако тогдашний австралийский премьер-министр Г. Холт вынужден был признать на пресс-конференции 19 февраля 1966 г., что на протяжении некоторого времени его правительство обсуждает вопрос о том, что еще может сделать Австралия во Вьетнаме. А 8 марта он объявил в австралийском пар
22*
339
ламенте, что численность войск во Вьетнаме будет утроена. Еще 3 тыс. австралийских солдат вскоре были переброшены в Южный Вьетнам. Был принят закон о введении в стране обязательной частичной воинской повинности, в соответствии с которым всех австралийских граждан, достигших 20 лет, а также иностранцев, принявших австралийское гражданство, регистрировали для несения службы в армии. После этого должна была проводиться жеребьевка, в результате которой намечалось ежегодно отбирать около 10 тыс. призывников.
Одновременно были объявлены решения правительства о том, что призывники могут нести службу за границей в мирное время, и о распространении воинской повинности на иммигрантов, прибывших в Австралию на постоянное жительство, но еще не натурализовавшихся.
Оба этих правительственных решения находились в резком противоречии с действующим законодательством. Вопрос об использовании призывников за границей необходимо было вынести на референдум. В период первой мировой войны подобные референдумы проводились дважды, и австралийский народ подавляющим большинством голосов высказался против предоставления правительству права использовать призывников для службы за границей. А теперь австралийское правительство приняло такое решение в мирное время!
Призыв на военную службу иммигрантов нарушал и общепризнанные нормы международного права. Ряд стран (Италия, Греция, Кипр, Голландия и др.), граждане которых иммигрировали в Австралию, выразили протесты.
Г. Холт не только вновь заявил о полной поддержке войны во Вьетнаме, но и вылетел в Лондон, чтобы попытаться убедить английское правительство послать войска в Южный Вьетнам. Однако Англия не вняла советам австралийского премьер-министра. Может быть, в Лондоне произвело впечатление горделивое заявление Г. Холта, сделанное им в конце августа 1966 г. в Сиднее о том, что Австралия будет брать на себя все большую ответственность в этом беспокойном и тревожном районе.
Дипломатическая сдержанность часто изменяла министру иностранных дел П. Хэзлаку, когда речь шла о политике Австралии во Вьетнаме. Чтобы кто-нибудь не подумал, что австралийские части находились во Вьетнаме только в силу обязательств, вытекавших из договора СЕАТО, П. Хэзлак специально разъяснял: «Было бы ошибочным утверждать, будто австралийское правительство действует сегодня во Вьетнаме только потому, что оно обязано это делать по договору СЕАТО. Даже если бы этого блока не существовало, Австралии хотелось бы, чтобы коммунистическая агрессия в районе Южной и Юго-Восточной Азии была остановлена» [215, 30.V.1966]. С поразительной настойчивостью П. Хэзлак повторял, что Австралия выполняет во Вьетнаме великую миссию, ибо «война во Вьетнаме является борьбой за будущее Азии» [228, 12.Х. 1966].
340
Понятно, что такая политика получала одобрение в США. «За более чем 25-летний срок,— сказал в 1966 г. М. Банди, в то время специальный советник президента США,— в Вашингтоне прониклись большим уважением к политической проницательности государственных деятелей Австралии» [217, 11.V.1966].
Но безоговорочная поддержка политики США правительством Австралии шокировала даже австралийских конгрессменов. «Сегодняшние новости о внутренней борьбе во Вьетнаме,—заявил, например, 15 мая 1966 г. сенатор Торнбалл,— должны открыть глаза всем в Австралии, кто сомневается в абсурдности нашей политики во Вьетнаме... Я призывал премьер-министра сказать Австралии правду. Мы имеем достаточно много вводящих в заблуждение, неточных, если не сознательно лживых, заявлений нашего министра иностранных дел (г-на Хэзлака), который... сознательно вторит голосу своего хозяина — г-на Дина Раска. Фактически в том, что касается Вьетнама, мы вполне можем пригласить г-на Раска быть нашим министром иностранных дел» [214, 6.V.1966].
Участие в американских военных авантюрах в Азии дорого обошлось австралийцам. С 1963/64 г. ежегодные военные расходы Австралии возросли на 90%. В 1966 г. они были доведены до 1 млрд, австрал. долл.
По соглашению с США Австралия в течение трех лет должна была закупить американское вооружение на сумму 350 млн. долл.
И Соединенные Штаты и Англия старались все теснее привязать Австралию к своим военным приготовлениям. В феврале 1965 г. в Тидбинбилле (в 45 км от Канберры) была введена в эксплуатацию американская станция наблюдения за космическими ракетами. 16 сентября 1967 г. на пустынном западном побережье Австралии премьер-министр Г. Холт открыл самую большую в мире радиостанцию, работающую на очень низких частотах, которую использует командование военно-морских сил США. Австралийское правительство позволяло также американскому правительству размещать в стране на отдых солдат, воевавших во Вьетнаме.
В конце января 1966 г. Австралию посетил английский министр обороны Д. Хили. Его задачей было добиться более широкого участия Австралии в планах «обороны к востоку от Суэца». Местные газеты писали, что переговоры касались создания в Дарвине крупной военно-воздушной базы, превращения ряда портов Австралии в базы для атомных подводных лодок, атомных бомбардировщиков, десантных соединений английской и американской армий.
В связи с решением Англии вывести свои войска из Юго-Восточной Азии к 1971 г. австралийское правительство уже с августа 1967 г. начало обсуждать вопрос об усилении своего военно-стратегического положения в этом районе. Планировалось, в частности, активизировать работы по созданию крупной военно-морской базы во Фримантле, в Западной Австралии, расширить взлетно-посадочные полосы на Кокосовых островах, отправить дополнительные воинские контингенты в Малайзию и Сингапур.
341
Подобные акции внешней политики австралийского правительства не могли не вызывать серьезной оппозиции в стране. В движении протеста участвовали представители самых различных слоев населения: рабочие, фермеры, учащиеся, священники. Весьма .активно выступали против посылки австралийских войск в Южный Вьетнам профсоюзы моряков и докеров. В мае 1965 г. профсоюз моряков Мельбурна отказался буксировать военные корабли США, прибывшие с «визитом вежливости». В июле 1965 г. группа австралийских священнослужителей обратилась с открытым письмом к правительству, в котором резко критиковала его за участие страны в войне во Вьетнаме. Священники заявляли, что намерены продолжать организацию митингов «и вынести действия премьер-министра и его правительства на суд общественного мнения». В августе 1965 г. 513 виднейших австралийских ученых, профессоров и преподавателей 11 университетов страны подписали петицию протеста, адресованную премьер-министру, в которой требовали немедленного вывода австралийских войск из Вьетнама, прекращения войны в Юго-Восточной Азии.
Шумный скандал разыгрался 28 ноября 1965 г. на митинге в Сиднее, где выступал премьер-министр Г. Холт. Оратора никто не слушал, в зале стоял несмолкаемый шум. Когда Холт сошел с трибуны, его окружила толпа, собравшиеся выкрикивали антивоенные лозунги. Лишь с помощью полиции Г. Холту удалось добраться до машины и уехать.
В марте 1966 г. совет профсоюзов штата Квинсленд направил протест правительству Австралии в связи с его решением послать новые контингенты войск в Южный Вьетнам. Одновременно совет штата обратился к Австралийскому совету профсоюзов и руководству лейбористской партии с призывом немедленно начать национальную кампанию протеста. Аналогичные обращения были приняты многими другими профсоюзами страны.
В августе 1966 г. исполком Австралийского совета профсоюзов вынес специальное решение против войны во Вьетнаме, осудил отправку призывников в Южный Вьетнам и потребовал от правительства проведения референдума по вопросу о посылке призывников за пределы страны.
В апреле 1966 г. Австралийский совет церквей опубликовал обращение с призывом прекратить огонь во Вьетнаме и начать переговоры. Более ста руководителей протестантских церквей штата Виктория направили письмо премьер-министру Г. Холту с требованием немедленно прекратить отправку призывников во Вьетнам. Кстати сказать, Г. Холт еще раз на себе испытал гнев австралийцев, возмущенных его политикой во Вьетнаме. Когда в марте 1966 г. он прибыл для выступления в Мельбурнский университет, его уже при входе окружили сотни студентов, кричавших: «Убийца! Мы не хотим умирать во Вьетнаме! Ни одного австралийца для грязной войны!» Премьер-министру так и не дали выступить. В зале его встретили антивоенными лозунгами, свистом, топотом. Не помогло и вмешательство полиции. Окруженный охранниками,
342
Г. Холт покинул зал и направился к машине, которую студенты успели со всех сторон оклеить антивоенными лозунгами.
Характеризуя отношение австралийского народа к войне во Вьетнаме, известный лейбористский деятель А. Коуэлл сказал, что вьетнамская война непопулярна в Австралии, фактически никто не хочет участвовать в ней.
Прогрессивная общественность Австралии выступала с резкой критикой правящих кругов США, организовавших агрессию во Вьетнаме. Когда в феврале 1966 г. в Австралии находился Г. Хэмфри, в стране состоялись митинги и демонстрации протеста. В них принимали участие представители профсоюзных, женских, молодежных, студенческих и церковных организаций Сиднея, Мельбурна, Брисбена и других городов. Демонстранты вручили Г. Хэмфри открытое письмо, в котором, в частности, содержалось требование прекратить бомбардировки Северного Вьетнама, признать за Национальным фронтом освобождения Южного Вьетнама право равноправного участника будущих переговоров, признать Женевские соглашения 1954 г.
Демонстрации проходили в Австралии и во время визита в страну президента США Л. Джонсона. Прибыв на американском бомбардировщике в Канберру 20 ноября 1966 г., Джонсон поторопился сказать, что чувствует себя в Австралии как дома. На следующий день все газеты страны иронически прокомментировали любезное заявление гостя. Дело в том, что американского президента встретила в Канберре массовая антивоенная демонстрация. В отведенный ему номер отеля заокеанский гость вынужден был пробираться черным ходом.
В организации массового антивоенного движения в стране значительную роль играла Коммунистическая партия Австралии. Австралийские коммунисты мужественно боролись против реакционной внешней и внутренней политики правительства. В мае 1965 г. политбюро КПА опубликовало заявление, в котором призывало всех австралийцев действовать, чтобы спасти страну. Кризис, с которым мы сталкиваемся, говорилось в заявлении, вызван не агрессией извне, а безрассудным решением втянуть Австралию в несправедливую войну американского империализма против Вьетнама.
Политика австралийского правительства вызывала недовольство даже в Либеральной партии. Это недовольство привело к рас^ колу партии. 5 ноября 1966 г. группа членов Либеральной партии,, именовавшаяся сначала Движением за реформу Либеральной партии, провозгласила себя Независимой либеральной партией (НЛП). В ее состав вошли в основном представители деловых кругов страны. Лидер партии директор компании «Ипек иншуренс лимитед» Г. Бартон в заявлении о политической платформе партии подчеркнул, что правительство должно проводить независимый внешнеполитический курс, отвечающий интересам страны. Он потребовал прекращения войны во Вьетнаме и вывода оттуда австралийских войск.
343
На выборах в парламент, состоявшихся 26 ноября 1966 г., правительственная либерально-аграрная коалиция победила. Она даже несколько расширила свое представительство в палате представителей. Это произошло, как отмечала и местная и иностранная пресса, в значительной степени вследствие противоречивой, путаной политики лейбористской партии, в частности во вьетнамском вопросе, чем ловко воспользовались либералы и аграрии. Определенную роль сыграла и развернутая в предвыборный период в весьма широких масштабах антикоммунистическая кампания, имевшая целью запугать австралийского обывателя угрозой «вторжения коммунизма из Азии». Но тем не менее 42% избирателей голосовало против кандидатов правительственной коалиции.
Во второй половине 60-х годов наблюдалось дальнейшее усиление движения против азиатской политики правительства, прежде всего против участия в войне во Вьетнаме.
На Всеавстралийской конференции Австралийской лейбористской партии, происходившей в Аделаиде в августе 1967 г., была принята «Декларация по Вьетнаму», осуждавшая империалистическую агрессию против вьетнамского народа. В резолюции указывалось, что лейбористская партия ищет пути к прекращению войны во Вьетнаме и с этой целью выдвигает свою программу. В документе содержались требования немедленно прекратить бомбардировки ДРВ, признать Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама равноправной стороной в переговорах, немедленно прекратить использование напалма и других запрещенных средств войны. Говорилось также о том, что, если союзники не предпримут этих шагов, австралийское правительство должно рассмотреть вопрос о выводе своих войск из Вьетнама. Лейбористская партия подчеркивала, что, придя к власти, она окажет вьетнамскому народу помощь для скорейшего восстановления экономики страны, ее политического, экономического и социального прогресса.
По инициативе студентов Австралийского национального университета (АНУ), Мельбурнского университета, а также Университета им. Монаша были созданы комитеты и фонды помощи Национальному фронту освобождения Южного Вьетнама. С трибуны парламента в августе 1967 г. Г. Холт назвал действия студентов предательскими и пригрозил, что власти предпримут против них решительные меры. Но студенческие комитеты продолжали свою работу. В ответ на заявление премьер-министра руководитель Канберрского комитета К. Мортон сказал, что студенты не предатели., Они любят свою родину, но не меньше любят справедливость. Глубокое изучение положения, сложившегося в Южном Вьетнаме, дает им право считать, что интересы вьетнамского народа представляет Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама и что без поддержки полумиллионной американской армии сайгонский режим не просуществовал бы и одного дня. Представитель мельбурнского студенческого комитета Д. Кришнер заявил, что австралийское правительство использует тактику Маккарти — вначале приговор, а потом суд. Студенты Мельбурна будут продолжать
344
свою работу, подчеркнул он, наша помощь гуманна, мы посылаем медикаменты, а не оружие.
В конце апреля 1967 г. в штате Виктория происходили выборы в Законодательный совет. Вечером 29 апреля, когда выборы подходили к концу, в помещении, где работала центральная счетная комиссия, была поставлена большая доска, на которой указывались избирательные округа, фамилии кандидатов и количество поданных за них голосов. В ряде округов было выдвинуто необычно большое число кандидатов — 8—10, причем количество голосов, поданных за каждого из них, не превышало четырех. Почти все кандидаты этих округов являлись военнослужащими, находившимися в Южном Вьетнаме. По закону военнослужащий, зарегистрированный в качестве кандидата в законодательный орган власти, получает право немедленно выехать в свой избирательный округ. Вот родители и постарались вернуть своих детей из вьетнамских джунглей хотя бы на период избирательной кампании, выставин их в качестве кандидатов в депутаты. Этот случай характеризует отношение простых австралийцев к вьетнамской авантюре своего правительства.
Тем не менее австралийское правительство продолжало проводить прежнюю политическую линию. Изменение в руководстве правительством (вместо погибшего в конце 1967 г. Г. Холта премьер-министром был избран Д. Гортон) не отразилось на внешней политике страны. Выступая в Сиднее 5 февраля 1968 г. с программным заявлением, Д. Гортон подтвердил безоговорочную поддержку Соединенных Штатов во Вьетнаме, которая, по его словам, должна продолжаться до тех пор, пока это необходимо.
Австралийское правительство весьма активно разрабатывало программу расширения своих военных мероприятий в Юго-Восточной Азии. В феврале 1968 г. министр иностранных дел П. Хэзлак обсуждал в Веллингтоне с новозеландским правительством проекты военного сотрудничества в этом районе. В Малайзию была направлена группа австралийских и новозеландских специалистов для изучения на месте возможных последствий вывода британских войск. Выступая после двухчасовой встречи с новозеландским премьером К. Холиоком, П. Хэзлак сообщил, что в соответствии с достигнутой договоренностью Австралия будет арсеналом обороны для Юго-Восточной Азии.
В марте — апреле 1968 г. в Веллингтоне проходило совещание министров иностранных дел СЕАТО. В опубликованном 4 апреля 1968 г. коммюнике вновь подтверждался агрессивный политический курс государств — членов СЕАТО.
Своего рода «научное обоснование» политике австралийского правительства в Азии должна была дать сессия Летней школы Австралийского института политических наук, проводившаяся в Канберре 28—30 января 1967 г. Тема сессии: «Коммунизм в Азии. Угрожает ли он Австралии?» На собрании присутствовало более 600 человек. На сессию наряду с австралийскими учеными были приглашены крупнейшие американские и английские «специалисты
345
по коммунизму», а также политические деятели из «лояльных» стран Юго-Восточной Азии.
Открывая сессию, профессор Калифорнийского университета Р. Скалапино заявил, что главная угроза азиатского коммунизма состоит не в агрессии «старого типа, а в неоагрессии, в форме поощряемого извне национально-освободительного движения» [217, 30.1.1967]. Характерным было выступление преподавателя отделения наук Университета Нового Южного Уэльса О. Харриса, который пытался обосновать тезис о том, что «господство коммунизма в Юго-Восточной Азии создало бы серьезную угрозу Австралии». Стремясь запугать аудиторию, О. Харрис утверждал, что «коммунистическое господство в Юго-Восточной Азии наступит через десять-двадцать лет». Гарантией от подобных бед, по его мнению, является «и сейчас, и в ближайшем будущем американское присутствие в Юго-Восточной Азии» [228, 30.1.1967]. Выступивший последним вице-канцлер Университета Нового Южного Уэльса проф. Э. Коувен старался оправдать политику австралийского правительства во Вьетнаме, заявив, что пребывание там австралийских войск является «хорошо продуманным политическим актом» [228, 31.Х.1967].
Это заявление, а также домыслы, содержавшиеся в выступлении О. Харриса, вызвали особенно резкие протесты студентов, присутствовавших на сессии. Так, студентка Университета им. Мона-ша Д. Бедфорд сказала, что заявление проф. Коувена «опасная и коварная форма цинизма». Студент Аделаидского университета П. Весли-Смит назвал выступления Э. Коувена и О. Харриса «совершенно аморальными» [228, 31.Х.1967].
В начале ноября 1967 г. на научной сессии в Мельбурне с докладом «Роль Австралии в Азии» выступил известный австралийский ученый проф. У. Болл. Критически проанализировав политику австралийского правительства в Азии, он подчеркнул, что она глубоко ошибочна и вызывает недовольство подавляющего большинства азиатских государств. «Австралийская политика военной поддержки Соединенных Штатов во Вьетнаме,— отметил У. Болл,— не находит сочувствия в Азии. Наиболее крупные страны Азии — Индия, Пакистан, Бирма, Индонезия и Япония — не согласны с австралийским диагнозом положения в Азии и определенно не желают участвовать каким-либо путем в американских военных усилиях во Вьетнаме» [78, с. 10—11].
Отвечая тем австралийским ученым, которые считали, что военная поддержка Австралией США во Вьетнаме являлась своего рода страховым полисом на тот случай, если Австралии будет угрожать «какая-либо опасность», проф. У. Болл сказал: «Захочет ли Америка помочь Австралии в период опасности, будет зависеть не столько от той благодарности, которую США испытывают к нам за то, что мы делам сейчас во Вьетнаме, сколько от их оценки глобального стратегического положения в то время, когда Австралии будет угрожать опасность» [78, с. 10—11].
В 1968—1970 гг. поддержка австралийским правительством
346
азиатской политики США стала еще более откровенной. Австралийский премьер-министр Д. Гортон после поездки в начале июня 1968 г. в США и встречи с президентом Л. Джонсоном откровенно заявил, что правительство Австралии воздержится от разработки собственной военной политики в Юго-Восточной Азии на длительный период, во всяком случае до окончания президентских выборов в Соединенных Штатах.
Одновременно австралийское правительство все время увеличивало военные статьи национального бюджета. В 1968/69 г. фактические расходы на военные нужды составили 1164 млн. австрал. долл. Военные расходы правительства за границей увеличились на 31 млн. и достигли 375 млн. австрал. долл. В 1969/70 г. расходы на военные цели составляли 1104 млн. австрал. долл.
У народов Азии это не могло не вызвать чувства тревоги. Заявляя о своем намерении заложить основы длительных, устойчивых и дружественных отношений с Азией, австралийское правительство в действительности вело политику, враждебную азиатским народам, усиливавшую напряженность, расширявшую сферу военных конфликтов в Азии.
Министр иностранных дел Австралии Г. Фрит сразу же после вступления на этот пост в феврале 1969 г. сообщил о готовности своей страны взять на себя полицейские функции в районе Юго-Восточной Азии. Тогда же, в феврале 1969 г., австралийское правительство заявило о выходе из Комитета 24-х, учрежденного в 1961 г. решением Генеральной Ассамблеи ООН для наблюдения за выполнением Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Австралия заявила также об отказе подписать Договор о нераспространении ядерного оружия.
Действия австралийского правительства получили полное одобрение и поддержку со стороны новой администрации США, возглавлявшейся президентом Р. Никсоном. Когда в мае 1969 г. австралийский премьер-министр Д. Гортон находился с официальным визитом в США, Никсон в сделанном им заявлении подчеркнул, что Австралия продолжает оставаться одним из ближайших друзей и союзников Соединенных Штатов. «Австралия, — сказал президент,— член АНЗЮС и СЕАТО, двух союзов, являющихся основой нашей стратегии в Юго-Восточной Азии». Решение австралийского правительства сохранить свои войска в Малайзии и Сингапуре после ухода оттуда английских войск в 1971 г. Никсон назвал «историческим и прозорливым решением», которое, несомненно, встретит «наше полное понимание и поддержку» [203, т. 40, 1969, №5, с. 217].
В конце мая 1969 г. на 14-й конференции совета СЕАТО, состоявшейся в Бангкоке, министр иностранных дел Г. Фрит подтвердил верность Австралии целям этого союза и неизменность его политики в отношении Вьетнама. «Мы,— заявил он,— испытываем особое доверие к СЕАТО. Мы продолжаем оказывать этой организации большую поддержку» [203, т. 40, 1969, № 5, с. 226].
Но приверженность к СЕАТО не уменьшала стремления авст
347
ралийского правительства к более тесному союзу с США. Это полностью подтвердила 19-я сессия совета АНЗЮС, состоявшаяся в Канберре в начале августа 1969 г. С этим пактом австралийское правительство связывало надежды на американское покровительство и потому не хотело и думать о каких-либо изменениях в нем.
Г. Фрит на пресс-конференции, устроенной по окончании сессии, отвечая на вопрос о том, одобрило бы австралийское правительство какие-либо оговорки к договору или его пересмотр, решительно заявил: «Мы довольны договором АНЗЮС. Мы считаем его чрезвычайно ценным, и с нашей стороны не будет никаких попыток выйти за его пределы» [203, т. 40, 1969, № 8, с. 440].
Политика участия в военных авантюрах США в Азии, проводимая австралийским правительством, дорого обходилась народу Австралии. Согласно официальным данным, сообщенным министром обороны А. Фейрхоллом в начале сентября 1969 г. в палате представителей, потери австралийской армии и флота во вьетнамской войне составили 314 человек убитыми и 1640 — ранеными. Понятно, что протесты против внешнеполитических акций правительства продолжали нарастать. Это нашло отражение в ходе выборов в федеральный парламент в 1969 г. Правительственная коалиция удержалась у власти только благодаря поддержке реакционной Демократической лейбористской партии.
Что касается отношений Австралии с Советским Союзом и другими странами социалистического лагеря, то австралийское правительство не стремилось их развивать. До 1966 г. СССР был единственным социалистическим государством, имеющим дипломатические отношения с Австралией. Они были установлены в 1942 г. Тогда же было основано Общество австралийско-советской дружбы. Союзнические отношения между странами, возникшие в период борьбы с общим врагом, были в 50-е годы омрачены резким антисоветским курсом австралийского правительства. Дело дошло до фактического разрыва в 1954 г., когда послы и составы представительств обеих стран выехали на родину. Дипломатические отношения были нормализованы лишь в 1959 г.
С середины 60-х годов некоторое развитие получили торговые и культурные связи между социалистическими странами и Австралией. В конце октября — начале ноября 1964 г. Советский Союз посетил министр иностранных дел Австралии П. Хэзлак. В апреле 1966 г. в Канберре делегация Верховного Совета СССР участвовала на сессии Межпарламентского союза. В 1967 г. Австралия заключила торговые соглашения с Социалистической Республикой Румынией и Венгерской Народной Республикой, установила дипломатические отношения с Монгольской Народной Республикой.
Австралийская общественность все настойчивее требовала расширения связей с Советским Союзом и другими социалистическими государствами. Но австралийское правительство не прислушивалось к этим выступлениям и продолжало осуществлять свой прежний внешнеполитический курс.
348
Австралийское правительство старалось бороться с «коммунистической угрозой» в Азии не только военными средствами. Для «стабилизации» положения в этой части света и создания там лояльных по отношению к капиталистическому миру режимов Австралия использовала и экономические средства.
Австралийские буржуазные ученые откровенно говорили о прямой связи внешней политики с внешней торговлей и экономической помощью. Так, проф. Д. Миллер писал: «Торговля — сложный фактор в общей сфере внешней политики. Это становится еще более очевидным, если принять в расчет экономическую помощь, которая ныне является частью и предпосылкой дипломатии» [149, с. 39].
Австралийские экономисты старались определить наиболее эффективные пути экономических отношений со странами Азии. Один из крупнейших экономистов, проф. Г. Арндт, выступая с публичной лекцией в Аделаидском университете в сентябре 1964 г., говорил о том, что Австралия должна сократить размеры своей помощи Папуа Новой Гвинее и добиться, чтобы значительная часть ее шла по линии ООН. Необходимо также, подчеркнул он, максимально привлекать частный капитал. В то же время Австралии следует увеличить свое участие в оказании помощи развивающимся странам Азии на основе многосторонних договоров. Г. Арндт призывал к расширению торговых отношений с развивающимися странами Азии, а также к совершенствованию технической помощи этим государствам и системы подготовки национальных кадров [69, с. 16—18]. За счет сокращения помощи Папуа Новой Гвинее он предлагал увеличить экономическую помощь развивающимся странам Азии.
В структуре австралийской внешнеэкономической помощи большая часть средств направлялась в Папуа Новую Гвинею. С 1945 по 1966 г. внешнеэкономическая помощь Австралии в целом составила 880 млн. австрал. долл., доля Папуа Новой Гвинеи равнялась 537 млн. австрал. долл. [25, с. 5].
177 млн. австрал. долл, было ассигновано по двусторонним программам. Здесь основным каналом был «План Коломбо», в котором Австралия с момента его создания в 1950 г. играла весьма заметную роль. До 30 июня 1966 г. Австралия израсходовала по «Плану Коломбо» 129 038 тыс. австрал. долл., из которых 89 411 тыс.— на программы экономического развития, в том числе на создание предприятий перерабатывающей промышленности, строительство ирригационных систем, дорог и т. п. На техническую помощь было выделено 39 572 тыс. австрал. долл. [25, с. 5—6]. Часть этих средств пошла на оплату стипендий для студентов из развивающихся стран, посылаемых на учебу в австралийские университеты. В середине 1966 г. в Австралии по «Плану Коломбо» обучалось 1454 малайца, 1038 индонезийцев, 751 индиец, 488 пакистанцев, 502 тайца, 453 бирманца, 469 филиппинцев. По «Плану Коломбо» Австралия с 1945 по 1966 г. отправила в азиатские стра
349
ны около 1000 экспертов. Технического оборудования поставлено на 7944 тыс. австрал. долл. [25, с. 6].
Другим значительным каналом, по которому направлялась помощь на основе двусторонних программ, являлся пакт СЕАТО. Согласно ст. 3 этого документа, стороны должны были сотрудничать друг с другом в области экономического развития. До 30 июня 1966 г. Австралия ассигновала на эти программы 14 234 тыс. австрал. долл., в том числе для Пакистана — 3366 тыс., Таиланда — 434,5 тыс., Филиппин—1613 тыс., Южного Вьетнама — 4418 тыс. австрал. долл. [25, с. 6].
Кроме того, Австралия являлась участником многосторонних программ помощи. До 30 июня 1966 г. она внесла в Международный банк реконструкции и развития 47,6 млн. австрал. долл., в Международную финансовую корпорацию— 1996 тыс., в Международную ассоциацию развития—14 774 тыс., в Азиатский банк развития— 85 млн. (на конец 1966 г.), по программам ООН — 89 308 тыс., по программам военной помощи Малайзии и Индии — 12 867 тыс. австрал. долл. [25, с. 6].
По размерам внешнеэкономической помощи в пересчете на душу населения (в абсолютных цифрах) Австралия занимала четвертое место среди капиталистических стран (10,9 долл.) и пятое— в процентном отношении этой помощи к национальному доходу (0,64%).
В 70-е годы объем австралийской экономической помощи в абсолютных цифрах продолжал увеличиваться (табл. 13).
Таблица 13
Австралийская внешнеэкономическая помощь *, тыс. австрал. долл.
Вид помощи 1971/72 г. 1972/73 г. 1973/74 г. 1974/75 г.
По программам ’ двусторонней помощи 187 507 204 340 242 788 278 575
В том числе помощь Папуа Новой Гвинее 136 536 144 302 177 076 168 835
По программам многосторонней помощи .... 13 012 14 495 17 969 49 568
В том числе: а) по линии международных финансовых программ .... 4 039 4 224 5 975 18 524
б) по линии учреждений ООН 4 039 4 224 5 975 18 524
в) по линии других международных организаций 1 447 2 291 3 008 5 033
Всего . . 200 519 218 835 260 657 328 143
* Official Year Book of Australia, 1975 and 1976, № 61, c. 126—127.
350
В процентном отношении к совокупному национальному продукту страны размер помощи развивающимся странам постепенно уменьшается: в 1974/75 г. он составил 0,56% [34, 1976, № 61, с. 126—127].
Необходимо особо подчеркнуть, что Австралия придавала и придает большое значение подготовке в своих учебных заведениях научно-технических кадров для азиатских стран. «За последние несколько лет,— заявил в своей речи в парламенте 6 января 1967 г. Г. Холт,— более 50 тыс. студентов из Азии окончили наши различные учебные заведения, и они могут стать, во всяком случае многие из них, хорошими послами Австралии в своих странах» [203, т. 38, 1967, № 1, с. 5]. В 1974 г. в австралийских университетах обучалось 12 тыс. студентов из азиатских стран.
Значительные изменения произошли и в области торговых отношений Австралии с азиатскими странами, прежде всего странами Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока. Уже в первое послевоенное десятилетие стоимость австралийского экспорта в страны Южной и Юго-Восточной Азии выросла более чем в 10 раз по сравнению с довоенным уровнем (1938/39 г.— 15 млн. австрал. ф., в 1955/56 г.— 1621 млн. австрал. ф.) [204, 5.III.1959, с. 317]. Доля азиатских стран в общем объеме австралийского экспорта составила в 1957/58 г. 23% против 12,7% в 1938/39 г. [204, 5.111.1959, с. 317]. С начала 60-х годов она уже превысила 30%. Правда, значительная часть приходилась на торговлю с Японией, а не с развивающимися странами, но и торговля с последними показывает в целом заметный рост. Стоимость внешнеторгового оборота Австралии со странами Южной, Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока за девять лет (1965—1975) увеличилась с 0,9 млрд, до 2,2 млрд, австрал. долл. [34, 1968, № 54, с. 372; 34, 1975 и 1976, № 61, с. 346].
Ближайший азиатский сосед Австралии — Индонезия. В отношениях с этой страной особенно ярко проявлялись указанные выше два основных направления австралийской политики в Азии. С одной стороны, Австралия всячески поддерживала Голландию в период борьбы индонезийского народа за независимость, а также во время решения вопроса о Западном Ириане. Она направила свои регулярные части в Малайзию и практически участвовала в военных действиях против Республики Индонезия. С другой стороны, Австралия сохраняла дипломатические отношения с Индонезией, вела с ней торговлю и по «Плану Коломбо» предоставляла определенные средства, которые шли на осуществление проектов дорожного строительства, создание учебных центров и т. п.
«Австралийская политика в отношении Индонезии во время трудного периода „конфронтации",— писала газета „Острэйли-ен", — неизменно состояла из комбинаций сдержанного, но вполне определенного военного ответа на индонезийскую агрессию и спокойных средств, убеждающих, что связи, существующие между Австралией и Индонезией, не должны быть уничтожены» [215, 20.IX. 1966]. Иными словами, Австралия всячески старалась содейство-
351
вать тому, чтобы Индонезия не пошла по пути некапиталистического развития. Поэтому с таким удовлетворением австралийские правящие круги восприняли изменение внешней и внутренней политики Индонезии после событий 30 сентября 1965 г. Австралийский министр иностранных дел П. Хэзлак заявил, что Австралия готова сотрудничать со своим соседом. «Существует много путей, используя которые мы сможем работать для взаимной пользы» [215, 19.XII.1966]. Переменила тон и австралийская пресса. «Новому правительству,— писала, например, сиднейская газета „Дейли те-леграф“,— будет значительно легче добиться доверия западных наций, которые стремятся помочь Индонезии выбраться из экономической трясины» [218, 27.VII.1966].
В начале июля 1966 г. П. Хэзлак посетил Индонезию с официальным визитом. Несмотря на широковещательные заявления о намерении расширять экономические отношения с Индонезией, сделанные ранее, представитель австралийской буржуазии уже в аэропорту поспешил разъяснить индонезийцам, что он приехал не в качестве рождественского Деда Мороза. «Я прибыл сюда, чтобы постараться понять позицию индонезийского народа и доложить об этом австралийскому правительству» [215, 9.VIII.1966].
По возвращении из Индонезии П. Хэзлак заявил, что «Австралия сможет сыграть умеренную, но полезную роль» в оказании экономической помощи Индонезии. В частности, Австралия продолжит помощь по «Плану Коломбо» в трех направлениях: в создании аэронавигационной системы, в дорожном строительстве и в подготовке индонезийских студентов в австралийских университетах [215, 19.VIII.1966].
В то же время австралийские деловые круги стремились к более широкому участию в экономической жизни Индонезии. В крупнейшей австралийской газете «Острэйлиен» была помещена статья под названием «План дружбы из 9 пунктов», в которой предлагались следующие основные направления развития отношений с Индонезией: распространение в Индонезии знаний об Австралии с помощью индонезийской прессы, радио и телевидения; расширение взаимных посещений представителями деловых кругов, учеными, студентами, деятелями культуры, спортсменами; увеличение помощи Индонезии по «Плану Коломбо»; заключение соглашения о воздушном сообщении, оказание помощи в развитии гражданской авиации Индонезии; использование всех возможностей для развития торговых отношений, а также участие в развитии экспортных отраслей индонезийской экономики, особенно на Суматре; развитие сотрудничества с Индонезией на Новой Гвинее; установление прямых контактов с индонезийской армией, особенно в форме обмена преподавателями и слушателями военных учебных заведений; регулярное проведение консультаций на правительственном уровне по наиболее важным политическим и экономическим проблемам, имеющим взаимный интерес [215, 22.IX.1966].
25 января 1967 г. П. Хэзлак вновь посетил Индонезию. Предлогом для этого визита было открытие нового здания австралий-352
ского посольства в Джакарте. Официальная церемония состоялась 26 января, в день национального праздника Австралии. Солидное здание, строительство которого обошлось в 1,5 млн. австрал. долл., должно было свидетельствовать о серьезности намерений Австралии в Индонезии. Эту же мысль подчеркнул Хэзлак в своем выступлении. Австралийско-индонезийские отношения на протяжении последних месяцев постоянно улучшались, сказал он, и мы надеемся, что они будут улучшаться и в дальнейшем [215, 26.1.1967].
Во время своего двухдневного визита П. Хэзлак вел интенсивные переговоры с руководящими деятелями индонезийского правительства. Но по окончании переговоров в печати появилось лишь короткое коммюнике, содержащее общие фразы. Вернувшись в Австралию, П. Хэзлак более подробно сообщил о содержании переговоров. Он сказал, что важное место занимал вопрос о предстоящей в Голландии встрече представителей стран — кредиторов Индонезии. Индонезийскому правительству были даны заверения, что участие Австралии в этой встрече «будет основываться на интересах Индонезии», что «экономическое развитие Индонезии весьма важно не только для самой Индонезии, но и для будущей стабильности в Юго-Восточной Азии». Рассматривались также вопросы австралийско-индонезийских торговых и экономических отношений, обсуждались пути расширения взаимного обмена визитами и информацией [214, 1.11.1967]. На переговорах представителей стран — кредиторов Индонезии в Амстердаме австралийские представители активно поддерживали индонезийских делегатов.
Размер австралийской экономической помощи Индонезии в 1968/69 г. составил 12,7 млн. австрал. долл., увеличившись вдвое по сравнению с предыдущим годом [203, т. 39, 1968, № 3, с. 1053]. Кроме того, австралийское правительство предоставило в 1968/69 г. Индонезии кредит в 10,7 млн. австрал. долл, на оплату ее импорта из Австралии [203, т. 39, 1968, № 8, с. 347].
В 1967 г. начали налаживаться контакты между австралийской и индонезийской армиями; в 70-х годах они стали более регулярными и глубокими. В 1972—1975 и 1975—1977 гг. были осуществлены две трехлетние программы австралийско-индонезийского сотрудничества, на которые было ассигновано в общей сложности 45 млн. австрал. долл. Индонезия получила военные самолеты, патрульные катера, радиолокационные станции, полевые радиопередатчики. Около 1 тыс. индонезийских военнослужащих прошли подготовку в Австралии.
В 1978/79 г. военная помощь, предоставленная Австралией Индонезии, оценивалась примерно в 7 млн. австрал. долл. [228, 30.Х.1978]. В конце октября — начале ноября 1978 г. австралийский министр обороны Д. Киллен посетил Индонезию. Министр заявил, что его визит имел целью подчеркнуть то большое значение, которое Австралия придает отношениям между двумя странами в области обороны.
В 70-х годах продолжали расширяться австралийско-индонезийские экономические отношения. С 1972 по 1975 г. общий объем
23 Заказ 91
353
товарооборота между Австралией и Индонезией вырос с 88 220 тыс. до 193 944 тыс. австрал. долл. [34, 1976, № 61, с. 346].
Австралия оказывает Индонезии значительно большую помощь, чем другим развивающимся государствам, кроме Папуа Новой Гвинеи. В 1974/75 г. она составила 22,9 млн. долл. [34, 1976, № 61, с. 346].
С Малайей Австралия имела устойчивые торговые связи с начала нынешнего века, закупая там каучук, олово и лес, экспортируя зерно и муку, мороженое мясо, масло, фрукты и овощи, а в послевоенные годы — автомобили, машинное оборудование, химикаты, медикаменты, различного рода промышленные товары. После получения Малайей независимости ее торговля и экономические связи с Австралией еще более расширились. В 1958 г. было подписано торговое соглашение, причем переговоры по этому поводу были завершены в рекордно короткий срок—10 дней, в то время как переговоры по поводу заключения австралийско-японского торгового соглашения длились 5 месяцев, а для заключения австралийско-ланкийского торгового соглашения потребовалось 3 месяца.
Причины такого интереса к Малайе точно сформулировал директор одной из крупнейших австралийских строительных компаний Д. Льюис: «Малайя имеет лучший в Юго-Восточной Азии климат для капиталовложений» [204, 5.III.1959, с. 327]. Австралийцы постарались занять важные позиции в государственном аппарате и деловом мире Малайзии. В частности, управляющим Центральным банком Малайзии стал австралийский финансист У. Уилкок. Товарооборот между двумя странами за первое пятилетие 60-х годов вырос более чем в 3 раза и достиг суммы 135 239 тыс. австрал. долл. [34, 1966, № 52, с. 416]. Через десять лет он составил уже 153 170 тыс. долл. [34, 1976, № 61, с. 346].
Быстро развивались торговые отношения Австралии с Филиппинами. За 1950—1965 гг. товарооборот между ними, по данным Центрального банка Филиппин, увеличился в 16 раз (с 1770 тыс. долл, до 31 844 тыс. долл.) [204, 15.IX.1966, с. 523].
Австралийско-филиппинская торговля характеризовалась значительным преобладанием австралийского экспорта над филиппинским. Стремясь еще более увеличить товарооборот между странами,, австралийское правительство и деловые круги тщательно изучали филиппинский рынок, посылая на Филиппины многочисленные торговые делегации. Так, с 1962 по 1966 г. Филиппины посетили 6 австралийских торговых миссий [204, 4.XI.1965, с. 252]. В начале 1966 г. было заключено торговое соглашение, которое способствовало некоторому расширению филиппинского экспорта в Австралию. Если в 1962/63 г. стоимость австралийского экспорта на Филиппины составляла 12 486 тыс. австрал. долл., а импорта с Филиппин—1518 тыс., то в 1964/65 г.— соответственно 20 920 тыс. и 12 486 тыс. австрал. долл. [34, 1966, № 52, с. 416], а еще череа десять лет — 99 721 тыс. и 24 147 тыс. австрал. долл. [34, 1976». № 61, с. 346].
354
Австралия старалась расширять торговые и экономические отношения с Бирмой. В июне 1962 г. Бирму с визитом доброй воли посетил Г. Барвик, занимавший в то время пост австралийского министра иностранных дел. После трехдневного пребывания в стране он заявил, что между Австралией и Бирмой не существует спорных проблем, напротив, эти страны имеют много общего [204, 30.1.1964, с. 264].
На следующий год в Бирму приехала австралийская парламентская миссия, для того чтобы ознакомиться с возможностями расширения австралийско-бирманских экономических отношений. В мае 1965 г. Бирму посетил австралийский министр иностранных дел П. Хэзлак. К этому времени австралийско-бирманский товарооборот в стоимостном выражении составил 5186 тыс. австрал. долл. [34, 1966, № 52, с. 416]. Австралийская помощь Бирме по «Плану Коломбо» достигла 5200 тыс. австрал. долл. [204, 4.XI. 1965, с. 256]. Более 400 бирманских студентов прошли подготовку в австралийских университетах [204, 4.XI.1965, с. 256]. Около 20 австралийских экспертов работали в бирманской промышленности, сельском хозяйстве, в области науки и культуры [204, 29.1. 1964, с. 264]. К 1975 г. стоимость австралийско-бирманского товарооборота поднялась до 9411 тыс. австрал. долл. Ежегодный размер помощи только по двусторонним соглашениям достиг почти 3 млн. австрал. долл. [34, 1976, № 61, с. 128, 346].
Экономические и торговые отношения Австралии с другими странами Юго-Восточной Азии — Таиландом, Лаосом, Кампучией, СРВ — до сих пор имеют ограниченный характер. Наиболее крупным партнером из них является Таиланд, стоимость товарооборота с которым с 1962 по 1975 г. увеличилась почти в 8 раз: с 8276 тыс. до 65 594 тыс. австрал. долл. [34, 1976, № 61, с. 128, 346].
Известное развитие получили торгово-экономические отношения Австралии со странами Южной Азии, и прежде всего с Индией. С 1965 по 1975 г. товарооборот между Австралией и Индией увеличился со 106,3 млн. до 140 млн. австрал. долл. [34, 1966, № 52, с. 416; 34, 1976, № 61, с. 346]. Товарооборот между Австралией и Шри Ланкой за тот же период возрос с 36 млн. до 57 млн. австрал. долл. [34, 1966, № 52, с. 416; 34, 1975 и 1976, № 61, с. 346]. Шри Ланка импортирует из Австралии более половины необходимой ей муки и значительную часть молочных продуктов. Австралия же является одним из крупнейших импортеров ланкийского чая. Более 90% экспорта Шри Ланки в Австралию составляет чай.
Среди стран Дальнего Востока (исключая Японию) первое место по объему торговли с Австралией занимает Китай. Австралийское правительство, отказываясь долгое время признать КНР и установить с ней дипломатические отношения, с самого начала существования республики стремилось расширять с ней торговлю. Если в 1952/53 г. стоимость австралийско-китайского товарооборота составляла 4178 тыс., то в 1964/65 г.— 158 495 тыс., а в 1974/ 75 г.— 335 117 тыс. австрал. долл. [34, 1966, № 52, с. 416; 34, 1976, № 61, с. 346].
23*
355
Из года в год расширялся не только общий объем торговли, но и номенклатура товаров. Кроме пшеницы и шерсти Австралия продает КНР уголь, цинк, стальной лист, машины, химикаты. В 1976 г. австралийский экспорт в Китай возрос на 45%. КНР также расширяет объем экспорта и его номенклатуру. Стоимость китайского экспорта в Австралию увеличилась с 1952/53 по 1974/75 г. с 2816 тыс. до 61 150 тыс. австрал. долл., т. е. в 27 раз [204, 29.VL. 1961, с. 655; 34, 1976, № 61, с. 346].
После визитов в Китай в 1978 г. австралийского министра торговли и промышленности А. Линча и группы австралийских предпринимателей было объявлено о продаже Китаю 900 тыс. т железной руды и о заключении контракта на продажу в 1979 г. еще 1,5 млн. т руды.
Пекинские руководители высказались за широкое участие Австралии в осуществлении так называемых четырех модернизаций.
Объем торговых отношений Австралии с Гонконгом довольно значительный. Несмотря на колебания в отдельные годы, он имеет общую тенденцию к увеличению. Если в 1954/55 г. стоимость оборота между Австралией и Гонконгом составляла 39 368 тыс., то в 1964/65 г. — 61 027 тыс., а в 1974/75 г. — 277 419 тыс. австрал. долл. [204, 5.III.1959, с. 329; 34, 1966, № 52, с. 416; 34, 1976, № 61, с. 346]. Главными товарами, которые Австралия вывозит в Гонконг, являются шерсть, текстиль, зерно, мясо, сахар, кожа, фрукты и овощи, машины, металлы. Гонконг, в свою очередь, экспортирует в Австралию текстильные товары, готовую одежду, мебель, металлоизделия, рыбу. Австралийские компании все более проникают в Гонконг, действуя в торговле, страховом деле, а также в строительной, текстильной и пищевой отраслях промышленности.
Торговые отношения Австралии с Тайванем по своему объему значительно уступали австралийско-гонконгским. Тем не менее и они имеют устойчивую тенденцию к росту. За 10 лет (1955—1965) объем австралийско-тайваньского товарооборота увеличился в 10 раз, а за следующее десятилетие — в-25 раз. К середине 1975 г. его стоимость составила почти 200 млн. австрал. долл. [34, 1976, № 61, с. 346], а в 1977 г.— уже 405 млн. австрал. долл. [214, 9.VI. 1978]. Австралия является одним из главных поставщиков на Тайвань шерсти, кож, руд, металлов, молочных продуктов. Тайвань экспортирует в Австралию текстильные товары, лес, парфюмерию, химикаты.
Торговые отношения Австралии с КНДР показывали систематический рост. В 1954/55 г. стоимость австралийского импорта из КНДР составляла 194 тыс. австрал. долл., а экспорт в эту страну вообще отсутствовал; в 1974/75 г. стоимость импорта выросла незначительно (до 269 тыс. австрал долл.), а стоимость экспорта достигла 7522 тыс. австрал. долл. [204, 5.III.1959, с. 329; 34, 1976, № 61, с. 346].
Стоимость австралийского экспорта в Южную Корею в 1954/ 55 г. составляла всего 8 тыс. австрал. долл., а импорта не было совсем, в 1974/75 г. стоимость экспорта поднялась до 122 435 тыс.
356
австрал. долл., а стоимость импорта достигла 48 369 тыс. австрал. долл. [204, 5.III.1959, с. 329; 34, 1976, № 61, с. 346].
Расширение политических, экономических, торговых и культурных отношений Австралии со странами Азии требовало увеличения числа востоковедов. Теперь востоковедные отделения имеются во всех австралийских университетах. История и современное положение азиатских стран изучаются на отделениях истории и политических наук, языки и литература — в отдельных языковых департаментах (японском, индонезийском, китайском).
Для координации научной и учебной работы в области востоковедения в Университете им. Монаша создан Центр исследований Юго-Восточной Азии. Центр должен следить за выработкой программ обучения, проводить семинары и конференции, наблюдать за ходом подготовки аспирантов. В состав руководства центром входят представители отделений экономики, антропологии и социологии, политических наук, географии, современных языков.
При Западноавстралийском университете создан Центр азиатских исследований. Крупнейшим центром изучения азиатско-тихоокеанского региона является Австралийский национальный университет. Востоковедные исследования проводятся в Школе по изучению Тихого океана и на факультете азиатских исследований.
В последние годы в АНУ изучению стран Тихоокеанского бассейна, Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии уделяется значительно больше внимания. Серьезную работу в этой области проводят отделы экономики, истории Дальнего Востока, международных отношений, истории Тихого океана и Юго-Восточной Азии, центры по изучению современного Китая и стратегических и оборонных исследований, входящие в состав Школы по изучению Тихого океана.
В этих отделах накоплен обширный материал по современному положению государств Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и Тихого океана. Научные работники школы систематически выезжают в изучаемые страны. В школу приглашаются ученые из этих стран.
Школа осуществляет два проекта, финансирующихся правительством: по изучению Индонезии и по изучению роли Австралии и Японии в экономических отношениях со странами западной части Тихого океана.
Расширился факультет азиатских исследований, включающий отделения: азиатских цивилизаций, китайского языка и литературы, индонезийского языка и литературы, японское, лингвистики, отделение Южной Азии и буддийских исследований. К преподаванию и научной работе привлекаются известные австралийские ученые, а также ученые зарубежных стран, прежде всего США, Великобритании, Новой Зеландии, Японии, Индии, Индонезии, Сингапура, Малайзии. Востоковедов страны объединяет научно-исследовательская организация — Ассоциация азиатских исследований Австралии, издающая журнал «Обозрение».
АНУ готовит научные кадры для стран азиатско-тихоокеан-
357
ского региона. В 1977 г. из 300 докторантов половину составляли жители этих государств.
Определенный интерес представляет деятельность общеавстралийских научных организаций — Института международных отношений и Института политических наук, особенно последнего. Главной задачей института политических наук является изучение политических, экономических и социальных проблем как внутри Австралии, так и за ее пределами, в частности в Азии. С этой целью институт проводит семинары, научные конференции, выпускает журнал «Острэйлиен куотерли» и публикует серии монографи-фических исследований.
* * *
Особое место во внешней политике Австралии в Азии занимают ее отношения с Японией. Первое время после окончания второй мировой войны казалось, что восстановление более или менее нормальных отношений между этими странами потребует многих лет — так напряженны они были.
Австралийская общественность не могла подавить в себе естественной настороженности к стране, которая впервые в истории Австралии нанесла ей ощутимые удары и реально угрожала оккупацией ее территории. «Сразу после второй мировой войны,— писал А. Уотт,— лидеры всех австралийских партий, отражая общественное мнение, требовали жесткого мира с Японией» [187, с. 207].
Официальную точку зрения по этому вопросу выразил Г. Эватт: «Первый принцип нашей политики — обеспечение спокойствия и безопасности в районе Тихого океана, что чрезвычайно важно для нашей страны. Это требует разоружения и демилитаризации Японии» (цит. по [203, т. 18, 1947, с. 470]). Австралийцы постарались занять ключевые позиции в союзнической администрации в Японии: представителя стран Британского содружества в Союзном контрольном совете по Японии, главнокомандующего оккупационными войсками стран Британского содружества в Японии. Председателем Международного военного трибунала для Дальнего Востока, судившего главных японских военных преступников, был также австралиец.
Но уже с 1947 г. начался пересмотр ставших привычными понятий. Совершенно определенно это проявилось в период пребывания Г. Эватта в Японии летом 1947 г. Противник нового курса проф. М. Болл, назначенный в апреле 1946 г. представителем стран Британского содружества в Союзном контрольном совете по Японии, в августе 1947 г. был заменен на этом посту чиновником австралийского министерства иностранных дел.
Когда в 1951 г. начались переговоры по поводу заключения мирного договора с Японией на основе проекта, предложенного США, австралийское правительство его полностью поддержало, несмотря на то что проект грубо нарушал принципы послевоенных 358
отношений с Японией, ранее провозглашенные самой же Австралией. Р. Мензис старался оправдать такую позицию австралийского правительства тем, что на него оказали давление США и Англия. «Австралийское правительство очень скоро обнаружило,— писал он,— что борьба за запрещение перевооружения Японии не имеет надежды на успех. Соединенные Штаты и Соединенное Королевство, две главные нации свободного мира, дали ясно понять, что они не готовы запретить с помощью действенных средств перевооружение Японии. И если эти великие державы не хотели запретить... то как могла Австралия сама сделать такое запрещение эффективным?» [205, т. 30, 1953, № 2, с. 189, 194].
К такому же заключению пришел спустя 15 лет А. Уотт: «Мирный договор, в котором были заинтересованы Соединенные Штаты Америки, вошел бы в силу независимо от того, возражала бы против него Австралия или нет» [187, с. 123].
С этими уничижительными заявлениями нельзя согласиться не потому, что США и Великобритания не могли бы оказать необходимого давления на австралийское правительство, чтобы заставить его подписать не удовлетворявший его договор, ню потому, что австралийское правительство действовало вполне добровольно, соответственно собственному внешнеполитическому курсу в Азии, который к тому времени проявился достаточно четко. А курс этот определялся главным образом страхом перед освободительным движением азиатских народов, прежде всего в Юго-Восточной Азии. Именно поэтому австралийское правительство поддерживало милитаризацию Японии, в столь недавнем прошлом своего наиболее опасного врага. «Страх перед распространением коммунизма в Азии, — писал проф. М. Болл, — возобладал над страхом перед возрождением японского экспансионизма» (цит. по [73, с. 262]).
Надо сказать, что резкий поворот в официальной политике Австралии по отношению к Японии обгонял трансформацию взглядов австралийской общественности по этому вопросу. Даже в таком издании, как «Австралия в мировых делах 1950—1955», выпущенном в 1957 г. близким к австралийскому министерству иностранных дел Институтом международных отношений, высказывалось опасение по поводу развития политических связей с Японией.
Автор раздела «Австралия и Азия» проф. Фитцджеральд тщательно анализировал возможные варианты «японской опасности» — вероятность присоединения Японии к «коммунистическому блоку» или к «нейтралистскому блоку». Япония, писал он, может представить угрозу для Австралии даже в том случае, если будет держаться в рамках политики, соответствующей интересам США. «Опасность происходит... оттого, что Япония может добиться чего-то, действуя в согласии с Америкой, служа американской политике, которая не обязательно совпадает с австралийской. Идя по этому пути, Япония уже добилась льготных условий мира; скоро она будет перевооружена. Не исключено, что вскоре Японию попросят занять свое место в «сдерживании коммунизма» путем посылки ее войск в опасные районы. Таким образом, может создаться
359
обстановка, при которой японские вооруженные силы будут размещены в некоторых районах, жизненно важных для австралийской безопасности, поскольку в случае возникновения опасности никакая другая держава не сможет так быстро послать необходимые силы... Это и есть реальная японская опасность, и это не может не быть принято во внимание при заключении пактов, в конечном счете зависящих от японского сотрудничества!.. Австралийцы все еще будут предпочитать встречать опасность одни и сами контролировать эти морские коммуникации (имеются в виду коммуникации между Сингапуром и Австралией.— К. М,), чем допустить недавнего врага в это опасное место» [73, с. 218—220].
Следствием политического урегулирования было стремительное развитие экономических отношений между Австралией и Японией. Правда, на первых порах не удалось избежать некоторых осложнений. В 1947 г. австралийское правительство заключило соглашение с Соединенными Штатами Америки, в соответствии с которым американские суда должны были осуществить картографические работы в западном районе Тихого океана, в том числе близ острова Новая Британия. Когда же в 1954 г. США предложили, чтобы эти работы выполнили японские специалисты, австралийское правительство отказалось дать на это согласие, мотивируя свой отказ тем, что присутствие японских картографов вызовет протест австралийской общественности, не забывшей, что именно в данном районе шли кровопролитные сражения австралийцев с японской армией.
2 февраля 1954 г. Р. Мензис публично заявил, что австралийское правительство не может одобрить участия японцев в осуществлении этой работы даже в качестве членов экипажей судов, хотя и понимает важность такой работы и благодарит правительство Соединенных Штатов за желание оказать Австралии помощь. В данном вопросе позиция Австралии была непоколебимой, и Соединенным Штатам пришлось заменить японские судовые команды филиппинскими.
Довольно сложно протекали австралийско-японские переговоры по поводу ловли жемчуга в районе австралийского континентального шельфа. Дело в том, что такого рода операции японцы начали проводить за несколько лет до вступления во вторую мш ровую войну. Когда же Япония попыталась в 1953 г. их возобновить, австралийское правительство предложило сначала провести переговоры и выработать определенные условия. После того как японская сторона заявила, что ее флот будет действовать в двух районах в 100 милях от Дарвина, и когда выяснилось, какое количество раковин собираются вылавливать японцы, Австралия прервала переговоры. Одновременно австралийское правительство приняло законодательство, распространившее юрисдикцию Австралии на весь австралийский континентальный шельф и морское пространство над ним, а также на континентальный шельф вокруг Новой Гвинеи на глубине до 100 морских саженей. В законодательстве указывалось, что ловля жемчуга в австралийских водах допу
360
скается только по специальной лицензии при условии строгого соблюдения установленных правил. За нарушение этих законоположений предусматривалось суровое наказание. Японское правительство выразило протест против действий австралийцев. Переговоры шли долго, и в конце концов было принято решение не заключать долгосрочного соглашения на этот счет, а определять условия ловли жемчуга ежегодно.
Но все это были лишь мелкие досадные эпизоды на пути успешного развития австралийско-японских экономических отношений. Оба правительства всеми средствами старались содействовать их расширению. В конце 1957 г. Австралию с официальным визитом посетил японский премьер-министр Н. Киси. Надо сказать, что с 1941 по 1943 г. он являлся членом кабинета Того и после войны рассматривался союзными державами в качестве одного из главных военных преступников. Но австралийское правительство сделало вид. что не помнит об этом, и проявило максимум гостеприимства. В сентябре 1963 г. Австралию посетил японский премьер-министр X. Икэда, а в 1967 г.— Э. Сато.
Особое развитие получили торговые отношения между странами. За десять лет (1954—1964) доля Японии в австралийском экспорте возросла с 6,7 до 17,6%, а в австралийском импорте — с ‘0,9 до 6,8%. Япония стала вторым по значению торговым партнером Австралии после Великобритании. Но надо иметь в виду, что доля последней в австралийской внешней торговле значительно снизилась за этот же период соответственно с 36,3 до 18,5% и с 48,7 до 27,8%.
Особенно быстро развивались торговые отношения между странами после заключения в 1957 г. австралийско-японского торгового соглашения. Если в 1956/57 г. стоимость товарооборота составляла 218 164 тыс. австрал. долл. [204, 5.III.1959, с. 329], то в самом начале 60-х годов она равнялась уже 453 866 тыс. [201, сентябрь— октябрь, 1963, с. 1]. Соглашение предусматривало предоставление Японии прав наиболее благоприятствуемой нации: существенное снижение тарифов, особенно на текстиль и другие товары широкого потребления, упрощение порядка предоставления импортных лицензий. В свою очередь, Япония расширяла свой рынок для австралийской сельскохозяйственной продукции. Вместе с тем Австралия, опасаясь конкуренции японских товаров, настояла на включении в соглашение статьи, предусматривавшей возможность для каждой из сторон применять дискриминационные меры в отношении другой стороны, если какой-либо отрасли промышленности будет нанесен ущерб торговлей партнера. Кроме того, на протяжении всех шести лет, в течение которых действовало соглашение, Австралия оставляла за собой возможность применения ст. 35 ГАТТ, которая позволяла договаривающимся державам воздерживаться от признания за вновь присоединившейся к ГАТТ страной предоставленных соглашением льгот и преимуществ.
Торговое соглашение 1957 г. устраивало обе стороны и потому по истечении трехлетнего срока было автоматически продолжено
361
на следующее трехлетие. Между 1956/57 и 1963/64 гг. доля Японии в австралийском экспорте поднялась с 14 до 17,6%, а в импорте — с 1,8 до 6,8%. Стоимость товарооборота между странами в 1963/ 64 г. составила 650 278 тыс. австрал. долл. [34, 1966, № 52, с. 416]. Ко времени окончания второго срока соглашения Япония стала самым крупным импортером австралийской шерсти, сахара, угля, меди, шкур и кож. Расширились номенклатура и объем австралийского импорта из Японии, и, хотя текстильные товары по-прежнему преобладали, значительно увеличился вывоз химикалий, машин, стали, оптики и др. Австралия для Японии стала третьим (после США и Гонконга) по значению рынком сбыта.
В эти годы наблюдалась значительная активизация австралийско-японских деловых связей. В марте 1962 г. был создан Австралийско-японский комитет деловой кооперации. Японская палата торговли и промышленности послала в Австралию группу, состоявшую из 39 ведущих представителей деловых кругов, для определения перспектив развития японо-австралийских экономических связей. В мае 1963 г. в Токио состоялось первое собрание Австралийско-японского комитета по деловой кооперации, на котором присутствовало 11 австралийских и 50 японских представителей торговых и промышленных предприятий. Собрание подготовило заключение нового торгового соглашения между Австралией и Японией, которое было подписано в Токио 5 августа 1963 г.
Соглашение предусматривало отказ Австралии от применения дискриминационных мер, указанных в ст. 35 ГАТТ. Япония же соглашалась на дальнейшее улучшение условий предоставления импортных лицензий на ввоз австралийской шерсти и зерна, а также других важнейших товаров сельскохозяйственного экспорта Австралии. В 1964/65 г. стоимость товарооборота между странами поднялась до 699 414 тыс. австрал. долл., причем особенно заметен был рост австралийского импорта из Японии — со 162 468 тыс. австрал. долл, в 1963/64 г. до 274 млн. в 1964/65 г. [34, 1966, № 52, с. 416]. В 1965/66 г. стоимость импорта поднялась до 281 млн. австрал. долл., а экспорта — до 471 млн. Стоимость общего товарооборота, таким образом, составила 752 млн. австрал. долл. [204, 15.1Х.1966, с. 515].
В 1965 г. японский экспорт в Австралию составлял 3,7% общего объема экспорта Японии. Австралия заняла второе после США место в качестве рынка для японских товаров. Непрерывно рос экспорт в Австралию товаров тяжелой и химической промышленности Японии. Если в 1962 г. на эти товары приходилось 30% всего японского экспорта в Австралию, то в 1964 г.— 50%. Особенно быстро росли поставки в Австралию японской стали. К июню 1965 г., например, было экспортировано стали примерно на 60 млн. австрал. долл., т. е. в 2,7 раза больше, чем в предыдущем году. В то же время доля товаров легкой промышленности неуклонно уменьшалась: в 1962 г. она составляла 64%, в 1964 г.— 54, а в 1965 г.— 45% [204, 15.IX.1966, с. 515]. Тем не менее и в это время японский текстиль преобладал в общем импорте этого товара Ав-362
стралией. По данным японской организации по внешней торговле, в австралийском импорте хлопчатобумажных товаров японские изделия составляли 37%, гонконгские—11, английские—10, китайские— 9%. В австралийском импорте синтетического текстиля Япония просто господствовала: на ее долю приходился 51% общего австралийского импорта этого товара, тогда как доля США, занимавших второе место в экспорте этого товара, составляла 17% [204, 15.IX.1966, с. 515].
Широкий сбыт в Австралии находила продукция японской автомобильной промышленности. В 1965 г. на австралийском рынке было продано 23 810 автомашин, или почти в 2 раза больше, чем в 1964 г. Японский экспорт в Австралию в 1977/78 г. достиг 2,1 млрд, долл.
В свою очередь, Австралия значительно увеличивала экспорт своих товаров в Японию. Общий размер австралийского экспорта в Японию вырос в 1977/78 г. до 3,9 млрд. долл. Австралия становится крупнейшим поставщиком железной руды в Японию.
Торговыми отношениями, однако, не ограничивались деловые контакты между Австралией и Японией. Были созданы смешанные предприятия, работавшие в важнейших отраслях австралийской экономики. Так, концерн «Мицуи» вместе с австралийской компанией вел в Квинсленде работы по расширению добычи угля для экспорта в Японию. «Мицуи киндзоку» вложил значительный капитал в добычу меди на территории Западной Австралии, также имея в виду экспортные потребности Японии в этом сырье. «Хая-кава электрикл компани» с австралийским представителем «Олимо консолидейтед» создали смешанное предприятие по производству телевизоров. «Мицуи буссан» и «Сэкиаси кагаку» совместно с австралийскими предприятиями занимались производством труб. Японский капитал был вложен также в несколько австралийских текстильных предприятий. Особое внимание японских предпринимателей привлекли открытые в Австралии богатейшие месторождения железной руды. Так, концерн «Мицуи» купил 35% акций в смешанном предприятии «Кливленд Клиффе айрн компани», ведущем разработки железной руды в районе Пилбари; «Мицубиси» вложил капитал в разработку месторождений железной руды в Тасмании. Японские предприниматели стремились также принять участие в разработке залежей бокситов, цинка, свинца, меди в Квинсленде и Северной Территории.
На заседании Австралийско-японского комитета по деловой кооперации, состоявшемся в Токио в 1965 г., были сделаны рекомендации относительно создания смешанных предприятий в машиностроительной, электротехнической, сталепрокатной отраслях промышленности Австралии. Обсуждались также вопросы, связанные с организацией смешанных австралийско-японских предприятий на Новой Гвинее.
Почему именно с Японией у Австралии так быстро развивались деловые связи? Ответить на этот вопрос нетрудно. По темпам экономического роста Япония занимает первое место в капитали-
363
стическом мире. Ежегодный рост экономики Японии в 1953— 1963 гг. составлял почти 10%, в то время как, например, Великобритании— 2,5%. При этом Япония целиком зависит от импорта некоторых видов сырья, которых в огромных масштабах может поставлять Австралия.
Однако развитие экономических отношений между Австралией и Японией иногда наталкивалось на определенные трудности. Так, японскую сторону беспокоил постоянный и значительный дефицит торгового баланса с Австралией, незначительность доли ряда важных для японского экспорта товаров, ввозимых в эту страну. Например, в 1965 г. в австралийском импорте .товаров химической промышленности удельный вес Японии составлял лишь 4,2%, в то время как на долю США приходилось 30,6%, Англии — 28,8%;, в австралийском импорте машин — соответственно 3,8; 37,1; 35%, в австралийском импорте металлов и металлоизделий—13,6; 27,6; 32,6%. Мешала японскому экспорту в Австралию и сложная австралийская система таможенных тарифов, часто менявшийся процент торговых пошлин. Деятельности американских и английских экспортеров содействовали промышленные и торговые предприятия их соотечественников, действовавших на территории Австралии. Япония же имела ограниченное число предприятий в Австралии.
И австралийская сторона имела немало претензий к своим японским партнерам. Япония, например, стремилась как можно реже соблюдать в отношении австралийских товаров режим наибольшего благоприятствования. Так, в период трудностей с иностранной валютой Япония ограничивала импорт из стран, входящих в систему ГАТТ, в том числе из Австралии.
Все эти вопросы обсуждались на заседании Австралийско-японского комитета по деловой кооперации, происходившем в Токио 24—25 апреля 1967 г. Главное внимание было уделено таким проблемам, как экономическое положение Японии и Австралии, расширение торговли, создание смешанных предприятий и обмен специалистами. Представители обеих стран без обиняков высказали свои претензии и недовольство. После серьезных дебатов был принят ряд позитивных решений.
Представители Австралии и Японии приняли активное участие в работе конференции министров иностранных дел Азии и Тихого океана, проходившей в Сеуле в июне 1966 г.
Президент Южной Кореи Пак Чжон Хи в своей вступительной речи 14 июня 1966 г. призвал к созданию «великого азиатско-тихоокеанского общества», главной целью которого должна стать борьба против «страшной угрозы международного коммунизма».
Япония, Австралия, Новая Зеландия, Малайзия, Филиппины, Таиланд, Тайвань, Южная Корея, участвовавшие в конференции, договорились о создании новой организации — Азиатско-тихоокеанского совета (АЗПАК). В совместном коммюнике, опубликованном 16 июня 1966 г., сообщалось о намерении участников конференции регулярно проводить сессии совета министров стран Азии 364
и бассейна Тихого океана, а также совещания послов этих государств— сессии Постоянного комитета.
П. Хэзлак, выступая незадолго до своего отъезда из Сеула перед корреспондентами, заявил, что он удовлетворен работой конференции, где господствовал дух регионального сотрудничества. О том, каков был этот дух, писала одна малайская газета: «Девять азиатских и тихоокеанских наций достигли сегодня соглашения о создании новой некоммунистической региональной организации... Идея состоит в том, чтобы создать группировку некоммунистических наций для взаимной помощи... Они будут избегать прямой антикоммунистической направленности, но их совместные усилия, очевидно, обеспечат их безопасность против агрессии; в общих политических заявлениях, сделанных вчера, почти все делегаты говорили об угрозе коммунизма» (цит. по [227, 16.VI.1966, с. 2]).
Точно так же новую организацию оценила и «Нью-Йорк тайме». В статье «Азиаты делают шаг в сторону региональной системы обороны» газета писала: «Путем взаимопомощи азиатские правительства стараются укрепить свою экономическую и политическую способность оказывать сопротивление коммунистической подрывной деятельности, которую они считают главной угрозой для своей безопасности... Австралия и Новая Зеландия, присоединившись к этому союзу, дали понять, что соглашаются со своей принадлежностью к Азии. Теперь, когда Англия решила как можно скорее сократить свои военные обязательства к востоку от Суэцкого канала, две белые страны Азии стали больше опираться на региональные соглашения» [223, 20.VI.1966].
Деятельность АЗПАК показала, что новая организация была намерена заниматься весьма широким кругом вопросов: от политической стратегии до проблем увеличения производства удобрений. Так, например, на сессии Постоянного комитета АЗПАК, состоявшейся в Бангкоке в августе 1966 г., было решено создать экономический координационный центр, технический координационный центр, центр взаимной информации, пул технических специалистов, пул сырья и удобрений, центр обмена сельскохозяйственной техникой, социальный и культурный центр.
Во время посещения П. Хэзлаком Японии в марте 1967 г. было достигнуто соглашение о том, что АЗПАК наряду с политическими и экономическими должен обсуждать социальные, просветительные и культурные проблемы. Такой же позиции Австралия и Япония придерживались на второй сессии совета министров стран Азии и бассейна Тихого океана, состоявшейся в Бангкоке в июле 1967 г. Открывая сессию, японский министр иностранных дел Т. Мики назвал АЗПАК форумом для достижения взаимопонимания, где министры могут свободно и откровенно обмениваться мнениями по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, включая политические, экономические, культурные и социальные. В заключительном коммюнике подчеркивалось, что АЗПАК обеспечивает широкие возможности для плодотворного обмена разнообразными индивидуальными взглядами по всем во
365
просам. Следующую сессию было решено провести в Австралии в конце июля 1968 г. Журнал «Фар истерн экономик ревью» писал в этой связи: «Австралия может теперь использовать этот союз для формулирования своей теории „Австралия в Азии“ и взять инициативу для того, чтобы вдохнуть в организацию свежую струю жизни» [204, 20.VII.1967, с. 139].
Сессия АЗПАК, состоявшаяся в Канберре, продемонстрировала стремление ее организаторов все активнее бороться с национально-освободительным движением азиатских народов, наращивать антикоммунистическую истерию. Такой же характер носила сессия АЗПАК, проходившая в июне 1969 г. в Японии [203, т. 40, 1969, № 6, с. 311—315].
Высокие темпы экономического развития ряда тихоокеанских стран, быстрое расширение торгово-экономических отношений в Тихоокеанском бассейне, конкуренция Европейского экономического сообщества, желание ведущих тихоокеанских держав поставить экономические отношения в этом районе на новую ступень вызвали к жизни во второй половине 60-х годов идею создания региональной экономической организации — «тихоокеанского сообщества».
В октябре 1966 г. в журнале Японского центра экономических исследований была помещена статья К. Кодзимы и X. Куромото «Тихоокеанское экономическое сообщество и развивающиеся страны Азии». Идеи, выдвинутые в этой статье, были в дальнейшем развиты в книге К. Кодзимы «Япония и тихоокеанская зона свободной торговли» [135].
Инициативу в изучении вопросов, связанных с созданием региональной тихоокеанской экономической организации, до сих пор удерживают японские и австралийские ученые. Это объясняется тем, что Япония и Австралия больше других стран заинтересованы в усилении своих экономических позиций в Тихом океане. Поэтому работа, начатая в середине 60-х годов отдельными учеными, была энергично поддержана правительственными учреждениями и частными корпорациями этих государств.
В 1972 г. началась научная разработка австралийско-японских экономических отношений. Деятельность ученых финансируется непосредственно правительствами Японии и Австралии. Группу австралийских экономистов возглавляет проф. К. Кроуфорд, канцлер Австралийского национального университета. Японские ученые работают под руководством доктора С. Окиты, президента Японского центра экономических исследований и председателя Японского фонда внешнеэкономического сотрудничества.
К научно-исследовательской работе привлечены ученые австралийских и японских университетов, университетов других стран, исследовательских институтов, Резервного банка Австралии, австралийских и японских промышленных корпораций. Систематическую помощь оказывают ряд министерств Австралии и Японии.
Один-два раза в год, поочередно в Канберре и Токио, прово
366
дятся австралийско-японские встречи с целью координации исследований и обсуждения подготовленных материалов.
В 1972—1975 гг. исследования касались развития австралийской горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства, японского машиностроения, австралийско-японских двусторонних торгово-экономических отношений, подхода Австралии и Японии к мировым торговым и валютным отношениям, возможностей создания замкнутой экономической организации стран западной части Тихого океана.
По этим вопросам было подготовлено 41 монографическое исследование. Основные итоги работы были изложены в обобщающем докладе «Австралия и Япония в западнотихоокеанских экономических отношениях», изданном на английском и японском языках. 28 апреля 1976 г. доклады были переданы японскому и австралийскому правительствам, а также соответствующим правительственным и дипломатическим органам, промышленным корпорациям и научным учреждениям.
Правительства Австралии и Японии решили продлить работу еь<* на три года и выделили для этого необходимые средства. На а згралийско-японской встрече в Канберре 7—8 сентября 1976 г. была принята программа дальнейших исследований, включающая изучение промышленного развития обеих стран, условий долгосрочных контрактов по закупкам сырья, прямых японских капиталовложений в Австралии, энергетических и сырьевых проблем, вопросов торговли и транспорта, отношений Австралии и Японии со странами АСЕАН, а также выработку предложений о создании тихоокеанской экономической организации.
Австралийские и японские ученые указывали, что для создания «тихоокеанского сообщества» существуют необходимые предпосылки: значительное расширение двусторонних австралийско-японских торгово-экономических отношений, а также отношений этих государств с другими тихоокеанскими странами с середины 60-х годов, т. е. после создания Европейского экономического сообщества.
Политика ЕЭС в области сельского хозяйства заставила Австралию искать рынки сбыта для своей сельскохозяйственной продукции в Японии и странах азиатско-тихоокеанского региона [99,. с. 25].
Япония в ответ на дискриминационные меры ЕЭС стала проводить торговую дипломатию, призванную сбалансировать неблагоприятный эффект интенсификации европейского протекционизма развитием внутритихоокеанских экономических связей [135]. Но усиление австралийско-японского экономического сотрудничества с середины 60-х годов, заинтересованность этих стран в развитии связей со странами Тихоокеанского бассейна нельзя, конечно, объяснять только дискриминационными мерами ЕЭС. Существовали и другие причины, в частности открытие гигантских запасов минерального сырья в Австралии, которое вызвало такое расширение австралийско-японской торговли в этой области, «подобного которому мир еще не знал» [99, с. 26].
367
В 1960—1977 гг. доля стран азиатско-тихоокеанского региона в австралийском экспорте увеличилась с 41,6 до 67,7%, а доля стран Западной Европы уменьшилась за этот же период с 62,6 до 17,9%. В австралийском импорте эти цифры составили соответственно для стран азиатско-тихоокеанского региона 37,3 и 55,8%, для стран Западной Европы — 49,7 и 33,2% [99, с. 35—36].
В японском экспорте доля азиатско-тихоокеанских стран в 1974 г. составила 60,2, а в импорте — 53,8% [99, с. 37—38].
Значительно выросли торгово-экономические связи Австралии и Японии со странами Юго-Восточной Азии и Океании. Так, с 1964 по 1973 г. доля Японии в закупках нефти, леса, минералов и рыбы из этих стран увеличилась до 63% [99, с. 39]. Их доля в японском экспорте в 1974 г. составила 29,6%, в импорте — 21,9%, а в австралийском экспорте — 20%, в импорте—11,3% [99,
с. 35—38].
Фактором, способствующим усилению взаимозависимости стран азиатско-тихоокеанского региона, является также вывоз капитала. Самый крупный инвеститор в регионе — Япония. В 197& г. на ее долю приходилось 33,6% общей суммы инвестиций в стрелах региона, т. е. приблизительно 10 млн. долл. Японские инвести*д"и идут, во-первых, в различные отрасли машиностроительной и обрабатывающей промышленности, во-вторых, в производство сырья. На страны Тихоокеанского бассейна, включая Латинскую Америку, приходится 65% всех японских заграничных капиталовложений. Американский капитал, хотя и уступает японскому лидирующее положение, продолжает играть большую роль в Тихоокеанском бассейне. На конец 1973 г. инвестиции США составляли 25% всех иностранных капиталовложений в странах этого региона.
Усиление воздействия развитых государств на развивающиеся страны в Тихоокеанском бассейне происходит за счет увеличения экономической и технической помощи. Значительную роль в укреплении взаимосвязи стран региона играет быстрое развитие транстихоокеанских авиационных и морских сообщений, туризма.
Как отмечалось выше, японские ученые первыми выдвинули идею создания «азиатско-тихоокеанского сообщества». Японские же политические деятели первыми придали этой идее официальный характер.
В апреле 1967 г. тогдашний министр иностранных дел Японии Т. Мики заявил, что азиатско-тихоокеанская политика должна основываться на общих принципах регионального объединения в Азии, объединения развитых стран Тихоокеанского района и более широких программах помощи [182, с. 82] .
Хотя после этого заявления Т. Мики японское правительство не предпринимало каких-либо официальных шагов в этом направлении, при поддержке японского министерства иностранных дел было проведено 9 конференций по тихоокеанской торговле и развитию (в Токио — в 1968 г., в Гонолулу — в 1969 г., в Сиднее — в 1970 г., в Оттаве — в 1971 г., в Токио — в 1973 г., в Мехико — в 1974 г., в Окленде — в 1975 г., в Паттае — в 1976 г., в Сан-Францис-368
ко — в 1977 г.), на которых обсуждались различные аспекты идеи организации «азиатско-тихоокеанского сообщества», выдвинутой К. Кодзимой.
Проведение этих конференций возбуждало интерес научной общественности и деловых кругов стран Тихоокеанского бассейна к возможности создания «тихоокеанского сообщества».
Однако на правительственном уровне контакты между государствами «тихоокеанской пятерки» (США, Японией, Австралией, Новой Зеландией и Канадой) продолжали осуществляться лишь в двустороннем порядке: в виде регулярных встреч на министерском уровне.
Важным событием было подписание в 1976 г. австралийско-японского договора о дружбе и сотрудничестве. В документе отмечалось, что заключение договора представляет собой важный этап не только в развитии австралийско-японских связей, но и в направлении создания «тихоокеанского сообщества».
Если правительства «тихоокеанской пятерки» не спешили с проведением официальных переговоров о создании «сообщества», то деловой мир действовал более энергично. В 1967 г. представители деловых кругов пяти промышленно развитых стран Тихоокеанского бассейна создали Экономический совет Тихоокеанского бассейна (ПБЭК). Цель организации — содействовать изучению проблем региональной торговли и взаимного сотрудничества. В состав ПБЭК входят более 400 крупных корпораций «тихоокеанской пятерки» и развивающихся стран Тихоокеанского бассейна.
Одним из первых мероприятий совета было создание Частной инвестиционной компании для Азии (ПИКА), призванной способствовать расширению иностранных капиталовложений в странах азиатско-тихоокеанского региона.
На конференциях по тихооокеанской торговле и развитию неоднократно обсуждались предложения о формах и методах деятельности «тихоокеанского сообщества».
Идея К. Кодзимы первоначально сводилась к созданию «тихоокеанской зоны свободной торговли», в которую вошли бы США, Япония, Канада, Австралия, Новая Зеландия, отменившие полностью тарифную систему во взаимной торговле, но сохранившие свободу действий в области тарифной политики в отношениях со странами, не участвующими в соглашении.
Это предложение в целом вызвало негативное отношение тихоокеанских государств, поскольку ассоциировалось с идеей «великой азиатской сферы взаимного процветания», выдвинутой Японией еще в довоенный период. Особенно сильные возражения предложение К. Кодзима вызвало в таких странах, как Австралия, Канада и Новая Зеландия, которым в годы второй мировой войны угрожало японское вторжение.
В 1968 г. на конференции по тихоокеанской торговле и развитию австралийским экономистом П. Драйсдейлом и К. Кодзимой было выдвинуто совместное предложение о создании Организации тихоокеанской торговли, помощи и развития (ОПТАД). Оба уче
24 Заказ 91
369
ных имели единую точку зрения относительно формы организации, но в толковании ее задач и целей между ними существовали серьезные расхождения.
К. Кодзима считал, что ОПТАД должна стать промежуточной ступенью на пути реализации его первоначальной идеи о «тихоокеанской зоне свободной торговли» [159, с. 177].
П. Драйсдейл же подчеркивал, что ОПТАД должна иметь самостоятельное значение. «Создание организации, подобной ОПТАД, усилило бы связь между бизнесменами и государственными служащими тихоокеанских стран... Развал национальной промышленности в странах со слабой экономикой вызван отсутствием капитала, безработицей и трудностями платежного баланса. Капиталовложения, направленные в экономику промышленно менее развитых партнеров через ОПТАД, свели бы к минимуму влияние этих отрицательных факторов» [159, с. 208—209].
В дальнейшем К. Кодзима присоединился к мнению П. Драйс-дейла. «Мои прежние представления изменились,— писал он.— Сейчас я считаю, что дело не в конституциировании интеграции, а в проведении многосторонних переговоров через ОПТАД, что сблизит точки зрения и будет способствовать распространению и укреплению региональной экономической интеграции в Тихом океане, азиатском и латиноамериканском регионах» [136, с. 13].
Проф. Д. Кроуфорд поддержал предложение о создании ОПТАД. Он также считал, что ОПТАД, подобно Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭКД), должна являться не регулирующим органом, а организацией, где могли бы проводиться межправительственные консультации [136, с. 14].
Идея ОПТАД была одобрена научными кругами большинства тихоокеанских государств. Это показала 8-я конференция по тихоокеанской торговле и развитию, состоявшаяся в Паттани (Таиланд) в июле 1976 г. Общее мнение выразил канадский ученый Е. Инглиш: «Необходимо создать такую организацию в Тихоокеанском бассейне, которая позволила бы Канаде наряду с другими странами весьма реально участвовать в расширении торговли как с развивающимися странами, так и со сверхдержавами этого региона» [136, с. 15].
На конференции подчеркивалось, что ОПТАД, подобно ОЭКД, должна стать форумом для обсуждения важнейших проблем Тихоокеанского бассейна, организацией, разрабатывающей основные направления регионального сотрудничества.
Идеи о целях ОПТАД, высказанные в ходе конференции, определяли сущность этой организации, ее отличие от ЕЭС. Во-первых, она должна стимулировать взаимосвязь государств региона путем обсуждения проблем торгово-экономических отношений в атмосфере сотрудничества и доверия; во-вторых, способствовать расширению торговли между развитыми тихоокеанскими державами и развивающимися странами азиатско-тихоокеанского региона, увеличению капиталовложений в экономику последних; в-третьих, служить центром выработки долгосрочных программ экономиче
370
ского развития стран Тихоокеанского бассейна; в-четвертых, раз* рабатывать более совершенные формы экономического союза стран Азии и Тихого океана, союза, участники которого могли бы свободно развивать тесную экономическую интеграцию в узких группировках, а также имели бы возможность играть более конструктивную роль в расширении отношений с Китаем, СССР и странами Индокитая [190, с. 1—2].
«Создание ОПТАД, служащей этим целям,— отмечалось на конференции,— позволит эффективно соединить три главных направления в отношениях между странами азиатско-тихоокеанского региона: экономические связи между Японией и США; политические, дипломатические и экономические связи между развивающимися государствами в западной части Тихого океана, как коммунистическими, так и не коммунистическими; стратегическую заинтересованность в стабильных и конструктивных отношениях между сверхдержавами в Восточной Азии и Тихом океане» [184, с. 85— 87]. ОПТАД, подчеркивалось на конференции, должна действовать как независимое учреждение, а не как тихоокеанское отделение ОЭКД или какая-либо организация в системе ООН [136, с. 15].
Проект создания ОПТАД вновь обсуждался на 9-й конференции по тихоокеанской торговле и развитию, посвященной теме «Минеральные ресурсы в Тихоокеанском районе», которая проходила в Сан-Франциско 22—26 августа 1977 г. И на этой конференции обсуждение проекта ОПТАД не было завершено. Вместе с тем совершенно очевидно, что предварительная, неофициальная стадия обсуждения подходит к концу. Деловые и академические круги «тихоокеанской пятерки» в основном пришли к согласованной точке зрения на характер и цели организации. Но из этого не следует, что правительства развитых тихоокеанских государств быстро перейдут к официальным переговорам. Торгово-экономические отношения внутри «тихоокеанской пятерки», особенно между Японией и США, Японией и Австралией, несмотря на общую постоянную тенденцию к расширению, характеризуются большими сложностями и противоречиями.
4: * *
Лейбористское правительство сразу же после прихода к власти в декабре 1972 г. приступило к активным действиям в области внешней политики. Оно установило дипломатические отношения с ГДР, а также официально признало КНР, обменялось с ней дипломатическими представительствами и закрыло австралийское посольство на Тайване. В конце декабря 1972 г. правительство заявило о прекращении военной помощи Южному Вьетнаму, в феврале 1973 г. установило дипломатические отношения с ДРВ, в мае отменило эмбарго на экспорт стратегического сырья в социалистические страны.
Заметно оживились отношения Австралии с Советским Союзом в экономической и культурной областях. Во время визита в Авст
24*
371
ралию министра внешней торговли СССР Н. С. Патоличева было подписано новое советско-австралийское торговое соглашение, расширявшее товарооборот между странами.
Установились экономические отношения между Австралией и Кубой. В ноябре 1973 г. в Сиднее было открыто кубинское генеральное консульство.
Австралийское правительство присоединилось к Договору о нераспространении ядерного оружия, оно настойчиво требовало прекращения ядерных испытаний в бассейне Тихого океана — в частности, в Международном суде в Гааге поставило вопрос о запрещении испытаний атомного оружия во французских тихоокеанских владениях.
Лейбористы отменили обязательную воинскую повинность и заявили о выводе всех австралийских войск из Сингапура к апрелю 1973 г.
Основные принципы внешнеполитической концепции лейбористского правительства были изложены Г. Уитлемом в его речи 27 января 1973 г. в Австралийском институте политических наук.
Региональное сотрудничество, подчеркнул он, будет одним из краеугольных камней австралийской внешней политики в 70-х годах. В новом курсе лейбористское правительство намерено делать меньше акцентов на военные пакты. Основой этого курса будет независимый взгляд на международные дела. Уитлем подчеркнул, что наступило время создать новое региональное объединение. Лейбористы, сказал он, не видят какой-либо угрозы со стороны государств Юго-Восточной Азии. Лейбористы не хотят исходить из старого понятия о «выдвинутой обороне» и рассматривать Юго-Восточную Азию как фронтовую полосу.
Премьер-министр указал на необходимость скорейшего прекращения иностранной интервенции во Вьетнаме, отметив, что это устранит серьезные разногласия между австралийским и американским правительствами.
Он подверг критике группировку АЗПАК, назвав ее «анахронизмом», и одобрительно отозвался о деятельности АСЕАН. Вместе с тем Уитлем предложил обсудить возможность создания нового, более широкого регионального сообщества стран Азии и Тихоокеанского бассейна. Он заявил, что австралийское правительство поддерживает идею стран АСЕАН об установлении в Юго-Восточной Азии зоны мира. В дальнейшем Уитлем неоднократно возвращался к вопросу о региональном сотрудничестве. Так, в совместном австралийско-индийском коммюнике, опубликованном 6 июня 1973 г., после завершения визита Уитлема в Индию, говорилось, что обе стороны считают установление зоны мира в Индийском океане позитивным шагом в направлении уменьшения напряженности и развития сотрудничества в этом районе.
Характерно, что первый визит за границу Уитлем как премьер-министр совершил в Индонезию в феврале 1973 г. В своих выступлениях во время поездки Уитлем неоднократно подчеркивал
372
необходимость регионального сотрудничества, в частности австралийско-индонезийского.
Следует отметить, что австралийско-индонезийские отношения при лейбористском правительстве получили значительное развитие как в политической, так и в военной сфере. Наша программа военного сотрудничества с Индонезией, сказал Г. Уитлем, выступая в парламенте 25 мая 1973 г., находится в полном соответствии с философией лейбористского правительства; она послужит моделью для будущих соглашений такого рода.
В январе — феврале 1974 г. Уитлем совершил 17-дневную поездку по странам Юго-Восточной Азии. Выступая в парламенте в начале марта 1974 г. с сообщением об итогах этой поездки, Уитлем подчеркнул, что у Австралии и стран Юго-Восточной Азии имеются глубокие и прочные общие интересы, поддержание которых является одним из важных принципов австралийской внешней политики. Характеризуя современную стадию развития этих отношений, Уитлем отметил, что центр тяжести переместился с военных союзов на торговые связи, программы помощи, региональное экономическое сотрудничество и культурные контакты.
Что касается австралийско-американских отношений, то в упомянутой речи 27 января 1973 г. в Австралийском институте политических наук Уитлем отметил, что, несмотря на расхождения во взглядах на некоторые проблемы международных отношений, правительство имеет ясный наказ избирателей сохранить союз с Америкой. АНЗЮС является юридическим воплощением общих интересов народов Австралии, Новой Зеландии и Соединенных Штатов. Эти интересы остаются постоянными и не зависят от изменений в административных органах в Вашингтоне, Веллингтоне или Канберре. Правда, Уитлем при случае старался напомнить, что его правительство проводит самостоятельный курс в отношениях с США.
В речи в Нью-Йорке 1 августа 1973 г. Г. Уитлем сказал, что лейбористское правительство хочет изменить узкий взгляд на АНЗЮС как на единственный фактор в отношениях Австралии с Соединенными Штатами и такой же узкий взгляд на то, что отношения Австралии с США являются единственным важным фактором в австралийской внешней политике. Я уверен, заявил премьер-министр, что дружба, которую мы предлагаем сейчас Америке как сильная средняя держава, дающая свою собственную оценку событиям и принимающая свои собственные решения при наличии консультаций с другими заинтересованными державами, представляет лучшую основу для надлежащего развития дружественных отношений между Австралией и Соединенными Штатами, чем это было раньше.
Я говорил лидерам Соединенных Штатов, заявил Г. Уитлем, выступая в августе 1973 г. после возвращения в Австралию из США, что мы продолжаем оказывать значительную поддержку пакту АНЗЮС, который рассматриваем в качестве самого важного постоянного и естественного элемента в отношениях трех тихооке-
373
анских партнеров. Он подчеркнул, что, несмотря на критику некоторых аспектов деятельности СЕАТО, Австралия не намерена выходить из него. Интересно отметить, что эти слова Г. Уитлема полностью одобрила либерально-аграрная оппозиция. Приятно отметить, сказал Б. Снедден, что мистер Уитлем опроверг миф о неприсоединении, но следует спросить, что он понимает под фразой: «Наша политика присоединения». Также следует приветствовать тот факт, что он рассматривает Соединенные Штаты как нашего великого союзника и указывает, что для его правительства не существует вопроса о вкладе АНЗЮС и о базах США в Эмберли,. Элис-Спрингсе, Пайн-Гепе и Нуррунгаре.
Вопрос о перечисленных Б. Снедденом и других американских базах в Австралии широко обсуждался в период избирательной кампании. Движение за пересмотр соглашений с США об американских базах на австралийской территории развернулось еще в-60-х годах. Естественно, что лейбористы не могли его игнорировать. Но позиция лейбористского правительства не отличалась последовательностью. Сначала оно как будто всерьез взялось за расследование положения иностранных военных баз на собственной территории. С этой целью в феврале 1973 г. их посетил заместитель премьер-министра и министр обороны Л. Барнард. Выступая затем в парламенте, Барнард отметил, что правительство должно настаивать на проведении новых переговоров, касающихся определенных договоров, и там, где это необходимо, изменить их так, чтобы не допустить полного устранения Австралии от какого-либо эффективного контроля над военными сооружениями на австралийской земле и предотвратить возможность вовлечения Австралии в термоядерную войну.
Л. Барнард подчеркнул, что наряду с базами, известными австралийской общественности, на территории страны существует немало американских военных сооружений, о которых австралийцы ничего не знают. В этой связи он сообщил палате представителей некоторые данные об американских базах, на которых побывал. Барнард сказал, что правительство будет периодически информировать членов парламента о положении с американскими военными базами. Он напомнил палате, что правительство либерально-аграрной коалиции в договоре с США о базах, заключенном им в 1963 г., публично согласилось с толкованием ст. 3 о межправительственных консультациях по поводу баз в том смысле, что оно не будет осуществлять контроль над базами или над их использованием. Лейбористское правительство, заявил Л. Барнард, никогда бы не пошло на заключение такого соглашения, которое наносит ущерб суверенитету Австралии. Министр обороны пообещал поставить перед американским правительством вопрос о пересмотре соглашений об американских базах на австралийской территории.
Но лейбористское правительство практически ничего не изменило в статусе американских баз в Австралии. Поездка Барнарда в США в начале января 1974 г. закончилась подписанием соглашения, в соответствии с которым на американскую военную базу в 374
Норт-Уэст-Кейпе направлялись австралийские военнослужащие, а австралийский офицер получал пост заместителя командующего станцией. Стороны также договорились о том, что будут расширены двусторонние консультации с целью обеспечения правительства Австралии более полной и своевременной информацией.
Однако австралийскому заместителю командующего станцией подчинялся лишь австралийский персонал; контролировать деятельность американского персонала он не имел права. К тому же это скромное нововведение касалось только одной из американских военных баз на австралийской территории.
Соглашение, подписанное Л. Барнардом, подверглось критике со стороны левого крыла лейбористов, указывающих, что Соедиг ненные Штаты пошли лишь на ограниченные уступки в вопросе о контроле над базами. Оппозиционные же партии одобрили соглашение.
Новым элементом в австралийской внешней политике при лейбористском правительстве стало использование возрастающего международного значения сырьевых ресурсов Австралии. Первое официальное заявление на этот счет содержалось в выступлении Г. Уитлема в федеральном парламенте 25 мая 1973 г. Австралия — один из пяти крупнейших в мире поставщиков бокситов, железной руды, свинца, никеля, серебра, олова, цинка, меди и урана, говорил Г. Уитлем. Именно сейчас Австралия должна выработать собственную политику, учитывающую тот факт, что пятый континент привлекает все большее внимание держав, нуждающихся в сырье. То же самое повторил австралийский премьер-министр, выступая 1 августа 1973 г. на собрании Американо-австралийской ассоциации в Нью-Йорке.
Использование австралийским правительством «дипломатии ресурсов» характеризовало переговоры, которые вел Г. Уитлем с руководителями Европейского экономического сообщества во время своей поездки по странам Западной Европы в декабре 1974 г. Необходимо подчеркнуть, что страны, входящие в ЕЭС, занимают третье место в австралийской внешней торговле. В 1973/.74 г. их доля в австралийском экспорте составила 17%, а в импорте — .28%. Доля Японии была соответственно 33 и 17%, США—11 и 22% [150, с. 3].
Главной темой переговоров был экспорт австралийского урана и угля в западноевропейские страны. По подсчетам специалистов, к середине 80-х годов потребности этих стран в уране достигнут 20 тыс. т, а к началу 90-х годов — 50 тыс. т. Г. Уитлем заявил руководителям ЕЭС, что Австралия имеет достаточно урана, чтобы удовлетворить потребности и Европы и Японии.
Используя большую заинтересованность стран «общего рынка» в энергетическом сырье, Уитлем договорился о расширении австралийского экспорта сельскохозяйственных продуктов. Руководители сообщества высказались за заключение долгосрочных контрактов на сахар, а также заявили, что будет снято ограничение на экспорт австралийского мяса. Это было особенно важно для
375
Австралии потому, что Япония и США решили ограничить импорт австралийского мяса. В начале 1975 г. США официально объявили об уменьшении ежегодной квоты на ввоз мяса из Австралии до 521 тыс. т, т. е. наполовину.
Лейбористское правительство продолжало развивать отношения с социалистическими странами. В январе 1975 г. во время визита Г. Уитлема в Советский Союз были подписаны соглашения о научно-техническом и культурном сотрудничестве между СССР и Австралией. В совместном Советско-австралийском коммюнике о переговорах отмечалось: «Советский Союз и Австралия придают важное значение укреплению мира и стабильности в Азии и заявляют о своей решимости всемерно содействовать дальнейшей разрядке напряженности в этом районе, обеспечению безопасности и созданию условий для превращения Азии в континент мира и сотрудничества путем совместных усилий всех государств этого региона... Обе стороны заявили о своей готовности участвовать вместе со всеми заинтересованными государствами на равной основе в изыскании благоприятного решения вопроса о превращении Индийского океана в зону мира в соответствии с принципами международного нрава» [213, 17.1.1975].
Приход к власти правительства либерально-аграрной коалиции внес существенные коррективы во внешнеполитический курс Австралии, хотя принципиально его изменить новое правительство уже было не в состоянии.
«После трех лет правления Уитлема к власти пришло правительство Фрейзера — продукт сложных противоречий во внутренней политике, — писал австралийский ученый Д. Гирлинг.—Правительство Фрейзера... представляет собой возврат к консервативным ценностям, хотя оно сохраняет ряд прогрессивных реформ, предло-женнных Уитлемом... В международных делах не может идти речи о попытках вернуться к осуждению Индонезии... или отвернуться от Китая... В целом внешняя политика правительства Фрейзера может быть определена так: появление доверия к Соединенным Штатам как к союзнику; подчеркивание угрозы советского экспансионизма...» (цит. по [202, т. 31, 1977, № 1, с. 8—9]).
Один из ведущих австралийских ученых-международников, Т. Миллар, писал: «Фрейзер... не верит в реальность существования разрядки... События в Индокитае он воспринял как стратегическую потерю для Австралии, потому что они изменили баланс сил в этом районе в пользу коммунистических держав... а также потому, что они ослабили оборонительные возможности Запада и открыли возможность использования этого района Китаем или Советским Союзом. Однако Фрейзер понимает, что Вьетнам, как показывает настоящее положение дел, может направить энергию в первую очередь на улучшение внутренней ситуации. Нельзя сказать, что он видит мир лишь черным и белым, как Уитлем» [205, июл^ 1977, с. 861].
В заявлении либерально-аграрного правительства по вопросам внешней политики говорилось: «В наших отношениях с другими 376
странами нам небезразлична идеология режимов, но это не должно быть ведущим принципом нашей политики. Общие ценности и позиции могут укрепить процесс сближения, но и их отсутствие не станет препятствием на пути установления сотрудничества, если существуют общие интересы» [45, с. 2]. Вместе с тем в этом документе содержались заявления, пронизанные духом «холодной войны», например такое: «Стратегические и политические устремления советских лидеров... вышли далеко за пределы установленных зон обеспечения советских интересов» [45, с. 8].
Австралийское правительство всячески подчеркивало роль США в мировых делах и выражало крайнее беспокойство по поводу ее ослабления: «Вьетнамская война и Уотергейт подорвали самоуважение Америки и чувство своей значимости. К сожалению, свою долю в это дело вносит мировая критика Соединенных Штатов» [45, с. 10].
В своих отношениях со странами Юго-Восточной Азии, говорилось в этом документе, Австралия будет исходить из «глобального баланса сил» [45, с. 5]. Вполне понятно поэтому, что австралийское правительство видело в позиции Китая много общего со своей внешнеполитической концепцией. «Австралия и Китай в равной степени заинтересованы в том, чтобы советская мощь в Тихом океане и Юго-Восточной Азии уравновешивалась с помощью других крупных государств или соответствующих региональных объединений. Мы можем поэтому ожидать поддержку Китаем наших взглядов на необходимость эффективного американского присутствия в Тихом и Индийском океанах. Такая поддержка фактически уже оказана» [45, с. 17].
Отношениям с Японией австралийское правительство отводило особое место.
Следует подчеркнуть, что практические внешнеполитические шаги консервативного правительства характеризовались такой же двойственностью, как и провозглашенный им курс. Несмотря на то что либерально-аграрная коалиция всячески старалась показать свою лояльность к США (поддержала, например, строительство американской военной базы на острове Диего-Гарсия, заявила, что американские атомные подводные лодки могут заходить в австралийские порты), пыталась устранить некоторые шероховатости в австралийско-американских отношениях, возникшие в период правления лейбористов, она уже не проявляла таких безгранично верноподданнических чувств, как правительство, возглавляемое Г. Холтом. Как известно, последний во время своего визита в США в разгар войны во Вьетнаме заявил, что Австралия всегда идет по одному пути с Линдоном Джонсоном.
В конце июля 1976 г. М. Фрейзер посетил Соединенные Штаты. В коммюнике о переговорах в Вашингтоне Фрейзера с Фордом говорилось: «Президент и премьер-министр подчеркнули, что все нации должны рассматривать себя равными, несмотря на разницу в мощи, размерах и ресурсах» [205, июль 1976, с. 862].
М. Фрейзер часто публично высказывался против «советского
377
военного присутствия в Индийском океане» и за сохранение американской мощи в этом районе. Но и здесь он делал некоторые оговорки. Так, в июне 1976 г. глава австралийского консервативного правительства заявил: «Конечно, не в интересах Австралии, чтобы баланс в этом районе сложился не в пользу США, нашего главного союзника... Но также не в ее интересах, чтобы обе сверхдержавы начали неограниченное соперничество в Индийском океане». [205, июль 1976, с. 863]. В 1980 г. антисоветский характер позиции правительства М. Фрейзера значительно усилился.
Во второй половине июня 1976 г. М. Фрейзер посетил Китай. Китайские руководители оказали ему гораздо более теплый прием, чем Г. Уитлему. Глава консервативного австралийского правительства сделал ряд резких антисоветских заявлений, выразил заинтересованность в развитии отношений между Китаем, Японией, США и Австралией как странами, имеющими общие интересы.
Содержание австралийско-китайских переговоров вызвало негативную реакцию общественности, прежде всего в странах Юго-Восточной Азии. М. Фрейзер, пытаясь сгладить неприятное впечатление, произведенное его визитом в КНР, сказал на пресс-конференции в Гонконге, что нет абсолютно никаких оснований утверждать, будто, развивая отношения с Китаем, Австралия вступает в антисоветский лагерь. Отношения Австралии с Советским Союзом прочны и надежны. Выступая в австралийском парламенте, Фрейзер говорил, что его правительство энергично поддерживает систему переговоров с Советским Союзом.
Еще в период пребывания у власти лейбористского правительства начались австралийско-японские переговоры о заключении широкого соглашения по экономическим вопросам. Но они не увенчались успехом. Лейбористское правительство настаивало на максимальном участии Австралии в проектах разработки минеральных и энергетических ресурсов. Лейбористы повысили экспортные цены, ввели ограничения на импорт потребительской продукции, в особенности автомобилей, электроприборов и текстиля, что наносило ущерб японским промышленникам.
Со своей стороны, японцы неоднократно нарушали долгосрочные обязательства. Так, Япония неожиданно запретила импорт австралийского мяса, не выполнили своих обязательств японские импортеры австралийского сахара. В то же время японская сторона настойчиво требовала включения в проект договора положения о предоставлении японским частным лицам и предприятиям режима наибольшего благоприятствования.
Одним из первых внешнеполитических актов консервативного правительства было возобновление переговоров с Японией.
В начале февраля 1976 г. заместитель премьер-министра Австралии Д. Антони, занимавший также пост министра торговли и ресурсов, посетил Японию. Он заявил, что австралийское правительство хочет раз и навсегда положить конец всякой неопределенности в отношении готовности Австралии поставлять Японии необходимое ей сырье. Антони отметил экономическую взаимозависимость Япо
378
нии и Австралии. Однако, сказал Д. Антони, экономические отношения между двумя сторонами могут сохраняться и развиваться только на основе стабильности и взаимного доверия. Мы заключаем сделки в крупном объеме, заявил Антони. Японские покупатели должны быть уверены в источниках поставок. Австралийские поставщики должны быть уверены в рынках сбыта. Эта уверенность, эта определенность имеют основополагающее значение.
Касаясь установленных Австралией ограничений импорта на автомашины, электротовары и другие изделия, Антони заметил, что эти временные меры были приняты только для того, чтобы облегчить серьезное положение, в каком оказались соответствующие отрасли австралийской промышленности.
Д. Антони заверил японское правительство, что либеральноаграрная коалиция готова пойти навстречу его пожеланиям в целях скорейшего заключения договора о дружбе и сотрудничестве.
Основной договор о дружбе и сотрудничестве между Австралией и Японией был подписан в Токио 16 июня 1976 г. Следует подчеркнуть, что это был первый договор такого рода, заключенный Австралией с каким-либо иностранным государством. Однако его подписание практически не ликвидировало трудностей, имеющихся в торгово-экономических отношениях между странами. Япония, находясь в тисках экономического кризиса, не выполняла своих обязательств по закупкам столь важных для Австралии экспортных товаров, как мясо и сахар, сократила импорт австралийского угля и железной руды. В ответ на это австралийское правительство угрожало ввести ограничения на импорт японских автомашин и продукции электронной промышленности, запретить японцам лов рыбы в австралийских водах. Поездка М. Фрейзера в Японию в апреле 1978 г. не устранила трудностей.
Одной из основных задач внешней политики консервативного правительства является развитие отношений с Индонезией. Австралийское правительство сдержанно относилось к захвату Индонезией Восточного Тимора, несмотря на широкую кампанию протеста общественности страны. В конце концов оно признало Восточный Тимор частью Индонезии. О решении правительства 20 января 1978 г. сообщил министр иностранных дел А. Пикок. Это реальность, с которой мы должны считаться, заявил он. Австралийское правительство решило, что было бы нереалистичным не признавать Восточный Тимор де-факто частью Индонезии, хотя оно продолжает считать неправильными средства, с помощью которых было произведено воссоединение.
Консервативное правительство, несмотря на огромный бюджетный дефицит, не сократило размеров иностранной помощи. В 1976/77 г. она составила 399 млн. австрал. долл., или 0,49% совокупного национального продукта страны. Правительство либерально-аграрной коалиции выступило за широкое привлечение иностранного капитала в экономику страны. Но вместе с тем сохранило ограничения, введенные лейбористским правительством.
379
Лишь для предприятий урановой промышленности процент австралийского участия был снижен со 100 до 75.
М. Фрейзер, по сути дела, продолжил и «дипломатию ресурсов», начатую Г. Уитлемом. В июне 1977 г. во время своей поездки по западноевропейским странам он неоднократно подчеркивал, что страны ЕЭС должны облегчить доступ австралийских товаров (особенно сельскохозяйственных) в Европу, прежде чем договариваться с правительством Австралии о поставках урана. С 1974 по 1977 г. объем австралийского экспорта сельскохозяйственной продукции в страны ЕЭС сократился на 80%.
Выступая в Аделаиде, Фрейзер сказал, что во время посещения им западноевропейских стран европейские руководители дали ясно понять, что они смотрят на Австралию, которой принадлежит пятая часть известных мировых запасов урана, как на стабильного долгосрочного поставщика урана. И наша готовность быть долгосрочным поставщиком урана при условии, что они станут стабильными долгосрочными покупателями нашей говядины и другой сельскохозяйственной продукции, должна показаться им логичной.
В июле 1977 г. был учрежден пост министра по делам специальных торговых представительств. Его занял В. Гарленд. Если Австралия хочет, чтобы двусторонние торговые проблемы, стоящие перед нею и ЕЭС, решались успешно, сказал М. Фрейзер, она должна быть представлена на высоком уровне на переговорах.
Первый раунд переговоров с ЕЭС, проведенный осенью 1977 г., не дал положительных результатов. Более того, страны «Общего рынка» приняли решение ограничить импорт стали, что наносило ущерб интересам Австралии, которая ежегодно экспортировала сталь в страны ЕЭС примерно на 50 млн. австрал. долл. Дефицит Австралии в торговле со странами ЕЭС составил в 1977 г. 650 млн. австрал. долл.
М. Фрейзер обратился к президенту комиссии ЕЭС Р. Дженкинсу с просьбой срочно возобновить торговые переговоры Европейского экономического сообщества с Австралией, а до этого не применять в отношении ее никаких негативных мер. Переговоры, проходившие в 1978 г., также не дали положительных результатов. Но в конце мая 1979 г. В. Гарленд сообщил в австралийском парламенте о том, что между Австралией и странами «Общего рынка» достигнуто соглашение о торговле, переданное на утверждение австралийского правительства и руководства ЕЭС.
Одним из важных направлений внешней политики Австралии в 70-х годах стало развитие отношений с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также двусторонние связи со странами, входящими в эту организацию. С 1974 г. периодически созываются совещания, получившие название Форум АСЕАН — Австралия.
На 3-м Форуме АСЕАН — Австралия, проходившем в мае 1977 г. в Соло (Индонезия), была принята программа экономического сотрудничества, предусматривающая оказание Австралией помощи странам ассоциации по следующим направлениям: техно
380
логия обработки соевых бобов и производство пищевых продуктов, богатых белками; хранение зерна, транспортировка скота и скоропортящихся пищевых продуктов; создание в рамках АСЕАН агентства по защите интересов потребителей; содействие развитию торговли между Австралией и АСЕАН; создание исследовательского центра по вопросам образования в странах АСЕАН.
Была достигнута также договоренность об организации постоянно действующего консультативного совещания АСЕАН — Австралия.
В августе 1977 г. в Куала-Лумпуре состоялась встреча М. Фрейзера с премьер-министрами стран АСЕАН, на которой австралийский премьер-министр обещал расширить участие Австралии в экономическом развитии этих стран и сообщил, что австралийское правительство приняло решение выделить дополнительно 10 млн. австрал. долл, на осуществление проектов в рамках программы экономического сотрудничества.
В июне 1978 г. в Мельбурне состоялась конференция по вопросам сотрудничества АСЕАН с Австралией в области промышленности. На конференции присутствовали делегации от всех стран, входящих в АСЕАН, и представители около 200 австралийских компаний, заинтересованных в капиталовложениях в странах ассоциации. Австралийским предпринимателям было предложено 9 областей для инвестиций: строительство, транспорт, химическая, машиностроительная, металлообрабатывающая, деревообрабатывающая, пищевая, легкая промышленность, производство стальных конструкций.
В октябре того же года в Сиднее была организована торговая ярмарка товаров из стран АСЕАН, имевшая целью содействовать расширению экспорта этих государств в Австралию. Следует отметить, что стоимость экспорта стран АСЕАН в Австралию за 1970/ 72—1976/77 гг. увеличилась с 97 млн. до 431 млн. австрал. долл. Ежегодный его рост составил 35%, в то время как общий суммарный рост австралийского импорта за этот же период не превышал 21%.
Австралийский экспорт в страны АСЕАН ежегодно увеличивался на 19%. К началу 1977/78 г. стоимость австралийского экспорта в эти государства составляла 853 млн. австрал. долл., к конт цу указанного года — уже 1 млрд, австрал. долл.
Страны АСЕАН занимают третье место по объему австралийских инвестиций. К концу 1978 г. их стоимость превысила 250 млн. австрал. долл. Однако по сравнению с американскими и японскими капиталовложениями они невелики.
В 70-е годы значительно оживились культурные связи Австралии со странами АСЕАН, которые осуществляются путем обмена музыкальными группами, кинофильмами, выставками произведений искусства, спортивными командами, передачи в дар библиотек и т. п. В 1977/78 г. расходы на культурные связи со странами АСЕАН составили 23% общих расходов Австралии на культурные программы.
381
На 4-м Форуме АСЕАН — Австралия, состоявшемся в Канберре в октябре 1978 г., были определены функции и состав участников консультативного совещания АСЕАН — Австралия, которое должно содействовать развитию торгово-экономических отношений между АСЕАН и Австралией, а также немедленно информировать обе стороны о трудностях, возникающих в этой области. В работе совещания участвуют члены австралийского междуведомственного комитета по связям с АСЕАН и главы дипломатических представительств стран АСЕАН и Австралии.
Министр иностранных дел А. Пикок заявил на 4-м Форуме, что расширение отношений с АСЕАН является одной из главных задач австралийской внешней политики в текущем десятилетии. Столь большое внимание Канберры к отношениям с АСЕАН объясняется как политическими, так и экономическими причинами. Страны АСЕАН — ближайшие азиатские соседи Австралии. Австралийское правительство крайне заинтересовано в том, чтобы эти страны проводили политику, созвучную интересам австралийского империализма. Австралийское правительство рассматривает АСЕАН как организацию, способную при оказании ей помощи стабилизировать капиталистическое направление развития стран, входящих в нее.
В то же время страны АСЕАН для Австралии — важный рынок сбыта австралийских товаров. Именно это обстоятельство подчеркнул в своем выступлении на открытии ярмарки товаров стран АСЕАН в Сиднее в октябре 1978 г. заместитель премьер-министра и министр торговли и ресурсов Д. Антони.
Однако на пути расширения торговых отношений между Австралией и странами АСЕАН встречается ряд трудностей, и прежде всего протекционистская политика австралийского правительства, стремящегося оградить интересы собственной буржуазии. Это приводит к постоянному и значительному росту пассивного сальдо в торговле стран АСЕАН с Австралией. Так, с 1970/71 по 1976/77 г. пассивное сальдо стран АСЕАН в торговле с Австралией увеличилось более чем в 2 раза.
Это вызывает серьезное раздражение в государствах, входящих в АСЕАН. Австралийское правительство неоднократно заявляло о необходимости сбалансировать торговые отношения с членами АСЕАН, но осуществить это на практике — для него задача весьма тяжелая.
Несмотря на трудности в торгово-экономических отношениях Австралии со странами АСЕАН, они, несомненно, будут развиваться, учитывая осложняющуюся обстановку для австралийского экспорта в государствах ЕЭС, Японии и США. Но для того чтобы существенно расширить вывоз своих товаров в страны АСЕАН, Австралии придется в конце концов частично изменить протекционистскую политику и предоставить льготные условия для экспорта в Австралию товаров из этих стран.
В течение 1979 г. Австралия весьма активно расширяла свои отношения с развивающимися странами, особенно с теми, которые 382
расположены в азиатско-тихоокеанском регионе. Неоднократно члены австралийского правительства делали заявления о намерении Австралии либерализовать торговлю с этими государствами.
Федеральный парламент создал специальную комиссию, состоявшую из ученых, представителей деловых кругов и правительственных учреждений. Комиссии поручалось разработать предложения, касающиеся отношений Австралии с развивающимися странами. 18 сентября 1979 г. доклад по этому вопросу был представлен на рассмотрение австралийского парламента.
В докладе подчеркивалось, что Австралия должна проводить самостоятельную политику в отношении развивающихся стран, а не копировать «западную линию», указывалось, что необходимо постепенно уничтожать барьеры в торговле с молодыми независимыми государствами.
Почти одновременно с представлением доклада в парламент министр иностранных дел А. Пикок заявил, что австралийское правительство не намерено сохранять тарифную стену против товаров, импортируемых из Азии. В таком же духе высказался и заместитель премьер-министра и министр торговли и ресурсов Д. Антони. 1 октября 1979 г., выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, А. Пикок подчеркнул, что развивающимся странам должен быть открыт более широкий доступ на мировые рынки и что Австралия будет настаивать на этом на соответствующих международных форумах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В буржуазной исторической и экономической литературе Австралию часто называют государством гармоничных классовых отношений, «идеального» развития капитализма. Но почти двухсотлетняя история пятого континента — с начала европейской колонизации и до наших дней — свидетельствует о том, что капиталистическое общество в «счастливой Австралии» то же, что и в старых буржуазных странах. Да иначе и быть не может. Австралия, развивавшаяся как переселенческая колония, имела все черты, свойственные «белым колониям». Эмигранты с Британских островов воспроизводили в Австралии классовую структуру метрополии.
Австралийский капитализм развивался с помощью буржуазии метрополии, заинтересованной в создании своего «филиала» для производства тех видов товаров, которые были нужны английской промышленности. Именно это и определило развитие в Австралии в первую очередь овцеводства и горнодобывающей промышленности. В то же время буржуазия метрополии сдерживала развитие обрабатывающей промышленности, стремясь сохранить австралийский рынок для экспорта своей продукции [54; 60].
Отсутствие каких-либо элементов феодализма, широкая поддержка буржуазии Великобритании способствовали тому, что австралийский капитализм быстро набирал силу. Поскольку экономическое «освоение» пятого континента началось, в сущности, со второй половины XIX в., австралийский капитализм рано перешел в империалистическую стадию. Несмотря на то что Австралия сохраняла политическую и экономическую зависимость от метрополии, с начала XX в. у нее появились свои «локальные» интересы. Тем не менее «кровные» связи Англии с Австралией оставались незыблемыми. Это происходило потому, что английская буржуазия шла навстречу интересам австралийской буржуазии, а последняя нуждалась в поддержке метрополии. В первой половине XX в. значительно расширился поток английского капитала в Австралию, но это обстоятельство не беспокоило австралийскую буржуазию. Сращивание английского капитала с «национальным» создавало базу для создания крупных австралийско-английских монополистических объединений, способствовавших укреплению позиций австралийской буржуазии как на континенте, так и за его пределами.
Объединение Австралии в федерацию и получение статуса доминиона в самом начале нынешнего столетия давало в руки авст-384
ралийской буржуазии необходимые средства для защиты своих интересов в случае необходимости.
До конца 30-х годов XX в. Австралия не была заинтересована в политической и экономической самостоятельности. Несмотря на Вестминстерский статус 1931 г., ведение внешних дел австралийское правительство целиком предоставляло Великобритании; в вопросах обороны оно также полностью полагалось на британскую мощь. Экономически пятый континент продолжал оставаться аграрно-сырьевым придатком метрополии. Почти все товары, экспортировавшиеся Австралией, а в основном это было сырье, направлялись в Англию. До образования федерации туда поступало около 70% всего австралийского экспорта. Хотя в дальнейшем его размер уменьшился, но все равно до второй мировой войны Англия поглощала половину товаров, вывозившихся из Австралии, Доля Англии в австралийском импорте составляла 40—50%.
Вторая мировая война привела к серьезнейшим изменениям как внутриполитической ситуации в Австралии, так и ее международного положения.
В годы войны проявилась полная неспособность Великобритании защитить Австралию, а угроза непосредственного вражеского вторжения на пятый континент впервые в истории Австралии стала вполне реальной. Традиционные экономические связи с метрополией были в значительной степени прерваны, и австралийская буржуазия начала форсировать развитие металлургии и машиностроения, а также и других отраслей обрабатывающей промышленности, что привело к значительному расширению австралийской промышленности в целом, укреплению австралийского капитала и ослаблению позиций иностранного, прежде всего английского, капитала в экономике страны.
В то же время австралийское правительство резко изменило внешнеполитический курс, пойдя на максимальное сближение с Соединенными Штатами Америки. Надо сказать, что США, спекулируя на своей роли защитника Австралии от японской агрессии, уже в ходе войны добились значительного расширения возможностей для деятельности американских монополий на пятом континенте.
На заключительном этапе войны со всей определенностью проявились устремления австралийского «локального» империализма. Австралия стала претендовать на особую роль в южной части Тихого океана, заявила о своей сугубой заинтересованности в островных территориях Океании.
В послевоенное время тенденции, наметившиеся во внутренней и внешней политике Австралии, получили свое дальнейшее развитие. Доля обрабатывающей промышленности в общей стоимости продукции, составлявшая в начале 50-х годов 52%, поднялась к концу 60-х годов до 70%. За тот же период доля сельского хозяйства снизилась с 40 до 20%.
Интенсивные геологические изыскания на Австралийском материке, начавшиеся в 50-х годах, привели к открытию богатейших
25 Заказ 91
385
месторождений полезных ископаемых. Австралия заняла первое место в мире по разведанным запасам бокситов и урана, второе место —по запасам свинца, третье — по запасам железа и цинка. Это привело к стремительному росту горнодобывающей промышленности. За 1965—1975 гг. стоимость продукции горнодобывающей промышленности увеличилась в 7 раз — с 542 млн. до 3,5 млрд, австрал. долл.
Еще более высокими темпами развивались непроизводственные отрасли австралийской экономики (строительство, электроэнергетика, транспорт, финансы, торговля, сфера обслуживания). Если в 1950/51 г. валовой национальный продукт страны составлял 6,2 млрд, австрал. долл., то в 1960/61 г.— 13,1 млрд., а в 1970/ 71 г. — 24,7 млрд, австрал. долл. К середине 70-х годов стоимость валового национального продукта Австралии достигла 50 млрд, австрал. долл. Изменилась и его структура. Если в начале 50-х годов сельское хозяйство, добывающая и обрабатывающая промышленность и непроизводственные отрасли составляли соответственно 31; 2; 23; 37%, то в середине 70-х годов — 7; 3; 25; 65% валового национального продукта страны.
Сельское хозяйство в послевоенное время развивалось очень интенсивно, и, несмотря на уменьшение доли сельскохозяйственной продукции в общеавстралийском выпуске продукции, в абсолютных цифрах она значительно выросла.
Расширились экспортные возможности страны. Существенно изменилась структура австралийского экспорта: доля продукции обрабатывающей промышленности в общем экспорте поднялась с начала 60-х годов до второй половины 70-х годов с 10 до 25%, а доля продукции горнодобывающей промышленности за тот же период увеличилась с 7 до 30%. Доля же сельскохозяйственных продуктов в австралийском экспорте хоть и снизилась, но остается еще очень высокой, во второй половине 70-х годов она составляла 45%.
Произошли крупные изменения географии внешней торговли Австралии. Доля Великобритании как в австралийском экспорте, так и в импорте резко сократилась. В 1976/77 г. на долю Великобритании приходилось лишь 4,5% экспорта и 10,9% импорта Австралии. Главным покупателем австралийских товаров стала Япония; в 1976/77 г. в эту страну направлялось 34% австралийского экспорта. Она же наряду с США ввозит в Австралию наибольшее количество своих товаров. В 1976/77 г. на долю Японии и США приходилось по 21% австралийского импорта. Значительно расширились торговые отношения Австралии со странами Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока. Таким образом, в последние 30 лет центр тяжести внешней торговли Австралии переместился в Тихоокеанский бассейн.
В послевоенные годы произошли существенные изменения как в размерах, так и в структуре инвестиций в Австралии. Пятый континент стал весьма привлекательным объектом для иностранных капиталовложений. Это объяснялось и громадными экономи
386
ческими возможностями страны-материка, и так называемой политической стабильностью.
За 15 лет (1948—1962) в страну поступило 3 млрд. долл, частных иностранных капиталовложений, а в следующее десятилетие их объем увеличился в 3 раза и превысил 9 млрд. долл. Английский капитал хотя и сохранил сильные позиции в австралийской экономике, но был значительно потеснен в первую очередь амерИт канским, а также японским и западноевропейским капиталом.
Если в довоенные годы американские инвестиции в ограниченных размерах поступали лишь в некоторые отрасли австралийской обрабатывающей промышленности, то после второй мировой войны под контроль американского капитала попал ряд ее ключевых отраслей; достаточно сильные позиции занял он в горнодобывающей промышленности, торговле и банковском деле.
Со второй половины 60-х годов расширилось проникновение в Австралию японского капитала. По общему объему он пока еще очень сильно отстает от английского и американского, но в сырьевых отраслях, а также в отдельных отраслях обрабатывающей промышленности его положение достаточно крепко.
Страны—члены ЕЭС (без Англии) являются третьим по размерам вложенных капиталов (после США и Англии) иностранным инвеститором в австралийскую экономику. За послевоенные годы общий размер инвестиций из этих стран достиг 2 млрд. долл.
После второй мировой войны Австралия стала местом острой конкурентной борьбы гигантских международных монополий, глубоко проникающих в экономику страны. В начале 70-х годов доля иностранной собственности в активах частных компаний составляла в среднем 36%. При этом чем крупнее компания, тем значительнее в ней доля иностранного капитала. Так, в 1972 г. из 299 крупнейших компаний, действовавших в Австралии, 47% находилось под иностранным контролем [49, с. 49—50]. Иностранные инвеститоры вкладывали капитал также в сельское хозяйство, торговлю, финансы, приобретали земельные участки в сельских районах и городах.
Глубокое проникновение иностранного капитала в австралийскую экономику дает возможность международным монополиям влиять не только на экономическое, но и на политическое развитие страны. Тем не менее австралийская буржуазия держит рычаги руководства экономикой страны в своих руках. В послевоенное время развитие экономики страны финансируется в основном из внутренних источников. При строительстве многих крупных объектов в области энергетики, транспорта, мелиорации и др. широко используются государственно-монополистические методы. Австралийский капитал составляет 85—90% всех инвестиций в экономику страны.
Привлечение иностранного капитала наряду с очевидными отрицательными последствиями имеет для австралийской буржуазии и свои выгоды: ускоряется развитие добывающей промышленности, передовых отраслей обрабатывающей промышленности, внедряются новая техника, технология, новейшие методы управления. Но
25*
387
интенсивное проникновение иностранного капитала, результатом которого стала передача ряда отраслей австралийской промышленности под контроль международных монополий, в 60—70-х годах вызвала недовольство широких кругов австралийской буржуазии.
Лейбористское правительство, пришедшее к власти в 1972 г., вынуждено было принять меры по ограничению иностранного капитала. Правительство либерально-аграрной коалиции, сменившее его в 1975 г., по сути дела, продолжило политику своего предшественника. Это свидетельствует о намерении австралийского капитализма играть самостоятельную роль как внутри собственного государства, так и в мировых экономических отношениях.
Следует ожидать, что международные монополии и в дальнейшем будут стремиться расширять свое участие в экономической жизни пятого континента, особенно в разработке его сырьевых богатств, ибо империалистический мир рассматривает Австралию как одну из своих богатейших кладовых. Австралийская буржуазия, не преграждая путь иностранному капиталу, вместе с тем, видимо, усилит контроль над ним, попытается использовать его с наибольшей для себя выгодой, сталкивая друг с другом различные группы иностранных инвеститоров.
Не менее значительные изменения произошли и во внешней политике Австралии. Сближение с США, начавшееся в годы войны, продолжалось и в послевоенное время. В 50—60-х годах Австралия активно участвовала в военно-политических блоках, создаваемых США в азиатско-тихоокеанском регионе, в военных авантюрах американского империализма, охотно брала на себя роль «ассистента» США по части подавления национально-освободительных движений.
Однако Австралию нельзя рассматривать только как американского сателлита. Поддерживая внешнеполитический курс США, австралийское правительство преследовало свои империалистические цели. Главным направлением ее политики в Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке в 50—60-х годах была борьба всеми средствами, включая военные, с угрозой распространения «азиатского коммунизма». Но уже тогда существовало и другое направление австралийской внешней политики: укрепление позиций в этом важном для Австралии районе земного шара. В 50—60-е годы Австралия значительно расширила свои экономические, торговые и культурные связи со странами азиатско-тихоокеанского региона, стала оказывать развивающимся странам Азии экономическую и техническую помощь. В 70-е годы, когда началась разрядка международной напряженности, это направление стало решающим в австралийской внешней политике в Азии. Особое значение австралийское правительство придает отношениям со странами, входящими в АСЕАН.
Отношения Австралии с США и Японией в 70-е годы характеризовались заметной противоречивостью. Австралийское правительство в стратегическом плане по-прежнему ориентируется на
388
Соединенные Штаты Америки. Американское правительство, в свою очередь, придает пятому континенту большое значение в своих военно-стратегических планах в азиатско-тихоокеанском регионе. Из года в год расширяющиеся торгово-экономические связи Австралии с Японией были закреплены в договоре о дружбе и сотрудничестве, подписанном в 1976 г. Австралия наряду с Японией проявляет большую активность в разработке идеи «тихоокеанского сообщества».
В то же время в 70-е годы происходили острые столкновения австралийской буржуазии с американской и японской в торгово-экономических сферах; обнаружились расхождения по ряду вопросов политических и экономических отношений с азиатскими и тихоокеанскими странами. С ростом экономических возможностей австралийского империализма эти противоречия неизбежно будут возрастать.
Потеряв в середине 70-х годов ряд территорий в Тихом океане, Австралия ни в коей мере не утратила интереса к Океании. Более того, ее стремление прочно утвердиться в этом районе стало еще сильнее. Австралийское правительство, используя широкий арсенал средств неоколониализма, увеличило в 70-х годах свое политическое и экономическое влияние в океанийском мире. Учитывая стратегическое положение Океании и ее быстро растущее экономическое значение, вызванное стремительным развертыванием работ по использованию ресурсов океана, можно предположить, чта Тихоокеанский бассейн останется одним из важнейших объектов австралийской внешней политики и в дальнейшем.
В 70-е годы заметно обострилась внутриполитическая обстановка в Австралии. Австралийская экономика, тесно связанная с мировой капиталистической системой, испытала на себе удары кризиса, охватившего мир капитала. Австралийское правительство оказалось бессильным остановить рост инфляции и безработицы. Трудящиеся массы страны усилили борьбу за свои права.
Австралия никогда не была страной классового мира. Капиталистическое производство, занявшее господствующее положение и в промышленности, и в сельском хозяйстве, привело к тому, что Австралия заняла одно из первых мест в мире по степени пролетаризации населения [60, с. 4]. Рабочее движение, развернувшееся в Австралии со второй половины прошлого столетия, отличалось высокой степенью организованности.- Еще в 80-х годах XIX в. австралийский пролетариат добился восьмичасового рабочего дня и зарплаты в 8 шилл. в день, т. е. того, что британские тред-юнионы в то время выдвигали лишь в качестве лозунга борьбы.
Несмотря на широкое распространение реформизма и оппортунизма в австралийском рабочем движении, в трудное время, в* годы экономических депрессий и мировых войн, оно показала боевитость и решительность.
70-е годы нашего столетия можно в Австралии назвать «бурными». В эти годы страна видела широкие антивоенные выступления, мощную стачечную борьбу, включая двухмиллионную за
389
бастовку 1976 г., невиданный накал предвыборных боев, общенациональную кампанию за демократизацию образования, гневные выступления против вопиющего нарушения австралийской реакцией законодательных норм, выразившегося в отстранении от власти лейбористского правительства, многочисленные общеавстралийские движения, направленные против попыток правительства М. Фрейзера «заставить трудящихся расплачиваться за кризис» [9, с. 80].
Выход из тисков кризиса может быть найден лишь на пути создания «широчайшего союза трудящихся, борющихся за повышение жизненного уровня, в защиту демократических прав, за экономическую обеспеченность... ограничение власти местных монополий и многонациональных корпораций» [9, с. 81].
БИБЛИОГРАФИЯ
Произведения основоположников марксизма-ленинизма *
1. Маркс К. Капитал. Т. 1.— Т. 23.
2. Маркс К. Торговля чинами.— Вести из Австралии.— Т. 11.
3. Маркс К.— Энгельсу, 27 августа 1852 г.— Т. 28.
4. Энгельс Ф.— Карлу Каутскому, 15 сентября 1889 г.— Т. 37.
5. Л е н и н В. И. В Австралии.— Т. 23.
6. Л е н и н В. И. Империализм, как высшая стадия капитализма.— Т. 27.
7. Л е н и н В. И. Разногласия в европейском рабочем движении.— Т. 20.
8. Л е н и н В. И. Тетради по империализму.— Т. 28.
Документы и материалы международного коммунистического и рабочего движения
9. XXV съезд КПСС. Стенографический отчет. Т. 3. М., 1976.
10. Документы международного Совещания коммунистических и рабочих партий в Москве 5—17 июня 1969 г. М., 1969.
Официальные издания и сборники документов
И. Доклад выездной миссии ООН 1959 г. на остров Науру. 14 октября 1959 г. Нью-Йорк, 1959.
12. Доклад выездной миссии ООН 1959 г. на подопечную территорию Новая Гвинея. 8 июня 1959 г. Нью-Йорк, 1959.
13. Доклад Совета по опеке за период с 7 августа 1959 по 30 июня 1960. Нью-Йорк, 1960.
14. Документы внешней политики СССР. Т. 17. М., 1971.
15. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. VIII сессия. 4-й комитет. Нью-Йорк, 1953.
16. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. IV сессия. 4-й комитет. Нью-Йорк, 1949.
17. Administration of Papua New Guinea. 1 July 1972—30 June 1973. Canberra^
18. Australia. Department of External Territories. Canberra, 1972.
19. Australia. Parliament. Parliamentary Debates. (Hansard). Senate and House of Representatives. Canberra, 1963. House of Representatives. 24-th Parliament.
1-st Session. 7.V. 1963.
20. Australia. Parliament. Parliamentary Debates. (Hansard). Senate and House of Representatives. Canberra, 1964. House of Representatives. 25-th Parliament.
1-st Session. 13.VIII.1964.
21. The Australian Encyclopaedia. Sydney, 1926.
22. Australian Labour Party. Platform, Constitution and Rules. Canberra, 1965.
23. Australian Labour Party. Platform, Constitution and Rules. Adelaide, 1971.
* Произведения К. Маркса и Ф. Энгельса даны по 2-му изданию Сочинений, произведения В. И. Ленина — по Полному собранию сочинений.
391
24. Australian Labour Party. Platform, Constitution and Rules. Barton, 1975.
25. Australian Liberal Party. The Liberal Party of Australia Federal Platform. Canberra, 1974.
26. Australia’s Aid to Developing Countries to 30 June 1966. Canberra, 11966.
27. British and Foreign States Papers. L., 1850—1900.
28. Commonwealth of Australia. Parliamentary Debates. Canberra, /1901—1970.
29. Department of Overseas Trade. Report on Economic and Commercial Conditions in Australia. L., 1938.
30. Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers 1936. Wash., 1953.
31. Great Britain. Parliament, Hansard’s Parliamentary Debates. L., 1874—1944.
32. Nouveau recueil general de traites et autres actes relatifs aux rapports de droit international (continuation du grad recueil de G. Fr. Dee Martens). Gottigue, 1884.
33. Official Records of Parliamentary Debates of South Australia. Adelaide, 1918.
34. Official Year Book of the Commonwealth of Australia. Canberra, .1914—1977.
35. Proposals on Constitutional Principles and Explanatory Notes, Port Moresby, 1974.
36. Queensland Parliamentary Debates. Brisbane, 1891,1894.
37. Report of the Trusteeship Council, 1.VI 1.4960—19.VI1.1961. N. Y., 1961.
38. Report of the Trusteeship Council, 27.VI.1963—29.VI.1964. N. Y., 1964.
39. Report on Administration of the Territory of Nauru for 1962—1963. N. Y., 1963.
40. Report on Nauru Submitted by the United Nations Visiting Mission to the Trust Territories of Nauru and New Guinea. T/1636. 3.VI.1965. N. Y., 1965.
41. Report on New Guinea Submitted by the United Nations Visiting Mission to the Trust Territories of Nauru and New Guinea. T/1635. 28.V.1965. N. Y., 1965.
42. Select Documents in Australian History. Vol. 1, 2, Sydney, 1955.
43. Selected Policy Statements on Papua New Guinea. December 4972— May 1973. Canberra, 1973.
44. Selected Policy Statements on Papua New Guinea. May — December 1973. Canberra, 1974.
45. Statement on the World Situation. 1.VI. 1976. Canberra, 1976.
46. A Statistical Account of Australia and New Zealand 1903—1904. Sydney, 1905.
47. Territory of New Guinea. Report for 1968—1969. Canberra, 1970.
47a. Territory of Papua. Report for 1968—1969. Canberra, 1970.
Литература
48. Деберль А. История Южной Америки от завоевания до нашего времени. СПб., 1899.
49. И в а н о в В. И. Иностранный капитал в Австралии после второй мировой войны. М., 1976.
50. К а б о В. Р. Древнейшее прошлое аборигенов Австралии.— Австралия и Океания. История и современность. М., 1970.
51. Кемпбелл Э. Влияние Великой Октябрьской революции на рабочее движение в Австралии. М., 1957.
52. Кристман Ф. Австралия. Спб., 1871.
53. Крылов С. Б. История создания ООН. М., 1960.
54. Лебедев И. А. Внешняя политика Австралии. М., 1975.
55. Л е б е д е в И. А. Экономика и политика Австралии после второй мировой войны. М., 1966.
56. Леруа Болье П. Колонизация новейших народов. СПб., 1877.
57. Л е р у а Болье П. Новые англосаксонские общества. СПб., 1898.
58. М и ж у е в П. Г. История колониальной империи и колониальной политики Англии. СПб., 1909.
59. Миклухо-Маклай Н. Н. Собрание сочинений. Т. 1—5. М., 1950—1954.
60. М и л е й к о в с к и й А. Г. Австралия. М., 1937.
61. М о р о з о в С. Н. Австралийский колониализм. М., 1967.
62. Мун П. Т. Империализм и мировая политика. М., 1928.
63. Поэзия Австралии. М., 1967.
64. Росс Э. Великий Октябрь и рабочее движение в Австралии. М., 1967.
392
65. Твен М. Собрание сочинений. М., 1961.
66. Agriculture in the Australian Economy. Sydney, 1967.
67. A p p 1 e t о n M. They Came to New Zealand. L., 1958.
68. A r n d t H. W. Australia and Japan: Trade Partners. Adelaide,. 1965.
69. A r n d t H. W. Australian Foreign Aid Policy. Adelaide, 1964.
70. Australia. A Social and Political History. Sydney, 1955.
71. Australia and Papua New Guinea. Sydney, 1971.
72. Australia in World Affairs. 1950—1955. Melbourne, 1957.
73. Australia in World Affairs. 1956—>1960. Melbourne, 1963.
74. Australia, Japan and the Western Pacific Economical Relations. Canberra, 1976_
75. The Australian Labour Movement. 1850—1907. Melbourne, 1965.
76. Australian Society. Melbourne, 1965.
77. Australia’s Defence and Foreign Policy. Melbourne, >1965.
78. Ball W. M, Australia’s Role in Asia. Melbourne, 1967.
79. Barnard M. A. History of Australia. Sydney, 1962.
80. Barton J. The Alternative. Sydney, 1954.
81. Bean С. E. W. Anzac to Amiens. Canberra, 1952.
82. В i m b a A. The History of the American Working Class. N. Y., 1934.
83. В i r d e n Ch. A. South Sea Islands. Philadelphia, 1961.
84. В i s к u p P., J i n к s B., Nelson H. A. A Short History of New Guinea. Canberra, 1968.
85. Black G. History of the New South Wales Labour Party. Sydney, 1910.
86. Brookes J. I. International Rivalry in the Pacific Islands 1800—1875. Los Angeles, 1941.
87. Burns A. Fiji — HMSO. L., 1963.
88. В u 11 i n S. J. War Economy 1939—1942. Canberra, 1955.
89. Cameron R. Australia History and Horizons. L., 1971.
90. Campbell E. W. History of the Australian Labour Movement. A Marxist Interpretation. Sydney, 1945.
91. Captain Cook’s Journal During the First Voyage Round the World Made in H. M. Bark «Endeavour». 1768—1771. Adelaide, 1968, № 188.
92. С a r t e r G. M. The British Commonwealth and International Security: The-Role of the Dominions. 1919—<1939. Toronto, 1947.
93. C a s e у R. G. The Conduct of Australian Foreign Policy. Brisbane, 1952.
94. Churchill W. L. C. The Second World War. Vol. 1—6. N. Y., 1961—1962.
95. Clark С. M. H. A History of Australia. Vol. 1. Melbourne, 1963.
96. С о g h 1 a n T. A. A Statistical Account of the Seven Colonies of Australia. Sydney, 1902.
97. С о g h 1 a n T. A., E w i n g T. Y. The Progress of Australasia in the Nineteenth Century. L., 1903.
98. С r a w f о r d J. G. Australian Trade Policy. 1942—1966. Canberra, 1968.
99. Crawford J. G., Okita Sabur o. Australia, Japan and Western Pacific Economical Relations. Canberra, 1976.
100. Crowley F. K. Australia’s Western Third. A History of Western Australia from the First Settlements to Modern Times. L., 1960.
101. Crowley F. K. Short History of Western Australia. Melbourne, 1959.
102. Dale G. The Industrial History of Broken Hill. Sydney, 1918.
103. D a m p i e r W. New Voyage Round the World. L., 1927.
104. Downer A. R. The Influence of Migration on Australian Foreign Policy. Sydney, 1960.
105. Dunbabin T. Slavers of the South Seas. Sydney, 1935.
106. Dunlop E., P i к e W. Australia: Colony to Nation. Sydney, 1960.
107. E a s t e r b у H. T. The Queensland Sugar Industry.
108. The Economics of Australian Industry. Melbourne, 1963.
109. E d g a r D. Australia and her Northern Neighbours. Melbourne, 1962.
110. Essei B. Papua and New Guinea. Melbourne, 1961.
111. Esthus R. A. From Enmity to Alliance. United States — Australian Relations 1931—1941. Wash., 1964.
112. E w a 11 H. V. Australia in World Affairs. Sydney, 1946.
113. F i s h e r J. The Australians. L., 1968.
114. Fitzgerald J. The Rise of Australian Labour Party. Sydney, 1915.
393
115. Fitzpatrick В. The British Empire in Australia. An Economic History 1834—1939. Melbourne, 1941.
146. Fitzpatrick B. A Short History of the Australian Labour Movement. Melbourne, 1944.
117. German Colonization. L., 1920.
118. Grattan С. H. Introducing Australia. N. Y., 1947.
119. Grattan С. H. The Southwest Pacific to 1900. N. Y., 1963.
120. Hancock W. K. Australia. L., 1930.
121. Hancock W. K. Wealth of Colonies. Ox., 1950.
122. Harper N., S i s s о n s D. Australia and the United Nations. N. Y., 1959.
123. H a г t w e 11 R. Economic Development of Van Diemen’s Land 1820—4850. Melbourne, 1954.
124. Ha stuck P. The Government and the People. 1939—1941. Canberra, 1952.
125. Healey G. ALP. The Story of the Labour Party. Brisbane, 1955.
126. Holfeld. Geschichte des Deutschen Reiches. 1871—1926. Lpz., 1926.
127. Howard J., С о p 1 e у R. Australia and the Twentieth Century. Sydney, 1965.
128. Hughes H. The Australian Iron and Steel Industry. 1848—1926. Melbourne, 1964.
129. Japan and the Defence of Australia. Melbourne, 1935.
130. Jenks E. A. History of the Australasian Colonies. Cambridge, 1912.
131. The Journals of Captain James Cook on his Voyages and Discovery: the Voyage of the Endeavour. Cambridge, 1955.
132. Joy W. The Birth of a Nation. Sydney, 1963.
133. J о у W. The Explorers. L., 1964.
134. Jupp J. Australian Party Politics. Melbourne, 1968.
135. К о j im a K. Japan and a Pacific Free Trade Area. L., 1971.
136. К о j i m a K. An Organization for Pacific Trade, Aid and Development: a Proposal, Australia — Japan Economic Relations Research Project. Canberra, 1976.
137. Labour’s Policy. Melbourne, 1961.
138. L e g g e J. D. Australian Colonial Policy. Sydney, 1956.
139. Long G. To Benghazi.— Australia in the War of 1939—1945. Vol. 1. Canberra, 1952.
140. Long G. The Final Campaigns. — Australia in the War of 1939—1945. Vol. 7. Canberra, 1963.
141. Looking at the Liberals. Melbourne, 1974.
142. Maiden H. E. The History of Local Government in New South Wales. Sydney, 1966.
143. M a n d e r A. E. The Making of the Australians. Melbourne, 1958.
144. Masterman S. The Origins of International Rivalty in Samoa. 1845—1884. Stanford, 1934.
145. Melbourne A. C. Early Constitutional Development in Australia. St. Lucia, 1963.
146. Melville H. History of the Island of Van Diemen’s Land 1824—1835, L., 1835.
147. Menzies R. The British Commonwealth of Nations in International Affairs. Adelaide, 1950.
148. Millar T. B. Australia’s Defence. Melbourne. 1965.
149. Miller J. D. Australia and Foreign Policy. L., 1965.
150. Miller J. D. The EEC and Australia. L., 1976.
151. Monkton A. W. Some Experiences of a New Guinea Resident Magistrate. Harmondsworth, 1936.
152. M о r r e 11 N. P. Britain in the Pacific Islands. L., 1960.
153. Morrison J. This War Against Japan. L., 1943.
154. Murphy W. History of the Eight-hours Movement. Melbourne, 1896.
155. New Guinea and Australia. Canberra, 1958.
156. Nicholson R. S. The Son of the Savage. L., 1924.
157. Oliver D. L. The Pacific Islands. Cambridge, 1958.
158. Pacific Orbit. Australian — American Relations Since 1942. Melbourne, 1968.
159. Pacific Trade and Development. Tokyo, 1968.
160. P Aimer H., M a c L e о d J. The First Hundred Years of Australian History. Melbourne, 1954.
394
161. Р а г к e s H. Fifty Years in Making of Australian History. L., 1892.
162. Pike D. Australia. The Quiet Continent. Cambridge, 1966.
163. Pike D. Paradise of Dissent. South Australia. 1829—1857. Melbourne, 1957.
164. Portus I. V. Australia: An Economic Interpretation. Sydney, 1933.
165. Rawson D. W. Australia Votes. Melbourne, 1961.
166. Rawson D. W. Labor in Vain? A Survey of the Australian Labour Party. Craydon, 1966.
167. Reese T. R. Australia in the Twentieth Century. A Short Political Guide. L.„ 1964.
168. Reeves W. State Experiments in Australia and New Zealand. L., 1923.
169. R о w 1 ey C. D. The Australians in German New Guinea. 1914—1921. Melbourne,. 1958.
170. Serie G. The Golden Age. A History of the Colony of Victoria. 1851—1861. Melbourne, 1963.
171. S h a n n E. An Economic History of Australia. Cambridge, 1938.
172. S h a г к у L. L. An Outline History of the Australian Communist Party. Sydney^ 1944.
173. Shaw A., Bruns G. R. The Australian Cool Industry. Melbourne, 1947.
174. Shaw A., NikolsonH. Australia in the Twentieth Century. Sydney, 1966.
175. Shepher J. Australia’s Interests and Policies in the Far East. N. Y., 1940.
176. Spate O. Australia. L., 1968.
177. Stephen D. A. History of Political Parties in Papua New Guinea. Melbourne, 1972.
178. Steps Towards Self-Government in Papua and New Guinea. Canberra, 1970.
179. Strauss W. P. Americans in Polynesia. 1783—1942. Eeast Lassing, 1963.
180. Sutcliffe J. T. A History of Trade Unionism in Australia. N. Y., 1967.
181. Toussaint Ch. E. The Trusteeship System of the United Nations. L., 1956.
182. Trade Strategy and Japan’s Economic Cooperation. L., 1970.
183. Turner J. Industrial Labour and Politics. The Dynamics of the Labour Movement in Eastern Australia. 1900—1921. Canberra, 1965.
184. Viviani N. Australia and Japan Approach to, Development Policy, Australia-Japan Economic Relations Research Project. Canberra, 1975.
185. Wahlfors О. K. J. Report to the South Pacific Commission on Cooperative Education and Training in Selected South Pacific Countries. Port Moresby, 1973.
186. Ward J. M. Empire in the Antipodes. The British in Australia. 1840—1860. L., 1966.
187. Watt A. The Evolution of Australian Foreign Policy. 1938—1965. Cambridge, 1967.
188. What do Political Parties Want for Papua New Guinea. Port Moresby, 1972.
189. W h i 11 a m E. G. Australian Foreign Policy 1963. Armidale, 1963.
190. Williams Ch. The Pacific Community: A Modest Proposal, Australia-Japan Economic Relations Research Paper. Canberra, 1977.
191. Wilson R. Capital Imports in Terms of Trade. L., 1931.
192. Windett N. Australia as Producer and Trader. 1920—1932. L., 1933.
193. Wise B. R., The Commonwealth of Australia. L., 1913.
194. Wise B. R. The Making of the Australian Commonwealth. 1889—1900. L., 1913.
195. Wood P. L. W. Official History of New Zealand in the Second World War. 1939—1945. Wellington, 1958.
196. Yarwood A. T. Asian Migration to Australia. The Background to Exlusion. 1896—1923. Melbourne, 1964.
197. Y о x W. The Explorers. L., 1964.
Журналы
198. «Вопросы истории КПСС».
199. «Исторический архив».
200. «Australian External Territories».
201. «Australian Neighbours».
202. «Australian Outlook».
203. «Current Notes on International Affairs».
204. «Far Eastern Economic Review».
395
205. «Foreign Affairs».
206. «Historical Records of Australia».
207. «New Guinea».
208. «The New South Wales Countryman».
209. «Pacific Affairs».
210. «Pacific Islands Monthly».
211. «Royal Australian Historical Society. Journal of Proceedings».
212. «South Pacific».
Газеты
213. «Правда».
214. «The Age».
215. «The Australian».
216. «The Australian Financial Review»
217. «The Canberra Times».
218. «Daily Telegraph».
219. «The Financial Times».
220. «Herald».
221. «National Times».
222. «New South Wales Industrial Gazette».
223. «The New York Times».
224. «Papua New Guinea Post Courier»
225. «Socialist».
226. «South Pacific Post».
227. «The Straits Times».
228. «The Sydney Morning Herald».
229. «United States News and World Report».
Таблица перевода англо-американских единиц измерения в метрическую систему
Акр — 4047 кв. м.
Баррель— 163,65 л.
Бушель — 36,368 л.
Миля — 7420 м.
Унция — 29,86 г.
Фунт — 453,6 г.
Фут — 30,479 см.
УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИИ
Австралийские Альпы, горы 24
Аделаида, г. 24, 31, 59—62, 67, 70, 75, 82, 92, 102, 230—231, 248, 261, 344
Аделаида, р. 61
Аитапа, селение 199
Александрина, оз. 23
Александрия, г. 162
Амбоина, о-в 209
Амстердам, г. 6, 353
Амьен, г. 172
Арава, местность 306
Астролябия, зал. 115
Атак-Крик, местность 61
Афины, г. 206
Баликпапан, г. 215
Балларат, г. 80, 88, 93
Бангкок, г. 347, 365
Барку, р. 24
Бассов пролив 26
Батерст, г. 21, 64
Бейрут, г. 147
Бенгази, г. 205—207
Бендиго, г. 89, 232
Берлин, г. 109—110
Бисмарка, арх. 111, 125
Б ленч-Бей, зал. 162
Блэктаун, г. 249
Большая Песчаная пустыня 63
Большая пустыня Виктория 63
Большое Папуасское плато 188
Большой Барьерный риф 5, 212, 324— 325
Борнео, о-в 118, 215
Ботани-Бей, зал. 9, 12—14.
Брисбен, г. 37, 74—76, 82, 91—92, 95, 97, 99, 105, 135, 155—156, 158, 174, 230, 256, 261, 325, 343
Брисбен, р. 21, 37
Брокен-Хилл, г. 101, 155
Бугенвиль, о-в 112, 116, 199, 287, 295, 305—306, 313, 317—318, 320—321, 326
Бука, о-в 124
Булоло, г. 282
Булоло, р. 200, 202
Ватерлоо, г. 24
Вашингтон, г. 187, 335, 339, 373
Веллья Лавеллья, о-в 75
396
Веллингтон, г. 345.. 373
Верамо, г. 301
Версаль, г. 197
Вестерн-Порт, г. 21
Виктор-Харбор, г. 80
Виктория, штат 26, 35—37, 44, 53—56, 61—62, 65—67, 69—70, 72—73, 75, 77—78, 80—83, 86, 88—94, 97, ЮЗ-107, 113, 117, 119—120, 127—128, 130—131, 133—134, 136—139, 142— 143, 161, 164, 173, 222, 231—232, 252, 255—256, 283, 345
Вильсонс-Промонтори, п-в 26
Вильямстаун, селение 36, 70
Восточное Нагорье, район 284
Вунадидир, г. 303
Вунамаму, г. 303
Гаага, г. 372
Гавайские острова 109
Г аза г 205
Газель, п-ов 284, 303—305, 317—318
Галлипольский, п-ов 162, 165
Гвидир, р. 23
Гелбурн, г. 70
Гемден, г. 53
Гёттинген, г. 25
Гилберта, о-ва 112, 296 см. Кирибати, о-ва
Гипсленд, геогр. обл. 24
Гисборн, г. 9
Гладстон, г. 271
Гоарибари, район 123
Голубые горы 21
Гонконг, г. 209
Гонолулу, г. 368
Горока, г. 282, 297
Гренвилл, г. 44
Гуам, о-в 215
Дамаск, г. 146
Дарвин, г. 32, 181, 210, 232, 360 см.
Пальмерстон, г.
Дарданеллы, пр. 162
Даргем, г. 53
Дарлинг, р. 22—24
Дениликуин, г. 102
Деруэнт, р. 26, 44
Джакарта, г. 6—7, 323—324, 353
Джилонг, г. 231
Дивуан, г. 303
Диего-Гарсия, о-в 377
Доброй Надежды, м. 6, 17
Женева, г. 214
Западная Австралия, штат 23, 32—35, 43, 51, 53—54, 64—66, 73, 78—79, 82—83, 87, 90—93, 106—107, 128, 130—131, 133, 136—139, 142—154, 159, 231, 233, 245, 248, 341, 363
Западное Самоа 216, 328
Земля Ван Димена, о-в см. Тасмания, о-в
Земля кайзера Вильгельма, о-в см.
Новая Гвинея, о-в
Иоганнесбург, г. 149
Исмаилия, г. 205
Кавиенга, г. 298
Каир, г. 162
Калгурли, г. 78
Калифорния, п-ов 64—65, 71
Канберра, г. 24, 174, 187, 216, 230, 246, 278—279, 282, 290, 292, 306, 309, 311—312, 314, 316, 341, 343, 348, 366—367, 373, 382
Кантон, г. 130
Карачи, г. 62
Каролинские острова 161, 296
Карпентария, зал. 6, 23, 25, 62—63
Квинсленд, штат 26, 36—37, 65—66, 73—75, 77—78, 82, 87, 89—92, 95, 98—100, 102, 104—105, 107, 112— 114, 117, 119—121, 122, 126, 130— 131, 133—139, 142, 154, 156—157, 161, 164, 174, 178, 198, 204, 240, 243, 245—246, 248, 252, 256. 271. 324— 325, 342, 363
Кейп-Йорк, п-ов 6, 9, 15
Кенгуру, о-в 31
Керават, г. 282
Кертис, о-в 271—272
Киета, г. 294, 306
Кимберли, геогр. обл. 78
Кинг, о-в 26
Кингкио, поселок 294
Киренаика, геогр. обл. 205
Кирибати., о-ва см. Гилберта, о-ва
Кокода, г. 212
Кокопо, г. 199, 285, 303
Кокосовые острова 267, 341
Константин, порт 115
Коралловое море 214
Короля Георга, пр. 21, 24
Косцюшко, гора 24
Крит, о-в 206
Куала-Лумпур, г. 381
Кука, о-ва 216, 296, 324, 329
Кулгарди, месторождение 78
Кумберленд, г. 53
Куперс-Крик, местность 62
Лавонгай, о-в 125, 276
Л а локи, селение 298
Лаэ, г. 282, 298—300
Лейкекаму, местность 188
Литгоу, г. 80, 89 101
Лондон, г. 28, 30, 32—34, 36, 55—56, 70, 74, 112, 114—115, 117—119, 129, 131, 138, 181, 196, 206, 337, 340
397
Лонсестон, г. 21, 43, 82
Луизиада, арх. 120
Маврикий, о-в 7, 74
Магири, г. 282
Маданг, г. 199, 298
Маккай, г. 76
Маккуори, р. 22
Маккуори-Харбор, местность 21
Маклая, берег 115
Малаккский пролив 324
Манила, г. 209, 338
Манус, о-в 199, 212, 297
Мара-Матана, г. 301
Марианские острова 161, 215, 296
Маркизские острова 5
Маррамбиджи, р. 23
Маршаловы острова 112, 126, 161, 296
Маунт-Хаген, г. 292
Мельбурн, г. 21, 26—27, 32, 35—36, 40, 43, 51, 53—54, 58—62, 65, 67— 68, 70, 74—75, 79, 82—83, 85—87, 89, 91—92, 97, 99, 101—102, 115, 136, 138—139, 155, 160, 163—164, 169—170, 173, 181, 207, 225, 230— 232, 241, 260—261, 313, 333, 338, 342—344, 381
Мехико, г. 368
Мидуэй, о-ва 214
Микронезия, группа о-ов 5
Милн-Бей, зал. 301—302
Миттагонг, г. 80
Молуккские острова 209, 214—215
Морган, г. 78
Мортон, зал. 37
Муррей, р. 23—24, 29, 35
Муррея, оз. 188
Мэриборо, г. 76
Мюнхен, г. 184
Навунарам-Тавилилиу, г. 303
Навунерам, деревня 275—276
Наманул, селение 126
Намой, р. 23
Науру, о-в 126, 161, 195, 267, 269— 273, 328
Неттаи, местность 79
Нил, р. 206
Новая Британия, о-в 1 И—113, 126, 199, 212, 303, 305, 313, 317
Новая Гвинея, о-в 5—6, 9, 108—126, 161 —162, 188, 191, 193—204, 212, 214, 215, 219—220, 267, 273—329, 349—350, 360, 363
Новая Ирландия, о-в 112—113, 125, 279, 298
Новая Каледония, о-в 111, 217
Новые Гебриды, о-ва 5, 112, 296, 328
Новый Южный Уэльс, штат 9, 11 — 15, 17—22, 24—28, 32, 35—37, 39—
57, 60, 64—67, 69—77, 79—82, 86, 89—94, 97, 102—107, 112—114, 117, 119—120, 127—128, 130—139, 142— 143, 145, 153, 158—159, 161, 164, 168, 178, 222, 231, 240, 248, 255
Нортамберленд, г. 53
Норт-Уэст-Кейп, г. 375
Норфолк, о-в 13, 48, 267
Нуку-Хива, о-в 108
Нуррунгар, г. 374
Нью-Йорк, г. 242, 373, 375
Ньюкасл, г. 21, 81, 86, 88—89, 97, 101, 226
Ньюфаундленд, о-в 8, 123
Окинава, о-в 215
Окленд, г. 185, 368
Ок-Теди, р. 295, 316
Олбани, г. 22, 24, 162
Оттава, г. 368
Пайн-Геп, г. 374
Палмерстон, г. см. Дарвин, г.
Папуа, зал. 295
Парраматта, г. 248
Париж, г. 26, 28
Пасхи, о-в 162
Паттая, г. 368
Перл-Харбор, г. 207, 211
Перт, г. 33—34, 82, 230
Пирей, г. 206
Плимут, г. 8
Пондона, деревня 294
Порт-Джексон, зал. 14, 38, 44
Порт-Кембла, г. 226
Порт-Кертис, г. 37
Порт-Маккуори, г. 21, 37, 74
Порт-Морсби, г. ИЗ—114, 117, 120, 161, 190, 212, 220, 277—279, 282, 283, 291, 294, 297—300, 305—306, 310—311, 314—315, 319, 323, 326
Порт-Олбани, г. 26
Порт-Пири, г. 155
Порт-Филлип, г. см. Мельбурн, г.
Порт-Филлип, зал. 27
Порт-Эссингтон, г. 22, 25, 32
Портленд, г. 231
Портленд, бухта 24
Поссешен, о-в 9
Принцессы Шарлотты, зал. 25—26
Пурари, р. 295, 316, 321
Рабаул, г. 126, 161, 193—194, 198— 199, 202, 204, 209, 212, 275, 285, 294, 297—299, 303—305
Раротонга, о-в 324
Реймбер, г. 303
Рождества, о-в 267
Рокгемптон, г. 25, 76, 78
Рорована, местность 306
398
Сайгон, г. 230
Саламауа, селение 200
Самоа, о-ва 162, 296
Санананд, г. 212
Сан-Кристобаль, о-в 112
Сан-Франциско, г. 185, 368, 371
Санта-Исабель, о-в 116
Сараево, г. 159
Сепик, местность 293
Сепик, р. 188, 200—201
Сеул, г. 364
Сидней, г. 15—21, 23—25, 27, 32, 36— 37, 41, 43—44, 50—51, 53—54, 56, 58—60, 68, 70, 74—75, 82—83, 85— 87, 89—90, 92, 97, 100, 111, 126, 128, 133, 137—138, 154, 160, 168— 170, 183—185, 187, 190, 193, 205, 225, 230, 239, 249, 262, 340, 342— 343, 345, 368, 372, 381
Сингапур, г. 209, 237, 328, 341, 360, 372
Синие горы 47, 64
Соломоновы острова 5, 75, 112, 116— 117, 214, 296, 306, 329
Сомма, р. 163
.Соммер-Хилл, местность 64
Спенсер, зал. 26
Средиземное море 205
Суон, р. 32—33
Суэцкий канал 162, 205, 341, 365
Таити, о-в 8, 162
Тасмания, о-в 7, 20—21, 24, 26—28, 35—36, 38, 40, 43—45, 48—51, 53— 55, 60, 64, 66—67, 73, 77, 80—83, 87, 89, 92—93, 106—107, 114—115, 117, 128, 133, 136—139, 142, 159, 161, 182, 363
Теймар, р. 44
Темза, р. 8
Тимор, о-в 7, 20, 209, 214, 217, 379
Тидбинбилла, г. 341
Тобрук, г. 207
Токио, г. 195, 362—363, 366, 368, 379
Тонга, о-ва 296, 328—329
Торресов пролив 9, 64, 324—325
Триполи, г. 147
Тувалу, о-ва см. Эллис, о-ва
Тулуза, г. 12
Туру, гора 293
Уария, р. 188, 200
Фиджи, о-ва 75, 109,112,117,296, 328—329
Флай, р. 188
Фримантл, г. 33, 155, 205, 341
Хартли, селение 64
Хобарт, г. 27, 43, 59—60, 68, 82, 92— 93, 117, 133, 137
Хоуплесс, селение 62
Чемберс-Крик, селение 61
Шуазёль, о-в 116
Эди-Крик, р. 200, 202
Элис-Спрингс, г. 374
Эллис, о-ва 112, 296 см. Тувалу, о-ва
Эмберли, г. 374
Южная Австралия, штат 23, 26, 28— 32, 43—44, 51, 53—56, 61—63, 66— 67. 69, 72—73, 77, 80, 82, 87, 89, 92—93, 98, 106—107, 122, 127—128, 130—131, 134, 136—139, 142, 161, 216, 242, 256
Южное Нагорье, район 316
Яба, р. 318
Ява, о-в 5, 74. 81, 126, 209
Япен, о-в 124
ОГЛАВЛЕНИЕ
К читателю .........................................................3
АВСТРАЛИЯ ДО XX в.
Глава I. Открытие Австралии.........................................5
Глава II. Британская колонизация Австралии в конце XVIII — первой половине XIX в.................................................11
Глава III. Экономическое и политическое положение британских колоний в Австралии в первой половине XIX в........................38
Глава IV. Экономическое развитие британских колоний в Австралии во второй половине XIX в..........................................61
Глава V. Рабочее движение в британских колониях в Австралии во второй половине XIX в..........................................85
Глава VI. Австралийский «локальный» империализм................108
Глава VII. Создание Австралийского Союза . ...... 127
АВСТРАЛИЯ В XX в.
Глава I. Австралия накануне и в годы первой мировой войны . . . 142
Глава II. Австралия между мировыми войнами........................173
Глава III. Австралия в годы второй мировой войны..................205
Глава IV. Австралия в 50—70-х годах...............................221
Глава V. Австралийский колониализм после второй мировой войны 267
Глава VI. Основные * направления внешней политики Австралии в 50—
70-х годах....................................................330
Заключение........................................................384
Библиография......................................................391
Таблица перевода англо-американских единиц измерения в метрическую систему.......................................................396
Указатель географических названий.................................396
Ким Владимирович Малаховский
ИСТОРИЯ АВСТРАЛИИ
Утверждено к печати
Ордена Трудового Красного Знамени Институтом востоковедения Академии наук СССР
Редактор И. В. Королева. Младший редактор Л. Г. Поспелова. Художник Д. Б. Стан-кович. Художественный редактор Э. Л. Эрман. Технический редактор 3. С. Теплякова
Корректор Э. Н. Раковская
ИБ № 13963
Сдано в набор 18.01.80. Подписано к печати 27.08.80. А-01906. Формат 60Х90’/1б. Бумага типографская № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 25. Уч.-изд. л. 29,59.
Тираж 5000 экз. Изд. № 4650. Тип. зак. № 91. Цена 3 р. 20 к.
Главная редакция восточной литературы издательства «Наука».
Москва, К-45, ул. Жданова, 12/1.
Полиграфическое объединение «Полиграфист» Управления издательств, полиграфии и книжной торговли Мссгорисполкома. Москва, ул. Макаренко, 5/16