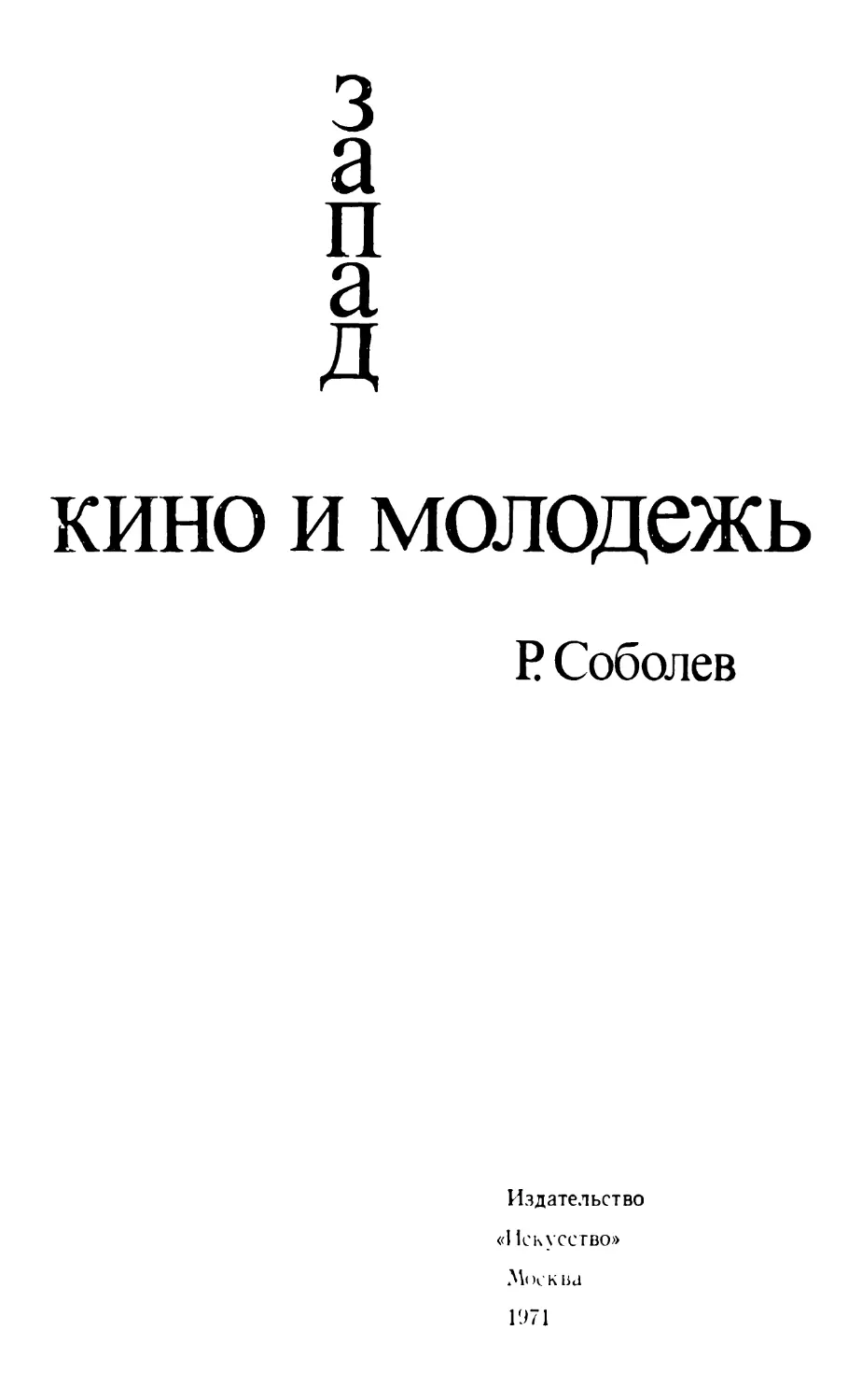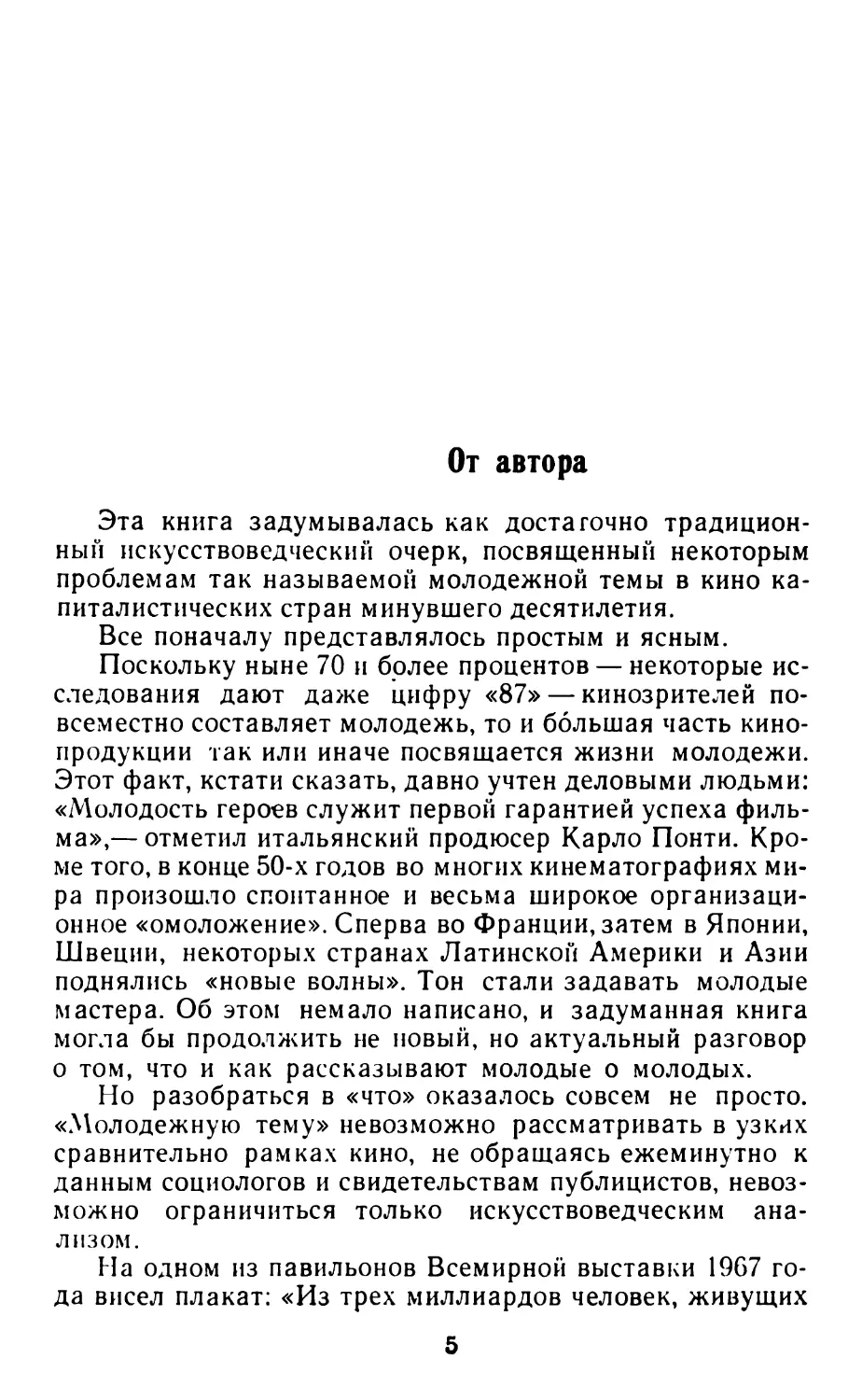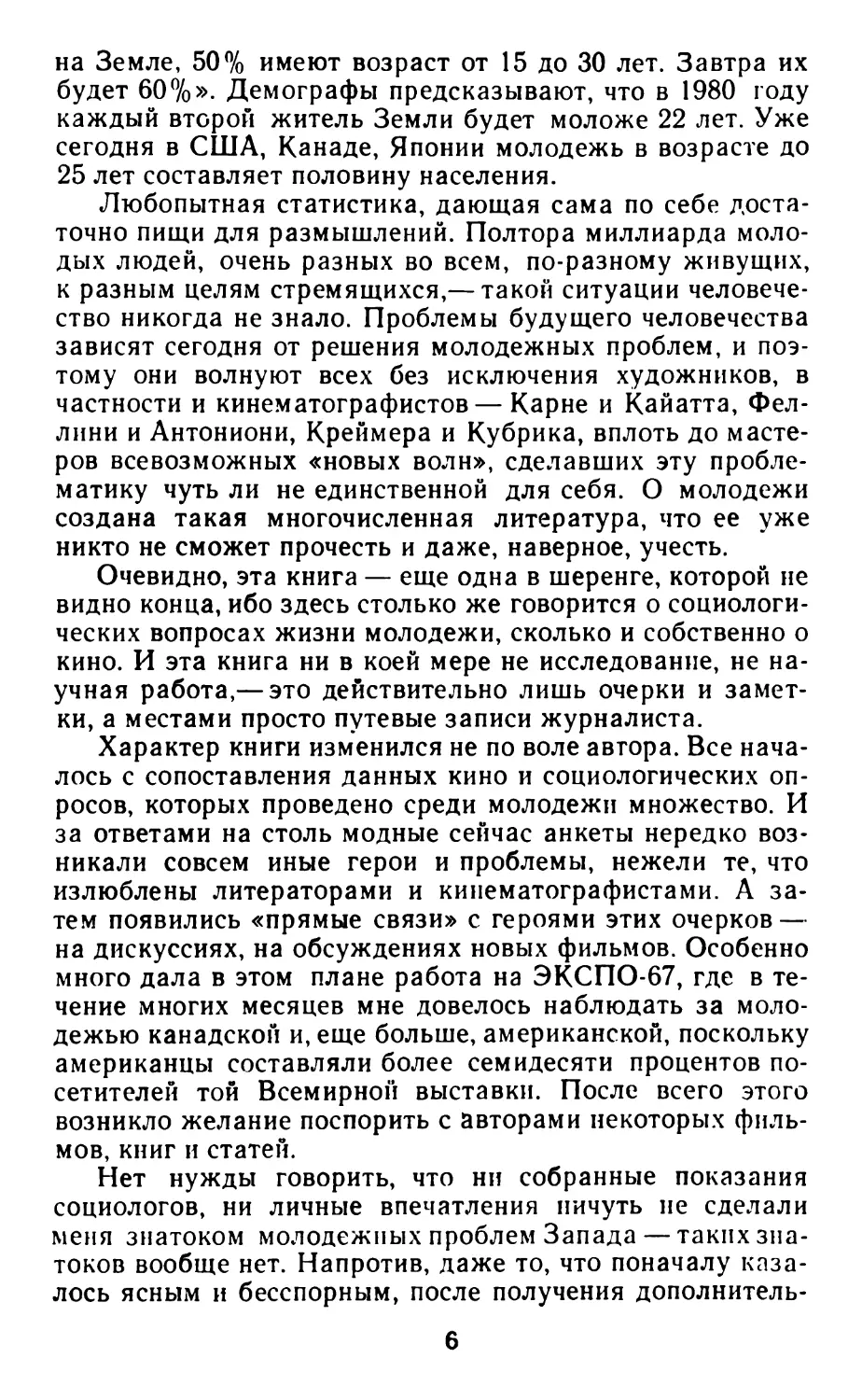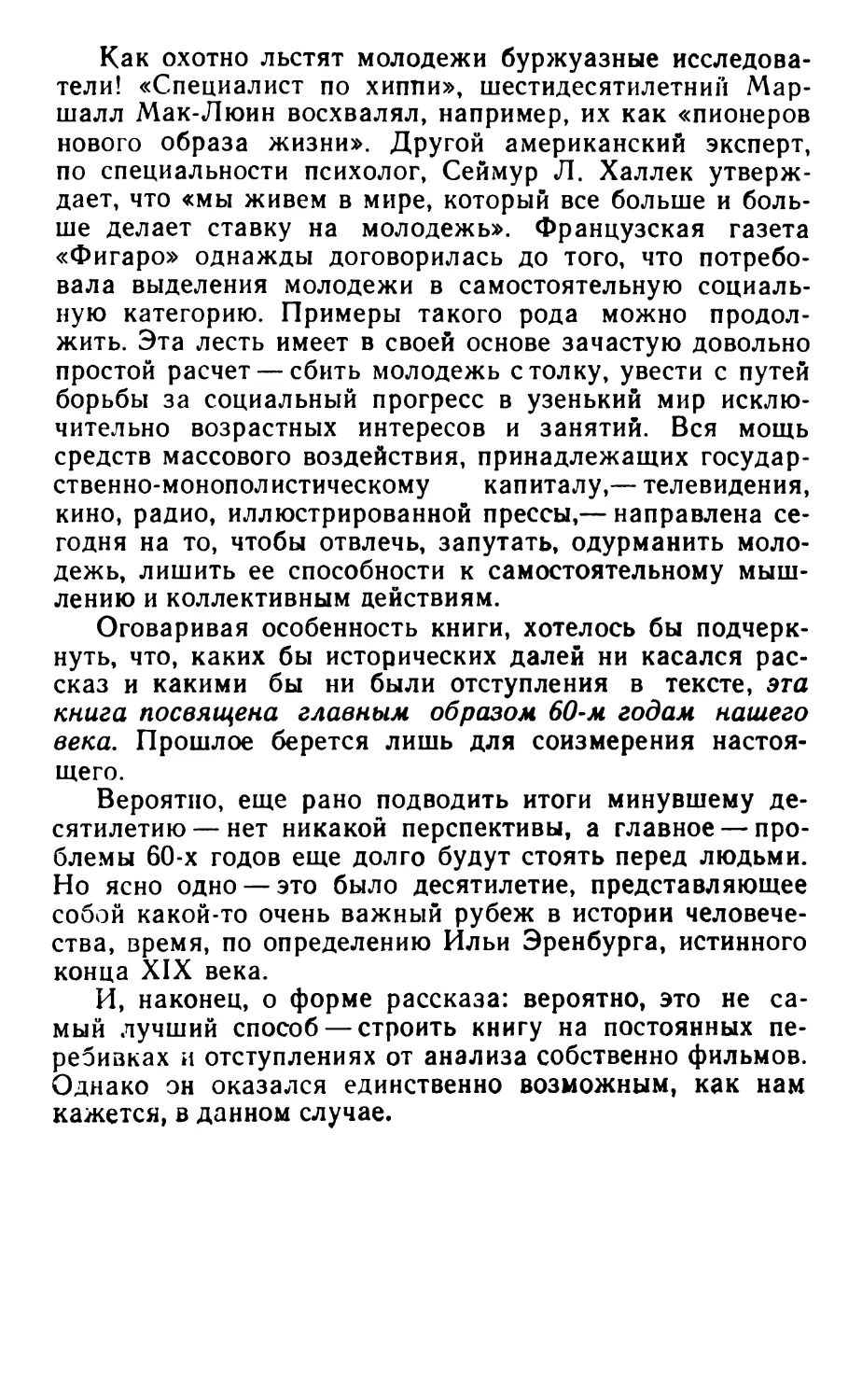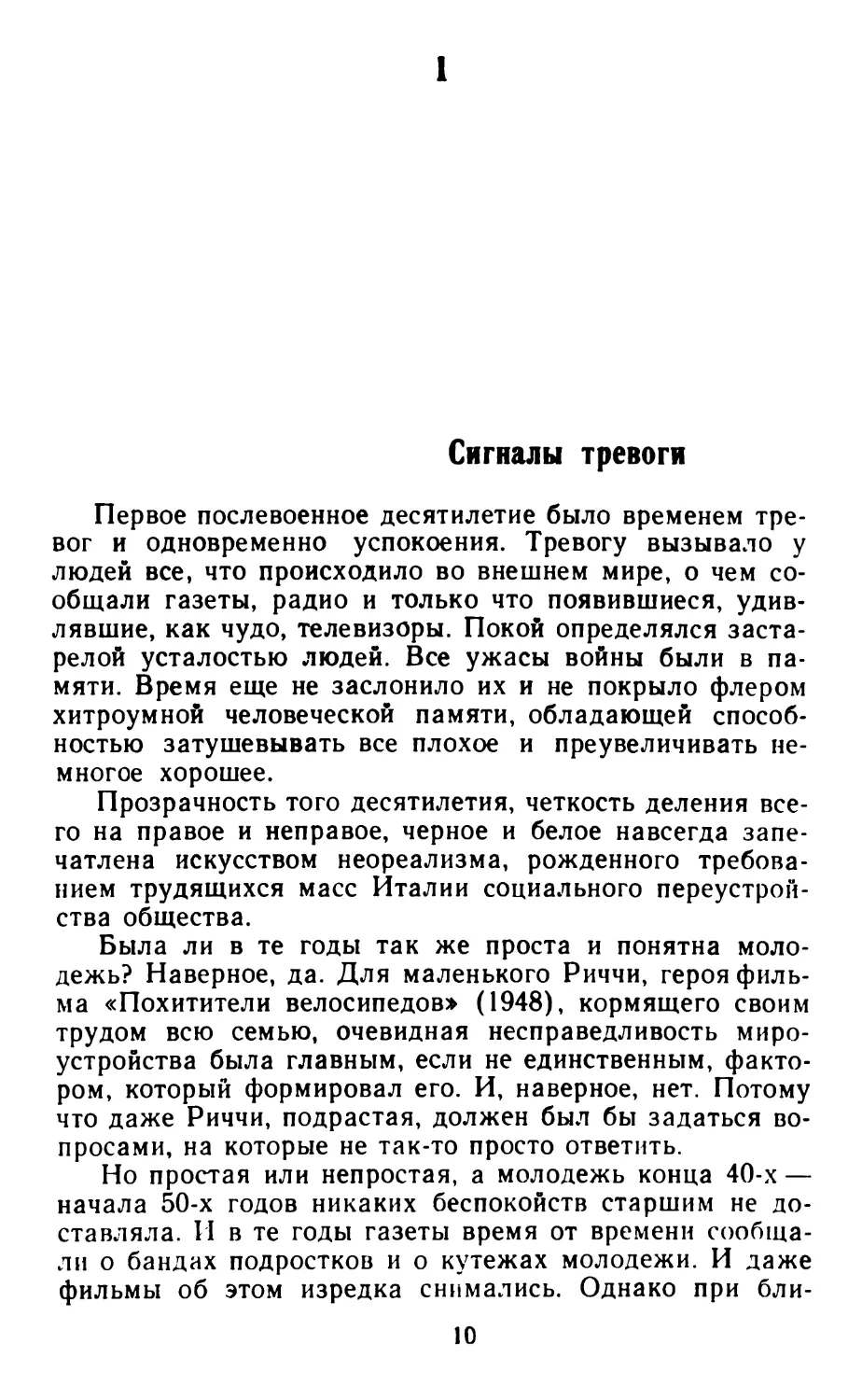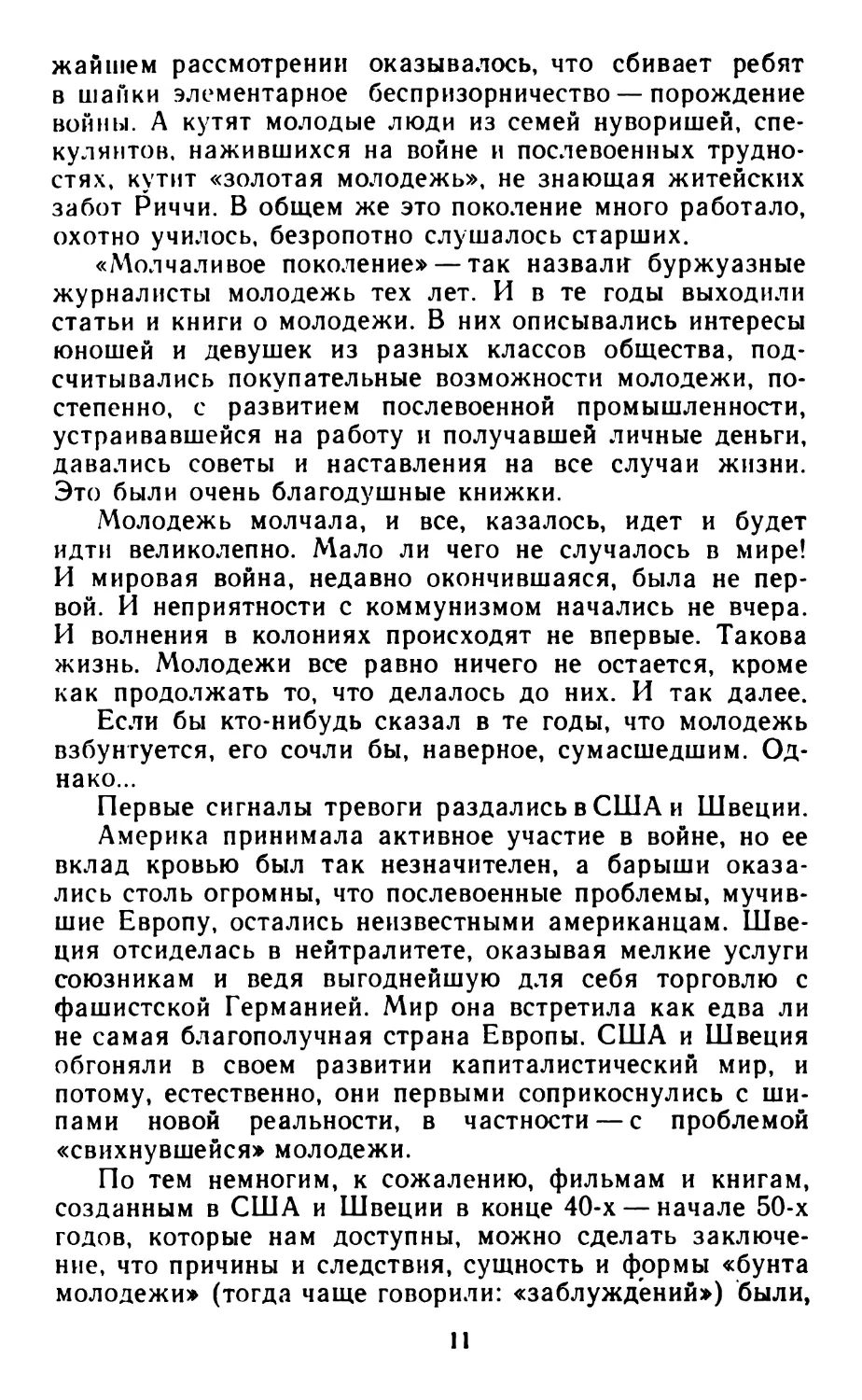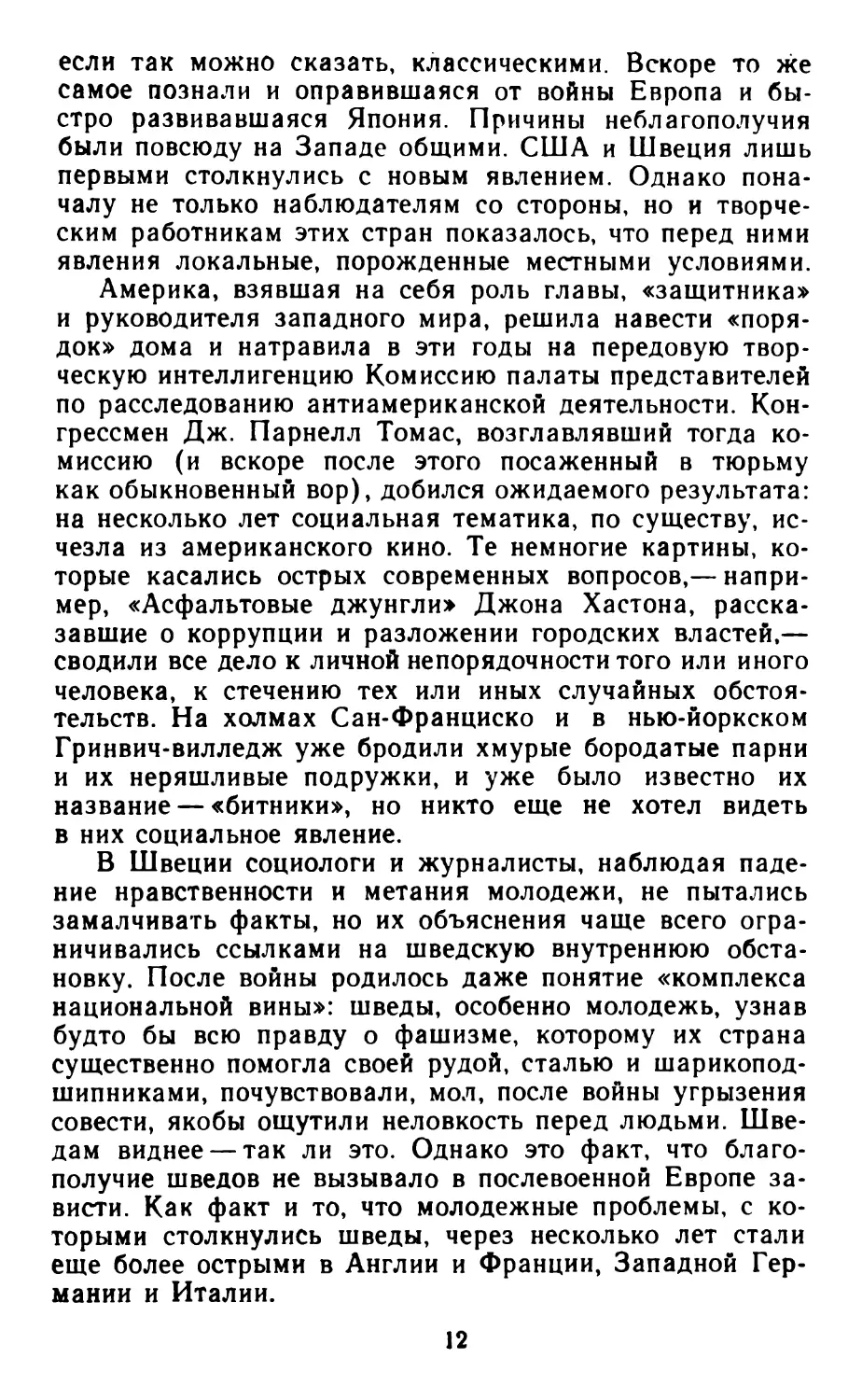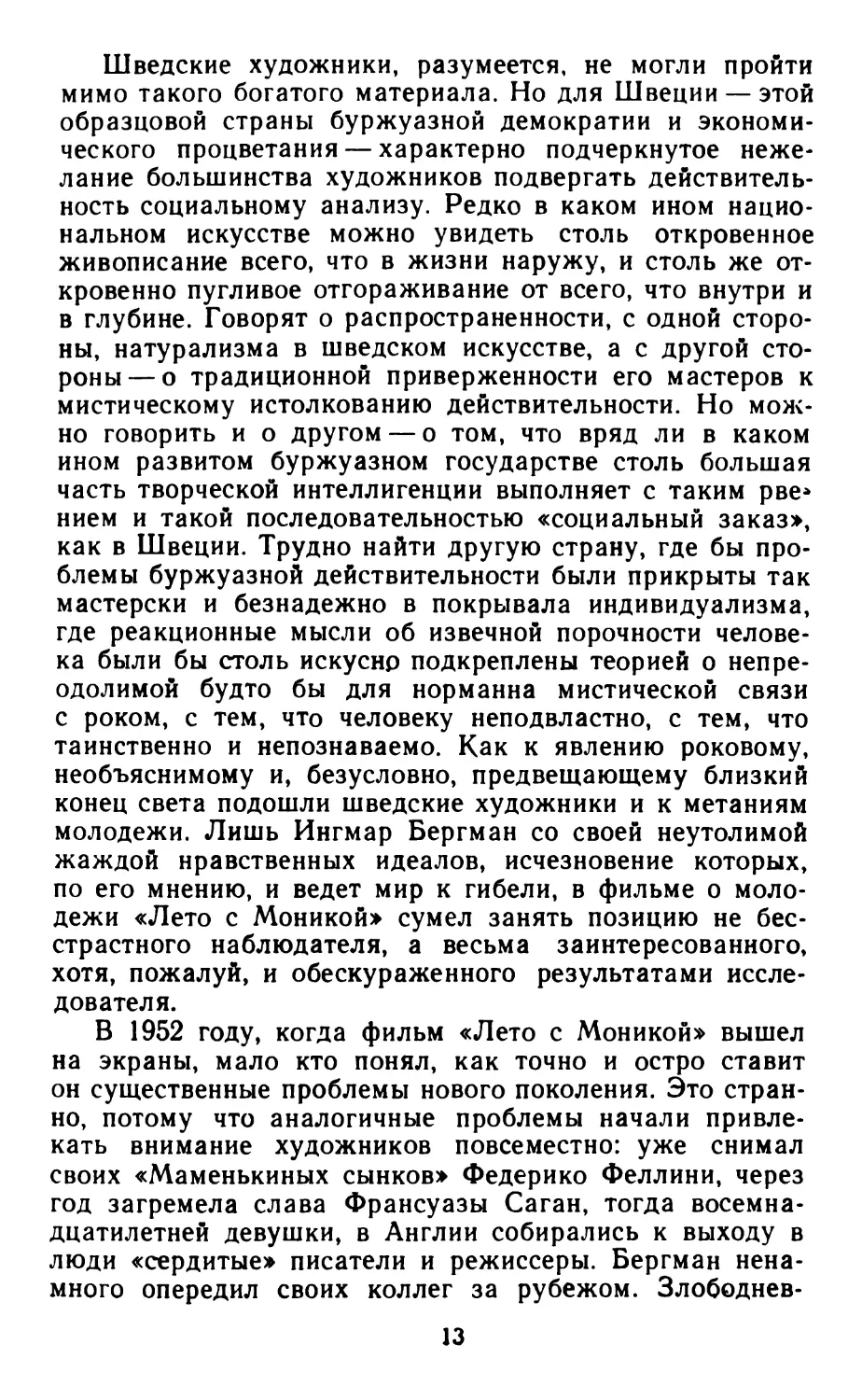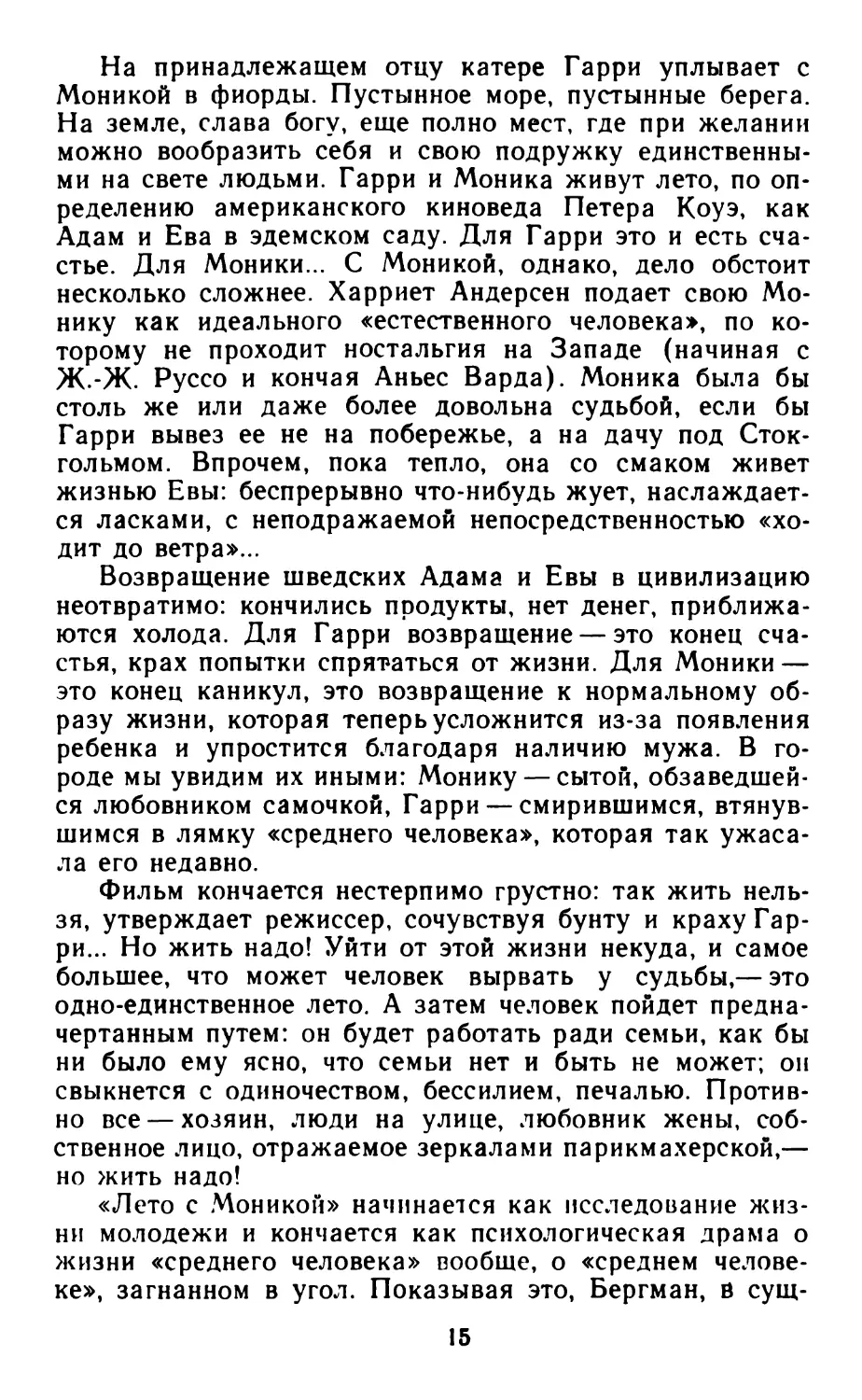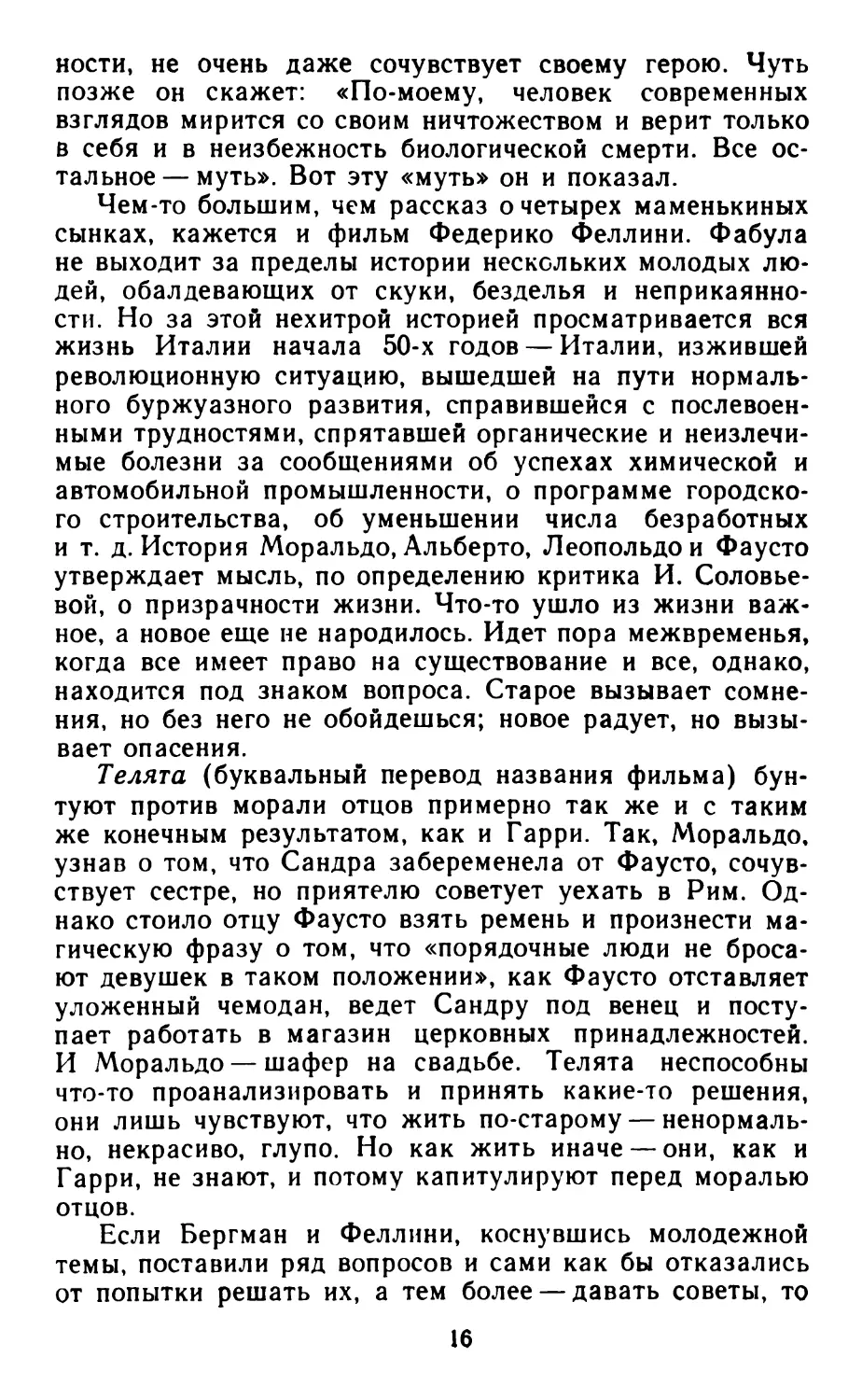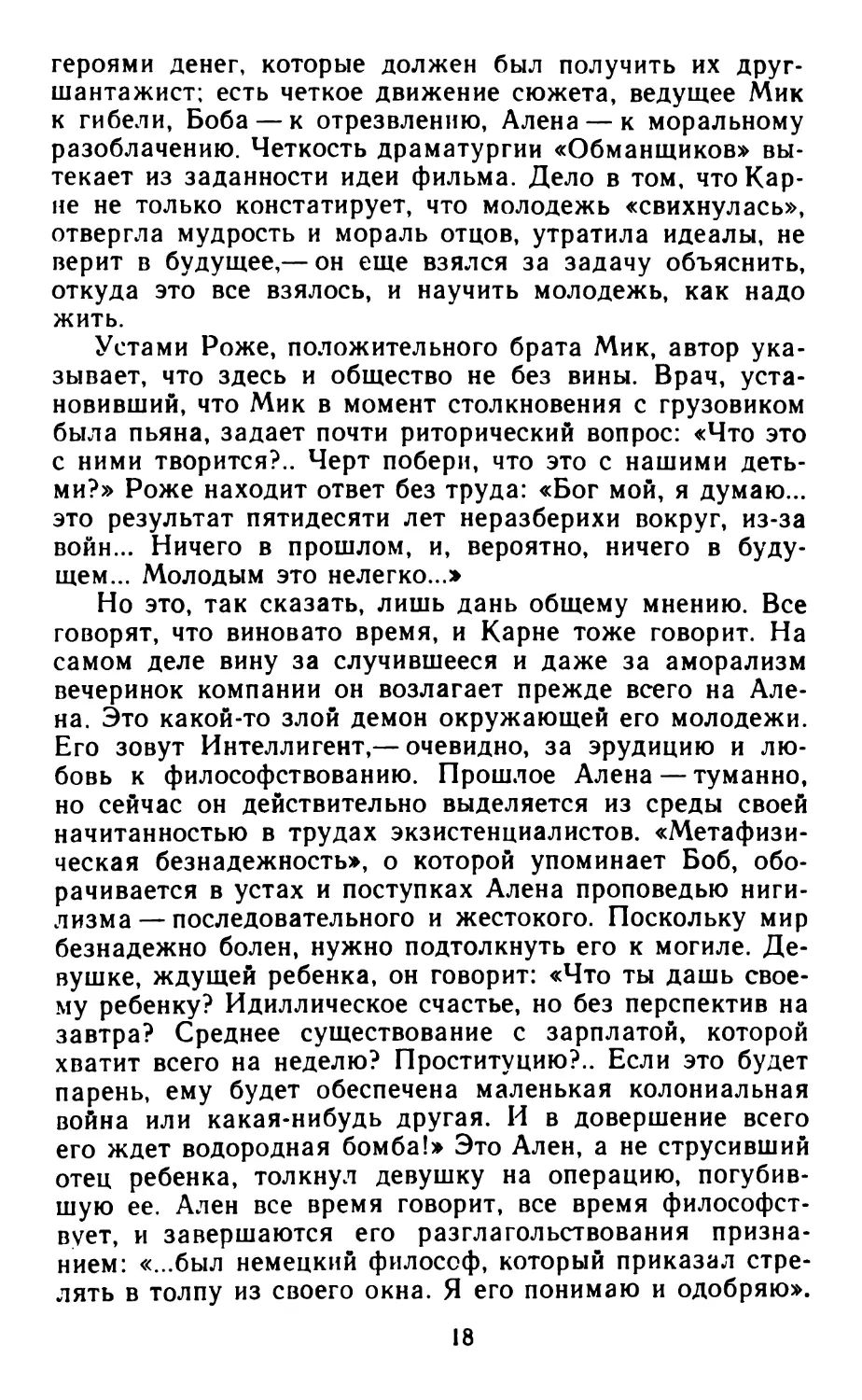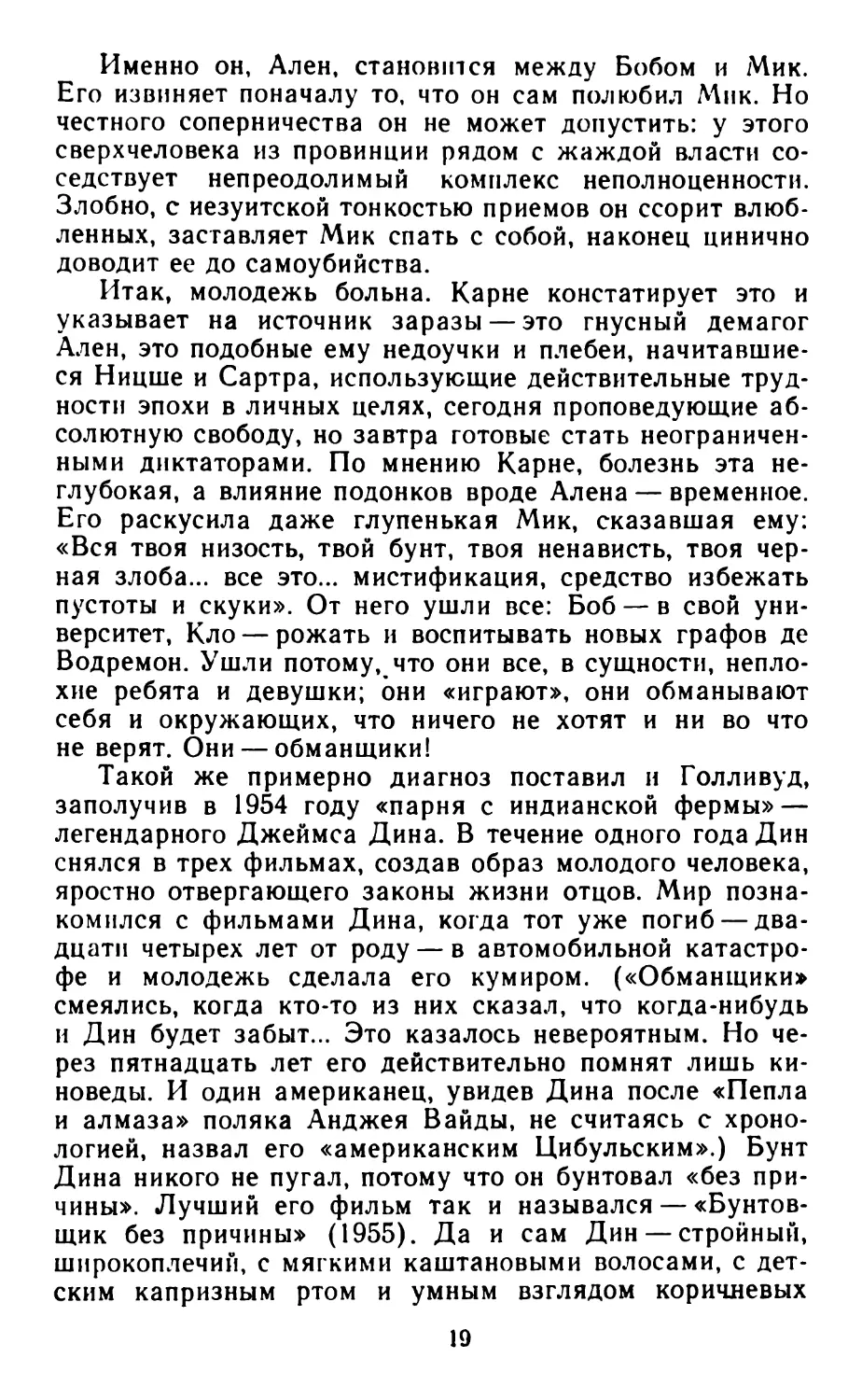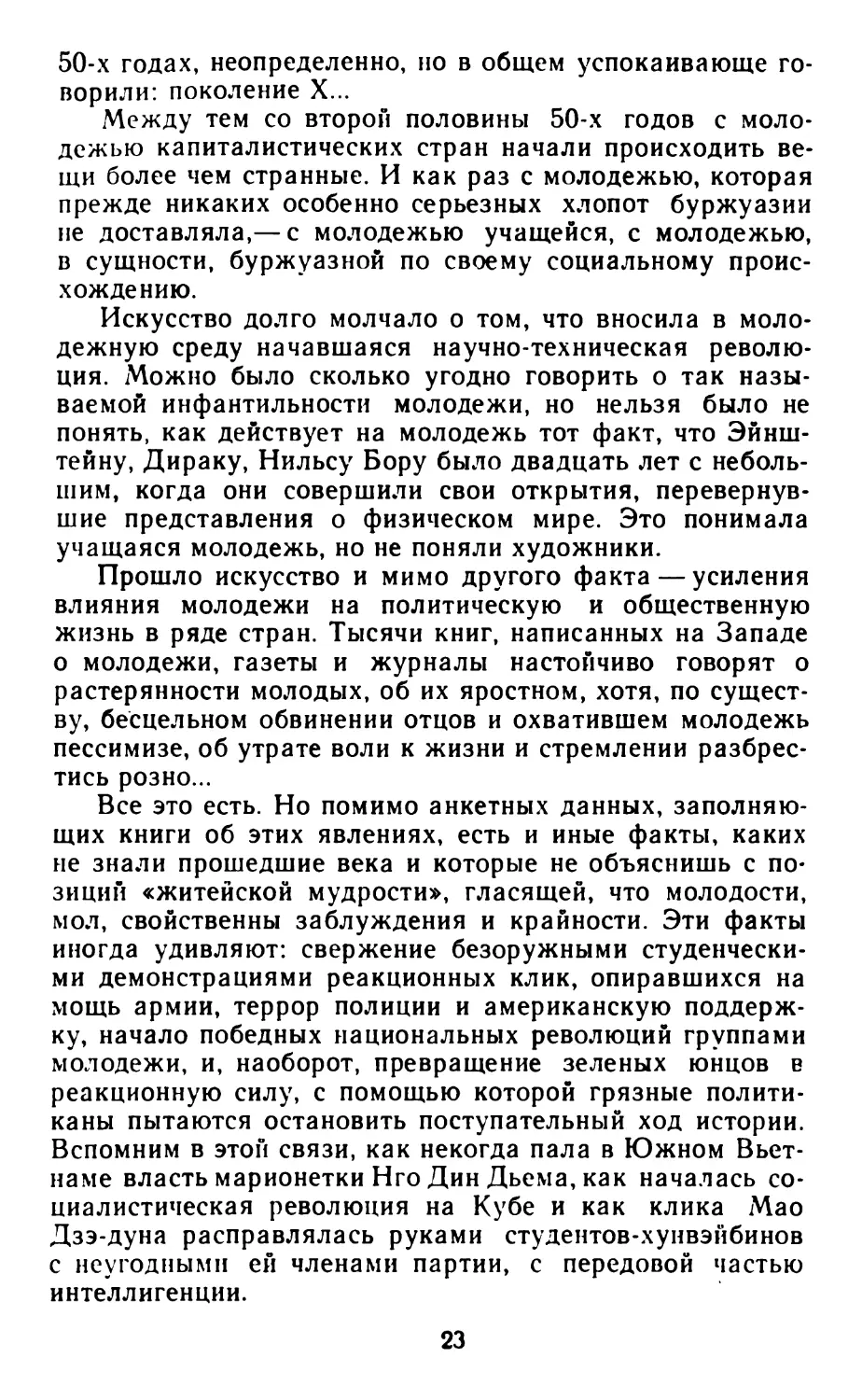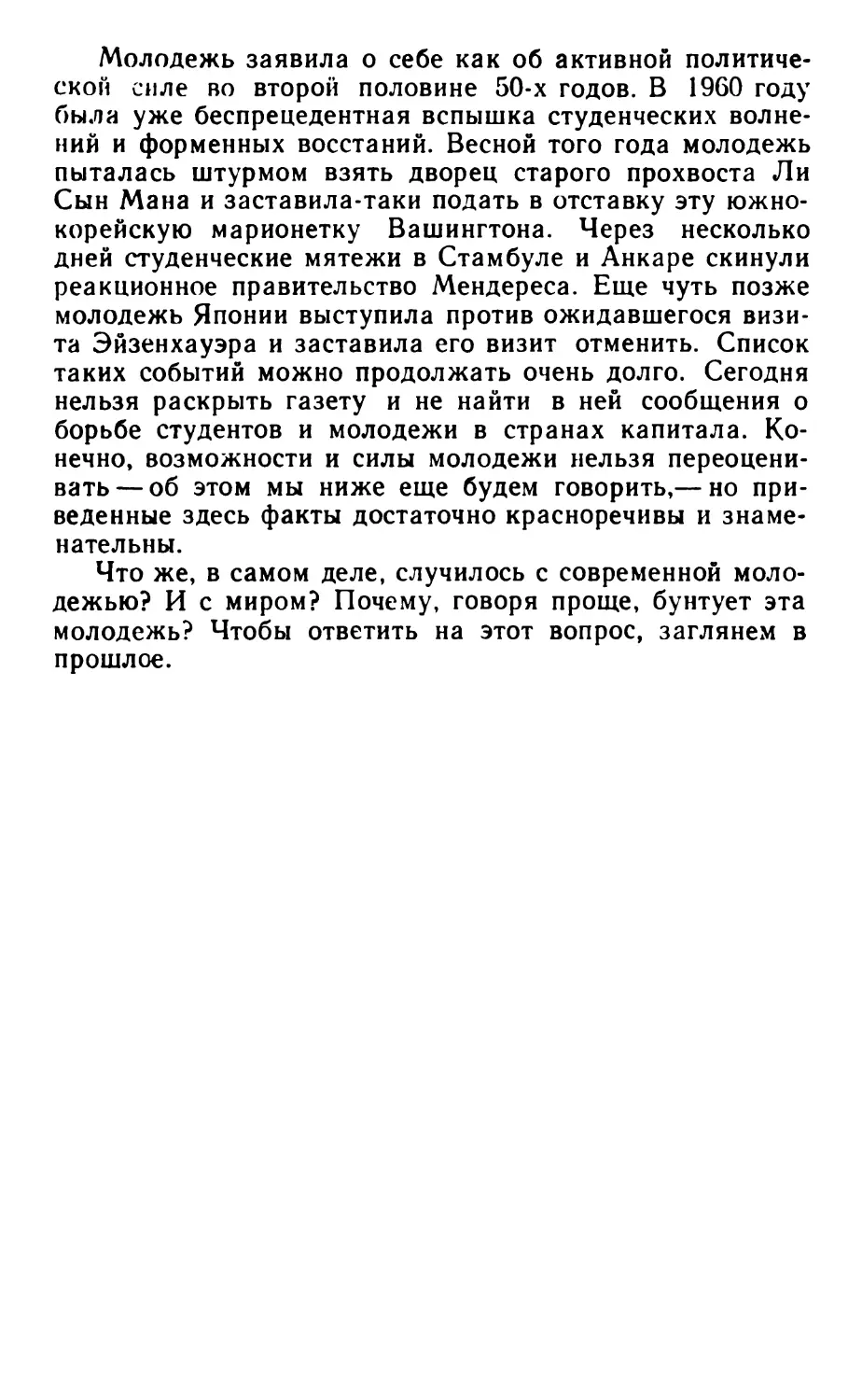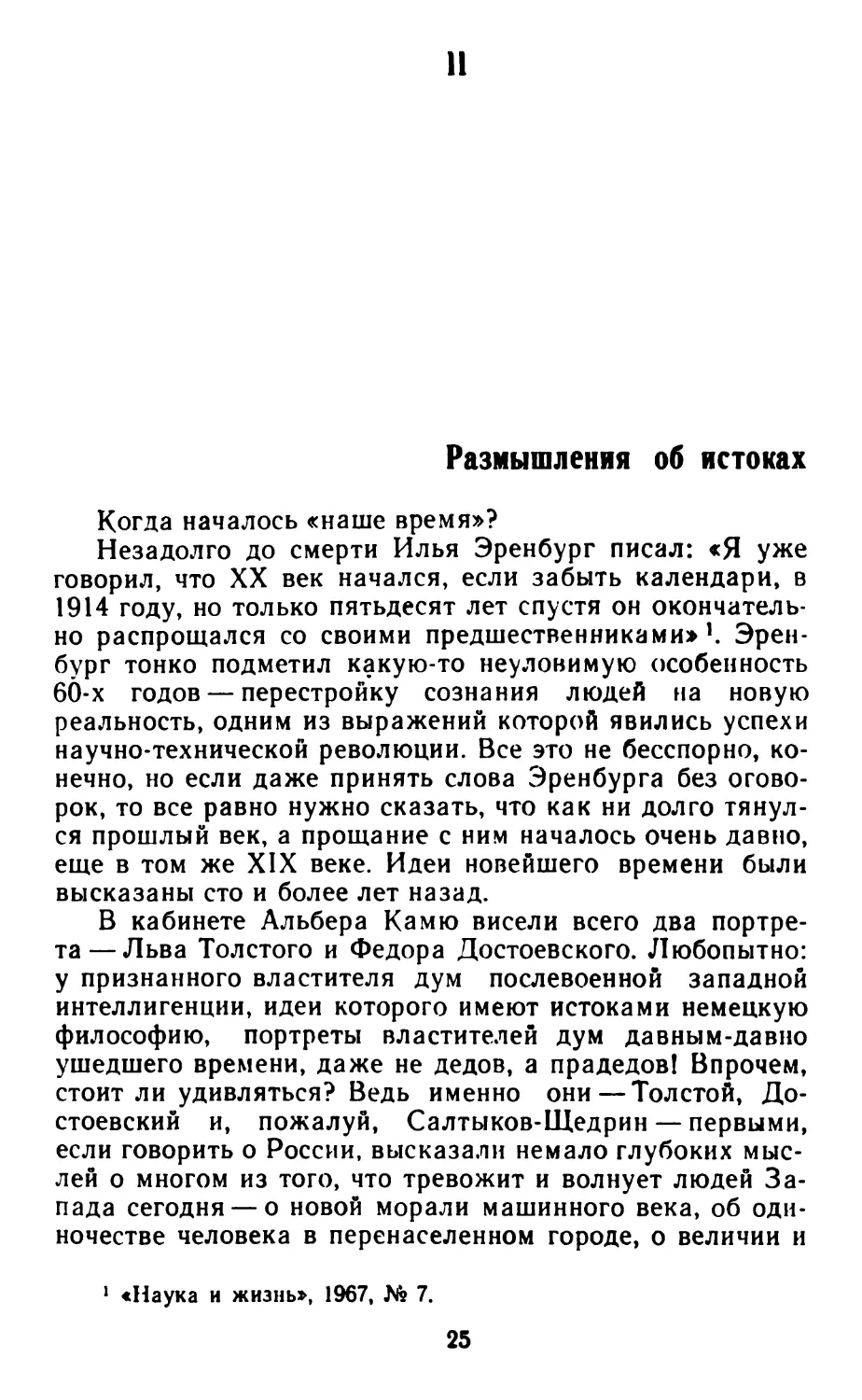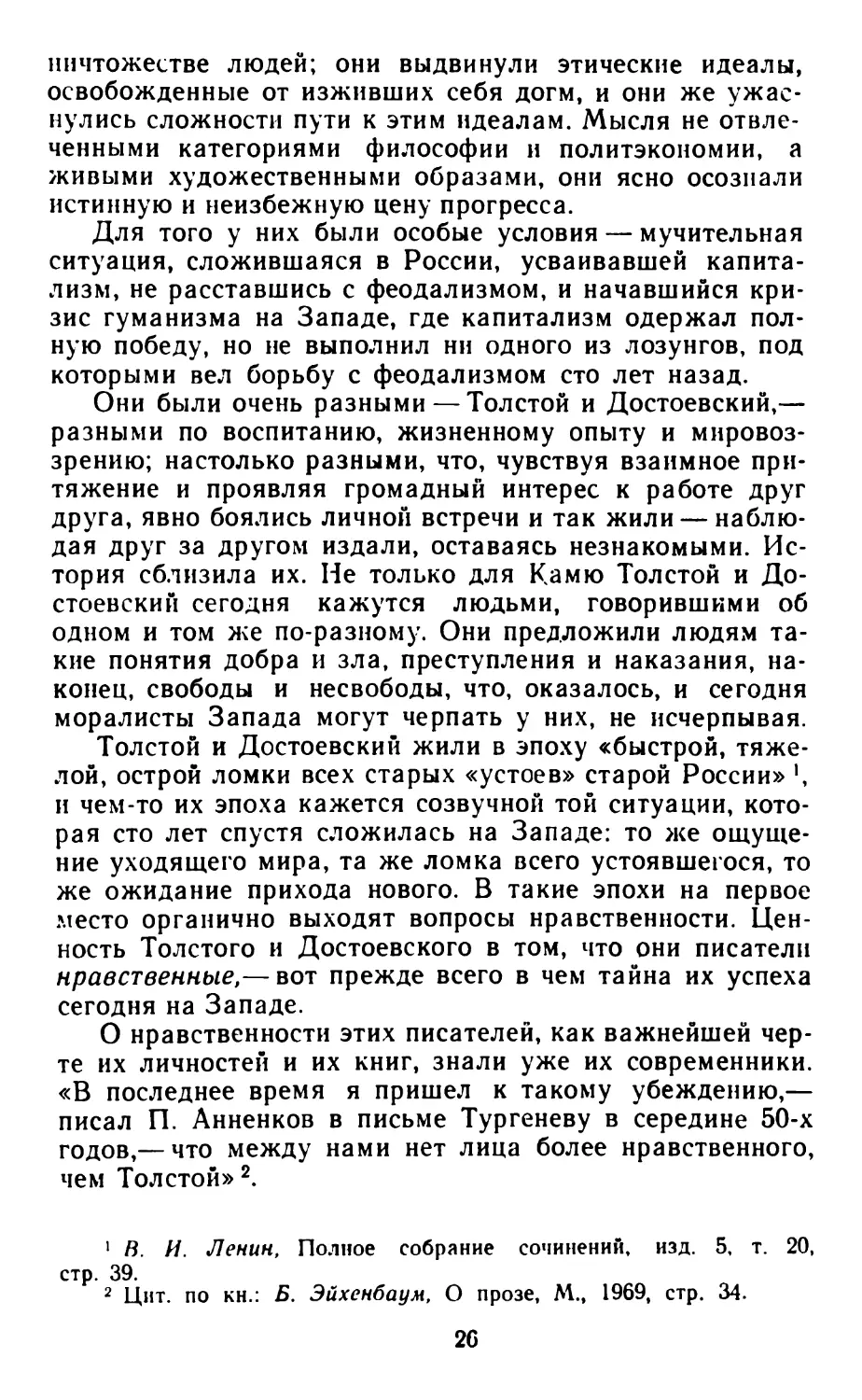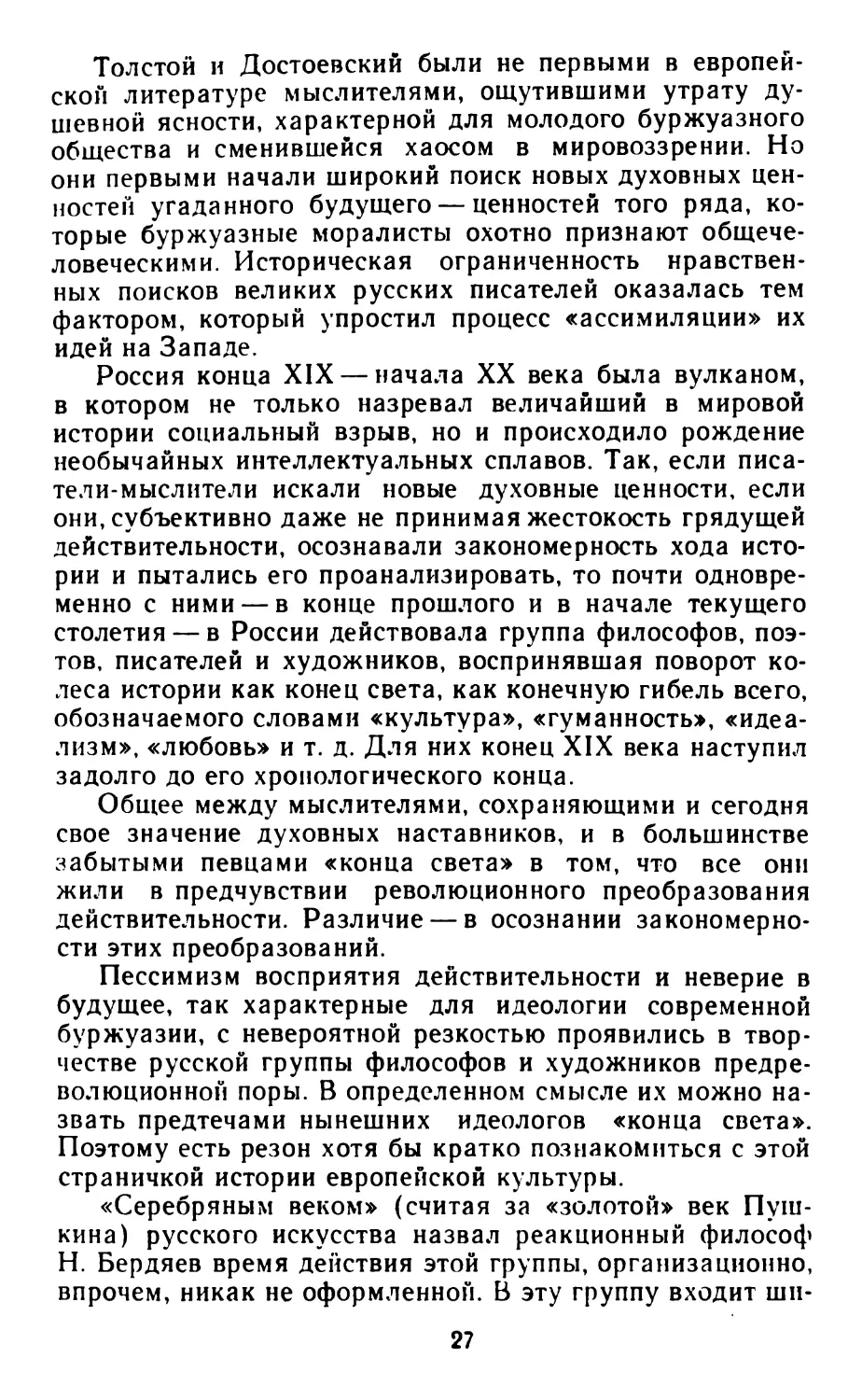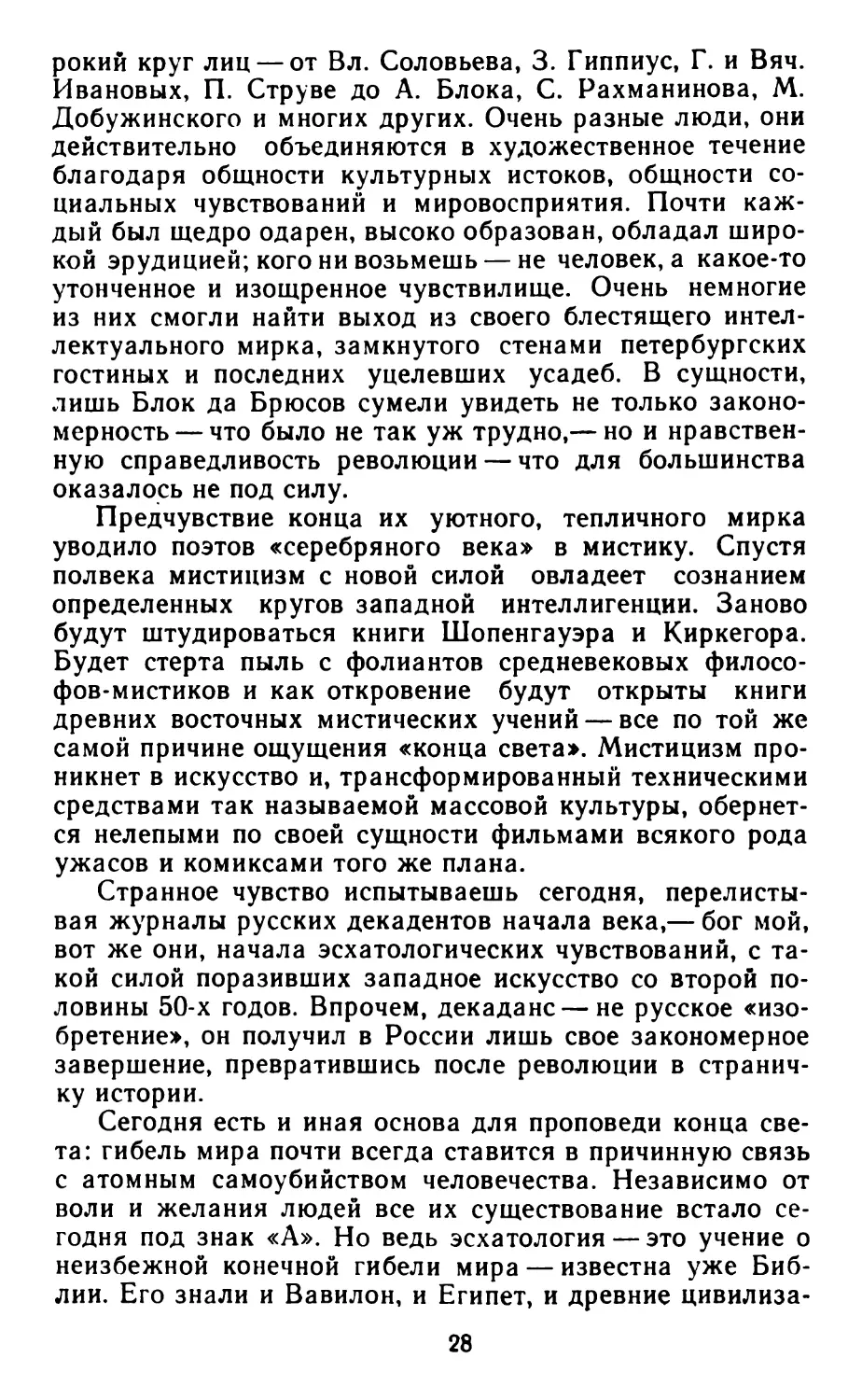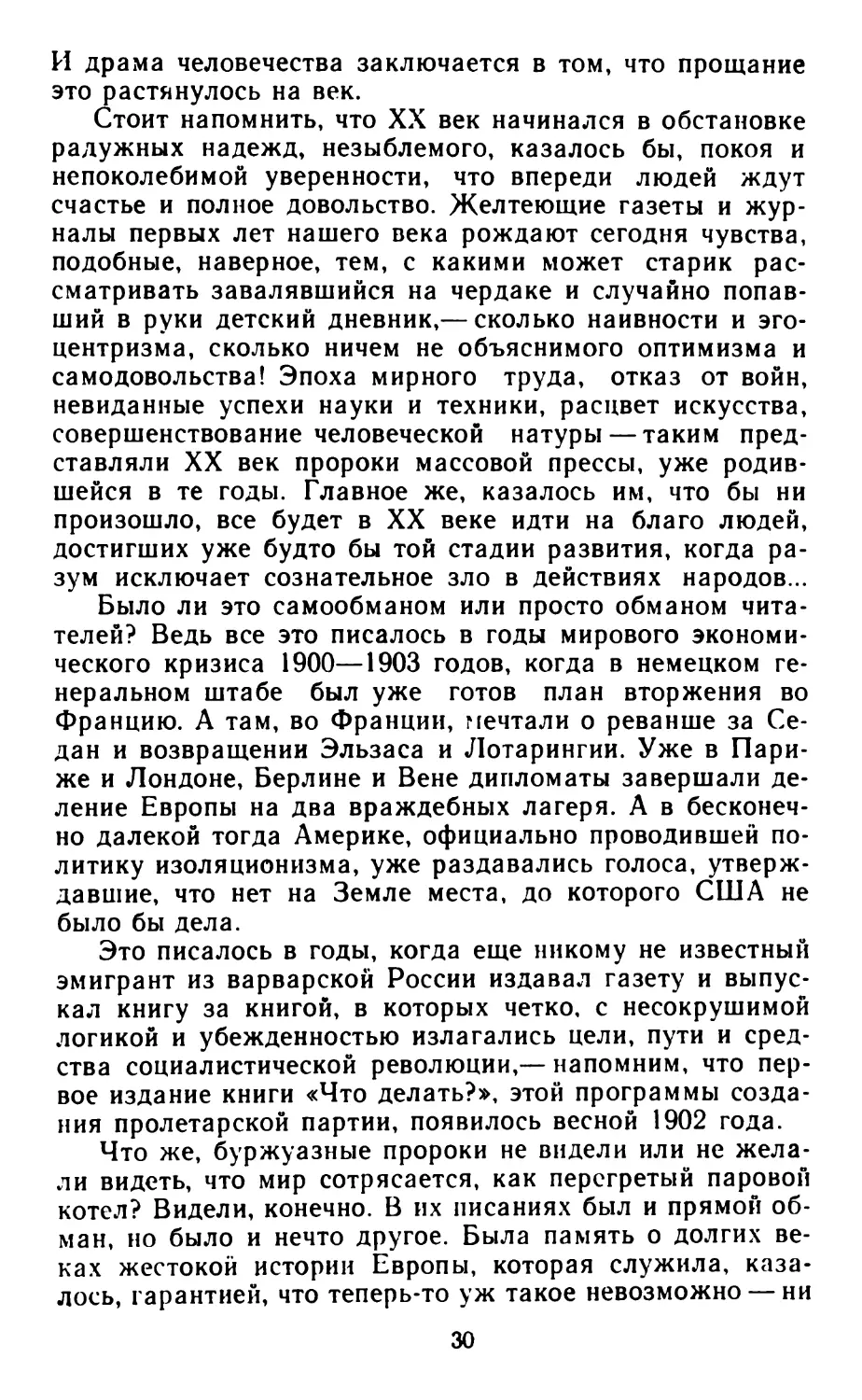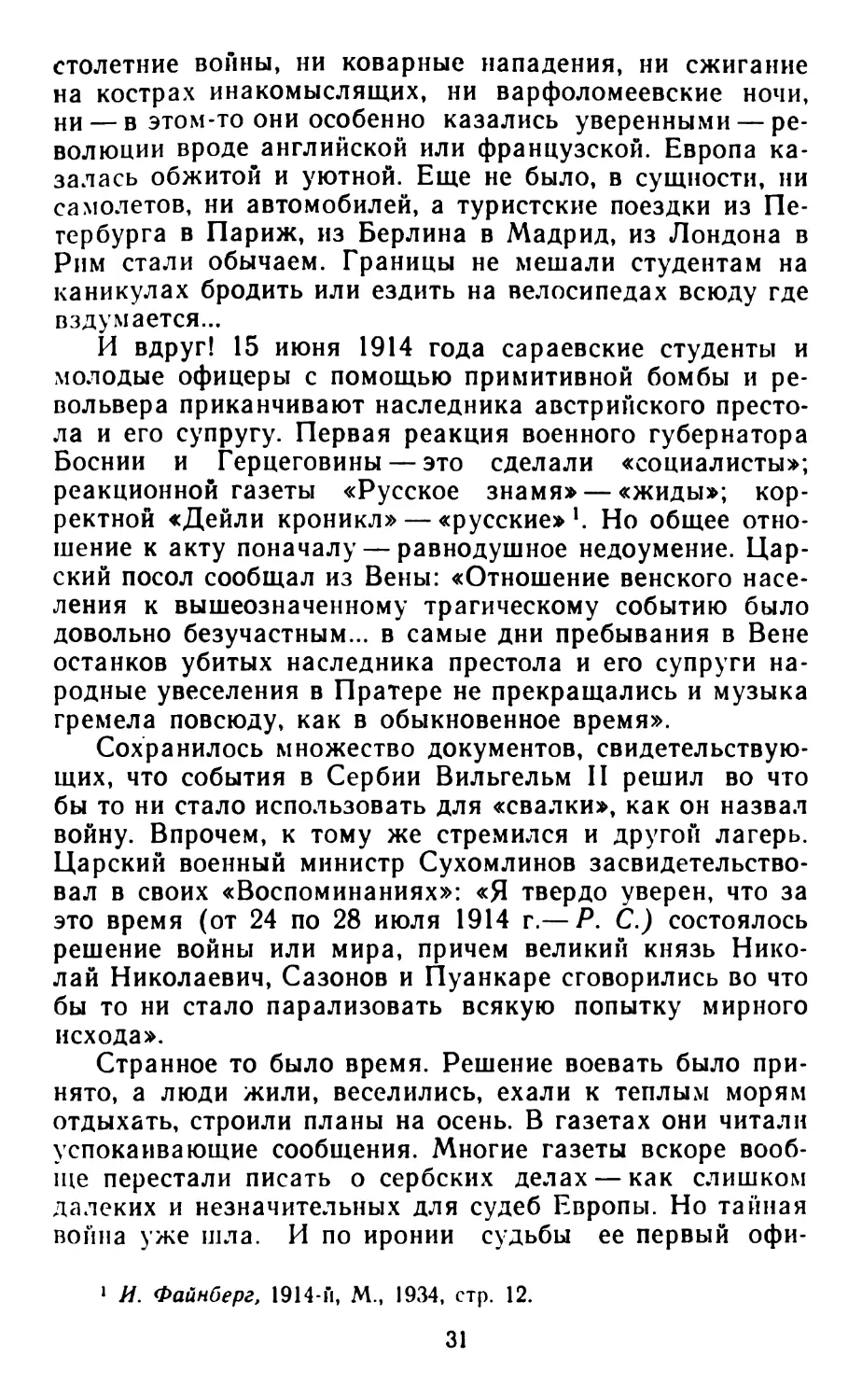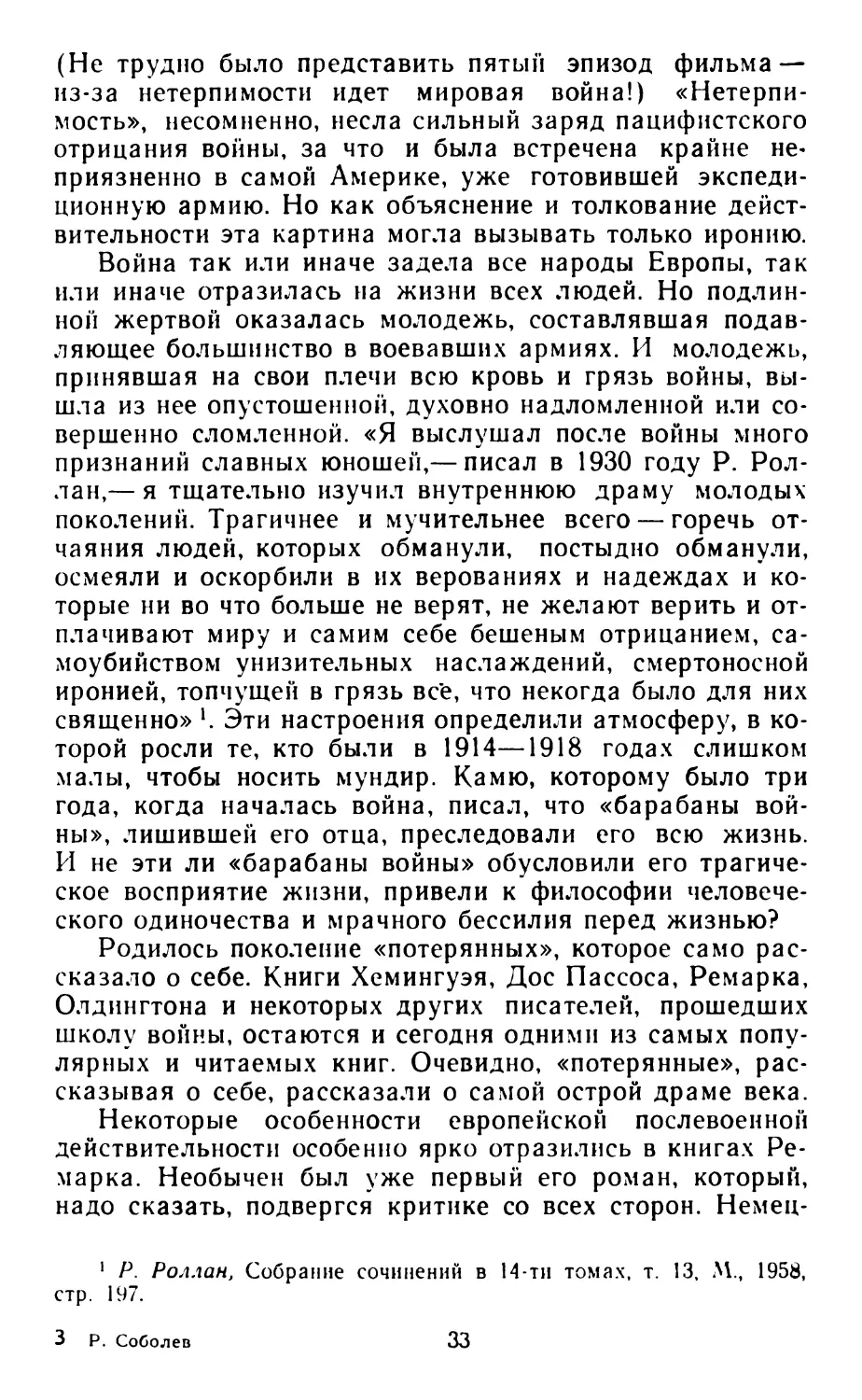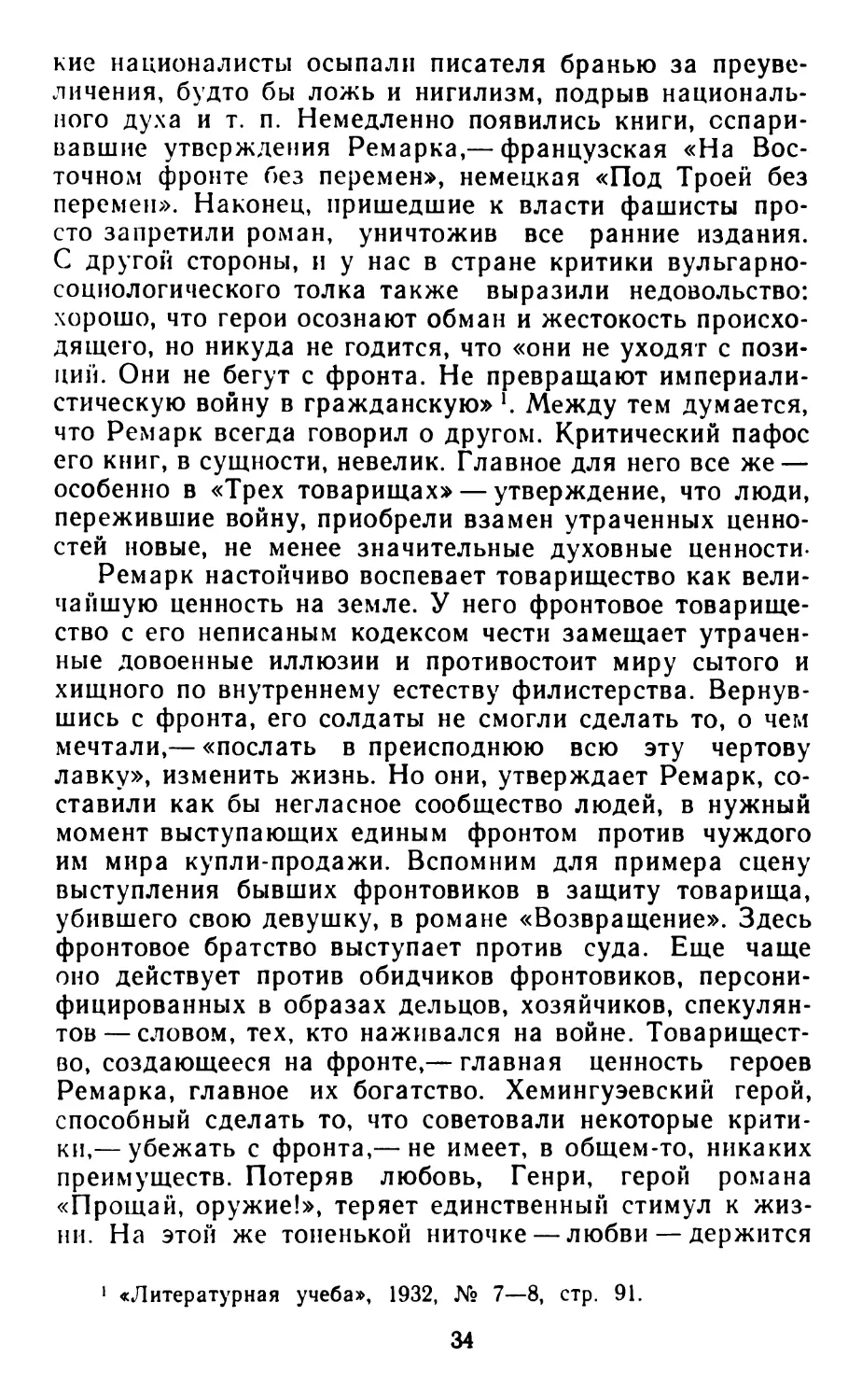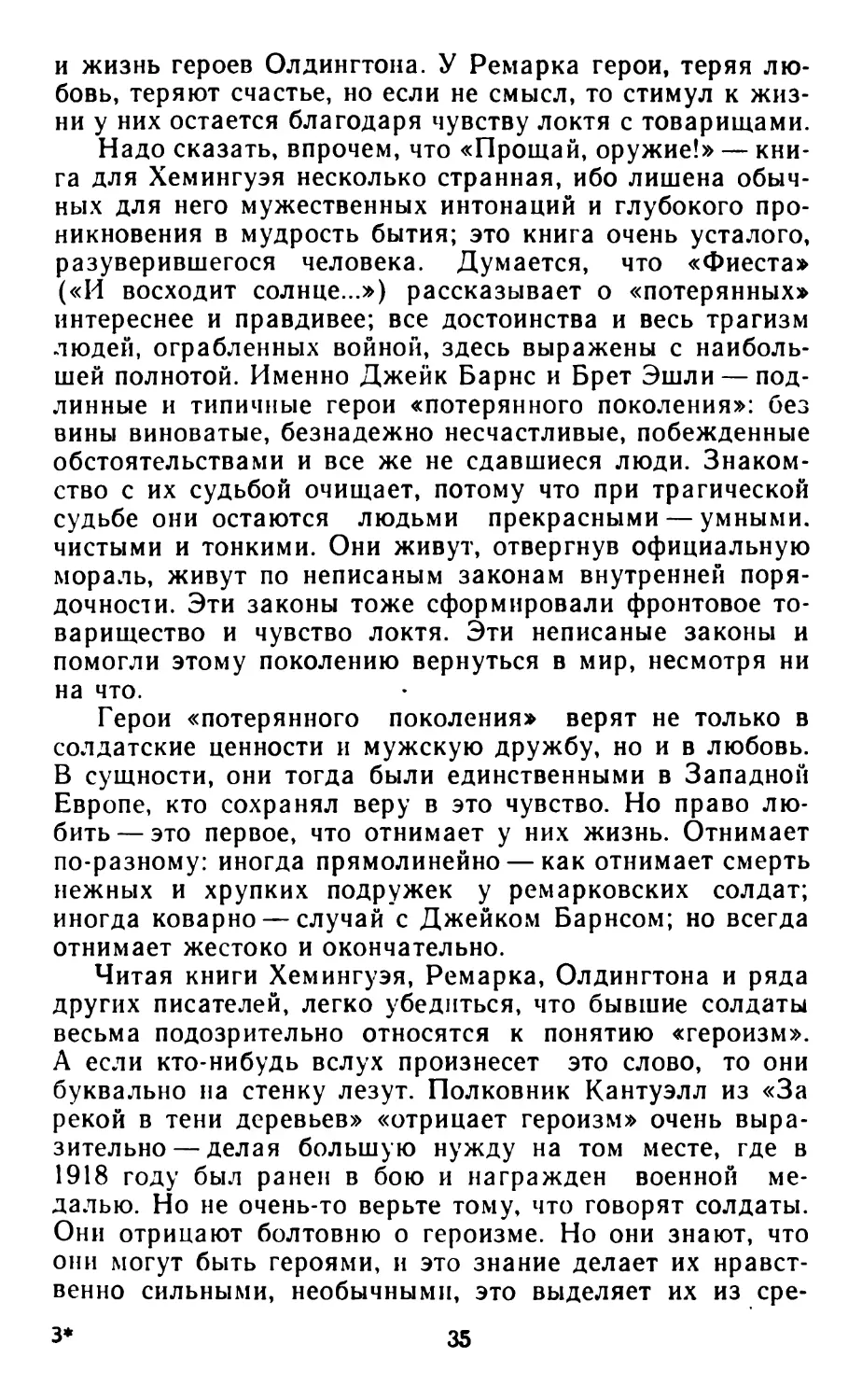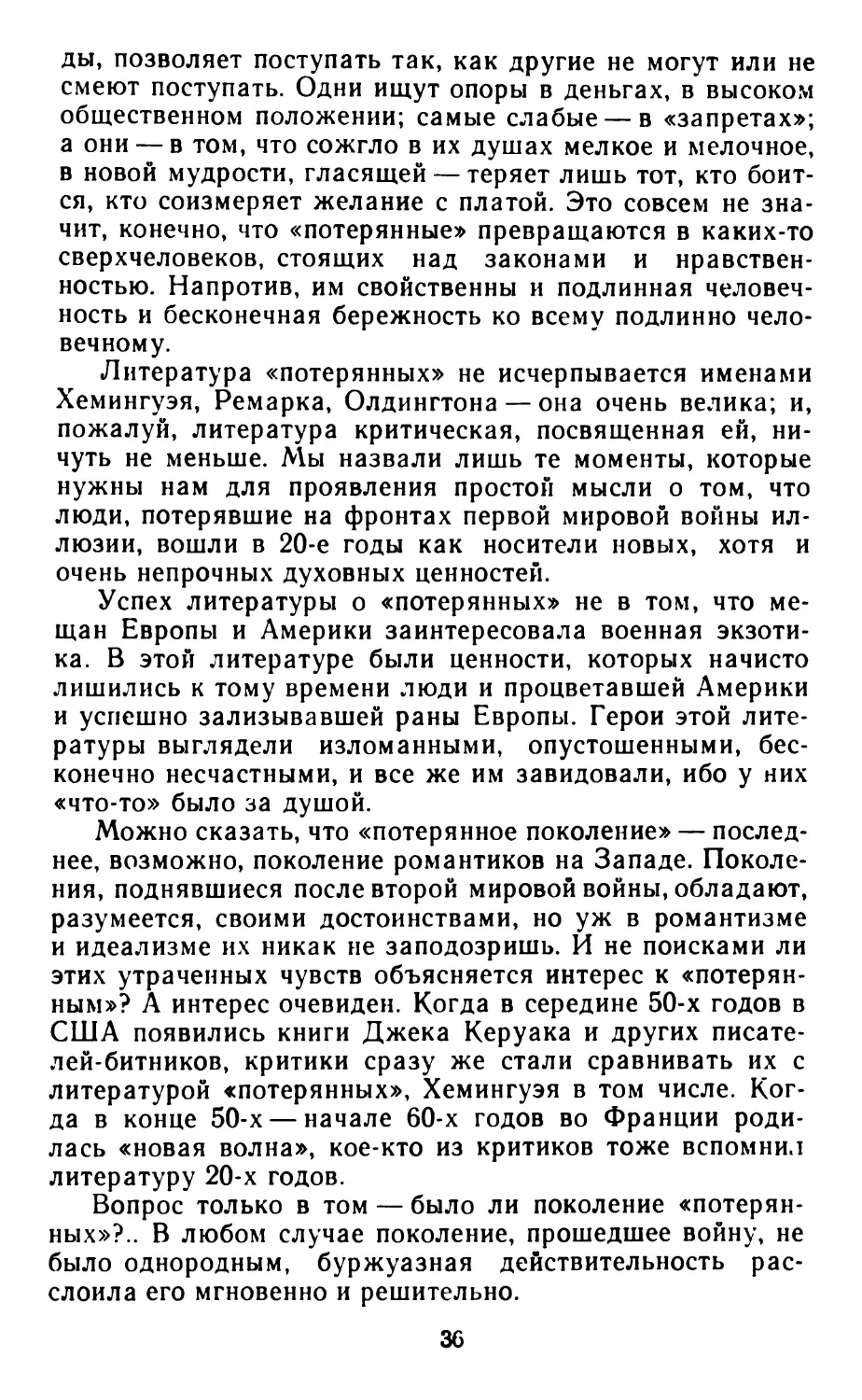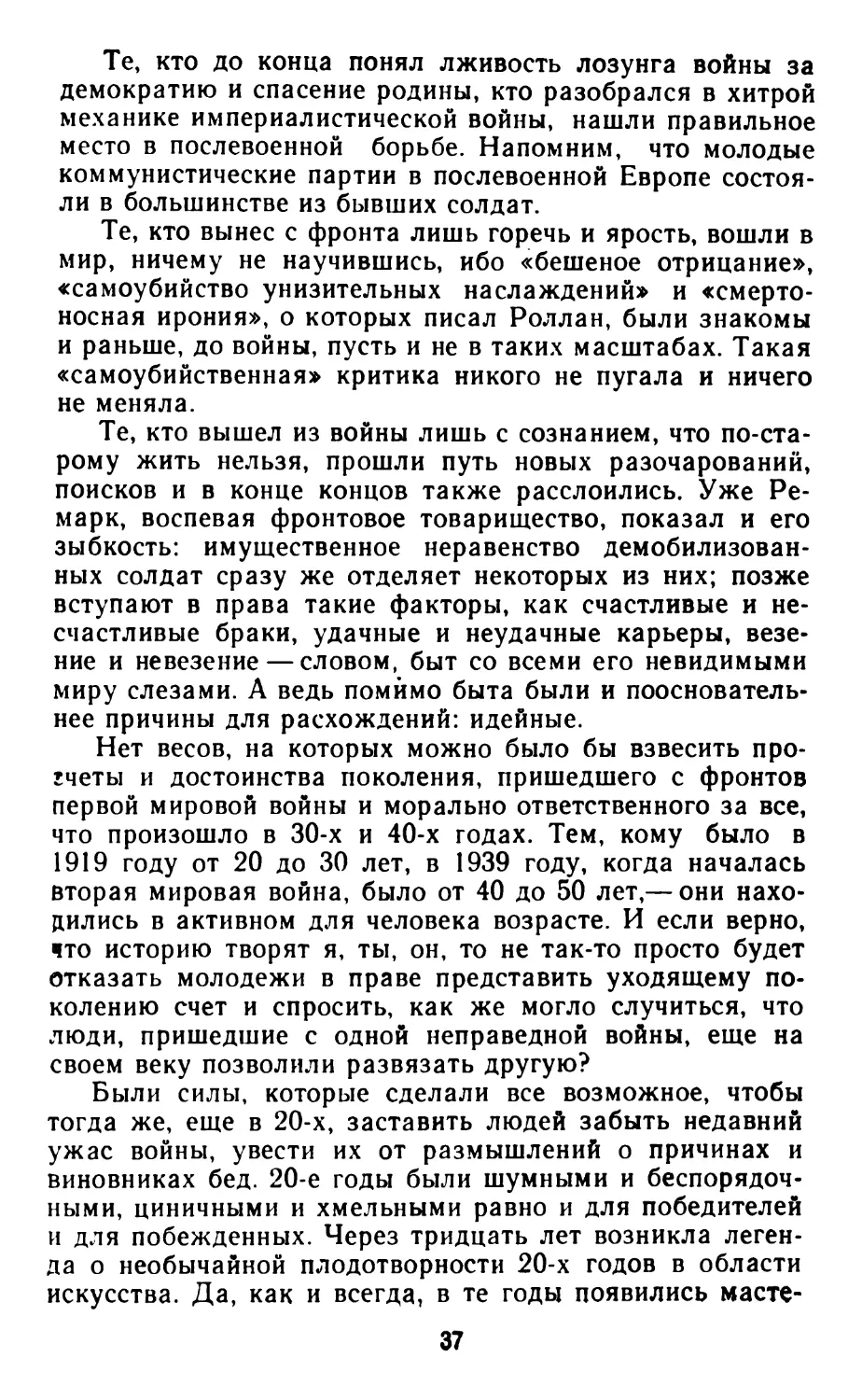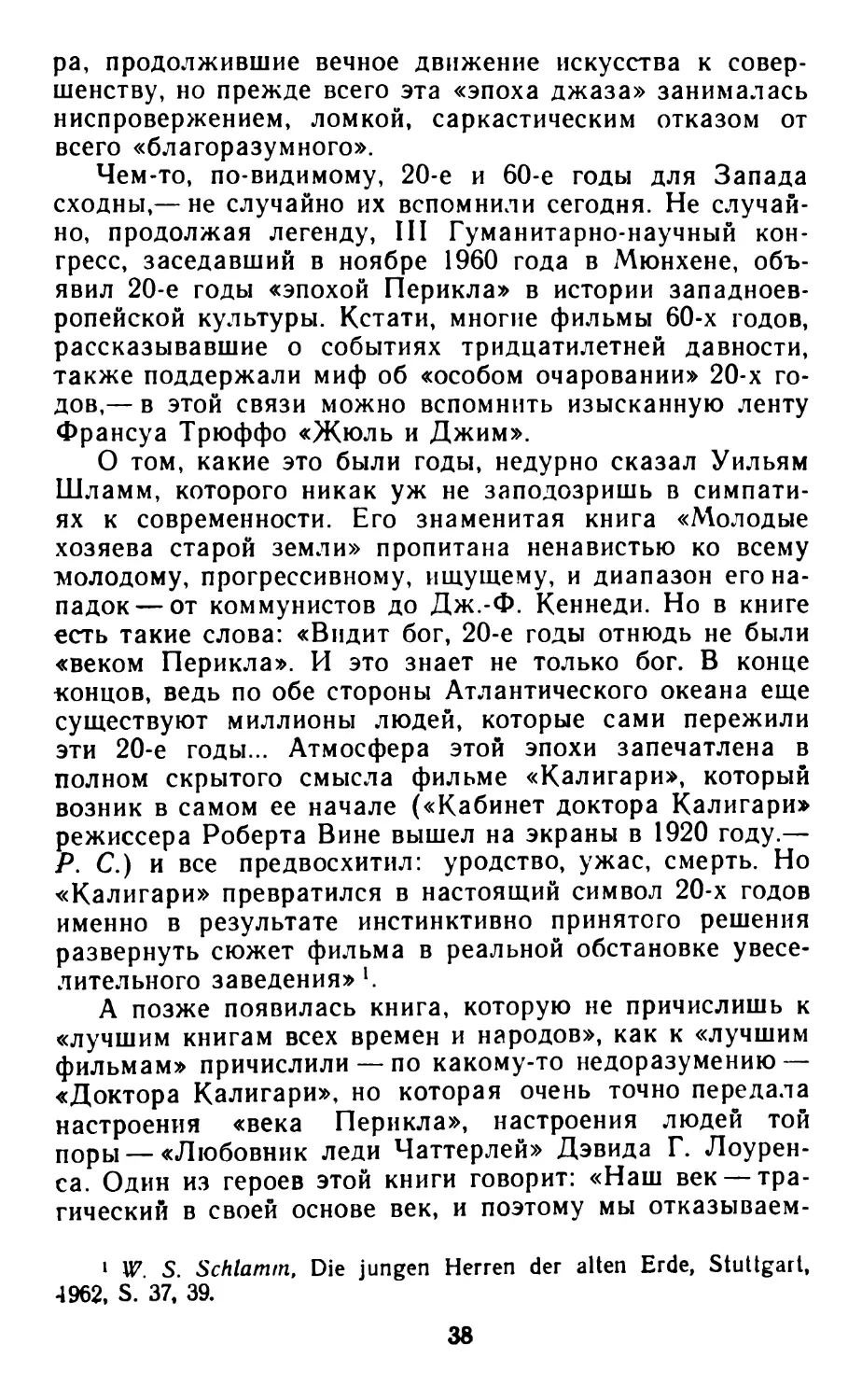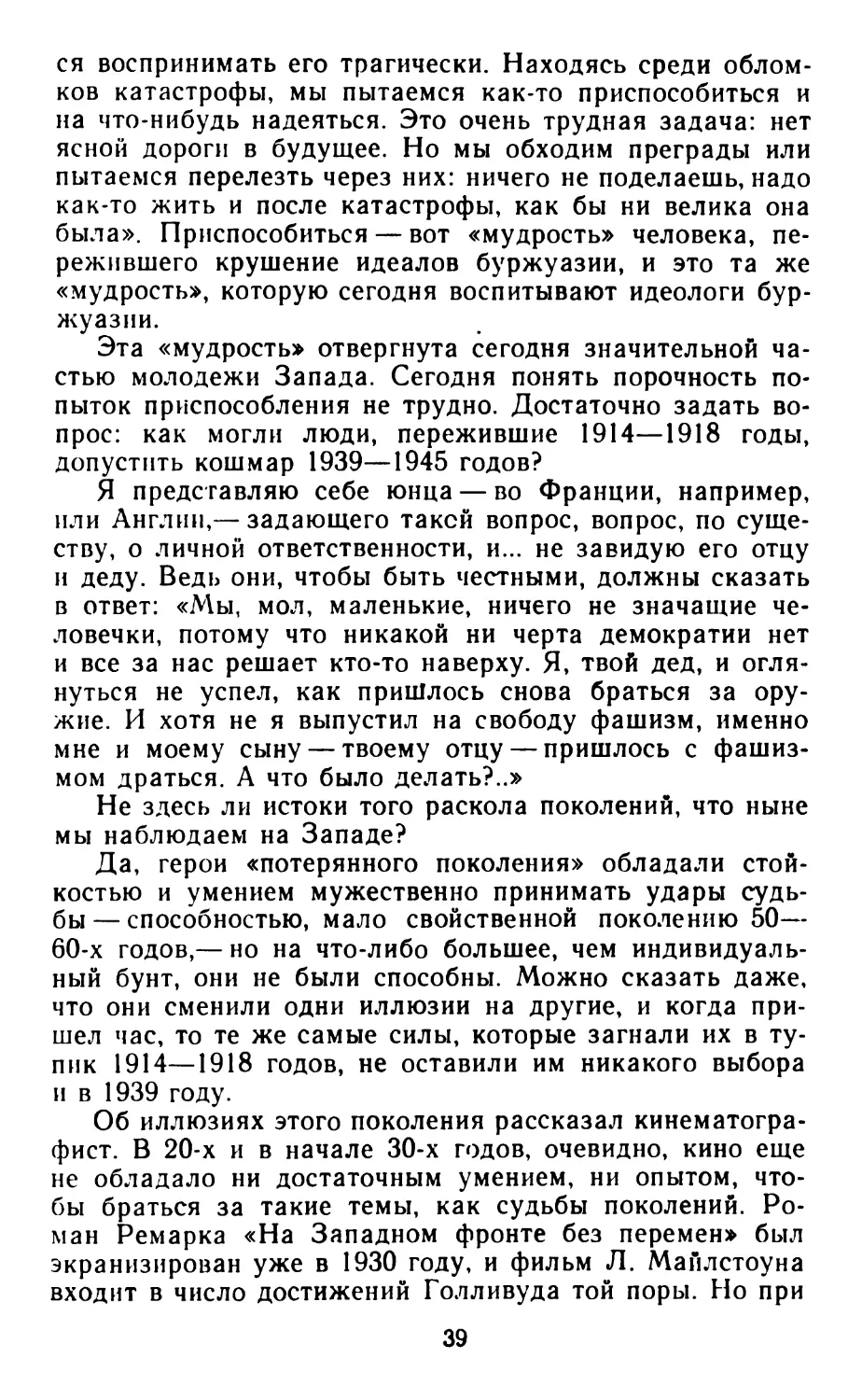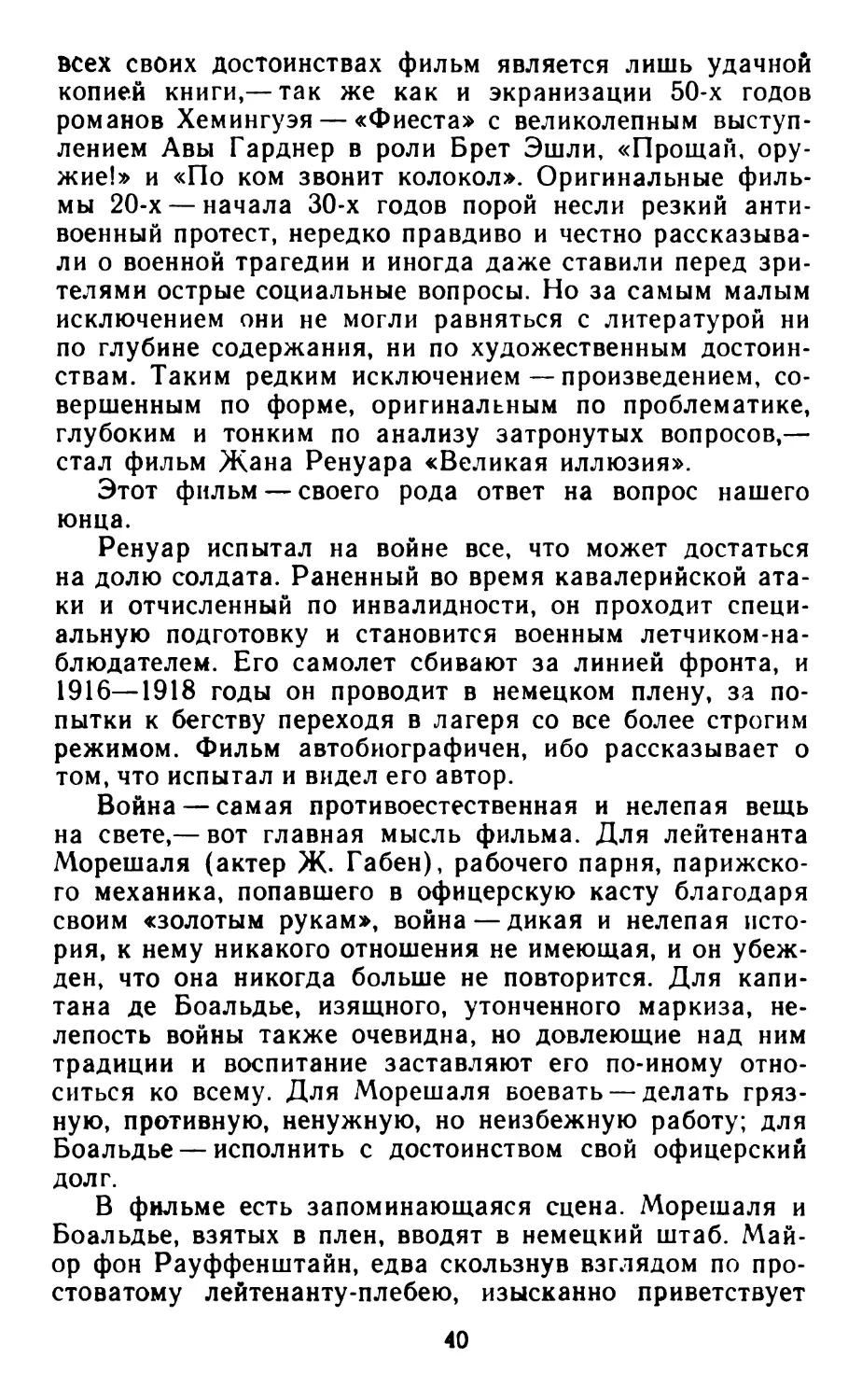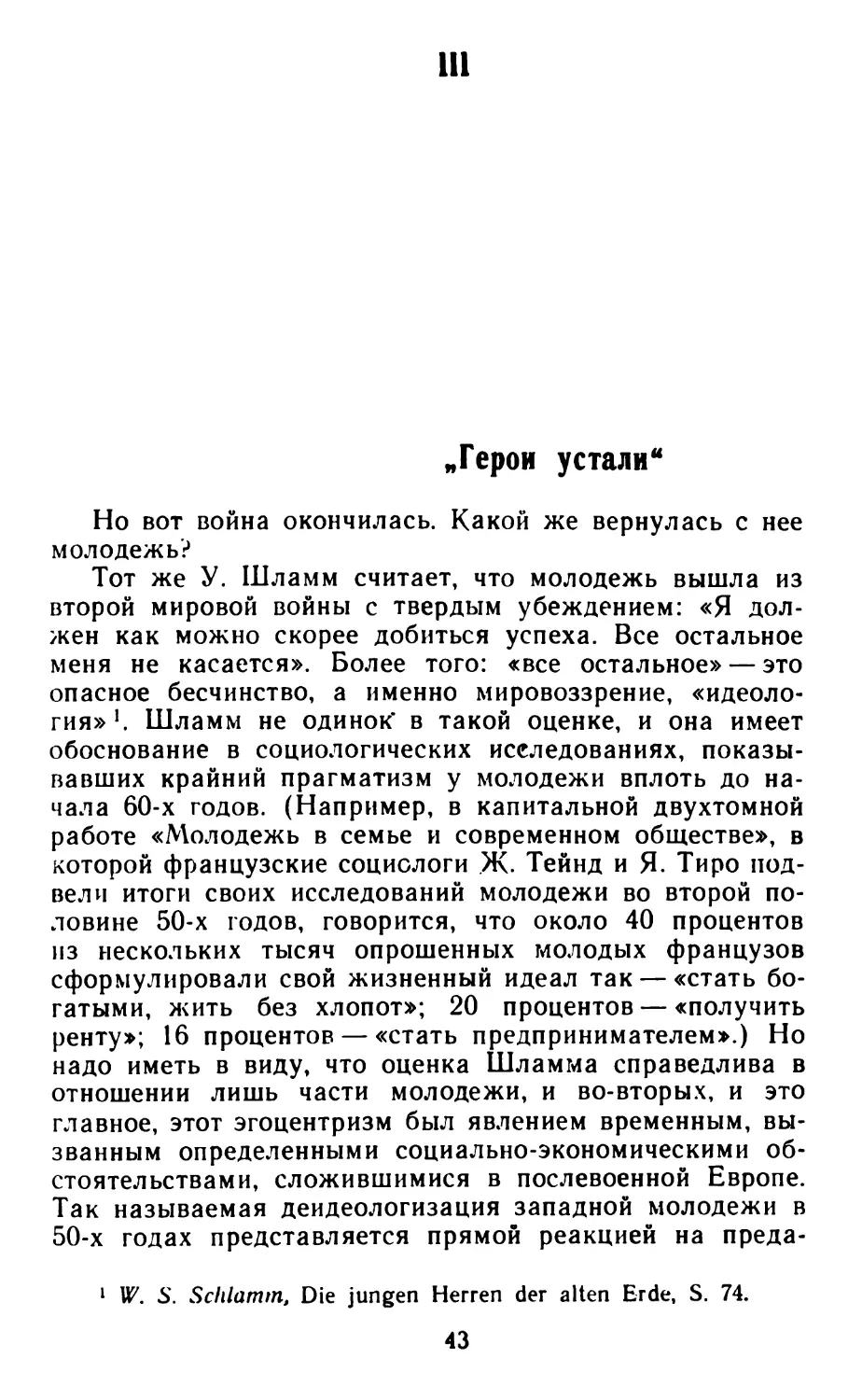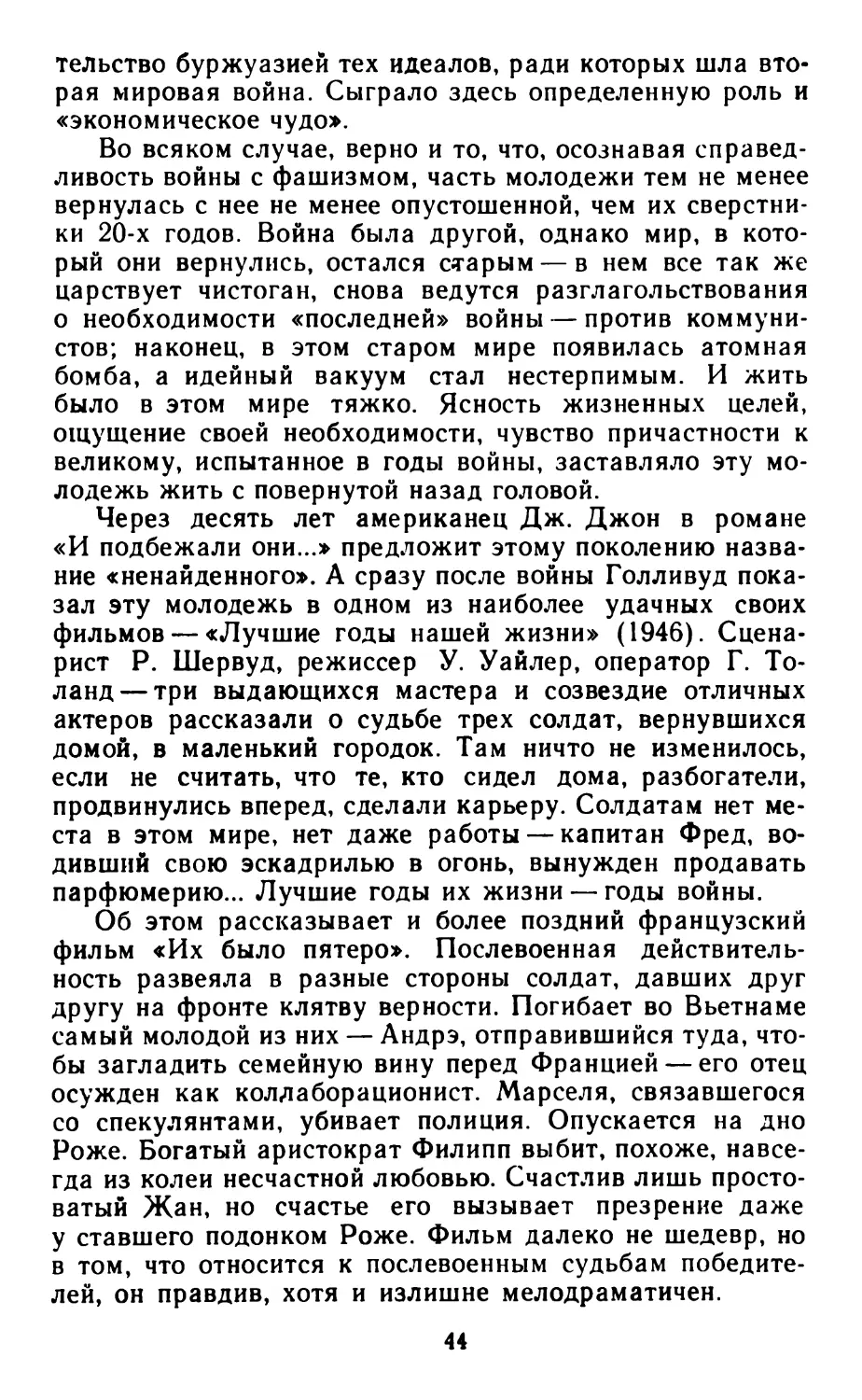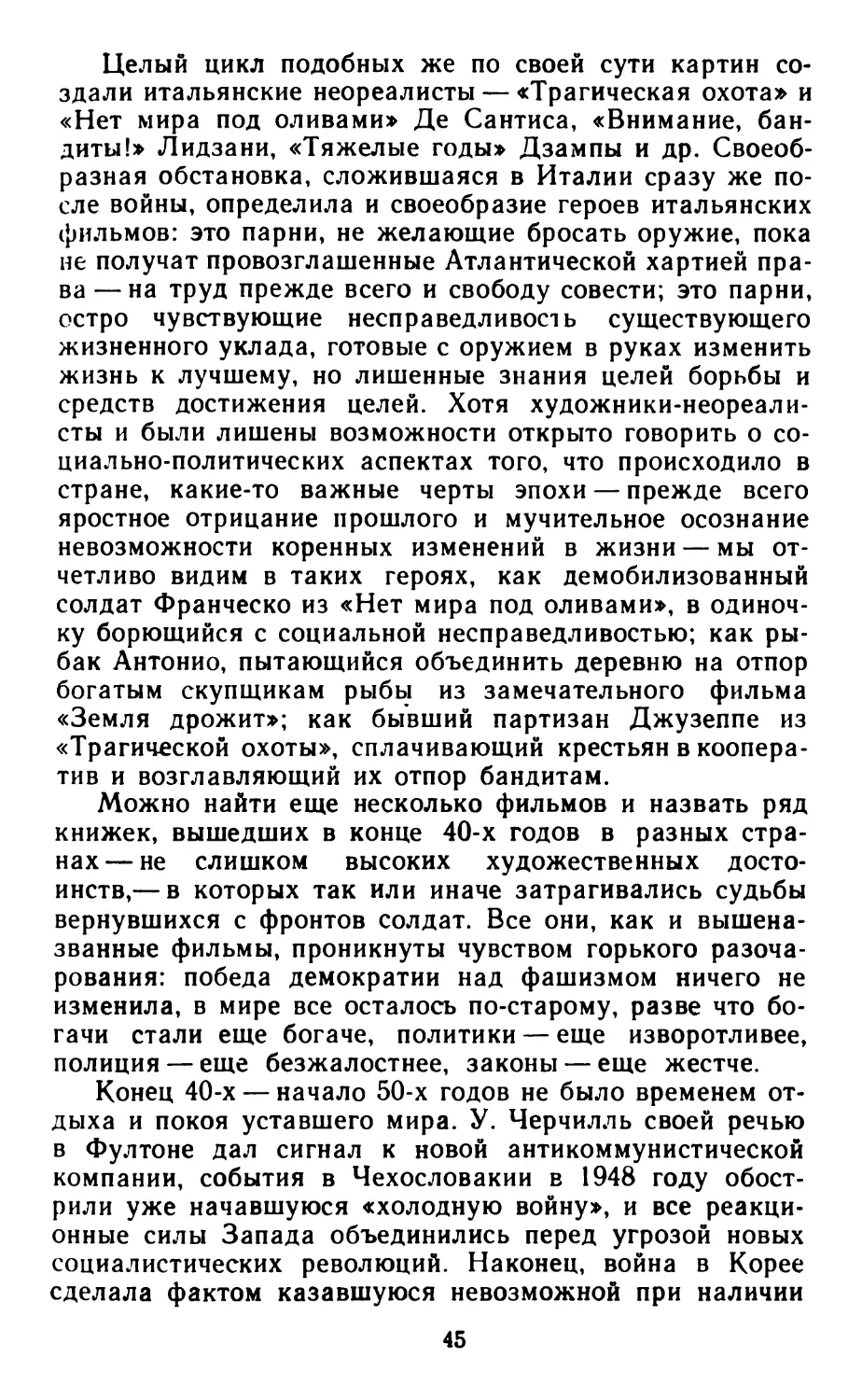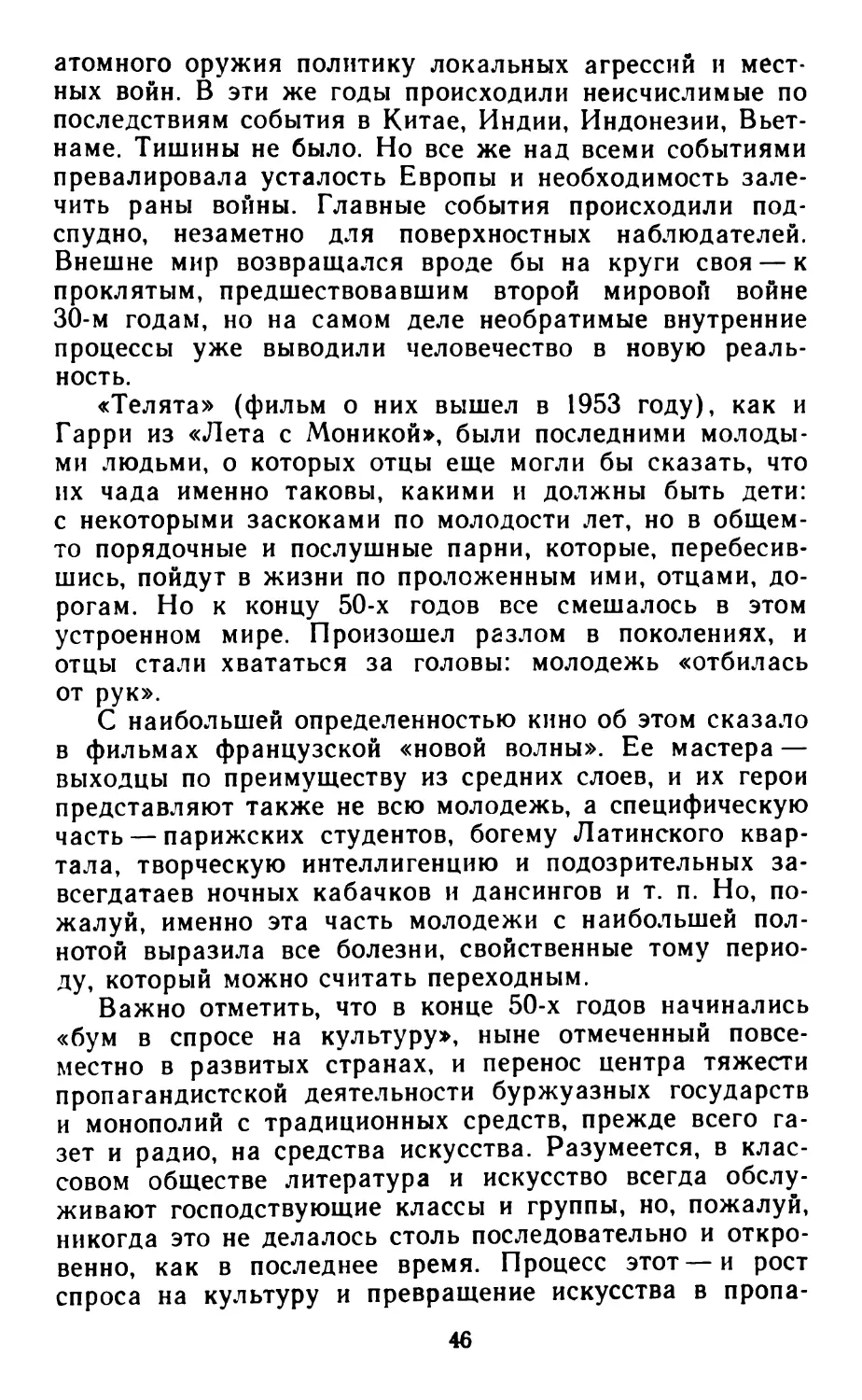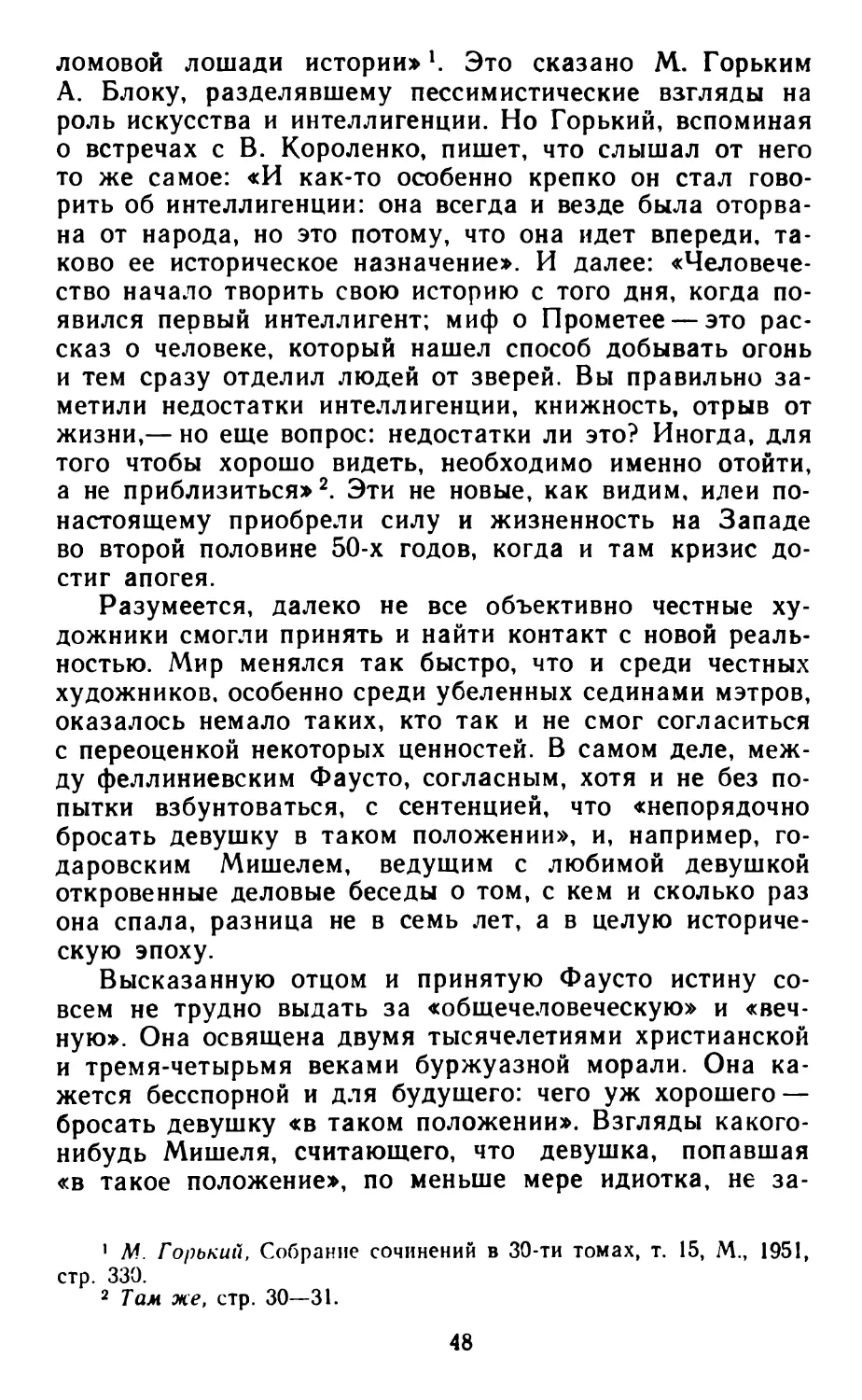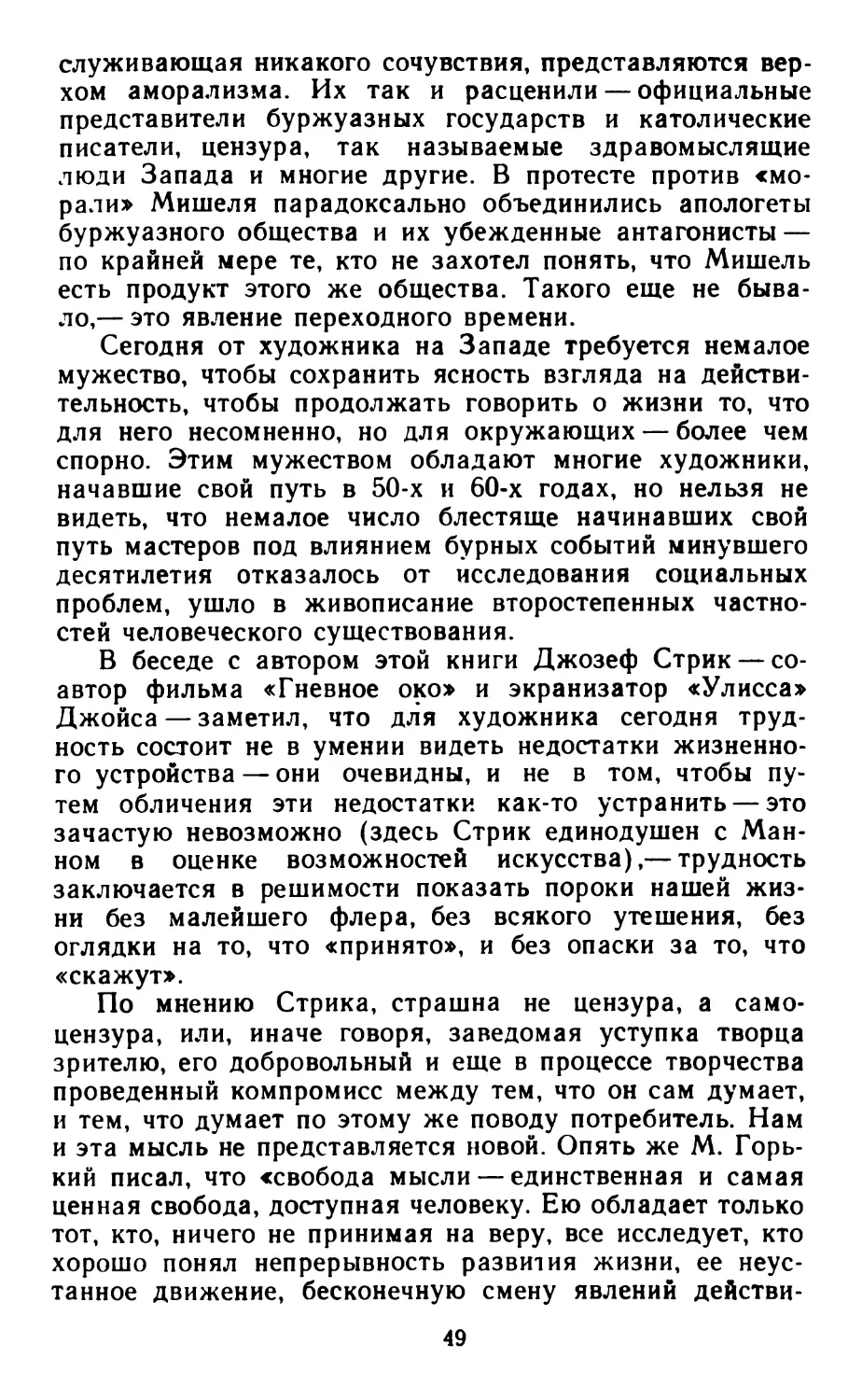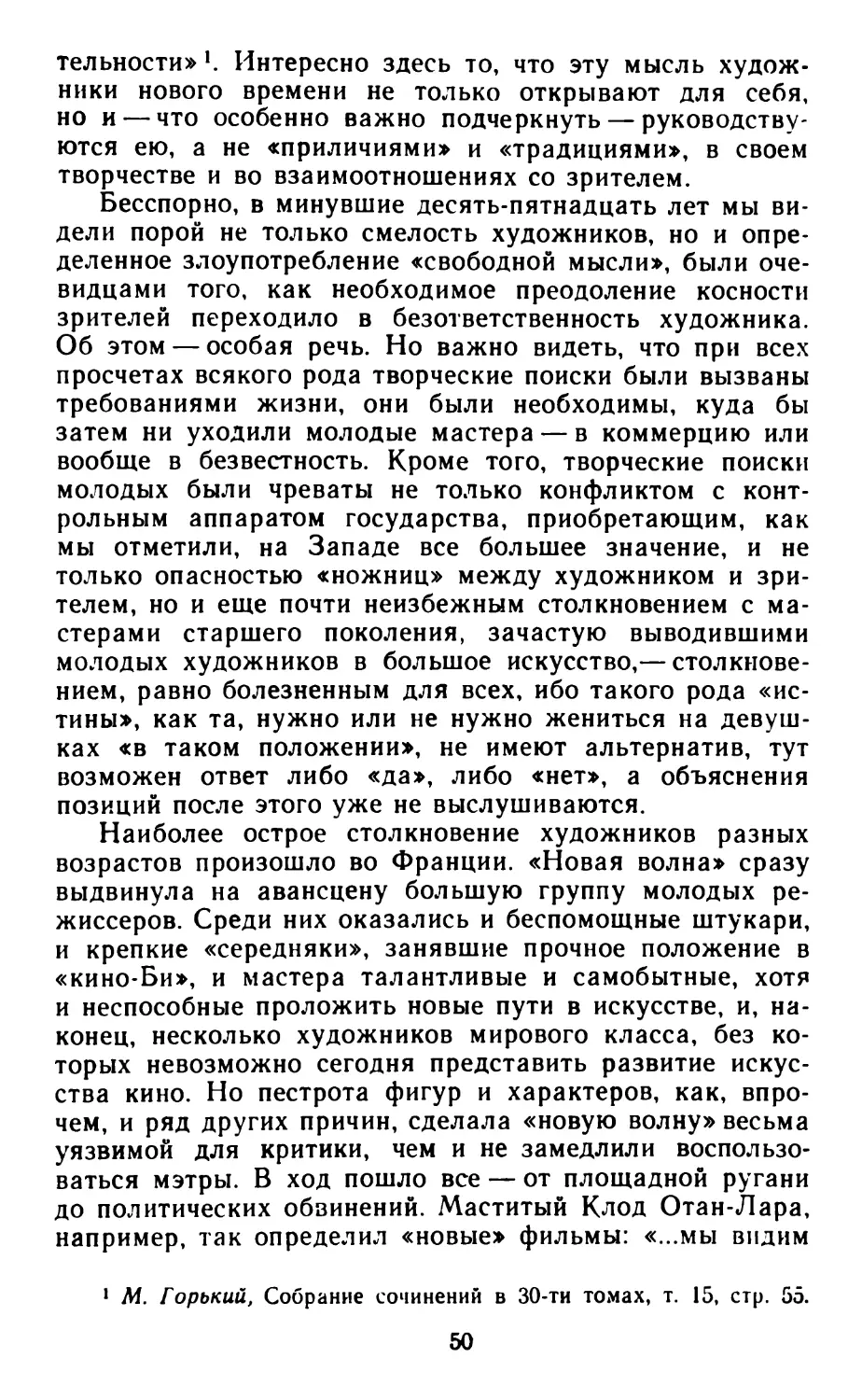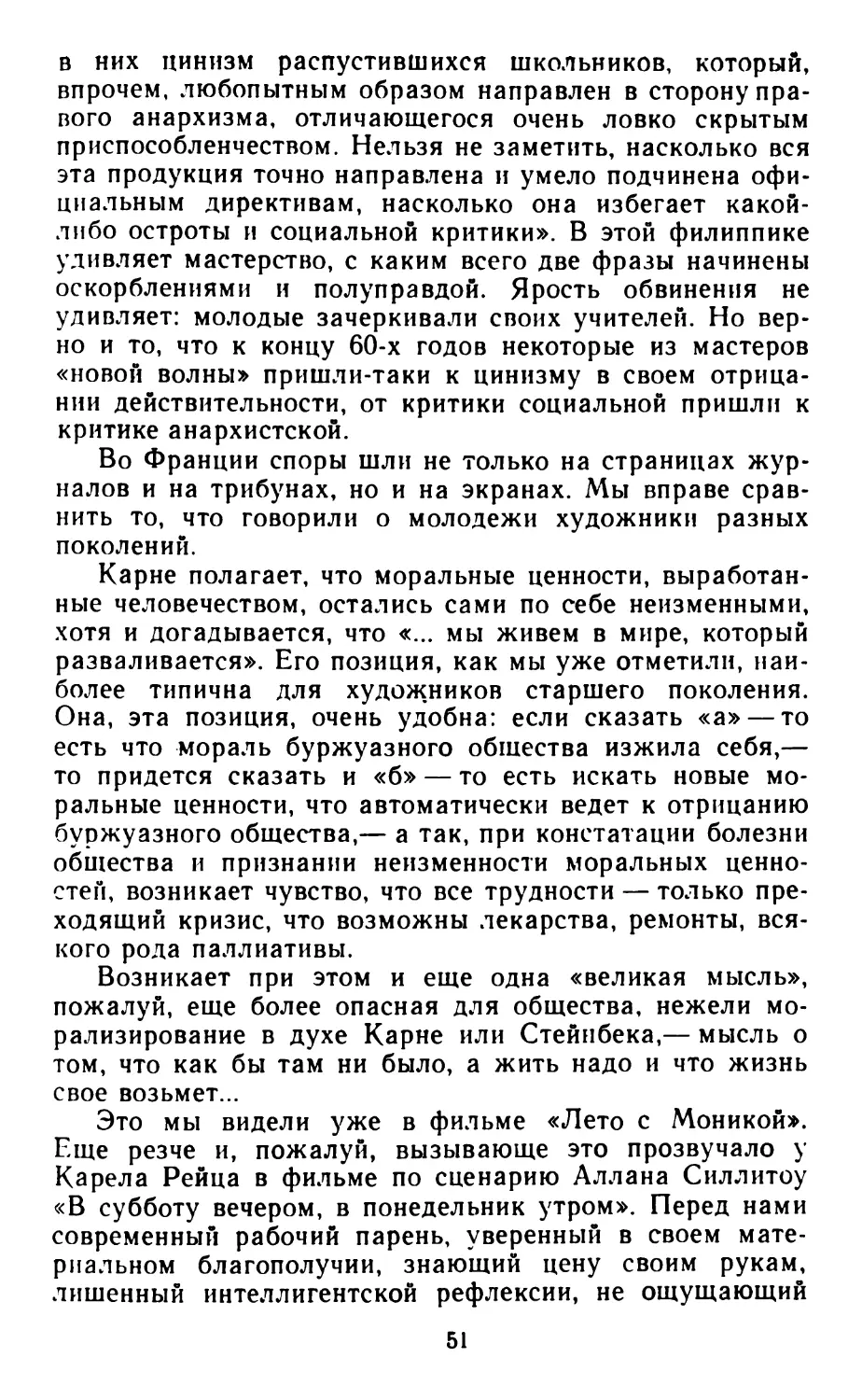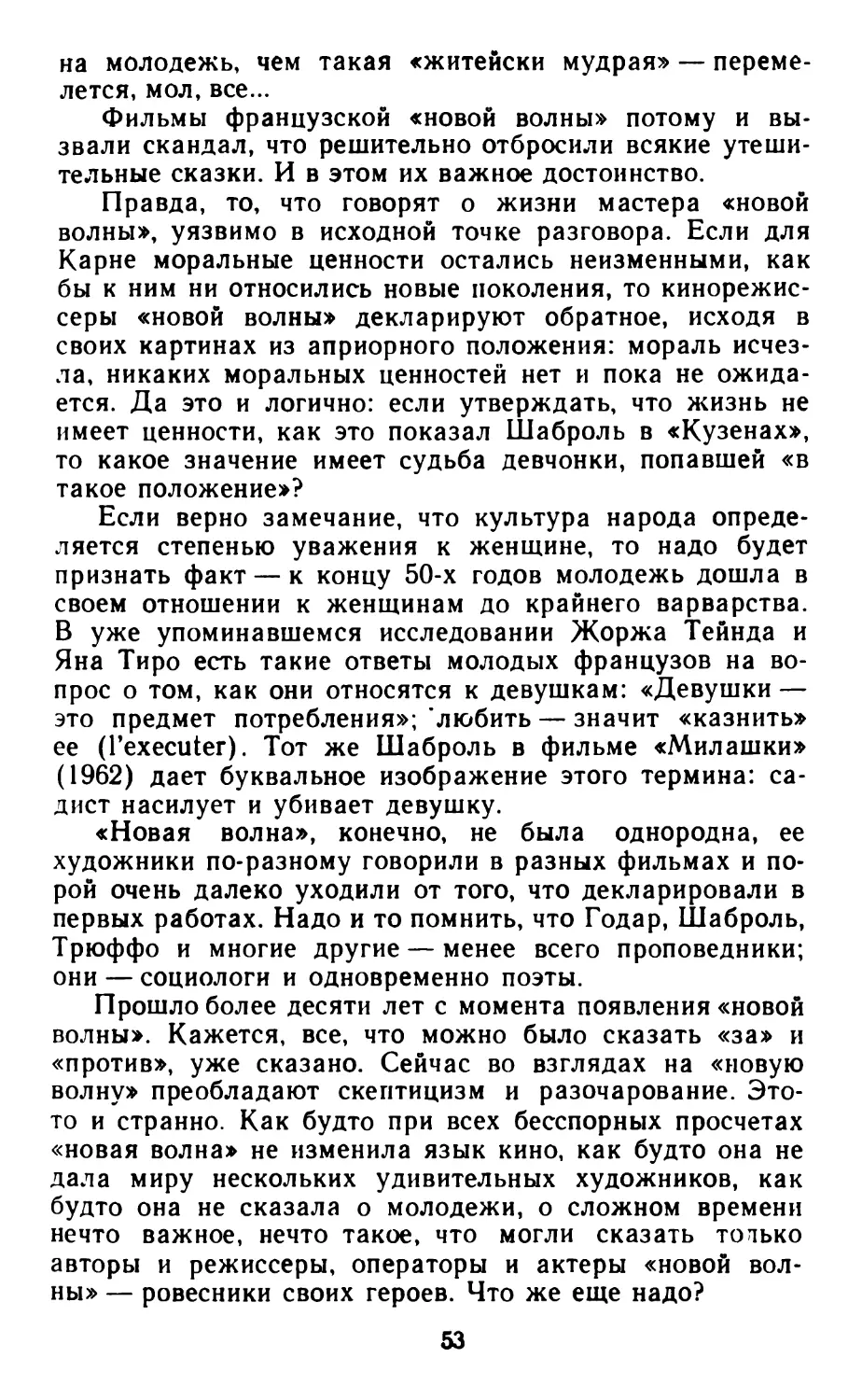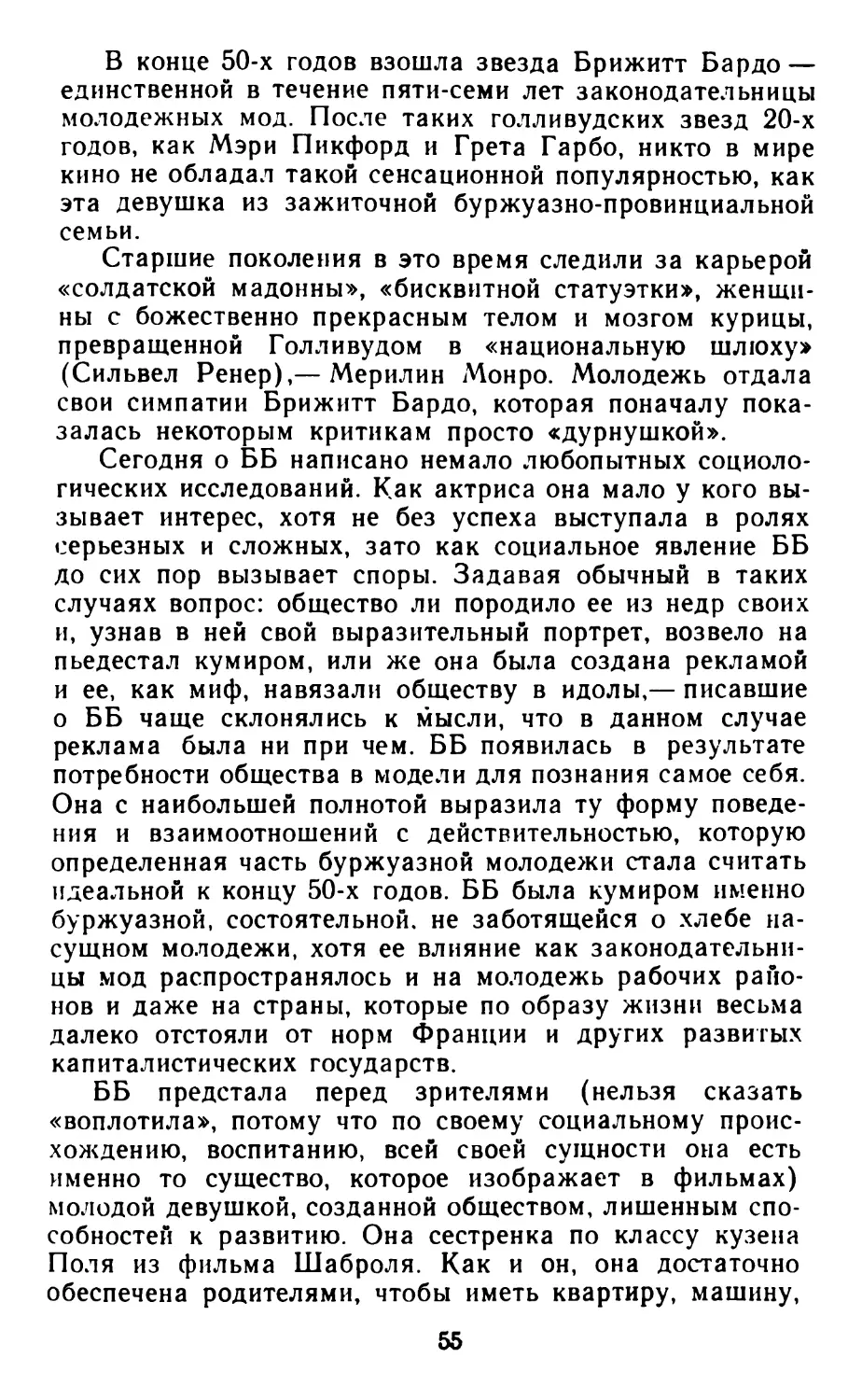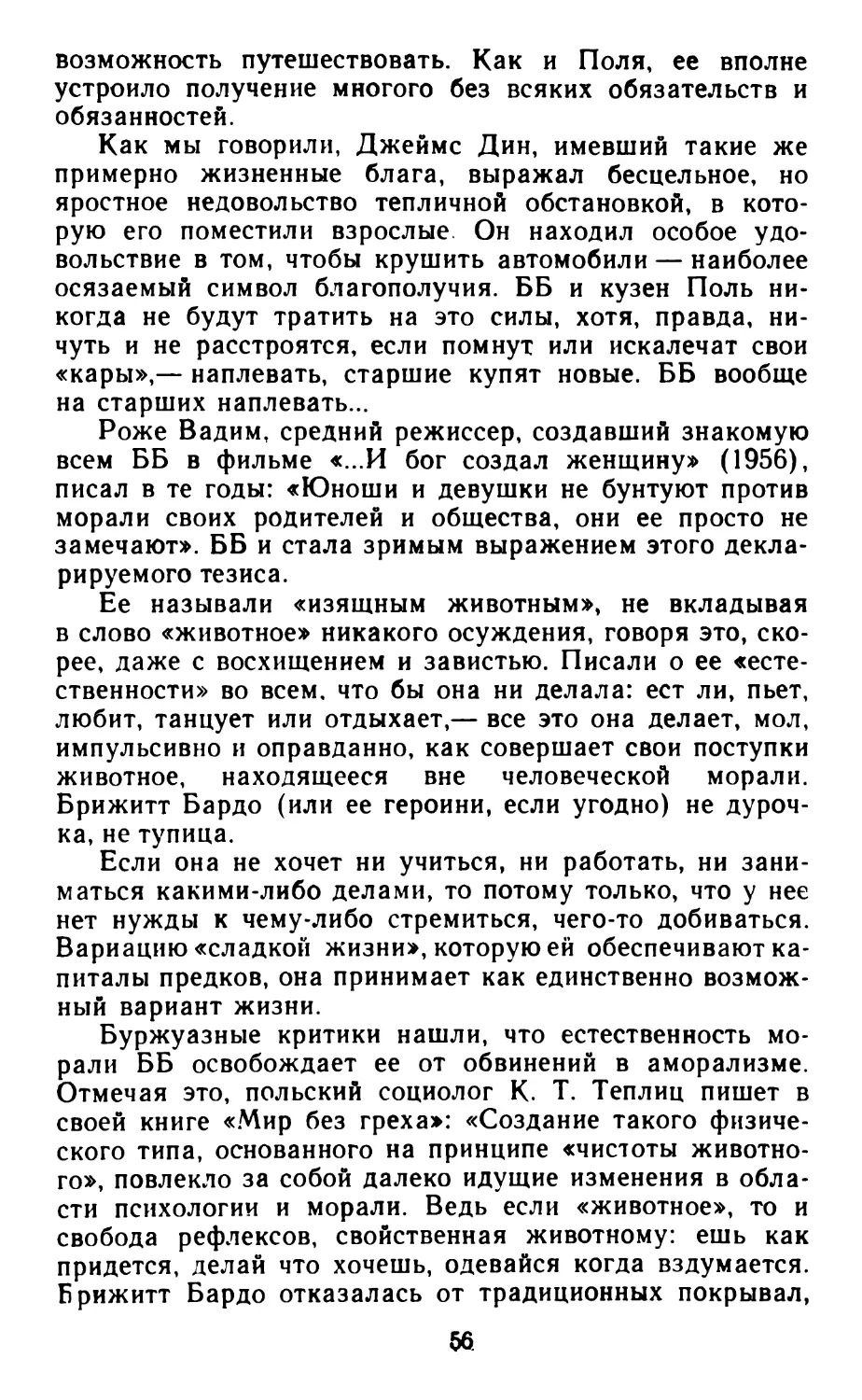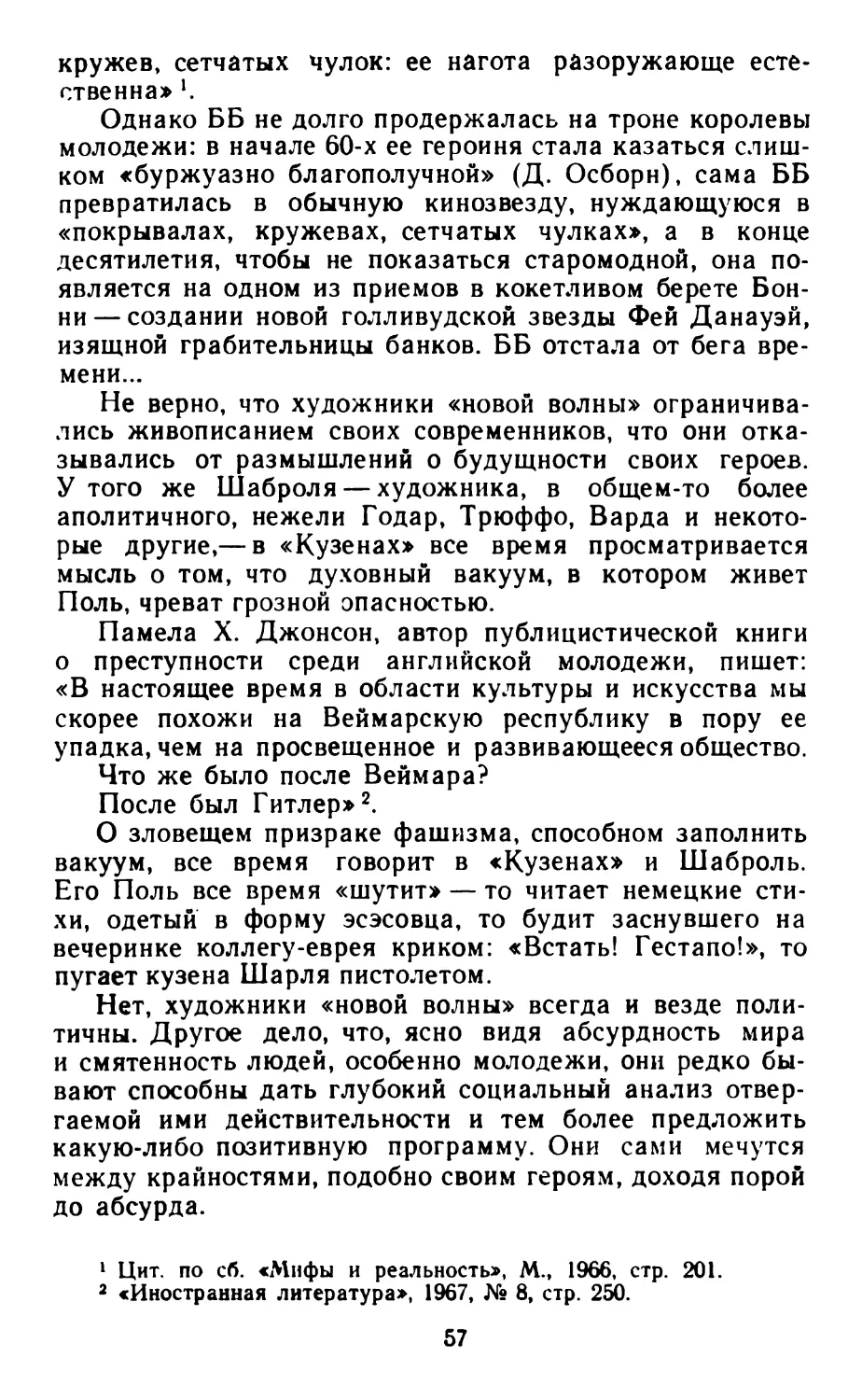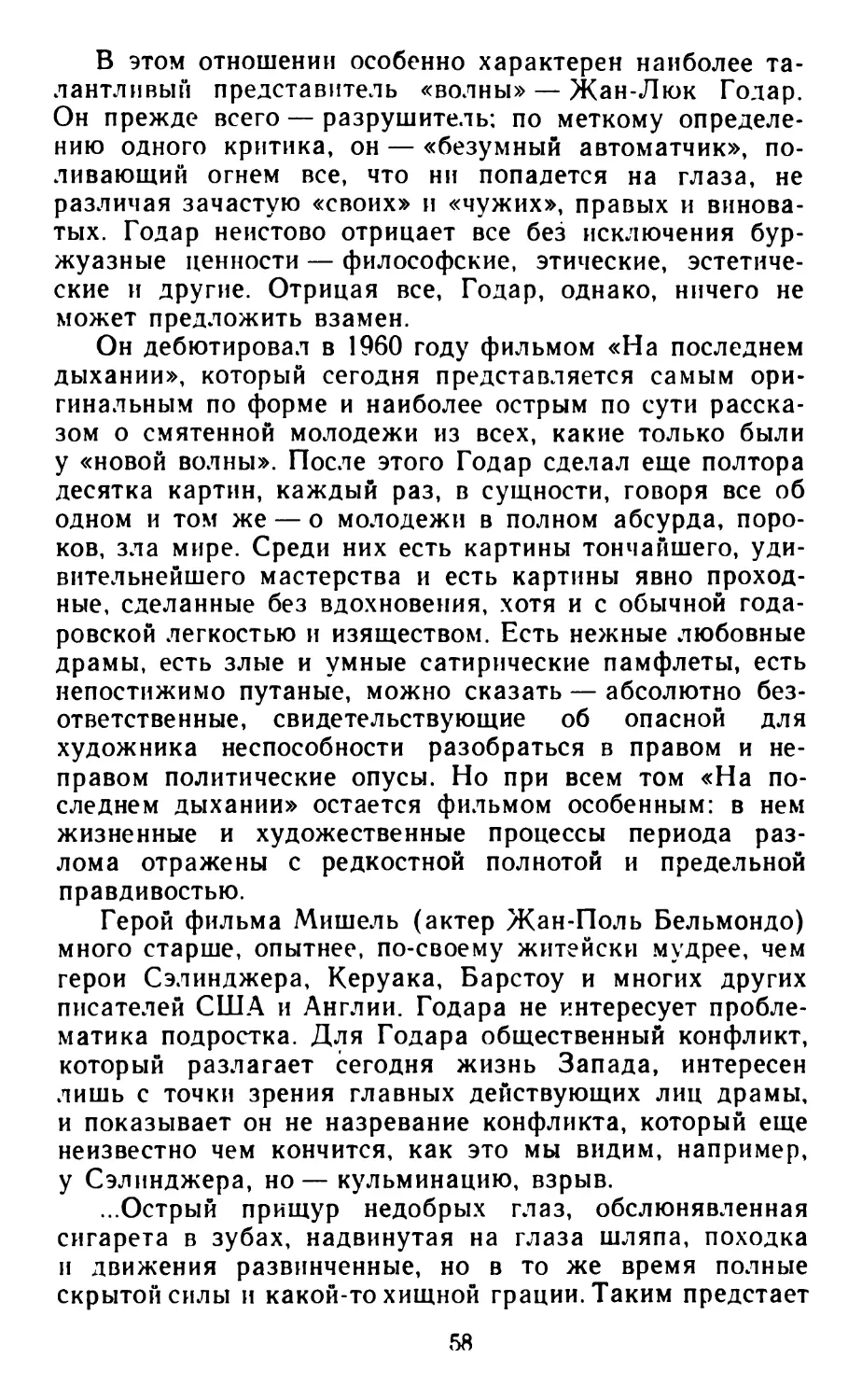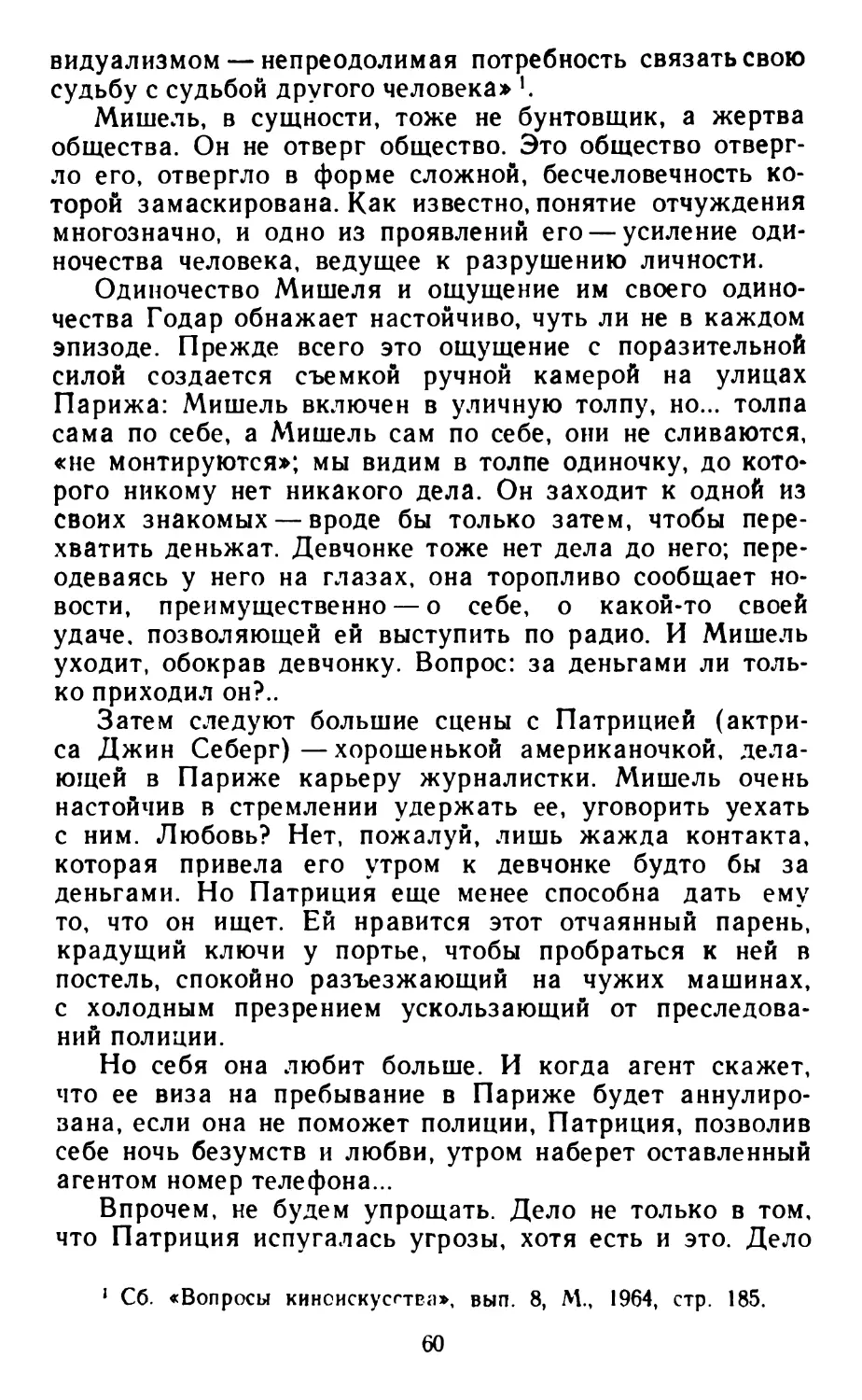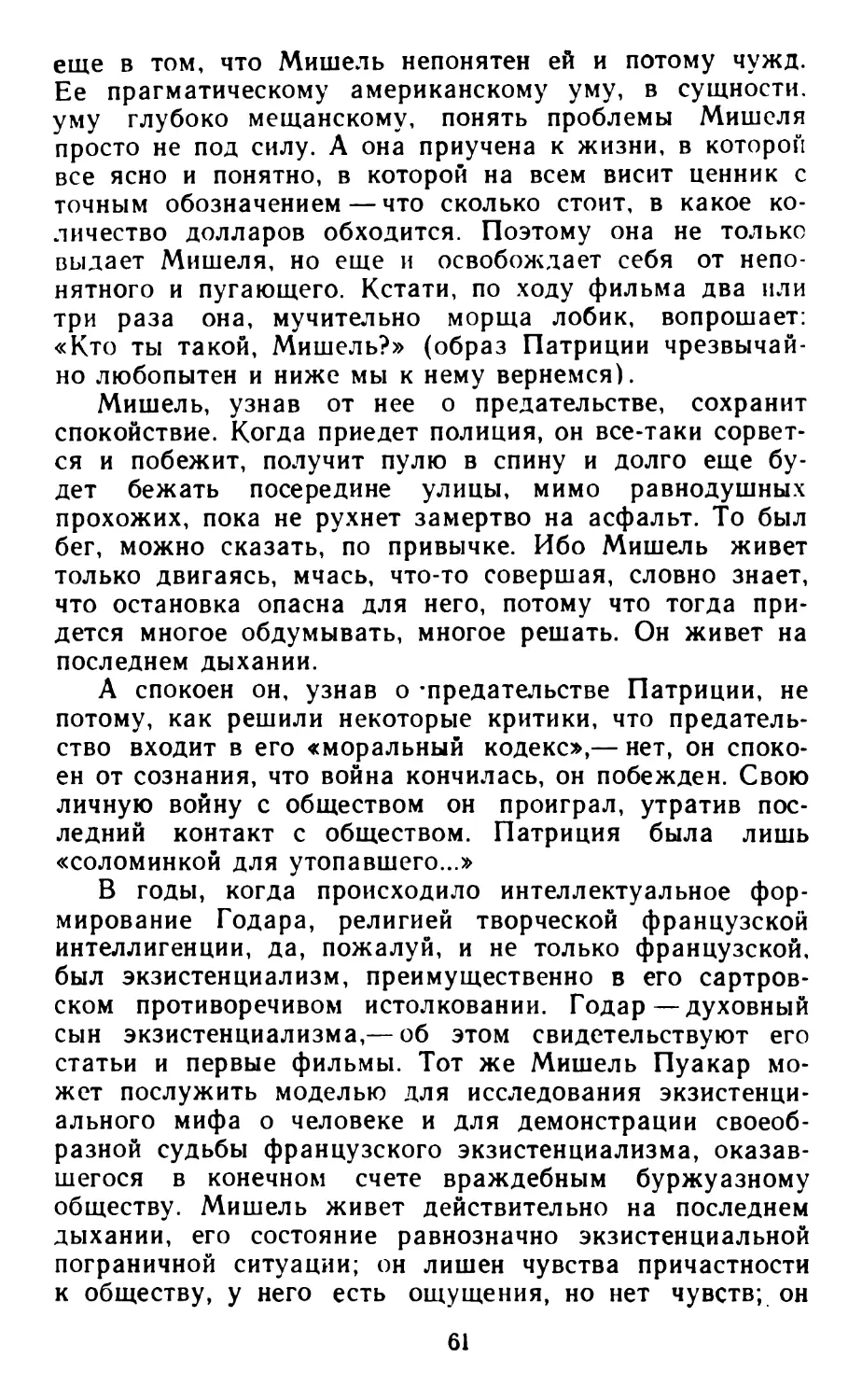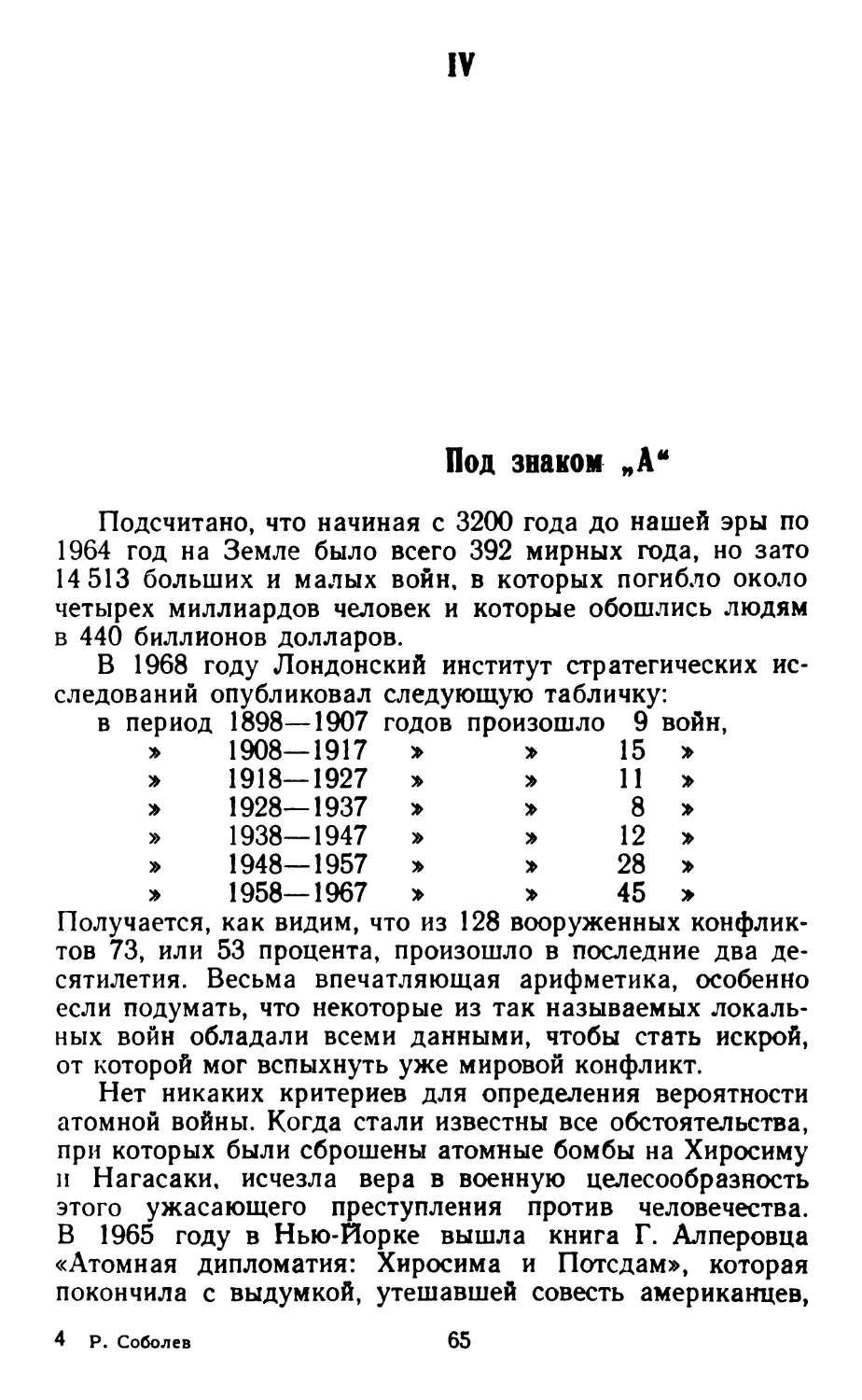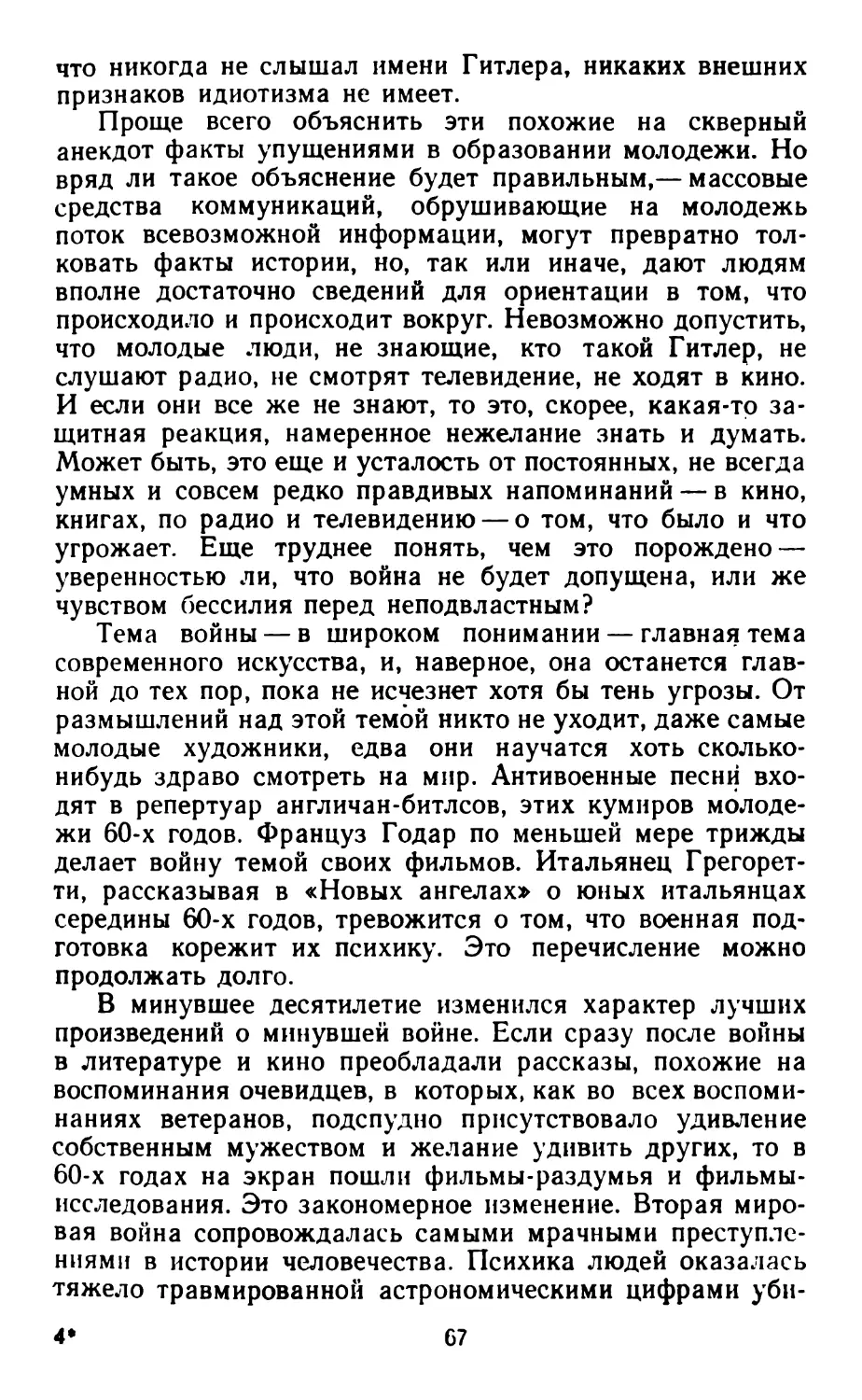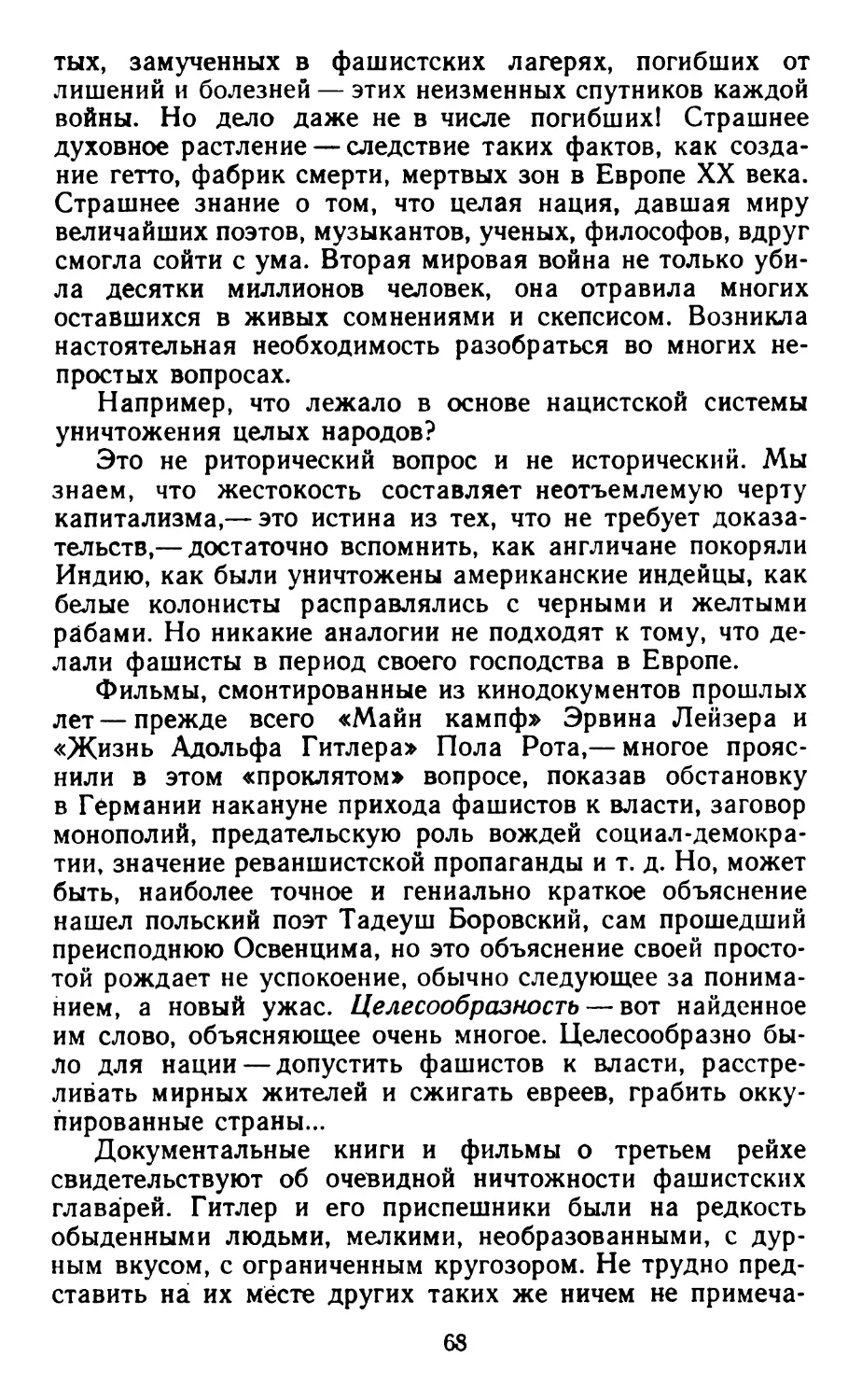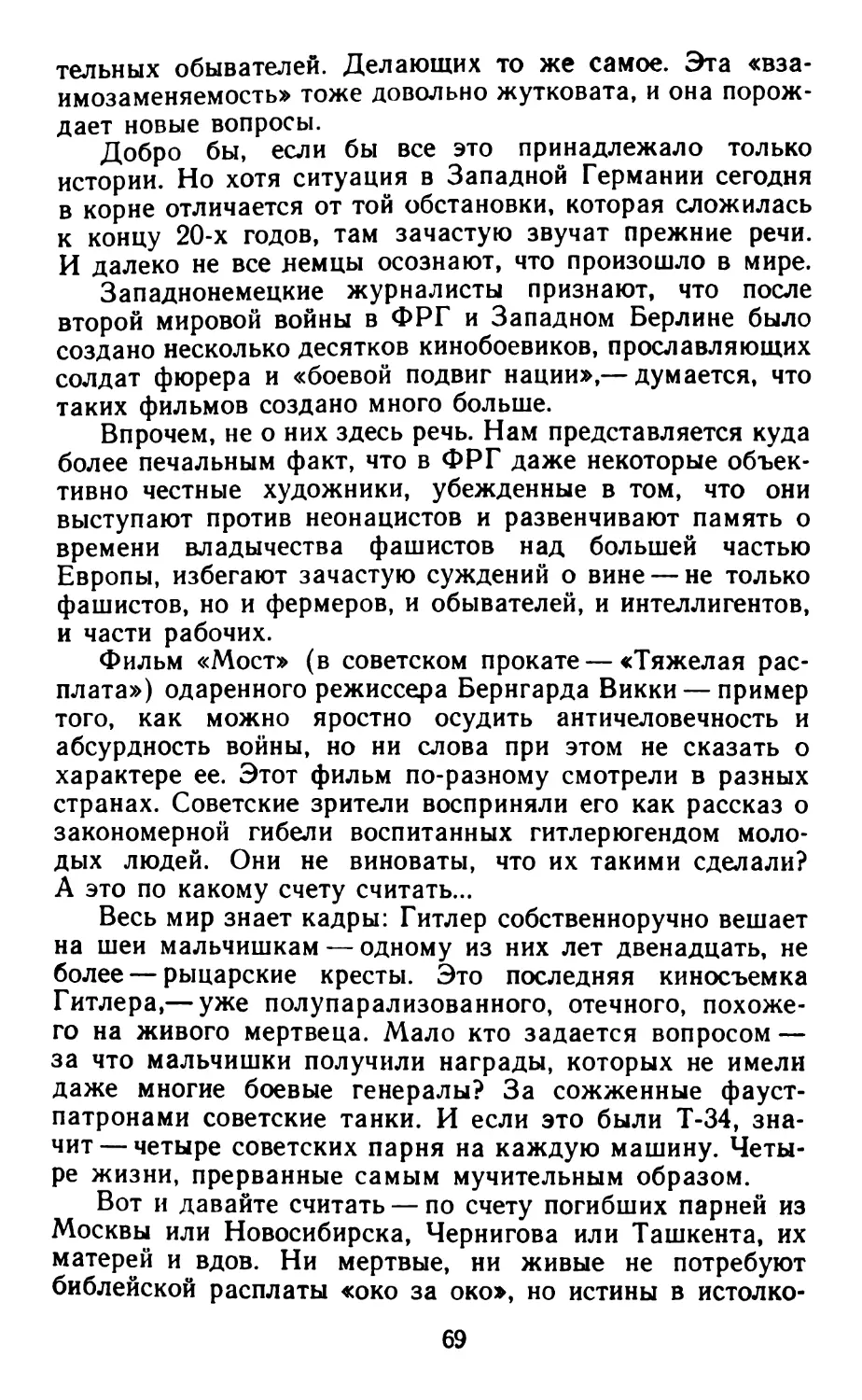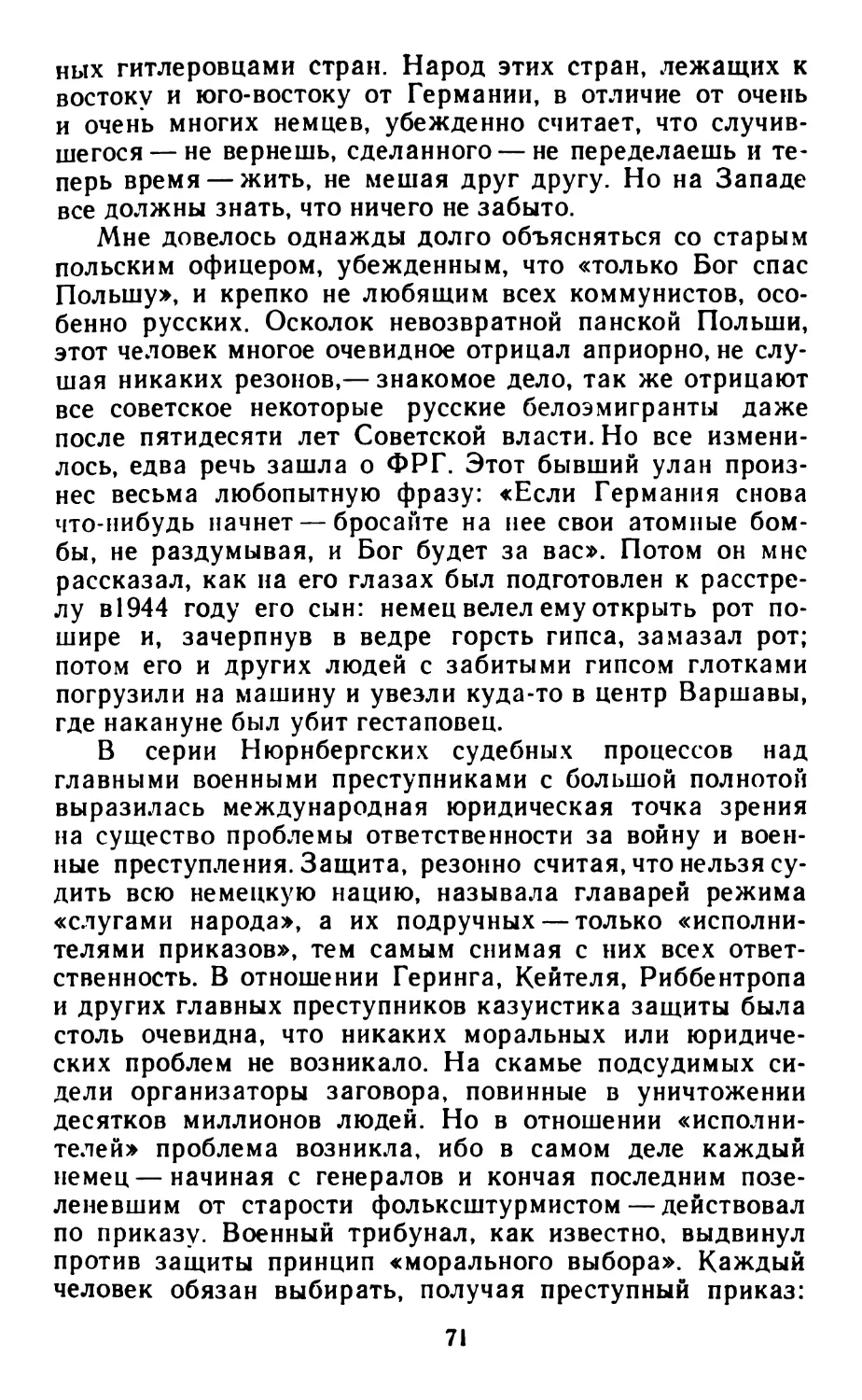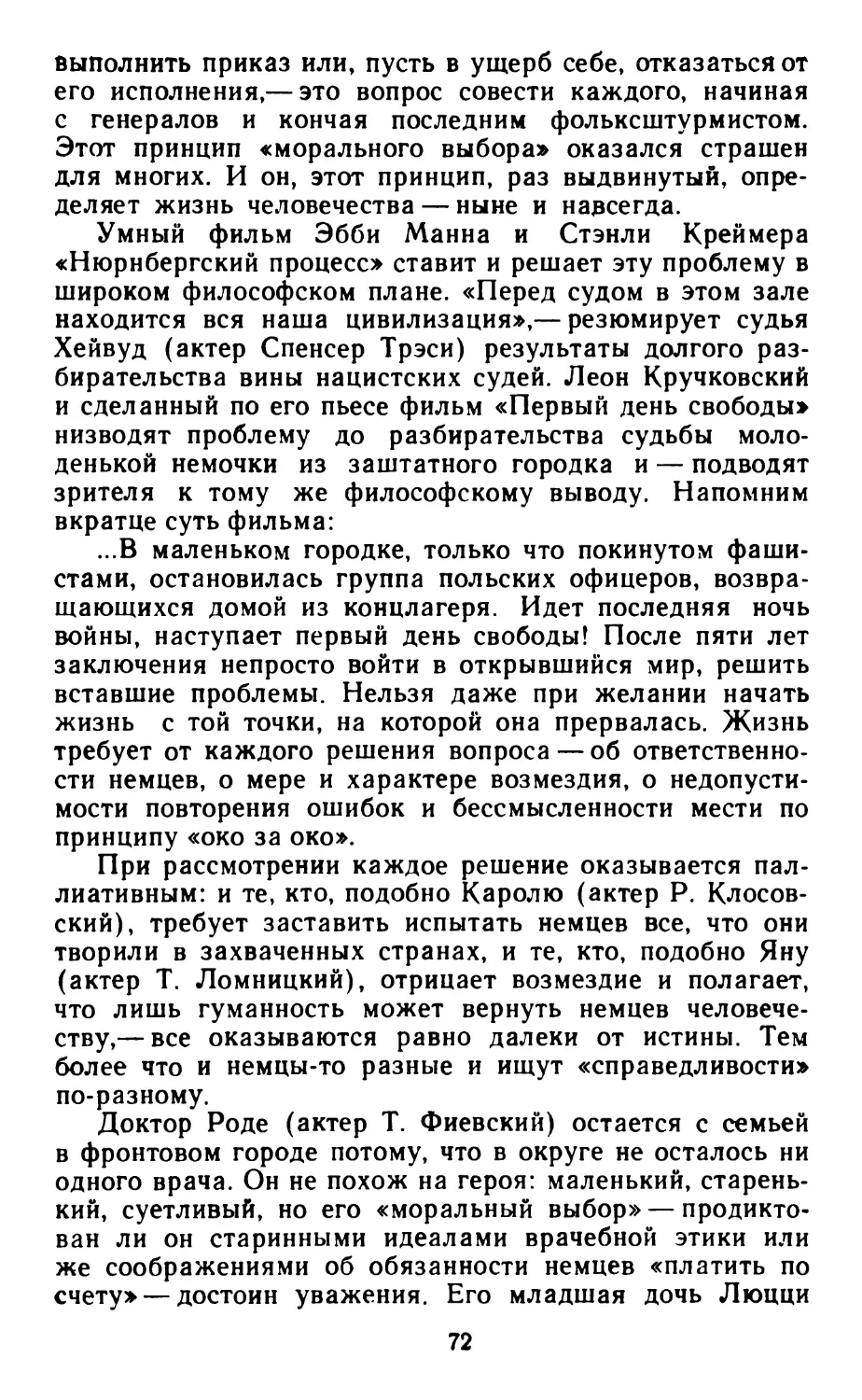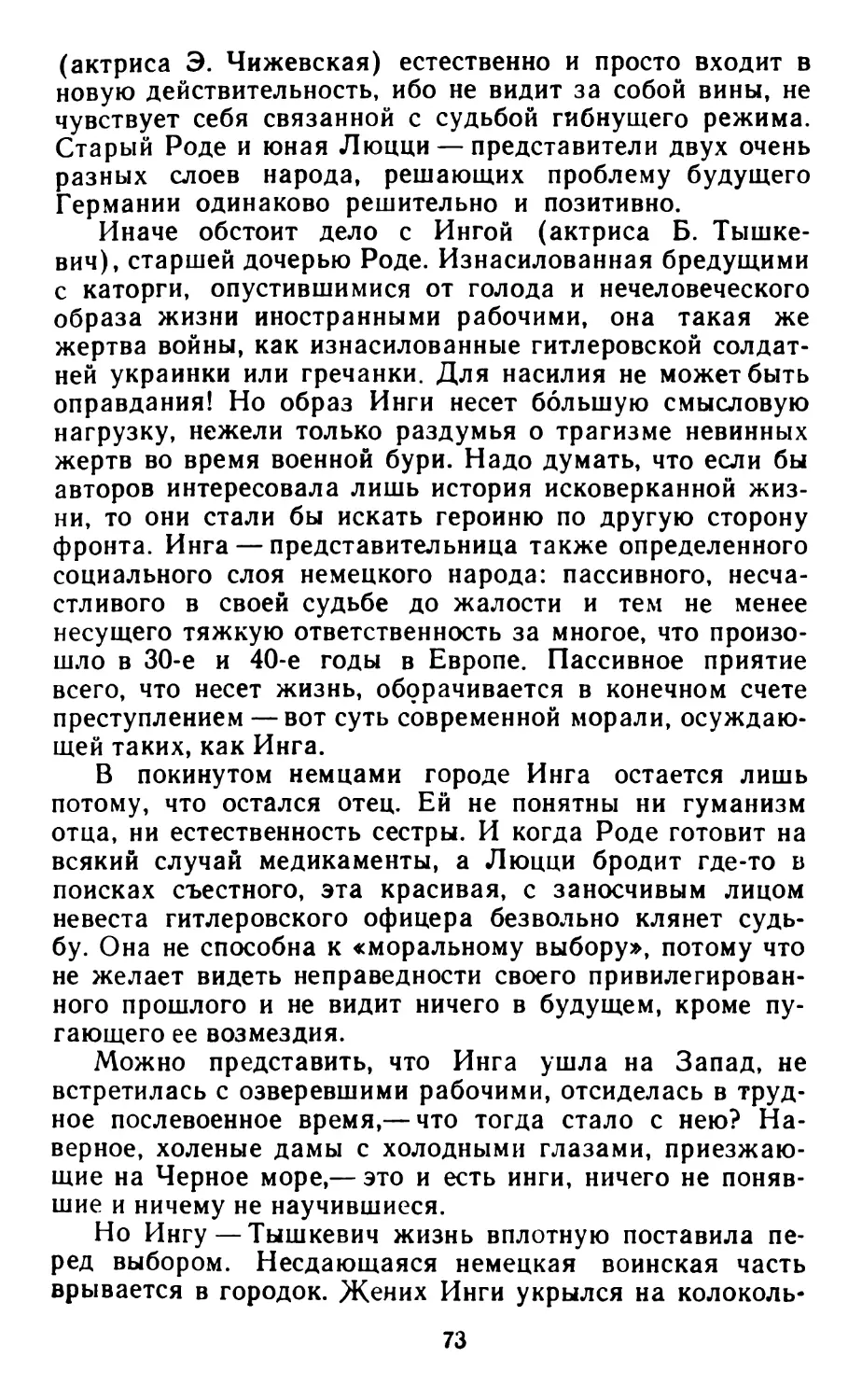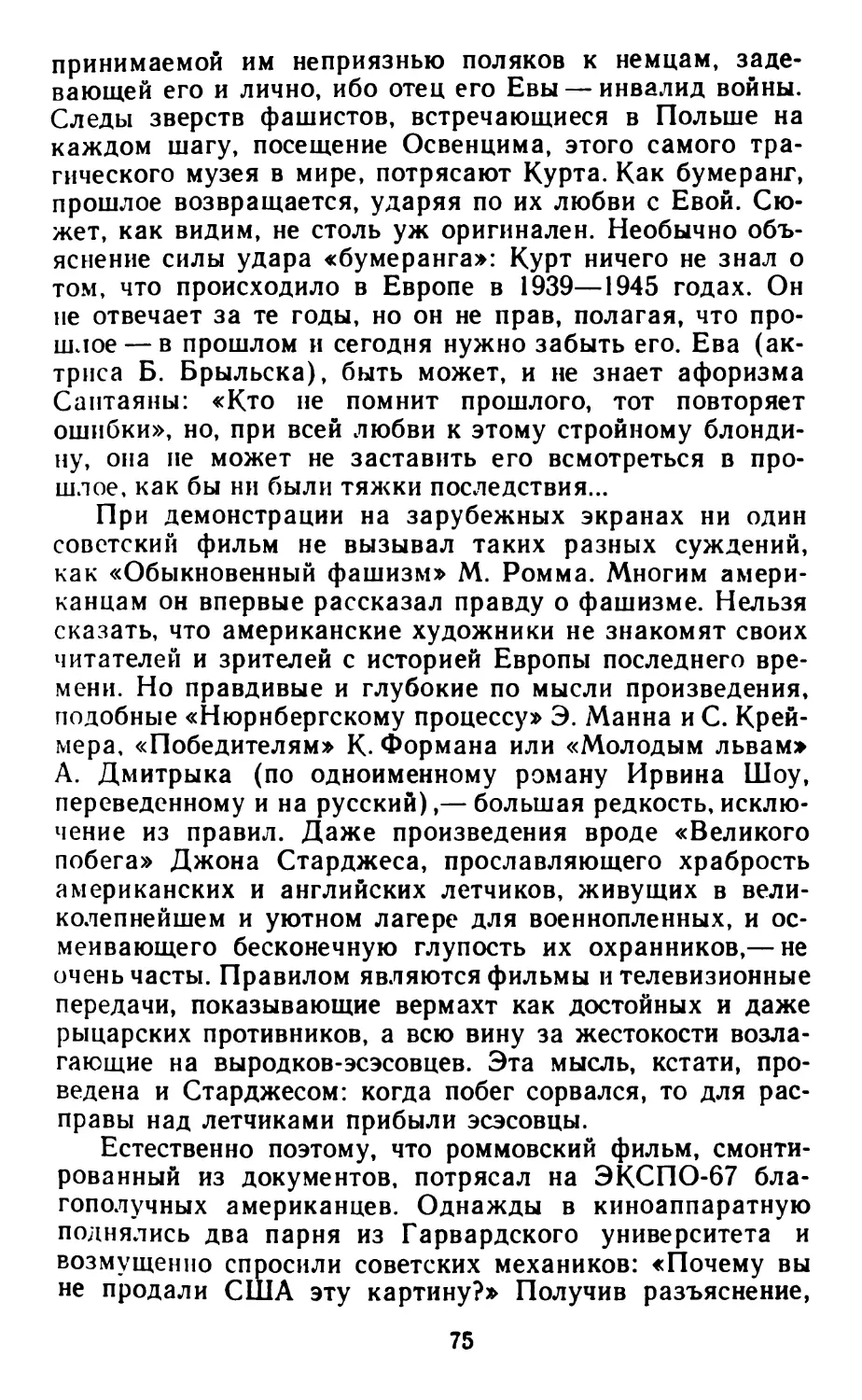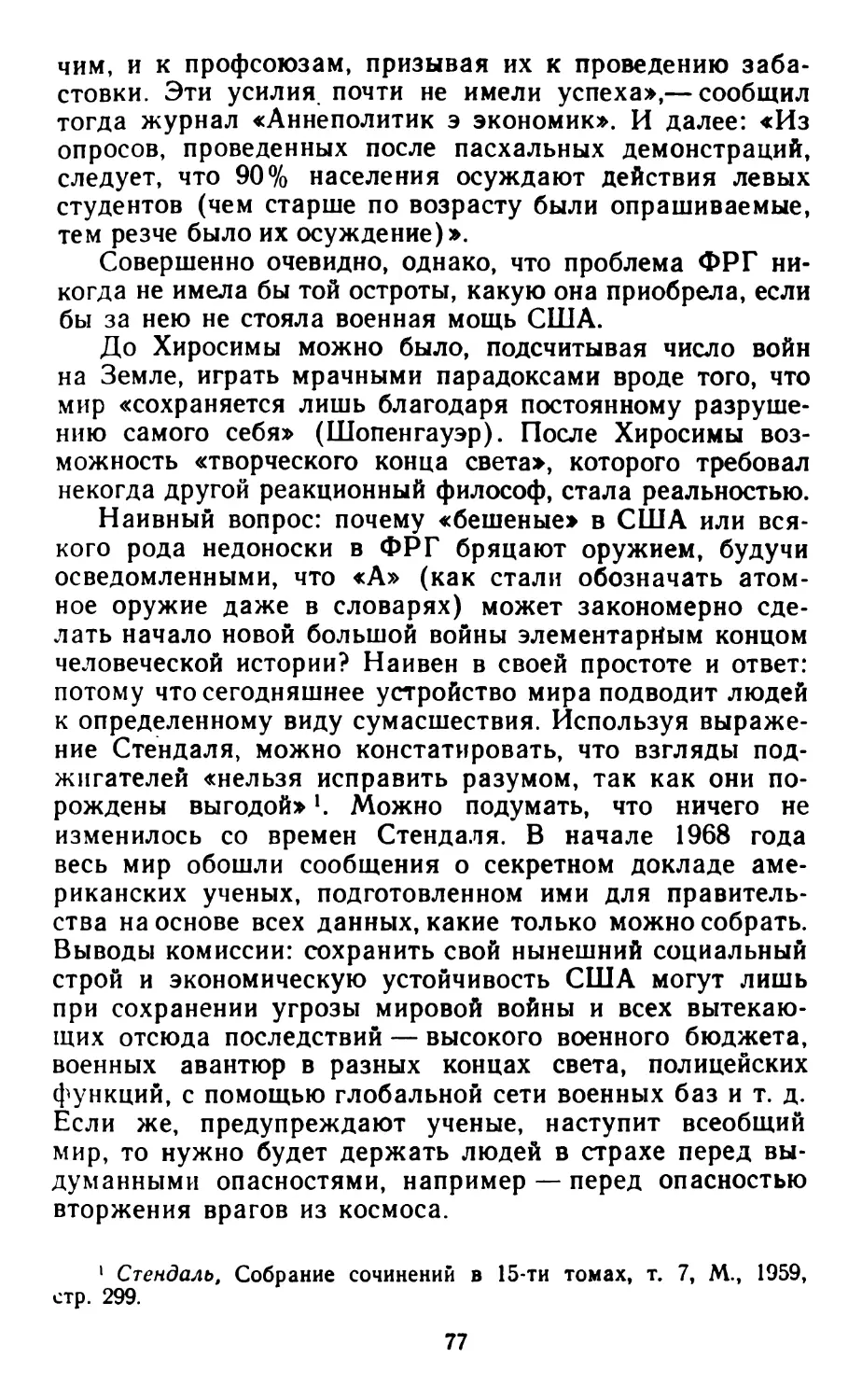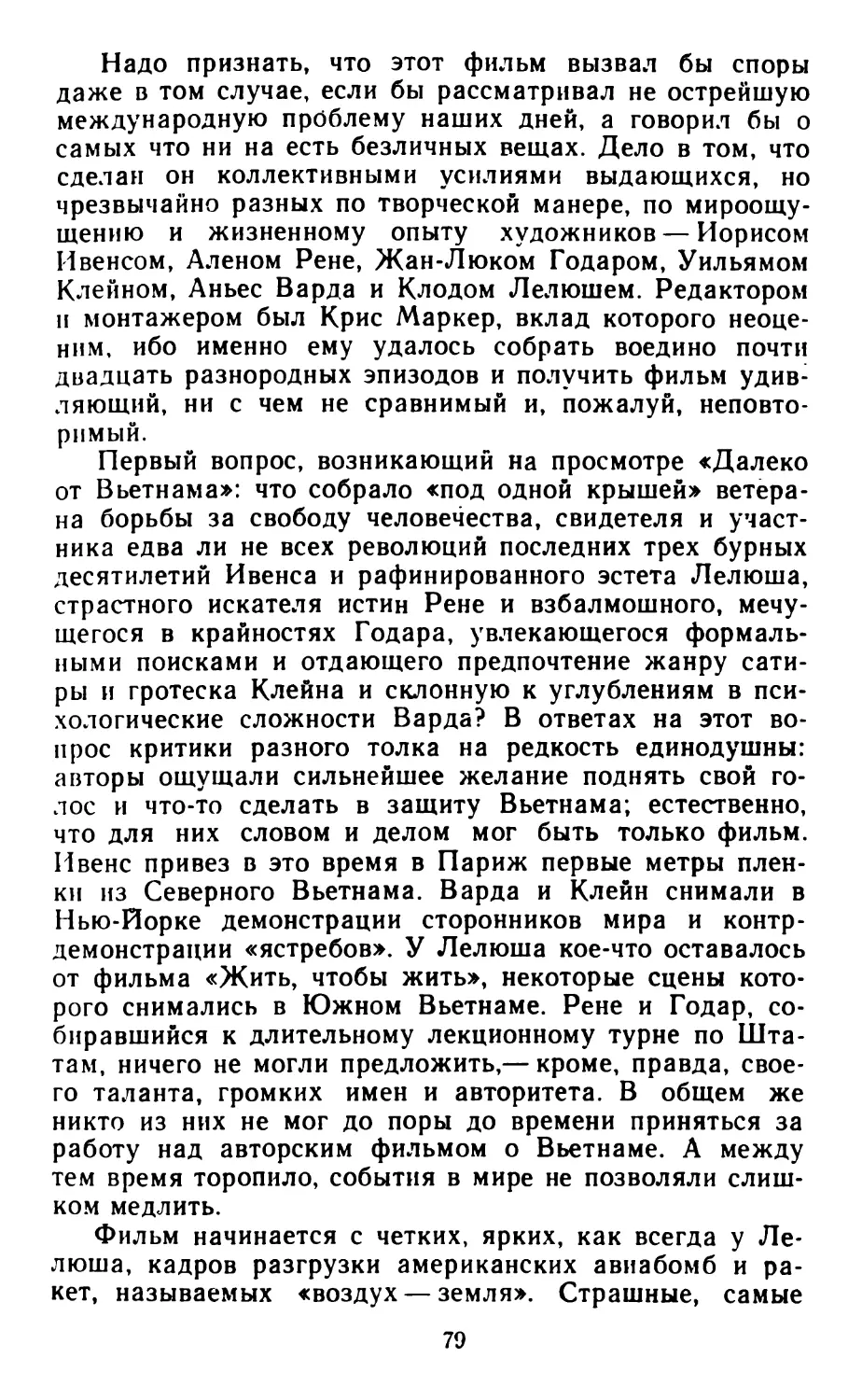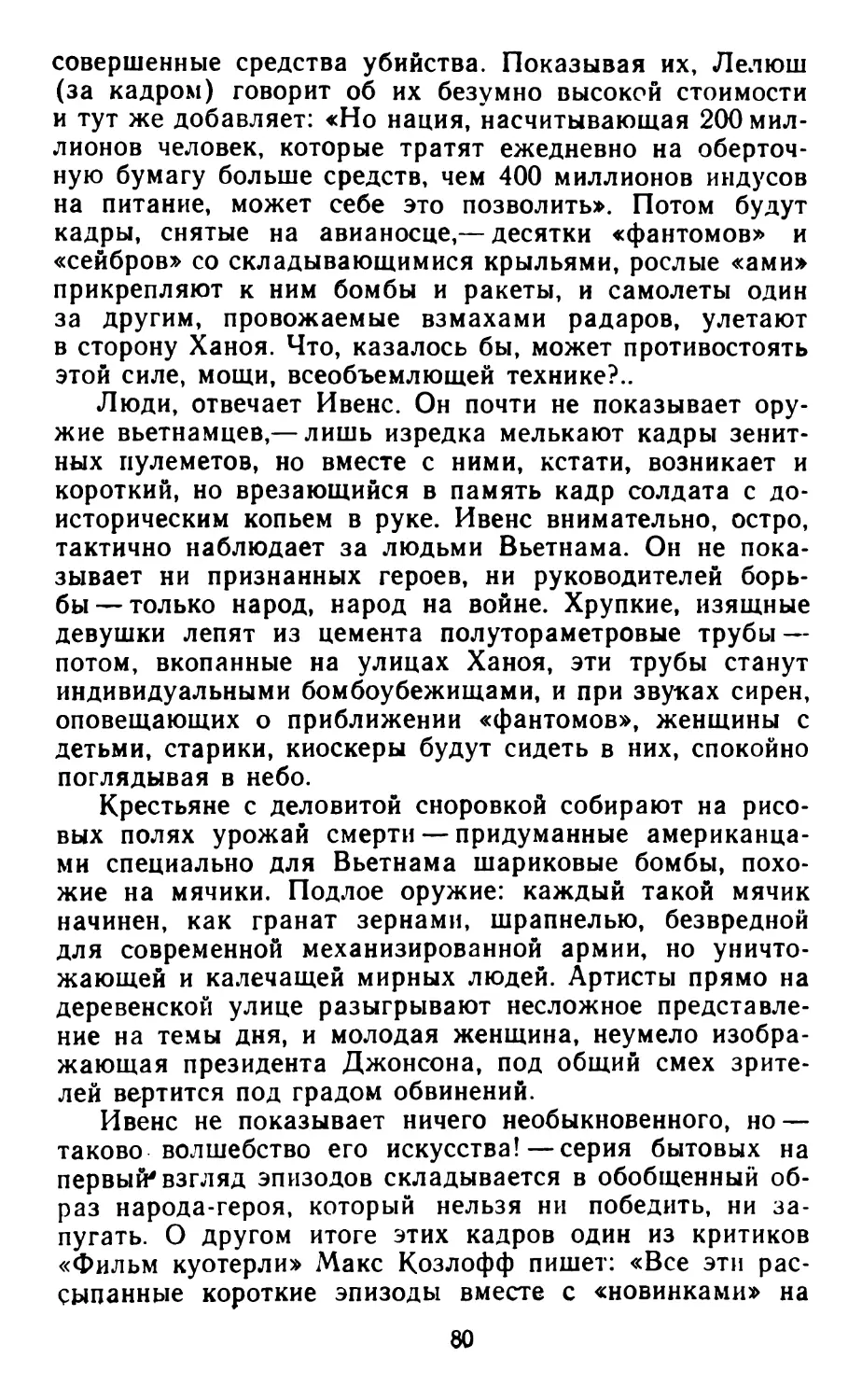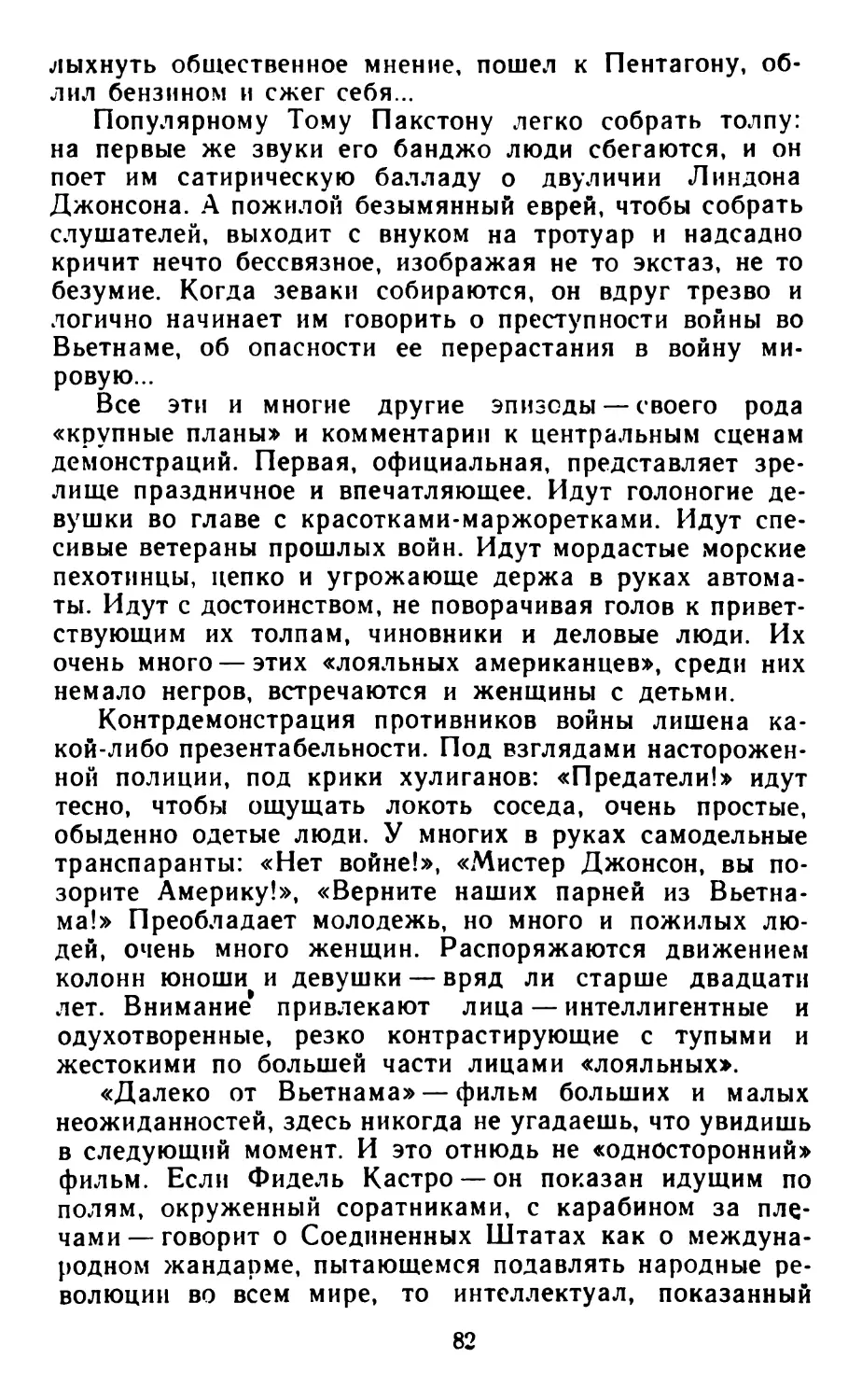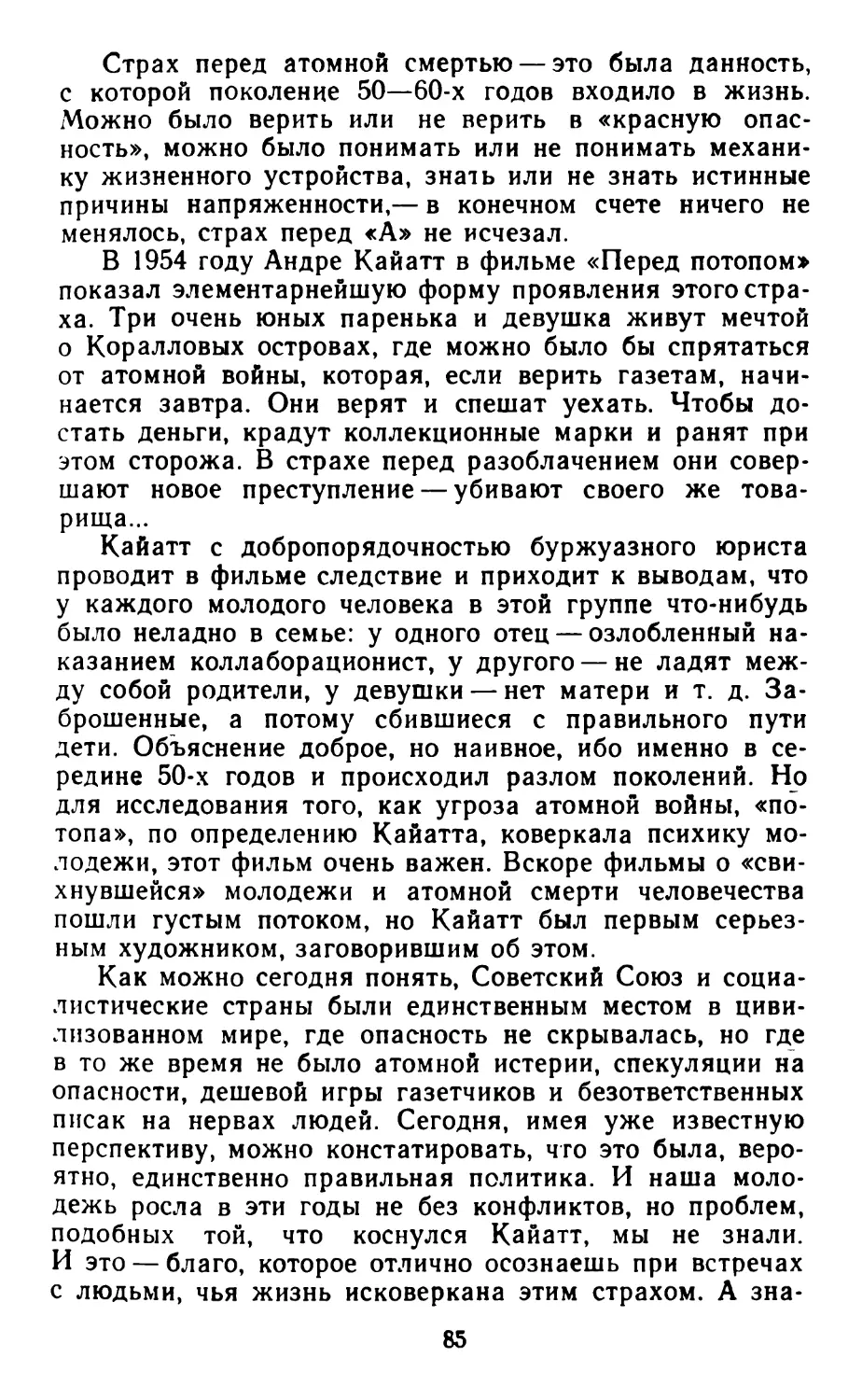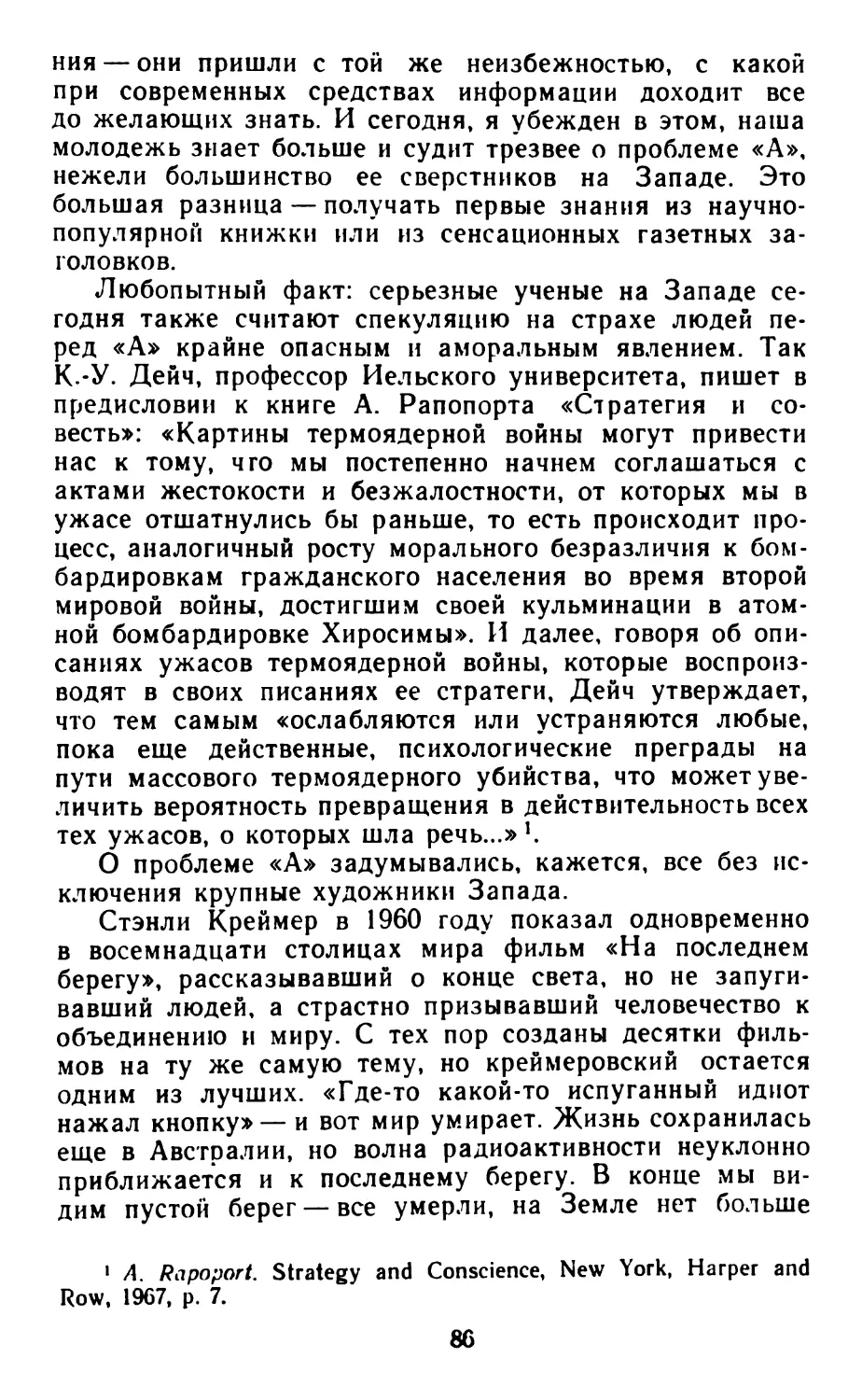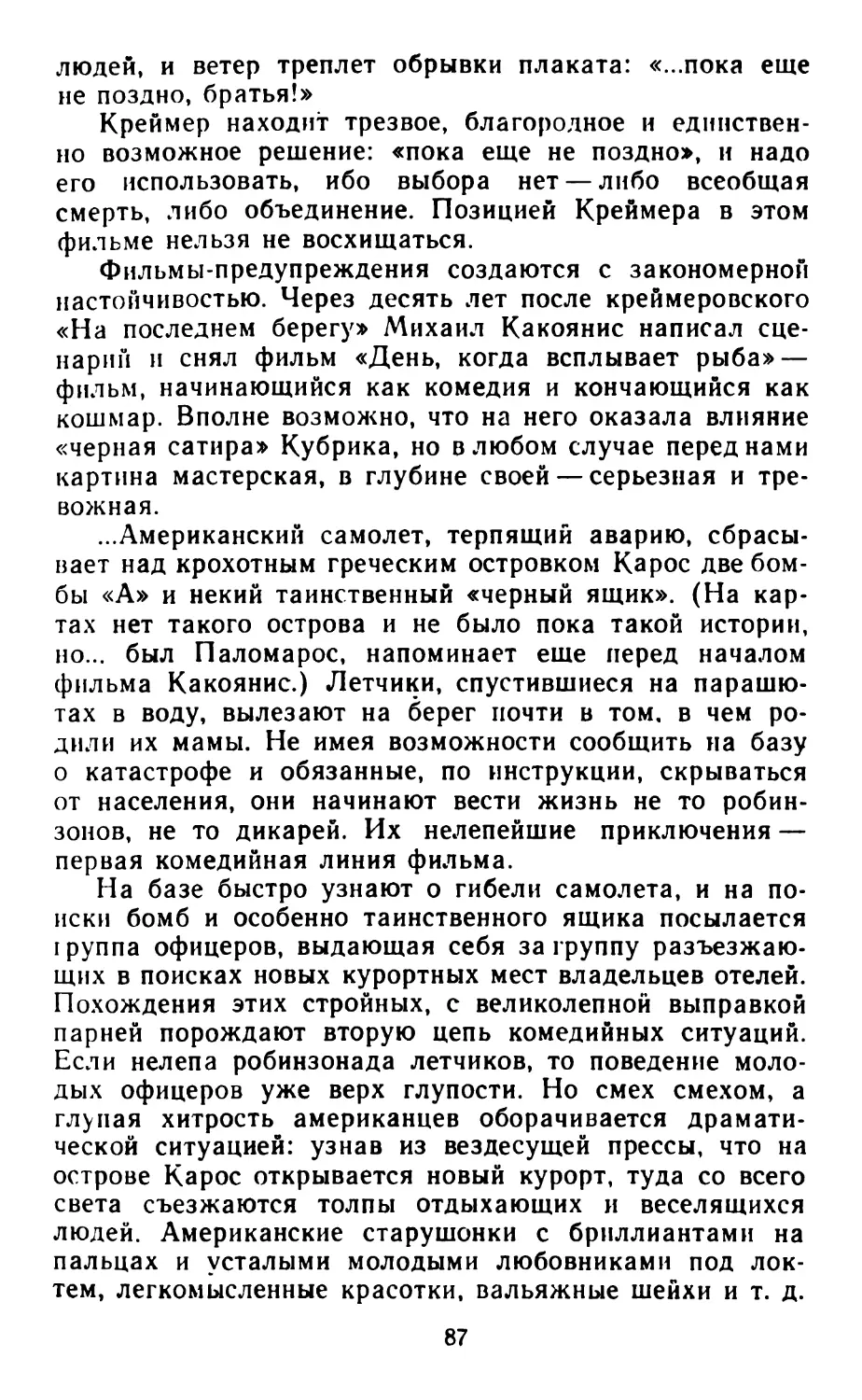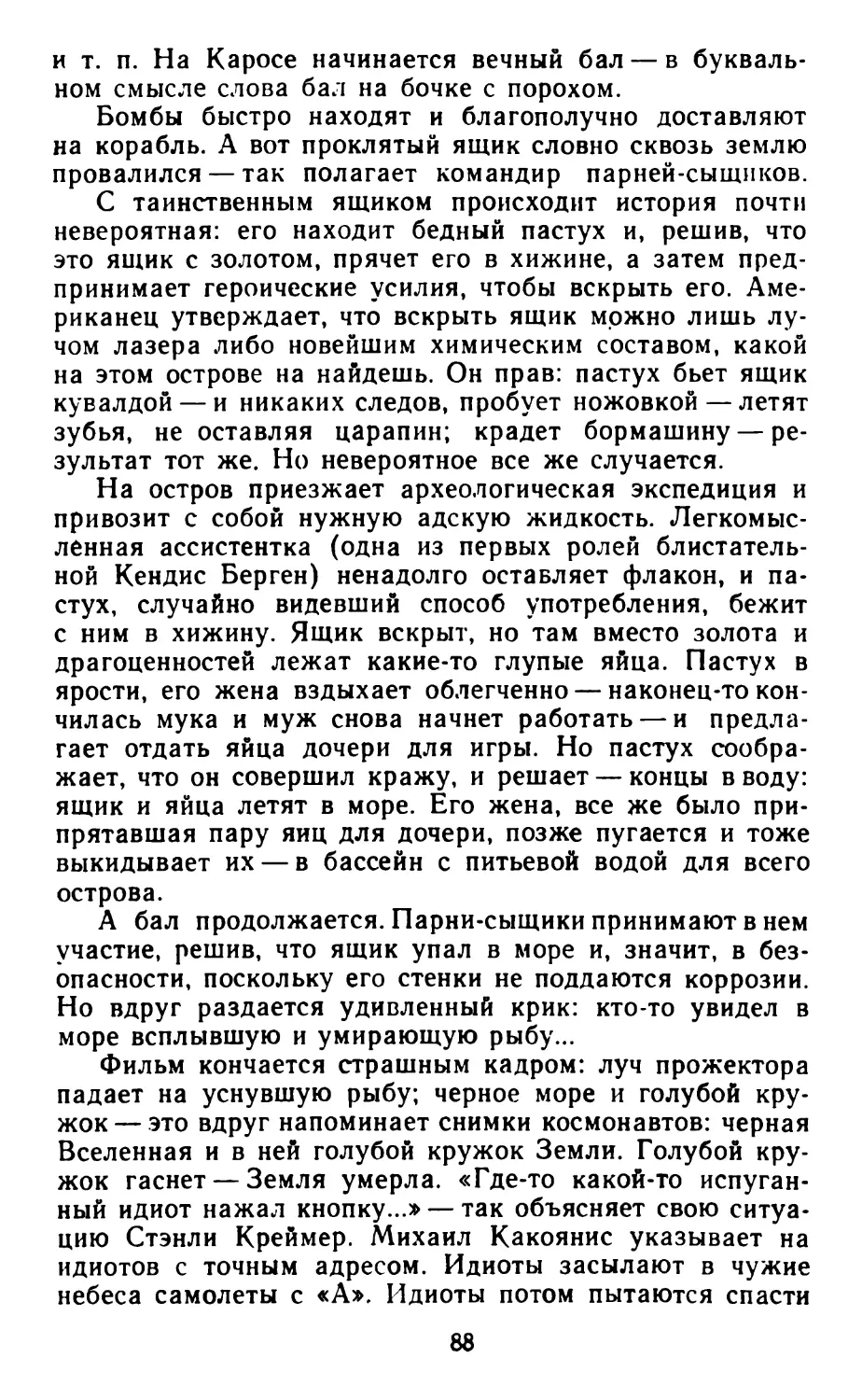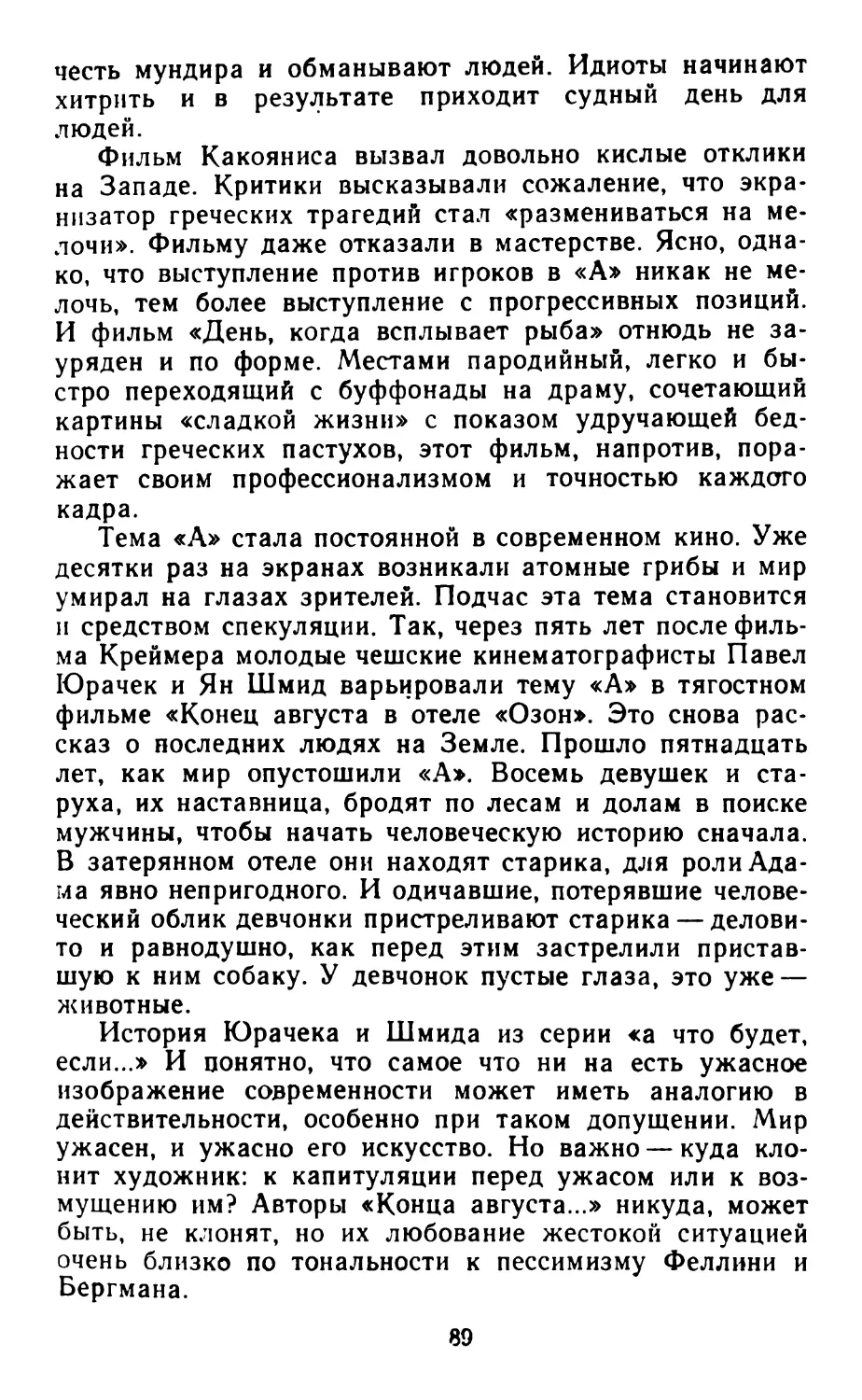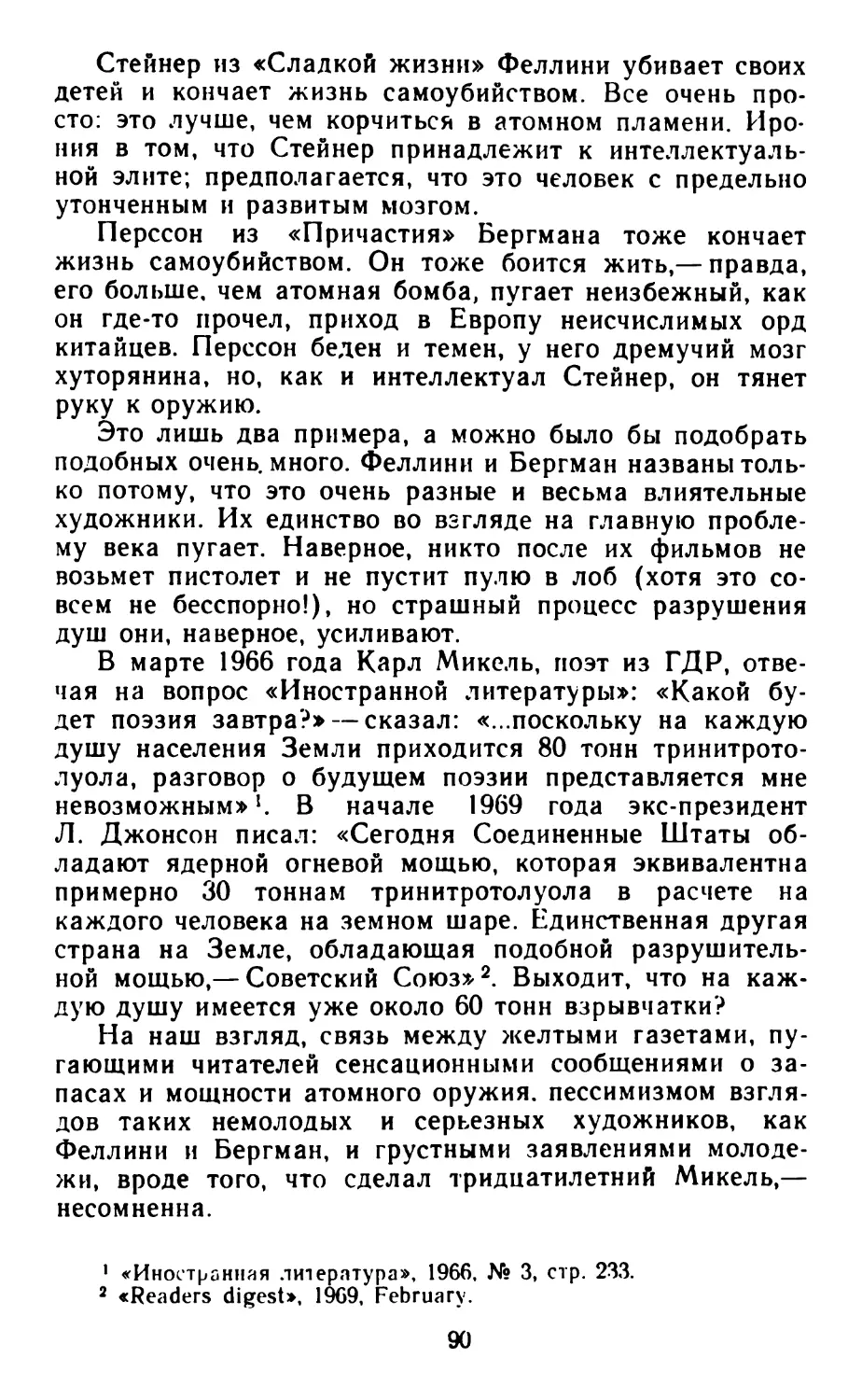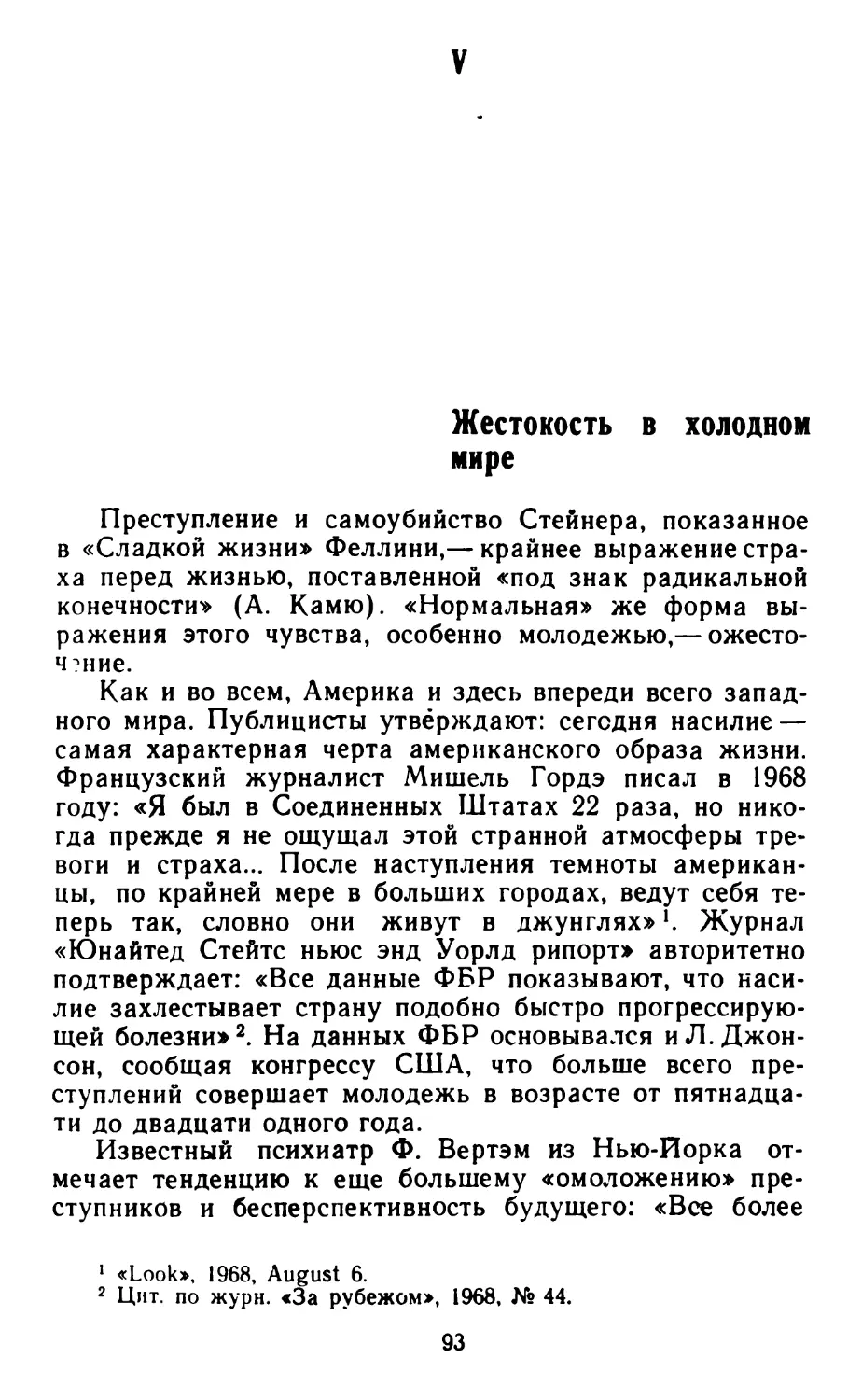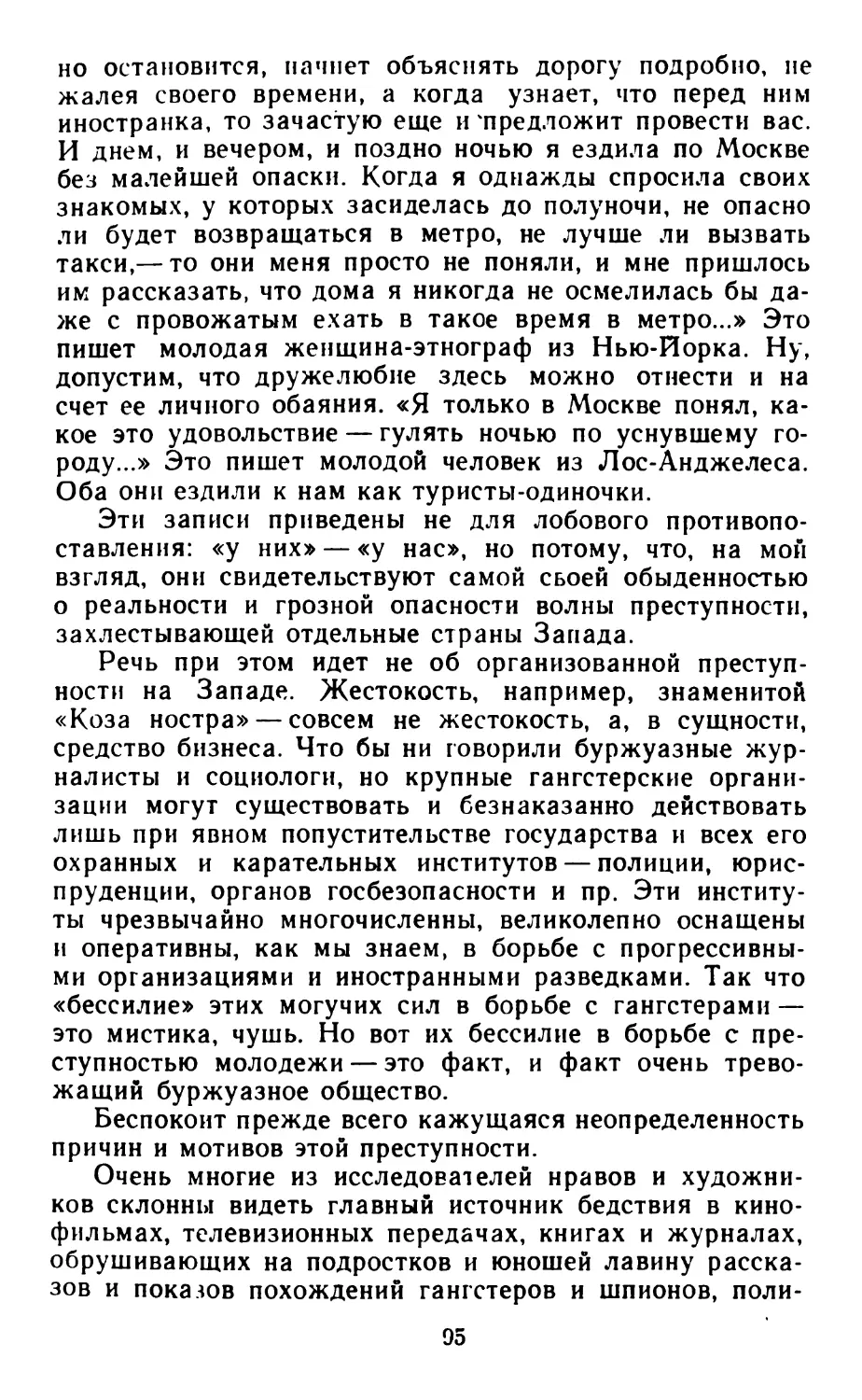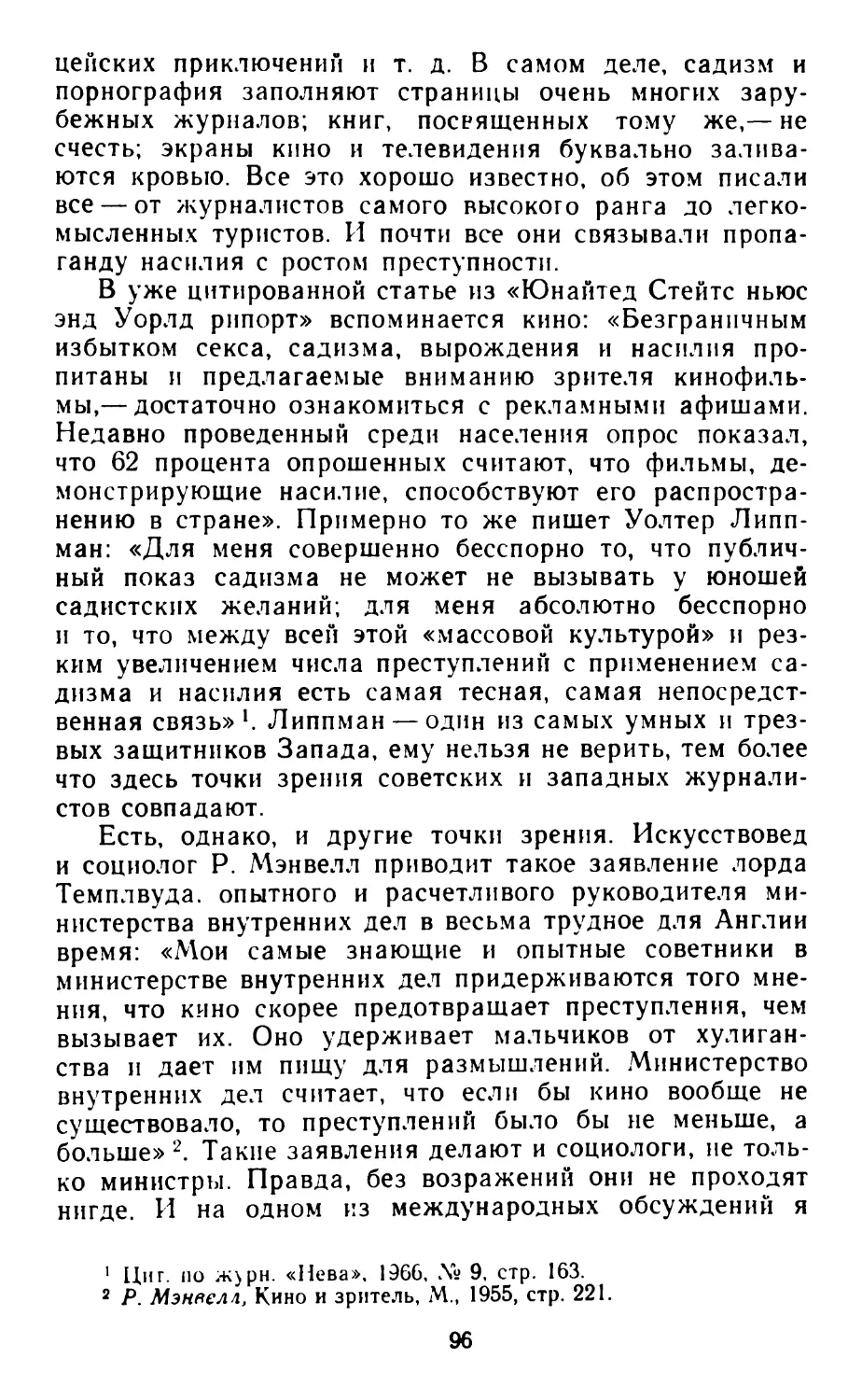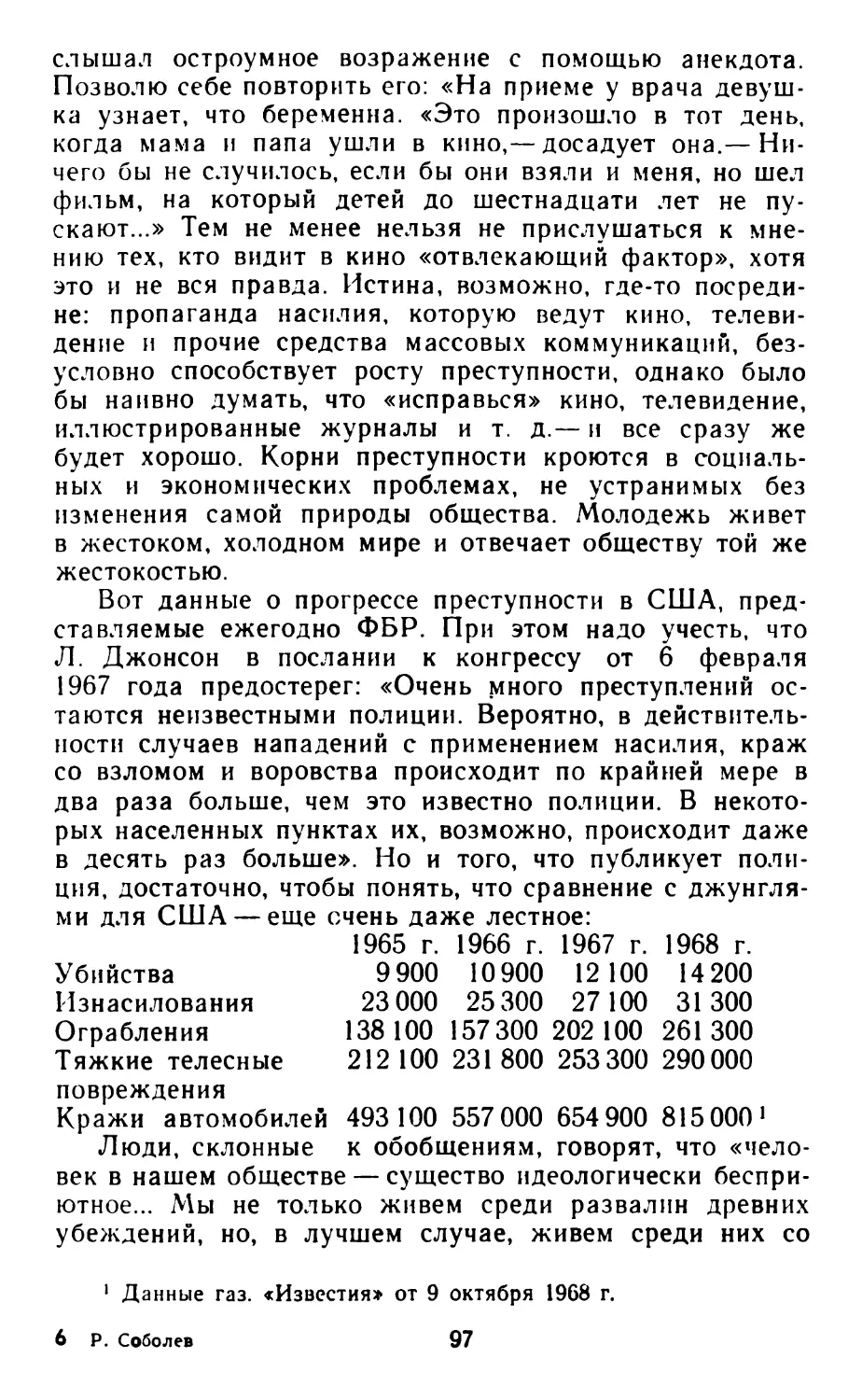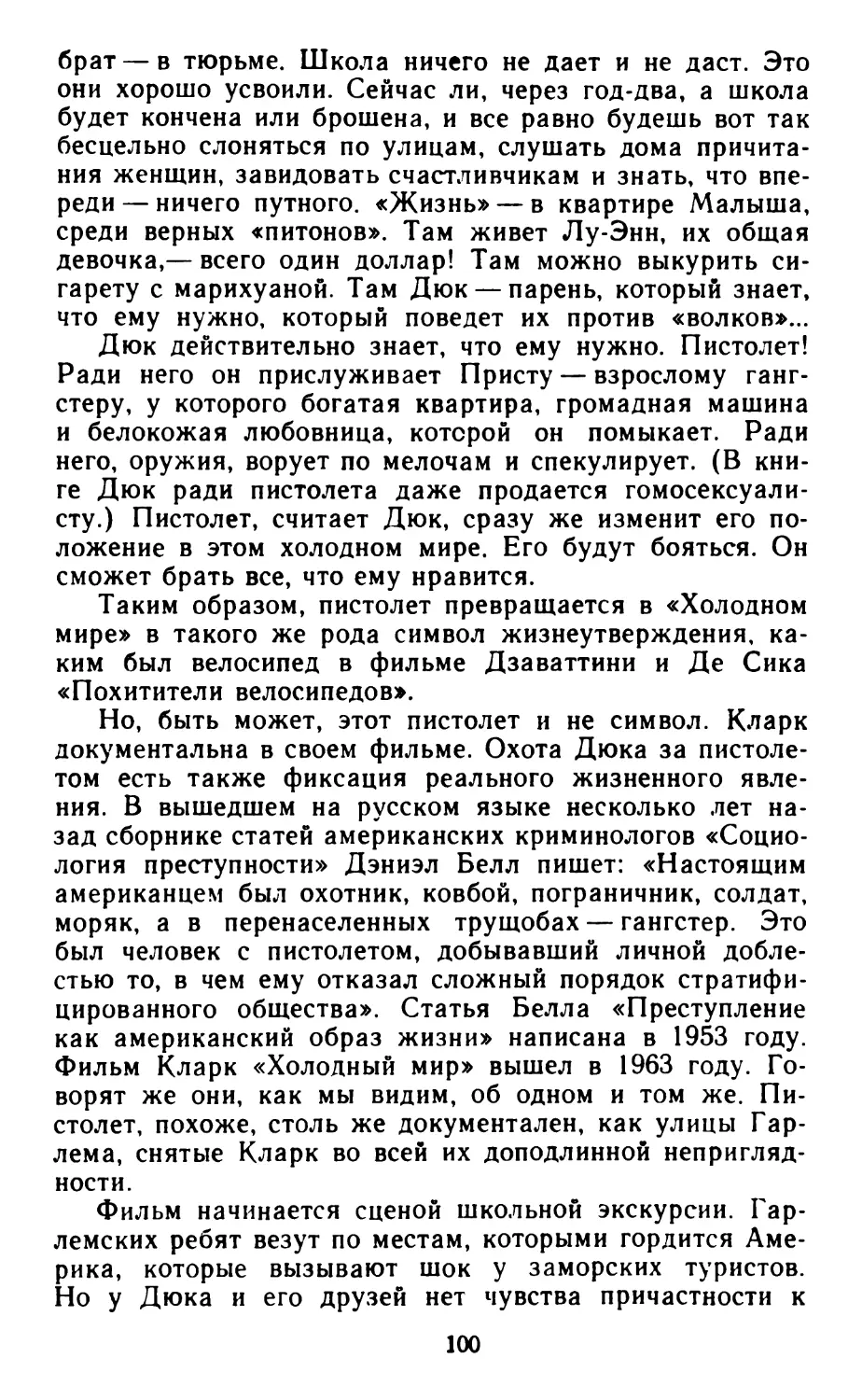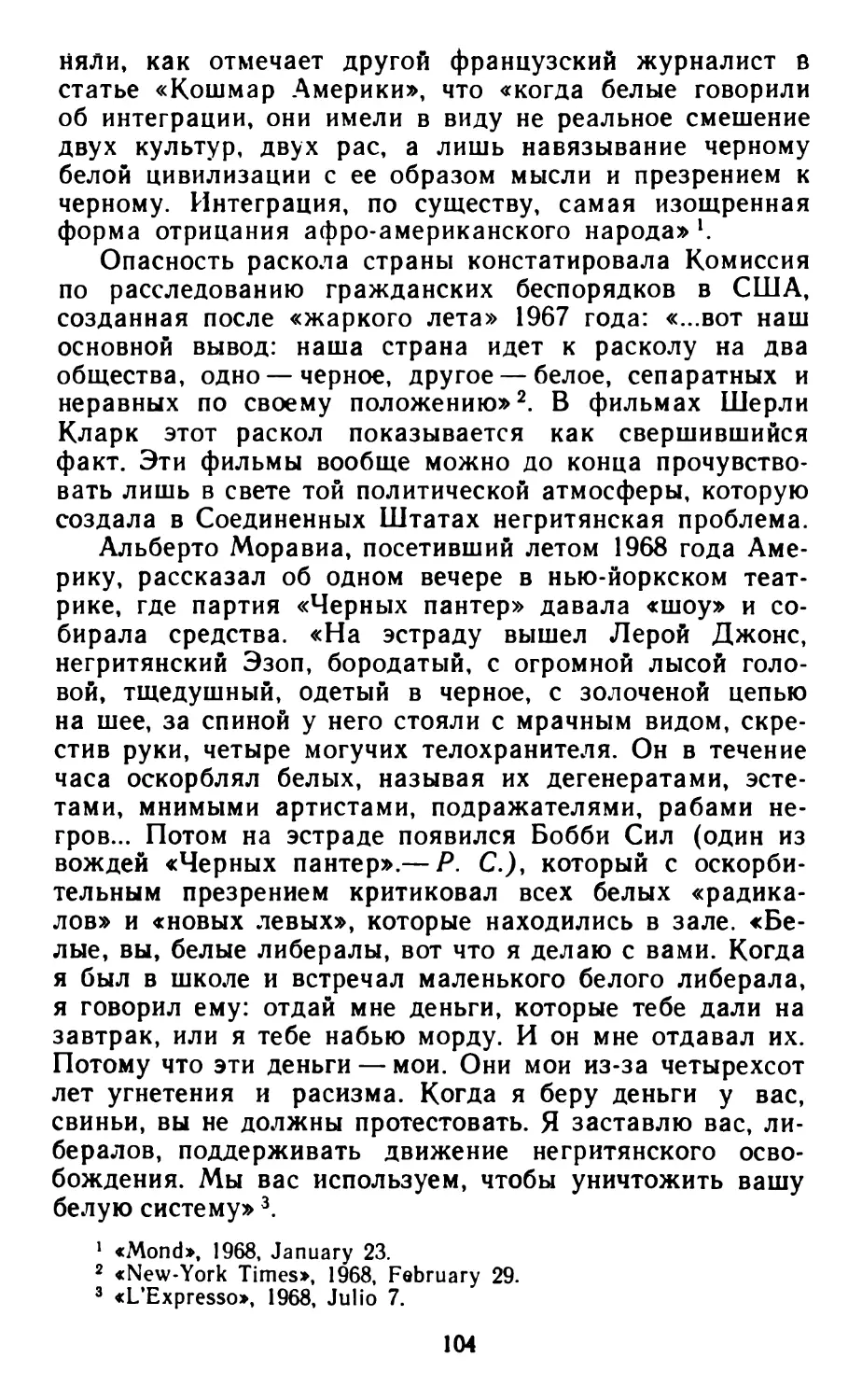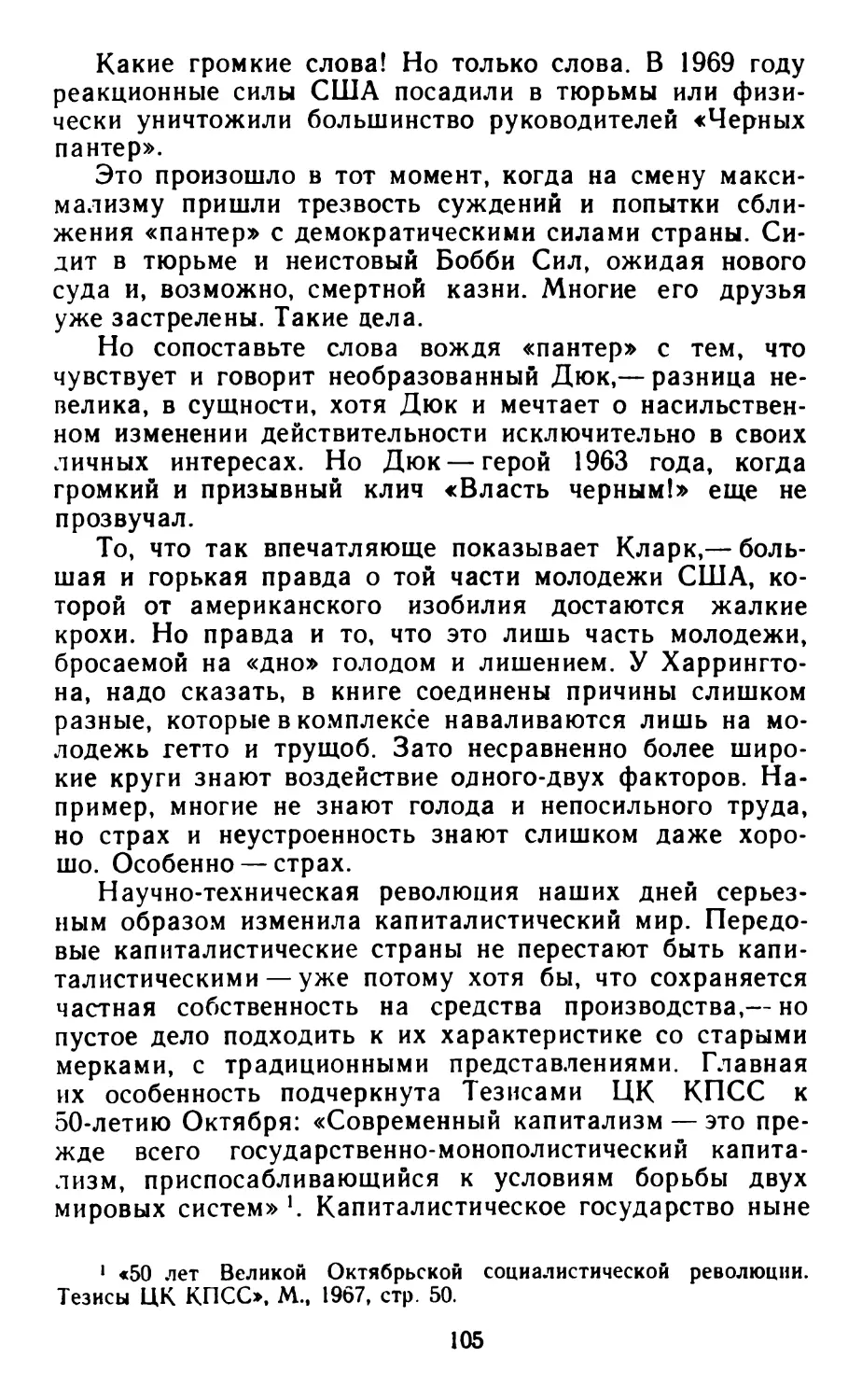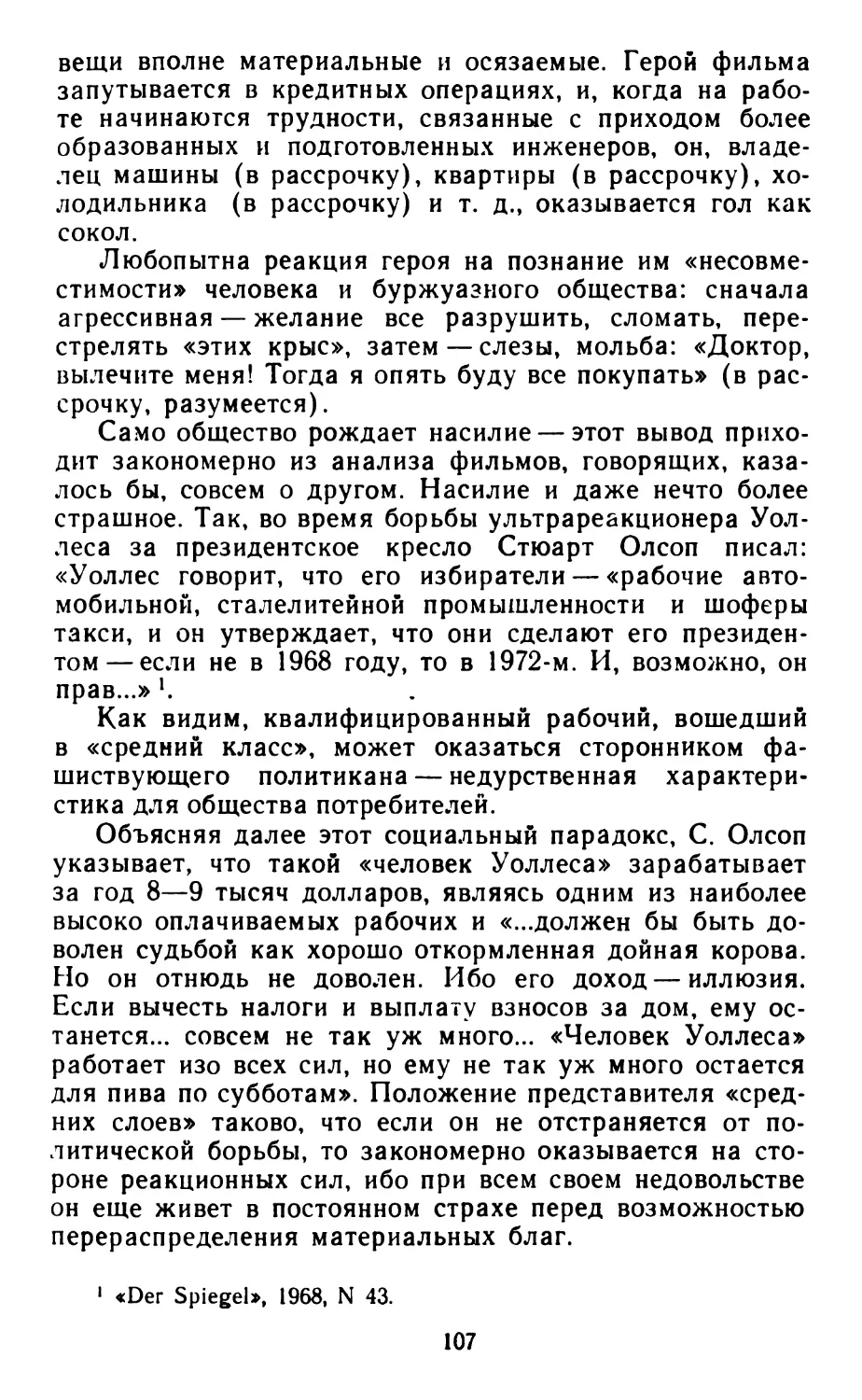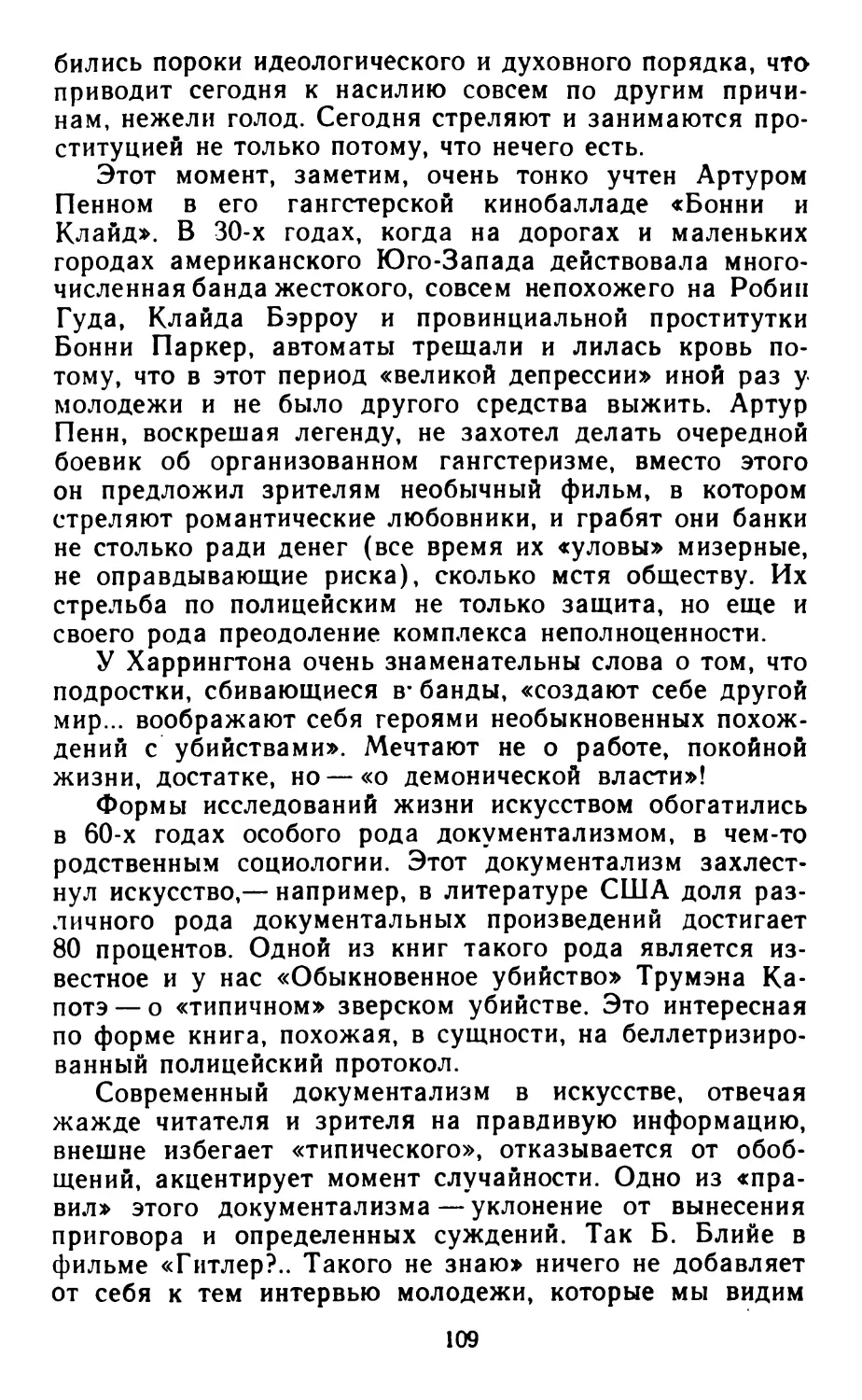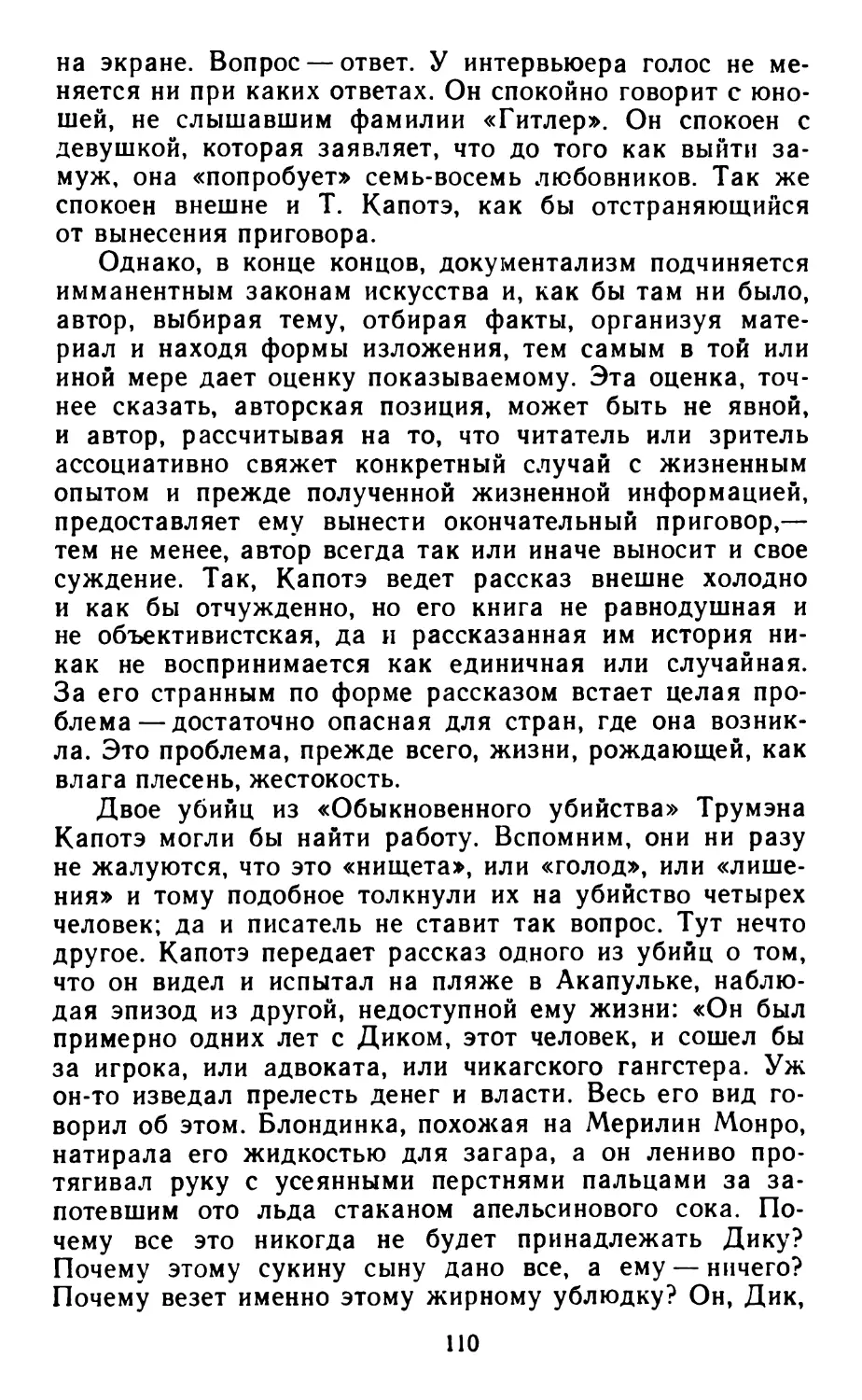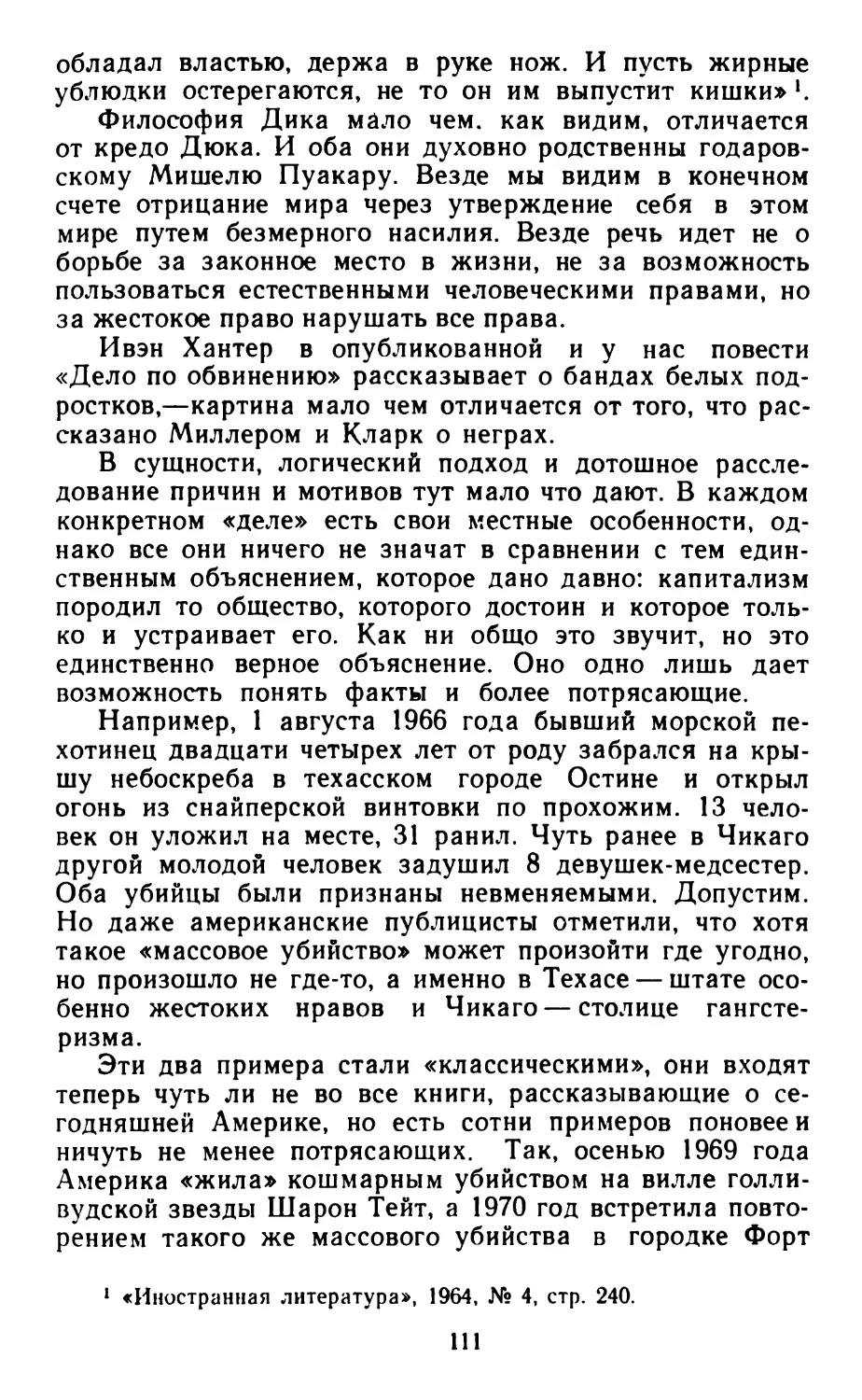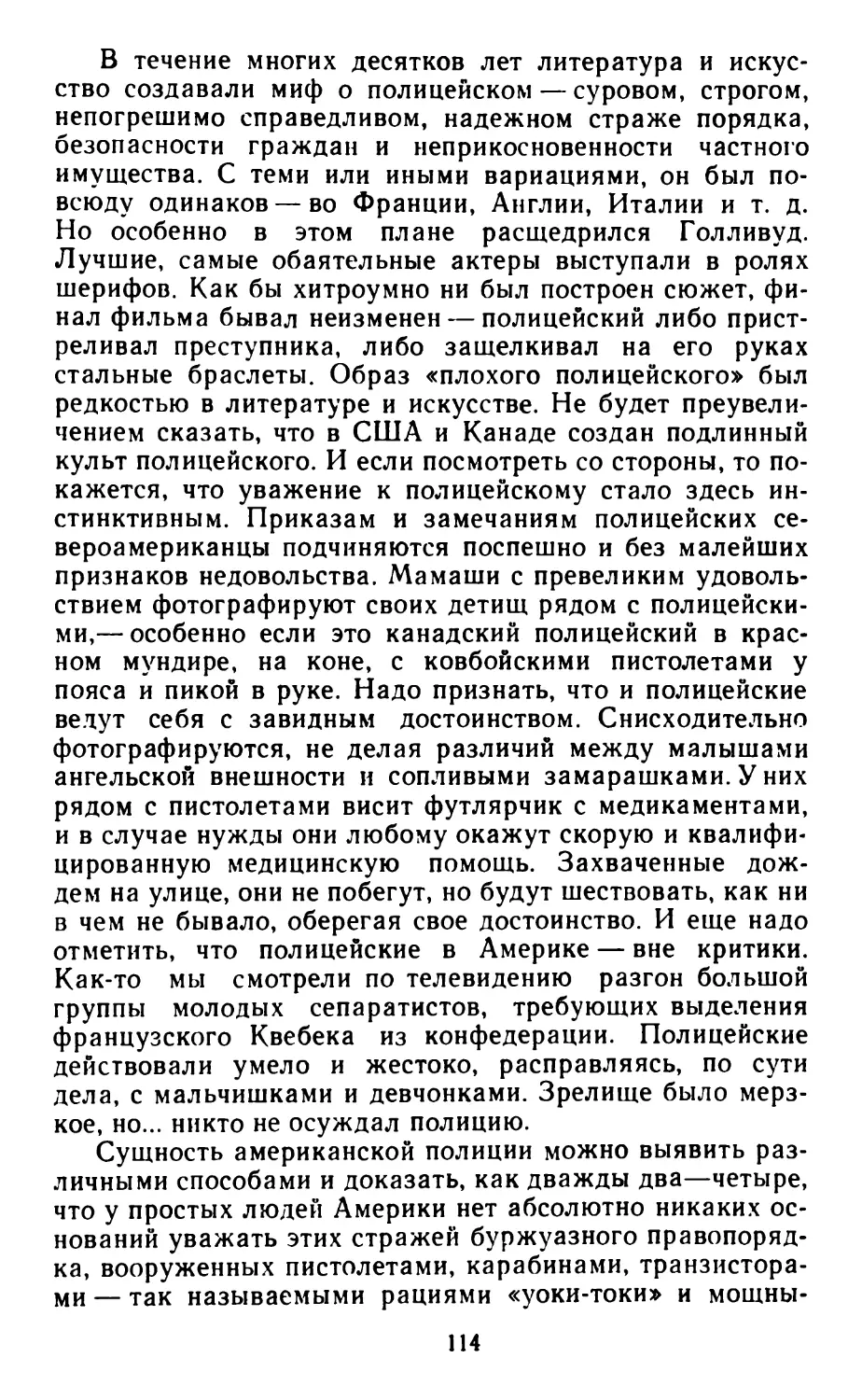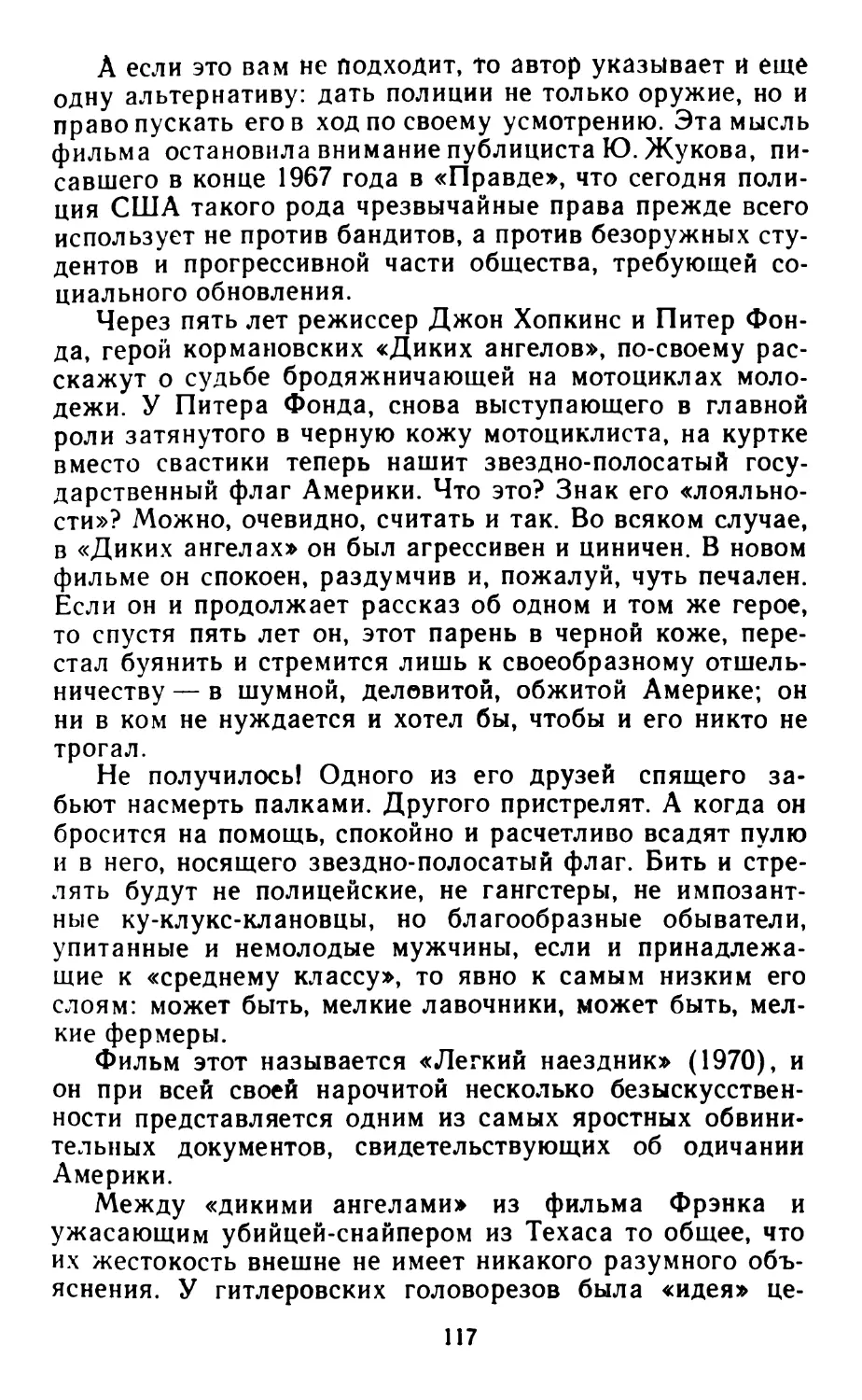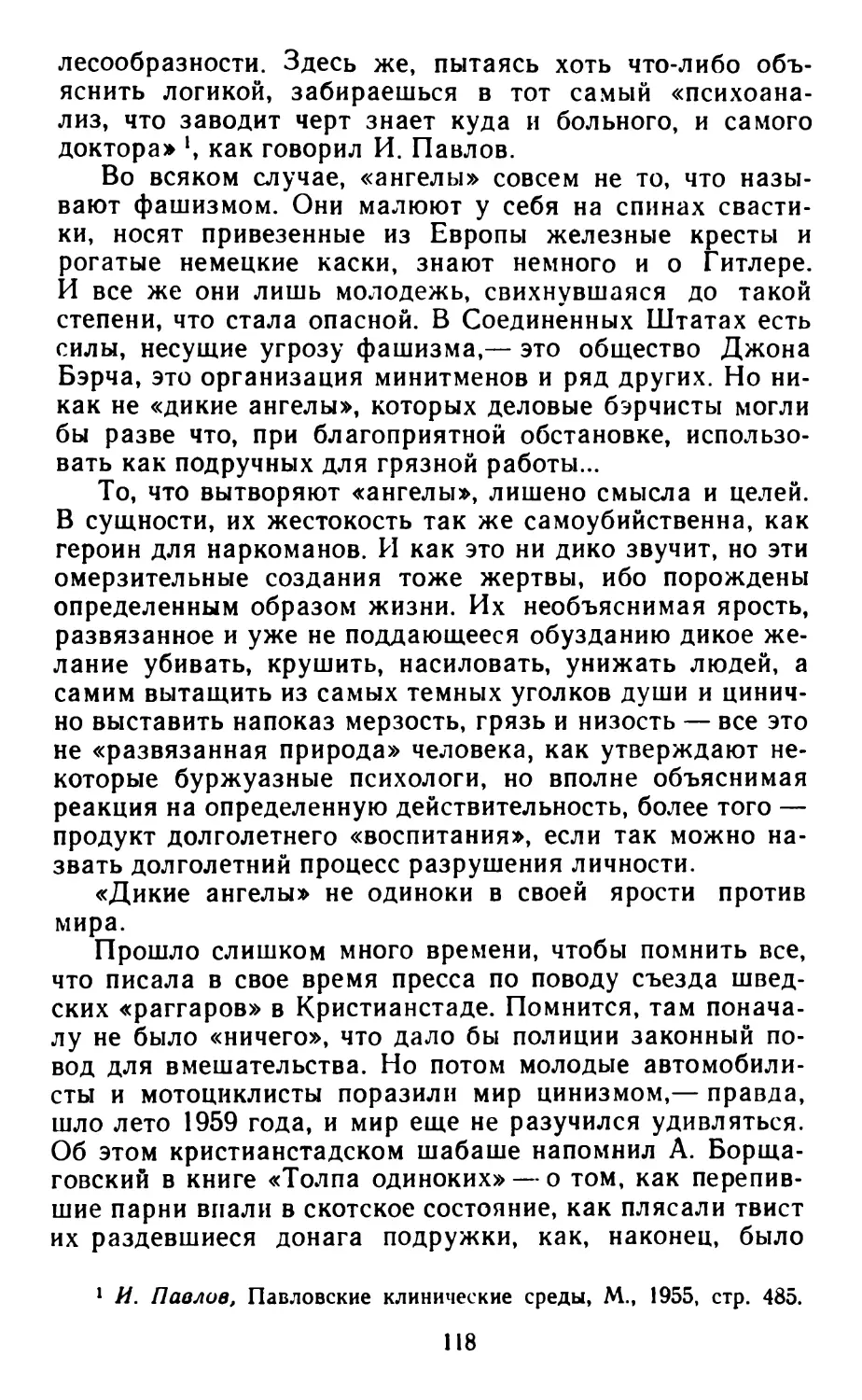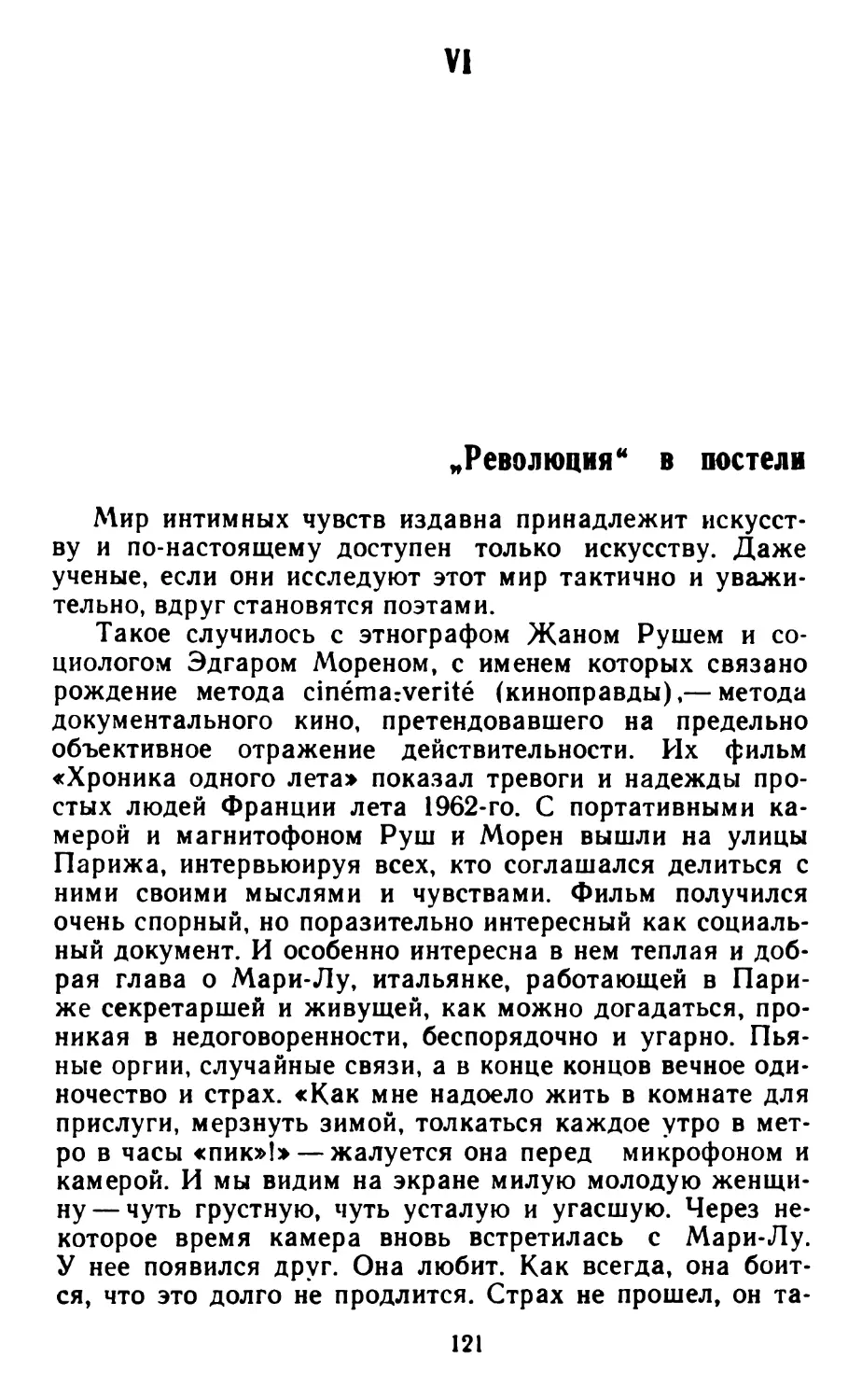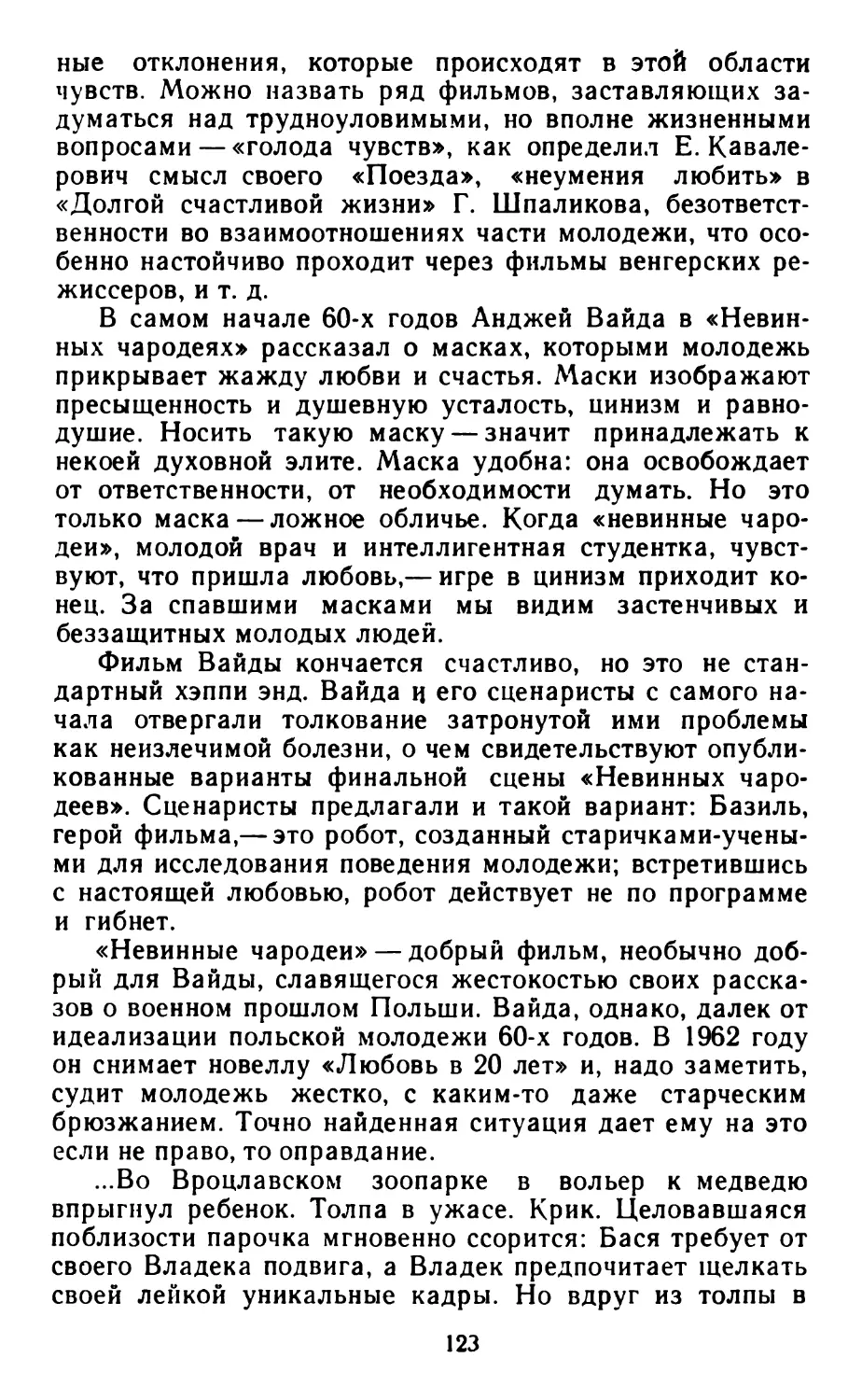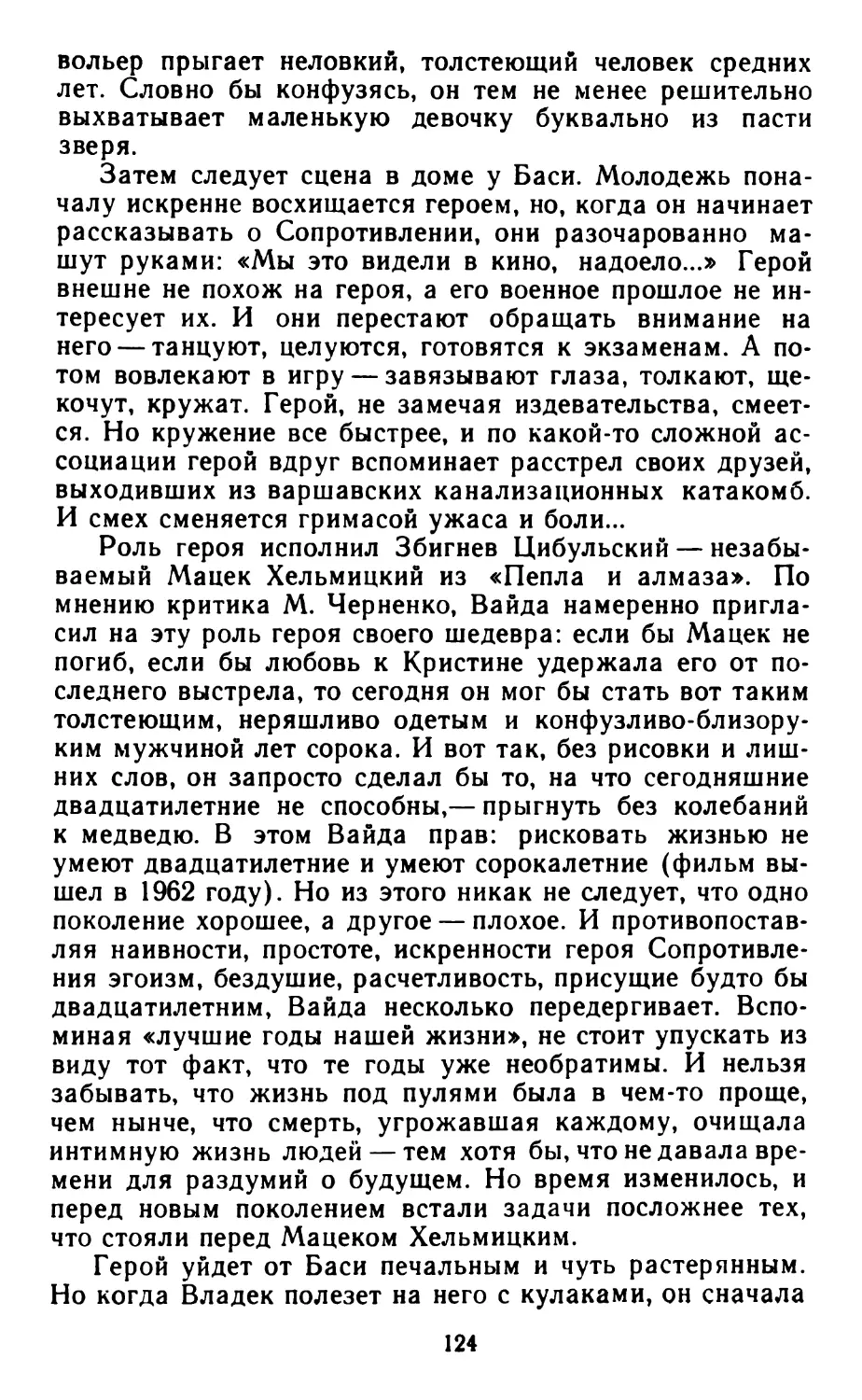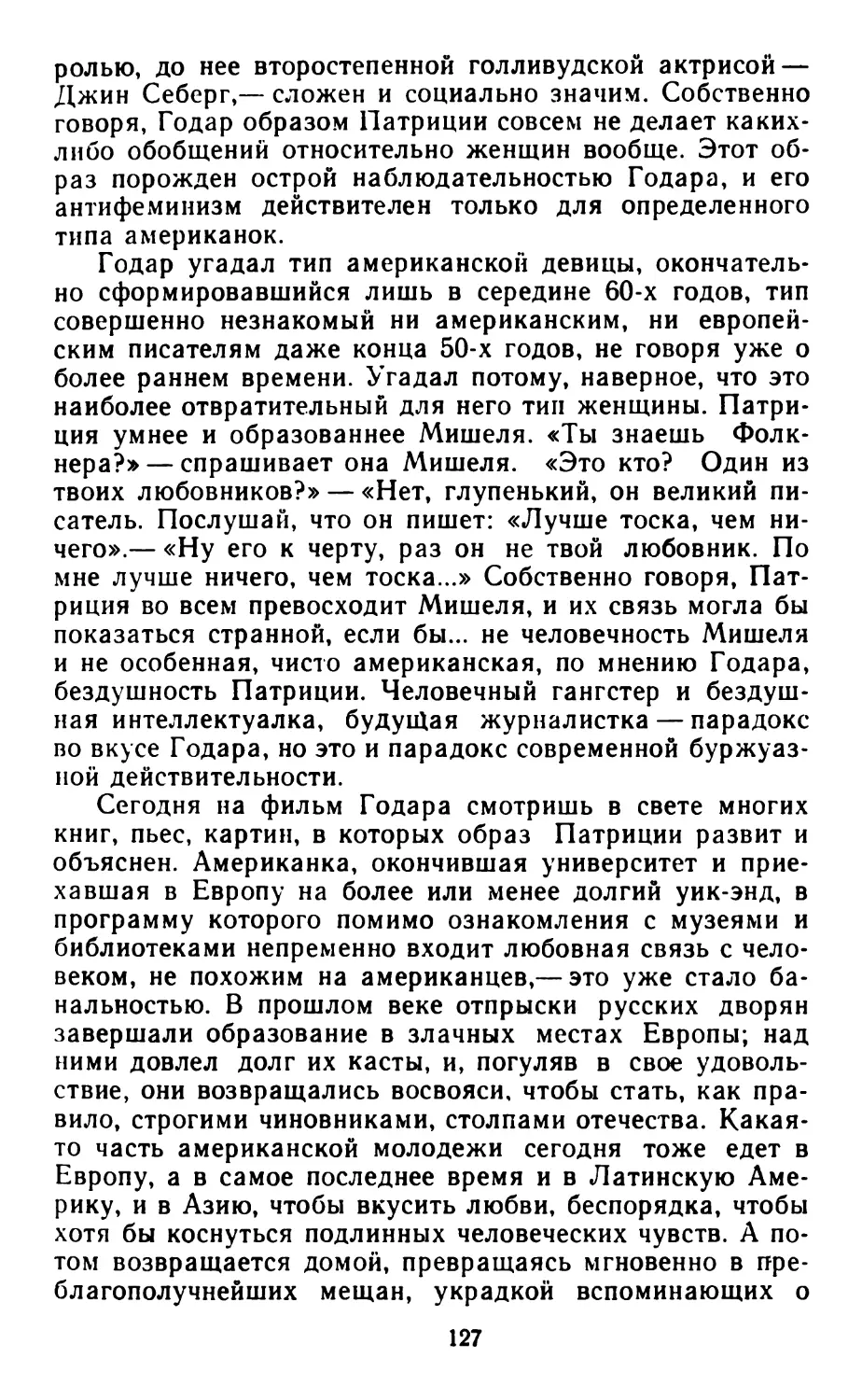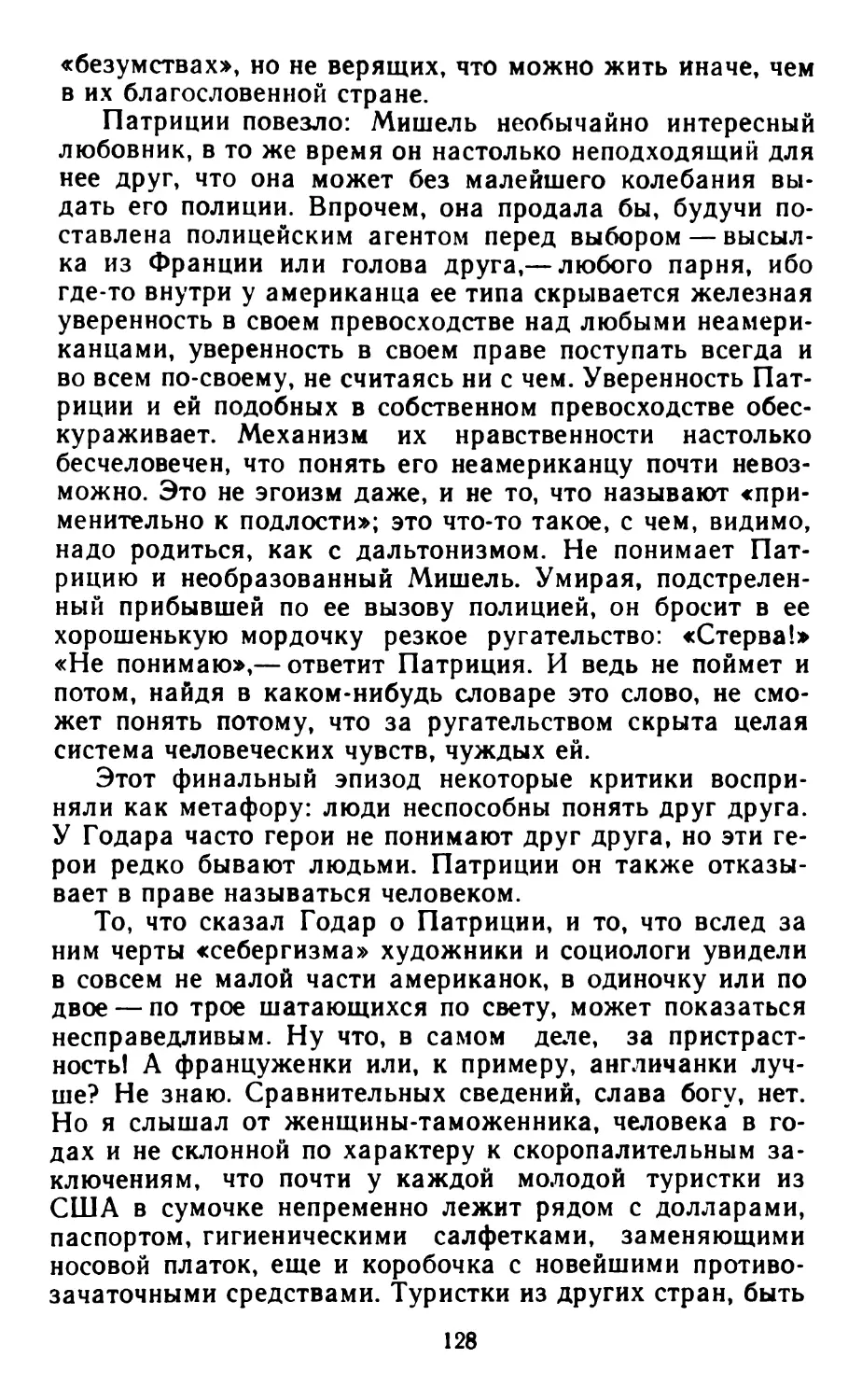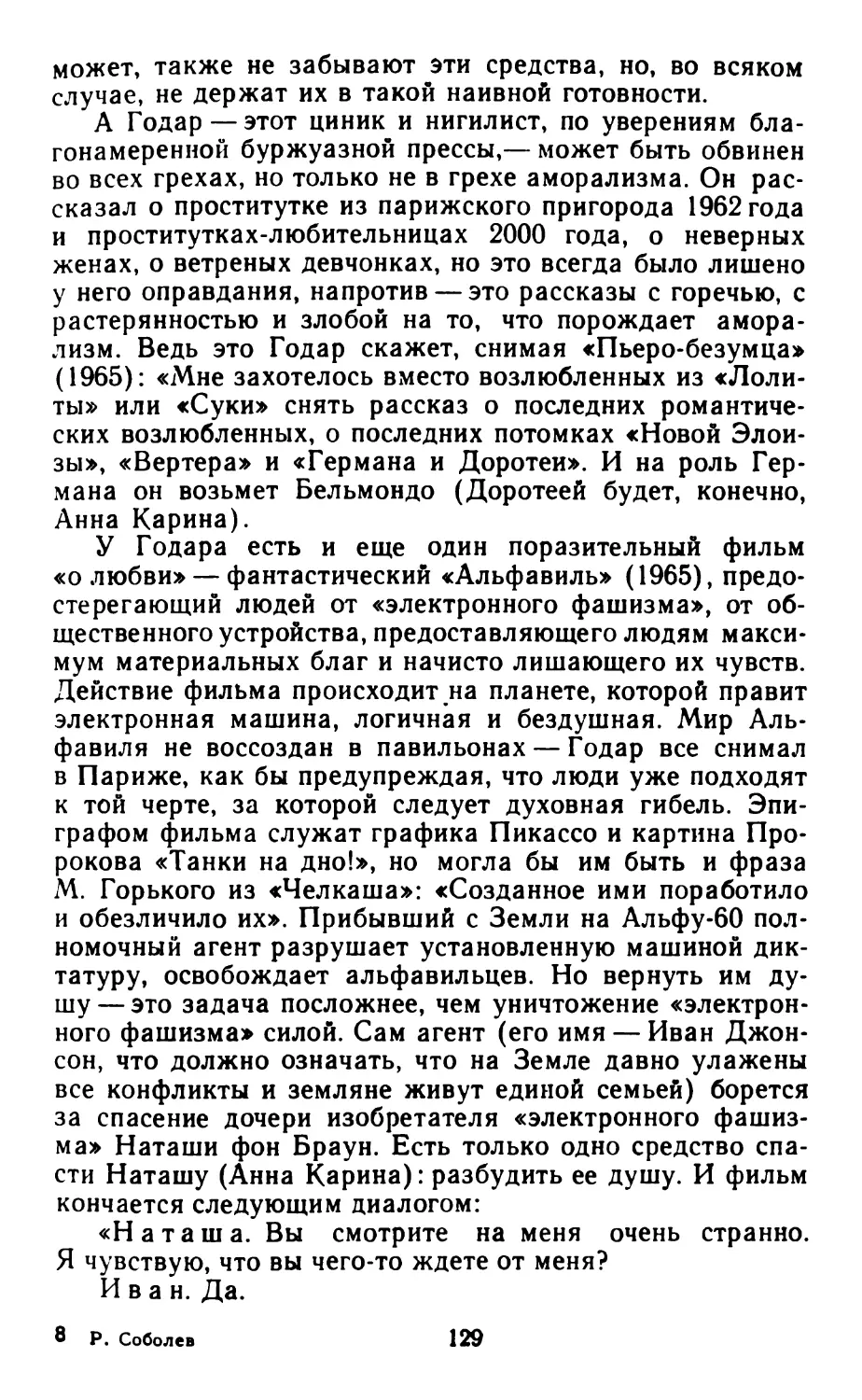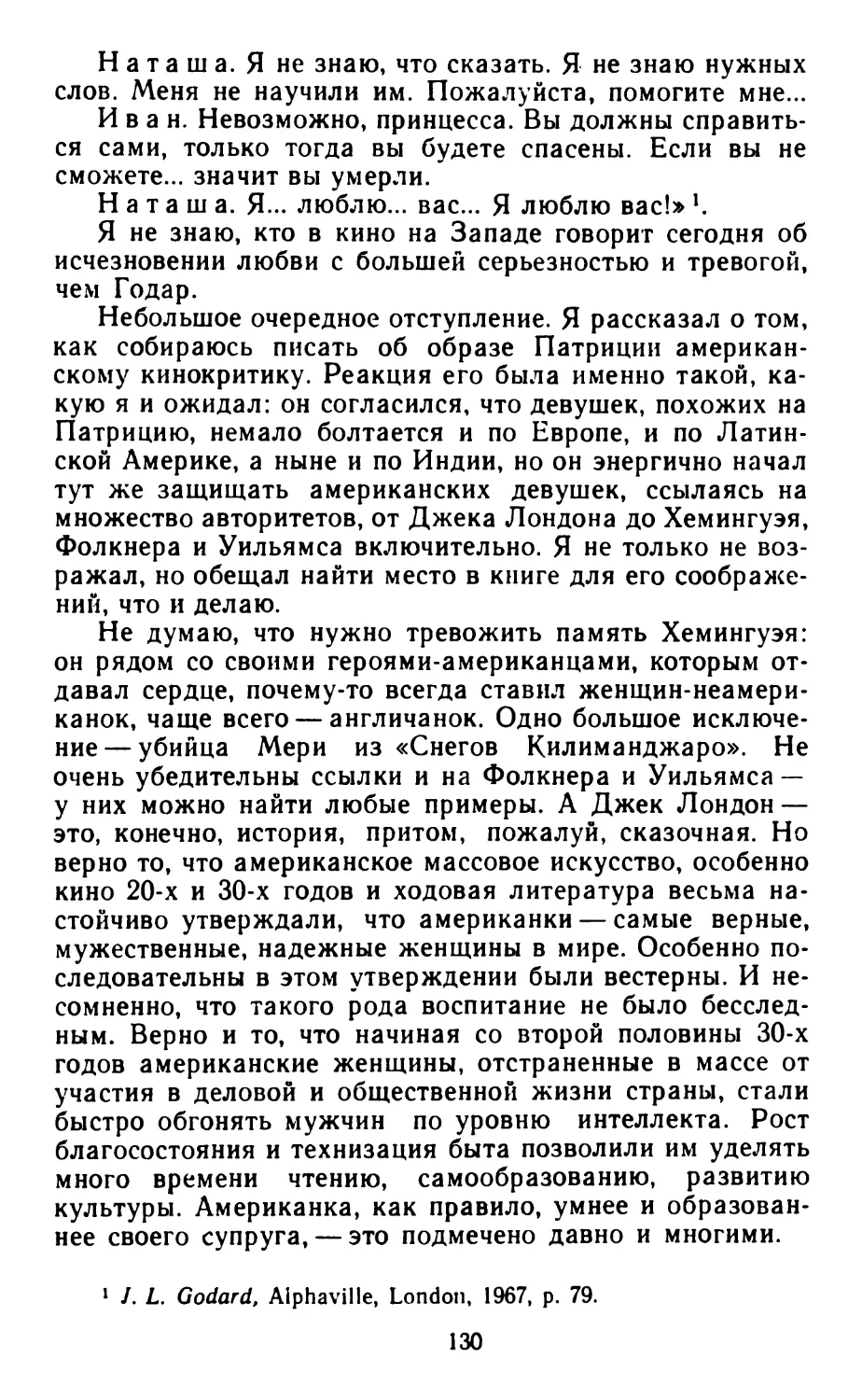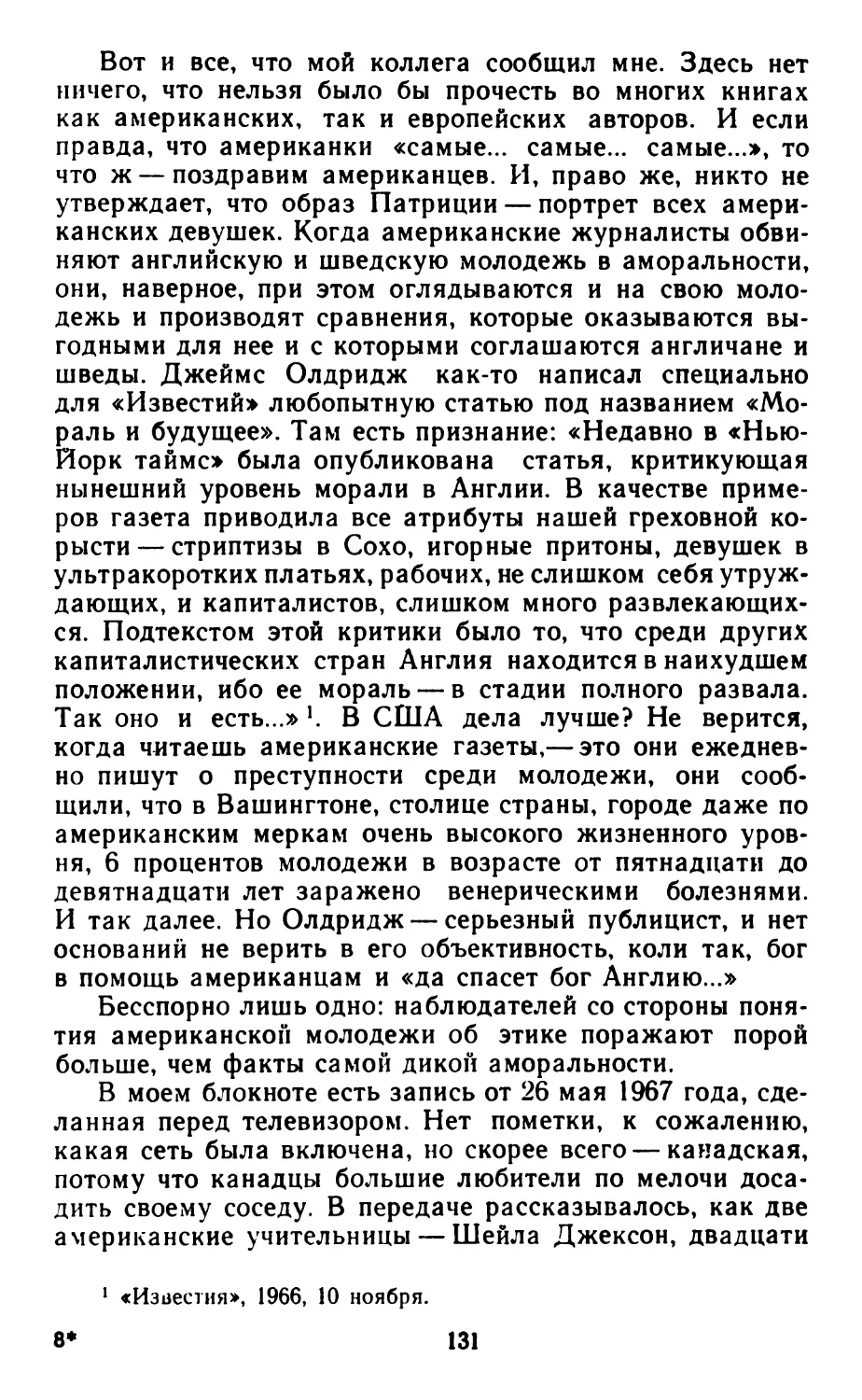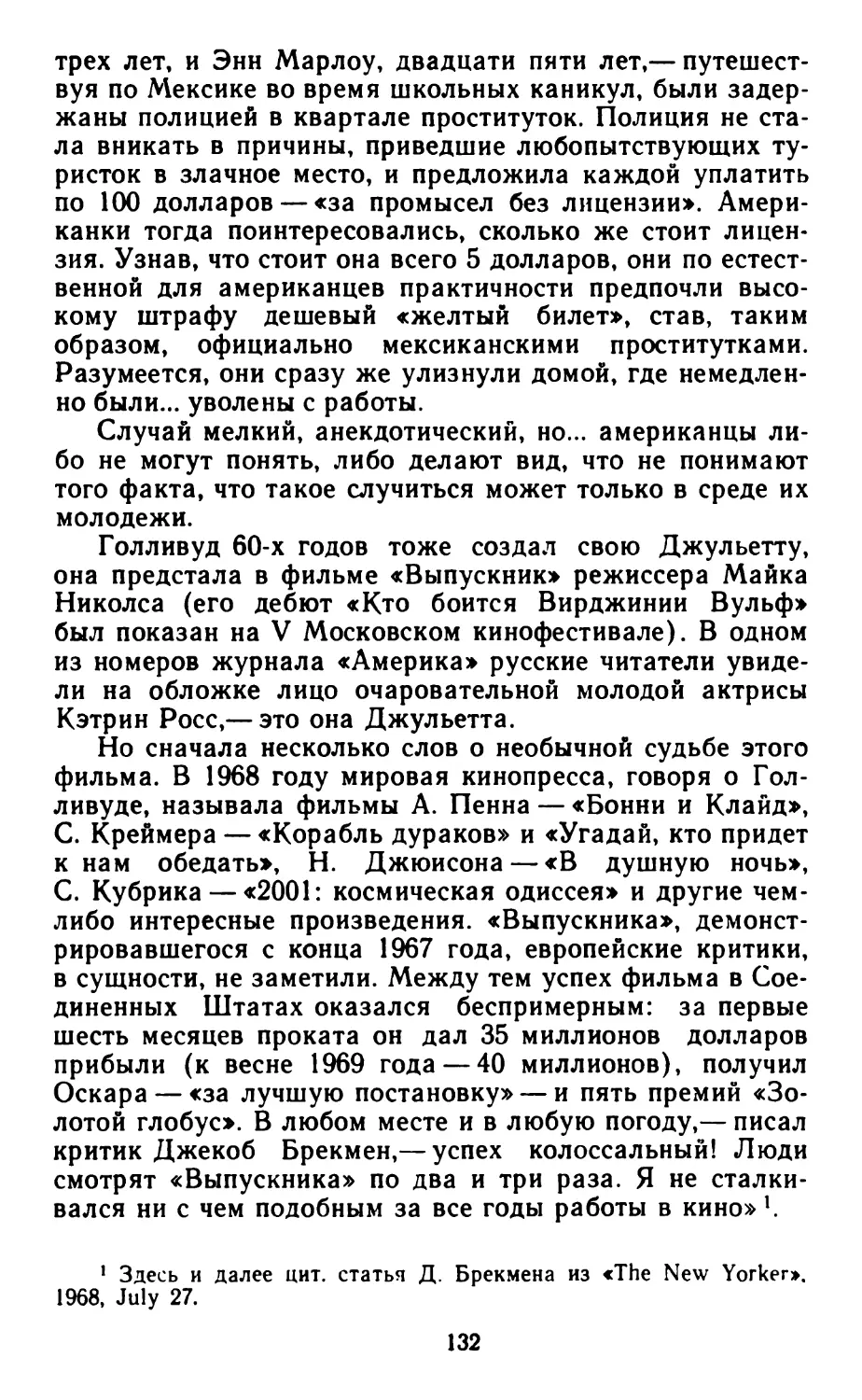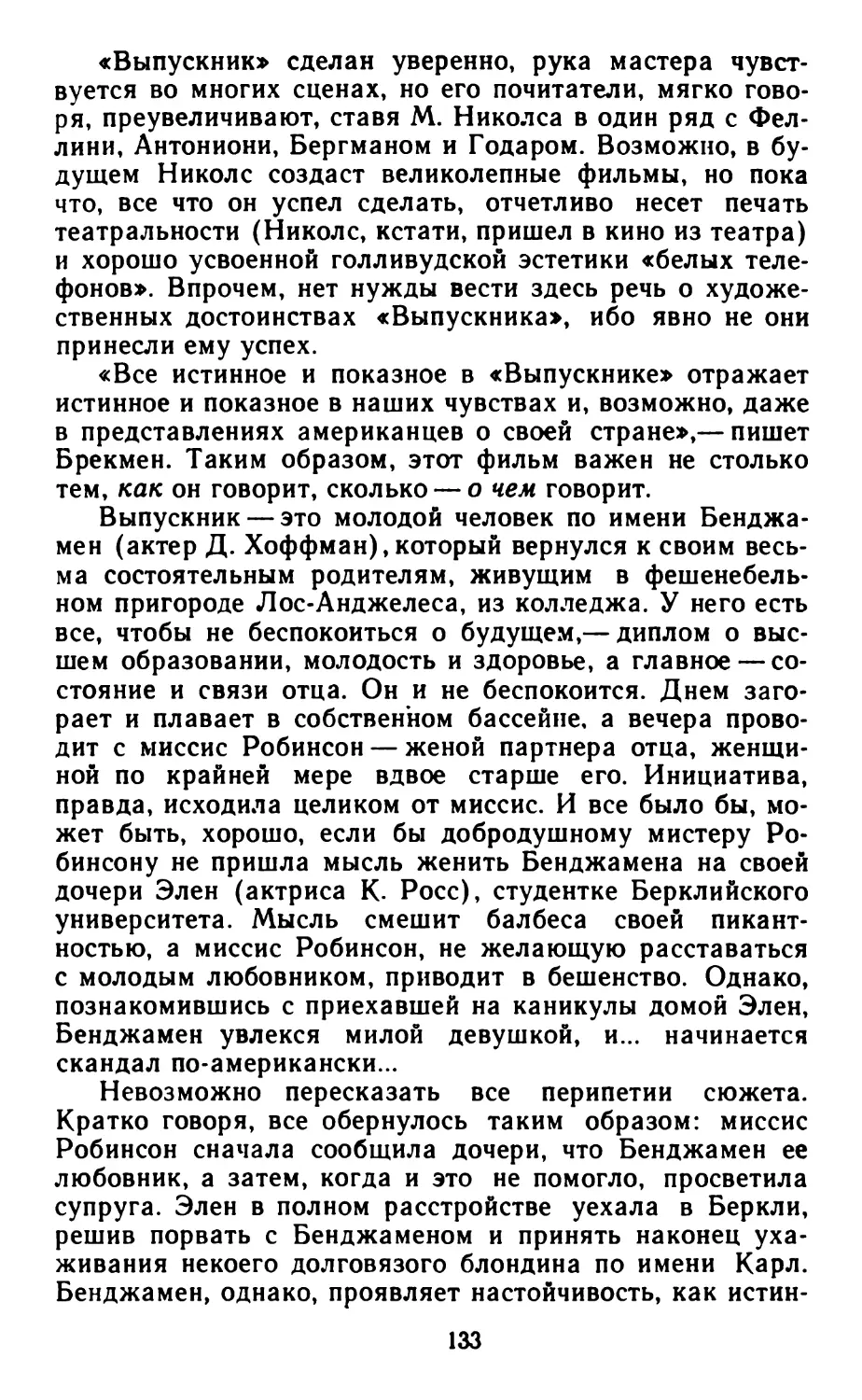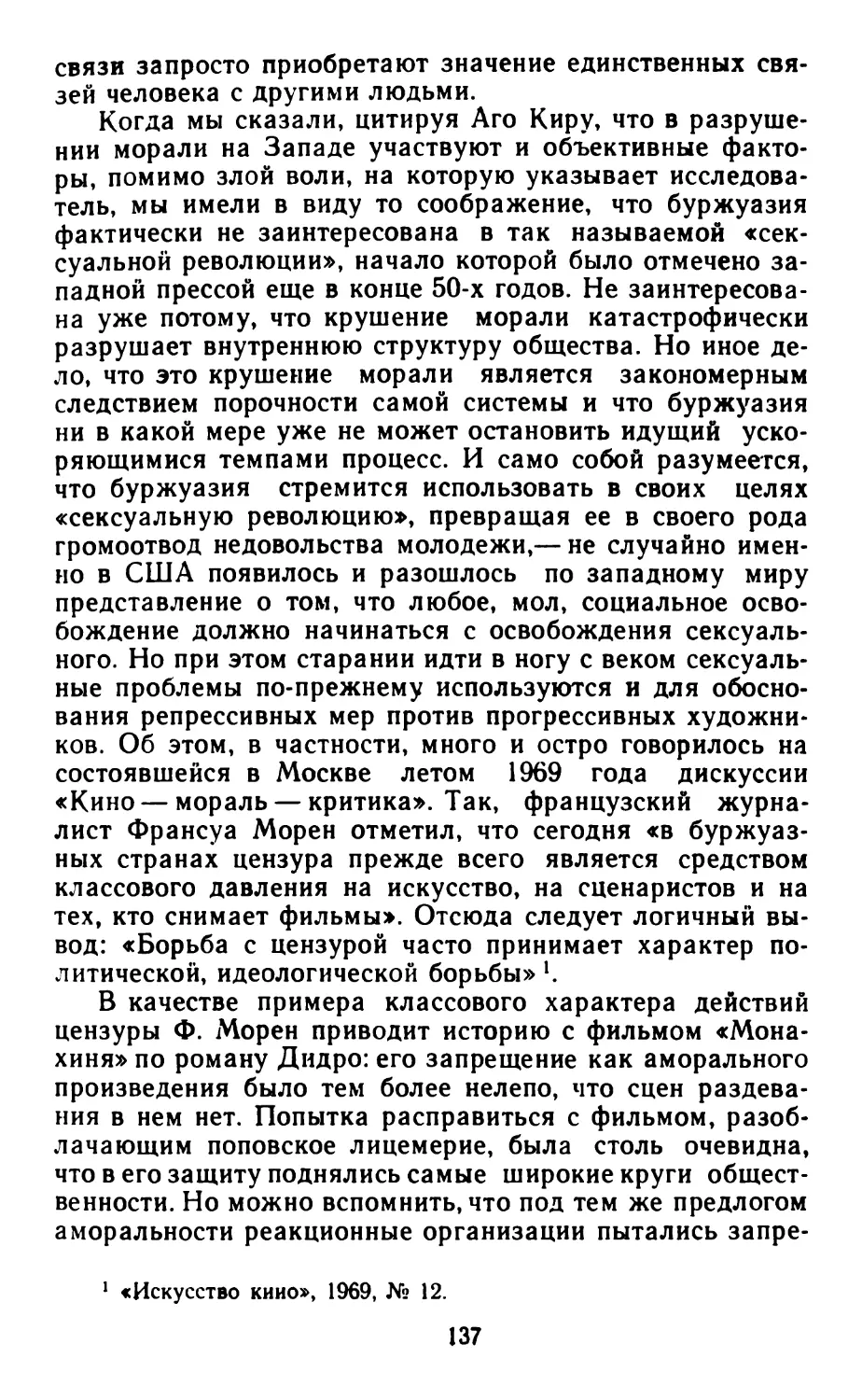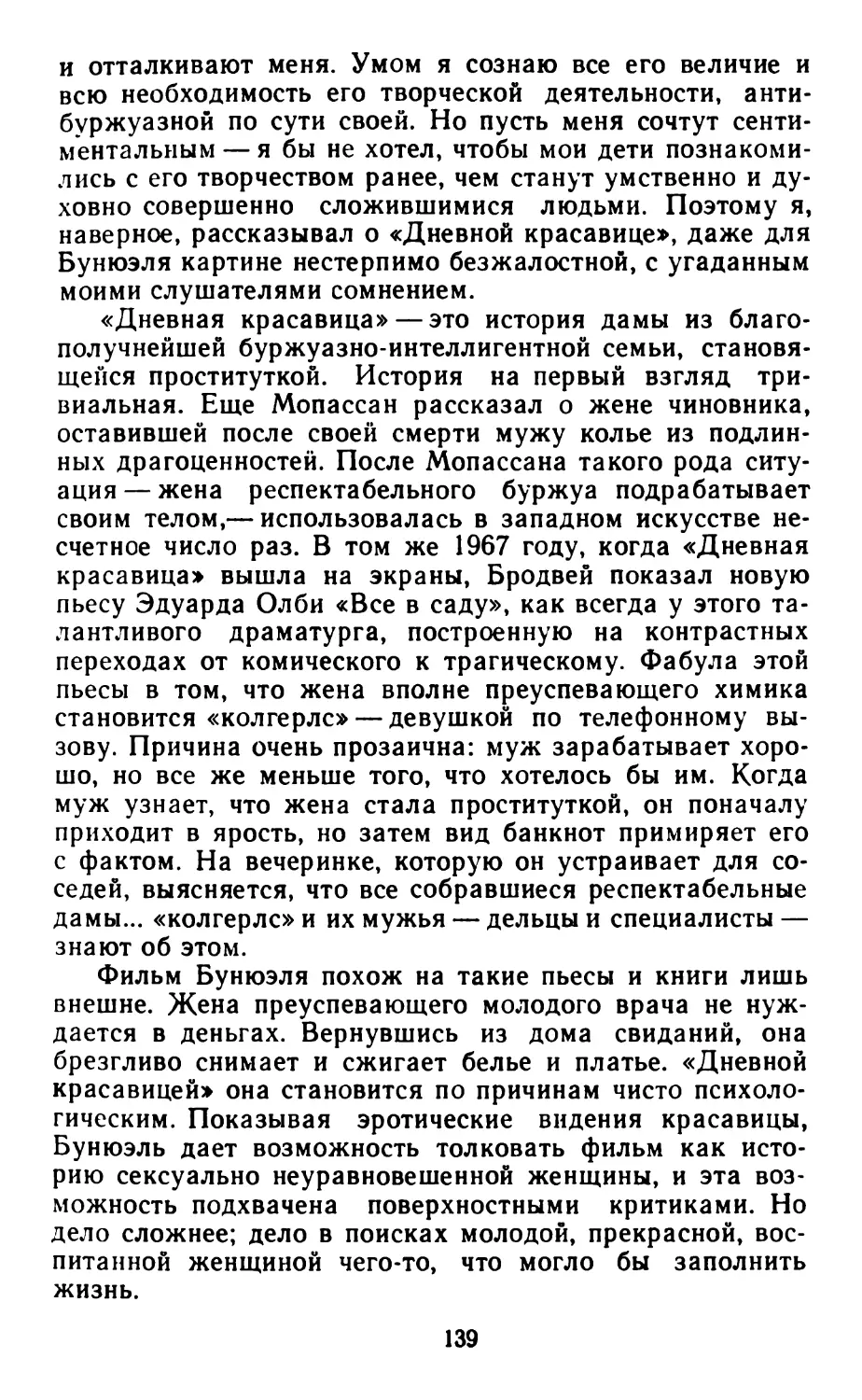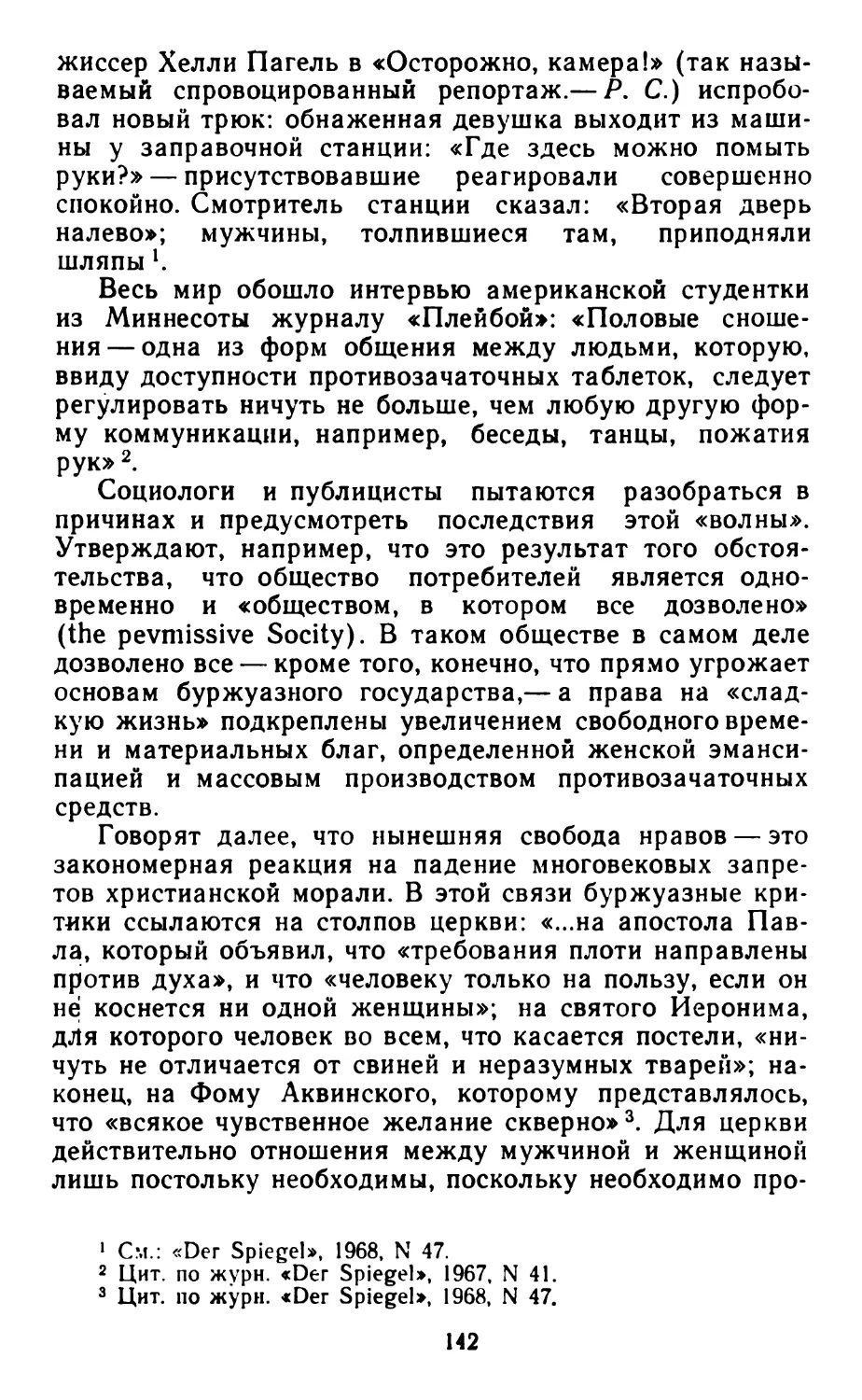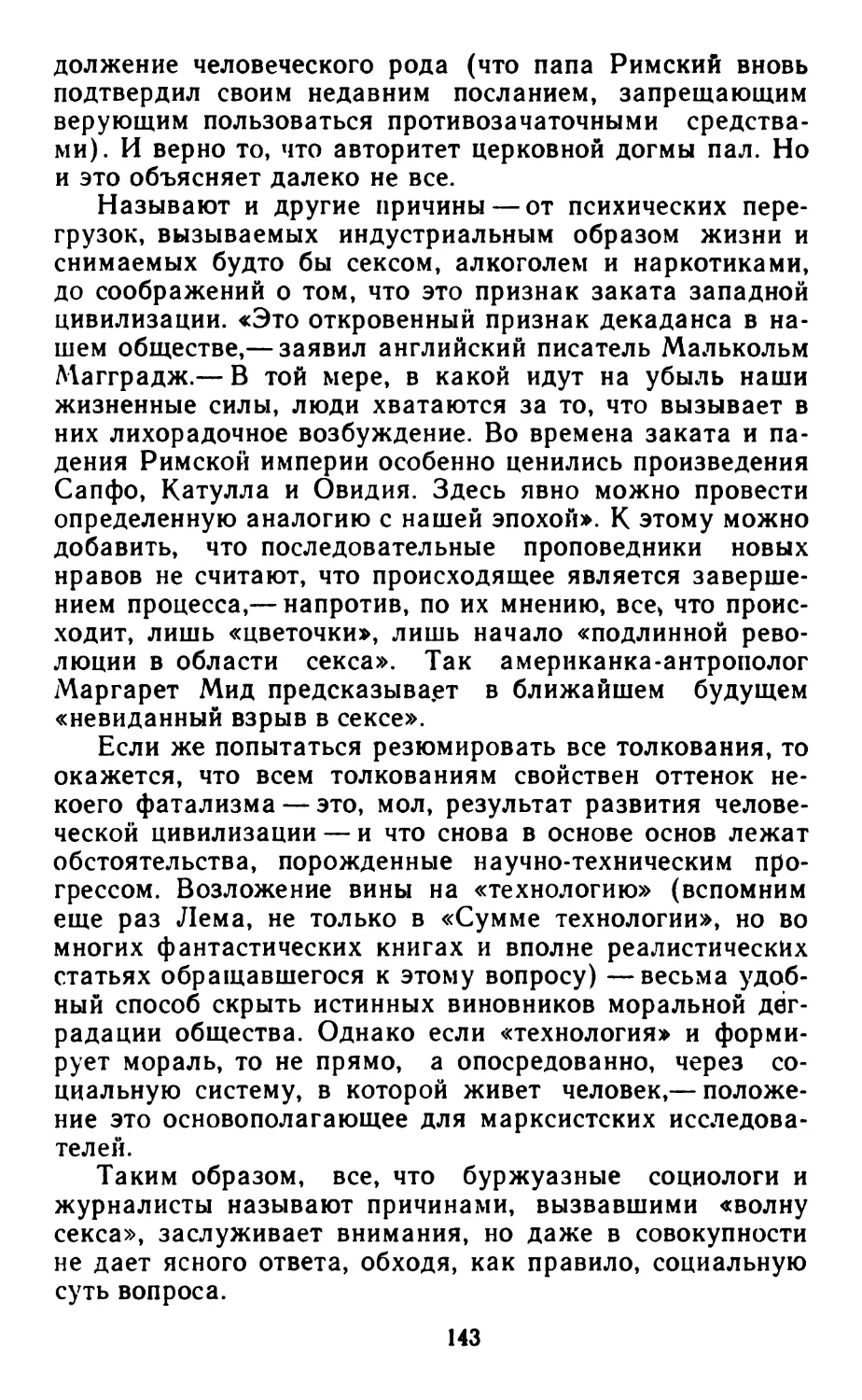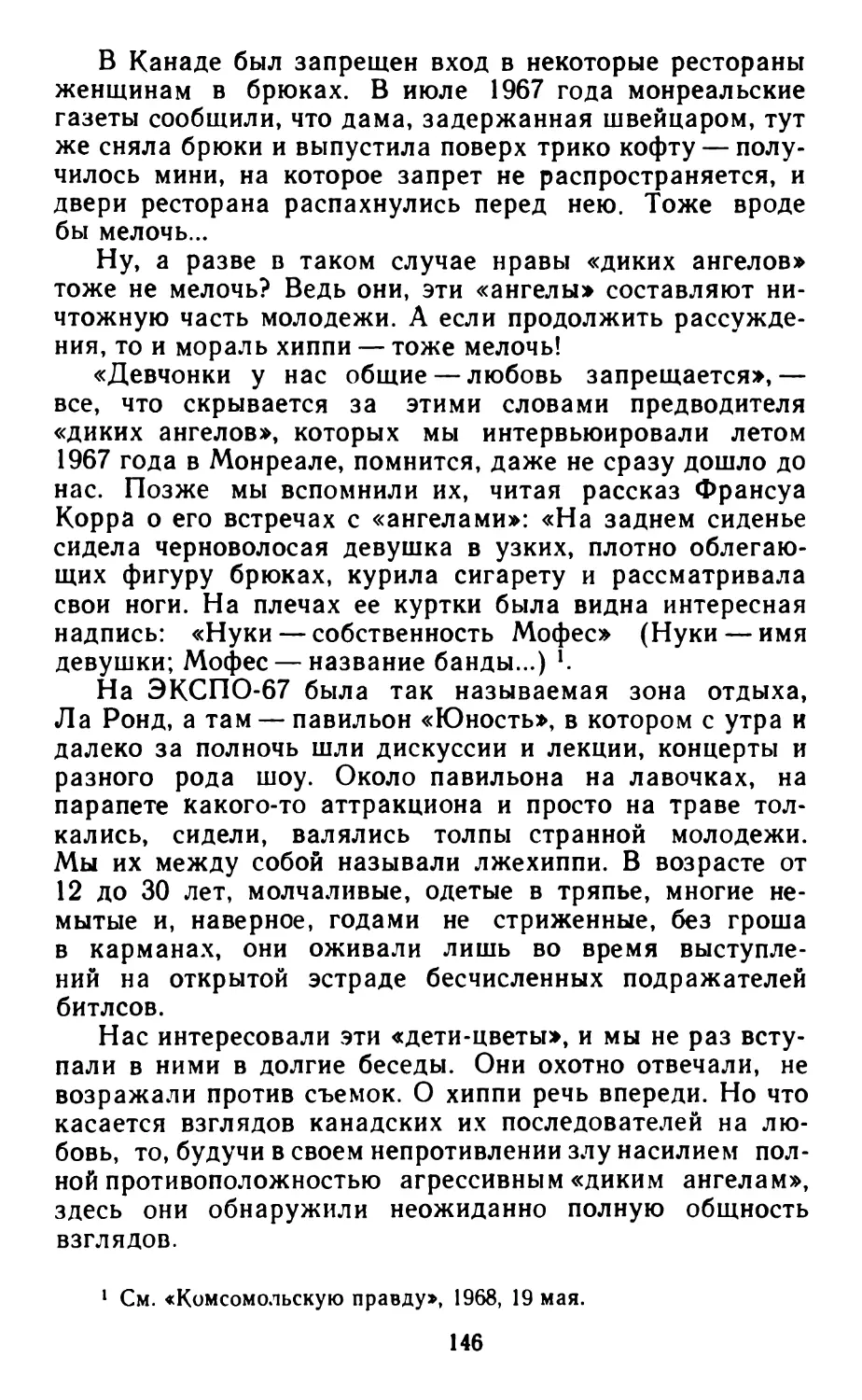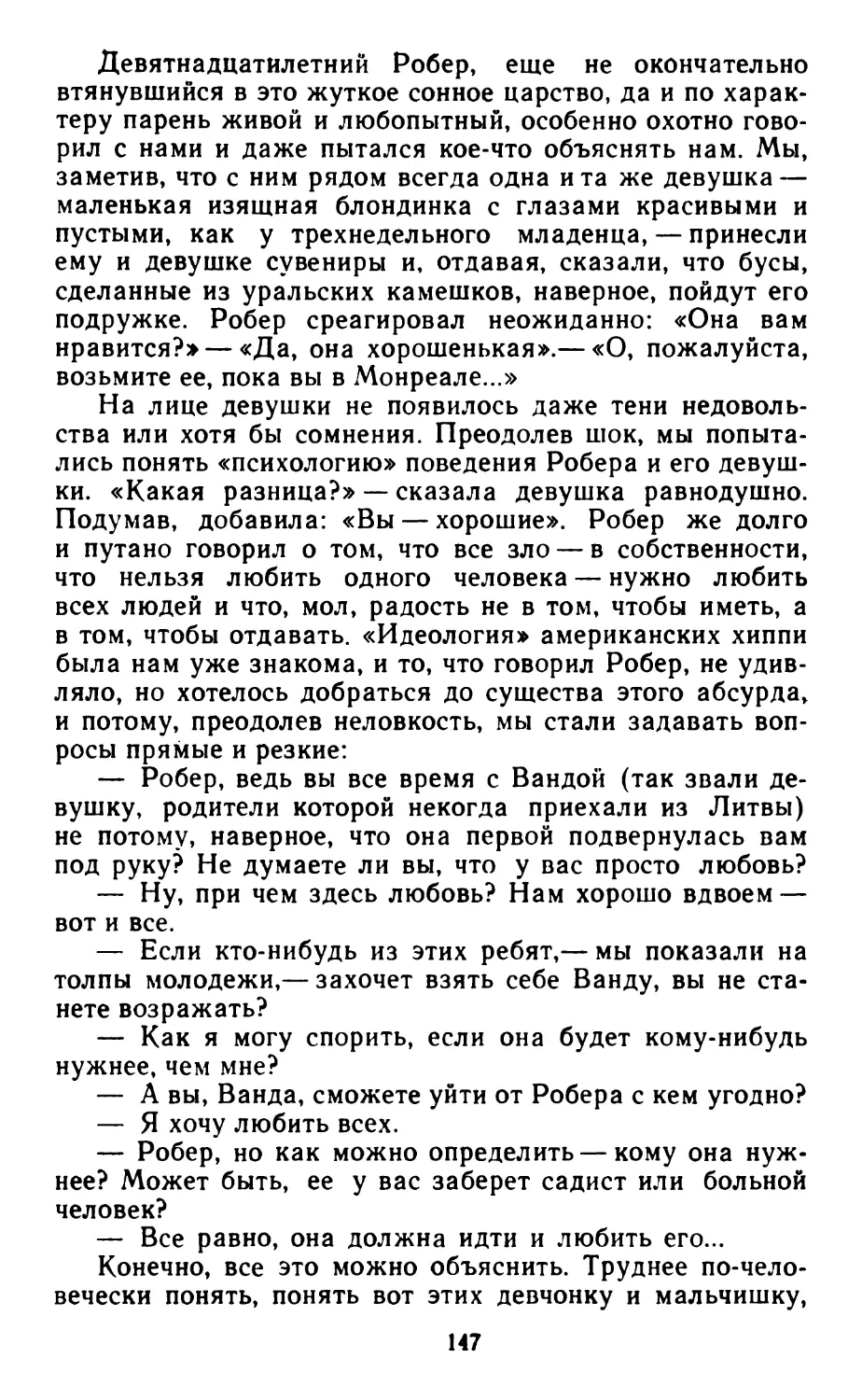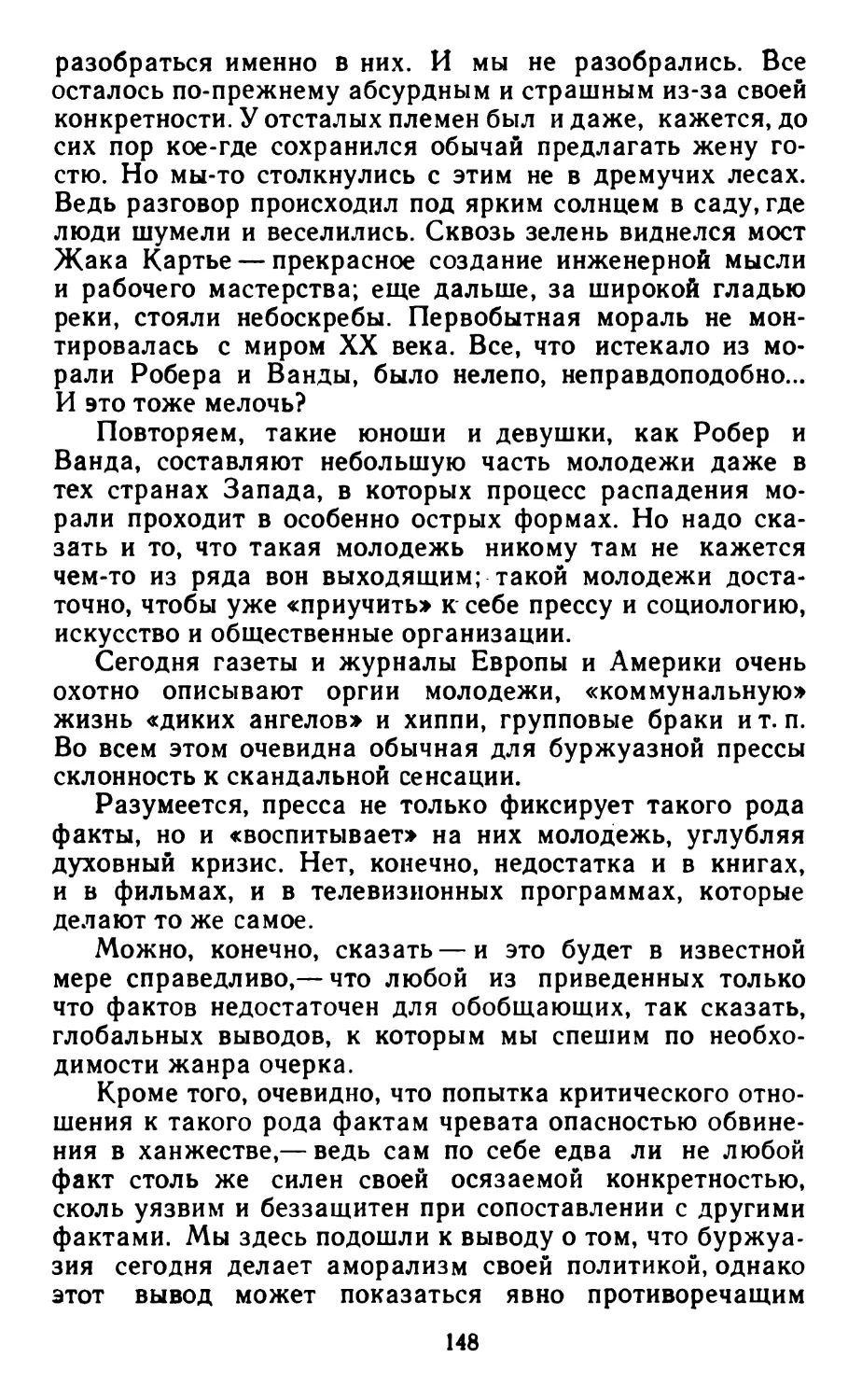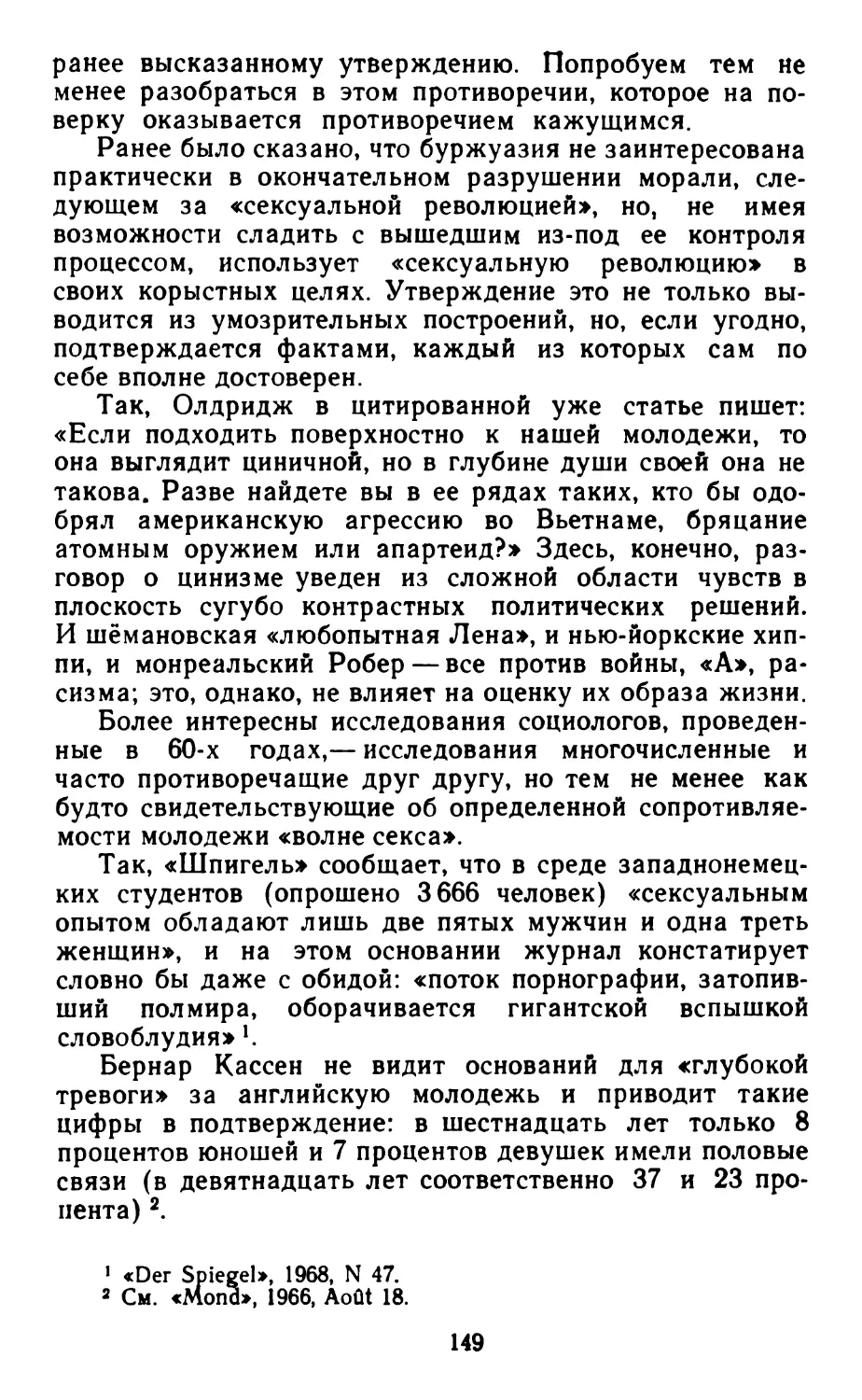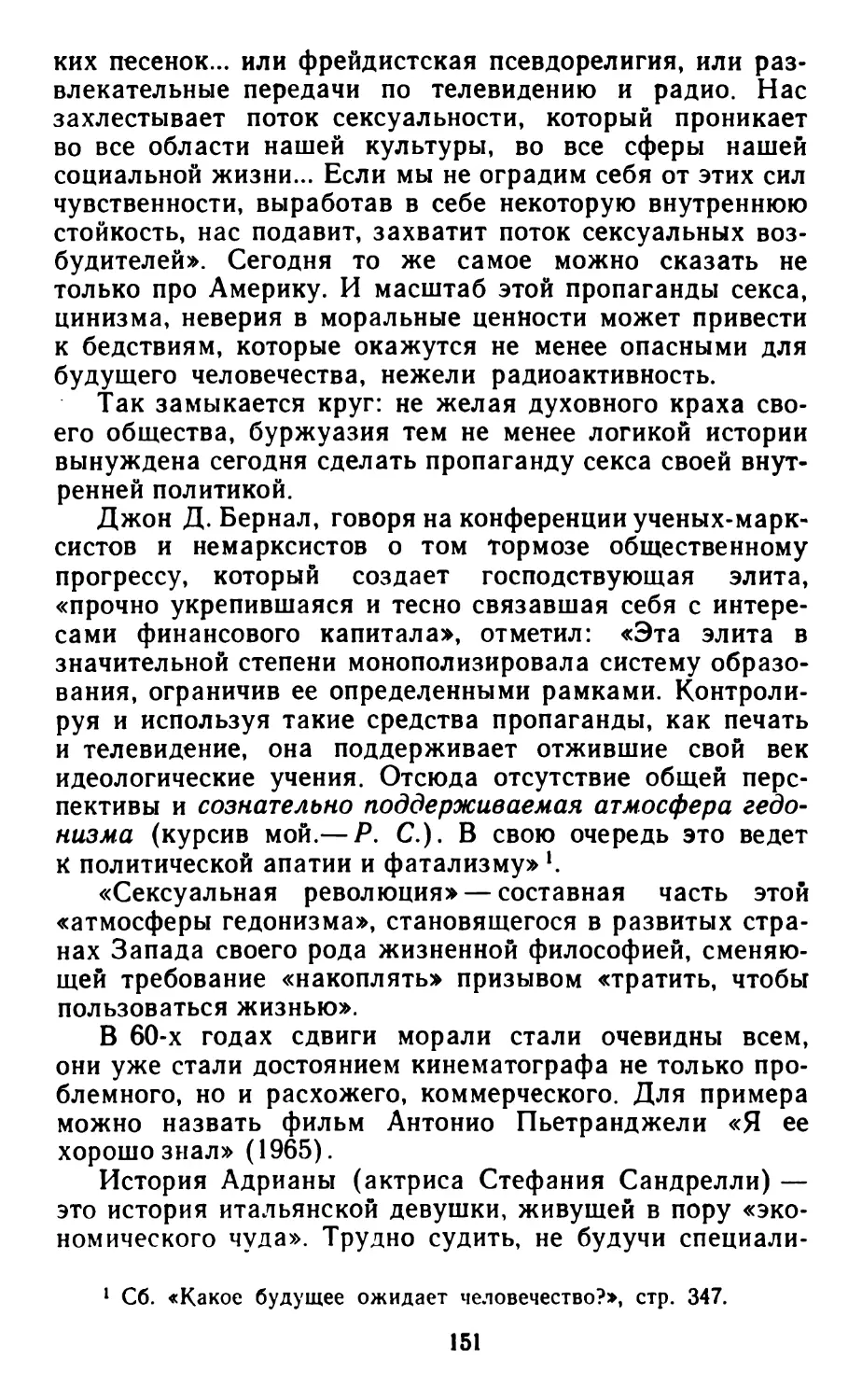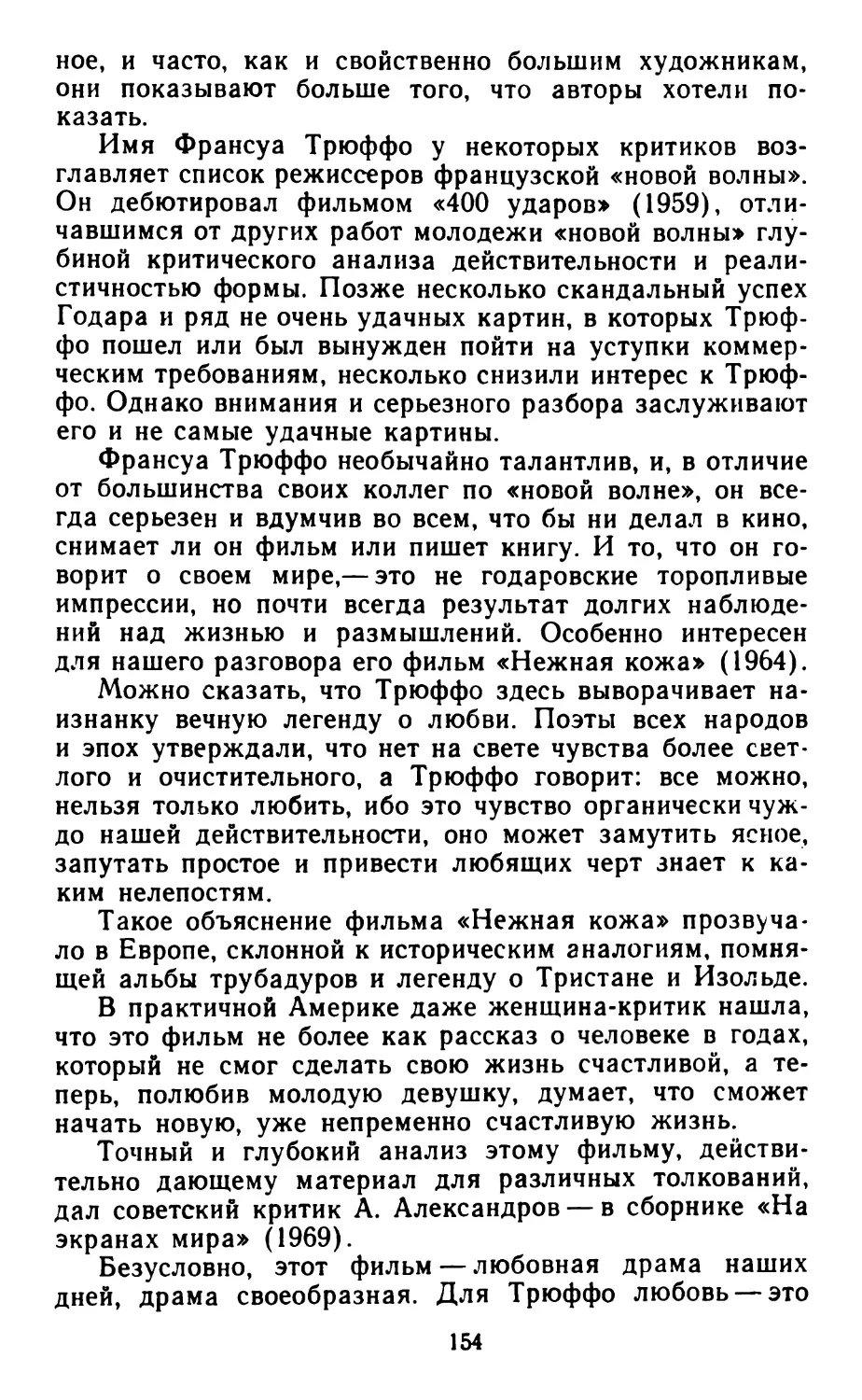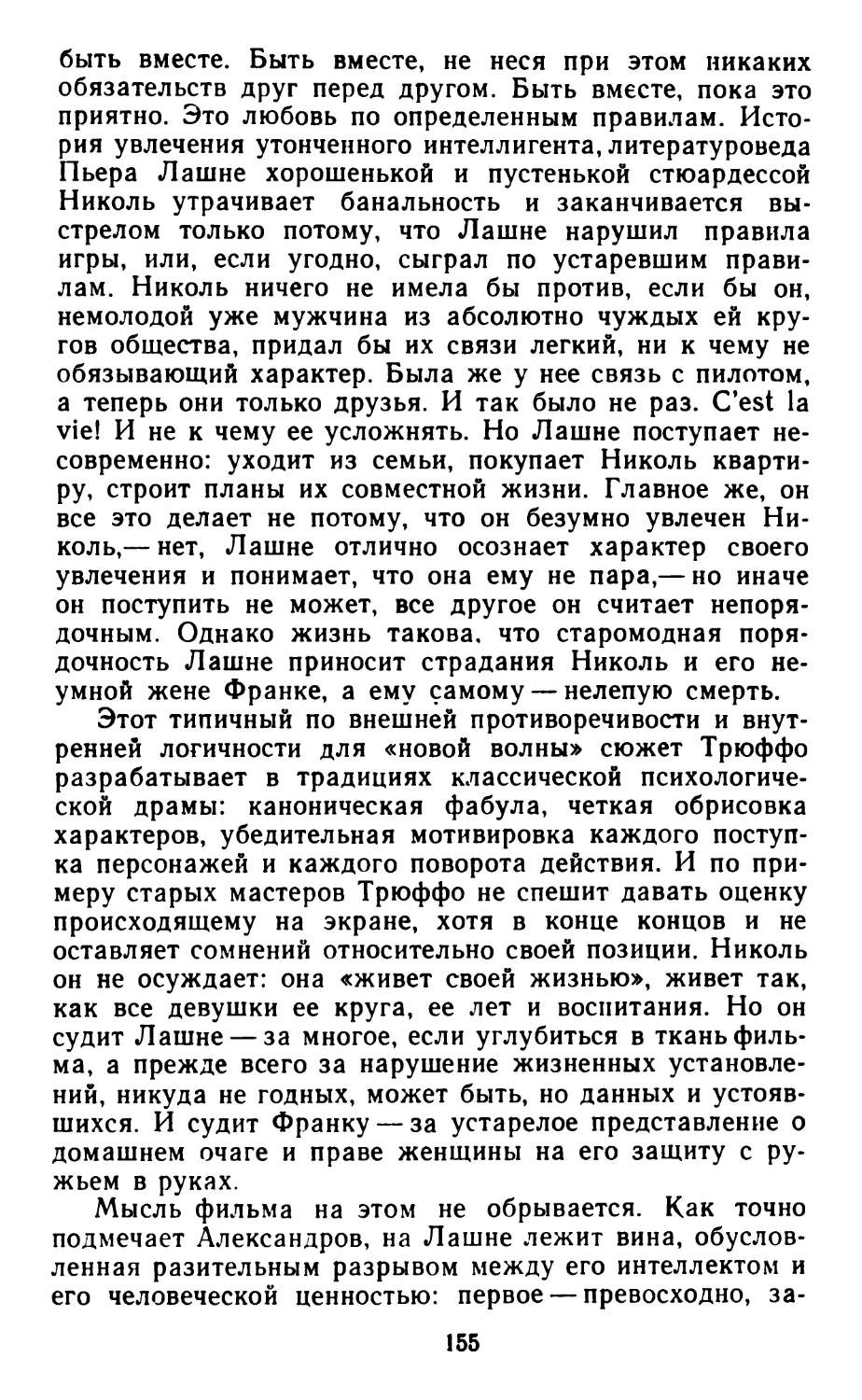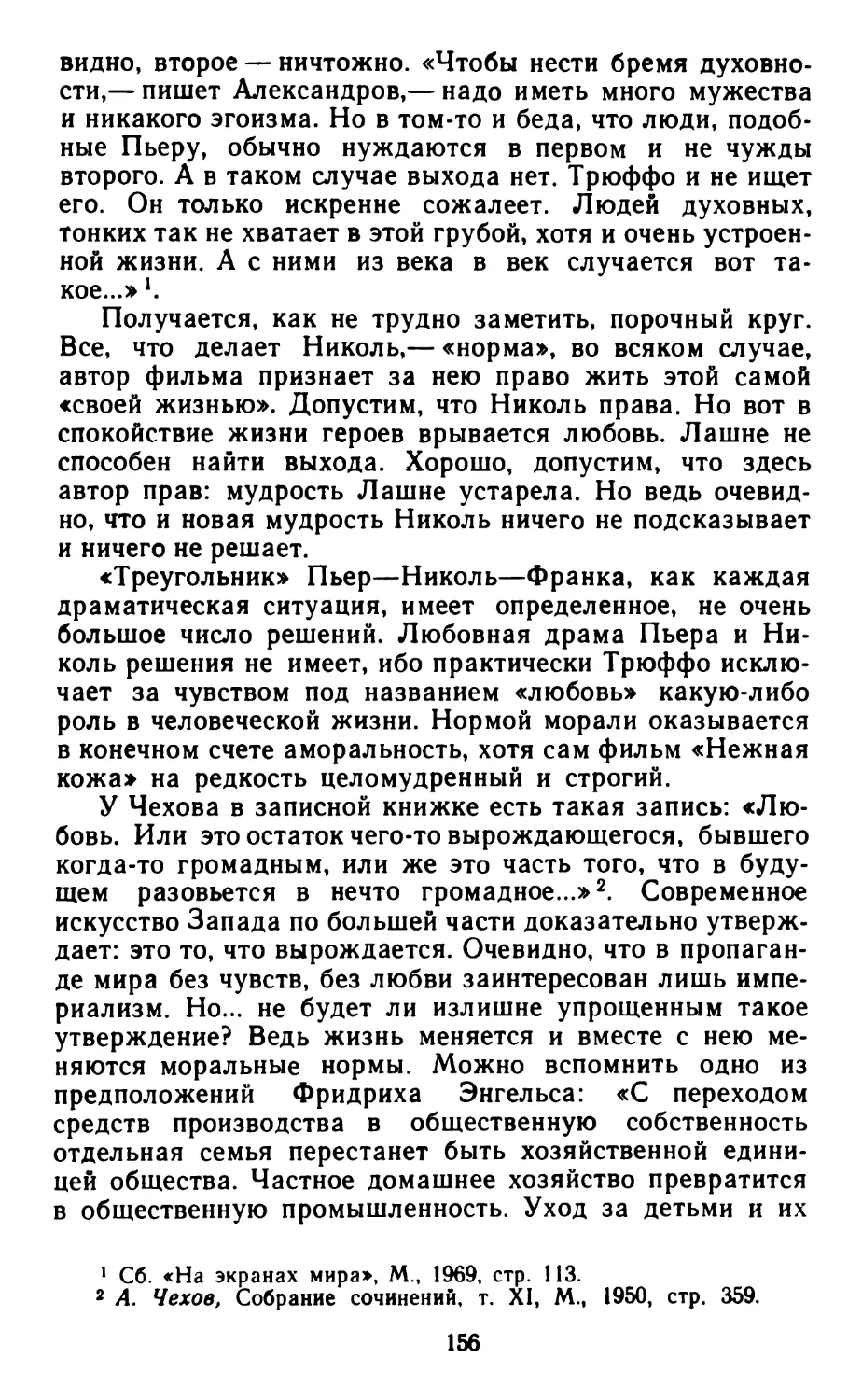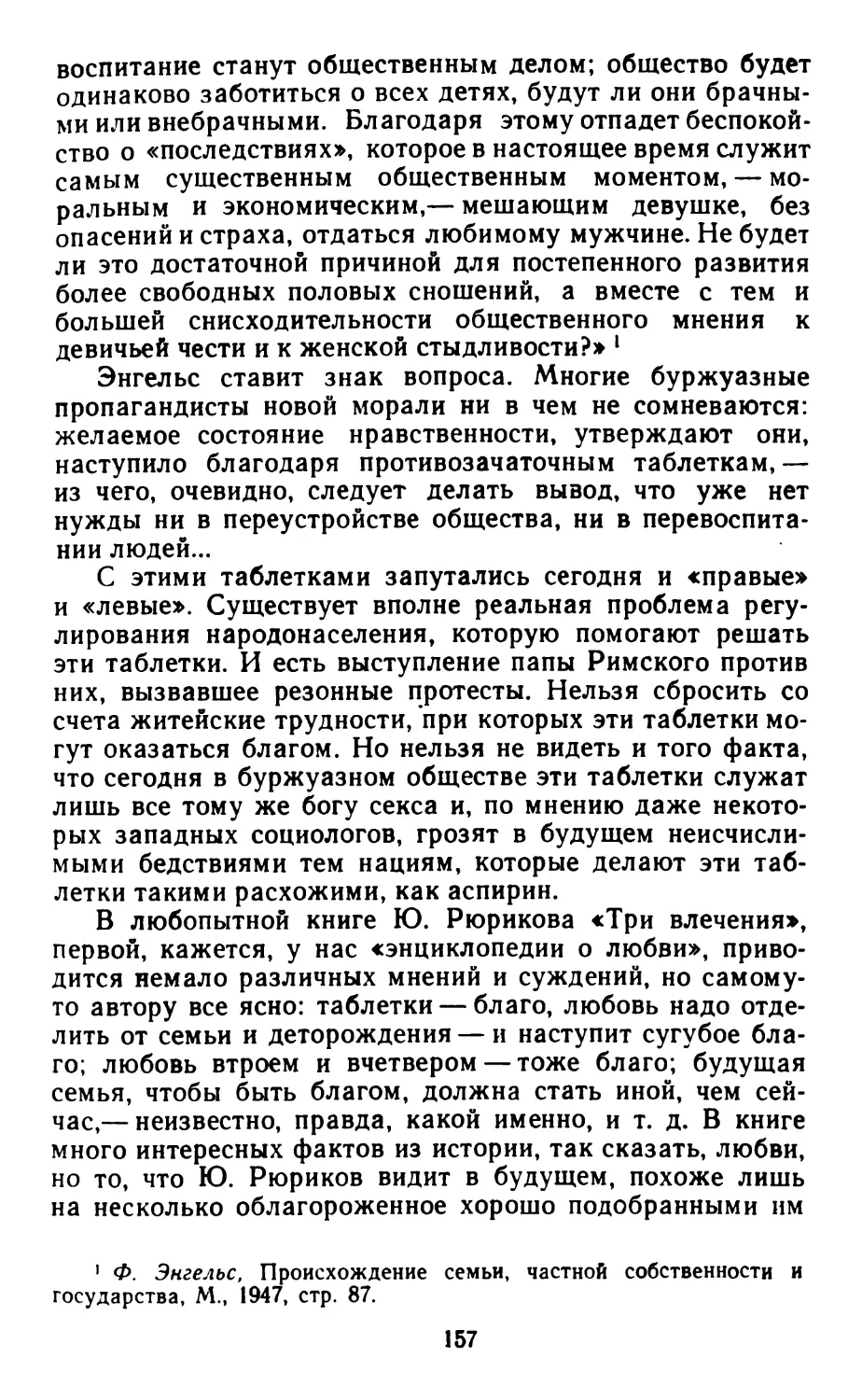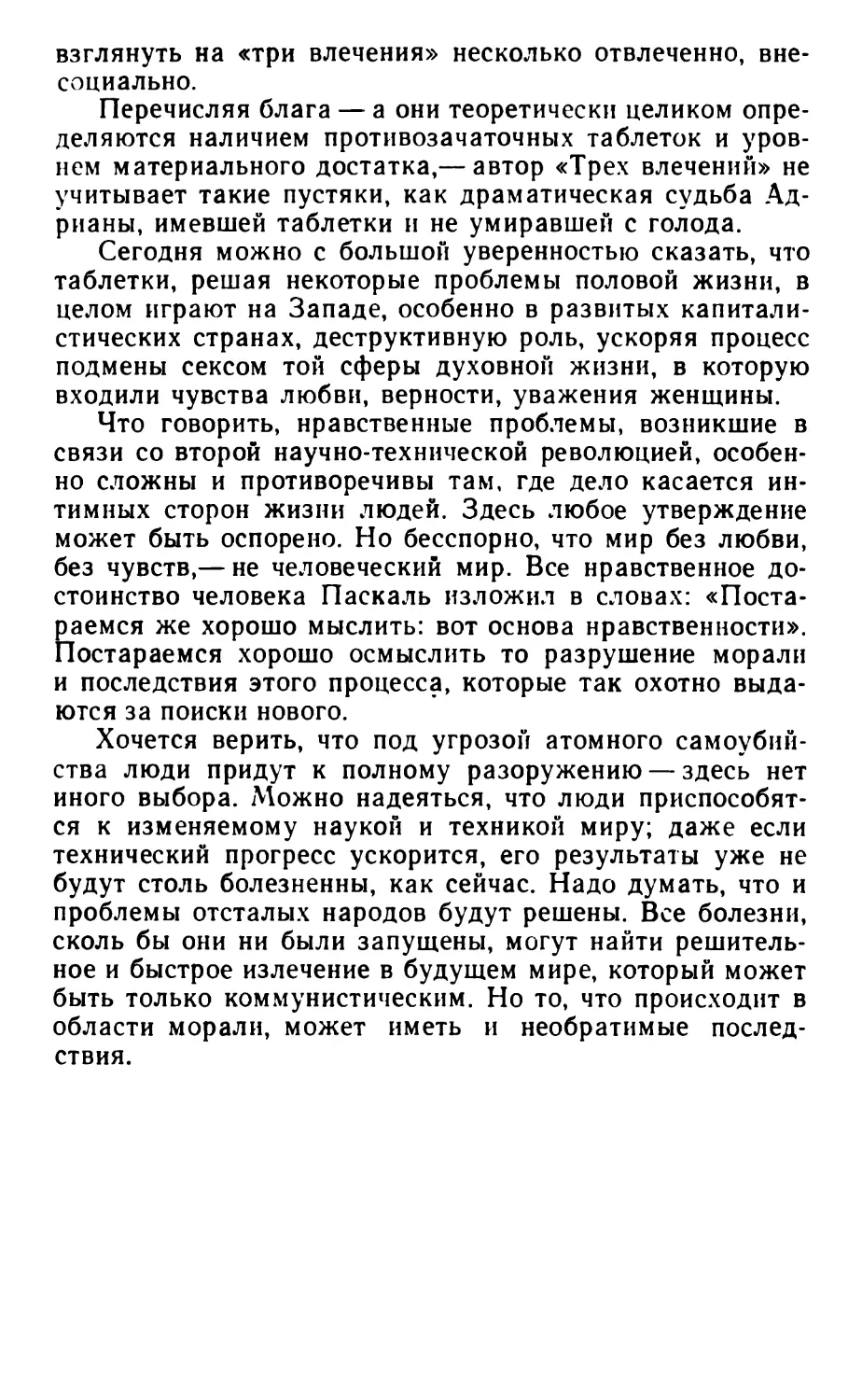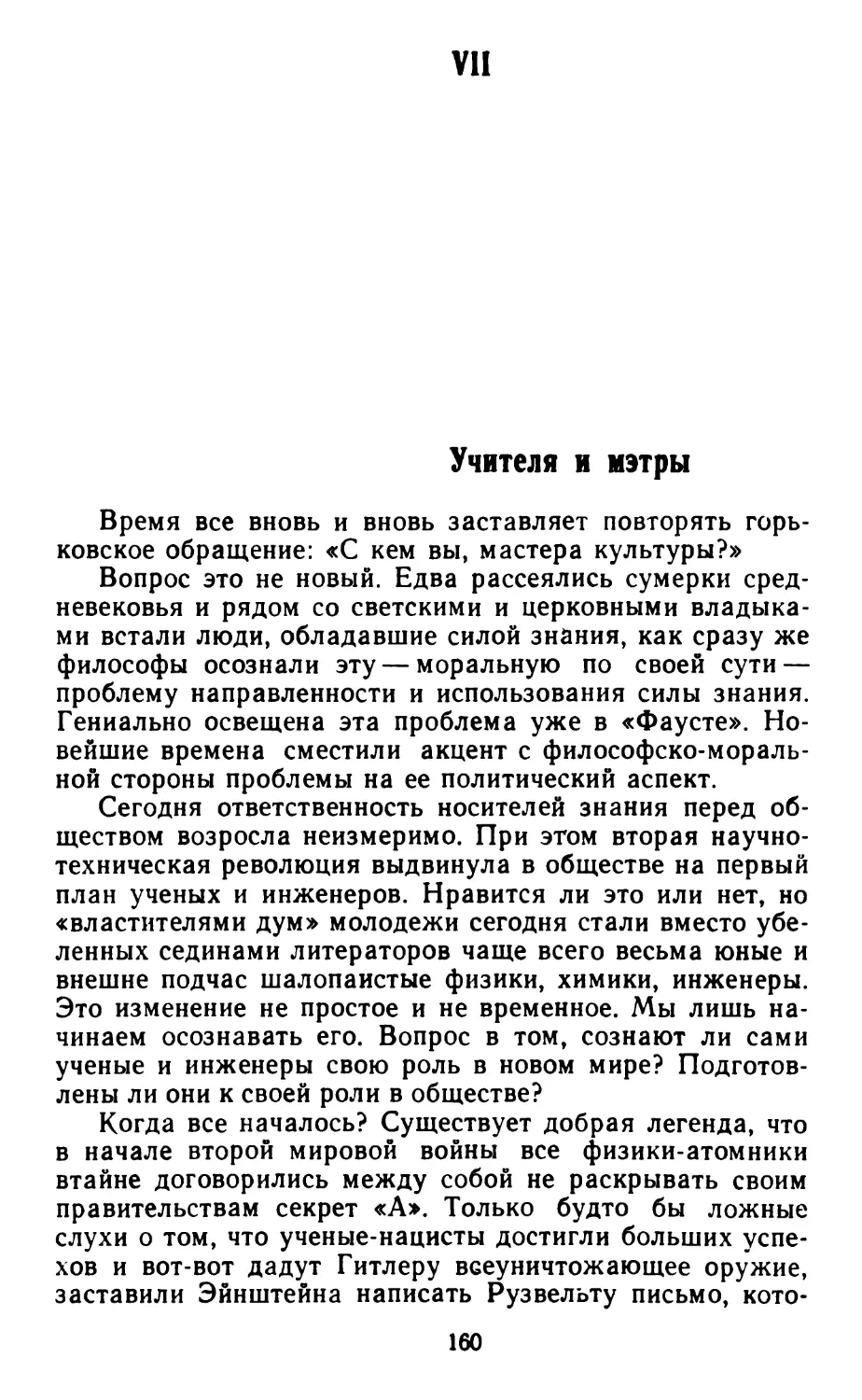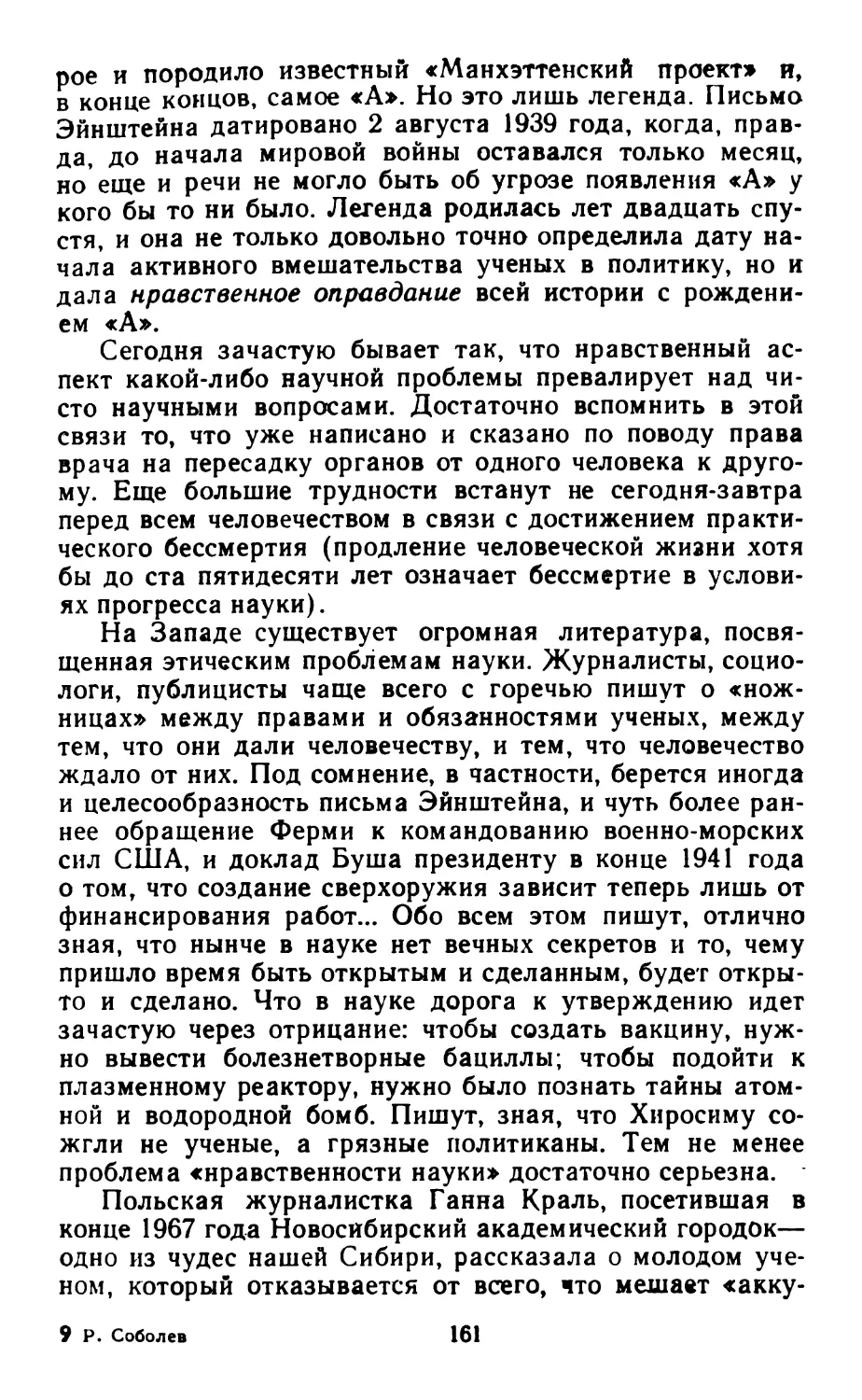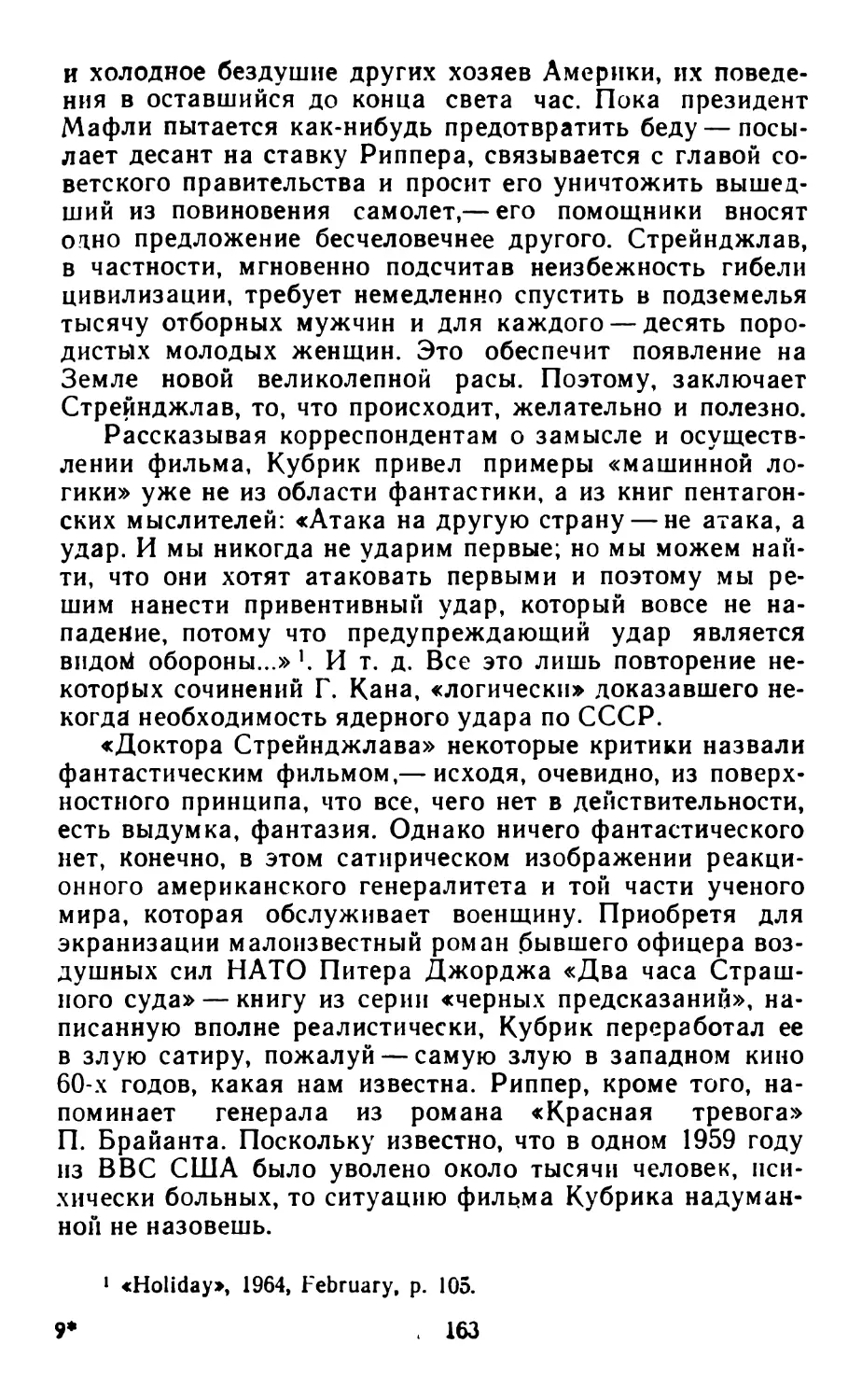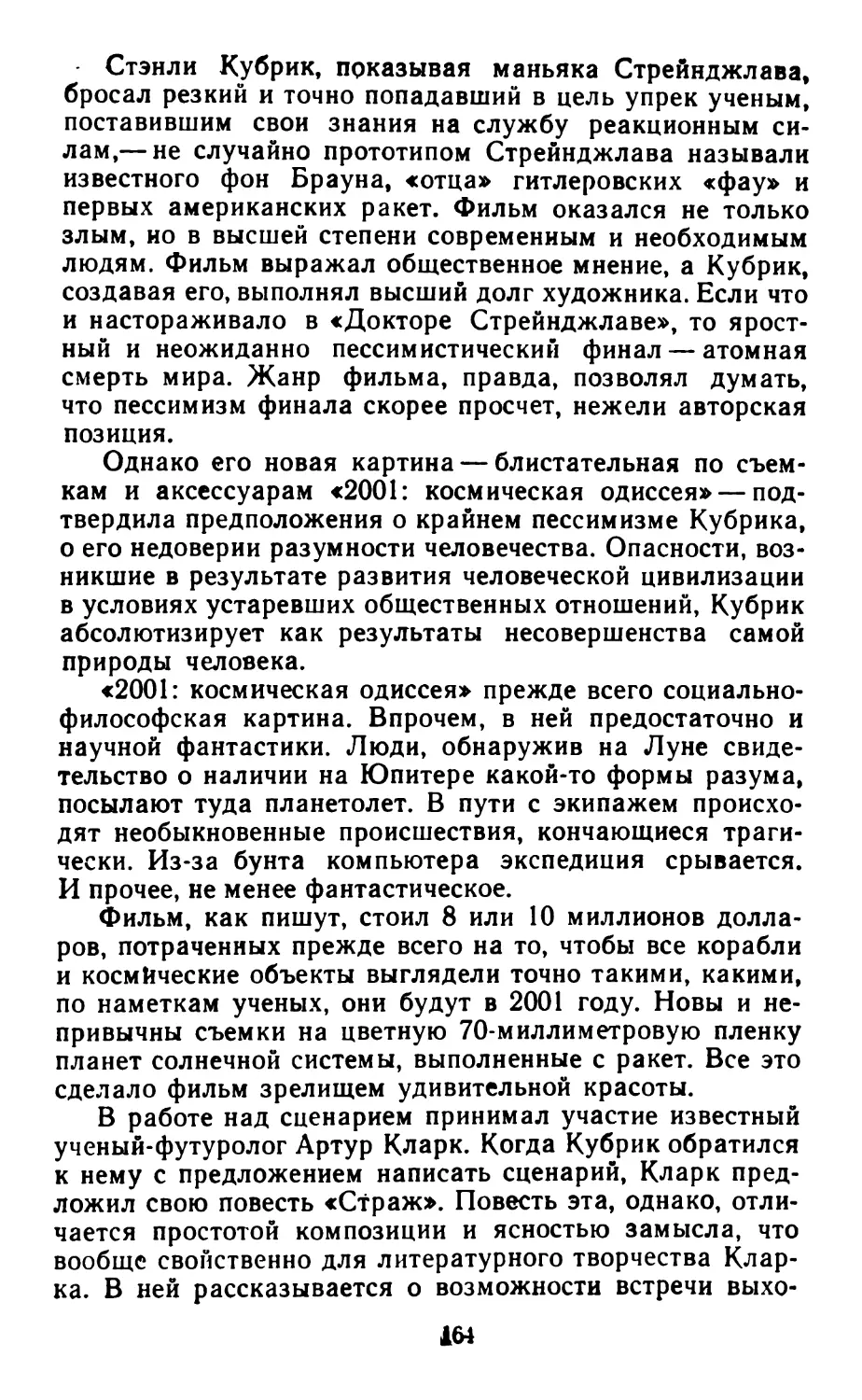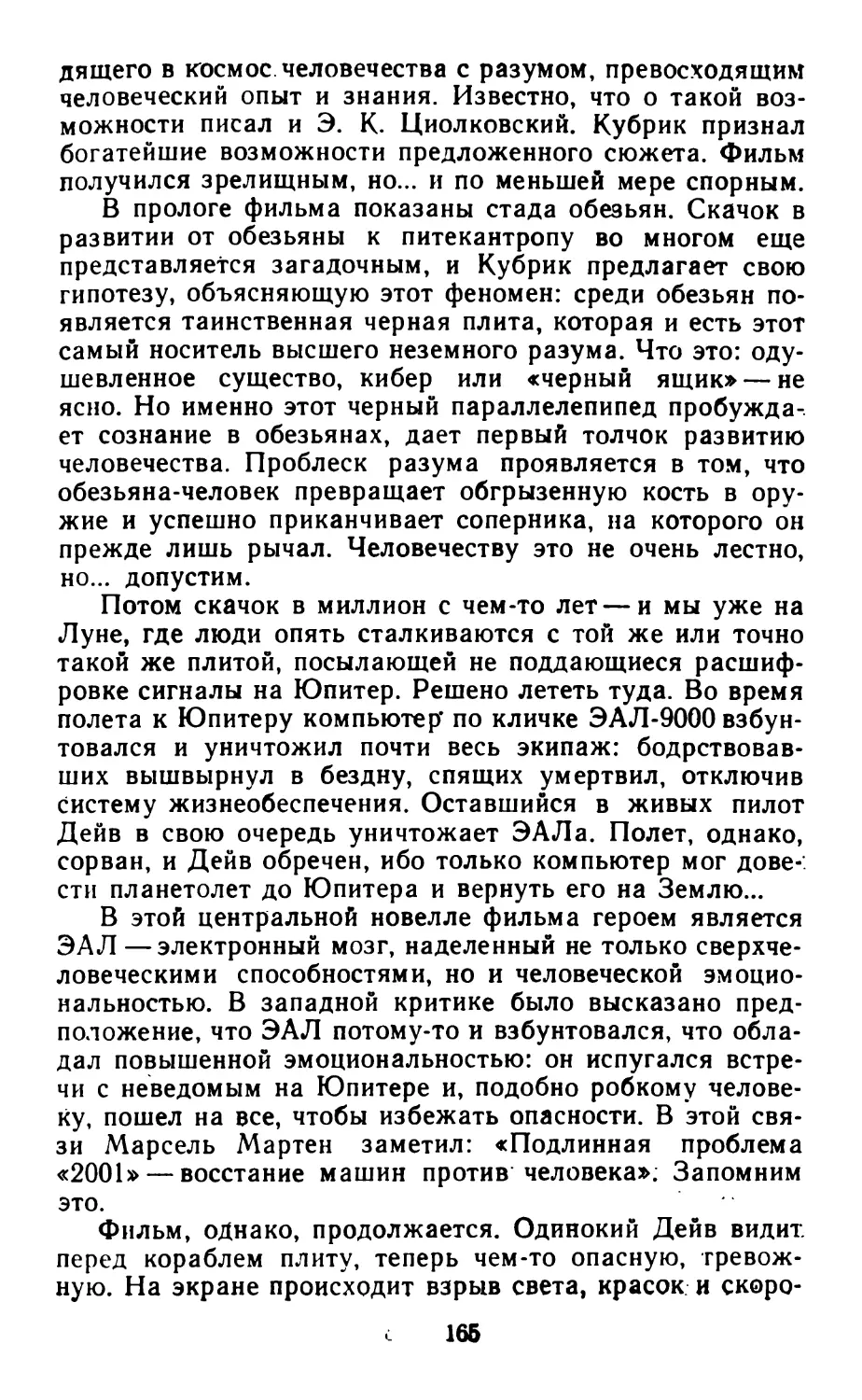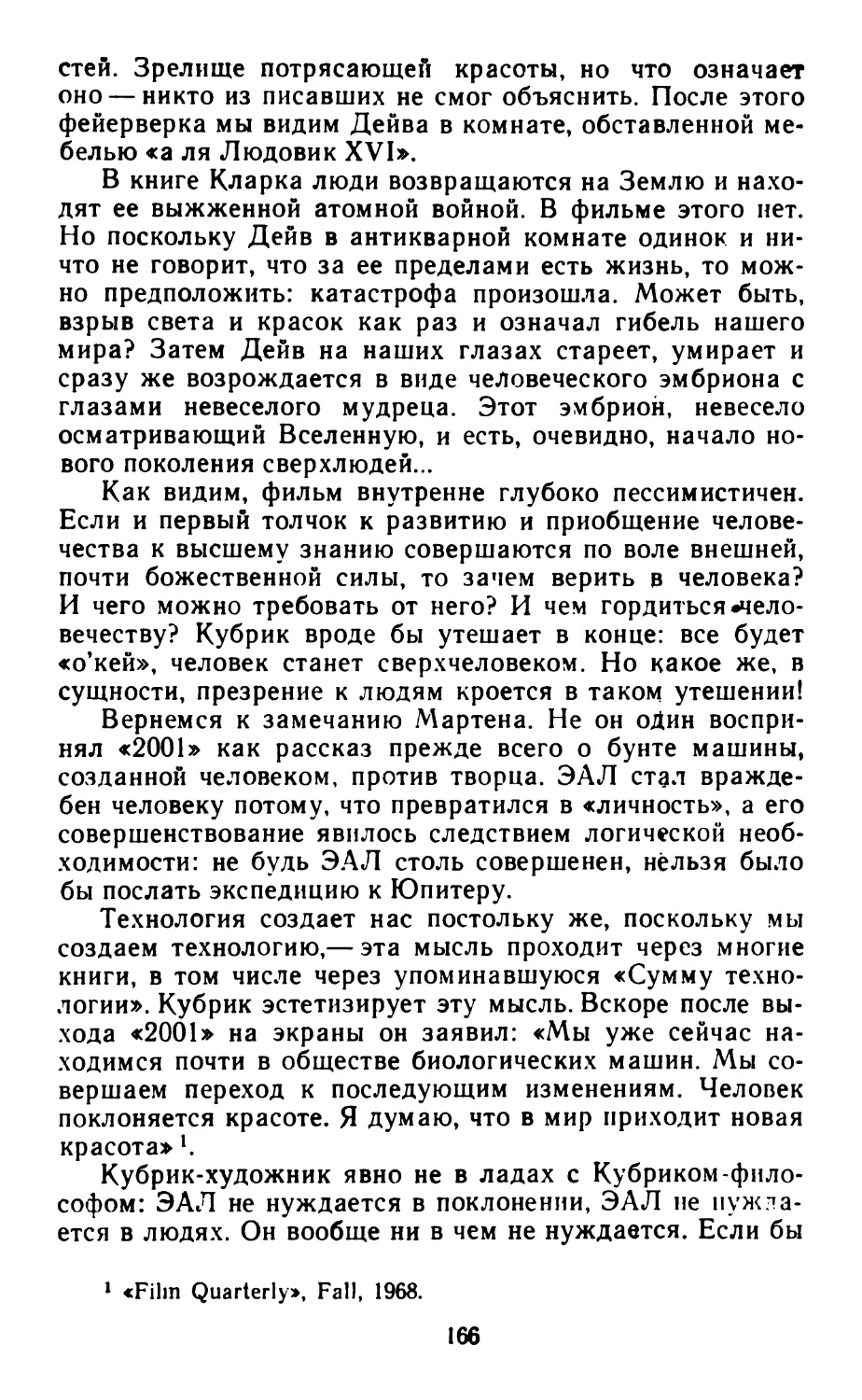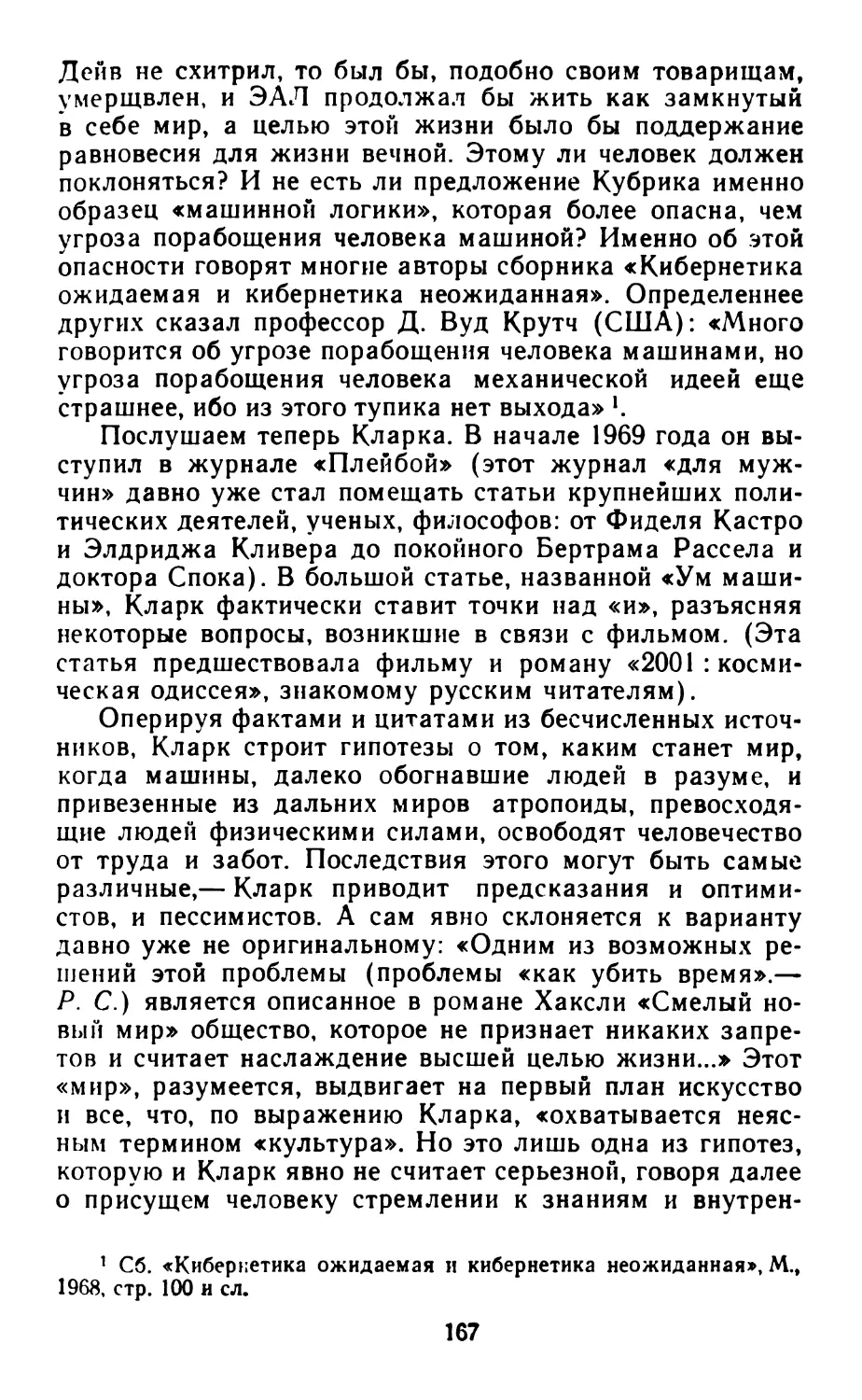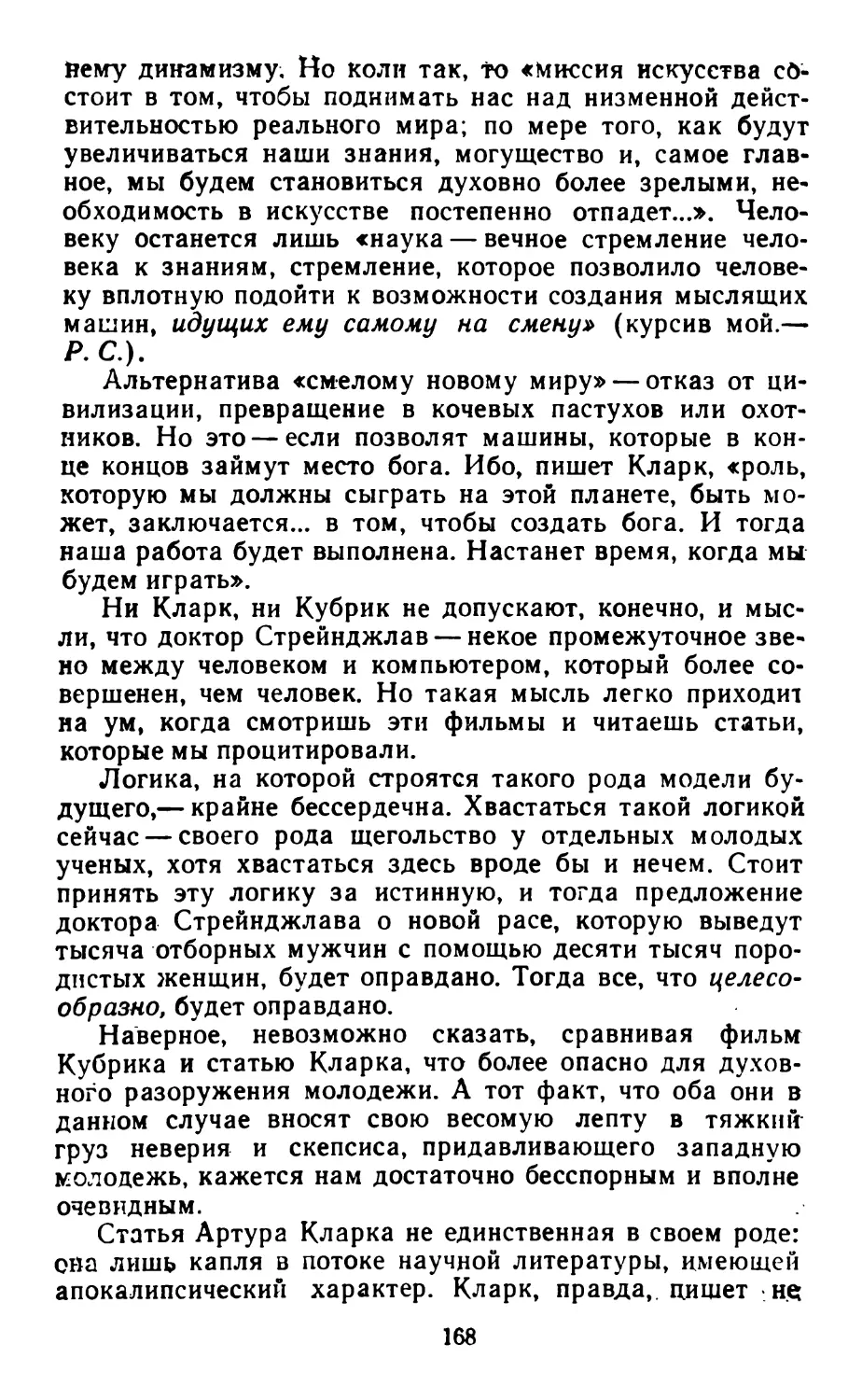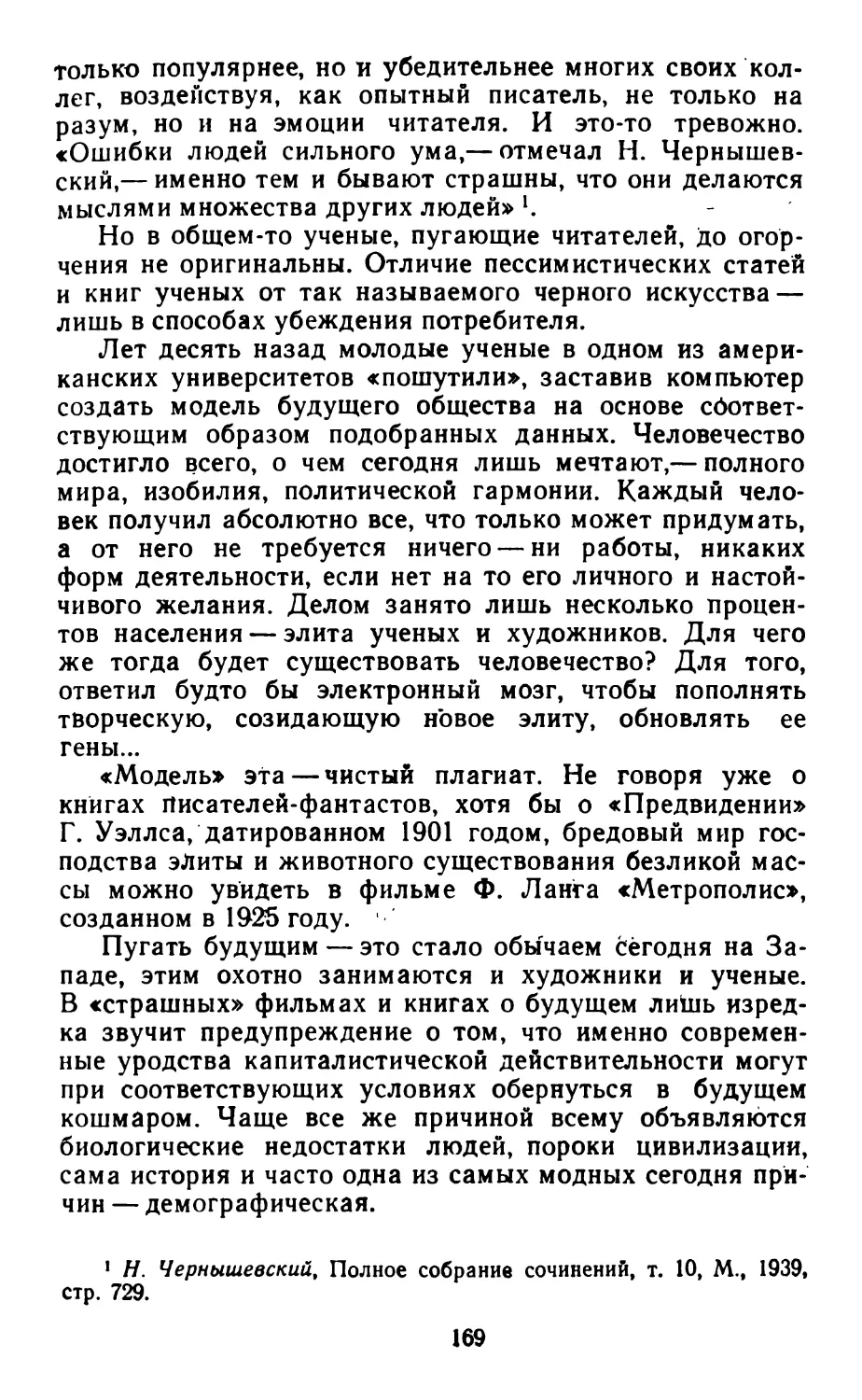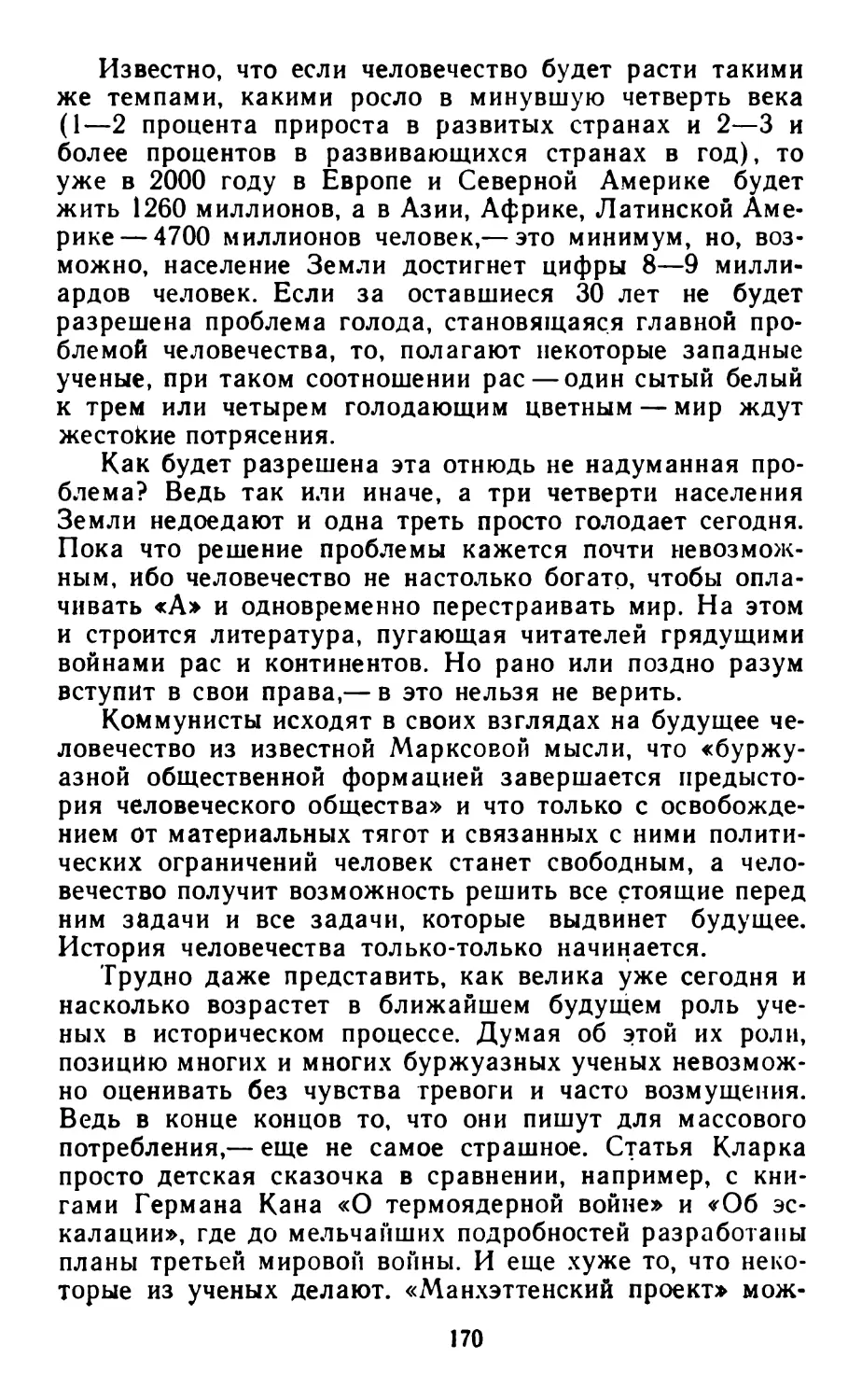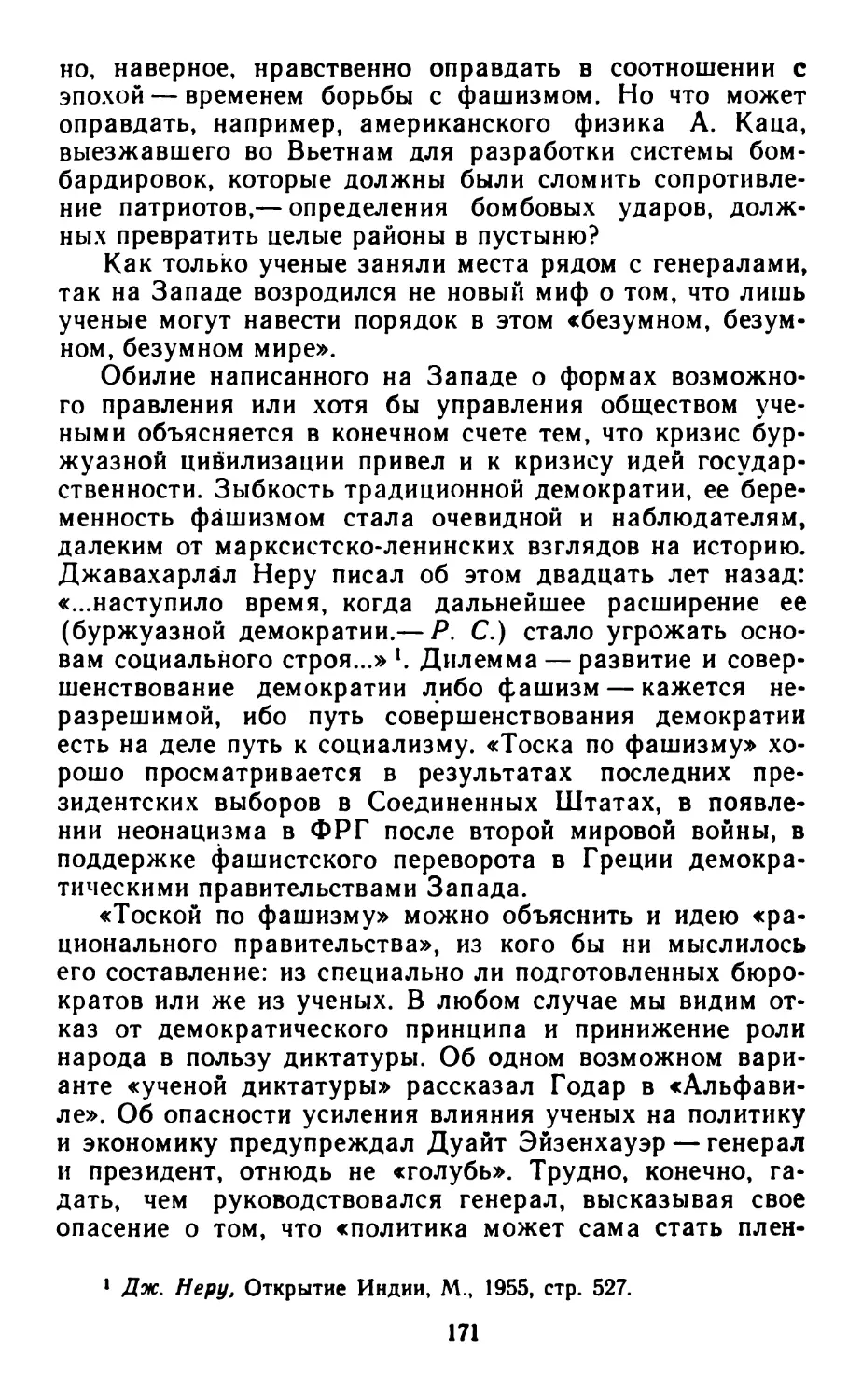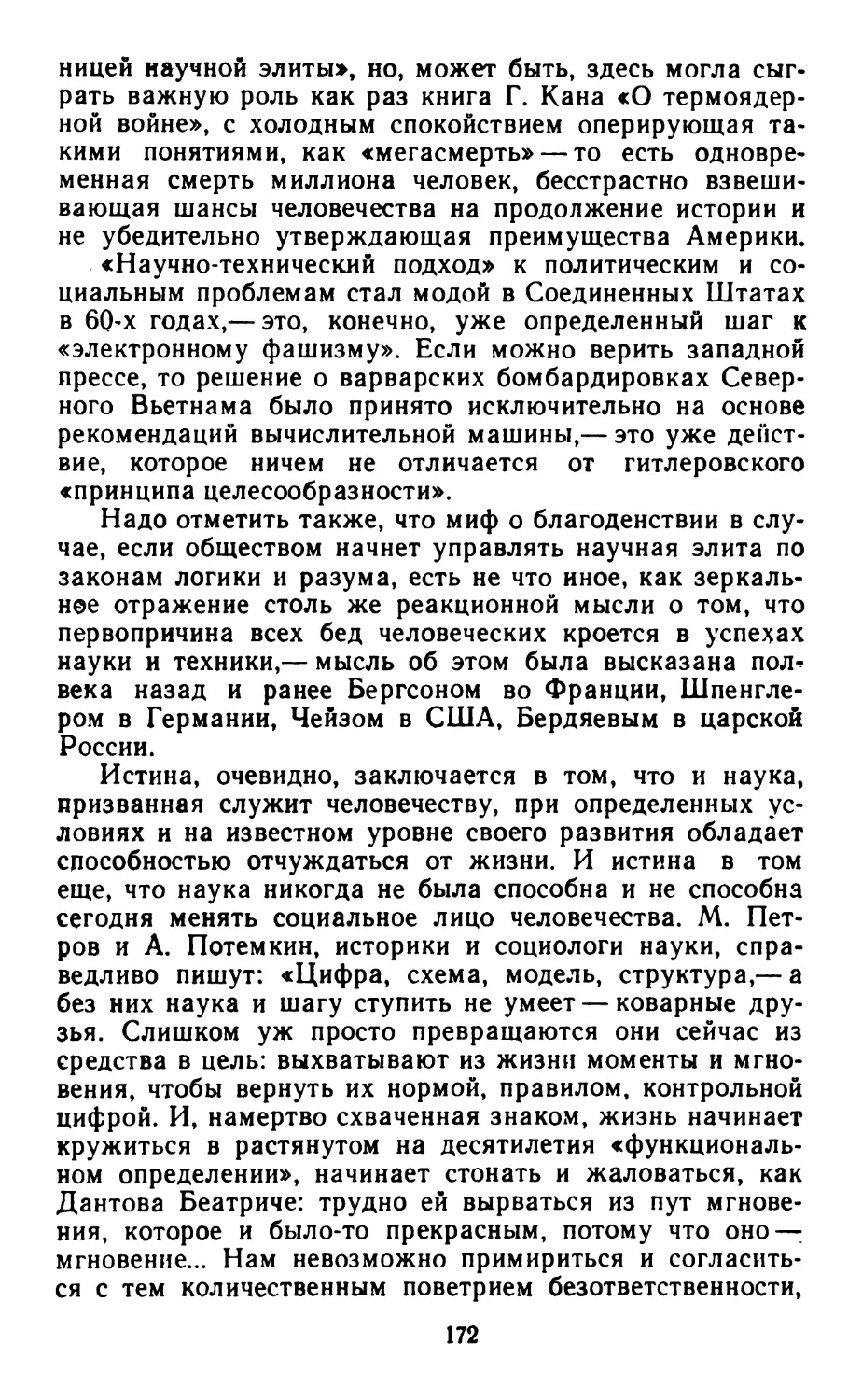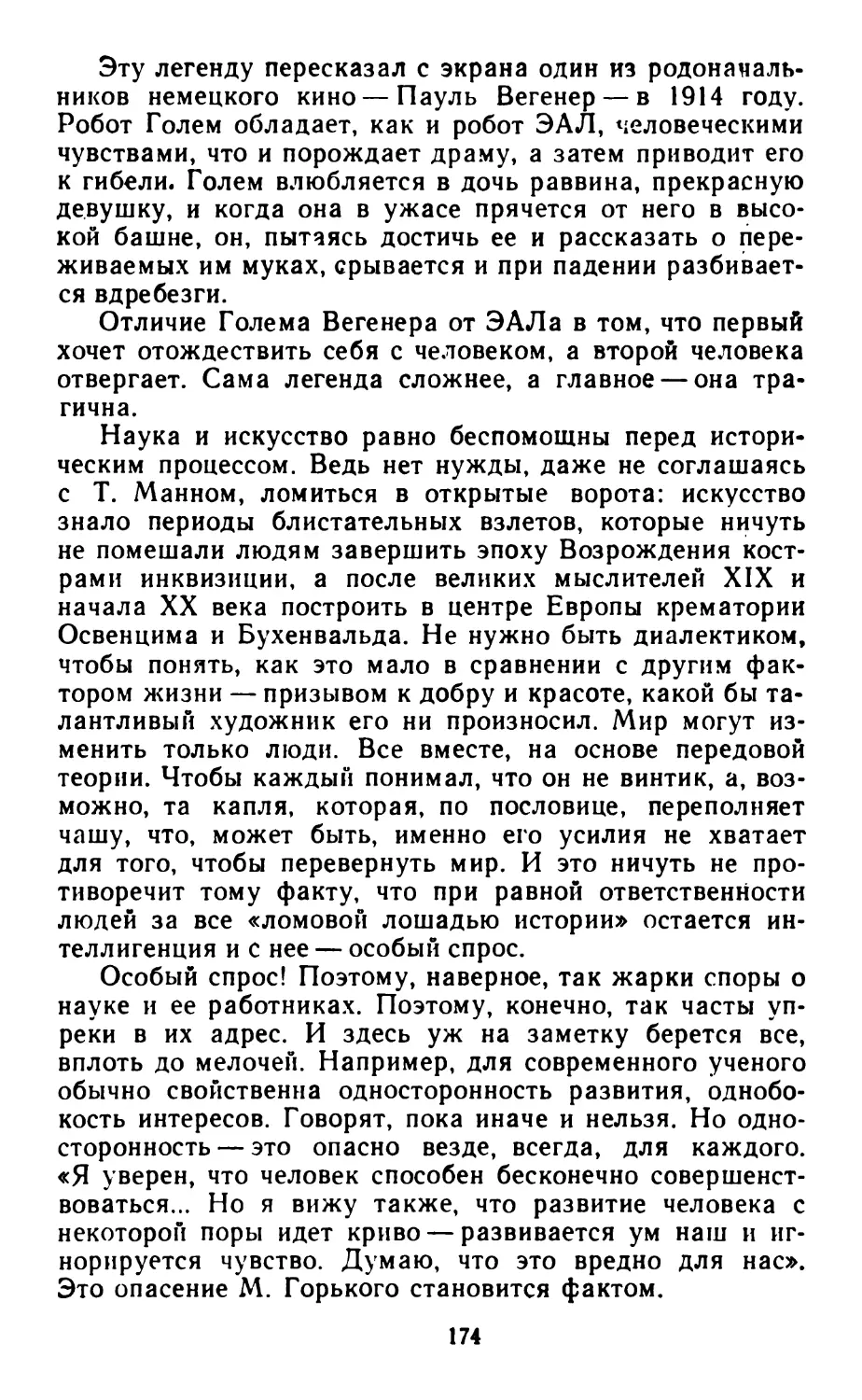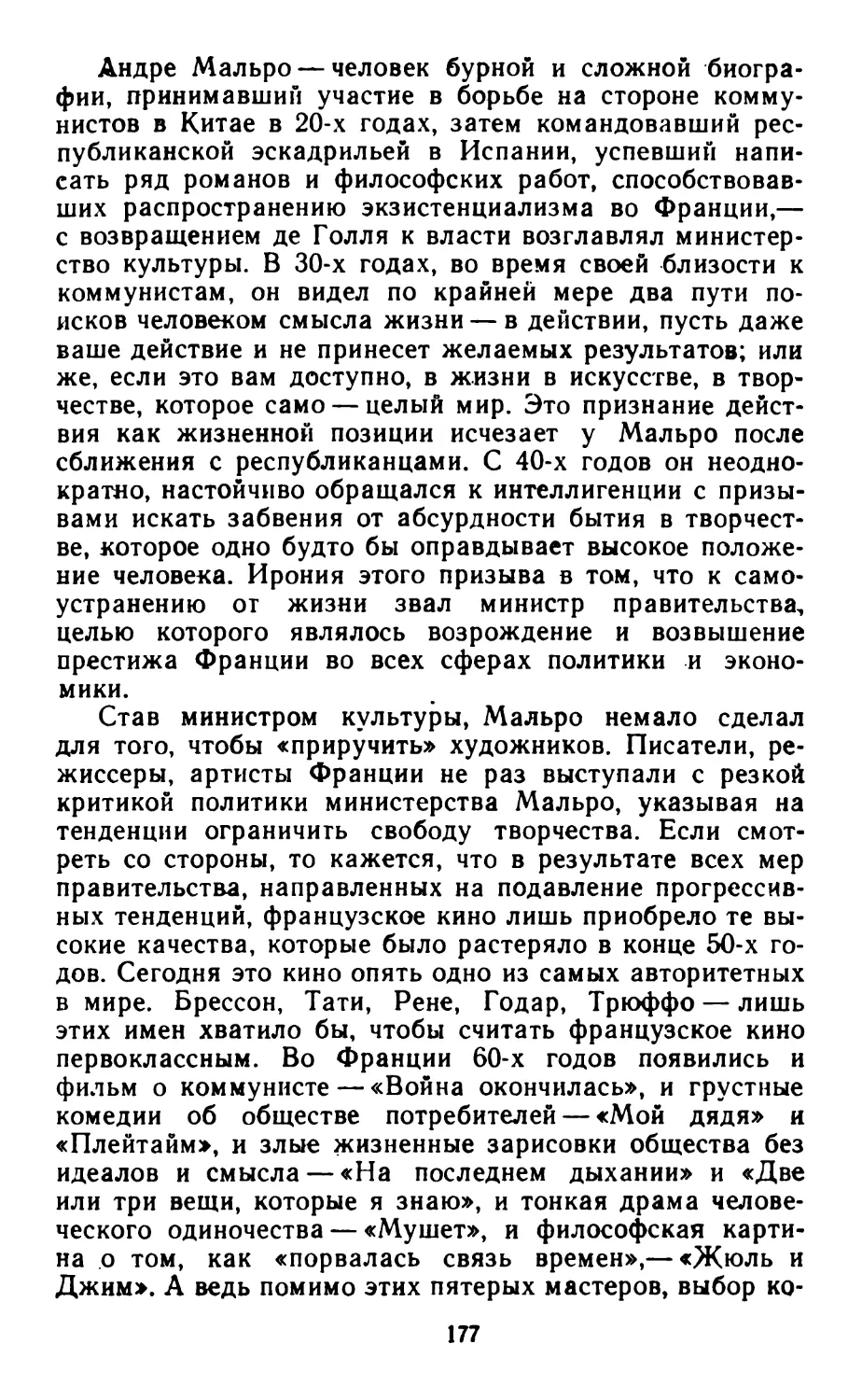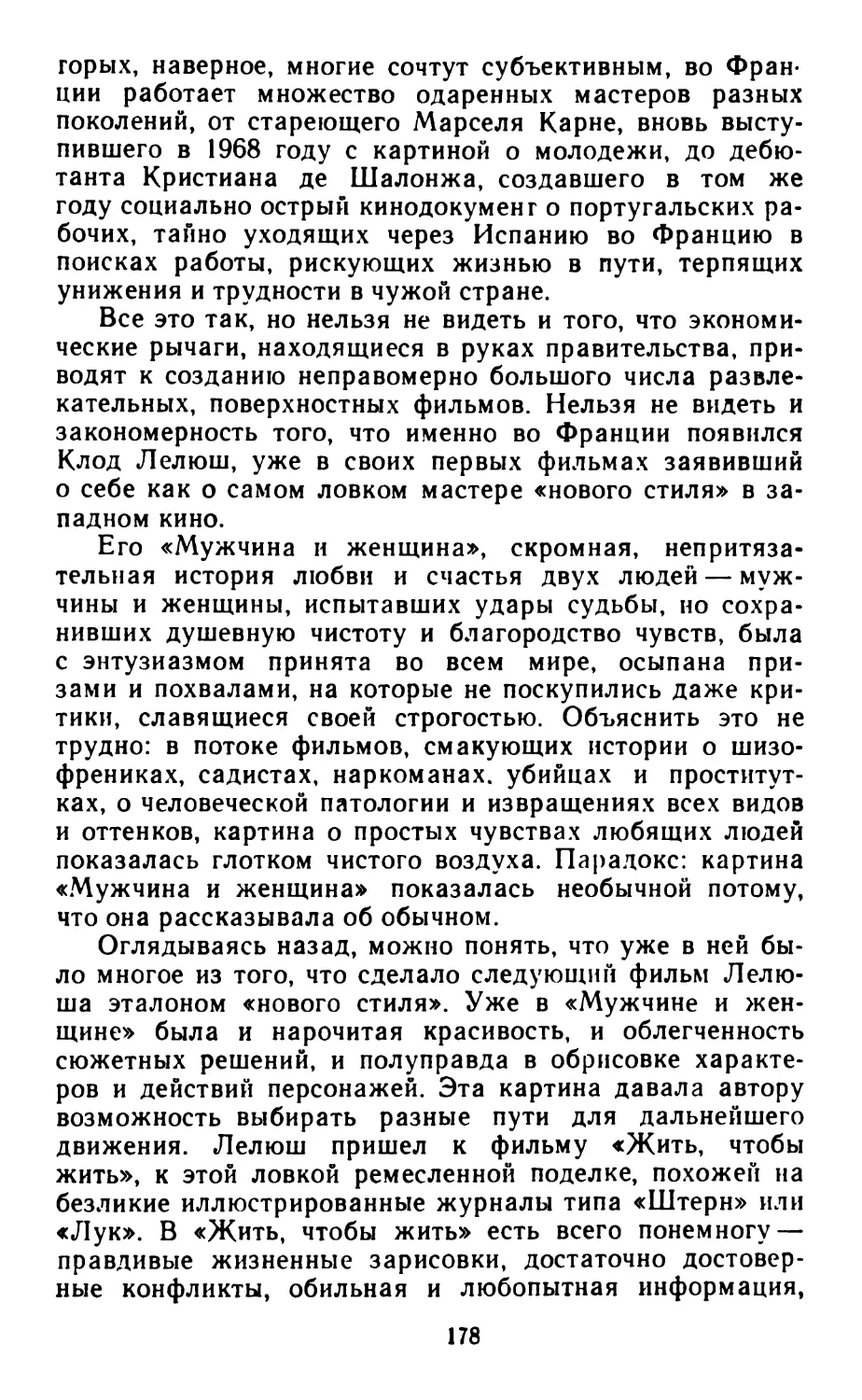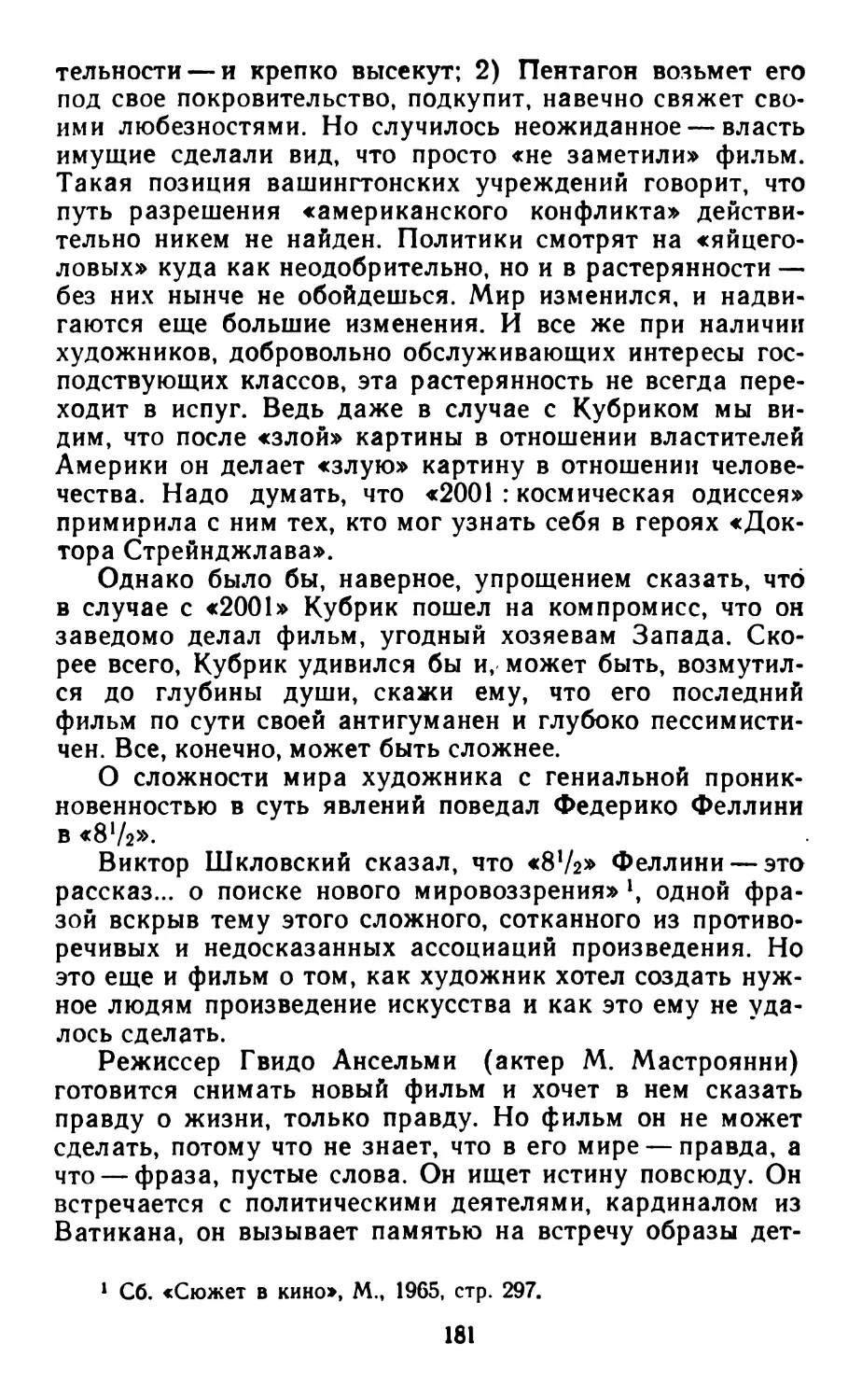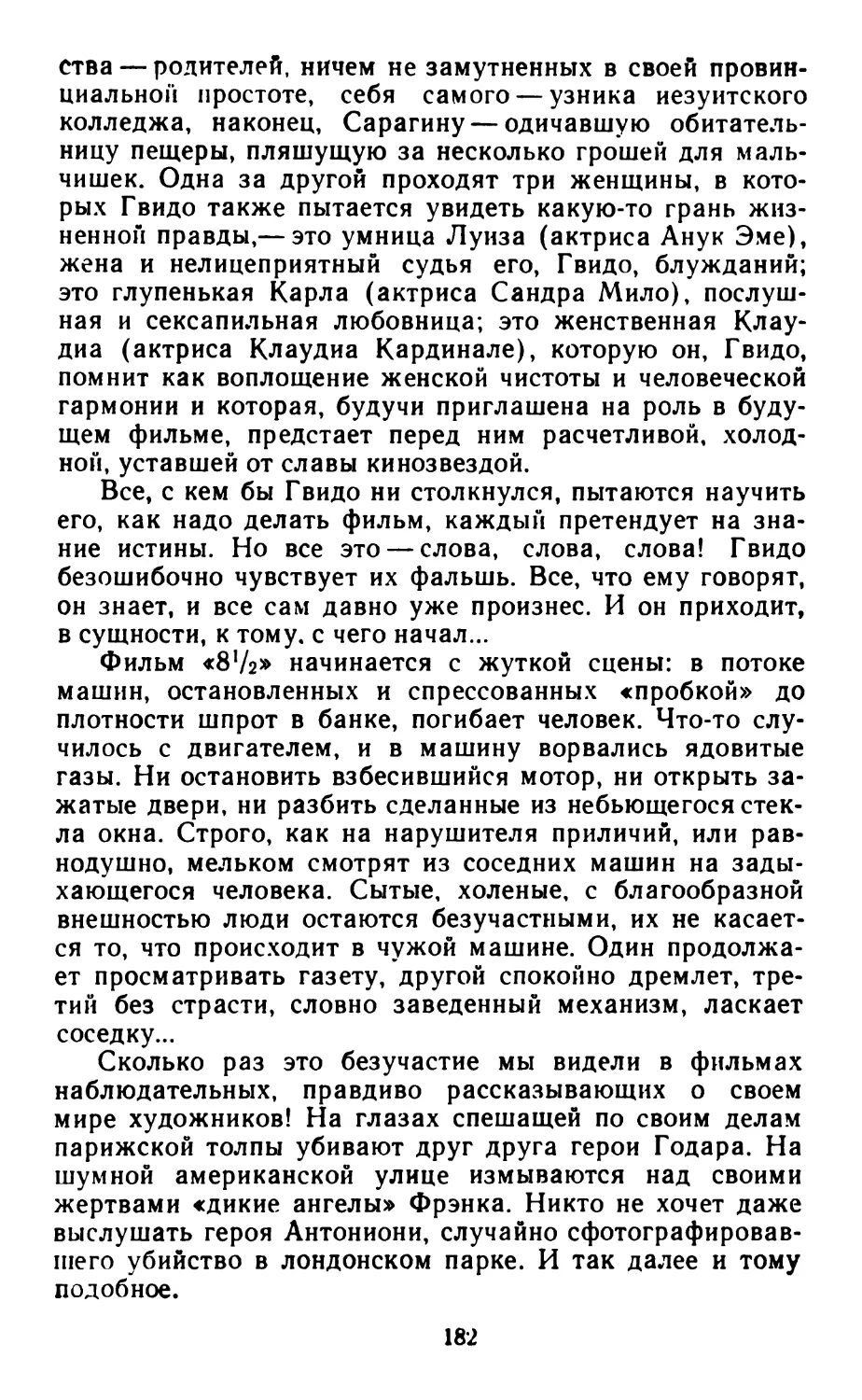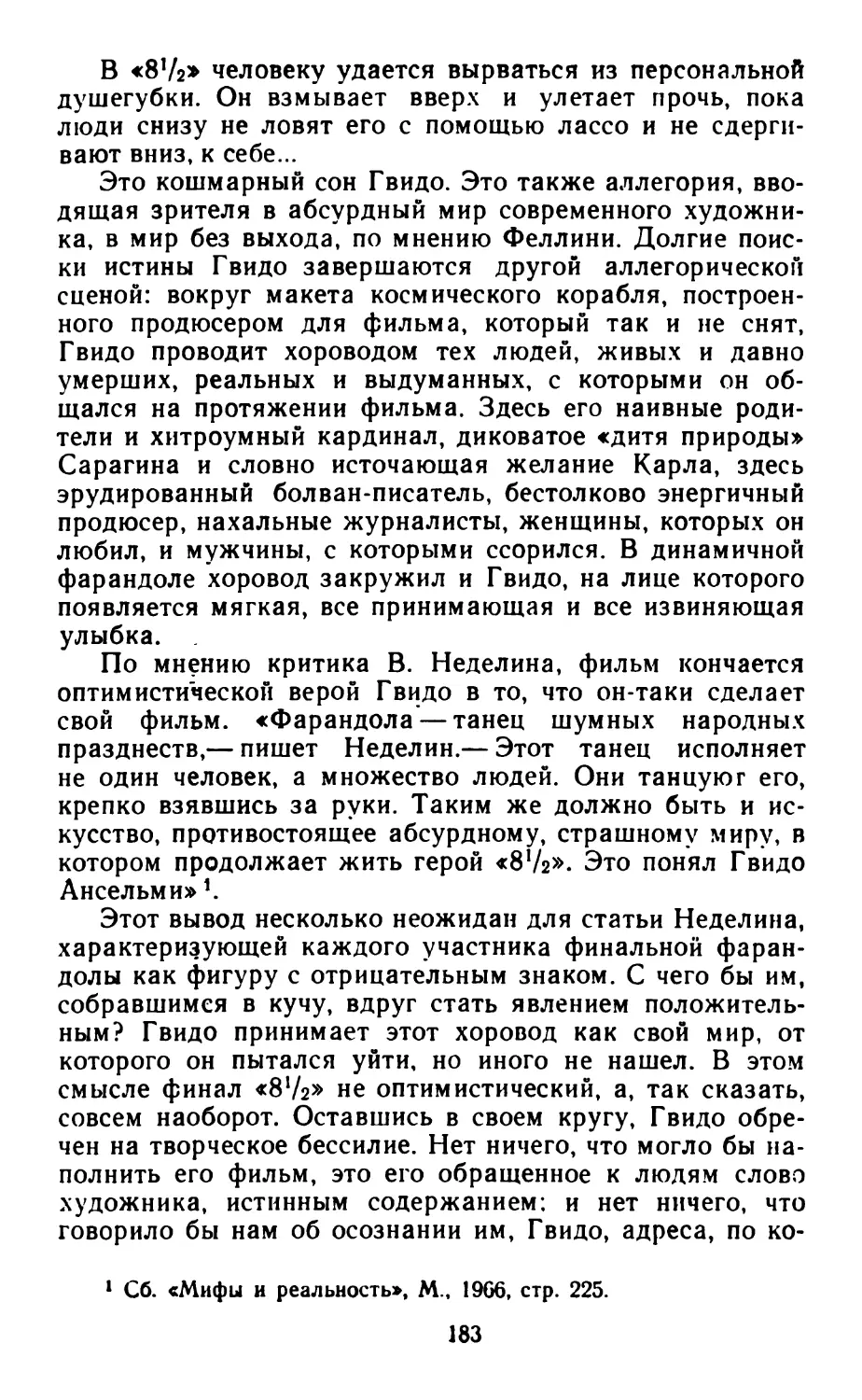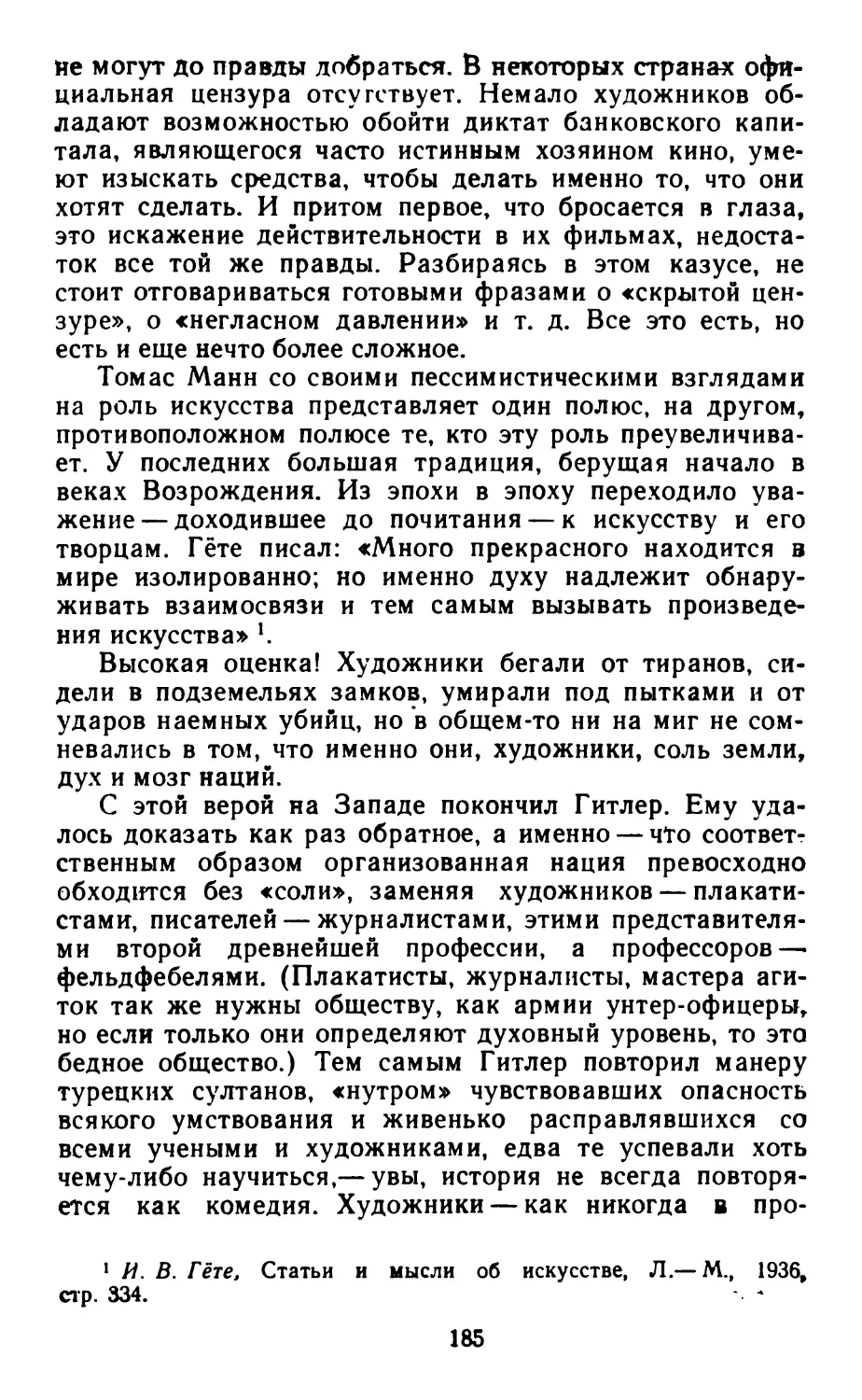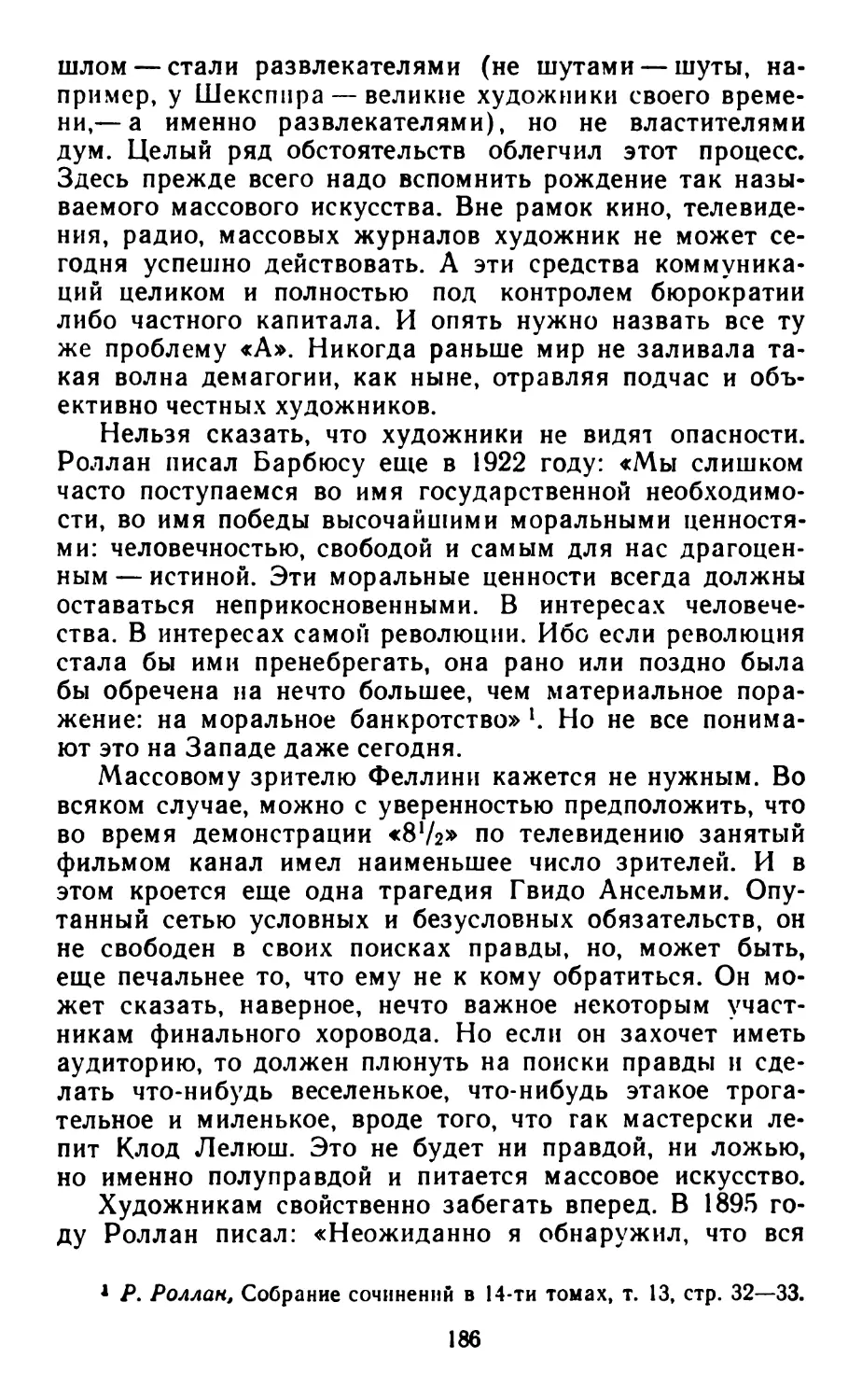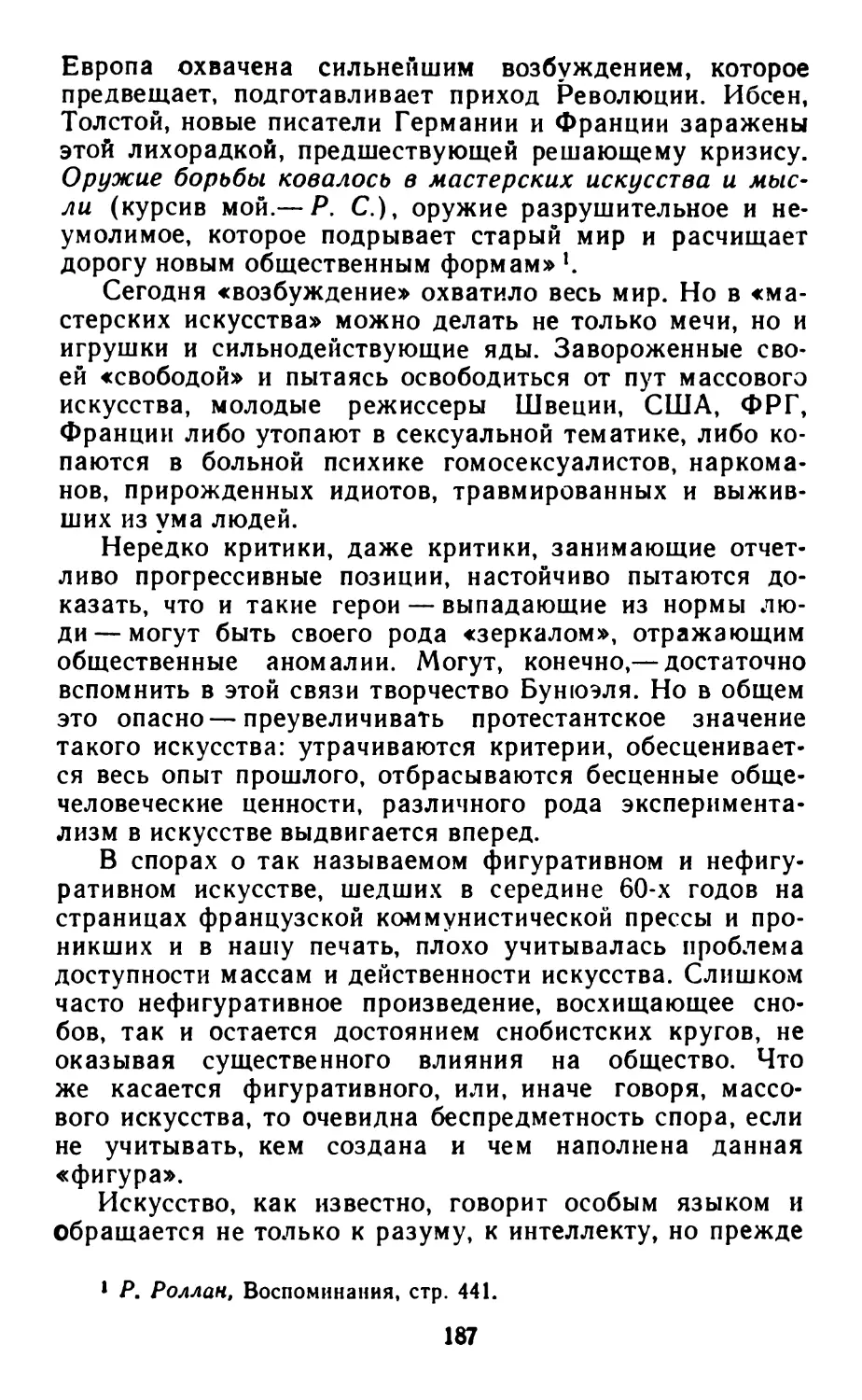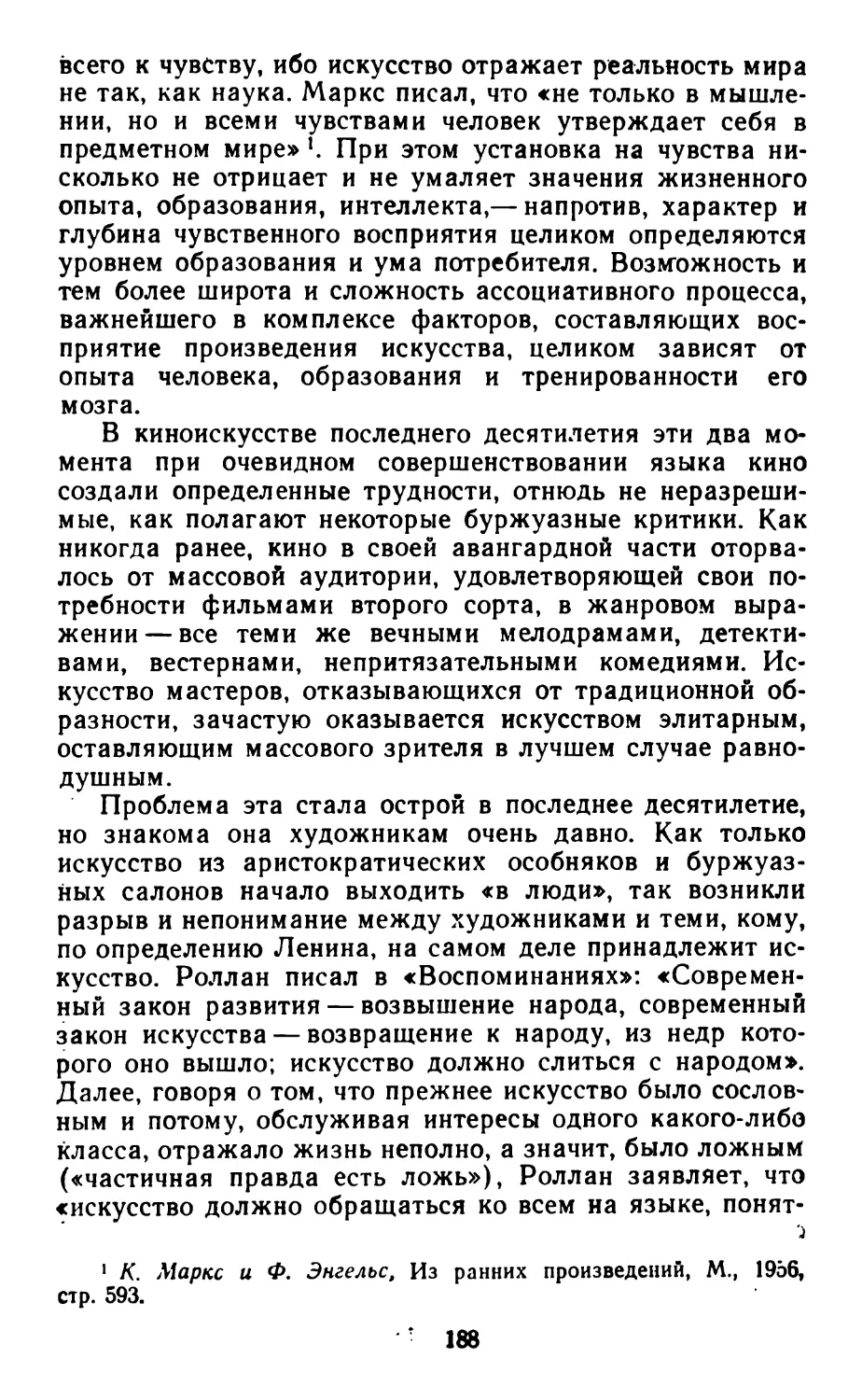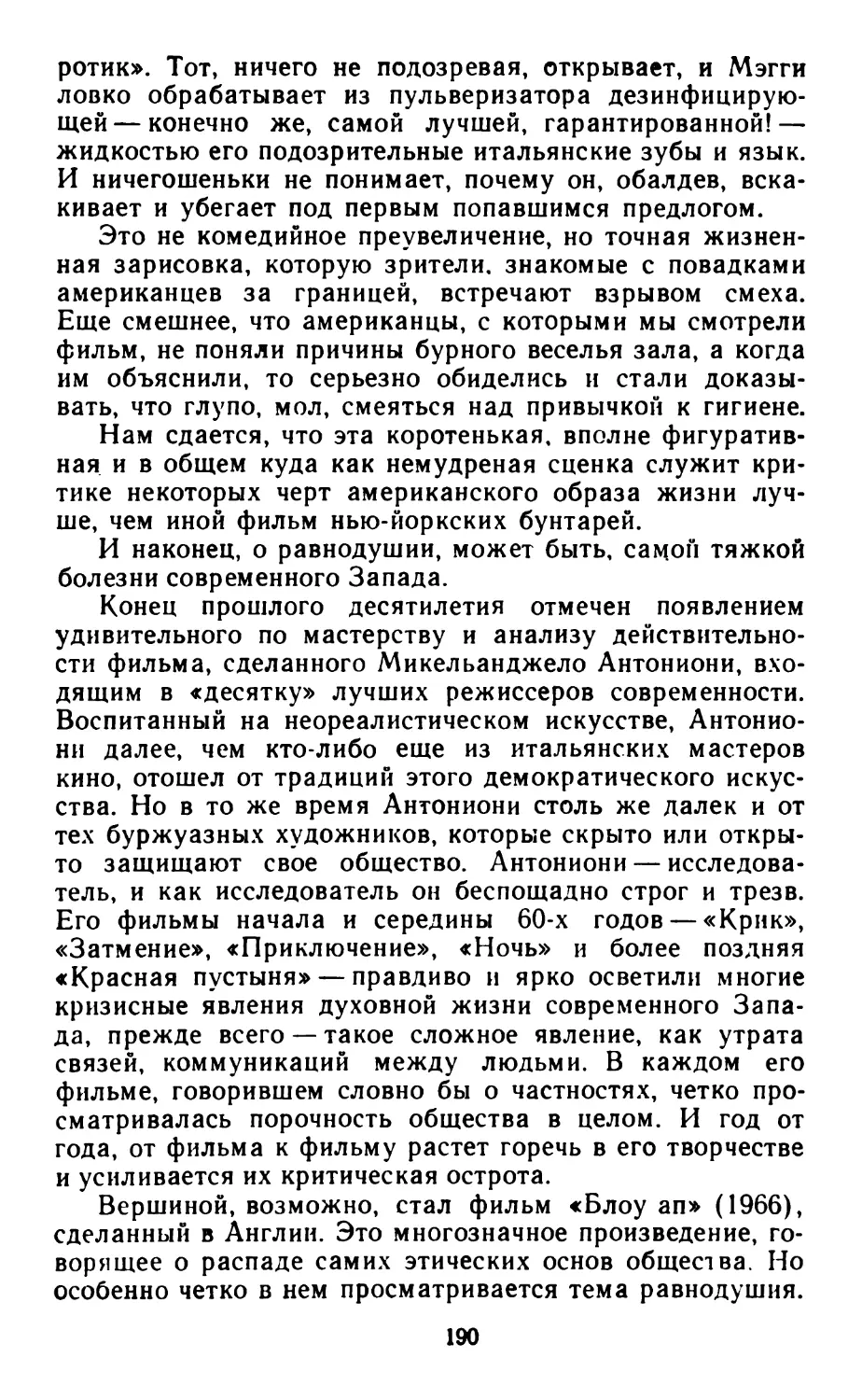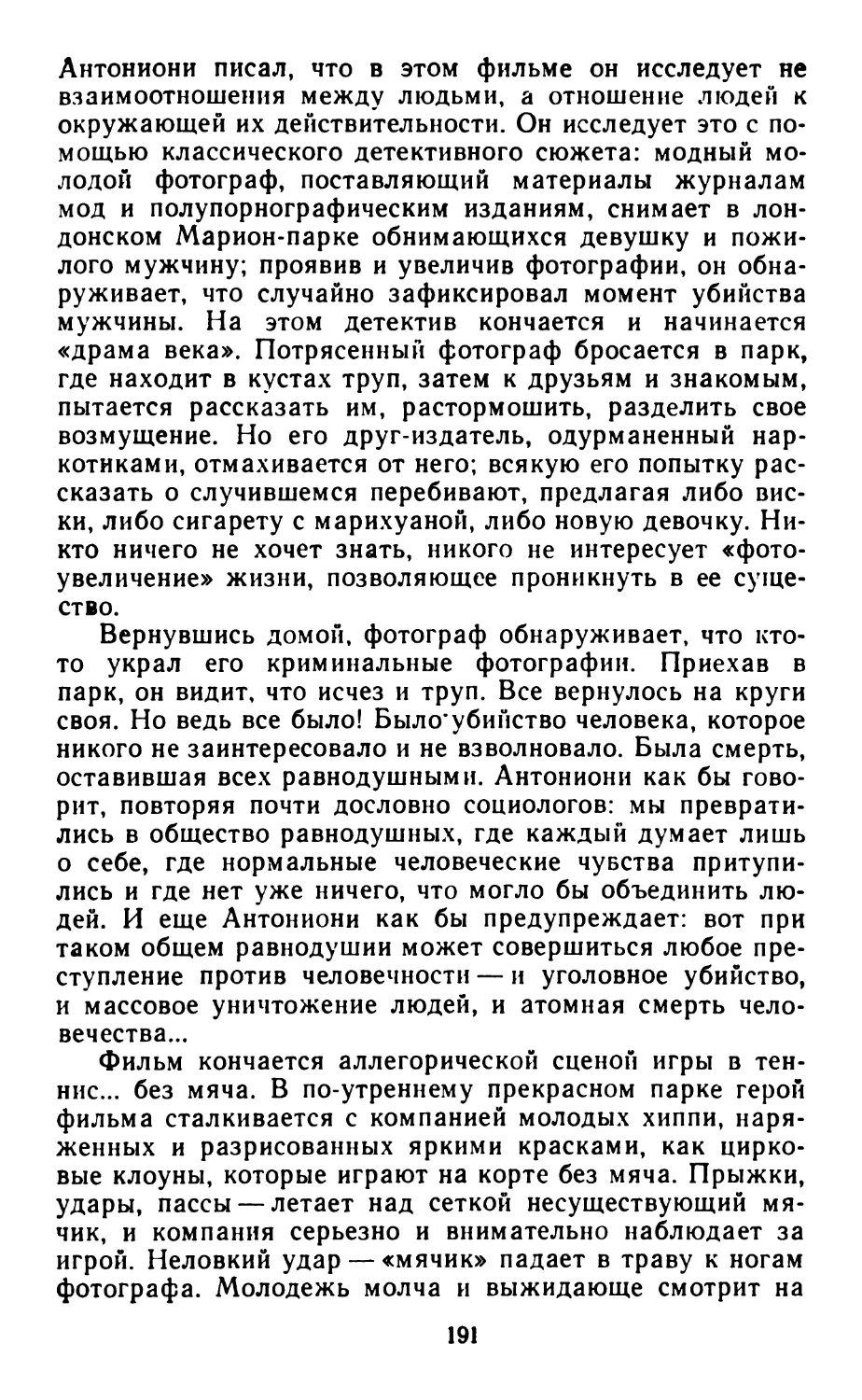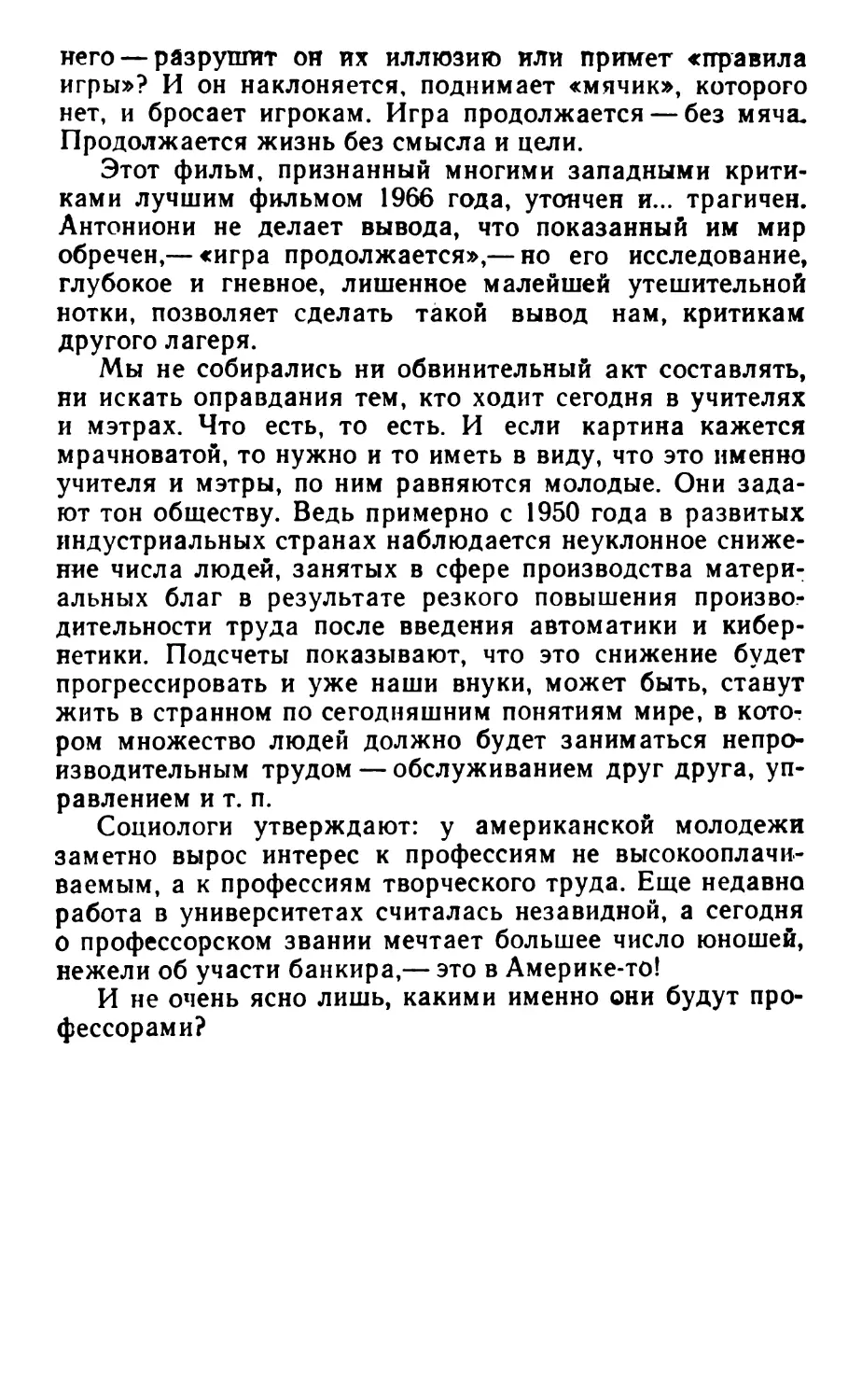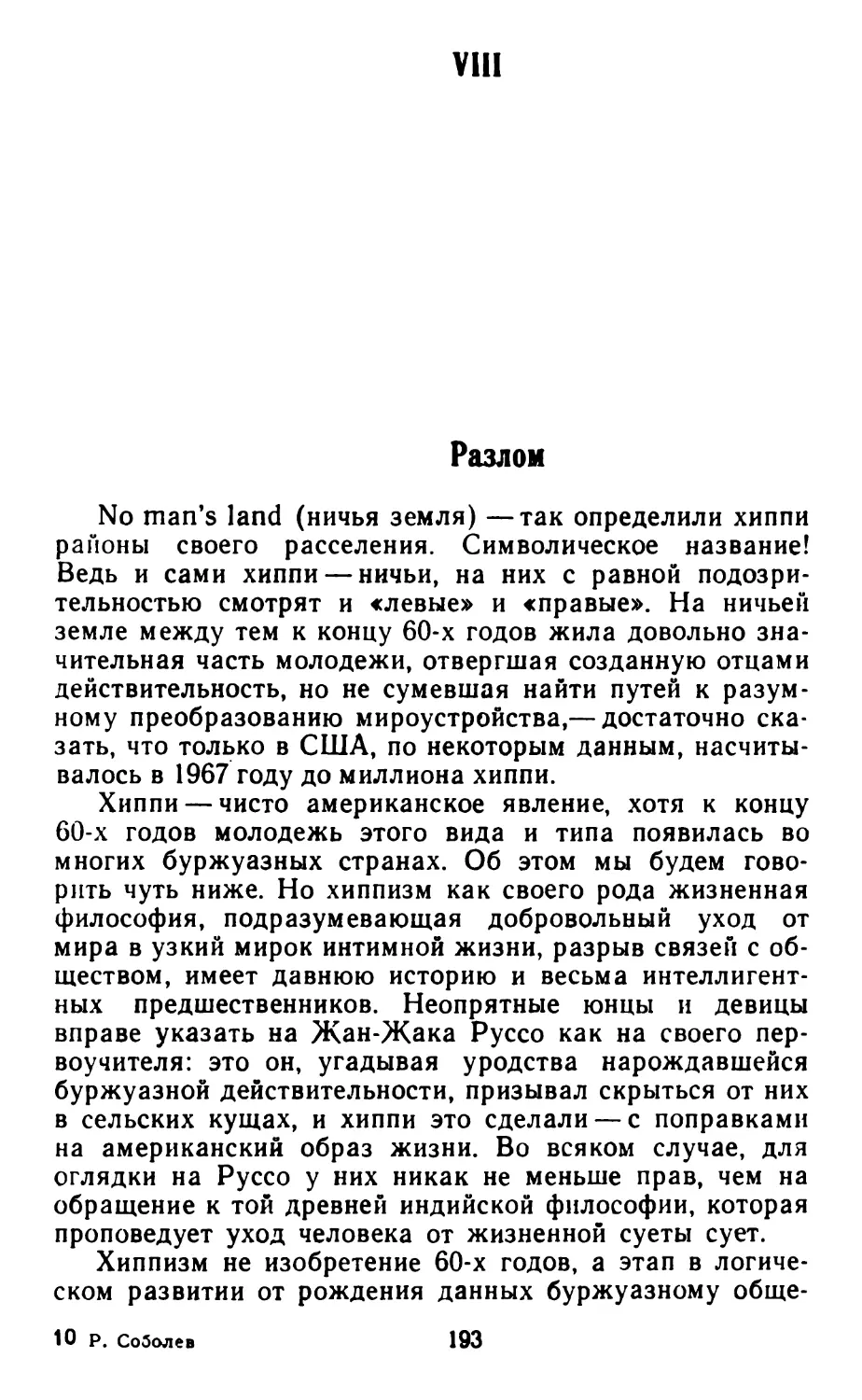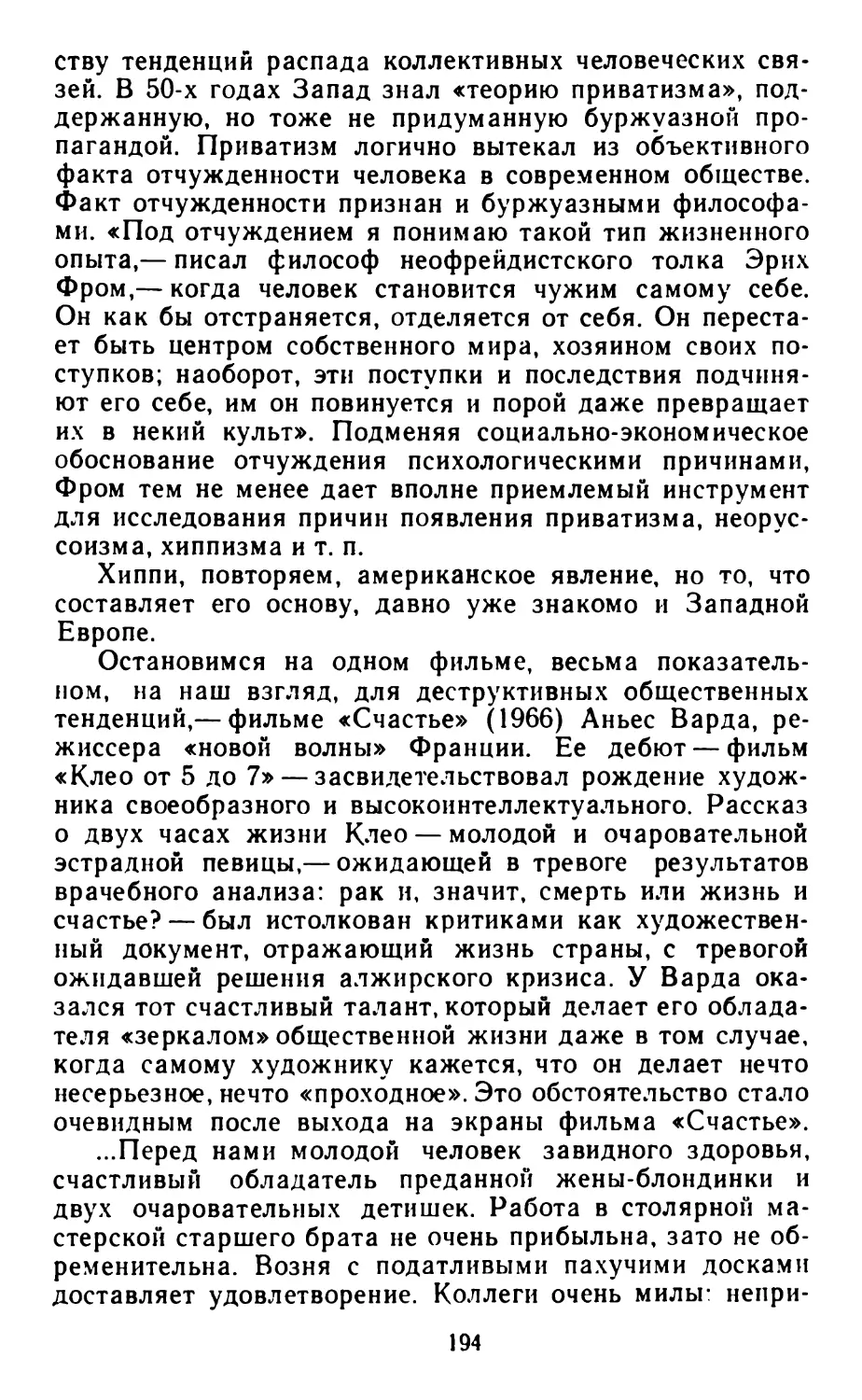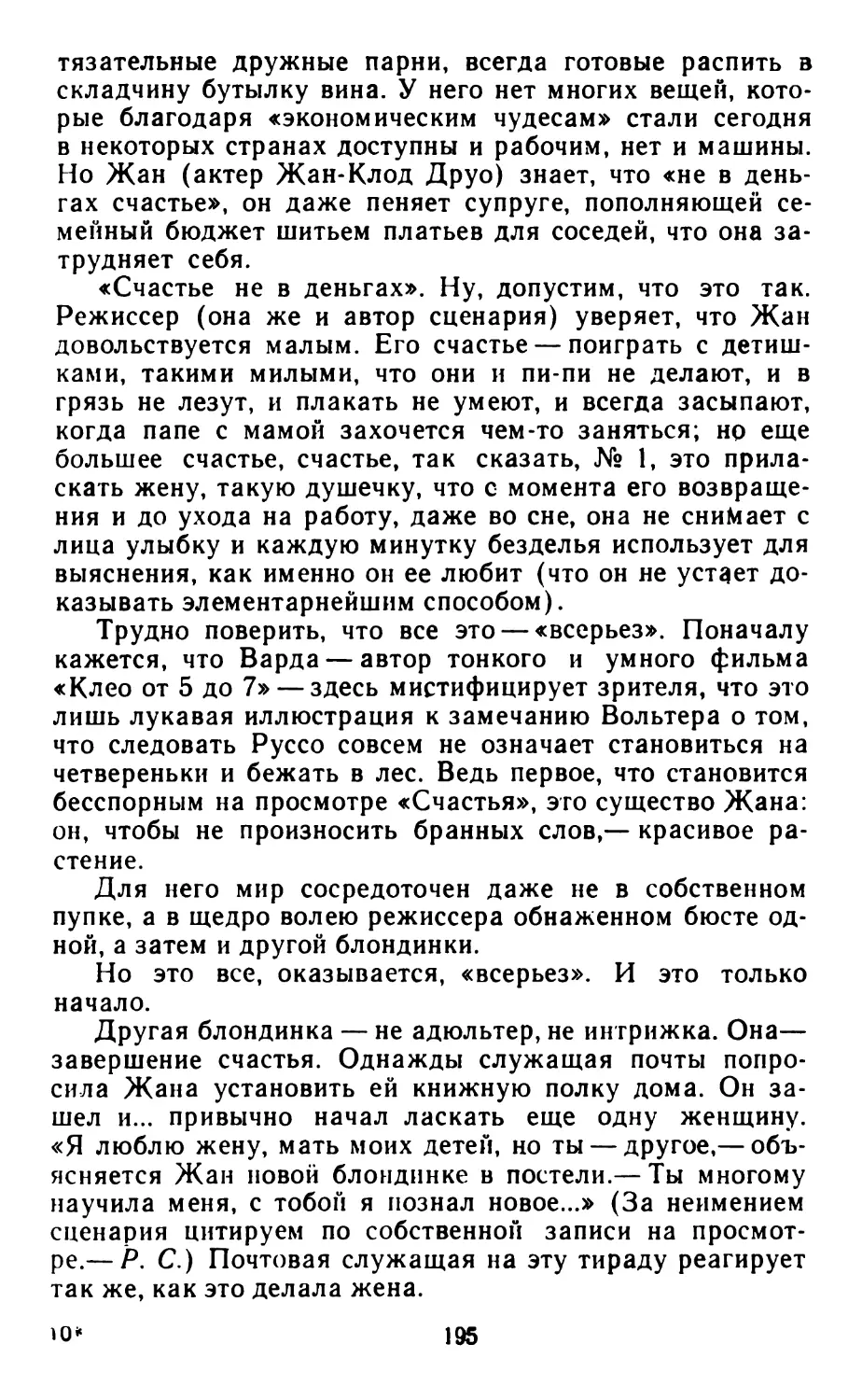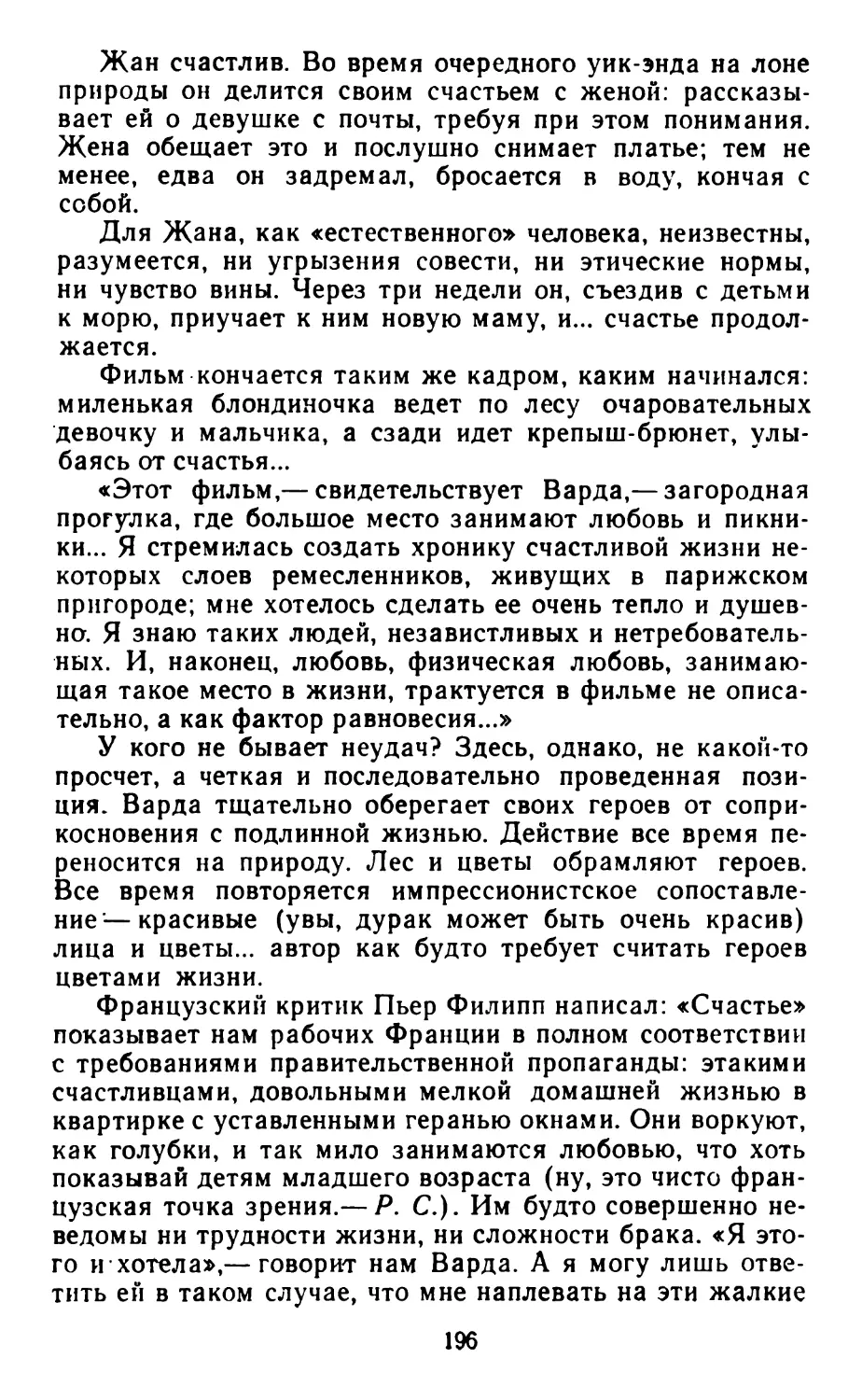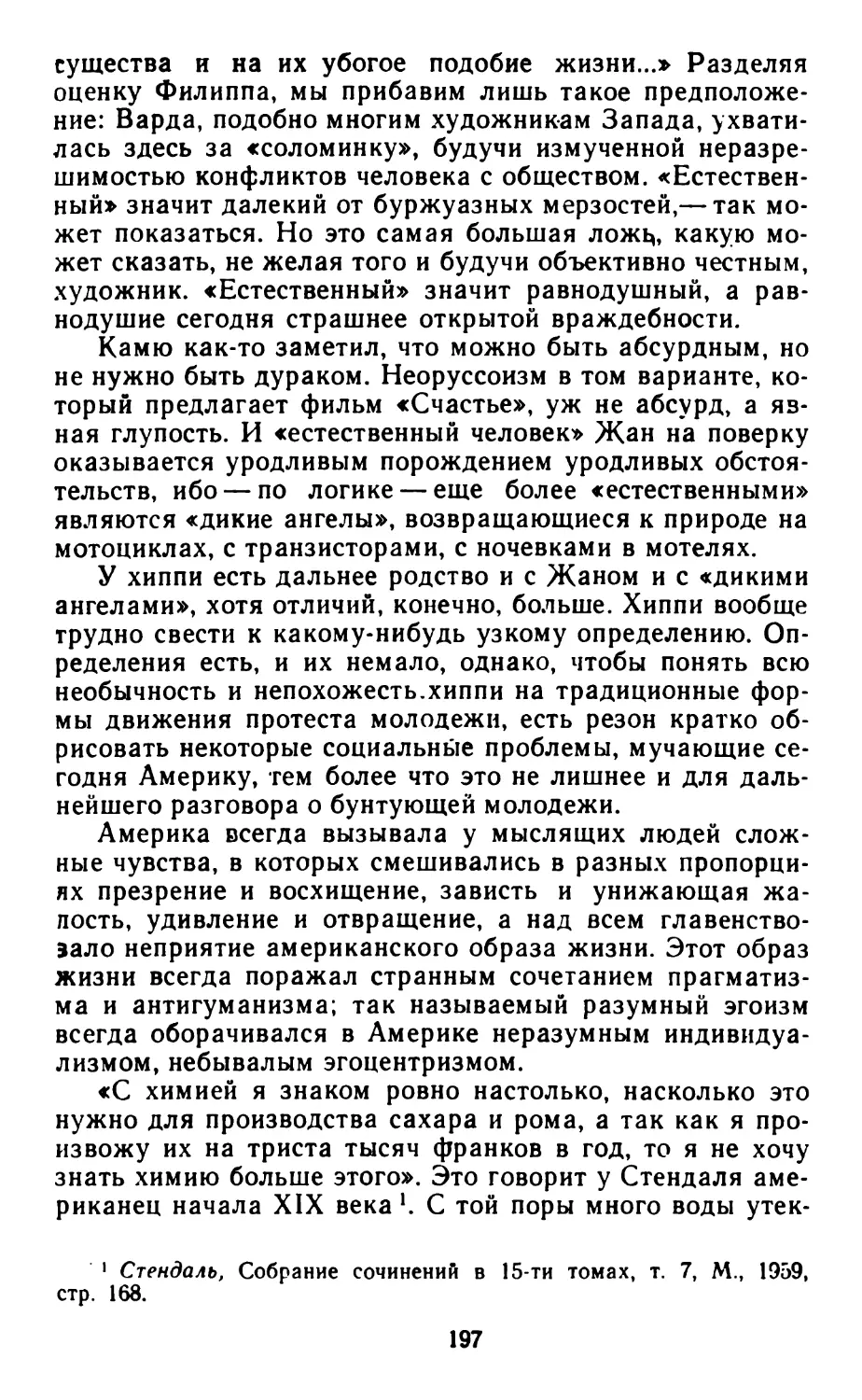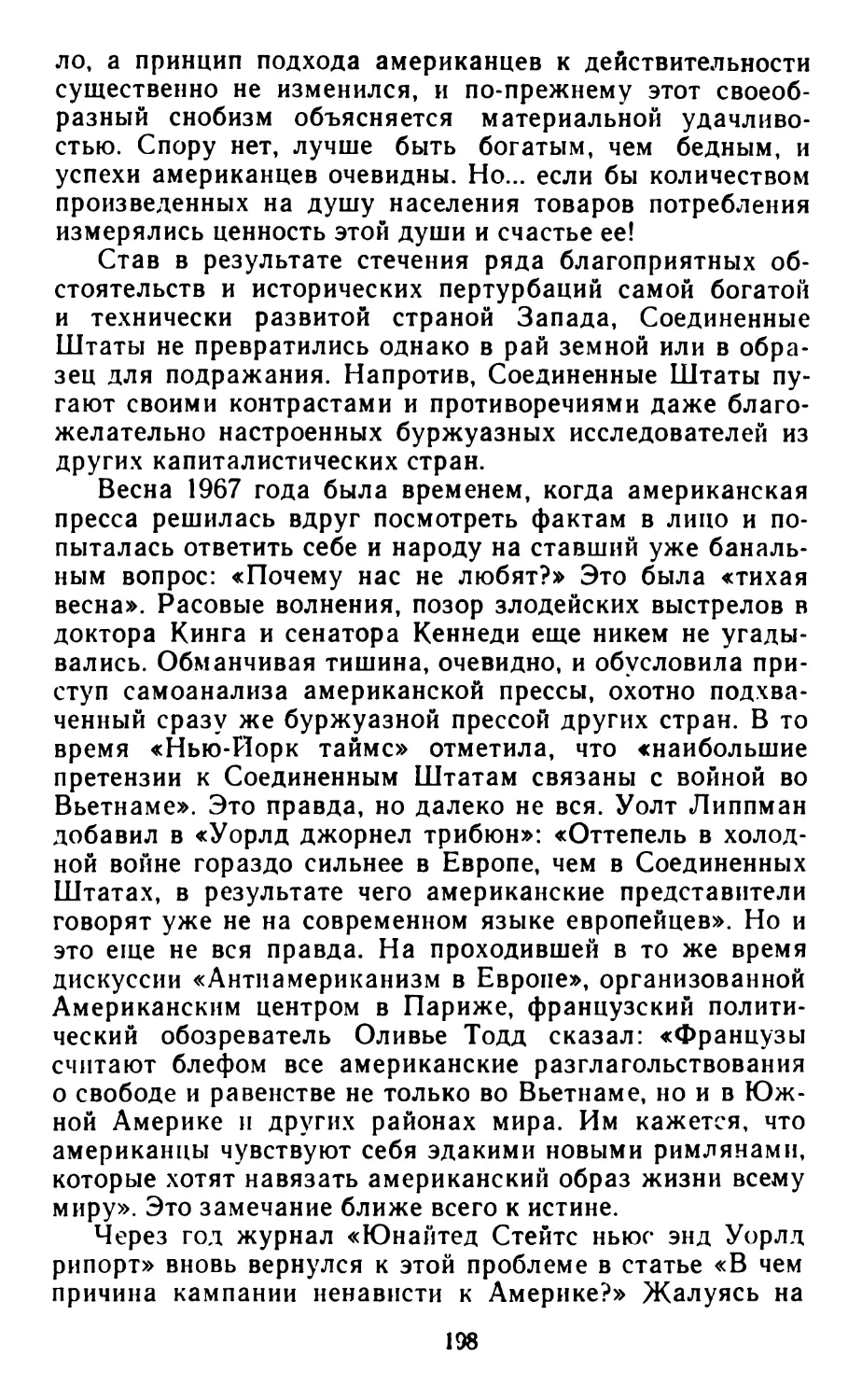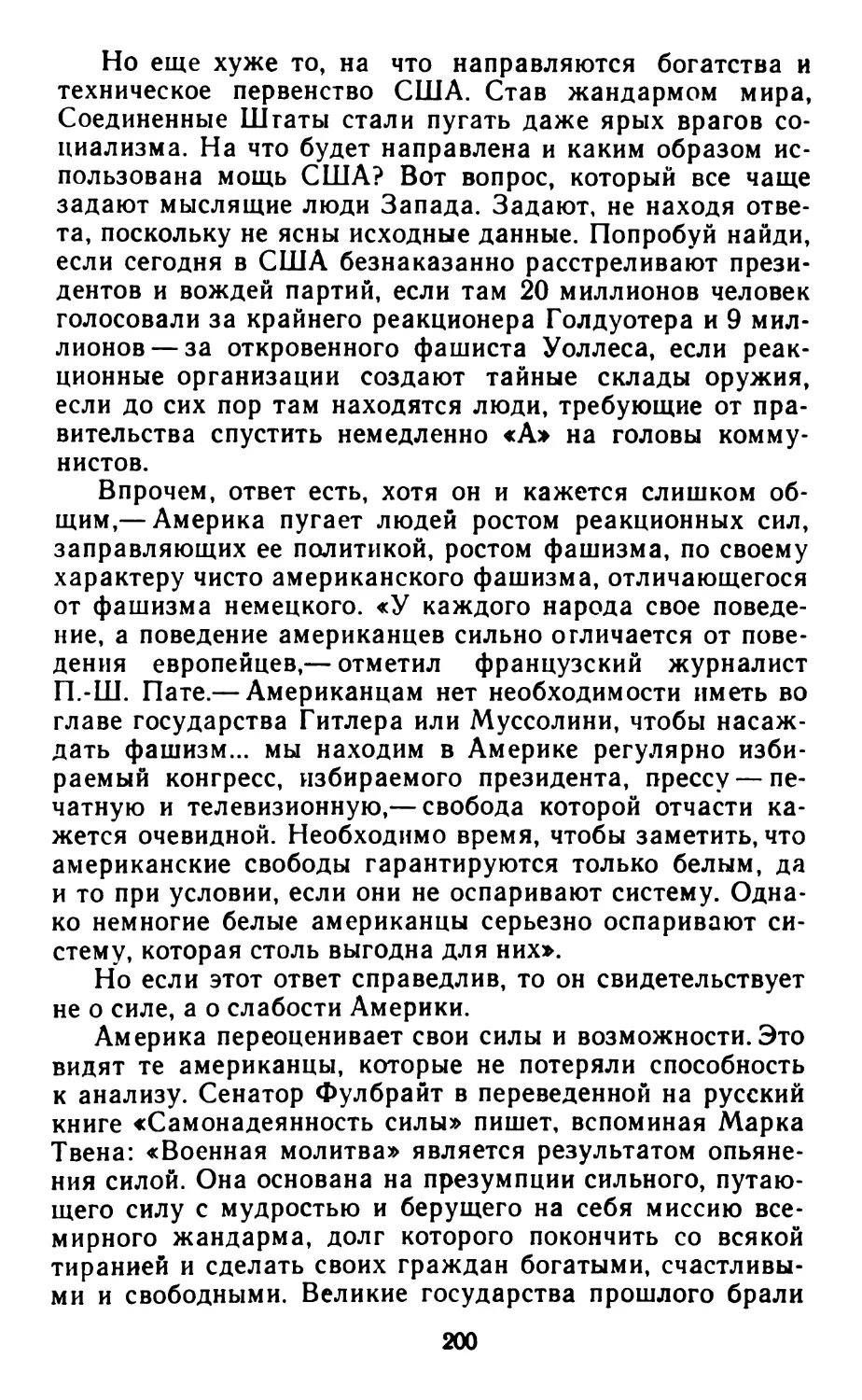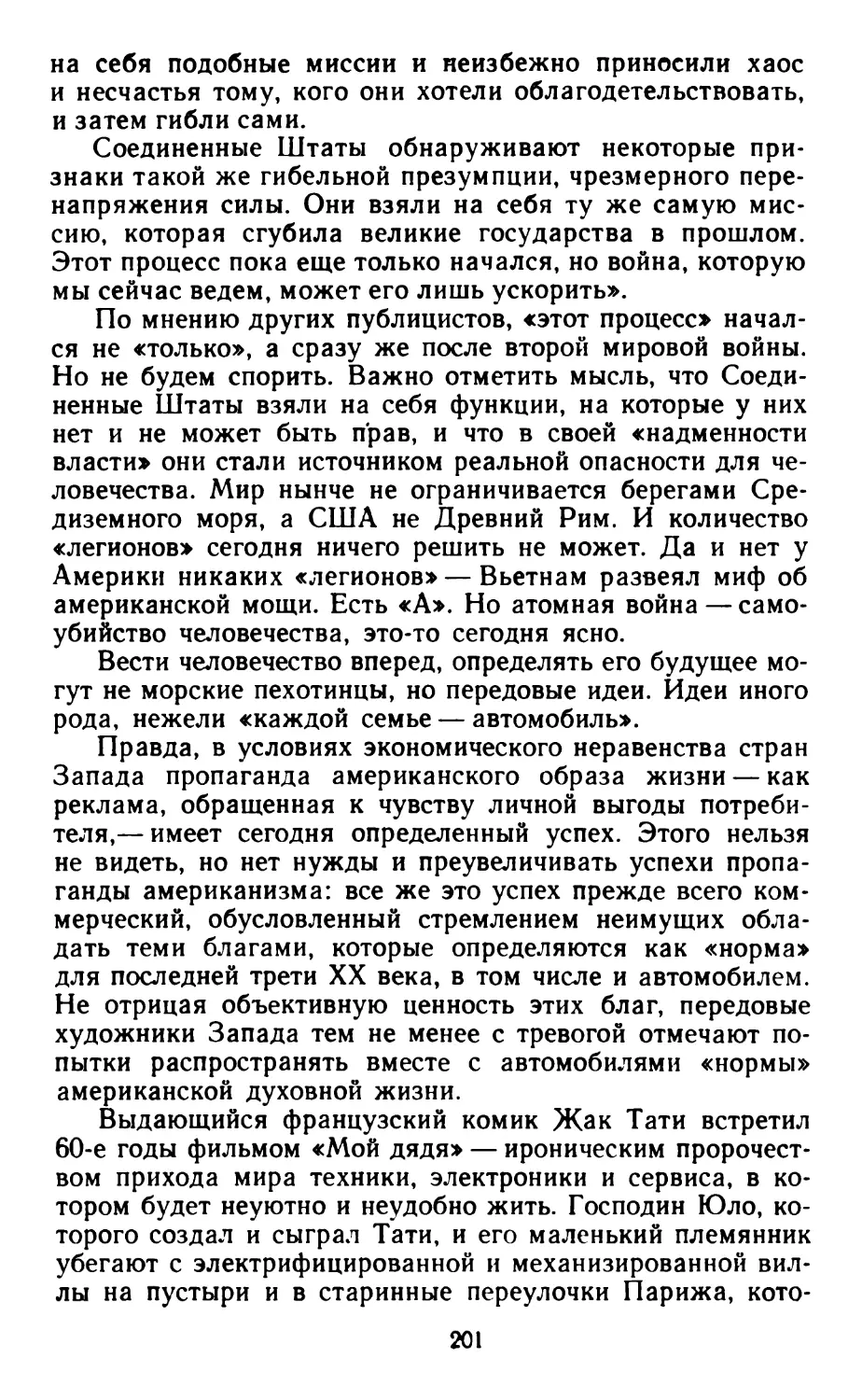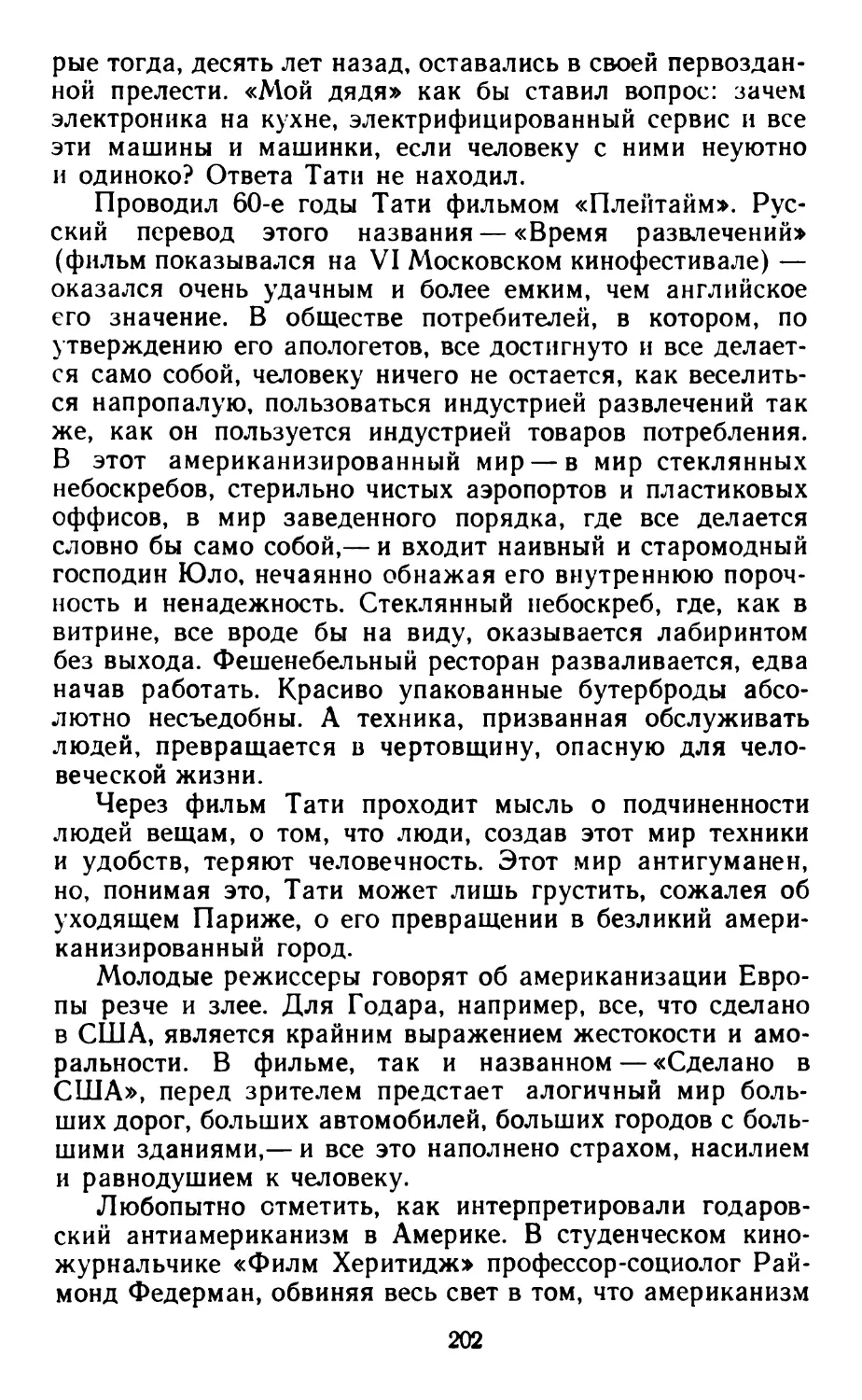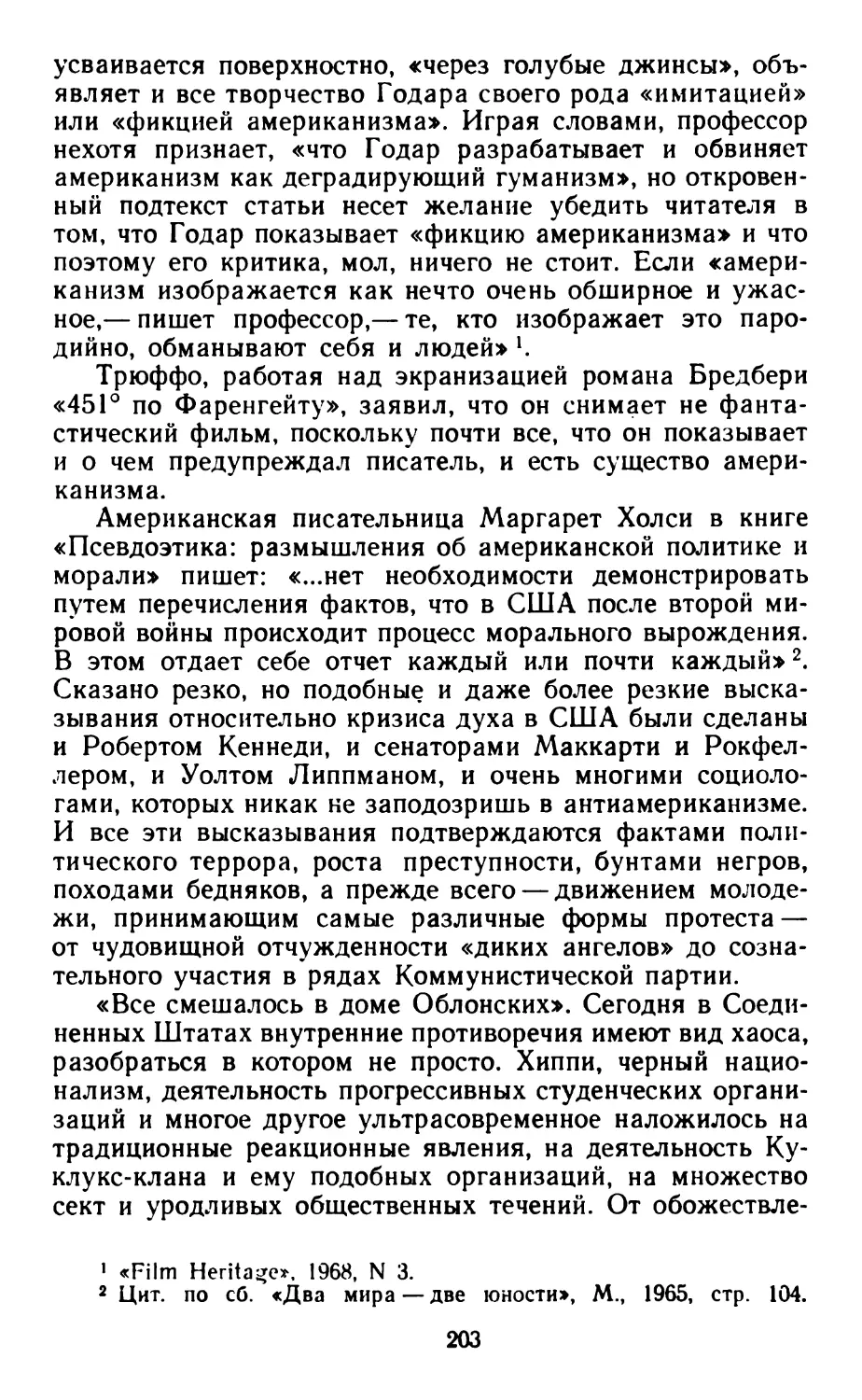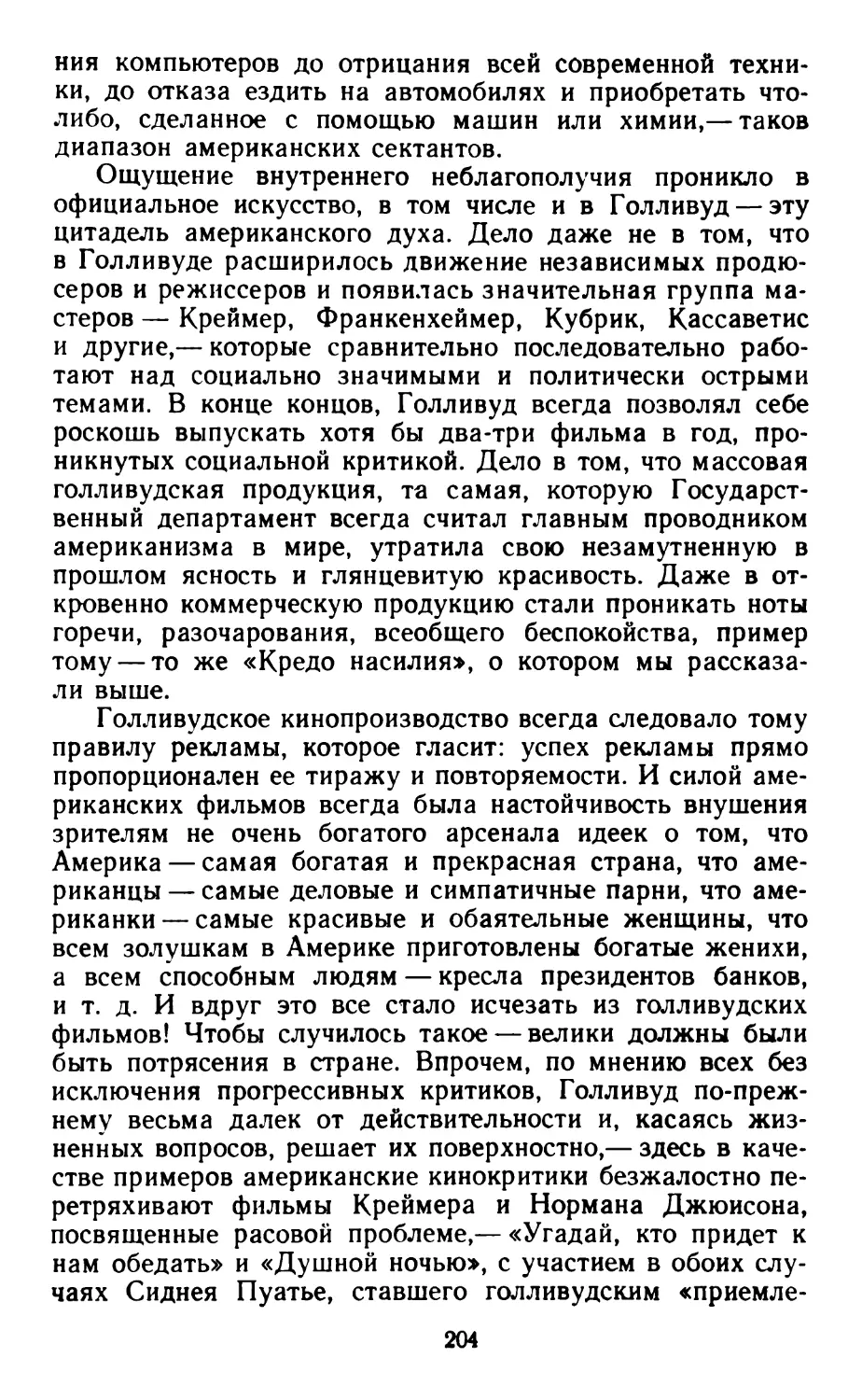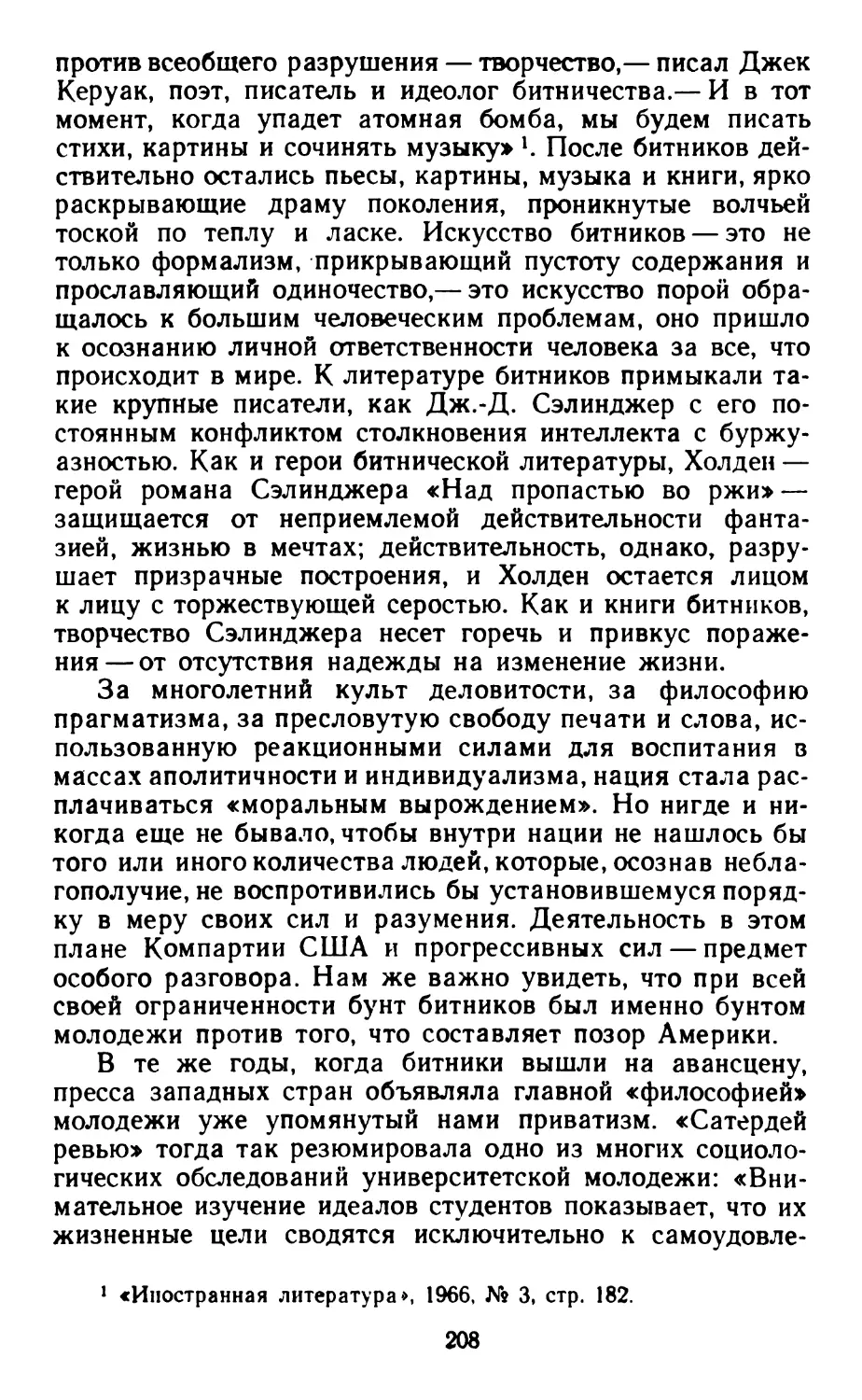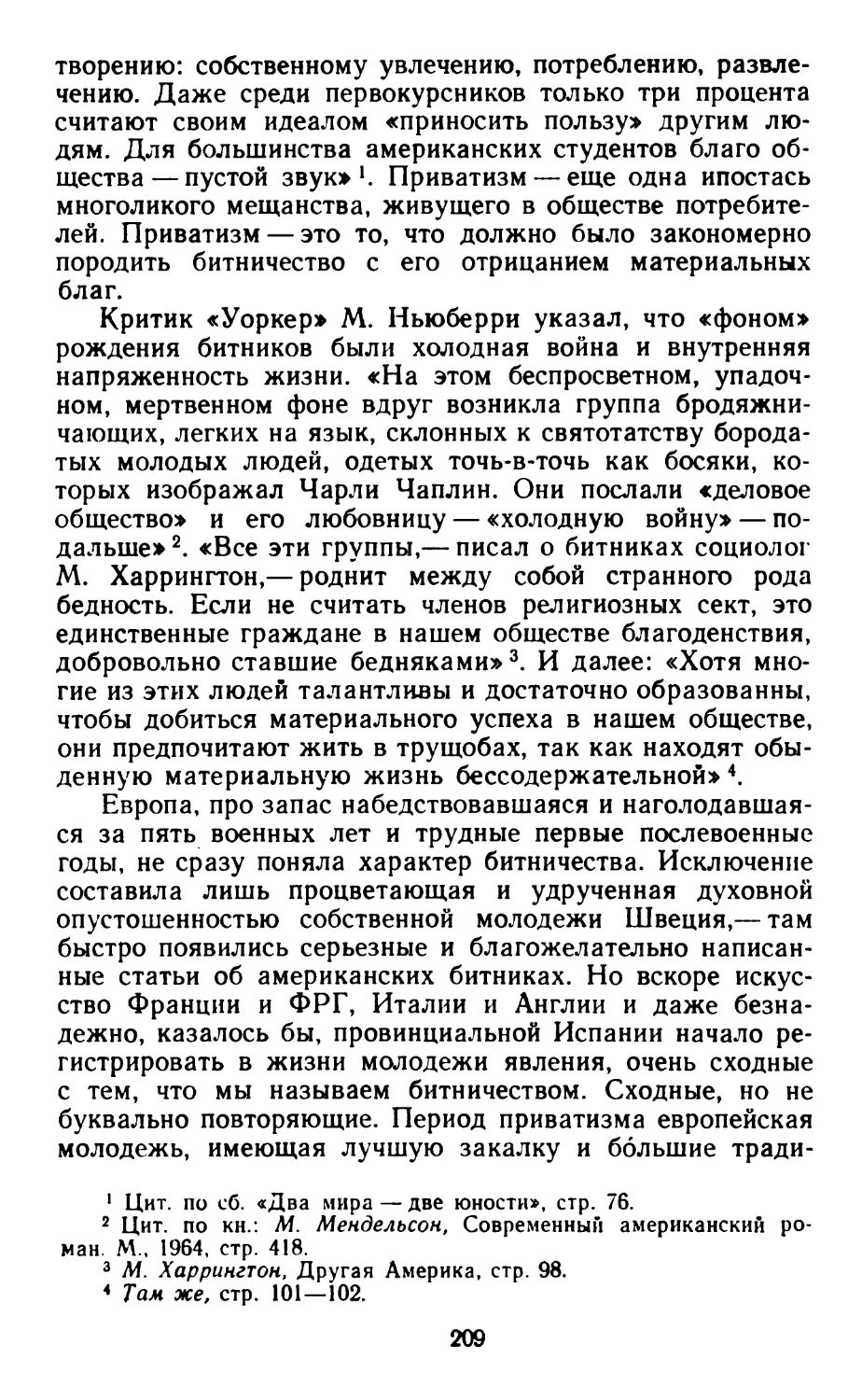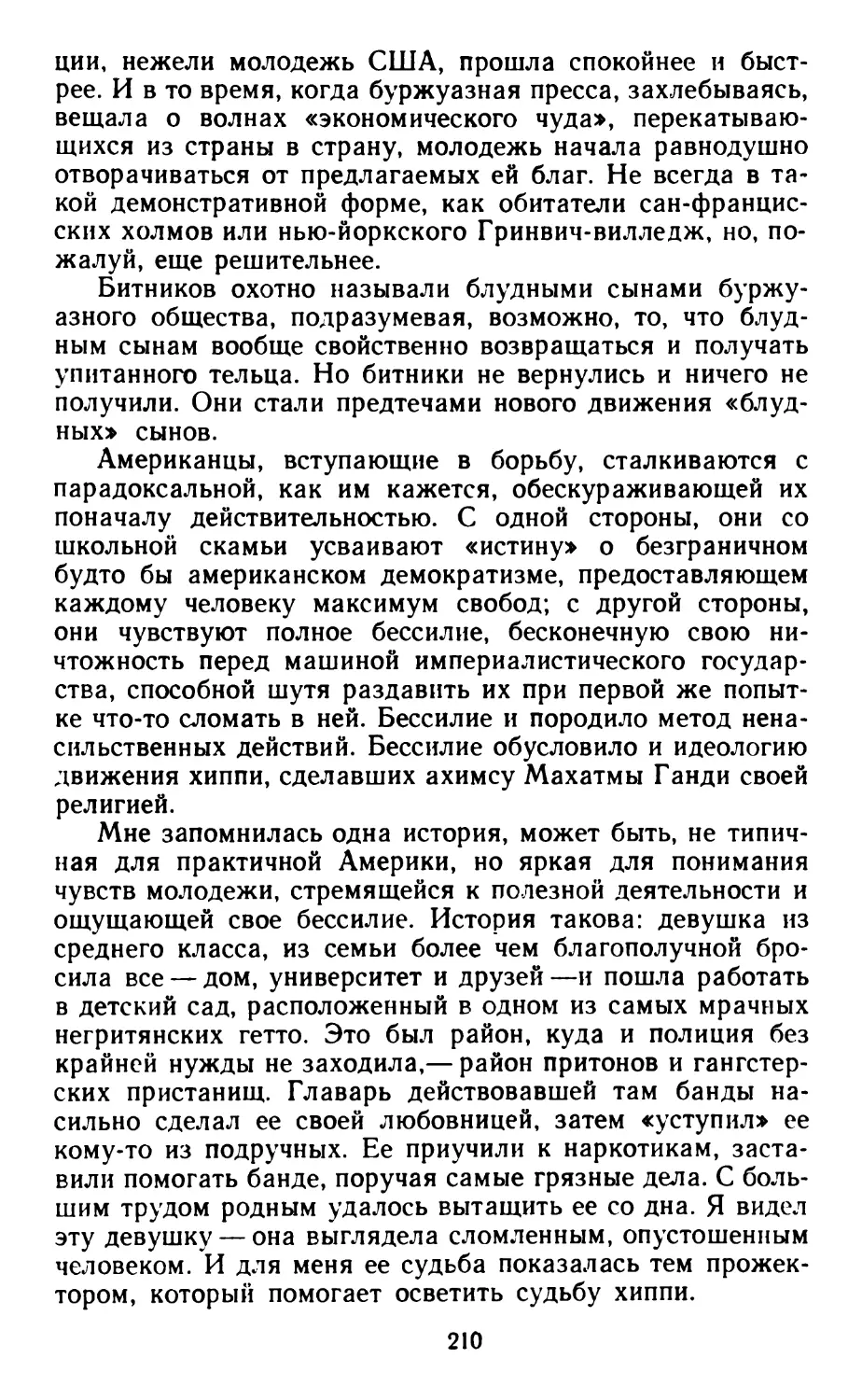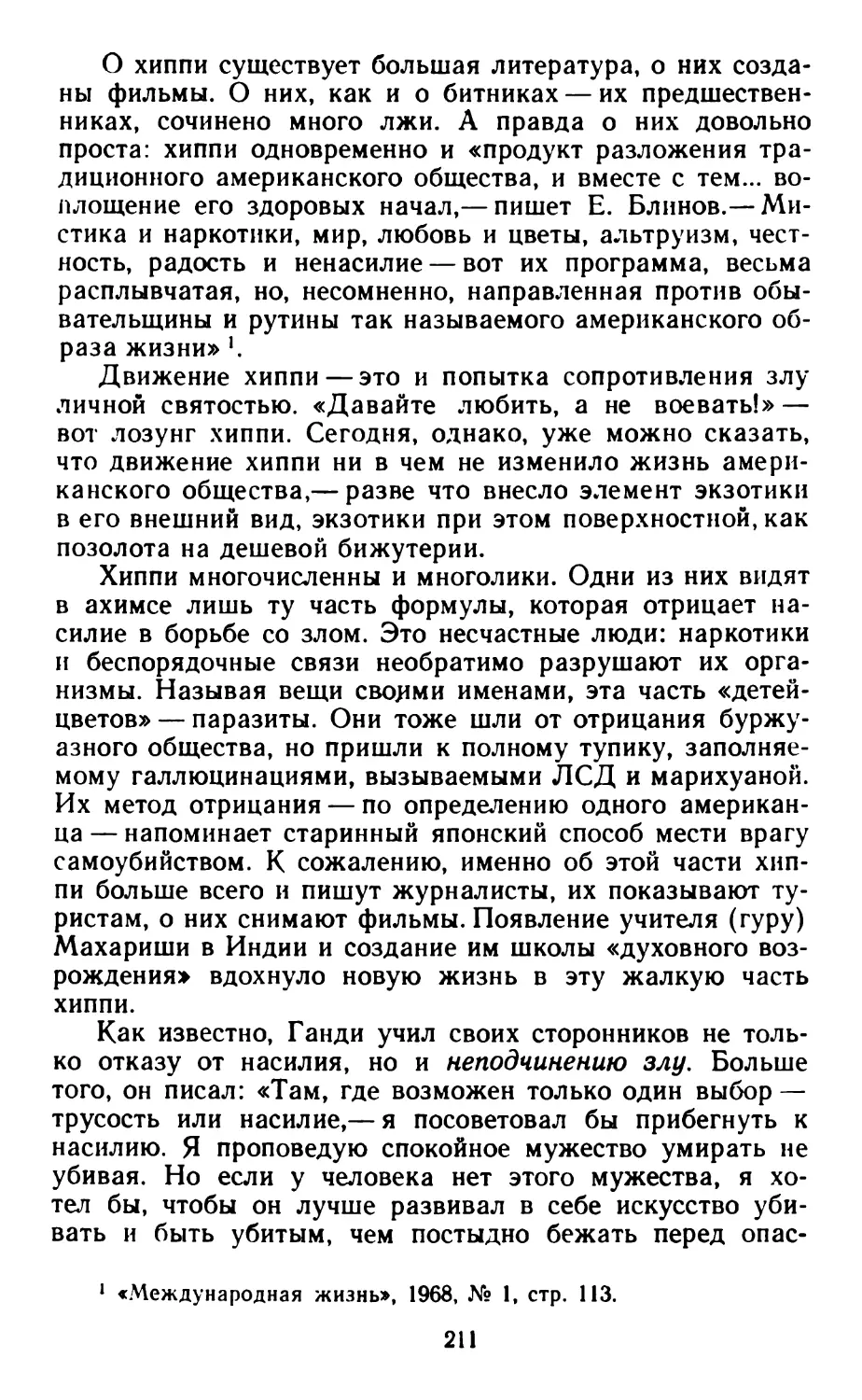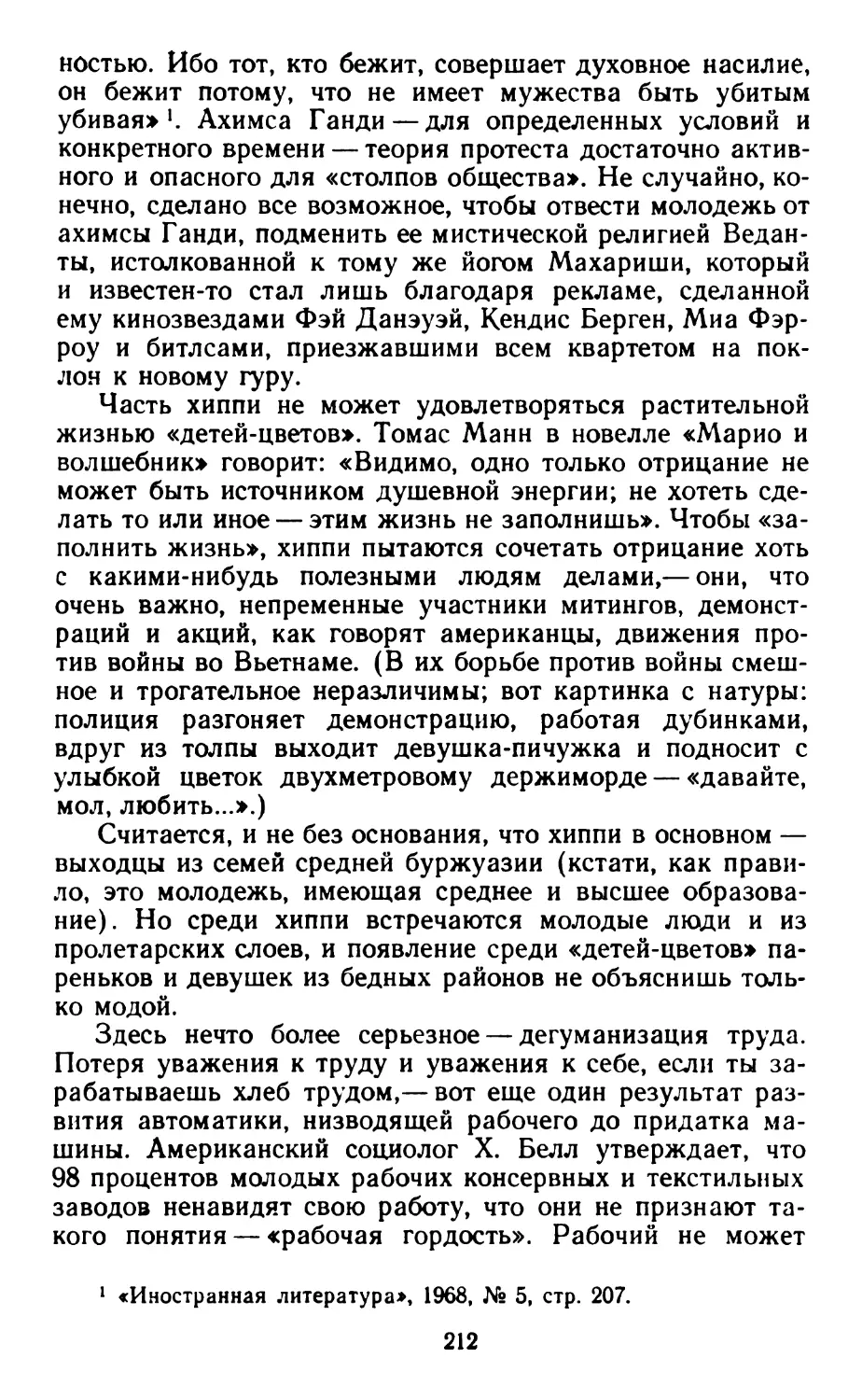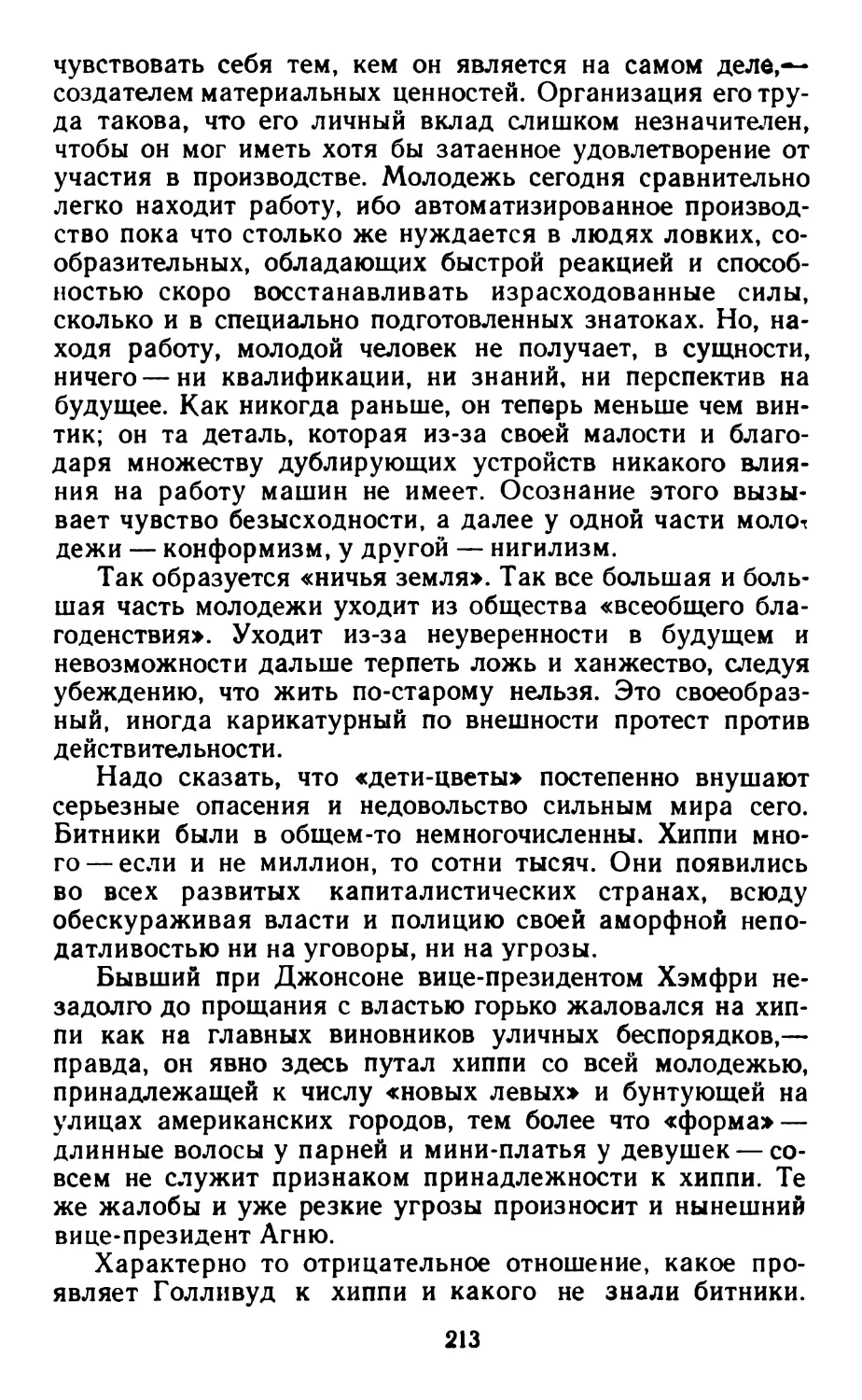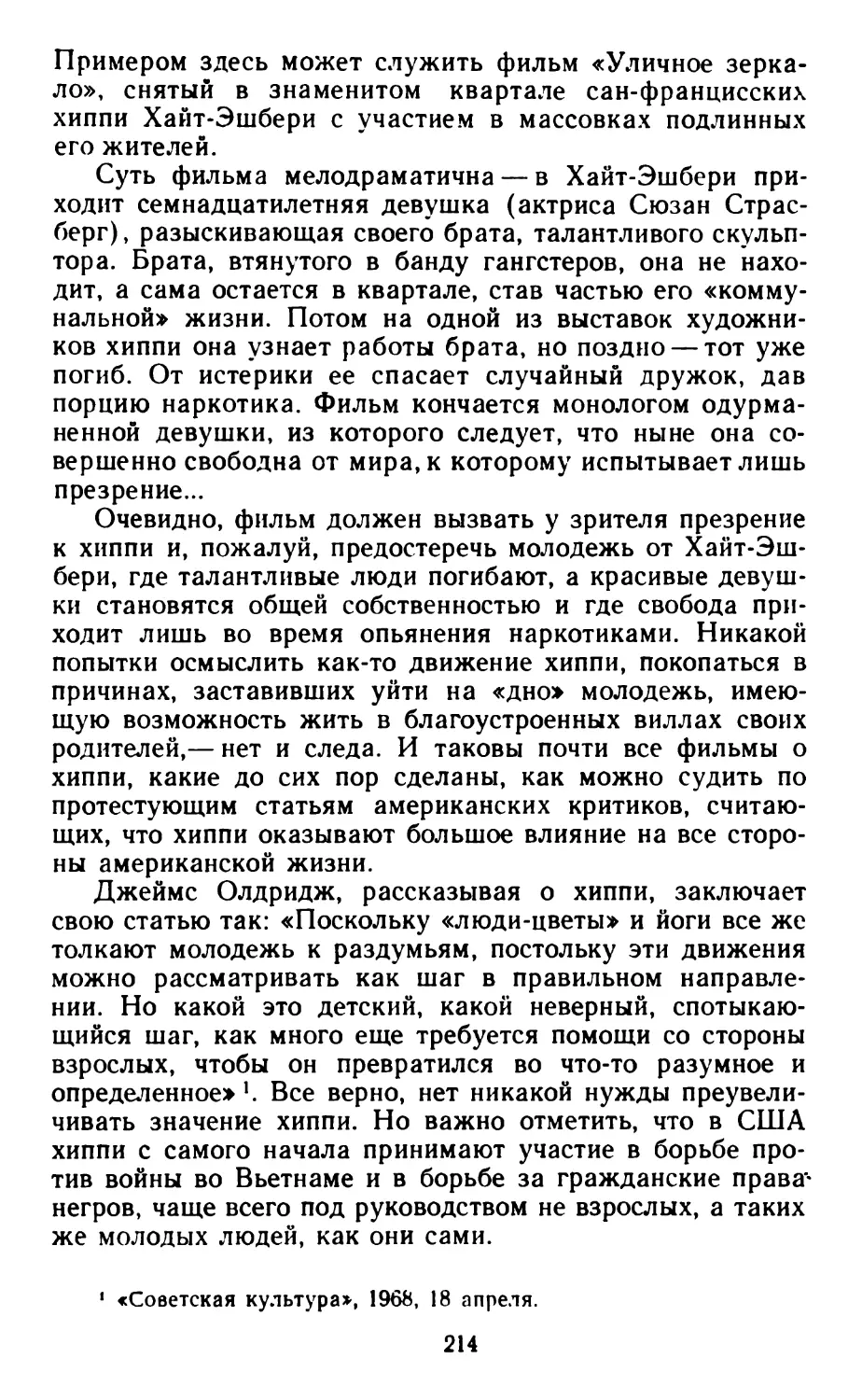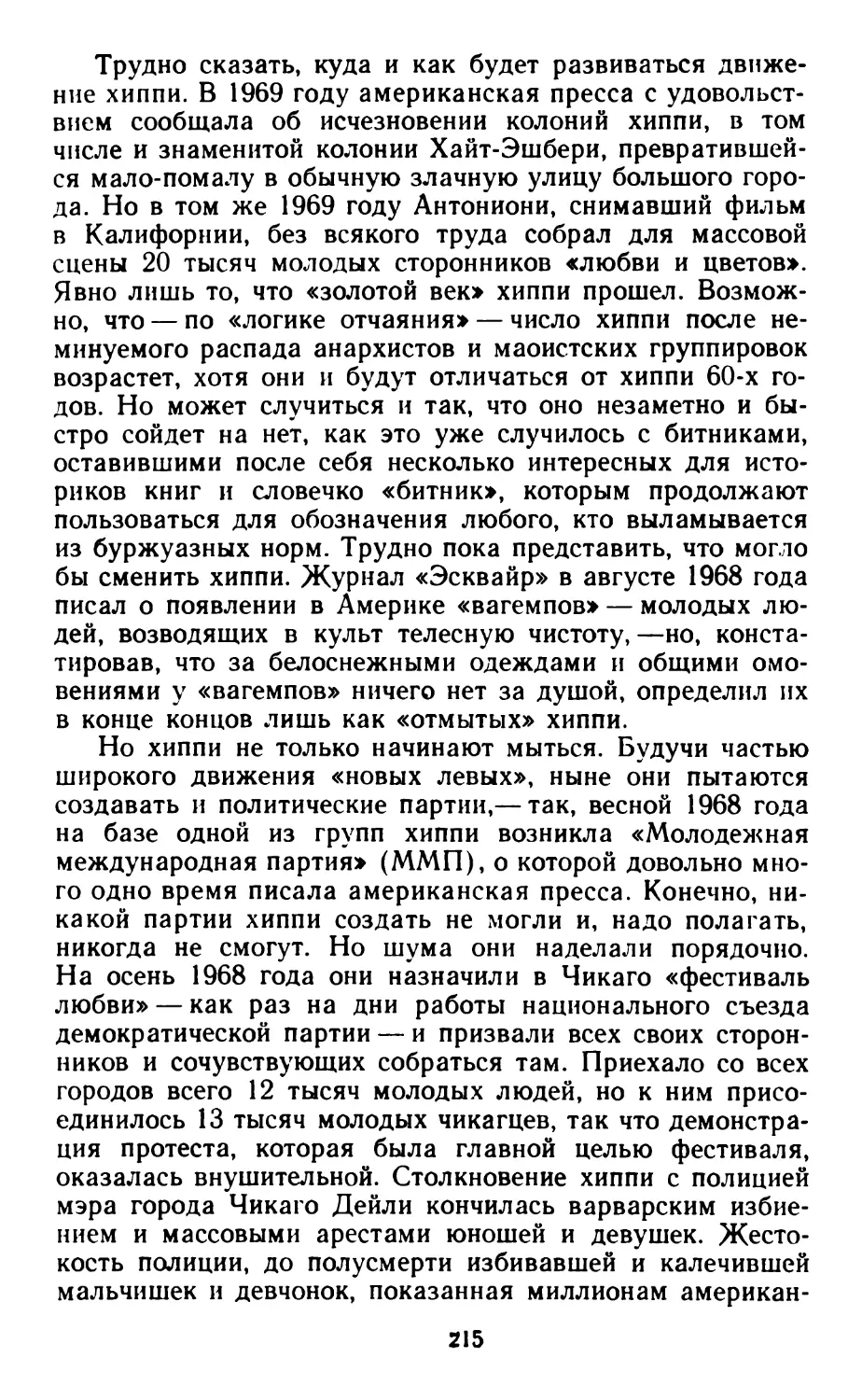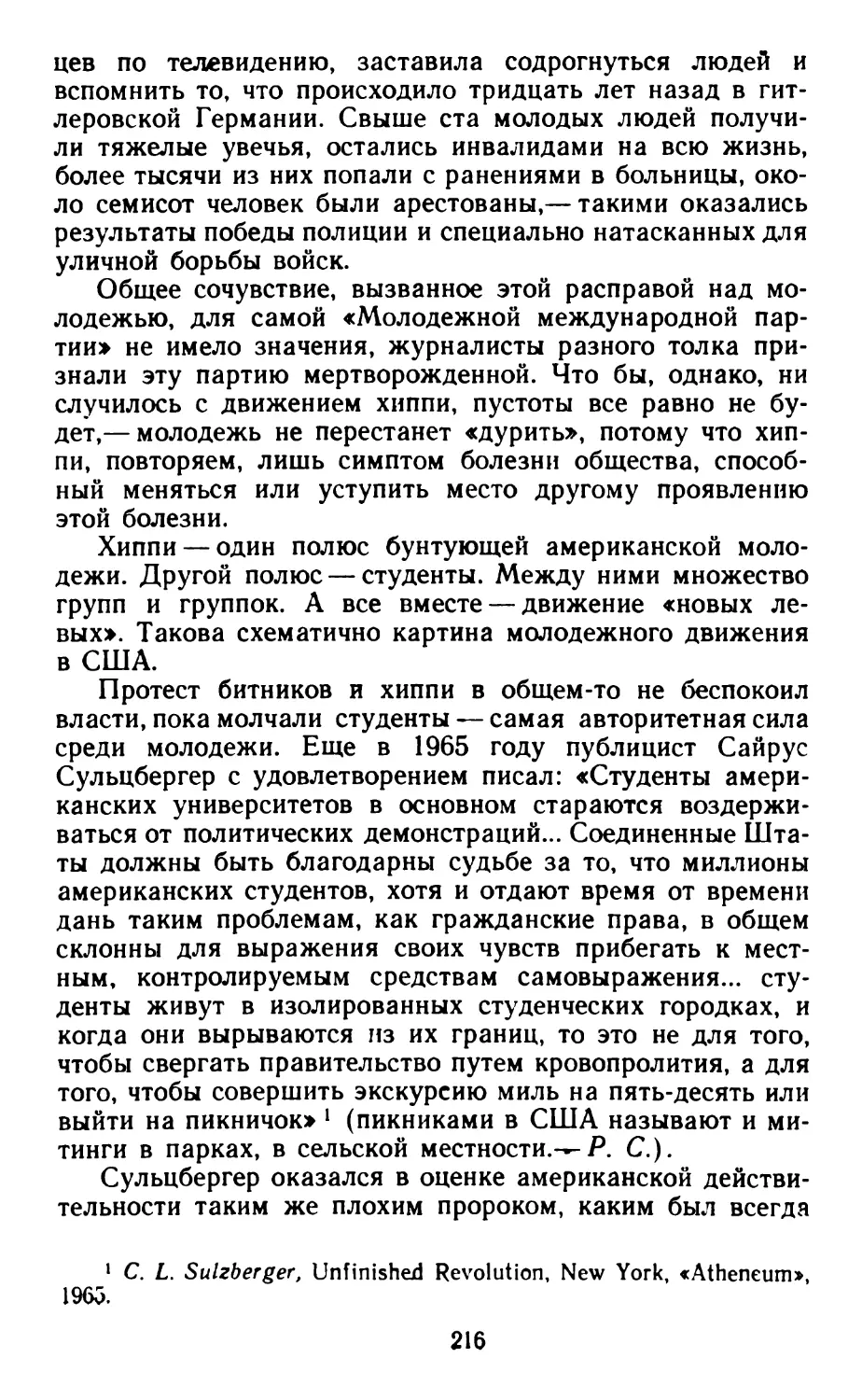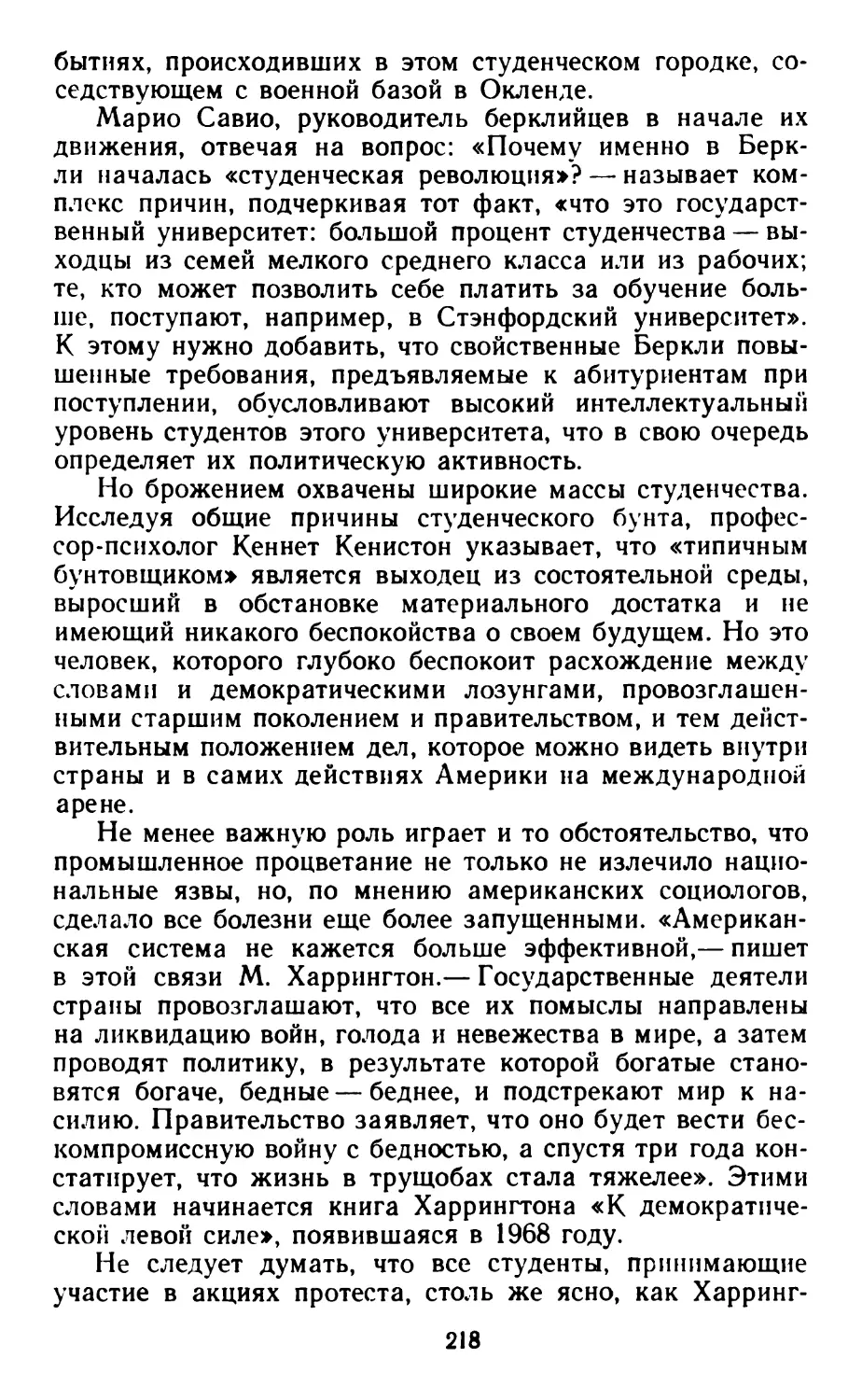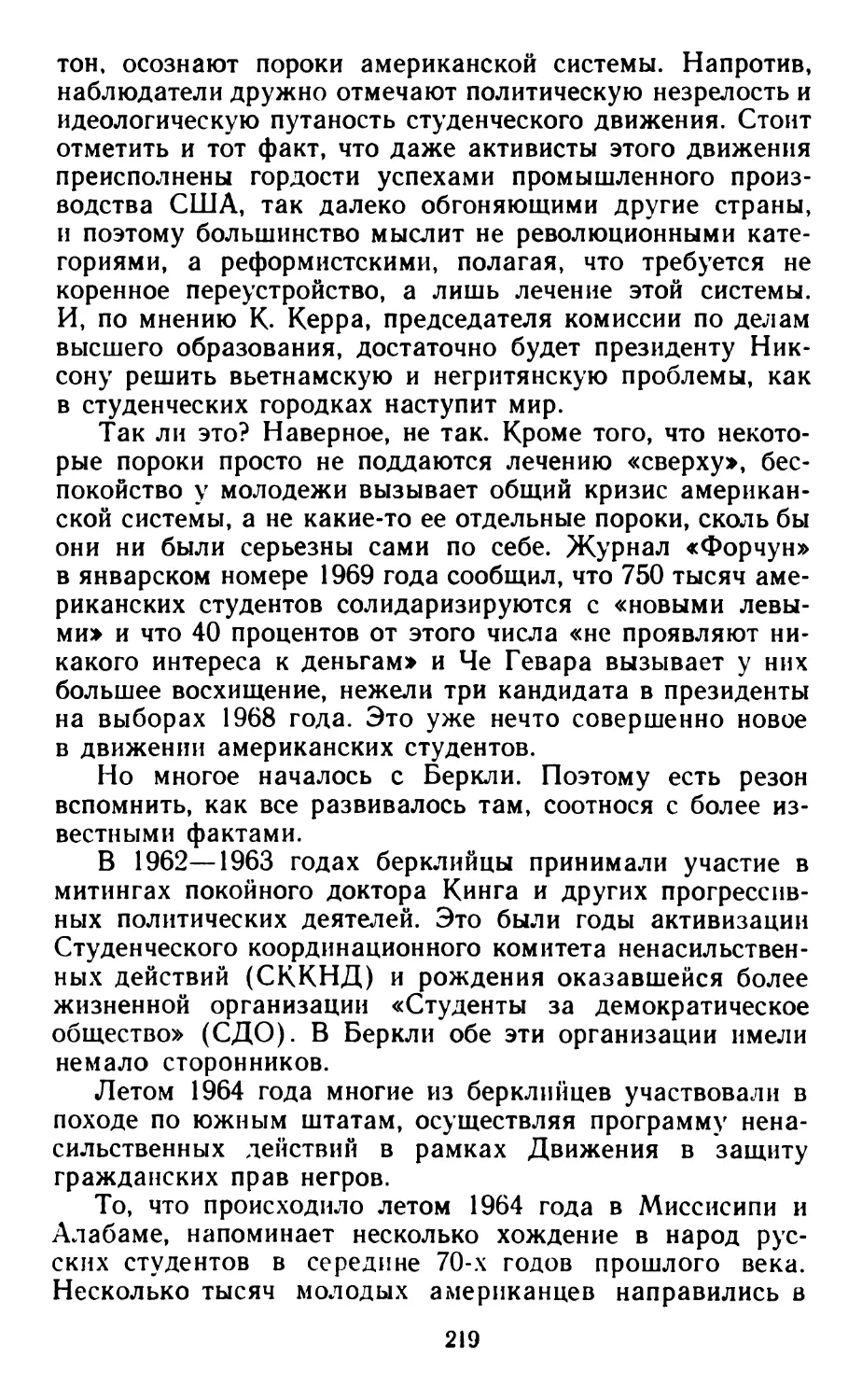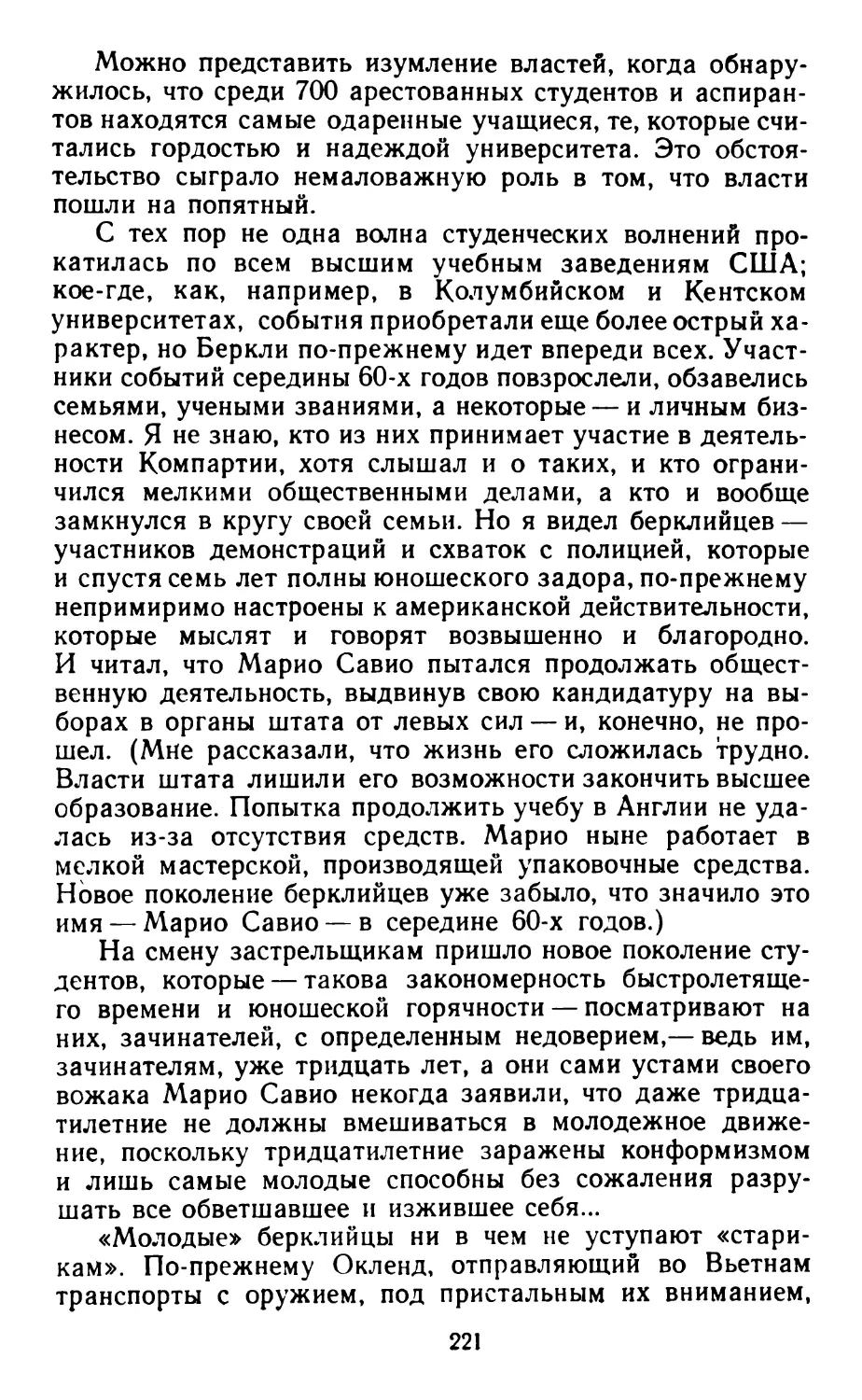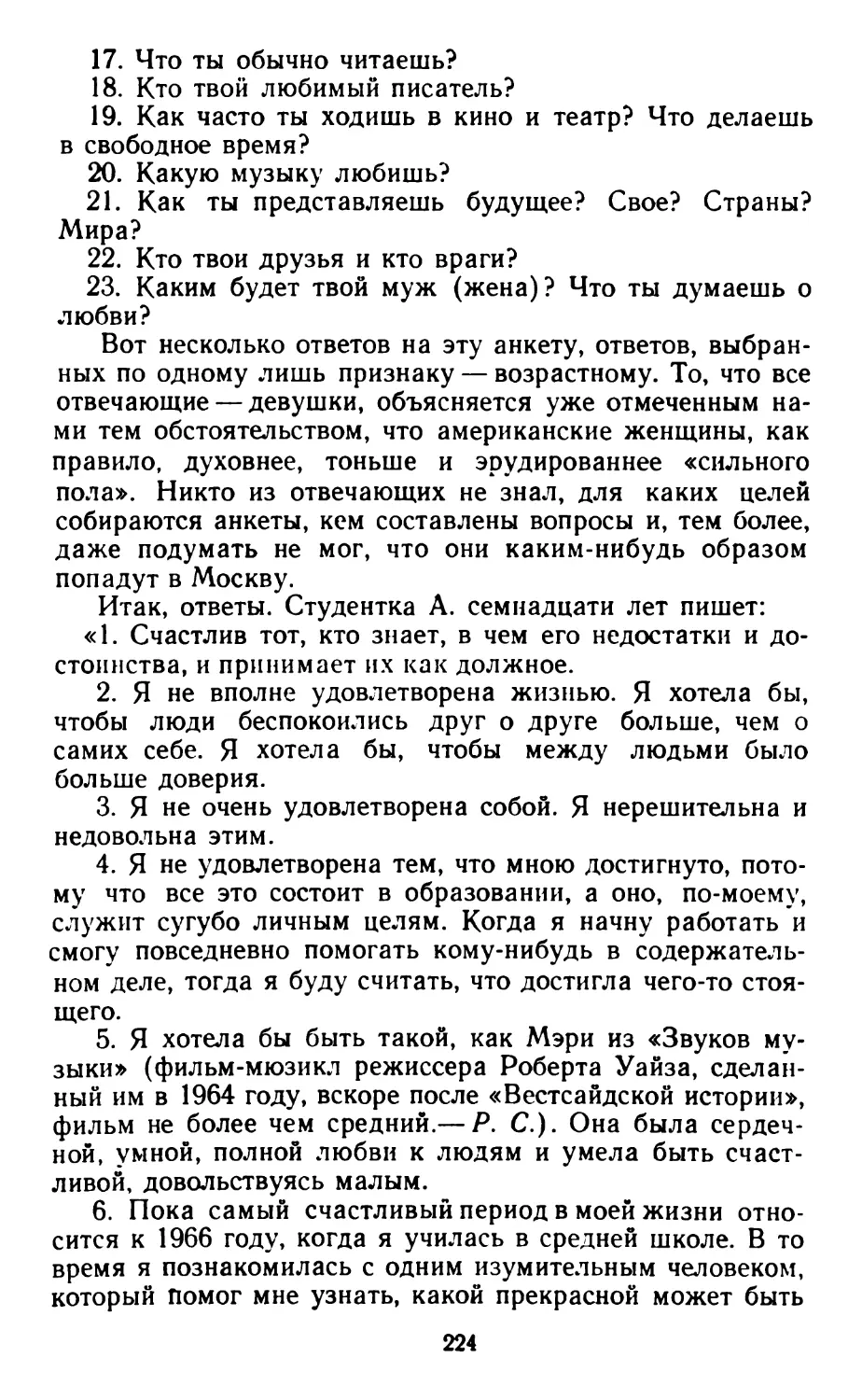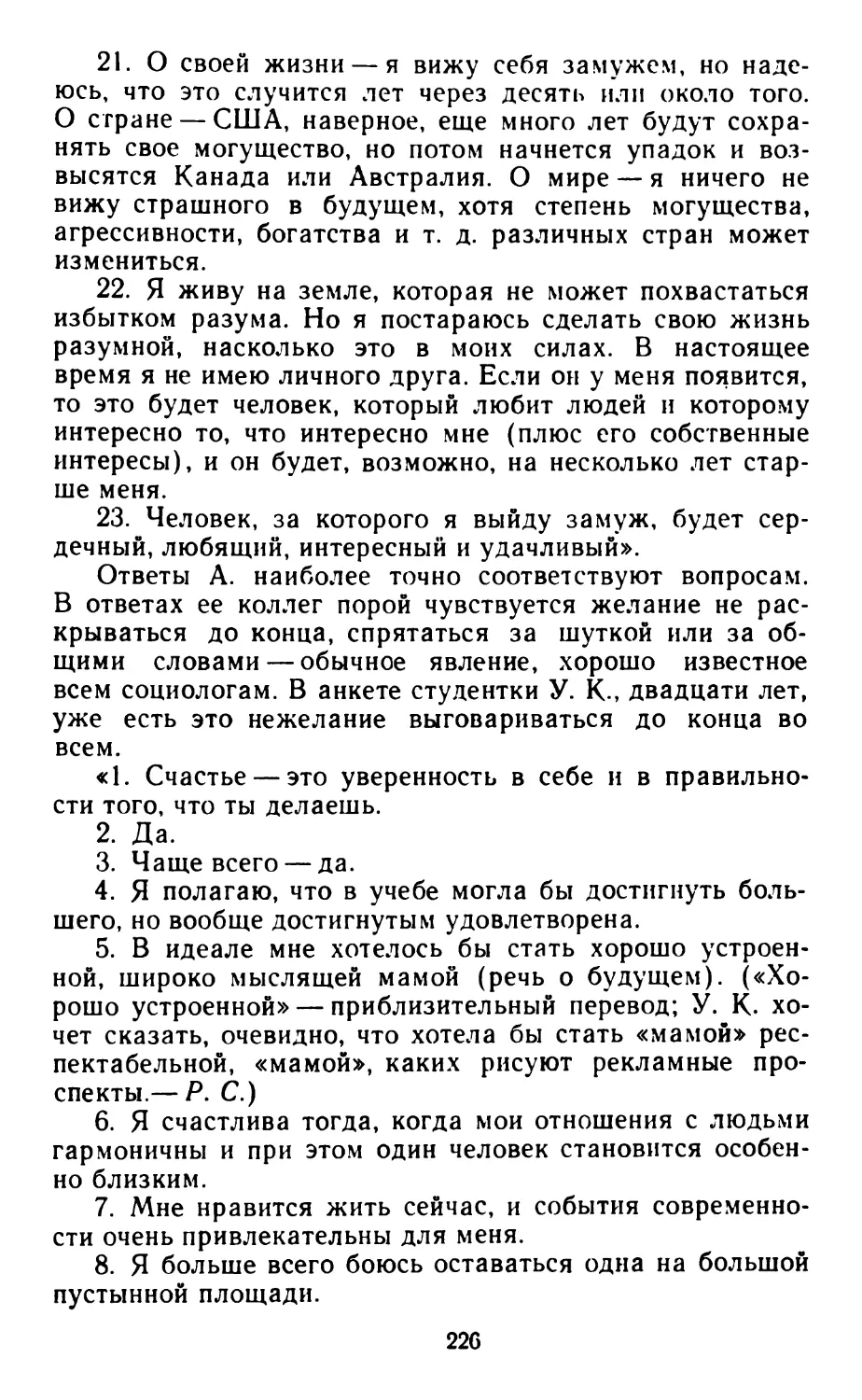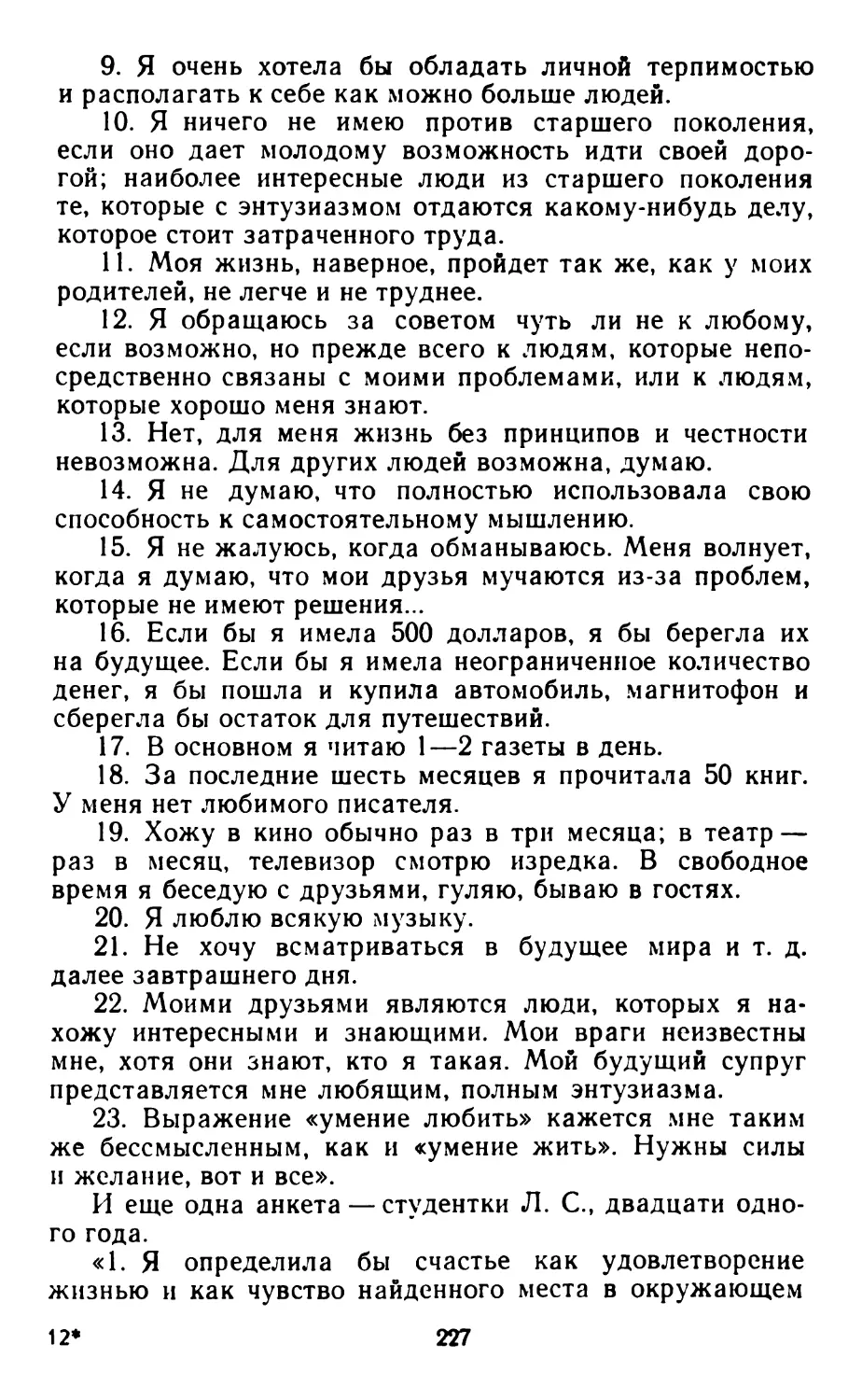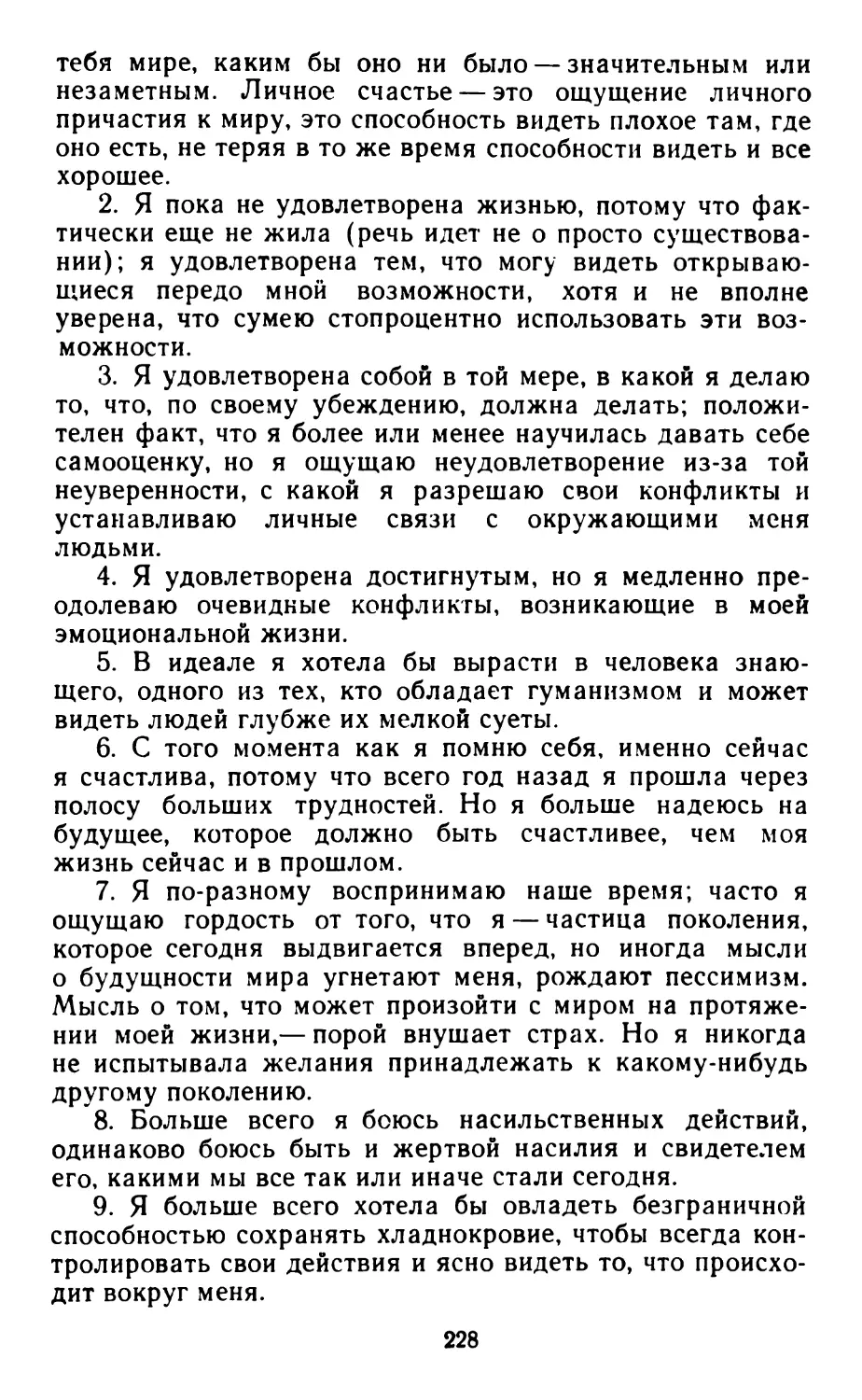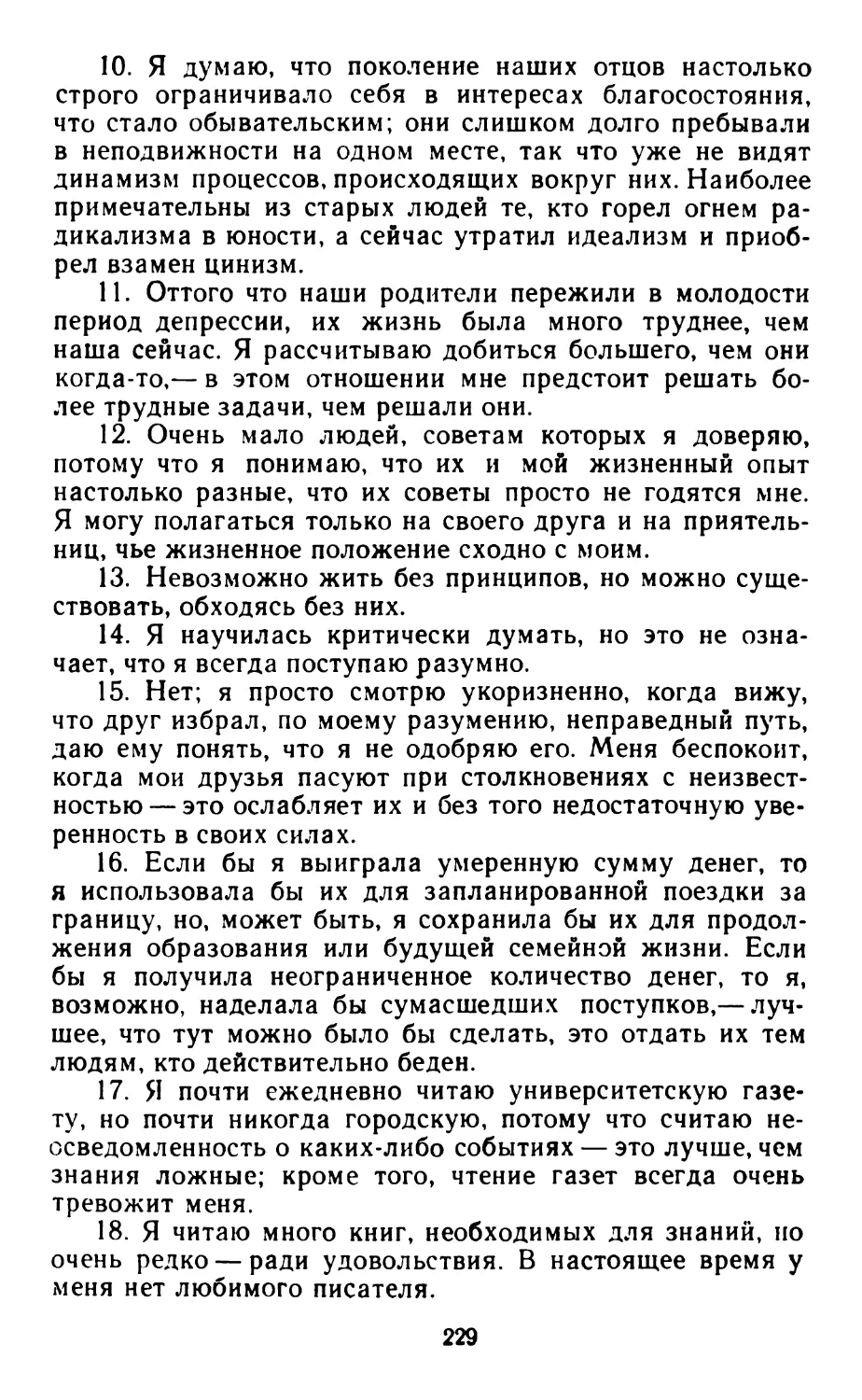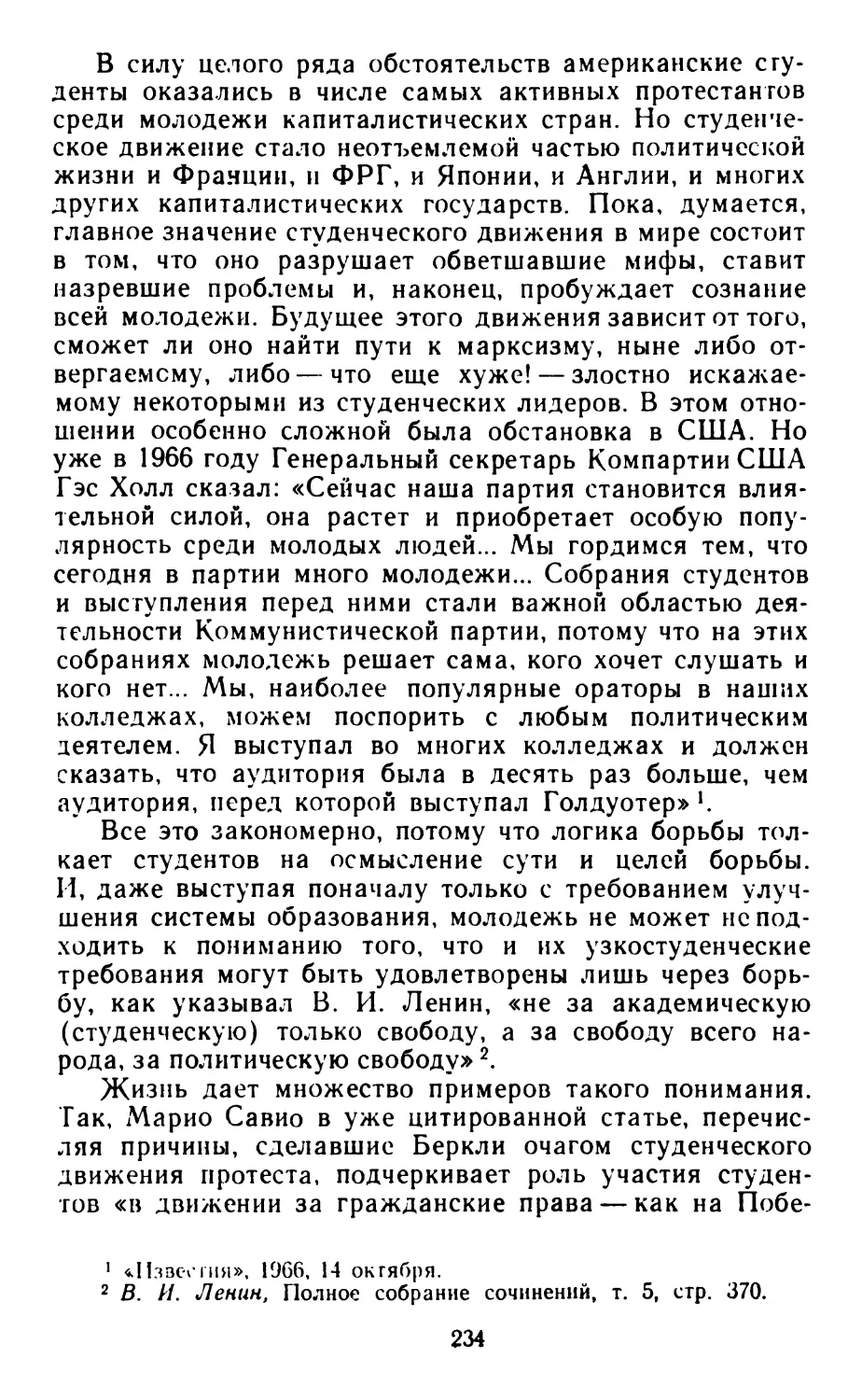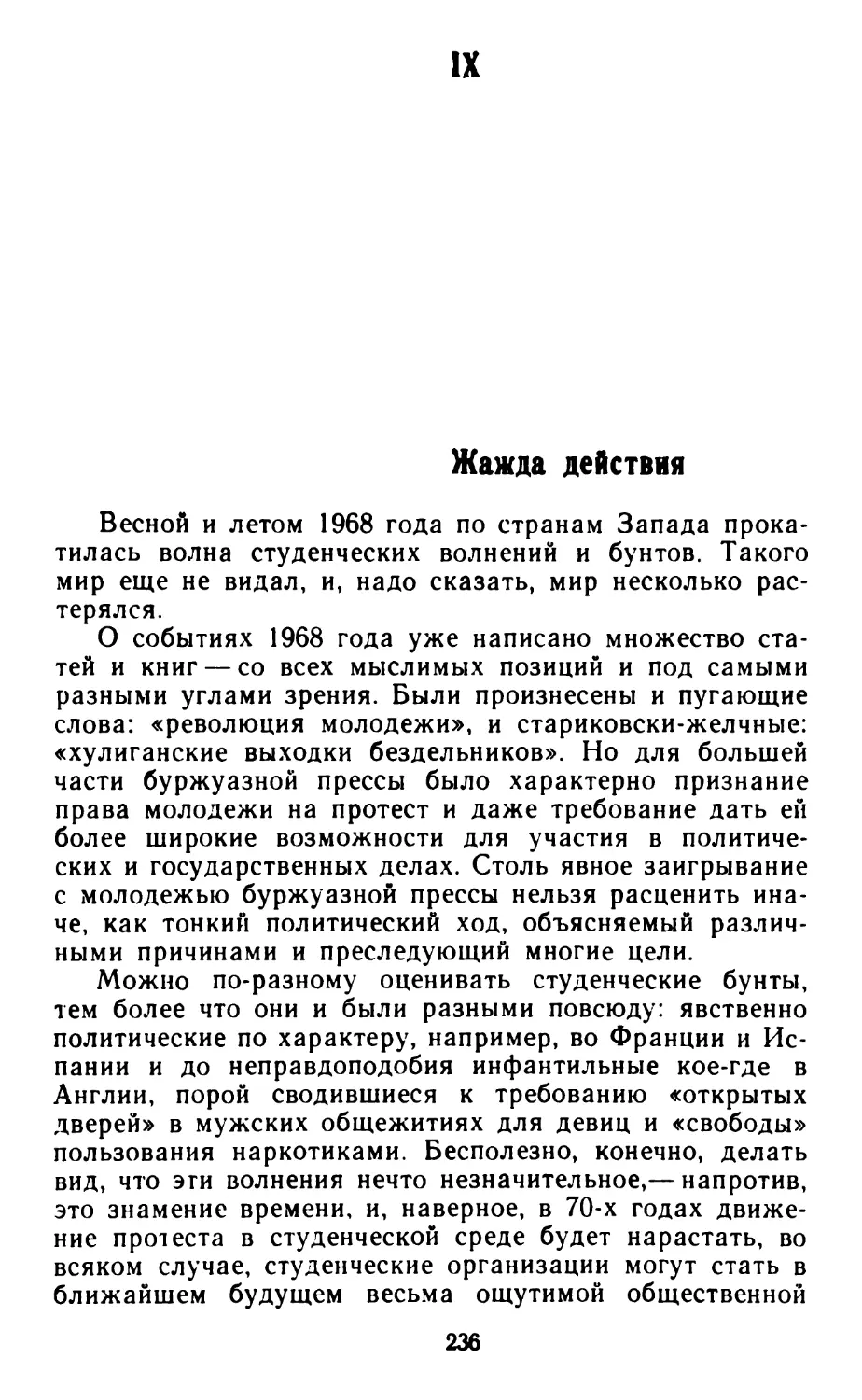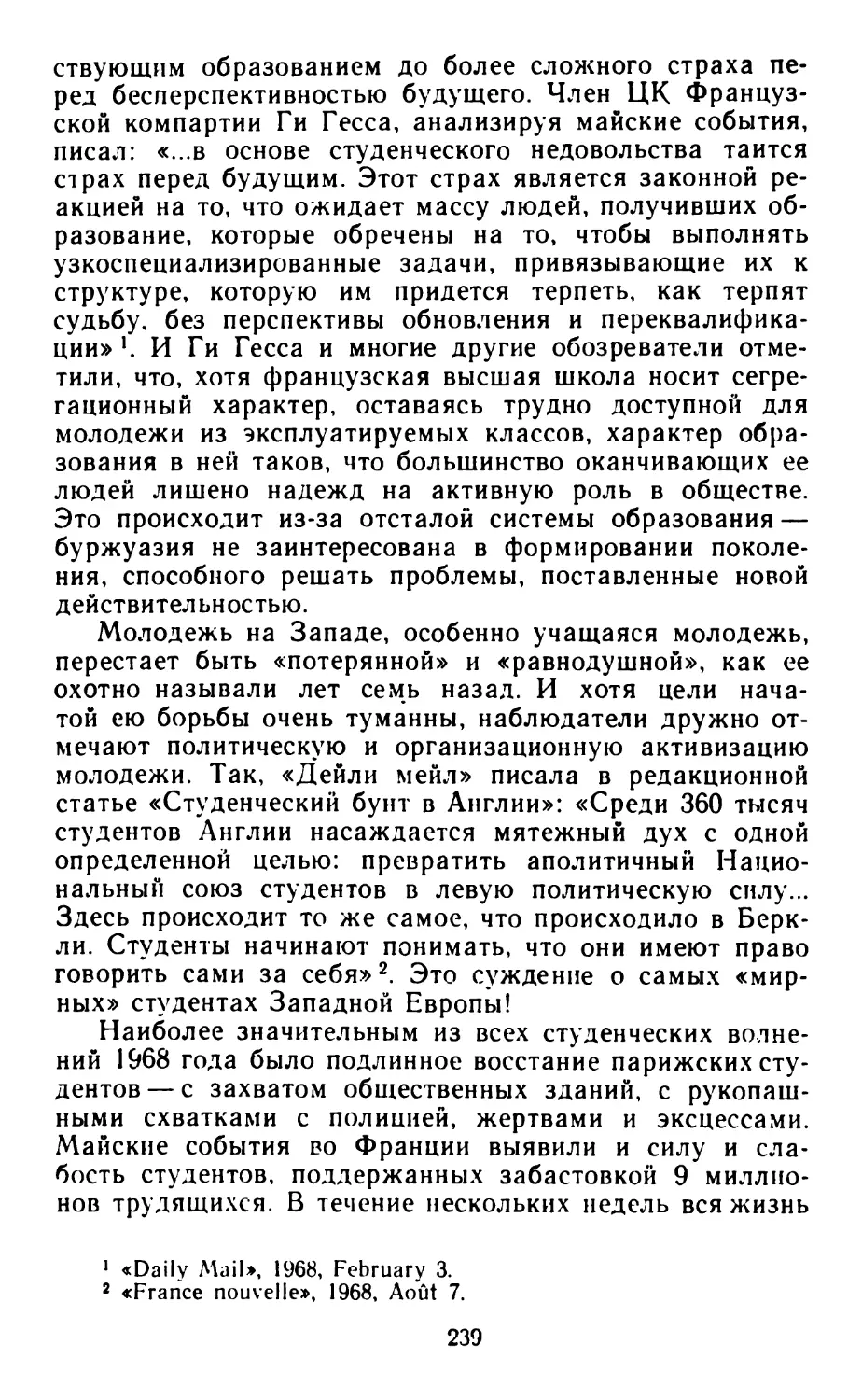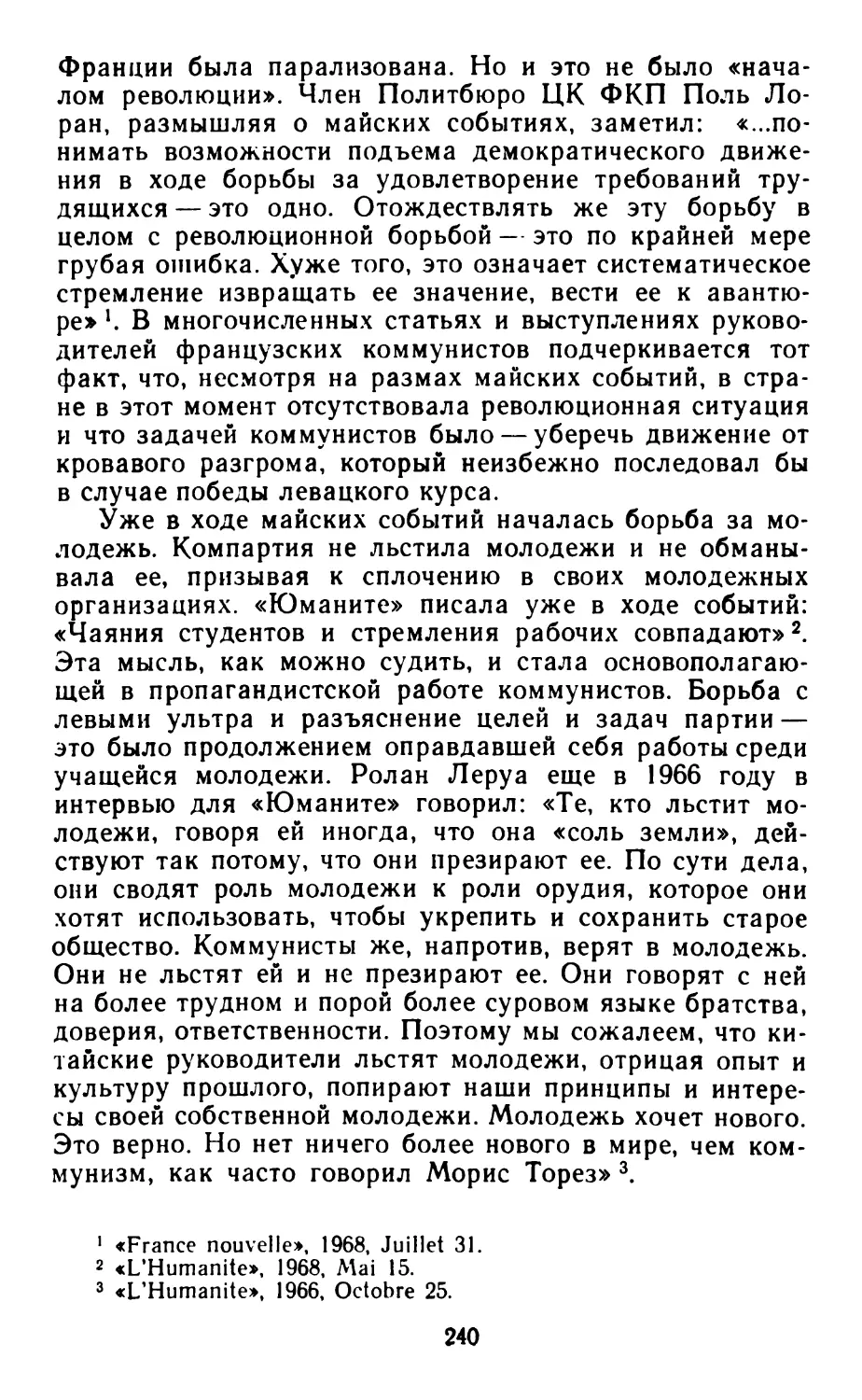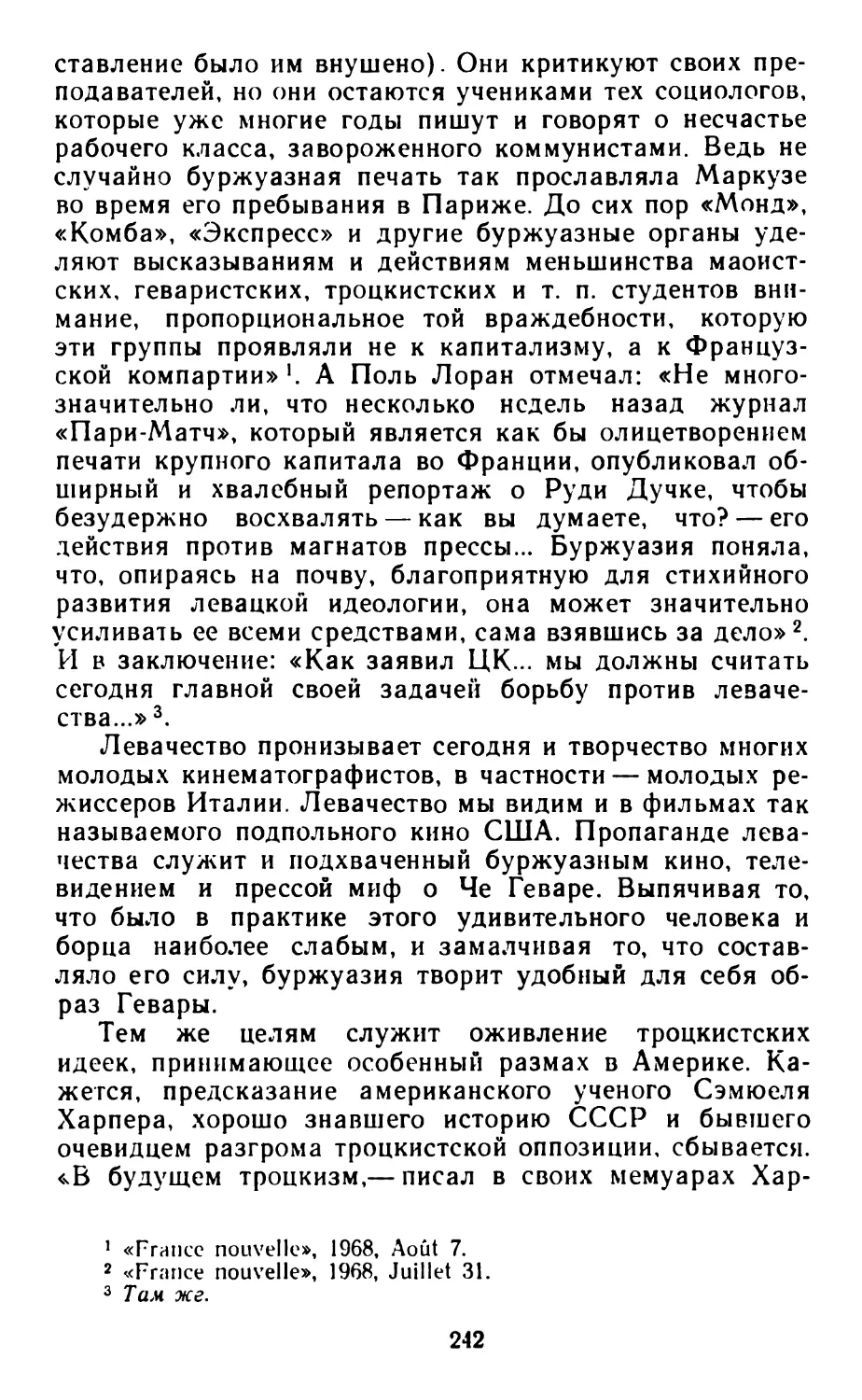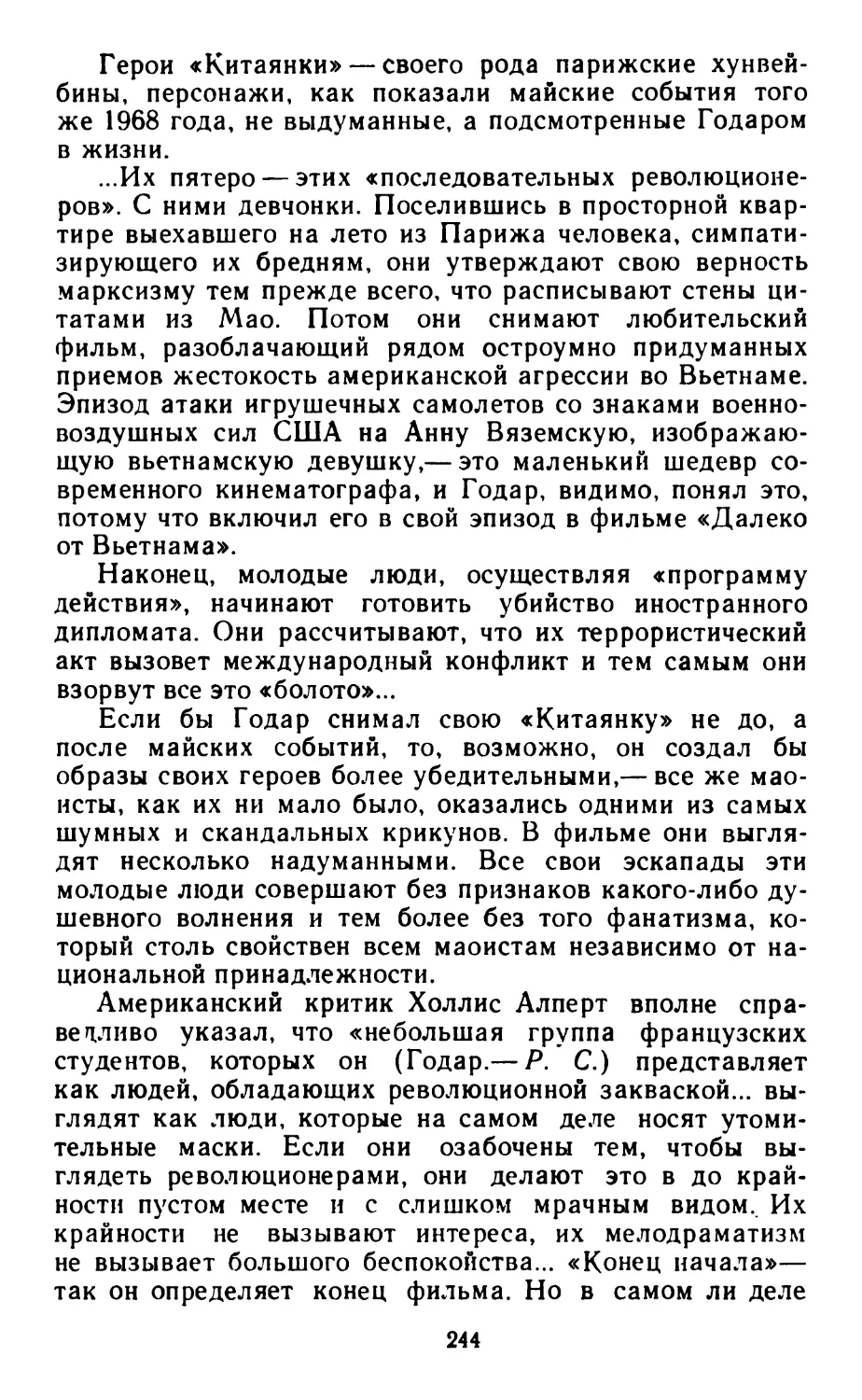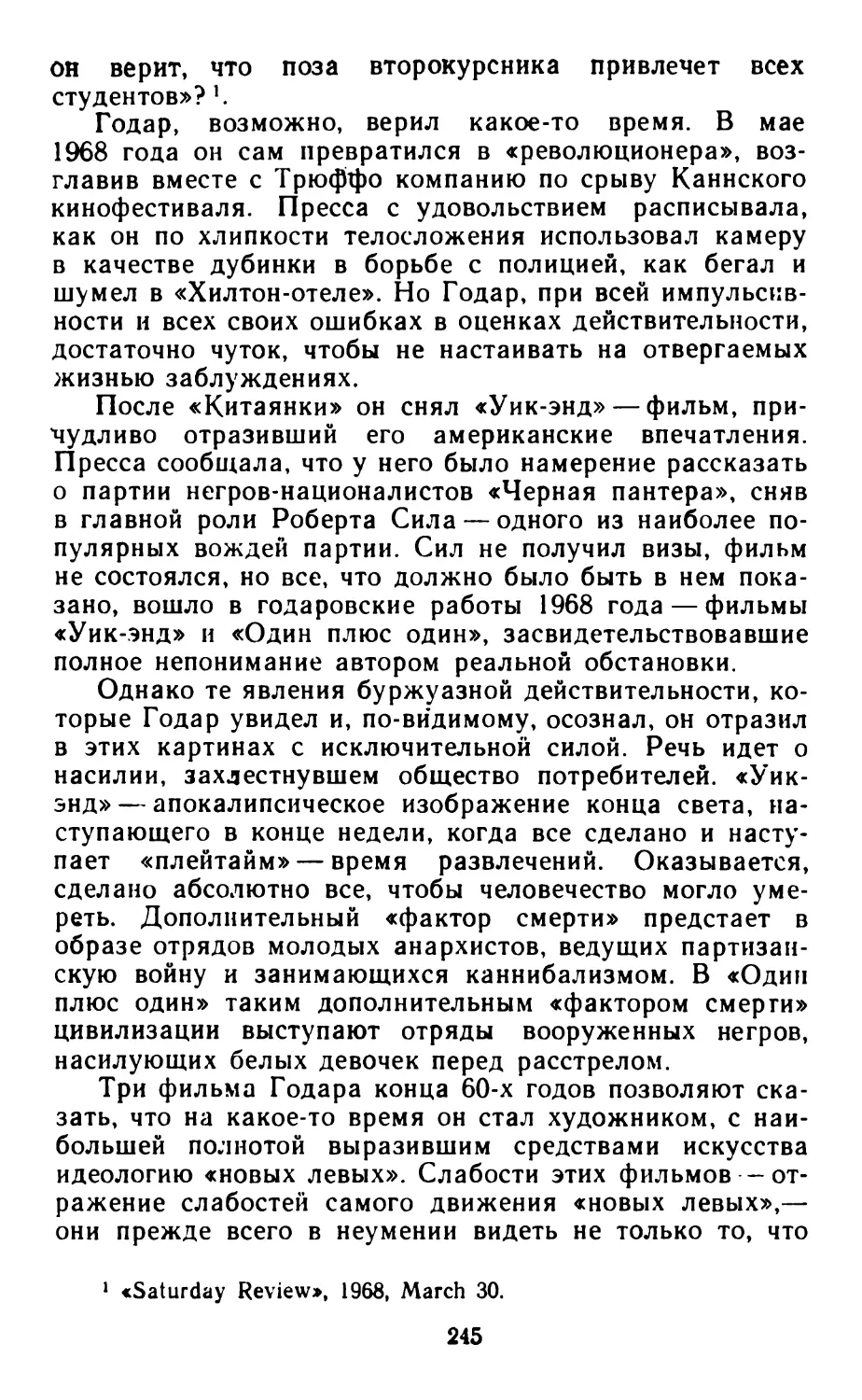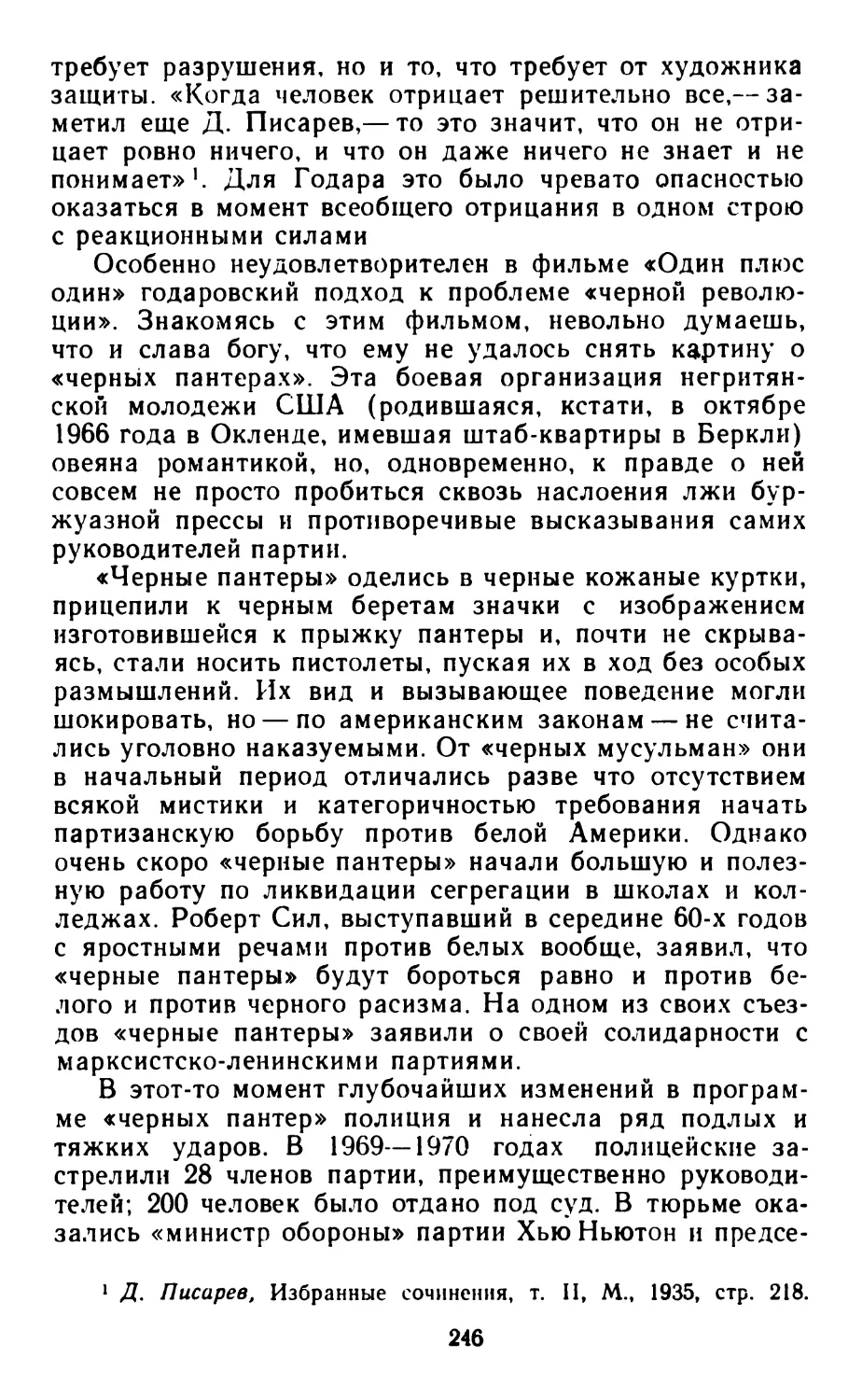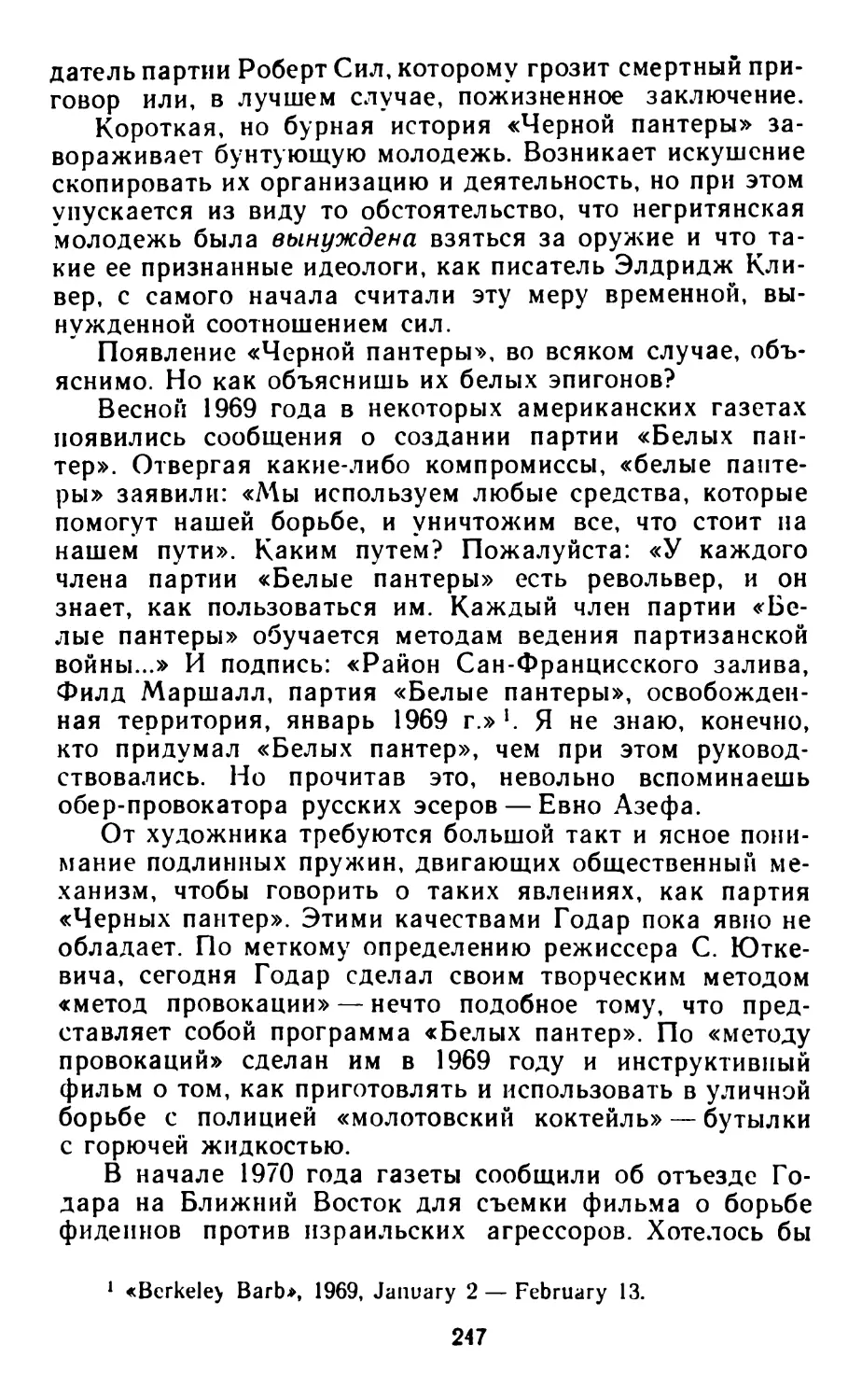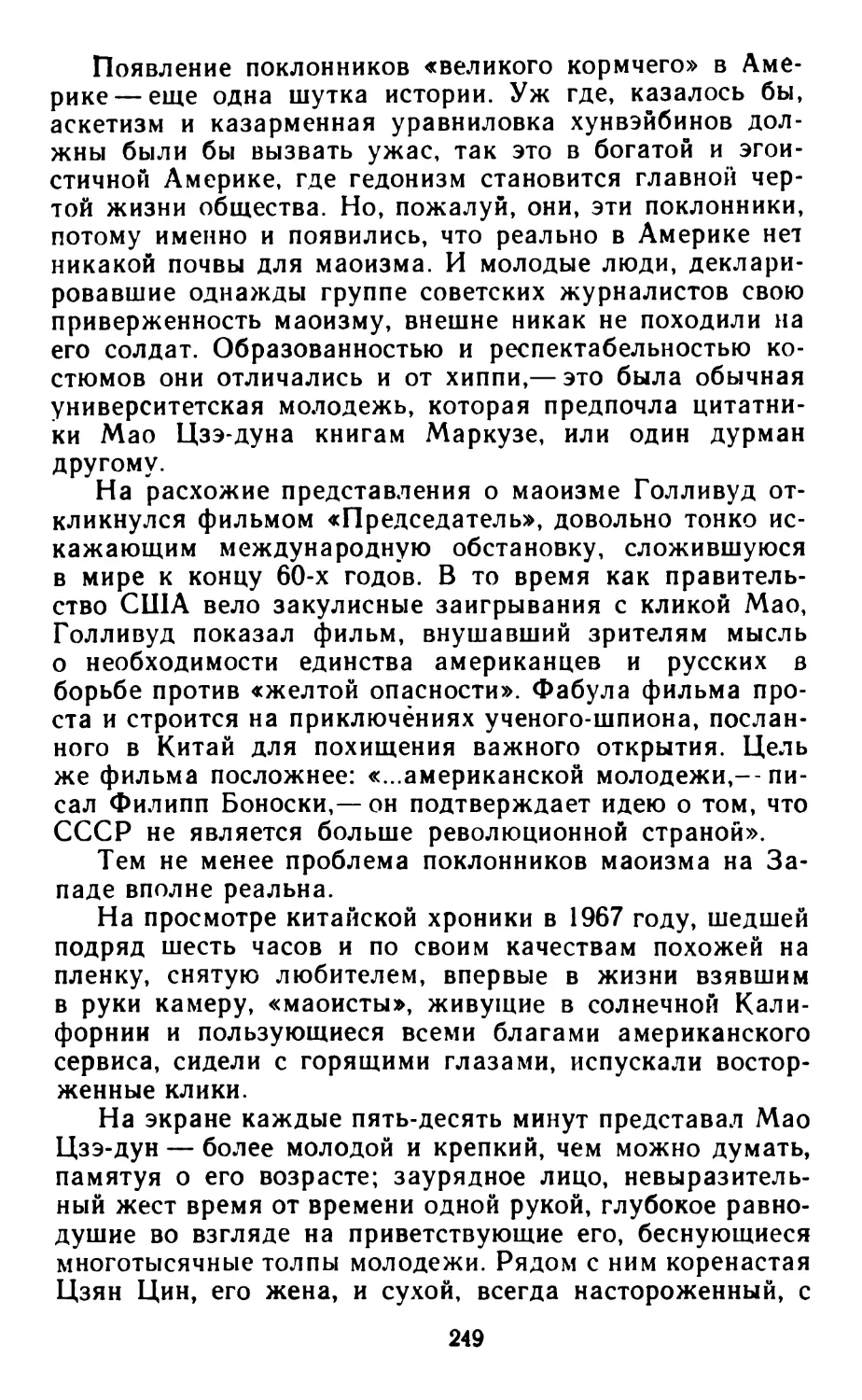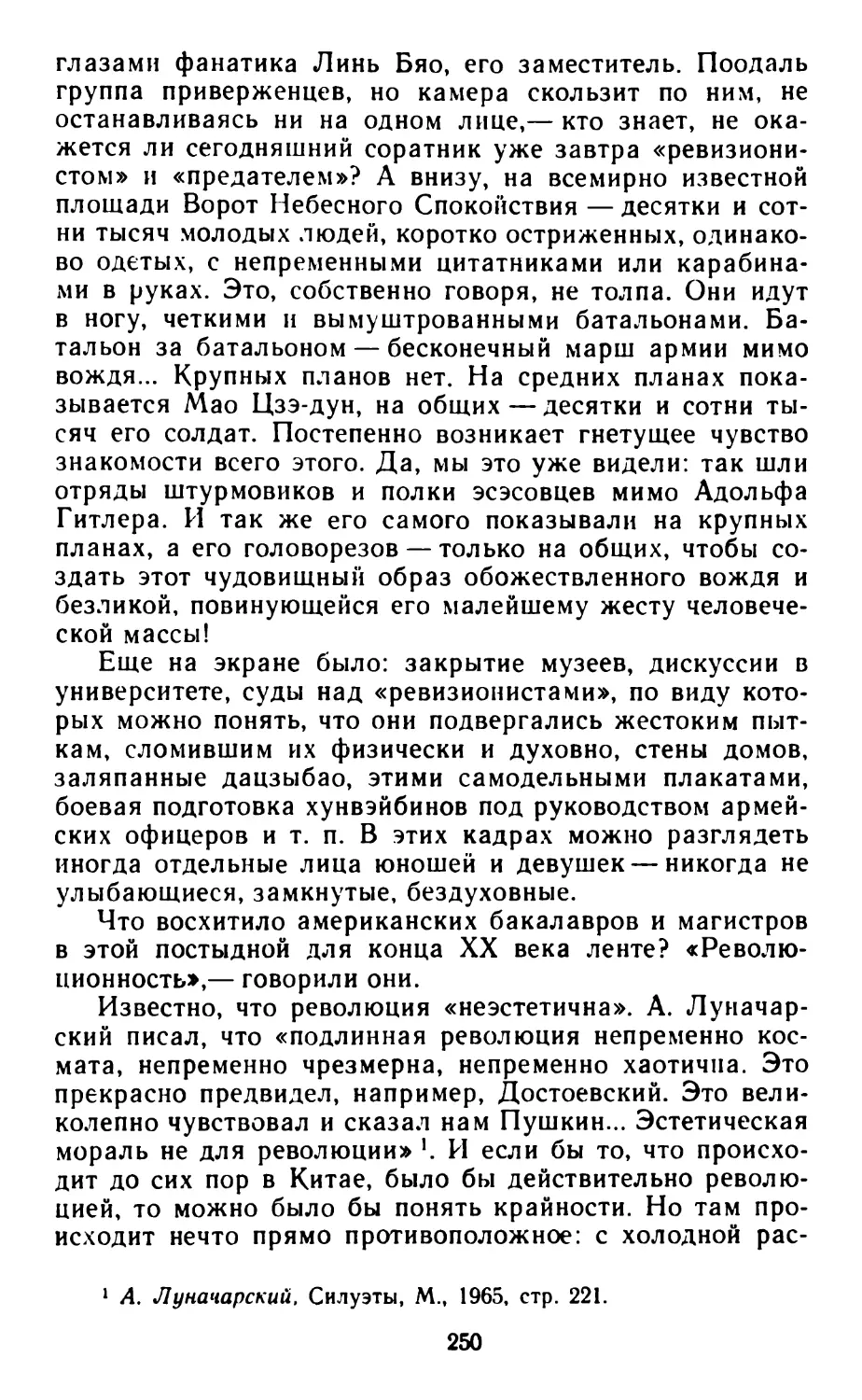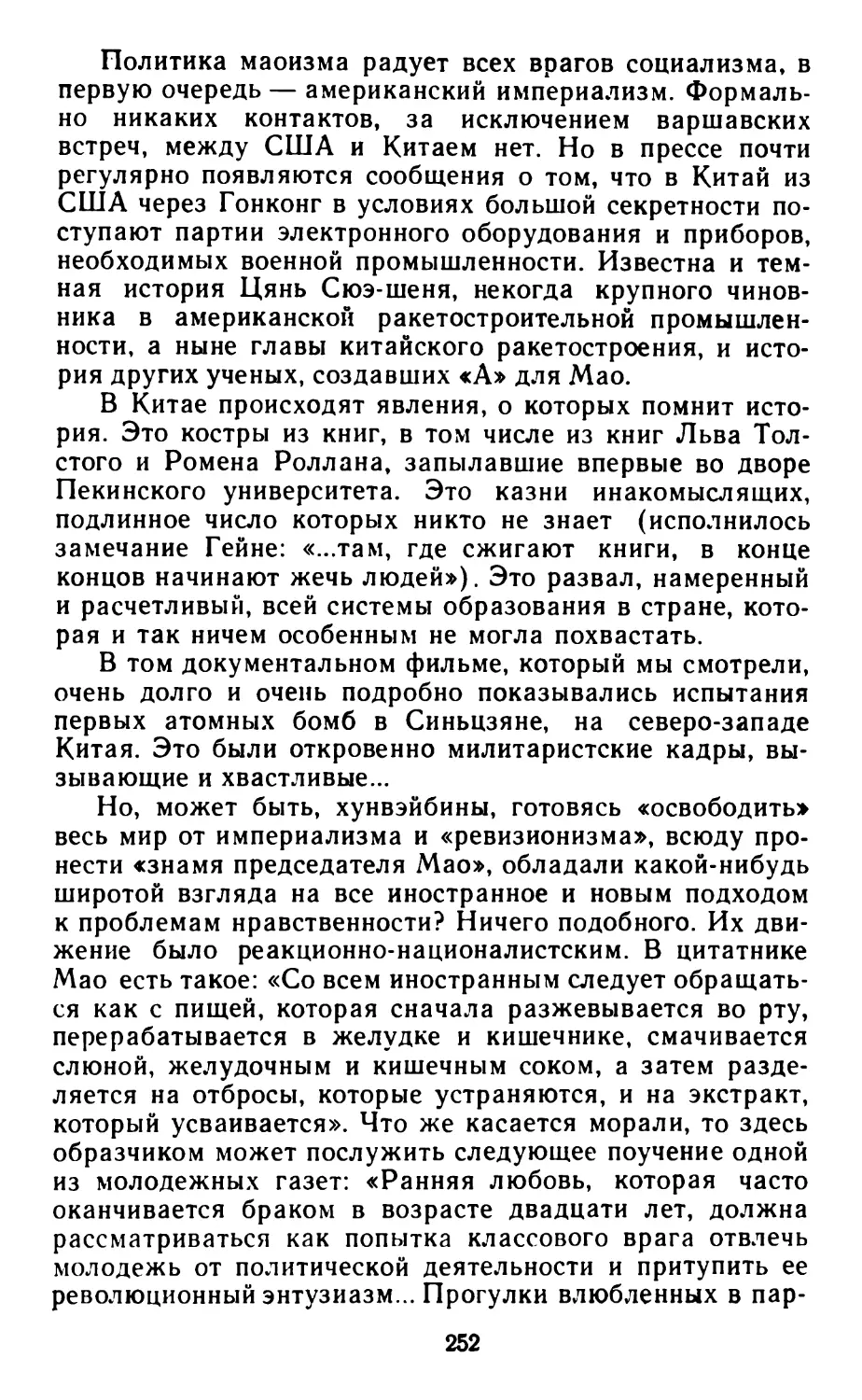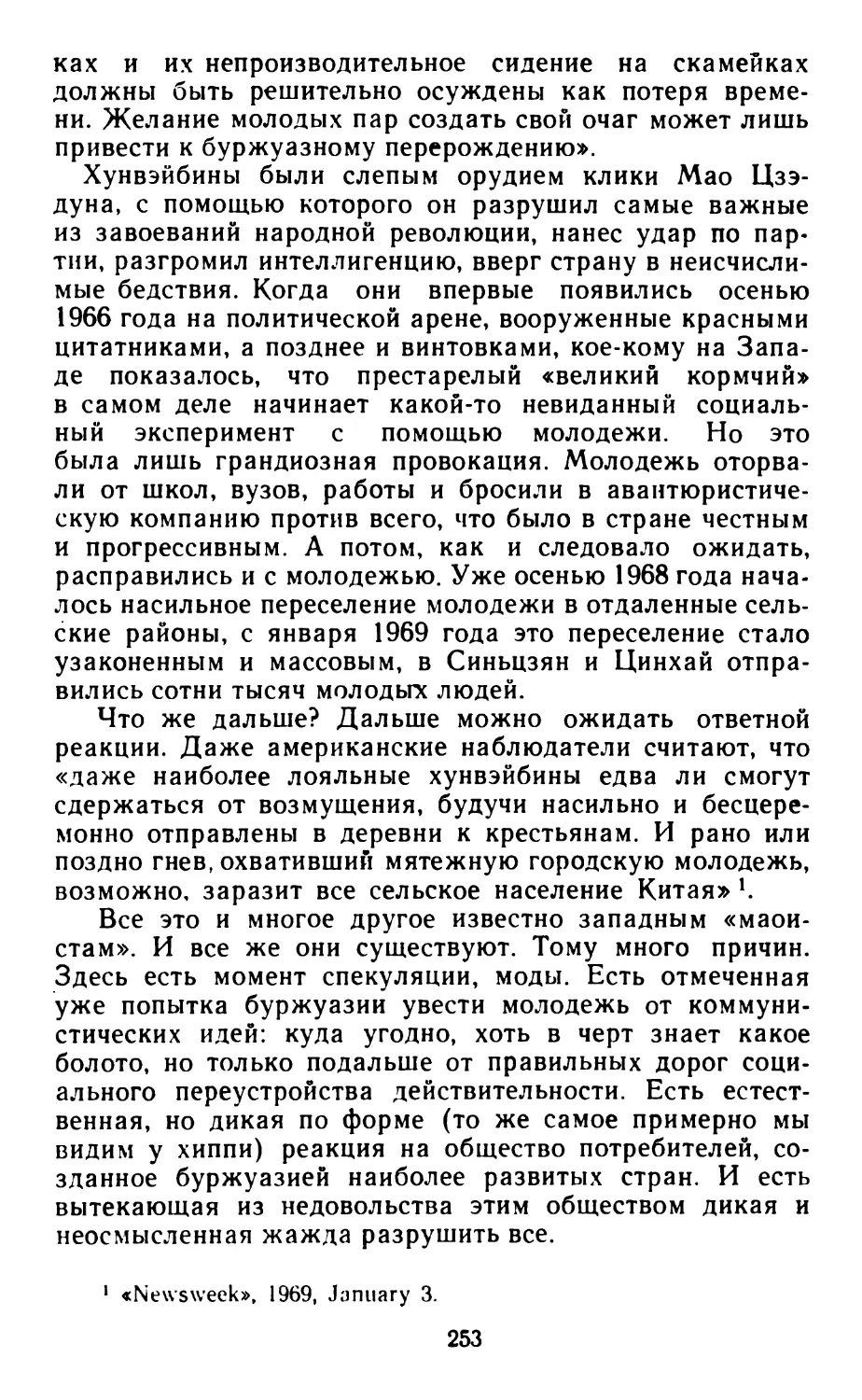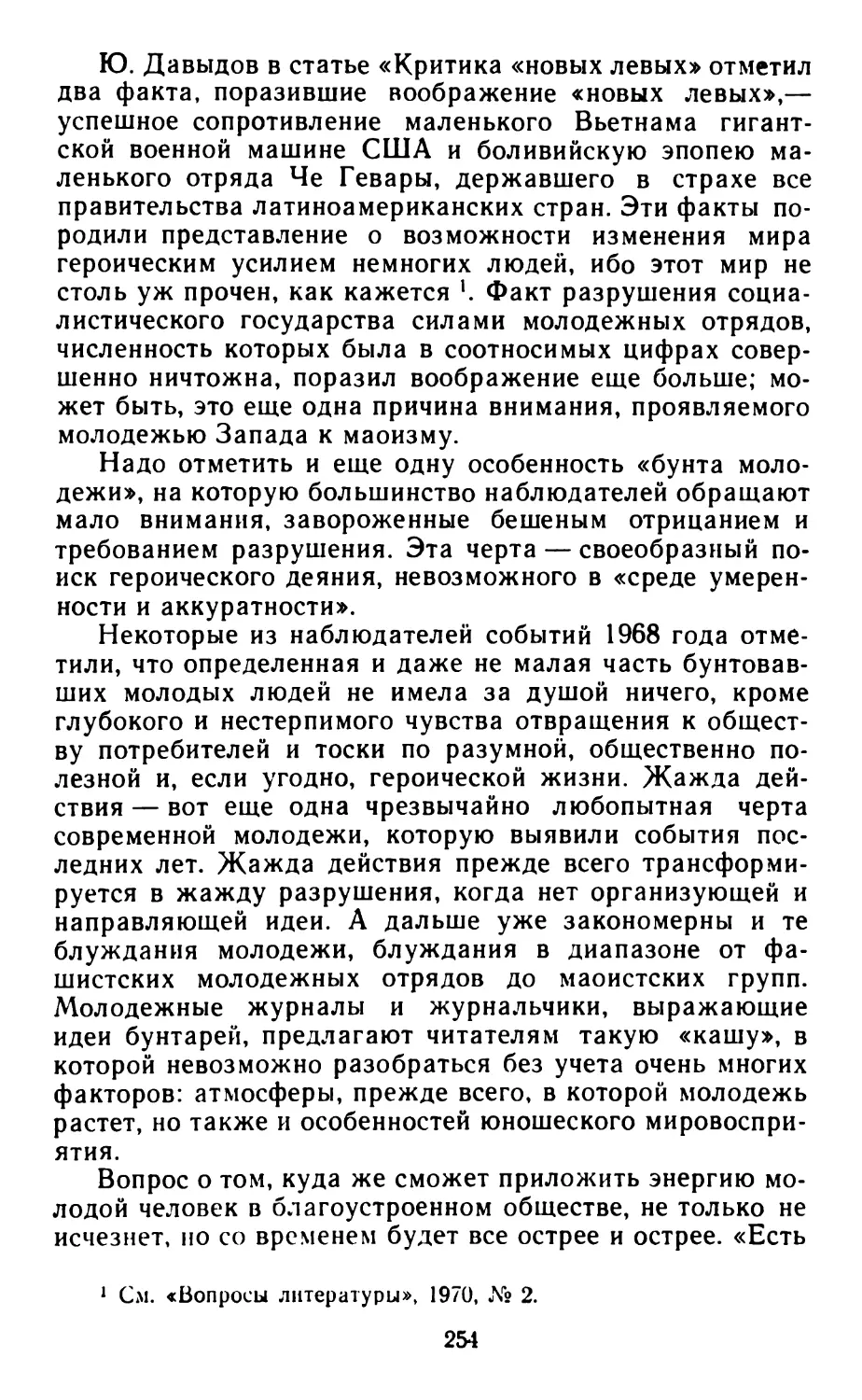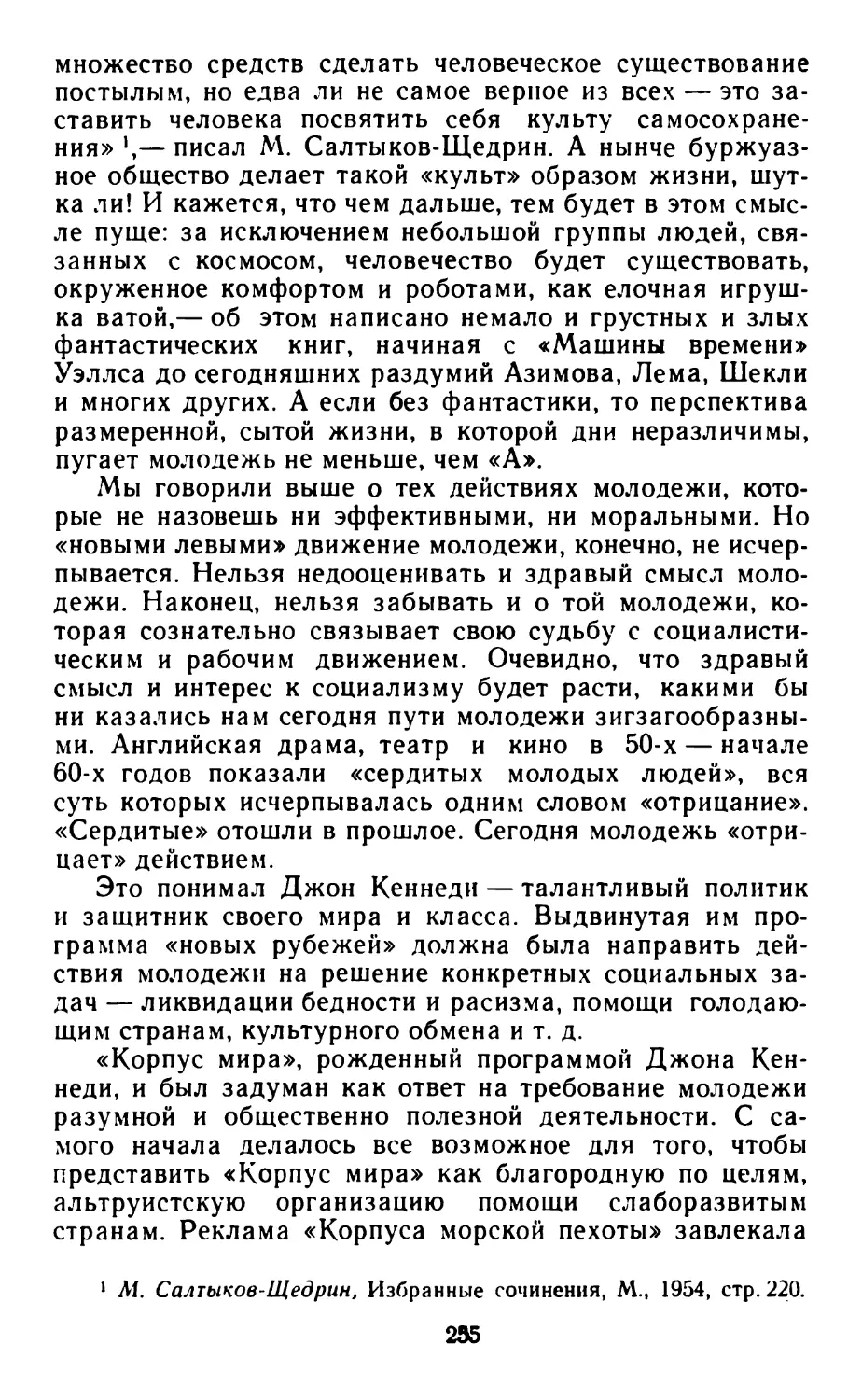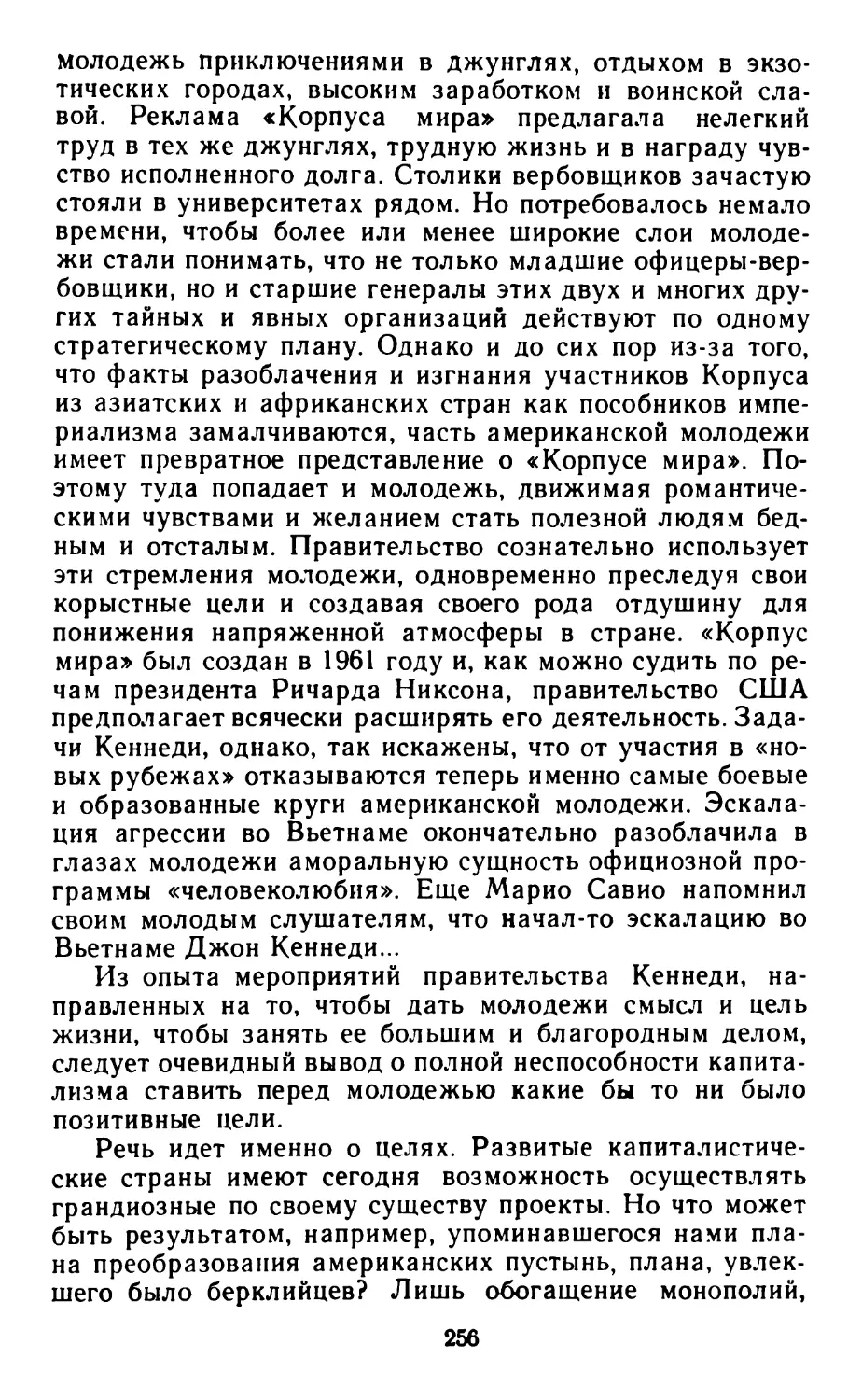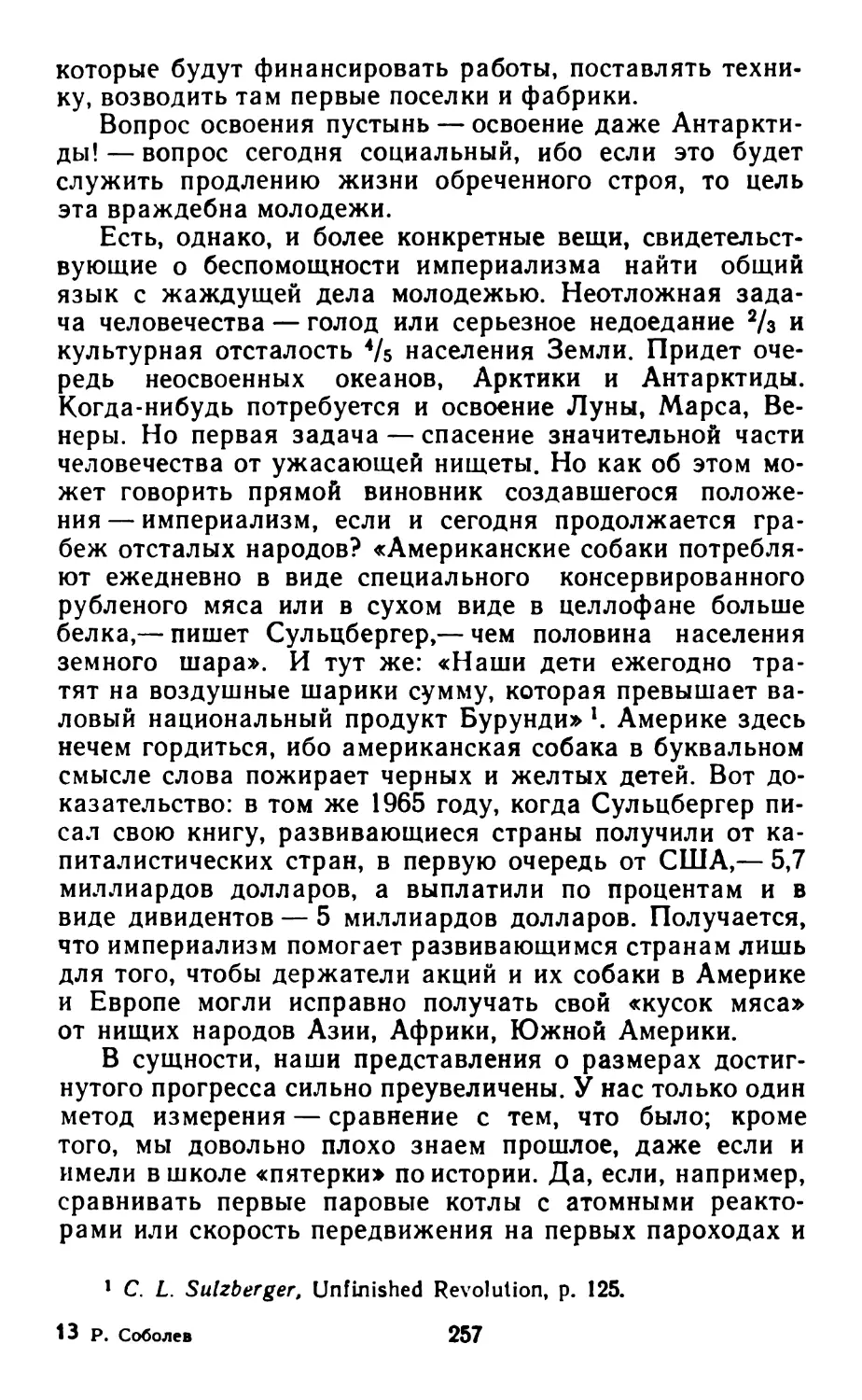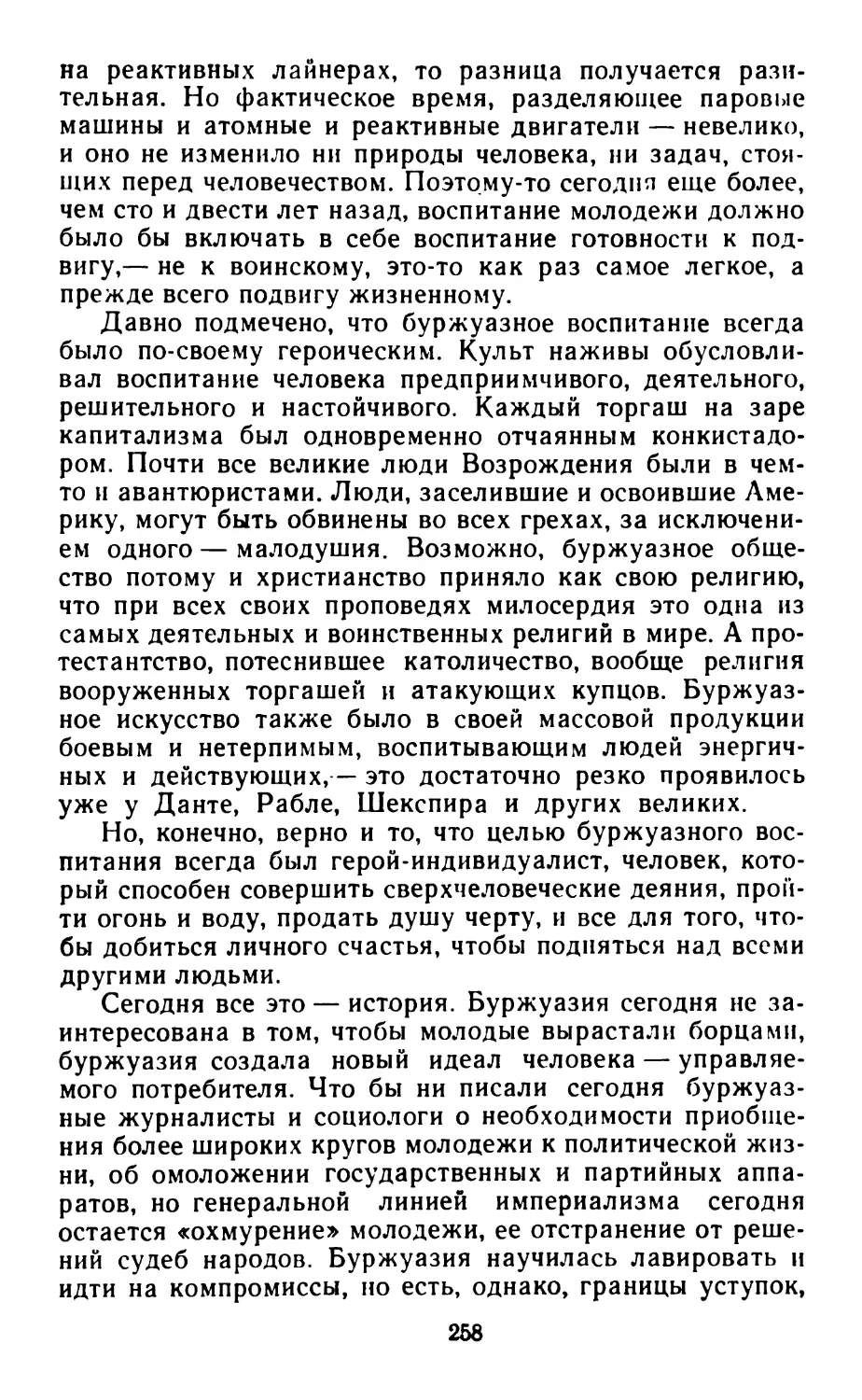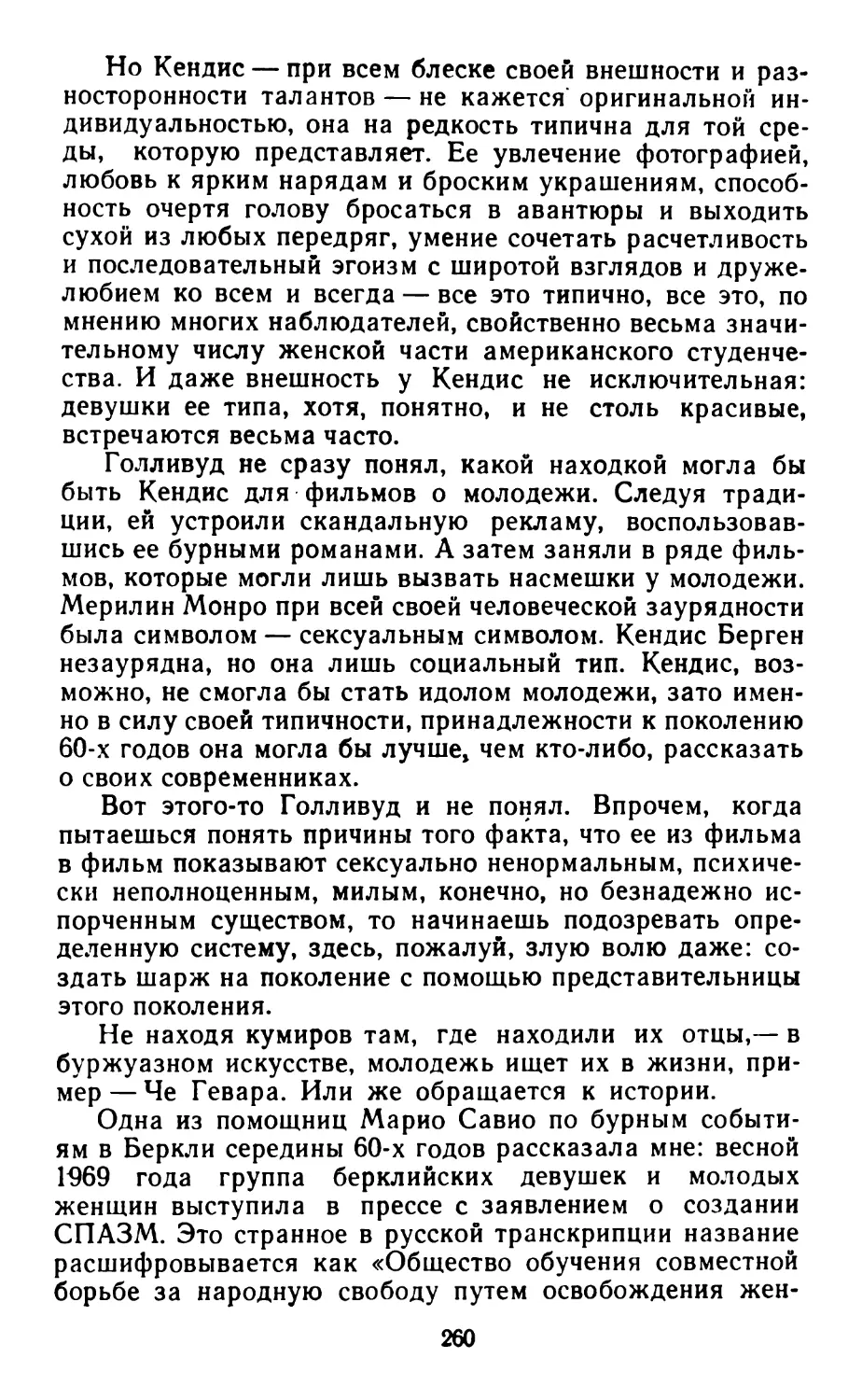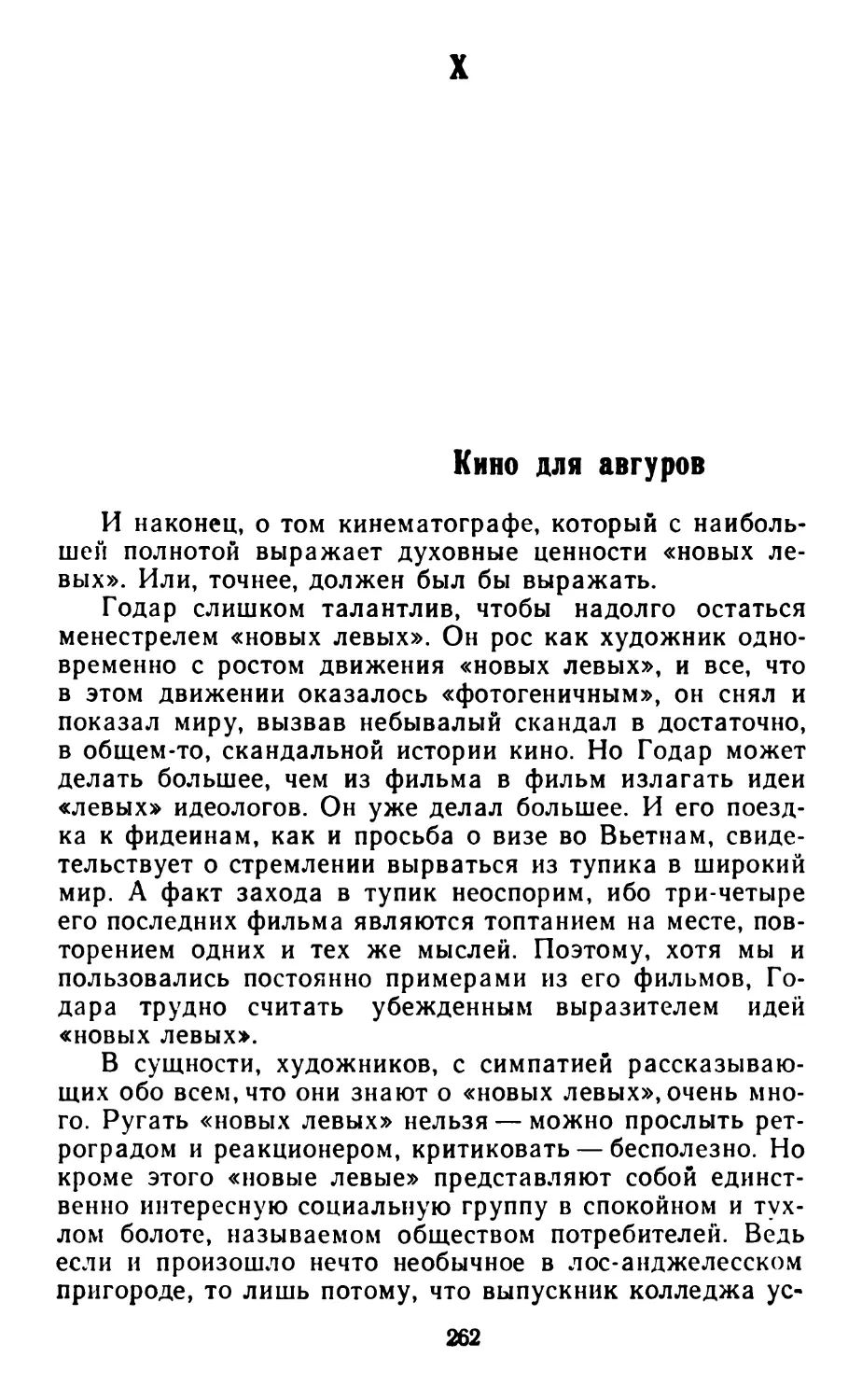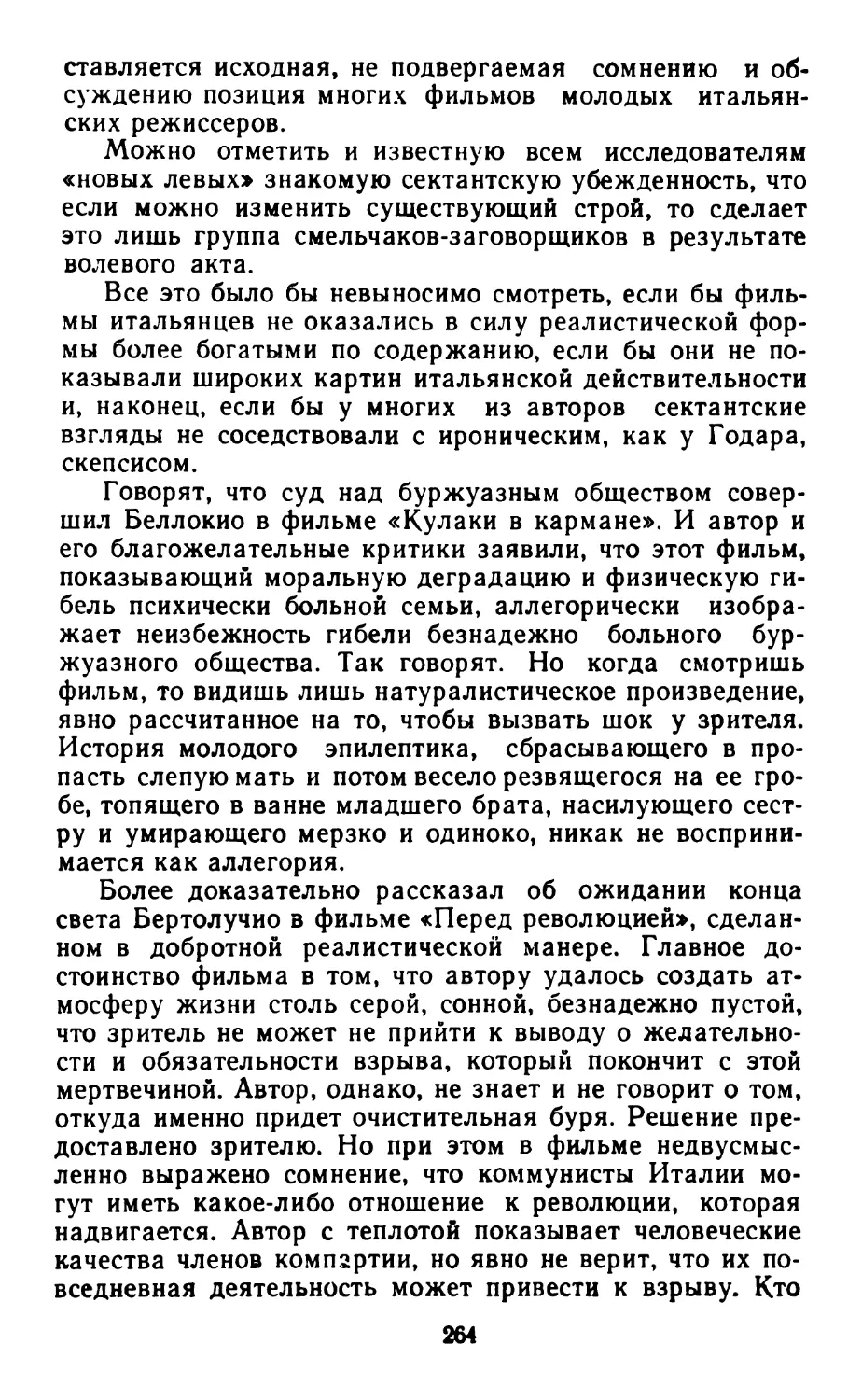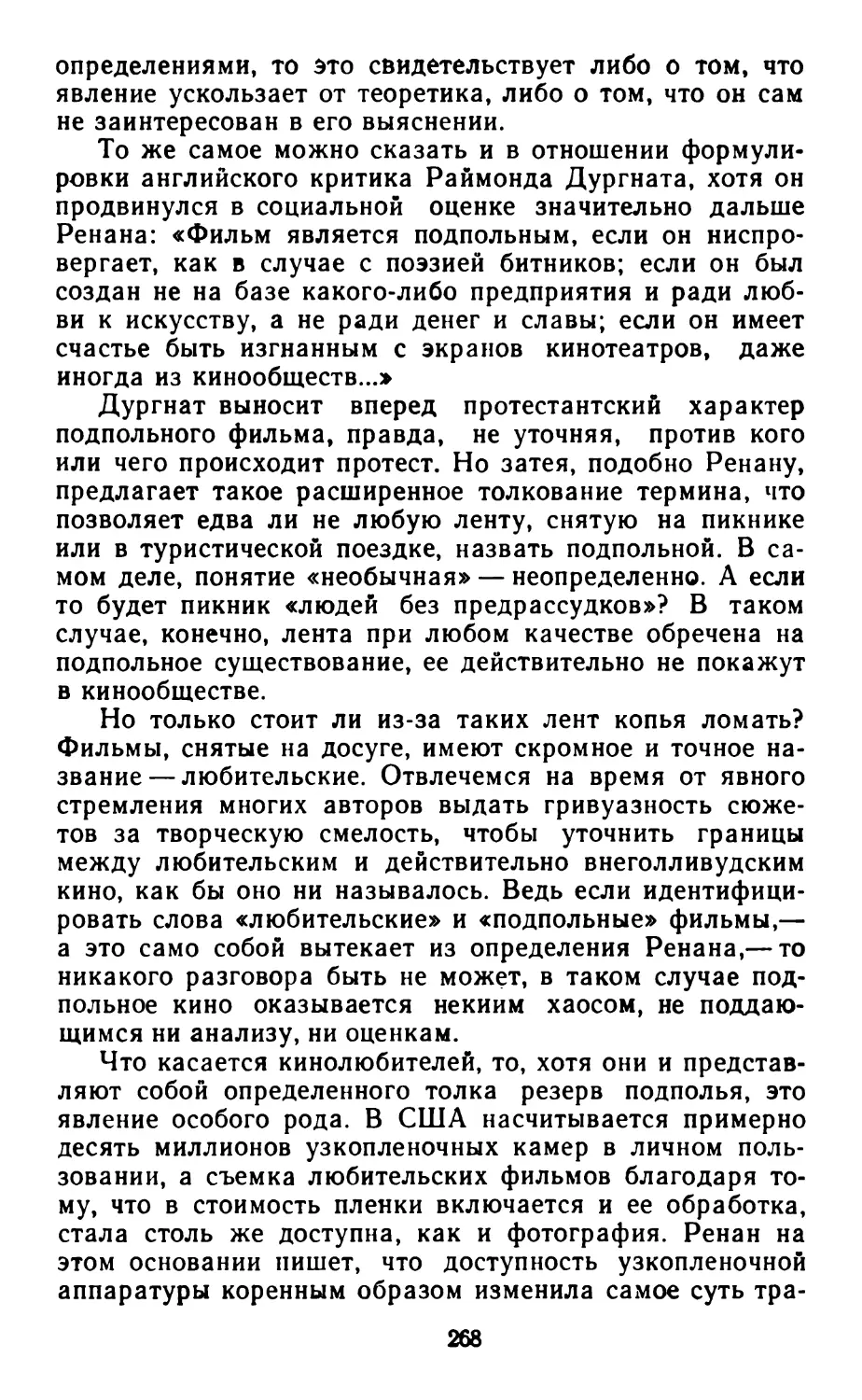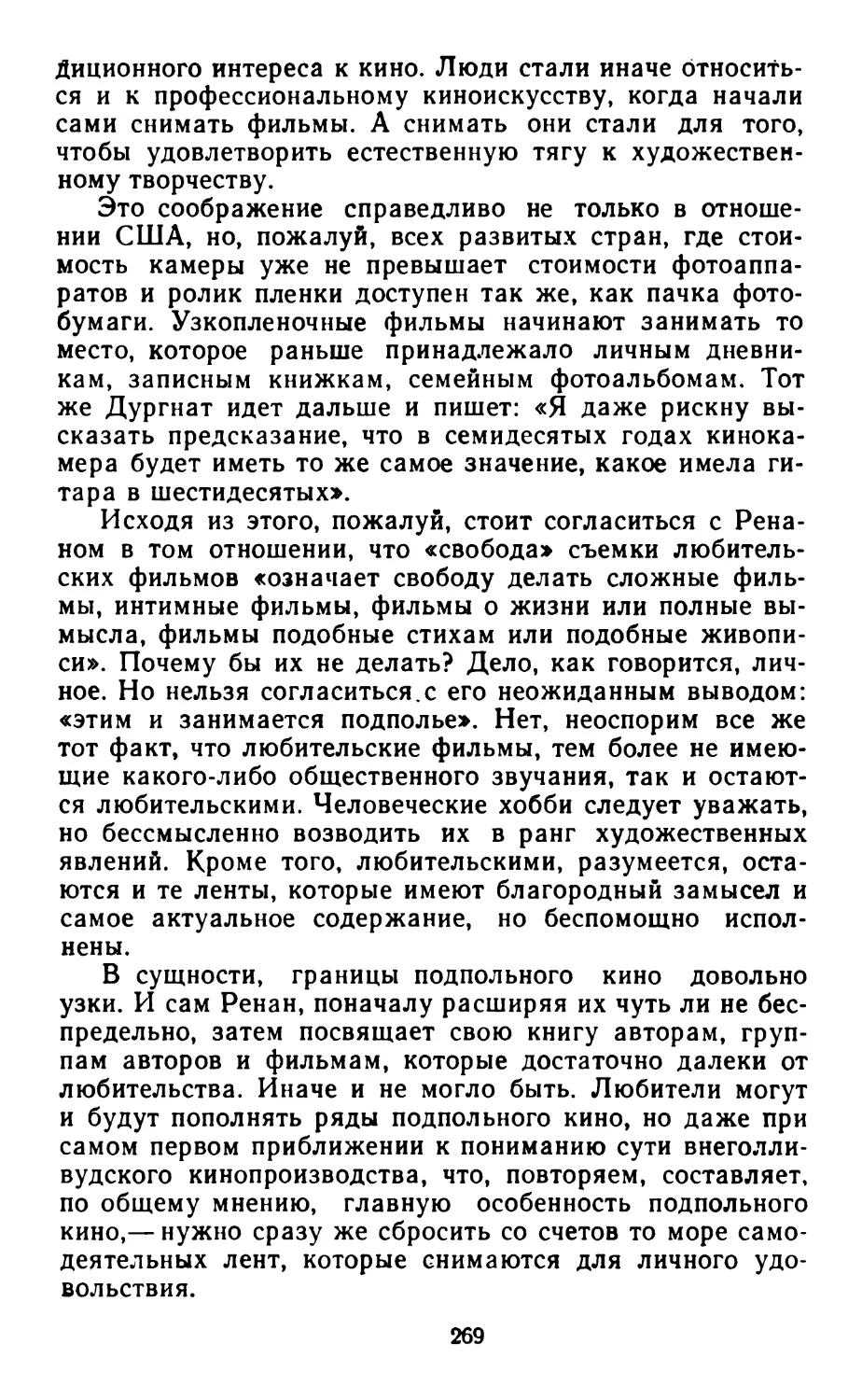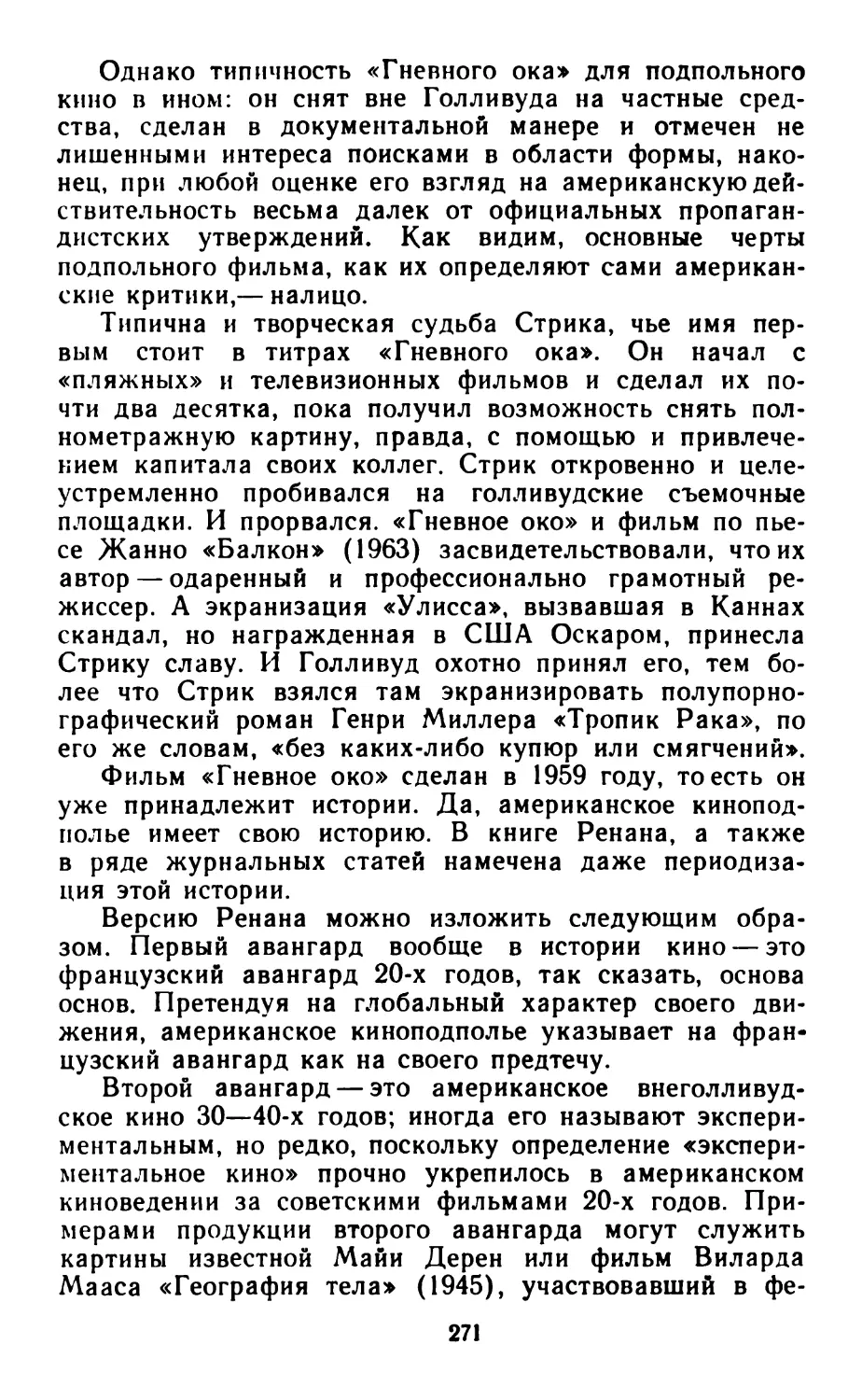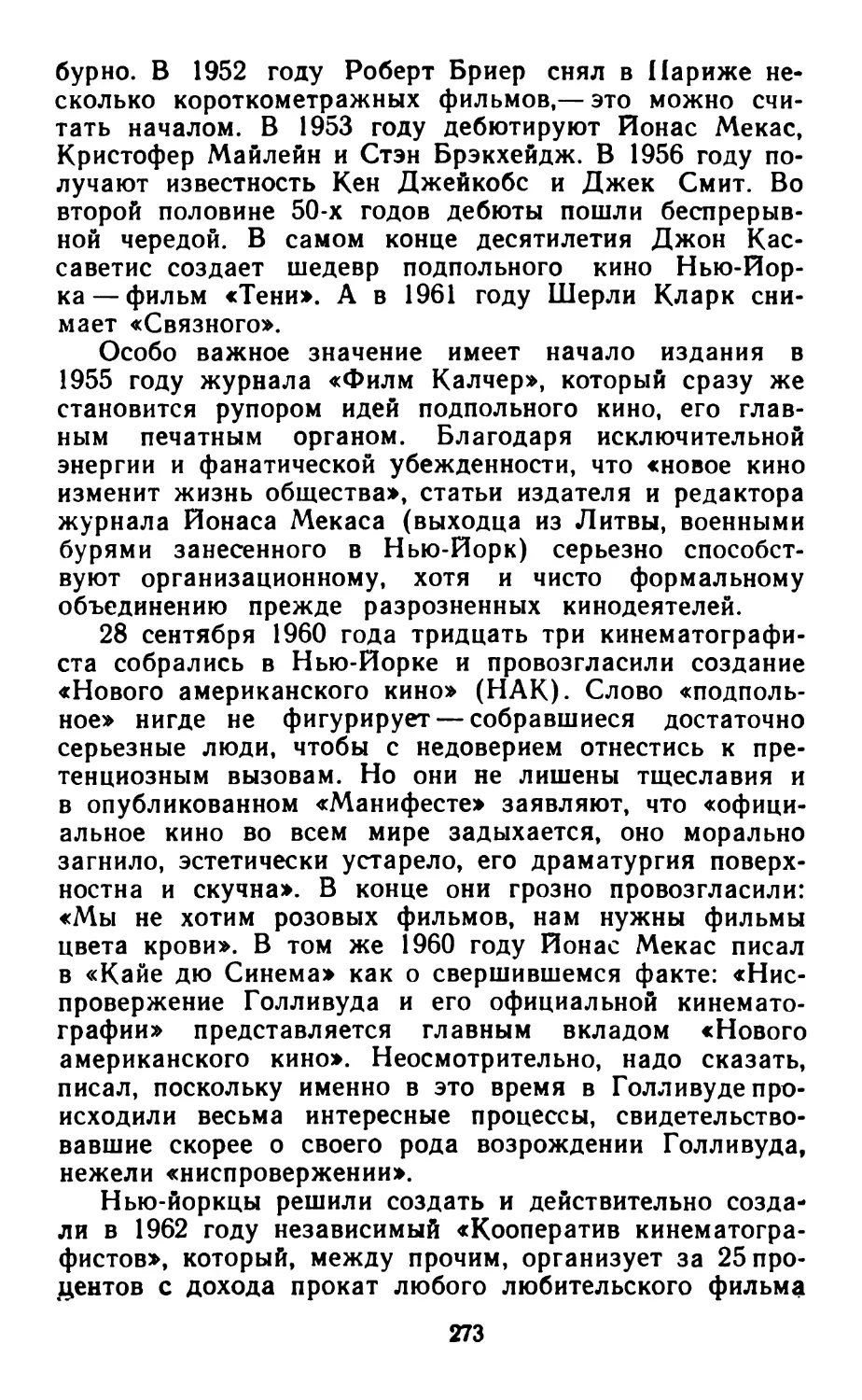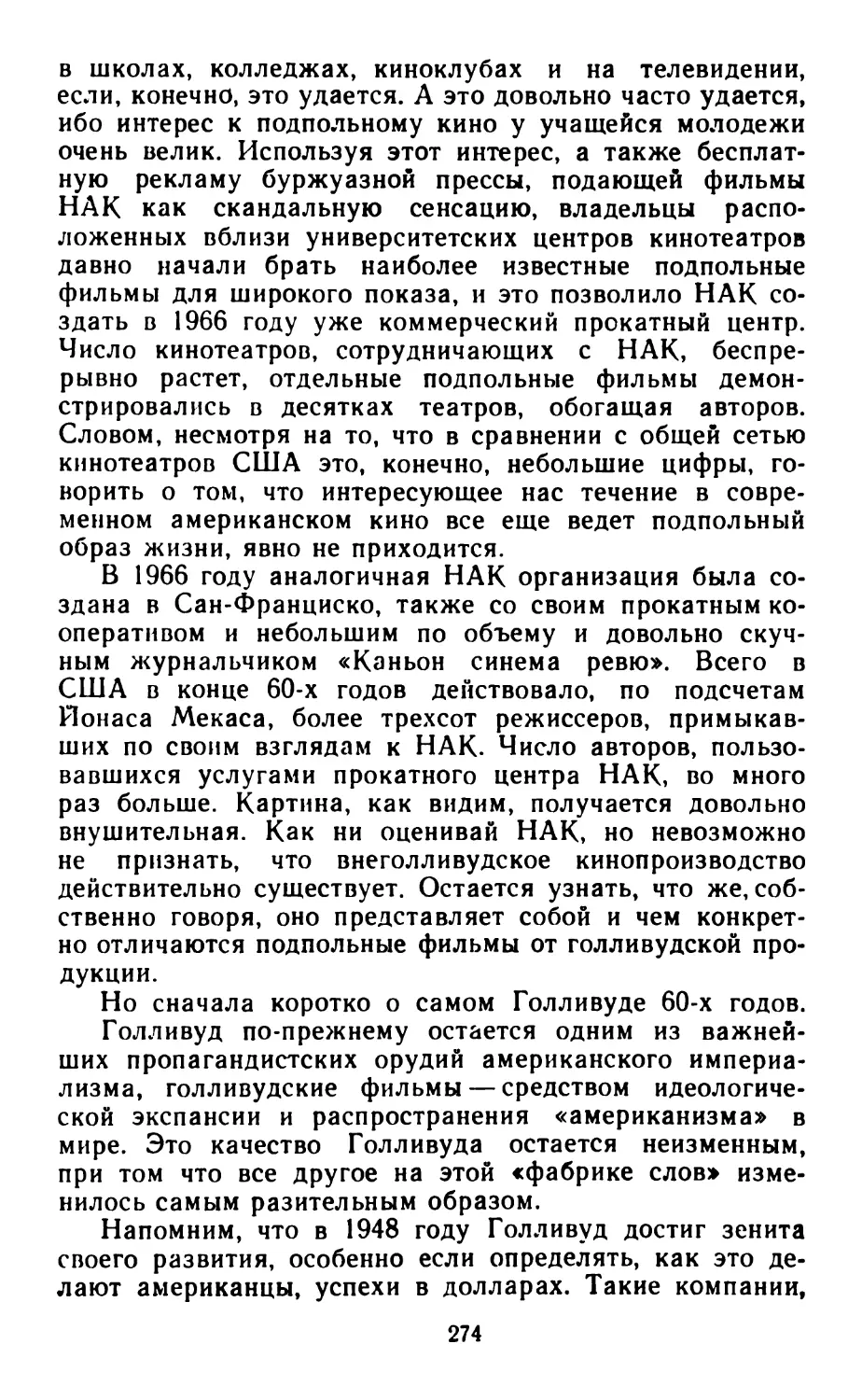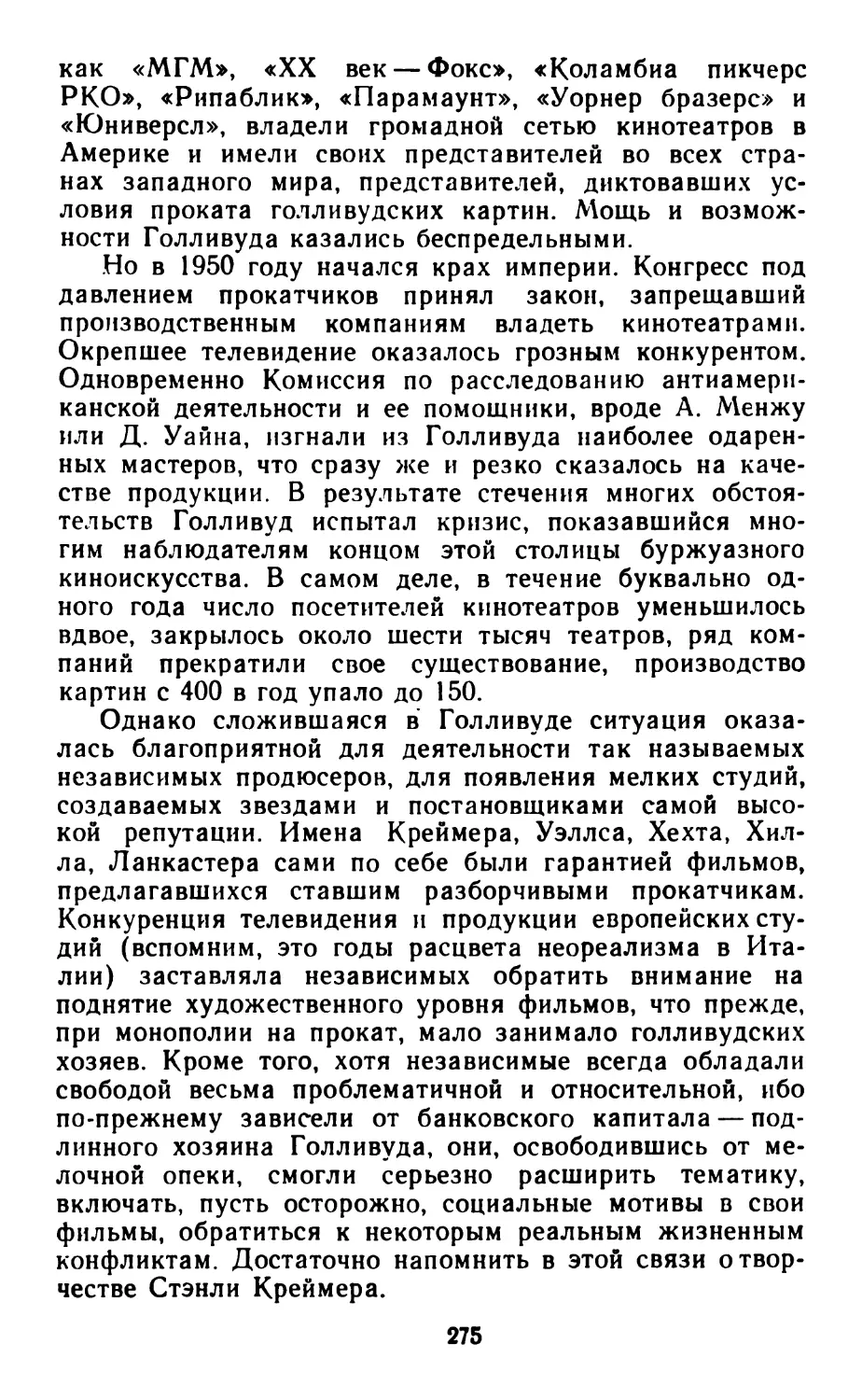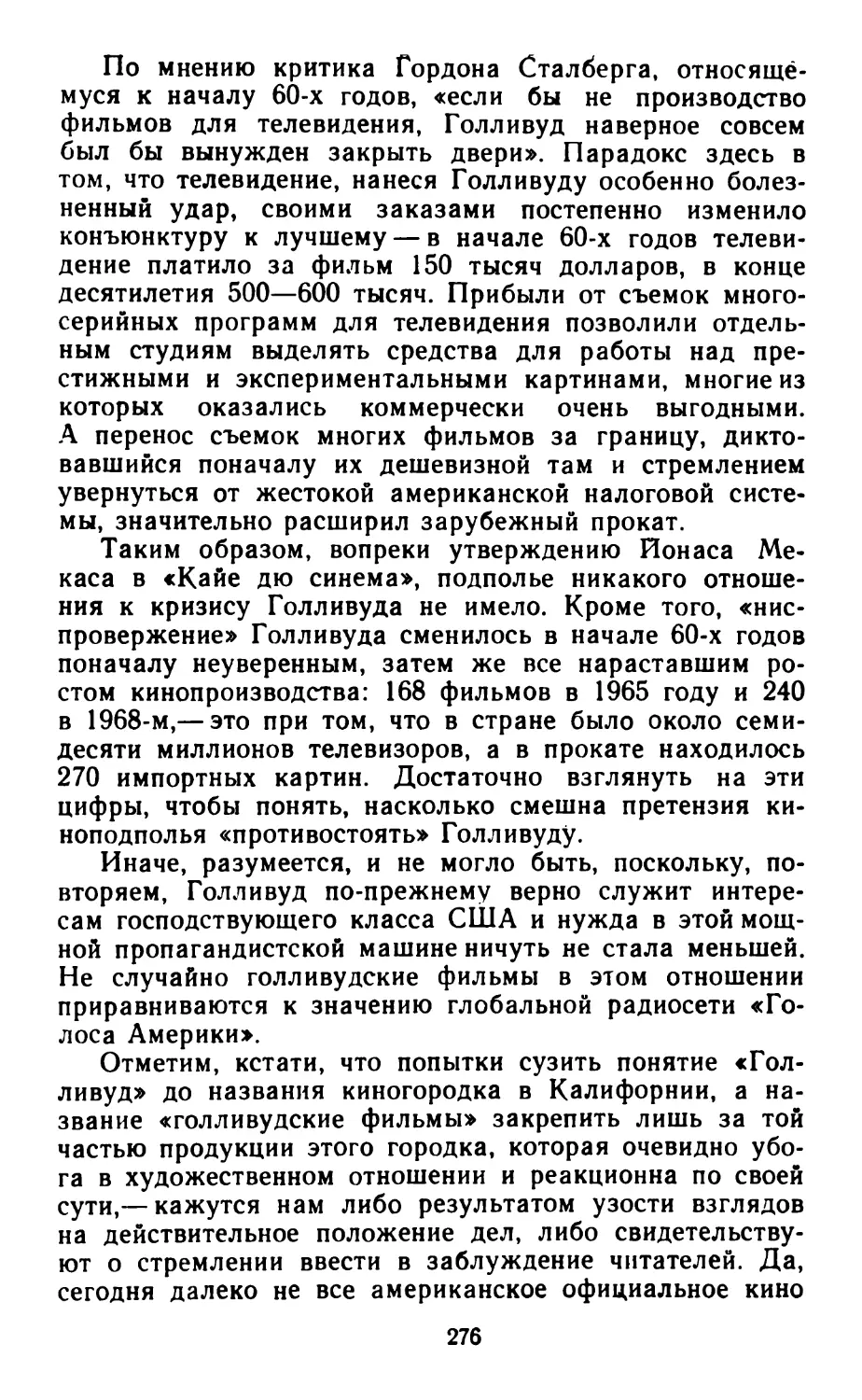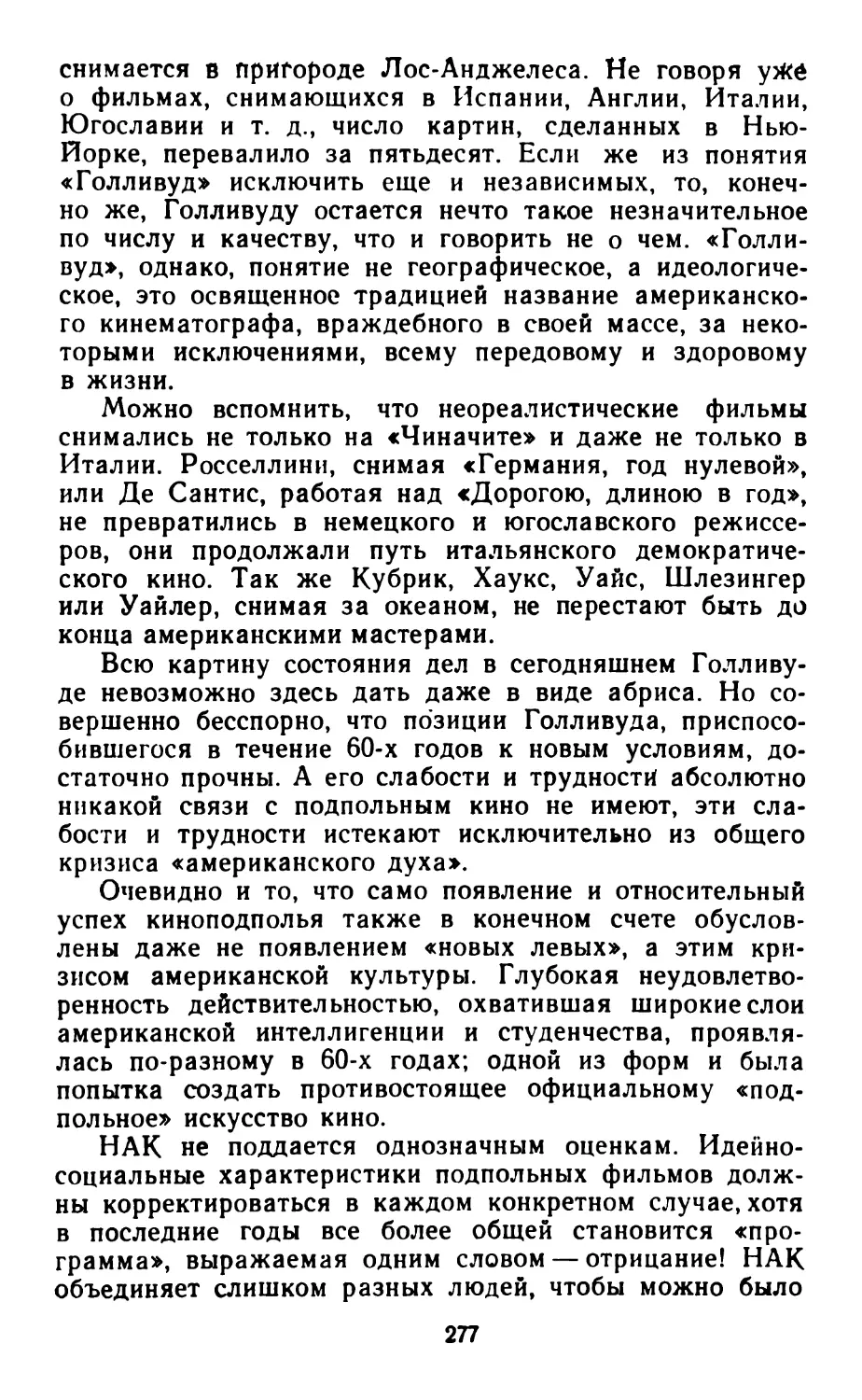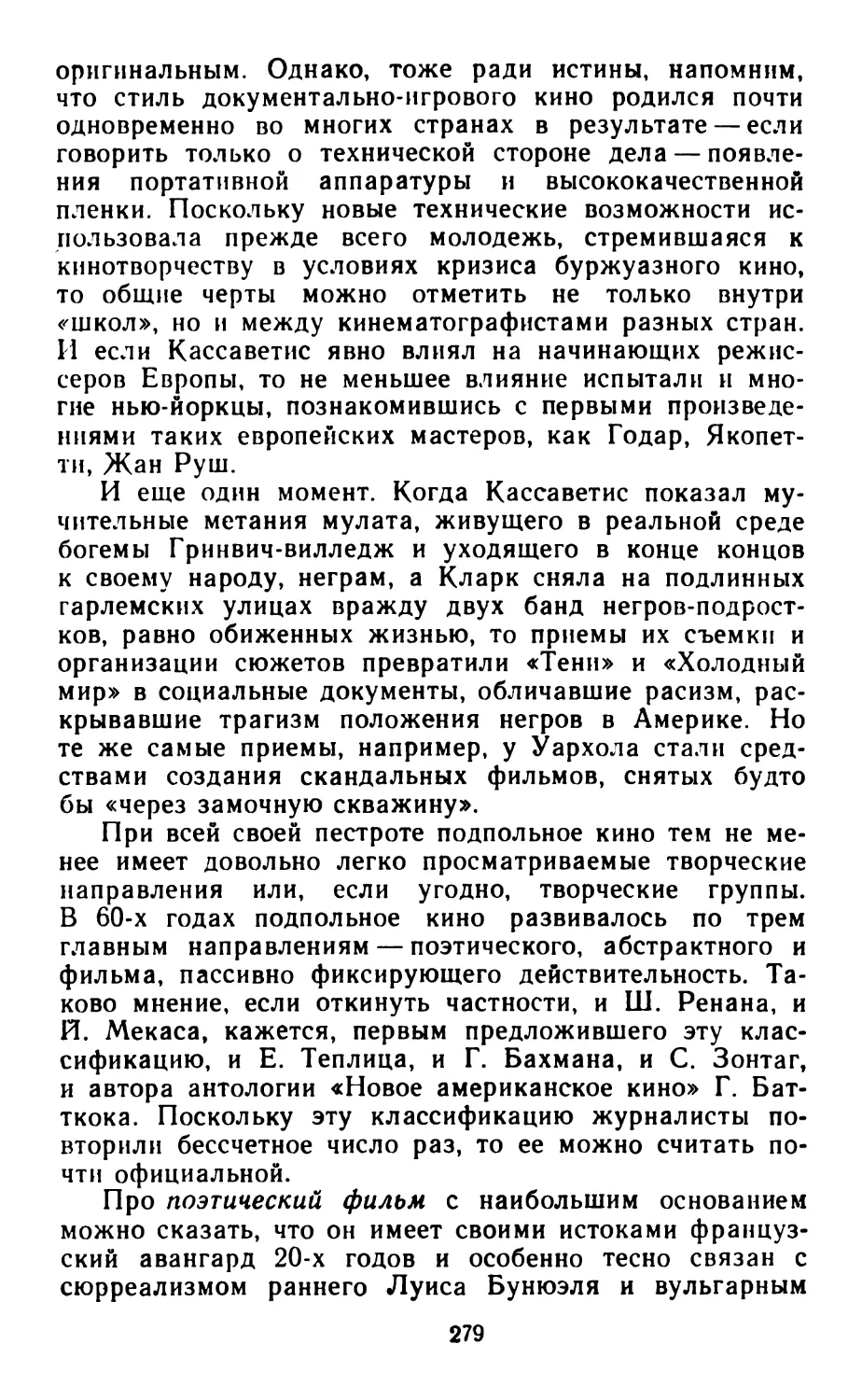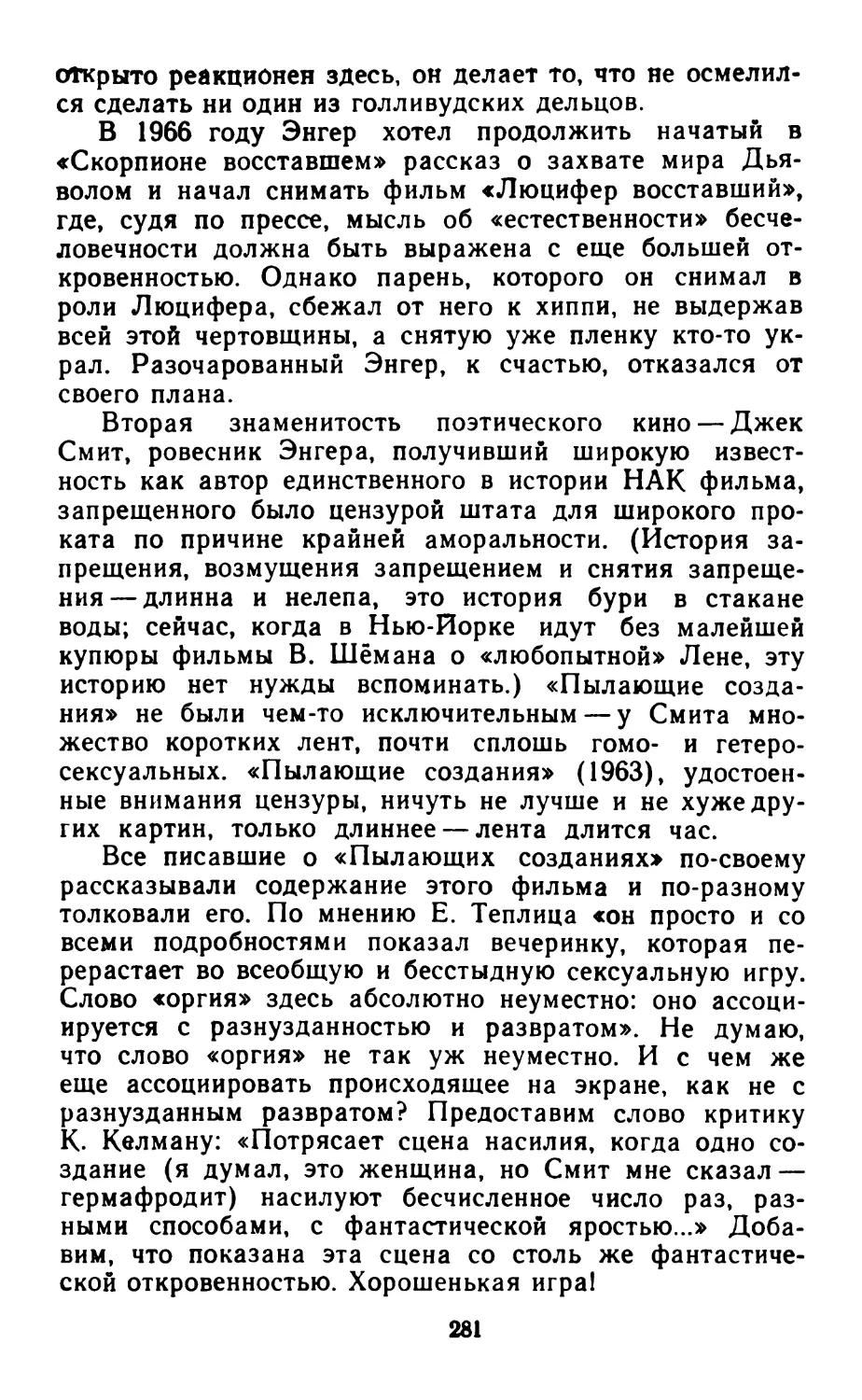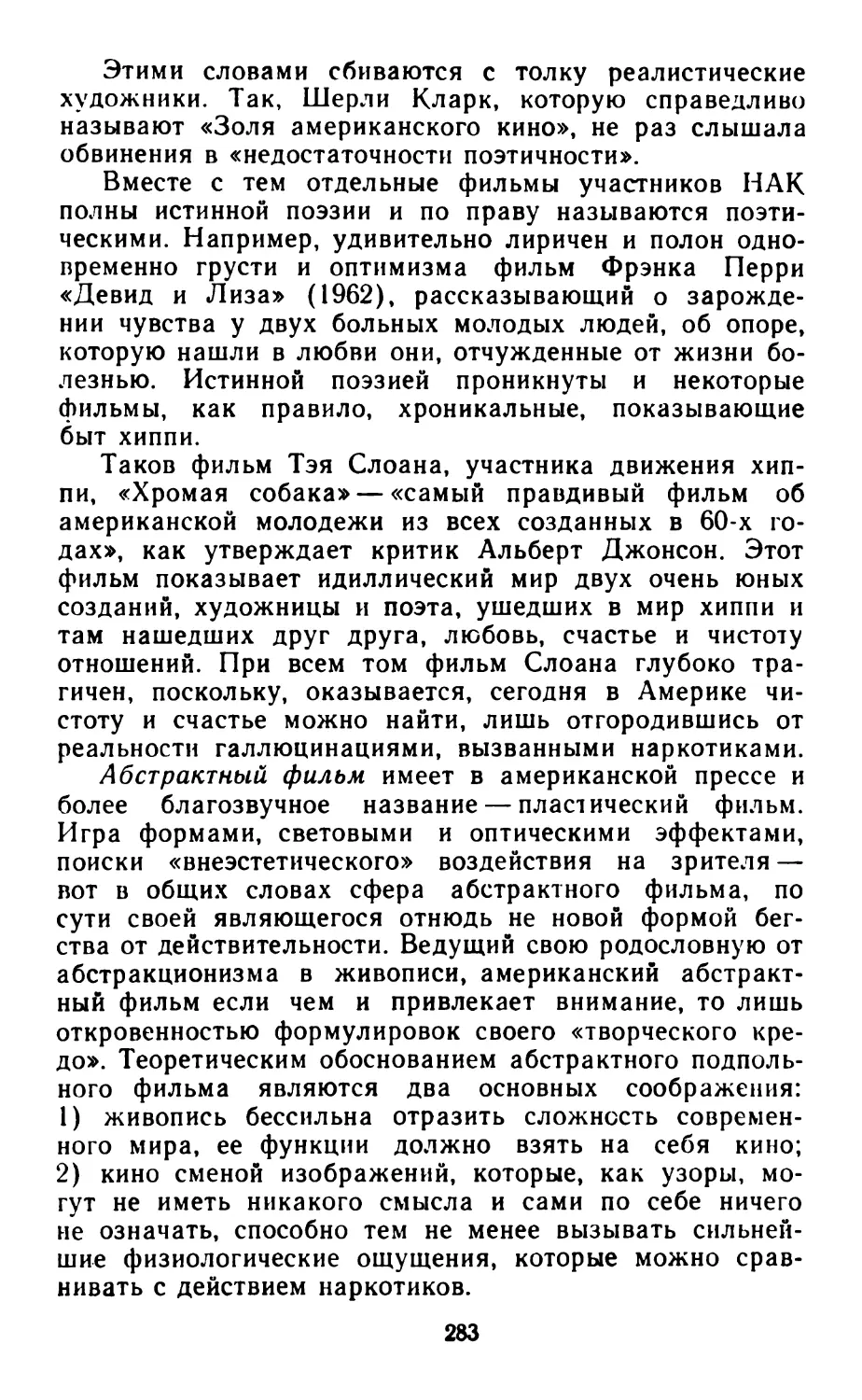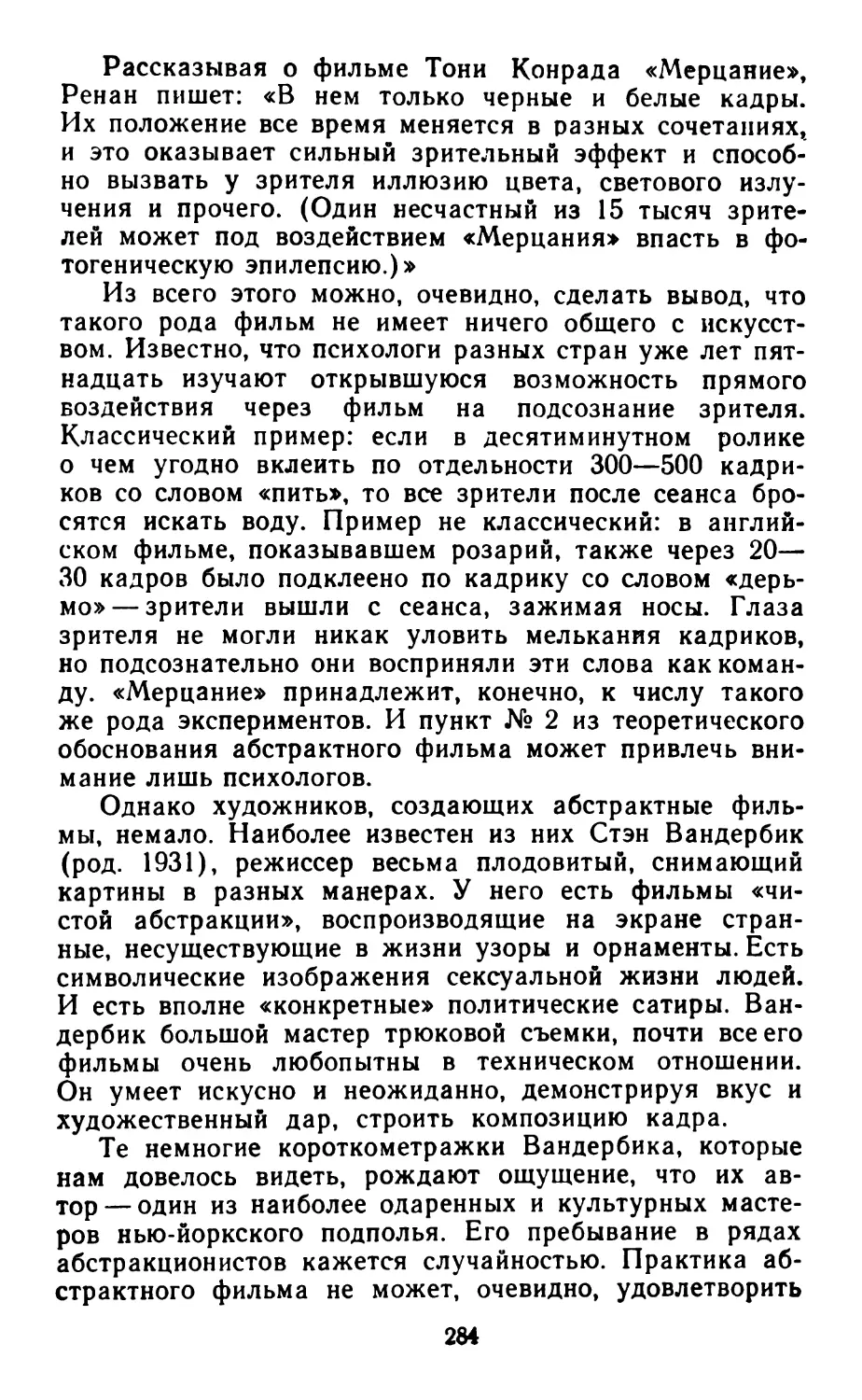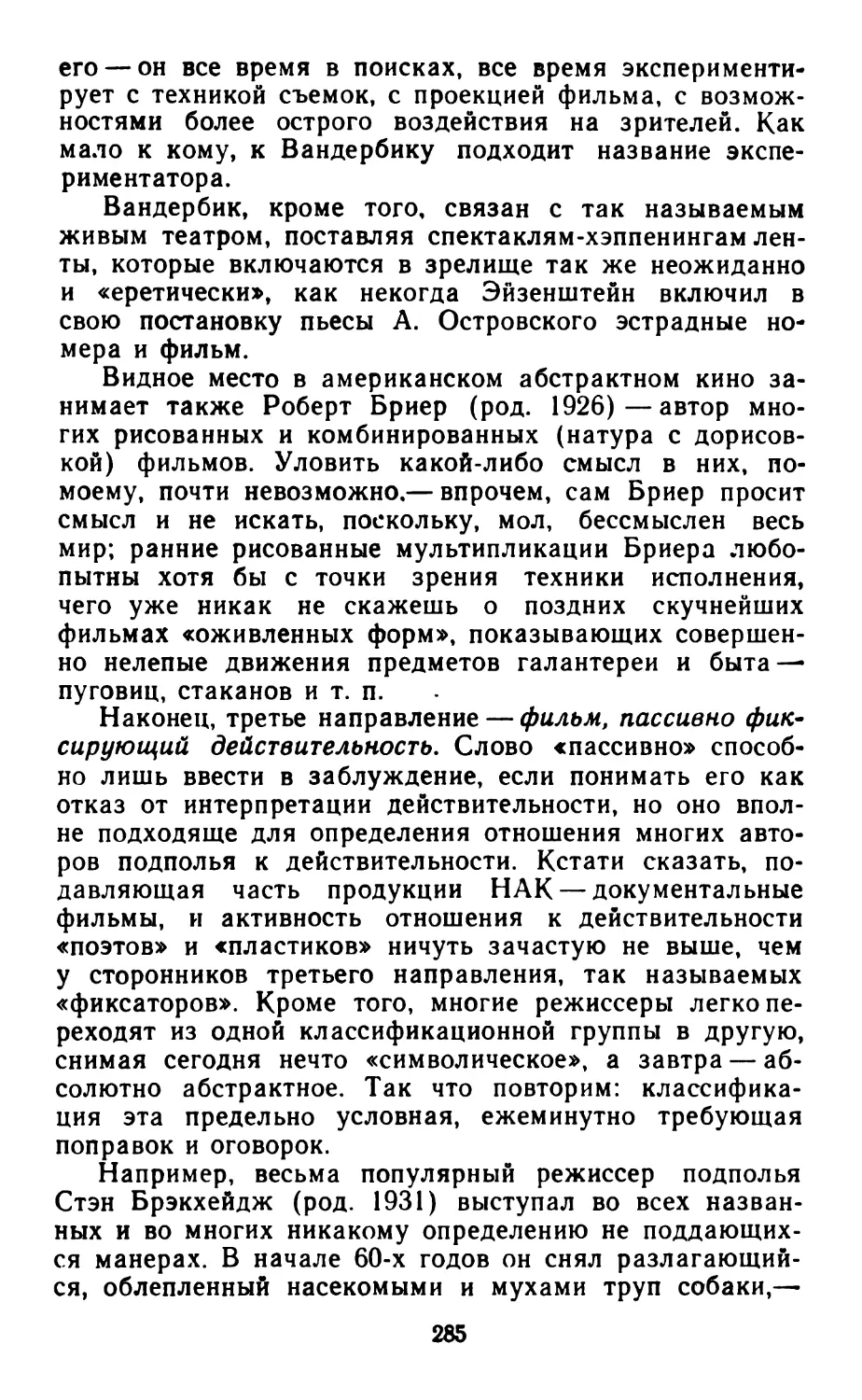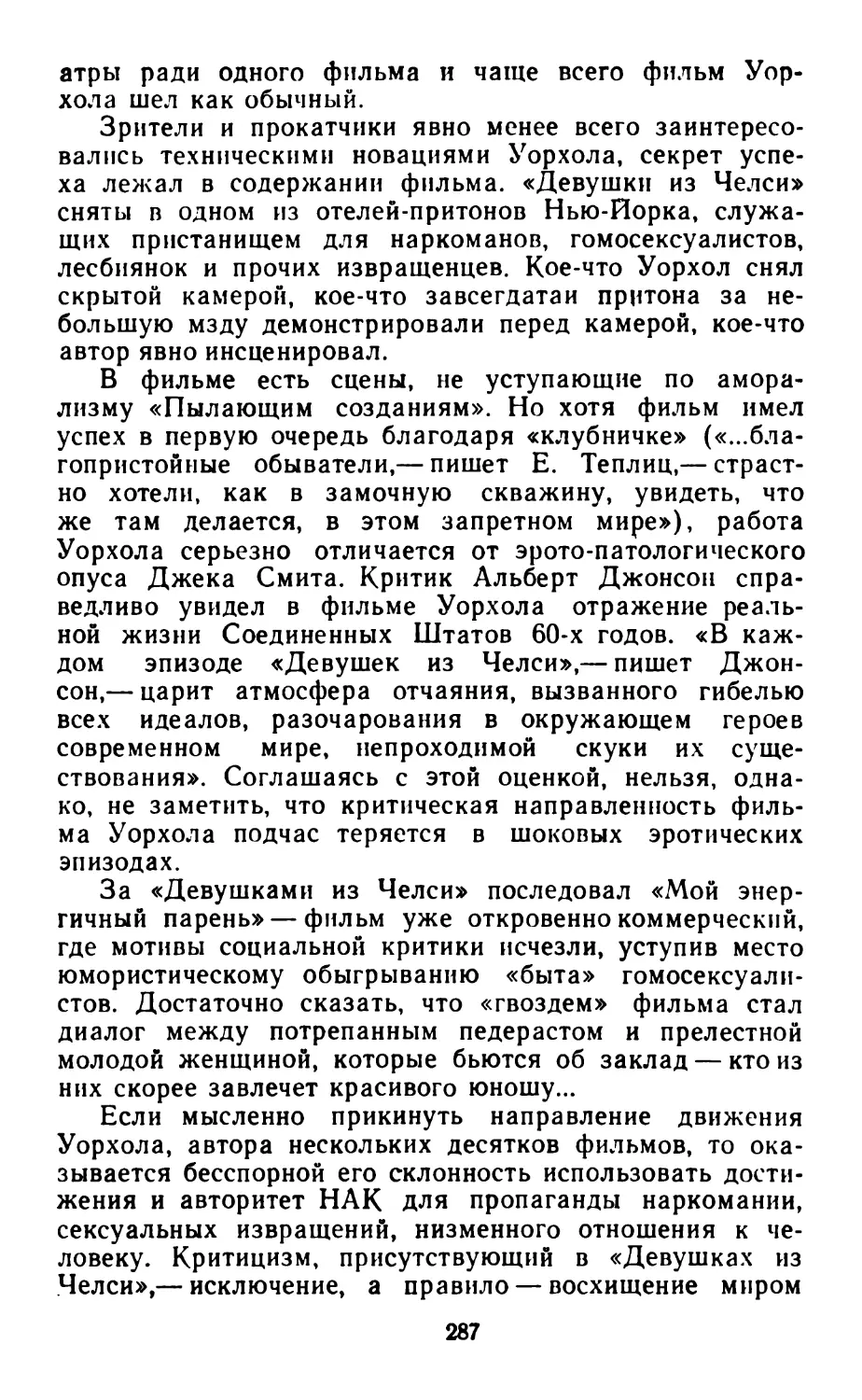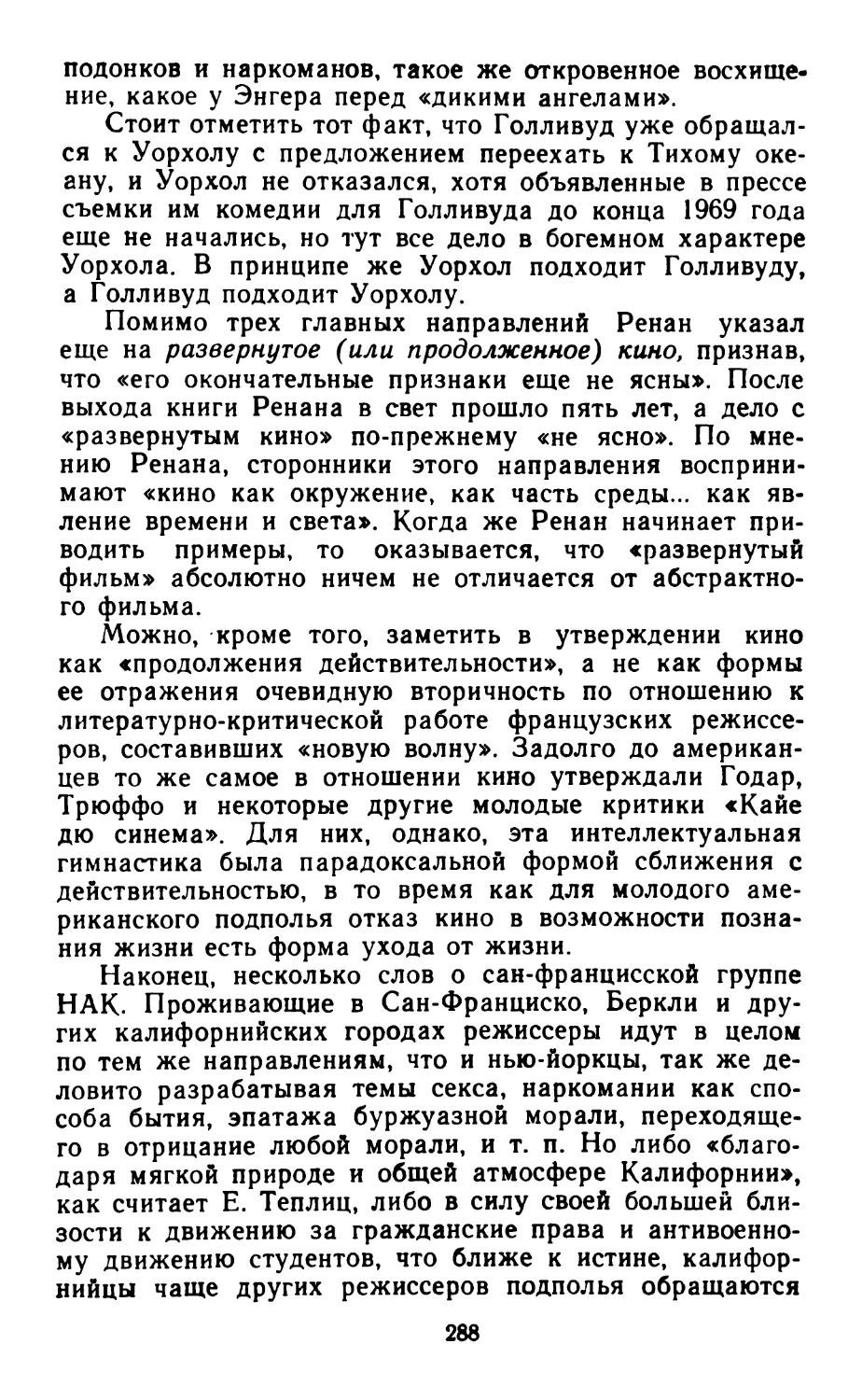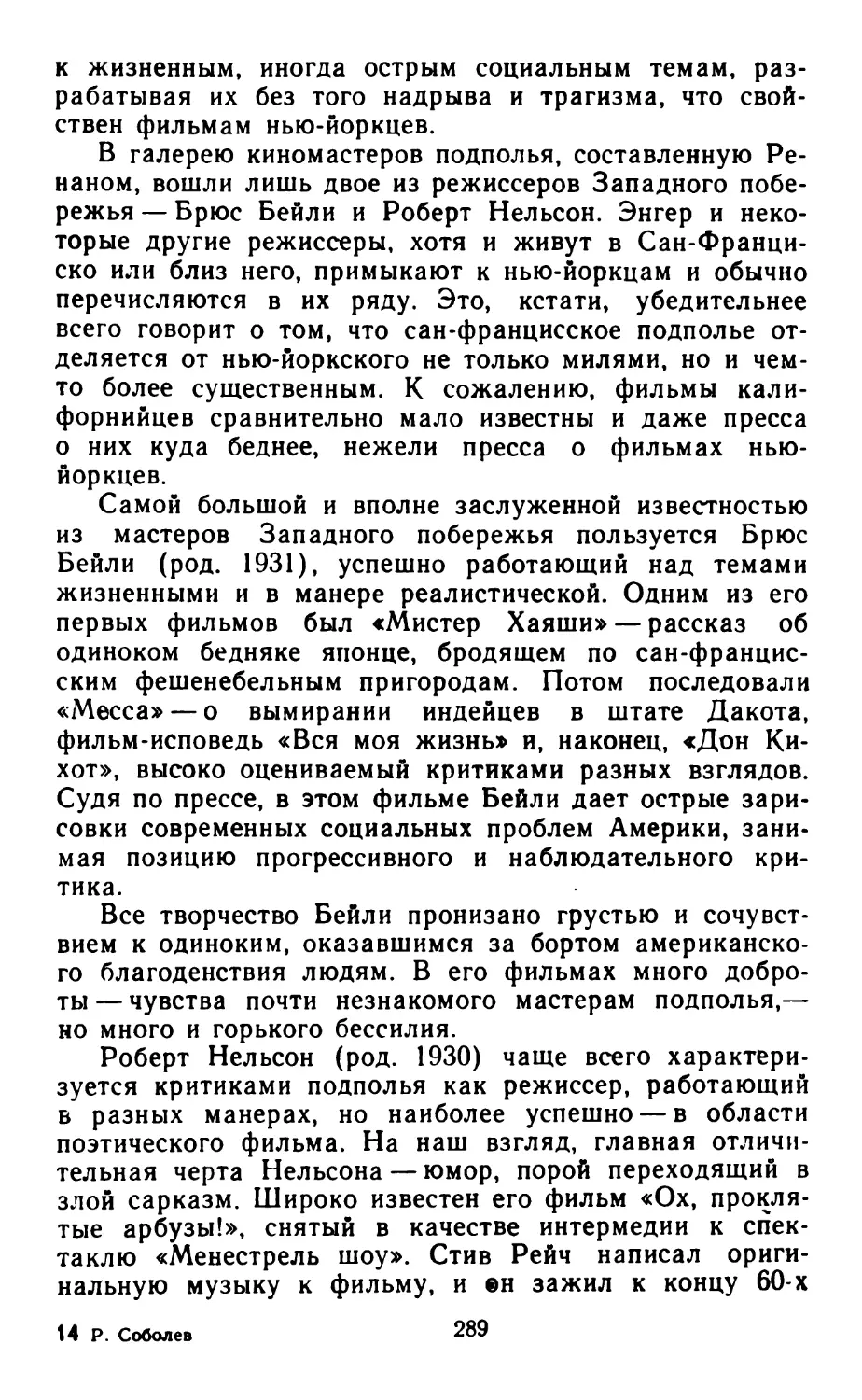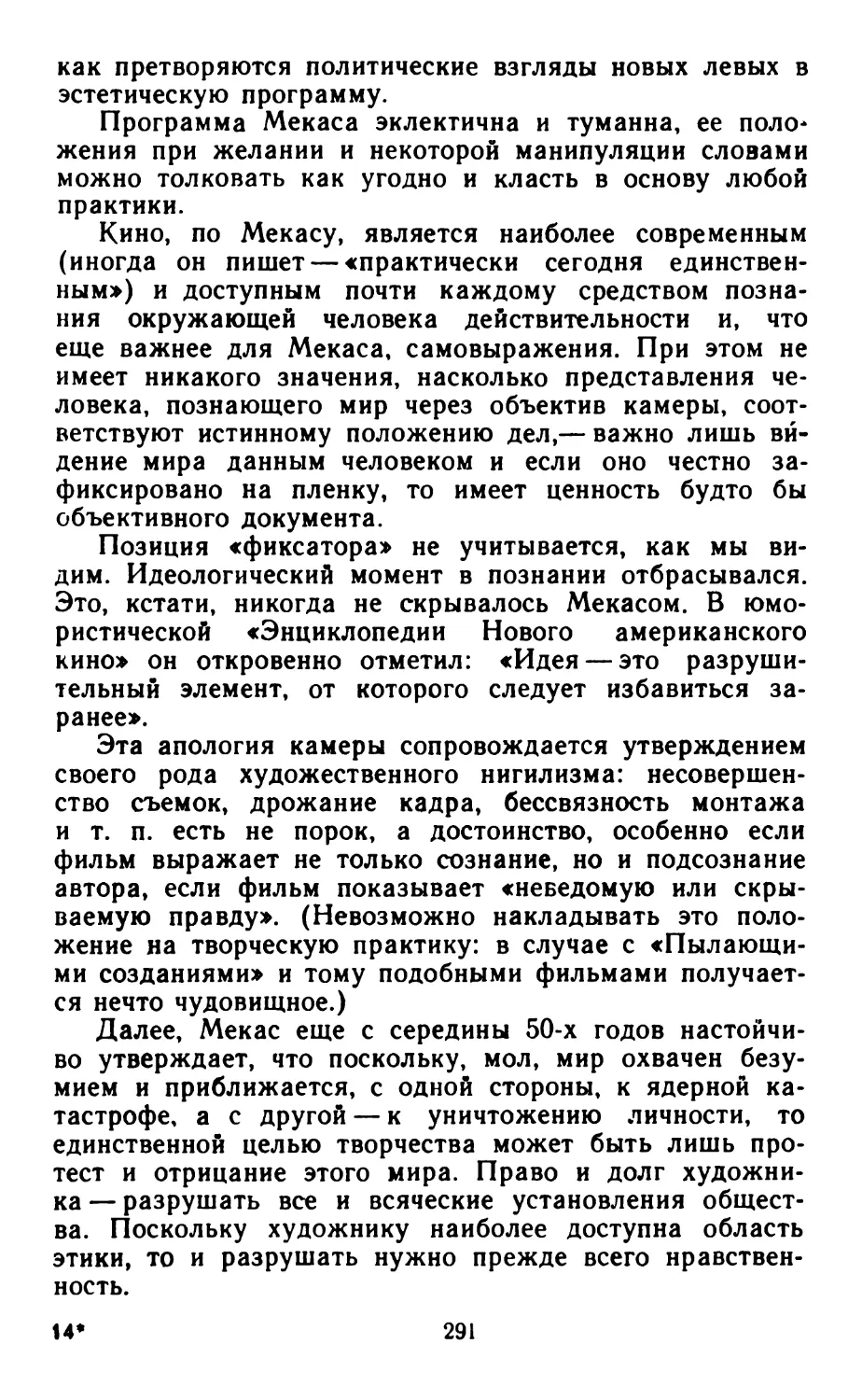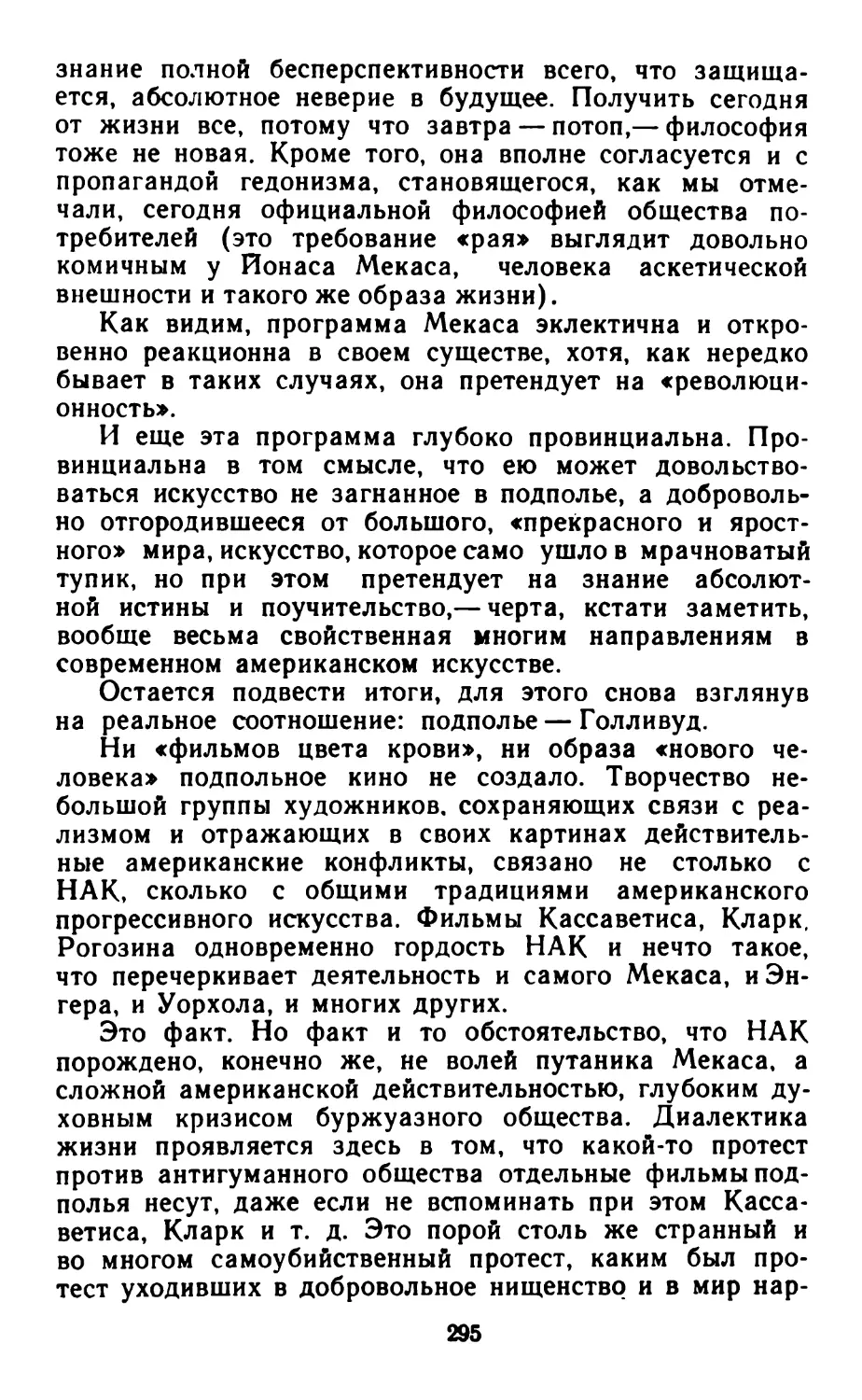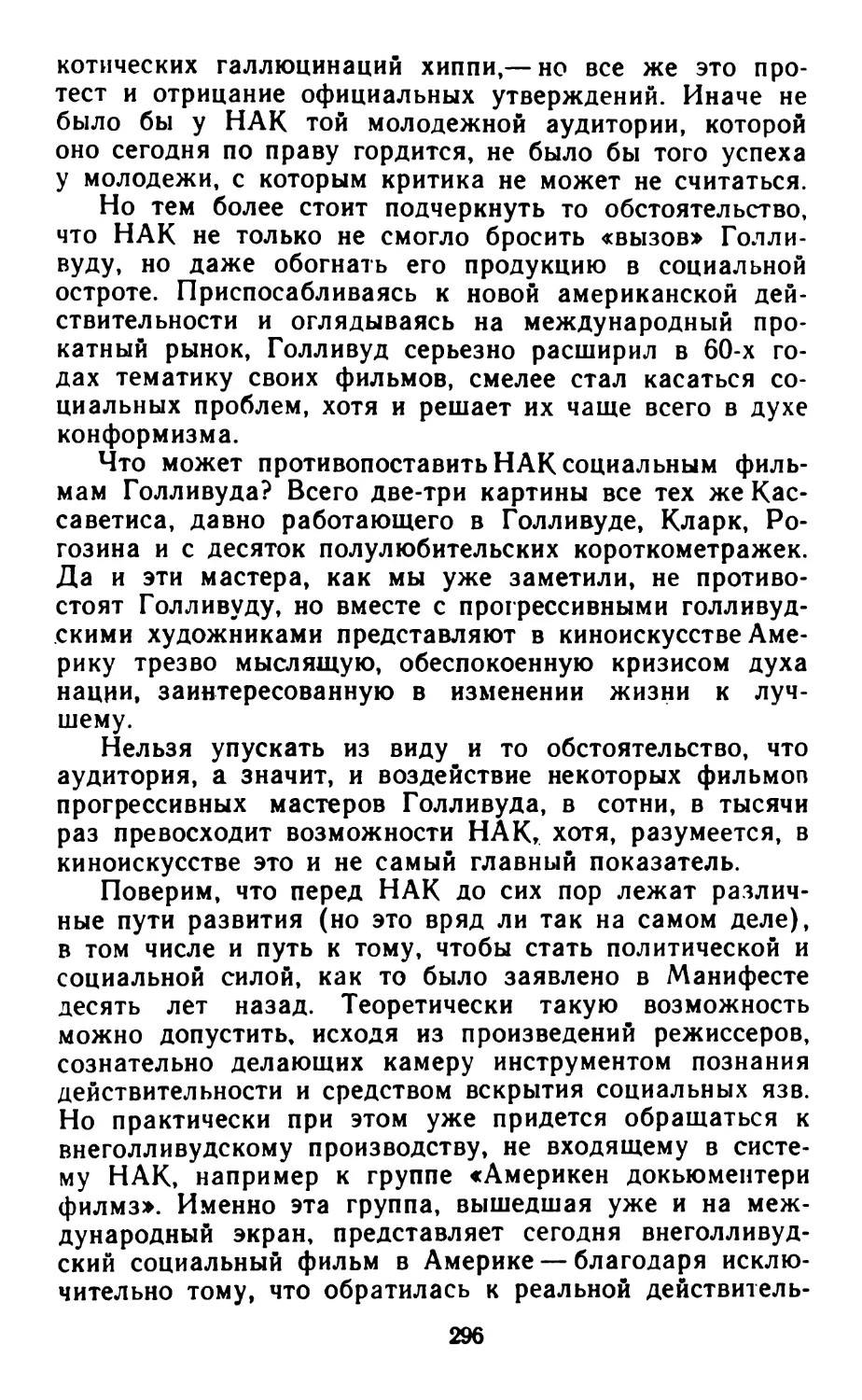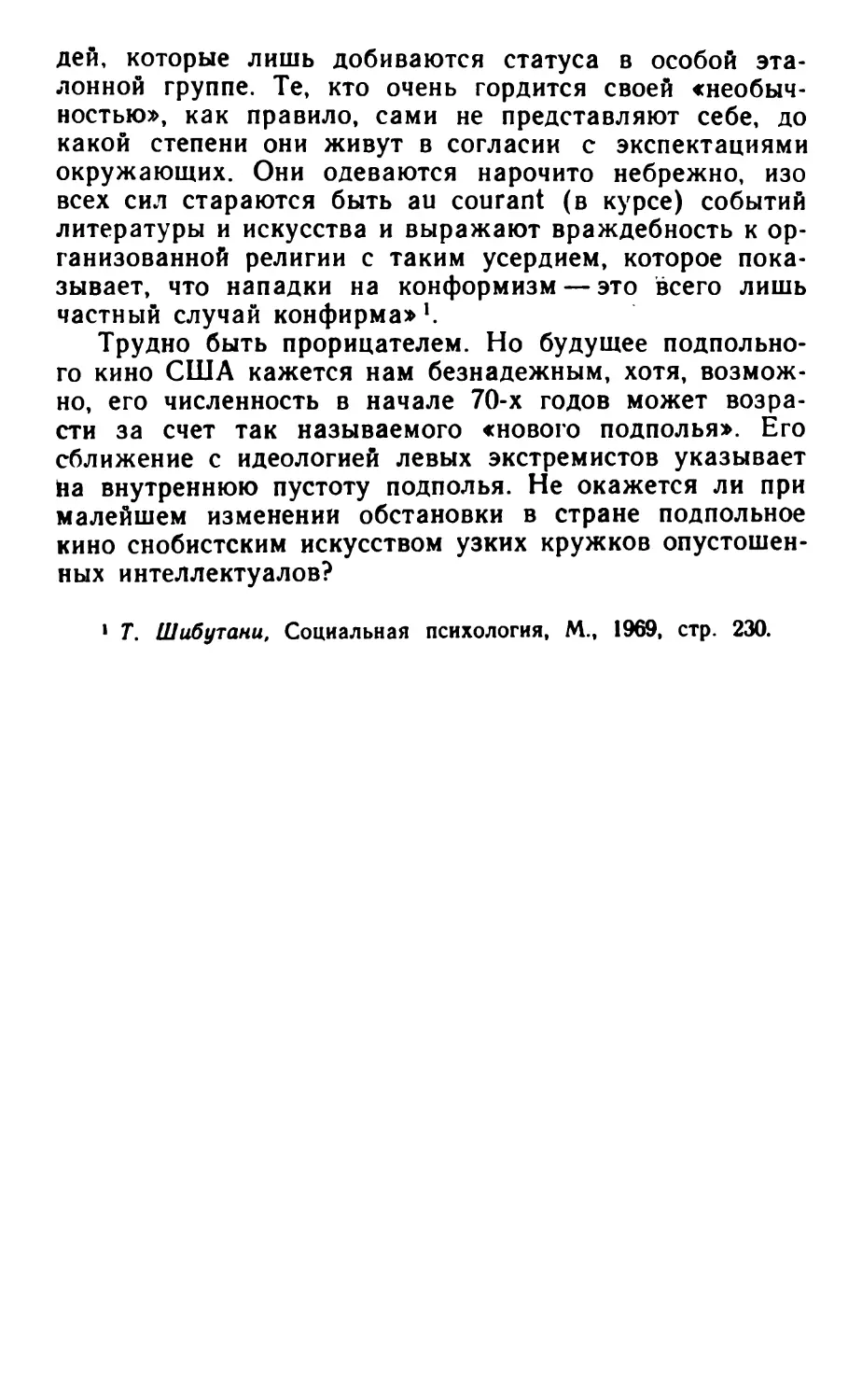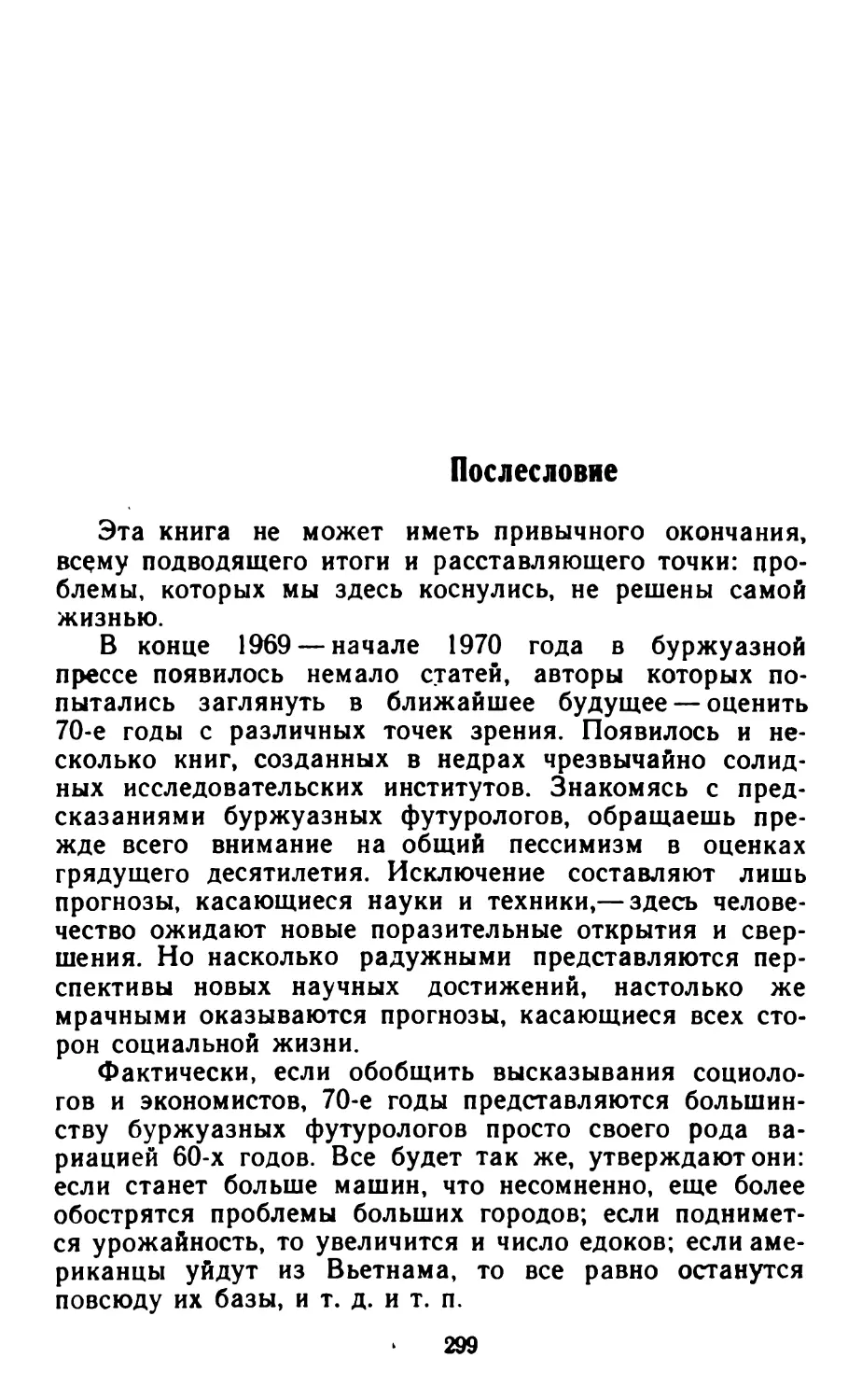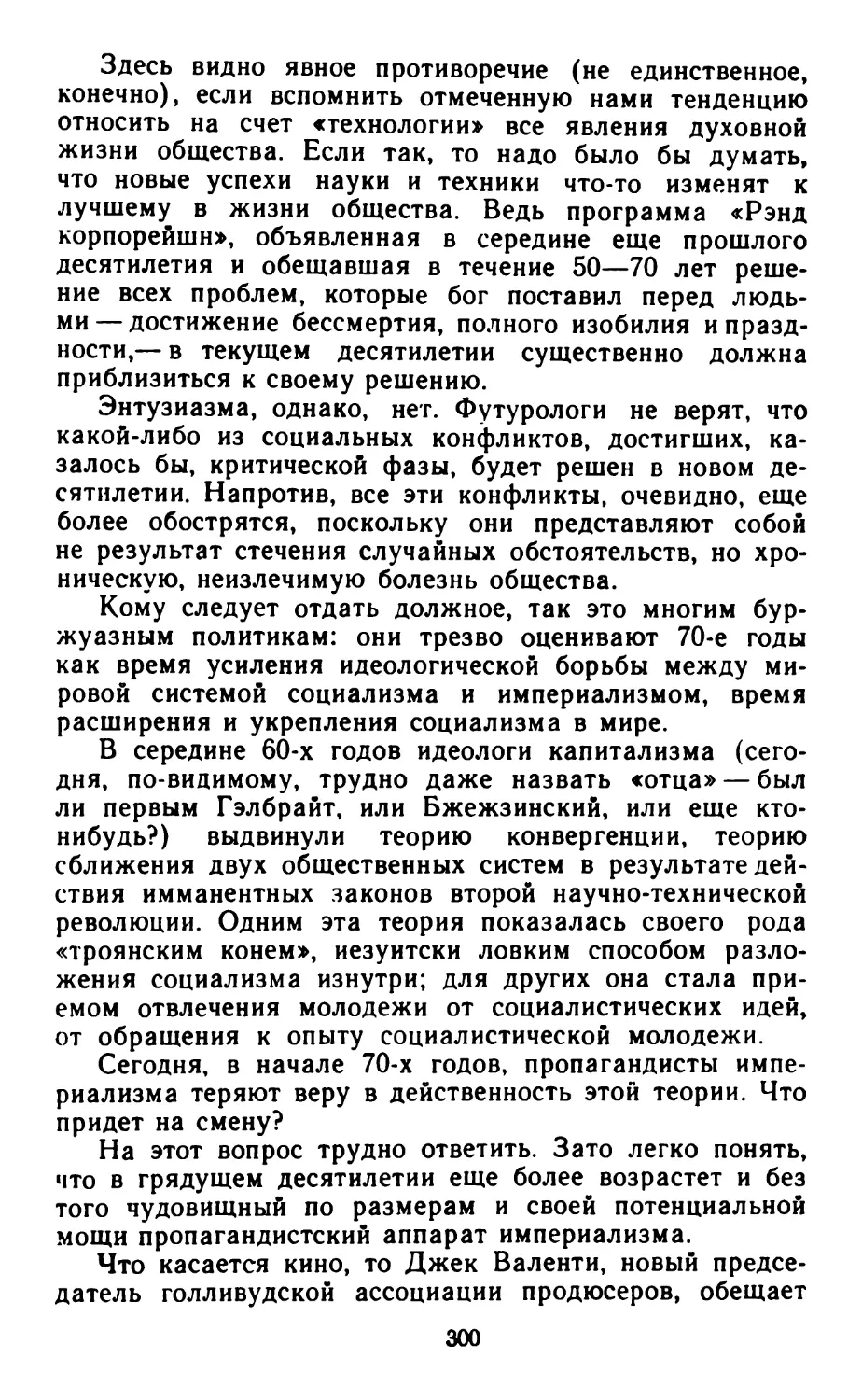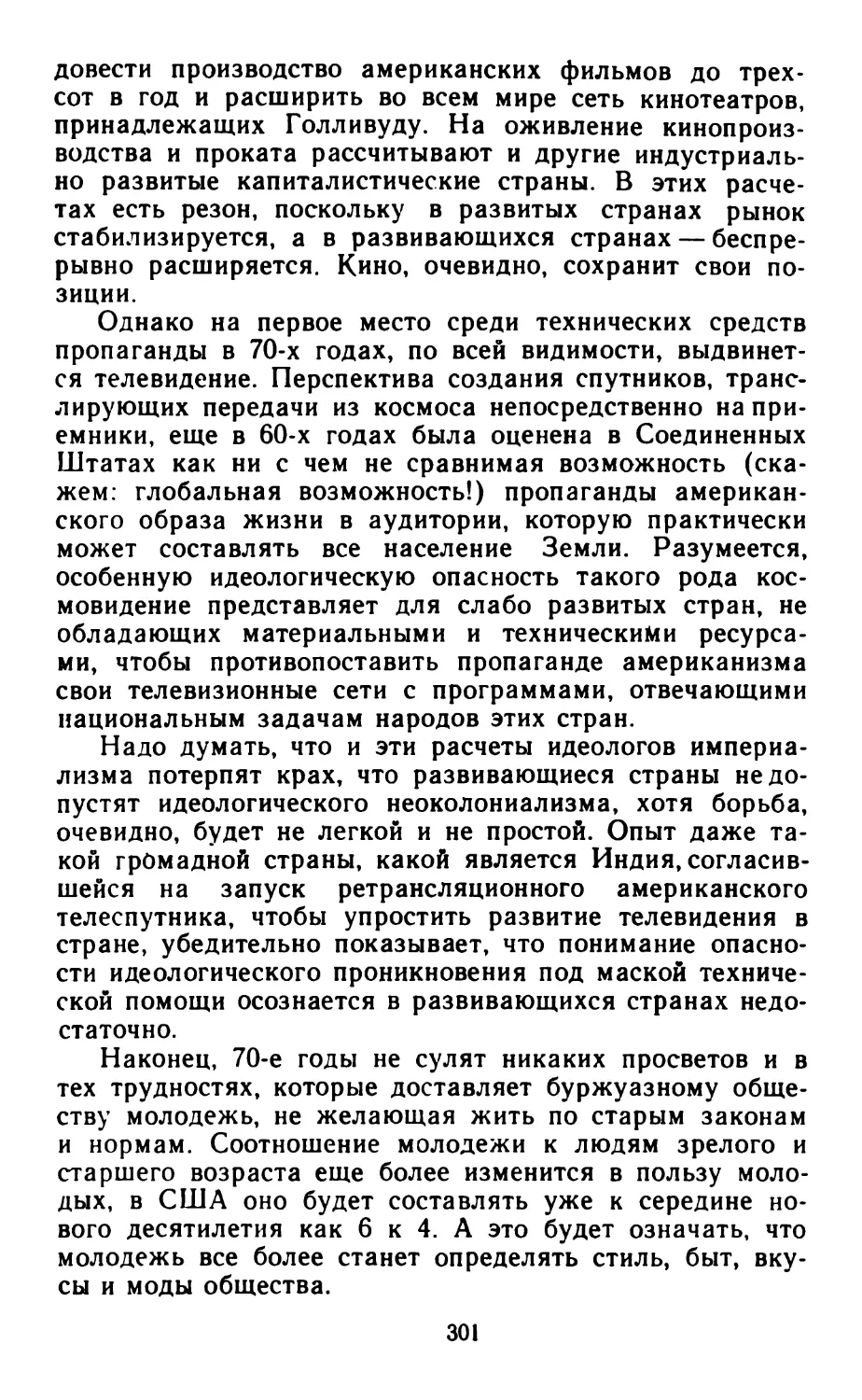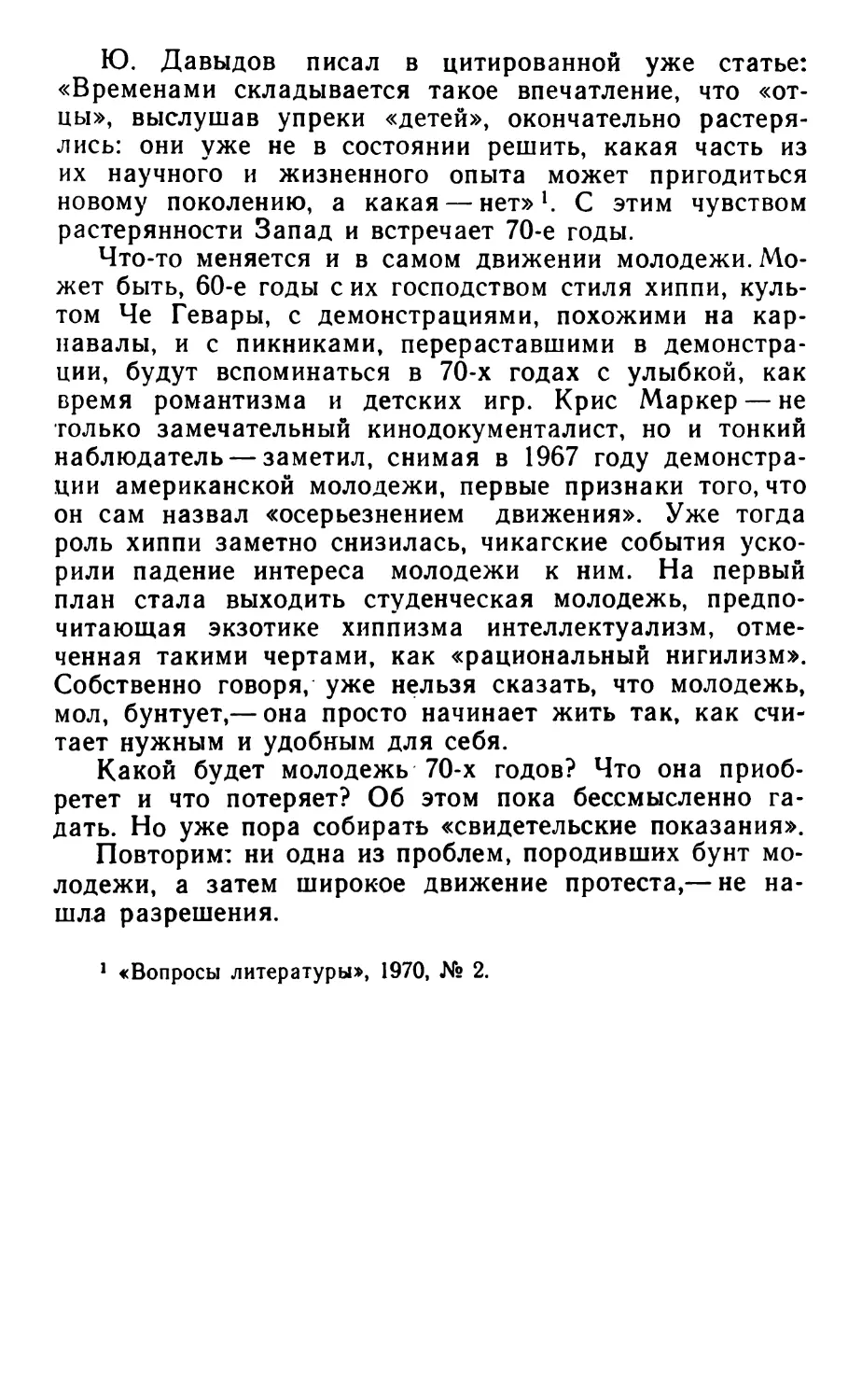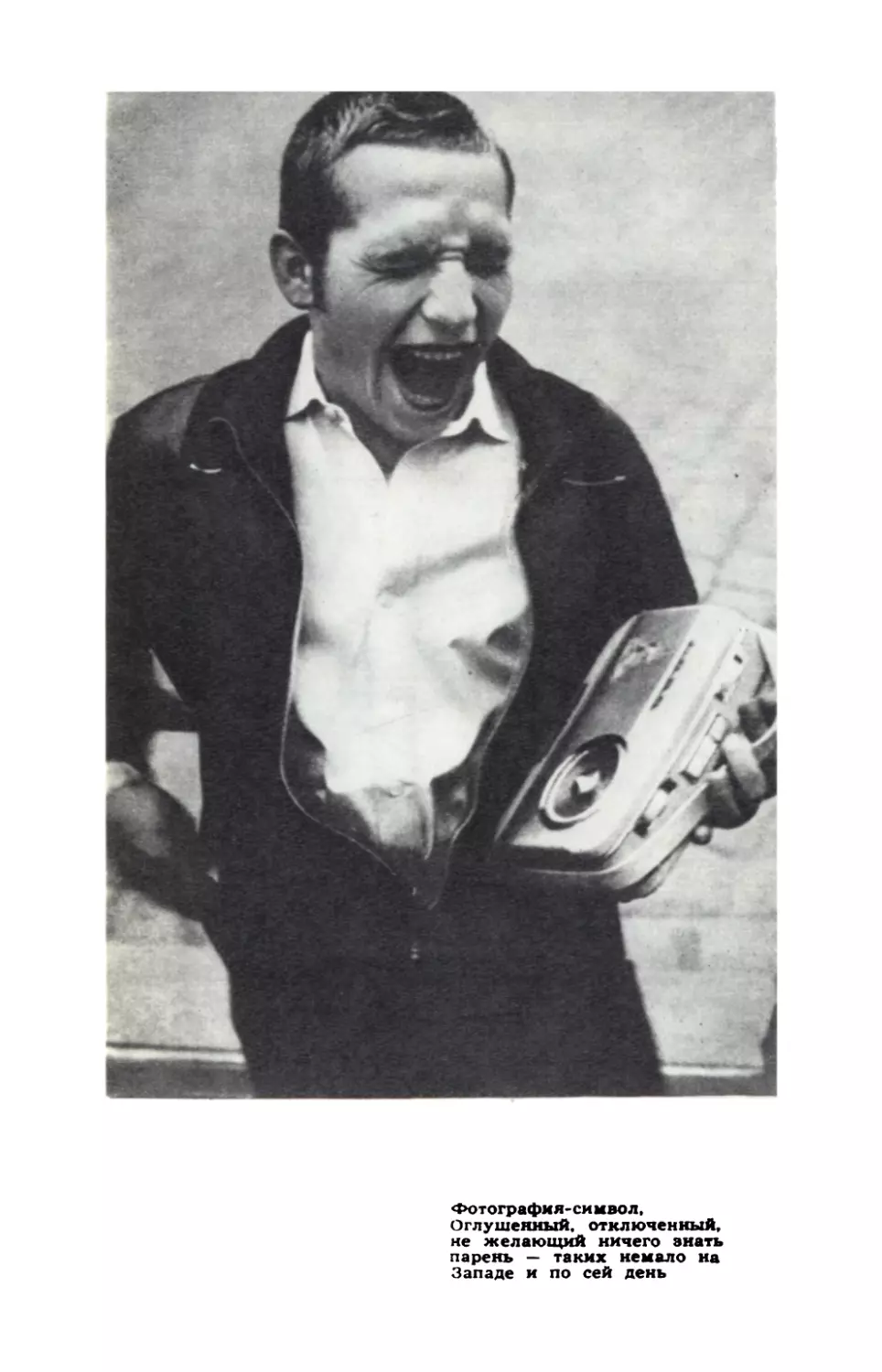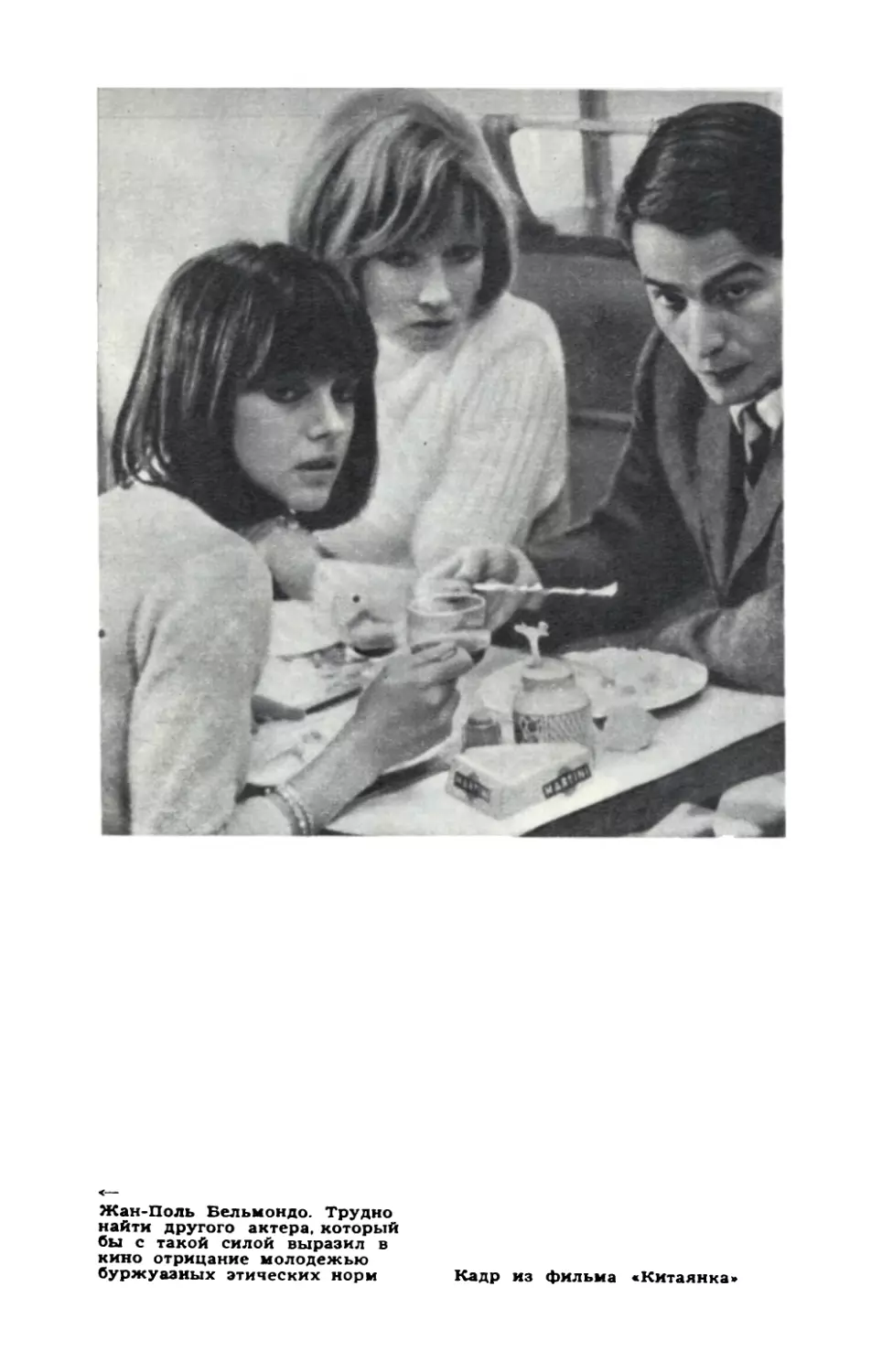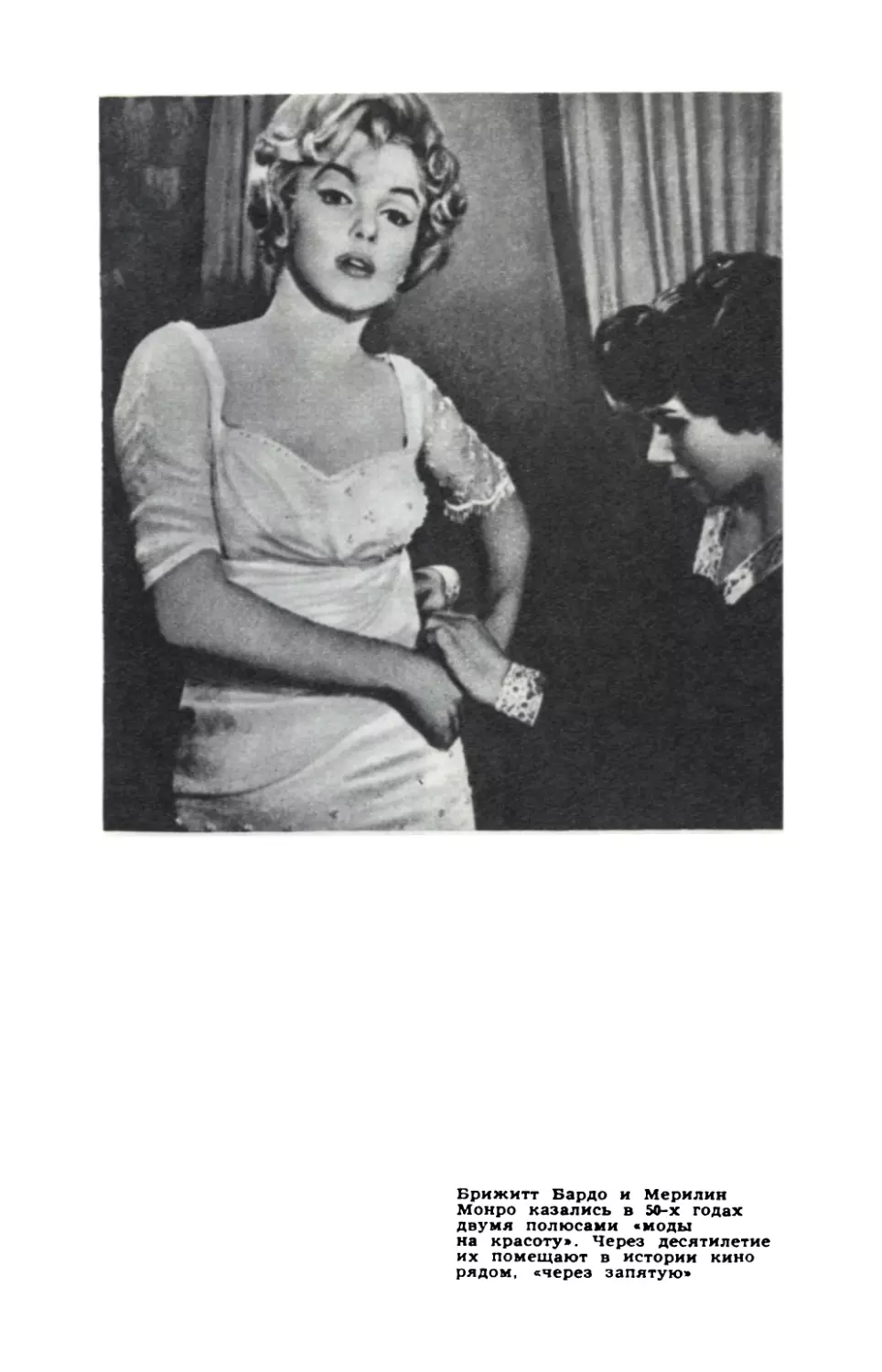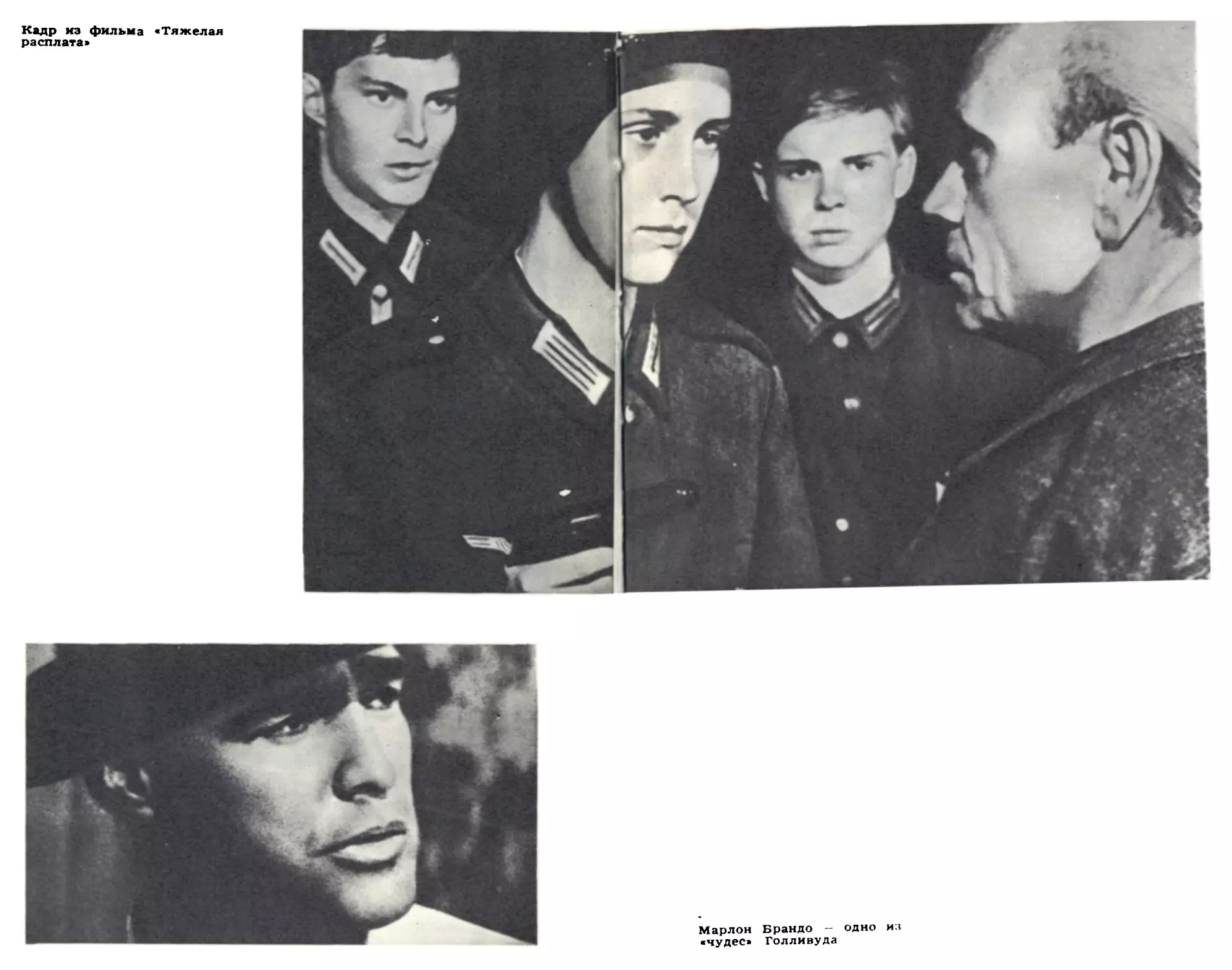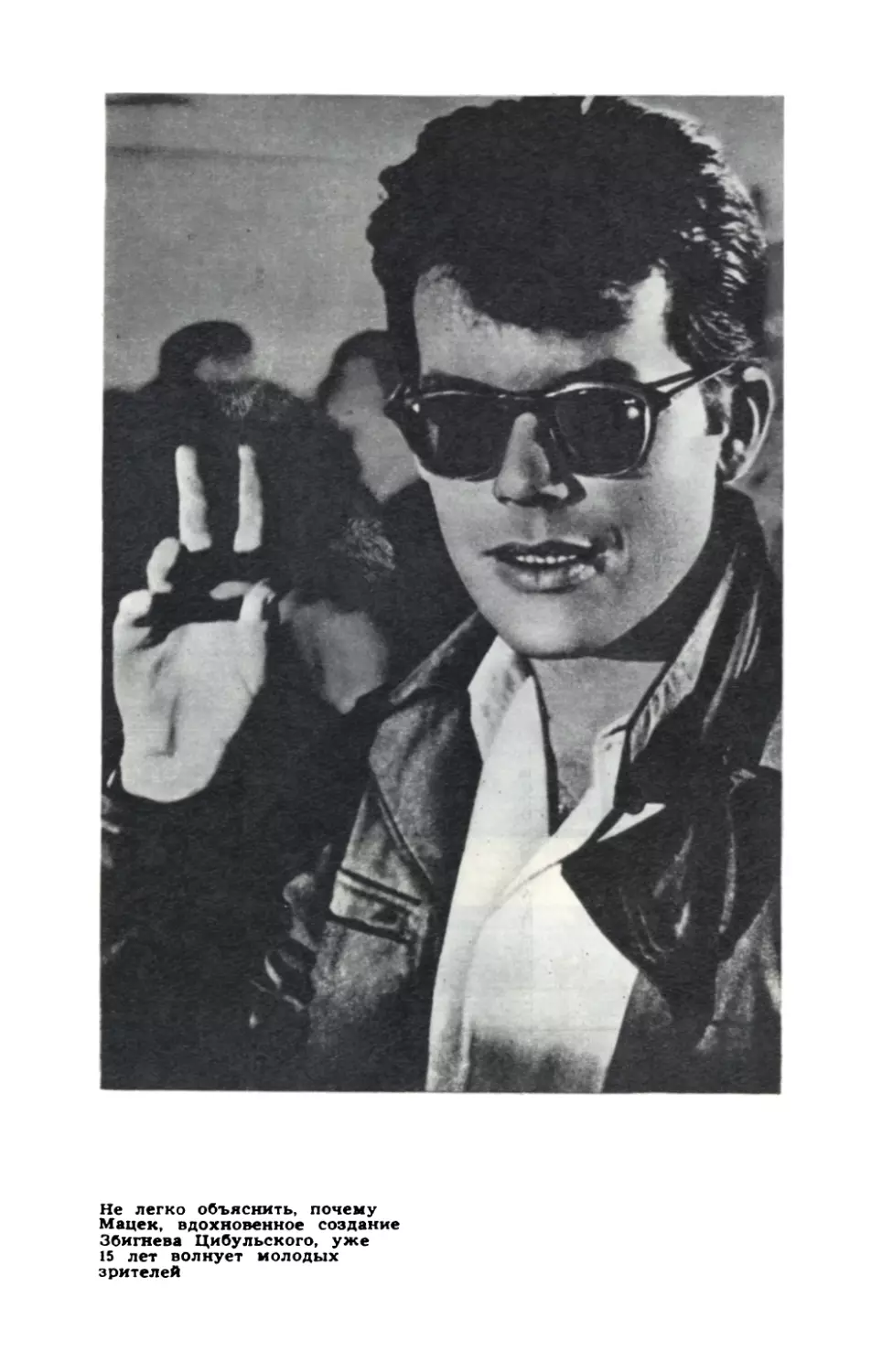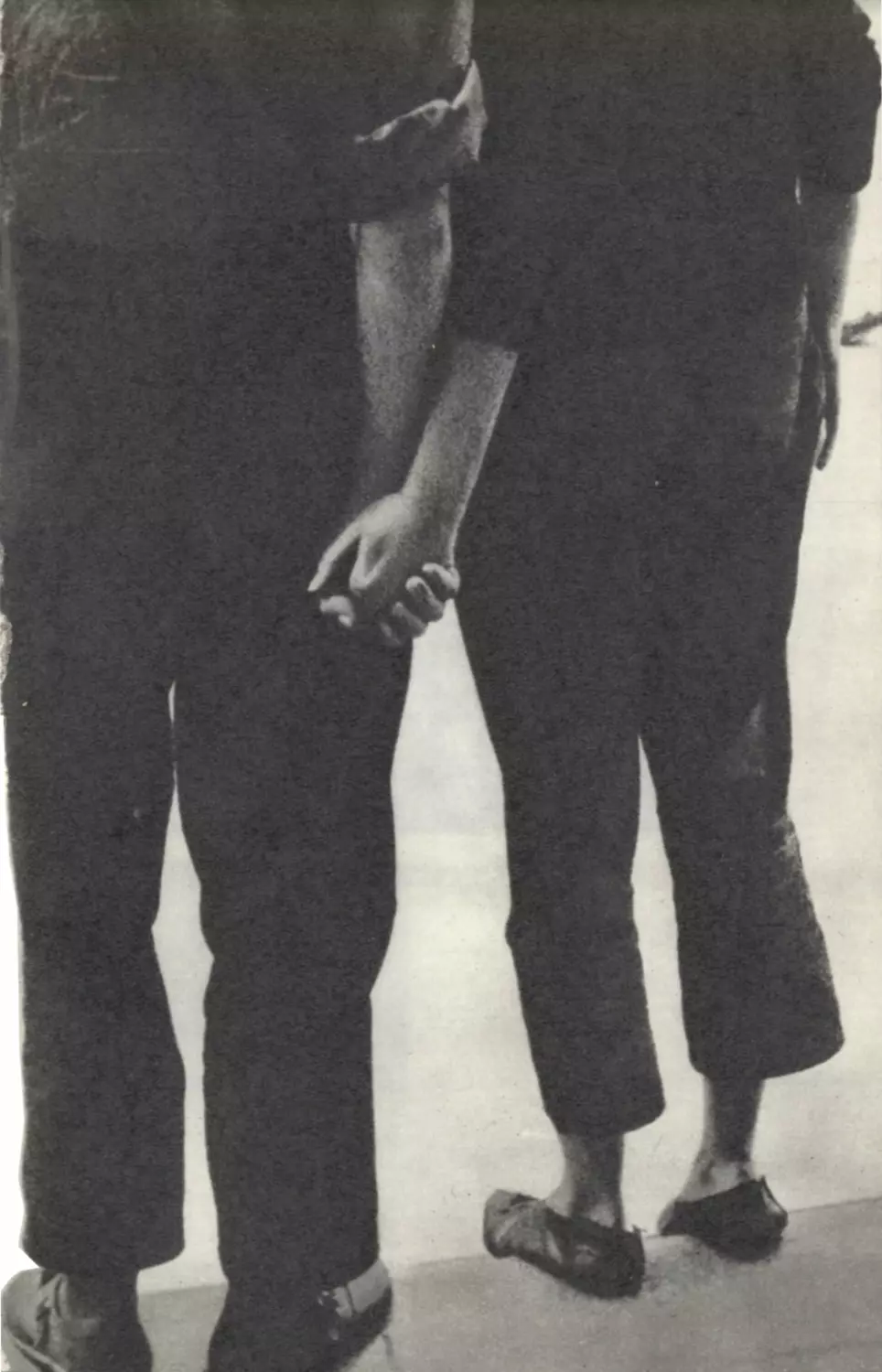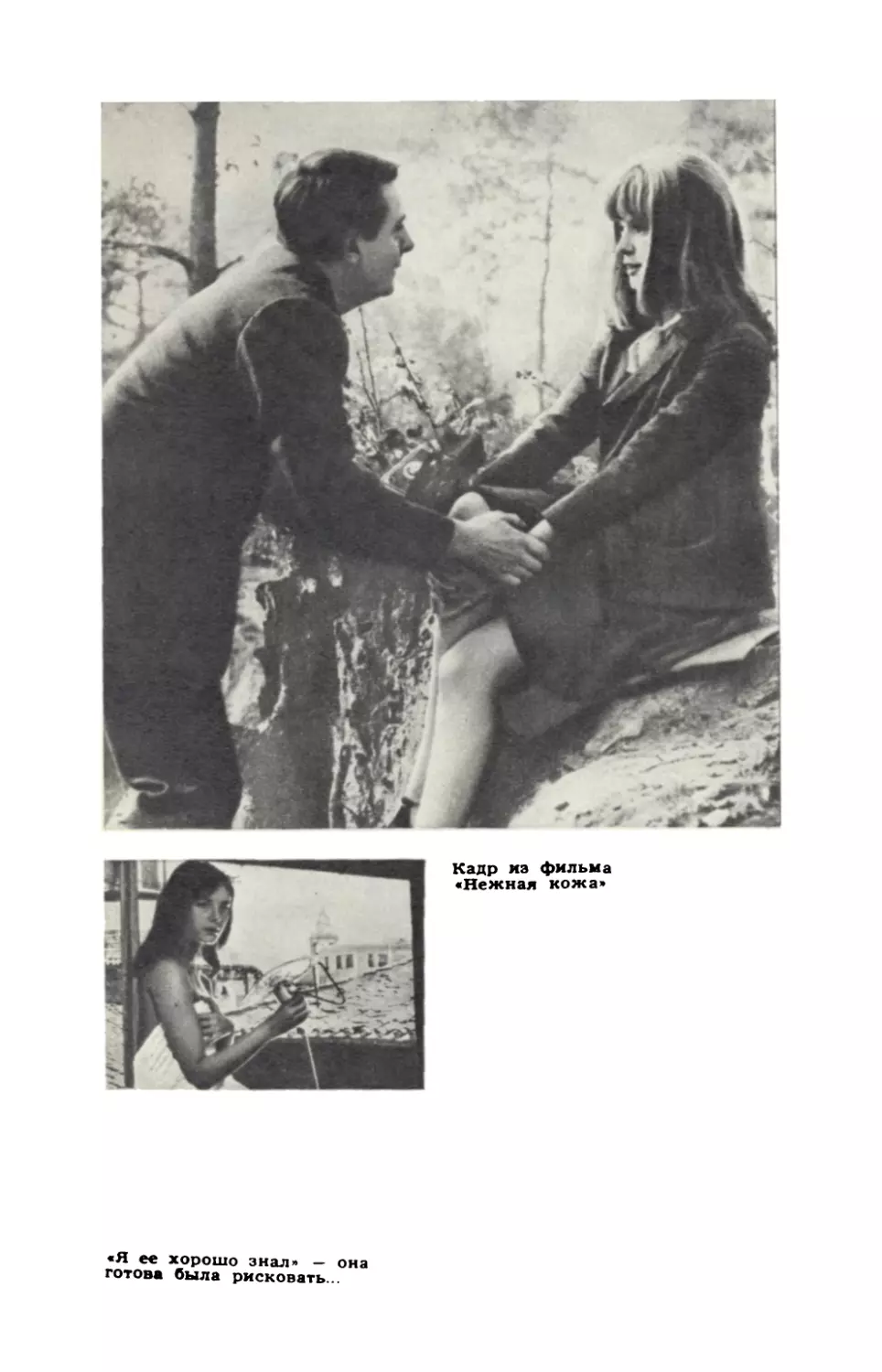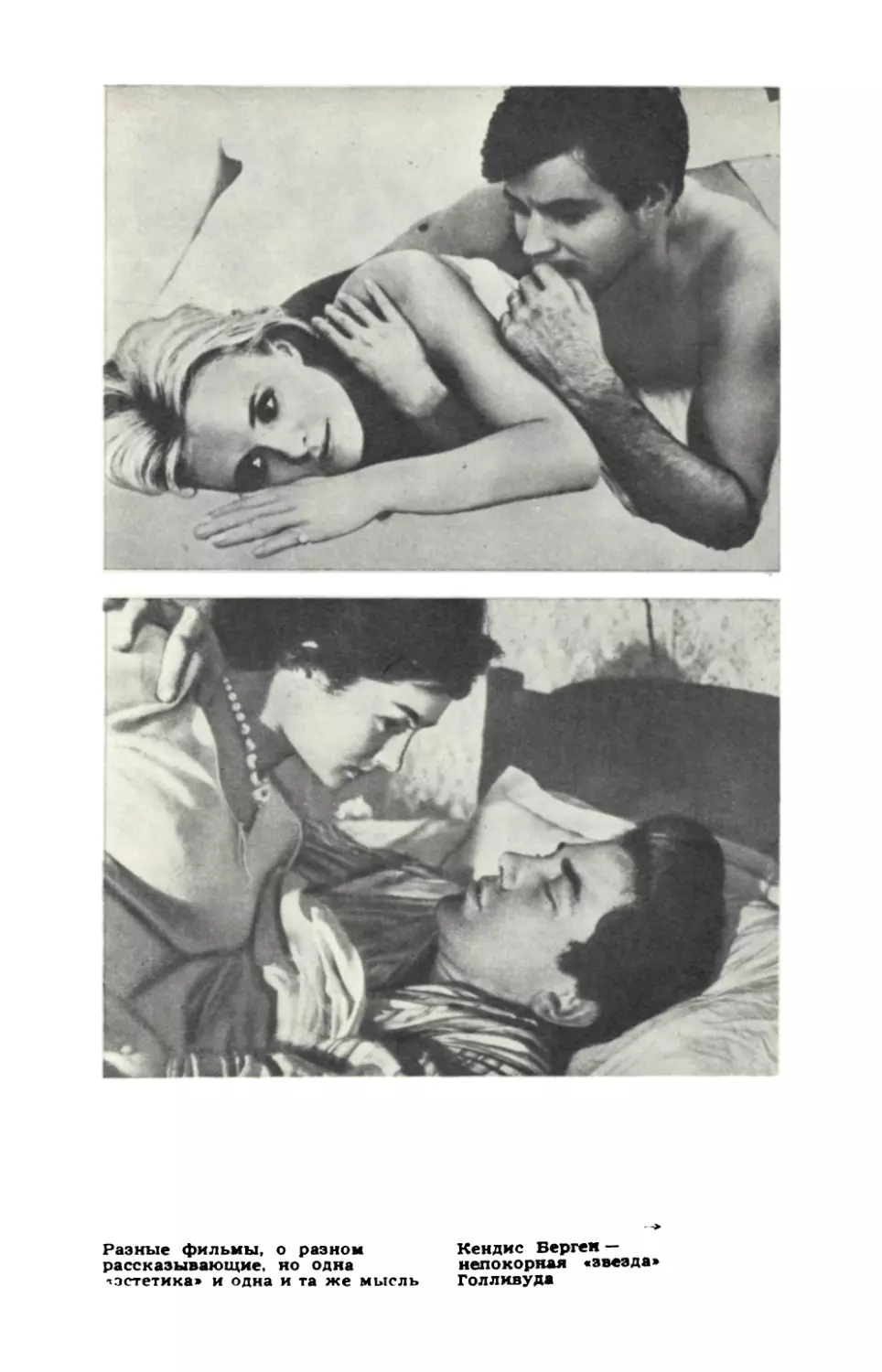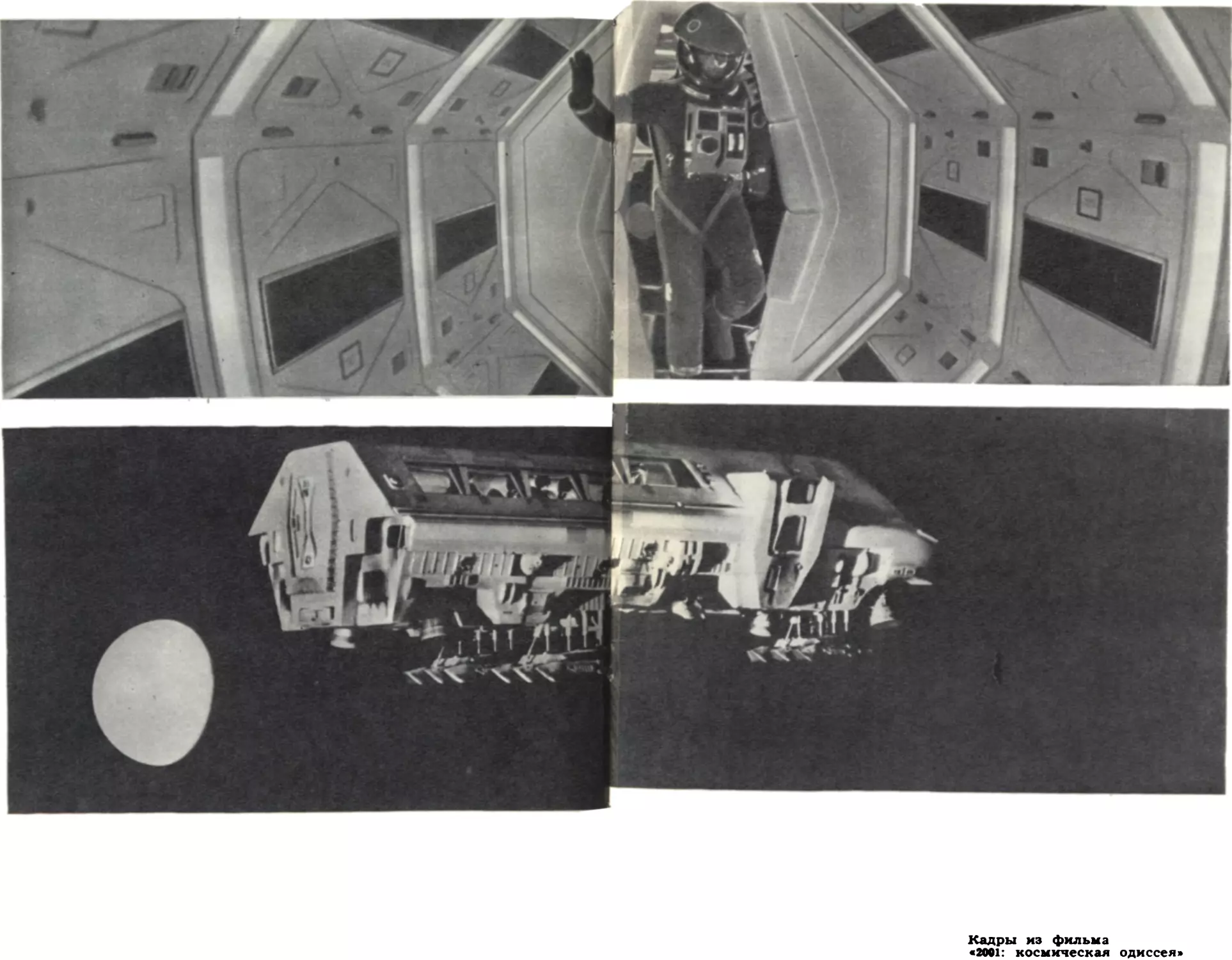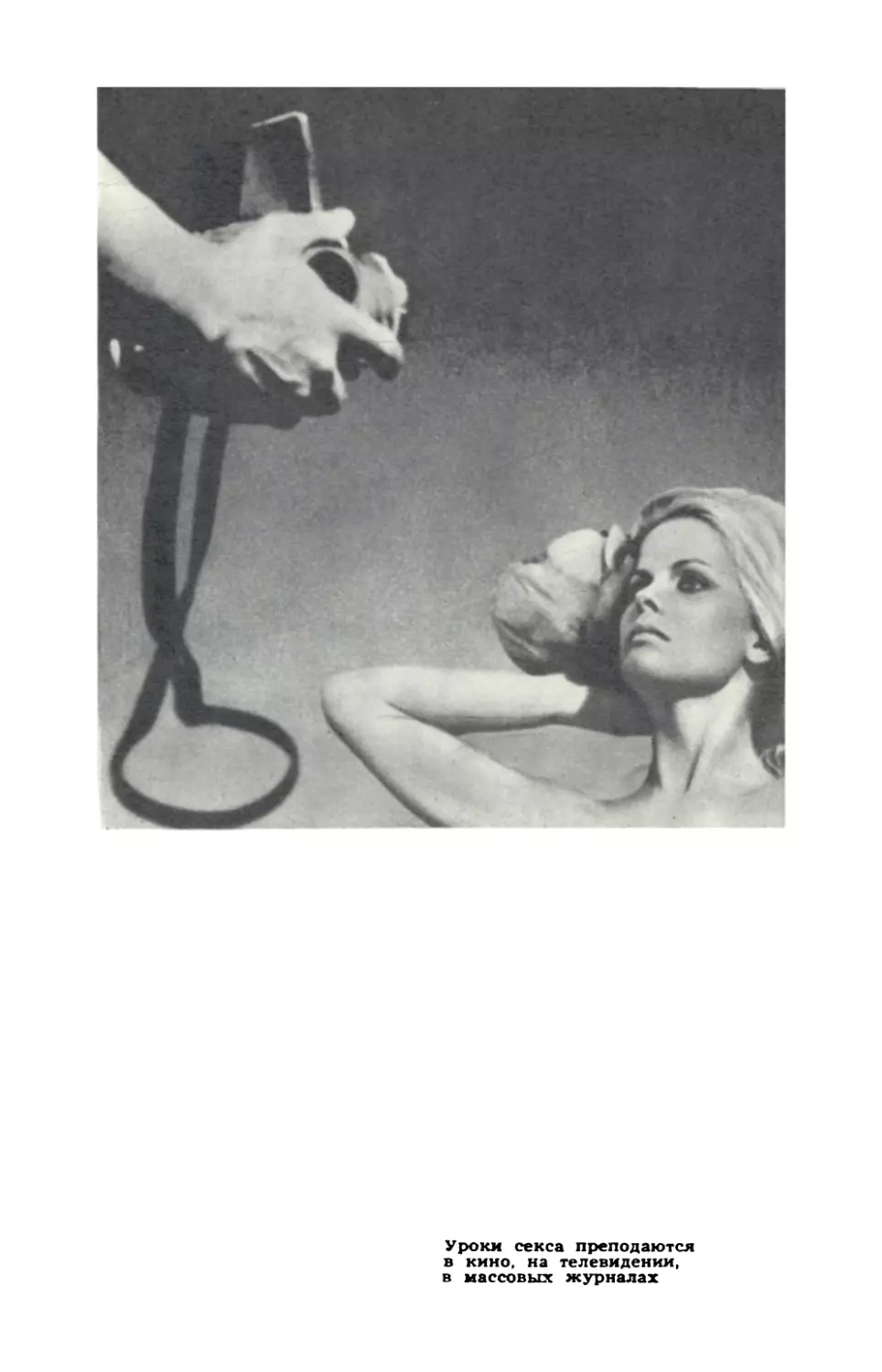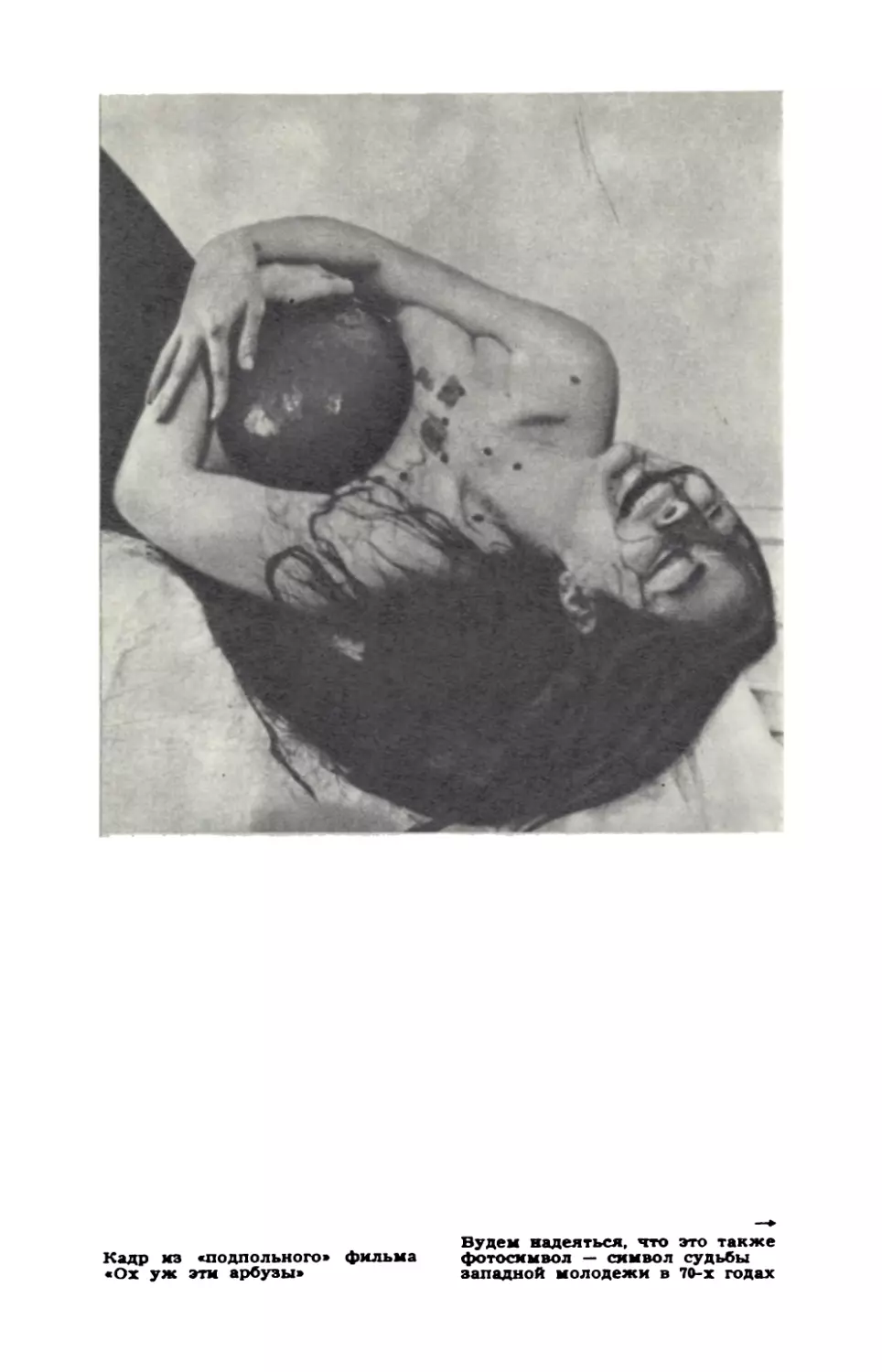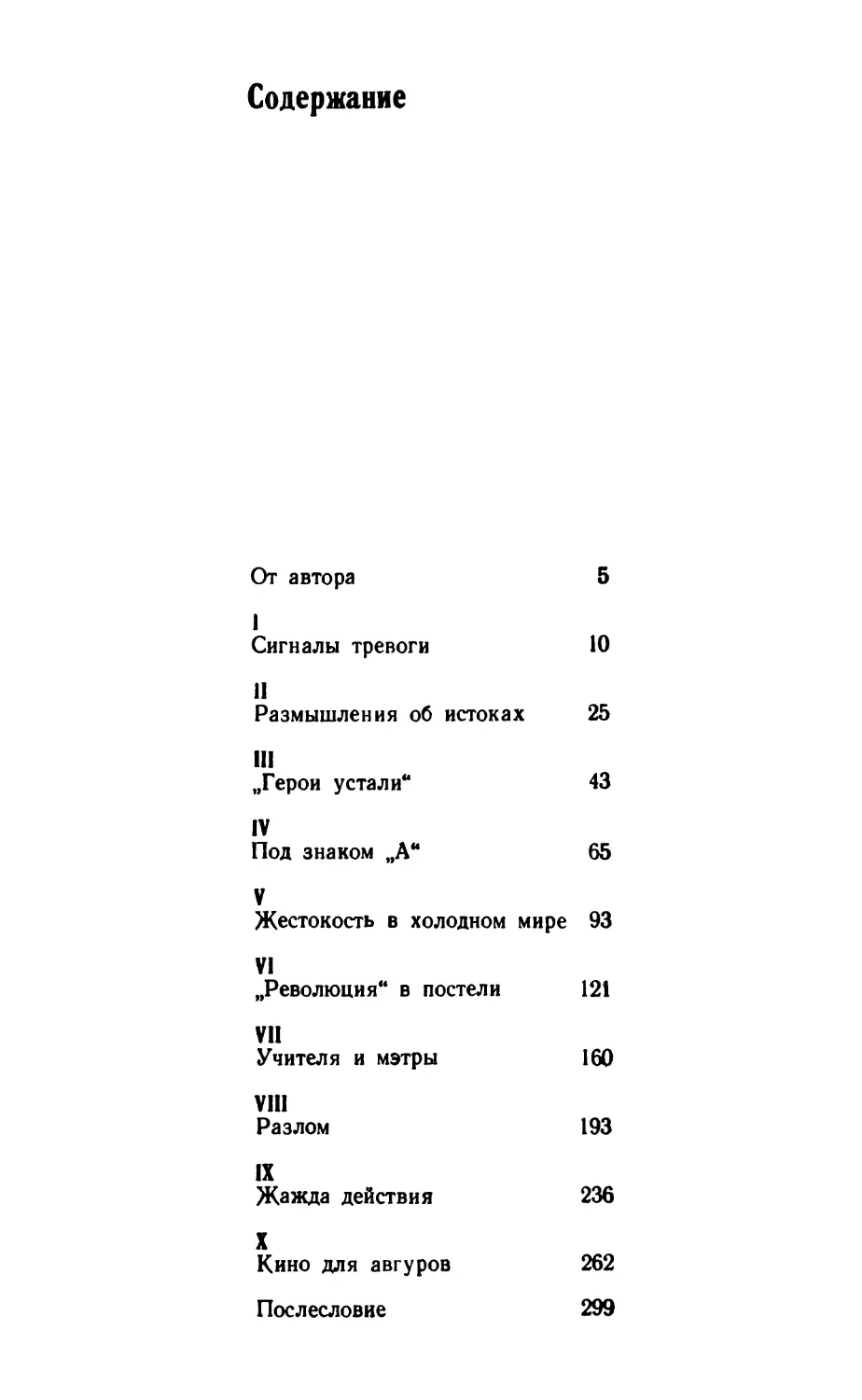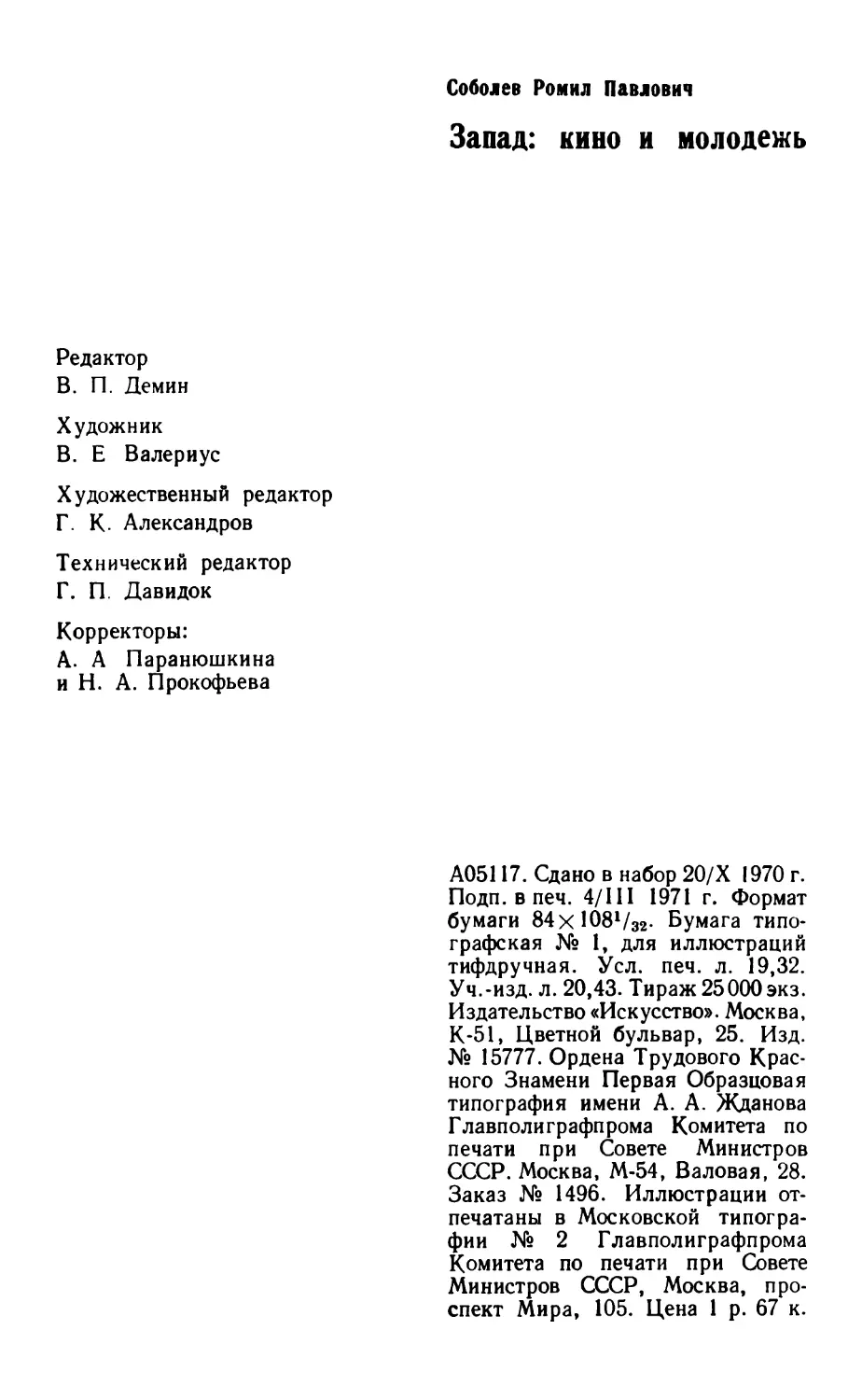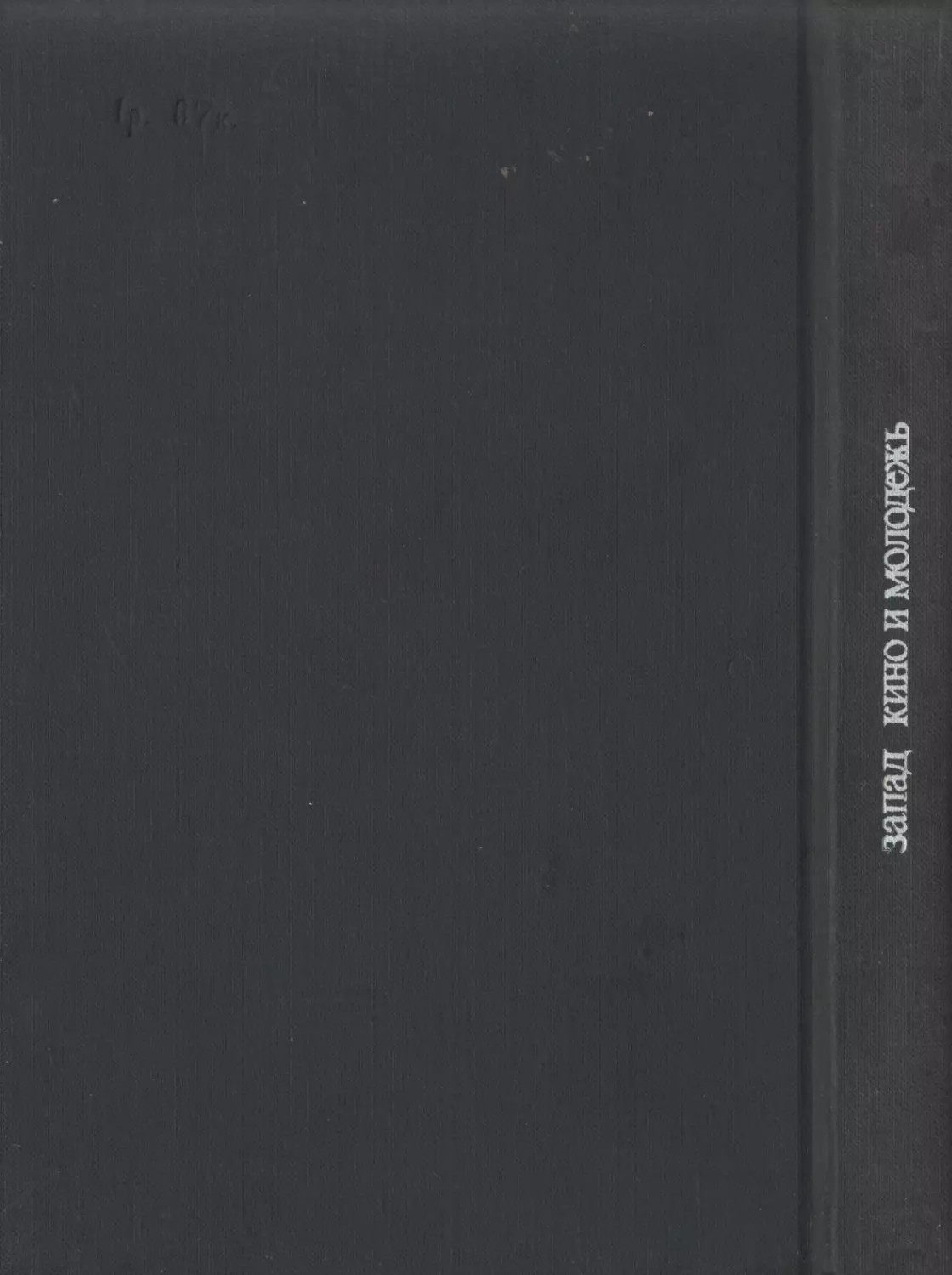Автор: Соболев Р.П.
Теги: культура история культуры история запада издательство искусство западная культура
Год: 1971
Текст
Сыновьям
π
О
d
д
кино и молодежь
Ρ Соболев
Издательство
«Искусство»
Москва
1У71
778 И
С 54
154-71
От автора
Эта книга задумывалась как достаточно
традиционный искусствоведческий очерк, посвященный некоторым
проблемам так называемой молодежной темы в кино
капиталистических стран минувшего десятилетия.
Все поначалу представлялось простым и ясным.
Поскольку ныне 70 и более процентов — некоторые
исследования дают даже цифру «87» — кинозрителей
повсеместно составляет молодежь, то и большая часть
кинопродукции так или иначе посвящается жизни молодежи.
Этот факт, кстати сказать, давно учтен деловыми людьми:
«Молодость героев служит первой гарантией успеха
фильма»,— отметил итальянский продюсер Карло Понти.
Кроме того, в конце 50-х годов во многих кинематографиях
мира произошло спонтанное и весьма широкое
организационное «омоложение». Сперва во Франции, затем в Японии,
Швеции, некоторых странах Латинской Америки и Азии
поднялись «новые волны». Тон стали задавать молодые
мастера. Об этом немало написано, и задуманная книга
могла бы продолжить не новый, но актуальный разговор
о том, что и как рассказывают молодые о молодых.
Но разобраться в «что» оказалось совсем не просто.
«Л\олодежную тему» невозможно рассматривать в узких
сравнительно рамках кино, не обращаясь ежеминутно к
данным социологов и свидетельствам публицистов,
невозможно ограничиться только искусствоведческим
анализом.
На одном из павильонов Всемирной выставки 1967
года висел плакат: «Из трех миллиардов человек, живущих
5
на Земле, 50% имеют возраст от 15 до 30 лет. Завтра их
будет 60%». Демографы предсказывают, что в 1980 году
каждый второй житель Земли будет моложе 22 лет. Уже
сегодня в США, Канаде, Японии молодежь в возрасте до
25 лет составляет половину населения.
Любопытная статистика, дающая сама по себе
достаточно пищи для размышлений. Полтора миллиарда
молодых людей, очень разных во всем, по-разному живущих,
к разным целям стремящихся,— такой ситуации
человечество никогда не знало. Проблемы будущего человечества
зависят сегодня от решения молодежных проблем, и
поэтому они волнуют всех без исключения художников, в
частности и кинематографистов — Карне и Кайатта,
Феллини и Антониони, Креймера и Кубрика, вплоть до
мастеров всевозможных «новых волн», сделавших эту
проблематику чуть ли не единственной для себя. О молодежи
создана такая многочисленная литература, что ее уже
никто не сможет прочесть и даже, наверное, учесть.
Очевидно, эта книга — еще одна в шеренге, которой не
видно конца, ибо здесь столько же говорится о
социологических вопросах жизни молодежи, сколько и собственно о
кино. И эта книга ни в коей мере не исследование, не
научная работа,— это действительно лишь очерки и
заметки, а местами просто путевые записи журналиста.
Характер книги изменился не по воле автора. Все
началось с сопоставления данных кино и социологических
опросов, которых проведено среди молодежи множество. И
за ответами на столь модные сейчас анкеты нередко
возникали совсем иные герои и проблемы, нежели те, что
излюблены литераторами и кинематографистами. А
затем появились «прямые связи» с героями этих очерков —
на дискуссиях, на обсуждениях новых фильмов. Особенно
много дала в этом плане работа на ЭКСПО-67, где в
течение многих месяцев мне довелось наблюдать за
молодежью канадской и, еще больше, американской, поскольку
американцы составляли более семидесяти процентов
посетителей той Всемирной выставки. После всего этого
возникло желание поспорить с авторами некоторых
фильмов, книг и статей.
Нет нужды говорить, что ни собранные показания
социологов, ни личные впечатления ничуть не сделали
меня знатоком молодежных проблем Запада — таких
знатоков вообще нет. Напротив, даже то, что поначалу
казалось ясным и бесспорным, после получения дополнитель-
6
ной информации предстало в новом качестве — с
очевидными противоречиями, с неизбежной для каждого
жизненного явления сложностью. Именно это и изменило
характер книги: захотелось сравнить подлинные
проблемы молодежи с тем, что о молодежи говорят.
Художники и писатели говорят разное. Это понятно:
создание моделей затруднено тем фактом, что
обобщенного понятия «молодежь» попросту не существует, масса
молодых людей разделяется по классовым, возрастным,
образовательным и многим другим признакам.
Но при всей своей очевидной сложности современная
молодежь Запада отнюдь не является некиим
непознаваемым поколением. Будучи в духовном плане порождением
кризиса буржуазного общества, это поколение
достаточно легко просматривается не только с позиций
марксистской диалектики, но и с территории собственно
буржуазной социологии.
Беда нашего времени, и мы об этом будем говорить, в
стремлении все на свете объяснять и соизмерять мерками
точных наук. Часто объяснение, в сущности, ничего не
объясняющее, принимается на веру только потому, что
его привел ученый.
Станислав Лем в «Сумме технологии» пишет:
«Ускорение темпов научно-технического прогресса стало столь
очевидным, что не нужно быть специалистом, чтобы его
заметить. Я полагаю, что быстрое изменение жизненных
условий, вызванное этим ускорением, служит одним из
факторов, отрицательно влияющих на формирование го-
меостатической системы обычаев и норм в современном
мире. Какие уроки и наставления может дать молодежи
многоопытная старость, если весь комплекс жизни
следующего поколения ничем не напоминает образ жизни
родителей?» К
Перед нами прямо-таки классический пример
«научного» объяснения сложности современной молодежи,
объяснения внешне стройного, в общем-то не лишенного резона,
но, в сущности, ничего не объясняющего, уводящею
мысль читателя от социальных законов развития
общества в рациональный и строгий, но беспомощный перед
сложностью человеческого существования мир науки.
Обращение к ученым за мудростью жизни,
наблюдающееся сегодня на Западе, опасно для человеческой нравст-
1 С. Лем, Сумма технологии, ΑΙ., 1968, стр. 26.
7
венности, которая в самую последнюю очередь зависит
сегодня от успехов науки и техники. Повторяем: сегодня,
в условиях господства капиталистической системы на
значительной части земного шара, в условиях идеологической
борьбы между двумя общественными системами.
Обращение же к ученым за мудростью принимает сегодня на
Западе характер религиозного движения.
Макс Планк писал как-то, что в науке великая идея,
как правило, приобретает гражданство по мере того, как
вымирает старшее поколение и его место в лабораториях
и на кафедрах занимает молодежь, с самого начала
осваивающая эту идею. Может быть, так оно и есть в науке.
Но нельзя не протестовать, когда такого рода мудрость
переносится в сферу общества, когда все надежды
возлагаются на естественный ход событий, на то соображение,
что молодежи, мол, жить, а старикам — умирать.
Так же очевидно резкое расхождение советских и
буржуазных наблюдателей в оценке многих, на первый взгляд
объективных показаний, которые поставляет
действительность. Эта книга — спорная, и, предчувствуя возражения
своих зарубежных коллег, серьезно помогавших
материалами и книгами мне в этой работе, я могу лишь сказать:
увы, друзья, есть, очевидно, вещи, которые мы так же по-
разному определяем, как дальтоник и человек с
нормальным зрением — цвета.
За помощь же — искреннее спасибо!
Особенно горячо мне хотелось бы поблагодарить
группу передовой молодежи из университета Беркли
(США), приславшую для этой книги много материалов
самого различного характера, а главное — терпеливо
помогавшую мне разбираться в существе таких явлений,
которые трудно объективно оценить, если пользоваться
только буржуазной прессой. Многие страницы в этой
книге могли быть написаны лишь благодаря этой помощи.
Книга дискуссионна, но написана она со всем
уважением, какое автор испытывает к прогрессивной
молодежи Запада, с готовностью понять ее трудности.
Однако в то же время книга написана и с убеждением, что
многое — с нашей точки зрения, пожалуй, даже
слишком многое — в проблемах западной молодежи напутано,
невольно или вполне сознательно искажено
буржуазными публицистами и художниками, а иногда из их
исследований попросту не сделаны логически следующие
выводы.
8
Как охотно льстят молодежи буржуазные
исследователи! «Специалист по хиппи», шестидесятилетний
Маршалл Мак-Люин восхвалял, например, их как «пионеров
нового образа жизни». Другой американский эксперт,
по специальности психолог, Сеймур Л. Халлек
утверждает, что «мы живем в мире, который все больше и
больше делает ставку на молодежь». Французская газета
«Фигаро» однажды договорилась до того, что
потребовала выделения молодежи в самостоятельную
социальную категорию. Примеры такого рода можно
продолжить. Эта лесть имеет в своей основе зачастую довольно
простой расчет — сбить молодежь столку, увести с путей
борьбы за социальный прогресс в узенький мир
исключительно возрастных интересов и занятий. Вся мощь
средств массового воздействия, принадлежащих
государственно-монополистическому капиталу,— телевидения,
кино, радио, иллюстрированной прессы,— направлена
сегодня на то, чтобы отвлечь, запутать, одурманить
молодежь, лишить ее способности к самостоятельному
мышлению и коллективным действиям.
Оговаривая особенность книги, хотелось бы
подчеркнуть, что, каких бы исторических далей ни касался
рассказ и какими бы ни были отступления в тексте, эта
книга посвящена главным образом 60-м годам нашего
века. Прошлое берется лишь для соизмерения
настоящего.
Вероятно, еще рано подводить итоги минувшему
десятилетию— нет никакой перспективы, а главное —
проблемы 60-х годов еще долго будут стоять перед людьми.
Но ясно одно —это было десятилетие, представляющее
собой какой-то очень важный рубеж в истории
человечества, время, по определению Ильи Эренбурга, истинного
конца XIX века.
И, наконец, о форме рассказа: вероятно, это не
самый лучший способ — строить книгу на постоянных
перебивках и отступлениях от анализа собственно фильмов.
Однако он оказался единственно возможным, как нам
кажется, в данном случае.
1
Сигналы тревоги
Первое послевоенное десятилетие было временем
тревог и одновременно успокоения. Тревогу вызывало у
людей все, что происходило во внешнем мире, о чем
сообщали газеты, радио и только что появившиеся,
удивлявшие, как чудо, телевизоры. Покой определялся
застарелой усталостью людей. Все ужасы войны были в
памяти. Время еще не заслонило их и не покрыло флером
хитроумной человеческой памяти, обладающей
способностью затушевывать все плохое и преувеличивать
немногое хорошее.
Прозрачность того десятилетия, четкость деления
всего на правое и неправое, черное и белое навсегда
запечатлена искусством неореализма, рожденного
требованием трудящихся масс Италии социального
переустройства общества.
Была ли в те годы так же проста и понятна
молодежь? Наверное, да. Для маленького Риччи, героя
фильма «Похитители велосипедов» (1948), кормящего своим
трудом всю семью, очевидная несправедливость
мироустройства была главным, если не единственным,
фактором, который формировал его. И, наверное, нет. Потому
что даже Риччи, подрастая, должен был бы задаться
вопросами, на которые не так-то просто ответить.
Но простая или непростая, а молодежь конца 40-х —
начала 50-х годов никаких беспокойств старшим не
доставляла. II в те годы газеты время от времени
сообщали о бандах подростков и о кутежах молодежи. И даже
фильмы об этом изредка снимались. Однако при бли-
10
жайшем рассмотрении оказывалось, что сбивает ребят
в шапки элементарное беспризорничество —порождение
войны. А кутят молодые люди из семей нуворишей,
спекулянтов, нажившихся на войне и послевоенных
трудностях, кутит «золотая молодежь», не знающая житейских
забот Риччи. В общем же это поколение много работало,
охотно училось, безропотно слушалось старших.
«Молчаливое поколение» — так назвала буржуазные
журналисты молодежь тех лет. И в те годы выходили
статьи и книги о молодежи. В них описывались интересы
юношей и девушек из разных классов общества, под-
считывались покупательные возможности молодежи,
постепенно, с развитием послевоенной промышленности,
устраивавшейся на работу и получавшей личные деньги,
давались советы и наставления на все случаи жизни.
Это были очень благодушные книжки.
Молодежь молчала, и все, казалось, идет и будет
идти великолепно. Мало ли чего не случалось в мире!
И мировая война, недавно окончившаяся, была не
первой. И неприятности с коммунизмом начались не вчера.
И волнения в колониях происходят не впервые. Такова
жизнь. Молодежи все равно ничего не остается, кроме
как продолжать то, что делалось до них. И так далее.
Если бы кто-нибудь сказал в те годы, что молодежь
взбунтуется, его сочли бы, наверное, сумасшедшим.
Однако...
Первые сигналы тревоги раздались в США и Швеции.
Америка принимала активное участие в войне, но ее
вклад кровью был так незначителен, а барыши
оказались столь огромны, что послевоенные проблемы,
мучившие Европу, остались неизвестными американцам.
Швеция отсиделась в нейтралитете, оказывая мелкие услуги
союзникам и ведя выгоднейшую для себя торговлю с
фашистской Германией. Мир она встретила как едва ли
не самая благополучная страна Европы. США и Швеция
обгоняли в своем развитии капиталистический мир, и
потому, естественно, они первыми соприкоснулись с
шипами новой реальности, в частности — с проблемой
«свихнувшейся» молодежи.
По тем немногим, к сожалению, фильмам и книгам,
созданным в США и Швеции в конце 40-х — начале 50-х
годов, которые нам доступны, можно сделать
заключение, что причины и следствия, сущность и формы «бунта
молодежи» (тогда чаще говорили: «заблуждений») были,
11
если так можно сказать, классическими. Вскоре то же
самое познали и оправившаяся от войны Европа и
быстро развивавшаяся Япония. Причины неблагополучия
были повсюду на Западе общими. США и Швеция лишь
первыми столкнулись с новым явлением. Однако
поначалу не только наблюдателям со стороны, но и
творческим работникам этих стран показалось, что перед ними
явления локальные, порожденные местными условиями.
Америка, взявшая на себя роль главы, «защитника»
и руководителя западного мира, решила навести
«порядок» дома и натравила в эти годы на передовую
творческую интеллигенцию Комиссию палаты представителей
по расследованию антиамериканской деятельности.
Конгрессмен Дж. Парнелл Томас, возглавлявший тогда
комиссию (и вскоре после этого посаженный в тюрьму
как обыкновенный вор), добился ожидаемого результата:
на несколько лет социальная тематика, по существу,
исчезла из американского кино. Те немногие картины,
которые касались острых современных вопросов,—
например, «Асфальтовые джунгли» Джона Хастона,
рассказавшие о коррупции и разложении городских властей.—
сводили все дело к личной непорядочности того или иного
человека, к стечению тех или иных случайных
обстоятельств. На холмах Сан-Франциско и в нью-йоркском
Гринвич-вилледж уже бродили хмурые бородатые парни
и их неряшливые подружки, и уже было известно их
название — «битники», но никто еще не хотел видеть
в них социальное явление.
В Швеции социологи и журналисты, наблюдая
падение нравственности и метания молодежи, не пытались
замалчивать факты, но их объяснения чаще всего
ограничивались ссылками на шведскую внутреннюю
обстановку. После войны родилось даже понятие «комплекса
национальной вины»: шведы, особенно молодежь, узнав
будто бы всю правду о фашизме, которому их страна
существенно помогла своей рудой, сталью и
шарикоподшипниками, почувствовали, мол, после войны угрызения
совести, якобы ощутили неловкость перед людьми.
Шведам виднее — так ли это. Однако это факт, что
благополучие шведов не вызывало в послевоенной Европе
зависти. Как факт и то, что молодежные проблемы, с
которыми столкнулись шведы, через несколько лет стали
еще более острыми в Англии и Франции, Западной
Германии и Италии.
12
Шведские художники, разумеется, не могли пройти
мимо такого богатого материала. Но для Швеции — этой
образцовой страны буржуазной демократии и
экономического процветания — характерно подчеркнутое
нежелание большинства художников подвергать
действительность социальному анализу. Редко в каком ином
национальном искусстве можно увидеть столь откровенное
живописание всего, что в жизни наружу, и столь же
откровенно пугливое отгораживание от всего, что внутри и
в глубине. Говорят о распространенности, с одной
стороны, натурализма в шведском искусстве, а с другой
стороны— о традиционной приверженности его мастеров к
мистическому истолкованию действительности. Но
можно говорить и о другом — о том, что вряд ли в каком
ином развитом буржуазном государстве столь большая
часть творческой интеллигенции выполняет с таким рве*
нием и такой последовательностью «социальный заказ»,
как в Швеции. Трудно найти другую страну, где бы
проблемы буржуазной действительности были прикрыты так
мастерски и безнадежно в покрывала индивидуализма,
где реакционные мысли об извечной порочности
человека были бы столь искуснр подкреплены теорией о
непреодолимой будто бы для норманна мистической связи
с роком, с тем, что человеку неподвластно, с тем, что
таинственно и непознаваемо. Как к явлению роковому,
необъяснимому и, безусловно, предвещающему близкий
конец света подошли шведские художники и к метаниям
молодежи. Лишь Ингмар Бергман со своей неутолимой
жаждой нравственных идеалов, исчезновение которых,
по его мнению, и ведет мир к гибели, в фильме о
молодежи «Лето с Моникой» сумел занять позицию не
бесстрастного наблюдателя, а весьма заинтересованного,
хотя, пожалуй, и обескураженного результатами
исследователя.
В 1952 году, когда фильм «Лето с Моникой» вышел
на экраны, мало кто понял, как точно и остро ставит
он существенные проблемы нового поколения. Это
странно, потому что аналогичные проблемы начали
привлекать внимание художников повсеместно: уже снимал
своих «Маменькиных сынков» Федерико Феллини, через
год загремела слава Франсуазы Саган, тогда
восемнадцатилетней девушки, в Англии собирались к выходу в
люди «сердитые» писатели и режиссеры. Бергман
ненамного опередил своих коллег за рубежом. Злободнев-
13
ность его фильма, однако, не была оценена по
достоинству. Впрочем, надо и то вспомнить, что 52-й был самым
тревожным в том десятилетии годом, когда «холодная
война» достигла апогея и западная пропаганда уверяла
людей, что если не сегодня ночью, то завтра обязательно
русские бросят свои танки на Европу; было слишком
много всего, что заслоняло фильм о каких-то там
шведских молодых людях, не могущих найти свое место в
жизни...
«Лето с Моникой» — фильм неброский,
последовавшие за ним «Вечер шутов», «Седьмая печать»,
«Источник» и другие оттеснили, сделали забытой эту
несложную, по видимости, житейскую драму бесшумно
взбунтовавшегося юноши. Гарри (актер Ларе Экборг) кажется
заурядным парнем, запутавшимся в «болезнях роста»,—
не хочется учиться и нет интереса работать, потерян
контакт с отцом-брюзгой, вырастившим его без матери,
сексуальные эмоции не контролируются ни житейским
опытом, ни разумом и т. д. В своем
индивидуалистическом протесте и неосознанном недовольстве жизнью, в
своей надежде найти в женщине, к которой его влечет,
опору и понимание, он и в самом деле зауряден. Но, в
отличие от его ровесников, с которыми мы вскоре
познакомимся по французским, итальянским и английским
фильмам, Гарри начисто лишен цинизма и — что особо
важно подчеркнуть — чувства усталости от жизни. В
своем отношении к Монике — девице, менее, чем он сам,
типичной для 50-х годов, выросшей среди городских
подонков в пикантную хищницу, не опасную только
потому, что в своем умственном развитии она застряла
где-то между восемью и двенадцатью годами,— Гарри
сохраняет правила «хорошего тона»: проведя с нею лето
в шхерах, он женится, начинает работать, чтобы кормить
жену и ребенка.
Бергман замечательно угадал (или увидел в
шведской действительности?) многие драматические стороны
жизни молодежи, вступавшей в жизнь в условиях
внешней стабилизации и экономического процветания
буржуазного общества. Гарри — представитель самых что ни
на есть средних слоев, не богат, но достаточно
обеспечен, чтобы не бояться нищеты, а это — невиданное еще
несколько лет назад явление! — порождает полное
равнодушие к богатству. Истина «не в деньгах счастье» им
осознана. Но в чем же тогда оно, счастье?
14
На принадлежащем отцу катере Гарри уплывает с
Моникой в фиорды. Пустынное море, пустынные берега.
На земле, слава богу, еще полно мест, где при желании
можно вообразить себя и свою подружку
единственными на свете людьми. Гарри и Моника живут лето, по
определению американского киноведа Петера Коуэ, как
Адам и Ева в эдемском саду. Для Гарри это и есть
счастье. Для Моники... С Моникой, однако, дело обстоит
несколько сложнее. Харриет Андерсен подает свою
Монику как идеального «естественного человека», по
которому не проходит ностальгия на Западе (начиная с
Ж.-Ж. Руссо и кончая Аньес Варда). Моника была бы
столь же или даже более довольна судьбой, если бы
Гарри вывез ее не на побережье, а на дачу под
Стокгольмом. Впрочем, пока тепло, она со смаком живет
жизнью Евы: беспрерывно что-нибудь жует,
наслаждается ласками, с неподражаемой непосредственностью
«ходит до ветра»...
Возвращение шведских Адама и Евы в цивилизацию
неотвратимо: кончились продукты, нет денег,
приближаются холода. Для Гарри возвращение — это конец
счастья, крах попытки спрятаться от жизни. Для Моники —
это конец каникул, это возвращение к нормальному
образу жизни, которая теперь усложнится из-за появления
ребенка и упростится благодаря наличию мужа. В
городе мы увидим их иными: Монику — сытой,
обзаведшейся любовником самочкой, Гарри — смирившимся,
втянувшимся в лямку «среднего человека», которая так
ужасала его недавно.
Фильм кончается нестерпимо грустно: так жить
нельзя, утверждает режиссер, сочувствуя бунту и краху
Гарри... Но жить надо! Уйти от этой жизни некуда, и самое
большее, что может человек вырвать у судьбы,— это
одно-единственное лето. А затем человек пойдет
предначертанным путем: он будет работать ради семьи, как бы
ни было ему ясно, что семьи нет и быть не может; он
свыкнется с одиночеством, бессилием, печалью.
Противно все — хозяин, люди на улице, любовник жены,
собственное лицо, отражаемое зеркалами парикмахерской,—
но жить надо!
«Лето с Моникой» начинается как исследование
жизни молодежи и кончается как психологическая драма о
жизни «среднего человека» вообще, о «среднем
человеке», загнанном в угол. Показывая это, Бергман, в сущ-
15
ности, не очень даже сочувствует своему герою. Чуть
позже он скажет: «По-моему, человек современных
взглядов мирится со своим ничтожеством и верит только
в себя и в неизбежность биологической смерти. Все
остальное— муть». Вот эту «муть» он и показал.
Чем-то большим, чем рассказ о четырех маменькиных
сынках, кажется и фильм Федерико Феллини. Фабула
не выходит за пределы истории нескольких молодых
людей, обалдевающих от скуки, безделья и
неприкаянности. Но за этой нехитрой историей просматривается вся
жизнь Италии начала 50-х годов — Италии, изжившей
революционную ситуацию, вышедшей на пути
нормального буржуазного развития, справившейся с
послевоенными трудностями, спрятавшей органические и
неизлечимые болезни за сообщениями об успехах химической и
автомобильной промышленности, о программе
городского строительства, об уменьшении числа безработных
и т. д. История Моральдо, Альберто, Леопольдои Фаусто
утверждает мысль, по определению критика И.
Соловьевой, о призрачности жизни. Что-то ушло из жизни
важное, а новое еще не народилось. Идет пора межвременья,
когда все имеет право на существование и все, однако,
находится под знаком вопроса. Старое вызывает
сомнения, но без него не обойдешься; новое радует, но
вызывает опасения.
Телята (буквальный перевод названия фильма)
бунтуют против морали отцов примерно так же и с таким
же конечным результатом, как и Гарри. Так, Моральдо,
узнав о том, что Сандра забеременела от Фаусто,
сочувствует сестре, но приятелю советует уехать в Рим.
Однако стоило отцу Фаусто взять ремень и произнести
магическую фразу о том, что «порядочные люди не
бросают девушек в таком положении», как Фаусто отставляет
уложенный чемодан, ведет Сандру под венец и
поступает работать в магазин церковных принадлежностей.
И Моральдо — шафер на свадьбе. Телята неспособны
что-то проанализировать и принять какие-то решения,
они лишь чувствуют, что жить по-старому —
ненормально, некрасиво, глупо. Но как жить иначе — они, как и
Гарри, не знают, и потому капитулируют перед моралью
отцов.
Если Бергман и Феллини, коснувшись молодежной
темы, поставили ряд вопросов и сами как бы отказались
от попытки решать их, а тем более — давать советы, то
16
для Марселя Карне, режиссера старшего поколения, все
в этой теме оказалось ясно и просто.
В мировом кино не много имен, окруженных таким
уважением и вниманием, как имя Марселя Карне.
Признанный глава художественного течения
«романтического реализма», под знаком которого развивалась
кинематография многих стран в первые послевоенные годы,
автор поразительных по душевной нежности и тонкости
воссоздания атмосферы фильмов «Набережная
туманов», «День начинается», «Вечерние посетители», «Дети
райка» и других, Карне в 1958 году выпускает по
собственному сценарию «Обманщики» — картину при всех
ее недостатках самую, пожалуй, значительную в
интересующей нас проблематике до появления фильмов
«новой волны».
Заслуга Карне — в отказе видеть «испорченность»
молодежи в семейных неурядицах, что было почти
обязательно для итальянских и французских режиссеров
еще каких-нибудь пять лет назад. И не только
кинорежиссеров. Так, например, Эрик Лэмберт, английский
писатель старшего поколения, даже в 1964 году,
коснувшись молодежных проблем в романе «Загляните в бар
«Звезды», объяснил все причины бунта молодых
трудностями семейного воспитания. Но Карне показал, что
молодежь воспитывает и общество и ее собственная
среда.
Компания, с которой знакомит нас Карне, до
невозможности пестрая. Боб Летелье — сын процветающего
заводчика, крупного дельца. Крошка Мик — дочь
хозяйки маленькой лавочки и сестра рабочего. Надин, в
сущности,— проститутка. А Ги — мелкий воришка, подонок.
Зато Кло — из старой аристократической семьи,
гордящейся своими предками-крестоносцами. Сэм — сын
американского дипломата. А Ясмед — безвестный юноша,
приехавший из Африки в Париж с надеждой узнать
тайны кино. Здесь все — от отпрысков светской знати до
люмпенов. Они собираются в маленьких кафе, в
комнатах друг у друга, в особняке Кло. Собираются, чтобы
забыться — в рок-н-ролле, модном тогда еще танце, в
выпивке, в объятиях — не имеет значения, чьих,— но
главным образом в разговорах.
Фильм построен на основе традиционной
драматургии: есть своеобразный «треугольник» из Боба, Мик и
злодея Алена; есть детективная линия — с присвоением
17
героями денег, которые должен был получить их друг-
шантажист; есть четкое движение сюжета, ведущее Мик
к гибели, Боба — к отрезвлению, Алена — к моральному
разоблачению. Четкость драматургии «Обманщиков»
вытекает из заданности идеи фильма. Дело в том, что
Карие не только констатирует, что молодежь «свихнулась»,
отвергла мудрость и мораль отцов, утратила идеалы, не
верит в будущее,— он еще взялся за задачу объяснить,
откуда это все взялось, и научить молодежь, как надо
жить.
Устами Роже, положительного брата Мик, автор
указывает, что здесь и общество не без вины. Врач,
установивший, что Мик в момент столкновения с грузовиком
была пьяна, задает почти риторический вопрос: «Что это
с ними творится?.. Черт побери, что это с нашими
детьми?» Роже находит ответ без труда: «Бог мой, я думаю...
это результат пятидесяти лет неразберихи вокруг, из-за
войн... Ничего в прошлом, и, вероятно, ничего в
будущем... Молодым это нелегко...»
Но это, так сказать, лишь дань общему мнению. Все
говорят, что виновато время, и Карне тоже говорит. На
самом деле вину за случившееся и даже за аморализм
вечеринок компании он возлагает прежде всего на
Алена. Это какой-то злой демон окружающей его молодежи.
Его зовут Интеллигент,— очевидно, за эрудицию и
любовь к философствованию. Прошлое Алена — туманно,
но сейчас он действительно выделяется из среды своей
начитанностью в трудах экзистенциалистов.
«Метафизическая безнадежность», о которой упоминает Боб,
оборачивается в устах и поступках Алена проповедью
нигилизма— последовательного и жестокого. Поскольку мир
безнадежно болен, нужно подтолкнуть его к могиле.
Девушке, ждущей ребенка, он говорит: «Что ты дашь
своему ребенку? Идиллическое счастье, но без перспектив на
завтра? Среднее существование с зарплатой, которой
хватит всего на неделю? Проституцию?.. Если это будет
парень, ему будет обеспечена маленькая колониальная
война или какая-нибудь другая. И в довершение всего
его ждет водородная бомба!» Это Ален, а не струсивший
отец ребенка, толкнул девушку на операцию,
погубившую ее. Ален все время говорит, все время
философствует, и завершаются его разглагольствования
признанием: «...был немецкий философ, который приказал
стрелять в толпу из своего окна. Я его понимаю и одобряю».
18
Именно он, Ален, становится между Бобом и Мик.
Его извиняет поначалу то, что он сам полюбил Мик. Но
честного соперничества он не может допустить: у этого
сверхчеловека из провинции рядом с жаждой власти
соседствует непреодолимый комплекс неполноценности.
Злобно, с иезуитской тонкостью приемов он ссорит
влюбленных, заставляет Мик спать с собой, наконец цинично
доводит ее до самоубийства.
Итак, молодежь больна. Карне констатирует это и
указывает на источник заразы — это гнусный демагог
Ален, это подобные ему недоучки и плебеи,
начитавшиеся Ницше и Сартра, использующие действительные
трудности эпохи в личных целях, сегодня проповедующие
абсолютную свободу, но завтра готовые стать
неограниченными диктаторами. По мнению Карне, болезнь эта
неглубокая, а влияние подонков вроде Алена — временное.
Его раскусила даже глупенькая Мик, сказавшая ему:
«Вся твоя низость, твой бунт, твоя ненависть, твоя
черная злоба... все это... мистификация, средство избежать
пустоты и скуки». От него ушли все: Боб — в свой
университет, Кло — рожать и воспитывать новых графов де
Водремон. Ушли потому, что они все, в сущности,
неплохие ребята и девушки; они «играют», они обманывают
себя и окружающих, что ничего не хотят и ни во что
не верят. Они — обманщики!
Такой же примерно диагноз поставил и Голливуд,
заполучив в 1954 году «парня с индианской фермы» —
легендарного Джеймса Дина. В течение одного года Дин
снялся в трех фильмах, создав образ молодого человека,
яростно отвергающего законы жизни отцов. Мир
познакомился с фильмами Дина, когда тот уже погиб —
двадцати четырех лет от роду — в автомобильной
катастрофе и молодежь сделала его кумиром. («Обманщики»
смеялись, когда кто-то из них сказал, что когда-нибудь
и Дин будет забыт... Это казалось невероятным. Но
через пятнадцать лет его действительно помнят лишь
киноведы. И один американец, увидев Дина после «Пепла
и алмаза» поляка Анджея Вайды, не считаясь с
хронологией, назвал его «американским Цибульским».) Бунт
Дина никого не пугал, потому что он бунтовал «без
причины». Лучший его фильм так и назывался —
«Бунтовщик без причины» (1955). Да и сам Дин— стройный,
широкоплечий, с мягкими каштановыми волосами, с
детским капризным ртом и умным взглядом коричневых
19
глаз —был обаятелен даже ь гневе, он не внушал ни
страха, ни неприязни.
Д. Стейнбек как-то писал: «По-моему, основная
черта, присущая нынешней американской молодежи,—это
какая-то тревога или, скорее, беспокойство, охватившее
ее в послевоенные годы. Чем это вызвано? Пожалуй,
главное — это отсутствие определенной цели,
конкретного дела, к которому можно было бы приложить свои
силы, и недостаточная ответственность за свои
действия» '. Вот на такой же утешительной основе
показывался и бунт Дина: да, не все благополучно с молодежью,
но все будет оэкей, если молодежь задумается и как
следует поищет конкретного дела для себя...
Увы, мир совсем не казался ни американской, ни
западноевропейской молодежи разумным. Найти в нем
«определенную цель» было непросто. Остатки буржуазного
оптимизма, подобного стейнбековскому, никого не
привлекали. Больше того, они терпели окончательный крах
под воздействием политических и экономических
обстоятельств 60-х годов.
Положение молодежи в мире быстро менялось,
главное же — с небывалой быстротой начала расти ее
численность. Что это означает? За этим вопросом, как и
за многими другими, приходится обращаться к ученым.
Сегодня половина населения Земли — молодежь, завтра
ее будет еще больше. Но надо сказать, что
одновременно идет и обратный процесс: не столь стремительно, но
не менее неуклонно в мире растет численность старых
и очень старых людей (в тех же Соединенных Штатах
люди старше 65 лет в начале века составляли около 4%
населения, а в начале 70-х годов их уже 10%).
Демографы убедительно предсказывают, что в
ближайшие 40—50 лет произойдет постарение населения
Земли,— люди старше 60 лет в развитых странах будут
составлять примерно четверть населения.
Одновременно наблюдается процесс акцелерации—
ускоренного биологического возмужания молодых людей.
В то же время налицо явление долгого сохранения
людьми физических и духовных сил; это особенно заметно в
женщинах, которые сейчас и в 40 лет резонно считаются
молодыми. И так далее,— целый клубок вопросов, в
которых под силу разобраться лишь специалисту. Нас же
1 сИностранная литература», 1967, № 8, стр. 250.
20
интересует среди них лишь проблема современной
молодежи, живущей в мире частной собственности и
сталкивающейся с жутковатой действительностью, в которой ей
«нет места».
Социологи США установили, что за полвека число
людей старших возрастов, продолжающих трудовую
деятельность, сократилось в пропорциональном отношении
к численности этих людей более чем вдвое. Данные США
близки к тем, что получают исследователи развитых
европейских стран. Казалось бы, эти данные благоприятны
для молодежи, ибо это должно бы освобождать для нее
рабочие места. На самом же деле молодежь встречает
мир, в котором совсем не просто найти
удовлетворительное место. Потребность в молодых рабочих,
наблюдающаяся сейчас в отдельных странах,— явление
временное, технический прогресс в странах капитала
неуклонно сокращает перспективы молодежи. Кроме того,
молодежи предоставляется работа, которая никак не может
удовлетворить творческие потребности,— работа
«придатка» машины.
«В начале демографической эволюции, в конце XVIII
века,— пишет французский демограф Альфред Сови,—
молодежь являлась составной частью общества,
поскольку оно как бы втягивало ее в себя. Средний возраст
детей в момент смерти одного из родителей был 16 лет,
средний возраст в момент смерти второго из родителей
был 32 года, средний возраст ребенка, когда умирал его
отец, равнялся 20 годам. В частности, если у родителей
было имущество, земли, отпрыск чувствовал, что быстро
настанет момент, когда все это в конце концов попадет в
его руки.
Сегодня у молодого человека 20 лет чаще всего живы
оба родителя, а часто и деды. Он чувствует над собой
два поколения. Оба эти поколения, довольно ясно
отличающиеся от него, владеют всем: богатством, если оно
есть, а также солидными должностями, почестями,
связями, квартирами и т. д. Ускорение полового созревания
еще более обостряет это явление» К
Сови добавляет, что причины беспокойства молодежи
нужно искать именно в этих необычных обстоятельствах
и что изменить эти обстоятельства нелегко.
1 Сб. «Какое будущее ожидает человечество?», Прага, 1964,
стр. 180—181.
21
Положение молодежи, сумевшей получить
образование,— ничуть не лучше. Исключение составляют те, кому
положение отцов обеспечивает связи и, как следствие,
карьеру, ибо сегодня не только богатство, но и
должности чиновников становятся наследственными, хотя, как
известно, способности по наследству и не передаются.
Вообще же в интеллигентных профессиях трудности
определяются бюрократизацией буржуазных аппаратов
власти и управления. Американский философ Бароус
Данэм заметил: «...если бы нам потребовалось выявить
один, самый характерный для представителей
бюрократической иерархии талант, то мы могли бы сказать, что
это «способность прилипать». Они попадают в
руководство и там застревают» '. Шутка грустная, если учесть,
как трудно стало пробиться молодежи.
Такова трагическая нелепость машинизированного
общества, сохраняющего пережившее себя социальное
устройство,— оно преспокойно обкрадывает и стариков
и молодежь. Конечно, в разных странах эта проблема
имеет различную остроту и неодинаковое обличье, но
тенденция повсюду общая — молодой человек
сталкивается с потрясающим его фактом собственной
ненужности. Ему отнюдь не грозит смерть от голода, но он —
молодой, полный сил человек — не чувствует своей
причастности к миру. Машины и старшие поколения все
делают, что он хотел бы делать сам. Его место занято и у
пультов сложных машин, и в сфере политики, и даже в
искусстве...
Проблем такого рода — множество, и все их нужно
учитывать, говоря о молодежи.
Фильмы, о которых мы здесь вспомнили,
ограничились констатацией факта какого-то странного
неблагополучия, происходящего в среде молодежи. Можно
допустить, что ни художники еще по-настоящему не
чувствовали безотлагательной необходимости разобраться в том,
что происходит с молодежью, ни сама молодежь еще не
успела предъявить счет к старшему поколению и тем
самым не вынудила его объясняться или защищаться. Были
подмечены странности, однако ни истоки их, ни
возможные последствия почти еще не исследовались. Даже
наиболее трезвые социологи, подмечая необычные черты в
поколении, которое вступало в самостоятельную жизнь в
1 Б. Данэм, Герои и еретики, М., 1967, стр. 34.
22
50-х годах, неопределенно, но в общем успокаивающе
говорили: поколение X...
Между тем со второй половины 50-х годов с
молодежью капиталистических стран начали происходить
вещи более чем странные. И как раз с молодежью, которая
прежде никаких особенно серьезных хлопот буржуазии
не доставляла,— с молодежью учащейся, с молодежью,
в сущности, буржуазной по своему социальному
происхождению.
Искусство долго молчало о том, что вносила в
молодежную среду начавшаяся научно-техническая
революция. Можно было сколько угодно говорить о так
называемой инфантильности молодежи, но нельзя было не
понять, как действует на молодежь тот факт, что
Эйнштейну, Дираку, Нильсу Бору было двадцать лет с
небольшим, когда они совершили свои открытия,
перевернувшие представления о физическом мире. Это понимала
учащаяся молодежь, но не поняли художники.
Прошло искусство и мимо другого факта—усиления
влияния молодежи на политическую и общественную
жизнь в ряде стран. Тысячи книг, написанных на Западе
о молодежи, газеты и журналы настойчиво говорят о
растерянности молодых, об их яростном, хотя, по
существу, бесцельном обвинении отцов и охватившем молодежь
пессимизе, об утрате воли к жизни и стремлении
разбрестись розно...
Все это есть. Но помимо анкетных данных,
заполняющих книги об этих явлениях, есть и иные факты, каких
не знали прошедшие века и которые не объяснишь с
позиций «житейской мудрости», гласящей, что молодости,
мол, свойственны заблуждения и крайности. Эти факты
иногда удивляют: свержение безоружными
студенческими демонстрациями реакционных клик, опиравшихся на
мощь армии, террор полиции и американскую
поддержку, начало победных национальных революций группами
молодежи, и, наоборот, превращение зеленых юнцов в
реакционную силу, с помощью которой грязные
политиканы пытаются остановить поступательный ход истории.
Вспомним в этой связи, как некогда пала в Южном
Вьетнаме власть марионетки Нго Дин Дьема, как началась
социалистическая революция на Кубе и как клика Мао
Дзэ-дуна расправлялась руками студентов-хунвэйбинов
с неугодными ей членами партии, с передовой частью
интеллигенции.
23
Молодежь заявила о себе как об активной
политической силе во второй половине 50-х годов. В 1960 году
была уже беспрецедентная вспышка студенческих
волнений и форменных восстаний. Весной того года молодежь
пыталась штурмом взять дворец старого прохвоста Ли
Сын Мана и заставила-таки подать в отставку эту
южнокорейскую марионетку Вашингтона. Через несколько
дней студенческие мятежи в Стамбуле и Анкаре скинули
реакционное правительство Мендереса. Еще чуть позже
молодежь Японии выступила против ожидавшегося
визита Эйзенхауэра и заставила его визит отменить. Список
таких событий можно продолжать очень долго. Сегодня
нельзя раскрыть газету и не найти в ней сообщения о
борьбе студентов и молодежи в странах капитала.
Конечно, возможности и силы молодежи нельзя
переоценивать— об этом мы ниже еще будем говорить,— но
приведенные здесь факты достаточно красноречивы и
знаменательны.
Что же, в самом деле, случилось с современной
молодежью? И с миром? Почему, говоря проще, бунтует эта
молодежь? Чтобы ответить на этот вопрос, заглянем в
прошлое.
π
Размышления об истоках
Когда началось «наше время»?
Незадолго до смерти Илья Эренбург писал: «Я уже
говорил, что XX век начался, если забыть календари, в
1914 году, но только пятьдесят лет спустя он
окончательно распрощался со своими предшественниками»1.
Эренбург тонко подметил какую-то неуловимую особенность
60-х годов — перестройку сознания людей на новую
реальность, одним из выражений которой явились успехи
научно-технической революции. Все это не бесспорно,
конечно, но если даже принять слова Эренбурга без
оговорок, то все равно нужно сказать, что как ни долго
тянулся прошлый век, а прощание с ним началось очень давно,
еще в том же XIX веке. Идеи новейшего времени были
высказаны сто и более лет назад.
В кабинете Альбера Камю висели всего два
портрета— Льва Толстого и Федора Достоевского. Любопытно:
у признанного властителя дум послевоенной западной
интеллигенции, идеи которого имеют истоками немецкую
философию, портреты властителей дум давным-давно
ушедшего времени, даже не дедов, а прадедов! Впрочем,
стоит ли удивляться? Ведь именно они—Толстой,
Достоевский и, пожалуй, Салтыков-Щедрин — первыми,
если говорить о России, высказали немало глубоких
мыслей о многом из того, что тревожит и волнует людей
Запада сегодня — о новой морали машинного века, об
одиночестве человека в перенаселенном городе, о величии и
1 «Наука и жизнь», 1967, № 7.
25
ничтожестве людей; они выдвинули этические идеалы,
освобожденные от изживших себя догм, и они же
ужаснулись сложности пути к этим идеалам. Мысля не
отвлеченными категориями философии и политэкономии, а
живыми художественными образами, они ясно осознали
истинную и неизбежную цену прогресса.
Для того у них были особые условия — мучительная
ситуация, сложившаяся в России, усваивавшей
капитализм, не расставшись с феодализмом, и начавшийся
кризис гуманизма на Западе, где капитализм одержал
полную победу, но не выполнил ни одного из лозунгов, под
которыми вел борьбу с феодализмом сто лет назад.
Они были очень разными — Толстой и Достоевский,—
разными по воспитанию, жизненному опыту и
мировоззрению; настолько разными, что, чувствуя взаимное
притяжение и проявляя громадный интерес к работе друг
друга, явно боялись личной встречи и так жили —
наблюдая друг за другом издали, оставаясь незнакомыми.
История сблизила их. Не только для Камю Толстой и
Достоевский сегодня кажутся людьми, говорившими об
одном и том же по-разному. Они предложили людям
такие понятия добра и зла, преступления и наказания,
наконец, свободы и несвободы, что, оказалось, и сегодня
моралисты Запада могут черпать у них, не исчерпывая.
Толстой и Достоевский жили в эпоху «быстрой,
тяжелой, острой ломки всех старых «устоев» старой России» !,
и чем-то их эпоха кажется созвучной той ситуации,
которая сто лет спустя сложилась на Западе: то же
ощущение уходящего мира, та же ломка всего устоявшегося, то
же ожидание прихода нового. В такие эпохи на первое
место органично выходят вопросы нравственности.
Ценность Толстого и Достоевского в том, что они писатели
нравственные,— вот прежде всего в чем тайна их успеха
сегодня на Западе.
0 нравственности этих писателей, как важнейшей
черте их личностей и их книг, знали уже их современники.
«В последнее время я пришел к такому убеждению,—
писал П. Анненков в письме Тургеневу в середине 50-х
годов,— что между нами нет лица более нравственного,
чем Толстой»2.
1 В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, изд. 5, т. 20,
стр. 39.
2 Цит. по кн.: Б. Эйхенбаум, О прозе, М., 1969, стр. 34.
20
Толстой и Достоевский были не первыми в
европейской литературе мыслителями, ощутившими утрату
душевной ясности, характерной для молодого буржуазного
общества и сменившейся хаосом в мировоззрении. Но
они первыми начали широкий поиск новых духовных
ценностей угаданного будущего — ценностей того ряда,
которые буржуазные моралисты охотно признают
общечеловеческими. Историческая ограниченность
нравственных поисков великих русских писателей оказалась тем
фактором, который упростил процесс «ассимиляции» их
идей на Западе.
Россия конца XIX — начала XX века была вулканом,
в котором не только назревал величайший в мировой
истории социальный взрыв, но и происходило рождение
необычайных интеллектуальных сплавов. Так, если
писатели-мыслители искали новые духовные ценности, если
они, субъективно даже не принимая жестокость грядущей
действительности, осознавали закономерность хода
истории и пытались его проанализировать, то почти
одновременно с ними — в конце прошлого и в начале текущего
столетия — в России действовала группа философов,
поэтов, писателей и художников, воспринявшая поворот
колеса истории как конец света, как конечную гибель всего,
обозначаемого словами «культура», «гуманность»,
«идеализм», «любовь» и т. д. Для них конец XIX века наступил
задолго до его хронологического конца.
Общее между мыслителями, сохраняющими и сегодня
свое значение духовных наставников, и в большинстве
забытыми певцами «конца света» в том, что все они
жили в предчувствии революционного преобразования
действительности. Различие — в осознании
закономерности этих преобразований.
Пессимизм восприятия действительности и неверие в
будущее, так характерные для идеологии современной
буржуазии, с невероятной резкостью проявились в
творчестве русской группы философов и художников
предреволюционной поры. В определенном смысле их можно
назвать предтечами нынешних идеологов «конца света».
Поэтому есть резон хотя бы кратко познакомиться с этой
страничкой истории европейской культуры.
«Серебряным веком» (считая за «золотой» век
Пушкина) русского искусства назвал реакционный философ
Н. Бердяев время действия этой группы, организационно,
впрочем, никак не оформленной. В эту группу входит ши-
27
рокий круг лиц — от Вл. Соловьева, 3. Гиппиус, Г. и Вяч.
Ивановых, П. Струве до А. Блока, С. Рахманинова, М.
Добужинского и многих других. Очень разные люди, они
действительно объединяются в художественное течение
благодаря общности культурных истоков, общности
социальных чувствований и мировосприятия. Почти
каждый был щедро одарен, высоко образован, обладал
широкой эрудицией; кого ни возьмешь — не человек, а какое-то
утонченное и изощренное чувствилище. Очень немногие
из них смогли найти выход из своего блестящего
интеллектуального мирка, замкнутого стенами петербургских
гостиных и последних уцелевших усадеб. В сущности,
лишь Блок да Брюсов сумели увидеть не только
закономерность — что было не так уж трудно,— но и
нравственную справедливость революции — что для большинства
оказалось не под силу.
Предчувствие конца их уютного, тепличного мирка
уводило поэтов «серебряного века» в мистику. Спустя
полвека мистицизм с новой силой овладеет сознанием
определенных кругов западной интеллигенции. Заново
будут штудироваться книги Шопенгауэра и Киркегора.
Будет стерта пыль с фолиантов средневековых
философов-мистиков и как откровение будут открыты книги
древних восточных мистических учений — все по той же
самой причине ощущения «конца света». Мистицизм
проникнет в искусство и, трансформированный техническими
средствами так называемой массовой культуры,
обернется нелепыми по своей сущности фильмами всякого рода
ужасов и комиксами того же плана.
Странное чувство испытываешь сегодня,
перелистывая журналы русских декадентов начала века,— бог мой,
вот же они, начала эсхатологических чувствований, с
такой силой поразивших западное искусство со второй
половины 50-х годов. Впрочем, декаданс — не русское
«изобретение», он получил в России лишь свое закономерное
завершение, превратившись после революции в
страничку истории.
Сегодня есть и иная основа для проповеди конца
света: гибель мира почти всегда ставится в причинную связь
с атомным самоубийством человечества. Независимо от
воли и желания людей все их существование встало
сегодня под знак «А». Но ведь эсхатология — это учение о
неизбежной конечной гибели мира — известна уже
Библии. Его знали и Вавилон, и Египет, и древние цивилиза-
28
ции Америки. Оно появлялось на исходе какого-нибудь
исторического периода и объективно отражало
пессимистические настроения уходящих в небытие
господствующих классов, иногда даже цивилизации. А наследники
ушедшей цивилизации придавали эсхатологии предков
характер несоциального пророчества, тем более
авторитетного, чем оно архаичнее. Поэтому очевидна общность
истоков эсхатологических чувствований русских поэтов
начала века и западных художников его середины,—
оплакивается вполне конкретный мир буржуазных
отношений между людьми, в том и ином случае символ
«гибель мира» расшифровывается как гибель изжившего
себя общества.
Правда, никогда и нигде еще умирающая
цивилизация не обладала возможностью утащить с собой в могилу
и весь мир. Атом — это новая историческая реальность;
атомная угроза заставила коренным образом
пересмотреть отжившие традиции, учения, догмы, заставляет
ежедневно и ежечасно искать решения, которые показались
бы невозможными еще тридцать лет назад. И до того
момента, когда будет уничтожена последняя атомная
бомба и переплавлена на кастрюли последняя боевая
ракета, человечество не избабится от страха. Без веры в
разум человечества сегодня стало невозможно жить.
Однако атом, эта новая реальность, лишь усложняет
понимание социальной сущности эсхатологических
настроений в современном мире; основу их все же
составляют ассоциированные с концом мира ожидания конца
своего класса. Эти ожидания обострились в «беременной
революцией» России начала века и нашли выражение в
поэзии символистов. Эти ожидания широко
распространились на Западе с середины века и достаточно ярко
выразились даже в творчестве некоторых мастеров нового
искусства — кино. Глубокое отвращение к
действительности, неверие в разум и пессимизм в оценках перспектив
человечества — все это легко просматривается у испанца
Луиса Бунюэля, шведа Ингмара Бергмана, итальянца
Микельанджело Антониони и некоторых других
кинорежиссеров.
Мир потерял устойчивость и надежность, человеку
стало неуютно в этом мире,— такого рода ощущения
достаточно полно выразили некоторые течения литературы
и искусства еще в прошлом веке. В этом смысле
прощание с прошлым началось задолго до появления нового.
29
И драма человечества заключается в том, что прощание
это растянулось на век.
Стоит напомнить, что XX век начинался в обстановке
радужных надежд, незыблемого, казалось бы, покоя и
непоколебимой уверенности, что впереди людей ждут
счастье и полное довольство. Желтеющие газеты и
журналы первых лет нашего века рождают сегодня чувства,
подобные, наверное, тем, с какими может старик
рассматривать завалявшийся на чердаке и случайно
попавший в руки детский дневник,— сколько наивности и
эгоцентризма, сколько ничем не объяснимого оптимизма и
самодовольства! Эпоха мирного труда, отказ от войн,
невиданные успехи науки и техники, расцвет искусства,
совершенствование человеческой натуры — таким
представляли XX век пророки массовой прессы, уже
родившейся в те годы. Главное же, казалось им, что бы ни
произошло, все будет в XX веке идти на благо людей,
достигших уже будто бы той стадии развития, когда
разум исключает сознательное зло в действиях народов...
Было ли это самообманом или просто обманом
читателей? Ведь все это писалось в годы мирового
экономического кризиса 1900—1903 годов, когда в немецком
генеральном штабе был уже готов план вторжения во
Францию. А там, во Франции, мечтали о реванше за
Седан и возвращении Эльзаса и Лотарингии. Уже в
Париже и Лондоне, Берлине и Вене дипломаты завершали
деление Европы на два враждебных лагеря. А в
бесконечно далекой тогда Америке, официально проводившей
политику изоляционизма, уже раздавались голоса,
утверждавшие, что нет на Земле места, до которого США не
было бы дела.
Это писалось в годы, когда еще никому не известный
эмигрант из варварской России издавал газету и
выпускал книгу за книгой, в которых четко, с несокрушимой
логикой и убежденностью излагались цели, пути и
средства социалистической революции,— напомним, что
первое издание книги «Что делать?», этой программы
создания пролетарской партии, появилось весной 1902 года.
Что же, буржуазные пророки не видели или не
желали видеть, что мир сотрясается, как перегретый паровой
котел? Видели, конечно. В их писаниях был и прямой
обман, но было и нечто другое. Была память о долгих
веках жестокой истории Европы, которая служила,
казалось, гарантией, что теперь-то уж такое невозможно — ни
30
столетние воины, ни коварные нападения, ни сжигание
на кострах инакомыслящих, ни варфоломеевские ночи,
ни — в этом-то они особенно казались уверенными —
революции вроде английской или французской. Европа
казалась обжитой и уютной. Еще не было, в сущности, ни
самолетов, ни автомобилей, а туристские поездки из
Петербурга в Париж, из Берлина в Мадрид, из Лондона в
Рим стали обычаем. Границы не мешали студентам на
каникулах бродить или ездить на велосипедах всюду где
вздумается...
И вдруг! 15 июня 1914 года сараевские студенты и
молодые офицеры с помощью примитивной бомбы и
револьвера приканчивают наследника австрийского
престола и его супругу. Первая реакция военного губернатора
Боснии и Герцеговины — это сделали «социалисты»;
реакционной газеты «Русское знамя» — «жиды»;
корректной «Дейли кроникл» — «русские»1. Но общее
отношение к акту поначалу — равнодушное недоумение.
Царский посол сообщал из Вены: «Отношение венского
населения к вышеозначенному трагическому событию было
довольно безучастным... в самые дни пребывания в Вене
останков убитых наследника престола и его супруги
народные увеселения в Пратере не прекращались и музыка
гремела повсюду, как в обыкновенное время».
Сохранилось множество документов,
свидетельствующих, что события в Сербии Вильгельм II решил во что
бы то ни стало использовать для «свалки», как он назвал
войну. Впрочем, к тому же стремился и другой лагерь.
Царский военный министр Сухомлинов
засвидетельствовал в своих «Воспоминаниях»: «Я твердо уверен, что за
это время (от 24 по 28 июля 1914 г.— Р. С.) состоялось
решение войны или мира, причем великий князь
Николай Николаевич, Сазонов и Пуанкаре сговорились во что
бы то ни стало парализовать всякую попытку мирного
исхода».
Странное то было время. Решение воевать было
принято, а люди жили, веселились, ехали к теплым морям
отдыхать, строили планы на осень. В газетах они читали
успокаивающие сообщения. Многие газеты вскоре
вообще перестали писать о сербских делах — как слишком
далеких и незначительных для судеб Европы. Но тайная
война уже шла. И по иронии судьбы ее первый офи-
1 И. Файнберг, 1914-и, М., 1934, стр. 12.
31
циальныи документ был принят там, где через две недели
должен был бы открыться XXI Международный конгресс
мира,— в роскошном здании австрийского парламента, и
теми, кто составлял Почетный комитет мирного
конгресса,— министрами Унгаршитцем (президент комитета),
Штюргком, Билинским и другими.
В годы войны кино начало превращаться в искусство.
И первый фильм, который сразу же был признан
выдающимся произведением искусства кино, попытался
обратиться к людям с проповедью. Это действительно
прекрасный фильм, мастерство некоторых его эпизодов и
сегодня еще вызывает уважение. Его художественные
достоинства на многие годы определили развитие мирового
кинематографа и оказали воздействие едва ли не на всех
выдающихся кинорежиссеров 20-х годов. И это в то же
время на редкость, прямо до умиления наивный фильм.
Конечно, «Нетерпимость», а речь идет о ней, могла
быть создана только в Америке — еще не воевавшей,
далекой от Вердена, в том же самом 1916 году залитом
немецкой и французской кровью, и от всех других фронтов,
в сытой и самодовольной, не понимающей своего
ханжества стране.
Дэвид У. Гриффит, автор «Нетерпимости», был
художником честным и убежденным — даже в своих
ошибках и заблуждениях, очевидных для нас.
Сформированный той своеобразной эпохой, когда быстро
разраставшийся монополистический капитал еще не вступил в
непримиримое противоречие с буржуазной демократией,
Гриффит непоколебимо верил и в мудрость библейских
заповедей и в силу человеческой доброты. Он верил, что
его фильм нужен людям, что он, Д.-У. Гриффит, несет
людям прозрение... Бог знает во что он еще верил! Во
всяком случае, Эрих фон Штрогейм, работавший
ассистентом и военным консультантом «Нетерпимости»,
позднее впоминал, что Гриффит считал свою работу чем-то
большим, чем просто съемка очередного фильма.
Получилась же у него лишь проповедь, по кругозору достойная
какого-нибудь деревенского попика, доброго и
недалекого.
И Христос был распят, и царство Валтасара рухнуло,
и гугеноты были вырезаны в Париже, и рабочие
страдают в трущобах все по одной и той же «вечной»
причине— из-за нетерпимости, из-за неспособности, а скорее
даже, нежелания людей подавлять дурные инстинкты.
32
(Не трудно было представить пятый эпизод фильма —
из-за нетерпимости идет мировая война!)
«Нетерпимость», несомненно, несла сильный заряд пацифистского
отрицания войны, за что и была встречена крайне
неприязненно в самой Америке, уже готовившей
экспедиционную армию. Но как объяснение и толкование
действительности эта картина могла вызывать только иронию.
Война так или иначе задела все народы Европы, так
или иначе отразилась на жизни всех людей. Но
подлинной жертвой оказалась молодежь, составлявшая
подавляющее большинство в воевавших армиях. И молодежь,
принявшая на свои плечи всю кровь и грязь войны,
вышла из нее опустошенной, духовно надломленной или
совершенно сломленной. «Я выслушал после войны много
признаний славных юношей,— писал в 1930 году Р. Рол-
лан,— я тщательно изучил внутреннюю драму молодых
поколений. Трагичнее и мучительнее всего — горечь
отчаяния людей, которых обманули, постыдно обманули,
осмеяли и оскорбили в их верованиях и надеждах и
которые ни во что больше не верят, не желают верить и
отплачивают миру и самим себе бешеным отрицанием,
самоубийством унизительных наслаждений, смертоносной
иронией, топчущей в грязь вс'е, что некогда было для них
священно» х. Эти настроения определили атмосферу, в
которой росли те, кто были в 1914—1918 годах слишком
малы, чтобы носить мундир. Камю, которому было три
года, когда началась война, писал, что «барабаны
войны», лишившей его отца, преследовали его всю жизнь.
И не эти ли «барабаны войны» обусловили его
трагическое восприятие жизни, привели к философии
человеческого одиночества и мрачного бессилия перед жизнью?
Родилось поколение «потерянных», которое само
рассказало о себе. Книги Хемингуэя, Дос Пассоса, Ремарка,
Олдингтона и некоторых других писателей, прошедших
школу войны, остаются и сегодня одними из самых
популярных и читаемых книг. Очевидно, «потерянные»,
рассказывая о себе, рассказали о самой острой драме века.
Некоторые особенности европейской послевоенной
действительности особенно ярко отразились в книгах
Ремарка. Необычен был уже первый его роман, который,
надо сказать, подвергся критике со всех сторон. Немец-
1 Р. Роллан, Собрание сочинений в 14-ти томах, т. 13, М., 1958,
стр. 197.
3 Р. Соболев
33
кие националисты осыпали писателя бранью за
преувеличения, будто бы ложь и нигилизм, подрыв
национального духа и т. п. Немедленно появились книги,
оспаривавшие утверждения Ремарка,— французская «На
Восточном фронте без перемен», немецкая «Под Троей без
перемен». Наконец, пришедшие к власти фашисты
просто запретили роман, уничтожив все ранние издания.
С другой стороны, и у нас в стране критики вульгарно-
социологического толка также выразили недовольство:
хорошо, что герои осознают обман и жестокость
происходящего, но никуда не годится, что «они не уходят с
позиций. Они не бегут с фронта. Не превращают
империалистическую войну в гражданскую» К Между тем думается,
что Ремарк всегда говорил о другом. Критический пафос
его книг, в сущности, невелик. Главное для него все же —
особенно в «Трех товарищах» — утверждение, что люди,
пережившие войну, приобрели взамен утраченных
ценностей новые, не менее значительные духовные ценности·
Ремарк настойчиво воспевает товарищество как
величайшую ценность на земле. У него фронтовое
товарищество с его неписаным кодексом чести замещает
утраченные довоенные иллюзии и противостоит миру сытого и
хищного по внутреннему естеству филистерства.
Вернувшись с фронта, его солдаты не смогли сделать то, о чем
мечтали,— «послать в преисподнюю всю эту чертову
лавку», изменить жизнь. Но они, утверждает Ремарк,
составили как бы негласное сообщество людей, в нужный
момент выступающих единым фронтом против чуждого
им мира купли-продажи. Вспомним для примера сцену
выступления бывших фронтовиков в защиту товарища,
убившего свою девушку, в романе «Возвращение». Здесь
фронтовое братство выступает против суда. Еще чаще
оно действует против обидчиков фронтовиков,
персонифицированных в образах дельцов, хозяйчиков,
спекулянтов— словом, тех, кто наживался на войне.
Товарищество, создающееся на фронте,— главная ценность героев
Ремарка, главное их богатство. Хемингуэевский герой,
способный сделать то, что советовали некоторые
критики,— убежать с фронта,— не имеет, в общем-то, никаких
преимуществ. Потеряв любовь, Генри, герой романа
«Прощай, оружие!», теряет единственный стимул к
жизни. На этой же тоненькой ниточке — любви — держится
1 «Литературная учеба», 1932, № 7—8, стр. 91.
34
и жизнь героев Олдингтона. У Ремарка герои, теряя
любовь, теряют счастье, но если не смысл, то стимул к
жизни у них остается благодаря чувству локтя с товарищами.
Надо сказать, впрочем, что «Прощай, оружие!» —
книга для Хемингуэя несколько странная, ибо лишена
обычных для него мужественных интонаций и глубокого
проникновения в мудрость бытия; это книга очень усталого,
разуверившегося человека. Думается, что «Фиеста»
(«И восходит солнце...») рассказывает о «потерянных»
интереснее и правдивее; все достоинства и весь трагизм
людей, ограбленных войной, здесь выражены с
наибольшей полнотой. Именно Джейк Барнс и Брет Эшли —
подлинные и типичные герои «потерянного поколения»: без
вины виноватые, безнадежно несчастливые, побежденные
обстоятельствами и все же не сдавшиеся люди.
Знакомство с их судьбой очищает, потому что при трагической
судьбе они остаются людьми прекрасными — умными,
чистыми и тонкими. Они живут, отвергнув официальную
мораль, живут по неписаным законам внутренней
порядочности. Эти законы тоже сформировали фронтовое
товарищество и чувство локтя. Эти неписаные законы и
помогли этому поколению вернуться в мир, несмотря ни
на что.
Герои «потерянного поколения» верят не только в
солдатские ценности и мужскую дружбу, но и в любовь.
В сущности, они тогда были единственными в Западной
Европе, кто сохранял веру в это чувство. Но право
любить— это первое, что отнимает у них жизнь. Отнимает
по-разному: иногда прямолинейно — как отнимает смерть
нежных и хрупких подружек у ремарковских солдат;
иногда коварно — случай с Джейком Барнсом; но всегда
отнимает жестоко и окончательно.
Читая книги Хемингуэя, Ремарка, Олдингтона и ряда
других писателей, легко убедиться, что бывшие солдаты
весьма подозрительно относятся к понятию «героизм».
А если кто-нибудь вслух произнесет это слово, то они
буквально на стенку лезут. Полковник Кантуэлл из «За
рекой в тени деревьев» «отрицает героизм» очень
выразительно— делая большую нужду на том месте, где в
1918 году был ранен в бою и награжден военной
медалью. Но не очень-то верьте тому, что говорят солдаты.
Они отрицают болтовню о героизме. Но они знают, что
они могут быть героями, и это знание делает их
нравственно сильными, необычными, это выделяет их из сре-
з*
35
ды, позволяет поступать так, как другие не могут или не
смеют поступать. Одни ищут опоры в деньгах, в высоком
общественном положении; самые слабые — в «запретах»;
а они — в том, что сожгло в их душах мелкое и мелочное,
в новой мудрости, гласящей — теряет лишь тот, кто
боится, кто соизмеряет желание с платой. Это совсем не
значит, конечно, что «потерянные» превращаются в каких-то
сверхчеловеков, стоящих над законами и
нравственностью. Напротив, им свойственны и подлинная
человечность и бесконечная бережность ко всему подлинно
человечному.
Литература «потерянных» не исчерпывается именами
Хемингуэя, Ремарка, Олдингтона — она очень велика; и,
пожалуй, литература критическая, посвященная ей,
ничуть не меньше. Мы назвали лишь те моменты, которые
нужны нам для проявления простой мысли о том, что
люди, потерявшие на фронтах первой мировой войны
иллюзии, вошли в 20-е годы как носители новых, хотя и
очень непрочных духовных ценностей.
Успех литературы о «потерянных» не в том, что
мещан Европы и Америки заинтересовала военная
экзотика. В этой литературе были ценности, которых начисто
лишились к тому времени люди и процветавшей Америки
и успешно зализывавшей раны Европы. Герои этой
литературы выглядели изломанными, опустошенными,
бесконечно несчастными, и все же им завидовали, ибо у них
«что-то» было за душой.
Можно сказать, что «потерянное поколение» —
последнее, возможно, поколение романтиков на Западе.
Поколения, поднявшиеся после второй мировой войны, обладают,
разумеется, своими достоинствами, но уж в романтизме
и идеализме их никак не заподозришь. И не поисками ли
этих утраченных чувств объясняется интерес к
«потерянным»? А интерес очевиден. Когда в середине 50-х годов в
США появились книги Джека Керуака и других
писателей-битников, критики сразу же стали сравнивать их с
литературой «потерянных», Хемингуэя в том числе.
Когда в конце 50-х — начале 60-х годов во Франции
родилась «новая волна», кое-кто из критиков тоже вспомнил
литературу 20-х годов.
Вопрос только в том — было ли поколение
«потерянных»?.. В любом случае поколение, прошедшее войну, не
было однородным, буржуазная действительность
расслоила его мгновенно и решительно.
36
Те, кто до конца понял лживость лозунга войны за
демократию и спасение родины, кто разобрался в хитрой
механике империалистической войны, нашли правильное
место в послевоенной борьбе. Напомним, что молодые
коммунистические партии в послевоенной Европе
состояли в большинстве из бывших солдат.
Те, кто вынес с фронта лишь горечь и ярость, вошли в
мир, ничему не научившись, ибо «бешеное отрицание»,
«самоубийство унизительных наслаждений» и
«смертоносная ирония», о которых писал Роллан, были знакомы
и раньше, до войны, пусть и не в таких масштабах. Такая
«самоубийственная» критика никого не пугала и ничего
не меняла.
Те, кто вышел из войны лишь с сознанием, что
по-старому жить нельзя, прошли путь новых разочарований,
поисков и в конце концов также расслоились. Уже
Ремарк, воспевая фронтовое товарищество, показал и его
зыбкость: имущественное неравенство
демобилизованных солдат сразу же отделяет некоторых из них; позже
вступают в права такие факторы, как счастливые и
несчастливые браки, удачные и неудачные карьеры,
везение и невезение — словом, быт со всеми его невидимыми
миру слезами. А ведь помимо быта были и
поосновательнее причины для расхождений: идейные.
Нет весов, на которых можно было бы взвесить
просчеты и достоинства поколения, пришедшего с фронтов
первой мировой войны и морально ответственного за все,
что произошло в 30-х и 40-х годах. Тем, кому было в
1919 году от 20 до 30 лет, в 1939 году, когда началась
вторая мировая война, было от 40 до 50 лет,— они
находились в активном для человека возрасте. И если верно,
что историю творят я, ты, он, то не так-то просто будет
отказать молодежи в праве представить уходящему
поколению счет и спросить, как же могло случиться, что
люди, пришедшие с одной неправедной войны, еще на
своем веку позволили развязать другую?
Были силы, которые сделали все возможное, чтобы
тогда же, еще в 20-х, заставить людей забыть недавний
ужас войны, увести их от размышлений о причинах и
виновниках бед. 20-е годы были шумными и
беспорядочными, циничными и хмельными равно и для победителей
и для побежденных. Через тридцать лет возникла
легенда о необычайной плодотворности 20-х годов в области
искусства. Да, как и всегда, в те годы появились масте-
37
pa, продолжившие вечное движение искусства к
совершенству, но прежде всего эта «эпоха джаза» занималась
ниспровержением, ломкой, саркастическим отказом от
всего «благоразумного».
Чем-то, по-видимому, 20-е и 60-е годы для Запада
сходны,— не случайно их вспомнили сегодня. Не
случайно, продолжая легенду, III Гуманитарно-научный
конгресс, заседавший в ноябре 1960 года в Мюнхене,
объявил 20-е годы «эпохой Перикла» в истории
западноевропейской культуры. Кстати, многие фильмы 60-х годов,
рассказывавшие о событиях тридцатилетней давности,
также поддержали миф об «особом очаровании» 20-х
годов,— в этой связи можно вспомнить изысканную ленту
Франсуа Трюффо «Жюль и Джим».
0 том, какие это были годы, недурно сказал Уильям
Шламм, которого никак уж не заподозришь в
симпатиях к современности. Его знаменитая книга «Молодые
хозяева старой земли» пропитана ненавистью ко всему
молодому, прогрессивному, ищущему, и диапазон его
нападок— от коммунистов до Дж.-Ф. Кеннеди. Но в книге
есть такие слова: «Видит бог, 20-е годы отнюдь не были
«веком Перикла». И это знает не только бог. В конце
концов, ведь по обе стороны Атлантического океана еще
существуют миллионы людей, которые сами пережили
эти 20-е годы... Атмосфера этой эпохи запечатлена в
полном скрытого смысла фильме «Калигари», который
возник в самом ее начале («Кабинет доктора Калигари»
режиссера Роберта Вине вышел на экраны в 1920 году.—
Р. С.) и все предвосхитил: уродство, ужас, смерть. Но
«Калигари» превратился в настоящий символ 20-х годов
именно в результате инстинктивно принятого решения
развернуть сюжет фильма в реальной обстановке
увеселительного заведения»1.
А позже появилась книга, которую не причислишь к
«лучшим книгам всех времен и народов», как к «лучшим
фильмам» причислили — по какому-то недоразумению —
«Доктора Калигари», но которая очень точно передала
настроения «века Перикла», настроения людей той
поры — «Любовник леди Чаттерлей» Дэвида Г. Лоурен-
са. Один из героев этой книги говорит: «Наш век —
трагический в своей основе век, и поэтому мы отказываем-
1 W. S. Schlamm, Die jungen Herren der alten Erde, Stuttgart,
4962, S. 37, 39.
38
ся воспринимать его трагически. Находясь среди
обломков катастрофы, мы пытаемся как-то приспособиться и
на что-нибудь надеяться. Это очень трудная задача: нет
ясной дороги в будущее. Но мы обходим преграды или
пытаемся перелезть через них: ничего не поделаешь, надо
как-то жить и после катастрофы, как бы ни велика она
была». Приспособиться — вот «мудрость» человека,
пережившего крушение идеалов буржуазии, и это та же
«мудрость», которую сегодня воспитывают идеологи
буржуазии.
Эта «мудрость» отвергнута сегодня значительной
частью молодежи Запада. Сегодня понять порочность
попыток приспособления не трудно. Достаточно задать
вопрос: как могли люди, пережившие 1914—1918 годы,
допустить кошмар 1939—1945 годов?
Я представляю себе юнца — во Франции, например,
или Англии,— задающего такси вопрос, вопрос, по
существу, о личной ответственности, и... не завидую его отцу
и деду. Ведь они, чтобы быть честными, должны сказать
в ответ: «Мы, мол, маленькие, ничего не значащие
человечки, потому что никакой ни черта демократии нет
и все за нас решает кто-то наверху. Я, твой дед, и
оглянуться не успел, как пришлось снова браться за
оружие. И хотя не я выпустил на свободу фашизм, именно
мне и моему сыну — твоему отцу — пришлось с
фашизмом драться. А что было делать?..»
Не здесь ли истоки того раскола поколений, что ныне
мы наблюдаем на Западе?
Да, герои «потерянного поколения» обладали
стойкостью и умением мужественно принимать удары
судьбы— способностью, мало свойственной поколению 50—
60-х годов,— но на что-либо большее, чем
индивидуальный бунт, они не были способны. Можно сказать даже,
что они сменили одни иллюзии на другие, и когда
пришел час, то те же самые силы, которые загнали их в
тупик 1914—1918 годов, не оставили им никакого выбора
и в 1939 году.
Об иллюзиях этого поколения рассказал
кинематографист. В 20-х и в начале 30-х годов, очевидно, кино еще
не обладало ни достаточным умением, ни опытом,
чтобы браться за такие темы, как судьбы поколений.
Роман Ремарка «На Западном фронте без перемен» был
экранизирован уже в 1930 году, и фильм Л. Майлстоуна
входит в число достижений Голливуда той поры. Но при
39
всех своих достоинствах фильм является лишь удачной
копией книги,— так же как и экранизации 50-х годов
романов Хемингуэя — «Фиеста» с великолепным
выступлением Авы Гарднер в роли Брет Эшли, «Прощай,
оружие!» и «По ком звонит колокол». Оригинальные
фильмы 20-х — начала 30-х годов порой несли резкий
антивоенный протест, нередко правдиво и честно
рассказывали о военной трагедии и иногда даже ставили перед
зрителями острые социальные вопросы. Но за самым малым
исключением они не могли равняться с литературой ни
по глубине содержания, ни по художественным
достоинствам. Таким редким исключением—произведением,
совершенным по форме, оригинальным по проблематике,
глубоким и тонким по анализу затронутых вопросов,—
стал фильм Жана Ренуара «Великая иллюзия».
Этот фильм — своего рода ответ на вопрос нашего
юнца.
Ренуар испытал на войне все, что может достаться
на долю солдата. Раненный во время кавалерийской
атаки и отчисленный по инвалидности, он проходит
специальную подготовку и становится военным
летчиком-наблюдателем. Его самолет сбивают за линией фронта, и
1916—1918 годы он проводит в немецком плену, за
попытки к бегству переходя в лагеря со все более строгим
режимом. Фильм автобиографичен, ибо рассказывает о
том, что испытал и видел его автор.
Война — самая противоестественная и нелепая вещь
на свете,— вот главная мысль фильма. Для лейтенанта
Морешаля (актер Ж. Габен), рабочего парня,
парижского механика, попавшего в офицерскую касту благодаря
своим «золотым рукам», война — дикая и нелепая
история, к нему никакого отношения не имеющая, и он
убежден, что она никогда больше не повторится. Для
капитана де Боальдье, изящного, утонченного маркиза,
нелепость войны также очевидна, но довлеющие над ним
традиции и воспитание заставляют его по-иному
относиться ко всему. Для Морешаля воевать — делать
грязную, противную, ненужную, но неизбежную работу; для
Боальдье — исполнить с достоинством свой офицерский
долг.
В фильме есть запоминающаяся сцена. Морешаля и
Боальдье, взятых в плен, вводят в немецкий штаб.
Майор фон Рауффенштайн, едва скользнув взглядом по
простоватому лейтенанту-плебею, изысканно приветствует
40
все так же подтянутого, изящного,
сдержанно-любезного маркиза. Встретились не враги — рыцари. Одному не
повезло в бою, но это ничего не значит — люди одного
класса остаются равными и сейчас, как были равны до
войны в аристократических салонах, имевшие общих
знакомых, посещавшие одни и те же ипподромы,
рестораны, знавшие одних и тех же танцовщиц...
Иллюзия, и совсем не великая, что война шла за
демократию,— доказывает Ренуар. И на войне
французскому маркизу остается понятнее и ближе сбивший его
немецкий барон, нежели французский рабочий.
Иллюзия и то, что война — благородный поединок равных;
неумолимо и закономерно она приведет барона к
необходимости совсем не по-рыцарски пристрелить маркиза.
И наконец, великая иллюзия: Морешаль, пересекая
после удачного побега немецкую границу, произносит:
«Надеюсь, что эта проклятая война — последняя!» Это было
сказано в 1937-м. Уже в следующем году Гитлер
захватил Чехословакию...
Ренуар историчен в своем рассказе. Да, показывает
он, война бесчеловечна и, в сущности, не нужна даже
маркизу — этому профессиональному солдату. Но,
поверьте, боевое братство фронтовиков держалось не
только на общей беде, а и на общем чувстве любви к
родине. Без убеждения, что выбора нет и нужно защищать
свободу и честь родной страны, было бы невозможно
вынести все муки. Боальдье и Рауффенштайн — люди
одного класса. Это одна правда. Морешаль мгновенно
найдет общий язык с немецкой крестьянкой Далио, у
которой под Верденом погибли муж и братья. Это
другая правда. Но правда и в том, что барону придется
стрелять в маркиза, а Морешалю — уйти от любимой
Далио. Правда будто бы и в том, полагает Ренуар, что
маркиз, рабочий, банкир, учитель, негр в определенных
обстоятельствах встают плечом к плечу в едином строю.
...Это произойдет в день получения известий о
падении французского города Дюомона. Военнопленные,
делая вид, что не замечают радости немцев и не придают
никакого значения сообщению, устраивают «вечер
самодеятельности». Одевшись в дамские наряды,
выписанные солдатом-банкиром из Парижа, долговязые парни
отплясывают канкан, вызывая восторг у друзей и
презрение у охранников. В разгар веселья на сцену
врывается Морешаль и кричит, что Дюомон отбит у немцев.
41
Пауза — и зал в едином порыве встает, и гремит над
лагерем «Марсельеза». Сорвав парики и дамские тряпки,
поют парни, только что ломавшиеся в канкане.
Торжественно поет Морешаль. Обнаженный до пояса,
стройный и красивый, как молодой греческий бог, поет Бо-
альдье. Поет банкир Розенталь. Поет негр...
«Великая иллюзия» показывает более сложную
психологическую и социальную картину тех далеких лет и
в чем-то умнее отвечает на вопрос, как и почему
воевали деды, чем большинство романов о «потерянном
поколении». В фильме противоречия и слабости этого
поколения освещаются полнее и глубже, нежели даже в
суровых книгах Хемингуэя. По фильму легче судить о
том, как же это случилось, что Европа повторила
старые ошибки. Хотя, пожалуй, даже в те годы мало кого
мог до конца удовлетворить ответ Ренуара: «Мы
избавились далеко не от всех иллюзий...»
Да, «старикам» в Западной Европе нелегко,
наверное, отвечать на вопросы молодых. Прошлое столь
кроваво и неправедно, что, вспоминая его, невозможно не
спросить и о виноватых.
Когда началось «наше время»? Очевидно, на такой
вопрос не ответишь точной датой. Прошлое и настоящее
связаны тысячами нитей, особенно для западного
общества, прошедшего через ад мировой войны, но не
познавшего очистительной бури социальной революции.
Ill
„Герои устали"
Но вот война окончилась. Какой же вернулась с нее
молодежь?
Тот же У. Шламм считает, что молодежь вышла из
второй мировой войны с твердым убеждением: «Я
должен как можно скорее добиться успеха. Все остальное
меня не касается». Более того: «все остальное» — это
опасное бесчинство, а именно мировоззрение,
«идеология»1. Шламм не одинок* в такой оценке, и она имеет
обоснование в социологических исследованиях,
показывавших крайний прагматизм у молодежи вплоть до
начала 60-х годов. (Например, в капитальной двухтомной
работе «Молодежь в семье и современном обществе», в
которой французские социологи Ж. Тейнд и Я. Тиро
подвели итоги своих исследований молодежи во второй
половине 50-х годов, говорится, что около 40 процентов
из нескольких тысяч опрошенных молодых французов
сформулировали свой жизненный идеал так — «стать
богатыми, жить без хлопот»; 20 процентов — «получить
ренту»; 16 процентов — «стать предпринимателем».) Но
надо иметь в виду, что оценка Шламма справедлива в
отношении лишь части молодежи, и во-вторых, и это
главное, этот эгоцентризм был явлением временным,
вызванным определенными социально-экономическими
обстоятельствами, сложившимися в послевоенной Европе.
Так называемая деидеологизация западной молодежи в
50-х годах представляется прямой реакцией на преда-
1 W. S. Schlamm, Die jungen Herren der alten Erde, S. 74.
43
тельство буржуазией тех идеалов, ради которых шла
вторая мировая война. Сыграло здесь определенную роль и
«экономическое чудо».
Во всяком случае, верно и то, что, осознавая
справедливость войны с фашизмом, часть молодежи тем не менее
вернулась с нее не менее опустошенной, чем их
сверстники 20-х годов. Война была другой, однако мир, в
который они вернулись, остался старым — в нем все так же
царствует чистоган, снова ведутся разглагольствования
о необходимости «последней» войны — против
коммунистов; наконец, в этом старом мире появилась атомная
бомба, а идейный вакуум стал нестерпимым. И жить
было в этом мире тяжко. Ясность жизненных целей,
ощущение своей необходимости, чувство причастности к
великому, испытанное в годы войны, заставляло эту
молодежь жить с повернутой назад головой.
Через десять лет американец Дж. Джон в романе
«И подбежали они...» предложит этому поколению
название «ненайденного». А сразу после войны Голливуд
показал эту молодежь в одном из наиболее удачных своих
фильмов — «Лучшие годы нашей жизни» (1946).
Сценарист Р. Шервуд, режиссер У. Уайлер, оператор Г. То-
ланд — три выдающихся мастера и созвездие отличных
актеров рассказали о судьбе трех солдат, вернувшихся
домой, в маленький городок. Там ничто не изменилось,
если не считать, что те, кто сидел дома, разбогатели,
продвинулись вперед, сделали карьеру. Солдатам нет
места в этом мире, нет даже работы — капитан Фред,
водивший свою эскадрилью в огонь, вынужден продавать
парфюмерию... Лучшие годы их жизни — годы войны.
Об этом рассказывает и более поздний французский
фильм «Их было пятеро». Послевоенная
действительность развеяла в разные стороны солдат, давших друг
другу на фронте клятву верности. Погибает во Вьетнаме
самый молодой из них — Андрэ, отправившийся туда,
чтобы загладить семейную вину перед Францией — его отец
осужден как коллаборационист. Марселя, связавшегося
со спекулянтами, убивает полиция. Опускается на дно
Роже. Богатый аристократ Филипп выбит, похоже,
навсегда из колеи несчастной любовью. Счастлив лишь
простоватый Жан, но счастье его вызывает презрение даже
у ставшего подонком Роже. Фильм далеко не шедевр, но
в том, что относится к послевоенным судьбам
победителей, он правдив, хотя и излишне мелодраматичен.
44
Целый цикл подобных же по своей сути картин
создали итальянские неореалисты — «Трагическая охота» и
«Нет мира под оливами» Де Сантиса, «Внимание,
бандиты!» Лидзани, «Тяжелые годы» Дзампы и др.
Своеобразная обстановка, сложившаяся в Италии сразу же
после войны, определила и своеобразие героев итальянских
фильмов: это парни, не желающие бросать оружие, пока
не получат провозглашенные Атлантической хартией
права— на труд прежде всего и свободу совести; это парни,
остро чувствующие несправедливость существующего
жизненного уклада, готовые с оружием в руках изменить
жизнь к лучшему, но лишенные знания целей борьбы и
средств достижения целей. Хотя
художники-неореалисты и были лишены возможности открыто говорить о
социально-политических аспектах того, что происходило в
стране, какие-то важные черты эпохи — прежде всего
яростное отрицание прошлого и мучительное осознание
невозможности коренных изменений в жизни — мы
отчетливо видим в таких героях, как демобилизованный
солдат Франческо из «Нет мира под оливами», в
одиночку борющийся с социальной несправедливостью; как
рыбак Антонио, пытающийся объединить деревню на отпор
богатым скупщикам рыбы из замечательного фильма
«Земля дрожит»; как бывший партизан Джузеппе из
«Трагической охоты», сплачивающий крестьян в
кооператив и возглавляющий их отпор бандитам.
Можно найти еще несколько фильмов и назвать ряд
книжек, вышедших в конце 40-х годов в разных
странах— не слишком высоких художественных
достоинств,— в которых так или иначе затрагивались судьбы
вернувшихся с фронтов солдат. Все они, как и
вышеназванные фильмы, проникнуты чувством горького
разочарования: победа демократии над фашизмом ничего не
изменила, в мире все осталось по-старому, разве что
богачи стали еще богаче, политики — еще изворотливее,
полиция — еще безжалостнее, законы — еще жестче.
Конец 40-х — начало 50-х годов не было временем
отдыха и покоя уставшего мира. У. Черчилль своей речью
в Фултоне дал сигнал к новой антикоммунистической
компании, события в Чехословакии в 1948 году
обострили уже начавшуюся «холодную войну», и все
реакционные силы Запада объединились перед угрозой новых
социалистических революций. Наконец, война в Корее
сделала фактом казавшуюся невозможной при наличии
45
атомного оружия политику локальных агрессий и
местных войн. В эти же годы происходили неисчислимые по
последствиям события в Китае, Индии, Индонезии,
Вьетнаме. Тишины не было. Но все же над всеми событиями
превалировала усталость Европы и необходимость
залечить раны войны. Главные события происходили
подспудно, незаметно для поверхностных наблюдателей.
Внешне мир возвращался вроде бы на круги своя — к
проклятым, предшествовавшим второй мировой войне
30-м годам, но на самом деле необратимые внутренние
процессы уже выводили человечество в новую
реальность.
«Телята» (фильм о них вышел в 1953 году), как и
Гарри из «Лета с Моникой», были последними
молодыми людьми, о которых отцы еще могли бы сказать, что
их чада именно таковы, какими и должны быть дети:
с некоторыми заскоками по молодости лет, но в общем-
то порядочные и послушные парни, которые,
перебесившись, пойдут в жизни по проложенным ими, отцами,
дорогам. Но к концу 50-х годов все смешалось в этом
устроенном мире. Произошел разлом в поколениях, и
отцы стали хвататься за головы: молодежь «отбилась
от рук».
С наибольшей определенностью кино об этом сказало
в фильмах французской «новой волны». Ее мастера —
выходцы по преимуществу из средних слоев, и их герои
представляют также не всю молодежь, а специфическую
часть — парижских студентов, богему Латинского
квартала, творческую интеллигенцию и подозрительных
завсегдатаев ночных кабачков и дансингов и т. п. Но,
пожалуй, именно эта часть молодежи с наибольшей
полнотой выразила все болезни, свойственные тому
периоду, который можно считать переходным.
Важно отметить, что в конце 50-х годов начинались
«бум в спросе на культуру», ныне отмеченный
повсеместно в развитых странах, и перенос центра тяжести
пропагандистской деятельности буржуазных государств
и монополий с традиционных средств, прежде всего
газет и радио, на средства искусства. Разумеется, в
классовом обществе литература и искусство всегда
обслуживают господствующие классы и группы, но, пожалуй,
никогда это не делалось столь последовательно и
откровенно, как в последнее время. Процесс этот— и рост
спроса на культуру и превращение искусства в пропа-
46
гандистское средство — далеко еще не закончился, а мы
уже видим, как государственный аппарат
капиталистических стран стремится к абсолютному контролю над
искусством и, совершенно прежде невиданная вещь,
монополии создают свои собственные «отделы культуры».
В борьбе идей, достигшей сейчас такого накала,
искусству принадлежит совершенно особая роль.
Соответственно изменились ответственность художника и
требования к нему.
Т. Манн писал, что искусство «и не думает строить
иллюзии о своем влиянии на судьбу человечества.
Презирая все плохое, оно никогда не могло
воспрепятствовать победе зла: все осмысляя, оно никогда не
преграждало дорогу самой кровавой бессмыслице». И дальше
следует заключение, полное боли, чувства бессилия и
унижения того, что составляло суть и смысл жизни
этого выдающегося писателя и мыслителя нашего времени:
«Искусство не сила, а лишь средство утешения» 1.
Если бы дело обстояло так, не стали бы фашисты
сжигать книги того же Томаса Манна. Не будь
искусство силой, не зажали бы поджигатели войны рот
художникам в конце 40-х — начале 50-х годов, не
обрушился бы самый сильный удар Комиссии по
расследованию антиамериканской деятельности на прогрессивных
художников Голливуда. Бомбы не взрывались ни в
Америке, ни в Европе, однако буржуазные правительства
действовали, как на войне, и в отношении художников.
Годы «холодной войны» многое изменили в
представлениях работников искусств, потому что таких гонений
на них не было, пожалуй, со времен средних веков. И
художники начали иначе смотреть на свою миссию в мире.
Получая Нобелевскую премию, Камю так
сформулировал новые задачи своих коллег: «До сих пор, худо ли,
хорошо ли, всегда можно было уклониться от участия
в истории. Тот, кто не одобрял, часто мог молчать или
говорить о другом. Ныне все изменилось, и само
молчание приобрело страшный смысл». Такая постановка
вопроса о роли творческой интеллигенции нова для
Запада. В России, переживавшей глубокий общественный
кризис, разрешить который могла лишь революция,
давно и четко было сказано: «Всегда, ныне и присно наша
интеллигенция играла, играет и еще будет играть роль
1 Т. Манн, Собрание сочинений, т. 10, М., 1961, стр. 487.
47
ломовой лошади истории» К Это сказано М. Горьким
А. Блоку, разделявшему пессимистические взгляды на
роль искусства и интеллигенции. Но Горький, вспоминая
о встречах с В. Короленко, пишет, что слышал от него
то же самое: «И как-то особенно крепко он стал
говорить об интеллигенции: она всегда и везде была
оторвана от народа, но это потому, что она идет впереди,
таково ее историческое назначение». И далее:
«Человечество начало творить свою историю с того дня, когда
появился первый интеллигент; миф о Прометее — это
рассказ о человеке, который нашел способ добывать огонь
и тем сразу отделил людей от зверей. Вы правильно
заметили недостатки интеллигенции, книжность, отрыв от
жизни,— но еще вопрос: недостатки ли это? Иногда, для
того чтобы хорошо видеть, необходимо именно отойти,
а не приблизиться»2. Эти не новые, как видим, идеи по-
настоящему приобрели силу и жизненность на Западе
во второй половине 50-х годов, когда и там кризис
достиг апогея.
Разумеется, далеко не все объективно честные
художники смогли принять и найти контакт с новой
реальностью. Мир менялся так быстро, что и среди честных
художников, особенно среди убеленных сединами мэтров,
оказалось немало таких, кто так и не смог согласиться
с переоценкой некоторых ценностей. В самом деле,
между феллиниевским Фаусто, согласным, хотя и не без
попытки взбунтоваться, с сентенцией, что «непорядочно
бросать девушку в таком положении», и, например, го-
даровским Мишелем, ведущим с любимой девушкой
откровенные деловые беседы о том, с кем и сколько раз
она спала, разница не в семь лет, а в целую
историческую эпоху.
Высказанную отцом и принятую Фаусто истину
совсем не трудно выдать за «общечеловеческую» и
«вечную». Она освящена двумя тысячелетиями христианской
и тремя-четырьмя веками буржуазной морали. Она
кажется бесспорной и для будущего: чего уж хорошего —
бросать девушку «в таком положении». Взгляды какого-
нибудь Мишеля, считающего, что девушка, попавшая
«в такое положение», по меньше мере идиотка, не за-
1 М. Горький, Собрание сочинений в 30-ти томах, т. 15, М., 1951,
стр. 330.
2 Там же, стр. 30—31.
48
служивающая никакого сочувствия, представляются
верхом аморализма. Их так и расценили — официальные
представители буржуазных государств и католические
писатели, цензура, так называемые здравомыслящие
люди Запада и многие другие. В протесте против
«морали» Мишеля парадоксально объединились апологеты
буржуазного общества и их убежденные антагонисты —
по крайней мере те, кто не захотел понять, что Мишель
есть продукт этого же общества. Такого еще не
бывало,— это явление переходного времени.
Сегодня от художника на Западе требуется немалое
мужество, чтобы сохранить ясность взгляда на
действительность, чтобы продолжать говорить о жизни то, что
для него несомненно, но для окружающих — более чем
спорно. Этим мужеством обладают многие художники,
начавшие свой путь в 50-х и 60-х годах, но нельзя не
видеть, что немалое число блестяще начинавших свой
путь мастеров под влиянием бурных событий минувшего
десятилетия отказалось от исследования социальных
проблем, ушло в живописание второстепенных
частностей человеческого существования.
В беседе с автором этой книги Джозеф Стрик —
соавтор фильма «Гневное око» и экранизатор «Улисса»
Джойса — заметил, что для художника сегодня
трудность состоит не в умении видеть недостатки
жизненного устройства — они очевидны, и не в том, чтобы
путем обличения эти недостатки как-то устранить — это
зачастую невозможно (здесь Стрик единодушен с
Манном в оценке возможностей искусства),— трудность
заключается в решимости показать пороки нашей
жизни без малейшего флера, без всякого утешения, без
оглядки на то, что «принято», и без опаски за то, что
«скажут».
По мнению Стрика, страшна не цензура, а
самоцензура, или, иначе говоря, заведомая уступка творца
зрителю, его добровольный и еще в процессе творчества
проведенный компромисс между тем, что он сам думает,
и тем, что думает по этому же поводу потребитель. Нам
и эта мысль не представляется новой. Опять же М.
Горький писал, что «свобода мысли — единственная и самая
ценная свобода, доступная человеку. Ею обладает только
тот, кто, ничего не принимая на веру, все исследует, кто
хорошо понял непрерывность развития жизни, ее
неустанное движение, бесконечную смену явлений действи-
49
тельности» К Интересно здесь то, что эту мысль
художники нового времени не только открывают для себя,
но и — что особенно важно подчеркнуть —
руководствуются ею, а не «приличиями» и «традициями», в своем
творчестве и во взаимоотношениях со зрителем.
Бесспорно, в минувшие десять-пятнадцать лет мы
видели порой не только смелость художников, но и
определенное злоупотребление «свободной мысли», были
очевидцами того, как необходимое преодоление косности
зрителей переходило в безответственность художника.
Об этом — особая речь. Но важно видеть, что при всех
просчетах всякого рода творческие поиски были вызваны
требованиями жизни, они были необходимы, куда бы
затем ни уходили молодые мастера — в коммерцию или
вообще в безвестность. Кроме того, творческие поиски
молодых были чреваты не только конфликтом с
контрольным аппаратом государства, приобретающим, как
мы отметили, на Западе все большее значение, и не
только опасностью «ножниц» между художником и
зрителем, но и еще почти неизбежным столкновением с
мастерами старшего поколения, зачастую выводившими
молодых художников в большое искусство,—
столкновением, равно болезненным для всех, ибо такого рода
«истины», как та, нужно или не нужно жениться на
девушках «в таком положении», не имеют альтернатив, тут
возможен ответ либо «да», либо «нет», а объяснения
позиций после этого уже не выслушиваются.
Наиболее острое столкновение художников разных
возрастов произошло во Франции. «Новая волна» сразу
выдвинула на авансцену большую группу молодых
режиссеров. Среди них оказались и беспомощные штукари,
и крепкие «середняки», занявшие прочное положение в
«кино-Би», и мастера талантливые и самобытные, хотя
и неспособные проложить новые пути в искусстве, и,
наконец, несколько художников мирового класса, без
которых невозможно сегодня представить развитие
искусства кино. Но пестрота фигур и характеров, как,
впрочем, и ряд других причин, сделала «новую волну» весьма
уязвимой для критики, чем и не замедлили
воспользоваться мэтры. В ход пошло все — от площадной ругани
до политических обзинений. Маститый Клод Отан-Лара,
например, так определил «новые» фильмы: «...мы видим
1 М. Горький, Собрание сочинений в 30-ти томах, т. 15, стр. 55.
50
в них цинизм распустившихся школьников, который,
впрочем, любопытным образом направлен в сторону
правого анархизма, отличающегося очень ловко скрытым
приспособленчеством. Нельзя не заметить, насколько вся
эта продукция точно направлена и умело подчинена
официальным директивам, насколько она избегает какой-
либо остроты и социальной критики». В этой филиппике
удивляет мастерство, с каким всего две фразы начинены
оскорблениями и полуправдой. Ярость обвинения не
удивляет: молодые зачеркивали своих учителей. Но
верно и то, что к концу 60-х годов некоторые из мастеров
«новой волны» пришли-таки к цинизму в своем
отрицании действительности, от критики социальной пришли к
критике анархистской.
Во Франции споры шли не только на страницах
журналов и на трибунах, но и на экранах. Мы вправе
сравнить то, что говорили о молодежи художники разных
поколений.
Карне полагает, что моральные ценности,
выработанные человечеством, остались сами по себе неизменными,
хотя и догадывается, что «... мы живем в мире, который
разваливается». Его позиция, как мы уже отметили,
наиболее типична для художников старшего поколения.
Она, эта позиция, очень удобна: если сказать «а» — то
есть что мораль буржуазного общества изжила себя,—
то придется сказать и «б» — то есть искать новые
моральные ценности, что автоматически ведет к отрицанию
буржуазного общества,— а так, при констатации болезни
общества и признании неизменности моральных
ценностей, возникает чувство, что все трудности — только
преходящий кризис, что возможны лекарства, ремонты,
всякого рода паллиативы.
Возникает при этом и еще одна «великая мысль»,
пожалуй, еще более опасная для общества, нежели
морализирование в духе Карне или Стейнбека,— мысль о
том, что как бы там ни было, а жить надо и что жизнь
свое возьмет...
Это мы видели уже в фильме «Лето с Моникой».
Еще резче и, пожалуй, вызывающе это прозвучало у
Карела Рейца в фильме по сценарию Аллана Силлитоу
«В субботу вечером, в понедельник утром». Перед нами
современный рабочий парень, уверенный в своем
материальном благополучии, знающий цену своим рукам,
лишенный интеллигентской рефлексии, не ощущающий
51
никаких комплексов неполноценности. Этому бы парню
еще заняться сбором профвзносов, и был бы он
положительным героем, живой иллюстрацией тезиса о
здоровом нутре каждого пролетария. Но парень этот мечется
в жизни, как зверь. В субботу вечером он накачивается
пивом, ночь проводит с чужой женой, в воскресенье
развлекается самым что ни на есть хамским образом,
завершая день отчаянной дракой, и в понедельник утром
выходит на работу с разбитой рожей. Все это — от
глухой душевной тоски, от неосознанного ощущения
неблагополучия жизни. Однако... жить надо и законы жизни
неизменимы. Полюбит парень голубоглазую разумную
девушку, а та потащит его выбирать загородный
домик — чудо современного уюта и сервиса, что продаются
в рассрочку на всю жизнь. Швырнет парень в сердцах
камень в сторону домика, в последний раз показав
характер, и... нежно поведет девушку под венец...
Нельзя сказать, что авторы хоть в какой-либо мере
одобряют своего героя,— напротив, фильм исполнен
горечи. Сарказмом проникнуты и бессильный бунт героя
и его капитуляция. Но авторы явно не верят в
какое-нибудь другое поведение; они просто констатируют: это
мерзко, но это — правда. Фильм как бы служит
иллюстрацией к утверждениям буржуазных социологов и
публицистов. Например, уже цитированный У. Шламм,
говоря о битниках, утверждает: «Марихуана и свалявшиеся
бороды являются в действительности лишь затратами на
рекламу; после двух-трех лет утомительных кривляний
каждый битник начинает ощущать тоску по удобствам
обеспеченной жизни... из числа сегодняшних битников
определенный нормальный процент наверняка умрет,
заразившись вирусом предпринимательства» *.
Зло сказано. И думается, картина предельно
упрощена. Говорить, что все, как бы там ни было, сводится к
тому, что парень взрослеет, обзаводится семьей,
принужден в силу своих обязательств перед женой и детьми
обратиться к труду и т. д.— значит, в сущности, ничего
не говорить, значит сводить жизнь человека к биологии,
значит убеждать людей, что все у них будет
великолепно — со временем, когда автоматы будут производить
сколько угодно жратвы и барахла. На наш взгляд,
сегодня нет более опасной и более лживой точки зрения
1 W. S. Schlamm, Die jungen Herren der alter Erde, S. 169.
52
на молодежь, чем такая «житейски мудрая» —
перемелется, мол, все...
Фильмы французской «новой волны» потому и
вызвали скандал, что решительно отбросили всякие
утешительные сказки. И в этом их важное достоинство.
Правда, то, что говорят о жизни мастера «новой
волны», уязвимо в исходной точке разговора. Если для
Карне моральные ценности остались неизменными, как
бы к ним ни относились новые поколения, то
кинорежиссеры «новой волны» декларируют обратное, исходя в
своих картинах из априорного положения: мораль
исчезла, никаких моральных ценностей нет и пока не
ожидается. Да это и логично: если утверждать, что жизнь не
имеет ценности, как это показал Шаброль в «Кузенах»,
то какое значение имеет судьба девчонки, попавшей «в
такое положение»?
Если верно замечание, что культура народа
определяется степенью уважения к женщине, то надо будет
признать факт — к концу 50-х годов молодежь дошла в
своем отношении к женщинам до крайнего варварства.
В уже упоминавшемся исследовании Жоржа Тейнда и
Яна Тиро есть такие ответы молодых французов на
вопрос о том, как они относятся к девушкам: «Девушки —
это предмет потребления»; "любить — значит «казнить»
ее (Texecuter). Тот же Шаброль в фильме «Милашки»
(1962) дает буквальное изображение этого термина:
садист насилует и убивает девушку.
«Новая волна», конечно, не была однородна, ее
художники по-разному говорили в разных фильмах и
порой очень далеко уходили от того, что декларировали в
первых работах. Надо и то помнить, что Годар, Шаброль,
Трюффо и многие другие — менее всего проповедники;
они — социологи и одновременно поэты.
Прошло более десяти лет с момента появления «новой
волны». Кажется, все, что можно было сказать «за» и
«против», уже сказано. Сейчас во взглядах на «новую
волну» преобладают скептицизм и разочарование. Это-
то и странно. Как будто при всех бесспорных просчетах
«новая волна» не изменила язык кино, как будто она не
дала миру нескольких удивительных художников, как
будто она не сказала о молодежи, о сложном времени
нечто важное, нечто такое, что могли сказать только
авторы и режиссеры, операторы и актеры «новой
волны» — ровесники своих героев. Что же еще надо?
53
То, что сделала «новая волна» в области формы,
было, безусловно, подготовлено и открытиями
неореалистов, и поисками нью-йоркских документалистов, и
самобытным опытом японцев — короче, всеми творческими
исканиями послевоенной поры. Мастера «новой волны»
сделали следующий после неореалистов шаг к
высвобождению кино от условностей машинного производства
фильмов, идеальным выражением которого некогда было
голливудское производство. У Годара, Шаброля, Трюф-
фо и других камера вышла из павильонов на шумные
парижские улицы, прошла по тесным студенческим
квартиркам, по мансардам, по загородным виллам, в которых
одни плетут заговоры, другие устраивают оргии, третьи
прячут свою любовь.
Их своеобразные актеры вошли в подлинную толпу,—
не в организованную массовку, а в толпу, не
подозревающую о том, что снимается кино, и ничуть не
подыгрывающую актерам, которые, напротив, сами должны
были соотносить драматическое действие с жизнью
улицы. И так далее. Все это было необычно, смело, имело
большой отзвук в киномире.
Самое интересное в «новой волне» — это, однако,
метод и результат исследования ее режиссерами судеб
своих молодых современников. Своеобразие
исследований в том, что за основу брался не тип, не модель, а
собственное «Я» в первую очередь. В биологии есть
понятие «эксперимент на себе», в литературе существует
жанр исповеди, в кино теперь живет новый термин —
авторский фильм.
Но самое важное здесь то, что с «новой волной» в
искусство вошли не только новые художники, но и новые
герои.
Уже кузен Поль в исполнении элегантного
Жан-Клода Бриали оказался героем невиданным. Утонченный
парижский буржуа, безбедно живущий на родительские
денежки, он поразил зрителей парадоксальным
соединением несоединимых, казалось бы, черт: он безнадежно пуст
и в то же время талантлив, он постоянно окружен
шумным обществом, но всегда одинок, он нравится
женщинам, но лишен любви. Поль ничему не удивляется, ни
на что не сердится, никому не возражает, ничто не
осуждает. Для него разлом истории — непреложный факт;
он живет в новой реальности, в которой нет ничего, из-
за чего стоило бы волноваться.
54
В конце 50-х годов взошла звезда Брижитт Бардо —
единственной в течение пяти-семи лет законодательницы
молодежных мод. После таких голливудских звезд 20-х
годов, как Мэри Пикфорд и Грета Гарбо, никто в мире
кино не обладал такой сенсационной популярностью, как
эта девушка из зажиточной буржуазно-провинциальной
семьи.
Старшие поколения в это время следили за карьерой
«солдатской мадонны», «бисквитной статуэтки»,
женщины с божественно прекрасным телом и мозгом курицы,
превращенной Голливудом в «национальную шлюху»
(Сильвел Ренер),— Мерилин Монро. Молодежь отдала
свои симпатии Брижитт Бардо, которая поначалу
показалась некоторым критикам просто «дурнушкой».
Сегодня о ББ написано немало любопытных
социологических исследований. Как актриса она мало у кого
вызывает интерес, хотя не без успеха выступала в ролях
серьезных и сложных, зато как социальное явление ББ
до сих пор вызывает споры. Задавая обычный в таких
случаях вопрос: общество ли породило ее из недр своих
и, узнав в ней свой выразительный портрет, возвело на
пьедестал кумиром, или же она была создана рекламой
и ее, как миф, навязали обществу в идолы,— писавшие
о ББ чаще склонялись к мысли, что в данном случае
реклама была ни при чем. ББ появилась в результате
потребности общества в модели для познания самое себя.
Она с наибольшей полнотой выразила ту форму
поведения и взаимоотношений с действительностью, которую
определенная часть буржуазной молодежи стала считать
идеальной к концу 50-х годов. ББ была кумиром именно
буржуазной, состоятельной, не заботящейся о хлебе
насущном молодежи, хотя ее влияние как
законодательницы мод распространялось и на молодежь рабочих рано-
нов и даже на страны, которые по образу жизни весьма
далеко отстояли от норм Франции и других развитых
капиталистических государств.
ББ предстала перед зрителями (нельзя сказать
«воплотила», потому что по своему социальному
происхождению, воспитанию, всей своей сущности она есть
именно то существо, которое изображает в фильмах)
молодой девушкой, созданной обществом, лишенным
способностей к развитию. Она сестренка по классу кузена
Поля из фильма Шаброля. Как и он, она достаточно
обеспечена родителями, чтобы иметь квартиру, машину,
55
возможность путешествовать. Как и Поля, ее вполне
устроило получение многого без всяких обязательств и
обязанностей.
Как мы говорили, Джеймс Дин, имевший такие же
примерно жизненные блага, выражал бесцельное, но
яростное недовольство тепличной обстановкой, в
которую его поместили взрослые Он находил особое
удовольствие в том, чтобы крушить автомобили — наиболее
осязаемый символ благополучия. ББ и кузен Поль
никогда не будут тратить на это силы, хотя, правда,
ничуть и не расстроятся, если помнут или искалечат свои
«кары»,— наплевать, старшие купят новые. ББ вообще
на старших наплевать...
Роже Вадим, средний режиссер, создавший знакомую
всем ББ в фильме «...И бог создал женщину» (1956),
писал в те годы: «Юноши и девушки не бунтуют против
морали своих родителей и общества, они ее просто не
замечают». ББ и стала зримым выражением этого
декларируемого тезиса.
Ее называли «изящным животным», не вкладывая
в слово «животное» никакого осуждения, говоря это,
скорее, даже с восхищением и завистью. Писали о ее
«естественности» во всем, что бы она ни делала: ест ли, пьет,
любит, танцует или отдыхает,— все это она делает, мол,
импульсивно и оправданно, как совершает свои поступки
животное, находящееся вне человеческой морали.
Брижитт Бардо (или ее героини, если угодно) не
дурочка, не тупица.
Если она не хочет ни учиться, ни работать, ни
заниматься какими-либо делами, то потому только, что у нее
нет нужды к чему-либо стремиться, чего-то добиваться.
Вариацию «сладкой жизни», которую ей обеспечивают
капиталы предков, она принимает как единственно
возможный вариант жизни.
Буржуазные критики нашли, что естественность
морали ББ освобождает ее от обвинений в аморализме.
Отмечая это, польский социолог К. Т. Теплиц пишет в
своей книге «Мир без греха»: «Создание такого
физического типа, основанного на принципе «чистоты
животного», повлекло за собой далеко идущие изменения в
области психологии и морали. Ведь если «животное», то и
свобода рефлексов, свойственная животному: ешь как
придется, делай что хочешь, одевайся когда вздумается.
Брижитт Бардо отказалась от традиционных покрывал,
56
кружев, сетчатых чулок: ее нагота разоружающе
естественна» К
Однако ББ не долго продержалась на троне королевы
молодежи: в начале 60-х ее героиня стала казаться
слишком «буржуазно благополучной» (Д. Осборн), сама ББ
превратилась в обычную кинозвезду, нуждающуюся в
«покрывалах, кружевах, сетчатых чулках», а в конце
десятилетия, чтобы не показаться старомодной, она
появляется на одном из приемов в кокетливом берете Бон-
ни — создании новой голливудской звезды Фей Данауэй,
изящной грабительницы банков. ББ отстала от бега
времени...
Не верно, что художники «новой волны»
ограничивались живописанием своих современников, что они
отказывались от размышлений о будущности своих героев.
У того же Шаброля — художника, в общем-то более
аполитичного, нежели Годар, Трюффо, Варда и
некоторые другие,— в «Кузенах» все время просматривается
мысль о том, что духовный вакуум, в котором живет
Поль, чреват грозной опасностью.
Памела X. Джонсон, автор публицистической книги
о преступности среди английской молодежи, пишет:
«В настоящее время в области культуры и искусства мы
скорее похожи на Веймарскую республику в пору ее
упадка, чем на просвещенное и развивающееся общество.
Что же было после Веймара?
После был Гитлер»2.
0 зловещем призраке фашизма, способном заполнить
вакуум, все время говорит в «Кузенах» и Шаброль.
Его Поль все время «шутит» — то читает немецкие
стихи, одетый в форму эсэсовца, то будит заснувшего на
вечеринке коллегу-еврея криком: «Встать! Гестапо!», то
пугает кузена Шарля пистолетом.
Нет, художники «новой волны» всегда и везде
политичны. Другое дело, что, ясно видя абсурдность мира
и смятенность людей, особенно молодежи, они редко
бывают способны дать глубокий социальный анализ
отвергаемой ими действительности и тем более предложить
какую-либо позитивную программу. Они сами мечутся
между крайностями, подобно своим героям, доходя порой
до абсурда.
1 Цит. по сб. «Мифы и реальность», Мм 1966, стр. 201.
2 «Иностранная литература», 1967, № 8, стр. 250.
57
В этом отношении особенно характерен наиболее
талантливый представитель «волны» — Жан-Люк Годар.
Он прежде всего — разрушитель; по меткому
определению одного критика, он — «безумный автоматчик»,
поливающий огнем все, что ни попадется на глаза, не
различая зачастую «своих» и «чужих», правых и
виноватых. Годар неистово отрицает все без исключения
буржуазные ценности — философские, этические,
эстетические и другие. Отрицая все, Годар, однако, ничего не
может предложить взамен.
Он дебютировал в 1960 году фильмом «На последнем
дыхании», который сегодня представляется самым
оригинальным по форме и наиболее острым по сути
рассказом о смятенной молодежи из всех, какие только были
у «новой волны». После этого Годар сделал еще полтора
десятка картин, каждый раз, в сущности, говоря все об
одном и том же — о молодежи в полном абсурда,
пороков, зла мире. Среди них есть картины тончайшего,
удивительнейшего мастерства и есть картины явно
проходные, сделанные без вдохновения, хотя и с обычной года-
ровской легкостью и изяществом. Есть нежные любовные
драмы, есть злые и умные сатирические памфлеты, есть
непостижимо путаные, можно сказать — абсолютно
безответственные, свидетельствующие об опасной для
художника неспособности разобраться в правом и
неправом политические опусы. Но при всем том «На
последнем дыхании» остается фильмом особенным: в нем
жизненные и художественные процессы периода
разлома отражены с редкостной полнотой и предельной
правдивостью.
Герой фильма Мишель (актер Жан-Поль Бельмондо)
много старше, опытнее, по-своему житейски мудрее, чем
герои Сэлинджера, Керуака, Барстоу и многих других
писателей США и Англии. Годара не интересует
проблематика подростка. Для Годара общественный конфликт,
который разлагает сегодня жизнь Запада, интересен
лишь с точки зрения главных действующих лиц драмы,
и показывает он не назревание конфликта, который еще
неизвестно чем кончится, как это мы видим, например,
у Сэлинджера, но — кульминацию, взрыв.
...Острый прищур недобрых глаз, обслюнявленная
сигарета в зубах, надвинутая на глаза шляпа, походка
и движения развинченные, но в то же время полные
скрытой силы и какой-то хищной грации. Таким предстает
58
перед нами Мишель. Мы можем лишь гадать о
предыстории Мишеля, но если предположим, что его
воспитание завершилось в грязной войне в Алжире, то,
наверное, не ошибемся. Перед нами человек, прошедший огонь
и воду.
На наших глазах Мишель ставит себя вне закона.
Похитив машину, он мчится, упоенный сумасшедшей
скоростью. Обнаружив оставленный хозяином машины
пистолет, он просто так, развлекаясь, стреляет в
мелькающие деревья и солнце. Так же бесцельно, из-за
сжигающей его агрессивности, он выстрелит в полицейского,
погнавшегося за ним, чтобы остановить его
сумасшедшую гонку.
Странно ведет себя Мишель, если подумать о
гильотине, почти неизбежно следующей за убийство ажаиа:
он скрывается и строит планы отъезда в Италию
словно бы нехотя, без всякого старания и напора, какие
были бы логичны в такой ситуации. Он все время
медлит, как будто не уверен, стоит ли, собственно говоря,
скрываться.
Годар констатирует, не давая особенных разъяснений:
Мишель агрессивен в отношении всего мира и,
соответственно, мир враждебен ему. Мишель объявил свою личную
войну обществу и стал отщепенцем. Ко времени
появления фильмов «новой волны» споры о молодежи если не
притихли, то изменились. Теперь и отцы перестали
ужасаться «аморальности» детей, признав за ними право на
«другую» жизнь. Но когда возник неизбежный вопрос о
смысле и последствиях бунта, Шаброль «Кузенами»
показал молодежь, которая временно приспособилась к
новому порядку вещей, при котором человек получает от
общества материальные блага и освобождается сам от
всяких обязательств. Поль ведь, в сущности, не бунтует
еще; он получил все, чего требовал Джеймс Дин, но,
отвергнув все старые идеалы, цели, ценности, он оказался
в пустоте. Годар в образе Мишеля показывает другую
ипостась этого же поколения — тех, кто, отвергши все, не
нашел успокоения. А киновед В. Божович, говоря о
Мишеле, справедливо отметил, что «хотя сам герой
агрессивно утверждает свое право делать что угодно, свою
независимость от каких бы то ни было норм,— сквозь этот
жесткий рисунок роли все яснее проступает иной, более
мягкий и как бы расплывающийся контур. За цинизмом
и жестокостью обнаруживается растерянность, за инди-
59
видуализмом — непреодолимая потребность связать свою
судьбу с судьбой другого человека» К
Мишель, в сущности, тоже не бунтовщик, а жертва
общества. Он не отверг общество. Это общество
отвергло его, отвергло в форме сложной, бесчеловечность
которой замаскирована. Как известно, понятие отчуждения
многозначно, и одно из проявлений его — усиление
одиночества человека, ведущее к разрушению личности.
Одиночество Мишеля и ощущение им своего
одиночества Годар обнажает настойчиво, чуть ли не в каждом
эпизоде. Прежде всего это ощущение с поразительной
силой создается съемкой ручной камерой на улицах
Парижа: Мишель включен в уличную толпу, но... толпа
сама по себе, а Мишель сам по себе, они не сливаются,
«не монтируются»; мы видим в толпе одиночку, до
которого никому нет никакого дела. Он заходит к одной из
своих знакомых — вроде бы только затем, чтобы
перехватить деньжат. Девчонке тоже нет дела до него;
переодеваясь у него на глазах, она торопливо сообщает
новости, преимущественно — о себе, о какой-то своей
удаче, позволяющей ей выступить по радио. И Мишель
уходит, обокрав девчонку. Вопрос: за деньгами ли
только приходил он?..
Затем следуют большие сцены с Патрицией
(актриса Джин Себерг)—хорошенькой американочкой,
делающей в Париже карьеру журналистки. Мишель очень
настойчив в стремлении удержать ее, уговорить уехать
с ним. Любовь? Нет, пожалуй, лишь жажда контакта,
которая привела его утром к девчонке будто бы за
деньгами. Но Патриция еще менее способна дать ему
то, что он ищет. Ей нравится этот отчаянный парень,
крадущий ключи у портье, чтобы пробраться к ней в
постель, спокойно разъезжающий на чужих машинах,
с холодным презрением ускользающий от
преследований полиции.
Но себя она любит больше. И когда агент скажет,
что ее виза на пребывание в Париже будет аннулиро-
зана, если она не поможет полиции, Патриция, позволив
себе ночь безумств и любви, утром наберет оставленный
агентом номер телефона...
Впрочем, не будем упрощать. Дело не только в том,
что Патриция испугалась угрозы, хотя есть и это. Дело
1 Сб. «Вопросы киноискусгтрл», вып. 8, M., 1964, стр. 185.
60
еще в том, что Мишель непонятен ей и потому чужд.
Ее прагматическому американскому уму, в сущности,
уму глубоко мещанскому, понять проблемы Мишеля
просто не под силу. А она приучена к жизни, в которой
все ясно и понятно, в которой на всем висит ценник с
точным обозначением — что сколько стоит, в какое
количество долларов обходится. Поэтому она не только
выдает Мишеля, но еще и освобождает себя от
непонятного и пугающего. Кстати, по ходу фильма два или
три раза она, мучительно морща лобик, вопрошает:
«Кто ты такой, Мишель?» (образ Патриции
чрезвычайно любопытен и ниже мы к нему вернемся).
Мишель, узнав от нее о предательстве, сохранит
спокойствие. Когда приедет полиция, он все-таки
сорвется и побежит, получит пулю в спину и долго еще
будет бежать посередине улицы, мимо равнодушных
прохожих, пока не рухнет замертво на асфальт. То был
бег, можно сказать, по привычке. Ибо Мишель живет
только двигаясь, мчась, что-то совершая, словно знает,
что остановка опасна для него, потому что тогда
придется многое обдумывать, многое решать. Он живет на
последнем дыхании.
А спокоен он, узнав о -предательстве Патриции, не
потому, как решили некоторые критики, что
предательство входит в его «моральный кодекс»,— нет, он
спокоен от сознания, что война кончилась, он побежден. Свою
личную войну с обществом он проиграл, утратив
последний контакт с обществом. Патриция была лишь
«соломинкой для утопавшего...»
В годы, когда происходило интеллектуальное
формирование Годара, религией творческой французской
интеллигенции, да, пожалуй, и не только французской,
был экзистенциализм, преимущественно в его сартров-
ском противоречивом истолковании. Годар—духовный
сын экзистенциализма,— об этом свидетельствуют его
статьи и первые фильмы. Тот же Мишель Пуакар
может послужить моделью для исследования
экзистенциального мифа о человеке и для демонстрации
своеобразной судьбы французского экзистенциализма,
оказавшегося в конечном счете враждебным буржуазному
обществу. Мишель живет действительно на последнем
дыхании, его состояние равнозначно экзистенциальной
пограничной ситуации; он лишен чувства причастности
к обществу, у него есть ощущения, но нет чувств; он
61
равнодушен и жесток. Мишель, разумеется, порожден
буржуазной системой взглядов, но очевидно, что таким
он оказался опасен буржуазии. Другие Мишели могут
жить, и даже становиться столпами общества, но вот
такой, воспринявший буквально все, что говорится о
свободе личности и индивидуализме, и претворивший их
в жизнь, становится уже «неудобным» и потому должен
умереть.
Мишель не придуман и даже не угадан Годаром,—
он списан с натуры. И такие, как он, встречаются не
только во Франции. Мне самому удалось увидеть и
побеседовать с американской разновидностью Мишелей. Их
называют в Америке «дикими ангелами» — по названию
нашумевшего фильма Роджера Кормана.
Калифорнийские студенты, большая часть которых находится в рядах
прогрессивного движения, говорили, если заходила речь
об этих «ангелах», не иначе как с ненавистью и
презрением; «фашиствующие» — это было почти непременным
определением. А желание советского человека
познакомиться с «ангелами» не одобряли даже при том, что
понимали законность журналистского любопытства. Но
однажды у одного из входов ЭКСПО раздался грохот
мотоциклов без глушителей и появились человек десять-
двенадцать парней и девушек, с ног до головы затянутых
в черную кожу. Обветренные, задубленные солнцем лица,
выгоревшие до белесости волосы, прищуренные глаза,—
они, надо признаться, выглядели импозантно, этакие в
самом деле «ангелы смерти», вышедшие из старого
фильма Кокто об Орфее (который, как выяснилось, они,
конечно, не видели). Нас, троих журналистов,
подошедших сделать несколько снимков, они встретили с
неприкрытым удивлением — впервые увидели «настоящих»
советских людей. И сами начали разговор,
окончившийся одиозным: «А не выпить ли нам по баночке пива?»
Поначалу нам показалось, что мы встретились с
«ангелами» не самыми отпетыми. От студентов мы
слышали, как такие бандиты на мотоциклах
набрасываются на их демонстрации, заводят драки, пуская в ход
камни и гаечные ключи, и, дав таким образом полиции
повод для вмешательства, с ее же помощью
безнаказанно исчезают. Эти заявили нам, что «политикой они не
интересуются», что им «плевать на студенческие забавы»
и что, наконец «с полицией они сами не дружат». По
видимому, так оно и есть,— не те мы были слушатели,
62
чтобы стараться о хорошем впечатлении; субъекты,
что расхаживали по выставке со свастиками на куртках,
более чем откровенно сообщали нам все, что вычитали
у Гитлера и слышали от своих доморощенных
фюреров, о коммунистах, о нас то есть.
По-видимому, о «диких ангелах» невозможно судить
по одной группке. О них и сами американцы пишут очень
по-разному: одни видят в них своего рода бунтарей,
другие — разновидность уголовного мира,
порожденного уродливой действительностью. «Ангелы» в самом
деле не раз помогали полиции в борьбе с
демонстрациями студентов и негров. В то же время полиция
относится к «ангелам» с опаской и ненавистью. У тех не очень
уж молодых парней (большинству далеко за
двадцать, а некоторым и за тридцать лет), с которыми мы
говорили, интеллектуальное ничтожество и душевная
пустота были очевидны. Конечно, короткая встреча не
может служить основой для полной характеристики, но
ощущения эти «ангелы» вызывали неприятные: такие
вряд ли помогут берклийцам, идеалы которых им
никогда не понять, а вот оказаться в рядах ударных
фашистских отрядов они могут запросто. Они были
неприятны и своей крайней неряшливостью, грубостью,
нескрываемой нравственной неопрятностью, хотя,
повторяем, они говорили с нами охотно и добродушно.
Возникало чувство, что ты говоришь не с людьми, а со
странными и опасными животными.
Кто они такие? Один лишь оказался
недоучившимся студентом, да еще одна девушка похвасталась, что
окончила какую-то драматическую школу. В основном
эти «ангелы» не осилили даже нормальной школы.
Большинство давно покинуло дом и не собирается
возвращаться, хотя кое-кто не отказывается от родительских
чеков. Ничего они не читают, даже газет, и ни черта
не знают и знать не хотят из того, что творится в мире.
Живут дружным кланом, или, точнее будет сказать,—
бандой. Исколесили на своих машинах многие Штаты,
бывали в Мексике, теперь вот прокатятся по всей
южной Канаде. Средняя скорость движения 100—120 миль.
У всех, даже у девчонок, в карманах курток складные
итальянские ножи. Есть и пара пистолетов. Впрочем,
им и без оружия нечего бояться; напротив, прибытие
«ангелов» в какой-нибудь городок заставляет бледнеть
обывателей и настораживает всю полицию в округе. «Ору-
63
жие — для контактов с коллегами»,— пояснили они нам.
У них свой неписаный моральный кодекс: «среди нас нет
богатых или бедных»; «девчонки у нас общие — любовь
запрещается»; «тот, кто проживет с нами полгода, может
рассчитывать на помощь всех, а это, знаете ли, немало»;
«мы никого не трогаем, и нам нужно только, чтобы и
нас не трогали, ну, а если кто сунет нос в наши дела,
хотя бы и полиция, то мы спуску не дадим» и т. п.
Иногда такие мелкие банды съезжаются в одно место.
«Обсуждаете свои проблемы?» — «Да нет, узнаем новости,
веселимся...» (После таких съездов полиция не раз
находила истерзанные тела девушек и юношей.)
Задаем важный для нас вопрос: «Хорошо, вам
интереснее жить на дорогах, чем в стандартных виллах,
чем ходить изо дня в день на работу, проводить вечера
у телевизоров, няньчиться с детишками,— это понятно.
Но скажите, сколько времени можно так жить?» Все
пожали плечами; они явно не хотят думать о будущем.
Один лишь (и, помнится, как раз недоучившийся
студент) ответил: «Пока не сдохнем».
На память приходит Мишель — с его вечным бегом,
одиночеством, отрицанием настоящего и отсутствием
будущего. Мишель, правда, интеллектуал и сибарит по
сравнению с «ангелами», ну, да надо и то учесть, что
он — француз.
«На последнем дыхании»... Назвав так свой фильм
о молодом человеке, обреченном на гибель, Годар дал
очень точное название состоянию части поколения 60-х
годов. То, к чему пришла именно эта молодежь, можно
назвать и краем пропасти — нужно либо погибать, либо
куда-то поворачивать, искать какой-то выход.
IV
Под знаком „А"
Подсчитано, что начиная с 3200 года до нашей эры по
1964 год на Земле было всего 392 мирных года, но зато
14 513 больших и малых войн, в которых погибло около
четырех миллиардов человек и которые обошлись людям
в 440 биллионов долларов.
В 1968 году Лондонский институт стратегических
исследований опубликовал следующую табличку:
в период 1898—1907 годов произошло 9 войн,
»
»
»
»
»
»
1908—1917
1918—1927
1928—1937
1938—1947
1948—1957
1958—1967
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
15
11
8
12
28
45
»
»
»
»
»
»
Получается, как видим, что из 128 вооруженных
конфликтов 73, или 53 процента, произошло в последние два
десятилетия. Весьма впечатляющая арифметика, особенно
если подумать, что некоторые из так называемых
локальных войн обладали всеми данными, чтобы стать искрой,
от которой мог вспыхнуть уже мировой конфликт.
Нет никаких критериев для определения вероятности
атомной войны. Когда стали известны все обстоятельства,
при которых были сброшены атомные бомбы на Хиросиму
и Нагасаки, исчезла вера в военную целесообразность
этого ужасающего преступления против человечества.
В 1965 году в Нью-Йорке вышла книга Г. Алперовца
«Атомная дипломатия: Хиросима и Потсдам», которая
покончила с выдумкой, утешавшей совесть американцев,
4 р. Соболев
65
что будто бы уничтожение почти двухсот тысяч мирных
жителей двух японских городов ускорило капитуляцию
Японии и спасло, значит, жизнь многих американских
парней. Ничего подобного! Это была бесчеловечная акция,
продиктованная исключительно политическими расчетами,
полностью к тому же провалившимися. Книга Алперовца
представляет собой, по существу, сборник документов и
цитат. Вот две из них. Генерал К. Лнмэй, командовавший
налетами Б-29 на Японию и имевший полную информацию
о положении в лагере противника: «Япония
капитулировала бы через две недели». Президент Г. Трумэн: «Если
она взорвется — а я думаю, что это так и будет,— мы
будем, безусловно, держать молоток над головами этих
парней». «Эти парни» — делегация СССР, с которой
Трумэн должен был решать судьбы мира в Потсдаме.
Психику молодежи не может не травмировать
понимание, что решение о применении «А» по-прежнему зависит
от тех же сил, которые обрекли на гибель Хиросиму.
Напоминание о возможности атомной смерти
преследует человека на Западе всюду. Для интеллектуальной
элиты об этом пишут книги профессора. Массы
просвещают массовые средства коммуникаций. Бизнесмен может
столкнуться с напоминанием в деловых бумагах,—
например, знакомясь с проспектами компании Ллойда. Ллойд
страхует от всех опасностей. В годы минувшей войны он
страховал англичан даже от самолетов-снарядов. Но от
ядерной войны Ллойд категорически отказывается
страховать.
Молодежь по-разному реагирует на военную
пропаганду в литературе и искусстве, на непрерывное напоминание
о потенциальной возможности атомного самоубийства
мира. Самой удивительной формой реакции кажется
равнодушие.
По одному из опросов в стокгольмской школе из 106
опрошенных учениц старших классов 12 заявили, что
никогда не слышали имени Гитлера; многие сказали, что
знают, но при дальнейшем опросе выяснилось, что они
считают Гитлера немецким кайзером, «каким-то
историческим деятелем» и даже... певцом. Ну, это в нейтральной
Швеции. А как обстоит дело в странах, испытавших
гитлеровское нашествие? «Гитлер?.. Такого не знаю» — так
назвал свой фильм-исследование Бертран Блийе-младший
по ответу одного из опрошенных им перед камерой
юношей Парижа середины 60-х годов. Юноша, заявивший,
G6
что никогда не слышал имени Гитлера, никаких внешних
признаков идиотизма не имеет.
Проще всего объяснить эти похожие на скверный
анекдот факты упущениями в образовании молодежи. Но
вряд ли такое объяснение будет правильным,— массовые
средства коммуникаций, обрушивающие на молодежь
поток всевозможной информации, могут превратно
толковать факты истории, но, так или иначе, дают людям
вполне достаточно сведений для ориентации в том, что
происходило и происходит вокруг. Невозможно допустить,
что молодые люди, не знающие, кто такой Гитлер, не
слушают радио, не смотрят телевидение, не ходят в кино.
И если они все же не знают, то это, скорее, какая-то
защитная реакция, намеренное нежелание знать и думать.
Может быть, это еще и усталость от постоянных, не всегда
умных и совсем редко правдивых напоминаний — в кино,
книгах, по радио и телевидению — о том, что было и что
угрожает. Еще труднее понять, чем это порождено —
уверенностью ли, что война не будет допущена, или же
чувством бессилия перед неподвластным?
Тема войны — в широком понимании — главная тема
современного искусства, и, наверное, она останется
главной до тех пор, пока не исчезнет хотя бы тень угрозы. От
размышлений над этой темой никто не уходит, даже самые
молодые художники, едва они научатся хоть сколько-
нибудь здраво смотреть на мир. Антивоенные песни
входят в репертуар англичан-битлсов, этих кумиров
молодежи 60-х годов. Француз Годар по меньшей мере трижды
делает войну темой своих фильмов. Итальянец Грегорет-
ти, рассказывая в «Новых ангелах» о юных итальянцах
середины 60-х годов, тревожится о том, что военная
подготовка корежит их психику. Это перечисление можно
продолжать долго.
В минувшее десятилетие изменился характер лучших
произведений о минувшей войне. Если сразу после войны
в литературе и кино преобладали рассказы, похожие на
воспоминания очевидцев, в которых, как во всех
воспоминаниях ветеранов, подспудно присутствовало удивление
собственным мужеством и желание удивить других, то в
60-х годах на экран пошли фильмы-раздумья и фильмы-
исследования. Это закономерное изменение. Вторая
мировая война сопровождалась самыми мрачными
преступлениями в истории человечества. Психика людей оказалась
тяжело травмированной астрономическими цифрами уби-
4·
67
тых, замученных в фашистских лагерях, погибших от
лишений и болезней — этих неизменных спутников каждой
войны. Но дело даже не в числе погибших! Страшнее
духовное растление — следствие таких фактов, как
создание гетто, фабрик смерти, мертвых зон в Европе XX века.
Страшнее знание о том, что целая нация, давшая миру
величайших поэтов, музыкантов, ученых, философов, вдруг
смогла сойти с ума. Вторая мировая война не только
убила десятки миллионов человек, она отравила многих
оставшихся в живых сомнениями и скепсисом. Возникла
настоятельная необходимость разобраться во многих
непростых вопросах.
Например, что лежало в основе нацистской системы
уничтожения целых народов?
Это не риторический вопрос и не исторический. Мы
знаем, что жестокость составляет неотъемлемую черту
капитализма,— это истина из тех, что не требует
доказательств,— достаточно вспомнить, как англичане покоряли
Индию, как были уничтожены американские индейцы, как
белые колонисты расправлялись с черными и желтыми
рабами. Но никакие аналогии не подходят к тому, что
делали фашисты в период своего господства в Европе.
Фильмы, смонтированные из кинодокументов прошлых
лет — прежде всего «Майн кампф» Эрвина Лейзера и
«Жизнь Адольфа Гитлера» Пола Рота,— многое
прояснили в этом «проклятом» вопросе, показав обстановку
в Германии накануне прихода фашистов к власти, заговор
монополий, предательскую роль вождей
социал-демократии, значение реваншистской пропаганды и т. д. Но, может
быть, наиболее точное и гениально краткое объяснение
нашел польский поэт Тадеуш Боровский, сам прошедший
преисподнюю Освенцима, но это объяснение своей
простотой рождает не успокоение, обычно следующее за
пониманием, а новый ужас. Целесообразность — вот найденное
им слово, объясняющее очень многое. Целесообразно
было для нации — допустить фашистов к власти,
расстреливать мирных жителей и сжигать евреев, грабить
оккупированные страны...
Документальные книги и фильмы о третьем рейхе
свидетельствуют об очевидной ничтожности фашистских
главарей. Гитлер и его приспешники были на редкость
обыденными людьми, мелкими, необразованными, с
дурным вкусом, с ограниченным кругозором. Не трудно
представить на их месте других таких же ничем не примеча-
68
тельных обывателей. Делающих то же самое. Эта
«взаимозаменяемость» тоже довольно жутковата, и она
порождает новые вопросы.
Добро бы, если бы все это принадлежало только
истории. Но хотя ситуация в Западной Германии сегодня
в корне отличается от той обстановки, которая сложилась
к концу 20-х годов, там зачастую звучат прежние речи.
И далеко не все немцы осознают, что произошло в мире.
Западнонемецкие журналисты признают, что после
второй мировой войны в ФРГ и Западном Берлине было
создано несколько десятков кинобоевиков, прославляющих
солдат фюрера и «боевой подвиг нации»,— думается, что
таких фильмов создано много больше.
Впрочем, не о них здесь речь. Нам представляется куда
более печальным факт, что в ФРГ даже некоторые
объективно честные художники, убежденные в том, что они
выступают против неонацистов и развенчивают память о
времени владычества фашистов над большей частью
Европы, избегают зачастую суждений о вине — не только
фашистов, но и фермеров, и обывателей, и интеллигентов,
и части рабочих.
Фильм «Мост» (в советском прокате — «Тяжелая
расплата») одаренного режиссера Бернгарда Викки — пример
того, как можно яростно осудить античеловечность и
абсурдность войны, но ни слова при этом не сказать о
характере ее. Этот фильм по-разному смотрели в разных
странах. Советские зрители восприняли его как рассказ о
закономерной гибели воспитанных гитлерюгендом
молодых людей. Они не виноваты, что их такими сделали?
А это по какому счету считать...
Весь мир знает кадры: Гитлер собственноручно вешает
на шеи мальчишкам — одному из них лет двенадцать, не
более — рыцарские кресты. Это последняя киносъемка
Гитлера,— уже полупарализованного, отечного,
похожего на живого мертвеца. Мало кто задается вопросом —
за что мальчишки получили награды, которых не имели
даже многие боевые генералы? За сожженные
фаустпатронами советские танки. И если это были Т-34,
значит— четыре советских парня на каждую машину.
Четыре жизни, прерванные самым мучительным образом.
Вот и давайте считать — по счету погибших парней из
Москвы или Новосибирска, Чернигова или Ташкента, их
матерей и вдов. Ни мертвые, ни живые не потребуют
библейской расплаты «око за око», но истины в истолко-
69
вании фактов — требуют. По этому счету представляется
надуманным, «книжным» кадр из интересного в целом
фильма Алова и Наумова «Мир входящему» — кадр, в
котором измученный, потерявший семью солдат Ямщиков
сечет ремнем обезоруженного им немецкого
юношу-солдата. Мы вспоминаем советский фильм потому, что в нем
пацифистский подход к проблеме вины, подход, обычный
для западного искусства, неожиданно получил наиболее
четкое выражение. Солдаты, подобные Ямщикову,
понимали, что таких мальчишек надо и можно перевоспитать,
но... сначала оружием (ремень — не довод против
автомата или фауст-патрона). А потом вправе потребовать от них
осознания того, что привело Германию к Бабьему Яру и
Освенциму? Почему эта страна стала пугалом? Как
случилось, что за кучкой очень заурядных прохвостов пошла
нация? И почему ни один из мальчишек, погибших на
мосту Викки, не услышал дома ни слова о том, что их
патриотизм — совсем не патриотизм, а, напротив, тяжкое
преступление против человечности?
История зло подшутила над обычной человеческой
верой в то, что зло всегда наказывается, а добродетель
торжествует, и над тем, что победителей не судят. ФРГ
раньше, чем многие страны-союзники, восстановила свой
промышленный потенциал, достигла высокого жизненного
уровня. Неприятное впечатление производят в некоторых
европейских странах туристы из ФРГ — на новеньких
машинах, с марками, уважаемыми почти так же, как и
доллары, хорошо кормленные и одетые, нагловатые,
уверенные в своем превосходстве над всеми. Наплевать,
например, югославам на то, что именно вскормило это
«чудо»: план Маршалла, или спрятанные по всему миру,
но преимущественно в швейцарских банках, награбленные
во время войны сокровища, или, как нахально
утверждают западнонемецкие пропагандисты, исключительно
умелость рабочих и организаторские таланты
промышленников,— в конечном счете ничего не меняется. Западная
Германия, принесшая смерть, горе, нищету сотням
миллионов людей, отделалась легким испугом и
минимальными репарациями, стимулировавшими развитие
промышленности, но ничуть не задевшими материальные интересы
немецких монополий.
Было бы безумием требовать, чтобы победители
искусственно и насильственными мерами задерживали
развитие Германии на уровне наиболее бедных из разорен-
70
ных гитлеровцами стран. Народ этих стран, лежащих к
востоку и юго-востоку от Германии, в отличие от очень
и очень многих немцев, убежденно считает, что
случившегося— не вернешь, сделанного — не переделаешь и
теперь время — жить, не мешая друг другу. Но на Западе
все должны знать, что ничего не забыто.
Мне довелось однажды долго объясняться со старым
польским офицером, убежденным, что «только Бог спас
Польшу», и крепко не любящим всех коммунистов,
особенно русских. Осколок невозвратной панской Польши,
этот человек многое очевидное отрицал априорно, не
слушая никаких резонов,— знакомое дело, так же отрицают
все советское некоторые русские белоэмигранты даже
после пятидесяти лет Советской власти. Но все
изменилось, едва речь зашла о ФРГ. Этот бывший улан
произнес весьма любопытную фразу: «Если Германия снова
что-нибудь начнет — бросайте на нее свои атомные
бомбы, не раздумывая, и Бог будет за вас». Потом он мне
рассказал, как на его глазах был подготовлен к
расстрелу в1944 году его сын: немец велел ему открыть рот
пошире и, зачерпнув в ведре горсть гипса, замазал рот;
потом его и других людей с забитыми гипсом глотками
погрузили на машину и увезли куда-то в центр Варшавы,
где накануне был убит гестаповец.
В серии Нюрнбергских судебных процессов над
главными военными преступниками с большой полнотой
выразилась международная юридическая точка зрения
на существо проблемы ответственности за войну и
военные преступления. Защита, резонно считая, что нельзя
судить всю немецкую нацию, называла главарей режима
«слугами народа», а их подручных — только
«исполнителями приказов», тем самым снимая с них всех
ответственность. В отношении Геринга, Кейтеля, Риббентропа
и других главных преступников казуистика защиты была
столь очевидна, что никаких моральных или
юридических проблем не возникало. На скамье подсудимых
сидели организаторы заговора, повинные в уничтожении
десятков миллионов людей. Но в отношении
«исполнителей» проблема возникла, ибо в самом деле каждый
немец—начиная с генералов и кончая последним
позеленевшим от старости фольксштурмистом — действовал
по приказу. Военный трибунал, как известно, выдвинул
против защиты принцип «морального выбора». Каждый
человек обязан выбирать, получая преступный приказ:
71
выполнить приказ или, пусть в ущерб себе, отказаться от
его исполнения,— это вопрос совести каждого, начиная
с генералов и кончая последним фольксштурмистом.
Этот принцип «морального выбора» оказался страшен
для многих. И он, этот принцип, раз выдвинутый,
определяет жизнь человечества — ныне и назсегда.
Умный фильм Эбби Манна и Стэнли Креймера
«Нюрнбергский процесс» ставит и решает эту проблему в
широком философском плане. «Перед судом в этом зале
находится вся наша цивилизация»,— резюмирует судья
Хейвуд (актер Спенсер Трэси) результаты долгого
разбирательства вины нацистских судей. Леон Кручковский
и сделанный по его пьесе фильм «Первый день свободы»
низводят проблему до разбирательства судьбы
молоденькой немочки из заштатного городка и — подводят
зрителя к тому же философскому выводу. Напомним
вкратце суть фильма:
...В маленьком городке, только что покинутом
фашистами, остановилась группа польских офицеров,
возвращающихся домой из концлагеря. Идет последняя ночь
войны, наступает первый день свободы! После пяти лет
заключения непросто войти в открывшийся мир, решить
вставшие проблемы. Нельзя даже при желании начать
жизнь с той точки, на которой она прервалась. Жизнь
требует от каждого решения вопроса — об
ответственности немцев, о мере и характере возмездия, о
недопустимости повторения ошибок и бессмысленности мести по
принципу «око за око».
При рассмотрении каждое решение оказывается
паллиативным: и те, кто, подобно Каролю (актер Р. Клосов-
ский), требует заставить испытать немцев все, что они
творили в захваченных странах, и те, кто, подобно Яну
(актер Т. Ломницкий), отрицает возмездие и полагает,
что лишь гуманность может вернуть немцев
человечеству,— все оказываются равно далеки от истины. Тем
более что и немцы-то разные и ищут «справедливости»
по-разному.
Доктор Роде (актер Т. Фиевский) остается с семьей
в фронтовом городе потому, что в округе не осталось ни
одного врача. Он не похож на героя: маленький,
старенький, суетливый, но его «моральный выбор» —
продиктован ли он старинными идеалами врачебной этики или
же соображениями об обязанности немцев «платить по
счету» — достоин уважения. Его младшая дочь Люцци
72
(актриса Э. Чижевская) естественно и просто входит в
новую действительность, ибо не видит за собой вины, не
чувствует себя связанной с судьбой гибнущего режима.
Старый Роде и юная Люцци — представители двух очень
разных слоев народа, решающих проблему будущего
Германии одинаково решительно и позитивно.
Иначе обстоит дело с Ингой (актриса Б.
Тышкевич), старшей дочерью Роде. Изнасилованная бредущими
с каторги, опустившимися от голода и нечеловеческого
образа жизни иностранными рабочими, она такая же
жертва войны, как изнасилованные гитлеровской
солдатней украинки или гречанки. Для насилия не может быть
оправдания! Но образ Инги несет большую смысловую
нагрузку, нежели только раздумья о трагизме невинных
жертв во время военной бури. Надо думать, что если бы
авторов интересовала лишь история исковерканной
жизни, то они стали бы искать героиню по другую сторону
фронта. Инга — представительница также определенного
социального слоя немецкого народа: пассивного,
несчастливого в своей судьбе до жалости и тем не менее
несущего тяжкую ответственность за многое, что
произошло в 30-е и 40-е годы в Европе. Пассивное приятие
всего, что несет жизнь, оборачивается в конечном счете
преступлением — вот суть современной морали,
осуждающей таких, как Инга.
В покинутом немцами городе Инга остается лишь
потому, что остался отец. Ей не понятны ни гуманизм
отца, ни естественность сестры. И когда Роде готовит на
всякий случай медикаменты, а Люцци бродит где-то в
поисках съестного, эта красивая, с заносчивым лицом
невеста гитлеровского офицера безвольно клянет
судьбу. Она не способна к «моральному выбору», потому что
не желает видеть неправедности своего
привилегированного прошлого и не видит ничего в будущем, кроме
пугающего ее возмездия.
Можно представить, что Инга ушла на Запад, не
встретилась с озверевшими рабочими, отсиделась в
трудное послевоенное время,— что тогда стало с нею?
Наверное, холеные дамы с холодными глазами,
приезжающие на Черное море,— это и есть инги, ничего не
понявшие и ничему не научившиеся.
Но Ингу — Тышкевич жизнь вплотную поставила
перед выбором. Несдающаяся немецкая воинская часть
врывается в городок. Жених Инги укрылся на колоколь-
73
не с пулеметом. Он зовет ее, и она бежит, потом ложится
за пулемет и погибает, убивая поляков. Она мстит за
себя? О нет! Она бежит потому, что это — приказ, это
освобождает ее от размышлений и выбора.
Для Яна, прервавшего автоматной очередью жизнь
этого заблудившегося человека, смерть Инги —личная
трагедия. В ее смерти есть логика истории, столь же
актуальная сегодня, как и четверть века назад: человек,
не определивший своего места в борьбе и не
осознавший своей личной ответственности,— лишний. Это
жестокая логика, и Ян, верящий только в человеческий разум
и благородство человеческих чувств, оказывается перед
этой жестокостью таким же безоружным, как и Инга.
Фильм кончается нотой растерянности. Правда Каро-
ля и правда Яна —не правда. Решение —за немцами,
они сами должны сделать «моральный выбор».
Победители бессильны объяснить, а тем более — научить
побежденных, как жить. В этих истинах много бесспорного.
Однако «Первый день свободы» вышел на экраны в 1966
году, и эти истины плохо наложились на то, что
происходило в ФРГ в 60-х годах.
Интересно, поймут ли когда-нибудь люди на Западе,
как много значило для сохранения мира в Европе то,
что Советский Союз ни на миг не ослаблял
внимательного наблюдения за всем, что происходило за Эльбой?
Но после поражения Германии прошло четверть века,
и, может быть, новые поколения — это Люцци, спокойно
откинувшие грехи отцов, за которые они, конечно же, не
ответчицы, и естественно и просто принявшие новую
действительность? Кинематографисты ФРГ, ГДР,
Польши, Франции и Чехословакии не раз касались этой темы,
сталкивая молодых немцев с детьми жертв фашизма,
показывая их во время посещения воинских кладбищ,
концлагерей и других мест злодеяний нацистов, неизменно
акцентируя при этом, что нынешняя немецкая молодежь
никакого отношения к этому прошлому не имеет,
подчеркивая, что молодые немцы, чехи, поляки и т. д. быстро
и отлично находят общий язык. Это очень, конечно,
хорошо, это очень нужные фильмы. Есть, однако, одно «но»...
Леон Жанно показал в конце 1966 года не слишком
удачный по исполнению, но любопытный по замыслу
фильм «Бумеранг». Курт (актер Г. Малих), приехавший
в Польшу из ФРГ как турист, встречает ту
единственную, которую ищет каждый юноша, и сталкивается с не-
74
принимаемой им неприязнью поляков к немцам,
задевающей его и лично, ибо отец его Евы — инвалид войны.
Следы зверств фашистов, встречающиеся в Польше на
каждом шагу, посещение Освенцима, этого самого
трагического музея в мире, потрясают Курта. Как бумеранг,
прошлое возвращается, ударяя по их любви с Евой.
Сюжет, как видим, не столь уж оригинален. Необычно
объяснение силы удара «бумеранга»: Курт ничего не знал о
том, что происходило в Европе в 1939—1945 годах. Он
не отвечает за те годы, но он не прав, полагая, что
прошлое— в прошлом и сегодня нужно забыть его. Ева
(актриса Б. Брыльска), быть может, и не знает афоризма
Сантаяны: «Кто не помнит прошлого, тот повторяет
ошибки», но, при всей любви к этому стройному
блондину, она не может не заставить его всмотреться в
прошлое, как бы ни были тяжки последствия...
При демонстрации на зарубежных экранах ни один
советский фильм не вызывал таких разных суждений,
как «Обыкновенный фашизм» М. Ромма. Многим
американцам он впервые рассказал правду о фашизме. Нельзя
сказать, что американские художники не знакомят своих
читателей и зрителей с историей Европы последнего
времени. Но правдивые и глубокие по мысли произведения,
подобные «Нюрнбергскому процессу» Э. Манна и С. Крей-
мера, «Победителям» К. Формана или «Молодым львам»
А. Дмитрыка (по одноименному роману Ирвина Шоу,
переведенному и на русский),— большая
редкость,исключение из правил. Даже произведения вроде «Великого
побега» Джона Старджеса, прославляющего храбрость
американских и английских летчиков, живущих в
великолепнейшем и уютном лагере для военнопленных, и
осмеивающего бесконечную глупость их охранников,— не
очень часты. Правилом являются фильмы и телевизионные
передачи, показывающие вермахт как достойных и даже
рыцарских противников, а всю вину за жестокости
возлагающие на выродков-эсэсовцев. Эта мысль, кстати,
проведена и Старджесом: когда побег сорвался, то для
расправы над летчиками прибыли эсэсовцы.
Естественно поэтому, что роммовский фильм,
смонтированный из документов, потрясал на ЭКСПО-67
благополучных американцев. Однажды в киноаппаратную
поднялись два парня из Гарвардского университета и
возмущенно спросили советских механиков: «Почему вы
не продали США эту картину?» Получив разъяснение,
75
они растерянно поминали «каких-то своих идиотов». Не
раз приходилось подтверждать, что действительно это
документальный фильм, в нем нет ни одного кадра
«сделанного». Иногда приходилось слышать полные
ненависти замечания о «пропаганде»,— ничего удивительного,
в Канаде и США скрылось от возмездия немало
военных преступников всех национальностей. А однажды для
спора подошел молодой немец...
Он был очень хорош собой: по росту, ширине плеч,
волевому лицу, цвету волос — настоящий эталон «арийца».
И, наверное, хорошо образован: учился в Боннском
университете, окончил учебу — в Калифорнийском. Но
спора не получилось, к его разочарованию. Нам не о чем
было с ним спорить, едва мы услышали его посыл: «Такие
фильмы, как «Обыкновенный фашизм», служат не делу
мира, а разжиганию вражды».
Как ни оценивай фильм Ромма, но одно в нем
бесспорно— тревога за людей, предупреждение о недопустимости
повторения ошибок. И фильм этот вышел в момент
оживления неонацистских сил. Перед ФРГ, конечно, лежат
разные пути, но на опасность ее движения по старому
пути указывал не только советский кинорежиссер, но,
например, и философ Карл Ясперс, книга которого «Куда
движется ФРГ?» появилась почти одновременно с
фильмом.
В последние годы какие-то процессы начались и среди
немецкой молодежи. Лето 1967 года было в Западном
Берлине и ФРГ не менее «жарким», чем в США.
Сопротивляясь принятию «чрезвычайных законов», как две
капли воды похожих на фашистское законодательство,
студенты вышли на улицы, начали захватывать
университеты, вступать в схватки с полицией. Молодежь
профсоюзов Вестфалии потребовала признания ГДР. Молодежь
социал-демократической партии на своем съезде в
декабре того же года выдвинула требование — признать
границы по Одеру — Нейсе. Это было неожиданно, ибо
немецкая молодежь славилась своим «благоразумием».
Конечно, этот студенческий мятеж против
консервативных сил ФРГ нельзя переоценивать. Социалистический
союз немецких студентов, который считают главной
протестантской силой, включает лишь 1 процент общего
числа студентов ФРГ. Кроме того, по данным одного
французского журнала, движение студентов в ФРГ встречает
общее сопротивление. «Студенты обращались и к рабо-
7G
чим, и к профсоюзам, призывая их к проведению
забастовки. Эти усилия почти не имели успеха»,— сообщил
тогда журнал «Аннеполитик э экономик». И далее: «Из
опросов, проведенных после пасхальных демонстраций,
следует, что 90% населения осуждают действия левых
студентов (чем старше по возрасту были опрашиваемые,
тем резче было их осуждение)».
Совершенно очевидно, однако, что проблема ФРГ
никогда не имела бы той остроты, какую она приобрела, если
бы за нею не стояла военная мощь США.
До Хиросимы можно было, подсчитывая число войн
на Земле, играть мрачными парадоксами вроде того, что
мир «сохраняется лишь благодаря постоянному
разрушению самого себя» (Шопенгауэр). После Хиросимы
возможность «творческого конца света», которого требовал
некогда другой реакционный философ, стала реальностью.
Наивный вопрос: почему «бешеные» в США или
всякого рода недоноски в ФРГ бряцают оружием, будучи
осведомленными, что «А» (как стали обозначать
атомное оружие даже в словарях) может закономерно
сделать начало новой большой войны элементарным концом
человеческой истории? Наивен в своей простоте и ответ:
потому что сегодняшнее устройство мира подводит людей
к определенному виду сумасшествия. Используя
выражение Стендаля, можно констатировать, что взгляды
поджигателей «нельзя исправить разумом, так как они
порождены выгодой» К Можно подумать, что ничего не
изменилось со времен Стендаля. В начале 1968 года
весь мир обошли сообщения о секретном докладе
американских ученых, подготовленном ими для
правительства на основе всех данных, какие только можно собрать.
Выводы комиссии: сохранить свой нынешний социальный
строй и экономическую устойчивость США могут лишь
при сохранении угрозы мировой войны и всех
вытекающих отсюда последствий — высокого военного бюджета,
военных авантюр в разных концах света, полицейских
функций, с помощью глобальной сети военных баз и т. д.
Если же, предупреждают ученые, наступит всеобщий
мир, то нужно будет держать людей в страхе перед
выдуманными опасностями, например — перед опасностью
вторжения врагов из космоса.
1 Стендаль, Собрание сочинений в 15-ти томах, т. 7, М., 1959,
стр. 299.
77
Роль Соединенных Штатов определяют и иначе.
Так, французский журналист Пьер-Шарль Пате писал
(заметим, до того еще, как прозвучали выстрелы в
Мартина Л. Кинга и Роберта Кеннеди, как запылали
американские гетто, до побоища в Чикаго и многих других
событий последних лет), что «со времени последней
войны на наших глазах сформировался неофашизм мировых
масштабов, причем мы не отдавали себе отчета в этом:
речь идет об американской системе... Американская
система направлена на обеспечение господства одного
мирового класса, американской белой нации, над остальным
миром»1. В конце 1968 года западнонемецкий журнал
«Шпигель» вышел с сенсационной обложкой — свастика
и крупная надпись: «Фашизм в США»2. В статье,
помещенной в этом номере, не без иронии рассказывалось о
фашистских организациях в Америке.
Получается заколдованный круг, чудовищный именно
тем, что в его пределах не остается места разуму...
Разум... Разум и совесть народов — это, очевидно,
самое страшное сегодня для реакции. На затемнение
разума направлена вся мощь пропагандистского аппарата
США, ФРГ, Англии. Именно к разуму людей
обращаются сегодня чаще всего художники.
Именно такой — обращенный прежде всего к
разуму— фильм «Далеко от Вьетнама», один из самых
удивительных документальных фильмов последних лет.
Прежде чем пойти по экранам мира, этот фильм
встретился с американским зрителем — в сентябре 1967
года на традиционном кинофестивале в нью-йоркском
Линкольновском центре. Фильм является своебразным
обвинительным документом против американской
военщины. Спустя восемь месяцев критики и журналисты в
Соединенных Штатах продолжали писать и спорить о
фильме. Писали, конечно, разное. В одном и том же
номере «Фильм куотерли»3 один обозреватель утверждает,
что «Далеко от Вьетнама» —«чрезвычайно крепко
сделанный и убедительный фильм», а другой доказывает
(буквально на следующей странице), что перед нами
произведение и «одностороннее», и «неубедительное», и
«неуклюжее».
1 «Evenman», 1966, N 12.
2 «Der Spiegel», 1968, Ν 54.
3 «Film Quarterly», Winter, 1967/68.
78
Надо признать, что этот фильм вызвал бы споры
даже в том случае, если бы рассматривал не острейшую
международную проблему наших дней, а говорил бы о
самых что ни на есть безличных вещах. Дело в том, что
сделан он коллективными усилиями выдающихся, но
чрезвычайно разных по творческой манере, по
мироощущению и жизненному опыту художников — Иорисом
Ивенсом, Аленом Рене, Жан-Люком Годаром, Уильямом
Клейном, Аньес Варда и Клодом Лелюшем. Редактором
н монтажером был Крис Маркер, вклад которого
неоценим, ибо именно ему удалось собрать воедино почти
двадцать разнородных эпизодов и получить фильм
удивляющий, ни с чем не сравнимый и, пожалуй,
неповторимый.
Первый вопрос, возникающий на просмотре «Далеко
от Вьетнама»: что собрало «под одной крышей»
ветерана борьбы за свободу человечества, свидетеля и
участника едва ли не всех революций последних трех бурных
десятилетий Ивенса и рафинированного эстета Лелюша,
страстного искателя истин Рене и взбалмошного,
мечущегося в крайностях Годара, увлекающегося
формальными поисками и отдающего предпочтение жанру
сатиры и гротеска Клейна и склонную к углублениям в
психологические сложности Варда? В ответах на этот
вопрос критики разного толка на редкость единодушны:
авторы ощущали сильнейшее желание поднять свой
голос и что-то сделать в защиту Вьетнама; естественно,
что для них словом и делом мог быть только фильм.
Ивенс привез в это время в Париж первые метры
пленки из Северного Вьетнама. Варда и Клейн снимали в
Нью-Йорке демонстрации сторонников мира и
контрдемонстрации «ястребов». У Лелюша кое-что оставалось
от фильма «Жить, чтобы жить», некоторые сцены
которого снимались в Южном Вьетнаме. Рене и Годар,
собиравшийся к длительному лекционному турне по
Штатам, ничего не могли предложить,— кроме, правда,
своего таланта, громких имен и авторитета. В общем же
никто из них не мог до поры до времени приняться за
работу над авторским фильмом о Вьетнаме. А между
тем время торопило, события в мире не позволяли
слишком медлить.
Фильм начинается с четких, ярких, как всегда у
Лелюша, кадров разгрузки американских авиабомб и
ракет, называемых «воздух — земля». Страшные, самые
79
совершенные средства убийства. Показывая их, Лелюш
(за кадром) говорит об их безумно высокой стоимости
и тут же добавляет: «Но нация, насчитывающая 200
миллионов человек, которые тратят ежедневно на
оберточную бумагу больше средств, чем 400 миллионов индусов
на питание, может себе это позволить». Потом будут
кадры, снятые на авианосце,— десятки «фантомов» и
«сейбров» со складывающимися крыльями, рослые «ами»
прикрепляют к ним бомбы и ракеты, и самолеты один
за другим, провожаемые взмахами радаров, улетают
в сторону Ханоя. Что, казалось бы, может противостоять
этой силе, мощи, всеобъемлющей технике?..
Люди, отвечает Ивенс. Он почти не показывает
оружие вьетнамцев,— лишь изредка мелькают кадры
зенитных пулеметов, но вместе с ними, кстати, возникает и
короткий, но врезающийся в память кадр солдата с
доисторическим копьем в руке. Ивенс внимательно, остро,
тактично наблюдает за людьми Вьетнама. Он не
показывает ни признанных героев, ни руководителей
борьбы— только народ, народ на войне. Хрупкие, изящные
девушки лепят из цемента полутораметровые трубы —
потом, вкопанные на улицах Ханоя, эти трубы станут
индивидуальными бомбоубежищами, и при звуках сирен,
оповещающих о приближении «фантомов», женщины с
детьми, старики, киоскеры будут сидеть в них, спокойно
поглядывая в небо.
Крестьяне с деловитой сноровкой собирают на
рисовых полях урожай смерти — придуманные
американцами специально для Вьетнама шариковые бомбы,
похожие на мячики. Подлое оружие: каждый такой мячик
начинен, как гранат зернами, шрапнелью, безвредной
для современной механизированной армии, но
уничтожающей и калечащей мирных людей. Артисты прямо на
деревенской улице разыгрывают несложное
представление на темы дня, и молодая женщина, неумело
изображающая президента Джонсона, под общий смех
зрителей вертится под градом обвинений.
Ивенс не показывает ничего необыкновенного, но —
таково волшебство его искусства! — серия бытовых на
первый* взгляд эпизодов складывается в обобщенный
образ народа-героя, который нельзя ни победить, ни
запугать. О другом итоге этих кадров один из критиков
«Фильм куотерли» Макс Козлофф пишет: «Все эти
рассыпанные короткие эпизоды вместе с «новинками» на
80
Таймс-сквер — изображениями Джонсона и Бетмена в
окнах магазинов — служат развенчанию «фантомов»,
«сейбров» и «тандерчифов». Никакая фантазия не может
быть более невероятной, чем эти живые картины,
которые Крис Маркер без всякого усилия организует как
спонтанные проявления мирового крушения
американского престижа».
Но это фильм прежде всего о том, что происходило
«далеко от Вьетнама», съемки Лелюша и Ивенса лишь
обосновывают и определяют накал страстей
происходящего. Дальше всего, географически, от Вьетнама сама
Америка, но она тоже — как показывают Варда, Клейн
и Маркер — превратилась в поле сражения. Студенты,
интеллигенция, все честные люди Америки сражаются
с реакцией — и за прекращение агрессии во Вьетнаме и
за свое будущее. Осенью 1966 года, когда снимались
демонстрации в Нью-Йорке, 70 процентов американцев
высказывалось в поддержку авантюристического курса
Джонсона, через год соотношение голосов стало
обратным— лишь 30 процентов американцев стали
безоговорочно поддерживать политику безудержной к
бесперспективной эскалации,— таков итог этой борьбы. Эту
арифметику Гэллопа стоит вспомнить, чтобы понять
честность авторов фильма и глубину мужества
молодежи, выступившей против течения, начавшей свою
борьбу в почти безнадежных условиях.
...Демонстрация в поддержку и демонстрация
против правительства, войны, Америки, вызывающей у
мира презрение, а подчас и страх. Эти эпизоды самые
длинные и многозначные в фильме. Их перемежают
поразительные по остроте интервью, съемки на улицах,
выступление генерала Уэстморленда по телевидению.
Тогдашний главнокомандующий требует от нации
«напрячь усилия во имя победы над коммунизмом». Его
изображение намеренно плохо отрегулировано, краски
ядовито-резкие, все чудовищно нереально,— Клейн чисто
формальными средствами получает образ химерический,
античеловеческий. Варда, напротив, проводит интервью
с вдовой квакера Нормана Моррисона безыскусственным
способом синема-верите, чтобы показать другой полюс
Америки. Почти неподвижная камера слушает грустную
женщину, время от времени присматривающую за двумя
маленькими детьми. Женщина рассказывает, как ее муж,
не видя иного средства выразить свой протест и вско-
81
лыхнуть общественное мнение, пошел к Пентагону,
облил бензином и сжег себя...
Популярному Тому Пакстону легко собрать толпу:
на первые же звуки его банджо люди сбегаются, и он
поет им сатирическую балладу о двуличии Линдона
Джонсона. А пожилой безымянный еврей, чтобы собрать
слушателей, выходит с внуком на тротуар и надсадно
кричит нечто бессвязное, изображая не то экстаз, не то
безумие. Когда зеваки собираются, он вдруг трезво и
логично начинает им говорить о преступности войны во
Вьетнаме, об опасности ее перерастания в войну
мировую...
Все эти и многие другие эпизоды — своего рода
«крупные планы» и комментарии к центральным сценам
демонстраций. Первая, официальная, представляет
зрелище праздничное и впечатляющее. Идут голоногие
девушки во главе с красотками-маржоретками. Идут
спесивые ветераны прошлых войн. Идут мордастые морские
пехотинцы, цепко и угрожающе держа в руках
автоматы. Идут с достоинством, не поворачивая голов к
приветствующим их толпам, чиновники и деловые люди. Их
очень много — этих «лояльных американцев», среди них
немало негров, встречаются и женщины с детьми.
Контрдемонстрация противников войны лишена
какой-либо презентабельности. Под взглядами
настороженной полиции, под крики хулиганов: «Предатели!» идут
тесно, чтобы ощущать локоть соседа, очень простые,
обыденно одетые люди. У многих в руках самодельные
транспаранты: «Нет войне!», «Мистер Джонсон, вы
позорите Америку!», «Верните наших парней из
Вьетнама!» Преобладает молодежь, но много и пожилых
людей, очень много женщин. Распоряжаются движением
колонн юноши и девушки — вряд ли старше двадцати
лет. Внимание* привлекают лица — интеллигентные и
одухотворенные, резко контрастирующие с тупыми и
жестокими по большей части лицами «лояльных».
«Далеко от Вьетнама» — фильм больших и малых
неожиданностей, здесь никогда не угадаешь, что увидишь
в следующий момент. И это отнюдь не «односторонний»
фильм. Если Фидель Кастро —он показан идущим по
полям, окруженный соратниками, с карабином за
плечами—говорит о Соединенных Штатах как о
международном жандарме, пытающемся подавлять народные
революции во всем мире, то интеллектуал, показанный
82
Рене, представляет тот нередкий на Западе сорт людей,
которые отказываются принять безоговорочно одну
какую-нибудь сторону. Он показан монотонно шагающим
по своей студии и произносящим монолог, обращенный
к молодой женщине, молча сидящей в уголке дивана.
Он говорит, что Франция не имеет сильной позиции для
обвинения США в неоколониализме, что люди за болью
от резни во Вьетнаме забывают об уничтожении тысяч
курдов и африканцев, отмечает тот развращающий
фактор, что «вьетнамская война стала первой войной, в
которой все участвуют благодаря телевидению как
зрители...» и т. д. На его столе лежит книга Германа Кана о
теории войн, о которой он говорит с отвращением. Его
собственная позиция безусловно антивоенная, но он
допускает как будто и иное отношение. «Как будто» не
более чем прием. Критик Уильям Джонсон заметил: «Это
сделано так, как будто Рене хочет оспорить свою
собственную осуждающую точку зрения на роль США во
Вьетнаме...» Оспорить невозможно, хотя здесь
объективно рассматриваются все «за» и «против». Эпизод Рене
органично входит в ткань фильма, будучи освещен
интервью Кастро, и в свою очередь помогает зрителю
понять кое-кого из нью-йоркских демонстрантов.
Годар в своем эпизоде выступает сам. Он тоже
произносит монолог, являющийся разговором с собственной
совестью. В кадре все время он один, приникший к
видоискателю камеры, которая, несмотря на время от
времени вспыхивающие софиты, ничего и никого не снимает.
Лишь однажды мелькнет изображение Анны Вяземской
из его последнего фильма «Китаянка» — момент перед
«атакой» игрушечного самолета со знаками
американских военно-воздушных сил.
Семь лет назад, отвечая критикам его пацифистского
и уклончиво-двойственного по характеристике войны в
Алжире фильма «Маленький солдат», Годар
огрызнулся: «У наших отцов была война в Испании». Монолог
Годара 1967 года, как ничто другое, свидетельствует, что
как в 30-е годы Испанская война, так сегодня война во
Вьетнаме стала мерилом совести для каждого
художника, интеллигента, для каждого честного человека на
Западе.
Годар говорит, что он хотел поехать в Ханой, чтобы
снять там фильм, но не получил визы. Это не обижает
и не удивляет его — он понимает, что не все могут при-
83
нимать его. Но «я создал Вьетнам внутри себя», говорит
он. Затем он задает вопрос: «Понимаем ли мы, что
вьетнамцы сражаются за всех нас?» Кульминацией его
монолога стало заявление: «Я не знаю, что мы можем
сделать для Вьетнама, но я испытываю потребность что-
нибудь делать. Поэтому я буду говорить о Вьетнаме в
каждом своем фильме».
В марте —апреле 1968 года Годар ездил по Штатам,
читая лекции, показывая фильмы, ведя долгие
дискуссии со студентами. Журналисты отмечали, что он был
«искренен, сдержан и убедительно излагал свои
взгляды». И, как никогда прежде и ни в чем другом, он был
последователен в защите своих взглядов на войну во
Вьетнаме. Правда, в ряде случаев, например на
дискуссии в университете Беркли, ему пришлось не
защищаться, а выслушать куда более трезвую и «левую» критику
своих взглядов.
«Далеко от Вьетнама» не только необычный, но и
глубоко новаторский фильм. Калейдоскоп очень разных
эпизодов, намеренное чередование выразительных, полных
страсти уличных сценок с чуть утомительными, но
необыкновенно искренними, похожими на самоанализ
высказываниями людей перед камерой, беспрестанное
изменение ритма и направления рассказа — все это
исполнено мысли и больших чувств. Отдельные эпизоды могут
по-разному интерпретироваться, но несомненна в любом
случае их антивоенная наполненность. Так же
несомненно, что главной целью авторов было поставить любого
зрителя, где бы он ни жил, перед вопросом: в самом ли
деле он «далек от Вьетнама»? Война во Вьетнаме —не
первая после 1945 года, но никогда еще после разгрома
фашизма человечество не стояло перед столь сложными
политическими и нравственными дилеммами, какие
возникли в связи с этой войной. Говоря обо всем этом,
задавая вопросы, авторы одновременно помогают зрителю
искать и правильное решение. За исключением Иориса
Ивенса, другие авторы фильма редко обладали такой
убежденностью в своих ранних работах.
Этот фильм —о преодолении страха, о разуме,
разобравшемся и отвергнувшем ложь. Этот фильм и о том,
что многое из того, о чем мы говорим в этом очерке,
ушло в прошлое. Но говорить об этом нужно — страх
еще не прошел.
84
Страх перед атомной смертью — это была данность,
с которой поколение 50—60-х годов входило в жизнь.
Можно было верить или не верить в «красную
опасность», можно было понимать или не понимать
механику жизненного устройства, знать или не знать истинные
причины напряженности,— в конечном счете ничего не
менялось, страх перед «А» не исчезал.
В 1954 году Андре Кайатт в фильме «Перед потопом»
показал элементарнейшую форму проявления этого
страха. Три очень юных паренька и девушка живут мечтой
о Коралловых островах, где можно было бы спрятаться
от атомной войны, которая, если верить газетам,
начинается завтра. Они верят и спешат уехать. Чтобы
достать деньги, крадут коллекционные марки и ранят при
этом сторожа. В страхе перед разоблачением они
совершают новое преступление — убивают своего же
товарища...
Кайатт с добропорядочностью буржуазного юриста
проводит в фильме следствие и приходит к выводам, что
у каждого молодого человека в этой группе что-нибудь
было неладно в семье: у одного отец — озлобленный
наказанием коллаборационист, у другого — не ладят
между собой родители, у девушки — нет матери и т. д.
Заброшенные, а потому сбившиеся с правильного пути
дети. Объяснение доброе, но наивное, ибо именно в
середине 50-х годов и происходил разлом поколений. Но
для исследования того, как угроза атомной войны,
«потопа», по определению Кайатта, коверкала психику
молодежи, этот фильм очень важен. Вскоре фильмы о
«свихнувшейся» молодежи и атомной смерти человечества
пошли густым потоком, но Кайатт был первым
серьезным художником, заговорившим об этом.
Как можно сегодня понять, Советский Союз и
социалистические страны были единственным местом в
цивилизованном мире, где опасность не скрывалась, но где
в то же время не было атомной истерии, спекуляции на
опасности, дешевой игры газетчиков и безответственных
писак на нервах людей. Сегодня, имея уже известную
перспективу, можно констатировать, что это была,
вероятно, единственно правильная политика. И наша
молодежь росла в эти годы не без конфликтов, но проблем,
подобных той, что коснулся Кайатт, мы не знали.
И это — благо, которое отлично осознаешь при встречах
с людьми, чья жизнь исковеркана этим страхом. А зна-
85
ния — они пришли с той же неизбежностью, с какой
при современных средствах информации доходит все
до желающих знать. И сегодня, я убежден в этом, наша
молодежь знает больше и судит трезвее о проблеме «А»,
нежели большинство ее сверстников на Западе. Это
большая разница — получать первые знания из научно-
популярной книжки или из сенсационных газетных
заголовков.
Любопытный факт: серьезные ученые на Западе
сегодня также считают спекуляцию на страхе людей
перед «А» крайне опасным и аморальным явлением. Так
К.-У. Дейч, профессор Иельского университета, пишет в
предисловии к книге А. Рапопорта «Стратегия и
совесть»: «Картины термоядерной войны могут привести
нас к тому, чго мы постепенно начнем соглашаться с
актами жестокости и безжалостности, от которых мы в
ужасе отшатнулись бы раньше, то есть происходит
процесс, аналогичный росту морального безразличия к
бомбардировкам гражданского населения во время второй
мировой войны, достигшим своей кульминации в
атомной бомбардировке Хиросимы». И далее, говоря об
описаниях ужасов термоядерной войны, которые
воспроизводят в своих писаниях ее стратеги, Дейч утверждает,
что тем самым «ослабляются или устраняются любые,
пока еще действенные, психологические преграды на
пути массового термоядерного убийства, что может
увеличить вероятность превращения в действительность всех
тех ужасов, о которых шла речь...»1.
0 проблеме «А» задумывались, кажется, все без
исключения крупные художники Запада.
Стэнли Креймер в 1960 году показал одновременно
в восемнадцати столицах мира фильм «На последнем
берегу», рассказывавший о конце света, но не
запугивавший людей, а страстно призывавший человечество к
объединению и миру. С тех пор созданы десятки
фильмов на ту же самую тему, но креймеровский остается
одним из лучших. «Где-то какой-то испуганный идиот
нажал кнопку» — и вот мир умирает. Жизнь сохранилась
еще в Австралии, но волна радиоактивности неуклонно
приближается и к последнему берегу. В конце мы
видим пустой берег —все умерли, на Земле нет больше
1 A. Rapoport. Strategy and Conscience, New York, Harper and
Row, 1967, p. 7.
86
людей, и ветер треплет обрывки плаката: «...пока еще
не поздно, братья!»
Креймер находит трезвое, благородное и
единственно возможное решение: «пока еще не поздно», и надо
его использовать, ибо выбора нет — либо всеобщая
смерть, либо объединение. Позицией Креймера в этом
фильме нельзя не восхищаться.
Фильмы-предупреждения создаются с закономерной
настойчивостью. Через десять лет после креймеровского
«На последнем берегу» Михаил Какоянис написал
сценарий и снял фильм «День, когда всплывает рыба» —
фильм, начинающийся как комедия и кончающийся как
кошмар. Вполне возможно, что на него оказала влияние
«черная сатира» Кубрика, но в любом случае перед нами
картина мастерская, в глубине своей — серьезная и
тревожная.
...Американский самолет, терпящий аварию,
сбрасывает над крохотным греческим островком Карос две
бомбы «А» и некий таинственный «черный ящик». (На
картах нет такого острова и не было пока такой истории,
но... был Паломарос, напоминает еше перед началом
фильма Какоянис.) Летчики, спустившиеся на
парашютах в воду, вылезают на берег почти в том, в чем
родили их мамы. Не имея возможности сообщить на базу
о катастрофе и обязанные, по инструкции, скрываться
от населения, они начинают вести жизнь не то робин-
зонов, не то дикарей. Их нелепейшие приключения —
первая комедийная линия фильма.
На базе быстро узнают о гибели самолета, и на
поиски бомб и особенно таинственного ящика посылается
группа офицеров, выдающая себя за группу
разъезжающих в поисках новых курортных мест владельцев отелей.
Похождения этих стройных, с великолепной выправкой
парней порождают вторую цепь комедийных ситуаций.
Если нелепа робинзонада летчиков, то поведение
молодых офицеров уже верх глупости. Но смех смехом, а
глупая хитрость американцев оборачивается
драматической ситуацией: узнав из вездесущей прессы, что на
острове Карос открывается новый курорт, туда со всего
света съезжаются толпы отдыхающих и веселящихся
людей. Американские старушонки с бриллиантами на
пальцах и усталыми молодыми любовниками под
локтем, легкомысленные красотки, вальяжные шейхи и т. д.
87
и т. п. На Каросе начинается вечный бал — в
буквальном смысле слова бал на бочке с порохом.
Бомбы быстро находят и благополучно доставляют
на корабль. А вот проклятый ящик словно сквозь землю
провалился — так полагает командир парней-сыщиков.
С таинственным ящиком происходит история почти
невероятная: его находит бедный пастух и, решив, что
это ящик с золотом, прячет его в хижине, а затем
предпринимает героические усилия, чтобы вскрыть его.
Американец утверждает, что вскрыть ящик можно лишь
лучом лазера либо новейшим химическим составом, какой
на этом острове на найдешь. Он прав: пастух бьет ящик
кувалдой — и никаких следов, пробует ножовкой — летят
зубья, не оставляя царапин; крадет бормашину
—результат тот же. Но невероятное все же случается.
На остров приезжает археологическая экспедиция и
привозит с собой нужную адскую жидкость.
Легкомысленная ассистентка (одна из первых ролей
блистательной Кендис Берген) ненадолго оставляет флакон, и
пастух, случайно видевший способ употребления, бежит
с ним в хижину. Ящик вскрыт, но там вместо золота и
драгоценностей лежат какие-то глупые яйца. Пастух в
ярости, его жена вздыхает облегченно — наконец-то
кончилась мука и муж снова начнет работать — и
предлагает отдать яйца дочери для игры. Но пастух
соображает, что он совершил кражу, и решает — концы в воду:
ящик и яйца летят в море. Его жена, все же было
припрятавшая пару яиц для дочери, позже пугается и тоже
выкидывает их — в бассейн с питьевой водой для всего
острова.
А бал продолжается. Парни-сыщики принимают в нем
участие, решив, что ящик упал в море и, значит, в
безопасности, поскольку его стенки не поддаются коррозии.
Но вдруг раздается удивленный крик: кто-то увидел в
море всплывшую и умирающую рыбу...
Фильм кончается страшным кадром: луч прожектора
падает на уснувшую рыбу; черное море и голубой
кружок— это вдруг напоминает снимки космонавтов: черная
Вселенная и в ней голубой кружок Земли. Голубой
кружок гаснет — Земля умерла. «Где-то какой-то
испуганный идиот нажал кнопку...» — так объясняет свою
ситуацию Стэнли Креймер. Михаил Какоянис указывает на
идиотов с точным адресом. Идиоты засылают в чужие
небеса самолеты с «А». Идиоты потом пытаются спасти
88
честь мундира и обманывают людей. Идиоты начинают
хитрить и в результате приходит судный день для
людей.
Фильм Какояниса вызвал довольно кислые отклики
на Западе. Критики высказывали сожаление, что экра-
низатор греческих трагедий стал «размениваться на
мелочи». Фильму даже отказали в мастерстве. Ясно,
однако, что выступление против игроков в «А» никак не
мелочь, тем более выступление с прогрессивных позиций.
И фильм «День, когда всплывает рыба» отнюдь не
зауряден и по форме. Местами пародийный, легко и
быстро переходящий с буффонады на драму, сочетающий
картины «сладкой жизни» с показом удручающей
бедности греческих пастухов, этот фильм, напротив,
поражает своим профессионализмом и точностью каждого
кадра.
Тема «А» стала постоянной в современном кино. Уже
десятки раз на экранах возникали атомные грибы и мир
умирал на глазах зрителей. Подчас эта тема становится
и средством спекуляции. Так, через пять лет после
фильма Креймера молодые чешские кинематографисты Павел
Юрачек и Ян Шмид варьировали тему «А» в тягостном
фильме «Конец августа в отеле «Озон». Это снова
рассказ о последних людях на Земле. Прошло пятнадцать
лет, как мир опустошили «А». Восемь девушек и
старуха, их наставница, бродят по лесам и долам в поиске
мужчины, чтобы начать человеческую историю сначала.
В затерянном отеле они находят старика, для роли
Адама явно непригодного. И одичавшие, потерявшие
человеческий облик девчонки пристреливают старика —
деловито и равнодушно, как перед этим застрелили
приставшую к ним собаку. У девчонок пустые глаза, это уже —
животные.
История Юрачека и Шмида из серии «а что будет,
если...» И понятно, что самое что ни на есть ужасное
изображение современности может иметь аналогию в
действительности, особенно при таком допущении. Мир
ужасен, и ужасно его искусство. Но важно — куда
клонит художник: к капитуляции перед ужасом или к
возмущению им? Авторы «Конца августа...» никуда, может
быть, не клонят, но их любование жестокой ситуацией
очень близко по тональности к пессимизму Феллини и
Бергмана.
89
Стейнер из «Сладкой жизни» Феллини убивает своих
детей и кончает жизнь самоубийством. Все очень
просто: это лучше, чем корчиться в атомном пламени.
Ирония в том, что Стейнер принадлежит к
интеллектуальной элите; предполагается, что это человек с предельно
утонченным и развитым мозгом.
Перссон из «Причастия» Бергмана тоже кончает
жизнь самоубийством. Он тоже боится жить,— правда,
его больше, чем атомная бомба, пугает неизбежный, как
он где-то прочел, приход в Европу неисчислимых орд
китайцев. Перссон беден и темен, у него дремучий мозг
хуторянина, но, как и интеллектуал Стейнер, он тянет
руку к оружию.
Это лишь два примера, а можно было бы подобрать
подобных очень, много. Феллини и Бергман названы
только потому, что это очень разные и весьма влиятельные
художники. Их единство во взгляде на главную
проблему века пугает. Наверное, никто после их фильмов не
возьмет пистолет и не пустит пулю в лоб (хотя это
совсем не бесспорно!), но страшный процесс разрушения
душ они, наверное, усиливают.
В марте 1966 года Карл Микель, поэт из ГДР,
отвечая на вопрос «Иностранной литературы»: «Какой
будет поэзия завтра?» — сказал: «...поскольку на каждую
душу населения Земли приходится 80 тонн
тринитротолуола, разговор о будущем поэзии представляется мне
невозможным»1. В начале 1969 года экс-президент
Л. Джонсон писал: «Сегодня Соединенные Штаты
обладают ядерной огневой мощью, которая эквивалентна
примерно 30 тоннам тринитротолуола в расчете на
каждого человека на земном шаре. Единственная другая
страна на Земле, обладающая подобной
разрушительной мощью,— Советский Союз»2. Выходит, что на
каждую душу имеется уже около 60 тонн взрывчатки?
На наш взгляд, связь между желтыми газетами,
пугающими читателей сенсационными сообщениями о
запасах и мощности атомного оружия, пессимизмом
взглядов таких немолодых и серьезных художников, как
Феллини и Бергман, и грустными заявлениями
молодежи, вроде того, что сделал тридцатилетний Микель,—
несомненна.
1 «Иностранная литература», 1966, № 3, стр. 233.
2 «Readers digest», 1969, February.
90
Наверное, нет иного ответа, кроме того, что дал Ми-
келю Алексей Сурков: «...не надо подсчитывать
количество тринитротолуола, заготовленного для уничтожения
человечества... если мы начнем только подсчитывать
запасы тринитротолуола, мы придем или к револьверу, или
в петлю, потому что неинтересно жить, ожидая, когда
тебя уничтожат, как кролика»1. Мда, это, однако, то же
самое, что «не думать о белом медведе». Как не
подсчитывать, если известно, что правительство Гарри
Трумэна собиралось использовать «А» вовремя корейской
войны, а позже уже правительство Д. Эйзенхауэра
предлагало французским колониалистам выйти из трясины
поражений во Вьетнаме с помощью двух-трех атомных
бомб. Если через полтора года после выхода фильма
Креймера пальцы американских ракетчиков (так
утверждает западная пресса) легли на пусковые кнопки,— в
дни карибского кризиса. Если Китай взорвал уже
десятки различных атомных устройств и бомб и
испытывает ракеты, способные нести эти бомбы на тысячи
километров,— не просто Китай, великая держава наряду с
другими, а Китай авантюристов клики Мао Цзэ-дуна.
Но есть и внушающие оптимизм факты. Если
сравнить то, что писалось в 50-х годах об «А» и о войне,
с тем, что об этом же пишется сегодня, то в глаза сразу
бросится более спокойный тон и неизменная надежда
на то, что все «обойдется». Этот тон и надежда —
достижение 60-х годов. Это прежде всего результат
долголетней борьбы прогрессивных сил за мир, но это
также, будем надеяться,— результат преодоления разумом
злобы, эгоизма, безрассудного антикоммунизма. Ныне
даже Герман Кан, признанный теоретик пентагонских
«ястребов» в области термоядерной войны и автор
такого удручающего термина, как «мегасмерть», то есть
единица, равная одному миллиону жизней, уничтоженных
«А», «сейчас предрекает счастливый финал XX
столетия... Несмотря на возможность распространения
ядерного оружия, Кан считает, что большой ядерной войны
не будет...» 2
Когда-то юный Холдеи, герой сэлинджеровской
повести «Над пропастью во ржи», в бессильной ярости на
ограниченность взрослых заявил, что если война все же
1 «Иностранная литературам 1966, № 3, стр. 217.
2 «Business week», 1967, March, 11.
91
начнется, то он сам и добровольно сядет на атомную
бомбу... Теперь даже буйствующая молодежь носит
значки сторонников ядерного разоружения. А хиппи — эти
самые несуразные и несчастные юноши и девушки из
всех «свихнувшихся» — призывают: «Давайте любить, а
не воевать»; смешной и нелепый, но характерный
симптом новых взглядов.
Изменилось, что нам представляется особенно
важным, самосознание людей, их отношение к тому, что —
факт, а что — его интерпретация. Прежде, всего каких-то
десять лет назад, люди мирились с неизбежным в
сегодняшнем мире чувством личного бессилия и если и не
верили официальной пропаганде, то глотали молча.
Сегодня все больше людей судит по собственному
разумению обо всем, что происходит вокруг, даже о том, до
чего, казалось бы, им и дела не должно быть.
Все это радует. Но... приходится констатировать, что
при всем этом главные опасности не устранены и угроза
«А» по-прежнему висит над человечеством.
Антикоммунизм не перестал быть официальной политикой ведущих
капиталистических стран. Силы, рассчитывающие на
насильственное изменение хода истории, не стали слабее.
Острота время от времени возникающих столкновений
между двумя мировыми лагерями ничуть не сгладилась.
А количество атомных бомб и ракет все время растет.
Проблема «А» остается проблемой века № 1. Она
дает отсвет на все, что составляет сегодня человеческую
жизнь. Под ее углом можно рассматривать очень
многое, возвращаться к ней снова и снова.
ν
Жестокость в холодном
мире
Преступление и самоубийство Стейнера, показанное
в «Сладкой жизни» Феллини,— крайнее выражение
страха перед жизнью, поставленной «под знак радикальной
конечности» (А. Камю). «Нормальная» же форма
выражения этого чувства, особенно молодежью,—
ожесточение.
Как и во всем, Америка и здесь впереди всего
западного мира. Публицисты утверждают: сегодня насилие —
самая характерная черта американского образа жизни.
Французский журналист Мишель Гордэ писал в 1968
году: «Я был в Соединенных Штатах 22 раза, но
никогда прежде я не ощущал этой странной атмосферы
тревоги и страха... После наступления темноты
американцы, по крайней мере в больших городах, ведут себя
теперь так, словно они живут в джунглях»1. Журнал
«Юнайтед Стейтс ньюс энд Уорлд рипорт» авторитетно
подтверждает: «Все данные ФБР показывают, что
насилие захлестывает страну подобно быстро
прогрессирующей болезни»2. На данных ФБР основывался и Л.
Джонсон, сообщая конгрессу США, что больше всего
преступлений совершает молодежь в возрасте от
пятнадцати до двадцати одного года.
Известный психиатр Ф. Вертэм из Нью-Йорка
отмечает тенденцию к еще большему «омоложению»
преступников и бесперспективность будущего: «Все более
1 «Look», 1968, August 6.
2 Цмт. по журн. «За рубежом», 1968, № 44.
93
молодые люди совершают все новые преступления и
новые насилия. В настоящее время дети 12 и 13 лет
совершают убийства. Этого не было 15 лет назад. Все
проявления насилия взаимосвязаны: преступления отдельных
лиц, массовые беспорядки и насилия. Мы готовим
молодых к насилиям на войне, и, обучая их, мы сами
воспринимаем идею насилия. Попытки убийства будут
повторяться, массовые насилия и отдельные преступления
будут расти» '.
Кто не пишет сегодня на Западе с растерянностью и
тревогой о росте преступлений, особенно среди
молодежи? Самые серьезные исследователи задаются вопросом:
не превратится ли преступный мир, возрастающий и за
счет увеличения населения вообще и городов в
частности, в такую силу, с которой у общества уже не будет
сил справиться обычными средствами? Рост
преступности обгоняет рост народонаселения,— в США, Англии и
Италии, регулярно публикующих статистические
сведения, этот факт уже несомненен. В США, например,
темпы роста таких тяжких преступлений, как убийства и
кражи со взломом, возрастают на 20—25 процентов в
год, а в целом преступность растет в девять-одиннадцать
раз быстрее, чем народонаселение.
За цифрами статистиков и выкладками социологов
не всегда можно понять жуткий житейский смысл слов
«рост преступности». А это значит, между прочим, что
во многих столицах мира прекраснейшие, ухоженные
городские парки с наступлением сумерек пустеют, ибо в
них так же опасно находиться, как во фронтовой полосе.
Проезжающие время от времени по аллеям
полицейские машины выхватывают своими фарами из темноты
группы молодых и не очень молодых людей,
замирающих на свету, но смотрящих мрачно и без страха. Это
значит, что простая прогулка по ночному городу кое-где
расценивается как геройский подвиг. Это очень многое
значит, порой такое, чему трудно и верить, если не
увидишь собственными глазами.
Вот что говорят американские туристы, приезжающие
к нам в гости: «Что поражает больше всего —это
дружелюбие ваших людей. Если к кому-нибудь обратишься
с вопросом, конечно, чаще всего с вопросом о том, как
пройти в какое-нибудь место, то этот человек непремен-
1 «US news and World report», 1968, June 17.
94
но остановится, начнет объяснять дорогу подробно, не
жалея своего времени, а когда узнает, что перед ним
иностранка, то зачастую еще и предложит провести вас.
И днем, и вечером, и поздно ночью я ездила по Москве
без малейшей опаски. Когда я однажды спросила своих
знакомых, у которых засиделась до полуночи, не опасно
ли будет возвращаться в метро, не лучше ли вызвать
такси,— то они меня просто не поняли, и мне пришлось
им рассказать, что дома я никогда не осмелилась бы
даже с провожатым ехать в такое время в метро...» Это
пишет молодая женщина-этнограф из Нью-Йорка. Ну,
допустим, что дружелюбие здесь можно отнести и на
счет ее личного обаяния. «Я только в Москве понял,
какое это удовольствие — гулять ночью по уснувшему
городу...» Это пишет молодой человек из Лос-Анджелеса.
Оба они ездили к нам как туристы-одиночки.
Эти записи приведены не для лобового
противопоставления: «у них» — «у нас», но потому, что, на мой
взгляд, они свидетельствуют самой своей обыденностью
о реальности и грозной опасности волны преступности,
захлестывающей отдельные страны Запада.
Речь при этом идет не об организованной
преступности на Западе. Жестокость, например, знаменитой
«Коза ностра» — совсем не жестокость, а, в сущности,
средство бизнеса. Что бы ни говорили буржуазные
журналисты и социологи, но крупные гангстерские
организации могут существовать и безнаказанно действовать
лишь при явном попустительстве государства и всех его
охранных и карательных институтов — полиции,
юриспруденции, органов госбезопасности и пр. Эти
институты чрезвычайно многочисленны, великолепно оснащены
и оперативны, как мы знаем, в борьбе с
прогрессивными организациями и иностранными разведками. Так что
«бессилие» этих могучих сил в борьбе с гангстерами —
это мистика, чушь. Но вот их бессилие в борьбе с
преступностью молодежи — это факт, и факт очень
тревожащий буржуазное общество.
Беспокоит прежде всего кажущаяся неопределенность
причин и мотивов этой преступности.
Очень многие из исследователей нравов и
художников склонны видеть главный источник бедствия в
кинофильмах, телевизионных передачах, книгах и журналах,
обрушивающих на подростков и юношей лавину
рассказов и показов похождений гангстеров и шпионов, поли-
95
цейских приключении и т. д. В самом деле, садизм и
порнография заполняют страницы очень многих
зарубежных журналов; книг, посвященных тому же,— не
счесть; экраны кино и телевидения буквально
заливаются кровью. Все это хорошо известно, об этом писали
все — от журналистов самого высокого ранга до
легкомысленных туристов. И почти все они связывали
пропаганду насилия с ростом преступности.
В уже цитированной статье из «Юнайтед Стейтс ньюс
энд Уорлд рипорт» вспоминается кино: «Безграничным
избытком секса, садизма, вырождения и насилия
пропитаны и предлагаемые вниманию зрителя
кинофильмы,— достаточно ознакомиться с рекламными афишами.
Недавно проведенный среди населения опрос показал,
что 62 процента опрошенных считают, что фильмы,
демонстрирующие насилие, способствуют его
распространению в стране». Примерно то же пишет Уолтер Липп-
ман: «Для меня совершенно бесспорно то, что
публичный показ садизма не может не вызывать у юношей
садистских желаний; для меня абсолютно бесспорно
и то, что между всей этой «массовой культурой» и
резким увеличением числа преступлений с применением
садизма и насилия есть самая тесная, самая
непосредственная связь»1. Липпман — один из самых умных и
трезвых защитников Запада, ему нельзя не верить, тем более
что здесь точки зрения советских и западных
журналистов совпадают.
Есть, однако, и другие точки зрения. Искусствовед
и социолог Р. Мэнвелл приводит такое заявление лорда
Темплвуда. опытного и расчетливого руководителя
министерства внутренних дел в весьма трудное для Англии
время: «Мои самые знающие и опытные советники в
министерстве внутренних дел придерживаются того
мнения, что кино скорее предотвращает преступления, чем
вызывает их. Оно удерживает мальчиков от
хулиганства и дает им пищу для размышлений. Министерство
внутренних дел считает, что если бы кино вообще не
существовало, то преступлений было бы не меньше, а
больше» 2. Такие заявления делают и социологи, не
только министры. Правда, без возражений они не проходят
нигде. И на одном из международных обсуждений я
1 Циг. но журн. «Нева». 1966, Λ» 9, стр. 163.
2 Р. Мэнвелл, Кино и зритель, М., 1955, стр. 221.
96
слышал остроумное возражение с помощью анекдота.
Позволю себе повторить его: «На приеме у врача
девушка узнает, что беременна. «Это произошло в тот день,
когда мама и папа ушли в кино,— досадует она.—
Ничего бы не случилось, если бы они взяли и меня, но шел
фильм, на который детей до шестнадцати лет не
пускают...» Тем не менее нельзя не прислушаться к
мнению тех, кто видит в кино «отвлекающий фактор», хотя
это и не вся правда. Истина, возможно, где-то
посредине: пропаганда насилия, которую ведут кино,
телевидение и прочие средства массовых коммуникаций,
безусловно способствует росту преступности, однако было
бы наивно думать, что «исправься» кино, телевидение,
иллюстрированные журналы и т. д.— и все сразу же
будет хорошо. Корни преступности кроются в
социальных и экономических проблемах, не устранимых без
изменения самой природы общества. Молодежь живет
в жестоком, холодном мире и отвечает обществу той же
жестокостью.
Вот данные о прогрессе преступности в США,
представляемые ежегодно ФБР. При этом надо учесть, что
Л. Джонсон в послании к конгрессу от 6 февраля
1967 года предостерег: «Очень много преступлений
остаются неизвестными полиции. Вероятно, в
действительности случаев нападений с применением насилия, краж
со взломом и воровства происходит по крайней мере в
два раза больше, чем это известно полиции. В
некоторых населенных пунктах их, возможно, происходит даже
в десять раз больше». Но и того, что публикует
полиция, достаточно, чтобы понять, что сравнение с
джунглями для США — еще очень даже лестное:
1965 г. 1966 г. 1967 г. 1968 г.
Убийства 9900 10900 12 100 14200
Изнасилования 23 000 25 300 27 100 31300
Ограбления 138 100 157300 202 100 261300
Тяжкие телесные 212 100 231 800 253 300 290000
повреждения
Кражи автомобилей 493 100 557000 654 900 8150001
Люди, склонные к обобщениям, говорят, что
«человек в нашем обществе — существо идеологически
бесприютное... Мы не только живем среди развалин древних
убеждений, но, в лучшем случае, живем среди них со
1 Данные газ. «Известия» от 9 октября 1968 г.
6 р. Соболев
97
смутными представлениями о том, каковы вещи во всей
своей полноте» '. Это пишет Зигфрид Кракуэр, крупный
американский социолог и теоретик кино. Из этих слов
следует, что ни понять ничего в этом странном мире, ни
объяснить «вещи» нельзя.
Для английского журналиста Антони Лежена,
пытавшегося разобраться в том, почему в Англии растет
преступность, тоже не все ясно. Крупные ограбления — это
понятно: «Люди хотят иметь все больше и больше
денег... Преступление — очень легкая возможность
раздобыть деньги. Насилие — самый простой способ»2. Но вот
как объяснишь, что за один год подростками было
искалечено 100 тысяч телефонных автоматов? Или
сенсационный случай, когда с рельсов сознательно был
спущен поезд и были убитые и раненые? «Акты
вандализма»— общие слова, определение, но не объяснение.
Волна насилия, захлестнувшая западный мир,
особенно Соединенные Штаты, заставила взяться за
исследования и серьезных ученых, писателей,
кинематографистов.
Социолог М. Харрингтон рассказал о бандах
подростков и объяснил: «Они — это молодежь, на которую один
за другим обрушиваются удары жизни: нищета, голод,
непосильный труд, страх, неустроенность, болезни и
лишения. Осажденные со всех сторон насилием и
жестокостью, они создают себе другой мир, их охватывает
болезненная мания величия, мечта о демонической
власти, они находят наслаждение в садизме, воображают
себя героями необыкновенных похождений с
убийствами» 3.
Эти слова можно принять за рецензию на фильм
Шерли Кларк о жизни подростков из нью-йоркского
Гарлема. По мнению искусствоведа М. Шатерниковой,
этот фильм следует по-русски называть не «Холодный
мир», а — «Затаившийся мир», поскольку в нем
рассказывается не только о равнодушии мира к подросткам,
но и о том, что в них, этих юношах, зреет ярость и
ненависть к своему миру, что они еще молчат, но уже
готовы к открытому бунту. Не вдаваясь в тонкости
перевода названия «Cool World», отметим, что возможность
ι S. Kracauer, Theory of Film, New York, 1962, p. 288.
2 «Life», 1966, February 7.
3 M. Харрингтон, Другая Америка, M., 1953, стр. 166.
98
предложенного Шатерниковой названия появилась лишь
после «жаркого лета» 1967 года, когда США были
потрясены восстанием негров — восстанием
неорганизованным, местами жестоким по выражению, но, безусловно,
социальным по своему существу. Герои фильма Кларк,
конечно, приняли бы участие в таком восстании, будь
они реальными личностями; они бы азартно грабили и
жгли «шопинги», угрожали бы всем белым без различия,
дрались бы с полицией и падали на мостовую с
простреленной головой.
Фильм Шерли Кларк — о враждующих бандах
подростков. В прекраснейшем фильме-мюзикле Лемана,
Уайза и Роббинза «Вестсайдская история» враждуют
банды белых и пуэрториканских ребят. Они равно
ограблены жизнью — чистокровные янки и весьма
«подозрительные» в смысле чистоты крови пуэрториканцы, но все
же здесь есть хотя и дикое, но по-своему логическое
обоснование вражды: белые видят в пуэрториканцах тех,
кто приезжает в «их Америку» и перехватывает у них
работу; пуэрториканцы видят в белых своих
угнетателей, тех, кто преграждает им путь к счастью. У Шерли
Кларк враждуют черные «королевские питоны» против
черных же «волков», враждуют, в сущности, две
компании ребят из соседних кварталов одинаково
запущенных, зашарпанных домов для негров. Ни логики, ни
видимых, поддающихся анализу разумом причин для этой
вражды — нет, хотя вообще-то «Холодный мир» для
«нью-йоркской школы кино» представляется фильмом
исключительным по «традиционности» построения и
использованных в нем выразительных средств.
Являясь экранизацией одноименного романа
Уоррена Миллера, фильм безыскусственно повторяет его
сюжет. Есть, разумеется, неизбежные купюры. Но есть и
нечто такое, что литературе вообще недоступно —
убедительность документа. Шерли Кларк не рассказывает
историю Дюка — четырнадцатилетнего предводителя
«питонов», но, используя свой опыт документалиста и
достижения «нью-йоркской школы», показывает жизнь
Гарлема как бы изнутри, пытается превратить игровой
фильм в документальный. И это ей, честно говоря,
хорошо удается.
Перед нами группа ребят, которые еще ходят в
школу. Неохотно ходят. «Живут» они, лишь когда
собираются в квартире Малыша, у которого отец — в бегах,
б*
99
брат — в тюрьме. Школа ничего не дает и не даст. Это
они хорошо усвоили. Сейчас ли, через год-два, а школа
будет кончена или брошена, и все равно будешь вот так
бесцельно слоняться по улицам, слушать дома
причитания женщин, завидовать счастливчикам и знать, что
впереди— ничего путного. «Жизнь» — в квартире Малыша,
среди верных «питонов». Там живет Лу-Энн, их общая
девочка,— всего один доллар! Там можно выкурить
сигарету с марихуаной. Там Дюк — парень, который знает,
что ему нужно, который поведет их против «волков»...
Дюк действительно знает, что ему нужно. Пистолет!
Ради него он прислуживает Присту — взрослому
гангстеру, у которого богатая квартира, громадная машина
и белокожая любовница, которой он помыкает. Ради
него, оружия, ворует по мелочам и спекулирует. (В
книге Дюк ради пистолета даже продается
гомосексуалисту.) Пистолет, считает Дюк, сразу же изменит его
положение в этом холодном мире. Его будут бояться. Он
сможет брать все, что ему нравится.
Таким образом, пистолет превращается в «Холодном
мире» в такого же рода символ жизнеутверждения,
каким был велосипед в фильме Дзаваттини и Де Сика
«Похитители велосипедов».
Но, быть может, этот пистолет и не символ. Кларк
документальна в своем фильме. Охота Дюка за
пистолетом есть также фиксация реального жизненного
явления. В вышедшем на русском языке несколько лет
назад сборнике статей американских криминологов
«Социология преступности» Дэниэл Белл пишет: «Настоящим
американцем был охотник, ковбой, пограничник, солдат,
моряк, а в перенаселенных трущобах — гангстер. Это
был человек с пистолетом, добывавший личной
доблестью то, в чем ему отказал сложный порядок
стратифицированного общества». Статья Белла «Преступление
как американский образ жизни» написана в 1953 году.
Фильм Кларк «Холодный мир» вышел в 1963 году.
Говорят же они, как мы видим, об одном и том же.
Пистолет, похоже, столь же документален, как улицы
Гарлема, снятые Кларк во всей их доподлинной
неприглядности.
Фильм начинается сценой школьной экскурсии. Гар-
лемских ребят везут по местам, которыми гордится
Америка, которые вызывают шок у заморских туристов.
Но у Дюка и его друзей нет чувства причастности к
100
этим дворцам, небоскребам, паркам, музеям. Нет,
правда, у них и осознанного возражения против демагогии
учителя, упоенно разглагольствующего «о равных
возможностях». Они лишь смутно угадывают, что
Уоллстрит, магистрат и даже музеи — это мир чужой и уже
потому враждебный. Поэтому полоснуть ножом по
кожаной обивке кресла, сломать то, что ломается,
напакостить по мелочи — это значит выразить свою
непричастность к «этой Америке». Однако Дюк не считает, что
мир устроен неправедно. Мир поганый — в этом Дюк
не сомневается, но ему даже в голову прийти не может,
что мир можно изменить. Когда гарлемский мудрец
говорит ему, что можно уехать в Бразилию, где «все
равны», Дюк жестоко издевается над его мечтой. Ему,
Дюку, не нравится сама мысль о равенстве. Зачем? Этот
мир очень хорош для тех, кто силен и храбр. А он, Дюк,
силен и храбр. Ему нужен лишь пистолет, чтобы
получить то, что есть у других людей и что нужно ему. Он
все отнимет у людей, по крайней мере у тех, кто
слабее его...
Вот она —логика холодного мира!
Вражда «королевских питонов» и «волков»
непонятна лишь с позиции «классового зрителя». С точки
зрения «питонов» и «волков» — отнюдь не подонков и не
люмпенов, а обыкновенных ребят из обыкновенного
негритянского квартала,— они дерутся за простые и ясные
«ценности» — за власть над улицей, за наслаждение
испытать чувство победителей, за право отнимать,
обижать, унижать.
Харрингтон, вспоминая роман Миллера, пишет, что
жестокость и равнодушие его героев «являются
защитной реакцией на враждебность окружающего их мира.
Преследуемый белыми, отвергнутый обществом, негр...
становится распущенным: он знает, что его ждет
разочарование, и он делает цинизм нормой своего
поведения» *.
Шерли Кларк чутко отражает наиболее острые
конфликты американской действительности. В отличие от
таких режиссеров, как Д. Смит или Г. Маркополус,
утративших содержание в причудливых формальных
исканиях, Кларк всегда точна и последовательна в своих
социальных и психологических целях и за реализм изо-
1 М. Харрингтон, Другая Америка, стр. 93,
101
бражения давно уже названа «Золя американского
экрана».
До «Холодного мира» у нее был «Связной» — фильм
о проблеме, тревожащей сегодня американцев не менее,
чем рост преступности,— о наркомании и наркоманах.
В фильме показывались больные люди в возрасте, но
проблема эта по-настоящему остра опять же в среде
молодежи.
Недуг наркомании охватил все развитые страны
Запада. В конце 1968 года датская газета «Политикен»
писала: «В Швеции количество наркоманов растет с
быстротой, вызывающей беспокойство. Власти и врачи в
отчаянии, так как они не могут ограничить,
проконтролировать или уменьшить количество людей,
злоупотребляющих наркотиками... У нас в стране события
развиваются таким же образом... Если шведы не смогут взять
под контроль развитие событий в этой области, то они
рискуют, что в их стране возникнет ситуация, подобная
той, которая имеет место в США... То же самое может
произойти и в нашей стране» '.А в США, по
определению французского еженедельника «Экспресс», также
отмечающего тревожный рост числа наркоманов в своей
стране, «наркотики — это гигантский бизнес». То, что
здесь относится к «деловой стороне», выражается в
таких цифрах: килограмм чистого героина в Гонконге
стоит на черном рынке 5—7 тысяч долларов, а в
Нью-Йорке— 400 тысяч2. О социальной стороне этот
еженедельник пишет: «...в крупных американских университетах
десятки тысяч студентов курят марихуану или ЛСД...
В полубогемном обществе Америки считается хорошим
тоном иметь дома «сосуд» и курить марихуану, когда
собираются друзья». Но подлинный бич — наркотики
всех видов для бедняков: 80 процентов нью-йоркских
наркоманов проживает в негритянском Гарлеме. И,
наконец, уголовная сторона дела: помимо того, что
наркоманы убивают себя, болезнь толкает их на
преступления. «Экспресс» пишет, что расход «среднего наркомана»
достигает 20 долларов в день. Чтобы достать деньги,
они «воруют, занимаются проституцией. Считают, что в
Нью-Йорке более половины краж совершено
наркоманами».
1 «Polityken», 3.XI 1968.
2 «L'Express», 1965, juillet 11.
102
Шерли Кларк показывает в «Связном» безнадежно
опустившихся, неизлечимых наркоманов. Лишь один из
собравшихся в притоне людей, ожидающих прихода
связного с наркотиками, говорит, что он — бывший
музыкант, что он еще будет играть. Его слушают молча,
понимая, что и ему уже не вырваться из сладкого ада
галлюцинаций.
Почти все герои Шерли Кларк — негры, стоящие в
самом низу социальной лестницы. Каждый фильм — как
крик: так жить нельзя! Собственно говоря, в
американском кино ее картины — уникальное явление, они могли
появиться лишь в результате той борьбы, которую в
течение многих лет ведут негры против белой Америки.
До нее так говорили о трагедии негров, об их ненависти
и готовности к борьбе со всеми силами белой Америки
лишь отдельные писатели-негры: Джеймс Болдуин в
романе «В другой стране» и пьесе «Блюз для мистера
Чарли», Эрл Конрад в романе «Премьер» и особенно
непримиримый Лерой Джонс в романе «Раб». Для этих
книг характерны две черты: 1) отрицание возможности
взаимопонимания между неграми и белыми; ни дружба
с белым, ни даже любовь негра и белой женщины не
могут закрыть пропасть, разделяющую, по мнению
Болдуина, две расы; 2) открытый (у Лероя Джонса) призыв
к вооруженному восстанию негров. У Шерли Кларк в
фильмах мир негритянского гетто сосуществует с белой
страной, никак не сталкиваясь и не соприкасаясь, это
уже «государство в государстве» — то, что сегодня
некоторые вожди «Черных мусульман» и некоторые
негритянские националистские организации ставят целью.
В ее фильмах нет не только призывов убивать белых
расистов, но и вообще почти никаких упоминаний о
белых. И тем не менее это грозные фильмы, всем своим
образным строем говорящие о революционной ситуации
в черных гетто Америки.
Принятые при Л. Джонсоне законы о гражданских
правах показали неграм, что интеграция без
экономического и социального обеспечения их прав — фикция.
Законы ничего не изменили в их положении. И тогда:
«Власть черным!» — такой раздался военный клич.
«Негры тайно вооружаются и готовятся к партизанской
войне» \— писал в 1966 году Раймон Картье. Негры по-
1 «Pary-Matclu, 1966, Août 6.
103
няли, как отмечает другой французский журналист в
статье «Кошмар Америки», что «когда белые говорили
об интеграции, они имели в виду не реальное смешение
двух культур, двух рас, а лишь навязывание черному
белой цивилизации с ее образом мысли и презрением к
черному. Интеграция, по существу, самая изощренная
форма отрицания афро-американского народа» 1.
Опасность раскола страны констатировала Комиссия
по расследованию гражданских беспорядков в США,
созданная после «жаркого лета» 1967 года: «...вот наш
основной вывод: наша страна идет к расколу на два
общества, одно — черное, другое — белое, сепаратных и
неравных по своему положению»2. В фильмах Шерли
Кларк этот раскол показывается как свершившийся
факт. Эти фильмы вообще можно до конца
прочувствовать лишь в свете той политической атмосферы, которую
создала в Соединенных Штатах негритянская проблема.
Альберто Моравиа, посетивший летом 1968 года
Америку, рассказал об одном вечере в нью-йоркском
театрике, где партия «Черных пантер» давала «шоу» и
собирала средства. «На эстраду вышел Лерой Джонс,
негритянский Эзоп, бородатый, с огромной лысой
головой, тщедушный, одетый в черное, с золоченой цепью
на шее, за спиной у него стояли с мрачным видом,
скрестив руки, четыре могучих телохранителя. Он в течение
часа оскорблял белых, называя их дегенератами,
эстетами, мнимыми артистами, подражателями, рабами
негров... Потом на эстраде появился Бобби Сил (один из
вождей «Черных пантер».— Р. С), который с
оскорбительным презрением критиковал всех белых
«радикалов» и «новых левых», которые находились в зале.
«Белые, вы, белые либералы, вот что я делаю с вами. Когда
я был в школе и встречал маленького белого либерала,
я говорил ему: отдай мне деньги, которые тебе дали на
завтрак, или я тебе набью морду. И он мне отдавал их.
Потому что эти деньги — мои. Они мои из-за четырехсот
лет угнетения и расизма. Когда я беру деньги у вас,
свиньи, вы не должны протестовать. Я заставлю вас,
либералов, поддерживать движение негритянского
освобождения. Мы вас используем, чтобы уничтожить вашу
белую систему»3.
1 «Mond», 1968, January 23.
2 «New-York Times», 1968, February 29.
3 «L'Expresso», 1968, Julio 7.
104
Какие громкие слова! Но только слова. В 1969 году
реакционные силы США посадили в тюрьмы или
физически уничтожили большинство руководителей «Черных
пантер».
Это произошло в тот момент, когда на смену
максимализму пришли трезвость суждений и попытки
сближения «пантер» с демократическими силами страны.
Сидит в тюрьме и неистовый Бобби Сил, ожидая нового
суда и, возможно, смертной казни. Многие его друзья
уже застрелены. Такие дела.
Но сопоставьте слова вождя «пантер» с тем, что
чувствует и говорит необразованный Дюк,— разница
невелика, в сущности, хотя Дюк и мечтает о
насильственном изменении действительности исключительно в своих
личных интересах. Но Дюк — герой 1963 года, когда
громкий и призывный клич «Власть черным!» еще не
прозвучал.
То, что так впечатляюще показывает Кларк,—
большая и горькая правда о той части молодежи США,
которой от американского изобилия достаются жалкие
крохи. Но правда и то, что это лишь часть молодежи,
бросаемой на «дно» голодом и лишением. У Харрингто-
на, надо сказать, в книге соединены причины слишком
разные, которые в комплексе наваливаются лишь на
молодежь гетто и трущоб. Зато несравненно более
широкие круги знают воздействие одного-двух факторов.
Например, многие не знают голода и непосильного труда,
но страх и неустроенность знают слишком даже
хорошо. Особенно — страх.
Научно-техническая революция наших дней
серьезным образом изменила капиталистический мир.
Передовые капиталистические страны не перестают быть
капиталистическими— уже потому хотя бы, что сохраняется
частная собственность на средства производства,— но
пустое дело подходить к их характеристике со старыми
мерками, с традиционными представлениями. Главная
их особенность подчеркнута Тезисами ЦК КПСС к
50-летию Октября: «Современный капитализм — это
прежде всего государственно-монополистический
капитализм, приспосабливающийся к условиям борьбы двух
мировых систем» !. Капиталистическое государство ныне
1 «50 лет Великой Октябрьской социалистической революции.
Тезисы ЦК КПСС», М., 1967, стр. 50.
105
осуществляет определенный контроль над
производством, регулируя в известной мере процессы развития
и т. д. Благодаря государственным инвестициям
монополии могут вводить многолетнее планирование
производства. Этот государственно-монополистический
капитал создает — и еще как успешно! — новый тип
общества — бредовое, похожее на выдумку фантаста общество
потребителей. Постоянное стремление масс к
приобретению все новых и новейших товаров — автомобилей,
холодильников, радио- и телевизионных приемников,
предметов личного потребления,— стремление часто
алогичное, ибо машины зачастую меняются, не пройдя даже
гарантийного срока,— приводит к созданию мощной
индустрии «внутреннего потребления» и к увеличению доли
прибавочной стоимости, расходуемой на зарплату. Но,
не говоря уже о том, что «общество потребителей»
бесконечно далеко от «общества изобилия», ибо даже в
наиболее богатой стране Запада — США — имеются
миллионы людей, живущие в нищете,— в этом обществе
даже люди, обладающие, казалось бы, «нормой»
материальных благ, живут в растерянности и неуверенности
перед будущим.
Тема неуверенности прошла через многие
зарубежные фильмы 60-х годов.
«Время развлечений» — назвал свой фильм Жак Тат-
ти и показал... саморазрушающийся мир, нелепый и
античеловечный по своему существу.
«Время жить» назывался фильм Бернара Поля, без
обиняков говоривший о том, что жить невозможно, ибо
пришло время разрушения основ человечности.
И, наконец, Рене Аллио в «Пьере и Поле» рассказал
о человеке, который «вывалился» из общества
потребления.
Жил-был заурядный обыватель. Работал на стройке.
Имел машину (в рассрочку). Купил квартиру (в
рассрочку), а для квартиры — холодильник, мебель,
радиолу, ковер (все в рассрочку). Собирался жениться на
такой же скромной, как он сам, девушке-секретарше.
У него даже было хобби — по воскресеньям он судил
товарищеские встречи регбистов-любителей.
Жил-поживал человек, тянул лямку, как старая
лошадь, и вдруг взбунтовался. Об этом некогда рассказал
Джек Лондон. У Аллио история несколько посложнее:
на абстрактные мысли о бренности жизни наложились
106
вещи вполне материальные и осязаемые. Герой фильма
запутывается в кредитных операциях, и, когда на
работе начинаются трудности, связанные с приходом более
образованных и подготовленных инженеров, он,
владелец машины (в рассрочку), квартиры (в рассрочку),
холодильника (в рассрочку) и т. д., оказывается гол как
сокол.
Любопытна реакция героя на познание им
«несовместимости» человека и буржуазного общества: сначала
агрессивная — желание все разрушить, сломать,
перестрелять «этих крыс», затем — слезы, мольба: «Доктор,
вылечите меня! Тогда я опять буду все покупать» (в
рассрочку, разумеется).
Само общество рождает насилие — этот вывод
приходит закономерно из анализа фильмов, говорящих,
казалось бы, совсем о другом. Насилие и даже нечто более
страшное. Так, во время борьбы ультрареакционера
Уоллеса за президентское кресло Стюарт Олсоп писал:
«Уоллес говорит, что его избиратели — «рабочие
автомобильной, сталелитейной промышленности и шоферы
такси, и он утверждает, что они сделают его
президентом— если не в 1968 году, то в 1972-м. И, возможно, он
прав...» К
Как видим, квалифицированный рабочий, вошедший
в «средний класс», может оказаться сторонником
фашиствующего политикана — недурственная
характеристика для общества потребителей.
Объясняя далее этот социальный парадокс, С. Олсоп
указывает, что такой «человек Уоллеса» зарабатывает
за год 8—9 тысяч долларов, являясь одним из наиболее
высоко оплачиваемых рабочих и «...должен бы быть
доволен судьбой как хорошо откормленная дойная корова.
Но он отнюдь не доволен. Ибо его доход — иллюзия.
Если вычесть налоги и выплату взносов за дом, ему
останется... совсем не так уж много... «Человек Уоллеса»
работает изо всех сил, но ему не так уж много остается
для пива по субботам». Положение представителя
«средних слоев» таково, что если он не отстраняется от
политической борьбы, то закономерно оказывается на
стороне реакционных сил, ибо при всем своем недовольстве
он еще живет в постоянном страхе перед возможностью
перераспределения материальных благ.
1 «Der Spiegel», 1968, Ν 43.
107
«Средние слои» иначе называются мещанскими, и
именно мещане являются ужасом человечества. Именно
рост мещанских слоев заставляет многих наблюдателей
весьма скептически относиться к тому обозримому
будущему, которое исчисляется тридцатью-сорока годами.
Фантасты-социологи вполне основательно
предсказывают, что самой последней войной на Земле будет война
с организованными гангстерами. Возможно. И нет
малейшего сомнения, что бандиты будут уничтожены. Но
как уничтожить мещанство, питающее и гангстеризм, и
фашизм, и воинственный национализм, и многие другие
мерзости?
Ведь главное заключается в том, что сегодня
воспитание мещанства составляет первейшую задачу каждого
буржуазно-демократического правительства, а с
недавних пор и создающихся пропагандистских аппаратов
монополий!
Кроме того, экономический успех монополистического
капитала не изменил природы буржуазного общества —
пресловутого общества потребления,— и все его болезни
не только не исчезают с ростом национального
богатства, но в чем-то и обостряются. Это отмечают даже
буржуазные экономисты. Например, директор Института
изучения вопросов потребления Э. Лиль писал во
французской газете «Монд» еще до того, как франк попал
в беду: «С 1950 по 1967 г. средний уровень жизни
французов, если измерять его по индивидуальному
потреблению, повысился более чем вдвое... Что же касается
неравенства в уровнях жизни, сравнение результатов двух
обследований семейных бюджетов, произведенных в
1956 г. и в 1965 г., не показывает никакого сокращения
различий... Среди рабочих... месячное потребление
одного члена семьи... равно примерно половине месячного
потребления члена семьи лиц, принадлежащих к высшим
кадрам и свободным профессиям*1. По-прежнему у
детей буржуазии и интеллигенции шансы на поступление
в вузы достигают почти 40 процентов, а у детей
рабочих—1—2 процента. По-прежнему трудящиеся живут
в тревоге перед завтрашним днем.
Все это есть, хотя верно и то, что научно-техническая
революция внесла много изменений в капиталистическое
общество. И потому особенно важно видеть, как углу-
1 cMond», 1968, Septembre 25—27.
108
бились пороки идеологического и духовного порядка, что
приводит сегодня к насилию совсем по другим
причинам, нежели голод. Сегодня стреляют и занимаются
проституцией не только потому, что нечего есть.
Этот момент, заметим, очень тонко учтен Артуром
Пенном в его гангстерской кинобалладе «Бонни и
Клайд». В 30-х годах, когда на дорогах и маленьких
городах американского Юго-Запада действовала
многочисленная банда жестокого, совсем непохожего на Робин
Гуда, Клайда Бэрроу и провинциальной проститутки
Бонни Паркер, автоматы трещали и лилась кровь
потому, что в этот период «великой депрессии» иной раз у
молодежи и не было другого средства выжить. Артур
Пени, воскрешая легенду, не захотел делать очередной
боевик об организованном гангстеризме, вместо этого
он предложил зрителям необычный фильм, в котором
стреляют романтические любовники, и грабят они банки
не столько ради денег (все время их «уловы» мизерные,
не оправдывающие риска), сколько мстя обществу. Их
стрельба по полицейским не только защита, но еще и
своего рода преодоление комплекса неполноценности.
У Харрингтона очень знаменательны слова о том, что
подростки, сбивающиеся в* банды, «создают себе другой
мир... воображают себя героями необыкновенных
похождений с убийствами». Мечтают не о работе, покойной
жизни, достатке, но — «о демонической власти»!
Формы исследований жизни искусством обогатились
в 60-х годах особого рода документализмом, в чем-то
родственным социологии. Этот документализм
захлестнул искусство,— например, в литературе США доля
различного рода документальных произведений достигает
80 процентов. Одной из книг такого рода является
известное и у нас «Обыкновенное убийство» Трумэна Ка-
потэ — о «типичном» зверском убийстве. Это интересная
по форме книга, похожая, в сущности, на беллетризиро-
ванный полицейский протокол.
Современный документализм в искусстве, отвечая
жажде читателя и зрителя на правдивую информацию,
внешне избегает «типического», отказывается от
обобщений, акцентирует момент случайности. Одно из
«правил» этого документализма — уклонение от вынесения
приговора и определенных суждений. Так Б. Блийе в
фильме «Гитлер?.. Такого не знаю» ничего не добавляет
от себя к тем интервью молодежи, которые мы видим
109
на экране. Вопрос — ответ. У интервьюера голос не
меняется ни при каких ответах. Он спокойно говорит с
юношей, не слышавшим фамилии «Гитлер». Он спокоен с
девушкой, которая заявляет, что до того как выйти
замуж, она «попробует» семь-восемь любовников. Так же
спокоен внешне и Т. Капотэ, как бы отстраняющийся
от вынесения приговора.
Однако, в конце концов, документализм подчиняется
имманентным законам искусства и, как бы там ни было,
автор, выбирая тему, отбирая факты, организуя
материал и находя формы изложения, тем самым в той или
иной мере дает оценку показываемому. Эта оценка,
точнее сказать, авторская позиция, может быть не явной,
и автор, рассчитывая на то, что читатель или зритель
ассоциативно свяжет конкретный случай с жизненным
опытом и прежде полученной жизненной информацией,
предоставляет ему вынести окончательный приговор,—
тем не менее, автор всегда так или иначе выносит и свое
суждение. Так, Капотэ ведет рассказ внешне холодно
и как бы отчужденно, но его книга не равнодушная и
не объективистская, да и рассказанная им история
никак не воспринимается как единичная или случайная.
За его странным по форме рассказом встает целая
проблема— достаточно опасная для стран, где она
возникла. Это проблема, прежде всего, жизни, рождающей, как
влага плесень, жестокость.
Двое убийц из «Обыкновенного убийства» Трумэна
Капотэ могли бы найти работу. Вспомним, они ни разу
не жалуются, что это «нищета», или «голод», или
«лишения» и тому подобное толкнули их на убийство четырех
человек; да и писатель не ставит так вопрос. Тут нечто
другое. Капотэ передает рассказ одного из убийц о том,
что он видел и испытал на пляже в Акапульке,
наблюдая эпизод из другой, недоступной ему жизни: «Он был
примерно одних лет с Диком, этот человек, и сошел бы
за игрока, или адвоката, или чикагского гангстера. Уж
он-то изведал прелесть денег и власти. Весь его вид
говорил об этом. Блондинка, похожая на Мерилин Монро,
натирала его жидкостью для загара, а он лениво
протягивал руку с усеянными перстнями пальцами за
запотевшим ото льда стаканом апельсинового сока.
Почему все это никогда не будет принадлежать Дику?
Почему этому сукину сыну дано все, а ему — ничего?
Почему везет именно этому жирному ублюдку? Он, Дик,
110
обладал властью, держа в руке нож. И пусть жирные
ублюдки остерегаются, не то он им выпустит кишки»1.
Философия Дика мало чем. как видим, отличается
от кредо Дюка. И оба они духовно родственны годаров-
скому Мишелю Пуакару. Везде мы видим в конечном
счете отрицание мира через утверждение себя в этом
мире путем безмерного насилия. Везде речь идет не о
борьбе за законное место в жизни, не за возможность
пользоваться естественными человеческими правами, но
за жестокое право нарушать все права.
Ивэн Хантер в опубликованной и у нас повести
«Дело по обвинению» рассказывает о бандах белых
подростков,—картина мало чем отличается от того, что
рассказано Миллером и Кларк о неграх.
В сущности, логический подход и дотошное
расследование причин и мотивов тут мало что дают. В каждом
конкретном «деле» есть свои местные особенности,
однако все они ничего не значат в сравнении с тем
единственным объяснением, которое дано давно: капитализм
породил то общество, которого достоин и которое
только и устраивает его. Как ни общо это звучит, но это
единственно верное объяснение. Оно одно лишь дает
возможность понять факты и более потрясающие.
Например, 1 августа 1966 года бывший морской
пехотинец двадцати четырех лет от роду забрался на
крышу небоскреба в техасском городе Остине и открыл
огонь из снайперской винтовки по прохожим. 13
человек он уложил на месте, 31 ранил. Чуть ранее в Чикаго
другой молодой человек задушил 8 девушек-медсестер.
Оба убийцы были признаны невменяемыми. Допустим.
Но даже американские публицисты отметили, что хотя
такое «массовое убийство» может произойти где угодно,
но произошло не где-то, а именно в Техасе — штате
особенно жестоких нравов и Чикаго — столице
гангстеризма.
Эти два примера стали «классическими», они входят
теперь чуть ли не во все книги, рассказывающие о
сегодняшней Америке, но есть сотни примеров поновее и
ничуть не менее потрясающих. Так, осенью 1969 года
Америка «жила» кошмарным убийством на вилле
голливудской звезды Шарон Тейт, а 1970 год встретила
повторением такого же массового убийства в городке Форт
1 «Иностранная литература», 1964, № 4, стр. 240.
111
Брэгг, являющемся перевалочной базой парашютистов и
«зеленых беретов», направляющихся во Вьетнам. Как и
в Голливуде, убийцы напали на семью ночью, зарезали
даже малолетних детей и, как и в Голливуде, написали
кровью на стенах: «Свиньи!»
Убийц Шарон Тейт и ее друзей нашли—ими
оказались свихнувшиеся от наркотиков и злобы на весь мир
сравнительно молодые люди. Найдут, очевидно, и убийц
семьи Мак-Дональда. И снова, возможно, ими окажутся
какие-то выродки. Но... не явна ли здесь определенная
система сумасшествия? Система американская?
И снова вспомним один из фильмов Артура Пенна —
одного из новых режиссеров Голливуда, успевшего снять
только шесть картин, но имеющего сегодня мировую
известность, мастера четкой реалистической манеры и
критических взглядов на американскую действительность.
Фильму «Бонни и Клайд» у него предшествовал детектив
«Погоня», воспроизводящий нравы Техаса и сделанный
как бы с подчеркнутым соблюдением обычных для
такого рода фильмов стереотипов, выработанных Голливудом.
Здесь есть острый сюжет — погоня за бежавшим из
тюрьмы заключенным, есть довольно примитивный любовный
«треугольник», есть образцовый шериф (отлично
показанный Марлоном Брандо), стрельба, мордобой,
эффектные трюки. Но за ширмой голливудского стандартного
детектива скрывается гневная и предельно критическая
картина общества беззакония, кулачного права, дикого
произвола.
Шериф, выполняя свой долг и догадываясь, что
бежавший парень неповинен в убийстве, пытается спасти
его от суда Линча. Но на скотов (кстати, представителей
«среднего класса» — мелкого бизнесмена, клерка из
банка и т. д.) не действует ничто — ни ссылки на закон, ни
слезы матери несчастного парня, ни оружие полиции.
У них у каждого пистолет в кармане, и пускают они его
в ход не задумываясь. И они-таки пристрелили
невинного парня — на глазах шерифа, матери, толпы. Критик
Альберт Джонсон отмечает: «Техас Артура Пенна 60-х
годов нашего столетия выглядит Дантовым адом... Тема
картины — своеобразный парафраз убийства президента
Кеннеди в Техасе». С этим можно согласиться, добавив,
что Америку как Дантов ад чуткие художники
воспринимают уже давно. Еще в 1937 году Фриц Ланг показал
фильм «Ярость», в отношении которого сама «Погоня»
112
кажется «парафразом». В «Ярости» воспроизведена
картина суда Линча над невинным, ничуть не
отличающаяся по своей мерзости от того, что увидел А. Пени в
Америке 60-х годов.
Согласимся с тем, что в Америке преступления, как и
все другое, рекордно многочисленны и грандиозно
жестоки. Но эпидемия насилия сегодня перестала быть
привилегией единственно США. Ею тяжко больна трезвая
Англия. Ее знает благополучная Франция. А Италия...
Италия со своей сицилийской мафией является
подлинным позором современности.
Говорят, что каждый второй американец имеет либо
пистолет, либо карабин, либо на худой конец охотничье
ружье,— точного количества огнестрельного оружия,
находящегося в частных руках, никто не ведает. В 1968 году
оружейники продали еще 2 миллиона карабинов и
пистолетов. «Любовь к оружию», родившаяся в эпоху
завоевания Америки и сохранившаяся до настоящего времени,
и есть будто бы главная причина нескончаемого потока
убийств. Это соображение некогда высказал Эдгар Гувер,
руководитель ФБР. Отчасти это так,— чем больше
оружия, тем чаще оно стреляет. И в 1967 году из
огнестрельного оружия было отправлено на тот свет 7 600
американцев (в Англии — 30 человек, во Франции — 20). Кто
бы ни нускал в ход винтовки и пистолеты — гангстеры
ли, осатаневшие ли обыватели,— это неуклонно родит
новый поток крови. И все-таки соображение Гувера
справедливо лишь отчасти. Скорее все же, не «любовь»,
а чувство неуверенности и своего рода комплекс
неполноценности («своего рода» потому, что он удивительным
образом сочетается с самоуверенностью и убеждением в
личной непогрешимости) заставляет американцев с
молодости запасаться оружием. В элементарном
изложении это будет звучать так: Дюку и Дику оружие нужно
для того, чтобы отнять у «жирного ублюдка» его
перстни, блондинку и апельсиновый сок; «жирному ублюдку»
оружие нужно, чтобы никто не посягнул на его перстни,
блондинку и сок...
Можно сказать, что на охране «жирного ублюдка»
стоит полиция. Да, разумеется. Но пистолет ему все-таки
нужен, ибо атмосфера всеобщей жестокости стерла
былую ясность буржуазной юриспруденции и законности.
Да, по-видимому, и полиция уже утратила свой ореол
«рыцарей закона», нарушителей неуклонно карающих.
113
В течение многих десятков лет литература и
искусство создавали миф о полицейском — суровом, строгом,
непогрешимо справедливом, надежном страже порядка,
безопасности граждан и неприкосновенности частного
имущества. С теми или иными вариациями, он был
повсюду одинаков —во Франции, Англии, Италии и т. д.
Но особенно в этом плане расщедрился Голливуд.
Лучшие, самые обаятельные актеры выступали в ролях
шерифов. Как бы хитроумно ни был построен сюжет,
финал фильма бывал неизменен — полицейский либо
пристреливал преступника, либо защелкивал на его руках
стальные браслеты. Образ «плохого полицейского» был
редкостью в литературе и искусстве. Не будет
преувеличением сказать, что в США и Канаде создан подлинный
культ полицейского. И если посмотреть со стороны, то
покажется, что уважение к полицейскому стало здесь
инстинктивным. Приказам и замечаниям полицейских
североамериканцы подчиняются поспешно и без малейших
признаков недовольства. Мамаши с превеликим
удовольствием фотографируют своих детищ рядом с
полицейскими,— особенно если это канадский полицейский в
красном мундире, на коне, с ковбойскими пистолетами у
пояса и пикой в руке. Надо признать, что и полицейские
ведут себя с завидным достоинством. Снисходительно
фотографируются, не делая различий между малышами
ангельской внешности и сопливыми замарашками. У них
рядом с пистолетами висит футлярчик с медикаментами,
и в случае нужды они любому окажут скорую и
квалифицированную медицинскую помощь. Захваченные
дождем на улице, они не побегут, но будут шествовать, как ни
в чем не бывало, оберегая свое достоинство. И еще надо
отметить, что полицейские в Америке — вне критики.
Как-то мы смотрели по телевидению разгон большой
группы молодых сепаратистов, требующих выделения
французского Квебека из конфедерации. Полицейские
действовали умело и жестоко, расправляясь, по сути
дела, с мальчишками и девчонками. Зрелище было
мерзкое, но... никто не осуждал полицию.
Сущность американской полиции можно выявить
различными способами и доказать, как дважды два—четыре,
что у простых людей Америки нет абсолютно никаких
оснований уважать этих стражей буржуазного
правопорядка, вооруженных пистолетами, карабинами,
транзисторами— так называемыми рациями «уоки-токи» и мощны-
114
ми «фордами». Сейчас это делает искусство. Л\ногое
должно было измениться в самой природе буржуазного
общества, чтобы даже коммерческое искусство стало
смотреть на полицию критически, а подчас и с
нескрываемым презрением. Вот один тому пример.
Фильм «Рожденные для ненависти» («Кредо насилия»
и «Насилие» в европейском прокате) режиссера Т.-С.
Фрэнка (псевдоним режиссера и исполнителя главной
роли Тома Лауфли) какими-либо особенными
художественными достоинствами не обладает. Он внешне мало чем
отличается от массовой продукции Голливуда, да,
пожалуй, и от массовой итальянской, французской, японской
продукции. Многие критики, однако, воспользовались
фильмом как удачным поводом для публицистического
разговора о внутреннем положении в США, обратив
внимание на содержание — довольно необычное для такого
рода продукции. Содержание делает «Кредо насилия»
небезынтересной иллюстрацией и к нашему разговору.
Действие его происходит в наши дни в заштатном
калифорнийском городке. Там солнце. Голубое море.
Пальмы. И весь сногсшибательный сервис американизма.
Просто рай земной. Но в городе и окрестностях
действует банда «диких ангелов».-Впрочем, какая там банда —
всего десяток заросших, немытых, звероподобных
парней. Они превратили земной рай в зону ужаса,
безнаказанно насилуя девиц, избивая любого, кто косо взглянет
на них, грабя и воруя. Обыватели терроризированы и
запуганы. Полиция будто бы бессильна, ибо никто не
осмеливается выступить с обвинениями против
насильников. Молчат истерзанные девицы. Молчат избитые
парни. Молчат их матери и отцы...
Здесь правда ловко смешана с ложью. Известная
история убийства в респектабельном нью-йоркском районе
Куинз девушки на глазах 38 свидетелей, никто из
которых не вызвал даже полицию, служит ручательством
тому, что кучка фашиствующих хулиганов вполне могла
держать в страхе целый город. Можно поверить и тому,
что полиция была бессильна. Но не из-за того, что ее
действия связаны законом, а в силу все той же трусости —
оборотной стороны жестокости. И авторы фильма, начав
с двусмысленного объяснения бездействия полиции
«спецификой» американских законов, настолько будто бы
оберегающих свободу личности, что даже попрание
элементарнейших прав этой личности остается безнаказанным,
115
переходят в конце концов к унизительному обвинению
полиции в трусости и тупости.
Фильм «Кредо насилия», в сущности, показывает
настолько мерзкие вещих что, не будь он снят
американцами, можно было бы подумать — это произведение
антиамериканское, пропагандистское. Ведь если в каком-либо
обществе может происходить то, что столь откровенно
показано в фильме, то значит, это уже смердящий труп,
а не общество.
Впрочем, фильм этот отнюдь не жанровая зарисовка
американского образа жизни. Фильм претендует на
обладание определенной позитивной программой.
Голливудский фильм не может плохо кончаться,—
исключения очень редки, хэппи энд — правило. «Кредо
насилия» также завершается преблагополучно. Нашелся
все-таки в запуганном городишке настоящий человек,
который не испугался «ангелов»,— это бывший
солдат-десантник, вернувшийся из Вьетнама. Он взял в руки
карабин и, презрев предостережение шерифа о том, что он,
мол, «совершает самоубийство», открыл по шпане огонь.
Пример демобилизованного солдата пристыдил и
вдохновил полицию. С «ангелами», оказывается, совсем не
так уж и трудно было справиться. Главарю солдат
всадил пулю в переносицу, банду арестовала полиция.
Правда, в сумятице болван-шериф ранил по ошибке и
солдата, но фильм кончается тем, что раненого увозит
вертолет и девушка, которую терзали бандиты и спасал
солдат на протяжении полутора часов, целует его,
обещая счастье и любовь. (Пикантность этой ситуации в
том, что девушка — белая, студентка, из состоятельной
семьи, а солдат — либо индеец, либо креол, бедняк и
плебей.)
Фильм «Кредо насилия» содержит две
противоречащие друг другу мысли. С одной стороны, фильм осуждает
насилие, но с другой — показывая бессилие закона и
полиции, призывает американцев взяться за оружие и,
плюнув на закон, расправляться с бандитами «как в
старые добрые времена» завоевания Дикого Запада. Критик
Мино Арджентьери писал в этой связи в марте 1968 года
в «Ринашита»: «Смысл заключается в том, что
герой-освободитель действует в одиночку, не прибегая и не
пытаясь возбудить сознание общественности и привлечь ее
к активным действиям. Он действует своими
собственными средствами...»
116
А если это вам не подходит, to автор указывает й еще
одну альтернативу: дать полиции не только оружие, но и
право пускать его в ход по своему усмотрению. Эта мысль
фильма остановила внимание публициста Ю.Жукова,
писавшего в конце 1967 года в «Правде», что сегодня
полиция США такого рода чрезвычайные права прежде всего
использует не против бандитов, а против безоружных
студентов и прогрессивной части общества, требующей
социального обновления.
Через пять лет режиссер Джон Хопкинс и Питер
Фонда, герой кормаиовских «Диких ангелов», по-своему
расскажут о судьбе бродяжничающей на мотоциклах
молодежи. У Питера Фонда, снова выступающего в главной
роли затянутого в черную кожу мотоциклиста, на куртке
вместо свастики теперь нашит звездно-полосатый
государственный флаг Америки. Что это? Знак его
«лояльности»? Можно, очевидно, считать и так. Во всяком случае,
в «Диких ангелах» он был агрессивен и циничен. В новом
фильме он спокоен, раздумчив и, пожалуй, чуть печален.
Если он и продолжает рассказ об одном и том же герое,
то спустя пять лет он, этот парень в черной коже,
перестал буянить и стремится лишь к своеобразному
отшельничеству — в шумной, деловитой, обжитой Америке; он
ни в ком не нуждается и хотел бы, чтобы и его никто не
трогал.
Не получилось! Одного из его друзей спящего
забьют насмерть палками. Другого пристрелят. А когда он
бросится на помощь, спокойно и расчетливо всадят пулю
и в него, носящего звездно-полосатый флаг. Бить и
стрелять будут не полицейские, не гангстеры, не
импозантные ку-клукс-клановцы, но благообразные обыватели,
упитанные и немолодые мужчины, если и
принадлежащие к «среднему классу», то явно к самым низким его
слоям: может быть, мелкие лавочники, может быть,
мелкие фермеры.
Фильм этот называется «Легкий наездник» (1970), и
он при всей своей нарочитой несколько
безыскусственности представляется одним из самых яростных
обвинительных документов, свидетельствующих об одичании
Америки.
Между «дикими ангелами» из фильма Фрэнка и
ужасающим убийцей-снайпером из Техаса то общее, что
их жестокость внешне не имеет никакого разумного
объяснения. У гитлеровских головорезов была «идея» це-
117
лесообразности. Здесь же, пытаясь хоть что-либо
объяснить логикой, забираешься в тот самый
«психоанализ, что заводит черт знает куда и больного, и самого
доктора» *, как говорил И. Павлов.
Во всяком случае, «ангелы» совсем не то, что
называют фашизмом. Они малюют у себя на спинах
свастики, носят привезенные из Европы железные кресты и
рогатые немецкие каски, знают немного и о Гитлере.
И все же они лишь молодежь, свихнувшаяся до такой
степени, что стала опасной. В Соединенных Штатах есть
силы, несущие угрозу фашизма,— это общество Джона
Бэрча, это организация минитменов и ряд других. Но
никак не «дикие ангелы», которых деловые бэрчисты могли
бы разве что, при благоприятной обстановке,
использовать как подручных для грязной работы...
То, что вытворяют «ангелы», лишено смысла и целей.
В сущности, их жестокость так же самоубийственна, как
героин для наркоманов. И как это ни дико звучит, но эти
омерзительные создания тоже жертвы, ибо порождены
определенным образом жизни. Их необъяснимая ярость,
развязанное и уже не поддающееся обузданию дикое
желание убивать, крушить, насиловать, унижать людей, а
самим вытащить из самых темных уголков души и
цинично выставить напоказ мерзость, грязь и низость — все это
не «развязанная природа» человека, как утверждают
некоторые буржуазные психологи, но вполне объяснимая
реакция на определенную действительность, более того —
продукт долголетнего «воспитания», если так можно
назвать долголетний процесс разрушения личности.
«Дикие ангелы» не одиноки в своей ярости против
мира.
Прошло слишком много времени, чтобы помнить все,
что писала в свое время пресса по поводу съезда
шведских «раггаров» в Кристианстаде. Помнится, там
поначалу не было «ничего», что дало бы полиции законный
повод для вмешательства. Но потом молодые
автомобилисты и мотоциклисты поразили мир цинизмом,— правда,
шло лето 1959 года, и мир еще не разучился удивляться.
Об этом кристианстадском шабаше напомнил А. Борща-
говский в книге «Толпа одиноких» — о том, как
перепившие парни впали в скотское состояние, как плясали твист
их раздевшиеся донага подружки, как, наконец, было
1 И. Павлов, Павловские клинические среды, М., 1955, стр. 485.
118
устроено шоу по-шведски — публичный половой акт на
капоте автомобиля. Полиция все же вмешалась, и
началась грандиозная потасовка...
После 1959 года было немало сообщений о подобных
же шабашах — на Ил-Пай-Айланде (Англия), в
Гамбурге (ФРГ), около Канн (Франция), на холмах близ Сан-
Франциско (США) и т. д. Везде происходило нечто
такое, что столько же поражает воображение
бессмысленностью, сколько и садизмом самовыворачивания —
избиения до смерти слабых и увечных ребят, изнасилования
на танцплощадках, чудовищные издевательства над
девушками, в чем-то там провинившимися, кровавые
драки...
Какой-то американец, когда его спросили, что нужно
прежде всего сделать, когда будет заключен вечный мир,
ответил: «Повесить всех журналистов». Наверное,
стоило бы к ним прибавить и некоторых художников. Если
«Кредо насилия» рисует безусловными мерзавцами
«диких ангелов», то сколько же картин показывает их то
как романтических героев, то как расшалившихся
детишек. В общем-то буржуазия никак не хочет осудить тех,
кто порожден ее пропагандой.
«Дикие ангелы», «раггеры», «блузон нуары» и тому
подобные моторизованные дикари составляют — по
подсчетам западных журналистов — весьма незначительную
в процентном отношении часть молодежи. Да, конечно,
но ведь формы выпадения из общества достаточно
многочисленны, и, право же, трудно даже сказать, какая из
них наиболее опасна. Можно не быть мрачным
насильником, однако представлять собой личность, не менее
социально опасную для общества.
Вот пример.
...Ева Аулин, очаровательная блондинка из
Стокгольма, в шестнадцать лет получила титул самой красивой
девушки-подростка в мире, соревнуясь с красотками из
пятидесяти двух стран. В восемнадцать лет она начала
сниматься в фильме «Конфетка» по имевшему
скандальный успех порнографическому роману,— внешность и
роль обеспечивали Еве карьеру кинозвезды. Пророча ей
опустевший трон Мерилин Монро, американские
журналисты познакомили своих читателей с Евой, рассказав,
что она ест, пьет, какова она в платье-мини и какова без
оного. С удовольствием напечатали ее заявление: «Мы в
Швеции больше чем кто-либо честны в отношении сек-
119
са,— говорит Ева доверительно, и ее большие голубые
глаза смотрят возбужденно.— У нас показывают любовь
прекрасно, потому что мы считаем, что нет ничего, чего
стоило бы стыдиться. А почему в американских фильмах
никогда не показывают людей голыми?..» 1
Глупость? Нет, скорее плоды определенного
воспитания. И если Ева станет звездой, что вполне возможно,
она будет для общества опаснее «диких ангелов».
О жестокости молодежи, о росте преступности в ее
среде написано больше, чем о чем-либо другом. Это
понятно — в фактах, подобных тем, что привели мы,
безумие мира выступает как бы в химически чистом виде.
Не требуется особенной прозорливости, чтобы увидеть
прямую связь между парнем, вступающим в банду, и
респектабельным юнцом, заявляющим интервьюеру, что
фамилию «Гитлер» он никогда не слышал. Они
порождены одним временем, и они одинаковые духовные калеки.
Первый лишь более абсурден, с точки зрения любого
буржуазного социолога или журналиста.
Преступность молодежи — крайнее выражение
духовного неблагополучия, наиболее болезненная и, по всей
видимости, пока что совершенно неизлечимая форма
духовного рака. Но молодежь живет не только в бандах —
там их все же меньшинство — и сталкивается не только с
«проблемами Дюка».
1 «Berkeley Daily Gazette». 1968, March 15.
VI
„Революция" в постели
Мир интимных чувств издавна принадлежит
искусству и по-настоящему доступен только искусству. Даже
ученые, если они исследуют этот мир тактично и
уважительно, вдруг становятся поэтами.
Такое случилось с этнографом Жаном Рушем и
социологом Эдгаром Мореном, с именем которых связано
рождение метода cinémarverité (киноправды),— метода
документального кино, претендовавшего на предельно
объективное отражение действительности. Их фильм
«Хроника одного лета> показал тревоги и надежды
простых людей Франции лета 1962-го. С портативными
камерой и магнитофоном Руш и Морен вышли на улицы
Парижа, интервьюируя всех, кто соглашался делиться с
ними своими мыслями и чувствами. Фильм получился
очень спорный, но поразительно интересный как
социальный документ. И особенно интересна в нем теплая и
добрая глава о Мари-Лу, итальянке, работающей в
Париже секретаршей и живущей, как можно догадаться,
проникая в недоговоренности, беспорядочно и угарно.
Пьяные оргии, случайные связи, а в конце концов вечное
одиночество и страх. «Как мне надоело жить в комнате для
прислуги, мерзнуть зимой, толкаться каждое утро в
метро в часы «пик»1» — жалуется она перед микрофоном и
камерой. И мы видим на экране милую молодую
женщину— чуть грустную, чуть усталую и угасшую. Через
некоторое время камера вновь встретилась с Мари-Лу.
У нее появился друг. Она любит. Как всегда, она
боится, что это долго не продлится. Страх не прошел, он та-
121
ится в ее глазах. Но она счастлива, ее улыбка стала
нежной и смущенной; она очень похорошела.
Для Руша и Морена история Мари-Лу была не
более как киноанкетой, с помощью которой они хотели
раскрыть жизнь определенного слоя мелких служащих,
причем жизнь внутреннюю, ибо их внешнее, материальное
положение не составляет никакой загадки. Они
раскрыли эту жизнь так, что получили не только социальную
характеристику Мари-Лу, но еще и чеховскую по своей
тональности новеллу об итальянке из Кремона,
приехавшей в Париж за счастьем и встретившей одиночество,
страх, неуверенность в будущем.
Критики «Хроники одного лета» обвинили авторов в
том, что новелла о Мари-Лу более игровая, чем
документальная. Упрек этот был бы понятен, если бы его
произнесли социологи. Искусствоведам же стоило бы
понять, что без Мари-Лу не было бы произведения
искусства. Руш и Морен поняли или почувствовали, что без
любви фильм не получится, и они рассказали о любви
грустной и безнадежной.
Любовь — искусство — молодежь... Можно
переставить местами слова-понятия, но все равно схема эта
покажется вечной. Однако сегодня и это триединство
разрушается буржуазной действительностью. Во всяком
случае, любовь исчезает из искусства, исчезает с экранов.
И тут уже даже буржуазные исследователи нравов
признают, что исчезновение любви в искусстве — часть
общего процесса обесчеловечивания. «Боязнь показывать
любовь на экране — не случайна,— пишет социолог Аго
Киру, автор книги об эволюции темы любви в кино,—
это часть гигантской операции по уничтожению любви
вообще, операции, которую наше общество начало
несколько столетий назад». Это утверждение тем
примечательно, что автор начисто отказывается видеть, помимо
«операции», какие-либо иные причины исчезновения
любви из фильмов Запада.
Но, очевидно, есть и объективные причины тому. Ради
справедливости напомним, что проблема показа любви
существует и в кино социалистических стран, в целом
прямо и резко противостоящем волне аморализма,
заливающей в последние годы буржуазное кино. В
социалистическом киноискусстве появилось немало фильмов,
защищающих такое естественное человеческое чувство,
как любовь, и, что особенно важно, исследующих те оиас-
122
ные отклонения, которые происходят в этой области
чувств. Можно назвать ряд фильмов, заставляющих
задуматься над трудноуловимыми, но вполне жизненными
вопросами — «голода чувств», как определил Е. Кавале-
рович смысл своего «Поезда», «неумения любить» в
«Долгой счастливой жизни» Г. Шпаликова,
безответственности во взаимоотношениях части молодежи, что
особенно настойчиво проходит через фильмы венгерских
режиссеров, и т. д.
В самом начале 60-х годов Анджей Вайда в
«Невинных чародеях» рассказал о масках, которыми молодежь
прикрывает жажду любви и счастья. Маски изображают
пресыщенность и душевную усталость, цинизм и
равнодушие. Носить такую маску — значит принадлежать к
некоей духовной элите. Маска удобна: она освобождает
от ответственности, от необходимости думать. Но это
только маска — ложное обличье. Когда «невинные
чародеи», молодой врач и интеллигентная студентка,
чувствуют, что пришла любовь,— игре в цинизм приходит
конец. За спавшими масками мы видим застенчивых и
беззащитных молодых людей.
Фильм Вайды кончается счастливо, но это не
стандартный хэппи энд. Вайда и его сценаристы с самого
начала отвергали толкование затронутой ими проблемы
как неизлечимой болезни, о чем свидетельствуют
опубликованные варианты финальной сцены «Невинных
чародеев». Сценаристы предлагали и такой вариант: Базиль,
герой фильма,— это робот, созданный
старичками-учеными для исследования поведения молодежи; встретившись
с настоящей любовью, робот действует не по программе
и гибнет.
«Невинные чародеи» — добрый фильм, необычно
добрый для Вайды, славящегося жестокостью своих
рассказов о военном прошлом Польши. Вайда, однако, далек от
идеализации польской молодежи 60-х годов. В 1962 году
он снимает новеллу «Любовь в 20 лет» и, надо заметить,
судит молодежь жестко, с каким-то даже старческим
брюзжанием. Точно найденная ситуация дает ему на это
если не право, то оправдание.
...Во Вроцлавском зоопарке в вольер к медведю
впрыгнул ребенок. Толпа в ужасе. Крик. Целовавшаяся
поблизости парочка мгновенно ссорится: Бася требует от
своего Владека подвига, а Владек предпочитает щелкать
своей лейкой уникальные кадры. Но вдруг из толпы в
123
вольер прыгает неловкий, толстеющий человек средних
лет. Словно бы конфузясь, он тем не менее решительно
выхватывает маленькую девочку буквально из пасти
зверя.
Затем следует сцена в доме у Баси. Молодежь
поначалу искренне восхищается героем, но, когда он начинает
рассказывать о Сопротивлении, они разочарованно
машут руками: «Мы это видели в кино, надоело...» Герой
внешне не похож на героя, а его военное прошлое не
интересует их. И они перестают обращать внимание на
него — танцуют, целуются, готовятся к экзаменам. А
потом вовлекают в игру — завязывают глаза, толкают,
щекочут, кружат. Герой, не замечая издевательства,
смеется. Но кружение все быстрее, и по какой-то сложной
ассоциации герой вдруг вспоминает расстрел своих друзей,
выходивших из варшавских канализационных катакомб.
И смех сменяется гримасой ужаса и боли...
Роль героя исполнил Збигнев Цибульский —
незабываемый Мацек Хельмицкий из «Пепла и алмаза». По
мнению критика М. Черненко, Вайда намеренно
пригласил на эту роль героя своего шедевра: если бы Мацек не
погиб, если бы любовь к Кристине удержала его от
последнего выстрела, то сегодня он мог бы стать вот таким
толстеющим, неряшливо одетым и
конфузливо-близоруким мужчиной лет сорока. И вот так, без рисовки и
лишних слов, он запросто сделал бы то, на что сегодняшние
двадцатилетние не способны,— прыгнуть без колебаний
к медведю. В этом Вайда прав: рисковать жизнью не
умеют двадцатилетние и умеют сорокалетние (фильм
вышел в 1962 году). Но из этого никак не следует, что одно
поколение хорошее, а другое — плохое. И
противопоставляя наивности, простоте, искренности героя
Сопротивления эгоизм, бездушие, расчетливость, присущие будто бы
двадцатилетним, Вайда несколько передергивает.
Вспоминая «лучшие годы нашей жизни», не стоит упускать из
виду тот факт, что те годы уже необратимы. И нельзя
забывать, что жизнь под пулями была в чем-то проще,
чем нынче, что смерть, угрожавшая каждому, очищала
интимную жизнь людей — тем хотя бы, что не давала
времени для раздумий о будущем. Но время изменилось, и
перед новым поколением встали задачи посложнее тех,
что стояли перед Мацеком Хельмицким.
Герой уйдет от Баси печальным и чуть растерянным.
Но когда Владек полезет на него с кулаками, он сначала
124
резко оттолкнет его, а потом сам же пошлет к Басе и
утешит: «Все обойдется...» Вайда далеко ушел здесь от
«Невинных чародеев». Можно думать, что в международном
фильме он уступил зарубежным вкусам и
представлениям о всеобщности конфликта «отцов и детей». Между
тем проблема в ином: она, как это ни банально звучит,
именно в неумении любить.
Об этом рассказывают многие фильмы, мы
остановимся лишь на одном — «Женщине на один сезон»
Георге Витанидиса.
Прекрасная и обаятельная актриса румынского
театра и кино Ирина Петреску тонко и убедительно
воссоздала здесь мир чувств молодой женщины — очень
обыкновенной, ничем на первый взгляд не примечательной
медицинской сестры. Доктору Палалоге Анна поначалу
кажется лишь удобным объектом для необременительной
интрижки. Однако пошлый романчик неожиданно
оборачивается большим чувством, жизненной драмой.
В обыкновенной девушке — «на один сезон» —
раскрывается способность необыкновенно тонко чувствовать, в ней
просыпаются душевное благородство, глубокая
деликатность. (Показ актрисой неуверенного сближения,
всепоглощающей любви и полный достоинства уход Анны из
жизни Палалога не назовешь игрой — это похоже на
исповедь!)
Тема фильма достаточно остра, делали его одаренные
художники, и все же он оказался фильмом одной роли и
одного актера, ибо только Ирине Петреску удалось
преодолеть очевидные недостатки сценария. Где-то к финалу
сюжет решительно уходит от жизненной правды, обретая
все черты «литературщины». Палалога, видите ли, хотя и
любит Анну, но считает ее стоящей настолько ниже себя
на социальной лестнице, что почитает необходимым
расстаться с нею и обратиться с матримониальными
намерениями к нелюбимой, но зато равной ему по положению
доктору Майе.
Сюжетный ход, имеющий в мировой литературе и
искусстве богатейшую традицию, помогавший вскрывать
пороки общества, в котором имущественное неравенство
становилось причиной бесчисленных драм, в данном
случае механически перенесен на совсем иную почву. И
умозрительность мстит авторам: фильм теряет
убедительность социального документа. Остается лишь Анна —
125
Ирина, девушка удивительной души, потерявшая
любовь...
Можно назвать десятки фильмов, сделанных в 60-х
годах в социалистических странах — и лучше и хуже, чем
«Женщина на один сезон»,— в которых художники
бросают обвинения своим зрителям: за нечуткость, за
легкомыслие, за неумение любить и беречь любовь. Однако
важно подчеркнуть, что все эти фильмы тоже часть
«операции», если воспользоваться терминологией Киру, но
«операции» с иным знаком, имеющей целью возвратить
людям утраченное.
Было бы неверно думать, что передовых художников
Запада не тревожит «операция» по уничтожению любви.
Можно вспомнить ошеломительный успех экранизации
Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта»,— успех,
который трудно объяснить лишь художественными
достоинствами ленты, в котором немалое значение сыграло
само возвращение на экран романтической любви.
Можно назвать и другие, хотя в общем очень
немногочисленные фильмы, выступающие против
деструктивных тенденций в показе человеческих чувств. Одна из
наиболее ясно звучащих нот в такого рода
произведениях— тоска по утрачиваемой чистоте и нежности. Тоска
пронизывает, например, и некоторые произведения
середины 60-х годов такого в целом негативного художника,
как Годар.
Иногда лишь знакомство с личной жизнью
художника позволяет понять те или иные мотивы в его
творчестве. Из молодых западных режиссеров кино это
особенно касается Жан-Люка Годара. Этот мистификатор,
нигилист, анархист, циник, аморальный тип, как называет
его буржуазная пресса и что нередко соответствует
подлинному положению дел, имел честь быть несчастным
влюбленным. Большинство его фильмов, исключая самые
последние, это своего рода песнь любви к Анне Карине,
это постоянное, подчас горькое, иногда, как в «Альфави-
ле», романтичное объяснение в любви. Те фильмы, в
которых участвовала эта созданная им же звезда нового
французского кино, отнюдь не циничны и не аморальны;
и напротив — теряя Анну Карину, он становился зол и
несправедлив к своим героям. Правда, этого не скажешь
о роли Патриции.
Образ американочки, созданный в фильме «На
последнем дыхании» Годаром и прославившейся этой
126
ролью, до нее второстепенной голливудской актрисой —
Джин Себерг,— сложен и социально значим. Собственно
говоря, Годар образом Патриции совсем не делает каких-
либо обобщений относительно женщин вообще. Этот
образ порожден острой наблюдательностью Годара, и его
антифеминизм действителен только для определенного
типа американок.
Годар угадал тип американской девицы,
окончательно сформировавшийся лишь в середине 60-х годов, тип
совершенно незнакомый ни американским, ни
европейским писателям даже конца 50-х годов, не говоря уже о
более раннем времени. Угадал потому, наверное, что это
наиболее отвратительный для него тип женщины.
Патриция умнее и образованнее Мишеля. «Ты знаешь
Фолкнера?» — спрашивает она Мишеля. «Это кто? Один из
твоих любовников?» — «Нет, глупенький, он великий
писатель. Послушай, что он пишет: «Лучше тоска, чем
ничего».— «Ну его к черту, раз он не твой любовник. По
мне лучше ничего, чем тоска...» Собственно говоря,
Патриция во всем превосходит Мишеля, и их связь могла бы
показаться странной, если бы... не человечность Мишеля
и не особенная, чисто американская, по мнению Годара,
бездушность Патриции. Человечный гангстер и
бездушная интеллектуалка, будущая журналистка — парадокс
во вкусе Годара, но это и парадокс современной
буржуазной действительности.
Сегодня на фильм Годара смотришь в свете многих
книг, пьес, картин, в которых образ Патриции развит и
объяснен. Американка, окончившая университет и
приехавшая в Европу на более или менее долгий уик-энд, в
программу которого помимо ознакомления с музеями и
библиотеками непременно входит любовная связь с
человеком, не похожим на американцев,— это уже стало
банальностью. В прошлом веке отпрыски русских дворян
завершали образование в злачных местах Европы; над
ними довлел долг их касты, и, погуляв в свое
удовольствие, они возвращались восвояси, чтобы стать, как
правило, строгими чиновниками, столпами отечества. Какая-
то часть американской молодежи сегодня тоже едет в
Европу, а в самое последнее время и в Латинскую
Америку, и в Азию, чтобы вкусить любви, беспорядка, чтобы
хотя бы коснуться подлинных человеческих чувств. А
потом возвращается домой, превращаясь мгновенно в пре-
благополучнейших мещан, украдкой вспоминающих о
127
«безумствах», но не верящих, что можно жить иначе, чем
в их благословенной стране.
Патриции повезло: Мишель необычайно интересный
любовник, в то же время он настолько неподходящий для
нее друг, что она может без малейшего колебания
выдать его полиции. Впрочем, она продала бы, будучи
поставлена полицейским агентом перед выбором —
высылка из Франции или голова друга,— любого парня, ибо
где-то внутри у американца ее типа скрывается железная
уверенность в своем превосходстве над любыми
неамериканцами, уверенность в своем праве поступать всегда и
во всем по-своему, не считаясь ни с чем. Уверенность
Патриции и ей подобных в собственном превосходстве
обескураживает. Механизм их нравственности настолько
бесчеловечен, что понять его неамериканцу почти
невозможно. Это не эгоизм даже, и не то, что называют
«применительно к подлости»; это что-то такое, с чем, видимо,
надо родиться, как с дальтонизмом. Не понимает
Патрицию и необразованный Мишель. Умирая,
подстреленный прибывшей по ее вызову полицией, он бросит в ее
хорошенькую мордочку резкое ругательство: «Стерва!»
«Не понимаю»,— ответит Патриция. И ведь не поймет и
потом, найдя в каком-нибудь словаре это слово, не
сможет понять потому, что за ругательством скрыта целая
система человеческих чувств, чуждых ей.
Этот финальный эпизод некоторые критики
восприняли как метафору: люди неспособны понять друг друга.
У Годара часто герои не понимают друг друга, но эти
герои редко бывают людьми. Патриции он также
отказывает в праве называться человеком.
То, что сказал Годар о Патриции, и то, что вслед за
ним черты «себергизма» художники и социологи увидели
в совсем не малой части американок, в одиночку или по
двое — по трое шатающихся по свету, может показаться
несправедливым. Ну что, в самом деле, за
пристрастность! А француженки или, к примеру, англичанки
лучше? Не знаю. Сравнительных сведений, слава богу, нет.
Но я слышал от женщины-таможенника, человека в
годах и не склонной по характеру к скоропалительным
заключениям, что почти у каждой молодой туристки из
США в сумочке непременно лежит рядом с долларами,
паспортом, гигиеническими салфетками, заменяющими
носовой платок, еще и коробочка с новейшими
противозачаточными средствами. Туристки из других стран, быть
128
может, также не забывают эти средства, но, во всяком
случае, не держат их в такой наивной готовности.
А Годар — этот циник и нигилист, по уверениям
благонамеренной буржуазной прессы,— может быть обвинен
во всех грехах, но только не в грехе аморализма. Он
рассказал о проститутке из парижского пригорода 1962 года
и проститутках-любительницах 2000 года, о неверных
женах, о ветреных девчонках, но это всегда было лишено
у него оправдания, напротив — это рассказы с горечью, с
растерянностью и злобой на то, что порождает
аморализм. Ведь это Годар скажет, снимая «Пьеро-безумца»
(1965): «Мне захотелось вместо возлюбленных из
«Лолиты» или «Суки» снять рассказ о последних
романтических возлюбленных, о последних потомках «Новой Элои-
зы», «Вертера» и «Германа и Доротеи». И на роль
Германа он возьмет Бельмондо (Доротеей будет, конечно,
Анна Карина).
У Годара есть и еще один поразительный фильм
«о любви» — фантастический «Альфавиль» (1965),
предостерегающий людей от «электронного фашизма», от
общественного устройства, предоставляющего людям
максимум материальных благ и начисто лишающего их чувств.
Действие фильма происходит на планете, которой правит
электронная машина, логичная и бездушная. Мир Аль-
фавиля не воссоздан в павильонах — Годар все снимал
в Париже, как бы предупреждая, что люди уже подходят
к той черте, за которой следует духовная гибель.
Эпиграфом фильма служат графика Пикассо и картина Про-
рокова «Танки на дно!», но могла бы им быть и фраза
М. Горького из «Челкаша»: «Созданное ими поработило
и обезличило их». Прибывший с Земли на Альфу-60
полномочный агент разрушает установленную машиной
диктатуру, освобождает альфавильцев. Но вернуть им
душу — это задача посложнее, чем уничтожение
«электронного фашизма» силой. Сам агент (его имя — Иван
Джонсон, что должно означать, что на Земле давно улажены
все конфликты и земляне живут единой семьей) борется
за спасение дочери изобретателя «электронного
фашизма» Наташи фон Браун. Есть только одно средство
спасти Наташу (Анна Карина) : разбудить ее душу. И фильм
кончается следующим диалогом:
«Наташа. Вы смотрите на меня очень странно.
Я чувствую, что вы чего-то ждете от меня?
Иван. Да.
8 Р. Соболев
129
H а τ а ш а. Я не знаю, что сказать. Я не знаю нужных
слов. Меня не научили им. Пожалуйста, помогите мне...
Иван. Невозможно, принцесса. Вы должны
справиться сами, только тогда вы будете спасены. Если вы не
сможете... значит вы умерли.
Наташа. Я... люблю... вас... Я люблю вас!» х.
Я не знаю, кто в кино на Западе говорит сегодня об
исчезновении любви с большей серьезностью и тревогой,
чем Годар.
Небольшое очередное отступление. Я рассказал о том,
как собираюсь писать об образе Патриции
американскому кинокритику. Реакция его была именно такой,
какую я и ожидал: он согласился, что девушек, похожих на
Патрицию, немало болтается и по Европе, и по
Латинской Америке, а ныне и по Индии, но он энергично начал
тут же защищать американских девушек, ссылаясь на
множество авторитетов, от Джека Лондона до Хемингуэя,
Фолкнера и Уильямса включительно. Я не только не
возражал, но обещал найти место в книге для его
соображений, что и делаю.
Не думаю, что нужно тревожить память Хемингуэя:
он рядом со своими героями-американцами, которым
отдавал сердце, почему-то всегда ставил
женщин-неамериканок, чаще всего — англичанок. Одно большое
исключение— убийца Мери из «Снегов Килиманджаро». Не
очень убедительны ссылки и на Фолкнера и Уильямса —
у них можно найти любые примеры. А Джек Лондон —
это, конечно, история, притом, пожалуй, сказочная. Но
верно то, что американское массовое искусство, особенно
кино 20-х и 30-х годов и ходовая литература весьма
настойчиво утверждали, что американки — самые верные,
мужественные, надежные женщины в мире. Особенно
последовательны в этом утверждении были вестерны. И
несомненно, что такого рода воспитание не было
бесследным. Верно и то, что начиная со второй половины 30-х
годов американские женщины, отстраненные в массе от
участия в деловой и общественной жизни страны, стали
быстро обгонять мужчин по уровню интеллекта. Рост
благосостояния и технизация быта позволили им уделять
много времени чтению, самообразованию, развитию
культуры. Американка, как правило, умнее и
образованнее своего супруга, — это подмечено давно и многими.
1 /. L Godard, Alphaville, London, 1967, p. 79.
130
Вот и все, что мой коллега сообщил мне. Здесь нет
ничего, что нельзя было бы прочесть во многих книгах
как американских, так и европейских авторов. И если
правда, что американки «самые... самые... самые...», то
что ж — поздравим американцев. И, право же, никто не
утверждает, что образ Патриции — портрет всех
американских девушек. Когда американские журналисты
обвиняют английскую и шведскую молодежь в аморальности,
они, наверное, при этом оглядываются и на свою
молодежь и производят сравнения, которые оказываются
выгодными для нее и с которыми соглашаются англичане и
шведы. Джеймс Олдридж как-то написал специально
для «Известий» любопытную статью под названием
«Мораль и будущее». Там есть признание: «Недавно в «Нью-
Йорк тайме» была опубликована статья, критикующая
нынешний уровень морали в Англии. В качестве
примеров газета приводила все атрибуты нашей греховной
корысти— стриптизы в Сохо, игорные притоны, девушек в
ультракоротких платьях, рабочих, не слишком себя
утруждающих, и капиталистов, слишком много
развлекающихся. Подтекстом этой критики было то, что среди других
капиталистических стран Англия находится в наихудшем
положении, ибо ее мораль — в стадии полного развала.
Так оно и есть...» К В США дела лучше? Не верится,
когда читаешь американские газеты,— это они
ежедневно пишут о преступности среди молодежи, они
сообщили, что в Вашингтоне, столице страны, городе даже по
американским меркам очень высокого жизненного
уровня, 6 процентов молодежи в возрасте от пятнадцати до
девятнадцати лет заражено венерическими болезнями.
И так далее. Но Олдридж — серьезный публицист, и нет
оснований не верить в его объективность, коли так, бог
в помощь американцам и «да спасет бог Англию...»
Бесспорно лишь одно: наблюдателей со стороны
понятия американской молодежи об этике поражают порой
больше, чем факты самой дикой аморальности.
В моем блокноте есть запись от 26 мая 1967 года,
сделанная перед телевизором. Нет пометки, к сожалению,
какая сеть была включена, но скорее всего — канадская,
потому что канадцы большие любители по мелочи
досадить своему соседу. В передаче рассказывалось, как две
американские учительницы — Шейла Джексон, двадцати
1 «Изиестия», 1966, 10 ноября.
8*
131
трех лет, и Энн Марлоу, двадцати пяти лет,—
путешествуя по Мексике во время школьных каникул, были
задержаны полицией в квартале проституток. Полиция не
стала вникать в причины, приведшие любопытствующих
туристок в злачное место, и предложила каждой уплатить
по 100 долларов — «за промысел без лицензии».
Американки тогда поинтересовались, сколько же стоит
лицензия. Узнав, что стоит она всего 5 долларов, они по
естественной для американцев практичности предпочли
высокому штрафу дешевый «желтый билет», став, таким
образом, официально мексиканскими проститутками.
Разумеется, они сразу же улизнули домой, где
немедленно были... уволены с работы.
Случай мелкий, анекдотический, но... американцы
либо не могут понять, либо делают вид, что не понимают
того факта, что такое случиться может только в среде их
молодежи.
Голливуд 60-х годов тоже создал свою Джульетту,
она предстала в фильме «Выпускник» режиссера Майка
Николса (его дебют «Кто боится Вирджинии Вульф»
был показан на V Московском кинофестивале). В одном
из номеров журнала «Америка» русские читатели
увидели на обложке лицо очаровательной молодой актрисы
Кэтрин Росс,— это она Джульетта.
Но сначала несколько слов о необычной судьбе этого
фильма. В 1968 году мировая кинопресса, говоря о
Голливуде, называла фильмы А. Пенна — «Бонни и Клайд»,
С. Креймера — «Корабль дураков» и «Угадай, кто придет
к нам обедать», Н. Джюисона — «В душную ночь»,
С. Кубрика — «2001: космическая одиссея» и другие чем-
либо интересные произведения. «Выпускника»,
демонстрировавшегося с конца 1967 года, европейские критики,
в сущности, не заметили. Между тем успех фильма в
Соединенных Штатах оказался беспримерным: за первые
шесть месяцев проката он дал 35 миллионов долларов
прибыли (к весне 1969 года — 40 миллионов), получил
Оскара — «за лучшую постановку» — и пять премий
«Золотой глобус». В любом месте и в любую погоду,— писал
критик Джекоб Брекмен,— успех колоссальный! Люди
смотрят «Выпускника» по два и три раза. Я не
сталкивался ни с чем подобным за все годы работы в кино» !.
1 Здесь и далее цит. статья Д. Брекмена из <The New Yorker».
1968, July 27.
132
«Выпускник» сделан уверенно, рука мастера
чувствуется во многих сценах, но его почитатели, мягко
говоря, преувеличивают, ставя М. Николса в один ряд с
Феллини, Антониони, Бергманом и Годаром. Возможно, в
будущем Николе создаст великолепные фильмы, но пока
что, все что он успел сделать, отчетливо несет печать
театральности (Николе, кстати, пришел в кино из театра)
и хорошо усвоенной голливудской эстетики «белых
телефонов». Впрочем, нет нужды вести здесь речь о
художественных достоинствах «Выпускника», ибо явно не они
принесли ему успех.
«Все истинное и показное в «Выпускнике» отражает
истинное и показное в наших чувствах и, возможно, даже
в представлениях американцев о своей стране»,— пишет
Брекмен. Таким образом, этот фильм важен не столько
тем, как он говорит, сколько — о чем говорит.
Выпускник — это молодой человек по имени
Бенджамен (актер Д. Хоффман),который вернулся к своим
весьма состоятельным родителям, живущим в
фешенебельном пригороде Лос-Анджелеса, из колледжа. У него есть
все, чтобы не беспокоиться о будущем,— диплом о
высшем образовании, молодость и здоровье, а главное —
состояние и связи отца. Он и не беспокоится. Днем
загорает и плавает в собственном бассейне, а вечера
проводит с миссис Робинсон — женой партнера отца,
женщиной по крайней мере вдвое старше его. Инициатива,
правда, исходила целиком от миссис. И все было бы,
может быть, хорошо, если бы добродушному мистеру
Робинсону не пришла мысль женить Бенджамена на своей
дочери Элен (актриса К. Росс), студентке Берклийского
университета. Мысль смешит балбеса своей
пикантностью, а миссис Робинсон, не желающую расставаться
с молодым любовником, приводит в бешенство. Однако,
познакомившись с приехавшей на каникулы домой Элен,
Бенджамен увлекся милой девушкой, и... начинается
скандал по-американски...
Невозможно пересказать все перипетии сюжета.
Кратко говоря, все обернулось таким образом: миссис
Робинсон сначала сообщила дочери, что Бенджамен ее
любовник, а затем, когда и это не помогло, просветила
супруга. Элен в полном расстройстве уехала в Беркли,
решив порвать с Бенджаменом и принять наконец
ухаживания некоего долговязого блондина по имени Карл.
Бенджамен, однако, проявляет настойчивость, как истин-
133
ный американец, и отыскивает Элен. Она тоже не
выдерживает разлуки и сама приходит к нему в отель. Но
Робинсоны-старшие тоже не дремлют. Уговорами и
угрозами они разъединяют влюбленных и вынуждают Элен
выйти замуж за Карла. Тщетно мчится на своей «альфе-
ромео» Бенджамен по калифорнийским «фривеям» —
машина ломается, он безнадежно опаздывает,
священник завершает обряд. «Нет повести печальнее на свете...»
Ничего подобного! Ворвавшись в церковь, Бенджамен,
крича и всех сокрушая попавшимся под руку крестом,
как палицей, рвется к Элен, а она к нему. «Поздно!» —
кричит непримиримая мамаша, влепляя дочери
пощечины. «Но не для меня!» — еще громче кричит Элен и
убегает с Бенджаменом...
С похвальной настойчивостью и даже яростью
Бенджамен борется за Элен. Но подумаем, что же, собственно
говоря, мешает их счастью? Ни социального или
экономического неравенства, ни враждебного окружения, ни
сковывающих проявления чувств догматов — ничего
подобного здесь нет. История «Выпускника» комедийна по
своей сути. Это комедийная трансформация легенды о
Джульетте и Ромео. Другой она, очевидно, и не могла
быть. Рассказывая о жизни этого же самого среднего
класса, который показан в фильме, Эдвард Олби создал
«черную» комедию «Все в саду». Николе показал
комедию «розовую», где никого не убивают и все кончается
достаточно счастливо. Однако и у Николса сквозь смех
ощущается горечь, порождаемая самой
действительностью. Брекмен, анализируя фильм, видит в борьбе
Бенджамена не становление человеческого характера и
не торжество юношеской любви, а лишь желание
спрятаться от жизни. «Элен, в лучшем случае, является
воплощением трусливого желания Бенджамена упростить
сложные проблемы его будущей жизни,— пишет
Брекмен,— и в худшем — средством отвлечения от
беспокоящих его проблем, то есть является тем же, чем в свое
время явилась для него миссис Робинсон».
И роман Чарльза Вебба, по которому сделан фильм,
и сам фильм ставят ясную цель нарисовать портрет
молодого американца эпохи процветания. Успех фильма
доказывает, что портрет удался. Но если портрет точен, то
логически должно последовать заключение, что перед
нами человек с утраченными понятиями о моральных
нормах и человеческом достоинстве.
134
Брекмен полагает, что если мы спросим: «А не
думаете ли вы, что он не имеет права жениться на девушке
после того, как спал с ее матерью, женой товарища
своего отца, женщиной, которая выглядит почти так же, как
его мать?» — то буржуа, один из тех, кто живет в том же
пригороде, возмутится: «Это вы о ком говорите, об этой
прелестной молоденькой американской паре?.. Вы
готовите им какую-нибудь пакость?» (Не поразительно ли:
буржуа выступает в роли защитника «новой морали»,
которой будто бы придерживаются Бенджамен и Элен?)
Этот вопрос, возможно, даже не возник бы, если бы автор
убедил нас, что Бенджамена и Элен связало одно из тех
чувств, которые сметают любые запреты. Но этого нет, а
то обстоятельство, что мисс Робинсон моложе и
привлекательнее, чем миссис Робинсон, ничего не оправдывает.
Что же здесь «новое»? Сам факт, что Бенджамена и Элен
защищает буржуа, лишний раз свидетельствует, что
молодые герои «Выпускника» действуют не по новым, а по
старым, как само буржуазное общество, моральным
заповедям.
Нам думается, что «Выпускник» с редкостной
очевидностью демонстрирует именно этот факт духовной жизни
Запада — трансформацию старых буржуазных
моральных норм и попытку выдать это прогнившее старье за
что-то «новое».
Человек, который осмелится спросить, насколько
нравственно поведение Бенджамена и Элен в
предложенной Николсом ситуации, рискует быть осужденным не
только со стороны процветающих буржуа,
непоколебимых консерваторов по своим убеждениям, но и со
стороны молодежи, придерживающейся самых радикальных
взглядов. Такая молодежь почти наверняка назовет того,
кто выразит сомнение в моральной правоте действия
героев «Выпускника»,— ретроградом, защитником
буржуазных нравственных норм, если не хуже.
Это еще одно из уродливых явлений современной
буржуазной действительности — смещение моральных
ценностей, утрата или, точнее сказать, отказ от принятия
каких-либо критериев, в результате чего подчас «правые»
и «левые» как бы меняются местами.
Менее всего здесь может идти речь о какой-либо
защите буржуазной морали — ханжеской, двуликой и
презренной морали, глубоко вскрытой и осужденной еще
писателями-реалистами прошлого века. Сегодня и на Запа-
135
де находится не много охотников защищать ее. Хотя не
стоит думать, что их вовсе нет. Когда говорят, что
сегодня старую мораль защищает только устаревший закон,
упускают из виду тот факт, что закон пускают в действие
люди. (Вот, так сказать, жизненная зарисовка для
примера: в жарком июле 1967 года, когда в Монреале
женщины ходили чуть ли не в «бикини», в городе, где
украшением главной улицы являются витрины с фотографиями
девок из ночных клубов, мать двоих детей была
оштрафована на 300 долларов за «нарушение общественной
нравственности» — ее детишки, трех и полутора лет, купались
без трусиков... Кто-то ведь должен был пожаловаться
полиции, полиция не поленилась довести дело до судьи,
судья не постеснялся найти «состав преступления».)
Буржуазная мораль изжила себя и, хотя бы на словах,
отвергнута даже многими апологетами буржуазного
общества. Это нужно констатировать, чтобы больше не
возвращаться к этому вопросу. Однако нужно ясно видеть и
ту истину, что столь модная сегодня в крайне левых
кругах борьба с буржуазной моралью оказывается на
поверку то простым выворачиванием наизнанку той же самой
морали, то разрушением вообще человеческой
нравственности, отказом вообще от каких-либо моральных норм,
среди которых есть не только временные, определяемые
интересами данной общественной формации, но и
невременные, выработанные человечеством в ходе его
исторического развития.
В общем-то не ново бороться с догматизмом
устаревшего общества, требуя «свободы любви». Ничто не ново,
и очень многое из того, что происходит, можно
объяснить, исходя из самой социальной природы
мелкобуржуазной интеллигенции. Понимание этого факта мы
можем найти и у буржуазных исследователей нравов. Ло
Дюка, автор книги «Эротизм в кино», пишет, например,
очень здраво: «Необходимо отметить важнейшую
закономерность, проявляющуюся в том, что каждый раз,
когда свобода личности попирается, компенсаторные
факторы мгновенно реагируют в виде низменных инстинктов,
толкающих людей на поиски свободы... Главным
образом, сексуальной свободы». В обществе потребителей,
одной из характерных черт которого является
отчужденность человека и потеря им социальной ценности,
ощущение им своего крайнего одиночества в мире, сексуальные
136
связи запросто приобретают значение единственных
связей человека с другими людьми.
Когда мы сказали, цитируя Аго Киру, что в
разрушении морали на Западе участвуют и объективные
факторы, помимо злой воли, на которую указывает
исследователь, мы имели в виду то соображение, что буржуазия
фактически не заинтересована в так называемой
«сексуальной революции», начало которой было отмечено
западной прессой еще в конце 50-х годов. Не
заинтересована уже потому, что крушение морали катастрофически
разрушает внутреннюю структуру общества. Но иное
дело, что это крушение морали является закономерным
следствием порочности самой системы и что буржуазия
ни в какой мере уже не может остановить идущий
ускоряющимися темпами процесс. И само собой разумеется,
что буржуазия стремится использовать в своих целях
«сексуальную революцию», превращая ее в своего рода
громоотвод недовольства молодежи,— не случайно
именно в США появилось и разошлось по западному миру
представление о том, что любое, мол, социальное
освобождение должно начинаться с освобождения
сексуального. Но при этом старании идти в ногу с веком
сексуальные проблемы по-прежнему используются и для
обоснования репрессивных мер против прогрессивных
художников. Об этом, в частности, много и остро говорилось на
состоявшейся в Москве летом 1969 года дискуссии
«Кино — мораль — критика». Так, французский
журналист Франсуа Морен отметил, что сегодня «в
буржуазных странах цензура прежде всего является средством
классового давления на искусство, на сценаристов и на
тех, кто снимает фильмы». Отсюда следует логичный
вывод: «Борьба с цензурой часто принимает характер
политической, идеологической борьбы» 1.
В качестве примера классового характера действий
цензуры Ф. Морен приводит историю с фильмом
«Монахиня» по роману Дидро: его запрещение как аморального
произведения было тем более нелепо, что сцен
раздевания в нем нет. Попытка расправиться с фильмом,
разоблачающим поповское лицемерие, была столь очевидна,
что в его защиту поднялись самые широкие круги
общественности. Но можно вспомнить, что под тем же предлогом
аморальности реакционные организации пытались запре-
1 «Искусство кино», 1969, № 12.
137
тить или хотя бы выхолостить социальную остроту из
таких выдающихся фильмов 60-х годов, как «Рокко и его
братья» Л. Висконти, «Сладкая жизнь» Ф. Феллини,
«Блоу an» М. Антониони и многих других. И что эти
фильмы — содержащие сцены, которые формально не
трудно занести в разряд аморальных,— тоже брались под
решительную защиту некоторыми прогрессивными
критиками.
Здесь нет какого-либо противоречия: и непримиримо
борясь с волной аморализма в западном искусстве и
защищая от цензурных ножниц фильмы, подобные
«Сладкой жизни», критики-марксисты действуют логично и
последовательно, действуют партийно. Марксистское
искусствознание считает, что художник имеет право
показывать человека в любых проявлениях жизни. Вопрос лишь
в том — ради чего это делается? Ради познания жизни и
возвышения человека или же для низведения его до
уровня животного? Используя такой критерий, не трудно
понять необходимость не только каждой сцены, но каждого
кадра в фильмах, которые мы вспомнили. Стоит изъять,
например, из «Сладкой жизни» шокировавшую
буржуазных моралистов сцену стриптиза, как критическая
острота картины Феллини резко ослабнет,— ведь стриптизер-
кой в нем выступает... обалдевшая от сладкой жизни
миллионерша.
Понятно негативное отношение передовой критики и к
попыткам молодых художников выдавать сексуальные
сцены за некую форму протеста. В конечном счете такая
форма протеста, сколь бы автор ни был чистосердечно
убежден в своей правоте, выражает политическую
беспомощность и, далее, играет лишь на пользу буржуазии,
кое-где уже делающей сексуальную тематику своей
официальной идеологией.
Сексуальная тематика соблазняет и художников
старшего поколения, и — что, пожалуй, особенно тревожно —
она никого уже не удивляет, она воспринимается как
нечто обыденное и заурядное. Я столкнулся с этим фактом
в несколько необычной ситуации и, очевидно, не с
выгодой для себя.
Увидав случайно фильм Луиса Бунюэля «Дневная
красавица» до того, как он пошел в широкий прокат, я
рассказал о нем трем знакомым американцам из так
называемой университетской интеллигенции. Я не
поклонник жестокого таланта Бунюэля. Его фильмы поражают
138
и отталкивают меня. Умом я сознаю все его величие и
всю необходимость его творческой деятельности,
антибуржуазной по сути своей. Но пусть меня сочтут
сентиментальным — я бы не хотел, чтобы мои дети
познакомились с его творчеством ранее, чем станут умственно и
духовно совершенно сложившимися людьми. Поэтому я,
наверное, рассказывал о «Дневной красавице», даже для
Бунюэля картине нестерпимо безжалостной, с угаданным
моими слушателями сомнением.
«Дневная красавица» — это история дамы из
благополучнейшей буржуазно-интеллигентной семьи,
становящейся проституткой. История на первый взгляд
тривиальная. Еще Мопассан рассказал о жене чиновника,
оставившей после своей смерти мужу колье из
подлинных драгоценностей. После Мопассана такого рода
ситуация— жена респектабельного буржуа подрабатывает
своим телом,— использовалась в западном искусстве
несчетное число раз. В том же 1967 году, когда «Дневная
красавица» вышла на экраны, Бродвей показал новую
пьесу Эдуарда Олби «Все в саду», как всегда у этого
талантливого драматурга, построенную на контрастных
переходах от комического к трагическому. Фабула этой
пьесы в том, что жена вполне преуспевающего химика
становится «колгерлс» — девушкой по телефонному
вызову. Причина очень прозаична: муж зарабатывает
хорошо, но все же меньше того, что хотелось бы им. Когда
муж узнает, что жена стала проституткой, он поначалу
приходит в ярость, но затем вид банкнот примиряет его
с фактом. На вечеринке, которую он устраивает для
соседей, выясняется, что все собравшиеся респектабельные
дамы... «колгерлс» и их мужья — дельцы и специалисты —
знают об этом.
Фильм Бунюэля похож на такие пьесы и книги лишь
внешне. Жена преуспевающего молодого врача не
нуждается в деньгах. Вернувшись из дома свиданий, она
брезгливо снимает и сжигает белье и платье. «Дневной
красавицей» она становится по причинам чисто
психологическим. Показывая эротические видения красавицы,
Бунюэль дает возможность толковать фильм как
историю сексуально неуравновешенной женщины, и эта
возможность подхвачена поверхностными критиками. Но
дело сложнее; дело в поисках молодой, прекрасной,
воспитанной женщиной чего-то, что могло бы заполнить
жизнь.
139
Роль красавицы исполняет Катрин Денев, знакомая
нам еще по «Шербурским зонтикам»,— актриса
редкостного обаяния и женственности, лишенной и тени какой-
либо нарочитой «сексапильности». Очевидно,
приглашение этой прирожденной инженю на такую роль
преследовало цель акцентировать противоестественность
ситуации. Отметим, что эта ситуация вполне жизненна, она
давно привлекла внимание буржуазных социологов и
художников. Примерно ту же ситуацию мы видим у
Годара в «Замужней женщине» (1964): очаровательная
жена летчика заводит любовника только потому, что
чувствует пустоту в своей жизни. Бунюэль лишь более
резок и бескомпромиссен в суждении о женщинах
буржуазного общества. Получая абсолютно все, что только
можно пожелать, все блага и удобства, они с тем боль-
шеи силой отчуждаются от жизни, им остается одно-
единственное предназначение в жизни — быть игрушкой,
а может быть, и еще хуже — быть одним из предметов
удобств, необходимых деловому мужчине, наряду с
машиной, электробритвой, утренней газетой, вечерними
теленовостями.
Мы видим красавицу в ее роскошной квартире,
любуемся тем, как эта изящная женщина великолепно
«вписывается» в ее интерьеры и гармонирует с украшающим
ее хрусталем и мрамором, и понимаем, что так или
иначе, но живой человек непременно отвергнет жизнь
игрушки. У красавицы протест принимает форму поистине
чудовищную. Став «девушкой» в доме свиданий, она
обслуживает самых грязных и извращенных клиентов,
которых с отвращением отвергают профессиональные
проститутки. Нет ничего, на что бы она не согласилась. Нет
такой грязи, в которую бы она со страхом и готовностью
не окунулась. И это не патология, а вполне понятное
желание идти до самого дна по избранному пути «поисков
полной жизни».
Таков этот фильм, показавшийся мне крайним по
откровенности выражением в искусстве распада и полного
тупика морали буржуазного общества. Я не думал, что
этот фильм можно воспринимать иначе, чем сигнал
бедствия. На Западе есть фильмы и несравненно более
эротические, не говоря уже о примитивной порнографии,
поставляемой Японией и Данией, Гонконгом и
Нью-Йорком, так что «Дневная красавица» в этом смысле
картина заурядная. Но талант Бунюэля придал всему зауряд-
140
ному силу именно апокалипсиса, картина — как крик
боли, ужаса и отвращения. Но я ошибался, думая, что
«Дневную красавицу» люди воспримут только как
сигнал SOS.
Фильм вскоре вышел на экраны, и, хотя броская рек*
лама сообщила о присуждении ему «Гран при» в
Венеции, было видно, что особенного интереса он у зрителей
не вызвал. А я получил письмо, в котором говорилось,
что мое отношение к фильму вызывает удивление...
Писала образованная, широко эрудированная, хорошо, как
мне довелось убедиться, разбирающаяся в искусстве
специалистка по дошкольному воспитанию детей: повидав
мир, немало поработав в школах для бедняков в
Гарлеме, Пуэрто-Рико и Мексике, она научилась трезво
смотреть на американскую действительность и уже с 1963
года стала принимать самое активное участие в
прогрессивном движении негров, а также студентов и
преподавателей колледжей. И вот такая женщина, бесконечно
далекая как от крайностей хиппизма, так и паразитизма
сытых мещан, написала о «Дневной красавице»:
«...фильм не может шокировать, потому, что он
нравоучителен и поверхностен. Я мечтаю увидеть картину, в
которой бы показывалось полное освобождение женщины
через сексуальность...» Речь шла не о любви, а именно
о сексуальности,— такова, мол, «мечта» человека,
которого нельзя не причислить к представителям
духовной элиты.
«...Я стал слишком велик для маленькой любви,
Я стал слишком мал для большой любви...»
Эти слова немецкого поэта Эриха Фрида, может быть,
не многое объясняют, но очень точно характеризуют то,
что случилось. Что остается в таком случае? Секс.
«По цивилизованным странам идет волна секса,
какой мы еще, пожалуй, никогда не видели»1,—
озабоченно констатировал мюнхенский кардинал. Журнал
«Шпигель», цитируя высказывание кардинала, пишет лихо
далее: «Голо стало в западном мире...» «Голее не будет!» —
пророчествовал в 1965 году «Бильд ам Зонтаг»по поводу
фотографий, которые ныне, пожалуй, можно было бы
рассылать в качестве открыток к съезду католиков:
Урсула Андрее в «бикини»... Недавно телевизионный ре-
1 «Der Spiegel», 1968, Ν 47.
141
жиссер Хелли Пагель в «Осторожно, камера!» (так
называемый спровоцированный репортаж.— А С.)
испробовал новый трюк: обнаженная девушка выходит из
машины у заправочной станции: «Где здесь можно помыть
руки?» — присутствовавшие реагировали совершенно
спокойно. Смотритель станции сказал: «Вторая дверь
налево»; мужчины, толпившиеся там, приподняли
шляпы К
Весь мир обошло интервью американской студентки
из Миннесоты журналу «Плейбой»: «Половые
сношения— одна из форм общения между людьми, которую,
ввиду доступности противозачаточных таблеток, следует
регулировать ничуть не больше, чем любую другую
форму коммуникации, например, беседы, танцы, пожатия
рук»2.
Социологи и публицисты пытаются разобраться в
причинах и предусмотреть последствия этой «волны».
Утверждают, например, что это результат того
обстоятельства, что общество потребителей является
одновременно и «обществом, в котором все дозволено»
(the pevmissive Socity). В таком обществе в самом деле
дозволено все — кроме того, конечно, что прямо угрожает
основам буржуазного государства,— а права на
«сладкую жизнь» подкреплены увеличением свободного
времени и материальных благ, определенной женской
эмансипацией и массовым производством противозачаточных
средств.
Говорят далее, что нынешняя свобода нравов — это
закономерная реакция на падение многовековых
запретов христианской морали. В этой связи буржуазные
критики ссылаются на столпов церкви: «...на апостола
Павла, который объявил, что «требования плоти направлены
против духа», и что «человеку только на пользу, если он
не коснется ни одной женщины»; на святого Иеронима,
для которого человек во всем, что касается постели,
«ничуть не отличается от свиней и неразумных тварей»;
наконец, на Фому Аквинского, которому представлялось,
что «всякое чувственное желание скверно»3. Для церкви
действительно отношения между мужчиной и женщиной
лишь постольку необходимы, поскольку необходимо про-
1 См.: «Der Spiegel», 1968, Ν 47.
2 Цит. по журн. «Der Spiegel», 1967, Ν 41.
3 Цит. по журн. «Der Spiegel», 1968, Ν 47.
142
должение человеческого рода (что папа Римский вновь
подтвердил своим недавним посланием, запрещающим
верующим пользоваться противозачаточными
средствами). И верно то, что авторитет церковной догмы пал. Но
и это объясняет далеко не все.
Называют и другие причины — от психических
перегрузок, вызываемых индустриальным образом жизни и
снимаемых будто бы сексом, алкоголем и наркотиками,
до соображений о том, что это признак заката западной
цивилизации. «Это откровенный признак декаданса в
нашем обществе,— заявил английский писатель Малькольм
Магградж.— В той мере, в какой идут на убыль наши
жизненные силы, люди хватаются за то, что вызывает в
них лихорадочное возбуждение. Во времена заката и
падения Римской империи особенно ценились произведения
Сапфо, Катулла и Овидия. Здесь явно можно провести
определенную аналогию с нашей эпохой». К этому можно
добавить, что последовательные проповедники новых
нравов не считают, что происходящее является
завершением процесса,— напротив, по их мнению, все» что
происходит, лишь «цветочки», лишь начало «подлинной
революции в области секса». Так американка-антрополог
Маргарет Мид предсказывает в ближайшем будущем
«невиданный взрыв в сексе».
Если же попытаться резюмировать все толкования, то
окажется, что всем толкованиям свойствен оттенок
некоего фатализма — это, мол, результат развития
человеческой цивилизации — и что снова в основе основ лежат
обстоятельства, порожденные научно-техническим
прогрессом. Возложение вины на «технологию» (вспомним
еще раз Лема, не только в «Сумме технологии», но во
многих фантастических книгах и вполне реалистических
статьях обращавшегося к этому вопросу) —весьма
удобный способ скрыть истинных виновников моральной
деградации общества. Однако если «технология» и
формирует мораль, то не прямо, а опосредованно, через
социальную систему, в которой живет человек,—
положение это основополагающее для марксистских
исследователей.
Таким образом, все, что буржуазные социологи и
журналисты называют причинами, вызвавшими «волну
секса», заслуживает внимания, но даже в совокупности
не дает ясного ответа, обходя, как правило, социальную
суть вопроса.
143
Кстати сказать, и само слово «революция» в данном
контексте используется в лучшем случае для того, чтобы
запутать все и всех. При этом очевидно и явное
намерение дискредитировать само это слово. Нередко буржуаз
ная пресса простодушно предупреждает своих читателей,
что «сексуальная революция» — особенная, только им
доступная. «Шпигель» как-то высказался об этом с
наивной откровенностью, написав, что на «сексуальную рево
люцию» на Востоке люди не способны, что эта
«революция» является привилегией «свободного общества».
Правда, пресса «новых левых» порой обращается к
марксистским трудам по вопросам морали, семьи, брака,
но обычно толкует их вкривь и вкось. Так, известное
высказывание В. И. Ленина, приведенное К. Цеткин в
воспоминаниях, о том, что «в области брака и половых
отношений близится революция, созвучная пролетарской
революции» !, выдается лишь за требование
решительного— как пролетарская революция — разрушения старой
морали. Но ведь поскольку разрушение не преследует
никаких иных целей, кроме самого разрушения, то
требование «новых левых» ничем, в сущности, не отличается от
привилегии заниматься «сексуальной революцией»,
провозглашенной благонамеренным буржуазным
еженедельником.
Привилегией этой буржуазное общество пользуется,
надо сказать, весьма широко. Искусство и все средства
массовых коммуникаций превратились сегодня в
средства пропаганды порнографии — иногда менее, а чаще —
все более откровенной. Вот что — процитируем еще раз
«Шпигель», в данном случае источник вполне
авторитетный,— происходит сегодня в кино. Только в кино, хотя
положение в литературе еще хуже, а в театре и
телевидении — ничуть не лучше. Журнал с иронией вспоминает
о том, что было: «Ах, что это были за времена — 1932 год,
когда Хеди Ламар (чешская актриса Хеди Кислерова,
ставшая после переезда в Голливуд Хеди Ламар.— Р. С.)
вызвала скандал тем, что в фильме «Экстаз»
обнаженная бежала через заросли кустарника; 1943 год, когда
Джейн Рассел в «Опальной» показала немножко бедер,
немножко живота... 1951 год, когда Хильдегард Кнеф в
фильме «Грешница» очень короткое время обнаженной
позировала художнику и благодаря этому вызвала поку-
1 К. Цеткин, Воспоминания о Ленине, М., 1955, стр. 49.
144
шение группы членов Союза христианской рабочей
молодежи, бросивших в нее «вонючую бомбу», и вообще
протесты по всей республике» 1. После «Молчания»
Бергмана, «491» Шемана, «Истории за кулисами» Вакаматзу и
тому подобных фильмов «действие ныне начинается в
тот момент, в который раньше оно кончалось на
экране»,— отмечает журнал, перечисляя далее фильмы,
которые шли в ФРГ в одну из недель осени 1968 года:
«...жители Гаммельбурга смотрели шведский фильм «Я
любопытная— желтый» (семь постельных сцен). В Бамберге
и Беблингене, Рендсбурге и Рюссельсхейме шел фильм
«Птицы умирают в Перу» (семь сцен в постели, один
лесбиянский акт). В 5500-й раз ложились любящие на
голубые простыни в «Совершенном супружестве»...
Пятьдесят кинотеатров показывали «Инга, у меня
желание»...»2
Как видим, идет массированная обработка
человеческих душ. Отдельные буржуазные психологи осознают,
что результатом «сексуальной революции» может
оказаться «оскотивание» человека. Однако предупреждения
специалистов абсолютно не принимаются во внимание.
А сомнения неспециалистов вызывают просто смех,
особенно если сомневающийся прибыл с Востока. На эту тему
вообще трудно говорить. Особенно трудно говорить,
когда речь заходит о том, что считается «мелочью». Вот
примеры таких «мелочей».
Реклама кабаре, заклеенная сплошь фотографиями
девиц из ночного шоу, предлагает всмотреться в фото
и «если вам противно — не входить», потому что на
сцене будет еще пуще. «Правда, остроумно?» — смеется
твой попутчик. «Нет,— сомневаешься ты,— пожалуй, это
в самом деле противно».
Журнал для семейного пользования, а посему
лишенный обязательных для большинства иллюстрированных
журналов хорошеньких полураздетых и раздетых девиц,
с сопливой трогательностью рассказывает о девушке,
которая содержит семью и потому ночью пляшет голая
в кабаре, а днем являет пример высокой
добропорядочности — носит гладко зачесанные назад волосы, а мини —
ни боже мой. Ты морщишься, а тебе говорят: «Это
мелочь, не придирайтесь».
1 «Der Spiegel», 1968, Ν 47.
2 Там же.
145
В Канаде был запрещен вход в некоторые рестораны
женщинам в брюках. В июле 1967 года монреальские
газеты сообщили, что дама, задержанная швейцаром, тут
же сняла брюки и выпустила поверх трико кофту —
получилось мини, на которое запрет не распространяется, и
двери ресторана распахнулись перед нею. Тоже вроде
бы мелочь...
Ну, а разве в таком случае нравы «диких ангелов»
тоже не мелочь? Ведь они, эти «ангелы» составляют
ничтожную часть молодежи. А если продолжить
рассуждения, то и мораль хиппи — тоже мелочь!
«Девчонки у нас общие — любовь запрещается»,—
все, что скрывается за этими словами предводителя
«диких ангелов», которых мы интервьюировали летом
1967 года в Монреале, помнится, даже не сразу дошло до
нас. Позже мы вспомнили их, читая рассказ Франсуа
Корра о его встречах с «ангелами»: «На заднем сиденье
сидела черноволосая девушка в узких, плотно
облегающих фигуру брюках, курила сигарету и рассматривала
свои ноги. На плечах ее куртки была видна интересная
надпись: «Нуки — собственность Мофес» (Нуки — имя
девушки; Мофес — название банды...) х.
На ЭКСПО-67 была так называемая зона отдыха,
Ла Ронд, а там — павильон «Юность», в котором с утра и
далеко за полночь шли дискуссии и лекции, концерты и
разного рода шоу. Около павильона на лавочках, на
парапете какого-то аттракциона и просто на траве
толкались, сидели, валялись толпы странной молодежи.
Мы их между собой называли лжехиппи. В возрасте от
12 до 30 лет, молчаливые, одетые в тряпье, многие
немытые и, наверное, годами не стриженные, без гроша
в карманах, они оживали лишь во время
выступлений на открытой эстраде бесчисленных подражателей
битлсов.
Нас интересовали эти «дети-цветы», и мы не раз
вступали в ними в долгие беседы. Они охотно отвечали, не
возражали против съемок. О хиппи речь впереди. Но что
касается взглядов канадских их последователей на
любовь, то, будучи в своем непротивлении злу насилием
полной противоположностью агрессивным «диким ангелам»,
здесь они обнаружили неожиданно полную общность
взглядов.
1 См. «Комсомольскую правду», 1968, 19 мая.
146
Девятнадцатилетний Робер, еще не окончательно
втянувшийся в это жуткое сонное царство, да и по
характеру парень живой и любопытный, особенно охотно
говорил с нами и даже пытался кое-что объяснять нам. Мы,
заметив, что с ним рядом всегда одна и та же девушка —
маленькая изящная блондинка с глазами красивыми и
пустыми, как у трехнедельного младенца,— принесли
ему и девушке сувениры и, отдавая, сказали, что бусы,
сделанные из уральских камешков, наверное, пойдут его
подружке. Робер среагировал неожиданно: «Она вам
нравится?» — «Да, она хорошенькая».— «О, пожалуйста,
возьмите ее, пока вы в Монреале...»
На лице девушки не появилось даже тени
недовольства или хотя бы сомнения. Преодолев шок, мы
попытались понять «психологию» поведения Робера и его
девушки. «Какая разница?» — сказала девушка равнодушно.
Подумав, добавила: «Вы — хорошие». Робер же долго
и путано говорил о том, что все зло — в собственности,
что нельзя любить одного человека — нужно любить
всех людей и что, мол, радость не в том, чтобы иметь, а
в том, чтобы отдавать. «Идеология» американских хиппи
была нам уже знакома, и то, что говорил Робер, не
удивляло, но хотелось добраться до существа этого абсурда,
и потому, преодолев неловкость, мы стали задавать
вопросы прямые и резкие:
— Робер, ведь вы все время с Вандой (так звали
девушку, родители которой некогда приехали из Литвы)
не потому, наверное, что она первой подвернулась вам
под руку? Не думаете ли вы, что у вас просто любовь?
— Ну, при чем здесь любовь? Нам хорошо вдвоем —
вот и все.
— Если кто-нибудь из этих ребят,— мы показали на
толпы молодежи,— захочет взять себе Ванду, вы не
станете возражать?
— Как я могу спорить, если она будет кому-нибудь
нужнее, чем мне?
— А вы, Ванда, сможете уйти от Робера с кем угодно?
— Я хочу любить всех.
— Робер, но как можно определить — кому она
нужнее? Может быть, ее у вас заберет садист или больной
человек?
— Все равно, она должна идти и любить его...
Конечно, все это можно объяснить. Труднее
по-человечески понять, понять вот этих девчонку и мальчишку,
147
разобраться именно в них. И мы не разобрались. Все
осталось по-прежнему абсурдным и страшным из-за своей
конкретности. У отсталых племен был и даже, кажется, до
сих пор кое-где сохранился обычай предлагать жену
гостю. Но мы-то столкнулись с этим не в дремучих лесах.
Ведь разговор происходил под ярким солнцем в саду, где
люди шумели и веселились. Сквозь зелень виднелся мост
Жака Картье — прекрасное создание инженерной мысли
и рабочего мастерства; еще дальше, за широкой гладью
реки, стояли небоскребы. Первобытная мораль не
монтировалась с миром XX века. Все, что истекало из
морали Робера и Ванды, было нелепо, неправдоподобно...
И это тоже мелочь?
Повторяем, такие юноши и девушки, как Робер и
Ванда, составляют небольшую часть молодежи даже в
тех странах Запада, в которых процесс распадения
морали проходит в особенно острых формах. Но надо
сказать и то, что такая молодежь никому там не кажется
чем-то из ряда вон выходящим; такой молодежи
достаточно, чтобы уже «приучить» к себе прессу и социологию,
искусство и общественные организации.
Сегодня газеты и журналы Европы и Америки очень
охотно описывают оргии молодежи, «коммунальную»
жизнь «диких ангелов» и хиппи, групповые браки и т. п.
Во всем этом очевидна обычная для буржуазной прессы
склонность к скандальной сенсации.
Разумеется, пресса не только фиксирует такого рода
факты, но и «воспитывает» на них молодежь, углубляя
духовный кризис. Нет, конечно, недостатка и в книгах,
и в фильмах, и в телевизионных программах, которые
делают то же самое.
Можно, конечно, сказать — и это будет в известной
мере справедливо,— что любой из приведенных только
что фактов недостаточен для обобщающих, так сказать,
глобальных выводов, к которым мы спешим по
необходимости жанра очерка.
Кроме того, очевидно, что попытка критического
отношения к такого рода фактам чревата опасностью
обвинения в ханжестве,— ведь сам по себе едва ли не любой
факт столь же силен своей осязаемой конкретностью,
сколь уязвим и беззащитен при сопоставлении с другими
фактами. Мы здесь подошли к выводу о том, что
буржуазия сегодня делает аморализм своей политикой, однако
этот вывод может показаться явно противоречащим
148
ранее высказанному утверждению. Попробуем тем не
менее разобраться в этом противоречии, которое на
поверку оказывается противоречием кажущимся.
Ранее было сказано, что буржуазия не заинтересована
практически в окончательном разрушении морали,
следующем за «сексуальной революцией», но, не имея
возможности сладить с вышедшим из-под ее контроля
процессом, использует «сексуальную революцию» в
своих корыстных целях. Утверждение это не только
выводится из умозрительных построений, но, если угодно,
подтверждается фактами, каждый из которых сам по
себе вполне достоверен.
Так, Олдридж в цитированной уже статье пишет:
«Если подходить поверхностно к нашей молодежи, то
она выглядит циничной, но в глубине души своей она не
такова. Разве найдете вы в ее рядах таких, кто бы
одобрял американскую агрессию во Вьетнаме, бряцание
атомным оружием или апартеид?» Здесь, конечно,
разговор о цинизме уведен из сложной области чувств в
плоскость сугубо контрастных политических решений.
И шёмановская «любопытная Лена», и нью-йоркские
хиппи, и монреальский Робер — все против войны, «А»,
расизма; это, однако, не влияет на оценку их образа жизни.
Более интересны исследования социологов,
проведенные в 60-х годах,— исследования многочисленные и
часто противоречащие друг другу, но тем не менее как
будто свидетельствующие об определенной
сопротивляемости молодежи «волне секса».
Так, «Шпигель» сообщает, что в среде западнонемец-
ких студентов (опрошено 3666 человек) «сексуальным
опытом обладают лишь две пятых мужчин и одна треть
женщин», и на этом основании журнал констатирует
словно бы даже с обидой: «поток порнографии,
затопивший полмира, оборачивается гигантской вспышкой
словоблудия» х.
Бернар Кассен не видит оснований для «глубокой
тревоги» за английскую молодежь и приводит такие
цифры в подтверждение: в шестнадцать лет только 8
процентов юношей и 7 процентов девушек имели половые
связи (в девятнадцать лет соответственно 37 и 23
процента) 2.
1 «Der Spiegel», 1968, Ν 47.
2 См. «Mond», 1966, Août 18.
149
Немногим от этого отличаются данные тех
французских социологов, которые учитывали результаты
опросов в провинциальных университетах.
Профессор П. Гебхард, руководитель известного
института сексологии в Индиане, заявил, что возраст
американцев, начинающих половую жизнь, равен шестнад-
цати-восемнадцати годам. Исследования в
Калифорнийском университете несколько снижают возраст, но все
равно эти данные не слишком отличаются от европейских.
Строго говоря, эти факты также не дают оснований
для научных заключений. Но дело не в этом, дело не в
фактах, а в самой атмосфере цинизма и аморальности,
которая искусственно создается и в которой живет
молодежь. Факты, понятно, можно найти разные. Например,
в начале 60-х годов в США число ежегодных абортов в
возрасте до восемнадцати лет достигало миллиона, в
конце десятилетия цифра снизилась до ста тысяч. Факт
выигрышный для буржуазных моралистов, если не
учитывать, что произошло это только благодаря новейшим
противозачаточным средствам.
Такие факторы нашего времени, как ускорение
урбанизации и акцелерация, большая независимость
молодежи от старших и т. п., действительно позволяют смотреть
на цифры социологов спокойно: никуда не уйдешь от того
обстоятельства, что в шестнадцать-восемнадцать лет к
людям сегодня приходит физическая зрелость. Однако
зрелость-то приходит к людям, а не к животным, и даже
если отключиться на миг от социальных аспектов
проблемы и пользоваться лишь инструментом логики, то все
равно использование буржуазией объективных факторов
представляется крайне тревожным.
Да, буржуазия боится окончательного духовного краха
моральных устоев своего общества. В конце концов, и
Фрейд, чья теория сексуальной причинности
человеческого поведения по-прежнему остается популярной на
Западе, считал сексуальную свободу первым признаком
наступившего конца цивилизации. Питирим Сорокин,
преисполненный опасений за умело защищаемый им
американский образ жизни, писал в книге «Американская
революция в области секса» еще десять лет назад:
«С какой бы стороны ни взглянуть на нашу культуру,
всюду сталкиваемся с сексуальной одержимостью... Если
мы избегаем скабрезной, разжигающей чувственность
литературы, нас все равно возбуждают исполнители лег-
150
ких песенок... или фрейдистская псевдорелигия, или
развлекательные передачи по телевидению и радио. Нас
захлестывает поток сексуальности, который проникает
во все области нашей культуры, во все сферы нашей
социальной жизни... Если мы не оградим себя от этих сил
чувственности, выработав в себе некоторую внутреннюю
стойкость, нас подавит, захватит поток сексуальных
возбудителей». Сегодня то же самое можно сказать не
только про Америку. И масштаб этой пропаганды секса,
цинизма, неверия в моральные ценности может привести
к бедствиям, которые окажутся не менее опасными для
будущего человечества, нежели радиоактивность.
Так замыкается круг: не желая духовного краха
своего общества, буржуазия тем не менее логикой истории
вынуждена сегодня сделать пропаганду секса своей
внутренней политикой.
Джон Д. Бернал, говоря на конференции
ученых-марксистов и немарксистов о том тормозе общественному
прогрессу, который создает господствующая элита,
«прочно укрепившаяся и тесно связавшая себя с
интересами финансового капитала», отметил: «Эта элита в
значительной степени монополизировала систему
образования, ограничив ее определенными рамками.
Контролируя и используя такие средства пропаганды, как печать
и телевидение, она поддерживает отжившие свой век
идеологические учения. Отсюда отсутствие общей
перспективы и сознательно поддерживаемая атмосфера
гедонизма (курсив мой.— Р. С). В свою очередь это ведет
к политической апатии и фатализму» 1.
«Сексуальная революция» — составная часть этой
«атмосферы гедонизма», становящегося в развитых
странах Запада своего рода жизненной философией,
сменяющей требование «накоплять» призывом «тратить, чтобы
пользоваться жизнью».
В 60-х годах сдвиги морали стали очевидны всем,
они уже стали достоянием кинематографа не только
проблемного, но и расхожего, коммерческого. Для примера
можно назвать фильм Антонио Пьетранджели «Я ее
хорошо знал» (1965).
История Адрианы (актриса Стефания Сандрелли) —
это история итальянской девушки, живущей в пору
«экономического чуда». Трудно судить, не будучи специали-
1 Сб. «Какое будущее ожидает человечество?», стр. 347.
151
стом, чем именно итальянское «чудо» отличается от
«чудес» западнонемецкого, японского или французского. Но
если верить искусству, то это отличие заключается в
следующем: истеричность экономического бума и
недоверие к происходящему, лихорадочная атмосфера
спешки, в которой нет времени остановиться, осмотреться,
задуматься, как будто завтра процветание кончится и
поэтому сегодня нужно успеть схватить все — денежный
куш, виллу, машину, девочку. Поэтому — устанавливает
Де Сика еще в «Буме» (1963) —можно продать и глаз:
важно сегодня иметь все блага, а завтра — кто знает,
нужен ли будет завтра и второй глаз? Адриана отчасти
сформирована и этой угарной атмосферой, поэтому ее
драма, возможно, вовсе не обязательна для ее
ровесницы из Кёльна или Парижа; вместе с тем ее жизнь
складывается из типичных для любого развитого
буржуазного общества деталей. Модные пластинки, танцульки,
случайные компании, вечеринки в незнакомых домах и
выпивки в привычных ресторанах, бездумные связи —
все это обычно для очень разных стран.
В фильме Адриану характеризует один из ее
случайных любовников писатель Фаусто. Он говорит с
благожелательной иронией: «Все с нее скатывается, как с
водоотталкивающей ткани, ничто не задерживается. Нет
у нее никаких нравственных устоев, никаких
стремлений. Она не гонится даже за деньгами, потому что она
не проститутка... Она живет данной минутой... Пляж,
пластинки, танцы — вот все, что ее занимает... Во всем
остальном она непостоянна, изменчива, ей все время
нужны новые короткие встречи, все равно с кем, лишь
бы не оставаться с самой собою...» Потом, когда
Адриана покончит с собой, Фаусто разорвет лист с этой ее
характеристикой, признавая ее неполной или неверной.
Описание, думается, верное. Оно не объясняет, однако,
почему Адриана шагнула в окно. И не говорит о том, что
превратило милую деревенскую девчонку в «удобную
девушку». Но это уже области социального и
психологического анализа, которого рядовой, рассчитанный прежде
всего на кассовый успех фильм и не касался.
Неоспоримо, что зрители, узнавая Адриану ближе,
в финале проникаются чувством симпатии и жалости.
Как бы ни обходили авторы фильма социальные
основы драмы Адрианы, очевидно, что именно общество
виновно во всем, что случилось с героиней. Как ни ка-
152
жется Адриана приспособившейся к новой
действительности, но кончает она весьма «традиционно», не
выдержав бессмысленности «сладкого» существования. Она —
жертва, в этом суть картины. У Адрианы были
предшественницы в кинематографе — хотя бы та же крошка
Мик из «Обманщиков» (1958) Карне,— и у нее,
наверное, будет много последовательниц в жизни, ибо
гедонизм— одна из наиболее отвратительных форм
античеловечности, более всего нетерпимая молодежью.
Можно отметить, что на протяжении всего фильма
Адриана лишь однажды проявляет какое-то подобие
волевого усилия — когда пытается попасть на работу в
кино. Но и здесь ее ждет обидная неудача. Есть немало
книг и фильмов, рассказывающих о дорогах в звездный
мир кино. Начиная с рассказов Луи Деллюка и кончая
новым романом Альвы Бесси «Символ», прототипом
героини которого послужила Мерилин Монро, литература
утверждает одно и то же: простейший способ стать
кинозвездой— забыть о чести и совести, потому что легкий
путь к славе проходит через постели продюсеров и
режиссеров, пьяные оргии, физическое и душевное
обнажение перед циничными журналистами, хозяевами
рекламы. В фильмах все это. показывается воочию.
Например, фильм «Те, кто идут на риск» (1963) Эдвина
Збонека, прошедший совершенно незаметно на III
Московском международном кинофестивале,— это прямо-
таки учебное пособие для девиц, готовых «рискнуть
собой»; там есть все — от купания пышной блондинки в
холостяцкой ванне продюсера до стриптиза жаждущей
скандальной рекламы дебютантки перед ошалевшей
толпой и фоторепортерами в универмаге. Казалось бы,
Адриана с ее простотой отношений и умением проходить
через грязь, не пачкаясь, могла бы запросто пройти все
и занять место если не звезды, то хотя бы звездочки.
Но нет, самое большее, чего ей удается добиться, это
места в толпе статисток, роли бессловесной рабыни в
каком-то боевике из римской жизни. Увы, мир
изменился, Адриана опоздала: то, что вчера считалось «риском»,
сегодня стало «нормой».
«Я ее хорошо знал» и «Те, кто идут на риск» —
фильмы наивные по сюжету, простодушно показывающие
авторскую задачу, путь ее решения и моралите, которое
должен усвоить зритель. Те же самые темы у
художников талантливых получают освещение необычное и слож-
153
ное, и часто, как и свойственно большим художникам,
они показывают больше того, что авторы хотели
показать.
Имя Франсуа Трюффо у некоторых критиков
возглавляет список режиссеров французской «новой волны».
Он дебютировал фильмом «400 ударов» (1959),
отличавшимся от других работ молодежи «новой волны»
глубиной критического анализа действительности и
реалистичностью формы. Позже несколько скандальный успех
Годара и ряд не очень удачных картин, в которых
Трюффо пошел или был вынужден пойти на уступки
коммерческим требованиям, несколько снизили интерес к
Трюффо. Однако внимания и серьезного разбора заслуживают
его и не самые удачные картины.
Франсуа Трюффо необычайно талантлив, и, в отличие
от большинства своих коллег по «новой волне», он
всегда серьезен и вдумчив во всем, что бы ни делал в кино,
снимает ли он фильм или пишет книгу. И то, что он
говорит о своем мире,— это не годаровские торопливые
импрессии, но почти всегда результат долгих
наблюдений над жизнью и размышлений. Особенно интересен
для нашего разговора его фильм «Нежная кожа» (1964).
Можно сказать, что Трюффо здесь выворачивает
наизнанку вечную легенду о любви. Поэты всех народов
и эпох утверждали, что нет на свете чувства более
светлого и очистительного, а Трюффо говорит: все можно,
нельзя только любить, ибо это чувство органически
чуждо нашей действительности, оно может замутить ясное,
запутать простое и привести любящих черт знает к
каким нелепостям.
Такое объяснение фильма «Нежная кожа»
прозвучало в Европе, склонной к историческим аналогиям,
помнящей альбы трубадуров и легенду о Тристане и Изольде.
В практичной Америке даже женщина-критик нашла,
что это фильм не более как рассказ о человеке в годах,
который не смог сделать свою жизнь счастливой, а
теперь, полюбив молодую девушку, думает, что сможет
начать новую, уже непременно счастливую жизнь.
Точный и глубокий анализ этому фильму,
действительно дающему материал для различных толкований,
дал советский критик А. Александров — в сборнике «На
экранах мира» (1969).
Безусловно, этот фильм — любовная драма наших
дней, драма своеобразная. Для Трюффо любовь — это
154
быть вместе. Быть вместе, не неся при этом никаких
обязательств друг перед другом. Быть вместе, пока это
приятно. Это любовь по определенным правилам.
История увлечения утонченного интеллигента, литературоведа
Пьера Лашне хорошенькой и пустенькой стюардессой
Николь утрачивает банальность и заканчивается
выстрелом только потому, что Лашне нарушил правила
игры, или, если угодно, сыграл по устаревшим
правилам. Николь ничего не имела бы против, если бы он,
немолодой уже мужчина из абсолютно чуждых ей
кругов общества, придал бы их связи легкий, ни к чему не
обязывающий характер. Была же у нее связь с пилотом,
а теперь они только друзья. И так было не раз. C'est la
vie! И не к чему ее усложнять. Но Лашне поступает
несовременно: уходит из семьи, покупает Николь
квартиру, строит планы их совместной жизни. Главное же, он
все это делает не потому, что он безумно увлечен
Николь,— нет, Лашне отлично осознает характер своего
увлечения и понимает, что она ему не пара,—но иначе
он поступить не может, все другое он считает
непорядочным. Однако жизнь такова, что старомодная
порядочность Лашне приносит страдания Николь и его
неумной жене Франке, а ему самому — нелепую смерть.
Этот типичный по внешней противоречивости и
внутренней логичности для «новой волны» сюжет Трюффо
разрабатывает в традициях классической
психологической драмы: каноническая фабула, четкая обрисовка
характеров, убедительная мотивировка каждого
поступка персонажей и каждого поворота действия. И по
примеру старых мастеров Трюффо не спешит давать оценку
происходящему на экране, хотя в конце концов и не
оставляет сомнений относительно своей позиции. Николь
он не осуждает: она «живет своей жизнью», живет так,
как все девушки ее круга, ее лет и воспитания. Но он
судит Лашне — за многое, если углубиться в ткань
фильма, а прежде всего за нарушение жизненных
установлений, никуда не годных, может быть, но данных и
устоявшихся. И судит Франку — за устарелое представление о
домашнем очаге и праве женщины на его защиту с
ружьем в руках.
Мысль фильма на этом не обрывается. Как точно
подмечает Александров, на Лашне лежит вина,
обусловленная разительным разрывом между его интеллектом и
его человеческой ценностью: первое — превосходно, за-
155
видно, второе — ничтожно. «Чтобы нести бремя
духовности,— пишет Александров,— надо иметь много мужества
и никакого эгоизма. Но в том-то и беда, что люди,
подобные Пьеру, обычно нуждаются в первом и не чужды
второго. А в таком случае выхода нет. Трюффо и не ищет
его. Он только искренне сожалеет. Людей духовных,
тонких так не хватает в этой грубой, хотя и очень
устроенной жизни. А с ними из века в век случается вот
такое...» 1.
Получается, как не трудно заметить, порочный круг.
Все, что делает Николь,— «норма», во всяком случае,
автор фильма признает за нею право жить этой самой
«своей жизнью». Допустим, что Николь права. Но вот в
спокойствие жизни героев врывается любовь. Лашне не
способен найти выхода. Хорошо, допустим, что здесь
автор прав: мудрость Лашне устарела. Но ведь
очевидно, что и новая мудрость Николь ничего не подсказывает
и ничего не решает.
«Треугольник» Пьер—Николь—Франка, как каждая
драматическая ситуация, имеет определенное, не очень
большое число решений. Любовная драма Пьера и
Николь решения не имеет, ибо практически Трюффо
исключает за чувством под названием «любовь» какую-либо
роль в человеческой жизни. Нормой морали оказывается
в конечном счете аморальность, хотя сам фильм «Нежная
кожа» на редкость целомудренный и строгий.
У Чехова в записной книжке есть такая запись:
«Любовь. Или это остаток чего-то вырождающегося, бывшего
когда-то громадным, или же это часть того, что в
будущем разовьется в нечто громадное...»2. Современное
искусство Запада по большей части доказательно
утверждает: это то, что вырождается. Очевидно, что в
пропаганде мира без чувств, без любви заинтересован лишь
империализм. Но... не будет ли излишне упрощенным такое
утверждение? Ведь жизнь меняется и вместе с нею
меняются моральные нормы. Можно вспомнить одно из
предположений Фридриха Энгельса: «С переходом
средств производства в общественную собственность
отдельная семья перестанет быть хозяйственной
единицей общества. Частное домашнее хозяйство превратится
в общественную промышленность. Уход за детьми и их
1 Сб. «На экранах мира», М., 1969, стр. 113.
2 А. Чехов, Собрание сочинений, т. XI, М., 1950, стр. 359.
156
воспитание станут общественным делом; общество будет
одинаково заботиться о всех детях, будут ли они
брачными или внебрачными. Благодаря этому отпадет
беспокойство о «последствиях», которое в настоящее время служит
самым существенным общественным моментом, —
моральным и экономическим,— мешающим девушке, без
опасений и страха, отдаться любимому мужчине. Не будет
ли это достаточной причиной для постепенного развития
более свободных половых сношений, а вместе с тем и
большей снисходительности общественного мнения к
девичьей чести и к женской стыдливости?» 1
Энгельс ставит знак вопроса. Многие буржуазные
пропагандисты новой морали ни в чем не сомневаются:
желаемое состояние нравственности, утверждают они,
наступило благодаря противозачаточным таблеткам,—
из чего, очевидно, следует делать вывод, что уже нет
нужды ни в переустройстве общества, ни в
перевоспитании людей...
С этими таблетками запутались сегодня и «правые»
и «левые». Существует вполне реальная проблема
регулирования народонаселения, которую помогают решать
эти таблетки. И есть выступление папы Римского против
них, вызвавшее резонные протесты. Нельзя сбросить со
счета житейские трудности, при которых эти таблетки
могут оказаться благом. Но нельзя не видеть и того факта,
что сегодня в буржуазном обществе эти таблетки служат
лишь все тому же богу секса и, по мнению даже
некоторых западных социологов, грозят в будущем
неисчислимыми бедствиями тем нациям, которые делают эти
таблетки такими расхожими, как аспирин.
В любопытной книге Ю. Рюрикова «Три влечения»,
первой, кажется, у нас «энциклопедии о любви»,
приводится немало различных мнений и суждений, но самому-
то автору все ясно: таблетки — благо, любовь надо
отделить от семьи и деторождения — и наступит сугубое
благо; любовь втроем и вчетвером — тоже благо; будущая
семья, чтобы быть благом, должна стать иной, чем
сейчас,— неизвестно, правда, какой именно, и т. д. В книге
много интересных фактов из истории, так сказать, любви,
но то, что Ю. Рюриков видит в будущем, похоже лишь
на несколько облагороженное хорошо подобранными им
1 Ф. Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и
государства, М., 1947, стр. 87.
157
словами настоящее,— на то, что с яростью отвергает
молодой Годар и чему ужасается старик Бунюэль.
Нам представляется совершенно пустым занятием
гадать о том, какой будет семья в будущем, перебирая
варианты, принадлежащие безвозвратному далекому
прошлому человечества, рассматривая семейные устройства
первобытных общин. В любом случае вопрос о будущей
семье можно хотя бы приблизительно решить, лишь
исходя из того, что есть сегодня, из современных
тенденций развития. А сегодня можно заметить, что, хотя
политические, религиозные и хозяйственные функции семья
теряет, свое социальное значение она сохраняет, и не
только не отмирает, но явственно укрепляется (надолго
ли? — другое дело).
Буржуазные социологи, отмечая этот факт с немалым
удивлением, видят объяснение этому в изменении
социальных условий, не ослабивших, но многократно
усиливших отчуждение человека. В этой связи авторы
вышедшего в 1967 году в Нью-Йорке доклада-исследования
«1985, корпорации должны планировать сегодня
завтрашний мировой рынок» пишут, вполне обоснованно, на наш
взгляд: «Существует, между прочим, одна традиционная
функция семьи, которая не имела большого значения в
небольших устойчивых обществах с их множеством
неофициальных социальных связей. Разговор идет об
эмоциональной поддержке и об отношении к человеку как к
цельной личности. Вот поэтому-то, надо считать, семья
сохранится, хотя будут внутренние трения, которые были
бы непосильны для любого иного социального института
и которые будут нередко приводить семьи к распаду.
Семья является, по-видимому, единственным социальным
институтом, где возможно законное проявление чувств и
где за всеми его членами признается право на широкий
круг интересов и проявлений, не предусмотренных
сценарием». Иначе говоря, семья становится защитной мерой
от бездушной регламентации общества,— блестящий и,
надо думать, глубоко научный вывод. Книга, из которой
взята эта цитата, предназначена не для развлечения, но
для поучения деловых людей,— отсюда, конечно, и такая
откровенность.
Слабость книги Рюрикова — в отсутствии вот такого
рода точных и убедительных заключений, которые бы
венчали собранные факты того, какой была любовь и
семья в прошлом. Слабость, обусловленная желанием
158
взглянуть на «три влечения» несколько отвлеченно, вне-
социально.
Перечисляя блага — а они теоретически целиком
определяются наличием противозачаточных таблеток и
уровнем материального достатка,— автор «Трех влечений» не
учитывает такие пустяки, как драматическая судьба
Адрианы, имевшей таблетки и не умиравшей с голода.
Сегодня можно с большой уверенностью сказать, что
таблетки, решая некоторые проблемы половой жизни, в
целом играют на Западе, особенно в развитых
капиталистических странах, деструктивную роль, ускоряя процесс
подмены сексом той сферы духовной жизни, в которую
входили чувства любви, верности, уважения женщины.
Что говорить, нравственные проблемы, возникшие в
связи со второй научно-технической революцией,
особенно сложны и противоречивы там, где дело касается
интимных сторон жизни людей. Здесь любое утверждение
может быть оспорено. Но бесспорно, что мир без любви,
без чувств,— не человеческий мир. Все нравственное
достоинство человека Паскаль изложил в словах:
«Постараемся же хорошо мыслить: вот основа нравственности».
Постараемся хорошо осмыслить то разрушение морали
и последствия этого процесса, которые так охотно
выдаются за поиски нового.
Хочется верить, что под угрозой атомного
самоубийства люди придут к полному разоружению — здесь нет
иного выбора. Можно надеяться, что люди
приспособятся к изменяемому наукой и техникой миру; даже если
технический прогресс ускорится, его результаты уже не
будут столь болезненны, как сейчас. Надо думать, что и
проблемы отсталых народов будут решены. Все болезни,
сколь бы они ни были запущены, могут найти
решительное и быстрое излечение в будущем мире, который может
быть только коммунистическим. Но то, что происходит в
области морали, может иметь и необратимые
последствия.
VII
Учителя и мэтры
Время все вновь и вновь заставляет повторять горь-
ковское обращение: «С кем вы, мастера культуры?»
Вопрос это не новый. Едва рассеялись сумерки
средневековья и рядом со светскими и церковными
владыками встали люди, обладавшие силой знания, как сразу же
философы осознали эту — моральную по своей сути —
проблему направленности и использования силы знания.
Гениально освещена эта проблема уже в «Фаусте».
Новейшие времена сместили акцент с философско-мораль-
ной стороны проблемы на ее политический аспект.
Сегодня ответственность носителей знания перед
обществом возросла неизмеримо. При этом вторая научно-
техническая революция выдвинула в обществе на первый
план ученых и инженеров. Нравится ли это или нет, но
«властителями дум» молодежи сегодня стали вместо
убеленных сединами литераторов чаще всего весьма юные и
внешне подчас шалопаистые физики, химики, инженеры.
Это изменение не простое и не временное. Мы лишь
начинаем осознавать его. Вопрос в том, сознают ли сами
ученые и инженеры свою роль в новом мире?
Подготовлены ли они к своей роли в обществе?
Когда все началось? Существует добрая легенда, что
в начале второй мировой войны все физики-атомники
втайне договорились между собой не раскрывать своим
правительствам секрет «А». Только будто бы ложные
слухи о том, что ученые-нацисты достигли больших
успехов и вот-вот дадут Гитлеру всеуничтожающее оружие,
заставили Эйнштейна написать Рузвельту письмо, кото-
160
рое и породило известный «Манхэттенский проект» и,
в конце концов, самое «А». Но это лишь легенда. Письмо
Эйнштейна датировано 2 августа 1939 года, когда,
правда, до начала мировой войны оставался только месяц,
но еще и речи не могло быть об угрозе появления «А» у
кого бы то ни было. Легенда родилась лет двадцать
спустя, и она не только довольно точно определила дату
начала активного вмешательства ученых в политику, но и
дала нравственное оправдание всей истории с
рождением «А».
Сегодня зачастую бывает так, что нравственный
аспект какой-либо научной проблемы превалирует над
чисто научными вопросами. Достаточно вспомнить в этой
связи то, что уже написано и сказано по поводу права
врача на пересадку органов от одного человека к
другому. Еще большие трудности встанут не сегодня-завтра
перед всем человечеством в связи с достижением
практического бессмертия (продление человеческой жизни хотя
бы до ста пятидесяти лет означает бессмертие в
условиях прогресса науки).
На Западе существует огромная литература,
посвященная этическим проблемам науки. Журналисты,
социологи, публицисты чаще всего с горечью пишут о
«ножницах» между правами и обязанностями ученых, между
тем, что они дали человечеству, и тем, что человечество
ждало от них. Под сомнение, в частности, берется иногда
и целесообразность письма Эйнштейна, и чуть более
раннее обращение Ферми к командованию военно-морских
сил США, и доклад Буша президенту в конце 1941 года
о том, что создание сверхоружия зависит теперь лишь от
финансирования работ... Обо всем этом пишут, отлично
зная, что нынче в науке нет вечных секретов и то, чему
пришло время быть открытым и сделанным, будет
открыто и сделано. Что в науке дорога к утверждению идет
зачастую через отрицание: чтобы создать вакцину,
нужно вывести болезнетворные бациллы; чтобы подойти к
плазменному реактору, нужно было познать тайны
атомной и водородной бомб. Пишут, зная, что Хиросиму
сожгли не ученые, а грязные политиканы. Тем не менее
проблема «нравственности науки» достаточно серьезна.
Польская журналистка Ганна Краль, посетившая в
конце 1967 года Новосибирский академический городок—
одно из чудес нашей Сибири, рассказала о молодом
ученом, который отказывается от всего, что мешает «акку-
9 Р. Соболев
161
муляции научной мысли». Он считает, что его работа
идет круглые сутки, даже во время сна, поэтому
отвлекаться от нее он не может ни на что постороннее и уж
менее всего на искусство К Журналистка пишет о нем
вроде бы даже с восхищением. Но будем надеяться, что
она в чем-то ошиблась, что-нибудь перепутала. Ведь
это — страшно, во всяком случае, на традиционный
взгляд: ведь перед нами существо почти неземное.
Именно таких людей можно заменить машиной, снабдив ее их
мозгом, что, по-видимому, вскоре станет вполне
возможным делом.
Такую человеко-машину мы видели в фильме «Доктор
Стрейнджлав, или Как я научился не бояться и полюбил
атомную бомбу» (1964) американского режиссера
Стэнли Кубрика. Доктор Стрейнджлав, ученый-маньяк,
поминутно оговаривается, обращаясь к президенту: «Мой
фюрер»; его искусственная рука, реагируя на команды
подсознания, то и дело вскидывается в фашистском
приветствии. Это все не только раскрывает нацистское прошлое
советника президента по науке, но и служит укором
американским властям, пригревшим фашистских
преступников. Но Стрейнджлав страшен не прошлым, которое дает
лишь политическую окраску его идеям. Он страшен
именно как «думающая машина». Когда-то война или
неудачные опыты так растерзали его тело, что сегодня у него
все искусственное — ноги, рука, лицо. Остался лишь
логично мыслящий мозг, запрограммированный на
антикоммунизм.
...Генерал Риппер, сошедший с ума от мысли, что
«комми» (коммунисты) начинили своей пропагандой все
продукты, все, что американцы едят и пьют («даже
мороженое», ужасается он), приказывает подчиненной ему
стратегической авиации нанести ядерные удары по
городам СССР. С невероятным трудом президенту удается
повернуть все Б-52 назад, кроме одного с испортившейся
рацией. Самолет тупицы-майора Конга долетает до
цели — где-то на Северном Урале,— и фильм кончается
панорамой атомных взрывов, окутывающих мир.
Такова фабула фильма Кубрика. Но его суть — в той
галерее типов американских политиков, военных и
ученых, которых Кубрик показывает остросатирически, в тех
разговорах, раскрывающих бесконечную глупость одних
1 См. «Polityka», 1967, N 51.
162
и холодное бездушие других хозяев Америки, их
поведения в оставшийся до конца света час. Пока президент
Мафли пытается как-нибудь предотвратить
беду—посылает десант на ставку Риппера, связывается с главой
советского правительства и просит его уничтожить
вышедший из повиновения самолет,— его помощники вносят
одно предложение бесчеловечнее другого. Стрейнджлав,
в частности, мгновенно подсчитав неизбежность гибели
цивилизации, требует немедленно спустить в подземелья
тысячу отборных мужчин и для каждого — десять
породистых молодых женщин. Это обеспечит появление на
Земле новой великолепной расы. Поэтому, заключает
Стрейнджлав, то, что происходит, желательно и полезно.
Рассказывая корреспондентам о замысле и
осуществлении фильма, Кубрик привел примеры «машинной
логики» уже не из области фантастики, а из книг пентагон-
ских мыслителей: «Атака на другую страну — не атака, а
удар. И мы никогда не ударим первые; но мы можем
найти, что они хотят атаковать первыми и поэтому мы
решим нанести привентивный удар, который вовсе не
нападение, потому что предупреждающий удар является
видоМ обороны...»1. И т. д. Все это лишь повторение
некоторых сочинений Г. Кана, «логически» доказавшего
некогда необходимость ядерного удара по СССР.
«Доктора Стрейнджлава» некоторые критики назвали
фантастическим фильмом,— исходя, очевидно, из
поверхностного принципа, что все, чего нет в действительности,
есть выдумка, фантазия. Однако ничего фантастического
нет, конечно, в этом сатирическом изображении
реакционного американского генералитета и той части ученого
мира, которая обслуживает военщину. Приобретя для
экранизации малоизвестный роман .бывшего офицера
воздушных сил НАТО Питера Джорджа «Два часа
Страшного суда» — книгу из серии «черных предсказаний»,
написанную вполне реалистически, Кубрик переработал ее
в злую сатиру, пожалуй — самую злую в западном кино
60-х годов, какая нам известна. Риппер, кроме того,
напоминает генерала из романа «Красная тревога»
П. Брайанта. Поскольку известно, что в одном 1959 году
из ВВС США было уволено около тысячи человек,
психически больных, то ситуацию фильма Кубрика
надуманной не назовешь.
1 «Holiday», 1964, February, p. 105.
9*
163
Стэнли Кубрик, показывая маньяка Стрейнджлава,
бросал резкий и точно попадавший в цель упрек ученым,
поставившим свои знания на службу реакционным
силам,— не случайно прототипом Стрейнджлава называли
известного фон Брауна, «отца» гитлеровских «фау» и
первых американских ракет. Фильм оказался не только
злым, но в высшей степени современным и необходимым
людям. Фильм выражал общественное мнение, а Кубрик,
создавая его, выполнял высший долг художника. Если что
и настораживало в «Докторе Стрейнджлаве», то
яростный и неожиданно пессимистический финал — атомная
смерть мира. Жанр фильма, правда, позволял думать,
что пессимизм финала скорее просчет, нежели авторская
позиция.
Однако его новая картина — блистательная по
съемкам и аксессуарам «2001: космическая одиссея» —
подтвердила предположения о крайнем пессимизме Кубрика,
о его недоверии разумности человечества. Опасности,
возникшие в результате развития человеческой цивилизации
в условиях устаревших общественных отношений, Кубрик
абсолютизирует как результаты несовершенства самой
природы человека.
«2001: космическая одиссея» прежде всего социально-
философская картина. Впрочем, в ней предостаточно и
научной фантастики. Люди, обнаружив на Луне
свидетельство о наличии на Юпитере какой-то формы разума,
посылают туда планетолет. В пути с экипажем
происходят необыкновенные происшествия, кончающиеся
трагически. Из-за бунта компьютера экспедиция срывается.
И прочее, не менее фантастическое.
Фильм, как пишут, стоил 8 или 10 миллионов
долларов, потраченных прежде всего на то, чтобы все корабли
и космические объекты выглядели точно такими, какими,
по наметкам ученых, они будут в 2001 году. Новы и
непривычны съемки на цветную 70-миллиметровую пленку
планет солнечной системы, выполненные с ракет. Все это
сделало фильм зрелищем удивительной красоты.
В работе над сценарием принимал участие известный
ученый-футуролог Артур Кларк. Когда Кубрик обратился
к нему с предложением написать сценарий, Кларк
предложил свою повесть «Страж». Повесть эта, однако,
отличается простотой композиции и ясностью замысла, что
вообще свойственно для литературного творчества
Кларка. В ней рассказывается о возможности встречи выхо-
№
дящего в космос человечества с разумом, превосходящим
человеческий опыт и знания. Известно, что о такой
возможности писал и Э. К. Циолковский. Кубрик признал
богатейшие возможности предложенного сюжета. Фильм
получился зрелищным, но... и по меньшей мере спорным.
В прологе фильма показаны стада обезьян. Скачок в
развитии от обезьяны к питекантропу во многом еще
представляется загадочным, и Кубрик предлагает свою
гипотезу, объясняющую этот феномен: среди обезьян
появляется таинственная черная плита, которая и есть этот
самый носитель высшего неземного разума. Что это:
одушевленное существо, кибер или «черный ящик» — не
ясно. Но именно этот черный параллелепипед
пробуждает сознание в обезьянах, дает первый толчок развитию
человечества. Проблеск разума проявляется в том, что
обезьяна-человек превращает обгрызенную кость в
оружие и успешно приканчивает соперника, на которого он
прежде лишь рычал. Человечеству это не очень лестно,
но... допустим.
Потом скачок в миллион с чем-то лет — и мы уже на
Луне, где люди опять сталкиваются с той же или точно
такой же плитой, посылающей не поддающиеся
расшифровке сигналы на Юпитер. Решено лететь туда. Во время
полета к Юпитеру компьютер по кличке ЭАЛ-9000
взбунтовался и уничтожил почти весь экипаж:
бодрствовавших вышвырнул в бездну, спящих умертвил, отключив
систему жизнеобеспечения. Оставшийся в живых пилот
Дейв в свою очередь уничтожает ЭАЛа. Полет, однако,
сорван, и Дейв обречен, ибо только компьютер мог
довести планетолет до Юпитера и вернуть его на Землю...
В этой центральной новелле фильма героем является
ЭАЛ — электронный мозг, наделенный не только
сверхчеловеческими способностями, но и человеческой
эмоциональностью. В западной критике было высказано
предположение, что ЭАЛ потому-то и взбунтовался, что
обладал повышенной эмоциональностью: он испугался
встречи с неведомым на Юпитере и, подобно робкому
человеку, пошел на все, чтобы избежать опасности. В этой
связи Марсель Мартен заметил: «Подлинная проблема
«2001»-—восстание машин против человека»: Запомним
это.
Фильм, однако, продолжается. Одинокий Дейв видит
перед кораблем плиту, теперь чем-то опасную,
тревожную. На экране происходит взрыв света, красок и скоро-
165
стей. Зрелище потрясающей красоты, но что означает
оно — никто из писавших не смог объяснить. После этого
фейерверка мы видим Дейва в комнате, обставленной
мебелью «а ля Людовик XVI».
В книге Кларка люди возвращаются на Землю и
находят ее выжженной атомной войной. В фильме этого нет.
Но поскольку Дейв в антикварной комнате одинок и
ничто не говорит, что за ее пределами есть жизнь, то
можно предположить: катастрофа произошла. Может быть,
взрыв света и красок как раз и означал гибель нашего
мира? Затем Дейв на наших глазах стареет, умирает и
сразу же возрождается в виде человеческого эмбриона с
глазами невеселого мудреца. Этот эмбрион, невесело
осматривающий Вселенную, и есть, очевидно, начало
нового поколения сверхлюдей...
Как видим, фильм внутренне глубоко пессимистичен.
Если и первый толчок к развитию и приобщение
человечества к высшему знанию совершаются по воле внешней,
почти божественной силы, то зачем верить в человека?
И чего можно требовать от него? И чем гордиться
«человечеству? Кубрик вроде бы утешает в конце: все будет
«о'кей», человек станет сверхчеловеком. Но какое же, в
сущности, презрение к людям кроется в таком утешении!
Вернемся к замечанию Мартена. Не он оДин
воспринял «2001» как рассказ прежде всего о бунте машины,
созданной человеком, против творца. ЭАЛ стал
враждебен человеку потому, что превратился в «личность», а его
совершенствование явилось следствием логической
необходимости: не будь ЭАЛ столь совершенен, нельзя было
бы послать экспедицию к Юпитеру.
Технология создает нас постольку же, поскольку мы
создаем технологию,— эта мысль проходит через многие
книги, в том числе через упоминавшуюся «Сумму
технологии». Кубрик эстетизирует эту мысль. Вскоре после
выхода «2001» на экраны он заявил: «Мы уже сейчас
находимся почти в обществе биологических машин. Мы
совершаем переход к последующим изменениям. Человек
поклоняется красоте. Я думаю, что в мир приходит новая
красота» К
Кубрик-художник явно не в ладах с
Кубриком-философом: ЭАЛ не нуждается в поклонении, ЭАЛ не
нуждается в людях. Он вообще ни в чем не нуждается. Если бы
1 «Film Quarterly^ Fall, 1968.
166
Дейв не схитрил, то был бы, подобно своим товарищам,
умерщвлен, и ЭАЛ продолжал бы жить как замкнутый
в себе мир, а целью этой жизни было бы поддержание
равновесия для жизни вечной. Этому ли человек должен
поклоняться? И не есть ли предложение Кубрика именно
образец «машинной логики», которая более опасна, чем
угроза порабощения человека машиной? Именно об этой
опасности говорят многие авторы сборника «Кибернетика
ожидаемая и кибернетика неожиданная». Определеннее
других сказал профессор Д. Вуд Крутч (США): «Много
говорится об угрозе порабощения человека машинами, но
угроза порабощения человека механической идеей еще
страшнее, ибо из этого тупика нет выхода» К
Послушаем теперь Кларка. В начале 1969 года он
выступил в журнале «Плейбой» (этот журнал «для
мужчин» давно уже стал помещать статьи крупнейших
политических деятелей, ученых, философов: от Фиделя Кастро
и Элдриджа Кливера до покойного Бертрама Рассела и
доктора Спока). В большой статье, названной «Ум
машины», Кларк фактически ставит точки над «и», разъясняя
некоторые вопросы, возникшие в связи с фильмом. (Эта
статья предшествовала фильму и роману «2001:
космическая одиссея», знакомому русским читателям).
Оперируя фактами и цитатами из бесчисленных
источников, Кларк строит гипотезы о том, каким станет мир,
когда машины, далеко обогнавшие людей в разуме, и
привезенные из дальних миров атропоиды,
превосходящие людей физическими силами, освободят человечество
от труда и забот. Последствия этого могут быть самые
различные,— Кларк приводит предсказания и
оптимистов, и пессимистов. А сам явно склоняется к варианту
давно уже не оригинальному: «Одним из возможных
решений этой проблемы (проблемы «как убить время».—
Р. С.) является описанное в романе Хаксли «Смелый
новый мир» общество, которое не признает никаких
запретов и считает наслаждение высшей целью жизни...» Этот
«мир», разумеется, выдвигает на первый план искусство
и все, что, по выражению Кларка, «охватывается
неясным термином «культура». Но это лишь одна из гипотез,
которую и Кларк явно не считает серьезной, говоря далее
о присущем человеку стремлении к знаниям и внутрен-
1 Сб. «Кибернетика ожидаемая и кибернетика неожиданная», М.,
1968, стр. 100 н ел.
167
йему динамизму. Но коли так, то «миссия искусства
состоит в том, чтобы поднимать нас над низменной
действительностью реального мира; по мере того, как будут
увеличиваться наши знания, могущество и, самое
главное, мы будем становиться духовно более зрелыми,
необходимость в искусстве постепенно отпадет...».
Человеку останется лишь «наука — вечное стремление
человека к знаниям, стремление, которое позволило
человеку вплотную подойти к возможности создания мыслящих
машин, идущих ему самому на смену» (курсив мой.—
P.C.).
Альтернатива «смелому новому миру» — отказ от
цивилизации, превращение в кочевых пастухов или
охотников. Но это — если позволят машины, которые в
конце концов займут место бога. Ибо, пишет Кларк, «роль,
которую мы должны сыграть на этой планете, быть
может, заключается... в том, чтобы создать бога. И тогда
наша работа будет выполнена. Настанет время, когда мы
будем играть».
Ни Кларк, ни Кубрик не допускают, конечно, и
мысли, что доктор Стрейнджлав — некое промежуточное
звено между человеком и компьютером, который более
совершенен, чем человек. Но такая мысль легко приходи!
на ум, когда смотришь эти фильмы и читаешь статьи,
которые мы процитировали.
Логика, на которой строятся такого рода модели
будущего,— крайне бессердечна. Хвастаться такой логикой
сейчас — своего рода щегольство у отдельных молодых
ученых, хотя хвастаться здесь вроде бы и нечем. Стоит
принять эту логику за истинную, и тогда предложение
доктора Стрейнджлава о новой расе, которую выведут
тысяча отборных мужчин с помощью десяти тысяч
породистых женщин, будет оправдано. Тогда все, что
целесообразно, будет оправдано.
Наверное, невозможно сказать, сравнивая фильм
Кубрика и статью Кларка, что более опасно для
духовного разоружения молодежи. А тот факт, что оба они в
данном случае вносят свою весомую лепту в тяжкшг
груз неверия и скепсиса, придавливающего западную
молодежь, кажется нам достаточно бесспорным и вполне
очевидным.
Статья Артура Кларка не единственная в своем роде:
она лишь капля в потоке научной литературы, имеющей
апокалипсический характер. Кларк, правда,, цищет не;
168
только популярнее, но и убедительнее многих своих
коллег, воздействуя, как опытный писатель, не только на
разум, но и на эмоции читателя. И это-то тревожно.
«Ошибки людей сильного ума,— отмечал Н.
Чернышевский,— именно тем и бывают страшны, что они делаются
мыслями множества других людей» *.
Но в общем-то ученые, пугающие читателей, до
огорчения не оригинальны. Отличие пессимистических статей
и книг ученых от так называемого черного искусства —
лишь в способах убеждения потребителя.
Лет десять назад молодые ученые в одном из
американских университетов «пошутили», заставив компьютер
создать модель будущего общества на основе
соответствующим образом подобранных данных. Человечество
достигло всего, о чем сегодня лишь мечтают,— полного
мира, изобилия, политической гармонии. Каждый
человек получил абсолютно все, что только может придумать,
а от него не требуется ничего — ни работы, никаких
форм деятельности, если нет на то его личного и
настойчивого желания. Делом занято лишь несколько
процентов населения — элита ученых и художников. Для чего
же тогда будет существовать человечество? Для того,
ответил будто бы электронный мозг, чтобы пополнять
творческую, созидающую новое элиту, обновлять ее
гены...
«Модель» эта — чистый плагиат. Не говоря уже о
книгах писателей-фантастов, хотя бы о «Предвидении»
Г. Уэллса, датированном 1901 годом, бредовый мир
господства элиты и животного существования безликой
массы можно увидеть в фильме Ф. Ланга «Метрополис»,
созданном в 1925 году.
Пугать будущим — это стало обычаем сегодня на
Западе, этим охотно занимаются и художники и ученые.
В «страшных» фильмах и книгах о будущем ли!нь
изредка звучит предупреждение о том, что именно
современные уродства капиталистической действительности могут
при соответствующих условиях обернуться в будущем
кошмаром. Чаще все же причиной всему объявляются
биологические недостатки людей, пороки цивилизации,
сама история и часто одна из самых модных сегодня
причин — демографическая.
1 Н. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. 10, М., 1939,
стр. 729.
169
Известно, что если человечество будет расти такими
же темпами, какими росло в минувшую четверть века
(1—2 процента прироста в развитых странах и 2—3 и
более процентов в развивающихся странах в год), то
уже в 2000 году в Европе и Северной Америке будет
жить 1260 миллионов, а в Азии, Африке, Латинской
Америке— 4700 миллионов человек,— это минимум, но,
возможно, население Земли достигнет цифры 8—9
миллиардов человек. Если за оставшиеся 30 лет не будет
разрешена проблема голода, становящаяся главной
проблемой человечества, то, полагают некоторые западные
ученые, при таком соотношении рас — один сытый белый
к трем или четырем голодающим цветным — мир ждут
жестокие потрясения.
Как будет разрешена эта отнюдь не надуманная
проблема? Ведь так или иначе, а три четверти населения
Земли недоедают и одна треть просто голодает сегодня.
Пока что решение проблемы кажется почти
невозможным, ибо человечество не настолько богато, чтобы
оплачивать «А» и одновременно перестраивать мир. На этом
и строится литература, пугающая читателей грядущими
войнами рас и континентов. Но рано или поздно разум
вступит в свои права,— в это нельзя не верить.
Коммунисты исходят в своих взглядах на будущее
человечество из известной Марксовой мысли, что
«буржуазной общественной формацией завершается
предыстория человеческого общества» и что только с
освобождением от материальных тягот и связанных с ними
политических ограничений человек станет свободным, а
человечество получит возможность решить все стоящие перед
ним задачи и все задачи, которые выдвинет будущее.
История человечества только-только начинается.
Трудно даже представить, как велика уже сегодня и
насколько возрастет в ближайшем будущем роль
ученых в историческом процессе. Думая об этой их роли,
позицию многих и многих буржуазных ученых
невозможно оценивать без чувства тревоги и часто возмущения.
Ведь в конце концов то, что они пишут для массового
потребления,— еще не самое страшное. Статья Кларка
просто детская сказочка в сравнении, например, с
книгами Германа Кана «О термоядерной войне» и «Об
эскалации», где до мельчайших подробностей разработаны
планы третьей мировой войны. И еще хуже то, что
некоторые из ученых делают. «Манхэттенский проект» мож-
170
но, наверное, нравственно оправдать в соотношении с
эпохой — временем борьбы с фашизмом. Но что может
оправдать, например, американского физика А. Каца,
выезжавшего во Вьетнам для разработки системы
бомбардировок, которые должны были сломить
сопротивление патриотов,— определения бомбовых ударов,
должных превратить целые районы в пустыню?
Как только ученые заняли места рядом с генералами,
так на Западе возродился не новый миф о том, что лишь
ученые могут навести порядок в этом «безумном,
безумном, безумном мире».
Обилие написанного на Западе о формах
возможного правления или хотя бы управления обществом
учеными объясняется в конечном счете тем, что кризис
буржуазной цивилизации привел и к кризису идей
государственности. Зыбкость традиционной демократии, ее
беременность фашизмом стала очевидной и наблюдателям,
далеким от марксистско-ленинских взглядов на историю.
Джавахарлал Неру писал об этом двадцать лет назад:
«...наступило время, когда дальнейшее расширение ее
(буржуазной демократии.— Р. С.) стало угрожать
основам социального строя...»1. Дилемма — развитие и
совершенствование демократии либо фашизм — кажется
неразрешимой, ибо путь совершенствования демократии
есть на деле путь к социализму. «Тоска по фашизму»
хорошо просматривается в результатах последних
президентских выборов в Соединенных Штатах, в
появлении неонацизма в ФРГ после второй мировой войны, в
поддержке фашистского переворота в Греции
демократическими правительствами Запада.
«Тоской по фашизму» можно объяснить и идею
«рационального правительства», из кого бы ни мыслилось
его составление: из специально ли подготовленных
бюрократов или же из ученых. В любом случае мы видим
отказ от демократического принципа и принижение роли
народа в пользу диктатуры. Об одном возможном
варианте «ученой диктатуры» рассказал Годар в «Альфави-
ле». Об опасности усиления влияния ученых на политику
и экономику предупреждал Дуайт Эйзенхауэр — генерал
и президент, отнюдь не «голубь». Трудно, конечно,
гадать, чем руководствовался генерал, высказывая свое
опасение о том, что «политика может сама стать плен-
1 Дж. Неру, Открытие Индии, М., 1955, стр. 527.
171
ницей научной элиты», но, может быть, здесь могла
сыграть важную роль как раз книга Г. Кана «О
термоядерной войне», с холодным спокойствием оперирующая
такими понятиями, как «мегасмерть»— то есть
одновременная смерть миллиона человек, бесстрастно
взвешивающая шансы человечества на продолжение истории и
не убедительно утверждающая преимущества Америки.
«Научно-технический подход» к политическим и
социальным проблемам стал модой в Соединенных Штатах
в 6Q-x годах,— это, конечно, уже определенный шаг к
«электронному фашизму». Если можно верить западной
прессе, то решение о варварских бомбардировках
Северного Вьетнама было принято исключительно на основе
рекомендаций вычислительной машины,— это уже
действие, которое ничем не отличается от гитлеровского
«принципа целесообразности».
Надо отметить также, что миф о благоденствии в
случае, если обществом начнет управлять научная элита по
законам логики и разума, есть не что иное, как
зеркальнее отражение столь же реакционной мысли о том, что
первопричина всех бед человеческих кроется в успехах
науки и техники,— мысль об этом была высказана пол^
века назад и ранее Бергсоном во Франции,
Шпенглером в Германии, Чейзом в США, Бердяевым в царской
России.
Истина, очевидно, заключается в том, что и наука,
призванная служит человечеству, при определенных
условиях и на известном уровне своего развития обладает
способностью отчуждаться от жизни. И истина в том
еще, что наука никогда не была способна и не способна
сегодня менять социальное лицо человечества. М.
Петров и А. Потемкин, историки и социологи науки,
справедливо пишут: «Цифра, схема, модель, структура,— а
без них наука и шагу ступить не умеет — коварные
друзья. Слишком уж просто превращаются они сейчас из
средства в цель: выхватывают из жизни моменты и
мгновения, чтобы вернуть их нормой, правилом, контрольной
цифрой. И, намертво схваченная знаком, жизнь начинает
кружиться в растянутом на десятилетия
«функциональном определении», начинает стонать и жаловаться, как
Дантова Беатриче: трудно ей вырваться из пут
мгновения, которое и было-то прекрасным, потому что оно —
мгновение... Нам невозможно примириться и
согласиться с тем количественным поветрием безответственности,
172
которое стремится «освободить» человека от прав и
обязанностей, силится подсадить таблицу умножения на
пустеющие иконостасы» !.
Есть что-то нестерпимо грустное в тех надеждах,
которые возлагаются сегодня на успехи науки, какое-то
недоверие к опыту человечества и к его будущности.
Незадолго до смерти Илья Эренбург писал: «Видимо,
надежды на гармоничного человека, на «общую идею»,
которая родится из раздумий и поисков молодых людей,
нужно теперь связывать не с трудами запоздалых
философов, будь они экзистенциалистами, неопозитивистами
или неотомистами, и не с «культурной революцией»,
предпринятой догматиками, которые видят в любом
движении критической мысли преступный «ревизионизм», а
с дальнейшим развитием точных наук, с пробуждением
в носителях знания сознания, совести»2. Можно понять,
что это писал очень старый и усталый, очень многое
переживший человек. Но согласиться с этим невозможно.
Есть и другой взгляд на эту проблему, не менее,
конечно, спорный. В своих беседах профессор Винер
говорил: «Существует средневековая еврейская легенда, что
живший во время императора Рудольфа II пражский
раввин Лев бен Бецалель-создал Голема — глиняного
раба, дровосека и водоноса. Он оживлял его, вкладывая
ему в рот записку с кабалистическим именем божьим
«шем». Но однажды раввин ушел, позабыв вынуть
записку, и Голем изрубил всю его обстановку и затопил
его жилище. Потом он угрожал всей округе, пока сам
раввин не уничтожил Голема...» Кибернетические
устройства, продолжал Винер, «могут не только воспроизводить
самих себя, но и производить устройства, все более и
более совершенные. Но как раз наиболее сложные
устройства легко выходят из строя. Не так ли обстоит дело
с человеком? Работники, которые будут обслуживать эти
устройства, должны быть несравненно более развитыми,
чем рабочие на конвейере. Но чем человек культурнее,
тем менее он склонен подчиняться чужой воле. Если и не
взбунтуются машины против человека, то опасность, что
общество распадется, все-таки очень серьезна...» 3
1 «Новый мир», 1968, № 6.
2 «Наука и жизнь», 1967, № 7.
3 Сб «Кибернетика ожидаемая и кибернетика неожиданная»,
стр. 70—71.
173
Эту легенду пересказал с экрана один из
родоначальников немецкого кино — Пауль Вегенер — в 1914 году.
Робот Голем обладает, как и робот ЭАЛ, человеческими
чувствами, что и порождает драму, а затем приводит его
к гибели. Голем влюбляется в дочь раввина, прекрасную
девушку, и когда она в ужасе прячется от него в
высокой башне, он, пытаясь достичь ее и рассказать о
переживаемых им муках, срывается и при падении
разбивается вдребезги.
Отличие Голема Вегенера от ЭАЛа в том, что первый
хочет отождествить себя с человеком, а второй человека
отвергает. Сама легенда сложнее, а главное — она
трагична.
Наука и искусство равно беспомощны перед
историческим процессом. Ведь нет нужды, даже не соглашаясь
с Т. Манном, ломиться в открытые ворота: искусство
знало периоды блистательных взлетов, которые ничуть
не помешали людям завершить эпоху Возрождения
кострами инквизиции, а после великих мыслителей XIX и
начала XX века построить в центре Европы крематории
Освенцима и Бухенвальда. Не нужно быть диалектиком,
чтобы понять, как это мало в сравнении с другим
фактором жизни — призывом к добру и красоте, какой бы
талантливый художник его ни произносил. Мир могут
изменить только люди. Все вместе, на основе передовой
теории. Чтобы каждый понимал, что он не винтик, а,
возможно, та капля, которая, по пословице, переполняет
чашу, что, может быть, именно его усилия не хватает
для того, чтобы перевернуть мир. И это ничуть не
противоречит тому факту, что при равной ответственности
людей за все «ломовой лошадью истории» остается
интеллигенция и с нее — особый спрос.
Особый спрос! Поэтому, наверное, так жарки споры о
науке и ее работниках. Поэтому, конечно, так часты
упреки в их адрес. И здесь уж на заметку берется все,
вплоть до мелочей. Например, для современного ученого
обычно свойственна односторонность развития,
однобокость интересов. Говорят, пока иначе и нельзя. Но
односторонность— это опасно везде, всегда, для каждого.
«Я уверен, что человек способен бесконечно
совершенствоваться... Но я вижу также, что развитие человека с
некоторой поры идет криво — развивается ум наш и
игнорируется чувство. Думаю, что это вредно для нас».
Это опасение М. Горького становится фактом.
174
Подмечено, что большинство умнейших людей
нашего времени — а физики, с точки зрения обычного
человека, именно умнейшие,— если не изобретают новую
штуковину, которая противоречит всему, что было аксиомой
еще вчера, то слушают музыку. В этой шутке много
истинного. В самом деле, большинство физиков,
математиков, кибернетиков, теоретиков различных наук отвечают,
когда социологи или журналисты спрашивают их о
досуге: «Люблю слушать классическую музыку». Мне не
встречалось достаточно убедительное объяснение этому
факту. Зато вспомнилось прочитанное у М. Горького:
«Гольденвейзер играл Шопена, что вызвало у Льва
Николаевича такие мысли:
— Какой-то маленький немецкий царек сказал: «Там,
где хотят иметь рабов, надо как можно больше сочинять
музыки. Это — верная мысль, верное наблюдение,—
музыка притупляет ум» 1.
Наверное, следовало бы уточнить, каков характер
восприятия музыки представителями различных
социальных групп, и путем элементарных социологических
опросов и новыми приборами определения психических
реакций. Не окажется ли тогда, что именно для ученых
музыка ценна не как искусство, но прежде всего — как
своего рода средство «промывки» перенапряженного
мозга? Музыка вообще своеобразное искусство: она
воздействует на глубины души, но зачастую отгораживает
человека от насущного в жизни. То душевное очищение,
которое испытывает человек от доброй порции Баха или
Бетховена, ничего не имеет общего с тем напряжением
чувств и мозга и тоже катарсисом, но совершенно иного
характера, которые вызывают сотня-другая страниц
Достоевского или Кафки.
Когда-то, на заре современной европейской
цивилизации, почти каждый ученый был художником, а
художники зачастую были выдающимися учеными. Сегодня
Артур Кларк — ученый необычный, ибо его кругозор
чрезвычайно широк,— определяет искусство как своего
рода наркотик, необходимый людям лишь на низких
ступенях их развития.
В порядке ответной любезности искусствоведу
позволительно представить мир таким: через пятьсот-шестьсот
лет, когда на каждого человека, как указывают стати-
1 М. Горький, Портреты, М., 1963, стр. 124.
175
стики, будет приходиться менее одного квадратного
метра суши, сидят на Земле, Луне, Марсе миллиарды
людей и наперегонки решают задачки, которые им
снисходительно подкидывают машины; а молодые люди читают
любимым — если эта категория сохранится, что очень,
конечно, сомнительно,— таблицы логарифмов; а
старички-пенсионеры целыми вечерами с удовольствием
смотрят по телевидению опыты по химии; ну а уж кто и на
это не способен, тем, наверное, будет предоставлен
всеми презираемый «слег», придуманный братьями
Стругацкими...
Вступать, однако, в такого рода спор бессмысленно:
банальная истина заключается в том, что наука и
искусство равно необходимы людям, ученые и художники на
равных выступают и сегодня учителями человечества.
Дело лишь в том, чтобы те и другие ясно понимали свою
ответственность.
При этом надо сказать, что невозможно вести речь
об этических вопросах без четкой оговорки о том, что как
ни важна роль интеллигенции сегодня, но она
по-прежнему всюду обслуживает господствующие классы: в
социалистическом лагере — рабочий класс, в
капиталистическом — буржуазию. Только в свете этих положений
исторического материализма можно понять этические
проблемы и «физиков» и «лириков». Безусловно, многое
изменится в будущем — по мнению А. Кларка, в
ближайшем будущем, исчисляемом несколькими десятками
лет,— когда каждый человек, живущий на Земле,
должен будет получить университетское образование как
минимум.
Но сегодня интеллигенция, как особая социальная
категория, может выполнить свою главную функцию
движения прогресса только в том случае, если она служит
прогрессивному классу данной
общественно-экономической формации, передовым силам истории.
Конфликты западной интеллигенции с
государственно-монополистическим капиталом сегодня имеют в
основе подчас элементарное осознание того факта, что
реакционный господствующий класс лишает ее, то есть
интеллигенцию, возможности осуществлять ее важнейшую
функцию. Этим же объясняется и другой очевидный
факт — внимание со стороны сильных мира сего к
духовной элите наций заметно возросло. Вот несколько
примеров тому.
176
Андре Мальро — человек бурной и сложной
биографии, принимавший участие в борьбе на стороне
коммунистов в Китае в 20-х годах, затем командовавший
республиканской эскадрильей в Испании, успевший
написать ряд романов и философских работ,
способствовавших распространению экзистенциализма во Франции,—
с возвращением де Голля к власти возглавлял
министерство культуры. В 30-х годах, во время своей близости к
коммунистам, он видел по крайней мере два пути
поисков человеком смысла жизни — в действии, пусть даже
ваше действие и не принесет желаемых результатов; или
же, если это вам доступно, в жизни в искусстве, в
творчестве, которое само — целый мир. Это признание
действия как жизненной позиции исчезает у Мальро после
сближения с республиканцами. С 40-х годов он
неоднократно, настойчиво обращался к интеллигенции с
призывами искать забвения от абсурдности бытия в
творчестве, которое одно будто бы оправдывает высокое
положение человека. Ирония этого призыва в том, что к
самоустранению от жизни звал министр правительства,
целью которого являлось возрождение и возвышение;
престижа Франции во всех сферах политики и
экономики.
Став министром культуры, Мальро немало сделал
для того, чтобы «приручить» художников. Писатели,
режиссеры, артисты Франции не раз выступали с резкой
критикой политики министерства Мальро, указывая на
тенденции ограничить свободу творчества. Если
смотреть со стороны, то кажется, что в результате всех мер
правительства, направленных на подавление
прогрессивных тенденций, французское кино лишь приобрело те
высокие качества, которые было растеряло в конце 50-х
годов. Сегодня это кино опять одно из самых авторитетных
в мире. Брессон, Тати, Рене, Годар, Трюффо — лишь
этих имен хватило бы, чтобы считать французское кино
первоклассным. Во Франции 60-х годов появились и
фильм о коммунисте — «Война окончилась», и грустные
комедии об обществе потребителей — «Мой дядя» и
«Плейтайм», и злые жизненные зарисовки общества без
идеалов и смысла — «На последнем дыхании» и «Две
или три вещи, которые я знаю», и тонкая драма
человеческого одиночества — «Мушет», и философская
картина о том, как «порвалась связь времен»,— «Жюль и
Джим». А ведь помимо этих пятерых мастеров, выбор ко-
177
горых, наверное, многие сочтут субъективным, во
Франции работает множество одаренных мастеров разных
поколений, от стареющего Марселя Карне, вновь
выступившего в 1968 году с картиной о молодежи, до
дебютанта Кристиана де Шалонжа, создавшего в том же
году социально острый кинодокумент о португальских
рабочих, тайно уходящих через Испанию во Францию в
поисках работы, рискующих жизнью в пути, терпящих
унижения и трудности в чужой стране.
Все это так, но нельзя не видеть и того, что
экономические рычаги, находящиеся в руках правительства,
приводят к созданию неправомерно большого числа
развлекательных, поверхностных фильмов. Нельзя не видеть и
закономерность того, что именно во Франции появился
Клод Лелюш, уже в своих первых фильмах заявивший
о себе как о самом ловком мастере «нового стиля» в
западном кино.
Его «Мужчина и женщина», скромная,
непритязательная история любви и счастья двух людей —
мужчины и женщины, испытавших удары судьбы, но
сохранивших душевную чистоту и благородство чувств, была
с энтузиазмом принята во всем мире, осыпана
призами и похвалами, на которые не поскупились даже
критики, славящиеся своей строгостью. Объяснить это не
трудно: в потоке фильмов, смакующих истории о
шизофрениках, садистах, наркоманах, убийцах и
проститутках, о человеческой патологии и извращениях всех видов
и оттенков, картина о простых чувствах любящих людей
показалась глотком чистого воздуха. Парадокс: картина
«Мужчина и женщина» показалась необычной потому,
что она рассказывала об обычном.
Оглядываясь назад, можно понять, что уже в ней
было многое из того, что сделало следующий фильм Лелю-
ша эталоном «нового стиля». Уже в «Мужчине и
женщине» была и нарочитая красивость, и облегченность
сюжетных решений, и полуправда в обрисовке
характеров и действий персонажей. Эта картина давала автору
возможность выбирать разные пути для дальнейшего
движения. Лелюш пришел к фильму «Жить, чтобы
жить», к этой ловкой ремесленной поделке, похожей на
безликие иллюстрированные журналы типа «Штерн» или
«Лук». В «Жить, чтобы жить» есть всего понемногу —
правдивые жизненные зарисовки, достаточно
достоверные конфликты, обильная и любопытная информация,
178
точно отмеренная порция злободневной политики и т. д.
и т. п. Но в целом этот фильм бесконечно пуст и мелок
по чувствам, приспособлен для потребления сытыми
ограниченными людьми. Мастерство Лелюша и его
блестящих операторов, которыми он лично руководит, а часто
и подменяет их, участие популярнейших актеров
создают привлекательнейшую обертку для той манной каши,
какой представляется его фильм «Жить, чтобы жить».
Не менее двусмыслен и его третий фильм,
претенциозно названный «Жизнь, любовь, смерть» (1969).
Попытки выдать его за «проблемный» никакой критики не
выдерживают: это откровенно коммерческий фильм,
оснащенный «в духе времени» высосанной из пальца
проблемкой. Отвлеченно говоря, это проблема
несовершенства буржуазного правосудия: Лелюш выступает
здесь против смертной казни. А конкретно: это история
тупого обывателя (по классовой принадлежности —
рабочего с парижского автозавода «Симка»), история,
действительно имевшая место, о чем автор спешит сообщить
зрителям, возможно, претендуя на модный стиль доку-
ментализма. Жил герой обычно — зарабатывал вместе с
женой достаточно, чтобы иметь маленькую квартирку
«со всеми удобствами», маленькую машину, маленькую
горячо любимую дочку. Любил необычно — с женой он
был мужчиной, а с проститутками — импотентом. На
этой почве у него развился прямо-таки ужасный
комплекс неполноценности, в результате чего он придушил
нескольких неудачливо повстречавшихся с ним девиц.
А потом он завел миленькую любовницу, с которой все
получалось просто великолепно. Но полиция здесь как
раз и сцапала его. Суд. Смертная казнь. «За что?» —
кричит Лелюш со всей страстью. Он ведь «болел», а
теперь «поправился»,— за что же казнить?..
В одной из дискуссий кинематографистов
американский критик сказал, что успех фильмов Лелюша даже в
Голливуде вдохновляет дельцов и порождает множество
подражаний. Можно понять его опасения: фильмы
Лелюша предстают как последнее слово конформистского
искусства, ловко максирующегося под искусство
современное и проблемное.
Нельзя сказать, что именно Лелюш родоначальник
этого «нового стиля». Одновременно с ним в Швеции
Вильгот Шёман создал дилогию о «любопытной Лене»
(первая серия называется «желтая», вторая — «голу-
179
бая»), девушке, которая интересуется всем на свете —
событиями во Вьетнаме, поэзией Евтушенко, взглядами
доктора Мартина Л. Кинга, народным искусством,
проблемами освоения космоса и т. д. и т. д. Но больше всего
она стремится познать, проявляя поистине неиссякаемое
любопытство, всевозможные формы любви. Фильм
«Я — любопытная» отличается от вульгарной
порнографии только тем, что героиня его в свободные от любви
минутки может посетить выступление советского поэта,
или помолиться перед портретом Кинга, или даже
принять участие в антивоенной демонстрации. Это отличие
и дает возможность отдельным западным критикам
называть шёмановскую пошлость «проблемным кино».
Можно назвать и многих других режиссеров, лепящих
картины на все вкусы, предлагающих зрителям любой
товар — от политики до секса. Лелюш, таким образом,
не одинок, но он явно более одарен и более ловок в
производстве такого рода кино.
Совершенно очевидно, что в обстановке, когда
открытое прославление буржуазного общества становится
невозможным, фильмы Лелюша и близких ему
режиссеров более всего, надо думать, устраивают власть
имущих, поскольку в этих фильмах защита буржуазных
общественных ценностей производится с завидной
ловкостью, подчас — под видом отрицания и критики.
Лелюш — это отражение, или, если угодно,
порождение политики Мальро в области искусства. Но стиль
Лелюша и ему подобных художников сегодня
интернационален на Западе, этот стиль выражает позицию людей,
сознательно уклоняющихся от той роли, которая
возложена историей на интеллигенцию, особенно творческую.
Сегодня во многих странах Запада правительства
усилили наступление на интеллигенцию. Усилились
репрессивные меры. Но вместе с тем настойчиво
разрабатываются и другие, скрытые формы давления. В США,
например, политические силы все чаще переходят от
традиционного презрения к «яйцеголовым» к иезуитски
ловкому лавированию и системе подкупа ученых, писателей,
артистов.
Когда яростный «Доктор Стрейнджлав» был
привезен из Лондона, где он снимался, в Штаты, журналисты
предсказали Кубрику два варианта дальнейшего
развития событий: 1) его вызовут сразу две комиссии
сената — по иностранным делам и по антиамериканской дея-
180
тельности — и крепко высекут; 2) Пентагон возьмет его
под свое покровительство, подкупит, навечно свяжет
своими любезностями. Но случилось неожиданное — власть
имущие сделали вид, что просто «не заметили» фильм.
Такая позиция вашингтонских учреждений говорит, что
путь разрешения «американского конфликта»
действительно никем не найден. Политики смотрят на «яйцего-
ловых» куда как неодобрительно, но и в растерянности —
без них нынче не обойдешься. Мир изменился, и
надвигаются еще большие изменения. И все же при наличии
художников, добровольно обслуживающих интересы
господствующих классов, эта растерянность не всегда
переходит в испуг. Ведь даже в случае с Кубриком мы
видим, что после «злой» картины в отношении властителей
Америки он делает «злую» картину в отношении
человечества. Надо думать, что «2001 : космическая одиссея»
примирила с ним тех, кто мог узнать себя в героях
«Доктора Стрейнджлава».
Однако было бы, наверное, упрощением сказать, что
в случае с «2001» Кубрик пошел на компромисс, что он
заведомо делал фильм, угодный хозяевам Запада.
Скорее всего, Кубрик удивился бы и, может быть,
возмутился до глубины души, скажи ему, что его последний
фильм по сути своей антигуманен и глубоко
пессимистичен. Все, конечно, может быть сложнее.
0 сложности мира художника с гениальной
проникновенностью в суть явлений поведал Федерико Феллини
в «872».
Виктор Шкловский сказал, что «872» Феллини — это
рассказ... о поиске нового мировоззрения» 1, одной
фразой вскрыв тему этого сложного, сотканного из
противоречивых и недосказанных ассоциаций произведения. Но
это еще и фильм о том, как художник хотел создать
нужное людям произведение искусства и как это ему не
удалось сделать.
Режиссер Гвидо Ансельми (актер М. Мастроянни)
готовится снимать новый фильм и хочет в нем сказать
правду о жизни, только правду. Но фильм он не может
сделать, потому что не знает, что в его мире — правда, а
что — фраза, пустые слова. Он ищет истину повсюду. Он
встречается с политическими деятелями, кардиналом из
Ватикана, он вызывает памятью на встречу образы дет-
1 Сб. «Сюжет в кино», М., 1965, стр. 297.
181
ства — родителей, ничем не замутненных в своей
провинциальной простоте, себя самого — узника иезуитского
колледжа, наконец, Сарагину — одичавшую
обитательницу пещеры, пляшущую за несколько грошей для
мальчишек. Одна за другой проходят три женщины, в
которых Гвидо также пытается увидеть какую-то грань
жизненной правды,— это умница Луиза (актриса Анук Эме),
жена и нелицеприятный судья его, Гвидо, блужданий;
это глупенькая Карла (актриса Сандра Мило),
послушная и сексапильная любовница; это женственная
Клаудиа (актриса Клаудиа Кардинале), которую он, Гвидо,
помнит как воплощение женской чистоты и человеческой
гармонии и которая, будучи приглашена на роль в
будущем фильме, предстает перед ним расчетливой,
холодной, уставшей от славы кинозвездой.
Все, с кем бы Гвидо ни столкнулся, пытаются научить
его, как надо делать фильм, каждый претендует на
знание истины. Но все это — слова, слова, слова! Гвидо
безошибочно чувствует их фальшь. Все, что ему говорят,
он знает, и все сам давно уже произнес. И он приходит,
в сущности, к тому, с чего начал...
Фильм «872» начинается с жуткой сцены: в потоке
машин, остановленных и спрессованных «пробкой» до
плотности шпрот в банке, погибает человек. Что-то
случилось с двигателем, и в машину ворвались ядовитые
газы. Ни остановить взбесившийся мотор, ни открыть
зажатые двери, ни разбить сделанные из небьющегося
стекла окна. Строго, как на нарушителя приличий, или
равнодушно, мельком смотрят из соседних машин на
задыхающегося человека. Сытые, холеные, с благообразной
внешностью люди остаются безучастными, их не
касается то, что происходит в чужой машине. Один
продолжает просматривать газету, другой спокойно дремлет,
третий без страсти, словно заведенный механизм, ласкает
соседку...
Сколько раз это безучастие мы видели в фильмах
наблюдательных, правдиво рассказывающих о своем
мире художников! На глазах спешащей по своим делам
парижской толпы убивают друг друга герои Годара. На
шумной американской улице измываются над своими
жертвами «дикие ангелы» Фрэнка. Никто не хочет даже
выслушать героя Антониони, случайно
сфотографировавшего убийство в лондонском парке. И так далее и тому
подобное.
182
В «8V2» человеку удается вырваться из персональной
душегубки. Он взмывает вверх и улетает прочь, пока
люди снизу не ловят его с помощью лассо и не
сдергивают вниз, к себе...
Это кошмарный сон Гвидо. Это также аллегория,
вводящая зрителя в абсурдный мир современного
художника, в мир без выхода, по мнению Феллини. Долгие
поиски истины Гвидо завершаются другой аллегорической
сценой: вокруг макета космического корабля,
построенного продюсером для фильма, который так и не снят,
Гвидо проводит хороводом тех людей, живых и давно
умерших, реальных и выдуманных, с которыми он
общался на протяжении фильма. Здесь его наивные
родители и хитроумный кардинал, диковатое «дитя природы»
Сарагина и словно источающая желание Карла, здесь
эрудированный болван-писатель, бестолково энергичный
продюсер, нахальные журналисты, женщины, которых он
любил, и мужчины, с которыми ссорился. В динамичной
фарандоле хоровод закружил и Гвидо, на лице которого
появляется мягкая, все принимающая и все извиняющая
улыбка.
По мнению критика В. Неделина, фильм кончается
оптимистической верой Гвидо в то, что он-таки сделает
свой фильм. «Фарандола — танец шумных народных
празднеств,— пишет Неделин.— Этот танец исполняет
не один человек, а множество людей. Они танцуют его,
крепко взявшись за руки. Таким же должно быть и
искусство, противостоящее абсурдному, страшному миру, в
котором продолжает жить герой «8V2». Это понял Гвидо
Ансельми»1.
Этот вывод несколько неожидан для статьи Неделина,
характеризующей каждого участника финальной
фарандолы как фигуру с отрицательным знаком. С чего бы им,
собравшимся в кучу, вдруг стать явлением
положительным? Гвидо принимает этот хоровод как свой мир, от
которого он пытался уйти, но иного не нашел. В этом
смысле финал «8V2» не оптимистический, а, так сказать,
совсем наоборот. Оставшись в своем кругу, Гвидо
обречен на творческое бессилие. Нет ничего, что могло бы
наполнить его фильм, это его обращенное к людям слово
художника, истинным содержанием; и нет ничего, что
говорило бы нам об осознании им, Гвидо, адреса, по ко-
1 Сб. «Мифы и реальность», M., 19G6, стр. 225.
183
торому он может обратиться с правдой, коли он,
допустим, нашел ее. Не участников же фарандолы поучать!
«8!/2» — один из самых значительных фильмов
последних трех десятилетий, богатых великолепными
произведениями киноискусства. И это самый беззащитный у
Феллини фильм. Конечно, Гвидо не есть Феллини, но «872*»
безусловно, автобиографический и личный фильм, это
произведение из того же ряда, что и «Исповедь» Руссо,
и «Былое и думы» Герцена, и «Люди, годы, жизнь» Эрен-
бурга.
Безусловно честный в своем отрицании
существующего миропорядка, Феллини ищет, как отмечает
Шкловский, новое мировоззрение. И не находит. Поэтому «87г»
оказался взлетом и одновременно критической точкой в
творчестве Феллини. За «87г* последовала поразительно
красивая, изящная картина «Джульетта и духи», которая
является самой великой безделушкой, какую только
можно вспомнить в истории кино. Кризис Феллини стал
фактом. Его фарандола оказалась танцем масок, под
которыми все те же кошмарные и абсурдные лики
умирающего мира. И заслугу Феллини нужно видеть никак не
в финальных улыбках утешения, но именно в
разоблачении всех и всяческих масок. В известном письме Минне
Каутской Фридрих Энгельс писал: «...социалистический
тенденциозный роман целиком выполняет, на мой взгляд,
свое назначение, когда, правдиво изображая
действительные отношения, разрывает господствующие условные
иллюзии о природе этих отношений, расшатывает
оптимизм буржуазного мира, вселяет сомнения по поводу
неизменности основ существующего,— хотя бы автор и не
предлагал при этом никакого определенного решения и
даже иной раз не становился явно на чью-либо
сторону» К Эти слова, думается, могут служить
характеристикой и творчества Феллини, во всяком случае, Феллини
периода «Сладкой жизни» и «87г*.
Все сказанное не может закрыть главное в «87г» —
трагедию художника, осознающего громадность своих
сил и понявшего невозможность найти им применение.
То, что случилось с Гвидо Ансельми, имеет сегодня на
Западе всеобщий характер. Многие художники верят в
свое право говорить правду, и они хотят говорить
правду, но — сплошная вроде бы мистика! — многие из них
1 «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. 1, М., 1967, стр. 5.
184
не могут До правды добраться. В некоторых странах
официальная цензура отсутствует. Немало художников
обладают возможностью обойти диктат банковского
капитала, являющегося часто истинным хозяином кино,
умеют изыскать средства, чтобы делать именно то, что они
хотят сделать. И притом первое, что бросается в глаза,
это искажение действительности в их фильмах,
недостаток все той же правды. Разбираясь в этом казусе, не
стоит отговариваться готовыми фразами о «скрытой
цензуре», о «негласном давлении» и т. д. Все это есть, но
есть и еще нечто более сложное.
Томас Манн со своими пессимистическими взглядами
на роль искусства представляет один полюс, на другом,
противоположном полюсе те, кто эту роль
преувеличивает. У последних большая традиция, берущая начало в
веках Возрождения. Из эпохи в эпоху переходило
уважение— доходившее до почитания — к искусству и его
творцам. Гёте писал: «Много прекрасного находится в
мире изолированно; но именно духу надлежит
обнаруживать взаимосвязи и тем самым вызывать
произведения искусства» *.
Высокая оценка! Художники бегали от тиранов,
сидели в подземельях замков, умирали под пытками и от
ударов наемных убийц, но в общем-то ни на миг не
сомневались в том, что именно они, художники, соль земли,
дух и мозг наций.
С этой верой на Западе покончил Гитлер. Ему
удалось доказать как раз обратное, а именно — что соответт
ственным образом организованная нация превосходно
обходится без «соли», заменяя художников —
плакатистами, писателей — журналистами, этими
представителями второй древнейшей профессии, а профессоров —
фельдфебелями. (Плакатисты, журналисты, мастера
агиток так же нужны обществу, как армии унтер-офицеры,
но если только они определяют духовный уровень, то эта
бедное общество.) Тем самым Гитлер повторил манеру
турецких султанов, «нутром» чувствовавших опасность
всякого умствования и живенько расправлявшихся со
всеми учеными и художниками, едва те успевали хоть
чему-либо научиться,— увы, история не всегда
повторяется как комедия. Художники — как никогда в про-
1 И. В. Гёте, Статьи и мысли об искусстве, Л.— М., 1936,
стр. 334.
185
шлом — стали развлекателями (не шутами — шуты,
например, у Шекспира — великие художники своего
времени,— а именно развлекателями), но не властителями
дум. Целый ряд обстоятельств облегчил этот процесс.
Здесь прежде всего надо вспомнить рождение так
называемого массового искусства. Вне рамок кино,
телевидения, радио, массовых журналов художник не может
сегодня успешно действовать. А эти средства
коммуникаций целиком и полностью под контролем бюрократии
либо частного капитала. И опять нужно назвать все ту
же проблему «А». Никогда раньше мир не заливала
такая волна демагогии, как ныне, отравляя подчас и
объективно честных художников.
Нельзя сказать, что художники не видят опасности.
Роллан писал Барбюсу еще в 1922 году: «Мы слишком
часто поступаемся во имя государственной
необходимости, во имя победы высочайшими моральными
ценностями: человечностью, свободой и самым для нас
драгоценным — истиной. Эти моральные ценности всегда должны
оставаться неприкосновенными. В интересах
человечества. В интересах самой революции. Ибо если революция
стала бы ими пренебрегать, она рано или поздно была
бы обречена на нечто большее, чем материальное
поражение: на моральное банкротство» 1. Но не все
понимают это на Западе даже сегодня.
Массовому зрителю Феллини кажется не нужным. Во
всяком случае, можно с уверенностью предположить, что
во время демонстрации «872» по телевидению занятый
фильмом канал имел наименьшее число зрителей. И в
этом кроется еще одна трагедия Гвидо Ансельми.
Опутанный сетью условных и безусловных обязательств, он
не свободен в своих поисках правды, но, может быть,
еще печальнее то, что ему не к кому обратиться. Он
может сказать, наверное, нечто важное некоторым
участникам финального хоровода. Но если он захочет иметь
аудиторию, то должен плюнуть на поиски правды и
сделать что-нибудь веселенькое, что-нибудь этакое
трогательное и миленькое, вроде того, что гак мастерски
лепит Клод Лелюш. Это не будет ни правдой, ни ложью,
но именно полуправдой и питается массовое искусство.
Художникам свойственно забегать вперед. В 1895
году Роллан писал: «Неожиданно я обнаружил, что вся
1 Р. Роллан, Собрание сочинений в 14-ти томах, т. 13, стр. 32—33.
186
Европа охвачена сильнейшим возбуждением, которое
предвещает, подготавливает приход Революции. Ибсен,
Толстой, новые писатели Германии и Франции заражены
этой лихорадкой, предшествующей решающему кризису.
Оружие борьбы ковалось в мастерских искусства и
мысли (курсив мой.— Р. С), оружие разрушительное и
неумолимое, которое подрывает старый мир и расчищает
дорогу новым общественным формам» К
Сегодня «возбуждение» охватило весь мир. Но в
«мастерских искусства» можно делать не только мечи, но и
игрушки и сильнодействующие яды. Завороженные
своей «свободой» и пытаясь освободиться от пут массового
искусства, молодые режиссеры Швеции, США, ФРГ,
Франции либо утопают в сексуальной тематике, либо
копаются в больной психике гомосексуалистов,
наркоманов, прирожденных идиотов, травмированных и
выживших из ума людей.
Нередко критики, даже критики, занимающие
отчетливо прогрессивные позиции, настойчиво пытаются
доказать, что и такие герои — выпадающие из нормы
люди— могут быть своего рода «зеркалом», отражающим
общественные аномалии. Могут, конечно,— достаточно
вспомнить в этой связи творчество Бунюэля. Но в общем
это опасно—преувеличивать протестантское значение
такого искусства: утрачиваются критерии,
обесценивается весь опыт прошлого, отбрасываются бесценные
общечеловеческие ценности, различного рода экспернмента-
лизм в искусстве выдвигается вперед.
В спорах о так называемом фигуративном и
нефигуративном искусстве, шедших в середине 60-х годов на
страницах французской коммунистической прессы и
проникших и в нашу печать, плохо учитывалась проблема
доступности массам и действенности искусства. Слишком
часто нефигуративное произведение, восхищающее
снобов, так и остается достоянием снобистских кругов, не
оказывая существенного влияния на общество. Что
же касается фигуративного, или, иначе говоря,
массового искусства, то очевидна беспредметность спора, если
не учитывать, кем создана и чем наполнена данная
«фигура».
Искусство, как известно, говорит особым языком и
обращается не только к разуму, к интеллекту, но прежде
1 Р. Роллан, Воспоминания, стр. 441.
167
всего к чувству, ибо искусство отражает реальность мира
не так, как наука. Маркс писал, что «не только в
мышлении, но и всеми чувствами человек утверждает себя в
предметном мире» 1. При этом установка на чувства
нисколько не отрицает и не умаляет значения жизненного
опыта, образования, интеллекта,— напротив, характер и
глубина чувственного восприятия целиком определяются
уровнем образования и ума потребителя. Возможность и
тем более широта и сложность ассоциативного процесса,
важнейшего в комплексе факторов, составляющих
восприятие произведения искусства, целиком зависят от
опыта человека, образования и тренированности его
мозга.
В киноискусстве последнего десятилетия эти два
момента при очевидном совершенствовании языка кино
создали определенные трудности, отнюдь не
неразрешимые, как полагают некоторые буржуазные критики. Как
никогда ранее, кино в своей авангардной части
оторвалось от массовой аудитории, удовлетворяющей свои
потребности фильмами второго сорта, в жанровом
выражении— все теми же вечными мелодрамами,
детективами, вестернами, непритязательными комедиями.
Искусство мастеров, отказывающихся от традиционной
образности, зачастую оказывается искусством элитарным,
оставляющим массового зрителя в лучшем случае
равнодушным.
Проблема эта стала острой в последнее десятилетие,
но знакома она художникам очень давно. Как только
искусство из аристократических особняков и
буржуазных салонов начало выходить «в люди», так возникли
разрыв и непонимание между художниками и теми, кому,
по определению Ленина, на самом деле принадлежит
искусство. Роллан писал в «Воспоминаниях»:
«Современный закон развития — возвышение народа, современный
закон искусства — возвращение к народу, из недр
которого оно вышло; искусство должно слиться с народом».
Далее, говоря о том, что прежнее искусство было
сословным и потому, обслуживая интересы одного какого-либо
класса, отражало жизнь неполно, а значит, было ложным
(«частичная правда есть ложь»), Роллан заявляет, что
«искусство должно обращаться ко всем на языке, понят-
·->
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Из ранних произведений, М., 1956,
стр. 593.
■■ 188
ном для всех: оно должно захватывать полностью всего
человека. Самое большее, что я готов допустить,— это
право интеллектуальной и духовной элиты на создание
особой формы искусства, искусства для посвященных; ибо
они — цвет человечества и своим семенем оплодотворят,
надеюсь, поля будущего. И все же я не позволю
художнику, будь он даже гениален, высокомерно замкнуться в
сферу чистой игры ума. Он обязан искупить свой умственный
эгоизм, выплачивая дань обществу. Он должен сделать
это даже в своих собственных интересах: ибо если он не
сможет снова занять свое место в общей жизни
человечества, значит, он уже больше не человек. А он должен
быть не сверхчеловеком, но именно человеком,—
человеком в полном значении этого слова». Если бы к этой
цитате потребовалась жизненная иллюстрация, то можно
было бы вспомнить творчество Алена Рене, его
эволюцию от «В прошлом году в Мариенбаде», где трудно что-
либо найти, кроме экспериментальной «чистой игры ума»,
до реалистической и страстной картины «Война
окончилась».
Но можно привести пример и нарочито мелкий,
спорный. Что такое знакомый нашим зрителям фильм Дино
Ризи «Операция «Святой Януарий»? Не больше чем
уверенно сделанная комедия положений, без потуг на
формальное новаторство, без намерений вскрыть какую-то
особенную глубь жизни,— средняя коммерческая
картинка, короче говоря. Но делал ее человек
наблюдательный, а потому в ней немало эпизодов, которые несут
более солидную нагрузку, нежели только желание
посмешить зрителя.
Вот, например, коротенькая сцена соблазнения Дуду
(актер Н. Манфреди), экзотического предводителя
неаполитанского шумного «дна», американской бандиточ-
кой Мэгги (актриса Сента Бергер). Он ей необходим для
того, чтобы облапошить своих чикагских коллег по
банде и захватить сокровища в безраздельную
собственность. Решив отдаться, она деловито-привычно
проделывает все, что познала из родных голливудских фильмов,
и главная нагрузка по искушению ложится на
прозрачный пеньюар, который сначала распахивается будто бы
невзначай, а потом и соскальзывает на пол. Дуду
поднимает нейлоновую «прозодежду»,— непорядок, зачем
топтать хорошую вещь? Дело доходит до ритуального
поцелуя. Совершенно спокойно она просит Дуду «открыть
169
ротик». Тот, ничего не подозревая, открывает, и Мэгги
ловко обрабатывает из пульверизатора
дезинфицирующей— конечно же, самой лучшей, гарантированной! —
жидкостью его подозрительные итальянские зубы и язык.
И ничегошеньки не понимает, почему он, обалдев,
вскакивает и убегает под первым попавшимся предлогом.
Это не комедийное преувеличение, но точная
жизненная зарисовка, которую зрители, знакомые с повадками
американцев за границей, встречают взрывом смеха.
Еще смешнее, что американцы, с которыми мы смотрели
фильм, не поняли причины бурного веселья зала, а когда
им объяснили, то серьезно обиделись и стали
доказывать, что глупо, мол, смеяться над привычкой к гигиене.
Нам сдается, что эта коротенькая, вполне
фигуративная и в общем куда как немудреная сценка служит
критике некоторых черт американского образа жизни
лучше, чем иной фильм нью-йоркских бунтарей.
И наконец, о равнодушии, может быть, самой тяжкой
болезни современного Запада.
Конец прошлого десятилетия отмечен появлением
удивительного по мастерству и анализу
действительности фильма, сделанного Микельанджело Антониони,
входящим в «десятку» лучших режиссеров современности.
Воспитанный на неореалистическом искусстве,
Антониони далее, чем кто-либо еще из итальянских мастеров
кино, отошел от традиций этого демократического
искусства. Но в то же время Антониони столь же далек и от
тех буржуазных художников, которые скрыто или
открыто защищают свое общество. Антониони —
исследователь, и как исследователь он беспощадно строг и трезв.
Его фильмы начала и середины 60-х годов — «Крик»,
«Затмение», «Приключение», «Ночь» и более поздняя
«Красная пустыня» — правдиво и ярко осветили многие
кризисные явления духовной жизни современного
Запада, прежде всего — такое сложное явление, как утрата
связей, коммуникаций между людьми. В каждом его
фильме, говорившем словно бы о частностях, четко
просматривалась порочность общества в целом. И год от
года, от фильма к фильму растет горечь в его творчестве
и усиливается их критическая острота.
Вершиной, возможно, стал фильм «Блоу ап» (1966),
сделанный в Англии. Это многозначное произведение,
говорящее о распаде самих этических основ общества. Но
особенно четко в нем просматривается тема равнодушия.
190
Антониони писал, что в этом фильме он исследует не
взаимоотношения между людьми, а отношение людей к
окружающей их действительности. Он исследует это с
помощью классического детективного сюжета: модный
молодой фотограф, поставляющий материалы журналам
мод и полупорнографическим изданиям, снимает в
лондонском Марион-парке обнимающихся девушку и
пожилого мужчину; проявив и увеличив фотографии, он
обнаруживает, что случайно зафиксировал момент убийства
мужчины. На этом детектив кончается и начинается
«драма века». Потрясенный фотограф бросается в парк,
где находит в кустах труп, затем к друзьям и знакомым,
пытается рассказать им, растормошить, разделить свое
возмущение. Но его друг-издатель, одурманенный
наркотиками, отмахивается от него; всякую его попытку
рассказать о случившемся перебивают, предлагая либо
виски, либо сигарету с марихуаной, либо новую девочку.
Никто ничего не хочет знать, никого не интересует
«фотоувеличение» жизни, позволяющее проникнуть в ее
существо.
Вернувшись домой, фотограф обнаруживает, что кто-
то украл его криминальные фотографии. Приехав в
парк, он видит, что исчез и труп. Все вернулось на круги
своя. Но ведь все было! Былоубийство человека, которое
никого не заинтересовало и не взволновало. Была смерть,
оставившая всех равнодушными. Антониони как бы
говорит, повторяя почти дословно социологов: мы
превратились в общество равнодушных, где каждый думает лишь
о себе, где нормальные человеческие чувства
притупились и где нет уже ничего, что могло бы объединить
людей. И еще Антониони как бы предупреждает: вот при
таком общем равнодушии может совершиться любое
преступление против человечности — и уголовное убийство,
и массовое уничтожение людей, и атомная смерть
человечества...
Фильм кончается аллегорической сценой игры в
теннис... без мяча. В по-утреннему прекрасном парке герой
фильма сталкивается с компанией молодых хиппи,
наряженных и разрисованных яркими красками, как
цирковые клоуны, которые играют на корте без мяча. Прыжки,
удары, пассы — летает над сеткой несуществующий
мячик, и компания серьезно и внимательно наблюдает за
игрой. Неловкий удар — «мячик» падает в траву к ногам
фотографа. Молодежь молча и выжидающе смотрит на
191
него — разрушит он их иллюзию или примет «правила
игры»? И он наклоняется, поднимает «мячик», которого
нет, и бросает игрокам. Игра продолжается — без мяча.
Продолжается жизнь без смысла и цели.
Этот фильм, признанный многими западными
критиками лучшим фильмом 1966 года, утончен и... трагичен.
Антониони не делает вывода, что показанный им мир
обречен,— «игра продолжается»,— но его исследование,
глубокое и гневное, лишенное малейшей утешительной
нотки, позволяет сделать такой вывод нам, критикам
другого лагеря.
Мы не собирались ни обвинительный акт составлять,
ни искать оправдания тем, кто ходит сегодня в учителях
и мэтрах. Что есть, то есть. И если картина кажется
мрачноватой, то нужно и то иметь в виду, что это именно
учителя и мэтры, по ним равняются молодые. Они
задают тон обществу. Ведь примерно с 1950 года в развитых
индустриальных странах наблюдается неуклонное
снижение числа людей, занятых в сфере производства
материальных благ в результате резкого повышения
производительности труда после введения автоматики и
кибернетики. Подсчеты показывают, что это снижение будет
прогрессировать и уже наши внуки, может быть, станут
жить в странном по сегодняшним понятиям мире, в
котором множество людей должно будет заниматься
непроизводительным трудом — обслуживанием друг друга,
управлением и т. п.
Социологи утверждают: у американской молодежи
заметно вырос интерес к профессиям не
высокооплачиваемым, а к профессиям творческого труда. Еще недавно
работа в университетах считалась незавидной, а сегодня
о профессорском звании мечтает большее число юношей,
нежели об участи банкира,— это в Америке-то!
И не очень ясно лишь, какими именно они будут
профессорами?
VIII
Разлом
No man's land (ничья земля) —так определили хиппи
районы своего расселения. Символическое название!
Ведь и сами хиппи — ничьи, на них с равной
подозрительностью смотрят и «левые» и «правые». На ничьей
земле между тем к концу 60-х годов жила довольно
значительная часть молодежи, отвергшая созданную отцами
действительность, но не сумевшая найти путей к
разумному преобразованию мироустройства,— достаточно
сказать, что только в США, по некоторым данным,
насчитывалось в 1967 году до миллиона хиппи.
Хиппи — чисто американское явление, хотя к концу
60-х годов молодежь этого вида и типа появилась во
многих буржуазных странах. Об этом мы будем
говорить чуть ниже. Но хиппизм как своего рода жизненная
философия, подразумевающая добровольный уход от
мира в узкий мирок интимной жизни, разрыв связей с
обществом, имеет давнюю историю и весьма
интеллигентных предшественников. Неопрятные юнцы и девицы
вправе указать на Жан-Жака Руссо как на своего
первоучителя: это он, угадывая уродства нарождавшейся
буржуазной действительности, призывал скрыться от них
в сельских кущах, и хиппи это сделали — с поправками
на американский образ жизни. Во всяком случае, для
оглядки на Руссо у них никак не меньше прав, чем на
обращение к той древней индийской философии, которая
проповедует уход человека от жизненной суеты сует.
Хиппизм не изобретение 60-х годов, а этап в
логическом развитии от рождения данных буржуазному обще-
Ю р. Соболев
193
ству тенденций распада коллективных человеческих
связей. В 50-х годах Запад знал «теорию приватизма»,
поддержанную, но тоже не придуманную буржуазной
пропагандой. Приватизм логично вытекал из объективного
факта отчужденности человека в современном обществе.
Факт отчужденности признан и буржуазными
философами. «Под отчуждением я понимаю такой тип жизненного
опыта,— писал философ неофрейдистского толка Эрих
Фром,— когда человек становится чужим самому себе.
Он как бы отстраняется, отделяется от себя. Он
перестает быть центром собственного мира, хозяином своих
поступков; наоборот, эти поступки и последствия
подчиняют его себе, им он повинуется и порой даже превращает
их в некий культ». Подменяя социально-экономическое
обоснование отчуждения психологическими причинами,
Фром тем не менее дает вполне приемлемый инструмент
для исследования причин появления приватизма,
неоруссоизма, хиппизма и т. п.
Хиппи, повторяем, американское явление, но то, что
составляет его основу, давно уже знакомо и Западной
Европе.
Остановимся на одном фильме, весьма
показательном, на наш взгляд, для деструктивных общественных
тенденций,— фильме «Счастье» (1966) Аньес Варда,
режиссера «новой волны» Франции. Ее дебют — фильм
«Клео от 5 до 7» — засвидетельствовал рождение
художника своеобразного и высокоинтеллектуального. Рассказ
о двух часах жизни Клео — молодой и очаровательной
эстрадной певицы,— ожидающей в тревоге результатов
врачебного анализа: рак и, значит, смерть или жизнь и
счастье? — был истолкован критиками как
художественный документ, отражающий жизнь страны, с тревогой
ожидавшей решения алжирского кризиса. У Варда
оказался тот счастливый талант, который делает его
обладателя «зеркалом» общественной жизни даже в том случае,
когда самому художнику кажется, что он делает нечто
несерьезное, нечто «проходное». Это обстоятельство стало
очевидным после выхода на экраны фильма «Счастье».
...Перед нами молодой человек завидного здоровья,
счастливый обладатель преданной жены-блондинки и
двух очаровательных детишек. Работа в столярной
мастерской старшего брата не очень прибыльна, зато не
обременительна. Возня с податливыми пахучими досками
доставляет удовлетворение. Коллеги очень милы: непри-
194
тязательные дружные парни, всегда готовые распить в
складчину бутылку вина. У него нет многих вещей,
которые благодаря «экономическим чудесам» стали сегодня
в некоторых странах доступны и рабочим, нет и машины.
Но Жан (актер Жан-Клод Друо) знает, что «не в
деньгах счастье», он даже пеняет супруге, пополняющей
семейный бюджет шитьем платьев для соседей, что она
затрудняет себя.
«Счастье не в деньгах». Ну, допустим, что это так.
Режиссер (она же и автор сценария) уверяет, что Жан
довольствуется малым. Его счастье — поиграть с
детишками, такими милыми, что они и пи-пи не делают, и в
грязь не лезут, и плакать не умеют, и всегда засыпают,
когда папе с мамой захочется чем-то заняться; но еще
большее счастье, счастье, так сказать, № 1, это
приласкать жену, такую душечку, что с момента его
возвращения и до ухода на работу, даже во сне, она не снимает с
лица улыбку и каждую минутку безделья использует для
выяснения, как именно он ее любит (что он не устает
доказывать элементарнейшим способом).
Трудно поверить, что все это — «всерьез». Поначалу
кажется, что Варда — автор тонкого и умного фильма
«Клео от 5 до 7» — здесь мистифицирует зрителя, что это
лишь лукавая иллюстрация к замечанию Вольтера о том,
что следовать Руссо совсем не означает становиться на
четвереньки и бежать в лес. Ведь первое, что становится
бесспорным на просмотре «Счастья», это существо Жана:
он, чтобы не произносить бранных слов,— красивое
растение.
Для него мир сосредоточен даже не в собственном
пупке, а в щедро волею режиссера обнаженном бюсте
одной, а затем и другой блондинки.
Но это все, оказывается, «всерьез». И это только
начало.
Другая блондинка — не адюльтер, не интрижка. Она—
завершение счастья. Однажды служащая почты
попросила Жана установить ей книжную полку дома. Он
зашел и... привычно начал ласкать еще одну женщину.
«Я люблю жену, мать моих детей, но ты — другое,—
объясняется Жан новой блондинке в постели.— Ты многому
научила меня, с тобой я познал новое...» (За неимением
сценария цитируем по собственной записи на
просмотре.— Р. С.) Почтовая служащая на эту тираду реагирует
так же, как это делала жена.
ю*
195
Жан счастлив. Во время очередного уик-энда на лоне
природы он делится своим счастьем с женой:
рассказывает ей о девушке с почты, требуя при этом понимания.
Жена обещает это и послушно снимает платье; тем не
менее, едва он задремал, бросается в воду, кончая с
собой.
Для Жана, как «естественного» человека, неизвестны,
разумеется, ни угрызения совести, ни этические нормы,
ни чувство вины. Через три недели он, съездив с детьми
к морю, приучает к ним новую маму, и... счастье
продолжается.
Фильм кончается таким же кадром, каким начинался:
миленькая блондиночка ведет по лесу очаровательных
девочку и мальчика, а сзади идет крепыш-брюнет,
улыбаясь от счастья...
«Этот фильм,— свидетельствует Варда,— загородная
прогулка, где большое место занимают любовь и
пикники... Я стремилась создать хронику счастливой жизни
некоторых слоев ремесленников, живущих в парижском
пригороде; мне хотелось сделать ее очень тепло и
душевна Я знаю таких людей, независтливых и
нетребовательных. И, наконец, любовь, физическая любовь,
занимающая такое место в жизни, трактуется в фильме не
описательно, а как фактор равновесия...»
У кого не бывает неудач? Здесь, однако, не какой-то
просчет, а четкая и последовательно проведенная
позиция. Варда тщательно оберегает своих героев от
соприкосновения с подлинной жизнью. Действие все время
переносится на природу. Лес и цветы обрамляют героев.
Все время повторяется импрессионистское
сопоставление— красивые (увы, дурак может быть очень красив)
лица и цветы... автор как будто требует считать героев
цветами жизни.
Французский критик Пьер Филипп написал: «Счастье»
показывает нам рабочих Франции в полном соответствии
с требованиями правительственной пропаганды: этакими
счастливцами, довольными мелкой домашней жизнью в
квартирке с уставленными геранью окнами. Они воркуют,
как голубки, и так мило занимаются любовью, что хоть
показывай детям младшего возраста (ну, это чисто
французская точка зрения.— Р. С). Им будто совершенно
неведомы ни трудности жизни, ни сложности брака. «Я
этого и хотела»,— говорит нам Варда. А я могу лишь
ответить ей в таком случае, что мне наплевать на эти жалкие
196
существа и на их убогое подобие жизни...» Разделяя
оценку Филиппа, мы прибавим лишь такое
предположение: Варда, подобно многим художникам Запада,
ухватилась здесь за «соломинку», будучи измученной
неразрешимостью конфликтов человека с обществом.
«Естественный» значит далекий от буржуазных мерзостей,— так
может показаться. Но это самая большая ложц, какую
может сказать, не желая того и будучи объективно честным,
художник. «Естественный» значит равнодушный, а
равнодушие сегодня страшнее открытой враждебности.
Камю как-то заметил, что можно быть абсурдным, но
не нужно быть дураком. Неоруссоизм в том варианте,
который предлагает фильм «Счастье», уж не абсурд, а
явная глупость. И «естественный человек» Жан на поверку
оказывается уродливым порождением уродливых
обстоятельств, ибо — по логике — еще более «естественными»
являются «дикие ангелы», возвращающиеся к природе на
мотоциклах, с транзисторами, с ночевками в мотелях.
У хиппи есть дальнее родство и с Жаном и с «дикими
ангелами», хотя отличий, конечно, больше. Хиппи вообще
трудно свести к какому-нибудь узкому определению.
Определения есть, и их немало, однако, чтобы понять всю
необычность и непохожесть.хиппи на традиционные
формы движения протеста молодежи, есть резон кратко
обрисовать некоторые социальные проблемы, мучающие
сегодня Америку, тем более что это не лишнее и для
дальнейшего разговора о бунтующей молодежи.
Америка всегда вызывала у мыслящих людей
сложные чувства, в которых смешивались в разных
пропорциях презрение и восхищение, зависть и унижающая
жалость, удивление и отвращение, а над всем главенство-
зало неприятие американского образа жизни. Этот образ
жизни всегда поражал странным сочетанием
прагматизма и антигуманизма; так называемый разумный эгоизм
всегда оборачивался в Америке неразумным
индивидуализмом, небывалым эгоцентризмом.
«С химией я знаком ровно настолько, насколько это
нужно для производства сахара и рома, а так как я
произвожу их на триста тысяч франков в год, то я не хочу
знать химию больше этого». Это говорит у Стендаля
американец начала XIX века 1. С той поры много воды утек-
1 Стендаль, Собрание сочинений в 15-ти томах, т. 7, М., 1959,
стр. 168.
197
ло, а принцип подхода американцев к действительности
существенно не изменился, и по-прежнему этот
своеобразный снобизм объясняется материальной
удачливостью. Спору нет, лучше быть богатым, чем бедным, и
успехи американцев очевидны. Но... если бы количеством
произведенных на душу населения товаров потребления
измерялись ценность этой души и счастье ее!
Став в результате стечения ряда благоприятных
обстоятельств и исторических пертурбаций самой богатой
и технически развитой страной Запада, Соединенные
Штаты не превратились однако в рай земной или в
образец для подражания. Напротив, Соединенные Штаты
пугают своими контрастами и противоречиями даже
благожелательно настроенных буржуазных исследователей из
других капиталистических стран.
Весна 1967 года была временем, когда американская
пресса решилась вдруг посмотреть фактам в лицо и
попыталась ответить себе и народу на ставший уже
банальным вопрос: «Почему нас не любят?» Это была «тихая
весна». Расовые волнения, позор злодейских выстрелов в
доктора Кинга и сенатора Кеннеди еще никем не
угадывались. Обманчивая тишина, очевидно, и обусловила
приступ самоанализа американской прессы, охотно
подхваченный сразу же буржуазной прессой других стран. В то
время «Нью-Йорк тайме» отметила, что «наибольшие
претензии к Соединенным Штатам связаны с войной во
Вьетнаме». Это правда, но далеко не вся. Уолт Липпман
добавил в «Уорлд джорнел трибюн»: «Оттепель в
холодной войне гораздо сильнее в Европе, чем в Соединенных
Штатах, в результате чего американские представители
говорят уже не на современном языке европейцев». Но и
это еще не вся правда. На проходившей в то же время
дискуссии «Антиамериканизм в Европе», организованной
Американским центром в Париже, французский
политический обозреватель Оливье Тодд сказал: «Французы
считают блефом все американские разглагольствования
о свободе и равенстве не только во Вьетнаме, но и в
Южной Америке и других районах мира. Им кажется, что
американцы чувствуют себя эдакими новыми римлянами,
которые хотят навязать американский образ жизни всему
миру». Это замечание ближе всего к истине.
Через год журнал «Юнайтед Стейтс ньюс энд Уорлд
рипорт» вновь вернулся к этой проблеме в статье «В чем
причина кампании ненависти к Америке?» Жалуясь на
108
то, что Швеция «внезапно превратилась в очаг ненависти
к США», журнал находит много тому причин, главной
из которых называет военную агрессию во Вьетнаме, и
констатирует: «Антиамериканский фанатизм особенно
остро проявляется в среде шведской молодежи, особенно
студентов».
Антиамериканские настроения не новость в Европе и
многих других странах мира. В послевоенные, трудные
для Европы годы эти настроения, может быть, и можно
было относить на счет понятной зависти и раздражения
обедневшего родственника против неправедно
разбогатевшего американского дядюшки, имеющего дома
шикарную машину, набитый холодильник и приезжающего в
Европу с чековой книжкой, как в годы войны он
приезжал с сигаретами и шоколадом. И сегодня разница в
уровне жизни «среднего» американца и «среднего»,
например, француза очень все же велика. Но даже самый
самодовольный турист из США поостережется сегодня
обвинять европейца в зависти, замечая косые взгляды и
презрительные улыбки. Дело и не в том, что американцы
подчас отталкивают от себя людей своей
невоспитанностью, развязностью, самоуверенностью, оскорбительной
манерой совать доллары там,· где элементарный такт
требует извинения или благодарности словом.
Объективные наблюдатели справедливо видят, что
истоки антиамериканизма лежат и в сфере политики —
очень высокой политики, и в сфере человеческого духа —
непримиримого к американскому образу жизни, и в
сфере мировой экономики — ничего не имеющей общего с
подсчетами автомобилей на душу населения.
Соединенные Штаты никогда не были и тем более не являются
сегодня «добрым дядюшкой» даже в отношении своих
ближайших союзников. За помощь по ленд-лизу и по плану
Маршалла, хотя война с фашизмом решала и
собственную судьбу США, Европа заплатила Америке и золотом,
и художественными сокровищами, и патентами, и
предприятиями, ставшими американской собственностью, и
«мозгами» своих ученых, тысячами ежегодно уезжавших
за океан. Своеобразный налог — в виде ли выплаты
процентов по займам, неэквивалентного обмена, перевода
прибылей монополий или просто «налога кровью»,
вытекающего из следования чуждой национальным интересам
политики,— Америке платят едва ли не все страны, хоть
сколько-нибудь зависящие от нее.
199
Но еще хуже то, на что направляются богатства и
техническое первенство США. Став жандармом мира,
Соединенные Штаты стали пугать даже ярых врагов
социализма. На что будет направлена и каким образом
использована мощь США? Вот вопрос, который все чаще
задают мыслящие люди Запада. Задают, не находя
ответа, поскольку не ясны исходные данные. Попробуй найди,
если сегодня в США безнаказанно расстреливают
президентов и вождей партий, если там 20 миллионов человек
голосовали за крайнего реакционера Голдуотера и 9
миллионов— за откровенного фашиста Уоллеса, если
реакционные организации создают тайные склады оружия,
если до сих пор там находятся люди, требующие от
правительства спустить немедленно «А» на головы
коммунистов.
Впрочем, ответ есть, хотя он и кажется слишком
общим,— Америка пугает людей ростом реакционных сил,
заправляющих ее политикой, ростом фашизма, по своему
характеру чисто американского фашизма, отличающегося
от фашизма немецкого. «У каждого народа свое
поведение, а поведение американцев сильно отличается от
поведения европейцев,— отметил французский журналист
П.-Ш. Пате.— Американцам нет необходимости иметь во
главе государства Гитлера или Муссолини, чтобы
насаждать фашизм... мы находим в Америке регулярно
избираемый конгресс, избираемого президента, прессу —
печатную и телевизионную,— свобода которой отчасти
кажется очевидной. Необходимо время, чтобы заметить, что
американские свободы гарантируются только белым, да
и то при условии, если они не оспаривают систему.
Однако немногие белые американцы серьезно оспаривают
систему, которая столь выгодна для них».
Но если этот ответ справедлив, то он свидетельствует
не о силе, а о слабости Америки.
Америка переоценивает свои силы и возможности. Это
видят те американцы, которые не потеряли способность
к анализу. Сенатор Фулбрайт в переведенной на русский
книге «Самонадеянность силы» пишет, вспоминая Марка
Твена: «Военная молитва» является результатом
опьянения силой. Она основана на презумпции сильного,
путающего силу с мудростью и берущего на себя миссию
всемирного жандарма, долг которого покончить со всякой
тиранией и сделать своих граждан богатыми,
счастливыми и свободными. Великие государства прошлого брали
200
на себя подобные миссии и неизбежно приносили хаос
и несчастья тому, кого они хотели облагодетельствовать,
и затем гибли сами.
Соединенные Штаты обнаруживают некоторые
признаки такой же гибельной презумпции, чрезмерного
перенапряжения силы. Они взяли на себя ту же самую
миссию, которая сгубила великие государства в прошлом.
Этот процесс пока еще только начался, но война, которую
мы сейчас ведем, может его лишь ускорить».
По мнению других публицистов, «этот процесс»
начался не «только», а сразу же после второй мировой войны.
Но не будем спорить. Важно отметить мысль, что
Соединенные Штаты взяли на себя функции, на которые у них
нет и не может быть прав, и что в своей «надменности
власти» они стали источником реальной опасности для
человечества. Мир нынче не ограничивается берегами
Средиземного моря, а США не Древний Рим. И количество
«легионов» сегодня ничего решить не может. Да и нет у
Америки никаких «легионов» — Вьетнам развеял миф об
американской мощи. Есть «А». Но атомная война —
самоубийство человечества, это-то сегодня ясно.
Вести человечество вперед, определять его будущее
могут не морские пехотинцы, но передовые идеи. Идеи иного
рода, нежели «каждой семье — автомобиль».
Правда, в условиях экономического неравенства стран
Запада пропаганда американского образа жизни — как
реклама, обращенная к чувству личной выгоды
потребителя,— имеет сегодня определенный успех. Этого нельзя
не видеть, но нет нужды и преувеличивать успехи
пропаганды американизма: все же это успех прежде всего
коммерческий, обусловленный стремлением неимущих
обладать теми благами, которые определяются как «норма»
для последней трети XX века, в том числе и автомобилем.
Не отрицая объективную ценность этих благ, передовые
художники Запада тем не менее с тревогой отмечают
попытки распространять вместе с автомобилями «нормы»
американской духовной жизни.
Выдающийся французский комик Жак Тати встретил
60-е годы фильмом «Мой дядя» — ироническим
пророчеством прихода мира техники, электроники и сервиса, в
котором будет неуютно и неудобно жить. Господин Юло,
которого создал и сыграл Тати, и его маленький племянник
убегают с электрифицированной и механизированной
виллы на пустыри и в старинные переулочки Парижа, кото-
201
рые тогда, десять лет назад, оставались в своей
первозданной прелести. «Мой дядя» как бы ставил вопрос: зачем
электроника на кухне, электрифицированный сервис и все
эти машины и машинки, если человеку с ними неуютно
и одиноко? Ответа Тати не находил.
Проводил 60-е годы Тати фильмом «Плейтайм».
Русский перевод этого названия — «Время развлечений»
(фильм показывался на VI Московском кинофестивале) —
оказался очень удачным и более емким, чем английское
его значение. В обществе потребителей, в котором, по
утверждению его апологетов, все достигнуто и все
делается само собой, человеку ничего не остается, как
веселиться напропалую, пользоваться индустрией развлечений так
же, как он пользуется индустрией товаров потребления.
В этот американизированный мир — в мир стеклянных
небоскребов, стерильно чистых аэропортов и пластиковых
оффисов, в мир заведенного порядка, где все делается
словно бы само собой,— и входит наивный и старомодный
господин Юло, нечаянно обнажая его внутреннюю
порочность и ненадежность. Стеклянный небоскреб, где, как в
витрине, все вроде бы на виду, оказывается лабиринтом
без выхода. Фешенебельный ресторан разваливается, едва
начав работать. Красиво упакованные бутерброды
абсолютно несъедобны. А техника, призванная обслуживать
людей, превращается в чертовщину, опасную для
человеческой жизни.
Через фильм Тати проходит мысль о подчиненности
людей вещам, о том, что люди, создав этот мир техники
и удобств, теряют человечность. Этот мир антигуманен,
но, понимая это, Тати может лишь грустить, сожалея об
уходящем Париже, о его превращении в безликий
американизированный город.
Молодые режиссеры говорят об американизации
Европы резче и злее. Для Годара, например, все, что сделано
в США, является крайним выражением жестокости и
аморальности. В фильме, так и названном — «Сделано в
США», перед зрителем предстает алогичный мир
больших дорог, больших автомобилей, больших городов с
большими зданиями,— и все это наполнено страхом, насилием
и равнодушием к человеку.
Любопытно отметить, как интерпретировали годаров-
ский антиамериканизм в Америке. В студенческом
киножурнальчике «Филм Херитидж» профессор-социолог
Раймонд Федерман, обвиняя весь свет в том, что американизм
202
усваивается поверхностно, «через голубые джинсы»,
объявляет и все творчество Годара своего рода «имитацией»
или «фикцией американизма». Играя словами, профессор
нехотя признает, «что Годар разрабатывает и обвиняет
американизм как деградирующий гуманизм», но
откровенный подтекст статьи несет желание убедить читателя в
том, что Годар показывает «фикцию американизма» и что
поэтому его критика, мол, ничего не стоит. Если
«американизм изображается как нечто очень обширное и
ужасное,— пишет профессор,— те, кто изображает это
пародийно, обманывают себя и людей» К
Трюффо, работая над экранизацией романа Бредбери
«451° по Фаренгейту», заявил, что он снимает не
фантастический фильм, поскольку почти все, что он показывает
и о чем предупреждал писатель, и есть существо
американизма.
Американская писательница Маргарет Холси в книге
«Псевдоэтика: размышления об американской политике и
морали» пишет: «...нет необходимости демонстрировать
путем перечисления фактов, что в США после второй
мировой войны происходит процесс морального вырождения.
В этом отдает себе отчет каждый или почти каждый»2.
Сказано резко, но подобные и даже более резкие
высказывания относительно кризиса духа в США были сделаны
и Робертом Кеннеди, и сенаторами Маккарти и
Рокфеллером, и Уолтом Липпманом, и очень многими
социологами, которых никак не заподозришь в антиамериканизме.
И все эти высказывания подтверждаются фактами
политического террора, роста преступности, бунтами негров,
походами бедняков, а прежде всего — движением
молодежи, принимающим самые различные формы протеста —
от чудовищной отчужденности «диких ангелов» до
сознательного участия в рядах Коммунистической партии.
«Все смешалось в доме Облонских». Сегодня в
Соединенных Штатах внутренние противоречия имеют вид хаоса,
разобраться в котором не просто. Хиппи, черный
национализм, деятельность прогрессивных студенческих
организаций и многое другое ультрасовременное наложилось на
традиционные реакционные явления, на деятельность Ку-
клукс-клана и ему подобных организаций, на множество
сект и уродливых общественных течений. От обожествле-
1 «Film Heritage*, 1968, Ν 3.
2 Цит. по сб. «Два мира — две юности», М., 1965, стр. 104.
203
ния компьютеров до отрицания всей современной
техники, до отказа ездить на автомобилях и приобретать что-
либо, сделанное с помощью машин или химии,— таков
диапазон американских сектантов.
Ощущение внутреннего неблагополучия проникло в
официальное искусство, в том числе и в Голливуд — эту
цитадель американского духа. Дело даже не в том, что
в Голливуде расширилось движение независимых
продюсеров и режиссеров и появилась значительная группа
мастеров — Креймер, Франкенхеймер, Кубрик, Кассаветис
и другие,— которые сравнительно последовательно
работают над социально значимыми и политически острыми
темами. В конце концов, Голливуд всегда позволял себе
роскошь выпускать хотя бы два-три фильма в год,
проникнутых социальной критикой. Дело в том, что массовая
голливудская продукция, та самая, которую
Государственный департамент всегда считал главным проводником
американизма в мире, утратила свою незамутненную в
прошлом ясность и глянцевитую красивость. Даже в
откровенно коммерческую продукцию стали проникать ноты
горечи, разочарования, всеобщего беспокойства, пример
тому — то же «Кредо насилия», о котором мы
рассказали выше.
Голливудское кинопроизводство всегда следовало тому
правилу рекламы, которое гласит: успех рекламы прямо
пропорционален ее тиражу и повторяемости. И силой
американских фильмов всегда была настойчивость внушения
зрителям не очень богатого арсенала идеек о том, что
Америка — самая богатая и прекрасная страна, что
американцы — самые деловые и симпатичные парни, что
американки— самые красивые и обаятельные женщины, что
всем золушкам в Америке приготовлены богатые женихи,
а всем способным людям — кресла президентов банков,
и т. д. И вдруг это все стало исчезать из голливудских
фильмов! Чтобы случилось такое — велики должны были
быть потрясения в стране. Впрочем, по мнению всех без
исключения прогрессивных критиков, Голливуд
по-прежнему весьма далек от действительности и, касаясь
жизненных вопросов, решает их поверхностно,— здесь в
качестве примеров американские кинокритики безжалостно
перетряхивают фильмы Креймера и Нормана Джюисона,
посвященные расовой проблеме,— «Угадай, кто придет к
нам обедать» и «Душной ночью», с участием в обоих
случаях Сиднея Пуатье, ставшего голливудским «приемле-
204
Мим негром», как определил Ард Айви в журнале «Сан-
Франциско ФМ энд Фаин артс».
Знаменательна и драматична история Сиднея Пуатье —
негра с Ямайки, переселившегося в юности с родителями
в США, прошедшего через многие мытарства и
достигшего сегодня положения «черного короля Голливуда»,
получающего без малого миллион долларов за каждую роль
и окруженного толпой поклонниц. Мировую известность
ему принесли роли бунтарей, сильных и непримиримых
к подлости людей в таких реалистических и социально
значительных фильмах, как «Скованные одной цепью»,
«Изюминка на солнце», «Порги и Бесс». А положение
суперзвезды— такие «розовые» картины, как «Полевые
лилии», «Голубая ленточка», «Учителю, с любовью»,
«Угадай, кто придет к нам обедать» и т. п. В «Полевых
лилиях» Сидней Пуатье сыграл роль своего рода «дяди
Тома» — странствующего торговца, обаятельного и
бескорыстного добряка, помогающего изгнанным из Германии
белым монахиням построить часовню. Этот насквозь
фальшивый фильм, представляющий «негра в роли поборника
американизма, представителя счастливого и богатого
общества» (Ежи Теплиц), появился в 1963 году и принес
Пуатье премию Американской киноакадемии —
знаменитого Оскара. За ним последовала и по сей день не
кончившаяся серия конформистских картин, за участие в
которых многие представители негритянской интеллигенции
предъявляют Пуатье обвинение в предательстве
интересов черных американцев.
При всей своей резкости эти обвинения не лишены
оснований, потому что в условиях обострения борьбы
негров за гражданские права и полное социальное и
политическое равноправие Пуатье своими фильмами утверждает
возможность интеграции без изменения социальных
условий. Героям Пуатье — людям добрым, воспитанным и
образованным,— цвет кожи ничуть не мешает преуспевать в
белом обществе. В фильме Креймера «Угадай, кто придет
к нам обедать», кажущемся агиткой, сделанной по заказу
Информационного центра, герой Пуатье со взаимностью
любит белую девушку и затем благополучно женится
на ней...
Стэнли Краймер, защищаясь от критиков,
воспринявших эту картину как лживую, искажающую истинное
положение дел с расовым вопросом в США, сказал, что ему
показался и такой подход к проблеме достаточно полез-
205
ным (позже он пообещает сделать новый, более острый
фильм). Но то, что думают по этому поводу многие негры,
точно выражено негритянской певицей Дианой Кэрол:
«Я очень радуюсь, что мои дети будут расти в мире без
Сиднея Пуатье...»
Пуатье, как всякий голливудский «король»,
превратился в слугу Голливуда. Механизм такого рода
превращений сложен, ибо хотя в этом играют свою роль и реклама,
и подкуп сказочными гонорарами, и давление всеми
средствами, но все же решающая роль принадлежит
идеологии той социальной группы, к которой ныне принадлежит
актер. Пуатье служит белым либералам, не теряющим
надежду на мирную и постепенную интеграцию, и тем
кругам негритянской буржуазии, которые благодаря своим
успехам в бизнесе примиряются с существующим
положением дел. Роль Пуатье в конечном счете сводится к тому,
что белого обывателя он как бы утешает: смотрите, каким
негр может быть благородным, лояльным и милым, а
обездоленному негру внушает: вот видите, как можно
превосходно жить в этой чудесной стране...
Превращение Сиднея Пуатье нужно расценивать как
большой успех Голливуда. Но одновременно история
возведения Пуатье на пьедестал славы является
свидетельством тяжкого духовного неблагополучия не только
Голливуда, но всей Америки. Дело в том, что Пуатье не
только возведен в ранг суперзвезды со всеми благами и
преимуществами, которые связаны с этим званием, но, по
определению Джеймса Болдуина, еще «превращен в секс-
символ Голливуда»1. Когда в 1968 году вышел очередной
конформистский фильм с Пуатье — непритязательная
комедия о быте средней негритянской буржуазии под на-
зЬанием «Ради любви Айви», «Нью-Йорк тайме» писала:
«Сидней Пуатье сделал финальный шаг в метаморфозе из
прекрасного характерного актера в голливудскую
суперзвезду со всеми холодными и сексуальными
прерогативами Кларка Гейбла»2. Нужно лишь сопоставить
выдвижение Пуатье на пустовавший за смертью Кларка Гейбла
престол «стопроцентного мужчины» с тем, что творится в
черных гетто, с тем страхом и ненавистью, что
характеризуют жизнь сегодняшней Америки, чтобы понять
нелепость и противоестественность голливудского маневра.
1 «Look», 1968, July 28.
2 «The New York Times», 1968, July 18.
206
«Казус Пуатье» — еще один, хотя и мелкий, пример
судорожных метаний американцев в поисках выхода.
Очевидно, разные американцы искали различные пути
выхода из кризиса, охватившего все стороны духа нации.
Но особенно характерным оказалось для Америки
желание убежать, спрятаться от реальности. Вспомним в этой
связи о битниках.
Ходячие представления о битниках сводились к трем-
четырем расхожим истинам: они, то есть битники,
подобно экзистенциалистам 50-х годов из парижских кабачков,
охотно отращивают бороды, неряшливо живут, эпатируют
благопристойность буржуазного общества своей
безнравственностью и своим искусством, но, мол, очевидно,
никакой опасности для устоев этого общества не
представляют... Так писали, и все это верно. Жаль только, что и
наши журналисты не только критиковали битников, что
вполне понятно, но и заимствовали у западной прессы ее
иронический тон, что уже совершенно непонятно, если
принять во внимание обстоятельства, породившие битников.
Позиция «Лайф» или, например, «Сатердей ревью»
была понятна: битники отвергли мир бизнеса и
чистогана, но признали, что не знают и не видят в будущем какой-
либо возможности изменить установившийся порядок.
Последнее сразу же примирило благонамеренное общество
со странными молодыми людьми. Больше того, многие
черты жизни битников показались привлекательными
процветавшим филистерам; отношение буржуазного
общества к ним было похоже на реакцию ханжи, увидевшего
стриптиз: «Безобразие, конечно, но, знаете ли... мм...
весьма любопытно». Не случайно в свое время материалы о
битниках верстались в одном ряду с сообщениями о
частной жизни кинозвезд.
Бессмысленно было делать из битников героев,
замалчивая слабости и алогизм их бунта. Но разобраться нужно
было обязательно. Битничество — одна из самых острых
форм самоотчуждения личности от общества, способная
варьироваться, но уже неискоренимая в современных
буржуазных странах. Битник — это не только вызывающий
жалость и улыбку лохматый мальчишка-бродяга,— это,
что особенно важно, интеллектуал, это человек, который
мог бы занимать в отвергнутом им обществе достаточно
теплое место. Интересен и тот факт, что «уходили»
битники не в никуда, как утверждали некоторые журналисты,
а прежде всего в творчество. «Есть лишь одна защита
207
против всеобщего разрушения — творчество,— писал Джек
Керуак, поэт, писатель и идеолог битничества.— И в тот
момент, когда упадет атомная бомба, мы будем писать
стихи, картины и сочинять музыку* 1. После битников
действительно остались пьесы, картины, музыка и книги, ярко
раскрывающие драму поколения, проникнутые волчьей
тоской по теплу и ласке. Искусство битников — это не
только формализм, прикрывающий пустоту содержания и
прославляющий одиночество,— это искусство порой
обращалось к большим человеческим проблемам, оно пришло
к осознанию личной ответственности человека за все, что
происходит в мире. К литературе битников примыкали
такие крупные писатели, как Дж.-Д. Сэлинджер с его
постоянным конфликтом столкновения интеллекта с
буржуазностью. Как и герои битнической литературы, Холден —
герой романа Сэлинджера «Над пропастью во ржи» —
защищается от неприемлемой действительности
фантазией, жизнью в мечтах; действительность, однако,
разрушает призрачные построения, и Холден остается лицом
к лицу с торжествующей серостью. Как и книги битников,
творчество Сэлинджера несет горечь и привкус
поражения— от отсутствия надежды на изменение жизни.
За многолетний культ деловитости, за философию
прагматизма, за пресловутую свободу печати и слова,
использованную реакционными силами для воспитания в
массах аполитичности и индивидуализма, нация стала
расплачиваться «моральным вырождением». Но нигде и
никогда еще не бывало, чтобы внутри нации не нашлось бы
того или иного количества людей, которые, осознав
неблагополучие, не воспротивились бы установившемуся
порядку в меру своих сил и разумения. Деятельность в этом
плане Компартии США и прогрессивных сил — предмет
особого разговора. Нам же важно увидеть, что при всей
своей ограниченности бунт битников был именно бунтом
молодежи против того, что составляет позор Америки.
В те же годы, когда битники вышли на авансцену,
пресса западных стран объявляла главной «философией»
молодежи уже упомянутый нами приватизм. «Сатердей
ревью» тогда так резюмировала одно из многих
социологических обследований университетской молодежи:
«Внимательное изучение идеалов студентов показывает, что их
жизненные цели сводятся исключительно к самоудовле-
1 сИиостранная литература», 1966, № 3, стр. 182.
208
творению: собственному увлечению, потреблению,
развлечению. Даже среди первокурсников только три процента
считают своим идеалом «приносить пользу» другим
людям. Для большинства американских студентов благо
общества— пустой звук»1. Приватизм — еще одна ипостась
многоликого мещанства, живущего в обществе
потребителей. Приватизм — это то, что должно было закономерно
породить битничество с его отрицанием материальных
благ.
Критик «Уоркер» М. Ньюберри указал, что «фоном»
рождения битников были холодная война и внутренняя
напряженность жизни. «На этом беспросветном,
упадочном, мертвенном фоне вдруг возникла группа
бродяжничающих, легких на язык, склонных к святотатству
бородатых молодых людей, одетых точь-в-точь как босяки,
которых изображал Чарли Чаплин. Они послали «деловое
общество» и его любовницу — «холодную войну» —
подальше»2. «Все эти группы,— писал о битниках социолог
М. Харрингтон,— роднит между собой странного рода
бедность. Если не считать членов религиозных сект, это
единственные граждане в нашем обществе благоденствия,
добровольно ставшие бедняками»3. И далее: «Хотя
многие из этих людей талантливы и достаточно образованны,
чтобы добиться материального успеха в нашем обществе,
они предпочитают жить в трущобах, так как находят
обыденную материальную жизнь бессодержательной»4.
Европа, про запас набедствовавшаяся и
наголодавшаяся за пять военных лет и трудные первые послевоенные
годы, не сразу поняла характер битничества. Исключение
составила лишь процветающая и удрученная духовной
опустошенностью собственной молодежи Швеция,— там
быстро появились серьезные и благожелательно
написанные статьи об американских битниках. Но вскоре
искусство Франции и ФРГ, Италии и Англии и даже
безнадежно, казалось бы, провинциальной Испании начало
регистрировать в жизни молодежи явления, очень сходные
с тем, что мы называем битничеством. Сходные, но не
буквально повторяющие. Период приватизма европейская
молодежь, имеющая лучшую закалку и большие тради-
1 Цит. по сб. «Два мира — две юности», стр. 76.
2 Цит. по кн.: М. Мендельсон, Современный американский
роман, М., 1964, стр. 418.
3 М. Харрингтон, Другая Америка, стр. 98.
« Там же, стр. 101—102.
209
ции, нежели молодежь США, прошла спокойнее и
быстрее. И в то время, когда буржуазная пресса, захлебываясь,
вещала о волнах «экономического чуда»,
перекатывающихся из страны в страну, молодежь начала равнодушно
отворачиваться от предлагаемых ей благ. Не всегда в
такой демонстративной форме, как обитатели сан-францис-
ских холмов или нью-йоркского Гринвич-вилледж, но,
пожалуй, еще решительнее.
Битников охотно называли блудными сынами
буржуазного общества, подразумевая, возможно, то, что
блудным сынам вообще свойственно возвращаться и получать
упитанного тельца. Но битники не вернулись и ничего не
получили. Они стали предтечами нового движения
«блудных» сынов.
Американцы, вступающие в борьбу, сталкиваются с
парадоксальной, как им кажется, обескураживающей их
поначалу действительностью. С одной стороны, они со
школьной скамьи усваивают «истину» о безграничном
будто бы американском демократизме, предоставляющем
каждому человеку максимум свобод; с другой стороны,
они чувствуют полное бессилие, бесконечную свою
ничтожность перед машиной империалистического
государства, способной шутя раздавить их при первой же
попытке что-то сломать в ней. Бессилие и породило метод
ненасильственных действий. Бессилие обусловило и идеологию
движения хиппи, сделавших ахимсу Махатмы Ганди своей
религией.
Мне запомнилась одна история, может быть, не
типичная для практичной Америки, но яркая для понимания
чувств молодежи, стремящейся к полезной деятельности и
ощущающей свое бессилие. История такова: девушка из
среднего класса, из семьи более чем благополучной
бросила все — дом, университет и друзей —и пошла работать
в детский сад, расположенный в одном из самых мрачных
негритянских гетто. Это был район, куда и полиция без
крайней нужды не заходила,— район притонов и
гангстерских пристанищ. Главарь действовавшей там банды
насильно сделал ее своей любовницей, затем «уступил» ее
кому-то из подручных. Ее приучили к наркотикам,
заставили помогать банде, поручая самые грязные дела. С
большим трудом родным удалось вытащить ее со дна. Я видел
эту девушку — она выглядела сломленным, опустошенным
человеком. И для меня ее судьба показалась тем
прожектором, который помогает осветить судьбу хиппи.
210
0 хиппи существует большая литература, о них
созданы фильмы. О них, как и о битниках — их
предшественниках, сочинено много лжи. А правда о них довольно
проста: хиппи одновременно и «продукт разложения
традиционного американского общества, и вместе с тем...
воплощение его здоровых начал,— пишет Е. Блинов.—
Мистика и наркотики, мир, любовь и цветы, альтруизм,
честность, радость и ненасилие — вот их программа, весьма
расплывчатая, но, несомненно, направленная против
обывательщины и рутины так называемого американского
образа жизни» К
Движение хиппи — это и попытка сопротивления злу
личной святостью. «Давайте любить, а не воевать!» —
вот лозунг хиппи. Сегодня, однако, уже можно сказать,
что движение хиппи ни в чем не изменило жизнь
американского общества,— разве что внесло элемент экзотики
в его внешний вид, экзотики при этом поверхностной, как
позолота на дешевой бижутерии.
Хиппи многочисленны и многолики. Одни из них видят
в ахимсе лишь ту часть формулы, которая отрицает
насилие в борьбе со злом. Это несчастные люди: наркотики
и беспорядочные связи необратимо разрушают их
организмы. Называя вещи своими именами, эта часть «детей-
цветов» — паразиты. Они тоже шли от отрицания
буржуазного общества, но пришли к полному тупику,
заполняемому галлюцинациями, вызываемыми ЛСД и марихуаной.
Их метод отрицания — по определению одного
американца — напоминает старинный японский способ мести врагу
самоубийством. К сожалению, именно об этой части
хиппи больше всего и пишут журналисты, их показывают
туристам, о них снимают фильмы. Появление учителя (гуру)
Махариши в Индии и создание им школы «духовного
возрождения» вдохнуло новую жизнь в эту жалкую часть
хиппи.
Как известно, Ганди учил своих сторонников не
только отказу от насилия, но и неподчинению злу. Больше
того, он писал: «Там, где возможен только один выбор —
трусость или насилие,— я посоветовал бы прибегнуть к
насилию. Я проповедую спокойное мужество умирать не
убивая. Но если у человека нет этого мужества, я
хотел бы, чтобы он лучше развивал в себе искусство
убивать и быть убитым, чем постыдно бежать перед опас-
1 «Международная жизнь», 1968, № 1, стр. 113.
211
ностью. Ибо тот, кто бежит, совершает духовное насилие,
он бежит потому, что не имеет мужества быть убитым
убивая»1. Ахимса Ганди—для определенных условий и
конкретного времени — теория протеста достаточно
активного и опасного для «столпов общества». Не случайно,
конечно, сделано все возможное, чтобы отвести молодежь от
ахимсы Ганди, подменить ее мистической религией
Веданты, истолкованной к тому же йогом Махариши, который
и известен-то стал лишь благодаря рекламе, сделанной
ему кинозвездами Фэй Данэуэй, Кендис Берген, Миа Фэр-
роу и битлсами, приезжавшими всем квартетом на
поклон к новому гуру.
Часть хиппи не может удовлетворяться растительной
жизнью «детей-цветов». Томас Манн в новелле «Марио и
волшебник» говорит: «Видимо, одно только отрицание не
может быть источником душевной энергии; не хотеть
сделать то или иное — этим жизнь не заполнишь». Чтобы
«заполнить жизнь», хиппи пытаются сочетать отрицание хоть
с какими-нибудь полезными людям делами,— они, что
очень важно, непременные участники митингов,
демонстраций и акций, как говорят американцы, движения
против войны во Вьетнаме. (В их борьбе против войны
смешное и трогательное неразличимы; вот картинка с натуры:
полиция разгоняет демонстрацию, работая дубинками,
вдруг из толпы выходит девушка-пичужка и подносит с
улыбкой цветок двухметровому держиморде — «давайте,
мол, любить...».)
Считается, и не без основания, что хиппи в основном —
выходцы из семей средней буржуазии (кстати, как
правило, это молодежь, имеющая среднее и высшее
образование). Но среди хиппи встречаются молодые люди и из
пролетарских слоев, и появление среди «детей-цветов»
пареньков и девушек из бедных районов не объяснишь
только модой.
Здесь нечто более серьезное — дегуманизация труда.
Потеря уважения к труду и уважения к себе, если ты
зарабатываешь хлеб трудом,— вот еще один результат
развития автоматики, низводящей рабочего до придатка
машины. Американский социолог X. Белл утверждает, что
98 процентов молодых рабочих консервных и текстильных
заводов ненавидят свою работу, что они не признают
такого понятия — «рабочая гордость». Рабочий не может
1 «Иностранная литература», 1968, № 5, стр. 207.
212
чувствовать себя тем, кем он является на самом деле,—
создателем материальных ценностей. Организация его
труда такова, что его личный вклад слишком незначителен,
чтобы он мог иметь хотя бы затаенное удовлетворение от
участия в производстве. Молодежь сегодня сравнительно
легко находит работу, ибо автоматизированное
производство пока что столько же нуждается в людях ловких,
сообразительных, обладающих быстрой реакцией и
способностью скоро восстанавливать израсходованные силы,
сколько и в специально подготовленных знатоках. Но,
находя работу, молодой человек не получает, в сущности,
ничего — ни квалификации, ни знаний, ни перспектив на
будущее. Как никогда раньше, он теперь меньше чем
винтик; он та деталь, которая из-за своей малости и
благодаря множеству дублирующих устройств никакого
влияния на работу машин не имеет. Осознание этого
вызывает чувство безысходности, а далее у одной части молот
дежи — конформизм, у другой — нигилизм.
Так образуется «ничья земля». Так все большая и
большая часть молодежи уходит из общества «всеобщего
благоденствия». Уходит из-за неуверенности в будущем и
невозможности дальше терпеть ложь и ханжество, следуя
убеждению, что жить по-старому нельзя. Это
своеобразный, иногда карикатурный по внешности протест против
действительности.
Надо сказать, что «дети-цветы» постепенно внушают
серьезные опасения и недовольство сильным мира сего.
Битники были в общем-то немногочисленны. Хиппи
много— если и не миллион, то сотни тысяч. Они появились
во всех развитых капиталистических странах, всюду
обескураживая власти и полицию своей аморфной
неподатливостью ни на уговоры, ни на угрозы.
Бывший при Джонсоне вице-президентом Хэмфри
незадолго до прощания с властью горько жаловался на
хиппи как на главных виновников уличных беспорядков,—
правда, он явно здесь путал хиппи со всей молодежью,
принадлежащей к числу «новых левых» и бунтующей на
улицах американских городов, тем более что «форма» —
длинные волосы у парней и мини-платья у девушек —
совсем не служит признаком принадлежности к хиппи. Те
же жалобы и уже резкие угрозы произносит и нынешний
вице-президент Агню.
Характерно то отрицательное отношение, какое
проявляет Голливуд к хиппи и какого не знали битники.
213
Примером здесь может служить фильм «Уличное
зеркало», снятый в знаменитом квартале сан-францисских
хиппи Хайт-Эшбери с участием в массовках подлинных
его жителей.
Суть фильма мелодраматична — в Хайт-Эшбери
приходит семнадцатилетняя девушка (актриса Сюзан Страс-
берг), разыскивающая своего брата, талантливого
скульптора. Брата, втянутого в банду гангстеров, она не
находит, а сама остается в квартале, став частью его
«коммунальной» жизни. Потом на одной из выставок
художников хиппи она узнает работы брата, но поздно — тот уже
погиб. От истерики ее спасает случайный дружок, дав
порцию наркотика. Фильм кончается монологом
одурманенной девушки, из которого следует, что ныне она
совершенно свободна от мира, к которому испытывает лишь
презрение-
Очевидно, фильм должен вызвать у зрителя презрение
к хиппи и, пожалуй, предостеречь молодежь от
Хайт-Эшбери, где талантливые люди погибают, а красивые
девушки становятся общей собственностью и где свобода
приходит лишь во время опьянения наркотиками. Никакой
попытки осмыслить как-то движение хиппи, покопаться в
причинах, заставивших уйти на «дно» молодежь,
имеющую возможность жить в благоустроенных виллах своих
родителей,— нет и следа. И таковы почти все фильмы о
хиппи, какие до сих пор сделаны, как можно судить по
протестующим статьям американских критиков,
считающих, что хиппи оказывают большое влияние на все
стороны американской жизни.
Джеймс Олдридж, рассказывая о хиппи, заключает
свою статью так: «Поскольку «люди-цветы» и йоги все же
толкают молодежь к раздумьям, постольку эти движения
можно рассматривать как шаг в правильном
направлении. Но какой это детский, какой неверный,
спотыкающийся шаг, как много еще требуется помощи со стороны
взрослых, чтобы он превратился во что-то разумное и
определенное» х. Все верно, нет никакой нужды
преувеличивать значение хиппи. Но важно отметить, что в США
хиппи с самого начала принимают участие в борьбе
против войны во Вьетнаме и в борьбе за гражданские права-
негров, чаще всего под руководством не взрослых, а таких
же молодых людей, как они сами.
1 «Советская культура», 1968, 18 апреля.
214
Трудно сказать, куда и как будет развиваться
движение хиппи. В 1969 году американская пресса с
удовольствием сообщала об исчезновении колоний хиппи, в том
числе и знаменитой колонии Хайт-Эшбери,
превратившейся мало-помалу в обычную злачную улицу большого
города. Но в том же 1969 году Антониони, снимавший фильм
в Калифорнии, без всякого труда собрал для массовой
сцены 20 тысяч молодых сторонников «любви и цветов».
Явно лишь то, что «золотой век» хиппи прошел.
Возможно, что — по «логике отчаяния» — число хиппи после
неминуемого распада анархистов и маоистских группировок
возрастет, хотя они и будут отличаться от хиппи 60-х
годов. Но может случиться и так, что оно незаметно и
быстро сойдет на нет, как это уже случилось с битниками,
оставившими после себя несколько интересных для
историков книг и словечко «битник», которым продолжают
пользоваться для обозначения любого, кто выламывается
из буржуазных норм. Трудно пока представить, что могло
бы сменить хиппи. Журнал «Эсквайр» в августе 1968 года
писал о появлении в Америке «вагемпов» — молодых
людей, возводящих в культ телесную чистоту, —но,
констатировав, что за белоснежными одеждами и общими
омовениями у «вагемпов» ничего нет за душой, определил их
в конце концов лишь как «отмытых» хиппи.
Но хиппи не только начинают мыться. Будучи частью
широкого движения «новых левых», ныне они пытаются
создавать и политические партии,— так, весной 1968 года
на базе одной из групп хиппи возникла «Молодежная
международная партия» (ММП), о которой довольно
много одно время писала американская пресса. Конечно,
никакой партии хиппи создать не могли и, надо полагать,
никогда не смогут. Но шума они наделали порядочно.
На осень 1968 года они назначили в Чикаго «фестиваль
любви» — как раз на дни работы национального съезда
демократической партии — и призвали всех своих
сторонников и сочувствующих собраться там. Приехало со всех
городов всего 12 тысяч молодых людей, но к ним
присоединилось 13 тысяч молодых чикагцев, так что
демонстрация протеста, которая была главной целью фестиваля,
оказалась внушительной. Столкновение хиппи с полицией
мэра города Чикаго Дейли кончилась варварским
избиением и массовыми арестами юношей и девушек.
Жестокость полиции, до полусмерти избивавшей и калечившей
мальчишек и девчонок, показанная миллионам американ-
215
цев по телевидению, заставила содрогнуться людей и
вспомнить то, что происходило тридцать лет назад в
гитлеровской Германии. Свыше ста молодых людей
получили тяжелые увечья, остались инвалидами на всю жизнь,
более тысячи из них попали с ранениями в больницы,
около семисот человек были арестованы,— такими оказались
результаты победы полиции и специально натасканных для
уличной борьбы войск.
Общее сочувствие, вызванное этой расправой над
молодежью, для самой «Молодежной международной
партии» не имело значения, журналисты разного толка
признали эту партию мертворожденной. Что бы, однако, ни
случилось с движением хиппи, пустоты все равно не
будет,— молодежь не перестанет «дурить», потому что
хиппи, повторяем, лишь симптом болезни общества,
способный меняться или уступить место другому проявлению
этой болезни.
Хиппи — один полюс бунтующей американской
молодежи. Другой полюс — студенты. Между ними множество
групп и группок. А все вместе — движение «новых
левых». Такова схематично картина молодежного движения
в США.
Протест битников и хиппи в общем-то не беспокоил
власти, пока молчали студенты — самая авторитетная сила
среди молодежи. Еще в 1965 году публицист Сайрус
Сульцбергер с удовлетворением писал: «Студенты
американских университетов в основном стараются
воздерживаться от политических демонстраций... Соединенные
Штаты должны быть благодарны судьбе за то, что миллионы
американских студентов, хотя и отдают время от времени
дань таким проблемам, как гражданские права, в общем
склонны для выражения своих чувств прибегать к
местным, контролируемым средствам самовыражения...
студенты живут в изолированных студенческих городках, и
когда они вырываются из их границ, то это не для того,
чтобы свергать правительство путем кровопролития, а для
того, чтобы совершить экскурсию миль на пять-десять или
выйти на пикничок» 1 (пикниками в США называют и
митинги в парках, в сельской местности.—Р. С).
Сульцбергер оказался в оценке американской
действительности таким же плохим пророком, каким был всегда
1 С. L. Sulzberger, Unfinished Revolution, New York, «Atheneum»,
19G5.
216
и в своих антисоветских писаниях. Студенты не могли
свергнуть Джонсона, но практически они лишили его
возможности публично выступать в 1968 году, и
антивоенные демонстрации, главную силу которых составляли
студенты, стали основной причиной отказа Джонсона от
попытки переизбрания на пост президента.
Сегодня развивается движение молодежи, которая уже
осознала, что нельзя жить одним отрицанием, что
недостаточно говорить «нет» неприемлемому обществу, что
«одно только нежелание не может быть источником
душевной энергии» (Т. Манн). Это движение студенческой
молодежи.
Технический прогресс требует все большего и
большего числа специалистов с высшим образованием. Это
требование сегодня очень остро в США, ранее и шире, чем
другие капиталистические государства, перешедших на
автоматизацию производства. Требования промышленности
обусловили рост числа студентов в университетах и
колледжах почти втрое за десять лет — сейчас в США около
7,5 миллионов студентов. Но такова природа
сегодняшнего буржуазного общества, что и этот процесс расширения
высшего образования породил социальные трудности,
поставил власть имущих перед новыми проблемами.
Эти проблемы только-только появились, они еще не
осознаны до конца, о них искусство еще не все
рассказало. От битников остались книги и картины, созданные ими
самими. О хиппи сложены красивые песни. О борющихся
студентах Америки рассказывают пока что только
журнальные статьи — всегда дискуссионные, либо предельно
злые, либо чрезмерно восторженные. Споры порождаются
необычностью самого движения и противоречиями в его
внешнем проявлении. Правда, есть несколько
документальных фильмов,— например, «Сыновья и дочери» Дже-
ри Столла, осенью 1968 года отмеченный Главной
премией кинофестиваля в Лейпциге,— показывающих
студенческие дискуссии, демонстрации и митинги-пикники. Эти
полулюбительские ленты чрезвычайно интересны тем, что
в них видишь американцев, каких не встретишь в
голливудских фильмах или иллюстрированных журналах типа
«Лук» или «Лайф», видишь лица одухотворенные,
интеллигентные, полные мысли и доброты.
В течение многих лет центром левого и радикального
движения американских студентов называют университет
в Беркли. В свое время наша пресса немало писала о со-
217
бытнях, происходивших в этом студенческом городке,
соседствующем с военной базой в Окленде.
Марио Савио, руководитель берклийцев в начале их
движения, отвечая на вопрос: «Почему именно в
Беркли началась «студенческая революция»? — называет
комплекс причин, подчеркивая тот факт, «что это
государственный университет: большой процент студенчества —
выходцы из семей мелкого среднего класса или из рабочих;
те, кто может позволить себе платить за обучение
больше, поступают, например, в Стэнфордский университет».
К этому нужно добавить, что свойственные Беркли
повышенные требования, предъявляемые к абитуриентам при
поступлении, обусловливают высокий интеллектуальный
уровень студентов этого университета, что в свою очередь
определяет их политическую активность.
Но брожением охвачены широкие массы студенчества.
Исследуя общие причины студенческого бунта,
профессор-психолог Кеннет Кенистон указывает, что «типичным
бунтовщиком» является выходец из состоятельной среды,
выросший в обстановке материального достатка и не
имеющий никакого беспокойства о своем будущем. Но это
человек, которого глубоко беспокоит расхождение между
словами и демократическими лозунгами,
провозглашенными старшим поколением и правительством, и тем
действительным положением дел, которое можно видеть внутри
страны и в самих действиях Америки на международной
арене.
Не менее важную роль играет и то обстоятельство, что
промышленное процветание не только не излечило
национальные язвы, но, по мнению американских социологов,
сделало все болезни еще более запущенными.
«Американская система не кажется больше эффективной,— пишет
в этой связи М. Харрингтон.— Государственные деятели
страны провозглашают, что все их помыслы направлены
на ликвидацию войн, голода и невежества в мире, а затем
проводят политику, в результате которой богатые
становятся богаче, бедные — беднее, и подстрекают мир к
насилию. Правительство заявляет, что оно будет вести
бескомпромиссную войну с бедностью, а спустя три года
констатирует, что жизнь в трущобах стала тяжелее». Этими
словами начинается книга Харрингтона «К
демократической левой силе», появившаяся в 1968 году.
Не следует думать, что все студенты, принимающие
участие в акциях протеста, столь же ясно, как Харринг-
218
тон, осознают пороки американской системы. Напротив,
наблюдатели дружно отмечают политическую незрелость и
идеологическую путаность студенческого движения. Стоит
отметить и тот факт, что даже активисты этого движения
преисполнены гордости успехами промышленного
производства США, так далеко обгоняющими другие страны,
и поэтому большинство мыслит не революционными
категориями, а реформистскими, полагая, что требуется не
коренное переустройство, а лишь лечение этой системы.
И, по мнению К. Керра, председателя комиссии по делам
высшего образования, достаточно будет президенту
Никсону решить вьетнамскую и негритянскую проблемы, как
в студенческих городках наступит мир.
Так ли это? Наверное, не так. Кроме того, что
некоторые пороки просто не поддаются лечению «сверху»,
беспокойство у молодежи вызывает общий кризис
американской системы, а не какие-то ее отдельные пороки, сколь бы
они ни были серьезны сами по себе. Журнал «Форчун»
в январском номере 1969 года сообщил, что 750 тысяч
американских студентов солидаризируются с «новыми
левыми» и что 40 процентов от этого числа «не проявляют
никакого интереса к деньгам» и Че Гевара вызывает у них
большее восхищение, нежели три кандидата в президенты
на выборах 1968 года. Это уже нечто совершенно новое
в движении американских студентов.
Но многое началось с Беркли. Поэтому есть резон
вспомнить, как все развивалось там, соотнося с более
известными фактами.
В 1962—1963 годах берклийцы принимали участие в
митингах покойного доктора Кинга и других
прогрессивных политических деятелей. Это были годы активизации
Студенческого координационного комитета
ненасильственных действий (СККНД) и рождения оказавшейся более
жизненной организации «Студенты за демократическое
общество» (СДО). В Беркли обе эти организации имели
немало сторонников.
Летом 1964 года многие из берклийцев участвовали в
походе по южным штатам, осуществляя программу
ненасильственных действий в рамках Движения в защиту
гражданских прав негров.
То, что происходило летом 1964 года в Миссисипи и
Алабаме, напоминает несколько хождение в народ
русских студентов в середине 70-х годов прошлого века.
Несколько тысяч молодых американцев направились в
219
царство расизма, движимые идеалистическими
представлениями. Они открывали школы, рассказывали неграм об
их конституционных правах, проводили мирные шествия,
организовывали бойкот сегрегированных магазинов,
кинотеатров, отелей,— они делали множество разных, чаще
всего мелких дел, стараясь их совокупностью расшатать
систему неравенства, мало изменившуюся за сто лет,
прошедших со времени отмены рабства. Каждый знал, что
он подвергается смертельному риску; и действительно,
трое из них были зверски убиты, многие избиты,
покалечены, заключены в тюрьмы под смехотворными
предлогами.
Летний поход молодых американцев вызывает
удивление и уважение. Это был вызов официальной Америке,
обладающей мощной машиной принуждения и
подпираемой почти двумя тысячами ультраправых организаций и
группировок. Методом борьбы были избраны
ненасильственные действия — единственно, пожалуй, возможные в
тогдашней ситуации. Один из участников похода писал
в личном письме, позже опубликованном: «По-моему,—
и я думаю, что это общее мнение,— непротивление —
в каком-то смысле извращение, но это необходимая
тактика, необходимый метод» *. Предельно точный и краткий
анализ.
А осенью того же 1964 года в университете произошел
форменный бунт, потрясший всю Америку и поразивший
мир. Дело дошло до стрельбы полиции по безоружным
юношам и девушкам, а завершилось оно... сплочением
организованного движения студентов США за свободу
слова и демократические свободы. Ненасилие как метод
действий ушло в прошлое. В стране же в это время началась
организация Клубов Дюбуа, завершившаяся, напомним,
в начале 1970 года созданием марксистско-ленинского
«Союза молодых рабочих за освобождение» (СМРО).
Клуб Дюбуа был создан и в Беркли.
Семьсот человек было арестовано тогда, в декабре
1964 года, а в мае 1965 года в так называемых тин-инз,
политических дискуссиях, продолжавшихся без
перерывов днем и ночью, участвовало уже 10 тысяч студентов.
Кстати, именно в Беркли и был снят фильм «Сыновья и
дочери», и молодые люди, которых мы видели на
экране,— это «ветераны» берклийского движения.
1 сЖурналист», 1967, Λ? 9.
220
Можно представить изумление властей, когда
обнаружилось, что среди 700 арестованных студентов и
аспирантов находятся самые одаренные учащиеся, те, которые
считались гордостью и надеждой университета. Это
обстоятельство сыграло немаловажную роль в том, что власти
пошли на попятный.
С тех пор не одна волна студенческих волнений
прокатилась по всем высшим учебным заведениям США;
кое-где, как, например, в Колумбийском и Кентском
университетах, события приобретали еще более острый
характер, но Беркли по-прежнему идет впереди всех.
Участники событий середины 60-х годов повзрослели, обзавелись
семьями, учеными званиями, а некоторые — и личным
бизнесом. Я не знаю, кто из них принимает участие в
деятельности Компартии, хотя слышал и о таких, и кто
ограничился мелкими общественными делами, а кто и вообще
замкнулся в кругу своей семьи. Но я видел берклийцев —
участников демонстраций и схваток с полицией, которые
и спустя семь лет полны юношеского задора, по-прежнему
непримиримо настроены к американской действительности,
которые мыслят и говорят возвышенно и благородно.
И читал, что Марио Савио пытался продолжать
общественную деятельность, выдвинув свою кандидатуру на
выборах в органы штата от левых сил — и, конечно, не
прошел. (Мне рассказали, что жизнь его сложилась трудно.
Власти штата лишили его возможности закончить высшее
образование. Попытка продолжить учебу в Англии не
удалась из-за отсутствия средств. Марио ныне работает в
мелкой мастерской, производящей упаковочные средства.
Новое поколение берклийцев уже забыло, что значило это
имя — Марио Савио — в середине 60-х годов.)
На смену застрельщикам пришло новое поколение
студентов, которые — такова закономерность быстролетяще-
го времени и юношеской горячности — посматривают на
них, зачинателей, с определенным недоверием,— ведь им,
зачинателям, уже тридцать лет, а они сами устами своего
вожака Марио Савио некогда заявили, что даже
тридцатилетние не должны вмешиваться в молодежное
движение, поскольку тридцатилетние заражены конформизмом
и лишь самые молодые способны без сожаления
разрушать все обветшавшее и изжившее себя...
«Молодые» берклийцы ни в чем не уступают
«старикам». По-прежнему Окленд, отправляющий во Вьетнам
транспорты с оружием, под пристальным их вниманием,
221
по-прежнему там не прекращаются демонстрации — то
буйные, кончающиеся рукопашными схватками с
полицией, пускающей в ход дубинки и слезоточивые газы, как
это было, к примеру, 17 октября 1967 года, то мирные,
с цветами и песнями, как на рождество 1968 года,
которая, однако, закончилась тем, что полиция арестовала
230 участников, державших в руках маргаритки. 25
октября 1968 года сотни полицейских вновь были брошены на
штурм Беркли. Разрушив с помощью таранов
студенческие баррикады, они арестовали 174 юноши и 26 девушек.
Причина бунта — отказ властей университета разрешить
негру Элдриджу Кливеру читать лекции о расовой
политике в США. В начале 1969 года телеграф принес
сообщения о новой волне непрекращающегося мятежа. Зимой
1969/70 года название Беркли не сходило со страниц
газет.
«Первокурсники Беркли отличаются от национальных
норм» *,— констатируют социологи. Берклийцы
проявляют вдвое больший интерес к социальным наукам, чем
студенты других университетов в стране; зато лишь
3,3 процента из первокурсников 1967 года проявили
интерес к профессии бизнесмена, в то время как «норма»
достигает почти 10 процентов2. Среди тех же
первокурсников 32,2 процента на вопрос о религиозной
принадлежности объявили себя неверующими, «норма»—10,2
процента. И так во всем. Там почти вдвое больше «нормы»
учится негров, там больше, чем где-либо, еще учится
девушек ив 15 раз больше людей из стран Востока
(вплоть до того, что первокурсницы Беркли обгоняют
своих коллег из других университетов в знании секретов
приготовления сухого мартини). Молодых берклийцев
отличают высокая политическая активность и
идеалистические стремления посвятить жизнь «помощи другим
людям в их трудностях». Кстати отметить, «Корпус мира»
поначалу был встречей η Беркли с большим вниманием.
И именно в Беркли в начале 1968 года родился план
преобразования американских пустынь — план этакой
«американской целины». Молодежь Беркли явно ищет
настоящего дела!
Цифры — вещь убедительная. Но —по журналистской
что ли привычке? — мне всегда интересно увидеть или хотя
1 «"Ни; Daily California!!», 1968, January 10.
2 Все данные по «The Daily Californian», 1968, January 10.
222
бы почувствовать людей, скрывающихся за этими
цифрами. Для этого был и повод.
...30 декабря 1967 года «Комсомольская правда»
напечатала анкету и ответы нескольких человек на нее,
характеризующие нашу молодежь. Вопросы этой анкеты
впервые прозвучали в фильме-диспуте студентов Института
кинематографии и были подхвачены и дополнены
читателями «Комсомольской правды». Эту-то газету я и послал
в Беркли с просьбой задать тамошним студентам те же
самые вопросы. Не для того чтобы потом сравнивать —
сравнение нескольких анкет ничего не дает, оно, как
говорят социологи, непрезентативно. Просто вопросы эти
были необычные: какие-то очень дружественные и теплые,
словно приготовленные для застольной беседы.
Любопытно было посмотреть, как будут на них отвечать молодые
берклийцы. В Беркли вопросы были чуть изменены и
изменен их порядок,— впрочем, изменения эти не
существенны. Научность полученных ответов равна, наверное,
нулю, но по-человечески они очень любопытны.
Пользуясь случаем, я хотел бы выразить свою
признательность мисс Лауре Шоу-Мурра» занимавшейся этим
неблагодарным трудом.
Итак, вопросы:
1. Каково твое представление о счастье?
2. Удовлетворен ли ты жизнью?
3. А собой?
4. Достиг ли того, к чему ты стремишься?
5. Каким человеком ты хочешь стать?
6. Какой период своей жизни ты считаешь счастливым?
7. В какое время и где ты хотел бы жить?
8. Что тебя пугает в жизни?
9. Какое качество ты ценишь в людях и хочешь
приобрести?
10. Как ты оцениваешь старшее поколение и кто из
людей этого поколения нравится тебе?
И. Будет ли твоя жизнь лучше, чем у твоих родителей?
12. Прислушиваешься ли ты к советам? Чьим?
13. Допускаешь ли ты жизнь без принципов?
14. Считаешь ли ты, что достиг умственной зрелости?
15. Пожаловался ли бы ты старшим на обманувшего
тебя человека? Какие черты характера окружающих
беспокоят тебя?
16. Что бы ты сделал, получив небольшое и что —
получив неограниченное количество денег?
223
17. Что ты обычно читаешь?
18. Кто твой любимый писатель?
19. Как часто ты ходишь в кино и театр? Что делаешь
в свободное время?
20. Какую музыку любишь?
21. Как ты представляешь будущее? Свое? Страны?
Мира?
22. Кто твои друзья и кто враги?
23. Каким будет твой муж (жена)? Что ты думаешь о
любви?
Вот несколько ответов на эту анкету, ответов,
выбранных по одному лишь признаку — возрастному. То, что все
отвечающие — девушки, объясняется уже отмеченным
нами тем обстоятельством, что американские женщины, как
правило, духовнее, тоньше и эрудированнее «сильного
пола». Никто из отвечающих не знал, для каких целей
собираются анкеты, кем составлены вопросы и, тем более,
даже подумать не мог, что они каким-нибудь образом
попадут в Москву.
Итак, ответы. Студентка А. семнадцати лет пишет:
«1. Счастлив тот, кто знает, в чем его недостатки и
достоинства, и принимает их как должное.
2. Я не вполне удовлетворена жизнью. Я хотела бы,
чтобы люди беспокоились друг о друге больше, чем о
самих себе. Я хотела бы, чтобы между людьми было
больше доверия.
3. Я не очень удовлетворена собой. Я нерешительна и
недовольна этим.
4. Я не удовлетворена тем, что мною достигнуто,
потому что все это состоит в образовании, а оно, по-моему,
служит сугубо личным целям. Когда я начну работать и
смогу повседневно помогать кому-нибудь в
содержательном деле, тогда я буду считать, что достигла чего-то
стоящего.
5. Я хотела бы быть такой, как Мэри из «Звуков
музыки» (фильм-мюзикл режиссера Роберта Уайза,
сделанный им в 1964 году, вскоре после «Вестсайдской истории»,
фильм не более чем средний.— Р. С). Она была
сердечной, умной, полной любви к людям и умела быть
счастливой, довольствуясь малым.
6. Пока самый счастливый период в моей жизни
относится к 1966 году, когда я училась в средней школе. В то
время я познакомилась с одним изумительным человеком,
который помог мне узнать, какой прекрасной может быть
224
дружба. Мы удивительно хорошо проводили время, и я
поняла, что хороший друг —это больше, чем любимый.
7. Я хотела бы жить в Новом Орлеане между 1890 и
1915 годами.
8. Более всего я боюсь знакомиться с людьми, потому
что из-за своего необычного имени всегда бываю в
замешательстве в первый момент.
9. Личное качество, которым я хотела бы овладеть,
это сила воли.
10. Я думаю, что поколение наших родителей имеет
много замечательных и достойных внимания качеств. Они
сделали нашу страну сильной, а жизнь в ней удобной, как
нигде и никогда прежде. У старых людей есть, конечно,
свои проблемы. Я чувствую, что они имеют слишком
узкие представления о некоторых вещах; кроме того,
многие из них не обладают развитым умом.
11. Я думаю, что моя жизнь будет много легче, чем
у моих родителей, потому что я надеюсь, что больше не
будет ни депрессии, ни новой мировой войны.
12. Я прислушиваюсь к советам своей матери.
13. Я думаю, что если мы хотим жить как животные,
то в таком случае принципы нам не нужны.
14. Я не считаю, что мое развитие кончилось. Я
уверена, что должна воспринимать от других людей знания
и идеи.
15. Жаловаться старшим на мошенника я бы не
стала. Характерной же особенностью моих друзей, которая
беспокоит меня, является то, что они выглядят
равнодушными к чувствам других людей.
16. Имея 500 долларов, я сразу же купила бы билет
на самолет в Ирландию. Имея неограниченное
количество денег, я бы отдала их человеку, обладающему
талантом, чтобы он мог развить свой талант. Взамен я
попросила бы у этого человека только одного — чтобы,
добившись успеха, он помог другому, такому же, как он
сам.
17. Я бегло просматриваю газету каждый день. Если
вижу интересный заголовок, то читаю эту статью.
18. Я читаю в среднем четыре или пять книг в месяц,
любимого автора у меня нет.
19. Я хожу в кино по меньшей мере раз в месяц: в
театре не бываю; у телевизора провожу 2—3 часа каждый
вечер. В часы отдыха люблю слушать музыку.
20. Моя любимая музыка — негритянские блюзы.
12 Р. Соболев
225
21. О своей жизни — я вижу себя замужем, но
надеюсь, что это случится лет через десять или около того.
О стране — США, наверное, еще много лет будут
сохранять свое могущество, но потом начнется упадок и
возвысятся Канада или Австралия. О мире —я ничего не
вижу страшного в будущем, хотя степень могущества,
агрессивности, богатства и т. д. различных стран может
измениться.
22. Я живу на земле, которая не может похвастаться
избытком разума. Но я постараюсь сделать свою жизнь
разумной, насколько это в моих силах. В настоящее
время я не имею личного друга. Если он у меня появится,
то это будет человек, который любит людей и которому
интересно то, что интересно мне (плюс его собственные
интересы), и он будет, возможно, на несколько лет
старше меня.
23. Человек, за которого я выйду замуж, будет
сердечный, любящий, интересный и удачливый».
Ответы А. наиболее точно соответствуют вопросам.
В ответах ее коллег порой чувствуется желание не
раскрываться до конца, спрятаться за шуткой или за
общими словами — обычное явление, хорошо известное
всем социологам. В анкете студентки У. К-, двадцати лет,
уже есть это нежелание выговариваться до конца во
всем.
«1. Счастье — это уверенность в себе и в
правильности того, что ты делаешь.
2. Да.
3. Чаще всего — да.
4. Я полагаю, что в учебе могла бы достигнуть
большего, но вообще достигнутым удовлетворена.
5. В идеале мне хотелось бы стать хорошо
устроенной, широко мыслящей мамой (речь о будущем).
(«Хорошо устроенной» — приблизительный перевод; У. К.
хочет сказать, очевидно, что хотела бы стать «мамой»
респектабельной, «мамой», каких рисуют рекламные
проспекты.— Р. С.)
6. Я счастлива тогда, когда мои отношения с людьми
гармоничны и при этом один человек становится
особенно близким.
7. Мне нравится жить сейчас, и события
современности очень привлекательны для меня.
8. Я больше всего боюсь оставаться одна на большой
пустынной площади.
22G
9. Я очень хотела бы обладать личной терпимостью
и располагать к себе как можно больше людей.
10. Я ничего не имею против старшего поколения,
если оно дает молодому возможность идти своей
дорогой; наиболее интересные люди из старшего поколения
те, которые с энтузиазмом отдаются какому-нибудь делу,
которое стоит затраченного труда.
11. Моя жизнь, наверное, пройдет так же, как у моих
родителей, не легче и не труднее.
12. Я обращаюсь за советом чуть ли не к любому,
если возможно, но прежде всего к людям, которые
непосредственно связаны с моими проблемами, или к людям,
которые хорошо меня знают.
13. Нет, для меня жизнь без принципов и честности
невозможна. Для других людей возможна, думаю.
14. Я не думаю, что полностью использовала свою
способность к самостоятельному мышлению.
15. Я не жалуюсь, когда обманываюсь. Меня волнует,
когда я думаю, что мои друзья мучаются из-за проблем,
которые не имеют решения...
16. Если бы я имела 500 долларов, я бы берегла их
на будущее. Если бы я имела неограниченное количество
денег, я бы пошла и купила автомобиль, магнитофон и
сберегла бы остаток для путешествий.
17. В основном я читаю 1—2 газеты в день.
18. За последние шесть месяцев я прочитала 50 книг.
У меня нет любимого писателя.
19. Хожу в кино обычно раз в три месяца; в театр —
раз в месяц, телевизор смотрю изредка. В свободное
время я беседую с друзьями, гуляю, бываю в гостях.
20. Я люблю всякую музыку.
21. Не хочу всматриваться в будущее мира и т. д.
далее завтрашнего дня.
22. Моими друзьями являются люди, которых я
нахожу интересными и знающими. Мои враги неизвестны
мне, хотя они знают, кто я такая. Мой будущий супруг
представляется мне любящим, полным энтузиазма.
23. Выражение «умение любить» кажется мне таким
же бессмысленным, как и «умение жить». Нужны силы
и желание, вот и все».
И еще одна анкета — студентки Л. С, двадцати
одного года.
«1. Я определила бы счастье как удовлетворение
жизнью и как чувство найденного места в окружающем
12*
227
тебя мире, каким бы оно ни было — значительным или
незаметным. Личное счастье — это ощущение личного
причастия к миру, это способность видеть плохое там, где
оно есть, не теряя в то же время способности видеть и все
хорошее.
2. Я пока не удовлетворена жизнью, потому что
фактически еще не жила (речь идет не о просто
существовании); я удовлетворена тем, что могу видеть
открывающиеся передо мной возможности, хотя и не вполне
уверена, что сумею стопроцентно использовать эти
возможности.
3. Я удовлетворена собой в той мере, в какой я делаю
то, что, по своему убеждению, должна делать;
положителен факт, что я более или менее научилась давать себе
самооценку, но я ощущаю неудовлетворение из-за той
неуверенности, с какой я разрешаю свои конфликты и
устанавливаю личные связи с окружающими меня
людьми.
4. Я удовлетворена достигнутым, но я медленно
преодолеваю очевидные конфликты, возникающие в моей
эмоциональной жизни.
5. В идеале я хотела бы вырасти в человека
знающего, одного из тех, кто обладает гуманизмом и может
видеть людей глубже их мелкой суеты.
6. С того момента как я помню себя, именно сейчас
я счастлива, потому что всего год назад я прошла через
полосу больших трудностей. Но я больше надеюсь на
будущее, которое должно быть счастливее, чем моя
жизнь сейчас и в прошлом.
7. Я по-разному воспринимаю наше время; часто я
ощущаю гордость от того, что я — частица поколения,
которое сегодня выдвигается вперед, но иногда мысли
о будущности мира угнетают меня, рождают пессимизм.
Мысль о том, что может произойти с миром на
протяжении моей жизни,— порой внушает страх. Но я никогда
не испытывала желания принадлежать к какому-нибудь
другому поколению.
8. Больше всего я боюсь насильственных действий,
одинаково боюсь быть и жертвой насилия и свидетелем
его, какими мы все так или иначе стали сегодня.
9. Я больше всего хотела бы овладеть безграничной
способностью сохранять хладнокровие, чтобы всегда
контролировать свои действия и ясно видеть то, что
происходит вокруг меня.
228
10. Я думаю, что поколение наших отцов настолько
строго ограничивало себя в интересах благосостояния,
что стало обывательским; они слишком долго пребывали
в неподвижности на одном месте, так что уже не видят
динамизм процессов, происходящих вокруг них. Наиболее
примечательны из старых людей те, кто горел огнем
радикализма в юности, а сейчас утратил идеализм и
приобрел взамен цинизм.
11. Оттого что наши родители пережили в молодости
период депрессии, их жизнь была много труднее, чем
наша сейчас. Я рассчитываю добиться большего, чем они
когда-то,— в этом отношении мне предстоит решать
более трудные задачи, чем решали они.
12. Очень мало людей, советам которых я доверяю,
потому что я понимаю, что их и мой жизненный опыт
настолько разные, что их советы просто не годятся мне.
Я могу полагаться только на своего друга и на
приятельниц, чье жизненное положение сходно с моим.
13. Невозможно жить без принципов, но можно
существовать, обходясь без них.
14. Я научилась критически думать, но это не
означает, что я всегда поступаю разумно.
15. Нет; я просто смотрю укоризненно, когда вижу,
что друг избрал, по моему разумению, неправедный путь,
даю ему понять, что я не одобряю его. Меня беспокоит,
когда мои друзья пасуют при столкновениях с
неизвестностью— это ослабляет их и без того недостаточную
уверенность в своих силах.
16. Если бы я выиграла умеренную сумму денег, то
я использовала бы их для запланированной поездки за
границу, но, может быть, я сохранила бы их для
продолжения образования или будущей семейной жизни. Если
бы я получила неограниченное количество денег, то я,
возможно, наделала бы сумасшедших поступков,—
лучшее, что тут можно было бы сделать, это отдать их тем
людям, кто действительно беден.
17. Я почти ежедневно читаю университетскую
газету, но почти никогда городскую, потому что считаю
неосведомленность о каких-либо событиях — это лучше, чем
знания ложные; кроме того, чтение газет всегда очень
тревожит меня.
18. Я читаю много книг, необходимых для знаний, но
очень редко — ради удовольствия. В настоящее время у
меня нет любимого писателя.
229
19. Сейчас я хожу в кино только раз или два π
месяц, но обычно хожу чаще; в театре бываю изредка;
телевизор смотрю только дома, приезжая на каникулы.
В свободное время люблю шить.
20. Мне доставляет громадное наслаждение
классическая музыка и все более начинает нравиться джаз.
Я также люблю народную музыку и музыку индейцев.
21. Я могу видеть свое собственное будущее лет на
40 вперед; принятый моей страной курс сокращает время
ее существования, и я все меньше и меньше связываю
свое будущее с будущим своей страны. Я не могу
вообразить, каким станет мир после 2000 года.
22—23. а) Мои друзья те, кому я верю и в чьей
поддержке не сомневаюсь.
б) Мои враги — плод моих представлений.
в) Мне не нужно представлять своего мужа — он
всегда со мной рядом.
г) «Умение любить» — это способность принимать
другого человека таким, каков он есть».
Пожалуй, достаточно. Хотя не все ответы
выдерживают строгую критику, они безусловно свидетельствуют
о высокой способности к самоанализу и критическом
отношении к действительности у этих, в сущности, очень
юных девушек.
Обращает внимание то, что никто из этих девушек
не имеет любимого писателя, хотя каждая много читает,
много больше, чем читают молодые и пожилые люди в
Америке. Очевидно, прежние «властители дум» устарели,
а новые — не появились.
Останавливает внимание и дружное отрицание
«отцов»: даже семнадцатилетняя девушка, пользующаяся
еще советами матери, убеждена, что старшее поколение
умственно недоразвито. Отношение к «отцам» лишено и
тени бунта,— «отцы» спокойно и снисходительно
отрицаются; их прошлые заслуги и особенно трудности
констатируются, но они сегодня никому и ни для чего не
нужны. Что думают «отцы» — молодежь не интересует.
В отношении к деньгам берклийки отличаются от
«общих норм». «Шпигель» приводил данные опроса
среди западногерманской молодежи. На вопрос: «Что бы
вы стали делать, если бы вам на голову свалилось 30
тысяч марок?» — две трети опрошенных ответили одним
словом: «Беречь». А на вопрос о тысяче марок 36
процентов ответили, что «хотели бы положить их в банк»,
230
a 19 процентов — «отложить на приобретение приданого.
Просто промотать деньги не захотел никто» К
Эти три анкеты представляют не активистов,
разумеется, а самых что ни на есть рядовых студенток. Но в
Беркли есть люди и посильнее — те, кто организует
демонстрации, кто руководит демонстрациями, прячет
дезертиров, принимает первые удары полицейских
дубинок. «Молодыми волками» называет буржуазная пресса
таких студентов. Это название сегодня стало расхожим,
но родилось оно в репортажах о первых волнениях в
Беркли. В этом названии есть и уважение, в нем звучит
и определенный страх.
Кто расскажет о бурных 60-х годах американской
молодежи? Пример «Выпускника» показывает, что
Голливуд способен в лучшем случае лишь на полуправду.
Энтузиасты так называемого подпольного кино утонули
в сексуальной тематике и тратят свой пыл на защиту
гомосексуалистов. Те документальные ленты, что
снимают сами студенты во время событий, не выходят за
пределы комнатных экранов. Между тем история 60-х
годов драматична и увлекательна даже в изложении
социологов, совсем не стремящихся к занимательности.
Рассказывая об участниках летнего похода на Юг
в 1964 году, один из американских публицистов писал:
«Они не похожи на мучеников из книг по истории,
встречающих смерть с молчаливым стоицизмом; молодые
парни иногда кричат, когда их избивают, девочки могут
расплакаться, когда над ними издеваются в тюрьме. Но
чаще они поют... Еще никогда не было такого поющего
движения, как это». Казалось бы, что такое — песня?
Против дубинок полицейских, карабинов национальной
гвардии, слезоточивых газов, ярости обывателей? Но
ведь Юг сегодня в значительной мере десегрегирован.
И в этом есть заслуга и песни.
Вот что заявил корреспонденту «Лайф» в апреле
1968 года известный английский историк А. Тойнби по
поводу впечатлений от шестнадцатого на протяжении
сорока лет посещения Соединенных Штатов: «За два
года, прошедшие с тех пор (с предыдущего визита в
1966 году.— Р. С), в Америке произошло больше
перемен, чем за предыдущие сорок лет. Люди показались мне
встревоженными и растерянными, даже несчастными.
1 «Der Spiegel», 1967, Ν 41.
231
Причиной тому является не только вьетнамская война,
но также бунт молодежи, которая все более открыто и
резко восстает против старших. Подобные вещи нельзя
было себе представить не только в 1925-м, но даже в
1945 году, и для многих моих американских друзей это
было жестоким ударом. Долгие годы Америка
наслаждалась ложным чувством безопасности, она опьянела от
успехов — теперь все это рушится... Я встречался с
американскими студентами. Их не удовлетворяет их
собственный образ жизни, не удовлетворяют жизненные цели
родителей. Я неоднократно констатировал, что молодежь
в Америке с отвращением говорит о идеалах своих
родителей. Пожалуй, «отвращение» — даже недостаточно
сильное слово. Правильнее сказать: полное отрицание...»
Говоря о том, что война во Вьетнаме обострила
кризис, «сфокусировала недовольство», Тойнби добавляет:
«Я думаю, неудовлетворенность была бы, даже если бы
не было ни войны, ни призыва». И заключает свое
интервью надеждой на скорое прекращение войны, ибо в
случае дальнейшей эскалации Соединенные Штаты
ожидают «повторение маккартизма» и «жесткий
диктаторский режим».
Движение за прекращение войны во Вьетнаме во
многом определяется силами студенческой молодежи.
Формы этой борьбы самые различные — от демонстраций
и сжигания призывных повесток до представления
дезертирам убежища в коммунах хиппи и использования
богатыми студентами своих средств для ангажирования
самых ловких адвокатов для защиты отказывающихся от
службы призывников и даже подкупа властей,
преследующих таких призывников.
Число студентов в США резко увеличилось прежде
всего в интересах большого бизнеса. Но снова парадокс:
«Представители монополий жалуются,— пишет
американский журналист Гарри Фримен,— что очень трудно
найти выпускников, согласных работать в их оффисах...
Они (выпускники.— Р. С.) считают, что «деловая
деятельность неинтересна, что там все сводится к
стяжательству, приспособленчеству, эгоцентризму...
Переубедить их нам не удалось»1. Молодые люди стали
получать образование «для себя»,— в Америке возможно и
такое. Более того, все в том же беспокойном Беркли на-
1 «Известиям 1968, 1 января.
232
чалось движение за получение знаний вне официальных
рамок. Юноши и девушки группируются по интересам и
составляют сами учебные программы и приглашают
преподавателей по собственному выбору, оплачивая
лекторов (немногих, большинство читает им лекции и ведет
семинары бесплатно) из средств, предоставляемых
зажиточными и работающими «вольными студентами».
Мне рассказывали, что хотя у «вольных студентов» нет
ни зачетов, ни экзаменов и никто им дипломов не
выдает, они учатся очень усердно и получают весьма
солидные знания. Правда, это в основном гуманитарные
знания, и хотя в них делается упор на социальные
науки, немалое место в них занимают разного рода
поверхностные теорийки, злободневные, но не выдерживающие
серьезной критики идеи, модернистские и
восточно-мистические течения мысли. Обозреватель «Известий»
В. Матвеев однажды рассказал о своей беседе в Беркли
с преподавательницей курса «Жизнь в диких условиях».
Девушка заявила, что «жизнь в городах становится все
более невыносимой, нездоровой, угрожающей, а потому
надо уходить в леса, в горы, чтобы обходиться там
минимумом необходимого, рано вставать, совершать
длинные пешие переходы.
— Насколько длинные?
— Порядка пяти-семи миль (семь-десять
километров).
— Разве это много?
— Для нас да, ведь мы привыкли передвигаться
больше на машинах, чем пешком...»1.
Это может показаться смешным. Однако Америка
лишь поначалу восхищает каждого неамериканца тем,
как насыщен там быт всевозможной техникой. Сделано,
кажется, все возможное, чтобы облегчить жизнь
человека, а люди проклинают эту технику, они уже боятся
ее. Эти жалобы чаще всего выслушиваются вне
Америки с недоверием. Нужно, наверное, пожить там или
близко познакомиться с американцами, чтобы понять
бесчеловечность американского сервиса и подлинный трагизм
жалоб американцев на свою блистательную технику.
Удивляет, правда, то, что американцы — даже блестяще
образованные, мыслящие свободно и объективно — видят
причину всех своих бед только в технике.
1 «Известия», 1968, 5 июня.
233
В силу целого ряда обстоятельств американские
студенты оказались в числе самых активных протестантов
среди молодежи капиталистических стран. Но
студенческое движение стало неотъемлемой частью политической
жизни и Франции, и ФРГ, и Японии, и Англии, и многих
других капиталистических государств. Пока, думается,
главное значение студенческого движения в мире состоит
в том, что оно разрушает обветшавшие мифы, ставит
назревшие проблемы и, наконец, пробуждает сознание
всей молодежи. Будущее этого движения зависит от того,
сможет ли оно найти пути к марксизму, ныне либо
отвергаемому, либо — что еще хуже! — злостно
искажаемому некоторыми из студенческих лидеров. В этом
отношении особенно сложной была обстановка в США. Но
уже в 1966 году Генеральный секретарь Компартии США
Гэс Холл сказал: «Сейчас наша партия становится
влиятельной силой, она растет и приобретает особую
популярность среди молодых людей... Мы гордимся тем, что
сегодня в партии много молодежи... Собрания студентов
и выступления перед ними стали важной областью
деятельности Коммунистической партии, потому что на этих
собраниях молодежь решает сама, кого хочет слушать и
кого нет... Мы, наиболее популярные ораторы в наших
колледжах, можем поспорить с любым политическим
деятелем. Я выступал во многих колледжах и должен
сказать, что аудитория была в десять раз больше, чем
аудитория, перед которой выступал Голдуотер»1.
Все это закономерно, потому что логика борьбы
толкает студентов на осмысление сути и целей борьбы.
И, даже выступая поначалу только с требованием
улучшения системы образования, молодежь не может не
подходить к пониманию того, что и их узкостуденческие
требования могут быть удовлетворены лишь через
борьбу, как указывал В. И. Ленин, «не за академическую
(студенческую) только свободу, а за свободу всего
народа, за политическую свободу»2.
Жизнь дает множество примеров такого понимания.
Так, Марио Савио в уже цитированной статье,
перечисляя причины, сделавшие Беркли очагом студенческого
движения протеста, подчеркивает роль участия
студентов «в движении за гражданские права — как на Побе-
1 «Мзвеггии», 1966, 14 октября.
2 В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 370.
234
режье, так и на Юге» и значение переплетения
студенческих требований («внутренние проблемы», по
определению М. Савио) с требованиями политическими
(«внешние проблемы»).
Таковы факты, ничуть, впрочем, не противоречащие
убеждению большинства объективных наблюдателей в
том, что пути американских студентов к истине будут
весьма и весьма извилистыми. Сегодня они ищут, надо
признать, в довольно-таки обширном диапазоне — от
поучений древнеиндийской Веды до откровений Маркузе,
проживающего, кстати, неподалеку от Беркли; от
«возрождения» через секс до «забвения» с помощью
марихуаны. Очевидно, цена поисков будет высока — жизни и
изломанные судьбы молодежи. Трудность поисков
усиливается тем, что американский философ Г.-Л. Парсонс
определяет как «антиинтеллектуализм» всей
американской культуры. «Антиинтеллектуализм» не изменился,—
пишет он,— и в результате того, что ориентация на
«делание» сменилась в американской культуре последнего
времени ориентацией на потребление и удовольствия
(смена прагматизма гедонизмом.— Р. С). В известной
мере он даже усилился. Об этом достаточно ярко
свидетельствует протест современного поколения против
ограничений, дисциплины и критериев удовольствия
прошлых поколений, который выражается в стремлении
искать удовольствия непосредственно и бездумно:
импульсивные уходы из высшей школы, ранние браки,
безрассудные траты, необдуманные выборы карьеры и
почти отсутствие планирования личной и общественной
жизни» х. Но поиск ничто не остановит,— это очевидно.
Накануне вступления США в первую мировую войну
Бертран Рассел писал в нью-йоркском журнале «Мас-
сис»: «Сейчас последняя надежда — на молодежь. Пусть
она отстоит для будущего право человека разобраться,
где добро и где зло, и самому быть судьей своих
поступков»2. Знают ли берклийцы этот призыв философа? Во
всяком случае, они почти дословно повторяют его.
1 «Вопросы философии», 1968, № б, стр. 101.
2 Цит. по кн.: Р. Роллан, Собрание сочинений в 14-ти томах,
т. 14, стр. 385.
IX
Жажда действия
Весной и летом 1968 года по странам Запада
прокатилась волна студенческих волнений и бунтов. Такого
мир еще не видал, и, надо сказать, мир несколько
растерялся.
О событиях 1968 года уже написано множество
статей и книг — со всех мыслимых позиций и под самыми
разными углами зрения. Были произнесены и пугающие
слова: «революция молодежи», и стариковски-желчные:
«хулиганские выходки бездельников». Но для большей
части буржуазной прессы было характерно признание
права молодежи на протест и даже требование дать ей
более широкие возможности для участия в
политических и государственных делах. Столь явное заигрывание
с молодежью буржуазной прессы нельзя расценить
иначе, как тонкий политический ход, объясняемый
различными причинами и преследующий многие цели.
Можно по-разному оценивать студенческие бунты,
тем более что они и были разными повсюду: явственно
политические по характеру, например, во Франции и
Испании и до неправдоподобия инфантильные кое-где в
Англии, порой сводившиеся к требованию «открытых
дверей» в мужских общежитиях для девиц и «свободы»
пользования наркотиками. Бесполезно, конечно, делать
вид, что эти волнения нечто незначительное,— напротив,
это знамение времени, и, наверное, в 70-х годах
движение протеста в студенческой среде будет нарастать, во
всяком случае, студенческие организации могут стать в
ближайшем будущем весьма ощутимой общественной
236
силой. Но вряд ли есть основания думать, что это некое
начало «революции молодых».
Студенты лишь там сумели добиться уступок, где
назрели объективные условия для общественных
преобразований, где ситуация сложилась таким образом, что
власти,— подавив так или иначе, силой или обещаниями
реформ, беспорядки,— не могли уже управлять
по-старому. Там же, где правители считали возможным
оставить все по-старому, они без долгих размышлений
восстанавливали status quo, без труда справляясь с
любыми формами студенческих протестов,— так было, в
частности, и в США, и в ФРГ, и в Испании, и во многих
других странах. Лишь во Франции дело обстояло
несколько иначе, но о Франции — особая речь.
Студенческие волнения вовсе не означали «начало
революции»,— это нужно констатировать, чтобы больше
не касаться этих громких, однако лишь затемняющих
суть явлений слов. Но бесспорно то, что перед нами
нечто принципиально новое, требующее внимания и
спокойного анализа. Не случайно в последние годы ни один
съезд коммунистических партий развитых
капиталистических стран не проходил без обсуждения проблем
студенческого движения как отдельного вопроса повестки
дня. В резолюциях XVIII Национального съезда
Компартии США есть, например, отдельный пункт о работе
в колледжах и средней школе; специальные параграфы
и разделы можно увидеть и в документах европейских
компартий. Луиджи Лонго в статье «Студенческое
движение в борьбе против капитализма» писал: «Не следует
забывать о том, что на одном из наших последних
съездов мы впервые указали в заключительной резолюции,
что передовая интеллигенция — это одна из движущих
сил революции в Италии. Совершенно очевидно, что
именно в рядах студенчества сложится новое поколение
передовой интеллигенции: об этом свидетельствуют
широта, размах, сила, которые в настоящее время
приобрело студенческое движение» 1.
Учащаяся молодежь занимает особое место в
обществе сегодня, и ее значение благодаря
научно-технической революции беспрерывно возрастает,— таково
первое, простейшее объяснение того внимания, которое
проявляют к ней партии и все общественные силы Запада.
1 «Rinascita», 1968, Mayo 3.
237
Есть общие черты в движении студентов разных стран
света, общие, равно всех волнующие причины. Но,
может быть, важнее всего знать то, что, к примеру,
волнует только японских студентов и что заставляет
беспрерывно бунтовать только испанских студентов. Хотя
повсюду в капиталистических странах большинство
студентов составляют дети буржуазии и буржуазной
интеллигенции (выходцы из среды рабочего класса
составляют едва ли 10 процентов учащихся высшей школы), эта
сравнительная однородность классового состава
студенчества ничуть не приводит к однородности мотивов
движения в разных странах.
Однако без изучения общих причин недовольства не
обойдешься, и если говорить о них, то здесь прежде
всего надо указать на осознание молодежью духовной
нищеты того образа жизни, который буржуазия выдает
за идеальный. Не будет никакого преувеличения, если
сказать, что за идеальное общество сегодня выдается
все то же общество потребителей. Однако общество
потребителей пугает молодежь,— об этом рассказывают
фильмы, об этом пишут газетчики. Об этом пишут и
ученые, не отличающиеся радикализмом взглядов. Так,
экономист Э. Лиль завершает свою статью «Суд над
обществом потребления» в респектабельной буржуазной
«Монд» утверждением, что основной порок этого
общества— «отсутствие идеала»1. Г. Кан, восхищаясь тем
изобилием, которое ожидает людей в
«постиндустриальном обществе» и которого прежде всего достигнут
американцы, в то же время предупреждает: поскольку, мол,
нужда перестанет быть «движущей причиной», постольку
«самой серьезной проблемой для Соединенных Штатов
и других ведущих стран в последнюю треть этого века
будут поиски цели и смысла жизни, ответа на вопрос:
«зачем все это?»2
Другая общая причина сформулирована покойным
американским экономистом Дж. Вудушем:
«...образование не создает рабочие места». Будущее многих
молодых людей, получающих образование,— тревожно, хотя
сегодня потребность в специалистах, например, в США,
и очень велика. Эта тревога имеет разные оттенки—от
примитивного страха перед избытком людей с соответ-
1 «Mond», 1968, Septembre 27.
2 «Business week», 1967, March 11.
238
ствующим образованием до более сложного страха
перед бесперспективностью будущего. Член ЦК
Французской компартии Ги Гесса, анализируя майские события,
писал: «...в основе студенческого недовольства таится
страх перед будущим. Этот страх является законной
реакцией на то, что ожидает массу людей, получивших
образование, которые обречены на то, чтобы выполнять
узкоспециализированные задачи, привязывающие их к
структуре, которую им придется терпеть, как терпят
судьбу, без перспективы обновления и
переквалификации» х. И Ги Гесса и многие другие обозреватели
отметили, что, хотя французская высшая школа носит
сегрегационный характер, оставаясь трудно доступной для
молодежи из эксплуатируемых классов, характер
образования в ней таков, что большинство оканчивающих ее
людей лишено надежд на активную роль в обществе.
Это происходит из-за отсталой системы образования —
буржуазия не заинтересована в формировании
поколения, способного решать проблемы, поставленные новой
действительностью.
Молодежь на Западе, особенно учащаяся молодежь,
перестает быть «потерянной» и «равнодушной», как ее
охотно называли лет семь назад. И хотя цели
начатой ею борьбы очень туманны, наблюдатели дружно
отмечают политическую и организационную активизацию
молодежи. Так, «Дейли мейл» писала в редакционной
статье «Студенческий бунт в Англии»: «Среди 360 тысяч
студентов Англии насаждается мятежный дух с одной
определенной целью: превратить аполитичный
Национальный союз студентов в левую политическую силу...
Здесь происходит то же самое, что происходило в
Беркли. Студенты начинают понимать, что они имеют право
говорить сами за себя»2. Это суждение о самых
«мирных» студентах Западной Европы!
Наиболее значительным из всех студенческих
волнений 1968 года было подлинное восстание парижских
студентов— с захватом общественных зданий, с
рукопашными схватками с полицией, жертвами и эксцессами.
Майские события во Франции выявили и силу и
слабость студентов, поддержанных забастовкой 9
миллионов трудящихся. В течение нескольких недель вся жизнь
1 «Daily Mail», 1968, February 3.
2 «France nouvelle», 1968, Août 7.
239
Франции была парализована. Но и это не было
«началом революции». Член Политбюро ЦК ФКП Поль
Лоран, размышляя о майских событиях, заметил:
«...понимать возможности подъема демократического
движения в ходе борьбы за удовлетворение требований
трудящихся — это одно. Отождествлять же эту борьбу в
целом с революционной борьбой — это по крайней мере
грубая ошибка. Хуже того, это означает систематическое
стремление извращать ее значение, вести ее к
авантюре» 1. В многочисленных статьях и выступлениях
руководителей французских коммунистов подчеркивается тот
факт, что, несмотря на размах майских событий, в
стране в этот момент отсутствовала революционная ситуация
и что задачей коммунистов было — уберечь движение от
кровавого разгрома, который неизбежно последовал бы
в случае победы левацкого курса.
Уже в ходе майских событий началась борьба за
молодежь. Компартия не льстила молодежи и не
обманывала ее, призывая к сплочению в своих молодежных
организациях. «Юманите» писала уже в ходе событий:
«Чаяния студентов и стремления рабочих совпадают»2.
Эта мысль, как можно судить, и стала
основополагающей в пропагандистской работе коммунистов. Борьба с
левыми ультра и разъяснение целей и задач партии —
это было продолжением оправдавшей себя работы среди
учащейся молодежи. Ролан Леруа еще в 1966 году в
интервью для «Юманите» говорил: «Те, кто льстит
молодежи, говоря ей иногда, что она «соль земли»,
действуют так потому, что они презирают ее. По сути дела,
они сводят роль молодежи к роли орудия, которое они
хотят использовать, чтобы укрепить и сохранить старое
общество. Коммунисты же, напротив, верят в молодежь.
Они не льстят ей и не презирают ее. Они говорят с ней
на более трудном и порой более суровом языке братства,
доверия, ответственности. Поэтому мы сожалеем, что
китайские руководители льстят молодежи, отрицая опыт и
культуру прошлого, попирают наши принципы и
интересы своей собственной молодежи. Молодежь хочет нового.
Это верно. Но нет ничего более нового в мире, чем
коммунизм, как часто говорил Морис Торез» 3.
1 «France nouvelle», 1968, Juillet 31.
2 «L'Humanité», 1968, Mai 15.
3 «L'Humanité», 1966, Octobre 25.
240
Этой четкой политической линии буржуазия
противопоставила поток писанины с руганью и восхищениями,
требованиями и советами, то всячески утишая страсти,
то раздувая их до опасного, можно сказать —
провокационного предела. Этот поток писанины преследовал во
всех вариантах одну ясную цель: увести молодежь от
революционного движения, возглавляемого Компартией,
противопоставить студентов и симпатизирующую им
интеллигенцию рабочему классу.
Лицемерное восхищение и заигрывание части
буржуазной прессы со студентами напоминают чем-то те
упования Ватикана, которые он возложил в средние века
на подростков, когда провалились все попытки отвоевать
у арабов гроб господень силой рыцарских банд.
Рассуждения прессы о том, как «гармонизирует» жизнь новое
поколение, выглядят лицемерными попытками сбить
молодежь с толку. Приписывать молодежи свойство
единственной революционной силы — что может быть
опаснее? И чем это кончится? Как известно, детский
крестовый поход окончился на работорговых рынках, сказочно
обогатив христианских и языческих торгашей...
Нужно полагать, что заигрывание буржуазии с
учащейся молодежью имеет много причин и целей. Здесь и
страх, вызванный фактом поддержки студенческого
бунта во Франции мощной стачкой пролетариата; здесь и
забота о своих чадах, ибо конфликт «отцов и детей» —
конфликтом, а все же пока абсолютное большинство
студентов в той же Франции — это дети сильных мира того;
здесь и трезвое понимание, что сегодняшние студенты
завтра станут руководителями промышленности и
решающей силой буржуазных партий. Но прежде всего
это, конечно,— политическая линия. Тот факт, что в
майских событиях принимали сверхактивное участие
разного рода левые группировки, был использован и раздут
буржуазной прессой. Выходки экстремистов оказали
неоценимую услугу режиму.
В уже цитированной статье Ги Гесса подвергнута
уничтожающей критике эта архиреволюционность левых
групп. В частности, Ги Гесса подчеркивает, что,
критикуя партию рабочего класса, студенты «присоединяют
свой голос к голосам тех, кто травит коммунистическую
партию... Они оспаривают «все», но они не доходят до
того, чтобы оспаривать свое собственное представление
об организации рабочего класса (потому что это пред-
241
ставление было им внушено). Они критикуют своих
преподавателей, но они остаются учениками тех социологов,
которые уже многие годы пишут и говорят о несчастье
рабочего класса, завороженного коммунистами. Ведь не
случайно буржуазная печать так прославляла Маркузе
во время его пребывания в Париже. До сих пор «Монд»,
«Комба», «Экспресс» и другие буржуазные органы
уделяют высказываниям и действиям меньшинства
маоистских, геваристских, троцкистских и т. п. студентов
внимание, пропорциональное той враждебности, которую
эти группы проявляли не к капитализму, а к
Французской компартии»1. А Поль Лоран отмечал: «Не
многозначительно ли, что несколько недель назад журнал
«Пари-Матч», который является как бы олицетворением
печати крупного капитала во Франции, опубликовал
обширный и хвалебный репортаж о Руди Дучке, чтобы
безудержно восхвалять — как вы думаете, что? — его
действия против магнатов прессы... Буржуазия поняла,
что, опираясь на почву, благоприятную для стихийного
развития левацкой идеологии, она может значительно
усиливать ее всеми средствами, сама взявшись за дело»2.
И в заключение: «Как заявил ЦК... мы должны считать
сегодня главной своей задачей борьбу против
левачества...»3.
Левачество пронизывает сегодня и творчество многих
молодых кинематографистов, в частности — молодых
режиссеров Италии. Левачество мы видим и в фильмах так
называемого подпольного кино США. Пропаганде
левачества служит и подхваченный буржуазным кино,
телевидением и прессой миф о Че Геваре. Выпячивая то,
что было в практике этого удивительного человека и
борца наиболее слабым, и замалчивая то, что
составляло его силу, буржуазия творит удобный для себя
образ Гевары.
Тем же целям служит оживление троцкистских
идеек, принимающее особенный размах в Америке.
Кажется, предсказание американского ученого Сэмюеля
Харпера, хорошо знавшего историю СССР и бывшего
очевидцем разгрома троцкистской оппозиции, сбывается.
<чВ будущем троцкизм,— писал в своих мемуарах Хар-
1 «France nouvelle», 1968, Août 7.
2 «France nouvelle», 1968, Juillet 31.
3 Там же.
242
пер,— может быть, станет главным образом
американским явлением — даже нью-йоркским» К
Маоизму, другой религии экстремистов, посвящен
фильм «Китаянка» Жан-Люка Годара, обладающего,
надо признаться, поразительным нюхом на все, что
становится злобой дня. Получилось так, что о событиях
весны 1968 года он рассказал на полгода раньше. Но
фильм его оказался предельно путаным, так смешавшим
белое с черным, что можно только диву даваться. Для
почитателей таланта Годара «Китаянка» не кажется
каким-то просчетом — Годару всегда был свойствен
определенный анархизм в оценках действительности, и
со спорным фильмом он выступает не впервые. Так,
после страстного, полного тонких наблюдений над жизнью
фильма «На последнем дыхании», правдиво
раскрывшего драму молодого человека, потерявшего контакт с
обществом, он в 1960 году снял «Маленького солдата»,
где, отрицая войну и насилие, как он считал и сам
заявил об этом, поставил знак равенства между террором
оасовцев и борьбой алжирских патриотов. Это был
путаный, объективно враждебный передовым силам
Франции фильм. Нечто подобное случилось и с «Китаянкой».
Через восемь лет, после серии умных и подчас
социально острых картин, отрицавших буржуазную
действительность, порой, как в «Безумном Пьеро» и «Альфавиле»,
отмеченных поисками идеальных ценностей, он,
продолжая линию отрицания, одновременно прославляет мао-
истов из Сорбонны.
Годар обладает способностью шутя говорить о
явлениях и вещах серьезных. Он, конечно, немного шут —
в самом лучшем смысле слова. И менее всего следует
думать, что то, о чем он говорит («кривляясь», по
мнению некоторых критиков), самого его не мучает и не
интересует. Интерес к маоизму какой-то части молодежи,
очевидно, поразил его. Путешествуя с лекциями по США
весной 1968 года, он заявил в дискуссии со студентами
Беркли, что в китайских хунвейбинах «видит
революционный фермент»2, хотя и отрицает крайности
«культурной революции». Если это так на самом деле, то
появление «Китаянки» вполне закономерно.
1 S. N. Harper. The Russia I Believe in (The Memoirs), Univ.
of Chicago, 1961.
* «Express Times», 1968, March 17.
243
Герои «Китаянки»—-своего рода парижские
хунвейбины, персонажи, как показали майские события того
же 1968 года, не выдуманные, а подсмотренные Годаром
в жизни.
...Их пятеро — этих «последовательных
революционеров». С ними девчонки. Поселившись в просторной
квартире выехавшего на лето из Парижа человека,
симпатизирующего их бредням, они утверждают свою верность
марксизму тем прежде всего, что расписывают стены
цитатами из Мао. Потом они снимают любительский
фильм, разоблачающий рядом остроумно придуманных
приемов жестокость американской агрессии во Вьетнаме.
Эпизод атаки игрушечных самолетов со знаками военно-
воздушных сил США на Анну Вяземскую,
изображающую вьетнамскую девушку,— это маленький шедевр
современного кинематографа, и Годар, видимо, понял это,
потому что включил его в свой эпизод в фильме «Далеко
от Вьетнама».
Наконец, молодые люди, осуществляя «программу
действия», начинают готовить убийство иностранного
дипломата. Они рассчитывают, что их террористический
акт вызовет международный конфликт и тем самым они
взорвут все это «болото»...
Если бы Годар снимал свою «Китаянку» не до, а
после майских событий, то, возможно, он создал бы
образы своих героев более убедительными,— все же мао-
исты, как их ни мало было, оказались одними из самых
шумных и скандальных крикунов. В фильме они
выглядят несколько надуманными. Все свои эскапады эти
молодые люди совершают без признаков какого-либо
душевного волнения и тем более без того фанатизма,
который столь свойствен всем маоистам независимо от
национальной принадлежности.
Американский критик Холлис Алперт вполне
справедливо указал, что «небольшая группа французских
студентов, которых он (Годар.— Р. С.) представляет
как людей, обладающих революционной закваской...
выглядят как люди, которые на самом деле носят
утомительные маски. Если они озабочены тем, чтобы
выглядеть революционерами, они делают это в до
крайности пустом месте и с слишком мрачным видом. Их
крайности не вызывают интереса, их мелодраматизм
не вызывает большого беспокойства... «Конец начала»—
так он определяет конец фильма. Но в самом ли деле
244
он верит, что поза второкурсника привлечет всех
студентов»? !.
Годар, возможно, верил какое-то время. В мае
1968 года он сам превратился в «революционера»,
возглавив вместе с Трюффо компанию по срыву Каннского
кинофестиваля. Пресса с удовольствием расписывала,
как он по хлипкости телосложения использовал камеру
в качестве дубинки в борьбе с полицией, как бегал и
шумел в «Хилтон-отеле». Но Годар, при всей
импульсивности и всех своих ошибках в оценках действительности,
достаточно чуток, чтобы не настаивать на отвергаемых
жизнью заблуждениях.
После «Китаянки» он снял «Уик-энд» — фильм,
причудливо отразивший его американские впечатления.
Пресса сообщала, что у него было намерение рассказать
о партии негров-националистов «Черная пантера», сняв
в главной роли Роберта Сила — одного из наиболее
популярных вождей партии. Сил не получил визы, фильм
не состоялся, но все, что должно было быть в нем
показано, вошло в годаровские работы 1968 года — фильмы
«Уик-энд» и «Один плюс один», засвидетельствовавшие
полное непонимание автором реальной обстановки.
Однако те явления буржуазной действительности,
которые Годар увидел и, по-видимому, осознал, он отразил
в этих картинах с исключительной силой. Речь идет о
насилии, захлестнувшем общество потребителей.
«Уикэнд»— апокалипсическое изображение конца света,
наступающего в конце недели, когда все сделано и
наступает «плейтайм» — время развлечений. Оказывается,
сделано абсолютно все, чтобы человечество могло
умереть. Дополнительный «фактор смерти» предстает в
образе отрядов молодых анархистов, ведущих
партизанскую войну и занимающихся каннибализмом. В «Один
плюс один» таким дополнительным «фактором смерти»
цивилизации выступают отряды вооруженных негров,
насилующих белых девочек перед расстрелом.
Три фильма Годара конца 60-х годов позволяют
сказать, что на какое-то время он стал художником, с
наибольшей полнотой выразившим средствами искусства
идеологию «новых левых». Слабости этих фильмов
-отражение слабостей самого движения «новых левых»,—
они прежде всего в неумении видеть не только то, что
1 «Saturday Review», 1968, March 30.
245
требует разрушения, но и то, что требует от художника
защиты. «Когда человек отрицает решительно все,—
заметил еще Д. Писарев,— то это значит, что он не
отрицает ровно ничего, и что он даже ничего не знает и не
понимает»1. Для Годара это было чревато опасностью
оказаться в момент всеобщего отрицания в одном строю
с реакционными силами
Особенно неудовлетворителен в фильме «Один плюс
один» годаровский подход к проблеме «черной
революции». Знакомясь с этим фильмом, невольно думаешь,
что и слава богу, что ему не удалось снять картину о
«черных пантерах». Эта боевая организация
негритянской молодежи США (родившаяся, кстати, в октябре
1966 года в Окленде, имевшая штаб-квартиры в Беркли)
овеяна романтикой, но, одновременно, к правде о ней
совсем не просто пробиться сквозь наслоения лжи
буржуазной прессы и противоречивые высказывания самих
руководителей партии.
«Черные пантеры» оделись в черные кожаные куртки,
прицепили к черным беретам значки с изображением
изготовившейся к прыжку пантеры и, почти не
скрываясь, стали носить пистолеты, пуская их в ход без особых
размышлений. Их вид и вызывающее поведение могли
шокировать, но — по американским законам — не
считались уголовно наказуемыми. От «черных мусульман» они
в начальный период отличались разве что отсутствием
всякой мистики и категоричностью требования начать
партизанскую борьбу против белой Америки. Однако
очень скоро «черные пантеры» начали большую и
полезную работу по ликвидации сегрегации в школах и
колледжах. Роберт Сил, выступавший в середине 60-х годов
с яростными речами против белых вообще, заявил, что
«черные пантеры» будут бороться равно и против
белого и против черного расизма. На одном из своих
съездов «черные пантеры» заявили о своей солидарности с
марксистско-ленинскими партиями.
В этот-то момент глубочайших изменений в
программе «черных пантер» полиция и нанесла ряд подлых и
тяжких ударов. В 1969—1970 годах полицейские
застрелили 28 членов партии, преимущественно
руководителей; 200 человек было отдано под суд. В тюрьме
оказались «министр обороны» партии Хью Ньютон и предсе-
1 Д. Писарев, Избранные сочинения, т. II, М., 1935, стр. 218.
246
датель партии Роберт Сил, которому грозит смертный
приговор или, в лучшем случае, пожизненное заключение.
Короткая, но бурная история «Черной пантеры»
завораживает бунтующую молодежь. Возникает искушение
скопировать их организацию и деятельность, но при этом
упускается из виду то обстоятельство, что негритянская
молодежь была вынуждена взяться за оружие и что
такие ее признанные идеологи, как писатель Элдридж
Кливер, с самого начала считали эту меру временной,
вынужденной соотношением сил.
Появление «Черной пантеры», во всяком случае,
объяснимо. Но как объяснишь их белых эпигонов?
Весной 1969 года в некоторых американских газетах
появились сообщения о создании партии «Белых
пантер». Отвергая какие-либо компромиссы, «белые
пантеры» заявили: «Мы используем любые средства, которые
помогут нашей борьбе, и уничтожим все, что стоит на
нашем пути». Каким путем? Пожалуйста: «У каждого
члена партии «Белые пантеры» есть револьвер, и он
знает, как пользоваться им. Каждый член партии
«Белые пантеры» обучается методам ведения партизанской
войны...» И подпись: «Район Сан-Францисского залива,
Филд Маршалл, партия «Белые пантеры»,
освобожденная территория, январь 1969 г.»1. Я не знаю, конечно,
кто придумал «Белых пантер», чем при этом
руководствовались. Но прочитав это, невольно вспоминаешь
обер-провокатора русских эсеров — Евно Азефа.
От художника требуются большой такт и ясное
понимание подлинных пружин, двигающих общественный
механизм, чтобы говорить о таких явлениях, как партия
«Черных пантер». Этими качествами Годар пока явно не
обладает. По меткому определению режиссера С.
Юткевича, сегодня Годар сделал своим творческим методом
«метод провокации» — нечто подобное тому, что
представляет собой программа «Белых пантер». По «методу
провокаций» сделан им в 1969 году и инструктивный
фильм о том, как приготовлять и использовать в уличной
борьбе с полицией «молотовский коктейль» — бутылки
с горючей жидкостью.
В начале 1970 года газеты сообщили об отъезде
Годара на Ближний Восток для съемки фильма о борьбе
фидеинов против израильских агрессоров. Хотелось бы
1 «Berkeley Barb*, 1969, January 2 — February 13.
247
думать, что этот фильм будет великим испытанием для
Годара: он впервые увидит подлинно героическую и
справедливую народную войну.
Годар далеко не одинок в поисках истин там, где их
нет и быть не может,— в анархизме и маоизме. Что
касается анархизма, то со времен Бакунина его идеи
живут в среде буржуазной интеллигенции, а рост
численности и авторитета молодежи оживил троцкистские
идейки о «молодежи как барометре революции».
Маоизм же вошел в моду как нечто новое по видимости и
столь же псевдореволюционное по сути, как и все другие
мелкобуржуазные общественные концепции.
Конечно, с маоизмом на Западе произошло то же
самое, что и с идеологией ультралевых: буржуазия
использует маоизм для борьбы с коммунизмом. Если нужны
доказательства, то стоит еще раз вернуться к статье
Германа Кана в «Бизнес уик». Заявляя о том, что перед
развитыми странами стоит задача найти ответ на
вопрос: «зачем все это?», Кан далее утверждает: «...у Мао
Цзэ-дуна есть ответ на этот вопрос... Японцы сейчас
знают ответ на этот вопрос (по мнению не только Кана,
японцы сейчас живут задачей догнать самые развитые
страны по валовому и подушному промышленному
производству.— Р. С), но спросите у них, что они будут
делать после того, как догонят нас, и они испугаются.
Люди по-прежнему хотят во что-то верить, хотят связать
себя какими-то обязательствами» К Трудно поверить,
чтобы человек с таким мыслительным аппаратом и с такой
эрудицией, какие у Германа Кана, может всерьез
допустить, что у Мао «есть ответ». За такой «наивностью»
непременно должно что-то скрываться. И в самом деле,
читаешь эту статью дальше и видишь, что автору
маоизм потребовался лишь для того, чтобы попытаться
дискредитировать коммунизм вообще и практику советских
людей в частности. «Советскому Союзу, возможно,
угрожает гораздо более серьезный кризис, связанный с
поисками ответа на вопрос о смысле и цели, чем
Соединенным Штатам»2,— пишет далее Кан. Почему,
спрашивается? А потому, что так хочется идеологу
империализма, заинтересованному в дискредитации идеологических
ценностей социализма.
1 «Business week», 1967, March 11.
2 Там же.
248.
Появление поклонников «великого кормчего» в
Америке— еще одна шутка истории. Уж где, казалось бы,
аскетизм и казарменная уравниловка хунвэйбинов
должны были бы вызвать ужас, так это в богатой и
эгоистичной Америке, где гедонизм становится главной
чертой жизни общества. Но, пожалуй, они, эти поклонники,
потому именно и появились, что реально в Америке нет
никакой почвы для маоизма. И молодые люди,
декларировавшие однажды группе советских журналистов свою
приверженность маоизму, внешне никак не походили на
его солдат. Образованностью и респектабельностью
костюмов они отличались и от хиппи,— это была обычная
университетская молодежь, которая предпочла
цитатники Мао Цзэ-дуна книгам Маркузе, или один дурман
другому.
На расхожие представления о маоизме Голливуд
откликнулся фильмом «Председатель», довольно тонко
искажающим международную обстановку, сложившуюся
в мире к концу 60-х годов. В то время как
правительство США вело закулисные заигрывания с кликой Мао,
Голливуд показал фильм, внушавший зрителям мысль
о необходимости единства американцев и русских в
борьбе против «желтой опасности». Фабула фильма
проста и строится на приключениях ученого-шпиона,
посланного в Китай для похищения важного открытия. Цель
же фильма посложнее: «...американской
молодежи,--писал Филипп Боноски,— он подтверждает идею о том, что
СССР не является больше революционной страной».
Тем не менее проблема поклонников маоизма на
Западе вполне реальна.
На просмотре китайской хроники в 1967 году, шедшей
подряд шесть часов и по своим качествам похожей на
пленку, снятую любителем, впервые в жизни взявшим
в руки камеру, «маоисты», живущие в солнечной
Калифорнии и пользующиеся всеми благами американского
сервиса, сидели с горящими глазами, испускали
восторженные клики.
На экране каждые пять-десять минут представал Мао
Цзэ-дун — более молодой и крепкий, чем можно думать,
памятуя о его возрасте; заурядное лицо,
невыразительный жест время от времени одной рукой, глубокое
равнодушие во взгляде на приветствующие его, беснующиеся
многотысячные толпы молодежи. Рядом с ним коренастая
Цзян Цин, его жена, и сухой, всегда настороженный, с
249
глазами фанатика Линь Бяо, его заместитель. Поодаль
группа приверженцев, но камера скользит по ним, не
останавливаясь ни на одном лице,— кто знает, не
окажется ли сегодняшний соратник уже завтра
«ревизионистом» и «предателем»? А внизу, на всемирно известной
площади Ворот Небесного Спокойствия — десятки и
сотни тысяч молодых людей, коротко остриженных,
одинаково одетых, с непременными цитатниками или
карабинами в руках. Это, собственно говоря, не толпа. Они идут
в ногу, четкими и вымуштрованными батальонами.
Батальон за батальоном — бесконечный марш армии мимо
вождя... Крупных планов нет. На средних планах
показывается Мао Цзэ-дун, на общих — десятки и сотни
тысяч его солдат. Постепенно возникает гнетущее чувство
знакомости всего этого. Да, мы это уже видели: так шли
отряды штурмовиков и полки эсэсовцев мимо Адольфа
Гитлера. И так же его самого показывали на крупных
планах, а его головорезов — только на общих, чтобы
создать этот чудовищный образ обожествленного вождя и
безликой, повинующейся его малейшему жесту
человеческой массы!
Еще на экране было: закрытие музеев, дискуссии в
университете, суды над «ревизионистами», по виду
которых можно понять, что они подвергались жестоким
пыткам, сломившим их физически и духовно, стены домов,
заляпанные дацзыбао, этими самодельными плакатами,
боевая подготовка хунвэйбинов под руководством
армейских офицеров и т. п. В этих кадрах можно разглядеть
иногда отдельные лица юношей и девушек — никогда не
улыбающиеся, замкнутые, бездуховные.
Что восхитило американских бакалавров и магистров
в этой постыдной для конца XX века ленте?
«Революционность»,— говорили они.
Известно, что революция «неэстетична». А.
Луначарский писал, что «подлинная революция непременно
космата, непременно чрезмерна, непременно хаотична. Это
прекрасно предвидел, например, Достоевский. Это
великолепно чувствовал и сказал нам Пушкин... Эстетическая
мораль не для революции» К И если бы то, что
происходит до сих пор в Китае, было бы действительно
революцией, то можно было бы понять крайности. Но там
происходит нечто прямо противоположное: с холодной рас-
1 А. Луначарский, Силуэты, М., 1965, стр. 221.
250
четливостью руками молодежи уничтожаются партия,
культура, интеллигенция, а затем также
холодно-расчетливо руками армии ликвидируются молодые «красные
охранники», ставшие опасными для маоистской клики.
Отвлечемся на минуту от современных маоистов.
«Духовный контакт с Китаем устанавливается
гораздо медленнее,— писал Роллан обескураженно, отвергая
вместе с тем страхи Европы перед «желтой опасностью»,
ставшие постоянными с конца прошлого века.—
Казалось бы, эта древнейшая империя, где всегда царил Мир
в мыслях, первой должна была принять от Европы слова
Примирения. А она, возможно, будет последней среди
стран Азии. Еще Толстой к концу своей жизни сетовал,
что его попытки завоевать сердце Китая оказались почти
бесплодными, в то время как сердце Японии сразу
раскрылось перед ним» К
СССР предоставил Китаю и нечто большее, нежели
горячее сочувствие европейских гуманистов. Уже в 20-х
годах в Китае появились советские генералы-советники,
потоком пошло оружие, в китайское небо взлетели
русские летчики. А после 1949 года Советский Союз, сам
еще нуждавшийся во многом, предоставил Китаю
громадные кредиты, возвел полторы тысячи мощных
современных промышленных предприятий, послал своих
специалистов, чтобы наладить отсутствовавшее там
производство машин, станков, самолетов, электронных
приборов и т. д. Нет нужды повторять здесь, какова была
благодарность группы Мао Цзэ-дуна.
То, что происходит сейчас в Китае, имеет самое
прямое отношение к нам, ибо «культурная революция» есть,
в конечном счете, бессовестная обработка сознания
молодежи в антисоветском духе. А что дальше? В дни
сентябрьских хулиганств 1966 года у здания Советского
посольства хунвэйбины из Пекинского медицинского
института вывесили дацзыбао, обращенную к советским
людям: «В наши сердца врезана вся старая и новая
ненависть... Однажды, когда придет момент, мы сдерем с
вас шкуры, вытянем из вас жилы, сожжем ваши трупы
и прах развеем по ветру»2. Провокация на советском
острове Даманском была попыткой осуществления
такого рода лозунгов на практике.
1 Р. Роллан, Воспоминания, стр 203.
2 «Комсомольская правда», 1966, 22 сентября.
251
Политика маоизма радует всех врагов социализма, в
первую очередь — американский империализм.
Формально никаких контактов, за исключением варшавских
встреч, между США и Китаем нет. Но в прессе почти
регулярно появляются сообщения о том, что в Китай из
США через Гонконг в условиях большой секретности
поступают партии электронного оборудования и приборов,
необходимых военной промышленности. Известна и
темная история Цянь Сюэ-шеня, некогда крупного
чиновника в американской ракетостроительной
промышленности, а ныне главы китайского ракетостроения, и
история других ученых, создавших «А» для Мао.
В Китае происходят явления, о которых помнит
история. Это костры из книг, в том числе из книг Льва
Толстого и Ромена Роллана, запылавшие впервые во дворе
Пекинского университета. Это казни инакомыслящих,
подлинное число которых никто не знает (исполнилось
замечание Гейне: «...там, где сжигают книги, в конце
концов начинают жечь людей»). Это развал, намеренный
и расчетливый, всей системы образования в стране,
которая и так ничем особенным не могла похвастать.
В том документальном фильме, который мы смотрели,
очень долго и очень подробно показывались испытания
первых атомных бомб в Синьцзяне, на северо-западе
Китая. Это были откровенно милитаристские кадры,
вызывающие и хвастливые...
Но, может быть, хунвэйбины, готовясь «освободить»
весь мир от империализма и «ревизионизма», всюду
пронести «знамя председателя Мао», обладали какой-нибудь
широтой взгляда на все иностранное и новым подходом
к проблемам нравственности? Ничего подобного. Их
движение было реакционно-националистским. В цитатнике
Мао есть такое: «Со всем иностранным следует
обращаться как с пищей, которая сначала разжевывается во рту,
перерабатывается в желудке и кишечнике, смачивается
слюной, желудочным и кишечным соком, а затем
разделяется на отбросы, которые устраняются, и на экстракт,
который усваивается». Что же касается морали, то здесь
образчиком может послужить следующее поучение одной
из молодежных газет: «Ранняя любовь, которая часто
оканчивается браком в возрасте двадцати лет, должна
рассматриваться как попытка классового врага отвлечь
молодежь от политической деятельности и притупить ее
революционный энтузиазм... Прогулки влюбленных в пар-
252
ках и их непроизводительное сидение на скамейках
должны быть решительно осуждены как потеря
времени. Желание молодых пар создать свой очаг может лишь
привести к буржуазному перерождению».
Хунвэйбины были слепым орудием клики Мао Цзэ-
дуна, с помощью которого он разрушил самые важные
из завоеваний народной революции, нанес удар по
партии, разгромил интеллигенцию, вверг страну в
неисчислимые бедствия. Когда они впервые появились осенью
1966 года на политической арене, вооруженные красными
цитатниками, а позднее и винтовками, кое-кому на
Западе показалось, что престарелый «великий кормчий»
в самом деле начинает какой-то невиданный
социальный эксперимент с помощью молодежи. Но это
была лишь грандиозная провокация. Молодежь
оторвали от школ, вузов, работы и бросили в
авантюристическую компанию против всего, что было в стране честным
и прогрессивным. А потом, как и следовало ожидать,
расправились и с молодежью. Уже осенью 1968 года
началось насильное переселение молодежи в отдаленные
сельские районы, с января 1969 года это переселение стало
узаконенным и массовым, в Синьцзян и Цинхай
отправились сотни тысяч молодых людей.
Что же дальше? Дальше можно ожидать ответной
реакции. Даже американские наблюдатели считают, что
«даже наиболее лояльные хунвэйбины едва ли смогут
сдержаться от возмущения, будучи насильно и
бесцеремонно отправлены в деревни к крестьянам. И рано или
поздно гнев, охвативший мятежную городскую молодежь,
возможно, заразит все сельское население Китая» !.
Все это и многое другое известно западным «маои-
стам». И все же они существуют. Тому много причин.
Здесь есть момент спекуляции, моды. Есть отмеченная
уже попытка буржуазии увести молодежь от
коммунистических идей: куда угодно, хоть в черт знает какое
болото, но только подальше от правильных дорог
социального переустройства действительности. Есть
естественная, но дикая по форме (то же самое примерно мы
видим у хиппи) реакция на общество потребителей,
созданное буржуазией наиболее развитых стран. И есть
вытекающая из недовольства этим обществом дикая и
неосмысленная жажда разрушить все.
1 «Newsweek», 1969, January 3.
253
Ю. Давыдов в статье «Критика «новых левых» отметил
два факта, поразившие воображение «новых левых»,—
успешное сопротивление маленького Вьетнама
гигантской военной машине США и боливийскую эпопею
маленького отряда Че Гевары, державшего в страхе все
правительства латиноамериканских стран. Эти факты
породили представление о возможности изменения мира
героическим усилием немногих людей, ибо этот мир не
столь уж прочен, как кажется 1. Факт разрушения
социалистического государства силами молодежных отрядов,
численность которых была в соотносимых цифрах
совершенно ничтожна, поразил воображение еще больше;
может быть, это еще одна причина внимания, проявляемого
молодежью Запада к маоизму.
Надо отметить и еще одну особенность «бунта
молодежи», на которую большинство наблюдателей обращают
мало внимания, завороженные бешеным отрицанием и
требованием разрушения. Эта черта — своеобразный
поиск героического деяния, невозможного в «среде
умеренности и аккуратности».
Некоторые из наблюдателей событий 1968 года
отметили, что определенная и даже не малая часть
бунтовавших молодых людей не имела за душой ничего, кроме
глубокого и нестерпимого чувства отвращения к
обществу потребителей и тоски по разумной, общественно
полезной и, если угодно, героической жизни. Жажда
действия — вот еще одна чрезвычайно любопытная черта
современной молодежи, которую выявили события
последних лет. Жажда действия прежде всего
трансформируется в жажду разрушения, когда нет организующей и
направляющей идеи. А дальше уже закономерны и те
блуждания молодежи, блуждания в диапазоне от
фашистских молодежных отрядов до маоистских групп.
Молодежные журналы и журнальчики, выражающие
идеи бунтарей, предлагают читателям такую «кашу», в
которой невозможно разобраться без учета очень многих
факторов: атмосферы, прежде всего, в которой молодежь
растет, но также и особенностей юношеского
мировосприятия.
Вопрос о том, куда же сможет приложить энергию
молодой человек в благоустроенном обществе, не только не
исчезнет, но со временем будет все острее и острее. «Есть
1 См. «Вопросы литературы», 1970, ΛΊ? 2.
254
множество средств сделать человеческое существование
постылым, но едва ли не самое верное из всех — это
заставить человека посвятить себя культу
самосохранения» \— писал М. Салтыков-Щедрин. А нынче
буржуазное общество делает такой «культ» образом жизни,
шутка ли! И кажется, что чем дальше, тем будет в этом
смысле пуще: за исключением небольшой группы людей,
связанных с космосом, человечество будет существовать,
окруженное комфортом и роботами, как елочная
игрушка ватой,— об этом написано немало и грустных и злых
фантастических книг, начиная с «Машины времени»
Уэллса до сегодняшних раздумий Азимова, Лема, Шекли
и многих других. А если без фантастики, то перспектива
размеренной, сытой жизни, в которой дни неразличимы,
пугает молодежь не меньше, чем «А».
Мы говорили выше о тех действиях молодежи,
которые не назовешь ни эффективными, ни моральными. Но
«новыми левыми» движение молодежи, конечно, не
исчерпывается. Нельзя недооценивать и здравый смысл
молодежи. Наконец, нельзя забывать и о той молодежи,
которая сознательно связывает свою судьбу с
социалистическим и рабочим движением. Очевидно, что здравый
смысл и интерес к социализму будет расти, какими бы
ни казались нам сегодня пути молодежи
зигзагообразными. Английская драма, театр и кино в 50-х — начале
60-х годов показали «сердитых молодых людей», вся
суть которых исчерпывалась одним словом «отрицание».
«Сердитые» отошли в прошлое. Сегодня молодежь
«отрицает» действием.
Это понимал Джон Кеннеди — талантливый политик
и защитник своего мира и класса. Выдвинутая им
программа «новых рубежей» должна была направить
действия молодежи на решение конкретных социальных
задач — ликвидации бедности и расизма, помощи
голодающим странам, культурного обмена и т. д.
«Корпус мира», рожденный программой Джона
Кеннеди, и был задуман как ответ на требование молодежи
разумной и общественно полезной деятельности. С
самого начала делалось все возможное для того, чтобы
представить «Корпус мира» как благородную по целям,
альтруистскую организацию помощи слаборазвитым
странам. Реклама «Корпуса морской пехоты» завлекала
1 Λί. Салтыков-Щедрин, Избранные сочинения, М., 1954, стр. 220.
255
молодежь приключениями в джунглях, отдыхом в
экзотических городах, высоким заработком и воинской
славой. Реклама «Корпуса мира» предлагала нелегкий
труд в тех же джунглях, трудную жизнь и в награду
чувство исполненного долга. Столики вербовщиков зачастую
стояли в университетах рядом. Но потребовалось немало
времени, чтобы более или менее широкие слои
молодежи стали понимать, что не только младшие
офицеры-вербовщики, но и старшие генералы этих двух и многих
других тайных и явных организаций действуют по одному
стратегическому плану. Однако и до сих пор из-за того,
что факты разоблачения и изгнания участников Корпуса
из азиатских и африканских стран как пособников
империализма замалчиваются, часть американской молодежи
имеет превратное представление о «Корпусе мира».
Поэтому туда попадает и молодежь, движимая
романтическими чувствами и желанием стать полезной людям
бедным и отсталым. Правительство сознательно использует
эти стремления молодежи, одновременно преследуя свои
корыстные цели и создавая своего рода отдушину для
понижения напряженной атмосферы в стране. «Корпус
мира» был создан в 1961 году и, как можно судить по
речам президента Ричарда Никсона, правительство США
предполагает всячески расширять его деятельность.
Задачи Кеннеди, однако, так искажены, что от участия в
«новых рубежах» отказываются теперь именно самые боевые
и образованные круги американской молодежи.
Эскалация агрессии во Вьетнаме окончательно разоблачила в
глазах молодежи аморальную сущность официозной
программы «человеколюбия». Еще Марио Савио напомнил
своим молодым слушателям, что начал-то эскалацию во
Вьетнаме Джон Кеннеди...
Из опыта мероприятий правительства Кеннеди,
направленных на то, чтобы дать молодежи смысл и цель
жизни, чтобы занять ее большим и благородным делом,
следует очевидный вывод о полной неспособности
капитализма ставить перед молодежью какие бы то ни было
позитивные цели.
Речь идет именно о целях. Развитые
капиталистические страны имеют сегодня возможность осуществлять
грандиозные по своему существу проекты. Но что может
быть результатом, например, упоминавшегося нами
плана преобразования американских пустынь, плана,
увлекшего было берклийцев? Лишь обогащение монополий,
256
которые будут финансировать работы, поставлять
технику, возводить там первые поселки и фабрики.
Вопрос освоения пустынь — освоение даже
Антарктиды!— вопрос сегодня социальный, ибо если это будет
служить продлению жизни обреченного строя, то цель
эта враждебна молодежи.
Есть, однако, и более конкретные вещи,
свидетельствующие о беспомощности империализма найти общий
язык с жаждущей дела молодежью. Неотложная
задача человечества — голод или серьезное недоедание 2/з и
культурная отсталость 4/s населения Земли. Придет
очередь неосвоенных океанов, Арктики и Антарктиды.
Когда-нибудь потребуется и освоение Луны, Марса,
Венеры. Но первая задача — спасение значительной части
человечества от ужасающей нищеты. Но как об этом
может говорить прямой виновник создавшегося
положения — империализм, если и сегодня продолжается
грабеж отсталых народов? «Американские собаки
потребляют ежедневно в виде специального консервированного
рубленого мяса или в сухом виде в целлофане больше
белка,— пишет Сульцбергер,— чем половина населения
земного шара». И тут же: «Наши дети ежегодно
тратят на воздушные шарики сумму, которая превышает
валовый национальный продукт Бурунди» 1. Америке здесь
нечем гордиться, ибо американская собака в буквальном
смысле слова пожирает черных и желтых детей. Вот
доказательство: в том же 1965 году, когда Сульцбергер
писал свою книгу, развивающиеся страны получили от
капиталистических стран, в первую очередь от США,— 5,7
миллиардов долларов, а выплатили по процентам и в
виде дивидентов — 5 миллиардов долларов. Получается,
что империализм помогает развивающимся странам лишь
для того, чтобы держатели акций и их собаки в Америке
и Европе могли исправно получать свой «кусок мяса»
от нищих народов Азии, Африки, Южной Америки.
В сущности, наши представления о размерах
достигнутого прогресса сильно преувеличены. У нас только один
метод измерения — сравнение с тем, что было; кроме
того, мы довольно плохо знаем прошлое, даже если и
имели в школе «пятерки» по истории. Да, если, например,
сравнивать первые паровые котлы с атомными
реакторами или скорость передвижения на первых пароходах и
1 С. L. Sulzberger, Unfmished Revolution, p. 125.
13 p. Соболев
257
на реактивных лайнерах, то разница получается
разительная. Но фактическое время, разделяющее паровые
машины и атомные и реактивные двигатели — невелико,
и оно не изменило ни природы человека, ни задач,
стоящих перед человечеством. Поэтому-то сегодня еще более,
чем сто и двести лет назад, воспитание молодежи должно
было бы включать в себе воспитание готовности к
подвигу,— не к воинскому, это-то как раз самое легкое, а
прежде всего подвигу жизненному.
Давно подмечено, что буржуазное воспитание всегда
было по-своему героическим. Культ наживы
обусловливал воспитание человека предприимчивого, деятельного,
решительного и настойчивого. Каждый торгаш на заре
капитализма был одновременно отчаянным
конкистадором. Почти все великие люди Возрождения были в чем-
то и авантюристами. Люди, заселившие и освоившие
Америку, могут быть обвинены во всех грехах, за
исключением одного — малодушия. Возможно, буржуазное
общество потому и христианство приняло как свою религию,
что при всех своих проповедях милосердия это одна из
самых деятельных и воинственных религий в мире. А
протестантство, потеснившее католичество, вообще религия
вооруженных торгашей и атакующих купцов.
Буржуазное искусство также было в своей массовой продукции
боевым и нетерпимым, воспитывающим людей
энергичных и действующих,— это достаточно резко проявилось
уже у Данте, Рабле, Шекспира и других великих.
Но, конечно, верно и то, что целью буржуазного
воспитания всегда был герой-индивидуалист, человек,
который способен совершить сверхчеловеческие деяния,
пройти огонь и воду, продать душу черту, и все для того,
чтобы добиться личного счастья, чтобы подняться над всеми
другими людьми.
Сегодня все это — история. Буржуазия сегодня не
заинтересована в том, чтобы молодые вырастали борцами,
буржуазия создала новый идеал человека —
управляемого потребителя. Что бы ни писали сегодня
буржуазные журналисты и социологи о необходимости
приобщения более широких кругов молодежи к политической
жизни, об омоложении государственных и партийных
аппаратов, но генеральной линией империализма сегодня
остается «охмурение» молодежи, ее отстранение от
решений судеб народов. Буржуазия научилась лавировать и
идти на компромиссы, но есть, однако, границы уступок,
258
за которые буржуазия не уйдет и которые никак уже не
могут устроить молодежь.
Для критики «новые левые» беззащитны. Но у них
есть немалая заслуга — в их движении родилась жажда
действия. И жажда героического. Молодежь ищет новых
кумиров.
Еще в начале 60-х годов кумиров Западу поставлял
Голливуд, парижские и изредка лондонские студии. Бри-
житт Бардо стала моделью для миллионов, наверное,
девиц всех цветов кожи. Но сегодня и голливудские звезды
лишь копируют то, что поставляют студенческие городки
и кварталы. В качестве примера назовем Кендис Берген,
бывшую студентку Пенсильванского университета,
обладательницу совершенно ослепительной внешности. Ее
отыскали в толпе фотографы и сделали cover-girl —
девушкой для журнальных обложек. К своему
двадцатилетию, исполнившемуся в мае 1968 года, она сыграла
шесть ролей в фильмах таких известных режиссеров, как
Клод Лелюш, Роберт Уайз, Сидней Люмет, Михаил Ка-
коянис и другие. О ней пишут, что «она красива, как
Келли, холодна, как Кристе, надменна, как Бекел,
аристократична, как Одри Хепберн, интеллигентна, как
Кэтрин Хепберн, сложена, как Натали Вуд...» К Она в
самом деле поразительно хороша собой и незаурядна, но
все же дело в другом — она, по определению критики,
«представляет в Голливуде» значительную часть
американской молодой интеллигенции и студенчества,
вступивших в конфликт с официальными кругами,
решительно отвернувшихся от «мудрости отцов», но не нашедших,
однако, и путей для изменения жизни.
Кендис Берген импонирует молодым зрителям тем,
что, несмотря на свалившуюся мировую известность,
продолжала учиться в университете, и еще более, пожалуй,
тем, что она «не уверена, что хочет быть звездой,—
может быть, писательницей, или фоторепортером, или мо-
дельершей...» 2. Она может быть писательницей —
написанная ею в колледже пьеса опубликована в сборнике
«Лучшие короткие пьесы 1968 года» наряду с работами
Питера Вейса и Уильяма Инджа — и может стать
фотографом — ее снимки охотно печатают журналы;
интересует ее и профессия кинорежиссера.
1 «Мс Call's», 1968, February.
2 «Newsweek», 1968, March 4.
13*
259
Но Кендис — при всем блеске своей внешности и
разносторонности талантов — не кажется оригинальной
индивидуальностью, она на редкость типична для той
среды, которую представляет. Ее увлечение фотографией,
любовь к ярким нарядам и броским украшениям,
способность очертя голову бросаться в авантюры и выходить
сухой из любых передряг, умение сочетать расчетливость
и последовательный эгоизм с широтой взглядов и
дружелюбием ко всем и всегда — все это типично, все это, по
мнению многих наблюдателей, свойственно весьма
значительному числу женской части американского
студенчества. И даже внешность у Кендис не исключительная:
девушки ее типа, хотя, понятно, и не столь красивые,
встречаются весьма часто.
Голливуд не сразу понял, какой находкой могла бы
быть Кендис для фильмов о молодежи. Следуя
традиции, ей устроили скандальную рекламу,
воспользовавшись ее бурными романами. А затем заняли в ряде
фильмов, которые могли лишь вызвать насмешки у молодежи.
Мерилин Монро при всей своей человеческой заурядности
была символом — сексуальным символом. Кендис Берген
незаурядна, но она лишь социальный тип. Кендис,
возможно, не смогла бы стать идолом молодежи, зато
именно в силу своей типичности, принадлежности к поколению
60-х годов она могла бы лучше, чем кто-либо, рассказать
о своих современниках.
Вот этого-то Голливуд и не понял. Впрочем, когда
пытаешься понять причины того факта, что ее из фильма
в фильм показывают сексуально ненормальным,
психически неполноценным, милым, конечно, но безнадежно
испорченным существом, то начинаешь подозревать
определенную систему, здесь, пожалуй, злую волю даже:
создать шарж на поколение с помощью представительницы
этого поколения.
Не находя кумиров там, где находили их отцы,— в
буржуазном искусстве, молодежь ищет их в жизни,
пример — Че Гевара. Или же обращается к истории.
Одна из помощниц Марио Савио по бурным
событиям в Беркли середины 60-х годов рассказала мне: весной
1969 года группа берклийских девушек и молодых
женщин выступила в прессе с заявлением о создании
СПАЗМ. Это странное в русской транскрипции название
расшифровывается как «Общество обучения совместной
борьбе за народную свободу путем освобождения жен-
260
шин, созданное в память о Софье Перовской и Андрее
Желябове» (Софьи Перовской и Андрея Желябова
мемориал—СПАЗМ). Неофитам не пришлось рассказывать,
кто такие Софья Перовская и Андрей Желябов,—
начальное ядро общества сложилось из девушек
образованных, восхищавшихся жизнью и подвигами выдающихся
народовольцев. А затем свое дело сделала широкая
пропаганда, развернутая организаторами общества. Первую
демонстрацию СПАЗМ провел в честь Международного
женского дня 8 Марта, вторую — 3 апреля, отмечая
годовщину казни народовольцев, выбранных
«покровителями» их общества1. Смешное и серьезное — рядом в
СПАЗМ. Станет ли это общество еще одним ручейком,
питающим нарастающий поток протеста против
официальной Америки, или превратится в «кружок для
времяпрепровождения», каких не счесть в Штатах,— покажет
будущее. Но на первую свою демонстрацию они вынесли
плакат: «Равная оплата за равный труд», а в своем
заявлении сообщили о солидарности с организацией
«Студенты за демократическое общество» — одной из наиболее
сильных и прогрессивных организаций США.
Подводя итог, можно сказать, что хотя молодежь сама
по себе и не может быть той силой, которая способна
изменить социальный облик мира, но без нее сегодня это
тоже невозможно сделать. А молодежь — в брожении,
молодежь жаждет действия.
1 «Berkeley Barb», 1969, February 28 — March 6.
χ
Кино для авгуров
И наконец, о том кинематографе, который с
наибольшей полнотой выражает духовные ценности «новых
левых». Или, точнее, должен был бы выражать.
Годар слишком талантлив, чтобы надолго остаться
менестрелем «новых левых». Он рос как художник
одновременно с ростом движения «новых левых», и все, что
в этом движении оказалось «фотогеничным», он снял и
показал миру, вызвав небывалый скандал в достаточно,
в общем-то, скандальной истории кино. Но Годар может
делать большее, чем из фильма в фильм излагать идеи
«левых» идеологов. Он уже делал большее. И его
поездка к фидеинам, как и просьба о визе во Вьетнам,
свидетельствует о стремлении вырваться из тупика в широкий
мир. А факт захода в тупик неоспорим, ибо три-четыре
его последних фильма являются топтанием на месте,
повторением одних и тех же мыслей. Поэтому, хотя мы и
пользовались постоянно примерами из его фильмов,
Годара трудно считать убежденным выразителем идей
«новых левых».
В сущности, художников, с симпатией
рассказывающих обо всем, что они знают о «новых левых», очень
много. Ругать «новых левых» нельзя — можно прослыть
ретроградом и реакционером, критиковать — бесполезно. Но
кроме этого «новые левые» представляют собой
единственно интересную социальную группу в спокойном и
тухлом болоте, называемом обществом потребителей. Ведь
если и произошло нечто необычное в лос-анджелесском
пригороде, то лишь потому, что выпускник колледжа ус-
262
воил на Востоке не только некую сумму знаний, но и
замашки хиппи («Выпускник» М. Николса). Ведь если и
остались еще люди, способные к действиям, то лишь
среди левой молодежи.
Наверное, можно было бы написать книгу о том, как
изменились сюжеты у многих немолодых режиссеров
после обращения их к молодежным темам, как начался
новый этап в творчестве мэтров,— достаточно назвать в
этой связи Карне, Рейша, Пазолини, Антониони и многих
других.
Но нас здесь интересует то кино, которое создается
людьми, сознательно примыкающими к «новым левым»,
разделяющими их взгляды и убеждения.
В Европе в этом плане наибольший интерес вызывают
фильмы молодых режиссеров Италии — Марко Белло-
кио, братьев Сампьери, Амико, Тавиани, Бертолучио и
некоторых других. Все они, конечно, художники разных
творческих индивидуальностей и в разной мере
одаренные. Каждый по-своему интересен. Но самое интересное,
думается, в том, что они представляют собой новое
пополнение итальянского кино, формально более тесно
связанное с тридициями неореализма, нежели поколение
режиссеров 50-х годов. Они не продолжатели неореализма
конца 40-х годов, они наследники того, что было
растеряно до них в результате разочарования в связи со
«стабилизацией капитализма» в Италии.
Молодые режиссеры Италии выступают как
исправные последователи теоретических взглядов Эйзенштейна
и практики Росселлини. Хотя они высоко ценят на словах
Базена, фейерверк французской «новой волны» оставил
их равнодушными. По форме многие их фильмы могут
показаться несколько устарелыми: они явно
предпочитают жесткую «графику» Росселлини
«импрессионизму» Годара, прозу — поэзии.
Но при всем этом они более, чем кто-либо еще в
Западной Европе, идейно связаны с движением «новых
левых». Их фильмы легко обобщаются такими чертами,
как демонстративная антибуржуазность, чаще всего
выступающая в наивной форме абсолютного отрицания всех
моральных ценностей буржуазного общества, и
безоговорочное оправдание любого, сколь бы он ни был по
существу своему диким, протеста молодежи. Молодежь
всегда права, потому что она молодежь; старики во всем не
правы, потому что они старики,— такой зачастую пред-
2G3
ставляется исходная, не подвергаемая сомнению и
обсуждению позиция многих фильмов молодых
итальянских режиссеров.
Можно отметить и известную всем исследователям
«новых левых» знакомую сектантскую убежденность, что
если можно изменить существующий строй, то сделает
это лишь группа смельчаков-заговорщиков в результате
волевого акта.
Все это было бы невыносимо смотреть, если бы
фильмы итальянцев не оказались в силу реалистической
формы более богатыми по содержанию, если бы они не
показывали широких картин итальянской действительности
и, наконец, если бы у многих из авторов сектантские
взгляды не соседствовали с ироническим, как у Годара,
скепсисом.
Говорят, что суд над буржуазным обществом
совершил Беллокио в фильме «Кулаки в кармане». И автор и
его благожелательные критики заявили, что этот фильм,
показывающий моральную деградацию и физическую
гибель психически больной семьи, аллегорически
изображает неизбежность гибели безнадежно больного
буржуазного общества. Так говорят. Но когда смотришь
фильм, то видишь лишь натуралистическое произведение,
явно рассчитанное на то, чтобы вызвать шок у зрителя.
История молодого эпилептика, сбрасывающего в
пропасть слепую мать и потом весело резвящегося на ее
гробе, топящего в ванне младшего брата, насилующего
сестру и умирающего мерзко и одиноко, никак не
воспринимается как аллегория.
Более доказательно рассказал об ожидании конца
света Бертолучио в фильме «Перед революцией»,
сделанном в добротной реалистической манере. Главное
достоинство фильма в том, что автору удалось создать
атмосферу жизни столь серой, сонной, безнадежно пустой,
что зритель не может не прийти к выводу о
желательности и обязательности взрыва, который покончит с этой
мертвечиной. Автор, однако, не знает и не говорит о том,
откуда именно придет очистительная буря. Решение
предоставлено зрителю. Но при этом в фильме
недвусмысленно выражено сомнение, что коммунисты Италии
могут иметь какое-либо отношение к революции, которая
надвигается. Автор с теплотой показывает человеческие
качества членов компартии, но явно не верит, что их
повседневная деятельность может привести к взрыву. Кто
264
же тогда является «носителем революционного
фермента»?
Можно было бы думать, что на этот вопрос отвечает
фильм «Китай рядом» того же Беллокио. Можно было
бы думать, если бы... фильм, столь грозно названный, не
казался очень часто скорее злой сатирой на «новых
левых» в их маоистской разновидности, чем панегириком.
В фильме показана группка безусых юнцов, ведущих
во время каникул в колледже «народную войну» против
членов партии социалистов своего тихого и скучного
провинциального городка. Мелкие пакости, которые они
делают социалистам, и малевание цитат Мао на стенах
домов завершаются тем, что юнцы подкладывают бомбу в
помещение ячейки социалистов. Впрочем, все кончается
благополучно.
Автор в неприглядном виде показывает социалистов,
выдвинувших своим кандидатом в мэры городка
крупнейшего землевладельца и единственного аристократа в
их округе, давно превратившегося в прижимистого
буржуа. Но — хотел ли этого автор или это произошло
помимо его желания — не меньшее презрение вызывают и
итальянские маоисты, у которых верховодит младший
брат будущего мэра. Борьба социалистов за власть и
протест итальянских маоистов — все это в равной
степени мышиная возня, все одинаково мелко и ничтожно.
Двух братьев и их достойную сестрицу по-настоящему
волнуют лишь сексуальные вопросы, запутанные
отношения с любовницами и любовниками.
В картине «Китай рядом» есть интересные эпизоды,
сочетающие злой сарказм и правду жизни. Например,
старший брат уговаривает младшего не взрывать
помещение социалистов таким образом: «Видишь ли, бомбы
надо устанавливать не здесь... Ваши настоящие враги,
которым действительно стоило бы насолить, это
коммунисты... Мы и так уже мертвы, зачем же убивать нас
дважды? Взорви вы коммунистическую ячейку, вот
тогда действительно останетесь только вы единственными
представителями подлинной оппозиции...»
Но чаще Беллокио сбивается на балаган. Очевидно
его сближение с коммерческим кинематографом,
увлечение сексом, уступки нетребовательным вкусам. Эти
тенденции свойственны и многим другим молодым
итальянским режиссерам. Такие нашумевшие в конце 60-х годов
их фильмы, как «Спасибо, тетя», «Эскалация» и другие,
265
вызвали интерес не столько смелостью идей, сколько
смелостью в показе обнаженного тела и свободы нравов
молодежи.
Среди фильмов молодых итальянцев выделяется
работа братьев Сампьери «Под знаком Зодиака»,
претендовавшая осенью 1969 года на первенство на
Венецианском кинофестивале, получившая массу одобрительных
откликов в прессе, в том числе в крайне правой прессе.
Эта нарочито усложненная и аллегоричная лента
сделана так, что появляется возможность по-разному
толковать ее, но, пожалуй, скорее всего перед зрителем в
условных картинах, воспроизводящих первобытную
жизнь, предстает некая модель современного мира,
раздираемого нетерпимостью и жестокостью фанатиков,
мира ущербного и безнадежного, причем вину за все
несут демагоги-фанатики и ортодоксы. Естественно, что
буржуазная пресса восприняла фильм «Под знаком
Зодиака» как выпад против социализма.
Однако надо сказать, что фильм Сампьери —
исключение в потоке произведений молодых итальянцев,
претендующих на политическую тематику, но на деле все
больше и больше сближающихся с коммерческим кино.
Эти мастера проявили стремление вмешаться своим
искусством в жизнь, попытались рассказывать о самых
острых и дискуссионных вопросах действительности. Они
избрали для этого традиционные, не потерявшие очарования
в глазах зрителей формы рассказа. Но машина
буржуазной киноиндустрии очень быстро подчинила их рутинным
нормам. Те, кто пытался сохранить независимость, просто
оказались лишенными возможности снимать фильмы.
Молодое кино Италии не смогло стать
«киноискусством «новых левых», хотя и показало их более полно, чем
какое-либо еще кино в Европе.
Посмотрим теперь, как обстоит дело с подпольным
кинематографом, который заведомо отключен от
капиталистической системы производства и проката, а значит
и обладает, или должен был бы, по всем данным,
обладать независимостью и свободой выражения.
«Подпольное кино». Слова эти давно уже пестрят не
только на страницах кинопрессы, но и самых
респектабельных журналов и газет, шокируя своей необычностью
буржуазного благонамеренного читателя. О подпольном
кино издано немало объемистых книг. Время от времени
266
в разных концах света проводятся «недели» и даже
фестивали подпольных фильмов...
Что же это за кино? О чем оно говорит? И что у него
есть за душой такое необычное, чтобы называться
«подпольным»? Разумеется, для первого знакомства резоннее
всего будет обратиться к подпольному кино США —
старейшему, наиболее развитому и организованному,
служащему зачастую примером для эпигонов Западной
Европы и Японии. И взглянем на это явление глазами только
искусствоведов.
Начнем с названия. Термин «подпольное кино» не
нов. Его ввел в обиход критик Манни Фарбер в
приложении к фильмам 30—40-х годов, рассказывавшим о
«мужских приключениях». Сегодня фильмы о «революции в
области секса» официально представляются на многие
международные фестивали и невозбранно показываются
в кинотеатрах. Но лет тридцать назад их называли
порнографическими, и нужно было найти новое определение
для их «литературной легализации», что и сделал
находчивый и циничный Фарбер. В течение какого-то времени
термин «подпольное кино» и обозначал фильмы того
особого рода, что называют «с клубничкой». Однако в
1959 году критик Льюис Джекобе применил этот
термин уже в отношении всех* фильмов, сделанных вне
Голливуда, и слова «подпольное кино» получили новый
смысл и новое содержание.
Как ни много написано о подпольном кино статей и
книг, но найти в них достаточно ясную расшифровку
термина нелегко. Шелдон Ренан, автор известной книги
«Введение в американское подпольное кино», пытается с
разных сторон подойти к термину, чтобы определить и его
сущность и само подпольное кино. Но в конце концов все
же оказывается, что эта сущность весьма неопределенна,
а границы самого явления крайне расплывчаты.
Приходится довольствоваться туманным определением
подпольного фильма как произведения, которое: 1) сделано
вне Голливуда, 2) задумано и снято одним человеком
(помощники, конечно, могут быть, но это целиком
«авторский фильм»), 3) выражает личностное
представление о действительности. Кроме того, «это фильм,—
добавляет Ренан,— радикально необычный по форме, или по
технике, или по содержанию, или, возможно, по всему».
По поводу этого определения можно сказать только
одно: когда пользуются такими ничего не говорящими
2G7
определениями, то это свидетельствует либо о том, что
явление ускользает от теоретика, либо о том, что он сам
не заинтересован в его выяснении.
То же самое можно сказать и в отношении
формулировки английского критика Раймонда Дургната, хотя он
продвинулся в социальной оценке значительно дальше
Ренана: «Фильм является подпольным, если он
ниспровергает, как в случае с поэзией битников; если он был
создан не на базе какого-либо предприятия и ради
любви к искусству, а не ради денег и славы; если он имеет
счастье быть изгнанным с экранов кинотеатров, даже
иногда из кинообществ...>
Дургнат выносит вперед протестантский характер
подпольного фильма, правда, не уточняя, против кого
или чего происходит протест. Но затея, подобно Ренану,
предлагает такое расширенное толкование термина, что
позволяет едва ли не любую ленту, снятую на пикнике
или в туристической поездке, назвать подпольной. В
самом деле, понятие «необычная» — неопределенно. А если
то будет пикник «людей без предрассудков»? В таком
случае, конечно, лента при любом качестве обречена на
подпольное существование, ее действительно не покажут
в кинообществе.
Но только стоит ли из-за таких лент копья ломать?
Фильмы, снятые на досуге, имеют скромное и точное
название— любительские. Отвлечемся на время от явного
стремления многих авторов выдать гривуазность
сюжетов за творческую смелость, чтобы уточнить границы
между любительским и действительно внеголливудским
кино, как бы оно ни называлось. Ведь если
идентифицировать слова «любительские* и «подпольные» фильмы,—
а это само собой вытекает из определения Ренана,— то
никакого разговора быть не может, в таком случае
подпольное кино оказывается некиим хаосом, не
поддающимся ни анализу, ни оценкам.
Что касается кинолюбителей, то, хотя они и
представляют собой определенного толка резерв подполья, это
явление особого рода. В США насчитывается примерно
десять миллионов узкопленочных камер в личном
пользовании, а съемка любительских фильмов благодаря
тому, что в стоимость пленки включается и ее обработка,
стала столь же доступна, как и фотография. Ренан на
этом основании пишет, что доступность узкопленочной
аппаратуры коренным образом изменила самое суть тра-
268
Диционного интереса к кино. Люди стали иначе
относиться и к профессиональному киноискусству, когда начали
сами снимать фильмы. А снимать они стали для того,
чтобы удовлетворить естественную тягу к
художественному творчеству.
Это соображение справедливо не только в
отношении США, но, пожалуй, всех развитых стран, где
стоимость камеры уже не превышает стоимости
фотоаппаратов и ролик пленки доступен так же, как пачка
фотобумаги. Узкопленочные фильмы начинают занимать то
место, которое раньше принадлежало личным
дневникам, записным книжкам, семейным фотоальбомам. Тот
же Дургнат идет дальше и пишет: «Я даже рискну
высказать предсказание, что в семидесятых годах
кинокамера будет иметь то же самое значение, какое имела
гитара в шестидесятых».
Исходя из этого, пожалуй, стоит согласиться с Рена-
ном в том отношении, что «свобода» съемки
любительских фильмов «означает свободу делать сложные
фильмы, интимные фильмы, фильмы о жизни или полные
вымысла, фильмы подобные стихам или подобные
живописи». Почему бы их не делать? Дело, как говорится,
личное. Но нельзя согласиться.с его неожиданным выводом:
«этим и занимается подполье». Нет, неоспорим все же
тот факт, что любительские фильмы, тем более не
имеющие какого-либо общественного звучания, так и
остаются любительскими. Человеческие хобби следует уважать,
но бессмысленно возводить их в ранг художественных
явлений. Кроме того, любительскими, разумеется,
остаются и те ленты, которые имеют благородный замысел и
самое актуальное содержание, но беспомощно
исполнены.
В сущности, границы подпольного кино довольно
узки. И сам Ренан, поначалу расширяя их чуть ли не
беспредельно, затем посвящает свою книгу авторам,
группам авторов и фильмам, которые достаточно далеки от
любительства. Иначе и не могло быть. Любители могут
и будут пополнять ряды подпольного кино, но даже при
самом первом приближении к пониманию сути внеголли-
вудского кинопроизводства, что, повторяем, составляет,
по общему мнению, главную особенность подпольного
кино,— нужно сразу же сбросить со счетов то море
самодеятельных лент, которые снимаются для личного
удовольствия.
269
Между прочим, среди деятелен подпольного кино не
так-то уж много бывших любителей. В Америке с давних
пор существуют одинокие кинематографисты,
обслуживающие рекламные агентства, различного рода
организации и учреждения, а также местные телевизионные
станции. Есть и энтузиасты, не имеющие возможности
прорваться в Голливуд, но и не желающие снимать
картины только для домашнего пользования. Вот о таких
людях, порой владеющих высоким профессионализмом и
наделенных талантом, можно всерьез говорить как о
деятелях того подпольного кино, которое заслуживает
внимания и анализа.
В качестве классического примера подпольного
фильма, получившего международную известность и
сегодня попавшего на страницы многих учебников по
кино, назовем «Гневное око» Джозефа Стрика, Бена
Медоу и Сиднея Мейерса. В интервью с автором этих
строк Стрик, правда, резко отграничил себя от
подпольного кино, назвав, в частности, знаменитую
нью-йоркскую группу любителями. Сказано это было, однако,
в момент, когда Стрик энергично прорывался в ряды
профессионалов, а сама «нью-йоркская школа»
входила в безнадежный кризис. В свое же время «Гневное
око», снятое на улицах и в барах Сан-Франциско,
считалось в Америке «неудачным подпольным
произведением» (Й. Мекас), а затем, после необыкновенного
успеха в Европе, стало классикой подполья.
Любопытно — для дальнейшего разговора—отметить,
что именно не понравилось Йонасу Мекасу в «Гневном
оке». Дело в том, оказывается, что в фильме
«религиозная истерика, сцена стриптиза, одинокое лицо и
гомосексуалист в женской одежде стали смешными и
бесчеловечными, в то время как они на самом деле
человечны, часто печальны и трагичны».
По нашему мнению, «Гневное око» выгодно
отличается от большинства подпольных фильмов и, в
частности, от картин самого Ионаса Мекаса попыткой
критически осмыслить действительность. Авторы уж никак
не смеются над уродствами буржуазного образа жизни.
И отнюдь не оправдывают их. Они показывают
изнанку одного из красивейших городов Америки, столь
внешне импозантного, и — ужасаются. Это город одиноких,
опустошенных, глубоко несчастных людей, город, в
котором не хочется жить.
270
Однако типичность «Гневного ока» для подпольного
кино в ином: он снят вне Голливуда на частные
средства, сделан в документальной манере и отмечен не
лишенными интереса поисками в области формы,
наконец, при любой оценке его взгляд на американскую
действительность весьма далек от официальных
пропагандистских утверждений. Как видим, основные черты
подпольного фильма, как их определяют сами
американские критики,— налицо.
Типична и творческая судьба Стрика, чье имя
первым стоит в титрах «Гневного ока». Он начал с
«пляжных» и телевизионных фильмов и сделал их
почти два десятка, пока получил возможность снять
полнометражную картину, правда, с помощью и
привлечением капитала своих коллег. Стрик откровенно и
целеустремленно пробивался на голливудские съемочные
площадки. И прорвался. «Гневное око» и фильм по
пьесе Жанно «Балкон» (1963) засвидетельствовали, что их
автор — одаренный и профессионально грамотный
режиссер. А экранизация «Улисса», вызвавшая в Каннах
скандал, но награжденная в США Оскаром, принесла
Стрику славу. И Голливуд охотно принял его, тем
более что Стрик взялся там экранизировать
полупорнографический роман Генри Миллера «Тропик Рака», по
его же словам, «без каких-либо купюр или смягчений».
Фильм «Гневное око» сделан в 1959 году, то есть он
уже принадлежит истории. Да, американское
киноподполье имеет свою историю. В книге Ренана, а также
в ряде журнальных статей намечена даже
периодизация этой истории.
Версию Ренана можно изложить следующим
образом. Первый авангард вообще в истории кино — это
французский авангард 20-х годов, так сказать, основа
основ. Претендуя на глобальный характер своего
движения, американское киноподполье указывает на
французский авангард как на своего предтечу.
Второй авангард — это американское внеголливуд-
ское кино 30—40-х годов; иногда его называют
экспериментальным, но редко, поскольку определение
«экспериментальное кино» прочно укрепилось в американском
киноведении за советскими фильмами 20-х годов.
Примерами продукции второго авангарда могут служить
картины известной Майи Дерен или фильм Виларда
Мааса «География тела» (1945), участвовавший в фе-
271
стивале подпольного кино 1967 года в Лондоне. («Мы
видим крупным планом части мужского и женского
тела в сопровождении поэтического комментария
Джорджа Бейкара, английского католического поэта,
характерного болезненной сексуальностью»,— так был
изложен этот фильм журналом «Филмз энд филминг».)
Наконец, третий авангард, то, о чем идет здесь речь,—
он начался в 50-х годах и продолжается по сей день.
Внутри третьего авангарда зарождается, по мнению Ре-
нана, четвертый — так называемое расширенное кино,
которое отказывается от изображения реального мира,
обходясь показом на экране мерцания света и игры
светотени.
Здесь совершенно бесспорно то, что в
художественном плане американское подпольное кино уходит
корнями в европейский, прежде всего французский
киноавангард. А его эстетика — это либо вариации модернистских
течений, также рожденных в Европе в стародавние
времена, либо их эклектическое смешение; пожалуй,
новинкой здесь можно считать лишь хэппенинг. Это и
неудивительно— подпольное кино США «питалось»
фильмами французского авангарда, богато представленными
в Музее современного искусства в Нью-Йорке, и
фильмами «второго авангарда», распространявшимися «Си-
нема-16» и еще более зависимыми от европейского
экспериментального кино. Вообще в американском
киноподполье можно найти представителей всех мыслимых
«измов» с очевидным преобладанием, однако,
поклонников фрейдизма, сюрреализма и абстракционизма.
Отдельные фильмы представляют собой откровенное
эпигонство или даже плагиат работ французских и
немецких авангардистов 20-х годов, выгодно отличаясь,
правда, техническим уровнем съемок и обработки лент.
Есть, однако, в американском подпольном кино и
немногочисленная группа одаренных художников,
сохраняющих связи с реалистическим искусством и
стремящихся к социальному анализу действительности.
Условия деятельности таких художников крайне
неблагоприятны в том отношении, что наиболее сильные стороны
их творчества встречают непонимание или же резкую
критику, а то, что у них слабо и болезненно, напротив,
поднимается на щит как откровение.
Современное подпольное кино, или, по периодизации
Ренана, «третий авангард», начиналось и развивалось
m
бурно. В 1952 году Роберт Бриер снял в Париже
несколько короткометражных фильмов,— это можно
считать началом. В 1953 году дебютируют Ионас Мекас,
Кристофер Майлейн и Стэн Брэкхейдж. В 1956 году
получают известность Кен Джейкобе и Джек Смит. Во
второй половине 50-х годов дебюты пошли
беспрерывной чередой. В самом конце десятилетия Джон Кас-
саветис создает шедевр подпольного кино
Нью-Йорка— фильм «Тени>. А в 1961 году Шерли Кларк
снимает «Связного».
Особо важное значение имеет начало издания в
1955 году журнала «Филм Калчер», который сразу же
становится рупором идей подпольного кино, его
главным печатным органом. Благодаря исключительной
энергии и фанатической убежденности, что «новое кино
изменит жизнь общества», статьи издателя и редактора
журнала Йонаса Мекаса (выходца из Литвы, военными
бурями занесенного в Нью-Йорк) серьезно
способствуют организационному, хотя и чисто формальному
объединению прежде разрозненных кинодеятелей.
28 сентября 1960 года тридцать три
кинематографиста собрались в Нью-Йорке и провозгласили создание
«Нового американского кино» (HAK). Слово
«подпольное» нигде не фигурирует — собравшиеся достаточно
серьезные люди, чтобы с недоверием отнестись к
претенциозным вызовам. Но они не лишены тщеславия и
в опубликованном «Манифесте» заявляют, что
«официальное кино во всем мире задыхается, оно морально
загнило, эстетически устарело, его драматургия
поверхностна и скучна». В конце они грозно провозгласили:
«Мы не хотим розовых фильмов, нам нужны фильмы
цвета крови». В том же 1960 году Йонас Мекас писал
в «Кайе дю Синема» как о свершившемся факте:
«Ниспровержение Голливуда и его официальной
кинематографии» представляется главным вкладом «Нового
американского кино». Неосмотрительно, надо сказать,
писал, поскольку именно в это время в Голливуде
происходили весьма интересные процессы,
свидетельствовавшие скорее о своего рода возрождении Голливуда,
нежели «ниспровержении».
Нью-йоркцы решили создать и действительно
создали в 1962 году независимый «Кооператив
кинематографистов», который, между прочим, организует за 25
процентов с дохода прокат любого любительского фильма
273
в школах, колледжах, киноклубах и на телевидении,
если, конечно, это удается. А это довольно часто удается,
ибо интерес к подпольному кино у учащейся молодежи
очень велик. Используя этот интерес, а также
бесплатную рекламу буржуазной прессы, подающей фильмы
HAK как скандальную сенсацию, владельцы
расположенных вблизи университетских центров кинотеатров
давно начали брать наиболее известные подпольные
фильмы для широкого показа, и это позволило HAK
создать в 1966 году уже коммерческий прокатный центр.
Число кинотеатров, сотрудничающих с HAK,
беспрерывно растет, отдельные подпольные фильмы
демонстрировались в десятках театров, обогащая авторов.
Словом, несмотря на то, что в сравнении с общей сетью
кинотеатров США это, конечно, небольшие цифры,
говорить о том, что интересующее нас течение в
современном американском кино все еще ведет подпольный
образ жизни, явно не приходится.
В 1966 году аналогичная HAK организация была
создана в Сан-Франциско, также со своим прокатным
кооперативом и небольшим по объему и довольно
скучным журнальчиком «Каньон синема ревю». Всего в
США в конце 60-х годов действовало, по подсчетам
Йонаса Мекаса, более трехсот режиссеров,
примыкавших по своим взглядам к HAK. Число авторов,
пользовавшихся услугами прокатного центра HAK, во много
раз больше. Картина, как видим, получается довольно
внушительная. Как ни оценивай HAK, но невозможно
не признать, что внеголливудское кинопроизводство
действительно существует. Остается узнать, что же,
собственно говоря, оно представляет собой и чем
конкретно отличаются подпольные фильмы от голливудской
продукции.
Но сначала коротко о самом Голливуде 60-х годов.
Голливуд по-прежнему остается одним из
важнейших пропагандистских орудий американского
империализма, голливудские фильмы — средством
идеологической экспансии и распространения «американизма» в
мире. Это качество Голливуда остается неизменным,
при том что все другое на этой «фабрике слов»
изменилось самым разительным образом.
Напомним, что в 1948 году Голливуд достиг зенита
своего развития, особенно если определять, как это
делают американцы, успехи в долларах. Такие компании,
274
как «МГМ», «XX век — Фокс», «Коламбиа пикчерс
РКО», «Рипаблик», «Парамаунт», «Уорнер бразерс» и
«Юниверсл», владели громадной сетью кинотеатров в
Америке и имели своих представителей во всех
странах западного мира, представителей, диктовавших
условия проката голливудских картин. Мощь и
возможности Голливуда казались беспредельными.
Но в 1950 году начался крах империи. Конгресс под
давлением прокатчиков принял закон, запрещавший
производственным компаниям владеть кинотеатрами.
Окрепшее телевидение оказалось грозным конкурентом.
Одновременно Комиссия по расследованию
антиамериканской деятельности и ее помощники, вроде А. Менжу
или Д. Уайна, изгнали из Голливуда наиболее
одаренных мастеров, что сразу же и резко сказалось на
качестве продукции. В результате стечения многих
обстоятельств Голливуд испытал кризис, показавшийся
многим наблюдателям концом этой столицы буржуазного
киноискусства. В самом деле, в течение буквально
одного года число посетителей кинотеатров уменьшилось
вдвое, закрылось около шести тысяч театров, ряд
компаний прекратили свое существование, производство
картин с 400 в год упало до 150.
Однако сложившаяся в Голливуде ситуация
оказалась благоприятной для деятельности так называемых
независимых продюсеров, для появления мелких студий,
создаваемых звездами и постановщиками самой
высокой репутации. Имена Креймера, Уэллса, Хехта, Хил-
ла, Ланкастера сами по себе были гарантией фильмов,
предлагавшихся ставшим разборчивыми прокатчикам.
Конкуренция телевидения и продукции европейских
студий (вспомним, это годы расцвета неореализма в
Италии) заставляла независимых обратить внимание на
поднятие художественного уровня фильмов, что прежде,
при монополии на прокат, мало занимало голливудских
хозяев. Кроме того, хотя независимые всегда обладали
свободой весьма проблематичной и относительной, ибо
по-прежнему зависели от банковского капитала —
подлинного хозяина Голливуда, они, освободившись от
мелочной опеки, смогли серьезно расширить тематику,
включать, пусть осторожно, социальные мотивы в свои
фильмы, обратиться к некоторым реальным жизненным
конфликтам. Достаточно напомнить в этой связи о
творчестве Стэнли Креймера.
275
По мнению критика Гордона Сталберга,
относящемуся к началу 60-х годов, «если бы не производство
фильмов для телевидения, Голливуд наверное совсем
был бы вынужден закрыть двери». Парадокс здесь в
том, что телевидение, нанеся Голливуду особенно
болезненный удар, своими заказами постепенно изменило
конъюнктуру к лучшему — в начале 60-х годов
телевидение платило за фильм 150 тысяч долларов, в конце
десятилетия 500—600 тысяч. Прибыли от съемок
многосерийных программ для телевидения позволили
отдельным студиям выделять средства для работы над
престижными и экспериментальными картинами, многие из
которых оказались коммерчески очень выгодными.
А перенос съемок многих фильмов за границу,
диктовавшийся поначалу их дешевизной там и стремлением
увернуться от жестокой американской налоговой
системы, значительно расширил зарубежный прокат.
Таким образом, вопреки утверждению Ионаса Ме-
каса в «Кайе дю синема», подполье никакого
отношения к кризису Голливуда не имело. Кроме того,
«ниспровержение» Голливуда сменилось в начале 60-х годов
поначалу неуверенным, затем же все нараставшим
ростом кинопроизводства: 168 фильмов в 1965 году и 240
в 1968-м,— это при том, что в стране было около
семидесяти миллионов телевизоров, а в прокате находилось
270 импортных картин. Достаточно взглянуть на эти
цифры, чтобы понять, насколько смешна претензия
киноподполья «противостоять» Голливуду.
Иначе, разумеется, и не могло быть, поскольку,
повторяем, Голливуд по-прежнему верно служит
интересам господствующего класса США и нужда в этой
мощной пропагандистской машине ничуть не стала меньшей.
Не случайно голливудские фильмы в этом отношении
приравниваются к значению глобальной радиосети
«Голоса Америки».
Отметим, кстати, что попытки сузить понятие
«Голливуд» до названия киногородка в Калифорнии, а
название «голливудские фильмы» закрепить лишь за той
частью продукции этого городка, которая очевидно
убога в художественном отношении и реакционна по своей
сути,— кажутся нам либо результатом узости взглядов
на действительное положение дел, либо
свидетельствуют о стремлении ввести в заблуждение читателей. Да,
сегодня далеко не все американское официальное кино
276
снимается в пригороде Лос-Анджелеса. Не говоря y>Ké
о фильмах, снимающихся в Испании, Англии, Италии,
Югославии и т. д., число картин, сделанных в Нью-
Йорке, перевалило за пятьдесят. Если же из понятия
«Голливуд» исключить еще и независимых, то,
конечно же, Голливуду остается нечто такое незначительное
по числу и качеству, что и говорить не о чем.
«Голливуд», однако, понятие не географическое, а
идеологическое, это освященное традицией название
американского кинематографа, враждебного в своей массе, за
некоторыми исключениями, всему передовому и здоровому
в жизни.
Можно вспомнить, что неореалистические фильмы
снимались не только на «Чиначите» и даже не только в
Италии. Росселлини, снимая «Германия, год нулевой»,
или Де Сантис, работая над «Дорогою, длиною в год»,
не превратились в немецкого и югославского
режиссеров, они продолжали путь итальянского
демократического кино. Так же Кубрик, Хаукс, Уайс, Шлезингер
или Уайлер, снимая за океаном, не перестают быть до
конца американскими мастерами.
Всю картину состояния дел в сегодняшнем
Голливуде невозможно здесь дать даже в виде абриса. Но
совершенно бесспорно, что позиции Голливуда,
приспособившегося в течение 60-х годов к новым условиям,
достаточно прочны. А его слабости и трудности абсолютно
никакой связи с подпольным кино не имеют, эти
слабости и трудности истекают исключительно из общего
кризиса «американского духа».
Очевидно и то, что само появление и относительный
успех киноподполья также в конечном счете
обусловлены даже не появлением «новых левых», а этим
кризисом американской культуры. Глубокая
неудовлетворенность действительностью, охватившая широкие слои
американской интеллигенции и студенчества,
проявлялась по-разному в 60-х годах; одной из форм и была
попытка создать противостоящее официальному
«подпольное» искусство кино.
HAK не поддается однозначным оценкам. Идейно-
социальные характеристики подпольных фильмов
должны корректироваться в каждом конкретном случае, хотя
в последние годы все более общей становится
«программа», выражаемая одним словом — отрицание! HAK
объединяет слишком разных людей, чтобы можно было
277
найти равно для всех подходящее политическое
определение, но можно, однако, говорить о господствующих
тенденциях и главном направлении движения.
Разнообразна и стилистика фильмов разных
авторов.
Необходимо сказать, что HAK долгое время был
известен под звучным названием «нью-йоркской школы»,
а поскольку о «школе» судили по нескольким весьма
значительным фильмам, то представление о HAK в
целом было чрезвычайно лестным.
Для восстановления истины напомним, что группа,
провозгласившая создание HAK, включила в себя
таких ярко одаренных художников, как Джон Кассаветис,
Шерли Кларк, Лайонел Рогозин, Ричард Л и кок, и
некоторых других. Кассаветис открыл для Америки
своими «Тенями» особый стиль документально-игрового
кино, получивший наиболее удачное продолжение в
социально острых и реалистических по форме картинах
Шерли Кларк — «Связной» и «Холодный мир».
Находки Кассаветиса оказали влияние на молодых
кинематографистов некоторых зарубежных стран, в том числе
кинематографически развитых.
Рогозин не исключил элементы инсценировок из
своих фильмов «На Бауэри» и «Гляди, Африка», но он
создал особый вид инсценировок,— это, если
воспользоваться телевизионной терминологией, так называемый
спровоцированный репортаж о том, что возможно и
даже обязательно для данной среды и персонажей,
избранных режиссером для фиксации на пленку. Если
условно определить индекс документальных фильмов
«Тени» и «Холодный мир» в 50 процентов, то фильмы
Рогозина тогда можно считать документальными на
80—90 процентов. И, наконец, Ликок,— это уже
убежденный сторонник «киноправды», стопроцентный
документалист.
Документализм — общая для нью-йоркцев
стилистическая черта, однако на этом общность и кончается, что,
разумеется, исключает возможность говорить о
«школе», то есть о группировке, обладающей, помимо
стилистического, единством идейно-тематическим и
техническим.
Поиски в области формы нью-йоркцев заслуживают
внимания и уважения, многое в приемах съемки
вышеназванных мастеров было по-настоящему новым и
278
оригинальным. Однако, тоже ради истины, напомним,
что стиль документально-игрового кино родился почти
одновременно во многих странах в результате — если
говорить только о технической стороне дела —
появления портативной аппаратуры и высококачественной
пленки. Поскольку новые технические возможности
использовала прежде всего молодежь, стремившаяся к
кинотворчеству в условиях кризиса буржуазного кино,
то общие черты можно отметить не только внутри
«'школ», но и между кинематографистами разных стран.
И если Кассаветис явно влиял на начинающих
режиссеров Европы, то не меньшее влияние испытали и
многие нью-йоркцы, познакомившись с первыми
произведениями таких европейских мастеров, как Годар, Якопет-
ти, Жан Руш.
И еще один момент. Когда Кассаветис показал
мучительные метания мулата, живущего в реальной среде
богемы Гринвич-вилледж и уходящего в конце концов
к своему народу, неграм, а Кларк сняла на подлинных
гарлемских улицах вражду двух банд
негров-подростков, равно обиженных жизнью, то приемы их съемки и
организации сюжетов превратили «Тени» и «Холодный
мир» в социальные документы, обличавшие расизм,
раскрывавшие трагизм положения негров в Америке. Но
те же самые приемы, например, у Уархола стали
средствами создания скандальных фильмов, снятых будто
бы «через замочную скважину».
При всей своей пестроте подпольное кино тем не
менее имеет довольно легко просматриваемые творческие
направления или, если угодно, творческие группы.
В 60-х годах подпольное кино развивалось по трем
главным направлениям — поэтического, абстрактного и
фильма, пассивно фиксирующего действительность.
Таково мнение, если откинуть частности, и Ш. Ренана, и
И. Мекаса, кажется, первым предложившего эту
классификацию, и Е. Теплица, и Г. Бахмана, и С. Зонтаг,
и автора антологии «Новое американское кино» Г. Бат-
ткока. Поскольку эту классификацию журналисты
повторили бессчетное число раз, то ее можно считать
почти официальной.
Про поэтический фильм с наибольшим основанием
можно сказать, что он имеет своими истоками
французский авангард 20-х годов и особенно тесно связан с
сюрреализмом раннего Луиса Бунюэля и вульгарным
279
фрейдизмом Жермен Дюлак. Немало в поэтическом
фильме и изысканного эротизма Жана Кокто. (Кстати,
уязвимость принятой классификации сразу становится
явной, когда узнаешь, что к направлению поэтического
фильма обычно причисляют творчество Кассаветиса,
Кларк, Брюса Бейли). Для поэтического фильма
характерна игра на контрастах, усложненная символика
"изображений и безудержная сексуальность тематики,
граничащая с порнографией и акцентирующая
проблемы гомосексуализма. Во многих фильмах этого
направления документализм лишь подчеркивает скандальность
их тематики.
Три имени исчерпывают всю «поэтику» направления.
Кеннет Энгер — один из старейших мастеров
подполья, начавший свою деятельность юношей еще в 40-х
годах. Но подлинную известность он получил лишь в
середине 60-х годов, когда его фильм «Скорпион
восставший» несколько неожиданно был признан
критиками одной из вершин подпольного кино. Энгер
превосходно снимает и тщательно, очень подолгу работает
над монтажом и отделкой своих картин. Учитывая, что
этому мэтру подполья нет еще сорока лет, можно
думать, что он еще не раз удивит своих зрителей.
«Скорпион восставший» — фильм жестокий и
тревожный. Это, в сущности, гимн во славу «нового
бравого мира», представленного в образах молодых,
затянутых в черную кожу мотоциклистов, которые
обожествляют свои мощные машины, которые влюблены в
свои машины, как в женщин. Можно понять из
фильма, что сами мотоциклисты это и есть слуги
завладевшего миром Дьявола. Трудно отказаться от мысли, что
мотоциклисты Энгера являются реминисценцией из
«Орфея» Кокто, хотя известно давнее увлечение
Энгера астрологией и есть печатные заявления, что, он,
Энгер, убежден, что Дьявол сошел на землю вместо
Мессии и его слуги рассыпались по городам и весям. При
таком, с позволения сказать, мировоззрении нетрудно
и без подсказки Кокто увидеть в «диких ангелах» слуг
Дьявола.
Энгер откровенно любуется и восхищается черными
мотоциклистами, словно вросшими в свои машины,
похожими на кентавров XX века. Если это «слуги
Дьявола», то им нельзя не поклоняться. Эта откровенная
апология насилия — бесчеловечна. Энгер, в сущности,
280
открыто реакционен здесь, он делает то, что не
осмелился сделать ни один из голливудских дельцов.
В 1966 году Энгер хотел продолжить начатый в
«Скорпионе восставшем» рассказ о захвате мира
Дьяволом и начал снимать фильм «Люцифер восставший»,
где, судя по прессе, мысль об «естественности»
бесчеловечности должна быть выражена с еще большей
откровенностью. Однако парень, которого он снимал в
роли Люцифера, сбежал от него к хиппи, не выдержав
всей этой чертовщины, а снятую уже пленку кто-то
украл. Разочарованный Энгер, к счастью, отказался от
своего плана.
Вторая знаменитость поэтического кино — Джек
Смит, ровесник Энгера, получивший широкую
известность как автор единственного в истории HAK фильма,
запрещенного было цензурой штата для широкого
проката по причине крайней аморальности. (История
запрещения, возмущения запрещением и снятия
запрещения— длинна и нелепа, это история бури в стакане
воды; сейчас, когда в Нью-Йорке идут без малейшей
купюры фильмы В. Шёмана о «любопытной» Лене, эту
историю нет нужды вспоминать.) «Пылающие
создания» не были чем-то исключительным — у Смита
множество коротких лент, почти сплошь гомо- и
гетеросексуальных. «Пылающие создания» (1963),
удостоенные внимания цензуры, ничуть не лучше и не хуже
других картин, только длиннее — лента длится час.
Все писавшие о «Пылающих созданиях» по-своему
рассказывали содержание этого фильма и по-разному
толковали его. По мнению Е. Теплица «он просто и со
всеми подробностями показал вечеринку, которая
перерастает во всеобщую и бесстыдную сексуальную игру.
Слово «оргия» здесь абсолютно неуместно: оно
ассоциируется с разнузданностью и развратом». Не думаю,
что слово «оргия» не так уж неуместно. И с чем же
еще ассоциировать происходящее на экране, как не с
разнузданным развратом? Предоставим слово критику
К. Келману: «Потрясает сцена насилия, когда одно
создание (я думал, это женщина, но Смит мне сказал —
гермафродит) насилуют бесчисленное число раз,
разными способами, с фантастической яростью...»
Добавим, что показана эта сцена со столь же
фантастической откровенностью. Хорошенькая игра!
281
Мы не беремся пересказывать этот фильм. Сюжета
он не имеет, а о его сценах невозможно писать. И мы
не видим здесь никакого «эпатажа буржуазных
нравственных идеалов»,— это просто порнография, какими
бы словами этот факт ни прикрывался. Если фильм и
заставляет думать, то лишь о том, что автору
следовало бы срочно обратиться к врачу.
Голливуд, как известно, никогда монастырем не был,
и его продукцию справедливо осуждают за
безнравственность. Голливуд, наверное, разинул рот, увидав
такие фильмы подполья, как смитовские «Пылающие
создания». И многому научился от них, как показал
конец 60-х годов.
Наконец, Грегори Маркопулос (род. 1928). Он
долгое время повторял из фильма в фильм, подобно
Д. Смиту, мотивы гомо- и гетеросексуализма. Он
избежал смитовского цинизма, черпая сюжеты для своих
картин из таких «легальных источников», как
греческие мифы об однополой любви.
Как режиссер Грегори Маркопулос явно очень одарен.
Его картины «Психея», «Лисис», «Хармидес», «Иллий-
ские игры» насыщены поэтическими символами. Все
это, однако, ничуть не делает их привлекательными,
напротив, они производят крайне неприятное впечатление
какой-то уклончивостью, болезненностью, какой-то
недоговоренностью, заставляющей думать, что «это лишь
цветочки...».
В конце 60-х годов Маркопулос перешел на съемку
ставших модными фильмов, фиксирующих
действительность. Его фильм «Млечный путь», немедленно
занесенный Ионасом Мекасом в число достижений HAK,
вызывает у зрителей и даже критиков недоумение.
В самом деле, это лишь череда портретов сидящих
совершенно неподвижно и молчаливо людей; сняты они с
одной точки неподвижной камерой, и длится этот
«фильм» 90 минут!
Группа сторонников поэтического фильма — самая
многочисленная. Это очень удобные слова —
поэтический фильм — для определения того, что спорно или
нелепо, заумно или не укладывается в привычные рамки.
Эти слова часто вызывают протест, потому что
зачастую ими маскируется творческая немощь и
неграмотность, снобизм и порнография, эгоцентризм и
откровенная негуманность.
282
Этими словами сбиваются с толку реалистические
художники. Так, Шерли Кларк, которую справедливо
называют «Золя американского кино», не раз слышала
обвинения в «недостаточности поэтичности».
Вместе с тем отдельные фильмы участников HAK
полны истинной поэзии и по праву называются
поэтическими. Например, удивительно лиричен и полон
одновременно грусти и оптимизма фильм Фрэнка Перри
«Девид и Лиза» (1962), рассказывающий о
зарождении чувства у двух больных молодых людей, об опоре,
которую нашли в любви они, отчужденные от жизни
болезнью. Истинной поэзией проникнуты и некоторые
фильмы, как правило, хроникальные, показывающие
быт хиппи.
Таков фильм Тэя Слоана, участника движения
хиппи, «Хромая собака» — «самый правдивый фильм об
американской молодежи из всех созданных в 60-х
годах», как утверждает критик Альберт Джонсон. Этот
фильм показывает идиллический мир двух очень юных
созданий, художницы и поэта, ушедших в мир хиппи и
там нашедших друг друга, любовь, счастье и чистоту
отношений. При всем том фильм Слоана глубоко
трагичен, поскольку, оказывается, сегодня в Америке
чистоту и счастье можно найти, лишь отгородившись от
реальности галлюцинациями, вызванными наркотиками.
Абстрактный фильм имеет в американской прессе и
более благозвучное название — пластический фильм.
Игра формами, световыми и оптическими эффектами,
поиски «внеэстетического» воздействия на зрителя —
вот в общих словах сфера абстрактного фильма, по
сути своей являющегося отнюдь не новой формой
бегства от действительности. Ведущий свою родословную от
абстракционизма в живописи, американский
абстрактный фильм если чем и привлекает внимание, то лишь
откровенностью формулировок своего «творческого
кредо». Теоретическим обоснованием абстрактного
подпольного фильма являются два основных соображения:
1) живопись бессильна отразить сложность
современного мира, ее функции должно взять на себя кино;
2) кино сменой изображений, которые, как узоры,
могут не иметь никакого смысла и сами по себе ничего
не означать, способно тем не менее вызывать
сильнейшие физиологические ощущения, которые можно
сравнивать с действием наркотиков.
283
Рассказывая о фильме Тони Конрада «Мерцание»,
Ренан пишет: «В нем только черные и белые кадры.
Их положение все время меняется в разных сочетаниях,
и это оказывает сильный зрительный эффект и
способно вызвать у зрителя иллюзию цвета, светового
излучения и прочего. (Один несчастный из 15 тысяч
зрителей может под воздействием «Мерцания* впасть в фо-
тогеническую эпилепсию.)»
Из всего этого можно, очевидно, сделать вывод, что
такого рода фильм не имеет ничего общего с
искусством. Известно, что психологи разных стран уже лет
пятнадцать изучают открывшуюся возможность прямого
воздействия через фильм на подсознание зрителя.
Классический пример: если в десятиминутном ролике
о чем угодно вклеить по отдельности 300—500 кадри-
ков со словом «пить», то все зрители после сеанса
бросятся искать воду. Пример не классический: в
английском фильме, показывавшем розарий, также через 20—
30 кадров было подклеено по кадрику со словом
«дерьмо»— зрители вышли с сеанса, зажимая носы. Глаза
зрителя не могли никак уловить мелькания кадриков,
но подсознательно они восприняли эти слова как
команду. «Мерцание» принадлежит, конечно, к числу такого
же рода экспериментов. И пункт № 2 из теоретического
обоснования абстрактного фильма может привлечь
внимание лишь психологов.
Однако художников, создающих абстрактные
фильмы, немало. Наиболее известен из них Стэн Вандербик
(род. 1931), режиссер весьма плодовитый, снимающий
картины в разных манерах. У него есть фильмы
«чистой абстракции», воспроизводящие на экране
странные, несуществующие в жизни узоры и орнаменты. Есть
символические изображения сексуальной жизни людей.
И есть вполне «конкретные» политические сатиры.
Вандербик большой мастер трюковой съемки, почти все его
фильмы очень любопытны в техническом отношении.
Он умеет искусно и неожиданно, демонстрируя вкус и
художественный дар, строить композицию кадра.
Те немногие короткометражки Вандербика, которые
нам довелось видеть, рождают ощущение, что их
автор—один из наиболее одаренных и культурных
мастеров нью-йоркского подполья. Его пребывание в рядах
абстракционистов кажется случайностью. Практика
абстрактного фильма не может, очевидно, удовлетворить
284
его — он все время в поисках, все время
экспериментирует с техникой съемок, с проекцией фильма, с
возможностями более острого воздействия на зрителей. Как
мало к кому, к Вандербику подходит название
экспериментатора.
Вандербик, кроме того, связан с так называемым
живым театром, поставляя спектаклям-хэппенингам
ленты, которые включаются в зрелище так же неожиданно
и «еретически», как некогда Эйзенштейн включил в
свою постановку пьесы А. Островского эстрадные
номера и фильм.
Видное место в американском абстрактном кино
занимает также Роберт Бриер (род. 1926)—автор
многих рисованных и комбинированных (натура с
дорисовкой) фильмов. Уловить какой-либо смысл в них, по-
моему, почти невозможно,— впрочем, сам Бриер просит
смысл и не искать, поскольку, мол, бессмыслен весь
мир; ранние рисованные мультипликации Бриера
любопытны хотя бы с точки зрения техники исполнения,
чего уже никак не скажешь о поздних скучнейших
фильмах «оживленных форм», показывающих
совершенно нелепые движения предметов галантереи и быта —
пуговиц, стаканов и т. п.
Наконец, третье направление — фильм, пассивно
фиксирующий действительность. Слово «пассивно»
способно лишь ввести в заблуждение, если понимать его как
отказ от интерпретации действительности, но оно
вполне подходяще для определения отношения многих
авторов подполья к действительности. Кстати сказать,
подавляющая часть продукции HAK — документальные
фильмы, и активность отношения к действительности
«поэтов» и «пластиков» ничуть зачастую не выше, чем
у сторонников третьего направления, так называемых
«фиксаторов». Кроме того, многие режиссеры легко
переходят из одной классификационной группы в другую,
снимая сегодня нечто «символическое», а завтра —
абсолютно абстрактное. Так что повторим:
классификация эта предельно условная, ежеминутно требующая
поправок и оговорок.
Например, весьма популярный режиссер подполья
Стэн Брэкхейдж (род. 1931) выступал во всех
названных и во многих никакому определению не
поддающихся манерах. В начале 60-х годов он снял
разлагающийся, облепленный насекомыми и мухами труп собаки,—
285
фильм назывался «Прелюдия: собака — звезда —
человек» и за будто бы глубочайшие ассоциации был
причислен к... чистейшей поэзии. Его же фильмы без
названий, под номерами опусов —№ 1, № 2 и т. д.,
показывающие жизнь маленькой дочери, были причислены
к направлению «пластиков». А его скандальный фильм,
показывающий биологические подробности рождения
дочери, как говорят, чистая фиксация.
Впрочем, для своих коллег Брэкхейдж — «поэт
экрана». И ничто не могло бы более разрушить понятие
поэзии, чем причисление к ней фильмов Брэкхейджа,—
фильмов, подчас поражающих то страстью автора, то
беспримерным цинизмом, но в целом оставляющих
чрезвычайно тягостное впечатление произведений,
сделанных психически вряд ли здоровым человеком.
Классический фильм фиксаторов — это «Сон» Энди
Уорхола (род. 1928), показывающий спящего человека.
Человек спит, спит по-настоящему, иногда меняет позу,
шлепает губами во сне — и все! И так в течение шести
часов!
Смертельной тоски и идиотизма своих фильмов,
подобных «Сну», не выдержал и сам Уорхол, перешедший
постепенно, несмотря на поддержку «Филм калчер», к
фиксации уже более существенных сторон жизни.
В 1965 году он показал два фильма — «Испытание
экраном» и «Кухня»,— имевшие успех благодаря
эротическим двусмысленностям (в первом роль женщины
исполнял пуэрториканский юноша) и, пожалуй, тому
факту, что Уорхол здесь использовал традиционный четкий
сюжет.
В начале 60-х годов Уорхол, довольно известный
художник стиля поп-арт, снимал фильмы на деньги,
заработанные кистью; после «Кухни» его стало «кормить»
кино. В 1966 году он выпускает «Девушек из Чел-
си»— фильм-сенсацию, который только в США
прокатывали сто публичных кинотеатров и который сделал
автора миллионером.
«Девушки из Челси» привлекали внимание
технической новизной: фильм демонстрировался одновременно
на двух экранах, показывавших различные эпизоды,
связанные между собой по принципу контрапункта:
одни сцены были цветными, другие — черно-белыми;
одни сопровождались звуком, другие шли как «немые».
Впрочем, прокатчики не могли перестраивать свои те-
286
атры ради одного фильма и чаще всего фильм
Уорхола шел как обычный.
Зрители и прокатчики явно менее всего
заинтересовались техническими новациями Уорхола, секрет
успеха лежал в содержании фильма. «Девушки из Челси»
сняты в одном из отелей-притонов Нью-Йорка,
служащих пристанищем для наркоманов, гомосексуалистов,
лесбиянок и прочих извращенцев. Кое-что Уорхол снял
скрытой камерой, кое-что завсегдатаи притона за
небольшую мзду демонстрировали перед камерой, кое-что
автор явно инсценировал.
В фильме есть сцены, не уступающие по
аморализму «Пылающим созданиям». Но хотя фильм имел
успех в первую очередь благодаря «клубничке»
(«...благопристойные обыватели,— пишет Е. Теплиц,—
страстно хотели, как в замочную скважину, увидеть, что
же там делается, в этом запретном мире»), работа
Уорхола серьезно отличается от эрото-патологического
опуса Джека Смита. Критик Альберт Джонсон
справедливо увидел в фильме Уорхола отражение
реальной жизни Соединенных Штатов 60-х годов. «В
каждом эпизоде «Девушек из Челси»,— пишет
Джонсон,— царит атмосфера отчаяния, вызванного гибелью
всех идеалов, разочарования в окружающем героев
современном мире, непроходимой скуки их
существования». Соглашаясь с этой оценкой, нельзя,
однако, не заметить, что критическая направленность
фильма Уорхола подчас теряется в шоковых эротических
эпизодах.
За «Девушками из Челси» последовал «Мой
энергичный парень» — фильм уже откровенно коммерческий,
где мотивы социальной критики исчезли, уступив место
юмористическому обыгрыванию «быта»
гомосексуалистов. Достаточно сказать, что «гвоздем» фильма стал
диалог между потрепанным педерастом и прелестной
молодой женщиной, которые бьются об заклад — кто из
них скорее завлечет красивого юношу...
Если мысленно прикинуть направление движения
Уорхола, автора нескольких десятков фильмов, то
оказывается бесспорной его склонность использовать
достижения и авторитет HAK для пропаганды наркомании,
сексуальных извращений, низменного отношения к
человеку. Критицизм, присутствующий в «Девушках из
Челси»,— исключение, а правило — восхищение миром
287
подонков и наркоманов, такое же откровенное
восхищение, какое у Энгера перед «дикими ангелами».
Стоит отметить тот факт, что Голливуд уже
обращался к Уорхолу с предложением переехать к Тихому
океану, и Уорхол не отказался, хотя объявленные в прессе
съемки им комедии для Голливуда до конца 1969 года
еще не начались, но тут все дело в богемном характере
Уорхола. В принципе же Уорхол подходит Голливуду,
а Голливуд подходит Уорхолу.
Помимо трех главных направлений Ренан указал
еще на развернутое (или продолженное) кино, признав,
что «его окончательные признаки еще не ясны». После
выхода книги Ренана в свет прошло пять лет, а дело с
«развернутым кино» по-прежнему «не ясно». По
мнению Ренана, сторонники этого направления
воспринимают «кино как окружение, как часть среды... как
явление времени и света». Когда же Ренан начинает
приводить примеры, то оказывается, что «развернутый
фильм» абсолютно ничем не отличается от
абстрактного фильма.
Можно, кроме того, заметить в утверждении кино
как «продолжения действительности», а не как формы
ее отражения очевидную вторичность по отношению к
литературно-критической работе французских
режиссеров, составивших «новую волну». Задолго до
американцев то же самое в отношении кино утверждали Годар,
Трюффо и некоторые другие молодые критики «Кайе
дю синема». Для них, однако, эта интеллектуальная
гимнастика была парадоксальной формой сближения с
действительностью, в то время как для молодого
американского подполья отказ кино в возможности
познания жизни есть форма ухода от жизни.
Наконец, несколько слов о сан-францисской группе
HAK. Проживающие в Сан-Франциско, Беркли и
других калифорнийских городах режиссеры идут в целом
по тем же направлениям, что и нью-йоркцы, так же
деловито разрабатывая темы секса, наркомании как
способа бытия, эпатажа буржуазной морали,
переходящего в отрицание любой морали, и т. п. Но либо
«благодаря мягкой природе и общей атмосфере Калифорнии»,
как считает Е. Теплиц, либо в силу своей большей
близости к движению за гражданские права и
антивоенному движению студентов, что ближе к истине, калифор-
нийцы чаще других режиссеров подполья обращаются
288
к жизненным, иногда острым социальным темам,
разрабатывая их без того надрыва и трагизма, что
свойствен фильмам нью-йоркцев.
В галерею киномастеров подполья, составленную Ре-
наном, вошли лишь двое из режиссеров Западного
побережья — Брюс Бейли и Роберт Нельсон. Энгер и
некоторые другие режиссеры, хотя и живут в
Сан-Франциско или близ него, примыкают к нью-йоркцам и обычно
перечисляются в их ряду. Это, кстати, убедительнее
всего говорит о том, что сан-францисское подполье
отделяется от нью-йоркского не только милями, но и чем-
то более существенным. К сожалению, фильмы кали-
форнийцев сравнительно мало известны и даже пресса
о них куда беднее, нежели пресса о фильмах
ньюйоркцев.
Самой большой и вполне заслуженной известностью
из мастеров Западного побережья пользуется Брюс
Бейли (род. 1931), успешно работающий над темами
жизненными и в манере реалистической. Одним из его
первых фильмов был «Мистер Хаяши» — рассказ об
одиноком бедняке японце, бродящем по сан-францис-
ским фешенебельным пригородам. Потом последовали
«Месса» —о вымирании индейцев в штате Дакота,
фильм-исповедь «Вся моя жизнь» и, наконец, «Дон
Кихот», высоко оцениваемый критиками разных взглядов.
Судя по прессе, в этом фильме Бейли дает острые
зарисовки современных социальных проблем Америки,
занимая позицию прогрессивного и наблюдательного
критика.
Все творчество Бейли пронизано грустью и
сочувствием к одиноким, оказавшимся за бортом
американского благоденствия людям. В его фильмах много
доброты — чувства почти незнакомого мастерам подполья,—
но много и горького бессилия.
Роберт Нельсон (род. 1930) чаще всего
характеризуется критиками подполья как режиссер, работающий
в разных манерах, но наиболее успешно — в области
поэтического фильма. На наш взгляд, главная
отличительная черта Нельсона — юмор, порой переходящий в
злой сарказм. Широко известен его фильм «Ох,
проклятые арбузы!», снятый в качестве интермедии к
спектаклю «Менестрель шоу». Стив Рейч написал
оригинальную музыку к фильму, и θη зажил к концу 60-х
14 Р. Соболев
289
годов самостоятельной жизнью, получая внимание от
всех, кто пишет о HAK.
Фильм «Ох, проклятые арбузы!» идет всего
двенадцать минут, но вмещает в себя очень многое. Его
исполнители— артисты шоу и... арбузы особого сорта,
обладающие черной кожурой. Арбузы всем поначалу
нравятся— и старцам, и детям, и юным леди (по жанру
это бурлеск, поэтому Нельсон весьма и весьма
фривольно показывает, почему леди нравятся черные арбузы).
Но когда сладкая мякоть бывает съедена, черные
корки всем досаждают и надоедают; никто не знает,
как отделаться от всюду попадающих под ноги прохожих
черных корок. Подтекст фильма: черные арбузы —
негры...
Существует мнение, что подпольное кино США
развивается на основе программы, изложенной Йонасом
Мекасом в журнале «Филм Калчер». Пишет он по-
прежнему поразительно много — ныне уже не в своем
журнале, который, кажется, скончался, а в газетах,
особенно в газетах Западного побережья. Пишет
бесконечно длинные и подчас очень сложные для понимания
статьи с продолжением. Особенностью литературного
стиля Йонаса Мекаса является частое повторение
дорогих, очевидно, автору мыслей,— он повторяет одно и то
же, словно вбивает это в головы читателей. (Он
выступал и как постановщик, однако не очень удачно: его
фильм «Оружие деревьев» всегда попадает в
перечисления, но явно не вызывает у критиков желания вести
большой разговор.)
Бесспорно, у Йонаса Мекаса есть определенная
система взглядов на мир и кино, которых мы сейчас и
коснемся. Но было бы упрощением считать этого не
очень удачливого эмигранта каким-то пророком
подполья, которое будто бы развивается по его указаниям.
Все сложнее. Оценивать фильмы отдельных мастеров
HAK можно, лишь исходя из гражданственной и
художественной позиции их авторов. Позиции эти очень
разные.
А если мы видим какие-то общие тенденции в
практике HAK, то Йонас Мекас здесь ни при чем. В
лучшем случае он, как журналист, нашел слова для
определения того, что делают практики. Тем не менее
познакомиться с его программой необходимо, знакомство
кажется довольно поучительным для иллюстрации того,
290
как претворяются политические взгляды новых левых в
эстетическую программу.
Программа Мекаса эклектична и туманна, ее поло*
жения при желании и некоторой манипуляции словами
можно толковать как угодно и класть в основу любой
практики.
Кино, по Мекасу, является наиболее современным
(иногда он пишет — «практически сегодня
единственным») и доступным почти каждому средством
познания окружающей человека действительности и, что
еще важнее для Мекаса, самовыражения. При этом не
имеет никакого значения, насколько представления
человека, познающего мир через объектив камеры,
соответствуют истинному положению дел,— важно лишь
видение мира данным человеком и если оно честно
зафиксировано на пленку, то имеет ценность будто бы
объективного документа.
Позиция «фиксатора» не учитывается, как мы
видим. Идеологический момент в познании отбрасывался.
Это, кстати, никогда не скрывалось Мекасом. В
юмористической «Энциклопедии Нового американского
кино» он откровенно отметил: «Идея — это
разрушительный элемент, от которого следует избавиться
заранее».
Эта апология камеры сопровождается утверждением
своего рода художественного нигилизма:
несовершенство съемок, дрожание кадра, бессвязность монтажа
и т. п. есть не порок, а достоинство, особенно если
фильм выражает не только сознание, но и подсознание
автора, если фильм показывает «неведомую или
скрываемую правду». (Невозможно накладывать это
положение на творческую практику: в случае с
«Пылающими созданиями» и тому подобными фильмами
получается нечто чудовищное.)
Далее, Мекас еще с середины 50-х годов
настойчиво утверждает, что поскольку, мол, мир охвачен
безумием и приближается, с одной стороны, к ядерной
катастрофе, а с другой — к уничтожению личности, то
единственной целью творчества может быть лишь
протест и отрицание этого мира. Право и долг
художника — разрушать все и всяческие установления
общества. Поскольку художнику наиболее доступна область
этики, то и разрушать нужно прежде всего
нравственность.
14*
291
Остановимся на этом соображении Мекаса,
неоднократно повторявшего, что «новые искусства в Америке,
Новая американская кинематография в том числе,
родились в движении, имеющем скорее этический, чем
эстетический характер».
До эстетики нужно создать более важные вещи —
нового человека. Если даже не обращать внимание на
игру слов, на неоправданное противопоставление этики
эстетике и допустить, что Мекас в духе модного
понимания кино как продолжения жизни действительно
ставит перед HAK исключительно моральные проблемы,
то логично следует вопрос: а что же понимается здесь
под «новым человеком»? Практика Мекаса, как
критика подпольных фильмов, позволяет дать
исчерпывающий ответ: это человек, свободный от американских
мифов, создаваемых Голливудом, человек, откинувший,
как устаревший хлам, лицемерие и ханжество
буржуазного общества, все его искусственные табу и
догматы.
Все это звучит весьма убедительно и, конечно, не
может не встретить горячий отклик в определенных
слоях американского общества, особенно в среде
бунтующей молодежи. Голливуд в самом деле превратил свою
основную продукцию в киносказки о счастливейшей и
богатой Америке. А буржуазная мораль очевидно
лжива и античеловечна. Говорить об этом означает, в
сущности, повторять банальности. Проблема, однако,
состоит в том, что именно противопоставляется
буржуазной морали, какое конкретное наполнение получает
заявка на создание «нового человека». Прямого ответа
Мекас не дает да и не может дать, но его
последовательная защита фильмов Джека Смита, Уорхола, Эн-
гера, Брэкхейджа дает полное основание представить
«нового человека» как существо, которое освободилось
от всяческой морали и всех обязанностей перед
обществом. Для такого «нового человека» понятие свободы
исчерпывается свободой сексуальных извращений, а
отрицание буржуазной этики завершается абсолютным,
чудовищным по своим проявлениям цинизмом.
Нужно ли добавлять, что «этическая программа»
Мекаса в конечном счете есть программа идеологическая?
И что вольно или невольно, но она объективно служит
решению задачи, в которой заинтересовано лишь
буржуазное общество, против которого будто бы и борются
292
сам Мекас и подпольное кино в целом,— задачи деиде-
ологизации общества, духовного разоружения людей, в
первую очередь молодежи?
Ведь Мекас не останавливается на отрицании
общественных связей людей. В последние годы он упорно
проводит мысль о том, что существующие теории
преобразования действительности доказали будто бы свою
несостоятельность и потому должны быть отвергнуты.
Теорию переустройства общества, утверждает Мекас,
невозможно придумать; понимание того, что
необходимо людям, возникает само собой в ходе разрушения
того, что есть...
Как видим, «пророк» подпольного кино отнюдь не
чужд политике. Собственно говоря, это было ясно с
самого начала, когда еще в 50-х годах Мекас
постулировал свободу от прошлого и безответственность перед
будущим. Объявляя интерес к настоящему
единственной задачей подполья, Мекас очевидно суживал его
возможности.
Политика у Мекаса скверная. Бессмысленно
дискутировать с положением о «несостоятельности»
современной социальной теории в единственном числе, ибо
есть лишь одна научная теория революционного
преобразования общества —- марксизм-ленинизм. Мекас не
утруждается доказательствами, он просто отрицает
факты, отрицая тем самым и возможность спора,
уподобляясь апологетам буржуазного общества, в большинстве
своем, напомним, не выдумывающим контрдоводы
против марксизма-ленинизма, а фанатично отвергающим
все, что гласит эта теория и что сделано уже для ее
претворения в жизнь.
Если же счесть утверждение Мекаса, что цель
возникает в ходе разрушения, «позитивной» частью его
программы, то и здесь он не оригинален — он лишь
повторяет взгляды крайне левого движения,
развивающегося в Соединенных Штатах одновременно с
подпольным кино. Этот факт осторожно отметил и Ренан:
«Политическая ориентация подпольных кинематографистов,
кажется, идет от либерализма к абсолютному
анархизму».
Подпольное кино всегда охотно отражало
экстремистские течения в среде американской молодежи.
Поначалу оно очень интересовалось битниками. Так, в начале
60-х годов известностью пользовалась экранизация
293
одной малоизвестной пьесы Джека Керуака,
осуществленная Р. Френком и А. Лесли и лолучившая
особенно благосклонный отклик Мекаса. Фильм назывался
«Погадай на моей ромашке» и показывал реальную
вечеринку богемы в Гринвич-вилледж с участием поэтов-
битников Грегори Корсо, Аллена Гинзберга, Петегра
Орловского, художника Ларри Ривера, композитора
Дэвида Амрама и целой кучи «железнодорожников».
Достоинство фильма Мекас увидел в том, что «там ничего
не происходит», и оценил его так: «Никакой лжи,
претензий, никакой морали».
Не прошло HAK, как мы уже отмечали, и мимо
движения «детей-цветов», причем фильмы о хиппи были
разные — и воспевавшие наркоманию и указывавшие на
трагический тупик, в который попадает часть
американской молодежи. В целом, однако, можно заметить, что
HAK не ощущало особенной симпатии к «мирным»
хиппи и ничего равного по силе, например, «Скорпиону
восставшему», о них не создало.
«Ножницы» между программой Мекаса и практикой
подпольного кино, с одной стороны, и между
реальностью и полнотой ее отражения — с другой, стали
очевидны с середины 60-х годов, когда в Соединенных
Штатах борьба негров за гражданские права
приобрела черты «черной революции», а движение студенческой
молодежи против войны во Вьетнаме и за
демократизацию общества стало массовым и прогрессивным по
своему характеру. Неоспорим тот факт, что HAK «не
заметило» принципиальных изменений в американском
обществе, воспевая в эти годы «диких ангелов» и
подонков.
Фильмы, подобные «Теням» Кассаветиса и
«Холодному миру» Кларк, являются исключительными в
продукции HAK. Правилом была продукция,
избегавшая— вопреки утверждениям, что HAK интересуется
лишь «тем, что есть»,— реальных проблем
современности, уводившая зрителя в мир абстракций, символов,
эротизма и нигилизма. И никогда Мекас не сказал, что
такого рода фильмы отклоняются если не от духа, то от
буквы программы, изложенной в Манифесте 1960 года
и повторявшейся без конца на страницах «Филм Кал-
чер».
Наконец, отметим и такой штрих, как требование
Мекаса: «Рай — сегодня!» Это требование означает осо-
294
знание полной бесперспективности всего, что
защищается, абсолютное неверие в будущее. Получить сегодня
от жизни все, потому что завтра — потоп,— философия
тоже не новая. Кроме того, она вполне согласуется и с
пропагандой гедонизма, становящегося, как мы
отмечали, сегодня официальной философией общества
потребителей (это требование «рая» выглядит довольно
комичным у Йонаса Мекаса, человека аскетической
внешности и такого же образа жизни).
Как видим, программа Мекаса эклектична и
откровенно реакционна в своем существе, хотя, как нередко
бывает в таких случаях, она претендует на
«революционность».
И еще эта программа глубоко провинциальна.
Провинциальна в том смысле, что ею может
довольствоваться искусство не загнанное в подполье, а
добровольно отгородившееся от большого, «прекрасного и
яростного» мира, искусство, которое само ушло в мрачноватый
тупик, но при этом претендует на знание
абсолютной истины и поучительство,— черта, кстати заметить,
вообще весьма свойственная многим направлениям в
современном американском искусстве.
Остается подвести итоги, для этого снова взглянув
на реальное соотношение: подполье — Голливуд.
Ни «фильмов цвета крови», ни образа «нового
человека» подпольное кино не создало. Творчество
небольшой группы художников, сохраняющих связи с
реализмом и отражающих в своих картинах
действительные американские конфликты, связано не столько с
HAK, сколько с общими традициями американского
прогрессивного искусства. Фильмы Кассаветиса, Кларк,
Рогозина одновременно гордость HAK и нечто такое,
что перечеркивает деятельность и самого Мекаса, иЭн-
гера, и Уорхола, и многих других.
Это факт. Но факт и то обстоятельство, что HAK
порождено, конечно же, не волей путаника Мекаса, а
сложной американской действительностью, глубоким
духовным кризисом буржуазного общества. Диалектика
жизни проявляется здесь в том, что какой-то протест
против антигуманного общества отдельные фильмы
подполья несут, даже если не вспоминать при этом
Кассаветиса, Кларк и т. д. Это порой столь же странный и
во многом самоубийственный протест, каким был
протест уходивших в добровольное нищенство и в мир нар-
295
котических галлюцинаций хиппи,— но все же это
протест и отрицание официальных утверждений. Иначе не
было бы у HAK той молодежной аудитории, которой
оно сегодня по праву гордится, не было бы того успеха
у молодежи, с которым критика не может не считаться.
Но тем более стоит подчеркнуть то обстоятельство,
что HAK не только не смогло бросить «вызов»
Голливуду, но даже обогнать его продукцию в социальной
остроте. Приспосабливаясь к новой американской
действительности и оглядываясь на международный
прокатный рынок, Голливуд серьезно расширил в 60-х
годах тематику своих фильмов, смелее стал касаться
социальных проблем, хотя и решает их чаще всего в духе
конформизма.
Что может противопоставить HAK социальным
фильмам Голливуда? Всего две-три картины все тех же Кас-
саветиса, давно работающего в Голливуде, Кларк,
Рогозина и с десяток полулюбительских короткометражек.
Да и эти мастера, как мы уже заметили, не
противостоят Голливуду, но вместе с прогрессивными
голливудскими художниками представляют в киноискусстве
Америку трезво мыслящую, обеспокоенную кризисом духа
нации, заинтересованную в изменении жизни к
лучшему.
Нельзя упускать из виду и то обстоятельство, что
аудитория, а значит, и воздействие некоторых фильмоп
прогрессивных мастеров Голливуда, в сотни, в тысячи
раз превосходит возможности HAK, хотя, разумеется, в
киноискусстве это и не самый главный показатель.
Поверим, что перед HAK до сих пор лежат
различные пути развития (но это вряд ли так на самом деле),
в том числе и путь к тому, чтобы стать политической и
социальной силой, как то было заявлено в Манифесте
десять лет назад. Теоретически такую возможность
можно допустить, исходя из произведений режиссеров,
сознательно делающих камеру инструментом познания
действительности и средством вскрытия социальных язв.
Но практически при этом уже придется обращаться к
внеголливудскому производству, не входящему в
систему HAK, например к группе «Америкен докьюментери
филмз». Именно эта группа, вышедшая уже и на
международный экран, представляет сегодня внеголливуд-
ский социальный фильм в Америке — благодаря
исключительно тому, что обратилась к реальной действитель-
296
ности, показав и движение протеста молодежи, и
борьбу негров, и жизнь бедняков в гетто и так называемых
бедствующих районах страны. HAK же по-прежнему
вертится в кругу эротизма и символизма, теряя даже
то, что было у его лучших мастеров бесспорным
достижением. Так, Шерли Кларк после гневного «Холодного
мира» создала в 1968 году «Портрет Язона» — портрет
ни на какой протест не способного, опустившегося
негра, мужчины-проститутки. Такой фильм-жалобу десять-
пятнадцать лет назад можно было бы, наверное,
расценить как обвинение белой Америке, но в конце 60-х
годов, в обстановке боевого протеста черной Америки,
он кажется оскорбительным.
Заметна сегодня в творчестве многих известных
художников HAK и склонность к какой-то особенно
тщательной обработке лент; используя старый термин, мы
бы сказали — склонность к каллиграфичности. Другие
режиссеры вслед за Уорхолом занимаются
экспериментами в области съемки и проекции своих фильмов. Так,
Вандербик предлагает зрителям кинотеатр в виде шара
с одновременной проекцией многих изображений. Так,
в моду вошла съемка фильмов с помощью
компьютеров и т. п.
Совершенно очевидно, что, сделав своим творческим
кредо отрицание, HAK зашел в тупик, поскольку
сегодня, как никогда раньше, нельзя жить на одном
отрицании, невозможно противопоставлять лицемерию —
цинизм. В действительности HAK, заявив претензию на
прогрессивную роль в американской жизни,
оказалось — по большому счету — реакционным течением в
американском искусстве. Способное лишь разрушать,
HAK органично вошло в систему буржуазного
искусства, также сегодня способного лишь разрушать, не
имеющего за душой практически никакой позитивной
программы действий.
Рассказывая о загадках социальной психологии,
Т. Шибутани—так может показаться— дал
исчерпывающую при своей краткости характеристику деятелям
подполья: «В некоторых авантюристских кругах
можно критиковать «приспособленчество» средних классов,
утверждая, что творчество может иметь место только в
обстановке, когда поощряется индивидуализм. Хотя
верно, что самобытным людям порой трудно бывает
завоевать признание, такие жалобы часто исходят от лю-
297
дей, которые лишь добиваются статуса в особой
эталонной группе. Те, кто очень гордится своей
«необычностью», как правило, сами не представляют себе, до
какой степени они живут в согласии с экспектациями
окружающих. Они одеваются нарочито небрежно, изо
всех сил стараются быть au courant (в курсе) событий
литературы и искусства и выражают враждебность к
организованной религии с таким усердием, которое
показывает, что нападки на конформизм — это всего лишь
частный случай конфирма»1.
Трудно быть прорицателем. Но будущее
подпольного кино США кажется нам безнадежным, хотя,
возможно, его численность в начале 70-х годов может
возрасти за счет так называемого «нового подполья». Его
сближение с идеологией левых экстремистов указывает
На внутреннюю пустоту подполья. Не окажется ли при
малейшем изменении обстановки в стране подпольное
кино снобистским искусством узких кружков
опустошенных интеллектуалов?
1 Т. Шибутани, Социальная психология, М., 1969, стр. 230.
Послесловие
Эта книга не может иметь привычного окончания,
вссму подводящего итоги и расставляющего точки:
проблемы, которых мы здесь коснулись, не решены самой
жизнью.
В конце 1969 — начале 1970 года в буржуазной
прессе появилось немало статей, авторы которых
попытались заглянуть в ближайшее будущее — оценить
70-е годы с различных точек зрения. Появилось и
несколько книг, созданных в недрах чрезвычайно
солидных исследовательских институтов. Знакомясь с
предсказаниями буржуазных футурологов, обращаешь
прежде всего внимание на общий пессимизм в оценках
грядущего десятилетия. Исключение составляют лишь
прогнозы, касающиеся науки и техники,— здесь
человечество ожидают новые поразительные открытия и
свершения. Но насколько радужными представляются
перспективы новых научных достижений, настолько же
мрачными оказываются прогнозы, касающиеся всех
сторон социальной жизни.
Фактически, если обобщить высказывания
социологов и экономистов, 70-е годы представляются
большинству буржуазных футурологов просто своего рода
вариацией 60-х годов. Все будет так же, утверждают они:
если станет больше машин, что несомненно, еще более
обострятся проблемы больших городов; если
поднимется урожайность, то увеличится и число едоков; если
американцы уйдут из Вьетнама, то все равно останутся
повсюду их базы, и т. д. и т. п.
299
Здесь видно явное противоречие (не единственное,
конечно), если вспомнить отмеченную нами тенденцию
относить на счет «технологии» все явления духовной
жизни общества. Если так, то надо было бы думать,
что новые успехи науки и техники что-то изменят к
лучшему в жизни общества. Ведь программа «Рэнд
корпорейшн», объявленная в середине еще прошлого
десятилетия и обещавшая в течение 50—70 лет
решение всех проблем, которые бог поставил перед
людьми— достижение бессмертия, полного изобилия и
праздности,— в текущем десятилетии существенно должна
приблизиться к своему решению.
Энтузиазма, однако, нет. Футурологи не верят, что
какой-либо из социальных конфликтов, достигших,
казалось бы, критической фазы, будет решен в новом
десятилетии. Напротив, все эти конфликты, очевидно, еще
более обострятся, поскольку они представляют собой
не результат стечения случайных обстоятельств, но
хроническую, неизлечимую болезнь общества.
Кому следует отдать должное, так это многим
буржуазным политикам: они трезво оценивают 70-е годы
как время усиления идеологической борьбы между
мировой системой социализма и империализмом, время
расширения и укрепления социализма в мире.
В середине 60-х годов идеологи капитализма
(сегодня, по-видимому, трудно даже назвать «отца» — был
ли первым Гэлбрайт, или Бжежзинский, или еще кто-
нибудь?) выдвинули теорию конвергенции, теорию
сближения двух общественных систем в результате
действия имманентных законов второй научно-технической
революции. Одним эта теория показалась своего рода
«троянским конем», иезуитски ловким способом
разложения социализма изнутри; для других она стала
приемом отвлечения молодежи от социалистических идей,
от обращения к опыту социалистической молодежи.
Сегодня, в начале 70-х годов, пропагандисты
империализма теряют веру в действенность этой теории. Что
придет на смену?
На этот вопрос трудно ответить. Зато легко понять,
что в грядущем десятилетии еще более возрастет и без
того чудовищный по размерам и своей потенциальной
мощи пропагандистский аппарат империализма.
Что касается кино, то Джек Валенти, новый
председатель голливудской ассоциации продюсеров, обещает
300
довести производство американских фильмов до
трехсот в год и расширить во всем мире сеть кинотеатров,
принадлежащих Голливуду. На оживление
кинопроизводства и проката рассчитывают и другие
индустриально развитые капиталистические страны. В этих
расчетах есть резон, поскольку в развитых странах рынок
стабилизируется, а в развивающихся странах —
беспрерывно расширяется. Кино, очевидно, сохранит свои
позиции.
Однако на первое место среди технических средств
пропаганды в 70-х годах, по всей видимости,
выдвинется телевидение. Перспектива создания спутников,
транслирующих передачи из космоса непосредственно на
приемники, еще в 60-х годах была оценена в Соединенных
Штатах как ни с чем не сравнимая возможность
(скажем: глобальная возможность!) пропаганды
американского образа жизни в аудитории, которую практически
может составлять все население Земли. Разумеется,
особенную идеологическую опасность такого рода
космовидение представляет для слабо развитых стран, не
обладающих материальными и техническими
ресурсами, чтобы противопоставить пропаганде американизма
свои телевизионные сети с программами, отвечающими
национальным задачам народов этих стран.
Надо думать, что и эти расчеты идеологов
империализма потерпят крах, что развивающиеся страны не
допустят идеологического неоколониализма, хотя борьба,
очевидно, будет не легкой и не простой. Опыт даже
такой громадной страны, какой является Индия,
согласившейся на запуск ретрансляционного американского
телеспутника, чтобы упростить развитие телевидения в
стране, убедительно показывает, что понимание
опасности идеологического проникновения под маской
технической помощи осознается в развивающихся странах
недостаточно.
Наконец, 70-е годы не сулят никаких просветов и в
тех трудностях, которые доставляет буржуазному
обществу молодежь, не желающая жить по старым законам
и нормам. Соотношение молодежи к людям зрелого и
старшего возраста еще более изменится в пользу
молодых, в США оно будет составлять уже к середине
нового десятилетия как 6 к 4. А это будет означать, что
молодежь все более станет определять стиль, быт,
вкусы и моды общества.
301
Ю. Давыдов писал в цитированной уже статье:
«Временами складывается такое впечатление, что
«отцы», выслушав упреки «детей», окончательно
растерялись: они уже не в состоянии решить, какая часть из
их научного и жизненного опыта может пригодиться
новому поколению, а какая — нет»1. С этим чувством
растерянности Запад и встречает 70-е годы.
Что-то меняется и в самом движении молодежи.
Может быть, 60-е годы с их господством стиля хиппи,
культом Че Гевары, с демонстрациями, похожими на
карнавалы, и с пикниками, перераставшими в
демонстрации, будут вспоминаться в 70-х годах с улыбкой, как
время романтизма и детских игр. Крис Маркер — не
только замечательный кинодокументалист, но и тонкий
наблюдатель — заметил, снимая в 1967 году
демонстрации американской молодежи, первые признаки того, что
он сам назвал «осерьезнением движения». Уже тогда
роль хиппи заметно снизилась, чикагские события
ускорили падение интереса молодежи к ним. На первый
план стала выходить студенческая молодежь,
предпочитающая экзотике хиппизма интеллектуализм,
отмеченная такими чертами, как «рациональный нигилизм».
Собственно говоря, уже нельзя сказать, что молодежь,
мол, бунтует,—она просто начинает жить так, как
считает нужным и удобным для себя.
Какой будет молодежь 70-х годов? Что она
приобретет и что потеряет? Об этом пока бессмысленно
гадать. Но уже пора собирать «свидетельские показания».
Повторим: ни одна из проблем, породивших бунт
молодежи, а затем широкое движение протеста,— не
нашла разрешения.
1 «Вопросы литературы», 1970, № 2.
Содержание
От автора 5
I
Сигналы тревоги 10
II
Размышления об истоках 25
III
„Герои устали44
IV
Под знаком „А"
V
Жестокость в холодном
VI
„Революция" в постели
VII
Учителя и мэтры
VIII
Разлом
IX
Жажда действия
X
Кино для авгуров
Послесловие
43
65
мире 93
121
160
193
236
262
299
Редактор
В. П. Демин
Художник
В. Ε Валериус
Художественный редактор
Г. К. Александров
Технический редактор
Г. П. Давидок
Корректоры:
А. А Паранюшкина
и Н. А. Прокофьева
Соболев Ромил Павлович
Запад: кино и молодежь
А05117. Сдано в набор 20/Х 1970 г.
Подп. в печ. 4/1II 1971 г. Формат
бумаги 84xl08V32· Бумага
типографская № 1, для иллюстраций
тифдручная. Усл. печ. л. 19,32.
Уч.-изд. л. 20,43. Тираж 25000 экз.
Издательство «Искусство». Москва,
К-51, Цветной бульвар, 25. Изд.
№ 15777. Ордена Трудового
Красного Знамени Первая Образцовая
типография имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по
печати при Совете Министров
СССР. Москва, М-54, Валовая, 28.
Заказ № 1496. Иллюстрации
отпечатаны в Московской
типографии № 2 Главполиграфпрома
Комитета по печати при Совете
Министров СССР, Москва,
проспект Мира, 105. Цена 1 р. 67 к.