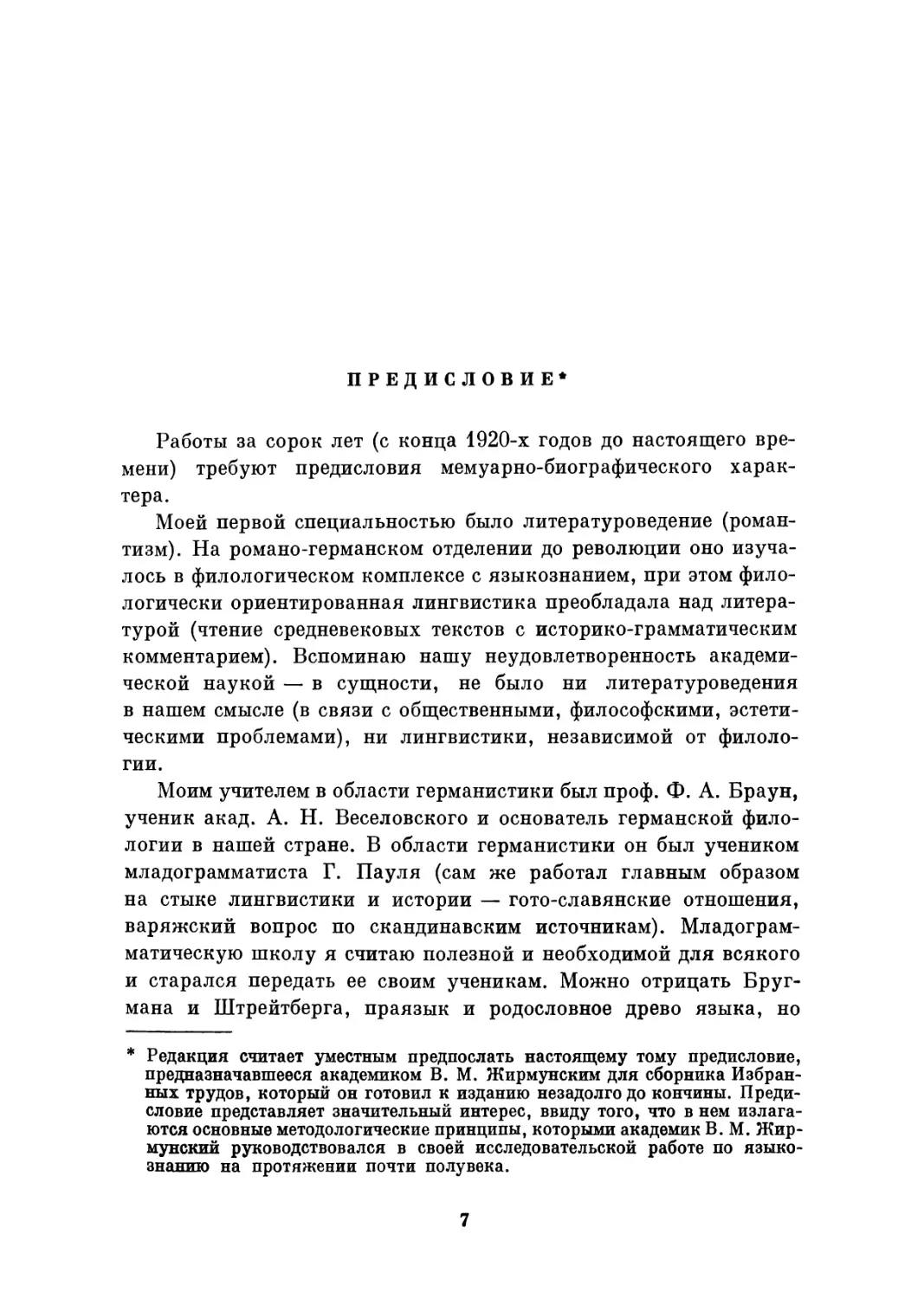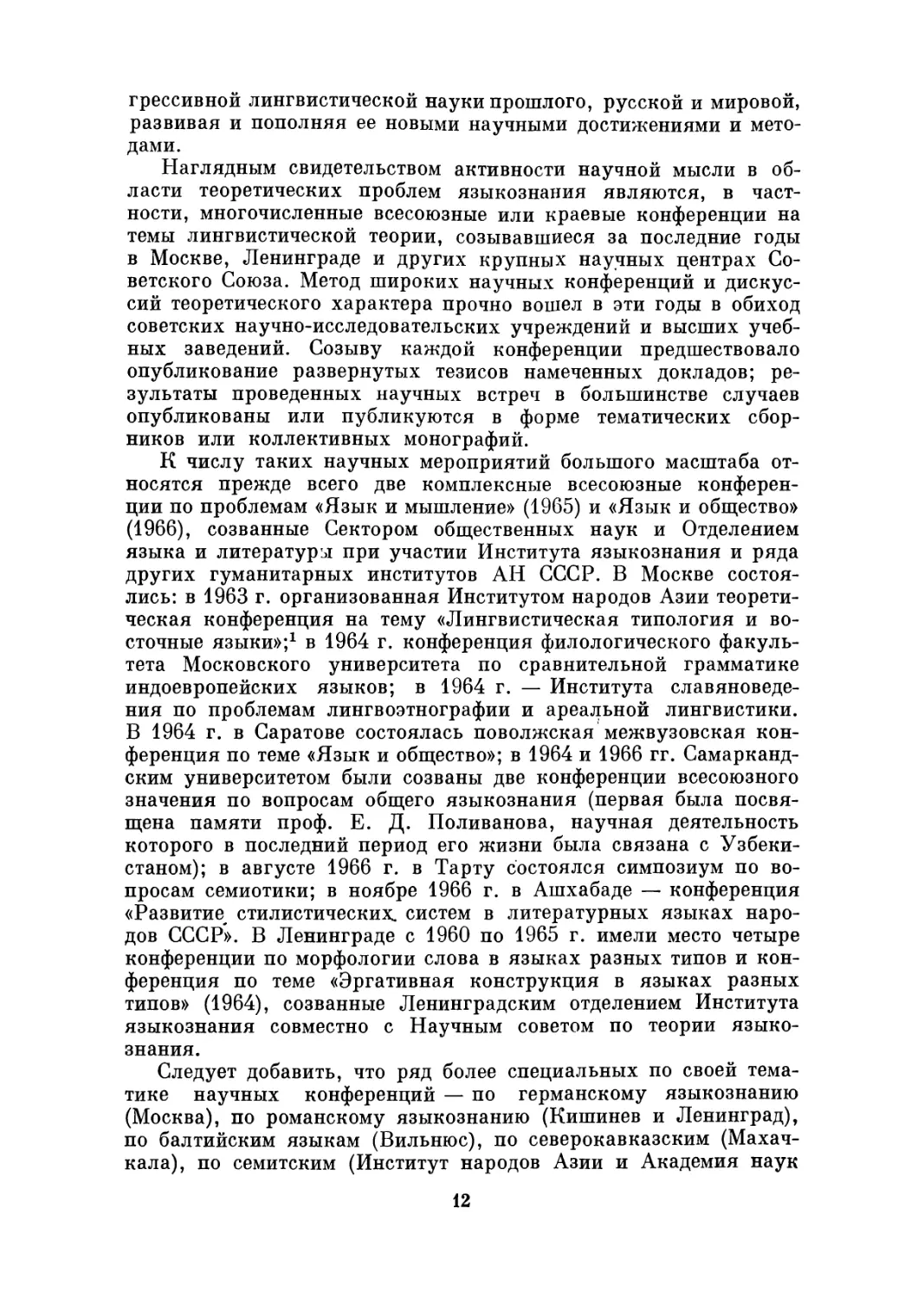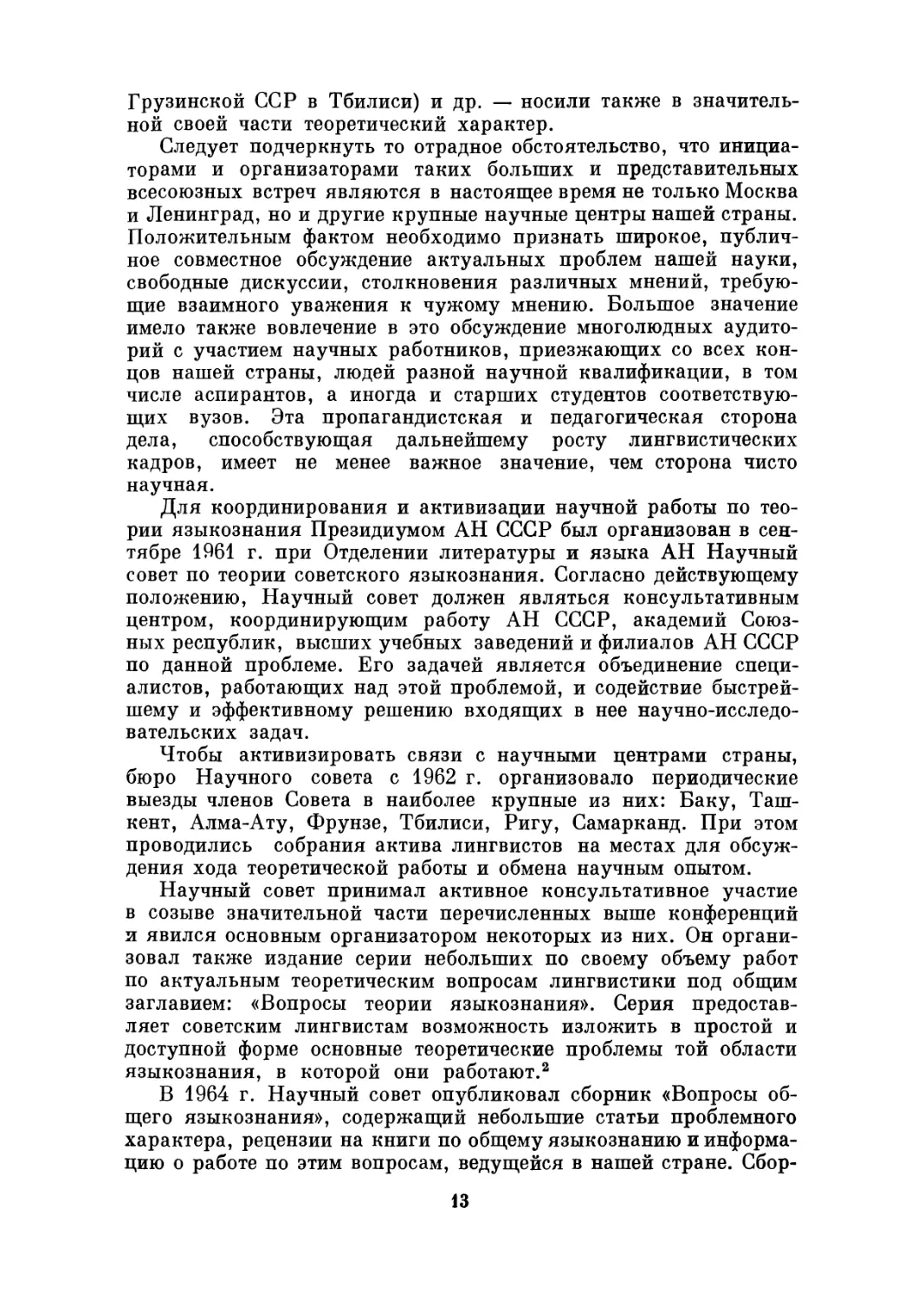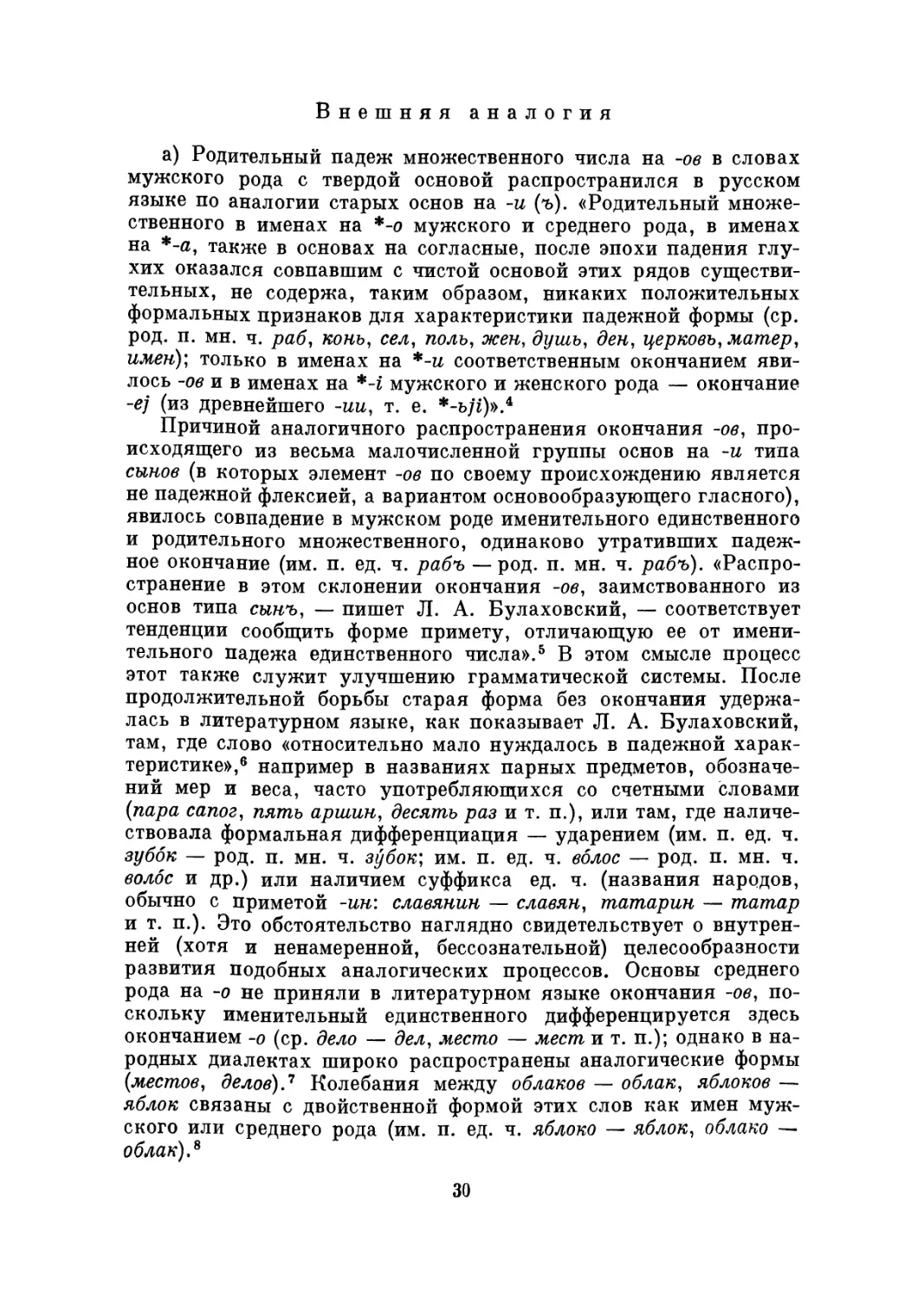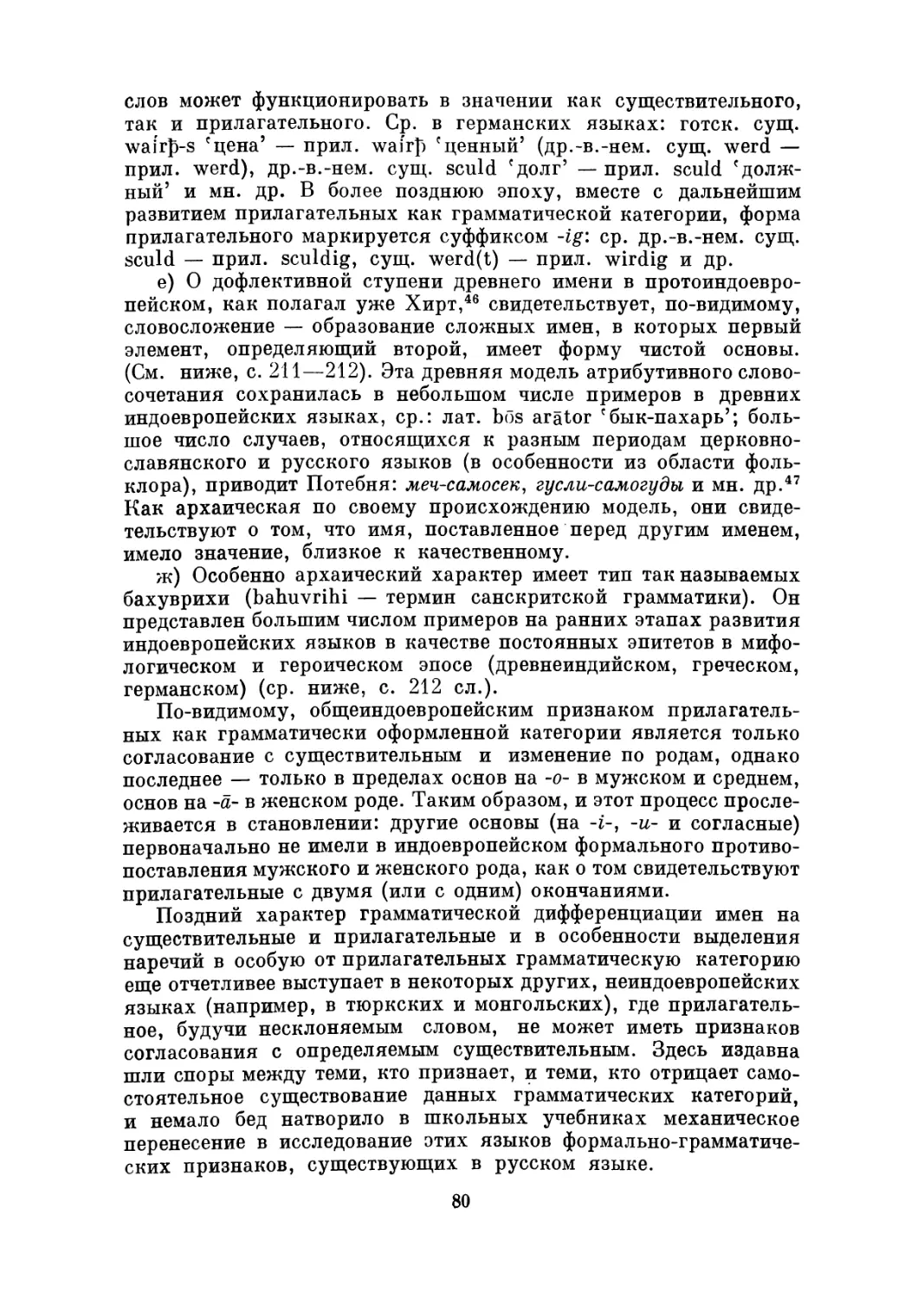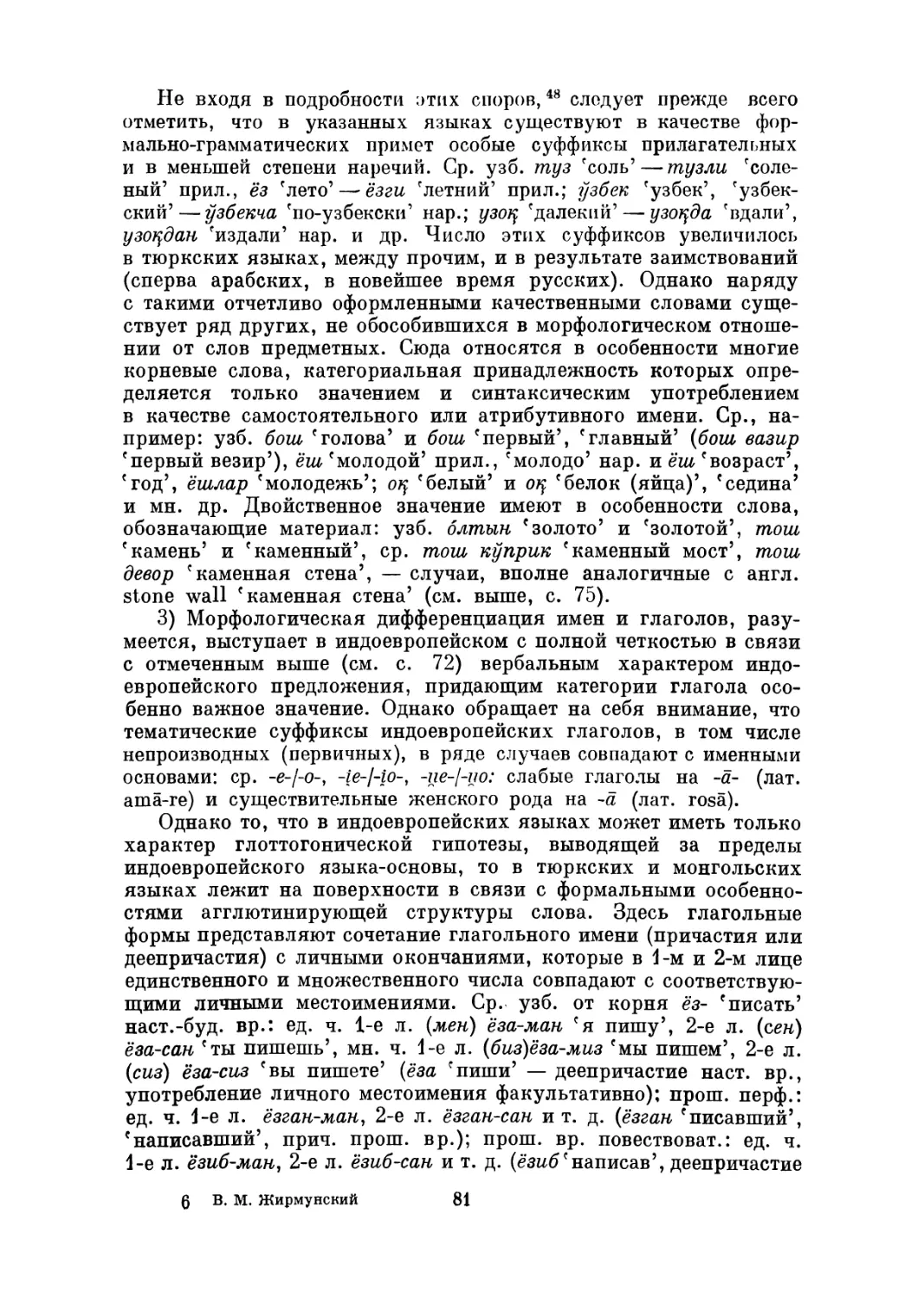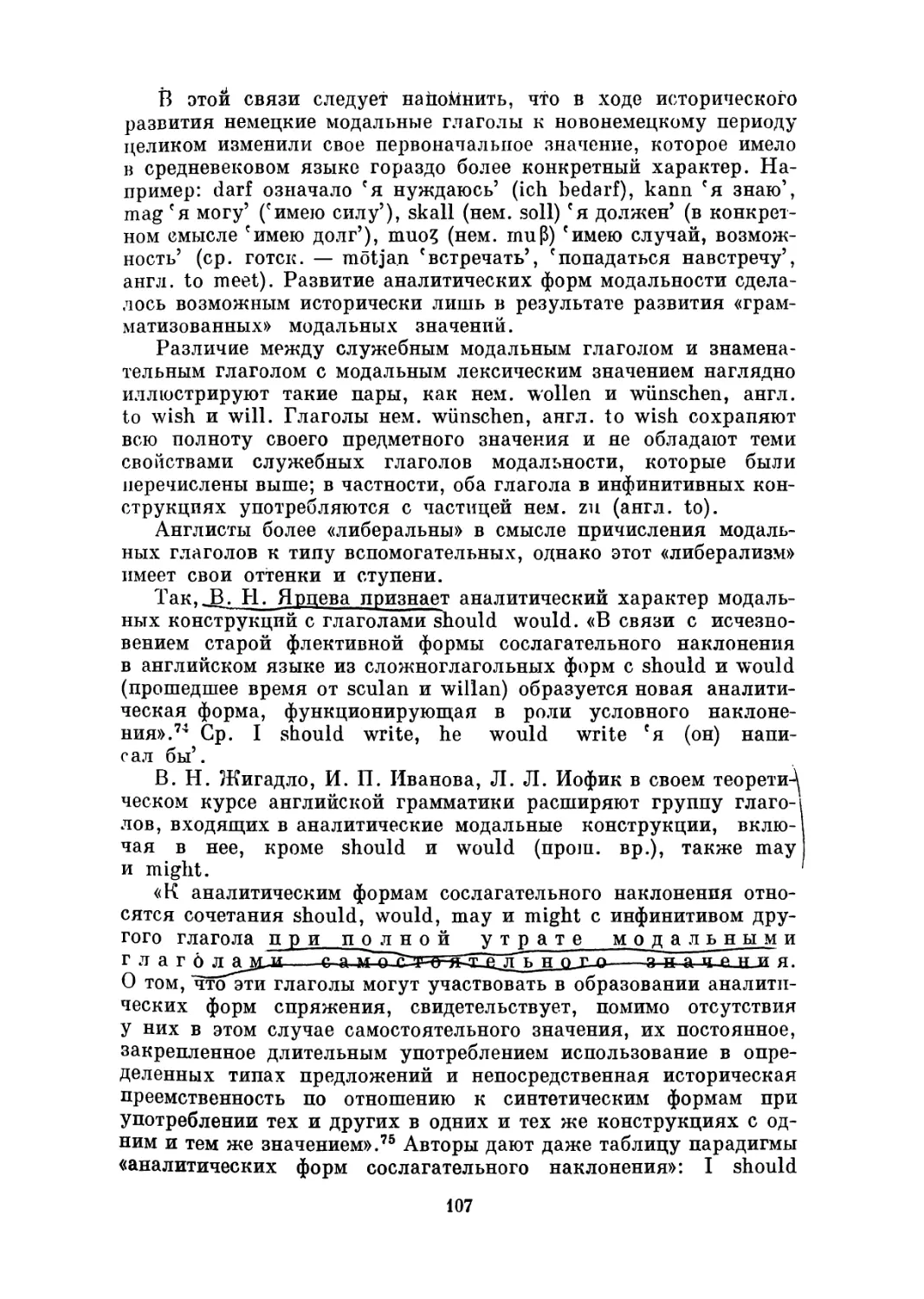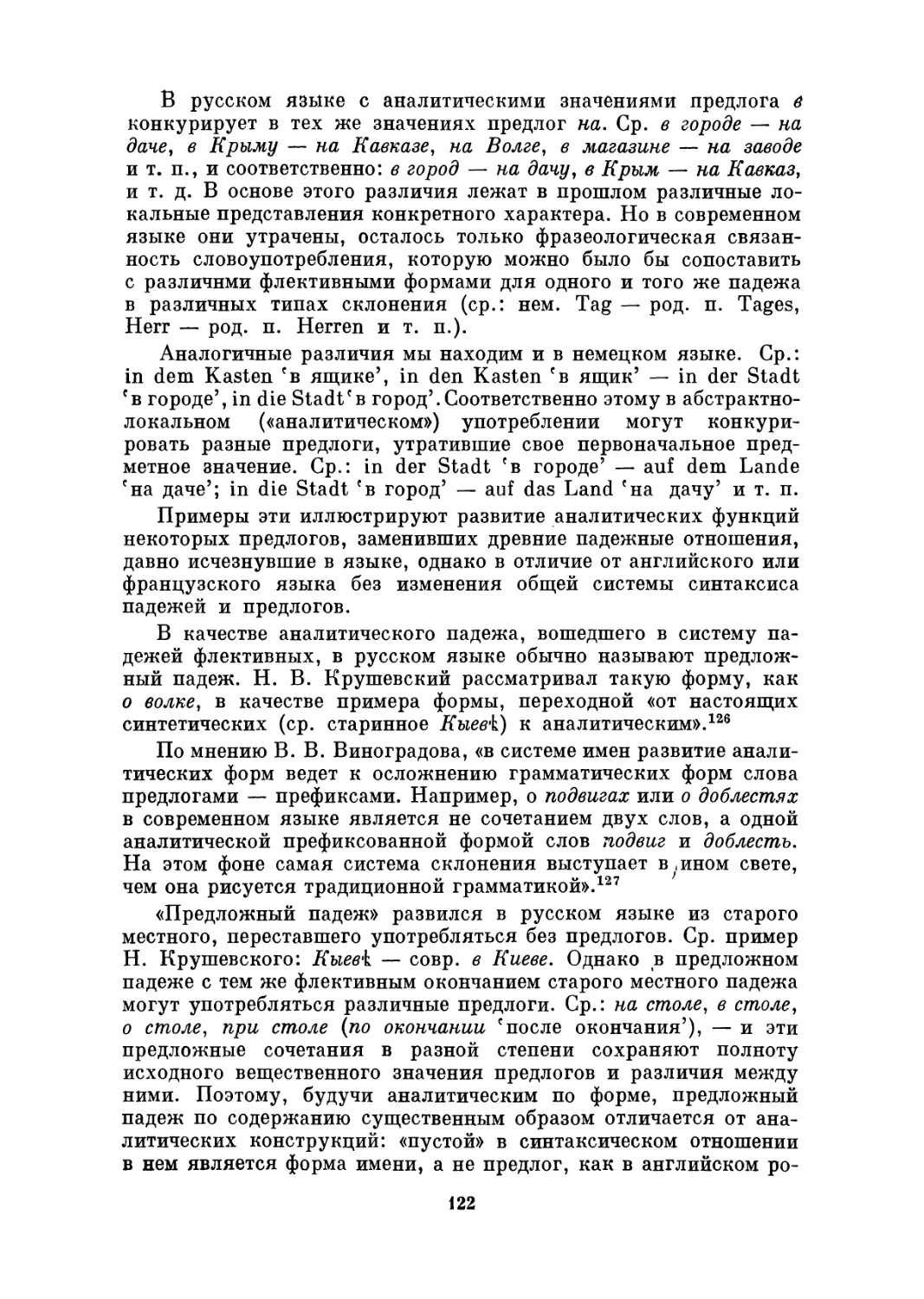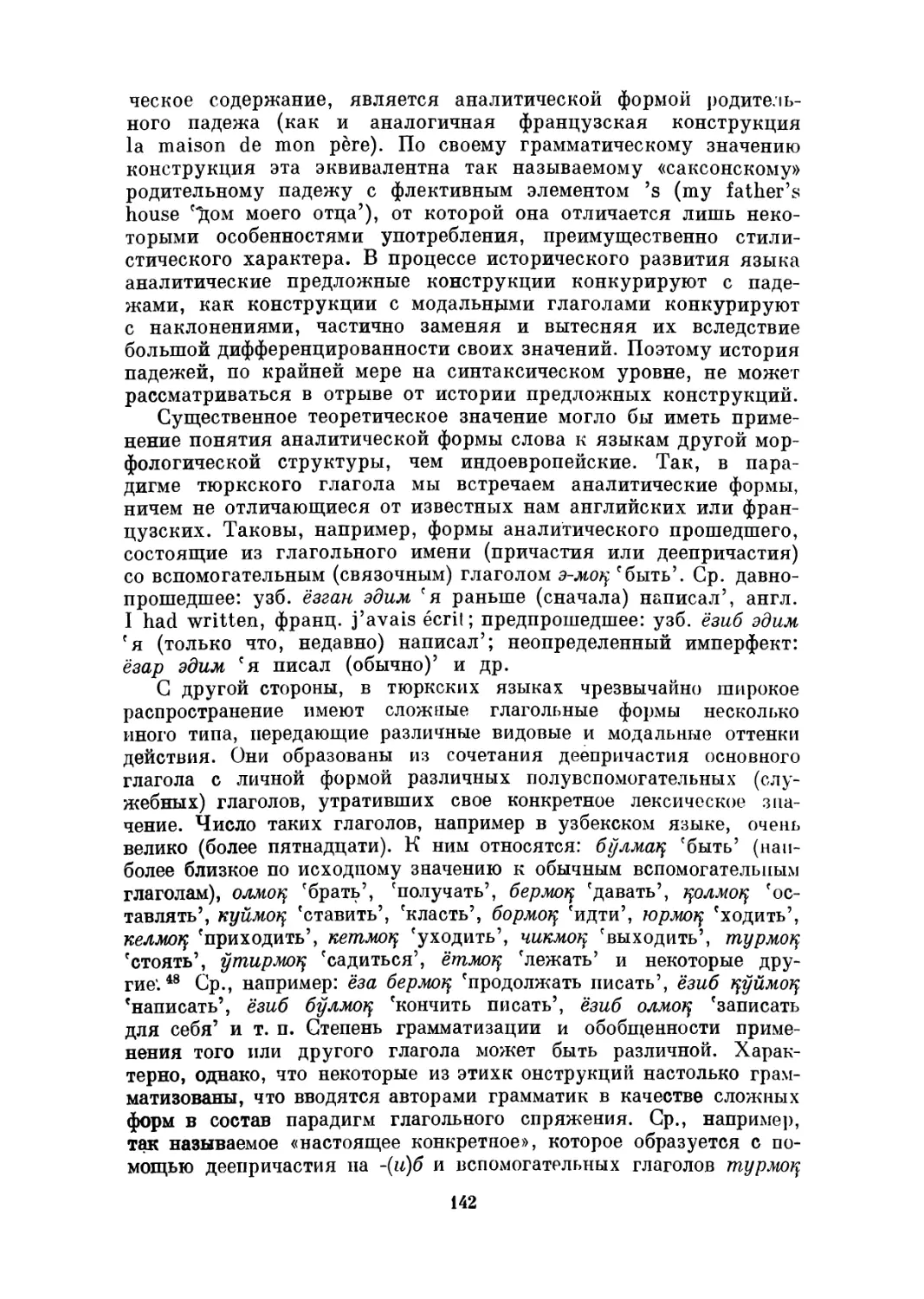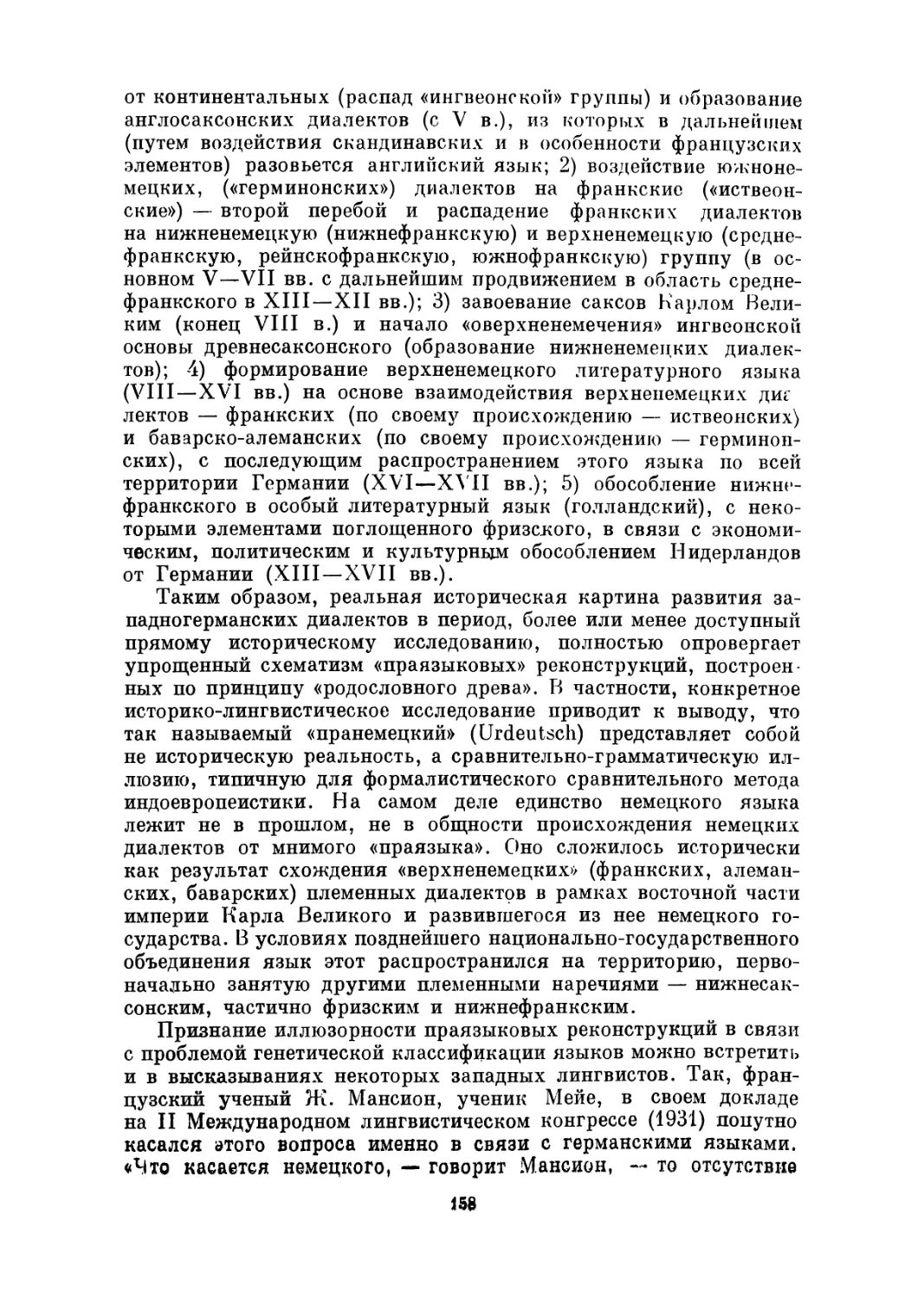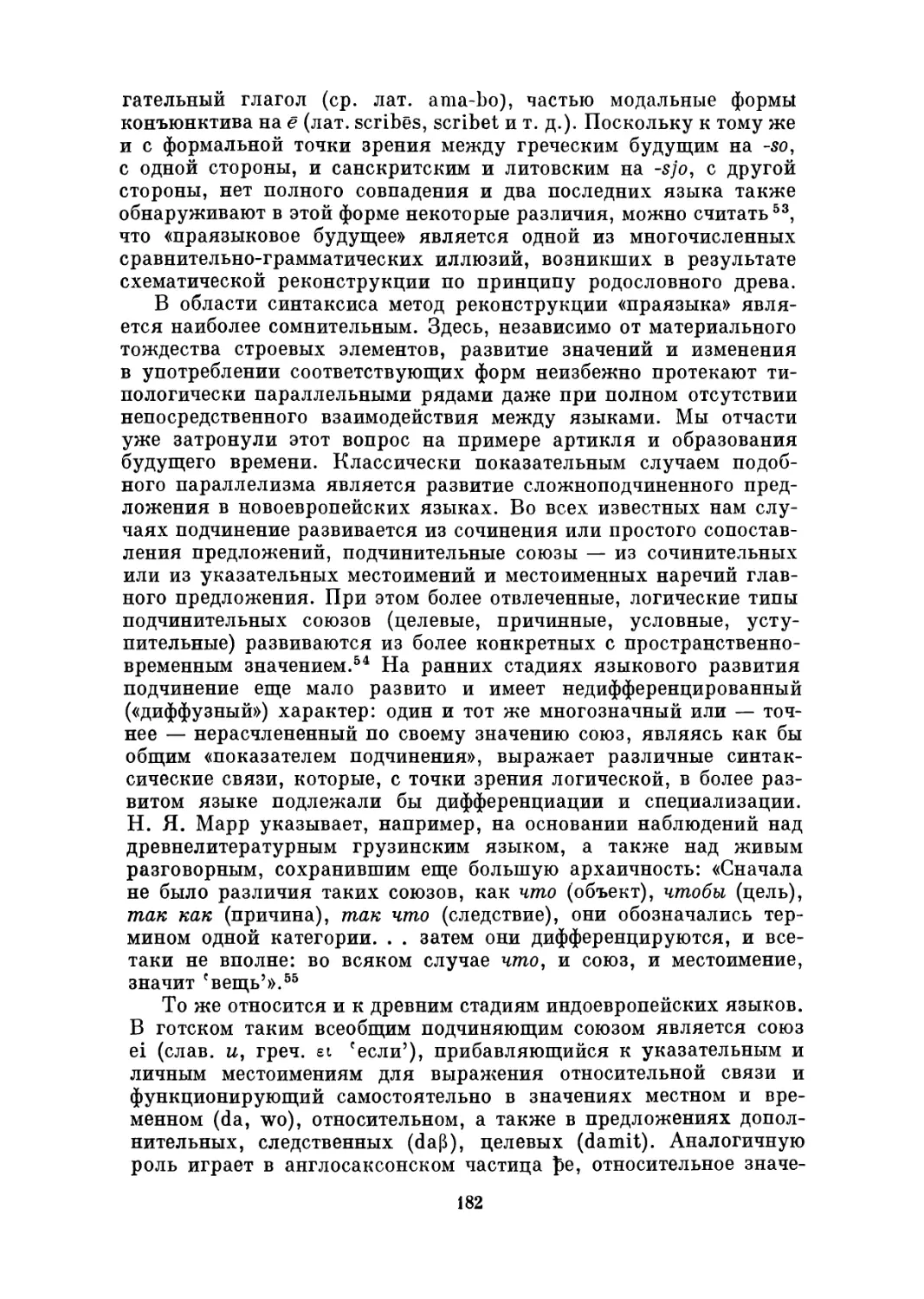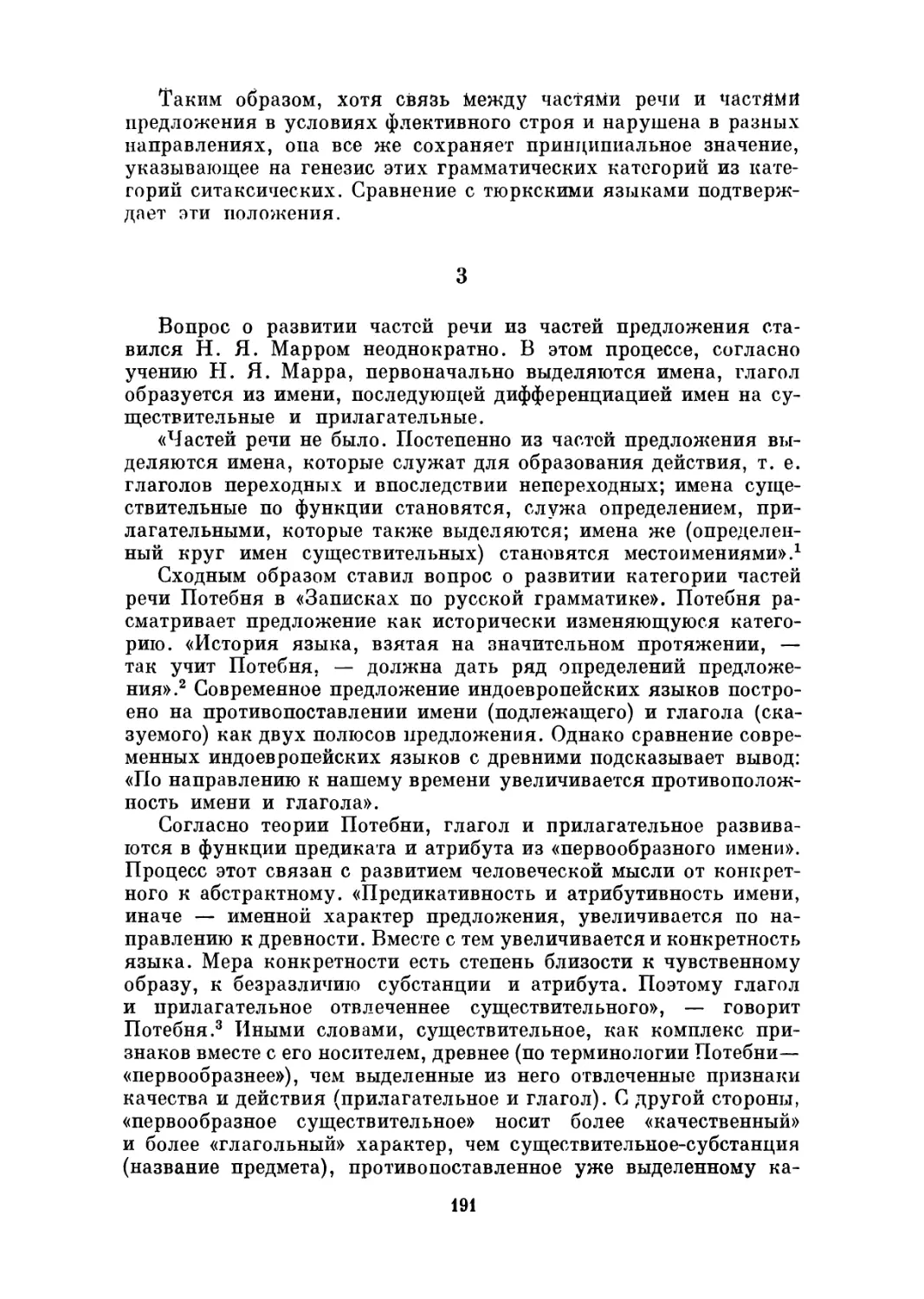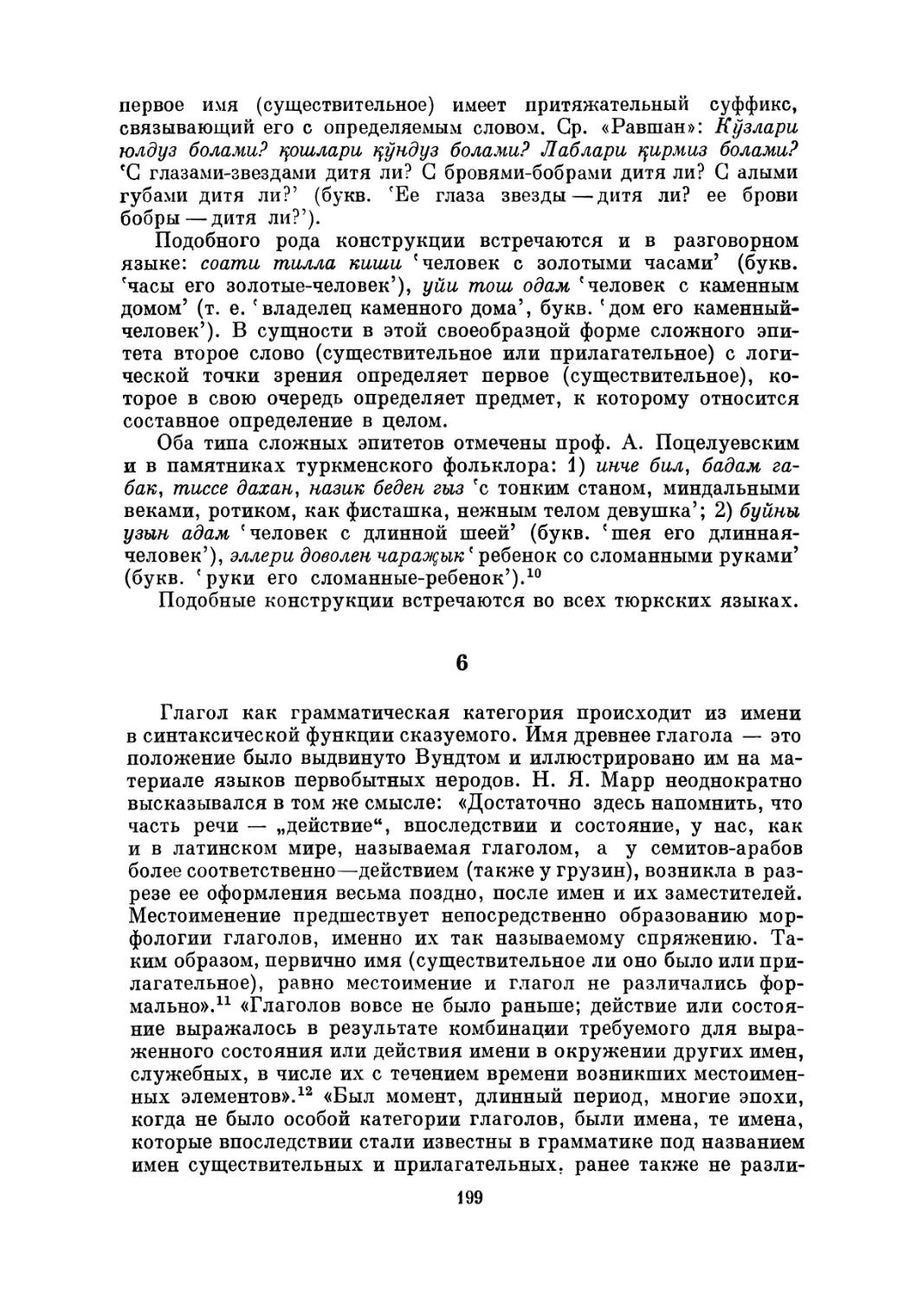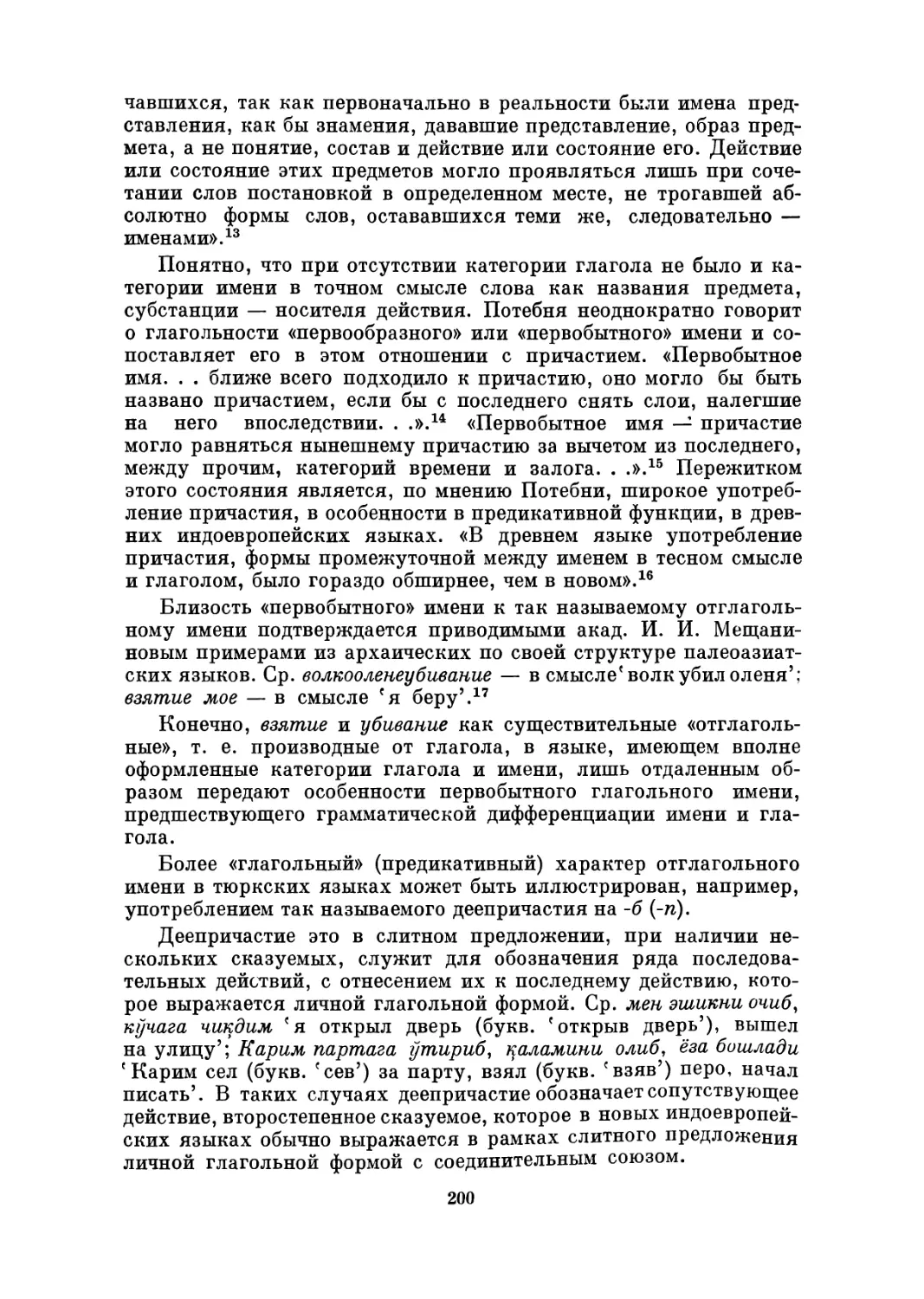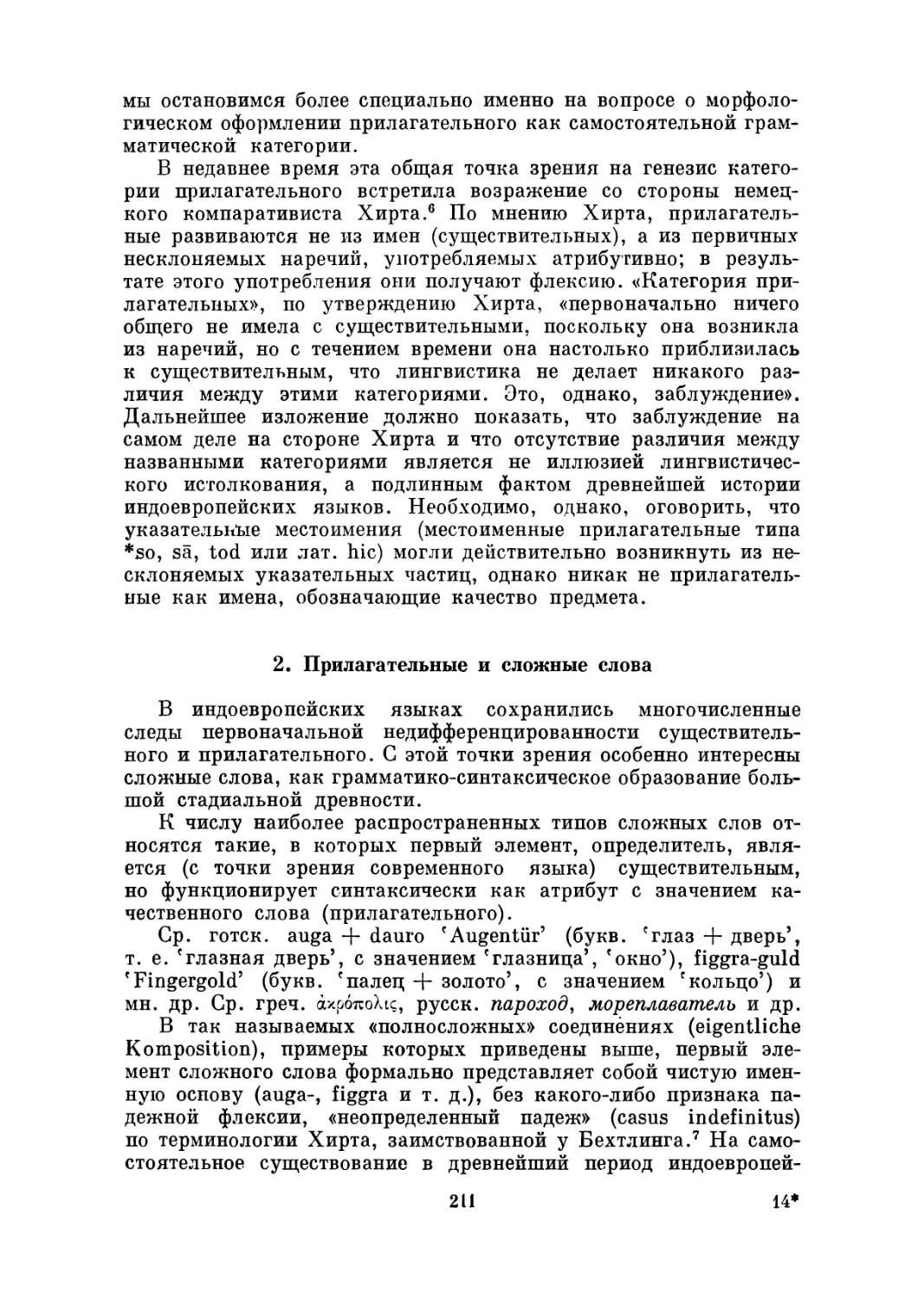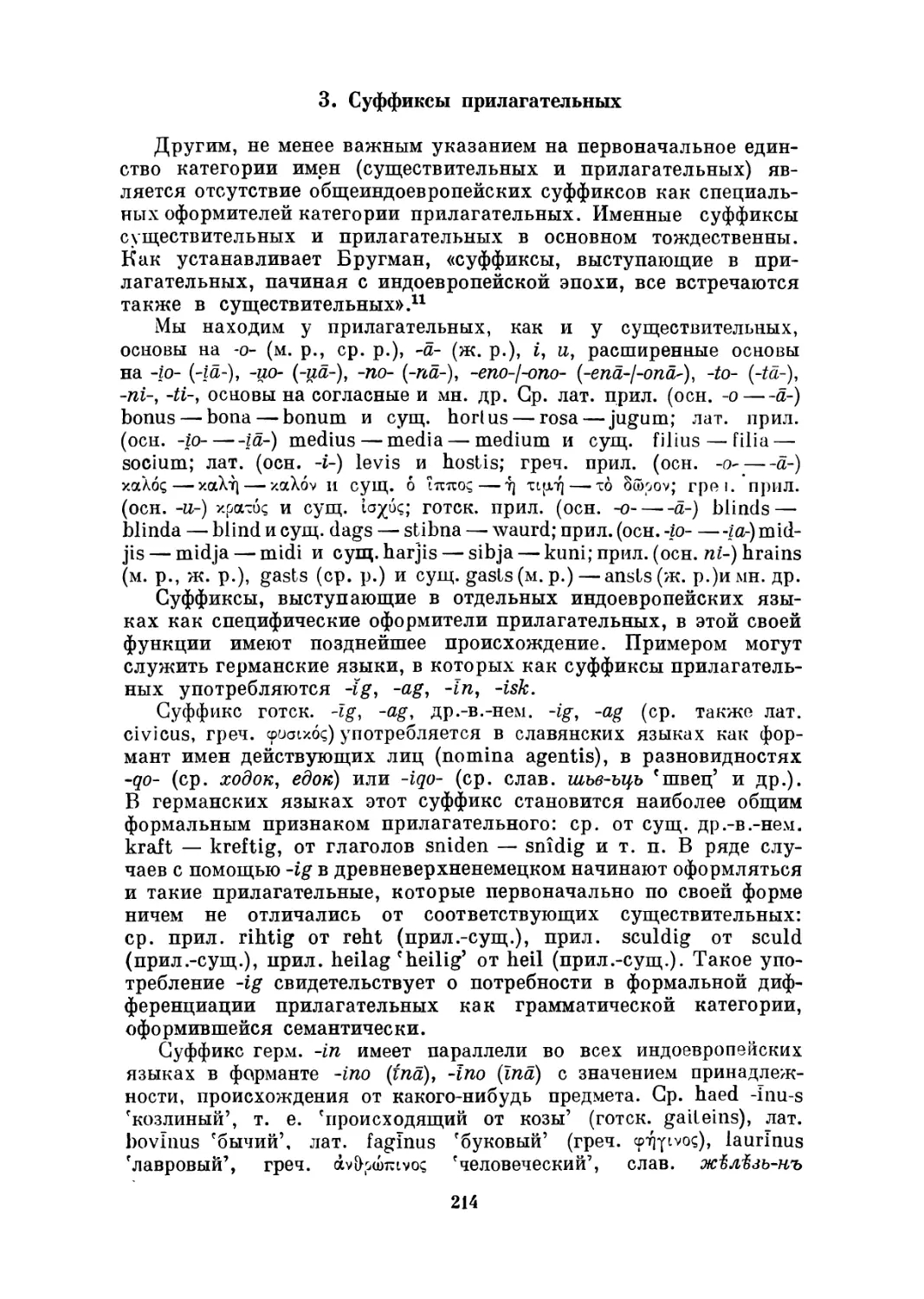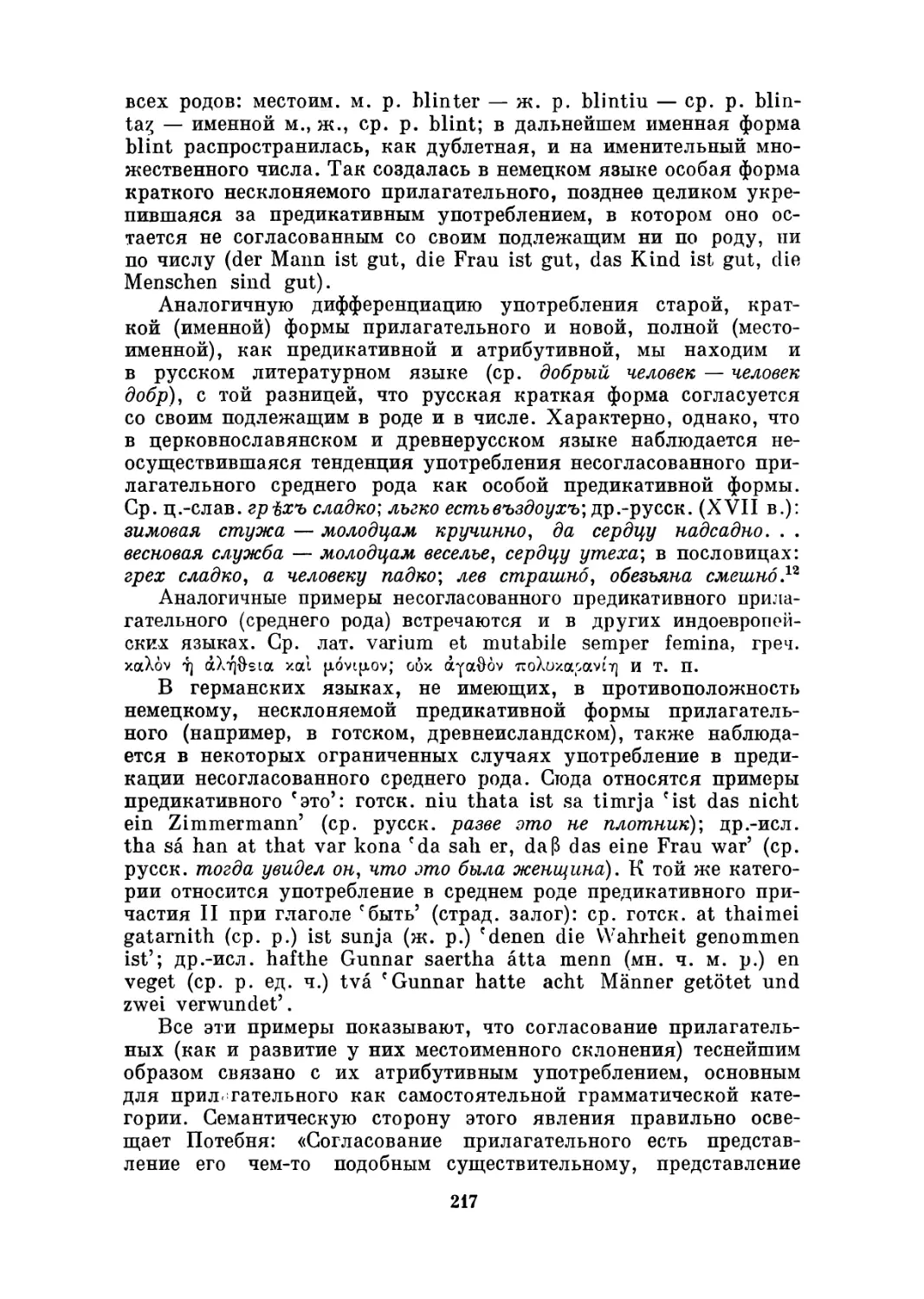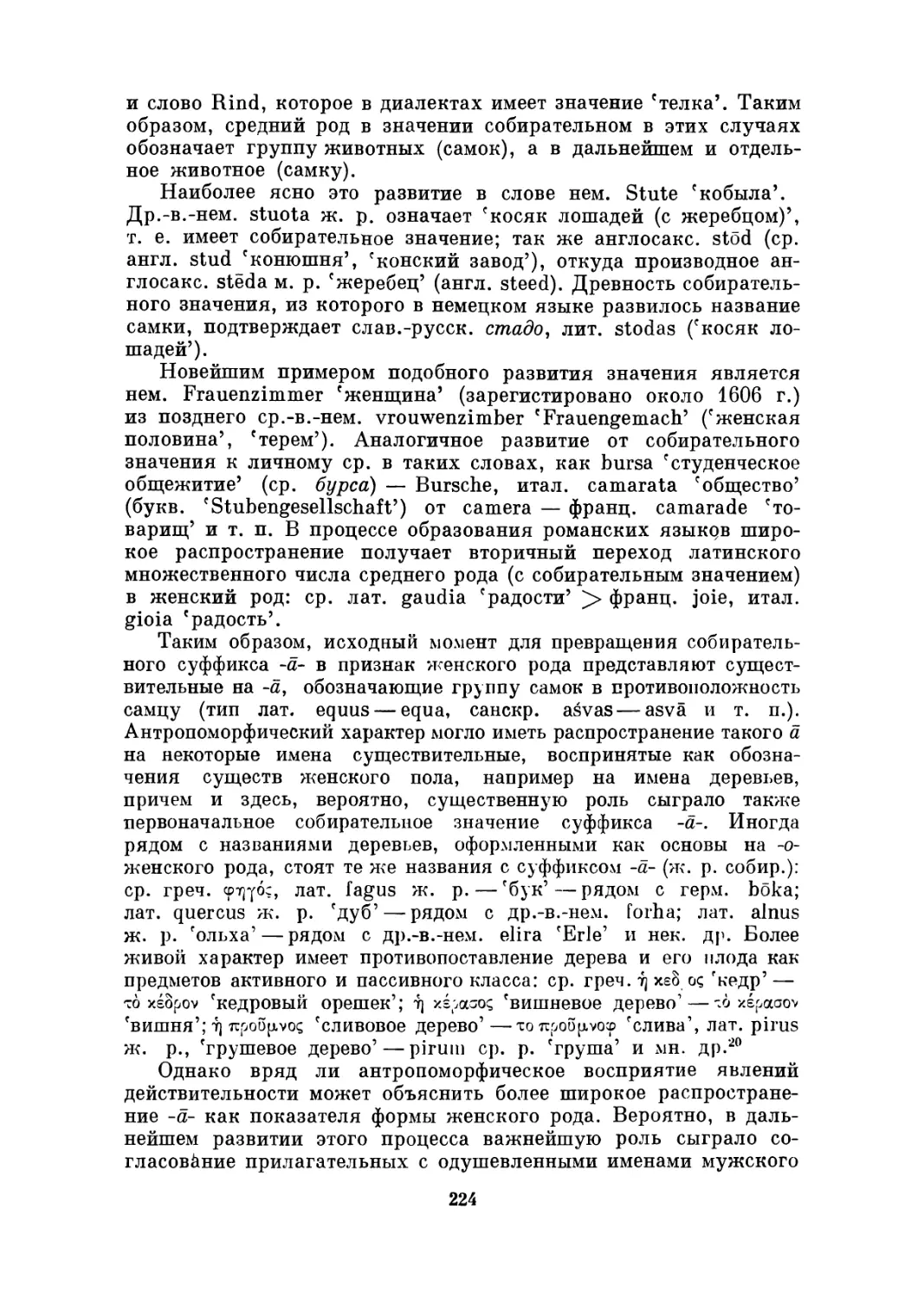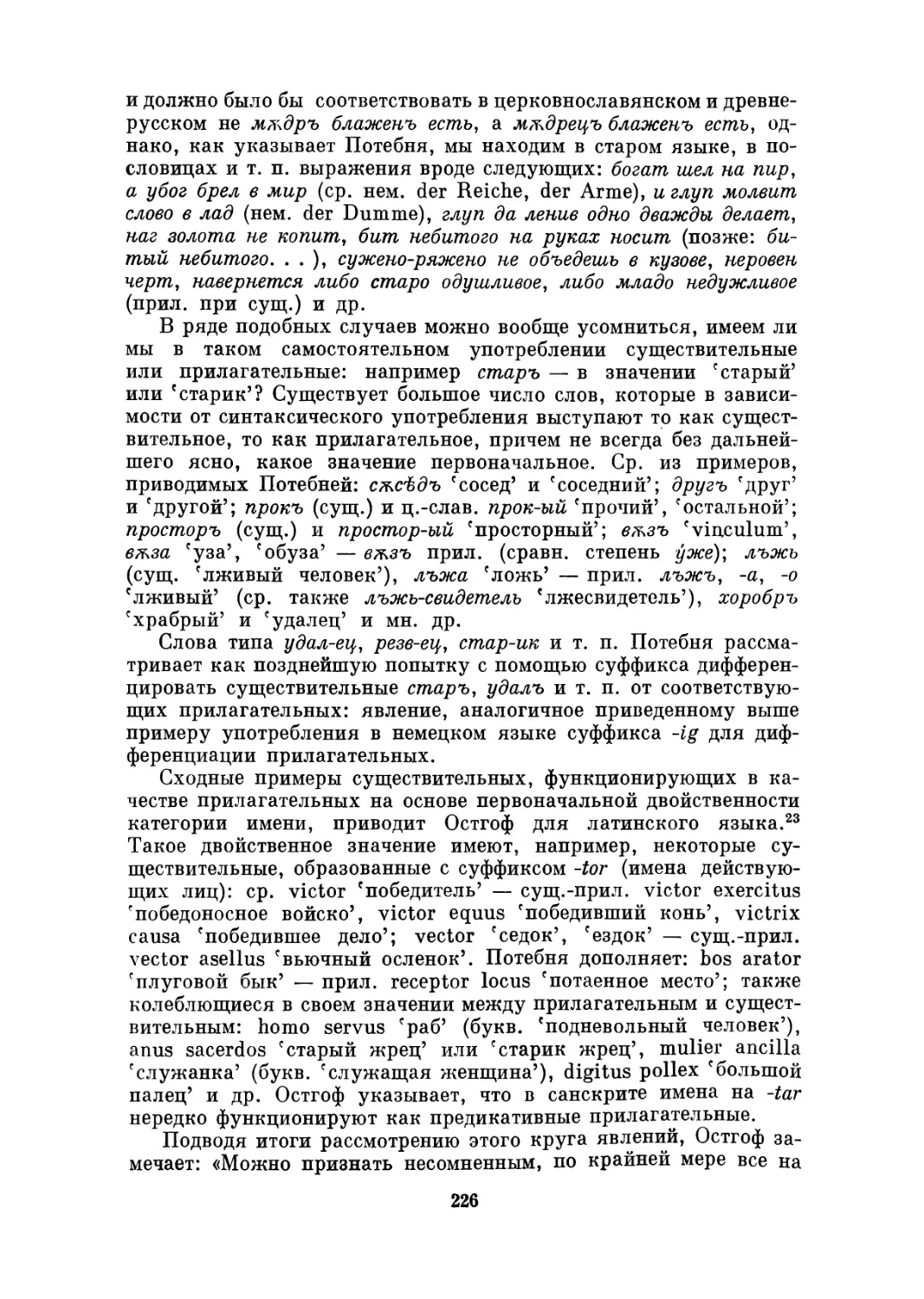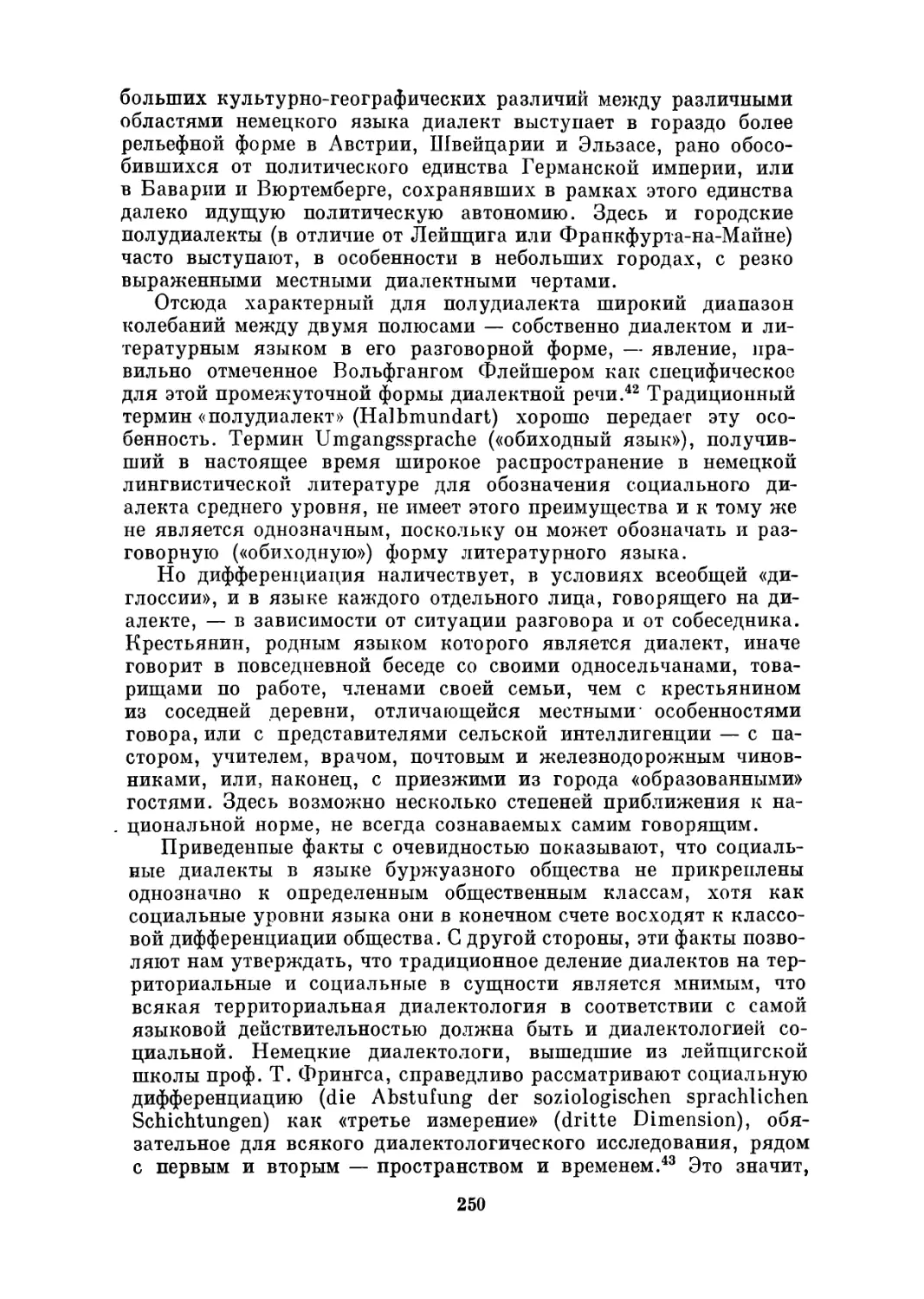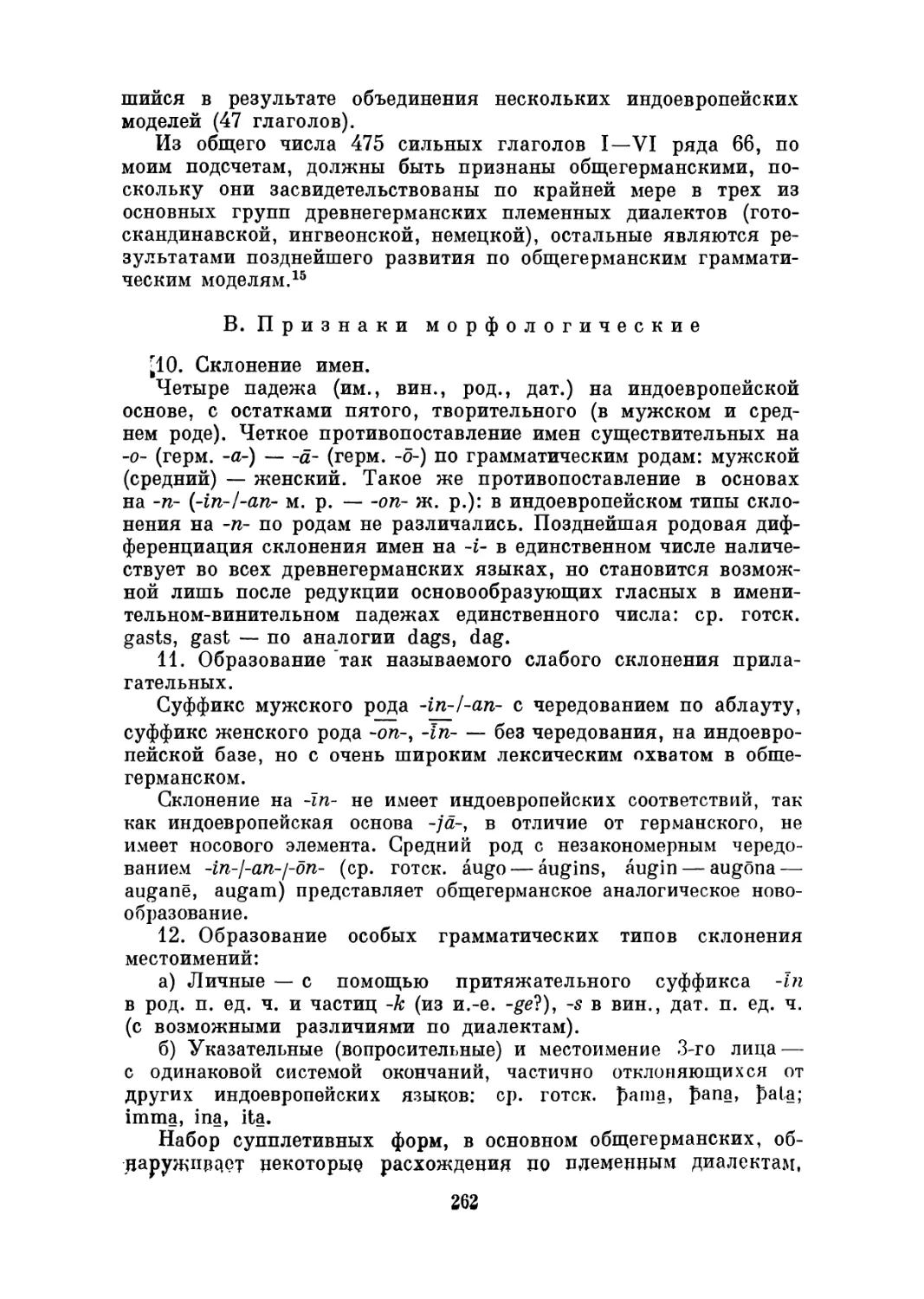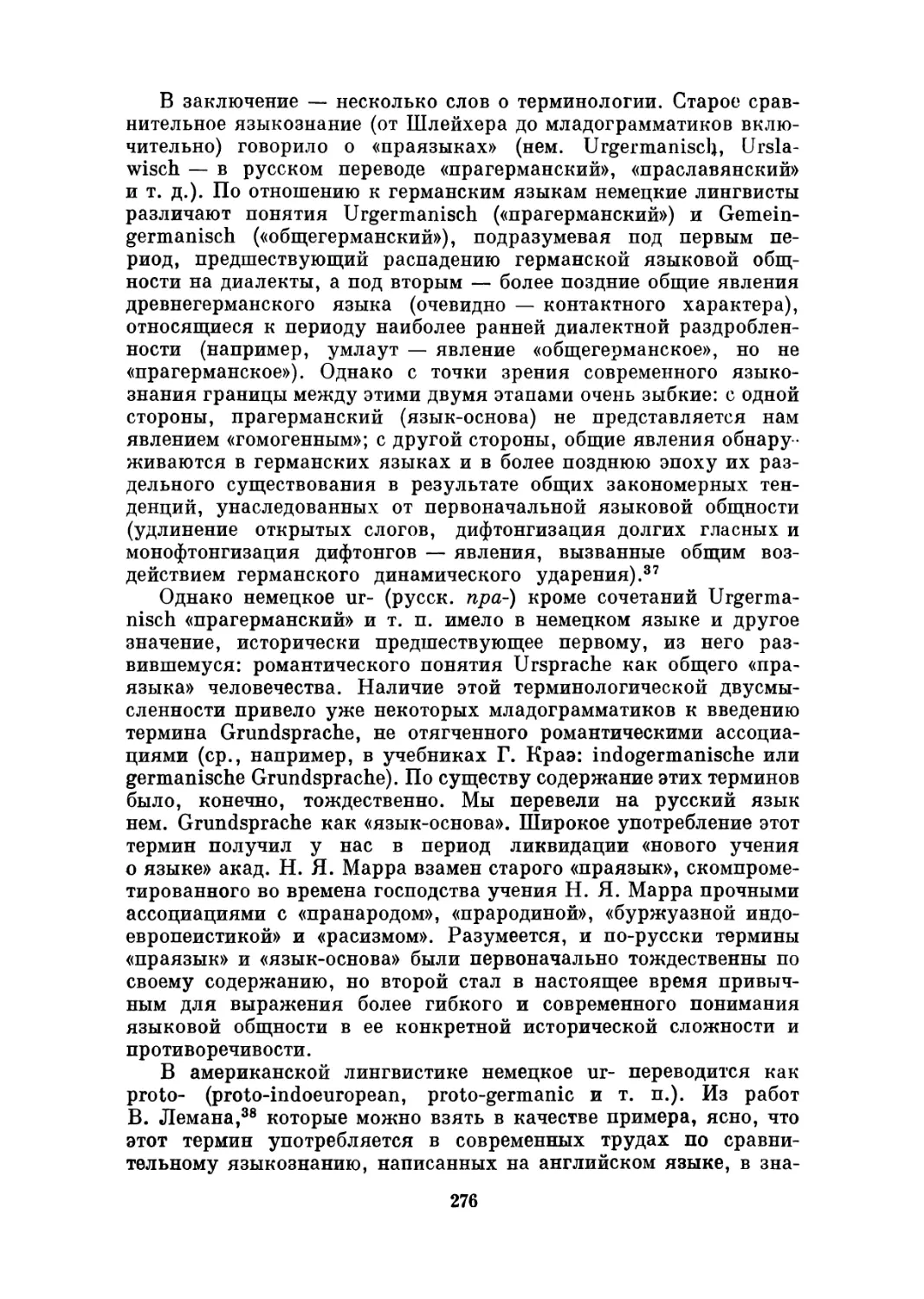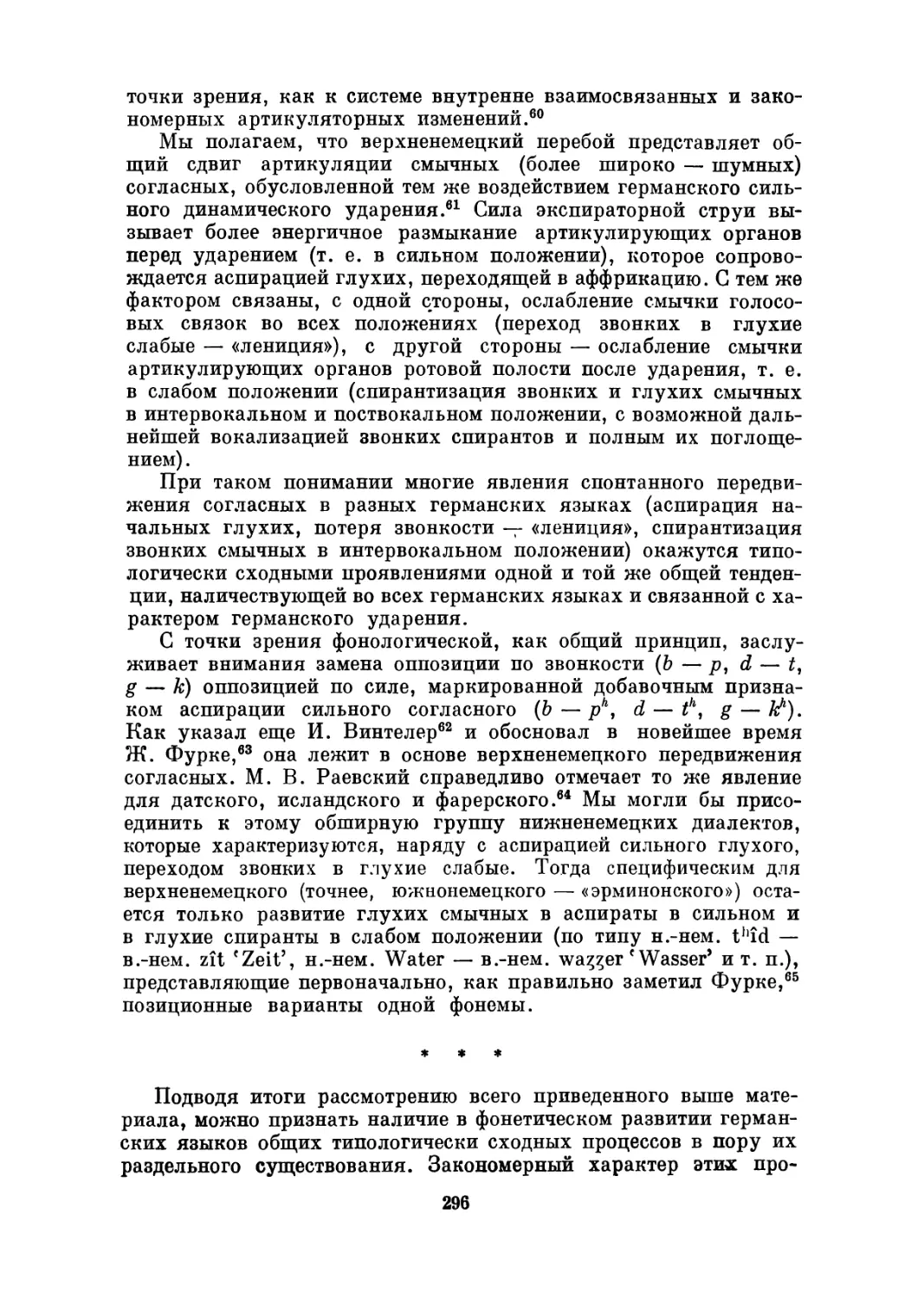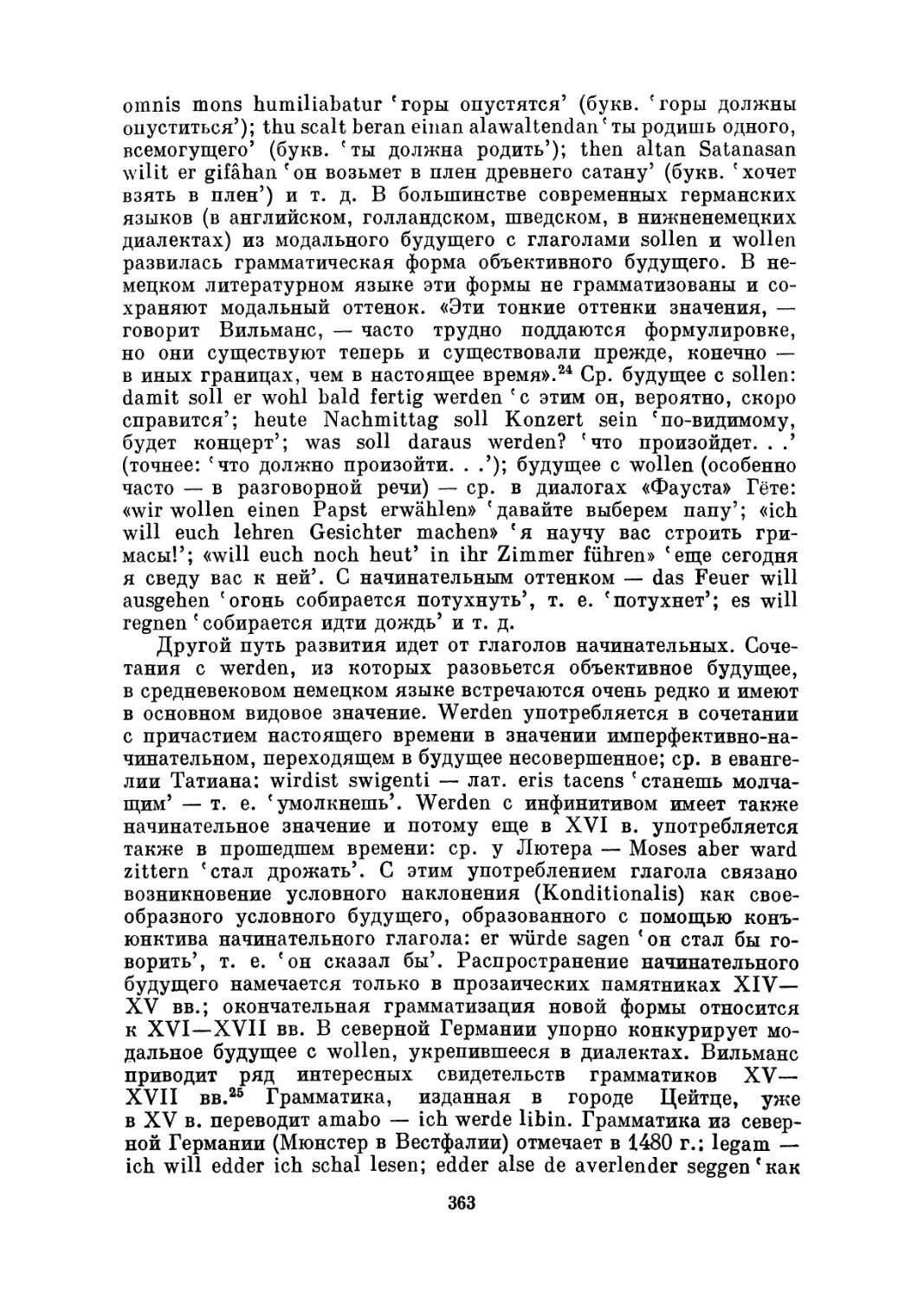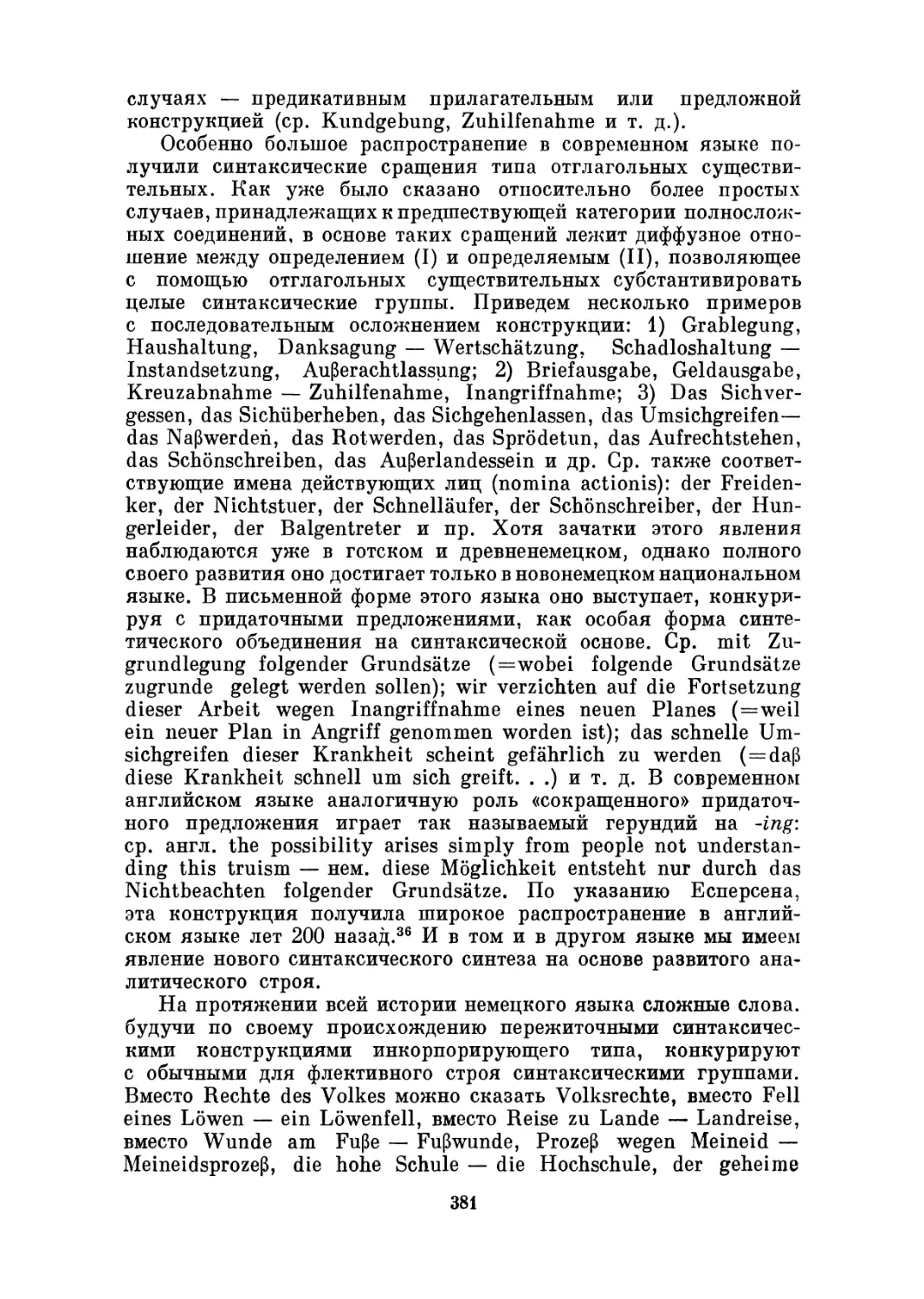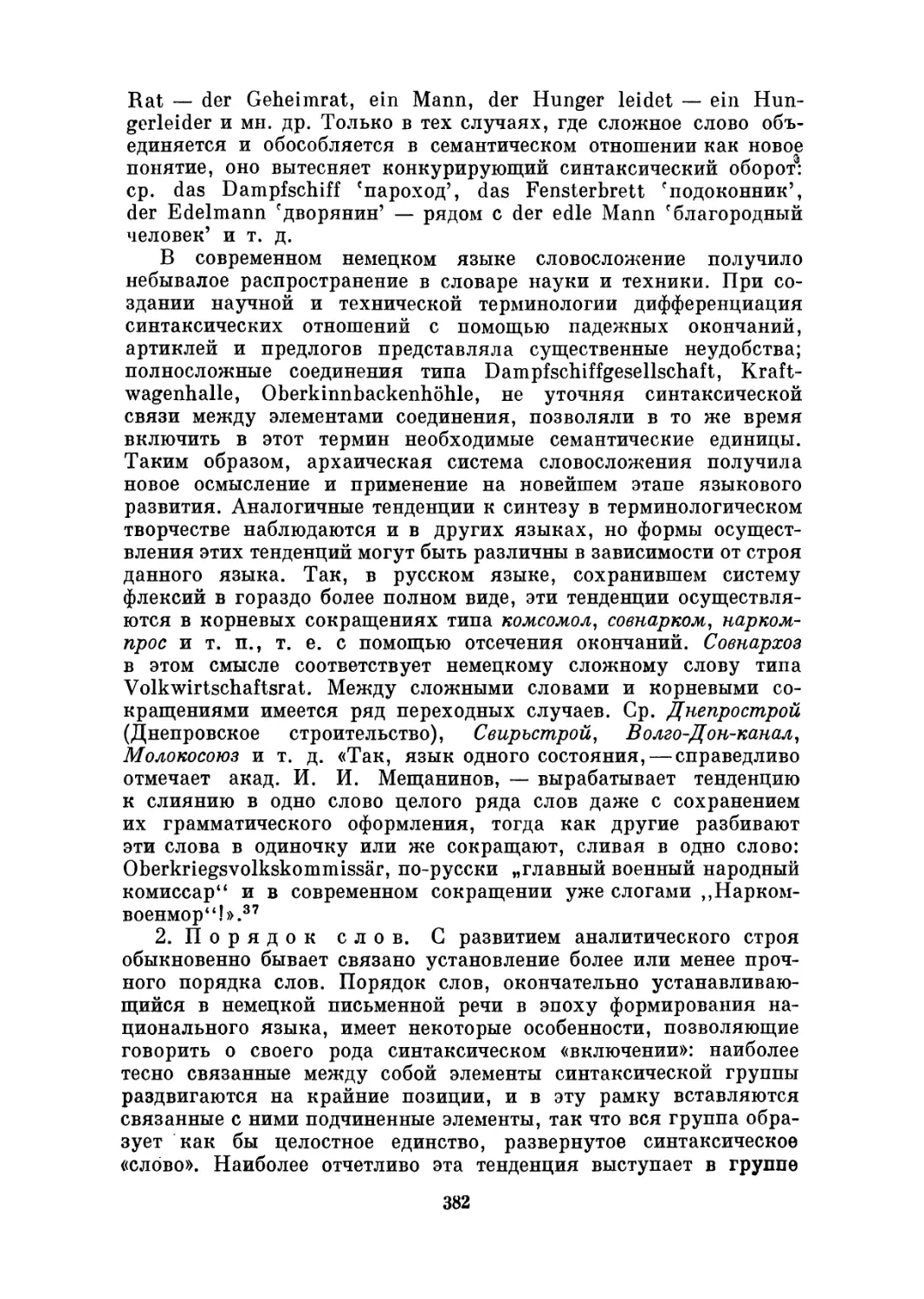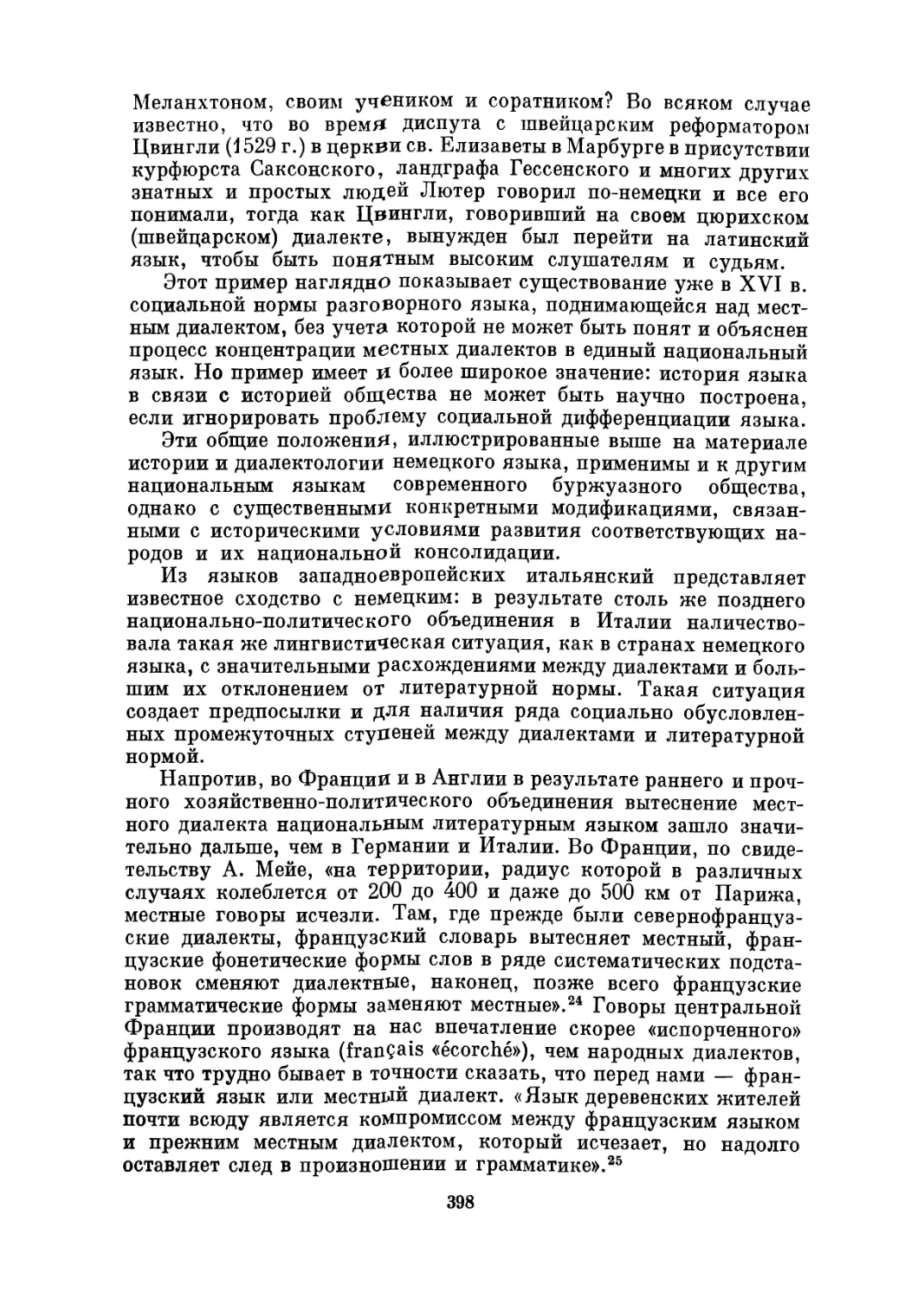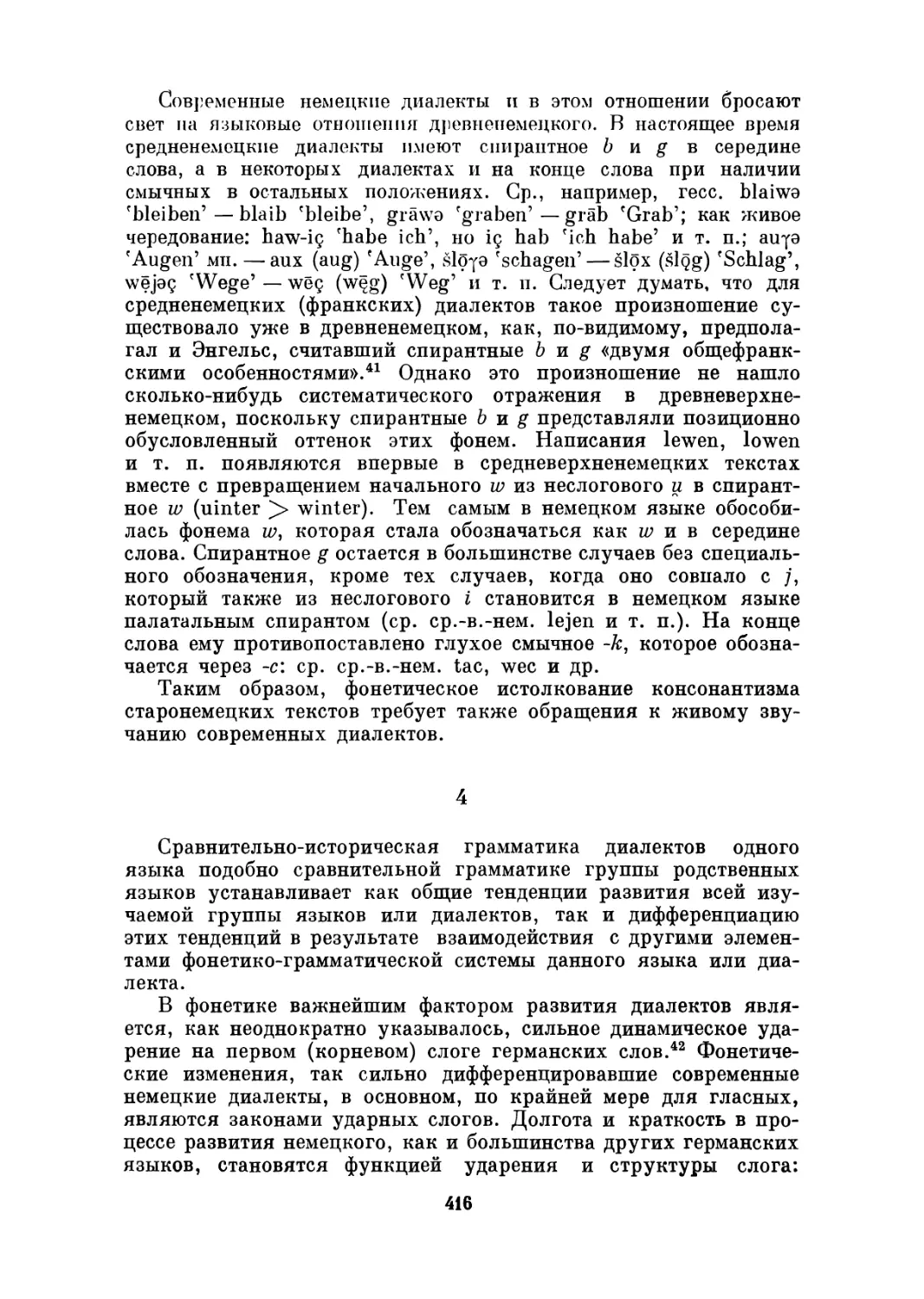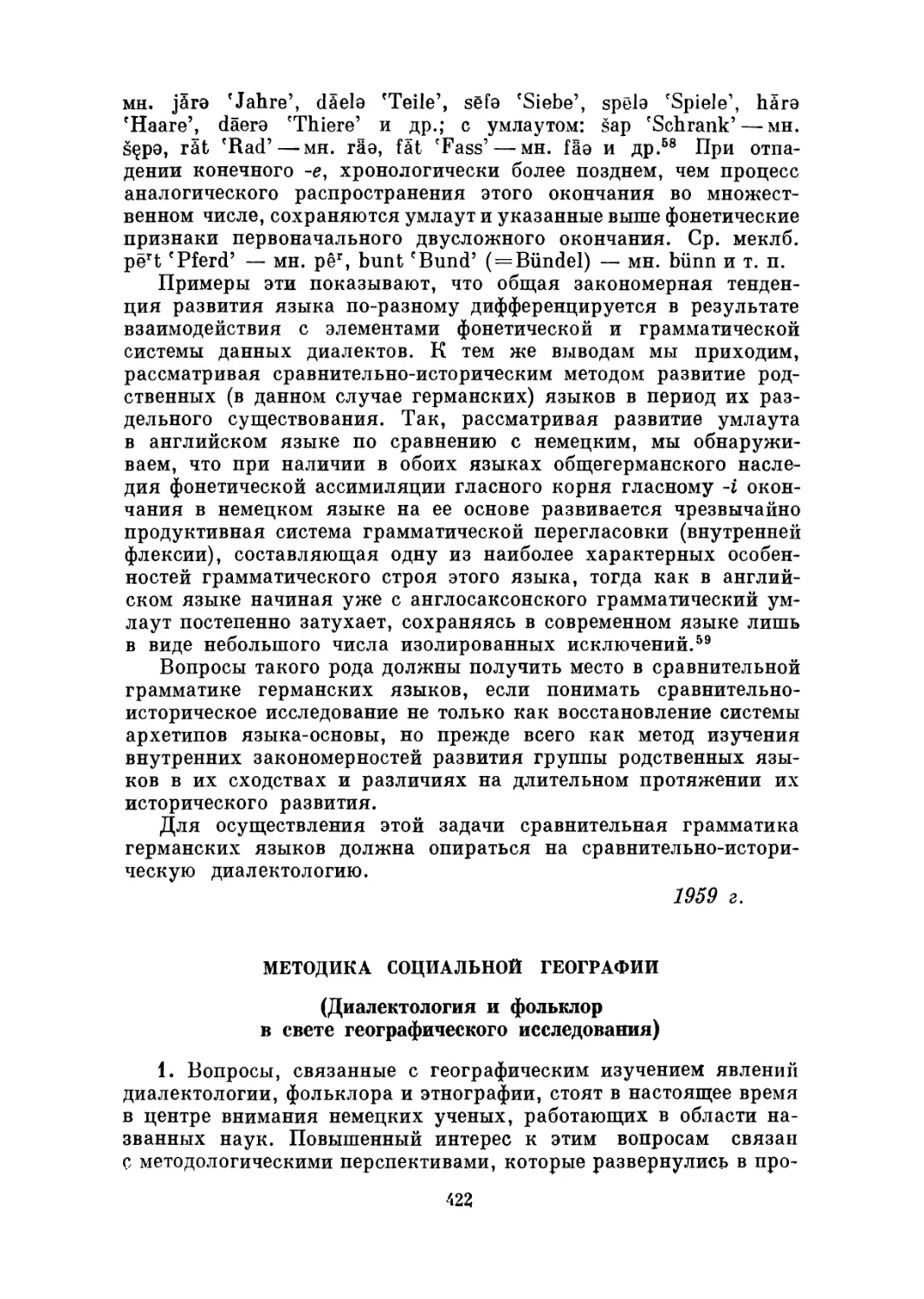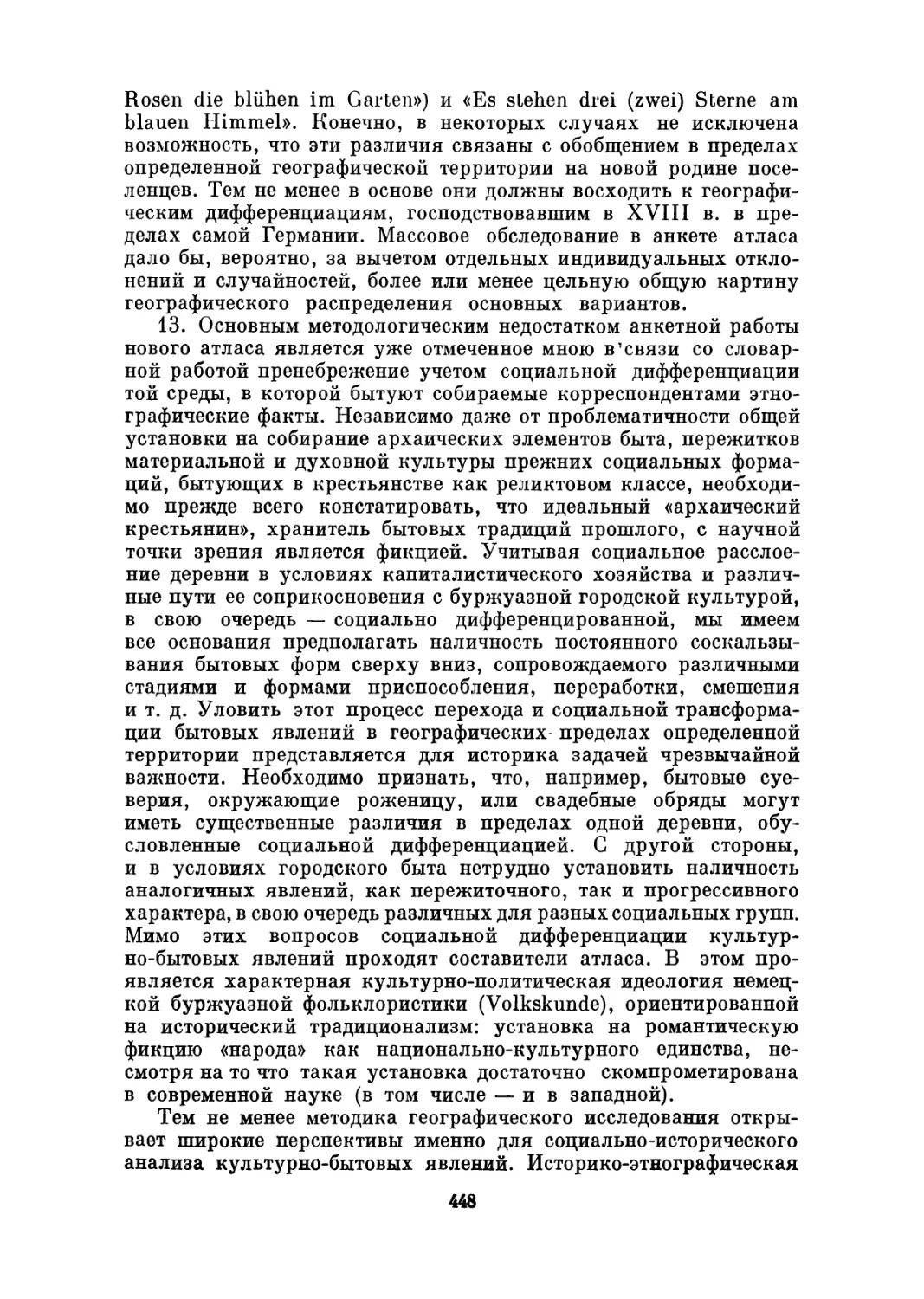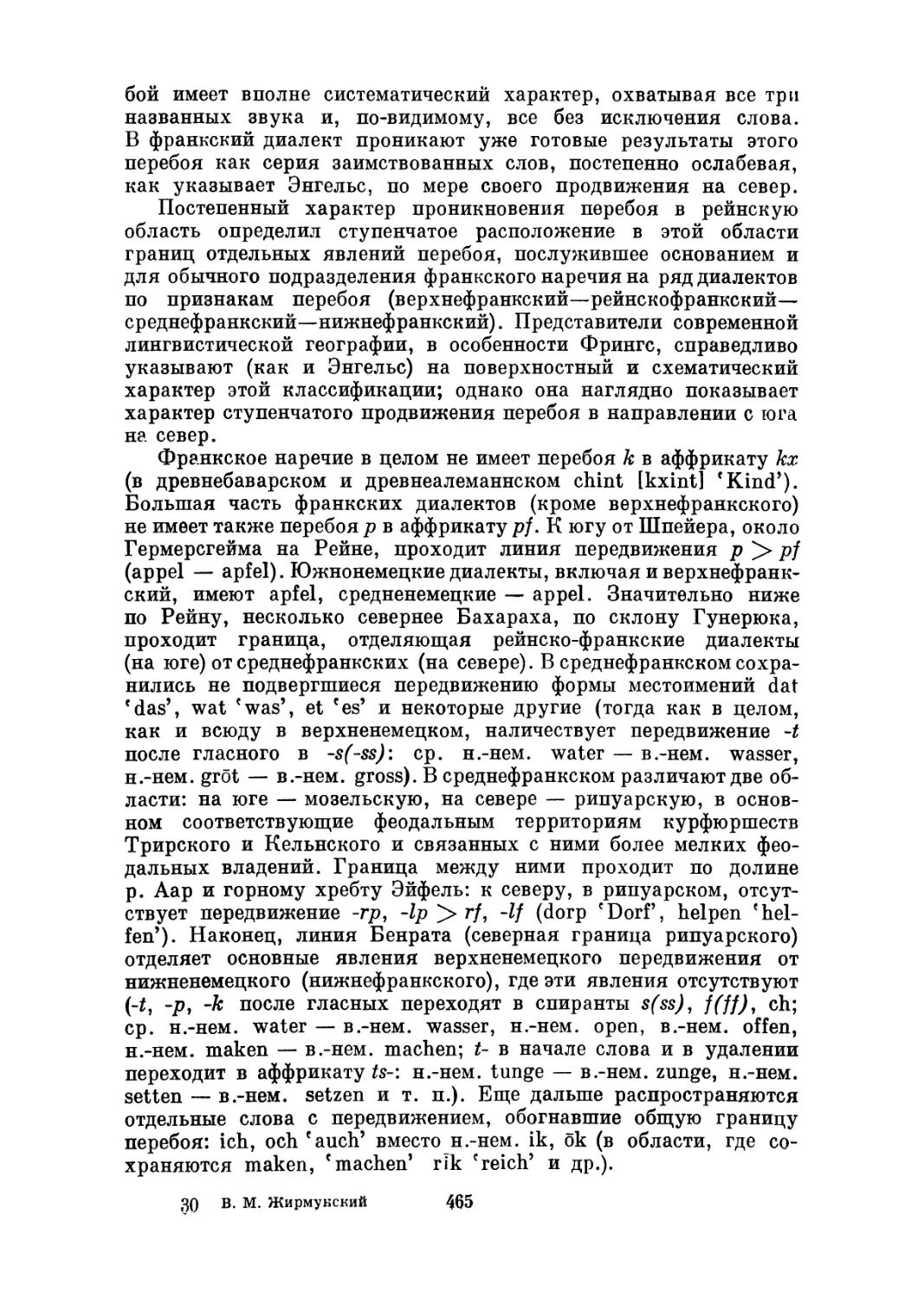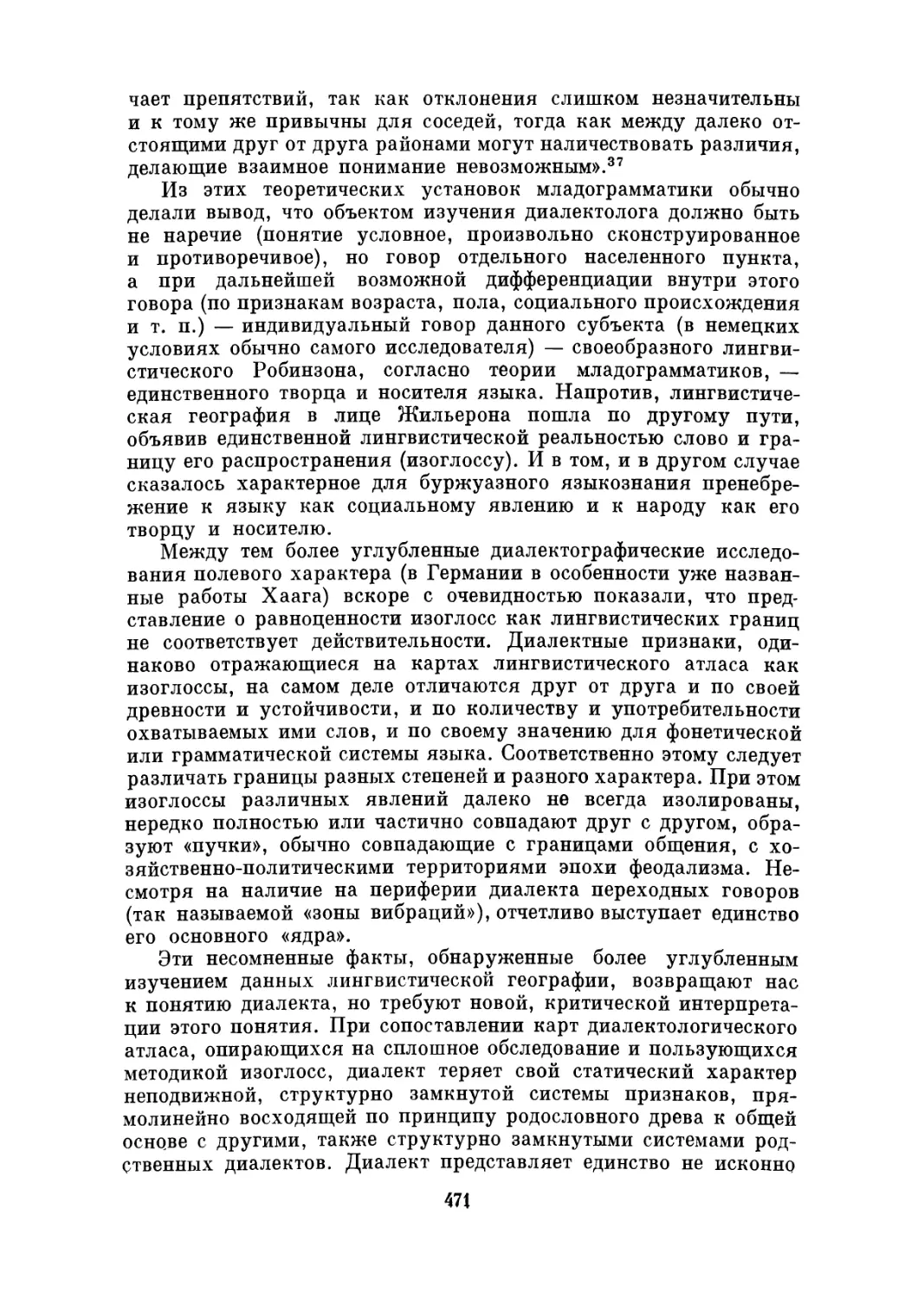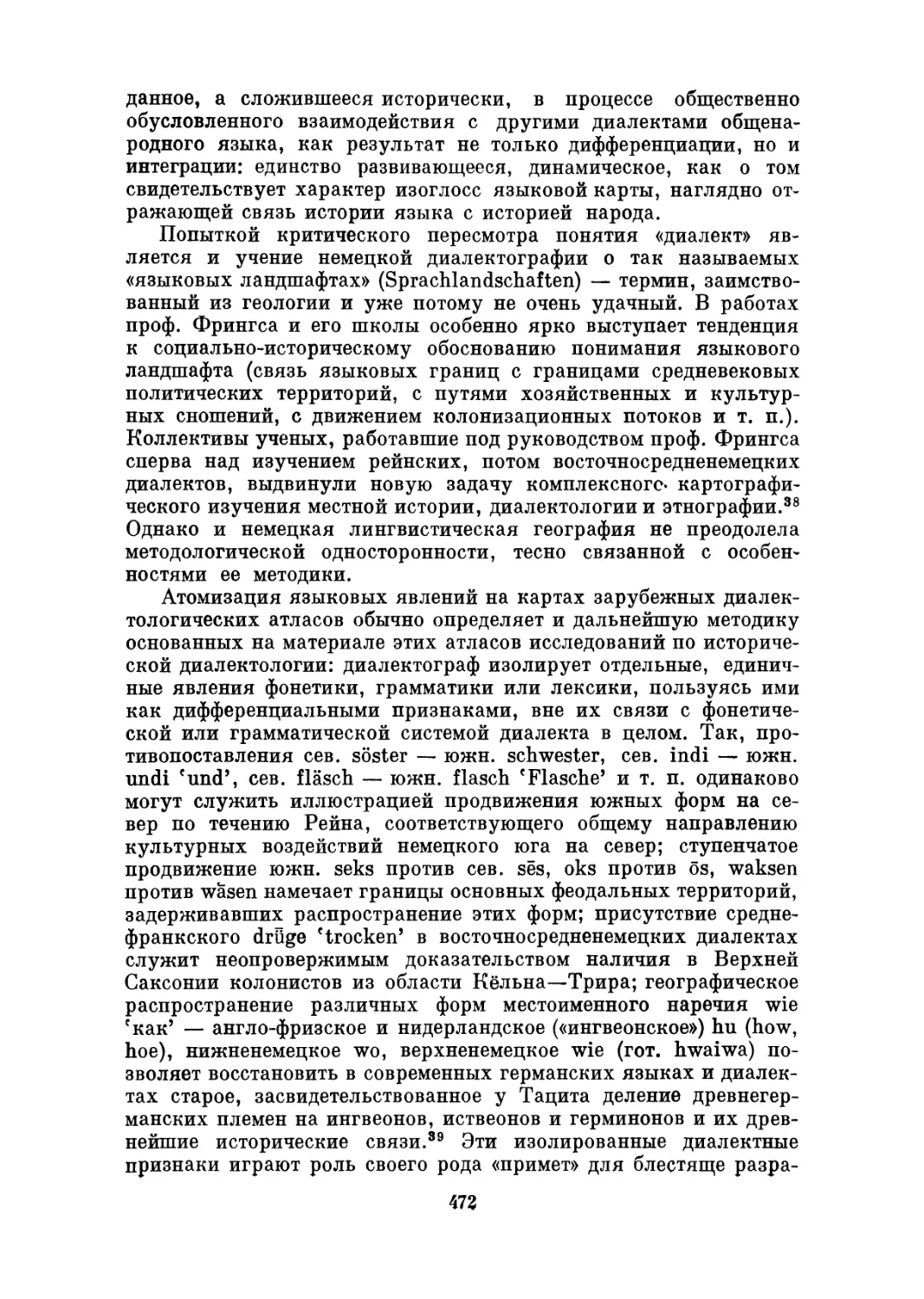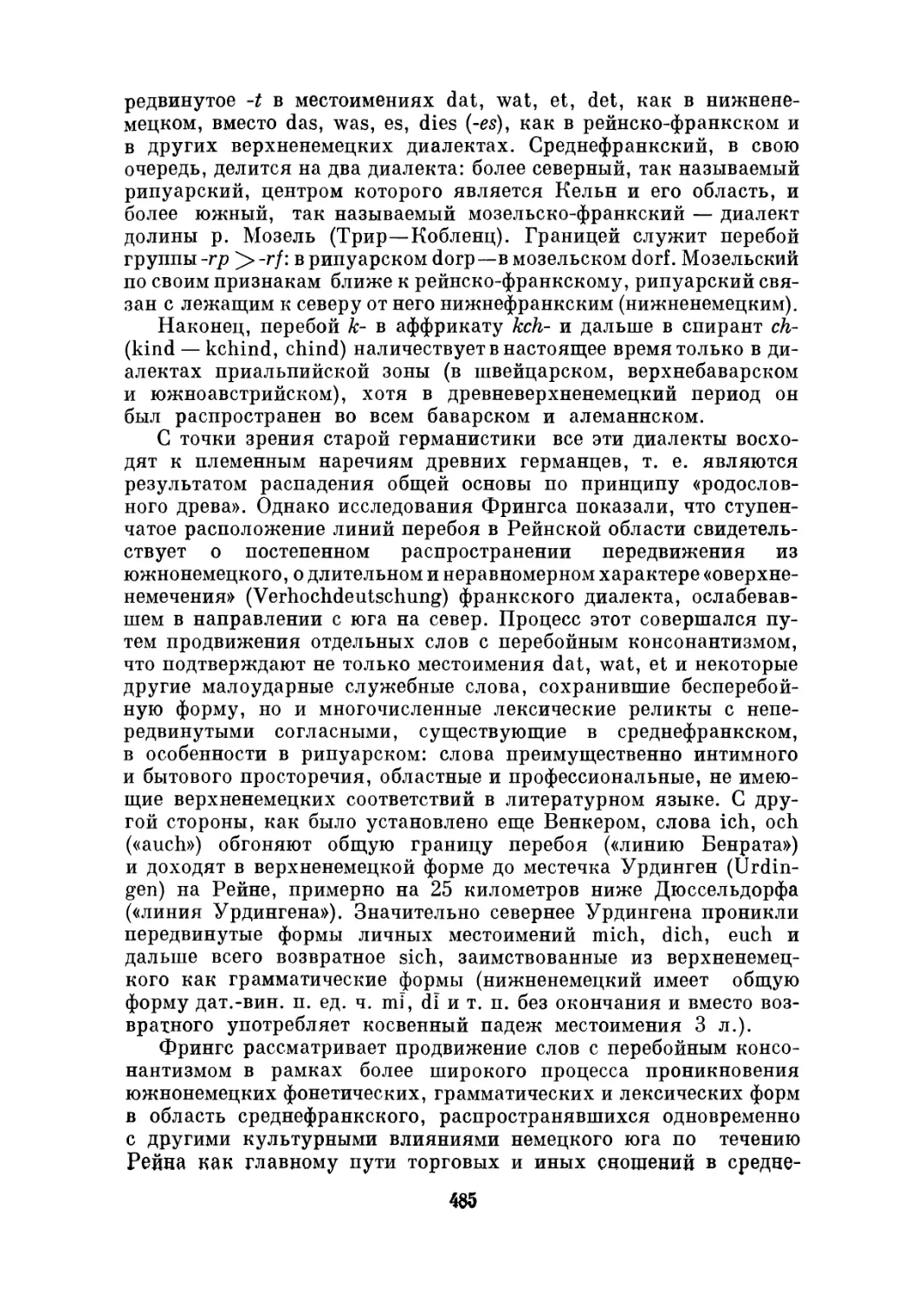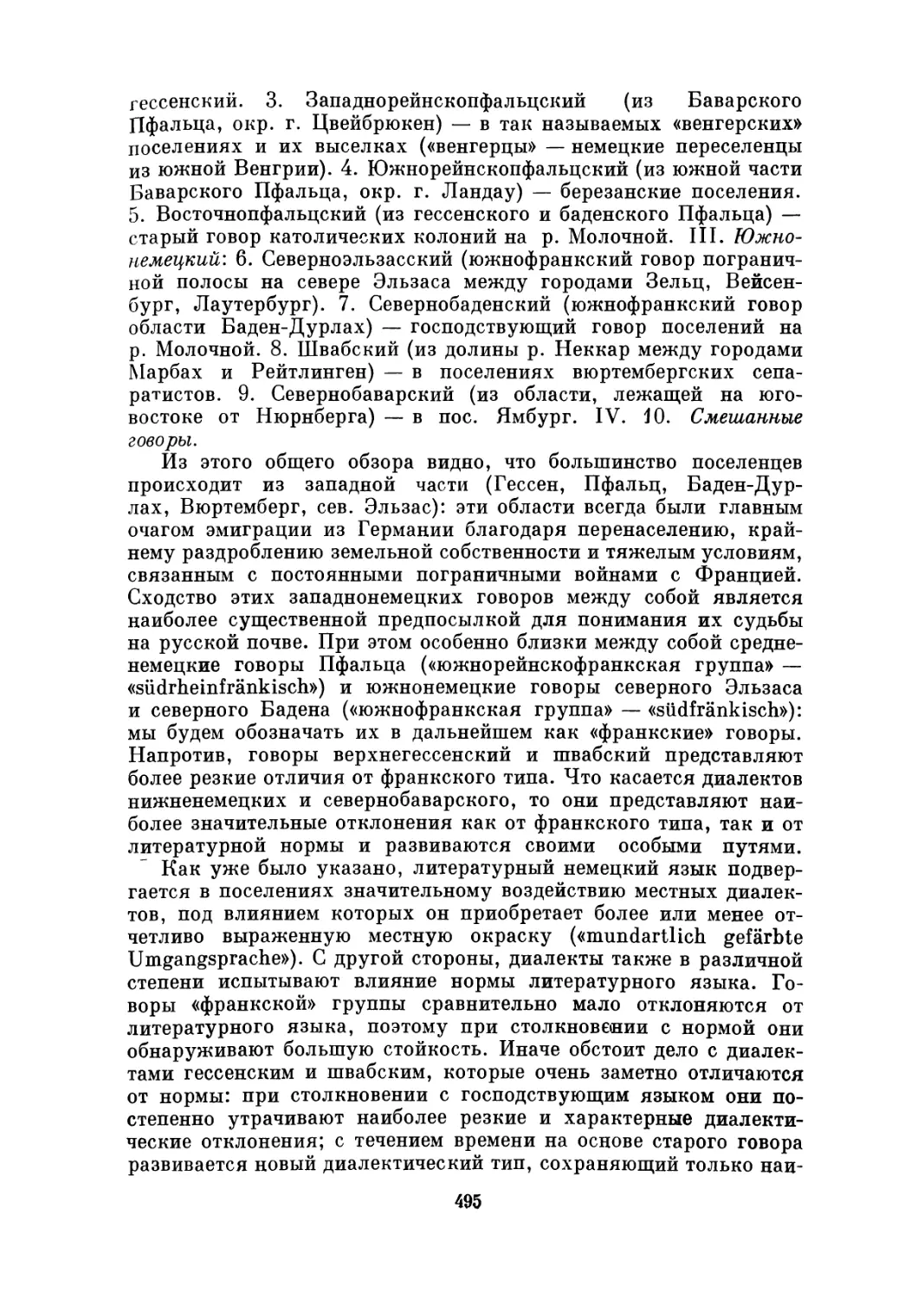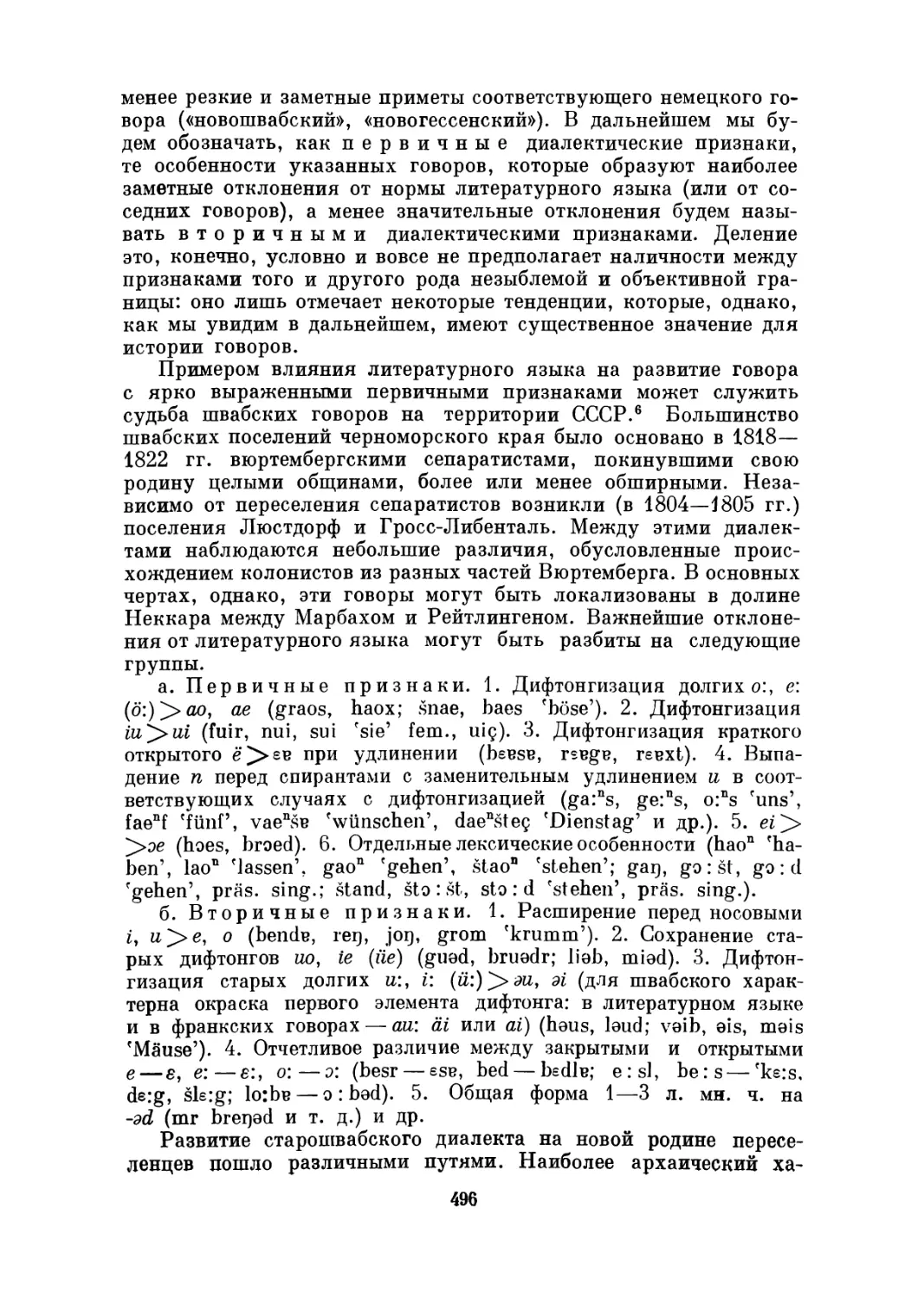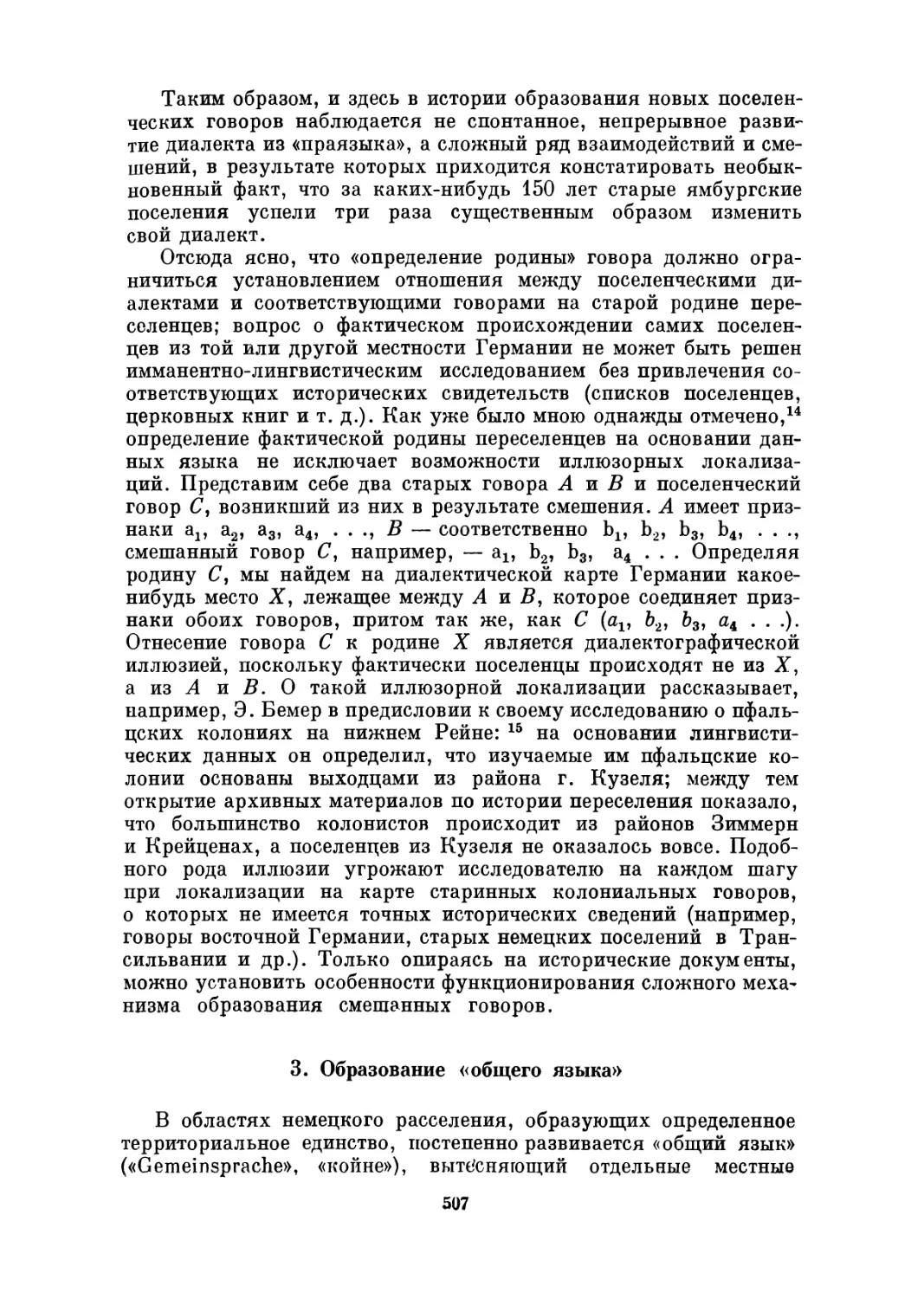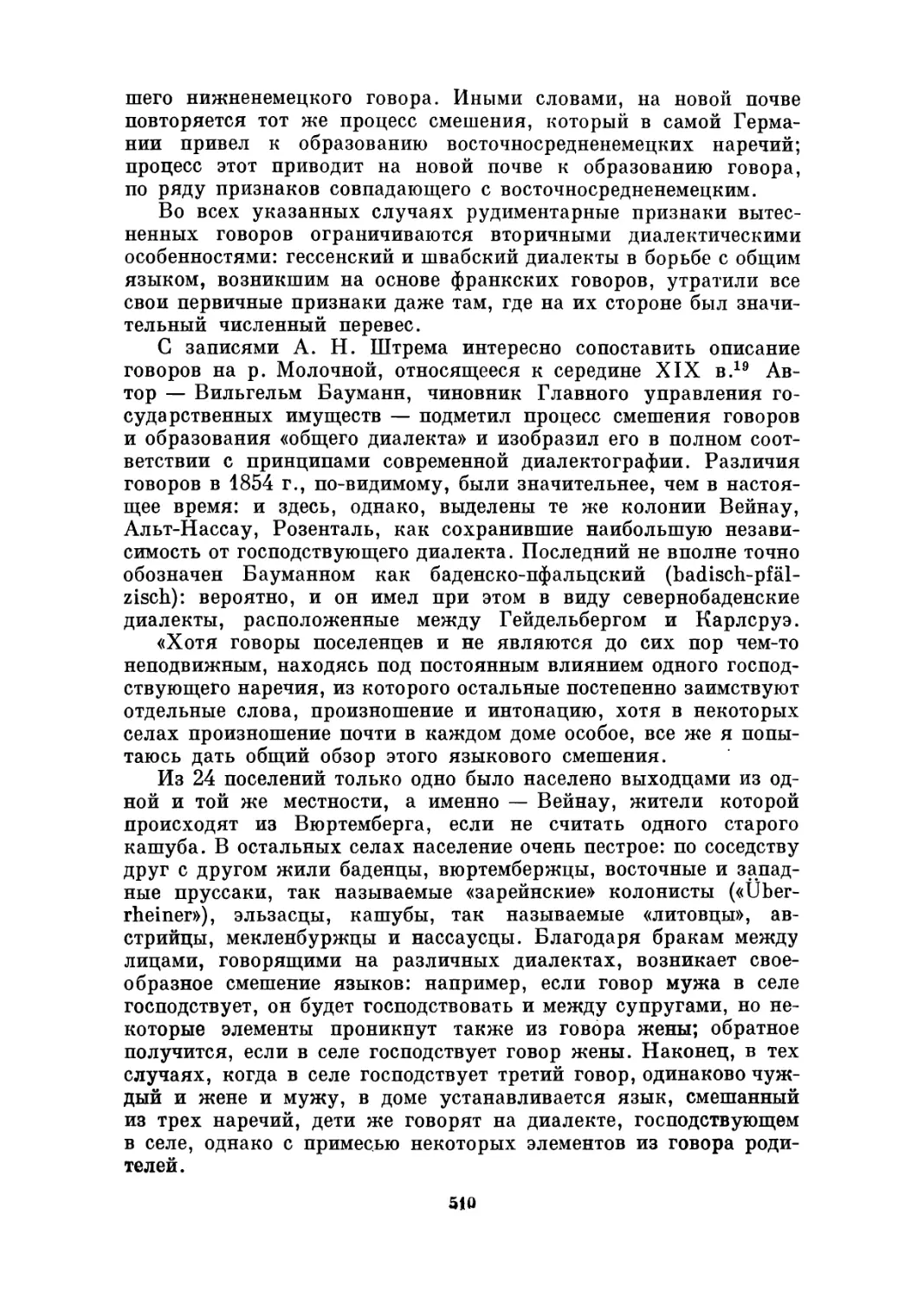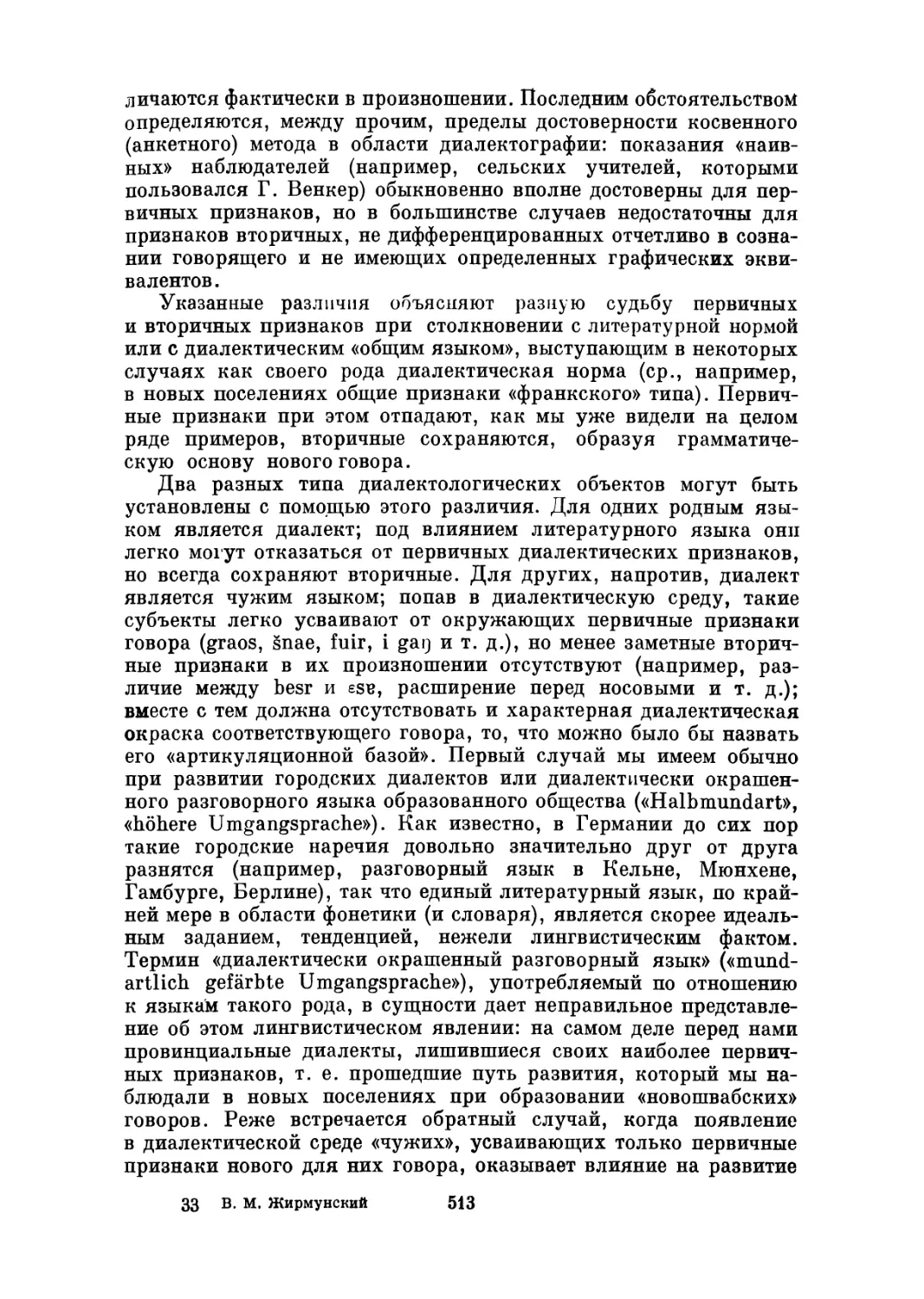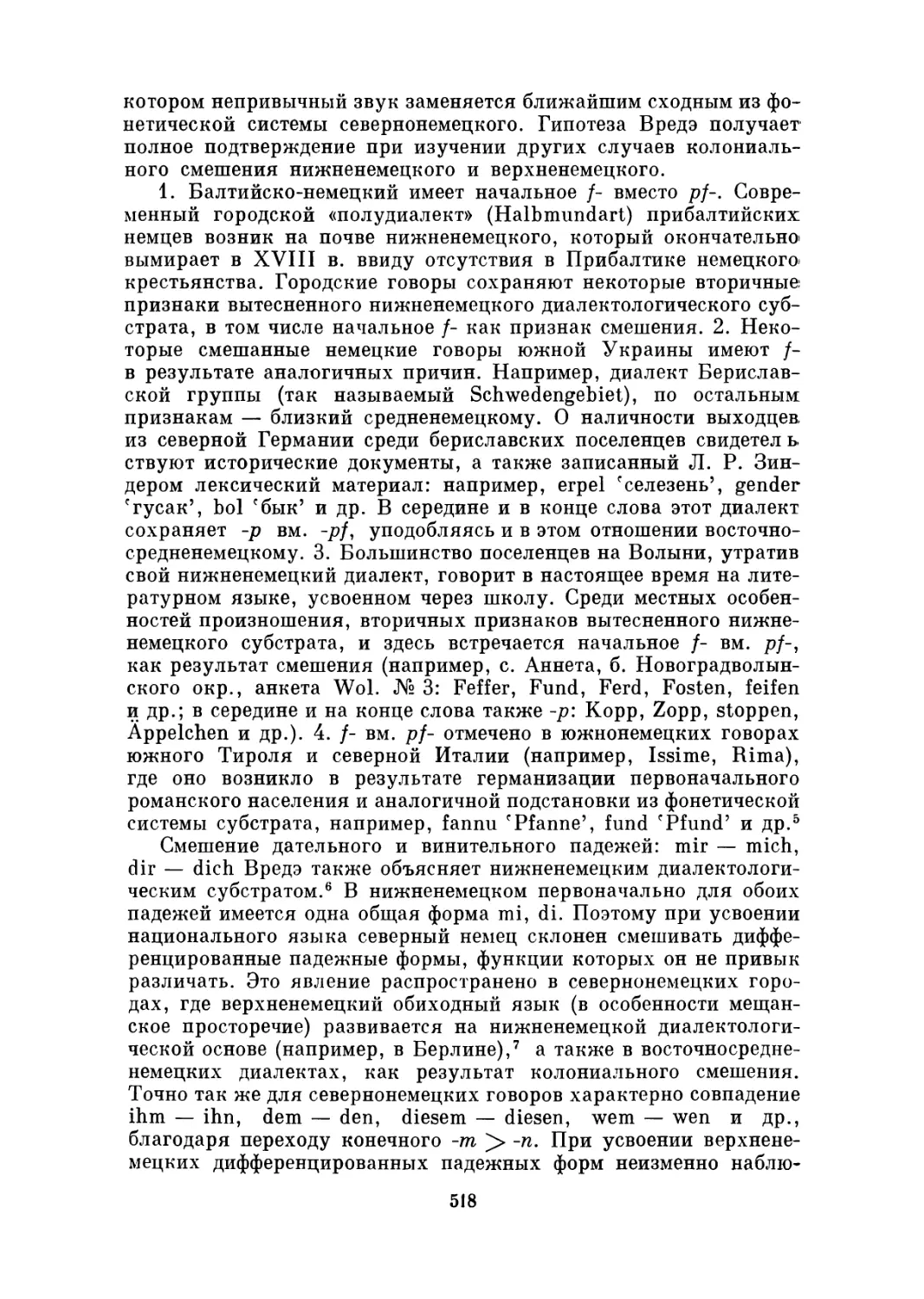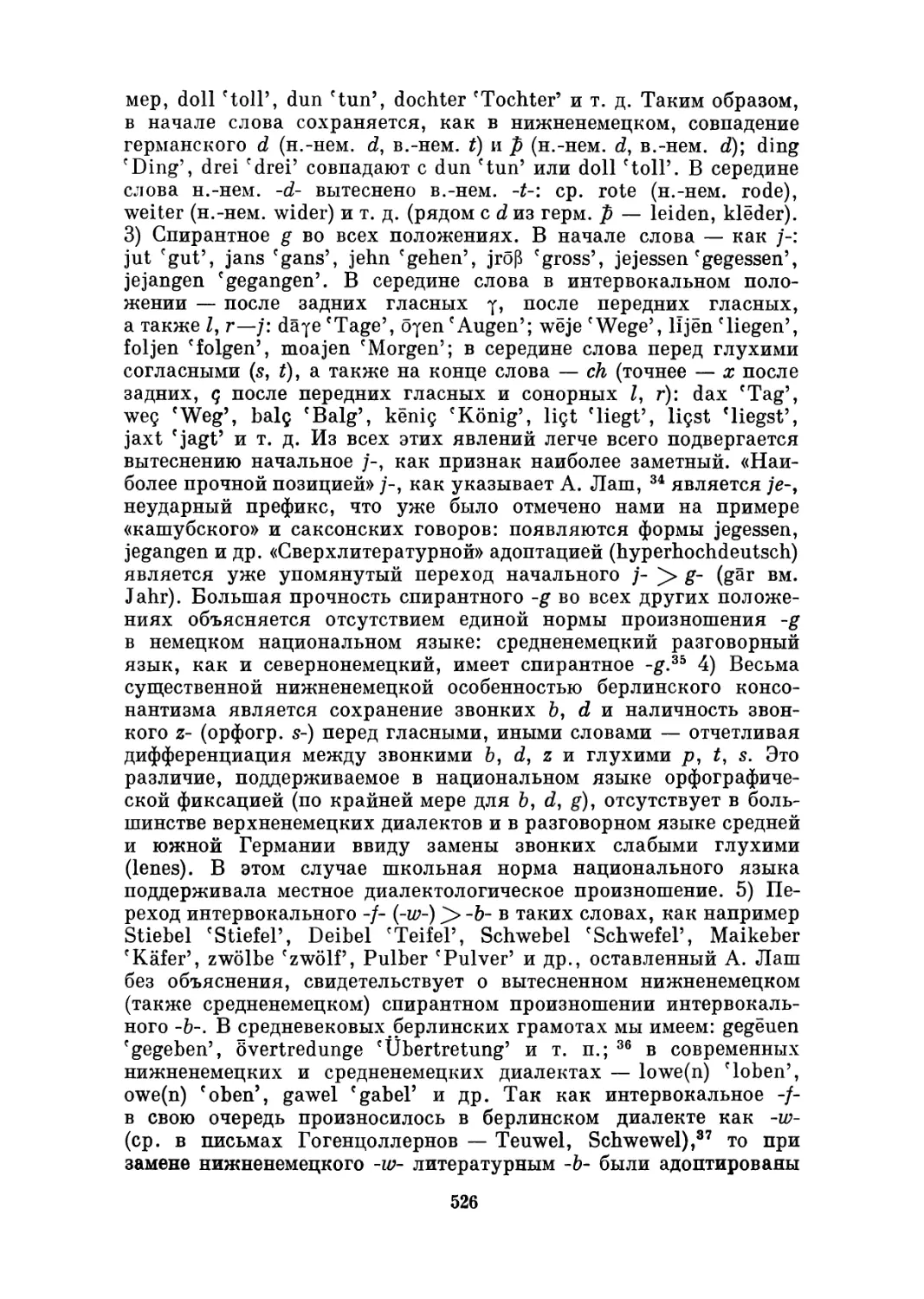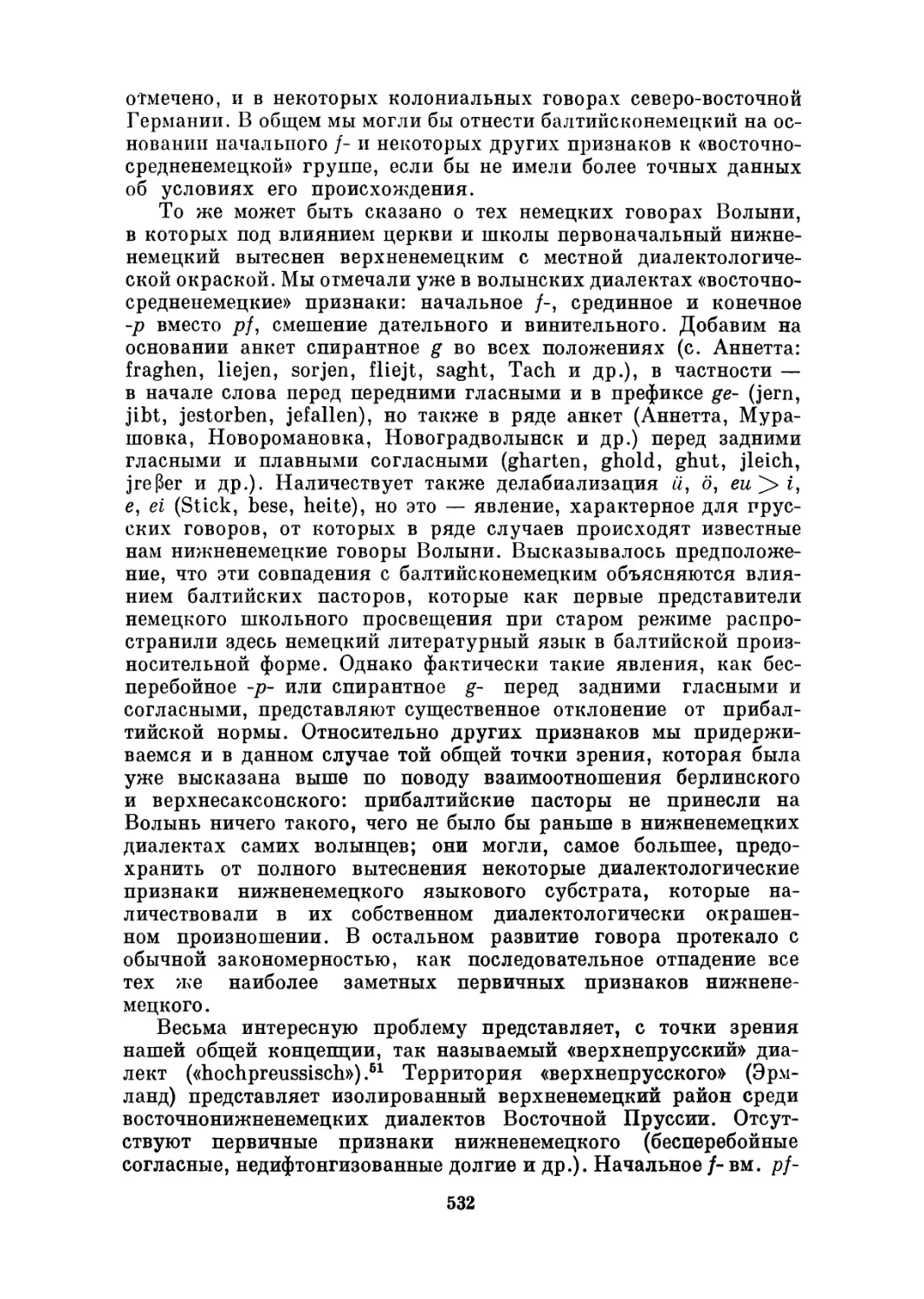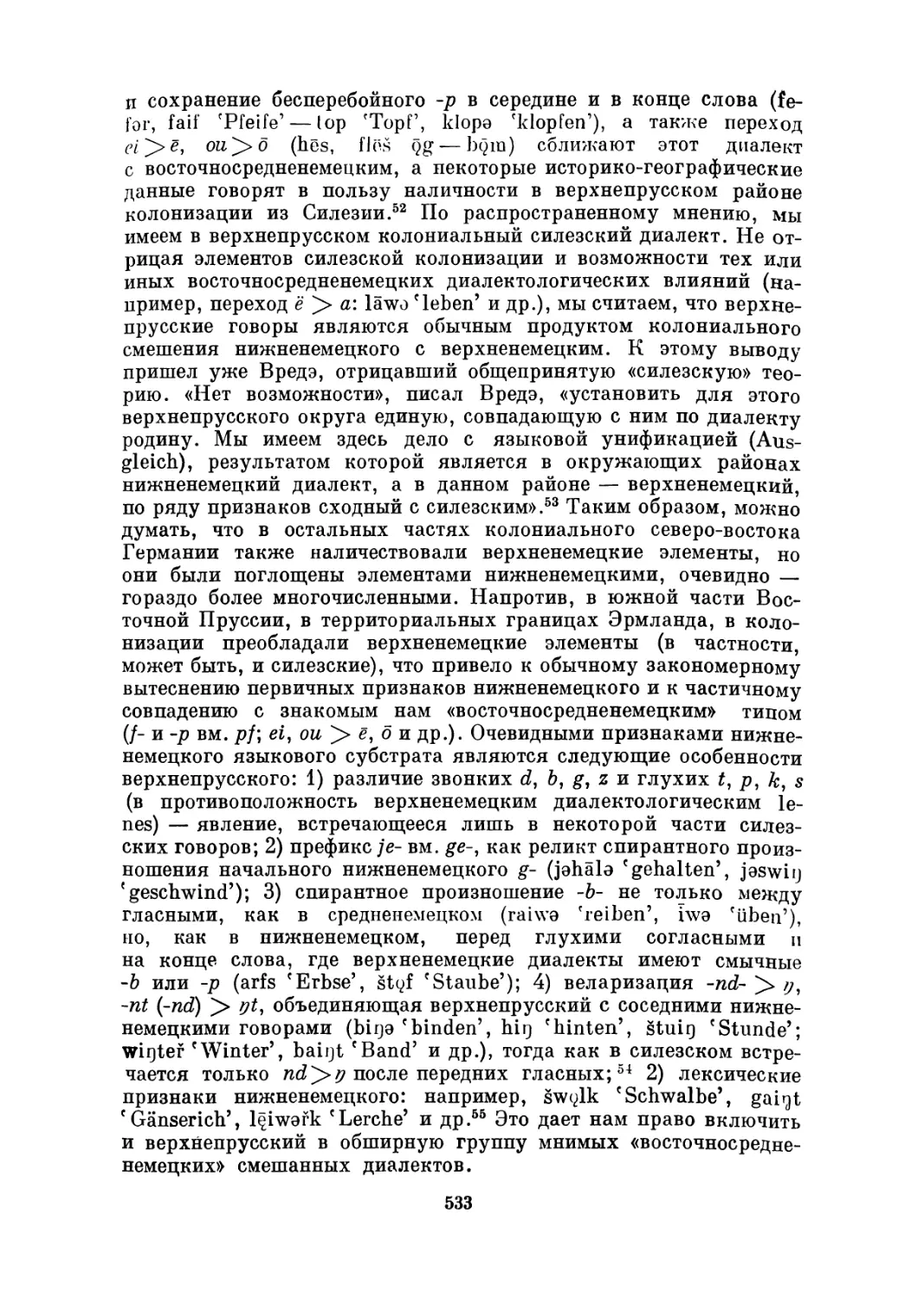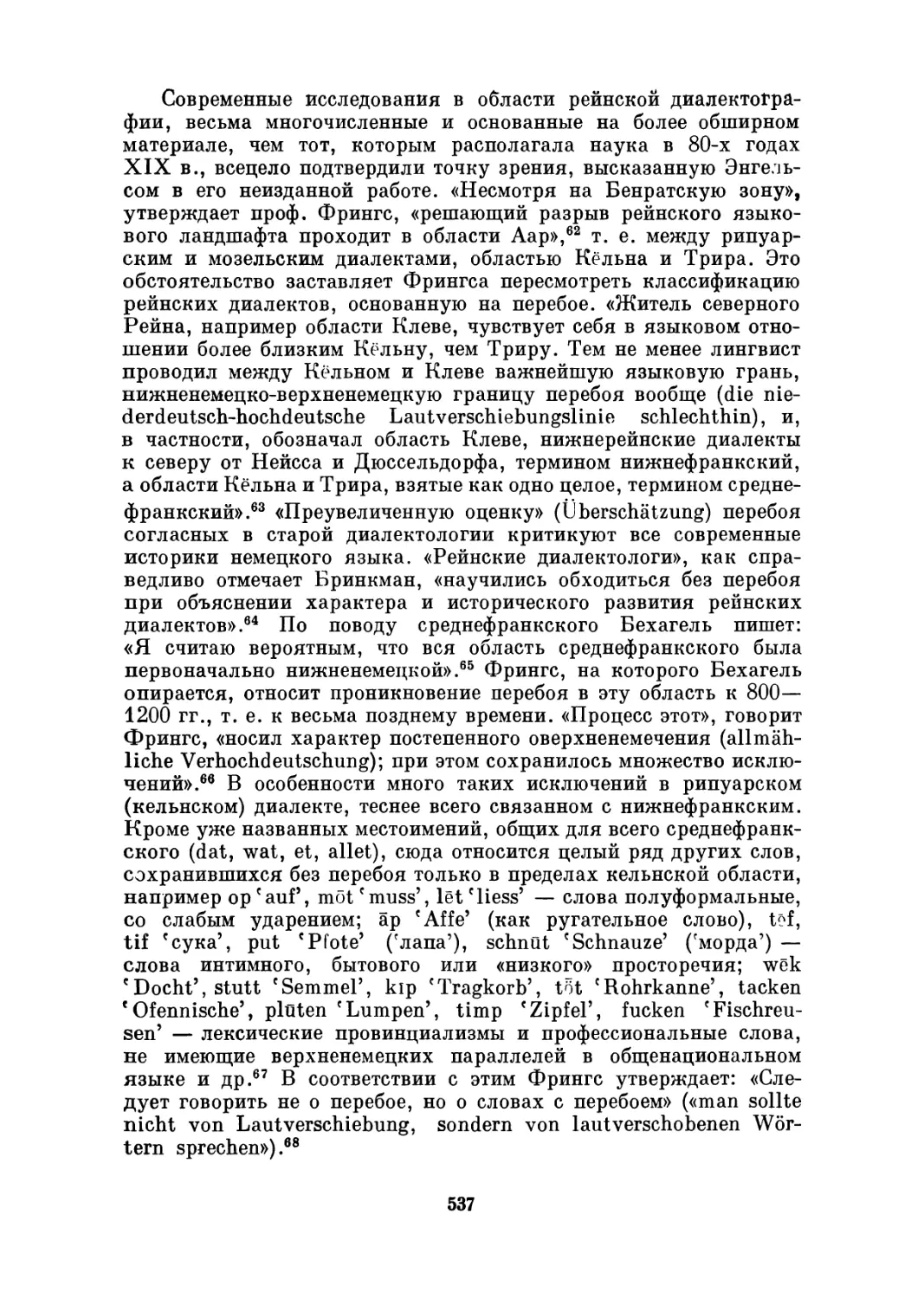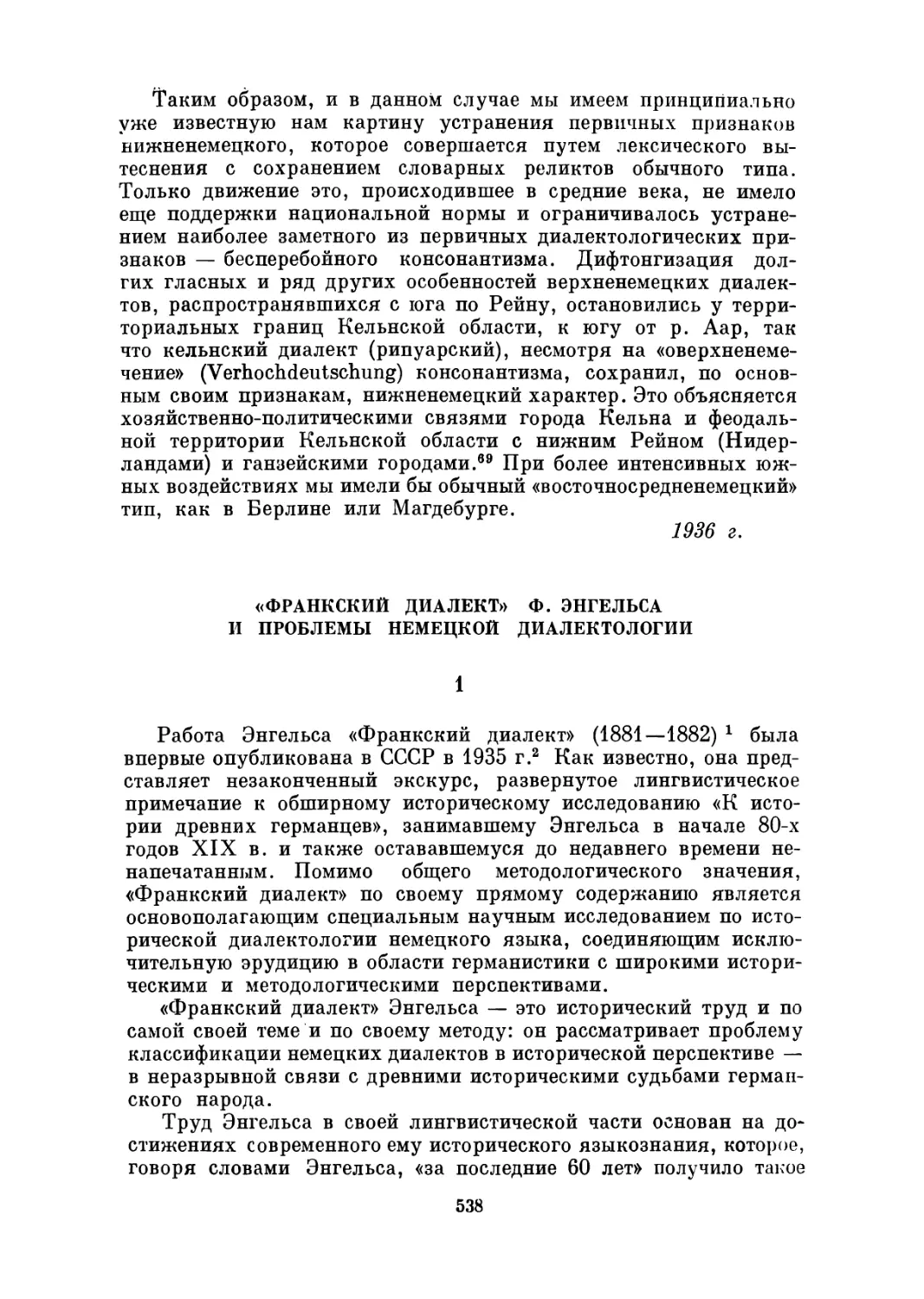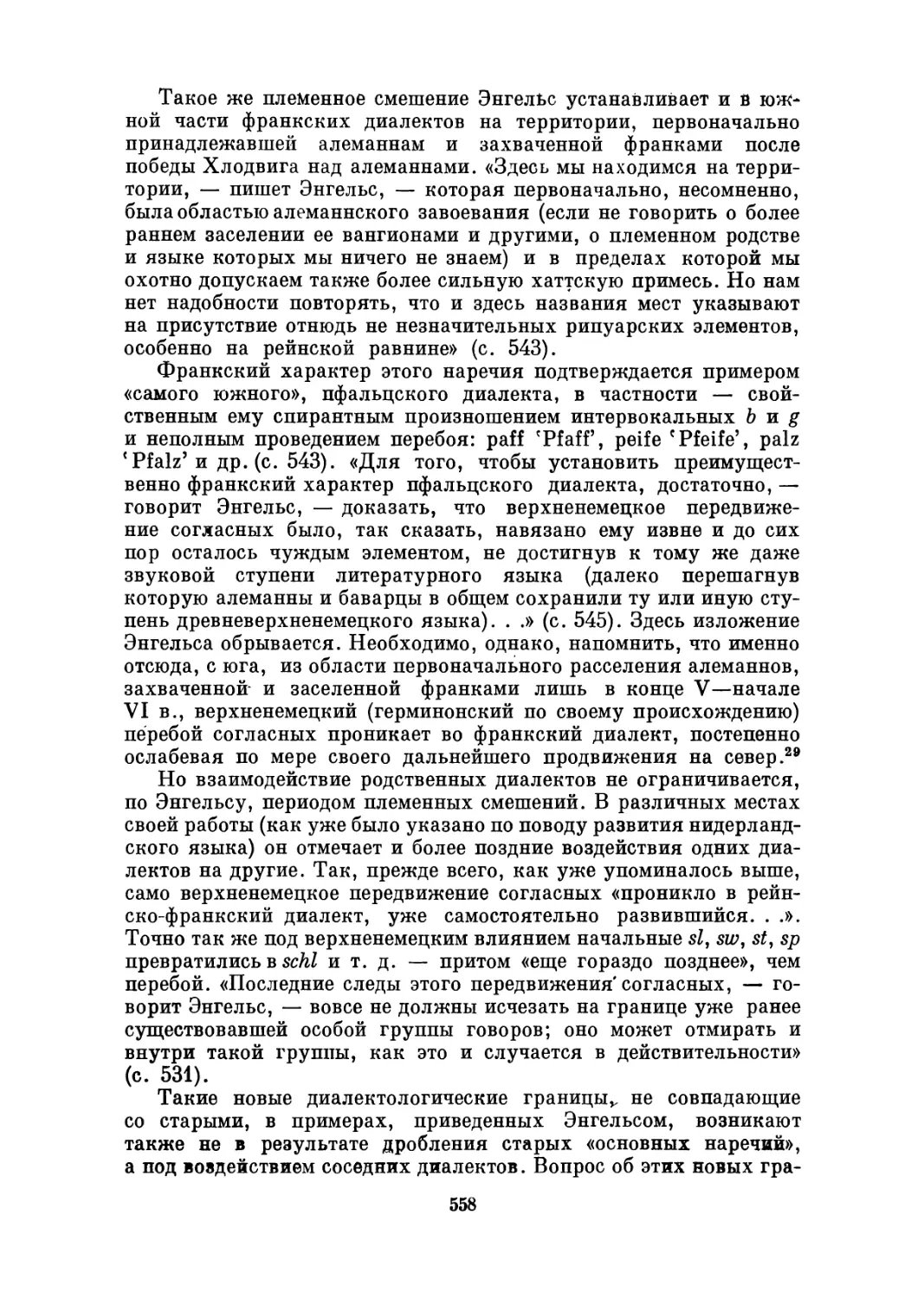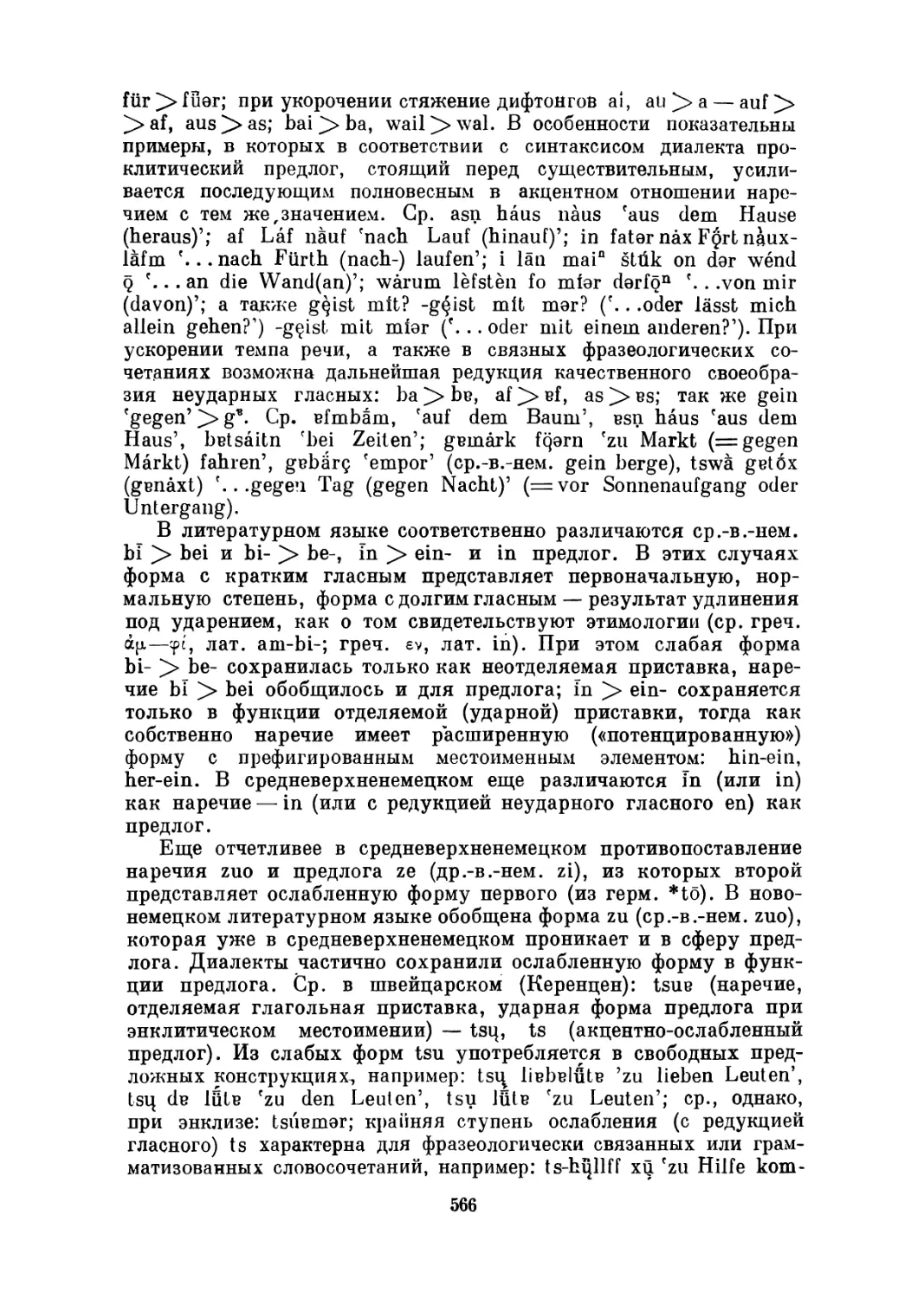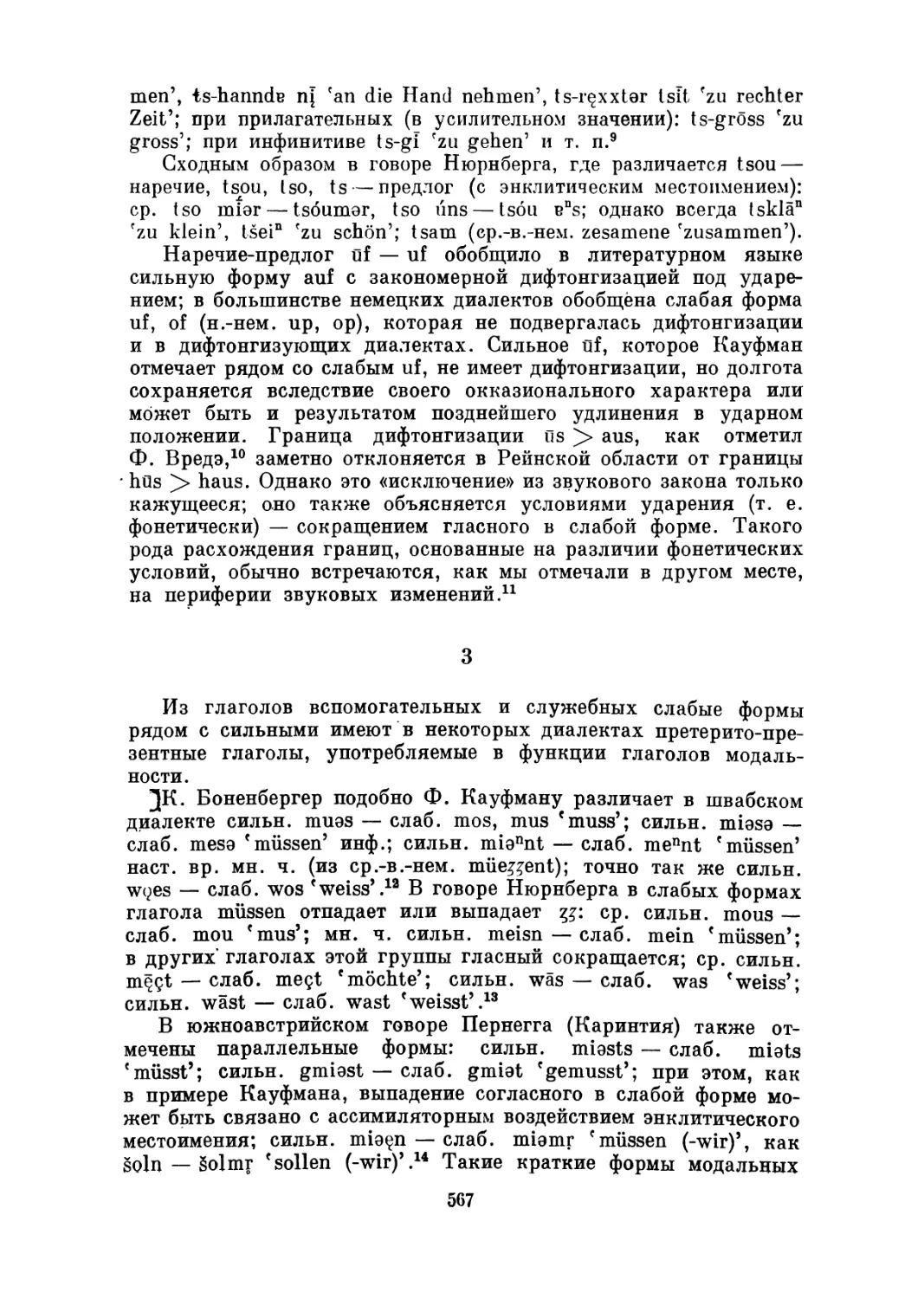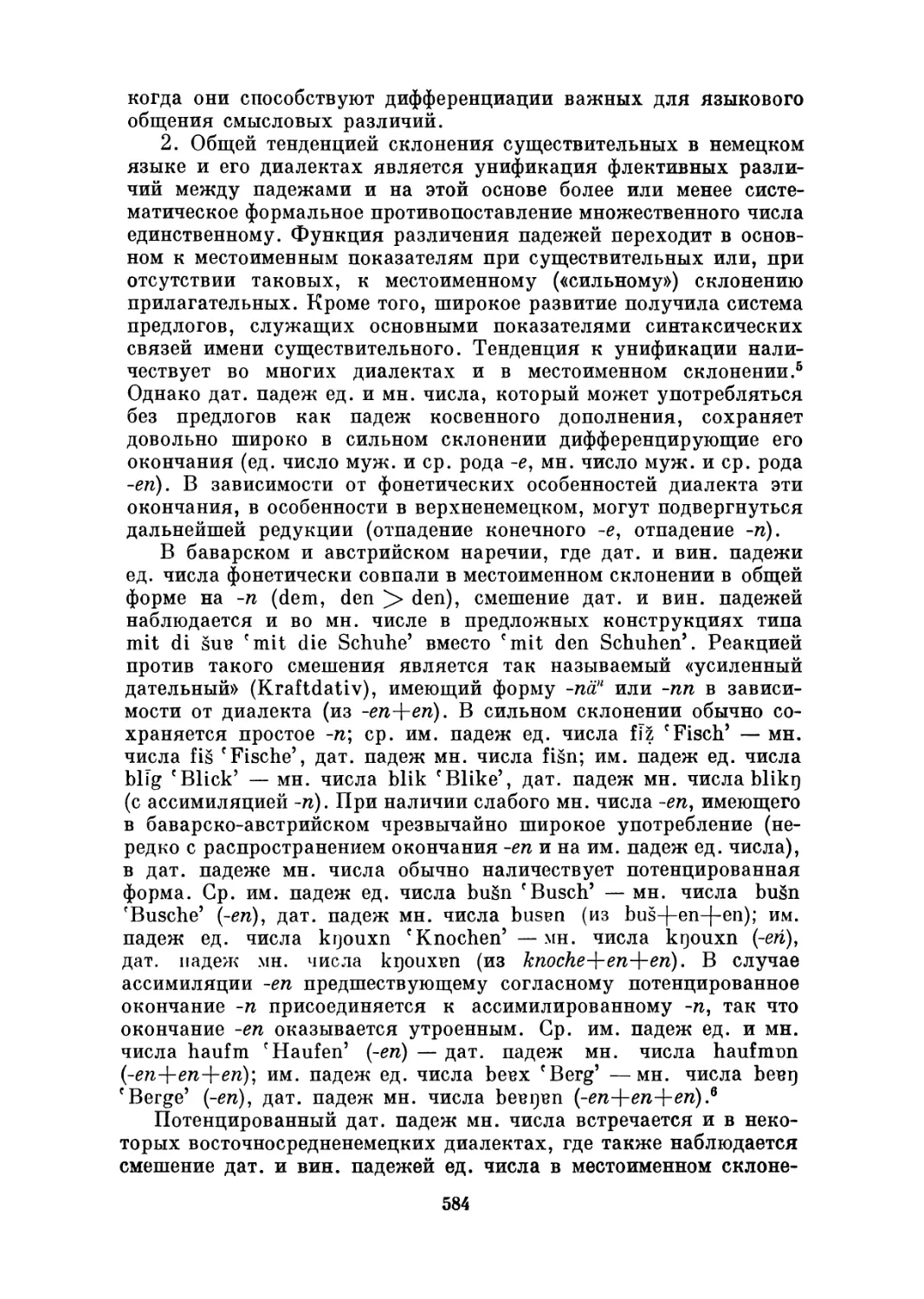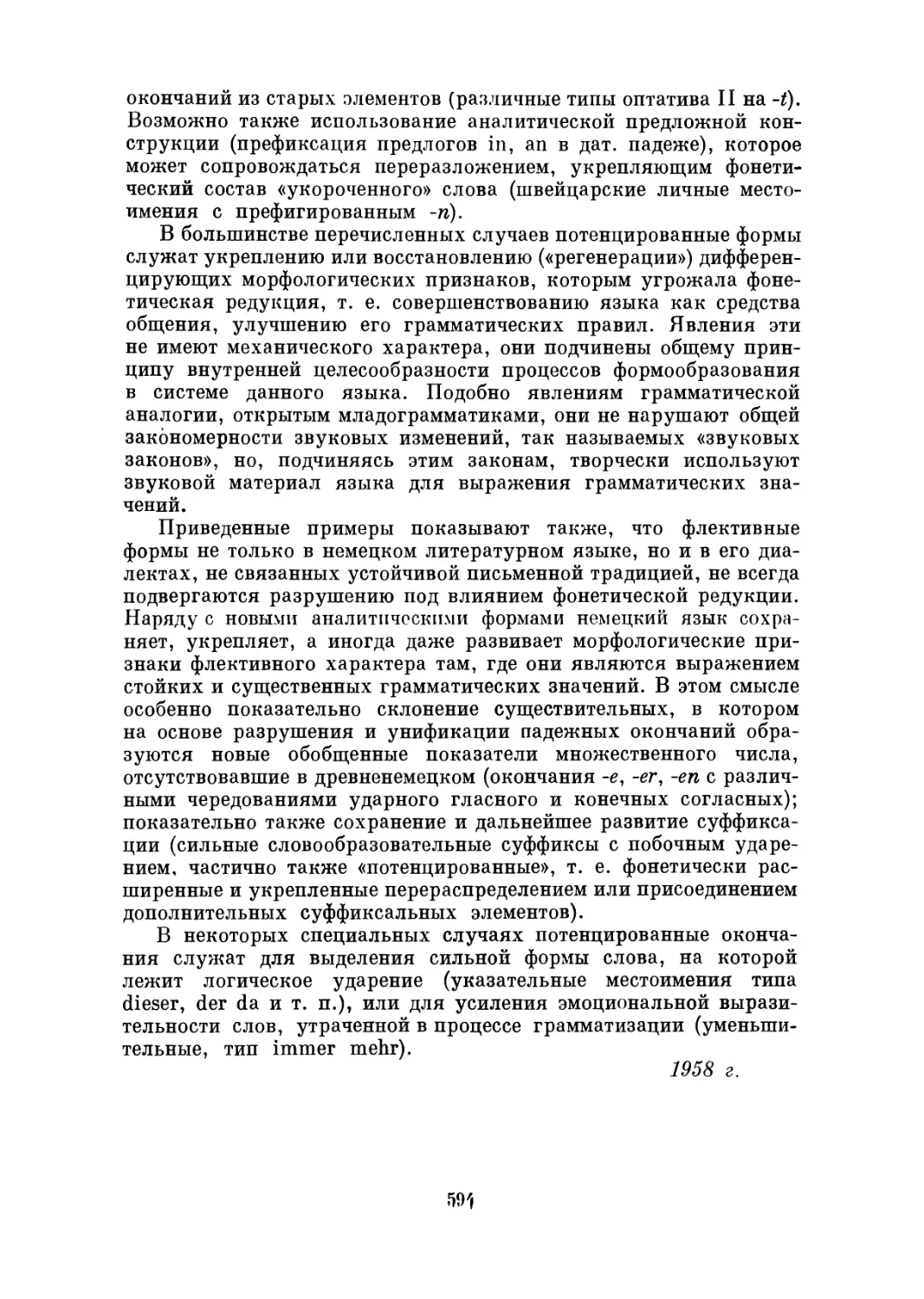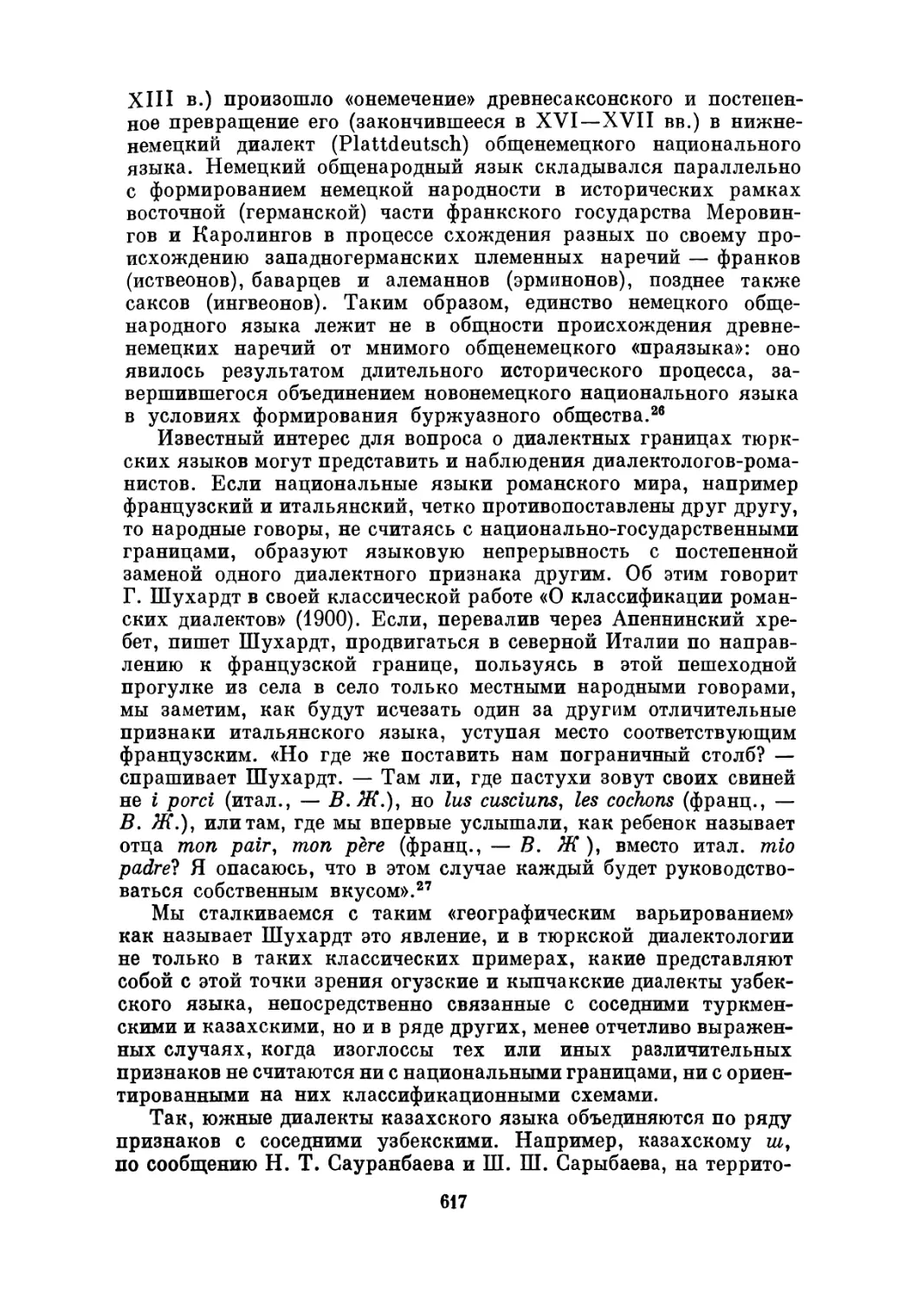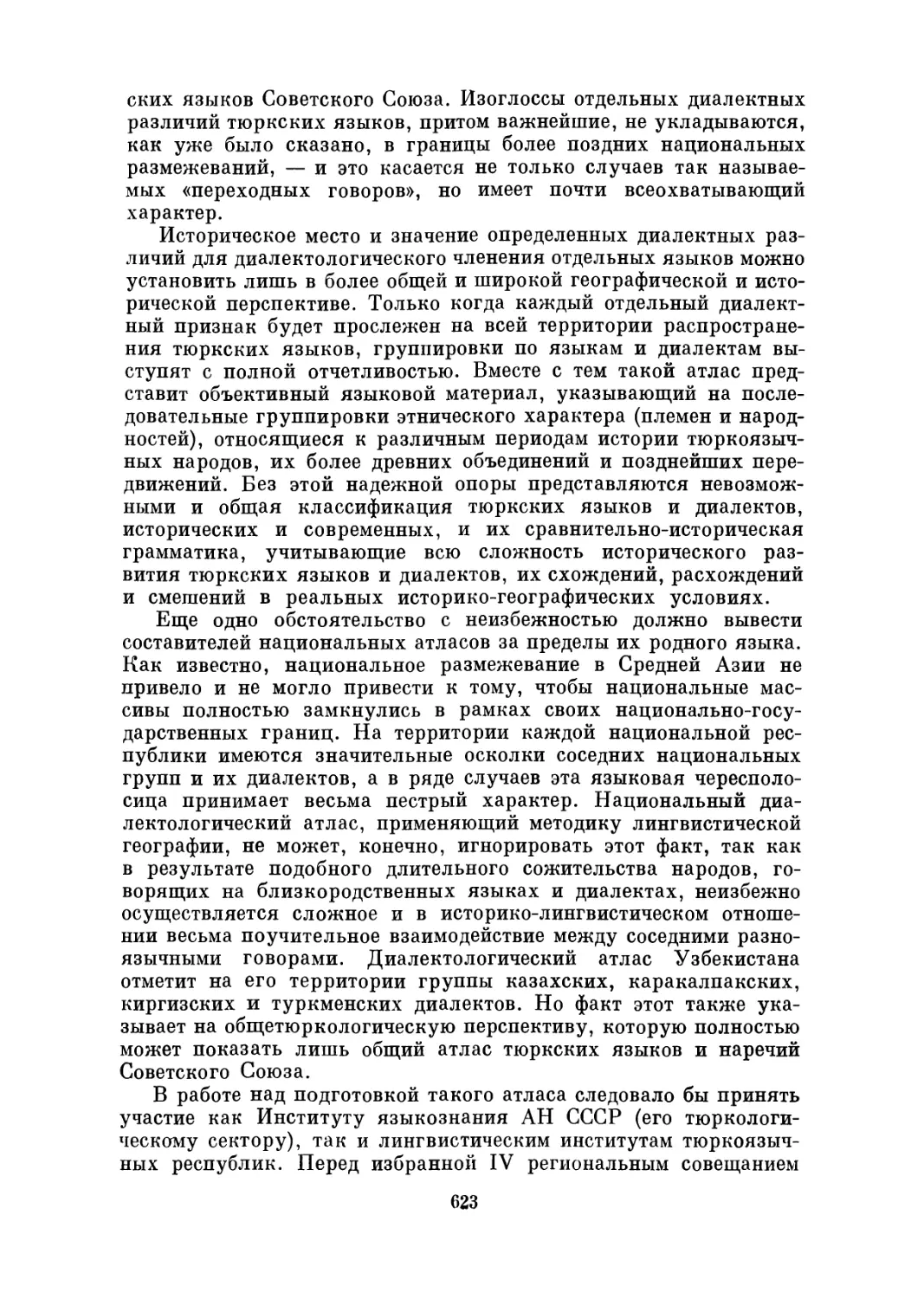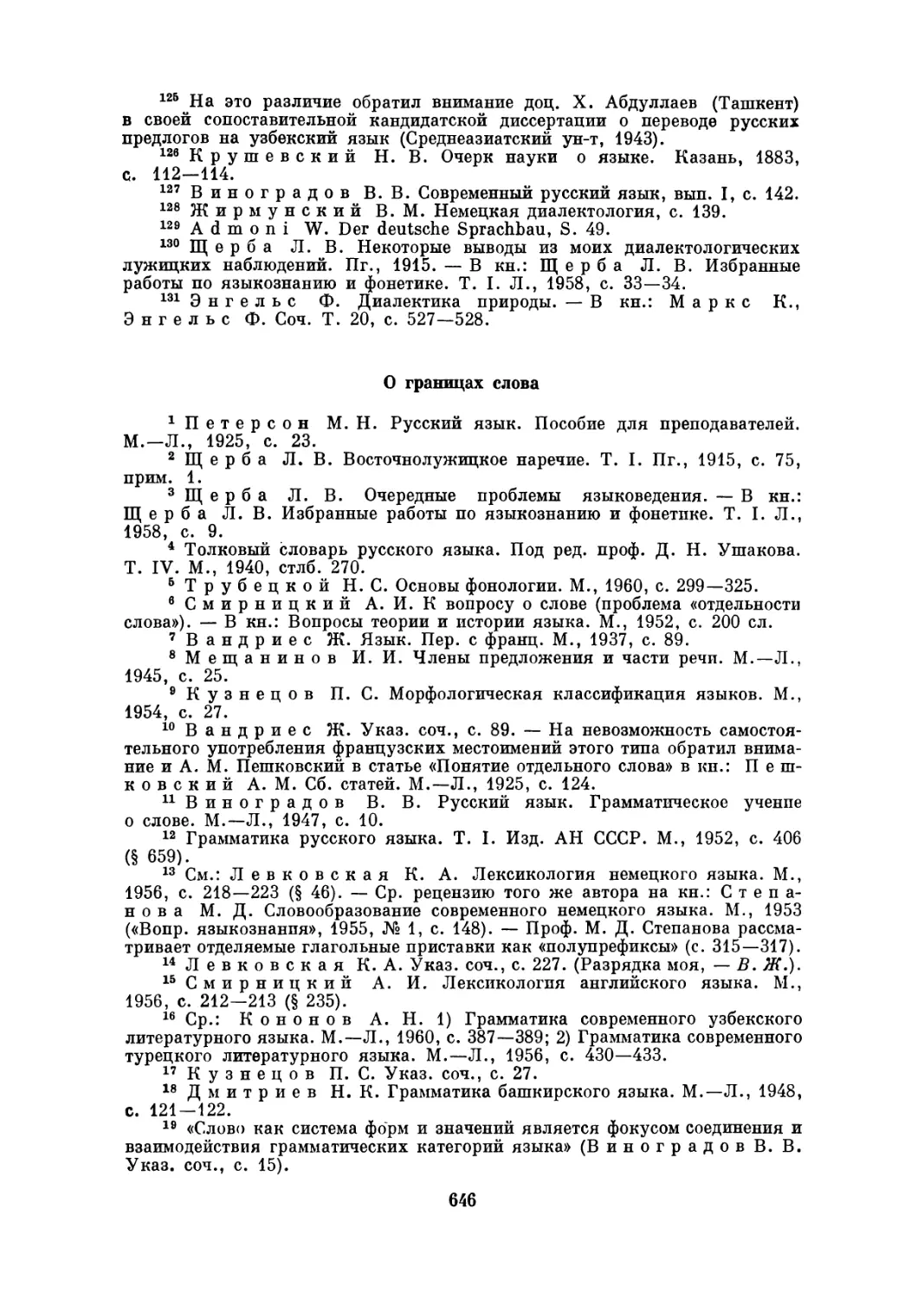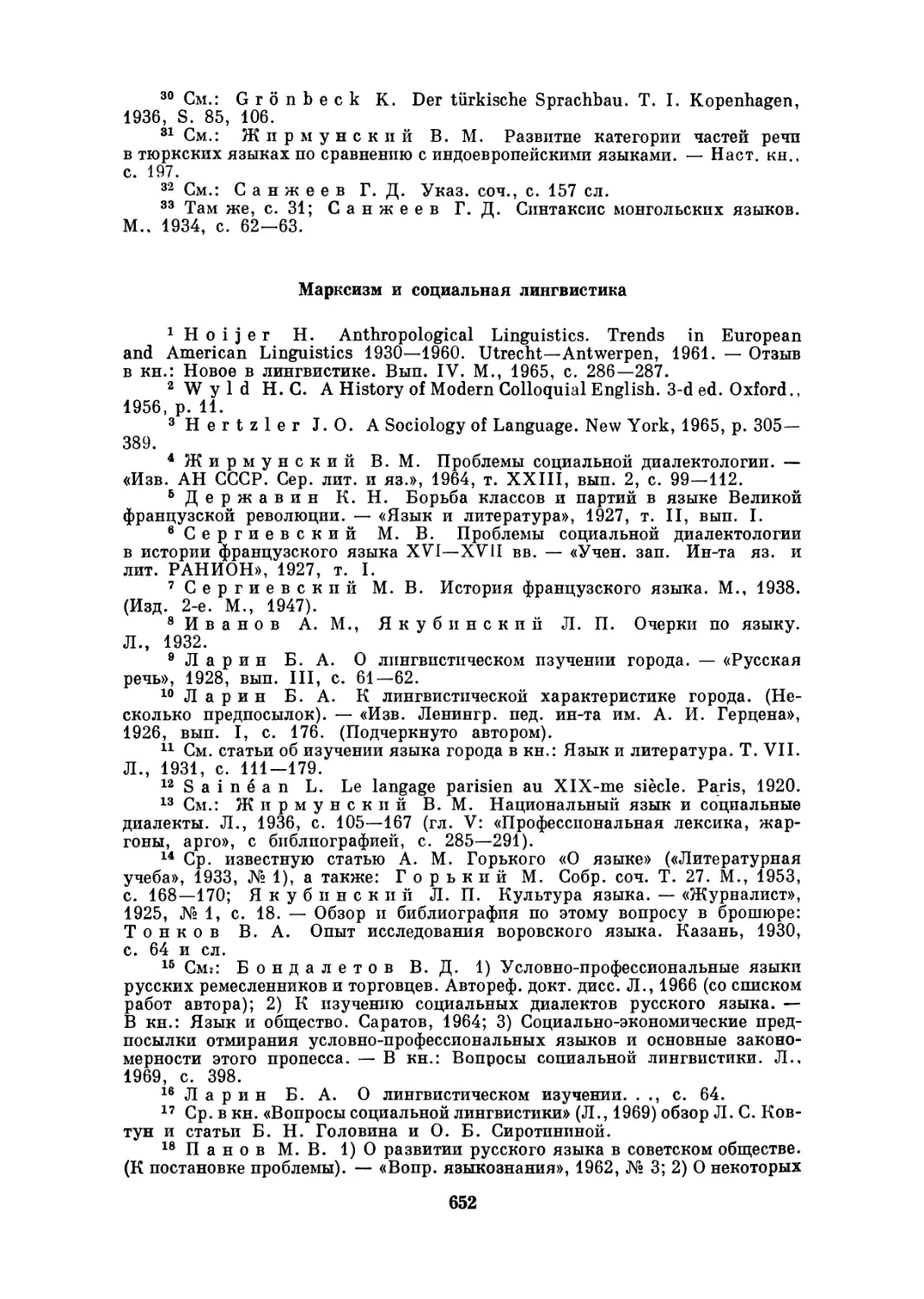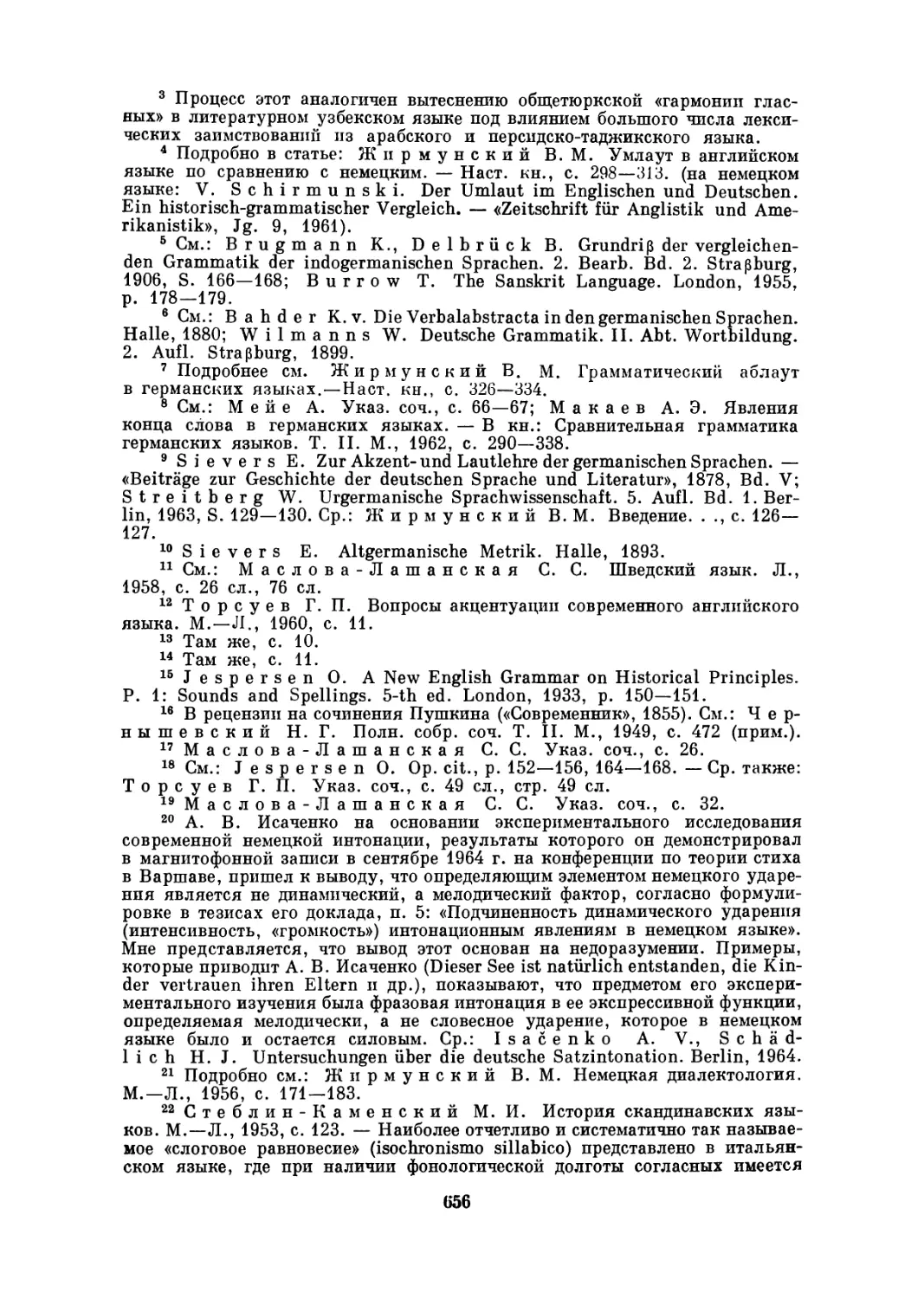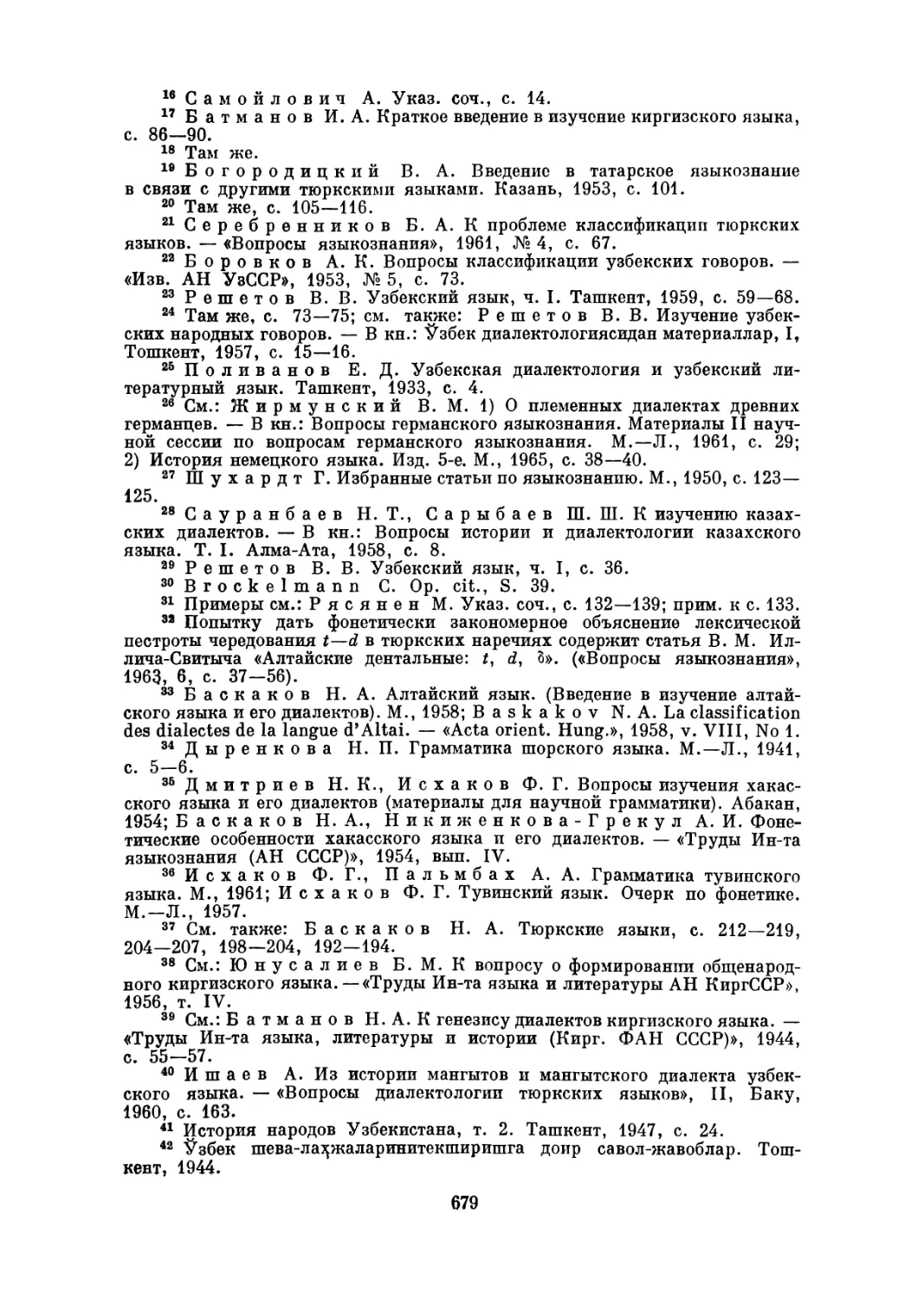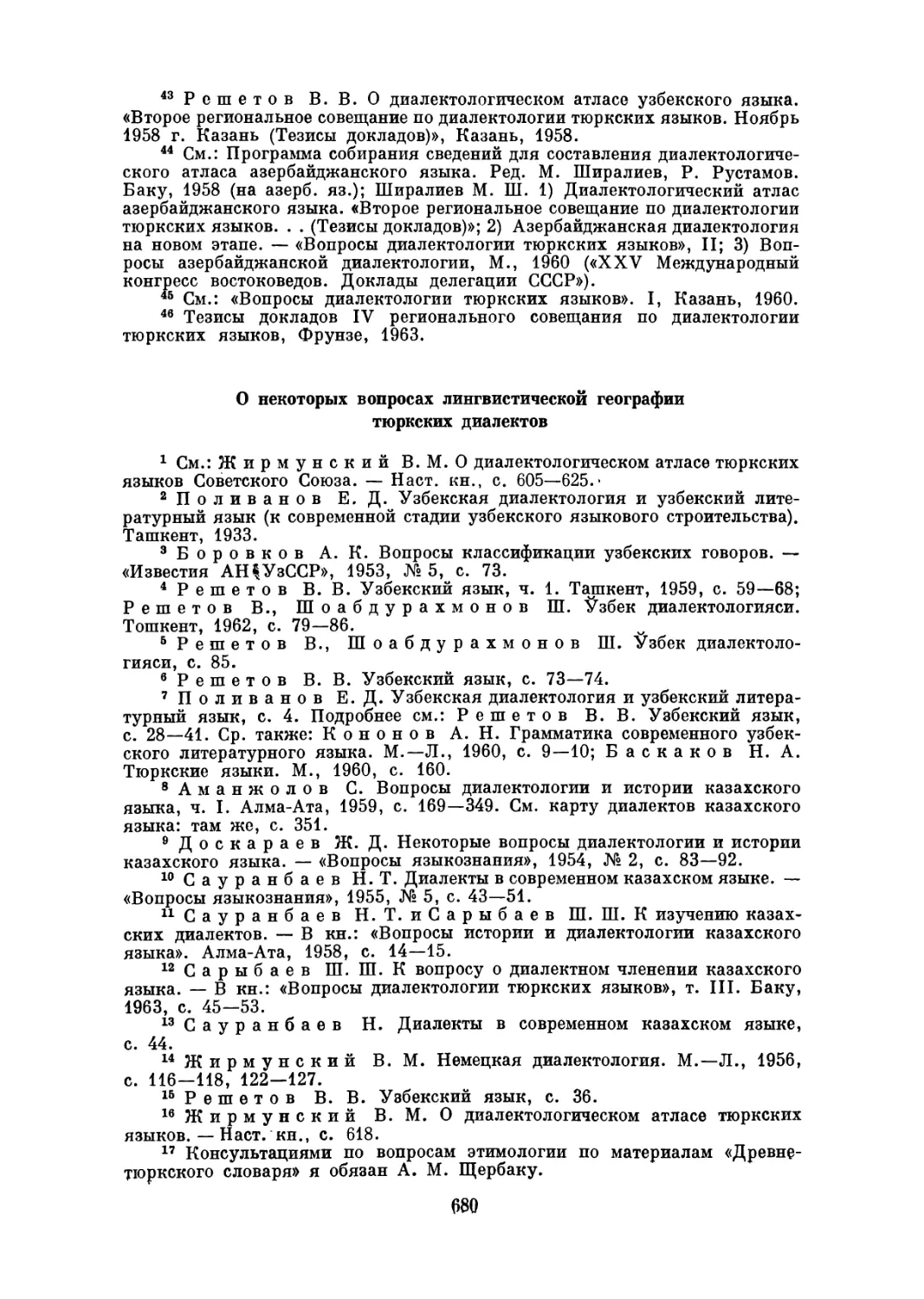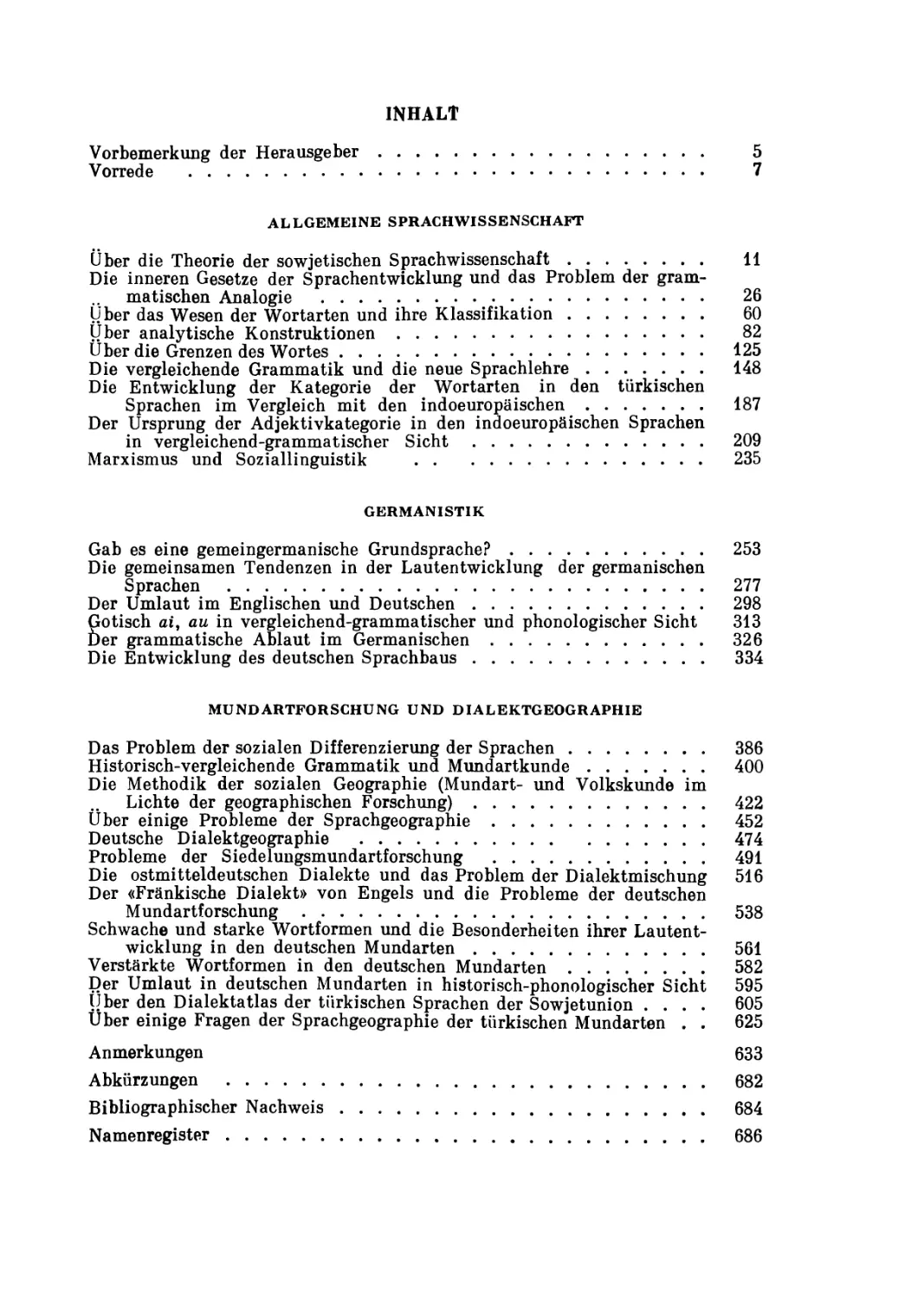Текст
£3
©БЩЕЕ
И ГЕРМАНСКОЕ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА
В.М.ЖИРМУНСКИЙ
ИЗБРАННЫЕ
ТРУДЫ
В.М.ЖИРМУНСКИЙ
ОБЩЕЕ
И ГЕРМАНСКОЕ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАД • 1976
Редакционная коллегия:
акад. М. П. Алексеев, доктор филолог, наук М. М. Гухман,
член-корр. АН СССР А. В. Десницкая (председатель),
доц. Н. А. Жирмунская, акад. А. Н. Кононов,
доктор филолог, наук Ю. Д. Левин (секретарь), акад. Д. С. Лихачев,
член-корр. АН СССР В. н. Ярцева
Ответственные редакторы
А. В. Десницкая, М. М. Гухман, С. Д. Кацнельсон
Издание подготовлено
Н. А. Жирмунской
70101.70104-534
042(02)-7б
329-75
© Ивдательетво «Наука», 1976
ОТ РЕДАКЦИИ
Том «Избранных трудов» «Общее и германское языкознание»
академика В. М. Жирмунского посвящен лингвистической про-
блематике. Из большого числа работ по истории и диалектологии
немецкого языка, сравнительной грамматике германских и индо-
европейских языков, а также по общему языкознанию, опубли-
кованных выдающимся советским филологом с тех пор, как в конце
20-х годов лингвистика впервые оказалась вовлеченной в орбиту
его многосторонней научной деятельности, в настоящий том его
«Избранных трудов» вошли лишь относительно немногие. Было
решено отказаться от воспроизведения его крупнейших моно-
графий, таких как «Немецкая диалектология», «Введение в сравни-
тельно-историческое изучение германских языков», «История
немецкого языка», «Национальный язык и социальные диалекты».
Переиздание капитальных трудов не было острой необходимостью,
так как почти все они издавались относительно недавно, а один
из них («История немецкого языка») переиздавался много раз.
Эти книги имеются на полках научных библиотек и легко доступны
читателю.
Другое дело — многочисленные статьи, рассеянные по различ-
ным журналам и сборникам, во многих случаях ставшим биб-
лиографической редкостью. Новая публикация этих работ давно
назрела. Она восполнит существенный пробел в нашей научной
литературе и несомненно окажет плодотворное влияние на раз-
витие научной мысли и подготовку кадров в данной области
знаний.
Отбор статей для публикаций представлял значительные труд-
ности* К счабтькц однако^ Дело облегчалось тем, что в последние
£еДы своей жиайи сам автор эти* Трудов проделал значительную
*
работу по подготовке сборника своих избранных статей. В ходе
этой подготовки не только определился основной каркас пред-
полагавшегося сборника, но и сами статьи были заново отредак-
тированы. Результаты этой работы были, разумеется, учтены
составителями настоящего тома. К отобранным самим автором
работам, относившимся преимущественно к последним десяти-
летиям его научного пути, редакция настоящего тома добавила
еще ряд работ 30-х и 40-х годов, дающих наглядное представле-
ние о своеобразии творческого пути их автора и о важнейших
этапах его научного развития, особенно в области немецкой диа-
лектографии и сравнительного языкознания.*
В предлагаемую вниманию читателя книгу вошли избранные
статьи по общему языкознанию, германистике, общей и немецкой
диалектографии. Редакция тома бережно отнеслась к воспроиз-
водимым текстам, стараясь сохранить их в первоначальном виде.
Некоторые поправки принадлежат, как указывалось выше, автору
публикуемых работ и лишь в сравнительно немногих случаях —
редакции, которая ограничилась минимумом самых необходимых
исправлений и сокращений. При сокращении текста редколлегия
руководствовалась общими указаниями и пожеланиями, выска-
занными автором при подготовке тома «Избранных трудов».
* О творческом пути В. М. Жирмунского как языковеда см. подробно в сб.
«Philologica. Исследования по языку и литературе. Памяти акад. В. М. Жир-
мунского» (Л., 1973, с. 22—25), а также «Вопр. языкознания» (1971, №4,
с. 3—14) и «Изв, АН СССР, Отд-ние лит. и яз.» (1971, вып. 4, с. 298—305).
ПРЕДИСЛОВИЕ*
Работы за сорок лет (с конца 1920-х годов до настоящего вре-
мени) требуют предисловия мемуарно-биографического харак-
тера.
Моей первой специальностью было литературоведение (роман-
тизм). На романо-германском отделении до революции оно изуча-
лось в филологическом комплексе с языкознанием, при этом фило-
логически ориентированная лингвистика преобладала над литера-
турой (чтение средневековых текстов с историко-грамматическим
комментарием). Вспоминаю нашу неудовлетворенность академи-
ческой наукой — в сущности, не было ни литературоведения
в нашем смысле (в связи с общественными, философскими, эстети-
ческими проблемами), ни лингвистики, независимой от филоло-
гии.
Моим учителем в области германистики был проф. Ф. А. Браун,
ученик акад. А. Н. Веселовского и основатель германской фило-
логии в нашей стране. В области германистики он был учеником
младограмматиста Г. Пауля (сам же работал главным образом
на стыке лингвистики и истории — гото-славянские отношения,
варяжский вопрос по скандинавским источникам). Младограм-
матическую школу я считаю полезной и необходимой для всякого
и старался передать ее своим ученикам. Можно отрицать Бруг-
мана и Штрейтберга, праязык и родословное древо языка, но
* Редакция считает уместным предпослать настоящему тому предисловие,
предназначавшееся академиком В. М. Жирмунским для сборника Избран-
ных трудов, который он готовил к изданию незадолго до кончины. Преди-
словие представляет значительный интерес, ввиду того, что в нем излага-
ются основные методологические принципы, которыми академик В. М. Жир-
мунский руководствовался в своей исследовательской работе по языко-
знанию на протяжении почти полувека.
7
нужно знать ту таблицу умножения, без которой нельзя зани-
маться высшей математикой.
Реакция против младограмматической школы была в полном
ходу (как у нас, так и за рубежом). Диссидентом был прежде
всего наш учитель по общему языкознанию И. А. Бодуэн де Кур-
тене (психолингвистика — теория фонемы — теория альтерна-
ций). Его ученик Л. В. Щерба (тогда еще начинающий доцент)
с высокомерием говорил о «бругмановском сравнительном языко-
знании» и, став профессором, никогда курса сравнительного языко-
знания не читал.
Диссидентом был Шухардт с его теорией языковых смешений
и субстрата.
Диссидентами были и представители лингвистической гео-
графии, французской и немецкой (Жильерон и Вредэ), с которыми
у нас тогда почти не были знакомы. Я познакомился с новыми тео-
риями немецкой диалектографии только в 1925—1927 гг. в Мар-
бурге и Бонне, когда занялся обработкой своих материалов
по диалектам так называемых «немецких колоний» в Марбург-
ском диалектологическом институте с помощью в то время еще
рукописного «Атласа немецкого языка» и лично познакомился
с Вредэ и его тогда молодым учеником проф. Теодором Фринг-
сом.
Диссидентом был наконец Карл Фосслер, выступивший против
«позитивизма» младограмматиков с позиций идеалистической кон-
цепции языка как творчества, в основе своей индивидуального
и эстетического, и заложивший основу немецкой лингвисти-
ческой стилистики, как она наиболее ярко представлена в позд-
нейших трудах Лео Шпитцера.
Добавлю еще, что Н. Я. Марр, не получивший на Восточном
факультете того времени в строгом смысле лингвистического об-
разования, воспитался как лингвист в этой атмосфере критики
традиционных концепций младограмматиков или, по его позд-
нейшей терминологии, «буржуазных индоевропеистов». Мне при-
ходилось говорить неоднократно, что вся конкретная лингвисти-
ческая работа Марра в пору создания им так называемого «нового
учения о языке» должна быть полностью и бесповоротно отверг-
нута, поскольку она целиком построена на фантастической идее
палеонтологического анализа всех языков мира по четырем перво-
элементам. Однако это не значит, что в теоретических идеях и
отдельных высказываниях Марра, в большинстве случаев научно
8
не разработанных и хаотических, не содержались творческие и
плодотворные мысли, которым большинство из нас (в особенности
ленинградских лингвистов) обязано общей перспективой наших
работ. К таким общим установкам я отношу прежде всего борьбу
Марра против узкого европоцентризма традиционной лингвисти-
ческой теории, стадиально-типологическую точку зрения на раз-
витие языков и их сравнение независимо от общности их проис-
хождения, поиски в области взаимоотношения языка и мышле-
ния и то, что можно назвать семантическим подходом к граммати-
ческим явлениям. В этих вопросах больше, чем сам Н. Я. Марр,
повлияли на меня мои собственные ученики, в разном смысле
примыкавшие к школе Н. Я. Марра, а потом И. И. Мещанинова —
С. Д. Кацнельсон, А. В. Десницкая, М. М. Гухман. Со своей сто-
роны, я горжусь тем, что в трудное для классического языко-
знания время я сумел привить им уважение к лингвистической
таблице умножения и отрицательное отношение к палеонтоло-
гическому анализу по четырем элементам.
Я не буду говорить здесь о своих занятиях вопросами теории
поэтического языка (стилистикой и метрикой) и социальной лин-
гвистикой. Они также были результатом общей реакции против
«младограмматической» теории и поисками новых путей в языко-
знании, подсказанными моему поколению и мне и имманентным
развитием лингвистической теории и еще больше «экстралинг-
вистическими факторами» нашего общественного развития и на-
учного созревания. Но эти проблемы не входят в обсуждаемую
книгу работ, в основном посвященных тому, что я бы назвал срав-
нительно-историческим языкознанием в самом широком смысле.
Я ограничусь лишь самым кратким и потому лишь декларатив-
ным констатированием тех общих принципов, которые лежат
в основе моих работ.
1. Лингвистический модернизм (в том смысле, который я при-
даю этому термину): методика обращения к языковым отношениям
современности и недавнего прошлого для непосредственного на-
блюдения языковых процессов при истолковании более отдален-
ных исторических явлений. «Анатомия человека есть ключ к ана-
томии обезьяны» (Маркс). Классический пример — использова-
ние данных современной лингвистической географии для ареаль-
ной лингвистики.
2. Рассмотрение системы языка не как статического синхрон-
ного среза противопоставлений на плоскости, а как системы, на-
9
ходящейся в движении и развитии, в целом и в отдельных частях
(в связи с оценкой разной продуктивности элементов системы).
Обязательность связи синхронического и диахронического ис-
следования.
3. Признание внутренне закономерной обусловленности про-
цбссов языкового развития, но ограничивающейся сферой дей-
ствия частных эмпирических звуковых законов, но охватываю-
щей, как общая тенденция, всю систему языка в целом.
4. Взгляд на сравнительно-историческую грамматику как на
средство раскрытия этих внутренних закономерностей. Такая
задача, стоящая перед сравнительной грамматикой, предпо-
лагает рассмотрение группы родственных языков не с точки зре-
ния реконструкции их общей основы, но и в пору их более позд-
него раздельного существования, а также включение в ее состав
сравнительной грамматики диалектой на разных ступенях их
исторического развития вплоть до современности.
5. Прослеживание типологических закономерностей диахро-
нического порядка в сходных (параллельных) процессах грам-
матического развития языков генетически неродственных (напри-
мер, частей речи, видо-временной системы глагола) как способ
оценки относительной вероятности реконструируемых процессов
грамматического развития и в то же время установления общих
закономерных путей такого развития, объединяющих сравните-
льно-исторические грамматики разных языковых групп.
6. Семантическая точка зрения на фонетические и граммати-
ческие формы как на средство выражения и развития граммати-
ческих значений (проблематика языка и мышления).
7. Социальная дифференциация языка как условие его истори-
ческого развития. Внешняя (социальная) лингвистика не противо-
поставлена внутренней, а пронизывает ее и определяет характер
ее развития.,
1 декабря 1967 г.
ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ
О ТЕОРИИ СОВЕТСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ *
1
Подводя итоги нашей научной работы накануне знаменатель-
ной даты 50-летия Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции, своевременно поставить вопрос о том, что сделано со-
ветским языкознанием в области основополагающих теоретичес-
ких вопросов нашей науки.
Известно, что на протяжении последних десяти лет лингви-
стами и нелингвистами неоднократно повторялась стереотипная
фраза, будто в советском языкознании царит методологический
«застой» или «разброд». После ряда лет господства различных
догматических «учений» в теории советского языкознания будто
бы образовалось пустое место, своего рода «вакуум», который
надлежит поскорее заполнить новыми универсальными теори-
ями — отечественного производства или импортированными из-за
границы.
Мне приходилось уже неоднократно, устно и в печати, вы-
ступать против этой точки зрения — неправильной, несправед-
ливой и нигилистической. Советское языкознание имеет свое мето-
дологическое лицо (хотя не все работы советских лингвистов вы-
глядят на одно лицо, как это по-прежнему хотелось бы некоторым
вульгаризаторам); оно имеет свои проблемы, выдвинутые «кол-
лективным разумом» советских ученых в процессе многолетней
совместной работы — вопреки всякому «администрированию»
в делах науки; оно пользуется своими методами, очень разно-
образными, но всегда опирающимися на философию марксизма-
ленинизма, которая рассматривает язык в двух его диалекти-
чески взаимосвязанных аспектах: как «важнейшее средство чело-
веческого общения» (Ленин) и как «непосредственную действитель-
ность мысли» (Маркс); оно опирается на большую традицию про-
♦ Доклад Научного совета по теории советского языкознания на годовой
сессии Отделения литературы и языка АН СССР 3 февраля 1966 г.; повто-
рен на Всесоюзной конференции по теории языкознания в Самарканде
7 сентября 1966 г. — Ред,
11
грессивной лингвистической науки прошлого, русской и мировой,
развивая и пополняя ее новыми научными достижениями и мето-
дами.
Наглядным свидетельством активности научной мысли в об-
ласти теоретических проблем языкознания являются, в част-
ности, многочисленные всесоюзные или краевые конференции на
темы лингвистической теории, созывавшиеся за последние годы
в Москве, Ленинграде и других крупных научных центрах Со-
ветского Союза. Метод широких научных конференций и дискус-
сий теоретического характера прочно вошел в эти годы в обиход
советских научно-исследовательских учреждений и высших учеб-
ных заведений. Созыву каждой конференции предшествовало
опубликование развернутых тезисов намеченных докладов; ре-
зультаты проведенных научных встреч в большинстве случаев
опубликованы или публикуются в форме тематических сбор-
ников или коллективных монографий.
К числу таких научных мероприятий большого масштаба от-
носятся прежде всего две комплексные всесоюзные конферен-
ции по проблемам «Язык и мышление» (1965) и «Язык и общество»
(1966), созванные Сектором общественных наук и Отделением
языка и литературы при участии Института языкознания и ряда
других гуманитарных институтов АН СССР. В Москве состоя-
лись: в 1963 г. организованная Институтом народов Азии теорети-
ческая конференция на тему «Лингвистическая типология и во-
сточные языки»;1 в 1964 г. конференция филологического факуль-
тета Московского университета по сравнительной грамматике
индоевропейских языков; в 1964 г. — Института славяноведе-
ния по проблемам лингвоэтнографии и ареальной лингвистики.
В 1964 г. в Саратове состоялась поволжская межвузовская кон-
ференция по теме «Язык и общество»; в 1964 и 1966 гг. Самарканд-
ским университетом были созваны две конференции всесоюзного
значения по вопросам общего языкознания (первая была посвя-
щена памяти проф. Е. Д. Поливанова, научная деятельность
которого в последний период его жизни была связана с Узбеки-
станом); в августе 1966 г. в Тарту состоялся симпозиум по во-
просам семиотики; в ноябре 1966 г. в Ашхабаде — конференция
«Развитие стилистических, систем в литературных языках наро-
дов СССР». В Ленинграде с 1960 по 1965 г. имели место четыре
конференции по морфологии слова в языках разных типов и кон-
ференция по теме «Эргативная конструкция в языках разных
типов» (1964), созванные Ленинградским отделением Института
языкознания совместно с Научным советом по теории языко-
знания.
Следует добавить, что ряд более специальных по своей тема-
тике научных конференций — по германскому языкознанию
(Москва), по романскому языкознанию (Кишинев и Ленинград),
по балтийским языкам (Вильнюс), по северокавказским (Махач-
кала), по семитским (Институт народов Азии и Академия наук
12
Грузинской ССР в Тбилиси) и др. — носили также в значитель-
ной своей части теоретический характер.
Следует подчеркнуть то отрадное обстоятельство, что инициа-
торами и организаторами таких больших и представительных
всесоюзных встреч являются в настоящее время не только Москва
и Ленинград, но и другие крупные научные центры нашей страны.
Положительным фактом необходимо признать широкое, публич-
ное совместное обсуждение актуальных проблем нашей науки,
свободные дискуссии, столкновения различных мнений, требую-
щие взаимного уважения к чужому мнению. Большое значение
имело также вовлечение в это обсуждение многолюдных аудито-
рий с участием научных работников, приезжающих со всех кон-
цов нашей страны, людей разной научной квалификации, в том
числе аспирантов, а иногда и старших студентов соответствую-
щих вузов. Эта пропагандистская и педагогическая сторона
дела, способствующая дальнейшему росту лингвистических
кадров, имеет не менее важное значение, чем сторона чисто
научная.
Для координирования и активизации научной работы по тео-
рии языкознания Президиумом АН СССР был организован в сен-
тябре 1961 г. при Отделении литературы и языка АН Научный
совет по теории советского языкознания. Согласно действующему
положению, Научный совет должен являться консультативным
центром, координирующим работу АН СССР, академий Союз-
ных республик, высших учебных заведений и филиалов АН СССР
по данной проблеме. Его задачей является объединение специ-
алистов, работающих над этой проблемой, и содействие быстрей-
шему и эффективному решению входящих в нее научно-исследо-
вательских задач.
Чтобы активизировать связи с научными центрами страны,
бюро Научного совета с 1962 г. организовало периодические
выезды членов Совета в наиболее крупные из них: Баку, Таш-
кент, Алма-Ату, Фрунзе, Тбилиси, Ригу, Самарканд. При этом
проводились собрания актива лингвистов на местах для обсуж-
дения хода теоретической работы и обмена научным опытом.
Научный совет принимал активное консультативное участие
в созыве значительной части перечисленных выше конференций
и явился основным организатором некоторых из них. Он органи-
зовал также издание серии небольших по своему объему работ
по актуальным теоретическим вопросам лингвистики под общим
заглавием: «Вопросы теории языкознания». Серия предостав-
ляет советским лингвистам возможность изложить в простой и
доступной форме основные теоретические проблемы той области
языкознания, в которой они работают.2
В 1964 г. Научный совет опубликовал сборник «Вопросы об-
щего языкознания», содержащий небольшие статьи проблемного
характера, рецензии на книги по общему языкознанию и информа-
цию о работе по этим вопросам, ведущейся в нашей стране. Сбор-
13
ник был задуман как первый выпуск бюллетеня Научного совета,
который, к сожалению, осуществить не удалось. Нельзя об этом
не пожалеть: бюллетень является наиболее мобильным средством
координации научных усилий в определенной области, широкой
взаимной информации, постановки на обсуждение новых твор-
ческих тем.
Это тем более существенно, что единственный лингвистичес-
кий журнал Академии наук — «Вопросы языкознания», — «тео-
ретический орган» советского языкознания, в настоящее время
уже не в состоянии нормально обеспечить растущий круг ин-
тересов советской науки. Необходимо издание целого ряда специ-
ализированных лингвистических журналов. «Русская речь» яв-
ляется в этом смысле только началом. Настоятельно нужна орга-
низация серии таких специализированных журналов — по языкам
народов СССР, по германским и романским языкам, — среди
которых мог бы занять подобающее ему место и «Бюллетень
Научного совета». Это вполне соответствовало бы интенсивному
развитию лингвистики в нашей стране.
2
Я остановлюсь в дальнейшем на тех основных теоретических
вопросах, которые, как мне представляется, стояли и по-преж-
нему стоят в центре внимания советской лингвистики и полу-
чили в ней своеобразное новое решение, определившее ее лицо.
1. Проблемы «социологии языка» («социальной лингвистики»).3
Постановка социологических проблем, иногда упрощенно
прямолинейная, но в ряде случаев новая и плодотворная, была
особенно характерна для советского языкознания в 20—30-х го-
дах, перестраивавшегося тогда на основе марксистского понима-
ния исторического процесса и языка как общественного явления.
В обществе, где наличествует социальное расслоение, не может
не наблюдаться социальная дифференциация языка. Это не зна-
чит, что существуют классовые диалекты или классовые языки —
«язык дворянства», «язык буржуазии», «язык крестьянства»,
«язык пролетариата». Классовое расслоение и классовая борьба
в языке (как и в литературе) лишь в конечном счете определяют
социальную дифференциацию языка.
Наиболее отчетливо выступает социальная дифференциация
в языке развитого классового общества, т. е. общества буржуаз-
ного. Это пример в известном смысле парадигматический; можно
сказать вместе с Марксом: «Анатомия человека — ключ к ана-
томии обезьяны».4
В период образования буржуазных наций происходит форми-
рование единой национальной наддиалектной нормы языка путем
«концентрации диалектов в единый национальный язык, обус-
ловленной экономической и политической концентрацией».6 Для
14
эпохи феодализма было характерно господство местных (терри-
ториальных) диалектов и региональная (областная) окраска
письменного литературного языка в соответствии с территори-
альной раздробленностью феодального общества. Пережитком
этой раздробленности являются современные народные диалекты
и «полудиалекты» (Halbmundarten), из которых последние зани-
мают промежуточное положение между местными диалектами и
общенациональной нормой. Поглощению диалектов общенацио-
нальным языком препятствовало до сих пор социальное расслое-
ние буржуазного общества. Только в свободном от классового
антагонизма социалистическом обществе создаются реальные пред-
посылки для подлинного единства общенационального языка —
в стирании противоречий между городом и деревней, между пере-
довыми и отсталыми районами страны, между физическим и ум-
ственным трудом.
Пути становления общенациональных языков были различны,
как пути формирования наций. В XIX—XX вв. борьба за нацио-
нальный язык становится могучим оружием национального воз-
рождения и освобождения народов, в прошлом утративших свою
политическую самостоятельность или не успевших еще сложиться
в нации. Классическим примером является роль борьбы за язык
в национальном возрождении Чехии.
Строительство социализма в нашей стране поставило совет-
ское языкознание перед совершенно новыми теоретическими и
практическими задачами — создания или дальнейшего разви-
тия национальных литературных языков у больших и малых
народов нашей страны, до революции бесправных в политичес-
ком и культурном отношении и в ряде случаев младописьменных
или бесписьменных. Выработка норм единого национального
языка на базе одного ведущего или нескольких конкурирующих
народных диалектов, создание новых алфавитов, грамматик,
словарей, научной терминологии на национальных языках, по-
требности развития многообразных современных жанров письмен-
ного литературного языка и, в частности, языка художественной
литературы — все это требовало активнейшего участия линг-
вистов в центре и в национальных республиках и содействовало
развитию у нас теоретических исследований по социальной линг-
вистике, связанных с общественной практикой и проверявшихся
на практике.6
В настоящее время те же проблемы в аналогичной или другой
конкретной форме возникают перед многочисленными освобожден-
ными народами Азии и Африки, недавно еще колониальными или
полуколониальными. Богатый теоретический и практический
опыт советского языкознания по этим вопросам может быть с поль-
зой учтен и при решении этих новых исторических задач.
В общей форме проблема взаимоотношения национального
языка и социальных диалектов была поставлена в начале 1930-х
годов на уровне советской лингвистической науки того времени
15
проф. Л. П. Якубинским.7 На материале русского языка она раз-
рабатывалась в дальнейшем акад. В. В. Виноградовым, проф.
Б. А. Лариным и другими; на материале немецкого языка —автором
настоящей статьи и проф. М. М. Гухман;8 на материале француз-
ского — проф. М. В. Сергиевским.9 Если работы по немецкому
языку, в соответствии с характером материала, были сосредо-
точены преимущественно на вопросах фонетической и граммати-
ческой унификации (нормализации) общенационального языка,
то в трудах акад. В. В. Виноградова и его учеников проблема ста-
новления литературного языка понималась по преимуществу
с точки зрения социально обусловленных функциональных сти-
лей.10 В недавнее время существенный вклад в разработку этой
проблемы внесли исследования акад. Н. И. Конрада по истории
китайского и японского языков.11
Не менее ясно значение социологической проблематики для
изучения так называемых территориальных диалектов, полевого
и даже лингвогеографического. Можно сказать, что самое про-
тивопоставление диалектов «территориальных» и «социальных»
по существу неправильно, поскольку территориальные диалекты,
«обслуживающие», как известно, «народные массы», тем самым
всегда являются диалектами социальными и социально диффе-
ренцированными. Последовательно проводят в настоящее время
эту точку зрения работы по немецкой диалектологии, вышед-
шие в Германской Демократической республике из лейпцигской
школы проф. Теодора Фрингса. В этих работах социальная диф-
ференциация рассматривается как «третье измерение» (dritte
Dimension), обязательное для всякого диалектологического ис-
следования рядом с первым и вторым — пространством и време-
нем.12 К сожалению, за годы, последовавшие за лингвистиче-
ской дискуссией 1950 г., у нас на некоторое время утвердилось
абстрактное, внеисторическое понимание так называемого «об-
щенародного языка», советская диалектология совершенно пе-
рестала учитывать вопрос о социальных носителях и социаль-
ной дифференциации местных диалектов, который был намечен
в довоенных работах Б. А. Ларина, проф. Н. М. Каринского и
некоторых других.13 Наглядным свидетельством такого положе-
ния может служить обширное теоретическое введение к сборнику
«Вопросы теории лингвистической географии», объединившему
коллектив работников академического «Атласа русских народ-
ных говоров». В этом введении говорится о пространственной и
временной и даже «стилевой» дифференциации диалектов, но не ска-
зано ни слова о дифференциации социальной.14
За последние годы вопросы социальной лингвистики (вместе
с сопредельными — этнолингвистики и лингвистической антропо-
логии) стали предметом повышенного интереса за рубежом в не-
которых течениях, в особенности американского языкознания.15
В соответствии с общим направлением американской социологии
работы по этим вопросам имеют узкий по темам и по преимуще-
16
ству описательный характер, хотя они вооружены большой,
в частности статистической документацией. То, что в американ-
ской науке воспринимается как своего рода «открытие» послед-
них лет, отнюдь не является открытием для лингвистики совет-
ской, для которой проблема «язык и общество» издавна являлась
одной из центральных. Однако следует приветствовать в этом
новом повороте преодоление еще недавно господствовавшего
противопоставления «внутренней» и «внешней» лингвистики с тен-
денцией вывести так называемые «экстралингвистические» фак-
торы, как «иррелевантные», за пределы языкознания в собствен-
ном смысле. Мне всегда представлялось, что антиномия «внеш-
ней» и «внутренней» лингвистики, выдвинутая когда-то Ферди-
нандом де Соссюром в его «Курсе» и подхваченная некоторыми
направлениями структурализма, столь же мало соответствует
языковой действительности, как и другие его антиномии («язык
и речь», «синхрония и диахрония»), если придавать им значение
метафизических реальностей. Факты социальные не могут быть
«внешними» («экстралингвистическими») для языка как средства
общения людей. Для марксистского языкознания должны оста-
ться в силе слова великого диалектика Гёте:
Nichts ist drinnen, nichts ist draupen;
Denn was innen, das ist aupen.
В настоящее время в Ленинградском отделении Института
языкознания АН СССР под руководс1вом А. В. Десницкой ра-
ботает проблемная группа по социальной лингвистике, которая
^^подготовляет к печати сборник по социологии языка под загла-
*^*вием «Язык и общество».
4ft 2. Сравнительно-историческое изучение генетически род-
ственных языков было в советской лингвистике еще недавно от-
стающим участком. Этому способствовало не только нигилисти-
ческое отношение акад. Н. Я. Марра и его школы к проблемам и
методам того, что он называл «буржуазной индоевропеистикой»,
но в еще большей степени — недостаточное знание иностранных
и древних языков у нашей лингвистической молодежи, которое
принуждало ее замыкаться в узкой сфере только своего родного
языка (будь то русский или узбекский) или языка своей непо-
средственной научной специальности (будь то немецкий или ан-
глийский).
В настоящее время это отставание понемногу преодолевается
почти на всех участках. Мы уже располагаем некоторыми система-
тическими трудами в области сравнительно-исторического языко-
знания, использовавшими передовую методику советской и за-
рубежной науки, как четырехтомная «Сравнительная грамма-
тика германских языков» (М., 1962—1966), встреченная рядом
сочувственных отзывов р советской иг ^рубежной научной
печати. ।
I ? <" Г-
2 В. М. Жирмунский 17 Д ? , <
1.
‘___L ' е I с к J я г д • ;
Опыт, предпринятый в области романских языков, носит
пока еще не историко-сравнительный, а описательно-сопостави-
тельный характер.16
Мало продвигается и сравнительная грамматике! тюркских
языков.17 Ее отставание связано не только с наличием большого
числа языков и диалектов, обследованных до сих пор далеко
не полностью, но прежде всего, как мне представляется, с от-
сутствием диалектологического атласа. Изоглоссы отдельных
диалектных явлений, относящихся по своему происхождению
к разному историческому времени, пестро переплетаются на огром-
ной территории расселения тюркоязычных народов. Поэтому
только лингвистический атлас, реально отражающий эту слож-
ную и противоречивую картину, позволит заменить традицион-
ную схематическую классификацию тюркских языков по «веткам»
и «веточкам» родословного древа — с прямолинейным их отнесе-
нием к историческим именам тюркских племен и народов — срав-
нительной грамматикой и основанной на ней научной классифи-
кацией нового типа, учитывающей во всей их исторической слож-
ности реальные процессы расхождения, схождения и смешения
диалектов тюркских племен и народностей.18
На V региональном совещании по тюркской диалектологии
в Баку (5—8 октября 1965 г.) была создана комиссия во гла-
ве с акад. М. Ш. Ширалиевым для подготовки «пробного вы-
пуска» Диалектологического атласа тюркских языков Советского
Союза. Анкету для атласа готовит сектор тюркских языков
Института языкознания АН СССР в Москве.19
Зато в трудной области сравнительного изучения кавказских
языков — как горских северокавказских, так и картвельских —
следует отметить интенсивную и плодотворную работу, веду-
щуюся в Тбилиси и в Москве. В особенности исследования
Т. В. Гамкрелидзе и Г. И. Мачавариани о системе сонантов и
аблаута в картвельских языках увенчались научным открытием
большого масштаба, имеющим важное значение как для линг-
вистической теории вообще, так и для истории других (в част-
ности, индоевропейских) языков.20
Проблема реконструкции «праязыка» (или, что то же самое,
«языка-основы», ср. нем. Grundsprache) была до недавнего вре-
мени своего рода пугалом для многих советских лингвистов
вследствие компрометирующих политических ассоциаций с мало-
грамотной «арийской теорией» немецких нацистов. В настоящее
время проблема эта разрабатывается в советском языкознании
в той более четкой и близкой к исторической реальности форме,
которая подсказана достижениями современной лингвистичес-
кой географии («ареальной лингвистикой»),21 нередко с широким
использованием новых методов структурного анализа. Из спе-
циальных работ следует отметить в особенности исследование
В. В. Иванова и В. Н. Топорова,22 безвременно погибшего моло-
18
дого компаративиста В. М. Иллича-Свитыча,23 В. И. Абаева —
по иранским языкам «скифской группы»,24 А. В. Десницкой —
по реконструкции протоалбанского и связанной с нею иллирий-
ской проблеме.23
При этом намечаются два новых направления исследований:
с одной стороны, — углубление перспективы реконструкции (ко-
торому содействовало открытие таких древних и по многим приз-
накам архаических индоевропейских языков, как хеттский26
и др.), восстановление древнейшего типа индоевропейского скло-
нения и спряжения и индоевропейского аблаута, уходящих
в глубочайшие основы протоиндоевропейского состояния, в его
дофлективную и, но-видимому, эргативную стадию;27 с другой
стороны, — выход за пределы изолированного рассмотрения язы-
ков индоевропейской группы в сторону сближения генетического
или типологического с другими, неипдоевропейскими языками.
С этой последней точки зрения заслуживает особого внимания
до сих пор еще, к сожалению, не опубликованная работа покой-
ного В. М. Иллича-Свитыча — опыт сравнительной фонетики
обширной группы языковых семейств Евразии, которую автор
называет «ностратической».28 Несмотря на дискуссионный харак-
тер этой концепции, сопоставления молодого исследователя, ме-
тодически строгие и систематические, ждут опубликования и
дальнейшего обсуждения с участием компетентных специалистов.
Своевременно было бы высказать пожелание, чтобы наши
«северники», замкнувшиеся после общей критики глоттогоничес-
ких гипотез акад. И. И. Мещанинова в изолированном синхрон-
ном описании отдельных «палеоазиатских» языков, также вышли
за пределы таких безусловно полезных синхронных грамматик,
опираясь на методы «внутренней реконструкции» и типологичес-
кого сравнения, единственно возможные при сравнительно-ис-
торическом изучении еще недавно бесписьменных языков.
Для современной ступени развития сравнительного языко-
знания, как советского, так и зарубежного, особенно знамена-
тельно подобное сближение историко-генетического и типологи-
ческого изучения сравниваемых языков.
Слово «типология» — одно из модных в современном совет-
ском языкознании, и, как всякое модное слово, за которым пред-
полагается нечто особенно значительное и важное, оно не всегда
имеет достаточно четкое содержание.
Можно называть типологией чисто эмпирическое сопостав-
ление фонетики или грамматики двух разных языков, с установ-
лением сходств и различий между ними, как это делается с ус-
пехом и практической пользой при преподавании иностранных
языков в русской или русского в национальных школах. Освое-
ние чужого языка с учетом его отличий от родного — совершенно
обязательный в подобной лингвистической ситуации методичес-
кий прием. Однако и в этих случаях польза будет несомненно
большей, если от сопоставлений частного, эмпирического харак-
19
2*
тора подняться к лежащей в его основе системе (или по крайней
мере микросистемам) соответствующего языка.
Такую методику сопоставления стали недавно применять фран-
цузские ученики Шарля Балли (Мальблан, Винэ, Дарбельне)
при сравнении грамматико-стилистических средств различных
языков (французского и английского, французского и немецкого
и т. п.).29 Сопоставление языков может служить основой так на-
зываемой лингвистической теории перевода. Некоторые работы
А. В. Федорова, написанные независимо от этих авторов и раньше
их, идут в аналогичном направлении.30
Можно сопоставлять различные типы языков как особые фоне-
тические и грамматические системы, внутренне связанные и вза-
имообусловленные в своих элементах. Сравнение такого рода,
не обязательно историческое или «стадиальное», подсказывается
советскому лингвисту многообразием языковых типов, пред-
ставленных в нашей стране. Подобное сопоставление помогает
исследователю освободиться от того узкого «европоцентризма»
при изучении грамматических категорий и систем, против кото-
рого в свое время справедливо предостерегал акад. Н. Я. Марр:
оно обогащает его пониманием реального многообразия языко-
вых явлений и позволяет при разработке системы общего языко-
знания опираться на это многообразие. Для составителей нацио-
нальных грамматик общая перспектива должна явиться пред-
посылкой такого описания грамматического объекта, которое
не навязывает ему категорий и норм, взятых со стороны (напри-
мер, из русского языка, как в прошлом из латинского для новых
языков Западной Европы). Сравнительной типологии в этом зна-
чении посвящены работы проблемной группы морфологии слова
в языках разных систем в Ленинградском отделении Института
языкознания АН СССР (руководители В. М. Жирмунский и
О. П. Суник). Группа провела четыре теоретические конферен-
ции по данной проблеме, материалы которых были опубликованы
в печати.31
Можно говорить, наконец, о типологических закономерностях
дяахронного («динамического») порядка, которые, подобно та-
ким же типологическим аналогиям в мировой литературе и фоль-
клоре,32 прослеживаются в сходных (параллельных) процессах
фонетического и в особенности грамматического развития языков
генетически неродственных — или если родственных, то в период
их позднейшего раздельного развития.
Метод типологического сравнения неродственных по своему
происхождению языков широко применялся на последнем этапе
«нового учения о языке» в связи с так называемой «теорией ста-
диальности» в работах акад. И. И. Мещанинова, С. Д. Кацнель-
сона, М. М. Гухман, А. В. Десницкой и автора настоящей статьи.
Однако отказ от механически универсального понимания «ста-
диального» развития языка и мышления не снимает ни общего
направления методологических поисков тех лет, ни ряда част-
20
них выводов.33 Современная сравнительно-историческая грамма-
тика, не только советская, но и зарубежная, стала, как известно,
довольно широко пользоваться при своих реконструкциях про-
цесса развития тех или иных грамматических категорий (частей
речи, склонения имен, видо-временной и залоговой системы гла-
гола и т. п.) методом типологического сравнения с другими гене-
тически неродственными языками. Таким сравнением оценива-
ется возможность и относительная вероятность реконструируе-
мых моделей грамматического развития и в то же время уста-
навливается наличие общих закономерных путей такого развития,
объединяющих сравнительно-исторические грамматики разных
языковых групп.34
Тем самым теоретические перспективы сравнительно-истори-
ческого языкознания расширяются. В отличие от традиционной
концепции «праиндоевропейских», «прагерманских», «праславян-
ских» грамматик реконструкция «языка-основы» («праязыка»)
перестает быть самоцелью. Важнейшей задачей сравнительно-
исторического исследования, как мне приходилось уже неодно-
кратно говорить,35 становится раскрытие внутренних законо-
мерностей (тенденций развития), проявляющихся в исторически
обусловленных сходствах и различиях между языками данной
группы.
Исходя из этого положения, сравнительно-историческое язы-
кознание не вправе ограничиваться доисторией изучаемых род-
ственных языков; оно должно включать в сферу своего рассмотре-
ния, как указывал еще А. Мейе,36 и их историю в пору их раз-
дельного существования. Общее наследие данной группы языков
и общие закономерные тенденции ее развития должны учитываться
сравнительно-сопоставительным анализом в связи с теми специ-
фическими особенностями и тенденциями, которые складываются
в каждом из них в новой, самостоятельной и внутренне связан-
ной системе. Именно наличие подобных общих тенденций в усло-
виях независимого развития лучше всего свидетельствует об их
закономерном характере.
В такое сравнительно-историческое изучение должны быть
включены и диалекты данных языков, в которых, как в устно-
разговорной форме народной речи, наиболее свободно и беспре-
пятственно осуществляются закономерные тенденции развития
этих языков, не стесняемые устойчивой (консервативной) письмен-
ной нормой. Сравнительные грамматики диалектов на разных
ступенях исторического развития языка от древних времен до
современности представляют не менее необходимую часть срав-
нительно-исторического исследования, чем историческая и сравни-
тельная грамматика соответствующего древнего языка, засви-
детельствованного в письменности, поскольку по своему про-
исхождению письменные языки также в конечном счете восходят
к устным народным диалектам.
В то же время широко развернувшаяся работа по сравни-
21
тельно-историческому изучению языков различных групп и раз-
ной структуры с неизбежностью выдвигает вопрос о существова-
нии разных типов родства языков и диалектов.
До сих пор классическими образцами для сравнительных грам-
матик оставались самые разработанные из них — сравнительная
грамматика индоевропейских языков и немногие другие, с нею
сходные. Вряд ли, однако, можно думать, что сравнительные грам-
матики этого типа имеют универсальный характер и что по их
подобию должны строиться, например, сравнительные грамматики
языков дагестанских, или шире — кавказских, или ряда других
языков мира, подлежащих изучению с точки зрения языкового
родства. При этом могут иметь значение, с одной стороны, неко-
торые различия исторической и общественной жизни соответ-
ствующих народов, условия их сожительства, расхождений или
схождений, ведущих к частичному сближению языков, перво-
начально даже неродственных, и к образованию так называемых
«языковых союзов». От случаев развития группы родственных
языков путем диалектной дифференциации до случаев их сближе-
ния и конвергенции имеется ряд переходных ступеней, историче-
ски и социально обусловленных, особенности которых находят
отражение и в лингвистической стороне языкового сходства,
в разной степени последовательного и всеобъемлющего, в «типе
языкового родства». С другой стороны, значительные различия
в характере и признаках языковых связей могут быть вызваны
различиями в самой структуре соответствующих языков (т. е.
«внутренними» факторами). Так, например, если в языках индо-
европейских одним из важнейших признаков языкового родства
служит материальное тождество флективных элементов, то для
китайского, как языка нефлективного, этот признак отпадает.
То же относится и к диалектологии. Принципы и методика со-
временной лингвистической географии, теоретически обобщившей
результаты частных диалектологических исследований, а в даль-
нейшем и так называемой ареальной лингвистики, определились
в свое время как выводы из работы над материалом больших
национальных атласов европейских языков (французского, не-
мецкого, итальянского, несколько позже русского и др.), собран-
ным с помощью сплошного одновременного анкетного обследо-
вания.
Тем не менее мы вправе поставить вопрос: насколько универ-
сальный характер может иметь методика лингвогеографического
исследования, выработанная на классических образцах перечис-
ленных выше европейских языков? Народы Европы прошли через
длительный период оседлости, земледельческой жизни с опре-
деленным этими условиями типом первоначального расселения
племен, внутренней и внешней колонизации и последующей
раздробленности феодальных территорий. В какой степени те же
принципы и методы истолкования диалектологических карт при-
менимы, например, к диалектам тюркских народов, возникшим
22
в течение длительного периода кочевой жизни и передвижений по
огромным степным пространствам, в условиях большой прочности
родоплеменных отношений и крайней неустойчивости группи-
ровки по народностям и государственных связей? Или для эски-
мосов, живших до недавнего времени мелкими разбросанными
племенными группами в условиях кочевого оленеводства?
Методологический «европоцентризм» в вопросах сравнитель-
ной грамматики и диалектологии можно преодолеть лишь при
условии более широкой теоретической перспективы, которую
откроет перед языкознанием разработка методики сравнительно-
грамматических и историко-диалектологических исследований,
учитывающая типологические различия, существующие и в дан-
ном случае между разными языками и языковыми группами.
3. В вопросах теории грамматики советское языкознание опи-
рается на большую прогрессивную традицию изучения грамматики
русского языка, восходящую к Ломоносову и Востокову. Трудами
Буслаева, Потебни, Фортунатова, Бодуэна де Куртенэ, Шахма-
това, а в советское время акад. Л. В. Щербы и акад. В. В. Вино-
градова, несмотря на принципиальные различия в грамматиче-
ских теориях этих ученых и созданных ими школ, были заложены,
преимущественно на русском материале, теоретические основы
грамматического описания языка. Идея так называемой «научной»
(или .теоретической») грамматики современного языка долгое
время была специфичной именно для русской лингвистической
науки. В советские годы она послужила основой для систематиче-
ского преподавания этого предмета как особой научной дисцип-
лины, не имевшей до самого последнего времени соответствий
в программах зарубежных высших учебных заведений, в особен-
ности немецких, где всецело господствовал младограмматический
«историзм», отождествлявший науку о языке с историей языка.
За последнее время с традицией такого историзма порвали, с одной
стороны, американский дескриптивизм, возникший из проблемы
описания бесписьменных языков, историческое прошлое которых
неизвестно, с другой стороны — немецкая «семантическая грам-
матика» (sinnbezogene Grammatik) Вейсгербера, Глинца, частично
к ним примыкающих Бринкмана и Эрбена.37 Первое направление
с философско-методологической точки зрения явилось детищем
американского неопозитивизма и бихевиоризма и потому пыталось
исключить из лингвистического описания проблему значения,
семантику («антиментализм»); второе опиралось на немецкое «нео-
гумбольдтианство» с его идеалистической недооценкой лингви-
стической формы.38
Как уже было сказано, для советского языкознания установка
на изучение грамматической системы современных языков (рус-
ского, иностранных, национальных) не представляла новшества
ни на практике, ни в теории. Однако специфическим для совет-
ской (русской) грамматической мысли всегда была увязка син-
хронии с диахронией, рассмотрение грамматической системы
23
«в движении» (как неоднократно говорил акад. Л. В. Щерба),
т. е. как явления динамического, развивающегося в целом и в своих
частях. Понятие «продуктивности» грамматической категории, столь
существенное для русских грамматических работ, в особенности
советского времени, само по себе уже означает наличие этого
диахронического элемента («движения») в составе синхронной
грамматической системы как обязательного элемента ее опи-
сания.
В значительной степени под влиянием работ по грамматике
русского языка, в особенности книги В. В. Виноградова «Рус-
ский язык» (1947) и несколько упрощенной в своих теоретических
установках академической «Грамматики русского языка» (т. I—II,
ч. 1—2, 1952—1954), развивалась и советская грамматическая
литература по языкам национальным и иностранным. Относи-
тельно первых уже было сказано выше, что влияние это, в основ-
ном очень плодотворное, все же не всегда было одинаково благо-
приятным, поскольку иногда оно заслоняло типологическое своеоб-
разие данной грамматической структуры механическим перенесе-
нием на нее категорий, ей самой несвойственных. В обширной
литературе по грамматике современных иностранных языков,
в значительной части учебной и диссертационной, выделяются
самостоятельностью своих теоретических позиций труды по англий-
скому языку покойного проф. А. И. Смирницкого,39 а в настоящее
время в особенности работы по немецкому языку проф. В. Г. Ад-
мони,40 получившие широкое признание как у нас, так и за ру-
бежом в германских странах.
4. Вопросы лингвистической стилистики («лингвостилистики»)
связаны с рассмотрением языка в многообразии его социальных
функций — как речи научной, художественной, ораторской, раз-
говорно-бытовой, письменной или устной и т. п. Функциональные
стили языка образуют иногда более, иногда менее замкнутые
системы средств речевого выражения. Особенности этих средств
выступают наиболее наглядно в языке и стиле художественной
литературы.
Проблемы функционального рассмотрения языка, характер-
ные для И. А. Бодуэна де Куртенэ и его школы, были выдвинуты
в русской лингвистике в 1916—1917 гг. учеником проф. Бодуэна
Л. П. Якубинским в статьях «О поэтическом глоссемосочетании»
и «О звуках стихотворного языка».41 В дальнейшем они разви-
вались русскими формалистами 20-х годов и от них были взяты
на вооружение Пражской лингвистической школой. К формали-
стическим идеям, характерным для того времени и до сих пор
всплывающим в зарубежных работах по теории художественной
речи, относится рассмотрение языка поэзии как «высказывания
с установкой на выражение» (т. е. лишенного коммуникативной
функции), утверждение «самоценности» средств языкового выра-
жения («слово как таковое» В. Б. Шкловского), признание «за-
трудненной формы» специфическим свойством поэзии и стиха —
24
«организованным насилием над языком» и т. п. Этот круг идей
был тесно связан с общим формалистическим принципом имманент-
ного рассмотрения поэтического языка и художественной лите-
ратуры в полной изоляции от общественной действительности.42
Однако, несмотря на эти неправильные методологические уста-
новки (в свое время справедливо осужденные в нашей критике),
работы советских лингвистов 20-х годов положили основание
функциональному рассмотрению языка и тем самым впервые на-
метили перспективу тех «лингвостилистических» исследований,
которые получили в настоящее время широкое развитие в совет-
ском языкознании и пользуются большим международным авто-
ритетом.43
В кратком итоговом очерке нет, к сожалению, возможности
остановиться более подробно на проблемах «лингвистической
стилистики», имеющих большую актуальность в качестве погра-
ничных между лингвистикой и литературоведением. Однако все же
хотелось бы, вернувшись к давнему спору, высказать здесь неко-
торые сомнения по поводу практики, господствующей в этом во-
просе. Многочисленные у нас «лингвостилистические» работы,
часто диссертационного характера, посвященные «языку» того
или иного писателя, русского, иностранного или национального
и претендующие быть «лингвистическими» обычно не учитывают
того обстоятельства, что такой «чисто лингвистический» метод
исследования правомерен только в том случае, если «язык писа-
теля» рассматривается не как элемент художественной системы,
а как документ (не всегда притом достоверный!) для истории языка,
как сумма фактов, свидетельствующих об особенностях опреде-
ленного исторического или социального диалекта. Такой харак-
тер имеют, например, многочисленные немецкие диссертации
о «языке» миннезингера Вальтера фон дер Фогельвейде или «Песни
о Нибелунгах»; такая задача стоит перед исследователем, который
хотел бы датировать и географически приурочить «Слово о полку
Игореве» по данным языка; так в дореволюционное время писал
проф. Е. Ф. Будде о «грамматике языка Пушкина».44 Можно изу-
чать язык «Тихого Дона» Шолохова в качестве письменного ма-
териала, содержащего признаки «диалекта» Шолохова как уро-
женца Донской области. Но совершенно другая задача встает
перед исследователем, когда он рассматривает местные слова
или диалектизмы в этом романе как художественное средство для
речевой характеристики героев Шолохова или для авторского
рассказа, окрашенного общей историко-географической атмосферой
романа. С художественной, т. е. с функционально-стилистической
точки зрения, язык писателя представляется всегда как явление
стиля, т. е. как часть внутренне связанной и взаимообусловленной
системы средств словесного выражения определенного идейно-
художественного содержания.45 Иными словами, он представляет
проблему не узколингвистическую, а в широком смысле литера-
туроведческую, историко-литературную, можно было бы сказать —
25
проблему исторической поэтики, которая требует, конечно, от ис-
следователя точных лингвистических знаний и лингвистического
анализа, подчиненного, однако, общим историко-литературным
задачам.46
Настоящее сообщение по необходимости ограничивается лишь
некоторыми вопросами теории так называемого «классического»
(или «традиционного») языкознания, по которым автор может
считать себя в разной степени осведомленным.
Для того чтобы судить о новых методах, объединяемых под
условным названием «структурно-математических», и о достигну-
тых с их помощью новых результатах, у автора нет достаточных
знаний и прежде всего необходимого личного опыта. Поэтому об-
зору работ по этим проблемам посвящено сообщение, составлен-
ное ученым секретарем Научного совета по теории языкознания
Г. А. Климовым.47
Желательно только отметить в заключение как отрадный факт
растущее сближение «старого» и «нового» языкознания, наметив-
шееся в процессе исследовательской работы. «Борьба на уничто-
жение» за последнее время сменяется стремлением к научному
размежеванию и в то же время к плодотворному сотрудничеству.
Никто уже, по-видимому, не утверждает, вслед за футуристами
10-х годов, что нужно «сбросить Пушкина с парохода современ-
ности», т. е. отказаться от будто бы «донаучных», «интуитивных»,
«субъективных» методов, которые господствовали в прошлом в ми-
ровом и в советском языкознании.
Я думаю, что на этой основе можно вести совместную работу,
учиться друг у друга и двигать дальше теорию и практику совет-
ской лингвистической науки.
1966 г.
ВНУТРЕННИЕ ЗАКОНЫ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКА
И ПРОБЛЕМА ГРАММАТИЧЕСКОЙ АНАЛОГИИ
1
Изучение внутренних законов развития языка представляет
одну из важнейших задач лингвистического исследования. Суще-
ственным выводом из обсуждения этой проблемы в советской науке,
последовавшего за лингвистической дискуссией 1950 г., является
деление этих законов на общие и специальные. Общие законы
развития присущи всякому языку как общественному явлению
особого порядка, как средству общения, обмена мыслями между
людьми. Специальные законы развития наличествуют в отдель-
ных языках, определяя их качественное своеобразие, пути раз-
вертывания и совершенствования этого качества. При этом ча-
26
стные, специфические закономерности развития того или иного
языка представляют конкретное проявление общих законов
языкового развития. Развертывание и совершенствование языка
как средства общения, связь этого процесса с историей общества,
устойчивость языка, постепенность и неравномерность его
изменения представляют наиболее общие законы развития
языка.
Можно, однако, указать и другого рода общие внутренние за-
коны языкового развития, более непосредственно относящиеся
к той системе материальных языковых средств, фонетических и
грамматических, при помощи которых осуществляется всякое
языковое общение. Так называемые звуковые (или фонетические)
законы и явления грамматической аналогии, установленные срав-
нительно-историческим языкознанием как частные эмпирические
закономерности фонетического и грамматического развития от-
дельных языков, основаны на общих законах, присущих языку
как средству общения.
Многочисленные факты частных фонетических изменений от-
дельных языков покоятся на общем принципе зако-
номерности развития звуков речи (в опре-
деленном языке, в определенное время, в одинаковых фонетиче-
ских условиях одинаковые звуки претерпевают одинаковые из-
менения). Принцип этот представляет общий закон, при-
сущий языку как средству общения: если бы звуки языка не раз-
вивались закономерно, развитие языка неизбежно получило бы
хаотический характер. Частными проявлениями этого общего
внутреннего закона являются многочисленные эмпирические «зву-
ковые законы» отдельных языков, ограниченные в своем действии
определенным местом и временем.
Грамматическая аналогия представляет собою процесс уподоб-
ления, создающий новую форму по образцу старой. Она является
грамматическим новотворчеством, но, по удачному выражению
одного лингвиста, — «языковым новотворчеством ретроспектив-
ного характера» (Sprachbildung riickwartsschauender Art.),1
строящим новые грамматические формы, пользуясь материалом
старых форм. Аналогия служит средством улучшения грамма-
тического строя языка, совершенствования грамматической формы
или системы форм данного языка в соответствии с внутренними
законами его развития. Будучи одним из общих законов развития
грамматики, улучшения и совершенствования грамматических
правил языка, она действует в каждом языке своеобразными
путями, в соответствии с особенностями грамматического строя
данного языка. Соответственно этому явления аналогии пред-
ставляют результат взаимодействия между устойчивостью грам-
матической системы и общей тенденцией к улучшению граммати-
ческих правил языка.
Основное направление аналогичных новообразований опре-
деляется принципом однозначной связи грамматической формы
27
и содержания, согласно которому одинаковые грамматические
признаки выражают одинаковые значения, а одинаковые значения
выражаются одинаковыми грамматическими признаками. На са-
мом деле в любом языке наличествуют многочисленные противо-
речия между грамматическими формами и их значением. Ср. в рус-
ском: мост — мн. ч. мосты, но город — мн. ч. города', в немецком:
der Tag — мн. ч. die Tage, но der Schlag — мн. ч. die Schlage;
в спряжении глаголов: liegen — прош. вр. lag, но fliegen —
прош. вр. flog, siegen — прош. вр. siegte и т. п. Подобного рода
противоречия объясняются тем, что язык, как явление историче-
ское, находится в развитии, в движении. «Исключения», которые
регистрируются описательной грамматикой данного языка, рас-
крываются с точки зрения его истории как отложения законо-
мерностей прошлого или как зарождение новых закономерностей,
еще не получивших общего значения.
Не следует понимать явление аналогии как некую универ-
сальную прогрессивную тенденцию унификации и обобщения
грамматической формы, одинаковую для всех языков «морфологи-
ческого прогресса» (типа пресловутой теории Есперсена). Необ-
ходимо предостеречь против такого абстрактного сопоставления
качественно различных языков без учета их национальной спе-
цифики, особенностей грамматического строя и внутренних за-
конов его развития. Тенденция к аналогической унификации грам-
матических форм, тождественных по своему значению, способствует
улучшению и совершенствованию грамматических правил дан-
ного языка в соответствии со специальными внутренними
законами его развития, т. е. является фактом не универсального,
одинакового для всех языков мира морфологического прогресса,
а относительного прогресса (по выражению
Б. А. Серебренникова)2 в развертывании и совершенствовании
грамматического строя данного языка.
Только в этом смысле мы можем и должны говорить о грамма-
тической аналогии как об одном из общих внутренних законов
развития языка.
Принято различать аналогию внутреннюю и внеш-
нюю. В первом случае аналогические уподобления имеют место
внутри системы флективных изменений данного слова; во втором
случае — между аналогичными по своей функции грамматиче-
скими формами разных слов, принадлежащих к различным ти-
пам словоизменения внутри одной грамматической системы.
Для иллюстрации приведем несколько широко известных при-
меров.
29
Внутренняя аналогия
а) В древнерусском склонении переход заднеязычных к, г, х >
2> ц, з, с перед гласными ть или и вызвал соответственные чередова-
ния последнего согласного корня: ср. им. п. ед. ч. вълкъ сволк’,
мести, п. ед. ч. вълцгь, им. п. мн. ч. вълци; им. п. ед. ч. другъ,
мести, п. ед. ч. друзгь, им. п. мн. ч. друзш, им. п. ед. ч. духъ,
мести, п. ед. ч. дустъ, им. п. мн. ч. дуси и т. п.3 Различие это посте-
пенно устраняется аналогической унификацией по большинству па-
дежей: предл. п. ед. ч. о волке, друге, духе*, им. п. мн. ч. волки, други,
духи. Поскольку падеж был достаточно четко обозначен своим
окончанием, дифференциация корня, наличествовавшая в некото-
рых падежах, стала излишней; восстановление единства корня
является несомненным грамматическим улучшением.
б) Сходного типа чередования, основанные на переходе к, г >
^>ч, ж перед передними гласными, наличествуют и в настоящем
времени глаголов: ср. пеку — печешь — печет и т. д. — пекут/,
берегу — бережешь — бережет и т. д. — берегут и др. Народные
диалекты и так называемое «просторечье» знают аналогичные
формы: пекешь, пекет, берегет и т. п.; однако литературный язык
сохраняет здесь древнее различие по лицам. Мы встречаемся
в немецком глаголе с подобными чередованиями в области во-
кализма: ср. ich nehme — du nimmst — er nimmt; ich gebe —
du gibst — er gibt; ich fahre — du fahrst — er fahrt и др. (пала-
тализация гласного корня под влиянием элемента i в окончании
2-го и 3-го лица единственного числа в древненемецком языке).
В диалектах и здесь широко распространена аналогическая уни-
фикация: du nemst — er nemt; du far§t — er fart; однако литера-
турный язык сохраняет чередование.
По-видимому, личные формы глагола обладают вообще боль-
шей самостоятельностью, чем падежи, воспринимаемые (не только
в школьной грамматике) как видоизменения основной, называ-
тельной формы имени — именительного падежа. Как в русском,
так и в немецком эти чередования в системе глагола поддержива-
лись привычными для языка фонетико-грамматическими альтер-
нациями в словообразовании (бежать — бегать, бег — беженец
и т. п.).
Уподобления, нарушающие принятую в национальном ли-
тературном языке грамматическую норму, иногда называют
«ложной аналогией». По своему происхождению «ложная анало-
гия» ничем не отличается от прочих аналогических новообразова-
ний, но с точки зрения установившейся языковой нормы коллек-
тив оценивает ее как «ошибку» против грамматики. Установление
общепринятых грамматических норм национального, в особен-
ности письменного, языка останавливает распространение сти-
хийно протекающих частных аналогических новшеств, придавая
устойчивость исторически сложившимся грамматическим пра-
вилам»
39
Внешняя аналогия
а) Родительный падеж множественного числа на -ов в словах
мужского рода с твердой основой распространился в русском
языке по аналогии старых основ на -и (ъ). «Родительный множе-
ственного в именах на *-о мужского и среднего рода, в именах
на *-а, также в основах на согласные, после эпохи падения глу-
хих оказался совпавшим с чистой основой этих рядов существи-
тельных, не содержа, таким образом, никаких положительных
формальных признаков для характеристики падежной формы (ср.
род. п. мн. ч. раб, конь, сел, полъ, жен, душъ, ден, церковь, матер,
имен); только в именах на *-и соответственным окончанием яви-
лось -ов и в именах на *-i мужского и женского рода — окончание
-ej (из древнейшего -ии, т. е. *-ъ/7)».4
Причиной аналогичного распространения окончания -ов, про-
исходящего из весьма малочисленной группы основ на -и типа
сынов (в которых элемент -ов по своему происхождению является
не падежной флексией, а вариантом основообразующего гласного),
явилось совпадение в мужском роде именительного единственного
и родительного множественного, одинаково утративших падеж-
ное окончание (им. п. ед. ч. рабъ — род. п. мн. ч. рабъ). «Распро-
странение в этом склонении окончания -ов, заимствованного из
основ типа сынъ, — пишет Л. А. Булаховский, — соответствует
тенденции сообщить форме примету, отличающую ее от имени-
тельного падежа единственного числа».5 В этом смысле процесс
этот также служит улучшению грамматической системы. После
продолжительной борьбы старая форма без окончания удержа-
лась в литературном языке, как показывает Л. А. Булаховский,
там, где слово «относительно мало нуждалось в падежной харак-
теристике»,6 например в названиях парных предметов, обозначе-
ний мер и веса, часто употребляющихся со счетными словами
{пара сапог, пять аршин, десять раз и т. п.), или там, где наличе-
ствовала формальная дифференциация — ударением (им. п. ед. ч.
зубок — род. п. мн. ч. зубок; им. п. ед. ч. волос — род. п. мн. ч.
волос и др.) или наличием суффикса ед. ч. (названия народов,
обычно с приметой -ин: славянин — славян, татарин — татар
и т. п.). Это обстоятельство наглядно свидетельствует о внутрен-
ней (хотя и ненамеренной, бессознательной) целесообразности
развития подобных аналогических процессов. Основы среднего
рода на -о не приняли в литературном языке окончания -ов, по-
скольку именительный единственного дифференцируется здесь
окончанием -о (ср. дело — дел, место — мест и т. п.); однако в на-
родных диалектах широко распространены аналогические формы
{местов, делов).7 Колебания между облаков — облак, яблоков —
яблок связаны с двойственной формой этих слов как имен муж-
ского или среднего рода (им. п. ед. ч. яблоко — яблок, облако —
облак).8
30
б) Окончания дательного, творительного и местного (предлож-
ного) падежей на -ам. -ами. -ах. объединяющие в настоящее время
склонение существительных во всех трех родах (ср. волках, же-
нах. делах и т. д.), являются аналитическим обобщением оконча-
ний старых женских основ на -а. Процесс этот поддерживался
наличием окончания -а в именительном—винительном множествен-
ного числа среднего рода, личными именами мужского рода на -а
типа воевода, слуга, собирательными типа господа и др.,9 а также
общей потерей грамматических признаков рода во множественном
числе прилагательных.10 Вытесненными, после долгого периода
колебаний, оказались окончания других основ-----омъ (-емъ).
-ы (-и), -тъхъ (-ихъ). — засвидетельствованные в письменности
до начала XVIII в.11
В обоих приведенных случаях внешней аналогии аналогиче-
ские процессы совершаются па основе общего смещения и унифи-
кации типов склонения: потеря основообразующими суффиксами
их первоначальной смысловой значимости вызывает тенденцию
к устранению формальных различий между одинаковыми паде-
жами и тем самым к улучшению грамматического строя языка
в соответствии с его внутренними законами. Закономерный харак-
тер этого процесса подтверждается сходным развитием системы
склонения в польском языке, — конечно, независимо от русского,
но в значительной мере на основе общего славянского наследия
грамматических форм: в польском языке, как и в русском, обоб-
щается родительный множественного -бы. преимущественно в сло-
вах мужского рода, и окончания -amt. -ach в творительном и ме-
стном множественного всех родов; в дательном множественного,
в отличие от русского, побеждает окончание мужского и среднего
рода -от.12
Таким образом, внутренняя аналогия, устанавливая единство
внутри системы флективных видоизменений данного слова, более
четко и однозначно выделяет корневую морфему как носительницу
предметного (материального) значения слова. Поэтому можно
говорить в таких случаях об аналогии материальной,
восстанавливающей материальное единство слова. Внешняя ана-
логия осуществляет перестройку грамматической системы в целом
или в частях в направлении унификации или дифференциации,
по внутренним законам ее развития; она устанавливает новое
единство системы грамматических форм и в этом смысле может быть
названа аналогией формальной, точнее — аналогией грам-
матических форм.13
2
Значение аналогии как одного из важнейших явлений исто-
рической грамматики было установлено «младограмматиками».
К их же теориям восходит и то механистическое истолкование этого
31
явления, которое утвердилось с конца 1870-х годов и до сих пор
не изжито в зарубежном языкознании.14
Как известно, младограмматики объясняли развитие языка
взаимодействием и борьбой «чисто механических и бессознатель-
ных» звуковых законов, имеющих характер физиологический
(Остгоф) или психофизиологический (Пауль), и столь же механи-
ческих и бессознательных ассоциативных (психологических) свя-
зей между грамматическими формами. Кажущиеся отклонения
от механически действующих, «не знающих исключений» звуко-
вых законов объяснялись ассоциативным воздействием сходных
грамматических форм (ср. отсутствие закономерного фонетиче-
ского перехода к > ц перед гласными тъ или и в формах
мести, п. ед. ч. волкгъ, им. п. мн. ч. волки — по аналогии с дру-
гими падежами).
Наибольшее влияние это учение младограмматиков имело
в теоретической разработке Германа Пауля.15 Пауль различает
в процессе обучения языку и «говорения» (Sprechen) воспроизведе-
ние по памяти («репродукцию») и производство по аналогии («про-
дукцию») усвоенных образцов. Явление аналогической «продук-
ции» он подводит под универсальную формулу «пропорциональ-
ного уравнения».16 Ср. его пример — animus: animf=senatus : х
(senati вместо senatas).17 Согласно этой пропорции, форма роди-
тельного падежа от основы на -и----senatas (IV склонение) —
вытесняется аналогическим образованием senati по типу основ на
-о- (II склонение). Пауль игнорирует при этом и общую проблему
унификации типов склонения в истории индоевропейских языков,
и ее причины, и особенности этой проблемы специально в истории
латинского языка. Он обходит вопрос о наличии или отсутствии
в языке реальных лексических ассоциаций между такими словами,
как senatus и animus. Эдуард Герман в своей критике Пауля,
касаясь психологической стороны проблемы, вполне справедливо
задает вопрос: «Какому римлянину могло прийти в голову из-за
формы animus : animi образовать от слов senatus родительный
падеж senati?». Герман указывает, со своей стороны, на гораздо
более обычную и близкую ассоциацию между словами senatus
и populus.18
При таком механистическом и абстрактном понимании ассо-
циативных связей между грамматическими формами, вырванными
из исторически обусловленного развития грамматической системы
в целом, направление «ассоциации» по существу безразлично и
ничем не указано. Столь же обоснована была бы по формуле «про-
порционального уравнения» и связь обратного порядка — sena-
tus : senatas=animus : х (animas). С точки зрения младограмма-
тиков, направление ассоциации определяется не внутренней це-
лесообразностью развития системы, а большей или меньшей
распространенностью данной грамматической формы (количеством
слов в данной грамматической группе) и частотой употребления
того или иного слова или группы слов. Пауль говорит об «отноше-
32
нии сил» (Machtverhaltnis) между конкурирующими формами,19
другие младограмматики (например, Остгоф) в духе модного
в то время социологического «дарвинизма» (точнее — своеобраз-
ного лингвистического «мальтузианства») — о «борьбе за суще-
ствование между формами»;20 Вандриес употребляет сходное вы-
ражение — «борьба за преобладание».21
Легкая возможность «объяснить» этим способом кажущиеся
исключения из звуковых законов приводила к злоупотреблению
случайными, ничем не обоснованными сравнительно-грамматиче-
скими аналогиями, против которого справедливо возражал еще
Курциус в своей полемике с младограмматиками.22 Возможность
таких «случайных» ассоциаций была возведена младограмматиками
в принцип. Бругман в одной из своих ранних работ, имея в виду
случаи вроде приведенного выше примера распространения форм
родительного множественного на -ов, даже выдвинул теорию,
согласно которой аналогическое влияние может в принципе ис-
ходить от любой небольшой группы слов (независимо от частоты
ее употребления) путем ряда последовательных ассоциативных
воздействий: например, когда по образцу трех форм образуется
четвертая, все они вместе действуют на пятую, затем все пять на
шестую ит. д., так что при соответствующих обстоятельствах от
одной формы могут образоваться сотни новых форм.23
Любопытно отметить, что Шухардт в полемике против младо-
грамматиков исходил из этого же принципа в своей теории по-
степенного распространения звуковых законов на основе «фоне-
тической аналогии».24
Со своей стороны Пауль, ссылаясь на часто различное, а иногда
и противоположное направление, которое может принимать раз-
витие аналогии в родственных языках или в разных диалектах
одного языка (ср. аналогическое обобщение окончания дат. п. мн.ч.
-ам в русском, -от в польском языке), вместо анализа конкретных
условий развития данной системы объясняет этот факт индиви-
дуальными особенностями психологии говорящего, «множеством
случайных явлений (Vorgange) в душевной жизни
отдельных индивидов и их воздействием друг на друга, явлений,
которые недоступны учету и наблюдению. . . Для того, чтобы
каждый раз суметь указать причину, почему в одном случае дело
кончилось так, а в другом иначе, мы должны были бы быть все-
знающими».25
Характерно, что в большинстве историко-грамматических ра-
бот младограмматики и их последователи ограничиваются эмпи-
рической констатацией фактов, даже не пытаясь объяснить их
причину.
Наиболее крайнюю форму психологического механизма в во-
просе о грамматической аналогии представляет теория Вильгельма
Вундта.26 Для Вундта аналогия представляет «уподобление»
(Angleichung) или «психическую ассимиляцию», вызванную «ассо-
циативным звуковым воздействием на расстоянии» (assoziative
3 В. М. Жирмунский
33
Fernwirkung der Laute) — в отличие от фонетической ассимиляций
под ассоциативным воздействием соседних звуков (Nahe- und Kon-
taktwirkung). Согласно общему учению Вундта о «психофизиче-
ском механизме ассоциативных процессов», ассоциируются не
представления, взятые как целое, а «элементы представлений».
Так, в немецком языке сильное прошедшее, сохранявшее в средне-
верхненемецкую пору разную ступень коренного гласного в един-
ственном и множественном числе (ich starb — wir sturben), в но-
вонемецком унифицируется под влиянием аналогии (ich starb —
wir starben). По терминологии Вундта а — «индуцирующий»
звук, и — «индуцируемый», между ними в форме прошедшего
существует ассоциативная связь (starb — sturben), которая при-
водит к «психической ассимиляции». «Переход» sturben в starben
(Вундт говорит о «переходе») совершается благодаря этой ассими-
ляции, при поддержке таких форм прошедшего, как gab — ga-
ben, tat — taten, machte — machten и т. д., с тем же элементом а.27
Поскольку язык — явление психофизическое, основой подоб-
ных «ассоциаций» или «ассимиляций» всегда является наличие
определенных психофизических навыков, которые развиваются
в результате частого «упражнения» (Ubungsvorgange): «. . . по-
видимому, психический механизм одновременно является физи-
ческим, так как само образование звуков относится к области
явлений физических».28
Легко понять, что теория Вундта искажает не только языко-
вое содержание, но и психологический механизм аналогического
процесса. Новонемецкая форма множественного числа starben
возникает из формы единственного starb, а не из старого sturben;
при этом происходит не «переход» и > а (Вундт говорит о «пере-
ходе»), а старая форма sturben вытесняется новой starben (после
длительного процесса сосуществования и «борьбы», засвидетель-
ствованной в письменных памятниках XVI—XVII вв.); для воз-
никновения этой новой формы необходимо осознание ее значения
как целого, а также всей системы соотносительных с нею грамма-
тических форм и значений.
Установка не на грамматическое содержание
явлений аналогии, связанное с общим развитием грамматического
строя данного языка, а на механизм психологиче-
ского процесса, определяемый законами «ассоциаций»,
характерна не только для Вундта, но в значительной мере и для
младограмматиков, поскольку учение младограмматиков исхо-
дило из индивидуального языка как единственной языковой реаль-
ности 29 и рассматривало всякое языковое новшество как инди-
видуальное по своему происхождению.30 Для Пауля индивидуаль-
ная психология была методологической основой общей науки
о языке.31 Отсюда обычные у Пауля и Вундта ссылки на детский
язык как на важнейший источник языковых новшеств аналогиче-
ского характера, на «оговорки» взрослых (Versprechen), изучение
психологических ассоциаций, лежащих в основе подобных оши-
34
бок индивидуального говорения,32 как и попытки эксперимен-
тально-психологического исследования ассоциативных связей
между словами или грамматическими формами в целях установ-
ления психологических «законов» аналогии.33 Бесплодность всех
этих работ для грамматики очевидна: они в лучшем случае лиш-
ний раз подтверждают факты, давно известные из истории языка,
но не дают и не могут дать их грамматического истолкования.
В теоретическом отношении они свидетельствуют о понимании
грамматических процессов как случайных, механических, внешне
ассоциативных, независимых от содержания и развития грам-
матических категорий, не учитывающих значения грамма-
тики как результата функционирования человеческого мышле-
ния. 34
Наглядным примером механицизма концепции младограмма-
тиков является спор между ними и Курциусом о так называемой
запретительной или «превентивной» аналогии (prohibitive Analo-
gic). В своих «Замечаниях о границах звуковых законов» (1870)
и в последующей полемике против младограмматиков 35 Курциус
выдвинул положение, согласно которому судьба звука (в первую
очередь — грамматического форманта) определяется его значи-
мостью: «Звуки, имеющие большее значение, сохраняются, звуки,
лишенные значения, подвергаются уничтожению»36 (т. е. могут
редуцироваться). Среди примеров сохранения значимых звуков
вопреки действию общего фонетического закона Курциус указал
на наличие в греческом языке многочисленных сигматических
аористов, в которых -$- между гласными сохраняется (ср. гЪтра,,
етекеаа, еХиоа и т. п.), несмотря на существование в этом языке
фонетического закона, по которому оно вообще выпадает в подоб-
ном положении (ср. e(a)-cov, |io(a)6o, уеуо(а)о<; и т. д.). Сохранение
-s- «предупреждает» возможность затемнения грамматической
формы, отвечая присущему языку «стремлению к ясности» в вы-
ражении мысли.37
По этому поводу Дельбрюк иронически замечает: «Мне ка-
жется, нет оснований предполагать, что древние индусы или греки
обладали еще чувством значимости отдельного звука в составе
основной формы, которое мы утратили».38 Пауль считает невоз-
можным, чтобы говорящий «знал что-либо наперед об угрожающем
изменении и пытался его предотвратить», поскольку постепенно
совершающиеся изменения произношения остаются для него
самого незаметными.39 Согласно обычному объяснению младо-
грамматиков, -5- между гласными всюду исчезло в соответствии
с фонетическим законом; позже оно было «восстановлено» по ана-
логии таких форм, где оно стояло после согласного (например,
e8st|a, етр’фа, ёа/юаа и т. п.).40 Пауль настаивает на том, что
«сперва должен был сказаться звуковой фактор», свидетельствую-
щий о «последовательном характере звуковых законов» (Konse-
quenz der Lautgesetze), а потом уже могла вступить в действие
аналогия; в крайнем случае он готов признать, что аналогические
35
3*
процессы могли вступить в силу «уже при появлении совсем не-
значительного различия между этимологически взаимосвязанными
формами».41
Между тем Курциус и другие сторонники так называемой пре-
вентивной аналогии отнюдь не имели в виду сознательного пони-
мания говорящим «значительности» угрожаемого звука и пред-
стоящей с его исчезновением грамматической катастрофы. Они
указывали лишь на функциональную (морфологическую) знамена-
тельность определенных звуков, являющихся средством выраже-
ния грамматических значений. Сохранение в грамматическом
отношении знаменательного звука по аналогии существующей
в языке системы грамматических форм представляет гораздо бо-
лее убедительное объяснение подобного рода явлений, чем после-
довательность механического исчезновения (хотя бы, по Паулю,
частичного) в результате действия звуковых законов и столь же
механического восстановления по принципу аналогии, тем более
что в данном случае речь должна идти об аналогии форм, в кото-
рых мало выделяется, объединяясь с предшествующим соглас-
ным в фонетически неразрывное целое (-х, -ps, -ss).
Позднее к точке зрения Курциуса против младограмматиков
присоединился англист В. Хорн, который поставил вопрос о воз-
можности сохранения функционально значимых звуков в общих
условиях закономерной фонетической редукции на обширном ма-
териале примеров, заимствованных из истории преимущественно
германских языков.42 С точки зрения Хорна, фонетической редук-
ции обычно подвергаются звуки, утратившие функциональное,
грамматическое значение. Так, в англосаксонском языке -е как
признак дательного падежа чаще всего отпадает при наличии
предлога или местоимения, достаточно отчетливо дифференци-
рующего падежное значение (aet ham 'дома’, to daeg 'сегодня’,
thy seofadhan daeg на'седьмой день’ и т. п.), но сохраняется
в тех же словах, когда они употреблены самостоятельно и нет
другого формального признака падежа (дат. hame, daege и т.п.).43
С другой стороны, функциональная значимость может предохра-
нять звук от закономерной фонетической редукции. Например,
согласно общему фонетическому закону, конечному германскому
-а в западногерманских языках соответствует -и, которое сохра-
няется после краткого коренного слога и отпадает после долгого.
Ср. в именной флексии им. п. ед. ч. ж. р. др.-сакс, и др.-англ,
gifu (giefu) — аг, им. п. мн. ч. ср. р. fatu — word. Однако в гла-
голе конечное -и как признак 1-го лица единственного числа на-
стоящего времени сохраняется всегда, независимо от характера
коренного слога: ср. др.-в.-нем. gibu, stigu, др.-англ, giefe, stige
и др.44 Младограмматики сказали бы, что и здесь после долгого
слога гласный окончания (-и, -е) отпадает согласно фонетическому
закону и потом «восстанавливается» по аналогии с краткослож-
ными; однако это механическое объяснение не подкрепляется
никакими фактами. Напротив, объяснение Хорна подтверждает
36
возможность не восстановления, а сохранения гласного оконча
ния как знаменательной грамматической формы, поддерживаемой
аналогией системы глагольных форм.
В учении Пауля об аналогии следует, однако, отметить и грам-
матическую сторону, представляющую несомненный шаг вперед
по сравнению с высказываниями других основоположников мла-
дограмматической школы. В постановке этого вопроса Пауль ис-
ходит также из конфликта между звуковыми законами и анало-
гией. Звуковые законы представляются ему разрушительным
принципом, вносящим в грамматические формы «множество не-
нужных различий» (ср. вълкъ — вълка — влъцтъ — вълци и т. д.
или пеку — печешь и т. п.). Грамматическая аналогия является
«реакцией» против этих «ненужных и нецелесообразных различий».
«С ее помощью язык постепенно прокладывает себе путь к более
подходящим отношениям (angemesseneren Verbaltnissen), к более
прочной связи и более целесообразной группировке (zu festerem
Zusammenhalt und zweckmaSigerer Gruppierung) в области флек-
сии и словообразования».45 «Нет ни одного звукового закона, —
утверждает Пауль, — который, как только этимологические формы
окажутся в ряде случаев дифференцированными в звуковом отно-
шении, не вызывал бы реакции против этой дифференциации:
это одно из основных положений исторического языкознания».46
«Трудно себе представить, — восклицает он, — до какой степени
бессвязности, путанности и непонятности мог бы дойти язык,
если бы он терпеливо выносил все опустошения, производимые
звуковыми изменениями, если бы не была возможна реакция про-
тив них».47
Это положение Пауля почти дословно подхватил Бругман,48
оно повторяется в сходной форме и теоретиками в основном дале-
кой от младограмматиков «женевской школы».
Ср. в формулировке де Соссюра: «Фонетический феномен в жизни
языка есть фактор расстройства. Всюду, где он не создает чередо-
ваний, он способствует ослаблению грамматических связей, объеди-
няющих между собой слова; в результате этого бесполезно увели-
чивается количество форм, механизм языка затемняется и услож-
няется до такой степени, что порожденные фонетическим изме-
нением неправильности оттесняют на задний план формы, обра-
зуемые по общим образцам. .. По счастью, действие этих
изменений уравновешивается действием аналогии. . . .Ана-
логия действует в направлении большей регулярности и стре-
мится унифицировать методы словообразования и словоизмене-
ния».49
В более образной форме эту мысль повторяет ученик де Сос-
сюра, проф. Балли: «Действие фонетических законов постепенно
подтачивает язык и угрожает ему разрушением; предоставленные
себе, они продолжали бы действовать с роковой закономерностью
и привели бы к распаду грамматической системы. Но угрожаемый
организм сохраняется или постепенно восстанавливается бессозна-
37
тельным совместным действием говорящих индивидов, действием,
которое иногда сохраняет то, что находилось на пути к исчезнове-
нию, иногда же воссоздает уже успевшее исчезнуть. ..По сча-
стью, аналогия (этим термином обозначают тенденцию сохра-
нить или восстановить, то, чему угрожают фонетические законы
или что они разрушают) постепенно сглаживает эти различия,
бесполезные и смущающие (inutiles et troublantes), возникшие
в результате действия фонетических изменений».50
Эта сторона теории Пауля содержит важное указание на роль
аналогии в упорядочении грамматической системы, но указание
это дается под неправильным углом зрения, характерным для
младограмматической теории языка.
Прежде всего неправильна самое противопоставление звуковых
законов и аналогии как дезорганизующего и организующего прин-
ципа грамматического развития. Фонетические изменения отнюдь
не всегда «дезорганизуют» грамматическую систему. Следует раз-
личать несколько возможностей. Общие закономерные изменения
артикуляции (например, потеря звонкости смычными в верхне-
немецких диалектах) ничем не «угрожают» грамматической си-
стеме языка. С другой стороны, весьма существенным фактором
в развитии флексии является закономерная фонетическая редук-
ция конечных неударных гласных, ведущая к обезличению и сме-
шению окончаний; в этом случае фонетический процесс, способ-
ствуя устранению противоречий старой грамматической системы,
взаимодействует с морфологической аналогией и вместе с ней уча-
ствует в создании новой, более последовательной и унифицирован-
ной системы. В сущности «деструктивными», в смысле Пауля,
могут оказаться почти только явления ассимиляторного порядка
(типа вълкъ —вълци 'волки’) или звуковые изменения, вызван-
ные положением ударения (обычный пример: ст.-франц. 1-е л.
ед. ч. наст. вр. aim — 1-е л. мн. ч. наст. вр. amons, н.-франц,
аналогическое aimons). Однако и здесь фонетическое чередование
нередко становится выражением грамматических отношений,
поскольку оно вызывается ассимиляторным воздействием окон-
чания, т. е. морфологического элемента, характерного для опре-
деленной грамматической формы (ср. грамматическую роль ум-
лаута в немецком языке).51
Таким образом, указание Пауля на роль аналогии в «восста-
новлении» разрушенной звуковыми изменениями грамматической
системы может быть отнесено только к случаям внутренней (или
«материальной») аналогии, где речь идет о восстановлении морфо-
логического единства слова («корня»). Оно никак не объясняет
существа аналогии внешней, имеющей значение для перестройки
грамматической системы языка в целом.
По отношению к этим более существенным для истории языка
грамматическим процессам старая теория обычно ограничивается
такими абстрактными и бессодержательными выражениями, даю-
38
щими лишь внешнее, лишенное исторической конкретности опи-
сание этих процессов, как «упорядочение» грамматической си-
стемы, «симметрия»52 или «гармония»53 системы форм, «требования»
системы (Systemzwang),54 «тенденция» к единообразию, «потреб-
ность» в единообразии 55 или в дифференциации, принцип «ин-
теграции» и «дезинтеграции» («выражаясь языком Герберта Спен-
сера» — как пишет польский лингвист Карл Аппель) 56 и т. п.
При этом говорят лишь о «восстановлении» (Herstellung)57 нару-
шений грамматической системы, совершенно игнорируя ее твор-
ческое развитие, связанное с улучшением и совершенствованием
грамматических правил языка.
Критику младограмматической теории с позиций гумбольдтиан-
ского идеализма дает статья Мистели, появившаяся одновременно
с первыми выступлениями младограмматиков.58 Мистели возра-
жает против объяснения аналогии «духовной инерцией» (geistige
Tragheit), «пассивностью» или «леностью» (Lassigkeit oder Ве-
quemlichkeit), — объяснения, подсказанного «представлением
психической механики» (psychische Mechanik) ассоциативных
процессов. Он усматривает в аналогии проявление «духовной
энергии» и творческой активности.59 Так, проведение гласного а
через все формы прошедшего времени в немецком сильном глаголе
(starb — starben вместо sturben — пример, приведенный Паулем
и позднее подхваченный Вундтом) должно рассматриваться как
явление «духовного порядка» — как победа «категории времени»
в глагольной системе.60
Для рассуждений Мистели характерно указание на ведущую
роль смысловой стороны в процессе аналогического развития
грамматической системы; однако устарелая фразеология немец-
кого философского идеализма явилась существенным препятствием
для правильного понимания этой критики позитивизма господ-
ствовавшей лингвистической школы.
В многочисленных зарубежных трудах по общему языкозна-
нию, появившихся за последние десятилетия по образцу «Основ
истории языка» Пауля, проблема аналогии по-прежнему рассмат-
ривается в традиционных рамках его теории. Позиция фран-
цузской лингвистической школы не отличается в этом вопросе
от немецкой.61 Полемика Есперсена с младограмматиками каса-
ется и в этом вопросе лишь частностей, а не существа традицион-
ного учения (главным образом «разрушительного действия»
звуковых законов).62 Если де Соссюр рассматривает аналогию как
явление «синхроническое», связывая ее с «альтернацией» («чере-
дованием»), и находит ее источник в сфере «речи» (parole), — он
в сущности остается в рамках индивидуально-психологической
теории Пауля и только еще более последовательно снимает вопрос
о творческой роли аналогических процессов в историческом раз-
витии грамматической системы.63
В сравнительно недавнее время с критикой младограмматиче-
39
ского учения выступил Эдуард Герман в книге «Звуковые законы
и аналогия).64
Эклектический характер его методологии определил отрица-
тельную оценку книги сторонниками лингвистического позити-
визма старой школы.65
Из замечаний Германа, имеющих общий характер, существен-
ное значение имеют только два: указание (вслед за Мистели)66
на связь широкого развития явлений аналогической унификации
с определенным морфологическим типом языка (так называемым
флективным строем)67 и методологическое требование проследить
всю совокупность аналогических изменений в грамматической
системе какого-нибудь одного языка.68 Это последнее требование,
открывающее широкие перспективы для конкретного историче-
ского изучения языка, в сущности было уже выполнено русским
ученым проф. И. А. Бодуэном де Куртенэ за 60 лет до появления
книги Германа в специальном исследовании о роли аналогии
в польском склонении.
В разработке вопросов грамматической аналогии в лице проф.
И. А. Бодуэна де Куртенэ русская лингвистическая наука зани-
мала самостоятельное и передовое место. Бодуэн де Куртенэ еще
в 1870 г., т. е. раньше младограмматиков, в упомянутой статье
«Несколько случаев влияния аналогии в польском склонении»,
напечатанной в немецком лингвистическом журнале,69 первый
поставил вопрос о взаимодействии звуковых законов (Lautgesetze)
и аналогии, систематизировав все случаи нарушения звуковых
законов аналогическим воздействием грамматических форм
в именной флексии польского языка.70 Наблюдения и теоретиче-
ские обобщения Бодуэна де Куртенэ во многих отношениях тоньше,
чем механистические объяснения младограмматиков. Так, он
говорит о «внутреннем значении, единстве грамматической кате-
гории» как о «скрытом факторе» (latenter Urheber) аналогических
процессов,71 о наличии или потере «связи между окончанием и его
внутренней формой»,72 о необходимости «более определенной связи
между звуковой формой и ее функцией» (по поводу распростране-
ния форм на -6ш в родительном падеже множественного числа),73
о тенденции «к упрощению и объединению (Vereinfachung) языко-
вых форм», с принципиально существенным уточнением — «не-
обходимость которых не ощущается».74
Терминология и своеобразная фразеология Бодуэна де Кур-
тенэ как в этих, так и в особенности в его поздних трудах была под-
сказана господствующим психологизмом его времени, но «психо-
логизм» Бодуэна де Куртенэ, по справедливому замечанию его
ученика, акад. Л. В. Щербы, «с одной стороны, был способом уйти
от наивного овеществления языка. . ., а с другой — реакцией про-
тив механического натурализма в языкознании».70 За этим «пси-
хологизмом» в сущности скрывается отличающая Бодуэна де Кур-
тенэ от младограмматиков плодотворная и правильная идея се-
40
мантической значимости («семантизации») звуков языка и их «мор-
фологизации» в рамках грамматической системы. Грамматическая
аналогия с этой точки зрения представляется исследователю не
как случайное и хаотическое сцепление механически ассоцииро-
ванных звуков и форм, а как взаимодействие грамматически зна-
чимых элементов слова (морфем) в рамках общей грамматической
системы языка.
Из учеников И. А. Бодуэна де Куртенэ его мысли самостоя-
тельно развил его рано умерший казанский ученик, выдающийся
грамматист Н. В. Крушевский. В своем «Очерке науки о языке»
он кое в чем сходится во взглядах с Паулем, но в самом существен-
ном идет оригинальными и более правильными путями.76 В объяс-
нении явлений аналогии он исходит из «закона соответствия мира
слов миру мыслей», этого «основного закона развития языка».
«В самом деле: если язык есть не что иное, как система знаков, то
идеальное состояние языка будет то, при котором между системой
знаков и тем, что она обозначает, будет полное соответствие. Мы
увидим, что все развитие языка есть вечное стремление к этому
идеалу».77 Поэтому «каждому понятию и каждому его оттенку
должна соответствовать известная внешняя, преимущественно
звуковая форма. . . Чтобы удовлетворить этому требованию,
язык должен иметь для каждого особого понятия и каждого его
особого оттенка особое и только одно выраже-
н и е».78
Пользуясь, как и Бодуэн де Куртенэ, терминологией господ-
ствовавшей в его время ассоциативной психологии, Крушевский
определяет связь между словом и его значением, между морфемой
и ее функцией как «ассоциацию по смежности». С этой же точки
зрения аналогические взаимодействия между словами или их
морфологическими элементами (морфемами) основаны на ассоциа-
ции по сходству. «Все старое в языке основано по преимуществу
на воспроизводстве, на ассоциациях по смежности, тогда как все
новое — на производстве, на ассоциациях по сходству».79 «Все
в языке, что только основано на производстве, будет стремиться
к строгой системе».80 «Упорядочение систем основано на законе
ассоциации по сходству».81 «Процесс развития языка с известной
точки зрения представляется нам как вечный антагонизм между
прогрессивной силой, обусловленной ассоциациями по сход-
ству, и консервативной, обусловленной ассоциациями по смеж-
ности».82
Однако само понятие «прогресса языка» остается и в грамма-
тической системе Крушевского абстрактным и статическим и не
выходит из области индивидуально-психологических категорий.
Крушевский говорит лишь о «соответствии мира слов миру мыслей»,
но он умалчивает о соответствии того и другого миру объективной
действительности, обходя тем самым и основной для материалисти-
ческого языкознания вопрос о языке как средстве общения чело-
веческого коллектива. Между тем только с этой точки зрения можно
41
и должно говорить о «прогрессе языка», иными словами — о его
развитии и совершенствовании в связи с развитием человеческого
общества.
3
Роль грамматической аналогии в развертывании и совершен-
ствовании грамматического строя можно проследить на примере
развития системы немецкого склонения и спряжения.
Как и все древние индоевропейские языки, германские 'языки
на ранних ступенях своего исторически засвидетельствованного
существования представляют картину большого разнообразия
типов склонения с уже определившейся тенденцией к их аналоги-
ческой унификации.
Как известно, различия, существовавшие в формах одного и
того же падежа в зависимости от типа склонения, определялись
по своему происхождению различиями основообразующих суф-
фиксов при тождественности (в огромном большинстве случаев)
формального признака падежа (падежной флексии в собственном
смысле). Ср. готск. вин. п. мн. ч.: dag+a+ns (осн. -a-), gast+
-f-i+ns (осн. -f-), sun+u+ns (осн. -и-) и т. п.; др.-русск. местн.
п. мн. ч.: вълцгъхъ, конихъ, женахъ, душяхъ, костъхъ и т. п.
К началу письменной традиции индоевропейских языков боль-
шинство основообразующих суффиксов (за небольшими исключе-
ниями) представляют элементы формально-грамматические, утра-
тившие, по-видимому, свою первоначальную значимость показа-
телей грамматико-семантических категорий, основанных на древ-
ней классификации имен.83 Во всяком случае, классификация по
трем грамматическим родам (мужскому, женскому и среднему),
как показывает сравнительная грамматика, имеет более позднее
происхождение и накладывается в индоевропейских языках на
более раннюю классификацию по основам: большинство основ,
например основы на -г-, -и- и др., не знают формальных различий
по родам, которые определяются впервые грамматическим проти-
вопоставлением основ на -о- мужского и среднего рода и основ на
-а- женского рода.
Вместе с утратой основами первоначальной семантической зна-
чимости и с превращением их в отвлеченные грамматические пока-
затели начинается процесс «падения основ», их общей фонетиче-
ской и грамматической редукции, засвидетельствованный во всех
индоевропейских языках, частично еще в период их доисториче-
ской общности. Теряя свою самостоятельность, основообразую-
щие (тематические) суффиксы сливаются с флективными показа-
телями падежей в падежные окончания нового типа, уже не рас-
членимые и противопоставленные друг другу по группам склоне-
ний: ср. готск. им. и. мн. ч. dag- os ( < *o+es), gast-is « *ei-j-
+es), sun-jus « *eu+es), gum-ans « *on+es) и т. д. С другой
стороны, происходит смешение и аналогическая унификация ти-
42
пов склонения, поскольку наличие разных окончаний для одного
и того же падежа, при отсутствии семантических различий между
типами склонения, создает противоречия грамматических форм,
не оправданные значением.
Процесс этот в разных индоевропейских языках происходит
разными путями, в зависимости от исторически сложившихся
особенностей данного языка, от его специальных внутренних
законов.
В русском языке, при сохранении своеобразия падежных окон-
чаний, нередко стоящих под ударением и лишь в малой степени
затронутых фонетической редукцией, особенно энергично проте-
кают процессы аналогической унификации типов склонения, под-
чиненной новому принципу группировки — по грамматическим
родам. В результате создается стройная система трех основных
типов склонения, в ряде падежей (особенно во множественном
числе) имеющих одинаковые окончания, с отдельными противоре-
чиями («исключениями») — наследием более древней и сложной
грамматической классификации.
Одновременно, в результате тех же аналогических процессов,
вырабатывается новое грамматико-семантическое противопостав-
ление категорий единственного и множественного числа. Оно осу-
ществляется различными средствами и не всегда одинаково по-
следовательно, иногда при помощи основообразующих суффиксов
(ср. брат — братья, небо — небеса, теленок — телята, крестья-
нин — крестьяне и др.) или в других более многочисленных слу-
чаях при помощи перестановки ударения (нос — носы, учитель —
учителя, волна — волны, седина — седины, стадо — стада,
поле — поля, лицо — лица и мн. др.).81
В немецком языке аналогическая унификация идет совершенно
другими путями. В связи с особенностями германского ударения,
падающего на первый (коренной) слог слова, ослабленные флек-
тивные элементы редуцируются и выступают как фонетически
обобщенные и обезличенные, часто многозначные окончания типа
-е, -еп, -er, -es и т. п. Различия между формами падежей внутри од-
ного типа склонения в значительной степени унифицируются.
Их обозначение в группе имени частично осуществляется взаимо-
действием флективных и аналитических средств, при помощи пред-
логов (ср. др.-в.-нем. твор. п. ед. ч. swertu 'мечом’ — нов. нем.
mit dem Schwerte), частично оно переходит на местоименные пока-
затели имени (прежде всего на артикль) и на сильное прилагатель-
ное, которые сохранили дифференцированные падежные оконча-
ния, четко унифицированные по грамматическим родам (ср. der,
die, das — dieser, diese, dieses — guter, gute, gutes — des, dem,
den и т. д.).
Гораздо менее последовательно происходит в немецком языке
аналогическая унификация типов склонений существительных,
столь характерная для русского языка: в пределах каждого грам-
матического рода сохраняются по крайней мере два склонения
43
(сильное и слабое), к которым присоединяются различия в спосо-
бах образования множественного числа, так что современные не-
мецкие грамматики, несмотря на стертый и многозначный харак-
тер окончаний, насчитывают со всеми возможными вариантами
до 24 типов склонения существительных.
Таким образом, тенденция к закономерному упорядочению грам-
матической системы языка, к выравниванию на основе аналогии
ее исторически сложившихся противоречий, последовательно
действовавшая в течение ряда столетий, и здесь не осуществляется
полностью: сталкиваясь с устойчивостью грамматических норм
языка, она проявляется в рамках существующей языковой си-
стемы лишь как частичное и относительное улучшение свойствен-
ных данному языку грамматических правил.
В связи с более или менее последовательной унификацией фор-
мальных различий между падежами внутри одного типа склонения
существительных и в немецком языке выдвигается, начиная с сре-
дневерхненемецкого периода, новое грамматическое противопостав-
ление — единственного и множественного числа. Эта аналогиче-
ская тенденция, в соответствии с внутренними законами развития
немецкого языка, также осуществляется в рамках сохранившихся
типов склонения, распределившихся по трем грамматическим ро-
дам.
В мужском роде широкое распространение как признак мно-
жественного числа получает умлаут. По своему происхождению
умлаут, как известно, представляет явление фонетической ас-
симиляции гласного звука корня гласному окончания i, j; ср.: др.-
в.-нем. gast (совр. Gast) — gesti (совр. Gaste). др.-в. -нем. faran
(совр. fahren) — feris (совр. fahrst). Младограмматики противопо-
ставляли фонетическое явление умлаута, как механическое при-
способление артикуляции, его позднейшему грамматическому
использованию на основе будто бы «случайного совпадения»
(zufalliges Zusammentreffen) с теми или иными грамматическими
категориями.85 Ошибочность этого рассуждения становится оче-
видной, если вспомнить, что умлаут всегда вызывается ассимиля-
торным воздействием на корень слова окончаний определенного
типа, содержавших i (флексий, суффиксов), и тем самым уже сна-
чала, будучи связан с соответствующими грамматическими кате-
гориями, представляет собою одновременно и грамматическое
явление. Широкое использование в германских языках аблаута
как внутренней флексии, характеризующей определенные грам-
матические категории (springen — sprang — der Sprung, wer-
fen — warf — der Wurf и т. п.), поддерживало распространение
умлаута как внутренней флексии нового типа в самых разнообраз-
ных грамматических группах, содержавших в древненемецком
элемент i (j): ср. мн. ч. Gast — Gaste; степени сравнения stark —
starker —starkst; 2-е и 3-е л. ед. ч. наст. вр. ich trage — du tragst,
er tragt; опт. прош. вр. nahm — nahme; каузативные глаголы
от прилагательных stark — starken и др. Процесс этот совершался
44
путем аналогического распространения, обобщения и упорядоче-
ния употребления умлаута как знаменательного морфологического
элемента в этих и других грамматических категориях; однако
это обстоятельство не дает никаких оснований для традиционного
противопоставления «механической» звуковой закономерности ее
позднейшему, будто бы «случайному», грамматическому исполь-
зованию. Мы имеем здесь явление, характерное для грамматиче-
ского строя немецкого языка, в процессе развития которого
происходило последовательное накопление элементов внутренней
флексии (аблаут — преломление — умлаут): взаимодействие ре-
дуцированной и фонетически обезличенной внешней флексии с ана-
литическими средствами и широко развивающейся внутренней
флексией представляет один из важнейших внутренних законов
немецкой грамматики.86
Умлаут как признак множественного числа возникает в древне-
немецком в группе основ мужского рода на -i-: ср. др.-в.-нем.
ед. ч. gast, gastes, gaste — мн. ч. gesti, gesteo, gestim. Отметим,
что противопоставление единственного и множественного числа
в этих основах само по себе уже является результатом общегерман-
ского аналогического развития единственного числа этих основ
по типу основ мужского рода на -о- (ед. ч. tag, tages, tage): зако-
номерная форма основ на -i- была бы в родительном и дательном
падежах мужского рода (как в женском роде) — *gesti, *gesti.
Основы на -о- по фонетическим условиям не имеют умлаута во мно-
жественном числе (taga, tago, tagum). В средневерхненемецком,
в результате общей редукции неударных гласных в безразличное е,
утрачивается различие между падежными окончаниями этих двух
типов слов: в обеих группах окончание -е становится признаком
множественного числа (ср. ед. ч. tag, gast — мн. ч. им., род.,
вин. п. tage, geste, дат. п. tagen, gesten). В связи с этим умлаут,
переставший быть ассимиляторным вариантом коренного гласного,
каким он был в древневерхненемецком, становится фонологи-
ческим чередованием и в качестве знаменательного признака
множественного числа распространяется по аналогии на обшир-
ную группу старых основ на -о-. Процесс этот начинается в средне-
верхненемецком и получает широчайшее развитие в новонемец-
ком. Ср. Baum — Baume (др.-в.-нем. мн. ч. bouma), Wolf — Wolfe
(др.-в.-нем. мн. ч. wolfa), Fuchs — Fiichse (др.-в.-нем. мн. я. fuhsa),
Воске, Kopfe, Schatze и др. В дальнейшем этому процессу содей-
ствует в особенности отпадение в верхненемецких диалектах ко-
нечного -е, оставшегося единственным признаком множественного
числа в словах мужского рода. В результате этого отпадения един-
ственное и множественное мужского рода в таких диалектах должно
было совпасть (ед. ч. Tag — мн. ч. Tag’) — явление граммати-
ческого омонимизма, представлявшее угрозу для взаимного по-
нимания. Вследствие этого в таких диалектах, в отличие от лите-
ратурного языка, почти все слова мужского рода с соответствую-
щим коренным гласным имеют умлаут во множественном числе:
45
ср. tag — tag, arm — arm, hund — hiind (hind) и др. По той же
причине значительное число двусложных слов, принадлежавших
к старым основам на -о-, имеют в новонемецком умлаут: ср. Na-
gel — Nagel, Mantel — Mantel, Vogel — Vogel и др. В других
до сих пор наблюдаются колебания: мн. ч. Wagen или Wagen,
Faden или Faden, Hammer или Hammer и др.; при этом форма с ум-
лаутом характерна для южной Германии, где конечное -е в тре-
тьем слоге (после сонорных) отпадает уже в средневерхненемецкую
пору.
В основах на -i- женского рода, сохранивших свое старое скло-
нение, умлаут в средневековом немецком языке был закономерно
представлен не только во множественном, но и в родительном и
дательном падежах единственного числа. Ср. др.-в.-нем. ед. ч.
stat, steti, steti, stat; мн. ч. steti, steteo, stetim, steti. Аналоги-
ческое вытеснение умлаута в родительном и дательном падежах
единственного числа начинается уже в средневерхненемецком
и завершается в новонемецком четким противопоставлением ед. ч.
Stadt — мн. ч. Stadte, с использованием умлаута как общего
грамматического признака множественного числа.
В словах среднего и женского рода в качестве признаков мно-
жественного числа аналогически обобщаются фонетически обезли-
ченные окончания -ег и -еп. Для среднего рода типично окончание
-ег (др.-в.-нем.- -ir), также с умлаутом (в случае соответствую-
щего корневого гласного): ср. Land — Lander, Feld — Felder.
По своему происхождению оно представляет основообразующий
суффикс старых основ на -es (тип. русск. небо — небеса). В древне-
немецком он наличествует лишь в небольшой группе слов сред-
него рода, преимущественно обозначающей детенышей животных.
Ср. др.-в.-нем. ед. ч. kalb, kalbes, kalbe — мн. ч. kelbir, kel-
biro, kelbirum 'теленок’. Противопоставление единственного мно-
жественному в словах этой группы (ед. ч. kalb — мн. ч. kelbir)
уже в древневерхненемецком является аналогическим новообра-
зованием с вытеснением старых закономерных форм родитель-
ного и дательного падежей единственного числа *kelbires, *kel-
bire, сохранившихся как архаизмы в древнейших памятни-
ках.87
То же противопоставление развивается и в русском языке:
ед. ч. небо — мн. ч. небеса; ср. др.-русск. ед. ч. род. п. небесе,
дат. п. небеси и т. д. В наиболее многочисленной группе силь-
ного склонения среднего рода (основы на -о) именительный и ви-
нительный падежи множественного не имели окончания в резуль-
тате закономерной редукции конечного краткого -а (ср. др.-в.-
нем. ед. ч. им. п. wort — мн. ч. им. п. wort, род. п. worto, дат. п.
wortum). Уже в древневерхненемецком и еще больше в средневерх-
ненемецком окончание -ег выходит за пределы первоначальной
сферы своего употребления как отчетливый признак множествен-
ного числа, хотя господствующим типом множественного числа
среднего рода сильного склонения еще продолжает оставаться
46
в единственном числе das wort — во множественном diu wort.
В новонемецком -ег (с умлаутом) становится почти универсаль-
ным признаком множественного числа среднего рода. Немногочи-
сленные слова, оставшиеся в стороне от этого движения вслед-
ствие устойчивости грамматической нормы литературного язы-
ка, нередко имеют в диалектах аналогические -ег. например
Better, Hemder, от уменьшительных Schafcher или Schaferche(n)
и др.
Господствующим типом окончания множественного числа в сло-
вах женского рода становится в новонемецком -еп (в школьных
грамматиках — так называемое смешанное склонение). Истори-
чески этот тип действительно возник на основе смешения и ана-
логической унификации старых основ на -а- («сильных») с осно-
вами на -п («слабыми»). В первых -еп было результатом редукции
падежных окончаний определенного типа (род., дат. п. мн. ч.),
во вторых — остатком основообразующего суффикса. Аналоги-
ческое сближение этих типов в отдельных падежах (им. п. ед. ч.,
род., дат. п. мн. ч.) начинается еще в древненемецкую пору и уси-
ливается в условиях общей редукции окончаний. Средневерхнене-
мецкий, однако, при частых смешениях в ряде слов, еще различает
два типа: ед. ч. им. п. сильн. sache — слаб, zunge; род., дат., вин.
п. sache — zungen, мн. ч. им., вин. п. sache — zungen, род., дат. п.
sachen — zungen. В новонемецком в единственном числе вытесня-
ются формы на -еп (Zungen), во множественном — формы на -е
(Sache). В результате окончание -еп становится однозначным приз-
наком множественного числа.
Таким образом, в современном немецком языке новый грамма-
тический принцип четкого оформления категории числа при по-
мощи аналогии последовательно распространяется на большинство
склоняемых существительных (кроме некоторых двусложных
типа der Meister — die Meister и т. п.), создавая из обломков па-
дежной системы новые морфологические средства выражения грам-
матических отношений. В этом длительном процессе развертыва-
ния и совершенствования грамматических средств типическим
признаком множественного числа мужского рода становится окон-
чание -е (в случае возможности — с умлаутом), в среднем роде —
окончание -ег (также с умлаутом при соответствующих гласных
корня), в женском роде — окончание -еп\ однако сохраняются
довольно значительные группы слабых существительных мужского
(в незначительных остатках и среднего) рода и сильных женского
рода (также с умлаутом) и ряд менее значительных отклонений,
вызванных преимущественно другими конкурировавшими и от-
тесненными аналогическими тенденциями: например, в мужском
роде множественного числа на -ег под влиянием среднего рода
(ср. Wald — Walder); в среднем роде множественного числа на -е
под влиянием мужского рода (ср. Schaf — Schafe). Эти противоре-
чия системы, связанные с многовековой традицией, закрепляются
нормой письменного языка.
47
4
Древнейший слой германской глагольной системы, объединяю-
щий ее с глагольной системой других индоевропейских языков,
представляют так называемые сильные глаголы, основные формы
которых различаются чередованием коренного гласного, так на-
зываемым аблаутом (steigen — stieg — gestiegen и т. п.). Младо-
грамматики считали аблаут, как и умлаут, явлением чисто фоне-
тическим: по словам Пауля, он является «механическим резуль-
татом перестановки ударения» в индоевропейском праязыке и
«первоначально не имел никакого отношения к различию функ-
ций отдельных форм».88 Однако если аблаут количественный и
связан с ударением (нулевая ступень корня при ударении на
суффиксе), то относительно качественных чередований гласных
типа е—о младограмматикам не удалось доказать этого поло-
жения.
С другой стороны, не только это качественное чередование, но
и само ударение (вместе с количественными изменениями, от него
зависящими) характеризует уже в индоевропейском языке-основе
определенные грамматические формы; следовательно, оно с са-
мого начала представляет собою явление морфологическое, сход-
ное в этом отношении с так называемой внутренней флексией се-
митических языков.89 Образования типа springen — Sprung, wer-
fen — Wurf, fliehen — Flucht и т. п., как и соответственные формы
сильного глагола, характеризуются в грамматическом отношении
чередованием гласных по аблауту в такой же мере, как основооб-
разующими суффиксами и системой флексий.
Как это ясно видно на примере греческого глагола, основой
этой древней глагольной системы являлось противопоставление
видов: так называемого презенса (длительного) — перфекта (ре-
зультативного) и аориста (мгновенного), которые различались
огласовкой е — о — нуль; ср. греч. Хесксо— Хе-Хот-а— e-Xm-ov.
На эту систему наслаиваются в более позднее время разли-
чия времени, обозначаемые специальными суффиксами и префик-
сами.
В древнегерманских языках презенс употребляется в значе-
нии действия вневременного, постоянного, а также настоящего—
будущего времени; из аориста и перфекта путем смешения и ана-
логической унификации, в результате потери ими первоначаль-
ного видового значения, образуется сильная форма прошедшего
(претерит). Соответственно своему смешанному происхождению,
германский претерит надолго сохраняет двойственность огласовки
единственного и множественного (ступень о — нулевая ступень).
Ср. готск. наст. вр. steigen — прош. вр. ед. ч. staig — прош.
вр. мн. ч. stigum (др.-в.-нем. stigan — steig — stigum); наст. вр.
wairpan — прош. вр. ед. ч. warp — прош. вр. мн. ч. waurpum
(ср.-в.-нем. werfen — warf — wurfen).
В западногерманских языках (в том числе и в немецком) 2-е
48
лицо единственного числа имеет нулевой вокализм аориста, как
и множественное число: ср. др.-в.-нем. ед. ч. 1-е л. steig, 2-е л.
stigi, 3-е л. steig, мн. ч. 1-е л. stigum, 2-е л. stigut, 3-е л. stiguh.
Именно это обстоятельство и позволило отождествить формы с ну-
левым вокализмом с аористом (ср. др.-в.-нем. stigi— греч. (e-)cjTi^s^,
др.-в.-нем. bugi — греч. (е-)<х>оуе<; и др.).90 Окончание -i вызывает
во 2-м лице единственного числа умлаут коренного гласного, если
последний может иметь умлаут: ср. др.-в.-нем. ед. ч. 1-е л. warf,
2-е л. wurfi (ср.-в.-нем. wiirfe), 3-е л. warf, мн. ч. 1-е л. wurfum
и т. д. Старое объяснение этой формы аналогическим воздействием
оптатива прошедшего с низшей ступенью аблаута (др.-в.-нем.
опт. ед. ч. 1-е л. stigi, 2-е л. stigis, 3-е л. stigi и т. д.) — типичный
пример механического применения принципа аналогии в работах
младограмматиков,91 без сколько-нибудь удовлетворительной
попытки семантического обоснования возможности такой случай-
ной «аналогии».
Формами атематического аориста с долгим коренным гласным
является, по-видимому, и множественное число прошедшего времени
IV—V рядов сильных глаголов с долгим ё (нем. а): ср. лат. veni —
готск. qemum (нем. kamen), лат. sedi — готск. setum (нем. sapen)
и др.92
Оптатив прошедшего (по своей первоначальной синтаксиче-
ской функции весьма близкий оптативу аориста в греческом язы-
ке) 93 в сильных глаголах совпадает, как уже было сказано, по
своему вокализму с аористом или множественным числом прошед-
шего (нулевая ступень) и имеет суффикс -?-, в дальнейшем вызы-
вающий умлаут, который становится характерным морфологи-
ческим признаком этой грамматической формы (nahm — nahme,
из др.-в.-нем. nami).
Причастие II имеет ту же низшую ступень аблаута (если оно
не образовалось позднее по аналогии настоящего времени, как
в немецких глаголах V—VII рядов). В западногерманских язы-
ках, когда эта низшая ступень представлена гласным и, прича-
стие, под влиянием последующего широкого гласного а, в резуль-
тате так называемого преломления (Brechung) имеет огласовку о:
ср. др.-в.-нем. мн. ч. прош. вр. wurfum, прич. II giworfan
и др.
Слабое (дентальное) прошедшее является новой, специфической
для германских языков формой претерита. Дентальный суффикс
(нем. t) развивается, по всей вероятности, из предикативного упот-
ребления старого причастия II на £, но оформляется при участии
суффигированного глагола действия (ср. готск. dedum, др.-в.-
нем. tatum — совр. taten). Эта грамматическая форма имела,
по-видимому, с самого начала чисто временное значение — пре-
терита. Она могла быть образована от любого глагола независимо
от характера его коренного гласного и потому прежде всего утверди-
лась в обширнейшей группе производных глаголов, не имевших
аблаута. В сильных глаголах первоначально вполне четкое че-
4 В. М. Жирмунский 49
редование коренного гласного (е — о — нуль) с течением времени
все более осложнялось — сперва под влиянием различных по-
казателей при коренном гласном (/, и, сонорные), потом под
ассимиляторным воздействием последующих гласных и со-
гласных.
Этому многообразию рядов сильных глаголов, в основном уже
непродуктивных в историческую пору развития германских языков,
слабое прошедшее противостояло как единообразная и однознач-
ная форма, живая и широко продуктивная. Отсюда аналогическое
вытеснение сильных форм слабыми на всем протяжении истории
немецкого языка (обратное явление встречается лишь в редких
случаях). Сильные формы с точки зрения современного немецкого
языка являются «исключениями» из закономерного типа образова-
ния прошедшего, но группа этих исключений (всего 170 корне-
вых глаголов, в значительной части относящихся к основному
словарному фонду языка) достаточно многочисленна и прочно
связана привычными в словообразовании типами чередования
гласных.
Внутри каждого ряда сильных глаголов могли чередоваться
гласные настоящего, единственного и множественного числа про-
шедшего (претерита) и в большинстве случаев причастия II. Наи-
более существенным фактом совершенствования этой системы
явилась аналогическая унификация единственного и множествен-
ного числа прошедшего времени. Этим завершился уже в новоне-
мецком языке процесс смешения, лежащий в основе образования
германского претерита. Уже глаголы VI ряда (с чередованием
а — б), представляющие более позднее новообразование герман-
ских языков, не знают этого различия (готск. faran — for — fo-
rum— farans, нем. fahren — fuhr—gefahren). В западногерманских
языках к ним присоединяются глаголы VII ряда, в которых чере-
дование гласных основано на стяжении старой редупликации в пер-
фекте (др.-в.-нем. Ьецап 'heipen’ — hia^ — hia^um — gihei^an
и др.; ср. готск. haitan — прош. hai-hait, англосаксонская полу-
стяженная форма heht). В обоих названных рядах вокализм при-
частия II следует за настоящим временем. Процесс аналогиче-
ской унификации прошедшего в остальных рядах частично за-
хватывает и эту форму, достаточно выделенную в морфологиче-
ском отношении своим окончанием и префиксом ge-.
Ранее всего (уже начиная с XIII в.) наблюдается тенденция
к унификации 2-го лица единственного числа; оно выпадало из
грамматической системы гласным корня, совпадающим с множе-
ственным, а в случае умлаута — с оптативом прошедшего, и, кроме
того, необычным окончанием (ср.-в.-нем. stige, wiirfe и т. п.). Эти
архаические формы к концу XV в. вытесняются типом steigst,
warfst, с обычным вокализмом единственного числа и окончанием
2-го лица единственного числа -st, общим для всех прочих гла-
гольных форм. Противопоставление гласного единственного глас-
ному множественного (warf — wurfen) могло удержаться дольше
50
й быть использовано, как умлаут в существительных, в качестве
признака категории множественного числа. Фактически тип этот
еще господствует у Лютера и сохраняется довольно широко до се-
редины XVII в., а в местном употреблении изредка и в письмен-
ном языке более позднего времени. Однако именно в новонемец-
ком эта дифференциация становится по существу уже излишней,
поскольку категория множественного числа получает достаточно
отчетливое обозначение в именах существительных. К тому же
чередование гласных в прошедшем отсутствовало во всех слабых
глаголах, а также, как уже было сказано, в сильных глаголах
VI—VII рядов. Поэтому конечным результатом продолжительных
колебаний, характерных для письменного языка XVI—XVII вв.,
явилась окончательная унификация различия, по существу утра-
тившего функциональное значение.94
Процесс этот имеет, при более пристальном анализе, отнюдь
не «случайный» и «механический» характер. Направление анало-
гического развития подсказывается не механизмом пропорциональ-
ных «ассоциаций», а внутренней целесообразностью развития
грамматической системы.
Просмотрим с этой точки зрения все ряды средневерхненемец-
кого аблаута.
I. a) stigen — steic — stigen — gestigen,
6) lihen — lech — lihen — gelihen
(перед h, r, w др.-в.-нем. et > e).
В новонемецком i дифтонгизируется в at (орфогр. et), старое et
также переходит в at (написание сохраняется). Таким образом,
формы настоящего времени ich steig(e) и прошедшего ich steig
находятся под угрозой совпадения (омонимизма). Поэтому в про-
шедшем побеждаает форма множественного числа stigen (новонем.
stiegen), поддержанная причастием (gestiegen). Соответственно
этому во второй группе (крайне немногочисленной) изолирован-
ная форма lech заменяется lieh (по множественному числу и при-
частию).
II. a) biegen — bouc — bugen — gebogen,
6) bieten — bot —buten — geboten
(перед h и переднеязычными согласными др.-в.-нем.
ои б).
В группе Н-б форма единственного числа bot вытесняет форму
множественного buten при поддержке причастия (в новонемецком
с удлинением гласного в открытом слоге geboten). Соответственно
этому и в группе П-а побеждает форма на -б- (bog — bogen вместо
bouc — bugen), также поддержанная причастием (gebogen).
III. a) finden — fand — funden — gefunden,
6) beginnen — begann — begunnen — begunnen,
в) werfen — warf — wurfen — geworfen;
51
4*
1V. nemen — nam — namen — genomen;
V. geben — gap — gaben — gegeben.
Гласным прошедшего в группах IV—V является а, с распро-
странением долготы (по крайней мере в литературном произно-
шении) на односложные формы единственного числа. Это укрепляет
позицию а как признака прошедшего ив III ряду (fanden, begannen,
warfen вместо funden, begunnen, wurfen). Warf — geworfen,
nahm — genommen, begann — begonnen (в новонемецком и > о
перед двойным носовым) отныне образует общий тип.
В некоторых диалектах в ряде Ш-а побеждает форма множе-
ственного числа на и, поддержанная причастием, по типу fund —
funden — gefunden. На основе этого типа гласный и побеждает и
в ряде III: wurf — wurfen. В письменном языке до начала XVIII в.
конкурируют warf — wurf, warfen — wurfen, но побеждают окон-
чательно формы прошедшего на а.
Причастие на -о- открывает возможность дальнейшей унифика-
ции прошедшего с причастием по типу bot — geboten, bog — ge-
bogen. В некоторых глаголах III—IV рядов новое прошедшее на
-о-, образованное по аналогии с причастием, вытесняет старые
формы на -а-: ср. schmolz, quoll, schor, drosch, flocht, focht и др. (по
причастию geschmolzen, geflochten и т. д.). Частично прошедшее
и причастие на -о- (вместо старого прошедшего а — причастия
е) проникает и в глаголы V ряда: wob — gewoben, wog — gewogen,
pflog — gepflogen и др., — а также в изолированные глаголы
VI ряда (на -jariy. schwor — geschworen, hob — gehoben (вместо
старого прошедшего и — причастия а). Аналогия с рядами
III—IV поддерживается здесь настоящим временем на -е: (weben,
pflegen, leben как nehmen, schmelzen и др.). Следует отметить,
однако, что в этих новых рядах колебание между старыми и но-
выми формами способствует распространению конкурирующих
с ними слабых форм: например, pflegle, dreschte и т. п. (рядом
с pflog, drosch и т. д.).
В результате этого процесса огромное большинство сильных
глаголов имеет в настоящее время не только единую форму вока-
лизма прошедшего, но также совпадение гласного причастия II
либо с прошедшим, либо с настоящим. Немецкий глагольный аб-
лаут, за малыми исключениями, характеризуется противопоста-
влением настоящего и прошедшего.
Не менее показательны процессы унификации вокализма в оп-
тативе прошедшего времени. Как уже было сказано, категория
эта в составе форм сильного глагола отчетливо характеризуется
умлаутом, который воспринимается как основной ее признак.
Однако непосредственная связь умлаута в оптативе с основной
формой прошедшего индикатива может сохраниться лишь в том
случае, когда новая общая форма прошедшего закрепляет вока-
лизм множественного числа, с которым был связан оптатив (ряды
IV—V: nahm, gab — nahme, gabe). В прочих случаях существуют
52
две возможности: гласный оптатива либо отрывается от претерита,
либо меняется вместе с ним. Процесс этот также происходит пе
случайно и механически, а в силу внутренней целесообразности
аналогического развития. При этом наблюдается уже отмеченная
выше тенденция — устранить угрозу возможного грамматиче-
ского омонимизма там, где он мог бы явиться препятствием для
взаимного понимания: тенденция, несомненно связанная с совер-
шенствованием языка как средства общения. Так, в группе Ш-Ь
сохраняются старые формы wiirfe, hiilfe, оторвавшиеся от нового
прошедшего (warf, half), поскольку формы *warfe, *halfe, ориенти-
рованные на претерит, фонетически совпали бы с настоящим вре-
менем (werfe, helfe). Напротив, в группе Ш-а оптатив меняется,
следуя за претеритом (fande, sange вместо старых fiinde, siinge);
сохранению старой формы, по-видимому, препятствовала омони-
мия с настоящим на -Z- (finde, singe), поскольку почти на всей
территории верхненемецких говоров в результате делабиализации
и i.
То же относится к оптативу II ряда, имеющему в настоящее
время новую форму boge, bote вместо старой buge, bute. Послед-
няя в условиях той же делабиализации совпала бы с настоящим
biete, biege (ср.-в.-нем. ie > новонем. i). Оптатив на о, как и про-
шедшее на -о-, унифицированное с причастием, получил также
широкое распространение в глаголах III и V рядов (schmolze,
f]ochte, sponne, gewonne, также gewanne и др.). В глаголах на -е-
в настоящем форма на -д- устранила возможность совпадения
между оптативом и презенсом (ср. gelte — *galte, flechte —
*flachte и т. п.). Однако в диалектически окрашенном произно-
шении и формы на -о- в условиях делабиализации в этом смысле
находятся под ударом и широко вытесняются, как большинство
форм сильного оптатива, различными аналитическими модаль-
ными оборотами.
Фонетическое совпадение в слабых глаголах индикатива и оп-
татива прошедшего (ср. lebte — lebtest — lebten и т. д.) создает
предпосылку для широкого аналогического использования в ряде
диалектов суффикса слабого прошедшего -£-, как нового, более
отчетливого признака оптатива прошедшего сильных глаголов,
устраняющего двусмысленность старой формы. При этом в одних
диалектах сохраняется коренной гласный прошедшего (с умлаутом
или без умлаута), в других он вытесняется аналогически гласными
настоящего. Ср. 1-е л. ед. ч. бав.-австр.: halfet (совр. halfe),
sunget (совр. sange), springet (совр. springe), sprecht (совр.
spreche); южн.-франк.: nahmt (совр. nahme), gabt (совр. gabe)
и др.95
Таким образом, и здесь пути аналогической унификации весьма
разнообразны и внешне противоречивы, в зависимости от конкрет-
ных особенностей языкового материала, но всюду проявляется
внутренняя целесообразность развития системы в целом, устраняю-
щего различия форм, потерявшие семантическое значение (в про-
53
Шедшем, отчасти в Причастии), и вводящего новую формальную
дифференциацию (умлаут и аблаут в оптативе) там, где это под-
держивается различием значений.
5
Объяснение явлений аналогии «механизмом ассоциаций» при-
вело младограмматиков к утверждению, будто небольшие группы
особо употребительных слов дольше других сопротивляются ана-
логическим воздействиям больших грамматических групп, не
только сохраняя свои неправильности («аномалии»), но оказывая
(по принципу Бругмана) аналогическое воздействие на другие,
более многочисленные группы. Поэтому «неправильные» формы
склонения и спряжения свойственны по преимуществу наиболее
употребительным словам в языке (глагол быть, атематические
глаголы на -mi, супплетивные формы личных местоимений, степе-
ней сравнения некоторых прилагательных, таких глаголов, как
fero — tuli — latum — ferre и др.).
Согласно Паулю, «те формы меньше всего подвергаются опас-
ности быть вытесненными новообразованиями, которые сильнее
всего запечатлелись в памяти. . . Поэтому самые обычные слова
лучше всего сохраняют свою архаическую флексию, даже когда
они изолированы от других. В самых разных языках наблюдается
явление, что среди так называемых anomalia лишь в виде исключе-
ний попадаются редкие слова; напротив, к их числу относятся
наиболее необходимые элементы повседневной речи. И аномалия
их в том и заключается, что они не подчинились действию гос-
подствующей в остальных случаях тенденции к нивелировке
языка».96
С Паулем в этом вопросе вполне солидарен Крушевский, кото-
рый утверждает: «Очевидно, лучше будут пом-
ниться те слова, которые весьма часто
употребляются. . . Поэтому всегда и во всех грамматиках
наиболее употребительные слова, как быть, иметь, ходить,
есть,. . . человек, уши, очи,. . . я, ты, он,. . . хороший, дурной. . .,
представляют наибольшее число уклонений, неправильностей,
их формы отличаются наибольшей древностью, весьма часто
разнясь значительно друг от друга и от других форм, родствен-
ных с ними по функции. Чем же это объясняется? Только тем, что,
часто употребляя и потому твердо помня подобные формы, мы почти
не прибегаем к их производству, а воспроизводим их по памяти,
нисколько не заботясь о том, что они давно перестали гармони-
ровать с прочими формами нашего языка. . . Поэтому же русские
формы глагола идти образуются от трех разных корней: ид,
шед, ход; ср. aller — je vais — j’irai; ep/op-ai— — есрли пр. Дру-
гие примеры: e/wso^oo — е|<о, хороший — лучше, ауа&б; — dpLsivov dpio-
тос и т. п.».97
54
Со своей стороны и Вундт замечает (по поводу супплетивных
форм степеней сравнения), что употребление всегда дает старым
формам слов силу сопротивления, которая позволяет им не подчи-
няться выравнивающему воздействию ассоциации.98
Значительно позже Хирт в своей исторической грамматике
греческого языка в столь же категорической форме воспроизвел
это положение, ставшее за это время общим местом сравнительной
грамматики: «Чем чаще употребляется слово, тем больше уверен-
ности, что оно развивалось в соответствии с звуковыми законами,
так как оно было закреплено и передавалось по памяти (gedacht--
nisma[3ig iiberliefert). Поскольку, однако, закономерные звуковые
формы почти всегда бывают „неправильными11, то из этого яв-
ствует необходимость наличия таких „неправильностей11 в наиболее
употребительных словах языка». В качестве примера приводится
глагол существования (быпгь), неправильно образуемый во всех
языках, и греческие «смешанные» (т. е. супплетивные) глаголы
типа Зраа) 'смотрю’, асреа) "беру’, ёо/орсоа 'иду’, ё^а> 'имею’, <pspa>
'несу’ и др.99
В новейшее время эту аксиому младограмматической теории
еще раз без всякой критики повторил Вандриес: «Наиболее упо-
требительные глаголы на всех языках принадлежат к сильным,
т. е. неправильным. . . Они могут сопротивляться аналогии бла-
годаря своему частому употреблению, которое помогает им всегда
присутствовать в уме и не позволяет их изменить. . . Самый не-
правильный из всех — глагол быть, потому что он употребляется
чаще других».100
Легко понять ошибочность этого рассуждения, в котором сме-
шаны два вопроса: происхождение «неправильностей» и условия
их сохранения. Возникновение «неправильностей» в тех или иных
грамматических формах объясняется не частотой их употребления,
а условиями происхождения. В частности, так называемые суппле-
тивные основы глаголов, степеней сравнения, личных местоимений
пережиточно отражают первоначальную дифференцированность
в более конкретном мышлении таких понятий, которые в резуль-
тате дальнейшей работы мышления подвергаются логическому
обобщению. Мы (коллектив) первоначально не мыслилось как
множественное число от я; хорошо и лучше, много и больше пред-
ставляли различия не количественные, а качественные (т. е. не
были еще «степенями сравнения»), «простые» (по видимости)
глаголы типа fero — tuli — latum — ferre ' нести’ обобщили ряд
более частных значений не только видового, но и лексического
характера {поднять — брать — нести — принесшими т. п.). Гла-
гол существования, наиболее абстрактный из всех глаголов, дол-
жен был возникнуть таким же образом путем обобщения несколь-
ких глаголов с конкретным значением: таков, например, корень
*Ы1П в русск. быть, лат. fui; ср. греч. фбю 'расти5, др.-в.-нем.
buan (совр. Ьаиеп'жить’, 'обрабатывать (землю)’. Фонетический
характер имеют неправильности спряжения (есть — суть), свя-
55
занные с расположением ударения в атематических глаголах на
-mi и с дальнейшими ассимиляторными процессами.
Эти неправильности, по обстоятельствам своего происхождения
первоначально весьма значительные, отнюдь не консервируются
в языке в результате «частоты употребления», но, напротив,
именно в процессе употребления постепенно устраняются обычным
путем аналогической унификации. Ср. лат. sum по аналогии
с sumus, польск. jestem по аналогии с jest, ср.-в.-нем. 1-е и 2-е л.
мн. ч. sin, sin вместо др .-в .-нем. birum, birut по аналогии оптатива
(si) и 3-го л. мн. ч. sint, в новонем. 1-е л. мн. ч. sint по аналогии
с 3-м лицом множественного числа и др. В германских языках
одна из супплетивных основ глагола существования имеет «пра-
вильные» сильные формы (ср.-в.-нем. wesen — was — waren —
gewesen), которые обслуживают все времена, кроме настоящего,
и в средневерхненемецком проникают и в оптатив настоящего
(wese) и в императив (wis — так же в некоторых диалектах).
В прошедшем этого глагола, несмотря на его «употребительность»,
в новонемецком происходит обычная унификация единственного
и множественного (war — waren).
Вообще в германских языках вся категория атематических
глаголов на -mi, с самого начала представленная гораздо меньшим
числом слов, чем в греческом или в славянских языках, распа-
дается и выравнивается процессами аналогизации по общему типу
сильных глаголов. В новонемецком gen и sten становятся дву-
сложными по этому типу, по крайней мере в орфографической
нормировке и литературном произношении (gehen, stehen). Един-
ственная форма, сохранившая в 1-м лице старое окончание -т (-п),
в современном немецком языке — bin.
Новонемецкий язык устранил супплетивность степеней срав-
нения в ряде «употребительных» прилагательных (libel, mihhil,
liitzel), заменив их «правильными» образованиями (например,
wenig — weniger, schlecht — schlechter и т. п.). В средневерхне-
немецком встречаются дальнейшие аналогизации, не закрепив-
шиеся в литературном языке: например, guot — сравн. ст. guo-
ter — прев. ст. guotest, тег — прев. ст. merste (вместо meist);
во многих современных диалектах am merste (am meisten).
В диалектах супплетивное wir 'мы’ широко вытесняется mir
по аналогии с косвенными падежами единственного числа mir,
mich при содействии фонетической ассимиляции в энклизе типа
glauben wir. Соответственно этому, но значительно реже, dir
вытесняет ihr свы’.
Конечно, эти процессы, как и все прочие явления аналогиче-
ской унификации, совершаются медленно, без разрыва традиции
и революционных «взрывов», и там, где наличие больших непра-
вильностей в исходных формах создавало особенно значительные
объективные трудности, должно было сохраниться гораздо боль-
шее число'таких неправильностей.
Что касается широкой экспансии особо употребительных «не-
66
правильных» форм, то она не подтверждается никакими приме-
рами, кроме указанного еще Бругманом распространения в не-
которых языках 1-го лица единственного числа настоящего вре-
мени -mi, по образцу небольшой группы атематических глаголов,
на глаголы тематические, имеющие окончание -б. «Под влиянием
четырех старославянских глаголов древнеболг. есмъ, вгьмъ, дамъ,
ямъ в новословенском и новосербском глаголы всех классов имеют
в 1-м лице единственного числа настоящего времени окончание -т:
ср. слов, recem, delam, hvalim; сербск. pletem, pijem, djelam,
gorim. . . Итак — сотни форм по образцу четырех!» — восклицает
Бругман.101
Однако экспансия форм на -mi, засвидетельствованная неза-
висимо друг от друга во многих индоевропейских языках (в индо-
иранском — ср. санскр. bharami, в греческих диалектах, в армян-
ском, в древнеирландском, в некоторых, славянских и германских
языках), объясняется, по-видимому, не столько особой «употре-
бительностью» глаголов на -mi, сколько большей отчетливостью и
фонетической стойкостью этого окончания по сравнению с оконча-
нием -б, которое, не защищенное никакой согласной, легко может
подвергнуться редукции.102 В древневерхненемецком окончание
-б закрепляется во II и III группах настоящего времени слабых
глаголов, дифференцируя 1-е лицо единственного числа индикатива
от соответствующей формы оптатива: индик. salbom, habem —
опт. salbo, babe (по типу атематических глаголов индик. tuom,
stam — опт. tuo, sta). По той же причине оно распространяется
в других односложных стяженных глаголах: др .-в .-нем. gam —gem
(по аналогии stam — stem), ср.-в.-нем. Ian (из la^en), han (из
haben), — дифференцируя др.-в.-нем. индик. gam, gem — опт.
ga, ge, ср.-в.-нем. индик. Ian — опт. la и др. В западнонемецких
диалектах окончание -еп, начиная с позднего древневерхненемец-
кого,103 постепенно становится общим признаком 1-го лица всех
глаголов, не только в настоящем, но в некоторых диалектах и
в прошедшем (ср.-франкск. ech stiehn, ech biden, ech woaren, ech
hatten, ech ]iefen и т. д.).101 Это такой же пример широкого анало-
гического использования характерного функционально дифферен-
цированного окончания немногочисленной грамматической группы,
как русское -ов в родительном падеже множественного числа или
немецкое -ег во множественном числе среднего рода. Немецкий
литературный язык пошел, однако, по другому пути, удержав
(вопреки фонетической редукции в верхненемецких диалектах)
незащищенное -е как признак 1-го лица единственного числа на-
стоящего времени (ich nehme, gebe, setze и т. д.) и распространив
его на глагольные основы со старым конечным -т (salbe, habe,
gehe, stehe и др.).
Наглядным примером широкого развития аналогических про-
цессов в первоначально обособленной и весьма употребительной
грамматической группе могут служить в немецком языке так назы-
ваемые претерито-презентные глаголы.
57
^Основной особенностью этой группы является образование
настоящего времени по типу старого сильного прошедшего с чере-
дованием гласного в единственном и множественном числе: ср.
ich wei[3 — wir wissen. Возникновение этой категории, предста-
вленной (частично одинаковыми словами) во всех индоевропей-
ских языках, объясняется первоначальным значением сильного
перфекта как результативного вида, обозначающего законченное
действие, результат которого наличествует в настоящем. Поэтому
из перфекта может развиться настоящее время — прежде всего
в глаголах со значением «душевного состояния» (verba sentiendi
в широком смысле), в которых результат законченного в прошлом
действия всегда непосредственно наличествует в настоящем:
я узнал — следовательно, я знаю (греч. otoa — готск. wait), я запом-
нил— следовательно, я помню (лат. memini) и т. п. Значительная
часть глаголов этой группы обозначает желание, необходимость,
возможность, т. е. имеет модальное (субъективное) значение.
В настоящем времени претерито-презентных глаголов вока-
лизм единственного и множественного числа различается по
видам аблаута, как в сильном прошедшем: ср. др .-в .-нем. wei^ —
wi^um (готск. wait — witum), kann — kunnum, seal — sculum
и др. Однако в некоторых глаголах уже в древневерхненемецком
это различие отсутствует, частично — закономерно (VI ряд muo^—
muo^um), частично — в результате унификации (V ряд mag —
magun или mugun). С потерей перфектом видового значения и
переходом его в настоящее время к этому настоящему (образо-
ванному от формы множественного числа) создается новое, ана-
логическое прошедшее при помощи универсального средства —
дентального суффикса со значением претерита, чем кладется на-
чало подчинению этой изолированной группы общему морфоло-
гическому типу: ср. готск. kuntha, skulda. При этом возможны
различные формы ассимиляции: готск. wait — прош. wissa
(tt >$$), mag — mahta; в немецком языке обычно так называе-
мое преломление (переход и > о, i > е под влиянием последую-
щего широкого гласного а): ср. darf — durfum — dorfta; seal —
sculum — scolta (sollte); kann — kannum — konda; wei^ — wi/-
?um — wessa. Рядом с формами wessa и muosa, утратившими харак-
теристику прошедшего (tt ss), уже рано появляются аналоги-
ческие формы на -t- (westa, muosta), а также с унификацией глас-
ного по настоящему (wissa, wista). Последнее слово, одно из самых
«употребительных», оказывается, таким образом, едва ли не ранее
других подверженным аналогии.
Инфинитив, который в германских языках всегда образуется
как глагольное имя от основы презенса, является также общегер-
манским аналогическим новообразованием с вокализмом множе-
ственного числа: др.-в.-нем. wi^an (готск. witan), kunnan, durfan
и т. д. Это новообразование свидетельствует о дальнейшем подчи-
нении претерито-презентных глаголов господствующему грамма-
тическому типу.
58
Число глаголов этой группы, ввиду ее «аномального харак-
тера», непрерывно сокращается: в готском их 13, в древненемец-
ком 11, многие являются недостаточными или представлены от-
дельными формами. В новонемецком вышел из употребления рас-
пространенный глагол turren е durfen’ (англ, to dare); taugen и
gonnen унифицировались полностью по обычному типу слабых
глаголов без чередования вокализма, также и глагол sollen,
который сохранил от своего прошлого только форму единствен-
ного числа настоящего временп без обычного -t (soil), поддержан-
ную смысловой аналогией с wollen (will). В составе группы оста-
ется всего 6 глаголов.
Решающим в дальнейшем развитии этих глаголов явился их
модальный характер. Умлаут, как признак наиболее четко выра-
женной в немецком языке модальной категории (оптатива про-
шедшего со значением ирреального в сильных глаголах), присут-
ствовал в претерито-презентных глаголах в оптативе настоящего,
образованного по типу сильного прошедшего (diirfe, копне,
miisse — из др.-в.-нем. durfi, kunni, muo^i). В оптативе прошед-
шего, оформленного по типу слабых (с дентальным суффиксом),
он появляется в средневерхненемецком (dorfte, kunde, nriieste >
новонем. durfte, konnte, miisste), одновременно проникая и в мно-
жественное настоящего индикатива и в созвучный с ним инфини-
тив (новонем. durfen, konnen, mussen, mogen).
Наиболее показательным для развития всей этой модальной
группы в новонемецком является форма оптатива прошедшего
mochte, которая в настоящее время обособилась по значению от
глагола mogen и воспринимается как модально окрашенное на-
стоящее время: ich mochte ся хотел бы’ в значении ся хочу’. Судьба
этой формы повторяет ход развития старого глагола желания icli
will (готск. wiljau, др.-в.-нем. willu), представляющего по своему
происхождению такую же форму желательного наклонения (оп-
татива прошедшего), которая употребляется в значении индика-
тива настоящего. Как модальный по своему значению, глагол
wollen (др.-в.-нем. wellen) развивается в новонемецком по типу
sollen; тем самым он и в формальном отношении присоединяется
к группе претерито-презентных глаголов.
Диалекты свидетельствуют о дальнейшем распространении
умлаута в единственном числе настоящего времени всех модаль-
ных глаголов: ср. ik mot (ich muss), ich darf, ich mog, ich soil
(sollen) и др.10э
В связи с закреплением умлаута в инфинитиве п в настоящем
времени прошедшее этих глаголов (при сопоставлении с настоя-
щим) как бы получает характер так называемого обратного ум-
лаута (Riickumlaut): ср. mussen — musste, konnen — konnte;
по этому образцу выравнивается и durfen — durfte (вместо ста-
рого dorfte с преломлением). Напротив, от mochte образуется но-
вый инфинитив mogen (вместо старых mugen или magen). Можно
полагать, что форма wu|Jte (вместо старых wiste. weste) является
59
таким же обратным умлаутом от wissen, образованным по новому
общему типу в условиях обычной в верхненемецких диалектах
делабиализацииu > i (ср. вместо miissen > missen, прош. muPte).
2-е лицо единственного числа всех глаголов этой группы,
которое в средневерхненемецком еще сохраняло старое перфектное
окончание -t (solt, darft и т. п.), выравнивается по общему типу
«правильного» немецкого спряжения и получает окончание -st
(sollst, darfst и т. д.).
Весь этот сложный процесс совершается в основном средствами
грамматической аналогии, несмотря на широкую употребительность
этой категории глагола. В итоге с утратой видового характера,
обусловившего их первоначальное своеобразие, так называемые пре-
терито-презентные глаголы постепенно включаются в общий тип
немецкого спряжения, сохраняя и вырабатывая вместе с тем и
некоторые специфические формальные признаки, объединяющие
в настоящее время эту маленькую группу как особую категорию
глаголов модальности.
* * *
Таким образом, так называемая грамматическая аналогия
представляет собою отнюдь не хаос случайных, разорванных язы-
ковых фактов, вступающих между собой в механические ассоциа-
тивные связи, и вместе с тем, разумеется, не результат намеренной
и сознательной индивидуальной инициативы. Это сложный и
противоречивый диалектический процесс в развитии грамматиче-
ского строя данного языка, совершающийся по внутренним за-
конам его развития.
Прогрессивный характер и внутренняя целесообразность
этого процесса определяются его ролью в улучшении граммати-
ческих правил и тем самым в развертывании и совершенствовании
грамматического строя данного языка как орудия общенпя людей.
1954 г.
О ПРИРОДЕ ЧАСТЕЙ РЕЧИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИИ
1. Вопрос о частях речи как о классах или разрядах слов —
один из наиболее давних в языкознании; тем не менее он до сих
пор не может считаться решенным — ни в смысле их состава, ни
в отношении самих принципов классификации.
Об этом наглядно свидетельствует дискуссия о частях речи,
организованная в 1954 г. в Москве Институтом языкознания
АН СССР, на которой в качестве чемпионов двух борющихся
направлений — грамматического и лексико-грамматического —
выступали профессора А. Б. Шапиро и Н. С. Поспелов.1 О том же
говорит в особенности та скептическая оценка традиционной клаС’
60
сификации, которая нашла отражение на этой сессии в докладе
проф. М. И. Стеблин-Каменского.2 Докладчик указал на логиче-
скую непоследовательность традиционной (так называемой «школь-
ной») классификации, на отсутствие в ней единого принципа деле
ния: например, имена существительные, прилагательные, глаголы
выделены по одному принципу, числительные и местоимения —
по другому.
В свое время, еще в 1920-х годах, сходные критические со-
ображения с неменыпей решительностью выдвигались в боевой
брошюре ученика В. Мейера-Любке, австрийского романиста
Т. Калепки.3 В русской дореволюционной науке значительно
раньше тот же вопрос был поставлен в лекциях и статьях акад.
Ф. Ф. Фортунатова и в работах его учеников. Как известно, Фор-
тунатов утверждал, что части речи в «школьной грамматике»
выделяются частично по формально-грамматическим признакам,
частично по признакам их значения, частично (предлоги, союзы,
неоформленные наречия) по синтаксической функции. «То деление
на части речи, которое принято в наших грамматиках (и перешло
к нам от древних языковедов), — учил Фортунатов, — предста-
вляет смешение грамматических классов слов с неграмматиче-
скими их классами и потому не может иметь значения».4
Между тем классификация объектов науки, существующих
в реальной действительности, в природе или в обществе, на самом
деле вовсе не требует той формально-логической последователь-
ности принципа деления, которая необходима для классификации
отвлеченных понятий. Она требует только правильного описания
системы признаков, определяющих в своей взаимосвязи данный
реально существующий тип явлений.
Возьмем в качестве примера классификацию биологических
типов, их классов и отрядов, видов и подвидов. В зоологии тип
позвоночных животных делится на классы млекопитающих, птиц,
пресмыкающихся, земноводных и рыб. В этой реальной класси-
фикации нет единого логического принципа деления, который
отличал бы один класс от другого; между тем она не требует за-
мены классификацией по строго выдержанному абстрактному
«дихотомическому» принципу, скажем: млекопитающие — не-
млекопитающие и т. п. В ботанике, напротив, первая научная
классификация растений, «система Линнея», была построена на
строго выдержанном признаке деления (по числу тычинокв цветке).
Однако, несмотря на свою формально-логическую последователь-
ность, система эта оказалась не соответствующей реальной дей-
ствительности, потому что объединяла в пределах одной класси-
фикационной группы растения, разнородные по системе своих
признаков и не связанные между собой генетически. В настоящее
время семейства растений — крестоцветные, розоцветные, пасле-
новые, норичниковые, сложноцветные и т. п. — определяются
не одним, а совокупностью морфологических признаков, частично
между собою перекрещивающихся, которые соответствуют реаль-
61
ным связям объективной действительности, хотя и не уклады-
ваются в отвлеченную логическую схему (типа сложноцветные —
несложноцветные).
То же относится и к явлениям общественным.
В классовой структуре капиталистического общества буржуа-
зия и пролетариат противопоставлены как классы антагонистиче-
ские; но дворянство и крестьянство входят в эту классификацию
по реальным социально-историческим основаниям, а не в порядке
единого для всех общественных классов логического признака
деления.
Такой характер имеют в литературоведении исторические
понятия больших сменяющих друг друга литературных направле-
ний и стилей: классицизм — романтизм — критический реализм—
модернизм — социалистический реализм. Типологическое деле-
ние всей мировой литературы на два антагонистических стиля
классицизма и романтизма («классицизм и романтизм, или завер-
шенность и бесконечность», как формулировал когда-то это про-
тивопоставление немецкий литературовед Ф. Штрих),2 * * 5 или на
романтизм и реализм, или в настоящее время на модернизм и
социалистический реализм, справедливо вызывает, несмотря на
свой безукоризненный «логический» характер, скептическое от-
ношение более серьезных литературоведов и критиков.
Такой же реальной, а не логической классификацией является
выделение частей речи как действительно существующих в языке
классов слов, определяемых совокупностью (точнее — с и с т е-
м о й) признаков, частично между собою перекрещивающихся.
Поэтому есть полное основание считать, что классы слов, устано-
вленные традиционной (так называемой «школьной») классифика-
цией частей речи, в основном соответствуют реальной действи-
тельности (по крайней мере для языков типа европейских) и могут
служить достаточно твердой отправной точкой для дальнейшего
изучения этой проблемы.
2. Традиционная классификация, восходящая, с незначитель-
ными уточнениями и дополнениями, к античным грамматическим
теориям, различает, как известно, следующие части речи: 1) имя
существительное; 2) имя прилагательное; 3) местоимение;
4) числительное; 5) глагол; 6) наречие; 7) предлог; 8) союз;
9) междометие, к которым присоединяется 10) артикль (в тех язы-
ках, которые имеют таковой).
Из этих частей речи одни являются изменяемыми, другие —
неизменяемыми: признак деления, не одинаковый для разных
языков, следовательно — не присущий той или иной части речи
как таковой. Например, прилагательное и артикль в англий-
ском языке неизменяемы, в большинстве других европейских
языков изменяемы; в тюркских и ряде других неиндоевропейских
языков неизменяемость является как раз основным морфоло-
гическим признаком, которым прилагательные отличаются от
62
омонимических с ними существительных (ср. кок 'небо’, скло-
няемое существительное — кок 'синий’, неизменяемое прилага-
тельное).
По другому признаку, если исключить междометия, занимаю-
щие особое положение как класс «эмоциональных сигналов» (вы-
ражение В. В. Виноградова),6 одни части речи являются знамена-
тельными, другие — служебными (как предлоги, союзы, артикли).
Различие между знаменательными и служебными словами имеет
принципиальное значение для теории слова. Служебные слова
в функциональном отношении приближаются к морфемам и те-
ряют некоторые признаки, присущие словам знаменательным: 7
они имеют по преимуществу грамматические функции, отличаются
отсутствием прямой предметной соотнесенности, ослабленным
вещественным значением, не употребляются самостоятельно (не-
смотря на лексико-морфологическую «выделяемость»), ослаблены
и в фонетическом отношении, прислоняясь к соседнему знамена-
тельному слову в акцентном и других отношениях. Однако служеб-
ными словами могут быть и вспомогательные или полувспомога-
тельные глаголы и некоторые местоимения и наречия, выступаю-
щие в синтаксической функции союзов.
Сложным является положение в этой классификации местоиме-
ний и числительных. Буслаев относит их к «служебным словам»,
означающим «отвлеченные понятия и отношения лица говорящего
к слушающему и к предмету речи», вместе с предлогами и сою-
зами.8 Против этого возражал Потебня, справедливо утверждая,
что «не всякая отвлеченность есть формальность». «Местоимения,
кроме некоторых случаев, означают не отношения и связи, а явле-
ния и восприятия, но обозначают их не посредством признака,
взятого из круга самих восприятий, а посредством отношения
к говорящему, т. е. указательно».0
Сходной является точка зрения на положение местоимений
в системе частей речи, недавно изложенная Е. Куриловичем:
он сохраняет в основном традиционную классификацию, включая
в части речи — «в более широком смысле» — «формы минималь-
ным образом свободные» (т. е. знаменательные слова) и «формы
связанные» (т. е. служебные слова); внутри первой категории он
противопоставляет словам с «символической функцией» («основные
части речи»: глагол, существительное, прилагательное, наречие)
слова с функцией «дейктической» (т. е. указательной — место-
имения).10
Со своей стороны я полагаю, что обстоятельство, отмеченное
Потебней, заставляет отнести местоимения и числительные (из
которых последние, как «счетные слова», можно рассматривать
как разновидность местоимений) к словам «полуформальным»:
например, я или ты, этот или тот соотнесены с предметом, но
обозначают его по отношению к говорящему, к субъекту речи.
Однако в результате грамматизации местоимения очень легко
превращаются в слова в собственном смысле формальные («слу-
63
жебные»), чему способствует отвлеченный характер их значения;
например, местоимение указательное тот и неопределенное чис-
лительное один — в артикли, определенный и неопределенный,
личное местоимение — в обязательный показатель лица при
глаголе, вопросительное — в относительный союз и т. п. При та-
кой «грамматизации» как бы усиливается присущий местоимению
формальный аспект.
По своей грамматической форме и предметной соотнесенности
местоимения могут быть существительными (я, ты), прилагатель-
ными (jhozz, этот), наречиями (там, тут, так). Иными словами,
признаки деления на имена и местоимения и на существительные,
прилагательные, наречия с логической точки зрения, как ука-
зывалось неоднократно, перекрещиваются. Однако это обстоя-
тельство не делает порочной реальную классификацию частей
речи как самостоятельных разрядов слов, существующих в
языке.
Это подтверждается и с морфологической точки зрения тем
обстоятельством, что местоимения и числительные — как в индо-
европейских языках, так и в ряде других — обнаруживают особые
самостоятельные типы словоизменения (а иногда и словообразова-
ния), обычно очень древние по своему происхождению и доста-
точно стойкие, что подтверждает правильность их выделения в осо-
бый класс слов не только по их значению, но и с точки зрения грам-
матической.
3. Состав частей речи в грамматических работах нового и но-
вейшего времени колеблется,'нередко пополняясь новыми, «нетра-
диционными». Остановимся кратко на некоторых из них.
1) Вряд ли есть основание выделять в особые части речи при-
частия, деепричастия и инфинитивы, несмотря на их смешанный,
глагольно-именной характер, о котором будет сказано ниже
(см. с. 76). Они включены в систему глагольного словоизменения
как особые (именные) формы глагола — глагольные прилагатель-
ные, наречия, существительные.
За последнее время русские грамматисты стали выделять в осо-
бые категории некоторые группы слов, не укладывающиеся, по
их мнению, в рамки старой классификации: частицы, модальные
слова, так называемую «категорию состояния».
2) «Частицы» (лат. particulae) были выделены уже древними
грамматистами и действительно представляют грамматическое
образование особого рода, занимающее промежуточное место
между служебными словами и морфемами как частями слова
(ср. русск. эюе, ли, бы и др.). С теми и другими они сближаются
отсутствием лексической самостоятельности и грамматической
функцией; но в отличие от морфемы как части слова они обычно
сохраняют известную подвижность и не имеют структурной связи
с определенным словом; в то же время, подобно морфемам, они
не обладают даже тем минимумом лексического содержания, ко-
64
торое имеют предлоги и союзы (<?, на, и, или и др.) как слова,
хотя и служебные.11
3) Модальные слова были выделены В. В. Виноградовым как
особый «класс» или «структурно-семантический тип» слов.12 Сюда
отнесены частицы, слова и фразеологические группы с модальным
значением действительности или недействительности, возможности,
необходимости, долженствования, представляющим лексико-семан-
тический эквивалент модальным формам глагола (наклонениям).
В синтаксическом смысле они отличаются тем, что относятся не
к отдельному слову (как обычно наречия, с которыми они часто
совпадают по форме), а к предложению в целом. «Они стоят, —
пишет В. В. Виноградов, — вне связи с какими-нибудь определен-
ными частями речи. Они выражают модальность высказывания
в целом или отдельных его компонентов».13 Результатом такого
отсутствия связи является более или менее заметное синтаксиче-
ское обособление, ср.: Это просто были крестьянские ребята, . .
Я едва ли завтра уеду, , ; при более значительном обособлении
мы имеем «вводное слово» или даже «вводное предложение»:
Он начал, по-видимому, утомляться, , , Возраст, так сказать,
критический, . , Я, кажется, человек честный, , . Он, видите ли,
очень занят и др.
Большой материал, собранный В. В. Виноградовым, имеет
в морфологическом отношении очень пестрый характер. Сюда
отнесены модальные частицы: ведь, чай, мол, де (дескать)', гла-
голы: кажется, разумеется, говорят, признаюсь, видишь', наречия
и сходные с ними краткие формы прилагательных среднего рода:
решительно, действительно, следовательно, конечно, возможно',
словосочетания, в разной степени превратившиеся в фразеологизм:
может быть, собственно (откровенно) говоря, так сказать, в са-
мом деле, в конце концов', другие, менее отчетливые по форме
группы и т. д.
Критику общей концепции В. В. Виноградова правильно дал
И. И. Мещанинов. «Далее из этого ограниченного числа примеров
видно, что в состав модальных слов попадают самые разнообраз-
ные представители речи и притом с самым разнообразным синтак-
сическим значением и построением. . .». Такие слова, как говорят
ит. п., «представляют собою не особую часть речи, а уже хорошо
известную и богато представленную в языке. В частности, говорят
есть глагол в 3-м лице множественного числа с неопределенно-
личною семантикою, ср. Мне говорят, что этот вывод имеет
свои основания. Таким он остается и в позиции вводного члена
предложения. Здесь (ср. Он, говорят, долго работал) глагол по-
лучает семантический оттенок общей характеристики всего выска-
зывания. Но этим своим оттенком он обязан не своему переходу
в другую часть речи, а синтаксическому положению в строе пред-
ложения. Он получает такой оттенок не потому, что обращается
в модальное слово, а потому, что выступает вводным членом
предложения».14
5 В. М. Жирмунский
65
То же относится и ко всем остальным группам «модальных
слов и частиц». Ведь и мол остаются частицами, кажется и видишь —
глаголами, собственно говоря и в самом деле — словосочетаниями;
слова типа решительно, собственно, действительно должны рас-
сматриваться как модальные наречия, близкие к наречиям обстоя-
тельственным, но отличающиеся от них синтаксически — своим
отношением к предложению в целом, а не к отдельному слову.
Модальные слова представляют, согласно определению самого
В. В. Виноградова, «отдельный лексико-семантический» (а не лек-
сико-грамматический) «разряд слов».15 Никаких признаков мор-
фологизации этого разряда мы усмотреть не можем. Модальные
слова несомненно заслуживают внимания исследователя, но не
как особая часть речи, а как лексический эквивалент граммати-
ческих выражений модальности (наклонений, полувспомогатель-
ных модальных глаголов).
4) Вопрос о «категории состояния» как об особом разряде
слов в русском языке был впервые поставлен Л. В. Щербой,
очертившим круг относящихся сюда фактов, хотя, со свойствен-
ной ему научной осмотрительностью, он воздержался от каких-
либо категорических суждений.16 Гораздо более решительно выска-
зывался по этому вопросу В. В. Виноградов, признавший кате-
горию состояния в русском языке особой частью речи,17 и эта
категория в исчерпывающе подробном описании В. В. Виногра-
дова представляется с морфологической точки зрения очень пе-
строй. Речь идет в основном о кратких формах прилагательных
и причастий {рад, доволен, должен9, взволнован, обязан), о наречиях
{завидно, печально, холодно, больно) и об «обеспредмеченных»
существительных {пора, время, недосуг), выступающих в роли
именных предикативов при глагольной связке, частью в безлич-
ных, частью в личных конструкциях, с общим значением «состоя-
ния» (в очень широком смысле).18 «Слова из категории состояния»,
согласно В. В. Виноградову, «по внешнему облику отличаются
от прилагательных и существительных отсутствием форм склоне-
ния и наличием форм времени, от наречий — формами времени
и неспособностью качественно определять глагол или прилага-
тельное».19 Выделяемые в основном в одну группу по своей син-
таксической функции, эти именные и наречные предикативы
обнаруживают признаки вербализации («атрофия склонения»
у кратких прилагательных, превращение существительного в не-
склоняемое слово, приобретение форм глагольного управления —
способности иметь при себе дополнения и обстоятельства и со-
четаться с инфинитивом).
Очень интересные аналогии подобной вербализации именных
предикативов, преимущественно с модальным значением, были со-
браны проф. А. В. Исаченко в древнегреческом, латинском, ро-
манских и славянских языках.20 Ср. греч. (Ьра сущ. 'время года’,
'час’—предик, 'пора’; ауаухт] сущ. 'необходимость’—предик, 'не-
обходимо’; ХР'Л сущ. 'необходимость’, 'потребность’—предик, 'не-
66
обходимо’, 'нужно’, откуда вербализованные формы: безл. глаг.
конъюнкт., /реет] опт., инф.; лат. potis, ро!еприл. 'могу-
чий’, емощный’ (от существительного — ср. др.-инд. patih 'хо-
зяин’, 'властелин’) — potis est 'он может’ ('в состоянии’), откуда
с вербализацией potest (из potis est) наст. вр. 3-е л. ед. ч., possum
наст. вр. 1-е л. ед. ч., posse инф., potui перф.; итал. bisogna сущ.
'дело’, 'работа’ — bisogna предик, 'необходимо’, отсюда с верба-
лизацией: bisognava имперф. 'необходимо было’, bisognara
буд. вр.'необходимо будет’, bisognare инф., безл. глаг.; сербск.
треба (от сущ. *treba) — с вербализацией требало 'надо было’
и др.
В таком языке как русский, где именной предикатив в настоя-
щем времени обычно употребляется без глагольной связи, он тем
самым несет на себе всю тяжесть предикативного значения, и
процесс вербализации выступает особенно очевидно, однако мор-
фологическая пестрота этой группы, смущавшая уже Л. В. Щербу,
и незаконченность процесса вербализации не позволяют утвер-
ждать, что «категория состояния» оформилась в особую часть речи,
хотя выделение этой группы слов (как и слов модальных) пред-
ставляет для исследователя языка бесспорный интерес.21
5) Некоторые исследователи алтайских и палеоазиатских язы-
ков склонны выделять как особую часть речи так называемые
«образные слова».22
Я остановлюсь на материалах В. 3. Панфилова по нивхскому
языку .Согласно В. 3. Панфилову, это неизменяемые слова, кото-
рые, «употребляясь в различных синтаксических функциях, всегда
сохраняют в предложении значительную долю самостоятельности
и предикативности». Часто они бывают удвоенными. Значительное
место среди них занимают звукоподражательные слова, в зави-
симости от фонетических средств данного языка являющиеся
«лишь приблизительными копиями соответствующих звуков дей-
ствительности». Будучи связанными со слуховыми образами, они
отражают «различного рода звуки, производимые теми или иными
предметами», например: гонг гонг 'подражание гулкому низкому
и сочному звуку’, hoeo 1гэво 'подражание звуку пыхтения, тяжелого
дыхания при ходьбе’, кэ% кэ% 'подражание визгу животного’,
q'am'a q'am'a 'подражание звуку, издаваемому при стуке желез-
ных предметов друг о друга’ и мн. др. Образные слова могут
быть также «связаны со зрительными образами»; тогда они отра-
жают «характер движения предметов», например: 1гокл Ьокл 'хро-
мая’, haea haea 'попеременно то открывая, то закрывая рот’,
п'ир п'ир 'кружась, вертясь’, п'лавлав п'лавлав 'поблескивая’
и мн. др. Синтаксическое употребление иллюстрируют следующие
примеры, перевод которых дается В. 3. Панфиловым так: к'ыск-
HOHq т'арк 'кошка — прыг’; иф ршыт'па q'aф 'когда он закры-
вал дверь, хлопнул’ (букв, 'хлоп’); п'сылм заба чаф, п'фыт заба
п’рых 'когда в ладони ударила — хлоп, когда по переднику уда-
рила — шлеп’; иногда «в сочетании с вспомогательным глаголом
67
5*
hag'i завершающим предложение»: hooqopom п’ сонгр н' эу had'
'потом по своей голове ударив, шлепнул’ (букв, 'шлеп так’);
вапак к'лы opqmox мыд': q'adp q'adp had' 'его тесть слушает, что
снаружи: царап-царап, так’ и др.
С точки зрения индоевропейских языков, в первую очередь
русского, образования этого типа представляют особую катего-
рию междометий, которую выделил Шахматов, обозначив ее тер-
мином «глагольные междометия». «Это такое название глаголь-
ного признака, которое в своей звуковой форме обнаруживает
стремление говорящего воспроизвести в нем хотя бы условно
звукоподражание, напоминающее или указывающее на быстроту,
резкость произведенного действия».23 В. В. Виноградов, рас-
сматривающий этот вопрос вслед за Шахматовым, называет междо-
метия такого рода «эквивалентами глагола».24 Такое название
оправдывается, с одной стороны, этимологическими связями
между этой категорией междометий и глаголами, с другой сто-
роны — той «значительной долей предикативности», о которой
говорит В. 3. Панфилов, связанной с значением мгновенного дей-
ствия. Академическая грамматика сообщает по этому вопросу
следующее: «Переходную группу между междометием и глаголом
составляют глагольные междометия, особые неизменяемые слова,
по своей форме совпадающие с звукоподражательными междоме-
тиями и употребляющиеся в предложении в роли глагольного
сказуемого в значении прошедшего времени: бах, бац, бух, бул-
тых, тиск, трах, хвать, хлоп, шасть, шварк, щелк и др. Обозна-
чая мгновенно совершившееся действие, глагольное междометие
своей формой условно воспроизводит звук, напоминающий
быстроту и резкость движения». Примеры: Тихохонько
мебвебя толк ногой. . . И вбруг бедняжку цап-царап
и др.25
Несомненно, нивхское кошка — прыг, если судить по перево-
дам, относится к той же грамматической категории, как русские
глагольные междометия типа И вбруг бедняжку цап-царап,
и, следовательно, не требует выделения в особую часть речи, если
только не считать это необходимым и для русского языка. Разли-
чие заключается только в том, что в русском языке такие формы
являются единичными, тогда как в нивхском или нанайском они
имеют массовый характер. Но это относится не к грамматическим
особенностям этого разряда слов, а к их употреблению, к стилю
речи, образной и экспрессивной, может быть — к особенностям
психологии языка, отраженным в речи, отличающейся чертами
подобной образности и экспрессивности на более ранних ступенях
культурного развития.
Таким образом, из перечисленных разрядов слов, относимых
некоторыми современными исследователями к особым «частям
речи», мы считаем оправданным только выделение категории
«частиц». Можно, как мне кажется, согласиться с тем, что во всех
разобранных случаях под новыми терминами действительно скры-
68
ваются существенные группы слов, недостаточно выделявшихся
в прежних грамматических описаниях, — иногда более существен-
ные для того или другого языка. Однако возведение этих явлений
в ранг особых частей речи отнюдь не обязательно для их правиль-
ного описания.
4. Русские грамматисты, примыкающие к школе акад. В. В. Ви-
ноградова, рассматривают части речи как лексико-грамматические
разряды слов.26 Это определение, которое будет обосновано ниже,
восходит ко взглядам ленинградской лингвистической школы
И. А. Бодуэна де Куртенэ и Л. В. Щербы.
Иначе подходила и подходит к этому вопросу московская
школа Ф. Ф. Фортунатова, которая рассматривала и рассматри-
вает части речи как категорию чисто грамматическую (точнее —
морфологическую). Фортунатов говорил о частях речи как о грам-
матических классах слов, выступая, как было сказано выше
(с. 61), против «ошибочного» смешения в традиционной («школь-
ной») классификации «грамматической» точки зрения с точкой
зрения «неграмматической». В обширном разделе курса сравни-
тельного языковедения, посвященном частям речи, Фортунатов
дает их классификацию с последовательно «грамматической или
формальной» точки зрения.27 Слова делятся на «изменяемые» и
«неизменяемые»; среди «изменяемых» различаются слова «спря-
гаемые» («глаголы в тесном смысле этого термина»), слова «скло-
няемые» («существительные») и слова склоняемые, «имеющие кроме
того и формы словоизменения в роде» (прилагательные); наре-
чия, также выделяемые Фортунатовым как особый класс слов,
будучи «неизменяемыми», имеют, однако, формы словообразо-
вания.
Внутренние противоречия «морфологизма» Фортунатова, обна-
руживающиеся в результате столкновения безупречной с «логи-
ческой» точки зрения классификации со сложностью и противо-
речивостью самой объективной действительности, особенно отчет-
ливо сказались в теоретических высказываниях ближайших
учеников Фортунатова — В. К. Поржезинского, Д. Н. Ушакова,
М. Н. Петерсона. Так, в известном учебнике по введению в языко-
ведение Д. Н. Ушакова,28 содержащем «грамматическую или
формальную» классификацию частей речи в русском языке, в ка-
тегории слов «несклоняемых», рядом с предлогами, союзами и
междометиями, стоят такие несклоняемые существительные как
кенгуру. К словам «только с формами словообразования», наряду
с наречиями, оказались отнесенными сравнительная степень при-
лагательных, деепричастия, инфинитивы. К «словам с формами
изменения в роде, но без склонения» («родовым словам», по терми-
нологии М. Н. Петерсона)29 причисляются, рядом с краткими
прилагательными, формы прошедшего времени русских глаголов —
взял, взяла, взяло, — оторванные таким образом от общей системы
глагольного спряжения.
69
Таким образом, в логически безупречной грамматической клас-
сификации реально связанное в языковой действительности ока-
залось разъединенным, реально различное — объединенным по
чисто внешним признакам.
Существенно и то обстоятельство, что к другим типам языков,
отличных от русского, эта морфологическая классификация не-
применима. Она не подходит, например, для английского или
для тюркских языков, где, как уже было сказано, прилагатель-
ные являются словами неизменяемыми и не имеют ни склонения,
ни родовых признаков. Она может даже подсказать неправиль-
ную мысль (которая неоднократно высказывалась), будто в тюрк-
ских (или в монгольских) языках не существует вообще катего-
рии прилагательных ввиду отсутствия в них слов с морфологи-
ческими признаками этой категории, указанными в классификации
Фортунатова (см. ниже, с. 73 сл.).
Критика морфологизма фортунатовской школы в остроумной
и меткой форме дана в известном парадоксе Л. В. Щербы: «Впрочем
едва ли мы потому считаем стол, медведь за существительные,
что они склоняются: скорее потому мы их склоняем, что они суще-
ствительные».30 О правильности этого положения свидетельствует
тенденция к склонению заимствованных, первоначально нескло-
няемых существительных, например просторечные формы от слова
пальто, не имеющего форм склонения в русском литературном
языке: им., вин. п. мн. ч. пбльта, род. п. ед. ч. пальто, и т. п.;
фамилия известного профессора германиста Адмбни, также пред-
ставляющая несклоняемое существительное, в бытовом употребле-
нии получает падежные формы Адмония, Адмонию, потому что
это имя собственное является существительным, поскольку оно
обозначает предмет.
Таким образом, если в отличие от Фортунатова мы будем рас-
сматривать части речи как лексико-грамматические категории
(разряды) слов, необходимо будет учитывать в их определении как
значение слова, его лексико-семантическое содержание, так и его
грамматическую форму — морфологическую (формы словообра-
зования и словоизменения) и синтаксическую (связи и формы
управления в словосочетании и предложении). Сложная взаимо-
связь лексико-семантического и грамматического аспектов той
или иной категории в разных случаях может быть различной, и
доминировать могут те или другие из ее признаков. При этом в за-
висимости от грамматического строя данного языка оформление
части речи как грамматической категории будет представлять
существенные различия, с сохранением универсальности ее зна-
чения в аспекте лексико-семантическом.
Для русского языка до сих пор наиболее полная и всесторонняя
характеристика частей речи дана в «Синтаксисе» А. М. Пешков-
ского, несмотря на некоторые внешние черты наивно-психологи-
ческой терминологии, присутствующие в его изложении в духе
того времени.31
70
5. Лексико-семантическое значение основных (знаменатель-
ных) частей речи издавна правильно определяется в традицион-
ных грамматиках (в качестве примеров берутся типичные случаи):
а) существительное обозначает предмет (стол);
б) прилагательное — свойство предмета (красный);
в) глагол — действие предмета (ходит);
г) наречие — признак признака, т. е. вторичный признак дей-
ствия или свойства (говорит красиво, необыкновенно кра-
сивый).
Разумеется, когда утверждают, что существительное обозна-
чает предмет, под этим подразумевают не только материальный
предмет (стол), но и более абстрактные явления физического и
духовного мира (свет, звук, гроза, ум, любовь) и отвлеченные
понятия (пространство, время, отношение, наука, право и т. п.),
которые мыслятся предметно, т. е. имеется в виду «предметность»
(субстанция) как философская (логическая) категория.
Точно так же прилагательные, кроме качества, свойства пред-
мета (красный), могут обозначать отношение в форме качества или
признака предмета. Например: постельное белье, настольная
книга — прилагательные относительные; отцовский дом, т. е.
едом, принадлежащий отцу’ — прилагательные притяжательные,
выражающие отношение принадлежности. Характерно, что при
зыбкости границ между относительными и качественными при-
лагательными развитие значений, как отметил В. В. Виноградов,32
всегда идет в сторону качественных (т. е. большей адъективности).
Так в особенности в переносных значениях: золотое кольцо (еиз зо-
лота’) — золотые кудри, золотое время (нем. goldene Uhr — gol-
dene Zeit), медвежья лапа — медвежья услуга. Показателем раз-
вития качественного значения является возможность образования
сравнительной степени, отсутствующей у прилагательных от-
носительных. Можно сказать туманнее— в переносном смы-
сле (о мыслях, о слоге), ср. нем. goldener glanzte die Sonne
(Гёте).
Таким образом, основным для прилагательных как лексико-
грамматической категории является значение качества (или свой-
ства) предмета.
Глагол как лексико-грамматическая категория в языках типа
индоевропейских всегда означает действие, а отнюдь не «действие
или состояние», как писали в старых школьных учебниках. Я хожу,
я пишу — действия, но также он ленится, он веселится, он
умирает представляют состояния, которые мыслятся в форме
действия.
Мы говорим камень летит — как птица летит*, в обоих слу-
чаях в языках типа индоевропейских действие мыслится как
порождаемое активным действующим лицом. Такие предложения,
как солнце восходит или заходит, предполагают в своей струк-
турной основе представление о солнце как о действующем лице:
в языках так называемого номинативного строя это единст-
71
венно возможная форма связи между грамматически активным
именем (подлежащим) и глаголом в личной форме (ска-
зуемым).
В наличии этого элемента действия заключается основная
разница между тождественными по своему предметному содержа-
нию именами белый, белизна и глаголом белеет. В поэти-
ческом образе Белеет парус одинокий качество мыслится как дей-
ствие.
Для глагола как обозначения действия чрезвычайно показа-
тельны встречающиеся в немецком и английском языках аналити-
ческие формы с глаголом 'делать’ (нем. tun, англ, to do) в качестве
вспомогательного. Глагол 'делать’ выделяет в подобных пери-
фрастических образованиях грамматический элемент действия,
заключающийся в глаголе. В немецком языке такие формы,
обильно встречающиеся в XVI—XVII вв., в дальнейшем были
вытеснены из литературного употребления, но сохранились в на-
родном языке и в народной поэзии. Ср.: ег tut sich freuen 'он ра-
дуется’, ег tat ihr ein Brieflein schreiben 'он написал ей письмо’,
Tat ihn, wei[В Gott, recht herzlich ИеЬеп 'видит бог, я искренне его лю-
била’ у Гёте — в подражании народной балладе: Die Augen taten ihm
sinken 'Глаза его закрылись’.33 В английском литературном языке
эти формы закрепились в вопросе и в отрицании; кроме того,
глагол to do может выступать в качестве заменителя названия
действия в ответе на вопрос. Ср.: Do you sleep? 'Спите ли вы?’ —
Yes, I do' Да, я сплю’, букв. 'Да, я (это) делаю’; Did he die yester-
day? 'Умер ли он вчера?’ — No, he did not 'Нет, он не умер’,
букв. 'Нет, он (этого) не сделал’.
Пешковский, говоря о положении школьной грамматики,
согласно которой глагол отвечает на вопрос «что делает?», писал
по этому поводу: «Нам смешна формула: „что сделал? — умер“.
На самом деле она грамматически безупречна».34 Эту «безупреч-
ность» хорошо иллюстрируют приведенные выше английские
примеры.
Следует добавить, что вопросы, которыми школьная грамма-
тика определяет принадлежность слова к той или иной части
речи («кто?», «что?», с соответствующими косвенными падежами —
существительное, «какой?», «чей?» — прилагательное, «когда?»,
«где?», «как?» — наречие, «что делает?», «что делается?» — гла-
гол), не являются столь наивными и педантичными дидактическими
приемами, как принято думать. Вопрос выделяет в абстрактной
форме категориальную сущность слова, его общее понятийное
значение, его грамматическую форму и вместе с тем его функцию
в предложении и в этом смысле представляет полезное вспомога-
тельное подспорье для определения грамматической природы
слова.
6. Однако значение слова (его предметное содержание, соотне-
сенное с объективной действительностью) вне грамматического
72
оформления не определяет еще принадлежности слова к той или
иной части речи. Белый, белизна, белеет по своему предмет-
ному содержанию одинаково обозначают качество, но в различ-
ном грамматическом оформлении, присущем разным ’ частям
речи.
Грамматические признаки частей речи могут быть морфологи-
ческие и синтаксические: к признакам морфологическим относятся
формы словообразования и способы словоизменения.
1) Словообразовательные суффиксы во многих языках разли-
чаются по частям речи и тем самым могут являться их граммати-
ческими признаками. Ср. в русском языке — суффиксы существи-
тельных: старик, мальчик (суфф. -ик, -чик, от прилаг. стар, мал),
коварство, упрямство (суфф. -ство,от прилаг. ковар-ный, упрям-ый);
суффиксы прилагательных: бородатый, хвостатый (суфф. -атый,
от сущ. борода, хвост), братский, актерский (суфф. -ский, от сущ.
брат, актер)', суффиксы глагольные: стареть, синеть (суфф. -е-,
от прилаг. стар-ый, син-ий), тосковать, горевать (суфф. -ова-,
-ева-, от сущ. тоска, горе) и т. п.
Необходимо, однако, отметить, что суффиксы (в особенности
имен существительных), кроме общего значения словообразователь-
ных признаков частей речи как основных лексико-грамматических
разрядов слов, могут обозначать и более частные лексико-грам-
матические категории; например, отглагольные существительные
с значением названия действия: пение, молчание (от глаголов
петь, молчать); существительные от прилагательных с значением
абстрактного понятия качества: грубость, мерзость (от прилага-
тельных груб-ый, мерз-кий) и др. Грамматика до сих пор сделала
лишь очень мало для описания и семантической классифи-
кации этих более частных лексико-грамматических категорий
(в особенности различных типов так называемых «абстрактных
слов»).
Разумеется, словообразовательный признак в частях речи
может отсутствовать («нулевой» суффикс): русск. дом (существи-
тельное) — хром (прилагательное) не отличаются друг от друга
по словообразовательным признакам, как и нем. Mut'мужество’ —
gut 'добрый’ или англ, head 'голова’ — red 'красный’.
2) В таких случаях вступает в силу второй признак: система
словоизменения.
В русском языке существительные склоняются (различия па-
дежа и числа); прилагательные склоняются (в полной форме) и,
кроме того, изменяются по родам, имеют степени сравнения (при
качественном значении); глаголы спрягаются (различаются по
лицу, числу, времени, наклонению, залогу, виду или по некото-
рой части этих категорий). Однако отсутствие тех или иных слово-
изменительных форм (например, склонения у кратких прилага-
тельных или степеней сравнения у относительных) само по себе
еще не дает основания для исключения этих типов из соответствую-
щей лексико-грамматической категории.
73
Различие в словоизменении определяется системой граммати-
ческих форм: например, склонение прилагательных в славянских,
балтийских и германских языках (но не в других индоевропейских)
отличается от склонения существительных специфическими па-
дежными окончаниями.
С другой стороны, части речи отличаются друг от друга с точки
зрения словоизменения различным «набором» грамматических
категорий: число — общая категория для имен и глаголов, хотя
выражается оно различными морфологическими признаками; вид
и время специфичны для глагола, степени сравнения — для при-
лагательного, уменьшительные формы — для существительных;
существительные различаются по грамматическому роду (м. р.
стол, ж. р. голова, ср. р. окно), прилагательные изменяются
по родам в порядке согласования с существительными (м. р. боль-
шой стол, ж. р. большая голова, ср. р. большое окно); поэтому
хотя волк — волчица, лев — львица и изменяются по родам, од-
нако они не являются прилагательными, поскольку это изме-
нение не связано с согласованием.
Сравнение с другими языками обнаруживает относительность
этих морфологических критериев, зависящих от особенностей
грамматического строя данного языка. Так, в английском языке:
а) существительные ограниченно склоняются (род. п. ’s,
мн. ч. -$);
б) прилагательные неизменяемы: они не склоняются (в от-
личие от существительных), не изменяются подродам, но могут
иметь степени сравнения;
в) глаголы спрягаются.
При ослаблении или недостаточной четкости морфологических
признаков частей речи их роль перенимают признаки синтакси-
ческие.
3) Под синтаксическими признаками частей речи подразуме-
ваются их специфические функции в составе словосочетания или
предложения.
а) Существительное управляет прилагательным и глаголом,
которые обозначают его свойства и действия.
б) Прилагательное согласуется с существительным, качество
которого оно обозначает, в роде, числе и падеже.
в) Глагол согласуется с существительным, действие которого
он обозначает, в лице и числе (а в русском языке в прошедшем
времени также в роде).
г) Существительное независимо в своей форме от других чле-
нов предложения, когда оно является подлежащим в именитель-
ном падеже как назывной форме (по определению Пешковского:
«самостоятельная или безотносительная предметность»). В кос-
венных падежах оно управляется глаголом, другим существи-
тельным или предлогами (согласно Пешковскому: «несамостоя-
тельная предметность, т. е. предметность, поставленная в какое-
нибУДь отношение к чему-то другому в речи»).35
74
Синтаксические признаки частей речи в некоторых случаях
могут заменять морфологические даже в языках с развитой флек-
тивной системой, как русский. Так, существительные портной,
рабочий, мастерская по морфологическим признакам (формам
словоизменения и словообразования) совпадают с прилагатель-
ными, от которых они исторически произошли, но по значению
и синтаксическому управлению они являются существительными.
Например: рабочий идет на фабрику, я встретил рабочего, ма-
стерская закрыта. Несклоняемые слова кенгуру или какаду не
имеют морфологических признаков, но они являются существи-
тельными не только по значению, но и по синтаксическому управ-
лению: этот (это) кенгуру, у этого кенгуру, кенгуру прыгает,
дай кенгуру поесть.
Примеры из других языков показывают относительность и
этих синтаксических критериев. Английское прилагательное,
будучи словом неизменяемым, не может согласоваться с суще-
ствительным: как прилагательное оно определяется прежде всего
своим значением (с которым связана и возможность различных
степеней качества), а формально — неспособностью, в отличие
от существительного, принимать артикль и прежде всего поряд-
ком слов, т. е. тем местом, которое в качестве синтаксического
определения оно нормальным образом занимает перед примы-
кающим к нему определяемым словом; ср.: a large house 'большой
дом’. Характерный для аналитического типа языков связанный
порядок слов, развивающийся в предложении по мере утраты
флективных различий, становится, таким образом, дополнитель-
ным формальным признаком для синтаксической характеристики
частей речи.
Тем не менее при отсутствии морфологических критериев
нередко возникают трудности разграничения, допускающие воз-
можность разных толкований в переходных случаях — между
качественным наречием как несклоняемым словом и прилагатель-
ным, тождественным с ним по форме (англ, red' красный’ и' красно’),
между прилагательным и атрибутивным существительным, как
в классическом примере англ, stone wall 'каменная стена’36 (нем.
steinerne Wand или Steinwand); ср. в тюркских языках узб.
тош-девор с аналогичным значением и др.
В отличие от этих особенностей грамматической формы, свя-
занных с структурой данного языка, в своей лексико-семантиче-
ской основе категории частей речи, по-видимому, имеют универ-
сальный характер. Это относится не только к «основным частям
речи» — существительным, прилагательным, глаголам и наре-
чиям, — т. е. к разрядам слов с прямой предметной соотнесен-
ностью, но и к полуформальным местоимениям (заменителям имен)
и числительным (счетным словам), к чисто формальным связочным
словам (типа предлогов и союзов) и к «эмоциональным сигналам»
(типа междометий). Мы можем назвать их «универсалиями»
в смысле Р. О. Якобсона.37 Различия между языками заключаются
75
в степени и в способах грамматического оформления этих кате-
горий. В этом своем формальном аспекте (как слово, согласно
известной формуле Л. В. Щербы)38 в разных языках они имеют
разные определения.
7. Вообще четкая дифференциация частей речи связана с их
морфологизацией, наиболее характерной для языков флективных.
На материале языков такого типа (греческий, латинский, санскрит)
и было создано древними самое учение о частях речи. Именно
наличие этой морфологизации позволяет нам различать слова
белый, белизна, белеет как разные части речи, хотя они и соотне-
сены по своему предметному значению с тем же объективным ка-
чеством белого предмета.
Соответственно этому мы можем мыслить:
1) свойство как предмет: сущ. белизна, красота, упрямство,
равенство (от прил. бел-ый, крас-ивый, упрям-ый, равн-ый);
2) свойство как действие: глаг. белеет, богатеет (от прил.
бел-ый, богат-ый);
3) действие как предмет (названия действия, отглагольные
существительные): сущ. хождение, искание, молчание (от глаг.
ход-итъ, иск-атъ, молч-атъ); нем. die Sammlung 'собирание’,
с дальнейшим опредмечиванием — 'собрание’; отсюда — глаголь-
ная категория инфинитива, вошедшая в систему глагола;
4) действие как свойство — отглагольные прилагательные и
развившиеся из них путем включения в систему глагола прича-
стия — смешанная (гибридная) именная форма глагола, сохра-
няющая глагольные признаки времени, залога и вида, глагольное
управление именами и обстоятельственными определениями, но
склоняющаяся и согласующаяся с существительными как при-
лагательное: пишущий, писавший, написанный, убитый; нем.
gesprochen, verkauft. Вне системы глагола ср., например, нем.
прил. verwundbar 'ранимый’, erreichbar 'достижимый’ (с глаголь-
ным значением пассива и модальности-возможности: 'могущий
быть достигнутым’); zerbrechlich 'ломкий’ ('могущий быть сло-
манным’), unaussprechlich 'невыразимый’ ('не могущий быть
выраженным’) и др.;
5) действие как признак другого действия — деепричастия
(отглагольные наречия, входящие в систему глагола с сохранением
тех же глагольных признаков, но употребляемые в обстоятель-
ственном значении): написав (письмо), глядя (на вас).
8. Наиболее сложным является вопрос о [взаимоотношении
частей речи и членов предложения. Между ними существует изве-
стное соответствие, хотя и неполное.
1) Глагол, как часть речи, обозначающая действие, всегда
является сказуемым (предикатом), когда употребляется в личной
76
форме (иначе именные формы глагола, обозначающие название
действия или действие как признак, — инфинитивы, причастия,
деепричастия).
2) Прилагательное как качественное слово в основном явля-
ется определением существительного (атрибутом).
3) Наречие является обстоятельственным словом, определяю-
щим глагол или прилагательное.
4) Наиболее многофункционально имя существительное, но,
как обозначение предмета, оно прежде всего является подлежа-
щим, дополнением или именным обстоятельством (т. е. обозначает
предмет, из которого исходит, на который переходит или с ко-
торым связано действие). Существительное как определение в ро-
дительном падеже не является атрибутом в точном смысле, как
прилагательное: оно обозначает принадлежность одного предмета
другому предмету — дом отца в отличие от отцовский дом; ср.
франц, la maison de mon рёге, англ, the house of my father.
Именное сказуемое (существительное или прилагательное в пре-
дикативной функции) требует глагольной связки в языках, где
глагол в личной форме является морфологизованным выраже-
нием сказуемого (как в индоевропейских). Ср.: Der Mensch ist
gut, Жучка есть собака (. . . ist ein Hund). Русское именное ска-
зуемое настоящего времени без связки представляет и в истории
славянских языков явление, по-видимому, более позднее: опусто-
шенный в своем значении в настоящем времени связочный глагол
опускается, т. е. заменяется интонацией (или новой связкой это\
Жучка это собака).39 Характерна, однако, общая тенденция
к оглаголиванию именных предикативов: «атрофия форм склоне-
ния» у русских прилагательных, отсутствие (утрата) согласования
по родам у кратких неизменяемых (предикативных) форм прила-
гательных и причастий в немецком языке. При отсутствии связки,
как в русском языке, это явление, как уже было указано выше
(с. 66), становится одним из источников образования так назы-
ваемой «категории состояния».
В соответствии с этим Курилович справедливо считает возмож-
ным говорить об основных, «первичных» (primary) синтаксических
функциях частей речи на основании «принципа максимального
различия» (maximal distinction). В предикативной группе по этому
принципу существительное в именительном падеже противопо-
ставляется как подлежащее глаголу в личной форме как сказуе-
мому; в атрибутивной группе прилагательное — существитель-
ному, с которым оно находится в отношении согласования. Дру-
гие синтаксические функции этих частей речи Курилович считает
«вторичными» (secondary).40
9. С историко-генетической точки зрения части речи являются
морфологизованными членами предложения. Согласно И. И. Ме-
щанинову, посвятившему этому вопросу специальное сравни-
тельно-типологическое исследование, «имя существительное выде-
77
ляется своим выступлением членом предложения предметного
значения (подлежащее и дополнение), прилагательное образуется
синтаксическим использованием слов в атрибутивном члене пред-
ложения (определения), наречия выступают в обстоятельственном
члене, глагол отделяется от других частей речи в результате своего
выступления сказуемым (членом предложения, выражающим про-
цесс). Здесь, в этом членении предложения, формируются лексиче-
ские группировки».41
Процесс образования морфологически оформленных лексиче-
ских разрядов слов (названия предмета, действия, свойства и
т. п.) на основе их синтаксической функции достаточно отчетливо
прослеживается сравнительно-исторической грамматикой индо-
европейских языков.
1) Образование наречий из падежей имен существительных и
прилагательных в обстоятельственной функции, позднее — из эк-
вивалентных им предложных конструкций, лежит в истории
индоевропейских языков на поверхности, совершаясь в основном
в период их раздельного существования вплоть до наших дней.
Поэтому наречие из всех частей речи представляет в морфологи-
ческом отношении наиболее пеструю категорию, отчетливо сохра-
нившую следы своего синтаксического происхождения из обстоя-
тельств и свою первичную обстоятельственную функцию. Ср. русск.
вечером, порой, кругом', сегодня, вдалеке, издавна, вверх, вплотную,
насмерть и т. д.; нем. anders, rings, eilends, keinesfalls, andererseits
(этимологически генетивные формы); seit kurzem, im allgemeinen,
bei weitem и мн. др.
Старые качественные наречия, как известно, являются застыв-
шими падежными формами прилагательных, морфологизованными
в обстоятельственном употреблении. Эти исходные падежи раз-
личны в разных индоевропейских языках: лат. нар. Ьопб 'хорошо’
от прил. bonus 'хороший’, как и др.-в.-нем. нар. guoto от прил.
guot 'gut’ с тем же значением, представляют индоевропейский
аблатив; русск. красно, пусто — старый винительный падеж
среднего рода.
2) Образование грамматически оформленной категории при-
лагательных, т. е. дифференциация древнего имени на существи-
тельные и прилагательные, может быть прослежено в индоевро-
пейских языках методами сравнительной грамматики, которая
приводит нас к древнейшему «протоиндоевропейскому» состоянию,
когда такой дифференциации еще не было.42 Как пишет по этому
вопросу А. А. Потебня, «в истории языков, различающих назва-
ние вещи и признака (а не все это делают), прилагательное, как
выделенное из связи признаков, как более отвлеченное, чем суще
ствительное, позднее существительного и образовалось из него».43
И дальше: «Различие между существительным и прилагательным
не исконно. Прилагательные возникли из существительных,
т. е. было время, оставившее в разных индоевропейских языках
более или менее явственные следы и данные, когда свойство мысли-
78
лось только конкретно, только как вещь».44 «Путь от существи-
тельного к прилагательному есть атрибутивное употребление
существительного».45
На древнюю недифференцированность существительного и при-
лагательного в индоевропейских языках указывают следующие
признаки.
а) Общность именных основ (основы на -о-/-е-, -i-, -и-, -а- и др.
и их расширенные согласными формы: -io-l-is, -uo-/-ue, -no-/ne,
-1о-/-1е, -го-/-ге, -ko-/-ke, -to-/-le и др.).
б) Общие формы именного склонения. Ср.: лат. им. п. ед. ч.
сущ. м. р. lupus 'волк’, ж. р. rosa 'роза’, ср. р. templum 'храм’ —
прил. bonus'добрый’, bona 'добрая’, Ъопит 'доброе’: род. п. ед. ч.
м. р. lupi, ж. р. rosae, ср. р. templt —прил. boni, bonae, boni
и т. д.; русск. дом, жена, окно — добр, добра, добро и т. п. Осо-
бые формы склонения прилагательных (местоименные) представ-
ляют новообразования, специфичные для германских, балтийских
и славянских языков; связанные с формированием прилагатель-
ных как особой грамматической категории, они в каждой из этих
групп образовались самостоятельно.
в) Отсутствие у прилагательных специфических для них
словообразовательных суффиксов общеиндоевропейского проис-
хождения (кроме суфф. -In-, с первоначальным значением при-
надлежности). Суффиксы, служащие в позднейшую эпоху спосо-
бом словопроизводства прилагательных как особой грамматиче-
ской категории, дифференцировались из суффиксов общеимен-
ных. Ср. суфф. -tg, -ag, -Ug, постепенно ставший в германских
языках универсальным и наиболее продуктивным средством образо-
вания относительных прилагательных: готск. сущ. maht-s 'мощь’ -
прил. maht-eig-s 'могучий’ (нем. Macht — machtig), готск. сущ.
mop-s 'гнев’, 'смелость’ — прил. mod-ag-s 'гневный’ (нем. Mut —
mutig). В славянских языках ему соответствует словообразова-
тельный суффикс -ak, -ik; ср. ст.-слав. сущ. юнакъ 'юноша’ от
прил. юнъ, русск. сущ. старик от прил. стар.
г) Степени сравнения в индоевропейских языках по своим
формам не представляют безусловного тождества. По-видимому,
мы имеем дело с процессом отбора формантов частью с усилитель-
ным, частью с противопоставительным значением и их специализа-
цией в функции суффиксов сравнительной и превосходной сте-
пени. Процесс этот представляется незаконченным в период
индоевропейской общности, особенно в отношении превосходной
степени, и завершается разными путями, вместе с дальнейшим
развитием грамматической категории прилагательных уже в пору
раздельного существования языковых групп.
д) С синтаксической точки зрения свидетельством амбивалент-
ности древнего имени является сохранение всеми индоевропейскими
языками более или менее широкой способности субстантивации
прилагательных в самостоятельном употреблении и адъективации
существительных в атрибутивной функции. Значительная группа
79
слов может функционировать в значении как существительного,
так и прилагательного. Ср. в германских языках: готск. сущ.
wairp-s 'цена’ — прил. wafrf) 'ценный’ (др.-в.-нем. сущ. werd —
прил. werd), др.-в.-нем. сущ. sculd 'долг’ — прил. sculd 'долж-
ный’ и мн. др. В более позднюю эпоху, вместе с дальнейшим
развитием прилагательных как грамматической категории, форма
прилагательного маркируется суффиксом -ig: ср. др.-в.-нем. сущ.
sculd — прил. sculdig, сущ. werd(t) — прил. wirdig и др.
е) О дофлективной ступени древнего имени в протоиндоевро-
пейском, как полагал уже Хирт,46 свидетельствует, по-видимому,
словосложение — образование сложных имен, в которых первый
элемент, определяющий второй, имеет форму чистой основы.
(См. ниже, с. 211—212). Эта древняя модель атрибутивного слово-
сочетания сохранилась в небольшом числе примеров в древних
индоевропейских языках, ср.: лат. bos arator 'бык-пахарь’; боль-
шое число случаев, относящихся к разным периодам церковно-
славянского и русского языков (в особенности из области фоль-
клора), приводит Потебня: меч-самосек, гусли-самогуды и мн. др.47
Как архаическая по своему происхождению модель, они свиде-
тельствуют о том, что имя, поставленное перед другим именем,
имело значение, близкое к качественному.
ж) Особенно архаический характер имеет тип так называемых
бахуврихи (bahuvrihi — термин санскритской грамматики). Он
представлен большим числом примеров на ранних этапах развития
индоевропейских языков в качестве постоянных эпитетов в мифо-
логическом и героическом эпосе (древнеиндийском, греческом,
германском) (ср. ниже, с. 212 сл.).
По-видимому, общеиндоевропейским признаком прилагатель-
ных как грамматически оформленной категории является только
согласование с существительным и изменение по родам, однако
последнее — только в пределах основ на -о- в мужском и среднем,
основ на -а- в женском роде. Таким образом, и этот процесс просле-
живается в становлении: другие основы (на -£-, -и- и согласные)
первоначально не имели в индоевропейском формального противо-
поставления мужского и женского рода, как о том свидетельствуют
прилагательные с двумя (или с одним) окончаниями.
Поздний характер грамматической дифференциации имен на
существительные и прилагательные и в особенности выделения
наречий в особую от прилагательных грамматическую категорию
еще отчетливее выступает в некоторых других, неиндоевропейских
языках (например, в тюркских и монгольских), где прилагатель-
ное, будучи несклоняемым словом, не может иметь признаков
согласования с определяемым существительным. Здесь издавна
шли споры между теми, кто признает, и теми, кто отрицает само-
стоятельное существование данных грамматических категорий,
и немало бед натворило в школьных учебниках механическое
перенесение в исследование этих языков формально-грамматиче-
ских признаков, существующих в русском языке.
80
Не входя в подробности этих споров, 48 следует прежде всего
отметить, что в указанных языках существуют в качестве фор-
мально-грамматических примет особые суффиксы прилагательных
и в меньшей степени наречий. Ср. узб. туз 'соль’—тузли 'соле-
ный’ прил., ёз 'лето’ — ёзги 'летний’ прил.; узбек 'узбек’, 'узбек-
ский’— узбекча 'по-узбекски’ нар.; узоц 'далекий’ — узоцда 'вдали’,
узоцдан 'издали’ нар. и др. Число этих суффиксов увеличилось
в тюркских языках, между прочим, и в результате заимствований
(сперва арабских, в новейшее время русских). Однако наряду
с такими отчетливо оформленными качественными словами суще-
ствует ряд других, не обособившихся в морфологическом отноше-
нии от слов предметных. Сюда относятся в особенности многие
корневые слова, категориальная принадлежность которых опре-
деляется только значением и синтаксическим употреблением
в качестве самостоятельного или атрибутивного имени. Ср., на-
пример: узб. бош 'голова’ и бош 'первый’, 'главный’ (бош вазир
'первый везир’), ёш 'молодой’ прил., 'молодо’ нар. и ёш 'возраст’,
'год’, ёшлар 'молодежь’; оц 'белый’ и оц 'белок (яйца)’, 'седина’
и мн. др. Двойственное значение имеют в особенности слова,
обозначающие материал: узб. блтын 'золото’ и 'золотой’, тош
'камень’ и 'каменный’, ср. тош куприк 'каменный мост’, тош
девор 'каменная стена’, — случаи, вполне аналогичные с англ,
stone wall 'каменная стена’ (см. выше, с. 75).
3) Морфологическая дифференциация имен и глаголов, разу-
меется, выступает в индоевропейском с полной четкостью в связи
с отмеченным выше (см. с. 72) вербальным характером индо-
европейского предложения, придающим категории глагола осо-
бенно важное значение. Однако обращает на себя внимание, что
тематические суффиксы индоевропейских глаголов, в том числе
непроизводных (первичных), в ряде случаев совпадают с именными
основами: ср. -е-/-о-, -ie-l-to-, -ue-f-uo: слабые глаголы на -а- (лат.
ama-ге) и существительные женского рода на -а (лат. rosa).
Однако то, что в индоевропейских языках может иметь только
характер глоттогонической гипотезы, выводящей за пределы
индоевропейского языка-основы, то в тюркских и монгольских
языках лежит на поверхности в связи с формальными особенно-
стями агглютинирующей структуры слова. Здесь глагольные
формы представляют сочетание глагольного имени (причастия или
деепричастия) с личными окончаниями, которые в 1-м и 2-м лице
единственного и множественного числа совпадают с соответствую-
щими личными местоимениями. Ср. узб. от корня ёз- 'писать’
наст.-буд. вр.: ед. ч. 1-е л. (мен) ёза-ман 'я пишу’, 2-е л. (сен)
ёза-сан 'ты пишешь’, мн. ч. 1-е л. (биз)ёза-миз 'мы пишем’, 2-е л.
(сиз) ёза-сиз 'вы пишете’ (ёза 'пиши’ — деепричастие наст, вр.,
употребление личного местоимения факультативно); прош. перф.:
ед. ч. 1-е л. ёзган-ман, 2-е л. ёзган-сан и т. д. (ёзган 'писавший’,
'написавший’, прич. прош. вр.); прош. вр. повествоват.: ед. ч.
1-е л. ёзиб-ман, 2-е л. ёзиб-сан и т. д. (ёзиб*написав’, деепричастие
6 в. М. Жирмунский
81
прош. вр.); буд. предположи, вр.: ед. ч. 1-е л. ёзар-ман, 2-е л.
ёзар-сан и т. д. (ёзар прич. буд. вр.). Личные окончания являются
предикативными суффиксами, которые могут употребляться (в зна-
чении настоящего времени) и с именами. Например: ед. ч. 1-е л.
(мен) ишчи-ман'я — рабочий’, 2-е л. (сен) ишчи-сан'ты — рабочий’,
мн. ч. 1-е л. (биз) ишчи-миз 'мы — рабочие’, 2-е л. (сиз) ишчи-сиз
'вы — рабочие’; или 1-е л. (мен)ёш-ман 'я молод’, (сен)ёш-сан
' ты молод’ и т. д. В 3-м лице употребляется в качестве предиката
глагольное имя, которое иногда расширяется суффиксом -ди,
-дир (-дур), представляющим суффигированную форму вспомога-
тельного глагола (узб. турмоц 'стоять’, 'находиться’, 'существо-
вать’), т. е. с ослабленным связочным значением 'быть’. Ср. наст.-
буд. вр. ед. ч. 3-е л. (у)ёза-ди 'он пишет’, прош. перф. ёзган 'пи-
сал’, прош. повеств. вр. ёзиб-ди, буд. предпрош. вр. ёзар — кап(у)-
ишчи-ди 'он — рабочий’, (у)ёш-ди 'он — молод’.49
Аналогичную структуру можно было бы предположить и
в настоящем времени индоевропейского глагола, где личные
окончания, по-видимому также местоименного происхождения,
присоединяются к тематической основе настоящего времени
-е-1-о-. Ср. др.-инд. наст. вр. ед. ч. 1-е л. bhar-a-mi 'ношу’, 2-е л.
bhar-a-si 'носишь’, 3-е л. bhar-a-ti 'носит’ и т. д.; готск. ед. ч.
1-е л. bair-a, 2-е л. bair-1-s, 3-е л. batr-i-p и т. д. Поскольку те-
матический глагол настоящего времени на -е- /-о- совпадает с тема-
тическими именными основами на -е-1-о-, есть основание думать,
что и в индоевропейских языках основой этой формы является
глагольное имя.50
Таким образом, типологическое сопоставление языков различ-
ного происхождения и структуры позволяет поставить вопрос
о генезисе частей речи как лексико-грамматических категорий и
о процессе грамматического оформления их лексико-семантиче-
ской основы.
1968 г.
ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ
I
Термин «аналитические конструкции» и понятие «аналитиче-
ского строя языка» были выдвинуты в лингвистике по отношению
к новым индоевропейским языкам такого типа, как английский,
датский, французский и др.
С точки зрения сравнительно-типологического изучения струк-
туры слова в языках разных систем возникает вопрос: применимо ли
это понятие, этот термин к языкам других лингвистических групп,
а главное других типов морфологической структуры — так на-
82
зываемых изолирующих, агглютинирующих, инкорпорирующих,^
и если «анализ» в этих языках существует, то каковы его типо-
логические особенности?
Являются ли, например, аналитическими конструкциями
в тюркских языках сложные формы прошедшего, образованные
из причастия или деепричастия, знаменательного глагола с слу-
жебным глаголом-связкой эдим: ср. узб. давнопрош. вр. ёзган
эдим 'раньше писал’, предпрош. ёзиб эдим 'только что писал
(написал)’ и др.; или сложные видовые формы, состоящие из
деепричастий знаменательного глагола с личными формами слу-
жебных глаголов с исходными значениями 'брать’, 'давать’, 'ста-
вить’, 'оставлять’, 'приходить’ и т. п.: ср. узб. ёза бермоц 'продол-
жать писать’, ёзиб цуймоу 'написать’, ёзиб турмоц 'постоянно
(длительно) писать’ и т. п.; или так называемое «настоящее кон-
кретное» с вспомогательными глаголами стоять, ходить, лежать
и деепричастием знаменательного глагола типа узб. ёзиб туриб-
ман (или юрибман, ётибман) 'я пишу в настоящее время’.1
Есть ли основания считать аналитической формой творитель-
ного падежа (с инструментальным или социативным значением)
сочетание существительного с послелогом билан (бирлан) 'вместе
(с)’, — ср. узб. %из билан 'с девушкой’, поезд билан 'поездом
(на поезде)’?2
Можно ли сопоставить с аналитическими конструкциями соеди-
нения знаменательного слова с некоторыми формальными пригла-
гольными частицами в китайском языке? и т. п.
Поскольку вопрос об аналитических конструкциях до сих
пор детально разрабатывался почти только на материале новых
европейских языков, наша задача должна заключаться в том,
чтобы дать возможно более широкий обзор того круга явлений,
которые разными исследователями рассматривались в этих языках
как аналитические формы, а также методологических проблем
и дискуссий, возникших в процессе их изучения.
Для осуществления этой задачи необходимо сопоставитель-
ное рассмотрение явлений анализа в разных современных европей-
ских языках, как германских, так и романских (в пределах,
ограниченных научной компетенцией автора).
Разумеется, формально сходные грамматические конструкции
в разных языках могут функционировать по-разному в зависи-
мости от особенностей общей системы данного языка.
Так, М. М. Гухман оценивает по-разному пассив с глаголом
'быть^ и страдательным залогом в английском и в немецком язы-
ках, поскольку в английском языке это единственная пассивная
глагольная конструкция (ср.: the letter is written 'письмо напи-
сано’), тогда как в немецком рядом с пассивом с sein, более огра-
ниченным в своем употреблении, существует пассив с werden,
универсальный и более грамматизованный (ср.: der Brief wird
geschrieben 'письмо пишется’ — der Brief ist geschrieben 'письмо
написано’).3
83
6*
Однако изолированное изучение разных европейских языков
фактически привело к тому, что совершенно тождественные явле-
ния, существующие в разных языках, нередко называются раз-
ными терминами и интерпретируются по-разному не потому,
что они объективно различны, но потому, что различны точки
зрения исследователей, и потому, что эти исследователи работают
без оглядки друг на друга (см. ниже, с. 105).
В советской лингвистической науке существуют две точки
зрения на явления анализа: одна толкует анализ более широко,
другая сужает его сферу, проводя резкую границу между обла-
стями грамматики и лексики, морфологии и синтаксиса. Первая
точка зрения господствовала в советском языкознании до 1950 г.,
вторая была обоснована в прошлом Ф. Ф. Фортунатовым, принята
его школой и получила значение главенствующей лингвистиче-
ской веры после дискуссии 1950 г.
Статическому «морфологизму» фортунатовской школы я считаю
своевременным противопоставить процессуальное рассмотрение
явлений языка, которое позволяет говорить о большей или мень-
шей грамматизации тех или иных аналитических конструкций,
о разных ступенях их трансформации из словосочетания в анали-
тическую форму слова.
Такая точка зрения позволяет расширить круг явлений анализа,
наличествующих в большинстве новоевропейских языков как
одна из тенденций их грамматического развития.
Предлагаемая мною точка зрения отнюдь не единственная и,
вероятно, не господствующая. Однако ее последовательное раз-
витие может оказаться предпосылкой для плодотворной методо-
логической дискуссии.
♦ * ♦
Аналитическими конструкциями принято называть сочетания
слов служебного и знамена тельного, в которых служебное слово,
самостоятельно или вместе с аффиксом знаменательного, выражает
грамматическое значение знаменательного слова и тем самым^ всей
конструкции в целом. Например:
СГл у чай ff е (Гб мненные — видовременные сложные
глагольные формы, образованные с помощью вспомогательных
глаголов.
Ср. прош. вр. нем. ich habe geschrieben ся написал’, англ.
I have written, франц, j’ai ecrit, ст.-слав. №смъ писалъ; буд. вр.
нем. ich werde schreiben, буд. несоверш. русск. буду писать.
Случаи спорные:
1. Модальные конструкции.
Ср. англ. I should (would) write 'я написал бы’, I might write
ся мог бы написать’ (написал бы); нем. ich konnte schreiben ся мог
бы написать’, ich mochte schreiben ся хотел бы написать’.
84
2. Предложные конструкций.
Ср. англ, the house of my father 'дом моего отца’, франц, la
maison de mon рёге; предл. п. русск. о столе; с значением мест-
ного: в городе, на даче; нем. in der Stadt, auf dem Lande (подроб-
нее см. ниже, разделы 4 и 6).
Служебные (формальные или полуформальные) слова, входя-
щие в состав аналитической конструкции, являются словами,
а не морфемами слов. Это ясно для таких раздельно оформленных
конструкций, как I have written 'я написал’, где формальные
слова I have самостоятельно спрягаются по обычной парадигме
глагола. Но это относится и к предложным конструкциям, если
считать их аналитическими: предлог, хотя отдельно от существи-
тельного не употребляется, всегда имеет минимум лексического
значения (в 'внутри чего-нибудь’, с 'вместе с чем-нибудь’ и т. п.);
его выделяемость как минимум формальной самостоятельности
видна из примеров: в саду, в моем цветущем саду.^
С этой точки зрения следует рассматривать и известный при-
мер Ж. Вандриеса je ne 1’ai pas vu 'я его не видел’, усмотревшего
в этом предложении не «шесть отдельных слов», а «только одно
слово, но сложное, образованное из ряда морфем, переплетенных
одна с другой».5 На самом деле пример Вандриеса представляет
не единое слово, а сочетание слов, поскольку все его элементы
выделены и соответственно заменяемы как самостоятельные
слова.6
То же относится к редуцированным (разговорным) формам
английских вспомогательных глаголов shall, will (буд. вр.), is
(пассив, длительное настоящее), have (перф.), например: Г11 write
'я напишу’, he’s coming 'он приходит’, I’ve written 'я написал’
и т. п. Как справедливо заметил Есперсен,7 эти редуцированные
формы для говорящего по-английски являются вариантами (или
эквивалентами) полных глагольных форм, употребляемых в дру-
гом стиле произношения (prononciation soignee, согласно Пасси)
и в письменной речи: I shall (will) write, he is coming, I have writ-
ten и т. п. Ср. аналогичные примеры редукции формальных слов
в других языках: нем. (разговорное и диалектное) s’ Kind 'das
Kind’; франц, tu Га vu, je t’ai vu (перед гласными) — je le vois,
je te vois (перед согласными).
Известно, правда, что акцентно ослабленные формы служеб-
ных слов в процессе исторического развития могут сливаться
с знаменательными в единое слово, становясь тем самым аффик-
сальной морфемой.
Ср.: франц, буд. вр. parlerai 'скажу ’<ст.-франц. parler+ai
(лат. parlare habeo); польск. прош. косТгаШту 'мы любили’ < ко-
chali+jeimy; болг. селото (опред. форма ср. р.) < село-\-то
(постпозитивный артикль, из указательного местоимения) и мн. др.
В индоевропейских языках такое развитие встречается почти
исключительно в условиях постпозиции. Возможно, что одним
из факторов этого процесса являются особые условия акцентуа-
85
Ции в энклйзе по сравнению с проклизой (более сильное атониро-
вание); однако решающее значение имело общее воздействие
структуры слова в индоевропейских языках, где грамматические
аффиксы словоизменения стоят почти всегда в конце, а не в на-
чале слова.8
Несмотря на теснейшую грамматическую и смысловую связь
между элементами сложной аналитической формы, контактное
положение, неразрывность (морфологическая неделимость) вовсе
для этих элементов не обязательны. Вопрос этот регулируется
общими правилами порядка слов в данном языке. Для немецкого
языка, например, в аналитических глагольных формах обяза-
тельно дистантное расположение (так называемая «рамочная кон-
струкция»). Ср.: ich habe erst gestern dieses Buch gelesen (ich
habe. . . gelesen) 'я прочитал эту книгу только вчера’. Аналитиче-
ская конструкция следует при этом тем же общим правилам, как
сложное именное сказуемое со связочным глаголом или знаме-
нательный глагол с отделяемой приставкой. Ср.: er ist seit langen
Jahren krank 'он много лет болен’; er ging aus seinem Zimmer fort
'он ушел из своей комнаты’ (глагол fortgehen 'уходить’). Напро-
тив, в английском языке возможность подобного разрыва ограни-
чена лишь постановкой наречия между вспомогательными глаго-
лами 'быть’ или 'иметь’ и причастной формой глагола знамена-
тельного. Ср.: he has secretly written to her 'он тайно написал ей’,
he is already come ^о±Г"уже пришел’. В французском возможен
разрыв между личным местоимением и глаголом для определенной
группы неударных метоимений и служебных слов. Ср.: je le vois
'я его вижу’, je lui ai dit 'я ему сказал’. Между вспомогательным
глаголом и причастием вставляется только отрицание. Ср.: je
ne 1’ai pas vu 'я его не видел’.
Артикль (если считать сочетания артикля с именем аналити-
ческой конструкцией) во всех европейских языках, как и пред-
логи, требует постановки прилагательных-определений между
служебным и знаменательным элементом. Ср.: нем. ein guter
Knabe 'хороший мальчик’, англ, a good boy, франц, un bon gar-
9on и др.
Если, таким образом, служебное слово в аналитической кон-
струкции является не морфемой, а словом, хотя словом особого
рода, отличным от знаменательных, то вся конструкция в целом,
представляя сочетание слов, должна тем самым рассматриваться
как особый вид словосочетания.
Как уже было сказано в другом месте,9 нет необходимости
следовать в этом вопросе за получившей в советском языкознании
широкое распространение точкой зрения акад. Ф. Ф. Фортунатова,
поддержанной В. В. Виноградовым и академической «Граммати-
кой русского языка», согласно которой словосочетанием называ-
ется только сочетание полнозначных слов. Более правильной
представляется мне в этом вопросе позиция А. М. Пешковского,
признающего словосочетаниями не только мысль о побеге. но также
86
предложную группу о побеге, не только привести в исполнение,
но также в исполнение.10 Различать эти две группы как слов о-
сочетания и простые сочетания слов было бы
неоправданным терминологическим педантизмом. Мы называем
поэтому в дальнейшем словосочетанием всякую группу
слов, объединенную в смысловом и грам-
матическом отношении (если она не рассматривается
на уровне синтаксиса, т. е. с точки зрения предикации, как пред-
ложение или часть предложения).
Провести границы здесь тем менее возможно, что между слу-
жебными и знаменательными словами в языке существует мно-
жество переходных случаев, зависящих от большей или меньшей
грамматизаци^служебпог-о^ слова, т. е. потери им первоначаль-
ного предметного значения. Ср.: в городе — вокруг города — по-
среди города; для устранения — в целях устранения; среди лета —
посреди лета — в течение лета — на протяжении всего лета;
ich habe geschrieben — ich werde schreiben — ich konnte schrei-
ben — ich mochte geschrieben haben и т. п. В подобных случаях
было бы трудно установить в точности, где простое сочетание слов
переходит в словосочетание.
Будучи частью аналитической конструкции, служебное слово
по своей грамматической функции эквивалентно словоизмени-
тельной (формообразующей) морфеме (аффиксу). Тем самым ана-
литическая конструкция является формой соответствующего
знаменательного слова, входя в систему его слово-
изменения (или формообразования) — в так называемую «пара-
дигму» слова. В. В. Виноградов с этой точки зрения справедливо
отнес «аналитические формы слова», образованные «посредством
сложения слов или форм слов», к способам образования форм
с л о в (в ряде случаев можно было бы сказать — словоизменения)
наряду с аффиксацией, звуковыми чередованиями и положением
ударения внутри слова.11 Такое «аналитическое формообразова-
ние» он называет также «синтаксическим».12 Последний термин
требует оговорки: синтаксические отношения, лежащие в основе
образования аналитических форм, выступают в готовой аналити-
ческой конструкции в снятом, так сказать, нейтрализованном
виде.
Сходным образом высказался по этому вопросу и М. И. Стеб-
лин-Каменский: «Сочетание служебного слова со знаменательным,
хотя и „синтаксично" по форме, поскольку оно является сочета-
нием отдельных слов, а не частей слова, . . .может быть морфоло-
гично по значению. Такие „морфологические" словосочетания
естественно отнести к морфологии».13
«Словосочетание» как «форма слова» представляется на пер-
вый взгляд логическим противоречием. На это противоречие на-
ткнулся и М. И. Стеблин-Каменский в своем только что приве-
денном высказывании. «Только по недоразумению, — счел он
нужным оговорить тут же, — в школьных грамматиках некоторые
87
из таких сочетаний — например, сложные глагольные формы —
называются „формами слова14. . .». Думается, не «по недоразуме-
нию», и не только «в школьных грамматиках». То, что с точки
зрения формальной логики представляется противоречием, на са-
мом деле является реальным фактом языковой действительности,
т. е. противоречием диалектическим. Если рассматривать си-
стему языка в движении, развитии, понятен будет и тот процесс,
в результате которого синтаксические конструкции морфологи-
зуются и становятся тем самым «формами слова», сохраняя Kai/\
явление «синтаксического формообразования» по видимости про- *
тиворечивые признаки того и другого состояния.
Как неоднократно указывалось в советском языкознании,
словосочетания в результате семантической и грамматической
связи между входящими в их состав словами могут развиваться
в сторону^более или менее тесного лексического или грамматиче-
ского объединения, с новым значенйём цёлопГДлексическим или
грамматическим^ отличным от значения его частей.
Развитие в сторону лексикализации ведет к образованию более
или менее прочных фразовых единств, представляющих в смысло-
вом отношении фразовые эквиваленты отдельных слов.14 Развитие
в сторону грамматизации (морфологизации) ведет к превраще-
нию группы в новую грамматическую (аналитическую) форму
слова. --------
Грамматизация словосочетания связана с большим или мень-
шим ослаблением лексического (предметного) значения одного
из компонентов^словпсичитаЯйя, с последовательным превраще-
нием его из лексически значимого (знаменательного) слова в полу-
служебное или служебное, в котором доминирует грамматическое
значение, а всей группы в целом — в аналитическую форму слова.
Ср.: нем. ich habe einen Brief geschrieben, англ. I have written
a letter, франц. 1’ai ectit une lettre, первоначально (Г значением^
'я имею письмо написанным’ (ср.: лат. habeo litteras scriptas —
англ. I have a letter written, франц, j’ai une lettre ecrite), по-
том — 'я написал’ (прош. вр.).
Грамматизация представляет результат абстрагирования (ино-
гда более, иногда менее полного) от конкретного^ЪпЖсического
(предметного) значения, которое первоначально имело служеб-
ное слово. Обычно грамматизации подвергаются слова, имевшие
сами по себе более широкое (общее) значение: глаголы «широкой
семантики»,15 например с значениями 'иметь’ ('обладать’)/ сшй
чинатьг (^становиться’), глаголы покоя и движения типа 'стоять’
('оставаться’), 'ходить’ ('двигаться’) и т. п., которые становятся
по своей грамматической функции глаголами служебными или
связочными; глаголы модальные, конкурирующие с наклонениями;
личные местоимения, из которых развиваются показатели лица
при личных глагольных формах;местоимение указательное ('тот’)
и неопределенное числительное ('один’) в грамматической функции
артиклей; наречия места и другие обстоятельственные слова,
, 88
которые становятся предлогами и в конечном счете показателями
абстрактных падежных значений.16
В целом аналитическое формообразования имеет характер
процессуальный, с переходными случаями большей или
меньшей храммагизации, которые следует рассматривать не как
метафизически изолированные классификационные клеточки, а, го-
воря языком диалектики, как «узловые точки» в процессе разви-
тия, представляющие ряд последовательных ступеней граммати-
зации, сосуществующих одновременно в языке без непроницаемых
между ними перегородок.
Эту мысль можно наглядно иллюстрировать на примере ана-
литического будущего несовершенного вида, образуемого в рус-
ском языке при помощи глаголов служебных или полуслужебных:
буду, стану, начну.
В. В. Виноградов в книге «Русский язык» рассматривает все
три конструкции в параграфе, озаглавленном «Описательные
(«аналитические») формы будущего времени несовершенного вида».17
Однако такой формой он считает, по-видимому, только бубу+ин-
финитив (буду учиться, буду вести себя хорошо). «Прямая про-
тивопоставленность этой формы будущего времени настоящему
очевидна. В русском языке не укрепилось и не развилось других
аналитических форм будущего времени. . . .буду не присоединяет
никаких дополнительных лексических значений к сочетающемуся
с ней инфинитиву, кроме значения будущего времени. Поэтому
в буду читать нельзя видеть свободного сочетания двух слов или
двух форм. Это одна сложная (аналитическая) форма будущего
времени глагола читать, это целостное грамматическое единство.
. . .Между тем в таких словосочетаниях, как начну говорить,
стану говорить, раздельность и относительная самостоятельность
составных элементов гораздо заметнее: оттенки приступа к дей-
ствию, начала его течения и перехода в осуществление, выражае-
мого формами начну или стану, потенциально отделяются от
обозначения самого действия в форме инфинитива». Следуют
примеры: Я не стану жаловаться,... Стану рассказывать...
(Тургенев); Завтра начну работать — как завтра начну ра-
боту.
Между тем стану и начну с инфинитивом тоже представляют
разные ступени грамматизации. В сочетании завтра начну рабо-
тать глагол начинать действительно сохраняет полноту своего
предметного значения, как в примере начну работу. Напротив,
стану в значении вспомогательного (точнее — полувспомогатель-
ного) глагола в форме аналитического будущего времени изоли-
ровано от всех прочих значений этого глагола (стать в значении
'сделаться5, 'становиться5). Словари Д. Н. Ушакова, С. И. Оже-
гова (в последних изданиях), Малый академический словарь вы-
деляют стать как «вспомогательный глагол с инфинитивом»,
Д. Н. Ушаков — в качестве отдельного (по счету 5-го) значения
этого глагола, С. И. Ожегов и Малый академический словарь —
89
в качестве его омонима.18 При этом не только стану с инфинити-
вом (стану жаловаться) изолировано но значению от обычного
стать большим, стать ученым ('сделаться’), но и прошедшее
с инфинитивом стал жаловаться имеет значение 'начал жало-
ваться’ (что словарями не отмечается). Отсюда следует особый
характер стану с инфинитивом в значении 'буду’ (будущего вре-
мени), наиболее ярко выступающий в некоторых примерах, при-
водимых всеми словарями, где эта форма употребляется парал-
лельно с другими формами будущего несовершенного или совер-
шенного вида: Стану сказывать я сказки, песенку спою (Лермон-
тов, «Казачья колыбельная песня»); Не стану есть, не буду слу-
шать, умру среди твоих садов (Пушкин, «Руслан и Людмила»).
Л. А. Булаховский, который в своем «Курсе» упоминает «буду-
щее несовершенного вида» в числе «аналитических форм спряже-
ния», отмечает наличие в ряде случаев особой стилистической
окраски: «реже» (чем буду), «(вносит) некоторый колорит народной
речи или оттенок эмоциональности»: Стану думать, что скучаешь
ты в чужом краю (Лермонтов, там же).19
Таким образом, глагол стану с инфинитивом более грамматизо-
ван, чем начну.
С другой стороны, глагол буду в составе формы будущего не-
совершенного вида в сущности не отличается по своему значению
от буду как связочного глагола в именном сказуемом. Ср. буду
взрослым, буду профессором — как буду писать (значение целого
равно значению частей, как в примерах В. В. Виноградова начну
работать — начну работу). Различие между буду — стану, и
в особенности начну, заключается лишь в большей абстрактности
(«грамматизованности») значения вспомогательного глагола, пол-
ностью утратившего всякое предметное значение, тогда как стану,
хотя и изолированное по своему значению в качестве полувспомо-
гательного глагола, занимает в этом отношении промежуточное
положение.
Раздельность значения элементов отличает русскую форму
аналитического будущего я буду писать от франц, je vais ecrire
'я напишу (в ближайшее время»’, 'собираюсь писать’, которое
в целом отнюдь не обозначает, в соответствии с исходным значе-
нием вспомогательного глагола, 'я пойду писать’; или от англ.
I shall write 'я напишу’, которое утратило исходное значение
'я должен писать’; тем более от форм аналитического прошедшего
типа нем. ich habe geschrieben 'я написал’, франц, j’ai ecrit и т. п.
В этих последних случаях, в отличие от будущего времени буду
писать, мы можем констатировать большую степень объединения
элементов аналитической глагольной конструкции, поскольку
значение целого как грамматического единства здесь действительно
отличается от суммы значения его частей. (
Таким образом, критерии большей или меньшей степени грам-
матизации могут оказаться различными и для разных языков,
и в разных аналитических формах.
90
II
Аналитические формы слова, характерные для новоевропей-
ских языков, не сразу попали в сферу изучения грамматической
науки. “
^Грамматическая теория сложилась у европейских народов под
влиянием изучения и преподавания так называемых «классиче-
ских языков», латинского и греческого, в особенности первого, —
языков флективного типа, выражающих грамматические отноше-
ния главным образом (хотя и не исключительно)20 с помощью
аффиксов на конце слова. По образцу латинских грамматик были
составлены и первые грамматики новоевропейских языков.
Возникновение в начале XIX в. сравнительно-исторического
языкознания прибавило к этим языкам еще третий «классиче-
ский» — санскрит, тоже язык в высокой степени флективный.
Романтическое языкознание времен Гриммов, из которого вышла
сравнительная грамматика, рассматривало, как известно, богат-
ство флективных форм древних индоевропейских языков как
признак их формального совершенства, а распад флексий и ре-
дукцию грамматических форм — как деградацию, лишь частично
возмещаемую «внешними» (т. е. аналитическими) средствами.
Этой точки зрения еще в середине XIX в. придерживался А. Шлей-
хер. «Доказано, — писал он, — что в историческую пору языки
регрессируют. . . .Утрата падежей и замена их предлогами сви-
детельствует об обеднении и деградации».21
Лингвистический позитивизм младограмматиков положил в тео-
рии конец этой идеализации флексии как единственного средства
выражения грамматических отношений. Рядом с аффиксацией
в качестве таких средств получают признание звуковые чередова-
ния («внутренняя флексия»), ударение и интонация, порядок слов
и служебные слова. Однако на практике, Поскольку основной
задачей диахронической лингвистики у младограмматиков явля-
лась реконструкция праязыковых архетипов, фонетических и
морфологических, и их дальнейшего закономерного развития
в историческую пору существования языков, историческая и
сравнительная морфология индоевропейских языков ограничи-
валась в основном историей флексий и словообразовательных
суффиксов (т. е. приемов аффиксации).
Положение это меняется в XX в. В это время намечается пере-
ход к тому, что может быть названо «лингвистическим модерниз-
мом»,22 т. е. к научному изучению грамматики современных евро-
пейских языков^ Но грамматическая система этих языков, с харак-
терным для н^е широким развитием аналитических форм, не укла-
дывалась в традиционные категории и термины грамматики клас-
сической (в основном латинской). Возникла новая задача — науч-
ного описания и систематизации всей сложной совокупности
грамматических средств новоевропейских языков. Узкий «морфо-
91
логизм» классической грамматики стал восприниматься как пре-
пятствие для анализа реальных грамматических отношений.
Вместо многочисленных в начале XX в. высказываний на эту
тему специалистов по современному французскому, немецкому и
в особенности английскому языку мы приведем только два, до-
статочно показательных.
Первое принадлежит историку французского языка Ферди-
нанду Брюно: «Научная задача, стоящая перед преподаванием "
языка на более высоком уровне, заключается в том, чтобы пред-
ставить наш язык так, как он существует на самом деле, со всеми
его оттенками, непоследовательностями, постоянным смешением
элементов, таким же сложным, как все в природе, а не редуциро-
ванным, упрощенным, выстроенным по линейке, как в лженауке.
. . . Я не буду спорить о том, насколько план грамматики, приня-
той для греческого языка, подходит во всех отношениях для этого
последнего. . . Во всяком случае, в применении к такому аналити-
ческому языку, как наш [французский], он потерял почти всякое
значение и является только архаизмом. . . Востоковеды также
говорили мне. . . , что в приложении к языкам других семейств
он часто стесняет их исследования; наши он парализует, как
я постараюсь показать ниже».23
Сходным образом высказывается немецкий филолог Макс
Дейчбейн, автор «Системы новоанглийского синтаксиса» (System
der neuenglischen Syntax, 1917), на частном примере аналитиче-
ских форм английского глагола: «Одним из крупных препятствий
для исследования синтаксиса новоанглийского языка, оказавшимся
роковым, является то обстоятельство, что богатое, чрезвычайно
обильное развитие видов в современном английском языке не
признают и даже не хотят признавать. Причина лежит в том,
что наше языковое чувство, воспитанное на классических языках,
склонно находить вид и наклонение только там, где они выражены
синтетическим путем, как это по большей части имеет место в язы-
ках классических. Если же новоанглийский выражает наклоне-
ние и вид (и времена) аналитическим путем, то существование
наклонения и вида в новоанглийском просто отрицается».24
Дейчбейн, как и Брюно, в своих новых методах грамматического
анализа идет от грамматических значений к различным формам
их выражения, исходя по существу из абстрактных логико-
психологических категорий языка, «понятийных категорий» (ra-
tional categories), согласно термину, впервые выдвинутому О. Ес-
персеном.25 Соответственно этому Дейчбейн устанавливает в ан-
глийском глаголе 8 видов (итератив, фреквентатив, инкоатив,
интенсив, континуатив, перфектив, имперфектив и каузатив)
и 4 наклонения, с дальнейшими подразделениями (когитатив,
оптатив, волунтатив, экспектатив).26 Среди средств выражения
этих видовых и модальных значений в одном ряду с флексиями
указываются в различной степени грамматизованные, во многих
случаях вовсе не грамматические сочетания инфинитива с гла-
92
голами служебными, связочными или просто знаменательными,
имеющими видовое или модальное лексическое значение (типа
'начинать’, 'кончать’, 'желать’ и т. п.), глаголы с префиксами и
постфиксами (to look — to look up), парные глаголы разного
корня, близкие по своему предметному значению, но различаю-
щиеся по видовой направленности (to know 'знать’ — to learn
'узнать’), наречия, характеризующие действие с временной (ви-
довой) или модальной точки зрения (ср. 'постоянно’, 'часто’,
'охотно’ и т. п.). Например, «инкоатив»: you аге getting old 'вы
стареете’ ('становитесь старым’), he turned pale 'он побледнел’
('сделался бледным’); «итератив»: he goes to Germany once a year
'он ездит в Германию раз в год’; «фреквентатив»: he would sit for
hours doing nothing 'он мог сидеть часами, ничего не делая’ и т. п.
По тому же принципу построены соответствующие разделы в «Ан-
глийской грамматике» Дж. Керма: рядом с грамматическими и
полуграмматическими средствами выражения видовых и модаль-
ных отношений глагола стоят, без какой-либо дифференциации,
синтаксические (словосочетания с неграмматизованными знаме-
нательными глаголами), словообразовательные и чисто лексиче-
ские.27
Таким образом, статья проф. С. Д. Кацнельсона «О граммати-
ческой категории» (1948),28 которая в годы, последовавшие за
лингвистической дискуссией 1950 г., сделалась предметом
ожесточенных, часто совершенно несправедливых нападок, как
крайнее проявление «марризма» в теории языкознания, с припи-
сываемой ему «переоценкой семантики» и «порочным смешением»
морфологии и синтаксиса, грамматики и лексикологии, в сущности
выражала идеи, имевшие широкое хождение в языкознании первой
половины XX в., как зарубежном, так и советском (как будет
показано ниже). Здоровой и творческой мыслью, лежащей в основе
этой статьи, является протест против «фетишизма флективной
формы» («формы отдельного слова») и понятие «нефлективной
морфологии»,29 которая рассматривается автором прежде всего
в формах «синтаксической морфологии» (если воспользоваться
термином В. В. Виноградова). При этом, однако, С. Д. Кацнель-
сон (как и некоторые его предшественники на Западе, отнюдь
не бывшие «марристами») допустил в своей фактической экземпли-
фикации чрезмерно расширительное толкование грамматики,
включив в нее также ряд бесспорно лексических явлений, ли-
шенных какого бы то ни было признака грамматизации: например,
такие, по его терминологии, «видовые слова», как наречия уже,
вдруг, неожиданно, мгновенно или «залоговые» служебные гла-
голы вроде заставить, побудить, заниматься и т. п.30
Критика узко флективного подхода к «грамматическому уче-
нию о слове» характерна и для вышедшей около того же времени
книги В. В. Виноградова «Русский язык» (1947).
«Морфологические формы, — утверждает автор, — это отстояв-
шиеся синтаксические формы. Нет ничего в морфологии, чего
93
нет или прежде не было в синтаксисе и лексике. История морфоло-
гических элементов и категорий — это история смещения синтак-
сических границ, история превращения синтаксических пород
в морфологические. Это смещение непрерывно. Морфологические
категории неразрывно связаны с синтаксическими. В морфологи-
ческих категориях происходят постоянные изменения соотношений,
и импульсы, толчок к этим преобразованиям идет от синтаксиса.
Синтаксис — организационный центр грамматики. Грамматика,
имманентная живому языку, всегда конструктивна и не терпит
механических делений и рассечений, так как грамматические
формы и значения слов находятся в тесном взаимодействии с лек-
сическими».31
С этих позиций В. В. Виноградов в первом издании этой книги
(1938), давая обзор русских грамматических теорий дореволю-
ционного времени, выступил с развернутой методологической
критикой морфологизма акад. Ф. Ф. Фортунатова и его
школы:
«Морфология в русском языке все более скрещивается с син-
таксисом и семантикой, и функционально-синтаксический способ
формирования поздних или вновь возникающих грамматических
категорий становится преобладающим. Фортунатов стремился
механически и прямолинейно отсечь не только морфологию от
синтаксиса, но и грамматику в целом от лексикологии и семантики.
Здесь коренились причины его борьбы против «ошибочного сме-
шения грамматических классов отдельных ли слов, или сочетаний
слов с классами того, что обозначается или выражается отдель-
ными словами или сочетаниями слов».32 Грамматическая форма
в фортунатовской концепции открыто противополагалась семан-
тической структуре слов и искусственно абстрагировалась от
нее».33
В книге В. В. Виноградова «Русский язык» большое внимание
уделяется «аналитическим формам» слова, т. е. выражению раз-
личных грамматических категорий с помощью аналитических
конструкций, в разной степени грамматизованных. Сюда отно-
сятся: «Описательные, аналитические формы степеней сравнения»
(с. 243—245); «Виды аналитического выражения категорий лица»
(с. 468—471); «Описательная («аналитическая») форма будущего
несовершенного вида» (с. 569—570); «Мысли об аналитических
и синтетических формах русских наклонений в русских граммати-
ках второй половины XIX в.» (с. 583—584); «Совмещение элементов
аналитического , синтетического и агглютинативного строя в рус-
ской глагольной системе» (с. 651—662); «Развитие аналитического
строя и изменение функции предлогов» (с. 695—700).31
Широта и содержательность трактовки категорий вида, за-
лога и в особенности наклонения в этой книге создается привле-
чением обширного круга в разной степени грамматизованных
средств, служащих в русском языке для выражения этих катего-
рий.
1Н
В связи с проблемой нефлективной морфологии следует отме-
тить цитируемую в «Русском языке» В. В. Виноградова (с. 660,
прим. 272) интересную и вместо с тем чрезвычайно показатель-
ную работу конца 1930-х годов — краткое изложение кандидат-
ской диссертации В. П. Сухотина, защищенной в 1938 г. в Мос-
ковском университете: «Синтаксическая роль инфинитива в сов-
ременном русском языке».35
В. П. Сухотин рассматривает аналитические конструкции с ин-
финитивом очень широко и недифференцированно, в известном
смысле приближаясь в этом отношении к ранее цитированным
зарубежным синтаксистам. Здесь среди видовых конструкций
приводятся «инкоативные» (начинательные) с глаголами стать,
начать, броситься, кинуться («возникновение явления»); «резуль-
тативные» с глаголами кончать, бросить, перестать и др. («пре-
кращение явления»); среди модальных — сочетания инфинитива
с глаголами хотеть, желать, намереваться, пытаться, собираться,
готовиться, предполагать, думать, стараться («желание, наме-
рение, стремление произвести какое-нибудь действие»); с безлич-
ными глаголами приходится, остается, следует, стоит, пред-
стоит, суждено, случается («необходимость какого-нибудь явле-
ния»); соединения с предикативными связками типа нельзя, можно,
нужно, должно, необходимо, жаль, пора; «с помощью было и бу-
дет конструкция эта получает возможность выражать и вре-
менные значения» (нужно было читать, нужно будет читать)
и т. д.
Вывод автора гласит: «Инфинитив вошел в систему глагола
потому, что морфологических средств (форм глагола) оказалось
недостаточно для того, чтобы выражать богатство и разнообразие
модальных, видовых и временных значений. Это восполнилось
в русском языке средствами синтаксическими с помощью инфи-
нитива. . . Таким образом в языке совершается как бы возмеще-
ние недостающих ему морфологических средств синтаксическими
или аналитическими средствами. Неоспоримый факт утраты ве-
щественного значения, с которым соединяется инфинитив („поблед-
нение глагола44), заставляет нас поставить следующий вопрос:
не находимся ли мы у истоков образований новых морфологиче-
ских категорий, новых слов, основой которых будет инфинитив,
а формальной принадлежностью — глагол, превратившийся
в связку»,36 — иными словами, аналитических конструкций.
Было уже сказано выше, что В. П. Сухотин в этой статье под-
ходит к своему материалу недифференцированно, не различая
степень «утраты вещественного значения» («побледнения») глаго-
лов, обозначающих вид или наклонение своим прямым лексиче-
ским содержанием. Однако необходимо признать, что подобного
рода поиски в области инфинитивных конструкций с глаголами
широкой семантики, имеющими лексическое значение видовости
или модальности, могут быть весьма полезны для выяснения
тенденций развития языка и прежде всего широкого круга
95
словосочетаний, из которых путем большей или меньшей грам-
матизации могут развиться аналитические формы указанного
типа.
Позднее в своей известной статье «Проблема словосочетаний
в современном русском языке»,37 построенной в части материала
на тех же инфинитивных конструкциях, В. П. Сухотин основа-
тельно пересмотрел этот материал с точки зрения более строгого
отбора «побледневших» (т. е. грамматизованных) глаголов. Харак-
терно, однако, что в этом сборнике, составленном, так сказать,
на переломе двух эпох в истории советского языкознания (конец
1950 г.), он полностью сохраняет прежние теоретические выводы,
представляющиеся в данном контексте особенно важными.
«Наряду с этими лексикализованными единствами (т. е.
с фразеологизмами разного рода) русский язык располагает
большим числом „морфологизованных единств44, т. е. таких
синтаксических построений, которые аналитически, описатель-
ным путем передают те или иные грамматические понятия.
Это — аналитические формы времени, вида и наклонения (буду
писать*, стану писать*, начал, кончил говорить*, собираюсь,
пытаюсь, намереваюсь, хочу заниматься), степеней сравнения
(более — менее, самый добрый) и многие другие „грамматические
идиоматизмы44 и „аналитические словосочетания44, о которых
упоминает акад. В. В. Виноградов в книге „Современный русский
язык44. Если прибавить эти аналитические и лексикализованные
единства, то факт взаимодействия и взаимопроникновения слово-
сочетания и слова как синтаксического и лексического начал
станет еще более убедительным и непреложным».38
Характерны и общие теоретические позиции автора, который
выступает, вслед за В. В. Виноградовым, против «механического
толкования связи элементов языка и сознания в концепции Фор-
тунатова» — против отрыва «грамматического» от «неграммати-
ческого».39
Если мы обратимся теперь от «Русского языка» В. В. Вино-
градова (1947) к вышедшей под его общей редакцией после 1950 г.
академической «Грамматике русского языка» (1953—1954), то кон-
траст будет совершенно разительным. Вся проблематика «нефлек-
тивной морфологии», определившая творческое своеобразие пер-
вой книги, здесь совершенно отсутствует. Термин «аналитическая
форма» или «конструкция» вообще не встречается (можно сказать,
«табуирован»). Изложение грамматических фактов потускнело,
стало традиционным и школьным. В книге торжествует фортуна-
товский морфологизм, получивший неожиданную поддержку в так
называемом «сталинском учении о языке». Следует учесть, что
в определениях И. В. Сталина границы между лексикой и грам-
матикой, морфологией и синтаксисом очерчены гвоздем.
Под влиянием взглядов И. В. Сталина морфологизм становится
«марксистским учением о языке».
96
in
Новое направление вскоре сказалось не только на трудах но
русской грамматике, но и на изучении аналитических конструкций
в современных западноевропейских языках, в особенности в не-
мецком и английском.
Показательна в этом отношении прежде всего интересная
и содержательная статья проф. М. М. Гухман об аналитических
глагольных конструкциях, построенная на материале немецкого
языка, но имеющая общее методологическое значение.40
Статья направлена против «смешения морфологических и син-
таксических явлений»,41 типичного, по мнению автора, не только
для акад. Н. Я. Марра и его школы, но также для многих предста-
вителей современной зарубежной лингвистики.
В основе этого смешения лежит «недооценка слова, этого
строительного материала языка, непонимание того, что слово
со всей совокупностью своих форм выступает как целостная
лексико-грамматическая система, не исчезающая и не растворяю-
щаяся в предложении. . . .Принципиальное и общее разграниче-
ние объектов изучения важнейших разделов грамматики, морфо-
логии и синтаксиса является неоспоримым достижением советс-
кого языкознания».42
Автор цитирует по этому вопросу классически четкие опреде-
ления академической «Грамматики русского языка» (изд. 1952 г.,
т. I, с. 15 и 13): «Предметом морфологии в строгом смысле слова
является изучение правил изменения слов, иначе говоря, выясне-
ние способов образования разных форм одного и того же слова».
«Способы организации слов в словосочетание и в предложение,
а также типы предложений, их значения и условия употребления
составляют предмет другого отдела грамматики — синтаксиса».43
Это восстановление флективной морфологии увенчивается
ссылкой на Ф. Ф. Фортунатова, резко контрастирующей по своей
оценке с недавними высказываниями В. В. Виноградова: «В оте-
чественном языкознании конца XIX и начала XX в. попытки
найти критерии для определения специфики морфологии и син-
таксиса связаны преимущественно с работами Ф. Ф. Фортунатова
и его школы».44
Поискам этих «критериев» для аналитических глагольных
конструкций и посвящена в основной своей части данная статья.
Аналитические конструкции определяются М. М. Гухман как
«устойчивые неразложимые сочетания частичного и полного
слова»4* (тёрмин «частичное» слово в значении служебного при-
надлежит Ф. Ф. Фортунатову и его школе). Неразложимость эта
выступает в двух планах: в лексич^упм и грамматическом.
Лексическая сторона этой «идилмятипности» обтлепявестня (ср.
habe geschrieben 'написал’). Существенно новым и правильным
является указание автора на грамматическую неразложимость
аналитических сочетаний: в конструкции ich habe geschrieben
7 В. М. Жирмунский 97 '
ея написал5 значение прошедшего времени не заключено в вспо-
могательном глаголе habe (форма настоящего времени), оно
определяется сочетанием с причастием II geschrieben, которое, /
со своей стороны, теряет в*Ътом объединении значение страдатель-/
ного залога ('написан’), присущее ему в самостоятельном упот-У
реблении. 1
Признаком неразложимых фразеологических единиц идио-
матического характера является их единичность и неповторимость,
ограниченная специфической лексической сочетаемостью их ком-
понентов. Напротив, -грамматические стандарты (мы сказали бы
теперь «модели»), обладающие всеми признаками грамматической
абстракции, отвлекаются от лексической конкретности, становясь
более или менее универсальными., «Возможность образования
подобных сочетаний стандартного типа с обобщенным граммати-
ческим значением от больших групп глаголов, независимо от
конкретного лексического значения отдельных глагольных еди-
ниц, является в свою очередь одним из признаков аналитической
конструкции, что выдвигает ее как соотносительный элемент
ряда словоизменительных форм глагола».46
В результате детального рассмотрения аналитических конст-
рукций немецкого глагола в историческом прошлом (предшествую-
щем их грамматизации) и в современном языке М. М. Гухман
выдвигает следующие четыре «критерия» для этих конструкций
в их качественном своеобразии:/!) ^особую взаимосвязанность
компонентов, создающую их реальную неразложимость; 2) «идио-
матичность» (в указанном выше смысле) как основу этой нераз-
ложимости; 3) охват всей лексической системы глаголов в
данном языке; 4) включенность в систему соотносительных
форм любого глагола в качестве элементов парадигматического
ряда.47
К этим четырем признакам можно было бы добавить пятый,
отмечаемый многими другими авторами:48 подчинение более
слабого ударения служебного слова более сильному знаменатель-
ного, бо71гп юти метгее значительное атонирование, нередко со-
провождаемое редукцией, в особенности в энклитическом поло-
жении (там, где такое положение возможно). В таких случаях,
как уже было сказано выше (с. 85), служебное слово легко
превращается в флективный аффикс и аналитическая конструкция
в целом — в морфологическую форму слова.\
В результате приложения своих четырех критериев к сложным
формам немецкого глагола М. М. Гухман признает аналитиче-
скими только следующие конструкции:
1. форма сложного прошедшего с вспомогательными глаголами
haben и sein: iclrtacbe geschrfeben гя написал7, ich IfattcFgeschrie-
ben 'я писал (прежде)’; ich bin gelaufen 'я бежал’; ich war gelaufen
я бежал (прежде)’ и т. п.;
2. будущее вдемя^с—всппмогательнктм. глаголом werden: ich
werde зсЬгейУшГянапишу’;
98
3. пассив с глаголом werden: die Tur wird geschlossen 'дверь
запирается (кем-тоТ^
Не упомянута (без особой мотивировки) форма сослагатель-
ного наклонения (Konditionalis) с конъюнктивом глагола werden:
ich wiirde schreiben 'я написал бы’ — форма бесспорно аналити-
ческая. Так называемый «пассив состояния» (Zustandspassiv)
с глаголом sein 'быть’ (die Tur ist geschlossen 'дверь заперта’)
признается простым предикативным словосочетанием, а не гла-
гольной формой, поскольку данная конструкция не является
неразложимой (см. ниже, с. 112—114).
По той же причине не имеют характера аналитических конст-
рукций сочетания модальных глаголов с инфинитивом знамена-
тельного глагола: ich will schreiben 'я хочу писать’, ich konnte
schreiben 'я мог бы писать’ — ich mochte schreiben 'я хотел бы
писать’ и др.
«Значение данного сочетания равно сумме значений его ком-
понентов и, следовательно, не идиоматично».^
«Модальный глагол, сохраняя в этих сочетаниях номинатив-
ную функцию, не обладает основным признаком частичного слова»
(см. ниже, с. 105—109). ч/
Отчетливо и несомненно правильно (см. ниже, с. ИЗ и сл.)
проводится граница между аналитическими конструкциями и имен-
ными сказуемыми со связочными глаголами: der Knabe ist mun-
ter — blieb munter — wird munter 'мальчик есть (оставался,
становится) таким-то’ ,49
О сочетаниях имени существительного с артиклем и предло-
гом автор говорит довольно неопределенно: «В других типах
сочетаний форм частичного и полного слова, например в предло-
жных конструкциях, в сочетании имени с артиклем возможны
иные структурно-семантические признаки».50 Однако, если мы
имеем и в этих случаях сочетания «частичного» и полного слова,
не являются ли эти сочетания, по вышеприведенному определению
автора, аналитическими конструкциями сво-
его рода?
О личных местоимениях как показателях лица при глаголе
не упоминается вовсе (может быть, потому, что личное место-
имение — не «частичное» слово?).
Тем не менее, несмотря на такую строгость отбора, сама
М. М. Гухман вынуждена признать, что формальные критерии
являются всего лишь «сопутствующими признаками внутреннего
изменения конструкции» (мы бы сказали — процесса граммати-
зацип и связанных с ним изменений значения). «Но эти внешне-
структурные сдвиги не имели решающего значения, а были лишь
сопутствующими признаками. . . Наиболее существенным в раз-
витии аналитических конструкций пз различного типа сочетаний
являются, следовательно, внутренние признаки».51
90
7*
Это важное положение о вторичном («сопутствующем») харак-
тере формальных критериев по сравнению с критериями «внутрен-
ними» мы можем иллюстрировать на следующем примере.
В сочетаниях глаголов haben и sein с причастием II, из кото-
рых' развились формы сложного прошедшего в немецком языке,
причастие в древненемецком (как и в других древнегерманских
языках) первоначально могло согласоваться в роде, числе и па-
деже в первом случае с объектом, во втором — с субъектом пред-
ложения. Ср.: phigboum habeta sum man gipflanzotan 'дерево
имел. . . посаженным’, arstorbana sint thie 'умершие суть те. . .’.
Позднее ^ превращением свободного синтаксического сочетания
в грамматизованную аналитическую конструкцию согласование
устраняется, причастие употребляется в несклоняемой форме:
Ср.: hatte gepflanzt 'посадил (раньше)’, sind gestorben 'умерли’.52
Сходным образом обстоит дело в новоанглийском языке, где,
однако, причастия (как и прилагательные) вообще не изменяются.
Ср.: I have yvritten 'я написал’, I am fallen 'я упал’. В сканди-
навских языках в сложных формах прошедшего с глаголом hava
употребляется соответственно так называемый «супин», пред-
ставляющий по своему происхождению несклоняемую форму
причастия с окончанием именительного (винительного) падежа
среднего рода сильного склонения. Ср. швед, jag har skrivit
'я написал’ (прич. II scrivinn).
Однако в языках итальянском и французском до сих пор в раз-
личной степени сохранилось согласование причастий, входящих
в состав аналитических конструкций этого типа. Ср. итал.: i га-
gazzi furono lodati 'мальчиков похвалили’, le donne sono uscite
'женщины вышли’, Lucia aveva avute due buoni ragioni 'Лючия
имела два убедительных основания’, una delle molte cose che
aveva studiate 'один из многих предметов, которые он изучил’
и т. п.53 Было бы неправильно на основании наличия такого
согласования переводить эти аналитические конструкции италь-
янского языка по образцу приведенных выше древненемецких
(букв, 'дамы были вошедшие’, 'предметы, которые он имел вы-
ученными’ и т. д.).
То же относится и к французскому литературному языку, где
закрепилась довольно сложная система правил «согласования
причастий» (accord des participes), притом не только в орфографии,
но и в литературном произношении. Ср.: une petite fille est venue
'девочка пришла’, les lettres qu’il m’a remises 'письма, которые
он мне передал’ и т. п.54
Как мы видим, наличие такого согласования не превращает
причастия в предикативные прилагательные и соответственно
всю конструкцию в свободное сочетание глагола сказуемого
с именным предикатом или объектом.
Пример этот показывает, что «критерии» грамматизации
в сущности представляют лишь вехи, намечающие конечные точки
В процессе развития. В разных языках и в конструкциях разного
too
типа они могут частью присутствовать, частью отсутствовать
в результате большего или меньшего продвижения в направлении
превращения словосочетания в аналитическую форму слова.
В. Н. Ярцева неоднократно выступала со статьями как методо-
логического, так и специального характера, посвященными слово-
сочетаниям в английском языке и их развитию в фразеологические
единства и аналитические конструкции.65 Итоги своим много-
летним исследованиям она подвела в книгах, посвященных исто-
рической морфологии и историческому синтаксису английского
языка.66
В сборнике «Против вульгаризации и извращения марксизма
в языкознании» (ч. II, М., 1952) В. Н. Ярцева выступила со ста-
тьей, направленной против «смешения лексики с грамматикой
в теории Н. Я. Марра» (с. 351—365). Соответственно этому в своих
последующих работах она также стремится строго отграничить
аналитические конструкции, с одной стороны, от лежащих в их
основе сложных сказуемых со связочными глаголами, с другой
стороны — от связанных фразеологических сочетаний различного
типа, широко представленных в современном английском языке.
В. Н. Ярцева признает существование аналитических конст-
руйЦий только в системе английского глагола. Предлоги при
существительных и личные местоимения при глаголах сознательно
исклютаютсягт^круга аналитических форм (см. ниже, с. 119 и
121—123У, об артиклях в^этой связи вообще не упоминается.
Из аналитических глагольных форм в систему глагольного
спряжения («парадигму» глагола) включены:
1. видов ременные фирмы пррфектя и длительного нпдя (Conti-
nuous): I have written ея написал’, I am writing 'я пишу’ ('на-
хожусь в состоянии писания’) и др.;
2. будущее время г модальными глаголами shall и will: I
shall write 'я напишу’, you will write 'вы напишете’ и т. п.;
3. условное наклонение с прошедшим (сослагат.) тех же гла-
голов shourdrif-woufdr^sliould write, I would write 'я написал бы’)
и т. д.
Все остальные «новообразования такого порядка выходят за
рамки собственно морфологии и должны изучаться в разделе
синтаксиса».57 «Сама „предистория“ аналитических глагольных
форм, т. е. тот период, когда они еще являлись словосочетаниями»,
также, по мнению автора, «лежит за пределами морфологии и яв-
ляется объектом изучения для синтаксиса».68 Соответственно этому,
включив в свою «Историческую морфологию» специальную главу
«Развитие аналитических форм» (с. 118—163), В. Н. Ярцева
в «Историческом синтаксисе» нашла место для других, неаналити-
ческих глагольных сочетаний в не менее обширной параллельной
главе, посвященной сложным сказуемым различного типа
(«Структура сказуемого», с. 64—133).
Критерии превращения словосочетания в аналитическую кон-
струкцию, выдвигаемые В. Н. Ярцевой, сходны с теми, которые
101
пыталась наметить М. М. Гухман, хотя они формулированы
на другом материале и в других терминах. Основными из них
являются стабильность, универсализация, включение в систему
(«парадигму^}?’'' ------------
* «Это "Доказывает вся история развития сложных глагольных
времен, вышедших из глагольных словосочетаний, от которых
они отличаются только устойчивостью грамматической структуры,
унификацией связочного глагола (ставшегц вспомогательным)
и грамматико-семантической неделимостью».59! «Важным моментом
здесь является то, что данный вспомогательный глагол употреб-
ляется в определенном сочетании для выражения одной определен-
ной__грамматической категории (например, показывает только
пассивность, или только перфективность, или только будущее
время), а также то, что его употребление вполне единообразно
и формы сложного глагольного времени, образованного с ним,
составляют определенную систему. . . Иногда критерием такого
перехода может служить возможность употребления данного
связочного глагола в смысле, противоположном его первоначаль-
ному лексическому значению».60
Не отрицая важности этих критериев грамматизации, следует
учесть процессуальный характер этого развития, иногда полного,
иногда только частичного.
Гораздо более широкий и гибкий подход к проблеме аналити-
ческих конструкций в скандинавских языках обнаруживают
С. С. Маслова-Лашанская и М. И. Стеблин-Каменский.
Выше было уже сказано (с. 87), что М. И. Стеблин-Камен-
ский рассматривает сочетание всякого служебного слова с знаме-
нательным как «морфологическое словосочетание» и относит его
к морфологии.61
К аналитическим формам будущего I он причисляет не только
инфинитивные конструкции с модальными по своему исходному
значению глаголами ville, skulle, но также с «вспомогательным»
глаголом komme til 'случаться5. Ср. fabrikken kommer til a koste
sju millione krone 'фабрика будет стоить 7 миллионов крон’.
«Элементы морфологического сочетания, каковым является
будущее I в норвежском языке, обладают значительно большей
смысловой самостоятельностью, чем элементы норвежского пер-
фекта» (пример последнего: har kastet 'бросил’ от глаг. kaste
'бросать’). «В ряде случаев сочетания wil, skal или kommer til
с инфинитивом I имеют модальное значение, обусловленное зна-
чением входящего в его состав модального глагола — желания
(vil), долженствования (skal), случайности или необходимости
(komme til). В этих случаях они являются не глагольной формой,
а модальным оборотом».62 (Мы сказали бы: они менее грамматизо-
ваны).
Тем не менее автор включает эти обороты как аналитические
в морфологию. Так же поступает и С. С. Лашанская с будущим I,
образованным в шведском языке с глаголами skola+инфинитие
102
и komma+инфинитив с att, несмотря на то, что первая конструк-
ция «часто выражает дополнительные оттенки долженствования,
обещания».63
В число аналитических форм будущего II и будущего в про-
шедшем II автор «Грамматики норвежского языка» включает
не только обороты с настоящим и прошедшим тех же глаголов
ville и skulle и инфинитивом II знаменательного глагола (ср. vil
ha kastet, ville ha kastet), но также эквивалентные им по значе-
нию сочетания настоящего и прошедшего вспомогательного гла-
гола fa (исходное значение 'начинать5, ср. нем. an-fangen) с при-
частием II знаменательного глагола (ср. far kastet, fikk kastet).
При этом формы с ville и skulle могут быть в известных случаях
«модальными оборотами», выражающими желание и долженство-
вание, а также «формой сослагательного наклонения».64
Страдательный залог может выражаться в скандинавских
языках, кроме флективной формы на -$ (из суффигированного
возвратного местоимения sek 'себя5, ср. русск. -ся), также ана-
литическими формами с «вспомогательным» (по своему происхож-
дению связочным) глаголом ЬИ (с исходным значением 'оста-
ваться’, ср. нем. bleiben) или с глаголом быть (voere) !и прича-
стием II знаменательного глагола. Ср.: blir kastet 'брошен’,
Me kastet 'был брошен’ (или er kastet, var kastet) и др.65
С. С. Лашанская в особом добавлении упоминает также зало-
говые обороты с побудительным значением, образованные глаго-
лами lata 'заставлять’ (ср. нем. lassen 'оставлять’) или komma
'приходить’ (ср. нем. kommen 'приходить’) и инфинитивом. На-
пример: ordforende lat upplasa protokollet 'председатель распоря-
дился прочесть протокол’ (нем. lie(i vorlesen), ett haftigt bul-
ler. . . komm ha att lysna 'звуки громких голосов заставили его
прислушаться’ (последний оборот употребляется, когда источни-
ком действия служит не лицо, а явление).66
Аналитическими формами сослагательного наклонения
М. И. Стеблин-Каменский считает сочетания презенса и претерита
вспомогательного глагола skulle, а также претерита глагола ville
(модальных глаголов) с инфинитивом I и II знаменательных гла-
голов. Ср. skal lese, skulle lese, skulle (ha) lest; ville lese, ville
(ha) lest' прочитал бы’. «От аналитической формы сослагательного
наклонения, — уточняет он и здесь, — следует отличать совпа-
дающие с ними модальные обороты, от которых оно отличается
тем, что входящий в его состав модальный глагол полностью
утратил свое лексическое значение»67 (т. е. подвергся полной
грамматизации).
«Модальные обороты» (т. е. словосочетания менее граммати-
зованные) рассматриваются тем же автором в синтаксисе в раз-
деле модальных конструкций с инфинитивом. При этом правильно
отмечаются не только особенности форм как таковые, но и тен-
денции их развития.
103
«Глагол в модальном обороте выражает не действие, а отно-
шение к действию. В силу этого все сочетание в целом имеет зна-
чение не действия по отношению к другому действию, а просто
отношение к действию, т. е. его необходимость, желательность,
возможность и т. д. Обычно модальный глагол
вне модального оборота не употребляется
или не имеет того значения, которое он
имеет в модальном обороте. Это способствует
тесному объединению элементов сочетания. Инфинитивная
частица в модальном обороте, как правило,
опускается. Это обеспечивает более тесное примыкание
инфинитива к глаголу и является внешним проявлением смысло-
вого объединения элементов сочетания».68 Однако напомним, что
после «вспомогательного» глагола komme в будущем I упот-
ребляется инфинитивная частица d (komme d kosta f будет
стоить’).
«Эта тенденция модального оборота к сближению с морфоло-
гическим словосочетанием, т. е. к грамматизации, заставляет
некоторых грамматистов относить его рассмотрение в морфологию,
а именно в тот ее раздел, в котором рассматриваются наклонения,
— глагольная категория, близкая по своему значению к модаль-
ному обороту. Однако в той мере, в какой модальный глагол
все же сохраняет, хотя в некоторых случаях не полностью, свое
лексическое значение, т. е. является глаголом знамена-
тельным (или в некоторых случаях «полузнаменательным»),
теоретически правильнее рассматривать модальный оборот в син-
таксисе, а не в морфологии. Тенденция знаменательного слова
к грамматизации не есть грамматизованность в собственном смы-
сле слова».69
Добавим, что предложные словосочетания оба автора рас-
сматривают в отделе синтаксиса.
Вряд ли можно думать, что столь разительное различие
в трактовке аналитических глагольных конструкций у советских
англистов и германистов, с одной стороны, и у скандинавистов,
с другой, объясняется специфическими различиями языкового
материала. Различным здесь является метод — более узкое или
более широкое понимание явлений «грамматизации», их «процес-
суального» характера.
Подтверждением этого положения может служить небольшая
датская грамматика И. Г. Васильевой, изданная Московским
университетом.70 Здесь в таблице глагольного спряжения (с. 8),
как и в самом тексте, из перечисленных выше аналитических
глагольных конструкций скандинавских языков нашли себе место
только будущее время с глаголами vil и skal и страдательный
залог с глаголами blive (voere). Отсутствие синтаксического
раздела не позволяет судить о трактовке автором других конст-
рукций с инфинитивом.
104
IV
Мы не имеем возможности за недостатком места дать полный
обзор аналитических и «полуаналитических» форм в современных
германских и романских языках. Поэтому мы остановимся лишь
на нескольких наиболее спорных переходных случаях в глаголь-
ном и именном словоизменении, обсуждение которых может
представить методологический интерес. Сопоставление аналогич-
ных явлений в разных языках будет служить свидетельством
закономерности процессов грамматизации и в то же время нали-
чия существенных различий в этих процессах, связанных с свое-
образием грамматической системы данного языка.
1. Дискуссионный характер имеет вопрос об аналитическом
характере конструкций с модальными г л а -
голами + инфинитив типа нем. ich will (wollte) schrei- /'
ben, ich soli (sollte) schreiben, ich kann (konnte) schreiben, ich/£\f
mu(i (mupte) schreiben, ich mochte schreiben.
Специалисты по немецкому языку склонны отрицать принад-
лежность этих словосочетаний к числу аналитических.
Так, М. М. Гухман считает, что «подобные словосочетания не
являются аналитическими конструкциями», потому что «значение
данного сочетания равно сумме его компонентов и следовательно
не идиоматично. . . .Сочетание модальный глагол+инфинитив
рассматривается поэтому нами как особый тип составного (гла-
гольного) сказуемого, оба компонента которого являются пол-
ными словами».71
К этой точке зрения присоединяются Л. Р. Зиндер и Т. В. Стро-
ева: «В функции сказуемого широко распространены словосочета-
ния с модальными глаголами, выражающими отношение носителя
действия к действию: его способность, желание или необходимость
для него совершить действие. Таким образом, такое словосочета-
ние аналогично по своей функции одному из наклонений. . .
Необходимо подчеркнуть, однако, что в данном случае нельзя
говорить о какой-нибудь сложной форме глагола, поскольку
модальные глаголы сохраняют в этих словосочетаниях свое
лексическое значение».72
Между тем модальные глаголы существенно отличаются от
обычных знаменательных целым рядом особенностей своего зна-
чения, грамматической структуры и употребления.
1) По своей функции они эквивалентны наклонениям, хотя
и имеют более конкретное (частное) значение; в процессе истори-
ческого развития они вытесняют и заменяют наклонения, диф-
ференцируя их значение.
2) По своему значению в сочетании с знаменательными глаго-
лами они не самостоятельны, а служат для обозначения модаль-
ного оттенка действия того глагола, к которому они относятся;
вообще они крайне редко употребляются без инфинитива (почти
105
только как заместители предложения. Ср.: Willst du mit mir ge-
hen? — Ja, ich will).
3) По своей грамматической форме немецкие модальные гла-
голы образуют особую группу, со своим типом спряжения; исто-
рически эта группа восходит к категории претеритопрезентных
глаголов, но в процессе исторического развития она - подверглась
целому ряду формальных преобразований (в немецком языке,
например, умлаут как признак модальности в инфинитиве и мно-
жественном числе настоящего времени). К этому морфологическому
типу примкнул сходный по функции модальный глагол wollen
(ср.: wollen — wollte, как sollen — sollte; так же англ, проги,
вр. would, could как should); с другой стороны, из него выделился,
унифицировавшись по общему типу слабого спряжения, ряд гла-
голов, не имевших значения модальных (taugen, gonnen и др.).
Инфинитив и причастие II от этих глаголов хотя и существуют,
но малоупотребительны, как и образованные от них сложные
глагольные формы (невозможно, например: ich habe gesollt,
ich hatte gesollt, ich werde sollen). Инфинитив знаменательного
глагола примыкает к модальным глаголам без инфинитивной
частицы zu (ich will schreiben, ich mu|3 schreiben), что указывает
на более тесную, чем обычно, связь элементов этой конструкции
как целого.
К этому необходимо добавить, что отсутствие так называемой
идиоматичности, смысловая раздельность элементов (ich will —
schreiben) сама по себе не может служить показанием против ана-
литического характера словосочетания, как это уже указывалось
на примере русского будущего несовершенного: я буду читать
(см. выше, с. 89).
, Впрочем, хотя немецкие модальные глаголы и сохраняют
в большинстве сочетаний свое прямое (словарное) модальное
значение, однако для общей их тенденции к грамматизации харак-
терны не менее многочисленные случаи, когда их значения сме-
щаются или сближаются между собою и с флективнььм сослага-
тельным наклонением. В тщательной работе Е. А. Крашенин-
никова собрала ряд показательных в этом отношении примеров.73
Ср. капп в смысле возможности: das капп nett werden; в смысле
предположения (в оптативе): er konnte (или er durfte) hier gewesen
sein; mag в смысле возможности: wer mag (или kann) das sein?;
soil как выражение чужого мнения: ег soil sehr gescheit sein. . .;
sollte как предположение с оттенком сомнения: sollte (konnte)
es moglich sein?; mu(i как выражение вероятного предположения:
Das mup komisch ausgesehen haben; в подчиненном предложении
с различными оттенками желания: ich wiinsche, da₽ er kame,
da (J er komme, da₽ er kommen moge, . . . mochte, . . . sollte, . . .
durfte. Такое сближение разных глаголов в переносном употреб-
лении свидетельствует о развитии более абстрактных модальных
значений.
Ю6
В этой связи следует наполнить, что в ходе исторического
развития немецкие модальные глаголы к новонемецкому периоду
целиком изменили свое первоначальное значение, которое имело
в средневековом языке гораздо более конкретный характер. На-
пример: darf означало 'я нуждаюсь’ (ich bedarf), kann 'я знаю’,
mag 'я могу’ ('имею силу’), skall (нем. soli) 'я должен’ (в конкрет-
ном смысле 'имею долг’), muo? (нем. тир) 'имею случай, возмож-
ность’ (ср. готск. — motja.n 'встречать’, 'попадаться навстречу’,
англ, to meet). Развитие аналитических форм модальности сдела-
лось возможным исторически лишь в результате развития «грам-
матизованных» модальных значений.
Различие между служебным модальным глаголом и знамена-
тельным глаголом с модальным лексическим значением наглядно
иллюстрируют такие пары, как нем. wollen и wiinschen, англ,
to wish и will. Глаголы нем. wiinschen, англ, to wish сохраняют
всю полноту своего предметного значения и не обладают теми
свойствами служебных глаголов модальности, которые были
перечислены выше; в частности, оба глагола в инфинитивных кон-
струкциях употребляются с частицей нем. zu (англ. to).
Англисты более «либеральны» в смысле причисления модаль-
ных глаголов к типу вспомогательных, однако этот «либерализм»
имеет свои оттенки и ступени.
Так, J3. Н. Ярцева признает аналитический характер модаль-
ных конструкций с глаголами should would. «В связи с исчезно-
вением старой флективной формы сослагательного наклонения
в английском языке из сложноглагольных форм с should и would
(прошедшее время от sculan и willan) образуется новая аналити-
ческая форма, функционирующая в роли условного наклоне-
ния».74 Ср. I should write, he would write 'я (он) напи-
с ал бы’.
В. Н. Жигадло, И. П. Иванова, Л. Л. Иофик в своем теорети^
ческом курсе английской грамматики расширяют группу глаго-
лов, входящих в аналитические модальные конструкции, вклю-
чая в нее, кроме should и would (прош. вр.), также may
и might.
«К аналитическим формам сослагательного наклонения отно-
сятся сочетания should, would, may и might с инфинитивом дру-
гого глагола при п о л н ой у трате модальным и
г л а г о лс- а м-ои oj-o L g й я у. е и и я.
О том, что эти глаголы могут участвовать в образовании аналити-
ческих форм спряжения, свидетельствует, помимо отсутствия
У них в этом случае самостоятельного значения, их постоянное,
закрепленное длительным употреблением использование в опре-
деленных типах предложений и непосредственная историческая
преемственность по отношению к синтетическим формам при
употреблении тех и других в одних и тех же конструкциях с од-
ним и тем же значением».75 Авторы дают даже таблицу парадигмы
«аналитических форм сослагательного наклонения»: I should
107
give (have given), he would give (have given); 1 may give; 1 might
give.76
Крайнюю позицию в этом вопросе занимает большинство зару-
бежных англистов, например голландец Крайсинга, который
в главе о вспомогательных глаголах с модальным значением назы-
вает shall и should, will и would, may и might, также сап и could,
must, ought to (he ought to know 'он должен знать’), to dare (dared
to speak 'осмелился говорить’), to need (he needed no invitation
'он не нуждался в приглашении’), to let (let us go 'давайте, пой-
дем’).7?
Разумеется, мы и здесь имеем дело с процессом грамматизации,
при котором глаголы, поставленные последними в этом ряду,
имеют гораздо более узкое и конкретное значение и тем самым
более ограниченную в лексическом отношении форму употребле-
ния.
( Есперсен на примере глагола will пытался дать общую грам-
• магическую характеристику этого и некоторых других сходных
с ним вспомогательных глаголов английского языка (auxiliaries),
которое он называет «пустыми словами» (empty words) в отличие
от полнозначных глаголов Д1и11 verbs):
1) они не имеют ни инфинитива, ни причастий, поэтому не
могут соединяться с вспомогательным глаголом to do и не обра-
зуют сложных форм перфекта и плюсквамперфекта;
2) они сочетаются с инфинитивом без частицы to (ср. I will
write, но I wish to write);
3) они часто стоят в слабом положении и потому выработали
«слабые» (т. е. редуцированные) формы (I’ll, he’ll, I’d, he’d);
4) содержание их более неопределенно, чем содержание соот-
ветствующего полного глагола, как это видно из их широкого
употребления в значениях, которые в других языках выражаются
флективными модальными формами основного глагола.78
Эти признаки в основном совпадают с теми, которые указаны
были выше для немецкого языка. По-видимому, однако, в немец-
ком языке аналитические конструкции с модальными глаголами
менее грамматизованы, чем в английском, вследствие сохранения
в первом флективных форм конъюнктива, отсутствующих в анг-
лийском. Тем не менее и в немецком языке эти конструкции
имеют аналитический характер, выступая как более конкретные
и дифференцированные выражения модальных отношений
глагола.
Об аналитических формах русских наклонений говорит
В. В. Виноградов в книге «Русский язык»: «Новые оттенки модаль-
ности предложения все чаще выражаются аналитически — соче-
танием слов. Формы наклонения глагола притягивают к себе
группы «модальных» слов и частиц, которые обращаются в источ-
ник грамматических выразителей модальности предложений.
Изучение всего многообразия этих лек-
сико-синтаксических выражений м одаль-
108
ноет и — основная задача синтаксиса пре Д-
л о ж е н и я. Но, кроме того, расширяются и морфологические
возможности переносного употребления самих глагольных на-
клонений. На помощь разным формам глагольных наклонений
привлекается инфинитив».79
Тем не менее по сравнению с английским и даже с немецким
языком русские конструкции с модальным глаголом-(-инфинитив
при отсутствии особой грамматической категории модальных
глаголов обнаруживают наименьшую степень грамматизации
(ср. я хочу, я могу, я должен писать и т. п.).
2. Более ограниченной сочетаемостью обладает служебный
глагол нем. lassen 'оставлять’, англ, let в глагольных конструк-
циях с побудительным (каузативным) ‘зйачёййём. Ср.: нем. falleir
'падать’ — fallen lassen 'уронить’ Сдать упасть’), англ, to fall —
to let fall. Конструкции эти заменили старые германские флек-
тивные каузативы, сохранившиеся в настоящее время лишь
в виде лексически изолированных и переосмысленных реликтов
(тип готск. windan 'вертеться’ — кауз. wandjan 'поворачиваться’,
нем. winden — wenden, англ, to wind — to wend с измененным
значением).80
Глагол нем. tun 'делать’, англ, to do как выражение абст-
рактного значения действия получил в XVI—XVII вв. в обоих
языках широкое распространение в перифрастических конструк-
циях типа нем. ich tu schreiben, прош. вр. ich tat (tate) schreiben,
англ. I do write, I did write, придававших единообразную, регу-
лярную аналитическую структуру всем формам знаменательного
глагола, включая и настоящее время, без существенного измене-
ния значения этого глагола. В литературном языке, как немецком,
так и английском, форма эта, в результате сознательных усилий
грамматиков-пуристов, в XVIII в. выходит из употребления
как излишняя, но в английском сохраняется в ограниченном круге
грамматических конструкций — вопросительных и отрицатель-
ных; ср.: Do you write? 'Пишешь ли ты?’ — Fjo^J, don^t (do not)
write 'Нет, я не пишу’ (с ослабленной формой); или: Yes, I do
'Да, я пишу’ (букв, 'я делаю’ как заместитель предложения);
при усилении: Do write me, pleasel 'Непременно напиши мне,
пожалуйста^.81 В немецком языке такая перифрастическая форма
сохраняется только в диалекте и в народном разговорном языке
и соответственно этому в поэтических стилизациях вроде:
Die Augen taten ihm sinken (Гёте, баллада «Der Konig in
Thule»).82
3. Вокруг основных аналитических глагольных форм, которые
даже при разных степенях грамматизации легко могли бы быть
включены в широко построенную парадигму глагольного слово-
изменения (как это сделано для аналитических модальных форм
в теоретическом курсе английской грамматики), во всех европей-
ских языках имеется достаточно большое число аналитических
словосочетаний более частного характера, служащих для выра-
109
Жения видовых, Модальных, залоговых оттенков значений
основного глягпла в рамках, фразеологически более ограВГИ^
ченных.___ ”
*-----Ср.Гнапример, в немецком языке: ег pflegt zu sagen, ег pflegt
zu fragen и т. п. 'он имеет обыкновение говорить, спрашивать’
Сделает это обычно, постоянно’). Или: ег kommt gegangen, gelau-
fen, gesprungen (с глаголами движения) 'он приближается (шагом,
бегом)’ и т. п. Формы эти изолированы и не образуют широко-
употребительных моделей.
Особенно велико число подобных словосочетаний полуграм-
матизованного характера в современном английском языке.
В. Н. Ярцева отмечает в нем «тенденцию (правда, еще не оформив-
шуюся) выдвинуть еще ряд связочных глаголов на роль вспомога-
тельных (например,, to get — для перфекта, to keep — для дли-
тельных времен)».83 Ср.: he got _ tired 'он устал4, "he keeps ^
Доп) working 'он продолжает работать’ ('длительно работает’)
иТг-Th---------
Есперсен отмечает употребление в качестве пассива того же
глагола to get и глагола to become («passive of becoming» — «пас-
сив становления»). Ср.: they got acquainted, they became associa-
ted; Оскар Уайльд: «We have been engaged for the last three months,
but how did we become engaged?» 'Мы были обручены в течение
последних трех месяцев, но каким образом мы стали обрученными
(обручились)?’. В этом же значении употребляется глагол to
grow 'расти’ ('становиться’): he grew accustomed; в лексически
ограниченном круге значений так же глагол to stand ('стоять’ —
перед лицом обвинителя): I stand rebuked, I stand reproved.84
В книгах зарубежных англистов, где описание глагольных
конструкций исходит из значения (с перечислением различных
средств выражения этих значений), можно найти большое
число подобных примеров, выражающих видовые, модальные, за-
логовые оттенки подобными лексически ограниченными сред-
ствами.
С точки зрения грамматической, эти примеры состоят из слу-
жебного (полувспомогательного) глагола и предикативного при-
частия и, будучи в разной степени грамматизованными, граничат
с группой предикативных причастий со связочными глаголами,
из которых они исторически развились (см. ниже, с. ИЗ и сл.).
Для нас они представляют интерес как указание на процессуаль-
ный характер анализа как грамматического явления и на различ-
ные ступени грамматического обобщения, наличиствующие в этом
процессе.
Глаголы «полувспомогательные», jihhmu словами — не пол-
ностью грамматйзованные аналитические конструкции, отмечены
в большом числе и в романских языках.
Классическая учебная грамматика современного французского
языка выделяет эту группу как особую грамматическую категорию
(verbes semiauxiliaires): «Вспомогательные глаголы (les auxiliai-
110
res) avoir и etre представляют грамматические средства, полностью
утратившие собственное значение как глаголы. Другие глаголы
могут в некоторых случаях в большей или меньшей степени терять
свой нормальный смысл и в сочетании с инфинитивом и причастием
играть роль, частью аналогичную настоящим вспомогательным.
Они прибавляют к основному глаголу дополнительное значение
(une idee accessoire), временное или модальное, с оттенками,
которые не всегда легко объяснить». Такие конструкции иногда
называются также «глагольными перифразами» (periphrases verba-
les).85
Автор грамматики относит к этой группе конструкции с мо-
дальными глаголами devoir, pouvoir, vouloir 4-инфинитив, анало-
гичные приведенным выше немецким и английским, понудитель-
ные формы с глаголами faire 'делать’ и laisser 'оставлять’-)-инфи-
нитив, но также заслуживающие более специального внимания
грамматические сочетания с глаголами движения aller и venir
'ходить’ ('приходить’).
1) Будущее время («весьма близкое», нередко с модальным от-
тенком): настоящее время глагола aller-)-инфинитив. Ср.: je
vais ccrire 'я буду (собираюсь) писать’.
2) Недавнее прошедшее с настоящим временем глагола venir
4-инфинитив с предлогом de. Ср.: Je viens d’ecrire 'я только что
написал’.
В итальянском и испанском языках 86 грамматизованы глаго-
лы stare 'стоять’ и andare 'ходить’4-герундий (причастие I) с ви-
довым значением длительного действия. Авторы советского учеб-
ника итальянского языка называют эти конструкции «грамматизи-
рованными устойчивыми глагольными сочетаниями».87 Если бы не
препятствовала традиция, они могли бы называться аналити-
ческими глагольными формами с видовым значением и были бы
включены в парадигму спряжения глаголов. Ср. в особенности
итал. stare facendo (qualche cosa) 'находиться в состоянии делания
(чего-нибудь)’ (длительный вид), например: sto (stava) scrivendo,
dicendo и т. п. Менее грамматизовано andare facendo (qualche
cosa), нередко с частичным сохранением лексического содержания,
например: andava predicando '(ходил и) проповедовал’; но также
с полной грамматизацией: Che andate pensando? 'О чем вы думае-
те?’ (длительно, в настоящее время). Ср. еще в том же смысле:
viene (veniva) discendo.88
Французские параллели этим конструкциям можно найти
в известной книге Гугенхейма о глагольных перифразах в фран-
цузском языке.89 Книга эта содержит огромный исторический
материал по сложным глагольным формам — без какого-либо
грамматического анализа с точки зрения большей или меньшей
их грамматизации, но она интересна по широте показа конкури-
рующих и в значительной части вымирающих («абортивных»)
грамматизованных и полуграмматизованных глагольных кон-
струкций.
ш
Примеры конструкции глагола а!1ег+герундий (причастие I)
встречаются как в старофранцузском, так и в поэзии нового вре-
мени вплоть до XVII в. Ср.:
Chere beaute que mon ame ravie
Comme son pole va regardant.
Или (с согласованием в числе):
Ainsi tes honneurs florissants
De jour en jour aillent croissants.
Однако Малерб вел борьбу против этой формы, и уже в XVIII в.
она считается устаревшей, сохраняясь по преимуществу в слу-
чаях лексически полнозначных, как например: un ruisseau va
serpantant '. . . идет (т. е. протекает), змеясь’.90
Романская форма представляет известную аналогию с англий-
ским длительным разрядом (I am writing. . .). Однако, как спра-
ведливо указала Н. Д. Арутюнова, английская форма при извест-
ных условиях обязательна, тогда как романская альтернативна,
что указывает на меньшую степень ее грамматичности.91
5. К числу оспариваемых случаев аналитических глагольных
конструкций немецкого языка относится уже_упомяпутый ша^сив
состояния» (Zustandspassiv), образованный сочетанием глагола
зёТТг-ЧжиЛ-с пассивным причастием. Ср. die Tiir ist geschlossen
'дверь заперта’ в отличие от пассива действия с глаголом wer-
den — die Tur wird geschlossen cдверь запирается’, — который
представляет «нормальную» грамматическую форму страдатель-
ного залога. М. М. Гухман считает, что пассивное причастие с гла-
голом sein сохранило в немецком языке характер сложного ска-
зуемого с глагольной связкой, в отличие от английского языка,
где оно является единственной вполне грамматической формой
страдательного залога.92 По мнению О. И. Москальской, эти со-
четания «лишь с большой оговоркой могут рассматриваться как
особые формы пассива, а значительно чаще являются одним из ви-
дов именного сказуемого».93 Сходным образом рассуждают
Л. Р. Зиндер и Т. В. Строева, которые определяют эту форму как
«именное сказуемое с причастием в качестве предикатива».94
Решающим при этом является, по-видимому, все то же соображе-
ние, что конструкция эта не представляет единого целого, имею-
щего «идиоматическое» значение (в смысле определения М. М. Гух-
ман): глагол 'быть’ остается в ней связкой, к которой присоеди-
няется пердикативное причастие в своем обычном значении, как
в сложных сказуемых типа: die Tur ist weip.
Однако с этих позиций и в других языках, где, в отличие от не-
мецкого, сложные формы с глаголом 'быть’ и причастием страда-
тельного залога являются единственной формой пассива, «идио-
матичность» конструкции в указанном смысле отсутствует и вспо-
могательный глагол может рассматриваться как связка. В осо-
112
бенности это относится к романским языкам. Ср.: франц, la porte
est fermee (ж. р.) как la porte est grande; les places sont prises
как les places sont vides (мн. ч.); итал. la donna e amata (ж. p.)
как la donna e bellissima.
To же и в английском языке, где согласование отсутствует
как в том, так и в другом случае. Ср.: the door is opened — the
door is open. В известной мере эта особенность распространяется
и на видо-временные глагольные формы с вспомогательным гла-
голом 'быть’. Ср.: франц, les jeunes filles sont assises (мн. ч.)
sont belles; la donna e partita (ж. p.) — e bella. Можно напомнить
и приведенный ранее русский пример: я буду писать и я буду
профессор (профессором).
Тем не менее глагольный характер причастного сказуемого,
т. е. присущие ему в отличие от обычного именного сказуемого
признаки вида, времени, залога, придают конструкции в целом
глагольный характер, превращая связку в вспомогательный гла-
гол как элемент аналитической конструкции.
В немецком языке к этому присоединяются специфические
особенности «пассива состояния», которые противопоставляют его
в системе глагола «пассиву действия» как две разные видовые
формы. Ср. die Tur ist geschlossen (geoffnet) 'дверь заперта (от-
крыта)’ — die Tur wird geschlossen (geoffnet) 'дверь запирается
(открывается)’; das Haus ist verkauft 'дом продан’ — das Haus
wird verkauft 'дом продается’ и т. п.
Это видовое противопоставление, имеющее место в немецком
языке для всех глаголов перфективного (герминативного) значе-
ния, дает полное основание для включения пассива состояния
как особой аналитической формы в парадигму глагольного спря-
жения. Что касается пассивных причастий нетерминативных
(имперфективных) глаголов, то они в этой форме малоупотреби-
тельны, поскольку совпадают по значению с пассивом, образован-
ным при помощи глагола werden: ich bin geliebt как ich werde
geliebt 'я любим’.
6. С вопросом о немецком «пассиве состояния» связана более
общая проблема разграничения аналитических глагольных форм
и предикативных сочетаний связочного глагола с имрирти и ТрМ
самым~~глаТблов вспомогательных разного типа и глагольных свя-
зок.
Подобно вспомогательным глаголам, глаголы связочные пред-
ставляют результат грамматизации (более или менее последова-
тельной) глаголов знаменательных. В чистом виде значение связки
выступает в глаголах, обозначающих различные формы существо-
вания именного предиката, — быть, становиться, оставаться.
Ср. нем. sein — werden — bleiben, англ, to be — to become —
to remain. Ср. примеры, которые приводит M. М. Гухман: der
Knabe ist munter, der Knabe blieb munter, der Knabe wird mun-
ter.95 Вокруг них группируется большое число связочных глаголов,
3 в. м. Жирмунский 113
менее грамматизованных, с более ограниченной сочетаемостью
и с фразеологической связанностью значений.
Показательно, однако, что, с точки зрения сравнительно-исто-
рической, даже наиболее грамматизованные связочные глаголы
были в прошлом лексически полнозначными. Ср.: герм, werdan
(нем. werden) 'остановиться’ — лат. vertere — слав. врът/Ьти
'вертеть’ — др.-инд. vrt 'вращаться’ (произв. ср.-в.-нем. Wirtel,
ст.-слав, врътено 'веретено’), с переходом значения 'вращаться’ >
'становиться’; др.-в.-нем. biliban 'оставаться’ (готск. bileiban,
нем. bleiben) — ст.-слав, лъпнати, лит. lipti 'липнуть’ (греч.
Хскербс: 'жирный’, Xiko^ 'жир’), с переходом 'липнуть’ > 'оста-
ваться’; ст.-слав, быти 'быть’ (откуда был, буду), лит. buti 'быть’,
лат. fui 'был’, futurus 'будущий’ (и.-е. ЬЬй) — греч. чрбсо 'расту’
(произв.: «pop-а 'растение’, «рбак; 'природа’), др.-в.-нем. buan 'жить’
(готск. bauan, нем. Ъаиеп 'обрабатывать землю’), переход: 'расти’>
'жить’ >'быть’; герм, супплетивное прошедшее: was 'был’ (нем.
war, инф. wesan 'быть’) —др.-инд. vasati 'обитает’, 'пребывает’,
'ночует’, переход значения: 'обитать’ > 'пребывать’ >'быть’.
Только настоящее время глагола существования и.-е. es- (герм,
ist, лат. est, греч. eui, др.-инд. dsti, слав, есть) не имеет этимо-
логии такого рода, потому что представляло, по-видимому, уже
в индоевропейском связку в собственном смысле.
М. М. Гухман называет глагол быть «идеальной связкой».96
Сходным образом высказывался об этом Л. В. Щерба в статье
«О частях речи в русском языке»: «Строго говоря, существует
только одна связка быть, выражающая логическое отношение
между подлежащим и сказуемым. Все остальные связки являются
более или менее знаменательными, т. е. представляют из себя
контаминацию глагола и связки, где глагольность
может быть более или менее ярко выражена».97 «Связка быть
не глагол, хотя и имеет глагольные формы, и это потому, что она
не имеет значения действия. И действительно, единственная
функция связки — выражать логические (в подлинном смысле
слова) отношения между подлежащим и сказуемым: во фразе
Мой отец был солдат в был нельзя открыть никаких элементов
действия, никаких элементов воли субъекта. Другое дело, когда
быть является существительным глаголом: мой отец был вчера
в театре. Тут был=находился, сидел, одним словом проявлял как-
то свое «я» тем, что был. Это следует твердо помнить и не считать
связку за глагол и функцию связки — за глагольную. В так
называемых связках мы наблюдаем контаминацию двух функций—
связки и большей или меньшей глагольности (наподобие конта-
минации двух функций у причастий)».98 Мы сказали бы предпочти-
тельно не о «контаминации» двух функций, а о неполной грамма-
тизации.
Это высказывание Л. В. Щербы подхватил и развил В. В. Ви-
ноградов: «В особую категорию частиц должны быть выделены
связки, выражающие логическое отношение между подлежащим
114
•t'
и сказуемым. Но в русском языке, как тонко заметил акад.
Л. В. Щерба, существует лишь одна связка — в строгом смысле
слова — это быть, имеющая форму лица (а следовательно и числа,
в прошедшем времени — также рода), времени и наклонения.
Связка быть — не глагол, хотя и имеет глагольные формы.
Ей чуждо значение действия (быть в значении глагола существо-
вания — лишь омоним связки). Она мыслится вне категории
вида и залога. Все остальные связки русского языка (стать,
становиться, делаться и т. н.) представляют гибридный тип
слов, совмещающих функции глагола и связки».99 (Предпочти-
тельнее было бы и здесь говорить не о «гибриде», а о меньшей
степени грамматизации).
Между тем на самом деле, вопреки парадоксу акад.
Л. В. Щербы, подхваченному В. В. Виноградовым, быть явля-
ется глаголом, потому что может принимать формы лица, вре-
мени (был — буду), наклонения (был бы) и даже вида (быть —
бывать). Менее всего существенно отсутствие в этом глаголе зна-
чения действия, на которое указывал Л. В. Щерба, поскольку
значение это отсутствует и в таких глаголах, как случается,
кажется или смеркается, снится и т. п.
Чистой связкой в смысле Л. В. Щербы глагол быть является
только в презенсе, притом в случаях его вневременного значения,
широко представленного в так называемом «настоящем времени»
во всех индоевропейских языках, когда он выступает как пока-
затель логического отношения подведения отдельного под общее:
Жучка есть собака (нем. ... ist ein Hund), отдельное есть общее
(согласно примеру В. И. Ленина).100 В таких случаях в русском
языке, как известно, есть может отсутствовать (предикативная
связь выражается интонацией) или оно заменяется новой связ-
кой это, развившейся в результате грамматизации указательного
местоимения, также утратившего свои местоименные черты: 101
Жучка — это собака. Распад спряжения глагола быть в настоя-
щем времени, характерный для русского языка, явился результа-
том того, что именно в таких конструкциях глагол быть как «чис-
тая связка» утратил характер глагола.
Напротив, в прошедшем или будущем времени в немецком
или английском, в особенности в относительных временах вроде
предпрошедшего (нем. ег war gewesen, англ, he had been), в рус-
ских модальных и видовых формах типа был бы, бывает, бывал
и т. п. указание на время, временную последовательность, дли-
тельность или модальный характер действия укрепляет лекси-
ческое значение глагола: ср. нем. das Blut ist rot 'кровь красна’
и sein Gesicht war rot 'его лицо было красно’, ег war ein guter Stu-
dent gewesen 'прежде он был хорошим студентом’, ег ware ein
guter Student gewesen 'он был бы хорошим студентом’ и т. п.
Это существенное различие отметил акад. А. А. Шахматов
в своем «Русском синтаксисе» (§ 30): «Перешли в связку (в рус-
ском языке) только формы настоящего времени глагола быть',
115
8*
i)To привело к окончательной утрате их, причем утрата их в значе-
нии связки привела и к утрате настоящего времени глагола быть
в реальном его значении существовать, находиться. Что до про-
шедшего времени был, буд. буду, то категория времени предохра-
нила от перехода их в простые связки. . .».102 В другом месте
(§ 191) А. А. Шахматов разъясняет, что в «индоевропейском пра-
языке», как и ряде древних индоевропейских языков, искони
существовали и бессвязочные предложения «для соединений,
не обусловленных во времени», как в латинском omnia praeclara
гага 'все прекрасное редко’ 103 (ср. нем. Traume — Schaume
'сны (это) пена’, viele Kopfe — viele Sinne 'много голов — много
умов’ и др.).104
Таким образом, разные ступени грамматизации наблюдаются
даже в пределах «идеальной связки» — глагола быть.
Учитывая это обстоятельство, мы можем включить в широкий
круг связочных глаголов, в разной степени грамматизованных,
и целый ряд других глаголов, употребляемых с именными сказуе-
мыми, даже в тех многочисленных случаях, когда глагол лишь
в лексически ограниченном круге употребления «бледнеет», теряя
в большей или меньшей степени свое первоначальное предметное
значение.
Ср. в немецком языке связочное употребление таких глаголов
широкой семантики с значением движения и покоя, как liegen
'лежать’, stehen 'стоять’, gehen 'ходить’; например: der Weg stand
frei 'путь свободен’ (букв, 'стоял свободен’), die Sache liegt klar
'дело очевидно’ (букв, 'лежит очевидно’), das Gias ging in Stiicke
'стакан разбился’ (букв, 'пошел на куски’) и др. Некоторые гла-
голы обнаруживают при этом относительно широкую сочетае-
мость по определенным моделям. Например, глагол nehmen
'брать’: Rache nehmen 'мстить’, Flucht nehmen 'бежать’, Bezug
nehmen 'ссылаться’, Kenntnis nehmen 'осведомиться’, ’Anlap
nehmen 'брать повод’ и др.; или глагол bringen 'приносить’:
in Verlegenheit bringen 'смутить’, in Ordnung bringen 'привести
в порядок’, zu Stande bringen 'осуществить’ и т. п. В других
случаях те же или другие подобные глаголы образуют по своему
значению фразеологические идиоматизмы: Abschied nehmen 'про-
ститься’, zur Last fallen 'быть в тягость’ и т. п. В таких случаях
грамматическое объединение сложного сказуемого сопровождается
его фразеологическим (лексическим) сращением.
В английском языке Керм насчитал около 60 связочных гла-
голов.105 Глаголы эти (cbpulas-or-±rnEing verbs), список которых
он дает в специальном разделе своей грамматики, согласно его
объяснению, «находятся на разных ступенях развития в направле-
нии к состоянию связктг (copula state), сохраняя 11ри зюм в боль-
шей или меньшей степени свое первоначальное конкретное зна-
чение, так что, хотяЗГяПляясктвязками, они в то же время по сво-
ему значению более или менее отличаются друг от друга и от
связки 'быть’ (to be). Значительная их часть употребляется не
116
Только в качестве связок, йо так/ке в качестве полйозйаЧйЫХ
глаголов (full verbs), сохраняя в определенныхс итуациях всю пол-
ноту своего конкретного значения».106
Вслед за Кермом и В. Н. Ярцева признает существование
в современном английском языке «свыше 60-ти глаголов, могущих
функционировать как связочные глаголы в составном сказуемом».107
М. М. Гухман считает эту цифру «сомнительной» вследствие огра-
ниченной сочетаемости некоторых из этих глаголов, приближаю-
щей их скорее к «фразеологическим единствам», чем к именным
сказуемым.108 Однако, как уже было сказано, нет основания счи-
тать, что эти понятия исключают друг друга. Будучи в разной
степени семантически «опустошенными» (т. е. грамматизованными),
глаголы эти в то же время могут быть в разной степени лекси-
чески (фразеологически) связанными в своем употреблении. Как
в немецком языке, некоторые из них имеют более широкое, другие
более ограниченное употребление, некоторые следуют типическим
моделям, другие узко идиоматичны. К числу наиболее распростра-
ненных относятся: to go ^ходить’, to come 'приходить’, to. fall
'падать’, to keep 'держатъ^-ся)’, to ^гоуу^увеличиваться’ ('расти’),
to turn 'поворачиваться’, to get ^получать’ ('достигать’) и др.
Например: to fall ill, silent, dumb, asleep, dead; to go cold, hot,
mad, white и т. д : to keep alive, cool, still, quist,"Silent Й т.д.;
to grow old, fat, nervous и т. д.109 В других примерах сочетаемость
такого нолускязочного глагола ограничена идиоматически. На-
пример: the door blew open, the dog broke loose, to catch fire (cold),
to take place, to pay attention и др.
Весьма показательны случаи, когда с тем же предикативом
в одинаковом значении могут употребляться различные глаголы,
что прямым образом указывает на утрату ими исходного предмет-
ного значения. Ср.: to keep (continue, remain, stay) silent 'мол-
чать’, to bide (keep, stay) awake 'бодрствовать’ и др.
Для современного английского языка с его широким употреб-
лением аналитических глагольных форм характерна общая тен-
денция к замене полнозначных глаголов словосочетаниями
глагола связочнбТо юпг Пол у связочного-" с предикативными от-
глагольными существительными соответствующего значения. Ср.:
вместо ~1Т> sniuke f курить-—-to have a smoke, вместо to drink
'пить’ — to have a drink, вместо to ride 'ездить верхом’ —Дю-bave
a ride, вместо то notice 'замечать’ — {ю take notice, вместо to con-
Тезз^Иризнаваться’ — to make a confession и т. п.1Н)
To же явление (Verhauptwortung) отмечают и в современном
немецком языке, но преимущественно как влияние канцелярского
стиля. В качестве связочных глаголов выступают в таких кон-
струкциях в особенности kommen, gelangen, bringen, stellen, zie-
hen, tun и др. Ср.: вместо erwagen — in Erwagung ziehen, вместо
verzichten — Verzicht leisten, вместо ausdriicken — zum Ausdruck
bringen, вместо ordnen — in Ordnung bringen и т. п.111
117
Ё некоторых случаях связочный глагол, в зависимости от сво-
его значения, может придавать предикативной конструкции в це-
лом видовой оттенок. Например: to keep silent (silence), to keep
quiet означает" прибивание в даннбм состоянии, как to keep (on)
working (длительноП^действиГ^ «дуратив»); to get (grow) old
* (blind), to fall ill означает начало действия или состояния, как
to get aquainted («инкоатив») и т. п. Лексическая видовость гла-
гола в фразеологическом сочетании приближается в таких слу-
чаях к видовости грамматической, сложное сказуемое с именным
предикатом — к аналитической глагольной форме.
В. Н. Ярцева разграничивает оба типа, указывая, вслед за
А. А. Потебней, что грамматизации в качестве аналитических
глагольных форм могут подвергаться только сложные сказуемые
с причастиями (т. е. глагольными именами) в отличие от преди-
кативныхЪочетаний «иного состава» (с существительными, прила-
гательными или наречиями).112
А. А. Потебня пишет по этому поводу следующее: «В состав-
ное сказуемое могут входить как причастие, так и существитель-
ное и прилагательное»; в описательное время (т. е. в аналитичес-
кую конструкцию) — «только причастные формы, занимающие
середину между глаголом и именем». «Всякое из описательных
времен возникает из составного сказуемого».113 Причастия, не-
смотря на свое различие, вносят в такие сочетания один общий
оттенок, сходный с тем, который сообщают составному сказу-
емому имена существительные, сохранившие свой признак, и при-
лагательные, причем разумеется само собою, что это сходство*
не простирается до тождества. Когда для объяснения сочетаний
с причастиями ставим на место сих последних существительные,
то этим увеличиваем расстояние сочетаний с причастием от про-
стого глагола, т. е., утрируя особенность этих сочетаний, делаем
ее более осязательною. Собственно говоря, выражение „суть
дань д а ю щ е“ вовсе не то, что „они данник и“».114
Однако в некоторых случаях причастие по своему значению
имеет качественный характер, приближаясь в этом отношении
к прилагательному. Например: tired 'уставший’ ('усталый’),
drunk 'выпивший’ ('пьяный’), faded 'завядший’ ('завялый’),
rusted 'заржавевший’ ('ржавый’) и т. п. Это создает и здесь воз-
можность переходных случаев, в которых различие аналитичес-
кой конструкции с полуслужебным глаголом и предикативного
сочетания с глаголом полусвязочным, в особенности при наличии
у последнего указанных видовых оттенков, не выступает с полной
отчетливостью. Ср. to be accustomed — to be tired (drunk) —
to be blind, to grow accustomed — to grow tired — to grow blind;
he is growing (getting) accustomed, he is growing (getting) tired —
he is growing blind; или: the knife if rusty 'нож ржавый’ — the
knife is rusted 'нож заржавел’, the knife is getting rusty 'нож
становится ржавым’ — the knife is getting rusted 'нож ржавеет’
и т. п.
118
Было уже сказано выше, что развитие именных сказуемых
с полусвязочными глаголами типа he fell ill, he is getting blind,
в особенности же таких фразеологических сочетаний, как to have
a drink (вместо to drink), to have a chat (вместо to chat), харак-
терно для языков с широким развитием аналитических и полу-
аналитических конструкций, как английский. Оба явления вы-
ражают одинаковую тенденцию к замене простого слова сложным
словосочетанием, в одном случае грамматического, в другом —
фразеологического порядка, и должны рассматриваться в взаимо-
связи как признаки «аналитической структуры» языка в широком
смысле. Однако в принципе они не тождественны, и предикатив-
ное сочетание типа I fall ill, he is getting blind не является слож-
ной глагольной формой и не относится к аналитическим глаголь-
ным конструкциям в собственном смысле.
V
За последнее время среди советских западников получила
распространение своего рода научная мода: исключать предлож-
ные конструкции из числа аналитических.
Между тем предложные конструкции:
1. по своей синтаксической функции, как и по значению, яв-
ляются эквивалентами паттежей-г
2. в процессе исторического развития языков конкурируют
с падежами и частично или полностью (в особенности в так назы-
ваемых «аналитических языках») заменяют их;__
3. предлоги теряют при этом свое исходное предметное значе-
ние, превращаясь в 'формальное выражение абстрактной синтак-
сической связи (типа грамматических падежей). "
Так, англ, of и to представляют эквиваленты родительного
и дательного падежей. В английском языке существуют флектив-
ные формы родительного и дательного падежа: старый «саксон-
ский» родительный на -s (myTather’s house сдом моего отца’)
и дательный с нулевым суффиксом существительного, определяе-
мый порядком слов — положением перед винительным прямого
дополне'нйя (I gave my brother the book 'я дал моему брату книгу’)
или особыми формами, для личных местоимений — him, her, them
(I gave him the book 'я дал ему книгу’). Рядом с нимиТуществуйгг-
их предложные эквиваленты: the house of my father, I gave the
book To" Ый1. Английские грамматисты, говоря о генитиве на ’s
и о простом дативе, с одной стороны, и о предложном генитиве
с of и предложном дативе с to, с другой стороны, обычно подчер-
кивают тождество их грамматической функции («. . . always have
the same grammatical function», «exactly the same grammatical
relation»).115 Напротив, советские авторы склонны подчеркивать
различие в значении флективной и аналитической формы.116
На самом деле речь идет всего только о дифференциации в употреб-
119 ‘ ’ ""
лении, в основном — характера^дркгиц'о-г.титтр/гтлч^сц-лгл. ррдИ_
тельный на ’$ упптраГнмтптгя по преимуществу пр отношению
к лицам. Ср. примеры, которые приводит Керм: a boy’sJeg^Sb
the leg of’ a table^ а не the table’s leg.117 С точки зрения степени
грамматизации 1этих предложных конструкций существенно, что
of и to в таких сочетаниях утратили всякое^предметное, простран-
ственное значение (of сот’, 'из5; to ск’) и сделались постоянными
показателями абстрактных синтаксических отношений, тождест-
венных с падежными.
Составители теоретического курса английской грамматики
признают это обстоятельство. «В данном случае, — пишут они, —
когда употребление предлога связано только с выражением опре-
деленных синтаксических отношений, предлог имеет наиболее
отвлеченное грамматическое значение и служит для выражения
постойббогосинтаксического отношения между членами предло-
жения».118 Однако, несмотря на одинаковость синтаксических
функций, авторы считают нужным подчеркнуть «принципиальное»
различие предлогов и падежных флексий, поскольку флексия
«является морфологической частью слова, изменяющей форму
существительного», тогда как предлог «не принадлежит к морфо-
логическому составу»: 119 обстоятельство, не требующее специаль-
ного упоминания, поскольку именно в этом и заключается разли-
чие между флективными и аналитическими формами слова (если
только признавать существование этих последних).
В. Н. Ярцева также возражает против отождествления пред-
логов с падежными окончаниями. Она^указывает, что предлог
всегда «выражает отношение-между двумя членами слорОСОчета-
i НИЯ, Я новее н£^принадлеж1^ о/щому из нп^^^-^ррялпг сяя-
зывает два члена словосочетания между собой. . . и принадлежит
им обоим. . . Таким образом, двусторонность отношения самого
предлога является его характерной чертой».121 Думается, однако,
что то же самое относится и к косвенным падежам (конечно,
с синтаксической, а не с морфологической точки зрения!): на-
пример, окончание родительного или дательного падежа хотя
и входит с морфологической точки зрения в состав слова, однако
в такой же мере, как и соответствующий предлог, имеет «дву-
стороннюю связь» и в синтаксическом отношении «принадлежит
к обоим элементам словосочетания», — управляющему, от кото-
рого оно зависит, и управляемому, часть которого оно состав-
ляет. Ср.: ножка стола и the leg of the table; дать отцу и give
to the father.
Поэтому нет никаких оснований отказываться от термина
«предложное склонение» по отношению к предложным конструк-
ВщякОп^^ характера, включенным в падежную систему
и заменившим флективные падежи как их аналитические экви-
валенты. Мы следуем в этом словоупотреблении за английскими
грамматистами, говорящими, как Керм, о «предложном генитиве»
или «предложном дативе» (prepositional Dative, of-Genitive).122
120
Разумеется, слово «склонение» употребляется при этом в более
широком, функционально-синтаксическом значении: если под
склонением понимать изменение конца слова, т. е. явление флек-
тивной морфологии, то с этой точки зрения «предложного склоне-
ния» не существует.
Французский язык отличается от английского тем, что флек-
тивные падежные формы полностью вытеснены в нем предлогами
(родительный — предлогом de, дательный — предлогом а). Хотя
эти предлоги в данном синтаксическом употреблении также пол-
ностью утратили свое первоначальное предметное значение, однако
при таком положении отсутствует характерное для английского
языка соотнесение этих предлогов с падежами, и потому мы не
имеем никаких поводов, кроме отдаленно исторических и сравни-
тельных, чтобы, исходя из системы современного языка, ставить
вопрос о существовании в нем склонения в какой бы то ни было
форме.
Об аналитическом характере некоторых русских предложных
конструкций писал В. В. Виноградов. В разделе его книги, по-
священной «Развитию аналитического строя и изменению функ-
ции предлогов»,123 об этом сказано следующее: «Все ярче обнару-
живается внутреннее расслоение в семантической системе пред-
логов. В то время как одни предлоги: для, до, перед, при, под,
кроме, сквозь, через, между, а тем более предлоги наречного типа
близ, среди, мимо и т. п. — почти целиком сохраняют свои реаль-
ные лексические значения, другие предлоги: о, за, из, в, на, отчасти
над, от, про, с, у — в отдельных сферах своего употребления,
иные в меньшей степени, иные вплоть до полного превращения
в падежные префиксы, ослабляют свои лексические значения,
а иногда почти совсем теряют их».124
Мы могли бы иллюстрировать это общее положение на примере,
который до сих пор, по-видимому, специально не обсуждался
в русской грамматике.
Предлог в в сочетаниях (книги находятся) в столе, в ящике
сохранил конкретное локальное значение св чем-нибудь (внутри
чего-нибудь)’. Иначе в сочетаниях (я живу) в городе, в деревне,
где он имеет абстрактное значение (где?). Так же различаются:
(я кладу книгу) в стол, в ящик (во что?) и (я еду) в город, в деревню
(куда?). В последней паре каждого примера в может быть названо
аналитическим признаком падежа, в первом случае — местного
(где?), во втором — направительного (куда?).
Различие это отчетливо выступает в языках типа тюркских,
которые четко разграничивают употребление местных падежей
с абстрактным и послелогов с конкретным локальным значением.
Так, в узбекском языке в первом случае употребляются падежные
формы: шахарда 'в городе’ (местн. п.), шахарга 'в город’ (напра-
вит. п.); во втором — конструкции с послелогами: столнинг ичида
' внутри стола’, столнинг ичига свнутрь стола’ и т. п.1аб
121
В русском языке с аналитическими значениями предлога в
конкурирует в тех же значениях предлог на. Ср. в городе — на
даче, в Крыму — на Кавказе, на Волге, в магазине — на заводе
и т. п., и соответственно: в город — на дачу, в Крым — на Кавказ,
и т. д. В основе этого различия лежат в прошлом различные ло-
кальные представления конкретного характера. Но в современном
языке они утрачены, осталось только фразеологическая связан-
ность словоупотребления, которую можно было бы сопоставить
с различнми флективными формами для одного и того же падежа
в различных типах склонения (ср.: нем. Tag — род. п. Tages,
Негг — род. п. Неггеп и т. п.).
Аналогичные различия мы находим и в немецком языке. Ср.:
in dem Kasten 'в ящике’, in den Kasten 'в ящик’ — in der Stadt
'в городе’, in die Stadt'в город’. Соответственно этому в абстрактно-
локальном («аналитическом») употреблении могут конкури-
ровать разные предлоги, утратившие свое первоначальное пред-
метное значение. Ср.: in der Stadt 'в городе’ — auf dem Lande
'на даче’; in die Stadt 'в город’ — auf das Land 'на дачу’ и т. п.
Примеры эти иллюстрируют развитие аналитических функций
некоторых предлогов, заменивших древние падежные отношения,
давно исчезнувшие в языке, однако в отличие от английского или
французского языка без изменения общей системы синтаксиса
падежей и предлогов.
В качестве аналитического падежа, вошедшего в систему па-
дежей флективных, в русском языке обычно называют предлож-
ный падеж. Н. В. Крушевский рассматривал такую форму, как
о волке, в качестве примера формы, переходной «от настоящих
синтетических (ср. старинное Кыев^) к аналитическим».126
По мнению В. В. Виноградова, «в системе имен развитие анали-
тических форм ведет к осложнению грамматических форм слова
предлогами — префиксами. Например, о подвигах или о доблестях
в современном языке является не сочетанием двух слов, а одной
аналитической префиксованной формой слов подвиг и доблесть.
На этом фоне самая система склонения выступает в .ином свете,
чем она рисуется традиционной грамматикой».127
«Предложный падеж» развился в русском языке из старого
местного, переставшего употребляться без предлогов. Ср. пример
Н. Крушевского: Кыевк — совр. в Киеве. Однако в предложном
падеже с тем же флективным окончанием старого местного падежа
могут употребляться различные предлоги. Ср.: на столе, в столе,
о столе, при столе (по окончании 'после окончания’), — и эти
предложные сочетания в разной степени сохраняют полноту
исходного вещественного значения предлогов и различия между
ними. Поэтому, будучи аналитическим по форме, предложный
падеж по содержанию существенным образом отличается от ана-
литических конструкций: «пустой» в синтаксическом отношении
в нем является форма имени, а не предлог, как в английском ро-
122
дительном падеже с предлогами типа the house of my father или
в* французском la maison de mon pere.
В том же направлении развиваются и предложные конструк-
ции с другими падежами: падежная флексия в них ослабляется
в своем исходном значении, смысловая дифференциация перехо-
дит в основном на предлог. Ср.: над лесами, за лесами, по лесам,
про леса и т. п. Различие по сравнению с предложным падежом
заключается лишь в том, что падеж сохранился и в самостоятель-
ном употреблении (без предлога). В немецком языке к русскому
предложному ближе всего дательный падеж вследствие своей
полифункциональности и обилия разных по значению предложных
конструкций. Однако и дательный падеж сохранил в самостоятель-
ном употреблении свою исходную функцию (косвенного дополне-
ния, с направительным значением: ср. wem 'кому’).
К аналитическим конструкциям мы причисляем также глаголь-/
ные формы с обязательным личным местоимением как показеГгеЛ
лем лицаГ (при наличии широкой тенденции к омонимизму глав
тольны'Х“окончаний или отсутствию таковых). Ср.: нем. ich schrien
'я писал’ — ег schrieb 'он писал’, англ. ^1 wrote — he wrote,
франц, j'ecrivi(s) — il ecrivi(t). В постпозитивной положении
личные окончания имеют тенденцию суффигироваться. Ср. в не-
мецких диалектах: gesta <С gehst+du 'ты идешь’, sagemr < sa-
gen+wir 'мы говорим’. Результатом подобного суффигирования,
как установил еще Ф. Бопп, явились личные окончания индо-
европейского глагола. В тюркских языках процесс этот более
очевиден, так как агглютинирующие прилепы менее подвержены
фонетической редукции. Ср. узб. мен бера-ман'я. даю’, сен бера-сан
'ты даешь’ и т. д.
Аналитический характер имеют конструкции артикль+су-’,
ществительное, в которых артикль как служебное сйпви ибозна-1
чает грамматическую категор^ю^пределенности или неопределен-
ности имейтг; ~а в некоторых языках, при частичнбй или полной
утрате флексии, перенимает также обозначение—грамматичоскихН
категорий роДат-числау-падежа. -6р.: нем del1 Mann м7~р7, die Frau
ж. p.VlIaS^incl ср. р., dem Mann дат. п. ед. ч.; der Loffel — die
Loffel мн. ч.; франц, le gar^on м. р. — la fille ж. р. — les gar^ons
мн. ч. Для образования служебного слова из знаменательного
(артикля из местоимения или местоименного числительного)
характерно акцентное ослабление, происходящее в процессе
грамматизации, например: лат. ille > франц. 1е, итал. il, 1о;
лат. ilia > франц., итал. 1а. В дальнейшем возможна редукция
гласного элемента и прислонение к соседнему знаменательному
слову. Ср.: франц. Г перед гласным (1’enfant), нем. ’s вместо es
в диалектах и народно-разговорном языке (s’Kind) и др.128
В. Г. Адмони, в отличие от В. Н. Ярцевой, признает существо-
вание именных конструкций с артиклями и предлогами, делает,
однако, различие между аналитическими конструкциями морфо-
133
логическими — в группе глагола и синтаксическими — в группе
имени (morphologisch-analytisch и syntaktisch-analytisch).129 Для
настоящей темы различие это существенного значения не имеет.
VI
Из всего сказанного следует, что всякое грамматическое описа-
ние языка, синхронное или диахронное. будет односторонним
1Г~неИолным не только если оно ограничит г.р.бп) следуя классиче-
скому латинскому образцу, формами флективными, как” это было
в старину, но даже и в том случае, если оно дополнит их, как это
обычно делается сейчас, «парадигматическими» (т. е. традиционно
включаемыми в парадигмыГ аналитическими формами. Только
полный неширокий учет всех целиком или лишь частично грамма-
тизованных сложных форм, существующих в языке, рассматривае-
мом в его развита и, может дать правильное и исчерпываю-
щее понятие о системы-языка как о явлении по природе своей
динамическом.
Не менее существенное значение имеет такая установка с точки
зрения практической. Преподавание языка в его грамматическом
аспекте не может ограничиваться «парадигмамп» ск-яопапдя_и спря-
жения, флективными или аналитическими; оно требует усвоения
теёх"моделей грамматических или полуграмматических конструк-
ций, существуйщпЕ^'яз’БГкет^гак же как оно предполагает, одно-
времПнно с знанием лексики, освоение фразеологии, более связан-
ной или более свободной.
Развитие аналитических конструкций в языке представляет
живой и сложный процесс, который требует процессуаль-
ного рассмотрения как в аспекте истории языка, так и при опи-
сании его современного состояния. С точки зрения лингвистиче-
ской теории, это означает отказ от разрыва междусинхрондей
и диахронией, рассмотрение любого" состояния языкаТсак с и-
с f е м ы, Э“а ходящейся в движении в це 5Гб"м
и о т Д~ё' л~ь~н ы х и х—ч а гт я г
Процессуальный подход устанавливает в аналитических кон-
струкциях различные ступени грамматизации. Он
предполагает особое внимание к случаям переходным,
отражающим в современном состоянии языка динамику его раз-
вития.
Напомним известное высказывание Л. В. Щербы: «Здесь,
как и везде в языке (в фонетике, в «грамматике» и в словаре),
надо помнить, что ясны лишь крайние случаи. Промежуточные же
в самом первоисточнике — в сознании говорящего — оказываются
колеблющимися, неопределенными. Однако это-то неясное и ко-
леблющееся и должно больше всего привлекатьв нимание линг-
виста, так как здесь именно подготовляются те факты, которые
потом фигурируют в исторических грамматиках, иначе говоря —
так как здесь мы присутствуем при эволюции языка»,130
424
В более общей форме положение это представляет основу мате-
риалистической диалектики. Энгельс писал об этом в «Диалектике
природы»: «Hard and fast lines [абсолютно резкие разграничитель-
ные линии] несовместимы с теорией развития. Даже разграничи-
тельная линия между позвоночными и беспозвоночными уже более
не безусловна, точно так же между рыбами и амфибиями; а гра-
ница между птицами и пресмыкающимися с каждым днем все более
и более исчезает... „Или — или“ становится все более и более не-
достаточным. . . . Для такой стадии развития естествознания,
где все различия сливаются в промежуточных ступенях, все про-
тивоположности переходят друг в друга через посредство проме-
жуточных членов, уже недостаточно старого метафизического
метода мышления. Диалектика, которая точно так же не знает
hard and fast lines и безусловного, пригодного повсюду „или—или",
которая переводит друг в друга неподвижные метафизические
различия, признает в надлежащих случаях наряду с „или—или“
также „как то, так и другое" и опосредствует противополож-
ности, — является единственным, в высшей инстанции, методом
мышления, соответствующим теперешней стадии развития есте-
ствознания. Разумеется, для повседневного обихода, для научной
мелкой торговли, метафизические категории сохраняют свое
значение».131
Эти положения Энгельса всецело относятся и к лингвисти-
ческой науке.
1963 г.
О ГРАНИЦАХ СЛОВА
1
Вопрос о границах слова тесно связан с вопросом о природе
слова. Слово — это основная единица языка. Между тем определе-
ние слова и установление его границ представляет большие труд-
ности, которые вряд ли могут быть преодолены индивидуальными
усилиями автора настоящего доклада. Мне хотелось бы только
поставить этот важный и сложный вопрос, с учетом его много-
образных аспектов, без которых невозможно наметить пути к его
разрешению.
«Вообще удовлетворительного определения слова нет, да и
едва ли можно его дать, — пишет проф. М. Н. Петерсон в своем
пособии для преподавателей русского языка. — Слово — такое
простое понятие, которому нельзя дать логического определения,
а поэтому приходится удовольствоваться простым указанием
или описанием»,1
125
Такой эмпирический агностицизм вряд ли может удовлетво-
рить советского исследователя. Гораздо более правильным пред-
ставляется мне оптимистическое заявление Л. В. Щербы в его
докторской диссертации: «Я не разделяю скептицизма по отноше-
нию к „слову". Конечно, есть переходные случаи между словом
и морфемой, с одной стороны, и между словом и сочетанием слов,
с другой стороны. Но в природе нет нигде абсолютных границ;
в большинстве же случаев понятие слова очень ясно для сознания
говорящих. . .».2
Позднее трудности общего определения слова Л. В. Щерба
справедливо связывал с конкретными различиями языков. «В са-
мом деле, что такое „слово"? — спрашивает акад. Л. В. Щерба. —
Мне думается, что в разных языках это будет по-разному. Из этого
собственно следует, что понятия „слово вообще" не существует».3
Примем это указание как предостережение, ограничивающее
значимость тех определений, которые мы вынуждены дать прови-
зорно на материале известных нам языков (в настоящем случае —
индоевропейских и тюркских). Для более углубленного решения
этого вопроса необходимо широкое сравнительно-типологическое
изучение проблемы слова в языках разных систем — задача,
которая стоит перед нашим совещанием и перед планируемой
нами коллективной работой о грамматической структуре слова
в языках различных типов.
В качестве определения провизорного, имеющего характер
рабочей гипотезы, я хотел бк предложить следующее: слово
есть кратчайшая единица языка, самостоя-
тельная по своему значению и форме.
Семантическое единство слова (т. е. его смысловая цельность
и самостоятельность) обязательно для всякого слова и представ-
ляется основой цельности и самостоятельности формальной;
однако взятое само по себе, оно еще недостаточно. Поэтому не-
правильным, вернее недостаточным, нужно признать то определе-
ние слова, которое дает Толковый словарь русского языка под ре-
дакцией Д. Н. Ушакова: слово — единица речи, представляющая
собою звуковое выражение отдельного предмета мысли.4 Как изве-
стно, железная дорога, Красная Армия — не слова, а стойкие
словосочетания, хотя они и обозначают «отдельные предметы
мысли». К семантическому единству должны прибавиться признаки
формальные — фонетические (например, ударение, особые явле-
ния начала и конца слова)— «пограничные сигналы» в смысле
Н. С. Трубецкого 5 и др.) или грамматические (морфологические
и синтаксические), которые, однако, отнюдь не ограничиваются,
как мы увидим дальше, так называемой «цельнооформленностью»
слова, о которой писал проф. А. И. Смирницкий.6
Эти формальные признаки могут по-разному взаимодейство-
вать друг с другом, и вместе с тем они не имеют универсального
характера. Они различны в разных языках в зависимости от осо-
бенностей их фонетико-грамматического строя. Именно наличие
136
таких типологических различий формальной структуры, связан-
ных со всей фономорфологической системой данного языка,'подра-
зумевал, по-видимому, Л. В. Щерба, когда говорил, что «понятия
„слова вообще" не существует» и что «в разных языках^это будет
цо-разному». __
Но различия возможны и в пределах одного языка между раз-(
ными категориями слов, в особенности между словами знаменатель-
ными и служебными. Последние в фонетическом, как и в семанти-
ческом отношении менее самостоятельны и могут даже быть совсем
несамостоятельными. Например, односложные предлоги не имеют
самостоятельного ударения, которое в русском языке является
фонетическим признаком знаменательного слова; иногда они со-
стоят из одного согласного, который полностью прислоняется
к последующему слову (в, к, с и др.); они допускают ассимиляцию
по звонкости (нат-селом, ф-сенё), не свойственную по законам
русской фонетики конечным согласным знаменательных слов.
К ним неприменим и критерий морфологической цельнооформлен-
ности, поскольку такие слова, как предлоги в (ф-столе) или
к (к-станку) или союзы а, и, вообще не обладают морфологической
оформленностью, характерной для большинства знаменательных
слов.
Минимум формальной самостоятельности слова дает в самых
разных языках (независимо от характерных различий их фоне-
тико-морфологического строя) критерий потенциальной выделяе-
мое™, т. е. отдельности и цельности слова. В семантическом отно-
шении служебное слово, например предлог в, хотя оно и не упо-
требляется самостоятельно, без имени, обладает тем не менее
помимо своей грамматической функции известным минимумом
лексического значения, присущего и служебным словам в отличие
от морфем: оно обозначает'внутри чего-нибудь’ в отличие, скажем,
от с, означающего 'вместе с чем-нибудь или кем-нибудь’. Напротив,
морфемы, например падежные окончания -ы, -ам или глаголь-
ные -у, -ат, не имеют никакого значения вне того слова, часть
которого они составляют. С точки зрения формальной, предлог
обладает, в противоположность морфеме, выделяемостью,
представляющей минимум формальной самостоятельности
слова. Мы можем сказать: в саду, в твоем саду, в твоем цветущем
саду и т. п.
Критерий выделяемости слова следует применить и к хорошо
известному примеру Ж. Вандриеса, который неоднократно обсуж-
дался и в советском языкознании. «Во французской фразе je ne 1’ai
pas vu ея его не видел’ школьная грамматика насчитывает шесть
отдельных слов. В действительности, — по мнению Вандриеса, —
налицо только одно слово, но сложное, образованное из ряда
морфем, переплетенных одна с другой».7 Мнение Вандриеса разде-
ляет и акад. И. И. Мещанинов, усматривающий в совершенно
аналогичном французском примере je te quitte 'я тебя покидаю’
явление, родственное инкорпорации субъекта или объекта, вклю-
127
ченных в глагольную форму.8 Вслед за акад. И. И. Мещаниновым
и проф. П. С. Кузнецов находит в другом таком же примере je-
te-le-donne 'я тебе это даю’ черты, характерные для полисинтети-
ческого строя (т. е. для той же «инкорпорации»): «Во французском
языке местоименные показатели, обозначающие объект (прямой
или косвенный), по существу вклиниваются в состав глагольной
формы».9
Конечно, в принципе, с точки зрения теоретической, нельзя
отрицать возможность существования такого, в европейских
языках необычного, слова «инкорпорирующего» типа — или,
точнее, такой глагольной формы, которая включала бы в свой
состав отрицание (как это обычно в тюркских языках) и место-
именные дополнения (как это возможно в языках семитических).
Но предложение Вандриеса je ne 1’ai pas vu не представляет
собою единого слова, потому что все его элементы выделимы
и соответственно заменимы как самостоятельные слова. Можно
сказать: je ne 1’ai pas vu и je 1’ai yu, je t’ai vu и je ne t’ai pas vu;
или: je 1’ai vu, tu 1’as vu, je 1’avais vu, je ne 1’ai jamais vu и т. п.
Раздельное написание является здесь выражением того факта,
что сами говорящие сознают эти элементы фразы как отдельные
слова, которые могут быть соотнесены с другими словами, в том
числе и с полнозначными, ср. Alfred ne l’a pas vu.
По мнению Вандриеса, je, me, te, tu, le — это «простые мор-
фемы, лишенные самостоятельности», потому что «они не употреб-
ляются отдельно». «Je существует только в сочетании с глаголом
je parle 'я говорю’, je cours 'я бегу’, так же как и me: tu те dis
'ты говоришь мне’, tu те frappes 'ты ударяешь меня’».10На самом
деле указанные формы входят в состав соотносительных парадигм
склонения личных местоимений 1-го л. je—me, moi; 2-го л. tu—te,
toi; 3-го л. il—le, lui (возврати, se—soi); при этом je—me, tu—te,
il—le (возврати, se) представляют слабые (неударные) формы име-
нительного и косвенного (винительного и дательного) падежей,
чередующиеся с сильными формами moi, toi, lui (возврати, soi),
которые употребляются под ударением. В самостоятельном (т. е.
в ударном) положении могут стоять только сильные формы.
Ср. qui est la? 'кто там?’ — c’est moi, c’est toi, c’est lui 'это я’,
'это ты’, 'это он’, но не je, tu, il 'я’, 'ты’, 'он’. Со своей стороны
je 'я’ отличается от остальных личных местоимений только тем,
что оно лексически изолировано, представляя супплетивную
форму, обычную для индоевропейских языков в именительном
падеже 1-го лица; однако такая изолированность не делает эту
форму слова морфемой в отличие от tu 'ты’ или il 'он’, с которыми
оно взаимозаменимо в парадигме спряжения, как и с другими
подлежащими, выраженными полнозначными словами (Alfred).
Отдельность слова предполагает также его цельность: в состав
одного слова не может вклиниваться другое слово, тогда как мор-
фемы могут вставляться между другими морфемами. Ср. русск.
соверш. заманить — несоверш. заманивать, нем. уменып. Kind-
128
chen — мн. ч. Kinderchen; в диалектах: Bemche 'Baumchen’ —
мп. ч. Bemerche. Морфемы могут вклиниваться и в состав корня
как инфиксы, ср. носовой инфикс в презенсе некоторых индоевро-
пейских глаголов (лат. vinco—vici; готск. standan—stoj), англ,
stand—stood). Нарушение цельности слова, разрыв слова другими
словами приводятся русскими грамматистами только как редкое
исключение. См. примеры В. В., Виноградова на употребление
отрицательных местоимений с предлогами: никто, но ни к кому',
некому, но не у кого.11 Ср. также ни о ком, ни о чем, ни с которым,
не для кого, не с кем.12 Однако эти примеры являются лишь иллю-
страцией исторической зыбкости границ между сложными сло-
вами, с одной стороны, и устойчивыми словосочетаниями, с другой,
о чем дальше будет сказано более подробно. Устойчивое словосо-
четание ни о ком является формой слова никто, так же как ана-
литические формы типа буду писать, je vais ecrire, ich werde schrei-
ben являются формами глагола писать (ecrire, schreiben).
«Разрыва» слова при этом не происходит.
[- Более массовый, принципиально существенный для граммати-
ческого строя характер явление это имеет в немецком языке
в категории так называемых «отделяемых приставов». Ср., на-
пример, инфинитив aufstehen 'вставать’, причастие II aufgestan-
den 'вставший’ (слитно в именных формах глагола) — ich stehe auf
'я встаю’, ich stand auf 'я встал’ (раздельно в личных формах).
При этом в связи с обычной в немецком синтаксисе «рамочной
конструкцией» для глагола и отделяемой приставки характерен
дистантный порядок слов: все приглагольные дополнения и обстоя-
тельственные слова располагаются между глаголом и «отделяемой
приставкой»: ich stehe heute friih auf 'я встану сегодня рано’,
ich stand heute ausnahmsweise besonders friih auf 'я встал сегодня
особенно рано’ и т. п. По тому же типу строятся сложные глаголы
с отделяемым первым элементом, в основе которых лежат слово-
сочетания типа сложного сказуемого. Ср. инфинитив feststellen
'устанавливать’, причастие II festgestellt (слитно) — наст. вр.
1-е*л. ед. ч. ich stelle . . . fest (раздельно); инфинитив teilnehmen
'принимать участие’, причастие II teilgenommen (слитно) —
прош. вр. 1-е л. ед. ч. ich nahm an diesem Spiele teil (дистантная
позиция); инфинитив kennenlernen 'узнать’, причастие II kennen-
gelernt (слитно) — прош. вр. 1-е л. ед. ч. ich lernte ihn erstgestern
kennen (дистантная позиция).
& А. Левковская оспаривает законность традиционных терми-
нов «глаголы с отделяемыми приставками» (trennbare Prafixe)
или «разъединимые сложные слова» (trennbare Zusammensetzungen,
unfeste Komposita и т. п.), принятых в немецких грамматиках
для образования этого типа.13 По мнению этого автора, приставки
(префиксы) как славообразовательные морфемы по самой природе
своей не могут «отделяться» от основы. «Префиксы, — пишет
К. А. Левковская, — это словообразовательные форманты, вклю-
ченные в основу слова и всегда занимающие (в разных осно-
9 В. М. Жирмунский 129
Вах) начальное положение».14 Поэтому она рассматривает «отде-
ляемые приставки» как наречия, а образования типа aufstehen
и feststellen не как сложные слова, а как стойкие фразеологические
словосочетания. Между тем на самом деле сложные слова и слово-
сочетания различаются в немецком языке достаточно четким
фономорфологическим признаком: в сложных словах ударение
лежит на первом элементе (при более слабом ударении на втором
элементе), — ср. feststellen и Feststellung, — тогда как в слово-
сочетаниях более сильное ударение лежит на втором элементе —
feste Stelle. Ср. еще Rotbart (сложное слово) и Rot Front (слово-
сочетание). Слитная орфография глаголов этого типа в именных
формах является в этом случае наглядным выражением непосред-
ственного языкового восприятия говорящих.
Источником этого заблуждения К. А. Левковской является
теория, выдвинутая проф. А. И. Смирницким для английского
и скандинавских языков. А. И. Смирницкий рассматривает так
называемые глагольные послелоги этих языков (ср. англ, to
stand up, I stand up, he stood up) как приглагольные наречия,
а сложные глаголы этого типа — как «глагольно-адвербиальные
фразеологические единицы».15 Не входя в рассмотрение этого
спорного вопроса, поскольку он не имеет прямого отношения
к языку немецкому, следует напомнить, что в английском и в скан-
динавских языках в отличие от немецкого не существует слитных
именных форм глагола наряду с раздельными личными формами,
т. е. отсутствует та самая проблема, которая нас здесь занимает.
Если мы не хотим отрицать реальных языковых фактов во имя
метафизических определений и основанных, на них теорий, мы
должны и здесь, как в. приведенных раньше русских примерах,
признать возможность существования стойких словосочетаний
рядом со слитными (сложными) словесными единицами как форм
одного и того же слова, что и находит отражение в традиционном
термине «отделяемые приставки». Противоречие это (существующее
в такой же мере и для аналитических форм слова) имеет диалекти-
ческий характер и отпадает как мнимое, если рассматривать дан-
ное явление, как всякое явление языка, в его историческом раз-
витии. Немецкий литературный язык зафиксировал и консерви-
ровал на определенной ступени процесс превращения приглаголь-
ных наречий в предлоги, происходивший в разное время и в разной
форме во всех индоевропейских языках. Необходимо учитывать
этот «процессуальный» характер данного явления, чтобы пра-
вильно понять его место в синхронной системе языка.
Следует, разумеется, иметь в виду, что степень цельности
и спаянности морфологических элементов слова (как и отдельных
слов в составе синтаксической группы — словосочетания) может
быть различной в языках разного типа в зависимости от их морфо-
логической структуры. Наибольшей степени эта связанность до-
стигает в языках флективного строя. В языках агглютинирующих,
таких как тюркские, однозначные морфологические элементы —
130
«прилепы» — способны в зависимости от наличия или отсутствия
других «прилеп» механически отодвигаться к концу слова или при-
двигаться к его основе. Ср. узб. ота 'отец’, ота-га 'отцу’, ота-м-га
fмоему отцу’, ота-лар 'отцы’, ота-лар-га 'отцам’, ота-лар-ым-га
'моим отцам’ и т. п. Возможно даже употребление в конце грамма-
тически однородной синтаксической группы общих формантов,
относящихся ко всем членам группы в целом. Ср. узб. ота, она ва
дуст-лардан салом'от отцов, матерей и друзей привет’ (-лар-дан —
суффиксы мн. ч. и исходи, п.); турецк. yarin gelir, alir-im 'завтра
я приду (и) возьму’суффикс 1-го л. ед. ч.); ne yiyor, ne igiyor,
ne de soyliiyor-du '(он) не ел, не пил, не говорил’ (=суффикс
прош. вр. 3-го л. ед. ч.).16
Все это свидетельствует о значительно большей независимости
морфем в языках этого типа, прежде всего в тюркских.17 Можно
сказать, что морфологические показатели в таких языках гораздо
«синтаксичнее»,ччем в языках флективных типа индоевропейских,
и менее прочно связаны с основой. С другой стороны, эта основа
может выступать без всяких показателей как исходная, так назы-
ваемая «абсолютная» форма слова, ср. в именах ота 'отец’, тош
'камень’ и т. п. Поэтому словоформы вроде ота-лар-га 'отцам’,
ота-лар-им-га 'моим отцам’ в парадигме именного склонения
или бора-ман 'я иду’, бора-сан 'ты идешь’, борган-ман 'я шел’,
борип-сан 'ты шел’ в парадигме глагола (где основы бора-, борган-,
борип- являются глагольными именами, которые могут употреб-
ляться и самостоятельно) отличаются гораздо меньшей внутренней
спаянностью как формы одного слова, чем падежные и глагольные
формы русского или латинского языка, где морфема лексически
связана со словами определенного типа (ср. дат. п. ед. ч. сын-у,
жен-е, тен-и и т. п.).
Характерно, что единство слова поддерживается во многих
агглютинирующих языках специфическим для них морфологиче-
ским признаком — так называемым сингармонизмом гласных,
объединяющим основу со всей цепочкой аффиксов в рамках «отдель-
ности» слова, границу которого он тем самым намечает. Поэтому
формальный показатель имени, находящийся за пределами син-
гармонической связи, остается послелогом (т. е. служебным сло-
вом) даже в тех случаях, когда по своему абстрактно-грамматиче-
скому значению он приближается к тому, что в других языках
было бы падежной формой (например, послелог бирлэн, блан 'с’,
'вместе с’ — с инструментальным или комитативным значением).18
2
Границы слова, если рассматривать слово как систему грамма-
тических форм (согласно терминологии акад. В. В. Виноградова),19
определяются границей между словообразованием и словоизме-
нением (формообразованием). Как известно, с исторической точки
131
д*
зрения границы эти весьма зыбкие в результате процессов редук-
ции окончаний и морфологического переразложения. Так, в совре-
менном немецком языке признаками множественного числа
являются окончания -е, -ег, -(е)п, например: Tag — мн. ч. Tage,
Kind — мн. ч. Kinder, Sache — мн. ч. Sachen. Исторически,
однако, все эти окончания являются по своему происхождению
основообразующими суффиксами индоевропейских основ на -о-
(герм. -а-), на -es- (герм, -гг-), на -еп!-оп- (герм, -inl-an-). Ср. для
двух последних русск. небо—небеса, племя—племена и т. п.
Но зыбкими являются границы между словоизменением и
словообразованием (формообразованием) и при синхронном рас-
смотрении. Вопрос этот имеет не только классификационно-терми-
нологическое значение: от его решения зависит установление
грамматической границы слова, т. е. того, какие грамматические
категории следует рассматривать в качестве форм одного слова
(словоизменение или формообразование), а какие — в качестве само-
стоятельных словА '
Как известно, акад. Ф. Ф. Фортунатов и его школа относили
к словоизменению только синтаксически обусловленные формы
слова: 20 у существительных — только склонение по падежам,
у прилагательных — изменение по родам и падежам, у глаголов —
лицо, время и наклонение. Категория числа исключалась из слово-
изменения и относилась к словообразованию (окно и окна с этой
точки зрения представляют два разных слова); степени сравнения
прилагательных и уменьшительные относились к словообразова-
нию (красный и краснее, дом и домик представляют разные слова);
точно так же категория вида в глаголе; инфинитивы, причастия
и деепричастия вообще исключались из системы глагола как слова
спрягаемого и рассматривались как самостоятельные части речи,
не имеющие морфологического признака словоизменения по лицам,
характерного для глагола.
Однако, как справедливо указал А. М. Пешковский, «катего-
рии времени и наклонения глагола тоже не выражают зависимости
составляющих их форм от окружающих форм: одинаково можно
сказать и он стучит, и он стучал, и он стучал бы».21 Следовательно
(по крайней мере для русского языка, при отсутствии обязатель-
ной грамматической последовательности времен и наклонений),
они также не являются синтаксическими категориями и, при после-
довательном проведении точки зрения Фортунатова, не относятся
к словоизменению глахЬла.
И. А. Бодуэн де Куртенэ и его ученики не разделяли этих
взглядов фортунатовской школы, как и других проявлений ее
крайнего морфологизма. Л. В. Щерба высказался по этому во-
просу в своей известной статье «О частях речи в русском языке»
(1928), правда — скорее с позиций лингвистического здравого
смысла (на ряде убедительных частных примеров), чем в строгих
грамматических понятиях.
132
«Под формами слова, — писал Л. В. Щерба, — в языковедении
обыкновенно понимают материально разные слова, обозначающие
или разные оттенки одного и того же понятия, или одно и то же
понятие в разных его функциях. . . Такие слова, как писать
и писатель, не являются формами одного слова, так как одно
означает действие, а другое — человека, обладающего определен-
ными признаками. Даже такие слова, как худой, худоба, не счи-
таются нами за одно и то же слово. Зато такие слова, как худой
и худо, мы очень склонны считать формами одного слова, и только
одинаковость функций слов типа худо со словами вроде вкось,
наизусть и отсутствие параллельных этим последним прилага-
тельных создают особую категорию наречий и до некоторой степени
отделяют худо от худой. Конечно, как всегда в языке, есть случаи
неясные, колеблющиеся. Так, будет ли столик формой слова
стол? Это не так уж ясно, хотя в языковедении обыкновенно го-
ворят об уменьшительных формах существительных. Предобрый,
конечно, будет формой слова добрый, сделать будет формой слова
делать, но добежать едва ли будет формой слова бежать, так как
самое действие как будто представляется различным в этих слу-
чаях».22
Академическая грамматика русского языка не прибавила ни-
чего нового к этому зыбкому и по существу эмпирическому (хотя
и справедливому в основном) определению, а только выразила
его несколько иными словами.23 «Формами слова называются
все те видоизменения одного и того же слова, которые, обозначая
одно и то же основное понятие, прибавляют к нему то или другое
дополнительное понятие, либо выражают то или другое отноше-
ние данного предмета мысли к другим предметам мысли того же
предложения».
Акад. В. В. Виноградов, следуя в основном за Л. В. Щербой,
понимает формообразование чрезвычайно широко. Для этого
он вводит понятие «формообразующих» суффиксов, в отличие
от суффиксов «словообразующих».24 К формообразованию суще-
ствительных В. В. Виноградов относит не только уменьшительные
в узком смысле, но всю группу «суффиксов субъективной оценки»
(уменьшительные, увеличительные, ласкательные, уничижитель-
ные и т. п.), например дом—домик—домишко—домище—домина
и т. п. К формообразованию прилагательных он относит не только
обычные степени сравнения добрый—добрее—добрейший, их ана-
литические эквиваленты — более добрый, самый добрый, но и уси-
лительные типа предобрый (т. е. 'очень добрый’, 'весьма добрый’),
прескверный, формы субъективной оценки качества: желтоватый,
желтенький и т. п. К формообразованию глагола относятся,
кроме форм времени и наклонения, инфинитивов, причастий и
деепричастий, такие видовые и залоговые формы, имеющие соотно-
сительный характер, как хорошеть—похорошеть, слабеть—осла-
беть, надеть—надевать; или изучать—изучаться, брить—
бриться и др.
133
Спросим себя, однако, что означает термин и понятие «формо-
образующие суффиксы»? Не означают ли они введения между
флексией (словоизменением в узком смысле) и словообразованием
некоей промежуточной или переходной категории, которая как бы
призвана примирить точку зрения школы Фортунатова и точку
зрения Щербы (иными словами, лингвистический формализм
и лингвистический «здравый смысл»)? Так, по-видимому, понимает
дело академическая грамматика русского языка, в которой дается
разъяснение, что «морфемы, образующие формы слов,
называются обыкновенно окончаниями (или флек-
сиями), если эти морфемы выражают синтаксические отноше-
ния, например: светл-ый, светл-ая, светл-ое, светл-ого, светл-ой. . .
стол, стол-а, стол-у» 25 (принцип Фортунатова: множественное
число соответственно этому не приводится в числе примеров,
но с характерным умолчанием относительно этого особо дискус-
сионного вопроса). «Однако и морфемы, образующие формы
слов (и иногда не стоящие на конце слова), называются тоже
суффиксами, подобно словообразующим морфемам, например
суффиксы -ейш, -айш — в формах превосходной степени имен
прилагательных: чистейший (от чистый), глубочайший (от глубо-
кий) и т. п. В отличие от словообразующих суффиксов, Суффиксы,
образующие формы слов, называются формообразую-
щим и».26
Итак, с точки зрения академической грамматики, существуют)
три группы морфем: флексии, формообразующие суффиксы и сло-^
вообразующие суффиксы. Но нас интересует не название, а прин-
ципиальный вопрос: где же проходит в языке граница между
словоизменением и словообразованием, тождественно ли понятие
«формообразование» с понятием «словоизменение» в широком
смысле слова, т. е. следует ли считать, что дом—домишко—до-
мище—домина одно слово (т. е. разные формы одного слова),
как и добрый—предобрый, желтый—желтоватый и др.? Входят ли
они в «парадигму» изменения имени и образуют ли такую же. си-
стему словоизменения, как глагольные формы петь — пою —
я пел — я пел бы — я буду петь — я спою — я спел бы — пою-
щий — певший — спевший — спевши и т. п., о которых акад.
В. В. Виноградов говорит, также взывая к здравому смыслу
и национальному языковому чутью: «Никто из русских людей
не усомнится», что они «являются грамматическими формами
одного и того же глагола. Все эти формы соотносительны».27
Вопрос этот остается открытым. Можно думать, что под «фор-
мообразованием» понимается категория, переходная между слово-
изменением и словообразованием, очертания которой представляют
существенные различия в языках разного типа.
Но и в пределах системы словоизменения («парадигмы» в узком
смысле) дискуссионным остается вопрос, является ли каждая
форма слова самостоятельным словом, как утверждал, например,
А, А. Потебня,28 или слово, понимаемое как «лексема», есть «си-
134
стема сосуществующих, обусловливающих друг друга и функцио-
нально объединенных форм», как учит акад. В. В. Виноградов.29
Если же вместе с большинством советских грамматистов признать
правильным это последнее положение, то следует ли из него,
что формы эти представляют лишь комплекс «сосуществующих»
и «соотносительных», вполне равноправных «словоформ» (термин
проф. А. И. Смирницкого и его школы, подчеркивающий прин-
ципиальное равноправие всех форм слова, входящих в систему
словоизменения)? 30
Последняя точка зрения опирается на авторитет И. А. Бо-
дуэна* де Куртенэ, который писал по этому поводу так: «Нельзя
говорить, что известная форма данного слова служит первоисточ-
ником для всех остальных и в них „переходит14. Разные формы
известного слова не образуются вовсе одна от другой, а просто
сосуществуют. Конечно, между ними устанавливается взаимная
психическая связь и они друг друга обусловливают и путем ассо-
циации одна другую вызывают. Но с одинаковым правом мы мо-
жем говорить, что форма вода „переходит41 в форму воду, как и на-
оборот, форма воду — в форму вода».31
Акад. В. В. Виноградов цитирует это положение И. А. Бо-
дуэна де Куртенэ, по-видимому, сочувственно, хотя и не высказы-
вает прямо своего отношения к нему.32 Академическая грамматика
прямолинейно усвоила эту точку зрения и подносит ее от своего
имени: «Не надо думать, что именительный падеж единственного
числа является собственно словом, а все остальные формы лишь
его видоизменениями. Именительный падеж — такая'же форма,
как и все остальные, и только его назывная функция (то есть назна-
чение служить названием предмета) делает его удобным
представителем всей группы слов, которые в целом
образуют единое слово» 33 (разрядка наша, — В. Ж.).
Вряд ли, однако, можно признать это положение правильным.
Вопрос не следует, разумеется, ставить в наивно генетическом
плане, против чего и полемизирует И. А. Бодуэн де Куртенэ:
какая форма в какую «переходит» или из какой «образуется».
Но вместе с тем речь идет не только об «удобстве» (удобство для
кого? для составителей школьных грамматик?), а о чем-то гораздо
более принципиальном: о функционально соотносительной струк-
туре системы словоизменения и тем самым «лексемы» как системы
«словоформ».
Вода, как правильно указывает академическая грамматика,
это назывная форма, т. е. представляет название предмета. В ка-
честве такового она существует в языке самостоятельно: вот
это — вода. Назывная форма слова не обусловлена связью с дру-
гими словами. Напротив, «словоформы» воды, воде самостоятельно
в языке не существуют — они употребляются только в контексте
высказывания, в синтаксической обусловленности другими сло-
вами и в зависимости от них. Поэтому в семантическом отношении
135
они могут быть названы «производными» от основного, независи-
мого («абсолютного») значения слова вода.
Точно так же категория множественного числа «производна»
от единственного, а не равноправна с ним. Дом, петух означают,
как известно, не только единичный предмет, но и родовое понятие,
категорию предметов (как и вода в единственном числе — название
этого вещества вообще). Дома, петухи — это несколько единич-
ных предметов (домов, петухов). Сходным образом обстоит дело
в случаях так называемого «формообразования». Дом и домик
не равноправны: домик, домище, домина означают 'маленький
дом’ или 'большой дом’, т. е., говоря словами Л. В. Щербы,
они представляют «оттенки» понятия дом, «производные» от этого
основного понятия; с этой точки зрения и формы сравнительной
и превосходной степени добрее, добрейший должны рассматри-
ваться в семантическом отношении как «производные» от положи-
тельной степени добрый.
Но смысловому (семантическому) соотношению может соответ-
ствовать до известной степени и морфологическое. Для флектив-
ных индоевропейских языков характерна общая тенденция,
осуществляемая с различной последовательностью, к освобожде-
нию именительного падежа (падежа субъекта действия) от специ-
фического падежного признака, который был ему присущ в древ-
ности и делал его в морфологическом отношении равноправным
с другими падежами. По словам А. Мейе, «основной чертой индо-
европейской системы является то, что в ней слово никогда не су-
ществует без особой грамматической характеристики. Во француз-
ском языке есть слово maison 'дом’; в индоевропейском была форма
им. п. ед. ч. греч. Збръос 'дом’, санскр. damah; форма вин. п. ед. ч.
греч. 8др.оо, санскр. daman; форма вин. п. мн. ч. греч. обр-оосз,
санскр. daman; и т. д.; не было ничего, что означало бы 'дом’
без грамматической характеристики».34 В новых индоевропейских
языках во многих группах имен окончание, характеризовавшее
в индоевропейском именительный падеж, подверглось редукции.
В результате этого русское слово дом в отличие от греч. Збр-осз
не имеет в именительном падеже единственного числа показателя
падежа и по форме совпадает с чистой основой (или корнем) слова.
Мы привыкли в подобных случаях, вслед за Ф. Ф. Фортунато-
вым, говорить о нулевом (или отрицательном) окончании (мор-
феме О) именительного падежа и ставить его в один ряд с други-
ми окончаниями, выраженными соответствующими флексиями.
Однако такая терминология не разъясняет, а скорее затемняет
существо явления. Следует признать термин «нулевое окончание»
правильным в таких случаях, как род. п. мн. ч. роз рядом с им. п.
мн. ч. розы и дат. п. мн. ч. розам, но для именительного падежа
единственного числа термин этот не соответствует специфике
явления. Мы имеем здесь не одну «словоформу», равноправную
с другими «словоформами», а исходную форму слова — исходную
уже не только в семантическом отношении в качестве назывной
136
формы, но и в отношении морфологическом, поскольку она совпа-
дает с чистой основой (или корнем) слова без каких-либо морфоло-
гических показателей; ср. дом — дома, дому и т. д. Формы косвен-
ных падежей и множественного числа могут рассматриваться
как производные уже не только в семантическом, но и в морфоло-
гическом отношении. Ср. также нем. Tag, Kind, Maus, Herr, Frau
и мн. др.
Нередко и падеж прямого дополнения (винительный) подвер-
гался такой же редукции окончания и совпадает тогда с имени-
тельным (так во всех названных примерах, немецких и русских,
кроме нем. Herr — вин. п. Herren). При этом унификация имени-
тельного и винительного падежа достигается в ряде случаев
не просто фонетической редукцией, а грамматической аналогиза-
цией в пользу того или другого из этих падежей. Аналогия,
как всегда в таких случаях, не механический ассоциативный
процесс, как полагали младограмматики: она раскрывает тенден-
цию внутреннего развития системы.35 Исходная форма без показа-
теля закрепляется в падежах субъекта и объекта, в которых пред-
мет выступает как таковой (в своей назывной форме). Остальные
падежи обозначают отношения предмета (понятия) к другим пред-
метам (понятиям).
Крайнюю точку этого процесса представляет английский язык,
ср. ед. ч. day, мн. ч. days, house — houses, где общая форма един-
ственного числа, тождественная с назывной формой, превратилась
(как и в тюркских языках) в абсолютную форму слова.
Сложнее обстоит дело с системой словоизменения глагола,
где между формами парадигмы наличествуют, по-видимому, менее
тесная связь и более равноправные отношения. Конечно, и здесь
инфинитив представляет «назывную форму» глагола — «название
действия» или «глагольный номинатив», по удачному выражению
А. А. Шахматова. А. М. Пешковский писал в развитие этой мысли:
«Как именительный падеж (по большей части притом един-
ственного числа) принимается нами за простое, го-
лое название предмета, без тех осложнений в процессе мысли,
которые вносятся формами косвенных падежей, так неопределен-
ная форма благодаря своей отвлеченности представляется нам
простым, голым выражением идеи действия, без тех ослож-
нений, которые вносятся в нее всеми другими глагольными ка-
тегориями».36
Однако название действия не является в семантическом отно-
шении «исходным» для личных форм глагола. Поэтому наряду
с инфинитивом, который в данном случае действительно является
лишь «удобным представителем» системы, в качестве такого пред-
ставителя выступает 1-е лицо единственного числа индикатива
настоящего времени (лат. lego, греч. Херо), как в грамматиках
и словарях классических языков, или императив, как в некоторых
грамматиках тюркских языков, поскольку в этих языках импера-
тив совпадает с чистой основой глагола (как, впрочем, и в языках
137
индоевропейских), отличаясь, однако, от основы своей синтакси-
ческой направленностью на собеседника (2-е лицо!) и связанной
с ней интонацией повеления.
С точки зрения морфологической, ни писать, ни schreiben,
ни ecrire также не являются исходной формой для глагольного
спряжения. От них отличается, однако, англ, write (в инфинитиве,
с аналитическим показателем to write). Лишенное флективных
показателей, оно совпадает по своей форме с чистой основой
(корнем) слова и является тем самым морфологически исходной
формой для системы глагольного спряжения.
х С этим связано явление, получившее в научных грамматиках
современного английского языка название «конверсии»~(англ. соп-
kyersion, букв, 'обращение’), т. е. переход одной части речи в дру-
гую. Ср. англ, love 'любовь’ (сущ.) — (to) love 'любить’ (глаг.);
। warm 'теплый’ (прил.), 'тепло’ (нар.) — (to) warm 'отеплять’
(глаг.); round 'круглый’ (прил.), 'кругло’ (нар.) — round 'круг’
(сущ.) — (to) round 'округлять’ (глаг.); light 'свет’ (сущ.) — light
'светлый’ (прил.), 'светло’ (нар.) — (to) light 'зажигать’ (глаг.)
и т. п.
Возможность такого «обращения» одной части речи в другую
обусловлена наличием в языке одинаковых исходных (абсолют-
ных) форм слова существительного и глагола, лишенных формаль-
ных признаков, с которыми может совпадать и неизменяемое
по своей форме прилагательное (и наречие).
Иное понимание конверсии выдвинуто было проф. А. И. Смир-
ницким.37 «Конверсией» А. И. Смирницкий называет словообразо-
вание без аффиксации, «только при помощи парадигмы». Слова
love 'любовь’ и love 'любить’ являются, по его мнению, омонимами
с разными нулевыми суффиксами (общего падежа существитель-
ного и глагольного инфинитива), входящими в состав разных
парадигм. С точки зрения определения конверсии, которое дал
А. И. Смирницкий, «конверсия в древнеанглийском в прин-
ципе (выделено мной, — В. Ж.) не отличалась от конверсии
в современном английском языке». Др.-англ, lufu 'любовь’ и
lufian 'любить’ (или faru 'поездка’ и faran 'ездить’) представляет
в принципе такую же конверсию, как love 'любовь’ и to love 'лю-
бить’.38 Следуя за А. И. Смирницким, К. А. Левковская приводит
такие же немецкие примеры конверсии как способа словообразо-
вания с помощью парадигмы, без словообразовательных аффиксов;
ср. Bild'образ’ — bilden'образовать’, laufen'бежать’ — Lauf'6er’
и даже Schnitt 'разрез’ (который содержит вариант основы,
представленный в формах претерита и причастия II) от глагола
schneiden — schnitt — geschnitten.39
Мы могли бы со своей стороны добавить и русские аналогии
подобной конверсии: зеленый — зелень, лаять (лаю) — лай, цвести
(цвету) — цвет, звать (зову) — зов и т. п. Сам А. И. Смирницкий
назвал в качестве специфичных для грамматического строя рус-
138
ского языка примеров: внук, внука (внучка), супруг — супруга
(жена.), Александр — Александра и пр.40
[ Проблема словообразования без словообразовательных суф-
фиксов представляет несомненно большой интерес,'и мысль о воз-
можности словообразовательной роли парадигмы представляет
заслуживающую внимания, хотя и спорную гипотезу (несклоняе-
мые прилагательные английского языка не имеют парадигмы,
поэтому А. И. Смирницкий предпочитает аргументировать на при-
мерах конверсии существительного — глагола).
Однако вряд ли целесообразно употреблять установившийся
в науке термин для совершенно другого, более широкого явления,
стирая тем самым специфическую разницу между явлениями,
обусловленную принципиальными различиями в грамматическом
строе языка. Явление, традиционно называемое «конверсией»
(т. е. «обращением», переходом одной части речи в другую), ха-
рактерно для языков с определенной структурой слова, отличной
от русского, древнеанглийского и новонемецкого. Решающим
является, как уже было сказано, наличие в этих языках абсолют-
ной формы слова — глагола и существительного, лишенных
формальных показателей, и несклоняемого прилагательного (на-
речия), совпадающего с ними по форме. Скорее, чем с древне-
английским или с немецким, здесь возможно типологическое
сопоставление с языками агглютинирующими, вроде тюркских.
Нецелесообразным представляется и рассмотрение этих форм
как омонимов, которое ставит различие между love 'любовь’
и love 'любить’ в одну плоскость с лексическими омонимами
слова love 'любовь’ — 'возлюбленный’ — 'амур’ 41 или с русским
примером, который приводит сам А. И. Смирницкий: лай —
существительное и лай — повелительное наклонение глагола.42
Я прёйпочел бы говорить о полиморфизме слова, прису-
щем языкам определенного типа. О так называемых
«нулевых аффиксах» я уже сказал раньше: с моей точки зрения,
•исходная (абсолютная) форма слова не имеет вообще нулевого
аффикса — ни одного, ни, тем менее, нескольких.
3
Говоря о границах слова, необходимо коснуться еще одного
дискуссионного вопроса — о границах слова и словосочетания,
в частности словосочетания и сложного слова, или, подходя
к этому вопросу с исторической точки зрения, о процессах раз-
вития словосочетания в сложное слово и о критериях, позволяю-
щих говорить о завершении этих процессов.
Словосочетания были за последние годы предметом особого
внимания советских языковедов: в области русского языка —
акад. В. В. Виноградова и его школы, в области языков герман-
ских и романских — А. И. Смирницкого и О. С. Ахмановой и их
139
учеников, проф. В. Н. Ярцевой и некоторых других. Не вда-
ваясь в детали обсуждения этого вопроса, скажу, что под слово-
сочетанием в широком смысле я понимаю всякую группу слов,
объединенную в смысловом или грамматическом отношении, если
она не образует предложения (или, может быть, точнее — если
она не рассматривается как предложение). Ограничение слово-
сочетаний только словами знаменательными, принятое Ф. Ф. Фор-
тунатовым и вслед за ним В. В. Виноградовым43 и большинством
советских исследователей, не представляется мне ни плодотвор-
ным, ни правильным по существу. Если служебные слова рас-
сматриваются как слова, а не как морфемы, то сочетание служеб-
ного слова со знаменательным, логично рассматривать как слово-
сочетание, т. е. как сочетание слов — будь это сочетание с пред-
логом, со вспомогательным или служебным глаголом и т. п.
(например: на столе, посреди стола, самый смелый, буду писать
и т. п.). Различать словосочетания и простые соче-
тания слов представляется мне ничем не оправданным тер-
минологическим педантизмом. Выдвигаемая здесь точка зрения
тем более необходима, что между служебными и знаменательными
словами существует множество переходных оттенков, связанных с
большей или меньшей степенью грамматизации служебного слова,
т. е. с потерей им первоначального вещественного значения.
Ср. на столе — поверх стола, посреди стола; среди дня — в те-
чение дня, на протяжении дня; буду писать — начну писать;
самый смелый — очень смелый, весьма смелый и т. п. Трудно
указать с точностью, когда именно в этих примерах сочетание
слов становится словосочетанием.
Словосочетание в узком смысле, в большей или меньшей сте-
пени «связанное», возникает в результате более тесного грам-
матического или лексического объединения группы слов с раз-
витием нового значения целого (грамматического или лексиче-
ского), отличного от значения суммы его частей. Здесь возможны
два направления развития:
1) в сторону грамматизации (морфологизации) словосочета-
ния, т. е. превращения группы слов в своеобразную новую ана-
литическую форму слова;
2) в сторону лексикализации словосочетания, т. е. превра-
щения группы слов в более или менее прочное фразеологическое
единство, представляющее в смысловом отношении фразеологи-
ческий эквивалент слова.
И в том и в другом случае конечным результатом процесса
может, хотя и не обязательно, явиться объединение словосоче-
тания в единое (сложное) слово.
Грамматизация словосочетания связана с большим или мень-
шим ослаблением лексического значения одного из его компонен-
тов, с последовательным его превращением из лексически значи-
мого (знаменательного) слова в полуслужебное или служебное,
а всей группы слов как целого — в грамматическую форму слова.
140
Ср. нем. ich habe eincn Brief geschrieben, первоначально: ея
имею письмо написанным’ ich habe geschrieben 'я написал’;
так же англ. I have written a letter, франц, j’ai ecrit une lettre
и т. п.
Грамматизация представляет результат абстрагирования
(иногда более, иногда менее полного) от конкретного лексиче-
ского значения, которое первоначально имело служебное слово;
при этом обычно грамматизации подвергаются слова, имеющие
сами по себе более широкое (общее) значение: глаголы с широкой
семантикой, например со значениями с иметь’ (с владеть’), сна-
чинать’ (сстановиться’), глаголы покоя и движения типа стоять
(оставаться), ходить и т. п., которые становятся служебными
или связочными по своей грамматической функции; глаголы мо-
дальные, конкурирующие с наклонениями; личные местоимения,
из которых развиваются показатели лица; наречия места или дру-
гие обстоятельственные слова широкого значения, которые ста-
новятся предлогами; местоимения указательные и неопределен-
ные в функции артиклей; указательные, относительные и вопро-
сительные — в роли подчинительных союзов и др.
Развитие так называемых аналитических форм слова и кри-
терии их грамматизации подробно рассмотрены М. М. Гухман
на примере аналитических глагольных конструкций в немецком
языке.44 Автор правильно проводит границу между аналитиче-
скими конструкциями и вспомогательными глаголами, сложными
сказуемыми с глаголами связочными и словосочетаниями с мо-
дальными глаголами типа нем. ich will schreiben 'я хочу писать’.
И все же не менее важны, чем эти различия (сами по себе не вы-
зывающие сомнения), общие особенности аналитического формо-
образования, которое имеет характер процесса с пере-
ходными случаями большей или меньшей граммати-
зации. Такой «процессуальный» характер имеет, например, грам-
матизация русского «аналитического будущего» несовершенного
вида в формах я буду писать, я стану писать, я начну писать,
как оно описано В. В. Виноградовым.45 Последнее словосочета-
ние наименее грамматизовано, и начинательный глагол сохра-
няет в нем всю полноту лексического значения. Академическая
«Грамматика русского языка», относящаяся с гораздо большей
бдительностью к так называемому «порочному смешению грамма-
тики и лексики», исключила две последние формы из граммати-
ческой категории «сложного будущего».46
Спорным является вопрос об аналитической природе предлож-
ных конструкций, например во французском или в английском
языках. При всем различии, существующем между глагольными
и предложными конструкциями, последние нередко выступают
рядом с падежами как их аналитические эквиваленты. Вопреки
распространенной в советской англистике точке зрения,47 я по-
лагаю, что форма с предлогом of (the house of my father сдом
моего отца’), полностью утратившим в таких сочетаниях лекси-
141
ческое содержание, является аналитической формой родитель-
ного падежа (как и аналогичная французская конструкция
la maison de mon рёге). По своему грамматическому значению
конструкция эта эквивалентна так называемому «саксонскому»
родительному падежу с флективным элементом ’s (my father’s
house 'Тщм моего отца’), от которой она отличается лишь неко-
торыми особенностями употребления, преимущественно стили-
стического характера. В процессе исторического развития языка
аналитические предложные конструкции конкурируют с паде-
жами, как конструкции с модальными глаголами конкурируют
с наклонениями, частично заменяя и вытесняя их вследствие
большой дифференцированности своих значений. Поэтому история
падежей, по крайней мере на синтаксическом уровне, не может
рассматриваться в отрыве от истории предложных конструкций.
Существенное теоретическое значение могло бы иметь приме-
нение понятия аналитической формы слова к языкам другой мор-
фологической структуры, чем индоевропейские. Так, в пара-
дигме тюркского глагола мы встречаем аналитические формы,
ничем не отличающиеся от известных нам английских или фран-
цузских. Таковы, например, формы аналитического прошедшего,
состоящие из глагольного имени (причастия или деепричастия)
со вспомогательным (связочным) глаголом э-мо^ 'быть’. Ср. давно-
прошедшее: узб. ёзган эдим 'я раньше (сначала) написал’, англ.
I had written, франц, j’avais ecrit; предпрошедшее: узб. ёзиб эдим
'я (только что, недавно) написал’; неопределенный имперфект:
ёзар эдим 'я писал (обычно)’ и др.
С другой стороны, в тюркских языках чрезвычайно широкое
распространение имеют сложные глагольные формы несколько
иного типа, передающие различные видовые и модальные оттенки
действия. Они образованы из сочетания деепричастия основного
глагола с личной формой различных полувспохмогательных (слу-
жебных) глаголов, утративших свое конкретное лексическое зна-
чение. Число таких глаголов, например в узбекском языке, очень
велико (более пятнадцати). К ним относятся: булмац 'быть’ (наи-
более близкое по исходному значению к обычным вспомогательным
глаголам), олмоц 'брать’, 'получать’, бермоц 'давать’, цолмоц 'ос-
тавлять’, куймоц 'ставить’, 'класть’, бормоц 'идти’, юрлюц 'ходить’,
келмоц 'приходить’, кетмоц 'уходить’, чикмоц 'выходить’, турмоц
'стоять’, утирмоц 'садиться’, ётмт$ 'лежать’ и некоторые дру-
гие.48 Ср., например: ёза бермоц 'продолжать писать’, ёзиб цуймоц
'написать’, ёзиб булмоц 'кончить писать’, ёзиб олмоц 'записать
для себя’ и т. п. Степень грамматизации и обобщенности приме-
нения того или другого глагола может быть различной. Харак-
терно, однако, что некоторые из этихк онструкций настолько грам-
матизованы, что вводятся авторами грамматик в качестве сложных
форм в состав парадигм глагольного спряжения. Ср., например,
так называемое «настоящее конкретное», которое образуется с по-
мощью деепричастия па -(и)б и вспомогательных глаголов турмоц
142
'стоять’, утирмоц 'сидеть’, юрмоц ^ходить’, ётмоц 'лежать’, утра-
тивших свое лексическое значение. Ср. узб. ёзиб турибман (или
утирман, или юрибман, или ётибман) 'я пишу (в настоящее
время)’.49
Изучение степени и характера грамматизации в подобных
аналитических глагольных формах, получивших самое широкое
распространение, могло бы существенным образом расширить
привычное для индоевропеистов понимание аналитических форм
слова.
В связи со специальной темой данной статьи особого внимания
заслуживает развитие аналитических форм слова во флективные
образования вторичного происхождения.
Мы рассматриваем аналитические формы слова типа ich-
habe-geschrieben как словосочетания, поскольку ich (habe) ge-
schrieben представляют отдельные слова, а не морфемы. Однако
словосочетание это грамматизовано (морфологизовано), пред-
ставляя особую (аналитическую) форму глагола schreiben. В про-
цессе грамматизации элементы словосочетания приобретают
новое качество, делающее их выражением грамматических от-
ношений.
В языках, где показатели словоизменения являются постфик-
сами, а не префиксами, такие грамматизованные (аналитические)
словосочетания имеют тенденцию к срастанию в единое слово,
сперва сложное, потом простое, в котором первоначально само-
стоятельное служебное слово становится аффиксом, — однако
лишь в тех случаях, когда служебное слово следовало за зна-
менательным. Возможно, что одним из факторов этого процесса
являются особые условия акцентуации в энклизе по сравнению
с проклизой (более сильное атонирование). Однако более вероят-
ным представляется общее воздействие грамматической системы,
то есть характера структуры слова в языках индоевропейских,
как и в некоторых других, где словоизменительные аффиксы
стоят почти всегда в конце, а не в начале слова (ср. с. 86).
Случаи такого развития в индоевропейских языках чрезвы-
чайно многочисленны. Ср., например, будущее время в романских
языках типа франц, finirai finir + ai лат. finite habeo с кон-
чить имею, т. е. кончу’; русск. возвр.-страд, -ся <^себя\ др.-исл.
kalla-s 'быть названным’, 'называться’, от kalla 'звать’; энкли-
тические формы артикля в болгарском и в скандинавских язы-
ках; латинские образования от основы перфекта типа laudaveram,
laudav-ero, laudav-erim, laudav-issem или более древний по сво-
ему происхождению имперфект lauda-bam (из и.-е. *bhuam);
германское слабое прошедшее с суффиксом -d, ср. готск.
hausi-dedum 'услышали’, salbo-dedum 'помазали’ (-dsdum 'сде-
лали’) и др.
Сходные примеры встречаются и в тюркских языках в слож-
ных временах, которые приводились выше. Ср. узб. ёзаётирман
'я пишу в настоящее время’ (настоящее конкретное) из ёзаётир-
143
ман, букв. 'я «пиша» лежу’, с суффигированной архаической
формой настоящего — будущего служебного глагола'лежать" (ёт-
моц); слитный характер имеют разговорные формы: в Ташкенте —
ёзвотман из ёза-ётиб-ман 'я «пиша» лежал’; в Фергане — ёзяпман
из ёза-ятип-ман. 50
С теоретической точки зрения более существенно то обстоя-
тельство, что в тюркских языках, сохранивших, благодаря своим
структурным особенностям, относительную самостоятельность «при-
леп» (морфем), можно отчетливо проследить образование личных
окончаний глагола из суффигированных личных местоимений,
присоединившихся к глагольным именам. Ср. узб. наст. вр.
ед. ч. — 1-е л. мен ёза-ман, 2-е л. сен ёза-сан, мн. ч. — 1-е л.
биз ёза-миз, 2-е л. сиз ёза-сиз; прош. вр. причасти, мен ёзган-ман. . .
й т. д.; прош. вр. повеств. мен ёзиб-ман. . . и т. д. По своей син-
таксической функции эти местоименные окончания восходят
к предикативным аффиксам, которые могут присоединяться
ко всякому предикативному имени. Ср. мен студент-ман 'я сту-
дент’, сен студент-сан 'ты студент’ и т. д.51
На основе этой типологической аналогии личные окончания
индоевропейского глагола (-mi, -ti, -si) могут также с значитель-
ной вероятностью рассматриваться, в соответствии со старой
теорией Боппа, как суффигированные формы древних личных
местоимений.
Возвращаясь еще раз в свете этих фактов к примеру Вандриеса
je ne 1’ai pas vu, можно добавить к сказанному, что это слово-
сочетание, состоящее из ряда служебных и полуслужебных слов,
не стало единым сложным словом с «переплетенными» морфемами
уже потому, что служебные слова, стоящие в препозиции, не имеют
в индоевропейских языках тенденции превращаться в морфемы
слова. По сравнению со случаями суффигирования формальных
элементов в древних индоевропейских языках флективного типа
мы имеем здесь более поздний тип аналитической структуры слова,
лежащий в основе глагольной парадигмы во многих индоевро-
пейских языках.
4
Всякое сложное слово либо представляло в прошлом слово-
сочетание, либо было построено по модели словосочетания прош-
лого времени. Это ясно на примере сложных слов недавного про-
исхождения, которые в немецких грамматиках обозначаются
термином Zusammenriickung или Juxtaposition (можно перевести
«синтаксические сдвиги»). Ср. русск. высокообразованный, здра-
вомыслящий; полчаса, послезавтра; вглубь, вширь и т. п.; нем.
keineswegs 'никоим образом’, kurzerhand 'короче говоря’, heut-
zutage 'на сегодняшний день’, uberdem 'кроме того’, wahrenddes-
sen 'в это время’, zugrunde 'в основе’ и др.
144
Но такими же синтаксическими «сдвигами» были когда-то
немецкие слова типа Jungfrau 'девушка’ — из ср.-в.-нем. die
jung frouwe 'молодая женщина’, с атрибутивным прилагатель-
ным в несклоняемой форме, в соответствии с древним оформле-
нием таких атрибутивных словосочетаний; или типа нем. Konigs-
sohn 'королевич’ — из ср.-в.-нем. der kiineges sun, с родительным
принадлежности без артикля, предшествующим определяемому
существительному, также в соответствии с более древней син-
таксической нормой. Синтаксические сдвиги подобного рода
образовали продуктивную модель для дальнейшего словопроиз-
водства по этому типу.
Но особенно продуктивным в современных германских языках
оказался словообразовательный тип Waldweg, Dampfschiff и т. п.,
с существительным, определяющим другое, следующее за ним
существительное. Так называемые «полносложные» соединения
этого ряда (eigentliche Zusammensetzungen) восходят, . как из-
вестно, к словообразовательной модели типа готск. fotubaurd
'Fupbrett’ (ножная скамейка), т. е. к древнейшей модели слово-
сочетания, восстанавливаемой в протоиндоевропейском в период,
который предшествовал дифференциации имен на существитель-
ные и прилагательные, когда имя в форме чистой основы
(по Хирту, casus indefinitus), поставленное перед другим именем,
имело синтаксическую функцию определения (по типу русск.
жар-птица, царь-девица и т. п.).52 Редукция гласного основы
(сохранившегося в русском языке как так называемый соеди-
нительный гласный) и использование акцентуации как морфоло-
гического признака единства сложного слова (сильное ударение
на первом элементе, слабое на втором, ср. Fensterrahmen) сде-
лало эту модель в новонемецком языке необычайно продуктивной.
Она широко используется, с одной стороны, в области термино-
творчества, с другой стороны, в нестойких соединениях, экви-
валентных по своей синтаксической функции атрибутивному сло-
восочетанию «прилагательное+существительное» и стоящих бла-
годаря этому на грани морфологии и синтаксиса (ср. Waldweg
'лесная дорога’, Waldquelle 'лесной родник’, Waldvogel 'лесная
птица’ и т. д.). Возможность образования соединений этого вто-
рого типа ограничивается в современном немецком языке только
лексической сочетаемостью слов (понятий), не отличаясь прин-
ципиально от возможности соединения прилагательного с су-
ществительным. Поэтому сложные слова такого рода немецкими
словарями не регистрируются.
В процессе создания структурных моделей сложных слов
во всех указанных выше случаях (Jungfrau, Konigssohn), при
обязательном наличии основного факта — семантического един-
ства группы как целого, решающую роль в морфологическом от-
ношении играет явление, которое Герман Пауль обозначил тер-
мином «обособление» («изоляция»): 53 выпадение словообразова-
тельной модели сложного слова из фонетико-грамматических
Ю в. М. Жирмунский
145
норм синтаксически свободных словосочетаний, превращающее
словосочетание определенного типа в сложное слово.
Малоубедительными представляются мне те возражения, с ко-
торыми выступили против этой будто бы устаревшей «младограм-
матической» теории одновременно К. А. Левковская54 и М. Д. Сте-
панова.65 Помимо приведенных выше древних моделей, процесс
«обособления» наблюдается и в синтаксических сдвигах недав-
него времени и служит важным критерием при различении слово-
сочетаний и сложных слов. Ср., например, акцентные и морфо-
логические особенности таких сдвигов, как доверху, донизу, до-
красна. дочиста; насмерть, навеки, сегодня и мн. др. Там, где
такие бесспорные морфологические признаки отсутствуют, на-
личие единства выступает недостаточно отчетливо, о чем свиде-
тельствуют колебания в написании (раздельно, с дефисом, слитно),
отражающие процессы его становления. Мы пишем, например,
по орфографическому справочнику Академии наук СССР56 пол-
метра. полчаса, полкомнаты (!) слитно, но пол-оборота с дефисом;
Чехословакия слитно, но Австро-Венгрия с дефисом; мы писали
еще недавно прилагательное индо-европейский с дефисом, теперь
пишем его слитно. Академическая «Грамматика русского языка»
в своем первом издании писала чернобурый и бледнорозовый
в одно слово; орфографический справочник АН СССР, вышедший
спустя два года, предлагает писать эти слова с дефисом и т. д.
Ряд аналогичных вопросов был поставлен Э. В. Севортяном
относительно написания сложных слов (словосочетаний) в тюрк-
ских языках. Разброд выступает особенно устрашающе на при-
мерах современного терминотворчества.57
Вопрос о критериях различения сложного слова и словосо-
четания пытался разрешить в общей форме проф. А’ И. Смирни-
цкий в статье «К вопросу о слове (проблема „отдельности слова“)»,
которая была уже упомянута выше (см. с. 126). Сопоставляя фра-
зеологические единства (словосочетания) терминологического ха-
рактера типа железная дорога, дом отдыха и т. п., неразложимые
по своему значению, со сложными словами вроде железнодорож-
ный. прямоугольник и т. п., А. И. Смирницкий поставил под сом-
нение значение смыслового объединения (по его терминологии,
«идиоматизма») в качестве признака отдельности слова, поскольку
и железная дорога и железнодорожный одинаково представляют
такое семантическое («идиоматическое») единство, а между тем
первое является словосочетанием, второе же — сложным словом.
Это соответствует общей точке зрения А. И. Смирницкого на проб-
лему слова: «Выделение слова по логико-семантическому признаку
как таковому. . . не может быть признано правильным и не может
дать удовлетворительных результатов».58 Сомневался А. И. Смир-
ницкий и в применимости фонетических признаков, поскольку
«в определенных случаях они могут не использоваться или быть
вообще неприменимыми, и в целом их никак нельзя рассматривать
146
в качестве основных, определяющих моментов выделимости
слова».59
Железная дорога и железнодорожный различаются, согласно
проф. А. И. Смирницкому, прежде всего по морфологическому
признаку — своей раздельнооформленностью или
цельнооформленностью (ср. железная дорога, же-
лезной дороги, но железнодорожный, железнодорожного и т. п.).
Термины эти привились в нашем языкознании, и как термины
они представляют счастливую находку. Однако этот критерий,
подходящий для случаев и без того совершенно ясных (как русск.
железнодорожный по сравнению с железная дорога), оказывается
неприменимым для других, более сложных случаев, например
для таких синтаксических сдвигов, как высокообразованный или
высоко образованный, полметра или пол метра, потому или по тому
и т. п. Неприменим он в особенности ко многим языкам, имеющим
и по своему грамматическому строю менее четкое морфологиче-
ское оформление, чем индоевропейские языки флективного типа, —
к языкам, например, в которых прилагательное неизменяемо,
не имеет флективных признаков и синтаксического согласова-
ния и, следовательно, ничем с морфологической точки зрения
не отличается от атрибутивного существительного в абсолютной
форме или от первой, именной части сложного слова. Отсюда
в английской грамматике бесполезные и бесплодные споры о том,
что представляют из себя группы типа stone wall, speech sound,
canon ball и т. д. — атрибутивные сочетания типа нем. steinerne
Wand с каменная стена’ или сложные слова типа нем. Steinwand
букв, 'камне-стена’.60
Сходным образом обстоит дело и в тюркских языках.
Ср. узб. темир йул 'железная дорога’, или с железо-дорога’,
нем. Eisenbahn; узб. тош куприк с каменный мост’, или 'камне-
мост’, нем. Steinbrucke; в особенности при наличии нового «идио-
матического» значения целого, отличного от значения его частей,—
например узб. сув илон, букв. сводяная змея’, или сводо-змея’,
нем. Wasserschlange, на самом деле в измененном значении —
'уж’, нем. Blindschleiche.
Мы исходили из положения, что критерий семантического
единства является основным и обязательным признаком каждого
слова, в том числе и сложного, — положение, которое отнюдь
не снимается тем обстоятельством, что словосочетания типа же-
лезная дорога (по В. В. Виноградову, фразеологические единства)
представляют подобные же семантические единства. Можно го-
ворить лишь о том, что признак этот, всегда безусловно необхо-
димый, не всегда является достаточным и в ряде случаев, когда
формальные критерии отсутствуют, оказывается нечетким.
Что касается фонетического и морфологического оформления
единства и цельности слов (в том числе и сложного слова по сравне-
147
10*
нию со словосочетанием), то степень и характер этого оформле-
ния, как утке было сказано, целиком зависит от морфологических
особенностей данного языка, а в некоторых случаях и от особен-
ностей данной категории слов.
1961 г.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГРАММАТИКА И НОВОЕ УЧЕНИЕ О ЯЗЫКЕ
I. К истории вопроса
Сравнительная грамматика индоевропейских языков, выде-
ляющая группу или систему языков, объединенных лексически-
ми, фонетическими и грамматическими соответствиями, строится
на фактах, открытых лингвистикой в начале XIX в. и до сих пор
в науке не опровергнутых. Спор может идти не о наличности
самих фактов, на которых строится сравнительная грамматика,
а только о различном их объяснении и истолковании — правиль-
ном или неправильном.
Напомним основные явления, объединяющие языки индоев-
ропейской группы.
1. Наличие общего лексического строя
Ср. русск. мать (-ери) — др.-в.-нем. muoter— лат. mater —
греч. —санскр. mata; русск. мышь—др.-в.-нем. mus— лат.
mus — греч. |лб; — санскр. mus; русск. новый — др.-в.-нем. niuwi —
лат. novus — греч. ve[F]og — санскр. navas; русск. три—готск.
preis (др.-в.-нем. dri) — лат. tres— греч. трек;— санскр. trayas
и мн. др.
Однако такое наличие общего лексического слоя отнюдь не обо-
значает полного лексического тождества индоевропейских языков.
Известно, например, что в языках германских более 30°/о слов
не имеют индоевропейских этимологий, т. е. они не могут быть
сколько-нибудь достоверно сопоставлены с соответствующими сло-
вами других индоевропейских языков. Эта особенность, однако,
отнюдь не специфична для одних германских языков. Н. Я. Марр
отметил характерные лексические расхождения между языками ла-
тинским и греческим. «И посмотрите, какая пропасть между двумя
народами, которых нас, на подмогу классикам, индоевропеисты
учили рассматривать как братские народы, происшедшие от общих
предков, с одним общим тогда языком... Кто из нас, зная оба
языка, греческий и латинский, и будучи историком древнего
классического мира, греков и римлян, ставил себе вопросы, по-
чему 'народ’ у греков e&vo;, у римлян populus, 'рука’ у греков
148
у римлян mantis, 'вода’ у греков оЗшр, у римляндциа, 'море’
у греков гИХазза, у римлян mare, даже 'огонь’ у греков гсор, у рим-
лян ignis, 'хлеб’ у греков артос или астос, у римлян panis, 'дом’
у греков o’ixog, у римлянЛотиэ, 'человек’ и 'муж’ у греков ау&ражо«;
и avnqp, у римлян homo или vir, 'женщина’ у греков у рим-
лян femina, 'брат’ и 'сестра’ у греков аЗзХсрб; "'брат’, dBsXcpTj 'сестра’,
у римлян frater и soror, 'гора’ у греков орос, у римлян mons,
'небо’ у греков oupavoc, у римлян coelum, 'бог моря’, 'бог вод’
у греков ПоаетЗ&у, у римлян Neptun, и т. д. Таких примеров можно
привести сотни. В них расхождение не только в звучании, в ма-
териальной части слов, но и в технике, идеологии построения,
системе, т.е. в том, чем у индоевропеистов определяется принад-
лежность особей к семье».1
Каждый из индоевропейских языков насчитывает в составе
своей лексики довольно значительную группу, изолированных
слов, не имеющих соответствий с другими индоевропейскими язы-
ками. Число таких слов еще значительно увеличится, если от-
кинуть многочисленные сомнительные и гипотетические этимо-
логии. Но еще большеголов, которые объединяются групповыми
этимологиями, охватывающими лишь некоторое, более или менее
ограниченное число индоевропейских языков, притом в одном
случае — одних, в другом случае — других. Так, из указанных
Н. Я. Марром примеров греч. овсор соответствует санкр. udan,
готск. wato, слав. вода. а лат. aqua — готск. ahwa; греч. тгбр —
умбр, pir, др.-в.-нем. fiur, арм. hur, а лат. ignis — санскр. agnis,
лит. ugnis, русск. огонь и др.
Вопрос об «индоевропейской» лексике требует с этой точки
зрения систематического рассмотрения, учитывающего не только
сходные, но и различные элементы словаря. Обычно различия
эти объясняются как результат утраты отдельными языками
когда-то общего индоевропейского лексического наследия, т. е.
как явление более новое, чем сходства. Мы же, напротив,
склонны думать, что различия часто древнее, чем сходства. Они
свидетельствуют об исконных расхождениях лексики, лишь пере-
крытых позднейшими схождениями.
2. Наличие закономерных звуковых
соответствий между одинаковыми
словами разных языков
Ср. санскр. bhrata— лат. frater—греч. ©pdwp— готск. Ьгб^аг
(др.-в.-нем. bruodar) — русск. брагщ санскр. bharami—лат. fero —
греч. срерю — готск. baira (др.-в.-нем. beru 'несу’, ср. новонем. ge-
bare 'вынашиваю, рождаю’) — русск. беру и др. Санскритскому
начальному bh- во всех случаях закономерно соответствует лат.
/•, греч. ph- (ср), готск. 6-, слав. 6-(б). Или лат. hortus 'сад’ —
греч. ^ортос—готск. gards (нем. Garten); лат. hostis — русск. гость
149
готск. gasts (нем. Gast); лат. molere — русск. молоть — готск.
malan (нем. mahlen) и др. Латинскому и греческому о регулярно
соответствует славянское (русское) о и германское (готское) а
и т. п.
3. Строевое единство языков
и тождество морфологических
элементов
На древнейшей ступени все индоевропейские языки явля-
ются языками флективного строя. В дальнейшем они в различной
степени проделывают процесс развития от флективного строя
к аналитическому
С флективным строем связана одинаковая структура слова
в различных индоевропейских языках. Обычно слово заключает
в себе три элемента: корень + основообразующий суффикс + флек-
сия. Из них формальные элементы (основообразующие суффиксы,
именные и глагольные флексии) в большинстве случаев оказы-
ваются в разных языках тождественными, если учесть видоиз-
менения, вызванные закономерными звуковыми соответствиями
между языками. Ср. лат. lup-u-s 'волк’ — греч. Х6х-о-с — санскр.
-vrk-a-s — готск. wulf-s (рун. ulf-a-R) — слав, влък-ъ. Общая
структура слова — корень + основообразующий гласный (о) + окон-
чание им. п. s. То же в глагольной системе: ср. наст. вр. ед. ч., 2-е,
3-е. л. — санскр. bhar-a-si, bhar-a-ti, греч. cpepetc, cpepei, лат. fer-s,
fer-t (ср. leg-i-s, leg-i-t), готск. bair-i-s, bair-i-t, русск. бер-е-шь,
бер-е-т. Общая структура слова — корень + основообразующий
гласный (е) + личное окончание.
Таким образом, единство морфологической структуры индо-
европейских языков не ограничивается флективным строем и об-
щими структурными принципами, но подкрепляется наличием
значительного количества материально тождественных и одина-
ково применяемых структурных элементов (суффиксов и флек-
сий). Следует, однако, отметить, что наряду с общим структурным
тождеством и с наличием одинаковых формальных элементов
индоевропейские языки обнаруживают и очень существенные мор-
фологические различия. Здесь, как и в отношении лексики, срав-
нительная грамматика обычно рассматривает такие расхождения
как новшества отдельных языков, тогда как на самом деле мор-
фологическое различие в ряде случаев также может быть более
древним, чем сходство.
Наличие общего лексического фонда, закономерных звуковых
соответствий и аналогичного морфологического оформления, объеди-
няющих (как это было установлено в начале XIX в.) языки индо-
европейской группы, вызвало к жизни лингвистическое учение,
согласно которому все индоевропейские языки восходят к общему
«праязыку», являясь его закономерными ответвлениями по прин-
ципу ^родословного древа». Здесь не место рассматривать про-
150
исхождение и развитие этой теории, до сих пор господствующей
в западноевропейской буржуазной науке и получившей у нас
в недавнее время название «индоевропеистики». Как известно,
сторонники этого учения полагают, что индоевропейский «пра-
язык» был языком индоевропейского «пранарода», от которого
прямо или косвенно (путем различных смешений) происходит
большинство исторически известных индоевропейских народов.
В процессе разделения этого народа на ряд самостоятельных пле-
мен и народов и переселения («миграции») их на места нового
жительства’произошло распадение «праязыка» на отдельные язы-
ковые группы (греческую, италийскую, германскую, славян-
скую и т. д.). Каждая из них в свою очередь путем дальнейшего
дробления распалась на соответствующие языки и диалекты.
Сопоставление между собою сохранившихся в древних письмен-
ных памятниках и в современной живой речи индоевропейских
языков, осуществляемое методами сравнительной грамматики,
намечает путь «восстановления» гипотетического «праязыка».
Из этого «праязыка» в свою очередь с помощью закономерных
«звуковых переходов» выводятся отдельные фактически существу-
ющие языки. Изучение общего лексического фонда индоевропей-
ских языков, позволяя восстановить словарь «праязыка», служит
основанием для характеристики культуры индоевропейского «пра-
народа», в частности — для определения географического место-
положения гипотетической «прародины» индоевропейцев.
Проблема «пранарода» и «прародины» не будет в этой статье
предметом специального рассмотрения. Следует, однако, указать,
что наивная уверенность классиков индоевропеистики в возмож-
ности прямых умозаключений от языкового единства к единству
племенному или даже «расовому» все более уступает место доста-
точно обоснованному скепсису. Многочисленные факты показы-
вают, что язык и народ, а тем более язык и «раса», представляют
понятия в историческом опыте не совпадающие. Так, например,
большинство современных ирландцев утратило свой исконный ир-
ландский (кельтский) язык и говорит по-английски даже в само-
стоятельном государстве Эйре. Точно так же болгары, по-види-
мому, переменили тюркский язык на славянский. Классический
пример такого несовпадения представляет развитие романских
языков. Французский, итальянский, испанский, португальский
и другие романские языки развились из языка латинского в его
народной форме, так называемой «вульгарной латыни». На осно-
вании схематических сравнительно-грамматических сопоставле-
ний, без знания соответствующих исторических фактов, можно
было бы обычным методом индоевропеистики высказать гипотезу,
пто французы, итальянцы, испанцы и другие являются «родствен-
ными» племенами, которые когда-то выделились из единого «пра-
народа», говорившего на латинском «праязыке». На самом деле,
известные нам исторические факты свидетельствуют о сложном
и длительном процессе «романизации» различных по своему про-
151
исхождению индоевропейских и неиндоевропейских племен. Эта
«романизация» совершалась последовательно, несколькими эта-
пами и в разное время, в общих рамках Римской империи. Гер-
манские племена, впоследствии завоевавшие и поделившие между
собою римские провинции и вскоре также смешавшиеся с местным
населением, создали новые границы варварских государств. Вре-
менно объединенные под властью франкских королей, эти госу-
дарства при преемниках Карла Великого окончательно распались
на множество самостоятельных феодальных территорий, из ко-
торых постепенно сложились новые национальные государства
Западной Европы. В результате, с одной стороны, как указывал
еще Шухардт (1870),2 современные романские народные диалекты
(итальянские, французские, провансальские, каталанские, испан-
ские, португальские) связаны между собой непрерывными пере-
ходами; с другой стороны, на фоне этих диалектальных перехо-
дов четко выделяются и противопоставлены друг другу националь-
ные литературные языки — французский, итальянский, испан-
ский и др. Однако эти четкие границы между языками — не ре-
зультат разветвления доисторического «родословного древа»,
а лишь конвергенции (схождения) первоначально различных на-
родных диалектов — племенных и феодальных, их сближения
и смешения в условиях сложного исторического процесса консо-
лидации наций, экономического, политического, культурного
и языкового объединения пестрых и смешанных по своему про-
исхождению племенных образований и последующих феодальных
территорий.
Наиболее передовые индоевропеисты под давлением фактов
сами были вынуждены признать, что понятия языка и расы, языка
и народа не совпадают. На это, например, неоднократно указывал
такой авторитетный представитель современной французской ком-
паративистики, как Мейе.
«Нет никакого основания полагать, — заявляет Мейе, — что
границы индоевропейских языков совпадали с границей какой-
либо расы. В действительности народы, говорящие на индоевро-
пейских языках, издавна различаются по своему внешнему об-
лику и не имеют никаких общих физических признаков, которые
отличали бы их от народностей, говорящих на других языках.
Еще труднее доказать, будто народности, говорящие на индоевро-
пейских языках, происходят от общих предков».3 Мейе считает
нелепым самый термин «арийская раса» в применении к индоев-
ропейским народам («parler d’une race „агуеппе“ est plus pueril
encore»).4 «Почти все народы Европы меняли свой язык однажды
или несколько раз . . . Есть романские языки, но нет романских
народов; есть индоевропейские языки, но нет индоевропейских
народов».5 И тем не менее, вопреки собственным утверждениям,
тот же Мейе на основе закономерных соответствий между индо-
европейскими языками выводит не только «единство» праязыка,
но также необходимость существования народа, создавшего этот
152
язык и говорившего на нем, хотя, наученный историческим опытом,
Мейе не считает этот народ физическим предком современных
народов, говорящих на языках индоевропейской системы.
Конечно, те несомненные соответствия, которые объединяют
индоевропейские языки, указывают на историческую близость
народов, говорящих на этих языках, которая имела место в опре-
деленных, точнее не установленных исторических условиях. Задача
конкретного, не только лингвистического, но прежде всего обще-
исторического и археологического исследования — точнее уста-
новить эти условия в их фактическом многообразии. Невозможно
предположить, что устанавливаемые сравнительной грамматикой
лингвистические связи между языками возникли в результате
«совпадений». Можно ли утверждать, что несколько народов
в разных частях света (хотя бы находясь в одинаковых условиях
общественного развития) независимо друг от друга научились
называть 'брата’ —санскр. bhrata, готск. Ьгораг, лат. frater
и т. д., или 'мышь’ — санскр. mus, готск. mus, лат. mus и т. д.,
или 'ночь’ — санскр. naktis, готск. nahts, лат. noct- и т. д., при
этом — с совершенно закономерными звуковыми соответствиями
и одинаковым грамматическим оформлением? Д1о эта близость,
как показывает пример романских языков и других подобных,
вовсе не предполагает обязательного этнического «родства»
и могла возникнуть в результате очень различных исторических
условий. К тому же в разных известных нам случаях она имела
разный характер, определявшийся конкретными социально-исто-
рическими условиями схождения, расхождения и смешения пле-
мен и племенных языков, причем различия между близкими язы-
ками не менее существенны в подобных случаях, чем черты сход-
ства, и нередко древнее этих последних. Именно в таком смысле
следует понимать известное высказывание Н. Я. Марра в его
получивших историческое значение тезисах 1923 г.: «Индоевро-
пейские языки составляют особую семью, но не расовую, а как
порождение особой степени, более сложной, скрещения, вызван-
ной переворотом в общественности в зависимости от новых форм
производства».6 Н. Я. Марр, конечно, не думал (как некоторые
его вульгаризаторы), что «переворот в общественности» и «новые
формы производства» непосредственно вызвали сходство между
индоевропейскими языками, устанавливаемое сравнительной грам-
матикой (такое утверждение было бы грубейшей формой вульгар-
ного социологизма). Н. Я. Марр справедливо утверждал, что
«переворот в общественности» вызвал новые, более сложные формы
и степени скрещения племен и языков, порождением которых
и явилось единство индоевропейской системы.
Однако, отвергая понятие «пранарода», мы должны тем самым
отвергнуть и понятие «праязыка», которое вместе с материаль-
ным (этническим) носителем языкового единства лишается всякой
исторической базы и тем самым всякого права на существование.
Характерно разногласие в этом вопросе, существующее и в запад-
153
йоевропейской лингвистике. Если некоторые немецкие компарати-
висты, развивая идею «индоевропейского пранарода» (die Indoger-
manen), нередко отваживаются на весьма сомнительные, далеко
идущие культурно-исторические выводы из этой идеи, то фран-
цузские исследователи школы Мейе занимают позиции осторож-
ных скептиков и позитивистов даже в вопросе о восстановлении
«праязыка». Они признают, что «единственная реальность, с ко-
торой имеет дело сравнительная грамматика, это соответствия
между засвидетельствованными языками».7
II. «Праязык» и генетическая классификация языков
Действительно, даже с чисто лингвистической точки зрения
так называемое «восстановление праязыка» в большинстве слу-
чаев представляет существенные и принципиальные трудности.
В основном сравнительная грамматика до сих пор еще пользу-
ется для этого восстановления примитивной схемой «родословного
древа» языка (Stammbaumtheorie), против которой в свое время
выступали уже Шухардт и И. Шмидт. Сравнение «родственных»
языков обнаруживает между ними сходства и различия: сходства
принадлежат общему предку; различия же являются позднейшими
новообразованиями, результатом расхождения, «разветвления»
первоначально единого «праязыка». Такова несложная формула
реконструкции «праязыковых» взаимоотношений.
Классификация языков по принципу «родословного древа»
осуществляется относительно просто для тех древнейших этапов
языкового развития, от которых не сохранилось ни языковых па-
мятников, ни прямых исторических свидетельств, например для
установления взаимоотношений между индоевропейским «пра-
языком» и соответствующими «праязыками» славянской, герман-
ской, итальянской, греческой и других групп. Все же и здесь
наблюдаются немаловажные противоречия, заставившие выдви-
нуть вопрос о «диалектах» внутри индоевропейского «праязыко-
вого единства. Эти противоречия становятся тем более значитель-
ными, чем ближе мы подходим к реальной истории языков, за-
свидетельствованной в письменных памятниках и протекавшей
в известных нам исторических условиях.
Так, уже классификация германских языков на три основные
ветви — восточную (готскую), северную (скандинавскую), запад-
ную (англо-немецкую), — вполне обоснованная исторически и
и лингвистически, (сталкивается с наличием перекрещивающихся
признаков, объединяющих каждую из названных групп с одной
из двух других. Западная и северная группы объединяются от-
сутствующими в готском языке переходами z > г (ср. готск.
maiza — др.-в.-нем. шёго cmehr’, англосакс, тага, др.-исл. meire)
или pl > fl (ср. готск. ^liuhan — др.-в.-нем. fliohan 'fliehen’,
15'i
англосакс, fleon, др.-исл. flyja); кроме того, в области морфо-
логии — образованием нового указательного местоимения с по-
мощью энклитической частицы -si, -se (др.-в.-нем. de-se 'dieser’,
англосакс. pe-s, др.-исл. -es-se). С другой стороны, северная и вос-
точная группы имеют переходы ww > ggiv, jj > gjj (готск. dji), от-
сутствующие в западногерманском (ср. др.-в.-нем. scouwonсschauen’
др .-сакс, skauwon — готск. skuggwa ' зеркало’, др.-исл. skuggsja;
др.-в.-нем.' zweiio род. п. от 'zwei’ — др.-исл. tveggja, готск.
twaddje). Наконец, как общий признак готского и западногер-
манского языков указывают на образование абстрактного суф-
фикса готск. -assus, -inassus (нем. -niss), отсутствующего в языках
северной группы (ср. готск. ibnassus 'Ebenheit, Gleichheit’:
от ibns 'eben’, др .-сакс, ebnissi от eban, др.-в.-нем. gihornissi' Gehor’
от horian 'horen’ и др.).
С точки зрения праязыкового схематизма объяснение этих сов-
местных новообразований каждых двух групп требует искусствен-
ной реконструкции их совместного развития в условиях геогра-
фической и исторической близости на ранних этапах истории древ-
негерманских племен. Соответственно эюму Леве 8 с завидной пря-
молинейностью восстанавливает следующую, будто бы обосно-
ванную исторически, гипотетическую последовательность этих
совместных изменений: 1) восточные и северные германцы на их«пра-
родине» в Скандинавии — совместные изменения готского и се-
верногерманского; 2) готы на Висле (до 150—200 г. н. э.) — сов-
местные изменения готского и западногерманского; 3) готы изо-
лированы на Черном море (после 200 г. н. э.) — совместные из-
менения западногерманского и северногерманского.
Конечно, подобная псевдоисторическая реконструкция явля-
ется лучшим свидетельством несостоятельности той научной тео-
рии, на которой она построена. Характерно, однако, что автору
приходится так или иначе вносить поправки в обычную схему
«родословного древа»: перечисленные общие признаки являются
и в его реконструкции не наследием общего предка, а результатом
позднейших «совместных изменений», т. е. в сущности — схожде-
ния в условиях исторической близости.
Еще сложнее вопрос о классификации по принципу «родослов-
ного древа» языков западногерманской группы. В древнейшую
пору западногерманской письменности (VIII в.) эта группа пред-
ставлена следующими языками: древневерхненемецким, древне-
саксонским (древненижненемецким), англосаксонским, древнениж-
нефранкским, древнефризским. В процессе дальнейшего истори-
ческого развития из древневерхненемецкого (фактически пред-
ставленного в эту пору группой племенных диалектов — франк-
ских, баварских, алеманских) разовьется немецкий литературный
язык. Из англосаксонского (также представленного несколькими
племенными диалектами), под сильнейшим воздействием фран-
цузского языка, возникает английский литературный язык.
Наконец, из нижнефранкского (с незначительными элементами
155
фризского) — голландский язык. Нижненемецкий и фризский
останутся на положении диалектов.
Исходить при классификации западногерманских языков из со-
временной противоположности национальных литературных язы-
ков (немецкого, английского, голландского) не представляется,
конечно, возможным. Национально-языковое объединение явля-
ется результатом очень позднего исторического процесса. Тем
не менее немецкие диалектологи еще недавно были склонны объе-
динять современные диалекты Германии в одну «немецкую»
группу, распадающуюся в свою очередь по признаку второго
перебоя на верхненемецкий и нижненемецкий (нижнесаксонский
и нижнефранкский). При этом, конечно, возникала потребность
в особом «праязыке» этой группы, так называемом «пранемецком»
(Urdeutsch), который противопоставлялся объединенной англо-
фризской группе (англосаксонский и древнефризский). Непра-
вильность этой теории была с очевидностью показана новейшими
диалектографическими исследованиями Ф. Вредэ.9 Он показал,
что англосаксонский, древнефризский и древнесаксонский (древ-
ненижненемецкий) объединены целой совокупностью общих при-
знаков в области фонетики, морфологии и лексики. Ср.: 1) из об-
ласти фонетики — выпадение носовых согласных перед спиран-
тами: ср. др .-сакс., англосакс, gos 'Gans’, Us 'uns5, fif cfiinf и др.;
2) из морфологии — общая форма 1-го, 3-го л. мн. ч. наст, вр.:
др.-сакс., англосакс, -ad (например 1-е, 3-е л. мн. ч. bindad);
общая форма дат. вин. п. ед. ч. в местоимениях 1-го, 2-го л.:
др.-сакс. mi, thi (англосакс, me, de); 3-е л. мест, he (в противо-
положность готск. is, др.-в.-нем. ег); отсутствие возвратного
местоимения (готск. si к, др.-в.-нем. sich); слабые глаголы III ряда
с умлаутом: др.-сакс. hebbian, seggian, англосакс, hebban, secgean
(ср. готск. haban, др.-в.-нем. haben, sagen без умлаута) и др.;
3) ряд особенностей лексики — например wif 'Weib’ вместо от-
сутствующего frau (др.-в.-нем. f гои we) и мн. др. Вредэ объединяет
древнесаксонский с англосаксонским и фризским как «ингвеон-
скую» группу западногерманских языков. В процессе своего даль-
нейшего развития древнесаксонский подвергся сильнейшим язы-
ковым влияниям верхненемецкого. По словам Вредэ, современный
нижненемецкий представляет из себя «оверхненемеченный инг-
веонский» (ein verhochdeutsches Ingwaonisch). Такие формы, как
ander (др.-сакс. other), uns (др.-сакс. Us), или mik, dik, sik
(из в.-нем. mich, dich, sich), или frau и heule, встречающиеся
в более или менее обширных группах нижненемецких диалектов,
могут служить примером последовательного вытеснения отдель-
ных «ингвеонизмов» соответствующими верхненемецкими фор-
мами.10
«Ингвеонская теория» Вредэ вполне подтверждается истори-
ческими фактами. Со времен саксонских войн Карла Великого
(772—814 гг.), положивших начало насильственной феодализации
и христианизации древних саксов, северная Германия на протя-
156
жении всего средневековья находилась под сильнейшим культур-
ным и языковым влиянием верхненемецких областей. С другой
стороны, язык англов, саксов и фризов, переселившихся в V в.
на Британские острова со своей первоначальной родины — юго-
восточного побережья Северного моря, — сохраняет черты, объе-
диняющие его с континентальными саксонскими и фризскими диа-
лектами, несмотря на ряд существенных изменений, которые
он должен был претерпеть на новой родине.
Совершенно новую точку зрения па классификацию западно-
германских диалектов вносит гениальная работа Энгельса «Франк-
ский диалект», написанная более 50 лет тому назад и только не-
давно (1936 г.) опубликованная.11 Соединяя лингвистическое ис-
следование с историко-географическим, Энгельс доказывает, что
франкские диалекты, как нижненемецкие (нижнефранский), так
и верхненемецкие (среднефранкский, рейнскофранкский, южно-
франкский), первоначально образовали языковое единство, ко-
торое позднее было разорвано движением с юга второго перебоя.
Действительно, как показала и современная немецкая диалекто-
графия, полностью подтвердившая на огромном материале новых
фактов гениальное прозрение Энгельса, движение второго пере-
боя имеет своим очагом южно-немецкие диалекты (баварский
и алеманский) и проникает на территорию диалектов франкских,
расположенных по Рейну, лишь волнами, последовательно осла-
бевающими по мере своего продвижения на север. Поэтому фор-
малистическая классификация современных немецких диалектов
по признаку второго перебоя, принятая со времени Якова Гримма
в немецкой диалектологии, действительно разрывает более древ-
ние связи между диалектами, на которые она наслаивается.
«Рейнские диалектологи, — пишет Бринкман, подводя итоги но-
вейшим работам проф. Т. Фрингса и его школы, — научились
обходиться без перебоя при объяснении характера и историче-
ского развития рейнских диалектов».12
Свою классификацию западногерманских диалектов Энгельс
строит на древнейшей номенклатуре германских племенных объе-
динений, засвидетельствованной у Плиния и Тацита. По данным
этих писателей, западные германцы образовали три племенные
группы: ингвеонов, иствеонов и герминонов. Энгельс отождеств-
ляет ингвеонов (как впоследствии и Вредэ) с саксами и фризами,
иствеонов с франками, герминонов с южнонемецкими племенами
(баварцами и алеманами). Приняв это деление как исходное
(за ним в свою очередь, вероятно, стоят процессы скрещения,
недоступные историческому исследованию), мы увидим, что даль-
нейшее развитие западногерманских племенных диалектов явля-
ется отнюдь не прямолинейным «разветвлением». Напротив, оно
характеризуется рядом последовательных схождейий и расхож-
дений, определяемых конкретными условиями исторической жизни
западногерманских племен, примерно в следующей последова-
тельности: 1) обособление островных англов, саксов и фризов
157
от континентальных (распад «ингвеонской» группы) и образование
англосаксонских диалектов (с V в.), из которых в дальнейшем
(путем воздействия скандинавских и в особенности французских
элементов) разовьется английский язык; 2) воздействие южноне-
мецких, («герминонских») диалектов на франкские («иствеон-
ские») — второй перебой и распадение франкских диалектов
на нижненемецкую (нижнефранкскую) и верхненемецкую (средне-
франкскую, рейнскофранкскую, южнофранкскую) группу (в ос-
новном V—VII вв. с дальнейшим продвижением в область средне-
франкского в XIII—XII вв.); 3) завоевание саксов Карлом Вели-
ким (конец VIII в.) и начало «оверхненемечения» ингвеонской
основы древнесаксонского (образование нижненемецких диалек-
тов); 4) формирование верхненемецкого литературного языка
(VIII—XVI вв.) на основе взаимодействия верхненемецких дис
лектов — франкских (по своему происхождению — иствеонских)
и баварско-алеманских (по своему происхождению — герминон-
ских), с последующим распространением этого языка по всей
территории Германии (XVI—XVII вв.); 5) обособление нижне-
франкского в особый литературный язык (голландский), с неко-
торыми элементами поглощенного фризского, в связи с экономи-
ческим, политическим и культурным обособлением Нидерландов
от Германии (XIII—XVII вв.).
Таким образом, реальная историческая картина развития за-
падногерманских диалектов в период, более или менее доступный
прямому историческому исследованию, полностью опровергает
упрощенный схематизм «праязыковых» реконструкций, построен-
ных по принципу «родословного древа». В частности, конкретное
историко-лингвистическое исследование приводит к выводу, что
так называемый «пранемецкий» (Urdeutsch) представляет собой
не историческую реальность, а сравнительно-грамматическую ил-
люзию, типичную для формалистического сравнительного метода
индоевропеистики. На самом деле единство немецкого языка
лежит не в прошлом, не в общности происхождения немецких
диалектов от мнимого «праязыка». Оно сложилось исторически
как результат схождения «верхненемецких» (франкских, алеман-
ских, баварских) племенных диалектов в рамках восточной части
империи Карла Великого и развившегося из нее немецкого го-
сударства. В условиях позднейшего национально-государственного
объединения язык этот распространился на территорию, перво-
начально занятую другими племенными наречиями — нижнесак-
сонским, частично фризским и нижнефранкским.
Признание иллюзорности праязыковых реконструкций в связи
с проблемой генетической классификации языков можно встретить
и в высказываниях некоторых западных лингвистов. Так, фран-
цузский ученый Ж. Мансион, ученик Мейе, в своем докладе
на II Международном лингвистическом конгрессе (1931) попутно
касался этого вопроса именно в связи с германскими языками.
«Что касается немецкого, — говорит Мансион, — то отсутствие
158
единства поражает в древнюю и среднюю эпоху; новый верхне-
немецкий унифицирован только как письменный язык. Поэтому
ничто не оправдывает гипотезы пранемецкого (Urdeutsch) как
общего предка верхненемецкого, нижненемецкого и нидерланд-
ского. К тому же невозможно представить себе эпоху, когда Гер-
мания была бы достаточно однородной (homogene), чтобы послу-
жить базой для подобного единства. . . Что касается пранемец-
кого (Urdeutsch) и праангДийского (Urenglisch), то можно смело
утверждать, что они никогда не существовали».13
Эти общие соображения, касающиеся классификации языков
по принципу «родословного древа», получают наиболее ясное
подтверждение на обширном материале современных диалектов,
изучаемых по методам «лингвистической географий». Современная
диалектография (лингвистическая география) — французская и не-
мецкая — показала, что сходства и различия («схождения и рас-
хождения») современных диалектов, отмечаемые лингвистиче-
скими картами, отнюдь не обязательно восходят к расхождению
и спонтанному развитию древнейших племенных наречий как
веток и веточек «праязыка». Очень часто они связаны со сложными
процессами позднейших диалектальных взаимодействий и сме-
шений, совершающихся в рамках средневековых феодальных тер-
риторий, по торговым и колонизационным путям, а также под
влиянием интенсивной «иррадиации» культурных и языковых
центров и т. д. Примером тому может служить движение второго
перебоя, о котором говорит Энгельс. Оно разорвало первоначаль-
ное единство племенного диалекта франков. 13 результате его се-
верная (нижнефранкская) часть оказалась объединенной с нижне-
саксонским, а южная — с баварским и алеманским. Последняя
при этом в свою очередь оказалась разорванной на несколько
частей (среднефранкский, рейнскофранкский, южнофранкский)
в рамках племенных герцогств и позднейших феодальных тер-
риторий.
На основании ряда диалектографических исследований можно
считать доказанным, что все современные диалекты являются
в большей или меныпей степени смешанными. Ни один из них
не может быть «выведен» путем спонтанного, формально законо-
мерного развития из реконструированного для этой цели древне-
племенного «праязыка». Такие же взаимодействия и скрещения
языков имели место и в доисторическую пору, и если в более от-
даленной перспективе языковой доистории не исключается воз-
можность построения классификационной схемы «родословного
древа» родственных языков, то при возможности более присталь-
ного и вооруженного реальными историческими фактами анализа
эта схема оказалась бы такой же сравнительно-грамматической
иллюзией, как мнимое единство «пранемецкого» или «праанглий-
ского» языка.
159
Ш. Реконструкция «праязыка» и сравнительная фонетика
Присмотримся более внимательно к самому методу сравнитель-
но-грамматической реконструкции «праязыка» и прежде всего
к его наиболее прочной основе — сравнительной фонетике. Прин-
ципиальная порочность «праязыковой» концепции отражается
в этой области целым рядом весьма спорных и сомнительных вы-
водов .
Реконструкция «праязыка» на основе фонетических соответ-
ствий между «родственными» языками исходит, как уже было
сказано, из общей предпосылки: одинаковые фонетические при-
знаки восходят к наследию «предка», а фонетические различия
являются результатом последующих расхождений. На самом
деле общий фонетический признак группы языков не является
обязательно признаком общего «предка». Приведем несколько
примеров.
Наиболее характерным примером этого рода является гер-
манский умлаут (Umlaut). Умлаутом называется частичная или
полная ассимиляция . предыдущего гласного последующему,
обычно коренного гласного гласному окончания (суффикса или
флексии). Это своего рода «гармония гласных», но идущая в про-
тивоположном направлении, чем так называемая «гармония глас-
ных» в тюркских языках. Кроме германских языков, аналогич-
ные умлауту явления сингармонизма встречаются из языков ин-
доевропейской группы только в кельтских. Поэтому Мейе рас-
сматривает умлаут как явление неиндоевропейское, обусловлен-
ное воздействием общего германским и кельтским языкам доиндо-
европейского субстрата ,14
Из всех явлений умлаута наиболее широкое распространение
в германских языках имеет умлаут под влиянием последующего i
(так называемый i-Umlaut). Он вызывает ассимиляторные изме-
нения предшествующих гласных а > е, о > д (в дальнейшем
англосакс, и др.-сакс. е), и > й. Однако и этот умлаут охваты-
вает древнейшие германские языки неравномерно. В англосак-
сонском он проходит уже в древнейших текстах для всех гласных,
в древнесаксонском — только для долгого и краткого а. Древне-
верхненемецкий (VIII—X вв.) имеет умлаут только от краткого а:
ср. gast — gesti 'Gaste’; от остальных гласных, долгих и крат-
ких, умлаут окончательно устанавливается лишь с переходом
к средневерхненемецкому (XI—XII вв.); ср. др.-в.-нем. hohiro >
ср.-в.-нем. hoeher 'hoher’, др.-в.-нем. slafis > ср.-в.-нем. slaefest
'schlafst’, др.-в.-нем. husir > ср.-в.-нем. hiuser 'Hauser’, др.-
в.-нем. korbi > ср.-в.-нем. korbe 'Korbe’, др.-в.-нем. wurti >
ср.-в.-нем. wurde и т. п. Древнейшие скандинавские рунические
надписи (IV—V вв.) умлаута не имеют: ср. др.-рунич. gastiR
'Gast’. В древнеисландском (XIII в.) умлаут уже прошел: ср.
gestr 'Gast’, bota 'bussen’ (готск. botjan), fiilla 'fiillen’ (готск.
fulljan) и др.; однако, как установлено, распространение умлаута
160
на разные категории фонетических сочетаний проходит и здесь
несколькими этапами (VIII—XII вв.).15 Готский времен Вуль-
филы (IV в.) умлаута не имеет: ср. gastim cGasten’, grabis 'grabst’,
botjan 'bussen’, fulljan 'fullen’ и др.; однако позднейшие вестгот-
ские имена, засвидетельствованные в юридических актах VII в.
в Испании, уже обнаруживают наличие этого явления.
Таким образом, все германские языки проводят Z-умлаут,
но в разное время и совершенно независимо друг от друга.
«Одинаковые причины (очевидно — фонетические), — по сло-
вам Хирта, — рано или поздно привели к одинаковому резуль-
тату».16 Иными словами, процессы фонетической ассимиляции,
лежащие в основе умлаута, могли дать аналогичные результаты,
протекая параллельно и независимо друг от друга. Мейе пред-
полагает сходный (неиндоевропейский) тип артикуляции, при
котором звуки произносятся не изолированно (как в других индо-
европейских языках), а оказывают друг на друга более или менее
значительные ассимиляторные воздействия.
Итак, с точки зрения сравнительной грамматики, умлаут —
явление общегерманское, но не прагерманское. Однако, если бы
отсутствовали более ранние памятники готского и древневерхне-
немецкого и древнейшие скандинавские рунические надписи,
по обычному методу реконструкции «праязыка» мы несомненно
должны были бы отнести это общегерманское явление к существен-
ным признакам германского «праязыкового» наследия.
Более поздним примером такого параллелизма фонетического
развития является дифтонгизация узких долгих гласных i > at,
й^> айв новонемецком и новоанглийском языках: ср. ср.-в.нем. wis >
новонем. weise fwaize], ср.-англ, wise > новоангл. wise [uaiz]; ср.-в.-
нем. min > новонем. mein [main], ср.-англ. min > новоангл. my [maij;
ср.-в.-нем. brun > новонем. braun, ср.-англ. brun > новоангл.
brown [braun]; ср.-в.-нем. hus > новонем. bans, ср.-англ. hus >
новоангл. house [hauz] и мн. др. Процесс этот протекает в немецком
языке в XII—XVI вв., в английском — в XV—XVI вв., конечно,
совершенно независимо друг от друга. Если бы не было более
древних письменных памятников, мы и здесь могли бы рекон-
струировать «праязыковое» явление, объединяющее определенную
«ветку» западногерманских языков. Была сделана попытка объяс-
нить эту дифтонгизацию для обоих языков одновременно, хотя
сама по себе возможность подобного развития долгих гласных
и не требует особого объяснения. По мнению Вредэ, в основе
этого явления лежит редукция (отпадение) заударных гласных,
в результате которой, благодаря заменительному удлинению
(Ersatzdehnung), коренной (ударный) слог получает облегченное
ударение (zweigipfliger Akzent). Этим и объясняется последующая
дифтонгизация.17 Вредэ подтверждает свою гипотезу указанием,
что в немецких диалектах дифтонгизация начинается на юго-
востоке, в Баварии и Австрии (уже в XII—XIII вв.), где редук-
ция заударных гласных проходит особенно интенсивно. Между
11 в. М. Жирмунский
161
тём нам неоднократно приходилось указывать,18 что самый факт
редукции заударных гласных имеет причины не фонетического,
а грамматико-семантического порядка: он является результатом
смыслового (и тем самым для германских языков — фонетиче-
ского) ослабления окончаний в результате развития новой, более
дифференцированной аналитической системы обозначения грам-
матико-синтаксических отношений с помощью предлогов, личных
местоимений и вспомогательных глаголов. Поэтому, если принять
гипотезу Вредэ и наше истолкование явления редукции, парал-
лелизм в фонетическом развитии немецкого и английского языков
в области дифтонгизации долгих окажется явлением вполне за-
кономерным, в конечном счете объясняющимся аналогичным
процессом изменения строя языка.
Итак, мы видим, что в ряде случаев фонетически тождествен-
ных изменений мы имеем не общие праязыковые признаки, а ана-
логичные и потому параллельные пути языкового развития.
Возвращаясь с этой точки зрения к вопросу о группировке древне-
германских языков, можно утверждать, что и такие фонетические
явления, обусловленные одинаковыми особенностями артикуля-
ции, как переход z > г в западногерманской и северногерманской
группах (а тем более, как мы увидим дальше, такие морфологиче-
ские явления, как образование нового суффикса из уже существую-
щих строевых элементов или присоединение энклитической ука-
зательной частицы к местоимению), могут быть результатом спон-
танного независимого развития, которое отнюдь не должно обя-
зательно указывать на единство происхождения и историческую
близость.
В ряде случаев восстановление общего «праязыкового» фоне-
тического признака на основании сравнения ряда «родственных»
языков наталкивается на столь значительные трудности, что вос-
станавливаемая в сравнительной грамматике гипотетическая «пра-
форма» принимается и самими индоевропеистами лишь условно
и с большими оговорками. Восстановление фонетической «пра-
формы» не возбуждает особых сомнений там, где оно опирается
на подавляющее большинство языков данной группы. Так, «ин-
доевропейским» звонким смычным 6, d, g в германских языках
соответствуют глухие р, t, к. «Индоевропейский» характер звон-
ких можно считать доказанным совпадением всех индоевропей-
ских языков, кроме германских. Ср.: для d санскр. dva, греч. обо,
лат. duo, слав, два и др. — готск. twai (англ, two); лат. edo,
греч. eSojiai лит. edmi, русск. еда — готск. itan (англ, eat) и т. д.
В подобном случае формула перехода и.-е. Ь, d, g > герм, р, t, к
имеет некоторый смысл.
Уже сложнее дело обстоит с различением индоевропейских
о — а, б — а. В греческом, италийском, кельтском, армянском раз-
личаются как краткие о — а, так и долгие б — а. В германской
и балтийской группах краткие отражены как а, долгие как б (о);
в славянской, напротив, краткие как о, долгие как а; в индоиран-
162
ской группе и те и другие .представлены как а, а. Формально
имеется возможность реконструировать «праязыковую» дифферен-
циацию на основании таких языков, как греческий и латинский.
Но, с другой стороны, распределение этих звуков в германских,
балтийских, славянских языках производит впечатление интер-
ференции с «индоевропейским» типом совсем иной фонологической
системы, в которой качественные различия а — о являются про-
изводными от количественных (долготы и краткости). Вопрос
еще более осложняется, если учесть существование акающих
и окающих говоров в современном русском и немецком языках.
В свете этих фактов «праязыковая» схема «переходов» потребует,
может быть, существенного пересмотра.
Классическим примером условности «праязыковых» рекон-
струкций является вопрос о так называемых «индоевропейских»
звонких аспиратах bh, dh, gh.
Существование «индоевропейских» аспирированных звонких
этого типа фактически засвидетельствовано только в санскрите:
ср. санскр. bharami 'несу’ ('беру’), madhu 'мед’, gharmas 'жара’
и др. Санскритским звонким аспиратам закономерно соответ-
ствуют в других индоевропейских языках, в зависимости от поло-
жения в начале или в середине слова, глухие аспираты, глухие
или звонкие спиранты или просто взрывные. Например, санскрит-
скому bh соответствует в греческом ph (/), в латинском / в начале,
Ъ в середине слова, Ъ в иранском, армянском, кельтском, сла-
вянском, Ъ (/) или Ъ в германских языках. Ср. санскр. bharami —
греч. срерсо, лат. fero — др.-иран. barami, арм. berem, др.-слав.
бер&, др.-ирл. biur, готск. baira; санскр. nabhas 'облако’ —
греч. vecpoc, лат. nebula, др.-слав, небо — англосакс, nifol, др.-исл.
nifl (nib) и др. В германских языках, где по формуле первого
перебоя индоевропейские звонкие аспираты отражаются как
звонкие спиранты (и.-е. bh, dh, gh > герм. 5, d, на самом деле
отдельные наречия дают очень пеструю картину чередования спи-
рантов и смычных в зависимости от положения в слове. В част-
ности, b в начале слова и после носового — всегда смычное
(ср. готск. baira или lamb 'Lamm’). В середине и на конце слова
спирантное произношение (5 — /) имеют готский, англосаксон-
ский, древнесаксонский, древнеисландский: ср. готск. giban
(вероятно, giban), англосакс, giefan (интервокальное / обозна-
чает в англосаксонском [v] — ср. англ, give) — geaf; др.-сакс.
geban — gaf, др.-исл. gefa [geva] — gaf. Из древневерхненемецких
диалектов спирант имеет только среднефранкский (geban — gaf),
более южные диалекты имеют смычное Ь или р (франкск. gebn —
gap, южн.-нем. gepan — gap). Однако современные франкские
диалекты все имеют спирантное 5 в середине слова, сохраняя
смычное р на конце (ср. gewo — повелит, gep).
Таким образом, восстановление «праязыкового» *bh (*dh, *gh)
на основе санскрита лишено какой бы то ни было достоверности
и для компаративистики, поскольку она уже не придерживается
163
и*
устарелого мнения о безусловной архаичности именно санскрит-
ских форм: *bh является лишь условным знаком для системы
соответствий между отдельными языками, указанием на то, что Ь,
встречающееся в определенной группе слов, фонологически от-
личается от того Ь, которое в германских языках (по правилам
первого перебоя) отражается как р, — отличается, вероятно,
в сторону каких-то элементов спирантности. В остальном разли-
чия между отдельными индоевропейскими языками (как и между
германскими наречиями) производят впечатление не столько рас-
падения первоначального «праязыкового» единства, сколько ин-
терференции нескольких исконно различных фонологических си-
стем.
Условность данной реконструкции признает и Мейе, который
после обсуждения приведенного выше примера приходит к неуте-
шительному для компаративистики, но безусловно правильному
выводу: «Индоевропейский язык восстановить нельзя. . . . Поло-
жительными фактами являются только соответствия, а „восста-
новления11 сводятся лишь к знакам, с помощью которых сокра-
щенно выражаются соответствия».19 Тем не менее, вопреки оче-
видности, и Мейе сохраняет «праязык» как гипотетический посту-
лат, на котором по-прежнему строится все здание его сравнитель-
ной грамматики.
Вопрос об интерференции фонологических систем, попутно
затронутый выше в связи с проблемой звуковых «переходов»,
нуждается в более подробном освещении. Такая интерференция
является обычным спутником широко распространенных язы-
ковых смешений.
Языковым смешением с доиндоевропейским населением Европы
в настоящее время все чаще объясняют явления первого и вто-
рого («германского» и «немецкого») перебоя согласных. Явления
второго перебоя, результаты которых мы можем наблюдать на сов-
временных немецких диалектах, более доступны для прямого
наблюдения и могут служить ключом для объяснения всего про-
цесса в целом. Как известно, при этом происходят звуковые из-
менения двух родов. С одной стороны, происходит потеря звон-
кости взрывными согласными: результатом, если судить по со-
временным верхненемецким диалектам, являются «глухие сла-
бые» (lenes), иногда неправильно называемые «полузвонкими»,
совпадающие со звонкими по своей более слабой артикуляции,
но лишенные звонкости, т. е. образуемые без участия вибрации
голосовых связок (Ь, d, g > р, t, к). С другой стороны, появля-
ются различные формы аспирированного произношения глухих
согласных, из которых в дальнейшем развиваются в определен-
ных положениях африкаты и спиранты (р, t, к > ’р, ’Аг > р/,
ts, kx^-f, s, х). Для говорящих на верхненемецких диалектах
такое произношение и сейчас является живым фонетическим за-
коном. На нем основано типичное «немецкое» произношение ино-
странных слов, то, что Энгельс называет «accent allemand»,20
164
Наши старые литературные пародии на «немецкое» произношение
отмечают употребление звонких вместо глухих и в то же время
глухих вместо звонких (т. е. там вместо дам и в то же время дам
вместо там). На самом деле в обоих случаях произносится один
и тот же звук — глухой слабый (lenis), который, будучи постав-
лен вместо звонкого (lam вместо dam), производит на нас впе-
чатление глухого, а на месте глухого сильного (tarn вместо tarn)
кажется нам звонким. Отсюда аналогичные колебания и в написа-
ниях заимствованных слов в средневековых немецких памятниках:
с одной стороны: babes 'Papst’ < лат. papa (papas), с другой
стороны, pitsch 'Peitsche’ < слав. бич.
Мейе обобщает оба признака «немецкого» произношения, ле-
жащие в основе перебоев, как тип произношения, при котором
действие голосовых связок всегда запаздывает по отношению
к артикуляции ротовой полости: при произношении глухих го-
лосовая щель закрывается после взрыва (или смычки) артикули-
рующих органов, что является причиной аспирации; при произно-
шении звонких вибрация голосовых связок происходит лишь
в самый момент взрыва («полузвонкие»).21 Мейе видит в подобном
произношении влияние речевых навыков доиндоевропейского
«этнического субстрата». Мы прибавим к этому, что речь идет,
как всегда при смешениях, о сохранении того, что мы называем
секундарными фонетическими признаками поглощенного говора.22
Насмотря на то что для современных немецких диалектов раз-
личия по признакам перебоя являются резко заметными, примар-
ными (ср. zwei — twei; wasser — water; kochen — koken; pfef-
fer — peper), в основе их лежат генетически те самые секундар-
ные особенности артикуляции, которые Энгельс справедливо
считал наиболее древними и прочными признаками верхненемец-
кого произношения.
С этой точки зрения можно утверждать, вслед за Н. Я. Марром,
что верхненемецкие перебойные африкаты (pf, ts, кх) в известном
смысле древнее, чем те глухие смычные, из которых они «выво-
дятся» по схемам перебоев.23 Древнее не только в стадиальном
смысле как менее дифференцированные звуки, но и в прямом
хронологическом отношении, поскольку они издавна были при-
сущи говорящим, еще до усвоения ими индоевропейской речи,
и наложили на эту речь свой отпечаток секундарными признаками
вытесненного произношения. С другой стороны, в данных словах,
принадлежащих индоевропейскому слою германской лексики, это
произношение является новым, и с точки зрения истории самих
слов формулы типа и.-е. респ > герм, готск. faihu или и.-е.
dekm > герм, готск. taihum > др.-в.-нем. zehan сохраняют свою
относительную правомерность — несмотря на то что в реальной
истории звуковой системы германских языков мы имеем более
сложный процесс фонологической интерференции.
К той же проблеме интерференции приводит рассмотрение так
называемого «преломления» гласных (Brechung) в западногер-
165
манских и скандинавских языках. Этим термином Я. Гримм обо-
значил ассимиляторное чередование гласных е — I, о — и (и со-
ответственно дифтонгов ео — iu), которое с точки зрения древне-
верхненемецкого языка, где оно выступает наиболее отчетливо,
может быть в схематической форме выражено следующим образом:
е — i
о —и
ео (io) — iu,
~\-а, е, o/?-]-i(j), и
Иными словами, подобно умлауту, «преломление» является
особым видом «сингармонизма» (или ассимиляции), подчиняющим
гласный корня гласному окончания: при последующих узких
гласных (г, и) гласный корня представлен соответствующими
узкими вариантами (г, и, iu), при последующих широких глас-
ных (а, е, о) — соответствующими широкими вариантами (е, о,
ео). Ср. др.-в.-нем.: neman 'nehmen’ — наст. вр. 1-е, 3-е л. ед. ч.
nimu, nimis, nimit; berg — gibirgi 'Gebirge’; прош. вр. 1-е л.
мн. ч. hilfum — прич. II giholfan 'geholfen’; gold — guldin 'gol-
den’; biotan 'bieten’ — наст. вр. 1-е, 3-е л. ед. ч. biutu, biutis,
biutit; sioch 'siech’ — siuhi 'Seuche’ и мн. др.
Перед двойным носовым или носовым с последующим соглас-
ным это чередование отсутствует и встречаются лишь узкие ва-
рианты коренного гласного (г, и), независимо от характера глас-
ного окончания: ср. findan — наст. вр. 1-е, 3-е л. ед. ч. findu,
findis, findit (giwinnan — giwinnu, giwinnis, gewinnit); прош. вр.
1-е л. мн. ч. fundum, прич. II gifundan (wunnum — giwunnan).
Относительная древность «преломления» по сравнению с ум-
лаутом подтверждается воздействием на коренной гласный осново-
образующего суффикса, редуцированного уже в древнейших па-
мятниках западногерманских языков: ср. др.-в.-нем. gold —
основа на -a- (*golda-) — sculd 'Schuld’ — основа на -Z- (*skuldi).
Однако готский язык Вульфилы, в противоположность западным
и северным германским наречиям, вместо «преломления» имеет
во всех случаях только узкие варианты гласных (Z, и, ш): ср.
готск. niman, 'nehmen’ — наст. вр. 1-е, 3-е л. ед. ч. nima, nimis,
nimit; прош. вр. 1-е л. мн. ч. hulpum — прич. II hulpans; biudan
fbieten’ — наст. вр. 1-е, 3-е л. ед. ч. biuda, biudis, biudip; sinks
'siech’ —siukei 'Seuche’ и т. д. Краткие е, о (в написании Вуль-
филы — ai, аи) появляются в готском только в результате спе-
цифического для этого языка развития перед согласными г или h:
ср. готск. wairpan — наст. вр. 1-е, 3-е л. ед. ч. wairpa, wairpis,
wairpip (др.-в.-нем. werfen — wirfu, wirfis, wirfit); прош. вр.
1-е л. мн. ч. waurpum, прич. II waurpans (др.-в.-нем. wurfum —
giworfan) и др. Таким образом, чередования, основанные на пре-
ломлении (Brechnung), в готском языке отсутствуют.
166
Вопрос о соотношении германского вокализма с индоевропей-
ским был поставлен уже Яковом Гриммом. Он, отождествляя
готскую фонетическую систему с «прагерманской», рассматривал
готские j, и, ш как общегерманские звуки и выводил из них е, о,
ео (io) других германских языков как результат расширения пе-
ред широкими гласными окончания (так называемый a-Umlaut).
Последующая индоевропеистика вынуждена была отказаться от
теории Якова Гримма. Она рассматривает особенности готского
вокализма как результат местного развития, а чередования е — i,
о — и, ео — ш в других германских языках — как общегерман-
ские, объясняя их в каждом случае из другого источника.24
1. Чередование е — i объясняется в большинстве примеров
изменением коренного «индоевропейского» е > i при последую-
щем узком гласном (Z-Umlaut): ср. др.-в.-нем. werdan (лат. wer-
tere, русск. вертеть) — наст. вр. 1-е, 3-е л. ед. ч. wirdu, wirdis,
wirdit; лат. medius — др.-в.-нем. mitti, англосакс, midd, др.-
исл. midr и т. п. Менее систематически проводится обратный
переход индоевропейского i > е под влиянием последующих от-
крытых гласных (a-Umlaut), наиболее последовательно представ-
ленный в древневерхненемецком, а в других германских языках
насчитывающий целый ряд исключений: ср. лат. vir — др.-в.-нем.
англосакс., др.-сакс, wer, др.-исл. verr (осн. а); лат. vivus (русск.
живой) — др.-в.-нем. quek, но англосакс, cwicu, др.-исл. kvikr.
Во всех германских языках^(в том числе и в древневерхненемец-
ком) причастие II глаголов I ряда сохраняет i перед а: ср. др.-в.-
нем. gistigan, англосакс, stigan, др.-исл. stigenn.
2. Чередование о — и объясняется только изменением и а
перед открытыми гласными (a-Umlaut), потому что краткое ин-
доевропейское а представлено в германских языках как а (ср.:
лат. hostis 'гость' —готск. gasts 'Gast’). Например, лат. jugum —
др.-в.-нем. joh, др.-исл. ок (осн. а); санскр. uksan 'бык’ —
др.-в.-нем. ohso, др.-исл. oxi, англосакс, оха. В формах wurfum,
hulfum гласный и (из которого развивается о) происходит из со-
норных в слоговой функции при нулевой ступени аблаута корня.
о. Чередование ео — iu является результатом распада индоев-
ропейского дифтонга еи\ ср. греч. уебоора».— др.-в.-нем. kiosan —
kiusu, kiusis, kiusit. В отдельных германских языках оно представ-
ляет значительные различия и совпадает, по-видимому и хроноло-
гически, с позднейшим i-умлаутом (ср.: англосакс, ceosan —
наст. вр. 1-е, 3-е л. ед. ч. ceose, cyst, cysd, др.-исл. kjosa — kys,
kyrr, ky'rr).
Таким образом, единое явление «преломления» оказывается
с точки зрения сравнительно-грамматической схемы результатом
нескольких различных, частично противоположных по своему
направлению процессов (i-Umlaut, a-Umlaut). Между тем при-
веденная выше картина древневерхненемецких чередований (на-
личествующих в менее отчетливой форме и в других языках за-
падной и северной группы) сама по себе указывает на особого
167
типа фонологическую систему, в которой краткие гласные е — i,
о — и выступают как варианты одной фонемы, соответственно
обусловленные воздействием последующего гласного. По сравне-
нию с индоевропейской системой пяти гласных эта германская
система трех гласных (с соответствующими ассимиляторными ва-
риантами) представляет из себя особый фонологический тип.
Он получил наиболее полное развитие в западногерманских язы-
ках особенно в древневерхненемецком) и односторонним образом
унифицирован в готском. Ср.:
е \/ О
а
«индоевропейский» тип «германский» тип
неударного вокализма
С этой точки зрения распределение гласных I — е, и — о
в лексическом материале германских языков является результа-
том интерференции двух разных фонологических систем, т. е.
продуктом смешения двух разного типа языков, и схема «пере-
ходов», реконструируемая сравнительной грамматикой, отражает
на самом деле процесс приспособления индоевропейской лексики
к неиндоевропейской фонологической системе.
IV. Реконструкция «праязыка» и сравнительная морфология
Сравнительно-грамматическая реконструкция морфологии «пра-
языка» на основании соответствий между отдельными языками
индоевропейской группы пользуется тем же механическим прин-
ципом сравнения. Достаточно, чтобы в двух языках независимо
друг от друга было установлено наличие той или иной граммати-
ческой формы, для того чтобы эта форма была признана наследием
общего «предка» — «праязыка». «В нашем общем обзоре мы при-
нимали во внимание только типы, установленные согласным сви-
детельством по крайней мере двух языков», — заявляет Мейе
в своем «Введении в сравнительную грамматику».25 Если вос-
станавливаемая таким способом «праязыковая» форма не засви-
детельствована в других индоевропейских языках, она тем самым
считается «утраченной» в процессе самостоятельного развития
этих языков. Множественность и противоречивость грамматиче-
ских форм индоевропейского «праязыка» очень часто является
результатом сравнительно-грамматических иллюзий, основанных
на подобной механической проекции в предполагаемое общее
прошлое своеобразных и взаимно исключающих друг друга путей
развития отдельных языков. При этом явления разностадиальные
168
неизбежно оказываются лежащими на одной плоскости: созда-
ется противоречивая картина языка без стадиальной перспективы,
представляющего какое-то складочное место несовместимых между
собою грамматических форм.
Наиболее ярким примером такой механической «реконструк-
ции» может служить учение компаративистики об «индоевропей-
ском глаголе», которое представляет один из самых слабых и наи-
менее достоверных разделов грамматики гипотетического индо-
европейского «праязыка». «Индоевропейский праязык, — пишет
Хирт, — обладал развитой глагольной системой, о богатстве
которой, как полагают, могут дать правильное представление
греческий и индийский глагол».26 «Эта огромная сложность, —
поясняет Мейе, — следы которой, в большей или меньшей сте-
пени, сохранили все языки, с течением времени в каждом от-
дельном диалекте упростилась и непосредственно обнаружи-
вается только в древних формах языков Индии, Ирана и Гре-
ции».27
Проецируя, в соответствии с общими сравнительно-граммати-
ческими методами, в гипотетическое прошлое «праязыка» все гла-
гольные формы, засвидетельствованные по крайней мере в двух
самостоятельных группах индоевропейских языков, компарати-
висты установили наличие в «праязыке» следующей системы вре-
мен (или видов): презенс, аорист, перфект, имперфект, плюсквам-
перфект, футурум. Несмотря на сомнения, высказываемые от-
дельными исследователями, в существовании «праязыкового»
плюсквамперфекта и имперфекта (времен с «наращением») или
даже будущего времени, классическая индоевропеистика, от Бруг-
мана до Зоммера и Мейе, неизменно возвращается к этой системе.
Между тем, в составе названных выше «праязыковых» глагольных
категорий механически смешаны две последовательные стадии
развития глагола. В основе глагольной системы индоевропейских
языков лежат противоположности не времен, а видовых отноше-
ний, как это наблюдается во всех языках на более примитивной
стадии развития.28 К этому более древнему видовому слою отно-
сятся презенс — аорист — перфект (длительный — мгновенный —
результативный вид), со своими ступенями огласовки (аблаута)
корня и с особыми формами личных окончаний, тогда как так
называемый имперфект, плюсквамперфект и футурум являются
временами, относящимися к позднейшей стадии языкового раз-
вития, характеризующейся перестройкой системы видов во вре-
мена. Греческий глагол со своей противоположностью видовых
основ презенса — аориста — перфекта, на которые наслаива-
ются более поздние различия времен, оформленные особыми пре-
фиксами и суффиксами, с парадигматической ясностью демонстри-
рует эти две последовательние стадии. Однако и в греческом языке
существование различных основообразующих суффиксов в пре-
зенсе, различных типов образования аориста и перфекта явля-
ется указанием на формальные противоречия, за которыми скры-
169
вается многообразие видовых отношений — гораздо более слож-
ное, чем то, которое выражено в схематическом противопоставле-
нии трех основных видов.
Между тем, самый метод сравнительно-грамматической рекон-
струкции глагольной системы «праязыка» на основе совпадения
«двух по крайней мере языков» вызывает в ряде случаев существен-
ные возражения. Общий грамматический признак группы языков
вовсе не обязательно является признаком общего предка, он может
быть результатом параллельного грамматического развития на оди-
наковых ступенях мышления и языка, использующего в качестве
строевых элементов тождественные или аналогичные слова и фор-
мы, всегда наличествующие в языках одной системы.
Параллелизм грамматического развития неоднократно отме-
чался в явлениях синтаксического порядка. Так, развитие ар-
тикля в немецком, английском, французском и других романских
языках протекает в основном параллельно и вполне независимо
друг от друга. Развиваются два артикля — определенный, выде-
ляющий из группы предметов данного вида один, отличный
от других ('тот, уже названный’), и неопределенный, служащий
для обозначения предмета, вполне одинакового с другими ('один,
какой-нибудь’). Первый вид артикля развивается из указатель-
ного («анафорического») местоимения 'тот’ (нем. der, англ, the,
фр. 1е < лат. ille), второй из местоименного числительного 'один’
(нем. ein, англ, а, франц, un). Без артикля употребляются имена
собственные и предметы единственные в своем роде. В немецком
и французском языках в процессе дальнейшего развития артикль
одинаково закрепляется и за родовыми понятиями: нем. der Mensch
ist sterblich, фр. 1’homme est mortel и т. п. Этот параллелизм
отнюдь не обозначает общности происхождения или взаимного
влияния. Поэтому наивно-механистической является характерная
для компаративистики попытка Бринкмана, рассматривающего
это явление как результат воздействия народной латыни или
старофранцузского языка на древневерхненемецкий в условиях
культурного общения и взаимодействия романских (французских)
и германских (франкских) диалектов в пределах франкского госу-
дарства Меровингов и Каролингов.29 Сходные синтаксические
формы встречаются и в английском и в скандинавских языках,
лежащих за пределами франкского государства. Все они сви-
детельствуют о закономерности синтаксического процесса в це-
лом, создающего в близких по своему строю языках одинаковые
или сходные формы для выражения одинаковых категорий мышле-
ния, возникающих на одинаковых ступенях общественного и куль-
турного развития.
Подобные факты полигенезиса и параллелизма развития («кон-
вергенции») могут быть констатированы во всех областях мате-
риальной и духовной культуры на одинаковых стадиях обществен-
ного развития и объясняются единством и закономерностью про-
цесса социально-исторического развития человечества в целом.
170
6 качестве примера из близкой области культуры напомним от-
меченные А. Н. Веселовским явления «полигенезиса мотивов»,
отражающих одинаковые стадии общественного быта и идеологии,
или независимого возникновения определенных исторически
обусловленных категорий поэтического стиля (например, «психо-
логического параллелизма» народной поэзии, связанного по своему
происхождению с первобытным анимизмом).30
При таком «полигенезисе» новая грамматическая категория,
возникающая параллельно и независимо друг от друга в языках
одной группы, нередко будет выражаться материально тождествен-
ными строевыми элементами, в особенности в тех случаях, когда
для образования новой грамматической формы используется тож-
дественный по своему происхождению, когда-то самостоятельный
лексический элемент или даже существовавший ранее суффикс,
использованный в новом значении. Так, в приведенном примере
слова, обозначающие неопределенный артикль, происходят от
местоименного числительного 'один’: при этом нем. ein, англ, а
« англосакс, ап), франц, un (< лат. unus) находятся в закономер-
ном соответствии и «возводятся» компаративистами к индоевропей-
скому *oinos, прагерманскому *ainaz и т. д. по обычным правилам
сравнительной грамматики. Если бы мы не имели фактических
письменных свидетельств о сравнительно позднем происхождении
грамматической категории неопределенного артикля (в немецком
языке он становится обязательным в XII—XIII вв.), можно было
бы на основании «совпадения двух или более независимых друг
от друга языков» реконструировать форму артикля *oinos как
явление индоевропейского «праязыка», «утраченное» некоторы-
ми группами в процессе позднейшего развития.
Аналогичный закономерный параллелизм обнаруживает про-
цесс образования будущего времени в тех индоевропейских язы-
ках, где оно отсутствовало в древнейший период. В стадиальном
отношении будущее время наиболее позднее из основных времен
индоевропейского глагола: например, древнейшие германские
языки имеют только прошедшее и настоящее. При этом последнее,
еще не утратившее своего первоначального видового значения
длительного или постоянного, не ограниченного во временном от-
ношении действия, может употребляться и в значении будущего
(ср. нем. ich gehe heute abend ins Theater 'я пойду вечером в
в театр’). Будущее время на ранних стадиях развития языка
возникает либо из модальных категорий — как неизбежное, не-
обходимое, желательное, возможное; либо оно может развиться
из видовых отношений — из форм, первоначально обозначавших
начало действия или его завершение. Древнейшие германские
письменные языки обнаруживают целую серию неграмматизован-
ных типов модального и видового будущего, заменяющих от-
сутствующую грамматическую форму будущего, которые все
имеют аналогии в других индоевропейских языках.31 Приведем
несколько примеров.
171
а) Будущее модальное.
Как долженствование модальное будущее употребляется с гла-
голом sculan 'sollen’: ср. др.-в.-нем. berga sculun swinan — лат.
et omnis mons humiliabatur ('горы опустятся’ — букв, 'должны
опуститься’); как желанное — с глаголом wellan 'wollen’: ср.
др.-в.-нем. then altan Satanasan wilit er gifahan ('он возьмет
в плен древнего Сатану’ — букв, 'хочет взять в плен’). В боль-
шинстве современных германских языков (в английском, голланд-
ском, шведском, в нижненемецких диалектах) грамматическая
форма будущего времени развилась из модального будущего
с глаголами sollen и wollen; в немецком литературном языке
эти формы не грамматизованы и сохраняют модальный оттенок
(ср. was soil daraus werden?). В древнеисландском в 1-м лице
также употребляется глагол scolo 'sollen’: ср. ek skal setja rap
til pess ' ich werde Rat dafiir finden’; но грамматическое обобщение
получило будущее с глаголом munu 'wollen, werden’, с сходным
первоначальным значением намерения, желания: ср. munu berja
pugnabunt ('будут сражаться’ — букв, 'намерены сражаться’).
В готском встречается также будущее с haban 'haben’, с оттен-
ком долженствования: ср. tauja, jah taujan haba — греч. koiw
xai KoiTjcjco 'делаю и сделаю’ (букв, 'имеют сделать’ — ср.
позднейшее habe zu arbeiten).
Все эти сложные глагольные формы с модальным значением
имеют параллели в народной латыни, в оборотах с velle, debere,
posse и в особенности с habere, а также в церковной латыни, на-
ходящейся под влиянием народного языка. Из вульгарно-латин-
ского cantare habeo (букв, 'имею петь’) развивается в романских
языках новое флективное будущее — фр. chanterai и итал. сап-
tero, испанск. cantare. Форму с глаголом иметь употребляет
и старославянский: ср. не иматъ ходити въ тьмЪ (греч. об
рл] тг£рскаттрт] ev ттд ахотса). Ср. в северновеликорусских диалектах:
иму делать ('буду делать’); в украинском: cnieam-иму, робит-иму.
Новогреческий также употребляет сложные формы будущего
с риеХХоэ 'намерен’, 'должен’. Бринкман и здесь ставит вопрос
о возможности влияния романских форм на германские, в особен-
ности на обороты с haban у Вульфилы.32 Однако по существу
мы имеем дело с параллельным развитием, обусловленным оди-
наковой общей тенденцией. В самих романских языках образова-
ние будущего времени происходит независимо друг от друга
и параллельно. Суффигированный вспомогательный глагол еще
сохраняет свою самостоятельность в староиспанском: ср. cantare
и he cantar. Характерно, что в румынском грамматизуется другая
народно-латинская форма модального будущего с глаголом жела-
ния: voii canta или canta void (из лат. volo cantare 'хочу петь’).
Развитие будущего времени из модальных категорий объясняет
возможность употребления и старых флективных форм оптатива
(или конъюнктива) в значении модального будущего. Такое упот-
ребление оптатива встречается и в готском, в особенности в при-
172
даточных предложениях в косвенном вопросе: ср. pande nu jainis
melam ni galaubeip (греч. об тпсгабетг) hwaiwa meinaim waurdam
galaubjaip (греч. к’лтебете) 'если вы этим знамениям не верите,
как моим словам поверите’ (букв, 'как поверили бы’, т. е. 'как
могли бы поверить’). Оптатив с значением модального будущего
встречается и в греческом языке: ср. dXX’ 6v itoXi; anjoete, tod 8=
ХР'П xaoetv 'кого город назначит (букв, 'назначил бы’), того надо
слушать’. Однако это не дает основания считать готскую форму
Вульфилы скалькированной с греческой, тем более что формы
такого рода употребляются Вульфилой и для перевода обычного
греческого будущего (ср. кютебаете). В греческом и в санскрите
в значении будущего употребляется и конъюнктив; в латинском
из конъюнктива образовалось грамматизированное будущее время
III—IV спряжения: ср. лат. буд. вр. feretis— греч. конъюнкт.
(реот]те, лат. буд. вр. agetis — греч. конъюнкт,
б) Будущее видовое.
Значение будущего времени могут получить глаголы с начи-
нательным значением. Так, в немецком werde schreiben ' напишу’
(ср. русское 'стану писать’) может быть из сочетания с причастием
werde schreibend ('стану пишущим’), имеющего оттенок длитель-
ности: ср. готск. saurgandans wairjiib — греч. Х’ятт]{>трза&8 'будете
озабочены’ (букв, 'станете озабоченными’). В готском в том же
смысле употребляется глагол duginnan 'beginnen’ с инфинитивом:
ср. gaunon jan gretan duginnip (греч. хХабовте) 'будете (букв.'нач-
нете’) плакать и жаловаться’. Так как в церковной латыни встре-
чается аналогичный оборот с incipere 'начинать’, то и здесь без
достаточного основания видят влияние латыни.33 Ср., однако,
близкие по значению русск. я собираюсь писать, франц, je vais
ecrire, исп. voy a escribir.
С другой стороны, значение совершенного вида, указывающее
на предстоящее завершение действия, также может развиться
в будущее. В русском и в других славянских языках настоящее
совершенное имеет, как известно, значение будущего; при этом
глагольные префиксы придают глаголу значение совершенного
вида: ср. наст, несоверш. пью, буд. соверш. выпъю\ наст, несоверш.
делаю, буд. соверш. сделаю. В древнегерманских языках это яв-
ление также встречается довольно часто, но не получило систе-
матического развития. Ср. в особенности с перфектирующей
частицей ga- (лат. сит-, со-, слав, съ): служи мне, пока я ем и пью
(греч. сраро ха1 кип), а потом сам поешь и попьешь’ (греч. срараае
xal iteeoai) — готск. unte matja jah drigka, jah bipe gamatjis
jah gadrigkais; др.-в.-нем. giheilu — лат. curabo ('исцелю’);
еще ср.-в.-нем. (Вальтер фон дер Фогельвейде) ich gemache iu
vollen kragen ('ich werde machen’ — 'сделаю’). Отдельные случаи
такого употребления встречаются и в латинском языке — ср. у Це-
заря: ego reliquas portas circumeo et castrorum praesidia confirmo.
Конечно, совпадение славянских форм с германскими и латин-
скими отнюдь не обязывает рассматривать данную форму как
173
«праязыковую»; во всех названных языках глагольные префиксы
более или менее последовательно сообщают глаголу значение
совершенного вида и тем самым «терминативность», благодаря
которой значение настоящего времени переходит в будущее.
Эти общие соображения позволяют пересмотреть вопрос об «ин-
доевропейском глаголе» и с точки зрения сравнительно-граммати-
ческой. Так, в греческом языке имперфект и плюсквамперфект
являются прошедшими временами, образованными от основ пре-
зенса (длительного вида) и перфекта (результативного вида). В фор-
мальном отношении эти времена характеризуются так называемым
«приращением» («аугментом») е- и секундарными окончаниями (ср.
през. TtaiSeoa) — имперф. ётиоиЗеэоу, перф. квкасозоха—плюсквамперф.
екека'.Веихт]). Аугмент (основной признак этих производных времен)
встречается также в аористе (т. е. в мгновенном виде): ср.
ercaiBeoaa (или eXiKov). Формы с аугментом засвидетельствованы
в трех индоевропейских языках—в древнегреческом, в санскрите
и в одном из наречий армянского языка (фригийском): ср. греч.
е-срере—вед. a-bharat— арм. е-Ьег 'принес, взял’, греч. e-Xtrce —
вед. a-ricat — арм. e-likh 'оставил’. На этом основании аугмент
признается «праязыковым» явлением и времена с аугментом (им-
перфект, плюсквамперфект) переносятся в «праязык» (Бругман).34
Правда, Мейе готов считать приращение диалектальным призна-
ком группы названных индоевропейских языков, «имеющих и
другие общие черты»; «на него можно смотреть как на диалекталь-
ное явление в индоевропейском».35 Однако Хирт пытается объяс-
нить «исчезновение» этого элемента «влиянием ударения».36
Между тем, по своему происхождению аугмент является, по-
видимому, приглагольным наречием, развившимся в глагольную
приставку. Это видно уже из того, как он трактуется в смысле уда-
рения (ср. греч. есрере, санскр. abharat как prabharat 'profert’).
Относительная самостоятельность приращения доказывается его
факультативностью в древнейших греческих текстах (Гомер) и
в Ведах (ёсрере — срере, abharat — bharat 'он нес’ и др.). «В индо-
европейскую эпоху, — как признает Мейе, — оно не представ-
ляло необходимой составной части глагольной формы; действи-
тельно в индоевропейском неизвестна префиксация».37 Таким
образом, аугмент, вероятно, являлся первоначально самостоя-
тельным наречием времени, локализующим действие глагола
в прошедшем времени, и присоединялся к видовым основам пре-
зенса и перфекта в соответствии с указанным значением импер-
фекта и плюсквамперфекта. Присоединение аугмента к аористу
также связано с превращением этой формы из чисто видовой ка-
тегории в своеобразное прошедшее с видовой окраской.
Возможность обозначения прошедшего времени видовыми но сво-
ему первоначальному значению формами (например, презенсом)
с наречием времени подтверждается фактами многих древних ин-
доевропейских языков. В латыни в этом значении при настоящем
времени употребляются наречия olim. dum, postquam, в греческом
174
ларос, лаЛас, крбз&еу, в санскрите рига 'раньше7 (слово одного
корня с греч. -таро;). Ср. лат. (Гораций, «Сатиры» I, I, 75) ut
pueris olim dant crustula blandi doctores 'как некогда добрые учи-
теля давали (букв, 'дают’) мальчикам пирожные’; греч. (Илиада
S 386) каро; ye ooti OapKets 'раньше ты не часто ко мне при-
ходил’ (букв, 'приходишь’). Греч, ларо? уг рео, употребляемое
в этом смысле для обозначения прошедшего, в точности соответ-
ствует санскр. рига ha sma (позже sma), которые однако не счи-
таются на этом основании «праязыковыми» формами.38 То же
относится к приращению е-. Использование адвербиальной ча-
стицы (приглагольного наречия) е- для обозначения прошедшего
могло иметь место в греческом, санскрите и армянском независимо
друг от друга (поскольку такое наречие или частица уже суще-
ствовали в этих языках) на определенной стадии развития гла-
гола — стадии формирования времен из видов — и так же мало
служит доказательством «праязыкового» характера этих форм, как
наличие в греческом и в санскрите одинакового наречия карос —
рига 'прежде’, употребляемого в аналогичных оборотах.
Образование прошедшего времени знаменует в развитии ин-
доевропейских языков первый шаг к перестройке более древних
видовых отношений во временные, тогда как настоящее время
гораздо дольше сохраняет видовую окраску презенса (значение
длительного или постоянного, часто вневременного действия),
а будущее, как уже было указано, на этом этапе не отграничено
от настоящего и передается субъективно окрашенными модаль-
ными категориями или соответствующими видовыми оттенками.
Однако формирование прошедшего не во всех индоевропейских
языках происходит одинаковым путем. Другой путь представлен
в латинском и в германских языках, где новая временная форма
прошедшего возникает из смешения аориста и перфекта с потерей
ими первоначальной видовой окраски.
Древнейший слой в германской глагольной системе, как и
в других индоевропейских языках, составляют так называемые
сильные глаголы, образующие прошедшее (претерит) с помощью
аблаута, т. е. чередования гласных в корне (внутренней флексии).
Характерной особенностью вокализма прошедшего времени в гер-
манском глаголе является различие в огласовке единственного
и множественного числа: глаголы, имеющие е в презенсе, образуют
единственное число прошедшего времени на а (соответствующие
лат., греч. о), множественное число прошедшего — с нулевой
ступенью гласного. Таким образом, формально единственное
настоящего времени и множественное прошедшего в германских
языках (в глаголах I —III ряда) совпадают по огласовке с презен-
сом, перфектом и аористом греческого "языка: ср. греч. ketitw—-
asAolkoc—ekircov (leip — loip — lip) —готск. steigan — staig —
stigum (leihwan — laihw — laihwum) с вокализмом i — at — i.
Правда, в санскритском перфекте засвидетельствовано также
чередование гласных единственного и множественного числа,
175
как и в германском прошедшем. Следы этого явления встречаются
также в греческом языке, особенно отчетливо в глаголе praete-
rito-praesentia о!8а (мн. ч. FtSpev, гомер. FtoTe, F toast, ср. инф.
tBetv); по тому же типу построены praeterito-praesentia (разви-
вающиеся из старых перфектов) и в германских языках: ср.
готск. wait — witum, seal — sculum и т. д. Поэтому старая
сравнительная грамматика рассматривала это чередование как
«праязыковое», «утраченное» в процессе самостоятельного разви-
тия греческим глаголом и объясняла германский сильный прете-
рит как закономерное развитие «индоевропейского» перфекта.
Однако за последнее время был выдвинут ряд фактов, заставляю-
щих признать наличие в составе германского прошедшего отдель-
ных форм, восходящих к «индоевропейскому» аористу.39 Так, в за-
падногерманских языках 2-е лицо единственного числа имеет во-
кализм множественного. Эти формы имеют точные соответствия
в греческом и санскритском аористе: ср. др.-в.-нем. liwi — греч.
ekiitec, санскр. aricas; др.-в.-нем. stigi — греч. esti^ec; др.-в.-нем.
bugi — греч. есроуес; и мн. др. Однако и во множественном числе
германская форма 3-го лица по своему окончанию -п скорее вос-
ходит к секундарному окончанию аориста -nt, чем к засвидетель-
ствованному в других индоевропейских языках окончанию пер-
фекта, по-видимому содержащему элемент г (ср. готск. stigun —
греч. eoti^ov, готск. laihwun — греч. sktrcov, готск. bugun —
греч. eepuyov, готск. waarpun — санскр. avrtan), тогда как 1-е
и 2-е лицо множественного числа могут быть с формальной сто-
роны объяснены и как перфект с низшей ступенью аблаута, и как
аорист. Таким образом, смешение аориста — перфекта в герман-
ских языках могло поддерживаться их формальной близостью
в 1-м и 2-м лице множественного числа. Но в основе этого смешения
в глоттогонической перспективе лежит более принципиальный
грамматико-семантический факт: смешение старых видовых ка-
тегорий, из которых развиваются новые временные.
Интересно отметить и то обстоятельство, что смешение аориста
и перфекта в новом прошедшем по-разному осуществлено было
в языках западногерманской группы, с одной стороны, и северной
и восточной группы — с другой стороны. В противоположность
западногерманским языкам, готский и древнеисландский имеют
во 2-м лице единственного числа прошедшего времени форму
с огласовкой единственного числа и окончанием перфекта -t\
ср. др.-в.-нем. stigi — готск. staigt, др.-исл. steigt; др.-в.-нем.
bugi — готск. baugt, др.-исл. baugt. Такую же форму 2-го лица
(огласовку и окончание) имеют и западногерманские praeterito-
praesentia, т. е. глаголы, в которых временное значение настоя-
щего развилось из видового значения перфекта (результативного
вида); ср. др.-в.-нем. darft, kant — от praeterito-praesentia due-
fan, kunnan. Подобное расхождение между различными древне-
германскими языками принуждает Мейе к предположению, что
в германском «праязыке» еще существовал аорист как особая
176
грамматическая категория.40 С нашей точки зрения, это подсказы-
вает мысль, что смешение перфекта и аориста при образовании
нового прошедшего протекало в разных древнегерманских наре-
чиях параллельно и независимо друг от друга. Результаты этого
закономерного процесса получились в основном одинаковые,
хотя и с частичными расхождениями — например, в указанной
форме 2-го лица.
Формы атематического аориста с долгой гласной Мейе 41 и
вслед за ним Свердруп 42 усматривают в множественном числе
прошедшего времени германских глаголов IV—V ряда, которые,
вместо ожидаемой низшей ступени аблаута, имеют долгое 2, т. е.
высшую ступень: ср. готск. nemum (др.-в.-нем. namum), gebum
(др.-в.-нем. gabum) и др. Решающим подтверждением этой теории
являются сопоставления с аналогичными латинскими формами:
ср. лат. veni — готск. qemum, лат. fregi — готск. brekum, лат.
sedi — готск. setum, лат. edi — готск. etum и мп. др. В западно-
германских языках и здесь 2-е лицо единственного числа имеет
вокализм множественного и окончание -Z, т. е. форму аориста, как
и множественное число: ср. др.-в.-нем. quami, sa^i и др.
С другой стороны, готское прошедшее с удвоением (редупли-
кацией), сохранившееся в незначительных остатках и в других
германских языках, представляет из себя по форме старый пер-
фект: ср. готск. haitan — готск. haihait. Однако наличие редупли-
кации в группе германских глаголов отнюдь не означает, что эта
редупликация как признак перфекта когда-то наличествовала
во всех германских прошедших. Характерно, что глаголы на е — о
не имеют ее. Редупликация, по-видимому, была использована
как средство обозначения перфекта (в дальнейшем — прошедшего
времени) там, где характер вокализма не допускал обычного
чередования по аблауту (е — о). Старая сравнительная грамма-
тика (Бругман) рассматривала удвоение как обязательный при-
знак «индоевропейского» перфекта, основываясь на «согласном
свидетельстве» санскрита и греческого языка: ср. греч. Хе cod —
перф. ХеХостса, тсешсо — перф. тсоетсюа и т. д. Между тем в самом
греческом глаголы praeterito-praesentia (т. е. старые перфекты)
образуются без удвоения (ср. греч. о18а — готск. wait 'weip’),
а другие индоевропейские языки (в частности, германские) не
подтверждают обязательности удвоения как признака перфекта.
Само по себе удвоение встречается в индоевропейских языках
не только в перфекте, но и в презенсе и даже в аористе и было,
вероятно, первоначально связано, как и в языках других систем,
с особыми семантическими оттенками повторяемости действия, его
интенсивности и т. п. Ср. наст. вр. греч. ос'Вюры 'даю’, шрлгХ^рд
'наполняю’; лат. bibo 'пью’; санскр. dadhami 'ставлю’, mimami
'меряю’; греч. аорист с удвоением ХеХаВоо (от XavOava) 'я скрыт’),
тйетио&еа&а (от Ttuv&avopiai 'я расспрашиваю’) и др. В перфекте как
результативном виде редупликация первоначально могла иметь
экспрессивное значение усиления, указывающее на то, что дей-
12 В- М. Жирмунский
177
ствие закончено полностью, до конца: например греч. ts&vtjxs
'он умер’ ('совершенно умер’).43 При таких условиях удвоение,
не всегда обязательное, могло в одних индоевропейских языках
получить общее грамматическое значение, в других — сохранить
более ограниченное употребление в той или иной группе глаголов.
Вопрос об остатках аориста в германских языках требует
еще дальнейшего исследования и после работы Свердрупа, в основ-
ном узкоформалистической. С аористом, вероятно, связаны не-
которые сильные глаголы, образующие настоящее время с низшей
ступенью аблаута. Из видового значения аориста в таких aori-
sto-praesentia 44 могло развиться значение настоящего времени,
как в глаголах praeterito-praesentia оно развилось из значения
результативного вида (перфекта). Ср. из глаголов IV—V ряда:
готск. trudan, др.-исл. troda — рядом с др.-в.-нем. tretan 'treten’;
др.-в.-нем. kuman, англосакс, cuman 'kommen’ — рядом с готск.
qiman; др.-исл. molka — рядом с др.-в.-нем. melkan 'melken’;
др.-исл. sporna, sofa, knoda, англосакс, murnan и др. Двойствен-
ность огласовки kuman — qiman, troda — tretan и др., вероятно,
отражает старую видовую дифференциацию (совершенного и не-
совершенного вида, точнее — аориста и презенса). К той же группе
могут быть отнесены многочисленные глаголы II ряда на и, если
рассматривать этот гласный как низшую ступень от ей — ои.
Ср. готск. galukan ' запереть’, англосакс, lucan; др.-в.-нем. sufan,
англосакс, supan 'saufen’; др.-в.-нем. sugan, англосакс, sugan 'sau-
gen’; др.-в.-нем. bruchan, англосакс, brucan'brauchen’; англосакс,
skufan — рядом с др.-в.-нем. scioban 'schieben’; англосакс, smu-
gan — рядом с др.-в.-нем. smiogan 'schmiegen’; англосакс, bugan —
рядом с др.-в.-нем. biogan 'biegen’ и др. Двойственность Sian-
gan — smiogan, bugan — biogan и т. д. и здесь, может быть,
отражает старую видовую дифференциацию.
С аористом по своему вокализму и значению (совершенного
вида) связаны готские (и древнеисландские) непереходно-медиаль-
ные глаголы на -пап-: ср. готск. giutan 'лить’ — usgutnan 'про-
литься’, gatairan 'рвать’ — gataurnan 'прорваться’, bindan 'вя-
зать’ — andbundnan 'освободиться’ и др. Возможно, что сюда
же относятся отглагольные имена с низшей ступенью аблаута
типа Tritt (от treten), Schritt (от Schreiten), Schnitt (от schneiden),
Schup (от schiepen), Wurf (от werfen) и мн. др. — весьма архаиче-
ская категория, соприкасающаяся по своему значению с прича-
стиями с первоначальным значением однократного действия и
вместе с тем его результата.45
Особого внимания в той же связи заслуживает оптатив про-
шедшего времени сильных глаголов. Он имеет вокализм прошед-
шего множественного числа (т. е. аориста): ср. готск. stigjau
(др.-в.-нем. stigi), bugjau (др.-в.-нем. bugi), hulpjau (др.-в.-нем.
hulpi), nemjau (др.-в.-нем. nami) и т. п. Германский оптатив,
являясь модальной категорией, не имеет сам по себе определен-
ного временного значения. По своим синтаксическим функциям
178
так называемый «оптатив прошедшего времени» германских язы-
ков в основном совпадает с оптативом аориста в греческом.46
Таким образом, можно предположить, что эта форма также обра-
зована от основы аориста, как и множественное число прошед-
шего времени германских глаголов.
Второй слой прошедшего в германских языках, так называе-
мое слабое прошедшее, образуемое с помощью дентального суф-
фикса, — явление более позднего происхождения и специфически
германское. В основном оно свойственно глаголам производным,
которые первоначально не могли иметь полного спряжения и из-
меняться по аблауту уже по самому характеру своего вокализма.
Готские формы множественного прошедшего на -dedum (ср. nasi-
dedum от nasjan) делают вероятным происхождение слабой формы
прошедшего из суффигированного прошедшего глагола 'делать’
(нем. мн. ч. прош. вр. tatum), может быть (как подсказывает связь
дентального прошедшего слабых глаголов с общим для всех индо-
европейских языков причастием на -t) не без влияния предикатив-
ного употребления причастия II. Весьма вероятно предположение,
высказанное М. М. Гухман,47 что образование слабого прошед-
шего относится к такому этапу развития германского спряжения,
когда сильное прошедшее имело уже чисто временной характер.
Во всяком случае образование слабого прошедшего от старых
перфектных форм глаголов praeterito-praesentia, получивших зна-
чение настоящего времени, указывает на период, когда старые видо-
вые отношения уже полностью заменились новыми временными.
Развитие латинского прошедшего времени (так называемого
перфекта) из смешения старых видовых категорий аориста и пер-
фекта представляет интересную аналогию такому же явлению
в германских языках.48 Оба процесса протекают параллельно
и независимо друг от друга, давая нередко формально различные,
но сходные по своей общей тенденции результаты. Глагольная
система латинского языка построена на противоположности основ
презенса («инфекта») и претерита («перфекта»), как и древнейшая
система германского глагола. На эту систему нарастает поздней-
шая дифференциация временных отношений, в основном осуще-
ствляемая суффигированием вспомогательных глаголов, как и на
позднейшем этапе развития германских языков дифференциация
времен обозначается употреблением вспомогательных глаголов.
В' образовании прошедшего времени в латинском языке мы раз-
личаем также два слоя — древнейший слой сильного прошед-
шего и более поздний слабого (I, II, IV спряжения), образованный
с помощью суффикса (ср. amavi, delevi, audivi), специфического
для латинского языка и неясного по своему происхождению.
Эта новая форма прошедшего, как и германский претерит с ден-
тальным суффиксом, вероятно является уже по самому своему
происхождению временной формой. Сильное прошедшее, в ре-
зультате смешения перфекта и аориста и аналогических новооб-
разований, представляет еще более пеструю картину, чем в гер-
179
12*
Майских языках. Так, к перфекту восходит большинство латин-
ских прошедших с удвоением, например лат. tutudi — ср. санскр.
tutuda (корень *teud'толкать’), лат. memini (praet.-praes. 'помню’
< 'запомнил’) — ср. греч. гомер. p.ep.ova и др.; однако лат. tetigi
'коснулся’ может быть формой аориста — ср. греч. редуплици-
рованный аорист TSTaycDv 'схватив’. Формы лат. pupugi 'уколол’
(от pungo) или pependi 'взвесил’ (от pendo) могли получить ре-
дупликацию в результате дальнейшего развития по аналогии.
Редупликация и здесь, как и в германских языках, закрепляется
в глаголах, в которых прошедшее недостаточно характеризовано
чередованием вокализма корня. К атематическому аористу, как
показал Мейе, восходят некоторые прошедшие с долгим ё: напри-
мер, facio — feci 'сделал’ имеет соответствие в греч. аористе ef^xa;
с германским прошедшим на ё совпадают venio — veni 'пришел’
(готск. qamun), frango — fregi 'сломал’ (готск. brekum) и др.;
но, например, sedeo — sedi 'сел’ (готск. setum) может быть объяс-
нено и из перфекта со стяженной редупликацией (sedi < *sesdai).
Другие формы прошедшего с долгим гласным несомненно восхо-
дят к перфекту, например video — vldi (ср. греч. oloa, готск. wait),
linquo — liqui (ср. греч. Xskoina), fugio — fugi (ср. греч. кесреоуа).
Здесь долгие гласные происходят из дифтонгов (ei > лат. I, ои >
лат. и). Наконец, долгие прошедшие fodio — fodi, scabo — scabi
и др. не имеют соответствий в других индоевропейских языках.
Они возникли, вероятно, в результате аналогического использо-
вания долгого гласного, который получил в латинском языке
широкое распространение как признак прошедшего. Образова-
ние прошедшего с суффиксом -s- восходит к так называемому
сигматическому аористу, отсутствующему в германских языках,
но широко представленному, например, в греческом и санскрите:
ср. лат. dico — dixi (ср. греч. eBst^a, санскр. adiksam 'показал’);
лат. jungo — junxi (ср. греч. еСео^а), лат. lego — lexi (греч. еЛе£а)
и мн. др. В ряде случаев и здесь можно предполагать дальнейшее
распространение этого суффикса за пределы его первоначального
употребления, хотя он и не сделался универсальным суффиксом
прошедшего времени, как более позднее -и-.
По своему значению латинский так называемый перфект (про-
шедшее) соответствует в разных случаях и перфекту и аористу.
Об этом свидетельствует уже латинский грамматик Присциан,
писавший (Gramm. Lat., II, 445, 3): «praeteritum perfectum et
pro казахеijievoo el pro аоо'Ътоэ habemus» (мы употребляем про-
шедшее (перфект) и в смысле греческого перфекта и в смысле аори-
ста).49 При этом видовая дифференциация имеет уже по преиму-
ществу лексический характер.
Таким образом, развитие новых форм прошедшего из более
древней видовой системы идет различными путями: с одной сто-
роны, для обозначения прошедшего может быть использовано
приглагольное наречие времени, «аугмент» (как в греческом, сан-
скрите и одном из диалектов армянского); с другой стороны,
180
новая категория времени возникает из смешения старых видовых
категорий (как в латыни и в германских языках). При этом во
втором случае при наличии одинаковых тенденций развития могут
быть использованы различные, лишь отчасти совпадающие строе-
вые элементы. Эти расхождения, частично очень древние (отсут-
ствие в германских языках сигматического аориста), частично
более новые (обобщения в латинском языке долгого гласного как
признака прошедшего, образование слабого претерита с суффик-
сами лат. -V-, герм, -d-), никак не могут быть сведены к элементар-
ной схеме «праязыкового» родословного древа.
Так называемое «индоевропейское будущее», подобно импер-
фекту и плюсквамперфекту, ограничено лишь небольшой группой
языков и восстанавливается сравнительной грамматикой на осно-
вании «согласного свидетельства» индоиранских языков, гречес-
ского, литовского и отчасти латыни. Греческий имеет формант
-so (греч. 86ош); в так называемом «дорическом будущем» (Sst^ea)),
по-видимому, наличествует элемент у. Санскрит и литовский имеют
-sjo (санскр. dasjami, лит. duosu). В латыни сюда иногда относят
буд. вр. его « *esio) и будто бы образованное с его участием
будущее II (videro). С значением будущего употребляются также
формы на -s- (fexo рядом с fecero). Языки, подобно германским и
славянским, не имеющие «индоевропейского будущего» на -$,
считаются, по обычной теории, «утратившими» его в своем обособ-
ленном развитии.
Эта теория «утраченного будущего», взамен которого в даль-
нейшем возникают новые формы, специфические для данного
языка, противоречит общему ходу стадиального развития глаголь-
ной системы, в котором будущее выступает как наиболее позд-
няя из новых временных категорий, развивающаяся из модальных
или видовых значений. Однако и с сравнительно-грамматической
точки зрения «праязыковое» происхождение будущего на -s вызы-
вает сильные сомнения. Характерно, что все исследователи рас-
сматривают эту форму как производную: для одних она связана
с сигматическим аористом (Бругман, Штрейтберг),50 т. е. является
будущим видового происхождения (совершенного вида); для дру-
гих — это дезидератив настоящего времени (Мейе),51 т. е. будущее
модальное, третьи (Бенфей, Хирт) 52 рассматривают его как
сложную форму с суффигированным конъюнктивом глагола 'быть’
(*dosejo < *do + sejo) или глагола 'идти’ (*dosejo < *dos + ejo),
что также означало бы в первом случае модальное, во втором —
видовое (начинательное) происхождение. Не входя в обсуждение
деталей, существенно отметить, что при всех выдвинутых объясне-
ниях будущее на -$ могло образоваться в различных языках не-
зависимо друг от друга, следуя общим указанным выше законо-
мерностям, из одинаковых элементов, наличных во всех указан-
ных языках — будь то сигматический аорист или глаголы ' быть’
и 'идти’, подобно тому, как например латинский язык использо-
вал для образования будущего частью суффигированный вспомо-
181
гательный глагол (ср. лат. ama-bo), частью модальные формы
конъюнктива на ё (лат. scribes, scribet и т. д.). Поскольку к тому же
и с формальной точки зрения между греческим будущим на -so,
с одной стороны, и санскритским и литовским на -sjo, с другой
стороны, нет полного совпадения и два последних языка также
обнаруживают в этой форме некоторые различия, можно считать53,
что «праязыковое будущее» является одной из многочисленных
сравнительно-грамматических иллюзий, возникших в результате
схематической реконструкции по принципу родословного древа.
В области синтаксиса метод реконструкции «праязыка» явля-
ется наиболее сомнительным. Здесь, независимо от материального
тождества строевых элементов, развитие значений и изменения
в употреблении соответствующих форм неизбежно протекают ти-
пологически параллельными рядами даже при полном отсутствии
непосредственного взаимодействия между языками. Мы отчасти
уже затронули этот вопрос на примере артикля и образования
будущего времени. Классически показательным случаем подоб-
ного параллелизма является развитие сложноподчиненного пред-
ложения в новоевропейских языках. Во всех известных нам слу-
чаях подчинение развивается из сочинения или простого сопостав-
ления предложений, подчинительные союзы — из сочинительных
или из указательных местоимений и местоименных наречий глав-
ного предложения. При этом более отвлеченные, логические типы
подчинительных союзов (целевые, причинные, условные, усту-
пительные) развиваются из более конкретных с пространственно-
временным значением.54 На ранних стадиях языкового развития
подчинение еще мало развито и имеет недифференцированный
(«диффузный») характер: один и тот же многозначный или — точ-
нее — нерасчлененный по своему значению союз, являясь как бы
общим «показателем подчинения», выражает различные синтак-
сические связи, которые, с точки зрения логической, в более раз-
витом языке подлежали бы дифференциации и специализации.
Н. Я. Марр указывает, например, на основании наблюдений над
древнелитературным грузинским языком, а также над живым
разговорным, сохранившим еще большую архаичность: «Сначала
не было различия таких союзов, как что (объект), чтобы (цель),
так как (причина), так что (следствие), они обозначались тер-
мином одной категории. . . затем они дифференцируются, и все-
таки не вполне: во всяком случае что, и союз, и местоимение,
значит 'вещь’».55
То же относится и к древним стадиям индоевропейских языков.
В готском таким всеобщим подчиняющим союзом является союз
ei (слав, и, греч. et 'если’), прибавляющийся к указательным и
личным местоимениям для выражения относительной связи и
функционирующий самостоятельно в значениях местном и вре-
менном (da, wo), относительном, а также в предложениях допол-
нительных, следственных (da£), целевых (damit). Аналогичную
роль играет в англосаксонском частица ре, относительное значе-
182
ние которой развивается из указательного, или в древнеисланд-
ском — союз ег. В средневерхненемецком — указательное место-
имение среднего рода da^ употребляется в значении относитель-
ного, дополнительного, целевого, условного. Этому соответствует
употребление союза que 'что’ в старофранцузском, союза что
в древнерусском. В средневерхненемецком делается попытка ис-
пользовать сочинительный союз und в качестве подчинительного
в различных типах сложноподчиненных предложений.Ср. в услов-
ном предложении: der eren mir geniieget, und laestu mir ze frouden
leben dise maget wolgetan 'мне достаточно этих почестей, если ты
только ради меня оставишь в живых эту прекрасную девушку’;
в уступительном предложении: е^ wirt mir ein vil siie^iu not und
sold ich durch si ligen tot 'это было бы для меня сладкой печалью,
даже если бы я из-за нее умер’. Так же употребляется в старо-
французском сочинительный союз et, в древнерусском — союзы
и, а. Явления эти непосредственно между собой не связаны, они
возникают на одинаковой ступени развития языка и мышления.
С развитием логического мышления происходит развитие и
дифференциация средств его языкового выражения, в частности —
уточнение и специализация функции союзов, в ряде случаев в со-
четаниях с соответствующими наречиями и предлогами: ср. нем.
bis dap, so dap, als dap, ohne dap и т. п.; франц, apres que, depuis
que, afin que и др. Развернутая система логических форм подчи-
нения, существующая в современном немецком литературном
языке, складывается в раннем новонемецком, в эпоху образования
национального языка (XIV—XVI вв.), и продолжает развиваться
в последующие столетия. На этой стадии возникает множество
подчинительных союзов, позволяющих дифференцировать все-
возможные логические связи и отношения: союзы условные —
falls 'в случае если’, insofern, soweit 'поскольку’; уступительные —
obgleich, obwohl, obschon 'хотя’, trotzdem 'несмотря на то, что’;
целевые — um, um zu, damit 'чтобы’; следственные — so dap
'так что’; временные — wahrend, indem 'в то время как’, so oft
als 'всякий раз когда’, sobaid als 'как только’, и мн. др. То же
явление происходит в среднефранцузском (XIII—XV вв.). В рус-
ском языке особенно энергичное образование новых союзов та-
кого типа относится к XVII в. и петровскому времени.
Крестьянские диалекты, наряду с другими синтаксическими
архаизмами, повсюду сохраняют недифференцированные формы
подчинения с помощью многозначных союзов, которые Н. Я. Марр
констатировал и для современного грузинского языка, «в живой
речи, сохранившей больше архаичности, как построение в резуль-
тате примитивного хозяйства».56
Такой параллелизм в развитии синтаксических форм, обуслов-
ленный одинаковым развитием мышления и средств его языкового
выражения, указывает на возможность и необходимость сравни-
тельного изучения синтаксических явлений не формально-гене-
тического, как в старой сравнительной грамматике, а стадиально-
183
типологического. Однако в области морфологической структуры
языка, истории грамматических форм, формально-генетическое
исследование, как мы видели на примере развития глагольной
системы, необходимым образом должно сочетаться с стадиально-
типологическим, которое является его единственным твердым
обоснованием.
Вопрос о параллелизме (или «конвергенциях») в развитии
языков одной системы был уже поставлен Мейе на нескольких
грамматических и фонетических примерах (развитие аналитиче-
ской формы родительного падежа, редукция конечных гласных
и немн. др.). «Когда язык дифференцируется, — пишет Мейе, —
как это произошло, например, в историческую эпоху с латинским
или арабским, результаты дифференциации бесконечно варьируют
в материальных деталях фактов, но общие линии развития в боль-
шинстве случаев одинаковы. Потому, если частично сходство
между современными новолатинскими и новоарабскими языками
происходит от того, что эти языки в ряде случаев сохранили
особенности древней латыни или арабского, то частично черты
сходства объясняются одинаковым направлением развития от
состояния первоначальной общности».57 При этом в тех случаях,
когда «язык дифференцируется, не менее своего общего типа,
параллелизм самостоятельного развития нередко приводит к тож-
дественным результатам даже в материальных деталях формы».58
Однако из этого правильного эмпирического наблюдения, под-
твержденного отдельными фактами, Мейе не делает необходимого
принципиального вывода о сомнительности «праязыковых» ре-
конструкций традиционной сравнительной грамматики и о тех
стадиально-типологических закономерностях языкового разви-
тия, обусловленных развитием общественного мышления, в кото-
рых следует искать основную движущую причину изменений в об-
ласти грамматического строя языка, его морфологии и синтаксиса.
Таким образом, сравнительный метод не дает никаких надеж-
ных средств для реконструкции гипотетического «праязыка».
Само понятие «праязыка» в применении к конкретным проблемам
сравнительной грамматики с неизбежностью обнаруживает свою
несостоятельность. «Единый праязык есть сослужившая службу
научная фикция», — говорит Н. Я. Марр в уже цитированных
тезисах.59
V. Сравнительная грамматика и стадиальная
история языка
Сравнительная грамматика, возникшая в первой половине
XIX в., построена на методе генетической классификации языков
с восстановлением их общего гипотетического «предка», который
должен был служить отправной точкой для объяснения дальней-
шей «истории» языков на основе механически действующих «зву-
184
новых законов» и не менее механических процессов грамматиче-
ской «аналогии». Несостоятельность гипотезы «праязыка» грозит
превратить сравнительный метод в чисто описательное, по необ-
ходимости формалистическое сопоставление грамматических яв-
лений, опирающееся как на «единственную реальность» (говоря
словами Мейе) на «соответствия» между засвидетельствованными
языками. Между тем, в свете нового учения о языке сравнитель-
ная грамматика, освобожденная от миража «праязыка» и заново
пересмотренная в ряде своих выводов, получает новую, гораздо
более важную задачу: раздвигая рамки исторического развития
данного языка или группы языков далеко за пределы засвидетель-
ствованного в письменных памятниках, она дает возможность
восстановления стадиально более древних форм языка и тем
самым воссоздания глоттогонической перспективы его развития.
Поэтому путь к стадиальной истории языка лежит через
сравнительную грамматику. Для правильного
решения этой задачи необходимо, однако, как указывал
Н. Я. Марр, дальнейшее расширение круга сравнений: рядом
с сопоставлением генетически между собой связанных форм язы-
ков данной группы требуется широкое привлечение для сравнения
стадиально-параллельных явлений, наблюдаемых в языках иных
систем, которые позволят установить общие стадиальные законо-
мерности, увязывающие развитие языка с развитием мышления,
обусловленным в конечном счете развитием общественных отно-
шений. Иными словами, сравнительная грамматика генетическая
должна опираться на сравнительную грам-
матику типологическую.
Мы приводили уже как пример такого применения сравни-
тельно-грамматического метода вопрос о развитии глагольной
системы в индоевропейских языках, процесс образования времен-
ных категорий из видовых с последующей дифференциацией но-
вых временных отношений. Напомним, что и в области граммати-
ческих форм имени сравнительная грамматика позволяет раскрыть
отношения гораздо более древние, чем те, которые засвидетель-
ствованы письменными памятниками.
Так мы устанавливаем для языков индоевропейской системы та-
кую стадию развития, когда существительные и прилагательные еще
не были дифференцированы, о чем свидетельствует общность древ-
нейших именных основ и падежных окончаний(см. ниже, с. 193 сл.).
С развитием прилагательного как самостоятельной граммати-
ческой категории может быть связано образование специальных
новых суффиксов (например, герм, -ig: ср. др.-в.-нем. schuldig
от sculd cSchuld’, первоначально — существительное и прилага-
тельное), а также особых форм склонения, которые характери-
зуют употребление имени в атрибутивной функции (ср. местоимен-
ное склонение прилагательных в языках германской и славяно-
балтийской группы, представляющее также пример параллель-
ного и независимого друг от друга развития).
185
Точно так же лишь в результате сравнительно-грамматического
исследования может быть раскрыта система древнейших осново-
образующих суффиксов, объединяющая все индоевропейские
языки и объясняющая многообразие типов склонения в этих язы-
ках. Сопоставление с более примитивными неиндоевропейскими
языками позволяет с некоторой вероятностью предположить, что
эти первичные словообразовательные элементы, выступающие на
исторической стадии индоевропейских языков как чисто формаль-
ные грамматические показатели, имели первоначальное значение
«классовых показателей» слов, т. е. служили признаком тех «клас-
сов», на которые для примитивного сознания распадались все
предметы общественного опыта и тем самым все слова-понятия,
обозначающие предметы.60 С этой точки зрения, может быть, не
случайно целый ряд древнейших именных показателей индоевро-
пейских языков (например, е/о, te Ito, ueluo и некоторые другие)
совпадает с соответствующими глагольными суффиксами (так
называемыми основами презенса) и таким образом может считаться
древнее, чем сама противоположность имени и глагола. С другой
стороны, деление по родам, характерное для индоевропейских
языков, является более новым типом классификации: большин-
ство именных показателей не различается по родам (ср. осн. -и-:
sunus 'сын’ м. р. — handus 'рука’ ж. р.; осн. -1-: лат. hostis 'враг’
м. р. — piscis 'рыба’ ж. р.); там же, где такое различие существует
(осн. -о---м. р., осн. -а---ж. р.), оно вряд ли может считаться
исконным, о чем свидетельствуют многочисленные исключения
в ту и в другую сторону (ср. греч. осн. -а----6 veavia; 'юноша’
м. р., осн. -о---т] Tuxpftsvo; 'девушка’ ж. р., осн. -о----
'жеребец’ и 'кобыла’ м. ж. р., архто; 'медведь’ и 'медведица’
м. ж. р. и мн. др.). Самый суффикс женского рода а, совпадающий
во всех индоевропейских языках с множественным числом име-
нительного и винительного падежей среднего рода (ср. лат. rosa
ж. р. — juga мн. ч. ср. р.), по-видимому, имел первоначальное
значение собирательного (ср. греч. срратрз 'братство’, русск.
братва). Что касается так называемого «среднего рода», совпадаю-
щего с мужским во всех падежах, кроме именительного единствен-
ного числа и именительного и винительного множественного, то
отсутствие в нем специальной формы именительного единственного
числа, вместо которой употребляется винительный (ср. лат. jugum,
греч. и т. п.), дает основание рассматривать эту группу как
остаток так называемого «пассивного класса». Потеря первона-
чальной значимости «классовыми показателями» на новой ступени
развития общественного мышления превращает их в формально-
грамматические показатели. Это «падение основ» следует рассмат-
ривать как главную причину редукции неударных окончаний и
унификации потерявших значение различий между типами скло-
нений, которая характеризует последующее грамматическое раз-
витие индоевропейских языков.
За последнее время советская лингвистика, опираясь на ис-
186
следования Н. Я. Марра и И. И. Мещанинова, проделала нема-
лую работу в смысле раскрытия в грамматическом строе индо-
европейских (в особенности германских) языков пережитков так
называемого эргативного (дономинативного) строя предложения.
Такие пережитки были констатированы в склонении местоимений,
в безличных предложениях, в залоговых и видовых категориях
отглагольных имен и т. д.61 Несомненно, вопрос этот требует ши-
рокого сравнительно-грамматического исследования на материале
всех индоевропейских языков. Однако уже сейчас можно сказать,
что найденные в этой области явления, общие для всех индоевро-
пейских языков, никак не должны быть истолкованы в смысле
признания эргативной «природы» индоевропейского «праязыка»62
и еще менее — в смысле происхождения его из смешения номина-
тивных индоевропейских языков с эргативными языками доиндо-
европейского «этнического субстрата». Названные выше «арха-
измы» индоевропейских языков восходят, как справедливо пола-
гал Н. Я. Марр, к более древней стадии развития языков индо-
европейской группы (которую условно можно назвать «яфетиче-
ской» или «эргативной»), что позволяет включить развитие индо-
европейской системы в общую перспективу единого глоттогониче-
ского процесса.
Таким образом, очередной задачей нового учения о языке
должен быть критический пересмотр огромного материала фактов,
накопленных старой сравнительной грамматикой, в свете тех
новых проблем, которые ставит перед нами стадиально-типологи-
ческое изучение общего процесса развития языка в его обусловлен-
ности развитием общественного мышления.
1940 г.
РАЗВИТИЕ КАТЕГОРИИ ЧАСТЕЙ РЕЧИ
В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ
ПО СРАВНЕНИЮ С ИНДОЕВРОПЕЙСКИМИ ЯЗЫКАМИ
1
Новое учение о языке Н. Я. Марра поставило перед современ-
ным языковедением задачу сравнительно-типологического изуче-
ния языковых процессов в связи с развитием мышления, обуслов-
ленным в конечном счете развитием общественных отношений.
Единство глоттогонического (языкотворческого) процесса в его
обусловленности процессом общеисторическим раздвигает при-
вычный круг сравнительно-грамматических исследований. Сравни-
тельная грамматика генетическая, изучающая замкнутую группу
родственных по своему происхождению языков, включается в бо-
лее широкие рамки грамматики стадиально-типологической. По-
187
следняя, сопоставляя исторически аналогичные явления и про-
цессы в языках разных систем и групп, устанавливает более общие
закономерности языкового развития, возникающие независимо
друг от друга и свидетельствующие о принципиальном сходстве
в развитии языка и мышления общественного человека, независимо
от общности происхождения данных языков, от расовых, племен-
ных или национальных особенностей говорящих.
Такое стадиально-типологическое сравнение не только по-
зволяет установить более общие основания для ряда конкретных
лингвистических фактов, описанных той или иной частной сравни-
тельной грамматикой: во многих случаях оно может подсказать
исследователю типологическую аналогию, которая послужит клю-
чом для объяснения языкового явления, остающегося непонятным
в пределах данного изолированного языка или изолированной
группы родственных языков.
Мы постараемся показать возможность подобного сравнения
на проблеме развития грамматической категории частей речи
в языках индоевропейской и тюркской систем. В качестве при-
мера языка тюркской системы мы берем узбекский язык, однако
рассматриваем его в аспекте сравнительно-грамматическом, с
точки зрения признаков, присущих языкам тюркской группы в
целом.
Вообще между языками тюркскими и индоевропейскими нали-
чествует большое типологическое сходство грамматической струк-
туры, несмотря на различие лексического материала и строевых
элементов. Противоположность так называемой агглютинации и
флексии не отражается на этом сходстве, так как в сущности она
не затрагивает строя языка как отражения мысли, а касается ско-
рее технического оформления строевых отношений. Понятно, что
агглютинация и флексия не являются последовательными стади-
ями языкотворческого процесса, как одно время неправильно
утверждали некоторые вульгаризаторы Н. Я. Марра. Изолирован-
ность и относительная прочность формальных элементов («прилеп»)
в языках агглютинирующих, по всей вероятности, основана
на особенностях ударения и интонации в этих языках. Однако для
сравнительной грамматики явление это имеет существенные
последствия: оно позволяет исследователю тюркских языков
с относительной легкостью заглянуть в прозрачную глубину грам-
матической формы, последовательно слагавшейся из наслоения
таких строевых элементов: ср. мен иш-ла-мок, -чи-ман — «я наме-
рен работать». Напротив, в языках флективного типа (как индо-
европейские) слияние, ассимиляция и редукция строевых эле-
ментов в составе морфологически обособленного слова постепенно
приводят к их полному обезличению и разрушению, так что для
реконструкции этих элементов обычно требуются весьма сложные
и нередко гипотетические операции сравнительно-грамматического
анализа. В таких случаях сравнительно-типологические аналогии
с тюркскими языками могут, как мы увидим дальше, оказать
188
самую непосредственную помощь исследователю до-истории индо-
европейских языков.
С другой стороны, благодаря той же своей относительной
изолированности от корня как ядра слова и носителя его пред-
метного значения, формальные частицы в тюркских языках сохра-
няют более прямую, однозначную связь с теми синтаксическими
отношениями, которые они выражают. Они и являются в первую
очередь показателями синтаксических отношений, из которых
в языках флективных выкристаллизовались прочно сложившиеся
морфологически оформленные части речи. Слово в языках агглю-
тинирующих менее обособленно и менее четко выделено из пред-
ложения, чем в языках флективных; тем самым и границы между
частями речи являются более подвижными. Поэтому сравне-
ние индоевропейских флективных языков с тюркскими агглю-
тинирующими позволяет особенно наглядно поставить общую
глоттогоническую проблему — генезиса частей речи из частей
предложения.
2
Части речи дифференцируются в языке по трем аспектам — се-
мантическому содержанию, синтаксической функции и грамма-
тическому оформлению. Не поднимая во всей его сложности во-
прос о классификации частей речи, мы можем для языков индо-
европейских (флективных) принять следующую — в основе своей
семантическую — схему, которую школьная грамматика без
особых оговорок применяет и к тюркским (агглютинирующим)
языкам:
1) существительное (название предмета), 2) глагол (название
действия или состояния предмета), 3) прилагательное (название
качества или свойства предмета), 4) наречие (название свойства
или обстоятельства действия или другого качества — вторичное
определение); кроме того — слова формальные и полуформальные,
с преобладанием синтаксической функции: 5) местоимения и
6) связки (предлоги, союзы).
Части речи в языках флективного строя хотя и могут выпол-
нять различные синтаксические функции, однако как граммати-
ческие категории они сохраняют преимущественную связь с опре-
деленными частями предложения. Связь эта указывает на про-
исхождение частей речи из синтаксических отношений предложе-
ния. Существительное обозначает по преимуществу субъект или
объект, глагол — по преимуществу предикат, прилагательное —
определение, наречие — обстоятельственное слово. В типичном
с этой точки зрения предложении Синее море простерлось широко
аспекты морфологический, синтаксический и семантический пол-
ностью совпадают. Ср. синее — прилагательное, определение,
качественное слово; море — существительное, подлежащее, пред-
189
мет; простерлось — глагол, сказуемое, действие; широко — наре-
чие, обстоятельство, вторичное определение действия.
Однако в языках флективного строя, где морфологические
признаки частей речи давно утратили первоначальное значение
показателей синтаксических отношений и слово со своими грам-
матическими оформителями в наибольшей степени обособилось
от предложения, наличие прочного грамматического оформления
частей речи делает возможным различные нарушения этой перво-
начальной связи. Грамматическая форма слова (как и его синта-
ксическое употребление) может не совпадать с семантическим со-
держанием. Например, мы можем мыслить качество — белый
в грамматической форме действия (как глагол — сказуемое) —
белеет] или в форме предмета (как существительное — субъект
или объект) — белизна] действие может быть выражено в форме
свойства (как «отглагольное прилагательное» — причастие,
т. е. как синтаксическое определение) — стоящие, бегущие] или
в форме предмета, «субстанции» (как «отглагольное существи-
тельное» — синтаксический субъект или объект) — стояние,
бегство.
С другой стороны, части речи могут употребляться вне их
основной синтаксической сферы. Субстантивированное прилага-
тельное употребляется как существительное в функции субъекта
или объекта: богатый бедного не понимает (ср. богач — бедняка).
Предикативное прилагательное конкурирует с глагольным ска-
зуемым: он здоров, а ты болен (ср. болеешь). Существительное
выступает как посессивное определение параллельно с относитель-
ным прилагательным: стол отца (ср. отцовский стол). Существи-
тельное может быть и предикатом именного предложения:
Жучка — собака.
Во всех приведенных примерах вопрос заключается не в боль-
шей древности или новизне этих способов выражения, а в их ти-
пичности для строя языка. Например, именной предикат с глотто-
гонической точки зрения, вероятно, древнее глагольного. Тем
не менее с точки зрения типовой структуры предложения в со-
временном языке в нем «отсутствует» глагольная связка. Суб-
стантивация прилагательного может восходить исторически
к древнейшей стадии развития, когда имена еще не дифференци-
ровались на существительные и прилагательные, но могли разли-
чаться по своей синтаксической функции (в самостоятельном
употреблении — как субъект—объект; или в подчиненном —
как определение другого имени). Однако с точки зрения современ-
ной грамматической нормы в них «пропущено» определяемое
существительное (богатый человек). Причастие и так называемое
«отглагольное существительное» в своей основе, может быть, древ-
нее дифференциации глагола и имени (как «глагольные имена»
с предикативными признаками). Однако для современной грам-
матики это «смешанная» категория, объединяющая признаки гла-
гола и имени.
Таким образом, хотя связь Между частями речи и частями
предложения в условиях флективного строя и нарушена в разных
направлениях, опа все же сохраняет принципиальное значение,
указывающее на генезис этих грамматических категорий из кате-
горий ситаксических. Сравнение с тюркскими языками подтверж-
дает эти положения.
3
Вопрос о развитии частой речи из частей предложения ста-
вился Н. Я. Марром неоднократно. В этом процессе, согласно
учению Н. Я. Марра, первоначально выделяются имена, глагол
образуется из имени, последующей дифференциацией имен на су-
ществительные и прилагательные.
«Частей речи не было. Постепенно из частей предложения вы-
деляются имена, которые служат для образования действия, т. е.
глаголов переходных и впоследствии непереходных; имена суще-
ствительные по функции становятся, служа определением, при-
лагательными, которые также выделяются; имена же (определен-
ный круг имен существительных) становятся местоимениями».1
Сходным образом ставил вопрос о развитии категории частей
речи Потебня в «Записках по русской грамматике». Потебня ра-
сматривает предложение как исторически изменяющуюся катего-
рию. «История языка, взятая на значительном протяжении, —
так учит Потебня, — должна дать ряд определений предложе-
ния».2 Современное предложение индоевропейских языков постро-
ено на противопоставлении имени (подлежащего) и глагола (ска-
зуемого) как двух полюсов предложения. Однако сравнение совре-
менных индоевропейских языков с древними подсказывает вывод:
«По направлению к нашему времени увеличивается противополож-
ность имени и глагола».
Согласно теории Потебни, глагол и прилагательное развива-
ются в функции предиката и атрибута из «первообразного имени».
Процесс этот связан с развитием человеческой мысли от конкрет-
ного к абстрактному. «Предикативность и атрибутивность имени,
иначе — именной характер предложения, увеличивается по на-
правлению к древности. Вместе с тем увеличивается и конкретность
языка. Мера конкретности есть степень близости к чувственному
образу, к безразличию субстанции и атрибута. Поэтому глагол
и прилагательное отвлеченнее существительного», — говорит
Потебня.3 Иными словами, существительное, как комплекс при-
знаков вместе с его носителем, древнее (по терминологии Потебни—
«первообразнее»), чем выделенные из него отвлеченные признаки
качества и действия (прилагательное и глагол). С другой стороны,
«первообразное существительное» носит более «качественный»
и более «глагольный» характер, чем существительпое-субстанция
(название предмета), противопоставленное уже выделенному ка-
191
4ес1ву или действию в современном предложении. Качественный
характер «первообразного» имени иллюстрирует пример кременъ-
человек (в смысле «твердокаменный человек»), где имя существи-
тельное выступает в функции качественного определения другого
имени. Глагольный характер древнего имени подтверждается ши-
роким употреблением предикативных причастий (глагольных имен),
в которых имя сохраняет древние признаки «глагольности» (пре-
дикативности) .
4
Образование частей речи из частей предложения наиболее
ясно на примере наречия. Если оставить в стороне неоформленные
адвербиальные частицы, принадлежащие, может быть, к древней-
шему слою языка, то основная группа наречий состоит, как из-
вестно, из обособившихся в обстоятельственной функции падежных
форм имен (существительных и прилагательных). Обособление на-
речий как грамматической категории в индоевропейских язы-
ках — явление позднее и происходит на глазах истории. В разных
индоевропейских языках наречия от прилагательных образуются
на основе грамматизации различных падежей, употребляющихся
в обстоятельственной функции, — винительного, творительного,
отложительного, местного (например, винительный среднего
рода — русск. красно, бело, лат. multurn, tantum). Даже в преде-
лах одной языковой подгруппы, например в германских языках,
нет полного единства и существуют рядом конкурирующие спо-
собы образования, свидетельствующие о позднем происхождении
этой грамматической категории. Ср. наречия на -б: готское прила-
гательное galeiks 'gleich’ — наречие goleiko, древненемецкое
прилагательное snell 'schnell’ — наречие snello (из отложитель-
ного -od, ср. латинское прилагательное falsus — наречие false);
готские наречия на -Ъа: ср. прилагательное ubils 'iibel’ — на-
речие ubilaba (может быть — одного корня с латинским -bus);
скандинавские наречия на ср. древнеисландское прилагатель-
ное spakr — наречие spakt (средний род, винительный падеж при-
лагательного); скандинавские наречия на -и: ср. древнеисландское
наречие spaku (средний род, дательный падеж прилагательного);
средневерхненемецкие наречия на -еп: ср. прилагательное wit —
наречие witen (дательный падеж множественного числа прилага-
тельного) и др.
Еще более позднего происхождения наречия, образованные
из существительных в обстоятельственной функции или из обо-
собленных обстоятельственных групп: ср. пешком, днем, кругом,
сейчас, сразу и т. п.
Факты тюркских языков подтверждают закономерность та-
кого позднего развития наречия, как вторичного определения.
Наречия от прилагательных в тюркских языках формально
не обособлены — прилагательное становится наречием в обстоя-
192
тельственной функции. Ср. яхши 'хороший’, 'хорошо’, mijcpu
'прямой’, 'прямо’; яхши китоб 'хорошая книга’, яхши у^ийди
'хорошо учится’.
Отсутствие особого формального признака наречий, образо-
ванных от прилагательных, обясняется тем, что сами прилага-
тельные в большинстве случаев формально не дифференцируются
от существительных и не изменяются по падежам. В тех редких
случаях, когда прилагательное имеет особоый суффикс (например,
в ученых заимствованиях с арабского на -ий), возникает необхо-
димость противопоставить ему и оформленное наречие: ср. ученые
образования типа тасодифий равишда 'случайно’, маданий ра-
вишда 'культурно’ и т. п.
В то же время сформировалась группа наречий из падежных
форм имен существительных в обстоятельственной функции и из
обстоятельственных групп: бу ерда 'здесь’ (букв, 'в этом месте’),
эртага 'завтра’ (букв, 'утром’), бирга 'вместе’, якинда 'вблизи’
и т. п.
По своему характеру эта группа представляет полную анало-
гию с индоевропейскими наречиями такого же типа.
5
О происхождении категории прилагательных Потебня пишет:
«В истории языков, различающих название вещи и признака (а не
все это делают), прилагательное, как выделенное из связи призна-
ков, как более отвлеченное, чем существительное, позднее суще-
ствительного и образовалось из него. . . Иначе: существительное,
т. е. (первоначально) название признака вместе с субстанцией,
которой приписываются другие признаки, ближе к чувственному
образу (который может быть указан и отчасти изображен), и по-
тому первообразнее, чем прилагательное, имя признака без опреде-
ленной субстанции, неуказуемого и никак не изобразимого».4
«Путь от существительного к прилагательному есть атрибутивное
употребление существительного» .5
В индоевропейских языках имя прилагательное — четко
оформленная в морфологическом и синтаксическом отношениях
грамматическая категория, в ряде случаев — с особыми суффик-
сами и особым типом склонения, в своей основной синтаксической
функции определения согласующаяся в роде, числе и падеже с оп-
ределяемым именем. Однако процесс обособления и оформления
прилагательных как грамматической категории на основе син-
таксической функции имени как определения (атрибута) другого
имени легко восстанавливается сравнительной грамматикой индо-
европейских языков, которая подводит нас к более древней язы-
ковой стадии, еще не знавшей четкой дифференциации имен
на существительные и прилагательные. На этой стадии, как
во многих более примитивных языках, имя, поставленное рядом
13 В. М. Жирмунский
193
с другими именами (в индоевропейских языках — обычно впереди
другого имени), могло функционировать как его определение,
приближаясь по своему значению к современному прилагатель-
ному (качественному слову) — по типу кремень-человек в значении
' твердо каменный человек’.
Потебня приводит пережитки этого явления, сохранившиеся
в русском народном языке, в особенности в фольклоре: жар-
птица в значении 'огненная птица’, бой-баба 'боевая женщина’,
царь-девица 'царственная девица’, светы-яхонты сережки 'светлые
яхонтовые сережки’, рать-сила 'сильная рать’, мост-камень
'каменный мост’ и мн. др.6
Сложные слова индоевропейских языков сохраняют следы
того же состояния: ср. нем. Dampfschiff 'пароход’ (букв. 'пар+
корабль’) и т. п. В древних индоевропейских языках первое,
определяющее слово в таких соединениях имеет форму чистой
именной основы.
К той же языковой стадии восходят так называемые bahuvrihi-
composita, сложные слова, в которых второй элемент является
существительным (название предмета), а целое слово — прилага-
тельным, с значением 'обладающий свойством (присущим данному
предмету)’ (см. ниже, с. 212—213). Такое употребление сложного
существительного в качестве прилагательного-определения вос-
ходит к языковой стадии, предшествующей дифференциации имен
на существительные и прилагательные. Характерно, что значи-
тельная группа bahuvrihi сохранилась как архаизмы эпического
языка (постоянные эпитеты).
Первоначально прилагательные в индоевропейских языках
не отличались от существительных никаким особым грамматиче-
ским оформлением. Прилагательные имеют те же типы общеимен-
ных основ, как и существительные (основы на -о-, а-, -1-, -и- и др.);
ср. прилагательные лат. bonus, bona, bonum, существительные
hortus, rosa, tern plum; прилагательные добр, добра, добро —
существительные стол, река, окно. Падежные флексии прилага-
тельных и существительных также первоначально совпадают:
ср. лат. им. п. м. р. прилагательного bonus — род. п. boni, су-
ществительного hortus—horti; им. п. ж. р. прилагательного bona—
род. п. Ьопае, существительного rosa—rosae; русское — добра
молодца, добру молодцу и т. д.
Поэтому, несмотря на наличие группы семантически диф-
ференцированных качественных слов (bonus 'добрый’ и т. п.),
в ряде случаев имя сохраняет двойственный характер, выступая
то как существительно, то как прилагательное в зависимости
от синтаксического употребления. Ср. в средневековом немецком
языке: lieht 'licht’ (прилагательное 'светлый’ —существительное
'свет’), lut 'laut’ (прилагательное 'громкий’ — существительное
'звук’), wert (прилагательное 'достойный’ — существительное
'достоинство’, 'ценность’), gram (прилагательное 'печальный’ —
существительное 'печаль’), и т. п. Старославянские и древне-
194
русские примеры приводит Потебня: сжсЪдъ (существительное
'сосед’ — прилагательное 'соседний’), другъ (существительное
'друг’ — прилагательное 'другой’), прокъ (существительное
'прок’ — прилагательное 'прочий’), молодъ (существительное
'молодец’ — прилагательное 'молодой’) и мн. др.7
Особые суффиксы прилагательных возникают на более поздней
стадии исторического развития: они различны в различных индо-
европейских языках или группах языков и в большинстве слу-
чаев по своему происхождению связаны с суффиксами суще-
ствительных. Ср. нем. -ig, -ag (lustig, traurig), лат. -ic, греч.
-ik (лат. unicus, amicus, греч. (poaixo; и др.) — и русские суффиксы
-ок, -ак (ходок, росток, простак и т. п.). Тенденция к последую-
щему формальному обособлению прилагательных как граммати-
ческой категории использует подобные суффиксы как новое сред-
ство грамматической дифференциации имен. Ср. др.-в.-нем. суще-
ствительное-прилагательное sculd (существительное 'долг’ —
прилагательное 'должный’), позднее — прилагательное sculdig
' schuldig’ (' должный’); существительное-прилагательное wert.
(существительное 'достоинство’, прилагательное 'достойный’)*
позднее — прилагательное wirdig 'wiirdig’ ('достойный’) и т. и.
Сходно и в русских примерах: первоначально существительное-
прилагательное сксЪдъ, позднее — прилагательное сосед-нищ
первоначально существительное-прилагательное молодъ, позд-
нее — существительное молод-ец — прилагательное молод-ой.
С развитием имен в атрибутивной функции в особую катего-
рию прилагательных связано изменение прилагательных по родам
и согласование их с определяемым существительным в роде,
числе и падеже. Дифференциация склонения по родам еще отсут-
ствует в более древних прилагательных одного и двух окончаний.
Возникает и особое склонение прилагательных в атрибутивной
функции, склонение «местоименное», использующее окончания
указательных местоимений. Процесс этот только начинается в ла-
тыни и в санскрите, в небольшой группе местоименных прила-
гательных (лат. unus, solus, totus и др., санскр. kataras, jataras,
itaras и др.). В группе языков германских и балтийско-славян-
ских он осуществлен до конца, но разными способами (ср. немец-
кое сильное склонение — guter, gute, gutes, русские «полные
окончания» — добрый, добрая, доброе). Изменение по родам,
согласование и специальная форма склонения оформляют ка-
чественные слова как особую грамматическую категорию имен
прилагательных.
В тюркских языках совершается тот же процесс, но его архаи-
ческие этапы нагляднее сохраняются в современном языке.
Прилагательные в тюркских языках обычно не имеют особого
морфорологического оформления и по своему морфологическому
строению не отличаются от существительных: ср. 1$ора 'черный’,
ота 'отец’, буш 'пустой’, бош 'голова’ и т. п. Прилагательное
не согласуется с определяемым существительным: оно сохраняет
195
13*
форму неизменяемого имени, предшествующего другому имени
как его синтаксическое определение (по типу жар-птица или
готского fotu-baurd 'Fu[3brett’). Ср. яхши китоб 'хорошая книга’,
яхши китобнинг 'хорошей книги’, яхши китоблар 'хорошие
книги’.
В таких сочетаниях принадлежность слова к категории прила-
гательных определяется его значением (семантически) и синтакси-
ческой функцией (определение), а также положением перед опре-
деляемым словом.
В самостоятельном употреблении в качестве субъекта или
объекта прилагательное будет склоняться, как существительное.
Например: кизиллар окларни енгдилар 'красные победили белых’.
Употребление падежных окончаний (суффикс множественного
числа -лар, окончание винительного падежа -ни и т. п.) превра-
щает прилагательное в существительное, поскольку падежные
окончания указывают на синтаксическую функцию имени как
существительного (субъекта—объекта). Такая «субстантивация»
прилагательного хорошо известна и индоевропейским языкам,
являясь и здесь пережитком первоначальной недифференциро-
ванности имени (ср. уже приведенный пример: 'красные побеж-
дают белых’).
В то же время несклоняемость прилагательного-определения
является как бы отрицательным морфологическим признаком
(«нулевым показателем») категории прилагательных при сравне-
нии с существительным как посессивным определением. Суще-
ствительное-определение морфологически оформлено окончанием
родительного падежа (-нинг) и посессивным суффиксом (-и, -си)
при определяемом слове. Ср. определение-прилагательное яхши
бола 'хороший ребенок’ — определение-существительное Ка-
римнинг боласи 'ребенок Карима’ (букв. 'Карима ребенок его’).
Однако в ряде случаев возможно употребление так назы-
ваемого «неоформленного родительного падежа» с посессивным
суффиксом при определяемом слове и без окончания родительного
падежа при определении. Семантически такие существительные-
определения приближаются к относительным прилагательным
современных европейских языков. Ср. шахар совети 'городской
совет’ (букв, 'город-совет его’), халц маорифи 'народное образо-
вание’ (букв, 'народ-образование его’) и т. п.
Наконец, в тюркских языках встречается ряд случаев бессуф-
фиксальной связи имен, при которой неоформленное существи-
тельное употребляется в качестве определения другого существи-
тельного, сохраняя в этом употреблении свойства более древнего
имени, которое может выступать, в зависимости от синтаксической
функции, то как существительное, то как прилагательное.
В своей «Грамматике кумыкского языка» проф. Н. К. Дмитриев
отметил это явление, характерное для всех тюркских языков.
Кумыкский язык «до самого позднего времени пользовался су-
ществительными в функции прилагательного в тех случаях, где
196
языки других систем (в частности, русский) требуют относитель-
ного прилагательного. Так, по-кумыкски говорят: къумукъ тилъ
'кумыкский язык’ (доел. 'кумык-язык’), агъач арба 'деревянная
телега’ (доел, 'дерево-телега’), гуъмуъшеагъет 'серебряные часы’
(доел, 'серебро-часы’). Женщин также прежде называли уъи
гииш 'домашний человек’ (доел, 'дом-человек’).8
Основная группа таких именных определений относится к на-
званиям материала, из которого сделан определенный предмет.
Все такие названия являются двойственными, в зависимости
от синтаксического определения — существительными или
прилагательными. Ср. узб. олтин 'золото’ — 'золотой’, тилла
'золотая монета’ — 'золото’, кумиш 'серебро’ — 'серебряный’,
тош 'камень’ — 'каменный’, сишт 'кирпич’ — 'кирпичный’,
ипак 'шелк’ — 'шелковый’ и мн. др. Ср.: олтин соат 'золотые
часы’, тилла шиш 'золотой зуб’, кумиш узу к 'серебряное кольцо’,
сишт девор 'кирпичная стена’, тош куприк 'каменный мост’, ипак
румол 'шелковый платок’ и мн. др.
В ряде случаев образное употребление существительного
в значении материала допускает такое же использование его
в функции неоформленного определения-прилагательного. Ср.
анор юз 'гранатовое лицо’, 'лицо-гранат’ (в смысле 'красивое
лицо’), темир уул 'железная рука’, 'рука-железо’ (в значении
'твердая рука’ — ср. русск. кременъ-человек), гул йигит 'веселый
парень’ (букв, 'парень-цветок’ — ср. русск. рубаха-паренъ)
и т. п.
Другая группа представляет известное сходство с сложными
словами индоевропейских языков в том смысле, что сочетание
определяемого и определения образует прочное целое с новым
значением, отличным от значений составляющих его элементов.
Ср. темир-йул 'железная дорога’ (букв, 'железо-дорога’ — ср.
нем. Eisen-bahn), 1$из-бола 'девочка’ (букв, 'девушка-ребенок’),
сув-илон 'уж’ (букв, 'водо-змея’, т. е. 'водяная змея’), туя-сарай
'караван-сарай’ (букв, 'верблюдо-двор’, т. е. 'верблюжий двор’)
и др.
Такие неоформленные именные определения можно рассматри-
вать как пережиток типа кремень-человек, из которого развилась
грамматическая категория прилагательных. В тюркских языках
прилагательные-определения типа яхши бола 'хороший ребенок’
сохранили первоначальную неоформленность древнего имени-
определения, тогда как определения-существительные с посес-
сивным или относительным значением оформляются окончанием
родительного падежа и посессивным суффиксом (Каримнинг
боласи) или только этим последним (шауар совета).9
Подобно индоевропейским языкам, но в еще большем числе,
тюркские языки сохранили группу имен двойственных, с грамма-
тическим значением существительного или прилагательного в за-
висимости от синтаксического употребления. Из большого числа
примеров, которые дает любой словарь тюркских языков, ср. узб.
197
бою, 'голова’ — 'главный’ (ср. сложные слова: бош бола 'перве-
нец’, бош вазир 'первый министр’, бош суз 'предисловие’ и мн. др.),
ёш 'возраст’ — 'молодой’ (ёш бола 'молодой парень’), кир 'грязь’ —
'грязный’, чет 'край’, 'окраина’ — 'чужой’ (чет одамлар 'чуже-
земцы’, чет эл 'заграница’, т. е. 'чужая страна’), ич 'внутрен-
ность’ — 'внутренний’ (ич томон 'внутренняя сторона’), ция
'склон’, 'откос’ — 'пологий’, 'косой’ и мн. др. Адир ерда от бул-
мас, говорит узбекская народная пословица ('На холмистых
местах конь не ступает’): адир 'холм’, в данном сочетании —
'холмистый’, 'крутой’. Конечно, возможно оформление суффиксом
прилагательного — адирли 'холмистый’,но оно имеет книжный,
искусственный характер, как ички 'внутренний’ рядом с ич
'внутренний’ — 'внутренность’ и т. п. С оформлением категории
прилагательных и в тюркских языках появляется возможность
формальной дифференциации прилагательных от существитель-
ных с помощью некоторых суффиксов (-ли, ~ки и немн. др.) по типу
немецкого прилагательного schuldig — существительного Schuld
вместо старого существительного-прилагательного sculd 'вина’ —
'виновный’ или русского прилагательного соседний — существи-
тельного сосед вместо старого существительного-прилагательного
сксЪдъ.
Однако эти позднейшие наслоения не меняют первоначальной
картины.
Двойственность именной категории существительных-прилага-
тельных в тюркских языках особенно рельефно выступает на
заимствованных словах арабско-персидского происхождения.
Такое слово, независимо от своего первоначального значения в род-
ном языке как существительного либо прилагательного, нередко
употребляется в узбекском языке в обоих значениях в зависимости
от контекста: ср. хато 'ошибка’ —'неправильный’; асл 'сущ-
ность’, 'начало’, 'основа’ —'настоящий’, 'подлинный’; азамат
'молодец’, 'удалец’, 'силач’ —'огромный’, 'бравый’; хазон
'осень’, 'листопад’ — 'пожелтелый’ и мн. др.
Встречаются в тюркских языках и сложные определения-эпи-
теты типа bahuvrihi, в которых второй элемент является сущест-
вительным, а целое — составным прилагательным с значением 'име-
ющий свойство (данного существительного)’. Ср. в узбекском на-
родном эпосе как постоянный эпитет: дутар буйин араби отлар
'с шеей подобной дутару (дутаро-шейные) арабские кони’ (букв,
'дутар-шея арабские кони’ — ср. англосакс, flota fami-heals 'ко-
рабль пенистошейный’); из «Равшана» сказителя Эргаша Джуман-
булбул-оглы: i^opa куз, бодом qoeoq, синли сиёц циз 'с черными
глазами, миндальными веками (черноокая, миндалевекая), с краси-
вой фигурой девушка’ (букв, 'черный глаз-, миндаль-веко-, краси-
вая фигура-девушка’); там же: узи ширин суз болами? узи жаду
куз болами? 'Она сама — со сладкими речами дитя ли, с волшеб-
ными глазами дитя ли?’ (букв, 'сладкие слова-дитя, волшебные
глаза-дитя’). Нередко в таких сложных именных определениях
198
первое имя (существительное) имеет притяжательный суффикс,
связывающий его с определяемым словом. Ср. «Равшан»: Кузлари
юлдуз болами? цошлари цундуз болами? Лаблари цирмиз болами?
СС глазами-звездами дитя ли? С бровями-бобрами дитя ли? С алыми
губами дитя ли?’ (букв. 'Ее глаза звезды—дитя ли? ее брови
бобры—дитя ли?’).
Подобного рода конструкции встречаются и в разговорном
языке: соати тилла киши 'человек с золотыми часами’ (букв,
'часы его золотые-человек’), уйи тош одам 'человек с каменным
домом’ (т. е. 'владелец каменного дома’, букв, 'дом его каменный-
человек’). В сущности в этой своеобразной форме сложного эпи-
тета второе слово (существительное или прилагательное) с логи-
ческой точки зрения определяет первое (существительное), ко-
торое в свою очередь определяет предмет, к которому относится
составное определение в целом.
Оба типа сложных эпитетов отмечены проф. А. Поцелуевским
и в памятниках туркменского фольклора: 1) инче бил, бадам га-
бак, тиссе дахан, назик беден гыз Сс тонким станом, миндальными
веками, ротиком, как фисташка, нежным телом девушка’; 2) буйны
узын адам 'человек с длинной шеей’ (букв, 'шея его длинная-
человек’), эллери доволен чаращык' ребенок со сломанными руками’
(букв, 'руки его сломанные-ребенок’).10
Подобные конструкции встречаются во всех тюркских языках.
6
Глагол как грамматическая категория происходит из имени
в синтаксической функции сказуемого. Имя древнее глагола — это
положение было выдвинуто Вундтом и иллюстрировано им на ма-
териале языков первобытных неродов. Н. Я. Марр неоднократно
высказывался в том же смысле: «Достаточно здесь напомнить, что
часть речи — „действие", впоследствии и состояние, у нас, как
и в латинском мире, называемая глаголом, а у семитов-арабов
более соответственно—действием (также у грузин), возникла в раз-
резе ее оформления весьма поздно, после имен и их заместителей.
Местоименение предшествует непосредственно образованию мор-
фологии глаголов, именно их так называемому спряжению. Та-
ким образом, первично имя (существительное ли оно было или при-
лагательное), равно местоимение и глагол не различались фор-
мально».11 «Глаголов вовсе не было раньше; действие или состоя-
ние выражалось в результате комбинации требуемого для выра-
женного состояния или действия имени в окружении других имен,
служебных, в числе их с течением времени возникших местоимен-
ных элементов».12 «Был момент, длинный период, многие эпохи,
когда не было особой категории глаголов, были имена, те имена,
которые впоследствии стали известны в грамматике под названием
имен существительных и прилагательных, ранее также не разли-
199
чавшихся, так как первоначально в реальности были имена пред-
ставления, как бы знамения, дававшие представление, образ пред-
мета, а не понятие, состав и действие или состояние его. Действие
или состояние этих предметов могло проявляться лишь при соче-
тании слов постановкой в определенном месте, не трогавшей аб-
солютно формы слов, остававшихся теми же, следовательно —
именами».13
Понятно, что при отсутствии категории глагола не было и ка-
тегории имени в точном смысле слова как названия предмета,
субстанции — носителя действия. Потебня неоднократно говорит
о глагольности «первообразного» или «первобытного» имени и со-
поставляет его в этом отношении с причастием. «Первобытное
имя. . . ближе всего подходило к причастию, оно могло бы быть
названо причастием, если бы с последнего снять слои, налегшие
на него впоследствии. . .».14 «Первобытное имя — причастие
могло равняться нынешнему причастию за вычетом из последнего,
между прочим, категорий времени и залога. . .».15 Пережитком
этого состояния является, по мнению Потебни, широкое употреб-
ление причастия, в особенности в предикативной функции, в древ-
них индоевропейских языках. «В древнем языке употребление
причастия, формы промежуточной между именем в тесном смысле
и глаголом, было гораздо обширнее, чем в новом».16
Близость «первобытного» имени к так называемому отглаголь-
ному имени подтверждается приводимыми акад. И. И. Мещани-
новым примерами из архаических по своей структуре палеоазиат-
ских языков. Ср. волкооленеубивание — в смысле’волк убил оленя’;
взятие мое — в смысле 'я беру’.17
Конечно, взятие и убивание как существительные «отглаголь-
ные», т. е. производные от глагола, в языке, имеющем вполне
оформленные категории глагола и имени, лишь отдаленным об-
разом передают особенности первобытного глагольного имени,
предшествующего грамматической дифференциации имени и гла-
гола.
Более «глагольный» (предикативный) характер отглагольного
имени в тюркских языках может быть иллюстрирован, например,
употреблением так называемого деепричастия на -б (-п).
Деепричастие это в слитном предложении, при наличии не-
скольких сказуемых, служит для обозначения ряда последова-
тельных действий, с отнесением их к последнему действию, кото-
рое выражается личной глагольной формой. Ср. мен эшикни очиб,
кучага чикдим 'я открыл дверь (букв, 'открыв дверь’), вышел
на улицу’; Карим партага утириб, каламини олиб, ёза бошлади
'Карим сел (букв, 'сев’) за парту, взял (букв, 'взяв’) перо, начал
писать’. В таких случаях деепричастие обозначает сопутствующее
действие, второстепенное сказуемое, которое в новых индоевропей-
ских языках обычно выражается в рамках слитного предложения
личной глагольной формой с соединительным союзом.
200
Предикативный характер такого деепричастия особенно ясен
в тех случаях, когда оно имеет подлежащее, не совпадающее с под-
лежащим последующей личной глагольной формы, и благодаря
этому является более независимым и «глагольным». Ср. «Равшан»:
Калла кесиб, цон тукулсин' головы рубя — пусть прольется кровь’;
икки кузи уасаннинг лавуллаб кетиб боради ' оба глаза Хасана го-
рят (букв, 'горя’) — он едет’ и др.
Независимое деепричастие, не согласованное по своему под-
лежащему с личной формой глагола, к которому оно отнесено, вполне
обычно и в современном французском и английском языках.
Ср. франц. Mon ami m’ayant rencontre dans la rue je lui contai mon his-
toire; англ. My friend meeting me in the street, I told him my story
' Мой друг повстречавшись co мной на улице, я рассказал ему свою
историю’. Современный русский литературный язык не допускает
такой конструкции, рассматривая ее как «галлицизм». Однако
в языке древнерусском и церковнославянском деепричастие имеет
значительно более независимый и «глагольный» характер, весьма
напоминающий приведенные выше тюркские конструкции. По-
тебня приводит как пример «глагольности» древнего деепричастия
присоединение его к личной форме глагола сочинительным сою-
зом. Ср.: Володимеръ въсплакавъ (т. е. 'заплакал’) и рече; лежавъ
6 недель (т. е. ' лежал’) и преставился и т. п.18 И здесь предикатив-
ный характер независимого деепричастия выступает еще более от-
четливо там, где оно имеет другое подлежащее, чем личная форма
глагола-сказуемого: Андрей же то слышавъ, и быстъ образъ лица
его потускн^лъ', или: женихъ и невеста пришедъ въ покои свои,
гдЪ им спать, снимают съ нихъ платье, съ жениха дружки, а съ
невесты свахи и т. п.19
Одним из признаков большей глагольности, присущей отгла-
гольным именам древнего языка, Потебня считает управление ви-
нительным падежом прямого дополнения. Ср. примеры Потебни:
санскр. Индрд джёта дЬанам ' Индра захватыватель добычу’
(т. е. 'добычи’); jamha мам камин] (камина) 'чтобы ты меня лю-
бительница была’ (т. е. 'чтобы ты меня любила’); латышек, ta
plinte паи puntu shaweja, букв.' это ружье не есть птиц стреляль-
ница’.20 Ср. аналогичные примеры, приводимые Бругманом:
санскр. data vasUni 'податель благо’ (т. е. 'подающий’); греч.
та |1зтбсо а фооуктп); 'мыслитель (т. е.'мыслящий’) неземные вещи’;
лат. peccatorum veniam promissor 'обещающий (букв, 'обетова-
тел!»’) отпущение грешникам’; ц.-слав. по пргятш ми отъ бога
великий даръ; ср.-в.-нем. dutch behalten den lip, букв.' для сохране-
ния жизни’.21 Всеобщее распространение в древних индоевропей-
ских языках этой конструкции, отмеченной Потебней, указывает
на ее древний характер, свидетельствующий о более глагольном
характере подобного рода имен, управляющих винительным (а не
обычным в более позднюю эпоху родительным) объекта.
В тюркских языках имя действия от переходного глагола всегда
управляет винительным падежом, т. е. сохраняет свой глаголь-
201
ный характер: планни бажариш 'выполнение плана’ (букв, 'план’
вин. п.); хатни олиш 'получение письма’ (букв, 'письмо’ вин. п.);
шу китобни уциганимнинг сабаби сенга малум 'тебе известно, по-
чему я читал эту книгу’ (букв, 'причина моего чтения эту книгу’)
и т. п.
Наиболее ярким примером многообразия синтаксических функ-
ций древнего глагольного имени в тюркских языках может слу-
жить употребление так называемого «причастия» на -ган. Оно
употребляется и как имя (прилагательное или существительное),
и как глагол (предикат) или как часть сложной глагольной формы,
соединяя в ряде случаев формальные признаки имени и глагола.
По своему синтаксическому полиморфизму оно напоминает ан-
глийское отглагольное имя на -ing.
В функции определения форма на -ган, как всякое причастие,
является прилагательным, подчиненным последующему определяе-
мому существительному. Ср. ёзган хат 'написанное письмо’,
узбекча билган уртоклар "знающие по-узбекски товарищи’
(ср. the drinking horse 'пьющая лошадь’). Как и другие прилага-
тельные, такое причастие может быть субстантивировано в само-
стоятельном употреблении. Ср. узбекча билганлар 'знающие по-
узбекски’.
Школьная грамматика называет форму на -ган «причастием
прошедшего времени» и приписывает ему залог в соответствии с за-
логом глагола, от которого оно образовано. Однако на самом деле
временное значение этого причастия колеблется в зависимости
от контекста: например, узбекча билган уртоклар ' знающие по-
узбекски товарищи’ — настоящее время. Точно также колеблется
и залог: ср. олган 'получивший’ — сизнинг олган китобингиз
'полученные вами книги’; копган 'укусивший’, 'кусающий’ —
итлар копган киши ' собаками укушенный человек’, страдательный
залог. Такая двойственность залоговой формы древнего причастия
встречается в ряде пережитков и в индоевропейских языках.
В предикативном употреблении причастие на -ган получает
предикативные местоименные аффиксы и значение личной формы
глагола (так называемого «прошедшего причастного»); в 3-м лице
местоименный аффикс отсутствует, и предикативность выражется
только порядком слов: ср. мен ёзган-ман 'я писал’, сен ёзган-
сан, у ёзган и т. д. Как часть сложной глагольной формы причастие
на -ган может употребляться с вспомогательным глаголом, на-
пример в предпрошедшем: ср. мен ёзган эдим 'я (ранее) писал’
и т. д. Ср. англ. I am writing, I was writing и т. п.
С другой стороны, эта же форма на -ган может иметь значение
отглагольного существительного, названия действия, принимая
в таких случаях падежные окончания и аффиксы притяжатель-
ности. Ср.: мен унинг кетгани тусрисидаэшитдим' я слышал о его
отъезде’; унинг кетганинг сабаби сизга малум 'причина его отъ-
езда вам известна’ (ср. англ, the cause of his coining и т. п.). При
этом падежные окончания и посессивные суффиксы, характерные
202
для имени, не препятствуют глагольному управлению формы на
-ган, наличию при ней прямого дополнения и личного местоимения
подлежащего в именительном падеже. Ср. мен шу цитобни уцига-
нимда 'когда я читал эту книгу’ (букв, 'при моем чтении этой
книги’); сен шу китобни уциганимдан кейин 'после того, как
я прочел эту книгу’ (букв, 'после моего чтения этой книги’) и т. п.
Ср. англ, after my reading this book, when reading this book и т. п.
Такого рода обороты по своему логическому значению соответствуют
обширной группе «сокращенных» дополнительных и обстоятель-
ственных предложений индоевропейских языков.
В подобных двойственных конструкциях, с именным и одно-
временно глагольным оформлением, «отглагольное существитель-
ное» на -ган, сохраняя свою глагольность, может также управ-
лять деепричастием, имеющим глагольный характер. Ср. «Алпа-
мыш» (версия Фазыла Юлдашева): Цултайнинг туйга аралашиб,
купкари чопиб бораётгани бу 'Култая, в пир вмешавшегося (букв,
'вмешавшись’), на козлодранье поскакавшего (букв, 'поскакав’)
действие вот какое’; или в сложной глагольной форме: мен шу ки-
тобни уциб турганимда (чицганимда) 'когда я читал (прочитал)
эту книгу’.
В соединении с предикативным членом, положительным (бор
'имеется’, 'есть’) или отрицательным (йук 'не имеется’, 'нет’),
отглагольное имя на -ган образует сложную глагольную форму
прошедшего, в которой посессивный суффикс является признаком
лица, ср. ёзганим бор (йук) '(не) писал’ (букв, 'мое писание (не)
имелось’), ёзганинг бор (йук), ёзгани бор (йук) и т. д.
Таким образом, значение формы на -ган как существительного,
прилагательного, глагола или части глагольной формы определя-
ется синтаксическим употреблением, контекстом, причем как гла-
гольное имя эта форма и в управлении своем обнаруживает при-
знаки одновременно именной и глагольной форм.
7
Индоевропейский глагол в своей морфологической структуре
не сохранил вполне четких следов происхождения глагольных форм
от предикативного глагольного имени. Иначе в тюркских языках,
где агглютинация, т. е. изолированность строевых элементов, де-
лает вполне прозрачным состав и происхождение глагольных форм.
Личные окончания в тюркских языках происходят от личных
местоимений в функции предикативных суффиксов. Предикатом
с предикативным местоименным суффиксом в настоящем времени
может быть любое имя.
Ср. ед. ч. 1-е л. мен ишчи-ман 'я — рабочий’, 2-е л. сен ишчи-
сан 'ты — рабочий’, 3-ел. у ишчи(-дир) 'он — рабочий’; мн. ч.
1-е л. биз ишчи-миз 'мы — рабочие’, 2-е л. сиз ишчи-сиз 'вы — ра-
бочие’, 3-е л. улар ишчи (-дир-лар) 'они — рабочие’.
203
Тождество предикативных суффиксов 1—2-го лица единствен-
ного и множественного числа с соответствующими личными место-
имениями ясно без дальнейшего. 3-е лицо (как во многих языках)
первоначально не требовало специального предикативного офор-
мителя; позднее в этой роли выступит суффикс -дур, -дир, пред-
ставляющий, по-видимому, суффигированную форму вспомо-
гательного глагола узб. турмоц 'стоять’, 'находиться’, 'сущест-
вовать’ (т. е. 'быть’).
Роль личных глагольных окончаний как предикативных суф-
фиксов в широком смысле особенно ясно выступает в их употреб-
лении с именами, стоящими в косвенном падеже. Ср. мен хозир
уйда-ман 'я теперь дома’; мен хозир у рта Озиёда-ман 'я теперь
в Средней Азии’. Ср. также: мен ёзмоц, да-ман ' я пишу’ (наст,
длительн. — букв. 'я — в писании’, ср. англ. I am writing),
сен ёзмоцда-сан 'ты пишешь’ (букв, 'ты — в писании’) и т. п.
Все глагольные формы в тюркских языках легко могут быть
объяснены как глагольные имена («причастия» и «деепричастия»)
с предикативными местоименными суффиксами. Ср. в узбекском —
от корня ёз- 'писать’ (инфинитив ёзмок)\
1) Настоящее-будущее: ёза-ман, ёза-сан, ёза-ди(р) ит. д. — от
деепричастия настоящего ёза 'пиша’.
2) Прошедшее причастие: ёзган-ман, ёзган-сан, ёзган и т. д.
от причастия прошедшего ёзган 'писавший’—'написанный’.
3) Прошедшее повествовательное: ёзиб-ман, ёзиб-сан, ёзиб-
ди и т. д. — от деепричастия прошедшего ёзиб 'написав’.
4) Будущее возможное: ёзар-ман, ёзар-сан, ёзар и т. д. от при-
частия будущего ёзар.
5) Будущее «литературное»: ёзжак-ман, ёзжак-сан, ёзжак
и т. д. — от причастия будущего ёзжак.
6) Форма намерения: ёзмо^чи-ман, ёзмотрьи-сан, ёзмокчи
и т. д. — от причастия намерения ёзмокчи 'намеревающийся пи-
сать’.
7) Настоящее длительное: ёзмо^да-ман, ёзмоцда-сан, ёзмоцда —
от местного падежа отглагольного имени ёзмо^ — ёзмокда (букв,
'я — в писании’, ср. англ. I am writing).
К этому следует прибавить многочисленные формы, образован-
ные вспомогательными глаголами, частью превратившимися в суф-
фиксы и редуцированными, которые передают различные видовые
оттенки действия и относительные времена. В узбекском языке
в такой функции особенно часто выступает вспомогательный гла-
гол ётмоц, 'лежать’ (корень ёт-). Ср. настоящее I ёз-ёт-ман
<^*ёза-ёта-ман (букв, 'пиша лежу’, 'нахожусь в писании’);
настоящее II ёз-яп-ман <^*ёза-ётиб-ман (букв, 'пиша лежал’);
настоящее III ёза-ётир-ман.
Формы предшествования (относительные времена) образуются
таким же путем с вспомогательным глаголом эдим 'был . Ср. дав-
нопрошедшее — ёзган эдим, предпрошедшее — ёзиб эдим, мно-
гократно-длительное прошедшее — ёзар эдим, прошедшее наме-
204
рения — ёзмоцчи эдим, прошедшее длительное — ёзмоцда эдим
(с соответствующими причастиями и деепричастиями — ёзган, ёзиб,
ёзар и т. д.).
Особое место в системе узбекского (как и вообще тюркского)
глагола занимает простое прошедшее на -д-, неясное по своему
происхождению и оформленное не предикативными, а посессив-
ными суффиксами. Ср. ед. ч. 1-е л. ёздим 'я писал’, 2-е л. ёздинг,
3-е л. ёзди\ мн. ч. 1-е л. ёздик, 2-е л. ёздингиз, 3-е л. ёзди (-лар).
За исключением 1-го лица множественного числа все окончания
этой формы совпадают с посессивными суффиксами имени суще-
ствительного. Ср. ед. ч. 1-е л. китобим 'моя книга’, 2-е л. кшпо-
бинг 'твоя книга’, 3-е л. кшпоби 'его книга’, мн. ч. 1-е л. кшпо-
бимиз 'наша книга’,2-е л. китобингиз 'ваша книга’, 3-е л. кито-
би (-лар) 'их книга’.
Наличие в этой форме (как и в условном наклонении на -са)
посессивных суффиксов уже подсказывает мысль об именном ее
происхождении. Существуют различные гипотезы, объясняющие
происхождение суффикса -g-. Мелиоранский и Броккельман
видели в нем остаток отглагольного имени на -it: aldim' я взял’
C*altim <2 *alit-im 'мое взятие’.22 Они реконструируют форму
*alitim bar 'мое взятие было’ (т. е. 'я взял’), по типу современ-
ного узбекского ёзганим бор 'я писал’ (букв, 'мое писание было’),
ёзганинг бор 'ты писал’ и т. п.
Впрочем, предикативность древнего глагольного имени избав-
ляет нас от необходимости в этом случае реконструировать вспо-
могательный глагол в роли связки — бор 'имеется’.
В новейшее время тот же Броккельман и французский тюрко-
лог Дени выдвинули другую теорию, согласно которой в основе
прошедшего лежит глагольное имя (причастие) на —duq, до сих
пор встречающееся в некоторых тюркских языках. Гипотеза эта
опирается на широкое употребление предикативной формы на -duq
во всех лицах в примерах, приводимых в «Словаре» Махмуда Каш-
гарского (около 1073 г. н. э.). Ср. man ja qurbuq 'я лук натянул
(тетивой)’, biz ja qurduq 'мы лук натянули (тетивой)’, ols tit
sayduq 'он молоко выдоил’, olar tayqa ayduq 'они поднялись на
гору’ и т. д.
В основе формы aldim 'я взял’ лежит, согласно этой гипотезе,
*alduq-im (bar) 'мое взятие (имеется)’.23 Преимущество этой ги-
потезы состоит в том, что она объясняет изолированную форму
множественного числа 1-го лица на -дик, отклоняющуюся от се-
рии посессивных окончаний (узб. ёз-дик, ол-дик) как остаток пре-
дикативного причастия на -дук, дик, лежащего в основе суффикса
прошедшего времени.
Во всяком случае, при всех возможных объяснениях ее про-
исхождения, форма прошедшего, поскольку она имеет посессивные
суффиксы, не составляет исключения из прочих форм тюркского
глагола, в основе которых лежит глагольное имя; только возник-
новение этой формы восходит, очевидно, к более древней эпохе,
205
вследствие чего она ранее других утратила свою структурную яс-
ность.
Сравнение глагольных систем тюркских языков между собой
обнаруживает очень значительные расхождения. Общий структур-
ный принцип развития глагольных форм из предицированных гла-
гольных имен остается всюду неизменным, однако в разных язы-
ках и языковых группах в системе спряжения использованы раз-
ные глагольные имена, как и разные вспомогательные глаголы.
Только древнейшая форма прошедшего на -д- с притяжательными
суффиксами (как и условное наклонение на -со) является обще-
тюркской по форме и значению. В какой-то мере общей является
и форма от причастия будущего на -р, но в разных языках она
имеет разное значение (например, в турецком — настоящее-буду-
щее yazar-im 'я пишу’, в узбекском — будущее возможное ёзар-
ман).
Остальные глагольные формы в тюркских языках частично
совпадают, частично различаются. Шорский язык, например,
не знает времен, образованных непосредственно от деепричастий
настоящего времени на -а или прошедшего на -б (-п), обычных в уз-
бекском языке; однако оба деепричастия используются со вспо-
могательным глаголом тур- ’стоять’, первое — в значении мно-
гократного («настоящего незаконченного»), второе — в прошед-
шем с значением 'оказывается, делал то-то’: ср. пара-дыр 'он хо-
дит (обычно, постоянно)’, ойнап-тыр 'он (оказывается) играл’.
Зато существуют глагольные формы от причастий на -чанъ,
-гадыг, -калак, не известные узбекскому языку: ман полчанъ-ым
' я бывал всегда, постоянно’ (форма обычного, постоянного, не-
обходимого действия); мен пар-гадыг-ым 'может быть, я пойду’
(«будущее возможное»); мен пар-нагалк-пым 'я еще не ушел’
(форма несовершенного действия) и т. п.24 В турецком языке от-
сутствуют глагольные формы, образованные от причастия на -ган
(обычные в узбекском и шорском) и от деепричастий на -а и -б (-п);
деепричастие на -а употребляется только в сложной форме, в сое-
динении со вспомогательным глаголом yorumak (узб. юрмот^
* ходить’) как «настоящее данного момента», ср. yazi-yorum' я пишу’
(сейчас, в данный момент). Зато широкое распространение имеют
причастия на -аджак и на -мши (ср. прошедшее субъективное
yazmis-im, будущее категорическое yazacag-im).25
Турецкий язык, как и узбекский, представляет картину слож-
ной и развитой глагольной системы, напоминающей богатством от-
тенков систему английского или французского глагола. Но при
сходстве общих структурных принципов этой системы (использо-
вание предикативных причастий и вспомогательных глаголов)
материал, из которого строятся аналогичные по значению времен-
ные и видовые формы, для каждой данной формы может быть со-
вершенно различным.
Весьма характерно, что тюркские языки представляют кар-
тину почти полного единства в склонении имен (за исключением
2С6
чисто фонетических вариантов общей системы падежных аффик-
сов) и в то же время чрезвычайно расходятся в спряжении гла-
голов. Это обстоятельство ясно показывает, что система^спряжения
в тюркских языках более нового происхождения, чем склонение,
и складывалась в основном в период обособленного развития со-
ответствующих тюркских языков и языковых групп.
Сравнительно-грамматической иллюзией, обычной в практике
индоевропеистики, было бы перенесение всего многообразия этих
конкурирующих форм отдельных языков в гипотетическую «пра-
тюркскую» языковую стадию, с не менее обычным выводом —
о последующей «утрате» отдельными языками различных частей
этого общего «праязыкового» наследия.
Структура глагола в тюркских языках позволяет с парадигма-
тической ясностью объяснить аналогичное строение глагольных
форм и в языках индоевропейских, затемненное здесь обычным
процессом редукции окончаний. Так, форма презенса индоевро-
пейских языков разлагается, подобно личным формам тюркского
глагола, на три элемента: корень-}-тематический гласный (суф-
фикс) презенса-}-личное окончание (по-видимому, как и в тюрк-
ских языках — местоименного происхождения). Ср.:
санскр. готск. узб. (наст.-буд.)
ед. ч. 1. bhar-a-mi bair-a бер-а-ман
2. bhar-a-si bair-i-s бер-а-сан
3. bhar-a-ti bair-i-th бер-а-ди
мн. ч. 1. bhar-a-inas bair-a-m бер-а-миз
2. bhar-a-tha bair-i-th бер-а-сиз
3. bhar-a-nti bair-a-nd бер-а-ди (лар).
Форма презенса имеет в индоевропейских глаголах указан-
ного типа суффикс (тематический гласный) -е-1-о- (готск. -i-1-а-,
санскр.-а-). Сопоставление с узбекской (тюркской) формой под-
сказывает предположение, что суффикс этот — именного проис-
хождения, и что в основе глагольной формы индоевропейского
презенса лежит, как и в тюркском глаголе, предицированное с по-
мощью местоименных суффиксов глагольное имя типа *bher-e/-o.
Действительно, суффикс презенса -е-/-о- формально совпадает
с одной из наиболее распространенных именных основ — с груп-
пой основ на -о-; ср. греч. Xvx-os, санскр. vrkas, лат. lupus, слав.
влъкъ. В свете тюркских аналогий это формальное совпадение
вряд ли может быть признано случайным, тем более что и все
остальные основообразующие суффиксы презенса, встречающиеся
в индоевропейском глаголе, совпадают с теми или иными имен-
ными основами. Ср. суфф. -jet-jo (готск. глаг. sok-ja 'ищу’ —
существ, nati 'сеть’, дат. п. natja); суфф. -net-по, -skej-sko; суфф.
-а- (лат. глаг. ата-ге — сущ. rosa, готск. глаг. salbo 'мажу’—
сущ. salbo 'мазь’) и т. п.
207
Правда, в языках индоевропейских процесс формирования
личной глагольной формы из предицированного имени не лежит
на поверхности, как в тюркских языках, прежде всего потому, что
глагольные имена типа «деепричастия» на -а (узб. бера 'давая’,
кела 'приходя’ и т. п.) не сохранились в самостоятельном употреб-
лении и могут быть реконструированы только сравнительно-
грамматическим путем. Однако чистая именная основа, предше-
ствующая дифференциации имен на существительные и прилага-
тельные (casus absolutus или indefinitus — по терминологии
Хирта), отчетливо выступает, как мы видели, в древнем словосло-
жении: ср. греч. [ктйо-Соуос, готск. skauda-raips и т. п.
Она выступает и в звательной форме, не случайно тождественной
в глаголе и имени: в индоевропейских языках повелительное на-
клонение глагола, как и звательный падеж имен, равняется, как
известно, чистой основе и тем самым в ряде случаев формально сов-
падают. Ср. звательный падеж основ на греч. Хбхе (санскр.
vrka, lat. lupe) — повелительное наклонение от основы настоя-
щего времени: греч. Фере (санскр. hbara, лат. age) и др. В тюрк-
ских языках повелительное наклонение равняется неоформлен-
ному глагольному корню (бер\кел\), тем самым также совпадая со
звательным падежом имени (киз\бош\). Таким образом, в обеих
языковых системах древнейшая по своему происхождению зва-
тельная форма, по-видимому, предшествует формальной диф-
ференциации глагола и имени.
На основе тех же тюркских аналогий получают правильное
объяснение и загадочные с сравнительно-грамматической точки
зрения формы так называемого слабого прошедшего германского
глагола, образованные с помощью дентального суффикса -d-
(немецкое -£-): ср. готск. sokjan 'искать’ — прошедшее soki-da
'искал’ (нем. such-te). Формы эти не имеют соответствия в других
индоевропейских языках и являются позднейшим образованием,
выступающим на смену старых видовых форм так называемого
сильного глагола, основанных на чередовании гласных (аблауте):
ср. finden — fand — gefunden. Связь дентального прошедшего
германских глаголов с дентальным причастием (готск. soki-th-s
'gesuch-t’), принадлежащим к общеиндоевропейскому граммати-
ческому типу (ср. лат. amatus, русск. би-тъш и т. п.), заставляет
предполагать, что новая форма германского слабого прошедшего
развилась из дентального причастия (т. е. из глагольного имени)
в предикативном употреблении. Такого же происхождения, ве-
роятно, и латинское слабое прошедшее на -u-, -и- в латинских гла-
голах I, II и IV спряжений (amav-i, delev-i, audiv-i).
Приведенные примеры достаточно ясно иллюстрируют парал-
лелизм процессов становления грамматических категорий частей
речи в двух системах языков, развивающихся независимо друг
от друга, — индоевропейской и тюркской. При отсутствии между
этими системами исторического взаимодействия и взаимного влия-
ния такой далеко идущий параллелизм указывает на общую зако-
208
номерность процесса, обусловленную одинаковыми путями раз-
вития мышления общественного человека, конкретно выражен-
ного в развитии языка. Раскрытие подобных стадиально-типоло-
гических закономерностей в развитии языка и мышления станет
возможным при условии расширения сравнительно-граммати-
ческого исследования за пределы замкнутой и изолированной
языковой «семьи» или группы, как того настоятельно требовал
Н. Я. Марр.
1945 г.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ КАТЕГОРИИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ
В СРАВНИТЕЛЬНО-ГРАММАТИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ
1. Постановка вопроса
Вопрос о происхождении прилагательных как грамматической
категории в языках индоевропейской группы может служить при-
мером лингвистической проблемы, постановка которой возможна
лишь в рамках сравнительной грамматики. Сравнительная грам-
матика позволяет нам восстановить более архаическую стадию
грамматического оформления имен, отражения которой пред-
ставлены в древнейших письменных памятниках индоевропейских
языков лишь в качестве пережитков, требующих исторического
объяснения. Эти факты, установленные сравнительной грамма-
тикой, могут быть правильно осмыслены лишь в общей глотто-
гонической перспективе развития языка, рассматриваемого в связи
с развитием мышления.
Такая общая перспектива для развития частей речи в предло-
жении намечена Н. Я. Марром в следующей последовательности:
«Постепенно из частей предложения выделяются имена, которые
служат основою для образования действия, т. е. глаголов пере-
ходных и впоследствии непереходных; имена существительные
по функции становятся, служа определением, прилагательными,
которые также выделяются; имена же (определенный круг имен
существительных) становятся местоимениями. . .».1
Действительно, дифференциация имен прилагательных как
самостоятельной грамматической категории от имен существи-
тельных — явление в стадиальном отношении сравнительно по-
зднее. Потебня, посвятивший этому вопросу значительную часть
своих «Записок по русской грамматике», говорит об этом так:
«В истории языков, различающих название вещи и признака
(а не все это делают), прилагательное, как выделенное из связи
признаков, как более отвлеченное, чем существительное, позд-
нее существительного и образовалось из него».2 И дальше: «Раз-
14 В. М. Жирмунский 209
личие между существительным и прилагательным не исконно»
Прилагательные возникли из существительных, т. е. было время,
оставившее в разных индоевропейских языках более или менее
явственные следы и данные, когда свойство мыслилось только
конкретно, только как вещь».3
В языках, сохранивших более архаическую грамматическую
структуру, имя, обозначающее предмет (т. е. существительное,
с точки зрения европейских языков), поставленное рядом с дру-
гим именем как его определение, функционирует как прилага-
тельное со значением качества: например, камень + хлеб =
'твердый хлеб’.
Следует, однако, заметить, что такое древнее имя, могущее
обозначать и предмет, и качество, в сущности не было еще в пол-
ном смысле ни предметом, ни качеством, ни существительным,
ни прилагательным. Оно было более текуче, не обладало в пол-
ной мере той субстанциональностью, которая свойственна имени-
предмету при номинативном строе. Говоря словами Потебни,
«существительное, будучи названием определенной субстанции,
было в то же время качественнее, чем ныне».4 Этим обстоятель-
ством Потебня объясняет, например, употребление степеней срав-
нения от существительных, встречающееся в древнерусском языке:
бережке 'ближе к берегу’, скотче (скотину ли и нареку, но и
того скотче; зв&ръ ли, но того звЪрЪе и несмыслънЪе)' также
образование от существительных глаголов фактитивных и на-
чинательных: звЪрЪть, псЪтъ, чертЪтъ и т. д. Аналогичные при-
меры сравнительной и превосходной степени от существительных
отмечены и в других древних индоевропейских языках: ср. греч.
Рао’Хеэтеро*; 'царственнее’, расяХгбтато^ 'царственнейший’ (от сущ.
Pact Хе ос 'царь’), ЗооХбтеро*; 'рабее’ (от сущ. ЗооХос 'раб’) , хеоЗюэ
'прибыльнее’, херЗитос 'прибыльнейший’ (от сущ. херЗо; 'прибыль’);
санскр. brahmijas 'браминнее’, brahmisthas 'браминнейший’ (т. е.
'лучший из браминов’), devatamas 'божейший’ (т. е. 'лучший
из богов’), pitrtamas 'отцейший’ (т. е. 'лучший из отцов’); ср.-
в.-нем. diner helfe mir nie noeter wart (noeter 'нужнее’—от сущ.
not 'нужда’) и др.
Тип камень + хлеб > твердый хлеб вместе с тем обозначает
путь, которым происходит развитие новой грамматической кате-
гории имени: оно исходит из синтаксического употребления имени
как атрибута (определения) к другому имени. Говоря еще раз
словами Потебни, «путь от существительного к прилагательному
есть атрибутивное употребление сущестительного».5 Отсюда воз-
можность в дальнейшем морфологического оформления при-
лагательного как самостоятельной грамматической категории
особыми присущими ей признаками (наличием особого склонения
и специальных суффиксов, изменения по родам, степеней срав-
нения) и вместе с тем оформления синтаксического, характер-
ного для его основной функции как атрибута (согласование
с определяемым существительным в роде, числе и падеже). Ниже
210
мы остановимся более специально именно на вопросе о морфоло-
гическом оформлении прилагательного как самостоятельной грам-
матической категории.
В недавнее время эта общая точка зрения на генезис катего-
рии прилагательного встретила возражение со стороны немец-
кого компаративиста Хирта.6 По мнению Хирта, прилагатель-
ные развиваются не из имен (существительных), а из первичных
несклоняемых наречий, употребляемых атрибутивно; в резуль-
тате этого употребления они получают флексию. «Категория при-
лагательных», по утверждению Хирта, «первоначально ничего
общего не имела с существительными, поскольку она возникла
из наречий, но с течением времени она настолько приблизилась
к существительным, что лингвистика не делает никакого раз-
личия между этими категориями. Это, однако, заблуждение».
Дальнейшее изложение должно показать, что заблуждение на
самом деле на стороне Хирта и что отсутствие различия между
названными категориями является не иллюзией лингвистичес-
кого истолкования, а подлинным фактом древнейшей истории
индоевропейских языков. Необходимо, однако, оговорить, что
указательные местоимения (местоименные прилагательные типа
*so, sa, tod или лат. hie) могли действительно возникнуть из не-
склоняемых указательных частиц, однако никак не прилагатель-
ные как имена, обозначающие качество предмета.
2. Прилагательные и сложные слова
В индоевропейских языках сохранились многочисленные
следы первоначальной недифференцированности существитель-
ного и прилагательного. С этой точки зрения особенно интересны
сложные слова, как грамматико-синтаксическое образование боль-
шой стадиальной древности.
К числу наиболее распространенных типов сложных слов от-
носятся такие, в которых первый элемент, определитель, явля-
ется (с точки зрения современного языка) существительным,
но функционирует синтаксически как атрибут с значением ка-
чественного слова (прилагательного).
Ср. готск. auga + dauro 'Augentiir’ (букв, 'глаз + дверь’,
т. е. 'глазная дверь’, с значением 'глазница’, 'окно’), figgra-guld
'Fingergold’ (букв, 'палец + золото’, с значением 'кольцо’) и
мн. др. Ср. греч. dxpoKoXtc, русск. пароход, мореплаватель и др.
В так называемых «полносложных» соединениях (eigentliche
Komposition), примеры которых приведены выше, первый эле-
мент сложного слова формально представляет собой чистую имен-
ную основу (auga-, figgra и т. д.), без какого-либо признака па-
дежной флексии, «неопределенный падеж» (casus indefinitus)
по терминологии Хирта, заимствованной у Бехтлинга.7 На само-
стоятельное существование в древнейший период индоевропей-
211
14*
ских языков такого падежа, тождественного с основой имени,
как будто указывает тот факт, что звательный падеж (как и по-
велительное наклонение в глаголах) в ряде случаев действительно
совпадает с чистой основой (ср. греч. Хбхс, и т. п.). Во вся-
ком случае эта неизменяемая форма определения не согласуется
с определяемым словом ни в роде, ни в числе, ни в падеже и
в сущности не является ни существительным, ни прилагатель-
ным. Лишь в более позднее время в так называемых «неполно-
сложных» соединениях (uneigentliche Komposition) первый эле-
мент заново оформляется по нормам более развитого синтаксиса
как родительный падеж существительного, управляемый опре-
деляемым словом (ср. Mannesalter, Sonnenfinsternis и т. п.).
В советской германистике за последнее время сложные слова
индоевропейских языков принято рассматривать как явление
инкорпорации.8 Однако в индоевропейских языках встречается
в основном лишь инкорпорация атрибутивная (либо инкорпора-
ция объекта при глагольном имени — типа водовоз). Мы не имеем
возможности установить, явилась ли такая атрибутивная ин-
корпорация результатом разложения более древней предикатив-
ной, как некоторые формально-аналогичные конструкции в язы-
ках других систем (ср. чук. этчы-пылвынтын 'дорогой металл’,
'золото’ и т. п.),9 или она должна рассматриваться как зародыш
недоразвившейся системы синтаксического словосложения.
Гораздо более поздним типом является полносложное соедине-
ние, первый элемент которого оформлен как прилагаюльное.
В древнейших памятниках германских языков (например, в гот-
ском) он представлен лишь крайне немногочисленными приме-
рами, причем почти исключительно с местоименным или относи-
тельным прилагательным в качестве определителя (ср. готск.
fruma-baur ' erstgeboren’, missa-leik с mi Pgestaltet’, ibna-leiks
' gleichgestaltet’ и др.). Древненемецкие примеры уже более
многочисленны: ср. wih-rouh 'священное курение’ ('Weihrauch’),
hochzit 'hohe Zeit’ ('праздник’) и др. Первый элемент сложного
слова выступает также в несклоняемой форме чистой именной
основы (например ibna-), которая не имеет согласования с опре-
деляемым. Таким образом, несмотря на лексическое значение
качественного слова (прилагательного), определитель в формаль-
ном отношении и здесь возвращает нас к стадии имени в абсолют-
ном падеже, еще не дифференцировавшегося на существительные
и прилагательные.
К числу древнейших типов «полносложных» соединений от-
носятся так называемые bahuvrihi-composita древнеиндийской
грамматики. Второй элемент такого сложного слова является
с точки зрения позднейшего грамматического осмысления суще-
ствительным, но слово в целом функционирует как прилагатель-
ное (атрибут) со значением 'имеющий свойство такого-то пред-
мета’. Ср. греч. роЗо-ЗахтоХо?’ Hd>; букв. 'Эос — розовый палец’
(т. е. 'имеющая розовые пальцы’), 'розоперстая Эос’ — эпитет
212
зари в гомеровском эпосе. Такой тип сложного слова по своему
происхождению восходит к эпохе, когда разница между суще-
ствительным и прилагательным определялась лишь синтаксичес-
кой функцией имени. Характерно, что среди примеров bahuvrihi
значительную группу образуют постоянные эпитеты, сохранив-
шиеся как архаизмы поэтического языка. Ср. греч. цохтрт] еири-аула
'Микены широкодорожные’, 'имеющие широкие улицы’ (букв.
'Микены-широкие улицы’, как оленъ-золотые рога), лолб-о’^
'богатый вином’ (сущ. olvoc 'вино’), лат. magnanimus 'велико-
душный’ (сущ. animus 'дух’), слав, чрьновласъ 'черноволосый’
(сущ. власъ 'волос’), златорогъ 'златорогий’ (от сущ. рогъ),
готск. freihals 'свободный’ (букв, 'имеющий свободную шею’ —
от сущ. hals 'шея’), laushandus 'щедрый’ (букв, 'имеющий свобод-
ную руку’ — от сущ. handus 'рука’), англосакс, flota famiheals
корабль пенистошейный’ эпич. (букв, 'пенистая шея’, от сущ.
heals 'Hals’); др.-в.-нем. barfuo^ 'barfu|3’ ('босоногий’ — от сущ.
fuo^ 'Fu|3’), einfalt 'einfaltig’ (от сущ. fait Talte’), mannalih
' mannlich’ (букв. ' имеющий образ мужа’, ' мужеобразный’, от
сущ. lih 'тело’, 'образ’ — отсюда в дальнейшем немецкий суф-
фикс -Itch) и др.
К типу bahuvrihi приближаются прозвища и клички вроде
Белоус, Кривонос, нем. Rotkehlchen 'красногрудка’, Rotkappchen
'красная шапочка’ и др., являющиеся по своему характеру атри-
бутивными именами в особой назывательной функции.
Сюда же можно отнести некоторые синтактико-стилистичес-
кие формулы русского народного языка и фольклора, в которых
отчетливо выступает архаический характер имени: такое имя
в функции постоянного атрибута приобретает свойства качествен-
ного слова, сохраняя при этом форму неизменяемого существи-
тельного.10 (См. выше, с. 145).
Определяющее слово может стоять и после определяемого;
в таких случаях, однако, оно согласуется с ним в числе и падеже:
ср. меч-самосек, сапоги-скороходы, скатерть-самобранка, девица-
краса или краса-девица ('красная девица’), ратъ-сила 'сильная
рать’ (лежит ратъ-сила победителя). Потебня приводит и такие
выражения разговорного народного языка, как например гриб-
боровик, голубь-сизяк, корова-нетель и др.; географические на-
звания типа Москва-река, Дунай-река, Киев-град (ср. в Москва-
рекё) и др. Во всех этих традиционных, частью архаических,
частью поэтических оборотах определяющее атрибутивное суще-
ствительное приобретает функцию и значение прилагательного,
качественного слова (например, корова-нетель 'нетелящаяся ко-
рова’, меч-самосек 'самосекущий меч’ и т. п.), но грамматическое
оформление сохраняется либо неизменяемого имени (как в слож
ных словах), либо аппозитивного существительного.
213
3. Суффиксы прилагательных
Другим, не менее важным указанием на первоначальное един-
ство категории имен (существительных и прилагательных) яв-
ляется отсутствие общеиндоевропейских суффиксов как специаль-
ных оформителей категории прилагательных. Именные суффиксы
существительных и прилагательных в основном тождественны.
Как устанавливает Бругман, «суффиксы, выступающие в при-
лагательных, начиная с индоевропейской эпохи, все встречаются
также в существительных».11
Мы находим у прилагательных, как и у существительных,
основы на -о- (м. р., ср. р.), -а- (ж. р.), i, и, расширенные основы
на -io- (-ia-), -ио- (-ца-), -по- (-па-), -епо-/-опо- (-епа-/-опа-), -to- (-ta-),
-ni-, -ti-, основы на согласные и мн. др. Ср. лат. прил. (осн. -о-а-)
bonus — bona — bonum и сущ. bort us— rosa — jugum; лат. прил.
(осн. -io--ia-) medius — media — medium и сущ. filius— filia —
socium; лат. (осн. -i-) levis и hostis; греч. прил. (осн. -о------а-)
хаХб;—хаХт)— xaXov и сущ. 6 'ккос—Ttp/iq—-то Swpov; rpei. прил.
(осн. -и-) хратб; и сущ. ta/oc; готск. прил. (осн. -о---a-) blinds —
blinda — blind и сущ. dags — stibna —• waurd; прил. (осн. -io--ia-) mid-
jis — midja — midi и сущ. harjis — sibja — kuni; прил. (осн. ni-) brains
(м. p., ж. p.), gasts (ср. p.) и сущ. gasls(M.p.) — ansls (ж. р.)и мн. др.
Суффиксы, выступающие в отдельных индоевропейских язы-
ках как специфические оформители прилагательных, в этой своей
функции имеют позднейшее происхождение. Примером могут
служить германские языки, в которых как суффиксы прилагатель-
ных употребляются -ig, -ag, -In, -isk.
Суффикс готск. -ig, -ag, др.-в.-нем. -ig, -ag (ср. также лат.
civicus, греч. cpootx6<;) употребляется в славянских языках как фор-
мант имен действующих лиц (nomina agentis), в разновидностях
-до- (ср. ходок, едок) или -iqo- (ср. слав, шъв-ъць 'швец’ и др.).
В германских языках этот суффикс становится наиболее общим
формальным признаком прилагательного: ср. от сущ. др.-в.-нем.
kraft — kreftig, от глаголов sniden — snidig и т. п. В ряде слу-
чаев с помощью -ig в древневерхненемецком начинают оформляться
и такие прилагательные, которые первоначально по своей форме
ничем не отличались от соответствующих существительных:
ср. прил. rihtig от reht (прил.-сущ.), прил. sculdig от sculd
(прил.-сущ.), прил. heilag 'heilig’ от heil (прил.-сущ.). Такое упо-
требление -ig свидетельствует о потребности в формальной диф-
ференциации прилагательных как грамматической категории,
оформившейся семантически.
Суффикс герм, -in имеет параллели во всех индоевропейских
языках в форманте -ino (tna), -ino (ina) с значением принадлеж-
ности, происхождения от какого-нибудь предмета. Ср. haed -inu-s
'козлиный’, т. е. 'происходящий от козы’ (готск. galleins), лат.
bovinus 'бычий’, лат. faginus 'буковый’ (греч. сртдус^о^), laurinus
'лавровый’, греч. av^wKtvo; 'человеческий’, слав. жЪлЪзъ-нъ
214
'железный’, медвънъ 'медный’ и т. п. В германских языках: готск. gul-
thins 'золотой’ (др.-в.-нем. guldin 'золотой’), готск. staineins
'каменный’ (др.-в.-нем. st einin) и т. п. С этим основным значе-
нием принадлежности связано употребление -in как уменьши-
тельного: ср. готск. gumein 'Mannlein’, qinein 'Weiblein’. Тот
же суффикс служит для образования притяжательных место-
имений, ср. др.-в.-нем. min 'mein’, din 'dein’, sin 'sein’. Как суф-
фикс притяжательный (с значением принадлежности) -in также
является именным формантом, не связанным по своему проис-
хождению с категорией прилагательного.
Суффикс -isk, нем. -isch (по-видимому — вторичного проис-
хождения из *is + qo) получил распространение как формант
прилагательных в языках германских, балтийских и славянских,
где он обозначает происхождение, принадлежность, качество
чего-нибудь. Ср. др.-в.-нем. frenkisc 'frankisch’, irdisc 'irdisch’,
dorfisc 'dorfisch’ и т. п. Происхождение этого суффикса неясно;
однако, по-видимому, он так или иначе связан с начинательным
глагольным суффиксом -sk. Его широкое употребление относится
также к позднейшей истории немецкого языка.
В древневерхненемецкий период создается целый ряд новых
суффиксов с более отвлеченным значением, образованных путем
словосложения из первоначально самостоятельных слов (-lich,
-bar, -sam, -hajt и др.). В новонемецком суффикс -Itch широко
конкурирует с -ig как универсальный суффикс прилагательных.
Процесс этот свидетельствует о растущей потребности в грамма-
тическом оформлении новой категории, которая в древнем языке
еще не имела специальной формальной характеристики. Таким
образом, можно сказать, что новое содержание грамматико-семан-
тической категории имен прилагательных выступает на древ-
нейшей стадии индоевропейских языков в старой форме обще-
именной суффиксации, без дифференциации на существительные
и прилагательные: форма древнее, чем содержание, и пережи-
точно отражает первоначальную недифференцированность имен.
4. Особенности склонения
Не менее показательно, что на древнейших ступенях разви-
тия индоевропейских языков отсутствует особый тип склонения
имен прилагательных, отличный от склонения существительных.
Существует лишь два типа склонения: именное (для существитель-
ных и прилагательных) и местоименное (со своими особенностями).
Ср. лат. прил. м. р. (осн.-о-) им. п. ед. ч. bonus — род. п.
boni — вин. п. bonum — вин. п. мн. ч. bonos и сущ. м. р. hor-
tus — horti — hortos; прил. ж. р. (осн.-а-) им. п. ед. ч. bona —
род. п. Ьопае — вин. п. bonam — вин. п. мн. ч. bonas и сущ.
ж. p.rosa — rosae — rosas; прил. (осн.-f-) им. п. ед. ч. levis —вин.
п. levem — им. п. мн. ч. leves и cynj.hostis — hostem — hoslesn др.
215
Позднейшего происхождения — особая форма склонения при-
лагательного в языках балтийско-славянской группы (с помощью
постпозитивного члена) и в германских языках (замена именных
окончаний местоименными): мы имеем здесь два разных, но парал-
лельных пути развития, достигающих одинаковой цели особого
оформления атрибутивного качественного слова. Влияние указа-
тельных местоимений в германском примере — не просто меха-
ническая «аналогия»: оно указывает, что самая категория атри-
бутивного подчинения ранее всего оформляется особыми окон-
чаниями у местоименных прилагательных (указательных место-
имений). Закономерный характер этой тенденции подтверждается
аналогичными явлениями в латыни и санскрите, распространив-
шимися из категории указательных местоимений только на не-
большую группу прилагательных местоименного типа. Ср. лат.
unus, solus, totus, uter, alter, neuter, ullus, alius; санскр. kata-
ras ('который из двух’), katamas ('который из многих’), jataras,
jatamas, itaras ('другой’), anjas 'другой’, sarvas 'весь’, visvas
'каждый’, ekas 'один’. Параллельное развитие в сторону место-
именного склонения, оформленное особыми (хотя различными
в разных языках) «атрибутивными» окончаниями, обнаруживают
лат. unus (готск. ains, санскр. ekas), лат. uter (готск. hvathar,
санскр. kataras), лат. alius (готск. aljis, санскр. anjas).
Сравнение между собою германских языков в свою очередь
показывает, что развитие местоименного (так называемого «силь-
ного») склонения прилагательных — явление сравнительно позд-
нее, так как вытеснение новыми местоименными окончаниями
старых именных происходит в разных германских языках неравно-
мерно и частично независимо друг от друга, захватывая при этом
различное число падежей. Несовпадения между германскими язы-
ками наблюдаются в следующих формах: 1) местоименный им.
п. ед. ч. м. р. только др.-в.-нем. Winter (рядом по старым имен-
ным blint) — именной готск. blinds, др.-исл. spkar, англосакс,
hwaet; 2) местоименный им., вин. п. ед. ч. ср. р. готск. blindata
(рядом с именным blind), др.-исл. spakt, др.-в.-нем. blinta^ (ря-
дом с именным blint) — именной англосакс, (др.-сакс.) hwatu;
3) местоименный дат. п. ед. ч. ж. р. др.-исл. spakre, англосакс,
hwaetre, др.-в.-нем. blinteru именной готск. blindai; 4) место-
именный дат. п. мн. ч. готск. blindaim, др.-в.-нем. blintem — имен-
ной др.-исл. spokom, англосакс, hwatum; 5) местоименный им.,
вин. п. мн. ч. ж. р. англосакс, hwata, др.-в.-нем. blinto — имен-
ной готск. blindos, др.-исл. spakar.
Это сравнение заставляет предполагать, что в германских
языках первоначально существовали рядом новые местоименные
и старые именные формы склонения прилагательных, из которых
каждый язык сделал в дальнейшем самостоятельный выбор.
Готский сохранил следы этого состояния в дублетной форме имени-
тельного/винительного единственного числа среднего рода blin-
data — blind, немецкий — в именительном единственного числа
216
всех родов: местоим. м. р. Winter — ж. р. Wintiu — ср. р. blin-
ta^ — именной м., ж., ср. р. Mint; в дальнейшем именная форма
blint распространилась, как дублетная, и на именительный мно-
жественного числа. Так создалась в немецком языке особая форма
краткого несклоняемого прилагательного, позднее целиком укре-
пившаяся за предикативным употреблением, в котором оно ос-
тается не согласованным со своим подлежащим ни по роду, пи
по числу (der Mann ist gut, die Frau ist gut, das Kind ist gut, die
Menschen sind gut).
Аналогичную дифференциацию употребления старой, крат-
кой (именной) формы прилагательного и новой, полной (место-
именной), как предикативной и атрибутивной, мы находим и
в русском литературном языке (ср. добрый человек — человек
добр), с той разницей, что русская краткая форма согласуется
со своим подлежащим в роде и в числе. Характерно, однако, что
в церковнославянском и древнерусском языке наблюдается не-
осуществившаяся тенденция употребления несогласованного при-
лагательного среднего рода как особой предикативной формы.
Ср. ц.-слав. грЪхъ сладко; лъгко естьвъздоухъ; др.-русск. (XVII в.):
зимовал стужа — молодцам кручинно, да сердцу надсадно. . .
весновая служба — молодцам веселье, сердцу утеха; в пословицах:
грех сладко, а человеку падко; лев страшно, обезьяна смешно.12
Аналогичные примеры несогласованного предикативного прила-
гательного (среднего рода) встречаются и в других индоевропей-
ских языках. Ср. лат. varium et mutabile semper femina, греч.
xaXdv 7] aXTq&sia xal pi6vip.ov; oux ayaftov TcoXoxapavi'iq и т. п.
В германских языках, не имеющих, в противоположность
немецкому, несклоняемой предикативной формы прилагатель-
ного (например, в готском, древнеисландском), также наблюда-
ется в некоторых ограниченных случаях употребление в преди-
кации несогласованного среднего рода. Сюда относятся примеры
предикативного 'это’: готск. niu thata ist sa timrja 'ist das nicht
ein Zimmermann’ (ср. русск. разве это не плотник); др.-исл.
tha sa han at that var kona 'da sah er, da[3 das eine Frau war’ (cp.
русск. тогда увидел он, что это была женщина). К той же катего-
рии относится употребление в среднем роде предикативного при-
частия II при глаголе 'быть’ (страд, залог): ср. готск. at thaimei
gatarnith (ср. р.) ist sunja (ж. р.) 'denen die Wahrheit genommen
ist’; др.-исл. hafthe Gunnar saertha atta menn (мн. ч. м. p.) еп
veget (ср. p. ед. ч.) tva 'Gunnar hatte acht Manner getotet und
zwei verwundet’.
Все эти примеры показывают, что согласование прилагатель-
ных (как и развитие у них местоименного склонения) теснейшим
образом связано с их атрибутивным употреблением, основным
для прилагательного как самостоятельной грамматической кате-
гории. Семантическую сторону этого явления правильно осве-
щает Потебня: «Согласование прилагательного есть представ-
ление его чем-то подобным существительному, представление
217
свойства вещи подобием (хотя и неполным) самой вещи».13 Следует
напомнить, что согласование такого типа (в частности, по роду,
о котором подробнее будет сказано ниже) представляет из себя
частный случай согласования «классных показателей», широко
распространенного как форма синтаксического объединения
во всех языках, которые пользуются такими показателями.
5. Степени сравнения
Вопрос о степенях сравнения прилагательных разработан
в сравнительной грамматике достаточно подробно, и нет необ-
ходимости останавливаться на нем специально. Следует отметить
только два момента, существенные для истории этой грамматиче-
ской категории.
С одной стороны, в разных индоевропейских языках нали-
чествует довольно большое число суффиксов сравнения, которые
частично по-разному используются этими языками. Если в гре-
ческом языке, например, господствующим типом является для
сравнительной степени суффикс -терос, для превосходной суф-
фикс -татос, то в германских языках господствующий тип пред-
ставлен готск. -iza (hauhiza 'holier’), -ista (hauhists 'der hochste’).
Несовпадение в использовании общего запаса суффиксов в раз-
личных индоевропейских языках свидетельствует о том, что
окончательное оформление этой категории — явление относи-
тельно позднее.
С другой стороны, большинство сравнительных суффиксов
первоначально по своему происхождению не было связано со сте-
пенями сравнения прилагательных, а лишь перенесено на них
с наречий места и соответствующих прилагательных, выражаю-
щих пространственную соотносительность: ср. {более) вперед,
{более) передний — (более) назад, (более) задний', (более) вверх,
(более) верхний — (более) вниз, (более) нижний', (более) влево,
(более) левый— (более) вправо, (более) правый и т. п.; также
в притяжательных местоимениях и порядковых числительных,
с значениями '(более) наш’ —'(более) ваш’, '(более) первый’ —
'(более) второй’ и т. п. Во всей указанной категории наречий
и прилагательных суффикс обозначает в сущности не более вы-
сокую степень качества, а соотносительность пространственного
понятия, счета и т. п. с другим, противоположным понятием.
Например: 1) суффикс -г- (сравн. ст.): готск. ufar нар. предл.,
др.-в.-нем. ubar нар. предл. (прил. obaro 'der obere’) от нар.
предл. др.-в.-нем. oba (ср. лат. super, греч. utjso, санскр. upari);
др.-в.-нем. и^аг (прил. u^aro 'der au|3ere’); др.-в.-нем. innaro
прил. (от inne нар.); лат. superus 'верхний’ (от super), inferus
'нижний’ и др.; также в притяжательных местоимениях —
др.-в.-нем. unsar 'unser’, iuwer 'euer’ и др.; 2) суффикс -ter (сравн.
ст.): др.-в.-нем. fordaro 'der vordere’ прил. (от нар. предл. fora
218
'vor’); готск. aftra нар., др.-в.-нем. aftra нар. предл. (прил. atfaro
cder hintere’); готск. hindar нар. предл., др.-в.-нем. hintar нар.
предл. (прил. hintaro 'der hintere’); лат. intra нар. (прил. inte-
rior 'внутренний’), греч. svTepov, санскр. antara; притяж. мест,
nos-ter 'наш’, ves-ter 'ваш’, dex-ter 'правый’, sinis-ter 'левый’,
др.-в.-нем. winistar 'левый’ и др.; 3) суффикс -иг-, -tm- (прев, ст.):
готск. fruma, поздн. frumists 'der erste’ (ср. лат. primus), готск.
aftuma, поздн. aftumists 'der letzte’, auhuma, поздн. auhumists
('der hochste’), innuma 'der innerste’, hleiduma 'links’, лат. sum-
mus 'самый высокий’, санскр. upamas, лат. ultimus 'последний’
и др., в числительных порядковых лат. septimus, decimus, русск.
осъмой и др.
Таким образом, общими для всех индоевропейских языков
являются не столько суффиксы степеней сравнения, сколько по-
казатели относительности, из которых они развились. Образова-
ние степеней сравнения связано с отбором и грамматизацией суф-
фиксов относительности в новой функции показателей степени
качества. Процесс этот определяется формированием граммати-
ческой категории качественных слов и в разных индоевропей-
ских языках осуществляется в конце концов разными средствами
при сохранении одинакового общего направления развития.14
6. Изменение по родам
Единственным морфологически четким признаком прилагатель-
ных как особой грамматической категории является в индоевро-
пейских языках изменение по родам, связанное с согласованием
в роде с определяемым существительным. Однако изменение
по родам наличествует и у имен существительных, основанное
здесь на раз ичии полов: см. лат. equus 'конь’, equa 'кобыла’,
санскр. asvas — asva; слав, вран 'ворон’—врана 'ворона’, нем.
Konig — Konigin и т. п. С другой стороны, не все прилагатель-
ные изменяются по трем родам: существуют прилагательные двух
окончаний и одного окончания, и эти недоразвившиеся формы
несомненно древнее, чем «нормальные» прилагательные с тремя
окончаниями. Особенно интересны с этой точки зрения прилага-
тельные с одним окончанием (без дифференциации рода): ср. лат.
felix, pauper, vetus (может быть, старые существительные?),
тарах, audax; греч. артга£ (лат. тарах), акаь; (bahuvrihi—вто-
рой элемент сущ. тсац 'ребенок’), ар(Ь; (-от-), гЛуцс (-?]--), р,ахар и
т. п. Наконец, сахмая дифференциация грамматического рода
в индоевропейских языках и для существительных — явление
сравнительно позднее и полност! ю нашедшее себе выражение
только в противопоставлении основ на -о- (м. р., ср. р.)-------а-
(ж. р.).
Таким образом, необходимо вкратце коснуться проблемы грам-
матическо.о рода в индоевропейских языках, без чего остается
219
неясным и вопрос о генезисе прилагательных как особой грам-
матической категории.
Как известно, в индоевропейских языках классификация имен
по основам древнее, чем классификация по грамматическим родам.
В основообразующих суффиксах в настоящее время все чаще
усматривают показатели классов, на которые для примитивного
сознания распадались все предметы общественного опыта и тем
самым все слова-понятия, обозначающие эти предметы. Сопо-
ставление основообразующих суффиксов с так называемыми
«классными показателями» африканских языков было уже сде-
лано Есперсеном в одной из его ранних работ, правда — ис-
ключительно с формально грамматической точки зрения.15 Эта
мысль Есперсена получила дальнейшее развитие в современной
компаративистике 16 и была обоснована с глоттогонической точки
зрения в работах советских лингвистов.17 С развитием обществен-
ного опыта и отражающего его мышления классные показатели
в индоевропейских языках утрачивают свое первоначальное зна-
чение показателей семантической классификации понятий и пре-
вращаются в отвлеченные грамматические показатели. Этим опре-
деляется начало «падения основ», т. е. их редукции, слияния С по-
казателями падежей и аналогизации типов склонения (процесс,
наблюдаемый во всех индоевропейских языках).
Во всяком случае большая древность классификации по осно-
вам по сравнению с классификацией по родам фактически доказы-
вается тем, что большинство индоевропейских основ безразлично
по отношению к противоположностям грамматического рода (основы
на Z, и, на согласные), т. е. имеют одинаковые формы в мужском
и женском роде: ср. греч. 6 м. р.—т] ж. р. (осн. -и-),
б м. р. — 7] 7v6Xi; ж. р. (осн. 4-). В германских языках раз-
личие в склонении основ на -I — готск. gasts м. р. (род. п. -is,
дат. п. -а) и готск. ansts ж. р. (род. п. -ais, дат. п. -ai), — как
известно, не исконное и является интересным примером позд-
нейшей дифференциации по родам на основе приспособления
основ на -i- мужского рода к господствующему типу мужских ос-
нов на -о- (готск. dags, -is, -а). Во всех перечисленных основах
имен существительных род определяется не морфологически (осо-
быми суффиксами мужского или женского рода), а по требуемому
данным словом согласованию с прилагательными или место-
имениями.
Основы на -о----а- первоначально также не были прикреплены
к родам. Если даже мужской род на -а- (ср. лат. scriba 'писец’,
греч. 6 vsavia; 'юноша’, русск. слуга и др.) в ряде случаев, может
быть, имеет вторичный характер, восходя к исконному собира-
тельному значению этого суффикса, то во всяком случае следы
первоначальной двойственности основ на -о- сохранили все индо-
европейские языки, в особенности греческий. Ср. ж. р. tj vuo;
'сноха’ (лат. nurus — с переходом в основы на 4-\ др.-в.-нем. soar;
в основы на -а-\ слав, снъха, санскр. snusa); названия деревьев —
220
греч. т] 'бук’ (лат. fagus ж. р. —с переходом в основы на -а-.
др.-в.-нем. buohha 'Buche’), т] zeSpo; 'кедр’, т] хераоо; 'вишня’ и др:
Двойственное родовое значение могут также иметь основы на -о-,
обозначающие самца и самку животного: греч. б — т] ьтско; 'конь’ —
'кобыла’, б — т] архто; 'медведь’ — 'медведица’; б — т] робе 'бык’ —
'корова’, также лат. bos, санскр. gaus, б — т] еХаюо; 'олень’ —
'лань’, — также первоначально б — ftso; 'бог’ — 'богиня’.
Выделению женского рода (трехчленной классификации по ро-
дам), как правильно указывает А. В. Десницкая,18 в языках индо-
европейских предшествует классификация двучленная, различа-
ющая слова активного и пассивного класса (средний род). Пас-
сивный и активный класс различаются не по основам, а только
по оформлению падежа субъекта (именительного). В активном
классе признаком субъекта (номинатива) является показатель
-s (вероятно, связанный с указательным местоимением so) или
долгота гласного основообразующего суффикса (в основах на
согласные — ср. греч. 8atpxoy, -оуо;). Выделение социально-актив-
ного субъекта, выраженного именительным падежом, связано
с одним из важнейших преобразований индоевропейского пред-
ложения — с формированием так называемого «номинативного
строя». Пассивный класс первоначально не имел падежа субъ-
екта, поэтому именительный падеж среднего рода совпадает с вини-
тельным (ср. греч. Со^оу, лат. jugum), либо он равен чистой основе
без падежного окончания (casus indefinitus), например в основах
на -i-, -и- и на согласные: ср. готск. faihu, греч. лат. mare,
греч. zijp, лат. cor (-rd-) и др. Именительно-винительный множе-
ственного в пассивном классе обозначается особым показателем
а, с первоначальным значением собирательности (см. ниже).
Прилагательные в греческом и латинском языках еще в зна-
чительной мере сохранили эту двучленность классификации.
Ср. греч.: 1) некоторые прилагательные на -ос,-оу, например
pdcppapoc, -ov; три^ос, -оу; срроуср-ос, -оу и т. д. и все составные (по-
следнее особенно важно ввиду архаичности этой категории),—
ср. xepaa- (сброс, -оу 'рогоносный’ и др.; 2) прилагательные на -tjc,
-е; (осн. -es), например е1уеу7]с, -ес; 3) прилагательные на -соу, -оу
(осн. -on), например sdrfpwv, owapov и др.; 4) как остаток основ на
-1-: tSpic, tSpt.
Лат.: 1) осн. на -i-, например fortis, -е и др.; 2) осн. на -es,
например асег, acris (из более древнего acer, acre); 3) сравнитель-
ная степень, например longior, -ius; 4) причастия настоящего
времени на -ns (осн. -nt), где средний род -nt} -ns, например amans,
legens и др.
Германские языки не различают мужского и женского рода
в основах на -Z-, -и-: ср. harbus, -и (осн. -и-), brains, -п (осн. -i-).
Это положение, как показывают и существительные, надо считать
для индоевропейских языков исконным по сравнению с греческим
и санскритом, которые вводят в женском роде основу на -Г-: ср.
греч. 7)86; (осн. -и-). -7]8г1а ж. р., санскр. svadus — svadvf ж. р.,
221
Греческий сохранил архаические прилагательные осн. -и- с двумя
окончаниями в гомер. tHjXu; 'кормящая грудью’ (где по смыслу
не может быть мужского рода); встречаются также как женский
род греч. и санскр. earns. Аналогичным образом от
форм с двумя окончаниями (лат.) развиваются к трем окончаниям
и причастные основы на -ont-, которые в греческом и в германских
языках образуют женский род с тем же суффиксом -г"-: ср. греч.
rcaiSbocov, -ouaa (a<^ntj), -ov и др.; готск. м. р. gibands, ж. р.
gibandei (осн. -z-).
Наиболее показательно для двучленной классификации вопро-
сительное местоимение кто?, что? с его архаической двойствен-
ностью одушевленного и неодушевленного. Ср. греч. тсс — тс, лат.
quis — quid, нем. wer— was, лит. kas — ко. Позднейший характер
имеет форма женского рода в санскр. ка, готск. hwo.
При двучленной классификации вопрос о согласовании в роде
прилагательного с существительным еще не встает, так как оба
класса имеют одинаковыми все падежи, кроме именительного,
который в пассивном классе первоначально отсутствовал, тогда
как согласование в падеже и числе еще не отличает новую кате-
горию прилагательного от существительного, поскольку оно воз-
можно и при существительном-определении (ср. боярин Моро-
зов, боярина Морозова, бояре Морозовы и т. п.).
Основным моментом, определяющим возникновение трехчленной
классификации по родам и тем самым — согласование, является
образование категории женского рода. Показателем его в индоев-
ропейских языках является суффикс -a, -ia (низшая ступень -z-),
чередующийся с суффиксом мужского рода -о-. Мы находИхМ суф-
фикс женского рода -а-, -I- и в существительных с дифференциа-
цией значения мужского и женского пола. 1-й тип -о-----а~\ лат.
equus 'конь’ — equa 'кобыла’ (санскр. a^vas — asva), рядом с ста-
диально более древним греч. 6-т] (ср. греч. &еб; 'бог’ — Ней
'богиня’, лат. deus — dea рядом с стадиально более древним о-т] &ебс).
2-й тип -о---г"-: санскр. vykas 'волк’ — vrki 'волчица’ (ср. др. -исл.
ulfr 'волк’ — ylgr 'волчица’), санскр. taksan 'дровосек’—ж. р.
taksni (ср. греч. техшу—Texxatva an-\-id); готск. magus 'мальчик —
mawi 'девушка’ «*maju-i). В западногерманских языках рас-
ширенная форма этого суффикса женского рода в существитель-
ных zn-j-z": ср. kuning 'Konig’ — kuningin 'Konigin’, esel — eselin;
аналогично в славянских языках -vnji: ср. бог — богиня.
Объяснение морфологической стороны категории женского рода
дал, как известно, Шмидт19 в своем исследовании, посвященном
образованию множественного числа среднего рода в индоевропей-
ских языках. Он сопоставил женский род на -а- с именительным/
винительным множественного числа среднего рода на -а-, объяснив
это последнее как суффикс с собирательным значением (collecti-
vum). Основным доказательством теории Шмидта является сохра-
нившееся в индоевропейских языках употребление суффикса -fl-
как показателя множественного числа с собирательным значением
222
от слов мужского рода на -os. Ср. греч. б оето; 'хлеб’—мн. ч.
собир. 'za оста (ср. русск. хлеба); xskso&o; 'дорога’ — бура xeXev&a
'влажные пути’ (поэтич. в значении 'море’); поэтому множествен-
ное число среднего рода в собирательном значении может управ-
лять глаголом в единственном числе: табта eoxiv. Лат. locus — 1оса
('места’), jocus — joca ('игры’), clivus — cliva ('холмы’), acinus —
acina ('ягоды’, 'зерна’). Особенно широко распространено множест-
венное число на -а- от существительных мужского рода в русском
языке (тип хлеб — хлеба). Ср. братья, дядья, сыновья, зятья;
господа, сторожа, повара, позднее профессора, офицера и т. д.;
глаза, голоса, города, леса, луга, дома; листья, сучья, каменья,
стулья и мн. др. Исторически многие из этих форм первоначально
имели собирательное значение: ср. братья (из *bratrija 'братство’ —
ср. греч. «рратрса), листья, сучья, господа и нек. др.; позднее окон-
чание -а получило широкое аналогическое распространение как
форма множественного числа.
Переход от множественного среднего рода в собирательном
значении к единственному женского рода показывают такие при-
меры, как др.-в.-нем. loupa ж. р. собир. umbraculum 'навес’, 'тени-
стое место’ от loup м. р. (готск. laufs) 'лист, листва’ или слав.
слома ж. р. собир. 'солома’ от формы мужского рода, сохранив-
шейся в греч. хаХар-о; 'тростник’, др.-в.-нем. halm 'стебель’, латышек,
salms 'стебель’.
Если употребление собирательной формы на а как множест-
венного числа пассивного класса понятно в семантическом отноше-
нии без дальнейших доказательств, то для употребления собира-
тельной формы в значении женского рода необходимо привести
некоторые семантические аналогии, имеющие социально-истори-
ческое объяснение.
Давно уже возбуждала удивление форма среднего рода для
слова wip 'Weib’ в германских языках. Мы полагаем, что da^,
wip — старая собирательная форма, с первоначальным значе-
нием 'женский дом’, 'женская половина’ (ср. ср. р. собир. 'бабьё’).
Из самок животных нем. das Huhn (др.-в.-нем. huon) — также
среднего рода и, вероятно, обозначало первоначально группу
куриц (букв, собир. 'курьё’) с петухом (др.-в.-нем. hano). Сред-
ний род употребляется в немецком языке также в ряде других
обозначений животных: das Schaf 'овца’, das Lamm 'ягненок’,
das Rind 'рогатый скот’ ('телка’), das Tier 'зверь’, das Vieh 'скот’.
Всюду можно предположить первоначальное собирательное зна-
чение, которое еще сохранилось в противоположности das Rind
'рогатый скот’ и 'штука скота’, das Tier 'зверь’ и 'зверьё’, das
Vieh 'скот’ и 'скотина’ — ср. du Vieh! При этом Schaf 'овца’
и Lamm 'ягненок’ являются одновременно и общим названием
животного (без различия пола), и обозначением самки в противо-
положность самцу (Воск 'козел’, Widder 'баран’), как это нередко
бывает в названиях домашних животных, где самки имеют ос-
новное хозяйственное значение. Сюда же относится, вероятно,
223
и слово Rind, которое в диалектах имеет значение Челка’. Таким
образом, средний род в значении собирательном в этих случаях
обозначает группу животных (самок), а в дальнейшем и отдель-
ное животное (самку).
Наиболее ясно это развитие в слове нем. Stute 'кобыла’.
Др.-в.-нем. stuota ж. р. означает 'косяк лошадей (с жеребцом)’,
т. е. имеет собирательное значение; так же англосакс, stod (ср.
англ, stud 'конюшня’, 'конский завод’), откуда производное ан-
глосакс. steda м. р. 'жеребец’ (англ, steed). Древность собиратель-
ного значения, из которого в немецком языке развилось название
самки, подтверждает слав.-русск. стадо, лит. stodas ('косяк ло-
шадей’).
Новейшим примером подобного развития значения является
нем. Frauenzimmer 'женщина’ (зарегистировано около 1606 г.)
из позднего ср.-в.-нем. vrouwenzimber 'Frauengemach’ ('женская
половина’, 'терем’). Аналогичное развитие от собирательного
значения к личному ср. в таких словах, как bursa 'студенческое
общежитие’ (ср. бурса) — Bursche, итал. camarata 'общество’
(букв. 'Stubengesellschaft’) от camera — франц, camarade 'то-
варищ’ и т. п. В процессе образования романских языков широ-
кое распространение получает вторичный переход латинского
множественного числа среднего рода (с собирательным значением)
в женский род: ср. лат. gaudia 'радости’ франц, joie, итал.
gioia 'радость’.
Таким образом, исходный момент для превращения собиратель-
ного суффикса -а- в признак женского рода представляют сущест-
вительные на -а, обозначающие группу самок в противоположность
самцу (тип лат. equus — equa, санскр. asvas — asva и т. п.).
Антропоморфический характер могло иметь распространение такого а
на некоторые имена существительные, воспринятые как обозна-
чения существ женского пола, например на имена деревьев,
причем и здесь, вероятно, существенную роль сыграло также
первоначальное собирательное значение суффикса -а-. Иногда
рядом с названиями деревьев, оформленными как основы на -о-
женского рода, стоят те же названия с суффиксом -а- (ж. р. собир.):
ср. греч. cp-iq-foc, лат. fagus ж. р. — 'бук’—рядом с герм. Ьбка;
лат. quercus ж. р. 'дуб’ — рядом с др.-в.-нем. forha; лат. alnus
ж. р. 'ольха’ — рядом с др.-в.-нем. elira 'Erie’ и нек. др. Более
живой характер имеет противопоставление дерева и его плода как
предметов активного и пассивного класса: ср. греч. tj xs8 о? 'кедр’ —
то xsopov 'кедровый орешек’; 1] 'вишневое дерево1—то xspaoov
'вишня’; т] тгробруос 'сливовое дерево’—то тсроормкр 'слива’, лат. pirus
ж. р., 'грушевое дерево’—piruin ср. р. 'груша’ и мн. др.20
Однако вряд ли антропоморфическое восприятие явлений
действительности может объяснить более широкое распростране-
ние -а- как показателя формы женского рода. Вероятно, в даль-
нейшем развитии этого процесса важнейшую роль сыграло со-
гласование прилагательных с одушевленными именами мужского
224
й венского рода на -о---а-, а также указательное местоимение
so 'тот’ — sa 'та’, которое к тому же рано могло функционировать
и как личное местоимение с различием естественного пола ('он’ —
'она’). В дальнейшем при наличии такого согласования большое
число имен на -а- оказалось словами женского рода уже по фор-
мально-грамматической аналогии с одушевленными. Среди них,
между прочим, имеется обширная группа с значением абстракт-
ных понятий (названий действия и т. п. — ср. греч. тор.iq, yoviq,
тротгт) и др.), которые, вероятно, исторически связаны со ста-
рым значением суффикса -а- как признака собирательности.
Некоторый интерес в связи с указанным вопросом предста-
вляет наблюдение Хирта, согласно которому число общеиндо-
европейских прилагательных с суффиксом -о----а- вообще крайне
невелико. «Любопытно, — пишет Хирт, — что простые основы
этого рода встречаются сравнительно редко. . . Отсюда, как мне
кажется, следует, что простых прилагательных на -о- в индоевро-
пейском языке почти не существовало. Между тем прилагатель-
ные с расширенным суффиксом на -io------ia, -ио--иа, -го--га,
-1о--la, -to--ta, -по---па чрезвычайно многочисленны».21
Это заставляет предполагать, что чередование о—
соответствующего детерминатива) в сущности является поздней-
шим оформлением именной категории, возникшей ранее как су-
ществительное с тем или иным именным формантом (-г-, -Z-, -t-,
-п- ит. д.), но еще не менявшееся по родам.
7. Так называемая «субстантивация» прилагательных
Для исконной связи между именами существительными и при-
лагательными показательна широкая возможность самостоятель-
ного употребления прилагательных в функции существительных,
так называемая «субстантивация». Большинство индоевропейских
языков сохранило такую возможность до нашего времени, частью
укрепив ее морфологически с помощью употребления артикля
как признака существительного: оформление, ставшее необходи-
мым в условиях уже совершившейся дифференциации этих грам-
матических категорий. Ср. нем. alt — der Alte, die Alte или ein
Alter, eine Alte; schon — das Schone. В дальнейшем, при после-
дующей семантической дифференциации, субстантивированное
в самостоятельном синтаксическом употреблении прилагательное
нередко превращается в совершенно независимое существительное:
ср. нем. jung— der Junge 'мальчик’, geliebt — die Geliebte
'возлюбленная’, leid — das Leid 'rope5.
Потебня приводит ряд аналогичных примеров из церковно-
славянского и древнерусского, указывающих на большую древ-
ность этого явления.22 Хотя нем. der Weise ist glucklich (франц,
le sage est heureux), в котором прилагательное 'мудрый’ субстан-
тивировано с помощью артикля (der Weise, le sage — 'мудрец’),
15 В. М. Жирмунский
225
и должно было бы соответствовать в церковнославянском и древне-
русском не мкдръ блаженъ есть, а мждрецъ блаженъ есть, од-
нако, как указывает Потебня, мы находим в старом языке, в по-
словицах и т. п. выражения вроде следующих: богат шел на пир,
а убог брел в мир (ср. нем. der Reiche, der Arme), и глуп молвит
слово в лад (нем. der Dumme), глуп да ленив одно дважды делает,
наг золота не копит, бит небитого на руках носит (позже: би-
тый небитого, . . ), сужено-ряжено не объедешь в кузове, неровен
черт, навернется либо старо одушливое, либо младо недужливое
(прил. при сущ.) и др.
В ряде подобных случаев можно вообще усомниться, имеем ли
мы в таком самостоятельном употреблении существительные
или прилагательные: например старъ — в значении 'старый’
или 'старик’? Существует большое число слов, которые в зависи-
мости от синтаксического употребления выступают то как сущест-
вительное, то как прилагательное, причем не всегда без дальней-
шего ясно, какое значение первоначальное. Ср. из примеров,
приводимых Потебней: сжсЪдъ 'сосед’ и 'соседний’; другъ 'друг’
и 'другой’; прокъ (сущ.) и ц.-слав. прок-ый 'прочий’, 'остальной’;
просторъ (сущ.) и простор-ый 'просторный’; в^зъ 'vinculum’,
вткза 'уза’, 'обуза’ — вжзъ прил. (сравн. степень уже)', лъжъ
(сущ. 'лживый человек’), лъжа 'ложь’ — прил. лъжъ, -а, -о
'лживый’ (ср. также лъжъ-свидетелъ 'лжесвидетель’), хоробръ
'храбрый’ и 'удалец’ и мн. др.
Слова типа удал-ец, резв-ец, стар-ик и т. п. Потебня рассма-
тривает как позднейшую попытку с помощью суффикса дифферен-
цировать существительные старъ, удалъ и т. п. от соответствую-
щих прилагательных: явление, аналогичное приведенному выше
примеру употребления в немецком языке суффикса -ig для диф-
ференциации прилагательных.
Сходные примеры существительных, функционирующих в ка-
честве прилагательных на основе первоначальной двойственности
категории имени, приводит Остгоф для латинского языка.23
Такое двойственное значение имеют, например, некоторые су-
ществительные, образованные с суффиксом -tor (имена действую-
щих лиц): ср. victor 'победитель’ — сущ.-прил. victor exercitus
'победоносное войско’, victor equus 'победивший конь’, victrix
causa 'победившее дело’; vector 'седок’, 'ездок’ — сущ.-прил.
vector asellus 'вьючный осленок’. Потебня дополняет: bos arator
'плуговой бык’ — прил. receptor locus 'потаенное место’; также
колеблющиеся в своем значении между прилагательным и сущест-
вительным: homo servus 'раб’ (букв, 'подневольный человек’),
anus sacerdos 'старый жрец’ или 'старик жрец’, mulier ancilla
'служанка’ (букв, 'служащая женщина’), digitus pollex 'большой
палец’ и др. Остгоф указывает, что в санскрите имена на -tar
нередко функционируют как предикативные прилагательные.
Подводя итоги рассмотрению этого круга явлений, Остгоф за-
мечает: «Можно признать несомненным, по крайней мере все на
226
это указывает, что в древнейший период индоевропейского слово-
образования не делалось различия межу именами существитель-
ными и именами прилагательными по способу образования основ,
а также по флексии. Каждый суффикс мог сам по себе служить
средством производства как той, так и другой категории слов».
Только смысловая связь (иными словами — синтаксическая функ-
ция) «определяла, которое из двух стоящих рядом имен воспри-
нимается как субстанция и которому выпадает роль атрибута,
выражающего признак субстанции. Точно так же лишь от слово-
употребления (Sprachgebrauch) зависело, какое значение могло
установиться за определенным именем — значение существи-
тельного или прилагательного». По мнению Остгофа, греческий
язык и в особенности санскрит еще менее четко дифференцируют
категории существительных и прилагательных, чем латынь и
языки германские. «Хотя словоупотребление и делает одно слово
существительным, другое прилагательным, однако не предста-
вляет никакой трудности снять это разграничение. То, что до
сих пор стояло в зависимом положении, легко может быть пред-
ставлено в независимом, благодаря чему нередки переходы из
класса прилагательных в класс существительных без какого-либо
изменения внешней формы».24
Таким образом, в основе грамматического явления «субстан-
тивации» лежит более древняя двойственность категории имени.
Многочисленные примеры формально тождественных существи-
тельных и прилагательных, собранные Вильмансом в древнегер-
манских языках,25 в этой общей перспективе получают правиль-
ное историческое объяснение. С точки зрения самого Вильманса,
мы имеем здесь дело с «субстантивацией» прилагательных, оди-
наково возможной во все периоды истории языка. Однако для
древнейшего периода правильнее говорить о параллельном, еще
не дифференцированном употреблении именных форм.
Легче всего, с точки зрения современного языка, объясняются
как «субстантивация» существительные среднего рода типа русск.
зло, добро, лихо, тепло и т. п. (ср. нем. das Gute, das Wahre и т. п.).
Например, др.-в.-нем. сущ.-прил. guot 'добрый’ и 'добро’, heil
'здоровый’, 'целый’ — 'здоровье’, 'счастье’, leid 'несчастный’ —
'горе’, liob 'милый’ — 'приятное’, 'милое’, lieht 'светлый’ —
'свет’, recht 'правый’ — 'право’, war'истинный’ — 'правда’ и т. п.
Так же могут быть объяснены слова мужского рода от прила-
гательных с личным значением: ср. др.-в.-нем. trut 'любимый’ —
'любимец’, ср.-в.-нем. min trut 'мой возлюбленный’, haft 'пле-
ненный’ и 'пленник’, liob 'любимый’ — 'возлюбленный’,
ср.-в.-нем. min lieb 'мой возлюбленный’ и т. п.
Менее понятны с точки зрения современного языка те случаи,
когда мужской род от прилагательного употребляется в значе-
нии не личном (для неодушевленного предмета или понятия):
ср. др.-в.-нем. scin 'блестящий’ — 'блеск’ (ср. нем. Schein),
lut 'громкий’ — 'звук’ (ср. нем. laut — Laut), wert 'ценный’ —
227
15*
'ценность’ (ср. нем. wert — Wert), haft 'пленный’ — 'оковы’,
mein 'лживый’ — 'ложь’ (ср. нем. Mein-eid'клятвопреступление’,
букв, 'лживая клятва’), gram 'печальный’ — 'печаль’ и мн. др.
Конечно, параллели других индоевропейских языков к прила-
гательному lut (лат. inclutus, греч. хХитб; — от корня kleu 'зву-
чать’) закрепляют за этим словом значение 'слышимый’, 'звуча-
щий’, 'громкий’, 'прославленный’ и т. п., но вряд ли отсюда сле-
дует, что сущ. lut 'Laut’ развилось из «субстантивации» этого
прилагательного, с абстрактнейшим значением 'звучащий’.
Столь же сомнительно было бы предположение, что в прилага-
тельном-существительном sein (Schein) первоначальным является
значение прилагательного (причастия) 'блестящий’, 'яркий’, а не
существительного 'светоч’, 'блеск’.
Наиболее выпадают из аналогий современного языка субстан-
тивированные имена женского рода: они имеют значение абстракт-
ных понятий, которое ничем не связано с позднейшей семантикой
грамматической категории женского рода и возвращает нас к до-
историческому значению суффикса -а-, предшествующему обра-
зованию этой категории. Ср. готск. scanda 'Schande’, 'стыд’ —
прил. др.-в.-нем. scant 'позорный’, sibja 'родство’ — прил. sibjis
'родственный’, sunja 'истина’ — прил. sunjis 'истинный’, triggwa
'Treue’, 'верность’ — прил. triggws 'верный’; др.-в.-нем. forahta
'Furcht’, 'страх’ — готск. прил. faurhts 'furchtsam’, 'боязливый’,
др.-в.-нем. leida 'Leid’ — прил. leid и др. Здесь не представляется
возможным говорить о «субстантивации» в обычном смысле слова,
так как из значения прилагательного женского рода, например
triggws, ж. р. triggwa 'верная’, никак не может быть выведено
семантически значение абстрактного существительного triggwa
'верность’. Вместо «субстантивации» мы имеем в существительных
этой категории значительно более древнее субстантивное значе-
ние (абстрактные на -а-).
Двойственный характер существительного (название действую-
щего лица) и прилагательного (активного причастия от основы
презенса) имеют отглагольные имена на -nt. Эта общая всем ин-
доевропейским языкам категория в своем оформлении в качестве
прилагательного (причастия) обнаруживает в отдельных языках
существенные различия, указывающие на более поздний характер
этого оформления. В латинском языке причастие на -nt имело
два окончания, слившиеся, — как принято думать, по фонети-
ческим причинам, — в общей форме именительного падежа -ns
(amans). В греческом языке оно имеет три окончания (ср.
Kaioeoa)v,-oooa, -ov), причем женский род, отсутствующий в ла-
тыни, оформлен суффиксом -i- (-oooa < *-ontja). В готском при-
частие склоняется как слабое прилагательное (ср. nimanda, ni-
mandei, nimando), т. e. с новым, специфически германским оформ-
лением; при этом женский род также имеет суффиксальный эле-
мент -I- (суффикс -In). Однако именительный падеж мужского
рода сохраняет и старую именную форму (ср. nimands). В немец-
228
ком причастие I имеет, как все прилагательные, два склонения —
сильное и слабое.
В то же время все германские языки сохранили (преимущест-
венно в сакральном, церковном, и в старинном эпическом языке)
особую группу так называемых «субстантивированных причастий»
(с значением названия действующего лица), которые склоняются
по старому типу как существительные с согласной основой на
-nt-. Ср. готск. nasjands 'Heiland’, gibands 'Geber’, bisitands
'Nachbar’, all-waldands 'Allmachtige’, gardawaldands 'Hausherr’,
daupjands 'Taufer’, talzjands 'Lehrer’, frijonds 'Freund’, fijands
'Feind’, fraujinonds 'Herrscher’; по-видимому, также nridumonds
'Mittler’, fraweitands 'Richter’, merjands'Verkunder’; др.-в.-нем.
fruint, fiant, heilant, wigant 'Kampfer’, valand 'Teufel’ (ж. p.
valantin), helfant 'Helfer’; в «Песне о Гильдебранде»: waitant
'Walter’, lantpuant 'Landbewohner’.
Очень часто в англосаксонском: freond, hettend 'Feind’, agend
'Besitzer’, demend 'Richter’, wigend 'Kampfer’; особенно любо-
пытно отметить ряд примеров женского рода: англосакс, swel-
gend 'Strudel’, timbrend 'Erbauerin’, theos wealdend 'diese Herr-
scherin’, theos feond 'diese Feindin’.
Форма склонения этих существительных, как согласных ос-
нов на -nt-, древнее, чем специфически германское склонение
причастий, как слабых и сильных прилагательных. Если бы мы
имели в словах этой группы действительно «субстантивированные»
прилагательные, они должны были бы, по нормам германских
языков, иметь форму так называемого «слабого склонения».
На самом деле, как свидетельствует архаическое склонение,
перед нами остаток более древнего употребления основ на -nt-
как отглагольных имен действующего лица (nomina agentis).
В греческом также имеются остатки такого употребления: ср. yspuiv
'старец’, opaxtDv 'дракон’, asScov 'служащий’ (ср. готск. mitands
'Messender’, 'Ermesser’), cpasStov 'светящий’ (эпитет бога солнца —
мифол. Фаэтон) и немн. др. Оформление этой категории по типу
прилагательного (причастия) с изменением по родам необходимо
и здесь рассматривать в целом как стадиально более позднее
явление.
С так называемой «субстантивацией» прилагательных связы-
вают вопрос о происхождении слабого склонения этой категории
в германских языках. С морфологической точки зрения вопрос
этот разработан Остгофом, синтаксическая сторона его в недав-
нее время была заново рассмотрена С. Д. Кацнельсоном.26
Как известно, существование особого «слабого склонения»
прилагательных (по типу основ на -п-) рядом с обычным сильным
(местоименно-именным) является специфической особенностью гер-
манских языков, хотя и в греческом, и в латинском, как показал
Остгоф, существуют парные формы имен на -о-------а- и на -дп-,
образованные от одного корня и соответствующие двойному скло-
нению германских прилагательных. При этом имена на -о----а- по
229
своей синтаксической функции являются прилагательными, имена
на -бп----существительными (названиями действующего лица),
представляющими по своему значению «субстантивированное»
прилагательное в индивидуализованном, личном употреблении
(иногда—прозвище, кличку индивидуального лица по признаку,
обозначаемому прилагательным). Ср. греч. прил. отрарб^ 'schielend’
('косоглазый’) — сущ. отражу 'der Schieler’; прил. фсоХб^ 'wol-
liistig’— сущ. фат 'der Wolliistling’; срауб^ 'fressend’ — сраусоу
'Fresser’ и т. п.; собственные имена (из прозвищ): Етрарсоу 'Стра-
бон’. ’Ауа&оу 'Агафон’ — от прил. ауаЭб; 'добрый’, ФсХсоу 'Филон’—
от прил. cptXos 'любимый’ и мн. др. Лат.: от глаг. bibere 'пить’ —
прил. (multi-) bibus — сущ. bibo, -onis 'пьяница’; прил. scelerus
'преступный’ — сущ. scelero, -onis; прил. varus 'колченогий’ — varo,
-onis 'упрямец’, 'простак’; собственные имена (из прозвищ): Varo,
-onis 'Варон’, Rufo, -onis — 'Руфон’ (от прил. rufus 'рыжий’),
Aquilo, -onis 'Аквилон’ ('северный, бурный ветер’ — от прил.
aquilus 'темный’, 'черноватый’) и др. К этому следует присоеди-
нить и немецкие имена (основы на -п-), образованные от прилага-
тельных: Bruno 'Бруно’ (от прил. brun 'braun’), Baldo (от прил.
bald 'смелый’), Harto (от прил. hart), Kuono 'Куно’ (от прил.
kuoni 'kiihn’) и мн. др.
С точки зрения, освещаемой этими параллелями, исходным
для употребления так называемого «слабого прилагательного»
в древнегерманских языках был тип, сохранившийся в истори-
ческую пору по преимуществу в прозвищах, поэтических эпи-
тетах и т. п. Ср. др.-исл. Sigurthr ungi 'юный Сигурд’ (из более
древнего «Сигурд-юноша»), Guthruno ungi 'юная Гудруна’ ('Гуд-
руна-девушка’), Onundr fagri 'красивый Онундр’ ('Онундр-кра-
савец’); англосакс, gomela Scylding 'старый Скильдинг’ ('старец
Скильдинг’), где эпитет представляет из себя аппозитивное опре-
деление, своего рода прозвище или кличку, в прошлом существи-
тельное (или точнее — древнее имя), функционирующее как
качественное определение (ср. выше — тип меч-самосек, оленъ-
золотые рога и т. п.). В дальнейшем такое аппозитивное имя
будет оформляться с анафорическим (указательным) местоиме-
нием, из которого разовьется определенный артикль: ср. др.-исл.
mathr en gamli 'старый муж’ (букв, 'муж-тот старый’ или 'тот-
старик’), готск. hairdeis sa goda 'добрый пастырь’ (букв, 'пастырь-
тот добрый’ или 'тот-добряк’).
Синтаксическую сторону этого употребления исследовал
С. Д. Кацнельсон, который указал на наличие на разных стадиях
номинативного строя (в частности, в древнегерманских языках)
противопоставления признака стойкого, мыслимого говорящим
как «постоянный» признак предмета («эпитет»), признакам пере-
менным, изменчивым, временным. Первый тип обозначался в гер-
манских языках прилагательным слабым, второй — сильным.
Добавим, что эти две категории следует различать как аппози-
цию именного типа ('Сигурд-юноша’) и атрибутивное прилага-
230
тельное ('юный Сигурд’). В первом случае могли быть использо-
ваны имена на -ап-. дольше сохранявшие синтаксическую само-
стоятельность и значение прозвища, эпитета, характеризующего
предмет его типическим («постоянным») признаком.
Именное значение таких образований особенно отчетливо вы-
ступает в окаменевших эпитетах древнескандинавского эпоса
и мифологии, в которых слабая форма имени из прозвища мифо-
логического существа превращается в самостоятельное имя соб-
ственное. Ср. др.-исл. goltr guHinbursti 'вепрь-золотая щетина’
(ср. русск. свинка-золотая щетинка). GuHinbursti — как собст-
венное имя мифологического зверя ('Золотая щетина’); hestr
gulfaxi 'конь златогривый’ (букв. 'конь-златогривка’),Ои1Иах1 —
как собственное имя коня великана Хругнира ('Златогривка’),
Gullikambi 'золотой гребешок’ (прозвище и собственное имя пе-
туха, охраняющего царство богов); Geri 'жадный’ и Freki 'пожи-
рающий’ — прозвища волков, сопровождающих Одина (как
бога войны и властителя мертвых). Ср. также такие имена нари-
цательные, развившиеся из слабых прилагательных, как др.-исл.
kaldi 'родник’ (от прил. kald 'холодный’ — букв, 'холодец’),
visi 'мудрец’, 'предводитель’ (прил. viss 'мудрый’), готск. weiha
'жрец’ (от прил. weihs 'святой’ или от weihan 'освящать’), blinda
'слепец’ (от прил. blindis 'слепой’) и др. Но здесь мы опять всту-
паем в круг «субстантивированных» прилагательных, частично
более позднего, вторичного происхождения (ср. нем. reich —
der Reiche).
Для вопроса о генезисе слабых прилагательных очень сущест-
венно, что основы на -дп-. как показал Остгоф, не вторичные,
производные образования от прилагательных на -о------а-, а са-
мостоятельные параллельные образования от того же корня.
При этом слабые прилагательные (мужского рода) по своим мор-
фологическим признакам включаются в более широкий круг
отглагольных имен мужского рода на -п- с значением действую-
щего лица (nomina agentis). Ср. готск. skula 'должник’ (от глаг.
skulan), niuta 'ловец’ (от глаг. niutan 'ловить’); др.-в.-нем. boto
'посол’ (от глаг. biotan 'bieten’), gebo 'деятель’ (от глаг. geban),
scepfo 'создатель’ (от глаг. scepfan 'schaffen’), е??о 'едок’ (от глаг.
e^an 'essen’) и т. п.; лат. edo, -onis 'едок’ (от глаг. edere 'есть’),
bibo, -onis 'пьяница’ (от глаг. bibere 'пить’); греч. тбхтшу 'плот-
ник’ (от глаг. техтоиуорои 'строить’), санскр. taksan 'плотник’ и т. п.
Таким образом, в слабых прилагательных, функционирующих
на древнейших стадиях германских языков в качестве индивидуа-
лизованных определений аппозитивного типа, мы также имеем
дело не с «субстантивацией» прилагательного, а с употреблением
параллельной именной формы на -п- для обозначения «типичного»
(по терминологии С. Д. Кацнельсона) признака предмета. В даль-
нейшем из этого употребления разовьется в германских языках
чисто грамматическая форма слабого склонения прилагательных
(с определенным артиклем). Основным морфологическим при-
231
знаком грамматизации новой формы прилагательных, образован-
ной из именных основ на -п-, явится и здесь изменение и согла-
сование по родам. Наличие в германских языках женских основ
на -бп- рядом с мужскими на -ап- до сих пор не вполне разъяс-
нено сравнительной грамматикой. Тип лат. сущ. женск. ratio,
-onis при частичном формальном сходстве с германскими прила-
гательными женского рода на -п- не разъясняет грамматико-се-
мантической стороны проблемы. Хирт предполагает расширение
женских существительных на -а- (герм, -б-) добавлением -п по
аналогии мужских имен на -ап-; ср. готск. widuwo (осн. -п-) —
лат. vidua (осн. -а-), готск. mizdo (осн. -п-) — слав, мъзда (осн.
-а-), готск. quino (осн. -п-) — слав, жена.21 Слабые прилагатель-
ные женского рода перестроились затем по этим существительным.
Явно смешанный и вторичный характер имеет слабое склонение
среднего рода: чередование суффиксов -еп-1-ап (м. р.) и -дп- (ж. р.),
невозможное по законам аблаута (ср. им. вин. п. ср. р. blindo,
род. п. blindins, им. вин. п. мн. ч. blindona и т. д.), возникло из
смешения мужской и женской формы, что указывает на его позд-
нейшее происхождение.
В итоге проблема происхождения категории прилагательных
в индоевропейских языках представляется нам в следующем виде.
Прилагательные развились из существительных (точнее — из
имен) в синтаксической функции определения (атрибута). В ин-
доевропейских языках, в частности в германских, сохранились
многочисленные признаки языкового состояния, предшествую-
щего дифференциации имен на существительные и прилагатель-
ные. Особенно показательно в этом отношении отсутствие у при-
лагательных особых суффиксов и форм склонения, которые выра-
батываются в более позднюю эпоху в связи с оформлением прила-
гательных как особой грамматической категории. В этом процессе
оформления прилагательных особенно важное значение имеет
изменение и согласование прилагательного по трем родам, свя-
занное с трехчленной родовой классификацией, которая также
должна считаться в истории индоевропейских языков явлением
сравнительно поздним.
Решающее значение согласования по родам для оформления
прилагательных как особой грамматической категории в языках
индоевропейской системы подчеркивает акад. И. И. Мещанинов
в своей последней работе. «Так, например, в индоевропейских
языках, во многих яфетических и в целом ряде других, — пишет
И. И. Мещанинов, — прилагательные получают не одну только
свою особую грамматическую форму, ставшую их отличительным
лексическим признаком. Они, кроме того, в отличие от имен су-
ществительных, не принадлежат по своей семантике ни к одному
классу или роду и получают классные или родовые показатели
в порядке согласования с определяемым, т. е. синтаксическим
приемом, выступающим только в синтаксическом построении.
Такая особая сторона лексического значения и особенности син-
232
таксического использования именно данной группы слов выде-
ляют ее, с полным в этом случае основанием, в самостоятельную
часть речи, именуемую прилагательным в отличие от имени су-
ществительного. „Согласование" и „управление" дифференцируют
прилагательное и существительное в синтаксической функции
определения как части речи, обособившиеся в самостоятельные
грамматические категории. Установление присущих прилагатель-
ным отличительных признаков закрепляется именно за ними,
а не за тем членом предложения, именуемым определением, ко-
торый дал основание к выделению этой части речи. Что это именно
так, можно видеть из того, что определение выражается не только
прилагательным, но и другою частью речи, например именем
существительным. В последнем случае существительное не полу-
чает грамматических форм, присущих прилагательному, а сохра-
няет свои грамматические формы, свойственные существительному.
При их синтаксическом употреблении используются различные
синтаксические приемы, при прилагательных имеет место согла-
сование, а при именах существительных выступает управление,
ср. франц, la porte de 1’entree, русск. входная дверь, парадная
дверь. В этих примерах ясно выделяется и синтаксическое обо-
собление имен прилагательных от имен существительных, как
двух различных лексических групп, двух различных частей
речи».28
8. Стадиально-типологические аналогии
Изучение происхождения и развития категорий прилагатель-
ных в языках других систем обнаруживает в общем ходе этого
процесса существенные стадиально-типологические аналогии, ко-
торые подтверждают закономерный характер этого развития.
В тюркских и в монгольских языках мы имеем, например, при
наличии семантического различия между именами предметными и
качественными, значительно менее четкую грамматическую диф-
ференциацию существительных и прилагательных — главным об-
разом вследствие отсутствия в этих языках различий рода, изме-
нения прилагательных по родам и соответствующего согласования
прилагательного с существительными.
В основном грамматическая категория прилагательных (атри-
бутивных качественных имен) отличается в этих языках отри-
цательным морфологическим признаком, как неоформленное имя
в «неопределенном падеже» (casus indefinitus): ср. узб. ед. ч. им. п.
яхши китоб 'хорошая книга’, род. п. яхши китобнинг, мн. ч. им. п.
яхши китоблар и т. д.; бурят-монг. хара морин 'вороная лошадь’,
род. п. хара мориной и т. д.
Имена существительные-определения в тюркских языках всегда
оформлены — родительным падежом при определении и посес-
сивным суффиксом при определяемом (ср. узб. Каримнинг боласи
233
'ребенок Карима’), или только посессивным суффиксом (в соче-
таниях, приближающихся по значению к относительным прила-
гательным индоевропейских языков): ср. татар совети 'город-
ской совет’. Ср. также родительный падеж в значении принадлеж-
ности в бурят-монгольском: тархашанай морин 'лошадь крестья-
нина’.29
Как показал Гренбек, в древнетюркском языке орхонских над-
писей употребление суффикса родительного падежа еще ограни-
чено немногими случаями с значением собственности или при-
надлежности лица одушевленного: ср. tegining altuni 'золото
князя’ (т. е. 'принадлежащее князю’). Господствующей формой
атрибутивной связи является имя в «неопределенном падеже»
(casus indefinitus), стоящее перед другим именем.30 В новотюрк-
ских языках, несмотря на широкое употребление родительного
падежа, эта первоначальная способность недифференцированного
имени выступать в качестве неоформленного определения другого
имени сохранилась в большом числе случаев, в особенности в не-
которых категориях имен. Ср., например, сложные слова (как
в языках индоевропейских), где определение-]-определяемое об-
разуют прочное лексическое целое с новым значением: узб. сув-
илон 'уж’ (букв, 'водо-змея’, т. е. 'водяная змея’), киз-бола 'де-
вочка’ (букв, 'девушка-ребенок’) и т. п.; названия материала:
узб. олтин 'золото’ — 'золотой’, тош 'камень’ — 'каменный’,
ср. олтин соат 'золотые часы’, тош куприк 'каменный мост’
и др.31 Гораздо более широкие возможности сохранили, по-види-
мому, в этом отношении монгольские языки.32
Существительные в морфологическом отношении дифференци-
руются от прилагательных оформлением склонения с помощью
падежных окончаний или суффикса множественного числа. Поэ-
тому так называемая «субстантивация» прилагательных возможна
только при наличии этих грамматических признаков имени су-
ществительного. Ср. узб. кизиллар окларни енгдилар 'красные
победили белых’, где признаками субстантивации являются окон-
чания множественного числа (-лар) и винительного падежа (-ни).
Невозможно: кизил ок енгди 'красный победил белого’, где эти
признаки категории существительного отсутствуют.
Для бурят-монгольского аналогичное указание дает проф.
Г. Д. Санжеев: «Для того, чтобы качественное имя выражало
прямое дополнение (объект действия), необходимо оформить его
в винительном падеже: кайниие абабав ('я выбрал себе лучшее’). . .
Для того, чтобы качественное имя выражало подлежащее, необ-
ходимо „снабдить14 его притяжением: Ьайниинъ ерэбэ ('лучший
(из них) пришел’)».33
С другой стороны, как способ морфологической дифференциа-
ции прилагательных относительных, образованных от предметных
имен, в атрибутивной функции выступают на более поздней сту-
пени специализованные именные суффиксы: ср. тюркск. -лик
(-ли), -ги и немн/др., бурят-монг. -та (-тай), -дахи (-хи) и т. п.
234
При наличии этих признаков дифференциации имен существи-
тельных от прилагательных, как самостоятельных грамматических
категорий, важнейшим отличием от языков индоевропейских
остается отсутствие согласования прилагательного с определяе-
мым словом и прежде всего — согласования и изменения по родам.
1946 г.
МАРКСИЗМ И СОЦИАЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА *
1
Марксизм рассматривает язык как явление общественное
в двух его диалектически взаимосвязанных аспектах — как
«важнейшее средство человеческого общения» (Ленин) и как вы-
ражение мысли (говоря словами Маркса, как «непосредственную
действительность мысли»). Как всякое общественное явление
в классовом обществе, язык отражает в своем развитии процессы
классовой дифференциации общества и классовой борьбы.
Значит ли это, однако, что общий для народа язык распадается
на противопоставленные друг другу классовые диалекты или
.классовые языки? Такая точка зрения представляет одну из форм
вульгаризации марксизма, против которой, как известно, боролся
Энгельс в последние годы своей жизни — годы широкой популя-
ризации (а частично и вульгаризации) учения Маркса. Классо-
вые отношения и классовая борьба определяют собой развитие
всех общественных явлений в классовом обществе, но определяют
их не непосредственно, а в конечном счете с учетом всех сложных
условий функционирования общественного механизма. Вульга-
ризации марксизма в истории, в истории литературы и искусства
соответствовала в свое время такая же вульгаризация в области
социальной лингвистики. Некоторые конкретные примеры будут
приведены дальше.
Понятно, что именно вопросы социальной истории языка,
его социального функционирования и его социально-классовой
дифференциации были первыми теоретическими проблемами язы-
кознания, которые должны были возникнуть перед основополож-
никами теории марксизма и их ближайшими продолжателями.
В этой связи мы должны вспомнить прежде всего книгу Энгельса
«Происхождение семьи, частной собственности и государства»
(1884) и статью Поля Лафарга «Французский язык до и после ре-
• Доклад на юбилейной сессии Отделения литературы и языка АН СССР,
посвященной 50-летию Великой Октябрьской социалистической револю-
ции, 19—20 октября 1967 г.
235
волюции» (La langue fran^aise avant et apres la revolution, 1894),
переведенную у нас под заглавием «Язык и революция» (1930).
Книга Энгельса, рассматривающая общественные функции
языков и диалектов в доклассовом обществе, как и работы Эн-
гельса, касающиеся происхождения человеческой речи, отно-
сится к области лингвистической антропологии и этнографии
и представляет особую тему, хотя и входящую в круг вопросов
социальной лингвистики в широком смысле. Проблема происхож-
дения языка и реконструкция древнейших стадий его развития
в связи с развитием мышления и общества на основе историко-
типологического сравнения с языками культурно-отсталых наро-
дов была в советском языкознании предметом интенсивного изу-
чения в период господства «нового учения о языке» акад.
Н. Я. Марра. Трактовка этих вопросов в школе Н. Я. Марра
носила обычно не столько материалистический, сколько романти-
чески-мистифицированный характер, чему немало способствовало
влияние модных в то время теорий о первобытном языке и мышле-
нии Леви-Брюля, Кассирера и некоторых других. Однако нали-
чие этих методологических просчетов отнюдь не снимает важ-
ности самой проблемы, которая требует коллективных усилий
наших этнографов, философов, психологов и лингвистов. Харак-
терно, что и на Западе, в особенности в США, вопросы антрополо-
гической и этнологической лингвистики, в свое время поднятые
такими выдающимися знатоками языков американских индейцев,
как Боас, Сэпир, Блумфильд и другие, снова сделались предме-
том активного интереса языковедов, разочарованных бесплод-
ностью «интерлингвистических» исследований последних двух
десятилетий. Г. Хойер, один из зачинателей американской «ан-
тропологической лингвистики» (anthropological linguistics), пи-
шет по этому поводу следующее: «Глубокое изучение языков аме-
риканских индейцев крайне необходимо как для общего языко-
знания, так и для антропологической лингвистики. . . . Наука
о языке, если она хочет определить те общие законы, которым
подчиняются все языковые структуры, не может опираться на
слишком ограниченную эмпирическую базу. Эти законы нуж-
даются в длительной проверке, и языки бесписьменных народов
благодаря своей многочисленности и разнообразию являются
своеобразной лабораторией, в которой может быть осуществлена
такая проверка».1
Не напоминает ли эта декларация современного американ-
ского исследователя тех положений, которые уже давно и неодно-
кратно выдвигали такие советские лингвисты, как покойный
акад. И. И. Мещанинов и другие, в своей борьбе против «европо-
центризма» традиционной лингвистической теории, призывая
к изучению и использованию в сравнительно-типологическом
плане мало изученных и еще недавно бесписьменных языков
Советского Союза? К сожалению, на своих советских предшест-
венников Хойер не ссылается.
Брошюра Поля Лафарга более близко касается затрагивае-
мых нами тем: она рассматривает развитие французского литера-
турного языка на границе XVIII и XIX вв. под влиянием подъема
буржуазии и революционной ломки общественных отношений
в годы французской буржуазной революции и после ее победы.
То обстоятельство, что Лафарг говорит при этом о «языке аристо-
кратическом» и «языке буржуазном», нисколько не компромети-
рует, на наш взгляд, его тонких и точных, принципиально пра-
вильных и существенных наблюдений. Мы предпочли бы в на-
стоящее время говорить не о классовых языках, а о социальных
диалектах, в данном случае — о разных социальных вариантах
литературного языка, поскольку Лафарг занимается в основном
литературным языком, прежде всего его лексикой и стилистикой.
Отметим, однако, что слово «классовый» не имеет в словоупо-
треблении западноевропейских авторов того строго терминологи-
ческого значения, которое оно получило в современной совет-
ской (марксистской) социологии. Такие термины, как «нация»,
«класс», «раса», употреблялись нередко и продолжают до сих
пор употребляться в гораздо менее определенном значении, чем
то, к которому мы привыкли. Известный англист профессор Окс-
фордского университета Генри Уайльд, отнюдь не будучи марк-
систом или близким марксизму, писал об английском литератур-
ном языке нового времени как о классовом диалекте (a class dia-
lect), имея в виду его социальное происхождение и окраску.2
Автор новейшего американского пособия по «социологии языка»
Джойс Херцлер говорит в том же смысле о «языках социальных
классов» (the languages of Social Classes).3
Вторая половина 20-х и 30-е годы были в советской лингви-
стике временем расцвета исследований по вопросам социологии
языка, прежде всего по так называемой социальной диалекто-
логии. 4 Это социологическое направление успешно развивалось
в нашем языкознании совершенно независимо от учения акад.
Н. Я. Марра и нередко даже в оппозиции к нему. Можно напом-
нить работы М. В. Сергиевского, К. Н. Державина, Л. П. Яку-
бинского, Б. А. Ларина, В. В. Виноградова, автора настоящей
статьи и ряд других. Развитие этого научного направления было
несколько задержано полемикой И. В. Сталина против понятия
«классовости языка» в истолковании Н. Я. Марра и связанным
с этой полемикой абстрактным и социально нерасчлененным по-
ниманием «общенародного языка». В юбилей Октября небеспо-
лезно вспомнить об этом этапе борьбы за марксистское языко-
знание, критически оценивая ее результаты с точки зрения науч-
ных задач сегодняшнего дня.
Первые по времени советские работы по социальной лингви-
стике продолжали традицию Лафарга на близком ему материале
истории французского языка. Сюда относятся большое специаль-
ное исследование К. Н. Державина «Борьба классов и партий
в языке Великой Французской революции» 6 и методологическая
237
статья М. В. Сергиевского «Проблемы социальной диалектологии
в истории французского языка XVI—XVII вв.»,6 послужившая
в дальнейшем теоретическим проспектом для его «Истории фран-
цузского языка».7
Однако решающее значение для дальнейшей работы по вопро-
сам социологии языка имели немногочисленные, но очень зна-
чительные по содержанию труды проф. Л. П. Якубинского, вы-
дающегося ученого, вышедшего из петербургской школы И. А. Бо-
дуэна де Куртенэ и воспринявшего от своего учителя понятие
многообразия социальных функций языка. Творческая инициа-
тива Л. П. Якубинского проявилась не только в его печатных тру-
дах, но не в меньшей степени в личном общении с товарищами
в возглавлявшемся им коллективе Ленинградского института
речевой культуры, где он щедро делился своими мыслями со
всеми членами этого коллектива. Книга Л. П. Якубинского
«Очерки по языку» дала на основе марксистского понимания со-
циально-исторического процесса ту классическую формулировку
образования общенационального языка буржуазного общества
из территориальных диалектов феодальной эпохи, которая до
сих пор остается основой большинства наших суждений по этому
вопросу.8
Б. А. Ларину принадлежит инициатива постановки в русской
(советской) лингвистике вопроса о языке города как «третьего
основного круга явлений», которому принадлежит, согласно его
концепции, самостоятельное место в разговорной речи между
«высоким книжным языком» и «деревенскими диалектами». «Из-
вестно, — писал Б. А. Ларин, — какое громадное действие ока-
зало на историческое языкознание обращение к деревенским диа-
лектам. За последнее десятилетие диалектология дала толчок
к перестроению и теоретической лингвистики во многих отноше-
ниях. — Едва ли не так же плодотворно отразится в лингвистике
и разработка языка города. . . . Городской фольклор, некано-
низованные виды письменного языка, разговорная речь разных
групп городского населения — оказывают непрестанное и огром-
ное воздействие на нормализуемый литературный язык, на выс-
шие его формы».9 В другом месте Б. А. Ларин добавляет: «Приме-
нительно к современным явлениям (оставляя пока в стороне ге-
нетические проблемы) центральной темой этого нового направле-
ния в языкознании („стоящих на очереди работ по социальной линг-
лингвистике“) будет — состав и структура языкового быта го-
рода. . . . Нельзя понять эволюцию и судьбы литературного
языка, пока к этому материалу не применены социологические
принципы исследования. Нельзя приступить к социологическому
истолкованию литературного языка, пока не изучена его не-
посредственная лингвистическая среда, т. е. остальные
типы письменного языка и все разновид-
ности разговорной речи городского кол-
лектив а».10
238
В Институте речевой культуры в Ленинграде в рамках Ко-
митета по социальной диалектологии Б. А. Ларин организовал
в 1930 г. специальную исследовательскую группу по «языку го-
рода». Правда, работы его самого и его сотрудников по этой теме 11
обнаруживали первоначально тенденцию, вряд ли правильную,
к отождествлению «языка города» с различными типами город-
ских жаргонов и арго, вероятно под влиянием работ по париж-
скому просторечию и арго, в особенности известной книги Л. Се-
неана, которую он цитирует.12 Парижское городское просторечие,
также имевшее свои фонетические и морфологические особен-
ности, свойственные ему как местному диалекту определенного
социального уровня, было начиная с XIX столетия полностью
затоплено лексическими и фразеологическими жаргонизмами
и арготизмами, получившими всеобщее распространение из речи
различных арготирующих социальных групп. Думается, однако,
что это положение отнюдь не характерно для социальных диа-
лектов всех городов Франции, в особенности для менее инду-
стриальных. Во всяком случае оно не характерно для русского
городского просторечия.
Жаргоны и арго, будучи языковыми образованиями особого
типа и назначения, развивающимися в рамках общенародного
языка или его диалектов, с различным диапазоном специальной
лексики и фразеологии, объединяющим ту или иную обществен-
ную группу, представляют социально-лингвистическую проб-
лему, принципиально отличную от проблемы социальных диалек-
тов и требующую отдельного рассмотрения 13 (см. ниже, с. 249).
К началу 30-х годов проблема эта была снята с порядка дня со-
ветской лингвистики главным образом вследствие настороженно
пуристического отношения к вопросам культуры речи и чистоты
русского языка.14 В настоящее время она снова с успехом разра-
батывается В. Д. Бондалетовым (Пенза) на основе самостоятельно
и широко собранного русского материала.15
Тем не менее и в этих первых своих работах Б. А. Ларин учи-
тывал проблему социальных уровней языка, признавая, что
«вторым рядом городских арго, может быть, окажется некий „низ-
кий" общий разговорный язык (я бы назвал его „городским про-
сторечием41), понятие, соответствующее тому, что Сенеан обозна-
чил термином „bas langage"».16 Как видно из контекста приведен-
ной цитаты, Б. А. Ларин относится к привычному для нас теперь
термину «городское просторечие» как к своего рода научному нео-
логизму.
Вопросы изучения современного городского просторечия, вы-
двинутые Б. А. Лариным, за последние годы снова стали пред-
метом внимания советских лингвистов. Они требуют широкого
массового обследования методами «конкретной социологии», со-
циально дифференцированного подхода и статистической обра-
ботки с помощью счетных машин. Исследования такого рода
ведутся в настоящее время в Горьком (Б. Н. Головин), в Саратове
239
(О. Б. Сиротинина), в Воронеже и в Перми.17 Диалектологиче-
ский кабинет имени Б. А. Ларина в Ленинградском государствен-
ном университете, подготовивший словарь псковского диалекта,
в настоящее время развернул полевую работу по изучению раз-
говорного языка небольших городских центров Псковской об-
ласти. Соприкасается с этой темой и большая коллективная тема
Института русского языка о русском языке в советскую эпоху,
разрабатываемая на основе широкого анкетного обследо-
вания.18
Продолжая свои работы по языку города, Б. А. Ларин явился
также инициатором исторического изучения русского разговор-
ного просторечия. Именно с этой целью было предпринято им
издание русских разговорников, грамматик и словарей конца
XVI и XVII вв., составленных с практическими целями иностран-
цами (Лудольфом, Джемсом, так называемого «парижского сло-
варя»).19
Б. А. Ларин рассматривает эти памятники как «источники
разговорной речи Московской Руси», как «драгоценные для нас
свидетельства иностранцев о разговорном языке», который «почти
не отражен в древнерусской письменности».20 Он пишет по этому
поводу: «Самое неоспоримое в хронологическом приурочении
записей Парижского словаря то, что все записанное было достоя-
нием живого языка в конце XVI в. Самое неоспоримое в социаль-
ном приурочении этого материала то, что он был достоянием
севернорусского общеразговорного языка. . . . Основные со-
циальные слои, представляющие состав общего городского разго-
ворного языка, были везде одинаковы: служилое дворянство, тор-
говое сословие и ремесленники, да при них многочисленные ра-
ботные люди разных степеней зависимости. Этим постоянством
социального состава прежде всего и объясняется относительная
близость городской (посадской) койне на основе местных наречий
в разных городах». 21
Не останавливаясь на других интересных и существенных
подробностях этой «социальной характеристики», необходимо
только отметить, что продолжением этого направления работ
Б. А. Ларина явилось уже в наши дни классическое издание ниж-
ненемецкого «псковского разговорника» 1607 г., осуществляемое
датским германистом Л. Хаммерихом в сотрудничестве со сла-
вистом Р. Якобсоном.22
В той же связи должны быть названы и «Очерки по истории
русского литературного языка XVII—XIX вв.» В. В. Виногра-
дова (первое издание — 1934 г., второе — 1938 г.). Автор уделяет
особое внимание социальной дифференциации русского литера-
турного языка и борьбе в нем разных «классовых» (во втором
издании — «социальных») стилей — «дворянского», «буржуаз-
ного», «разночинно-демократического» и т. п. Несмотря на эту
«вульгарно-социологическую» терминологию, в настоящее время
устаревшую, сохраняет значение тонкий анализ самих явлений,
240
которые автор рассматривает, подобно Лафаргу, как классовую
борьбу в языке. Факты, отмеченные в этой книге впервые, отно-
сятся несомненно к реальной жизни русского литературного
языка в его письменной и разговорной форме, а их социальный
характер отчетливо выступает в «общественно-идеологических
основах» этой борьбы.23
Среди трудов того же времени, в наши дни несправедливо
забытых, следовало бы напомнить и о работах по вопросам русской
социальной диалектологии представителя более старого поколе-
ния лингвистов — проф. Н. М. Каринского.24 В особенности заслу-
живает внимания его во многих отношениях примечательная книга
«Очерки языка русских крестьян. Говор деревни Ванилово» (1936).
Проф. Н. М. Каринский был, конечно, не первым диалекто-
логом старого поколения, обратившим внимание на наличие
в русских крестьянских говорах дифференциаций, вызванных
преимущественно влиянием города (Москвы) и тем самым со-
циально обусловленных. Л. П. Якубинский, вероятно, не без
умысла, приводит в главе «Язык крестьянства» своих «Очерков»
длинный ряд цитат из работ предшественников Каринского,
касавшихся мимоходом этой темы (цитируются Будде, Шахма-
тов, Зеленин, Чернышев, Богораз, Н. Виноградов и некоторые
другие).25 Однако Н. М. Каринский в отличие от названных авто-
ров показал конкретную социальную дифференциацию изучаемого
местного диалекта и дал систематическое описание этих различий
по трем основным группам — говоров архаического, передового
и промежуточного, — связав это описание с историей деревни
в досоветское и в советское время, с социальной характеристикой
ее жителей, опирающейся на социальные биографии объектов
исследования. Большим преимуществом Н. М. Каринского было
то обстоятельство, что он обследовал эту деревню два раза —
в царское время, в 1903 г., до начала ее индустриального развития
накануне первой мировой войны, и в 1932 г., в советское время,
в начале коллективизации. Он имел также возможность опе-
реться на ряд работ других авторов, в которых были указаны
существенные различия соседних диалектов, по-разному генети-
чески связанных с говором Ванилова.
Выводы Н. М. Каринского представляют большой теоретичес-
кий интерес. Прежде всего он показывает, что для современного
говора, находящегося в процессе разложения, более важное зна-
чение, чем лингвогеографические соотношения с соседними кресть-
янскими диалектами, имеет взаимоотношение диалектных элемен-
тов в целом и городского языка. «Старые» элементы, независимо
от их географической локализации, одинаково вступают в языко-
вые процессы в качестве «архаизмов». С другой стороны, влияние
городского языка рассматривается автором не как наличие или
отсутствие тех или иных отдельных диалектных особенностей,
а как изменение всей системы говора. «Передовой говор прежде
всего характеризуется редукционной системой гласных, прибли-
16 в. М. Жирмунский 24}
мающейся к системе современного литературного языка: гласных
долгих и дифтонгов нет, гласные неударяемые ярко не подчерки-
ваются в речи; при произношении слов в процессе говорения ос-
новным центральным в них слогом является слог ударяемый,
в сравнении с которым все остальные слоги оказываются весьма
слабыми, как бы примыкающими к ударяемому. Поэтому морфо-
логические части слов (флексии) заметно не подчеркиваются и если
выделяются, то во всяком случае весьма слабо».26
* С этим связаны и морфологические особенности говора: грам-
матические формы и их значения рассматриваются в их взаимо-
действии с фонетической системой. Этот системный способ рассмо-
трения, проводимый вполне сознательно и очень четко, представля-
ется весьма необычным для диалектологических работ того зремени.
К сожалению, методика Н. М. Каринского не получила в рус-
ской диалектологии дальнейшего развития. Реконструкция ста-
тической модели говора заслонила собою изучение его развития
и социальной дифференциации. Лишь в самое последнее время
эта проблематика получила дальнейшее углубленное развитие
в книге Л. И. Баранниковой «Русские народные говоры в совет-
ский период» (Саратов, 1967).
2
Социальная лингвистика в узком смысле рассматривает два
взаимосвязанных круга проблем:
1) социальную дифференциацию языка классового общества
на определенной ступени его исторического развития (у данного
общественного коллектива в данную историческую эпоху);
2) процесс социального развития языка, его историю как явле-
ния социального (социально дифференцированного).
Такое деление, в значительной степени условное, основано
на противопоставлении синхронического и диахронического рас-
смотрения языка. Метафизический характер этого противопостав-
ления, восходящего к известным «антиномиям» де Соссюра,27
в настоящее время становится очевидным для многих его после-
дователей как за рубежом, так и у нас. Социальная дифференциа-
ция языка данного общественного коллектива не может рассма-
триваться статически, в плоскости синхронного среза, без учета
динамики социального развития языка. Язык данной эпохи, рас-
сматриваемый в его социальной дифференциации, всегда представ-
ляет систему в движении, разные элементы которой в разной мере
продуктивны и движутся с разной скоростью. Механическое со-
поставление последовательного ряда синхронных срезов также
не в состоянии воспроизвести динамику этого движения. Описы-
вая структуру языка с точки зрения ее социальной дифференциа-
ции, мы должны учитывать ее прошлое и будущее, т. е. всю потен-
циальную перспективу ее социального развития.
242
Мы начнем поэтому с вопросов социального развития языка.
Преимущественным полем наблюдения социальной лингвис-
тики были до сих пор явления, связанные с становлением и разви-
тием, с одной стороны, языка буржуазного общества, с другой
стороны — общества социалистического в нашей стране после
Октября, т. е. языковых отношений сравнительно недавнего
прошлого или нашей непосредственной современности. Этот лин-
гвистический «модернизм», наиболее характерными редставителем
которого в теории и на практике был в нашем языкознании
Л. В. Щерба, резко отличал молодых тогда советских лингвистов-
социологов от Н. Я. Марра и его школы, обращавших свои взоры
преимущественно в глубины доистории человечества.
«Буржуазное общество, — писал Маркс, — есть наиболее
развитая и наиболее многосторонняя историческая организация
производства. Поэтому категории, выражающие его отношения,
понимание его организации, дают вместе с тем возможность про-
никновения в организацию и производственные отношения всех
отживших общественных форм, из обломков и элементов которых
оно строится, частью продолжая влачить за собой еще непреодо-
ленные остатки, частью развивая до полного значения то, что
прежде имелось лишь в виде намека».28
Это методологическое указание Маркса сохраняет полную силу
и для вопросов истории языка и прежде всего для понимания
его социальной дифференциации и социального функционирова-
ния, выступающих особенно отчетливо в языке развитого классо-
вого общества, т. е. общества буржуазного.
Нация есть историческая категория определенной эпохи,
эпохи подымающегося капитализма. Процесс ликвидации феода-
лизма и развития капитализма был в то же время процессом
складывания наций. Соответственно этому и национальный язык
является категорией исторической, возникновение которой свя-
зано с образованием наций. Вместе с формированием буржуазных
наций происходит образование наддиалектной национальной
нормы языка путем «концентрации диалектов в единый националь-
ный язык, обусловленный экономической и политической концен-
трацией» (Маркс). Для эпохи феодализма характерно было гос-
подство местных (территориальных) диалектов и региональная
(областная) окраска письменного литературного языка в соответ-
ствии с территориальной раздробленностью феодального общества.
Диалектная раздробленность языка буржуазного общества пред-
ставляет пережиток территориальной раздробленности эпохи фео-
дализма. В этом смысле показательно, что границы диалектных
признаков, как обнаружили работы немецких диалектографов,
в большинстве случаев совпадают со старыми границами средне-
вековых феодальных территорий.
Единый общий язык, опирающийся на письменную норму,
выступает в буржуазном обществе с претензией стать языком
общенациональным. Как писал В. И. Ленин, «единство языка
243
16*
и беспрепятственное развитие есть одно из важнейших условий
действительно свободного и широкого, соответствующего совре-
менному капитализму, торгового оборота, свободной и широкой
группировки населения по всем отдельным классам, наконец —
условие тесной связи рынка со всяким и каждым хозяином или
хозяйчиком, продавцом и покупателем».29
Однако в условиях классовых противоречий капиталистичес-
кого общества эта претензия фактически остается неосуществлен-
ной и неосуществимой. Знание литературного языка вместе с об-
разованием, а иногда и простой грамотностью остается привиле-
гией господствующих классов общества. Родным языком широких
народных масс продолжают оставаться местные диалекты, хотя
они и подвергаются растущему воздействию литературной нормы
(через школу, книгу, газету, радио и через устное общение с «обра-
зованными»). Только в бесклассовом социалистическом обществе —
с уничтожением противоречий между городом и деревней, между
передовыми и отсталыми районами страны, между умственным
и физическим трудом — впервые в истории создаются предпосылки
для подлинного единства общенационального языка, для его дей-
ствительно всенародного характера.
Таким образом, специфической особенностью существования
так называемого «общенародного» языка в условиях буржуазного
общества является своеобразный билингвизм (или «диглоссия» —
согласно терминологии, принятой в настоящее время в американ-
ской лингвистике).30
Единая общенациональная форма этого языка употребляется
в письменности (в научной, политической, художественной лите-
ратуре), в устной публичной речи и в приближающемся к норме
(иногда с незначительной местной окраской) разговорном языке
так называемого «образованного общества» (т. е. фактически —
господствующих классов буржуазного общества и его интелли-
генции). Рядом с этой общей формой языка продолжают существо-
вать его местные формы (территориальные диалекты), являющиеся
в основном языком устного бытового общения подчиненных клас-
сов общества (крестьянства и городской мелкой буржуазии, гово-
рящей обычно на «полудиалекте», приближенном к общенацио-
нальной норме). Общенациональный язык, поддержанный авто-
ритетом культуры, образования и письменности, выступает при
этом как национальная и социальная норма, оказывая растущее
влияние на местные диалекты и являясь в настоящее время вторым
языком для их природных носителей.
В общей форме проблема взаимоотношения национального
языка и местных диалектов была поставлена проф. Л. П. Якубин-
ским в указанной выше книге. На материале русского языка она
разрабатывалась В. В. Виноградовым, Б. А. Лариным и их учени-
ками; на материале немецкого языка — автором настоящей
статьи 31 и М. М. Гухман; 32 на материале французского языка,
как уже было сказано, — М. В. Сергиевским. Если работы по не-
244
мецкому языку были сосредоточены преимущественно на вопро-
сах создания и унификации фонетической и грамматической нормы
общенационального языка, то в трудах В. В. Виноградова и его
учеников проблема становления и развития литературного языка
понималась по преимуществу в аспекте взаимодействия и борьбы
функциональных и социальных языковых стилей (т. е. как проб-
лема исторической стилистики в широком смысле).33 Это разли-
чие было обусловлено в значительной степени особенностями
мааериала: в работах по немецкому языку речь шла о создании
на основе конкурирующих территориальных диалектов надтерри-
ториальной и наддиалектной формы общего языка, письменного
и устного, в работах по русскому языку — в основном о регла-
ментации его литературного употребления.
С этим различием в характере самого предмета связано одно
существенное терминологическое недоразумение, в котором свое-
временно было бы разобраться. Для обозначения общего языка,
выступающего в буржуазном обществе в качестве общенациональ-
ной языковой нормы, в работах Л. П. Якубинского и других
авторов, писавших одновременно с ним, в соответствии с тради-
цией, восходящей к Марксу, обычно употреблялся термин: язык
национальный или общенациональный (в противоположность
местным диалектам — «крестьянским», «мещанским» и т. п.).
В послевоенное время термин этот был подвергнут критике.34
Казалось неправильным называть «национальной» или «обще-
национальной» ту форму языка, которая фактически является
«принадлежностью лишь части нации», поскольку основная масса
сельского, а также городского населения говорит в буржуазном
обществе на разных формах диалекта. Не правильнее ли было бы
термин «национальный язык» употреблять для обозначения обще-
народного языка в период существования наций во всех его функ-
циональных и социальных разновидностях?
Так возникло и укрепилось в советском языкознании употреб-
ление термина «литературный язык» в значении столь же дву-
смысленном, как и немецкое Schriftsprache ('письменный язык’),
в применении не только к языку литературы (или «письменности»)
в соответствии с прямым значением слова, но также по отношению
к общей форме (или норме) народного языка, возникающей вместе
с развитием буржуазного общества путем «концентрации диалек-
тов в единый национальный язык» (Маркс). Для русского лите-
ратурного языка XVIII—XIX вв. такая двусмысленность терми-
нологии не могла вызвать особых недоразумений, так как оба
значения слова фактически почти покрывают друг друга. Иначе
для языков немецкого, французского, итальянского и многих
других. Эпоха феодализма, например, при такой терминологии
имела «литературный язык» в одном смысле — в смысле языка
литературы (язык «Нибелунгов», Вальтера фон дер Фогельвейде,
«Слова о полку Игореве» и т. п.), но не имела «литературного
языка» в другом смысле — как общей формы или нормы языка
245
национального. В буржуазном обществе «литературный язык»
существует уже в двух смыслах — и как язык общенациональный,
и как язык собственно «литературный».
Чтобы избежать недоразумений, связанных с таким слово-
употреблением, лучше было бы, по-видимому, вернуться к спе-
цифическому термину для специфического явления: можно гово-
рить о языке «общенациональном», об «общенациональной» (или
просто «национальной») форме или норме народного языка или
просто об «общем языке» (lingua communis, койне, нем. Gemein-
sprache). То обстоятельство, что в буржуазном обществе при на-
личии в нем социальной дифференциации национальная норма
языка фактически не является «общенациональной» (не получает
универсального распространения), не может служить препят-
ствием для подобного словоупотребления. Ведь и Пушкин явля-
ется великим русским национальным и «общенациональным»
поэтом, несмотря на то что широкие массы русского народа до ре-
волюции ничего не знали о его существовании или во^всяком
случае, будучи неграмотными, не могли читать ^его сочинений.
Соответственно этому и язык Пушкина, национальный русский
язык, будучи лишь в потенции общенациональным по своей форме,
становится только после социалистической революции всеобщим
языком русской национальной культуры и литературы.
Пути становления общенациональных языков были различны,
как и пути формирования наций. Здесь открываются широкие
и до сих пор еще недостаточно использованные возможности кон-
кретных социально-лингвистических исследований, учитываю-
щих исторические условия социального расслоения и социальной
борьбы в языке, конкуренцию языковых норм не только террито-
риальных, но и социальных, за которыми стояла определенная
социально-классовая идеология, не всегда в одинаковой мере
осознанная. Общенациональный язык выступает при этом не
только как результат национального объединения, но и как
активное средство его осуществления в том или ином социальном
направлении. В XIX—XX вв. в особенности борьба за националь-
ный язык становится могучим оружием национального возрожде-
ния и освобождения народов, в прошлом утративших свою поли-
тическую самостоятельность или не успевших еще сложиться
в нации, — чехов, сербов, болгар, украинцев, латышей, литовцев,
финнов, эстонцев и многих других. В сборнике «Вопросы форми-
рования и развития национальных языков» (1960) сделана была
первая попытка расширения этого круга социально-исторических
исследований. Здесь рассматриваются «соотношение письменно-
литературной и народно-разговорной разновидности языка» и
«процессы нормализации и становления единой общенациональной
литературной нормы» на материалах языков немецкого, англий-
ского, нидерландского, французского, итальянского, испанского
в Южной Америке, албанского, армянского, но также арабского,
китайского и японского, которые ранее не были у нас предметом
246
исследования с этой точки зрения. Необходимо в особенности
отметить существенный вклад, внесенный в разработку этой проб-
лемы трудами акад. Н. И. Конрада.35
Строительство социализма в нашей стране поставило советское
языкознание перед совершенно новыми теоретическими и практи-
ческими задачами — создания и дальнейшего развития националь-
ных литературных языков у больших и малых народов нашей
страны, до революции бесправных в политическом и культурном
отношении и в ряде случаев младописьменных или вовсе бес-
письменных. Выработка норм единого национального языка на
базе одного ведущего или нескольких конкурирующих народных
диалектов, создание новых алфавитов, школьных учебников
по языку, научных грамматик, словарей двуязычных и толковых,
научной терминологии на национальных языках, новые потреб-
ности развития многообразных современных жанров письменного
литературного языка, и в частности языка художественной лите-
ратуры, — все это требовало активного участия лингвистов
в центре и в национальных республиках и способствовало раз-
витию у нас теоретических исследований по социальной лингвис-
тике, связанных с практикой и проверявшихся на практике.
Работы по русскому литературному языку были в этой об-
ласти ведущими, тем более что русский язык стал в советскую
эпоху вторым родным языком для всех народов нашей страны,
важнейшим средством межнационального общения между ними.
Координация этих работ, ведущихся в настоящее время на
местах, в республиканских академиях наук и научных институтах,
при постоянном участии центральных научных учреждений
Советского Союза, осуществляется Научным советом по пробле-
мам развития национальных языков в связи с развитием социалис-
тических наций.36
Результаты накопленного большого опыта, теоретического
и практического, несомненно могут быть полезны для многих на-
родов Азии и Африки, освободившихся в наши дни от колониаль-
ного гнета’и стоящих, при всех конкретных исторических разли-
чиях, перед аналогичными проблемами строительства своих на-
циональных литературных языков.37
Активное участие советских лингвистов в языковом строи-
тельстве народов нашей страны, широко развернувшемся после
Октябрьской революции и под ее влиянием, явилось реальным
напоминанием об общественной функции языка и о его непосред-
ственной или опосредствованной связи с актуальными задачами
развития общества. Советская социальная лингвистика всегда
рассматривала вопросы социальной нормы в языке как теснейшим
образом связанные с языковой практикой вообще и через нее
с так называемой «языковой политикой». Этот социально-полити-
ческий аспект проблемы нормирования общенационального языка,
так наглядно выступавший в языковом строительстве социалисти-
ческого общества, обычно игнорировался, сознательно или бес-
247
сознательно, представителями старого, «академического» языко-
знания как у нас, так и на Западе. Новатором и в этом вопросе
явился прежде всего Л. П. Якубинский в книге «Очерки по языку».
В новейшее время американские лингвисты выдвигают в качестве
новой проблемы «планирование языка» (language planning), счи-
тая эту проблему одной из важнейших в области социологического
языкознания.38 О плодотворной разработке этой темы в советском
(марксистском) языкознании при этом, разумеется, не упоми-
нается.
3
В вопросах социальной дифференциации языка буржуазного
общества, в так называемой «социальной диалектологии», наибо-
лее наглядную, «парадигматическую» картину социального рас-
слоения дают те языки, в которых, как например в немецком
или итальянском, существует очень значительное расхождение
между народными диалектами и общенациональной нормой. В та-
ких случаях отчетливо обнаруживается существование не двух,
а трех социальных уровней или слоев общенародного языка
(о чем в свое время говорил и Б. А. Ларин в своих рассуждениях
о русском городском просторечии): собственно диалект, обще-
национальный литературный язык и промежуточная форма так
называемого «полудиалекта» (Halbmundart), утратившего под
влиянием общенациональной нормы наиболее резко выраженные
(по моей терминологии, «примарные») диалектные признаки,
могущие служить особенно существенным препятствием для меж-
диалектного общения.39 Следует добавить, что общенациональный
литературный язык в устном разговорном употреблении в зави-
симости от конкретных условий исторического развития может
быть слегка окрашен местными особенностями, как это наблю-
дается, например, в немецком или в итальянском языках (gebil-
dete Umgangssprache — «обиходный язык образованных», согласно
терминологии П. Кречмера).40
Таким образом, можно сказать, что социальные диалекты
в языке классового общества образуют как бы пирамиду, сходя-
щуюся в унифицированной письменной форме литературного
языка. Основу пирамиды (низший уровень) образуют местные
диалекты, в которых расхождения наиболее значительны и пред-
ставляют наибольшую дробность; в полудиалектах (на среднем
уровне) пирамида сужается как в смысле значительности расхож-
дений, так и в смысле количества дифференцирующих признаков;
в обиходной (разговорной форме) литературного языка, более
или менее унифицированной (на высшем уровне), схождение еще
больше, но в результате незавершенности процессов унификации
пирамида остается усеченной и точка схождения (общенациональ-
ная «норма») представляется скорее идеальным предельным поня-
тием, чем осуществленной действительностью.
248
С точки зрения терминологической, понятие социальных ди-
алектов следовало бы ограничить указанными социальными
«уровнями» общенародного языка. Возвращаясь к затронутому
выше вопросу о жаргонах и арго, необходимо будет признать,
что они не являются социальными диалектами в строгом смысле,
развиваясь в рамках того или иного языка и диалекта как лексика
и фразеология специального назначения (иногда с особыми сред-
ствами словопроизводства), объединяющая определенную про-
фессиональную или социальную группу носителей этого языка
как диалекта, на котором лексика эта, так сказать, «паразити-
рует». Не подлежит сомнению значительность этого социально-
лингвистического явления, но также его особое качество.
В довоенных работах по социальной диалектологии, в част-
ности и в моей книге «Национальный язык и социальные диа-
лекты»,41 принято было слишком прямолинейное, механическое
приурочение этих слоев, или «уровней», общенародного языка
к общественным классам: «собственно диалект» рассматривался
как язык крестьянства («деревни»), полудиалект — как язык
городского мещанства (мелкой буржуазии), разговорная форма
литературного языка — как средство общения господствующих
классов («образованных»). Хотя это деление и отражает в очень
упрощенной и потому искаженной форме какой-то подлинный
аспект общественной действительности, однако в настоящее
время ясно, что оно не учитывало реальной сложности социаль-
ного функционирования языка в условиях взаимодействия мест-
ных диалектов и складывающейся или уже сложившейся письмен-
ной и устной национальной нормы.
Если взять и здесь в качестве примера положение немецких
диалектов, то, как неоднократно обнаруживали полевые наблю-
дения, крестьянский язык разлагается вместе с разложением
самого крестьянства под влиянием развития капиталистических
отношений. С одной стороны, богатые крестьяне тянутся за горо-
дом, перенимают от него культурные моды, хотят говорить «по-
образованному»; диалект в таких условиях постепенно утрачивает
свои примарные признаки, становится полудиалектом. С другой
стороны, процесс пролетаризации деревни, сезонные отхожие
промыслы, уход в город на работу, временную или постоянную,
могут содействовать развитию таких же тенденций, хотя и в дру-
гой части крестьянской среды и в другой форме.
В условиях возрастающего воздействия общенационального
языка или городского полудиалекта существенные различия об-
наруживает речь ряда поколений в одной семье или в данной
местности в целом, у мужчин или у женщин, в зависимости от рода
занятий и передвижений.
Различаются географические районы, сохранившие аграрный
уклад, и районы сплошной индустриализации (Рурская область
и промышленные районы Саксонии, где старый местный диалект
полностью вытеснен полудиалектом). Вместе с тем при наличии
249
больших культурно-географических различий между различными
областями немецкого языка диалект выступает в гораздо более
рельефной форме в Австрии, Швейцарии и Эльзасе, рано обосо-
бившихся от политического единства Германской империи, или
в Баварии и Вюртемберге, сохранявших в рамках этого единства
далеко идущую политическую автономию. Здесь и городские
полудиалекты (в отличие от Лейпцига или Франкфурта-на-Майне)
часто выступают, в особенности в небольших городах, с резко
выраженными местными диалектными чертами.
Отсюда характерный для полудиалекта широкий диапазон
колебаний между двумя полюсами — собственно диалектом и ли-
тературным языком в его разговорной форме, — явление, пра-
вильно отмеченное Вольфгангом Флейшером как специфическое
для этой промежуточной формы диалектной речи.42 Традиционный
термин «полудиалект» (Halbmundart) хорошо передает эту осо-
бенность. Термин Umgangssprache («обиходный язык»), получив-
ший в настоящее время широкое распространение в немецкой
лингвистической литературе для обозначения социального ди-
алекта среднего уровня, не имеет этого преимущества и к тому же
не является однозначным, поскольку он может обозначать и раз-
говорную («обиходную») форму литературного языка.
Но дифференциация наличествует, в условиях всеобщей «ди-
глоссии», и в языке каждого отдельного лица, говорящего на ди-
алекте, — в зависимости от ситуации разговора и от собеседника.
Крестьянин, родным языком которого является диалект, иначе
говорит в повседневной беседе со своими односельчанами, това-
рищами по работе, членами своей семьи, чем с крестьянином
из соседней деревни, отличающейся местными- особенностями
говора, или с представителями сельской интеллигенции — с па-
стором, учителем, врачом, почтовым и железнодорожным чинов-
никами, или, наконец, с приезжими из города «образованными»
гостями. Здесь возможно несколько степеней приближения к на-
циональной норме, не всегда сознаваемых самим говорящим.
Приведенные факты с очевидностью показывают, что социаль-
ные диалекты в языке буржуазного общества не прикреплены
однозначно к определенным общественным классам, хотя как
социальные уровни языка они в конечном счете восходят к классо-
вой дифференциации общества. С другой стороны, эти факты позво-
ляют нам утверждать, что традиционное деление диалектов на тер-
риториальные и социальные в сущности является мнимым, что
всякая территориальная диалектология в соответствии с самой
языковой действительностью должна быть и диалектологией со-
циальной. Немецкие диалектологи, вышедшие из лейпцигской
школы проф. Т. Фрингса, справедливо рассматривают социальную
дифференциацию (die Abstufung der soziologischen sprachlichen
Schichtungen) как «третье измерение» (dritte Dimension), обя-
зательное для всякого диалектологического исследования, рядом
с первым и вторым — пространством и временем.43 Это значит,
250
что задачей диалектолога является не восстановление монолитной
«системы» диалекта или говора (нового или старого), искусственно
реконструируемого в его социальной нерасчлененности по пока-
заниям стариков и старушек, как в доброе старое время. Напротив,
он должен стремиться к максимальной дифференциации диалект-
ных форм, к фиксации конкурирующих в диалекте дублетов как
продуктов социальной дифференциации языка.
К сожалению, большинство современных структуральных
описаний диалектов (Мюнхена, Кельна, лондонского «кокней»
и др.) 44 этому требованию не удовлетворяет. Исключая из своего
рассмотрения социальных носителей диалекта, они строят ста-
тическую и социально абстрактную, нерасчлененную модель
языковой «системы», не соответствующей никакой общественной
реальности.
Можно с удовлетворением отметить, что некоторые представи-
тели американской социальной лингвистики тоже начинают осо-
знавать неправильность подобного «моделирования». Так,
У. Брайт пишет в предисловии к сборнику «Социальная лингвис-
тика», в котором опубликованы труды американской конференции
1964 г. по проблемам социологии языка: «Хотя социолингвисты
и связаны в своих установках с структуральной лингвистикой,
они резко порывают с одним направлением (современного) языко-
знания. Речь идет о направлении, которое рассматривало язык
как нечто вполне единообразное, гомогенное или монолитное
по своей структуре; с этой точки зрения, которую в настоящее
время мы осознали как вредную, различия в навыках речи внутри
коллектива третировались как „свободные вариации41. Одна из важ-
нейших задач социолингвистики заключается в том, чтобы пока-
зать, что эти вариации или различия на самом деле не „свободны14,
но соотнесены с систематическими социальными различиями.
В этом и еще во многих других отношениях лингвистические раз-
личия (diversity) и являются как раз основным предметом изу-
чения социальной лингвистики».45
До сих пор мы говорили о том, что сделано социальной линг-
вистикой в области изучения языка буржуазного общества, т. е.
в отношении сравнительно недавнего прошлого, отражения кото-
рого сохраняются в настоящем, притом преимущественно имея
в виду языки новоевропейских народов. Все, лежащее во времени
и пространстве за пределами этого круга, остается, к сожалению,
малоизученным или вовсе не изученным с социально-исторической
точки зрения: языковые отношения европейского средневековья,
античности (греческое койне и латинский язык в их местных
разновидностях), литературные языки и диалекты культурных
народов древнего и средневекового Востока и др.
Не имея возможности остановиться здесь на этих проблемах,
скажем только, что методические трудности их изучения увели-
чиваются вместе с удалением от современности. Если средневеко-
вые формы письменных языков еще могут быть < соотнесены с их
251
современными отражениями и истолкованы в свете этих отраже-
ний главным образом методами лингвистической географии, то как
тексты они дают об устной форме народного языка лишь косвенное,
многократно преломленное представление. В еще большей сте-
пени это относится к так называемым мертвым письменным язы-
кам. Следуя «живому» опыту, из которого мы до сих пор исходили,
можно только сказать, что лингвистический анализ подобных
текстов должен быть и здесь направлен языковедом-социологом
не на реконструкцию так называемой системы языка, его абстракт-
ной «модели», а на максимальную дифференциацию памятников
по признакам не только территориальным, но жанрово-стилисти-
ческим и социальным, с учетом всех противоречий внутри «системы»
того или иного памятника, чем бы они ни были вызваны — много-
кратной перепиской или смешанным (в территориальном или
в социальном отношениях) характером диалекта. Филологический
анализ памятников должен быть обязательной основой такой
работы. Только на прочном фундаменте кропотливого филологи-
ческого анализа текстов могут быть построены здесь, как и всегда,
более широкие социально-лингвистические обобщения.
1967 г.
ГЕРМАНИСТИКА
СУЩЕСТВОВАЛ ЛИ ОБЩЕГЕРМАНСКИЙ ЯЗЫК-ОСНОВА?
Понятие праязыка или языка-основы и «родословного древа»
генетически родственных языков, согласно установившемуся мне-
нию, введено было в европейское языкознание Августом Шлейхе-
ром, хотя на самом деле корни его гораздо древнее. В основе его
лежит схема, абстрактная «модель» генетических связей, наиболее
просто и однозначно отвечающая на вопрос о происхождении
и взаимоотношении родственных по происхождению языков путем
отнесения их к общему предку, подобно тому как в религиозных
системах, ведущих свое происхождение из древнего Востока, та-
ковым предком почитался единый «праязык» человечества (Ur-
sprache), претерпевший в дальнейшем «вавилонское смешение
языков».
Переведенная Шлейхером на конкретную почву сравнительно-
исторической грамматики идея «праязыка» как основы группы
генетически родственных языков воспринята была младограмма-
тиками. Расхождения между исторически известными языками
одной группы объяснялись ими, по видимости, просто, механи-
ческим действием так называемых «звуковых законов» и столь же
механическим — грамматической аналогии. Процесс этот рекон-
струировался в сущности вне времени и пространства, независимо
от проблематики социально-исторического развития языков и на-
родов, их создателей и носителей. Результатом дальнейшей,
последовательной дифференциации соответствующих языков пред-
ставлялись наречия, диалекты и говоры. Схема «родословного
древа» языка по веткам и веточкам и в диалектологии определяла
собою картину общего процесса языкового развития, рассматрива-
емого исключительно с внутрилингвистической («интерлингвисти-
ческой») точки зрения.
В сущности в такой крайней форме эта точка зрения не защи-
щалась никогда и младограмматиками: она оставалась абстракт-
ной схемой или, говоря современным термином, «моделью»,
в которую история вводила поправки, определяемые воздействием
внешнелингвистических («экстралингвистических») факторов: кон-
тактами и взаимодействиями между языками и народами, процес-
253
сами языковых смешений, субстратными влияниями и т. д. Совре-
менниками «классиков» младограмматической теории были такие
«диссиденты», как Иоганн Шмидт с его «теорией волн», Хуго Шу-
хардт, И. Л. Бодуэн де Куртенэ. К концу XIX—началу XX в.
неудовлетворенность теориями младограмматиков и критика по-
нятия «праязык» приобрела всеобщий характер: позиция акад.
И. Я. Марра в этом вопросе, окрашенная демагогическим отож-
дествлением этого понятия с «расовой теорией», в сущности в своих
рациональных научных основах опиралась на общие тенденции
языкознания его времени. Можно сказать, что в первой трети XX в.
отрицание существования праязыков становится такой же догмой,
как и его признание в эпоху Шлейхера и младограмматиков.
Между тем вопрос о наличии в развитии группы языков или
диалектов расхождений, схождений, взаимодействия и смешений
всякого рода представляется нам вопросом не догмата,
а исторического факта, связанного с конкретными
условиями исторической жизни данного народа или группы на-
родов. В сущности почти всегда наличествуют все вышеперечис-
ленные типы языкового развития, но доля их в этом процессе
может быть различной. Напомним в связи с этим интересное печат-
ное выступление проф. JI. П. Якубинского, передового и очень
тонкого лингвиста, ученика И. А. Бодуэна де Куртенэ и одно
время — последователя акад. Н. Я. Марра, который решился
в пору всеобщего господства у нас так называемого «нового учения
о языке» выступить со статьей, отстаивавшей не существование
праязыков вообще, а в частности языка праславянского. на осно-
вании социально-лингвистического анализа общеславянской
лексики.1 Работа над изучением племенных диалектов древних
германцев, вопрос об их общей основе и критические замечания
проф. В. Пизани, давнего противника теории «праязыка» вообще,2
заставили и меня обратиться к этой проблеме на конкретном ма-
териале германских языков.
Основополагающее значение в методологической критике младо-
грамматического понятия «праязык» имели наблюдения лингви-
стической географии над реальными формами взаимодействия
между современными диалектами и перенесение ее теоретических
выводов на реконструируемые сравнительной грамматикой взаимо-
отношения древних индоевропейских диалектов и диалектную диф-
ференциацию древних индоевропейских языков (так называемая
«ареальная лингвистика»).
Как известно, успехи лингвистической географии на материале
больших национальных и многочисленных региональных атласов
привели к пересмотру традиционного понятия «диалект». С точки
зрения современной лингвистической географии диалект пред-
ставляет не замкнутую ветку или веточку родословного языкового
древа, ответвившуюся (по Шлейхеру) от общего ствола как про-
дукт исключительно спонтанного (внутренне закономерного) раз-
вития. Диалект есть образование социально-историческое, развив-
254
шееся в результате сложного взаимодействия с соседними диалек-
тами данного’Хязыка — расхождений, схождений и смешений,
а также субстратных, суперстратных и адстратных воздействий
других языков в конкретных условиях социально-исторического
развития и общения народных коллективов. На географической
карте диалект отграничивается не статической совокупностью
совпадающих между собой признаков данной языковой «ветви»,
восходящих к исходному языковому единству, а «изоглоссами»
отдельных языковых явлений, фонетических, грамматических
и лексических, которые в одних случаях совпадают между собой,
образуя пучки, в других расходятся на более или менее значи-
тельное расстояние, перекрещиваются между собой и нередко
могут не совпадать даже для отдельных слов, входящих в данный
фонетический или грамматический ряд.3
В основе выводов лингвистической географии (прежде всего
в ее применении к современным диалектам) лежит методика
изоглосс. Методика изоглосс принципиально а т о ми-
стична: она исходит не из системы диалекта (фонетической
или грамматической), а из отдельного изолированного явления,
границы которого изображаются на отдельной карте. Именно такое
принципиально изолированное рассмотрение изоглосс отдельных
явлений, а в ряде случаев отдельных слов, представляющих дан-
ное явление, впервые показало, что эти явления и даже отдельные
слова могут иметь разные границы (как в классическом примере
ses — sexs, os — oxs, wasen — waxsen в Рейнской области).
Это было «великое открытие» лингвистической географии: оно
разбивало систему на ее отдельные элементы и пока-
зало, что эти элементы могут иметь самостоятельную судьбу.
Необходимо, однако, тут же оговорить, что результатом этих
больших успехов лингвистической географии явилось то, что
я назвал в другом месте «фетишизацией» методики изоглосс. Фе-
тишизация эта сказалась в двух выводах, характерных в особен-
ности для Жильерона и его школы (наиболее авторитетной на За-
паде): в отрицании звуковых законов и реальности диалектов.
Я не буду останавливаться здесь на критике обоих этих выводов,
которая будет дана более подробно в другой работе. Скажу только
по второму вопросу, который имеет в данном контексте наиболее
существенное значение: диалекты существуют, но они
представляют единство не замкнутое и статическое («гомогенное»,
по выражению Пизани, которое он употребляет в своей критике
традиционной концепции), но развивающееся, динамическое,
дифференцированное, исторически и социально обусловленное
языковым общением, в соответствии со сказанным выше. Немецкие
диалектографы говорят в этом смысле о «я з ы к о в ы х ланд-
шафтах» (Sprachlandschaften). Наглядное подтверждение пра-
вильности этой общей концепции дала в недавнее время книга
М. А. Бородиной «Проблемы лингвистической географии» (1966),
которая на материале французского лингвистического атласа
255
самого Жильерона, вопреки предвзятой точке зрения составителя,
убедительно показала наличие исторически сложившегося лота-
рингского диалекта французского языка и исторически обуслов-
ленную динамику его развития.
Применением выводов лингвистической географии к сравни-
тельно-историческому языкознанию явилась так называемая
«ареальная лингвистика» — попытка восстановления для доисто-
рии языка ареалов распространения тех или иных диалектных
различий и «вычленения» (Ausgliederung — термин швейцарского
романиста В. Вартбурга) диалектов и диалектных групп путем
применения методики изоглосс (А. Мейе, итальянские неолинг-
висты — М. Бартоли, Дж. Бонфанте и Дж. Девото, В. Пизани,
В. Порциг и др.).4 Ареальная лингвистика позволяет внести в тра-
диционную сравнительную грамматику, построенную на принци-
пах генетической классификации языков и диалектов по абстракт-
ной схеме «родословного древа», существенно важную поправку
на реальные исторические взаимоотношения племен и народов,
создателей и носителей соответствующих языков и диалектов.
Эту задачу я поставил себе в своем «Введении в сравнительно-
историческую грамматику германских языков» (1964), следуя
за работами представителей немецкой диалектографической
школы — Ф. Вредэ, Т. Фрингсом, Э. Шварцем и др., — которые
занимались ареальной лингвистикой на германском материале,
хотя не знали этого термина и в принципе склонны были отрицать
значение современных (средневековых по своему происхождению)
диалектных изоглосс для эпохи племенных диалектов.
Но и в области «ареальной лингвистики» позволительно гово-
рить о «фетишизации» методики изоглосс. Такую фетишизацию
я усматриваю в утверждениях представителей итальянской линг-
вистической школы, согласно которым всякий диалект (или язык-
представляет только «совокупность изоглосс». Так, Пизани пи)
шет: «. . . праславянский, прагерманский и т. д. никогда не суще-
ствовали, но языки славянские, германские и др. образуют отчет-
ливые группы в результате того простого факта, что некоторое
число изоглосс распространилось во всех этих языках и только
в них, что и придало им специфический характер, отчетливо
отличающий их от других групп. Когда мы говорим о славянском,
мы попросту имеем в виду систему изоглосс, характерных и общих
для всех славянских языков, точно так же, когда мы говорим
о германском, об общегреческом и т. п.».5
Утверждение это в теоретическом плане представляется сход-
ным с отрицанием реальности диалектов в школе Жильерона;
последнее и является, как мне кажется, важнейшим методологи-
ческим препятствием для этих авторов при постановке вопроса
о существовании того или иного языка-основы (конечно, не обя-
зательно «гомогенного») как отправной точки для развития группы
родственных диалектов.
256
Между тем на самом деле изоглоссы являются лишь отдельными
признаками географической дифференциации двух соседних языко-
вых коллективов, изолированными (более или менее искус-
ственно) в соответствии с принципиальным методическим «ато-
мизмом» лингвистической географии, тогда как диалект (или язык)
как таковой представляет сложную совокупность, точнее — це-
лостную систему признаков, фонетических, грамматических и лек-
сических, в которую, наряду с признаками географически разли-
чительными, входят все различные по своему происхождению
особенности, характеризующие данный диалект (или язык) как
исторически сложившееся целое. Наличие частных географических
дифференциаций, отмечаемых изоглоссами, не может служить
основанием для отрицания понятия диалект (или язык) как це-
лостной системы — ни для современной диалектографии, ни для
ареальной лингвистики.
Правда, Пизани, который особенно часто пользуется формулой
«язык (диалект) — это только совокупность изоглосс», неодно-
кратно пояснял, что термином изоглосса он пользуется условно —
в значении признака, объединяющего особенности языка (или
речи) той или иной группы говорящих. «Называя изоглоссами
с расширением географического понятия (con ampliamento del con-
cetto geografico) элементы потенциально одинаковые для опреде-
ленной лингвистической общности в определенный момент, мы
можем определить язык как систему изоглосс, объединяющих
индивидуальные лингвистические акты».6 Однако на практике
сквозь такое условное понимание изоглоссы как лингвистического
признака вне вопроса о границах его географического распростра-
нения у Пизани неизбежно просвечивает первоначальное «ареаль-
ное» (пространственно географическое) значение этого термина.
Ср. там же: «Реальны только изоглоссы, т. е. территориальное
распространение каждого лингвистического признака (1’estensione
territoriale abbracciata da ogni singolo fenomeno linguistico), и
можно сказать, что только весьма немногие изоглоссы совпадают
между собой».7 «Изоглоссы» Пизани объединяют и разъединяют,
и диалект (или язык) представляется ему набором таких простран-
ственных объединяющих или разграничивающих признаков.
Отсюда наше основное разногласие и в понимании проблемы язы-
ковых общностей как целостного единства, или системы, или
как точки скрещения таких независимых друг от друга географи-
ческих признаков.
Поскольку в истории группы родственных диалектов мы наблю-
дали факты расхождения, схождения и смешения (в разных слу-
чаях — в разном соотношении), то существование или отсутствие
общегерманского языка-основы представляет, как уже было ска-
зано, — вопрос факта, а не догмата. Чтобы ответить на этот во-
прос, необходимо иметь в виду три его аспекта:
1) признаки единства германских языков как особой группы
в рамках языков индоевропейских; f
17 В. М. Жирмунский
257
2) признаки древней дифференциации этого единства;
3) признаки, общие у германских языков (в целом или частично)
с другими индоевропейскими языками или группами языков.
I. Общие признаки германских языков
Перечисление таких признаков (как «набор», а не как систему)
дают списки К. Бругмана и более полные Г. Хирта и Н. С. Чемо-
данова.8 Материал этот дается здесь с некоторым уточнением,
дополнениями и комментарием, по необходимости кратким. При
этом необходимы, однако, следующие оговорки.
Традиционные сравнительные грамматики обычно не интере-
суются вопросом о лексическом охвате фонетических
или грамматических признаков, ограничиваясь констатацией
их наличия в тех или иных древних индоевропейских языках
и тем самым в языке-основе. Между тем самостоятельная лекси-
ческая продуктивность определенной модели в данной группе
языков также может быть признаком ее генетической общности.
Ср., например, в германских языках — особое развитие именных
основ на -п- или определенных типов аблаута.
В отборе признаков приходится опираться прежде всего
на признаки фонетические и морфологические, поскольку лекси-
ческая общность, взятая в отдельности, легко может быть резуль-
татом контактных взаимодействий более позднего характера,
«заимствований» в широком смысле. Безусловно показательными
для установления генетических связей являются лишь признаки
лексико-грамматические, т. е. взаимодействие лек-
сического тождества с тождественными формами словообразова-
ния и словоизменения.
А. Признаки фонетические
1. Сильное динамическое по своему характеру ударение
на первом (корневом) слоге слова, с тенденцией к ослаблению (ре-
дукции) неударных слогов.
При отсутствии префикса ударение лежит на первом (в данном
случае корневом) слоге, при наличии префикса в именных соеди-
нениях (очевидно, более древних) — на префиксе, в глагольных
(которые еще в готском языке не образуют неразрывного целого,
допуская вставку частиц между префиксом и глаголом) — на корне.
Ср. нем. LJrteil — erteilen. Именные соединения с префиксом gvz-
(и.-е. со-, соп-) имеют всегда ударение на корне, а не на
префиксе (готск. gamains — лат. communis).
Общим является, таким образом, не только самое наличие
начального ударения как такового, но и совокупность морфологи-
ческих правил его употребления.
258
2. В результате ослабления неударных слогов — последова-
тельная их редукция.
Происходит отпадение конечных незащищенных согласных
и кратких гласных, сокращение долгих гласных, с дальнейшим
ослаблением всех неударных гласных в качественно безразличное
(шепотное) [-о] или с полным их отпадением и выпадением. Про-
цессы эти совершаются параллельно, хотя и с расхождениями
по языкам и диалектам, на протяжении всей самостоятельной
истории германских языков и определили в значительной степени
их последующую грамматическую перестройку. К периоду
генетической общности может быть отнесено только его
начало.
3. Общегерманское передвижение согласных (первый перебой)
и закон Вернера.
В результате передвижения мы имеем в общегерманском че-
тыре ряда звуков (звонкие и глухие смычные, звонкие и глухие
спиранты), образующие с фонологической точки зрения три ряда,
поскольку звонкие спиранты и звонкие смычные чередовались,
по-видимому, по положению (спиранты 5, Й, g между гласными,
смычные b, d, g в начале слова, в удвоении и после носовых,
возможно — с различиями по диалектам, — см. ниже, с. 266).
С фонетической (артикуляторной) точки зрения обращает на себя
внимание возникшее в результате передвижения и необычное
для других индоевропейских языков наличие двух полных рядов
спирантов, глухого и звонкого: /, ДМ— 5, Й, g, z (из которых
второй представляет позиционно обусловленный вариант звонких
смычных b, d, g). Характерно также чередование по закону Вер-
нера h (hw) и w (из общегерм. gw, uw): др.-сакс, sehan — sah —
sawum, gisehan, др.-в.-нем. sehan — gisewan.
Генетическая связь германского передвижения согласных
с армянским вызывает в настоящее время сомнения после дискус-
сии об армянском консонантизме на страницах «Вопросов языко-
знания».9 Если принять точку зрения акад. А. С. Гарибяна,
аспирированные звонкие, по свидетельству двух современных
армянских наречий, сохранялись в общеармянском языке-основе;
с точки зрения Бенвениста и Фохта, если согласиться с предла-
гаемой ими транслитерацией древнеармянского письма, они нали-
чествовали и в классическом древнеармянском языке. Частичные
совпадения с интервокальными звонкими спирантами латинского
языка сомнительны и вряд ли указывают на генетическую общ-
ность. Сходство с тем же латинским и с греческим по числу рядов
фонемных противопоставлений губных, переднеязычных и задне-
язычных согласных имеет только типологическое, а не генети-
ческое значение.
4. Развитие опорного гласного и перед слоговыми сонантами
Л Л $>ul, иг, шп, ип (в других индоевропейских языках I,
(h о или после сонорного как в греческом).
259
17*
5. Объединение и.-е. а, о в одной фонеме как в ударном, так
и в неударном положении: а, о а; а, д д; то же в дифтонгиче-
ских сочетаниях oZ, au^>ai, an.
Оба процесса протекали, вероятно, одновременно и представ-
ляют известную аналогию с характерным для германских языков
позднейшего времени сужением долгих гласных и расширением
кратких (под ударением!).10 Они происходят относительно поздно,
если судить по отдельным колебаниям в заимствованных словах
и в собственных именах около начала н. э.11
В славянских языках долгие объединяются в а, краткие в б;
в балтийских развитие кратких совпадает с германским, долгие
частично различаются. Ср. и.-е. а^>лит. о, латышек, а; и.-е.
б^>лит. о — й, латышек, а.12
Процессы комбинаторные
(ассимиляции и диссимиляции)
6. Образование германских геминат ZZ, пп, тт, в результате
ассимиляции сонорных групп In, пи, rm, zl, dl и др.
Ср. готск. fulls — слав, плънъ, др.-в.-нем. wella — слав.
влъна, др.-в.-нем. dunni — лат. tenuis, готск. rinnan — др.-инд.
rinvati и др.
Ассимиляции такого типа для генетических связей мало пока-
зательны, так как могут возникнуть в разных языках независимо
друг от друга и охватывают небольшое число слов. Однако наличие
геминат (долгих согласных) как фонологической категории —
характерная общая тенденция германского, которая в дальней-
шем значительно усиливается в особенности в западногерманском
и в верхненемецком.
7. Выпадение носового перед h с заменительным удлинением
предшествующего гласного.
Ср. готск. fahan <Z *fanhan прош. вр. feng; готск. brahta,
прош. вр. briggan; готск. puhta, прош. вр. Jugkjan; готск. juhiza,
сравн. ст. от juggs; готск. gapeihan fgedeihen’ *gapinhan; др.-в.-нем.
dihan—др.-caKc.gethungan прич. II, с переходом во всех герман-
ских языках из группы Ша в группу J; готск. preihan fdran-
gen’<^ *prinhan также с переходом в П1а)—др.-в.-нем. dringan,
англосакс, pringan.
Выпадение — относительно поздний процесс, после первого
передвижения согласных. О сохранении назализации, по крайней
мере в отдельных языках, свидетельствует ингв. ап^>д: ср. англо-
сакс. fon, brohte и др.
8. Переход и.-е. ei>repM. i.
Ср. греч. атесхо) — готск. steigan.
Явление это позднее: шлем из Негау имеет teiva; надпись хри-
стианского времени —- Alateivia (название богини). Ср. карель-
ско? заимствование Runkoteivas (рядом с Rukotiivo).13 Оно пред-
260
ставляет начало процессов воздействия последующего гласного
(суффикса) на артикуляцию предыдущего (корня), объединяемых
понятием умлаута (индуцирующие гласные i — и — а). Древней-
шее из этих явлений — так называемое «преломление», чередова-
ние е — I, о — и в зависимости от характера последующего глас-
ного, широкого или узкого (с нейтрализацией узкого варианта f,
и перед носовой группой). К историческому времени относятся
имена Segimerus, Segimundus (I в. н. э.) рядом с Segimerus,
Teneteri, финское заимствование rengas и др.
Однако умлаут представляет характерное общее явление
германской артикуляции гласных, развиваясь в древнегерманских
языках хотя и самостоятельно, но настолько параллельно, что
можно видеть в нем общую особенность германских языков, свя-
занную с характером и положением словесного ударения и акцент-
ной структурой слова. В орфографии умлаут обнаруживается
в дальнейшем в разное время, в зависимости от редукции индуци-
рующих гласных, когда позиционный вариант фонемы, являю-
щийся, по-видимому, общегерманской особенностью артикуляции,
превращается в самостоятельную фонему (см. ниже статью об
умлауте, с. 298 сл.).
Б. Признаки фономорфологические
9. Фонетическая и грамматическая систематизация чередова-
ний по аблауту.
Глагольный аблаут в германских языках представляет не про-
стое повторение индоевропейских моделей, а самостоятельный
отбор из них и дальнейшее развитие, «объединенное», по словам
Хирта, «в новую систему».14 На базе системы глагольного аблаута
строится затем отглагольное словообразование: нем. binden
band — gebunden, Binde — Band —- Bund (за исключением не-
большого числа архаизмов доглагольного происхождения). Индо-
европейскую основу в строгом смысле имеет только чередование
е — о — ноль I—III рядов (греч. Хе:ко)— (e-)Xircov—(X£)Xotrca)—
ср. готск. leihwan — laihw — laihwum и т. п.), но уже сам лекси-
ческий состав этих трех рядов в германских языках (согласно
составленному мною списку — 347 глаголов) является признаком
их высокой продуктивности в общегерманском. Три ступени за-
крепляются по своим грамматическим функциям — ступень е
для системы презенса, ступень о для единственного числа прошед-
шего времени и оптатива II (в большинстве групп также для при-
частия II). Общегерманским новообразованием в рядах IV—V
(81 глагол) является включение в чередование долгого е как при-
знака множественного числа, функционально эквивалентного
нулевой ступени. Ряды I—V дифференцируются в зависимости
от характера согласного, следующего за ударным гласным. Гер-
манским новообразованием является VJ ряд (а — б), образовав’
261
шийся в результате объединения нескольких индоевропейских
моделей (47 глаголов).
Из общего числа 475 сильных глаголов I—VI ряда 66, по
моим подсчетам, должны быть признаны общегерманскими, по-
скольку они засвидетельствованы по крайней мере в трех из
основных групп древнегерманских племенных диалектов (гото-
скандинавской, ингвеонской, немецкой), остальные являются ре-
зультатами позднейшего развития по общегерманским граммати-
ческим моделям.15
В. Признаки морфологические
£10. Склонение имен.
Четыре падежа (им., вин., род., дат.) на индоевропейской
основе, с остатками пятого, творительного (в мужском и сред-
нем роде). Четкое противопоставление имен существительных на
-о- (герм, -а-)-а- (герм, -д-) по грамматическим родам: мужской
(средний) — женский. Такое же противопоставление в основах
на -п- (-in-/-ап- м. р.-on- ж. р.): в индоевропейском типы скло-
нения на -п- по родам не различались. Позднейшая родовая диф-
ференциация склонения имен на -i- в единственном числе наличе-
ствует во всех древнегерманских языках, но становится возмож-
ной лишь после редукции основообразующих гласных в имени-
тельном-винительном падежах единственного числа: ср. готск.
gasts, gast — по аналогии dags, dag.
11. Образование так называемого слабого склонения прила-
гательных.
Суффикс мужского рода -in-1-an- с чередованием по аблауту,
суффикс женского рода -on-, -in-без чередования, на индоевро-
пейской базе, но с очень широким лексическим охватом в обще-
германском.
Склонение на -In- не имеет индоевропейских соответствий, так
как индоевропейская основа -yd-, в отличие от германского, не
имеет носового элемента. Средний род с незакономерным чередо-
ванивхМ -1п-1-ап-/-дп- (ср. готск. augo — augins, augin — augona —
augane, augam) представляет общегерманское аналогическое ново-
образование.
12. Образование особых грамматических типов склонения
местоимений:
а) Личные — с помощью притяжательного суффикса -In
в род. п. ед. ч. и частиц -к (из и.-е. -ge?), -$ в вин., дат. п. ед. ч.
(с возможными различиями по диалектам).
б) Указательные (вопросительные) и местоимение 3-го лица —
с одинаковой системой окончаний, частично отклоняющихся от
других индоевропейских языков: ср. готск. раша, рапа, pala;
imma, ina, ita.
Набор супплетивных форм, в основном общегерманских, об-
наруживает некоторые расхождения по племенным диалектам,
262
13. Образование двух типов склонения прилагательных, от-
личных от склонения существительных.
а) Сильное склонение — с местоименным окончанием в ряде
надежей (по аналогии указательных местоимений).
Не все местоименные формы сильного склонения прилагатель-
ных являются общегерманскими (это поздний процесс, с разли-
чиями по диалектам).16
Сопоставление с славянскими и балтийскими языками имеет
только типологический, а не генетический характер, так как
в славянских и балтийских языках местоимения в членных фор-
мах суффигируются, а в германских меняются только окончания
(по аналогии указательных местоимений).17 Оба процесса — гер-
манский и балто-славянский — связаны с грамматическим офор-
млением категории прилагательных как имен в атрибутивной
функции.
б) Слабое склонение (основы на -п-) — от всех прилагательных
в функции аппозиции, с значением постоянного, устойчивого
признака предмета, обычно в сопровождении указательного
местоимения-артикля.18
14. Образование наречий на -д (из индоевропейского аблатива на
-od). Ср. лат. subito.
В готском конкурируют образования с суффиксом -Ъа. В сла-
вянском -о представляет винительный падеж среднего рода.
15. Образование общегерманской системы сильных глаголов
дутем специфического отбора из индоевропейских форм.
а) Из основы презенса образуются: настоящее время индика-
тива, оптатив I, имперфект, причастие I с суффиксом -nt и инфи-
нитив.
б) Из основы прошедшего (ед. и мн. ч.) — прошедшее индика-
тива и оптатив II.
в) Причастие II.
Специфическими для германской глагольной системы являются
образованные по моделям индоевропейских отглагольных имен:
а) инфинитив на -ап (от глаголов всех типов, сильных и сла-
бых) — из индоевропейского винительного падежа на -on, -отп, —
ср. герм. *beranam — др.-инд. bharanam;
б) причастие II на -ап (и.-е. -опо) в сильных глаголах или
на -i (и.-е. -to) в слабых глаголах. Ср. готск. bundans — nasips
(нем. gebunden, geliebt).
Обе морфологически различные формы имеют в германских
языках одинаковое значение; в отличие от других индоевропей-
ских языков отсутствует их дифференциация видо-временного и
залогового характера.
16. Рядом с системой сильных глаголов, построенных по
аблауту (преимущественно первичных), новая, специфически
германская система слабых глаголов (преимущественно произ-
водных).
263
Слабые глаголы образуются с дентальным суффиксом -d (£)-
в прошедшем, которое совпадает по своей форме с причастием II,
построенным по общеиндоевропейской модели на -t (готск. nasjan—
nasida — nasips, род. п. -dis; др.-в.-нем. legen — legte, gelegt).
Дифференциация слабых глаголов на 3 группы по различию
суффикса настоящего времени -i-, -б-, -ё-, который служит также
основой для прошедшего (готск. I -ipa, II -дра, III -ера).
17. Развитие группы претерито-презентных глаголов с специ-
фическим для германских языков более широким лексическим
охватом и с образованием новых общегерманских форм.
От старого настоящего / прошедшего образованы оптатив II
настоящего времени, новое слабое прошедшее с дентальным суф-
фиксом, оптатив II слабого прошедшего, причастие II, инфинитив.
Общее число в германских языках — 15 глаголов, из них 10
общегерманских.
Модальный глагол желания wollen, с употреблением формы
оптатива I (готск. wiljau 'хотел бы’) в значении индикатива на-
стоящего времени.
18. Образование понудительных глаголов (каузативов) от
сильных глаголов I—V ряда с гласными второй ступени -о- (герм.
-а-) и германским суффиксом -ia- > -j- (из и.-е. -его-, -io-).
В основе германского каузатива лежит индоевропейская модель
(ср. готск. sitan — satjan, как сидеть — садиться). Германским,
однако, является ее морфологическое оформление по типу слабых
глаголов с дентальным суффиксом, распространение на глаголы
VI ряда с гласным прошедшего времени -д- и широкий лексиче-
ский охват этой категории, чрезвычайно продуктивной в обще-
германском и в древних германских языках (в I—V рядах 170 кау-
зативов, из которых лишь 28 имеют параллели в одном или не-
скольких других индоевропейских языках).10
19. Использование индоевропейского глагола ues 'жить5,
'обитать’ (ср. др.-инд. vasati) в качестве супплетивного прошед-
шего к глаголу 'быть’ (es-): герм. was.
20. Некоторые именные словообразовательные суффиксы:
герм, -ingl-ang, -nassus, -nessi, -nissi и др.
Г. Признаки лексические
21. Я не останавливаюсь здесь, по указанным выше причинам,
более подробно на вопросе о лексическом единстве германских
языков. Для этого требуется просмотр всего лексического мате-
риала и ряд подсчетов, которые не проделаны. При этом необхо-
димо учесть следующие вопросы.
а) Какие слова в германских языках являются общеиндо-
европейскими, какие встречаются только в той или иной группе
индоевропейских языков?
264
б) Какие слова являются общегерманскими, какие ограничены
ареалом тех или иных племенных диалектов?
в) Какие германские слова не имеют индоевропейских этимо-
логий?
Как известно, Хирт насчитывал в германском 30% таких слов
(точнее — «этимонов», т. е. корней) и рассматривал их как слова
субстратного происхождения.
Среди этих слов следует, однако, различать:
а) Слова общегерманские: например, готск. wintrus 'Winter’
(и.-е. *ghim — ср. лат. hiems, слав, зима и др.); готск. saiws
'See’ (и.-е. *mari — лат. mare, герм, mari, слав, море и др.);
герм. *bauma 'Baum’ (и.-е. дръво, готск. triu, англосакс, treo
и др.); готск. fugls 'Vogel’, готск. has 'Haus’ и др.
б) Слова, ограниченные определенным племенным ареалом:
например, зап.-герм, scap 'Schaf’ (и.-е. *ous — ср. лат. ovis, слав.
овъца, др.-в.-нем. ou); grant 'grof’, англосакс, great (и.-е. meg — ср.
греч. р-еуа?, готск. mik-ils и др.); *koli 'kuhl’, *lari 'leer’ и др.
в) От случаев отсутствия индоевропейских этимологий сле-
дует отличать такие, когда распространенное в индоевропейских
языках слово [получило в общегерманском специфическое новое
значение.
Например, готск. dags 'Tag’ < и.-е. *dhogh 'гореть’ (ср. лит.
dagas 'лето’, др.-инд. dahati 'горит’) вытеснило и.-е. di- 'день’
(ср. лат. dies, готск. sin-teins 'ежедневный’ и др.); готск. fauha
'лиса’, др.-в.-нем. foha ж. р., fuhs 'Fuchs’ м. р. (ср. др.-инд. piicchas
'хвост’, русск. пух) — из значения 'животное с пушистым хво-
стом’.
г) Очень важно также наличие особой общегерманской слово-
образовательной формы, отличной от индоевропейских в том же
значении.
Например: готск. kuni, -jis, др.-в.-нем. kunni, англосакс, cynne
и др. 'род’ (низшая ступень аблаута, осн. -/-) — ср. лат. gens,
греч. уеуо£ (от и.-е. корня gen- 'рожать’, со ступенью аблаута -е-);
др.-в.-нем. hamar 'Hammer’, др.-исл. hamarr, англосакс, hamor
и др. 'молот’ (осн. -г-, с нулевой ступенью аблаута) — ср. в перво-
начальном значении 'камень’ др.-инд. asma-, слав, камы, латышек,
akmuo, греч. axp,ov '(каменная) наковальня’ и др. Общегерманское
значение 'молот’, первоначально — 'из камня’ (ср. сканд. миф.
mjqlnir 'каменный молот бога Тора’).
II. Древнейшие диалектные различия
германских языков
Материал по дифференциации древнегерманских племенных
диалектов собран в «Введении в сравнительно-историческое изу-
чение германских языков». Здесь будут отобраны только такие
фонетические и грамматические признаки, которые могут быть
265
с некоторым вероятием отнесены к общегерманской эпохе как
древние различия артикуляции или как индоевропейские грамма-
тические дублеты. Остальные различия имеют более поздний ха-
рактер и представляют результат дальнейшей дифференциации
общегерманских звуков и форм.
А. Признаки фонетические
1. Можно было бы высказать предположение, что фонетиче-
ские особенности звонких спирантов и звонких смычных, пред-
ставляющих результат первого передвижения согласных, отра-
жают древние различия артикуляции в племенных диалектах.
а) В готском языке глухие спиранты /, р чередуются с звон-
кими б, d на конце слова и перед глухим $.
Ср. hlaibis— hlaif, hlaifs; godis,—gop, gops.
б) В западногерманских языках спирант d во всех положениях
(в том числе и в интервокальном) представлен смычным d.
Ср. готск. fadar, др.-исл. fader — др.-сакс, fadar, англосакс,
faeder, др.-фриз. faeder, др.-в.-нем. fatar (d >t по II передвиже-
нию).
в) В ингвеонских диалектах g в начале слова (как и в интер-
вокальном и поствокальном’положении) всегда является~спиран-
том.
Ср. англосакс, giefan 'geben’, др.-фриз. ieva, др.-сакс. ieldan —
др.-в.-нем. geban, geltan.
г) В эрминонских (южнонемецких) диалектах Ь, d, g во всех
положениях, в том числе и в интервокальном, являются смычными
(с потерей звонкости по второму передвижению).
Ср. др.-ю.-нем. kepan 'geben’, pin 'bin’, stican 'steigen’, lac
'lag’ и т. n.
д) В большей части -иствеонских (франкских) диалектов, как
и в современных франкских говорах, b является, по-видимому,
спирантом в интервокальном, смычным в конечном положении:
geben — gap; g — спирантом в обоих положениях: legen, sagen,
lag, sag.
Возможно, что эти диалектные различия более позднего вре-
мени отражают древние артикуляциоппые навыки, но это нельзя
считать доказанным.
2. К таким же древнейшим артикуляторным навыкам языков
ингвеонской группы можно было бы отнести:
а) произношение а в закрытом слоге как переднего а (англо-
сакс. staef 'Stab5, saet 'sa|3’ и развитие его в а при назализации
англосакс, man 'Mann’);
б) палатализацию («ассибиляцию») к, g > к', g' перед перед-
ними гласными (англосакс, cin, laece — англ, chin, leech, англо-
сакс lig — англ. edge).
266
Однако никаких прямых доказательств такой древности этих
явлений не имеется.
3. Можно предположить, что в основе различия между готск. pl-
и зап-, сев.-герм, fl- (готск. pliuhan— др.-в.-нем. fliohan ^liehen"*)
лежит древняя диалектная дифференциация. Однако доказать это
положение, по-видимому, невозможно, так как небольшое число
слов этой группы не имеет бесспорных индоевропейских этимологий.
Обычно считают, что герм, готск. ^/-^>зап.-, сев.-герм, fl- или,
напротив, герм, fl- (и.-е. pl-)^> готск. pl-. Последнее, однако, не-
возможно ввиду сохранения в готском fl- в словах с и.-е. pl-\
ср. готск. flodus, др.-сакс., англосакс, flod (англ, flood), др.-в.-нем.
fluot Tint’ — греч. 'плывущий’.20
Как видно, все эти случаи древней фонетической дифференциа-
ции германских племенных диалектов должны быть признаны
гипотетическими.
Б. Признаки грамматические
4. Древний характер имеет различие между готоскандинав-
ским и западногерманским в образовании 2-го лица единствен-
ного числа сильного прошедшего.
Ср. готск. graipt, др.-исл. greipt — англосакс., др.-сакс.
gripi, др.-в.-нем. grifi 'griff5.
Окончание -t происходит из индоевропейского перфекта, окон-
чание -г, согласно господствующему мнению, — из индоевропей-
ского аориста. Ср. др.-в.-нем. stigi — греч. (е-)атс^ес, др.-в.-нем.
fugi — греч. (е-)^оуе;.21
Если это отождествление правильно, то мы имеем в герман-
ском прошедшем скрещение индоевропейских перфекта и аориста
(утративших свое первоначальное видовое значение), а в двух
диалектных группах (северногерманской и южногерманской) —
различный отбор из форм перфекта и аориста, еще существо-
вавших раздельно в общегерманском.
5. Судьба гетероклитического склонения.
Ср. 'вода5: готск. wato, watins, др.-сев. vatn — зап.-герм.
*watar (др.-в.-нем. wa^ar 'Wasser5); 'огонь5: готск. fon, funins,
др.-сев. funi — зап.-герм, fiur 'Feuer5; 'солнце5: готск. sauil,
др.-сев. sol — др.-в.-нем. sunna.
В результате отбора из форм гетероклитического склонения,
по-видимому, еще существовавшего в общегерманском, в северно-
германском (готоскандинавском) закрепляется форма именитель-
ного падежа с суффиксом -г, в южногерманском (позднее — за-
падном)— форма косвенных падежей на -п. Сохраняются, однако,
следы оттесненных образований: ср. шв. Watern ('озеро5), др.-исл.
fyrr как поэтический архаизм, готск. sunna. др.-исл. sunna.
6. Два типа образования основы слабых глаголов II и III
класса:
267
а) атематический на -б-, -е- (и-.е. -a-, -е~);
б) тематический на -о] a-, -eja- (и.-е. -ajo~, -ejo-).
Атематический тип представлен в древневерхненемецком и,
по-видимому, в готоскандинавском. Ср. др.-в.-нем. наст. вр.
salbom, -os, -ot, прош. вр. -ota; наст. вр. habem, -es, -et, прош. вр.
habeta.
Тематический тип наличествует в языках ингвеонской группы
(в древнесаксонском — со следами в III классе). Его признаком
является наличие j в инфинитиве, 1-м лице единственного и мно-
жественного числа и в оптативе I. Например: англосакс, наст,
вр. ед. ч. sealfie (-ast, -ad), мн. ч. sealfiad, опт. I sealfige, инф.
sealfisan. Ср. слав, делам 'делаю’, -еши; nwie 'имею’, -еши; греч.
(р’.Хею, лат. albeo.
7. Склоняемый инфинитив (герундий) в западногерманских
языках при отсутствии такового в готоскандинавском.
Ср. др.-в.-нем. род. п. nemannes, дат. п. (zi) nemanne, основа
на -/- (германский суффикс -*an-ja).
Пизани находит для этой формы индоевропейские соответ-
ствия (древнеиндийский суффикс -adyaj и его древнеиранские и
оскско-умбрские параллели), к которым западногерманская форма
может, по его мнению, восходить, не будучи общегерманской.22
8. Способ образования числительных последних десятков,
начиная с 60-ти.
Ср.: готск. sibun-tehund, др.-в.-нем. sibunzo — ингв., англосакс,
hund-seofentig, hunde-ahtatig (*hund <Z и.-е. kmtom 'сто’).23
9. Наличие в настоящем времени глагола 'быть’ в западно-
германских языках супплетивного элемента Ь- (из и.-е. *Ыш,
слав, быть, лат. fui)
Ср. др.-в.-нем. bim < *b+im (готск. im 'есмь’).
В готоскандинавском индоевропейский глагол bhu- существует
только как полнозначный. Ср. готск. bauan, др.-исл. Ьна
(др.-в.-нем. buan 'bauen’).
10. Использование в ингвеонском и древнесеверном в пара-
дигме склонения местоимения 3-го лица указательной германской
основы hi- (и.-е. ki 'сей’).
Ср. англосакс, he-, др.-сев. hann 'он’.
Согласно Розенфельду,24 проникновение he в парадигму скло-
нения местоимения 3-го лица в ингвеонских языках связано с ре-
дукцией германского is (готск. is) > *i. Местоименная основа h-
существовала во всех германских языках; местоимение hi- оста-
вило следы своего самостоятельного существования в наречии
'сегодня’ (лат. ho-die); ср. др.-в.-нем. hiutu 'heute’ < *hiu-tagu,
готск. himmadaga дат. п.? (unt)hinadaga вин. п.
Отдельные дублетные грамматические формы
И. В родительном падеже единственного числа в мужском и
среднем роде существительных с основами на -о- (герм, -а-) окон-
чания -es (герм, -is) или -os (герм. -as).
268
Ср. готск. -es, др.-в.-нем. -es, др.-сев- -as, англосакс. -ses (из
-as) или -es. др.-сакс. -es или -as.
Диалектные различия определяются отбором дублетных форм,
различающихся по аблауту (и.-е. -е-/-о~).
12. Родительный падеж множественного числа основ на -о-
(герм. -а-) — во всех германских языках имеет окончание -а (из
и.-е. -от), в готском—-ё (с аналогическим распространением на
все основы мужского рода).
Ср. др.-в.-нем. tago— готск. dage, вероятно, также индоевро-
пейские дублетные формы.
13. Слабое склонение существительных мужского рода с аблау-
том гласного основы -tnl-an в готском и древневерхненемецком и
без аблаута в древнесеверном и в ингвеонской группе.
Ср. готск. hana-ins, -in, -an — англосакс, hona, honan, др.-сев.
hane, hana.
Одинаковая форма основы — скорее результат позднейшей
унификации, чем древнее явление.
14. Оптатив настоящего времени в 1-м лице готск. bafran,
др.-сев. Ьега — англосакс., др.-в.-нем. Ьеге.
Два варианта индоевропейского оптатива.
Несколько единичных случаев имеют скорее лексико-грамма-
тический характер, ограничивающийся словообразовательными
различиями.
15. Числительное 'два’ готск. twai, др.-исл. tveir мужского
рода соответствует по форме западногерманскому среднему роду:
англосакс, twe, др.-в.-нем zwei (ср. слав. дв1).
В западногерманском мужской род расширен суффиксом -п\
др.-сакс. twene, др.-в.-нем. zwene (из и.-е. *duoinoi 'двойной’,
ср. лат. bini 'по два’).
16. Готск. hwarjis 'кто’, др.-исл. hverr (рядом с hwa) отсут-
ствует в западногерманском. Образование с суффиксом ср.
др.-лит. kuris, род. п. kurjo < *kur-jis).
17. Вопросительное местоименное наречие 'кто?’.
Готск. hwaiwa, др.-в.-нем. hweo, wio 'wie’, др.-исл. hve,
др.-сакс. hwo, hu, англосакс, hu, (англ, how), др.-франкск.
hoe [hu:]< *hwo (ср. лат. quo).25
Разные падежные (адвербиальные) образования.
Вопрос о различиях лексических представляет большие мето-
дические трудности — прежде всего вследствие неполноты свиде-
тельств — и здесь рассматриваться не будет.26
В целом дифференциальные признаки древнего диалектного
членения общегерманского крайне незначительны и представляют
различия внутри по существу «гомогенной» языковой си-
стемы.
269
Uli. Общие признаки, объединяющие германские языки
(в целом или частично)
с другими индоевропейскими языками
или группами языков
Признаки эти могут также относиться к области фонетики,
морфологии и лексики. Основной вопрос заключается в том, на-
сколько эти признаки многочисленны и универсальны, позво-
ляют ли они говорить о совместном развитии, схождении или
о частных случаях контактов, засвидетельствованных единичными
«изоглоссами».
Материал по этому вопросу собран в работах Мейе,27 Пор-
цига 28 и пересмотрен Н. С. Чемодановым. Он позволяет сближать
германские языки, с одной стороны, с языками западной группы
индоевропейского (с латинским, кельтским, может быть —
с иллирийским), с другой стороны — с балтийскими и славян-
скими.
А. Схождения с западными языками
1. В области фонетики бесспорной является только ас-
симиляция -tt > -$$. Ср. лат. sedere — sossus (и.-е. settos 'gesetzt’ —
др.-исл., англосакс, sess е Sitz’); так же готск. wissa, missa-,
-assus < -*attos и др.
В италийском и в германском это явление бесспорно наличе-
ствует, в кельтском оно развилось, по-видимому, в более позднее
время и самостоятельно (через ступень -st-). В принципе, как
всякий факт ассимиляции, оно может быть результатом незави-
симого параллельного развития в разных языках.
2. В области морфологии заслуживает внимания целая
система совпадений между латинским и германским языками
в формообразовании глагола.
Правда, сопоставление способа образования прошедшего вре-
мени в этих языках из скрещения перфекта и аориста имеет не
генетический, а только типологический характер, так как в ла-
тинском языке одни из «сильных» глаголов так называемого
III спряжения имеют в прошедшем исконно перфектную, а другие
исконно аористную форму, тогда как в германских языках скре-
щение перфекта и аориста происходит внутри формообразования
того же самого глагола. Однако в ряде форм сильного прошедшего
оба языка совпадают не только в грамматическом, но и в лексиче*
ском отношении.
а) Долгое -ё- (как высшая ступень от -е-) в прошедшем вре-
мени глаголов IV—V группы в германском (мн. ч.) и в латин-
ском (ед. ч. и мн. ч. перфекта): ср. готск. setum 'sa0en’ — лат.
sSdimus, готск. qemum 'kamen’—лат, venimus, готск. nemum
'namen’— лат. eminus, готск. etum fa|3en’—лат. edimus, готск.
Ьгёкит 'brachen’—лат. fregimus.
270
б) Формы единственного числа прошедшего времени I—II группы
германских глаголов и их латинские соответствия: ср. в I группе
готск. waih— лат. vici, готск. hnaiw — лат. (con-)nivi, готск.
laihw— лат. liqui; во II группе готск. biug — лат. fugi, готск.
gaut—лат. fadi; ср. также в других группах—VI: готск. skof—
лат. scabi; V: готск. bi turn—fidimus (мн. ч.).
в) Употребление удвоения в перфекте: ср. готск. stautan—
staistaut и лат. (undo — tutudi; готск. bait ап — halhait и лат.
caedo — cecidi; готск. tekan — taitok и лат. tango—tetigi; готск.
fahan— faifah и лат. pango — pepigi.
г) Образование новой категории слабых глаголов (герм.
II-III класса—лат. I-П спряжения) с основами и.-е. -а- (герм, -д-)
и -ё- с помощью суффиксов -d- в германском и -и- в латинском.
Как уже было сказано выше (см. с. 264), основообразующие
гласные латинских форм совпадают с древневерхнемецкими
и готоскандинавскими. Глаголы на -ё-, как в германском, так и
в латыни, являются по своему значению глаголами состояния
(ряды с тематическими глаголами действия на Отмечен ряд
лексико-грамматических параллелей: ср. готск. haban, др.-в.-нем.
haben— лат. habere, готск. pahan, др.-в.-нем. dagen — лат. tacere,
готск. (ana-)silan — лат. silere, готск. witan — лат. videre.29
Тематические формы -б/о-, -ё}о- в ингвеонских языках совпа-
дают с типом слав, дЪлаю, имЪю.
3. Древние лексические схождения между латынью и герман-
ским в материале, собранном Н. G. Чемодановым,30 обнаруживают
в большом числе примеров тождество и словообразовательных
моделей. Приведем лишь некоторые из них:
Существительные: готск. raijjjo— лат. ratio, готск. wuljjus—
лат. vultus, готск. tuggo 'Zunge’—лат. lingua.
Прилагательные: готск. gamains (осн. -Z-) — лат. communis,
готск. magar — лат. тасег.
Глаголы (кроме названных выше): готск. tiuhan (af-. at-, -ge-)—
лат. ducere (ab-, at-, -con-), готск. pagkjan — лат. tongere, готск.
brakjan — лат. fruor « *frugor) и др.
Реже к латинско-германским соответствиям присоединяются
' кельтские. Ср. готск. wafr 'муж’ — лат., умбр, vir, др.-ирл. fer,
готск. laggs 'длинный’ — лат. longus, кельт, (в греческой тран-
скрипции) Хбууоо; готск. hafts — лат. captus, др.-ирл. cacht; готск.
sokjan — лат. sagio, др.-ирл. saigim и др.
Грамматические параллели между германскими и кельтским
отсутствуют. Многочисленные схождения в лексике в большинстве
случаев трудно отличить от заимствований в результате контакт-
ных связей. Они имеют относительно поздний характер, т. е. не
показательны для процесса формирования общегерманской фоне-
тической и грамматической системы.
Схождения с иллирийским, вероятно вследствие недостаточ-
ности материала, немногочисленны и имеют частный характер.
27!
Возможно, что сопоставление с праалбанским, реконструируемым
в работах А. В. Десницкой, позволит углубить эти связи (вопрос
об умлауте в албанском языке).31
Б. Схождения с балтийскими
и славянскими языками
1. В области фонетики уничтожение фонологического
противопоставления индоевропейских а—о, а — б представляет
в языках балтийско-славянских значительное отличие от анало-
гичных германских процессов.
2. Древнюю изоглоссу, объединяющую германский с балтий-
ско-славянским, представляет дательный падеж множественного
числа на -тп, в отличие от -bh в прочих индоевропейских языках
(с различием в падежном употреблении). Ср. готск. wulfam, слав.
влъкомъ, лит. vilkam—др.-инд. vrkebhyas (лат. patribus).
3. Весьма убедительными представляются некоторые из гер-
мано-славянских морфологических изоглосс, в недавнее время
установленных акад. В. И. Георгиевым.32
а) Сходство балто-славянского с германским в склонении при-
частия I женского рода.
Ср. слав, берхаци, лит. auganti—готск. frijondi; вин. п. слав.
берхща, лит. augancq — готск. frijondja.
б) Глаголы, оканчивающиеся в старославянском на -нл\ти,
имеют соответствия в готских глаголах на -пап.
Ср. слав, у-жаснохти и у-жасити, готск. us-geisnan и us-
gaisjan.
В литовском назальный суффикс превратился в инфикс: ср.
pabundu и pabudinu.
4. Флексии каузативных глаголов на индоевропейское -ejo~
в германском и балто-славянском соответствуют глаголы на -i-
ср. германские глаголы слабого спряжения I класса, тогда
как в других индоевропейских языках появляются только окон-
чания -е (-6).
Ср. слав, про сити, прошх, просшпъ, лит. prasyti, prasau,
praso— готск. nesja (но др.-инд. bodhayati, греч. срорео), лат. doceo).
5. Вместо единых названий десятков в балто-славянском нали-
чествует новообразование, означающее 'три десятка’.
Ср. 'тридцать’ слав, три десяти, лит. tris desimt, готск.
preis tigjus (но лат. triginta, греч. тркххоута).
6. Число 'тысяча’ ст.-слав, тысхща, лит. tiikstantis, герм,
pusundi (из *Jjus-hundi > и.-е. tus-kmti).
7. Числа 'одиннадцать’, 'двенадцать’ готск. ainlif 'elf’, twalif
'zwolf’ имеют соответствие в лит. vienudlika, dvylika.
8. Суффиксы прилагательных, герм, -iska, слав, -ъск, лит.
-iskas (и.-е. -is-ko) с широким лексическим охватом.
Как объяснить эти двусторонние связи общегерманского?
Н. С. Чемоданов предлагает гипотезу, представляющуюся вполне
272
правдоподобной как с исторической, так и с лингвистической точки
зрения:33
«Древнейшая история индоевропейских диалектов, которые
в половине первого тысячелетия новой эры оказались составными
элементами германского единства, делится на два периода, и
в каждом из них эти диалекты входили в границы разных диалект-
ных ареалов индоевропейской общности. В более ранний период
эти диалекты составляли общий ареал с диалектами, образовав-
шими впоследствии группу балтийских языков. В более поздний
период, уточнить хронологически который мы затрудняемся,
предки позднейших германцев являлись частью ареала, вместе
с италийскими племенами, когда те обитали на территории своей
прародины. Вполне вероятно, что в эту группировку индоевро-
пейских племен входили также иллирийцы и венеты. После пере-
селения италиков на территории Апеннин германцы входят в тес-
ное соприкосновение с кельтами, связь с которыми продолжается
до первых веков новой эры, когда в результате бурного процесса
романизации галлов латинский язык распространяется по всей
западной границе расселения германцев на континенте Европы».
По вопросу об относительной хронологии этих связей к ска-
занному Н. С. Чемодановым следовало бы добавить, что они
должны быть отнесены не только к периоду географического со-
седства этих народов, но и к тому этапу развития их языков,
когда еще возможно было взаимное понимание. Только при нали-
чии такого взаимного понимания можно объяснить существование
общих изоглосс, объединяющих два близко родственных языка
или диалекта. С течением времени это понимание становится не-
возможным в результате значительных фонетических сдвигов
с той и с другой стороны (типа германского передвижения соглас-
ных), а также существенной перестройки грамматических систем.
Историческое тождество лат. communis и готск. gamains, лат.
tacere и готск. pahan и производных от них грамматических форм
понятно лишь для этимолога, а не для живых носителей соответ-
ствующих языков. Однако факт наличия таких отдельных общих
с другими языками изоглосс, представляющего результат более
древнего совместного развития или позднейших контактов в усло-
виях двуязычия (кельтские и латинские заимствования в герман-
ском). не снимает вопроса о существовании общего языка группы
родственных племен не как «совокупности изоглосс» разного
происхождения, а как исторически сложившейся целостной (хотя
и не «гомогенной») системы. Такой системой мы и считаем обще-
германский язык-основу.
Подведем итоги рассмотренному материалу.
Перечисленные рядом исследователей и еще раз пересмотрен-
ные нами признаки общегерманского состояния очень многочис-
18 В. M. Жирмунский 273
ленны и отчетливо выделяют германские языки как целое из других
индоевропейских языков. Индоевропейская фонетическая си-
стема кардинальным образом изменилась в германском благодаря
изменению характера и места ударения, тенденции к редукции
неударных слогов и больших сдвигов в вокализме и консонантизме;
грамматическая система перестроилась, и в ряде случаев общие
индоевропейские модели послужили лишь отправной точкой для
такой перестройки или для специфической продуктивности в пре-
делах общегерманского; лексика, при наличии диалектных раз-
личий, обнаруживает существование общегерманского слоя, ча-
стично унаследованного, частично являющегося результатом об-
щих новообразований или не имеющего этимологических парал-
лелей в других индоевропейских языках.
Все это позволяет нам с полным основанием говорить об обще-
германском (или «прагерманском») как о едином языке в ряду
других индоевропейских языков. Мы находим в этом языке за-
кономерное единство развития звуков и форм, а не противоречи-
вую и незакономерную их пестроту, какая обнаруживается линг-
вистическими картами в большинстве современных новоевропей-
ских диалектов. Мы не усматриваем в нем никаких признаков,
указывающих на то, что это единство возникло в результате кон-
вергирующего развития различных языков, родственных или
неродственных, — того, что получило название «языкового союза».
Правда, при образовании этого общего языка отнюдь не исклю-
чается возможность воздействия языкового (этнического) суб-
страта — в первую очередь в области лексики (слова, не имеющие
индоевропейских этимологий), а также в фонетике (сдвиг артику-
ляции при переносе ударения, передвижении согласных и т. п.);
в морфологии воздействие такого субстрата маловероятно, так
как все новые грамматические формы общегерманского могут
быть объяснены как результат перестройки старых индоевропей-
ских или их последовательного развития.
Частичные совпадения с другими индоевропейскими языками,
не слишком многочисленные на фоне общегерманского единства,
должны рассматриваться как результат совместного или контакт-
ного развития в разное время, в условиях географического со-
седства, взаимного понимания или позднейшего двуязычия.
Внутри этого единства могла наличествовать очень ранняя
диалектная дифференциация, также не слишком значительная,
но с течением времени возраставшая. Разумеется, теоретически
могли существовать и древние диалектные различия, которые были
устранены позднейшей унификацией; но о них мы судить не можем
за отсутствием фактов.
Образование и развитие германского языкового единства
происходило постепенно, на протяжении веков, и мы в редких
случаях можем говорить о «наборе» его признаков как о синхрон-
ной «системе» (или «срезе»). Относительная хронология этих
процессов может быть восстановлена далеко не всегда (хотя, на-
274
пример, вполне очевидно, что закон Вернера, связанный с по-
движностью ударения, должен был предшествовать перенесению
ударения на первый слог слова). Тем не менее существование язы-
кового единства подобного рода (хотя и не статического и не «гомо-
генного») указывает на относительное географическое обособление
племени или, точнее, группы племен, являвшихся носителями
этого единства, и тем самым на разрыв лингвистической непрерыв-
ности, не исключавшей, конечно, отдельных контактных взаимо-
действий. С этой точки зрения мы имеем все основания для того,
чтобы говорить не только об общегерманском (или прагерманском)
языке-основе, но и о догерманском «пранароде», точнее — по со-
циальным условиям того времени — о группе племен, которые
могут быть названы по своему языку германскими (учитывая при
этом возможность сложных этнических смешений в процессе этно-
генеза этого племенного и языкового единства). Мы должны по-
ставить и вопрос о «прародине» германцев, т. е. о географической
территории, в рамках которой происходило такое языковое и этни-
ческое обособление.
К сожалению, данные истории и археологии до сих пор еще
совершенно недостаточны для решения этих вопросов (как и основ-
ной в этом смысле проблемы этногенеза германцев). Большинство
попыток в этом направлении представляются мне преждевремен-
ными и субъективными, часто при этом подсказанными не науч-
ными, а примитивно шовинистическими мотивами. Однако можно
думать, что новые археологические открытия (предметов и в осо-
бенности надписей) в свете данных сравнительно-исторического
языкознания и ономастики со временем могут продвинуть нас
значительно дальше в решении этих вопросов.
За последнее время было предпринято несколько попыток
внести определенную закономерность и отновртельную последова-
тельность в развитие общегерманского языгК и системы его при-
знаков. В частности, известный интерес представляет попытка
Э. А. Макаева, различающего в истории общегерманского языко-
вого состояния два этапа или периода — протогерманский и обще-
германский 34 или раннегерманский и позднегерманский,35 из
которых второй определяется кругом явлений, связанных со ста-
билизацией германской акцентной системы. В сущности вопрос
этот представляется сходным с тем, что И. М. Тройский называет
«ближней» и «дальней» реконструкцией индоевропейского пра-
языка. «Статика условной системы осложняется динамикой
приведшего к созданию этой системы исторического про-
цесса».36
Однако возникает опасение, что рассечение исторического
процесса на два синхронных «среза» создаст слишком «жесткую»
модель, не соответствующую реальной динамике языкового дви-
жения. Диахрония не есть последовательность синхронных сре-
зов: это процесс непрерывного движения, в котором разные эле-
менты системы развиваются разновременно и с разной скоростью.
275
18*
В заключение — несколько слов о терминологии. Старое срав-
нительное языкознание (от Шлейхера до младограмматиков вклю-
чительно) говорило о «праязыках» (нем. Urgermanisch, Ursla-
wisch — в русском переводе «прагерманский», «праславянский»
и т. д.). По отношению к германским языкам немецкие лингвисты
различают понятия Urgermanisch («прагерманский») и Gemein-
germanisch («общегерманский»), подразумевая под первым пе-
риод, предшествующий распадению германской языковой общ-
ности на диалекты, а под вторым — более поздние общие явления
древнегерманского языка (очевидно — контактного характера),
относящиеся к периоду наиболее ранней диалектной раздроблен-
ности (например, умлаут — явление «общегерманское», но не
«прагерманское»). Однако с точки зрения современного языко-
знания границы между этими двумя этапами очень зыбкие: с одной
стороны, прагерманский (язык-основа) не представляется нам
явлением «гомогенным»; с другой стороны, общие явления обнару-
живаются в германских языках и в более позднюю эпоху их раз-
дельного существования в результате общих закономерных тен-
денций, унаследованных от первоначальной языковой общности
(удлинение открытых слогов, дифтонгизация долгих гласных и
монофтонгизация дифтонгов — явления, вызванные общим воз-
действием германского динамического ударения).37
Однако немецкое иг- (русск. пра-) кроме сочетаний Urgerma-
nisch «прагерманский» и т. п. имело в немецком языке и другое
значение, исторически предшествующее первому, из него раз-
вившемуся: романтического понятия Ursprache как общего «пра-
языка» человечества. Наличие этой терминологической двусмы-
сленности привело уже некоторых младограмматиков к введению
термина Grundsprache, не отягченного романтическими ассоциа-
циями (ср., например, в учебниках Г. Краэ: indogermanische или
germanische Grundsprache). По существу содержание этих терминов
было, конечно, тождественно. Мы перевели на русский язык
нем. Grundsprache как «язык-основа». Широкое употребление этот
термин получил у нас в период ликвидации «нового учения
о языке» акад. Н. Я. Марра взамен старого «праязык», скомпроме-
тированного во времена господства учения Н. Я. Марра прочными
ассоциациями с «пранародом», «прародиной», «буржуазной индо-
европеистикой» и «расизмом». Разумеется, и по-русски термины
«праязык» и «язык-основа» были первоначально тождественны по
своему содержанию, но второй стал в настоящее время привыч-
ным для выражения более гибкого и современного понимания
языковой общности в ее конкретной исторической сложности и
противоречивости.
В американской лингвистике немецкое иг- переводится как
proto- (proto-indoeuropean, proto-germanic и т. п.). Из работ
В. Лемана,38 которые можно взять в качестве примера, ясно, что
этот термин употребляется в современных трудах по сравни-
тельному языкознанию, написанных на английском языке, в зна-
276
чении «языка-основы», индоевропейского или общегерманского,
а не для какой-либо специальной, например, для более древней
стадии развития этого языка. Мы со своей стороны, следуя за
американцами, стали употреблять термин «прото-», но окружили
его ореолом древности, обозначая им начальный период развития
общего языка, предшествующий его более позднему «классиче-
скому» периоду, объект «дальней» — в отличие от «ближней» —
реконструкции. Можно было бы согласиться с такой терминоло-
гией, если бы она получила общепризнанный характер.
Французские лингвисты, вслед за американцами, за последнее
время также стали пользоваться термином proto- в значении
непереводимого немецкого иг- (protogermanique и 1. п.). Но Мейе
говорил только об «общегерманском», «общеславянском» и т. д.
(germanique commun, slave commun), следуя в вопросе о термино-
логии своему общему скептическому отношению к реальности
гипотезы «праязыка». По той же причине Пизани рекомендует
отказаться от всяких «пра-» и считает «общегерманский», «обще-
славянский» и т. д. (germanico, slavo commune) единственным
современным научным термином, соответствующим его концепции
языка (диалекта) как совокупности изоглосс. Еще более предпо-
чтительным он считает такое обозначение, как «германский» или
«славянский» (germanico, slavo), когда оно не может создать повод
для недоразумений. Для раннего этапа, предшествующего разви-
тию всех классических общих признаков данной группы, он поль-
зуется формой pre- в значении 'пред-’ или 'до-’ (pregermanico, рге-
indeuropeo). Ср. также франц, pregermanique в значении новейшего
'протогерманский’.
1967 г.
ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОНЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ *
I
Основной задачей сравнительно-исторического исследования
группы родственных языков следует считать не реконструкцию
«архетипов» или «системы архетипов» языка-основы, иными сло-
вами — гипотетической модели «праязыка» (задача хотя и важная,
но вспомогательная). Важнейшая цель подобного рода исследо-
ваний, по мнению автора, высказанному им уже неоднократно,1
заключается в раскрытии внутренних законо-
мерностей (тенденций) развития, проявляю-
щихся в исторически обусловленных сходствах и различиях между
этими языками.
♦ Доклад на IV конференции по германскому языкознанию в Москве 6 ок-
тября 1964 г.
277
Исходя из этого положения, сравнительно-историческая грам-
матика не может ограничиться доисторией изучаемых
родственных языков; она должна включить в сферу своего рас-
смотрения, как указывал уже А. Мейе,1 2 и их историю
в пору их раздельного существования:
общее наследие данной группы языков и общие закономерные
тенденции ее развития должны учитываться сравнительно-сопо-
ставительным анализом этих языков в связи с теми специфиче-
скими особенностями и тенденциями, которые складываются
в каждом из них как в новой и самостоятельной языковой системе.
Именно наличие подобных общих тенденций в условиях независи-
мого развития лучше всего свидетельствует об их законо-
мерном характере.
В сравнительно-историческое изучение должны быть включены
и диалекты данных языков, в которых, как в устно-разго-
ворной форме народной речи, наиболее непосредственно, после-
довательно и беспрепятственно осуществляются общие тенденции
развития этих языков, не стесняемые устойчивой (консервативной)
письменной нормой. Сравнительная грамматика диалектов на раз-
ных ступенях исторического развития от древних времен до совре-
менности представляет не менее необходимую часть сравнительно-
исторического исследования, чем историческая и сравнительная
грамматика древних языков, засвидетельствованных в письмен-
ности, поскольку по своему происхождению эти последние также
первоначально являлись устно-народными диалектами языка-
основы.
В таком расширенном понимании сравнительно-историческая
грамматика, построенная на генетической основе, непосредственно
соприкасается с сравнительно-типологиче-
скими исследованиями, для которых она должна
служить исторической базой. Типологическое сопоставление род-
ственных языков в диахроническом плане означает в сущности
раскрытие общих тенденций их исторического развития в их кон-
кретных сходствах и различиях как исторически сложившихся
языковых типов или развивающихся языковых систем. Историко-
типологические аналогии этого развития теснейшим образом
связаны с фактом наличия общего наследия и сходными тенден-
циями его закономерного развития. Только подобной взаимо-
связью историко-генетического и историко-типологического рас-
смотрения и может быть теоретически обоснована и оправдана
самая постановка проблемы исторической типологии именно
родственных языков в общих рамках сравнительно-
типологической проблематики.
Это положение можно иллюстрировать двумя частными^при-
мерами, заимствованными из истории германских языков.
1. Умлаут представляет закономерную тенденцию фоне-
тической ассимиляции гласного корня гласному окончания,
278
которое проявляется во всех германских языках, но уже в пору
их раздельного существования, независимо друг от друга, в разное
время и со специфическими для каждого языка особенностями
развития. Иными словами, умлаут — не прагерманское явление;
общим наследием всех германских языков могли быть лишь
какие-то особенности артикуляции или акцентной структуры
слова, точнее нам не известные (вероятно, связанные с местом
в слове и характером германского ударения). Умлаут превращается
из позиционного (ассимиляторного) оттенка фонемы в противо-
поставление самостоятельных фонем — и тем самым из явления
фонетического в явление фономорфологическое — только в ре-
зультате качественной редукции тех гласных окончаний, которые
вызывали ассимиляторные изменения. Эти процессы редукции
протекали в германских языках в разное время и частично по-
разному, вызывая существенные различия в структуре основ
и типах склонения и спряжения, т. е. в процессах перестройки
всей грамматической системы. В результате этих процессов не-
мецкий язык обнаруживает растущее аналогическое использо-
вание умлаута как грамматического показателя во всей системе
словоизменения и словообразования; наслаиваясь на более древ-
ние чередования гласных по аблауту, умлаут вместе с ними ста-
новится основой той характерной для немецкого языка внут-
ренней флексии, которая вместе с редуцированными
остатками внешней флексии и с новыми аналитическими кон-
струкциями характеризует в настоящее время его грамматиче-
скую структуру.
Напротив, в английском языке уже в англосаксонский период
грамматические чередования по умлауту гораздо менее значи-
тельны и убывают в результате аналогического устранения там,
где они могли первоначально наличествовать. Таким образом,
сохраняется (или восстанавливается) фонетическое единство
основы, которая станет в дальнейшем неизменяемой исходной
формой аналитического слова. Тенденция к «затуханию» умлаута
усиливается в особенности в среднеанглийский период в связи
с проникновением в английский язык огромного числа заимство-
ванных (французских и латинских) слов с иной, чем в исконно
германских словах, фонетической структурой.3 В результате
в современном английском языке, в противоположность немец-
кому, морфологические чередования по умлауту представлены
лишь в незначительном числе незакономерных исключений типа
man — men, mouse — mice, old — elder, strong — strength и не-
многих других.4
2. С судьбою умлаута как грамматической перегласовки тесно
связано и развитие более древнего грамматического
аблаута.
В немецком языке, как известно, широко распространена
группа абстрактных имен существительных мужского рода на -г,
образованных от сильных глаголов с низшей ступенью аблаута
279
корневого гласного и с индоевропейским типом ударения на суф-
фиксе. Группа эта образует отчетливо выраженную неживую грам-
матическую категорию с первоначальным значением однократного
(мгновенного) действия и одновременно его результата. Ср. (по
рядам аблаута): I schneiden — Schnitt, II schie^en — SchuP,
Illa springen — Sprung, Illb werfen — Wurf, V treten — Tritt
и др.
В период господства теорий Н. Я. Марра многие советские
германисты рассматривали эту категорию как очень древнюю
и в типологическом отношении архаическую. Действительно,
она засвидетельствована уже в индоевропейском, в особенности
в древнеиндийском, где, однако, грамматический род этих образо-
ваний — преимущественно женский (хотя может быть и мужским)
и, наряду с ударением на суффиксе, встречаются формы и с уда-
рением на корне.6 Однако среди многочисленных древнеиндий-
ских, а также среди других индоевропейских образований имеется
очень мало этимологических параллелей с германскими, так что
и те и другие, по-видимому, в большей своей части являются
получившими широкое распространение лексическими новооб-
разованиями этих языков на основе древней морфологической
модели.
Историческая грамматика немецкого языка показывает, что
на протяжении всей его истории эта категория продолжала быть
лексически продуктивной, как в общегерманском.6 Слово slih
от slihhan 'schleichen’, flu? от flio?an cfliepen’, sprung от springan
'springen’ и др. являются древневерхненемецкими новообразо-
ваниями, не имеющими этимологических параллелей в других
германских языках (всего 15 случаев). К средневерхненемецким
образованиям причисляют slu? от slio?an 'schliepen’, bunt(d)
от binden, funt(d) от finden, swunc(g) от swingen 'schwingen’
и др. Новонемецкими считаются: Kniff, Pfiff, Ritt, Gup, Ver-
drup, Trug и мн. др. (в особенностия приставочные образо-
вания).
В англосаксонском языке эта категория представлена столь же
богато, как и в древненемецком. Ср. др.-в.-нем. snit 'Schnitt’
от snidan 'schneiden’ — англосакс, snide от snidan; др.-в.-нем. zug
от ziohan 'Ziehen’ — англосакс, tyge от teon; др.-в.-нем. wurf
от werfan 'werfen’ — англосакс, wyrp от weorpan и мн. др. Начиная
с среднеанглийского эти образования (отчасти вследствие своей
фонетической пестроты и противоречивости) подвергаются после-
довательному вытеснению другими, конкурирующими, прежде
всего развитием конверсии. Ср. англ, to swing — a swing, нем.
schwingen — Schwung, англ, to ride — a ride, нем. reiten — Ritt.
В современном английском языке сохранились лишь единичные
изолированные реликты типа to write — writ, to grip — grip,
to shoot — shot и немногие другие. Чередования по аблауту
в английском языке, не поддержанные умлаутом, также теряют
свою грамматическую продуктивность и выходят из употребления.7
280
Примеры эти показывают, с одной стороны, наличие в само-
стоятельном развитии языков общих закономерных фономорфо-
логических тенденций, частью возникших в сходных структурных
условиях (1), частью унаследованных из общих источников (2),
и, с другой стороны, существенные различия в этом развитии,
обусловленные взаимодействием со складывающейся фонетиче-
ской и грамматической системой каждого из этих языков.
II
Общим наследием древнегерманских языков и их важнейшим
фонетическим признаком было сильное динамиче-
ское ударение на первом (корневом) слоге.
Характер этого ударения обусловил в дальнейшем особенности
структуры слова в германских языках, редукцию неударных глас-
ных, последовательные изменения ударных, передвижения в кон-
сонантизме и ряд фономорфологических процессов, протекавших,
при наличии общих закономерных тенденций, со значительными
расхождениями в разных языках и диалектах.
Важнейшим явлением, связанным с законами германского
ударения и особенно существенным по своим фонетическим и грам-
матическим последствиям, представляется фонетическая редукция
неударных слогов слова. Процесс редукции совершается законо-
мерно и последовательно в общегерманском и продолжается
в отдельных германских языках. Отпадают конечные (незащищен-
ные) согласные, долгие гласные сокращаются, краткие ослаб-
ляются и редуцируются в качественно безразличный гласный
типа немецкого шепотного -е [а] или вовсе отпадают и выпадают.8
Сопоставление древнегерманских языков открывает в этом про-
цессе известные типологические закономерности: отпадение ко-
нечных гласных после долгого слога происходит раньше, чем
после краткого (закон Сиверса); 9 узкие гласные -£, -и, сохранив-
шиеся в неударных слогах, расширяются в -е, -о, приближаясь
к нейтральной позиции. В то же время в каждом языке, в процессе
его дальнейшего развития, обнаруживаются свои особенности
как в качественном, так и в количественном отношении. Ср. шв.,
норв., исл. gata, дат. gate, нем. Gasse (диалектн. gass’), англ,
gate — из др.-сев., др.-в.-нем. gata, англосакс, gate; или шв.,
исл. fara, датск. fare, нем. fahren (диалектн. faro), англ, fare —
из готск., др.-в.-нем., англосакс, faran, др.-сев. fara, с различной
трактовкой заударного гласного и конечного -п.
Явление редукции неударных слогов не имело чисто механи-
ческого характера, как в свое время учили младограмматики.
Германское ударение имеет грамматические функции, это ударе-
ние грамматическое или смысловое. Относи-
тельная сила ударения служит средствомс оподчинения элементов
слова, словосочетания или предложения по их смысловой значи-
281
мости. Если ударение падает на корень как на его смысловой
центр, то окончание и приставка становятся к нему в подчиненное
положение как форманты основы, определяющие оттенки его зна-
чения (префиксы и суффиксы) или его связь с другими словами
(флексии). Ср. нем. be-sprechen.
Такое акцентное и смысловое подчинение особенно ясно на при-
мере германских сложных слов, которые (как показывают законы
древнегерманского аллитерационного стиха, приведенного в си-
стему Сиверсом) 10 искони имели два ударения: сильное (главное)
на первом, определяющем компоненте и более слабое (второсте-
пенное или побочное) на втором, определяемом. Ср. готск. figgra-
gulb, auga-dauro, daiirawards, др.-исл. duravQrdr, англосакс, dor-
word, др.-в.-нем. tor-warto 'Torwarf.
Эта акцентуация полностью сохранилась в современном немец-
ком языке: Abendzeitung, firlkonig, Waldweg (с двумя ударениями,
сильным и слабым). Оно господствует и в скандинавских языках:
ср. шв. aftonbladet, landsvagen, drdbok.11 В английском языке
в результате заимствования большого числа романских слов
с иной — негерманской — акцентной структурой отношения эти
в ряде случаев перекрыты позднейшими преобразованиями (в част-
ности, ударение нередко бывает одинаковым по силе на обоих ком-
понентах сложного слова). Тем не менее Г. П. Торсуев выделяет
целую группу сложных слов с сильным ударением на первом ком-
поненте и слабым на втором, «при ведущей, объединяющей роли
первого компонента»; 12 например: hairdresser, pack-animal, bar-
ley-siigar, printing-machine и т. п. Он правильно приводит эти
случаи «в качестве примера действия семантического фактора
в словесном ударении» 13 и не менее правильно заключает: «В сущ-
ности то же явление наблюдается при выделении определенных
морфем в простых словах под воздействием семантико-морфологи-
ческого и морфологического факторов словесного ударения».14
О. Есперсен пользуется в этом смысле понятием valuestress (уда-
рение, выделяющее «психологически значимый элемент» слова).
В сложных словах оно часто падает на первый компонент, в про-
стых словах английского происхождения на первый слог, содержа-
щий «основную идею» слова, тогда как последующие слова обычно
«выражают подчиненные модификации этой идеи».15
В немецком языке словообразовательные суффиксы, сохранив-
шие свое значение, так называемые «сильные суффиксы» (сильные
как в смысловом, так и в фонетическом отношении), также имеют
побочное (более слабое) ударение (Nebenton), подчиненное глав-
ному, сильному ударению (Hauptton) корневого слова. Это побоч-
ное ударение в разных грамматических формах (в силу причин
исторического характера) может иметь разную абсолютную силу;
вообще же оно слабее, чем ударение на втором элементе сложного
слова. Ср. Wissenschaft, Freiheit, Finsternis, Forderung, Liebling,
malerisch и др. Однако оно имеет достаточную силу, чтобы немец-
кие поэты-классики могли нормальным образом рифмовать Wissen-
282
schaft: Kraft, Ewigkeit : Zeit, Wanderung : Schwung и т. п. (так же,
как сложные слова с простыми, например sang : Wiederklang,
Geisterreich : gleich), — обстоятельство, на которое в свое время
обратил внимание такой наблюдательный и тонкий лингвист,
как Н. Г. Чернышевский.16
Именно наличие такого побочного ударения предохранило
«сильные суффиксы» во всех германских языках от полной каче-
ственной редукции. Следовательно, оно существовало и в прошлом
во всех этих языках, не только в немецком. В скандинавском
оно в ряде случаев сохранилось, например шв. vanskap 'дружба’
(ударение «на первом слоге главное, на втором побочное»).17
В английском языке этот принцип перекрывается действием фак-
тора ритмического, опирающегося прежде всего на длинные слова
романского происхождения, с тенденцией к регулярной альтер-
нации главного и побочных ударений, часто независимо от морфо-
логического членения слова. Ср., например: radical, critical —
arrival, refusal — fundamental, incidental или frivolous, anony-
mous — sonorous, tremendous и т. п.18
Когда второй элемент ослабляется в смысловом отношении
(теряет свою самостоятельность), он подвергается одновременно
и фонетическому ослаблению, с последующей редукцией. Ср. нем.
Viertel 'четверть’ (из vier-teil 'четвертая часть’), нем. Adler 'орел’
(из adel-ar 'благородный орел’); особенно в диалектах: nQxbar
"сосед’ (литер. Nachbar < ср.-в.-нем. nachgebur), hamfol 'пригоршня’
(литер, handvoll), mumfol 'глоток’ (литер. Mundvoll), haotsig
'свадьба’ (литер. Hochzeit < ср.-в.-нем. hochgezit 'праздник’),
mondig 'понедельник’ (литерат. Montag) и мн. др. Второй компо-
нент, первоначально самостоятельная основа, в результате редук-
ции уподобляется существующим в языке слабым суффиксам
-el, -er, -ig и т. п.
Сходным образом редуцированы англ, gospel 'библия’, англо-
сакс. godspell 'добрая весть’, daisy 'маргаритка’< англосакс. dae-
gesege 'глаз дня’, разг, bousn < boatswain 'боцман’ и т. п.; шв.
Norge 'Норвегия’, Norvegr 'северный путь’ и т. п. С. Лашанская
приводит литер, mandag 'понедельник’ «со слабым побочным уда-
рением» и mSnda с одним ударением «в разговорном стиле») и до-
бавляет в примечании: «Чем больше слиты в единое целое члены
сложного слова и чем больше сложное слово приближается
по своему характеру к простому, а также чем дальше произ-
ношение от полного стиля, тем слабее ударение на втором
члене».19
На основании сказанного общий закон германского словесного
ударения может быть сформулирован так: смысловое
ослабление морфологического элемента
(потеря функциональной значимости морфемой) ведет
к ослаблению ударения и, следовательно,
связано с тенденцией к грамматической
редукции.
283
Отсюда следует, что между фонетическими и грамматическими
законами развития неударных окончаний в германских языках
наличествует закономерная взаимосвязь. Так, ^унификация типов
склонения, аналогическое вытеснение непродуктивных типов
продуктивными («индуцирующими») не есть явление специфически
германское. Оно наличествует в разной степени во всех индоевро-
пейских языках, в том числе и в древних флективных, являясь,
по-видимому, результатом утраты основообразующими суффиксами
их первоначальной значимости как показателей лексико-граммати-
ческих классов слов. Однако в германских языках процесс этот
убыстряется благодаря действию германского смыслового (грам-
матического) ударения, т. е. тенденции редуцировать формальные
элементы слова, утратившие свою самостоятельную значимость.
Там, где в результате развития все более дифференцированной
системы предлогов делаются излишними формальные признаки
локальных падежей, фонетическое ослабление окончаний будет
содействовать частичному устранению этих различий; с другой
стороны, фонетическая редукция падежных окончаний потребует
их замены эквивалентными по синтаксической функции предлож-
ными конструкциями. Если фонетическая редукция личных гла-
гольных окончаний и их растущий омонимизм сделают необходи-
мым употребление при этих формах личных местоимений, то диф-
ференциация личных форм глагола с помощью обязательных
местоимений со своей стороны будет содействовать редукции гла-
гольных окончаний.
Таким образом, фонетическая и морфологическая редукции
представляют две стороны одного фономорфологического процесса,
диалектически объединенного действием германского ударения,
одновременно динамического и смыслового. При неравномерности
развития этого процесса для разных грамматических категорий
и в особенности в разных языках импульсы могут фактически
исходить и с той и с другой стороны.20
Большинство звуковых изменений в германских языках в пору
их раздельного существования, обнаруживающих одинаковые
тенденции развития, связано с действием общегерманского силь-
ного динамического ударения на первом (корневом) слоге.
Вокализм
Количественные изменения
В древнегерманских, как и во всех древних индоевропейских
языках, противопоставление долгих и кратких гласных возможно
как в ударных, так и в неударных слогах и не мотивировано поло-
жением гласного в слове.
В дальнейшем долгота и краткость становятся функцией уда-
рения и структуры слога. В ударных слогах обнаруживается тец-
284
денция к удлинению кратких гласных в открытом слоге и к сокра-
щению долгих в закрытом (перед группой согласных или перед
«геминатой», т. е. долгим согласным). В результате гласные
являются долгими в открытом слоге (исконно долгие и удлинен-
ные), краткими в закрытом слоге (исконно краткие и сокра-
щенные).
Так обстоит дело в немецком языке: ср. ср.-в.-нем. name >
> новонем. name (slafen > schlafen); brahte > brachte (nacht >
> nacht). Когда гласный сохраняет исконную краткость в откры-
том слоге, появляется «гемината» как признак долготы последую-
щего согласного (или закрытости слога). Ср. ср.-в.-нем. gesni-
ten > новонем. geschnitten, hamer > hammer.21
Сходные изменения происходят в английском языке: англо-
сакс. пата > ср.-англ. пате, англосакс, brohte > ср.-англ. brohte.
Отсюда чередование типа кёре(п) 'keep’—kepte ‘kept’, flf 'five’—
fifle 'fifth’ и т. n.
Об аналогичных тенденциях в скандинавских языках пишет
в обобщающей форме М. И. Стеблин-Каменский: «Не менее круп-
ные изменения в количественных отношениях в слоге произошли
в Швеции и Норвегии. В общем, они сводятся к тому, что все
краткие ударные слоги подверглись удлинению. . . Удлинение
краткого ударного гласного подразумевает либо удлинение входя-
щего в его состав гласного, либо удлинение входящего в его
состав согласного. И в Швеции, и в Норвегии в одних говорах
удлинению подвергся гласный, в других согласный, в третьих
то гласный, то согласный, в зависимости от состава слога. . .
В результате этого процесса в шведском и норвежском языках
ритм речи существенно изменился. Установилось так называемое
„слоговое равновесие", т. е. одинаковая долгота всех ударных
слогов. Вместе с тем, ударные слоги (теперь всегда долгие) ока-
зались резко противопоставлены безударным».22 Ср. др.-шв.
tala > ср.-шв. tala 'говорить’, др.-шв. vika > ср.-шв. vecka
'неделя’.
Однако в процессе осуществления указанных тенденций сле-
дует отметить ряд ограничений.
1. Процессы эти протекают в разных языках и диалектах в раз-
ное время. В английском языке удлинение в открытом слоге
относят к раннему среднеанглийскому периоду (начало XIII в.);
в немецком оно происходило в основном на ранних этапах ново-
верхненемецкого (XIV—XV вв.); отсутствие изменений в письме
затрудняет в обоих случаях более точную хронологию. М. И. Стеб-
лин-Каменский говорит о XIII в. для Норвегии, о XV в. для Шве-
ции, также с соответствующими оговорками и с указанием на раз-
личие диалектов.
2. Не все диалекты охвачены этим общим изменением. В швей-
царском, например, сохраняются краткие гласные в открытом
слоге, как было в древненемецком. Ср. lesa 'lesen’, graba 'graben’
и т. п,23
285
3. Встречаются различные фонетические ограничения. На-
пример, в среднеанглийском удлинению в большинстве случаев
не подвергаются узкие гласные I (й), и (по своей природе менее
звучные и более краткие). Ср. англосакс, drifen причастие II >
> англ, driven, англосакс, bysig > англ, bdsy, англосакс, liifu >
> англ, love.24
4. В современных германских языках тенденция к «слоговому
равновесию» нередко перекрывается другими тенденциями общего
характера (например, сокращением долгих согласных, как в
в английском и немецком).25
Таким образом, закономерности, лежащие в основе развития
количественных отношений в новых германских языках, не имеют
безусловно общего характера: они остаются Господствую-
щими тенденциями, но не являются законами,
которые не терпят исключений.
Качественные изменения
Вокализм ударных слогов в германских языках отличается
большой неустойчивостью и претерпел за время их существования
целый ряд последовательных спонтанных изменений. Основные
тенденции этих изменений могут быть сведены к следующим про-
цессам.
Монофтонгизация дифтонгов — дифтон-
гизация долгих гласных. Оба процесса, очень обыч-
ные в германских языках, вызываются одинаковой причиной —
сильным динамическим ударением. Под влиянием этого ударения
происходит:
а) Растяжение (Zerdehnung) долгого ударного гласного, ре-
зультатом которого является сверхдолгота, двухвершинное
(облеченное) ударение и последовательная качественная диф-
ференциация элементов «растяженного гласного», ведущая к об-
разованию на его месте дифтонга. Например: ср.-в.-нем. 1^>
i^> ii^> ei^> ср.-в.-нем. й'^>й^>ии'^>ои'^> ди^> аи^>
^>аи.
Дифтонгизации в результате подобного растяжения подвер-
гаются в особенности гласные верхнего образования (узкие),
но не они одни.
б) Удлинение слогообразующего элемента дифтонга, носителя
ударения, с последовательной редукцией и поглощением неслого-
вого элемента (монофтонгизация). Ср. др.-в.-нем. ио^>иэ^>й9^>й;
др.-в.-нем. io, ia>io>i9>i.
Дифтонгизация и монофтонгизация нередко непосредственно
следуют друг за другом: долгий гласный расщепляется в дифтонг,
дифтонг стягивается в новый долгий гласный. Ср. герм, о >
др.-в.-нем, ои ср.-в,-цем, ио [но| > новонем, й (god guot
286
(guotj gut); герм. £2^> др.-в.-нем. ia^> ср.-в.-нем. ie |ie|2> новонем.
i (her >hiar>fhi0r]>hir).
Сужение долгих гласных и расширение
кратких. Причина этой тенденции заключается в различном
характере артикуляции долгих и кратких гласных в германских
языках: долгие являются напряженными, краткие — ненапря-
женными. Напряженность связана с усилением специфической
артикуляции гласного: дальнейшим подъемом языка и продвиже-
нием его вперед, более энергичным огублением. Напротив, не-
напряженность (вялость) артикуляции вызывает опускание языка
в сторону индифферентного положения, ослабление работы губ.26
Характерно, что во всех германских языках (немецком, англий-
ском, шведском и др.) долгие напряженные гласные являются
более закрытыми, соответствующие краткие — более открытыми
(за исключением некоторых особых случаев вроде двух типов
долгого е в немецком языке).
Примером указанных качественных изменений долгих ударных
гласных может служить так называемый общий сдвиг
гласных (the great vowel-shift) в новоанглийском языке.
Явление это рассматривается англистами как факт квази-уникаль-
ный, специфический для истории английского языка, как для
немецкого второе передвижение согласных. На самом деле это
парадигматический образец для тенденций развития, общих всем
германским языкам.
Схема
общего сдвига гласных в английском языке (XV—XIX вв.)
(Ц)
t
I
-»б-------------> I
(ei)
ai
(uu)
t
q----------> 6-----------> u
Cp.: Mp> hep
name > nqm > пёт
slepe (n)
(arc. bat) > bqt > bot
gos
(OU)
>hlp>
> (neim)
> slip >
> (bout)
>^s>>
hus
(hiip) ’heap*
'name’;
(sliip) ’sleep*
’boat’
(gnus) ’goose’
aiz ’ise’;
hauz ’house’
287
Начало основных процессов дифтонгизации и сужения отно-
сят к XV в., завершение — к началу XVII в. В XVII в. ср.-англ.
р— ё еще различались как ё—i (hep—slip); к концу XVII в.
первое догоняет второе (Ыр— slip) и две ступени объединяются
в одну, тогда как место закрытого ё занимает», ср.-англ. а (пет).
Вторичные дифтонгизации (ег, он; ii, ии) намечаются к началу
XIX в. (см. ниже, с. 292).
Вряд ли есть основание считать, как это делал О. Есперсен,
что весь процесс начался с дифтонгизации и каждый предшество-
вавший звук «освобождал место» для последующего 27 (в современ-
ной терминологии drag-chain). Скорее можно думать, что система
передвигалась как целое под влиянием общего артикуляторного
фактора, воздействия силового ударения. Однако развитие системы
происходило несимметрично для гласных переднего и заднего
образования, причем нарушению первоначального структурного
равновесия отнюдь не препятствовало (как, впрочем, и во многих
других подобных случаях) появление, в результате артикулятор-
ных сдвигов, большого числа омонимических, притом очень употре-
бительных слов (ср. sea 'море’ — see 'видеть’, flea 'блоха’ —
flee 'бежать’, feat 'подвиг’ — feet 'ноги’ мн. ч., meat 'мясо’ —
meet 'встречать’, weak 'слабый’ — week 'неделя’ и мн. др.).
Рассмотрим отдельные явления английского передвижения
гласных с точки зрения аналогичных процессов в других герман-
ских языках.
Дифтонгизация долгих гласных
Дифтонгизация узких долгих f, й, (й) > ai, (pi, ре, di) пред-
ставляет общую особенность литературных языков английского,
немецкого, нидерландского и обширной группы диалектов, послу-
жившей базой для каждого из них. Ср. ср.-англ. is>aiz 'ise’,
hus>haus 'house’ ср.: ср.-в.-нем. is > ais 'Eis’, hus>haus, liute
[lute] iQate 'Leute’; нидерл. is > eis *ijs’, hus ^>hfls>hois 'huis’.
Процесс этот протекает в разных языках независимо друг
от друга и в разное время: в английском его относят к XV в.,
в нидерландском — к XVI в.; в немецком наблюдается поступа-
тельное движение с XII в. (на юго-востоке, в баварско-австрий-
ском) до начала XVI в., когда дифтонги достигают своей тепереш-
ней границы на севере средненемецкой области.28
Ф. Вредэ объяснил процесс дифтонгизации редукцией неудар-
ного -е с заменительным удлинением корневого гласного.29 Объяс-
нение это подходит не ко всем случаям; возможно, однако, что
редукция вместе с сильным ударением на долгом гласном послу-
жила толчком, нарушившим стабильность всей системы в целом.
Существенно отметить, что дифтонгизация не имела ни в одном
языке универсального характера. Из немецких диалектов она
отсутствует в нижненемецком и в северной полосе средненемец-
кого (т. е. как раз в той области, где неударное -е сохранилось
288
или отпало сравнительно поздно), но также в юго-западной группе
алеманских диалектов (в эльзасском и швейцарском); на терри-
тории английского языка недифтонгизованное й сохранилось
в шотландском и в соседнем нортумбрийском (ср. mai hus 'my
house’); пеструю картину представляют также нидерландские
диалекты. В скандинавском дифтонгизация отсутствует.
Дифтонгизации могут подвергаться также долгие гласные сред-
него и низкого уровня. В этом смысле особую неустойчивость
обнаруживает нижненемецкий вокализм, в наибольшей степени —
вестфальский, с его многообразно дифференцированной дифтон-
гизацией долгих и удлиненных кратких. Особенно гласные сред-
него уровня (разного типа е, б), сами частично явившиеся резуль-
татом монофтонгизации старых германских дифтонгов, подверг-
лись в нижненемецких говорах новой дифтонгизации. Ср., напри-
мер, в говоре Альтенгамме (район Гамбурга): ср.-н.-нем. (kajs
'Kase’), б^>рц (fqvjt 'FuP’); o^>ui (zq^L 'su(J’).30
В некоторых немецких диалектах новые дифтонги ai, аи под-
вергаются вторичной монофтонгизации в ё — $ — а — а, о — Q —
а — а в зависимости от того, на какой ступени расширения диф-
тонгов (от ei до ai, от ои до аи) начался процесс поглощения
второго элемента первым. Ср., например, в силезском: wet 'weif
(ср.-в.-нем. wit weit), hos 'Haus’ (ср.-в.-нем. hus^>hous); в не-
которых севернобаварских говорах (Баварский Лес): base (ср.-в.-
нем. bi^en^> baiso), has 'Haus’ (ср.-в.-нем. hus^>haus).
Особенно поучителен в этом отношении среднеавстрийский
диалект Вены, где новонемецкие дифтонги ai, du, развившиеся
в баварско-австрийском наречии, очень рано (уже в XIII в.), под-
верглись в дальнейшем стяжению в долгие а, а, а в настоящее
время дифтонгизируются в ап, ап Ср. is 'Eis’, hQs 'Haus’ ais,
haus>as, has>aes, haes.31
Монофтонгизация дифтонгов
Примером стяжения дифтонгов может служить судьба герман-
ских at, аи. В большинстве германских языков и диалектов они
подвергаются стяжению также в зависимости от степени раскры-
тия дифтонга: ei ai^> а; ои д, аи^> а.
Вопрос о наличии стяжения графических дифтонгов ai, аи
(braips 'breit’, augo 'Auge’) в вестготском языке Вульфилы (IV в.)
до сих пор является дискуссионным.32 Однако, как правильно
указал Э. Прокош, это в сущности «вопрос хронологии».33 По
свидетельству остготских собственных имен, мы имеем в VI в.
стяжение ai > (ei) ^>ё, аи^> (ои) > д (Gesimund, Odwin и мн.
ДР-)-34
В древневерхненемецком ai, au^>ei, ощ стяжение происходит
перед определенными согласными: ei^>e перед h, г, w; ои^>о
перед h и переднеязычным; например, готск. maiza — др.-в.-неме
19 В. М. Жирмунский
289
mero 'mehr’, готск. daufus—др.-в-нем. tod 'Tod’ и т. п. В дру-
гих положениях (слова типа др.-в.-нем. bred, ouga 'Auge’ и т.п.)
дифтонг сохраняется вплоть до современного литературного языка.
Однако большинство немецких диалектов (кроме некоторой части
южнонемецкого) имеют стяжение е — $ — а — а, « д — q — а — а
в зависимости от степени раскрытия дифтонга, от bret до brat
'breit’, от буе до ayo 'Auge’.35
В древнескандинавском стяжение также ограничено определен-
ными позициями. Более поздняя общая монофтонгизация проис-
ходит в восточноскандинавском (в датском — в X в., в швед-
ском— в XI—XII вв.),36 тогда как западноскандинавский (нор-
вежский, исландский) сохраняют дифтонги. Ср. исл. Ьгефг —
шв., дат. bred; исл. auga—шв. oga, дат. oie; исл. Ьеуга — шв.
bora, дат. bore 'horen’.
Древнесаксонский (нижненемецкий) имеет монофтонг во всех
положениях: ei ё (bred), ои 6 (oge); в древнефризском ei (ai)
ё или a (bred, но тага — готск. maiza), аи^> d (age).
В англосаксонском ai d (brad), аи">ёа (eage 'Auge’). Необыч-
ная форма дифтонга ёа связана, по-видимому, с палатализацией
первого элемента дифтонга в соответствии с ингвеонской артику-
ляцией (а как ж); последовавшая в результате этого качественная
дифференциация обоих элементов дифтонга воспрепятствовала
поглощению второго элемента (передний гласный+задний ла-
биальный). В древнейших глоссах (начало VIII в.) дифтонг дей-
ствительно имеет форму аео (ср. genaeot, англосакс, geneat).37
Правильность этой гипотезы подтверждается аналогией диалект-
ного развития современного английского аи. «Первый элемент
произносится в лондонском кокней и в диалектах юга и централь-
ной области с более высоким подъемом языка, и дифтонг звучит
как [аеи] или [ей]. В северо-западной части центральной области
он также иногда монофтонгизируется и звучит как [ае:] [е:], пройдя
через стадию [аве]».38
Необходимо отметить, что в дальнейшем своем развитии герман-
ское аа через ступень ёа монофтонгизуется в среднеанглийском
в открытое долгое £ (англосакс, heap > ср.-англ. h^p 'heap’), точно
так же как другой, параллельный англосаксонский дифтонг ёо стя-
гивается в долгое закрытое ё (англосакс, deop > ср.-англ. dep
'deep’) и еще раньше, в позднем среднеанглийском, дифтонг
is (умлаут предыдущих) начинает обозначаться как z, у (англосакс,
hieran, поздн. англосакс, hyran, hiran 'hear’).
Это стяжение восходящих дифтонгов в среднеанглийском языке
может быть сопоставлено с аналогичными процессами монофтон-
гизации, которые были уже отмечены выше (с. 286) в немецком.
К концу древневерхненемецкого периода и дифтонг iu (связанный
чередованием с др.-в.-нем. io) также монофтонгизуется в й. Ср.
др.-в.-нем. liuti > ср.-в.-нем. lute (liute); в новонемецком,
с последующей дифтонгизацией узкого долгого — Leute.
290
Сужение долгих гласных
Сужению долгих среднего уровня (ё, о) в английском передви-
жении гласных соответствует аналогичное явление в немецком —
в широкой полосе средненемецких диалектов от Рейна до Одера
(среднефранкском, гессенском, восточнотюрингенском, верхне-
саксонском), в которых ё, б (из герм, ai, аи) > i, и (§ni 'Schnee’,
wi 'weh’; grus 'gro|3’, hux 'hoch’).39
Долгое а в верхненемецких диалектах также дает последова-
тельно различные ступени сужения: а р > б й (ср.-в.-нем.
slafen 'schlafen’ швб. sleafe, мозельск. slQfe, р.-франкск., вост.-
франкск., slofe, сев.-эльз. slufe).40 Нижненемецкий имеет очень
открытое а (например, Ольдб. sap 'Schaf’), которое в большин-
стве случаев подвергается дальнейшей дифтонгизации. Ср. вестф.
Мюнстер sxaop; сев.-сакс. Гамб. s^qp и т. п.41 В ряде диалектов
а краткое, удлиненное в открытом слоге, также сужается в сто-
рону а > б, нередко отставая в своем развитии от старого дол-
гого а.42
Передвижение а р известно и английскому языку при пере-
ходе из древнего периода в средний. Ср. англосакс. brad>
ср.-англ. brQd (с дальнейшим сужением в рамках общего передвиже-
ния гласных). Оно считается также явлением «общескандинавским,
хотя относится к периоду раздельного развития скандинавских
языков (XIII—XIV вв.)»,43 т. е. должно рассматриваться как ре-
зультат общей этим языкам закономерной тенденции.
Сдвиг всех гласных заднего образования характерен для шведского
и норвежского: а^> д, б^>й, й^>со (гласный среднего образования,
более низкого уровня, чем и). Описание этого цикла явлений как
единого процесса, которое дает М. И. Стеблин-Каменский для швед-
ского языка, весьма напоминает английское общее передвижение
гласных: «Поскольку древнее долгое а в результате его лабиали-
зации приблизилось к древнему долгому д, последнее, сохраняя
свое расстояние от древнего долгого й, изменилось в направлении
й, став из гласного среднего подъема гласным высокого подъема,
а долгое й в свою очередь продвинулось вперед, став из гласного
заднего ряда гласным смешанного ряда или даже продвинутым
вперед гласным смешанного ряда».44
Когда долгое а является гласным переднего образования, его
продвижение (сужение) должно происходить в сторону ё— I (а
не д — й), т. е. подъем направлен вверх и вперед, а не назад.
Так объясняет В, Хорн в рамках общего передвижения гласных
развитие новоанглийского долгого а (из ср.-англ. а или ai — ср.
made 'сделал’ и maide 'дева’), которое передвигается вслед за g
как последующая, более широкая ступень того же процесса суже-
ния: (в XIX в. новая дифтонгизация>ei), «Средне-
английское а, — пишет Хорн, — движется за среднеанглийским £,
никогда не нагоняя его, зё (из ср.-анг. а) переходит в после
того как (из ср.-англ. ^) покинуло эту ступень; £ (из ср.-англ. а)
291
19*
становится £, после того как ё (из ср.-англ. £) покинуло эту сту-
пень. На ступени ё движение ср.-англ. а останавливается. Подъем
в I не имел места. . . Около 1800 г. начинается дифтонгизация». 45
Ср. схему на с. 287: name > n$m > nem > neim 'name’.
Несколько слов по поводу этой новой дифтонгизации, столь
характерной для английского произношения по сравнению с конти-
нентальным. Все долгие гласные среднего и высокого уровня,
возникшие в результате общего передвижения, с начала XIX в.
подверглись в литературном апглийскохМ языке такой «вторичной»
дифтонгизации. Ср. ё^>еъ (nem>neim 'name’); о^>ои (hom>houm
'home’); l^>ii (si > sii, sij 'see’); u^>uu, uw (tu>tuu, tuw
'two’).
Тенденция к дифтонгизации вызвана была и здесь воздействием
сильного динамического ударения. Однако английское литератур-
ное произношение в Шотландии и Северной Англии, как и в Аме-
рике, сохранило недифтонгизованные гласные. В лондонском
вульгарном просторечии (кокней) и в некоторых диалектах дифтон-
гическое произношение утрировано и развивается в сторону даль-
нейшего расширения дифтонга (дифференциации его элементов).
Ср. лонд. [sei] 'see’, [ton] 'two’, [laidi] 'lady’, [lau] 'low’, [daili
mail] 'Daily Mail’ (название популярной газеты в произношении
лондонских газетчиков) .46
Социальная реакция против «вульгарного» произношения при-
вела в последнее время к частичному восстановлению недифтон-
гизованных долгих («в соответствии с написанием»). Весь процесс
весьма напоминает сказанное выше о венском городском диалекте
(см. с. 289).
Расширение кратких гласных
Явление это наличествует во многих немецких диалектах, гео-
графически между собой не связанных. Общий сдвиг гласных
в сторону расширения наблюдается, например, в эльзасском и в тю-
рингенском: Z, и^>е, о; е, р; а (а); р^>а. Ср. говор
Кольмара (в.-эльз.): belt 'Bild’ fende 'finden’, 'Ecke’. b^t 'Betl’
(ср.-в.-нем. ek, bet); fait 'Feld’, asa 'essen’ (ср.-в.-нем. ГёП, ё^еп);
solt 'Schuld’, bodr 'Butter’; glpk 'Glocke’ glppfe 'klopfen’.
Частное раскрытие узких гласных i, и, (й) о (б) встре-
чается в большинстве франкских диалектов, как это было отмечено
Ф. Энгельсом.47 Ср. говор Калькара н.-франкск.: mest 'Mist’,
hemel 'Himmel’; sos 'Schup’, brome 'brummen’, glok 'Gluck’,
slbsel 'Schlussel’.48
Аналогичное передвижение отмечается и в скандинавских
языках. «Общей для всей Скандинавии, кроме Исландии, можно-
также считать тенденцию к расширению кратких у, и > е, 0,
о. . .». Однако осуществление этой тенденции может различаться
по времени, диалектам и фонетическим условиям.49 Ср. шв. fridh >
292
> fred 'мир’, liva > leva 'жить’; stydh > stod 'опора’, sydha >
> soder 'юг’; hugh > hogh (hag) 'мысль’, sun > son 'сын’.
Сходным образом развивались краткие гласные в раннем
периоде новоанглийского (XVI—XVII вв.). Систематизируя
обширный материал, собранный В. Хорном,50 молено, по-видимому,
говорить об «общем сдвиге» кратких гласных в сторону расшире-
ния, одновременном сужению долгих гласных и столь же универ-
сальном. Об этом свидетельствуют: отдельные малограмотные
написания того времени; многочисленные показания грамматик,
в особенности иностранных; современные диалекты; особенности
американского произношения, имеющие характер архаизмов.
Так, о переходе i > е свидетельствуют написания типа cheldren
children’, desh 'dish’ и показания диалектов. Американское про-
изношение о > a (hat 'hot’, aks 'ох’ и т. п.) подтверждается напи-
саниями Nattinghamshire, Rabert, dacter 'doctor’ и сообщениями
грамматистов XVI—XVII вв. (нидерландских, французских,
итальянских, немецких), согласно которым англичане произно-
сят о как а.
Этот общий сдвиг артикуляции был в дальнейшем (в XVII —
XVIII вв.) признан вульгарным и выправлен в соответствии с орфо-
графической нормой. Единственное расширение краткого гласного,
удержавшееся в литературном языке, представляет переход
и > л, сопровождавшийся передвижением вперед и делабиализа-
цией (sun > SAn). Диалектные варианты этого звука, колебания
орфографии и иностранные грамматики свидетельствуют о раз-
личных ступенях расширения от о до а (ср. заимствованное франц,
drogue > англ, drug и др.).
Консонантизм
Параллелизм в развитии согласных выступает в германских
языках гораздо менее отчетливо. Чаще всего мы имеем здесь дело
со сходными между собою изменениями более частного характера,
которые объясняются артикуляторными особенностями того или
иного отдельного звука, а не сдвигом всей системы в целом.
Мы ограничимся лишь несколькими примерами.
1. Переднеязычные спиранты р, 3 смычные t, d. В древне-
верхнемецких диалектах переход р^> d (bing>ding) засви-
детельствован в письменных памятниках и продвигается с VIII
по XI в. с юга на север (от баварского до среднефранкского);
в Нидерландах он отмечен около 1100 г.: в нижненемецком — с XII
по XVI в. В скандинавских языках p^>t, 3^>d.bl При этом глу-
хой и звонкий изменяются в разное время, с значительными раз-
личиями по языкам и диалектам: в датском глухо:! уже во второй
половине XIII в., звонкий — в XV в.; в шведском первый — в XIV в.,
второй — в XVI—XVII вв.; в норвежском оба — в XV в.; между
гласными в датском и норвежском звонкий спирант выпадает .
293
Исландский в отличие от прочих сохраняет р и Й. Ср. исл. J)ola
'терпеть’—шв. tala, дат. taale, норв. tale; исл. vedur 'погода’ — шв.
vader, дат. vejr, норв. vaer. Английский язык имеет оба спи-
ранта — р и d (th).
2. В новоанглийскОхМ происходит озвончение спирантов и спи-
рантных групп /, р, s, ks, ts^v, d, z, gz, dz в звонком окруже-
нии, если ударение не падает на предшествующий гласный. Явле-
ние это было открыто О. Есперсеном, который назвал его «законом
Вернера в новоанглийском языке» (Verner's law in New English).52
С общегерманским законом Вернера оно генетически, конечно,
не связано, но представляет поучительную типологическую аналогию
к этому последнему, основанную на сходных условиях артикуля-
ляции. Ср., например: possible [pdsobl]— posses [pozes], anxious
[aerjkses] — anxiety [eepgzaieti] и мн. др.
Открытие Есперсена потеряло изолированный характер с тех пор,
как были обнаружены параллели к нему в нижненемецких и се-
верной части средненемецких диалектов. Ср. в говоре Эйксфельда
(Тюрингия) kase 'Kasse’— kazfra 'kassieren’, mase 'Masse’ — mazff
'massiv’; hanofar 'Hanover’ — hanovaranar 'Hanoveraner’ и др. 53
Трудность обнаружения этого явления в основной части верхне-
немецких диалектов объясняется потерей противопоставления
по звонкости (в результате так называемой «лениции») и отсут-
ствием в немецком языке подвижного ударения за исключениехМ
небольшой группы поздних заимствованных слов.
3. Второе передвижение согласных не
имеет для германских языков того широкого в типологическом
отношении парадигматического значения, как общее передвиже-
ние гласных в новоанглийском. В развитых и последовательных
формах оно, по-видимому, специфично для верхненемецкого,
а по происхождению связано прежде всего с фонетическими осо-
бенностями южнонемецких (эрминонских) диалектов.54
Если рассматривать явления верхненемецкого передвижения
по отдельности, вне общей системы сдвига смычных в целом, то
мы находим ему в других германских языках следующие ана-
логии.
а) Аспирация начальных глухих в пред-
ударном положении перед гласным характерна для всех герман-
ских языков, кроме нижнефранкского (нидерландского) и ри-
пуарского, в том числе для нижненемецкого, английского и скан-
динавского. В современном датском в этом положении t > ts
(«датское передвижение»). Сходные явления наблюдаются в не-
которых нижненемецких говорах (Дитмаршен в Шлезвиге), где
сильное придыхание ассимилируется по месту артикуляции пред-
шествующему согласному, несколько приближаясь по своей ар-
тикуляции к соответствующим аффрикатам.55
б) Потеря звонкости смычными b, d, g^>bf d, g (пе-
реход в слабые глухие, так называемая «лениция»)—в датском
294
[ исландском. Хронология этого явления не ясна, в датском оно
южет быть относительно древним.56
В нижненемецком, согласно новейшим фонетическим исследо-
;аниям, потеря звонкости («лениция») также имеет широкое рас-
[ространение.57
в) Ослабление в датском языке в положении после ударения
нтервокальных и поствокальных /?, t, k^>bt d, g (вероятно, слабые
, d, g) с дальнейшим развитием в спиранты v, d, у. Ср. дат. lobe —
ав. 1ора, исл. hlaupa 'бежать’, дат. skib — шв. skepp, исл. skip
корабль’, дат. slide — шв. slita, исл. slita 'рвать’, дат. hvid —
ав. vit, исл. hvitur 'белый’, дат. roge — шв. гбка, исл. rjuka 'ды-
[ить’, дат. rig — шв. rik, исл. rikur 'богатый’.
М. И. Стеблин-Каменский относит первую фазу этого передви-
жения к XII в., вторую — к XIII в., хотя последняя не отразилась
письме. «Перебой захватил также говоры южной Швеции (ста-
рые датские области) и юго-западной Норвегии, где звонкие смыч-
ные вместо глухих появились в начале XIV вв.».58 Если понимать
то явление более широко, как «ослабление», то сюда же следует
тнести, как это и делает М. И. Стеблин-Каменский, (а) вокализа-
цию или полное поглощение старых спирантов в таком же ин-
ервокальном и поствокальном положении после ударения —
d>j, gh,gy>n, j (ср. дат. duve [dune] 'голубь’ —исл. duva,
цат. vejr 'погода’ — исл. vedur и т. п.); (Ь) озвончение всовремен-
[ом датском глухих /?, Z, к > b, d, g в интервокальном положении,
ам, где они были сохранены (дат. suppa 'суп’, hatte 'шляпа’
[ др.). Аналогичные явления наблюдаются также в шведском и
юрвежском языках: к > gfe, t > dh, в ряде случаев с последую-
щим отпадением спиранта.59
Близкую аналогию развитию датского консонантизма мы имеем
нижненемецких и верхненемецких диалектах в судьбе интерво-
кальных звонких смычных (или соответствующих им спирантов)
Ъ (5), g (g).
Интервокальное d (пройдя, вероятно, через ступень спиранта)
ыпадает в большей части нижненемецкого примерно до Эльбы
ia востоке. Ср. Ольд. braan 'braten’ mean 'mieten’ mo 'rniide’.
Интервокальные 6, g имеют вообще спирантное (вероятно,
цревнее) произношение в нижненемецких, средненемецких и не-
юторой части южнонемецких диалектов (Iowa 'loben’, saya'sagen’,
ах 'sagen’). При этом 5 выпадает между гласными в ряде верхне-
[енемецких диалектов, например: зап.-тюринг. gra 'graben’,
i 'reibe’, glaist 'glaubst’; ю.-эльз. bit «bleiben’, biia 'Bube’ и др.
5ще шире распространено выпадение спирантного g в том же по-
гожении, например: в.-гесс. swaia 'schweigen’, gria 'kriegen’,
an 'sagen5, ran 'Regen’ и т. п.
Для того чтобы эти частные сопоставления получили принци-
[иальное значение, необходимо подойти к явлению верхненемец-
кого передвижения согласных с обобщающей, функциональной
295
точки зрения, как к системе внутренне взаимосвязанных и зако-
номерных артикуляторных изменений.60
Мы полагаем, что верхненемецкий перебой представляет об-
щий сдвиг артикуляции смычных (более широко — шумных)
согласных, обусловленной тем же воздействием германского силь-
ного динамического ударения.61 Сила экспираторной струи вы-
зывает более энергичное размыкание артикулирующих органов
перед ударением (т. е. в сильном положении), которое сопрово-
ждается аспирацией глухих, переходящей в аффрикацию. С тем же
фактором связаны, с одной стороны, ослабление смычки голосо-
вых связок во всех положениях (переход звонких в глухие
слабые — «лениция»), с другой стороны — ослабление смычки
артикулирующих органов ротовой полости после ударения, т. е.
в слабом положении (спирантизация звонких и глухих смычных
в интервокальном и поствокальном положении, с возможной даль-
нейшей вокализацией звонких спирантов и полным их поглоще-
нием) .
При таком понимании многие явления спонтанного передви-
жения согласных в разных германских языках (аспирация на-
чальных глухих, потеря звонкости — «лениция», спирантизация
звонких смычных в интервокальном положении) окажутся типо-
логически сходными проявлениями одной и той же общей тенден-
ции, наличествующей во всех германских языках и связанной с ха-
рактером германского ударения.
С точки зрения фонологической, как общий принцип, заслу-
живает внимания замена оппозиции по звонкости (Ь — р, d — t,
g — к) оппозицией по силе, маркированной добавочным призна-
ком аспирации сильного согласного (Ь — pfl, d — t\ g — A?).
Как указал еще И. Винтелер62 и обосновал в новейшее время
Ж. Фурке,63 она лежит в основе верхненемецкого передвижения
согласных. М. В. Раевский справедливо отмечает то же явление
для датского, исландского и фарерского.64 Мы могли бы присо-
единить к этому обширную группу нижненемецких диалектов,
которые характеризуются, наряду с аспирацией сильного глухого,
переходом звонких в глухие слабые. Тогда специфическим для
верхненемецкого (точнее, южнонемецкого — «эрминонского») оста-
ется только развитие глухих смычных в аспираты в сильном и
в глухие спиранты в слабом положении (по типу н.-нем. thid —
в.-нем. zit cZeit’, н.-нем. Water — в.-нем. wa^er 'Wasser’ и т. п.),
представляющие первоначально, как правильно заметил Фурке,65
позиционные варианты одной фонемы.
* ♦ *
Подводя итоги рассмотрению всего приведенного выше мате-
риала, можно признать наличие в фонетическом развитии герман-
ских языков общих типологически сходных процессов в пору их
раздельного существования. Закономерный характер этих про-
296
цессов очевиден. В большинстве своем они являются результатом
действия германского силового ударения.
Тем не менее ни одна из указанных закономерностей
не может быть признана универсально-общим законом, не
знающим исключений. Речь идет лишь о типологических сходных
тенденциях развития: сопоставительный анализ на-
ряду со сходством обнаруживает во всех случаях значительные
различия между отдельными языками и диалектами в степени и
характере осуществления этих тенденций. Так, под влиянием силь-
ного динамического ударения во всех германских языках неза-
висимо друг от друга происходит удлинение (растяжение) крат-
ких гласных в открытом слоге. Однако швейцарские диалекты со-
храняют неизмененными старые исторические отношения между
долгим и кратким и соответственно имеют формы geba, lesa (см.
выше, с. 286). Узкие долгие гласные под ударением имеют тенден-
цию к дифтонгизации, независимо друг от друга в английском,
немецком и нидерландском, однако эльзасские и швейцарские диа-
лекты немецкого языка сохраняют недифтонгизованные долгие f, й,
как и нижненемецкий и скандинавский, а в шотландском и нор-
тумбрийском сохранилось только старое долгое и (см. выше, с. 292).
Наблюдаются также значительные расхождения хронологи-
ческого порядка в процессе реализации аналогичных закономер-
ных тенденций между различными языками и диалектами. Так,
монофтонгизация германских ai > ё или а совершается в древне-
саксонском и в англосаксонском в период, предшествующий пись-
менным памятникам, тогда как в словах типа др.-в.-нем. breit,
ouga и т. п. в немецких диалектах, имеющих этот переход, он про-
исходит не раньше новонемецкого периода (XIV—XVI вв.) (см.
выше, с. 289). Точно так же, передвижение преднеязычного
d постепенно охватывает немецкие диалекты на протяжении че-
тырех столетий, а аналогичные переходы Д d > t, d развиваются
в скандинавских языках в рамках XIII—XVII вв., тогда как
английский и исландский остаются вообще не затронутыми этим
процессом (см. выше, с. 292).
Географические границы, у которых останавливается контакт-
ное распространение подобных новшеств, объясняются современ-
ной лингвистической географией как исторические границы сно-
шений между человеческими коллективами. Но лингвистическая
география не может ответить на вопрос, почему в одном языковом
или диалектном районе в отличие от другого не произошли
те или иные фонетические (или морфологические) изменения или
почему они произошли в разное время, если мы
склонны рассматривать эти изменения не как результат простого
контактного воздействия со стороны, а как осуществление зако-
номерных внутренних тенденций, которые могли бы иметь все-
общий характер.
Разумеется, ответ на этот вопрос может дать только рассмотре-
ние соответствующего частного явления в его взаимоотношении
297
со всеми другими элементами исторически сложившейся или скла-
дывающейся системы данного языка, как мы пытались показать
на первых двух примерах (с. 279—281). До сих пор, однако, тре-
бование это в большинстве случаев оставалось скорее постулатом
исследования, вследствие чего поставленный выше вопрос про-
должает оставаться наиболее сложным и неясным в сравнительно-
историческом языкознании.
В связи с этим позволительно напомнить, что и в математике,
этой по преимуществу точной науке, представляющейся недося-
гаемым образцом для многих -современных лингвистов, призна-
ется существование менее «жестких» (так называемых «корреля-
ционных») функциональных связей, которые не обязательны в каж-
дом отдельном случае, но справедливы «в общем и среднем».66
К таким «вероятностным» корреляциям принадлежат, по-види-
мому, и те аналогичные тенденции, которые мы пытались обна-
ружить в фонетическом развитии германских языков. Чтобы сде-
лать их вполне точными, необходимо обнаружить их взаимодей-
ствие с многочисленными другими факторами развития языковой
системы, которые мы в настоящее время еще не можем полностью
учесть.
1965 г.
УМЛАУТ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
ПО СРАВНЕНИЮ С НЕМЕЦКИМ
Основной задачей сравнительно-исторического языкознания
мы считаем сравнительно-генетическое изучение группы родствен-
ных языков в целях раскрытия общих закономерностей их раз-
вития. При таком понимании восстановление «архетипов» языка-
основы не может являться единственной задачей сравнительного
исследования: общее наследие данной группы языков и общие за-
кономерные тенденции ее развития должны изучаться в связи
с теми специфическими особенностями и тенденциями, которые
обнаруживаются в каждом из родственных языков в пору их раз-
дельного существования.
Как писал Мейе в своем исследовании по сравнительной грам-
матике германских языков,1 генетически родственные языки при
последующем самостоятельном развитии обнаруживают наличие
одинаковых закономерных тенденций, восходящих к периоду язы-
ковой общности. В качестве примеров мы могли бы привести ана-
логичные явления редукции неударных слогов, связанные с осо-
бенностями германского сильного динамического ударения на
первом (корневом) слоге, развитие (фонологизацию) умлаута в пе-
риод раздельного существования германских языков (см. ниже)
298
и даже такое позднее явление (XII—XIV вв.), как дифтонгизацию
узких долгих I, й (й), наличествующую в немецком, английском и
нидерландском языках и вызванную также, по-видимому, как
указывал еще Вредэ, сильным динамическим ударением, поро-
ждающим (при условии слоговой редукции) сверхдолготу и
двухвершинное ударение с последующим расщеплением ударного
гласного.2
Однако все перечисленные явления, общие германским языкам
в пору их раздельного существования, хотя и порождены анало-
гичными исходными закономерными тенденциями развития, по-
лучают в каждом из этих языков своеобразное осуществление.
Дифференциация родственных языков приводит в дальнейшем не
только к частным закономерным расхождениям между ними в об-
ласти фонетики и морфологии, но и к более глубокому изменению
внутренних законов развития этих языков, связанному с пере-
стройкой всей их фонетико-грамматической системы в целом.
Особенно наглядным примером такой дифференциации фоне-
тико-грамматической структуры и внутренних закономерностей
развития двух генетически родственных языков могут служить
в языках немецком и английском явления внутренней флексии,
в частности умлаута, которые хотя и основаны на общегерманском
наследии, однако получили в дальнейшем в том и другом языках
совершенно разное, специфически характерное для них развитие.
В грамматической системе современного немецкого языка че-
редованию гласных как «внутренней флексии», выражающей
грамматические отношения, принадлежит не менее важное место,
чем остаткам фонетически обобщенной внешней флексии (реду-
цированные окончания -е, -еп, -ег и др.) и аналитическим показа-
телям. Ср. мн. ч. 1-е и 3-е л. wir (sie) werfen наст. вр. инд. — war-
fen прош. вр. инд. — wiirfen прош. вр. опт.; ед. ч. 1-е и 3-е л.
ich (er) werfe наст. вр. опт. — wiirfe прош. вр. опт.; ich (er) warf
ед. ч. 1-е и 3-е л. прош. вр. — wirf ед. ч. 2-е л. повел. — Wurf от-
глаг. сущ. Система эта в своих многократных разветвлениях ох-
ватывает почти весь словарный состав современного немецкого
языка (кроме заимствованных слов), образуя как в словоизмене-
нии, так и в словообразовании отчетливо выраженные фонетико-
грамматические чередования. Индоевропейский по своему про-
исхождению аблаут, западногерманское преломление гласных и
немецкий умлаут последовательно наслаиваются друг на друга,
причем умлаут, как позднейшее комбинаторное чередование, свя-
занное с определенными аффиксами, сохраняет весьма значитель-
ную грамматическую продуктивность. Сильный глагол является
как бы стержнем всей этой системы словообразования и слово-
изменения, в своей основе построенной на чередовании гласных
(в взаимодействии с суффиксацией). Ср.: binden — band — ge-
bunden (с префиксами: verbinden, entbinden, zusammenbin-
den и др.); die Binde — das Band (мн. ч. Bande) — der Bund
(мн. ч. Bunde); Biindnis, Bandchen, Biindel, Binder, bandigen и др.
299
В англосаксонском, как и в прочих древнегерманских языках,
грамматические чередования гласных (по аблауту, преломлению
и умлауту) были не менее разнообразно представлены, чем в древне-
немецком, хотя и с некоторыми особенностями в развитии умлаута,
о которых будет сказано ниже. Напротив, в современном англий-
ском языке чередования гласных являются не элементами грам-
матической системы, а единичными, немногочисленными и изо-
лированными исключениями, с исторической точки зрения имею-
щими пережиточный характер.
Чтобы в этом убедиться, достаточно просмотреть обзор «чере-
дования гласных или внутренней флексии» в научной грамматике
современного английского языка.3 Аблаут в формообразовании
сильных глаголов, принадлежащих главным образом к основному
словарному фонду, оказался наиболее устойчивым, хотя его по-
зиции были все же заметно ослаблены тем, что, он, в отличие от
немецкого, не поддерживается всей словообразовательной си-
стемой (ср. англ, bind — bound и только). Из примерно одинако-
вого исходного числа глаголов с аблаутом немецкий язык сохра-
нил около 200, английский — только 60. Абаут в словообразова-
нии ограничен такими случаями, как strike — stroke, abide —
abode или write — writ, bite — bit и немн. др. Чередования,
исторически связанные с умлаутом, в небольшом числе разбросан-
ные по разным грамматическим категориям, не имеют сколько-
нибудь регулярного характера и также насчитываются едини-
цами. Ср.: foot — feet, mouse — mice, man — men (мн. ч.); old —
elder — eldest (степени сравнения); long — length, broad —
breadth (абстрактные от прилагательных); food — feed, full — fill
(отыменные глаголы) и немн. др. Самый термин «внутренняя флек-
сия» представляется здесь, в отличие от немецкого языка, мало
уместным: речь идет не о флективных средствах грамматической
системы, а о единичных, лексически ограниченных исключениях,
выпадающих из системы.
Характерно, что в немецком языке, в отличие от английского
(и от скандинавских языков), умлаут и в орфографическом от-
ношении принято обозначать как перегласовку «основного» глас-
ного (т. е. как явление «внутренней флексии»): а — а, о — д,
и — й. Там, где живая грамматическая (этимологическая) связь
перестала ощущаться, вместо а пишется е (ср. alt — alter сравн.
ст., но Eltern 'родители’).
Наиболее простое объяснение этого различия дает указание
на изменение словарного состава английского языка с начала
средне-английского периода, когда в результате нормандского
завоевания в состав английского словаря вошел чрезвычайно об-
ширный слой заимствованных слов романского (французского и
латинского) происхождения. В отличие от старых германских (ан-
глосаксонских) слов, эти новые слова в большинстве случаев не
могли по самой своей структуре иметь чередования вокалцзма по
законам германского аблаута и умлаута, поскольку предпосылкой
300
этих чередований является наличие в исконно германских словах
ударения на первом корневом слоге, создающее вместе с тем воз-
можность и для ассимиляции ударного корневого гласного по-
следующему гласному неударного аффикса.
Такое объяснение подтверждается исторической аналогией ли-
тературного узбекского языка, который утратил свойственную
всем остальным тюркским языкам гармонию гласных (явление
ассимиляторного порядка, в известном смысле сходное с умлаутом)
в результате проникновения в его словарный состав обширной
группы арабских и персидских заимствованных слов совершенно
иной структуры, чем исконно тюркские слова, занявших в старо-
узбекском языке примерно такое же положение, как слова ро-
манского происхождения в английском.
Однако, не отрицая значения этого внешнего лексического фак-
тора, можно установить и в самом английском языке, притом уже
в англосаксонский период, существование таких закономерных
явлений внутреннего фонетико-грамматического развития, ко-
торые послужили препятствием для продуктивности умлаута и
вызвали характерную для английского языка тенденцию к за-
туханию грамматических чередований.
Умлаут с исторической точки зрения представляет фонетиче-
скую ассимиляцию гласного корня гласному окончания. Особен-
ное значение имеет умлаут под влиянием последующего i (/),
при котором а > е, о д, и > й. Умлаут — явление общегер-
манское, но не «прагерманское»: он отсутствует в древнейших
памятниках германских языков — в готском языке Вульфилы
(IV в), в древнескандинавских рунических надписях (с III в.),
хотя и появляется в позднейшем староскандинавском, как и в вест-
готских собственных именах более позднего времени (VII в.).
В каждом из германских языков умлаут обнаруживается в разное
время (начиная с VII—VIII вв.) и развивается в различных ус-
ловиях, зависящих, по-видимому, главным образом от специфи-
ческих для данного языка условий редукции неударных слогов,
хотя ввиду его общегерманского характера можно предполагать,
что в его основе лежит общая для всех германских языков особен-
ность артикуляции, восходящая к прагерманскому периоду.
Письменные памятники древневерхненемецкого со второй по-
ловины VIII в. отмечают только е как умлаут от краткого a (gast —
gesti 'Gaste’). Умлауты от прочих гласных — долгих, кратких и
дифтонгов — начинают обозначаться с средневерхненемецкого
периода, когда неударное I редуцируется в безразличное е.
Ср .др .-в .-нем. wurfi, korbi, slafis, hohiro, husir и др. —
ср.-в.-нем. wiirfe, korbe, slaefest 'schlafst’, hoeher 'holier’, hiuser
hiiser] 'Hauser’ и др. Явление это дает ключ к фонологическому
объяснению умлаута: пока в окончании наличествовало i, умлауты
(кроме ё) представляли ассимиляторные (позиционные) оттенки
соответствующих фонем, не требовавшие специального обозначе-
ния; с редукцией i > е они становятся самостоятельными фоне-
301
teatan, независимыми ot Положения, для обозначения которых
потребовались новые знаки (б, й, также а).4
Хотя умлаут как фонетическое приспособление гласного корня
к гласному окончания (аффикса) тем самым всегда был связан
с определенными морфологическими категориями, однако только
фонологизация умлаута сделала его независимым от фонетических
свойств последующего слога, создавая условия для использова-
ния перегласовки как средства выражения грамматических отно-
шений (т. е. как внутренней флексии) и тем самым для широкого
распространения этого средства, при помощи грамматической ана-
логии, за первоначальные рамки ассимиляторных связей фоне-
тического характера. Ср., например, образование множественного
числа мужского рода: др.-в.-нем. gast — gesti, wurf — wurfi
(осн. -i-), но stab — staba, fuhs — fuhsa (осн. -а-); ср-в .-нем.
stabe, fiihse по аналогии geste, wiirfe и т. п.
Основное фонетическое различие в проведении умлаута между
англосаксонским и древневерхненемецким заключалось в от-
носительной хронологии этого явления. Умлаут наличествует уже
в первых памятниках англосаксонского языка (конец VII в.).
Отсюда делают вывод, что умлаут продвигался в германских пись-
менных диалектах с севера на юг (англосаксонский — древне-
нижненемецкий — древневерхненемецкий, от франкских диалек-
тов к южнонемецкому). С нашей точки зрения, однако, хроно-
логия эта определяется процессом фонологизации умлаута в ре-
зультате редукции неударного i конечных слогов: иными словами,
это хронология редукции, а не умлаута. В англосаксонском не-
ударное i > е; там, где оно не отпало, i обозначается как е уже
в текстах VIII в.
Фонологизация умлаута уже в древнейших памятниках англо-
саксонского языка объясняет употребление здесь с самого раннего
времени особых знаков для обозначения новых фонем, возникших
в результате ассимиляторной палатализации гласных а. е, о;
не только е, но а?, у, os (0), в кратких и долгих вариантах. В даль-
нейшем, однако, эти знаки, в отличие от немецкого языка, оказа-
лись ненужными, поскольку а? могло обозначаться как е, а гласные
б, (б), й (и) подверглись делабилизации в е (ё), i (£), потеряв
свою фонетическую специфику как «умлауты»—первые еще
в классическом англосаксонском, второй в начале среднеанглийского
периода. Ср. англосакс. Ьаес > Ьёс; англосакс, bryd > ср.-англ.
brld(e) (англ, bride).
Сопоставим историческое развитие умлаута в важнейших грам-
матических категориях немецкого и английского языков.
I. Умлаут в словоизменении
1. Во множественном числе сущее т в и -
тельных умлаут в немецком языке обнаружил большую про-
дуктивность, в особенности в мужском роде, где он стал гдавен-
302
ствующим средством формообразования по аналогии старых ос-
нов на -I- (см. выше, с. 302). Ср. Gaste (др.-в.-нем. gesti), но также
Fiichse (др.-в.-нем. fuhsa), Garten (др.-в.-нем. ед. ч. garto, осн. -и-)
и мн. др.; в диалектах, в результате потери конечного -е, являв-
шегося флективным признаком множественного числа, также tag
cTage’, arm 'Arme’, hiind 'Hunde’ и др.
В женском роде умлаут во множественном числе сохранила до-
вольно большая группа слов, оканчивающихся на согласный,
также являющихся старыми основами на-i-. Ср.: Stadte (др.-в.-нем.
steti), Mause (др.-в.-нем. musi, ср.-в.-нем. miuse) и др.
В среднем роде, где множественное число в древневерхнене-
мецком по общим фонетическим законам утратило окончание (герм,
-а-), широкопродуктивным, как главенствующий тип, по анало-
гии с небольшой группой старых основ на -es- становится окон-
чание -ег (др.-в.-нем. -гг), с обязательным умлаутом как сопут-
ствующим признаком там, где корневой гласный может иметь пе-
регласовку. Ср.: Lamm — Lammer (др.-в.-нем. lamb — мн. ч.
lembir); по этому типу land — Lander (др.-в.-нем. ед. ч. land —
мн. ч. land) и мн. др.
Напротив, в англосаксонском языке умлаут не мог быть при-
знаком множественного числа в основах на -/-, поскольку он успел
захватить здесь и единственное число, как в тех случаях, когда
конечное -I сохранилось как -е (после краткого корня), так и
в тех, когда оно отпало (после долгого корня). Ср. м. р. им. п.
ед. ч. siege — мн. ч. siege (из *slegi краткосложн.); wyrp — мн. ч.
wyrpas (долгосложн.); ж. р. bene — мн. ч. bence, bryd — мн. ч.
bryde (долгосложн.) и др. Иначе в немецком: Schlag — Schlage,
Wurf — Wtirfe; Bank — Banke, Braut — Braute (др.-в.-нем. мн. ч.
slegi, wurfi; benki, bruti).
Таким образом, в результате более раннего развития англо-
саксонский умлаут стал в основах на -i- средством не слово-
изменения. а словообразования (как и в основах на -/-, см. ниже,
с. 308). В дальнейшем, оказавшись непродуктивным и изолиро-
ванным, он не получил характера грамматического чередования
(«перегласовки») или утратил его. Англ, bench (англосакс,
bene), bride (англосакс, bryd) и т. п., с точки зрения современного
языка, в отличие от немецкого не имеют умлаута.
Только небольшая группа основ на согласные обнаруживает
в англосаксонском грамматический умлаут в дательном единст-
венного числа и именительном и винительном множественного,
вызванный отпавшим -i падежного окончания. Ср. ед. ч. им. вин.
п. fot — род. п. fotes, дат. п. fet, мн. ч. им. п. fet — род. п. fota,
дат. п. fota, дат. п. fotum и др. Слова этой группы, очень немного-
численные, в связи с исчезновением в среднеанглийском падежных
окончаний обобщили форму без умлаута в единственном числе и
с умлаутом во множественном. Ср.: foot — feet, tooth — teeth,
goose — geese; mouse — mice, louce — lice; man — men, woman —
women; также brother — brethren, cow — kine (архаичн.). Ряд
303
других слов, принадлежащих к этой группе (англосакс. Ьбс
'book’ — Ьёс, так же ak 'oak5, neaht 'night’ и некоторые другие)
полностью утратили это чередование.
В среднеанглийском, вместе с исчезновением различий типов
склонения и грамматического рода, окончание -$ основ на -fl-
мужского рода обобщается как универсальный признак множе-
ственного числа. В связи с этим не было необходимости и для раз-
вития множественного числа на -г (др.-в.-нем.-ir) в словах, при-
надлежавших ранее к среднему роду (англосакс, ед. ч. lond — мн. ч.
lond, ср.-англ. landes 'lands’). Однако ц в той небольшой группе
основ на -es-, где это окончание наличествовало первоначально,
в англосаксонском языке, в отличие от немецкого, оно не сопрово-
ждается умлаутом. Ср. англосакс, lomb 'Lamm’ — мн. ч. lombru
(др.-в.-нем. lamb — lembir). Англосаксонский имел здесь, как
показывают архаические северные тексты, другую форму этого
суффикса: -иг, -or (им., вин. п. мн. ч. lombur, lombor).
Отсутствие сколько-нибудь широкого чередования по умлауту
во множественном числе существительных представляет наиболее
заметное отличие в развитии внутренней флексии английского
языка по сравнению с немецким.
2. Оптатив прошедшего сильных глаго-
лов образуется в древнегерманских языках от основы множе-
ственного числа прошедшего с помощью суффикса -i (-г), вызываю-
щего умлаут в случае наличия гласного, способного иметь пере-
гласовку (ряды II—VI). Так, в немецком языке: nahm — nahme
(др.-в.-нем. nami), fuhr—fuhre (др.-в.-нем. fuori); с граммати-
ческим прислонением в результате обобщения в прошедшем во-
кализма единственного числа: bot — bote (др.-в.-нем. buti, инд.
прош. вр. ед. ч. bot — мн. ч. butum); с изоляцией в результате
того же процесса: warf — wiirfe (др.-в.-нем. wurfi, инд. прош.
вр. ед. ч. warf — мп. ч. wurfum).
О продуктивности умлаута в немецком языке как морфоло-
гического признака категории модальности свидетельствуют пре-
терито-презентные глаголы, которые распространили его по ана-
логии оптатива (ср. diirfe, durfte) на множественное число настоя-
щего времени и на инфинитив (ср. diirfen, mussen, konnen и др.),
а в диалектах частично и на единственное число (darf, soil — sollen
и т. п.).
В английском языке умлаут в оптативе отсутствует уже с древ-
нейших письменных памятников. Ср. прош. вр. инд. ед. ч. warp —
мн. ч. wurpon, опт. ед. ч. wurpe — мн. ч. wurpen; прош. вр. инд.
ед. ч. for — мн. ч. foron. опт. ед. ч. fore — мн. ч. foren. Грамма-
тики англосаксонского языка констатируют это явление, оставляя
его без объяснения. Мы предполагаем, что оно явилось результа-
том ранней унификации редуцированных окончаний оптатива на-
стоящего и прошедшего единственного числа -е, множественного
-еп. Ср. опт. наст. вр. weorpe — weorpen, прош. вр. wurpe —
wurpen (в древневерхненемецком сохранилось исконное различие
304
суффиксов оптатива наст. вр. ё — прош. вр. Z, ср. наст. вр. werfe —
werfen, прош. вр. wurfi 'wiirfe’ — wurfin 'wiirfen’). В пользу этого
объяснения говорит сохранение умлаута в оптативе англосаксон-
ских претерито-презентных глаголов, где, в соответствии с осо-
бенностями их формообразования, рядом с формами старого оп-
татива прошедшего (в функции настоящего времени) отсутствовал
оптатив настоящего (как и другие формы от основы презенса).
Ср. англосакс, dyrfe, dyrre, scyle, myne, dyge, maege; позднее
с унификацией гласного по общему типу: durfe, durre, scule и т. д.5
3. В степенях сравнения прилагатель-
ных формы с умлаутом представляют в немецком языке главен-
ствующий тип. Ср. lang — langer, langst (др.-в.-нем. lengiro,
lengisto). He имеет умлаута, если корневой гласный способен
к перегласовке, лишь относительно небольшое число прилагатель-
ных (ср. falsch — falscher, voll — voller и др.), — явление, ко-
торое объясняется наличием в древневерхненемецком конкурирую-
щего суффикса с гласным д (ср. hohoro рядом с hohiro 'hoher’,
hohosto рядом с hohisto 'hochst’).
В англосаксонском, в отличие от древневерхнемецкого, тип
суффикса с вокализмом г, следовательно с возможным умлаутом,
сильно ограничен; преобладает тип с вокализмом б, следовательно
без умлаута. Соединительный гласный всегда выпадает в форме
сравнительной степени, что способствовало смешению этих типов;
в превосходной степени он сохраняется как е (из /) или как о
(из д). Ср. без умлаута earm — earmra, earmost, heard — heardra,
heardost (др.-в.-нем. ermiro 'armer’, hertiro. 'barter’ и т. д.). Умлаут
(суфф.-i) наличествует лишь в немногих словах, ср.: long — lengra,
lengest, strong — strengra, strengest; другие слова обнаруживают
колебания: heah— hiehra, hiehest (или без умлаута heahra, hea-
host).6 В дальнейшем и здесь победила унификация. Современный
английский сохранил только old — elder, eldest рядом с older,
oldest (в разных значениях).
4. 2-е иЗ-е лицо сильных глаголов в на-
стоящем времени индикатива в немецком имеют
умлаут при наличии гласного, способного на перегласовку (ряды
VI—VII). Ср. ich fahre — du fahrst, er fahrt (др.-в.-нем. feris,
ferit); ich laufe — du laufst, er lauft (др.-в.-нем. loufis, loufit).
Аналогичное чередование перед i по законам так называемого
«преломления» обнаруживают и глаголы с корневым е (ряды Шв—
V). Ср.: ich werfe —du wirfst, er wirft (др.-в.-нем. wirfis, wirfit);
ich gebe — du gibst, er gibt (др.-в.-нем. gibis, gibit).
i В англосаксонском различались формы с синкопой окончания
и умлаутом или с сохранением неударного е при устранении умла-
ута (различие, связанное, может быть, с указанными выше ус-
ловиями фонологизации умлаута, см. с. 302). Первые формы пре-
обладают в западносаксонских текстах, вторые — в северных.
Ср. зап. наст. вр. ед. ч. 1-е л. fealle — 2-е и 3-е л. fiels, field;
ceose — cies, ciest; cume — cyms, cymed; сев. 2-е и 3-е л. fealles,
2Q В. М. Жирмунский
305
feallet; ceoses, cumes и т. д. Точно так же при преломлении е >
зап. weorpe — wierps; helpe — hilps, hielpt; сев. weorpes, hel-
pes и т. д. Связь между редукцией соединительного гласного и
сохранением чередования поддерживалась, вероятно, и тем, что
формы с редуцированным окончанием, будучи односложными,
отличались по своей структуре от остальных двусложных форм
настоящего и потому могли дольше сопротивляться аналоги-
ческому воздействию этих форм (обстоятельство, содействовавшее
сохранению чередования во 2-м и 3-м лице единственного числа
настоящего времени и в литературном немецком языке). В позд-
нем англосаксонском умлаут устраняется по аналогии и в реду-
цированных западносаксонских формах. Ср.: fealst, feald, так же
helpst, helpd.7
Устранение тех же чередований происходит в более позднее
время и во многих западнонемецких диалектах (по типу farst,
fart; helfst, helft и т. д.); в небольшом числе глаголов это явление
проникло и в литературную норму (ср.: rufen, kommen, genesen,
bewegen и немн. др.). Связано оно с тем, что с грамматической
точки зрения чередование это является избыточным признаком:
формы 2-го и 3-го лица единственного числа уже достаточно четко
обозначены личными окончаниями и обязательными личными
местоимениями при глаголе. Вообще умлаут является во многих
грамматических категориях не единственным, а сопровождающим
признаком формы (наряду с редуцированной флексией или суф-
фиксом). К тому же как средство формообразования он не может
иметь универсального характера, поскольку охватывает только
те слова, в которых корневой гласный допускает перегласовку.
Все это объясняет возможность аналогической унификации та-
кого «исторического чередования», т. е. восстановления фонети-
ческого единства корня как носителя предметного значения слова,
в тех случаях, когда формы слова уже дифференцированы иными
средствами. В истории английского языка такие явления осо-
бенно многочисленны.
5. Так называемый «обратный умлаут» возникает
в слабых глаголах на -/- (группа I) в результате выпадения суф-
фикса -г- после долгого слога в прошедшем и отчасти в прича-
стии П. Ср. др.-в.-нем. nerien 'nahren’ —прош. вр. nerita 'nahrte’
(готск. nasjan — nasida). но brennen — прош. вр. branta 'brannte’
(готск. brannjan — brannida). В средневерхпепемецком такой «об-
ратный умлаут» имеют многие глаголы, образованные по этому
типу: ср. hoeren — horte, waenen — wante, sterken — starkte,
kiissen — kuste и мн. др. Современный немецкий язык устранил
эти чередования'как избыточный морфологический признак во
всех глаголах, кроме'" пяти с замыкающими согласными -пп-,
-nd- (brennen — brannte, gebrannt; также kennen, nennen, senden,
wenden), где сохранению чередования содействовало совпадение
гласного прошедшего и последующих согласных с многочислен-
ной группой сильных глаголов ряда Ша (finden — fand, begin-
hen — begann и др.). Соответственно этому чередование й tipii-
веденных глаголах воспринимается в настоящее время не как
умлаут (что видно из орфографии), а как аблаут, вследствие чего
такие глаголы получили в школьных грамматиках исторически
неправильное название «смешанных». С точки зрения современ-
ного языка, они действительно ничем не отличаются от такого
исторически «смешанного» глагола, как bringen, brachte, gebracht
(др.-в.-нем. brahta, gebracht), в котором чередование по аблауту ис-
кони сочеталось с суффиксом слабого спряжения -t-.
В верхненемецких диалектах, там, где наличествует тенденция
к отпадению конечного -е и прошедшее могло бы совпасть в ряде
форм с настоящим (ср. наст. вр. ед. ч. 3-е л. horl—прош. вр.
horl), чередования, вызванные «обратным умлаутом», становятся
функционально значимыми и благодаря этому сохраняются. Так,
в говоре Швальм (гесс.) насчитывается 33 слабых глагола с та-
кими чередованиями: например, hern 'horen’— hard, ghard; hiro
'hiiten"—hud, gehud; firn 'flihren’— furd, gofurd; sdeln 'stollen"—
sdaldo, gostald и мн. др. В еще большей степени это относится
к некоторым нижненемецким диалектам, в которых по фонетическим
условиям в прошедшем отпадает и суффикс -d (в.-нем. -t-). В таких
глаголах чередование гласных, основанное на умлауте, как признак
прошедшего, в сущности ничем не отличается от старого аблаута.
Ср. в Мюнстерланде (Вестфалия): folo 'fiihlen’— f<?l, fplt; soko
'suchen’ (готск. sokjan) — sqx, sqxt; draimo 'Iraumen’— drpm, drpmt
и t. n.8
В английском языке группа слабых глаголов с «обратным
умлаутом» представляет единственный тип чередований на основе
умлаута, оказавшийся относительно устойчивым, притом также
в результате прислонения к глагольному аблауту. В англосаксон-
ском чередования этого рода наличествовали в довольно обширной
группе слабых глаголов с палатализованными согласными в основе
настоящего времени (-сс-, -с-, -eg-) и ассимиляцией -ht- в прошедшем
(16 глаголов) и в небольшой группе с презенсом на -ZZ- и про-
шедшим на -Id- (5 глаголов). Ср.: deccean — deahte, gedeaht, taecean
'lehren’—table (taehte), getaht (getaeht), secean 'suchen’ — sohte
gesoht; byegean 'kaufen’ — bohte, geboht; tellan 'erzahlen’ — tealde
(сев. talde), geteald (сев. getald) и др.9 Из них 6 глаголов сохра-
нили чередование в современном английском (ср. bye — bought,
seen — sought, tell — told и др.). С точки зрения современного
языка, они являются «смешанными», как и глагол со старым аб-
лаутом bring — brought (англосакс, bringan — brohte). Группа
эта сильно расширилась в новоанглийском присоединением к ней
глаголов с чередованием гласных, вызванным сокращением
в среднеанглийском долгого гласного корня перед группой со-
гласных в прошедшем времени и последующим сужением этого
долгого в формах презенса по общим законам передвижения
гласных в новоанглийском. Ср.: keep — kept, weep — wept,
307
20*
deal — delt, feel — felt, lose — lost и др. Таким образом, можно
говорить о некоторой продуктивности этого «нового аблаута»
в глаголах «смешанного» типа.
II. Умлаут в словообразовании
1. Из древних основообразующих суффиксов умлаут нали-
чествовал в многочисленных основах на -/- существительных
и прилагательных. Ср.: нем. Bett (готск. badi, др.-в.-нем. betti),
Hoile (готск. halja, др.-в.-нем. helja), Jdihn (др.-в.-нем. kuoni);
англ, bed, hell, keen (англосакс, bed, hell, сёпе) и др. В большин-
стве слов этой группы умлаут оказался в дальнейшем непродук-
тивным, как и вся древняя словообразовательная модель в це-
лом; глаголы эти для современного языка уже не являются про-
изводными, и умлаут в них наличествует только с исторической
точки зрения, не имея характера грамматического чередования
(«перегласовки» основного гласного).
Иначе, однако, в немецком языке в именах среднего рода
(осн. -/-) с префиксом ge- и умлаутом (или преломлением), пред-
ставлявших в прошлом продуктивную группу. Ср. производные
от существительных: Wurm — Gewiirme (др.-в.-нем. giwurmi),
Wetter — Gewitter (др.-в.-нем. giwitiri); позднее от глаголов:
spotten — Gespott и т. п. Этот древний (индоевропейский по сво-
ему происхождению) тип существовал и в англосаксонском: ср.
weder — gewidere, word — gewurde (с преломлением и умлаутом);
однако он не получил дальнейшего развития вследствие полной
фонетической редукции префикса ge- (уе-) в среднеанглийском.
2. Основообразующий суффикс -in в абстрактных существи-
тельных женского рода со значением качества, производных от
прилагательных, имел широкое распространение во всех древне-
германских языках. Ср.: нем. hoch — Hohe (др.-в.-нем. hohi,
готск. hauhei), gut — Gute (др.-в.-нем. guoti, готск. godei). Про-
дуктивность его в немецком языке была ограничена редукцией
i > е, в результате которой существительное совпало с формами
прилагательного и старая модель была вытеснена более стойким
в фонетическом отношении суффиксальным образованием
(др.-в.-нем. -Ida, в дальнейшем новый суффикс -feeii).Cp.: др.-в.-нем.
sconi 'красивый’ — sconl с красота’, ср.-в.-нем. schaene сущ.,
прил. (н.-в.-нем. schon прил. — Schonheit сущ.). Однако при на-
личии умлаута чередование гласных становится ведущим при-
знаком этой категории, и словообразовательный тип прочно со-
храняется. Ср.: Gro[3e, Giite (но не Kleine, Bose!); Rote, Schwarze
(но не Gelbe, Grime!).10
В англосаксонском довольно многочисленные образования
этого типа также имеют умлаут: Ср.: long, strong, brad (англ,
broad) — сущ. lengu, strengu. braedu и др. Однако окончание
именительного падежа единственного числа -и (из герм, -а вместо
308
-I) свидетельствует о характерном для англосаксонского языка
процессе выравнивания типов склонения (по основам женского
рода на -а-), который сопровождается поглощением этого фоне-
тически ослабленного и потому потерявшего продуктивность об-
разования более стойким с суффиксом -du (герм. -ipd). Ср.: strengdu
(др.-в.-нем. strengida), lengdu (др.-в.-нем. lengida) и др. (см. ниже,
с. 312).
3. Основообразующий суффикс -/- в слабых глаголах группы
I, общий для германских языков, также вызывал умлаут как
в древневерхненемецком, так и в англосаксонском, но в большин-
стве случаев потерял грамматическое значение в обоих языках,
поскольку глаголы эти в настоящее время изолированы лекси-
чески и представляются непроизводными (как и именные основы
на -/-). Ср. нем. senden, kennen, horen; англосакс, send, kenn,
hear (готск. sandjan. kannjan. hausjan) и мн. др. Потеряла продук-
тивность и древняя категория побудительных глаголов} образо-
ванных с суффиксом -/- от второй ступени аблаута сильных гла-
голов, соответствующей по вокализму прошедшему времени. Ср.:
нем. winden — wenden (готск. wandjan) — прош. вр. wand;
liegen — legen (готск. lagjan) — прош. вр. lag; sitzen — setzen
(готск. satjan) — прош. вр. sap и др. Чередование гласного на-
стоящего времени одного глагола с гласным прошедшего времени
другого не воспринимается, как свидетельствует современная не-
мецкая орфография, в качестве перегласовки, поскольку прошед-
шее время по своей семантике не может быть исходной формой
для производного глагола. В современном английском языке
также сохранилось лишь несколько таких глагольных чередова-
ний, оставшихся изолированными и не имеющих никаких фоне-
тических признаков регулярного умлаута. Ср.: sit — set (англо-
сакс. sittan — settan), lie — lay (англосакс, licgan — lecgan),
rise — rear (англосакс, risan — raeran).
Зато широкопроизводительными оказались в немецком языке
многочисленные деноминативные глаголы с умлаутом. Ср. от
существительных: Traum — traumen, Pfand — pfanden, Wasser —
wassern и др.; в особенности фактитивы от прилагательных с зна-
чением 'наделять каким-нибудь свойством’: hart—harten, stark —
starken, rot — roten и др. Модель этого типа — общегерман-
ского происхождения (ср.: готск. dragk — dragkjan 'tranken’,
warm — warmjan 'warmen’ и др.). Однако многочисленные дру-
гие слова этой группы являются позднейшими новообразова-
ниями, продуктивность которых основана на аналогическом ис-
пользовании грамматического умлаута как морфологического
средства. Ср. также грамматические противопоставления глаго-
лов с умлаутом и без умлаута: starken 'stark machen’ —
(ег) starken (др.-в.-нем. starken) 'stark werden’; warmen 'warm ma-
chen’ — (er)warmen (др.-в.-нем. warmen) 'warm werden’ и др.
В англосаксонском также наличествовали подобные чере-
дования. Ср. от существительных: spor 'Spur’ — spyrian 'spii-
309
ten* (с древним преломлением и умлаутом), hunger 'Hunger* —
hyngran 'hungern’; от прилагательных: long — lengen ' verlangern’,
hal 'heiF — hslan 'heilen’ и др. Однако в среднеанглийском, вслед-
ствие своего изолированного характера, они потеряли продуктив-
ность и, будучи в большинстве случаев унифицированы, образу-
ются теперь по общему типу путем конверсии, т. е. без изменения
вокализма основы. Ср.: англ. сущ. hunger 'голод’ — глаг. to
hunger 'голодать’. Отдельные случаи чередований представляют
малочисленное исключение: food — feed, brood — breed, doom —
deem; full — fill, gold — gild.
4. Из большого числа других германских суффиксов, содер-
жавших элемент -Z-, продуктивные сохранили его нередуцирован-
ным благодаря наличию побочного ударения (так называемые
«сильные суффиксы»). Многочисленные слова, образованные с по-
мощью таких суффиксов в более позднее время, получают умлаут
не фонетический, а аналогический (как признак грамматической
формы). Сюда относятся в немецком языке:
а) Суффиксы существительных — уменьшительные на -lein
(ср.-в.-нем.-Zm), -chen (ср.-в.-нем. -icheri): Bock — Bocklein,
Sohn — Sohnchen (у Лютера: Sohnichen); одушевленные женского
пола на -in (ср.-в.-нем. -inne): Graf — Grafin, Hund — Hiindin;
по тому же типу н.-в.-нем. Wochnerin и др.; имена действующих
лиц на -ег (лат. -drius > др.-в.-нем. -ari, -art): Jager (др.-в.-нем.
jagari), Romer; н.-в.-нем. Stadter; расширенные формы -ler, -пег:
Hausler,Glockner и др.; абстрактные на -nis: Verstandnis (др.-в.-нем.
firstantnissi); н.-в.-нем. Empfangnis, Biindnis и т. п.; суффикс
-ing, обычно расширенный -ling: jung — Jiingling и др. Слабые (не-
продуктивные и редуцированные) суффиксы -el (др.-в.-нем. -ZZ),
-de (др.-в.-нем. -ida): Wiirfel (др.-в.-нем. wurfil) от Wurf; Flugel
(др.-в.-нем. flugil) от Flug; Gebarde (др.-в.-нем. gibarida), Gemalde
(др.-в.-нем. gimalida) и немн. др.
б) Суффиксы прилагательных — продуктивные -ig, -lich
(др.-в.-нем. -lich), -isch (др.-в.-нем. -isc): kraftig, mannlich, romisch;
н.-в.-нем. weitlaufig, gefahrlich, aberglaubisch и т. п. Непродуктив-
ный суффикс -in: ср.-в.-нем. gulden, wiillen (др.-в.-нем. guldin от
gold, wullin от wolla, с древним преломлением), н.-в.-нем. golden,
wollen (с устранением чередования). Продуктивным является рас-
ширенный суффикс -егп (ср.-в.-нем. -irin, с умлаутом и без пре-
ломления): holzern, glasern и др.
в) Глагольные суффиксы (продуктивные)--------igen, -eln
(др.-в.-нем. -Поп), -егп (др.-в.-нем. -iron): satt — sattigen, Frost —
frosteln, Blatt — blattern и др.
В некоторых категориях образования с умлаутом имеют ог-
раниченный охват, что объясняется (как в степенях сравнения,
см. выше, с. 305) наличием конкурирующих вариантов соответ-
ствующих суффиксов с другими гласными вместо i: др.-в.-нем.
-ag рядом с -ig, ср.-в.-нем. -nus (южн.) рядом с -nis, др.-в.-нем.
310
-агдп рядом с -iron. Ср.: blulig, rostig (др.-в.-нем. bluotag, го-
stag); Ersparnis, Bewandlnis (южи. -nus); stottern, plappern (cp.
др.-в.-нем. flogaron 'flatlorn’); ср. также Maier, Schlosser и др.
Было бы, однако, неправильно в каждом отдельном слове прямо-
линейно объяснять наличие или отсутствие умлаута присутствием
в древневерхненемецком того или другого вариантов суффикса
именно в данном слове: существование таких вариантов создавало
общую предпосылку для возможности подобных колебаний, в осо-
бенности в позднейших аналогических новообразованиях. Такие
колебания наличествуют и для суффиксов -isch, -Itch и других,
которые не имели вариантов без элемента I. Ср.: spanisch рядом
с schwabisch, fraglich рядом с schadlich и мн. др.
Частично эти колебания могли иметь и диалектный характер,
поскольку в южнонемецком сфера фонетического умлаута вообще
более ограничена, чем в севернонемецком. Так, в особенности
это проявляется в словах на -ег: сев. Kramer, Kohler — южн.
Kramer, Kohler и др. В литературном языке та или иная форма
часто устанавливалась в результате лексического отбора после
длительных колебаний. В XVIII в. еще встречаются, с одной
стороны, северные формы с умлаутом: liistig, farbig, Maurer и т. п.;
с другой стороны — южные, без умлаута: mannlich, nachtlich,
gewohnlich, Gartner и т. п. Существенно, однако, что в немецком
языке умлаут преобладает и широкопродуктивен в новообразова-
ниях.
Иначе в английском языке, где общее направление развития
идет к устранению чередований. В англосаксонском наличество-
вали те же общегерманские суффиксы. Уже Сиверс отметил коле-
бания в проведении умлаута, вызванные существованием их
фонетических вариантов с гласным t или с другими гласными.11
Редукция качественных различий в неударном вокализме, более
ранняя и значительная, чем в немецком, приводила к смешению
и дублетным формам, иногда дифференцированным по диалектам.12
Так, суффикс англосакс, -ig объединил старое -ig и -eg (-aeg из
герм. -ag). Ср.: hal 'heil’ — halig (англ, holy, без умлаута) рядом
с сев. haelig (с умлаутом); в косвенных падежах — с ранней син-
копой гласного: halges, halge и т. п. (без умлаута); также monig,
sundrig (англ, many, sundry, без умлаута) — сев. menig (maenig),
syndrig (с умлаутом); только без умлаута fam (англ, foam 'пена’) —
famig (англ, foamy) и др. Суффикс абстрактных существительных
-nes (-nis) объединил герм, -nassi, -nissi, -nussi. Отсюда от сущ.
trum 'сила’ — untrumnes и untrymnes 'слабость’; от прил. forht
'боязливый’ — furhtnes и fyrhtnes 'боязнь’; только без умлаута
god — godnes, heard — heardnes (англ, good — goodness, hard —
hardness) и др. Суффикс англосакс, -el объединил более древние
-il, -ael (герм. -aZ), рядом с которыми оставалось -ol (герм. -id).
Ср.: geafol (gafol) 'дань’ сущ. — рядом с gaefol, gebil; deagol
'тайный’ прил. (др.-в.-нем. tougali) — рядом с dygol, diegle
только с умлаутом yfel (англ, evil), lytel (англ, little) — слова,
311
в которых в новоанглийском перегласовка не ощущается за от-
сутствием чередования.
Такие же колебания обнаруживаются и в тех случаях, когда
суффикс имел только форму с гласным i. Ср. в прилагательных
суффиксы -Ис (герм. -Ilk), -isc, -еп (герм, -ш), в существительных
суффикс -ing\ от ап (англ, one) — прил. aenlic рядом с anlic (англ,
only, без умлаута); seolvor 'Silber’ — прил. aeolfren рядом с syl-
fren; frencisc сfrankisch’, englisc 'englisch’ (англ, french, english,
с умлаутом) рядом c romisc 'romisch’, gallisc 'gallisch’ (без ум-
лаута); патронимические имена Scylfing, gyring (с умлаутом)
рядом с Branding, Eafing (без умлаута) и т. п. Изолированные
слова, сохранившие исторический умлаут (french, english), и здесь
чередований (т. е. перегласовки) не имеют.
Обширная категория существительных со значением действую-
щего лица, в которой грамматический умлаут оказался в немец-
ком языке особенно продуктивным, в англосаксонском вообще
не имела умлаута, в связи с ранней редукцией гласного второго
слога суффикса лат. -arius > англосакс, -ere. Ср.: hoc eBuch’ —
Ьбсеге, Romere 'Romer’ и др. (англ, love — lover). Напротив,
суффикс герм, -ipa > англосакс, -du абстрактных существитель-
ных женского рода всегда имел в англосаксонском умлаут, но
в результате редукции он рано перестал быть продуктивным;
поэтому слова, сохранившие в ново английском это чередование,
оказались изолированными лексическими исключениями, слиш-
ком малочисленными, чтобы создать словообразовательную мо-
дель. Ср.: long — length, strong — strength (англосакс, lengdu.
strengdu), к которым примкнуло broad — breadth (англосакс, brad —
braedu с суффиксом -г-; см. выше, c 309).
Таким образом, затухание умлаута как грамматического чере-
дования четко обнаруживается в древнеанглийском языке еще
до нормандского завоевания. С одной стороны, в англосаксонском
отсутствовали, благодаря особенностям его фонетики, наиболее
продуктивные в немецком языке категории словообразования
с умлаутом (мн. число, оптатив прош., имена действующих лиц
на -ег)] с другой стороны, наличествовала тенденция к унификации
вокализма основы и к устранению в дублетных формах граммати-
ческих чередований, а не к развитию и укреплению их, как в не-
мецком языке. В результате чередования по умлауту представлены
в английском языке лишь единичными исключениями лексического
характера. Исторический умлаут прочно сохраняется лишь в тех
категориях, где в результате изоляции он не мог быть устранен
по аналогии других форм, но вместе с тем не имеет грамматической
функции перегласовки и является лишь последствием фонети-
ческого изменения, совершившегося в прошлом и не имеющего
значения для современного языка (ср.: bed, nett; send, hear
french, english; evil, little и т. п.). Соответственно этому и аблаут,
не подкрепленный умлаутом, не получил такого широкого разви-
тия, как в немецком языке.
312
Такое сравнение двух генетически родственных языков показы-
вает различные пути их закономерного развития и образование
новых, специфических для каждого из них тенденций в результате
сложного взаимодействия с другими элементами соответствующей
языковой системы.
1960 г.
ГОТСКИЕ аг, аи с ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
СРАВНИТЕЛЬНОЙ ГРАММАТИКИ И ФОНОЛОГИИ
Вопрос о фонетическом и фонологическом значении готских
диграфов ai, аи, обозначающих в орфографии Вульфилы различ-
ные по своему историческому (этимологическому) происхождению
звуки, до сих пор остается предметом дискуссии, чрезвычайно
поучительной для истории языкознания и продолжающей быть
актуальной и в наши дни.1 Различия точек зрения в этом вопросе
в ряде случаев довольно отчетливо отражают общие методологи-
ческие позиции участников этой дискуссии.
Согласно «классической» точке зрения, восходящей к Я. Гримму,2
написания ai, аи имеют у Вульфилы два значения. Там, где они
соответствуют этимологически германским дифтонгам ai, аи, они
являются дифтонгами. Ср. готск. haitan 'heipen’ (др.-в.-нем. Ьец-
^ап, др.-исл. heita, англосакс, hatan, др.-сакс. hetan); augo 'Auge’
(др.-в.-нем. ouga, др.-исл. auga, англосакс, eage, др.-сакс. oga).
В случаях так называемого готского „преломления* ai, аи обозна-
чают открытые краткие q, соответствующие герм, i — е, и перед
согласными г, h. Ср. готск. wairpan 'werden’ (др.-в.-нем. werdan,
др.-исл. verda, англосакс, weordan,* др.-сакс. werdan; ср. лат.
vertere); faihu 'Vieh’ (др.-в.-нем fihu, др.-исл. fe, англосакс, feo,
др.-сакс. fehu; ср. лат. pecu); baurgs 'Burg’ (др.-в.-нем., др.-сакс.,
англосакс, burg, др.-исл. borg); auhsa 'Ochse’ (др.-в.-нем., др.-сакс.
ohso, др.-исл. охе, англосакс, оха; ср. санскр. uksa).
Перед другими согласными готский имеет только узкие глас-
ные i, и, там, где западногерманские и скандинавские языки раз-
личают е — i, о — ив зависимости от открытого или закрытого
характера последующего гласного. Ср. готск. hilpan — hilpit,
др.-в.-нем. helfan — hilfit; прош. мн. ч. hulpum — причастие
II hulpans, др.-в.-нем. hulfum — giholfan. Прочие возможные
этимологические соответствия готских диграфов будут рассмотрены
ниже (см. пн. 1—6).
Со времен Я. Гримма два фонетических значения готск. ai, аи
принято различать знаком ударения на первом или втором эле-
менте: di, аи — дифтонги, ai, ай — открытые краткие гласные.
Против точки зрения Я. Гримма первым выступил В. Вейнгерт-
нер,3 отстаивавший употребление диграфов только в значении е,
313
о, кратких — в случаях преломления, долгих — на месте старых
дифтонгов, которые «во времена Вульфилы» уже подверглись
стяжению. Свидетельство этого произношения Б. Вейнгертнер
справедливо усматривал в системе написания иноязычных (гре-
ческих) слов.
Возражения В. Вейнгертнера были, однако, на долгое время
отведены Ф. Дитрихом,4 опиравшимся на рассмотрение орфогра-
фии готских собственных имен в сочинениях латинских и грече-
ских писателей, которая, по его мнению, свидетельствует в пользу
дифтонгического произношения. Аналогичные по своей методике
разыскания Ф. Вредэ привели его к выводу, что стяжение диф-
тонгов di, du в восточногерманских языках относится к более
позднему времени (VI в.).5
В дальнейшем традиционную точку зрения (с различными
частными ограничениями) отстаивали почти все авторы учебных
пособий по исторической и сравнительной грамматике готского
языка: В. Штрейтберг (со ссылкой в более поздних изданиях своей
готской грамматики на методологические наблюдения Э. Сиверса,
как известно, крайне произвольные и субъективные),6 В. Брауне
(и еще более последовательно редактор последних изданий его
учебника проф. К. Хельм),7 В. Вильманс и Ф. Клуге, М. Еллинек
и Е. Кикере, а в новейшее время Г. Краэ и В. Краузе.8 В спе-
циальных статьях ее защищали В. Пизани и Э. Зерт (последний
с принципиально существенными оговорками).9 Н. С. Трубецкой,
не пересматривая этимологических основ господствовавшей тео
рии, пытался примирить ее с фонологией путем признания фоне-
тической эквивалентности готских дифтонгов di, du открытыми
долгими £, 9.10
Сомнения в правильности этой «классической» теории по част-
ным поводам высказывали уже В. Шерер, Г. Пауль, в особенности
О. Бремер,11 но наиболее последовательно новую точку зрения
аргументировал и отстаивал Г. Хирт.12 Как и В. Вейнгертнер,
он исходил из фонетической однозначности орфографии Вульфилы,
предполагающей стяжение старых германских дифтонгов в его
диалекте. Полемизируя со своими предшественниками, он писал:
«До сих пор учебные пособия (Брауне, Штрейтберг, Еллинек)
подсказывают нам мысль, будто Вульфила, составивший свой
алфавит из трех других алфавитов, не был в состоянии различить
в написании звуки е и ш».13 К точке зрения Г. Хирта присоеди-
нился К. Марстрандер, ее приняли Дж. Райт и Ф. Моссе в своих
учебных пособиях по готскому языку и Е. Прокош в «Сравнитель-
ной грамматике германских языков» 14 (последний, однако, осно-
вываясь на написаниях готских собственных имен у античных
писателей, делает оговорку, что это «вопрос хронологический», —
см. ниже). К ней присоединились в ряде специальных статей
и американские фонологи.15 Наиболее подробную, хотя и не ис-
черпывающую аргументацию содержат работы Ф. Моссе, Г. Пенцля
и В. Беннета. Все эти ученые исходят из основного аргумента
314
Г. Хирта, справедливо указывая на невозможность таких противо-
речий в орфографии, которые приписывает Вульфиле традицион-
ная точка зрения. По мнению Г. Пенцля, «нашим наиболее важ-
ным свидетельством является внутренняя последовательность
орфографии Вульфилы. Иначе мы должны будем предположить,
что он намеренно нашел возможным оставить необозначенными
такие существенные качественные различия в формах слов, как
прош. время taih (ед. число) — taihum (мн. число) [taih-ЦЬ-],
tauh (ед. ч.) — tauhum (мн. ч.) [tauh— tqh-], или в словах типа
af-maimait [-m^-mait], ana-aiaik [-$-aik], haihait [h^-hait] и др.,
хотя он в то же время тщательно отмечал различия между i и у,
и и w и сумел приспособить для своих целей знаки, заимство-
ванные из трех различных алфавитов».16
Случаи двусмысленности «двухвалентной» интерпретации ди-
графов ai, au, приведенные Г. Пенцлем, охватывают довольно
обширные морфологические группы прошедшего времени широко
употребительных сильных глаголов I и II ряда с основой на -h
(7 глаголов) и редуплицирующих с корневым гласным ai (7 гла-
голов). Сюда же относятся случаи, когда перед согласными г, h
стоят не монофтонги, возникшие в результате готского преломле-
ния, а старые германские дифтонги ai, au, сохранившие, согласно
«классической» теории, свое дифтонгическое произношение (di,
аи). Ср. готск. aih (наст, время ед. ч. 1-го лица) 'habe’ (от aigan
'haben’, др.-в.-нем. eigan), но ai'hts (жен. род) 'Eigentum’; air
'friih’, airus 'Bote’, апфа 'Erde’, airzeis 'irre’; gaurs 'traurig’,
но baiirgs 'Burg’; hauhs 'hoch’, auhuma 'hoher’, но aiihsa 'Ochse’.
Такая путаная орфография вряд ли могла бы с успехом служить
тем целям, которые ставил себе епископ Вульфила как «просвети-
тель» готов.17
Решающим доказательством в спорах подобного рода Г. Хирт
считает способ написания иноязычных слов. В написании грече-
ских и еврейских имен Вульфила всегда пользуется для греч. в
и о принятыми им и в готских словах написаниями ai, аи (аг, ай).
Для первого В. Штрейтберг насчитывает 83, для второго 42 при-
мера.18 Ср. Paitrus (греч. Петров), AileisabaiJ) (греч. ’Ekiadpsx), Na-
гага’ф (греч. NaZapsx), ^aiaufeilus (греч. ©ебсрсХе), Saulaumon (греч.
Eoaojkdv), Assaum (греч. ’Аобр.) и мн. др.
Написание ai в значении открытого [q], долгого или крат-
кого, было подсказано Вульфиле позднегреческим произношением
дифтонга ai.19 Написание аи в значении открытого [q] соответст-
вовало, вероятно, народно латинскому произношению дифтонга
aa.20 Вместе с тем оно было подсказано составителю готского
алфавита пареллелизмом в использовании дифтонгов ai и аи
в значении монофтонгов для аналогичного типа гласных среднего
уровня. В орфографии Вульфилы наличествовал еще и третий
диграф — si для долгого [i] в соответствии с фонетическим зна-
чением дифтонга £i в позднегреческом. Ср. греч. stScokov > слав,
идолъ (готск. steigan=repM. *stigan 'steigen’),21
315
Греческий дифтонг ао Вульфила транскрибирует aw во избе-
жание смешения с готск. аи [р]. Ср. готск. Pawlus (греч. ПабАо;),
Daweid (греч. Даое’8) и др. Отсутствие свойственной готскому
монофтонгизации дифтонга аи q (р) в этих заимствованных сло-
вах, может быть, объясняется позднегреческим спирантным произ-
ношением au">[aw].22 Ср. позднейшие славянские заимствования:
Павълъ 'Павел’ и др. В таком случае перед гласным вероятно
слогоделение [da-wld] 'Давид’. Возможно, однако, что в основе
этого написания лежит транслитерация, поскольку Вульфила
вообще обозначает греч. и через w (ср. готск. swnagoge— греч.
аоуогрут] 'синагога’, готск. Skwpus—греч. Ехб{Ц;). Показательна
также передача греч. ео через aiw (очевидно, aiw). Ср. готск.
aiwlaugia — греч. еокор'а, готск. aiwaggeli — греч. ебаууеХюу 'еван-
гелие’. Она также свидетельствует о принятой в орфографии Вуль-
филы передаче греч. е = готск. at (al).
Написание aj в греческих словах не встречается, поскольку
в позднегреческом ai р($) и обозначается Вульфилой как ai (al).
Ср. готск. МаЭДэашэ— греч. Мат§а1о<; (слав. Матвей), готск.
Farisaieis — греч. cpafxoaiot (слав, фарисеи).
Написания aw, aj в готских словах (в отличие от ai, аи) встре-
чаются только перед гласными. Ср. hawi 'Ней5, waja- 'weh-’ и др.
(см. ниже п. 5).
Для чтения готских диграфов ai, аи большое значение имеет
ряд других фономорфологических категорий, не укладывающихся
в два указанных выше основных типа. Все они говорят о моно-
фтонгическом произношении (ai, ай).
1. В редупликации перфекта готск. ai [<?] соответствует и.-е.
-е-. Ср. halhald 'hielt’, lailot 'liess’ и др. (ср. перфект лат. te-tigi,
греч. Хе-Хснтш и др.). Предполагать здесь дифтонгизацию нет ни-
каких оснований.*
2. Открытое краткое $ наличествует, по-видимому, в готск.
афраи 'oder’ (ср. др.-сакс. eddo, англосакс, edda, др.-исл. eda),
waila 'wohl’ (ср. др.-сакс. wela, др.-в.-нем. wela, англосакс, wel,
др.-исл. vel), sai 'sieh (da)’ (по-видимому, неударная форма от
повелит, накл. saihw 'смотри’ — ср. др.-в.-нем. se 'вот’). Краткое
е сохранилось здесь, вероятно, в неударном положении; предпо-
ложить наличие дифтонга ai нет никаких этимологических осно-
ваний. Сюда же, может быть, относится наречие aufto 'vielleicht’,
отмеченное однажды в форме ufto (Mark. XXVII, 64).
3. Написания ai, аи встречаются перед гласными (в «зиянии»)
для обозначения звука, которому в других германских языках
соответствует долгий гласный.
Ср. готск. saian 'saen’ (др.-сакс. saian, др.-в.-нем. saen, англо-
сакс. sawan, др.-исл. за<^герм. *86!-; лат. se-vi, se-men 'Same’;
слав. сЪяти, сЪмя); готск. waian 'wehen’ (др.-в.-нем. waen, англо-
сакс. wawan герм. *wex-; слав. вЪяти и др.); готск. faian 'tadeln’
(греч. и др.); ср. также готск. arrnafo (жен. род) 'Barmher-
zigkeit’ (от arms 'arm’); готск. bauan 'bauen’ (др.-сакс., англо-
316
сакс., др.-в.-нем. buan, др.-исл. baa, др.-шв. boa); готск. trauan
'trauen’ (др.-сакс. trUon, др.-в.-нем. trQen, др.-исл. trQa, др.-шв.
troa); готск. b-nauan 'zerreiben’ (др.-в.-нем. nflan, др.-исл. g-nua,
др.-шв. g-noa).
В основе типа saian и т. д., ио свидетельству всех других
германских языков, лежит герм. ёх (и.-е. ё). Ср. готск. manasej)s
'Menschheif (букв. 'Menschen-saat’)— др.-в.-нем. sat, др.-исл. sad,
др.-сакс. sad, англосакс, saed 'Saat’. Для объяснения готск. bail ап
и др. следует исходить из др.-шв. boa, troa, -пба, в которых
герм, й перед гласными регулярно представлено как б: готский
язык с точки зрения лингвистической географии исторически свя-
зан с восточноскандинавским («гаутским») и является его ответв-
лением.23 Чтение ай подтверждается написанием греческих слов
с w перед гласным. Ср. готск. Trauas—греч. трсоа<; 'Троя’, готск.
Naiiel — греч. Nws 'Ной’.
От глагола saian встречаются формы со вставным несколько
раз saijip рядом с saiif, в одном случае также saijands (Марк,
IV, 14).24 Разумеется, это не старый германский дифтопг ё/, как
полагают некоторые исследователи (со ссылкой на слав. 'сею’,
в'йл; 'вею’),25 а секундарное образование, переходный звук ('hiatus-
fiillender Laut’), который часто появляется в древневерхненемецком
в формах /, и или h между ударным гласным основы и неудар-
ным гласным окончания в глаголах с зиянием (verba рига). Ср.
др.-в.-нем. saan (saen), saian (saien), sawan, sahan 'saen’, также
saio 'Samann’; waian 'wehen’, blaian 'blahen’, bluoian, bluohan
'bluhen’, krawan 'krahen’ и др.;26 также англосакс, sawan, wawan
и др. Современные диалекты знают много случаев спонтанного
развития таких переходных звуков в глаголах этого типа.27
Приведенными примерами опровергается необоснованное утвержде-
ние Г. Якобзона, будто переходный звук / может появиться
в зиянии только после Z, а потому al в saijis, saian и др. должен
читаться как дифтонг.28
В. Штрейтберг и В. Брауне предполагали наличие в этой
позиции широких долгих гласных ж, а,29 Мне представлялось
возможным сокращение перед гласным f£, р]. Эту точку зрения
в настоящее время убедительно обосновал Э. Зерт со ссылкой
на аналогичное фонетическое явление в латинском языке (vocalis
antevocalem corripitur):30 ср. лат. fleo<;*fle6, deus<*deos, pins
и др. Подтверждением является сокращение в готском других
долгих гласных в аналогичной позиции. Ср. готск. sijau (оптатив)
(др.-в.-нем. si) 'sei’, frijon 'lieben’ (др.-исл. frian, ср.-н.-нем. vrien
'freien’< и.-е. *pri-), frijonds 'Freund’, frija^wa 'Freundschaft’,
fian (fijan) 'hassen’ (др.-в.-нем. lien < и.-е. pei-); fiands (fijands)
'Feind’, fiapwa (fija^wa) 'Feindschaft’. Ср. ниже n. 4 (тип staua
и др.).
4. Долгое д перед согласным (/) чередуется в готском языке
с аи (мы предполагаем ай) перед гласным. Ср. готск. taui (ср.
род.) 'дело’—дат. падеж, toja. существит. ubil-tojis 'Missetater’
317
(герм. *low-); готск, slaua (муж. род. "судья’, жен. род. 'суд’)
stauida (прош. время) 'судил’ — stojan 'судить’ (др.-в.-нем. stou-
wen 'обвинять’ ’из герм. *stow-; ср. слав, ставший, и.-е. *stau-).
Сюда же готск. af-dau-idai 'мучимые’ (причастие II мн. числа
муж. рода от готск. *dojan, др.-исл. deyja, др.-сакс, dojan, др.-
в.-нем. touwan 'умереть’ из герм. *dow-; ср. слав, давити, и.-е.
*dhou-); afmauidai 'уставшие’ (причастие II мн. числа муж. рода
от готск.-mojan, др.-в.-нем. muoan, muojan 'miihen’); также saiiil
'солнце’ (др.-исл. sol, ср. лат. sol < *sauol-, греч. дорич. аелю»;
Телиос’<^а Fskio; и.-е. *sauel).
В основе чередования лежит германский дифтонг резуль-
татом стяжения которого является готск. о, сохранившееся перед
согласными; в положении перед гласными В. Штрейтберг и В.
Брауне восстанавливали открытое долгое а (ай)]31 мы предпола-
гаем, как в bauan, краткое открытое р, согласно общему закону,
установленному Э. Зертом.
5. С другой стороны, в готском наличествует чередование аи
перед согласным /, aw перед гласным. Ср. готск. taujan 'делать’
(ср.-н.-нем. touwen, др.-в.-нем. zouwen) — прош. время tawida
(др.-рунич. tawido); uf-straujan 'streuen’ — прош. время stra-
wida (др.-в.-нем. strouwen, др.-сканд. stroian); maujos (род. п.
ед. числа) — mawi, mawila (жен. род) 'Madchen’ (др.-исл. пнвг
род. п. meyar, meyla; англосакс, meowle); hauja (дат. п. ед. числа)
— hawi (ср. род) 'Неи’ (др.-в.-нем., др.-сканд. houwi, др.-исл.
hey); gaujis (род. п. ед. числа) — gawi (ср. род) 'Gau’ (др.-в.-нем.
gawi).
Чередование аи перед согласным, aw — перед гласным встре-
чается в готском и в случаях редукции германского неударного
гласного в готском языке. Ср. готск. naus 'Тоter’ (из герм.
*nawiz) — nauis (род. п.); прош. время snau (из герм. *snawi) —
sniwan 'eilen’ (сильный глагол V ряда). Чередование неслогового
-и----w наличествует как общий фонетический закон и после
других гласных. Ср. pius 'слуга’ (др.-рунич. pewaR) — ^iwi
'служанка’, ga-piwan 'заставить служить’; triu 'дерево’ (ср. род)
(из герм. *trewan), triwan (дат. падеж мн. числа) и др.32
Чередование аи перед согласным, aw — перед гласным рас-
сматривается Г. Пенцлем (со ссылкой на Г. Хирта) как «единст-
венное веское внутреннее доказательство наличия в готском
дифтонгического аи, хотя бы в небольшом числе случаев» (тип
taujan — прош. время tawida).33 Однако взгляд этот основан
на неожиданном для фонолога смешении исторического чередова-
ния с живым позиционным, активно действующим внутри данной
фонетической системы (т. е. диахронии с синхронией). В основе
рассматриваемого явления — с точки зрения исторической —
действительно лежит фонетическое закономерное позиционное
чередование, связанное, по-видимому, с различиями слогоделения:
дифтонг аи перед согласным (tau-jan) чередуется с а-//Ъ+vocal
церед гласным (ta-wida). В дальнейшем, однако, дифтонг аи
318
в готском языке времен Вульфилы переходит в этом случае,
как и во многих прочих, в открытое долгое 9 и чередование аи
(9) — aw сохраняется как историческое.
Положение это ясно в особенности на примерах аналогичных
чередований ai (в нашем чтении ai) перед согласным (/) и aj (перед
гласным), которое встречается, как справедливо указал тот же
Г. Пенцль, только в случаях словопроизводства — «этимологи-
ческих» (т. е. исторических), а не «морфонологических».34 Ср.
wai fwehe’, wai-dedja 'Ubeltater’— waja-merjan 'lastern’; aiws
'Ewigkeif, aiweins fewig’— ajukdufs (жен. род.) 'Ewigkeit’j bai
'beide’ — bajofs 'beide’ (ср. др.-исл. bader *bajadir). С перехо-
дом ai>$ в готском языке Вульфилы живое позиционное чередо-
вание ai перед согласным аЦ1 + vocal перед гласным заменилось
и здесь историческим чередованием ai[g] — aj.
Другое показание по этому вопросу может представить следую-
щее явление. Еще Я. Гримм обратил внимание на фонетическую
непоследовательность готск. taujan рядом со stojan в одинаковом
положении перед согласным (/) и привел примеры таких пар, как
наст, время 1-го лица tauja ('facio’), наст, время 2-го лица taujis
('fads’) от глагола taujan, но toja (мн. число ср. рода) 'facta’
от taui (ср. род) 'factum’, -tojis 'factor’ (прилагат. муж. рода).35
Дж. Марчанд хочет видеть в taujan и stojan диалектные дублеты.36
Однако сравнительно-грамматические исследования пытаются
объяснить это различие древними отношениями индоевропейского
аблаута: готские формы на д восходят к герм. *ди (из и.-е. *аи,
ди), готские формы на аи — к низшей ступени аблаута герм, аи
(из и.-е. *эи). Ср. готск. tauja «facio» из герм. *tauio, но готск.
toja «facta» из герм. *tou(i)o.37
6. В неударных слогах Г. Хирт предполагает стяжение как
результат редукции, указывая на то, что ни один древнегерман-
ский язык не сохранил дифтонгов в заударном положении.38
В. Штрейтберг также признает вероятность ранней монофтон-
гизации готских дифтонгов в неударном положении.39 Полный
обзор окончаний с готск. ai, аи и их соответствий в других гер-
манских языках дает О. Джонс в двух специальных исследова-
ниях.40 Разумеется, там, где в основе окончания лежал германский
дифтонг, подвергшийся монофтонгизации в других германских
языках, это обстоятельство не может, взятое само по себе, служить
доказательством монофтонгизации в готском. Ср., например,
дат. п. ед. числа жен. рода основы на д готск. gibai — англосакс,
gif а из gifae (герм.-ai из и.-е .-ai)', род. п. ед. числа жен. рода
основы на -i готск. anstais — др.-исл. naupar из др.-рунич.-а7?
(герм.-ais из и.-е. -ois)\ род. п. мн. числа прилагат. сильного
склонения blindaizo — др.-сакс. blindaro, др.-в.-нем. blintero,
др.-исл. godra (из герм, местоим. *(p)-aizo(m) < и.-е. *(t)-oisom);
оптатив наст, времени ед. числа 2-го лица bairais—др.-в.-нем.
beres, др.-сакс. beres, др.-исл. Ьегег (герм.-ajs, -eaiz из и.-е. -ois)
и т. п. Однако существует ряд других случаев, в которых восста-
319
новление германских открытых долгих ?, непосредственно
отраженных в готских монофтонгах ш, ай, предложенное Г. Хир-
том, дает единственное простое и последовательное объяснение
готских грамматических форм.
а) В слабых глаголах III группы типа готск. haban — прош.
время habaida, др.-в.-нем. haben— habeta Г. Хирт усматривает
непосредственное соответствие между готскими формами на ai,
древневерхненемецкими на ё и латинскими глаголами II спряже-
ния на ё. Ср. готск. habais, ЬаЬаф— др.-в.-нем. babes, habet—
лат. babes, habet.41 Число готских и древневерхненемецких сла-
бых глаголов III группы с прямыми этимологическими соответ-
ствиями латинскому и другим индоевропейским языкам довольно
значительно. Ср. готск. fahan 'молчать’, др.-в.-нем. dagen (лат.
tacere); готск. witan 'наблюдать’, др.-в.-нем. gi-wi5sen (лат. vi-
dere, слав. видЪти); готск. ana-silan 'умолкнуть’ (лат. silere); готск.
inunan, др.-в.-нем. manen (лат. шопёге, слав. мънЪти 'мнить’)
и некоторые другие. 42
б) Готские окончания ед. числа 1-го лица и мн. числа 3-го
лица на -аи, встречающиеся в ряде глагольных форм, Г. Хирт
объясняет регулярным соответствием и.-е. -ёт, -ат герм, готск.
ай. Ср.:
Повелит, накл. 3-го лица ед. числа bairadau, мн. число baf-
randaii—ср. греч. сререто), срербуто), лат. agito, agunto, санскр. ме-
диум bharatam, bharantam (из и.-е. -от).
Оптатив медиопассива 1-го, 3-го лица ед. числа nimaidau, мн.
число nimaindau — ср. санскр. медиум bhavatam, bhavantam,
греч. dcpsuSnqtDv (из и.-е. -ат).
Наст, время оптатива 1-го лица готск. wiljau — слав, велтк (из
и.-е. *veljam).
Наст, время оптатива 1-го лица готск. bafrau < *Ьегбш
(Г. Хирт считает возможным сопоставление этой формы с греч.
[оптатив (?)], в более ранних работах — с латинским
конъюнктивом (feram, fesre)).43
Различные объяснения, исходящие от дифтонгического ai, аи,
значительно более сложны и искусственны и представляются
поэтому малоубедительными. Типична в этом смысле теория,
выдвинутая Бругманом и защищаемая многими сторонниками
готских дифтонгов, которая объясняет окончание -ай как индо-
европейский индикатив с добавлением модальной частицы -и
(готск. bairau < и.-е. *bhero-u).44 Как справедливо замечает
Г. Хирт, «частица -и обычно появляется там, где объяснение от-
сутствует».45
О. Джонс сопоставляет готск. ahtau 'achl’ (др.-в.-нем. ahto,
др.-исл. atta, англосакс, eahta) с греч. охш, в котором и.-е. -д
является вариантом -ди (ср. санскр. $stau, astta). Сюда может
быть отнесено и готск. афрай foder’ (др.-в.-нем., др.-сакс. eddo,
др.-исл. eda, англосакс, edda), на которое было указано выше.46
320
Таким образом, монофтонги а/, ай встречались в готском языке
Вульфилы не только перед 7г, г в случаях готского преломления,
но также и в ряде других случаев, а именно — в корневых морфе-
мах (пн. 1—3), во флексиях (п. 6, а, б), а также там, где монофтонг
наличествовал уже в германском (индоевропейском) или может
считаться доказанным для готского (п. 4). Учитывая единство
и последовательность орфографии Вульфилы в целом, и в частности
в написаниях иноязычных слов, следует признать, что и в тех
случаях, где в основе готских диграфов лежали германские диф-
тонги ai, аи, засвидетельствованные этимологически, они в вест-
готском языке Вульфилы подверглись монофтонгизации. Напри-
мер: stains 'Stein’, wait 'wei(T; aiiso 'Ohr’, laun (Lohn’; gibai
'Gabe’ (дат. п. ед. числа), blindaizo (прилагат. жен. рода род. п.
мн. числа), bairais (оптатив наст, времени ед. числа 2-го лица),
или, возвращаясь к приведенным выше примерам: gaurs как
baurgs, auhuma как auhsa, прош. время taih (ед. число) как tai-
hum (мн. число), tauh. (ед. число) как tauhum (мн. число); maimaft
(прош. время, редупл, глагол) и др.
Характерно, что возражения против этого простейшего раз-
решения искусственно созданной проблемы произношения гот-
ских диграфов al, аи исходили по преимуществу из лагеря
специалистов по сравнительно-историческому языкознанию
(В. Штрейтберг, М. Еллинек, Э. Кикере, В. Краузе, Г. Краэ
и др.), которые, опираясь на соображения в сущности этимологи-
ческого порядка, тем самым смешивали историко-генетическую
(диахронную) точку зрения с показаниями самого готского языка,
рассматриваемого в синхронном разрезе. Не случайно поэтому,
что для обоснования своей точки зрения они вынуждены были
прибегать к очень сложным и искусственным сравнительно-грам-
матическим построениям, которые Ф. Моссе справедливо назвал
«нагромождением неправдоподобных гипотез».47
Не может считаться доказательным и критерий, в свое время
применявшийся Ф. Дитрихом: написание готских имен через ai,
аи у античных писателей. Как показало более полное собрание
М. Шенфельда, написания эти в ряде случаев колеблются. Ср., на-
пример, имя короля вандалов (V—VI вв.): Gaisericus, Geisericus,
Gesericus, Gisericus, Gizericus, ГеСерс/ос, FiCept/o;, и даже с народ-
ной этимологией: Gensericus, Ginsericus, ГсуС/'р^ос и т. п.48
Существенную роль в этих колебаниях играла не только фоне-
тика, но еще более — традиция письма, которая должна была, как
правильно указал О. Бремер, опираться в ряде случаев и на гот-
скую орфографию, восходящую к Вульфиле.49 Тем не менее
после Вульфилы в ряде примеров бесспорно засвидетельство-
вано стяжение. Так, слово Austrogothi 'остготы’ с конца
IV в. регулярно пишется Ostrogothi;50 свидетельством того же
явления могут служить формы froja armes 'domine miserare’
(готск. frauja armais) в латинской рукописи Вигилия из Тапса
(конец V в.) и транслитерация libeda вместо традиционного 11-
21 В. М. Жирмунский
321
baida (прош. время слабого Глагола III группы) в более поздней
Зальцбургской рукописи, принадлежавшей Алкуину (IX в.),
с пояснением «diphthongon ai pro е longa» ('дифтонг ai для дол-
гого в’). С другой стороны, готская руническая надпись на кольце
из Петроассы (Румыния), содержащая слово hailag, хотя и неза-
висима в своей орфографии от Вульфилы, однако относится к бо-
лее раннему времени (III в.).51
Для остготского языка VI в. Ф. Вредэ установил монофтонги-
зацию на основании написания собственных имен: Gesimund,
Gesila « *gaiza=^p.-B.-HCM. ger 'копье’); Odwin « *Audwins),
Oswin (< *Auswins), Goda « Gauda) и мн. др.52 В крымско-
готских словах, записанных нидерландцем Бусбеком (XVI в.),
герм, аи отражено как ое (диграф, обозначающий в нидерландском
долгое б). Ср. broe 'panis’ (др.-исл. brand, нем. brod), hoef 'caput’
(готск. haubib), oeghene 'oculi’ (готск. augona); на монофтонгиза-
цию ai указывают iel ' heil’ (готск. hail) и ieltsch (вероятно, готск.
hailipa)^ Указания романистов, в особенности Э. Гамилыпега,
на сохранение дифтонгов в готских заимствованиях в южнороман-
ских языках (например, прованс. raus ' тростник’< готск. raus
'Rohr’, исп. gaita 'волынка’ < готск. gaits ' Gei(3’ ('коза’) и неко-
торые другие) 54 не имеют, по-видимому, решающего значения:
примеры обнаруживают колебания, свидетельствующие, вероятно,
о диалектных различиях в самом готском языке.55
Что касается вестготского диалекта самого Вульфилы как
предполагаемой основы его орфографии, то здесь решающим, как
справедливо указал Э. Прокош, в сущности является «вопрос
хронологии»: «незадолго до Вульфилы герм, ai, аи были еще диф-
тонгами в готском . . ., вскоре после Вульфилы они монофтонги-
ровались».56 Вульфила стоит, таким образом, на рубеже этих двух
периодов. При таких условиях нет оснований, в свете приведен-
ных фактов, приписывать ему создание внутренне противоречивой
орфографии; напротив, есть все основания думать, что в его диа-
лекте монофтонгизация уже совершилась.
Фонетическое и фонологическое значение готск. ai, ай опреде-
ляется на основании следующих соображений. В системе готского
вокализма наличествовали долгие ё, б (letап 'lassen’, sokjan 'su-
chen’), закрытый характер которых обнаруживается, если учесть
достаточно частые смешения с долгими I (готск. ei), б.57 Как пра-
вильно указывает Ф. Моссе, следующий в этом за Г. Хиртом,
этим закрытым звукам противопоставляются готск. ai, ай как
открытые е, о, в одних случаях долгие, в других краткие.58
Долгий характер сохраняют стяженные герм, ai, аи^> готск.
§, 9. Свидетельством долготы этих согласных является стяжение
последующего неударного ji>ei[i:] по общему закону готской
фонетики, установленному Э. Сиверсом. Поэтому hausjan Ъбгеп’ —
hauseij) (наст, время ед. числа 3-го лица), hauhjan 'erhohen’ —
hauheij); lalsjan 'lehren’ — lafseif, hrainjan 'reinigen’ —hraineip
322
и т. д. по типу sokjan— sokeis, sokeip; hwaiteis 'Weizen’ (основы
на -/, муж. род.) как hairdeis 'Hirte’ и т. п.
Гласные ai, ай явились результатом расширения («преломле-
ния») кратких герм, i — е, и перед г, h (baurgs, raihts). Поэтому
есть все основания думать, что они остались краткими; они должны
были также иметь открытый характер ё, 9, поскольку закрытые
гласные среднего уровня объединились в готском языке в i, и.
К кратким (открытым) должны быть также отнесены гласные ai
в редупликации (п. 1) и в группе малоударных слов (п. 2),
поскольку и они не объединились с закрытым е I, а также все
случаи сокращения в положении перед гласными (по закону
Э. Зерта, пп. 3—4).
При этом имеются достаточные основания и для того, чтобы
рассматривать открытые долгие и краткие гласные среднего уровня
каК| самостоятельные фонемы, поскольку в двух основных группах
случаев долгота или краткость е, о не определяется позиционно.
В этом смысле особенно показательны приведенные выше случаи
перед /г, г: air 'friilT, airizans 'Vorfahren’ ([ё], но airzeis Чгге’
[^], hauhs fhoch’, hauhjan 'erhohen’ [q]) ср. наст, время ед.
числа 3-го лица ЬанЬеф), но auhsa 'Ochse’ [о] и т. п.
Отрицание фонологического значения долготы и краткости
готских гласных и признание «релевантным» признаком только
закрытости и открытости стали за последнее время своего рода
догматом американских германистов-фонологов.59 Утверждение
это само по себе маловероятно уже потому, что, в связи с особен-
ностями ударения, во всех германских языках различия долготы
и краткости имеют решающее значение в развитии их вокализма.
Но и по отношению к готскому языку в частности, поскольку ко-
личественные различия имеют в нем явно не обусловленный ха-
рактер, для подобного предположения нет, мне кажется, никакого
основания, кроме желания уложить готский вокализм в абстракт-
ную схему симметрично построенных треугольников.60 Однако,
как хорошо известно, асимметричные фонологические системы
встречаются на практике довольно часто.
Вряд ли можно также без всяких оговорок выдвигать в защиту
этой теории утверждение Г. Пенцля относительно «фонологиче-
ского» характера алфавита Вульфилы, в особенности в наивно
упрощенной формулировке Дж. Марчанда: «Либо алфавит Вуль-
филы фонологический, либо не фонологический».61 Все алфавиты,
созданные заново, если бы они создавались на пустом месте,
были бы фонологическими в том смысле, что буквы обозначали бы
фонемы как смыслоразличительные звуковые типы (термин
Л. В. Щербы), а не оттенки фонем, механически обусловленные
положением звука и не осознаваемые ни говорящими, ни слу-
шающими. Однако алфавиты никогда не создаются на пустом
месте; они обычно примыкают к традиции другого, более раннего
письма, а алфавит Вульфилы и его орфография создавались, как
3?3
21*
известно, с использованием трех предшествующих — греческого,
латинского и рунического. Кроме того, не будучи ученым-специа-
листом в области фонологии, создатель нового алфавита в своем
«стихийном фонологизме» мог натолкнуться на те или иные объек-
тивные трудности технического характера в обозначении или даже
в различении как фонем, так и их оттенков. Из алфавитов, кото-
рыми пользовался Вульфила, латинский и рунический не разли-
чали долготы и краткости особыми знаками. В позднегреческом
исконно долгие и краткие продолжали писаться различными бук-
вами. Однако в связи с заменой мелодической интонации силовым
ударением они в произношении ко времени Вульфилы уже пере-
стали различаться по долготе.62 Эти объективные трудности отра-
зились и на орфографии Вульфилы. Если он обозначает особым
знаком только долгое I (греч. et) в отличие от краткого /, то не
потому, что только эти звуки различались в его произношении
по количеству, а потому, что только они, как правильно указы-
вает Г. Хирт,68 обозначались разными знаками в его греческих
образцах. Иными словами, неразличение долгих и кратких в тек-
сте Вульфилы — явление орфографическое, а не фонологическое.
В качестве аналогии подобным написаниям Ф. Моссе приводит
французское ai, которое может обозначать как долгое, так и
краткое открытое р.64 Ср. laid [le:] и laide [fyd]. Со сходным явле-
нием мы имеем дело, по-видимому, и при употреблении готских
диграфов.
Приложение
Когда статья эта уже была написана, проф. С. Д. Кацнельсон
любезно обратил мое внимание на лекции по готскому языку,
читанные акад. Ф. Ф. Фортунатовым в Московском университете
в 1889—1890 гг. и сохранившиеся в архиве Академии наук СССР
в записи его ученика проф. В. К. Поржезинского — в то время
студента университета.65 Запись эта показывает, что независимо
от Г. Хирта и раньше его русский ученый самостоятельно пришел
к тем же правильным выводам относительно произношения гот-
ских диграфов. Приводим его рассуждения, не потерявшие зна-
чения и для современности:
«Написание ai. Это написание обозначает, как я думаю, всегда
звук е открытое, т. е. е, близкое к а, как краткое, так и долгое.
Такое значение видно из того, что в греч. словах у Ульфилы это
написание передает греч. е, а также и греч. at, которое в ту эпоху
звучало уже как е открытое. Мы увидим, что ai в значении ё
в большинстве случаев произошло из дифт. ai, и некоторые лин-
гвисты думают, что написание ai выражает в таких случаях диф-
тонги. Основанием для такого заключения служит главным обра-
зом то, что в готских собственных именах у латинских писателей
в этих случаях употребляется написание ai или ei. Как скоро,
324
однако, мы примем во внимание то, что в готских текстах то же
написание передает греческое е, выражавшееся буквою е, и гре-
ческое ё, существовавшее уже тогда из дифт. ai; то, что тем же
написанием at выражался готский краткий звук, который полу-
чался из I при известном фонетическом положении; то, что напи-
сание ai, где выражает долгий звук, в некоторых случаях выра-
жает такой долгий звук, который мог не быть дифтонгом; если мы
примем все это во внимание, то все это, я думаю, устраняет воз-
можность предположения, что в этом написании ai у Ульфилы
предается не только гласная е, но и дифт. ai. Написание ai
у Ульфилы передает е, имеющее различное происхождение,
и ё, между прочим, и из дифт. ai [тетрадь I, т. е. надо думать, что
в эпоху Ульфилы в его наречии бывший дифтонг ai уже обратился
в е открытое и, значит, по качеству, совпал с ё: различие в коли-
честве гласных у Ульфилы вообще не обозначалось — зачеркнуто].
Возможно, что в некоторых наречиях готского яз. старый дифт.
ai сохранялся в виде дифт., но в наречии Ульфилы он уже изме-
нился в ё, и таким образом объясняется то, что латинские писа-
тели готские собственные имена писали через ai, ei, там, где Уль-
фила тоже писал ai, обозначавшее не дифтонг, а долгое е. То, что
говорится в последнем издании книги Stamm и Heine 66 относи-
тельно этого написания, именно о его произношении, не имеет
научного значения» (тетрадь II, лл. 79 об.—80; ср. тетрадь I,
лл. 6—7).
Сходным образом построен следующий параграф, посвященный
«написанию аи», из которого приводим наиболее существенное
для настоящей темы:
«Написание аи обозначает, как я думаю, везде открытое о,
краткое и долгое, и является, следовательно, аналогичным с на-
писанием ai для обозначения е открытого, краткого и долгого.
В греческих словах у Ульфилы через аи передается обыкновенное
греч. о. . . Готское долгое о, переданное в текстах через аи, в боль-
шинстве случаев получилось из дифт. аи, и некоторые ученые
думают, что в таких случаях написание аи обозначает не о, но
дифтонг аи, и основанием для такого заключения служит главным
образом то, что латинские писатели в готских собственных име-
нах пишут тут аи. Соображения, аналогичные тем, которые при-
меняются, как мы видели, к написанию ai, применяются и тут и
исключают возможность видеть в написании аи не только обозна-
чение звука о, но и дифт. аи. Как дифт. ai обратился в наречии
Ульфилы в ё открытое, но, может быть, сохранялся в других диа-
лектах, так и дифтонг аи, обратившись в наречии Ульфилы в д
открытое, сохранялся, может быть, в других наречиях. . .» (тет-
радь II, лл. 79 об,—80, ср. тетрадь I, лл. 6—7).
1959 г.
325
Посвящается Е. Куриловичу
к его 70-летию
ГРАММАТИЧЕСКИЙ АБЛАУТ В ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКАХ
1. «Аблаут в индоевропейских языках обусловлен в первую
очередь морфологией. Чередования, зависящие непосредственно
от фонетических факторов, минимальны. В подавляющем боль-
шинстве случаев изменение корневого гласного сопровождает
морфологический процесс в качестве дополнительной, но до из-
вестной степени автономной морфемы».1
Этот тезис выдвинут Е. Куриловичем по отношению к общеин-
доевропейским явлениям и позволяет с новой точки зрения осмы-
слить и развитие аблаута в германских языках. Согласно существу-
ющему мнению, аблаут в германском, притом уже в языке-основе,
утратил свою продуктивность как фонетическое явление. Вопреки
этому мнению я считаю возможным утверждать, что грамматиче-
ский аблаут как фономорфологическое явление принадлежал,
подобно так называемой «внутренней флексии» семитических
языков, к наиболее действенным грамматическим явлениям обще-
германского, сохранив свою продуктивность и в отдельных язы-
ках, в особенности в немецком.
Вся система глагольного аблаута уже в германском представ-
ляет отнюдь не простое повторение индоевропейских моделей,
а самостоятельный отбор из них и дальнейшее их развитие, «объе-
диненное в новую систему»,2 на основе которой затем сложилось
(за исключением нескольких архаизмов) отглагольное словооб-
разование во всем его многообразии (ср. binden, band, gebun-
den — Binde, Band, Bund и др.). Индоевропейскую основу в стро-
гом смысле слова имеет только чередование е — о — ноль I —III
рядов (греч. XsiTzio—s-XiKoa—Хё-Хо’ка, ср. готск. leihwan — laihw
laihwun и т. п.), но уже сам по себе лексический охват этих трех
рядов в германских языках (348 глаголов) 3 является признаком
их высокой продуктивности. Германским новообразованием в ря-
дах IV—V (81 глагол) является включение в чередование гласных
долгого ё как признака претерита множественного числа.4 Герман-
ским является, далее, в особенности V ряд (а—о), который, со-
гласно Хирту, имеет «бесспорно очень различное происхожде-
ние» (47 глаголов).5
Список этот расширяется за счет редуплицирующих глаголов
западио- и северногерманских языков с гласным претерита ё2 (е;
или ео (ео), из которых лишь небольшая группа с чередованном
ё — д в готскОхМ языке (готск. letan— lai-lot и др., 7 случаев)
восходит бесспорно к индоевропейскому образцу. Правда, неодно-
кратно делались попытки свести к индоевропейским отношениям
также стяженные формы прошедшего,6 т. е. истолковать их в конце
концов и здесь как новую форму аблаута, характерную для гер-
32G
Манского. Однако я придерживаюсь прежнего взгляда, убедительно
обоснованного А. Мейе,7 согласно которому новые гласные пре-
терита должны быть истолкованы как результат стяжения ре-
дупликации и что англосаксонские leolc, reord, heht и др. следует
трактовать как полустяженные переходные формы. Как бы то ни
было, мы имеем здесь в западно- и северногерманском, с синхрон-
ной точки зрения, новый, VII ряд аблаута, который отличается
от рядов I—VI только отсутствием отглагольных словообразова-
ний с гласным претерита (90 глаголов).
Общее число сильных глаголов в германском (ряды I—VII)
составит тем самым по моим подсчетам приблизительно 475 слу-
чаев. Итак, по своей фономорфологической структуре, как и по
сфере лексического распространения, вся система является гер-
манской. Сравнительная грамматика обычно довольствуется тем,
чтобы подтвердить наличие какого-либо грамматического явления
в языке-основе с помощью изолированных свидетельств в отдель-
ных родственных языках. При этом игнорируется вопрос о лек-
сическом охвате и продуктивности этого явления в развитии
каждого из этих языков и не учитываются характерные особен-
ности этого развития, специфические тенденции и закономерности
развивающейся языковой системы.8
В процессе последующего развития отдельных языков нерегу-
лярная форма глаголов с аблаутом, как известно, оттесняется
во всех германских языках регулярной слабой формой. Современ-
ный немецкий язык насчитывает только 170 сильных глаголов,
английский — всего лишь около 80. Это общее развитие в сто-
рону большей регулярности и единообразия грамматических форм
вообще характерно для истории новоевропейских языков и на-
ходит свое наиболее последовательное выражение в аналитиче-
ских конструкциях. В этом отношении английский обнаруживает
наибольшую последовательность в противоположность немецкому,
где приобрела широкую продуктивность новая форма внутренней
флексии, исторически обусловленная умлаутом.9 В связи с этим,
хотя в средне- и новонемецкий период в целом аблаут отодвигается
на второй план, он все же продолжает сохранять известную грам-
матическую продуктивность: к прежнему составу сильных гла-
голов добавилось за этот период не менее 50, например:
ср.-в.-нем. pfifen с pfeifen’ (лат. pipa, pipare, др.-в.-нем. phifa
'Pfeife’), prisen' preisen’ (ст.-франц, pris, priser), gelichen 'gleichen’
(ср. ср.-в.-нем. gelich'gleich’), be-dingen (ср. др.-в.-нем., ср.-в.-нем.
ding) и др.;10 диалектн. glita 'gelautet’ от laite' lauten’и др.11
При этом речь идет частично об аналогическом преобразовании
первоначально слабых глаголов, главным же образом об отымен-
ном словообразовании по продуктивным моделям, как это уже
неоднократно имело место в более древний период развития от-
дельных языков.
2. О продуктивности грамматического аблаута в отглагольном,
словообразовании германских языков свидетельствуют прежде
327
всего абстрактные имена мужского рода на -Z-, образованные от
сильных глаголов, с низшей ступенью аблаута корневого глас-
ного и ударением на суффиксе. В немецком языке они образуют
в настоящее время отчетливо выраженную и вполне живую грам-
матическую категорию, обозначающую однократное (мгновенное)
действие и одновременно его результат. Ср.: I schneiden —
Schnitt, II schie^en — Schup, Illa springen —Sprung, Illb wer-
fen — Wurf, V treten — Tritt.
Этот тип словообразования, засвидетельствованный в общеин-
доевропейском, с точки зрения своего лексического охвата, лишь
небольшим числом примеров,12 оказался особенно продуктивным,
с одной стороны, в древнеиндийском, с другой стороны, в герман-
ском, однако с той разницей, что в первом грамматический род
этих образований преимущественно женский, но может быть и
мужским и наряду с ударением на суффиксе встречаются и формы
с ударением на корне.13 Различие грамматического рода указы-
вает, видимо, на то, что эта форма словообразования восходит
к более древней ступени индоевропейского, чем дифференциация
мужского и женского рода в первоначально амбивалентных осно-
вах на -i-.u Но прежде всего важно отметить, что среди много-
численных древнеиндийских образований почти не имеется эти-
мологических параллелей с германским, так же как, с другой
стороны, и в германских языках лишь в очень редких случаях
обнаруживаются подобные параллели с другими индоевропей-
скими языками (ср., например, др.-в.-нем. lug'Luge’ к др.-в.-нем.
liogan 'lugen’, англосакс, lyje — слав. лЪежъ к лЪгатпи). Следо-
вательно, их можно, за немногими исключениями, рассматривать
как германские новообразования.
Общее число этих образований, согласно списку, составлен-
ному К. Бадером,15 составляет 60 существительных, в том числе 50
с кратким, 10 с долгим корневым слогом; вместе с различными
добавлениями (сомнительные случаи, позднейшие новообразова-
ния) их число достигает 95. К германским новшествам относится
распространение по аналогии этого способа словообразования
на глаголы VI—VII рядов (без изменения гласного). Первое яв-
ление засвидетельствовано уже в общегерманском: ср. готск.
slabs 'Schlag’ к slahan 'schlagen’, др.-сев. slagr, англосакс, siege,
др.-сакс, slegi, др.-в.-нем. slag; второе только в западно- и северно-
германском, т. е. уже при стяженной редупликации: например,
др.-в.-нем. louf 'Lauf’ от (h)loufan 'laufen’, англосакс, hliep,
др.-фриз. Ыёр, др.-сакс, hloup; др.-в.-нем. fal(l) 'Fall’ от fallan
'fallen’, англосакс, fiell, др.-фриз. fel, др.-в.-нем. fang 'Fang’
от fahan 'fangen’, др.-сев. fengr, англосакс, feng, др.-фриз. feng
(всего 6 случаев).
В отдельных древнегерманских языках этот способ словообра-
зования представлен неравномерно; имеется ряд изолированных
слов, засвидетельствованных в этой форме лишь в одном из этих
языков, следовательно выступающих, по-видимому, как позд-
328
нейшее новшество того или иного из них. Так прежде всего в англо-
сакс. blice'Glanz’ от blican' glanzen’ (др.-сев. blik ср. р., осн. -а-);
stige, up- 'Aufstieg’ от stigan 'steigen’ (др.-сев. stig ср. р.,
др.-в.-нем. steg м. р., осн. -а-); hryre'Fall’ от hreosan'fallen’; bryne
' Brand’ от beornan * brennen’ (др.-сев. bruni м. p., осн. -n-) и др.;
иногда также и в других близкородственных ингвеонских языках:
ср. англосакс, hrine 'Beruhrung’ от hrman 'beruhren’, др.-фриз,
hrene; англосакс, gryre (Schreck’ от greosan 'erschrecken’; др.-сакс.
gruri (общее число этих англосаксонских и ингвеонских образова-
ний — 10). Реже встречаются такие изолированные новообразова-
ния в древнесеверном или готском; ср. др.-сев. dugr 'Tiich-
tigkeit’ от duga 'taugen’ прет.-през., sullr ' Geschwulst’ от svella
'schwellen’; может быть, готск. wunns 'Leiden’ от wunnan
'leiden’.
В готском засвидетельствовано вообще только 15 случаев.
Разумеется, не следует делать далеко идущих выводов из того
обстоятельства, что в скудных остатках готской Библии Вульфилы
отсутствует то или другое слово, однако если соответствующие
образования не встречаются также и в древнесеверном, то можно
предположить, что мы имеем здесь новшество западногерманской
группы языков, которое далее можно объяснить, как это обычно
делается, разным образом: либо как общее наследие этой группы,
либо как результат более позднего языкового взаимодействия
(контакта), либо как параллельное новообразование. Список
Бадера содержит 17 таких случаев, в том числе: др.-в.-нем. bi^
'Bi|3’ от bigan 'bei{3en’, др.-сакс., др.-фриз, biti, англосакс, bite
(др.-сев. bit ср. р., осн. -а-); др.-в.-нем. snit 'Schnitt’ от snidan
'schneiden’, англосакс, snide, др.-фриз, snith, др.-сев. snid ср. р.,
осн. -а-; др.-в.-нем. zug, 'Zug’ от ziohan 'ziehen’, англосакс, tyge,
ср.-н.-нем. toge; др.-в.-нем., ср.-в-нем. sprung 'Sprung’, от sprin-
gan 'springen’, англосакс, spryng ' Quelle’; др.-в.-нем. wurf * Wurf’
от werfan 'werfen’, англосакс, wyrp, др.-фриз, werp; др.-в.-нем.
brust 'Schaden’ от brestan 'bersten’, англосакс, byrst, ср.-н.-нем.
borst и мн. др.
Таким образом, продуктивность этой словообразовательной
модели выступает в значительной части как результат сравни-
тельно позднего развития отдельных языков. Ее отсутствие в от-
дельных лексических случаях объясняется, как показывают при-
веденные примеры, главным образом конкуренцией других слово-
образовательных типов. Словообразовательные процессы в древ-
негерманских языках обнаруживают множество подобных парал-
лельных новообразований, особенно для новых абстрактных по-
нятий , которые появляются повсюду на более высокой ступени
развития языкового мышления. В древнесеверном сюда относятся
в особенности основы среднего рода на -а-, в остальном же чаще
всего абстрактные существительные женского рода на -ti, некото-
рое время довольно успешно конкурировавшие с мужским родом
на -г-. Так, например, рядом с готск. plauhs 'Flucht’ к Jjliuhan
329
'fliehen’ стоят такие образования, как др.-в.-нем., др.-сакс. fluht,
англосакс, fluht, др.-фриз, flecht ж. р., др.-сев. flotti м. р., осн.
-п-; вместо готск. muns 'Gedanke’ от munan 'meinen’ прет.-през.,
др.-сев. munr, англосакс, туне, др.-сакс. muni выступает
др.-в.-нем. munst ж. р.; вместо готск. qums'Ankuft’ от qiman
'kommen’ англосакс, cyme, др.-сакс., др.-фриз, kumi, др.-в.-нем.
kumft вытеснило старое -kumi (сохранившееся в сложных
словах).
Древневерхненемецкий, как и англосаксонский, обнаруживает
длинный ряд новообразований, которые не встречаются в других
германских языках, например: I slih ' Schlich’16 от slihhan 'schlei-
chen’; smi? 'Fleck’ от (bi-) smi^an 'beflecken’; wih 'Moment’ от
wihhan 'weichen’; II flu^ ' Flu|3’ от flio^an 'flie|ten’; Illa sprung
'Sprung’ от springan 'springen’; stunk ' Gestank’ от stinkan 'stin-
ken’ (в списке Бадера 15 случаев). Как средневерхненемецкие
образования Бильмане приводит следующие: I slich 'Schlick’;
II (ge-) ruch, schub, slu^; Illa bunt(d), vunt(d), clunc (др.-в.-нем.
clanc 'Klang’), swunc(g); IV spruch; новонемецкими считаются
следующие: I Kniff, Pfiff, Ritt, Schi|3, -stieg (Ab-, Auf-); II Verdru|3,
Genu|3, Suff, Trug, Bezug; Illa Schwund, Schund; Illb Erdrusch
'Ertrag des Dreschens’; диал. kruch от kriechen и др.17 Главным
образом начиная со средневерхненемецкой эпохи появляется
значительное число производных от глаголов с неударными при-
ставками (be-, ver- и др.), например: ср.-в.-нем. be-grif, ver-grif
'Umfang, Bezirk’, be-ri? 'Umkreis’, beschi^ 'Betrug’, be-zic'Be-
schuldigung’ (от zihan 'zeihen’); ver-zuc 'Verzug5, ver-bunt 'Bund’;
ent-schit ' Entscheidung’ и др.18
С точки зрения современного языка включаются в этот продук-
тивный способ образования и воспринимаются как отглагольные
абстрактные существительные также именные образования с тем же
значением рядом со слабыми глаголами, особенно если они муж-
ского рода и имеют в качестве корневого гласного и; например:
griifSen — Grup (как schie pen — Schu[3), kiissen — Ku|3, schiitzen —
Schutz, driicken — Druck; wachsen — Wuchs (ср.-в.-нем. wuchs),
scheren — Schur (ср.-в.-нем. scuor) также относятся к этому ряду.
При этом для синхронного рассмотрения языка безразлично,
расцениваются ли они с исторической точки зрения как «поствер-
бальные образования» или как результат вторичного «регрессив-
ного словопроизводства» и т. п.
В современном немецком языке широко засвидетельствована
стилистическая тенденция заменять длинные (т. е. двусложные),
отглагольные абстрактные на -ung короткими (односложными)
формами. Так, согласно В. Хенцену:19 Vollzug вместо Vollziehung,
Einzug вместо Einziehung, Unterbruch вместо Unterbrechung,
Untersuch вместо Untersuchung, Abruf вместо Abrufung и мн. др.
Эта новейшая стилистическая тенденция также способствует
дальнейшей продуктивности данной словообразовательной мо-
дели.
330
Все это развитие соответствует уже упомянутой общей тенден-
ции немецкого языка к продуктивному распространению элементов
внутренней флексии в словоизменении и словообразовании, при-
чем ведущая роль в этом процессе переходит к грамматическому
умлауту, как более новому явлению. Иначе обстоит дело в англий-
ском, где, начиная со среднеанглийского периода, умлаут и аблаут
как грамматическое средство непрерывно отступают, так что опи-
санный выше способ словообразования, бывший продуктивным
еще в древнеанглийском, сведен в современном языке к немного-
численным изолированным реликтам, таким как to bite — bit,
to gripe — grip, to shoot — shot.
3. Другой пример продуктивности грамматического аблаута
в германском представляют каузативы от сильных глаголов с кор-
невым гласным претерита герм, -а- (и.-е. -о-), суффиксом герм.
-ia- (слабые глаголы I класса на -j-) и ударением на суффиксе.
Ср. нем. winden (готск. windan) сильн. Ша — wenden (готск.
wendjan) слаб. I.
Производные глаголы этого типа с индоевропейским суффик-
сом -eio-, по значению—каузативные или итеративные, образуются
уже в общеиндоевропейском, главным образом от переходных гла-
голов, и встречаются с различными сдвигами в значении во всех
индоевропейских языках. Ср. др.-инд. tarsayati 'Ia|3t diirsten,
schmachten’ от tfsyati 'durstef, лат. torreo, др.-в.-нем. derren
'trocknen’, 'dorren’ слаб. I от готск. ga-pairsan 'verdorren’ сильн.
Ill b; др.-инд. vertayati 'Ia|3t drehen’ от varlali 'dreht sich’, слав.
вратити от врът^ти, готск. fra-wardjan 'verderben’ слаб. I от wairpan
'werden’ сильн. Ill b; др.-инд. sadayati 'setzt’ от sidali 'setzt sich’,
слав, садити от сЪдЪтпи\ готск. satjan 'setzen’ слаб. I от sitan 'sitzen’
сильн. V; др.-инд. vahayati 'la[3t fahren’ от vahati 'fahrf, греч.
6/eo) — лат. veho, готск. ga-wagjan 'bewegen’ от ga-wigan 'bewegen’
сильн. V и др.; ср. также греч. тропею— трепа), отросреа)— отресро),
ррор.ео) — ррбр.0) и др. (большей частью итеративные).20
Как регулярная форма словообразования вышеприведенная
модель обнаруживает высокую продуктивность в древнеиндий-
ском,21 большей частью в новообразованиях, которые не имеют
соответствий в других родственных языках. То же относится и
к германскому, где слабые каузативы образовывались в большом
числе от многих сильных глаголов всех рядов аблаута. Ср. I готск.
dreiban 'sich schnell bewegen’, 'treiben’ — готск. draibjan 'treiben’,
др.-сев. dreifa, др.-в.-нем. treiben; II готск. biugan (англосакс,
bugan аор. през.), 'biegen’ — готск. us-baugjan, др.-сев. beygia,
англосакс, biegan, др.-сакс, bogian, др.-фриз. beia, др.-в.-нем.
bougen 'beugen5; Ша готск. brinnan 'brennen’ — готск. ga-bran-
njan 'verbrennen’, др.-сев. brenna, англосакс, baernan, др.-сакс,
brennian, др.-фриз. berna, др.-в.-нем. brennen; ШЬ готск. hwair-
ban 'sich drehen’, 'wenden’, др.-сев. hwerfa, англосакс, hwierfan,
др.-сакс, gi-hwerbian, др.-в.-нем. (h)werben 'umdrehen’; готск. ga-
timan 'ziemen’ — готск. ga-tamjan, др.-сев. temja, др.-фриз. tema,
331
др.-в.-нем. zemmen 'zahmen5; V готск. ga-nisan 'gerettet werden5,
'genesen’ — готск. ga-nasjan, англосакс., др.-сакс. nerian, др.-фриз,
пега, др.-в.-нем. пег(г)еп 'retten’, 'nahren’.
Общее число этих образований в I—V рядах составляет по
моему списку свыше 170 случаев, следовательно, охватывает зна-
чительно больше трети всех сильных глаголов этих рядов. От не-
переходных глаголов первоначально каузативы не образовыва-
лись; поэтому их нет у таких широкоупотребительных глаголов,
как готск. bairan 'tragen’, niman 'nehmen’, stilan 'stehlen’, bairgan
'bergen’, bidjan 'bitten’, fraihnan 'fragen’, saihwan 'sehen5, mitan
'messen’, giban 'geben’ и мн. др. Позднее и такие образования
становятся возможными, благодаря сдвигу или дифференциации
значения. Ср., например, готск. fra-atjan 'zum Essen austeilen’,
ср.-в.-нем. etzen 'atzen’, к готск. itan, др.-в.-нем. e^?an 'essen’.22
К VI ряду также образуются каузативы с корневым гласным б,
частично на старой основе, как в готск. faran (prat, for) 'fahren’,
др.-сев. fra, англосакс, feran, др.-сакс. forian, др.-фриз, fera,
др.-в.-нем. fuoren 'fahren machen’, 'fiihren’, ср. др.-инд. parayati
к pi-parti, слав, napumu от перо; частично это аналогические ново-
образования. То же относится и к редуплицирующим глаголам
(VII ряд); новообразованиями здесь являются, например: др.-в.-нем.
fallen, англосакс, fiellan, др.-сакс. fellian, др.-фриз, falla,
др.-сев. fella 'fallen’ к др.-в.-нем. fallan 'fallen’; др.-в.-нем. hen-
gen 'henken’ к готск., др.-в.-нем. hahan « *hanhan) 'hangen’
и ряд других.
В остальных индоевропейских языках соответствия герман-
скому, наподобие четырем приведенным выше, не очень много-
численны; список Бругмана 23 содержит только 28 случаев с ин-
доевропейским -о-, из которых, однако, следует исключить 10,
поскольку в германских языках отсутствуют сильные глаголы,
которые соответствовали бы этим каузативам, вследствие чего
отглагольное происхождение этих последних не может считаться
доказанным. Ср., например: готск. ga-Iaubjan, др.-сев. leyfa,
англосакс, ge-lyfan, др.-сакс. gi-lobian, др.-в.-нем. gi-louben
'glauben’, 'loben’ (др.-инд. lobhayati 'erregt Verlangen’) рядом
с прил. готск. liufs, др.-в.-нем. liob (др.-инд. lubhyati 'begehrt’);
др.-в.-нем. blenten, англосакс, blendan, др.-сакс. blenda 'blenden4
(слав, блъдити, лит. blandytis 'die Augen niederschlagen’)
рядом с прил. готск. blinds, др.-в.-нем. blint, англосакс.,
др.-сакс., др.-фриз, blind, др.-сев. blendr 'blind’ и мн. др.
Поскольку вообще наряду с каузативами часто существовали
отглагольные имена (прилагательные и существительные) с той же
ступенью аблаута, с которыми они могли быть соотнесены, нали-
чие подобных имен было важным опорным пунктом для дальней-
ших новообразований этого рода. Ср. др.-в.-нем. bleihhan, англо-
сакс. Ыззсап 'bleich machen’ слаб, рядом с др.-в.-нем. blihhan,
англосакс, blican 'glanzen’ сильн. I и прил. др.-в.-нем. bleih(h),
332
англосакс. Ыас ebleich*; др.-в.-нем. troufen ebefeuchten’, etraufeln*
слаб. I рядом c triofan сильн. I 'triefen’ и сущ. др.-в.-нем. trouf
'Traufe’ м. р.; др.-в.-нем. dwengen 'zwangen’ слаб. I рядом
с др.-в.-нем. dwingan 'zwingen’ сильн. Ша. и сущ. др.-в.-нем.
dwang 'Zwang’ м. р.; ср.-в.-нем. schellen слаб. V 'ertonen machen’
рядом с др.-в.-нем. scellan сильн. ШЬ Чбпеп’ и сущ. scal(l) 'Schall’
м. р.; также и вышеупомянутое новообразование fallen (др.-в.-нем.
fellan) слаб. I к fallen (др.-в.-нем. fallan сильн. VI) или к Fall
(др.-в.-нем., др.-сакс. val, др.-сев. fall).
Итак, большинство каузативов с лексической точки зрения
представляют германские новообразования, притом в своем древ-
нейшем слое — новообразования общегерманские. Отсутствие тех
или иных примеров в готском, древнесаксонском или древнефриз-
ском не является в этом смысле противопоказанием, ввиду недо-
статочной полноты соответствующих письменных памятников.
Решающим является свидетельство богатой письменной традиции
древнесеверного, англосаксонского и древневерхненемецкого, при-
чем северный (с готским), англосаксонский (с древнефризским и
древнесаксонским) и древневерхненемецкий (отчасти также с древ-
несаксонским) представляют важнейшие древнегерманские пле-
менные наречия и в совокупности служат достаточным доказатель-
ством общегерманского происхождения этих образований. Из 170
каузативов в I—V рядах свыше 60 относятся к этому древней-
шему общегерманскому слою; остальные восходят к поздней-
шему самостоятельному развитию в одном языке или в двух
одновременно, в большинстве случаев с опорой на отглаголь-
ные имена, а нередко и как непосредственные производные
от них.
Несмотря на эту высокую продуктивность в общегерманском,
а также в древнейший период развития отдельных языков, грам-
матическая категория каузатива не удержалась в дальнейшей
жизни германских языков. Важным фактором в ее вытеснении
послужил умлаут а > е, причем слабые каузативы фонетически
совпали с сильными глаголами в ШЬ—V рядах. Поэтому в не-
мецком, где вновь образованные каузативы были особенно много-
численны, в средненемецком произношении, как и в литератур-
ном языке, ср.-в.-нем. verderben — verd^rben, leschen — l^schen,
schrecken — schrqcken, smelzen — smqlzen и мн. др. превратились
в омонимы; в результате новонемецкой дифтонгизации i > ei
[ai] сильн. I и слаб. I также совпали, — так, например, в ср.-в.-нем.
blichen — bleichen, liden — leiden, swigen — sweigen и т. п.24
Даже там, где омонимия не оказала своего разрушительного
действия, распад этой грамматической группы был широко обус-
ловлен лексической дифференциацией значений, как например
в fallen — fallen, rinnen — rennen, genesen — nahren и др. К числу
скудных остатков древнего противопоставления относятся также
sitzen — setzen, liegen — legen, trinken — tranken, sinken —
333
senken и немн. др. Это в еще большей степени относится к англий-
скому языку, где подобные чередования гласных, как и в других
случаях, вообще исчезли, сохранившись лишь в виде исключения
в изолированных реликтах, как sit — set, lie — lay, rise — rear.
В качестве общей регулярной формы для каузатива как грамма-
тической категории в обоих языках употребляется аналитическая
конструкция с machen или lassen (англ, make, let).
Таким образом, аблаут как фономорфологическое явление об-
наружил свою грамматическую продуктивность не только в обще-
германском, но и в древний период самостоятельного развития
отдельных германских языков; в грамматической системе немец-
кого языка он сохранился вплоть до новейшего времени как но-
вая форма внутренней флексии.
1965 г.
РАЗВИТИЕ СТРОЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Die ausgedehnte, konsequente Grammatik ist
das Werk des Denkens, das seine Kategorien
darin bemerklich macht.
G. W. Fr. H e g e I.
Philosophic der Geschichte.
I. От флексии к анализу
Рассматривая грамматический строй современного немецкого
языка, мы находим в нем целый ряд непоследовательностей и про-
тиворечий. Не нужно думать, что эти противоречия объясняются
только констатированным неоднократно несовпадением граммати-
ческих категорий с формально-логическими. Для нас существеннее,
что между формой и значением грамматической категории на дан-
ной стадии развития языка существуют противоречия, необъясни-
мые с точки зрения закономерностей этой стадии.
Приведем несколько примеров. Образование множественного
числа — в мужском роде: Tag — Tage, Schlag — Schlage, Wald —
Walder, Narr — Narren. Одинаковое значение (множественного
числа) в приведенных словах мужского рода выражается четырьмя
различными признаками — окончаниями -е, -ег, -еп и умлаутом
коренного гласного (внутренней флексией), причем ни по внешним
признакам, ни по значению данного слова нельзя предвидеть,
каким способом оно образует множественное число. С другой сто-
роны, одинаковая грамматическая форма может иметь различное
значение: кроме множественного числа, окончание -е (Tage)
обозначает дательный падеж единственного числа, окончание
-еп (Narren) — все косвенные падежи единственного числа;
334
ст. также Wald — Walder и kalt — kalter (сравн. ст.), Schlag —
Schlage и lag — lage (конъюнкт, прош. вр.).
То же в спряжении глаголов. Одинаковое значение выража-
ется разными признаками. Например, настоящее время с умлау-
том: ich trage, du tragst, er tragt; без умлаута: ich sage, du sagst,
er sagt; образование прошедшего — с помощью аблаута (внутрен-
ней флексии): ich trage, ich trug; с помощью дентального суффикса
-t-: ich sage, ich sagte. Внешняя форма в значение слова и здесь
не позволяют предугадать, какая форма употребляется в том
или ином случае: при одинаковом вокализме в настоящем
мы имеем, например: liegen — lag, fliegen — flog, kriegen —
kriegte. С другой стороны, примером многозначности формы может
служить 1-е и 3-е лицо прошедшего времени: ср. flog (ед. ч.),
flogen (мн. ч.); kriegte (ед. ч.) и мн. др.
Другим характерным противоречием формы и значения слова
является избыток формальных признаков для обозначения грам-
матической категории (Ubercharakterisierung). Например, в гла-
гольных формах duschlagst, du siehst 2-е лицо единственного числа
настоящего времени обозначено тремя признаками: личным окон-
чанием (st), перегласовкой корня (внутренней флексией) и обя-
зательным личным местоимением; точно так же в формах множест-
венного числа die Schlage, die Walder сочетаются окончание,
умлаут и артикль как признаки числа. В предложных конструк-
циях, например bei den Freunden, кроме предлога как ос-
новного носителя падежного значения в широком смысле,
признаками падежа являются окончание существительного и
артикль.
В других случаях, напротив, грамматическая категория
не имеет никакого флективного признака. Например, именитель-
ный-винительный мужского рода — Tag; несклоняемая форма
прилагательного, совпавшая с наречием, — stark, gut; 1-е и
и 3-е лицо сильного прошедшего — stand, gab и мн. др. В таких
случаях слово полиморфно, как в корневых языках, и его грам-
матическое значение определяется только контекстом и самостоя-
тельными префиксами — элементами формально-грамматического
характера: ср. прил.-нар. gut — сущ. (das) Gut; прош. вр. глаг. —
ich (er) stand, сущ. — der Stand и мн. др.
Все эти противоречия современной немецкой грамматики
объясняются тем, что язык, как явление историческое, находится
в движении, в развитии. То, что на данной стадии языка регистри-
руется описательной грамматикой как исключение, раскрыва-
ется, с точки зрения исторической, как пережиток закономерно-
стей предшествующих стадий языкового развития или как за-
рождение новых закономерностей, еще не получивших общего
значения. Наличностью этих противоречий определяется диалек-
тический процесс развития языка как выражения мысли, в ко-
нечном счете обусловленный развитием общественных отношений.
335
Сущность и направление этого развития для немецкого языка
заключается в разрушении старого флективного строя и замене
его новым, аналитическим. При флективном строе, как известно,
синтаксические отношения между словами в предложении вы-
ражаются изменением самих слов с помощью особых аффиксов
(внешняя флексия: именные и глагольные окончания) или путем
звуковых чередований в корне (внутренняя флексия). При ана-
литическом строе те же отношения выражаются особыми формаль-
ными словами, которые ставятся перед значащим словом: артик-
лями и предлогами при именах, личными местоимениями и вспо-
могательными глаголами при глаголах. При аналитическом строе
(по крайней мере в тенденции) предметное значение слова со-
вершенно отделяется от синтаксических связей и отношений, вы-
ражаемых особыми формальными элементами (словами-префик-
сами). Однако в чистом виде аналитический строй не представлен
ни в одном из существующих языков: он вырастает из противо-
речий флективного строя и в разной степени отягчен пережитками
флексии. Языки французский и в особенности английский могут
служить примерами гораздо более последовательного развития
анализа; напротив, современный русский язык представляет
в этом отношении более архаический тип, в основном сохраняющий
флексию, несмотря на наличие элементов аналитической струк-
туры (предлогов, вспомогательных глаголов).
Грамматический строй английского языка иногда сравнивали
с аморфным.1 Сопоставление это имеет совершенно внешний ха-
рактер. Аморфный строй (исторически наиболее примитивный)
в принципе не имеет формальных элементов для выражения грам-
матико-синтаксических отношений: синтаксическая функция слова
и тем самым принадлежность его к той или иной грамматической
категории определяется порядком слов, по необходимости —
весьма диффузно; наличность небольшого числа значащих слов,
употребляемых как формальные элементы, не меняет общей
картины. Напротив, аналитический строй характеризуется раз-
витой и дифференцированной системой самостоятельных формаль-
ных определителей, стоящих перед каждым словом, которые могут
выражать самые сложные отношения между предметами или по-
нятиями. Благодаря наличию этих грамматических показателей
английское слово не аморфно, как китайское, а полиморфно:
слово hand может обозначать существительное и глагол (a hand —
to hand), но грамматические категории глаголов и существитель-
ных отчетливо различаются, как и система склонения имен и спря-
жения глаголов. По сравнению с флексией аналитическая система
является более прогрессивным типом развития грамматического
строя, наиболее полным и законченным выражением той стадии
языкового мышления, которую Н. Я. Марр называет «технологи-
ческой».
Тенденция к развитию аналитического строя, осуществленная
более или менее последовательно, наблюдается в большинстве
336
языков флективного типа. Причину этого явления обычно усмат-
ривают в фонетической редукции окончаний. С точки зрения ком-
паративистов благодаря редукции было разрушено первоначаль-
ное богатство флективных форм индоевропейского «праязыка»;
сложное и дифференцированное разнообразие окончаний смени-
лось бледностью и однообразием; чтобы частично восстановить
утраченное, вводятся в употребление слова-префиксы, характер-
ные для аналитического строя.
Основная парадоксальность этой концепции, до сих пор гос-
подствующей в западной лингвистике, заключается в том, что
прогрессу мышления (содержания) в общем ходе исторического
процесса сопутствует регресс и деградация приемов языкового
выражения (формы). У Якова Гримма и современных ему лингви-
стов-романтиков, выдвинувших эту теорию, она явилась после-
довательным выводом из общих историко-философских позиций
романтической школы и покоилась на романтически-реакционном
представлении о высокой мудрости и красоте первобытной куль-
туры, мифа, поэзии и языка и о последующей деградации челове-
чества в процессе развития цивилизации; в то же время ретро-
спективный национализм романтической литературы и науки
искал опоры для своего культурно-политического мировоззре-
ния в идеализации национального средневековья. Поэтому Яков
Гримм, сравнивая санскрит и зендский язык, а также латынь
и греческий с современными диалектами Индии, новоперсидским,
новогреческим или романскими языками, констатирует «несомнен-
ное падение с прежней высоты большего формального совершенства»
(Herabsinken von fruherem Hohepunkt gro^erer Formvollkommen-
heit), лишь частично возмещенное «внешними средствами» (au|3ere
Mittel und Behelfe). To же явление он наблюдает при сравнении
готского с современным немецким.2 В предисловии к «Немецкой
грамматике» (1822), после восторженной характеристики средне-
векового языка и литературы, Гримм заявляет: «Наш язык, сле-
дуя неудержимому ходу всех вещей, в отношении звуков и форм
пришел в упадок (gesunken); мое описание новонемецкого не скры-
вает, а подчеркивает этот факт».3
В эпоху послеромантическую на почве прогрессивно-буржуаз-
ного исторического мировоззрения с особенной отчетливостью
должно было выступить противоречие между романтической тео-
рией деградации языковой формы и общим представлением о по-
ступательном развитии человеческой мысли. Законченную фор-
мулировку этого противоречия дает Шлейхер: с точки зрения
Шлейхера, творческое развитие языка относится к доистории;
в эпоху историческую развивается мысль, ставшая независимой
от языка, одновременно с разрушением внешних форм ее выра-
жения. «Доказано, — утверждает Шлейхер, — что в историче-
скую эпоху языки регрессируют (in historischen Zeiten gehen
die Sprachen abwarts). Чем глубже в древность прослеживаем
мы судьбу языка, тем богаче его грамматический строй, тем от-
22 В. М. Жирмунский
337
четливее значение звуков слова». Утрата падежей и замена их
предлогами свидетельствует об обеднении и деградации (Ver-
kiimmerung).4 По сравнению с готским современный немецкий
язык напоминает статую, обточенную волнами реки и превращен-
ную в гладкий жернов, с едва заметными следами прежней формы.5
В лингвистических трудах младограмматиков теоретические
концепции Гримма и Шлейхера, в соответствии с общими методо-
логическими принципами эпохи позитивизма, были отодвинуты
накоплением фактического материала. Однако установление ме-
ханически действующих законов фонетической редукции как ос-
новного фактора разрушения флексии в сущности подразумевало
молчаливое признание традиционных установок в этом вопросе.
Новую точку зрения выдвинул впервые Есперсен, выступивший
с энергичной защитой идеи «прогрессивного развития языка»
(progress in language).6 Аналитический строй, по мнению Еспер-
сена, прогрессивнее флективного, так как он технически упрощает
средства языкового выражения. Формы становятся короче, число
их уменьшается, их образование и синтактическое употребление
становятся более правильными, их абстрактный «аналитический»
характер допускает более сложные сочетания форм, наличие
определенного порядка слов облегчает понимание и делает ненуж-
ным излишнее нагромождение флективных признаков (при так
называемом «согласовании»).7 Таким образом, «прогресс в языке»
заключается, с точки зрения Есперсена, в технической, утили-
тарной рационализации языковой формы, причем содержание
грамматических категорий остается по существу неизменным при
любом изменении строя речи.8 Иными словами, вопрос об усложне-
нии и дифференциации языковых форм в соответствии с развитием
мышления, о прогрессе в языке в связи с прогрессом мысли
не существует для Есперсена, как и для других компарати-
вистов.
Вопрос этот может быть поставлен только в том случае, если
мы сумеем доказать ошибочность другого положения господствую-
щей теории — о приоритете механических законов фонетической
редукции в том процессе грамматической перестройки языка,
который происходит при переходе от флексии к анализу.
Правда, факт редукции неударных гласных сам по себе не под-
лежит никакому сомнению. В немецком языке редукция различ-
ных, качественно дифференцированных неударных гласных окон-
чаний и приставок в безразличное -е современного языка совер-
шается на наших глазах в письменных памятниках древнене-
мецкой эпохи и может считаться законченной к началу средне-
немецкой (около 1100 г.). У Ноткера, например, писателя пере-
ходного времени (X в.), редукция может быть формулирована
более или менее независимо от значения окончаний, как фонети-
ческий закон: в открытом конечном слоге краткие неударные глас-
ные верхнего ряда i, и переходят в средние е, о, т. е. приближаются
к качественно безразличному положению, но е, о, а продолжают
338
различаться; в закрытом неударном слоге все краткие совпали
в безразличное е\ долгие во всех положениях сохраняют качествен-
ные различия. Тем не менее уже Хорн в интересной книге
«Sprachkorper und Sprachfunktion» (1923), развивая некоторые
мысли Бехагеля, выдвинул на основании обширного мате-
риала положение, что фонетическая редукция всегда явля-
ется результатом семантического ослабления окончаний, перестав-
ших служить средством смысловой (грамматической) дифферен-
циации. Поэтому, как показывает Хорн, в некоторых случаях
окончание, подлежащее редукции по общему фонетическому за-
кону, может сохраняться, если служит средством смысловой
(грамматической) дифференциации.9 Например, в настоящем вре-
мени форма др.-в.-нем. bindu (англосакс, binde) сохраняет гласный
окончания как дифференцирующий признак 1-го лица, хотя по об-
щему закону, действующему в западно-германских языках, ко-
нечный гласный -и (из герм, -а) отпадает после долгого слога.
В других случаях, напротив, окончание отпадает, когда это не тре-
буется общими правилами редукции, если функция грамматиче-
ского различения переносится на предлог или на личное место-
имение. Например, в предложных конструкциях англосакс, aet
ham, to ham, to daeg, py seofa^an daeg отпадает окончание да-
тельного-творительного падежа -е, которое всегда наличествует
в тех же словах, употребляемых без предлога (hame, daege);
в англосаксонском и древненемецком глаголе формы множествен-
ного числа с суффигированным энклитическим личным местоиме-
нием утрачивают личное окончание: англосакс, bindewe, bindeye
вместо we bindad, ye bindad (наст, вр.); bundewe, bundeye вместо
we bundon, ye bundon (прош. вр.); др.-в.-нем. giloubewir, segewir
вместо wir giloubemes, wir sagemes (наст, вр.) и др. Мы видим
дальше, что несмотря на общую редукцию падежных и глаголь-
ных окончаний, в современном немецком языке сохраняются
и даже получают более широкое развитие флективные признаки
множественного числа (-е, -ег, -еп, -$), а также словообразова-
тельные суфиксы, причем последние нередко сохраняют качест-
венно дифференцированный вокализм (-ig, -Uch, -ing, -ung и др.).
Во всех подобных случаях смысловая значимость окончания пре-
пятствует его фонетической редукции.
Методологически правильно рассматривать фонетическую и се-
мантическую редукцию, т. е. потерю смысловой значимости аф-
фиксов и их фонетическое разрушение, как явления взаимообуслов-
ленные. Как и в других случаях взаимоотношения формы и
содержания (в данном случае — формы и значения морфологиче-
ских элементов), мы устанавливаем диалектическую взаимообу-
словленность их развития, причем ведущим в этом процессе яв-
ляется изменение содержания (значения). Развитие системы ана-
литической префиксации связано с процессом развития и диф-
ференциации мысли средствами языка. Самостоятельные частицы
(предлоги, вспомогательные глаголы), число которых в языках
339
22*
флективного типа непрерывно возрастает, дают возможность, как
мы увидим дальше, гораздо более сложного и дифференцирован-
ного выражения мысли, чем флексия. Неподвижность и окаме-
нелость флексий, их неспособность к дальнейшей дифференциации,
соответствующей потребностям развивающегося мышления, при-
водит к созданию системы префиксации, сперва вспомогатель-
ной, затем все более и более доминирующей, и тем самым к ре-
дукции и разрушению потерявших смысловой вес и значимость
окончаний. Но редукция окончаний в свою очередь вызывает
смешение форм и потребность в более четкой дифференциации
грамматических отношений, тем самым толкая вперед развитие
предложного склонения и спряжения с помощью вспомогатель-
ных глаголов. Поэтому те внешние факты в истории языков,
которые способствуют редукции окончаний и их отпадению, могут
дать толчок развитию аналитического строя.
Эти факты вообще очень разнообразны и относятся как к внут-
реннему строю языка, так и к внешней его судьбе. Так, в развитии
редукции в германских языках существенным внутренним фак-
тором является смысловое ударение: главное ударение (Hauptton)
падает обыкновенно на коренной слог, являющийся носителем
значения слова, побочное (Nebenton) — на значимые морфемы
(например, суффиксы). Из внешних факторов большую роль иг-
рает языковое смешение, при котором система флексий разруша-
ется в результате трудности ее усвоения иноязычными элементами.
Этот исторический фактор сыграл, например, существенную роль
в развитии языков романских и английского, благодаря чему
эти последние обогнали в развитии анализа немецкий и еще более
славянские языки. В процессе образования романских языков
из латыни существенную роль сыграла также деградация при
перенесении сложного флективного языка йысококультурного
народа в условия более примитивного мышления и общественного
развития: как показал Фосслер, анализ на первых стадиях раз-
вития старофранцузского языка является обеднением «мысли-
тельных форм» (Denkformen) классической латыни,10 но на этой
основе, с развитием мышления, вырастают те сложные формы
анализа, которые характеризуют современный французский язык.
С другой стороны, в таких языках, как древнегреческий и совре-
менный русский, развитие синтаксиса происходит иными пу-
тями — на основе сохранения гораздо более прочной системы
флексий при сравнительно ограниченном применении анализа.
Тем не менее и здесь между греческим синтаксисом эпохи Гомера
и Платона, между древним и современным русским языком су-
ществуют различия стадиального характера, также связанные
с развитием мышления и формальных средств его выражения.
Таким образом, можно отметить общую тенденцию в развитии
флективных языков к замене флексии анализом и указать на связь
этой тенденции с развитием, осложнением, дифференциацией
мышления и средств его языкового выражения. Однако конкрет-
340
ное осуществление этой тенденции зависит от особенностей каж-
дого отдельного языка и исторических условий его развития.
Работы компаративистов в области синтаксиса подходили
к материалу современному или историческому с формально опи-
сательной точки зрения. При самой тщательной регистрации син-
таксических фактов в их сосуществовании или временной после-
довательности такие работы неизбежно отличались отсутствием
подлинной иторической перспективы, возникающей лишь на ос-
нове стадиального рассмотрения грамматического строя языка.
Для лингвистического мировоззрения младограмматиков харак-
терно положение, которое защищает Бехагель в предисловии
к своему «Немецкому синтаксису», полемизируя с культурно-
психологическими теориями школы Фосслера. «При объяснении
фактов я старался прежде всего понять их, исходя из душевного
состояния (aus der seelischen Verfassung) говорящего. Является ли
это душевное состояние постоянным, общечеловеческим — на-
сколько мы можем говорить об общечеловеческом на данном уровне
наших знаний, или особенности языка зависят от свойств данного
народа или культурного круга, или они обусловлены ограничен-
ными определенной эпохой изменениями в области духовной
культуры (von zeitbestimmten geistesgeschichtlichen Wandlun-
gen) — относительно всех этих вопросов мнения сильно расхо-
дятся. Я сам по-прежнему держусь взгляда, который подкрепля-
ется еще более явлениями, описанными в этой книге, что язы-
ковые факты в первую очередь должны быть поняты, как обуслов-
ленные общими душевными явлениями (dap sprachliche Tatsachen
in erster Linie als allgemein seelisch bedingte aufzufassen sind).
Слишком уж многочисленны те явления, которые выступают
одинаковым образом в совершенно разных областях и в разное
время».11 Иными словами, Бехагель объясняет синтаксические
факты «общечеловеческими», неизменными для всех времен и на-
родов психологическими категориями, отрицая их историческую
обусловленность. Такое изъятие синтаксиса из исторической обус-
ловленности последовательно завершает лингвистическую систему
младограмматиков, в которой фонетика и морфология в сущ-
ности также трактовались не исторически, несмотря на мнимо
исторический схематизм формальных «переходов» звуков и меха-
нической смены грамматических форм.
В противоположность формализму старой младограмматиче-
ской школы Фосслер и ученики его, с которыми полемизирует
Бехагель, ищут пути к исторической лингвистике через куль-
турно-психологическое истолкование синтаксических явлений.
Однако в соответствии с общими позициями эстетического интуи-
тивизма фосслерианцы видят источник синтаксических новообра-
зований в творческой инициативе личности, в акте индивидуаль-
ной художественной интуиции, в эмоциальнальных импульсах,
вызывающих отклонение от узуальной грамматики, тем самым
попадая во власть субъективных и шатких психологических ин-
341
терпретаций.12 Так, Лерх объяснял распространение в современ-
ном французском языке будущего времени в значении повелитель-
ного наклонения (tu ne tueras pas!) — явление, распространенное
во всех европейских языках, — национальной психологией фран-
цузов, не привыкших считаться с чужой личностью.13
Подлинно историческая интерпретация языковых явлений,
и в частности — грамматического строя речи в его движении
и развитии, должна основываться на рассмотрении языка как
«реального сознания» (Маркс). «Распространенная и последова-
тельная грамматика, — говорил Гегель, — есть создание мышле-
ния, которое обнаруживает в нем свои категории».14 Развитие
языка, с нашей точки зрения, должно рассматриваться в связи
с развитием мышления, обусловленным в конечном счете разви-
тием общественных отношений. Язык, как всякая идеология
и как форма других идеологий, отражает в своем развитии позна-
ние объективной действительности на основе общественной прак-
тики и является в то же время орудием воздействия на эту дей-
ствительность. Грамматико-синтаксический строй языка, рас-
сматриваемый в его стадиальном развитии, входит таким образом
в единый глоттогонический процесс, который является частью
общего процесса социального развития человечества.
II. Развитие склонения
1. Падение основ. Уже на древнейшей стадии герман-
ских языков, засвидетельствованной в исторических памятниках,
в системе склонения наличествуют отмеченные нами противоречия
между грамматической формой и ее значением. Ср. др.-в.-нем.
им. п. ед. ч. — мн. ч.: tag — taga, hirti — hirti, gast — gesti,
hano — hanun (m. p.); geba — geba, anst — ensti, zunga — zun-
gun (ж. p.); готск. им. п. — род. п. ед. ч. — им. п. мн. ч.: dags —
dagis — dagos; gasts — gastis — gasteis; sunus — sunaus — sunjus;
guma — gumins — gumans (м. p.) и др. При этом принадлежность
слова к той или иной группе склонения с точки зрения данной
стадии развития языка никак не мотивирована: ни в смысловом
отношении — принадлежностью к определенной грамматической
категории, ни в формальном — теми или иными признаками внеш-
него характера (ср., например: tag — taga, но gast — gesti).
Как известно, сравнительная грамматика объясняет эти различия
склонения различием основ склоняемых слов. Сопоставляя готск.
wulfs с лат. lupus, греч. Xozoc, санскр. vrkas, слав, влъкъ, она вос-
станавливает окончание именительного падежа -os, состоящее
из основообразующего суффикса -о- и окончания именительного
падежа -s. Точно так же, сравнение готск. gasts с лат. hostis,
слав, гость (греч. o?ic, санскр. avis) позволяет восстановить
окончание -is, в котором -I- является гласным основы, а -$ при-
знаком именительного падежа; сопоставление готск. sunus
342
с санскр. sunns, слав, сынъ приводит к типу В других па-
дежах к основообразующему суффиксу прибавляются другие па-
дежные окончания, например -т в винительном падеже: -о-\-т
(лат. lupum, греч. Хэхоо), -i-\-m (лат. нар. statim), -и-\-т (лат.
manum, санскр. sunum) и т. д.
Учение сравнительной грамматики об основах, независимо
от вопроса о праязыке и о реальной значимости «восстановлен-
ной» исходной формы, правильно конструирует модель структуры
слова на древнейших исторически засвидетельствованных ста-
диях развития флективных языков индоевропейской системы.
В частности в германских языках эта структура выступает в ста-
диально наиболее древних формах, сохранившихся в рунических
надписях, например dagar (-о+$), gastir (-/+$), в древнейшем слое
германских заимствований в финских языках (например, kunin-
gas), во многих архаических окончаниях готского языка: ср.
вин. п. мн. ч. dagans (-o+ns). gastins (-i-f-ns), sununs (-u+ns) и мн. др.
Построенная по этому принципу модель показывает, что «оконча-
ние» в языках флективного типа разлагается на два первично само-
стоятельных элемента, из которых второй (падежная флексия) обо-
значает синтаксическое отношение, а первый (основообразующий
суффикс) — грамматико-семантическую категорию. Если бы в со-
знании членов данного языкового коллектива во всей системе
склонения оба элемента различались с полной отчетливостью
в смысловом и тем самым в фонетическом отношении, мы имели бы
в сущности агглютинацию. Таким образом, как это заметил
уже Бопп, восстанавливая первичную, стадиально наиболее
древнюю структуру слова в языках флективного типа, мы не-
посредственно упираемся в агглютинацию.
На самостоятельную значимость основообразующих суффик-
сов указывают некоторые пережитки, сохранившиеся на более
поздних стадиях языкового развития, а) Чередование гласных
по типу аблаута, распространяющееся на основообразующие эле-
менты, как на самостоятельные слова (своего рода флексия основы):
ср. готск. sunaus, sunau — sunns, sunu, sununs — sunjus, suniwe
(основы на -и-: аблаут аи — iu — u); anstais, anstai — ansteis —
anstins (основы на -i-: аблаут ai — ei — i); guman, gumans —
gumin, gumins (основы на -en: аблаут an — in) и др. б) Существо-
вание форм с чистой основой, без флексии: например, зватель-
ный падеж (в глаголах — повелительное наклонение), а также
первый элемент сложных слов, представляющих пережиток сво-
его рода инкорпорации: ср. готск. figgra-gul^s 'Fingergold’
('кольцо’), fotu-baurd 'FuPbrett’ ('скамейка для ног’) и др.
в) Наличие значащих типов именных основ — например, отгла-
гольные основы на -i- с низшей ступенью аблаута, обозначающие
однократное действие (или результат действия): ср. нем. Schup
(от schiepen), GuP (от giepen), Tritt (от treten), Schritt (от schreiten),
Trunk (от trinken) и др. В некоторых случаях такого рода осново-
образующие элементы выступают в историческую эпоху как
343
вполне активные словообразующие суффиксы, так что стирается
принципиальная грань между суффиксом и основой. Например,
основы женского рода на -In- (абстрактные от прилагательных):
др.-в.-нем. hohi (от hoch), breiti (от breit), tiufi (от tiof) — ср.
готск. hauhei (от hauhs 'hoch’), diupei (от diups 'tief’) и др.;
основы мужского рода на -еп-, обозначающие действующее
лицо: др.-в.-нем. gebo 'Geber’, етдо 'Esser’, sprecho 'Sprecher’,
trinko 'Trinker’ и др. — ср. готск. skula 'Schuldner’ от skulan,
nuta 'Fanger’ от nutan и др. Впрочем, такие группы нередко
являются результатом позднейшего развития, как это неодно-
кратно наблюдается в исторически засвидетельствованных эпо-
хах развития языка. Ср. в древненемецком группу основ на
-es- среднего рода (мн. ч. -ir), обозначающую детенышей жи-
вотных и специфичную только для этого языка: kalb — kelbir,
lamb — lembir и др. (в славянских языках такое же местное раз-
витие получает группа основ на -nt-: теля — телята и т. п.).
Древнейшие основообразующие элементы (гласные о, и, г, а, со-
гласные п и др.) на исторической стадии развития языков индо-
европейской системы выступают как элементы формально грам-
матические («именные суффиксы вообще»), по-видимому, утра-
тившие уже свою первоначальную смысловую значимость. Сравне-
ние с другими, более примитивными языками позволяет, однако,
с некоторой вероятностью предположить, что на более ранней
стадии эти первичные словообразовательные элементы имели зна-
чение классовых показателей слов.15 С этой точки зрения не ли-
шено интереса то обстоятельство, что именные основы в целом
ряде случаев в языках индоевропейской системы совпадают с ос-
новами глагольными (настоящего времени), также к началу исто-
рической эпохи уже утратившими в большинстве случаев свою
первоначальную значимость: ср. основы на е — о, пе — по, te —
to, ske — sko, ie — to (в германских языках имена на -j- и глаголы
на -jan) и нек. др. Классовые показатели слов древнее флективного
строя с его четким оформлением частей речи.
В исторически засвидетельствованных памятниках древнегер-
манских и других индоевропейских языков мы застаем именные
основы в стадии уже утраченной значимости, в связи с чем про-
исходит общая редукция основ и их ассимиляция падежной флек-
сии. Даже для «праязыка» сравнительная грамматика вынуждена
восстанавливать такие стяженные окончания, например оконча-
ние именительного множественного основ на -о- восстанавливается,
как -os <Z -o+es (готск. wulfos, др.-сев. ulfar — ср. санскр.
vfkas). Стяженное окончание, в котором основообразующий
элемент утрачивает свою смысловую и формальную самостоятель-
ность (благодаря чему флексия как бы прирастает к корню),
представляет основной формальный признак, отличающий флек-
тивный строй от агглютинации. Развитие флективного стрюя
в целом является таким образом как бы последовательным раз-
рушением агглютинации вследствие потери основообразующими
344
суффиксами смысловой значимости. В отдельных германских
языках мы застаем уже для одинаковых падежей несколько раз-
личных «окончаний», исторически возникших из соответствующей
основы+ флексии падежа. Описательная грамматика регистри-
рует их как типы склонений, противоречивые формы которых
не находят объяснения на данной стадии развития языка. В язы-
ковом сознании членов данного коллектива основы переосмысля-
ются, как признаки падежа: различия между готск. sunaus, su-
nau, sunjus воспринимаются как падежные признаки -aus (род. п.),
-аи (дат. п.), -jus (им. п. мн. ч.); gumin и guman противопоставля-
ются как окончания падежей, а не как аблаут основы. В каком-
нибудь древненемецком gesti (им.-вин. п. мн. ч. от gast), steti
(род.-дат. п. ед. ч. — им.-вин. п. мн. ч. от stat) никакой анализ
окончания не может уже установить его первичных составных
элементов, гласной основы и падежной флексии. Современные
немецкие окончания -еп (слабое склонение), -ег (множественное
число среднего и мужского рода) исторически являются такими
словообразовательными суффиксами, переосмысленными как па-
дежные флексии.
Отсюда общая тенденция к смешению и аналогизации типов
склонения, являющихся уже в наиболее ранних памятниках
германских языков различиями пережиточными, утратившими
смысловое значение. В готском языке процесс этот только наме-
чается: например, основы на -i- мужского рода в единственном
числе совпали с основами на -о-. В древневерхненемецком ис-
чезают основы на -и-, вытесняются особые формы согласных ос-
нов, происходит сближение между основами на -о- (-jo-) и основами
на -1-. В средневерхненемецкую эпоху в области падежных окон-
чаний, за исключением немногочисленных реликтовых форм,
в основном уже только два типа склонения в мужском и среднем
роде (сильное — гласные основы, слабое — основы на -п-) и три
типа женского рода (сильные основы на -а- и на -i- и слабые
на -п-), между которыми (в особенности в женском роде) наблю-
дается растущее сближение и смешение. В значительной степени
этот процесс униформации склонений связан также с редукцией
неударных окончаний, в результате которой качественно диф-
ференцированные гласные совпадают в безразличном -е. Однако
будет правильнее сказать, что само безразличное -е средневерхне-
немецкой эпохи есть результат редукции ненужных фонетических
различий между утратившими дифференцирующее смысловое зна-
чение окончаниями. Вопрос этот тесно связан с разрушением па-
дежной флексии и развитием предложного склонения.
2. Падежные окончания и предложное
склонение. Сравнение между собой языков индоевропей-
ской системы позволяет заключить о наличии на более древней
стадии большего числа падежей, чем сохранилось в историческую
эпоху в большинстве отдельных языков. Таких падежей было
по крайней мере восемь: именительный, звательный, родительный,
345
дательный, винительный, творительный (инструментальный), мест-
ный (локатив), отложительный (аблатив). Весьма вероятно, од-
нако, что и эти падежи являются результатом отбора и обобще-
ния на основе еще большего числа падежных форм с более узким
и конкретным значением, характерным для примитивных стадий
языкового развития. По крайней мере некоторые падежи имеют
формально различные флексии, причем не только в разных языках,
но иногда в одном и том же языке в различных типах склонения;
вместе с полиморфизмом эти падежи обнаруживают широкий
полисемантизм — синкретизм значений — как результат семанти-
ческого скрещения: к таким «широким» падежам относятся роди-
тельный, дательный, отчасти винительный (винительный объекта —
винительный места). В германских языках отсутствуют (можно
сказать — утрачены) падежи местный и отложительный, вымирает
в древнейших памятниках творительный. Немецкий дательный
падеж по форме и значению является падежом синкретическим
и восходит к дательному, творительному, местному, отчасти от-
ложительному; в то же время функции отложительного частично
перешли к родительному падежу. При этом, как и следовало ожи-
дать, вымирают падежи с конкретным, наглядным, в основе —
местным значением: это архаический тип узких и однозначных
«локальных» падежей, к которым принадлежат отложительный
(«откуда»?), местный («где?»), винительный места («куда?»), затем
творительный («чем?» — «вместе с чем?»). Остаются и даже рас-
ширяются за счет локальных падежи наиболее полисемантиче-
ские, широкие, отвлеченные, основное значение которых с трудом
и не очень точно поддается определению: родительный — падеж
принадлежности (partitivus, possessivus), винительный — падеж
прямого дополнения (объекта действия), дательный — падеж кос-
венного (или личного) дополнения (цели, направления действия).
Вероятно, отвлеченный, «логический» характер этих падежей яв-
ляется результатом позднейшего развития на основе синкретизма
и обобщения.
В процессе исторического развития немецкого языка падежи
постепенно утрачивают формальные различия одновременно с уни-
формацией типов склонения. Винительный в большинстве случаев
совпадает с именительным уже в древнейших исторических па-
мятниках, творительный исчезает в раннем древненемецком,
в конце древненемецкой эпохи (в связи с редукцией неударных
гласных) родительный множественного совпадает с именительным-
винительным. В эпоху образования новонемецкого национального
языка происходит выравнивание единственного и множествен-
ного числа в женском роде. В современном языке дифференцирован-
ную форму сохранили только в сильном склонении родительный
единственного мужского и среднего рода (-es) и дательный мно-
жественного всех родов (-еп). В диалектах и здесь частично вне-
сено еще большее упрощение. Окончание дат. п. ед. ч. -е, встре-
чающееся в сильном склонении мужского и среднего рода, фа-
346
культативно и держится прочно только в письменном стиле.
Формальным признаком падежа становится артикль, развившийся
из местоимения (указательного или неопределенного), наличность
которого делается обязательной в конце древненемецкой эпохи.
Однако, как уже было сказано, весь этот процесс означает не обед-
нение падежной системы, а обогащение ее — даже в чисто формаль-
ном отношении, так как одновременно с отмиранием окончаний
происходит развитие предложного склонения.
В основе предложного склонения лежит употребление наречий
места, конкретизирующих (определяющих) значение глагола-
сказуемого. Эти наречия, с одной стороны, превращаются в гла-
гольные приставки, более свободные, пока они сохраняют само-
стоятельное значение приглагольного определения (обстоятель-
ственного слова), или более тесно примыкающие к глаголу, когда
они утрачивают самостоятельное значение, соответственно моди-
фицируя значение сложного глагола. С другой стороны, эти на-
речия превращаются в предлоги, вступая в связь с приглаголь-
ными дополнениями и обстоятельственными словами, которые
до того времени управлялись непосредственно самим глаголом,
требовавшим после себя соответствующего данной синтаксической
связи падежа.
В немецком языке сохранились многочисленные пережитки
изначальной связи наречий с глагольными префиксами и предло-
гами. Так, «отделяемые приставки» (trennbare Vorsilben) сложных
глаголов стоят на границе между наречием и предлогом. Ср. ег
ruft mich zuriick ('зовет . . . назад’) — zurfickrufen, zurfickgerufen,
ich komme ihm entgegen ('иду. . . навстречу’) — entgegenkommen,
entgegengekoinmen и др. В некоторых предложных конструкциях
вторым элементом является наречие, перенимающее от глагола
управление существительным, например: drei Tage durch 'в тече-
ние трех дней’, den Tag fiber 'в течение дня’, seinem Befehl nach
'согласно его приказу’, seinem Wunsche gema|3 'в соответствии
с его желанием’, den Weg entlang 'вдоль дороги’, der Sonne zn
'к солнцу’ и т. д. Между глагольными приставками (отделяемыми
и неотделяемыми) и соответствующими предлогами сохранились
также переходные случаи: ср. einen Flu[3 iiberschreiten—fiber
einen Flu|3 schreiten; das Jiegt mir schwer auf — das liegt schwer
auf mir. Чаще в таких случаях наблюдается смысловая дифферен-
циация, поскольку префикс, срастаясь с глаголом, теряет своп
первоначальный смысл и видоизменяет значение глагола. Ср.
einen Wald durchlaufen ('пробежать лес’) — durch einen Wald
laufen ('бежать через лес’), eine Insel umfliepen ('обтекать остров’)—
um eine Insel flie₽en ('течь вокруг острова’) и т. д. Любопытны
колебания между этими категориями в процессе развития языка.
Например, в «Нибелунгах» (1200 г.): der helt ze sinen friunden lute
ruofen began — ср.-в.-нем. ruofen zu (предлог) — н.-в.-нем. zu-
rufen (глагольный префикс); обратный случай в «Нибелунгах»:
mir suln mine briieder teilen mit din lant — ср.-в.-нем. mitteilen
347
(сложный глагол, в значении ' делиться с кем-нибудь’) —
н.-в.-нем. sollen mit mir teilen (предлог — 'co мной’).
Подобным образом происходило развитие предложных кон-
струкций из прилагательных наречий места и в более древнюю
эпоху. Так, в современном немецком языке винительный места
сохранился только как пережиток в таких оборотах, как например
seinen Weg gehen 'идти своей дорогой’, einen Pfad wandeln ('бро-
дить по тропинке’). Обороты такого типа были гораздо более рас-
пространены в средневековом немецком языке, — например у От-
фрида (IX в.): tho fuar er mit imo hohe berga 'fiber hohe Berge’,
ср.-в.-нем. ine wei^ wie manec lant er reit 'durch wieviel Lander’.
Современная предложная конструкция дифференцирует связь,
имевшую в средневековом языке (при винительном места) гораздо
более диффузный характер: из сочетания er ritt manches Land
durch, где durch конкретизирует значение глагола ritt, a Land
(винительный места) управляется непосредственно глаголом, вы-
растает современная предложная конструкция: er ritt durch man-
ches Land. Таким же образом в основе предложных конструкций
с дательным падежом, например, er schlaft im Walde, er liegt auf
dem Bette, er steht an der Wand, можно предполагать сочетания
глагола с местным падежом и определяющим наречием по типу
er schlaft dem Walde in, er liegt dem Bette auf и т. д., только явле-
ние это лежит за пределами исторически засвидетельствованной
эпохи развития германских языков. Так, мы имеем в немецком
языке уже на ранней стадии его развития предлоги с отложи-
тельным (дательным) падежом — ab 'от’, иг 'из’, uz — н.-в-нем.
aus 'из’, von 'от’, 'из’, с творительным (дательным) — mit 'с’,
позже dutch' через’ — с вин. п., von' от’; с винительным места durch
'через’, um 'вокруг’; с локативом (дательным) на вопрос «где?»
и винительным места на вопрос «куда?» — ап ('у’), uf — ц.-в.-нем.
auf 'на’, in 'в’, hinter 'за’, unter 'под’, позже vor 'перед’, uber
'над’ и др. Большинство перечисленных предлогов существует
и в других германских языках, и возникновение их относится
к стадии более древней, чем первые письменные памятники. Ана-
логичные явления наблюдаются и в других языках индоевропей-
ской системы на самых ранних этапах их исторического раз-
вития.
Развитие предложных конструкций из наречий позволяет
точнее дифференцировать падежные отношения. Ср. das Licht
steht auf dem Tisch, unter dem Tisch, hinter dem Tisch, vor dem
Tisch, neben dem Tisch и т. д. Создается новая система своего рода
«предложного склонения», различающая целый ряд новых син-
таксических отношений, выраженных с помощью падежей-пред-
логов, число которых будет непрерывно увеличиваться, в зави-
симости от дальнейшей дифференциации мышления и его языковых
средств. Благодаря развитию этой новой системы старые локаль-
ные падежи становятся ненужными и исчезают, а остающиеся
падежи, вступая в сочетание с различными предлогами, приобре-
348
тают более абстрактный, логический характер. Об этом Вильманс
справедливо замечает следующее: «Развитие предложных сочета-
ний должно было вызвать значительные изменения в употребле-
нии простых падежей. Так как они точнее обозначали связи и
отношения (Beziehungsverhaltnisse), то простые падежи оказались
оттесненными там, где ощущалось более определенное отношение,
которое могло быть обозначено предлогами. Поэтому значение
падежей стало более бледным и абстрактным, но именно благодаря
этому — удобным для более свободного употребления: они могли
теперь вступать и в такие соединения, которые противоречили
их первоначальному, более наглядному значению».16 С этой точки
зрения можно сказать, что абстрактные, логические падежи яв-
ляются завоеванием человеческого мышления, характерным для
стадии развития предложных конструкций, сделавших ненуж-
ными старые локальные падежи.
Борьба между новой формой предложного склонения и старыми
падежами продолжается и в исторический период развития немец-
кого языка и приводит к сильному ограничению сферы употребле-
ния чистых падежных конструкций. Прежде всего исчезает ста-
рый творительный падеж. Он встречается только в более древних
памятниках старонемецкой эпохи (VIII—IX вв.), притом в огра-
ниченном употреблении. Особую форму творительного (на -и)
имеют только гласные основы мужского и среднего рода в един-
ственном числе, причем эта форма употребляется только от не-
одушевленных предметов и абстрактных понятий, но не распро-
страняется на одушевленные. Ср. «Песнь о Гильдебранде»
(VIII в.): speru werpan 'mit dem Speere werfen’, swertu houwan
'mit dem Schwerte hauen’; hungiru irsterpan 'vor Hunger sterben’
и др. В готском языке в значении инструментального употребля-
ется дательный падеж: bliggwan stainam 'побить камнями’, waur-
dam weihan 'сражаться словами’, gawasifs taglam ulbandaus
'одетый верблюжьей шкурой’ и т. д. Дательный в значении тво-
рительного употребляется и в древненемецком, при отсутствии
особой формы инструментального, например во множественном
числе; ср. в «Песне о Гильдебранде»: fragen fohem wortum 'спросить
немногими словами’; у Отфрида (IX в.): hanton joh ougon begin-
nent sie nan scouwon 'руками и глазами стали его осматривать’.
Однако уже очень рано эти архаические формы вытесняются пред-
ложными конструкциями с mit при инструментальном или датель-
ном падеже, в которых предлог служит уточнению синтаксической
связи: mit fiuru brennan ('сжигать огнем’), mit drostu (инстр. п.)
или mit themo droste (дат. п.) ('утешением’) и т. д. Позже возни-
кают инструментальные конструкции с предлогами von и durch.
С родительным падежом конкурирует предлог von. Первона-
чально он вытесняет родительный в его отложительной функции
(исходная точка действия, происхождение), в сочетаниях типа
die Engel vom Himmel, ein Ku₽ von ihren Lippen, Gedichte von
Goethe и т. д. Позднее он вступает и в другие функции родитель-
349
ного падежа, например: die schonste von alien, ein Mann von
hohern Wuchse, die Pflege von Kranken. Особенно часто употре-
бляется предложная конструкция с von в тех случаях, когда
старый родительный падеж не имеет особых формальных призна-
ков: поэтому можно сказать ein Strahl der Hoffnung, но не ein
Strahl Hoffnung (. . . von Hoffnung); поэтому новая форма особенно
часто употребляется во множественном числе: ср. die Wahl eines
Prasidenten — die Wahl von Prasidenten, die Bestattung von Toten,
die Anlage von Garten и пр. При широте и многозначности совре-
менного родительного падежа он может в целом ряде случаев за-
меняться и другими уточняющими предложными конструкциями:
например, der Weg zum Verderben (вместо des Verderbens), der
Schlussel zum Тог (вместо des Tores), das Denkma] fur Heine (вместо
Heines), die Denkmaler im Garten (вместо des Gartens), die Vogel
im Walde (вместо des Waldes), die Haare auf dem Kopfe (вместо des
Kopfes). Сравнение предложных оборотов с генетивными показывает
существенное преимущество новой формы в смысле более четкой
дифференциации смысловых связей. В диалектах, не связанных
письменной традицией и потому менее консервативных, особая
форма родительного падежа на -es, сохранившаяся в национальном
языке в мужском и среднем роде сильного склонения, совершенно
вышла из употребления и заменилась посессивной конструкцией
с дательным падежом (dem Bruder sein Haus — вместо des Bruders
Haus) или предложным сочетанием c von при именах неодуше-
вленных (das Bein von dem Tisch).
Предложные конструкции ограничивают также сферу упо-
требления дательного падежа, вторгаясь в его специальную
область — обозначения косвенного дополнения, лица или пред-
мета, на который направлено действие. Локальный предлог, раз-
вившийся из наречия, служит и здесь уточнению синтаксического
отношения. С дательным направления конкурируют уже в гот-
ском и древненемецком конструкции с предлогом 'к’ —оютск. du,
нем. zu. Ср. готск. qipan (du) 'говорить к. . .’, meljan (du) 'писать
к. . trauan (du) 'доверять’; др.-в.-нем.: queman (zi) 'прихо-
дить к. . .’, beran (zi) 'нести к. . .’, ruofen (zi) 'взывать к. .
Формы с простым дательным падежом служат обозначением связи
более непосредственной и личной. В этом смысле готскому qipan
du marein, du pamma. fairgunja 'говорить к морю, к пустыне’
соответствует современное немецкое: er sprach zum Мееге, zum
Berge, — в противоположность простому дательному при личном
объекте: er sagte mir. Однако в немецком языке встречается
предложная конструкция и при дательном лица; ср. у Гёте: «Sie
sang zu ihm, sie sprach zu ihm». Особенно часто предложные кон
струкции конкурируют с дательным падежом при глаголах и
прилагательных, выражающих душевное отношение (Verba и
Adjektiva der Gesinnung). При глаголах возможна некоторая диф-
ференциация значения, например einem glauben 'верить кому-
нибудь’ и an einen glauben 'верить в кого-нибудь’, однако в боль-
350
шинстве случаев она стирается: ср. eineni trauen и auf einen
trauen 'доверять кому-нибудь’, eineni ziirnen и liber einen ziirnen
' гневаться на кого-нибудь’. С прилагательными оба оборота
имеют одинаковый смысл: ср. clankbar, erkenntlich, treu, gnadig,
hold — mir или gegen mich; gut, freundlich, bose — mir или mit
mir; однако формы с дательным падежом имеют обычно более
книжный (т. е. архаический) характер; в разговорном языке
предложные конструкции преобладают. То же относится к соче-
таниям с fur 'для’, вытесняющим так называемый dativus commodi
'для кого?’: es ist mir (fur mich) genug, schwer, hart, angenehm,
wichtig и т. д. При этом с глаголами простой дательный и здесь
обозначает более личную, непосредственную связь, чем соответ-
ствующий предложный оборот: ср. ein Haus bauen — seinem Sohne
или fur seinen Sohn (строить дом сыну — для сына). Поэтому,
когда косвенным дополнением является предмет неодушевленный,
простой дательный падеж не употребляется; einen Stall bauen —
fur den Wagen а не dem Wagen). В диалектах аналитические
формы везде преобладают.
Расширение сферы употребления предложных конструкций
сопровождается развитием значения самих предлогов. Первона-
чальные локальные значения переходят в темпоральные и каузаль-
ные: с развитием мышления предлоги становятся носителями все
более сложных и отвлеченных логических значений. Об этом
Вильманс говорит следующее: «.Локальные частицы, которые обра-
зовали основную массу старых предлогов, начали употребляться,
в переносном значении для времени, причины, цели, средства и т. д.
и во многих сочетаниях служат теперь выражением зависимости
вообще. Таким образом и в этом отношении они стали конкури-
ровать с простыми падежами и вытеснять эти последние'}.17 По мне-
нию Вильманса, развитие предлогов повторяет процесс развития
соответствующих падежей от первоначальных местных значений
к абстрактным. Правильнее было бы, однако, сказать, что процесс
этот повторяется на более высокой ступени и потому дает каче-
ственно новый результат: с помощью предлогов, позволяющих
различать более дифференцированные локальные отношения,
можно выразить более сложные логические связи, чем с помощью
старых падежей. Не менее существенное значение в истории пред-
ложного склонения имеет образование новых предлогов для выра-
жения более сложных отношений, возникающих с развитием
мышления. Достаточно просмотреть с этой точки зрения список
немецких предлогов в порядке их возникновения в «Немецком
синтаксисе» Бехагеля.18 К 25 предлогам, которыми располагал
древненемецкий язык, в средневерхненемецкую эпоху прибавля-
ется десятка два новых, в новонемецкую — еще несколько десят-
ков. Большинство предлогов более позднего времени — так назы-
ваемые unechte Prapositionen, т. е. адвербиальные обороты, обра-
зованные из падежных форм, предложных конструкций и других
застывших фразеологических групп (типа anstatt, zufolge, entlang
351
и т. д.); в целом ряде случаев они управляют родительным паде-
жом, зависевшим первоначально от соответствующей именной
формы. Частично эти новые предлоги дифференцируют более
сложные локальные отношения, например zwischen 'между’,
diesseits 'по эту сторону’, jenseits 'по ту сторону’, abwarts 'вниз’,
seitwarts 'в сторону’, au|3erhalb 'вне’, innerhalb 'внутри’, langs
или entlang 'вдоль’ и др.; или отношения временные, например
wahrend 'во время’, binnen 'в течение’, seit 'с тех пор’. Частично
они выражают отношения логического основания и следствия,
причины или цели, соотносительности, обусловленности, субъек-
тивной мотивации действия и т. п.: например, infolge, zufolge
'вследствие5, wegen 'по причине’, um — willen 'ради’, halb или
halber 'ради’, kraft 'в силу’, dank 'благодаря’, gema|3 'в соответ-
ствии’, anstatt 'вместо’, laut 'согласно’, trotz 'несмотря’, bezug-
lich или rucksichtlich 'по отношению’, anlaPlich 'по случаю’
и мн. др. Возникновение большинства этих предлогов относится
к эпохе зарождения новонемецкого национального языка; при этом
частично они слагаются в языке книжном и канцелярском (дело-
вом). Крестьянские диалекты в основном ими не пользуются,
ограничиваясь более конкретными и примитивными формами син-
таксических отношений.
Поскольку центр тяжести современного немецкого склонения
переносится с падежей на предлоги, характерным признаком но-
вой стадии является смешение падежей при предлогах. В сущности,
функционально-дифференцирующую роль в современном немец-
ком синтаксисе играет только различие дательного («где?») и ви-
нительного («куда?») при местных предлогах. Как констатирует
Герман Пауль, там, где пространственное значение предлога за-
темнено, всегда возможны сдвиги в употреблении падежей при
предлогах.19 Ср. дательный вместо винительного у Гёте: Da|3
wir uns genau an der Wahrheit gehalten; ich mu|3 mich immer mehr
an soliden Fleischspeisen halten; винительный вместо дательного
у И. Готхельф: Welche etwas auf ihrem Rufe halten. В особенности
новые предлоги допускают различные колебания, частично заме-
няя при этом старый родительный падеж дательным, который,
приобретая все более абстрактное и неопределенное значение,
постепенно становится своего рода всеобщим «предложным паде-
жом». Например, wegen — у Шиллера: wegen deiner —- wegen
dir; у Гёте: sowohl wegen des Stoffes (род. n.) als wegen den Um-
standen^aT. n.); statt —- Гёте: statt feierlichsten Grumes (род. n.);
wie sich ziemte, statt ehrfurchtsvollem Willkomm (дат. n.); laut —
Гёте: laut des Vorberichts (род. n.) — laut dem Vorbericht (дат. и.).
3. Обозначение числа. В то время как падежные
окончания разрушаются благодаря падению основ и развитию
предложного склонения, различие между единственным и множе-
ственным числом сохраняет и даже развивает обозначение с по-
мощью флексии. В современном немецком языке множественное
число обозначается окончаниями -е, -ег, -еп или умлаутом корен-
352
кого гласного (внутренней флексией). Окончание -е как общий
признак всех падежей, кроме дательного, явилось результатом
редукции качественно различных гласных падежных окончаний.
Таким же образом обобщаются окончания -ег и -еп, исторически
восходящие к основообразующим суффиксам основ на согласные
(-$- и -и-). Умлаут возникает в древненемецкую эпоху в результате
фонетической ассимиляции гласного корня окончанию, содержа-
щему i или у (своего рода «гармония гласных», основанная на ре-
грессивной ассимиляции); признаком множественного числа он
становится впервые в основах на -I- и при окончании -ir (-er-),
В средневерхненемецком и новонемецком все эти типы образова-
ния множественного числа распространяются широко за пределы
своего первоначального употребления. Наблюдаются отчетливые
тенденции к унификации: господствующим типом для мужского
рода является окончание -е и умлаут, для женского —еп, для сред-
него --ег. В диалектах, не связанных письменной традицией, эта
тенденция проявляется еще более отчетливо: ср. в мужском роде —-
der Tag — die Tag, der Arm — die Arm, der Hammer —
die Hammer, der Wagen — die Wagen, der Bogen — die Bogen и др.;
в среднем роде — die Better, die Madcher, die Vogelcher, die Mes-
serer и др. Однако исторические противоречия, связанные с раз-
личиями типов склонений (пережитками старой системы основ),
сохраняются и в современном языке. При этом характерно, что
значимые окончания — признаки множественного ’’числа — не
только не подвергались редукции, как падежные флексии, но даже
получили дальнейшее развитие в языке. То же самое наблюдается
при развитии аналитического строя в языках романских и англий-
ском: и здесь, вместо первоначального разнообразия окончаний,
дифференцированных для каждого падежа, вырабатываются об-
щие флективные признаки, отличающие множественное число во
всех его формах от единственного. Таким образом, фонетическая
редукция окончаний в системе склонений происходит только там,
где имеется редукция семантическая (в падежных окончаниях):
признаки числа, сохраняющие свою значимость, переживают об-
щее падение флексии.
III. Развитие глагольной системы
Господствующая точка зрения на развитие глагольной системы
в германских языках может быть выражена словами Вильманса:
«Германский язык (das Germanische) утратил многое пз унаследо-
ванного богатства форм».20 В результате исторического развития
эти «потери» были частично восстановлены. Мы говорили уже, что
эта точка зрения противоречит нашему пониманию общего про-
цесса развития языка в связи с развитием мышления. Мы не будем,
однако, говорить здесь о стадиях, предшествующих исторически
засвидетельствованным памятникам германских языков. Скажем
23 В. М. Жирмунский 353
только, что индоевропейская глагольная система, как она восста-
навливается сравнительной грамматикой, наименее достоверная
в лингвистическом отношении часть гипотезы о «праязыке» и
множественность форм «индоевропейского глагола» в значитель-
ной степени является результатом проекции в общее прошлое
своеобразных путей стадиального развития отдельных языков.
Во всяком случае множественность глагольных форм на прими-
тивных стадиях языкового развития имеет совершенно иной ха-
рактер, чем в языках нового времени: она основана преимуще-
ственно на видовых различиях, пережиточно сохранившихся,
например, в языках славянских или в древнегреческом (аорист,
перфект). В этом смысле уничтожение примитивного многообразия
означает переход к более высокой стадии мышления, выражающей
глагольные отношения в более общей и отвлеченной форме.
В первых исторически засвидетельствованных памятниках
германских языков (в готском и древненемецком) мы находим
следующий состав глагольных форм: три лица; два числа (с остат-
ками более примитивного двойственного — еще широко пред-
ставленного в готском языке); два времени (прошедшее и настоя-
щее, которое формально не дифференцировано от будущего);
два наклонения (индикатив и оптатив — в обоих временах),
а также неполный императив; остатки особой формы страдатель-
ного залога (только в готском языке); инфинитив (отглагольное
существительное) и два причастия (отглагольные прилагательные).
Глагольная система новонемецкого языка насчитывает настоящее,
три прошедших (Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt), два бу-
дущих (Futurum I и II); в конъюнктиве (или оптативе — по более
правильной в историческом отношении терминологии) к тем же
шести временам прибавляются два условных (Konditionalis
I и II); все эти 14 времен могут иметь соответствующие формы стра-
дательного залога; инфинитив также имеет два времени (настоя-
щее и прошедшее) и два залога (действительный и страдатель-
ный).
Эта сложная дифференциация глагольных форм, характерная
для более высокой стадии развития мышления, связана (как и
в языках романских и в английском) с переходом от флективного
строя к аналитическому. Предметное значение глагола и указание
на синтаксическую функцию, которые при флективном строе со-
ставляют неразрывное единство, здесь разделяются: носителем
предметного значения становится неизменяемое глагольное имя
(отглагольное существительное или прилагательное — инфинитив
или причастие), а выразителем грамматико-синтаксических от-
ношений — личное местоимение и вспомогательный глагол.
Это развитие тесно связано с общим процессом редукции неудар-
ных окончаний, и связь эту мы понимаем как взаимную обусло-
вленность, при которой, однако, как всегда, ведущее значение
имеет семантическое осложнение и дифференциация глагольных
форм, осуществляемая новыми средствами анализа.
354
В общем развитии немецкой глагольной системы можно уста-
новить следующие основные линии.
1. Число лиц не меняется, но возникает новая система их
обозначения — с помощью обязательного личного местоимения
при глаголе.
2. Развитие системы времен идет, с одной стороны, к упроще-
нию и унификации их формального выражения (с помощью вспо-
могательных глаголов), с другой стороны — к дальнейшей диф-
ференциации временных различий, благодаря чему более простые
формы становятся выражением более сложных и дифференциро-
ванных отношений. То же относится к развитию страдательного
залога.
3. Система наклонений развивается в сторону индивидуальной
стилистической дифференциации модальных отношений на основе
разнообразных неграмматизованных синтаксико-фразеологических
сочетаний с полувспомогательными глаголами модальности.
4. Видовые различия остаются неграмматизованными и имеют
в основном лексический характер.
1. Обозначение лица. Система трех лиц, унаследо-
ванная от более древних стадий языка, не требовала дальнейшей
дифференциации. Однако 1-е и 3-е лицо единственного числа
издавна совпадали в германских языках во всех формах, кроме
настоящего времени индикатива, а 1-е и 3-е лицо множественного
числа совпали в тех же формах еще в древненемецкую эпоху при
переходе конечного -т (1-го лица) в -и. В связи с этим в позднем
древненемецком закрепляется обязательное личное местоимение-
подлежащее при глаголе (там, где отсутствует подлежащее-суще-
ствительное). Такое присутствие местоимения как обязательного
признака лица делает возможным дальнейшую редукцию оконча-
ний: в средневерхненемецкую эпоху в индикативе настоящего
времени совпадают 3-е лицо единственного числа и 2-е множествен-
ного — ср.-в.-нем. -it > -(e) например trink(e)t; в конце той же
эпохи 3-е лицо множественного числа того же времени совпадает
с 1-м лицом —- ср.-в.-нем. -ent > -еп, например trinken. В совре-
менном немецком языке формы без местоимения встречаются
только в обиходном языке, — ср. у Гёте (Гретхен в «Фаусте»):
«Bin ja ein arm’ unschuldig Kind»; особенно часто во 2-м лице, где
имеется вполне отчетливое личное окончание; — ср. у Шиллера
(в письме): «Bist ja gro₽ worden!».
В некоторых немецких диалектах множественное число издавна
имеет общую форму для всех лиц: -et (н.-сакс., швб.-алем.) или
-еп (н.-франкск., пфальцск., эльз.). В нижнесаксонских диалектах
это общее окончание существует с начала письменной традиции;
в алеманнских оно отмечено в письменных памятниках начиная
с X в. Характерно, что в современных диалектах эта форма отли-
чается большою стойкостью, несмотря на отступление от господ-
ствующей нормы национального языка. Например, при диалекто-
логических смешениях в швабско-франкских говорах южной
355
23*
Украины она часто побеждает в борьбе с дифференцированными
личными окончаниями, хотя и поддержанными литературным
языком. Это объясняется ненужностью дифференциации оконча-
ний при обязательном употреблении личных местоимений.
Относительно новой является в немецком языке дифференциа-
ция лица с помощью внутренней флексии (умлаута): ich grabe,
du grabst, er grabt; ich spreche, du sprichst, er spricht. Изменение
гласного появилось в сильных глаголах в древненемецкую эпоху
как результат фонетической ассимиляции под влиянием последую-
щего i: др.-в.-нем. grabu, grebis, grebit. В глаголах на е это явле-
ние распространялось прежде и на 1-е лицо при последующем и:
др.-в.-нем. sprichu, sprichis, sprichit; но в новонемецкую эпоху
в этих глаголах установилось чередование по первому типу.
Поскольку внутренняя флексия при обязательном личном место-
имении является избыточным признаком, в ряде сильных глаголов
она в настоящее время исчезла: например, bewegen, weben, pflegen,
garen, melken, genesen. В большинстве диалектов, не связанных
консервативной письменной традицией, умлаут в этих формах
совершенно устранен: ср. du grabst, er grabt; du sprechst, er sprecht.
В средневековом языке чередование под влиянием последующего и
и i наблюдалось также в единственном числе глаголов II ряда:
например, др.-в.-нем. biogan' biegen’ — ichbiugu, du biugis, er biu-
git. В современном литературном языке, как и в большинстве
диалектов, это чередование также устранено ввиду его ненуж-
ности, но еще в раннюю новонемецкую эпоху (например у Лютера)
встречаются формы du beugst, er beugt, er fleucht (flieht), er zeucht
(zieht), сохранившиеся в поэтическом языке как архаизмы «вы-
сокого стиля».
С употреблением местоимения как обязательного признака
лица при спрягаемых формах глагола можно сопоставить разви-
тие инфинитива с приглагольной частицей zu. В средневековом
немецком языке предлог zu сочетается с особой формой склоняемого
инфинитива в дательном падеже с значением цели (так называе-
мый герундий) — 'для того, чтобы’: er ging einen Mantel zu kaufen
(ср.-в.-нем. ze koufenne ' чтобы купить’). В новонемецком языке
это zu, потерявшее самостоятельное значение, становится обяза-
тельным формальным признаком инфинитива глагольного, как
артикль — инфинитива субстантивного. Можно сказать, что форма
kaufen, сама по себе многозначная, приобретает характер инфи-
нитива в сочетании zu kaufen, а отглагольного существительного —
в сочетании das Kaufen; кроме того, она обозначает спрягаемые
формы глагола (1-е и 3-е л. мн. ч. наст, вр.) в соединении с соответ-
ствующими личными местоимениями: wir kaufen, sie kaufen.
Конечно, такое формальное zu, утратившее свое первоначальное
«значение, употребляется теперь и в таких случаях, где исходное
целевое значение совершенно отсутствует: например, ich liebe zu
schreiben 'я люблю писать’; для выражения отношений цели воз-
никает новая расширенная форма — urn zu. Характерно, однако,
356
что zu отсутствует при глаголах вспомогательных и полувспо-
могательных (например, ich werde kaufen, ich will, ich darf, ich
soli, ich mup, ich mochte, ich lasse kaufen и немн. др.), т. е. в основ-
ном в тех случаях, где мы имеем не самостоятельный по значению
инфинитив, а часть сложной глагольной формы.
2. Развитие времен. В древненемецком языке суще-
ствовало только два времени — настоящее и прошедшее. Про-
шедшее сильных глаголов образовалось с помощью аблаута ко-
ренного гласного (внутренней флексии), прошедшее слабых —
с помощью дентального суффикса -t- (внешней флексии). Чере-
дование гласного в корне как выражение грамматико-семан-
тических различий является в германских языках пережитком
более древних стадий. Уже в древненемецком сильные глаголы
не являются живой грамматической категорией, способной на
дальнейшее расширение: за исключением единичных примеров,
основанных на звуковой аналогии (ср. лат. scribere > др.-в.-нем.
scriban, screib, giscriban 'schreiben’; франц, priser > ср.-в.-нем.
prisen, prisete > н.-в.-нем. preisen, pries, gepriesen), все новые
производные или заимствованные глаголы уже в древнейшую
письменную эпоху образуют прошедшее по слабому спряжению.
С точки зрения современного немецкого языка, слабое прошедшее
является нормальной, «правильной» формой спряжения (по тер-
минологии, установившейся в учебной литературе, это глаголы
«типичные»); сильное прошедшее фиксировано лишь в ограничен-
ном числе глаголов (всего около 160) как «исключение» из правила.
Система внутренней флексии выражает различие настоящего
и прошедшего чередованием разных коренных гласных, в соответ-
ствии с рядами аблаута: др.-в.-нем. I. i — ei: stigan — steig;
IL io — ou: biogan — boug; III—V. e — a: werfen — warf;
VI. a — 6 (uo): faran — fuor. Таким образом, одинаковые грамма-
тические категории выражаются различными формальными при-
знаками, причем эти различия не имеют объяснения на данной
стадии языкового развития. Эти внутренние противоречия системы
сильных глаголов усугубляются тем, что фонетическое развитие
аблаута в германских языках и в частности в немецком ведет
к дальнейшему умножению рядов и усложнению системы, благо-
даря всевозможным ассимиляторным воздействиям соседних зву-
ков на вокализм коренного слога. Из числа таких изменений,
происшедших уже в историческую эпоху в древненемецком, на-
пример, раздваиваются ряды I и II в прошедшем времени в за-
висимости от последующего согласного: la. stigan, steig —
lb. lihan, leh (др.-в.-нем. ei-\-h, r, w > e); Ila. biogan, boug — lib.
biotan, bot (др.-в.-нем. ou-|-dental., h > б). В начале новонемец-
кой эпохи такое же раздвоение происходит в III ряду перед но-
выми согласными: ср. ср.-в.-нем. finden, fand, gefunden — begin-
nen, began, begunnen; н.-в.-нем. gefunden, begonnen (ср.-в.-нем.
u-^-nn, mm > н.-в.-нем. о). Благодаря этому в современном языке
возможны самые разнообразные несоответствия: например, neh-
357
men, nahm, genommen — geben, gab, gegeben; bitten, bat, gebeten—
finden, fand, gefunden — beginnen, begann, begonnen; biegen, bog,
gebogen — liegen, lag, gelegen и т. д.
Наличие большого числа формальных различий, не имеющих
грамматико-семантической значимости, вызывает тенденцию
к аналогическому упрощению и унификации сильного спряжения.
В новонемецкую эпоху уничтожается различие в аблауте един-
ственного и множественного числа прошедшего времени, существо-
вавшее во всех древнегерманских языках: ср. ср.-в.-нем. steig,
stigen — н.-в.-нем. stieg, stiegen; ср.-в.-нем. bot, buten — н.-в.-нем.
bot, boten; ср.-в.-нем. warf, wurfen — н.-в.-нем. warf, warfen;
ср.-в.-нем. nam, namen — н.-в.-нем. nahm, nahmen и др. В не-
которых рядах унифицируется прошедшее в обеих формах и
причастие: по типу lib. bieten, bot, boten, geboten (ср.-в.-нем.
bot, buten, geboten) униформируется Ila. biegen, bog, bogen, ge-
bogen (ср.-в.-нем. boug, bugen, gebogen). Причастие на -о- из
II—IV рядов (gebogen, geworfen, begonnen, genommen) распро-
страняется частично и на V ряд и на различные изолированные
по своей форме глаголы: ср. gewoben, gewogen, gepflogen, geho-
ben и др. По типу bot, geboten прошедшее на -о-, опираясь на при-
частие на -о-, вытесняет старую форму на -а- в некоторых глаголах
III—V ряда: ср. quoll, gor, schor, erscholl, schwoll, glomm, klomm,
molk, schmolz, borst (barst), focht, flocht, losch, pflog, wog, wob,
drosch; в целом ряде случаев с сильным прошедшим конкурирует
слабое, например pflegte, dreschte и др. В нижненемецких диалек-
тах, сохранивших простое прошедшее, эта форма на -о- имеет еще
более широкое распространение, — ср., например, меннонитские
(западнопрусские) говоры Украины: stela 'stehlen’—stoul, lezo
'lesen7—ldus, eto 'essen’— dut, slopa 'schlafen5— sldup, brodo
'braten’— brout, roda 'raten’—rout и др.
Значительное упрощение представляет образование прошед-
шего времени с помощью дентального суффикса -J-, единственная
живая и активная форма в историческую эпоху немецкого языка.
По своему происхождению она, всего вероятнее, восходит к суф-
фигированному прошедшему от глагола tun 'делать5; ср. готск.
nasjan — nasidedun (nasi-|-dedun 'taten5); согласно другим тео-
риям, она развивается в германских языках из причастия на -t-
(в предикативном употреблении). Различия между типами слабого
прошедшего в древненемецком (-ita, -ota, -eta), обусловленные раз-
ными основами настоящего времени, исчезают уже в средневерхне-
немецком языке при редукции, и таким образом слабое прошедшее
выступает, в противоположность сильному, как единообразная и
однозначная грамматическая форма. Поэтому понятен переход
целого ряда глаголов из сильного спряжения в слабое, в особен-
ности в новонемецком (более 50 примеров). В отдельных случаях
рядом с новым слабым прошедшим сохраняется еще старое сильное
причастие: ср. melken, melkte, gemolken; spalten, spaltete, ge-
spalten и др. Обратные переходы наблюдаются лишь в единичных
358
примерах па основании звуковой аналогии (gleichen — glich,
laden — lud).
Несмотря на наличие однозначной формы слабого прошедшего,
противоречие между сильным и слабым спряжением и между раз-
личными рядами сильного ослабляет в целом всю грамматиче-
скую категорию простого прошедшего. В южнонемецких и в части
средненемецких диалектов благодаря редукции конечного -е
оказалось поколебленным и слабое прошедшее: форма 3-го лица
sagt(e) совпадает здесь с настоящим временем sagt. В этих диалек-
тах простое прошедшее вытесняется сложным (так называемым
перфектом) и в XV—XVI вв. окончательно вымирает. Кроме фор-
мальной противоречивости и двусмысленности простого прошед-
шего, существенную роль в его оттеснении должен был сыграть
общий процесс развития аналитической системы сложных времен-
ных форм.
Образование сложных форм прошедшего начинается уже
в древненемецком с так называемого перфекта. В ранних памят-
никах такие формы встречаются редко, затем число их быстро
увеличивается; к концу древненемецкой эпохи, у Ноткера (X в.),
они существуют уже в таком виде, как в современном языке.
Первоначальное значение перфекта было видовое — он служил
для обозначения настоящего результативного, т. е. законченного
действия, результаты которого существуют в настоящем времени
(по терминологии Зюттерлина: vollendete Gegenwart — «закон-
ченное настоящее»).21 Это видовое значение сложного прошедшего
в отличие от простого связано с перфективным значением прича-
стия II с частицей ge- как признаком совершенного вида (см. ниже,
гл. III). Ich habe das Buch genommen 'я взял книгу’ означало
первоначально 'я имею книгу [уже] взятой’ (ich habe das Buch
[als] genommenes); er ist gefallen 'он упал’ значило 'он есть [уже]
упавший’ (ег ist [ein] gefallener). С глаголом haben употреблялось
причастие II переходных глаголов, имеющее всегда пассивное
значение, с глаголом sein — причастие глаголов непереходных,
имеющее значение активное; однако в последнем случае требова-
лось причастие совершенного вида (перфективное) — например
gefallen 'упавший’; причастие II действительного залога с импер-
фективным значением было вообще не употребительно, так как
совпадало бы по содержанию с причастием I. Невозможность
оборота ег ist [ein] geschlafener подтверждается тем, что в совре-
менном немецком языке причастия этой категории не могут упо-
требляться как определения («ein geschlafener Mensch»!).
, Первоначально во всех таких сочетаниях причастие является
простым предикативным прилагательным, вторым элементом слож-
ного сказуемого, образованного с глаголом-связкой. Как всякое
сказуемостное прилагательное в древнегерманских языках, оно
согласуется с объектом (или подлежащим) в роде, числе и падеже.
Например, готск.: so baurgs alia garunnana was at Ьаига'весь город
был сбежавшийся у дверей’; sa skatts peins, panei habaida galagi-
359
dana in fanin 'твое сокровище, которое я имел положенное в пла-
ток’; др.-в.-нем.: in habet sia forlegana in sinemo herzen (jam
moechatus est earn, букв, 'уже имеет ее познанную’). При пере-
ходных глаголах с haben первоначально конкурирует глагол
eigan 'иметь’, 'владеть’, ср. у Отфрида: si eigun mir ginomanan
lioban druhtin min 'sie haben mir meinen lieben Herrn genommen’.
Процесс развития сложного сказуемого в грамматизованную
глагольную форму проходит несколько этапов. Сперва haben и
eigan означают 'иметь’, 'владеть’, поэтому должен быть матери-
альный объект владения, к которому относится пассивное прича-
стие и с которым оно согласовано. Дальше становятся возмож-
ными сочетания с абстрактным, нематериальным объектом или
совсем без такового; в связи с этим согласование перестает быть
обязательным, причастие ставится в несклоняемой форме, напри-
мер also du nu vernomen habest 'wie du [es] vernommen hast’.
Развитие абстрактного, грамматического значения первоначально
конкретного по своему содержанию оборота можно считать за-
конченным, когда конструкция переносится на имперфективные
непереходные глаголы, сначала не имевшие второго причастия,
при которых глагол haben может иметь только грамматическое
значение: ср. ich habe geschlafen. Эта стадия уже достигнута у Нот-
кера.
В новонемецком языке перфект утрачивает результативное
(видовое) значение. Видовость, как обычно в современном немец-
ком языке, всегда может быть выражена лексически: ich habe
das bereits erfahren 'я это уже узнал’. Сложное прошедшее по
своему значению в основном совпадает с простым, совершенно
вытесняя последнее из употребления в южнонемецких и частью
в средненемецких диалектах и конкурируя с ним в обиходной
форме национального языка, особенно успешно в тех районах,
где оно господствует в диалекте. Старое значение результативного
прошедшего выступает еще в таких примерах: Wissen Sie wohl,
dap wir uns seit zwei Tagen nicht gesehen haben? (не sahen). — Ich
mochte wissen, was Herr Bergmann studiert hat (не studierte).
Однако, Герман Пауль, который приводит эти примеры,22 выну-
жден вместе с тем признать, что никто иной, как Лессинг, употре-
бил в последнем случае «запретную» форму простого прошедшего
(studierte), и это показывает, что уже в XVIII в. разница значения
между обеими формами была стерта. Можно привести примеры
употребления обеих форм в одном предложении у немецких клас-
сиков. Ср. у Шиллера: «Wir waren Troyerl Troya hat gestanden»;
у Гёте (конец «Вертера»): Handwerker trugen ihn; kein Geistlicher
hat ihn begleitet». В основном в современном языке между этими
формами осталось стилистическое различие: перфект является
«прошедшим разговорным», простое прошедшее господствует
в связном книжном повествовании («прошедшее историческое»).
Такая дифференциация объясняется тем, что вытеснение старой
формы прошедшего происходит по преимуществу под влиянием
360
живой разговорной речи: в общем развитии структуры немецкого
языка это форма прогрессивная, распространение которой под-
держивается противоречиями архаических форм старого прошед-
шего и общим развитием системы анализа в сложных временах.
Аналогичный процесс наблюдается и во французском языке:
простое прошедшее (passe def ini) и здесь вытесняется в разговор-
ной речи более новыми сложными формами (passe indefini) и пре-
вращается тем самым в стилистическую категорию.23
Предпрошедшее (Plusquamperfekt) развивается таким же обра-
зом из предикативного употребления причастия с прошедшим вре-
менем глаголов haben и sein и первоначально означало действие,
результат которого существовал в прошедшем (прошедшее резуль-
тативное): ср. ich hatte das Buch genommen — 'имел взятой’
(. . .hatte [als] genommenes); er war gefallen—'был упавшим’
(. . .war [ein] gefallener). В таком смысле отдельные примеры встре-
чаются уже в древненемецком, с обычным для предикативного
прилагательного согласованием; например, в евангелии Татиана
(IX в.): phigboum habeta sum gipflanzotan — arborem fici habebat
quidam plantatam 'смоковницу имел посаженной’. Однако при-
меры такого рода встречаются редко. Значительно позже выраба-
тывается значение «предпрошедшего», т. е. относительного вре-
мени, обозначающего действие более раннее, чем то прошедшее,
с точки зрения которого ведется рассказ. Эта форма появляется
в куртуазной поэзии средненемецкой эпохи (конец XII в.) и окон-
чательно . закрепляется в ранней новонемецкой прозе (XIV—
XV вв.).
Будущее время как особая форма отсутствовало во всех древне-
германских языках: форма настоящего времени всегда могла иметь
значение будущего. Пережитки этой стадии недифференцирован-
ное™ времен сохранились и в современном немецком языке:
например ich gehe heute ins Theater ' я иду сегодня в театр’ озна-
чает одновременно 'я пойду в театр’. Особенно распространено это
явление в условных предложениях, где настоящее заменяет «услов-
ное будущее» (так называемый Konditionalis): например wenn du
dich beeilst, wirst du ihn noch einholen 'если ты поспешишь. . .’.
Отсутствие специальной формы будущего создавало, однако,
двусмысленность в тех случаях, где нужно было противопоставить
друг другу два времени. Так, готская библия переводит 'дела,
которые я делаю и он будет делать’ (греч. еусЬ тсоий xdxeivog Tcoirpsi)
двумя настоящими, из которых второе должно пониматься как
будущее: рб waurstwa, poei ik tauja, jak is taujip. Вообще языковая
борьба Вульфилы за передачу будущего времени греческого ори-
гинала в тексте готского перевода представляет большой прин-
ципиальный интерес: здесь конкурирует несколько тенденций,
которые наблюдаются и в других языках на той же стадии, причем,
однако, ни одна из них не грамматизируется. 1) Будущее начина-
тельное с глаголом duginnan (нем. beginnen): 'горе вам, ныне смею-
щиеся, ибо вскоре вы будуте плакать и жаловаться’ — gaunon
361
jah gretan duginnip 'начнете. . (букв. 'начинаете’). 2) Будущее
начинательное с глаголом wairpan (нем. werden 'становиться’)
и причастием настоящего времени (оттенок несовершенного вида):
saurgandans wairpip (греч. Хш^&треа&е) 'будете озабочены’ (букв,
'станете озабоченными’); jah stairnons himinis wairpand driusan-
deins 'звезды небесные упадут’ (букв, 'станут падающими’) (также
по-гречески: eacmat ш-гстоутес). То же при предикативных при-
лагательных, где настоящее время глагола wairpan в значении
будущего ('станет’ — букв, 'становится’) заменяет отсутствующее
будущее от глагола wisan 'быть’: ср. jabai nu augo Jein ainfalpist,
allata leik fein liuhadein wairpip 'если твое око чисто (греч.
'атЛоо; т]), все тело твое станет (букв, 'становится’) светлым’
(греч. «pwTsivov ecruai). 3) Будущее с глаголом haban (как в роман-
ских языках): например,'делаю и сделаю’ (греч. koiw xai теос^оа)) —
tauja jak taujan haba (букв, 'имею сделать’); 'и где я нахожусь
(греч. бкоо etp.1 ерЬ), там и слуга мой будет’ (греч. scrcat) — parei
im ik, paruh sa andbahts meins wisan ЬаЬаф (букв, 'имеет быть’).
В целом ряде случаев этот оборот имеет, по-видимому, модальный
оттенок (необходимости), может быть соответствующий перво-
начальному значению. 4) Будущее перфективное — совершенный
вид настоящего (с перфективирующей частицей ga-) в значении
будущего (как в славянских языках: ср. делаю — сделаю): ср.
'служи мне, пока я ем и пью (греч. сраую xai тсссо), а потом сам
поешь и попьешь’ (греч. cpaysaai xai rcceaai) — unte matja jah
drigka, jah Ъфе gamatjis jah gadrigkais; 'ни один из них не упадет
на землю’ — ains ize ni gadriusip ana airf>a (греч. -rceosiTat). По-
скольку и другие глагольные префиксы могут служить перфекти-
вации глагола, они также употребляются в значении перфективного
будущего: ср. 'блаженны вы плачущие ныне, ибо воссмее-
тесь’ — audagai jus gretandans nu, unte ufhlohjanda (греч. /орта-
о&треа&е). 5) Будущее модальное с глаголом sculan 'sollen’ —
в одном случае: qipandans, hwa skuli pata barn wairfan (греч.
xiapa to rcai&ov tooto eaxai)—'говоря: что станет из ребенка’
(букв, 'что могло бы стать. . .’ — ср. нем. was soli aus dem Kinde
werden?). 6) Будущее модальное, выраженное конъюнктивом какх
признаком возможности: 'если вы этим знамениям не верите
(греч. оо тпатебете), как моим словам поверите’ (греч. теитеб-
аете) — pande nu jainis melam ni galaubeifj, hwaiwa meinam
waurdam galaubjaip (букв, 'как поверили бы’, т. е. 'как могли бы
поверить’). Таким образом, в готском языке, как и в других при-
митивных языках, не имеющих особой формы будущего, обозна-
чение временных отношений развивается либо из видовых (буду-
щее начинательное, будущее совершенное), либо из модальных
(будущее как необходимое, возможное или желанное).
В древненемецком языке преобладает модальное будущее —
обозначение будущего времени с помощью глаголов sollen или
wollen, как необходимого или желанного, причем первый тип
встречается особенно часто. Ср. berga sculun swinan — лат. et
362
omnis mons humiliabatur 'горы опустятся5 (букв, 'горы должны
опуститься5); thu scalt beran einan alawaltendan' ты родишь одного,
всемогущего5 (букв, 'ты должна родить5); then altan Satanasan
wilit er gifahan 'он возьмет в плен древнего сатану5 (букв, 'хочет
взять в плен5) и т. д. В большинстве современных германских
языков (в английском, голландском, шведском, в нижненемецких
диалектах) из модального будущего с глаголами sollen и wollen
развилась грамматическая форма объективного будущего. В не-
мецком литературном языке эти формы не грамматизованы и со-
храняют модальный оттенок. «Эти тонкие оттенки значения, —
говорит Вильманс, — часто трудно поддаются формулировке,
но они существуют теперь и существовали прежде, конечно —
в иных границах, чем в настоящее время».24 Ср. будущее с sollen:
damit soil er wohl bald fertig werden 'с этим он, вероятно, скоро
справится5; heute Nachmittag soli Konzert sein 'по-видимому,
будет концерт5; was soli daraus werden? 'что произойдет. . .’
(точнее: 'что должно произойти. . .’); будущее с wollen (особенно
часто — в разговорной речи) — ср. в диалогах «Фауста» Гёте:
«wir wollen einen Papst erwahlen» 'давайте выберем папу5; «ich
will euch lehren Gesichter machen» 'я научу вас строить гри-
масы!5; «will euch noch heut5 in ihr Zimmer fuhren» 'еще сегодня
я сведу вас к ней5. С начинательным оттенком — das Feuer will
ausgehen 'огонь собирается потухнуть5, т. е. 'потухнет5; es will
regnen ' собирается идти дождь5 и т. д.
Другой путь развития идет от глаголов начинательных. Соче-
тания с werden, из которых разовьется объективное будущее,
в средневековом немецком языке встречаются очень редко и имеют
в основном видовое значение. Werden употребляется в сочетании
с причастием настоящего времени в значении имперфективно-на-
чинательном, переходящем в будущее несовершенное; ср. в еванге-
лии Татиана: wirdist swigenti — лат. eris tacens ' станешь молча-
щим5 — т. е. 'умолкнешь5. Werden с инфинитивом имеет также
начинательное значение и потому еще в XVI в. употребляется
также в прошедшем времени: ср. у Лютера — Moses aber ward
zittern 'стал дрожать5. С этим употреблением глагола связано
возникновение условного наклонения (Konditionalis) как свое-
образного условного будущего, образованного с помощью конъ-
юнктива начинательного глагола: er wiirde sagen ' он стал бы го-
ворить5, т. е. 'он сказал бы5. Распространение начинательного
будущего намечается только в прозаических памятниках XIV—
XV вв.; окончательная грамматизация новой формы относится
к XVI—XVII вв. В северной Германии упорно конкурирует мо-
дальное будущее с wollen, укрепившееся в диалектах. Вильманс
приводит ряд интересных свидетельств грамматиков XV—
XVII вв.25 Грамматика, изданная в городе Цейтце, уже
в XV в. переводит amabo — ich werde libin. Грамматика из север-
ной Германии (Мюнстер в Вестфалии) отмечает в 1480 г.: legam —
ich will edder ich schal lesen; edder alse de averlender seggen'KaK
363
говорят южане’; ik werde lesen; Элингер (Oelinger) в 1573 г. пы-
тается провести грамматико-семантическое различие между обеими
формами: ich will schreiben — Futurum primum; ich werd schrei-
ben — paulo post Futurum (т. e. относительное время: «более
позднее будущее»). Еще в XVII в. Стефан Риттер приводит обе
формы как равноценные. В диалектах объективное будущее с wer-
den частично до сих пор не употребительно или имеет модальный
оттенок: er wird schlafen 'вероятно, он спит’. Вместо будущего
обыкновенно употребляется настоящее.
Еще позже возникает будущее относительное (Futurum II),
означающее действие, которое будет закончено прежде того бу-
дущего, с точки зрения которого ведется рассказ: ср. er wird ge-
kauft haben, er wird gefallen sein. Форма эта употребляется глав-
ным образом в книжном языке и возникла, по-видимому, как
перевод соответствующих французских и латинских оборотов.
В разговорном языке она имеет значение прошедшего с модальным
оттенком (возможности): ср. es wird wohl was anderes bedeutet
haben 'вероятно, это означало что-нибудь другое’, wo wird er
die Nacht zugebracht haben? 'где он мог провести ночь?’.
Предпосылкой развития этих форм является существование
инфинитива прошедшего: gekauft haben, gefallen sein. Хотя по-
требность в дифференциации времени в инфинитиве ощущалась
уже древненемецкими переводчиками латинских текстов, имеющих
форму infinitivus perfecti, однако фактически сложный инфинитив
прошедшего времени получает широкое распространение только
в средневерхненемецкой поэзии, при этом преимущественно с гла-
голами модальности (в значении нереального предположения);
ср. в «Парсифале»: der kunde se baz gelobet han' der hatte sie besser
loben konnen’; в «Нибелунгах»: du mohtest wol gedaget han 'du
wiirdest geschwiegen haben’ и т. п.
Таким образом современная развитая и дифференцированная
система сложных времен немецкого глагола устанавливается окон-
чательно только в эпоху образования новонемецкого националь-
ного языка (XIV—XVI вв.) и притом, по преимуществу,
в письменном (литературном) языке, который по самому своему
содержанию наиболее нуждается в дифференцированном выраже-
нии более сложной отвлеченной мысли.
Одновременно с развитием системы сложных времен спряжение
пополняется соответствующими формами страдательного залога.
В готском языке еще сохранились старые формы флективного
пассива с особыми окончаниями — по крайней мере для настоя-
щего времени обоих наклонений; с другой стороны, уже возникает
новая форма с причастием страдательного залога (Partizip II),
которое может употребляться, как всякое прилагательное, в пре-
дикативных сочетаниях с глаголами wisan ' быть’ и wair^an ' ста-
новиться’. В древненемецком старый флективный пассив совер-
шенно отсутствует; уже в древнейших памятниках в стадии обра-
364
зования находится сложный пассив с глаголами wesan и werdan.
Первый обозначает пребывание в известном состоянии (Beharren
in einem Zustand), второй — наступление состояния (Eintritt
in einen Zustand). К концу древненемецкой эпохи (у Ноткера) это
различие уже прочно установилось как видовое (несовершенный
вид и совершенный результативный). Так же и в современном
языке — в настоящем времени: die Tur wird geschlossen ' дверь
запирается’ — die Tur ist geschlossen 'заперта’; die Stadt wird
zerstort 'разрушается’ — ist zerstort 'разрушен’; в прошедшем:
die Tur wurde geschlossen ' дверь заперли’ — war geschlossen ' была
уже заперта’; die Stadt wurde zerstort — war zerstort и т. д. Однако
такая видовая дифференциация возможна только там, где само
причастие имеет перфективное значение; при имперфективных
причастиях форма с глаголом sein не имеет результативного зна-
чения и вообще мало употребительна: ср. er wird geliebt — er ist
geliebt 'он любим’. В повелительном наклонении и при заменяющем
его конъюнктиве употребляется только пассив с sein: ср. Sei mir
gegrufH! Gott sei gelobt!
Остальные формы страдательного залога — предпрошедшее,
будущее, будущее относительное, сложные формы конъюнктива и
Konditionalis’a — возникают в новонемецкую эпоху и распро-
странены по преимуществу в книжном языке.
Тенденция к анализу в диалектах, в связи с унификацией гла-
гольных форм и соответствующей редукцией неударных оконча-
ний, проявляется еще в развитии перифрастического спряжения
с вспомогательным глаголом tun 'делать’. Ср. наст, вр.: er tut
laufen; прош. вр.: er tat (tat) laufen; при вопросе: tut er nicht
kommen? (ср. англ, does he not come?). В конъюнктиве прошедшего
времени формы с tate обычно вытесняют старые флективные формы:
er tate ihm gerne schreiben (вместо er schriebe или er wiirde schrei-
ben). Спряжение c tun проникает довольно широко в литератур-
ный язык XIV—XVI вв., но в более позднее время изгоняется
грамматической регламентацией. Сейчас оно является признаком
демократического просторечия (volkstumliche Redeweise). Поэты
пользуются им в подражаниях народной песне. Ср. у Гёте, в бал-
ладе о «Короле из Туле»: «Die Augen taten ihm sinken».
3. Обозначение модальных отношений.
Для обозначения субъективности высказывания в древнегерман-
ских языках существовал так называемый конъюнктив (точнее
оптатив), имевший, как и индикатив, два времени и образован-
ный с помощью особых суффиксов и частично отличающихся от
индикатива («конъюнктных») личных окончаний. Очень рано,
однако, временные отношения в конъюнктиве оказались погло-
щенными модальными. Конъюнктив может выражать желание,
сомнение, возможность, предположение, причем конъюнктив на-
стоящего времени — преимущественно менее определенные
утверждения (unsicher, aber moglich), конъюнктив прошедшего —
предположения невозможные, противоречащие действительности
365
(так называемый Irrealis). Однако благодаря разрушению старых
форм флективного конъюнктива происходит смешение первона-
чально раздельных сфер его употребления.
Разрушение конъюнктива связано с редукцией качественно
различных гласных окончания в безразличное -е. В прошедшем
слабых глаголов, благодаря редукции суффикса -1-, конъюнктив
формально совпадает с индикативом: древненемецкий индикатив
suohta, suohtos, suohta и конъюнктив suohti, suohtis, suohti дают
уже в средневерхненемецком общую форму suochte, suochtest,
suochte. В настоящем времени, благодаря редукции суффикса -е,
различие окончаний сохраняется только в 3-м лице ед. числа: ср.
др.-в.-нем. индик. stigit — конъюнкт, stige; н.-в.-нем. steigt —
steige; к этому присоединяются 2-е и 3-е лицо сильных глаголов
на -а- и -в-, имеющих умлаут в индикативе: ср. gibst, gibt — gebest,
gebe; fahrst, fahrt — fahrest, fahre. В результате форма конъюнк-
тива прошедшего, как более отчетливая, вторгается в первоначаль-
ную сферу употребления настоящего. Бехагель дает такую схему
употребления этих времен при глаголах, по смыслу требовавших
конъюнктива настоящего (выражение чужого мнения): ег meint
(или ег meinte), ich schlafe (или schliefe), du schlafest (или schlie-
fest), er schlafe (единственная вполне отчетливая форма настоя-
щего), wir schliefen, ihr schliefet, sie schliefen.26 Наконец, и в про-
шедшем сильных глаголов, там, где конъюнктив не дифференци-
рован от индикатива умлаутом, редукция суффикса приводит
к совпадению 1-го и 3-го лица множественного числа и отчасти 2-го
лица единственного и множественного (в зависимости от сохранения
или выпадения -е-): ср. ich schlief — schliefe, du schliefst — schlie-
fest (однако rittest в обоих формах), er schlief — schliefe, wir
schliefen, ihr schlieft — schliefet (rittet в обеих формах), sie
schliefen.
Характерно, однако, что и формы конъюнктива прошедшего
с умлатутом, единственные безусловно дифференцированные от
индикатива, выходят из употребления и в настоящее время почти
исчезли из разговорной речи, хотя еще держатся достаточно прочно
в более консервативном литературном обиходе. Различные типы
этого конъюнктива вытесняются не в одинаковой мере. Наиболее
употребительны формы с умлаутом а от глаголов на -I-----а-:
band — bande, fand — fande, trank — tranke, sang — sange и др.
Конъюнктив на -а от глаголов на -е-а- ослаблен благодаря ши-
роко распространенному в устной речи фонетическому совпадению
е настоящего времени и а конъюнктива; ср. ich gebe — gab —
gabe, nehme — nahm — nahme, lese — las — lase и т. д. Формы
на й от глаголов на -е---а- (перед г, /-[-согласный) оказались
пережиточно изолированными, после того как множественное
прошедшего на -и-, к которому они первоначально примыкали,
было униформировано с единственным: sterben — starb — starben
(ср.-в.-нем. sturben) — stiirbe; helfen — half — halfen (ср.-в.-нем.
hulfen) — hiilfe; wiirde и др.; эта формальная изоляция ослабила
366
старую форму. Наименее употребительны новые конъюнктивы на
б, которые вытеснили старые на й в связи с униформацией прошед-
шего и причастия в глаголах на -ie---о-: biegen — bog — bo-
gen (ср.-в.-нем. bugen) — boge (ср.-в.-нем. biige), bieten — bot —
boten (ср.-в.-нем. buten) — bote (ср.-в.-нем. biite). Подобно про-
шедшему на -о-, униформированному с причастием, конъюнктив
на д распространился широко за первоначальную сферу своего
употребления: ср. pfloge, flochte, fochte, schmolze, befohle, Kobe,
golte, scholte, borste (рядом с последним также galte, schalte,
barste), sponne, begonne, gewonne, schwomme (также gewanne,
schwamme) и др. Несмотря на полную формальную четкость, эти
новые конъюнктивы не получили общего распространения даже
в письменном языке, а в обиходном почти не встречаются. «Коле-
блющихся форм предпочитают избегать», — говорит Бильмане.27
Правильнее было бы сказать, что самое колебание свидетельствует
о неустойчивости формы и ее отмирании.
Прочно сохраняются и имеют большое распространение конъ-
юнктивы от вспомогательных глаголов sein (sei, ware), haben
(habe, hatte), werden (werde, wiirde), а также от глаголов модаль-
ности (mochte, konnte, durfte, miipte). В последних, благодаря
преобладанию модального значения, умлаут распространился и
на инфинитив и на совпадающее с ним по форме множественное
число настоящего времени: ср. konnen, mussen, diirfen, mogen.
В глаголе mogen конъюнктив прошедшего в модальном употре-
блении обособился по значению в самостоятельный глагол:
mochte 'хотел бы’. Это сохранение конъюнктива модальных гла-
голов подсказывает объяснение всего явления падения флектив-
ного конъюнктива в немецком языке. Помимо внутренних противо-
речий формы, еще более значительных, чем в простом прошедшем,
конъюнктив как выражение модальности вытесняется широким
развитием сложных аналитических форм с полувспомогательными
глаголами модальности. Эти неграмматизованные типы сложного
конъюнктива, существовавшие издавна, получают в позднейшие
периоды истории немецкого языка все большее развитие и диффе-
ренциацию. Благодаря возможности выразить с помощью глаго-
лов модальности всевозможные оттенки личного мнения, конъюнк-
тив из категории грамматической превращается в современном
немецком языке в категорию стилистическую, что вполне соответ-
ствует его субъективной природе.
С помощью глаголов модальности могут быть выражены жела-
ние, возможность, необходимость, долженствование с различными
оттенками более решительного или смягченного утверждения:
ср. ich will kommen — ich mochte kommen, ich mu₽ kommen —
ich mii₽te kommen, ich soil kommen — ich sollte kommen, ich kann
kommen — ich konnte kommen, ich darf kommen — ich durfte
kommen и т. д. Выражая сомнение, мы можем вложить в него
разные оттенки: das kann anders sein — das durfte anders sein;
er kann sich irren — er konnte sich irren — er durfte sich irren.
367
Говоря о возможности, мы имеем способы различать dap etwas
geschehen wurde, geschehen konnte, geschehen diirfte. Побуждение
к действию выражается в смягченной форме: er liep ihn bitten,
dap er kommen mochte; в более решительной форме: er befahl
ihm, dap er kame или kommen sollte. Рядом с простым императи-
вом 2-го лица и конъюнктивом настоящего времени 3-го лица как
выражениями приказа (ср. komm! kommen Sie! er komme!) стоит
целая шкала оттенков, выражающих ту же мысль с помощью гла-
голов модальности и других модально окрашенных глагольных
сочетаний: er soil kommen er moge kommen, lapt ihn kommen
(фактитив с модальным оттенком), du wirst heute zu mir kommen
(будущее в значении приказа), wollen die Herren zu mir kommen
(вежливый полувопрос). Условные и часто искусственные формы
вежливого обращения, принятые в буржуазном обществе, весьма
охотно пользуются такими дифференцированными выражениями
модальных отношений. Таким образом, развитие модальности как
субъективно-окрашенной стилистической категории делает не-
нужной и в значительной степени вытесняет старую однозначную
форму конъюнктива.
Объективный характер имеет конъюнктив как выражение не-
реального или обусловленного предположения (Irrealis), и здесь
устаревшие формы успешно заменяет новая грамматическая кате-
гория условного наклонения (Konditionalis), которая развивается,
как уже было сказано, из условного будущего и получает широ-
кое распространение в раннюю новонемецкую эпоху (XIV—
XVI вв.): ср. ich wiirde kommen 'я пришел бы’ (букв, 'я стал бы
приходить’). В некоторых сочетаниях условная форма сохраняет
побочное значение времени (сомнительного будущего): например,
ich wiipte keinen, der das tun wiirde 'я не знаю никого, кто сде-
лал бы это’ ('в будущем’), в противоположность der das tate
'кто сделал бы это’ ('вообще’). Обычно, однако, условная форма
вполне тождественна по значению с конъюнктивом прошедшего
времени: ср. ich wiirde dir das erlauben 'я бы тебе это позволил’,
wenn es zu deinem Vorteil ware. Новая форма вытесняет старую во
всех случаях нереального или обусловленного предположения,
хотя пуристы и литературные консерваторы возражают против ее
употребления в некоторых положениях, например после услов-
ного союза: wenn er kommen wiirde вместо правильного wenn er
kame. Для условных связей, относящихся к прошлому, употребля-
ется так называемый Konditionalis II и Plusquamperfekt конъюнк-
тива: ich wiirde dir das erlaubt haben, wenn es zu deinem Vorteil
gewesen ware. Эти формы встречаются только в письменной речи
и возникают позже остальных.
В диалектах, полностью или частично утративших флективный
конъюнктив, последний заменяется сложным конъюнктивом
с tate: wir taten gerne kommen (вместо wir kamen, wir wiirden
kommen): er sagte, das tate ihm sehr gefallen (. . .das gefalle ihm
sehr) и др.
368
4. Категория вида. Иначе развивается обозначение
видовых отношений. Как показывает сравнение с другими языками
индоевропейской системы, дифференциация вида в глаголе ста-
диально древнее, чем различение времен: видовое значение имеют
аорист, старый флективный перфект (результативный вид), основы
настоящего времени на -п- и на -sk- с значением совершенного
вида (начинательным или герминативным). Такое разнообразие
видовых отношений является признаком более примитивного и
конкретного мышления: на последующих стадиях языкового раз-
вития действие может мыслиться независимо от условий его про-
текания, т. е. более отвлеченно, но зато с более точной фиксацией
в объективном времени; при этом видовые отношения переосмьь
сляются как временные.
В противоположность славянским языкам, сохранившим и
развившим старую систему видов, языки германские не сохранили
почти никаких признаков вида как грамматической категории.
Исключение составляют в готском языке слабые глаголы на -па-
с непереходным перфективным значением, употребляющиеся рядом
с соответствующими сильными глаголами (с имперфективным
значением). Ср. usgutnan 'пролиться’ — giutan 'лить’, usluknan
'открыться’ — lukan 'запирать’, gawaknan 'проснуться’ — wa-
kan 'бодрствовать’, gataurnan 'разорваться’ — gatairan 'разры-
вать’ и т. д. Ср. готск: ni manna giutip wein juggata in balgins fa-
irnjans; ibai afto distairai wein pata niujo pans balgins, jab wein
usgutnip, jab pai balgeis fraqistnand; ak wein juggata in balgins
giutand 'никто не льет молодое вино в старые меха, ибо потом
разорвет вино новое те меха, и вино прольется, и меха испортятся;
но вино новое льют в новые меха’. В древненемецком языке гла-
голы этого типа утратили видовое значение.
На протяжении развития немецкого языка наблюдаются раз-
личные попытки формальной дифференциации видовых отношений;
но ни одна из возникающих форм не грамматизуется. К числу
древнейших, представленных и в других индоевропейских языках,
относятся глагольные префиксы как признак перфективности,
с начинательным или герминативным значением. Ср. русск.
смотрел — посмотрел, смеялся — засмеялся, бежал — прибе-
жал и т. д.; лат. tacere 'молчать’ — conticere 'замолкнуть’.
В современном немецком языке начинательное значение имеют
глаголы с префиксами ent-, er-, auf-\ entbrennen 'загореться’,
entschlummern 'заснуть’, erbeben 'задрожать’, erschallen 'зазву-
чать’, erwachen 'проснуться’, aufbluhen 'расцвести’, aufschreien
'вскричать’ и мн. др.; герминативное значение — глаголы с префик-
сами ge-, er-, ver-, aus-: gefrieren 'замерзнуть’, gerinnen 'свернуться’,
ereilen 'нагнать’, erbitten 'выпросить’, ergreifen 'схватить’, ver-
brennen 'сжечь’, verschlafen 'проспать’, verglimmen'noTyxHyTb’,
aussaugen 'высосать’ и мн. др. При этом основной глагол, как
обычно в немецком языке, имеет значение несовершенного или
24 В- М. Жирмунский
369
совершенного вида в зависимости от контекста (sterben 'умереть’
и 'умирать’, schreien 'кричать’ и 'крикнуть’ и т. д.).
Глагольные префиксы исторически развиваются из наречий
как приглагольных определений. Сливаясь с глаголом в неразрыв-
ное смысловое единство, конкретизуя и видоизменяя его значение,
они теряют смысловую и формальную самостоятельность и в конце
концов могут превратиться в словообразовательный элемент
с доминирующим грамматическим значением. Грамматическое
значение глагольного префикса развивается из его первоначаль-
ного предметного значения — как локального наречия — в опре-
деленной группе глаголов с соответствующим основным значением.
Так, начинательное значение приставки auf- связано с ее первона-
чальным локальным содержанием 'hinauf’ (движение 'снизу вверх’
от исходной точки покоя): aufbrausen 'вскипеть’, aufschreien
'вскричать’ и т. д.; то же относится к приставке ег-, первоначально
обозначавшей 'aus’ (движение 'из’ или 'от’ неподвижной точки):
erbliihen 'расцвести’, erstehen 'восстать’ и т. д.; герминативное
значение aus- развивается в глаголах ausmelken 'выдоить’, aus-
saugen 'высосать’ из локального 'из’ ('совсем’, 'до конца’) и т. д.28
С этим связана ограниченность сферы применения приставок
как приема перфективации: даже те из них, которые наиболее
утратили первоначальное предметное значение (например, ег-,
ver-), не являются отвлеченным грамматическим элементом, при-
менимым ко всякому глаголу, но, образуя с тем или иным гла-
голом неразрывное лексическое единство, по-разному видоизме-
няют его основное значение: например, erschiepen рядом с schiepen
означает не просто 'стрельнуть’ (т. е. изменение вида), но 'застре-
лить’ (т. е. 'убить выстрелом’), с новым предметным значением;
то же самое bitten и erbitten 'выпросить’ (т. е. 'просить с успехом’),
spielen и verspielen 'проиграть’ (т. е. 'сыграть неудачно’) и т. д.
Таким образом, в глаголах с приставками видовость становится
лексической категорией.
В древнегерманских языках, как показал Штрейтберг,29
формальным признаком совершенного вида нередко служит гла-
гольный префикс ga-, утративший полностью свое первоначаль-
ное предметное значение (готск. ga-, лат. cum, слав. съ). Напри-
мер, в готском — ср. Luk. 4, 40: mippanei pan sagq sunno 'пока
солнце опускалось’ — Mark 1, 32: pan gassagq sauil 'тогда солнце
опустилось’; Luk. 10, 24: wildedun saihwan patei jus saihwips,
ja ni gasehwun 'они хотели видеть то, что вы видите, но не уви-
дели’; 1. Ког. 9, 24: swa rinnaip, ei garinnaip 'бегите так, чтобы
добежать’ и т. д. В древненемецком и в средневерхненемецком
префикс gi- также иногда употребляется для обозначения со-
вершенного вида: sach евидел’ — gesach 'увидел’; ср. у минне-
зингера XII в.: do gesach si falken fliegen 'тогда увидела она ле-
тящего сокола’. Благодаря этой грамматической функции при-
ставка ge- закрепляется как обязательный признак причастия II
(gekauft, gebaut и т. д.). Поэтому она отсутствует в глаголах
370
с неотделимыми префиксами, уже имевших перфективное значе-
ние (ср. verschlossen, erschlagen и т. д.). В остальных формах
глагола перфективное ge- уже в средневерхненемецкую эпоху
выходит из употребления.
Из причастий II в зависимости от значения глагола часть
имела перфективное значение. Ср. перфект, gekauft 'купленный’,
gebaut 'построенный’ — имперф. geliebt 'любимый’; перфект,
gefalien 'упавший’ — имперф. gelaufen 'бегавший’. Различие
это сохранилось до сих пор в страдательном залоге — в пер-
фективных глаголах различается два вида: das Haus 1st gekauft
'дом уже куплен’ (наст, результат.), das Haus wird gekauft 'дом
покупается’ (наст, несоверш.); в имперфективных глаголах воз-
можно только одно значение, ег wird (ist) geliebt 'он любим’
(несоверш.). В действительном залоге формы сложного прошед-
шего (перфекта) имели первоначально также видовое (результа-
тивное) значение: ср. ich habe ein Haus gekauft (букв, 'имею дом
купленным’). Однако, как уже было сказано, в современном
языке это значение в большинстве случаев утрачено и заменилось
чисто временным (прош.).
Причастие I, означающее одновременность действия, всегда
имеет значение несовершенного вида. Поэтому, в связи с разви-
тием анализа, в средневековом языке намечается употребление
этой формы с вспомогательными глаголами sein и werden в зна-
чении длительного действия («дуратива»). Ср. в «Тристане» Гот-
фрида Страсбурского: umbe daz ist ег mich allez streichende,
listende und smeichende 'поэтому он все время меня гладит, ли-
цемерит, хитрит’; ег was naht unde tac gedenkende unde trahtende
und angestlichen ahtende umbe sin leben 'день и ночь он думал
и беспокоился о своей жизни’; в сочетании с глаголом в начина-
тельном значении в евангелии Отфрида: др.-в.-нем. wio ег se-
ll ent i wurti 'он прозрел’ (букв, 'стал видящим’). Такие формы
встречаются еще в XVIII в. как архаизм; ср. у Лессинга: ich bin
alle Tage seine Antwort er wartend. В современном языке они
вышли из употребления, в противопложность английскому, где
причастие I на -ing с вспомогательным глаголом было граммати-
зовано как особая категория «длительного» вида (continuous):
I am reading, I was reading, I shall be reading и т. д. В современном
немецком языке для обозначения этих видовых отношений воз-
никли предложные конструкции с инфинитивом: er ist beim Schrei-
ben, am Schreiben, er ist ini Schreiben begriffen.
Видовое (начинательное) значение имеют первоначально соче-
тания инфинитива с начинательными глаголами werden (gistantan,
beginnen). Как уже было сказано, ег wird sprechen, ег ward spre-
chen (еще у Лютера), ег wiirde sprechen первоначально означало
'он станет (стал, стал бы) говорить’; ср. также в «Гильдебранде»
(VIII в.): fragen gistuont 'стал спрашивать’. В новонемецком
первая форма (wird) принимает значение будущего времени,
третья (wiirde) — модальное, остальные выходят из употребления.
24*
371
Для обозначения начала действия обычно пользуются лекси-
ческими сочетаниями с глаголами anfangen, beginnen и др.
К числу лексических сочетаний с видовым оттенком относятся
в новонемецком такие, как например ег pflegt zu sagen 'он обычно
говорит’, ег kam gelaufen 'он прибежал’, es steht geschrieben
'написано’ и некоторые др. Все эти полувспомогательные глаголы
употребляются только в определенных сочетаниях и не получили
общего грамматического значения.
Таким образом, категория вида, несмотря на намечавшиеся
тенденции к грамматическому оформлению, обозначается в сов-
ременном немецком языке в основном неграмматическими сред-
ствами: прежде всего предметным значением самого глагола
(в особенности глаголов с приставками); далее — контекстом
предложения в целом, вполне достаточным для конкретизации
представления о протекании действия; наконец, — там, где это
нужно, — некоторыми вспомогательными средствами (соедине-
нием с глаголами, обозначающими начало или конец действия,
или с адвербиальными определениями, фиксирующими характер
его протекания). В общем в развитом современном языке кате-
гория вида из грамматической становится лексической.
IV. Из области словообразования и синтаксиса
В дополнение к основным вопросам развития именной и гла-
гольной флексии мы коснемся словообразования и синтаксиса
сложного предложения лишь в той мере, в какой это необходимо
для общей картины стадиального развития грамматического строя
немецкого языка.
1. Словообразование. При наличии общей тенден-
ции к редукции окончаний, разрушению флексий и замене их ана-
лизом характерной особенностью современного немецкого языка
является сохранение словообразовательных суффиксов и широ-
кое развитие системы словопроизводства даже на самых новей-
ших этапах развития языка. На этом примере еще раз становится
очевидным, что не всякие неударные слоги подвергаются редукции,
а только те, которые потеряли смысловой вес, функциональную
значимость. Историческая грамматика констатирует, что редук-
ция не распространяется на так называемые «тяжелые суффиксы»
(schwere Ableitungssilben), которые всегда имеют в немецком
языке побочное ударение, — например -heit, -schaft, -bar, -lich,
-tng, -ung, -ig и др. Однако самая наличность побочного ударе-
ния на окончании связана с его смысловой значимостью, от кото-
рой зависит «весомость» данного суффикса. При этом если окон-
чания -heit, -schaft, -bar, -lich еще в историческую эпоху были
самостоятельными словами и потому могли сохранить некоторую
самостоятельность, то такие суффиксы, как -ing, -ung, в особен-
ности -ig, ничем не отличаются с фонетической точки зрения от па-
372
дежных окончаний, и если они сохраняются без изменения, то
только благодаря своему смысловому весу. Утрата значимости
приводит к фонетическому ослаблению и обезличению суффикса,
даже если он исторически восходит к самостоятельному слову;
ср. viertel, drittel < -teil; в диалектах hamfel < handvoll, mnm-
fel < mundvoll; ср.-в.-нем. nachgebur > н.-в.-нем. nachbar > ди-
алект. nochber и др.
Развитие системы словообразования в немецком языке отра-
жает сдвиги, происходящие в области мышления и обусловленные
общественными отношениями. Это особенно ясно на примере
образования новых категорий отвлеченных слов, характеризую-
щем процесс развития абстрактного мышления. Уже на древней-
ших стадиях развития германских языков мы находим опреде-
ленные группы абстрактных имен: например, абстрактные от
прилагательных (Adjektivabstrakta)- др.-в.-нем. hohi 'высота’,
breiti 'ширина5, tiufi'глубина’ (готск. hauhei, diupei — илиЬаиЫра
"высота’); абстрактные от глаголов (Verbalabstrakta) — др.-в.-нем.
queti 'приветствие’ (от quedan 'говорить’), urteili 'решение’,
'суждение’, toufi 'крещение’ (готск. naseins 'спасение’, daupeins
'крещение’, la^ons 'приглашение’) и др. Сюда же относятся
отглагольные существительные с значением однократного дей-
ствия (и результата действия), образованные с помощью низшей
ступени аблаута и суффиксов -i или-ti: др.-в.-нем. scu? 'Schu|3’ (от
scio?an 'schie|3en’), gu? 'Gu|J’ (от gio?an 'gie|3en’), scrit 'Schritt’
(от scritan 'schreiten’), bi? 'Bi|3’ (от bi?an 'bei|3en’), trunc 'Trunk’
(от trinkan) и др.; или gift 'Gabe’ (от geban), firlust 'Verlust’
(от firliosan 'verlieren’), durft 'Bediirfnis’ (от durfan'bediirfen’),
sculd 'Schuld’ (от sculan 'schuldig sein’) и т. д. Возможно, что
это старые отглагольные прилагательные, близкие по значению
к перфективным причастиям страдательного залога (Partizip II) —
с первоначальным значением 'выстреленное’ (Schu|3), 'вылитое’
(Gu|J), 'подаренное’ (Gift) и т. д.30 Как видно из приведенных при-
меров, степень отвлеченности таких абстрактных существитель-
ных может быть очень различна. Наиболее ранние категории
носят, так сказать, конкретно-абстрактный характер: например,
др.-в.-нем. hohi (готск. hauhei) — конкретная 'вышина’ данной
горы, не 'высота вообще’, или др.-в.-нем. toufi (готск. daupeins) —
конкретный случай 'крещения’, не абстрактное название дей-
ствия; или в особенности scu?, gift — отдельный 'выстрел’ или
'дар’, не процесс 'стреляния’ или 'дарения’. В самом древне-
немецком языке различные степени конкретности и абстрактности
засвидетельствованы употреблением более старых и более новых
суффиксов с формально одинаковым значением. Ср. др.-в.-нем.
hohi 'вышина’ —hochheit 'высота’, в переносном значении —
'величие’; leri конкретная 'пустота’ — lerheit 'пустотность’ и т. д.
Поэтому от прилагательных с отвлеченным, нематериальным зна-
чением абстрактные существительные образуются преимущест-
венно с новым, более отвлеченным суффиксом -heit\ ср. др.-в.-нем.
373
gelichheit' Gleichheit’, einicheit 'Einigkeit*, staetecheit e Statigkeit’;
от существительных christenheit, scalcheit (servitude), tierheit.
Новая ступень абстракции достигается, таким образом, с по-
мощью новых суффиксов, которые в эпоху древненемецкую за-
ново образуются из самостоятельных слов: существительные
с помощью -heit, -scaft, -tuom 'вид’, 'образ’, 'свойство’, 'состоя-
ние’ — например scalcheit 'состояние раба’, einic-heit 'состояние
единства’; прилагательные с помощью -lich 'имеющий вид’, -bari
'несущий’, -haft 'обладающий’ и др. — например manlih (virilis)
'мужественный’ (букв, 'имеющий образ мужа’), dankbari 'благо-
дарный’, warhaft 'правдивый’ (букв, 'обладающий правдой’) и др.
Благодаря сохранению в немецком языке системы словосложения
образование новых суффиксов из самостоятельных слов продол-
жается и в современном языке; ср. -тапп\ Edelmann, Amtmann,
Bauersmann, Biedermann; -vogel\ Spa|Jvogel, Spottvogel, Nachtvogel
Pechvogel; -werk*. Schuhwerk, Backwerk, Triebwerk, Raderwerk;
-voll\ wertvoll, geistvoll, lustvoll, jammervoll, verhangnisvoll;
-los: arglos, ehrlos, herzlos, kinderlos, hoffnungslos и мн. др.
С другой стороны, в древненемецком языке некоторые старые
суффиксы приобретают новые, более отвлеченные значения и соот-
ветственно более широкое распространение, например -ung,
-niss. В готском языке суффикс -ung засвидетельствован только
в собственных именах в патронимическом значении (например,
Amalungi королевский род). В древненемецкой поэзии, например
в евангелии Отфрида (IX в.), он встречается только несколько
раз в отглагольных существительных с конкретно-абстрактным
значением, например manunga 'напоминание’, samanunga 'собра-
ние’ и др. Развитие собственно отвлеченных существительных
на -ung развертывается с чрезвычайной интенсивностью в древне-
немецкой клерикальной прозе VIII—X вв. при переводах с ла-
тыни: sceidunga 'divisio’, werkunga 'operatio’, zeigunga 'deter-
minatio’, ilunga 'festinatio’ и мн. др.; одновременно развиваются
абстрактные на -niss\ kihaltnissa 'pudicitia’ ('воздержание’),
furstantnessi 'intellectus’ ('понимание’), forla^nessi 'remissio’ ('от-
пущение’) и т. д. Таким образом, изменение языковой структуры
происходит под влиянием латыни, изучение которой в монастыр-
ских школах было связано с усвоением более отвлеченных и слож-
ных форм богословско-философского мышления. Работу монахов-
переводчиков древненемецкой эпохи продолжают немецкие ми-
стики XIV в. (мейстер Эккарт). Наибольшее распространение
отглагольные существительные на -ung получают в научной
и технической лексике XIX—XX вв.. наравне с широким исполь-
зованием субстантивированных инфинитивов.
Последней стадией развития суффиксации является заим-
ствование интернациональных суффиксов латинско-греческого
происхождения (нередко во французском оформлении), про-
никающих в язык вместе с интернациональной лексикой науки
и культуры. Ср. Sozialismus, sozialisieren, Sozialisierung, So-
374
%
zialist, sozialistisch; Biologie, Philologie, Soziologie; Aristokratie,
Demokratie, Biirokratie; biologisch, aristokratisch; Biologismus,
Aristokratismus и мн. др. Суффиксы этой категории представляют
интернациональную словообразовательную систему, развившуюся
в рамках отдельных национальных языков в связи с интернацио-
нальными тенденциями в языке капиталистического общества.
2. Развитие сложного предложения. Проб-
лема развития сложноподчиненного предложения, поставленная
в советской лингвистике Л. П. Якубинским, разработана на не-
мецком материале Т. В. Сокольской.31 Как показывает Сокольская,
в германских языках подчинение развивается из сочинения или
простого сопоставления, подчинительные союзы — из сочини-
тельных или из указательных местоимений и местоименных наре-
чий главного предложения. При этом более отвлеченные, логи-
ческие формы подчинительных союзов (целевые, причинные,
условные, уступительные) развиваются из более конкретных
с пространственно-временным значением (ср. переход от времен-
ного к причинному употреблению в союзах ср.-в.-нем. ни епип’,
do cda’, sit cseit’, die wile > н.-в.-нем. weil, соотношение вре-
менного и условного wann и wenn и др.). На ранних стадиях раз-
вития германских языков (в готском, древненемецком) подчинение
еще мало развито и имеет нерасчлененный, диффузный характер:
один и тот же союз выражает различные синтаксические связи,
которые с точки зрения логической и в более развитом языке под-
лежали бы дифференциации и специализации. Таким всеобщим
подчинительным союзом, как бы выражающим отношение подчи-
нения как таковое, является в готском языке союз ei (слав, и,
греч. ei), прибавляющийся к указательным и личным местоиме-
ниям для выражения относительной связи и функционирующий
самостоятельно в значениях местном и временном (da, wo),
относительном, а также в предложениях дополнительных, следст-
венных (dap), причинных (damit). Аналогичную роль играет в ан-
глосаксонском языке указательная частица ре, в которой относи-
тельное значение развивается из указательного, или в древне-
северном языке — союз ег. Б средневерхненемецком указательное
местоимение среднего рода daz употребляется в значениях союза
относительного, дополнительного, следственного, причинного, це-
левого, условного; в дальнейшем происходит уточнение и диф-
ференциация значения в сочетаниях с соответствующими наре-
чиями и предлогами: например, bis daP, so daP, als daP, ohne dap
(ср.-в.-нем. sit da^, unze da^, nu da^, ze diu da^ и др.).
Таким образом, дифференциация и усложнение системы под-
чинения есть явление относительно позднее, свидетельствующее
о высокой ступени развития языка и мышления. Развернутая
система логических форм подчинения, существующая в совре-
менном немецком литературном языке, складывается в раннем
новонемецком, в эпоху образования национального языка (XIV—
XVI вв.), и продолжает развиваться в последующие столетия.
375
На этой стадии возникает множество подчинительных союзов,
позволяющих дифференцировать всевозможные логические связи
и отношения: условные — falls 'в случае если’, insofern, soweit'noc^
кольку’; уступительные — obgleich, obwohl, оЬэсЬоп'хотя’, trotzdem
da|J * несмотря на то, что’; целевые — urn, urn zu, damit 'чтобы’;
следственные so dap 'так что’; временные — wahrend, indem
'в то время как’, so oft als 'всякий раз когда’, sobaid als 'как
только’ и мн. др. В то же время устанавливается особый порядок
слов придаточного предложения и регламентируется употребле-
ние конъюнктива как признака подчинения.
В новонемецкую эпоху соответственно осложняется и система
сочинения. Рядом со старыми простейшими союзами соединения
и противопоставления (ср.-в.-нем. unde, ouch, oder, doch, aber —
в значении 'еще раз’, позже — 'но’, и немн. др.) дифференциру-
ются всевозможные формы противоположения, ограничения, ис-
ключения и причинно-следственных отношений, выраженных
новыми союзами, например allein 'однако’, dagegen 'напротив’,
dennoch'все-таки’, sogar 'даже’, nichtsdestoweniger 'тем не менее’,
au₽erdem 'кроме того’, demnach 'итак’, deshalb, deswegen, darum
'поэтому’, folglich 'следовательно’ и др.
Таким образом, в эпоху образования новонемецкого языка
в области развития сложного предложения наблюдаются те же
самые явления, которые мы уже констатировали в предложном
склонении: создается система грамматических форм для выраже-
ния сложных логических отношений развитого отвлеченного
мышления.
Характерно, что крестьянские диалекты не проделали этого
развития и сохранили более архаический тип синтаксических
отношений. Большинство перечисленных новых союзов подчи-
нения и сочинения в диалектах не встречается. Во многих слу-
чаях логические отношения между предложениями , остаются
невыраженными и наблюдается простое сопоставление предло-
жений — там, где мы ожидали бы встретить логическое или грам-
матическое подчинение или более сложную форму сочинения.32
V. Синтетические тенденции
Одновременно с развитием аналитического строя в немецком
синтаксисе обнаруживается противоборствующая тенденция к син-
таксическому объединению на новой основе. Эта тенденция про-
является особенно активно на стадии развитого анализа, т. е.
в новонемецком национальном языке в его письменной форме.
Взаимодействием и борьбою этих противоположных тенденций
определяется развитие современного немецкого синтаксиса.
1. Словосложение. Это явление встречается в сход-
ных формах во всех языках индоевропейской системы, но в не-
которых (например, в греческом, в санскрите, в германских
376
языках) оно получило особенное развитие. Сравнение с языками
других систем позволяет рассматривать словосложение индо-
европейских языков как пережиток более древнего строя речи.
Мы находим словосложение в его наиболее примитивной форме
в языках аморфных, например в китайском, где оно служит
основным способом образования новых слов — понятий.
Cp.Pek-kin 'Nordhauptstadt’ (Пекин), Nam-kin 'Siidhauptstadt’
(Нанкин), san-ti'hochster Herr’ ('бог’), thientsl 'Himmelssohn’ ('им-
ператор’) и т. д. Определяющее слово ставится в неизменном
виде перед определяемым, как в обычной синтаксической связи.33
Более сложное объединение дают языки инкорпорирующие,
например мексиканский, в котором слово, обычно оформленное
с помощью суффикса, теряет этот суффикс, вступая в соединение
с другим словом. Ср. teotl 'бог’ (суфф. 7Z) — teo-tlatoli 'божест-
венное слово’ ('Gotteswort’); tetl 'камень’ — te-kalli 'каменный
дом’ ('Steinhaus’) и т. п.34 Древнейшая форма словосложения
в индоевропейских, в том числе и в германских языках строится
также по типу: определение-|-определяемое. При этом определяю-
щее слово имеет форму чистой именной основы, по существу
не являясь ни существительным, ни прилагательным, что позво-
ляет возводить происхождение этого типа синтаксического объ-
единения к такой стадии развития языка, на которой существи-
тельные еще не были дифференцированы от прилагательных и син-
таксическая функция имен определялась порядком слов.
Ср. готск. fotubaurd' Fu Pbrett’ с значением 'скамейка для ног’, букв.
'нога-|-доска’ (fotus 'нога’); skauda-raips 'Schuhriemen’, букв,
'башмак-ремень’ и мн. др. Такие соединения получили название
«полносложных» (eigentliche Komposita). Они широко распро-
странены на всех стадиях развития немецкого языка, причем
благодаря редукции гласный основы (так называемый «соедини-
тельный гласный» — ср. русск. пароход, мореплаватель) выпа-
дает, так что с точки зрения современного языка «полносложные»
соединения такого типа производят впечатление простого объеди-
нения существительных без каких бы то ни было признаков
флексии как формального выражения синтаксической связи.
Ср. Dampf/schiff'пароход’, Dampf/schiff/gesellschaft 'пароходное
общество’ и т. д. С точки зрения семантической для полнослож-
ных соединений чрезвычайно характерна диффузность синтакси-
ческой связи между двумя элементами соединения. В переводе
на дифференцированный язык развитой падежной и предложной
системы эти сочетания оказываются многозначными: Dampfschiff
означает'корабль, двигающийся паром (mit Dampf), Zahnschmerz
'боль в зубах’ (in den Zahnen), Dachfahne 'флаг на крыше’ (auf
dem Dache), Goldfaden 'нить из золота’ (aus Gold), Wasser mangel
'недостаток в воде’ (an Wasser), Staubregen 'дождь как пыль’
(wie Staub) и т. д. По существу, однако, эта дифференциация при-
вносится грамматическим анализом в сочетания такого типа извне
и в своей логической определенности не соответствует той нерас-
377
члененной связи определяющего и определяемого слова, Которая
характерна для более примитивной стадии языкового развития.
Наиболее удовлетворительным образом большинство полнослож-3
ных соединений может быть переведено прилагательными: Dampl-
schiff 'паровой корабль’, Zahnschmerz 'зубная боль’, Goldfaden
'золотая нить’. Фактически они конкурируют с прилагательными
как флективно оформленными определениями, превратившимися
на более поздней стадии развития в особую часть речи. «Основной
показатель архаичности строя немецкой речи, — говорит по этому
поводу Н. Я. Марр, — отсутствие или бедность имен с оформле-
нием качества или свойства, в том числе прилагательных, в связи
с агглютинативным и даже синтетическим сочетанием слов. . .
Отсюда происходит легкость образования составных слов и щед-
рое, все растущее использование этого приема при создании но-
вых терминов или при усвоении их из иностранных языков».35
С развитием флексии первый элемент сложного слова нередко
начинает осмысляться и оформляться как родительный (опреде-
лительный) падеж, например Mannessalter, Lowenfell и т. д.
Такие соединения называются «неполносложными» (uneigentliche
Komposita) и в готском языке еще не встречаются. Опорой для их
развития является обычный в средневековом немецком языке по-
рядок слов в синтаксических сочетаниях родительного определи-
тельного с определяемым словом: др.-в.-нем. hanin fuo? 'der Fu[3
eines Hahns’ —'Hahnenfup’, wolfes milch 'die Milch eines Wol-
fes’ — 'Wolfsmilch’; ср.-в.-нем. der sanges meister, nach kuneges
site. В дальнейшем благодаря изменению порядка слов в ново-
немецком и расширенному употреблению артикля неполпослож-
ные соединения оказались изолированными от обычных синтакси-
ческих сочетаний с родительным падежом. В то же время
генетивпые -s и -п утратили значение падежных окончаний: -s рас-
пространилось в неполносложных словах на женский род —
ср. Arbeitstag, Hochzeitsfest при обычном родительном der Arbeit,
der Hochzeit; -n сохранилось в словах слабого склонения, утра-
тивших это окончание в новонемецкую эпоху, — ср. Sonnenfin-
sternis, Erdensohn — род. п. der Sonne (ср.-в.-нем. sonnen), der
Erde (ср.-в.-нем. erden); Hahnenfeder, Schwanenhals — des Hahns
(ср.-в.-нем. hanen), des Schwans (ср.-в.-нем. swanen). Таким об-
разом, в современном языке падежная флексия в неполнослож-
ных соединениях имеет тенденцию превратиться в простую «со-
единительную согласную», в формальный признак сложного слова.
Стадиально более поздний тип сложного слова представляет
соединение прилагательного-определения с существительным, так
как оно предполагает существование прилагательных как особой
грамматической категории. Однако и здесь в древнейших полно-
сложных соединениях первый элемент является именной основой
без всякого падежного оформления, т. е. в сущности именем без
формальных признаков существительного или прилагательного:
ср. готск. fruma-baur 'первородный’. В древненемецком языке.
378
благодаря редукции гласной основы, первый элемент такого сое-
динения совпадает с несклоняемой формой прилагательного: ср.
jung-frouwe 'Jungfrau’, wih-rouch 'Weihrauch’ (др.-в.-нем. wih
'святой’). В древненемецком несклоняемая форма, исторически
восходящая к старому именительному падежу именного склоне-
ния прилагательных, может употребляться как определение,
например der guot man; ср. архаич. jung Sigfrid, schon Rotraut,
совр. Rot Front. Поэтому на стадии флективной такие соединения
могут быть переосмыслены и получить дальнейшее распростране-
ние как синтаксические сочетания. В дальнейшем развитии не-
мецкого языка, при закреплении несклоняемого прилагательного
в предикативной функции, сложные слова в своей архаической
структуре оказываются снова изолированными от обычных син-
таксических сочетаний.
Особую группу образуют полносложные соединения прилага-
тельного с существительным, имеющие в целом значение прила-
гательного, так называемые bahuvrihi — ср. греч. р68о-8ахто-
Хо; 'розоперстый’, гомеровский эпитет зари ('розоперстая Эос’),
букв. 'Эос — розовый палец’, лат. capri-cornus 'козерогий’, букв.
'коза-|-рог’ ('козерог’). Этот тип соединений также является пере-
житком стадиально более древней эпохи, когда прилагательные
формально еще не обособились от существительных и различие
между именами определялось их синтаксической функцией. В гер-
манских языках примеры bahuvrihi немногочисленны. По этому
типу построены, например, прилагательные на -lich (готск.
-leiks): существительное lich (leiks), означающее 'тело’, 'образ’,
становится суффиксом прилагательного в сочетаниях готск.
waira-leiks, др.-в-нем. mannalih и т. п., обозначающих 'мужест-
венный’, 'мужеподобный’, (букв, 'мужской образ’, т. е. 'имеющий
образ мужа’); ср. также числительные ein-falt, zwi-falt (готск.
ain-falps) или ein-fach, zwi-fach, maneg-fach, где слова fait
:складка’ от falten и fach 'отделение’ переосмысляются как суф-
фисы прилагательных. В современном языке этот архаический
тип сохраняется в прозвищах вроде Langbein, Dickkopf, Dummkopf,
GroPmaul, Einhorn 'единорог’, Rotkehlchen 'красногрудка’ и т. п.
Полносложные соединения с первым глагольным элементом
обычно рассматриваются как более поздний тип: хотя они встре-
чаются во всех древнегерманских языках (в том числе и в готском
в нескольких примерах), однако только в новонемецкую эпоху
они получают широкое распространение. Переход от номиналь-
ного первого элемента к вербальному мог произойти через отгла-
гольные существительные: Raubvogel, Tanzlust, Schlafkammer,
связанные с отглагольными существительными Raub, Tanz,
Schlaf, могли быть переосмыслены как соединения с глаголами
rauben, tanzen, schlafen; по этому типу образовались затем соеди-
нения вроде Ziehbrunnen, Brecheisen, Bindfaden, Schreibfeder,
Schopfeimer, Sterbeziminer, Lebemann и др., в которых рядом
с глаголом нет соответствующего существительного. Синтакси-
379
ческое отношение между обоими элементами, как обычно в полно-
сложных соединениях, имеет диффузный (нерасчлененный) ха-
рактер. Выраженное в категориях флективных и предлобных
отношений, оно раскрывается в своей многозначности: например
Schreibfeder — Feder zum Schreiben, Schopfeimer — Eimer zum
Schopfen, Ziehbrunnen — ein Brunnen, aus dem man Wasser zieht,
Sterbezimmer — ein Zimmer, in dem ein Mensch gestorben ist
и т. п. При этом неоформленная глагольная основа, поставленная
перед существительным, превращается в диффузное именное
определение, так что глагол функционирует как имя, точнее —
снимается различие между именем и глаголом, как в языках
дофлсктивного строя.
Иное синтаксическое отношение усматривают в таких соеди-
нениях. в которых второй элемент является отглагольным су-
ществительным, а первый — объектом действия этого существи-
тельного: ср. готск. faihu-skula 'должник’ (букв. ' Viehschuldner’),
wein-drugkja 'пьяница’ ('Weintrinker’); др.-в-нем. meta-nemo
'мздоимец’ и др.; нем. Traumdeuter, Wassertrager, Hofhaltung
и мн. др. С точки зрения языка с развитой падежной системой
мы имеем в первом элементе таких соединений винительный падеж,
зависящий от глагола, как прямое дополнение. Однако, поскольку
отглагольное существительное не может управлять винительным
падежом, мы с таким же правом могли бы рассматривать этот
элемент как родительный дополнительный (genetivus objectivus):
Trinker des Weines, Deuter von Traumen. Такой интерпретации
синтаксической связи между элементами сложного слова вполне
соответствует позднейшее флективное оформление таких соеди-
нений по типу неполносложных с родительным падежом:
ср. Freudenspender 'Spender der Freuden’, Kindererzieher 'Erzieher
der Kinder’, Friedensbrecher 'Brecher des Friedens’ и даже Arbeits-
geber 'Geber der Arbeit’ — с мнимым генетивным -s. По существу
мы и здесь имеем связь определяющего слова с определяемым,
которая при дальнейшем развитии флективного строя дифферен-
цируется с установкой на более сложные и расчлененные син-
таксические отношения.
Из этого типа словосложения развивается так называемое
Zusammenbildung, т. е. «сращение» синтаксической группы в слож-
ное слово с помощью словосложения и словообразования одно-
временно — словообразование от синтаксической группы:
ср. Dank sagen — die Danksagung, frei lassen — die Freilassung,
breite Spur — breitspurig и т. д. Общим признаком синтаксических
сращений является невозможность разложения соответствующего
сложного слова на составные части: второй элемент (-sagung,
-lassung, -spurig) как самостоятельное слово не встречается и в ка-
честве существительного не может управлять в предложении
ни прямым дополнением в винительном падеже, ни наречием
(вроде die Sagung Dank, die Lassung frei!), ни в более сложных
380
случаях — предикативным прилагательным или предложной
конструкцией (ср. Kundgebung, Zuhilfenahme и т. д.).
Особенно большое распространение в современном языке по-
лучили синтаксические сращения типа отглагольных существи-
тельных. Как уже было сказано относительно более простых
случаев, принадлежащих к предшествующей категории полнослож-
ных соединений, в основе таких сращений лежит диффузное отно-
шение между определением (I) и определяемым (II), позволяющее
с помощью отглагольных существительных субстантивировать
целые синтаксические группы. Приведем несколько примеров
с последовательным осложнением конструкции: 1) Grablegung,
Haushaltung, Danksagung — Wertschatzung, Schadloshaltung —
Instandsetzung, Auflerachtlassung; 2) Briefausgabe, Geldausgabe,
Kreuzabnahme — Zuhilfenahme, Inangriffnahme; 3) Das Sichver-
gessen, das Sichuberheben, das Sichgehenlassen, das Umsichgreifen—
das Na(3werden, das Rotwerden, das Sprodetun, das Aufrechtstehen,
das Schonschreiben, das Auflerlandessein и др. Ср. также соответ-
ствующие имена действующих лиц (nomina actionis): der Freiden-
ker, der Nichtstuer, der Schnellaufer, der Schonschreiber, der Hun-
gerleider, der Balgentreter и пр. Хотя зачатки этого явления
наблюдаются уже в готском и древненемецком, однако полного
своего развития оно достигает только в новонемецком национальном
языке. В письменной форме этого языка оно выступает, конкури-
руя с придаточными предложениями, как особая форма синте-
тического объединения на синтаксической основе. Ср. mit Zu-
grundlegung folgender Grundsatze (=wobei folgende Grundsatze
zugrunde gelegt werden sollen); wir verzichten auf die Fortsetzung
dieser Arbeit wegen Inangriffnahme eines neuen Planes (=weil
ein neuer Plan in Angriff genommen worden ist); das schnelle Um-
sichgreifen dieser Krankheit scheint gefahrlich zu werden (=da|3
diese Krankheit schnell um sich greift. . .) и т. д. В современном
английском языке аналогичную роль «сокращенного» придаточ-
ного предложения играет так называемый герундий на -ing:
ср. англ, the possibility arises simply from people not understan-
ding this truism — нем. diese Moglichkeit entsteht nur durch das
Nichtbeachten folgender Grundsatze. По указанию Есперсена,
эта конструкция получила широкое распространение в англий-
ском языке лет 200 назад.36 И в том и в другом языке мы имеем
явление нового синтаксического синтеза на основе развитого ана-
литического строя.
На протяжении всей истории немецкого языка сложные слова,
будучи по своему происхождению пережиточными синтаксичес-
кими конструкциями инкорпорирующего типа, конкурируют
с обычными для флективного строя синтаксическими группами.
Вместо Rechte des Volkes можно сказать Volksrechte, вместо Fell
eines Lowen — ein Lowenfell, вместо Reise zu Lande — Landreise,
вместо Wunde am Fu|3e — Fu|3wunde, Proze(3 wegen Meineid —
Meineidsproze(3, die hohe Schule — die Hochschule, der geheime
381
Rat — der Geheimrat, ein Mann, der Hunger leidet — ein Hun-
gerleider и мн. др. Только в тех случаях, где сложное слово объ-
единяется и обособляется в семантическом отношении как новое
понятие, оно вытесняет конкурирующий синтаксический оборот:
ср. das Dampfschiff 'пароход’, das Fensterbrett 'подоконник5,
der Edelmann 'дворянин’ — рядом с der edle Mann 'благородный
человек’ и т. д.
В современном немецком языке словосложение получило
небывалое распространение в словаре науки и техники. При со-
здании научной и технической терминологии дифференциация
синтаксических отношений с помощью падежных окончаний,
артиклей и предлогов представляла существенные неудобства;
полносложные соединения типа Dampfschiffgesellschaft, Kraft-
wagenhalle, Oberkinnbackenhohle, не уточняя синтаксической
связи между элементами соединения, позволяли в то же время
включить в этот термин необходимые семантические единицы.
Таким образом, архаическая система словосложения получила
новое осмысление и применение на новейшем этапе языкового
развития. Аналогичные тенденции к синтезу в терминологическом
творчестве наблюдаются и в других языках, но формы осущест-
вления этих тенденций могут быть различны в зависимости от строя
данного языка. Так, в русском языке, сохранившем систему
флексий в гораздо более полном виде, эти тенденции осуществля-
ются в корневых сокращениях типа комсомол, совнарком, нарком-
прос и т. п., т. е. с помощью отсечения окончаний. Совнархоз
в этом смысле соответствует немецкому сложному слову типа
Volkwirtschaftsrat. Между сложными словами и корневыми со-
кращениями имеется ряд переходных случаев. Ср. Днепрострой
(Днепровское строительство), Свирьстрой, В олго-Дон-канал,
Молокосоюз и т. д. «Так, язык одного состояния, — справедливо
отмечает акад. И. И. Мещанинов, — вырабатывает тенденцию
к слиянию в одно слово целого ряда слов даже с сохранением
их грамматического оформления, тогда как другие разбивают
эти слова в одиночку или же сокращают, сливая в одно слово:
Oberkriegsvolkskommissar, по-русски „главный военный народный
комиссар44 и в современном сокращении уже слогами „Нарком-
военмор44!».37
2. Порядок слов. С развитием аналитического строя
обыкновенно бывает связано установление более или менее проч-
ного порядка слов. Порядок слов, окончательно устанавливаю-
щийся в немецкой письменной речи в эпоху формирования на-
ционального языка, имеет некоторые особенности, позволяющие
говорить о своего рода синтаксическом «включении»: наиболее
тесно связанные между собой элементы синтаксической группы
раздвигаются на крайние позиции, и в эту рамку вставляются
связанные с ними подчиненные элементы, так что вся группа обра-
зует как бы целостное единство, развернутое синтаксическое
«слово». Наиболее отчетливо эта тенденция выступает в группе
382
сказуемого: при нормальном (логическом) строении предложения
сложные сказуемые разного типа образуют рамку, в которую
включаются все приглагольные определения; при этом сложные
глагольные формы и глаголы с отделяемыми приставками трак-
туются, как прочие сложные сказуемые: ср. Diese Nachricht war
mir und meinen Freunden sehr angenehm. — Er legte den Hut
im Vorzimmer ab. — Ich habe eine gro(3e Reise nach Frankreich
gemacht. — Ich werde morgen den ganzen Tag arbeiten. — Ich
kann diesen Menschen nicht vertragen. — Ich fand das Gleichnis
nicht sehr glucklich. — Ich entschlofy mich, so bald wie moglich
nach Moskau zu reisen. — Meine Hoffnungen fahren nach dieser
Niederlage zum Teufel и т. д. При этом из подчиненных членов
предложения, включенных в рамку, наиболее тесно связанные
с глаголом определения отодвигаются на последнее место, при-
мерно в следующем порядке (считая от конца предложения):
прямое дополнение, косвенное дополнение, обстоятельственные
слова. Например, die Erfindung ipjrd/nachstens/ihrem Urheber
viel Gsi&leinbringen. В придаточной конструкции все предложе-
ние объемлется подлежащим и личной формой глагола, за которой
следуют остальные части предложения в обычном обратном по-
рядке: . . . da|3 die Erfindung nachstens ihrem Urheber viel Geld
einbringen wird.
В группе существительного с его определениями такую рамку
образует артикль и существительное, между которыми стоит
прилагательное с предшествующими ему определениями: eine mir
sehr angenehme Gabe] eine in jeder Beziehung geistreiche Person]
в особенности с причастиями: das unter einer Palme schla-
fende Kamel] der von unseren Freunden gewunschte Erfolg.
Объединению группы существительного с артиклем и при-
лагательным-определением способствует наличность общего па-
дежного окончания, обычно стоящего при артикле (или место-
имении). Когда артикль имеет дифференцированное падежное
окончание, прилагательное, как известно, ставится в слабом
склонении, т. е. имеет общее окончание, не дифференцированное
по роду, числу и падежу (-еп, -е): der gute Mann, des guten Mannes,
dem guten Manne, den guten Mann, die guten Manner . . . die gute
Frau der guten Frau ... die guten Frauen и т. д. Если при артикле
и местоимении нет дифференцированного окончания, оно появля-
ется при прилагательном, как форма так называемого сильного
(местоименного) склонения. Ср. в именительном падеже: ein
(mein, dein . . .) guter Freund, ein (mein) gutes Kind. При отсут-
ствии артикля или местоимения дифференцированные (место-
именные) окончания сильного склонения получает прилагатель-
ное: ср. guter Freund, gutem Freunde, guter Freunde, guter Frau,
guter Frauen, gutes Kind и т. д.; однако в родительном падеже
единственного числа мужского и среднего рода, где существи-
тельное сохранило единственное четко дифференцированное па-
дежное окончание -es, прилагательное сохраняет недифференци-
383
рованное слабое окончание -еп: guten Mannes, guten Kindes.
Эти правила устанавливаются окончательно лишь в новонемецком
национальном языке. Они заменяют согласование, характерное
для флективного строя, при котором признак рода, падежа и числЬ.
повторяется при каждом слове подобной именной группы, и эта
новая форма согласования также свидетельствует о более проч-
ном синтезе именной группы, как бы объединяемой общим окон-
чанием.
В отдельных случаях принцип обрамления распространяется
и на обстоятельственные группы: ср. um eine so schone Geschichte
zu erzahlen, ohne auf die Antwort meines Freundes zu warten, um
unserer alten und fiir uns beide so teuren Freundschaft willen и т. д.
Своеобразной формой синтеза в слитных предложениях явля-
ется использование словосложения в группе однородных членов,
объединенных союзом. Ср. Hof- und Staatstheater, Welt- und
Nationalliteratur и др. В настоящее время этот принцип нередко
получает расширенное применение в случаях вроде: Zoll- und
andere Gesetze, um deinet- und des Kleinen willen (Goethe).
Аналогичным образом объединяются однородные группы с оди-
наковым именем при разных предлогах: durch und fiir diesen
Beruf; при этом предлоги могут даже управлять разными паде-
жами: um und neben mir, in und aus dem Zimmer gehen. . . и т. д.
Все эти примеры показывают, что в современном немецком
языке на почве анализа широкое распространение получает тен-
денция к синтаксическому синтезу, собирающему воедино обосо-
бившиеся элементы построенного по аналитическому принципу
предложения. Этим противоборством анализа и синтеза опре-
деляется развитие синтаксической структуры современного не-
мецкого языка.
VI. Заключение
Обзор важнейших явлений строя немецкой речи, предприня-
тый в предыдущих главах, имел целью представить факты немец-
кой грамматики не в неподвижных схемах описательного харак-
тера, а показать их в движении, в становлении, в противоречиях,
обусловливающих направление языкового развития. При этом,
рассматривая грамматическую форму и ее значение в их диалекти-
ческом единстве и взаимообусловленности, мы могли всюду про-
следить ведущую роль значения (семантики), обусловленного
в своем развитии сдвигами в области мышления, переходом его
на более высокую ступень. Основная тенденция, обнаруженная
нами в развитии строя немецкой речи, — тенденция к анализу —
оказалась как в именной, так и в глагольной системе результатом
осложнения и дифференциации смысловых отношений, выражае-
мых грамматическими формами, соответственно более высокой
стадии развития мышления. рГот же общий процесс, с особенно-
384
стями, зависящими от языкового материала и конкретных условий
исторического развития, может быть прослежен и на других ново-
европейских языках (например, на английском, французском
и пр.)., Для самого немецкого языка необходимо прежде всего
более детальное обследование отдельных явлений по памятникам
письменной и устной речи, с точной хронологией и учетом всех
необходимых деталей. Однако уже сейчас можно сказать, что эпохи
больших исторических сдвигов, обозначавшие ломку обществен-
ных отношений и существенную перестройку в области идеологии,
выдвигаются как поворотные пункты и в развитии языка: напри-
мер, переход от родового строя к феодальному, связанный с раз-
витием клерикальной культуры и усвоением наследия латинской
церковной письменности (древненемецкий период, VIII—X вв.),
и начальная стадия разложения феодализма и зарождения капи-
талистических отношений — эпоха развития бюргерской литера-
туры, гуманизма и реформации и зарождения новонемецкого на-
ционального языка (XIV—XVI bb.).jK этому последнему этапу,
в основном определившему грамматическую структуру современ-
ного новонемецкого литературного языка, мы отнесли развитие
предложного склонения в его наиболее сложных логических
формах, грамматизацию системы спряжения с помощью вспомо-
гательных глаголов с объективным будущим, относительными вре-
менами, развитым страдательным залогом и условным наклоне-
нием, развитие развернутой системы сложноподчиненного пред-
ложения, в особенности дифференцированных союзов логического
подчинения (и сочинения) — причинных, следственных, целевых,
уступительных, —и, наконец, как явление синтаксического син-
теза — установление прочного порядка слов. Крестьянские диа-
лекты, не проделавшие большинства этих изменений, в значитель-
ной степени сохранили пережиточные формы синтаксического
строя, характерные для более ранних стадий общественного
развития.
1935 г.
25 В- М. Жирмунский
ДИАЛЕКТОЛОГИЯ И ДИАЛЕКТОГРАФИЯ
ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЯЗЫКОВ
Изучение истории языка как общественного явления в связи
с историей народа, его создателя и носителя, — эта едва ли
не основная задача советского языкознания неизбежно останется
бессодержательной декларацией, если не учитывать, как это тре-
бует марксистское понимание исторического процесса, социально-
классового расслоения общества, классовой борьбы как движущей
силы его развития и их отражения в развитии и общественном
функционировании языка.
Изучение языка как общественного явления, иногда в упро-
щенной форме утверждения о «классовости» языка, с самого
начала развития советского языкознания занимало весьма видное
место в нашей лингвистической науке, составляя в известной
мере ее методологическую специфику. В Институте языкознания
в Ленинграде с конца 20-х годов в течение ряда лет работал под ру-
ководством автора данной статьи кабинет социальной диалекто-
логии, объединявший полевую работу по собиранию диалектоло-
гических материалов по «языку деревни» и «языку города» с мето-
дологическими усилиями, направленными на изучение языка
как общественного явления и его исторически обусловленной
социальной дифференциации.
Эти теоретические разыскания, в особенности творческая ини-
циатива Л. П. Якубинского, выдающегося ученого, вышедшего
из школы И. А. Бодуэна де Куртенэ, сыграли существенную роль
в новой постановке проблемы национального языка как истори-
ческой категории определенной эпохи и взаимоотношений между
диалектами и их общественно-исторической обусловленностью.1
Представители советской «социальной диалектологии», по край-
ней мере в большинстве своем, не принадлежали к школе
Н. Я. Марра. Основной пафос собственных научных исканий
Н. Я. Марра был устремлен не к современности и не к новым пе-
риодам истории языка и общества, с их более непосредственно
очевидной социально-классовой дифференциацией, а в туманные
дали «доистории» человечества. Данные языкознания, археологии
(истории материальной культуры), этнографии и фольклора
386
в трудах Н. Я. Марра и его школы одинаково должны были слу-
жить раскрытию мышления людей доклассового общества. О ка-
чественных особенностях этого мышления («дологического», «ма-
гического» и т. п.), как и о первобытной культуре вообще,
Н. Я. Марр имел самые романтические представления, перекли-
кавшиеся с господствовавшими в то время новейшими идеалисти-
ческими теориями Л. Леви-Брюля, Э. Кассирера и др. Учение
К. Маркса об общественных формациях и о классовой борьбе
чисто внешним, механическим образом накладывалось на его
рассуждения, сообщая им мнимое подобие марксистского учения
о языке.
В отличие от Н. Я. Марра представители «социальной диалекто-
логии» исходили из анализа языковых отношений современности
или сравнительно недавнего времени (буржуазного общества),
полагая, что непосредственное наблюдение над языковой действи-
тельностью, над живым функционированием языка как социаль-
ным явлением может стать ключом для понимания и более отда-
ленного исторического прошлого.
«Буржуазное общество, — говорит К. Маркс, — есть наиболее
развитая и наиболее многосторонняя историческая организация
производства. Поэтому категории, выражающие его отношения,
понимание его организации, дают вместе с тем возможность
проникновения в организацию и производственные отношения
всех отживших общественных форм, из обломков и элементов
которых оно строится, частью продолжая влачить за собой еще
непреодоленные остатки, частью развивая до полного значения то,
что прежде имелось лишь в виде намека и т. д. Анатомия чело-
века — ключ к анатомии обезьяны».2
Это методологическое указание Маркса сохраняет полную
силу и для вопросов истории языка, и прежде всего для понимания
его социального функционирования и социальной дифференциа-
ции, выступающих отчетливее всего в языке развитого классового
общества, т. е. общества буржуазного.
В качестве примера я воспользуюсь немецким языком —
не только потому, что история немецкого языка и его диалектоло-
гия являются моей основной лингвистической специальностью.
Я думаю, что выбор мой вполне оправдан тем, что немецкий
язык является наиболее ярким примером глубокой и относительно
стойкой диалектной дифференциации и что именно поэтому во-
просы диалектной дифференциации особенно хорошо изучены
в странах немецкого языка.
Как известно, Германия, как классическая страна глубокой
и очень поздней феодальной раздробленности, сохраняет и поныне
в своих диалектах следы этого исторического прошлого. Местные
говоры отличаются здесь чрезвычайной дробностью, отражая
бывшие границы мелких и мельчайших феодальных владений.
В чисто количественном, в особенности в фонетическом, отноше-
нии различия между основными наречиями нередко настолько
387
25*
глубоки, что делают невозможным взаимное понимание между
их носителями. В ряде случаев существуют очень значительные
расхождения между диалектом и общенациональной нормой
литературного языка.
В XVIII в. это положение одним из первых отметил такой
внимательный и глубокий наблюдатель, как М. В. Ломоносов,
долгое время живший в Германии и знавший немецкий язык9
не только по книгам, но и в повседневном употреблении.
«Народ российский, по великому пространству обитающий, —
писал М. В. Ломоносов, — невзирая на дальное расстояние, го-
ворит повсюду вразумительным друг другу языком в городах
и селах. Напротив того, в некоторых других государствах, напри-
мер в Германии, баварский крестьянин мало разумеет мекленбург-
ского или бранденбургский швабского, хотя все того ж немецкого
народа».3
К этому следует добавить высокий социальный уровень диа-
лектных особенностей, которые в разной степени наличествуют
в устной речи во всех социальных слоях немецкого общества.
Исследователи немецких диалектов издавна должны были
обратить внимание на их социальную дифференциацию. Много-
численные замечания по этому вопросу встречаются в работах
по немецким городским диалектам Кельна, Дармштадта, Штут-
гарта, Франкфурта, Пфорцхейма, Берлина, Лейпцига и др.
Особенного внимания заслуживают исследования лейпцигской
школы академика Теодора Фрингса—П. Поленца, Р. Гроссе,
X. Протце, В. Флейшера, Г. Бельмана по диалектам Саксонии
и Тюрингии, проделанные уже в послевоенное время в Германской
Демократической Республике.4
К этим исследованиям примыкает недавно опубликованная
теоретическая брошюра X. Розенкранца и К. Шпангенберга,
специально посвященная проблеме социально-лингвистического
изучения диалектов Тюрингии.5
Все перечисленные авторы ставят вопрос о социальной диффе-
ренциации диалектов не от случая к случаю, а принципиально,
рассматривая ее как «третье измерение» (dritte Dimension), обя-
зательное для всякого диалектологического исследования, рядом
с первым и вторым — пространством и временем. «Социально-
лингвистическое расслоение языка (die sprachsoziologische Schicht-
bildung), — по словам П. Поленца, — необходимо всегда учиты-
вать и для более ранних периодов при объяснении историко-
лингвистических состояний и процессов; это — третье измерение
всякой географической карты. В современности взаимоотношения
между слоями языка представляют доминирующий факт языко-
вого развития, и в особенности в сельских языковых районах
(in landlichen Sprachlandschaften) изменения социально-лингви-
стические составляют основное содержание современных языко-
вых процессов (das Sprachgeschehen der Gegenwart)».6
388
То же утверждает Р. Гроссе: «Необходимо попытаться этим
способом открыть и для истории языка рядом с пространством
и временем третье измерение — расслоение языка по социальным
ступеням (die Abstufung der soziologischen Schichtungen)».7
Немецкие исследователи различают три уровня в социальном
расслоении современного немецкого языка, которые могут быть
обозначены как диалект в собственном смысле (Mundart), полу-
диалект (Halbmundart или Umgangssprache) и национальный лите-
ратурный язык (Hochsprache), в своей разговорной форме обычно
слегка окрашенный в Германии местным произношением («ge-
bildete Umgangssprache», по терминологии П. Кречмера, т. е.
«обиходный язык образованных»).
Термин «полудиалект» (Halbmundart) я предпочитаю ставшему
за последнее время обычным в немецкой диалектологической ли-
тературе Umgangssprache («обиходный язык»), во-первых, ввиду
двусмысленности этого последнего и непоследовательности его
употребления, во-вторых, потому, что первый термин характери-
зует присущее полудиалекту промежуточное положение между
диалектом и разговорной формой литературного языка.
С лингвистической точки зрения полудиалект отличается
от собственно диалекта более или менее последовательным устра-
нением из него тех признаков, которые я когда-то обозначил тер-
мином «первичные», или «примерные» (primare Dialektmerkmale)
в отличие от «вторичных», или «секундарных» (sekundare Merk-
male), — различение, ставшее общепринятым в немецкой диалек-
тологии. Примерные признаки диалекта представляют наиболее
значительные его отклонения от норм литературного языка (или
от других диалектов в условиях смешения), которые именно по-
этому в первую очередь служат препятствием для языкового обще-
ния с инакоговорящими.
Примерным признаком в швабском диалекте является, например,
дифтонгизация долгих д^>ао, ё>ае: graos вм. gros, haox вм.
hox; snae вм. sne, wae вм. we; в верхнегессенском — сужение тех
же гласных в й или i: grus, hux вм. gros, hox; sni, wl вм. sne, we.
В швабском и верхнегессенском полудиалектах эти примерные
признеки регулярно устраняются. Это — закономерный процесс,
происходящий в одинаковых условиях повсюду, независимо
от наличия или отсутствия контакта между соответствующими
местными говорами (например, по моим наблюдениям, во всех
изолированных в иноязычной среде поселенческих диалектах
в нашей стране).
Сохраняются как секундарные признаки диалектные различия
закрытого и открытого е, делабиализации о, й > е, расшире-
ние i, и перед носовыми, характерные для швабского, многие
особенности консонантизма (слабые глухие смычные вместо звон-
ких и т. п.).
Разумеется, понятие примарных и секундарных признаков,
выработанное эмпирически на большом и разнообразном мате-
389
риале, требует в настоящее время углубления и уточнения с фоно-
логической точки зрения. Во всяком случае следует отметить,
что примарные признаки не образуют какой-либо неподвижной,
статически замкнутой группы, — признаки эти отпадают в полу-
диалекте в одинаковой, тоже закономерной последовательности
(например, в швабском сперва graos, haox, потом hoes вм. hais,
потом reaxt, sleaxt вм. rext, slext). Приближение к литературной
норме может быть, таким образом, большим или меньшим.8
Отсюда — важный признак, введенный В. Флейшером в опре-
деление полудиалекта: в то время как диалект в собственном
смысле и литературный язык (как разговорная норма) являются
как бы полюсами расхождения социальных диалектов, полудиа-
лект всегда обнаруживает известный «диапазон вариаций» (Va-
riationsbreite) между этими полюсами, хотя все же заключенный
в известные пределы, за которыми в одном случае полудиалект
переходит в диалект, в другом случае сливается с разговорной
формой литературного языка.9
Каждый из названных трех слоев языка имеет в отличие от дру-
гих своего преимущественного социального носителя. В прошлом
у нас принято было говорить о «крестьянских диалектах», о «ме-
щанских полудиалектах» («язык деревни» и «язык города») и о раз-
говорном языке образованного общества как о «языке господствую-
щего класса». Однако эта прямолинейная «классовая» характе-
ристика социальных диалектов наталкивается на серьезные про-
тиворечия при подходе к ним с точки зрения их социальной
функции.
Образование общенационального языка, говоря словами
К. Маркса, «благодаря концентрации диалектов в единый нацио-
нальный язык, обусловленной экономической и политической
концентрацией»,10 происходит у большинства европейских народов
в условиях развития буржуазных отношений внутри феодального
общества, вместе со становлением буржуазных наций. При этом
общий язык, опирающийся на письменную норму, выступает
в буржуазном обществе с претензией стать языком общенацио-
нальным. Как писал В. И. Ленин, «. . . единство языка и беспре-
пятственное развитие есть одно из важнейших условий действи-
тельно свободного и широкого, соответствующего современному
капитализму, торгового оборота, свободной и широкой группи-
ровки населения по всем отдельным классам, наконец — условие
тесной связи рынка со всяким и каждым хозяином или хозяйчи-
ком, продавцом и покупателем».11
Однако в условиях классовых противоречий капиталистиче-
ского общества эта претензия фактически остается неосуществи-
мой. Знание литературного языка вместе с образованием, а иногда
и простой грамотностью является привилегией господствующих
классов; общенациональный язык в своей разговорной форме
остается «языком образованных», т. е. в основном представителей
господствующих классов. Родным языком широких народных масс
390
продолжают оставаться местные диалекты, хотя они и подвер-
гаются растущему воздействию литературной нормы. Только
в бесклассовом социалистическом обществе, с уничтожением про-
тиворечий между городом и деревней, между передовыми и отста-
лыми районами страны, между умственным и физическим трудом,
впервые в истории создаются предпосылки для подлинного един-
ства языка, для его действительно общенародного характера.
Основными носителями диалектов в современном буржуазном
обществе (в том числе и в странах немецкого языка) являются
крестьянство и в меньшей степени мещанство (городская мелкая
буржуазия — мелкие торговцы, ремесленники, мелкие служащие
и т. п.).
Крестьянин в буржуазном обществе, несмотря на юридическое
раскрепощение (во многих частях Германии и Австрии только
после революции 1848 г.), продолжает оставаться экономически
прикрепленным к своему клочку земли. Его хозяйственная жизнь
и повседневное бытовое общение ограничены семьей и деревней,
за пределами которой он знает только ближайшее базарное ме-
стечко. Он ограничен в своем кругозоре провинциальной замкну-
тостью сельской жизни. Объединяющие тенденции, которые осу-
ществляются в национальном литературном языке, и прежде всего
в письменной, грамматически нормализованной форме этого языка,
проникают в крестьянские диалекты только вместе с процессом
индустриализации (в Германии — начиная с 80-х годов прош-
лого века, особенно интенсивно в период между двумя мировыми
войнами), иными словами, лишь в меру разложения самого кре-
стьянского (аграрного) уклада процессом капиталистического раз-
вития.
Переходное положение между крестьянскими диалектами и
разговорной речью «образованных» занимают, как уже указыва-
лось, городские полудиалекты, очень прочно сохранившиеся в ка-
честве разговорного языка демократических народных масс в не-
которых областях немецких земель, в особенности на юге.
Разобщенность мелких городских производителей способ-
ствовала сохранению раздробленности этих так называемых
мещанских говоров, как это наблюдалось в более мелких городских
центрах, не имевших до недавнего времени крупной промышлен-
ности. Однако по сравнению с крестьянством городская мелкая
буржуазия втягивается более непосредственно в процесс капита-
листического производства; будучи сосредоточена в городах,
она имеет хотя и скудную, но все же более значительную долю
в образовании и культуре. Влияние нормы общенационального
языка было здесь более давним и более значительным.
Следует при этом учесть, что в отличие от времен Ломоносова
норма литературного языка в ее разговорной форме, более или
менее окрашенной местными особенностями диалекта, активно
или пассивно усваивается говорящими на диалекте как некий
второй социальный вариант родного языка. Проводниками этих
391
влияний, в разной степени интенсивных, являются школа, цер-
ковь, военная служба, работа в городе, книга и газета, а в настоя-
щее время в особенности радио и телевидение, а также растущая
возможность и необходимость речевого общения с представите-
лями разных классов в более широких рамках современного,
уже не аграрного, а промышленного государства.
Наличие этого второго литературного варианта общенародного
языка, выступающего с авторитетом общенациональной и социаль-
ной нормы, создает ситуацию своеобразного двуязычия говорящие
на диалекте (или, по новой американской терминологии, «диглос-
сии»),12 которая определяет пути развития как диалектов, так
и полудиалектов на современном этапе.
При наличии такой лингвистической ситуации социальное
расслоение деревни под влиянием прогресса капиталистического
развития приводит к дифференциации крестьянских диалектов.
С одной стороны, верхушка села — богатые крестьяне — тянется
за городом, перенимает от него моды, хочет говорить «по-образо-
ванному». Диалект в таких условиях утрачивает свои примерные
признаки, становится полудиалектом.
С другой стороны, процесс пролетаризации деревни — сезон-
ные отхожие промыслы, уход в город на работу, временную или
постоянную, — может способствовать тем же тенденциям, хотя
и в другой части крестьянской среды.
Таким образом, разложение крестьянских диалектов происхо-
дит одновременно с двух концов. Наибольший консерватизм
в языковом отношении проявляют середняцкие элементы деревни
в районах, отдаленных от промышленных центров и преимуще-
ственно земледельческих.
Существенные различия в условиях растущего воздействия
литературной общенациональной нормы и городского полудиа-
лекта обнаруживает употребление диалекта рядом поколений.
Р. Гроссе прослеживает в рамках одной семьи последовательное
отпадение примарных диалектных признаков: от старого деда,
говорящего в основном на диалекте, до внуков, которым такое
произношение уже представляется забавным и которые говорят
между собой на полудиалекте, приближающемся к местной форме
разговорного языка, хотя и не достигающем этого предела.
Но такая дифференциация наличествует не только в той же
деревне или семье, она присутствует также у каждого индивидуаль-
ного носителя диалектной речи, в зависимости от социальной
функции говорения, — прежде всего от ситуации разго-
вора и от собеседника. Крестьянин, родным языком
которого является диалект, иначе говорит в повседневной беседе
со своим односельчанином, товарищем по работе и с членами
своей семьи, чем с крестьянином из соседней деревни, отличаю-
щейся местными особенностями говора, или с представителем
интеллигенции — пастором, учителем, врачом, почтовым или
железнодорожным служащим, или, наконец, с приезжим из города
392
«образованным гостем». Эти четыре ступени очень наглядно просле-
живает Матильда Хайн в своем интересном этнографическом
исследовании, посвященном «народному языку», на материале,
собранном в 1938 г. в маленькой деревушке Ульфа в глухом
аграрном районе Гессена, сохранявшем в то время благодаря
своей изолированности весьма архаическую форму крестьянского
диалекта.13
Существенно отметить, что постепенное вытеснение примарных
признаков диалекта происходит в этих примерах последовательно
и, так сказать, автоматически, без сознательных усилий (кроме,
может быть, последнего случая — попытки разговора с интелли-
гентом на языке «образованных людей»). Это показывает, что
движение в диалекте от старой фонетической и грамматической
системы к новой, в большей или меньшей степени приближенной
к разговорной форме литературного языка, совершается не путем
отдельных заимствований, а в результате процессов внутреннего
развития, вызванных давлением «нормы».
Такая же социальная дифференциация существует и в город-
ском полудиалекте. В своей книге по немецкой диалектологии
я ее иллюстрировал, опираясь на материал диссертации Рудольфа
о городском диалекте Дармштадта.14
К сказанному следует добавить, что для областей немецкого
языка характерны чрезвычайно значительные различия историко-
географического характера во взаимоотношениях между общена-
циональной нормой и диалектами в их социальных разновидностях.
Диалекты сохранились наиболее прочно на юге, в особенности
там, где этому содействовало раннее и прочное государственное
обособление от Германской империи: в Швейцарии, где так назы-
ваемый «швейцарско-немецкий язык» (Schwyzer Diitsch) в его
местных городских разновидностях является разговорным языком
всех классов общества, включая «образованных»; в Эльзасе,
где местный немецкий народный диалект противостоит француз-
скому языку как государственному; в Австрии, где городской
полудиалект Вены в течение длительного времени являлся нормой,
воздействовавшей на местные крестьянские диалекты как объеди-
няющая сила; в значительной степени в Баварии и Вюртемберге,
сохранявших до первой мировой войны значительную культурную
автономию в рамках бисмарковской империи. В северной Германии
шла борьба в сущности между двумя различными языками —
нижненемецким, опустившимся исторически до положения мест-
ного диалекта, и верхненемецким, получившим значение нацио-
нальной нормы. Смешение между ними с лингвистической точки
зрения крайне затруднительно, и взаимодействие заканчивается
полным вытеснением нижненемецкого из обихода всех слоев
бюргерства, с сохранением лишь незначительных признаков диа-
лектной основы (как это видно на классическом примере берлин-
ского диалекта). 15 В остальном решающим является аграрный
или индустриальный характер соответствующего района. Саксо-
393
ния и Тюрингия, являющиеся предметом изучения учеников
Т. Фрингса, представляют области преимущественно индустриаль-
ные. Примером полного вытеснения диалекта с приближением
полудиалекта к общественной норме могут служить Рурская
область, угольный район Саарской области, некоторые районы
Саксонии. Но и в остальных областях немецкого языка, по сви-
детельству большого числа наблюдателей, «местный диалект»
перестает существовать и вытесняется полудиалектом как основ-
ной формой языкового общения демократических классов
общества.16 *
Такое положение подсказывает с методической точки зрения
необходимость при описании диалекта постоянно учитывать
его социальное расслоение и наличие конкурирующих дублетных
форм с различным социальным и функциональным приурочением.
Только такое описание будет соответствовать языковой действи-
тельности в ее реальных социально-лингвистических пред-
посылках.
В ряде новых работ по немецкой диалектографии это расслое-
ние в языке данного населенного пункта является предметом спе-
циального монографического изучения в достаточно широких
хронологических рамках и в различных группах населения в за-
висимости от общих и местных исторических условий, от особен-
ностей социальной среды, воздействий города, развивающейся
промышленности, с учетом возраста, пола, образования, социаль-
ного положения говорящих (см., например, работу К. Шпан-
генберга о диалекте с. Унтереллен в Тюрингии, к западу от г. Эйзе-
наха).17
В социально-лингвистических исследованиях такого типа си-
стема диалекта раскрывается в ее противоречиях и движении
и факты внутреннего развития вступают во взаимодействие
с экстралингвистическими факторами.
Иначе обстоит дело в ряде новейших работ, посвященных
фонологии немецких городских говоров.18 Они изображают диа-
лект как абстрактную и статическую систему противопоставлений
на синхронной плоскости. В результате пренебрежения к вопросам
социальной дифференциации языка воссоздаваемые ими с большим
изяществом синхронные модели фонологической или граммати-
ческой системы данного говора повисают в воздухе и не соответ-
ствуют никакой социально-исторической реальности в отличие
от многих старых работ лингвогеографического направления,
написанных на те же темы.19
На основании приведенного выше материала можно теперь
поставить более общий методологический вопрос: насколько
было правомерно говорить о социальных диалектах, существую-
щих в языке буржуазного общества, как о диалектах классовых —
крестьянских, мещанских и т. п. Как видно из сказанного, такая
прямолинейная классовая атрибуция противоречила бы гораздо
более сложным историческим фактам и отношениям. Существова-
394
ние социальных диалектов порождается в конечном счете классо-
вой дифференциацией общества, но конкретные формы социальной
дифференциации не прикреплены прямолинейными и однознач-
ными признаками к определенным классовым носителям. Социаль-
ный генезис языкового явления сложным образом переплетается
с его общественной функцией. Об этом говорят и сосуществование
в одной и той же социальной среде диалекта и полудиалекта как
разных уровней языка, употребление которых одним и тем же
лицом обусловлено общественной ситуацией, и широта диапазона
вариаций самого понятия «полудиалект», колеблющегося между
указанными полюсами в зависимости от местных исторических
уровней, а иногда от индивидуальности и установки говорящего,
и, наконец, общий процесс разложения крестьянских диалектов,
результаты которого совпадают с лингвистической точки зрения
с городскими («мещанскими») полудиалектами.
До сих пор речь шла только о социальном расслоении в языке
буржуазного общества. Возникает вопрос, существовала ли со-
циальная дифференциация языка в обществе феодальном, т. е.
в период, предшествовавший образованию общенациональной
нормы литературного языка?
Вопрос этот был поставлен впервые еще в 1927 г. М. В. Сергиев-
ским в его программной статье, посвященной проблеме социальной
диалектологии в истории французского языка. М. В. Сергиевский
рассматривает в этой статье в основном явления социальной
дифференциации во французском языке XVII—XVIII вв., но одно-
временно он затрагивает и интересующую нас тему: «Для нас
важен прежде всего вопрос, действительно ли старофранцузский
язык, тот, который мы знаем из памятников литературы и иных
документов средневековья, был таким единым языком всего на-
рода, не имевшим социально-диалектических особенностей, оди-
наково доступным и понятным всем слоям населения, являв-
шимся языком литературы и обыденной жизни, как это может
представляться на основании приведенных утверждений. Пола-
гаю, что едва ли на этот вопрос можно ответить утвердительно».20
Для истории немецкого языка вопрос этот связан с другим,
до сих пор дискуссионным: существовал ли в средневерхненемец-
кую эпоху определенный литературный язык (Hochsprache),
подымающийся над территориальными диалектами, и если суще-
ствовал, то в какой форме, письменной или устной, с какими
региональными различиями и кто мог быть социальным носителем
этой формы немецкого языка?
Решение этого вопроса наталкивается на большие методиче-
ские трудности, поскольку средневековые письменные источники,
различные по своему характеру, социальному происхождению
и стилю, дают лишь косвенное, многократно преломленное отра-
жение реальной языковой действительности. Он был поставлен
в ряде докладов на I Международном конгрессе германистов
в Риме осенью 1956 г. в связи с проблемой, выдвинутой на обсуж-
395
дение, — «Hochsprache und Mundart» («Литературный язык и диа-
лекты»). Большинство докладов по истории немецкого языка
было позднее опубликовано в журналах «Der Deutschunterricht»
и «Wirkendes Wort» за 1956—1957 гг. Однако они не разрешают,
а только ставят проблему.
Не входя в более углубленное обсуждение этих дискуссион-
ных вопросов, можно высказать предположение, что в больших
средневековых городах с их смешанным составом населения
должно было происходить в той или иной степени выравнивание
наиболее резких особенностей местных говоров, отличавшее ре-
гиональный говор такого городского центра от местного диалекта
его крестьянской округи.
Известно также, что средневековые миннезингеры могли вы-
ступать со своими песнями далеко за пределами своей непосред-
ственной родины. Миннезингер Рейнмар Старший, который
родился в северном Эльзасе, недалеко от Страсбурга, пел при дворе
австрийского герцога в Вене. Его учеником был Вальтер фон дер Фо-
гельвейде, по происхождению австриец, который находился
на службе у короля Филиппа Швабского и у ландграфа тюринген-
ского Германа. Ландграф Герман в своем замке Вартбург, близ
Эйзенаха, собирал певцов из самых различных немецких земель.
Очевидно, певцы, чтобы быть везде одинаково понятными, воздер-
живались от слишком резких особенностей местного диалекта,
о чем свидетельствуют дошедшие до нас рукописи их произведе-
ний, в особенности рифмы, как наиболее надежный показатель
произношения у точно рифмующих поэтов.
Однако трудно думать, что это выравнивание ограничивалось
только уровнем высокого поэтического языка. Если бы рыцари
при дворе Германа тюрингенского говорили на том же местном
диалекте, как и их крестьяне, то вряд ли поэтический язык
миннезингеров из другой местности был бы им доступен и
понятен.
К этому необходимо добавить следующее соображение. Многие
примарные признаки современных диалектов, особенно значи-
тельные в области вокализма, развились, по-видимому, в относи-
тельно позднее время, в период растущей феодальной раздроблен-
ности (XIII—XIV вв.), и отсутствовали в языке более раннего
времени, поскольку они совершенно не отмечаются в письме.
Не исключается, что они так и не проникли в диалекты крупных
городских центров, как можно, например, предположить на осно-
вании исследования Фридриха Маурера относительно примарных
признаков гессенского диалекта, таких как уже упомянутые су-
жения б, ё > й, i (gras, snl) или так называемые обращенные
дифтонги (daif вм. tief, gaut вм. gut), которые, судя по данным
лингвистической географии, останавливаются в настоящее время
у ворот таких городов, как Майнц или Франкфурт, и встречаются
в майнцских письменных памятниках XIV—XV вв. только в еди-
ничных примерах.21
Особенно важное значение вопрос о социальной дифференциа-
ции имеет для решения проблемы образования общенационального
языка и его социальной основы.
Немецкий национальный литературный язык сформировался,
как известно, в XV—XVI вв. с ориентацией на ведущий диалект
«саксонских земель» — колониальной восточносредненемецкой
области, где начиная с XII в. в процессе заселения немецкими по-
селенцами славянских территорий происходило смешение и вырав-
нивание элементов средненемецких, южнонемецких и северноне-
мецких при преобладании средненемецкого. Проф. Т. Фрингс го-
ворит о «колониальном койне» («koloniale Durchschnittsprache»)
как о народно-разговорной основе письменного литературного
языка.22 Образцовая норма этого языка, победившая вместе
с Лютером и бюргерской реформацией, получила название «мейс-
сенской» (meissnisch), поскольку политическим ядром «саксонских
земель» было курфюршество Мейссенское (Верхняя Саксония).
Однако мне уже приходилось неоднократно указывать, что
в границах верхнесаксонского диалекта на современных диалекто-
логических картах отмечается ряд диалектных признаков, чуждых
немецкому общенациональному литературному языку. К их числу
относятся, например, сужение долгих среднего уровня ё (6), б >
й (sni 'Schnee’, sin 'schon’, grus 'gross’); расширение крат-
кого ё > a watar 'Wetter’, fafar 'Pfeffar’, slaxt 'schlecht’); сужение
перед заднеязычными согласными краткого o>u (uks 'Ochse’,
кихэ 'kochen’); так называемая веляризация интервокального
-nd- > у (Ырэг 'hinter’, gefuip 'gefunden’) и ряд других. Явления
эти имеют более или менее широкое распространение на всем
среднем востоке Германии, представляющем диалектную базу
литературного языка.
Почему эти «саксонские» (в частности, «мейссенские») явления
отсутствуют в языке сочинений Лютера и в так называемой «мейс-
сенской» норме литературного языка? Следует ли предположить
здесь влияние другой письменной нормы, не имевшей узколокаль-
ного, саксонского характера? И в этом случае данные лингвисти-
ческой географии подсказывают нам, как мне кажется, правильное
решение. Характерно, что перечисленные диалектные явления
отсутствуют в городских полудиалектах Дрездена, Мейссена,
Хемница (Карл-Маркс-Штадт) и других крупных городов Саксо-
нии и оказались вытесненными, как показал Р. Гроссе, и из их
широкой сельской округи.23 Спрашивается, были ли они в языке
самого Лютера, или они были вытеснены (а может быть, вообще
отсутствовали) в его городском социальном диалекте? Говорил ли
Лютер: gras, sni, watar, fafar — и если говорил, то с кем? Со своим
отцом, тюрингенским крестьянином-рудокопом у себя на родине?
С эрфуртскими гуманистами Муцианом Руфом, Кротом Рубеаном
и другими, уроженцами разных немецких земель, в свои студен-
ческие и профессорские годы? С саксонским герцогом Фридрихом
Мудрым, своим покровителем, или со швабом по происхождению
397
Меланхтоном, своим учеником и соратником? Во всяком случае
известно, что во время диспута с швейцарским реформатором
Цвингли (1529 г.) в церкви св. Елизаветы в Марбурге в присутствии
курфюрста Саксонского, ландграфа Гессенского и многих других
знатных и простых людей Лютер говорил по-немецки и все его
понимали, тогда как Цвингли, говоривший на своем цюрихском
(швейцарском) диалекте, вынужден был перейти на латинский
язык, чтобы быть понятным высоким слушателям и судьям.
Этот пример наглядно показывает существование уже в XVI в.
социальной нормы разговорного языка, поднимающейся над мест-
ным диалектом, без учета которой не может быть понят и объяснен
процесс концентрации местных диалектов в единый национальный
язык. Но пример имеет и более широкое значение: история языка
в связи с историей общества не может быть научно построена,
если игнорировать проблему социальной дифференциации языка.
Эти общие положения, иллюстрированные выше на материале
истории и диалектологии немецкого языка, применимы и к другим
национальным языкам современного буржуазного общества,
однако с существенными конкретными модификациями, связан-
ными с историческими условиями развития соответствующих на-
родов и их национальной консолидации.
Из языков западноевропейских итальянский представляет
известное сходство с немецким: в результате столь же позднего
национально-политического объединения в Италии наличество-
вала такая же лингвистическая ситуация, как в странах немецкого
языка, с значительными расхождениями между диалектами и боль-
шим их отклонением от литературной нормы. Такая ситуация
создает предпосылки и для наличия ряда социально обусловлен-
ных промежуточных ступеней между диалектами и литературной
нормой.
Напротив, во Франций и в Англии в результате раннего и проч-
ного хозяйственно-политического объединения вытеснение мест-
ного диалекта национальным литературным языком зашло значи-
тельно дальше, чем в Германии и Италии. Во Франции, по свиде-
тельству А. Мейе, «на территории, радиус которой в различных
случаях колеблется от 200 до 400 и даже до 500 км от Парижа,
местные говоры исчезли. Там, где прежде были севернофранцуз-
ские диалекты, французский словарь вытесняет местный, фран-
цузские фонетические формы слов в ряде систематических подста-
новок сменяют диалектные, наконец, позже всего французские
грамматические формы заменяют местные».24 Говоры центральной
Франции производят на нас впечатление скорее «испорченного»
французского языка (franQais «ёсогсЬё»), чем народных диалектов,
так что трудно бывает в точности сказать, что перед нами — фран-
цузский язык или местный диалект. «Язык деревенских жителей
почти всюду является компромиссом между французским языком
и прежним местным диалектом, который исчезает, но надолго
оставляет след в произношении и грамматике».25
398
То, что А. Мейе называет «frangais ёсогсЬё» («испорченный
французский язык»), получило во французской диалектологии
название «регионального» или «провинциального» французского
языка (frangais ^gional или provincial). По существу это тот же
«мещанский» полудиалект (с утраченными примарными призна-
ками), который в настоящее время так пристально изучается
немецкими диалектологами. Но во французских работах по диа-
лектологии, мне известных,26 о региональном французском языке
никогда не говорится как о социальном диалекте, может быть,
потому, что он так широко распространился по Франции в различ-
ных социальных слоях как единственная форма местного фран-
цузского языка, отличного от литературной нормы. В качестве
исследований по социальной диалектологии, кроме, может быть,
книги Анри Боша, посвященной парижскому просторечию —
«народному языку», могут быть названы только многочисленные
работы по парижскому арго, главным образом по арготической
лексике. Но арго — это особая тема, которая здесь не рассматри-
вается.
В англистике понятие «социальных» или «классовых диалектов»
(social или class dialects) со времен Г. С. Уайльда является одним
из центральных как при описании современного английского
языка (особенно его фонетики), так и при изучении его истории.27
Рассматриваются соответственно standard English — modified
Standard (т. e. полудиалект, преимущественно городской) и Dialect
в собственном смысле, подвергшийся, как и во Франции, вытесне-
нию в широких географических районах, окружающих большие
города.
С точки зрения вопросов социальной дифференциации англий-
ского языка особый интерес представляет во многих отношениях
новаторская книга В. Хорна и М. Ленерта, изданная в Германской
Демократической Республике, — книга, которой наши англисты
несправедливо пренебрегают. Она содержит обширный материал
наблюдений над развитием живой разговорной («звучащей») речи
в историческом и современном ее аспектах с внимательным учетом
социальной дифференциации языка в его соотношении с нормой
литературного произношения.28
Наиболее интересную с социально-лингвистической точки зре-
ния проблему представляет лондонский городской диалект, име-
нуемый «кокней». Было бы неправильно рассматривать кокней по
его современным литературным образцам (в пьесе Бернарда Шоу
«Пигмалион» и др.) как вульгарное просторечие^с элементами
«слэнга» (лексическими арготизмами). На самом деле кокней
независимо от наличия или отсутствия таких лексических арго-
тизмов представляет собой социальный диалект низших и средних
слоев лондонского населения со своей фонетической и граммати-
ческой системой (согласно определению Г. Уайльда: «The typical
Cockney English of London, as spoken by educated middle class
people»).29
399
В фонетическом отношении кокней обнаруживает закономерную
тенденцию к последовательному развитию процессов дифтонги-
зации, наметившуюся в английском языке с начала «общего пере-
движения гласных» в XV—XVI вв. (naim вместо name, staun
вместо stqne; tqim вместо time, hquz вм. hause; threi вместо three;
ton вместо two и т. п.).
Вопрос о внутренней закономерности этого процесса был за-
тронут мною в статье об основных тенденциях фонетического раз-
вития германских языков, более подробно — в немецком переводе^
этой статьи.30
К сожалению, недавно изданная в Норвегии монография по фо-
нологии кокней Э. Сивертсен31 вследствие абстрактной трактовки
проблемы, как и другие уже упомянутые работы этого типа, мало-
удовлетворительна с социологической точки зрения даже
по сравнению со старыми, в техническом отношении гораздо
менее совершенными описаниями Джулиана Франклина (1953)
и Матьюза (1938), дававшими внимательное (хотя бы только бы-
товое) описание социальных носителей диалектной речи.32
В заключение хотелось бы подчеркнуть необходимость изу-
чения социально-диалектологической проблематики и в примене-
нии к языкам народов СССР — тюркским и монгольским, грузин-
скому и армянскому и др. До сих пор это был отстающий участок
нашей лингвистики, в частности диалектологии. Между тем ши-
рокое сопоставление фактов этих разных языков с учетом глубо-
ких различий в социально-исторических условиях представля-
ется и здесь единственно правильным путем для теоретических
обобщений в области выдвигаемой нами коллективной темы
«Язык и общество».
1968 г.
СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА
И ДИАЛЕКТОЛОГИЯ
1
Согласно распространенному в старом языкознании понима-
нию, основной задачей сравнительно-исторического исследования
группы генетически родственных языков считалось восстановление
архетипов или системы архетипов языка-основы, из которого путем
закономерной дифференциации возникли эти родственные языки.
Признавая научное значение подобной реконструкции, до-
стоверной или гипотетической, я все же рассматриваю ее как под-
чиненную более общей цели сравнительно-исторического языко-
знания: раскрытию общих закономерностей развития группы род-
ственных языков в их сходствах и различиях, которые могут быть
400
установлены только сравнительно-генетическим исследованием,
углубляющим перспективу исторического развития данного языка
или группы языков за пределы засвидетельствованного в древ-
нейших письменных памятниках.
Это новое понимание задач сравнительно-исторического метода
в языкознании, получившее уже некоторое (хотя и не всеобщее)
признание в советской лингвистике, было, насколько я знаю,
впервые намечено в книге Мейе по сравнительной грамматике
германских языков. «Рассматривать языки с этой точкм зрения, —-
писал Мейе, — тем интереснее, чем существеннее преобразования,
которым они подверглись, и чем более эти преобразования влияют
на систему в целом. . . Лингвистика, если она во что бы то ни стало
стремится установить индоевропейское происхождение каждого
мельчайшего элемента германского, не показывая принципов
новизны этой группы, остается прикованной к редкостям, не имею-
щим большого значения, и пренебрегает самым существенным».1
«Речь идет не о том, чтобы найти индоевропейский язьак в герман-
ских диалектах. Напротив, задача этой книги — показать, в чем
оригинальность германского. . . Правда, каждый из языков ин-
доевропейской группы имеет свои черты, которые были свой-
ственны ему в момент его вступления в историю. Но в германском
лучше, чем где бы то ни было, видно, насколько новым созданием
является каждый индоевропейский язык и насколько он этим
самым интересен».2
Мы не будем спорить с Мейе по вопросу о конкретном содер-
жании общих тенденций развития германских языков, и мы,
безусловно, не последуем за ним в определении исторических
причин этих тенденций. Важен, мне кажется, основной принцип
его исследования — распространение задач сравнительно-исто-
рического языкознания за пределы реконструкции языка-основы
и закономерных соответствий между ним и его «ответвлениями»:
общее наследие данной группы языков и общие закономерные тен-
денции ее развития должны изучаться в связи с теми специфиче-
скими особенностями и тенденциями, которые складываются
в каждом из языков этой группы в пору их раздельного, само-
стоятельного развития.
Если сравнительно-историческая грамматика должна дей-
ствительно рассматривать развитие языков не только с точки
зрения их общей основы, но и в пору их раздельного существо-
вания, то самый круг фактов, подлежащих ее изучению, существен-
ным образом расширяется. В своем историческом развитии
от группы родственных племенных языков к территориально диф-
ференцированному языку народности и к более прочному един-
ству национального языка, сохраняющего местные диалекты как
социально подчиненные ему разновидности, общенародный язык
фактически всегда выступает в своем диалектном многообразии;
при этом именно в диалектах, как в устной, народно-разговорной
форме языка, наиболее непосредственно и последовательно осу-
20 в. М. Жирмунский 401
ществляются закономерные тенденции его развития, не стесняе-
мые устойчивой (т. е. по существу консервативной) письменной
нормой. Сравнительная грамматика этих диалектов — столь же
законная задача историко-лингвистического исследования, как
и сравнительная грамматика древних языков, которые по своему
происхождению также первоначально являлись диалектами языка-
основы. Генетическое сравнение и здесь ведет к восстановлению
исходных архетипов и системы архетипов, лишь частично за-
свидетельствованных в древних письменных памятниках; оно
дополняет и уточняет наше представление об исходном этапе
развития данного языка, сложившееся в результате изучения
письменных источников.
Более того, сравнительно-историческое рассмотрение фактов
современной диалектологии позволяет в ряде случаев правильнее
интерпретировать и самые показания древних текстов, нередко
неполные и искаженные особенностями письменной традиции
(особенно в области фонетики).
Сравнительная грамматика германских языков на современ-
ном уровне научного развития уже не может обходиться без ма-
териалов диалектологии, подобно тому как историческая грам-
матика этих языков (в особенности немецкого языка) также
не может основываться только на книжных (письменных) источ-
никах, без учета живых процессов развития, совершающихся
в устной народной речи.3
В принципе это положение было ясно уже младограмматикам,
во всяком случае в годы их первых полемических выступлений.
Тогда Бругман и Остгоф заявляли в своих «Морфологических
исследованиях» (1878):
«Представитель сравнительного языкознания должен обратить
свои взоры от праязыка к современности, если он хочет получить
представление о развитии языка. . . Новые языки имеют то пре-
имущество перед античными, что в своем народном развитии, ко-
торое может быть прослежено с помощью письменных памятни-
ков на протяжении многих веков, они вливаются в живой язык
с его чистыми диалектными разветвлениями. . . Именно новейшие
этапы новых индоевропейских языков, живые народные говоры,
во многих отношениях имеют большое значение для методологии
сравнительного языкознания. . . Только языковед, который
из мутных туманов мастерской, где выковываются индоевропей-
ские праформы, хоть раз выйдет на ясный воздух осязаемой дей-
ствительности и современности, чтобы здесь научиться тому, чему
никогда не научит его сухая теория, только тот, кто сумеет на-
всегда освободиться от прежде распространенного, но и теперь
нередкого метода исследования, когда язык изучается лишь
в том виде, как он существует на бумаге, только тот сумеет дойти
до правильного представления о жизни и способах изменения
языковых форм». Изучение диалектов позволяет языковеду «услы-
шать собственными ушами биение жизни языка».4
402
Хотя младограмматическая теория и стимулировала изучение1
немецких диалектов, однако практика самих младограмматиков,
во всяком случае в их зрелые годы, фактически не осуществила
обещаний этой теории. Сравнительная грамматика Бругмана,
классическая по своей методологии, ограничивается восстановле-
нием архетипов индоевропейского языка-основы и их законо-
мерных отражений в отдельных группах индоевропейских язы-
ков. Пятитомная историческая грамматика немецкого языка
Германа Пауля написана на основе огромной картотеки эксцер-
птов из образцов новонемецкого письменного языка от Лютера
до середины XIX в., однако она нигде не обращается к устным
показаниям современных немецких народных диалектов.
Только немецкая лингвистическая география (диалектография),
проделав массовое сплошное обследование и картографирование
явлений фонетики и отчасти морфологии немецкого языка в пре-
делах общенемецкого лингвистического атласа и в монографиче-
ских описаниях отдельных диалектных районов и населенных
пунктов, собрала огромный материал, который может служить
прочной базой, существенным образом дополняющей письменные
источники по истории немецкого языка. Аналогичные работы были
проделаны для нидерландского и для скандинавских языков и,
к сожалению, в меньшей степени для английского. Историче-
ская интерпретация границ диалектных признаков (так называ-
емых изоглосс) открыла новый метод изучения истории народного
языка в связи с историей самого народа. Методика изоглосс с ус-
пехом применялась и в сравнительной грамматике начиная
с того же Мейе, в связи с вопросом о дифференциации индоев-
ропейских диалектов.5 Однако проблема сравнительно-истори-
ческой грамматики современных диалектов, раскрывающей внут-
ренние закономерности их развития, до сих пор не ставилась в за-
рубежной германистике, хотя именно на этой основе открывается,
как мне кажется, новая перспектива и для сравнительно-исто-
рической грамматики германских языков.6
В своем докладе я коснусь трех вопросов, связанных с этой
проблемой.
1. Классификация древнегерманских языков в свете истори-
ческой диалектологии.
2. Восстановление и уточнение фонетической и грамматиче-
ской системы древпегермапских языков на основании показаний
современных диалектов.
3. Закономерные тенденции развития общенародного языка
и их дифференциации в фонетико-грамматической системе диа-
лектов.
2
Старая генетическая классификация германских языков ис-
ходила из отражения в древних письменных памятниках, относя-
щихся к разному времени: от IV в. н. э. (древние рунические
403
26*
надписи и готский язык Вульфилы) до XIII в. (так называемый
древнефризский язык). При этом игнорировались существенные
факты истории племен и народов, носителей этих языков. Образ-
цом может служить «Прагерманская грамматика» Штрейтберга
(1896), классического представителя младограмматического на-
правления.7 Штрейтберг делит германские языки на три основ-
ные группы: а) восточную, б) северную, в) западную. К первой
относятся готский, вандальский, бургундский языки. Ко второй —
две подгруппы: восточноскандинавская (шведский, датский)
и западноскандинавская (норвежский, исландский). При этом
классификация не учитывает, что с исторической точки зрения
исландский язык произошел из норвежского в результате коло-
низации и что даны в более древнее время обитали на территории
Швеции. Западногерманская группа распадается на англо-фриз-
скую (англосаксонский, позднее английский, и фризский) и не-
мецкую, а эта последняя — на нижненемецкий и верхненемецкий.
К нижненемецкому отнесены пижнефранкский (из которого раз-
вивается нидерландский язык) и нижнесаксонский (на древней-
шей ступени — древнесаксонский). Верхненемецкий также рас-
падается на две подгруппы: первая, средненемецкая, подразде-
ляется на западносредненемецкий (франкские диалекты среднего
Рейна) и восточносредненомецкий, к которому отнесены тюрин-
генский, верхнесаксонский и силезский (из них по крайней мере
два последних являются смешанными колониальными диалек-
тами позднего происхождения, XII—XIII вв.); вторая, южно-
немецкая, представлена баварским и алеманнским. Классифика-
ция, по-видимому, мыслится по принципу родословного древа,
хотя «ветки» и «веточки» этого древа фактически относятся к раз-
ному историческому времени, поскольку учитываются одновре-
менно, и притом недифференцированно, и дробление на древние
племенные наречия, и различия развившихся на их основе совре-
менных языков и диалектов.
Классификации этого типа подверг справедливой критике
Энгельс в своем исследовании «Франкский диалект». Он восста-
навливает историческое единство наречия франков как одного
из трех древних племенных диалектов западных германцев,
а именно иствеонского. Энгельс доказывает позднее проникнове-
ние в франкский диалект второго передвижения согласных,
на котором основано противопоставление верхненемецкого и ниж-
ненемецкого, — проникновение, разорвавшее первоначальное
единство этого диалекта. Он показывает, что нижнесаксонский
исторически не связан с нижнефранкским, с которым его принято
соединять по значительно более позднему признаку отсутствия
перебоя, что он принадлежит к одной группе с диалектами инг-
веонских племен — фризским и англосаксонским, с которыми
объединяется общими древними признаками (так называемыми
ингвеонизмами, к которым принадлежат, например, выпадение
носовых перед спирантами с заменительным удлинением пред-
404
шествующего краткого гласного, общая форма множественного
числа настоящего времени, особенности образования личных
местоимений и др.).
Тем самым рушится иллюзорное понятие «пранемецкого»,
объединяющего в схеме Штрейтберга герминонские диалекты
(баварский, алеманнский) с разбитыми на две группы иствеон-
скими (нижнефранкским и верхнефранкским) и с частью ингвеон-
ских (нижнесаксонским). Единство языка немецкой народности,
как и сама немецкая народность, согласно историческим и лингви-
стическим данным, не существовали искони, а являются продук-
том истории — объединения группы западногерманских племен
и племенных диалектов: иствеонских, герминонеких, позднее
ингвеонских под верховенством франков — в исторических рам-
ках государства Меровингов—Каролингов. Для периода племен-
ных диалектов Энгельс возвращает нас к историческим показа-
ниям Плиния и Тацита, которые свидетельствуют о существова-
нии у германцев в начале нашей эры пяти больших племенных
союзов: ингвеонов, иствеонов и герминонов (западных герман-
цев), гиллевионов (скандинавских племен) и виндилов (восточных
германцев).8
Точка зрения, выдвинутая Энгельсом в его гениальном труде
еще в начале 80-х годов, в настоящее время, через 70 с лишком
лет, может считаться подтвержденной кропотливыми исследова-
ниями современных немецких диалектографов и с разными не-
существенными вариантами является теперь общепринятой.
Сравнительная грамматика германских языков не может поэтому
реконструировать общую основу и дальнейшее развитие древне-
германских племенных диалектов, основываясь на механическом
сопоставлении фактов древневерхненемецкого, древнесаксонского,
англосаксонского, древненижнефранкского и древнефризского, —
письменных языков, относящихся к разному времени, распределяя
их в рамках абстрактной, внеисторической схемы родословного
древа Штрейтберга. Она должна исходить, как этого требовал
Энгельс, из реальной истории древнегерманских племен и реаль-
ного, исторически обусловленного взаимоотношения и взаимодей-
ствия между германскими племенными диалектами.
К началу нашей эры древние германцы представляли на огра-
ниченной территории своего расселения еще тесно связанную
между собой группу близко родственных племен, объединенных
в несколько больших племенных союзов и говоривших на близких
диалектах, между носителями которых, возможно, было непосред-
ственное языковое общение. Диалекты эти находились в кон-
тактном развитии (пользуюсь в несколько измененном значении
термином проф. Д. В. Бубриха), иными словами, между ними
возможны были и частичные взаимодействия, и общие совместные
новообразования, захватывавшие более или менее обширную
территорию. Ряд таких признаков объединяет готский язык
Вульфилы с древнескандинавским, с одной стороны, а этот по-
405
следний — с западногерманскими наречиями — с другой. Эти язы-
ковые связи, направленные в разные стороны и образующие
на карте древнегерманских племенных наречий перекрещиваю-
щиеся «изоглоссы» диалектных признаков, отражают историче-
ские расхождения и сближения между основными германскими
племенами и группами племен.9
В настоящее время можно считать окончательно доказанным
по данным археологии, исторической топонимики и языка, что
готы (как и другие восточногерманские племена, так называемые
виндилы Плиния) происходят из Скандинавии, как о том рас-
сказывают их исторические предания, записанные Иорданом
(VI в.); их ближайшими родичами были созвучные по племенному
названию гауты в южной Швеции. До этого переселения будущих
восточногерманских племен из Скандинавии на континент, на тер-
риторию к востоку от Одера (III—I вв. до н. э.), следует соб-
ственно говорить о двух основных группах германцев как в пле-
менном, так и в языковом отношении: северной (скандинавской)
и южной (континентальной). Соответственно своему историче-
скому происхождению готский язык объединяется с древнескан-
динавским большим числом (до 30) общих признаков (изоглосс)
в области фонетики, морфологии и лексики, которые отличают
гото-скандинавскую общность от западногерманских диалектов
(начиная с давно известной «веляризации»; герм, -ни- > гото-
сканд. -ggw-\ герм. -II- > сканд. -ggj-, готск. -ddj-, так называе-
мый закон Хольцмана).10 Были даже предприняты попытки рекон-
струкции грамматической основы этой исходной гото-скандинав-
ской общности обычными сравнительно-грамматическими мето-
дами.11 Нет необходимости перечислять здесь эти общие при-
знаки 12 и оценивать степень их убедительности как совместных
новообразований готско-скандинавской группы. Уместно только
остановиться на двух из них, имеющих прямое отношение
к сравнительно-грамматической реконструкции общегерманского
языка-основы.
1. Готско-скандинавская группа имеет во 2-м лице прош.
индик. перфектное окончание -t с вокализмом единственного
числа (staigt), западногерманская группа — аористное оконча-
ние -г с вокализмом множественного числа (stigi). Это показывает,
что смешение перфекта и аориста, на базе которых образовалось
германское прошедшее, происходило по-разному в двух древней-
ших племенных наречиях — северном и южном, иными словами,
что в германском языке-основе еще существовали самостоятель-
ные формы аориста.
2. Готск. wato, др.-исл. vatn (суфф. п) соответствует зап.-герм,
water; готск. fon, funins, др.-исл. funi (суфф. п) соответствует
др.-в.-нем. fuir 'Feuer’, англосакс, fyr (суфф. г). Это указывает
на то, что германский язык-основа (подобно санскриту, грече-
скому и кельтскому языку) сохранял еще остатки так называе-
мого гетероклитического склонения (им. п. ед. ч. суфф. г, прочие
406
падежи — суфф. п: ср. хетт, wadar 'вода’ — род. п. wedenaS),
которое было по-разному унифицировано в северной и южной
группах.
3. К этому я считаю возможным добавить наблюдение, пред-
ставляющее известный интерес, потому что оно относится к мало-
исследованной области сравнительно-исторического синтаксиса
древнегерманских диалектов.
Все древнегерманские языки сохранили, как и другие древние
индоевропейские языки, следы общегерманской абсолютной при-
частной конструкции (абсолютный дательный с причастием).
Эта конструкция, встречающаяся во всех древнегерманских язы-
ках, представляется мне не переводной (как полагают, например,
Вильманс, Бехагель и некоторые другие зарубежные исследова-
тели), а исконным достоянием всех флективных индоевропейских
языков.
В основе образования абсолютных причастных оборотов лежит
широко присущее древним индоевропейским языкам, как языкам
флективным, употребление падежей без предлогов в обстоятель-
ственном значении. Так могли употребляться и творительный,
и местный, и отложительный падежи, поглощенные или вытеснен-
ные в германском дательным, а также родительный и винительный
(места и отношения). Сфера употребления этих падежей, как по-
казывают старые наречия, образованные с их помощью от при-
лагательных и существительных, не ограничивалась местным
и временным значением, которое лучше других сохранилось в древ-
них индоевропейских языках (ср. ablativus temporis, loci и т. п.).
Она включала и обстоятельства образа действия, и другие об-
стоятельственные значения. При таком существительном в об-
стоятельственной функции, стоявшем в одном из названных па-
дежей, могло наличествовать и согласованное с ним прилага-
тельное или причастие. Ср. лат. (аблатив): reliquis partibus oppidi
'в остальных частях города’; еа nocte 'в ту ночь’ (буквально:
'той ночью’); celeritate mirabili 'с удивительной быстротой’
ит. п.; герм, (датив): готск. jera hwammeh (Luk. 2, 41) 'ежегодно’
(буквально: 'каждым годом’), др.-в.-нем. manageru ziti (Otfr. 1,
5, 60) 'в течение долгого времени’ (буквально: 'долгим временем’)
и т. п.13 С течением времени падежи в обстоятельственных функ-
циях были вытеснены в индоевропейских языках более дифферен-
цированными по своему значению предложными конструкциями,
в результате чего существительное в обстоятельственном падеже+
согласованное с ним причастие (или прилагательное) оказались
обособленными как абсолютный оборот, образованный по опре-
деленной модели. Модель эта в значении обособленного преди-
кативного оборота могла быть в дальнейшем использована и для
случаев, где стержневое слово не является в строгом смысле об-
стоятельством. Ср. лат. по типу ineunte vere 'когда наступила
весна’ (буквально 'начинающейся весной’) — тип Tarquinio su-
perbo regnante 'когда царствовал Тарквиний Гордый’ (буквально;
407
'при Тарквинии царствовавшем’); др.-в.-нем. по типу morgane
giwortanemo 'когда наступило утро’ (буквально: 'наступившим
утром’) — тип thanan farentemo themo heilante 'когда Спаситель
шел оттуда’ и т. п.
Если в переводной («ученой») прозе такие обороты поддержи-
вались латинским или греческим оригиналом, то в живой разго-
ворной речи они либо выходили из употребления, либо должны
были приспособляться к общим синтаксическим нормам более
позднего времени, т. е. обстоятельственные («абсолютные») па-
дежи должны были и здесь оформляться с помощью предлогов.
Так возникает в древнегерманских языках более новый тип аб-
солютной конструкции, управляемой предлогом. В готском
и древнескандинавском таким предлогом является at. Ср. готск.
at andanahtja waurpanamma (Math. 8, 16) (буквально: 'с насту-
пившей ночью’) — рядом с nahtia pan waurpanamma (Mark 1, 32)
(' наступившей ночью’); др.-исл. at upverandi solu 'при восходе
солнца’ (буквально 'при восходящем солнце’), at lipnum primr vet-
rum'когда прошло три года’ (буквально 'с прошедшими тремя го-
дами’) — рядом с lipnum peim sjum vetrum 'когда прошло шесть лет’
(по типу прошедшим летом, без предлога). В западногерманских
языках в той же функции употребляется предлог Ы. Ср. англосакс,
be ре lifgendum (Beow. 2665) 'при твоей жизни’ (буквально:
'при тебе живущем’); be paeem breper lifgendum (Beda 11, 15)
'при жизни брата’ ('при живущем брате’); так же др.-в.-нем.
bi slnemu fatere lebentemu bigunsta rlhhison ('patro suo vivente’)
(Isid. 38, 16) рядом c imo lebendo 'при его жизни’ (ср. слав.
ему живущему). Ср. новонем. bei eintretendem Fruhling (Гёте),
bei hoch scheinender Sonne (Штифтер).14
Это различие показывает, что новая форма абсолютной при-
частной конструкции, мотивированной предлогом, не является
общегерманской, а должна быть отнесена как новшество к пе-
риоду раздельного существования северного (готско-скандинав-
ского) и южного (позднее западногерманского) наречий. Одина-
ковая тенденция развития оказалась в разных диалектах гер-
манского оформленной разными материальными средствами (с од-
ной стороны, — предлогом at, с другой, — предлогом Ы).
После ухода готов из Скандинавии (в I в. до н. э.) их язык
развивался в дальнейшем самостоятельно — вплоть до письмен-
ной фиксации при Вульфиле (IV в. н. э.). Наиболее характерным
признаком готского языка IV в., отличающим его как от сканди-
навского, так и от западногерманских диалектов, является, как
известно, сужение гласного е (giban 'geben’) и сохранение узкого
германского и там, где остальные германские языки различают
и—о в зависимости от открытого или закрытого характера по-
следующего гласного (готск. hulpum, hulpans — др.-в.-нем. hul-
fum, giholfan); к этому присоединяется специфическое для гот-
ского языка преломление этих I, и> g, g перед г, h (fafhu
'Vieh’, bau baurgs 'Burg’ и т. п.).
408
Следует отметить, что сужение гласных среднего уровня пред-
ставляет вообще характерное для готской артикуляции явление:
открытое долгое ё19 развившееся в западногерманском и северно-
германском в долгое а, совпало в готском с закрытым ё2 и пере-
двинулось дальше в сторону долгого i, как о том свидетельствуют
довольно частые (в особенности в Евангелии от Луки) написания
долгого ei [Л вместо ё. Ср. afleitan вм. afletan (Math. 9, 6); qeins
вм. qens (Luk. 1, 5; 2, 5); waurdei вм. waurde (Luk. 20, 20) и др.
Ср. также написания готских собственных имен у латинских
писателей VI в.: Thiudimir — Thiudimer, Valamir — Valamer
(Иордан).15 В более редких случаях встречается также аналогич-
ное орфографическое смешение долгого д с й: ср. uhtedun вм. oh-
tedun (Mark 11, 32); supuda вм. supoda (Mark 9, 50); или, наобо-
рот, ohteigo вм. uhteigo (2. Tim. 4, 2).16 Крымскоготский имеет
в этих случаях Z, и вм. ё9 о. Ср. mine Чипа’ (готск. тёпа), schli-
реп 'dormire’ (готск. slepan); binder 'frater’ (готск. bropar), pint
'sanguis’ (готск. blop).17
I С другой стороны, и после ухода готов продолжалось постоян-
ное общение между германскими племенами Скандинавии и кон-
тинента через острова и узкие проливы Ютландского архипелага.
Ряд языковых новшеств, объединяющих западногерманские диа-
лекты континента с древнескандинавским и отсутствующих в гот-
ском, свидетельствует о тесной связи этих диалектов, об их вза-
имодействии и контактном развитии. Из большого числа фактов
напомню лишь самое существенное: сужение е перед i или груп-
пой носовых и расширение и перед а, о9 е при отсутствии группы
носовых, определившие закономерное комбинаторное чередова-
ние e—i9 о—и по правилам так называемого западногерманского
и северогерманского преломления, составляющего основное от-
личие вокализма этих языков от обособившегося готского
(др.-в.-нем. инф. helfan — наст. вр. ед. ч., hilfu, hilfis, hilfit;
прош. мн. hulfum — прич. II giholfan; но bindan — buntum,
gibuntan); расширение герм, ё > а в отличие от готского сужения
(др.-в.-нем. jar cJahr’, др.-исл. аг — готск. jer); z > г, так на-
зываемый ротацизм (готск. maiza — др.-в.-нем. тёго, др.-исл.
meiri ’mehr’); одинаковый тип стяжения редупликации в глаго-
лах так называемого VII ряда (ср. англосакс, het, др.-исл. het —
готск. haihaiit; англосакс. Ыёор, др.-исл. hljop — готск. haih-
laup) и ряд других. Хронологическими гранями этих процес-
сов являются I в. до н. э. (обособление готов) и V в. н. э.:
поскольку эти совместные новшества захватили и англосак-
сонский, они имели место до переселения англосаксов на Бри-
танские острова, сделавшего невозможным дальнейшее контактное
развитие.
Сравнительная грамматика в своих реконструкциях, если они
мыслятся как отражение реальных исторических явлений,
а не как абстрактная схема, должна учитывать относительную
хронологию и перекрестный характер этих процессов дифферен-
409
циации племенных диалектов, установленный лингвистической
географией.
С точки зрения прямолинейных реконструкций взаимоотно-
шений между древнегерманскими диалектами особенно сложной
представляется проблема древнесаксонского языка как истори-
ческой основы нижненемецкого. Проблема эта за последнее трид-
цатилетие неоднократно была предметом специальных исследо-
ваний и дискуссий как на материале древних письменных памят-
ников, так и в свете новых данных лингвистической географии
(работы Вредэ, Фрингса, А. Бретшнейдер, Людвига Вольфа,
Клуке, Эдварда Шредера, Эрика Рота, Вильяма Ферсте и др.).18
Она тесно связана с вопросом об «ингвеонизмах», поставленным
уже в «Франкском диалекте» Энгельса, т. е. о тех общих призна-
ках, которые объединяют ингвеонскую группу западногерман-
ских языков (фризский, англосаксонский, древнесаксонский),
захватывая в отдельных случаях также, с одной сторону, языки
скандинавские (например, выпадение носовых перед спирантами),
с другой стороны, — иствеонское (франкское) наречие (отпаде-
ние конечного -г в местоимениях).19
Уже передвижение древних саксов из района их первоначаль-
ного поселения (близ устья Эльбы) на территорию между Эльбой
и Рейном, ранее занятую другими германскими племенами (гер-
минонскими на востоке и иствеонскими на западе), позволяет
предполагать возможность их субстратного влияния на ингвеон-
ское по своему происхождению древнесаксонское наречие. Энгельс
отмечает, в особенности для Западной Саксонии (т. е. Вестфалии),
которая «была раньше франкской территорией», «влияние оставав-
шихся франков, теперь уже слившихся с саксами»,20 указывая
на следы этого влияния в западносаксонском «Гелианде» (первая
половина IX в.). Представители современной немецкой диалекто-
графии начиная с Вредэ подчеркивали более поздние воздействия
франкского, связанные с насильственным включением саксов
в франкское государство в пору кровопролитных саксонских
войн Карла Великого (772—804), с последующей христианизацией
и феодализацией покоренных саксонских племен. С этого времени
начинается длительный процесс «оверхненемечения» древнесак-
сонского, вытеснения из него отдельных «ингвеонизмов», превра-
щения его из самостоятельного (ингвеонского по своему проис-
хождению) племенного наречия в нижненемецкий диалект немец-
кого языка, процесс, связанный с включением саксов в истори-
ческое единство немецкой народности, а в дальнейшем — с фор-
мированием немецкой нации и образованием на верхненемецкой
основе общенемецкого национального литературного языка.
Вредэ, первый выдвинувший эту проблему, поясняет ее сле-
дующими примерами:
«Если числительное fiinf имеет еще в н.-нем. форму fif без п,
a Gans звучит gos или gaus без п, — это еще ингвеонизм; но для
uns и unser область потери носового уже сильно ограничена не-
410
мецким влиянием, а в слове ander (др.-сакс. odar) формы без п
сейчас вообще не встречаются.21
Если во всей Вестфалии, в Ганновере, Брауншвейге и дальше
на север до Северного и Балтийского моря все три лица множест-
венного числа настоящего времени имеют одинаковое окончание
-et, которое является ингвеонским. . ., то на востоке и юго-вос-
токе оно непрерывно отступает.
Если в северной Германии падежи дат. и вин. (mir и mich,
dir и dich) не различаются, совпадая в форме дательного [mi,
di — ср. англ, me, thee], то это «ингвеонизм», но распространен-
ные уже в ганноверском диалекте формы mik и dik (вместо ожи-
даемых mi и di) основаны на влиянии немецких mich и dich.
Отсутствие приставки -ge-, особенно в причастиях, тоже инг-
веонизм, но в ряде случаев давно уже снова проникло немецкое
ge-. Выпадение w в вестфальском siister и нижнерейнском sqster
'Schwester’ — еще ингвеонизм, но более восточное swester —
результат вторжения немецкого.
Умлаут в dorp 'Dorf — особенность, присущая ингвеонскому,
его отсутствие в вестфальском duorp, dorp — немецкая черта.
Нижненемецкие уменьшительные обязаны своим существова-
нием только немецкому образцу, ингвеонскому они были незна-
комы. . . Такие слова, как frau и heute, основываются только
на немецком импорте, точно так же, как возвратное местоимение
sik, sich, которое обнаруживает свое недавнее происхождение
уже самой своей внешней формой, проникшей далеко внутрь
нижненемецкого. . .
Короче говоря, вся история нижненемецких диалектов должна
быть пересмотрена именно с этой точки зрения».22
Мы не будем уточнять тот список ингвеонизмов, сохранившихся
или вытесненных в нижненемецком, который наметил Вредэ
в своей статье, впервые (хотя и после неизданной работы Эн-
гельса) поставившей этот вопрос. Для сравнительной грамматики
существенное значение имеет сам принцип: свидетельства древне-
нижненемецкого должны рассматриваться при сравнительно-исто-
рическом изучении древнегерманских диалектов с учетом процес-
сов его «оверхненемечения», о которых говорят диалектологиче-
ские карты.
Таким образом, показания лингвистической географии вносят
существенный корректив в построение сравнительной грамматики
германских языков, который должен быть учтен и в подготовля-
емом нами коллективном труде. Показания эти позволяют вос-
становить конкретные исторические процессы схождения и рас-
хождения древнегерманских племенных диалектов в пору их кон-
тактного и древнейшего раздельного существования и тем самым
намечают путь от сравнительно-грамматических сопоставлений
абстрактно-схематического характера к раскрытию реальных свя-
зей между развитием языка и историей племен и народов, гово-
ривших на данном языке и его диалектах.
411
3
Орфография древнегерманских письменных памятников от-
личается большой пестротой и противоречивостью в результате
непоследовательного и часто неумелого приспособления чужого
латинского письма к фонетическим особенностям германских
языков, нередко плохо укладывавшимся в рамки этого письма;
орфографические традиции различных монастырских школ раз-
ным образом перекрывают оттенки живого произношения. Поэтому
написания древних текстов требуют весьма сложной интерпрета-
ции, наиболее надежной там, где она может опереться на фонети-
чески точные свидетельства современных диалектов.
Образец такой интерпретации дает Энгельс в «Франкском диа-
лекте», когда он объясняет некоторые фонетические особенности
древнесаксонского «Гелианда» (IX в.), противоречиво и неточно
отражающиеся в орфографии этого памятника, исходя из спирант-
ного характера начального g- в современных вестфальских диа-
лектах. «Если бы М. Гейне обратил на это внимание, — указывает
Энгельс, — то ему не причинили бы особых затруднений частое
смешивание и взаимные аллитерации у, g и ch в Гелианде».23
Разумеется, было бы неправильным механически переносить
особенности современного диалектного произношения на отдель-
ные исторические эпохи. Речь идет и здесь об обычных методах
сравнительно-грамматической реконструкции, дополняющих
и уточняющих показания письменных источников.
Известно, что древневерхненемецкие тексты обозначают умлаут
гласного под влиянием последующего -I только для краткого а
(др.-в.-нем. gast — gesti); для прочих гласных обозначение ум-
лаута впервые появляется в средневерхненемецком вместе с ка-
чественной редукцией неударного -I в безразличное -е.
Ср. др.-в.-нем. wurf — мн. wurfi (ср.-в.-нем. wiirfe), gro’4 — сравн.
ст. gro^iro (ср.-в.-нем. groe^er), наст. ед. ч. 1-е л. slafu -2-е,
3-е л. slafis, slafit (ср.-в.-нем. slaefest, slaefet), прош. вр. fuor —
опт. II fuori (ср.-в.-нем. fiiere) и т. п. Явление это получило в на-
стоящее время фонологическое объяснение.24
В древневерхненемецком при наличии неударного -I умлауты
были комбинаторными вариантами основного гласного и потому
не обозначались в письме; редукция -i > -е превратила их в само-
стоятельные фонемы, не зависящие от фонетического окружения.
Таким образом, уже в древневерхненемецком наличествовала
не отраженная в письме позиционно обусловленная палатализа-
ция всех задних гласных и дифтонгов перед последующим -i,
которую можно условно обозначить показателем i при гласном:
а — а', д — о*, й — й'* о—о\ и — и1; ио—ио\ он — ои. Крат-
кое е, развившееся из а перед -i, как о том свидетельствуют совре-
менные диалекты, имело закрытый характер, в отличие от более
открытого старого германского ё: ср. ю.-нем. b^sar 'besser’ —
$S9 'essen’; следовательно, оно представляет в древневерхнене-
412
мецком позиционный вариант формы е перед последующим -i:
ср. др.-в.-нем. be^^iro — ё^ап. Герм, ё не могло стоять в древне-
верхненемецком перед -f, так как в таком положении оно перешло
в i по правилам западногерманского преломления (см. выше,
стр. 409). В тех немногочисленных случаях, где старое германское
ё встречается в древневерхненемецком перед более поздним суф-
фиксальным -i, оно, по показаниям современных немецких диалек-
тов, получило закрытый характер: ср. в ю.-нем. fels 'Felsen’
(др.-в.-нем. felis), weliQ fwelch’ (др.-в.-нем. welih), seks 'sechs’
(др.-в.-нем. sehsiu), lediQ (др.-в.-нем. ledig) и немн. др.25
Так называемый секундарный умлаут от краткого а перед
определенными группами согласных (заднеязычными), впервые
также появляющийся в средневерхненемецких текстах и обозна-
чаемый в грамматиках знаком а, наличествовал уже в древневерх-
ненемецком произношении как позиционный вариант краткого а,
более открытый, как о том свидетельствуют современные бавар-
ские и некоторые швейцарские диалекты, чем старое германское ё
(в нашем обозначении а1). Ср. др.-в.-нем. maht — мн. ч. mahti
ma^hti > ср.-в.-нем. mahte.
Необходимость интерпретации написаний древних текстов
с помощью данных современных диалектов наглядно показывают
в свете этих соображений такие слова, как др.-в.-нем. brucca
'Briicke’, mucca'Miicke’, stucki' Stuck’ (осн.-/-). Несмотря на оди-
наковость написания корневого гласного, мы имеем основание
предполагать, что в древнефранкских диалектах в соответствии
с последующим развитием, давшим умлаут (й), фонема и под-
вергалась палатализации [и* ], тогда как в древнебаварском и древ-
неалеманнском палатализации перед -кк не было, поскольку ум-
лаут в этих случаях отсутствует в современных южнонемецких
диалектах: ср. ю.-нем. bruk, muk, sduk. Древность этого разли-
чия подтверждается местными названиями: ср. н.-нем.ОзпаЬгйск
(Вестфалия), ср.-нем. Zweibrucken (Пфальц), ю.-нем. Innsbruck
(Тироль).
Свидетельства современных диалектов позволяют выдвинуть
положение, что в древневерхненемецком языке наличествовали
палатализованные (закрытые) комбинаторные варианты гласных
перед -I не только в случаях так называемого умлаута (т. е.
от гласных и дифтонгов заднего образования), но также
и у передних гласных и дифтонгов. Кроме уже названных двух
типов краткого е(ё— е), сюда относятся два варианта краткого
Z (/ — г), дифтонга in (щ — ш) и дифтонга ei(tf— ei). В результате
редукции конечного -i^>-e и фонологизации эти комбинаторные
варианты в ряде немецких диалектов дифференцируются в самос-
тоятельные гласные фонемы.
Дифференциацию [ — i сохранили и закономерно развили не-
которые средненемецкие говоры (рипуарский, верхнегессенский).
Ср. в районе Вецлара: sbeena 'spinnen’ инф. — sbenst 'spinnsf,
sbend 'spinnt’ наст. вр. ед. ч. 2—3 л. (др.-в.-нем. spinnis, -it
413
с последующим -i), reond 'Rind'—мн. renor Hinder’ (др.-в.-нем.
rindir); weald 'Wild’ сущ., weld 'wild’ прил. (др.-в.-нем. wildi);
sleeds 'Schlitz’— sledsge 'Schlilzchen’ (умсньш. -be hen) п др.26
Дифтонг iu, как показал Бехагель,27 по-видимому, подвергался
умлауту (*iu) перед -i и в дальнейшем совпал с долгим й (умлау-
том от долгого й); перед остальными гласными он имел в неко-
торых диалектах самостоятельное развитие (*/^), причвхМ в группе
-iuwi- неслоговое (заднее) и препятствовало воздействию -i. Ср. швб.
fuier 'Feuer’, tsuig 'Zeug’ (др-в.-нем. giziug), dui 'die’ ж. p.
(др.-в.-нем. din), nui 'neu’ (др.-в.-нем. niuwi); напротив *iu^>ei (ei),
совпадая c U^>di (ei): cp. laid 'Leute’ (др.-в.-нем. liuti), deier 'teuer’
(др.-в.-нем. diuri) как heiser 'Hauser’ (др.-в.-нем. husir, ср.-в.-нем.
hflser).
В значительной части средненемецких диалектов *i , обособив-
шееся от *ш й, развивается в средневерхненемецком в и, кото-
рое в дальнейшем на общем основании подвергается дифтонгиза-
ции в аи. Ср. ср.-нем. fau(o)r 'Feuer’ (др.-в.-нем. fuir > ср.-в.-нем.
fur), haut 'heute’ (др.-в.-нем. hiutu), паи 'neu’ (др.-в.-нем. niuwi)
и др.28
Два типа ei имеет лотарингский диалект: ai (из др.-в.-нем.
*$i) перед др. в.-нем. а, о, е и его умлаут б1 (из др.-в.-нем. ei)
перед -i (/). Ср. говор Фалькенберга: dail 'Teil’ — deilen 'teilen’
(из *dailjan); brait 'breit’—breiden 'Breite’(др.-в.-нем. breiti); ain
'ein’ — ж. p. ein (др.-в.-нем. einiu), gemein 'gemein’ (др.-в.-нем.
gimeini) и др.29
В нижненемецком, где герм, ai > ё (н.-нем. ё2), гласный этот,
как показал Гольтгаузен на примере вестфальского говора Зоста30,
перед последующим -i имел особое развитие (н.-нем. е3), в резуль-
тате которого он совпал с более закрытым типом ё из др.-сакс. ео
(н.-нем. ё4). Ср. blQek 'bleich’ (др.-сакс. Ыёк), но blaekn 'bleichen’
(др.-сакс. blekian); brQet 'breit’, st^en 'Stein’ и другие (ё2), но
klaen 'klein’ (др.-сакс. kleni), vaet 'Weizen’ (др.-сакс. hweti) и т. п.
(ё3), как laef 'lieb’ (др.-сакс. leof) и др. (ё4).
Во всех указанных случаях оттенки гласных дифференциро-
вались уже в древненемецком, поскольку палатализация была
вызвана ассимиляторным воздействием -Z, существовавшего только
в древний период, но они оставались необозначенными в письме,
так как не имели фонологического (смыслоразличительного) зна-
чения. Только показания современных диалектов позволили нам
установить, что все древневерхненемецкие гласные (долгие
и краткие) и дифтонги как заднего, так и переднего образования
имели в древневерхненемецком палатализованные варианты, вы-
званные воздействием последующего -i. Так называемый ум-
лаут — лишь частное проявление этого более общего фонетиче-
ского закона. Ограничивается ли этот закон лишь древневерхне-
немецким, или, как показывает пример нижненемецкого ё2
(герм, ai), он имел в древнегерманских диалектах более широкое
414
распространение, может установить только дальнейшее исследо-
вание, опирающееся па материалы сравнительной диалектологии
германских языков.
В свете данных современной диалектологии в настоящее время
требует пересмотра и сравнительно-грамматическая проблема
германского консонантизма. Поскольку проблеме этой посвящен
особый доклад, я не буду останавливаться на ней подробно.
Отмечу только, что вся картина развития так называемых герман-
ских звонких спирантов 5, 5, g и в особенности их отражений
в новонемецком по правилам второго передвижения согласных,
как она излагается в учебной литературе, вызывает сомнение
и должна быть поставлена заново на основе сравнительной ди-
алектологии.31 Каноническое учение младограмматиков о правилах
верхненемецкого перебоя звонких 6, d, g в глухие р, к строилось
целиком на орфографии древних письменных источников и ока-
залось взорванным выдвинутой современными диалектологами
проблемой «лениции» (Lenierung), так называемого «центрально-
немецкого ослабления согласных» (Binnendeutsche Konsonanten-
schwachung — термин австрийского диалектолога Лессяка). 32
Между тем уже Энгельс справедливо считал это «передвижение
звонких согласных [Medlen], которое влечет за собой своеобразное
средне- и южнонемецкое смешение Ъ и р, g и к, d и Ь>,33 наиболее
характерной особенностью верхненемецкого произношения. Гос-
подствующей по вопросу о происхождении этого явления явля-
ется в Германии точка зрения того же Лессяка, который считает
его более поздним, чем второй перебой (своего рода третий перебой,
около XII в.). Со своей стороны я пытался доказать его относи-
тельную древность,34 как это сделал одновременно и Вальтер
Митцка в недавно опубликованной статье.35
В отношении сомнительной формулы и.-е. *bh, dh, gh^>repM.
*5, d, g идет полемика между сторонниками старой теории Германа
Пауля, создателя этой формулы,36 и более новыми взглядами,
выдвинутыми в 1.913 г. И. Франком,37 которые получили под-
держку Безеке,38 Бехагеля и австрийской диалектологической
школы.39 С точки зрения Пауля, продуктом этого передвижения
являются названные выше звонкие спиранты, которые переходят
в смычные в начале слова, в удвоении и после носового; с точки
зрения Франка, в германском языке-основе были, как в совре-
менном немецком, звонкие смычные, которые лишь в дальнейшем,
уже в отдельных языках, подверглись спирантизации (преиму-
щественно — в интервокальном положении). Ясность в этот во-
прос, как мне кажется, может внести фонологическая точка зре-
ния: следует думать, что звонкие спиранты и смычные были в об-
щегерманском позиционными вариантами одной фонемы; условия
комбинаторного распределения этих вариантов в разных древне-
германских языках были для разных звуков различны (языки
западногерманские имели, например, смычное d во всех положе-
ниях).40
415
Современные немецкие диалекты и в этом отношении бросают
свет на языковые отношения древненемецкого. В настоящее время
средненемецкие диалекты имеют спирантное b и g в середине
слова, а в некоторых диалектах и на конце слова при наличии
смычных в остальных положениях. Ср., например, гесс. blaiwe
'bleiben’—blaib 'bleibe’, grawo 'graben’—grab 'Grab’; как живое
чередование: haw-iQ 'habe ich’, но hab 'ich habe’ и т. п.; auye
'Augen’ мп. —aux (aug) 'Auge’, sloye 'schagen’ — slox (slQg) 'Schlag’,
wejeg 'Wege’ — weQ (w^g) 'Weg’ и т. п. Следует думать, что для
средненемецких (франкских) диалектов такое произношение су-
ществовало уже в древненемецком, как, по-видимому, предпола-
гал и Энгельс, считавший спирантные b и g «двумя общефранк-
скими особенностями».41 Однако это произношение не нашло
сколько-нибудь систематического отражения в древневерхне-
немецком, поскольку спирантные b и g представляли позиционно
обусловленный оттенок этих фонем. Написания lewen, lowen
и т. п. появляются впервые в средневерхненемецких текстах
вместе с превращением начального w из неслогового и в спирант-
ное w (uinter > winter). Тем самым в немецком языке обособи-
лась фонема w, которая стала обозначаться как w и в середине
слова. Спирантное g остается в большинстве случаев без специаль-
ного обозначения, кроме тех случаев, когда оно совпало с /,
который также из неслогового I становится в немецком языке
палатальным спирантом (ср. ср.-в.-нем. lejen и т. п.). На конце
слова ему противопоставлено глухое смычное -к, которое обозна-
чается через -с: ср. ср.-в.-нем. tac, wee и др.
Таким образом, фонетическое истолкование консонантизма
старонемецких текстов требует также обращения к живому зву-
чанию современных диалектов.
4
Сравнительно-историческая грамматика диалектов одного
языка подобно сравнительной грамматике группы родственных
языков устанавливает как общие тенденции развития всей изу-
чаемой группы языков или диалектов, так и дифференциацию
этих тенденций в результате взаимодействия с другими элемен-
тами фонетико-грамматической системы данного языка или диа-
лекта.
В фонетике важнейшим фактором развития диалектов явля-
ется, как неоднократно указывалось, сильное динамическое уда-
рение на первом (корневом) слоге германских слов.42 Фонетиче-
ские изменения, так сильно дифференцировавшие современные
немецкие диалекты, в основном, по крайней мере для гласных,
являются законами ударных слогов. Долгота и краткость в про-
цессе развития немецкого, как и большинства других германских
языков, становятся функцией ударения и структуры слога:
416
исконно краткие гласные в открытом слоге удлиняются (т. е.,
по Сиверсу, получают способность быть протянутыми),43 исконно
долгие перед группами согласных сокращаются. В неударных
слогах различие долготы и краткости потеряло фонологическое
значение (в тех редких случаях, где фонетическая долгота сохра-
нилась). Неударные гласные подвергались редукции в качественно
безразличное -е, которое в дальнейшем отпадает в южнонемецком
и западносредненемецком, а позднее также в северной и восточ-
ной части нижненемецкого. Качественное различие вокализма
сохраняют лишь сильные суффиксы, имеющие побочное ударение.
Влиянием ударения объясняются многочисленные и разнооб-
разные случаи спонтанных изменений вокализма немецких диа-
лектов: дифтонгизации долгих и стяжения дифтонгов, сужения
и расширения. Долгие гласные имеют тенденцию к сужению: а
дает последовательно а^>р^> д^>й (ср.-в.-нем. slafen > sl&fe >
slofe slof >slufe); гласные среднего уровня б, ё>й, I (ср.-в.-нем.
sne^>sni, ср.-в.-нем. gro^ > gru^). Краткие (кроме а) часто, на-
против, подвергаются расширению: г, и^>е, о; е, о'>$, р; q^>a,
a; Q^>a- Ср. в эльзасскОхМ (Кольмар): belt 'Bild’, fende 'finden’;
§k 'Ecke’, b^t 'Betf (ср.-в.-нем. §k, b§t); fait 'Feld’, ase 'essen’
(ср.-в.-нем. f61t, ё^еп); soil 'Schuld’, bodr 'Butter’; glQk 'Glocke’,
glQpfe 'klopfen’ и т. п.44
Это различие между краткими и долгими гласными объяс-
няется, по-видимому, различным характером их акцентуации.
Основой дифтонгизации (не только узких долгих, как в лите-
ратурном языке) является сильный динамический акцент, по-
рождающий сверхдолготу и двухвершинное ударение, что влечет
за собой расщепление гласного и последовательную качественную
дифференциацию* его элементов (по типу Z, u^>il, uu>ei,
ои . . . $1, ри . . . ai, du^>ai, аи)*ъ
Основой монофтонгизации сходным образом является сильное
ударение на слогообразующем гласном, его удлинение и погло-
щение им краткого неслогового элемента (по типу io, иэ > 1э,
йэ > Г, й9 > I, и). Процессы эти соотносительны: в системе глас-
ных литературного языка на место узких гласных ср.-в.-нем.
I, й, й, подвергшихся дифтонгизации, становятся соответствую-
щие узкие дифтонги ср.-в.-нем. ie, ио, йе, в которых первый эле-
мент в результате удлинения поглотил второй.46
Но и в одном звуковом ряду процессы дифтонгизации и моно-
фтонгизации генетически соотносительны и сменяют друг друга.
Так, новые дифтонги, развившиеся в немецких диалектах из узких
долгих ср.-в.-нем. I (й), й, на разных ступенях своего расшире-
ния могут стягиваться в монофтонги. Ср. в силезском:
й^>ои^> д; ср. sneden 'schneiden’ (ср.-в.-нем. sniden), wet 'weif
(ср.-в.-нем. wit); krot 'Kraut’ (ср.-в.-нем. krut), hos 'Haus’ (ср.-в.-нем.
hUs); в гессенском (район Бингена): i^> ai^> ai^> а; ср. tsait 'Zeif
(ср.-в.-нем. zit), sraiwo 'schreiben’ (ср.-в.-нем. schriben)—в даль-
нейшем lab 'Leib’ (ср.-в.-нем. lip), aso 'Eisen’ (ср.-в.-нем. isen),
27 В. M. Жирмунский
417
man 'mein’ (ср.-в.-нем. min); й^> au^> du: daub 'Taube1, haus 'Haus’
(без дальнейшей монофтонгизации); в некоторых севернобаварских
говорах (Баварский лес): d: ср. base 'beissen’ (ср.-в.-нем.
bigen); й>*аи^> а; ср. has 'Haus’ (ср.-в.-нем. has).47 Особенно
интересен в этом смысле среднеавстрийский диалект города Вены,
где дифтонги н.-в.-нем. di, аи, развившиеся в баварско-австрий-
ском уже в XIII в. из ср.-в.-нем. I (и), й, подверглись в даль-
нейшем стяжению в а, а, а в настоящее время вторично дифтон-
гизуются в an, ап, ср. ais 'Eis’, haus 'Haus’ (ср.-в.-нем. Is,
has > 5s, h5s>aes, hSes).48
Дифтонгизации подвергаются в некоторых диалектах и долгие
гласные ё, д, сами явившиеся результатом стяжения в древневерхне-
немецком (VIII в.) герм, ai, аи перед определенными согласными.
Продукты дифтонгизации различаются по диалектам степенью
открытости и закрытости обоих элементов. Ср. e^>qi, ai, ае, еэ
и др., например вост.-франкск. sn§i 'Schnee’, швб. snae, ср.-бав.
яп<|о (ср.-в.-нем. sne); д^>ри, ао, рэ и др., например вост.-франкск.
grQus 'gross’, швб. graos, ср.-бав. groes. На периферии области
сужения ё>г, д^>й (в рипуарском, западнотюрингенском, говорах
Фогтланда) наблюдается дальнейшая дифтонгизация этих узких
гласных: i > Id, In; й^>йэ, йп, ио и т. п.49
Еще большую неустойчивость ударного вокализма обнаруживают
многие нижненемецкие диалекты, в наибольшей степени вест-
фальский с его многообразно дифференцированной дифтонгизацией
долгих и удлиненных кратких. Особенно гласные среднего уровня
(разного типа g, о), сами явившиеся частично результатом моно-
фтонгизации старых германских дифтонгов, подверглись в нижне-
немецком новой дифтонгизации. Ср., например, в районе Гамбурга
(Альтенгамме): ср.-в.-нем. ё^> di, например kais 'Kase’, klait 'Kleid’,
Snai 'Schnee’, laif 'lieb’; ср.-н.-нем. например fqqt 'Fuss’,
rqijt 'rot’, bqqm 'Baum’; ср.-н.-нем. о^>ц*, например zq4 'suss’,
ht^c 'Hohe’; дифтонгизуется также а (из др.-н.-нем. а и совпав-
ших с ним удлиненных кратких а, о, и)^>рц, например blQi^zn
'blasen’ (др.-н.-нем. blasan), как пщцЫ 'mahlen’ (др.-н.-нем. malan),
bQqbm 'oben’ (др.-н.-нем. b + ofian), vqipj 'wohnen’ (др.-н.-нем. wunon).50
Такое разнообразие в осуществлении общих тенденций фонети-
ческого развития диалектов может объясняться, с одной стороны,
различной степенью последовательности в их проведении, с дру-
гой — разными формами, которые принимают эти тенденции
в рамках фонетической системы того или иного диалекта. Суще-
ственную роль играют при этом особенности акцентуации, до сих
пор не подвергавшиеся сколько-нибудь пристальному изуче-
нию. На данной ступени наших фонетических знаний мы можем
лишь констатировать в результате сравнительно-исторического
исследования наличие за этим индивидуально дифференцирован-
ным многообразием диалектной фонетики некоторых общих за-
кономерных тенденций, определивших основное направление
развития немецкого языка.
418
5
Общие закономерные тенденции развития языка и их диффе-
ренциация в связи с различиями фонетической и морфологиче-
ской системы соответствующих диалектов выступают особенно
отчетливо в области сравнительной морфологии. В качестве при-
мера можно остановиться на образовании множественного числа
мужского и среднего рода.51
В развитии склонения существительных для немецких диа-
лектов, как и для литературного языка, характерна тенденция
к противопоставлению на основе редукции и унификации падеж-
ных окончаний множественного числа единственному более или
менее отчетливыми морфологическими признаками, дифферен-
цированными по грамматическим родам. Как известно, в литера-
турном языке в мужском роде преобладает множественное число
на -е, притом часто с умлаутом (Fisch — Fische, Gast — Gaste,
но также Tag — Tage); в среднем роде на -ег, при котором ум-
лаут обязателен, если гласный корня может изменяться (Kind —
Kinder, Land — Lander); в женском на -еп (Zunge — Zungen).
В этом направлении происходит весьма значительная по сравне-
нию с древневерхненемецким перегруппировка лексического ма-
териала. Тем не менее рядом с главенствующими, максимально
продуктивными типами сохранились и другие, значительно со-
кратившиеся группы; наличествовали и конкурирующие образо-
вания, на которых я останавливаться не буду.62
В верхненемецких диалектах, в особенности в более южных,
в результате отпадения неударного окончания -е (ед. Tag — мн.
Tage) господствующим признаком множественного числа стано-
вится грамматический умлаут, т. е. внутренняя флексия, которая
по аналогии со старыми основами на -i получает гораздо более
широкое распространение, чем в литературнОхМ языке. Ср. ед. tag —
мн. tag 'Tage’, так же arm 'Arme’, halm 'Halme’, hiind (hind)
TIunde’ и др.; в двусложных словах разного типа: мн. hobel,
tadel, hammer, lager, boge(n), knoche(n), kaste(n), mage(n), kra-
ge(n), wagen и т. д.; умлаут в двусложных закрепился и в южно-
немецкой форме национального литературного языка. В южно-
немецких диалектах (алеманнских, баварских) этот способ образо-
вания множественного числа является для мужского рода почти
универсальным. Так, в южноавстрийском диалекте Тироля, согласно
исчерпывающему списку, составленному Шатцем для говора Имста,
умлаут охватил полностью все слова мужского рода, которые
могут иметь чередование гласных. Из многочисленных примеров
(ср. tQg 'Tag’—мн. tag (бав.-австр. а (а) из ср.-в.-нем. ж, а),
hQlm 'Halm’ — мн. halm, wqM 'Wald’—мн. wald, hunt 'Hund’ —
мн. hint, doxt 'Dochf (ср.-в.-нем. daxt) — мн. glQts 'Glatze’ — мн.
glats, slukx 'Schluck’ — мн. slikx и мн. др.; с новым аналогическим
умлаутом дифтонга qb (из ср.-в.-нем. ei): rouf 'Reif’ — мн. r$uf,
kxrQes 'Kreis’ — мн. kxr^us, tQel 'Teil’ — мн. t$ul; двусложные:
27*
419
hQspl 'HaspeF—мн. haspi, pukkl 'BuckeF— мн. pikkl, mQUSsl
'MeisseF—meussl; hounmar, 'Hammer’—мн. heinmar, tsuwor 'Zu-
ber’— мн. tsiwer, Qgijer 'Anger’ — мн. еццэг, summer 'Sommer’ —
мн. simmer; poude 'Boden’ — мн. poide, wQge 'Wagen’—мн. wage,
hQfe 'Hafen’ (=Topf) — мн. hafe и мн. др. Особенно характерно
образование множественного числа по этому типу от многих слов
с абстрактным или собирательным значением, обычно не имеющих
множественного числа; при конкретизации значения такие слова
становятся считаемыми. Ср. slQf 'Schlaf’— мн. slaf, roux 'Rauch’ —
мн. roix, prQnt 'Brand’ — мн. prent, trug 'Trug’—мн. trig, tails
'Tausch’— мн. tais, trQUst 'Trost’ — мн. treust, tQud 'Tod’—мн.
t^ud; двусложные: tqdl 'TadeF—мн. tadl, kxummer 'Kummer’ —
мн. kximmer, jounmer 'Jammer’ — мн. jeinmer, tsoure 'Zorn’—мн.
ts^ure, fQertl 'Viertel’ — мн. f^erli (сложное слово с редуцирован-
ным вторым элементом) и др.53
Можно предполагать, что более широкое распространение
умлаута в южнонемецких диалектах в данной грамматической
категории связано с более ранним отпадением на юге конечного
-е, которое наметилось здесь уже в средневерхненемецкий период;
по мере распространения редукции на средненемецкие диалекты
и эти последние должны были распространить грамматический
умлаут на большую или меньшую часть лексического материала,
в котором множественное число совпало по форме с единственным.
Восточносредненемецкие говоры, сохранившие нередуциро-
ванное конечное -е, проводят грамматический умлаут в тех более
ограниченных размерах, в которых он представлен в литератур-
ном языке, поскольку исторической основой последнего явилась
именно восточносредненемецкая норма.
В нижненемецком конечное -е также сохраняется либо (в север-
ных и восточных диалектах) отпадает значительно позже, чем
в верхненемецком. В последнем случае первоначально двуслож-
ная форма множественного числа (тип ср.-н.-нем. dage 'Tage’)
обычно отличается от исконно односложной формы единственного
числа (тип ср.-н.-нем. dag) рядом вторичных фонетических при-
знаков: удлинением, происшедшим в открытом слоге, изменением
качества гласного при удлинении, двухвершинным ударением
(как заменой отпавшего гласного), сохранением полузвонкости
или другими особенностями конечного согласного, развивши-
мися в интервокальном положении. Ср. меклб. dak 'Tag’ — мн.
dax, vint 'Wind’ — мн. vinn и т. п.
Поэтому в нижненемецком, как и в восточносредненемецком,
грамматический умлаут как признак множественного числа
также имеет значительно менее широкое распространение, чем
в большинстве верхненемецких диалектов. Отсутствуют мн.
tag(e), arme, halme, hiinde, менее распространен умлаут от дву-
сложных, в особенности от слов на а(тг), вследствие чего и в оби-
ходной форме литературного языка в отличие от южнонемецкого
множественное число типа hammer, kasten, bogen и т. п. не упо-
430
требляется. В двусложных, в случаях отпадения конечного -е,
широкое распространение получило специфическое для нижне-
немецкого окончание мн. по-видимому восходящее к древне-
саксонскому -os (ср.-н.-нем. -е$),54 в частности в словах с корне-
вым гласным, который мог бы иметь умлаут. Ср. в вестфальском
(Равенсберг): мн. apols 'Apfel’, hamars 'Hammer’, bakors 'Bak-
ker’, sliiodols 'Schlussel’; уменып. kindkans 'Kindchen’ и т. п..55
В среднем роде, не имевшем в средневерхненемецком морфо-
логического признака множественного числа (ср.-в.-нем. da^
lant — мн. diu lant), в литературном языке как господствующая
форма распространилось окончание -ег, с которым, однако, кон-
курирует -е по аналогии с мужским родом. Ср. Land — Lander,
Kind — Kinder, но Schaf — Schafe, Tier — Tiere и др. Восточно-
средненемецкие диалекты, сохранившие конечное -е, имеют
в целом такое же распределение этих типов. В остальной части
верхненемецкого при наличии редукции -е не могло быть исполь-
зовано в качестве морфологического признака. Поэтому -ег как
окончание множественного числа имеет здесь в среднем роде
гораздо более последовательное, почти универсальное распро-
странение. Ср., например, в эльзасском (говор Цорнталя): мн.
bedar 'Betten', hamdar 'Hemde’, spelar 'Spiele’, gritsar 'Kreuze’, heftar
'Hefte’, salar 'Seile’, banar 'Beine’ и др.; в словах с основой на -г
(которые в литературном языке никогда не принимают окончания
-er): diarar 'Tiere’, dSrar 'Tore’, firar 'Feuer’; в словах с пристав-
кой ge-: gabatar 'Gebete’, gsetsar 'Gesetze’, gsankar 'Geschenke’,
gawelwar 'Gewolbe’, gawixtar 'Gewichte’ и др.; в заимствованных сло-
вах: bresanter 'Presente’ (=Geschenke), babirar 'Papiere’, losamandar
'Wohnungen’ (от франц, logements, с умлаутом а эльз. а) и мн. др.56
Значительно уже, чем в литературном языке, круг распро-
странения -ег в нижненемецких диалектах. Такие слова, как
Rader, Bretter, Blatter, Fasser, Kinder, Tucher, и некоторые дру-
гие во многих нижненемецких говорах не имеют окончания -ег.
Это обстоятельство связано с сохранением конечного нередуци-
рованного -е, благодаря чему уже в средненижненемецком широ-
кое употребление получает окончание мн. ч. -е, как закономерное
продолжение древнесаксонского мн. -и (из герм, а) в краткослож-
ных среднего рода (др.-сакс, fat 'Fass’ — мн. fatu, ср.-н.-нем.
fate). Его дальнейшее распространение было поддержано ана-
логией слов мужского рода на -е, по типу мужских основ на -i,
поэтому нередко — с умлаутом. Ср. ср.-н.-нем. wort 'Worf —
мн. worde (или wort), dorp 'Dorf’ — мн. dorpe (или dorpe); brod
'Brof — мн. brSte, bot 'Bof — мн. bote, bok'Buch’—мн. boke (ста-
рая основа на согласный, с фонетически закономерным умлаутом,
из др.-сакс. мн. boki) и др.57
Из современных нижненемецких диалектов те, в которых ко-
нечное -е не редуцируется, сохранили его как признак множествен-
ного числа с умлаутом или без умлаута. Ср., например, в южно-
остфальском (Вольфепбюттель): sip 'Schaf’ — мн. sipa (или sSpm),
421
мн. jSro 'Jahre’, dSela 'Teile’, sefa 'Siebe’, spela 'Spiele’, hSra
'Haare’, daera 'Thiere’ и др.; с умлаутом: sap 'Schrank’ — мн.
s$pa, r§t 'Rad’—мн. raa, fat 'Pass’ — мн. faa и др.68 При отпа-
дении конечного -е, хронологически более позднем, чем процесс
аналогического распространения этого окончания во множест-
венном числе, сохраняются умлаут и указанные выше фонетические
признаки первоначального двусложного окончания. Ср. меклб.
pert 'Pferd’ — мн. рёг, bunt 'Bund’ ( = Biindel) — мн. bunn и т. п.
Примеры эти показывают, что общая закономерная тенден-
ция развития языка по-разному дифференцируется в результате
взаимодействия с элементами фонетической и грамматической
системы данных диалектов. К тем же выводам мы приходим,
рассматривая сравнительно-историческим методом развитие род-
ственных (в данном случае германских) языков в период их раз-
дельного существования. Так, рассматривая развитие умлаута
в английском языке по сравнению с немецким, мы обнаружи-
ваем, что при наличии в обоих языках общегерманского насле-
дия фонетической ассимиляции гласного корня гласному -i окон-
чания в немецком языке на ее основе развивается чрезвычайно
продуктивная система грамматической перегласовки (внутренней
флексии), составляющая одну из наиболее характерных особен-
ностей грамматического строя этого языка, тогда как в англий-
ском языке начиная уже с англосаксонского грамматический ум-
лаут постепенно затухает, сохраняясь в современном языке лишь
в виде небольшого числа изолированных исключений.59
Вопросы такого рода должны получить место в сравнительной
грамматике германских языков, если понимать сравнительно-
историческое исследование не только как восстановление системы
архетипов языка-основы, но прежде всего как метод изучения
внутренних закономерностей развития группы родственных язы-
ков в их сходствах и различиях на длительном протяжении их
исторического развития.
Для осуществления этой задачи сравнительная грамматика
германских языков должна опираться на сравнительно-истори-
ческую диалектологию.
1959 г.
МЕТОДИКА СОЦИАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ
(Диалектология и фольклор
в свете географического исследования)
1. Вопросы, связанные с географическим изучением явлений
диалектологии, фольклора и этнографии, стоят в настоящее время
в центре внимания немецких ученых, работающих в области на-
званных наук. Повышенный интерес к этим вопросам связан
с методологическими перспективами, которые развернулись в про-
422
цессе работы Лингвистического атласа Германии (Sprachatlas
des Deutschen Reichs). В статье «Проблемы немецкой диалекто-
графии в связи с историческим краеведением» [1] * мне пришлось
уже остановиться на ходе этой работы и ее важнейших резуль-
татах.
В 1876 г. Георг Венкер разослал по всем народным школам
Германии диалектологическую анкету, состоящую из 40 пред-
ложений (так называемых Wenkers Satze), составленных из слов,
которые могут служить примерами на важнейшие явления фоне-
тики и морфологии немецких говоров. Всего было получено более
40 000 ответов, которые хранятся в архиве Центрального диалекто-
логического института в Марбурге (Zentralstelle fur deutsche
Mundartenforschung). На основании этих ответов под руковод-
ством Венкера и его преемника проф. Вредэ было составлено
более 1500 рукописных карт: каждая карта соответствует отдель-
ному слову анкеты и иллюстрирует границы определенного грам-
матического явления, представленного данным словом. К из-
данию атласа (в несколько упрощенном виде) проф. Вредэ при-
ступил только в 1926 г. [2]; однако задолго до этого рукописный
атлас уже служил мощным орудием научного исследования,
разрушившим традиционные представления об исторической
жизни диалектов.
В противоположность старому мнению, согласно которому
существуют более или менее замкнутые диалекты, характери-
зующиеся совокупностью нескольких диалектологических при-
знаков, было обнаружено, что каждое грамматическое явление
имеет особую границу, обычно не совпадающую с границами дру-
гих явлений; более того, нередко различные слова в пределах
одного и того же звукового ряда имеют каждое свою границу
(например, границы дифтонгизации i > ei для is/eis и win/wein
в Рейнской области). Только там, где в течение долгого времени
существовали прочные и неподвижные экономические и полити-
ческие границы, отдельные изоглоссы (границы слов) совпадают
между собой или образуют более или менее густые пучки (Lini-
enbiindel). Этим доказывается, что диалект каждого данного рай-
она — не продукт спонтанного развития из «праязыка», не замк-
нутая и самостоятельная ветвь «родословного древа», но находится
в постоянном взаимодействии с соседними говорами. Новые формы
слов распространяются волнами из экономических и культур-
ных центров и останавливаются на границах экономических и
культурных связей между районами. Интерпретация диалекто-
логической карты в связи с исторической позволяет установить
пути распространения новых форм, обычно совпадающие со ста-
рыми или новыми торговыми путями или с направлением колони-
зационных движений, а также дает возможность выделить релик-
товые районы, отдаленные от торговых путей и сохраняющие
♦ Цифры в скобках относятся к прилагаемой к статье библиографии.
423
в условиях экономической и культурной отсталости архаиче-
кие, пережиточные формы. Таким образом, диалектологическая
карта вскрывает динамику социально-лингвистического про-
цесса, смещение языковых границ, языковые напластования раз-
личной древности и тем самым подводит нас к конкретной истории
языка данной территории.
Кроме языковых реликтов свидетельством этой истории,
вскрывающим динамику лингвистической карты, являются пере-
ходные, смешанные зоны с «исключениями» из господствующего
типа по обе стороны границы, компромиссные и гибридные формы
и другие признаки двуязычия, предшествующего униформации
и установлению новых границ. Процессы языкового смешения
выступают повсюду как важнейшее явление конкретной истори-
ческой жизни языка. Существенное методологическое значение
имеет основной исторический вывод, сделанный немецкими диа-
лектографами на ряде конкретных примеров: современные диа-
лектологические границы в большинстве случаев совпадают с гра-
ницами средневековых феодальных территорий. Этот вывод тре-
бует обоснования с точки зрения социальной диалектологии, и
мы находим его в следующих соображениях.
В эпоху феодализма не существует общенационального языка,
как и не существует национального единства в современном смысле
слова. Язык распадается на ряд поместно-территориальных
говоров в границах экономически и политически замкнутых терри-
торий средневековых поместий-государств. В эпоху возникнове-
ния капитализма в связи с развитием товарного хозяйства, рас-
ширением торговых связей, ростом городов впервые возникает
единый общенациональный язык как язык господствующих клас-
сов общества, городской буржуазии. Как единая норма, социально
обусловленная, он противопоставляет себя местным говорам; он
носит специфические черты языка письменности, книжного об-
разования, публичной речи. Но возникновение общенациональ-
ного языка не уничтожает окончательно местных говоров. Они
продолжают существовать как реликтовые диалекты, носителем
которых является по преимуществу крестьянство (отчасти мел-
кая буржуазия — городское мещанство), как реликтовый обще-
ственный класс, сохраняющий в условиях развития капитализма
докапиталистические формы полунатурального или мелкого
товарного хозяйства, привязанного к определенной территории
и ограниченного сферой сбыта.1 Поэтому границы современных
крестьянских говоров до сих пор обыкновенно совпадают с тер-
риториальными границами средневековых поместий-государств.
Поэтому в странах позднего развития капитализма, например
в Германии, сохранившей территориально-политическую рас-
члененность эпохи феодализма по крайней мере до начала XIX в.,
дифференциация говоров гораздо более отчетлива и глубока, чем
в передовых капиталистических странах (например, в Англии
и Франции): в западной Германии, где это расчленение было осо-
424
бенно значительно, каждый небольшой район, иногда не превы-
шающий каких-нибудь 100—200 кв. км, обнаруживает резкие
диалектические особенности. Даже в разговорном языке город-
ских центров до сих пор сохранились заметные фонетические и
словарные различия, которые возрастают по мере того, как мы
спускаемся в низы городского мещанства. Мещанские говоры
заметно приближаются к местным крестьянским диалектам,
в которых в свою очередь, конечно, наблюдается существенная
дифференциация в связи с классовым расслоением деревни
в условиях капиталистического развития (ср. библиографию,
II).
Тот же принцип социологической интерпретации должен быть
применен и к явлениям фольклора.
Для изучения фольклора как совокупности реликтовых куль-
турных образований, характерных для бытового уклада куль-
турно отсталых групп, проблемы географического исследования
имеют не менее важное значение, чем в области диалектологии.
И здесь границы средневековых территориальных объединений
в основном определили сферу распространения культурных влия-
ний: фольклорные реликты подобно диалектологическим рас-
пространяются волнами из ведущих культурных центров и оста-
навливаются у экономических и политических границ; динамика
фольклорной карты вскрывает конкретную историю материаль-
ного и духовного быта соответствующих историко-географиче-
ских районов. По существу крестьянские говоры как реликтовые
образования относятся к более широкой области фольклорных
явлений, характеризующих материальный и духовный быт со-
временного крестьянства.
Находясь в 1927 и 1929 гг. в заграничной командировке
в Германии для обработки собранного мною в научных экспеди-
циях диалектического и фольклорного материала, я имел воз-
можность подробно ознакомиться с методикой географического
исследования, применяемого в Германии в области фольклора
и диалектологии. Я работал в Центральном диалектологическом
институте в Марбурге и в Центральном архиве немецкой народ-
ной песни в Фрейбурге и посетил большинство провинциальных
центров, в которых ведется работа по составлению диалектологи-
ческих словарей и собиранию фольклорного материала: Бонн
(Институт исторического краеведения и Рейнский словарь),
Марбург (Гессен-Нассауский словарь), Гессен (Южногессенский
словарь), Кайзерслаутерн (Пфальцский словарь), Фрейбург (Ба-
денский словарь), Лейпциг (Саксонский словарь), Кенигсберг
(Прусский словарь и Фольклорный архив). Кроме того, в ка-
честве докладчика на Съезде фольклористов в Берлине (1929)
я имел возможность присутствовать на заседании комиссии
по организации Этнографического атласа Германии, на котором
сообщались результаты пробной анкеты этого атласа, и позна-
комился с работой нового Этнографического института (Zentral-
425
stelle des Volkskundeatlas), где разрабатываются материалы
этнографических анкет и подготовляются карты будущего атласа.
Поскольку материалы эти отчасти еще не опубликованы, от-
части малодоступны, небесполезно ознакомить советских читате-
лей с методикой исследования в этой новой области научной ра-
боты, открывающей широкие перспективы для постановки соци-
ально-исторических проблем. В дальнейшем я остановлюсь более
подробно на проблемах словарной географии (Wortgeographie),
наиболее тесно связанных с фольклористикой, и на географиче-
ском принципе в области фольклора и этнографии в собственном
смысле слова.
2. Собирание словарных диалектов, «провинциальных» слов,
началось в Германии задолго до развития научной диалекто-
логии. Уже в конце XVII в. известен Баварский словарь регенс-
бургского бургомистра Праша (Joh. Ludw. Prasch. Glossarium
Bavarium, 1689). На протяжении XVIII в. продолжается коллек-
ционирование местных словарных особенностей (так называемых
идиотизмов): результатом этой работы любителей провинциаль-
ной старины являются довольно многочисленные местные «идио-
тиконы» (Idiotikon). В начале XIX в. вместе с научной диалекто-
логией, ориентированной на историю языка, возникает и науч-
ная лексикография: родоначальник немецкой диалектологии
И. Шмеллер (J. A. Schmeller. Die Mundarten Bayerns, 1821) яв-
ляется автором первого научного диалектологического словаря
(Bayrisches Worterbuch, 1827—1837, 4 тома). Научные словари
отходят от старой системы «идиотиконов»: они ставят перед со-
бой задачу собрать не только местные словарные особенности,
отклоняющиеся от литературной нормы, но весь наличный сло-
варный материал данного говора. Поэтому они организуются
как большие коллективные научные предприятия с целым шта-
том сотрудников и добровольных корреспондентов, работающих
под руководством выдающегося местного специалиста; собирание
и печатание продолжается в течение ряда лет, и многие издания
этого типа до сих пор не закончены. Из словарей, начатых в XIX в.,
наиболее интересны швейцарский (Л. Тоблера, не закончен),
швабский (Германа Фишера), эльзасский (Мартина и Лингарта);
к числу новых изданий, предпринятых в XX в., относятся словари
Трансильванский (Шуллеруса), Баденский (Окса), Рейнский
(Иосифа Мюллера), Гессен-Нассауский (Луизы Бертольд), Шлез-
виг-Гольштинский (Мензинга) и др. — все они не закончены.
Дополнением к этим обширным работам служат многочисленные
«идиотиконы» местного значения, небольшие монографии (обычно
диссертации), посвященные словарю того или иного географи-
ческого пункта, и, наконец, исследования на специальные темы,
посвященные названиям животных и растений, терминологии
земледелия и ремесел и т. п. (см. библиографию, III).
Характерной особенностью всех этих работ, поскольку они
захватывают более или менее обширный район, является отсут-
426
ствие географической полноты свидетельств. В зависимости от на-
личного состава корреспондентов для каждого диалектического
слова перечисляется ряд пунктов, для которых имеются показа-
ния, после чего следует знаменательное «и т. д.». Таким образом,
если на данной территории, как это обычно бывает в Германии
в условиях ее диалектической расчлененности, конкурирует не-
сколько синонимов для одного понятия (например, в Вюртем-
берге 'боров’: Eber, Ваг, Beiss, Hackel), словарь не дает воз-
можности установить точные границы их распространения. За-
дача редактора словаря, таким образом, абстрактно-лексиколо-
гическая: собрать все слова и все значения каждого слова,
засвидетельствованного на данной территории, без учета социаль-
ной среды, в которой бытует данное слово, и реальных географи-
ческих границ его распространения.
Новые импульсы в постановке словарной работы исходят
в начале XX в. от немецкой и французской диалектографии.
Правда, в применении географического принципа к словарному
материалу между французским и немецким атласами наблюда-
ется существенное различие. Французский атлас в своей анкете
дает слова, а не фразы и уделяет при этом большое внимание гео-
графической дифференциации синонимов: отсюда ряд карт, даю-
щих представление о различных словах, обозначающих во фран-
цузских диалектах петуха (производные от лат. gallus, лат. pul-
las, vicaire, faisan и др.), пчелу, картофель и т. п.2 Напротив,
40 фраз анкеты Бенкера содержат слова, подобранные исключи-
тельно как материал для иллюстрации грамматических (фонети-
ческих и морфологических) дифференциаций: например, Was-
ser 'вода’ служит примером для перебоя t/ss (water/wasser).
Однако, помимо воли автора, географическая синонимика в от-
дельных случаях прокрадывается и в немецкий атлас, когда кор-
респонденты заменяют неупотребительное литературное слово
диалектическим, например Frau переводят как Weib или вместо
sitzen пишут местное hocken. Таким образом, получилось не-
сколько карт, наметивших наличность интересной словарной
дифференциации. Из них особенно поучительна карта синонимов
для слова «лошадь» (вып. I, № 8): с древним германским словом
Ross (ср. анг. horse), сохранившимся в настоящее время только
в южнонемецких диалектах, конкурируют Pferd (северная и во-
сточная Германия, из ср.-лат. paraveredus) и Gaul (западная Гер-
мания, из ср.-в.-нем. gul, неясного происхождения), причем слово
Gaul вытесняет не только архаическое Ross, но и поддерживае-
мое литературным языком Pferd. Как показало специальное
исследование Элизы Геркнер [32], первоначальное распростране-
ние старого слова Ross в области современных Gaul и Pferd до-
казывается не только средневековыми текстами, но и многочислен-
ными местными названиями (Rossmarkt, Rossdorf и др.), сохранив-
шимися в районах, где в настоящее время господствуют другие
синонимы. К этому можно присоединить различные производные
427
слова, оставшиеся также не вытесненными в области Gaul и
Pferd: например, Rosswespe ('овод’), в особенности rossig ('ко-
была гуляет’) и др. (см. ниже). Швабские колонисты, переселив-
шиеся в Закавказье в начале XIX в. из долины Неккара (около
Штутгарта), сохранили старое Ross, хотя в настоящее время
в их прежней родине господствует Gaul (кроме немногочисленных
и обособленных реликтовых пунктов).
Более многочисленный и разнообразный материал по геогра-
фической лексикологии дает провинциальный диалектологиче-
кий атлас Вюртемберга, составленный Германом Фишером как
дополнение к Швабскому словарю [31]. Анкета Фишера, в основе
посвященная также грамматическим явлениям, заключала
23 вопроса словарного характера (карты №№ 24—25). Наи-
более интересные дифференциации отмечены Фишером в
словаре крестьянского хозяйства («племенной бык», «боров»
и др.).
3. Первым опытом систематического обследования географи-
ческого распространения словарных синонимов является книга
П. Кречмера «География слов немецкого разговорного языка»
[33]. Книга, как показывает заглавие, посвящена не диалекту
в узком смысле (крестьянским говорам), а «разговорному языку
образованного общества» (gebildete Umgangsprache), языку город-
ской буржуазии (средней и высшей). Как уже было указано выше,
в условиях экономической отсталости и феодальной раздроблен-
ности старой Германии в разговорном языке городских центров
(даже наиболее крупных, как Берлин, Вена, Гамбург, Кельн
и др.) сохранились до сих пор заметные различия, которые воз-
растают, чем ниже мы спускаемся по социальной лестнице. В об-
ласти произношения эти местные особенности разговорной речи,
скрываемые географическим единством литературного языка,
отмечались неоднократно специальными исследованиями. От-
носительно словаря были известны отдельные примеры расхож-
дений, например 'суббота’ — сев. Sonnabend, южн. Samstag;
'мальчик’ — сев. Junge, южн. Bube (литер. Knabe); 'мясник’ —
сев. Schlachter, вост. Fleischer, южн. Metzger; 'сливки’ — сев.
Sahne, южн. Rahm, вост. Schmand; 'грабли’ — сев. Натке, южн.
Rechen; 'подметать’ — сев. fegen, южн. kehren и немн. др. Однако
до Кречмера не было известно, как многочисленны и глубоки
эти различия. Свои анкеты, заключающие 350 слов, Кречмер
разослал в 170 городских центров Германии, Австрии и При-
балтики (в том числе и в довоенный Петербург). Результаты об-
следования предложены им в форме словаря географических
синонимов, сопровождаемого большой вступительной статьей,
которая затрагивает общие проблемы изучения городского раз-
говорного языка и его лексики. «Между языком Берлина и Вены»,
как утверждает Кречмер на основании собранных материалов,
«существуют различия почти в каждом втором или третьем слове,
если исключить служебные слова».
428
Впрочем, при разбивке словаря Кречмера по предметно-смыс-
ловым категориям нетрудно убедиться в том, что большинство
наиболее дифференцированных синонимов относится к специфи-
ческому кругу понятий, характеризующих как бы реликтовые
сферы современного городского хозяйства: домашнее хозяйство,
продукты крестьянского труда, потребляемые городом, ремеслен-
ное производство, наконец, своеобразно обособленный детский
мир. Таким образом, речь идет о тех областях культурной жизни,
которые менее всего охвачены обобщающими тенденциями раз-
витого капиталистического хозяйства. Приведем несколько ха-
рактерных примеров.
А. Жилище. Например, 'входная комната’ ('передняя’): Haus-
flur, Hausgang, Vorhaus, Hausern (Егп), Diele, Tenne (Haustenne),
Flotz, Entree (c. 203). Большинство этих названий перенесено
с крестьянского жилища на городское, Так, Tenne обозначает
'гумно’, точно так же старинное слово Егп (др.-в.-нем. arin, лат.
area), Flotz (др.-в.-нем. flezzi), Diele (собственно 'досчатый пол’) —
термин, связанный со специфическими особенностями постройки
крестьянских изб в северной Германии. Французское Entree —
конечно, городское, «культурное» заимствование. Или 'чердак’:
Boden, Speicher, Soller, Buhne, Unterdach, Estrich и др. (стр. 132).
И здесь городские названия совпадают с деревенскими. Spei-
cher — первоначально 'амбар’ (лат. spicarium): в средненемецком
крестьянском жилище зерно хранилось под крышей, на чердаке.
Soller (лат. solarium) и Estrich (лат. astricum) — старые латин-
ские заимствования, территориально ограниченные сферой куль-
турного влияния римских построек. В крестьянском обиходе
употребляются те же обозначения.
Б. Домашняя утварь, предметы домашнего обихода. Например,
'миска’: Napf, Kump, Asch, Weidling, Schussel и др. (530); 'ло-
ханка’: Fass, Wanne, Balje, Kump, Tubben, Butte, Kufe, Kubel,
Spiilschussel, Spulnapf, Gelte, Zuber и др. (70); 'горшок’: Topf,
Hafen (531); 'шкаф’: Schrank, Kasten (Kleiderkasten), Biicher-
kasten, Spind, Schaff (471) и др. В современном капиталистичес-
ком обществе домашнее хозяйство является своего рода реликто-
вой сферой, пережитком докапиталистической организации труда.
Простейшая домашняя утварь объединяет городское хозяйство
с деревенским. Как характерный культурный пережиток отметим
слово Kasten (первоначальное значение «ящик»): в старину одежда
хранилась в ящиках (Truhe, Kasten) — перенесение значения
произошло по функциональному признаку.
В. Пища. Например, 'дрожжи’: Barme, Gest, Hefe, Trieb,
Gerbe, Germ (105); 'простокваша’: Dicke Milch, Sauermilch, Setz-
milch, Schlickermilch, Schlottermilch, Gestockte Milch, Pluder-
milch (171); 'крошки хлеба’: Krumen (Brotkrumen), Krumel,
Brosel, Brosamen (309) и др. Потребляя продукты сельского хо-
зяйства, город сохраняет за ними диалектологически дифферен-
цированные обозначения.
429
Г. Названия животных и растений (преимущественно домаш-
них). Например, 'картофель’: Kartoffel, Erdapfel, Grundbirne,
Erdbirne (256); 'черника’: Heidelbeere, Besinge, Bickbeere, Blau-
beere, Schwarzbeere, Waldbeere, Staudelbeere, Haselbeere, Moss-
beere и др. (114); 'курица’: Huhn, Hinkel, Henne (239); 'комар’:
Miicke, Schnake (так обычно у Гете), Gelse (340). За исключением
последнего примера, мы и здесь имеем дело с предметами домаш-
него хозяйства, с которыми горожанин знакомится как с про-
дуктами деревенского труда.
Д. Ремесла и промыслы. Например, 'бочар’: Bottcher, Топ-
nenmacher, Fassbinder, Kiifer, Kubler и др. (142); 'котельщик’:
Klempner, Spengler, Flaschner, Blechschmied, Blechschlager (283);
'столяр’: Tischler, Schreiner (526). Средневековое ремесленное
производство, не знавшее современного разделения труда, харак-
теризуется узкой дифференциацией профессий: Spengler изготов-
лял пряжки (от Spange), Flaschner — бутылки (металлические,
от Flasche), Blechschmied — мелкие изделия из жести (от Blech)
и т. п. Впоследствии эти названия по-разному обобщаются в гра-
ницах разных географических территорий. Во всех указанных
случаях мы имеем дело со старинным домашним ремеслом «кус-
таря-одиночки», сохраняющимся в современном городе и деревне
как пережиток докапиталистических форм хозяйственной жизни.
Е. Детский язык. В этой области, наименее подверженной обоб-
щению, связанному с современным хозяйственным и культурным
развитием, дифференциации особенно значительны. Для понятия
«скользить по льду» (без коньков) Кречмер приводит 46 синони-
мов (например, schlittern, glitschen, schorren, schleistern, schlin-
dern, schusseln, kascheln, glannern, schleimern, schleifen и др.).
Характерно, что более новая, «культурная» забава — «кататься
на коньках» почти не имеет синонимических вариантов: Schlitt-
schuh laufen (или fahren).
По сравнению с крестьянскими говорами следует, однако,
отметить значительное уменьшение числа синонимов (ср. ниже,
§ 4, «картофель» и др.). Сравнение городского и деревенского
языка по словарному составу могло бы помочь установлению
наличности региональных центров и объединяющих тенденций
регионального характера. Вместе с тем можно предположить,
что и в пределах городского языка словарная дифференциация
возрастает в социальных низах. К сожалению, богатая ивовая
по материалу работа Кречмера благодаря своей методологической
установке на «разговорный язык образованного общества» (gebil-
dete Umgangsprache) не дает возможности учесть социальное рас-
слоение внутри городского языка. В этом — ее существенный мето-
дологический недостаток, который должен быть восполнен даль-
нейшими исследованиями.
4. Пример французского Лингвистического атласа и богатое
результатами исследование Кречмера побудили немецких диа-
лектографов поставить на очередь вопросы «словарной геогра-
430
фии» (Wortgeographie). В целях пополнения материалов, собран-
ных Лингвистическим атласом Германии, марбургский Диалекто-
логический институт выдвинул в 1924 г. план анкетного обследо-
вания географической лексикологии. Выполнение организовало
объединение немецких диалектологических словарей под пред-
седательством проф. Вредэ (Kartell der deutschen Worterbii-
cher). На основании согласования заявок отдельных словарей
были выработаны 2 анкеты (I — 24, II — 32 слова), которые
были разосланы провинциальными словарями своим постоянным
корреспондентам. Полученные ответы обрабатываются в Мар-
бурге сотрудником Института Б. Мартином и публикуются пери-
одически в диалектологическом журнале «Teuthonista» [341: до сих
пор опубликовано 10 карт. Все они свидетельствуют о необыкно-
венной территориальной расщепленности крестьянских говоров
Германии, еще более заметной в области географической сино-
нимики, чем в фонетике и морфологии. Городские говоры верх-
него социального слоя, исследованные Кречмером, сохранили
лишь незначительную долю исконной дифференциации, о кото-
рой свидетельствуют крестьянские диалекты. Так, для слова
«картофель» карта № 14 Мартина («Teuthonista», Bd. II, Н. 1)
приводит 27 вариантов. Среди них Kartoffel и его производные
(Toffel, Tiifke, Erdtoffel), Potate (ср. англ, potatoe на нижнем
Рейне — туземное название), Schocke (Erdschocke) — произ-
водное от артишока, французское pomme de terre и производ-
ное от него Pumser, описательное Erdapfel или Bodenapfel,
«земляное яблоко» (термин, употреблявшийся уже в древненемец-
ком языке для обозначения корнеплодов), аналогичные по типу
образования Grundbirne (Erdbirne, Bodenbirne) 'земляная груша’,
или Erdriibe, 'земляная репа’, Erdnuss 'земляной орех’, мета-
форические образования типа Nudel (Erdnudel) и др. Для «чер-
ники» вместо 11 синонимов у Кречмера карта № 3 (Tenth. Ill,
Н. 4) дает 35 (например, Wale, Glockenbeere, Krakebeere, Busch-
beere, Molbeere, Bickbeere и др.). Еще интереснее синонимика
названий домашних и полевых животных, с которыми я позна-
комился по оригиналам ответов на анкету II, находящимся в про-
цессе обработки (например, племенной бык, боров, самка свиньи,
петух, гусак, селезень, крот и др.). На небольшой территории
запада Германии, занимаемой говорами гессенскими, пфальц-
скими, южно-франкскими и швабскими, «племенной бык» обоз-
начается словами: Bulle (Boll), Ochs, Fasel, Farren (Farr), Hum-
mel, Mummel, Hagen, Hagel, Heigel, Heime и производными
Sprungochs, Briillochs, Brummelochs, Farrochs, Faselochs. Для
«петуха» конкурируют синонимы: Hahn (Hahner), Gockel (веро-
ятно, от франц, coq), Geckel, Gickel, Gockler, Gickler, Gockel-
hahn, Gickelhahn и др. Слово «крот», утратившее свою этимологи-
ческую прозрачность (др.-в.-нем. moldwurf, moldwerf 'землеройка’:
от molda — др.-в.-нем. 'земля’), переосмысляется так называемой
«народной этимологией» как Maulwerfer (Maul 'морда’ — ср,-
431
в.-нем. mul), Maulwelfer (Wolf волк’), Maulwolf, Maulwelber
(wolben 'строить своды’), Maulwuhler (wuhlen 'рыть’), Mondwurf
(Mund 'рот’), Molkwolf (melken 'доить’,) Moldruf, Molbert, Mull-
bruch (brechen 'ломать’) и мн. др. Вообще географическая диф-
ференциация синонимов выступает наиболее отчетливо в словаре
крестьянского хозяйства (так называемый этнографический сло-
варь). Если в области отвлеченных понятий (в особенности от-
носящихся к сфере научной, литературной и публичной речи)
крестьянский словарь гораздо беднее городского, то для пред-
метов и процессов сельского хозяйства он пользуется сложной и
дифференцированной «производственной» терминологией, не имею-
щей соответствий в городском языке. Так, горожанин может
довольствоваться общим названием домашнего животного, иногда
еще различает особыми терминами самку, самца и детенышей;
напротив, в крестьянском хозяйстве существенное значение по-
лучает различение самца-производителя и самца кастрирован-
ного (для работы или откармливания), детеныша мужского и жен-
ского пола, различия по возрасту и т. д. Например, в западно-
немецких говорах 'свинья’ (общее название) — Sau; самец-
производитель — Eber, Watz, Hetsch и др.; холощеный боров —
Barg; самка — Muck, Mook, Los и др.; поросенок (общее назва-
ние) — Saile, Ferkel и др., различия по полу — Eberle — Losie
и др.; подрастающий поросенок («подсвинок») — Laufer и т. д.
Точно так же горожанин знает лишь общие названия телеги,
плуга, прялки и два-три обозначения деталей (колеса, ось и
т. п.); в крестьянском языке каждая деталь, имеющая значение
в хозяйственной жизни, имеет специальное название: например,
анкета южногессенского и пфальцского словарей «телега и ее
части» различает 52 детали, имеющие особое обозначение, так
что автор анкеты вместо эквивалентов литературного языка
пользуется схематическим чертежом, на котором проставлены
номера. Понятно, что именно в этой сфере словарных терминов,
специфичных для крестьянского языка, диалектологическая диф-
ференциация сохраняется особенно упорно: язык городской
не имеет здесь конкурирующего обозначения, способного вытес-
нить местное название; специфическая терминология реликтового
крестьянского хозяйства остается на стадии географической диф-
ференциации синонимов в границах старых территориально-
поместных говоров, не поддаваясь обобщающим тенденциям,
господствующим в языковой сфере, непосредственно связанной
с новым капиталистическим хозяйством.
К сожалению, словарные карты Марбургского института
имеют сравнительно редкую сеть корреспондентов (около 2000
пунктов вместо 40 000 Германского атласа) и выполнены в слиш-
ком маленьком масштабе (две страницы in 8°); поэтому они
не вполне удовлетворяют техническим требованиям, предъяв-
ляемым современной диалектографией. Для более детальных
исследований приходится обращаться к материалам местных
432
провинциальных словарей, из которых большинство переходит
в настоящее время на географический метод работы и обзавелось
рукописными картами для географически дифференцированных
синонимов.
5. Собирание лексикологического материала в большинстве
немецких диалектологических словарей ведется в основе своей
анкетным методом, дополняемым непосредственными записями
на местах и печатными источниками. Установлению постоянной
сети добровольных корреспондентов, зарегистрированных на осо-
бых личных карточках, предшествуют широкая агитация на стра-
ницах провинциальной печати, публичные лекции и доклады,
в особенности инструкционные сообщения на учительских кон-
ференциях и курсах, поскольку сельские учителя дают наиболь-
ший процент корреспондентов при всяких диалектологических
и фольклорных обследованиях и по своему профессиональному
положению являются наиболее удобными посредниками между
наукой и ее объектами. Первая стадия собирания предусматривает
свободную присылку словарного материала по собственной ини-
циативе корреспондентов, обычно это «идиотизмы», местные слова,
отступающие от литературной нормы, которые помогают перво-
начальной ориентировке в языковом разнообразии обследуемого
района. Затем начинается плановый и систематический опрос
с помощью периодически рассылаемых анкет, который продол-
жается несколько лег.
В практике различных словарей встречается два типа анкет.
Первый, рекомендуемый Марбургским институтом (Гессен-Нас-
сауский словарь), заключает в каждой анкете по нескольку
вопросов из различных предметных сфер: например, названия
животных чередуются с процессами обработки земли, частями
одежды и т. п. Такие пестрые анкеты с небольшим числом точно
поставленных вопросов менее утомляют корреспондента и запол-
няются более аккуратно. Другой тип принят Баварским словарем
Мюнхенской Академии наук: здесь каждая анкета посвящена
одной определенной области (например, рогатый скот и молоч-
ное хозяйство, пчеловодство, виноделие, одежда, части тела и
т. п.), которая разработана с исчерпывающей полнотой во всех
деталях. Так, анкета о свиноводстве предусматривает следую-
щие отделы: А. Общее название; Б. Различия по полу и возрасту;
В. Части тела; Г. Жизненные проявления; Д. Корм; Е. Болезни;
Ж. Кормление и уход; 3. Убой; И. Приготовление окороков;
К. Приготовление колбасы. В каждом отделе от 10 до 50 пунктов,
причем предусмотрены грамматический род, образование мно-
жественного числа от существительных, уменьшительные формы,
производные слова и их употребление (schweinisch, Schweinerei,
ein schweinenes Bratl), сложные слова (Mordsschwein, Schwein-
geld), поговорки (der hat Schwein — 'ему везет’) и т. п.; широко
использован метод наведения (например, в п. 19: «Ласкательные
прозвища поросенка: Tatschelein, Natschelein, Gatschelein, Grol-
28 В. М. Жирмуш кий
433
lelein и др.»). Такие анкеты требуют, конечно, большого напря-
жения внимания и значительного труда и мало пригодны для мас-
сового географического обследования, хотя и дают чрезвычайно
богатый и разносторонний диалектологический материал. По-
этому наиболее целесообразным является сочетание обоих методов
опроса, применяемое объединением словарей Южногессенского и
Пфальцского. Нечетные номера анкет, составленные по марбург-
скому образцу (30—50 вопросов, точно ограниченных и выбран-
ных из разных предметных сфер), рассылаются всему штату
корреспондентов и заключают только понятия с богатой геогра-
фической синонимикой, требующей точной дифференциации. На-
против, четные анкеты, построенные по баварскому образцу, на
принципе систематической и исчерпывающей разработки опре-
деленной группы явлений, направляются значительно более уз-
кому кругу корреспондентов и дают материал для тех статей
словаря, в которых не предвидится существенной географической
дифференциации, но зато имеется необходимость установить все
оттенки значения, производные формы и т. д., т. е. задача собира-
теля не географическая, а узко лексикологическая. Употреб-
лять в ответах фонетическую транскрипцию немецкие словари
не рекомендуют; для элементарного обозначения особенностей
произношения вполне достаточно обычного письма, а фонетичес-
кая запись в неумелых руках, по единогласному утверждению
немецких диалектологов, делает ответы корреспондентов дву-
смысленными и недостоверными.
На основании собранного материала изготовляются словар-
ные карты. Для этого на основную печатную географическую
карту большого масштаба (Grundkarte) накладываются кальки
для каждого отдельного слова, на которые наносится каждый
ответ особыми значками для каждого соответствующего типа.
Повторение одинаковых знаков позволяет без затруднений вы-
делить сплошные территории и обвести их точными границами;
но при этом и на чистовой карте обязательно отмечается каждое
отклонение от господствующего на данной территории типа как
свидетельство о наличии языкового смешения и двуязычия (в осо-
бенности — в пограничных и реликтовых зонах), о зыбкости и
подвижности языковых границ и направлении их передви-
жения.
Первый и пока единственный опыт систематического примене-
ния географического принципа в печатном словарном издании
представляет Гессен-Нассауский словарь [22], выходящий с 1927 г.
под редакцией проф. Луизы Бертольд (Марбург). Значительная
часть слов точно обследована составительницей с точки зрения
географического распространения: все такие слова отмечены
звездочкой. Для наиболее сложных и показательных случаев
имеются словарные карты: в первых двух выпусках (около 60
стр. in 4°) имеется 13 таких карт. Наличие карт позволяет не только
более наглядно представить распределение синонимов на терри-
434
тории гессенских говоров, оно вскрывает динамику языковых
процессов, вытеснение архаических элементов диалектологичес-
кого словаря, уступающих натиску передовых, «культурных»
форм; тем самым отчетливо выступает географическая конфигура-
ция культурного «ландшафта», направление экономических и
культурных связей, отраженное в развитии языка. Так, на карте
№ 1 («гроб») с юга на север наступает слово Sarg, господствую-
щее в районе, который непосредственно примыкает к крупному
хозяйственному и культурному центру Франкфурту; двигаясь
в северном направлении по железной дороге Франкфурт—Гис-
сен—Вецлар и образуя узкий залив, оно разрывает первона-
чально единую область архаических терминов Leiche, Lade,
Totenlade и создает по границам своего наступательного движе-
ния смешанные зоны (Leiche/Sarg) и характерные контаминации
типа Leich-sarg, поясняющие устаревшее пережиточное слово
новым, культурно-импортированным. Форпостами нового влия-
ния являются отдельные мелкие городские центры и их ближай-
шие окрестности. Отметим еще, что составитель словаря широко
пользуется иллюстрациями, поясняющими сферу применения
диалектологических терминов изображением соответствующих
предметов материального быта крестьянства: таким образом,
осуществляется принцип совместного изучения «предметов и слов»
(«Worter und Sachen»), диалектологии и материальной этнографии
(ср. [35]).
6. Теоретические проблемы, выдвигаемые географической лек-
сикологией, удобнее всего иллюстрировать на примере специ-
ального исследования, проделанного также в районе работ
Гессен-Нассауского словаря и под влиянием идей марбургской
диалектографии. Работа Вальтера Венцеля «Лексикологический
атлас Вецларского округа» [30] в противоположность методике
больших провинциальных словарей пользуется материалом, со-
бранным не анкетным методом, а прямым опросом диалектоло-
гических объектов. В пределах небольшого района (900—
1000 кв. км) автор обошел около 140 населенных пунктов, рас-
полагая анкетой в 500 слов. В каждом пункте он опрашивал по не-
скольку объектов, принадлежавших к разным поколениям (60—
70, 30—40, 13 лет), с тем чтобы точно учесть словарные дифферен-
циации по возрастным группам, свидетельствующие о налич-
ных в пределах данного пункта языковых различиях и о направ-
лении, в котором развивается говор. Благодаря такой системе
атлас Венцеля, заключающий 158 слов, вскрывает динамику язы-
ковых процессов и связанное с ней передвижение границ гораздо
полнее, чем это удавалось сделать его предшественникам. j
Обследованная Венцелем территория представляет картину
чрезвычайного разнообразия диалектологических синонимов, ха-
рактерную для расчлененности феодальных владений в западной
Германии. В пределах небольшого района обычно конкурирует
от 2 до 5, а иногда и значительно большее число различных сино-
435 28*
нимов, причем наиболее прочные диалектологические границы,
образуемые целой группой изоглосс, более или менее совпадают
со старыми границами феодальных территорий. Большинство
новых движений идет с юга, из района Франкфурта, поддержан-
ное влиянием городского языка. Так, южн. Samstag 'суббота’
вытесняет сев. Sonnabend (карта № 31), южн. etwas 'что-нибудь’ —
сев. aut (№ 32), южн. laut 'громко’ — сев. hart (№ 33). О направ-
лении движения свидетельствуют пометки в пограничной полосе,
вроде «Samstag рядом с Sonnabend», «рядом со старым Sonnabend»,
«преобладает рядом со старым Sonnabend», «редко рядом с Sonn-
abend»; для каждой такой пометки имеется соответствующий зна-
чок. В более сложных случаях конкурирует несколько географи-
чески распределенных синонимов, например, 'скользить по льду
(без коньков)’: schleifen, reiten, rutschen, glitschen, rollen (№ 9)
(слово детского языка, ср. § 31). Здесь schleifen вытесняет
reiten, rutschen наступает на glitschen; области reiten и glitschen
в настоящее время разорваны этими поступательными движени-
ями. Наступление может исходить от местных городских центров
(Вецлар, Гиссен) как форпостов новых языковых веяний: напри-
мер, sich warmen 'греться’ распространяется от Вецлара во все
стороны по радиусам, разрывая первоначально единую область
архаического sich warm machen (№ 37); форма halten 'держаться’
(das Rad halt nicht — 'колесо не держится’) образует узкий язык
вдоль железной дороги Гиссен—Вецлар, врываясь в территорию
архаического haben (das Rad hat nicht) (№ 38). Нередко при этом
побеждает форма региональная, характерная для разговорного
языка местного городского центра (вероятно, — в его мещанском
обличии), а не для общенационального, литературного языка.
Так, Pfetter 'крестный отец’ наступает на Pate (№ 2), Gickel
'петух’ вытесняет Hahn, Hinkel 'курица’ продвигается в район
Huhn (№№ 82-83).
Результатом двуязычности переходных зон, связанной с языко-
вой борьбой, являются смешанные и скрещенные формы различ-
ного типа. Из фонетического смешения диалектических обозна-
чений черники halbir (Heidelbeere) — wolbir (Waldbeere) воз-
никает смешанная форма holbir (№ 3). Более сложный пример
представляют синонимы для слова 'пахать’ (№ 52): ackern, zak-
kern (из zu Acker fahren) — ackern, zackern; формы на а распро-
странены в области, первоначально имевшей синонимическое
аггеп (лат. агате'орать’), о котором свидетельствуют немногочис-
ленные реликты, расположенные к северу от границы аггеп и
zarren.3 С другой стороны, неоднократно встречается скрещение
синонимов, при котором устаревшее слово как бы поясняется тож-
дественным по значению новым. Так, для кармана в женской
крестьянской одежде (под юбкой) конкурируют Tasche и Sack;
при отступлении последнего слова на границе появляется гиб-
ридное Taschesack (№ 28). Для внутреннего кармана пиджака
существуют синонимы Tasche, Reiber, Sack; устаревшие слова
436
поясняются по тому же принципу в сочетаниях Reibertasch,
Reibersack (№ 61).4
t-- В других случаях столкновение синонимов приводит в сме-
шанной [зоне к [новой дифференциации значений. Например,
при столкновении сев. Peitsche 'бич’ и южн. Geissel в деревне
Висмар [происходит такая дифференциация: словом Peitsche
обозначается купленный в городе хлыст, старое Geissel сохраня-
ется для самодельного (§ 90). Для обозначения жгута, которым
связывается сноп соломы, конкурируют географические синонимы
Strohseil, Wiede, Lensel; в деревне Ленберг сноп перевязывался
двумя жгутами, из которых нижний получил название Wiede,
а верхний Lensel (№ 19). Кастрированный бычок известен под
названием Stier или Liipper; в некоторых пунктах смешанной зоны
употребляются оба выражения, дифференцированные по возрасту
животного (№ 85).
'Нередко вытесняемое архаическое слово сохраняется в со-
циально сниженном, ироническом или презрительном употребле-
нии. Из различных обозначений котельщика (№ 67) побеждает
повсюду Spengler, опирающийся на региональный городской
язык. При этом в целом ряде пунктов это слово применяется
по отношению к живущему в деревне оседлому ремесленнику;
бродячий обозначается социально сниженными архаическими
терминами: Blechschmied, Zinngiesser, Kesselflicker. Там, где
новое слово Schwiegertochter 'невестка’ вытесняет старое Schnur,
последнее сохраняется с оттенком иронии (№ 70).
Слова одного корня в различных категориях словообразова-
ния и даже словоизменения продвигаются не всегда с одинаковой
быстротой. Так, для обозначения курицы конкурируют синонимы
Huhn и Hinkel (№ 81); однако их границы в единственном числе
не совпадают с границами для множественного Hiihner и Hinkel
(№ 82) и для производного Hiihnerhaus — Hinkelhaus (№ 83);
например, довольно обширный район имеет одновременно Hinkel
в единственном, Hiihner во множественном и Hiihnerhaus как
производное. Слово Ausschlag 'сыпь’ (на лице) повсеместно,
за исключением небольшого реликтового островка из двух дере-
вень, вытеснило архаическое Ausfahrt; но в глагольной форме
во всем районе широко распространено ег ist ausgefahren 'у него
высыпало’ (№ 62). Особенно прочно держится вытесненное слово
в фразеологических сочетаниях, поговорках, пословицах. На-
пример, Nachmittag 'полдень’ вытеснило старое Onnern, но сохра-
нилось выражение: der Schafer onnert, liegt auf der Onner 'пастух
полднюет’ (№ 48). Niitzen 'быть полезным’ заменяет архаическое
batten, однако последнее продолжает держаться в сочетании:
es battet nicht 'это бесполезно’ (№ 71). Городское Topfer 'гор-
шечник’ победило более старое Hafner вместе с исчезновением
в деревне самостоятельного горшечного промысла; но в посло-
вицах еще говорят: Verbrecht’s gesund, dass der Hafner verdient
('Живо ломайте, чтобы горшечник заработал’) (№ 68).
437
С точки зрения психологии процессов языкового творчества
особый интерес представляют слова детского языка. Здесь при
поразительном обилии синонимов, в большинстве случаев —
описательно-метафорических, отсутствуют твердые границы
между конкурирующими формами и хаотическая пестрота не-
прерывно возникающих новообразований не прошла еще через
стадию социально-географического обобщения. Для цветка оду-
ванчика (Lowenzahn) Венцель приводит 35 синонимов (№ 93):
например, Kettenkraut, Kettenblume, Kettenrose, Kettenbusch,
Kettchen ('цепочка’: из стебельков дети плетут цепочки); Ког-
delkraut, Kordelrose (Kordel 'веревочка’); Eierblume, Eierrose,
Eierbusch ('яичная’ окраска цветка); Milchkraut, Milchbusch,
Milchstrauch, Milchplatte ('молочный’ сок); Pfaffenkopf, Pfaf-
fenkraut, Pfaffenbusch, Pfaffe ('поповская голова’ по форме
цветка); Kopfrose, Grindkopf ('паршивая голова’); Ganseldistel,
Gansezunge, Kuhblume, Mucke, Muckenrose ('гусиный’, 'коровий’,
'мошкин цветок’) и др. Для «божьей коровки» (Cocinella septe-
punctata) существует также не менее 35 синонимов (№ 92), из
которых сравнительно обширную территорию имеют Herrgottstier-
chen и Sommerkalbchen; рядом с ними: Herrgottsgaulchen,
Herrgottsvogelchen, Herrgottshinkelchen, Herzgetierchen, Heili-
gentierchen, Muhkalbchen, Muhtierchen, Muhgaulchen, Muhhans-
chen, Sommervogelchen, Sommergaulchen, Erbsentierchen, Erbsen-
kuhchen, Erbsengaulchen, Hermannskiihchen, Hermannskalbchen
и мн. др. Насекомое обозначается, таким образом, как 'коровка’,
'теленочек’, 'лошадка’, 'птичка’, 'зверек’ и т. п. и получает раз-
ные определения, связанные с христианской легендой и народ-
ными повериями ('бог’, 'святые’), с характеристикой внешней
формы ('сердечко’, 'горошина’), с временем года ('лето’) и т. п.;
его роль в детском фольклоре (игры, песенка, которой они
сопровождаются) объясняет «фольклорный» характер самих наиме-
нований. Такую же пеструю географическую картину дают на-
звания некоторых детских игр. Например, 'бросать камни рико-
шетом по воде’ (№ 74): рядом с господствующей формой Bachsterz-
chen (Bachstelzchen) werfen (Bachsterze 'трясогузка’) имеется ряд
других метафорических обозначений, не сводящихся ни в какую
географическую систему: Butter schmieren 'мазать масло’, Speck
schneiden (schiessen) 'резать сало’, Tauben schiessen 'стрелять
голубей’, Raderchen machen 'делать колесики’, Schlittchen werfen
('санки’), Schiffchen werfen (machen) 'кораблики’, Schlosschen
werfen (machen) 'замочки’, Kuh und Kalbchen werfen 'корова
и телята’, Mann und Weib 'муж и жена’, Vater-Mutter-Kind
'отец, мать, дитя’, schlipp-schlapp-schluria werfen (звукоподража-
ние) и мн. др. И здесь языковое творчество ребенка непосредст-
венно граничит с областью фольклора.
и При всем богатстве конкретных наблюдений, которые заклю-
чают монография Венцеля и другие аналогичные более специаль-
ные работы по географической лексикологии [37—44], нельзя
438
не отметить одного существенного недостатка в общеметодологи-
ческой установке: отсутствуют указания на социальную диффе-
ренциацию словаря, которая не менее существенна, чем диф-
ференциация территориальная. Учитывая различия в языке
возрастных групп, свидетельствующие о динамике языковых
процессов, Венцель рассматривает язык каждого географического
пункта как однородный в социальном отношении. Между тем
классовое расслоение деревни в условиях капиталистического
развития создает существенные дифференциации внутри каж-
дого отдельного говора, поэтому язык старого поколения более
передовой социальной группы может соответствовать в стадиаль-
ном отношении языку молодого поколения группы более отста-
лой. Можно с этой точки зрения утверждать, что наступательное
движение новых форм происходит не только в горизонтальном
направлении (например, с юга на север), но одновременно в вер-
тикальном направлении (сверху вниз); равнодействующей обоих
движений, таким образом, является своего рода скольжение
по наклонной плоскости.
Отдельные карты Венцеля при внимательном рассмотрении
вполне подтверждают эту точку зрения. Так, слово «чердак»
(№ 47) имеет конкурирующие синонимы: Speicher, Biihne, Laube,
Uberste Biihne, Uberste Laube; в то же время на территории Biihne
и Uberste Biihne рассеяны многочисленные примеры новой формы
Speicher. Несомненно, слово Speicher, поддержанное региональ-
ным городским языком, существует повсюду как верхний социаль-
ный слой. В одном случае Венцель сам отмечает: Speicher — vor-
nehm («высокое», «благородное» слово) neben Uberste Biihne.
В другом случае (№ 5) рядом с конкурирующими словами auswrin-
gen/auswinden с выжимать белье’ показаны единичные случаи
ausdrehen, ausdriicken; рядом с gacksen/gatzen 'гоготанье гусей’ —
единичные примеры gackern. Слова эти, вероятно, также отно-
сятся к верхнему слою языка и в этом слое распространены гораздо
шире, чем можно судить по карте, не учитывающей социального
расслоения. Именно в пределах небольшого района, ведя обсле-
дование не обезличивающим анкетным методом, а непосредствен-
ным опросом, как Венцель, можно было бы поставить показатель-
ное в методологическом отношении исследование, учитывающее
дифференциацию социальных диалектов. В этом направлении
методика немецкой диалектографии требует существенного пере-
смотра.
7. В процессе работы над изучением географического словаря
немецкая диалектография вплотную подошла к пограничным во-
просам фольклора и этнографии. Изучение крестьянских говоров,
являющихся* реликтовыми языками, по необходимости вступает
в круг явлений материального и духовного быта, характерных
для реликтовой сферы крестьянской культуры. Отсюда вполне
понятное требование комплексного изучения слов и обозначае-
мо
мых ими материальных и духовных предметов, формулированное
в методологических принципах: «Wort und Sache» ('слово и вещь’)
и «Wort und Branch» ('слово и обычай’). В иллюстрационном
материале «Гессен-Нассауского словаря», как уже отмечалось,
выдержан первый принцип. Недавно немецкий этнограф Песслер,
известный исследованиями форм крестьянского жилища северной
Германии [48], использовал этот принцип в своем «Словарном
атласе северной Германии» [46]. Атлас дает ряд карт, иллюстри-
рующих географическую синонимику названий отдельных частей
крестьянского жилища; к каждой карте приложены фотографии,
чертежи и описания соответствующих предметов (ср. также [45]).
Фольклорные материалы особенно широко использованы Рейн-
ским и Мекленбургским словарями ([20] и [23]). Употребление
слова иллюстрируется поговорками, пословицами, загадками,
песенками, дается описание обычаев и поверий, соприкасающихся
с кругом значений данного термина. Картотеки и архивы провин-
циальных словарей (например, рейнского, южногессенского,
пфальцского, прусского) становятся центром собирания фольклор-
ных материалов. Словарные анкеты включают ряд вопросов,
относящихся к области фольклора. Такой характер имеют, на-
пример, анкеты объединения пфальцского и южногессенского
словаря, посвященные приветствиям (Gruss, Wunsch, Bitte,
Dank: № 14), свадебным обрядам (Heiratsvermittlung, Werbung,
Verlobung: № 42), рождеству (№ 20), пасхе (№ 26), детским играм
(№ 38). Они предусматривают наряду с подробным описанием
соответствующих обычаев регистрацию связанного с ними сло-
варного материала (например, «сват», «сваха», «сватовство»,
«осмотр невесты», «обручение», «отказ» и т. п.).
Примером комплексной разработки словарной статьи, раз-
росшейся в специальную маленькую монографию, может служить
работа Иозефа Мюллера «Орех в языке и обычаях Рейнской
области» [47]. Сережки цветущего орешника, скорлупа и ядро
ореха, различные сорта его, собирание и чистка орехов имеют
в крестьянских говорах разнообразные географически дифферен-
цированные названия: некоторые из них по своему метафори-
ческому характеру и бытовым ассоциациям уже непосредственно
входят в сферу фольклорного творчества. Поговорки, сравнения,
пословицы, загадки образуют переходную область от словаря
к поэзии. В свою очередь бытовые явления — обычаи и поверья,
народная медицина, детские игры — оформляются в песне, по-
словице, заговоре и влияют на направление развития словаря.
Таким образом, в процессе изучения язык раскрывается в своем
непрерывном взаимодействии с различными сферами материаль-
ного и духовного быта и проблема формально-лексикологическая
расширяется включением в общий план широкого культурно-
исторического исследования.
8. Сближение фольклора и диалектологии (специально в пре-
делах словарно-географической проблемы) подготовило поста-
440
новку в немецкой фольклористике нового круга историко-геогра-
фических вопросов. В течение XIX и в начале XX в. немецкие
фольклористы собрали огромный описательный материал в виде
сборников песен, сказок, пословиц и других фольклорных жан-
ров, записанных в том или другом районе, специальных описаний
отдельных обычаев или поверий и т. п., сводных трудов по этно-
графии крупных и мелких территорий (типа «Badische Volks-
kunde», «Pfalzische Volkskunde» и т. п.). Полнота и разносторон-
ность собранных в Германии свидетельств во много раз превышают
сделанное в этой области в других европейских странах. Однако
до самого последнего времени работа массового фольклориста-
собирателя оставалась на положении первоначального накопле-
ния и добросовестного описания материала, без каких-либо перс-
пектив обобщающего научного исследования. При отсутствии
систематического обследования географии фольклорных явлений
случайные записи отдельных собирателей, даже накопленные
в большом числе, не давали возможности связать разрозненные
культурно-бытовые реликты с конкретным социально-историче-
ским исследованием определенного культурного района.
Уже Рудольф Мерингер при обсуждении выдвинутого им прин-
ципа изучения истории слов в связи с историей обозначаемых ими
предметов («Worter und Sachen») высказал предположение, что
вещи, как и слова, распространяются волнами («Wortwellen»
и «Sachwellen»), о которых наиболее наглядное представление
может дать географическая карта; при этом он требовал отдель-
ных карт для каждого предмета или даже деталей предмета,
полагая, что границы отдельных признаков так же не совпадают
между собой, как и границы слов.5 Впервые такое географическое
обследование произведено было в Германии этнографом Пессле-
ром в книге «Старосаксонское крестьянское жилище и его геогра-
фическое распространение» [48]. Под непосредственным влиянием
успехов диалектографии эти проблемы были развернуты в рабо-
тах Боннского института исторического краеведения Рейнской
области. Благодаря сотрудничеству в этом институте историка
местного края проф. Обэна, диалектолога проф. Фрингса и фольк-
лориста Иозефа Мюллера впервые удалось организовать комп-
лексное изучение истории, языка и этнографии определенной
территории на основе исторической карты. Рейнская область
оказалась при этом особенно удобным опытным полем ввиду су-
ществования прекрасного исторического атласа [49] и ряда де-
тальнейших предварительных исследований и материалов во всех
трех областях. Результаты совместной работы руководителей
института были опубликованы в книге «Культурные течения
и культурные провинции Рейнской области» [50]. В первой статье
историк проф. Обэн рассматривает географические условия тер-
ритории, праисторический материал, собранный археологами,
историю заселения германцами прирейнских земель и римского
завоевания, территориальное расчленение в эпоху феодализма
441
от Карла Великого до французской революции, историю образо-
вания крупных княжеских территорий (Клеве, Кельн, Трир,
Майнц) и борьбу между ними, влияние торговых путей (торговля
по Рейну и сухопутные пути, римские и средневековые), крупных
городских центров (Кельн) и т. д. Диалектологические исследо-
вания проф. Фрингса ориентированы исторически и социологи-
чески: он устанавливает совпадение языковых границ с грани-
цами феодальных территорий и их судьбой, влияние рейнской
торговли, вызывающей постоянное продвижение новых диалекто-
логических форм вниз по Рейну («die grosse Sud-Nordrevolution» —
'великая южно-северная революция’, в терминологии Фрингса);
он очерчивает зоны языкового влияния крупных городских
центров (Кельн) и области языковых реликтов, по преимуществу
земледельческие и культурно-отсталые, лежащие в стороне от
рейнской торговой дороги. В статье И. Мюллера тот же метод
переносится в область этнографии. Автор изучает географическое
распространение некоторых сельскохозяйственных обычаев: на-
пример, традиционные сроки для заключения договора с батра-
ками (Gesindetermine), приуроченные к определенному празд-
нику христианского календаря (как «юрьев день» и др.). Он
наносит на карту типичные разновидности старинных обрядов:
например, разные способы избрания «короля» в крещение (6 ян-
варя), зажигание костров в различные календарные сроки («ма-
сляничные», «пасхальные», «купальские» и др.). С географической
точки зрения он подходит и к народной поэзии: первый опыт про-
делан им над вариантами короткой детской игровой песенки
о «божьей коровке» («Herrgottstierchen, flieg!»). Именно короткие
обрядовые и игровые песенки обладают, по мнению Мюллера,
более четко дифференцированными и более прочными по своему
географическому приурочению вариантами, чем обширные по
своим размерам песни, принадлежащие к «высоким жанрам»
фольклора. Отдельные карты сравниваются между собой, гра-
ницы языковые и этнографические сопоставляются с границами
историко-политическими, и между ними обнаруживаются сущест-
венные совпадения: вся морфологическая структура культурных
признаков известного района оказывается связанной, как и в об-
ласти диалектографии, со старыми территориально-политическими
границами. Повторяются знакомые нам из диалектологии явле-
ния заимствования, смешения, гибридные образования, пережи-
точные формы («реликты»). Господствовавшее в старой этнографии
представление об обусловленности этнографических признаков
старинными племенными различиями между франками, швабами,
саксами и т. д. оказывается и здесь таким же несостоятельным,
как и в диалектологии: и здесь господствует не непрерывное,
статическое, спонтанное развитие по принципу «родословного
древа», а живой культурный обмен бытовых форм, обусловленный
экономическими связями и социальными отношениями и распрост-
раняющийся волнообразно, останавливаясь у границ террито-
442
риально-политических объединений. Принципиальные результаты
коллективной работы Боннского института подсказали проф.
Фрингсу формулировку общей проблемы «морфологии культуры»,
т. е. историко-географической структуры данного территориаль-
ного комплекса в отношении его материальной культуры и ду-
ховного быта ([51], ср. также [52]—[53]).
9. Так с разных сторон подготовлялась в Германии идея
организации «Этнографического атласа» (Atlas der deutschen
Volkskunde), построенного по типу марбургского Лингвистического
атласа. Для разработки плана этого коллективного научного
предприятия была создана особая комиссия из представителей
этнографических и фольклорных, географических, исторических
и лингвистических обществ и учреждений. Во главе комиссии
стоит проф. Джон Мейер (John Meier), председатель Союза немец-
ких фольклорных обществ (Verband deutscher Vereine fiir Volks-
kunde). Работа атласа опирается на государственную помощь
и финансовую поддержку «Союза помощи немецкой науки»
(Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft). Собирание материала
рассчитано на 5 лет (с 1 января 1930 г.). В основу работы поло-
жен выработанный комиссией вопросник, заключающий
1000 пунктов, касающихся особенностей фольклора и этнографии
немецкой деревни: жилища, утвари, пищи, одежды, хозяйства,
нравов, обычаев и верований, отчасти — народной поэзии и ку-
старного искусства. В течение каждого года предположено рас-
сылать по четыре анкеты, содержащие каждая по 50 вопросов;
впрочем, как видно из бюллетеня комиссии (1931, № 2), ввиду
разразившегося экономического кризиса фактически в течение
1930 г. удалось разослать и собрать ответы только по одной анкете.
Сеть корреспондентов атласа охватывает 17 000 населенных
пунктов (т. е. раза в 21/2 реже, чем в Лингвистическом атласе);
в качестве собирателей зарегистрированы по преимуществу сель-
ские учителя, но также другие представителя сельской интелли-
генции — врачи, пасторы и др. Организационный центр атласа
(Zentralstelle) находится в Берлине в специально для этой цели
основанном этнографическом институте, располагающем целым
штатом ассистентов и технических сотрудников-картографов;
во главе института стоит проф. Ф. Бем (Fritz Boehm), редактор
этнографического журнала «Zeitschrift fiir Volkskunde». Цент-
ральный институт сносится с собирателями через местные центры
(Landesstellen). Такие центры организованы в провинциях, при
провинциальных университетах, краеведческих институтах или
обществах и диалектологических словарях нового типа. Местные
центры подбирают для атласа штаты собирателей из числа по-
стоянных корреспондентов провинциальных диалектологических
словарей, сотрудников краеведческих обществ и т. д. Направляя
в центр собранные анкеты, они оставляют себе копии для целей
местной научной работы.
443
На основании собранного анкетного материала в центре со-
ставляются этнографические карты. По принципу марбургского
атласа каждому отдельному вопросу, заключенному в анкетах,
будет посвящена особая карта (как в Лингвистическом ат-
ласе — каждому слову). В черновиках, составляемых на кальках,
которые накладываются на основную печатную карту крупного
масштаба (1 : 200 000), каждый ответ наносится особым значком
по обычному способу. В свободных чистовых картах меньшего
масштаба, подготовляемых к изданию, одинаковые значки объе-
диняются проведением границ в сплошные территории, однако
с обязательным учетом единичных отклонений, свидетельствую-
щих о текучести этнографических фактов.
10. В целях пропаганды и популяризации идеи атласа в ши-
роких кругах будущих собирателей Центральная комиссия вы-
пустила ряд специальных публикаций. Наибольший интерес
представляет сборник «Немецкая этнография» со статьями членов
комиссии под редакцией проф. Мейера [54]. С разных сторон
подходят участники сборника к постановке географической проб-
лемы и будущей работе атласа: проф. Мейер дает краткий очерк
развития немецкой этнографии, ее проблем и методов; А. Гюбнер
в программной статье дает основные установки атласа; Т. Фрингс
формулирует результаты комплексного изучения диалектологи-
ческих и фольклорных карт преимущественно на материале Рейн-
ской области; Г. Обэн, как историк, ставит общий вопрос о зна-
чении картографического обследования явлений материального
и духовного быта для изучения исторического процесса; К. Ваг-
нер рассматривает технические вопросы картографирования диа-
лектологического и этнографического материала. Более специаль-
ные статьи посвящены этнографии в школе (Ф. Бем), этнографи-
ческим проблемам немецких национальных меньшинств, живущих
в иноязычном окружении (В. Мицка), технике собирания и запи-
сывания фольклора (Р. Воссидло) и др. (ср. также [55]—[56]).
Небольшая брошюра «Немецкая этнография», составленная
Ф. Бемом как заведующим Центральным этнографическим инсти-
тутом (Zeotralstelle), обращена непосредственно к корреспонден-
там атласа [57]. Она дает краткий обзор развития немецкой эт-
нографии, ее задач и методов, в частности метода географического,
сообщает об организации атласа, плане анкетной работы и тре-
бованиях к корреспондентам; кроме того, она заключает первые
итоги пробной анкеты 1929 г., иллюстрированные тремя неболь-
шими картами, ограниченными пределами западной территории
(Рейнская область, Гессен, Вестфалия): формы хлеба, употребляе-
мого крестьянами, календарные приурочения праздничных кост-
ров (Jahresfeuer); названия маскированной фигуры в обряде
св. Николая. Четвертая карта дает обработку анкетного материала
Мангардта, собранного в 1865 г. для его известных исследований
о пережитках аграрных культов и суеверий 6 и поступившего
в распоряжение института. Речь идет о суеверных представлениях,
444
которыми в деревне пугают маленьких детей, чтобы они не бегали
в посевы: демон появляется на востоке Германии в образе женщины
(Roggenmutter, Roggenweib, Babajedza), на юге — в образе
мужчины (Kornmann, Butzemann, Poppel), па севере — в образе
зверя (Wolf, Werwolf, Bar, Hund). Вопросы из анкеты Мангардта
включены были в первые анкеты атласа; сравнение результатов
современного обследования с ответами на анкету 1865 г. позволит
сделать интересные выводы об истории народных поверий за
последние десятилетия.
Наконец, центральная комиссия издает бюллетени (1930,
№ 1, 1931, № 2), которые рассылаются корреспондентам вместе
с анкетами [58]. Эти бюллетени содержат отчет о работе комиссии
и подробное объяснение всех вопросов, заключенных в соответст-
вующей анкете: по каждому вопросу корреспонденту сообщается
краткий итог существующих по данной этнографической теме
сведений, т. е. тот минимум научных знаний, который необходим
для сознательного отношения к поставленному вопросу.
И. Некоторое представление о характере вопросов могут
дать уже разосланные анкеты (пробная анкета 1929 г., анкеты
№ 1 1931 г. и № 2 1931 г.). В них представлены следующие отделы
этнографии: крестьянское жилище (расположение дома по отно-
шению к улице, устройство окна, формы мебели: например, стол,
колыбель); пища (формы хлеба, материал и способы изготовления,
приготовления масла); сельскохозяйственные работы и связанные
с ними обычаи (уборка последнего снопа, сроки найма батраков,
распределение труда между мужчинами и женщинами, различные
формы совместной работы — пряжа, вязанье и т. д.); календар-
ные праздники (костры, процессии с фонариками и их приуроче-
ние, день св. Мартина, день св. Николая, обряды вербной недели);
другие обряды, обычаи и суеверия (в какое время года и в какие
дни празднуется свадьба, обряды и суеверия, окружающие роже-
ницу, счастливые и «тяжелые» дни, формы приветствия при встре-
че) и др.
Каждая анкета заключает несколько серий вопросов, относя-
щихся к разным областям материальной и духовной культуры:
этим избегается (в соответствии с практикой «пестрых» лексико-
логических анкет Гессен-Нассауского словаря) утомительное для
корреспондента однообразие вопросов. В пределах каждой серии
отдельные вопросы чрезвычайно дифференцированы для достиже-
ния максимальной четкости и однозначности ответов, необходи-
мой для составления карты. Например, об обрядах, связанных
с зажиганием костров (пробная анкета, сер. VI, №№ 1—9):
«1. Существует ли обычай зажигать костры в определенный день
или дни в году (да — нет)? 2. Если обычай существовал прежде,
когда он прекратился? 3. Существовал ли этот обычай издавна
или введен недавно? 4. Если введен недавно, то когда? 5. В какой
день (или дни) зажигается костер? 6. Где устраивается костер?
7. В котором часу? 8, Сопровождается ли этот обряд другими
445
обрядами (танец, прыганье через костер, пение, катание колеса
или диска, сжигание куклы и др.)? 9. Что делают с пеплом и дру-
гими остатками?». Или «детская колыбель» (I, №№ 10—15):
«10. Употребляется ли еще колыбель? Из какого материала она
делается (из дерева, из прутьев, различные части из различного
материала)? И. Какую форму имеет колыбель (нарисованы 4 ос-
новных типа, на случай резких отклонений оставлено место для
рисунка)? 12. В каком направлении качают колыбель: а) в про-
дольном (да — нет)? б) в поперечном (да — нет)? в)^ существует ли
приспособление для качания в обоих направлениях (да — нет)?
14. а) Стоит ли колыбель на полу (да — нет)? б) или опа подве-
шена к потолку (да — нет)? в) или повешена каким-нибудь иным
образом? 15. Как называется колыбель?».
С вопросом этнографическим по мере возможности соединя-
ется вопрос диалектологический: предмет материальной культуры
и его название (Wort und Sache), старинный обряд или обычай
и соответствующее обозначение (Wort und Branch). С другой
стороны, за вопросом об обряде или обычае следует вопрос о свя-
занной с ними обрядовой песне. Например, пробная анкета, сер.
II.: «1. В какие дни нанимаются батраки? Имеет ли этот день
особое название и какое (например, Biindelistag, Wandertag,
Stiirztag, Schlenkweil и др.)? 2. Как называют переход на новую
службу (например, ziehen, trecken, vichteren, dinsen и др.)?»
Или сер. L: «37. а) Происходят ли в день св. Мартина (И ноября)
обрядовые процессии? б) или накануне вечером? в) Кто принимает
участие в этих процессиях? 38. а) Выступают ли в процессии
маски? б) Как они называются? в) Как одеты? 39. Изготовляется
ли к этому празднику особое печенье? а) Какой формы? б) Как
оно называется? 40. Поют ли при этом дети песни? Какие именно
(привести текст)?».
Для некоторых вопросов словесное оформление обычая имеет
основное значение. Например, I, 25—26: «Приветствия и обраще-
ния» (в разное время дня, при встрече и прощании, при входе
в дом, во время еды, за полевой работой, формулы обращения между
лицами разных общественных положений). В других случаях
самый выбор вопроса продиктован словарно-географическими
интересами: географические дифференциации крестьянского сло-
варя, очевидно, расцениваются составителями как «фольклорный»
материал. Таковы, например, вопросы о названиях домашних
животных с различиями по полу и возрасту (II, 76: лошадь,
корова, овца, свинья), о ласкательных кличках и зовах (I, 30:
Schmeichelnamen der Haustiere; I, 31; Lock- und Scheuchrufe)
и др. Таким образом, система вопросов, заранее разработанная
комиссией, охватывает все важнейшие стороны этнографии и фоль-
клора и их словарного оформления с чрезвычайной детализацией
отдельных признаков каждого сложного бытового явления. Ко-
нечно, далеко не все ответы могут быть использованы для карто-
графической обработки. Но зато во всяком случае систематиче-
446
ское анкетное обследование позволит зафиксировать наличность
и сферу распространения множества бытовых пережитков, кото-
рые до сих пор не отмечались никем или были предметом случай-
ных наблюдений отдельных собирателей, не учитывающих общей
картины, которую развернет перед нами Этнографический атлас.
12. За пределами вопросника остались, к сожалению, внеоб-
рядовые жанры фольклорной поэзии — баллады и лирические
песни, сказки, загадки, пословицы и т. п. Несомненно, что и
в этой области можно было бы установить наличность поучитель-
ной географической дифференциации как в составе репертуара,
так и в особенности в распределении вариантов одного и того же
произведения; включение в анкету нескольких примеров распрост-
раненных старинных песен, известных в различных версиях,
могло бы иметь значение плодотворного и показательного опыта.
Обычно сборники фольклорной поэзии определенного района
(песен, сказок) не дают точных указаний относительно географи-
ческой дифференциации записанного материала: в этом отноше-
нии состав записей почти всегда — довольно случайный, одни
сюжеты или варианты происходят из одной деревни, другие —
из другой. Правда, в Центральном архиве немецкой народной
песни (Deutsches Volksliederarchiv), организованном в Фрейбурге
проф. Джоном Мейером, собрано в настоящее время несколько
сот тысяч рукописных записей со всей Германии, сделанных на
протяжении XIX—XX вв., что позволяло бы с достаточной уве-
ренностью поставить проблему географического распределения
песенного репертуара [59]. Однако проф. Мейер с некоторой осто-
рожностью относится к возможности учета географической диф-
ференциации песенных вариантов, полагая, что песенный ре-
пертуар обладает большой текучестью, легко переносится из
одного района в другой, причем новые варианты и мелодии до-
вольно быстро и случайно вытесняют традиционный местный ре-
пертуар. Однако мои наблюдения над песнями немецких поселен-
цев в СССР [60] не подтверждают этого мнения: в зависимости от
происхождения каждая деревня имеет определенные варианты,
нередко существенно отличающиеся от вариантов, принятых
в соседней колонии. Для некоторых старинных баллад я устано-
вил несколько типичных форм таких вариантов (в особенности
типичных зачинов). Например, баллада XV в. «Der Graf und die
Nonne» начинается: «Ich stand auf hohem Berge Und schaut ins
tiefe Tai (Meer)»; «Ich stand auf hohem Felsen, Schaut hinab ins
tiefe Tai»; «Steiget auf hohe Berge, Schauet runter ins tiefe Tai»;
с этим связаны дальнейшие различные экспозиции. Сопоставление
моих записей с материалами архива подсказало мне мысль, что
второй тип зачина характерен, например, для Вюртемберга.
Баллада «Der treue Knabe» имеет три начала: «Es war einmal ein
feiner Knab», «Es war ein Knab von achtzehn Jahr», «Es war einmal
ein Rothusar». Баллада «Der eifersiichtige Knabe» имеет две раз-
личные версии: «Was kann mich denn schon’res erfreuen» («Die
447
Rosen die bluhen im Garten») и «Es stehen drei (zwei) Sterne am
blauen Himmel». Конечно, в некоторых случаях не исключена
возможность, что эти различия связаны с обобщением в пределах
определенной географической территории на новой родине посе-
ленцев. Тем не менее в основе они должны восходить к географи-
ческим дифференциациям, господствовавшим в XVIII в. в пре-
делах самой Германии. Массовое обследование в анкете атласа
дало бы, вероятно, за вычетом отдельных индивидуальных откло-
нений и случайностей, более или менее цельную общую картину
географического распределения основных вариантов.
13. Основным методологическим недостатком анкетной работы
нового атласа является уже отмеченное мною в’связи со словар-
ной работой пренебрежение учетом социальной дифференциации
той среды, в которой бытуют собираемые корреспондентами этно-
графические факты. Независимо даже от проблематичности общей
установки на собирание архаических элементов быта, пережитков
материальной и духовной культуры прежних социальных форма-
ций, бытующих в крестьянстве как реликтовом классе, необходи-
мо прежде всего констатировать, что идеальный «архаический
крестьянин», хранитель бытовых традиций прошлого, с научной
точки зрения является фикцией. Учитывая социальное расслое-
ние деревни в условиях капиталистического хозяйства и различ-
ные пути ее соприкосновения с буржуазной городской культурой,
в свою очередь — социально дифференцированной, мы имеем
все основания предполагать наличность постоянного соскальзы-
вания бытовых форм сверху вниз, сопровождаемого различными
стадиями и формами приспособления, переработки, смешения
и т. д. Уловить этот процесс перехода и социальной трансформа-
ции бытовых явлений в географических пределах определенной
территории представляется для историка задачей чрезвычайной
важности. Необходимо признать, что, например, бытовые суе-
верия, окружающие роженицу, или свадебные обряды могут
иметь существенные различия в пределах одной деревни, обу-
словленные социальной дифференциацией. С другой стороны,
и в условиях городского быта нетрудно установить наличность
аналогичных явлений, как пережиточного, так и прогрессивного
характера, в свою очередь различных для разных социальных групп.
Мимо этих вопросов социальной дифференциации культур-
но-бытовых явлений проходят составители атласа. В этом про-
является характерная культурно-политическая идеология немец-
кой буржуазной фольклористики (Volkskunde), ориентированной
на исторический традиционализм: установка на романтическую
фикцию «народа» как национально-культурного единства, не-
смотря на то что такая установка достаточно скомпрометирована
в современной науке (в том числе — ив западной).
Тем не менее методика географического исследования откры-
вает широкие перспективы именно для социально-исторического
анализа культурно-бытовых явлений. Историко-этнографическая
448
карта (фольклорная, диалектологическая), учитывающая в то же
время проблему социальной дифференциации, обусловленной
общим процессом хозяйственного и общественно-политического
развития, впервые позволит полностью раскрыть динамику
культурно-исторического процесса, конкретную диалектику бы-
товых форм социальной жизни в исторических границах опре-
деленных территориальных образований. При этом в круг ис-
следования должно входить не только отмирание (или трансформа-
ция) пережитков прежних социальных укладов, сохраняющихся
в виде реликтов в культурно отсталых общественных группах,
в условиях неравномерностей и противоречий развития классо-
вого общества, но в то же время и распространение новых бытовых
явлений как продуктов культурного творчества передовых обще-
ственных групп. Таким образом, методика социальной географии
намечает путь, по которому этнография и фольклор из коллекции
архаизмов и курьезов могут превратиться в науку, изучающую
историю материального и духовного быта на основе развития со-
циально-экономических отношений.
14. С этой точки зрения применение методики социально-
географического исследования является существенной задачей
и для советской фольклористики. Работа в области фольклора
и этнографии до сих пор остается и у нас на первоначальном уровне
простого собирания и описания явлений. При обширности терри-
тории нашего Союза, пестроте населения и недостаточности пред-
варительных исследований задача сплошного географического
обследования по примеру Этнографического атласа Германии
вряд ли представляется целесообразной и осуществимой. Однако
не представит затруднения поставить такое обследование в виде
методологического опыта, в порядке экспедиционной или анкетной
работы в пределах ограниченной территории и на примере не-
большого числа специально подобранных показательных вопро-
сов (например, формы жилища или одежды, элементы свадеб-
ного обряда, варианты сказок или песен, в особенности обрядо-
вых или игровых); при этом необходимо выдвинуть проблему
социальной дифференциации и учета новых бытовых фактов, свя-
занных с эпохой социалистического строительства, не впадая
в этом вопросе в традиционные ошибки «романтической» фолькло-
ристики. Наиболее подходящими объектами для такого исследо-
вания представляются мне небольшие территории автономных
национальных республик, где уже ведется интенсивная работа
этнографического или фольклорного характера. Целый ряд
этнографических анкет рассылала за последние го дьГ Украинская
Академия наук, однако подбор вопросов до сих пор не носил,
по-видимому, систематического характера, и при обширности
территории Украины число корреспондентов было недостаточно
для целей сплошного географического обследования, являющегося
непременным условием плодотворного применения картографи-
ческого метода. Составленные по этому методу карты, фольклор-
29 В. M. Жирмунский
449
ные и этнографические, впервые позволят поставить во всей ши-
роте вопросы исторического краеведения, проследить пути за-
селения изучаемого района, экономические и политические связи
и социальные отношения, направления культурных влияний,
вообще — всю сложную совокупность исторических фактов прош-
лого и настоящего, которые определили конфигурацию карты
и динамику ее границ.
В области диалектологии применение принципов социально-
географического исследования было бы особенно своевременным.
Несмотря на множество предварительных работ, русская диалек-
тология продолжает оставаться до сих пор на том методологи-
ческом уровне, на котором застала ее революция, ограничиваясь
схематическим делением русской языковой территории по основ-
ным диалектологическим типам (карта И. Дурново и Д. Ушакова)
и случайным монографическим описанием отдельных местных
говоров (работы Московской диалектологической комиссии).
Даже опыт лингвистических атласов Германии и Франции оста-
вался до сих пор вне поля зрения наших диалектологов, тем более
те широкие возможности организации коллективной и плановой
исследовательской работы, которые открываются для науки
в социалистическом государстве. Насущной задачей в этой области
является создание Русского диалектологического атласа на основе
систематического и планового обследования русских говоров,
учитывающего научный опыт прошлого и новые методологические
проблемы, выдвигаемые социальной географией. Организованный
с этой целью диалектологический центр мог бы явиться вместе
с тем научной базой для методологического и методического
инструктажа по вопросам диалектологического исследования
многочисленных национальных языков нашего Союза: в этом
направлении национальные республики уже развернули боль-
шую работу, и научная помощь из центра на этом ответственном
участке культурного строительства была бы особенно своевре-
менна.
БИБЛИОГРАФИЯ
I. Диалектография. 1. Ж и р м у н с к и и В. Проблемы немецкой диа-
лектографии в связи с историческим краеведением. — «Этнография», 1927,
кн. Ill, № 1 (содержит библиографию до 1927 г.). — 2. Deutsclier Sprachatlas,
hsg. v. Ferd. Wrede, H. 1—5, Marburg, 1927 и сл. — 3. Wagner К. Deut-
sche Sprachlandschaften. Deutsche Dialektgeographie, Marburg, 1927, H. 23.—
4. H u b n e r A. Die Mundart der Heimat. Breslau, 1925. — 5. В г e t-
schneider A. Sprachkarte und Sprachgeschichte. Indogerm. Forsch.,
Bd. 48. — 6. 1) Frings Th. Sprachgcographie und Sprachgeschichte. —
Indogerm. Forch., 1930, Bd. 48; 2) Frings Th. Sprachgeographie und Kultur-
geographie. Zschr. f. Deutschkunde, 1930, H. 9. — 7. M a u г e г Fr. Sprach-
schranken, Sprachraume und Sprachbewegungen im Hessischen. Hess. Blatt,
f. Volkskunde, 1930, Bd. 28. — 8. Bach A. Die nassauische Sprachlandschaft.
Rheinisches Archiv, Bonn, 1930, H. 15. — 9. C h г i s t m a n n E. Sprach-
bewegungen in der Pfalz. Speyer, 1931. — 10. H a a g K. Sprachgeschichte
im Lichte der Mundartengrenzen. Teuthonista, 1929, Bd. 6.
450
II. Язык города. 11. Loewe R. Dio Dialektmischung im Magdeburgi-
schen Gebiele. Nied ord eutsche Jhb., 1888, Bd. 14. — 12. Haag K. Verkehrs-
und Schriftsprache auf dem Boden der ortlichen Mda. Die neueren Sprachen,
1901, Bd. 9. — 13. В a c h A. Zum Problem der Stadtmundart. Teuthonista,
1924, Bd. 1. — 14. R u d о 1 p h 0. Uber die verschiedenen Abstufungen der
Darmstadter Mda. Hess. Blatt., 1927, Bd. 26. — 15. L a s c h A. Berlinisch.
Eine berlinische Sprachgeschichte, Berlin, 1926. Ср. также [33] и др.
III. Диалектологические словари. 16. Schweizerisches Idiotikon. Worter-
buch der Schweizerdeutschen Sprache, hsg. v. L. Tobler u. a., 1881 и сл. —
17. Schwabisches Worterbuch, hsg. v. H. Fischer, 1901 — 1930. — 18. Worter-
buch der elsassischon Mda., hsg. v. E. Martin u. H. Lienhart. 2 Bde., Strassburg,
1899—1907. — 19. Siebenburgisch-sachsischcs Worterbuch, hsg. v. Schullerus
u. a., 1908 и сл. — 20. Rheinisches Worterbuch, hsg. v. J. Muller, 1923 и
сл. — 21. Badisches Worterbuch, hsg. v. E. Ochs, 1925 и сл. — 22. Hessen-
Nassauischcs Worterbuch, hsg. v. L. Berthold, H. 1—5, 1927 и сл. — 23.
Schleswig-Holsteinischcs Worterbuch, hsg. v. O. Mensing, 1926 исл. — 24. V i 1-
m a r A. Idiotikon von Kurhessen, 1883. 2. Aufl. — 25. Lenz Ph. Vergleichen-
des Worterbuch dor nhd. Sprache und des Handschuhsheimer Dialekts, Baden,
1898. — 26. M e i s i n g e r Oth. Worterbuch der Rappenauer Mda. Dort-
mund, 1906. — 27. S c h б n e г G. Spezialidiotikon des Sprachschatzes v.
Eschenrod. f. hd. Mdaa., 1902, Bd. 3. — 28. G. H e e g e r. Tiere im pfalzi-
schen Volksmunde, Progr. Landau, 1902—1903. — 29. H e i 1 i g O. Tiernamen
in der Mda. v. Ballenberg. Zschr. f. deutsch. Mdaa., 1910, Bd. 11. — 30.
L о h s s M. Beitrage aus dem landwirtschaftlichem Wortschatz Wiirttembergs
nebst sachlichen Erlauterungcn. Worter u. Sachen, 1913, Beiheft II.
IV. Словарная география. 31. F i s c h e г H. Atlas zur Geographic d.
schwabischen Mda., Tubingen, 1895. K. N 24/25. — 32. Herkner E.
Ross, Pferd und Gaul im Sprachgebiet d. Deutschen Reichs, Diss., Marburg,
1914. — 33. Kretschmer P. Wortgeographie der hochdeutschen Umgangs-
sprache. Gottingen, 1918. — 34. M a r t i n B. Deutsche Wortgeographie.
Teuthonista, Bd. 1—6, 1924 и сл. — 35. В e г t h о 1 d L. Die wortgeogra-
phische Forderung und die Programme der modernen deutschen Mundartworter-
biicher. Teuthonista, 1924, Bd. 1. — 36. Wenzel W. Wortatlas des Kreises
Wetzlar und der umliegenden Gebiete. Deutsche Dialgeogr., Marburg, 1930,
H. 28. — 37. T e u c h e r t H. Die mundartliche Wortgeographie. Zschr.
f. deutsche Mdaa., 1919, Bd. 20. — 38. M ii 1 1 e r J. Das Rheinische Worter-
buch, seine Geschichte und seine Aufgabe. Zschr. f. Deutschkunde, 1925. —
39. Frings Th., T i 1 1 e E. Aus der Werkstatt des Rheinischen Worter-
buchs. Zschr. f. deutsche Mdaa., 1923, Bd. 24. — 40. Frings Th. Aus
der Wortgeographie der Rhein- und Niederlande. Festschrift f. O. Behaghel.
Heidelberg, 1924. — 41. Frings Th., NiessenJ. Zur Geographic und
Geschichte von «Ostern», «Samstag», «Mittwoch» im Westgermanischen. Indo-
germ. Forsch., 192S, Bd. 45.-42. К r a n z m а у e r E. Die Namen der Wochen-
tage in Bayern und Osterreich. Wien, 1929. — 43. Martin B. Wortgeograp-
hische Studien in Hessen-Nassau. Zschr. f. deutsche Mdaa., 1923, Bd. 24. —
44. M а г t i n B. Die Mdaa. im Kreise Hofgeismar. Heimatkalender f. Hof-
geismar, 1930. — 45. P e s s 1 e г W. Wortgeographie von Nordwestdeutschland
im Rahmen dor vergleichenden deutschen Ethnographic. Teuthonista, 1924,
Bd. 1. — 46. P e s s 1 e г W. Plattdeutscher Wortatlas von Nordwestdeut-
schland. Hannover, 1928.— 47. M ii 1 1 e г J. Die Nuss in rheinischer Sprache
und Sitte. Zschr. d. Vereins f. rhein. westfal. Volkskunde, 1917, H. 1—2.
V. Географическая проблема в фольклоре и этнографии. — 48. Р е s-
s 1 е г W. Das altsachsische Bauernhaus in seiner geographischen Verbreitung.
Braunschweig, 1906. — 49. Geschichtlicher Handatlas der Rheinprovinz,
hsg. v. H. Aubin u. J. Nicssen. Bonn, 1926. — 50. Aubin H., Frings Th.,
Muller J. Kulturstromungen und Kulturprovinzen in den Rheinlanden.
Geschichte, Sprache, Volkskunde. Bonn, 1926. — 51. Frings Th. Kultur-
morphologie. Teuthonista, 1925, Bd. 2. — 52. W a g n e r K. Geographisch-
historische Volkskunde. Hess. Blatt, f. Volkskunde, 1922, Bd. 21. — 53. M ii 1-
1 e r J. Zur Biologic von Sitte und Brauch. Nach rheinischen Beispielen. Zschr»
451 29*
d. Vereins f. rhein. westfal. Volkskunde, 1926, H. 2—3. — 54. Deutsche Volks-
kunde. Deutsche Forschung, Berlin, 1928, H. 6. - 55. Hii b n er A. Der
Atlas der deutschen.. Volkskunde. Zschr. f. Volkskunde, 1929, H. 1. —
56. W a g n e r K. Uber Notwendigkeit und Form eines deutschen Atlas.
Geogr. Zschr., 1930, Bd. 36, H. 8—9. — 57. В о e h m F. Volkskunde. Dem
Atlas d. deutschen Volkskunde zum Geleit, 1930. — 58. Mitteilungen der
Volkskundekomission, 1930, H. 1; 1931, H. 2. Notgemeinschaft der Deutschen
Wissenschaft. — 59. Berichte uber die Sammlung deutscher Volkslieder,
Freiburg, 1915—1930, NN 1—8. — 60. Schirmunski V. Volkskundliche
Forschungen in den deutschen Siedlungen der Sowjetunion. Deutsche Volks-
kunde im ausserdeutschen Osten, Berlin, 1930.
1932 г.
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ
1
Лингвистическая география выросла, как известно, на основе
опыта составления больших национальных атласов. Системати-
ческое, более или менее сплошное анкетное обследование одновре-
менно всех местных говоров данного языка необычайно расширило
поле зрения исследователя. Более совершенная и дифференциро-
ванная методика картографирования этого материала, исходящая
не из совокупности признаков данного наречия в целом, а из изо-
глосс отдельных явлений, в случае необходимости — отдельных
слов, представляющих данное явление, поставила современную
диалектологию перед рядом новых фактов, потребовавших пере-
смотра традиционных представлений о диалектах. Сопоставление
изоглосс отдельных явлений и слов дало возможность вместо ста-
тического изучения языковой карты раскрыть исторически обус-
ловленную динамику развития и движения языковых явлений.
В установлении этих связей между историей народных диалектов
и историей самого народа особенно должны быть отмечены работы
проф. Теодора Фрингса (Лейпциг) и его школы, представляющие
передовое направление современной зарубежной диалектографии.
Однако современные зарубежные диалектологические атласы
даже в техническом отношении далеки от совершенства. Фран-
цузский атлас Жильерона с его преимущественно лексическим
материалом и редкой сетью опорных пунктов тем самым способ-
ствует атомизации языкового материала и совершенно снимает
вопрос о границах диалектов. Преимуществом немецкого атласа
Бенкера—Вредэ является действительно сплошное обследование
с сетью, примерно в 50 раз более густой, чем во французском ат-
ласе. Однако обследование это производилось кустарно, «косвен-
ным методом», при помощи анкет, заполненных школьными учи-
телями, без фонетической транскрипции, вследствие чего резуль-
таты этого обследования в ряде существенных случаев неточны
452
и неполны. Соединение полноты материала с точностью записи
на обширной языковой территории возможно только как резуль-
тат широко поставленной коллективной работы большого числа
специально подготовленных сотрудников. Венкер же и его пре-
емник Вредэ, которые с двумя ассистентами в течение 50 лет
(1876—1926) собственноручно переносили на карты материал
40 000 анкет, содержавших около 350 слов, и составили таким спо-
собом более 1600 карт, представляют печальный, но типичный при-
мер трагедии ученых-новаторов в буржуазном обществе, равнодуш-
ном к судьбе большого научного начинания, имеющего общенацио-
нальное значение.
2
Один из характерных недостатков современной зарубежной
лингвистической географии отразился и в интерпретации изоглосс
языковых атласов. Изолированное рассмотрение языковых явле-
ний по изоглоссам перерастало здесь из методики в методологию:
происходила своеобразная фетишизация методики изоглосс.
В лингвистических атласах западноевропейских языков в ряде
случаев было отмечено видимое нарушение так называемых «зву-
ковых законов», т. е. различные границы для слов, принадлежав-
ших к одному звуковому ряду. Классический пример, который
всегда приводится в теоретических работах по немецкой диалекто-
графии: ступенчатое расположение границ для слов seks — ses,
oks — os, waksen — wasen в Рейнской области. Речь идет о выпа-
дении h перед s в северных немецких диалектах с заменительным
удлинением предшествующего гласного, о его переходе в к в юж-
ных, совпадающих в этом отношении с литературным языком.
При поддержке слагающейся верхненемецкой нормы эти слова
продвинулись по Рейну из южных диалектов в северные: seks
(счетное слово) занимает авангардную позицию и в такой форме
спустилось почти до голландской границы, граница южн. oks —
сев. os ' Ochsen’ (слово торговое) проходит между Кельном и Коб-
ленцом с сохранением реликтового островка со старым 6s и к югу
от этой границы, wasen как слово нейтральное остается во всей
области среднефранкского диалекта, граница южн. waksen — сев.
wasen проходит к северу от Майнца. Продвижение южных форм
на север проходит по Рейну — главному пути торговых и иных
сношений в средневековой Германии; сопоставление карт раскры-
вает динамику этого языкового процесса. Слова продвигались в за-
висимости от своего значения, т. е. от своей роли в языковом обще-
нии, независимо от условий фонетической закономерности. Ка-
кой-нибудь пункт, лежащий внутри этих границ (например, Бонн),
будет иметь os, wasen, но seks, т. е. непоследовательность в прове-
дении звукового закона.
Тем самым, по утверждению Вредэ, немецкий атлас будто бы
показал на фактах неправильность учения младограмматиков
453
о «нерушимости» звуковых законов. «Постулируемая нерушимость
звуковых законов требовала, чтобы язык или диалекты, в кото-
рых некогда существовавшее water перешло в верхненемецкое
wasser, обнаруживали тот же перебой в словах besser, beissen, fiisse
и т. д., иначе говоря, чтобы передвинутые спиранты наличествовали
во всех подлинно диалектных примерах или чтобы диалект, в кото-
ром вместо has имеется более позднее haus, имел бы этот дифтонг
вместо прежнего долгого и в таких словах, как aus, braun, laut,
bauer ит. д., без всяких исключений. . . На самом же деле суще-
ствуют диалекты с дифтонгизацией, в которых тем не менее не вся-
кое й перешло в аи, и диалекты с верхненемецким передвижением,
в которых не всякое t перешло в $$, где, напротив, наличествует
haus рядом с us, besser рядом с water и т. д. Бенкер ввел реальный
момент диалектографической наглядности в спор об идеальной
закономерности звуковых переходов».1
Эти положения учителя получили в немецкой лингвистической
географии широкое распространение. Так, автор современного
учебника по немецкой диалектологии проф. Адольф Бах, подводя
методологические итоги достижения диалектографии, утверждает
вслед за Вредэ, что атлас Бенкера «не подтвердил постулата мла-
дограмматиков», согласно которому звуковые законы не имеют
исключений. Напротив, атлас показал, что «в сущности каждое
отдельное слово и каждая форма слова имеют в языковом простран-
стве свою собственную область распространения, свои собствен-
ные границы». «Изменяются слова, а не звуки».2 Одинаковое раз-
витие сходных по своему звучанию слов является, по мнению
Баха, результатом вторичного, позднейшего обобщения, которому
не подчиняются нередко многочисленные реликты старого язы-
кового состояния. Поэтому звуковые законы представляют лишь
эмпирические рабочие правила, своего рода «правила погоды
крестьянского календаря», согласно крылатому выражению ро-
маниста Генриха Морфа — одного из более ранних противников
младограмматической догмы.3
Подобно немецким диалектологам и Жильерон, основываясь
на результатах работы над французским атласом, говорил о «не-
состоятельности звуковых законов» (faillite de I’etymologie pho-
netique). Выводы эти, однако, ошибочны, так как они основаны
на смешении двух принципиально разных языковых процессов,
определяющих и характер взаимодействия между диалектами:
звуковых законов как закономерного и спонтанного изменения
артикуляции, и движения слов, которые могут быть заимствованы
в измененной форме как готовые продукты этого фонетического
процесса (например, seks, oks, waksen).
Закономерность звуковых изменений артикуляционного (фо-
нетического) характера принадлежит к числу общих законов раз-
вития, присущих языку как средству общения: если бы звуки языка
не развивались закономерно, развитие языка приобрело бы хаоти-
ческий характер.
454
Закономерное звуковое изменение предполагает в своей основе
первоначально незначительный, чисто механический сдвиг арти-
куляции, бессознательный и незаметный для говорящих. Так под-
ходили к проблеме звуковых законов и младограмматики. Зву-
ковые изменения, согласно Остгофу, совершаются «бессознательно
для говорящего, чисто механически, в результате изменения арти-
куляции».4 Бругман говорит, что такого рода колебания и сдвиги
«настолько незначительны, что они не осознаются как различия
ни говорящими, ни слушающими». Между крайними точками гер-
манского передвижения согласных, между смычными к и спиран-
том h (х) Бругман постулирует «непрерывный ряд минимальных
сдвигов артикуляции», которые он условно обозначает как
к. . . kv . . к,. . . к3. . . /с4. . . h.b
Такого рода незначительные артикуляционные сдвиги по са-
мому своему характеру не могут иметь исключений: они распро-
страняются на все звуки языка, находящиеся в аналогичных усло-
виях произношения, независимо от значения слова. Если мы возь-
мем, например, такое фонетическое явление, как замену звонких
согласных &, d, g слабыми глухими 6, с/, g (lenes) в большей части
средненемецких и южнонемецких диалектов (braun, gros, dax
'Daxh’ и т. д.) и смешение их в определенных фонетических по-
зициях с соответствующими глухими р, t, к (brais, 'Preis’, grais
'Kreis’, dis 'Tisch’ и т. д.), то эта особенность артикуляции обна-
ружится во всех без исключения соответствующих случаях. Бо-
лее того, как живая произносительная норма диалекта она ска-
жется и в местном произношении литературного языка, и в заим-
ствованных словах (отсюда ср.-в.-нем. babes' Papst’, balme' Palme’,
don 'Ton’, gollier из франц, collier и т. п.); при разговоре на ино-
странном языке она определяет ту характерную особенность «не-
мецкого акцента» (accent allemand), которую отметил Энгельс
в «Франкском диалекте».6
Границы этого явления, разумеется, на знают исключений.
По мнению Энгельса, это явление наиболее характерно для верхне-
немецкого в отличие от нижненемецкого, хотя немецкий лингви-
стический атлас, основанный на письменном материале, его гра-
ниц как раз не регистрирует, поскольку корреспонденты атласа,
не замечавшие за собой этой особенности произношения, не могли
отметить ее в своей «наивной» транскрипции.
Такое же явление чисто фонетического порядка представляет,
например, ассимиляторное расширение кратких i, и перед носо-
выми и закрытые е, о в швабском диалекте. И здесь мы имеем не-
значительный и незаметный для самих говорящих сдвиг артику-
ляции от открытого i (или и) к закрытому е (или о), артикуляторно
обусловленный характерной для швабского диалекта назализа-
цией гласных перед носовыми согласными. В таких случаях фоне-
тический закон также не знает исключений: он обычно сохраня-
ется как живая особенность швабского произношения и в разго-
ворной форме литературного языка, как о том свидетельствуют
455
«швабские» рифмы молодого Шиллера (уроженца Вюртемберга),
например: Finger — Sanger, Gesangen — schwingen и т. п. Гра-
ницы этого явления для таких слов, как rerj 'Ring’, sepa 'Singen’,
fend 'f inden’ или соответственно jop 'jung’, bond'Hund’, gfonde
'gefunden’, будут одинаковы.
Существование такого рода границ было установлено в резуль-
тате сплошного полевого обследования группы швабских говоров
немецким диалектологом Карлом Хаагом, указавшим и на суще-
ственное, принципиальное различие между границами изменения
звуков и вытеснения слов.7 Согласно Хаагу, первые наличествуют
там, где мы имеем дело с живым, еще активным изменением зву-
ков в отличие от изменения исторического,* уже не активного.
Границы такого рода одинаковы для всех слов данного звукового
ряда. «Ослабление губной смычки превращает все Ъ в w\ передви-
жение места смычки вперед превращает все слова типа 1х в
расширение (перед г или п) превращает все ir в ^г, все Г в ew;
поднятие небной занавески уничтожает носовое произношение
для всех гласных.8 В таких случаях изменение произношения
младшего поколения по сравнению со старшим происходит неза-
метным образом; в то же время между географическими пунктами
по обе стороны границы существуют постепенные переходы. «Со-
седние говоры обнаруживают при этом по большей части лишь
незначительные количественные различия, как бы медленное
увеличение или уменьшение соответствующих явлений; поэтому
их географическое распространение лишь в редких случаях может
быть установлено в точности. Такое активное звуковое изменение
имеет чаще всего текучие границы».9 Число подобных границ,
согласно Хаагу, невелико, но по своему весу (т. е. по количеству
охватываемых ими слов) они весьма значительны. Добавим, что
методами косвенного опроса, практикуемыми немецким атласом,
они менее всего могли быть установлены. Но и французский атлас
с его редкой сетью изолированных опорных пунктов не мог в силу
этого несовершенства своей техники обнаружить их существова-
ние. Они могли быть открыты только в результате сплошного «по-
левого» обследования.
На сходное явление натолкнулся другой представитель «поле-
вой диалектологии» Карл Боненбергер. На юго-востоке Вюртем-
берга он констатировал ряд незаметных переходов от швабского
(общеверхненемецкого) аспирированного kh в начале слова через
аффрикату кх к швейцарскому спиранту х. «Смычный произно-
сится на границе с такой сильной аспирацией, что нужно при-
слушиваться очень внимательно и много раз, чтобы отличить его
от аффрикаты или спиранта».10 Это наблюдение Боненбергера
над современными диалектами подтверждает гипотезу Бругмана
о «непрерывном ряде минимальных сдвигов артикуляции» при
передвижении к в х. Школьная формула звукового закона к > х
представляет в сущности лишь интеграцию этих непрерывных
переходов, обозначающую конечные точки процесса передвижения.
456
При наличии в разных диалектах одного языка сходных тен-
денций развития, определяемых общими внутренними законами,
такое закономерное звуковое изменение, заложенное в особенно-
стях артикуляции, постепенно распространяется на ряд сосед-
них диалектов. Пример соседнего диалекта при распространении
подобного фонетического новшества может иметь существенное
значение; однако он является в сущности лишь толчком для спон-
танного развития потенциальных возможностей, присущих уже
артикуляции данного диалекта. Существенно также отметить,
что такого рода закономерные сдвиги артикуляции нередко одно-
временно охватывают целую серию однородных в артикуляцион-
ном отношении звуков: ср. в немецком параллельную дифтонги-
зацию I > at, й > аи как гласных высокого уровня, одновремен-
ную делабиализацию огубленных умлаутов й, о, одновременную
потерю звонкости смычными Ь, d, g и т. п. Однако эти особенности
закономерных артикуляционных изменений не имеют универсаль-
ного характера: так, спирантные 5, d, g имеют в германских язы-
ках, в частности в немецких диалектах, различную судьбу и, сле-
довательно, разные границы, и это расхождение вполне оправдано
с фонетической точки зрения существенными особенностями арти-
куляции, отличающими эти звуки друг от друга.
Распространение закономерного фонетического изменения оста-
навливается у границ языкового общения, определяющихся чаще
всего предпосылками хозяйственно-политического характера,
а в известной степени и физико-географическими факторами. Это
распространение может останавливаться и там, где прекращают
свое действие вызвавшие данное изменение фонетические условия
(обособленная фонетическая система нижненемецкого в большин-
стве случаев оказалась непроницаемой для фонетических измене-
ний верхненемецких диалектов). У таких границ, как у плотин,
в результате ряда постепенных, незначительных и незаметных
сдвигов артикуляции накопляются и интегрируются существен-
ные различия и с течением времени может установиться довольно
значительная разница уровня. Количество накопившихся не-
значительных артикуляционных изменений переходит в новое фо-
нологическое качество с четким противопоставлением крайних
ступеней процесса: по одну сторону границы смычные t, р, к,
по другую — спиранты $, /, х (граница верхненемецкого передви-
жения: water — wasser, open — offen, maken — machen); по одну
сторону долгие гласные f, й, по другую — дифтонги ai, аи (диф-
тонгизация узких долгих: is — ais 'Eis5, has — haus 'Haus’).
В результате у таких границ указанные выше формы противостоят
друг другу уже не как артикуляционные варианты одного слова,
а как четко дифференцированные лексические дублеты. Если за-
тем граница полностью или частично снимается и возобновляется
более или менее интенсивное языковое общение, начинается пере-
движение отдельных слов, при котором каждое слово независимо
от другого может, по крайней мере в принципе, иметь свою судьбу,
457
обусловленную его значением и употреблением. В этом случае,
в отличие от первого, мы имеем дело не с закономерным фонети-
ческим изменением, а с передвижением или вытеснением слов.
К таким именно случаям и относятся факты, отмеченные Жиль-
ероном, Вредэ и их учениками. Из примеров, приведенных Вредэ,
именно такой случай представляет слово besser (рядом с water
' Wasser’ и др.), которое проникает на территорию нижненемецкого
вместе с небольшим числом широко употребительных слов обще-
народного языка (например, zwei, Saiz и некоторые другие) при
поддержке литературной нормы национального языка, тогда как
в другом примере haus — us имело значение и различие фонети-
ческое (условия ударения),
3
Наглядным примером закономерного и спонтанного звукового
развития является уже упомянутая дифтонгизация узких долгих
гласных I > ai, й > аи (is > ais 'Eis’, win > wain 'Wein’,
hus haus, brun braun и т. п.). Процесс этот, по показаниям
письменных памятников, распространяется на территорию верхне-
немецких диалектов с XII по XVI в. с крайнего юго-востока (ба-
варско-австрийское наречие), постепенно охватывая все верхне-
немецкие диалекты, кроме крайнего юго-запада (Эльзас и Швей-
цария) и северной полосы средненемецкого (диалекты рипуарский,
нижнегессенский, западнотюрингенский), и становится одним
из важнейших признаков новонемецкого национального литера-
турного языка. Дифтонгизация останавливается у границ обще-
ния (растущее обособление Эльзаса и Швейцарии от средневековой
Германской империи), но также и на пороге диалектов, значительно
отличающихся по своей фонетической системе (нижненемецкий).
Характерно также, что во всех верхнемецких говорах, не имею-
щих дифтонгизации, узкие долгие гласные полностью или частично
подверглись сокращению, т. е. возникли особые фонетические
условия, препятствовавшие дифтонгизации. Ср., например, в ри-
пуарском: jlig 'gleich’, duf'Taube’; с расширением сокращенного
гласного по общему закону этого диалекта (f > е, и > о): zek
'Seite’, wep'Wein’; krok'Kraut’, broij 'braun’; в нижнегессен-
ском: win 'Wein’, pif 'Pfeife’; mul (mul) 'Maul’, hut (hut) 'Haut’;
в эльзасском: tsid ' Zeit’, bisa 'beissen’; hus 'Haus’, siife 'saufen’
(палатализация и > й по общему закону этих диалектов) и т. д.
На окраинах дифтонгирующих диалектов, в области более
поздней дифтонгизации, остались более узкие варианты дифтон-
гов: в швабском di, эи (или ei, ои): dis (eis), haus (hous); в мозель-
ских говорах ei (qi), ои (pu): eis (Qis), hous (h^us). С другой стороны,
верхненемецкие диалекты (и некоторые нижненемецкие), не за-
тронутые общим процессом дифтонгизации, обычно имеют дифтонги
также более узкого типа, в особых фонетических условиях —
458
внутри слова перед гласными и на конце слова (так называемая
«дифтонгизация в зиянии»). Ср. в рипуарском: drei, sreio ’schreien’;
sou 'Sau’; bouon 'bauen’; в эльзасском: frqi, srqio, 'schreien’;
SQi 'Sau’; boio 'bauen’ (также с обычной для этого диалекта пала-
тализацией аи > pi).
Границы дифтонгизации i и й не всегда в точности совпадают;
не совпадают они в некоторых случаях и для отдельных слов од-
ного звукового ряда. Однако отмеченное Вредэ довольно значи-
тельное расхождение между границами is — eis, win — wein
в Рейнской области (в долине р. Аар и южнее) объясняется фонети-
ческими условиями — веларизацией конечного -п > -у, свой-
ственной рипуарскому диалекту, с одновременным сокращением
узкого долгого гласного: южная граница сохранения монофтонга
в словах типа wig 'Wein’, brug 'braun’ совпадает с границей вела-
ризации.11 Отпадение конечного п и назализация создают и в дру-
гих районах особые фонетические условия для таких слов, как
wein, braun. Аналогичное расхождение, отмеченное в вышеприве-
денном примере Вредэ между границами bus — haus и us — aus,
также объясняется фонетически — условиями ударения. «Зона
вибраций», как отметил Фрингс, совпадает с границами мелких
феодальных территорий между курфюршеством Кельнским и
Трирским, в границах которых сложились рипуарский и мозель-
ский диалекты.
Для таких «зон вибраций» характерно установление переход-
ных закономерностей дифтонгизации, имеющих, однако, фонети-
ческий, а не лексический характер. Например, в люксембургских
говорах (юго-западная часть мозельского диалекта) оба дифтонга
представлены в двух вариантах, более широком и более узком:
i > at — at, й^> ри — аи. Более узкий вариант характеризует
старые односложные слова, а также многосложные при последую-
щем глухом сильном согласном. Ср.: wais 'weiss’, baisan 'beissen’,
mgus 'Maus’, Iqusdaran 'lauschen’. Широкий вариант отличает
слова, ставшие односложными в результате редукции неударного
гласного окончания, и многосложные перед слабыми глухими,
звонкими и перед гласными (в зиянии). Ср. там же: sbais ' Speise’,
draiwan 'treiben’, fraian 'freien’, srau 'Schraube’, dauzant 'tau-
send’, mauar 'Mauer’. Недифтонгизованный согласный сохраня-
ется в случаях сокращения — перед веларизованным конечным
-п (-#), -d (-t): peg 'Pein’, rodan 'reiten’; brog 'braun’, krodan
'krauten’ (с закономерным переходом i > о, и > о, свойственным
южномозельским говорам).12 Точно так же на юго-западной гра-
нице швабской дифтонгизации различаются положения перед но-
совыми, перед г и перед $, границы дифтонгизации в этих положе-
ниях значительно отклоняются от остальных случаев.13
Это показывает, что общий закон дифтонгизации узких дол-
гих явился результатом обобщения ряда частных
процессов, обусловленных более или менее благоприятными
фонетическими позициями, значение которых в дальнейшем от-
459
пало. Однако все эти частные отклонения ймеют( фонетические
(а не лексические) причины и фонетически закономерный характер,
присущий звуковому закону в целом.
Вопрос о распространении новых дифтонгов теснейшим обра-
зом связан с проблемой образования немецкого литературного
языка, поскольку дифтонгизация долгих является его наиболее
характерным фонетическим признаком. Мюлленгоф, в особенности
же Конрад Бурдах и его школа сводили эту проблему к унифика-
ции письменной нормы и склонны были отождествлять процесс
дифтонгизации, зарегистрированный в письменных памятниках,
в первую очередь — в канцелярской переписке немецких князей
и городов, с последовательными этапами изменения народного
языка, будто бы усвоившего новые дифтонги под влиянием письмен-
ного литературного образца, в конечном счете — под воздействием
наиболее авторитетной в XIV—начале XV в. письменной нормы
императорской пражской канцелярии.14
Эта точка зрения в недавнее время была еще раз выдвинута
представителем лингвистической географии Куртом Вагнером
с позиции модной в зарубежном языкознании реакционной теории
«опустившихся культурных ценностей» (gesunkenes Kulturgut).
Согласно Вагнеру, новые дифтонги переносятся «из одного куль-
турного центра в другой, происходит излучение из княжеских
канцелярий в городские, а оттуда — в сельские местности, в ди-
алект».15
Однако эта теория, ошибочная с методологической точки зре-
ния, полностью опровергается и языковыми фактами. В пользу
устного распространения новых дифтонгов говорит наличие фоне-
тически закономерной дифтонгизации и в таких случаях, которые
противоречат норме письменного литературного языка. Например,
в средненемецких диалектах, где группа ср.-в.-нвхМ. iu (w) (новонем.
ей) отражается как и (w), это й также подвергается дифтонгиза-
ции в аи: ср. паи 'пей’ (ср.-в.-нем. niuwe), auch'euch’ (ср.-в.-нем.
iuwich), fauer, 'Feuer’ (Виг)имн. др. О том же свидетельствует за-
висимость дифтонгизации от определенных фонетических условий
(т. е. условий устного произношения), например от наличия или
отсутствия зияния, диалектного сокращения долгого гласного,
последующего п и т. п., там, где литературная норма этих усло-
вий не знает. Поэтому прав был младограмматик Вильгельм
Брауне, когда, полемизируя с Мюлленгофом, теория которого
господствовала в то время, писал еще в 1874 г., что объяс-
нить характер распространения новонемецких дифтонгов можно
«только исходя из народного языка». Там, где новые дифтонги
наличествовали «в языке простого человека», там они отразились
и в письме; там, где в народном языке дифтонги отсутствовали,
они отсутствовали и в письменном языке, «несмотря на пражскую
канцелярию», или во всяком случае не получили общего распро-
странения.18
Однако и защитники устного распространения дифтонгов
нередко рассматривают это распространение как механическое
заимствование из первоначального баварско-австрийского «очага»,
как своего рода «моду», импортированную в большинстве немец-
ких диалектов со стороны, а не как спонтанное и органическое
развитие фонетической системы этих диалектов по присущим этой
системе фонетическим законам. Эту точку зрения наиболее от-
четливо формулировал Бремер в своей «Немецкой фонетике»:
«В конце древневерхненемецкого периода мы знаем на юго-во-
стоке области распространения немецкого языка лишь неболь-
шой клочок земли, где этот „звуковой закон“ возник органически.
Во всей остальной Германии дифтонги — не автохтонного (мест-
ного) происхождения, а были заимствованы, потому что ка-
зались современными» (weil sie modern waren).17
Нельзя, конечно, согласиться с тем, что народно-разговорный
язык, как думает Бремер, изменяется под влиянием «моды», рас-
пространившейся «сверху» или «заимствованной» у соседей. Но про-
тив этой точки зрения, помимо принципиальных соображений,
говорит и самый характер распространения дифтонгов. Соответ-
ствующие языковые карты показывают, как процесс дифтонгиза-
ции совершался во времени, как он постепенно слабел вместе с про-
движением к периферии, так что старый центр дифтонгизации
(баварско-австрийское наречие) имеет в настоящее время наиболее
широкие варианты дифтонгов (ai, ае — аи, ао с тенденцией в средне-
австрийском к дальнейшей монофтонгизации > а), тогда как пе-
риферия сохраняет наиболее узкие варианты (на Рейне ei — ои,
в Швабии — oi — эи) с рядом постепенных переходов между
ними. При этом на крайней границе дифтонгизации (в некоторых
западнотюрингенских, нижнегессенских, южношвабских говорах)
засвидетельствованы и ее начальные, еще недоразвившиеся сту-
пени (ii, ии).
Таким образом, дифтонги не заимствовались в готовом виде
из «очага» дифтонгизации, а развивались спонтанно, раньше всего
в центре, потом на все более отдаленной периферии; процесс диф-
тонгизации как в пространстве, так и во времени протекал по-
степенно как незаметный сдвиг артикуляции в целом (иными сло-
вами, как «звуковой закон» указанного выше типа) — от долгих
i, и с двухвершинным ударением, через ряд последовательно
расширяющихся дифтонгических вариантов . . . ii, ии . . . ei, ои . . .
$i, ди . . . di, du . . . ai, au . . . ае, ао (или di, du) вплоть до но-
вых монофтонгов типа среднеавстрийского а. Лишь там, где
наличествовал разрыв этой непрерывности, у границ общения
между соседними говорами, совпадавших в большинстве случаев
в немецких условиях с границами феодальных территории, в ре-
зультате интеграции незначительных сдвигов артикуляционного
характера возникли резкие фонологические противоположности
(недифтонгизированных I, и и соответствующих дифтонгов, на-
пример ei, ои или ai, аи и т. п.). Только в таких случаях при по-
461
следующем изменении границ общения могли передвигаться от-
дельные слова, «заимствованные» из соседнего говора (или в более
позднее время — из литературного языка), и тем самым — обра-
зоваться расхождения между изоглоссами. Однако, как уже было
сказано, для дифтонгизации узких долгих число таких расхожде-
ний немногочисленно, они ограничены относительно узкими пере-
ходными «зонами вибрации» и в ряде случаев объясняются до-
полнительными факторами чисто фонетического характера.
Спонтанный и закономерный характер дифтонгизации узких
долгих в верхненемецких диалектах подтверждается наличием
подобной же дифтонгизации Z, й > ai, аи в новонидерландском
литературном языке и ряде его говоров, с одной стороны, в ан-
глийском языке — с другой. Самостоятельное происхождение
имеет, по-видимому, и дифтонгизация в вестфальском (нижнене-
мецком) наречии, охватывающая, однако, не только узкие, но н
большинство других — долгих и удлиненных гласных. Широкий
характер этого явления подсказывает необходимость общего объяс-
нения, основанного на внутренних законах фонетического разви-
тия германских языков. Такого объяснения справедливо искали
в особенностях присущего этим языкам сильного динамического
ударения, результатом которого является тенденция к усилению,
а в некоторых случаях (прежде всего в открытых слогах) — и
к удлинению ударного гласного.18
Правда, многие германские языки и значительная часть не-
мецких диалектов, несмотря на наличие динамического ударения,
не имеют дифтонгизации: обстоятельство, требующее дальнейшего
объяснения. Согласно теории, выдвинутой Вредэ, решающим фак-
тором в этом процессе явилась вызванная германским силовым
ударением редукция неударных гласных, имевшая результатом
в южнонемецких и в значительной части средненемецких диалек-
тов отпадение конечного неударного -е. Отпадение -е вызвало, по
Вредэ, заменительное удлинение коренного слога, сверхдолготу
и облегченное (двухвершинное) ударение, которое явилось в даль-
нейшем источником дифтонгизации.19 Вместе с редукцией распро-
страняется с юго-востока на север, как спонтанный фонетический
процесс, и дифтонгизация узких долгих гласных. Сходным обра-
зом может быть объяснена дифтонгизация в английском и в ни-
дерландском языках, где конечное -е также отпадает, тогда как
в большинстве нижненемецких диалектов, не имеющих дифтонги-
зации, конечное -е сохраняется, либо отпадение представляет
сравнительно позднее явление.
Хотя теория Вредэ и не дает полного объяснения всех вопросов,
связанных с дифтонгизацией, она, однако, имеет то несомненное
преимущество, что связывает это явление с общими внутренними
закономерностями развития фонетической системы немецкого
языка и его диалектов в целом.20
Вместе с тем нельзя признать правильной и точку зрения Бра-
уне, когда он рассматривает дифтонгизацию в духе биологического
462
натурализма младограмматиков как «некое природное явление»
(ein Naturereignis) в области немецкого языка, настолько мощное,
что канцелярский (шире говоря, письменный) язык бессилен был
оказать ему поддержку или воспрепятствовать его развитию.
Социальная норма имела существенное значение в процессе жи-
вого языкового общения с соседями, которое со своей стороны
подталкивало и ускоряло спонтанное развитие местного диалекта.
Не менее существенное значение имела норма в развитии письмен-
ного литературного языка: проникновение дифтонгов в канцеляр-
ский язык отнюдь не являлось только пассивным отражением жи-
вого произношения; не меньшее значение имели воспроизведение
орфографии авторитетных образцов, слагающаяся традиция пи-
сьма. Об этом свидетельствует, например, практика аугсбургской
(восточношвабской) канцелярии, в которой после краткого периода
дифтонгических написаний (конец XIII в.), вероятно, под влия-
нием баварского письменного образца, следует длительный (до се-
редины XV в.) период отступления дифтонгов.21 Вряд ли кто-
нибудь решится предположить, что и в народно-разговорном языке
Аугсбурга в конце XIII в. утвердились дифтонги, чтобы потом ис-
чезнуть на полтора века и снова возникнуть во второй половине
XV в.
Вместе с письменной нормой литературного языка новые диф-
тонги проникают в письменные памятники Эльзаса (начало XVI в.),
Швейцарии и северной Германии (конец XVI—первая половина
XVII в.), несмотря на то что соответствующие диалекты до сих
пор сохранили здесь старые долгие гласные. Под влиянием книг,
школы, устного общения норма национального языка постепенно
получает всеобщее распространение на территории Германии,
сосуществуя с характерными особенностями местных диалектов
как подчиненной формы общенародного языка. В результате диф-
тонги распространяются повсеместно, на этот раз не путем спон-
танной дифтонгизации, а как ее готовый продукт. В устной оби-
ходной речи эти дифтонги литературного языка всегда получают
местную окраску в соответствии с фонетической системой диалекта,
в связи с чем в произношении появляются в известных пределах
более открытые или закрытые варианты нормальных типов (ft — ai—
al — ае — ди— au — aii — ao и т. п.).
4
Примером продвижения нового фонетического явления в ре-
зультате вытеснения слов может служить распространение верхне-
немецкого передвижения («перебоя») согласных вниз по Рейну,
в области франкского наречия.
Вопрос этот стоит в центре работы Энгельса «Франкский ди-
алект» Энгельс первый указал, что оверхненемечение франкского
диалекта происходило путем продвижения отдельных слов с пере-
46?
двинутым консонантизмом. В бергском процессуальном кодексе
XIV в. он находит: перебой t > z в словах zween 'zwei’, bezahlen
и рядом сохранение непередвинутого t в словах setten 'setzen’,
dat nutteste 'das niitzlichste’, Dache с передвижением к > x и
reicket 'reicht’ с сохранением непередвинутого k\ upheven 'auf-
heben’, hulper 'Helfer’ с непередвинутым p и verkouffen с пере-
движением p > /; и даже в одном и том же слове zo ' zu’ с перебоем,
tho (to) без перебоя.23
ь ! Эти положения Энгельса были впоследствии полностью под-
тверждены рейнскими диалектографами XX в., в особенности
проф. Фрингсом, в многочисленных специальных исследованиях.
Познакомившись впервые в 1946 г. с работой Энгельса (1935),
проф. Фрингс должен был признаться: «То, что мы обнаружили
на Рейне в процессе кропотливой и напряженной работы, на 40 лет
раньше уже стояло перед взором Энгельса».24
ь Фрингс относит распространение перебоя в Рейнской области
до его самой северной границы (так называемой линии Урдингена)
к периоду от 800 до 1500 г. «Процесс этот, — говорит Фрингс, —
имел характер постепенного оверхненемечения; при этом сохра-
нилось множество исключений.». В сущности «следует говорить
не о передвижении звуков (Lautverschiebung), а о словах с пере-
двинутыми звуками (lautverschobene Wortег)».25 Смешение между
франками и алеманнами после победы Xлодвига в 496 г. и продви-
жение франков в алеманнские земли в южной части рейнской
области создали первые предпосылки для распространения передви-
жения на север из южнонемецкой (баварско-алеманнско-ланго-
бардской) области, где оно зародилось; в 1000 г. формы с пере-
боем в основной своей массе «стоят перед воротами Кельна»;
около 1200 г. они достигли так называемой линии Бенрата (при-
мерно на 10 км южнее Дюссельдорфа), где проходит в настоящее
время граница основных явлений передвижения; около 1500 г.
отдельные авангардные формы достигли линии Урдингена (при-
мерно 25 км к северу от Дюссельдорфа). Это последнее, самое позд-
нее продвижение связано, как доказал Фрингс, с территориальной
экспансией курфюршества Кельнского в северном направлении,
с включением в его состав ряда мелких феодальных территорий,
лежащих между Кельном и расположенным от него к северу гер-
цогством Клеве, «с распространением Кельнской культурной зоны
вниз по Рейну в сторону Мааса». Таким образом, процесс распро-
странения перебоя в область франкского диалекта продолжался
в целом без малого 1000 лет.26
Мы имеем основание предполагать, что в области своего перво-
начального зарождения, в южнонемецких диалектах, второе
передвижение согласных также имело характер спонтанного и зако-
номерного фонетического процесса (по схеме Бругмана), связан-
ного с ослаблением смычки, — по-видимому, под влиянием силь-
ного динамического ударения (переход смычных р, к в спиранты
и аффрикаты). 27 Только в древнеюжнонемецких диалектах пере-
464
бой имеет вполне систематический характер, охватывая все три
названных звука и, по-видимому, все без исключения слова.
В франкский диалект проникают уже готовые результаты этого
перебоя как серия заимствованных слов, постепенно ослабевая,
как указывает Энгельс, по мере своего продвижения на север.
Постепенный характер проникновения перебоя в рейнскую
область определил ступенчатое расположение в этой области
границ отдельных явлений перебоя, послужившее основанием и
для обычного подразделения франкского наречия на ряд диалектов
по признакам перебоя (верхнефранкский—рейнскофранкский—
среднефранкский—нижнефранкский). Представители современной
лингвистической географии, в особенности Фрингс, справедливо
указывают (как и Энгельс) на поверхностный и схематический
характер этой классификации; однако она наглядно показывает
характер ступенчатого продвижения перебоя в направлении с юга
на север.
Франкское наречие в целом не имеет перебоя к в аффрикату кт
(в древнебаварском и древнеалеманнском chint [kxint] 'Kind’).
Большая часть франкских диалектов (кроме верхнефранкского)
не имеет также перебоя р в аффрикату р/. К югу от Шпейера, около
Гермерсгейма на Рейне, проходит линия передвижения р > pf
(appel — apfel). Южнонемецкие диалекты, включая и верхнефранк-
ский, имеют apfel, средненемецкие — appel. Значительно ниже
по Рейну, несколько севернее Бахараха, по склону Гунерюка,
проходит граница, отделяющая рейнско-франкские диалекты
(на юге) от среднефранкских (на севере). В среднефранкском сохра-
нились не подвергшиеся передвижению формы местоимений dat
'das’, wat 'was’, et 'es’ и некоторые другие (тогда как в целом,
как и всюду в верхненемецком, наличествует передвижение -t
после гласного в -s(-ss): ср. н.-нем. water — в.-нем. wasser,
н.-нем. grot — в.-нем. gross). В среднефранкском различают две об-
ласти: на юге — мозельскую, на севере — рипуарскую, в основ-
ном соответствующие феодальным территориям курфюршеств
Трирского и Кельнского и связанных с ними более мелких фео-
дальных владений. Граница между ними проходит по долине
р. Аар и горному хребту Эйфель: к северу, в рипуарском, отсут-
ствует передвижение -гр, -Ip > rf, -If (dorp 'Dorf’, helpen 'hel-
fen’). Наконец, линия Бенрата (северная граница рипуарского)
отделяет основные явления верхненемецкого передвижения от
нижненемецкого (нижнефранкского), где эти явления отсутствуют
(-£, -р, после гласных переходят в спиранты sfss), f(ff), ch;
ср. н.-нем. water — в.-нем. wasser, н.-нем. open, в.-нем. offen,
н.-нем. maken — в.-нем. machen; t- в начале слова и в удалении
переходит в аффрикату ts-: н.-нем. tunge — в.-нем. zunge, н.-нем.
setten — в.-нем. setzen и т. п.). Еще дальше распространяются
отдельные слова с передвижением, обогнавшие общую границу
перебоя: ich, och 'auch’ вместо н.-нем. ik, ok (в области, где со-
храняются maken, 'machen’ rik 'reich’ и др.).
3Q В. М. Жирмунский
465
! От линии Бенрата до линии Урдингена проходит полоса гово-
ров, переходных между рипуарским и пижнефранкским. В эту
переходную зону, прежде всего в городские говоры, проник ряд
слов с передвижением, в особенности с аффрикатой ts вместо н.-нем.
t (например, в словах Saiz, Herz, Holz, Schwanz, zwei, Zeit и
некоторых других), реже с перебойными спирантами (например,
в словах Kiiche, besser, gross, weiss и некоторых других). Все это
по преимуществу широко употребительные слова основного сло-
варного фонда. Эту зону пересекает также граница передвижения
для прилагательных с суффиксом -lich (н.-нем. -Ик), точнее —
ряд линий, различных для разных слов.*8 Значительно севернее
линии Урдингена проникли перебойные формы личных местоиме-
ний mich, dich, euch и дальше всех — возвратное sich. Личные
местоимения на -ch, как и возвратное sich, целиком как граммати-
ческие формы заимствованы из верхненемецкого; нижненемецкий
имеет общую форму дательного-винительн’ого единственного
числа без дифференцирующего окончания (н.-нем. mi, di и т. д.)
и вместо возвратного употребляет косвенный падеж местоимения
3-го лица (hem, em 'ihm’). Форма sik, встречающаяся в настоящее
время в нижненемецких диалектах, является результатом ониж-
ненемечения, т. е. приспособления заимствованных верхненемец-
ких форм к нормам нижненемецкой фонетики.29
| Свидетельством постепенного, сравнительно позднего проник-
новения верхненемецкого перебоя в область среднефранкского,
в особенности, как указывал Энгельс, рипуарского, в меньшей сте-
пени мозельского, являются многочисленные реликты слов без
передвижения, которые по своему характеру могут быть разбиты
на несколько групп.
| 1. Местоимения dat, wat, et, det'dieses’, сохранившие непере-
двинутое -t в границах всего так называемого среднефранкского
наречия, принадлежат к категории служебных или полуслужеб-
ных слов. Все эти слова односложные, не имеющие параллельных
двусложных форм, ослабленные в акцентном отношении и бла-
годаря этому, по-видимому, выпадающие из фонетического «поля
внимания». В рипуарском не имеют передвижения также полу-
служебные глаголы mot 'muss’, let 'Hess’, близкие по своему зна-
чению и акцентуации к другим словам этого типа. Без перебоя
сохраняется также во всем среднефранкском окончание -et (вместо
в.-нем. -es) сильных прилагательных среднего рода, но только
при синтаксически самостоятельном (или субстантивированном)
употреблении. Ср., например, в южномозельском говоре Обер-
гама: dat iopat 'das Junge’, tgruzat 'das Grosse’, но с перебоем:
a grazes doref 'ein grosses Dorf». И здесь, по-видимому, имели зна-
чение неударность и неизменяемость окончания, а также обо-
собление формы в специальном синтаксическом значении.
| 2. Грамматический характер имеет и сохранение бесперебой-
ного -t в слабых глаголах при последующей ассимиляции с суф-
фиксальным -t прошедшего времени и причастия II, в особенности
466
в случаях, где так называемый «обратный умлаут» (Riickumlaut)
способствовал изоляции этих форм. Тип setzen — прошедшее время
satte, причастие II gesalt — распространен в рейнских говорах
далеко за пределами рипуарского (в мозельском, лотарингском,
люксембургском). Ср. gosat 'gesetzt’, gonat 'genetzt’ (от netzen),
gosmolt 'geschmolzen’ (от schmelzen с переходом в слабые). Без
перебоя встречаются и степени сравнения: от gross — gretar,
gretst (вероятно, из удвоения — *gretter, *grettest).
3. Основную группу лексических реликтов образуют слова
местного, областного распространения, бытовые и узкопрофес-
сиональные — провинциализмы, не имеющие верхненемецких соот-
ветствий в словарном составе национального литературного языка.
Например, wek 'Docht’ (^фитиль,) brok 'Hose’ (=брюки), fuken
' Fischreusen’ (=мережа), stut 'SeiumeF (=белая булочка), platen
'Lumpen’ (=тряпка), tot 'Giesskanne’ (=лейка), Kip 'Tragkorb’
( = корзина для ношения за спиной), knip 'Messer’ (=складной
ножик) и ряд других. Сюда же относятся слова интимного или вуль-
гарного просторечия, мало употребительные в высоких стилях
языкового общения. Например, tef 'Hundin’ (=сука), snat
'Schnauze’ (=морда), knipen 'kneifen’ (=щипать, в идиомати-
ческом значении ein Auge zukneifen — 'закрывать глаза на что-
нибудь’), ар 'Affe’ ( = обезьяна) — только как бранное слово,
тогда как для названия животного употребляется литературное
Affe, и ряд других. Границы распространения этих слов различны
и не всегда установлены: известно, однако, по материалам атласа,
что ар 'Affe’ сохранилось без перебоя лишь в центральной части
рипуарского, тогда как tef 'Hundin’ захватило и северную поло-
вину мозельского диалекта, подымаясь по Рейну почти до Коб-
ленца, где оно сталкивается с верхненемецкими диалектными си-
нонимами zaub, zill, zatz.30
4. Сохраняются без передвижения некоторые слова, в кото-
рых наличествовало весьма значительное расхождение с соответ-
ствующей верхненемецкой формой: например, очень широко
tiiso 'zwischen’ (=между), baton 'niitzen’ (= годиться, приносить
пользу, от н.-нем. наречия bat 'besser’ — ср.-в.-нем. baz) и неко-
торые другие. Энгельс отметил широкое распространение общей
всем франкам, даже нидерландцам, бесперебойной формы baten
на всем протяжении рейнско-франкского, в частности, и в южной
его части, в пфальцском диалекте, в выражении: 's badd alles nix
'es hilft alles nichts’.31
5. В ряде случаев сохранение бесперебойных форм позволило
избежать омонимии, что содействовало улучшению языка как
средства общения. Это относится в особенности к таким употреби-
тельным словам общенародного словарного фонда, как, например,
dep 'tief’ (=глубокий), которое при наличии перебоя дало бы
def,, совпадающее в рипуарском со словом def 'Dieb’ (=вор),
или sipor 'Schafer’ (=пастух), которое совпало бы при передвиже-
467
30*
нии с sifar *Schiffar’ ( = корабельщик), или к упомянутому op 'auf,
сохранившему эту форму в отличие от of 'ob (oder)’.32
6. Свидетельством борьбы, происходившей в прошлом между
новыми формами с передвижениями и старыми без передвижения,
являются, как обычно в таких случаях, контаминации,
характерные в особенности для южной части среднефранкского
(мозельских говоров). Таким признаком фонетического компро-
мисса является наличествующий в некоторых словах переход -t
(после гласного) не в спирант -s(ss) в соответствии с общим зако-
ном передвижения, а в аффрикату -ts (из н.-нем. -t + в.-нем. -$).
Ср. рипуарское и мозельское suts 'Schuss’ (из §ut + sus); мозель-
ское flots 'Fluss’, gats 'Gasse’ и др.
| Сходный характер имело вытеснение нижненемецкого и в не-
которых других районах, пограничных с верхненемецким, на-
пример в северной полосе тюрингенского и верхнесаксонского
с городскими центрами Мансфельд, Галле, Виттенберг и др.
(XIV—XVI вв.), или в таких нижненемецких городах, как Берлин,
Магдебург и некоторые другие. Городской диалект Берлина, пер-
воначально нижненемецкий, является уже с XVII в. верхнене-
мецким по основным признакам как своего вокализма, так и кон-
сонантизма.33 Этот тип городского диалекта господствует в гра-
ницах большого Берлина и окружающего района и в других го-
родских центрах Бранденбурга. Остатками вытесненных нижне-
немецких элементов в городском диалекте Берлина являются,
в частности, бесперебойные реликты: уже известные нам слабо-
ударные местоимения ik (ika) 'ich’, wat 'was’, det 'das’, et'es’,
средний род прилагательных с неударным окончанием -et (аг-
met 'armes’, jrosat ’grosses’ и т. п.), слабоударный суффикс умень-
шительных -ken '-chert (biskan 'bischen’, fritskan 'Fritzchen’),
лексически изолированные слова бытового просторечия, частично
также уже отмеченные в других диалектах: snuta 'Schnauze’,
sitan 'scheissen’ tela 'Hundin’ (в.-нем. zil), pota 'Pfote’, идиомати-
ческое выражение det is mir pipe 'das ist mir einerlei’ (от в.-нем.
pipa 'Pfeife’) и немногие другие.
Как видно из сопоставления примеров, относящихся к разным
языковым районам, в процессе лексического вытеснения также
наличествует закономерность, но это закономерность особого
порядка, которую можно было бы назвать фонетической анало-
гией: wasser вытесняет water, как essen вытесняет eten; hoffen
вытесняет hopen, как offen вытесняет open, и т. п. Верхненемец-
кие формы на s (вместо н.-нем. t) или на / (вместо н.-нем. р) ста-
новятся нормой, поддержанной перевесом одного диалекта над
другими, его социальным авторитетом (в ряде .случаев еще за-
долго до образования литературной нормы национального языка).
В результате для большинства слов, входящих в определенный
фонетический ряд, устанавливается единство вторичного происхо-
ждения, которое отличается по своему генезису от постепенных
артикуляционных изменений фонетического порядка (звуковых
468
законов), но может совпадать с ними по сйоим результатам. Из
этого единства выпадает (по определенным, выше перечисленным
основаниям) лишь сравнительно незначительная группа реликтов.
Сопоставление различных случаев оверхненемечения нижне-
немецкого диалекта (например, на Рейне и в Бранденбурге) по-
казывает, что типы подобных реликтов в основном одинаковы,
а иногда это даже одни и те же слова, что опять-таки подтверждает
закономерный характер этого процесса.
Лишь там, где в результате очень значительного фонетического
расхождения произошел разрыв фонетических ассоциаций между
словами, первоначально входившими в один звуковой ряд, могли
образоваться значительные несовпадения границ и между словами
общенародного языка в зависимости от их лексического значения,
частоты употребления, а следовательно, и относительной быстроты
продвижения. К этим случаям относится, в частности, и класси-
ческий пример ступенчатого продвижения по Рейну таких форм,
как seks против ses, oks против os, waksen против wasen (конкури-
рующие формы являются здесь результатом полярного развития:
в нижненемецком герм, hs > s с заменительным удлинением пред-
шествующего гласного, в южнонемецком герм. hs>ks). Лишь
в отношении этих крайних случаев справедливо неправильное
в общей форме положение диалектографов, будто каждое слово,
входящее в фонетический ряд, имеет свою границу и свою судьбу:
иными словами, только здесь принцип лексический господствует
над фонетическим.
Таким образом, реликты, контаминации, адоптированные
формы, столкновения омонимов и прочие явления, установленные
лингвистической географией, представляют, в сущности, такие же
поправки к принципу закономерности звуковых изменений, как
открытая в свое время младограмматиками грамматическая ана-
логия. Существования звуковых законов они не опровергают.
5
С вопросом о звуковых законах тесно связан вопрос о диалек-
тах и их границах. Фетишизация методики изоглосс с неизбеж-
ностью приводила представителей лингвистической географии
к изолированному рассмотрению отдельных языковых явлений,
часто даже отдельных слов, вне связи с общей фонетической и
грамматической системой диалекта. Такая атомизация изолиро-
ванных диалектных признаков по изоглоссам породила в зарубеж-
ной лингвистической географии, главным образом французской,
ошибочную теорию, отрицающую реальность диалектов. Этому
способствовала в особенности, как уже было сказано, редкость
сети, которой пользовался Жильерон, в связи с чем регистриро-
вались лишь пространственно изолированные языковые свиде-
тельства. Играла определенную роль и установка Жильерона
469
йреимущественно на «словарную географию», т. е. на лексиче-
скую синонимику говора. «Мы должны отбросить понятие диалекта
в качестве основы научного исследования, — писал Жиль-
ерон. — Изучению диалекта ’ мы противопоставляем изучение
слова».
Методологическую основу этого нигилистического отрицания
диалектов обычно ищут в теориях Шухардта,34 но в 1870—1880-х го-
дах оно господствовало и в учении противников Шухардта — клас-
сических представителей младограмматической школы. Во Фран-
ции эту точку зрения пропагандировали в своем журнале «Ro-
mania» учителя Жильерона Поль Мейер и Гастон Парис. Поль
Мейер называет диалекты «весьма произвольной концепцией на-
шего ума», основанной на определении «словесном, а не реальном»
(«definitio nominis», не «definitio rei»). Границы отдельных диалек-
тов на территории Франции переплетаются и пересекаются и почти
нигде не совпадают между собой, от субъективного произвола
исследователя зависит признание тех или иных признаков решаю-
щими при проведении границ между диалектами. Задача иссле-
дователя должна ограничиваться установлением района геогра-
фического распространения каждого отдельного признака.35 Эту
задачу и выполнил позднее в своем атласе ученик Поля Мейера
Жильерон.
Согласно утверждению Гастона Париса (другого учителя
Жильерона), совпадающему и с теорией Шухардта, романские
диалекты образуют языковую непрерывность с постепенно и
незаметно расходящимися признаками. «В действительности диа-
лектов не существует», — заявляет Гастон Парис. «Народные
говоры, — говорит он, — незаметными оттенками переходят друг
в друга. Крестьянин, который знал бы только говор своей деревни,
несомненно мог бы понять соседний, с большими трудностями —
говор селения, лежащего еще дальше в том же направлении, и
так далее, вплоть до такого места, диалект которого он мог бы
понять лишь с крайним трудом».36
Сходные положения развивал и Герман Пауль, ведущий теоре-
тик младограмматиков, в своих «Основах истории языка»: «Каж-
дое языковое изменение, а тем самым и происхождение каждой
особенности диалекта, имеет свою особую историю. Граница ее
распространения не имеет значения для других границ». «Если
в связной языковой области провести границы для всех наличе-
ствующих диалектных особенностей, то мы получим чрезвычайно
сложную систему многообразно перекрещивающихся линий.
Точное деление на группы и подгруппы невозможно». «Поскольку
уравнивающее воздействие сношений не допускает существования
слишком резких различий между соседними районами, связан-
ными между собой такими сношениями, то почти каждая малень-
кая группа представляет переходную ступень между двумя со-
седними. . . При таком характере отношений между диалектами
взаимное понимание между соседними районами нигде не ветре-
470
чает препятствий, так как отклонения слишком незначительны
и к тому же привычны для соседей, тогда как между далеко от-
стоящими друг от друга районами могут наличествовать различия,
делающие взаимное понимание невозможным».37
Из этих теоретических установок младограмматики обычно
делали вывод, что объектом изучения диалектолога должно быть
не наречие (понятие условное, произвольно сконструированное
и противоречивое), но говор отдельного населенного пункта,
а при дальнейшей возможной дифференциации внутри этого
говора (по признакам возраста, пола, социального происхождения
и т. п.) — индивидуальный говор данного субъекта (в немецких
условиях обычно самого исследователя) — своеобразного лингви-
стического Робинзона, согласно теории младограмматиков, —
единственного творца и носителя языка. Напротив, лингвистиче-
ская география в лице Жильерона пошла по другому пути,
объявив единственной лингвистической реальностью слово и гра-
ницу его распространения (изоглоссу). И в том, и в другом случае
сказалось характерное для буржуазного языкознания пренебре-
жение к языку как социальному явлению и к народу как его
творцу и носителю.
Между тем более углубленные диалектографические исследо-
вания полевого характера (в Германии в особенности уже назван-
ные работы Хаага) вскоре с очевидностью показали, что пред-
ставление о равноценности изоглосс как лингвистических границ
не соответствует действительности. Диалектные признаки, оди-
наково отражающиеся на картах лингвистического атласа как
изоглоссы, на самом деле отличаются друг от друга и по своей
древности и устойчивости, и по количеству и употребительности
охватываемых ими слов, и по своему значению для фонетической
или грамматической системы языка. Соответственно этому следует
различать границы разных степеней и разного характера. При этом
изоглоссы различных явлений далеко не всегда изолированы,
нередко полностью или частично совпадают друг с другом, обра-
зуют «пучки», обычно совпадающие с границами общения, с хо-
зяйственно-политическими территориями эпохи феодализма. Не-
смотря на наличие на периферии диалекта переходных говоров
(так называемой «зоны вибраций»), отчетливо выступает единство
его основного «ядра».
Эти несомненные факты, обнаруженные более углубленным
изучением данных лингвистической географии, возвращают нас
к понятию диалекта, но требуют новой, критической интерпрета-
ции этого понятия. При сопоставлении карт диалектологического
атласа, опирающихся на сплошное обследование и пользующихся
методикой изоглосс, диалект теряет свой статический характер
неподвижной, структурно замкнутой системы признаков, пря-
молинейно восходящей по принципу родословного древа к общей
основе с другими, также структурно замкнутыми системами род-
ственных диалектов. Диалект представляет единство не исконно
471
данное, а сложившееся исторически, в процессе общественно
обусловленного взаимодействия с другими диалектами общена-
родного языка, как результат не только дифференциации, но и
интеграции: единство развивающееся, динамическое, как о том
свидетельствует характер изоглосс языковой карты, наглядно от-
ражающей связь истории языка с историей народа.
Попыткой критического пересмотра понятия «диалект» яв-
ляется и учение немецкой диалектографии о так называемых
«языковых ландшафтах» (Sprachlandschaften) — термин, заимство-
ванный из геологии и уже потому не очень удачный. В работах
проф. Фрингса и его школы особенно ярко выступает тенденция
к социально-историческому обоснованию понимания языкового
ландшафта (связь языковых границ с границами средневековых
политических территорий, с путями хозяйственных и культур-
ных сношений, с движением колонизационных потоков и т. п.).
Коллективы ученых, работавшие под руководством проф. Фрингса
сперва над изучением рейнских, потом восточносредненемецких
диалектов, выдвинули новую задачу комплексного картографи-
ческого изучения местной истории, диалектологии и этнографии.38
Однако и немецкая лингвистическая география не преодолела
методологической односторонности, тесно связанной с особен-
ностями ее методики.
Атомизация языковых явлений на картах зарубежных диалек-
тологических атласов обычно определяет и дальнейшую методику
основанных на материале этих атласов исследований по историче-
ской диалектологии: диалектограф изолирует отдельные, единич-
ные явления фонетики, грамматики или лексики, пользуясь ими
как дифференциальными признаками, вне их связи с фонетиче-
ской или грамматической системой диалекта в целом. Так, про-
тивопоставления сев. soster — южн. schwester, сев. indi — южн.
undi 'und’, сев. flasch — южн. flasch 'Flasche’ и т. п. одинаково
могут служить иллюстрацией продвижения южных форм на се-
вер по течению Рейна, соответствующего общему направлению
культурных воздействий немецкого юга на север; ступенчатое
продвижение южн. seks против сев. ses, oks против os, waksen
против wasen намечает границы основных феодальных территорий,
задерживавших распространение этих форм; присутствие средне-
франкского druge 'trocken’ в восточносредненемецких диалектах
служит неопровержимым доказательством наличия в Верхней
Саксонии колонистов из области Кёльна—Трира; географическое
распространение различных форм местоименного наречия wie
'как’ — англо-фризское и нидерландское («ингвеонское») hu (how,
hoe), нижненемецкое wo, верхненемецкое wie (гот. hwaiwa) по-
зволяет восстановить в современных германских языках и диалек-
тах старое, засвидетельствованное у Тацита деление древнегер-
манских племен на ингвеонов, иствеонов и герминонов и их древ-
нейшие исторические связи.39 Эти изолированные диалектные
признаки играют роль своего рода «примет» для блестяще разра-
472
ботанной методики, цель которой — интерпретировать историче-
скую динамику языковой карты. Однако развитие и характер
таких, например, диалектов, как рипуарский, мозельский или
верхнесаксонский, определяются не этими изолированными «при-
метами», а всей совокупностью их фонетических и грамматических
особенностей, и прежде всего такими общими закономерностями
фонетической системы диалекта, как например сохранение или
потеря звонкости смычными, спирантное произношение Ъ и g
между гласными, в начальном или конечном положении, наличие
или отсутствие дифтонгизации или стяжения дифтонгов. Поэтому
для изучения диалекта в целом и внутренней истории его разви-
тия приходится и сейчас обращаться к монографическим описа-
ниям отдельных говоров, с тем чтобы путем сопоставления подобных
описаний восстановить более широкую картину географиче-
ского соотношения этих говоров и историю их внутреннего раз-
вития.
Это относится в особенности к грамматическим (морфологиче-
ским) признакам диалектов, которым лингвистическая география
уделяла сравнительно мало внимания, поскольку Жильерон и его
школа выдвигали преимущественно проблемы словарной геогра-
фии, тогда как в анкете немецкого атласа на первом плане стояли
вопросы фонетики. Действительно, для проблематики языковых
движений, отраженных в динамике диалектологической карты,
явления фонетические и лексические обычно более показательны,
чем морфологические, в особенности — в языках с более или ме-
нее редуцированными морфологическими признаками, как фран-
цузский или немецкий. Грамматические формы в процессе междиа-
лектного общения заимствуются сравнительно редко, главным
образом когда они имеют лексически изолированный характер
(как, например, личные местоимения). Их изменения в основном
определяются внутренними законами развития языка, которые
в разных его диалектах нередко идут параллельными, хотя во
многом и расходящимися, путями. Подобные расхождения опре-
деляются взаимодействием всех элементов системы данного
диалекта — как грамматических, так и фонетических. Устано-
вить эти внутренние законы с учетом их сходства и различия
может лишь сравнительная грамматика диалектов.
Но этот круг вопросов лежит уже за пределами диалектогра-
фических исследований и требует специального рассмотрения.
1954 г.
473
НЕМЕЦКАЯ ДИАЛЕКТОГРАФИЯ
1
Лингвистической географией, или диалектографией (по-не-
мецки Dialektgeographie), называется раздел диалектологии, изу-
чающий географическое распространение диалектных признаков
и их границы. Лингвистическая география явилась результатом
работы над составлением больших национальных диалектологи-
ческих атласов. Несмотря на существенные методологические
недостатки, присущие работе зарубежных атласов, систематиче-
ское, одновременное, более или менее сплошное обследование
всех местных говоров данного языка, предпринятое при их со-
ставлении, чрезвычайно увеличило фактический материал диалек-
тологических исследований. Вместе с тем более совершенная и
дифференцированная методика картографирования, исходящая
не из совокупности признаков данного наречия в целом, а из
границ отдельных явлений, в случае необходимости — отдель-
ных слов, позволила не только значительно уточнись эти границы
и тем самым дать более полное и дифференцированное описание
самих диалектов, но и поставила эти частные явления в перспек-
тиву более широких географических и исторических связей,
раскрыла динамику языковой карты и наметила приемы ее исто-
рической интерпретации.
Диалектологический атлас Германии — первый по времени
в ряду больших национальных атласов. История его создания
Георгом Бенкером (Georg Wenker, 1852—1911), скромным школь-
ным учителем в Дюссельдорфе на Рейне, а затем библиотекарем
в Марбурге, подробно рассказана проф. А. Бахом.1 Сбор матери-
ала с помощью анкеты, разосланной Бенкером учителям народ-
ных школ, продолжался с 1876 по 1886 г. К общему числу около
40 тыс. анкет, собранных самим Венкером в политических грани-
цах тогдашней Германской империи (включая Эльзас и Лотарин-
гию), прибавилось уже после его смерти, в 20-х годах XX в.,
более 10 тыс. дополнительных анкет из других областей распро-
странения немецкого языка (Австрии, немецкой Швейцарии,
Люксембурга, немецких поселений Чехословакии).
С 1886 г. немецкий атлас стал государственным научным ин-
ститутом под общим руководством берлинской Академии наук.
Венкер получил двух ассистентов и скромные денежные ассигно-
вания. Одним из этих ассистентов был молодой германист Фер-
динанд Вредэ, ставший в дальнейшем ближайшим помощником,
а затем и преемником Венкера. Карты изготовлялись в двух ру-
кописных экземплярах, из которых один оставался в Марбурге,
другой отсылался в Берлин, в библиотеку Академии наук. Каж-
* Предисловие к книге «Немецкая диалектография» (М., 1955).
474
дое слово, встречающееся в анкетах, заносилось на отдельную
карту, причем выделялись специальные карты для окончаний и
приставок многосложных слов. В течение сорока лет (1886—-1926)
таким способом было изготовлено 1650 рукописных карт. Отчеты
о составленных картах одно время печатались в журнале «Anzei-
ger fiir das deutsche Altertum» (tt. 18—29, 1892—1900) с описанием
установленных на каждой карте границ (всего 83 карты). Однако
эти описания, недостаточно наглядные без соответствующих
иллюстраций, нередко вызывали недоразумения и неправиль-
ную интерпретацию, вследствие чего издание их было в дальней-
шем приостановлено. Фактически «Языковой атлас Германской
империи» (Sprachatlas des Deutschen Reichs) в течение ряда де-
сятилетий был доступен лишь для ограниченного круга специа-
листов, преимущественно для учеников составителей атласа,
которые имели возможность работать под руководством своих
учителей над рукописными картами, хранившимися в Марбурге.
Только в 1926 г., через пятнадцать лет после смерти Бенкера,
к 50-летию начала составления атласа, марбургский Диалекто-
логический институт получил необходимые средства для его опуб-
ликования, однако лишь в уменьшенном масштабе и соответственно
в упрощенном виде. Печатное издание (Deutscher Sprachatlas,
Marburg, 1926 и сл.) рассчитано на 20 выпусков (из которых до
настоящего времени опубликовано 13) и будет содержать всего
120 карт.
Такие результаты сами по себе означают неудачу. Немаловаж-
ную роль сыграли при этом внешние обстоятельства: отсутствие
серьезного понимания и интереса со стороны руководящих ин-
станций старого немецкого государства к предприятию нацио-
нального значения, нуждавшемуся в широкой государственной
помощи и больших средствах.
Существенным недостатком немецкого атласа является отсут-
ствие фонетической транскрипции — результат косвенного (ан-
кетного) метода обследования при посредстве корреспондентов,
не имеющих специальной лингвистической подготовки. Бенкер
предложил своим корреспондентам — школьным учителям —
пользоваться для транскрипции обычным немецким письмом.
В 1876 г., когда он начинал свою работу, фонетическая проблема,
по-видимому, еще не стояла перед ним, а идея сплошного обсле-
дования подсказала ему простейший способ широчайшего мас-
сового опроса. Результатом новых установок младограмматиков,
укрепившихся в немецком языковедении в годы собирания мате-
риала для атласа, явилось требование фонетической точности
записи как обязательной основы научного изучения всякой зву-
чащей речи, в первую очередь — бесписьменных народных го-
воров. Поэтому из лагеря младограмматиков должны были раз-
даться голоса, ставившие под сомнение научную достоверность
материалов Бенкера. Наиболее крайнюю позицию среди крити-
ков атласа занял Отто Бремер, ученик фонетиста Эдуарда Сиверса.3
475
Однако нигилистическая оценка Бремера оказалась в значитель-
ной степени преувеличенной. Добросовестность и аккуратность,
с какими работали корреспонденты Бенкера, подтвердили по-
следующие полевые обследования на местах. Нужно говорить
не столько о недостоверности и неточности материалов атласа,
сколько о границах точности и достоверности. Резкие отклонения
диалектов от фонетической нормы литературного языка четко
обозначаются корреспондентами с помощью обычной немецкой
орфографии: например, вместо Schnee и gro£ — schnie или schnih
[sni], gru₽ [grus] — в верхнегессенском, schnai [§nae], grau₽
[graos] — в швабском; или вместо kochen и Pfeffer — koken
[koken], ререг [рёрэг] — в нижненемецком, peffer ['pefar] —
в средненемецком и т. п. Менее резкие признаки в большинстве
случаев остаются необозначенными или обозначенными двусмыс-
ленно за отсутствием в немецкой орфографии соответствующих
специальных знаков: например, открытое или закрытое произно-
шение гласных, смешение звонких и глухих согласных, наличие
или отсутствие аспирации, спирантное произношение интерво-
кального или конечного g и т. п.; чаще всего это относится к тем
многочисленным случаям, когда обиходное провинциальное про-
изношение литературного языка окрашено особенностями ме-
стного диалекта, в результате чего сам корреспондент не заме-
чает этих особенностей в своем родном говоре. Такие признаки
диалекта, иногда весьма существенные (например, потеря звон-
кости смычными в центральнонемецких диалектах), не могут быть
установлены с помощью косвенного метода немецкого атласа и
требуют полевого обследования на местах.
В отличие от атласа Венкера французский диалектологический
атлас Жильерона и Эдмона (J. Gillieron etE. Edmont.
Atlas linguistique de la France. Paris, 1900—1912) явился резуль-
татом прямой записи на местах, произведенной Эдмоном по ан-
кете Жильерона в точной фонетической транскрипции. Француз-
ский атлас имеет, однако, очень редкую сеть опорных пунктов
(всего 639) и тем самым не удовлетворяет принципу сплошного
обследования, выдвинутому Бенкером. В немецких условиях,
при чрезвычайном дроблении диалектов, такая сеть, примерно
в 50 раз более редкая, чем у Венкера, не уловила бы всего много-
образия реальных различий и взаимодействий между соседними
говорами. Однако сплошное обследование возможно не только
с помощью косвенного метода: широкая плановая работа кол-
лектива специально подготовленных сотрудников может обеспе-
чить необходимое с научной точки зрения соединение исчерпы-
вающей полноты материала с точностью записи, при условии ма-
териальной помощи и организационной поддержки государства,
как это впервые осуществляется в настоящее время в грандиоз-
ных географических масштабах нашей родины подготовляемым
Академией наук СССР Диалектологическим атласом русского
языка.
476
Независимо от Жильерона и раньше его сторонниками прямого
метода диалектографического обследования выступили швабские
диалектологи Карл Боненбергер (Karl Bohnenberger, ум. в 1951 г.)
и Карл Хааг (Karl Haag, ум. в 1947 г.). Оба они были урожен-
цами Вюртемберга, практически владели говорами своей родины
и собирали материал для своих работ посредством «полевых запи-
сей» на местах. Они следуют за Бенкером в сплошном обследова-
нии ряда явлений на более или менее обширной территории,
с дифференцированным учетом границ каждого отдельного язы-
кового признака, но с гораздо большим, по возможности исчер-
пывающим материалом примеров на каждое явление.
Боненбергер в течение ряда лет исследовал внешние границы
швабского наречия, отделяющие его от соседних франкских, ба-
варских и алеманнских диалектов. Книга Хаага «Говоры в вер-
ховьях Неккара и Дуная» (Die Mundarten des oberen Neckar-
und Donaulandes, Reutlingen, 1898) явилась результатом сплош-
ного полевого обследования группы переходных швабско-алеманн-
ских говоров в юго-западной части Вюртемберга. В основу
положено описание родного автору говора местечка Швеннинген,
к которому примыкает исчерпывающий обзор обследованных
автором диалектных признаков и их границ для окружающей
языковой территории на пространстве около 3000 кв. км, насчи-
тывающей до 400 населенных пунктов. Составленная Хаагом свод-
ная диалектологическая карта этого района указывает 78 границ
различных диалектных явлений (преимущественно фонетических),
причем особыми графическими приемами отмечается относитель-
ный «вес» каждой линии по числу совпадающих в ней признаков,
количеству и встречаемости слов, на которые распространяется
данный признак. Эти линии Хааг сопоставил с территориально-
политическими границами средневековых феодальных владений,
отчетливо выступающими в Вюртемберге, в прошлом — типич-
ной области немецкой феодальной чересполосицы. Прямой метод
записи позволил Хаагу представить лингвистический материал
в научно точной фонетической транскрипции. Результатом не-
посредственных полевых наблюдений явилась постановка ряда
принципиально важных теоретических вопросов, остававшихся
вне поля зрения анкетных обследований: о различном характере
диалектных границ, о формах взаимодействия между соседними
говорами, о внутренних закономерностях звукового развития
диалектов, так называемых фонетических законах и «вытеснении
слов».
Методика Хаага и его идеи имели большое влияние на немец-
кую лингвистическую географию. Успехи прямого обследования
заставили проф. Вредэ, ставшего преемником Бенкера, перейти
на комбинированный метод работы. С 1908 г. он организует, в ка-
честве дополнения к еще не изданному атласу, серию монографий,
содержащих описания диалектов отдельных языковых районов,
под общим заглавием «Немецкая диалектография. Сообщения и
477
исследования на основе атласа Бенкера» (Deutsche Dialektgeogra-
phie. Marburg, 1908—1942, всего 42 тома). Описания эти объеди-
няют данные атласа с точными фонетическими записями на местах,
содержащими гораздо более обширный материал примеров, чем
анкета Бенкера, в том числе и для явлений, совсем не представлен-
ных в ней. Факты, взятые из атласа, ставят эти частные обследо-
вания в общенемецкую диалектографическую перспективу. Ра-
боты эти, выполненные в большинстве случаев учениками Вредэ,
построены обычно по плану книги Хаага: сначала монографиче-
ское описание говора какого-нибудь опорного пункта, почти
всегда — родного говора исследователя; затем итоги сплошного
диалектографического обследования (фонетического, меньше мор-
фологического и лексического) всего изучаемого района с нанесени-
ем его результатов на сводную карту, отмечающую сравнительную
«весомость» линий по методу Хаага; в заключение — истори-
ческий экскурс, сопоставляющий эти линии с территориально-
политическими границами средневековых феодальных вла-
дений.
Другой существенный недочет немецкого атласа определялся
самим содержанием анкеты Бенкера, которая ориентировалась
в основном на фонетические различия между диалектами, в зна-
чительно меньшей степени — на грамматические признаки, стертые
в немецком языке в результате фонетической редукции безу-
дарных окончаний, и полностью игнорировала местные особен-
ности лексики — вопросы так называемой «географии слов» (Wort-
geographie). Относительно последней немецкие диалектографы
всецело разделяли предрассудки старой германистики, недооце-
нивавшей стойкость и значимость словарных различий между
диалектами. Для членения диалектов, как писал в это время младо-
грамматик Герман Пауль, «наиболее характерным признаком
являются звуковые отношения». «Менее всего характерны словар-
ный состав и его употребление. Здесь чаще всего встречаются
заимствования из одного диалекта в другой, как и из одного
языка в другой».3
Напротив, анкета Жильерона имела в значительной части сло-
варный характер. Карты конкурирующих областных слов, обо-
значающих во французских говорах предметы сельского обихода,
названия домашних животных, культурных растений, орудий
труда (например, пчела, петух, кобыла, картофель, пила и т. д.),
принадлежат к числу самых интересных в атласе Жильерона и
в дальнейшем разработаны им самим и его учениками в целой
серии монографий.
Пример Жильерона был удачно использован Кречмером в книге
«Словарная география немецкого обиходного языка» (Paul Kret-
schmer. Wortgeographie der hochdeutschen Umgangssprache.
Gottingen, 1918). Как видно из заглавия, книга эта посвящена не
местным диалектам в собственном смысле, а разговорной форме
литературного языка, которая, однако, как оказалось, сохраняет
478
до сих пор в различных областях немецкого языка довольно
значительные местные особенности в бытовой лексике: ср., на-
пример, 'суббота’ — сев. Sonnabend, южн. Samstag; 'мясник’ —
сев. Schlachter, вост. Fleischer, южн. Metzger; 'сливки’ —
сев. Sahne, вост. Schmand, южн. Rahm и др. Областная лексика
немецких диалектов обнаруживает еще более глубокую дифферен-
циацию местных словарных синонимов.
Для того чтобы в этом отношении дополнить атлас, Объедине-
ние немецких областных словарей разослало в 1924—1925 гг.
две словарно-географические анкеты (общим числом 56 слов).
Результаты пробного обследования, опиравшегося на ограничен-
ное число опросных пунктов, были частично обработаны асси-
стентом атласа Б. Мартином на географических картах неболь-
шого формата, которые печатались в немецком диалектологиче-
ском журнале «Teuthonista» в 1925—1934 гг. Значительно более
полный материал (200 слов) был собран в 1939 г. из 47 тыс. школь-
ных точек в границах распространения немецкого языка (до 1945 г.)
для большого словарного атласа, который в настоящее время из-
дается в Марбурге параллельно со старым атласом Венкера—
Вредэ под редакцией ученика и преемника Вредэ проф. Вальтера
Митцка (Walther М i t z k a. Deutscher Wortatlas. Giessen,
1951 и сл.).
2
Несмотря на существенные технические недочеты немецкого
атласа, он оказал большое и в целом плодотворное влияние на раз-
витие немецкой диалектологии и истории немецкого языка. Теоре-
тические выводы из материалов, собранных Бенкером, формули-
ровал его помощник и преемник Фердинанд Вредэ (Ferdinand
Wrede, 1863—1934), который в качестве профессора Марбург-
ского университета, а затем директора атласа и созданного на его
основе Диалектологического института (Zentralstelle fiir deutsche
Mundartforschung) стал основателем и главой немецкой диалек-
тографической школы.
Дифференцированное картографирование диалектных явлений
в атласе Вепкера сразу же обнаружило, что линии отдельных
признаков, служивших в своей совокупности для разграничения
диалектов, обычно пе совпадают друг с другом. Более того, сплош-
ное обследование показало, что слова, принадлежащие к одному
звуковому ряду, имеют нередко разные, пе совпадающие между
собой границы.
Классическим примером такого расхождения, который был
установлен Вредэ и обычно приводится в теоретических трудах
его школы, служат границы для слов seks // ses 'sechs5, oks // os
'Ochs’, waksen // wasen 'wachsen’ в Рейнской области (группа
hs >ks — в южнонемецком, в севернонемецком h перед s выпа-
дает с компенсирующим удлинением предшествующего гласного).
479
Южные формы, имеющие ks, при поддержке слагающейся нацио-
нальной нормы продвинулись вниз по Рейну, неравномерно вы-
тесняя северные: впереди идет счетное слово seks, которое в такой
форме дошло почти до голландской границы; граница южн. oks //
сев. 6s (слово, употребляемое в торговле) проходит между Кельном
и Кобленцем, с сохранением небольшого реликтового островка
со старым 6s к югу от этой границы; wasen как слово нейтральное
сохранило эту форму на всем среднем Рейне примерно до Майнца.
«Ступенчатый» характер распространения данного языкового
явления, отчетливо появляющийся при сопоставлении трех карт,
обнаруживает динамику языкового развития, взаимодействие
диалектов, продвижение отдельных слов. Свидетельством таких
движений, совершавшихся в прошлом, остаются единичные «ре-
ликты» старых форм, компромиссные образования или контамина-
ции старых и новых образований (например, onk 'euch’ из бсЬЦ-
ink — старое двойственное число в значении множественного),
так называемые «адоптированные формы» и т. д. В отдаленных от
путей сношения «реликтовых» районах сохраняются вытесненные
в окружающих диалектах формы. Они позволяют восстановить
более старые границы распространения соответствующих диалект-
ных признаков. Большое число исключений по ту и другую сто-
рону границы свидетельствует о процессе ее передвижения. Та-
кая интерпретация языковых карт, начало которой было положено
работой Вредэ над атласом, позволяет наметить путь от современ-
ных отношений между диалектами к их истории.4
Непоследовательность в проведении звукового закона в сло-
вах одного фонетического ряда (ср. sechs — Ochs — wachsen)
подсказала Вредэ и его ученикам ошибочный теоретический вы-
вод, будто немецкий атлас показал фактическую неправильность
учения младограмматиков о «нерушимости» звуковых законов.
Точно так же и Жильерон, основываясь на результатах работы
французского атласа, говорил о «несостоятельности фонетической
этимологии». Однако выводы эти, как показал уже Хааг, основаны
на смешении двух принципиально различных явлений, опреде-
ляющих характер взаимодействий между диалектами: звуковых
законов как спонтанного и закономерного изменения артикуляции
и движения слов, которые заимствуются как готовые продукты
этого фонетического процесса.5 Так, потеря звонкости смычными
Ь, d, g в центральнонемецких диалектах и смешение их с ослаблен-
ными глухими /?, £, к или расширение в швабском Z, и > е, о
перед носовыми представляют закономерные артикуляционные
изменения, не знающие исключений. Немецкий атлас, основанный
на косвенном (анкетном) методе, лишь в редких случаях отмечает
подобного рода явления и их границы. Существование таких гра-
ниц могло быть установлено только сплошным обследованием на
местах, по типу названной работы Хаага.
Изолированное рассмотрение границ отдельных диалектных
явлений, в ряде случаев — линий отдельных слов (так называемых
480
изоглосс), привело многих представителей зарубежной лингви-
стической географии к другому ошибочному выводу: к отрица-
нию реальности диалектов. Младограмматик Герман Пауль еще
в 1880 г. так формулировал эту точку зрения: «Каждое языковое
изменение, а тем самым и происхождение каждой особенности
диалекта имеет свою историю. Граница ее распространения не
имеет значения для других границ». «Если в связной языковой
области провести границы для всех наличествующих диалектных
особенностей, то мы получим чрезвычайно сложную систему пере-
крещивающихся линий. Точное деление на группы и подгруппы
невозможно».6
Особенно широкое распространение эта точка зрения получила
среди романистов (Гуго Шухардт, Поль Мейер, Гастон Парис).
Французский лингвистический атлас, казалось, подтверждал
ее правильность. Редкость сети, которой пользовался Жильерон,
регистрирующей пространственно изолированные факты, притом
преимущественно лексического характера, способствовала атоми-
зации диалектных явлений. «Изучению диалектов мы противопо-
ставляем изучение слов», — заявлял Жильерон.
Однако сплошное картографическое обследование, на котором
основывается немецкая диалектография, не подтвердило этой тео-
рии, в особенности в данном случае — более углубленные иссле-
дования на местах. Диалектные признаки, одинаково отражаю-
щиеся на картах лингвистического атласа как «изоглоссы», на
самом деле, как показали уже названные работы Хаага, неравно-
ценны ни по своей древности и прочности, ни по количеству и
употребительности охватываемых ими слов. С другой стороны,
изоглоссы отдельных признаков далеко не всегда изолированы:
они могут частично или полностью совпадать друг с другом,
объединяться в «пучки». При наличии на периферии диалекта пере-
ходных говоров, образующих «зону вибраций», в центре отчет-
ливо выступает основное «ядро» диалекта.
Попыткой критического пересмотра старого понимания диа-
лектов является учение немецкой диалектографии о так называе-
мых «языковых ландшафтах» (Sprachlandschaften) — термин, заим-
ствованный из геологии и потому не очень удачный.
г В старом понимании диалект рассматривался как статическая
и замкнутая система признаков, представляющая готовый продукт
прямолинейного и спонтанного развития, дифференциации по
принципу «родословного древа» из общего с другими диалектами
корня. Вредэ и его ученики, основываясь на картах немецкого
атласа, подчеркивают взаимодействие между диалектами, «язы-
ковые движения» и, как их результат, частичное «смешение» и
последующее «выравнивание» (Ausgleich). Признаки, в своей
совокупности характеризующие «языковой ландшафт», лишь ча-
стично совпадают по своим границам и имеют нередко различное
происхождение: исконные местные черты объединяются в них
с чертами, пришедшими со стороны, в результате исторически
31 В. М. Жирмунский
481
обусловленных «сношений» (Verkehr) — мы сказали бы точнее:
языкового общения с представителями других диалектов.
[С этим связан был и спор об историческом происхождении
диалектов и их границ. Старая германистика (школа Я. Гримма)
видела в современных немецких диалектах прямое продолжение
племенных наречий древних германцев. Отсюда и диалектологиче-
ская терминология, различающая диалекты франкские, алеманн-
ские, баварские и т. п. Защитник этой точки зрения Бремер в своей
«Этнографии германских племен» (О. Bremer. Ethnographie
der deutschen Stamme, 1900) утверждал, что границы немецких
наречий и сейчас в основном совпадают с границами расселения
древнегерманских племен. В полемике с Бремером Вредэ одновре-
менно с Хаагом и Боненбергером выдвинул положение, что линии
диалектных признаков следуют в основном территориально-по-
литическим границам феодальных владений позднего средневе-
ковья. Ряд специальных исследований, опубликованных в серии
«Немецкая диалектография», подтвердил эту точку зрения на ча-
стных примерах. При этом более крупные феодальные территории
образуют «ядро» соответствующих «языковых ландшафтов»,
а окружающие их мелкие владения представляют «зоны вибра-
ций» между большими территориями.
Эти эмпирические наблюдения немецких диалектографов имеют
вполне очевидное социально-историческое обоснование. Жизнь
средневекового общества протекала в рамках феодальных госу-
дарств. Границы феодальных территорий были границами хозяй-
ственными и политическими: они служили препятствием для сво-
бодного общения и передвижения широких народных масс, в особен-
ности прикрепленного к земле крестьянства, для брачных связей
и даже для свободных торговых сношений между подданными
различных крупных и мелких «государей». В Германии феодаль-
ная раздробленность сохранилась в полной мере до французской
буржуазной революции 1789—1793 гг. и наполеоновских войн,
а в сущности в ослабленной форме — до государственного объеди-
нения в 1871 г. Понятно, что эти исторические условия сказались
особенно отчетливо в развитии языка как орудия общения между
людьми. Следствием исторической судьбы немецкого народа яви-
лись крайняя расщепленность немецких диалектов и глубокие
расхождения между ними, в особенности в западной части Герма-
нии, в прошлом — классической области феодального мелкодер-
жавия и чересполосицы. Немецкие «языковые ландшафты» от-
четливо отражают эти социально-политические отношения.
Однако было бы неправильно вслед за Вредэ и его школой
рассматривать племенные и феодальные диалекты как взаимно
исключающие друг друга противоположности. В процессе истори-
ческого развития от языков племен к языкам народностей и от
языков народностей к языкам наций происходит переоформление
древних племенных диалектов в диалекты территориальные,
связанные с изменением границ и накоплением новых диалектоло-
482
гических признаков одновременно — путем спонтанного развития
данного диалекта и в результате его взаимодействия с соседними
диалектами. «Франкский диалект» Энгельса, классический обра-
зец изучения истории языка в связи с историей народа, наглядно
показывает недиалектический характер альтернативы, лежащей
в основе полемики между Вредэ и Бремером, и тем самым откры-
вает путь для подлинно исторического изучения немецких народ-
ных диалектов, восстанавливающего их древнейшие взаимоотно-
шения и последовательное развитие и переоформление.
3
В отличие от индивидуально-лингвистического, по преимуще-
ству фонетического направления диалектологии, господствовав-
шего под влиянием младограмматической школы, Вредэ опреде-
ляет направление немецкой диалектографии как историческое,
социально-лингвистическое. Изучению спонтанного фонетиче-
ского развития изолированного населенного пункта он противо-
поставляет широкую историко-географическую перспективу, опи-
рающуюся на интерпретацию материалов атласа в свете показа-
ний исторической карты. В немецкой диалектографии, согласно
формуле Вредэ, «мускулы языка и небная занавеска уступили ве-
дущее место историческому атласу».7
Эти новые социально-исторические установки сказались осо-
бенно отчетливо в трудах проф. Теодора Фрингса (Theodor Frings,
1886—1968), крупнейшего представителя современной германи-
стики, в частности немецкой лингвистической географии.
Ученик диалектографа Вредэ и фонетиста-младограмматика
Сиверса, Фрингс объединил в своих диалектологических работах
технические достижения обоих направлений. Он многим обязан
и методическому опыту романистики, немецкой и французской,
в особенности Жильерону и его школе, по примеру которых он
широко использовал лексические изоглоссы в сопоставлении с фо-
нетическими при изучении языковых движений и диалектных границ.
Уроженец нижнего Рейна, в дальнейшем — профессор Бонн-
ского университета (1917—1927), Фрингс начал с серии специаль-
ных работ по диалектографии нижнефранкских говоров к северу
от Дюссельдорфа, в переходной зоне между верхненемецким и
нижненемецким, распространив затем свои исследования и на
соседние южнонидерландские диалекты. Начиная с первого диа-
лектографического опыта самого Венкера, уроженца Дюссель-
дорфа (G. W е n k е г. Das rheinische Platt. Dusseldorf, 1877),
Рейнская область была как бы опытным полем для специальных
диалектографических исследований, из которых значительная
часть была выполнена учениками Вредэ и опубликована, как и
первые работы Фрингса, в серии "«Немецкая диалектография»
(1908 г. и сл.). Исследования Фрингса, основанные на собственных
483
31*
полевых записях, дополнили этот материал и дали ему обобщаю-
щее историческое истолкование.
Диалектологическое членение Рейнской области основывалось
в старой германистике на традиционной классификации немецких
диалектов по признаку проведения так называемого второго, или
верхненемецкого передвижения согласных, сущность которой
вкратце сводится к следующему. Верхненемецкие диалекты сред-
ней и южной Германии, как и основанный на них немецкий на-
циональный литературный язык, отличаются от нижненемецкого,
как и от всех других германских языков, особенностями консо-
нантизма, которые являются результатом верхненемецкого пе-
редвижения (или «перебоя») согласных. По правилам перебоя
глухие смычные t, р, к после гласных (в середине и на конце слова)
переходят в соответствующие глухие спиранты ss (s), // (/), ch (х),
а в прочих положениях (в начале слова, в удвоении, после со-
гласного) — в соответствующие аффрикаты z [to], pf, kch [кх].
Однако переход этот представлен в верхненемецких диалектах
неравномерно, в частности, он образует ряд ступеней на Рейне
в пределах франкского наречия. Основные четыре явления пере-
боя, по которым верхненемецкий отделяется от нижненемецкого,
имеют общую границу, проходящую примерно по линии Дюссель-
дорф на Рейне—Магдебург на Эльбе—Франкфурт на Одере;
линия эта пересекает Рейн несколько южнее Дюссельдорфа,
около местечка Бенрата (так называемая линия Бенрата).
Ср. н.-нем. t — в.-нем. $$($): water — wasser, grot— gross; н.-нем. p —
в.-нем. // (/): open — offen, skip — schiff; н.-нем. к — в.-нем. ch:
maken — machen, rik — reich; н.-нем. t, в.-нем. аффриката z: tunge —
zunge, sitten — sitzen, holt — holz. Значительно южнее (между Гей-
дельбергом и Карлсруэ) проходит граница передвижения р
в аффрикату pf в начале слова и в удвоении, пересекающая Рейн
около Гермерсгейма (к югу от г. Шпейера): ср. pund — pfund,
appel — apfel, kopp — kopf. Она делит верхненемецкую область
на средненемецкую и южнонемецкую часть (mitteldeutsch—ober-
deutsch). Средненемецкий имеет р (как нижненемецкий), южно-
немецкий — pf (как литературный язык). Однако восточная
часть средненемецкого (наречия тюрингенское и верхнесаксонское)
в начале слова имеет/- (fund), которое Вредэ объясняет как резуль-
тат смешения нижненемецкого и средненемецкого начального р-
с южнонемецким pf- в смешанной по составу населения области
восточнонемецкой колонизации8 (точнее было бы говорить о под
становке /- вместо pf- как ближайшего сходного звука фонетиче
ской системы нижненемецкого и средненемецкого).
К южнонемецкому относятся диалекты баварский, алеманн-
ский и южная часть франкского (южнофранкский и восточно-
франкский). Средненемецкий (в его западной части) распадается
на среднефранкский на севере и рейнско-франкский на юге; гра-
ница между ними пересекает Рейн около г. Бахараха. Средне-
франкский отступает от общих правил перебоя, сохраняя непс-
484
редвинутое -t в местоимениях dat, wat, et, det, как в нижнене-
мецком, вместо das, was, es, dies (-es), как в рейнско-франкском и
в других верхненемецких диалектах. Среднефранкский, в свою
очередь, делится на два диалекта: более северный, так называемый
рипуарский, центром которого является Кельн и его область, и
более южный, так называемый мозельско-франкский — диалект
долины р. Мозель (Трир—Кобленц). Границей служит перебой
группы -гр >-rf: в рипуарском dorp—в мозельском dorf. Мозельский
по своим признакам ближе к рейнско-франкскому, рипуарский свя-
зан с лежащим к северу от него нижнефранкским (нижненемецким).
Наконец, перебой к- в аффрикату kch- и дальше в спирант ch-
(kind — kchind, chind) наличествует в настоящее время только в ди-
алектах приальпийской зоны (в швейцарском, верхнебаварском
и южноавстрийском), хотя в древневерхненемецкий период он
был распространен во всем баварском и алеманнском.
С точки зрения старой германистики все эти диалекты восхо-
дят к племенным наречиям древних германцев, т. е. являются
результатом распадения общей основы по принципу «родослов-
ного древа». Однако исследования Фрингса показали, что ступен-
чатое расположение линий перебоя в Рейнской области свидетель-
ствует о постепенном распространении передвижения из
южнонемецкого, о длительном и неравномерном характере «оверхне-
немечения» (Verhochdeutschung) франкского диалекта, ослабевав-
шем в направлении с юга на север. Процесс этот совершался пу-
тем продвижения отдельных слов с перебойным консонантизмом,
что подтверждают не только местоимения dat, wat, et и некоторые
другие малоударные служебные слова, сохранившие бесперебой-
ную форму, но и многочисленные лексические реликты с непе-
редвинутыми согласными, существующие в среднефранкском,
в особенности в рипуарском: слова преимущественно интимного
и бытового просторечия, областные и профессиональные, не имею-
щие верхненемецких соответствий в литературном языке. С дру-
гой стороны, как было установлено еще Бенкером, слова ich, och
(«auch») обгоняют общую границу перебоя («линию Бенрата»)
и доходят в верхненемецкой форме до местечка Урдинген (Urdin-
gen) на Рейне, примерно на 25 километров ниже Дюссельдорфа
(«линия Урдингена»). Значительно севернее Урдингена проникли
передвинутые формы личных местоимений mich, dich, euch и
дальше всего возвратное sich, заимствованные из верхненемец-
кого как грамматические формы (нижненемецкий имеет общую
форму дат.-вин. п. ед. ч. mi, di и т. п. без окончания и вместо воз-
вратного употребляет косвенный падеж местоимения 3 л.).
Фрингс рассматривает продвижение слов с перебойным консо-
нантизмом в рамках более широкого процесса проникновения
южнонемецких фонетических, грамматических и лексических форм
в область среднефранкского, распространявшихся одновременно
с другими культурными влияниями немецкого юга по течению
Рейна как главному пути торговых и иных сношений в средне-
483
вековой Германии. Реликты, позволяющие восстановить более
старые границы вытесненных явлений, сохранились к востоку и
западу от долины Рейна, в гористых местностях, удаленных от
этого пути; на западе — в особенности вдоль границы Франции,
где распространение французского языка как государственного
и литературного способствовало консервации архаической формы
местного немецкого диалекта (Люксембург, Лотарингия). Пре-
пятствиями («барьерами») при продвижении новых форм служили
прежде всего границы крупных средневековых территорий и
расположенных между ними более мелких феодальных владений.
Они определили основные «языковые ландшафты» Рейнской об-
ласти и «зоны вибраций» между ними. Область рейнско-франк-
ского наречия в основном совпадает с курфюршествами Майнцским
и Пфальцским, мозельско-франкский диалект соответствует кур-
фюршеству Трирскому, рипуарский — Кельнскому с примыкав-
шими к нему герцогствами Юлих и Берг. Линия Бенрата совпа-
дает с северной границей кельнских владений около 1200 г.,
линия Урдингена связана с территориальной экспансией курфюр-
шества Кельнского в северном направлении (XIII—XIV вв.),
с включением в его состав ряда мелких феодальных владений,
лежащих между Кельном и герцогством Клеве (область нижне-
франкского). Таким образом, границы нижненемецкого и верхне-
немецкого на Рейне представляют результат позднейшего распро-
странения перебоя с юга на север и определились не старыми пле-
менными противоположностями салических и рипуарских фран-
ков, а борьбой между феодальными территориями в XIII—XV вв.
Эти положения были обоснованы Фрингсом в обобщающем
очерке по географии и истории рейнских диалектов (Rheinische
Sprachgeschichte, Dortmund, 1924). Дальнейшим их развитием
явился коллективный труд «Культурные течения и культурные
провинции в Рейнской области. История, язык, этнография»
(Kulturstromungen und Kulturprovinzen in den Rheinlanden.
Geschichte, Sprache, Volkskunde. Bonn, 1926), подготовленный
Институтом исторического краеведения Рейнской области при
Боннском университете в результате совместной работы историка
местного края Г. Обэна, диалектолога Т. Фрингса и фольклориста-
краеведа И. Мюллера. Сравнение исторических, диалектологи-
ческих и фольклорных карт позволило авторам установить суще-
ствование прочной связи между границами языковых и фоль-
клорных явлений, между «языковыми» и «культурными ландшаф-
тами», одинаково обусловленными в прошлом границами средне-
вековых феодальных территорий, в рамках которых в течение ряда
столетий протекала народная жизнь Германии. Этот комплекс
вопросов Фрингс называет «морфологией культуры» (Kulturmor-
phologie). Разумеется, в эти историко-географические рамки укла-
дываются лишь те архаические стороны народной жизни, изуче-
нием которых преимущественно занималась зарубежная этно-
графия.
486
Работы Фрингса имели большое влияние на дальнейшее раз-
витие немецкой диалектографии. По их образцу в дальнейшем по-
явилась целая серия обобщающих диалектографических очерков,
посвященных «языковым течениям» и «языковым ландшафтам»
преимущественно западной Германии (Гессена, Нассау, Пфальца,
Саарской области и др.), в связи с историей политических терри-
торий, влиянием культурных центров, торговых путей и т. п.9
Опыт большой коллективной работы с участием историков и фоль-
клористов был повторен проф. Ф. Маурером для алеманнских
диалектов верхнего Рейна, Швабии и немецкой части Швейцарии
(F. М a u г е г. Oberrheiner, Schwaben, Sudalemannen. Strassburg,
1942).
Сам Фрингс организовал такой же коллектив при Лейпциг-
ском университете, где он стал с 1927 г. преемником своего учи-
теля Сиверса. Результатом явилась наряду с серией диалекто-
графических работ по восточносредненемецким диалектам, опи-
сательных и исторических («Mitteldeutsche Studien», Halle, 1932
и сл., всего 12 выпусков), обобщающая коллективная работа по
истории, диалектологии и этнографии под заглавием «Культурные
области и культурные течения среднего востока Германии» (Kul-
turraume und Kulturstromungen im mitteldeutschen Osten,
Bd. I—II, Halle, 1936).
Книга эта, в основной своей части написанная Фрингсом,
посвящена исторической диалектографии Саксонии и сопредель-
ных с нею областей. В соответствии со смешанным, колониальным
характером восточнонемецких диалектов, сложившихся в течение
XII—XIV вв. на территории, первоначально населенной славян-
скими народностями, Фрингс признает решающим фактором в их
развитии не феодальные территории, как на западе, а переселение,
колониальные «потоки», связывающие эту область с различными
частями первоначальной западнонемецкой родины колонистов.
Три основных колонизационных потока, определивших процесс
колониального смешения в области языка и других явлений на-
родной жизни, устанавливаются по историческим свидетельствам,
подтвержденным данными диалектографии: один — с юга, из
восточной Франконии, вверх по Майну (через Бамберг), другой —
с запада, со среднего Рейна, через Тюрингию (Эрфурт), третий —
с севера, из нижненемецких и нидерландских областей, вверх по
Эльбе и Заале (через Магдебург). Эти потоки обозначены различ-
ными типами сельских поселений и различными местными на-
званиями (южные на -griin, -reut, -helm, средние на -rode, -dorf,
северные на -stedt). Такие же противоположности сталкиваются
на восточносредненемецкой территории и в области языка. Так,
например, на южнонемецкие влияния указывают apfel (вместо
средненемецкого арре!) в южной Тюрингии или уменьшительные
на -le, -el (вместо средненемецкого -chert) в южных частях Саксонии
и Тюрингии; средненемецкие влияния иллюстрируют форма
drflge (вместо trocken) или так называемая веляризация nd
487
(hingen вместо hinten) — явления, простирающиеся узкой по-
лосой с запада на восток от среднего Рейна до восточносредне-
немецкого; влияние севера иллюстрируется ассимиляцией Id > I
в слове ole, ale (вместо alte, aide) в Тюрингии и Саксонии или ос-
новой притяжательного местоимения uns- (вместо unser-) в тех же
областях и т. п.
Дальнейшее смешение и выравнивание ряда признаков коло-
ниального «общего языка» (koloniale Durchschnittsprache) проис-
ходит в рамках крупнейшей феодальной территории среднего вос-
тока Германии, курфюршества Мейссенского, объединившего
в XV в. Тюрингию и Саксонию. В городах этой области, в Мейс-
сене, Дрездене и в особенности в Лейпциге, создается тот «верхне-
саксонский обиходный язык» (obersachsische Umgangssprache),
обычно называемый «мейссенским» («meissnisch»), который лег
в основу письменного языка восточнонемецких княжеских и го-
родских канцелярий, в частности саксонской канцелярии, и
в дальнейшем, через Лютера, — в основу общенемецкого нацио-
нального литературного языка.
Таким образом, диалектографические исследования в области
восточносредненемецких наречий приводят Фрингса к постановке
вопроса о происхождении новонемецкого литературного языка.
Господствовавшая теория, выдвинутая учеником Якова Гримма,
берлинским германистом Карлом Мюлленгофом и обоснованная
его учеником Конрадом Бурдахом и его школой, рассматривала
новонемецкий литературный язык как продукт искусственной
письменной унификации, в которой решающая роль принадлежала
деятельности княжеских канцелярий. Основы этой нормы якобы
были заложены императорской пражской канцелярией при Карле IV
(1346—1376) и явились результатом гуманистических устремле-
ний императорского двора и деятельности имперского канцлера
Иоганна фон Неймарка и его сотрудников. Этому образцу последо-
вали в дальнейшем канцелярия саксонского курфюрста и опирав-
шийся на нее Лютер. В отличие от Бурдаха Фрингс исходит
в своем объяснении в конечном счете из народно-разговорного
языка; он доказывает, что общенемецкий язык возник «не в круж-
ках пражских гуманистов, как думает Бурдах»: его основой яв-
ляется смешанный по своему происхождению колониальный диа-
лект «саксонских земель», по выражению, засвидетельствован-
ному уже в 1343 г., — «срединный немецкий язык» («das mittelste
diitsch»), который выступает посредником между дифференциаль-
ными различиями юга и севера. Только на основе диалектологии
можно, согласно Фрингсу, объяснить его происхождение и развитие.
Последовательно расширяя возможности применения методики
лингвистической географии, Фрингс перенес ее проблематику и
в область древнейшей истории германских языков. Опираясь на
детально разработанные материалы словарной географии совре-
менных немецких (в особенности рейнских) диалектов и одно-
временно на данные французской диалектологии, он восстанав-
488
ливает в своей книге «Романская Германия» (Germania romana,
Halle, 1932) географическое распределение древнейших латин-
ских заимствований в западногерманских языках. В результате
ему удается установить в пределах Рейнской области, отчасти
также Нидерландов и Британии, границы тех административных
и хозяйственных территорий, в рамках которых происходило
хозяйственное и культурное общение древних германцев с римля-
нами и романизированным населением Галлии, и в ряде случаев
объяснить характером этого общения определенные группы лек-
сических заимствований и районы их распространения.
Другой аспект проблемы языкового взаимодействия герман-
ского и романского мира разработан Фрингсом в сотрудничестве
с романистом Вартбургом в серии этюдов, озаглавленной «Фран-
цузский и франкский» (Franzosisch und Frankisch — в журн.
«Zeitschrift f. romanische Philologie», 1937 и сл.). Здесь просле-
жены в своем географическом распространении германские слова,
представляющие франкские заимствования во французских диа-
лектах и объединяющие северо-западную Германию и Нидерланды
с северной Францией (до Луары). Связанные в основном со сло-
варем крестьянского хозяйства, они свидетельствуют о границе
распространения франкских земледельческих поселений на тер-
ритории государства Меровингов, в области современного фран-
цузского языка.
Еще глубже в доисторию немецкого языка уходят исследова-
ния, касающиеся языковых отношений древнегерманских племен
и племенных групп. У римских писателей I в. н. э. Плиния и Та-
цита засвидетельствовано деление западных германцев на основ-
ные племена: ингвеонов — у берегов Северного моря, иствеонов —
«ближайших к Рейну» и герминонов — «внутри страны», к ко-
торым у Плиния присоединяются гиллевионы и вандилии (по-ви-
димому, северные и восточные германцы). К ингвеонам принад-
лежали фризы, англы, саксы и юты, переселившиеся в Брита-
нию, и связанные с ними континентальные саксы, к иствеонам —
франки, к герминонам — свевы, предки южнонемецких племен
(алеманнов, швабов, баварцев и лангобардов),10 тогда как проис-
хождение других древнегерманских племен по историческим дан-
ным не столь очевидно.
Вредэ указал на ряд существенных особенностей языков инг-
веонской группы, которые наличествуют, кроме фризского и англо-
саксонского, и в древнесаксонском (нижненемецком), но перекрыты
в нем позднейшими франкскими (верхненемецкими) воздействи-
ями, особенно интенсивными с периода саксонских войн Карла
Великого (772—804), положивших начало включению саксов
в франкское государство Каролингов, их насильственной хри-
стианизации и феодализации. В числе ингвеонизмов древненижне-
немецкого Вредэ отмечает выпадение носовых перед спирантами
(fif 'fiinf’, gos 'Gans’ и др.); общую форму наст. вр. мн. ч. 1—3 л:.
-ad (fallad); особые формы личных местоимений без суффиксов
489
г и -к: общая форма 1—2 л. ед. ч. дат.-вин. п. mi, thl, 2 л. мн. ч.
in; им. п. мн. ч. wi (we), gl (ge); 3 л. ед. ч. he (hi) вместо ег; употреб-
ление вместо возвратного sich дат.-вин. наст. вр. 3 л.; образование
слабых глаголов III группы hebbian 'haben’, seggian 'sagen’ и др.
с суффиксом / и с умлаутом; различия в корне и в словообразова-
тельных элементах, например: н.-нем. nigun — в.-нем. niun
rneun’, druge— trucken Чгоскеп’siister— swester'Schwester’; раз-
личия лексические, например: wif ' Weib’ — frau (последнее неупо-
требительно в ингвеонских диалектах) и др.11
Исследования Фрингса показали, что некоторые из этих при-
знаков объединяют ингвеонские диалекты с иствеонскими (франк-
скими), нижненемецкий с средненемецким и что они были вытес-
нены на Рейне в период 500—1500 гг. общим распространением
южнонемецких (по своему происхождению — герминонских)
форм. Объединяя результаты современного диалектографического
обследования немецких и нидерландских говоров с данными исто-
рическими, Фрингс в своих последних книгах «Основы истории
немецкого языка» (Grundlegung einer Geschichte der deutschen
Sprache, Halle, 1948) и «Место Нидерландов в истории германских
языков» (Die Stellung der Niederlande im Aufbau des Germanischen,
Halle, 1944) на ряде карт прослеживает географическое распро-
странение наиболее древних по своему происхождению диалектных
признаков, восстанавливая с их помощью в историко-географи-
ческой перспективе исконные связи и взаимодействия между язы-
ками или наречиями основных германских племенных групп.
По примеру Вредэ и Фрингса диалектографический метод полу-
чил в германистике довольно широкое применение при решении
вопросов доистории германских языков в новейших работах Мау-
рера, Э. Шварца и др.12 Перекрестные связи между изоглоссами
отдельных диалектных признаков, объединяющие родственные по
своему происхождению племенные диалекты древних германцев,
не укладываются и здесь в примитивную и прямолинейную схему
«родословного древа» языков и свидетельствуют о более сложных,
исторически обусловленных процессах длительного взаимодей-
ствия между ними.
Тем самым, вопреки первоначальным теоретическим установ-
кам Вредэ и его школы, от средневековых территориальных
диалектов, будто бы целиком перекрывших древние племенные,
на самом деле открывается путь к диалектографическому изуче-
нию этих последних, а следовательно, и к истории немецкого
языка на всем ее протяжении.
Со второй половины 20-х годов XX в., в особенности под
влиянием трудов Фрингса, диалектографическое направление
становится в немецкой диалектологии господствующим. Оно на-
ходит отражение и в новейших трудах по истории немецкого языка,
учитывающих в разной степени исторически обусловленное вза-
имодействие местных народных диалектов как один из основных
факторов развития общенародного языка.13 Под влиянием успехов
490
лингвистической географии расширяется географическое обследо-
вание этнографических и фольклорных явлений с применением
методики изоглосс, т. е. обособленного картографирования каж-
дого явления, иногда даже определенного дифференцирующего
признака явления. В частности, эта методика была положена
в основу «Атласа немецкой этнографии» (Atlas der deutschen
Volkskunde, herausg. v. H. Harmjanz und E. Rohr, Leipzig, 1937
и сл.), который содержит и ряд словарных карт, прослеживающих
географическое распространение местных названий для соот-
ветствующих явлений материальной или духовной культуры.
Однако лингвистическая география далеко не исчерпывает
всех задач современной диалектологии. Установление внутрен-
них закономерностей фонетического и грамматического развития
диалектов на основе их сравнительно-исторического изучения,
научный анализ их словарного состава в его историческом от-
ношении к основному словарному фонду общенародного языка,
исследование синтаксических, семантических и стилистических
особенностей диалектов как разговорной формы языка, обслужи-
вающей народные массы, — таковы те важнейшие задачи диалек-
тологии, которые не укладываются в традиционные рамки исклю-
чительно диалектографической проблематики и настоятельно
требуют разрешения в свете марксистского учения о языке. Изоли-
рованное рассмотрение диалектных признаков на страницах язы-
кового атласа приводит к атомизации языковых явлений, в зна-
чительной степени определяющей и методологию основанных
на его материале исследований по исторической диалектологии:
диалектограф изолирует отдельные единичные явления фонетики,
грамматики и лексики, пользуясь ими как «приметами» вне их
связи с фонетической или грамматической системой данного ди-
алекта и языка в целом и без учета внутренних законов их раз-
вития. Задача советской диалектологии — преодолеть эти мето-
дологические недостатки зарубежной лингвистической географии,
критически использовав методический опыт диалектографических
исследований.
1955 г.
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЙ ДИАЛЕКТОЛОГИИ
Немецкие поселения в России начали возникать при Екатери-
не II.Родным языком немецких поселенцев, употребляемым в семье
и в ежедневном общении в своей среде, являлся диалект. При этом
в зависимости от происхождения поселенцев из той или другой
части Германии диалекты эти даже в соседних селах нередко были
очень различными. Кроме диалекта, поселенцы в большинстве
случаев владели еще двумя языками: немецким литературным язы-
ком (окрашенным, конечно, диалектически), который проникал
491
в деревню через школу, церковь и книгу; русским языком, про-
водником которого также являлись школа, и, кроме того, общение
с соседями. В некоторых местностях имели распространение также
и другие языки в зависимости от этнографического окружения.
Знание литературного немецкого и русского языков могло быть
очень различным в зависимости от общего культурного уровня
поселенцев. При этом русское влияние обнаруживается почти
исключительно в области лексики: от своих соседей поселенцы
заимствовали ряд названий для предметов крестьянского оби-
хода, с которыми они впервые познакомились на новой
родине.
Изучение говоров поселенцев представляет для лингвистики
большой интерес не только с фактической стороны — как описание
говоров, до сих пор почти не исследованных, но также и с точки
зрения принципиальной, методологической: изолированные среди
иноязычного населения немецкие поселения являются как бы
экспериментальной лингвистической лабораторией, в которой на
протяжении сравнительно краткого промежутка времени в 100—
150 лет в обстановке, удобной для наблюдения, совершались язы-
ковые процессы, обычно развертывающиеся на протяжении целых
столетий. Методологическое значение изучения поселенческих
говоров становится особенно очевидным с точки зрения теорети-
ческих принципов современной диалектографии, немецкой и
французской.1 Классическое языкознание старой школы рас-
сматривало диалекты как продукты спонтанного, непрерывного и
закономерного развития из «праязыка» по принципу «генеало-
гического древа» (Stammbaumtheorie). В противоположность
этому работы над французским и немецким диалектологическими
атласами показали, что в реальной исторической действительности
не приходится говорить о таком спонтанном и непрерывном раз-
витии языка, так как на самом деле происходит постоянное взаимо
действие и смешение между соседними диалектами, обусловлен
ное распространением культурных влияний, волнообразно рас
ходящихся из определенных культурных центров. По мнению
проф. Ф. Вредэ, смешение и униформация (Mischung und Aus-
gleich) являются вообще важнейшими факторами в истории языка.
По отношению к отдаленным историческим эпохам ввиду от-
сутствия непосредственных свидетельств возможны лишь гипо-
тетические реконструкции. Даже для говоров восточной Германии,
возникших в результате колонизации земель, первоначально
населенных славянами, процессы смешения до сих пор остаются
невыясненными, несмотря на то что исторические данные опре-
деленно говорят о смешанном составе населения. Напротив, в со-
временных поселениях процесс смешения доступен непосредствен-
ному наблюдению в благоприятных условиях лингвистического
опыта. Исходными данными являются наличность при основании
данного поселения некоторого числа немецких говоров, извест-
ных нам по лингвистическому атласу Германии или из моногра-
492
фических описаний, и количественные отношения между этими
говорами, т. е. число семейств, выселившихся из соответствующих
частей Германии. За 100—150 лет развития на новой родине в ус-
ловиях изоляции среди иноязычного населения из этих составных
элементов возникает новый диалект, являющийся предметом на-
шего изучения. Сравнивая этот продукт смешения с исходными
данными, мы можем обнаружить механизм процессов языкового
смешения, причем методологические выводы из непосредственных
наблюдений над современными говорами послужат основанием
для заключений по поводу аналогичных процессов в более отда-
ленные от нас эпохи исторического развития языков.
Первой задачей поселенческой диалектологии является грам-
матическое описание говоров отдельных поселений. На основе
такого описания возможно затем определение родины говора
(Heimatbestimmung), т. е. сравнение изучаемого поселенческого
говора с диалектологическими отношениями метрополии. Первые
сведения о говорах немецких поселенцев в России относятся
к середине XIX в.: известная диалектологическая хрестоматия
Фирмениха приводит несколько примеров немецких говоров на
р. Молочной.2 Почин научного описания и определения говоров
принадлежит немецкому германисту В. Унверту: во время войны
1914—1918 гг. им были сделаны многочисленные записи в лагере
военнопленных Гольтгаузен.3 Унверт установил наличность
следующих диалектических типов: 1) верхнегессенские го-
воры (Фогельсберг и Шпессарт); 2) гессенско-пфальцские го-
воры (окрестности г. Вормса и Оденвальд); 3) рейнско-пфальц-
ские говоры (Баварский Пфальц около г. Цвейбрюкен). Немного-
численные записи из б. Херсонской губ. были отнесены к двум
типам: 1) южно-рейнско-пфальцский тип (округ г. Ландау, Ба-
варский Пфальц); 2) северноэльзасский тип (так называемые
южнофранкские говоры на северной границе Эльзаса, между го-
родами Зельц—Вейссенбург—Лаутербург).
Работа по изучению немецких поселенческих говоров ведется
в течение последних лет под руководством проф. Г. Г. Дингеса
(Саратов). Проф. Г. Г. Дингес опубликовал в 1923 г. диалекто-
логическую карту.4 В двух статьях, подводящих итоги диалекто-
логическим исследованиям на Волге, он устанавливает в допол-
нение к Унверту следующие новые типы: 4) южногессенские го-
воры (местность к югу от Таунуса, между городами Майнцом—
Франкфуртом—Дармштадтом—Ашаффенбургом);' 5) восточно-
ср едненемецкие говоры (восточнотюрингенский и остерландский);
6) восточнонижненемецкие говоры (говоры меннонитов—низовья
Вислы около г. Данцига).5 В методологическом отношении суще-
ственное значение имеет устанавливаемое Дингесом различие
в приемах определения говоров для поселений метрополий (Mut-
terkolonien) и выселков (Tochterkolonien): первые происходят
непосредственно из Германии и потому должны изучаться в со-
отнесении с германскими говорами; напротив, вторые происходят
493
ОТ русско-немецких диалектов соответствующих метрополий и
в первую очередь должны быть сопоставлены именно с ними.
С 1924 г. аналогичная работа была организована под моим
руководством в ИЛ ЯЗВ. Материал собирался с помощью фоне-
тических записей диалектологической анкеты немецкого линг-
вистического атласа (Sprachatlas des Deutschen Reichs, — так
называемые 40 предложений Венкера) и 200 дополнительных слов
по списку, составленному мною с учетом тех особенностей русско-
немецких говоров, которые требуют более внимательного об-
следования. Одновременно были разосланы те же анкеты по всем
трудовым школам, находящимся в немецких поселениях, причем
на 600 разосланных анкет от местных учителей было получено
около 450 ответов. При таком комбинированном употреблении
прямого и косвенного метода собирания диалектического мате-
риала появилась возможность с помощью прямых фонетических
записей, сделанных нашими научными работниками в поселениях-
метрополиях, проверить и более точно истолковать ответы учи-
телей, полученные из выселков и учитываемые как косвенные
свидетельства «наивных» в фонетическом отношении наблюда-
телей.
Такая же работа по изучению говоров поселений-метрополий
была предпринята летом 1926 и 1927 гг. научным сотрудником
Э. Г. Иогансон. Летом 1927 г. и в декабре того же года студенты-
практиканты ЛГУ — Л. Р. Зиндер, В. П. Погорельская и
Т. В. Сокольская — совершили две поездки в Беловежские по-
селения, составили грамматическое описание и собрали материал
для этнографического словаря: говоры беловежцев оказались
верхнегессенскими. В то же время Е. Карлблом (член научно-
исследовательского семинария по изучению поселений) посетила
пос. Рибенсдорф, говор которого оказался принадлежащим
к севернобаденскому типу (область Баден-Дурлах).
На основании собранного материала является возможность
составить диалектическую карту поселений-метрополий черно-
морского края. Вместе с тем возникает целый ряд общих вопро-
сов диалектологии, которые затрагивают принципиально суще-
ственные проблемы исторического языкознания. Эти общие
вопросы я постараюсь поставить в дальнейшем на нескольких наи-
более показательных примерах: они являются результатом кол-
лективной проработки вместе с моими сотрудниками собранного
нами в 1924—1927 гг. материала.
1. Диалект и литературный язык
В немецких поселениях черноморской группы представлены
следующие диалектические типы.
I. Нижненемецкий: 1. Нижнефранкские поселенческие говоры
с низовий Вислы около Данцига. II. Средненемецкий: 2. Верхне-
494
гессенский. 3. Западнорейнскопфальцский (из Баварского
Пфальца, окр. г. Цвейбрюкен) — в так называемых «венгерских»
поселениях и их выселках («венгерцы» — немецкие переселенцы
из южной Венгрии). 4. Южнорейнскопфальцский (из южной части
Баварского Пфальца, окр. г. Ландау) — березанские поселения.
5. Восточнопфальцский (из гессенского и баденского Пфальца) —
старый говор католических колоний на р. Молочной. III. Южно-
немецкий’. 6. Северноэльзасский (южнофранкский говор погранич-
ной полосы на севере Эльзаса между городами Зельц, Вейсен-
бург, Лаутербург). 7. Севернобаденский (южнофранкский говор
области Баден-Дурлах) — господствующий говор поселений на
р. Молочной. 8. Швабский (из долины р. Неккар между городами
Марбах и Рейтлинген) — в поселениях вюртембергских сепа-
ратистов. 9. Севернобаварский (из области, лежащей на юго-
востоке от Нюрнберга) — в пос. Ямбург. IV. 10. Смешанные
говоры.
Из этого общего обзора видно, что большинство поселенцев
происходит из западной части (Гессен, Пфальц, Баден-Дур-
лах, Вюртемберг, сев. Эльзас): эти области всегда были главным
очагом эмиграции из Германии благодаря перенаселению, край-
нему раздроблению земельной собственности и тяжелым условиям,
связанным с постоянными пограничными войнами с Францией.
Сходство этих западнонемецких говоров между собой является
наиболее существенной предпосылкой для понимания их судьбы
на русской почве. При этом особенно близки между собой средне-
немецкие говоры Пфальца («южнорейнскофранкская группа» —
«sudrheinfrankisch») и южнонемецкие говоры северного Эльзаса
и северного Бадена («южнофранкская группа» — «siidfrankisch»):
мы будем обозначать их в дальнейшем как «франкские» говоры.
Напротив, говоры верхнегессенский и швабский представляют
более резкие отличия от франкского типа. Что касается диалектов
нижненемецких и севернобаварского, то они представляют наи-
более значительные отклонения как от франкского типа, так и от
литературной нормы и развиваются своими особыми путями.
Как уже было указано, литературный немецкий язык подвер-
гается в поселениях значительному воздействию местных диалек-
тов, под влиянием которых он приобретает более или менее от-
четливо выраженную местную окраску («mundartlich. gefarbte
Umgangsprache»). С другой стороны, диалекты также в различной
степени испытывают влияние нормы литературного языка. Го-
воры «франкской» группы сравнительно мало отклоняются от
литературного языка, поэтому при столкновении с нормой они
обнаруживают большую стойкость. Иначе обстоит дело с диалек-
тами гессенским и швабским, которые очень заметно отличаются
от нормы: при столкновении с господствующим языком они по-
степенно утрачивают наиболее резкие и характерные диалекти-
ческие отклонения; с течением времени на основе старого говора
развивается новый диалектический тип, сохраняющий только наи-
495
менее резкие и заметные приметы соответствующего немецкого го-
вора («новошвабский», «новогессенский»). В дальнейшем мы бу-
дем обозначать, как первичные диалектические признаки,
те особенности указанных говоров, которые образуют наиболее
заметные отклонения от нормы литературного языка (или от со-
седних говоров), а менее значительные отклонения будем назы-
вать вторичными диалектическими признаками. Деление
это, конечно, условно и вовсе не предполагает наличности между
признаками того и другого рода незыблемой и объективной гра-
ницы: оно лишь отмечает некоторые тенденции, которые, однако,
как мы увидим в дальнейшем, имеют существенное значение для
истории говоров.
Примером влияния литературного языка на развитие говора
с ярко выраженными первичными признаками может служить
судьба швабских говоров на территории СССР.6 Большинство
швабских поселений черноморского края было основано в 1818—
1822 гг. вюртембергскими сепаратистами, покинувшими свою
родину целыми общинами, более или менее обширными. Неза-
висимо от переселения сепаратистов возникли (в 1804—1805 гг.)
поселения Люстдорф и Гросс-Либенталь. Между этими диалек-
тами наблюдаются небольшие различия, обусловленные проис-
хождением колонистов из разных частей Вюртемберга. В основных
чертах, однако, эти говоры могут быть локализованы в долине
Неккара между Марбахом и Рейтлингеном. Важнейшие отклоне-
ния от литературного языка могут быть разбиты на следующие
группы.
а. Первичные признаки. 1. Дифтонгизация долгих о:, е:
(д^^ао, ае (graos, haox; snae, baes 'bose’). 2. Дифтонгизация
iu^>ui (fuir, nui, sui 'sie’ fem., ui^). 3. Дифтонгизация краткого
открытого при удлинении (bsese, rsegp, reext). 4. Выпа-
дение п перед спирантами с заменительнььм удлинением и в соот-
ветствующих случаях с дифтонгизацией (ga:ns, ge:ns, o:ns runs’,
faenf 'funf’, vaense 'wiinschen’, daensteQ 'Dienstag’ и др.). 5. ei^>
>oe (hoes, broed). 6. Отдельные лексические особенности (hao11 'ha-
ben’, laon 'lassen’, gao11 'gehen’, staon 'stehen’; gap, go: st, go: d
'gehen’, pras. sing.; stand, sto: st, sto: d 'stehen’, pras. sing.).
б. Вторичные признаки. 1. Расширение перед носовыми
Z, и^>е, о (bende, rep, jop, grom 'krumm’). 2. Сохранение ста-
рых дифтонгов ио, le (ие) (good, bruadr; liob, miad). 3. Дифтон-
гизация старых долгих и:, i: {й:)^>эи, di (для швабского харак-
терна окраска первого элемента дифтонга: в литературном языке
и в франкских говорах — аи: ai или ai) (haus, laud; vaib, eis, mais
'Mause’). 4. Отчетливое различие между закрытыми и открытыми
е— е-—е.-, о:—о: (besr — ssp, bed — bedle; e:sl, be:s — 'ke:s.
de:g, sls:g; lo:be — о : bad). 5. Общая форма 1—3 л. мн. ч. на
-dd (mr brepad и т. д.) и др.
Развитие старошвабского диалекта на новой родине пересе-
ленцев пошло различными путями. Наиболее архаический ха-
496
рактер имеют говоры сепаратистских поселений в Закавказье
и около Бердянска: благодаря сепарации эти поселения в течение
долгого времени лишены были той связи с городской культурой
и литературным языком, которая в лютеранских колониях уста-
навливалась прежде всего через проповедь и церковную школу;
существенное значение имела также географическая изолирован-
ность от других немецких поселений. Из закавказской группы
лучше всего сохранился старый говор в пос. Елизабетталь: только
форма o:ns вытеснена здесь более новой формой ons (в старых
записях сепаратистских проповедей 40-х годов XVIII в. встре-
чается еще uns).7 В пос. Катериненфельд молодое поколение
говорит уже ho:x, gro:s, ho:xtseQ (вместо старого haotseQ 'Hoch-
zeit’), однако — flao 'Floh’ ('блоха’) — последнее слово при-
надлежит к интимному языковому обиходу и потому не подвер-
гается воздействию литературного словаря. В Е ленендорфе,
наиболее богатом и культурном из поселений данной группы,
новые формы ho:x, gro:s, flo: окончательно вытеснили старые
во всех поколениях. В то же время широкое распространение
получили новые формы h:be, re:ge, sIsqI (вм. Isebe, rsege, slsext);
у младшего поколения появляются foior, noi, oiQ (вм. fuir и т. д.).
Архаические формы haox, raod и т. п. воспринимаются в настоя-
щее время жителями Еленендорфа как диалектическая особенность
«грузинских» поселений (Елизабетталя, Катериненфельда и др.).
Таким образом, хронологические различия между поколениями
становятся постепенно географическими признаками: то, что
было недавно отличием младших от старших внутри одного села,
теперь отличает села, сохранившие говор более архаический,
от других, более «прогрессивных» в языковом отношении.
Гораздо быстрее развивается в том же направлении диалект
пос. Гофнунгсталь: прекращение сепарации (в 1891) и близость
многочисленных поселений «франкского» типа способствовали
постепенному устранению всех наиболее заметных признаков
старошвабского диалекта. Господствующий современный говор
пос. Гофнунгсталь знает только новые формы: gro:s, ho:x; sne:,
be:s; foior, nai; fenf, gans; bs:se, ste:lo и т. н. По отношению к эе
наблюдается колебание: hoes — haes, broed — braed. Незатро-
нутыми остаются только вторичные диалектические признаки.
Старики, однако, в особенности — в верхнем конце села (Oberdorf),
говорят еще graos, §nae, fuir, beesa и т. п. или по крайней мере
знают эти формы из языкового обихода прежнего времени.
Дальше всего в своем развитии зашли пос. Люстдорф и Гросс-
Либенталь. Общение с многочисленными окружающими поселе-
ниями франкского типа, менее единообразный состав первона-
чальных поселенцев (по церковным книгам, кроме вюртемберж-
цев, среди них значилось также некоторое число баденцев) —
все эти обстоятельства способствовали более быстрой и интен-
сивной модернизации этих говоров. Большинство первичных приз-
наков швабского диалекта вытеснено здесь окончательно новыми
32 В- М. Жирмунский
497
формами: старшее поколение уже не помнит швабских форм.
Однако по рассказам стариков можно установить, что в годы
их молодости язык сильно отличался от господствующего в на-
стоящее время: отдельные архаические формы еще всплывают
иногда в сознании рассказчика, например fuir jo:! (крик при
пожаре) или s reegard ('дождь идет’) рядом с новой литературной
формой re:gp ('дождь)’. Вторичные признаки говора и здесь со-
хранились без изменений.
Таким образом, в поселениях постепенно развиваются новые
говоры, сохраняющие от старошвабского лишь те диалектические
особенности, которые наименее заметно отклоняются от лите-
ратурной нормы (например, дифтонги ia, иэ; расширение i, и
перед носовыми: характерная окраска дифтонгов di, аи; общая
форма мн. ч. на -ad и т. д.). Такой «новошвабский» говор в своей
современной структуре не может быть без предварительной об-
работки локализован на немецкой диалектической карте: иначе
мы будем искать ему иллюзорные соответствия среди пограничных
швабско-франкских говоров, в которых случайно отсутствуют те
или иные из первичных признаков старошвабского диалекта.
Необходимо предварительно восстановить правильную времен-
ную перспективу развития говора на русской почве с помощью
отдельных архаических форм («реликтов»), засвидетельствован-
> ных у старшего поколения: определение родины говора требует
в подобных случаях предварительной реконструкции определяе-
мого объекта.
Интересно отметить, что развитие говоров на новой родине
идет по тому же пути, по которому в самой Германии развивается
разговорный язык образованного общества в Вюртемберге — так
называемый Honoratiorenschwabisch, язык средней буржуазии и
чиновничества. И здесь постепенно отпадают первичные диалекти-
ческие признаки. Карл Хааг, известный исследователь швабских
говоров, замечает по этому поводу следующее: «Чиновник нередко
ограничивается заменой швабских дифтонгов ао, ае (вм. graos,
пао11, hao11, mae -gro:s, no:a, hann, me:); иногда замене подвер-
гаются также дифтонги ae, оеп, еа, еап (вм. voes, оеппег — vaes,
аеппэг; вм. veog, forleobt, deer, veonn, пеэпт — ve:g, forls:bt,
de : r, ve: “n, ne : nm); из долгих гласных заменяются те, которые
заметно изменяют графический облик слова (вм. fersto.’d, lo:d,
do:nmo, vu:rd — forste:d, lest, daonm, vird; вм. приставок а\п~,
fo:n--апп-, fo11]!-')', из кратких гласных — такие случаи, как alas
(вм. elas), bsoldo11]] (вм. bsolde11!)). В остальном он сохраняет осо-
бенности швабского диалекта, если не хочет казаться жеманным».8
Поскольку говоры долины Неккара находятся сейчас под силь-
ным влиянием Штутгарта, как главного культурного центра
Вюртемберга, можно с большой вероятностью предсказать, что
вся эта местность в ближайшее время проделает ту же эволюцию,
которую мы могли наблюдать в колониях при развитии ново-
швабского говора. При этом архаические формы останутся на
498
Ёостоке и на Западе от Неккара, а горах Шварцвальда и Шваб-
ской Юры. Диалектическая карта Вюртемберга уже сейчас на не-
которых отдельных примерах подтверждает этот прогноз. Так,
дифтонгизация о перед r+cons. отсутствует в долине Неккара,
но представлена на западе в Шварцвальде и на востоке в Юре
(ковгп, ковгв 'Korn’, voerd, four). В поселенческих говорах, про-
исходящих из долины Неккара, до сих пор встречается еще диф-
тонгизованная форма (например, в Елизабеттале, у старшего
поколения — ковгп, tsoBrneQ и т. д.): очевидно, в XVIII в. на ро-
дине колонистов она тоже еще не была вытеснена городским влия-
нием. Сходным образом в некоторых словах выпадение п перед d
с заменительным удлинением предшествующего гласного (на-
пример, 'ke:nd вм. ’kend, ho:nd вм. bond) постепенно вытесняется
из той же центральной области Вюртемберга, наиболее подвер-
женной городскому влиянию. Таким образом, и в самом Вюртем-
берге, как и у переселенцев, исторические (временные) различия
между поколениями становятся в процессе развития говоров
географическими (пространственными) признаками диалектов.
Сходные явления наблюдаются и в верхнегессенских говорах.
И здесь можно установить различие между первичными и вторич-
ными признаками. К первой группе относятся, например, такие
явления: 1) так называемые «обращенные дифтонги» (gestiirzte
Diphthonge): ио, ie > ои, ei (goud, Ьэнх; leib, deif); 2) de > ci
(sois, maid); 3) переход интервокального -d- > -r- (gaura 'gate’,
ruzra 'rote’, slira 'Schlitten’); 4) сужение о:, e: (d:) > u:, i:
(gru: s, hu:x; bi:s) и др. Ко второй группе можно отнести
например, следующее: 1) смягчение интервокальных спирантов,
в особенности после долгого гласного или дифтонга (o:wa 'Ofen’,
zka ; we 'kaufen’, graiza 'kreischen’, bi:za 'bose’, vaiza 'weisse’);
2) сохранение конечного n в неударном слоге после г (с выпадением
или редукцией г) (u:n 'Ohren’, fo:n 'fahren’, fkon и т. п.);
3) и > oi (в литературном языке ai, di, в франкских говорах —
ai) (laid, hoizr); 4) многие другие явления, которые объединяют
гессенский говор с общефранкским диалектическим типом (ср.
ниже, гл. 3; например, аи > a:, ei > а:, интервокальное -ы-
вместо -Ъ- и др.).
В старых беловежских поселениях (Конотонекий окр.), как
показали наблюдения нашей диалектологической экспедиции
(записи Л. Р. Зиндера, Т. В. Сокольской, В. П. Погорельской),
сохранились все особенности старого верхнегессенского говора:
беловежские поселения благодаря своей обособленности от дру-
гих немецких поселений и сравнительно невысокому уровню
культуры не испытали сколько-нибудь заметного влияния лите-
ратурного немецкого языка. Напротив, в многочисленных вы-
селках «беловежцев» (так называемых «Belemeser») влияние ли-
тературного языка и соседних франкских говоров выступает го-
раздо более отчетливо. Обращенные дифтонги уже исчезли:
дифтонг oi « de) встречается только у старшего поколения;
499
32*
переход -d- > -г- сохраняется в отдельных изолированных сло-
вах (например, slira и др.). Более прочно держится сужение:
однако и здесь уже встречаются дублеты, особенно у молодого
поколения. Напротив, вторичные признаки остаются без измене-
ния. Вообще различия между поколениями выступают здесь
очень отчетливо, а также в пределах одного поколения — сущест-
венные колебания, обусловленные социальным и культурным
уровнем говорящего. Для того чтобы реконструировать старый
говор «беловежцев», приходится и здесь обращаться к показа-
ниям стариков.
Аналогичные факты открывает и диалектическая карта проф.
Г. Г. Дингеса по отношению к обширной группе верхнегессенских
говоров. Интервокальное -г- всюду уже непрочно, а во многих
колониях совсем исчезло. «Обращенные дифтонги» отсутствуют,
например, в пос. Баренбург, Мюллер, Крафт, Бангерт и др., кото-
рые по прочим своим признакам принадлежат к верхнегессенскому
типу; в других поселениях (таких, например, как Вальтер, Нидер-
монжу и др.) отсутствуют все первичные признаки, но сохранились,
например, oi из й: (hoisr, laid) и конечное -п после г. При отсут-
ствии первичных признаков верхнегессенского говора является
соблазн локализировать соответствующий поселенческий диалект
в более южной части Германии, в области говоров «южногессен-
ских» (между городами Майнц—Франкфурт—Ашаффенбург —
Дармштадт): действительно, южногессенские говоры отличаются
от верхнегессенских главным образом отсутствием первичных
признаков, характерных для последней группы. Однако совпаде-
ние это может быть и чисто случайным, если мы имеем дело с го-
вором «новогессенским», т. е. с продуктом эволюции верхнегессен-
ского типа на новой территории. Для окончательного разрешения
этого вопроса необходимо привлечение исторических данных о со-
ставе первых поселенцев и внимательное обследование самого
говора с учетом различий между поколениями.
2. Смешанные говоры
Франкские говоры черноморских поселений обнаруживают
большое число общих признаков, на основе которых постепенно
вырабатывается своего рода «общий язык» (койне). Приведем
важнейшие из этих признаков: 1) b, d, g — слабые глухие (lenes);
2) й, б, ей делабиализованы в i, е, di; 3) а: o:(o:wad, lo:fa);
4) ои > a:('ka:fa> da:b), за исключением говоров южнорейнско-
пфальцских, где ои > е: (fke : fa, ds : b); 5) расширение i (й),
и, е (б), о перед г : в различных франкских диалектах степень
расширения бывает различной (например, vorgt, vorgt, vargt;
berst, ber§t, barst и т. п.); 6) -fe- является спирантом -w- (-z>) между
гласными и после г, I (о : wad, gla : wo, selwr, Starwa); 7) st, sp >
> st, sp внутри и в конце слова (mist, brust, haspl); 8) ассимиляция
500
nd > -n- внутри слова (fina, нпэ), частично также -rd-, -Id- >
> -r-, -l- (например, vara ' werden’); 9) отпадение -n на конце слова:
а) в односложных словах после долгого гласного или дифтонга
(vain, so:n); б) в заударном положении в окончании -еп (briga,
oksa, gu:da), исключение представляет мн. ч. наст. вр. в за-
рейнских говорах (см. ниже) и др.
Рядом с этим существует группа признаков, дифференцирую-
щих франкские говоры между собой: 1) 'р — pf (говоры №№ 3—5
против 6—7): следует подчеркнуть, что признак этот, которым
историческая грамматика пользуется для деления верхненемец-
ких говоров на средне- и южнонемецкие, фактически имеет значе-
ние не большее, чем другие дифференцирующие признаки; 2) ei >
> е: в № 3 (bre:d, de:l); > е: в № 4 (bre:d, de:l); > а:
в №№ 5, 6 (bra:d, da:l); > a-.i в № 7 (bra:id, da:il); 3) -g-
внутри слова между гласными и после г, I произносится как
спирант (у, / или х, q) или как взрывной (g) или исчезает (например,
'wagen’ — va:ya, vaxa, va:ga, va:; 'fliegen’ — fli:ja, fliga,
fli:ga, fli:a и т. д.); 4) образование мн. ч. в глаголах: зарейн-
ские говоры (№№ 3, 4, 6) имеют общую форму для 1—3 л. мн. ч.
-э (п), в правобережных говорах (№№ 5, 7) мн. ч. образуется,
как обычно; 5) редуцированные окончания причастий сильных
глаголов (gfal, gabrox) в № 3 и некоторые другие.
Гораздо значительнее, как это уже было указано, отклонения
от общефранкского типа в говорах верхнегессенском и швабском.
Верхнегессенский говор сохраняет st, sp внутри слова, как и лите-
ратурный язык (mist, haspl), в остальном он совпадает с франк-
ской группой во всех ее общих признаках; ei дает а:, как в №№ 5,
6 (bra:d, da:l). Швабский диалект совпадает с общефранкским
типом в признаках 1, 2, 7; с другой стороны он имеет, в противо-
положность франкским говорам, как литературный язык, ди-
фтонг ао <С он (kaofe, daob), взрывные-b- в интервокальном по-
ложении (glaobe, stsrbe), отсутствует расширение перед -г (vu:rst,
bi:r§t, с удлинением гласных i, и и перед -г-|-дент.), а также —
ассимиляция -nd-(fende, fonde). В противоположность франкскому,
а: дает о:, а не о;, ei отражается как эе (droed, doal). К этому
следует присоединить те многочисленные отклонения пер-
вичного и вторичного типа, которые были уже перечислены
выше.
При смешении франкских говоров между собой общие приз-
наки образуют грамматическую основу продукта смешения; на-
против, наличие дифференцирующих признаков обусловливает
возникновение конкурирующих форм fpefr—pfefr, Ьге : d—
bra : d), из которых одна вытесняет другую. При этом вполне воз-
можно, что в одном ряде признаков побеждает один из конкури-
рующих говоров, в другом ряде — другой (например, при столк-
новении пфальцского и североэльзасского 'pefr может вытеснить
pfefr как в пфальцском, и в то же время bra:d вытеснить br:sd
как в северноэльзасском). В таких случаях возникают смешанные
501
Говоры, которые не могут быть локализованы на диалектической
карте Германии: необходимо сперва установить их составные эле-
менты, и каждый из этих элементов потребует отнесения к соот-
ветствующему географическому району. С другой стороны, в пре-
делах каждого звукового ряда возможны также колебания и не-
последовательности (см. ниже): в сущности каждое отдельное
слово имеет свою особую судьбу в борьбе с соответствующим
конкурентом (fpefr против pfefr, 'pund против pfund и т. д.);
в общем, однако, господствует тенденция закономерного и едино-
образного развития в пределах звукового ряда ('pefr, 'pund,
'paif ит. д.), в особенности для вторичных диалектических
признаков.
При смешении франкских говоров с швабским или верхне-
гессенским первичные признаки этих последних, как правило,
отпадают, даже в том случае, когда на стороне этих говоров
было численное превосходство. Первичные признаки являлись
наиболее значительным препятствием при сношениях между разно-
язычными поселенцами и потому должны были прежде всего
подвергнуться нивелирующему воздействию языкового смешения.
Вторичные признаки швабского и верхнегессенского могут кон-
курировать с соответствующими особенностями франкских гово-
ров, причем победа остается и здесь то за одним типом, то за дру-
гим. При этом далеко не всегда побеждает форма, более близкая
к литературной норме; например, франкское а: « ои) или -w-
легко может вытеснить швабское ао и fe, несмотря на то что шваб-
ские формы совпадают с литературными. Общие признаки франк-
ской группы, даже в случаях расхождения с литературной нор-
мой, обладают значительной стойкостью, так как они являются,
как уже было сказано, грамматической основой «общего языка»
для большей части новых поселений. Приведем несколько наибо-
лее показательных примеров.
1. Пос. Францфельд, католический. По свидетельству исто-
рических источников,9 первые поселенцы происходили из Эль-
заса (Лаутербугский окр.) и из Верхней Баварии, т. е. Бавар-
ского Пфальца (Ландауский окр.). Говор пос. Францфельд при-
надлежит к зарейнскому типу (общая форма множ, числа -ап),
причем дифтонги ei и ои дают е:, как в южнорейнско-пфальцском
говоре Ландауского окр. (he:s, brs;d — 'ke: f, fre:). Однако
вместо средненемецкого fp-, которого следовало ожидать в пфаль-
цском говоре, мы имеем южнонемецкое pf- (pfund, apfl, k'opf),
элемент, проникший из эльзасских говоров. Этот признак вы-
теснил пфальцское р- не только благодаря поддержке литератур-
ного языка, но прежде всего потому, что все соседние говоры като-
лических поселений принадлежат к северноэльзасскому типу.
По свидетельству одного старика, в прежнее время имело
в пос. Францфельд довольно большое распространение. Моло-
дому поколению оно совершенно чуждо и воспринимается им
как признак «лютеранских» говоров («lutherische Sprache»): со-
502
седние лютеранские поселения принадлежат к западнорейнско-
пфальцскому типу, т. е. действительно имеют средненемецкое fp-.
2. Пос. Александергильф и Нейбург, лютеранские. Населе-
ние смешанное. Первые поселенцы (1805) происходили из Вюр-
темберга; их потомки до сих пор называются «швабами». После
того как значительная часть их погибла в первый же год поселе-
ния от эпидемических заболеваний, на их месте поселены были
новые колонисты, пришедшие из Венгрии.10 «Венграми» («Un-
garn»), т. е., точнее, немецкими переселенцами из Венгрии, осно-
ваны были в то же время две соседние деревни — Петерсталь
и Фрейденталь. Говор этих венгерских деревень западнорейнско-
пфальцский. Пос. Александергильф и Нейбург принадлежат
в основе к тому же диалектическому типу: 1) ср.-нем. 'р- (pund,
apl, fkop); 2) зарейнск. общая форма мн. ч. (-атг); 3) сокращенные
причастия — характерный диалектический признак западной
части Баварского Пфальца (gfal, gabrox). Рядом с этим, однако,
наблюдается расширение i, u + nasal>e, о (rep, jorj) — явле-
ние, типичное для швабских говоров. Вместо ожидаемого в за-
паднорейнско-пфальцском перехода ei > е: оба поселения имеют
а : i (bra : id, da : il) перед отпадающим конечным -п-, более уз-
кий дифтонг koin (stoin, 'koi11), то же — перед -т (hoinm) при со-
хранении -п- стяжение дифтонга в d: (ka:nr, ma:nst). Ди-
фтонги, вероятно, являются результатом компромисса между
франкским а: и швабским эе (оеп), как и в новошвабских говорах
Гросс-Либенталя и Гофнунгсталя (однако интересно отметить
совпадение с южнофранкским говором Баден-Дурлаха). Кроме
того, в пос. Александергильф наблюдается колебание между
средненемецким 'р- и южнонемецким р/-, которое до сих пор
не пришло в равновесие. Ср. 'poSta, 'paifa, 'psfr, pfond, pfepSta,
slupa (Slupfa), ropfa (гора), 'kopf, tsopf (tsop), sdomp, sdromp
(Sdrompf) и т. п. Южнонемецкое p/-, поддержанное литературным
языком, по-видимому, распространяется дальше. В Нейбурге
встречается только 'р-. Другие нризнаки швабского говора отсут-
ствуют, франкские формы победили и в тех случаях, когда лите-
ратурная норма совпадает с швабским диалектом (например,
в таких случаях, как франкск. ои > a:, -nd - > -тг-, интервокаль-
ное -w- вместо -Ъ- и т. п.).
3. Пос. Иоганнесталь, лютеранский. Большинство поселенцев
происходило из Вюртемберга (по официальным данным, 41 семья
из 66).11 Диалект обнаруживает смешение швабских и общефранк-
ских элементов, из которых последние удержались в говоре или,
может быть, проникли в него при поддержке соседних франкских
поселений. Из швабского говора происходят следующие признаки:
1) расширение z, и перед носовыми (гец, jop); 2) общая форма
множественного числа на -dd (mr brepad . ..); 3) взрывное -g-
в интервокальном положении (fli:ga, dra:ga); 4) ei^>oe, ei + na-
sal.>oi”, o:n (hoes, broed; sdoin, mornst); 5) характерное произ-
ношение новых дифтонгов а/, ei an «u:)’(sis, bans).
503
К франкским говорам восходят, например: 1) ои > а: (в швабск.
ао) (’ka:fa, da:b); 2) интервокальный спирант -w- вместо -6-
(в швабск. -b-) (lo:wa, Sterwo); 3) ассимиляция nd > -n-
(в швабск. -nd) (Ьепэ, fena); 4) расширение перед -г (отсутствует
в швабск.) (’korts и т. п.). Первичные признаки швабского говора
исчезли при смешении (graos, sne:, fuir и т. д.); так же — и ста-
рые дифтонги 1э, иэ. В целом ряде случаев, где формы общефранк-
ские конкурировали с швабскими, победа осталась за первыми,
несмотря на совпадение швабских форм с литературной нормой.
К тому же типу франкско-швабских смешанных говоров отно-
сятся диалекты пос. Гюльдендорф, Ватерло, Бергдорф и Глюк-
сталь, а также «крымско-швабские» диалекты поселений-метро-
полий Нейзатц и Фриденсталь, пос. Гейльбрунн, Цюрихталь,
Герценберг, Судак. Развитие этих смешанных говоров идет оди-
наковыми путями. Первичные диалектические признаки шваб-
ского везде отпали; точно так же — старые дифтонги id, иэ (на-
пример, И:Ь, mi:d, gu;d). Из вторичных признаков сохра-
нились, например, мн. ч. на -dd (Гюльдендорф), расширение перед
носовыми (Бергдорф, Глюксталь), характерное для швабского
произношение новых дифтонгов ei и аи (ais, eis; haus, haus —
повсюду); старое ei имеет дифтонгический характер (d:i, a:i,
ai), перед носовыми — произношение более закрыто (oin, oin,
а : in), причем в некоторых говорах наблюдается стяжение перед
сохранившимся -п (du:ma:nnst, mo:nnst). С другой стороны,
из общефранкских особенностей имеют наибольшее распростра-
нение переход ои > a: ('ka:fe, da:h) и интервокальное -ш-
вместо -Ъ- (за исключением Гейльбрунна и Герценберга). В боль-
шинстве случаев -nd-, как в франкских говорах, ассимилировано
в -п- (в Бергдорфе и Глюкстале -nd), однако -ndr- обычно сохра-
няется без изменения (fkendr, hendr): сходное положение наблю-
дается в Германии в переходных говорах около Карлсруэ (Баден-
Дурлах). Расширение перед -г встречается во многих говорах,
но с значительными колебаниями в степени расширения ('kurts,
'korts, 'korts, 'karts). В Ватерло, Бергдорфе и Глюкстале укре-
пилась общая форма мн. ч. на -э (п): ее победа над швабским окон-
чанием -dd, вероятно, обусловлена влиянием господствующих
в соседних селах зарейнских говоров. В общем следует отметить,
что количественный перевес выходцев из Вюртемберга в поселе-
ниях смешанного типа нигде не обеспечил безусловной победы
соответствующих швабских признаков над франкскими.12
Нередко следы смешения могут быть обнаружены в говорах,
образующих по основным своим признакам довольно прочное
единство. На примере говора, возникшего на севернобаденской
основе (Баден-Дурлах), я попытался установить важнейшие
признаки смешения.13 Однако в нем присутствуют элементы,
свидетельствующие о незаконченном процессе смешения.
1. Колебания в пределах звукового ряда, например, ei >
a:i, a: (ha:is — ha:s, kla:id — kla:d и т. п.). Различия
504
такого рода наблюдаются между отдельными говорящими субъ-
ектами или у того же субъекта между отдельными словами, или
наконец, в том же самом слове как фонетические дублеты.
2. Остаточные формы («реликты»), принадлежащие исчезнув-
шему говору: например, присутствие в южнонемецком говоре
средненемецкого р-: dop, fkop, Slubo (у отдельных субъектов),
свидетельствующего о наличности средненемецких элементов.
3. Дублеты — например, для 'haben’ одновременно формы:
hewa, hen, ho :n, hu :n.
4. Гибридные формы — например, средненемецкий суффикс
уменьшительности -^г?, qr- в южнонемецком говоре: pfafge.
К этим грамматическим признакам присоединяются признаки
лексические: слово, принадлежащее другому географическому
району, может свидетельствовать о смешанном происхождении
данного говора. К сожалению, вопросы словарно-географические
(«Wortgeographie») до сих пор еще недостаточно разработаны в са-
мой Германии, чтобы можно было применять более или менее
систематически этот критерий при определении родины пере-
селенческих говоров.
С методологической точки зрения особенный интерес пред-
ставляет изучение поселений-выселков, основанных в более не-
давнее время. В смешанных выселках, как показал уже проф.
Дингес, различия в говоре сохраняются в течение довольно значи-
тельного времени, и мы имеем возможность в таких случаях не-
посредственно наблюдать самый процесс смешения и униформации.
Интересные наблюдения в этой области произведены были
А. Н. Штремом. Он обследовал диалект поселения Янино (осно-
вано ок. 1860 г.), записывая различия произношения из дома
в дом и в пределах каждой отдельной семьи — из поколения
в поколение. Жители пос. Янино происходят из трех старых посе-
лений-метрополий, причем они сохранили до сих пор диалекти-
ческие отличия, обусловленные их происхождением (et > а:,
a:i; р — pf, интервокальное -g- как взрывной или как спирант;
-еп > -е, -а и немя. др.). Согласно наблюдениям Штрема, язык
молодого поколения обнаруживает менее значительные различия
чем язык старшего поколения: происходит, таким образом, посте-
пенное сближение говоров (конвергенция). При этом результат
смешения не всегда определяется близостью к литературной норме:
например, средненемецкое р- вытесняет р/-. Вообще при прочих
равных условиях дети, по мнению Штрема, следуют говору ма-
тери; это наблюдение следует иметь в виду при генеалогических
справках о происхождении поселенцев; в то время как наши гене-
ологи считают происхождение по отцу, в передаче языковых осо-
бенностей, по-видимому, царит «матриархат». С другой стороны,
по моим наблюдениям, ребенок от смешанного (в лингвистическом
отношении) брака обычно пользуется одновременно несколькими
языками: на одном языке он говорит с отцом на работе, на дру-
гом — с матерью дома (дочери в особенности тесно связаны с ма-
505
Терыо благодаря участию в домашнем хозяйстве), в некоторых
случаях на третьем — с товарищами на улице. Из этого смешения
постепенно может отстояться новая норма.
Иногда диалекты отдельных говорящих субъектов остаются
как рудименты исчезнувших говоров. Исследуя диалект Ямбург-
ских поселений, А. Н. Штрем обнаружил семью, старшие предста-
вители которой (две старухи) сохранили верхнегессенский говор,
утраченный большинством их односельчан. Господствующий в на-
стоящее время в ямбургских поселениях говор — восточнопфальц-
ский: он совпадает по основным своим признакам с средненемец-
кими говорами других поселений данной области. Старый говор
резко отличается от этого типа: из первичных признаков верхне-
гессенского диалекта сохранились, например, сужение о:,
е: (б:) > и:, I: (du:d, bru:d, gru:s, gi:, sti:, bi:za и др.),
а также интервокальное -г- « -d-) в некоторых отдельных словах;
отсутствуют, однако, обращенные дифтонги и ot « йе, й :) (ср.
haizr, aiar; mi:d, fki:). Из вторичных признаков, отмеченных
в верхнегессенском, присутствует смягчение интервокальных
спирантов после долгого слога ('kazva, bi:za и др.).
Вообще история ямбургских говоров во многих отношениях
поучительна; благодаря счастливому случаю она может быть
прослежена на протяжении более чем 160 лет. Поселения эти
основаны при Екатерине II в 1765 г. В 1793 г. большая часть
первых поселенцев, недовольная условиями жизни на новой ро-
дине, переселилась в пос. Ямбург на Днепре (около Екатерино-
слава); на месте ушедших водворились выходцы из других посе-
лений покинутого района. Через 50 лет с небольшим, в 1849 г.,
из ямбургских поселений происходит вторичное выселение на юг,
вызванное на этот раз увеличением населения и недостатком
земли (пос. Ней-Ямбург). Таким образом, благодаря происходив-
шему в разное время обособлению выселков фактически засви-
детельствованы три последовательные ступени развития ямбург-
ских говоров.
Старейший говор ямбургских поселенцев баварский; в пос.
Ямбург на Днепре в условиях изоляции он сохранил нетронутыми
все свои характерные особенности. Второй говор (Ней-Ямбург) —
верхнегессенский: можно думать, что переселившиеся в окрест-
ности Ямбурга из других мест данного района принесли с собой
этот гессенский говор, который вытеснил баварский диалект
немногочисленных оставшихся на месте первоначальных посе-
ленцев. Из первичных признаков верхнегессенского в ней-ямбург-
ском диалекте отчасти сохранилось сужение (du:d, gi:, sti:);
отсутствуют обращенные дифтонги, формы на oi (mi:d, haizr,
а не maid, haizr), интервокальное -г- вместо -d-. В третьем типе
ямбургских говоров отмечен восточно-пфальцский говор, обус-
ловленный воздействием других поселений (в особенности бра-
ками): отсюда явилось характерное для пфальцских говоров st,
sp (mi§t, bru§t, raSpla), отсутствующее в говорах гессенских.
506
Таким образом, и здесь в истории образования новых поселен-
ческих говоров наблюдается не спонтанное, непрерывное разви-
тие диалекта из «праязыка», а сложный ряд взаимодействий и сме-
шений, в результате которых приходится констатировать необык-
новенный факт, что за каких-нибудь 150 лет старые ямбургские
поселения успели три раза существенным образом изменить
свой диалект.
Отсюда ясно, что «определение родины» говора должно огра-
ничиться установлением отношения между поселенческими ди-
алектами и соответствующими говорами на старой родине пере-
селенцев; вопрос о фактическом происхождении самих поселен-
цев из той или другой местности Германии не может быть решен
имманентно-лингвистическим исследованием без привлечения со-
ответствующих исторических свидетельств (списков поселенцев,
церковных книг и т. д.). Как уже было мною однажды отмечено,14
определение фактической родины переселенцев на основании дан-
ных языка не исключает возможности иллюзорных локализа-
ций. Представим себе два старых говора А и В и поселенческий
говор С, возникший из них в результате смешения. А имеет приз-
наки а1? а2, а3, а4, . . ., В — соответственно Ьп Ь2, Ь3, Ь4, . . .,
смешанный говор С, например, — а1? Ь2, Ь3, а4 . . . Определяя
родину С, мы найдем на диалектической карте Германии какое-
нибудь место X, лежащее между А и В, которое соединяет приз-
наки обоих говоров, притом так же, как С (av b2, Ь3, . . .).
Отнесение говора С к родине X является диалектографической
иллюзией, поскольку фактически поселенцы происходят не из X,
а из А и В. О такой иллюзорной локализации рассказывает,
например, Э. Бемер в предисловии к своему исследованию о пфаль-
цских колониях на нижнем Рейне: 15 на основании лингвисти-
ческих данных он определил, что изучаемые им пфальцские ко-
лонии основаны выходцами из района г. Кузеля; между тем
открытие архивных материалов по истории переселения показало,
что большинство колонистов происходит из районов Зиммерн
и Крейценах, а поселенцев из Кузеля не оказалось вовсе. Подоб-
ного рода иллюзии угрожают исследователю на каждом шагу
при локализации на карте старинных колониальных говоров,
о которых не имеется точных исторических сведений (например,
говоры восточной Германии, старых немецких поселений в Тран-
сильвании и др.). Только опираясь на исторические документы,
можно установить особенности функционирования сложного меха-
низма образования смешанных говоров.
3. Образование «общего языка»
В областях немецкого расселения, образующих определенное
территориальное единство, постепенно развивается «общий язык»
(«Gemeinsprache», «койне»), вытесняющий отдельные местные
507
говоры. Во многих случаях процесс этот еще не закончен и подда-
ется непосредственному наблюдению. Грамматическую основу
такого «общего языка» обычно образуют признаки, общие для
всех говоров франкского типа; гессенский и швабский говор мо-
гут быть представлены только своими вторичными признаками.
Новые области расселения довольно редко образуют террито-
рии, заселенные исключительно немцами. Однако даже при обыч-
ной чересполосице немецких, русских и других деревень между
немецкими поселениями определенного района обыкновенно уста-
навливаются довольно прочные хозяйственные и культурные
связи; для первой половины XIX в. к этому присоединяются
связи административные. Но наибольшее объединяющее значение
имеют не непосредственные сношения между соседними поселе-
ниями («Verkehr»), а брачные связи, которые иногда распростра-
няют свое влияние на очень обширную территорию. Этим обсто-
ятельством объясняется роль конфессиональных различий в
истории немецких поселенческих диалектов: браки между католи-
ками и лютеранами являются до сих пор у поселенцев большой
редкостью. Во многих случаях можно даже говорить о диалектах
«католических» и «лютеранских»: словоупотребление это уза-
конено давно самими поселенцами («katholische» или «lutherische»
Sprache).
Интересным примером «общего диалекта», возникшего на кон-
фессиональной основе, является говор католических поселений
«березанской группы»: Шпейер, Ландау, Зульц, Катариненталь,
Карлсруэ, Раштадт и Мюнхен. Поселения эти рассеяны в степи
на довольно значительном расстоянии друг от друга (от 10 до
25 верст), причем особенно далеко от основной группы (ланда-
уской) лежат Мюнхен и Раштадт. Между немецкими селами на-
ходятся многочисленные деревни. Несмотря на такую чересполо-
сицу, вся группа в языковом отношении объединяется общим ди-
алектом (южнорейнско-пфальцского типа), обнаруживающим
в отдельных поселениях лишь чрезвычайно незначительные откло-
нения. В списках первоначальных поселенцев зарейнские коло-
нисты (выходцы из южной части Пфальца и сев. Эльзаса) действи-
тельно стоят на первом месте, однако рядом с ними выступают
также и баденцы, которые образуют большинство в пос. Карлсруэ
и Катариненталь (Карлсруэ: 42 сем. из Бадена, 26 из Баварского
Пфальца, 3 из Эльзаса; Катариненталь: 17 сем. из Вюртемберга
и Бадена, 17 — из Бадена, 19 — из Бав. Пфальца).16 Тем не менее
и два последних поселения подчинились общему диалектическому
типу католических сел. Напротив, лютеранские (Рорбах, Вормс —
Иоганнесталь, Ватерлоо) сохранили свои характерные особен-
ности и, кроме того, очень значительно отличаются друг от друга.
Немецкие поселения на р. Молочной образуют наиболее зна-
чительную сплошную территорию немецких поселений. Диалект
верхненемецких поселений — севернобаденский (из области Ба-
ден-Дурлах), отдельные поселения по своему говору друг от други
508
почти не отличаются. Между тем из списков поселенцев, найден-
ных А. Н. Штремом, явствует, что кроме многочисленных баден-
цев среди поселенцев в большом числе представлены выходцы
из Вюртемберга, а также и из других частей юго-западной Герма-
нии (Гессен, Пфальц, сев. Эльзас). Таким образом, общий ди-
алект, господствующий в настоящее время на р. Молочной, утвер-
дился не сразу. Об этом свидетельствуют показания очевидцев.
Например, один из участников переселения, Э. Вальтер, писал
в 1849 г.: «Обычно основание новой общины происходило так,
что вместе селились люди, случайно сблизившиеся в пути или
на казенных квартирах. Никто не думал при этом о том, чтобы
селиться вместе с земляками или единоверцами. Выходцы из
Пфальца, Эльзаса, Бадена, Вюртемберга, Гессена, иногда даже
из Венгрии и Чехии — лютеране, католики, кальвинисты —
преследовали одну цель: как можно скорее поселиться на соб-
ственной земле».17 Действительно, как показал А. Н. Штрем,
на р. Молочной можно было обнаружить рудиментарные признаки
исчезнувших говоров. Из работы А. Н. Штрема я заимствую сле-
дующие данные. Католические поселения на севере Молочной
группы (Гейдельберг, Гохгейм) сохраняют средненемецкое 'р-
в начале слова (fpund, cpsfr, fposta), а также монофтонгизацию
старого ei > а: вместо севернобаденского a:i (bra:d, kla:d),
т. е. явления, указывающие на более северные диалекты (восточно-
пфальцские, гессенские); однако у молодого поколения наблю-
дается распространение господствующего диалектического типа
(pf-, a:i). Поселение Альт-Нассау было основано гессенцами
и до сих пор сохраняет как признак своего происхождения st
внутри слова вместо господствующего на р. Молочной st (mist,
brust вм. mist, brust); кроме того, в начале слова вместо средне-
немецкого р- распространено /- (fund), которое, по-видимому,
является контаминацией средненемецкого р- и южнонемецкого
pf-, точнее — попыткой на почве средненемецкого говора усвоить
комбинацию pf-, заимствованную из общего диалекта Молочной
группы и поддержанную, кроме того, литературной нормой.18
В пос. Вейнау преобладали выходцы из Вюртемберга: рудиментар-
ным признаком исчезнувшего швабского говора является здесь
расширение i, и перед носовыми (гец, jo?]). В пос. Розенталь
имеется немногочисленная группа так называемых «кашубов»,
говор которых на первый взгляд как будто обнаруживает восточно-
средненемецкие признаки (ostmitteldeutsch): 1) в начале слова
р- > /- (fund); 2) ои > о: (glo:wn, do:b); 3) ei > е: (bre :d);
4) приставка ge- > ji- (=jifaln); 5) сохраняется окончание -еп в не-
определенном наклонении и причастии. «Кашубами» немецкие
поселенцы обыкновенно называли выходцев с низовий Вислы,
т. е. немцев из Кашубии; в списках поселенцев мы не находим
выходцев из восточной части средней Германии; таким образом,
остается предположить, как это делает Штрем, что перечисленные
выше особенности являются вторичными признаками исчезнув-
509
шего нижненемецкого говора. Иными словами, на новой почве
повторяется тот же процесс смешения, который в самой Герма-
нии привел к образованию восточносредненемецких наречий;
процесс этот приводит на новой почве к образованию говора,
по ряду признаков совпадающего с восточносредненемецким.
Во всех указанных случаях рудиментарные признаки вытес-
ненных говоров ограничиваются вторичными диалектическими
особенностями: гессенский и швабский диалекты в борьбе с общим
языком, возникшим на основе франкских говоров, утратили все
свои первичные признаки даже там, где на их стороне был значи-
тельный численный перевес.
С записями А. Н. Штрема интересно сопоставить описание
говоров на р. Молочной, относящееся к середине XIX в.19 Ав-
тор — Вильгельм Бауманн, чиновник Главного управления го-
сударственных имуществ — подметил процесс смешения говоров
и образования «общего диалекта» и изобразил его в полном соот-
ветствии с принципами современной диалектографии. Различия
говоров в 1854 г., по-видимому, были значительнее, чем в настоя-
щее время: и здесь, однако, выделены те же колонии Вейнау,
Альт-Нассау, Розенталь, как сохранившие наибольшую незави-
симость от господствующего диалекта. Последний не вполне точно
обозначен Бауманном как баденско-пфальцский (badisch-pfal-
zisch): вероятно, и он имел при этом в виду севернобаденские
диалекты, расположенные между Гейдельбергом и Карлсруэ.
«Хотя говоры поселенцев и не являются до сих пор чем-то
неподвижным, находясь под постоянным влиянием одного господ-
ствующего наречия, из которого остальные постепенно заимствуют
отдельные слова, произношение и интонацию, хотя в некоторых
селах произношение почти в каждом доме особое, все же я попы-
таюсь дать общий обзор этого языкового смешения.
Из 24 поселений только одно было населено выходцами из од-
ной и той же местности, а именно — Вейнау, жители которой
происходят из Вюртемберга, если не считать одного старого
кашуба. В остальных селах население очень пестрое: по соседству
друг с другом жили баденцы, вюртембержцы, восточные и запад-
ные пруссаки, так называемые «зарейнские» колонисты («Uber-
rheiner»), эльзасцы, кашубы, так называемые «литовцы», ав-
стрийцы, мекленбуржцы и нассаусцы. Благодаря бракам между
лицами, говорящими на различных диалектах, возникает свое-
образное смешение языков: например, если говор мужа в селе
господствует, он будет господствовать и между супругами, но не-
которые элементы проникнут также из говора жены; обратное
получится, если в селе господствует говор жены. Наконец, в тех
случаях, когда в селе господствует третий говор, одинаково чуж-
дый и жене и мужу, в доме устанавливается язык, смешанный
из трех наречий, дети же говорят на диалекте, господствующем
в селе, однако с примесью некоторых элементов из говора роди-
телей.
510
Из диалектов, вывезенных переселенцами из Германии, имеют
значение следующие: 1) во всем районе безусловно господствует
говор баденско-пфальцский, который занимает главенствующее
место в следующих селах: Пришиб, Ней-Монталь, Гейдельберг,
Блументаль, Тифенбрунн, Фридрихсфельд, Гохштедт, Лейтерс-
гаузен, Костгейм, Рейхенфельд, Кронсфельд, Карлсруэ, Дарм-
штадт, Кайзерталь; 2) швабский говор господствует в пос. Вей-
нау, встречается также почти во всех других поселениях, но играет
в них лишь подчиненную роль; 3) прусский говор — в Розентале
и Гоффентале; 4) нассауский говор — в Альт-Нассау и особенно
в Ней-Нассау; 5) эльзасский говор играет вообще подчиненную
роль, встречается в пос. Кронсфельд, Гохштедт и Ней-Монталь.
Неоспоримым является также влияние немецкого литературного
языка.
«Общим языком» такого же типа является крымско-швабский
диалект. Он является, как было уже указано, продуктом смеше-
ния говоров франкского и швабского типа, причем швабский
утратил, как всегда, свои первичные признаки. Степени смеше-
ния в поселениях-метрополиях довольно различны (например,
в пос. Нейзатц встречается франкское расширение перед -г:
dorgt, кег$, которое, по-видимому, отсутствует в других поселе-
ниях. В выселках, где встречаются выходцы из разных метро-
полий, процесс сближения и униформации говоров развивается
дальше, причем эти новые говоры в свою очередь оказывают обрат-
ное влияние на метрополии. Господствующий говор поглотил,
между прочим, и швейцарский диалект пос. Цюрихталь: даже
старики не помнят уже, как говорили первые поселенцы, так что
в середине XIX в. процесс вытеснения был, вероятно, уже почти
закончен. Из 8 поселений только два (Розенталь и Кроненталь)
сохранили свой особый говор, резко отличный от господствующего
типа. В обоих случаях причиной является конфессиональное
обособление: Розенталь — католическое поселение, Кроненталь —
смешанное (с преобладанием католиков).
Говоры других областей также настолько сблизились, что
можно и здесь говорить об «общем языке», который благодаря
сношениям и бракам между поселенцами приобретает с каждым
поколением все большее единство. Сближение это, однако, по всей
вероятности, является лишь результатом конвергирующей эволю-
ции первоначально более резко отличавшихся друг от друга гово-
ров. По крайней мере некоторые признаки указывают на присут-
ствие в таких говорах диалектических элементов, выходящих
за пределы предполагаемой родины. Таким образом, и здесь были
отброшены первичные диалектические признаки и более крайние
диалектические отклонения севера и юга постепенно были вырав-
нены в некоторой средней позиции.
511
4. Звуковые законы и миграция слов
Различие между первичными и вторичными диалектическими
признаками, установленное нами в связи с вопросом о взаимодей-
ствии диалекта и литературного языка, оказалось плодотворным
и при изучении процесса образования смешанных говоров. Хотя
при этом не приходится говорить о неизменных и четких границах,
все же заложенные в этом противопоставлении тенденции имеют
и принципиальное теоретическое значение. Различие заложено
прежде всего в области артикуляции: разница в положении орга-
нов речи между о : и ао (gro: s — graos) гораздо заметнее, чем,
например, между I и е (гед — rig), где различие сводится к незна-
чительному сдвигу в положении языка. Этим обусловлено впе-
чатление более или менее значительной акустической близости
между соответствующими звуковыми комплексами. Однако еще
более существенное значение имеет психологическая сторона
этого явления: по отношению к признакам вторичным сам говоря-
щий обычно не замечает разницы между своим произношением
и нормой литературного языка; например, для шваба неожидан-
ностью явится указание, что в его произношении -г перед передне-
язычными согласными почти не слышно (ga : rde, vi : rd) или что
новые дифтонги di (е£), эи (ои) произносятся им иначе, чем в лите-
ратурном языке (a:, ai:, аи). Эти вторичные признаки говора,
не доходящие до сознания говорящего, обычно вносятся им и в ли-
тературный язык; нередко даже он готов утверждать, что именно
его произношение единственно правильное: так, в Гросс-Либен-
тале один учитель-шваб доказывал мне, что besr и esc и в литера-
турном произношении звучат различно. С другой стороны, и для
«наивного» (т. е. фонетически необразованного) слушателя разли-
чие в произношении при вторичных признаках остается не вполне
ясным: конечно, слушатель сразу улавливает характерную и не-
привычную для него диалектическую окраску речи, однако он
не может в точности указать, чем эта окраска обусловлена. Сле-
довательно, в подобных случаях исключается возможность на-
смешки над непривычным произношением, которая в случаях,
подобных fuir вм. foiar (или faiar) и graos вм. gro : s, приводит
к вытеснению необычного диалектического слова. Наконец,
с точки зрения социально-лингвистической вторичные признаки
не являются препятствием для языковых сношений; напротив,
наличие первичных признаков затрудняет общение между ли-
цами, говорящими на разных диалектах, и потому в местах со сме-
шанным населением они стираются особенно быстро.
Необходимо также указать на значение графической фиксации
диалектических признаков: особенности диалекта, не имеющие
графических соответствий (например, различия открытых и за-
крытых гласных и др.), менее всего подвержены воздействию ли-
тературного языка; это — как бы оттенки фонемы, обозначаемые
одинаковым знаком: они мыслятся как тождественные, хотя и раз-
512
личаются фактически в произношении. Последним обстоятельством
определяются, между прочим, пределы достоверности косвенного
(анкетного) метода в области диалектографии: показания «наив-
ных» наблюдателей (например, сельских учителей, которыми
пользовался Г. Венкер) обыкновенно вполне достоверны для пер-
вичных признаков, но в большинстве случаев недостаточны для
признаков вторичных, не дифференцированных отчетливо в созна-
нии говорящего и не имеющих определенных графических экви-
валентов.
Указанные различия объясняют разную судьбу первичных
и вторичных признаков при столкновении с литературной нормой
или с диалектическим «общим языком», выступающим в некоторых
случаях как своего рода диалектическая норма (ср., например,
в новых поселениях общие признаки «франкского» типа). Первич-
ные признаки при этом отпадают, как мы уже видели на целом
ряде примеров, вторичные сохраняются, образуя грамматиче-
скую основу нового говора.
Два разных типа диалектологических объектов могут быть
установлены с помощью этого различия. Для одних родным язы-
ком является диалект; под влиянием литературного языка они
легко могут отказаться от первичных диалектических признаков,
но всегда сохраняют вторичные. Для других, напротив, диалект
является чужим языком; попав в диалектическую среду, такие
субъекты легко усваивают от окружающих первичные признаки
говора (graos, snae, fuir, i gai] и т. д.), но менее заметные вторич-
ные признаки в их произношении отсутствуют (например, раз-
личие между besr и ssb, расширение перед носовыми и т. д.);
вместе с тем должна отсутствовать и характерная диалектическая
окраска соответствующего говора, то, что можно было бы назвать
его «артикуляционной базой». Первый случай мы имеем обычно
при развитии городских диалектов или диалектически окрашен-
ного разговорного языка образованного общества («Halbmundart»,
«hohere Umgangsprache»). Как известно, в Германии до сих пор
такие городские наречия довольно значительно друг от друга
разнятся (например, разговорный язык в Кельне, Мюнхене,
Гамбурге, Берлине), так что единый литературный язык, по край-
ней мере в области фонетики (и словаря), является скорее идеаль-
ным заданием, тенденцией, нежели лингвистическим фактом.
Термин «диалектически окрашенный разговорный язык» («mund-
artlich gefarbte Umgangsprache»), употребляемый по отношению
к языкам такого рода, в сущности дает неправильное представле-
ние об этом лингвистическом явлении: на самом деле перед нами
провинциальные диалекты, лишившиеся своих наиболее первич-
ных признаков, т. е. прошедшие путь развития, который мы на-
блюдали в новых поселениях при образовании «новошвабских»
говоров. Реже встречается обратный случай, когда появление
в диалектической среде «чужих», усваивающих только первичные
признаки нового для них говора, оказывает влияние на развитие
33 В. М, Жирмунский
513
языка. Интересный случай подобного рода описывает А. Бах.:
диалект нового городского центра, быстро разросшегося благодаря
пришлому населению, отличается от окружающих деревень от-
сутствием некоторых признаков, которые мы назвали бы вторич-
ными.20
Особенно существенное значение имеет различное отношение
первичных и вторичных признаков к так называемым «звуковым
законам». В случаях, подобных graos — gro : s, haox — ho : x,
flao — flo :, мы имеем дело с отчетливо дифференцированными
лексическими дублетами. При столкновении такого первичного
признака с литературной нормой каждое слово, входящее в состав
звукового ряда, имеет свою особую судьбу: graos исчезает сравни-
тельно быстро, flao остается дольше, как слово, принадлежащее
к интимному, семейному языку; вместо hobr утверждается 1е: Ьг,
вместо fuir — feior, но в неразрывных фразовых группах и обо-
ротах речи сохраняется «srsegnd» или «fuir je: !». В сущности
мы имеем дело в таких случаях не с звуковым законом, а с вытес-
нением или, шире говоря, с миграцией отдельных слов. Иначе
обстоит дело при расширении i, и + nasal > в, о или в случаях,
подобных характерному для швабского произношения новых
дифтонгов di, аи « i :, и :), как эъ, эи. Здесь мы имеем уже не от-
четливо дифференцированные лексические дублеты, а незначи-
тельный сдвиг артикуляции, происходящий механически и бес-
сознательно и потому незаметный для самого говорящего (напри-
мер, гед — rip, vaib — vaib). Такое смещение артикуляции
с необходимостью распространяется на все слова, в которых
встречается данный звуковой комплекс: например, binden >
> bende, finden > fende, singen > sege, ring > гед и т. д. К слу-
чаям подобного рода применимо понятие звукового закона.
Как известно, современная диалектография (французская
и немецкая) оспаривает закономерность развития диалектов, так
как в целом ряде случаев было обнаружено, что каждое отдельное
слово имеет в истории языка свою особую судьбу.21 Например,
в Рейнской провинции, как показал Т. Фрингс, границы между
формами se : s и seks, о : s и oks, va : sn и vaksn проходят на зна-
чительном расстоянии друг от друга.22 Однако при этом необхо-
димо иметь в виду, что se: s — seks, о : s — oks и т. д. являются
отчетливо дифференцированными лексическими дублетами, т. е.
признаками первичными: в подобных случаях мы имеем дело
с миграцией слов, а не с распространением звукового закона.
Напротив, расширение i, и перед носовыми в швабском не допус-
кает особых границ для отдельных слов, поскольку признаки
вторичные относятся к области фонетики, а не лексики, и осно-
вываются на механическом, бессознательном и потому «законо-
мерном» смещении артикуляции.
С точки зрения исторической именно вторичные признаки,
т. е. незначительные и неуловимые для говорящего отклонения
артикуляции, являются нормальной основой закономерного изме-
514
[ения звуковой системы языка. При звуковых переходах в
олыпинстве случаев мы имеем дело не с резкими скачками, а с неза-
[етным соскальзыванием из одного артикуляционного положе-
[ия в другое, соседнее; обычные формулы исторической грамма-
ики фиксируют лишь крайние точки этого непрерывного про-
веса, например: а : ... а : . . . а : . . . о : (а : > о :). Так же
[епрерывно распространяется такое изменение в пределах той
[ли иной географической территории (конечно, лишь в отвлечен-
1ых и идеальных условиях однородной лингвистической среды):
еографическая карта развертывает временной процесс в виде
[ространственной последовательности непрерывно изменяющихся
фтикуляций — а : . . . а : . . . о : . . . о : . . . Это скольжение
южно сравнить с течением реки, причем границы физические,
жономические, политические («Verkehrsgrenzen») являются теми
тлотинами, которые останавливают непрерывное движение: в ре-
зультате по ту и другую сторону границы с течением времени
ложет установиться более или менее значительная разница уровня.
Эколо таких границ, препятствующих общению, незначительные
зторичные отклонения интегрируются и вырастают в первичные:
ю одну сторону границы сохраняется а:, по другую сторону
терез ряд промежуточных ступеней изменение доходит до о:,
или, возвращаясь к швабским примерам, у такой границы стал-
киваются, с одной стороны, graos, haox, raod . . ., с другой —
^го : s, ho : х, го : d. . . Когда граница затем снимается и возоб-
новляются хозяйственные и культурные сношения, начинается
миграция слов, из которых каждое может иметь свою судьбу,
потому что из фонетических вариантов одного и того же слова
они успели вырасти в отчетливо дифференцируемые лексические
дублеты.
Изучение лингвистической карты Германии показывает во мно-
гих случаях наличность на протяжении более или менее обширной
территории нескольких последовательных ступеней развития зву-
ков. Например, старый дифтонг ei дает а: (вост.-пфальцк.) —
(a:')—a:i (сев.-баденск.) — о: е (швабск.); долгое ал отража-
ется как о: (франкск.) — о: (швабск.) — а: ( в некоторых швей-
царских говорах). С другой стороны, внимательное изучение
отдельных говоров из села в село обнаружило в целом ряде слу-
чаев для вторичных диалектических признаков вместо четких
границ ряд непрерывных переходов от одной артикуляции к дру-
гой; такие переходные зоны существуют, по-видимому, на швабско-
франкской диалектической границе между -Ъ- (швабск.) и -w-
(франкск.), между -g- (швабск.) и -у- (франкск.), между швабским
расширением Z, и + nasal. > е, о и франкским сохранением Z, и
в таком же положении. Внимательное фонографическое обследова-
ние переходных зон, вероятно, дало бы возможность привести
большое число подобных примеров. С другой стороны, существуют,
конечно, и вполне четкие границы, где непосредственно сопри-
касаются две резко дифференцированные формы, которые образуют
515
33*
с исторической точки зрения лишь крайние пункты в непрерывном
ряде артикуляционных смещений. В основе этой противополож-
ности двух типов диалектических границ проявляется еще раз
существенное различие между признаками первичными и вторич-
ными, установленное нами при изучении переселенческих говоров.
1929 г.
ВОСТОЧНОСРЕДНЕНЕМЕЦКИЕ ГОВОРЫ
И ПРОБЛЕМА СМЕШЕНИЯ ДИАЛЕКТОВ
1
Изучение переселенческих говоров недавнего происхождения,
как уже приходилось неоднократно указывать,1 позволяет иссле-
довать закономерности смешения диалектов в условиях своеобраз-
ной лингвистической лаборатории. Установленное нами на при-
мере недавнего смешения в немецких говорах СССР различие
между первичными и вторичными признаками диалекта распро-
страняется и на такие исторически более отдаленные случаи диа-
лектологического смешения, которые не могут быть предметом
непосредственного наблюдения. В процессе смешения, как мы
показали при этом, в первую очередь вытесняются первичные
признаки диалекта, т. е. наиболее резкие и заметные отклонения
от языковой нормы. Отсюда следует методологический вывод,
что в смешанных говорах более древнего происхождения, история
образования которых нам неизвестна, составляющие их элементы
будут представлены по преимуществу своими вторичными, т. е.
наименее характерными и заметными признаками. В работах
над смешанными диалектами это принципиальное соображение
до сих пор, насколько мне известно, совершенно не учитывалось.
Восточносредненемецкие говоры (ostmitteldeutsch) Тюрингии,
Верхней Саксонии, Силезии и др. возникли, как известно, в усло-
виях колониального смешения. Страна к востоку от Эльбы и Заале,
занятая западнославянскими и балтийскими народами, была
захвачена немцами в XII—XIV вв. в процессе военной колониза-
ции. На землях, захваченных рыцарями-крестоносцами и миссио-
нерствующей церковью, среди побежденных или на их месте,
селились крестьяне из различных частей западной Германии и воз-
никали торговые города. В состав этой колониальной восточной
Германии входят области восточнонижненемецких диалектов —
Мекленбург, Померания, Бранденбург, Пруссия, а также уже
названные восточносредненемецкие территории — Тюрингия,
Верхняя Саксония, Силезия; при этом Тюрингия, потерявшая
уже в VI в. политическую самостоятельность и обезлюдевшая
как пограничная «марка» в результате славянских набегов, была
516
также частично заново колонизована выходцами из северной
и западной Германии (саксами и франками).2
Многочисленные исторические свидетельства, не всегда доста-
точно точные для специальных задач лингвистического анализа,
говорят о пестром составе первоначальных колонистов. Как при-
мер приведем свидетельство хроники Helmold’а о колонизации
завоеванной Вагрии (область Любека) Адольфом II (1140): «И по-
слал он послов по всем землям, во Фландрию и Голландию,
в Утрехт, Вестфалию и Фрисландию, и велел звать всех, кто нуж-
дался в земле, вместе с семьями их, обещая им, что они найдут
страну плодородную и просторную, в которой — изобилие рыбы
и мяса и прекрасные пастбища. Следуя этому призыву, поднялось
великое множество людей, принадлежащих к различным племенам
(aus verschiedenen Stammen), и пришли они с семьями и имущест-
вом в страну Вагрию к графу Адольфу, чтобы завладеть землей,
которую он обещал им».3 Пример этот не только подтверждает
смешанный состав колонистов, но и то чрезвычайно важное обстоя-
тельство, что в колонизации участвовали отнюдь не только бли-
жайшие смежные области западной Германии, но часто очень отда-
ленные районы, с которыми существовала династическая или тор-
говая связь или в которых имелся избыток населения. В частности,
неоднократно отмечалось участие в колонизации выходцев из Ни-
дерландов, присутствие которых в восточной Германии засвиде-
тельствовано, между прочим, и местными названиями (Flaming,
Flemendorf, Hollendorf и др.).
Общим признаком восточносредненемецких говоров считается
их отношение ко второму (верхненемецкому) перебою согласных.
Западная группа средненемецких диалектов (westmitteldeutsch),
имея все основные признаки верхненемецкого консонантизма
(hochdeutsch), сохраняет вместе с нижненемецким бесперебойное р
вм. pf во всех положениях: pund 'Pfund’, peffer 'Pfeffer’, paif
'Pfeife’; appel (или appel) 'ApfeP, kloppe(n) 'klopfen’; kopp 'Kopf’,
zopp 'Zopf’ и т. n. Восточносредненемецкий (ostmitteldeutsch)
также сохраняет p вместо pf в середине и на конце слова (appel,
kopp), но в начале слова имеет/: fund, feffer, faif(e) и т. д. Из дру-
гих особенностей восточносредненемецких диалектов отметим
монофтонгизацию ei, ои^>ё, о: Less 'heiss’, bret 'breit’; dg (e)
'Auge’, lofe(n) 'laufen’ и др. В синтаксическом отношении харак-
терно широко распространенное смешение дательного и вини-
тельного падежей (особенно в местоимениях). Остальные признаки
отдельных говоров будут указаны попутно.
Уже Вредэ, настаивающий на смешанном характере восточно-
средненемецких говоров, рассматривал начальное /- как результат
смешения нижненемецкого (или западносредненемецкого) р- и
южнонемецкого pf-* Точнее была бы следующая формулировка:
в условиях колониального смешения севернонемецких и южно-
немецких элементов /- появляется вместо севернонемецкого р-,
как несовершенное воспроизведение южнонемецкого pf-, при
517
котором непривычный звук заменяется ближайшим сходным из фо-
нетической системы севернонемецкого. Гипотеза Вредэ получает
полное подтверждение при изучении других случаев колониаль-
ного смешения нижненемецкого и верхненемецкого.
1. Балтийско-немецкий имеет начальное /- вместо pf-. Совре-
менный городской «полудиалект» (Halbmundart) прибалтийских
немцев возник на почве нижненемецкого, который окончательно)
вымирает в XVIII в. ввиду отсутствия в Прибалтике немецкого»
крестьянства. Городские говоры сохраняют некоторые вторичные
признаки вытесненного нижненемецкого диалектологического суб-
страта, в том числе начальное /- как признак смешения. 2. Неко-
торые смешанные немецкие говоры южной Украины имеют /-
в результате аналогичных причин. Например, диалект Берислав-
ской группы (так называемый Schwedengebiet), по остальным
признакам — близкий средненемецкому. О наличности выходцев,
из северной Германии среди бериславских поселенцев свидетел ь
ствуют исторические документы, а также записанный Л. Р. Бин-
дером лексический материал: например, erpel 'селезень’, gender
'гусак’, bol 'бык’ и др. В середине и в конце слова этот диалект
сохраняет -р вм. -pf, уподобляясь и в этом отношении восточно-
средненемецкому. 3. Большинство поселенцев на Волыни, утратив
свой нижненемецкий диалект, говорит в настоящее время на лите-
ратурном языке, усвоенном через школу. Среди местных особен-
ностей произношения, вторичных признаков вытесненного нижне-
немецкого субстрата, и здесь встречается начальное /- вм. pf-,
как результат смешения (например, с. Аннета, б. Новоградволын-
ского окр., анкета Wol. № 3: Feffer, Fund, Ferd, Fosten, feifen
и др.; в середине и на конце слова также -р: Корр, Zopp, stoppen,
Appelchen и др.). 4. f- вм. pf- отмечено в южнонемецких говорах
южного Тироля и северной Италии (например, Issime, Rima),
где оно возникло в результате германизации первоначального
романского населения и аналогичной подстановки из фонетической
системы субстрата, например, fannu 'Pfanne’, fund 'Pfund’ и др.5
Смешение дательного и винительного падежей: mir — mich,
dir — dich Вредэ также объясняет нижненемецким диалектологи-
ческим субстратом.6 В нижненемецком первоначально для обоих
падежей имеется одна общая форма mi, di. Поэтому при усвоении
национального языка северный немец склонен смешивать диффе-
ренцированные падежные формы, функции которых он не привык
различать. Это явление распространено в севернонемецких горо-
дах, где верхненемецкий обиходный язык (в особенности мещан-
ское просторечие) развивается на нижненемецкой диалектологи-
ческой основе (например, в Берлине),7 а также в восточносредне-
немецких диалектах, как результат колониального смешения.
Точно так же для севернонемецких говоров характерно совпадение
ihm — ihn, dem — den, diesem — diesen, wem — wen и др.,
благодаря переходу конечного -т > -п. При усвоении верхнене-
мецких дифференцированных падежных форм неизменно наблю-
518
дается смешение дательного и винительного падежей, как и в сме-
шанных восточносредненемецких говорах (восточнотюрингенском,
саксонском, силезском).8 Подтверждением этой концепции могут
опять служить немецкие говоры Волыни. Анкета с. Аннета, на-
пример, имеет: beissen dir; fir mir; wenn du ihm gekennt hatst;
als wenn sie ihm zum dreschen bestellt hatten (дат. вм. вин.).
Ср. дальнейшее распространение этого смешения падежей на жен-
ский род: bei die Frau, fiejen in die Luft rum, mit die Birste, sagh
deine Schwester, ihre Tochter saghen (вин. вм. дат.). Так процесс
языкового смешения ускоряет распад флективного строя, связан-
ный с развитием анализа в немецком языке.
В связи с проблемой «адоптаций» (Adoptivformen) Вредэ
затрагивает еще одно явление, распространенное у части верхне-
саксонских говоров, которое также является результатом смеше-
ния северно- и южнонемецких элементов: переход начального
у- > g- (gar вм. Jahr, gung вм. jung и др.).9 Для объяснения этого
перехода Вредэ привлекает пример «сверхлитературных» («hyper-
hochdeutsch») форм берлинского мещанского просторечия. На фоне
берлинского произношения начального g- как у- (jott вм. Gott,
jut вм. gut, jurke вм. Gurke) при усвоении нормы литературного
произношения начальное g- неправильно вводится во все слова,
начинающиеся с /-: например, Gosef вм. Joseph, gar вм. Jahr
и т. д. Интересны в этом отношении орфографические ошибки
в письмах первых Гогенцоллернов, вообще чрезвычайно харак-
терные для берлинских диалектизмов: gung 'jung’, Gugendt
'Jugend’, dassgenige 'dasjenige’, iegaget, jejaget, gejacht, gegahget
вм. 'gejagt’ и т. д.10 В саксонских диалектах Вредэ предполагает
колониальное смешение нижненемецкого у- и верхненемецкого g-:
jott, jut, jurke — gott, gut, gurke. Слова co старым у- (например,
jung, jahr, jagen и пр.) были вовлечены в это смешение («адопти-
рованы», по выражению Вредэ). В результате последующей уни-
фикации часть саксонских диалектов имеет в настоящее время
во всех указанных случаях нижненемецкое у-: jott, jurke, jut —
jung, jahr и т. д.; другая часть также во всех случаях обобщила g-\
gott, gurke, gut — gung, gahr и т. д. Таким образом, замена на-
чального у- через g- в этих говорах является не спонтанным фоне-
тическим «переходом», а «адоптацией» на основе смешения. Точку
зрения Вредэ подтверждают наблюдения старых грамматиков
XVII в. над ошибками саксонского произношения. Scioppius
(1626) обвиняет мейссснцев в том, что они говорят Jott вм. Gott,
Gar вм. Jahr; Jott jeb euch ein jutes naues Gar ('Gott gebe euch
ein gutes neues Jahr’).11 Это свидетельствует о состоянии смешения,
предшествующем современной унификации.
В недавнее время лейпцигский диалектолог Карг дополнил
эти замечания Вредэ еще одним существенным указанием. В зна-
чительной части Саксонии начальное g- произносится как глухое
сильное к- (fortis), в противоположность слабому глухому g-,
обычному в верхненемецких говорах. Географически район этого
519
произношения непосредственно примыкает к более северному /-
вм. g-. Карг рассматривает его как контрастное произношение,
возникающее на фоне смешения и отталкивания от северного ;-.12
Эти разрозненные наблюдения, указывающие на наличность
нижненемецких элементов в восточносредненемецких диалектах,
получают более широкое значение на основе изучения аналогич-
ных процессов смешения в говорах немецких переселенцев. Осо-
бенный интерес по своему сходству с восточносредненемецким
типом представляет так называемый «кашубский» диалект с. Ро-
зенталь (Молочанские поселения).13 Следующие признаки могли бы
дать основание для локализации этого диалекта в восточносредне-
немецкой области: 1) в начале слова р- /- (fund); в середине
и в конце -р вм. -р/; 2) ои > о (glown 'glauben’, dob 'taub’);
3) ei > ё (bred 'breit’); 4) приставка ge- > ji- (jifaln); 5) сохра-
няется окончание -еп в неопределенном наклонении и причастии.
Несмотря на совпадения с восточносредненемецким по целому
ряду признаков, просмотр поселенческих списков показал, что
среди первоначальных колонистов не было выходцев из восточной
части средней Германии, но наряду с южными немцами в значи-
тельном числе представлены были северные. К тому же «кашубами»
обычно называют выходцев с низовий Вислы, т. е. немцев из Ка-
шу бии, говорящих на западнопрусских (нижненемецких) диалек-
тах. Таким образом, кажущиеся «восточносредненемецкие» при-
знаки на самом деле являются вторичными признаками нижнене-
мецкого диалектологического субстрата, а начальное /----обыч-
ным результатом смешения. Нижненемецкий диалект «кашубов»
при столкновении с верхненемецким, поддержанным нормой
национального языка, утратил свои наиболее характерные осо-
бенности, первичные признаки, резко отклоняющиеся от нормы
и могущие служить препятствием для языкового общения с одно-
сельчанами и соседями. Таким образом были вытеснены: 1) нижне-
немецкие бесперебойные согласные t вм. z или (3 (ср.-в.-нем. 33),
р вм. / (//), к вм. ch\ ср. н.-нем. tid, water, open, maken — в.-нем.
zeit, wasser, offen, machen; 2) н.-нем. недифтонгированные долгие
гласные f, й (fl)-. ср. н.-нем. is, bus (IGde) — в.-нем. eis, haus,
leute (lait); 3) н.-нем. долгие e, о, о вм. средневерхненемецких /е,
ио, tie (новонем. I, й, й): ср. н.-нем. dep, god, sole — в.-нем. tief,
gut, suss (ср.-в.-нем. tief, guot, siie^e); 4) н.-нем. конечное -/ вм.
в.-нем. -b (-р): ср. н.-нем. wif, dief—в.-нем. weib, dieb и мн. др.
Напротив, бесперебойное -р в середине и в конце слова (поддер-
жанное западносредненемецким -р), долгие е, о, приставки je-, ко-
нечное -еп (поддержанное литературным языком) сохранились
в процессе языкового смешения как отклонения менее значительные.
Мы имеем право воспользоваться этой аналогией и в вопросе
об образовании восточносредненемецких диалектов в условиях
более древнего колониального смешения. Совпадение с «кашуб-
ским» является закономерным результатом конвергирующего раз-,
вития. Восточносредненемецкие диалекты представляют продукт
520
смешения верхненемецких говоров с вторичными признаками
нижненемецкого диалектологического субстрата.
В дополнение к приведенным выше наблюдениям Вредэ, ко-
торые вполне подтверждают нашу концепцию, перечислим еще
некоторые нижненемецкие особенности, сохранившиеся в восточно-
средненемецких диалектах.
1. ei (герм. ои (герм. аи)^>д: ср. boss 'Heiss’, 6g(e) 'Auge’.
Это явление, уже отмеченное в «кашубском» говоре, на диалекто-
логической карте Германии охватывает нижненемецкие и восточно-
средненемецкие говоры как одну сплошную территорию; 14 сле-
довательно, мы можем рассматривать его как один из вторичных
признаков нижненемецкого диалектологического субстрата.
2. Спирантное произношение g- в начале слова в северной
части верхнесаксонских говоров (так называемый osterlandisch —
район Галле и Лейпцига). Явление это также непосредственно
примыкает к нижненемецкому спирантному g- (j-) и имеет не-
сколько градаций. Наиболее северная полоса обнаруживает на-
личие спиранта во всех положениях: перед согласными г, Z, перед
задними и передними гласными; в более южной полосе у- сохра-
няется только перед гласными (задними и передними); наконец,
на периферии указанной области у- представлено только перед
передними гласными (в том числе в префиксе уе-).15 Отмеченные
градации (Stafellandschaft) говорят о вытеснении нижненемец-
кого у- верхненемецким g-, причем наиболее прочным является,
как мы уже видели на примере «кашубского» говора, у- в неудар-
ном префиксе je-. Об отступлении у- свидетельствуют и историче-
ские источники: в городском просторечии Лейпцига еще в XVIII в.,
по свидетельству Готшеда (1748), царили Jott ('Gott’), Jabe
('Gabe’), jut ('gut’), в настоящее время вытесненные формами
на g-.16 Кроме того, как уже было сказано, «адоптация» у- > g-
(gar вм. Jahr) и контрастное g-^>k (kut вм. gut), расположенные
по южной границе спирантной области, указывают на более широ-
кое распространение нижненемецкого диалектологического суб-
страта.
3. Параллельно замене pf- через /- в городских говорах север-
ной Германии, возникших на нижненемецкой почве, встречается
аналогичная замена начального z- (н.-нем. Z-) через $, например:
seit вм. Zeit (н.-нем. tid).
Это явление отмечено, например, в Берлине: sti вм. zu, sen
вм. zehn; ср. в письмах Гогенцоллернов (1665): seit вм. zeit,
angesiindt вм. angeziindet. Оно распространяется на южный Бран-
денбург, усвоивший под влиянием Берлина верхненемецкий тип
языка: ср. su вм. zu, basalan вм. bezahlen и др.17 Оно констатиро-
вано и в средневековых литературных памятниках, свидетель-
ствующих о проникновении верхненемецких влияний в нижне-
немецкие диалекты; проф. Рёте цитирует такие примеры из «Wurz-
garten Mariae» (рукопись XV в.): sit ср.-в.-нем. zit 'Zeit’, ghesam
(ср.-в.-нем. gezam), siichten (ср.-в.-нем. ziichten) и др.18 Нижне-
521
силезские говоры, примыкающие к южнобранденбургским
(до района Бреславля), также обнаруживают $-, что заставляет
Юнгандреаса, исследователя силезского диалекта, поддерживать
предположение, что «граница нижне- и верхненемецкого в преж-
нее время проходила южнее, чем теперь».19 Для нас это заключение
в такой форме не обязательно: реликты нижненемецкого диалекто-
логического субстрата встречаются всюду на территории смешан-
ной восточносредненемецкой колонизации.
4. Сохранение конечного заударного -е в тюрингенских, сак-
сонских и значительной части силезских диалектов в противо-
положность западносредненемецким и южнонемецким. Ср. Auge,
Ochse, Flasche, Kirche, Ganse, Zahne, bose, kame и др. В ряде
случаев диалекты архаичнее литературного языка: ср. Hemde,
Bette, Stucke, lure, gerne, schone и др.20 Это явление, общее вос-
точносредненемецкому и большинству нижненемецких говоров,
из верхнесаксонского языка Лютера проникло в письменную
норму национального языка еще в XVIII в., как так называемое
саксонское е ('е Saxonicum’) служило главной мишенью для на-
падения сепаратистов-южан (австрийских католиков, швейцарцев
и др.).21 Точно так же большая часть нижненемецкого и восточно-
средненемецкого (верхнесаксонский, восточнотюрингский, нижне-
силезский) сохраняет конечное -еп, которое в западной и южной
Германии редуцировано в -э, -v. Ср. верхнесакс.: Wochen 'Wagen’,
Rotten 'Ratten’, pl. mussen 'miissen’, so|3en 'sa^en’ и др.22
5. Сохранение звонких взрывных 6, d, g и звонкое z (орфогр. s-)
перед гласными (или в литературном произношении) в противо-
положность глухим слабым b, d, g, s большинства средне- и южно-
немецких диалектов. Звонкие согласные, характерные для части
силезских говоров, объясняются некоторыми исследователями
как влияние славянской артикуляции.23 Однако, если бы в говорах
немецких колонистов, заселивших Силезию, отсутствовало разли-
чие между звонкими и глухими, оно не могло бы закрепиться
под влиянием смешения с славянами. Сохранение звонкости
согласных и связанная с этим отчетливая дифференциация звон-
ких и глухих (6 — р, d — t, g — к, z — s) являются общим свой-
ством нижненемецких диалектов в противоположность верхне-
немецким. Из нижненемецкого диалектологического субстрата
оно произошло в берлинском просторечии, в балтийсконемецком
и т. п. Значение нижненемецкого элемента в колонизации Силезии
признавали все старые исследователи силезских диалектов начи-
ная с Карла Вейнгольда (1853).24 Только в последней работе Юн-
гандреаса (1928) отрицается сколько-нибудь существенная роль
нижненемецкой колонизации и выдвигаются Тюрингия и Саксо-
ния как главный очаг колонизационного движения. С историче-
ской точки зрения эта теория мало вероятна: трудно предполо-
жить, что Тюрингия и Саксония, колонизованные с севера и с за-
пада в XI—XII вв., в XIII в. сами могли стать центром мощноц
аграрной колонизации, для которой нужен был избыток населе-
522
ния. С лингвистической точки зрения параллели, устанавливае-
мые Юнгандреасом между тюрингенско-саксонскими и силезскими
диалектами, отнюдь не доказывают «влияния», так как в значи-
тельной части они основаны на конвергенции благодаря развитию
из одинаковых элементов смешения (например, /- и -р вм. р/,
ei > ё, ои б, сохранение конечного -е и др.). В дальнейшем
мы встретимся с целым рядом аналогичных случаев иллюзорных
«саксонских» или «восточносредненемецких» влияний.
6. Весьма существенным критерием наличности в восточно-
средненемецких говорах нижненемецкого диалектологического
«субстрата» являются лексические реликты. На примере смешан-
ных диалектов Бериславской группы мы видели, как прочно
сохраняются лексические признаки вытесненного диалекта, в осо-
бенности — в области хозяйственно-бытовой лексики, не имеющей
параллелей в национальном (литературном) языке. С этой точки
зрения восточносредненемецкие диалекты изучены недостаточно.
Тем не менее в ряде случаев можно наблюдать совпадения между
восточной и северной Германией. Ср., например, Abendbrod
(вм. конкурирующих синонимов Abendessen, Nachtessen), Botcher
(вм. Kufer, Kubler и др.), Flur или Hausflur (вм. Gang, Era),
Kiepe (вм. Tragkorb), klingeln (вм. schellen), platten (вм. bugeln),
Pfefferkuchen (вм. Lebkuchen), Sonnabend (вм. Samstag), Tischler
(вм. Schreiner) и др.25 Восточносредненемецкая лексика Лютера,
совпадавшая во многих отношениях с севернонемецкой, была непо-
нятна на юге Германии, о чем свидетельствуют словари, которыми
сопровождали первые издания Лютеровой библии печатники
Страсбурга, Базеля, Аугсбурга и других южнонемецких типо-
графских центров XVI в.: например, лютер. fett — южн. feist
('жирный’), лютер. Lippe — южн. Lefze ('губа’), лютер. Splitter —
южн. Spreiss ('заноза’) и мн. др.26 Как видно из отсутствия перебоя
в этих примерах, а также во многих других через восточносредне-
немецкий диалект Лютера в литературный язык проникли слова
по своему происхождению нижненемецкие.
Остается вопрос, почему во всех указанных случаях при столк-
новении между нижненемецкими и верхненемецкими элементами
отпадают первичные признаки именно нижненемецкого, а верхне-
немецкий функционирует как норма? В «кашубском» говоре
верхненемецкие элементы имеют поддержку национальной нормы,
внедряемой через письменность, школу, общение с местной немец-
кой интеллигенцией (учителем, в дореволюционное время —
пастором и т. д.). В эпоху образования восточносредненемецких
колониальных говоров (XII—XIV вв.) общенациональной нормы
немецкого языка еще не существовало, и в этом смысле конкури-
рующие диалекты были равноправны. Но с очень раннего времени
в средневековой Германии наметилось экономическое и культур-
ное преобладание юга над севером. Начиная с саксонских войн
Карла Великого, связанных с насильственной феодализацией
и христианизацией нижненемецкого севера, элементы южноне-
523
мецких диалектов проникают в письменные памятники севера
(так уже в древнесаксонской поэме «Гелианд» начала IX в.),
и это явление в XIII—XIV вв. становится все интенсивнее, пред-
варяя наступающее после Реформации завоевание севера верхне-
немецкой национальной нормой.27 Характерно, что большинство
средневековых поэтов, уроженцев нижненемецкого севера, вы-
ступает в рыцарской литературе XIII—XIV вв. с произведениями,
написанными на средневерхненемецком языке.28 Таким образом,
независимо от вопроса о численном соотношении северных и южных
элементов в колонизации верхненемецкие диалектологические
признаки (в особенности — верхненемецкий перебойный консо-
нантизм) повсюду имеют социальный перевес.
2
Наша общая концепция развития восточносредненемецких
говоров подтверждается многочисленными примерами мнимых
«восточносредненемецких» диалектов, закономерно возникающих
во всех случаях развития верхненемецких наречий на нижнене-
мецком диалектологическом субстрате. Это относится в особенности
к городским мещанским диалектам северной Германии. Из этих
последних наиболее изучен берлинский диалект (Berlinisch),
о котором имеется солидная монография проф. Агаты Лаш, авто-
ритетного специалиста по нижненемецкой диалектологии.29 Мы
воспользуемся фактическим материалом этой монографии, но
представим его в ином методологическом освещении и распреде-
лении вследствие явной неудовлетворительности общей концепции
проф. Лаш.
До XVI в. в Берлине, как во всех городах северной Германии,
господствует местный нижненемецкий диалект (бранденбургский),
которым пользуются как в устной речи, так и в письменных па-
мятниках. В начале XVI в. берлинские канцелярии усваивают
верхненемецкую письменную норму, освященную авторитетом
саксонской канцелярии и Лютера. А. Лаш справедливо указывает,
что это сравнительно раннее усвоение возникающей национальной
нормы обусловлено распадом ганзейских (северных) связей Бер-
лина и тесными хозяйственными и культурными отношениями
с Саксонией, в частности с Лейпцигом.30 (О ведущей роли Саксонии
в буржуазном развитии Германии XVI в. и ее значении как язы-
кового центра я говорил подробно в другом месте 31). В связи
с этим происходит вытеснение нижненемецкого языка из устной
речи, сначала — социальных верхов, дворянства и бюргерства,
потом — более широких масс городского мещанства, и образуется
тот смешанный по своему характеру берлинский разговорный
язык (Berlinisch), верхненемецкий по основным, первичным
признакам, но нижненемецкий по совокупности образующих
«артикуляционную базу» вторичных признаков, который известен
524
нам в настоящее время как мещанское просторечие Берлина.
Этот процесс я представляю себе по аналогии развития «ново-
швабских» говоров,^2 как происходящее под влиянием новой верх-
ненемецкой (в первую очередь — письменной) нормы последова-
тельное вытеснение первичных признаков местного диалекта,
сначала — наиболее резких, потом — менее значительных, при-
чем в языке мещанства сохраняется гораздо больше реликтов
нижненемецкого диалектологического субстрата, чем в разговор-
ном языке господствующих и образованных классов («gebildete
Umgangsprache»), утратившем эти признаки на более ранней
стадии развития.
Перечислим основные признаки мещанского просторечия Бер-
лина с точки зрения этого процесса.
А. Первичные признаки нижненемецкого утрачены так же, как
в «кашубском». Вместо нем. Water, ltd, open, maken—в.-нем.
wasser, zeit, offen, machen; вместо is, hus, hide — eis, haus, laite;
вместо god, dep—gut, tief; вместо wif — weib, и т. д. Сохранился,
однако, целый ряд характерных реликтов нижненемецких бес-
перебойных согласных, недифтонгированных гласных и т. д.
Сюда относятся: 1) местоимения (часто употребительные, полу-
формальные слова): ick, icke, 'ich’, wat 'was’, det 'das’, et 'es’
(в настоящее время — только как энклитическое 7, но еще в на-
чале XIX в., по свидетельству комедии Jul. v. Voss (1831): «Wenn
ick darann gedencke Fahrt et mi noch in alle Gelenke»).33 Роль
местоимений как реликтовых слов подтверждается аналогией
среднефранкских говоров, имеющих dat, wat, et (и allet). 2) Не-
которые неударные окончания: уменьшительные на -ken (bisken
'bisschen’, Fritzken и др.), средний род прилагательных на -et
(armet, jedet, jro£et 'grosses’, kleinet). Последняя форма истори-
чески проникла в нижненемецкие диалекты как перевод верхне-
немецкого -es (ср.-в.-нем. -ez\ armez); исконная нижненемецкая
форма среднего рода окончания не имела (н.-нем. arm). 3) Лекси-
чески изолированные словарные реликты интимного или вульгар-
ного обиходного языка, отсутствующие или неупотребительные
в языке литературном: например, Schnute 'Schnauze ('морда’),
knutschen 'knautschen’ ('мять’, 'обнимать’), schiten 'scheissen’,
doof 'наивный’, 'глупый’ (в.-нем. taub), det is mir pipe 'наплевать’
(pipe — в.-нем. 'pfeife’), Tole или Tele 'сука’ (в.-нем. диалект, zil)
и некоторые др. 4) О вытеснении нижненемецкого начального t-
верхненемецким z- свидетельствует, как уже было упомянуто,
распространенное произношение начального -z как s- (seit, sen,
вм. zeit, zehn).
Б. Из вторичных признаков нижненемецкого сохранились
в области консонантизма следующие. 1) Бесперебойное р вм. pf
в середине и в конце слова (appel, kopp, stump) при обычной
замене /- в начале слова (fennig, flanzen). Начальное р- сохрани-
лось в лексических реликтах, например pote 'Pfote’ ('лапа’).
2) Бесперебойное d (герм, d) вм. в.-нем. t- в начале слова: напри-
525
мер, doll 'toll’, dun Чип’, docliter 'Tochter’ и т. д. Таким образом,
в начале слова сохраняется, как в нижненемецком, совпадение
германского d (н.-нем. d, в.-нем. t) и р (н.-нем. d, в.-нем. d); ding
'Ding’, drei 'drei’ совпадают c dun Чип’ или doll 'toll’. В середине
слова н.-нем. -d- вытеснено в.-нем. -t-: ср. rote (н.-нем. rode),
weiter (н.-нем. wider) и т. д. (рядом с d из герм, р — leiden, kleder).
3) Спирантное g во всех положениях. В начале слова — как /-:
jut 'gut’, jans 'gans’, jehn 'gehen’, jrop 'gross’, jejessen'gegessen’,
jejangen 'gegangen’. В середине слова в интервокальном поло-
жении — после задних гласных у, после передних гласных,
а также Z, г—j: daye 'Tage’, буеп 'Augen’; weje 'Wege’, lijen 'liegen’,
foljen 'folgen’, moajen 'Morgen’; в середине слова перед глухими
согласными (s, t), а также на конце слова — ch (точнее — х после
задних, д после передних гласных и сонорных Z, г): dax 'Tag’,
weg 'Weg’, balg 'Balg’, kenig 'Konig’, ligt 'liegf, ligst 'liegst’,
jaxt 'jagt’ и т. д. Из всех этих явлений легче всего подвергается
вытеснению начальное ;-, как признак наиболее заметный. «Наи-
более прочной позицией»;-, как указывает А. Лаш, 34 является je-,
неударный префикс, что уже было отмечено нами на примере
«кашубского» и саксонских говоров: появляются формы jegessen,
jegangen и др. «Сверхлитературной» адоптацией (hyperhochdeutsch)
является уже упомянутый переход начального у- > g- (gar вм.
Jahr). Большая прочность спирантного -g во всех других положе-
ниях объясняется отсутствием единой нормы произношения -g
в немецком национальном языке: средненемецкий разговорный
язык, как и севернонемецкий, имеет спирантное -g.35 4) Весьма
существенной нижненемецкой особенностью берлинского консо-
нантизма является сохранение звонких Ъ, d и наличность звон-
кого z- (орфогр. s-) перед гласными, иными словами — отчетливая
дифференциация между звонкими Ъ, d, z и глухими р, t, s. Это
различие, поддерживаемое в национальном языке орфографиче-
ской фиксацией (по крайней мере для Ъ, d, g), отсутствует в боль-
шинстве верхненемецких диалектов и в разговорном языке средней
и южной Германии ввиду замены звонких слабыми глухими
(lenes). В этом случае школьная норма национального языка
поддерживала местное диалектологическое произношение. 5) Пе-
реход интервокального (-ip-) >-Ь- в таких словах, как например
Stiebel 'Stiefel’, Deibel 'Teifel’, Schwebel 'Schwefel’, Maikeber
'Kafer’, zwolbe 'zwolf’, Pulber 'Pulver’ и др., оставленный А. Лаш
без объяснения, свидетельствует о вытесненном нижненемецком
(также средненемецком) спирантном произношении интервокаль-
ного -Ь-. В средневековых берлинских грамотах мы имеем: gegeuen
'gegeben’, bvertredunge 'Ubertretung’ и т. п.; 36 в современных
нижненемецких и средненемецких диалектах — lowe(n) 'loben’,
owe(n) 'oben’, gawel 'gabel’ и др. Так как интервокальное -/-
в свою очередь произносилось в берлинском диалекте как -w-
(ср. в письмах Гогенцоллернов — Teuwel, Schwewel),37 то при
замене нижненемецкого -w- литературным -Ь- были адоптированы
526
также такие слова, как Stiewel, Schwewel, zwolwe, получившие
«сверхлитературную» форму Stiebel, Schwebel, zwolbe и т. д.
6) Нижненемецкое w- перед г сохранилось в лексических реликтах,
например wringen 'ringen’ ('выжимать белье’), Wrasen ('пар’)
и немн. др. Нижненемецкая ассимиляция Id > I с переходом пред-
шествующего а > о в реликтовом слове olle, der Olle ('alte5,
'der Alte’ — с оттенком интимно-бытовой фамильярности), тогда
как н.-нем. holden, soil и др. вытеснены в.-нем. halten, salz.
В XVIII в. еще сохранилась распространенная в группе нижне-
немецких диалектов веляризация интервокального -nd- > -ng-
(d, 77), о чем свидетельствуют в письмах Гогенцоллернов написания
вроде angers вм. 'anders5, engerung вм. '/inderung’ и обратные,
например oranderie вм. фр. orangerie.38 В настоящее время это
явление исчезло даже в мещанском просторечии.
В. В области вокализма из вторичных признаков нижненемец-
кого отхметим следующие: 1) ei ё, ои д (klen, hess— lofen, och),
как в «кашубском» и в восточносредненемецком диалекте. 2) Со-
храняется краткость в односложных формах существительных и
прилагательных при долготе в двусложных формах, вызванной
удлинением в открытом слоге: hot' — hofes, jlas ('glas’)—-jlases,
dach ('Tag’)—dayes, jrop ('grob’)—jrober и др. В верхненехмецких
диалектах односложная форма обыкновенно имеет удлинение
по аналогии с двусложной. Литературное произношение до конца
XIX в. не достигло в этом вопросе полной унификации севера
и юга; орфография односложных форм двусмысленна и не поддер-
живает ни северного, ни южного произношения.39 То же относится
и к прошедшему времени некоторых глаголов: каш — kamen,
gab (jap) — gaben (jaben). 3) Конечное заударное -e сохраняется
в противоположность большинству верхненемецких диалектов:
ср. буе 'Auge’, bese'bose’, daye 'Tage’ и т. д. Сохраняется, как
было уже отмечено в восточносредненемецком, и такое -е, кото-
рое отпало в литературном языке, например hemde 'Hemd’,
sticke 'Stuck’, feste 'fest’, ofte 'oft’ и др. Окончание -en также
не подвергается редукции (ср. «кашубский»).
Г. В области морфологии отметим как нижненемецкие явления
грамматические формы прош. вр. fund, bund (по аналогии со ста-
рым множественным числом — funden, bunden) — gung, hung
(по аналогии с предшествующим рядом), hebben, hadde ('haben’),
sajen — sechte — jesecht ('sagen’) и др. Из вопросов синтаксиса
было уже указано смешение дательного и винительного падежей,
в особенности местоимений на основе нижненемецких явлений
(mir : mich вм. нижненем. mi; dem : den в результате перехода
-тп > -п и т. д.). Очень характерны нижненемецкие элементы
в лексике: например, Johre 'Madchen’, Biele 'Kind’ « бранденб.
biiele), ledig в значении ' leer’, man 'nur’, mank ' zwischen’ и мн. др.
Как известно, в бытовой лексике, относящейся к сфере домашнего
хозяйства, жилища, утвари, пищи и т. п., немецкий национальный
язык до сих пор не имеет общей лексической нормы, и здесь
527
не только мещанское просторечие Берлина, но также и разговор-
ный язык образованных слоев общества (gebildete Umgangsprache)
в основном совпадают, как показало исследование П. Кречмера,
с соответствующими диалектологическими районами северной
Германии. Ср., например, Вагше 'дрожжи’, Besinge 'черника’,
Ыакеп 'дымить’, schlittern 'скользить по льду’ и др.40
Как мы видели, по целому ряду признаков берлинский диалект
совпадает с верхнесаксонским (восточносредненемецким): / в начале
и р в середине и в конце слова вм. pf при проведении перебоя
остальных согласных; переход ei > ё, ои >> д при наличии верхне-
немецкой дифтонгизации I (й), й > ei, ащ спирантное g; сохране-
ние конечного заударного -е, более широкое, чем в литературном
языке; смешение дательного и винительного падежей, и т. д. Мы
имеем здесь новый случай мнимого «восточносредненемецкого»,
аналогичный с «кашубским» говором.
Иначе смотрит на вопрос о происхождении берлинского диа-
лекта его исследовательница Агата Лаш. По мнению Лаш, сходство
берлинского и верхнесаксонского не может быть результатом
«случайного» совпадения. Оно объясняется своего рода «заимство-
ванием», имевшим место в XVI в.: усвоением верхнесаксонского
разговорного языка Лейпцига берлинским бюргерским патри-
циатом, тесно связанным с Саксонией торговыми и культурными
отношениями.41 А. Лаш решительно отрицает смешанный характер
берлинского диалекта и признает его звуковой основой «заимство-
ванную в XVI в. из верхнесаксонского языковую форму» («die
im 16. Jahrhundert aus dem Obs. entlehnte Sprachform»), «усвоен-
ный верхнесаксонский» («die Lautgestalt ist die erlernte obersach-
siche»), правда окрашенный особенностями нижненемецкой
артикуляции («niederdeutsche Sprechbasis») ,42 Что касается нижне-
немецких форм вроде wat, ik, dof и т. д., то они, с точки зрения
Лаш, являются не реликтами нижненемецкого языкового суб-
страта, а позднейшими лексическими «заимствованиями» из языка
мещанских низов Берлина, сохранявших в течение продолжитель-
ного времени свой родной нижненемецкий диалект.43
Эту концепцию А. Лаш следует признать принципиально не-
правильной. Как мы показали в другом месте,44 развитие город-
ского «полудиалекта» (Halbmundart), мещанского просторечия
или обиходного языка господствующих классов (gebildete Umgang-
sprache) происходит не через усвоение готовой письменной или
разговорной нормы, которая затем получает местную окраску,
согласно распространенному термину «mundartlich gefarbte
Umgangsprache» — «диалектологически окрашенный разговорный
язык», — а путем последовательного устранения из местного
диалекта его наиболее «грубых» первичных признаков. Процесс
этот протекает вполне закономерно: поэтому не случайно резуль-
таты этого процесса будут совпадать, как мы видели на примере
«кашубского» говора, принадлежащего также к мнимым «восточно-
средненемецким» диалектам. При устранении таких первичных
5?8
признаков нижненемецкого, отпавших в первую очередь, как
бесперебойные согласные, недифтонгизованные гласные t (й), й,
особенно важное значение имела письменная норма, усвоенная
через школу и книгу, конечно, также и образцовый разговорный
язык Лейпцига и других ведущих хозяйственных и культурных
центров. Однако берлинцу XVI в. не нужно было учиться в Лейп-
циге произношению ei, ои как ё, о, бесперебойному -р или спирант-
ному -g, или сохранению конечного заударного -е, поскольку
все эти явления издавна наличествовали в его родном нижнене-
мецком диалекте, а начальное /- и смешение дательного и вини-
тельного падежей мы уже объясняли как закономерно повторяю-
щееся на нижненемецкой почве новообразование. Можно лишь
согласиться, что присутствие этих явлений в верхнесаксонском
послужило препятствием к их вытеснению из берлинского диа-
лекта. Только характерная для Берлина делабиализация гласных
и, о, ей > I, е, ei (например, glick 'Gliick’, bese 'bose’, nei 'neu’)
могла бы подсказать мысль о диалектологическом влиянии верхне-
саксонского (верхненемецкого) разговорного языка, поскольку
большинство нижненемецких говоров, в противоположность верх-
ненемецким, сохраняет лабиализованные гласные. Но и это нельзя
считать доказанным, потому что именно в восточнонижненемец-
ких говорах, возникших на почве колониального смешения,
делабиализация кое-где также встречается (в частности, в сосед-
нем с Берлином среднебранденбургском, кроме того, в западно-
прусском, а также в балтийсконемецком полудиалекте).
Что фонетическая основа берлинского диалекта неизменно
оставалась нижненемецкой, показывают отмеченные нами при-
знаки нижненемецкого языкового субстрата, отсутствующие
в верхненемецком, в особенности — звонкие b, d, z, и сохранение
звонкого нижненемецкого d- (герм, d) в начале слова (doll, dun
и т. д.) при замене его литературным -t- в середине слова (rote,
welter), тогда как верхнесаксонский в обоих случаях имеет оди-
наково слабый глухой (lenis). О том же свидетельствуют адопта-
ции -/- > -Ь- в таких словах, как Stiebel, Deibel, zwolbe и др.,
предполагающие замену исконного нижненемецкого (и средне-
немецкого) интервокального -w- литературным -6- (loben вм.
н.-нем. lowen), в то время как разговорный язык Лейпцига и го-
родских центров Верхней Саксонии сохранил еще в начале XIX в.
диалектологическое -w- и потому не мог развить соответствующих
адоптаций. Наконец, вопреки мнению А. Лаш, наиболее очевид-
ным признаком нижненемецкого субстрата являются лексически
изолированные реликты (типа ik, wat, dof и т. д.). Это — явление,
закономерно повторяющееся во всех смешанных говорах при
отпадении первичных признаков, которые всегда элиминируются
в порядке лексического вытеснения (Wortverdrangung), так что
отдельное слово по тем или иным причинам семантического харак-
тера может сохраниться, несмотря на вытеснение остального ряда.
Такие реликты мы отмечали неоднократно при современных сме-
34 В. М. Жирмунский 529
шениях: ср., например, в Люксембурге, в новошвабском говоре
молодого поколения, flao 'Floh’ ('блоха’) рядом с модернизован-
ными формами gross, hoch (вм. швабск. graos, haox).46 Конечно,
реликты богаче представлены в диалекте мещанских «низов» Бер-
лина, как и прочие более заметные диалектизмы; но нет никаких
оснований считать их заимствованиями, как это делает Лаш:
они восходят к старому нижненемецкому диалекту.
Таким образом, мы можем признать, вместе с Лаш, что берлин-
ский диалект не является «беспорядочной смесью испорченных
языковых форм» (ein regelloses Gemisch in verwahrloster Form»), 46
по только в том смысле, что процесс смешения, послуживший
основанием для образования этого диалекта, имел вполне законо-
мерный характер, о чем свидетельствует прежде всего совпадение
с другими диалектами «восточносредненемецкого» типа.
Другим примером мнимого «восточносредненемецкого» может
служить городской говор Магдебурга, описанный Р. Леве.47
Мы имеем и здесь исконный нижненемецкий диалект, вытесняемый
с XVI в. верхненемецким. Если верхушка бюргерства принимает
новую национальную норму в эпоху Реформации, то в низах
городского мещанства местный нижненемецкий диалект, как со-
общает Леве, окончательно вымирает только в начале XIX в.
В современном мещанском просторечии Магдебурга имеется ряд
явлений, уже знакомых нам по берлинскому диалекту. 1) Происхо-
дит вытеснение тех же первичных признаков нижненемецкого
(бесперебойных согласных, недифтонгизованных гласных и т. д.)
при сохранении отдельных лексических реликтов — тех же место-
имений vat, dat. 2) Из нижненемецкого консонантизма сохра-
няются: бесперебойное -р вм. -р/ (apl, kop, tsop, damp) с заменой /-
(по-видимому, в начале слова); начальное d- вм. t- (doxtr, dauznt),
с заменой литературным -t- в середине слова (roth, keta, vetr);
различение звонких и глухих (d, 6, z — t, р, s); спирантное g
(jras, jlas, deQ 'Teig’, dax 'Tag’); кроме того — спирантное -w-
вместо интервокального -Ъ- (lewa 'leben’, klewa 'kleben’), исчез-
нувшее в берлинском. 3) Из нижненемецкого вокализма остаются:
ei > ё, ои > о (klen, bretlofn, бх); отсутствие долготы в однослож-
ных формах (dax 'Tag’, jrap, 'Grab’, rat 'Rat’ и т. д.) при соответ-
ствующем удлинении в открытом слоге двухсложных форм (rata
и др.). 4) В области синтаксиса — обычное смешение дательного
и винительного (mir — mich). Леве отмечает совпадения с бер-
линским и восточносредненемецким, объясняя их влиянием
культурных и хозяйственных связей с городскими центрами
Верхней Саксонии (Лейпцигом, Виттенбергом).48 Однако пример
одинакового распределения звонкого d- и глухого -t- в берлинском
и магдебургском диалектах (doxtr — vetr), в противоположность
верхнесаксонскому слабому глухому d в обоих положениях
(doxtr — vedr), еще раз показывает, что совпадение это основано
прежде всего на закономерной последовательности вытеснения
первичных признаков нижненемецкого субстрата.
К «полудиалектам», возникшим на нижненемецкой почве,
относятся также упомянутые выше балтийсконемецкий и значи-
тельная часть волынских говоров. Как уже было сказано, нижне-
немецкий диалект Прибалтики окончательно исчезает в XVIII в.
Современный балтийсконемецкий как социальный диалект не-
мецкого дворянства и бюргерства Прибалтики, развивавшийся
без крестьянской диалектологической базы, более других говоров
того же типа приблизился к литературной норме, сохранив лишь
наименее заметные из вторичных признаков нижненемецкого,
придающих национальному языку особую местную окраску.49
Сюда относятся следующие явления: 1) /- вм. pf- в начале слова
(fefor, funt), а также после т (Kamf, simfon). В других положе-
ниях нижненемецкое -р вытеснено -pf (apfol, kopf). Лексически
изолированные реликты: poto 'pfote’, patwex 'pfad’ и немн. др.
2) Спирантное j- вм. g- в начале слова перед передними гласными,
в том числе в приставке je- (jen 'gehen’, jlbal 'Giebel’, jofalon
'gefallen’). Перед задними гласными и плавными спирантное g-
в начале слова вытеснено смычным (golt, gras, glas). Как мы ви-
дели на примере верхнесаксонского, это — первая ступень вы-
теснения. В остальных положениях g~ всегда спирантное по
тем же правилам, как в берлинском (tayo, wejo, borjon, foljon;
lax, weg, baerg; blgt, jaxt). 3) Дифференциация между звонкими b,
d, g и глухими p, t, к сохраняется, как в литературном языке.
Точно так же $ перед гласными, как z (za-pn, lezan и т. д.). 4) -ng
на конце слова произносится, как -ук (larjk, juijk). Это явление,
общее для всех севернонемецких говоров, в противоположность
средне- и южнонемецкому у (lag, jug), не отмечено А. Лаш в ее
описании берлинского диалекта, но несомненно наличествует
и там (ср., например, mank 'zwischen’ < ср.-н.-нем. mang).
5) Сохранение краткого гласного в односложных формах (tax
'Tag’, grap 'Grab’, glas 'Gias’, gap 'gab’ и др.), в противополож-
ность двухсложным с удлинением в открытом слоге (taye, 'Tage’,
gaban и пр.). 6) Отсутствует нижненемецкий переход ei, ои > ё, д.
Однако ei всегда имеет первым элементом е как в тех случаях,
когда оно восходит к средневековому ei (hgis 'heiss’, brgit 'breit’),
так и в тех, когда оно возникло путем дифтонгизации долгого
i (zgit, gis). Я считаю, что в последнем случае мы имеем доказа-
тельство замены исконного нижненемецкого t, ориентированной
на графическую норму (gis вм. is), с подстановкой нижненемецкой
формы закрытого дифтонга, привычной в словах с средневековым
ei (brgit), по своему написанию совпадающих с первой группой.
Ориентировка на графику подтверждается произношением ai
в тех случаях, где это подсказывается написанием (Waise, Saite,
Main и др.). 60 Кроме указанных нижненемецких признаков,
балтийсконемецкий (как и городские диалекты Берлина и Магде-
бурга) имеет делабиализованные гласные i, е, ei < и, б, ей
(beza, birst, hgito), характерные для верхненемецкого диалекто-
логического произношения, но встречающиеся, как уже было
531
34*
отмечено, и в некоторых колониальных говорах северо-восточной
Германии. В общем мы могли бы отнести балтийсконемецкий на ос-
новании начального /- и некоторых других признаков к «восточно-
средненемецкой» группе, если бы не имели более точных данных
об условиях его происхождения.
То же может быть сказано о тех немецких говорах Волыни,
в которых под влиянием церкви и школы первоначальный нижне-
немецкий вытеснен верхненемецким с местной диалектологиче-
ской окраской. Мы отмечали уже в волынских диалектах «восточно-
средненемецкие» признаки: начальное /-, срединное и конечное
-р вместо р/, смешение дательного и винительного. Добавим на
основании анкет спирантное g во всех положениях (с. Аннетта:
fraghen, liejen, sorjen, fliejt, saght, Tach и др.), в частности —
в начале слова перед передними гласными и в префиксе ge- (jern,
jibt, jestorben, jefallen), но также в ряде анкет (Аннетта, Мура-
шовка, Новоромановка, Новоградволынск и др.) перед задними
гласными и плавными согласными (gharten, ghold, ghut, jleich,
jreper и др.). Наличествует также делабиализация й, д, eu^>i,
е, ei (Stick, bese, heite), но это — явление, характерное для прус-
ских говоров, от которых в ряде случаев происходят известные
нам нижненемецкие говоры Волыни. Высказывалось предположе-
ние, что эти совпадения с балтийсконемецким объясняются влия-
нием балтийских пасторов, которые как первые представители
немецкого школьного просвещения при старом режиме распро-
странили здесь немецкий литературный язык в балтийской произ-
носительной форме. Однако фактически такие явления, как бес-
перебойное -р- или спирантное g- перед задними гласными и
согласными, представляют существенное отклонение от прибал-
тийской нормы. Относительно других признаков мы придержи-
ваемся и в данном случае той общей точки зрения, которая была
уже высказана выше по поводу взаимоотношения берлинского
и верхнесаксонского: прибалтийские пасторы не принесли на
Волынь ничего такого, чего не было бы раньше в нижненемецких
диалектах самих волынцев; они могли, самое большее, предо-
хранить от полного вытеснения некоторые диалектологические
признаки нижненемецкого языкового субстрата, которые на-
личествовали в их собственном диалектологически окрашен-
ном произношении. В остальном развитие говора протекало с
обычной закономерностью, как последовательное отпадение все
тех же наиболее заметных первичных признаков нижнене-
мецкого .
Весьма интересную проблему представляет, с точки зрения
нашей общей концепции, так называемый «верхнепрусский» диа-
лект («hochpreussisch») ,61 Территория «верхнепрусского» (Эрм-
ланд) представляет изолированный верхненемецкий район среди
восточнонижненемецких диалектов Восточной Пруссии. Отсут-
ствуют первичные признаки нижненемецкого (бесперебойные
согласные, недифтонгизованные долгие и др.). Начальное /- вм. pf-
532
и сохранение бесперебойного -р в середине и в конце слова (fe-
for, faif 'Pfeife’ — lop 'ТорГ, klopo 'klopfen’), а также переход
ou^>o (hes, fJos Qg— bQin) сближают этот диалект
с восточносредненемецким, а некоторые историко-географические
данные говорят в пользу наличности в верхнепрусском районе
колонизации из Силезии.52 По распространенному мнению, мы
имеем в верхнепрусском колониальный силезский диалект. Не от-
рицая элементов силезской колонизации и возможности тех или
иных восточносредненемецких диалектологических влияний (на-
пример, переход ё > a: lawo 'leben’ и др.), мы считаем, что верхне-
прусские говоры являются обычным продуктом колониального
смешения нижненемецкого с верхненемецким. К этому выводу
пришел уже Вредэ, отрицавший общепринятую «силезскую» тео-
рию. «Нет возможности», писал Вредэ, «установить для этого
верхнепрусского округа единую, совпадающую с ним по диалекту
родину. Мы имеем здесь дело с языковой унификацией (Aus-
gleich), результатом которой является в окружающих районах
нижненемецкий диалект, а в данном районе — верхненемецкий,
по ряду признаков сходный с силезским».53 Таким образом, можно
думать, что в остальных частях колониального северо-востока
Германии также наличествовали верхненемецкие элементы, но
они были поглощены элементами нижненемецкими, очевидно —
гораздо более многочисленными. Напротив, в южной части Вос-
точной Пруссии, в территориальных границах Эрмланда, в коло-
низации преобладали верхненемецкие элементы (в частности,
может быть, и силезские), что привело к обычному закономерному
вытеснению первичных признаков нижненемецкого и к частичному
совпадению с знакомым нам «восточносредненемецким» типом
(/- и -р вм. р/; ei, ои > ё, д и др.). Очевидными признаками нижне-
немецкого языкового субстрата являются следующие особенности
верхнепрусского: 1) различие звонких d, Ъ, g, z и глухих t, р, к, s
(в противоположность верхненемецким диалектологическим 1е-
nes) — явление, встречающееся лишь в некоторой части силез-
ских говоров; 2) префикс je- вм. ge-, как реликт спирантного произ-
ношения начального нижненемецкого g- (jahalo 'gehalten’, jaswiij
'geschwind’); 3) спирантное произношение -Ъ- не только между
гласными, как в средненемецком (raiwo 'reiben’, iwa cuben’),
но, как в нижненемецком, перед глухими согласными и
на конце слова, где верхненемецкие диалекты имеют смычные
-Ъ или -р (arfs 'Erbse’, stgf 'Staube’); 4) веларизация -nd- > /у,
-nt (-nd) > yt, объединяющая верхнепрусский с соседними нижне-
немецкими говорами (bigo 'binden’, big 'hinten’, stuig 'Stunde’;
wigter 'Winter’, baigt 'Band’ и др.), тогда как в силезском встре-
чается только ndпосле передних гласных; 54 2) лексические
признаки нижненемецкого: например, swglk 'Schwalbe’, gaigt
'Ganserich’, l^iwefk 'Lerche’ и др.55 Это дает нам право включить
и верхнепрусский в обширную группу мнимых «восточносредне-
немецких» смешанных диалектов.
533
Таким образом, на ряде аналогичных примеров мы установили
закономерность развития смешанных говоров из нижненемецких
и верхненемецких элементов. С одной стороны, диалекты, возник-
шие на почве колониального смешения с перевесом верхненемец-
кого, как верхнесаксонский, тюрингенский, силезский, верхне-
прусский и современный «кашубский», с другой стороны, — «полу-
диалекты», образовавшиеся при усвоении верхненемецкой лите-
ратурной нормы на нижненемецкой языковой основе, как город-
ские говоры Берлина и Магдебурга, балтийсконемецкий и совре-
менный волынский, — все эти смешанные образования оказались
сходными по целому ряду признаков, обычно обозначаемых как
«восточносредненемецкие». Сходство это не может быть случай-
ным, но вместе с тем оно не требует перенесения сходных призна-
ков, механического «заимствования» из общего источника. Мы по-
казали, руководствуясь более ясным примером современного сме-
шанного говора («кашубского»), что совпадение это основано на за-
кономерном, последовательном вытеснении первичных, т. е. на-
иболее отклоняющихся от нормы, признаков нижненемецкого
диалектологического субстрата, при сохранении вторичных, т. е.
менее заметных отличий. Такими более или менее общими призна-
ками смешанных говоров «восточносредненемецкого типа» ока-
зались следующие. 1) Устранение нижненемецких бесперебойных
согласных и недифтонгизованных гласных. 2) В области консо-
нантизма: вместо pf — в начале слова /-, в середине и на конце
-р; частично — аналогичная замена начального z- через диф-
ференциация звонких d, &, g, z и глухих t, р, к, $; в некоторых слу-
чаях (Берлин, Магдебург) — сохранение нижненемецкого бес-
перебойного d вм. t, в особенности в начале слова; спирантное
g, в частности в ряде говоров — замена начального g- через /-,
особенно стойкая в префиксе ge- (je); частично, как адоптация,
переход /- > g- и др. 3) В области вокализма: ei, ои > ё (qi), о;
частично — сохранение кратких гласных в односложных формах
слова при удлинении в открытом слоге двусложных форм; ча-
стично — сохранение конечного заударного -е и нередуцирован-
ного -еп. 4) В области синтаксиса: смешение дательного и вини-
тельного падежей, специально местоимений. 5) В лексике: ряд
нижненемецких слов и лексически изолированных реликтов вы-
тесненных первичных признаков нижненемецкого. Разумеется,
каждый говор представляет индивидуальные вариации в зависи-
мости от качественных особенностей нижненемецких и верхне-
немецких элементов, их количественного соотношения и социаль-
ного веса, определяемого местными условиями. Наши наблюде-
ния устанавливают лишь общие для всех указанных диалектов
закономерные тенденции.
534
3
То, что сказано здесь о смешанных колониальных говорах,
применимо в широком смысле ко всем диалектам вообще. Совре-
менная диалектография, французская и немецкая, на опыте язы-
ковых атласов установила смешанный характер всех диалектов,
подорвав господствовавшее в старой лингвистике представление
о «языковом древе» обособленных друг от друга наречий, спонтанно
развивающихся из общего «праязыкового ствола». Хозяйственные
связи, в особенности торговые отношения, политические границы,
воздействия культурных центров — все эти факторы определяют
непрерывную перестройку диалектов под влиянием процессов
языкового смешения. Специально в интересующей нас области
верхненемецких влияний на нижненемецкой почве классическим
примером таких давних смешений является среднефранкский
диалект, в особенности его северная часть, так называемый ри-
пуарский говор кельнской области.
Среднефранкский диалект обычно выделяется из западносредне-
немецкого по признакам проведения второго перебоя согласных.
В западной части средненемецкого, как мы уже говорили, сохра-
няется бесперебойное р вм. р/ во всех положениях (pund, appel,
kopp). В среднефранкском к этому присоединяется отсутствие
перебоя в местоимениях dat 'das’, wat 'was’, et 'es’, allet 'alles’,
уже встречавшихся как нижненемецкие реликты (например,
в Берлине и Магдебурге). В остальных отношениях среднефранк-
ский (как и весь западносредненемецкий) имеет перебойный кон-
сонантизм.
Самая северная часть среднефранкского, рипуарский говор
Кельнской области, по признакам перебоя принадлежит также
к западносредненемецкому, но по большинству других особен-
ностей совпадает с соседними нижнефранкскими (севернонемецким)
диалектами. К таким нижненемецким особенностям рипуарского
относятся, например, следующие. 1) Сохранение недифтонгизо-
ванных долгих гласных I, й, й: wip 'weiss’, brun 'braun’, buck
'heute’. 2) Нижненемецкие ё, о, о вм. средневерхненемецких ie, ио,
йе (соврем, I, и, й): leef 'Liebe’, blood 'Blut’ (<Гср.-в.-нем. bluot),
sop 'suss’ (<Сср.-в.-нем. siie^e). 3) Переход ei, ои в e, o: ens 'einst’,
och'auch’. 4) Сохранение лабиализованных гласных, отсутствую-
щих в остальном западносредненемецком: kolsch 'kolnisch’, drock
'druckt’ dutsch 'deutsch’. 5) Нижненемецкое d (герм, d) вместо верх-
ненемецкого t: dausent 'tausend’, jedonn 'getan’. 6) Спирантное g
(например, kreech 'Krieg’), в частности, в начале слова у- вм.
g- (jot 'gut’, jan 'gern’, jesat 'gesagt’). 7) Спирантное -b- не только
в интервокальном положении, как в средненемецком (lowwen
'loben’), но также на конце слова (graf 'Grab’, af 'ab’).8) Отчетли-
вая дифференциация звонких b, d, z и глухих р, t, s в противо-
положность остальной части средненемецкого, имеющей слабые
535
глухие (lenes). К этому можно прибавить ряд других явлений
в области фонетики, грамматики и лексики.56
Тесная связь рипуарского с нижнефранкским (нижненемецким)
впервые была установлена Энгельсом в незаконченной работе
«Франкский диалект», напечатанной только в 1935 г.67 В этом
замечательном исследовании, опередившем развитие диалекто-
логии на несколько десятилетий, Энгельс возражает против фор-
малистической классификации диалектов по признакам перебоя
и указывает на позднее проникновение перебоя в среднефранк-
ские говоры, тем самым намечая путь к пониманию исторического
развития и взаимодействия диалектов. По мнению Энгельса,
граница между рипуарским говором и южной частью среднефранк-
ского, так называемым мозельским (moselfrankisch), проходящая
южнее р. Аар, хотя и была перекрыта впоследствии распростра-
нившимся в северном направлении перебоем согласных, имеет
гораздо более важное принципиальное значение, чем позднейшая
граница перебоя к северу от Дюссельдорфа (так называемая Веп-
rather Linie), разделяющая рипуарский и нижнефранкский (средне-
немецкий и севернонемецкий). Передвижение согласных, пишет
Энгельс, «проникло в рейнско-франкский диалект, уже само-
стоятельно развившийся, и разорвало его на несколько частей».68
«Как это всегда бывает, эта последняя волна, занесшая верхнене-
мецкое передвижение согласных на франкскую территорию, —
самая слабая и мелкая. Несомненно интересно наметить линию,
до которой она доходит» (т. е. до линии Бенрата). «Но эта линия
не может быть границей диалектов; она не в состоянии разорвать
на части самостоятельную группу исстари близко родственных го-
воров и не может дать повод к тому, чтобы в противоречии со всеми
языковыми фактами причислить эти насильственно разъединенные
обломки к более отдаленным группам».59 «Даже для жителя
Рейнской Франконии проникновение передвижения t и конечного
к не производит впечатления какой-либо языковой границы; даже
в хорошо знакомом ему районе он вынужден будет предвари-
тельно подумать, где же проходит граница между t и z, к и ch, а
при переходе через эту границу одно будет произноситься для него
почти так же легко, как и другое».60 Передвижение согласных,
как справедливо указывает Энгельс, «охватывает сравнительно
немного слов», притом — с исключениями по ту и другую сто-
рону границы, вызванными проникновением отдельных верхне-
немецких слов на нижненемецкую территорию. «Только там,
где представляется невозможным провести строгое различие
между Ъ is. р, dnt, gii/св начале слова, т. е. где имеет место то,
что французы ^преимущественно разумеют под accent allemand
(немецкий акцент.— В. Ж.), только там представитель нижненемец-
кого диалекта начинает ощущать тот великий разрыв, который
произвело в немецком языке второе передвижение согласных».61
Эта граница проходит между рипуарским и мозельским
диалектами.
536
Современные исследования в области рейнской диалектогра-
фии, весьма многочисленные и основанные на более обширном
материале, чем тот, которым располагала наука в 80-х годах
XIX в., всецело подтвердили точку зрения, высказанную Энгель-
сом в его неизданной работе. «Несмотря на Бенратскую зону»,
утверждает проф. Фрингс, «решающий разрыв рейнского языко-
вого ландшафта проходит в области Аар»,62 т. е. между рипуар-
ским и мозельским диалектами, областью Кёльна и Трира. Это
обстоятельство заставляет Фрингса пересмотреть классификацию
рейнских диалектов, основанную на перебое. «Житель северного
Рейна, например области Клеве, чувствует себя в языковом отно-
шении более близким Кёльну, чем Триру. Тем не менее лингвист
проводил между Кёльном и Клеве важнейшую языковую грань,
нижненемецко-верхненемецкую границу перебоя вообще (die nie-
derdeutsch-hochdeutsche Lautverschiebungslinie schlechthin), и,
в частности, обозначал область Клеве, нижнерейнские диалекты
к северу от Нейсса и Дюссельдорфа, термином нижнефранкский,
а области Кёльна и Трира, взятые как одно целое, термином средне-
франкский».63 «Преувеличенную оценку» (Lberschatzung) перебоя
согласных в старой диалектологии критикуют все современные
историки немецкого языка. «Рейнские диалектологи», как спра-
ведливо отмечает Бринкман, «научились обходиться без перебоя
при объяснении характера и исторического развития рейнских
диалектов».64 По поводу среднефранкского Бехагель пишет:
«Я считаю вероятным, что вся область среднефранкского была
первоначально нижненемецкой».65 Фрингс, на которого Бехагель
опирается, относит проникновение перебоя в эту область к 800—
1200 гг., т. е. к весьма позднему времени. «Процесс этот», говорит
Фрингс, «носил характер постепенного оверхненемечения (allmah-
liche Verhochdeutschung); при этом сохранилось множество исклю-
чений».66 В особенности много таких исключений в рипуарском
(кельнском) диалекте, теснее всего связанном с нижнефранкским.
Кроме уже названных местоимений, общих для всего среднефранк-
ского (dat, wat, et, allet), сюда относится целый ряд других слов,
сохранившихся без перебоя только в пределах кельнской области,
например op 'auf5, mot 'muss’, let 'liess’ — слова полуформальные,
co слабым ударением; ар 'Affe’ (как ругательное слово), tef,
tif 'сука’, put 'Pfote’ ('лапа’), schnut 'Schnauze’ ('морда’) —
слова интимного, бытового или «низкого» просторечия; wek
' Docht’, stutt 'Semmel’, kip 'Tragkorb’, t5t 'Rohrkanne’, tacken
*Ofennische’, pluten 'Lumpen’, timp 'Zipfel’, fucken 'Fischreu-
sen’ — лексические провинциализмы и профессиональные слова,
не имеющие верхненемецких параллелей в общенациональном
языке и др.67 В соответствии с этим Фрингс утверждает: «Сле-
дует говорить не о перебое, но о словах с перебоем» («man sollte
nicht von Lautverschiebung, sondern von lautverschobenen Wor-
tern sprechen»).68
537
Таким образом, и в данном случае мы имеем принципиально
утке известную нам картину устранения первичных признаков
нижненемецкого, которое совершается путем лексического вы-
теснения с сохранением словарных реликтов обычного типа.
Только движение это, происходившее в средние века, не имело
еще поддержки национальной нормы и ограничивалось устране-
нием наиболее заметного из первичных диалектологических при-
знаков — бесперебойного консонантизма. Дифтонгизация дол-
гих гласных и ряд других особенностей верхненемецких диалек-
тов, распространявшихся с юга по Рейну, остановились у терри-
ториальных границ Кельнской области, к югу от р. Аар, так
что кельнский диалект (рипуарский), несмотря на «оверхненеме-
чение» (Verhochdeutschung) консонантизма, сохранил, по основ-
ным своим признакам, нижненемецкий характер. Это объясняется
хозяйственно-политическими связями города Кельна и феодаль-
ной территории Кельнской области с нижним Рейном (Нидер-
ландами) и ганзейскими городами.69 При более интенсивных юж-
ных воздействиях мы имели бы обычный «восточносредненемецкий»
тип, как в Берлине или Магдебурге.
1936 г.
«ФРАНКСКИЙ ДИАЛЕКТ» Ф. ЭНГЕЛЬСА
И ПРОБЛЕМЫ НЕМЕЦКОЙ ДИАЛЕКТОЛОГИИ
1
Работа Энгельса «Франкский диалект» (1881—1882) 1 была
впервые опубликована в СССР в 1935 г.2 Как известно, она пред-
ставляет незаконченный экскурс, развернутое лингвистическое
примечание к обширному историческому исследованию «К исто-
рии древних германцев», занимавшему Энгельса в начале 80-х
годов XIX в. и также остававшемуся до недавнего времени не-
напечатанным. Помимо общего методологического значения,
«Франкский диалект» по своему прямому содержанию является
основополагающим специальным научным исследованием по исто-
рической диалектологии немецкого языка, соединяющим исклю-
чительную эрудицию в области германистики с широкими истори-
ческими и методологическими перспективами.
«Франкский диалект» Энгельса — это исторический труд и по
самой своей теме и по своему методу: он рассматривает проблему
классификации немецких диалектов в исторической перспективе —
в неразрывной связи с древними историческими судьбами герман-
ского народа.
Труд Энгельса в своей лингвистической части основан на до-
стижениях современного ему исторического языкознания, которое,
говоря словами Энгельса, «за последние 60 лет» получило такое
538
мощное и плодотворное развитие в сочинениях Боппа, Гримма
и Дица, которых Энгельс называет в «Анти-Дюринге» как осново-
положников современной исторической грамматики.3 И в то же
время Энгельс критически подходит к недостаткам сравнительно-
исторического метода, так отчетливо сказавшимся в вопросах
классификации немецких диалектов.
Энгельс, всегда живо интересовавшийся вопросами лингви-
стики и филологии, приступил к своему исследованию, крити-
чески вооруженный результатами научной работы современной
ему германистики. Он был хорошо знаком с трудами Якова Гримма
и его учеников Мюлленгофа и Морица Гейне. Полемизируя с мла-
дограмматиком Брауне, незадолго до этого выступившим с клас-
сификацией франкских диалектов по признаку перебоя,4 он опи-
рается на самостоятельное изучение первоисточников — памят-
ников древневерхненемецких и древнесаксонских письменных
диалектов. Не ограничиваясь текстами собственно литературными,
он обращается к письменным свидетельствам с более точной лока-
лизацией — к верденским податным спискам (с. 521), немецким
глоссам в «Салической правде» (с. 519), собственным именам
германского происхождения в латинских юридических докумен-
тах (с. 521). Специальное внимание он уделяет исторической топо-
нимике — местным названиям разного типа (на -ingen, -weiler,
-hojeri), как свидетельствуют расселения тех или иных германских
племен; в обширном экскурсе, посвященном этому вопросу (с. 535—
539), он пересматривает господствовавшую в его время точку
зрения Арнольда на этот вопрос, предвосхищая более точные
и правильные выводы позднейших исследователей.6
Но принципиальное методологическое значение имеет тот
факт, что данные древних письменных диалектов Энгельс контро-
лирует показаниями современных живых народных говоров.
Именно благодаря самостоятельному изучению народных говоров
Энгельс получил в свое распоряжение новый материал, позволив-
ший ему критически проверить и обнаружить поверхностный
схематизм классификации немецких диалектов, исходивший
в своей основе из древних письменных памятников. Во времена
Энгельса такая постановка вопроса противоречила господствую-
щим филологическим навыкам старой академической германи-
стики. Вместе с тем она наталкивалась на большие практические
трудности: диалектологическое обследование современных народ-
ных говоров располагало в то время лишь сравнительно ограни-
ченным материалом: вопросы истории языка ставились школой
Гримма лишь на основе свидетельств древненемецкой письмен-
ности. Как диалектолог Энгельс должен был опираться на мате-
риал своих собственных научных наблюдений.
Энгельс был уроженцем Рейнской провинции, бергского про-
мышленного района. Он родился в городе Бармене и посещал
гимназию в соседнем Эльберфельде. Эти города, где протекало
его детство, ныне слившиеся и объединенные в 1929 г. под восхо-
539
дящим к временам Энгельса названием Вупперталь, лежат в по-
лосе переходных говоров между нижнефранкским («салическим»)
и среднефранкским («рипуарским»), т. е., по принятой класси-
фикации, — между нижненемецким и верхненемецким. С другой
стороны, непосредственно к востоку от Бармена бергские говоры
граничат с вестфальским диалектом графства Марк (вошедшего
с 1815 г. в состав прусской провинции Вестфалии). Даже в самом
Бармене наблюдались заметные различия произношения и лек-
сики между восточными и западными кварталами города: achter
и henger 'hinter’, fiv (feif) и faut (fof) 'fiinf’, kopen и geilen 'kau-
fen’, rue и rod или honk 'Hund’, minen man и mine man 'meinen
man’ (вин. пад.), hire и here 'Birne’ и др.6
Как все немцы того времени, в том числе и образованные,
Энгельс, несомненно, практически владел местным народным диа-
лектом своей родины. По своему промежуточному положению
между нижненемецким и верхненемецким, между франкским
и саксонским (нижнесаксонским) диалект этот был особенно при-
годен для постановки общего методологического вопроса о прин-
ципах классификации немецких наречий.
В ряде случаев Энгельс действительно опирается на свои лич-
ные непосредственные наблюдения как уроженца Рейнской про-
винции. Сравните, например, его тонкие фонетические замеча-
ния о различиях в произношении спирантного g в этих диалек-
тах: «Как нидерландскому языку, так и рипуарскому диалекту
неизвестно чистое g. Часть говоров, расположенных у салической
границы, как например бергский, имеют в начале и в середине
слова вместо g также придыхательное gh, но все же более слабое,
чем в нидерландском языке. Прочие говоры имеют /. В конце
слова g везде произносится, как ch, но не как сильное нидерланд-
ское, а как слабое рейнско-франкское с/г, которое звучит, как
приглушенное /» (с. 530) (в современной фонетической термино-
логии — слабый, глухой, так называемый lenis).7
Свой опыт немецкого диалектолога Энгельс расширяет ана-
логичными наблюдениями над другими германскими языками,
с которыми он приходил в соприкосновение, прежде всего над со-
седним нидерландским, имеющим особо важное значение для
диалектологии нижнего Рейна. «Если литературный нидерланд-
ский язык имеет 1к, то в народной речи, особенно во Фландрии,
довольно часто приходится слышать ек» (с. 523). Это ек совре-
менного народного говора Энгельс считает характерным призна-
ком франкского, более древним, чем литературное ik, подтверж-
дая это положение рядом примеров из других рейнских диалектов
и из древних письменных текстов: «В Трире и Люксембурге eich,
в Кёльне и Ахене ech, по-бергски ёк» (там же). «Кроме этого,
мы располагаем еще только краткой формулой присяги, присое-
диненной к капитулярию Карломана 743 года и, вероятно, соста-
вленной на соборе в Лестине, т. е. в Бельгии. . . ес forsacho —
ich entsage [отрекаюсь]» (там же).
540
Там, где круг личных наблюдений оказывается недостаточным,
Энгельс обращается к художественной литературе на современ-
ных диалектах. Так, для характеристики пфальцского диалекта
он привлекает сборник стихотворений гейдельбергского поэта
Карла Готфрида Надлера, писавшего на пфальцском наречии
(с. 543).
Наблюдения над древними по своему происхождению особен-
ностями современных диалектов широко применяются Энгельсом
при лингвистическом толковании особенностей древнего литера-
турного языка (для того времени — также совершенно новый
методический прием). Так, он объясняет наличие аллитерации
начальных / — g— ch в древнесаксонской поэме «Гелианд» (IX в.)
указанием на свойственное современным диалектам того же района,
бергскому и вестфальскому, произношение начального g и /,
как ch (которое Энгельс сравнивает с глубоким «гортанным»
ch швейцарского, новогреческого или русского). «Если бы М. Гейне
обратил на это внимание, то ему не причинили бы особых затруд-
нений частое смешивание и взаимные аллитерации /, g и ch в Ге-
лианде» (с. 526—527).
Таким образом, Энгельс как лингвист включает в свой круго-
зор весь материал фактов, которыми располагала германистика
его времени, расширенный его собственными самостоятельными
наблюдениями. Но в том, что он вносит от себя в истолкование
этих фактов, он далеко впереди науки своего времени, и его поле-
мика с германистикой 1870—1880 гг. открывает методологические
перспективы, имеющие основополагающее значение не только
для специальной области немецкой диалектологии.
2
Энгельс имеет целью по данным о франкском диалекте наме-
тить границы расселения племен франков на нижнем и среднем
Рейне в период возникновения франкского государства (конец
V в.). В своей незаконченной исторической работе, посвященной
древнегерманским племенам, Энгельс исходит из засвидетельст-
вованного у Плиния и Тацита деления западных германцев на ос-
новные племена ингевонов (или ингвеонов), искевонов (иствео-
нов) и термионов (или герминонов), к которым у Плиния присое-
диняются гиллевионы и вандилип (северные и восточные германцы)
(с. 453). Ингвеонов, живущих у берегов Северного моря, Энгельс
отождествляет с фризами, англами, саксами и ютами и считает
это основное племя «фризско-саксонским». Гермионы, расположен-
ные «внутри страны», позднее выступают как верхненемецкие
племена. Основную их часть, рядом с тюрингами (гермундурами)
и гессами (хаттами), составляли свевы, которые «. . . должо быть,
состояли из трех говоривших на верхненемецком языке больших
племен, выступивших впоследствии на арену истории: алеман-
541
нов-швабов, баварцев и лангобардов» (с. 490). Искевоны, по Пли-
нию, «ближайшие к Рейну», должны быть сопоставлены с фран-
ками. Франки, по Энгельсу, «. . . были самостоятельным основ-
ным германским племенем, искевонами, которые, по-видимому,
в различные периоды включали в свой состав и чужеродные
элементы, но имели достаточно сил, чтобы их ассимилировать»
(с. 524). «Франкский диалект уже в VI и VII веках был самостоя-
тельным диалектом, представлявшим переходное звено от верхне-
немецкого, т. е. прежде всего алеманнского, к ингевонскому,
т. е. прежде всего к саксонскому и фризскому, стоявшим тогда еще
всецело на готсконижненемецкой ступени передвижения соглас-
ных» (с. 524). «. . . некоторые особенности» этих старых наречий
и их основных подразделений «. . . еще продолжают жить в со-
временной устной народной речи» (там же). Формулировка исклю-
чительно точная, научно осторожная и критическая, в особенности
по сравнению с прямолинейным и упрощенным пониманием этого
вопроса в германистике того времени. Еще в 1900 г. Бремер ут-
верждал без всяких оговорок: «И поныне, как полторы тысячи лет
тому назад, мы различаем баварский, швабский, алеманнский,
тюрингский и саксонский. Границы со времен Хлодвига не изме-
нились сколько-нибудь значительно».8
«Исследование, которое нам предстоит произвести в примеча-
нии о франкском диалекте, — поясняет Энгельс в своей работе
по истории германских племен, — покажет, что франки предста-
вляют обособленную группу германцев, расчлененную на ряд
различных племен, и говорят на особом диалекте, распадающемся
на разнообразные наречия, словом — обладают всеми признаками
особой группы германских племен, что и требуется для того, чтобы
считать их тождественными искевонам» (с. 489—490). По данным
исторической и современной диалектологии и топонимики Энгельс
предпринимает попытку восстановить раннюю историю географи-
ческого расселения этого племени.
Основным препятствием для такого восстановления, с которым
сталкивается исследователь, является традиционная классифика-
ция немецких (в частности, франкских) диалектов по признаку
проведения второго перебоя согласных.
Согласно этой традиционной классификации, немецкий лите-
ратурный язык (Hochdeutsch) и верхненемецкие диалекты средней
и южной Германии (примерно к югу от линии Дюссельдорф на
Рейне—Магдебург на Эльбе—Франкфурт на Одере) отличаются
от нижненемецкого (Niederdeutsch), как и от прочих германских
языков, особенностями консонантизма, которые явились резуль-
татом так называемого второго, или верхненемецкого, передвиже-
ния («перебоя») согласных. По правилам перебоя германские глу-
хие смычные t,p,k переходят после гласных (в середине и на конце
слов) в соответствующие глухие спиранты s(ss), ch, а в про-
чих положениях (в начале слова, в удвоении, после согласного) —
5'«2
в соответствующие аффрикаты ts(z), pj, kch. Однако это передви-
жение, распространившееся из южнонемецкого, представлено
в средненемецком неравномерно, в частности в пределах франк-
ского наречия оно образует ряд переходных ступеней. Основные
четыре явления, по которым верхненемецкий в целом отделяется
от нижненемецкого, имеют примерно общую границу, пересекаю-
щую Рейн несколько южнее Дюссельдорфа, около м. Бенрат —
так называемую линию Бенрата (Benrather Linie). Н.-нем. t —
в.-нем. ss(s): ср. wa’ter — wasser, grot — gross; н.-нем. p — в.-нем.
//f/J: open —often, skip — schiff; н.-нем. к —в.-нем. ch: maken —
machen, rik — reich; из аффрикат только н.-нем. t—в.-нем. z:
tunge — zunge, sitten — sitzen, holt — holz. Значительно южнее
(между Гейдельбергом и Карлсруэ) проходит граница перебоя
р в аффрикату р/, пересекающая Рейн около Гермерсгейма (к югу
от Шпейера): ср. pund — pfund, appel — apfel, kop — kopf.
Она делит верхненемецкую область на средненемецкую и южно-
немецкую часть (mitteldeutsch — oberdeutsch). Средненемецкий
имеет бесперебойное р, как нижненемецкий (однако в восточно-
средненемецком в начальном положении fund); южнонемецкий
имеет р/, как литературный язык. К южнонемецкому относятся
диалекты баварский, алеманнский и южная часть
франкского (южнофранкский и восточнофранк-
ский). Внутри средненемецкого (в его западной части) в свою
очередь различают два диалекта: более северный, так называемый
среднефранкский (mittelfrankisch) и более южный,
так называемый рейнскофранкский (rheinfrankisch).
Первый обнаруживает отступление от общих правил передвиже-
ния, сохраняя бесперебойные местоимения dat, wat, et, как в ниж-
ненемецком, вместо das, was, es, как в рейнскофранкском и в осталь-
ных верхненемецких диалектах. Граница пересекает Рейн около
Бахараха. К рейнскофранкскому причисляют диалекты гес-
сенский и пфальцекий. Среднефранкский по призна-
кам перебоя делится также на два диалекта: более северный,
так называемый рипуарский (ripuarisch), диалект Кельна и его
области, лежащий в непосредственном соседстве нижненемецкого
(нижнефранкского) и связанный с ним целым рядом
фонетических особенностей, и более южный, так называемый
мозельский (moselfrankisch), диалект долины р. Мозель (Трир—
Кобленц), более близкий к рейнскофранкскому. Границей слу-
жит перебой -гр > -г/: в рипуарском dorp — в мозельском
dorf.
Наконец, перебой в аффрикату kch и дальше в спирант ch
(ср. kind — kchind — chind) сохранился в настоящее время только
в приальпийской зоне южнонемецких диалектов (в швейцарском,
верхнебаварском, южноавстрийском), хотя в древневерхненемец-
кий период он был распространен по всей территории баварского
и алеманнского, откуда в конце этого периода он был вытеснен
франкскими влияниями.
543
Эта формально четкая классификация, основанная по преиму-
ществу на древневерхненемецких письменных памятниках, пред-
ставляет известное удобство как чисто описательная схема. Од-
нако фетишизация этой схемы заслоняет исторические взаимо-
отношения между немецкими диалектами, более древние, чем
перебой, проникший в область средненемецкого в сравнительно
позднее время. Границами перебоя франкский диалект оказывается
разорванным на части, теряя свое исконное историческое един-
ство. Его северная часть — нижнефранкский — попадает в об-
ласть нижненемецкого (вместе с нижнесаксонским), южная часть —
южнофранкский и восточнофранкский — в южнонемецкий, тогда
как самая значительная часть — среднефранкский и рейнско-
франкский — входит в средненемецкий. «Франкский диалект, —
пишет по этому поводу Энгельс, — у Северного моря, на Маасе
и Нижнем Рейне не обнаруживает совсем никакого передвижения
согласных, а на алеманнской границе — почти целиком алеманн-
ское передвижение; между этими крайними типами имеются по
меньшей мере три переходные». «Таким образом, — заключает
отсюда Энгельс, — передвижение согласных проникло в рейнско-
франкский диалект, уже самостоятельно развившийся, и разор-
вало его на несколько частей» (с. 531). Энгельс снимает поздней-
шие границы, вызванные проникновением перебоя в франкский
диалект, и таким образом восстанавливает его первоначальное
единство, просвечивающее сквозь позднейшее разделение.
Свою полемику против метафизических классификационных
схем старой германистики по вопросу о первоначальном единстве
франкского диалекта Энгельс одновременно использовал в «Диа-
лектике природы» как иллюстрацию применения материалисти-
ческой диалектики к проблемам исторического языкознания —
явления так называемой поляризации (диалектического единства
противоположностей):
«Поляризация. Якоб Гримм был еще твердо убежден в том, что
всякий немецкий диалект должен быть либо верхненемецким,
либо нижненемецким. При этом у него совершенно исчез франк-
ский диалект. Так как письменный франкский язык поздней ка-
ролингской эпохи был верхненемецким (ведь верхненемецкое пере-
движение согласных затронуло франкский юго-восток),то франк-
ский язык, согласно представлению Гримма, в одних местах рас-
творился без остатка в древневерхненемецком, а в других — во
французском. При этом оставалось абсолютно необъяснимым,
откуда же попал нидерландский язык в старосалические области.
Лишь после смерти Гримма франкский язык был снова открыт:
салический язык в своем обновленном виде в качестве нидерланд-
ского, рипуарский язык — в средне- и нижнерейнских диалек-
тах, которые отчасти сместились в различной степени в сторону
верхненемецкого, а отчасти остались нижненемецкими, так что
франкский язык представляет собой такой диалект, который является
как верхненемецким, так и нижненемецким».9
544
С другой стороны, отдельные части франкского диалекта по
признакам перебоя неправомерно объединяются с другими, не-
франкскими диалектами. Так, большую часть рейнскофранкского
диалекта к востоку от Рейна образуют говоры гессенские: между
тем Гессен представляет племенную территорию не франков,
а древних хаттов (Chatti). Говоры южнофранкские по признакам
перебоя объединяются в общих границах южнонемецкого (ober-
deutsch) с баварскими, алеманнскими и колониальными по своему
происхождению восточнофранкскими. Энгельс, подходя к вопросу
с исторической точки зрения, возражает против таких объе-
динений: «Гессен и Тюрингия имеют свои собственные, самостоя-
тельные диалекты, как земли, населенные самостоятельными пле-
менами; в Майнской Франконии (т. е. в восточнофранкской
области. — В. Ж.) смесь славянского, тюрингского и гессенского
населения была пронизана баварскими и франкскими элементами
и выработала свой особый диалект.
Только применяя в качестве основного отличительного приз-
нака степень проникновения верхненемецкого передвижения со-
гласных в диалекты, можно эти три ветви языка причислить к
франкскому диалекту» (с. 518—519).
Таким образом, восточнофранкский, согласно обычной схеме
причисляемый по признакам перебоя к южнонемецкому, по Эн-
гельсу, является продуктом позднейшего смешения различных
древнегерманских племенных диалектов в исторических условиях
колонизации. Что касается иноязычных (славянских) элементов,
в Майнской Франконии весьма немногочисленных, то они при скре-
щивании оказались поглощенными, как всюду в области восточно-
немецкой колонизации.
Наиболее яркий пример поверхностного схематизма тради-
ционной классификации представляет рипуарский диалект (Кельн-
ской области), которому Энгельс уделил в своем исследовании
особое внимание. По признакам перебоя, как было указано, его
относят к средненемецкому, объединяя с мозельским в средне-
франкскую группу (бесперебойные dat, wat, et и др.) и противо-
поставляя соседнему нижнефранкскому как диалекту нижнене-
мецкому. Граница перебоя, проходящая между нижненемецким
и верхненемецким к северу от Кёльна и южнее Дюссельдорфа
(так называемая линия Бенрата), получает в этой классификации
важнейшее принципиальное значение, разделяя два основных
наречия немецкого языка.
* Между тем, по мнению Энгельса, рипуарский диалект имеет
«по существу» нижненемецкий характер (с. 530) и гораздо дальше
отстоит от тех диалектов, с которыми его «сваливают в одну кучу»
под общим названием среднефранкского, чем от «так называемых
нижнефранкских говоров» (с. 531). Среди ряда нижненемецких
особенностей рипуарского Энгельс считает особенно показатель-
ным сохранение звонких согласных (Ь, d, g), которые в средне-
и южнонемецком смешиваются с глухими (t, р, к). -«Только там,
35 В. М. Жирмунский
545
где представляется невозможным провести строгое различие между
Ъ и р, d и t, g и к в начале слова, т. е. где имеет место то, что фран-
цузы преимущественно разумеют под accent allemand (немецкий
акцент. — В. Ж.), только там представитель нижненемецкого диа-
лекта начинает ощущать тот великий разрыв, который произвело
в немецком языке второе передвижение согласных. И этот разрыв
проходит между Зигом и Ланом, между Аром и Мозелем» (с. 542),
иными словами, между рипуарским и мозельским (областями
Кёльна и Трира).
Для подтверждения этого положения Энгельс обращается
к непосредственному языковому восприятию говорящих на дан-
ных диалектах, к коллективному социальному опыту местных
людей, в том числе и к своему собственному опыту. «Говор Нёйса
тождествен с говорами Крефельда и Мюнхен-Гладбаха до ме-
лочей, даже не слышных для чужого уха. И, несмотря на это,
один из них объявляется среднефранкским, а другой — нижне-
франкским. Говор бергского промышленного района незаметными
ступенями переходит в говор юго-западной рейнской равнины.
И, тем не менее, они якобы принадлежат к двум в корне различным
группам. Для всякого, кто в этих местах у себя дома, очевидно,
что в данном случае кабинетная ученость втискивает мало извест-
ные или совсем не известные ей живые народные говоры в про-
крустово ложе a priori сконструированных признаков» (с. 531).
«Но таким образом произвольно и по совершенно случайному
признаку разрывается на части целая группа говоров, которые
взаимно связаны, как было показано выше, определенными зву-
ковыми соотношениями и еще до сих пор воспринимаются в народ-
ном сознании как взаимно связанные» (с. 530).
С другой стороны, при отсутствии сколько-нибудь заметной
границы между нижнефранкским и рипуарским оба диалекта,
как франкские по своему происхождению, резко противопоста-
влены нижпесаксонскому, с которым нижнефранкский, согласно
принятой классификации, объединяется в общих рамках нижне-
немецкого по признаку отсутствия перебоя. Эти взаимоотношения
показаны Энгельсом на примере пограничного говора родного
ему бергского промышленного района. «Незаметно переходя от
деревни к деревне, от одного крестьянского двора к другому в диа-
лект рейнской равнины, он на вестфальской границе очень четко от-
делен от саксонского диалекта. Может быть, нигде во всей Германии
нет столь определенно проведенной языковой границы, как здесь.
И какое различие в языке! Вся система гласных точно преобра-
жается; узкому нижнефранкскому ei непосредственно противо-
стоит очень широкое ai, так же как ои противостоит ащ из много-
численных дифтонгов и полугласных нет ни одного сходного;
здесь sch, как во всей остальной Германии, там s+ch, как в Гол-
ландии; здесь wi hant, там wi hebbed', здесь формы двойственного
числа, употребляемые во множественном числе get и erik, ihr
и euch, там только ji, i и ju, й; здесь воробей [Sperling] называется,
546
как и везде в рипуарском: Mdsche, там — как и везде в вестфаль-
ском: Liining» (с. 532).
Тем самым Энгельс ставит под сомнение значение перебоя
как признака деления франкских говоров, в особенности там,
где это деление основывается всего только на «не всегда последо-
вательном проникновении в трех случаях» (с. 530) — подразу-
меваются et, dat, wat как отличительный признак среднефранк-
ского наречия. «Даже для жителя Рейнской Франконии проник-
новение передвижения t и конечного к не производит впечатле-
ния какой-либо языковой границы; даже в хорошо знакомом ему
районе он вынужден' будет предварительно подумать, где же
проходит граница между t и z, к и ch, а при переходе через эту
границу одно будет произноситься для него почти так же легко,
как и другое. Это облегчается еще множеством верхненемецких
слов, проникших в говоры с sz, z, ch и /, явившимся результатом
передвижения» (с. 533).
Особенно существенное значение имеет указание Энгельса
на «не всегда последовательное проникновение» перебоя в область
рипуарских говоров. Слова с перебоем проникают и исстари про-
никали в нижненемецкий (точнее — нижнефранкский) как изо-
лированные лексические заимствования, так что в сущности при
этом происходило не спонтанное звуковое изменение или пере-
движение определенных звуков как таковых, а движение отдель-
ных слов.
Для подтверждения этой мысли, предвосхищающей один из
важнейших выводов работы современных лингвистических атла-
сов, Энгельс обращается к письменным памятникам ранней ново-
немецкой эпохи. В бергском процессуальном кодексе XIV в.
он находит рядом zween, bezahlen (с перебоем t > z) и setten,
dat nutteste, 'das mitzlichste’ (с сохранением бесперебойного t)\
Dache, redelich (с перебоем к > ch) и reicket 'reicht’ (без перебоя):
verkouffen (с перебоем p > /) и upheven 'aufheben’, hulper 'Hel-
fer’ (без перебоев) и даже в одном абзаце zo и tho 'zu’. «Словом,
говоры горной местности и равнины все время перекрещиваются
между собой, не причиняя при этом ни малейших затруднений
переписчику. Как это всегда бывает, эта последняя волна, занес-
шая верхненемецкое передвижение согласных на франкскую тер-
риторию, — самая слабая и мелкая. Несомненно интересно наме-
тить линию, до которой она доходит. Но эта линия не может
быть границей диалектов; она не в состоянии разорвать на части
самостоятельную группу исстари близко родственных говоров и
не может дать повод к тому, чтобы в противоречии со всеми
языковыми фактами причислить эти насильственно разъединен-
ные обломки к более отдаленным группам» (с. 533).
Несмотря на то что Энгельс имел возможность опираться лишь
на очень ограниченный диалектологический материал, его вы-
воды по вопросу о передвижении согласных, и в частности об исто-
рическом месте рипуарского диалекта (Кельнской "'области),
547
35*
на много лет опередили лингвистику его времени и полностью
подтверждаются современной немецкой диалектографией. Именно
Рейнская область служила уже с конца XIX и в особенности
в XX в. своего рода опытным полем для интенсивнейшей диалекто-
логической работы. Начало этой работе положила брошюра Георга
Бенкера «Das rheinische Platt» (Dusseldorf, 1877) — результат
первого проведенного будущим составителем немецкого диалекто-
логического атласа сплошного анкетного обследования переход-
ных от нижненемецкого к верхненемецкому нижнефранкских го-
воров в районе его родины, города Дюссельдорфа. Эта маленькая
книжка, вышедшая небольшим тиражом в издании автора, оста-
лась Энгельсу неизвестной. За работой Бенкера последовал ряд
монографических исследований отдельных говоров той же об-
ласти. В дальнейшем карты перебоя в рукописном Диалектологи-
ческом атласе Германии (Sprachatlas des Deutschen Reichs),
построенные на сплошном обследовании при помощи анкет,
несмотря на технические несовершенства анкетного метода немец-
кого атласа, расширили общую картину границ отдельных явле-
ний перебоя, уже намеченную Бенкером. С 1908 г. стала изда-
ваться серия монографий «Deutsche Dialektgeographie», выпол-
ненных большей частью учениками проф. Вредэ, руководителя
атласа, с описанием диалекта определенного района по данным
атласа, дополненным точными и подробными фонетическими за-
писями на местах. Большинство работ, напечатанных в первых
выпусках серии, посвящено диалектографии Рейнской области,
предмету исследования Энгельса. Среди них особенно выделились
работы"проф. Фрингса, который в дальнейшем выступил с обоб-
щающими трудами по истории рейнских диалектов в связи с исто-
рией местного края.10 Обширный материал по словарной геогра-
фии содержит многотомный диалектологический «Рейнский сло-
варь»,11 публикующий начиная с тома III карты распространения
соответствующих местных слов.
В результате этой многолетней собирательской и исследова-
тельской работы картина передвижения согласных в Рейнской
области представляется в настоящее время совсем не в том упро-
щенном и схематическом виде, как она рисовалась Брауне и его
современникам в ту пору, когда предложена была впервые клас-
сификация немецких диалектов по признакам перебоя. Раскры-
вается динамика языковой карты, процессы постепенного «оверхне-
немечения» Рейнской области (т. е. франкского диалекта) в ре-
зультате продвижения отдельных слов, в особенности в области
рипуарского диалекта, позднее всего (как правильно увидел Эн-
гельс) подвергшегося этому оверхненемечению.
Как было установлено уже в первой работе Бенкера, слова
ich, och (auch) обгоняют общую границу перебоя, т. е. «линию
Бенрата» (machen — maken и другие основные явления), про-
ходящую в 10 км южнее Дюссельдорфа, и доходят в верхненемец-
кой форме до м. Урдинген (Urdingen) на Рейне, примерно на 25 км
548
ниже Дюссельдорфа («линия Урдингена»). В переходную зону
между этими двумя границами, прежде всего в городские диа-
лекты этой зоны, проник ряд широко распространенных слов
основного словарного фонда, с перебоем, в особенности с аффри-
катой z вместо н.-нем. t (например, в словах Saiz, Herz, Holz,
Schwanz, zwei, Zeit и некоторых других), реже — с перебойными
спирантами (например, Kuche, besser, gross, weiss и некоторые
другие). Эту зону пересекает также граница перебоя для прила-
гательных с суффиксом -lich (н.-нем. -ZiZc), точнее, ряд границ
с колебанием для разных слов. Значительно севернее Урдингена
проникли перебойные формы личных местоимений euch, mich,
dich и дальше всего — возвратное sich. Формы личных местоиме-
ний на -еЛ, как и возвратное sich, заимствованы целиком из верхне-
немецкого, нижненемецкий имеет общую форму дательного-вини-
тельног'о без окончания (mi, di и т. д.) и вместо возвратного упо-
требляет косвенный падеж местоимения 3-го л. (hem, em 'ihm’).
Форма sich встречается в настоящее время повсюду в нижненемец-
ком параллельно с приспособленным к нижненемецкой фоне-
тике sik.
С другой стороны, от общего движения перебоя отстали не
только местоимения dat, wat, et, det 'dieses’, сохранившие бес-
перебойное t в границах всего так называемого среднефранкского
наречия: большая часть этой области имеет также бесперебойное
op (auf), южная граница которого доходит до долины Мозель.
Северная часть среднефранкского, рипуарское наречие Кельн-
ской области, сохраняет бесперебойное р в комбинациях гр, 1р
(точнее, после гласного, поскольку между плавным и -р образуется
переходный гласный): ср. dorap 'Dorf’, Ье1эр 'helfen’, werap
'werfen’ и др. Однако, как показали, более тщательные исследо-
вания рейнских диалектографов, область эта сохранила беспере-
бойные формы и в целом ряде других, выпавших из ряда, изоли-
рованных «реликтовых» слов. Сюда относятся, например, полу-
вспомогательные глаголы mot 'muss’, let 'liess’, представляющие,
как и dat, wat, op, слова служебные со слабым ударением. Не
имеют передвижения некоторые слова интимного бытового или
грубого просторечия, как tef 'Zaub’ ('сука’), schnut 'Schnauze’
('морда’), ар 'Affe’ (только как бранное слово: du ар! — в пря-
мом же значении, как название животного, употребляется верхне-
немецкое af) и др. Наиболее значительную группу этих беспере-
бойных «реликтов» образуют областные и профессиональные слова
узко местного и специального употребления, не входящие в ос-
новной словарный фонд и не имеющие верхненемецких соответст-
вий в литературном языке: например, wek — cDocht’ ('фитиль’),
stut 'Semmel’ ('булка’), kip 'Tragkorb’ (особый вид корзины),
pliiten — 'Lumpen’ ('тряпка’), fuken 'Fischreuse’ ('мережа’). Слова
эти имеют разные границы: бесперебойное ар 'Affe’ охватывает
большую центральную часть рипуарского диалекта; слово tef
,'Zaub’ (с непередвинутым начальным Z- и нижненемецким конеч-
549
ным -/ вместо -b) заходит значительно южнее линии dorp — dorf,
почти до Кобленца, захватывая не только весь рипуарский, но
и значительную северную часть мозельского диалекта.12
Последняя группа примеров особенно поучительна: она на-
глядно показывает, что продвижение перебоя, по крайней мере
в области среднефранкского, совершалось не путем закономер-
ного передвижения звукового ряда как такового, а путем вытес-
нения отдельных слов; там, где отсутствовало параллельное верхне-
немецкое слово, легко могла сохраниться исконная бесперебойная
форма. К числу таких реликтов относится и слово baten 'nutzen’,
которое Энгельс отмечает в пфальцском диалекте: «’5 badd aides
nix — es hilft alles hichts» (c. 546) (от н.-нем. bat — ср.- н.-нем.
baz 'besser’). Оно распространено в бесперебойной форме на всем
протяжении франкских говоров до алеманнской границы.
Какие же выводы для исторической диалектологии сделаны
были германистикой из всех этих новых фактов? По поводу средне-
франкского наречия Бехагель заявляет в последнем издании
своего учебника истории немецкого языка: «Я считаю вероятным,
что вся область среднефранкского была первоначально нижнене-
мецкой».13 Фрингс, на которого Бехагель при этом ссылается,
относит распространение перебоя в этой области к 800—1200 гг.14
«Процесс этот, — говорит Фрингс, — носил характер постепен-
ного оверхненемечения (Verhochdeutschung); при этом сохрани-
лось множество исключений». Поэтому «... следует говорить
не о передвижении звуков (Lautverschiebung), а о словах с пере-
двинутыми звуками (lautverschobene Worter).16
Окончательное установление северной границы перебоя (линия
Урдинген) Фрингс относит к еще более позднему времени —
от 1200 до 1500 г. Оно было связано с территориальной экспансией
курфюршества Кельнского в северном направлении, с включе-
нием в его состав ряда мелких феодальных территорий, лежащих
между Кельном и герцогством Клеве, «с распространением кельн-
ской культурной зоны вниз по Рейну в сторону Маас».16 Смешение
между франками и алеманнами после победы Xлодвига в 496 г.
и продвижение франков в алеманнские земли в южной части Рейн-
ской области было началом этого движения; в 1000 г. формы с пе-
ребоем в основной своей массе «стоят перед воротами Кельна»,
около 1500 г. они достигли теперешней северной границы. Про-
цесс распространения перебоя в области франкского диалекта
продолжался, таким образом, около 1000 лет.17
Действительно, если распространение перебоя на север и объ-
единило в настоящее время рипуарский диалект Кельнской об-
ласти с мозельским (трирским) в общих рамках так называемого
среднефранкского, то гораздо большее число признаков по-преж-
нему объединяет рипуарский с нижнефранкским (и через него
с нижненемецким): сохранение недифтонгизованными старых
узких долгих f, й, Й: wis 'weiss’, brun 'braun’, hiick 'heute’, со-
хранение u, о без делабиализации, свойственной верхненемец*
550
ким диалектам; сохранение звонкого бесперебойного d вместо t
(dusent вместо tausend), вообще звонких взрывных b, d, g, которые
в верхненемецких диалектах произносятся как глухие слабые:
тот «accent allemand», который Энгельс считал важнейшим отли-
чительным . признаком верхненемецкого консонантизма (с. 542);
спирантное -/ вместо -Ь на конце слова: ср. graf 'Grab’, af — ab
и др., наконец, ряд особенностей лексики. Различия эти отно-
сятся к разному времени и не всегда совпадают в своих грани-
цах, но в большинстве случаев границы эти проходят между
рипуарским и мозельским, образуя «зону вибраций» между ста-
рыми курфюршествами Кельнским и Трирским, разделенными
в прошлом группой мелких феодальных владений.
Поэтому Фрингс также возражает против классификации
рейнских диалектов по признаку перебоя, объединяющей ри-
пуарский с мозельским в рамках среднефранкского наречия и
отделяющей его от нижнефранкского, и, как уроженец Рейнской
провинции, почти в тех же словах, как Энгельс, апеллирует к не-
посредственному языковому чувству местных жителей. «Приня-
тое поныне деление рейнской языковой области по существу стро-
ится в основном на критериях, почерпнутых из пергаментных или
бумажных источников, прежде всего — на наиболее бросающемся
в глаза и потому ранее всего разработанном, превознесенном и
переоцененном явлении второго, или верхненемецкого, перебоя».
Житель северного Рейна, например области >Клеве (уроженцем
которой является сам Фрингс), «чувствует себя в языковом отно-
шении более близким к Кельну, чем к Триру. Тем не менее линг-
вист проложил между Кельном и Клеве важнейшую языковую
границу, нижневерхненемецкую границу перебоя вообще, обозна-
чив диалекты к северу от Нейсса и Дюссельдорфа термином «ниж-
нефранкский», а области Кельна—Трира, взятые как одно це-
лое, — термином «среднефранкский».18 Как и Энгельс, Фрингс при-
знает р. Аар «местом глубочайшего разрыва в рейнском языковом
ландшафте».19 «Несмотря на зону Бенрата» (т. е. на границу ниж-
ненемецкого и верхненемецкого), «именно в области Аара (т. е.
между рипуарским и мозельским диалектами) ощущается самый
решительный разрыв в рейнском языковом ландшафте».20
Таким образом, кропотливые специальные исследования но-
вейшего времени полностью подтвердили гениальные провидения
Энгельса. Это должен был признать и глава современных немецких
диалектологов проф. Фрингс. Познакомившись в 1946 г. с издан-
ной в СССР работой Энгельса, он констатировал в рецензии, на-
печатанной в газете «Tagliche Rundschau» 18 VIII 1946: «То, что
мы на Рейне обнаружили в результате кропотливой и напряжен-
ной работы, за сорок лет раньше уже стояло перед взором Энгельса.
Работа Энгельса, еще в период безоговорочного господства младо-
грамматиков, отказывается от чисто физиологического, построен-
ного на естественнонаучных закономерностях рассмотрения
языка. Вместо неподвижного и застывшего, вместо изолирован-
551
ного, вместо догматических правил Энгельс видит историческое
движение и историческую жизнь. Он совершает, не говоря об этом
специально, переход к социально-историческому рассмотрению
языка».
3
Каким же образом определяет сам Энгельс исторически сложив-
шиеся границы диалектов в отличие от схематического и антиисто-
рического деления по одному изолированному признаку?
Мы видим на примере франкского диалекта, что его характе-
ристика строится на целой совокупности признаков, как фонети-
ческих, так и грамматических и даже лексических.
Как фонетические признаки франкских диалектов отмечаются:
краткое е вместо i (brengen ' bringen’, kreb 'Krippe’, hemel ' Him-
mel’, ben 'bin’ и др.); менее последовательно — краткое о вместо и
перед носовым (gonst 'Gunst’, hond 'Hund’, jong 'jung’ и др.)
( с. 525); спирантные g и Ь между гласными (ср. примеры из пфальц-
ского: Flechel 'Flegel’, geleche 'gelegen’, gsacht 'gesagt’, Buwe
'Bube’, glawe 'glaube’, selwer 'selbst’ и др.) (с. 543).
Из области грамматики указано окончание -п как признак
1-го лица единственного числа настоящего времени: don 'ich tue’,
han 'ich habe’, biddon 'ich bitte’, wirthon 'ich werde’ (в древне-
франкских текстах). «Эта глагольная форма употребляется по
всему Нижнему Рейну и Мозелю, по меньшей мере, до лотаринг-
ской границы: don, han» (с. 522). Отмеченная Энгельсом форма
на -п представляет с исторической точки зрения окончание глаго-
лов на -mi, постепенно получившее в рейнских диалектах начиная
уже с древненемецкого периода все более широкое распростране-
ние как отличительный признак 1-го лица.
Упоминаются и словообразовательные формы — окончания
уменьшительных, представляющие весьма существенный разгра-
ничительный признак диалектов — в нидерландском языке: -tje-,
-je из -ken, со смягчением, заимствованных «из фризского языка»:
mannetje 'Mannchen’-, множ, mannetjes, halsje 'Halschen’ и др.;
в рипуарском -schen, множ, -sches', mannschen — множ, mannsches
(с. 527, 530).
Отмечаются и более частные явления, например особенности
грамматического рода некоторых имен существительных:
«. . .во всех салических и рипуарских говорах Bach [ручей],
не измененное передвижением согласных Веек — женского рода.
Это имеет также место, по меньшей мере, в самой большой западной
части среднефранкского диалекта (с. 542).21
Как видно в особенности из двух последних примеров, не все
указанные Энгельсом признаки обязательно совпадают по своим
границам: спирантные b и g представляют «общефранкскую» осо-
бенность (с. 543), другие признаки охватывают франкские диалекты
552
лишь частично (don, han) или выходят за их пределы (die Bach).
Существенно, однако, что в своей исторически сложившейся сово-
купности они характеризуют диалект в целом.
Энгельс затрагивает и вопросы различия словарного состава
диалектов, «географии слов» (Wortgeographie), которые еще в на-
чале XX в. совершенно не привлекали внимания немецких диа-
лектологов, полагавших долгое время вместе с Вредэ, будто гра-
ницы слов «гораздо более позднего происхождения, чем границы
звуков и грамматических форм».22 Указанные им местные синонимы
для слова «воробей» восходят к очень древним различиям между
нижнесаксонским и нижнефранкским: слово Liining (Luling) харак-
терно для современных нижнесаксонских диалектов и как герман-
ское слово (hliuning) засвидетельствовано уже в древнесаксонских
глоссах: Mosche ( в фонетических вариантах mesch, mosch, miisch)
встречается как в среднефранкском, так и в нижнефранкском,
в частности и в нидерландском (musch, mosch), и известно уже
в древненижнефранкских текстах как musca, muscha (старое ла-
тинское заимствование в рейнских диалектах из галло-романского
muscio 'птичка’).23
Наконец, Энгельс учитывает и тонкие географические различия
в значении слов: ein sicherer Mann (голландское een zekeren man)
употребляется на Рейне в значении fein gewisser Mann’ (с. 545).
Значительная часть указанных Энгельсом особенностей франк-
ского наречия, вероятно, древнее, чем второй перебой, и они
не считаются с его позднейшими границами.
Еще древнее те явления, частично сохранившиеся и в современ-
ных народных говорах, которые Энгельс отмечает как общие при-
знаки ингвеонских наречий (фризского, древнесаксонского, англо-
саксонского). Сюда относится в особенности выпадение п перед
спирантами (Энгельс пишет «перед зубными»); ср. mudh cMund’,
kudh 'kund’, us 'uns’, other 'ander’. «Во всех ингевонских диа-
лектах все три лица множественного числа в настоящем времени
изъявительного наклонения оканчиваются одинаково, именно —
на зубную согласную с предшествующей гласной: в древнесаксон-
ском на d, в англосаксонском на d/г, в древнефризском на th. . . Так,
в древнесаксонском hebbiad значит wir haben, ihr habt, sie haben,
точно так же все три лица от fallan, gaivinnan обозначаются одинаково
через fallad, winnad. Третье лицо подчинило себе здесь все три,
но, следует отметить, со специфическим ингевонским выпадением
п перед d или dh, которое также является общим для всех трех
названных диалектов». Соответственно этому в вестфальском
«. . .до сих пор говорят: ivi, ji, se hebbed и т. д.» (с. 519—520).
Как на признак, общий у иствеонских (франкских) диалектов
(салического и рипуарского) со всеми ингвеонскими, Энгельс ука-
зывает на употребление местоимений he, de, we вместо обычных
в немецком языке ег, der, wer (с. 527, 529).
Проблема древнейших «ингвеонизмов» в современных немецких
и нидерландских диалектах, как ее впервые поставил Энгельс,
55?
была разработана лишь в 20-х годах этого столетия в результате
исследований, связанных с немецким лингвистическим атласом.
К «ингвеонизмам», указанным Энгельсом (выпадение п перед
спирантами, общая форма множественного числа, местоимения
he, de, we), прибавился ряд других. Сюда относится обширная
группа личных местоимений без суффиксов -г и -к: общая форма
дат., вин. ед. ч. mi (me), di (de); 2-го мн. ч. in (й) им. п. множ. ч.
1-го и 2-го л. wi (we), gl (уё); употребление местоим. дат., вин.
3-го л. вместо возвратного sich, образование слабых глаголов
П1 группы при помощи суффикса j (hebben, seggen), метатеза г
(born — bronn; bernan, human — brinnan 'brennen’, therscan —
dreskan 'dreschen’ и др.), различия в корне и в словообразователь-
ных элементах типа nigun — niun 'neun’, drage — trucken, trocken,
syster — swestee 'Schwester’, различия лексические, например
wif 'Weib’, frau (последнее неупотребительно в ингвеонских диа-
лектах) и многие другие. Можно сказать, что единство ингвеон-
ского наречия (частично с признаками, общими для ингвеонской
и иствеонской групп) в настоящее время может считаться доказан-
ным совокупными усилиями немецких и нидерландских диалекто-
логов (Фрингс, Клуке и др.). Современная германистика, в лице
Фрингса различающая три древние группы «немецких» (точнее,
западногерманских) диалектов: Kustendeutsch (ингвеонский), Bin-
nendeutsch (иствеонский), Alpendeutsch (герминонский), вернулась
тем самым к историческому делению германских племен по Пли-
нию и Тациту, на котором основывался Энгельс.
Принимая это древнейшее исторически засвидетельствованное
деление основных племен и племенных наречий западных герман-
цев, Энгельс тем самым вносит существенно новое и в вопрос о фор-
мировании языка немецкой народности. Традиционная классифика-
ция рассматривала нижненемецкий и верхненемецкий по принципу
«родословного древа» как результат распадения «пранемец-
кого» (urdeutsch). Немецкий, в свою очередь, противопоставлялся
англо-фризскому как две группы западногерманского.24 Мейе вно-
сит в эту классификацию поправку, различая в составе немецкого
верхненемецкий, нижненемецкий (или саксонский) и нидерланд-
ский (т. е. нижнефранкский).26 Между тем в построении Энгельса
для «пранемецкого» не остается места. Действительно, немецкая
народность представляет категорию историческую: она формиру-
ется из группы западногерманских племен, близко родственных
по своему происхождению и языку, — франков (иствеонов), ба-
варцев и алеманнов (герминонов), позднее саксов (по своему про-
исхождению, как указывает Энгельс, , ингвеонов) в результате
их объединения и сплочения в составе франкского государства
Меровингов и Каролингов. Окончательное языковое размежевание
ее западной, французской, и восточной, немецкой части, «разгра-
ничение на группы по языку», исторически запечатлевшееся
в двуязычных Страсбургских клятвах (842), определяет, по Эн-
гельсу, время, когда окончательно сложилась немецкая народ-
554
йость (по терминологии Энгельса, —«национальность»). Отметим,
что саксонские войны Карла Великого (772—804), насильствен-
ная феодализация и христианизация саксов положили начало
включению ингвеонских племен северной Германии, в языковом
отношении первоначально связанных с фризами и англосаксами,
в исторически сложившееся единство немецкой народности и от-
крыли путь для широких воздействий франкских (верхненемец-
ких) диалектов, для постепенного превращения нижнесаксонского
(ингвеонского) племенного наречия в один из местных диалектов
немецкого языка.
В результате всего сказанного традиционная, по существу
лишь эмпирическая описательная классификация немецких диа-
лектов должна быть признана несостоятельной, поскольку она
претендует на роль историко-генетической схемы, объясняющей
происхождение современных немецких говоров из древних пись-
менных диалектов путем спонтанного развития и дробления
по принципу «родословного древа».
4
Пример перебоя во франкском диалекте, явления, лежащего
в основе традиционной классификации, свидетельствует о наличии
весьма существенных границ между диалектами, возникших
не в результате вертикального членения (путем дробления), а бла-
годаря внутриязыковым взаимодействиям с соседними диалектами
и соответственному передвижению границ в горизонтальной пло-
скости. Энгельс постоянно учитывает в своем исследовании кон-
кретные возможности такого рода взаимодействий, иными словами,
смешения диалектов одного языка, для более древнего периода —
прежде всего в результате племенных смешений.
В этом смысле особенно поучительна в методологическом отно-
шении произведенная им реконструкция диалекта салических
франков (в обычной терминологии — нижнефранкского), который
является основой современных нидерландских говоров и ново-
нидерландского (голландского) национального литературного
языка. Последний слагается на территории, частично принадле-
жащей фризам, и потому обнаруживает следы смешения франкского
с фризским (ингвеонизмы).
«С тех пор как бурные морские приливы в XII, XIII и XIV сто-
летиях уничтожили почти всю Зеландию и образовали Зёйдер-Зе,
Долларт и Яде, а тем самым порвали вместе с географической и
политическую связь между фризами, — погибли под напором
окрестных владетельных феодалов остатки древней фризской
вольности, а вместе с ней почти повсюду и фризский язык. На за-
паде он был оттеснен или совсем вытеснен нидерландским языком,
на востоке и севере — саксонским и датским; но в обоих случаях он
оставлял сильные следы в языке, который вытеснял его. Древне-
555
фризская Зеландия и Голландия сделались в XVI и XVII веках
центром и опорным пунктом борьбы за независимость Нидерлан-
дов, так же как уже раньше они стали средоточием главных торго-
вых городов страны. Здесь поэтому преимущественно и складывался
новонидерландский литературный язык, воспринимая фризские
элементы, слова и формы слов, которые следует отличать от франк-
ской основы» (с. 524—525).
Этот анализ истории нидерландского языка в его взаимоотно-
шении с диалектами представляет особенно блестящий образец
марксистского изучения развития языка в неразрывной связи
с историей народа, которому принадлежит изучаемый язык.
Утрата фризами самостоятельного племенного языка рассмат-
ривается Энгельсом как результат феодального порабощения,
а развитие новонидерландского национального литературного
языка на основе диалектов Зеландии и Голландии он связы-
вает с экономическим подъемом Толландии, ростом ее торговых
городов и ее ролью в борьбе за национальную независимость
Нидерландов.
Диалекты Зеландии и Голландии сохранили «сильные следы»
вытесненного ими близко родственного фризского языка, поэтому
возникший на их почве йовонидерландский литературный язык
дальше отстоит от современных нижнефранкских говоров, чем
раавивавшийся на чисто франкской основе средневековый нидер-
ландский (так называемый средненидерландский). «Средненидер-
ландский язык, выросший на чисто франкской почве, в этом отно-
шении вполне согласуется с рипуарским; но уже в меньшей сте-
пени — литературный новонидерландский язык, подвергшийся
фризскому влиянию» (с. 525). Энгельс доказывает это положение
на примерах фонетических явлений, характерных для франкских
говоров и сохранившихся в нидерландских диалектах: переход
i > е, например: es сist’, selver f Silber’, переход и о перед
носовыми, например: gonst 'Gunst’, konst сKunst’ и др. (там же).
Обратное явление Энгельс констатирует в древнесаксонских
письменных памятниках IX в., локализованных в Вестфалии
(в Мюнстере, Эссене и др.). Родительный множественного муж-
ского рода сильного склонения и именительный единственного
мужского рода слабого склонения на о вместо а, окончание -п
в первом лице слабых глаголов на -on (thionon) указывают на на-
личность франкских воздействий. Энгельс считает, что эти явления
представляют франкский пережиток в древнезападносаксонском
диалекте, который «. . . объясняется тем обстоятельством, что За-
падная Саксония» (т. е. Вестфалия) «была раньше франкской тер-
риторией. Только после ухода главной массы франков саксы посте-
пенно продвигались через Оснинг и Эгге к той линии, которая еще
и в настоящее время отделяет Марк и Зауэрланд от Берга и Зи-
герланда. Влияние остававшихся франков, теперь уже слившихся
с саксами. . .», сказывается в вышеупомянутых явлениях; «... его
нельзя не признать еще и в современных диалектах» (с. 522),
556
С точки зрения методики исследования интересно отметить
одно чрезвычайно тонкое наблюдение Энгельса над лингвистиче-
ской стороной подобных смешений диалектов. В древнесаксон-
ском, как уже было сказано, общая форма 1—3-го лица множе-
ственного числа настоящего времени имеет окончание -ad (fallad,
winnad) с характерным для ингвеонских диалектов выпадением п
перед спирантом dh (старая германская форма 3-го лица множе-
ственного числа -nd). В коттонском списке древнесаксонской
поэмы «Гелианд» (IX в.) 1—3-е л. имеют общие окончания -nd:
tholond ’sie dulden’, gernond' ihr klagt’ ит. п. Энгельс сопоставляет
его с современным бергским диалектом, лежащим на границе
нижнесаксонского: «В бергском диалекте все три лица множе-
ственного числа настоящего времени также образуются одинаково,
но не по-саксонски — на d, а по-франкски — на nt». «На основании
простого наблюдения, что здесь в бергском диалекте все три лица
образуются одинаково, Брауне и другие без колебаний объявили
всю горную бергскую область саксонской. Это правило, конечно,
проникло сюда из Саксонии, но оно, к сожалению, применяется
по-франкски и доказывает поэтому противоположное тому, что
оно должно доказывать» (с. 520).
Таким образом, Энгельс объясняет форму 1—3-гр л. на -nd
в древнем саксонском памятнике IX в., возникшем на погранич-
ной с франками территории Вестфалии, как и совпадающую с нею
форму современного, тоже пограничного бергского диалекта,
как результат смешения франкского по своей фонетике (сохра-
нение п перед d) окончания -nd с саксонской грамматической
«нормой» общего для всех трех лиц окончания множественного
числа (в древнесаксонском — с выпадением п перед d).
Этот пример грамматической контаминации лучше всего иллю-
стрирует современная диалектологическая карта.26 В полном со-
ответствии с Энгельсом немецкие диалектологи в настоящее время
объясняют общую форму множественного числа настоящего вре-
мени -еп (или -ent), свойственную пограничному бергскому диа-
лекту, как «контаминацию, объединяющую принцип единства
окончания, свойственный вестфальскому диалекту» (т. е., по Эн-
гельсу, — нижнесаксонскую грамматическую «норму»), «с рейн-
скими окончаниями первого и третьего лица -еп».27
Другим примером франкских влияний в коттонском списке
«Гелианда» Энгельс считает вытеснение «ингвеонизмов» (выпаде-
ние п перед спирантом dh). Франкский переписчик «Гелианда»
в Вердене вместо odher два раза употребляет форму andar (с. 521).
В пояснение этого смешения фонетических форм, характерного
для пограничного района, Энгельс добавляет: «В верденских по-
датных списках франкские формы имен Reinswind, Meginswind
чередуются с саксонскими Reinswid, Meglnswid» (там же). В настоя-
щее время эти явления рассматриваются как результат франкских
(верхненемецких) воздействий на ингвеопскую основу нижнесак-
сонского наречия в рамках франкского государства Каролингов.28
Такое же племенное смешение Энгельс устанавливает и й юж-
ной части франкских диалектов на территории, первоначально
принадлежавшей алеманнам и захваченной франками после
победы Хлодвига над алеманнами. «Здесь мы находимся на терри-
тории, — пишет Энгельс, — которая первоначально, несомненно,
была областью алеманнского завоевания (если не говорить о более
раннем заселении ее вангионами и другими, о племенном родстве
и языке которых мы ничего не знаем) и в пределах которой мы
охотно допускаем также более сильную хаттскую примесь. Но нам
нет надобности повторять, что и здесь названия мест указывают
на присутствие отнюдь не незначительных рипуарских элементов,
особенно на рейнской равнине» (с. 543).
Франкский характер этого наречия подтверждается примером
«самого южного», пфальцского диалекта, в частности — свой-
ственным ему спирантным произношением интервокальных b и g
и неполным проведением перебоя: paff 'Pfaff’, peife сPfeife’, palz
1 Pfalz’и др. (с. 543). «Для того, чтобы установить преимущест-
венно франкский характер пфальцского диалекта, достаточно, —
говорит Энгельс, — доказать, что верхненемецкое передвиже-
ние согласных было, так сказать, навязано ему извне и до сих
пор осталось чуждым элементом, не достигнув к тому же даже
звуковой ступени литературного языка (далеко перешагнув
которую алеманны и баварцы в общем сохранили ту или иную сту-
пень древневерхненемецкого языка). . .» (с. 545). Здесь изложение
Энгельса обрывается. Необходимо, однако, напомнить, что именно
отсюда, с юга, из области первоначального расселения алеманнов,
захваченной и заселенной франками лишь в конце V—начале
VI в., верхненемецкий (герминонский по своему происхождению)
перебой согласных проникает во франкский диалект, постепенно
ослабевая по мере своего дальнейшего продвижения на север.29
Но взаимодействие родственных диалектов не ограничивается,
по Энгельсу, периодом племенных смешений. В различных местах
своей работы (как уже было указано по поводу развития нидерланд-
ского языка) он отмечает и более поздние воздействия одних диа-
лектов на другие. Так, прежде всего, как уже упоминалось выше,
само верхненемецкое передвижение согласных «проникло в рейн-
ско-франкский диалект, уже самостоятельно развившийся. . .».
Точно так же под верхненемецким влиянием начальные si, sw, st, sp
превратились в schl и т. д. — притом «еще гораздо позднее», чем
перебой. «Последние следы этого передвижения'согласных, — го-
ворит Энгельс, — вовсе не должны исчезать на границе уже ранее
существовавшей особой группы говоров; оно может отмирать и
внутри такой группы, как это и случается в действительности»
(с. 531).
Такие новые диалектологические границы,. не совпадающие
со старыми, в примерах, приведенных Энгельсом, возникают
также не в результате дробления старых «основных наречий»,
а под воздействием соседних диалектов. Вопрос об этих новых гра-
558
ницах не рассматривается Энгельсом более подробно. По теме
своего исследования, обращенной к древнегерманским племенным
наречиям, он снимает эти более новые явления (например, перебой)
для того, чтобы дойти до основных и более древних противополож-
ностей. Он только констатирует существование более поздних
диалектологических границ, хотя по ходу исследования и не ставит
вопроса о причинах их возникновения на новом месте, лишь
отмечая самый факт отмирания передвижения звуков не на преж-
них границах, а «внутри» отдельной группы говоров.
Сопоставление этих диалектных линий с политической картой
средневековой Германии позволило объяснить их происхождение
территориальными границами эпохи феодализма, сущестовавшими
в политически раздробленной Германии как препятствие для сно-
шения широких масс населения вплоть.до французской буржуаз-
ной революции и наполеоновских войн.
Один из наиболее убедительных примеров такой исторической
связи между границами современных диалектов и средневековыми
феодальными территориями представляют как раз линии перебоя
в Рейнской области, в основном совпадающие со старыми поли-
тическими границами курфюршества Кельнского с примыкаю-
щими к нему феодальными владениями герцогств Юлих и Берг
(рипуарский), курфюршества Трирского (мозельский) и Пфальц-
ского (южнорейнскофранкскийилипфальцский);при этом границы
перебоя на севере (линии Бенрата и Урдингена) устанавливаются
окончательно между 1200—1500 гг. в результате территориальных
взаимоотношений между курфюршеством Кельнским и герцог-
ством Клеве (нижнефранкский) и, следовательно, никак не связаны
со старой границей между салическими и рипуарскими франками
при Xлодвиге (около 500 г.), когда перебой еще не коснулся об-
ласти расселения франков.30
Однако было бы неправильно вслед за немецкой диалектограт
фией рассматривать племенные и феодальные диалекты как проти-
воположности, взаимно друг друга исключающие, отдавая пред-
почтение при объяснении современных диалектологических границ
либо первым (как это делал Бремер), либо вторым (как это делают
представители немецкой лингвистической географии — Вредэ и
его школа). В процессе реального исторического развития от язы-
ков родовых и племенных к языкам народностей и от языков
народностей к языкам национальным происходит переоформление
племенных диалектов в диалекты территориальные, связанное
с изменением границ и с накоплением новых диалектных призна-
ков путем ли спонтанного развития данного диалекта или в резуль-
тате его взаимодействия с соседними.
Этим сложным историческим процессом определяется совокуп-
ность границ языковых особенностей, характерных в целом для
того или иного местного диалекта.
Задача восстановления этих древних отношений, конечно, зна-
чительно облегчается там, где племенные герцогства ранней фео-
559
дальной эпохи (IX—XI вв.) непосредственно оформили старые
границы племени и, в свою очередь, послужили основой для
позднейших феодальных территорий (XII—XIII вв.), как это было,
например, в Баварии; к подобным случаям относится и отмеченная
Энгельсом исключительно резкая диалектная граница между ри-
пуарским (франкским) и саксонским (с. 532), позднее — между
«франкским» герцогством Берг и Зигерландом и «саксонским»
графством Марк и Зауерландом, а в XIX в. между Рейнской про-
винцией и Вестфалией (с. 522, 529). В таких случаях и позднейшие
диалектные различия нередко скопляются на месте более древ-
них языковых разделений. Рейнская область, расположенная
по основной торговой артерии средневековой Германии и потому
широко открытая для всевозможных языковых новшеств, на про-
тяжении ряда столетий распространявшихся с юга на север,
представляет в этом отношении гораздо менее благоприятный
случай. Но и здесь Энгельс дал блестящий образец исторически
обоснованной реконструкции, снимающий более поздние границы
и восстанавливающий древнейшие языковые отношения.
Взаимодействие и сближение между разными диалектами одного
языка является необходимым результатом их использования как
средства общения между представителями этих разных диалектов.
Соседние диалекты данного языка, имеющие общее происхождение,
взаимно понятны для говорящих по ту и другую сторону диалект-
ной границы; отсюда их взаимная проницаемость, возможность
взаимодействия и по крайней мере частичного смешения, осно-
ванная на одинаковых внутренних законах развития, на частичной
общности грамматического строя и основного словарного фонда.
При этом смешение может ограничиваться, в зависимости от конк-
ретных исторических условий общения, распространением отдель-
ных языковых новшеств, частичным или более полным уподобле-
нием, а иногда приводит и к окончательному вытеснению или
поглощению одного диалекта другим.
Таким образом, процессы развития языка ведут не только
к дальнейшему дроблению местных диалектов, к дифференциации,
но в результате взаимодействия между ними в условиях языкового
общения — сложными и часто противоречащими путями — к ни-
велировке различий, к интеграции, и тем самым в конечном счете —
к более тесному сплочению единого по своему происхождению об-
щенародного языка.
Процессы эти совершаются на основе экономических, по-
литических и культурных связей и отношений на более или
менее обширной языковой территории, в исторически последова-
тельных рамках союза племен, при формировании народностей,
позднее — наций, под влиянием исторических условий, определяю-
щих характер и границы общения между людьми, а следовательно,
и границы между языками и диалектами. В дальнейшем, в эпоху
подымающегося капитализма, эти же процессы способствуют
560
«концентрации диалектов в единый национальный язык, обуслов-
ленной экономической и политической концентрацией»,31 а в ко-
нечном счете и постепенному вытеснению и поглощению нацио-
нальными языками местных диалектов.
1954 г.
СЛАБЫЕ И СИЛЬНЫЕ ФОРМЫ СЛОВА
И ОСОБЕННОСТИ ИХ ФОНЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
(на материале немецких диалектов)
1
К многочисленным, кажущимся исключениям из закономер-
ного фонетического развития языка относятся слабоударные и
неударные слова, которые в синтаксическом целом предложения
не несут самостоятельного словесного ударения. Неударные или
слабоударные слова в различной степени подвергаются фонети-
ческой редукции, при которой долгий гласный (или дифтонг)
становится кратким или полностью теряет свое качественное свое-
образие, а согласный нередко выпадает или отпадает.
Это относится в особенности к германским языкам, где сильное
динамическое ударение, лежащее на первом (корневом) слоге,
является одновременно смысловым и акцентным центром слова
и где ослабление значения ведет к акцентному ослаблению и фоне-
тической редукции. Наиболее наглядным примером такого разви-
тия являются общеизвестные случаи редукции потерявших само-
стоятельное значение вторых элементов сложных слов.
Ср. ср.-в.-нем. nachgebur > н.-в.-нем. Nachbar > диал. похЬэг;
handvoll > диал. hamfol 'пригоршня’, мн. ч. hemfol (с умлаутом),
произв. глагол hemfoln 'есть пригоршнями’ и мн„др.
Под влиянием акцентного ослабления в синтаксически слабо-
ударных словах создаются особые фонетические условия, огра-
ничивающие или видоизменяющие действие звуковых законов.
Большинство закономерных звуковых изменений спонтанного
характера, весьма многочисленных в немецком языке и его диа-
лектах, в особенности изменения гласных (дифтонгизации и моно-
фтонгизации, удлинения и укорочения и т. п.), непосредственно
связаны с характером и условиями действия германского (не-
мецкого) силового ударения и потому в большинстве случаев отно-
сятся преимущественно к ударным слогам. Так, дифтонгизация
узких долгих не распространяется на ослабленный в акцентном
отношении суффикс прилагательных др.-в.-нем., ср.-в.-нем.
-Itch > н.-в.-нем. -lich\ в южнонемецких диалектах прилагатель-
ные этого типа теряют конечное -ей, явление, также связанное
30 В. М. Жирмунский
561
с акцентным ослаблением, поскольку оно не распространяется
на слова, в которых -ch стоит на конце слова после ударения.
Ср. швц. sdix 'Stick’, rix ereich’, dax 'Dach’, lox eLoch’ и т. д.;
но friintli 'freundlich’ sedli 'schadlich’; так же в словах, ослаблен-
ных в акцентном отношении: в местоимениях i 'ich’, mi emich’,
di 'dich’; o, ou eauch’, gli наречии 'gleich’.1
Акцентному ослаблению подвергаются по преимуществу слова
служебные или полуслужебные, с ослабленным в результате грам-
матизации лексическим (предметным) значением.
К их числу в немецком языке относятся артикли, представляю-
щие по своему происхождению акцентно-ослабленные формы ме-
стоимений указательного (der) или неопределенного (ein); личные
местоимения в глагольной энклизе, в особенности в значении
подлежащего при глаголе, когда они являются обязательным
грамматическим показателем лица; другие местоимения, в част-
ности вопросительные и указательные местоимения и местоимен-
ные наречия, выступающие в функции подчинительных союзов;
глаголы вспомогательные и полувспомогательные (служебные),
связочные и модальные; наречия места, развившиеся в предлоги
или в союзы (или превратившиеся в неударную глагольную при-
ставку, т. е. в морфему слов); значительно реже — другие знача-
щие слова, ослабленные в своем лексическом значении.
В результате дифференциации значения для многих слов ука-
занной категории, в зависимости от большей или меньшей грамма-
тизации, создаются акцентные дублеты — сильные и слабые формы,
различные по своему значению и синтаксическому употреблению,
которые в дальнейшем могут обобщаться в пользу одной из них.
В письменной форме литературного языка господствует тенденция
к закреплению полных форм, как более полновесных и понятных,
в разговорной (обиходной) форме литературного языка и в особен-
ности в диалектах процесс ослабления и связанной с ним редукции
совершается более свободно и последовательно, не стесненный
консервирующим действием национальной нормы и традиции.
Если обобщение, как это часто бывает в подобных случаях, со-
вершается в пользу редуцированной формы, результат этого про-
цесса может отклониться в звуковом отношении от нормальной фо-
нетической закономерности развития ударных слогов, в особен-
ности в тех случаях, когда он сопровождается прояснением в удар-
ном положении неопределенного, качественно редуцированного
звука7 слабой формы.
С фонетическим ослаблением слова в неударном положении,
связанным с ослаблением его лексической полновесности, соотно-
сительно его усиление под влиянием фразового (синтаксического)
ударения, логического или эмфатического выделения, которое
может сопровождаться удлинением (растяжением) ударного глас-
ного, с последующей дифтонгизацией по соответствующему зву-
ковому закону. Такие фонетически «потенцированные» (усилен-
ные) формы эквивалентны в функциональном отношении «потен-
56?
циройанйым окончаниям», о которых бы..о сказано в другой
месте.2 Удлиненные гласные в сильных формах (иногда с последую-
щей дифтонгизацией) имеют, например во многих диалектах, лич-
ные местоимения, главным образом — в функции «заменителей
предложений». Ср.: Wer hat es gesagt? — Ich (диал. ly с дифтонги-
зацией aig), или Du (диал. da, с дифтонгизацией dau) и т. п., или
в особенности при вопросительной интонации: Ich? Du? Удлинение
гласного дифференцирует и в литературной речи der как указа-
тельное местоимение ('тот’) от слабого артикля d^r с тенденцией
к дальнейшей редукции > der, dr в верхненемецких диалектах.
Таким образом, следует различать, как в индоевропейском
аблауте, три ступени количественных отношений, определяющих
условия фонетического развития слов: нормальную, низ-
шую (ослабление) и высшую (усиление). Фактически для
той или иной категории слов могут наличествовать либо две, либо
три ступени (последнее особенно часто в местоимениях).
Немецкий диалектологический атлас, основанный на косвен-
ном (анкетном) опросе, не дает с достаточной ясностью акцентных
дублетов слова даже там, где они наличествуют в лексическом ма-
териале Бенкера. В свое время О. Бремер отметил этот недостаток
методики атласа,3 и Ф. Вредэ должен был признать справедливость
этого указания. «Следует в особенности отметить, — пишет Вредэ
в предисловии к печатному изданию атласа, — что явления, за-
висящие от связи предложения, от более сильного или более слабого
ударения, от проклизы или энклизы, редко отражаются на картах
с достаточной четкостью, потому что часть корреспондентов пере-
водит анкету на диалект механически, слово за словом, забывая
о месте слова в предложении или не учитывая его. Поэтому, на-
пример, карта 4 атласа дает для проклитического ich [в предложе-
нии Бенкера № 10: «ich will es auch nicht mehr wieder tun»] впере-
межку aich и ich, а карта № 5 для энклитического dir [в предло-
жении № 12: «... sollen wir mit dir gehen?»] формы dir, der, dr».4
Поэтому необходимо обращение к монографическим описаниям
диалектов, притом к таким, которые вслед за Винтелером до-
статочно внимательно отмечают различия сильных и слабых форм
слова в связи с акцентными отношениями. Наиболее показательны
для этих процессов диалекты южнонемецкие (алеманнские, ба-
варские, верхнефранкские), в которых процессы редукции неудар-
ных слогов выступают наиболее отчетливо.6
Систематический обзор дублетных сильных и слабых форм дает
Ф. Кауфман для швабского наречия.6 В ряде случаев, в особен-
ности для местоимений, он различает три или больше ступеней
ослабления. Примеры Кауфмана можно распределить по следую-
щим грамматическим категориям.
1) Наречия и предлоги: ibr — ibr 'iiber’, Uf— uf 'auf’, fqr —
fqr 'vor’, fon — fo11 'von’, tsue — tsu, tso 'zu’; другие наречия
в разных условиях ударения: wol—wol 'wohl’, so — so 'so’,
nao11 — no11 'nur’ (ср.-в.-нем. nun), 'noch’ (ср.-в.-нем. noh) и др.
563
36*
2) Глаголы во вспомогательном и служебном употреблении!
muos 'muss’ — с энклитическим местоимением: moD-mr 'muss
man’, мн. ч. mioso— meso 'miissen’; Ig— la 'lass’ — повел, (из
ср.-в.-нем. la); moon(n)—mo"hn 'ich meine’.
3) Личные местоимения (в самостоятельном употреблении, при
глаголе, в энклизе): i — i — е 'ich’, dou — du — do — d 'du’; gar—
gr— or — r 'er’; sio, si—se — s 'sie’; mior — mir — mor, mr, mo
'mir’ (=mir, wir); dior — dir — dor, dr 'dir’; так же мн. ч. ior
'ihr’; mi — mi — mo 'mich’, так же di 'dich’; sig — so 'sich’; eDn —
eDn—o, n 'ihn’; aons — ons — os, is 'uns’; oig — ig—i, о 'euch’;
ior (o),. Iro — oro — ro 'ihr’ дат. п. ед. ч.
4) Местоимение указательное и определенный артикль: dgor,
dgr—dgr— dr, do 'der’; dio, di — de — do, do — d 'die’; des — des —
os — s 'das(es)’; deonm, deDm —denm — enm — m 'dem’; deonn, denn—
denn — do(n) 'den’; dgoro, dgro— dgr— r 'der’ — дат. п. ед. ч.
ж. p. — Местоимение неопределенное и неопределенный артикль:
оопп— епп — ап — о, п 'ein’, oonm — enmo— олт — то 'einem’;
oonro — oro — ro 'einerтак же khoon(n)— khonn fkein’.
5) Местоимение (местоименное наречие) — союз: was — wa 'was’;
mg—mg 'wo’ (ср.-в.-нем. wa); dg— dg— do (dr) 'da’; ng—ng
'dann’ (ср.-в.-нем. na).
6) В редких случаях — имена: muotr — motr 'Mutter’ (в обра-
щении); guodo— godo 'guten’ (в приветствиях: guten morgen,
guten abend и др.).
С исторической точки зрения таблица Ф. Кауфмана содержит
примеры как удлинения, так и укорочения. К первым случаям
относятся fgr — fgr, fo11 — fon, wol — wol, en — ёпп и др.; ко вто-
рым Uf— uf, so — so, Ig—la и т. п. Нормальную ступень позво-
ляет установить только этимология слова: с точки зрения системы
диалекта чередование 1оп—-fon и Uf — uf или so — so и wol — wol
функционально эквивалентны независимо от своего происхождения.
Удлинение гласного в некоторых случаях сопровождается диф-
тонгизацией по общим фонетическим законам швабского диалекта,
если по времени оно предшествовало дифтонгизации: ср. dou 'du’
(из du), aons 'uns’ (из uns, с выпадением п перед 5), naon 'nun’
(из’ nun с отпадением п на конце слова); dgor из dgr, dior из dir
и т. п. (по общим правилам швабской дифтонгизации при удлине-
нии узких гласных перед г); однако i 'ich’, di 'dich’, ml 'mich’,
uf 'auf’ — с сохранением недифтонгизованного долгого (при нали-
чии параллельных кратких форм долгота имеет окказиональный
характер). «Потенцированные» окончания имеют формы дат. п.
ед. ч. ж. р. dgoro 'der’ (из der + en), ioro 'ihr’ (из ir + en) в отли-
чие от им. п. dgor, ior; так же oenro 'einer’ (из einer+ еп).
Процесс ослабления в основном затрагивает гласные: при по-
следовательном сокращении долгие гласные заменяются соответ-
ствующими краткими, затем неопределенным гласным звуком,
вплоть до полной редукции гласного элемента. Дифтонги также
заменяются краткими гласными не произвольно, а закономерно: ср.
564
muotr > motr, guodo godo,tsuo 2> iso, niuas > mo11 (=mr) (иэ > о);
aons^>ons, naofl^>non (aon3>on); mioso^meso, sio^>se, dia>da
(Za^>e); oann>enn, oanm>enma (oon>en); khoenn > khonn,
moenn > monn (oenn > onn по-видимому, в случаях сохранения ко-
нечного -п и менее значительного ослабления).
В целом фонетическое развитие тождественных форм обнаружи-
вает поразительную регулярность: ср. такие ряды, как I, mi, df —
miar, diar, iar — §ar, d^or— dia, sia с их ослабленными формами.
Можно говорить о наличии определенных звуковых законов,
управляющих процессом ослабления, несмотря на то что сам этот
процесс вызывается в конечном счете фактом семантического по-
рядка — ослаблением смыслового веса слова, его грамматизацией.
Более редкий и менее регулярный характер имеют случаи
отпадения или выпадения согласных в ослабленных формах слова:
ср. sig—so, was—wa; muas—mon (=mr) (с назализацией под асси-
миляторным воздействием энклитического местоимения). Нерегу-
лярный характер имеет и прояснение редуцированных гласных
звуков, под влиянием которого вместо ср.-в.-нем. da^ восстанав-
ливается удлиненная сильная форма des (из dos, по типу os 'es’).
2
Дифференциация наречий и предлогов (или отделяемых и неот-
деляемых глагольных приставок) как сильных и слабых форм,
отмеченная Кауфманом в швабском наречии, наличествует и в дру-
гих диалектах. Так, Винтелер различает в швейцарскОхМ (говор
Керенцена) сильные формы a(n), J(n), Us, Uf; dqr, for, ftjr, bi и
слабые a(n), |(n), ijss, i^ff, di|r, for, fqr, bi, первые — в функции
наречий и отделяемых (наречных) приставок, вторые — в функции
предлогов.7 В наречиях a(n), |(n), dqr, for, fQr мы имеем дело
с удлинением под сильным ударением нормальной краткой сту-
пени, сохраняемой предлогом, о чем свидетельствуют этимологии
Этих слов, а также характерное для швейцарского диалекта сохра-
нение открытых вариантов кратких гласных при удлинении (ср.
|(п) — [(n), dqr — dqr и др.). В предлогах qss, qff долгий корневой
гласный, сохраненный наречием, подвергся сокращению в слабом
положении. Таким образом, в результате двух противоположных
фонетических процессов устанавливается одинаковое функционально
значимое чередование.
Сходные отношения мы находим в говоре Нюрнберга (северно-
баварский пограничный с восточнофранкским). Согласно тщатель-
ному описанию А. Гебхарта,8 здесь имеются следующие акцент-
ные дублеты наречий-предлогов: mit — mit 'mit’, fon — fo 'von’,
6n — on 'an’, fuor — fur 'vor’, fuor 'fur’, naux — nax 'nach’
(ср.-в.-нем. — nach), auf — af 'auf’, aus— as 'aus’, bai — ba 'bei’, также
союз wail — wal 'weil’. Развитие имеет фонетически закономерный
характер: ср. при удлинении дифтонгизацию перед г — fur>fUor,
565
fiir >fuer; при укорочении стяжение дифтонгов а!, аи а — auf >
> af, aus as; bai ba, wail>wal. В особенности показательны
примеры, в которых в соответствии с синтаксисом диалекта про-
клитический предлог, стоящий перед существительным, усили-
вается последующим полновесным в акцентном отношении наре-
чием с тем же,значением. Ср. asn haus naus 'aus dem Hause
(heraus)’; af Laf nauf 'nach Lauf (hinauf)’; in fator nax Fgrt naux-
lafm '...nach Fiirth (nach-) laufen’; i lan main sttik on der wend
q '...an die Wand(an)’; warum lefsten fo mior derfon '. . .von mir
(davon)’; а также g^ist mit? -g^ist mit mor? ('.. .oder lasst mich
allein gehen?1) -g^ist mit mior ('. .. oder mit einem anderen?’). При
ускорении темпа речи, а также в связных фразеологических со-
четаниях возможна дальнейшая редукция качественного своеобра-
зия неударных гласных: ba 2> be, af rf, as > es; так же gein
'gegen’^>gB. Ср. efmbam, 'auf dem Baum’, esn haus 'aus dem
Haus’, betsaitn 'bei Zeiten’; gemark fqern 'zu Markt (=gegen
Markt) fahren’, gebarg 'empor’ (ср.-в.-нем. gein berge), tswa getox
(genaxt) '...gegen Tag (gegen Nacht)’ (=vor Sonnenaufgang oder
Untergang).
В литературном языке соответственно различаются ср.-в.-нем.
bi > bei и bi- > be-, in > ein- и in предлог. В этих случаях
форма с кратким гласным представляет первоначальную, нор-
мальную степень, форма с долгим гласным — результат удлинения
под ударением, как о том свидетельствуют этимологии (ср. греч.
dp.—ft, лат. am-bi-; греч. ev, лат. in). При этом слабая форма
bi- > be- сохранилась только как неотделяемая приставка, наре-
чие bi > bei обобщилось и для предлога; in > ein- сохраняется
только в функции отделяемой (ударной) приставки, тогда как
собственно наречие имеет расширенную («потенцированную»)
форму с префигированным местоименным элементом: hin-ein,
her-ein. В средневерхненемецком еще различаются In (или in)
как наречие — in (или с редукцией неударного гласного еп) как
предлог.
Еще отчетливее в средневерхненемецком противопоставление
наречия zuo и предлога ze (др.-в.-нем. zi), из которых второй
представляет ослабленную форму первого (из герм. *to). В ново-
немецком литературном языке обобщена форма zu (ср.-в.-нем. zuo),
которая уже в средневерхненемецком проникает и в сферу пред-
лога. Диалекты частично сохранили ослабленную форму в функ-
ции предлога. Ср. в швейцарском (Керенцен): tsue (наречие,
отделяемая глагольная приставка, ударная форма предлога при
энклитическом местоимении) — tsq, ts (акцентно-ослабленный
предлог). Из слабых форм tsu употребляется в свободных пред-
ложных конструкциях^ например: tsi| liebelute ’zu lieben Leuten’,
tstj de lute 'zu den Leuten’, tsu IGte 'zu Leuten’; ср., однако,
при энклизе: tsuemor; крайняя ступень ослабления (с редукцией
гласного) ts характерна для фразеологически связанных или грам-
матизованных словосочетаний, например: ts-hijllff хц 'zu Hilfe kom-
566
men’, ts-hannde nf 'an die Hand nehmen’, ts-r^xxtar tsit 'zu rechter
Zeit’; при прилагательных (в усилительном значении): ts-gross 'zu
gross’; при инфинитиве ts-gl 'zu gehen’ и т. п.9
Сходным образом в говоре Нюрнберга, где различается tsou —
наречие, tsou, Iso, ts — предлог (с энклитическим местоимением):
ср. tso miar— tsoumar, tso uns — tsou ens; однако всегда tskla11
'zu klein’, tsein 'zu schon’; tsam (ср.-в.-нем. zesamene 'zusammen’).
Наречие-предлог uf — uf обобщило в литературном языке
сильную форму auf с закономерной дифтонгизацией под ударе-
нием; в большинстве немецких диалектов обобщена слабая форма
uf, of (н.-нем. up, op), которая не подвергалась дифтонгизации
и в дифтонгизующих диалектах. Сильное uf, которое Кауфман
отмечает рядом со слабым uf, не имеет дифтонгизации, но долгота
сохраняется вследствие своего окказионального характера или
может быть и результатом позднейшего удлинения в ударном
положении. Граница дифтонгизации us > aus, как отметил
Ф. Вредэ,10 заметно отклоняется в Рейнской области от границы
* hus > haus. Однако это «исключение» из звукового закона только
кажущееся; оно также объясняется условиями ударения (т. е.
фонетически) — сокращением гласного в слабой форме. Такого
рода расхождения границ, основанные на различии фонетических
условий, обычно встречаются, как мы отмечали в другом месте,
на периферии звуковых изменений.11
3
Из глаголов вспомогательных и служебных слабые формы
рядом с сильными имеют в некоторых диалектах претерито-пре-
зентные глаголы, употребляемые в функции глаголов модаль-
ности.
]К. Боненбергер подобно Ф. Кауфману различает в швабском
диалекте сильн. muos — слаб, mos, mus 'muss’; сильн. mioso —
слаб, mesa 'miissen’ инф.; сильн. miannt — слаб. mennt 'miissen’
наст. вр. мн. ч. (из ср.-в.-нем. miiej^ent); точно так же сильн.
wyes — слаб, wos 'weiss’.12 В говоре Нюрнберга в слабых формах
глагола miissen отпадает или выпадает ср. сильн. mous —
слаб, mou 'mus’; мн. ч. сильн. meisn — слаб, mein 'miissen’;
в других’глаголах этой группы гласный сокращается; ср. сильн.
m$Qt — слаб, megt 'mochte’; сильн. was — слаб, was 'weiss’;
сильн. wast — слаб, wast 'weisst’.13
В южноавстрийском говоре Пернегга (Каринтия) также от-
мечены параллельные формы: сильн. miosts — слаб, miots
'miisst’; сильн. gmiost — слаб, gmiot 'gemusst’; при этом, как
в примере Кауфмана, выпадение согласного в слабой форме мо-
жет быть связано с ассимиляторным воздействием энклитического
местоимения; сильн. mia^n— слаб, miamr 'miissen (-wir)’, как
soln — Solmr 'sollen (-wir)’.14 Такие краткие формы модальных
567
глаголов в условиях энклизы в большом числе отмечены Зют-
терлином в нижненемецких диалектах, преимущественно в во-
просительных конструкциях: ср. Зост (вестф.): sak 'soil ich’,
sofi 'sollen wir’, sok 'sollte ich’, mok 'muss ich’; Эмсланд: mak
' mag ich’, muk ' muss ich’ и др ,15
В результате наличия акцентных дублетов слабая форма может
обобщаться и вытеснить фонетически закономерную сильную.
Этим объясняются многочисленные примеры выпадения и отпа-
дения согласных в претерито-презентных глаголах, по видимости
нарушающие обычные закономерности развития консонантизма
в ударных слогах.
Так, в глаголе diirfen в некоторых диалектах выпадает г, не-
смотря на то что в прочих словах оно по общему фонетическому
правилу всегда сохраняется перед теми же согласными. Ср.
в швабском (говор Дейфрингена): d$f 'darf’ (с умлаутом), d^fa
'diirfen’ dift 'durfte’,16 точно так же в нижнеэльзасском (Цорнталь):
d$ft рядом с d^rft,17 в лотарингском (Фалькенберг): daf 'darf’, dafst
'darfsf, dafon 'diirfen’, прич. II godaft.18
Развитием в ослабленном положении объясняется, по-види-
мому, переход начальной группы sk- > s- в глаголе sculan, не-
закономерный с точки зрения регулярного звукового развития
начального sk-^>sch- в верхненемецком. Ср. др.-в.-нем., др.-н.-нем.
seal — sculon, однако уже в IX в. в «Татиане» sal, sulum, solta,
в конце X в. у Ноткера sol, sulen, solte; в средненижненемец-
ком, рядом с господствующим schal, scholen (schiillen), schol-
de (schulde), также sal, sulen solde (sulde) — особенно в вест-
фальском.19 Из современных нижненемецких диалектов значитель-
ная часть сохранила различные отражения sk-\ ср. Эмсланд sxal,
Бремен sal, Дитмаршен (Голыптиния) Sal (с умлаутом); в других
наличествует s- (z-): например,Мюнстерланд (северная Вестфалия)
sal, Пригниц zal и др. Из верхненемецких диалектов sch- отмечено
лишь спорадически на северной и южной окраинах баварско-
австрийского наречия: ср. Пернегг (Каринтия) sol (слаб. Sol),
мн. ч. Soln, прич. II ksolt.20
Весьма широкое распространение как в нижненемецких, так
и в верхненемецких диалектах имеет в глаголах sollen и wollen
выпадение I перед sut, которое как фонетическое явление огра-
ничено названными глаголами и тем самым также должно рас-
сматриваться как обобщение фонетических особенностей слабых
форм.
В нижненемецком явление это имеет очень широкое распрост-
ранение, в особенности при последующем s. Например, в южно-
вестфальском (Вальдек): наст. вр. zas 'sollst’, прош. вр. zos
'soiltest’, опт. Il zqs (однако наст/вр. мн. ч. zplt, прич. 41 ozqlt —
перед t); прош. vqs 'wolltesf, опт. II vqs, так же наст. вр. vj.t
'willsf— из ср.-н.-нем. wit (однако наст. вр. мн. ч. vjlt или vjt,
прич. II 9VQlt — передо).21 Более широко — в вестфальском говоре
568
Равенсберга: sos (sas) 'sollst’, vos (vus) 'willsf— мн. ч. suet, vut
(перед Z).22
В верхненемецком выпадение I характерно главным образом
для юго-запада (южногессенский, пфальцский, лотарингский,
южнофранкский, алеманнские диалекты), притом с неравномер-
ным охватом форм в зависимости от грамматических особенностей
данного диалекта. Ср. в восточнопфальцском (район Гейдель-
берга): sos 'sollst’, мн. ч. 2 л. sot 'sollt’, ksot 'gesollt’; wit'willst’
(из др.-в.-нем. wit), мн. ч. wot 'wollt’; опт. II sot, wot, мн. ч.
son, won (с удлинением перед -lde)\23 в швейцарском (Керенцен):
wit 'willst’, наст. вр. мн. ч. sond 'sollen’, waaid 'wollen’ опт. II
sot (с умлаутом), wet.24 Для тюрингенских говоров характерна
вокализация Z, имеющего здесь заднеязычную артикуляцию [/],
в положении после гласных: например, Рула — sA 'soil’, soun
'sollen’; wi 'will’, 'wollen’;25 Зальцунген — sqn 'sollen’, wqn
'wollen’, wqd 'wollte’.26 Верхнегессенский имеет стяженные формы
инфинитива и настоящего времени множественного числа в ре-
зультате ассимиляции -In > -п. Ср. в районе Гиссена: sen 'sollen’
(из sollen с умлаутом), wen 'wollen’ (из wellen).27
Точно так же и особенности вокализма этих глаголов, вы-
ступающие спорадически уже в древневерхненемецких памятни-
ках (незакономерная лабиализация корневого гласного), свя-
заны, вероятно, не только с аналогическим влиянием прошед-
шего solta, но и с прояснением гласного в слабых формах, при
котором возможны отложения от общих правил фонетического
развития в ударном слоге. Ср. др.-в.-нем. wolta (рядом с законо-
мерным welta), мн. ч. wollent (рядом с wellent), инф. wollen (ря-
дом с wellen), формы, появляющиеся уже в древнефранкских
памятниках (Татиан, Отфрид), в единичных примерах и в древне-
саксонском «Гелианде» (прош. welda — wolda, мн. ч. weldun —
wuldun); у Ноткера sol рядом с прош. solta.
Из ослабленных вариантов глагола mussen, как уже указы-
валось, в южнонемецких диалектах развиваются отклоняющиеся
от обычных закономерностей ударных слогов фонетические формы
с выпадением интервокального, иногда и конечного -ss (ср.-в.-нем.
-3:5), которое не наблюдается в этих диалектах в лексически
полнозначных глаголах wissen или essen. В среднебаварском
и среднеавстрийском наречии формы без s господствуют. Ср.
Нейенкирхен (нижняя Австрия): mue 'muss’, мн. ч. mien 'mus-
sen’, прич. II gmitd 'gemusst’ (с умлаутом), опт. II mind с интер-
вокальным вставным г в зиянии miered (как новая форма отме-
чается miesed).28
В алеманнских диалектах это явление охватывает более узкий
круг грамматических форм: ср. в нижнеэльзасском (Цорнталь)
мн. ч. наст, mi^n 'mussen’, прич. II gomi^nt (аналогическоеново-
образование от предшествующей формы);29 в швабском mionnt
(слаб, mennt), monnt, munnt 'mussen’ (последние без умлаута); 30
в швейцарском (Керенцен) мн. ч. наст, miiand 'mussen’.31
569
В тюрингенских говорах в этом глаголе -ss- выпадает в группе
перед t (на глагол wissen это явление также не распространяется,
так что оно специфично для фонетики слабых форм). Ср. Рула:
наст. вр. мн. ч. 2 л. mud 'nriisst’ (без умлаута), прош. вр. ед. ч.
1 и 3 л. mud 'miisste’, 2 л. mudst, мн. ч. 1 и 3 л. mudon 'mussten’,
2 л. mud; опт. II mud 'miisste’, мн. ч. miidan; прич. II gomud
'gemusst’; отсюда аналогически образованный инф. miidan 'miis-
sen’ или mild, mud (с обычным для этого наречия отпадением
окончания -еп в инфинитиве).32 Эта форма производит впечатле-
ние отсутствия верхненемецкого перебоя (мнимого сохранения
нижненемецкого t > d); однако -ss- наличествует в интервокаль-
ном положении при отсутствии последующего t\ ср. мн. ч. наст,
muson (из др.-в.-нем. muo^an без умлаута). Так же в тюринген-
ском говоре Франкенгаузена: прош. вр. ед. ч. 1 и 3 л. muda 'mus-
ste’, опт. II mida 'miisste’, прич. gamut 'gemusst’.33
Верхнегессенский и лотарингский имеют стяженную форму
mun < mii(ss)en (без умлаута), образованную по аналогии дру-
гих стяжецных глаголов (ср. в.-гесс. son 'sollen’, won 'wollen’,
khon 'konnen’ и др.).34
Отпадение конечных -п и -g в формах kann и mag и выпаде-
ние их в определенных фонетических условиях внутри слова
сюда не относятся; эти явления следуют общим фонетическим
закономерностям развития данных звуков в соответствующих
диалектах (с многообразными аналогическими воздействиями
грамматического характера) и не связаны со специфическими осо-
бенностями фонетики слабых форм.
Приведенные выше наблюдения над претерито-презентными
(модальными) глаголами позволяют объяснить аналогичные не-
правильности в развитии кратких (стяженных) форм других
вспомогательных и служебных глаголов. Такие формы имеют
глаголы haben, geben, lassen, werden.
Стяженная форма han от глагола haben (др.-в.-нем. haben)
появляется в позднем древневерхненемецком с XI в. (в восточно-
франкском диалекте Виллирама и в баварском). Форма эта спря-
гается в презенсе по аналогии древних атематических (однослож-
ных) глаголов stan, gan, но самый факт выпадения и последую-
щего стяжения haben > han, даже при условии спирантного
произношения Ъ в интервокальном положении [б], не может быть
объяснен обычными фонетическими закономерностями ударных
слогов. Тем более это относится к прошедшему др.-в.-нем. ha-
beta>hate, не имеющему грамматических аналогий в спряжении
атематических (сильных) глаголов. В средневерхненемецком стя-
женное han ' haben’ господствует в функции вспомогательного
глагола. Полная форма haben употребляется по преимуществу
при сохранении первоначального полнозначного лексического
значения 'halten’ ('держать’) — так в особенности в южнонемец-
ких текстах.35
570
В зависимости от наличия или отсутствия умлаута и других
грамматических особенностей в средневерхненемецком встреча-
ются и иные стяженные формы. Так, в алеманнских текстах наст,
вр. ед. ч. 2 л. heit (из др.-в.-нем. hebit), мн. ч. 3 л. heint, инф.
hein, прош. вр. heite (из *hebita), опт. I heige (из др.-в.-нем.
*hebege); в средненемецком также heit, hein, с умлаутом в на-
стоящем времени hen, hest, het (из hebit), с умлаутом в прошедшем
(по оптативу II) hete (het) и ряд других.36
Отсюда — многообразие современных диалектных вариантов
этого слова, обобщивших различные типы слабых форм: например,
в швабском — с сохранением долготы старой стяженной формы
ср.-в.-нем. han > haon; в других диалектах — с дальнейшим
сокращением, гласного в слабом (неударном) положении: han,
hon, hun, с умлаутом hen. Обобщению может подвергнуться
и сильная (двусложная) форма (например, в южной части франк-
ских диалектов): инф. наст. вр. мн. ч. 1, 3 л. hawo или с умлаутом
hewa, наст. вр. ед. ч. 1 л. hab или с умлаутом heb. Эльзасский
(Цорнталь) еще различает в наст. вр. ед. ч. 1 л. нормальную
(стяженную форму) ha и hap (haw-) при усилении («in energischer
Rede»), а также в положении перед гласными (haw-i 'habe ich’).37
Система спряжения глагола в целом, представляет в каждом
диалекте результат отбора и обобщения конкурирующих, по
своему происхождению сильных (полных) или слабых (стяженных
и укороченных) форм. Литературный язык имеет, как известно,
стяженные формы hast, hat, hatte, hatte (с коротким гласным),
в остальном обобщены были сильные (нестяжённые) формы.
Сходным образом развивается стяженная форма др.-в.-нем.
la^an > lan, которая встречается уже в позднем древневерхне-
немецком (у Ноткера), а в средневерхненемецком получает очень
широкое распространение. По своему оформлению lan также сле-
дует за старыми атематическими глаголами stan, gan. Однако
выпадение интервокального с последующим стяжением, невоз-
можное в ударном слоге, объясняется и здесь условиями фонети-
ческого развития слабых форм, как в аналогичном примере с гла-
голом miie^en 'miissen’. В средневерхненемецком, как указывает
Михельс, полная форма употребляется почти только в лексически
полновесном значении («in pragnanter Bedeutung») в смысле
entlassen, unterlassen, zullassen.38 Слабая (стяженная) форма
была обобщена на алеманнском юго-западе, например, швб.
1аоп (из ср.-в.-нем. lan), lQ§d, Iqd, мн. ч. laond или с умлаутом
leBnnd; повел. 1аоп, прич. II glaon. Спорадически она наличествует
и в других диалектах, обычно в качестве дублета полной формы.
Ср. в лотарингском (Фалькенберг): lan и lazan;39 в тирольском
(Имст) повел. Iqss — lossat (слаб. I7 — 1(Д), наст. вр. мн. ч. 1 л.
1qss3 (при энклизе lommor < lan-wir).40 В литературном языке
во всех случаях сохранилась полная форма, как и в восточно-
средненемецких диалектах, на которые он опирается. Следует
также учесть, что в отличие от глагола haben глагол lassen упо-
571
требляется не только в служебной функции и в гораздо большей
степени сохраняет свое лексическое значение.
Уже в X в. в древневерхненемецком (в частности, и у Ноткера)
от глагола lassen встречается ослабленная форма прошедшего lie
(из lieg), которая получает значительно более широкое распрост-
ранение в средневерхненемецком. Несколько позже (с XI в.)
в единичных примерах зарегистрирована такая же форма от ста-
рого атематического глагола gan — прош. вр. gie (вместо др.-в.-нем.
geng, gieng), которая также распространена более широко
в средневерхненемецких текстах. В средневерхненемецком, в ре-
зультате фонетически закономерного выпадения интервокального
-4-, от глаголов др.-в.-нем. fahan 'fangen’, hahan 'hangen’ образу-
ются новые стяженные формы — ср.-в.-нем. van, han и рядом
сними краткие прошедшие vie (рядом с vienc)nhie (рядомсЫепс).
Вся эта группа глаголов объединяется односложной (стяженной)
формой презенса и старым редуплицирующим прошедшим на -ie
(VII ряд аблаута); ее развитие, очевидно, основано на граммати-
ческой аналогии, в частности и незакономерное отпадение конеч-
ных согласных. Однако в кратком прошедшем от lassen (lan) —
lie, хронологически, по-видимому, наиболее раннем, и, может быть,
от gan — gie можно заподозрить, исходя из значения этих глаго-
лов, особенности фонетики слабых форм (ср. в претерито-презент-
ной группе mue^ > тиэ).
Стяженные формы имеет в средневерхненемецком и глагол ge-
Ъеп: особенно часто в наст. вр. ед. ч. 2, 3 л. gist, git (из др.-в.-нем.
gibis, gibit), но также в других формах — инф. gen, наст. вр.
мн. ч. 3 л. gent; в мозельском наст. вр. ед. ч. 1 л. gen (по типу
атематических глаголов на -mi: наст. вр. ед. ч. 1 л. gan, gen 'gehe’
и др.). Михельс считает возможным фонетическое развитие группы
-ibi- > -?-; однако он делает оговорку: «вероятно, в неударном
положении».41 Действительно, как и в случае др.-в.-нем. haben >
>han, даже если предположить спирантное произношение интер-
вокального b (5), его выпадение не имеет никаких параллелей
в закономерном развитии ударных слогов и может быть объяснено
только фонетикой слабых форм.
Стяженная форма была обобщена в особенности в группе за-
рейнских западносредненемецких диалектов (мозельском, западно-
пфальцском и лотарингском). Ср., например, Фалькенберг (лота-
рингский): инф. g[n 'geben’; наст. вр. ед. ч. 1 л. gin (из *gibe + n),
2 л. g|st, 3 л. git (с дальнейшим сокращением стяженного глас-
ного), мн. ч. gin; опт. II g$t (из *gab + te); прич. II gin 'gegeben’.42
Существенно, что именно в этой группе диалектов geben (gin или
gen) широко употребляется вместо werden как вспомогательный
(т. е. фонетически ослабленный) глагол при образовании страда-
тельного залога. Ср., например, в южномозельском (Обергам): g$
goslo 'ich werde geschlagen’; on as gaslo g^n 'er ist geschlagen
worden’ и т. п.43 Стяженный тип встречается и в некоторых юж-
нонемецких диалектах, баварских и в особенности — алеманнских.
572
Ср. швб. инф. gee11, наст. вр. ед. ч. 1 л. gi (gai), 2; 3 л. gaisd,
gaid (из ср.-в.-нем. gist, git с дифтонгизацией), мн. ч. geennd,
повел. gi (gai).44 Литературный язык, следующий и в этом отноше-
нии за восточносредненехмецким, сохранил полные формы этого
глагола, обычно употребляющегося с полновесным лексическим
значением.
От указанных случаев выпадения согласных и образования
стяженных глагольных форм в условиях акцентного ослабления
следует отличать весьма многочисленные случаи регулярного фо-
нетического стяжения, связанного с выпадением интервокальных
согласных (чаще всего -g-, -й-, в нижненемецком -d, в некоторых
восточносредненемецких диалектах также -Ь-) в соответствии с об-
щими звуковыми законами данного диалекта. Так, говор Рула
(тюрингенский) также имеет в глаголе geben стяженные формы:
инф. g5 (без окончания -еп, отпадающего в инфинитивах, с зако-
номерным для тюрингенского диалекта расширением ё а, 5);
наст. вр. ед. ч. 1 л. ga (из *gebe^>*gS), 2 и 3 л. gist, git;
мн. ч. 1 л. g5n (из *gSben>ggn), 2 л. g5t, повел. gS; прич. II
gagSn: однако с сохранением -Ь на конце слова: прош. вр. g5b,
опт. gab.45 Однако эти формы имеют лишь внешнее сходство с за-
паднонемецкими, поскольку интервокальное -Ь- (как и некоторые
другие из перечисленных согласных) выпадает в этом диалекте
по общему фонетическому закону. Ср. в таких лексически полно-
значных глаголах, как например '15 'leben’, наст. вр. ед. ч. 15,
15st, 15t, прош. вр. 15t, прич. gal5t; glai 'glauben’ (из *glauben
с умлаутм), наст. вр. ед. ч. glai, glaist, glait, прош. вр. glait,
прич. II gaglait; в именах grU 'Grube’, gro 'grobe’ и др.46
В глаголе werden формы наст. вр. ед. ч. 2, 3 л. wirst, wirt
являются результатом синкопы неударного -е- личного окончания
и последующей ассимиляции -rd-^>-r- перед переднеязычным со-
гласным (или группой согласных). В средневерхненемецком упо-
требительны полные формы: wirdest, wirdet. Развитие новонемец-
ких кратких форм должно быть поставлено в связь с фонетиче-
ской ассимиляцией интервокального -rd->-r-, широко распростра-
ненной в нижненемецком и средненемецком. Ср. в южновестфаль-
ском (Вальдек): qra 'Erde’, vora 'Worte’ (ср.-н.-нем. worde) как
vqran 'werden’, наст. вр. ед. ч. vera, vqrs, vqrt, мн. ч. vqrt;
прош. вр. vor 'ward’, опт. II v5r, прич. II avoran 'geworden’;47
в верхнегессенском (район Вецлара): qer 'Erde’, par 'Pferde’, как
wqern 'werden’, gawqrn (wqrn) 'geworden’; wouar 'wurde’;48 в тю-
рингенском (Буттельштедт): aro 'Erde’, fara 'Pferde’ мн. ч., как
wara 'werden’, gaworn 'geworden’ 49 и т. п. Однако ассимиляция
-rd->-r- в слове werden распространяется значительно дальше
на юг, чем в других словах. Она захватывает, напрИхМер, шваб-
ский и швейцарский, где ассимиляции подобного рода по общему
фонетическому правилу не встречаются в других словах. Ср. швб.
инф. wqara 'werden’; наст. вр. ед. ч. 1—3 л. wur, wu(r)sd, wU(r)d;
мн. ч. wqn(n)d; опт. II wir, прич. II woara (wor); однако hqa(r)d
573
'Herde’—ga(r)d 'Garten’ и т. u. (обычно с удлинением или диф-
тонгизацией гласного и с тенденцией к редукции г перед передне-
язычными согласными).50 Это дает основание предполагать, что
своеобразное развитие глагола werden объясняется и в данном
случае особенностями фонетики слабых форм.
4
Наиболее наглядно процесс развития, с одной стороны, сла-
бых, с другой — усиленных форм выступает в местоимениях, где
три ступени ударности представляют частое явление. Как всегда,
эти отношения наиболее отчетливы в южнонемецком ввиду нали-
чия здесь более сильной редукции в неударном положении. К при-
мерам из швабского, отмеченным Ф. Кауфманом, можно добавить
аналогичные из швейцарского, эльзасского, баварско-австрий-
ского.61 Мы ограничимся севернобаварским говором Нюрнберга,
подробно описанным А. Гебхардтом.52
Личные местоимения:
1 л. I, ig— i; mior; тэг, mi, mig— mi; uns — es, Л
2 л. da — d; diar— dar; di, dig — di; iar— or; aig— ig.
3 л. м. p. ед. ч. им. п. йог — аг, ег; дат., вин. in — i.z neu,
пип; ж. p. им., вин. п. soi — s, им. si; дат. Гэг — эг, аге, иге; ср. р.
ед. ч. им., вин. п. (des) — s, дат. (den) — п, па11; ив11; мн. ч. им.,
вин. (doi) — ср. р. ед. ч. s; дат. dene — ne11, ine11, nen, inen.
Возвр. sig, si — si.
Формы ich, mich, dich, sich в ослабленном положении теряют
конечное -д по общему фонетическому закону южнонемецких диа-
лектов; в частности, в нюрнбергском говоре ср. неударные суф-
фиксы прилагательных — legli 'langlich’, fraiii 'freilich’; suldi
'schuldig’, garsti 'garstig’.53 Отпадение -q в сильных формах i, mi,
di, как правильно указывает Гебхардт, объясняется аналогией,
т. е. обобщением фонетического признака слабой формы. Формы
ig, mig, dig и другие наиболее полные варианты употребляются
как заменители предложения, главным образом — при вопроситель-
ной интонации (ig? mic?).54
Вообще формы с долгим гласным ig (f), mic (mi), dig (di), sig (si),
а также du представляют результат удлинения в сильном положе-
нии (при самостоятельном употреблении), как и дифтонгированные
mlar, diar, ааг, iar. Долгое I в сильных формах указанных местоиме-
ний подвергается обычной фонетически закономерной дифтонгиза-
ции в обширной группе западносредненемецких диалектов к востоку
и к западу от Рейна: с одной стороны — в верхнегессенском, с дру-
гой стороны — в западной части мозельского и в северозападном
Пфальце: ср. aig, maig, daig, saig (моз. gig, mgig, dgig, zgig);
с вторичной монофтонгизацией at > а перед g в некоторых верхне-
гессенских говорах (например, в районе Вецлара ag, mag, dag,
sag — как wage 'weicheri’).55 В тех же диалектах дифтонгируется
574
п долгое й в сильных формах du dan (don). Дифтонг встречается
и в западношвабском (deu, dou), и в некоторых восточносредне-
немецких говорах (тюринг. Рула dau). Дифтонгизация имела
в прошлом более широкое распространение; она была вытеснена
по течению Рейна недифтонгированными формами, поддержанными
литературным языком, которые разорвали первоначально свя-
занную территорию средненемецкой дифтонгизации к западу
и к востоку от Рейна. Процесс этот протекал для разных слов
неравномерно: наиболее широкий район распространения сохра-
нило дифтонгическое aig, наиболее ограниченный — saig, по-
скольку по своему значению оно реже других употребляется в силь-
ном положении.56 Южнофранкский говор Раппенау имеет du,
но производное dautse 'dutzen5, также указывающее на наличие
в прошлом дифтонгической формы.67
В женском роде дифтонг di в сильной форме soi по фонетическим
законам диалекта соответствует ср.-в.-нем. sie (ср.-в.-нем. ie >
>> «обращенный дифтонг» di); слабые формы s(si) восходят к реду-
цированному ср.-в.-нем. sie > si. На них закон «обращенных ди-
фтонгов» не распространяется.
[ Среди фонетически ослабленных форм следует в особенности
отметить es, ens 'uns’ с выпадением носового. В слове uns носовой
согласный выпадает при акцентном ослаблении и в ряде других
диалектов. Ср. в южнофранкском (Раппенау) сильн. uns — слаб,
as, в нижнеэльзасском (Цорнталь) сильн. uns — слаб, is, as,
в верхнеэльзасском (Кольмар) сильн. uns — слаб, is, es (формы
на i являются результатом умлаута из ср.-в.-нем. unsih). В ре-
зультате фонетического обобщения или прояснения слабой формы
образования типа us могут появиться и в сильной позиции. Они
имеют вид так называемых «ингвеонизмов», но могут объясняться
по своему происхождению не как реликты выпадения п перед
спирантами, характерного для ингвеонского наречия, как и для
алеманнских диалектов, а специфическими условиями фонетиче-
ской редукции в слабом положении. Такие «ингвеонизмы» могут
быть заподозрены как мнимые во всех тех случаях, где выпадение
п перед s не имеет регулярного характера, а ограничивается место-
имением uns.
Показания атласа Венкера, не дифференцирующего сильных
и слабых местоименных форм, в этом отношении представляются
особенно ненадежными.
С фонетическим удлинением как способом усиления формы,
как всегда, могут конкурировать потенцированные окончания.
Местоимение 1-го лица в изолированном употреблении имеет
в нижненемецких диалектах расширенную форму ika (ср.-н.-нем.
ikka), в восточносредненемецком ige (уже в др.-в.-нем. ihha,
ichhe). В местоимении 3-го лица косвенные падежи присоединяют
как усиление окончание слабого склонения -еп : in-\-en слаб,
nen, me11; ir+en > слаб, эге, иге. В единственном числе среднего
рода и во множественном всех родов местоимение 3-го лица ег
575
еон’ заменяется в сильной форме эмфатическим указательным
der етот’, явление, которое в других южнонемецких диалектах,
например в швабском, имеет еще более широкое распростране-
ние, захватывая все формы местоимения 3-го лица в сильном по-
ложении. В слабом положении сохраняются редуцированные
образования от личного местоимения.
Взаимоотношение сильных и слабых форм местоимения (или
числительного) и артикля в говоре Нюрнберга иллюстрирует
следующая таблица.
Указательное местоимение — определенный артикль: ед. ч. м. р.
daor — dor; den — n, in; ср. p. des — des, es, is, s; ж. p. doie—
di, d, daor, dare11 — dar; мн. ч. doi, doie — di; den, dene11 — den, n, in.
Числительное 'один’ (неопределенное местоимение): им. п. м. р.
аппэг; ж. р. anni (aDne); ср. р. a”ns (alls) — в самостоятельнохм
употреблении по сильному склонению прилагательных; a11 'ein’—
в атрибутном употреблении; дат., вин. п. м. и ср. р. апп, дат. п. ж. р.
аппэг; неопределенный артикль: е11 (перед гласными также еп);
дат. п. м. и ср. р. еп, ж. р. епге, вин. п. м. р. еп, ж. и ср. р. е11
(перед гласными еп).
Из приведенных форм des, как и в швабском диалекте, пред-
ставляет фонетически незакономерный результат прояснения (гене-
рализации) ослабленной формы (из слабого dos des). Двусложные
образования имеют потенцированное окончание -еп>я-, обычное
при синтаксически самостоятельном употреблении указательного
местоимения. Ср. woi mdksti den mitdne11 dau ainlausg? 'wie magst
du dich mit diescn da einlassen?’ — woi mdksti den mitdn laitn
ainlausn? 'wie magst du dich mit diesen Leuten einlassen?’.
Сопоставление развития сходных по своему фонетическому ха-
рактеру сильных форм обнаруживает и здесь фонетически законо-
мерный характер процессов редукции при последовательном ослаб-
лении. Ср. удлиненные формы: daor как Йог, dior как ior; ослаб-
ленные dor, тэг, аг; сильн. doi как soi — слаб, di, d как si, s;
удлиненные формы: ig, dig, mig — ослабленные: i, di, mi.
Низшей ступенью в южнонемецких диалектах является полная
редукция неударного гласного, доходящая до нуля. Так, в нюрн-
бергском: d 'du’, s 'sie’, n 'ihn’, 'der’, d 'die’, s 'es’, 'das’;
в швейцарском (Керенцен): t 'du’, ts 'das’, t 'die1, m 'dem’, r 'der’
ж. p. дат. ед. ч., s 'sie’ вин. мн. ч.; в швабском также г'ег’, s 'sie’,
m 'ihm’, n 'ihn’. Как примеры разных ступеней редукции ср. в го-
воре Керенцена ('du’) du hiss ksi 'du (kein anderer) hist es gewe-
sen’; du hiss 'du hist’, bis-t au da 'hist du auch da’; alls was-t
wit 'alles was du willst;’ с ассимиляцией последующему согласному
по общим фонетическим законам швейцарского наречия: ср. eb-k-
хй bist 'ob du gekommen bist’, wam-p-Ша wit 'wenn du fehlen
willst’.68 По тем же фонетическим правилам ассимилируется последую-
щему согласному начальное редуцированное t- определенного артикля:
talp 'die Alpe’, t liabsti 'die Liebste’, thaks (с сильной аспирацией)
'die Hexe’, pfart 'die Fahrt’, pmUs 'die Maus’, kxua 'die Kuh’,
576
Isanda-pura 'die Senlenbauern’; с полным поглощением/- после-
дующим шумным: ’lag 'die Tage’, ’Idrffer 'die Dorfer’, ’Isand 'die
Zahne’, ’perg 'die Berge’, ’kabla fdie Gabel’.69
В некоторых верхненемецких диалектах местоимение mir 'wir’
употребляется тоже в значении неопределенного личного man. Ср.,
например, в верхнеэльзасском (Кольмар): mr ves 'wir wissen’—
mr vaisl 'mann weiss’.60 Можно предположить, что в основе этого
смешения, имеющего п семантические основания, лежит смешение
слабых форм обоих слов, характерное в особенности для южноне-
мецкого: m ir mer те = таи та11 те.
Фонетикой слабых форм объясняются стяженные предложные
конструкции. Литературный язык допускает лишь ограниченное
число таких разговорных по своему происхождению и стилисти-
ческому характеру сокращений. В сочетаниях am 'an dem’, im
'in dem’, vom 'von dem’ редукции подверглись одновременно на-
чальный согласный артикля и ассимилировавшийся с ним конеч-
ный согласный предлога; в прочих случаях слабая (редуциро-
ванная) форма артикля примыкает к полной (более сильной)
предлога: ср. beim 'bei dem’, zum 'zu dem’, zur 'zu der’. Слабая
форма дат. п. м., ср. р. ед. ч. -т допускается в обиходном упо-
треблении после большинства двусложных предлогов, оканчиваю-
щихся на -er; unter’m, hinter’m, iiber’m (но не ausser’m); еще
шире круг возможного употребления слабого -s 'das’: auf’s, in’s,
an’s, urn’s, fur’s, vor’s, durch’s, а также unter’s, hinter’s, fiber’s.
В средневерхненемецком сочетания такого типа употреблялись
более широко: ср. с дательным — anme (amme), 'ап dem’, inme
(imme) 'in dem’, zeme (zem) 'zu dem’, vonme (vomme) 'von dem’,
nachme 'nach dem’, fifme (ufem), 'auf dem’, u^eme (u?em) 'aus
dem’, geinme (geim) 'gegen dem’ и др.; с винительным: umben
(ummin) 'um den’, ufen 'auf den’; с дательным мн. ч. (ср.-в.-нем.
den): ufen, u?en, zien, mitten и др.61 Столь же широко явление
это представлено в диалектах, в особенности в южнонемецких.
Ср., например, в севернобаварском: am 'auf dem (den)’, afs 'auf
das’, in ’in dem (den)’, is ’in das’, min 'mit dem (den)’, ban'bei
dem (den)’ и т. п.; в швейцарском (Берн): bir 'bei der’, ir 'in
der’, ar 'an der’ 62 и др. Литературный язык восстановил в этих
случаях полную (сильную) форму как предлога, так и артикля.
Закономерности развития слабых форм местоимений в истори-
ческий период немецкого языка, в особенности наблюдения над
слабыми и сильными формами местоимений в современных диа-
лектах, позволяют объяснить и некоторые более древние явления
в этой области, относящиеся к периоду дифференциации древне-
германских племенных наречий. Как известно, древнегерманские
диалекты ингвеонской группы (древнесаксонский, англосаксон-
ский, фризский) не сохранили конечного согласного в местоиме-
ниях, которые оканчиваются в готском на -s, в древневерхненемец-
ком и в древнесеверном на -г (из герм. -z). Ср. др.-в.-нем. mir,
dir, готск. mis, pus, др.-исл. mer, per — др.-сакс. mi, thi, англо-
37 в. м. Жирмунский 577
сакс, me (me), рё (be); др.-в.-нем. wir, готск. weis, др.-исл. ver —
др.-сакс. wi (we), англосакс, we (we); др.-в.-нем. ir, готск. jus,
др.-исл. ёг — др.-сакс. gi (ge), англосакс. £ё (ge, gie); указат. др.-в.-
нем. с!ёг — др.-сакс. the (thie); вопрос, др.-в.-нем. (h)wer, готск.
hwas, др.-исл. hwar-r ('который из двух’) — др.-сакс. hwe (hwie),
англосакс, hwa.
Различие это основано, по-видимому, как правильно указы-
вает К. Бруннер,63 на древнем фонетическом законе общего ха-
рактера: готский и скандинавский сохраняют конечное герман-
ское -z (и.-е. -s) во всех положениях, как в ударном слоге после
ударения (готск. dins, род. diuzis; др.-исл. dyr 'Tier’), так и в не-
ударном слоге падежного окончания (готск. gasts, др.-исл. gestr
'Gast’). Напротив, в языках западногерманской группы г
сохраняется только после ударения (др.-в.-нем. tior, англосакс,
йёог), но отпадает в неударном слоге падежного окончания (др.-
в.-нем. gast, англосакс, giest). В местоимениях, при наличии
акцентно-ослабленных форм, должны были чередоваться силь-
ные формы с конечным -г и слабые без -г: герминонские диалекты
(древневерхненемецкий) обобщили сильные формы, сохранив
таким образом -г, тогда как в ингвеонских были обобщены слабые
без -г. Добавим, что в иствеонском (франкском) наличествовали
в древненемецкую пору оба типа; впоследствии южные формы
с -г вытесняют так называемые ингвеонизмы.
Таким образом, указанное различие объясняется особенно-
стями фонетики слабых форм.
5
I С вопросом о фонетическом развитии слабых форм слова сле-
дует связать судьбу группы односложных форм, обнаруживаю-
щих в средненемецких диалектах незакономерные отклонения
от правил второго передвижения согласных.
| В настоящее время можно считать доказанным трудами со-
временных немецких диалектологов высказанное Энгельсом еще
в начале 1880-х годов предположение, что верхненемецкий перебой
проник в франкские диалекты среднего Рейна из южнонемецких
(герминонских) диалектов и что процесс их «оверхненемечения»
происходил постепенно, притом, по-видимому, путем продвиже-
ния отдельных передвинутых слов. В известном смысле о таком же
(только несколько более раннем) «оверхненемечении» можно го~
ворить и по отношению к гессенским и тюрингенским диалектам,
по крайней мере — северной их части.64
К числу многочисленных реликтов непередвинутых слов, со-
хранившихся в среднефранкском, в особенности в его северной
части (в рипуарском диалекте Кельнской области), относится
довольно большая группа односложных слов служебного и полу-
служебного характера с глухим смычным в конечном положении
578
(после гласного).65 К ним принадлежат местоимения dat 'das’,
wat 'was’, et 'es’, dit 'dies(es)’, не имеющие перебоя во всем средне-
франкском, также alt, at (в.-нем. alles) в специализованном идио-
матическом значении наречия (или частицы), закрепившемся
за ним в рейнских диалектах (в кельнском 'schon’, в мозельском
'mitunter, immer’). К односложным реликтовым словам того же
типа относится также up, op 'auf’ (в верхненемецких диалектах
обычно в ослабленной, недифтонгированной форме uf, of), граница
которого захватывает, кроме рипуарского, и северную часть мо-
зельского диалекта (до р. Мозель). В рипуарском сюда присоеди-
няются служебные глаголы mot, mit 'muss’, мн. ч. m5t 'miissl’;
let Tiess’, мн. ч. leto 'liessen’ (рядом c les — leso).
Закономерность сохранения этих бесперебойных реликтов
при вытеснении нижненемецкого подтверждается наличием не-
которых из них в «оверхненемеченном» говоре Берлина и его ши-
рокого окружения (wat, dat, et), в районе Магдебурга на Эльбе
и — к югу от него вплоть до Ахена, имеющего dad, wad (с средне-
немецким слабым глухим d вместо непередвинутого £).66 Район
Берлина сохранил также местоимение ik 'ich’ как реликтовое
слово, тогда как на Рейне ich, och обогнали общую границу пере-
боя (линия Бенрата) и продвинулись вниз по Рейну до линии
Урдингена. В смешанном по своему происхождению восточносред-
ненемецком диалекте Силезии и в связанных с ним старых судетско-
немецких выселках были зарегистрированы бесперебойные формы
тех же местоимений dot 'das’, det 'dies’, et 'es’.67
Форма wat наличествует в ряде эльзасских говоров (вплоть
до долины Мюнстерталь в южном Эльзасе) в значении wie 'как’
в выражениях меры, стоимости, вообще степени качества и коли-
чества. Ср. в нижнеэльзасском (Цорнталь): wat fel khQsd dor пщ-
dor fon d^m tsi ('сколько стоит метр этой материи?" — 'wie viel
kostet?’), wat lap ('wie lang?’ или 'wie lange?"), Ilia wat sen 'schau
wie schon!’ и т. п.68 В основном значении 'что’ употребляется
обычная верхненемецкая форма was.
В средневерхненемецком указанные реликтовые формы распро-
странены на Рейне значительно южнее границ среднефранкского
наречия. Местоимения dat, особенно dit, реже wat, встречаются
наряду с перебойными формами во всех франкских диалектах,
включая пфальцский и верхнефранкский; dit пишут в грамотах
городские канцелярии Майнца, Франкфурта, Вормса (XIV—
XV вв.), оно употребляется в Тюрингии, Мейсене (вместе с dat),
в Силезии. Широко распространено было и односложное bit
'bis’ (ср.-в.-нем. Ы^), исчезнувшее в современных говорах.69
В гессенском, как сообщает В. Митцка, dis окончательно вытес-
нило dit лишь к началу XVI в.70
Были сделаны попытки объяснить эти «исключения» из пере-
боя звуковыми закономерностями обычного порядка. Г. Пауль
высказал в свое время предположение, что переход глухого смыч-
ного в спирант происходил по фонетическому закону только
579
37*
в положении между гласными; на конце слова оставался смычной.
Таким образом, др.-в.-нем. fa^ 'Pass’ (из * fat), па/5 'nass’ (из
*nat) или kouf 'Kauf’ (из *kaup) получили спирант только по ана-
логии двухсложных слов типа fa^es, па^ег, kauffes и т. п. Изо-
лированные односложные слова типа da^, wa?, ik, op и т. п.,
не имеющие рядом с собой флектированных двухсложных форм,
сохранили поэтому бесперебойный согласный. Действие этого
закона Пауль предполагает вероятным не только в среднефранк-
ском, но в более древнюю пору и в других верхненемецких диа-
лектах.71 Однако постулируемые теорией Пауля бесперебойные
формы типа *fat, *nat, *kaup и т. п. (рядом с fa^es, nar^er, kauf-
fes) нигде в древневерхненемецком не засвидетельствованы. С дру-
гой стороны, при отсутствии перехода wat > wa?, ik > ich и т. п.
в среднефранкском перебойные формы все же изначала наличест-
вовали, вопреки фонетической теории Пауля, в более южных диа-
лектах и постепенно продвигались на север, вытесняя бесперебой-
ные формы. Объяснению подлежит, таким образом, не отсутствие
передвижения в этих формах, а географическое и хронологиче-
ское отставание этого передвижения в средненемецких диалектах.
О. Бехагель думал объяснить сохранение этих реликтовых слов
ссылкой на их «частое употребление».72 Однако теория неизме-
няемости часто употребительных слов, выдвинутая младограм-
матиками, как было указано в другом месте, не подтверждается
фактами.73 Скорее можно было бы предполагать как раз обратное,
учитывая, что мы имеем здесь дело с так называемым «движением
слов»: широко употребительные в процессе речевого общения,
такие слова общенародного языка, как ich и auch, в особенности
первое, именно ио этому обстоятельству могли оказаться на ниж-
нем Рейне авангардными словами верхненемецкого перебоя.
Мы считаем возможным и в данном случае искать объяснения
сохранению реликтов этого типа в особых условиях фонетиче-
ского развития слабых форм. Все эти односложные слова, по своему
грамматическому характеру полуслужебные, должны были иметь
фонетически ослабленные варианты. При продвижении южных
форм, основанном на процессе фонетической аналогии и социаль-
ном перевесе новой фонетики (besser вместо beter, как essen вместо
eten или wasser вместо water и т. п.), эти слабые формы выпадали
из поля фонетического внимания говорящего и сохраняли, по
крайней мере временно, реликтовую звуковую форму. Их проч-
ность поддерживалась отсутствием параллельных двусложных
образований.
Эта точка зрения подтверждается, в частности, случаями со-
хранения реликтовой (по своему происхождению слабой) формы
в специализованных идиоматических значениях, в качестве на-
речия или наречной частицы, рядом с закономерно передвинутой
(по своему происхождению сильной) формой: ср. wat ewieJ в эль-
засском, alt е schon, mitunter’ (ослаоленный вариант) в средне-
франкском и др.
680
Связь между сохранением бесперебойного согласного и неудар-
ностью наблюдается и в некоторых окончаниях. Так, среднефранк-
ские диалекты сохранили бесперебойное -t в среднем роде прила-
гательных, но только при самостоятельном (субстантивном)
употреблении. Ср. в мозельском (Обергам): dat jopot 'das Junge’,
dat klanat 'das Kleine’, dat grQzot 'das Grosse’ — но с перебоем
в атрибутивном употреблении: о gruzos dorof 'ein grosses Dorf’.74
Точно так же в лотарингском, где эта форма сочетается в субстан-
тивном употреблении как с неопределенным, так и с определенным
артиклем: э grosot 'ein Grosses’ — at groset 'das Grosse’; о gudet 'ein
Gutes’ — ot gudot 'das Gute’; но без окончания в атрибутивном
употреблении: о gros fir 'ein grosses Feuer’.76
Средний род прилагательных сохраняет окончание -at и в оверх-
ненемеченном берлинском говоре: ср. armat 'armes’, jroset 'gros-
ses’, en klenet ^ndakan 'ein kleines Endchen’. Кроме того, бес-
перебойную форму имеет здесь неударный суффикс уменьшитель-
ных н.-нем. -ken, -chen\ ср. bisken 'bisschen’, fritsken 'Fritzchen’.76
Напротив, прилагательные с суффиксом -lich (н.-нем. -Нк)
принадлежат на Рейне к числу авангардных слов с верхненемец-
ким передвижением и проникают в область переходных говоров
между среднефранкским и нижнефранкским к северу от линии
Бенрата отдельными словами, из которых каждое имеет свою осо-
бую границу, может быть, при поддержке сходных с ними по спо-
собу образования и значению прилагательных на -iq (-fg).77
Таким образом, и в данном случае можно говорить о фонети-
ческом своеобразии развития акцентно-ослабленных форм.
Подведем некоторые итоги рассмотренным примерам.
Слабые формы слов встречаются преимущественно в определен-
ных категориях слов, употребляемых в служебном или полуслу-
жебном значении. Акцентное ослабление связано с ослаблением
лексического значения слова, с процессом грамматизации. Одно-
временно возможны случаи фонетического усиления, логиче-
ского или эмфатического выделения, потенцирования, функцио-
нально параллельные потенцированным (усиленным) окончаниям.
Таким образом, теоретически следует учитывать три возможные
ступени ударения в зависимости от синтаксической функции слов,
соответствующие трем ступеням индоевропейского аблаута: нор-
мальную ступень — высшую ступень (удлинение — Dehnstufe) —
низшую ступень (ослабление — Tiefstufe).
Акцентное ослабление имеет свои фонетические законы после-
довательной редукции, которые отличаются от общих фонетиче-
ских законов, действующих в германских языках преимущест-
венно в ударном слоге. Обобщение или прояснение неударной
формы создает видимые исключения из общих звуковых законов,
которые могут быть объяснены из особенностей фонетики акцентно*
ослабленных форм слова.
1959 е.
ПОТЕНЦИРОВАННЫЕ ФОРМЫ В НЕМЕЦКИХ ДИАЛЕКТАХ
1. «Потенцированными» (усиленными) мы будем называть
грамматические формы, которые подверглись фонетическому рас-
ширению или укреплению, противодействующему их ослаблению
или редукции. Такое расширение и укрепление вызывается необ-
ходимостью поддержать, иногда усилить грамматическую или
семантическую дифференциацию, которая нивелируется в ре-
зультате ослабления. Таким образом, в результате потенцирова-
ния уточняются и совершенствуются грамматические средства
языка.
В немецком литературном языке отмечены в небольшом числе
такие потенцированные формы. Так, указательные местоимения
в функции служебных слов (артиклей) подвергаются акцентному
ослаблению; в сильном положении, как местоимения, они расши-
ряются окончаниями -еп, -ег (по аналогии прилагательных);
ср. артикли des, den, der — местоимения dessen, denen, deren,
derer. Сходным образом потенцированное окончание имеет и во-
просительное местоимение wessen, вытеснившее односложное
ср.-в.-нем. wes. Грамматической дифференциации служит потенци-
рованная форма дат. ц. мн. ч. 3 л. ihnen (ср.-в.-нем. in) в отличие
от вин. п. ед. ч. муж. р. ihn (также ср.-в.-нем. in) и жен. рода ед.
и мн. ч. 3 л. ihrer (ср.-в.-нем. ir) в отличие от жен. рода дат. п. ед.
ч. ihr (также ср.-в.-нем. ir).
Реже грамматические формы потенцируются при помощи пре-
фиксальных элементов. Так, акцентно-ослабленным предлогам
противопоставляются расширенные наречия места, в прошлом
тождественные с ними по форме; ср. предлоги aus, auf, an, in
и др. — наречия heraus или hinaus, herauf или hinauf, heran,
hinein (ср.-в.-нем. наречие in — предлог in) и т. п.
Потенцированным является окончание 2-го лица ед. числа гла-
голов -st, распространившееся из настоящего времени на все гла-
гольные формы. Оно образовалось в древневерхненемецком в
результате переразложения из суффигированного личного место-
имения —du; ср. nimis+du > nimist-du fdu nimst’. В юго-запад-
ной группе немецких диалектов (швабско-алеманнском, южно-
франкском и пфальцском), где -st > st (ср. mist 'Mist’, brust
'Brust’, bist 'bist’), конечное -t в окончании 2-го лица ед. числа
в некоторых говорах снова отпадает, поскольку окончание -s
является достаточно дифференцированной формой. Ср., например,
эльз. nems 'nimst’, maxs'machst’, bes'bist’ и т. п. Явление это не
фонетическое, а грамматическое и основано на таком же пере-
разложении; ср. bist+du > bis-du (тогда как по общему фоне-
тическому закону -st на конце слова сохраняется; ср. эльз. mest
'Mist’, brust 'Brust’ и т. п.).
В результате такого же переразложения часто укрепляются
суффиксы, которым угрожает в условиях редукции потеря смысло-
различительного значения. Ср., например, в прилагательных
582
егп (из -r-\-in): steinern, glasern вместо ср.-в.-ием. stcfnin, glesin;
в существительных -пег, -ler (из -n-\-er, Schuldner, Haus-
ler и многие другие.
Лексически ограниченный случай потенцированной формы
представляет immer — immer mehr. Слово immer 'всегда’, из
ср.-в.-нем. ei-J-mer, само состоит из двух элементов: др.-в.-нем.
io > ср.-в.-нем. ie 'всегда’ (ср. н.-в.-нем. je), расширенного уси-
ливающим ср.-в.-нем. тёг 'mehr’ ('больше’). Редукция второго
элемента сложного слова, потерявшего самостоятельное значение
(ср.-в.-нем. iemer > immer 'всегда’), подсказала потенцирован-
ную форму immer mehr с вторичным добавлением того же mehr.
В этом случае существенное значение имели тенденция к эмоцио-
нальной выразительности, эмфатическое усиление, связанное
со значением этого слова.
С потенцированными формами соприкасаются отмеченные
Жильероном примеры фонетического укрепления укороченных
в результате редукции односложных слов, обозначенные самим
Жильероном образным выражением — «терапевтика слов» (the-
japeutique verbale).1 Так, вместо «чрезмерно укороченного» es
(ер, ef) 'пчела’ (из лат. apis) входит в употребление расширен-
ное уменьшительным суффиксом — abeille (из apicula). С другой
стороны, в словах подобного типа может сохраниться конечный
согласный, обычно отпадающий по фонетическому закону: ср.
франц, coq 'петух’, cinq 'пять’, sept 'семь’ и др. Грамматическая
аналогия, наличие полных вариантов перед гласным следующего
слова (так называемое «связывание» —liaison), наконец, влияние
литературного языка, ориентирующегося на написание или на
латинскую этимологию слова, в отдельных случаях объясняют
это явление. Реже подобное расширение происходит за счет пре-
позиции, например в мн. числе zyd «глаза» вместо уб, из сочета-
ний типа les yeux.2
Общим для всех перечисленных примеров является влияние
значения слова или значения грамматической формы слова на со-
хранение или укрепление его фонетического состава. Вопрос
этот был поставлен в теоретической форме в известных трудах
В. Хорна, который обнаружил в общих условиях редукции более
значительную сопротивляемость функционально значимых эле-
ментов слова.3 Менее убедительной представляется новейшая
теория И. Даль, которая пыталась объяснить некоторые из рас-
сматриваемых ниже диалектных явлений как результат «тенден-
ций к сохранению системы» (systemerhaltende Tendenzen).4 На са-
мом деле в этих случаях речь идет не о сохранении «системы»,
тем менее о сохранении абстрактного структурного принципа
системы (так называемого «синтетического строя» в отличие от
«аналитического»), а о сохранении и фонетическом укреплении
отдельных языковых форм, когда они являются носителями грам-
матического значения, иными словами об устранении «омонимизма»
(или «нейтрализации») грамматических элементов в тех случаях,
683
когда они способствуют дифференциации важных для языкового
общения смысловых различий.
2. Общей тенденцией склонения существительных в немецком
языке и его диалектах является унификация флективных разли-
чий между падежами и на этой основе более или менее систе-
матическое формальное противопоставление множественного числа
единственному. Функция различения падежей переходит в основ-
ном к местоименным показателям при существительных или, при
отсутствии таковых, к местоименному («сильному») склонению
прилагательных. Кроме того, широкое развитие получила система
предлогов, служащих основными показателями синтаксических
связей имени существительного. Тенденция к унификации нали-
чествует во многих диалектах и в местоименном склонении.6
Однако дат. падеж ед. и мн. числа, который может употребляться
без предлогов как падеж косвенного дополнения, сохраняет
довольно широко в сильном склонении дифференцирующие его
окончания (ед. число муж. и ср. рода -е, мн. число муж. и ср. рода
-еп). В зависимости от фонетических особенностей диалекта эти
окончания, в особенности в верхненемецком, могут подвергнуться
дальнейшей редукции (отпадение конечного -е, отпадение -п).
В баварском и австрийском наречии, где дат. и вин. падежи
ед. числа фонетически совпали в местоименном склонении в общей
форме на -п (dem, den > den), смешение дат. и вин. падежей
наблюдается и во мн. числе в предложных конструкциях типа
mit di sub 'mit die Schuhe’ вместо 'mit den Schuhen’. Реакцией
против такого смешения является так называемый «усиленный
дательный» (Kraftdativ), имеющий форму -па'1 или -пп в зависи-
мости от диалекта (из -еп-\-еп). В сильном склонении обычно со-
храняется простое -п; ср. им. падеж ед. числа flz 'Fisch’ — мн.
числа fis 'Fische’, дат. падеж мн. числа fisn; им. падеж ед. числа
blig ' Blick’ — мн. числа blik ' Blike’, дат. падеж мн. числа blikp
(с ассимиляцией -п). При наличии слабого мн. числа -еп, имеющего
в баварско-австрийском чрезвычайно широкое употребление (не-
редко с распространением окончания -еп и на им. падеж ед. числа),
в дат. падеже мн. числа обычно наличествует потенцированная
форма. Ср. им. падеж ед. числа busn 'Busch’ — мн. числа busn
'Busche’ (-еп), дат. падеж мн. числа busen (из bus-]-en-[-en); им.
падеж ед. числа krjouxn 'Knochen’ — мн. числа kgouxn (-еп),
дат. падеж мн. числа kpouxen (из knoche-]ren-\-eri). В случае
ассимиляции -еп предшествующему согласному потенцированное
окончание -п присоединяется к ассимилированному -п, так что
окончание -еп оказывается утроенным. Ср. им. падеж ед. и мн.
числа haufm 'Haufen’ (-еп) — дат. падеж мн. числа haufmon
(~еп-\-еп-\-еп); им. падеж ед. числа Ьевх 'Berg’ —мн. числа Ьевр
'Berge’ (-еп), дат. падеж мн. числа Ьеврвп (~еп-\-еп-\-еп).в
Потенцированный дат. падеж мн. числа встречается и в неко-
торых восточносредненемецких диалектах, где также наблюдается
смешение дат. и вин. падежей ед. числа в местоименном склоне-
584
нии. Он употребляется в особенности в предложных оборотах,
которым более всего угрожало такое смешение. Ср. в западно-
тюрингенском (Зальцунген): an dn harna 'an den Haaren’, an dn
orna 'an den Ohren’ и т. п. {-en-\-en > пэ),1
3. При отпадении окончания -е в дат. падеже ед. числа муж.
и ср. рода в качестве усиленной формы в южнонемецких диалектах
(в эльзасском, швейцарском, в некоторых баварских и австрий-
ских говорах) получило распространение префигированное in
(или ап), представляющее по своему происхождению предлог,
полностью утративший свое лексическое значение. Ср. в эльзас-
ском дат. падеж ед. числа муж. рода em frent 'im-Freund’ (='dem
Freunde’), ср. рода em dqrf'im Dorf’ ( = fdem Dorfe’); также жен.
рода en dor brugt 'in der Brust’ (='der Brust’); мн. число мужского,
среднего и женского рода еп do frenda 'in den Freunden’ (='den
Freunden’), en da d§rfara 'in den Dorfern’ (='den Dorfern’), en da
bresta (—'in den Briisten’).
Соответственно этому в диалектно окрашенной литературной
речи эльзасец склонен говорить: ich hab’es im Vater gegeben,
ich hab’es in der Mutter gesagt, er hat es in den Leiten gesagt.8
Этот оборот развился в результате фонетического совпадения
редуцированной формы дат. падежа ед. числа муж. и ср. рода
определенного артикля em 'den’ и e-m 'in dem’ (из ср.-в.-нем.
inme), а также дат. падежа ед. числа муж. и ср. рода неопреде-
ленного артикля eme 'einem’ (из ср.-в.-нем. eineme) и е-те 'in
einem’, дат. падежа ед. числа жен. рода enre 'einer’ (из ср.-в.-нем.
einere) и en-re 'in einer’. В соответствии с этим формы em frent
' dem Freunde’, em dorf' dem Dorfe’ были переосмыслены как' in dem
Freund’, 'in dem Dorf’ с дальнейшим распространением на формы
женского рода и множественного числа; формы eme man 'einem
Manne’—как e-me man 'in einem Manne’; формы enre frqi 'einer
Frau’—как en-re frqi 'in einer Frau’. Ср. в диалекте Кольмар:
i ha-s eme-n arma man ga 'ich habe es (in) einem armen Mann
gegeben’, i ha-s enre-n arme frqi ga 'ich habe es (in) einer armen
Frau gegeben’.
Как четко дифференцированная форма, этот новый аналити-
ческий оборот употребляется во всех случаях, когда дат. падеж
не имеет при себе другого предлога, т. е. лишен формальной ха-
рактеристики (в швейцарских диалектах в особенности рядом
с числительным, артиклем, личным, указательным, вопроситель-
ным местоимениями), содействуя, в частности, дифференциации
дат. и вин. падежей в случаях их морфологического совпадения
(в личных местоимениях). Ср. в диалекте Фрейбурга: дат. падеж —
i-тщг 'mir’—вин. падеж._ тщг, дат. падеж. j-d|ar 'dir’ — вин.
падеж d|ar, дат. падеж |n-im 'ihm’ — вин. падеж im, дат. падеж
j.-nQs 'uns’—вин. падеж nQs, дат. падеж i-nqx 'euch’—вин. па-
деж nqx.9
Наличие сходных тенденций развития аналитического дат.
падежа ед. числа в территориально не связанных между собою
585
южнонемецких диалектах подтверждает закономерный характер
этих тенденций к укреплению падежной формы дат. падежа в тех
случаях, когда она употребляется как косвенное дополнение без
предлогов и вместе с тем утратила свои старые морфологические
признаки.
4. Существенное значение для развития местоимений имеет
различие сильных и слабых форм, из которых последние, в осо-
бенности в южнонемецком, подвергаются гораздо более значи-
тельной редукции, чем в литературном языке. Сильные формы
в отличие от слабых могут быть расширены, как и в литератур-
ном языке, окончаниями -еп, реже -ег, которые в разных диалек-
тах имеют различное распространение. Ср., например, в пфальц-
ском: eno 'ihnen’, dano 'denen’; в швейцарском (Керенцен): |па
'ihnen’, dena 'denen’, |ra 'ihren’, dpra 'deren’ и т. п.
Фонетическому укреплению «чрезмерно укороченных» место-
именных форм способствует в некоторых швейцарских диалектах
перераспределение, в результате которого от аналитического дат.
падежа с предлогом in (ап) образовались расширенные формы ме-
стоимений с добавочным элементом п- перед гласными; ср. в го-
воре Фрейбурга’ nQs 'uns’ (из fn-J-ws), пбх 'euch’ (из in+dx)-
в слабом положении также пцш 'ihm’ (из in-}-irn), пэ 'ihn’, 'ih-
nen’ (из in-\rineri)
К расширенным формам указательных местоимений относится
dieser 'этот’, которое было образовано в древненемецком из ста-
рого указательного местоимения der с добавочной (усилительной)
указательной частицей -se. Ср. др.-в.-нем. dese (из der-|-se), позд-
нее deser 'dieser’. В диалектах употребление dieser в настоящее
время ограничено главным образом нижненемецким и восточно-
средненемецким; в большинстве других верхненемецких диалек-
тов в значении «этот» сохранилась сильная форма старого ука-
зательного местоимения der, расширенная в случаях смыслового
выделения добавочными указательными наречиями или части-
цами. Ср. в говоре Оттвейлера (южномозельский диалект): dea hpi
'der hier’, dea dp 'der da’, dea doat 'der dort’11 в южноавстрий-
ском (Пернегг, Каринтия): dor dp 'der da’ (dr puo dp 'dieser Bube
da’); при усилении — иногда с удвоением: der dodp 'der da-da’
и даже с утроением: dpstodp dp 'das-da da-da’.12 В сфере куль-
турного влияния французского языка (например, в Лотарингии)
в качестве усилительной частицы употребляется франц. 1а (ср.
celui-la 'этот’). Ср. в говоре Фалькенберга: dor la 'der da’ или
с удвоением der-la-la 'dieser’; dor dort 'der dort’ ('jener’) или dor
lort (контаминация la + dort).13
5. Употребление личных местоимений при глаголе становится
обязательным в новонемецком языке с конца древневерхненемец-
кого периода в связи с редукцией и фонетическим смешением
первоначально дифференцированных глагольных окончаний. Ср.
в современном языке: wir lieben — sie lieben, wir liebten — sie
liebten, ich gab, er gab, ich gabe — er gabe и др. При этом для
586
дальнейшего разййТий глагольных окончаний, как и самих место-
имений, существенное значение получает широко распространен-
ное (в особенности в разговорной речи, в частности и в диалектах)
инверсивное энклитическое употребление личных местоимений,
связанное не только с ослаблением, но нередко и с фонетической
ассимиляцией. Например, в гессенском диалекте: nem-ig 'nehne
ich’, gesdo 'gehst du’, gewomr 'geben wir’, hodr 'habt ihr’ и т. п.
В результате подобной ассимиляции с последующим переразло-
жением местоимение 1-го лица мн. числа wir повсеместно в верхне-
немецких диалектах приняло форму mir; ср. gen-j-wir 'gehen
wir’ > gemr > ge(n)+mir >> mir gen 'wir gehen’. Сходным об-
разом на более ограниченной территории мн. число 2-го лица
ihr получает форму dir; ср. get-f-ir 'geht ihr’>gedr>ged +
4-dir>dirged 'ihr geht’. В обоих случаях этому развитию со-
действовала тенденция к грамматической унификации супплетив-
ных форм мн. числа по типу ед. числа mir, mich — dir, dich.
В приведенных выше энклитических формах gemr, 'gehen
wir’, hodr 'habt ihr’ и др. ослабленное в фонетическом и в лекси-
ческом отношении личное местоимение в сущности по своему
грамматическому характеру приближается к морфологическому
показателю лица при глаголе, к глагольной морфеме. Мы могли бы
рассматривать его как потенцированное личное окончание, фо-
нетически расширенное и более дифференцированное в граммати-
ческом отношении, чем старые ослабленные и обобщенные гла-
гольные окончания -(e), -е(п), которые подверглись в диалектах
еще большей редукции, чем в литературном языке. Однако су-
ществование соотносительных форм того же значения без суффи-
гированных местоименных окончаний в случаях постановки лич-
ного местоимения перед глаголом, т. е. sraibste и du sraibst,
gemr и mir ge(n), hodr и ir(dir) hot (а не du sraibsla, mir gemr,
ir hodr и т. п.), свидетельствует о том, что процесс грамматиза-
ции энклитических местоимений еще не завершился полностью
и что для говорящего на диалекте они продолжают оставаться
ослабленными местоимениями, а не являются простыми глаголь-
ными окончаниями.
Иначе обстоит дело в баварских и австрийских диалектах
в отношении глагольного окончания 2-го лица мн. числа, которое
имеет здесь потенцированную форму -ts (-ds), образовавшуюся
через присоединение к обычному окончанию 2-го лица мн. числа
-t энклитического местоимения es в ослабленной форме -s. Место-
имение es представляет двойственное число 2-го л. (ср.-в.-нем.
ё^), заменившее в баварско-австрийском наречии мн. число ihr
(ср.-в.-нем. ir). Ср. 2-е л. мн. числа sraits'(ihr) schreit’, drqkts
'(ihr) traget’, ggds '(ihr) geht’ и др. На полную грамматизацию
потенцированного окончания -ts указывает его обязательный ха-
рактер; хотя форма эта может употребляться и без личного место-
имения, однако в процессе ее развития в личное окончание воз-
никает потребность во вторичном присоединении личного место-
587
имения; так в особенности в препозиции: es gepts, но также иногда
и в энклизе: gepts-es.14
Значительно более ограниченное распространение имеет это
явление в 1-м лице мн. числа. Оно отмечено, например, в южно-
австрийском говоре Пернегга, где энклитическое местоимение пре-
вратилось в глагольное окончание тг рядом с самостоятельной
формой того же местоимения wir в начальном положении: wir sQgmr
'wir sagen’, wir Qrwolmr 'wir arbeiten’; и здесь возможно энклити-
ческое mr, вторично присоединяющееся как личное местоимение
к тождественному с ним по происхождению, грамматизованному
окончанию мн. числа 1-го лица тг; ср. khermr mr (или khermamy)
aufn 'gehoren wir hinauf?’. При логическом выделении и эмфазе
отмечено даже тропное wir: khermemr wir a aufn 'gehoren wir
auch hinauf?’.15
6. Иным способом укрепляется окончание настоящего времени
ед. числа 1-го лица -е. В большинстве западносредненемецких
и южнонемецких диалектов, в отличие от литературного языка,
конечное -е по общему фонетическому правилу отпадает. Ср.,
например, в швабском seij, 'singe’, max 'mache’, tzorj 'Zunge’,
gesd 'Gaste’ и др. Однако в значительной части западнонемецких
диалектов (среднефранкский, нижнегессенский, верхнегессен-
ский и швейцарский) форма 1-го лица укрепляется аналогичным
распространением окончания -тг, -еп, свойственного первоначально
небольшой группе так называемых атематических глаголов на
-mi. В древневерхненемецком, кроме 1-го лица наст, времени
stam (stem) 'stehe’, tuom 'tue’, him 'bin’ (ср. готск. im), к этой
группе принадлежит неясное по своей этимологии gam (gem)
'gehe’; в конце древневерхненемецкого периода к ним примкнули
стяженные формы 1-го лица ед. числа наст, времени han'habe’ (из
др.-в.-нем. habem) и lan 'lasse’.
Кроме того, в древневерхненемецком языке окончание -т
имеют все слабые глаголы II и III группы с суффиксами о, ё,
которые присоединяют к своей основе окончание -т в 1-м лице
ед. числа наст, времени индикатива в отличие от формы 1-го лица
ед. числа наст, времени оптатива без -т; ср. др.-нем. lobom 'lobe’,
lebem 'lebe’ (оптатив наст, времени lobo, lebe).
В языке позднего древневерхненемецкого периода рейнско-
франкские и среднефранкские тексты обнаруживают аналогиче-
ское распространение окончания ед. числа наст, времени -дп
(с переходом -т > -тг) и на другие группы глаголов — как силь-
ных, так и слабых: например, sprehhon'spreche’, behalton 'behalte’,
bekennon 'bekenne’, leron 'lehre’ и др.16 В средневерхненемецком
в ряде диалектов это окончание прочно закрепилось, как о том
свидетельствуют рифмы. Ср. lesen 'lese’: gewesen; niederfallen
'falle5: alien; kennen 'kenne’: genennen; sagen 'sage’: belagen
и др.17
В современных верхненемецких диалектах в окончании наст,
времени 1-го лица ед. числа -еп конечное -п сохраняется или от-
588
падает по общим фонетическим правилам данного диалекта. Ср.
в лотарингском (Фалт кенберг): werfen 'werfe’, biuxan 'brauche';
dun Tue’, gen fgebe’ пдр.; в гессенском: dripke Trinke’, khafa 'kaufe’;
fQrn 'fahre’, sbirn 'spiire’ (с сохранением -n после г по общему
правилу; ср. hQrn Tlaare’ и т. n.); bon, hun fhabe’; gen 'gehe’,
dun Чие’ (-тг сохраняется после гласного в односложных формах);18
в швейцарском (Керенцен): giba fgebe’, hassa 'hasse’, gu 'gehe’,
Id Uasse’ и т. п.19
Следовательно, в таких формах, как наст, время 1-го лица
гессенск. driijke 4rinke’, khafa fkaufe’ и т. п., по-видимому,
сохранилось окончание -е, как в литературном языке, несмотря на
фонетически закономерное отпадение конечного -е в прочих слу-
чаях, характерное для тех же диалектов (ср. гессенск. jun с Junge’,
gens 'Ganse’ и др.). Однако генетически эти формы между собой
не связаны: скорее можно говорить здесь о своеобразном восста-
новлении («регенерации») грамматического признака, укреплен-
ного аналогическим распространением форм на -еп.
В среднефранкском окончание 1-го лица ед. числа -еп распро-
странилось и на прошедшее. В северномозельских говорах (Эй-
фель) оно встречается в глаголах всех типов: ср. lifon 'lief, lagan
'lag’, kontan 'konnte’, woeran cwar’, hadn 'hatte’ и др.20 В рипуар-
ском (Берг) формы прошедшего с -еп ограничены слабыми гла-
голами, притом лишь в случаях отсутствия или устранения чере-
дования гласных (так называемого обратного умлаута), когда
по фонетическим особенностям этого диалекта (редукция конеч-
ного -е и отпадение -t на конце слова после шумного согласного)
прошедшее в 1-м лице должно было совпасть с настоящим. Ср.
kraxdan 'krachte’, hoptan 'hiipfte’ (прошедшее kraxt’, hopt’ >
>krax, hop имело бы одинаковую форму с настоящим); spoltan
'spiilte’ (или spolt с обратным умлаутом), zokdan 'suchte’ (или
zok), jlofdan 'glaubte’ (или jlof) и др.21 Таким образом, граммати-
ческая аналогия и здесь подчиняется общей тенденции развития
морфологически дифференцированной формы.
Как известно, окончание -mi во многих индоевропейских язы-
ках получило более или менее широкое распространение за перво-
начальные границы небольшой группы атематических глаголов
(в индо-иранском, в греческих диалектах, в армянском, в древне-
ирландском, в некоторых славянских языках). Распростране-
ние это было вызвано, однако, не механическим воздействием
небольшой группы слов, хотя бы и очень употребительных, как
думал К. Бругман,22 а внутренней целесообразностью процесса
формообразования: большей фонетической стойкостью этого окон-
чания по сравнению с «незащищенным» индоевропейским глас-
ным о, а следовательно, его значением для функциональной диф-
ференциации формы, как своего рода «потенцированного окон-
чания».23
7. С «регенерацией» формообразующего признака на основе
грамматической аналогии мы имеем дело в южнонемецких формах
589
оптатива прошедшего времени. Признаком этой формы в древне-
верхненемецком был суффикс -7, который в сильных глаголах
II—VI ряда вызывал умлаут (ср. wurfе < др.-в.-нем. wurfi,
gabe < др.-в.-нем. gabi и т. п.). Редукция неударного i >> е
в средневерхненемецком, а в дальнейшем отпадение конечного
-е в большинстве западносредненемецких и южнонемецких диа-
лектов лишили эту глагольную форму ее дифференцирующего
показателя. В слабых глаголах формы прошедшего оптатива и ин-
дикатива полностью совпали (ср. suchte из др.-в.-нем. индикатива
прошедшего suohta и из оптатива прошедшего suohti) и вышли
из употребления; в сильных — только формы с умлаутом сохра-
нили четкую морфологическую характеристику и потому ока-
зались более устойчивыми. В связи с разрушением флексии ши-
рокое распространение в диалектах получила аналитическая
форма оптатива прошедшего с глаголом tun: ich tate singen, ich
tate schreiben и т. п. Обычно она может быть образована от всех
глаголов, даже при наличии остатков сильного оптатива, который
вытесняется вследствие противоречивости и неустойчивости своего
образования. Наиболее прочными и употребительными из флек-
тивных оптативов остаются повсюду отчетливо выраженные
формы вспомогательных и служебных глаголов: ware, tate, hatte,
wiirde и модальные durfte, mochte, konnte, musste и др. Последние,
образованные по претерито-презентному типу, обычно объеди-
няют умлаут с суффиксом прошедшего времени -t (ср. durfte <;
др .-в .-нем. durfti).
Однако в южнонемецких и территориально прилегающих
к ним средненемецких диалектах, полностью утративших простое
прошедшее, форма слабого оптатива прошедшего частично сохра-
нилась и даже распространилась на сильные глаголы, в резуль-
тате чего эта модальная категория получила новый, четко диф-
ференцированный морфологический признак -t. Проводниками
этого аналогического процесса явились широко употребительные
флективные оптативы модальных глаголов, издавна объединявшие
суффикс прошедшего с чередованием гласного и умлаутом. По типу
durft’ и miisst’ могли образоваться gabt, namt и т. п. Ср. в восточно-
пфальцском (окрестности Гейдельберга): d^eft 'durfte’, mesl 'muss-
te’, mekt 'mochte’—gebt 'gabe’, khemt 'kame’, geijt 'ginge’,
lekl 'lage’ и др.24
Слабые оптативы прошедшего от сильных глаголов встречаются
двух родов: первые образуются от основы презенса без чередова-
ния гласных, представляя как бы особый случай перехода силь-
ных глаголов в слабые в прошедшем времени; вторые присоеди-
няют суффикс -t к сильной форме старого оптатива прошедшего
времени с обычным аблаутом и умлаутом и являются, таким об-
разом (подобно претерито-презентным глаголам), своеобразной
контаминацией способов образования сильного и слабого прошед-
шего («смешанные» формы). Ср. в баварском: 1) gab 'gabe’ —
оптатив сильного спряжения (из ср.-в.-нем. gmbe, с переходом
590
ср.-в.-нем. а?>бав. а); 2) gebot — оптатив слабого спряжения (из
ср.-в.-нем. *gebe-te от geben с суффиксом слабого спряжения
-t); 3) gabat — оптатив смешанного спряжения (из ср.-в.-нем.
* gaebe-te с суффиксом слабого спряжения -/). Для баварско-австрий-
ских диалектов характерна вторая форма, которая может быть
образована почти от всех сильных глаголов по типу слабых и вы-
тесняет лексически более ограниченную группу сильных и сме-
шанных оптативов. Прочность суффикса в баварско-австрийском
обусловлена наличием гласного элемента перед -t (-vd, -at), кото-
рый восходит к др.-в.-нем. -о/, -et слабых глаголов II—III группы
(др.-нем. оптатив прош. времени loboti 'lobte’, lebeti 'lebte’).
Ср. в нижнеавстрийском (Нейенкирхен): оптатив прош. вре-
мени leiwed 'lebte’ ('wiirde leben’); siked 'schickte’ fwiirde
schicken’) и т. п.25 В некоторых северобаварских говорах это
окончание оптатива еще расширено обычным для фонетики этого
диалекта неорганическим г перед -t; ср. diarfort с durfte’, moisart
fmiisste’—также namort fnahme’ (ср.-в.-нем. ае^>бав. a), gabart
fgabe’ и т. д.
Другой тип потенцированного оптатива прошедшего на -t
обнаруживают эльзасские говоры. Здесь рядом с обычным -t от-
мечены расширенные окончания -tit, -tik, -tikt\ wertit (wertikt)
cwurde’, dqrftit (derftikt) cdurfte’, так же от слабых глаголов:
wenstit 'wiinschte’, maintik 'meinte’, hertit chorte’. Происхождение
этой формы неясно. Ее пытались объяснить как суффигированное
tate, что представляется маловероятным. Скорее можно видеть
в этом окончании результат переразложения в слабых глаголах,
оканчивающихся на t (d), типа rettete (*reddidi), richtete (*rich-
titi).26 Существенной во всяком случае является тенденция создать
дифференцированный, прочный в фонетическом отношении по-
казатель модальной формы, «регенерация» морфологического при-
знака при помощи потенцированного окончания.
8. Потенцированные словообразовательные суффиксы имеют
широкое распространение при образовании уменьшительных в связи
с эмоционально-экспрессивным характером этой грамматической
категории (по типу immer mehr).
В древних германских языках, судя по письменным памятни-
кам, уменьшительные употреблялись редко. В области немецкого
языка в этой функции встречались германские суффиксы -in
(ср. др.-в.-нем. magat-in 'Madchen’), -Ио (в собственных именах
типа Hunilo — жен. род. Hildila), -iko (др.-в.-нем. manniko) —
с верхненемецким передвижением -icho (др.-в.-нем. Gibicho).
Согласно теории Ф. Вредэ,27 источником для развития уменьши-
тельных, получивших в дальнейшем в немецком языке характер
почти универсальной грамматической формы существительных,
послужили встречающиеся во всех германских языках уменьши-
тельно-ласкательные образования от личных имен типа готск.
Attila (буквально «батюшка»), Wulfila (буквально «волчонок»),
др.-в.-нем. Ezzilo, Hunilo, др.-н.-нем. Attiko, Huniko и т. п.
591
Ближайшим образом уменьшительно-ласкательный суффикс пере-
носится на имена нарицательные с личным значением в особен-
ности — в обращении: готск. barnilo 'Kindchen’ («дитятко»), ma-
gula 'Knablein’, др.-в.-нем. scalhilo ' Knechtlein’, chizzilla 'Zick-
lein’; annihho ' Gross vaterlein’, annihha ' Grossmiitterlein’ и т. п.
Дальнейшее распространение этого суффикса на неодушевленные
предметы Ф. Вредэ представляет себе как результат своего рода
эмоциональной персонификации. Однако скорее следует предпо-
лагать обратный процесс: потерю эмоциональной выразительности
первоначально ласкательными формами и тем самым — возмож-
ность их более широкой грамматизации в абстрактном значении
уменьшительных. Существенную роль в этом процессе сыграли
новые, специфические для немецкого языка потенцированные
уменьшительные il + ln (ср.-в.-нем. -lln, '-leirt), ik+in (ср.-в.-нем.
-ichen '-chert), которые и становятся в дальнейшем продуктивным
средством выражения грамматической категории уменьшитель-
ных. Изолированные формы со старыми простыми суффиксами
в большинстве случаев потеряли свое уменьшительное значение:
ср. Stengel (др.-в.-нем. stengil от stanga), Sackel (др.-в.-нем. sackil)
Knochel (ср.-в.-нем. kniichel от knoche 'Knochen’, н.-нем. swolk
'Schwalbe’, baseke 'Веете’ и мн. др.) 28
В диалектах, однако, встречаются следы старого употребления.
Ср., например, в швейцарском (Фрейбург): уменьшительные на -Z—
jakkl (от Jakob), tqnl (от Anton), ЬйэЫ (от buob 'Bube’) рядом
с господствующей формой -И (из ср.-в.-нем. -lin)— bflmlj. 'Baum-
lein’, bl^tlj. 'Blattlein’ и т. п.; уменьшительные на -j—nasi
'Naschen’, hUsj 'Hauschen’, attj 'Vater’ ('Vatercheu’), jakkj, (от Ja-
kob), anj (от Anne) и мн. др.
Особенно богаты уменьшительными южнонемецкие диалекты.
Универсальная употребительность уменьшительных форм вместо
основной формы существительного связана здесь во многих слу-
чаях с утратой ими эмоционально-экспрессивного значения и
с образованием новых потенцированных суффиксов, которые ста-
новятся преимущественным средством выражения этого значения.
Так, в австрийских диалектах рядом со старым суффиксом -I
(ср.-в.-нем. -Ип), утратившим свою первоначальную выразитель-
ность, а в ряде слов и само уменьшительное значение, широкую
продуктивность получил расширенный суффикс -erl (с вокализа-
цией -г), возникший в результате переразложения от слов, оканчи-
вающихся на -ег (типа Wasserl). Как сообщает исследователь
говора Мархфельда (около Вены) проф. А. Пфальц, слово wapgl
(т. е. Wagen + lein) вовсе не обозначает «маленькую повозку»
('Wagelchen’), но «возок для людей и легкого багажа» ('leichter
Wagen’); маленькую повозку обозначает wapgel (т. е. wagen + erl).
Колеса любой повозки, в частности колеса локомотива, обозна-
чаются во мн. числе rain (т. е. radlein): уменьшительным служит
новая расширенная форма radel (т. е. raderl). Новая уменьши-
тельная форма обозначает предметы «маленькие, изящные, мило-
592
видные», старая—«не слишком большие, часто с побочным уни-
чижительным значением». Ср. bun 'Babe’, bfewti 'Biiblein’- -
с уничижительным значением ('verachtlicher kleiner Bube’), 1)Гш-
wel *Buberl’ 'милый мальчуган’ ('herziger kleiner Kerl’); wai 'Weib’,
waiwij, 'Weiblein’ ('самка животного’), waiwel 'Weiberl’ ('женушка’)
и т. п.29
Сходным образом в алеманнских диалектах носителем экспрес-
сивного значения становится новый потенцированный суффикс -1е,
швейц. -all (из -el + llri), возникший в результате переразложения
от слов, оканчивающихся на -el (тип ср.-в.-нем. vogel-lin).30 При
этом в швейцарском старые уменьшительные, получившие чрез-
вычайно широкое распространение, в ряде случаев вытеснили
основные формы слова, утратив при этом не только эмоциональ-
ную выразительность, но и свое специфическое значение. Так,
в говоре Керенцена ЬатшрЦ' Hemdiein’ означает то же, что hammp
'Hemd’, ЬцахЦ 'Buchlein’ — то же, что Ьцах 'Buch’, и т. д. Умень-
шительными являются hammpal|, ЬйахаЦ и т. п. (ср.-в.-нем. -el +
-Zm).31
Поэтому в известном стихотворении Гете, представляющем сти-
лизованное подражание швейцарской народной песне:
Ш’т Bergli bin i g’sasse,
Ha de Vogle zugeschaut,
Hant gesunge, hant gesprunge,
Hant’s Nestli gebaut. . .
слова Bergli, Vogle, Nestli, с точки зрения швейцарского народ-
ного языка, по своему значению эквивалентны Berg, Vogel, Nest.
Как эмоционально-выразительные ласкательные формы народный
язык в настоящее время употребляет в таких случаях новообразо-
вания с чрезвычайно продуктивным расширенным суффиксом
-э1и. nestali, bergali и т. п.
Сходную эмоциональную окраску сохранили в разговорной
форме литературного языка (преимущественно в средненемецкой
области) уменьшительные с двойным (потенцированным) суффик-
сом -elchen, появившиеся в результате перераспределения от слов
типа Vogelchen; ср. Kiichelchen, Brockelchen, Wagelchen, Ма-
delchen и т. п. (в особенности в «детском языке»).32
9. Мы объединили под названием «потенцированные формы»
очень широкий и разнообразный круг явлений морфологии немец-
кого языка и его местных диалектов. Флективные формы слова
могут быть расширены и укреплены в результате удвоения («уси-
ленный дательный» -еп + еп), переразложения (2-е лицо ед. числа
-st), суффиксации энклитических частиц (der + se, der da, der la),
служебных слов (личные окончания глагола в баварско-австрий-
ском), грамматической аналогии различного типа. Аналогический
характер имеют присоединение дополнительного окончания (-еп,
-ег в местоимениях), распространение более стойкого окончания
(наст, время ед. числа 1-го лица -mi, нем. -еп, -п), создание новых
38 В. М. Жирмунский 593
окончаний из старых элементов (различные типы оптатива II на -t).
Возможно также использование аналитической предложной кон-
струкции (префиксация предлогов in, ап в дат. падеже), которое
может сопровождаться переразложением, укрепляющим фонети-
ческий состав «укороченного» слова (швейцарские личные место-
имения с префигированным -п).
В большинстве перечисленных случаев потенцированные формы
служат укреплению или восстановлению («регенерации») дифферен-
цирующих морфологических признаков, которым угрожала фоне-
тическая редукция, т. е. совершенствованию языка как средства
общения, улучшению его грамматических правил. Явления эти
не имеют механического характера, они подчинены общему прин-
ципу внутренней целесообразности процессов формообразования
в системе данного языка. Подобно явлениям грамматической
аналогии, открытым младограмматиками, они не нарушают общей
закономерности звуковых изменений, так называемых «звуковых
законов», но, подчиняясь этим законам, творчески используют
звуковой материал языка для выражения грамматических зна-
чений.
Приведенные примеры показывают также, что флективные
формы не только в немецком литературном языке, но и в его диа-
лектах, не связанных устойчивой письменной традицией, не всегда
подвергаются разрушению под влиянием фонетической редукции.
Наряду с новыми аналитическими формами немецкий язык сохра-
няет, укрепляет, а иногда даже развивает морфологические при-
знаки флективного характера там, где они являются выражением
стойких и существенных грамматических значений. В этом смысле
особенно показательно склонение существительных, в котором
на основе разрушения и унификации падежных окончаний обра-
зуются новые обобщенные показатели множественного числа,
отсутствовавшие в древненемецком (окончания -е, -ег, -еп с различ-
ными чередованиями ударного гласного и конечных согласных);
показательно также сохранение и дальнейшее развитие суффикса-
ции (сильные словообразовательные суффиксы с побочным ударе-
нием, частично также «потенцированные», т. е. фонетически рас-
ширенные и укрепленные перераспределением или присоединением
дополнительных суффиксальных элементов).
В некоторых специальных случаях потенцированные оконча-
ния служат для выделения сильной формы слова, на которой
лежит логическое ударение (указательные местоимения типа
dieser, der da и т. п.), или для усиления эмоциональной вырази-
тельности слов, утраченной в процессе грамматизации (уменьши-
тельные, тип immer mehr).
1958 г.
59'»
УМЛАУТ В НЕМЕЦКИХ ДИАЛЕКТАХ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ФОНОЛОГИИ
1
Орфография средневековых немецких памятников, в особен-
ности в древневерхненемецкий период, обнаруживает большую
пестроту и противоречивость в результате непоследовательного
и обычно неумелого приспособления чужого латинского письма
к фонетическим особенностям немецких диалектов, в ряде слу-
чаев не укладывающимся в рамки этого письма. Поэтому написа-
ния древненемецких текстов требуют весьма сложной фонетиче-
ской интерпретации, наиболее надежной там, где она может опе-
реться на фонетически точные свидетельства современных диа-
лектов.
Блестящий образец такой интерпретации дает Энгельс в «Франк-
ском диалекте», когда он объясняет некоторые фонетические осо-
бенности древнесаксонской поэмы «Гелианд» (IX в.), исходя из
спирантного характера начального g- в современных вестфальских
диалектах. «Если бы М. Гейне обратил на это внимание, — ука-
зывает Энгельс, — то ему не причинили бы особых затруднений
частое смешивание и взаимные аллитерации /, g и ch в Гелианде».1
Это общее положение всецело относится и к вопросу о развитии
умлаута в древненемецком. С фонетической точки зрения умлаут
представляет собой приспособление артикуляции гласного корня
к гласному окончания, в большинстве случаев — к последую-
щему i (7). В древневерхненемецких письменных памятниках на-
личествует (с некоторыми ограничениями) только умлаут крат-
кого а, обозначаемый как е (в поздний период также умлаут
долгого й, обозначаемый как ш); в средневерхненемецком все
гласные заднего образования (долгие и краткие), как и соответ-
ствующие дифтонги, имеют умлаут. Ср. ср.-в.-нем. gast — geste
(др.-в.-нем. gesti), maht — mahte (др.-в.-нем. mahti); korb — korbe
(др.-в.-нем. korbi), wurf — wurfel (др.-в.-нем. wurfil); slafe — slae-
fest (др.-в.-нем. slafis), hoch — hoeher (др.-в.-нем. hohiro), hus —
hiuser [huser] (др.-в.-нем. husir); gruop — griiebe опт. II (др.-в.-нем.
gruobi), boug — bougen, 'beugen’ (из *baugjan) и т. п.
Обращает на себя внимание на первый взгляд парадоксальное
обстоятельство, что умлаут большинства гласных появляется лишь
в средневерхненемецких текстах, т. е. в период, когда гласный i
неударного окончания, вызывающий ассимиляторную палатали-
зацию коренного гласного, уже редуцирован в качественно без-
различное -е [-а]. Однако именно это обстоятельство дает ключ
к фонологическому объяснению развития умлаута: редукция ко-
нечного -I > -е превратила умлауты из ассимиляторных вариан-
тов основных гласных, как это было в древневерхненемецком,
в самостоятельные фонемы.2
595
38*
Следовательно, уже в древневерхненемецком мы имеем основа-
ние предполагать наличие позиционно обусловленной палатализа-
ции всех задних гласных и дифтонгов перед последующим -i,
которую мы условно обозначаем показателем при гласном: а —а\
б— о*, й—й'; о — о*, и—иг; ио— ио', ои— ои'.
Только е уже с самого начала обособилось фонологически от
краткого а, поскольку в фонетической системе древневерхненемец-
кого наличествовало старое германское ё (ср. ё^ап 'essen’).
Кроме собственно фонологической стороны вопроса, следует
учитывать и возможности латинской орфографии: для гласных
типа е существовал особый знак, как он появился в позднем древне-
верхненемецком и для й, когда старый дифтонг iu > й (liuti
'Leute’), совпавший в произношении с умлаутом ti (mvse 'Mause’
от mus 'Maus’). Знаки о, it для соответствующих лабиализованных
умлаутов лишь постепенно в течение средневерхненемецкого пе-
риода становятся обязательными: они развиваются из о, и с над-
писным е (б, й), конкурируя с такими написаниями, как о (б),
zi (и) и др.; в средненижненемецком их употребление еще более
ограничено. Однако эта тенденция к графической дифференциации
умлаутов показательна, поскольку она имеет предпосылкой со-
вершившуюся в конце древневерхненемецкого периода дифферен-
циацию самих звуков как самостоятельных фонем.
2
Весьма сложную картину представляет развитие умлаута от
краткого а. Как известно, палатализации корневого а препят-
ствовали в древневерхненемецком некоторые группы согласных,
содержащие заднеязычный элемент: ht, hs, rw [rzy]. Ср. mahti
'Machte’, wahsit 'wachst’, garwen (из *garwjan) 'gerben’. В южно-
немецких диалектах (алеманнском, баварском) в отличие от средне-
немецких (фрапкских) препятствием для умлаута служат также
группы г + согл., Z + согл., верхненемецкая перебойная гемината
hh(ch) и герм. h\ ср. ю.-нем. haltit —ср.-нем. heltit 'halt’, star-
chiro—sterchiro'starker’, sahhis наст. вр. ед. ч. 2 л. (от sahhan
'streiten’) — sehhis, slahis 'schlagst’ (от slahan'schlagen’) — slehis
и др. Кроме того, на всей территории древневерхненемецкого
обычно отсутствует умлаут перед долгим Г, а также перед крат-
ким i второго слога; например, существ, small (от smal 'schmal’),
scantlih 'schandlich’, magadtn 'Madchen’ уменып., magadi 'Magde’
множ, (от magat 'Magd’) и др. В средневерхненемецких текстах
в таких случаях имеется умлаут, который называют «вторичным»
(Sekundarumlaut); в отличие от древневерхненемецкого «первич-
ного» умлаута в грамматически нормализованных изданиях его
обозначают через а: ср. ср.-в.-нем. mahte, wahset, garwen; schand-
ITch, magedin, magede и др. В случаях позднейшего грамматиче-
ского умлаута, развивавшегося в средневерхненемецком в резуль-
596
тате аналогии (например, во множественном числе существитель-
ных мужского рода), обычно также наличествует секундарное а:
ср. мн. acker 'Acker’, halm 'Halme’ и др.
По показаниям современных диалектов вторичный умлаут
имел менее интенсивный характер, чем умлаут первичный. Резуль-
татом первичного умлаута явилось закрытое е, более узкое, чем
старое германское ё, результатом вторичного умлаута было а,
более открытое, чем германское ё, либо с ним совпадающее. Ср.
ср.-в.-нем. Ъе^ег (др.-в.-нем. be^iro) — ё^еп (др.-в.-нем. ё^ап) —
mahte (др.-в.-нем. mahti).
Дифференциацию трех типов е сохранили в настоящее время
лишь отдельные говоры приальпийской зоны — швейцарские
(Аппенцель, Тоггенбург), южнобаварские и южноавстрийские
(например, Пернегг, в Каринтии). В швейцарских говорах ука-
занного типа соответственно различаются: gest 'Gaste’ (ср.-в.-нем.
geste) —stexxe 'stechen’ (ср.-в.-нем. stechen) — n^xt 'Nachte’
(ср.-в.-нем. nachte); так же при удлинении гласного в открытом
слоге: wera 'wehren’ (ср.-в.-нем. weren) — mel 'Mehl’ (ср.-в.-нем.
тё1) — f^l 'Faile’ мн. (ср.-в.-нем. falle — с аналогическим умлау-
том).3
Большинство других южнонемецких диалектов, как и южная
и восточная часть средненемецкого, упростили эту систему,
отождествив вторичный умлаут (ср.-в.-нем. а) со старым герман-
ским ё в открытом £ (при удлинении -ё), которое противопоставлено
закрытому е (при удлинении — е) первичного умлаута (ср.-в.-нем.
е). Условия фонетические и грамматические, которыми опреде-
ляется круг слов, имеющих вторичный, а не первичный умлаут,
несколько различаются по диалектам. Ср., например, в южно-
франкском (Раппенау): 1) ср.-в.-нем. е: bet 'Bett’, felt 'fallt’,
khest 'Kessel’; с удлинением: lego 'legen’, tsela 'zahlen’ и др.;
2) ср.-в.-нем. ё: h^lfa 'helfen’, fl^k 'Fleck’, s^sl 'Sessel’; с удлине-
нием: r^ge 'Regen’, st^lo 'stehlen'; 3) ср.-в.-нем. а (вторичный
умлаут): перед группами ch, г, Z + согл.: n^gt 'Nachte’, w^Qt'Wach-
ter', gw^ks 'Gewachs’, f^rowa 'farben’, ^ropso 'Erbse’, f^lsa 'Felsen’
и др.; в случаях позднейшего грамматического умлаута: мн. qke
'Acker’, fqde 'Vater’, n^gl 'Nagel’ и т. п.; уменып. bJqdle 'Blatt-
lein’ (ср.-в.-нем. blatlin); с удлинением: gr^se 'Graser', gl^sle
'Glaslein’ и др.4
Различие между двумя типами е, открытым и закрытым, прочно
сохраняется до сих пор и в обиходном произношении немецкого лите-
ратурного языка в южной Германии и Швейцарии в соответствии
с происхождением этих звуков и независимо от их написания че-
рез е или а. Здесь говорят besar (ср.-в.-нем. Ье;?ег), но §son (ср.-
в.-нем. ё??еп) ,sek(o) 'Sacke’ (ср.-в.-нем. secke), но sn^k(e) 'Schnecke’
(ср.-в.-нем. впёке), ts§lon, 'zahlen’ (ср.-в.-нем. zelen), но stolon
'slehlen’ (ср.-в.-нем. stelen) и т. п. Различие это, акустически
не очень заметное (в особенности для кратких), не является пре-
пятствием для языкового общения, но вместе с тем имеет фоноло-
597
Гйческое (смыслоразличительное) значение и потому устраняется
лишь в результате сознательной установки на норму правильного
(«сценического») произношения.
В северной группе франкских диалектов, частично и в гес-
сенском, ср.-в.-нем. е—ё (а) не различаются. В среднефранкском
оба звука имеют характер открытого £ (при удлинении ^). Ср.
ср.-в.-нем. е: b^sa 'besser’, z^k 'Sacke’, z^ja’'sagen’—ср.-в.-нем. ё:
§sa 'essen’, sp^k 'Speck’, baw^ja 'bewegen’ и т. п.5
Эти указания современных диалектов заставляют предпола-
гать и для средневекового немецкого языка наличие двух разных
звуков, закрытого е и открытого ё, различавшихся в соответствии
с их происхождением, хотя и не дифференцированных в написании.
С точки зрения фонологической существенно, что в древневерхне-
немецком старое германское ё никогда не стояло перед Z, по-
скольку по законам западногерманского преломления герм, ё > i
перед последующим i (7). Напротив е, будучи умлаутом от а, всегда
связано с последующим i(j): поэтому др.-в.-нем. ё — е, несмотря
на различие происхождения, могут рассматриваться как пози-
ционные варианты одной фонемы (по типу е — е'). Положение
это подтверждается отдельными случаями перехода ё > е там,
где за ним следовало суффиксальное или флективное I вторич-
ного (не западногерманского, а более позднего, древневерхнене-
мецкого) происхождения. Во всех современных южнонемецких
диалектах следы этого перехода наличествуют в определенной
группе слов. Ср., например, в Раппенау: segs 'sechs’ (др.-в.-нем.
sehs) — под влиянием др.-в.-нем. sehsiu > segsa 'sechse’; sweste
'Schwester’ (др.-в.-нем. swestar) — вероятно, из параллельной
формы др.-в.-нем. swestir, gestet, 'gestern’ (др.-в.-нем. gestaron) —
может быть, под аналогическим воздействием древненем. прил.
gestrig; ledig 'ledig’ (корень Zed-) и др.6 В средневерхненемецком,
в результате редукции конечного -Z > -е, закрытое е и открытое ё
становятся самостоятельными фонемами: это подтверждается прак-
тикой точно рифмующих поэтов (в особенности южнонемецких),
которые, несмотря на одинаковое написание, никогда не объеди-
няют этих звуков в рифме.7
Что касается вторичного умлаута а, то и в данном случае нет
основания относить его происхождение к средневерхненемецкому
периоду, поскольку окончание -Z уже потеряло в это время свое
качественное своеобразие. Необходимо предположить, что и этот
умлаут уже существовал в древневерхненемецком как ассимиля-
торный вариант краткого а (а1), так что др.-в.-нем. mahti (*maihti >
> ср.-в.-нем. mahte) по произношению корневого гласного уже от-
личалось от maht. Однако, не совпадая в фонетическом отношении
с фонемой ё — е, умлаут а1 при наличии нередуцированного ко-
нечного i оставался необозначенным как комбинаторный оттенок
фонемы а, подобно тому как в древневерхненемецком не обозна-
чался и умлаут а1 от долгого а (др.-в.-нем. slafis, ср.-в.-нем.
slaefest), также не совпадающий фонетически с долгим закрытым
598
др.-в.-нем. ё (leren 'lehren’). В средневерхненемецком фонологи-
ческое обособление так называемого вторичного умлаута сделало
возможной и его письменную фиксацию как е, а или а, правда и
здесь при недостаточности орфографии без четкого разграниче-
ния с другими типами е.
3
Ассимиляторное воздействие последующего i, по показаниям
современных диалектов, в разной мере коснулось и гласных и диф-
тонгов переднего образования: явления эти, также относящиеся
к умлауту в широком смысле, почти не отразились в письме и
потому до сих пор недостаточно учитываются исторической фоне-
тикой немецкого языка, ориентированной преимущественно на
письменные памятники.8
Сравнительная грамматика германских языков устанавливает
в языках западногерманской группы (как и северногерманской)
еще в общий период их развития так называемое преломление
(Brechung) е > i перед последующими узкими гласными i (7), щ
ср. др.-в.-нем. geban 'geben’ — наст. вр. ед. ч. 1 л. gibu, 2 л. gibis,
3 л. gibit; точно так же перед группой носовой + согласный (или
двойной носовой) независимо от характера последующего глас-
ного: ср. bindan 'binden’ — наст. вр. ед. ч. 1 л. bindu, 2 л. bindis,
3 л. bindit (корень и.-е. *bhendh~).
Переход этот, представляющий наиболее ранний пример ас-
симиляции под влиянием i, совершился, как на это указывают
собственные имена, не ранее конца I в. н. э. Еще Тацит пишет
Segimerus, Segimundus через е.9
Однако по показаниям современных диалектов в древневерхне-
немецком существовало, по-видимому, два фонетических варианта
корневого i. Различие это сохранили современные среднефранкские
и некоторые верхнегессенские говоры, где корневое I развивается
по-разному в зависимости от наличия или отсутствия I в конеч-
ном слоге в древневерхненемецком. Так, в среднефранкском, где
/^>е, гласный этот в определенных фонетических условиях под-
вергается дальнейшему расширению или лабиализации и отража-
ется в настоящее время, смотря по говору, как £, р, б, о, р или
даже а (последнее — в Люксембурге); однако присутствие i (7)
в окончании препятствовало дальнейшему расширению и лабиализа-
ции корневого гласного. Поэтому в говоре Эгидиенберга на Рейне
(рипуарский) kqnt 'Kind’, но setsan 'sitzen’ (из *sitjan). Отсюда —
грамматические чередования: sqpan 'singen’ инфинитив, наст. вр.
мн. ч. 1, 3 л., sqpa 'singe’ наст. вр. ед. ч. 1 л.—с широким ла-
биализованным вариантом гласного, но sepks 'singst’, sepk 'singt’
наст. вр. ед. ч. 2, 3 л. — с узким е под влиянием последующего
др.-в.-нем. i (др.-в.-нем. singis, singit); так же fqnan 'finden’, fqna
'finde’, но fents 'findesf, fent 'findet’; kqnt 'Kind’, но ken^a 'Kind-
599
chen’ (суфф. -chen); bcjsam 'Bisson’, no besog 'bissig’. Широкий
гласный р имеют существительные: wqnt 'Wind’, spql 'Spiel’, Iqn
'Linde’, rqs 'Biss’, trqt 'Trilt’ и т. п., тогда как именные основы
на /, сохранявшие в древневерхненемецком элемент i в окончании,
обнаруживают узкое’ е; ср. сущ. ken 'Kinn’ (др.-в.-нем. kinni),
belt 'Bild’ (др.-в.-нем. bilidi), rep 'Rippe’ (из *ribbia), прил. dek
'dick’ (др.-в.-нем. dicki), st el 'still’ (др.-в.-нем. stilli) и др.; также
имена с др.-в.-нем. суффиксом -il: destol 'Distel’, se^el 'Sichel’ и
др.; слабые глаголы на 7: selson 'silzen’, strekon 'stricken’, weij-
кэп 'winken’ и т. п.10
В верхнегессенском е при последующем др.-в.-нем. i череду-
ется с дифтонгом in или еп перед другими гласными. Так, в рай-
оне Гисена: dek 'dick’ прил. (др.-в.-нем. dicki) — diek 'off наре-
чие (др.-в.-нем. dicko); sdreg 'Striche’ мн. (др.-в.-нем. strichi) —
sdriec 'Strich’ ед.; bes 'Bisse’ мн.—bias 'Biss’ ед.; sdiex 'stieg’
прош. инд. — sdeQ 'stiege’ опт. II (др.-в.-нем. stigi), sdriet 'stritf
прош. инд. —sdred 'stritte’ опт. II. Сходно в районе Вецлара: sbe-
епэ 'spinnen’ — sbenst 'spinnsf, sbend 'spinnt’ наст. вр. ед. ч. 2,
3 л. (др.-в.-нем. spinnis, -it); reend 'Rind’ — мн. renor 'Rinder’
(др.-в.-нем. rindir); weeld 'Wild’ сущ. — weld 'wild’ прил. (др.-в.-нем.
wildi); sleets 'Schlitz’—sledsgo 'Schlitzchen’ (уменьш.---chen)
и др.11
В других диалектах той же группы эти чередования в настоя-
щее время устранены аналогическими воздействиями в ту или
другую сторону. Однако древность их несомненна, поскольку
определяющим фактором является наличие или отсутствие i
в окончании, которое в средневерхненемецком редуцируется
в безразличное -е. Эти факты заставляют предполагать, что в древ-
неверхненемецком, по крайней мере в пределах франкских диа-
лектов, существовало два не различавшихся в написании комбини-
рованных варианта краткого i — открытое i и закрытое j, в за-
висимости от наличия или отсутствия палатального элемента
в древневерхненемецком окончании. В средневерхненемецком эти
варианты в одних случаях унифицировались, в других — диф-
ференцировались в самостоятельные фонемы, отражения которых
сохранили и современные говоры.
4
Уже Бехагель указал на основании свидетельства современных
диалектов на наличие в древневерхненемецком двух фонетических
вариантов дифтонга ш, более узкого и более широкого, в зависи-
мости от наличия или отсутствия i в последующем слоге.12 Как
известно, дифтонги iu — io (ео), представляющие отражение
герм, ей, также чередуются в западногерманских языках по зако-
нам так называемого преломления: iu перед узкими гласными i
или и — io перед широкими гласными а, о, е. Ср. др.-в.-нем.
600
fliogan 'fliegen’ — наст. вр. ед. ч. 1 л. fliugu, 2 л. fliugis, 3 л.
fliugit; sioch 'siech’ — siuhi 'Seuche’ и т. п. В тех случаях, когда
за дифтонгом iu следовало неударное -/, оно способствовало макси-
мальной палатализации этого дифтонга, его «умлауту» (*ш):
слова этого типа, например, liuti 'Leute’, в дальнейшем, как
указывалось выше, совпадали в своем развитии с группой и,
умлаута от долгого й (ср. huser Hauser’). В других случаях, при
отсутствии -I в окончании (hiutu 'heute’, fiur сFeuer’, iuwer 'euer’
и др.), второй элемент дифтонга имел, по-видимому, более откры-
тый, во всяком случае не палатализованный характер (*щ), и
в связи с этим в ряде диалектов — отличную от й судьбу. В соче-
тании -iuwi-, представленном в значительной группе слов, задне-
язычный элемент -w- (неслоговое и) в некоторых диалектах пре-
пятствовал палатализации; в таких диалектах слова типа niuwi
'neu’ развиваются по типу fiur 'Feuer’ (др.-в.-нем. *iq).
С другой стороны, в южнонемецких текстах древнего периода
согласные губные и заднеязычные (кроме й) препятствовали пре-
ломлению ей io перед широкими гласными. Отсюда в древне-
верхненемецких текстах VIII—IX вв. ю.-нем. liugan — франк,
liogan 'liegen’, ю.-нем. tiuf — франк, tiof 'tief’, в отличие от
bioten 'bieten’, tior 'Tier’ как во франкском, так и в южнонемец-
ком. С X в. южнонемецкие памятники принимают во всех поло-
жениях франкское написание io (позднее ie); однако в некоторых
южнонемецких диалектах, верхнеалеманнских и баварско-австрий-
ских, старое различие сохранилось в произношении, и слова
типа др.-ю.-нем. liugan, tiuf совпали в своем развитии с группой
*iq без умлаута (fiur). Таким образом, и здесь можно предпола-
гать наличие др.-в.-нем. *iq.
В новонемецком литературном языке др.-в.-нем. io (ср.-в.-
нем. ie) > i > ср. др.-в.-нем. biotan > bieten [bitan], tiof > tief
[tif]; др.-в.-нем. iu (как и умлаут й) > ей [qu]: др.-в.-нем. liuti >
> leute, hiutu > heute, niuwi > neu, как hfiser > hauser. Таким
образом, различие между двумя типами iu в литературном языке
не сохранилось, как и в довольно значительной группе централь-
нонемецких диалектов (при наличии делабиализации ей > ai —
диал. lait, bait, nai, как haisor).
Современные говоры, сохранившие дифференциацию iii—щ,
представляют чрезвычайно пеструю картину, и мы имеем возмож-
ность выбрать только несколько показательных примеров. Так,
в швабском ср. fuiar 'Feuer’, uiar'euer’, tsuig 'Leug’(др.-
в.-нем. giziug), nui 'neu’, ruia 'reuen’ (др.-в.-нем. hriuwan), dui
'die’ ж. p. (др.-в.-нем. diu), sui 'sie’ ж. p. (др.-в.-нем. siu) и др.;
напротив *iu> di(ei), совпадая c ti>oi(ei): ср. laid 'Leute’, daiar
*teuer’ (др.-в.-нем. diuri), как haisar 'Hauser’.13 Сходным образом
южноавстрийский говор Пернегга (Каринтия) различает foir 'Feuer’,
noi 'neu’, troi 'treu’ (др.-в.-нем. triuwi) — но lait 'Leute’, taits,
'deutsch’ (др.-в.-нем. diutisc), haisar 'Hauser’.14
601
В некоторых диалектах Австрии и Швейцарии к группе щ
(без умлаута) присоединяются слова, имевшие в древневерхнене-
мецком умлаут перед широкими гласными по законам южнонемец-
кого преломления. Ср. в говоре Имста (Тироль): fluigo 'Fliege’
(др.-в.-нем. южн. flinga — франк, flioga), gruipa 'Griebe’ (др.-в.-нем.
южн. griqba— франк, grioba), как fair 'Feuer’, tsuig 'Zeug’ (*iu);
но tails 'deutsch’, daita 'deuten’ (*iu), как haisar 'Hauser’.15 Точно
так же на юго-западе Швейцарии: flqiga 'Fliege’, tqiff Tief’
(др.-в.-нем. южн. liLjf — франк, tiof), как rqiwa 'reuen’, qiwa 'euer’
(*iu), но lut 'Leute’, tDr Teuer’ (*iu), как husar 'Hauser’; к послед-
ней группе присоединились и слова на iuia + i, также имеющие
здесь форму с умлаутом (*iii): trU 'treu’, пП 'neu’.16
В значительной части средненемецких диалектов др.-в.-нем.
*щ, обособившееся от *iii > й, развивается уже в средневерхнене-
мецком в й, засвидетельствованное написаниями типа fur 'Feuer’,
uch 'euch’, vernuwet 'erneut’ и многочисленными рифмами co сло-
вами на й (buwen 'bauen’—riuwen 'reuen’; sur 'saner’ — fiur 'Feuer’
и многие другие).17 В современных немецких диалектах это й (uw)
дифтонгизовано по общему правилу > аи. К этой группе слов от-
носятся fau(a)r 'Feuer’, haut 'heute’, auar 'euer’, aux 'euch’ (др.-в.-
нем. iuwin’), nau 'neu’, sprau 'Spreu’ (др.-в.-нем. spriu-wes), raua(n),
g(a)raut 'reuen, gereut’ и ряд других.18 Все эти формы в настоя-
щее время повсюду подвергаются лексическому вытеснению фор-
мами на ai соседних диалектов, поддержанными литературным язы-
ком (nai fneu’, aig 'euch’ и т. д.). Свидетельством их более широ-
кого распространения в прошлом являются местные названия типа
Naumburg ( = Neuenburg), Naunslad (= Neuenstadt) и т. п.
Таким образом, древневерхненемецкое написание iu с фоне-
тической точки зрения скрывает дифференциацию iii — iu, ко-
торые представляют собой позиционно обусловленные варианты
одной фонемы, с различиями в распределении по диалектам.
В средневерхненемецком в условиях редукции конечных гласных
эта дифференциация частично приобретает фонологическое значе-
ние и в дальнейшем еще более углубляется в результате законо-
мерного звукового развития; частично она полностью сглажива-
ется, как в литературном языке, и в той группе центральноне-
мецких диалектов, которые послужили его основой.
5
Германский дифтонг ai отражается в древневерхненемецком
как ei со стяжением в ё перед согласными w, г, h. Ср. др.-в.-нем.
teil (готск. dails), breit (готск. braids) — seo, род. sewes 'See’
(готск. saiws), mero 'mehr’ (готск. maiza), flehon 'flehen’ (готск.
^laihan) и т. п. В нижненемецком стяжение распространяется на
все положения: del 'Teil’, bred 'breit’, sten 'Stein’ и т. п.
Следы воздействия древневерхненемецкого окончания i на диф-
тонг ei в современных верхненемецких диалектах немногочисленны.
G02
Так, с умлаутом связаны два типа е/, которые различаются
в лотарингском диалекте: di перед др.-в.-нем. а, о, и и его умлаут
si перед др.-в.-нем. i. Ср. говор Фалькенберга: dail 'Teil’ — deilen
'teilen’ (из *dailjan), blaig 'bleich’—bleigon 'bleichen’ (из *blai-
kjan), brait 'breit’—breiden 'Breite’ (др.-в.-нем. breiti); ain 'ein’—
ж. p. ein (ср.-в.-нем. einiu); kain 'kein’— ж. p. kein (ср.-в.-нем.
keiniu); klein 'klein’ (др.-в.-нем. kleini), gemein 'gemein’ (др.-в.-нем.
gimeini), weis 'Weizen’ (др.-в.-нем. weizzi) и др.19 Отсут-
ствие грамматических чередований в последних трех примерах осо-
бенно убедительно подтверждает фонетический характер этого яв-
ления. Оно указывает на существование, по крайней мере в неко-
торых древневерхненемецких диалектах, комбинаторных вариантов
фонемы ei типа
Это предположение косвенным образом подтверждается услови-
ями развития долгого ё (из герм, ai) в нижненемецких диалектах.
Исследователи исторической фонетики нижненемецкого устанавли-
вают в средненижненемецком четыре типа долгих ё, различных по
своему происхождению и в разной степени дифференцированных
по своим отражениям в современных диалектах (наиболее отчет-
ливо— в вестфальском): ё±— умлаут от долгого а (ср.-н.-нем. kese
'Kase’<^ др.-н.-нем. kasi); ё2— герм, ai (н.-нем. del, 'Teil’— ср.
готск. dails); ё3 — умлаут от ё2 перед i(f) (н.-нем. delen, 'teilen’ —
из *dailjan); ё4— группа, объединяющая герм. е2 (bref 'Brief’—
др.-в.-нем. ia^>ie) и др.-н.-нем. ео^> ср.-н.-нем. ё (ср.-н.-нем. 1ёГ
'lieb’, из др.-н.-нем. leof— др.-в.-нем. io^>ie). В ряде современ-
ных нижненемецких диалектов ё3 отличается от ё2, обычно совпа-
дая по своим отражениям с ё420 (как более закрытым тоном дол-
гого ё).
На различие между герм, ai (ё2) и его умлаутом (ё3) в нижне-
немецком впервые указал Гольтгаузен в своем описании вестфаль-
ского говора Зоста. Ср. blpek 'bleich’ (др.-в.-нем. Ыёк), но Ыаекп
'bleichen’ (др.-в.-нем. blekian); brpet 'breit’, stpen 'Stein’ и другие
(ё2), но klaen 'klein’ (др.-н.-нем. kleni), гаепэ 'rein’ (др.-н.-нем.
hreni), vaeta 'Weizen’ (др.-н.-нем. hweti), laean 'leiten’ (др.-н.-нем.
ledian) и другие (ё3), как laef 'lieb’ (др.-н.-нем. leof), Ьаеэп 'bieten’
(др.-н.-нем. beodan) и другие (ё4).21 Сходные отношения наличест-
вуют и в других вестфальских говорах, в южной части остфаль-
ского, частично и в восточнонижненемецком. Ср., например, говор
Пригниц (сев. Бранденбург, на границе мекленбургского): bret
'breit’, klet 'Kleid’, del 'Teil’ (ё2), но dailn 'teilen’ (др.-н.-нем. de-
lian); hel 'heil’, но hailn (др.-н.-нем. helian), vaitn 'Weizen’, rain
'rein’ и т. п.22 Впрочем, эти отношения часто нарушаются анало-
гическими воздействиями в ту или другую сторону: например,
Ьгёгп 'breitеп’ вместо *brairn (др.-н.-нем. bredian) по аналогии
bret 'breit’ или, напротив, taikrj 'Zeichen’ вместо *lekrj (др.-н.-нем.
tekan) по аналогии taikrj 'bezeichnen’ (др.-н.-нем. leknian) и т. п.
В средненижненемецком для ё3 довольно широко употребляется
написание ei рядом с обычным е [ё]: например, weite 'Weizen’,
603
breide 'Breite’, weinich 'wenig’, heilich 'heilig’, heilen, deilen 'tei-
len’ и др.23 По-видимому, эти написания представляют попытку
дифференцировать звуки, являющиеся в ряде диалектов, как видно
по их дальнейшему развитию, самостоятельными фонемами. В древ-
ненижненемецком ё.> и ё3, одинаково обозначавшиеся через е (del
'Teil’— delian 'teilen’), могли быть только позиционными вариан-
тами фонемы ё. Однако аналогичное развитие в некоторых верхне-
немецких диалектах позволяет предположить, что в своей основе
ассимиляторные процессы воздействия i на предшествующее ai
восходят к еще более древнему (западногерманскому) единству.
6
Рассмотрение материала современных диалектов приводит
к выводу, что ассимиляторные воздействия гласных окончания
(главным образом i, 7) на гласный корня не ограничиваются за-
падногерманским преломлением е > i и умлаутом гласных и
дифтонгов заднего образования (а — а, о — б, и — ii п др.), ко-
торые в большинстве своем отмечаются особыми знаками лишь
в средневерхненемецком или в позднем древневерхненемецком.
Фактически ассимиляторное воздействие имеет в древнем периоде
истории немецкого языка гораздо более общий характер: почти
все гласные (долгие и краткие) и дифтонги, как заднего, так и
переднего образования, обнаруживают в древневерхненемецком
палатализованные позиционные варианты, вызванные воздействием
последующего i. Соответственно этому мы различаем в фонети-
ческой системе древневерхненемецкого: а — а' (так называемый
вторичный умлаут), о — о*, и— и*, ё— е (старое германское ё и
первичный умлаут от а), [— i; а — а*, д — д', й—й*; ои — он',
ио — ио*, щ — iii, — ei.
Не все эти ассимиляторные варианты имеют одинаково широкое
распространение на территории верхненемецких диалектов. Как
видно по показаниям современных диалектов, отдельные явления
умлаута представлены в географическом отношении неравномерно,
выступая в большинстве случаев более последовательно на се-
вере, чем на юге. Соответственно этому мы можем, например,
предполагать, что написания brucki 'Briicke’, rucki 'Riicken’,
stucki 'Stuck’ и т. п. в древнеюжнонемецких текстах в отличие от
франкских обозначают и, а не его ассимиляторный вариант и*,
поскольку современные южнонемецкие диалекты в отличие от
средненемецких не имеют умлаута гласного перед геминатой—кк
(ср. bruk 'Briicke’, stuk 'Stuck’, tsruk 'zuriick’ и т. п.). Древность
этого диалектного различия 'подтверждается старыми местными
названиями: ср., например, Zweibrucken (Пфальц) — Innsbruck
(Тироль).
Там, где наличествует фонетическая дифференциация гласного
и его ассимиляторного варианта («умлаута»), она обычно не отра-
604
жена в письме, с одной стороны, по причине недостаточности
орфографии, с другой — поскольку различие это имело позицион-
ный характер и потому вряд ли осознавалось говорящими и пи-
шущими. Только е как первичный умлаут от а с самого начала
древневерхненемецкой письменности обозначается как е, поскольку
оно оказалось в фонетической системе древневерхненемецкого
позиционным вариантом фонемы е (ё), имевшей свое традицион-
ное обозначение.
Редукция конечных гласных в средневерхненемецком, превра-
тившая неударное i в безразличное е, явилась предпосылкой для
фонологизации ассимиляторных вариантов гласных, прежде всего
умлаутов, но также в некоторых диалектах и других палатализо-
ванных вариантов древненемецких гласных. В ряде случаев это
привело в дальнейшем развитии к далеко идущей дифференциации,
весьма существенной для немецкой диалектологии. В других
диалектах ассимиляторные оттенки произношения исчезли вместе
с качественной редукцией окончания, с которой они были свя-
заны, а в отдельных случаях, как было сказано раньше, они
имели территориально ограниченное распространение уже в древне-
немецкий период.
1956 г.
О ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКОМ АТЛАСЕ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА*
Памяти А. К. Боровкова
1. В диалектологическом изучении тюркских языков Совет-
ского Союза можно с полным правом отметить большие успехи,
достигнутые в результате напряженной и плодотворной работы
за годы, прошедшие после революции как в центре, так и в осо-
бенности в самих тюркоязычных республиках — в значительной
части силами национальных кадров, определивших широкий
размах этой работы на местах.1
То почетное место, которое занимают диалектологические ис-
следования в советской тюркологии, вполне оправдано и теорети-
чески, и практически: развитие тюркских национальных языков
советской эпохи из местных диалектов, территориальных или
племенных, происходило и происходит на наших глазах одно-
временно с процессом национальной консолидации. Поэтому изу-
чение диалектов является необходимой предпосылкой для созна-
тельного и активного участия лингвиста-тюрколога в решении
вопросов национального языкового строительства.
* Доклад, прочитанный на IV региональном совещании по тюркской диалек-
тологии (г. Фрунзе, 27- 30 V 1963).
605
Среди работ по тюркской диалектологии, по понятным причи-
нам, до сих пор преобладали монографические описания диалект-
ных районов и отдельных говоров.2 Такие описательные моногра-
фии были необходимы не только в начальный период работы,
когда каждое новое описание в сущности было открытием неизве-
данного; и теперь, при любых задачах более широкого научного
синтеза, они остаются важнейшей материальной базой диалектоло-
гического исследования. Чем больше будет собрано и описано
фактов, тем более прочными явятся и построенные на них обобще-
ния. Что касается этих обобщений, то до сих пор они ограничива-
лись по преимуществу определением и локализацией изучаемого
говора в общих рамках диалектного членения соответствующего
национального языка, т. е. вопросами классификации диалектов
данного языка, опирающейся в свою очередь на общую классифи-
кацию тюркских языков и наречий. Следует сразу же отметить,
что в этой области еще многое остается сейчас дискуссионным и
требует методологического пересмотра и более прочного теорети-
ческого обоснования.
Своего рода первичным обобщением уже осуществленных иссле-
дований в области тюркской диалектологии должен явиться кол-
лективный труд «Диалекты тюркских языков», план которого раз-
работан сектором тюркских языков Института языкознания
АН СССР и первые пробные разделы которого обсуждались на
IV региональном совещании по тюркской диалектологии. Важное
значение этой большой работы, предпринятой сектором при ак-
тивном участии республиканских научно-исследовательских ин-
ститутов, не подлежит сомнению. Труд этот впервые сведет воедино
результаты многолетних частных исследований, представив их
в единой фонетической транскрипции и изложив по единому
плану на русском языке, одинаково доступном всем народам на-
шей страны. Даже как научный справочник описательного харак-
тера этот труд будет полезен для всех тюркологов, советских и
зарубежных. Систематизированная в нем фактическая информа-
ция послужит солидным основанием для дальнейших более углуб-
ленных изысканий.
И все же эта сводка, как всякое обобщение, даже эмпириче-
ское, не может не отражать лежащую в ее основе лингвистическую
методологию. Если судить по проспекту «Введения», приложен-
ному к плану труда «Диалекты тюркских языков», авторы его,
по-видимому, рассматривают каждый национальный язык (в его
современном состоянии) как «систему» диалектов, распадающихся
на наречия, говоры и подговоры, между которыми надлежит уста-
новить границы, запечатлев их в конце соответствующего моно-
графического очерка на «карте диалектов» данного языка. Между
тем такая точка зрения сознательно или бессознательно исходит из
старого представления о «родословном древе» языков и диалектов,
выдвинутого А. Шлейхером более ста лет назад. Давно отвер-
гнутая в теории, эта концепция продолжает тем не менее суще-
606
ствовать на практике как основа многих генетических классифи-
каций языков и диалектов не только тюркских, но и индоевропей-
ских. Абстрактный схематизм придает этой концепции видимую
простоту, соблазнительную и сейчас для многих языковедов,
однако не учитывающую всей реальной исторической сложности
языкового развития.
Подобно тому как «язык-основа» данной генетически род-
ственной семьи языков распадается с этой точки зрения на группы
и подгруппы, а эти последние — на отдельные исторически из-
вестные языки, так по тому же принципу «родословного древа»
каждый язык в свою очередь распадается на наречия и диалекты,
говоры и подговоры, представляющие последовательные «ответвле-
ния» общенародного языка, его «ветки» и «веточки».
При этом молчаливо подразумевается, что спонтанная диф-
ференциация языков и диалектов, восходящих в конечном счете
к «языку-основе» как своей исходной точке, отражает в плане
историческом такое же механическое дробление народов и пле-
мен, сопровождаемое их пространственным расхождением, —
представление, находящееся в противоречии с данными современ-
ной исторической этнографии, которая подобно исторической
диалектологии признает наряду с расхождениями не менее суще-
ственные для формирования народностей схождения и смешения
разноязычных и разнодиалектных племенных групп.
Можно предполагать, что на сводной «карте диалектов», ко-
торая явится завершением классификации диалектов данного
языка (и будет, очевидно, единственной для данного языка!),
границы диалектов будут очерчены некоторой совокупностью
различительных признаков, которые будут выбраны по необхо-
димости субъективно и о составе которых между специалистами
обычно ведутся в таких случаях нескончаемые и по существу
бесплодные споры. Можно также предвидеть заранее, что при
этом придется ввести поправки на так называемые «переходные
диалекты», связанные одними своими признаками с одним диа-
лектным массивом, другими — с соседним массивом, противопо-
ставленным первому. Но «переходный диалект» в подобных
случаях является понятием, столь же проблематичным и метафи-
зическим, как и «диалект» в смысле замкнутого «ответвления» обще-
народного «языкового древа». К тому же все эти взаимоотношения
диалектов будут показаны в границах и рамках современных
национальных республик, в соответствии с сравнительно недав-
ним их национальным размежеванием, в ряде случаев перекрыв-
шим более древние диалектные членения.
Идеальным образцом картографирования диалектов по этим
принципам является русская диалектологическая карта Д. Н. Уша-
кова—Н. Н. Дурново, представлявшая для своего времени (50 лет
назад) действительно выдающееся научное достижение. Думается,
однако, что в свете новейших работ по составлению «Диалекто-
607
логического атласа русских народных говоров» карта эта и прежде
всего самый принцип, положенный в ее основу, не могут не быть
признаны устарелыми.
Многолетний опыт современной лингвистической географии,
как зарубежной, так и советской, явившийся результатом работы
над составлением больших национальных диалектологических
атласов (французского, немецкого, итальянского, с недавнего
времени — русского и ряда других), давно уже поставил под
сомнение методологическую основу этих традиционных разграни-
чений и классификаций генетически родственных языков и их
диалектов. Как известно, границы отдельных диалектных призна-
ков (нередко даже отдельных слов, представляющих то или иное
фонетическое или грамматическое явление) далеко не всегда
совпадают между собою или ложатся пучками, более широкими
или узкими вдоль границы того или иного диалектного массива.
Такие пучки нередко перекрещиваются довольно пестрым образом,
объединяя территорию данного говора то с тем, то с другим со-
седним диалектом. Поэтому каждая такая граница диалектного
признака («изоглосса») должна быть прослежена отдельно, не-
зависимо от других. С точки зрения методики современной лингви-
стической географии первым предметом обобщающего диалекто-
графического изучения, подымающегося над монографическими
описаниями местных говоров, должны быть изоглоссы отдельных
диалектных признаков (фонетических, грамматических, лексиче-
ских), а не членение на замкнутые диалектные массивы. Точные
границы диалектов и диалектных групп могут быть затем уже
установлены непредвзятым образом на основании сопоставления
изоглосс, с учетом исторических данных о расселении племен и
народностей и последующего феодального дробления (там, где
таковое существовало).
Изоглоссы в своих несовпадающих границах являются отраже-
нием исторических связей между диалектными группами и между
их социальными носителями. Но эти связи и взаимодействия
относятся к разному времени. Границы диалектных признаков
далеко не всегда представляют результат спонтанной диф-
ференциации «языка-предшественника» (согласно терминологии
Н. А. Баскакова). Те или иные признаки, характеризующие
в настоящее время данный диалект, могли явиться следствием
не его спонтанного, «прямолинейного» развития, но воздействия
со стороны соседних диалектов в результате межплеменных или
межтерриториальных сношений или этнического смешения. В языке
(как и в области этнических связей) возможны различные формы
исторических взаимодействий между соответствующими разно-
язычными и разнодиалектными коллективами — расхождений и
схождений, частичного или полного смешения. Диалектные изо-
глоссы представляют разновременные отложения языковых про-
цессов, не сводимых к абстрактной схеме «родословного древа»
наречий или языков.
608
Не карта, а атлас, состоящий из многих карт, фиксирующих
изоглоссы отдельных диалектных признаков, должен быть целью
диалектологического исследования и соответствовать его совре-
менному научному уровню.
2. Поучительно пересмотреть с этой точки зрения попытки об-
щей классификации тюркских языков и диалектов.
Первая такая попытка, предпринятая В. В. Радловым на основе
сравнительной фонетики тюркских языков,3 имела чисто описа-
тельный характер. Радлов выделил четыре основные группы —
восточную, западную, среднеазиатскую и южную, перечислив
ряд характерных фонетических признаков каждой из них; он,
однако, не ставил вопрос о реальном географическом распростра-
нении и границах этих признаков в рамках каждой из основных
групп и входящих в ее состав языков или наречий.
Гораздо более показательна в теоретическом отношении клас-
сификация Ф. Е. Корша,4 индоевропеиста по своей основной
специальности, стоявшего на высоте лингвистической методологии
своего времени. Корш стремится к «устранению всякой субъектив-
ности» и логических противоречий в классификации. Для этого
он ограничивается всего двумя основными классификационными
признаками, отбирая один из области фонетики, другой — из мор-
фологии, с тем чтобы «их провести последовательно по всем ту-
рецким (т. е. тюркским, — В. Ж.) языкам и наречиям. . . Там,
где оба эти признака совпадают, мы можем признать действи-
тельно более близкое родство, нежели там., где налицо один из
них».6
Корш подразделяет тюркские языки на две основные группы —
северную и южную по следующим признакам: судьбе «общетурец-
кого г в конце слова» (южн. таг 'гора’ — сев. may) и по способу
образования настоящего времени — с помощью причастия на -р
или деепричастия на -а (-е) с вспомогательным глаголом, который
в некоторых языках опускается (южн. келюр-мен 'я прихожу’ —
сев. келе турур-мен). На основании этой лингвистической клас-
сификации прямолинейно восстанавливается древнейшая история
тюркоязычных племен — расхождение племен на основе дробле-
ния диалектов: «Предки нынешних турок (т. е. тюркских наро-
дов,— В. Ж.), — пишет Корш, —когда жили все еще на своей
прародине, которая была приблизительно где-то около Алтая,
первоначально разделялись на две группы, из которых одну можно
назвать северной, а другую южной. Первая группа общетурец-
кое г в конце слова превращала в неслоговое у и настоящее время
образовала посредством деепричастия на -а. Вторая группа
сохраняла г во всех положениях и образовала настоящее время
посредством причастия на -р.6 «Затем это деление стало услож-
няться», т. е. группы разделились на подгруппы (по принципу
последовательного разветвления): южная группа распалась на
подгруппы восточную и западную по признаку сохранения или
39 В. М. Жирмунский
609
выпадения г после согласных (причастие прош. вр. калган остав-
шийся’ ю.-в. — калан ю.-з.).
* Как и можно было ожидать, в классификации Корша, с логиче-
ской точки зрения безукоризненной, сразу же получились «сме-
шанные группы» с перекрестными признаками: с сохранением
конечного г и с деепричастием на -а в основе форм настоящего
времени («северноалтайская» и «среднеазиатско-узбекская»). В их
смешанном характере Корш, по ходу своих рассуждений, должен
был признать результат этнического смешения основных групп,
столь же мало подтвержденного историей, как и предполагаемое
распадение тюркского пранарода и праязыка на две (или три)
основные группы. На самом деле этот «смешанный характер»
явился неизбежным результатом непригодности самой классифи-
кации, столкнувшейся и вступившей в конфликт с реальными
историческими фактами.
Классификация Ф. Е. Корша, не столько по своему содержа-
нию, сколько по методу, явилась исходной точкой для распро-
страненных и в современной тюркологии концепций исторической
дифференциации тюркских языков и наречий и их этнических
носителей по той же схеме последовательного разветвления родо-
словного древа. Устаревшая по материалу, сама генеалогическая
классификация Корша нуждалась в более убедительном подкреп-
лении историческими фактами; но факты эти в значительно услож-
ненном виде по-прежнему укладывались в ту же схему родослов-
ного древа, как это видно, например, из генеалогической таблицы
дифференциации тюркских языков (и народов), составленной
Н. А. Баскаковым.7
Между тем уже «Дополнения к классификации» акад. А. Н. Са-
мойловича означали существенный пересмотр классификационных
принципов его предшественников.
Располагая в соответствии с успехами тюркологии гораздо
большим фактическим материалом, А. Н. Самойлович пересмот-
рел прежде всего классификационные критерии, установленные
Ф. Е. Коршем. Отбросив морфологический признак образования
настоящего времени как «недостаточно яркий и определенный»,
он ввел четыре новых фонетических признака: переход з > р
для стоящего особняком чувашского языка (токуз — чув. тахар);
форму вспомогательного глагола ол для юго-западной группы
вместо бол, пол, пул (с существенной, однако, оговоркой, что
форма ол, которую Самойлович считал «главным» «из отличитель-
ных признаков этой группы»,8 фактически отсутствует в подавляю-
щем большинстве диалектов туркменского языка); отпадение ко-
нечного г после узких гласных в конце слова для диалектов
«средней» группы (таглы е горный’ вместо таглык)', наконец, при-
знак, который, по Самойловичу, является «основным» и «позволяет
уточнить классификацию во всем ее объеме»,9 — это противопо-
ставление в середине слова (между гласными) и в конце слова
звуку й языков юго-западной группы согласных д (т), з (с) в язы-
610
ках восточной группы с подгруппами д-, т-, з-диалектов (айак
'нога’ — адак, атак, азак\ кой 'положи’ — код, кот, кос).
Вместе с тем А. Н. Самойлович первый попытался придать
классификации современных тюркских диалектов историческую
перспективу путем систематического сопоставления их различи-
тельных признаков с данными средневековых письменных языков
и с диалектологическими наблюдениями в незадолго до этого
открытом «Словаре» Махмуда Кашгарского (середина XI в.).10
Надо сказать, что историческая идентификация в классификацион-
ной схеме А. Н. Самойловича имеет в основном номенклатурный
характер. Различаются, например: тшп/-группы (лингвистический
признак) как кыпчакская (этническое отождествление) и северо-
западная (географическая локализация); ишзлык-группа как чага-
тайская и юго-восточная; ол-группа как туркменская (или огузско-
туркменская) и юго-западная и т. п.; всего Самойлович выделяет
таким образом 6 групп.
Однако наиболее существенное значение с точки зрения мето-
дологической представляет то обстоятельство, что классифика-
ционные признаки А. Н. Самойловича (в отличие от логического
принципа деления у Корша) частично между собою перекрещи-
ваются, — обстоятельство, получившее наглядное графическое
выражение в составленной им схеме (см. табл. I).11
ТАБЛИЦА 1
1 Тахар- группа Токуз (докуз и пр.)-группы
2 У ра- группа А Зак-груп- па А йак-группы
3 Бол ( \пол, пул, бул)-группы Ол-группа
4 Та(ту)- группа Таг-группа Тау-группа Т аг( даг J-группы
5 Ы-груп- па Ыг-группа Б7-группа Ык(ыг)- группа БТ-группы
6 Калан (йулна) Яалган-группы /Галан- группа
I Р-груп- па Бул- гарская II Д-группа Уйгурская [северо- восточная] III Тау-группа Кыпчакская [северо- западная] IV Т аг-лык- группа Чагатай- ская [юго восточ- ная] V Т аг-лы- группа Кыпчацко- туркм. [средняя группа] VI 0л-группа Туркмен- ская [юго-запад- ная]
Например, иа этой таблице северо-восточная (уйгурская)
группа определяется признаками: токуз, адак, бол, таг, (тагл-)ыг,
ей
39*
калган; северо-западная (кыпчакская) — признаками: токуз, айак,
бол, may, -ы, калган; юго-западная (огузско-туркменская) — при-
знаками: докуз, айак, ол, даг, -ы, калан и т. д. Таким образом,
из трех перечисленных для примера групп первая и вторая объеди-
няются признаками: токуз, бол, калган, вторая и третья — при-
знаками: айак, -ы (отпадение конечного г после предшествующих
узких гласных) и т. д.
В сущности речь идет у Самойловича не о логически взаимо-
исключающих классификационных признаках родословного древа
языков или генеалогической схемы, а об изоглоссах отдельных
диалектных явлений в том значении, которое придается этому
слову лингвистической географией. Поэтому И. А. Батманов
совершенно правильно употребил этот современный термин, изла-
гая содержание и принципы «комбинированной классификации»
тюркских языков, т. е. классификации А. Н. Самойловича.12
Можно сказать, что эта классификация, несмотря на необходимость
ряда фактических поправок, вызванных дальнейшими успехами
тюркологии, до сих пор остается, по крайней мере по своим прин-
ципам, наиболее гибкой и «реалистической».13
Таким образом, в тюркологии в силу объективной необходи-
мости возник оригинальный способ графической передачи изоглосс
без применения лингвистических карт. И. А. Батманов использо-
вал этот способ с незначительными изменениями в своем исследо-
вании о северных диалектах киргизского языка — в приложенной
к этой работе «Схеме территориального распределения главнейших
классификационных признаков», где «наличие изоглосс» обозна-
чается горизонтальной чертой в соответствующих клетках таб-
лицы.14 Чаще встречаются диалектологические исследования,
пользующиеся системой координат: по горизонтали располагаются
наименования географических территорий, а по вертикали —
различительные признаки: наличие или отсутствие данного при-
знака обозначается плюсом или минусом в соответствующем
квадрате.15
Эти «заменители» лингвистической карты лучше всего свиде-
тельствуют о растущей потребности строить классификации язы-
ков и диалектов, опираясь на методику изоглосс, т. е. на прин-
ципы лингвистической географии.
Сам А. Н. Самойлович предполагал необходимым «дальнейшее
усложнение» своей классификации путем введения добавочных
фонетических признаков, не учтенных в его основной схеме:
1) соответствия й — дж с другими вариантами в начале слов
(йок — джок — жок и т. п.) и 2) соответствия о — а, б — е во вто-
ром и следующих слогах у основ с губными гласными16 (т. е. на-
личие или отсутствие губного сингармонизма). Введение этих
различительных признаков еще усилило бы перекрещивающийся
характер, присущий изоглоссам Самойловича. Вслед за А. Н. Са-
мойловичем И. А. Батманов перечисляет 14 дополнительных
различительных признаков,17 в том числе: 1) озвончение началь-
612
ных т и к, например кирг. тил 'язык’ — турецк., туркм,, азерб.
дгм, кирг. кор 'смотри’ — туркм. и др. гор. ит. п.; 2) чередование
ч — ш,ч — ц, благодаря которому намечаются такие группировки:
а) чокающие языки (например, киргизский, узбекский, туркмен-
ский); б) шекающие языки (как казахский); в) цекающие (напри-
мер, мещерский диалект татарского языка, язык тобольских и
барабинских татар и древнебашкирский язык, тогда как современ-
ный башкирский вместо ц имеет уже с), ср. кирг. ач 'голодный’,
казах, аш, барабинск. ац— совр. башк. ас; 3) чередование нача-
льных й — дж — дъ — ж — ч — с перед гласным, благодаря которому
в составе тюркских языков можно выделить шесть подгрупп:
а) группу йокающих языков, как туркменский, азербайджанский,
ряд диалектов узбекского языка, ряд диалектов татарского и не-
которые другие (йол, татар, йул 'путь’); б) джокающую группу
в составе киргизского языка и некоторых других (джол); в) дё-
кающую группу в составе алтайского языка (дъёл); г) жокающую
группу, например в составе казахского и каракалпакского языков
(жол); д) чокающую, как например, шорский (чол); е) сокающую,
как якутский (coz/л).18
И. А. Батманов распределяет свои дополнительные признаки
по шести основным классификационным группам Самойловича
как их дальнейшие подразделения. Существенное значение имеет,
однако, оговорка, которую он вынужден сделать по этому поводу:
указанные им признаки в ряде случаев выходят за пределы той
основной группы, к которой они отнесены; они перекрещиваются
между собой и с границами этих групп.
В связи с этим необходимо напомнить очень правильное выска-
зывание В. А. Богородицкого: «При сравнительном изучении
татарского вокализма, как и консонантизма, необходимо опреде-
лять смежные тюркские территории или объединения,
по которым в настоящее время распределяются так или иначе
рефлексы старотюркских фонем; эти террито-
риальные объединения не одни и те же для разных случаев. Путем
подобного рассмотрения лингвистических фактов мы считаем
возможным получить указания на постепенное формирование
тюркских языковых областей в разные периоды прошлого.10
Следует отметить, что «топографическая точка зрения», которую
выдвигал В. А. Богородицкий, вовсе не означала, как обычно
думают, замену классификации тюркских языков простым их опи-
санием в порядке географической смежности. Богородицкий, как
видно из нескольких примеров в его книге, особенно в разделе
консонантизма,20 стоял на лингвогеографической точке зрения,
предприняв первую и до сих пор единственную попытку приме-
нить принципы лингвистической географии к проблемам сравни-
тельно-исторической грамматики тюркских языков.
3. Когда место того или иного тюркского языка в генеалоги-
ческой классификации, построенной по принципу «родословного
древа», определяется присущими этому языку различительными
613
признаками, эти признаки обычно представляются в географически
обобщенной, абстрактной форме, без достаточного учета реальной
диалектной дифференциации данного языка. В основу классифи-
кации кладутся черты, присущие национальной литературной
норме, а не той сложной и противоречивой реальности, которая
скрывается за этой нормой. Такое упрощение существенным об-
разом может исказить историческую картину взаимоотношения
языков и диалектов. «Авторы классификационных схем, — спра-
ведливо замечает Б. А. Серебренников, — обычно мало внимания
обращают на диалекты. При классификациях тюркских языков
обычно отбирают признаки литературных языков, например
татарского, казахского, киргизского, азербайджанского и т. д.
Между тем отбор отличительных признаков при учете показаний
диалектов становится более затруднительным, но в то же время
способствующим уточнению положения данного языка среди дру-
гих родственных.21
Дифференциация языка с учетом диалектных признаков по
изоглоссам (например, для казахского языка — границы жо-
канья или употребления ш вместо ч) вносит существенные по-
правки в реальную картину исторического развития и взаимо-
отношения языков.
Вместе с тем во всех приведенных выше классификациях неяс-
ным остается вопрос о лексическом охвате того или иного диалект-
ного признака. Обозначая диалектные группы словами-примерами
как группу с признаками адак или may и т. п., А. Н. Самойлович,
как и другие, следовавшие его примеру, не ставил вопроса, сле-
дует ли предполагать за этими примерами одинаковое развитие
всего соответствующего лексически не замкнутого фонетического
ряда (т. е. универсальный охват общего фонетического закона)
или данное явление ограничено лексически и, наличествуя в одних
словах, отсутствует в других.
Выдвинутые здесь положения можно иллюстрировать несколь-
кими хорошо известными примерами. Узбекские диалекты, чрез-
вычайно разные по своим особенностям, издавна (со времен
Е. Д. Поливанова) подразделяются исследователями на три
основные группы, которым давались различные названия: 1) сред-
неузбекская (юго-восточная, чагатайская, или карлуко-чигиле-
уйгурская); 2) южнохорезмская (юго-западная, или огузская);
3) северо-западная (кыпчакская, шейбанидо-узбекская, или джо-
кающая). Диалекты первой группы, родственные многими своими
особенностями новоуйгурскому, послужили основой для узбек-
ского национального языка. Диалекты второй и третьей групп
по своим основным признакам должны быть отнесены соответ-
ственно к огузской и кыпчакской группам, т. е. близки к туркмен-
скому и казахскому с каракалпакским. «В южнохорезмских го-
ворах, — писал А. К. Боровков, — начальным глухим «, т соот-
ветствуют звонкие а, д (еелд1 ’прибыль’, di\pl ’живой’и т. д.),
гласных девять, различаются сингармонистически контрастные
614
гласные переднего ряда и заднего ряда, имеет место фонематиче-
ское различение кратких и долгих гласных (хив. эт'щ' твоя лошадь’,
э-.дщ 'твое имя’), конечные /f, г, я, г после предшествующих
узких гласных в определенной категории слов отсутствуют (хив.
di\pi 'живой’, ca:pl 'желтый’ и т. п.), есть форма настоящего
данного момента на -jamip (гел]аггйр 'приближается, идет’),
форма будущего на -джак, -джак (геладжак 'придет, прибудет’),
словарь отличается своими особенностями». В джокающих диа-
лектах «гласных. . . восемь (или девять с усвоенной фонемой о
в первых слогах), гармония гласных имеет место, в абсолютном
начале слова на месте j других говоров регулярно дж (джол 'до-
рога’, джаман 'плохой’ вместо pZ, ]эмэн и т. д.), конечным ц и г
после предшествующих широких гласных соответствует w (maw
'гора’, 6aw "сноп’, KOHFipaw 'звонко’, ср. ташк. тэг, бэг, конг1рок),
после предшествующих узких гласных конечные г, к, г отсут-
ствуют в определенной категории слов (например, к1ч1 /малень-
кий’, capi 'желтый’, ср. ташк. kihik, сарък), есть особая форма
дат. падежа местоимений личных и указательных, например
маган 'мне’, саган 'тебе’, уран 'ему’ и т. п., форма настоящего
данного момента на -джапйр (-jamip) или -jan (келаджатплр,
кел]атлр, кел]аптъ 'приближается, идет’), имеется большой ряд
особенностей в словаре».22
ТАБЛИЦА 2
Таджикский язык
1. Карлуко-чигиле-
уйгурский диалект
Казахский и каракал-
пакский языки
2. Кыпчак- 3. Огузский
ский диалект
диалект
Туркменский
язык
Несколько иной, частично уточненный и расширенный список
различительных признаков обоих диалектов дает В. В. Решетов,23
но это не меняет общих выводов, как это ясно из графической схемы
(см. табл. 2), на которой узбекский язык представлен автором
как «сложившийся в результате объединения трех тюркских
компонентов: 1) карлуко-чигиле-уйгурского, являющегося бли-
жайше родственным современному уйгурскому языку и имеющего
тесные этно-лингвистические связи с таджикским языком»; 2) кып-
чакского, ближайше родственного казахскому и каракалпакскому
языкам, и 3) огузского, ближайше родственного туркменскому
языку.24
615
В наиболее четкой форме эту точку зрения в свое время Bbi-
двинул Е. Д. Поливанов, который писал: «Следовательно, обще-
узбекского праязыка, как такового, никогда не существовало;
узбекский язык (как совокупность говоров узбекского коллектива)
возник не из дифференциации (диалектологического дробления)
некогда единой (или более или менее единообразной) языковой
системы, а, наоборот, путем объединения различных в языковом
отношении турецких (т. е. тюркских, — В. Ж.) коллективов (на
почве усвоения ими единообразной экономической характеристики,
т. е. экономических признаков узбекского национального кол-
лектива)».25
Вывод Е. Д. Поливанова имеет важное методологическое зна-
чение, а именно: диалекты в ряде случаев отнюдь не являются
«ответвлениями» общенародного (тем более национального) языка;
напротив, национальный (общенародный) язык может сам быть
результатом схождения (сближения) диалектов. Это — существен-
ная поправка, которую вносит современная лингвистическая
география в классификацию, построенную по принципу «родо-
словного древа».
Можно привести аналогичный пример из области индоевропей-
ских языков, значительно лучше изученных с точки зрения сравни-
тельной грамматики и исторической диалектологии. В традицион-
ных классификациях германских языков и наречий, построенных
по схеме родословного древа и восходящих к методологическим
традициям «младограмматиков», немецкий язык относили к западно-
германской группе, ответвившейся от общегерманского языка-
основы («прагерманского») параллельно с северногерманским
(скандинавская группа) и восточногерманским (готская группа).
Западногерманский, в свою очередь, является «языком-предше-
ственником» («основой») для двух групп: англо-фризской и не-
мецкой. Немецкий («пранемецкий» — Urdeutsch) по признакам
второго (иначе «верхненемецкого») передвижения согласных рас-
падается на нижненемецкий и верхненемецкий, а последний —
на средненемецкий и южнонемецкий с дальнейшим подразделением
этих основных наречий на диалекты и поддиалекты.
Однако современные исследования представителей немецкой
диалектографии, основанные на «Атласе немецкого языка» («Deut-
scher Sprachatlas») и лингвогеографической интерпретации древ-
них письменных текстов, убедительно показали, что древненижне-
немецкий не был связан с древневерхненемецким непосредствен-
ной общностью происхождения, а представлял первоначально
самостоятельный племенной диалект (древнесаксонский), входив-
ший в состав ингвеонской группы западногерманских диалектов
вместе с родственными ему древнеанглийским (англосаксонским)
и древнефризским. Тем самым «пранемецкого» языка как общего
предка нижненемецкого и верхненемецкого наречий вообще ни-
когда не существовало. В результате насильственного включения
древних саксов в франкское государство Карла Великого (с конца
616
XIII в.) произошло «онемечение» древнесаксонского и постепен-
ное превращение его (закончившееся в XVI—XVII вв.) в нижне-
немецкий диалект (Plattdeutsch) общенемецкого национального
языка. Немецкий общенародный язык складывался параллельно
с формированием немецкой народности в исторических рамках
восточной (германской) части франкского государства Меровин-
гов и Каролингов в процессе схождения разных по своему про-
исхождению западногерманских племенных наречий — франков
(иствеонов), баварцев и алеманнов (эрминонов), позднее также
саксов (ингвеонов). Таким образом, единство немецкого обще-
народного языка лежит не в общности происхождения древне-
немецких наречий от мнимого общенемецкого «праязыка»: оно
явилось результатом длительного исторического процесса, за-
вершившегося объединением новонемецкого национального языка
в условиях формирования буржуазного общества.26
Известный интерес для вопроса о диалектных границах тюрк-
ских языков могут представить и наблюдения диалектологов-рома-
нистов. Если национальные языки романского мира, например
французский и итальянский, четко противопоставлены друг другу,
то народные говоры, не считаясь с национально-государственными
границами, образуют языковую непрерывность с постепенной
заменой одного диалектного признака другим. Об этим говорит
Г. Шухардт в своей классической работе «О классификации роман-
ских диалектов» (1900). Если, перевалив через Апеннинский хре-
бет, пишет Шухардт, продвигаться в северной Италии по направ-
лению к французской границе, пользуясь в этой пешеходной
прогулке из села в село только местными народными говорами,
мы заметим, как будут исчезать один за другим отличительные
признаки итальянского языка, уступая место соответствующим
французским. «Но где же поставить нам пограничный столб? —
спрашивает Шухардт. — Там ли, где пастухи зовут своих свиней
не i porci (итал., — В. Ж.), но lus cusciuns, les cochons (франц., —
В. Ж.), или там, где мы впервые услышали, как ребенок называет
отца топ pair, топ рёге (франц., — В. Ж), вместо итал. mio
padre? Я опасаюсь, что в этом случае каждый будет руководство-
ваться собственным вкусом».27
Мы сталкиваемся с таким «географическим варьированием»
как называет Шухардт это явление, и в тюркской диалектологии
не только в таких классических примерах, какие представляют
собой с этой точки зрения огузские и кыпчакские диалекты узбек-
ского языка, непосредственно связанные с соседними туркмен-
скими и казахскими, но и в ряде других, менее отчетливо выражен-
ных случаях, когда изоглоссы тех или иных различительных
признаков не считаются ни с национальными границами, ни с ориен-
тированными на них классификационными схемами.
Так, южные диалекты казахского языка объединяются по ряду
признаков с соседними узбекскими. Например, казахскому ш,
по сообщению Н. Т. Сауранбаева и Ш. Ш. Сарыбаева, на террито-
617
рии «от Кзыл-Ординской области до Семипалатинской области»
соответствует аффриката ч (как в узбекском), например: шацпак
'спички’ — чакпац, шац 'пыль’ — чац, шатсщ 'скандал’ — чатац
и др. Чередование это происходит, однако, «главным образом
в позиции анлаута» (что значит «главным образом»?), из конечных
слогов — только в суффиксе -шы/чы: етъкшь 'сапожник’ — ет1кч1,
сауншы 'доярка’ — саунчы, тгггншг 'швея’ —тгггнчг и др.28При
широком географическом распространении этого явления говорить
здесь о «переходных говорах» или об «узбекизации», как принято
в таких случаях, вряд ли есть основания.
Вопрос о лексическом охвате различительных признаков в по-
добных случаях обыкновенно не ставится. Между тем свидетель-
ством взаимодействия двух соседних языков (точнее — двух
соприкасающихся диалектов этих языков) может служить наличие
лексически ограниченной группы случаев, выпадающей из общих
исторических закономерностей данного языка (или диалекта).
Так, «кыпчакское» джоканье в составе отдельных слов, как мимо-
ходом отметил В. В. Решетов, проникло в ташкентский (в своей
основе «чагатайский», т. е. йокающий) диалект узбекского языка
и из него — в письменную норму узбекского национального лите-
ратурного языка.29 Таких слов довольно много; к их числу отно-
сятся, например: жун (дж-) 'шерсть’, жилое'повозка’, жар 'овраг’,
жилмо^ 'двигаться’, жилдирмоц 'двигать’, жайналмоц 'цвести’
и некоторые другие. Освоение этих 'кыпчакских’ форм не пред-
ставило фонетических затруднений для носителей центрально-
узбекских городских говоров ввиду наличия в литературном узбек-
ском языке и в ташкентском говоре фонемы [йж] в многочисленных
словах, заимствованных из таджикского. Проследить изоглоссы
некоторых из перечисленных слов было бы весьма поучительно:
они свидетельствуют о том, что степь подходила вплотную к во-
ротам Ташкента.
Озвончение начальных т и к (/f), которое И. А. Батманов
упоминает в своем перечислении дополнительных к классификации
А. Н. Самойловича изоглосс, при реализации его в лексике того
или иного языка обнаруживает неоднородную и весьма пеструю
картину. Озвончение начальных т, к считается одним из древних
признаков огузского наречия. Оно отмечено (для д — т) уже Мах-
мудом Кашгарским в середине XI в.: «Каждое t гуззы и родствен-
ные им народы обращают в й, например: tava 'верблюд’ — dava, ot
'дыра’ — ой».30 Звонкость встречается эпизодически и в других
тюркских языках и диалектах, наиболее регулярно — в некото-
рых юго-восточносибирских; в то же время, как правило, —
отмечает Рясянен, — «большая путаница в этом вопросе наблю-
дается даже в юго-западных тюркских языках»;31 например:
туркм., аз. гыз 'девушка’ — тур. кыз\ аз. даш 'камень’, туркм.
даш — тур. таш и ряд других. Пестрота еще более увеличи-
вается, если от литературных языков обратиться к диалектам,
где расхождения в лексическом охвате этого явления очень зна-
618
чйтельны и могут быть показаны наглядно только методом изо-
глосс.32
Перекрестный характер изоглосс обнаруживается особенно
отчетливо в описаниях языков и диалектов малых тюркских на-
родов южной Сибири: алтайского — с диалектами алтайским,
телеутским и теленгитским (северная группа), кумандинским,
лебединским и черневым (южная группа);33 шорского — с диа-
лектами кондомским и мрасским;34 хакасского — с двумя группами
диалектов: сагайским, бельтирским и качинским, койбальским,
кызыльским и шорским;35 тувинского36 и близкого ему карагас-
ского.37 Если применить к этим диалектам те традиционные кри-
терии, которые обычно кладутся в основу классификации тюрк-
ских языков (отражение начального й-, чередование -й-, -з-, -д-
внутри слова, звонкое или глухое произношение шумных соглас-
ных в начале слова, переходы и > с, ч > ш, судьба конечного -г,
сужение или расширение ударных гласных и некоторые другие),
то изоглоссы данных признаков позволят разделить сравнительно
небольшую территорию распространения этих языков на группы
диалектов, по своим особенностям противопоставляемые друг
другу и объединяемые с соседними языками.
Диалекты алтайские делятся на группы южную и северную
по признакам: дъил (или йыл) 'год’ — чыл, туу 'гора’ — may,
чапкан 'скакавший’ — ш’апкан и др.; шорский распадается на два
диалекта, разделенные изоглоссами азак снога’ — айак, кеш 'пере-
правляйся’ — кеч и др. Две группы хакасского различаются как
«свистящая» и «шипящая» (сас 'волосы’ — шаш), однако кызыль-
ский в отличие от трех других диалектов второй группы имеет чеч,
демонстрируя один из многих примеров перекрестной дифферен-
циации по изоглоссам.
В сущности мы имеем дело с целой группой племенных диа-
лектов (языков), сохранявших в еще недалеком прошлом относи-
тельную самостоятельность в условиях значительной изоляции,
архаической экономики и прочных в недавнее время пережитков
родо-племенных отношений. В. В. Радлов сто лет назад — в 60-х
годах прошлого века — еще застал и описал это состояние, рас-
положив сделанные им записи в тт. I—II своих «Образцов» по пле-
менам и племенным группам. Только в эпоху социалистического
строительства эти племена, племенные группы или осколки пле-
мен объединились в народность и соответственно стали сближаться
и в языковом отношении. Поэтому было бы анахронизмом, с точки
зрения исторической, возводить, например, хакасские диалекты
к общенародному языку как его «ответвления», отождествляя этот
язык с тем общим хакасским литературным языком, который
формируется на наших глазах (в основном на диалектной базе
сагайского и качинского наречий). Диалекты эти, подобно узбек-
ским, связаны между собой не генетическим единством языка-
основы, реконструированным по принципу родословного древа,
а процессами конвергирующего развития (схождения), совершаю-
619
щегося в нашу эйоху вместе с формированием социалистических
народностей и наций.
С южноалтайскими наречиями связан в своих древних основах
и киргизский язык.38 К многочисленным древним изоглоссам,
объединяющим современный киргизский язык с южноалтайскими
диалектами, присоединяется группа новых изоглосс, кыпчакских
и узбекских по своему происхождению, проникших в киргизские
диалекты, в особенности в южные, в процессе общения с новыми
соседями на тяныпаньской родине киргизов.39
Вопрос о возможном отражении древних племенных объедине-
ний на современных диалектологических картах есть вопрос
исторический, и, как всякий исторический вопрос, он не допускает
догматического и суммарного, одинакового для всех случаев ре-
шения. Как показали диалектологические атласы, отражения
древних племенных связей немецкими или русскими диалектами
должны быть признаны минимальными: племенные границы ока-
зались перекрытыми позднейшими границами феодальных объеди-
нений. Было бы, однако, необоснованным «европоцентризмом»
придавать этим выводам универсальное значение. В тюркских
языках и наречиях южной Сибири, развивавшихся в других
общественно-исторических условиях, мы видим воочию отражение
этих племенных границ на современной диалектологической
карте.
Разумеется, из этого не следует, что в исторических условиях
например, Узбекистана можно установить наличие особого диа-
лекта мангытов, которые будто бы на обширнейших пространствах
своего расселения продолжают «в своих говорах и диалектах. . .
сохранять сходные языковые факты».40 Эти древние племенные
самоназвания, разбросанные в настоящее время по всей террито-
рии расселения некогда кочевых юрских народов, до сих пор
прикреплены к осколкам племенных объединений, давно распав-
шихся и перемолотых в процессе взаимодействия с другими род-
ственными по языку кочевыми племенами. «Такими раздробив-
шимися на части племенами были кыпчаки, кунграты, канглы,
уйгуры, кенегесы, найманы, уйшуны, мангыты и другие».41 Если
некоторые из них и различались в прошлом по языку, то в усло-
виях многократных этнических смешений и сношений с другими
тюркскими племенами они давно должны были утратить эти раз-
личия.
4. Вообще историческая интерпретация изоглосс, как она
практикуется в современной лингвистической географии, пред-
ставляется более надежным способом исторического и сравнитель-
ного изучения родственных диалектов, чем суммарное отождествле-
ние нерасчлененного языкового или диалектного массива с теми
или иными племенными коллективами или союзами племен да-
лекого прошлого.
История народов, говорящих на тюркских языках, показывает
нам грандиозную картину многовекового передвижения кочевыл
620
скотоводческих племен и больших племенных союзов из Централь-
ной Азии через среднеазиатские и южнорусские степи, Волгу и
Урал до Кавказа и Крыма, Малой Азии и Балканского полу-
острова. Расселяясь в разное время в разных частях этой обшир-
ной территории, тюркоязычные народы частично сохраняли вплоть
до недавнего времени свой древний кочевой быт, частично пере
ходили к оседлости, смешиваясь с местным нетюркоязычным
оседлым населением.
История тюркских народов представляет последовательную
смену патриархально-родовых и феодальных отношений с дли-
тельным сохранением внутри феодального общества пережитков
старых родоплеменных связей и патриархально-родового уклада.
Образование более поздних феодальных объединений в условиях
непрекращающихся межплеменных распрей, столь отчетливо про-
являющееся, например, в прежней территориально-политической
раздробленности областей современного Узбекистана, в дальней-
шем перекрывает древние племенные связи. При этом отчетливо
выступает культурное и языковое влияние феодальных городов
как экономических и политических центров с их смешанным,
разноплеменным и разнонациональным, частично ираноязычным
населением. Формирование наций и национальных языков у ряда
народов происходит и завершается в наше время, в эпоху социали-
стической революции. Национальное размежевание и распростра-
нение национального литературного языка через школу и печать
содействует процессам интеграции первоначально очень различ-
ных, племенных по своему происхождению диалектов. Рядом
с сплошными языковыми массивами, в рамках которых происхо-
дило и происходит смешение и выравнивание диалектов, суще-
ствуют (например, в Сибири) изолированные острова и островки
языков и наречий, сохранивших вследствие своей длительной
изоляции особо архаические черты.
Почти повсюду в результате этнических смешений в разной
форме возникает проблема субстратных воздействий (иранских
в Узбекистане и Азербайджане, монгольских, финно-угорских,
тунгусо-маньчжурских, палеоазиатских — в языках южной и
восточной Сибири). При этом картографирование некоторых фоне-
тических и в особенности лексических признаков на территории,
например, Узбекистана следовало бы производить одновременно
в узбекских и таджикских диалектах (А. К. Боровков придавал
в этом отношении большое значение старой терминологии искус-
ственного орошения).
Изоглоссы диалектных явлений, как уже было сказано, пред-
ставляют отложения языковых сношений между общественными
коллективами. Они объединяют языковые коллективы и разгра-
ничивают одновременно, свидетельствуя о границах общения,
относящихся к разному времени. Каждая изоглосса или группа
изоглосс требует интерпретации в свете исторической судьбы
данного языкового и социального коллектива. Старые племенные
621
расселения и группировки и приток нового кочевого населения,
языковые взаимодействия между соседними группами и процессы
позднейшей унификации в рамках феодальной или национальной
территории — все эти исторические факты запечатлелись с раз-
ной степенью ясности в границах диалектных явлений, рассмат-
риваемых не суммарно, а дифференцированно, в соответствии
с особенностями изоглосс.
Таким образом, методика лингвистической географии, приме-
ненная к тюркским языкам, открывает широкие перспективы для
изучения истории тюркоязычных народов, создателей и носителей
этих языков и диалектов.
5. Необходимость создания диалектологических атласов в на-
циональных масштабах в настоящее время, кажется, стала оче-
видной для всех ведущих представителей советской тюркологии.
Пример «Атласа русских народных говоров» и ряда национальных
атласов, подготовляемых в советских республиках, показал осу-
ществимость такого рода предприятий. Известно, что А. К. Бо-
ровков еще в 1944 г. задумал подготовить атлас узбекских народ-
ных говоров и в целях сплошного диалектографического обследо-
вания составил анкету, содержащую 65 вопросов по фонетике,
грамматике и лексике.42 План узбекского диалектологического
атласа развил В. В. Решетов в тезисах доклада, подготовленного
ко II региональному совещанию по диалектологии тюркских
языков.43 Прочное начало составления национального диалекто-
логического атласа уже положено Академией наук Азербайджан-
ской ССР (руководитель акад. М. Ш. Ширалиев). О предваритель-
ных результатах работы по составлению пробного атласа восточно-
азербайджанских диалектов, которая должна быть закончена
в 1965 г., М. Ш. Ширалиев доложил IV региональному совеща-
нию.44 В «Материалах II регионального совещания» был опубли-
кован доклад Н. Б. Бургановой и Л. 3. Заляя «О принципах
составления диалектологического атласа татарского языка».45
С тех пор работа эта успешно подвигается в Казанском филиале
АН СССР. На IV региональном совещании был прослушан также
доклад Г. Бакиновой «О принципах составления атласа киргиз-
сжих говоров».46
Значение этих работ для истории и диалектологии националь-
ных языков после всего сказанного не требует дальнейших дока-
зательств. Следует только добавить, что всякое сплошное и систе-
матическое обследование определенной диалектной территории,
независимо даже от реализации этого обследования в форме ат-
ласа, всегда сопровождается открытием и регистрацией большого
числа новых фактов, которые трудно было бы предугадать при
монографическом изучении нескольких разрозненных опорных
диалектных пунктов.
Однако в свете изложенных выше положений было бы свое-
временно подумать и о более сложной и отдаленной задаче —-
о возможности создания общего диалектологического атласа тюрк-
622
ских языков Советского Союза. Изоглоссы отдельных диалектных
различий тюркских языков, притом важнейшие, не укладываются,
как уже было сказано, в границы более поздних национальных
размежеваний, — и это касается не только случаев так называе-
мых «переходных говоров», но имеет почти всеохватывающий
характер.
Историческое место и значение определенных диалектных раз-
личий для диалектологического членения отдельных языков можно
установить лишь в более общей и широкой географической и исто-
рической перспективе. Только когда каждый отдельный диалект-
ный признак будет прослежен на всей территории распростране-
ния тюркских языков, группировки по языкам и диалектам вы-
ступят с полной отчетливостью. Вместе с тем такой атлас пред-
ставит объективный языковой материал, указывающий на после-
довательные группировки этнического характера (племен и народ-
ностей), относящиеся к различным периодам истории тюркоязыч-
ных народов, их более древних объединений и позднейших пере-
движений. Без этой надежной опоры представляются невозмож-
ными и общая классификация тюркских языков и диалектов,
исторических и современных, и их сравнительно-историческая
грамматика, учитывающие всю сложность исторического раз-
вития тюркских языков и диалектов, их схождений, расхождений
и смешений в реальных историко-географических условиях.
Еще одно обстоятельство с неизбежностью должно вывести
составителей национальных атласов за пределы их родного языка.
Как известно, национальное размежевание в Средней Азии не
привело и не могло привести к тому, чтобы национальные мас-
сивы полностью замкнулись в рамках своих национально-госу-
дарственных границ. На территории каждой национальной рес-
публики имеются значительные осколки соседних национальных
групп и их диалектов, а в ряде случаев эта языковая чересполо-
сица принимает весьма пестрый характер. Национальный диа-
лектологический атлас, применяющий методику лингвистической
географии, не может, конечно, игнорировать этот факт, так как
в результате подобного длительного сожительства народов, го-
ворящих на близкородственных языках и диалектах, неизбежно
осуществляется сложное и в историко-лингвистическом отноше-
нии весьма поучительное взаимодействие между соседними разно-
язычными говорами. Диалектологический атлас Узбекистана
отметит на его территории группы казахских, каракалпакских,
киргизских и туркменских диалектов. Но факт этот также ука-
зывает на общетюркологическую перспективу, которую полностью
может показать лишь общий атлас тюркских языков и наречий
Советского Союза.
В работе над подготовкой такого атласа следовало бы принять
участие как Институту языкознания АН СССР (его тюркологи-
ческому сектору), так и лингвистическим институтам тюркоязыч-
ных республик. Перед избранной IV региональным совещанием
623
Комиссией по координации диалектологической работы в области
тюркских языков СССР поставлена задача выработать общие прин-
ципы и план такой работы, а также самое важное — диалекто-
логическую анкету.
Разумеется, эта работа представляет немало трудностей и по-
требует затраты времени и участия квалифицированных научных
сил. По^соображениям практического характера она могла бы
поначалу выполняться республиканскими институтами как часть
их работы по составлению национальных атласов. Но общий атлас
не может быть простой суммой национальных работ, осуществлен-
ных без предварительной координации. Координации подлежит
прежде всего транскрипция, которая по необходимости должна
быть общей (или по крайней мере соотносительно общей), и соста-
вление диалектологических анкет. Без такой предварительной
координации национальные атласы окажутся несовмести-
мыми.
Самым простым решением этого вопроса могло бы явиться вклю-
чение в анкеты всех национальных атласов небольшой группы
одинаковых вопросов, содержащих примеры (50—60 слов) на важ-
нейшие общезначимые диалектные явления. Частично эти слова
или явления будут совпадать с уже имеющимися в национальной
анкете. Но частично примеры будут касаться и явлений, не су-
щественных для диалектной дифференциации внутри данной на-
циональной территории и потому не отмеченных в национальной
анкете (которая может, с другой стороны, содержать вопросы,
имеющие различительное значение только в пределах данной тер-
ритории). Лишние 50—60 примеров вряд ли особенно отягчат
национальный вопросник. Можно надеяться, что в пределах та-
кого краткого вопросника в работу сумеют включиться и респуб-
ликанские центры, которые еще не планировали составление
трудоемкого национального атласа.
Решение задач, связанных с общетюркским вопросником,
позволит заложить основу для общего лингвистического атласа
тюркских языков и наречий, которая в дальнейшем может быть
соответственно расширена с помощью новых анкет, содержащих
дополнительную серию вопросов. Методика лингвогеографиче-
ского исследования вполне допускает такое последовательное
расширение круга поставленных вопросов. Дополнительная се-
рия вопросов даст материал для выпусков атласа, которые по-
следуют за первым, по необходимости пробным (эксперименталь-
ным).
Образцом для составления общего атласа на базе местных, на-
циональных может служить общеславянский лингвистический
атлас, подготовительные работы над которым ведутся в настоящее
время согласно решению IV Международного съезда славистов.
В обсуждении плана и анкеты этого атласа принимали участие
все славянские академии наук и специальная Международная
комиссия. На первых же совещаниях выяснилось, что вопросник
624
для общеславянских изоглосс не совпадает с анкетами националь-
ных атласов, так как охватывает круг явлений, имеющих обще-
славянское, а не местное значение. Подготовленный Комиссией
проект общеславянской анкеты представлен в сентябре 1963 г.
на утверждение V Международного конгресса славистов в Софии.
Затем составители предполагают испробовать анкету в ряде опор-
ных пунктов на всех славянских территориях. После обработки
и проверки материала исправленная анкета будет окончательно
пущена в работу. Представляется, что советские тюркологи
могли бы воспользоваться результатами этого опыта.
1963 г.
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ
ТЮРКСКИХ ДИАЛЕКТОВ
На V Совещании по вопросам диалектологии тюркских языков
в Баку (5—8 октября 1965 г.) принято было решение приступить
к работе над Диалектологическим атласом тюркских языков Со-
ветского Союза. В течение 1966 г. должна быть подготовлена проб-
ная анкета, содержащая 50—60 вопросов, результаты которой
после камеральной обработки будут опубликованы как «пробный
атлас», который может послужить как бы экспериментальной осно-
вой для систематического картографирования в большом масштабе.
Нет необходимости в настоящее время останавливаться на том,
какое большое значение будет иметь создание такого атласа не
только для уточнения различительных признаков современных
диалектов, но и для сравнительно-исторической грамматики тюрк-
ских языков, для их генетической классификации, для истории
тюркоязычных народов, создателей и носителей этих языков.1
Здесь хотелось бы только коснуться некоторых общих методоло-
гических и методических проблем составления атласа, вытекаю-
щих из опыта национальных и региональных диалектологических
атласов, существующих в настоящее время в достаточно большом
числе как за рубежом, так и в нашей стране.
I. Приступая к собиранию материала для диалектологиче-
ского атласа, мы не вправе исходить из распространенной презумп-
ции, будто современные диалекты тюркских языков представляют
замкнутые «ветви», «ветки» и «веточки» родословного древа, от-
ветвившиеся путем последовательной дифференциации от «обще-
тюркского» ствола по прямолинейной схеме распадения на
языки — наречия — диалекты и поддиалекты — местные говоры.
Лингвистическая география исходит не из замкнутых, спонтанно
развившихся диалектных массивов, очерченных совокупностью
различительных признаков; она строится на установлении изо-
глосс как границ отдельных диалектных явлений.
40 В- М. Жирмунский 625
Ограничимся двумя примерами.
1. Как известно, узбекские диалекты подразделяются исследо-
вателями на три основных наречия, которым давались различные
названия: 1) среднеузбекское (юго-восточное, чагатайское или
карлуко-чигиле-уйгурское); 2) южнохорезмское (юго-западное,
или огузское); 3) северо-западное (кыпчакское, шейбанидо-узбек-
ское, или джекающее). Е. Д. Поливанов, первый наметивший
это деление, обозначил различие между этими наречиями тремя
фонетическими признаками на примерах двух слов: 1) tag, sarbq\
2) daof, sarb (sa:rb)-, 3) taop sarb2 А. К. Боровков, сохраняя в ос-
новном то же деление, перечисляет признаки каждого наречия
по отдельности. Для отграничения «шейбанидо-узбекского, или
джекающего, диалекта» он приводит восемь признаков, из них
два морфологических.3
В частично уточненном и расширенном списке В. В. Решетова
кыпчакский диалект узбекского языка характеризуется 14 при-
знаками (из которых четыре морфологических).4
Вряд ли, однако, было бы правильно понимать указанных
авторов в том смысле, будто географические границы (изоглоссы)
всех перечисленных ими признаков в точности совпадают между
собой. Например, из признаков кыпчакского диалекта узбек-
ского языка (по В. В. Решетову) вряд ли джоканье (джол йол,
джаман < йаман) имеет одинаковую границу с вокализацией
конечного или интервокального г > [//] (тар > тав, арыз > авуз)
или с отпадением конечного -к после узких гласных в аффиксах
(саръЩ > сары, кичик > кичи), или с дифтонгическим произноше-
нием гласного -и в словах ийт (ит), бийт (бит) и т. п., или с та-
кими грамматическими явлениями, как особые формы дательного
падежа единственного числа личных местоимений маран, саран,
уран, как причастие настоящего времени данного момента на
-джатыр (-ятыр) типа бараджатыр и т. п.5 Можно думать, что
каждое из этих явлений имеет свою особую границу (изоглоссу)
и даже изоглоссы для вокализации р на конце слова и между глас-
ными (тав — авуз) не должны совпадать между собой. В точности
это может показать только атлас, заранее в своей анкете учиты-
вающий эти различия.
Следует добавить, что по большинству своих признаков кып-
чакский диалект узбекского языка объединяется с соседними
близкородственными языками, казахским и каракалпакским,
южнохорезмские говоры — с туркменским языком и его^диалек-
тами, а центральная часть узбекских диалектов — с современным
уйгурским.® Таким образом, изоглоссы общетюркского диалекто-
логического атласа выходят за рамки современных националь-
ных языков, указывая на более древние генетические связи между
племенами и народностями, их диалектами и языками.
С исторической точки зрения эти связи для узбекского языка
в наиболее четкой форме объяснил Е. Д. Поливанов. Он писал:
«Следовательно, общеузбекского праязыка, как такового, никогда
626
не существовало; узбекский язык (как совокупность говоров уз-
бекского коллектива) возник не из дифференциации (диалекто-
логического дробления) некогда единой (или более или менее
единообразной) языковой системы, а, наоборот, путем объедине-
ния различных в языковом отношении турецких (т. е. тюркских, —
В. Ж.) коллективов (на почве усвоения ими единообразной эко-
номической характеристики, т. е. экономических признаков уз-
бекского национального коллектива)».7
Разумеется, в этом сложном процессе национальной и языко-
вой консолидации первоначально гетерогенных этнических и
языковых элементов, о котором лучше всего могут свидетельство-
вать диалектологические карты в сопоставлении с историческими,
экономический фактор, о котором писал Е. Д. Поливанов, при
всей своей важности не является единственным.
2. По сравнению с узбекским языком казахский отличается
гораздо меньшей четкостью и глубиной диалектных границ. Дол-
гое время господствовала точка зрения, будто внутри казахского
языка вообще отсутствуют диалектные членения. В связи с этим,
по-видимому, не случайно современные казахские диалектологи
предпочитают говорить не о наречиях, а о «говорах» и «группах
говоров».
В классификации этих групп между лингвистами Казахстана
обнаружились существенные разногласия. С. Аманжолов разли-
чал три диалекта — северо-восточный, южный и западный, к ко-
торым присоединял несколько «промежуточных», или «переход-
ных», групп («переходные» группы всегда являются свидетельст-
вом расхождения изоглосс диалектных явлений, которые вопреки
неправильной теории часто не совпадают между собой). Разли-
чительными признаками служит у него, как и у остальных авто-
ров, сложная совокупность фонетических, морфологических и
лексических явлений.8
Ему возражает Ж. Доскараев, который устанавливает две
большие группы говоров — юго-восточную и северо-западную.
Третью группу, частично соответствующую северо-восточной
у Аманжолова, он относит к «переходным» говорам.9
Н. Сауранбаев в основном придерживался двучленной класси-
фикации Доскараева.10 Однако в статье, написанной совместно
с Ш. Сарыбаевым, он возражает против географических границ
этих говоров, установленных преимущественно на основании
их фонетических особенностей: «... такая классификация не
оправдывается с точки зрения лексических и грамматических
особенностей. Грамматические формы баражаЦ 'должен идти’,
барулы 'поехал’, 'пошел’, баражатырган 'шедший’ и др., прису-
щие западным областям Казахстана, не отмечены в Караган-
динской и Семипалатинской областях. А в классификационной
схеме Западно-Казахстанская область отнесена вместе с Караган-
динской к одной группе говоров».11 Пример этот сам по себе очень
характерен: он показывает, что группы изоглосс, на которых
627
40*
строится единство диалекта, фактически не совпадают между
собой.
В своей последней статье Ш. Сарыбаев возвращается, с неко-
торыми модификациями, к трехчленной классификации Аманжо-
лова и к его терминологии. Он различает три группы: южную
(соответствующую юго-восточной у Доскараева и Сауранбаева),
западную (лишь частично совпадающую с северо-западной у тех же
авторов) и центрально-северную (которая в большей своей части
покрывается северо-восточным диалектом у Аманжолова). Первая
группа, по словам автора, характеризуется (очевидно, при со-
поставлении с литературным языком) своими фонетическими и
грамматическими особенностями, вторая — прежде всего своими
специфическими грамматическими формами, третья — своей лек-
сикой. «В фонетическом отношении центрально-северная группа
говоров больше приближается к западным группам, чем к осталь-
ным, а в грамматическом отношении — к восточным группам
говоров».12 Это обстоятельство также свидетельствует о том, что
изоглоссы отдельных различительных признаков диалектных
групп перекрещиваются между собой.
Из сказанного видно, что споры, которые велись между казах-
скими диалектологами по вопросу о разграничении основных
диалектных групп, в сущности были вызваны разногласиями
в вопросе, какую изоглоссу или группу изоглосс считать абсолют-
ной границей данного диалекта. Такая точка зрения могла бы
быть оправдана только в том случае, если бы «группа говоров»
представляла собой самостоятельное наречие, «ответвившееся»
от общеказахского языка. Между тем методика атласа несомненно
покажет нам большое число расходящихся и перекрывающихся
изоглосс отдельных диалектных явлений, лежащих в основе раз-
личных возможных группировок и отличающихся друг от друга
по своему географическому происхождению и относительной
хронологии.
Было бы преждевременно до завершения картографирования
всех соответствующих различительных признаков настаивать
на том, где именно эти признаки объединяются в наиболее плот-
ные пучки. Но еще более преждевременны и малоубедительны
попытки исторического обоснования тех или иных группировок
путем отождествления их с древним родо-племенным делением
казахского народа или с более поздним их политическим объеди-
нением в рамках Большой, Средней и Малой орды, как это в свое
время пытался сделать Аманжолов. По справедливому крити-
ческому замечанию Н. Сауранбаева, «смешение и слияние различ-
ных племен и родов, сложение их в единую народность, а также
дальнейшее развитие этой народности в условиях весьма подвиж-
ного скотоводческого хозяйства не могли не привести к растворе-
нию, ассимиляции прежних родо-племенных диалектов».13 Во вся-
ком случае лишь сопоставительное изучение изоглосс будущего
атласа позволит нам с некоторой вероятностью судить о возмож-
628
ной древности тех или ийых диалектных границ, притом не в их
совокупности, а при условии дифференцированного рассмотре-
ния их географии и хронологии.
II. Другим существенным выводом из работы над лингвисти-
ческими атласами является наличествующая во многих случаях
неравномерность лексического охвата
в пределах фонетического или морфологического ряда, выпа-
дение отдельных слов из общих географических
границ данного ряда, индивидуальные изоглоссы
отдельных слов, идущие своими особыми путями.14 Ограничимся
и здесь двумя примерами.
1. Как известно, языки казахский, каракалпакский, киргиз-
ский, а также кыпчакское наречие узбекского языка отличаются
от узбекского литературного языка и его центрального наречия
(«чагатайского», или «карлуко-чигиле-уйгурского») так называе-
мым джоканьем (или джеканьем), т. е. заменой начального й- >
^>ж-, дж-[эу-\. Ряд этот обычно иллюстрируется такими «клас-
сическими» примерами, как джок [жок] — йук, джол (жол) —
йул, джаман (жаман) —ёмон и др. Однако уже В. В. Решетов
мимоходом отметил «наличие в ташкентском говоре факультатив-
ного чередования начальных [й || дж] в таких словах, как йур ||
|| джур 'иди’, йун || джун 'шесть’ и т. п.».15 В своей статье, посвя-
щенной проблемам диалектологического атласа тюркских языков,
я отметил целый ряд таких слов, вошедших в состав современного
узбекского литературного языка, например: жун [дж-] 'шерсть’,
жилое 'поводья’, жар 'овраг’ (улица «Жар-куча» в Ташкенте
в старом городе!), жилмоц 'двигаться’, жилдирмоц 'двигать’,
жайналмоц 'цвести’ и некоторые другие.16
В настоящее время узбекский диалектолог X. Данияров
(Самарканд), занимающийся вопросом о кыпчакских элементах
в литературном узбекском языке, познакомил меня с целым спи-
ском таких слов (около пятидесяти), который он любезно соста-
вил по моей просьбе. Сюда относятся, например: жиян 'племян-
ник, -ица? (каз. жиен, кирг. жээн — др.-тюрк, jcigin 'племянник’,
'внук’); жар 'челюсть’, 'щека’ (каз. жак, кирг. жаак — jayak
'щека’); йилра || жилра 'ручей’ (в овраге)’; жийрон 'рыжий
(о лошади)’ (каз. жирен — др.-тюрк, jegran)] жунамоц 'отпра-
вляться’, жунатмоц, жунашмоц (кирг. женее-, жонет-,
женош-, каз. женелу-, женелту — тат. юнэлу 'направляться’);
жилмоц 'двигаться’ (каз. жылжу, кирг. жылжы — jil — чагат.,
]ыл — алт. и др. 'скользить’, 'извиваться’, 'ползти’; см. Радл. III,
481, 518; отсюда узб. йилон 'змея’, но жилон жуда 'змеиная
джуда’ — каз., кирг., жылан и ряд других). 17
Наличие в узбекском языке большого числа слов арабского
и персидского происхождения, содержащих фонему дж- [ж],
сделало вполне возможным проникновение в его состав отдельных
слов с «кыпчакской» аффрикатой. Можно было бы подумать, что
это проникновение относится к сравнительно недавнему времени,
629
одйако Г. Ф. Благова, работающая в области «чагатайского»
(староузбекского) литературного языка, обратила мое внимание
на статью акад. А. Н. Самойловича, затерянную в малодоступ-
ном издании,18 в которой^З слов с начальным дж- засвидетельст-
вованы им для «чагатайского» периода по показаниям словаря
«Абушка»,19 «Бабур-наме», «Шейбани-наме» Мухаммеда Салиха,
Абулгази и других источников.
Приведем примеры А. Н. Самойловича (с. 13), сохраняя
его транскрипцию (д=дж):
1) дер 'правильный’, 'верный’, 'соответствующий’: Аб. 246,
Баб., Шб. (Радл. IV, 103) — jon алт. и др. (Радл. III, 454);
2) дь§— 'плач’, 'стенание’, 'вопль’: Аб. 245 (Радл. IV, 116) —
ср. узб. йигламоЦ 'плакать’, 'рыдать’;
3) gum 'весь’, 'всё’, 'совсем’: Аб. 253 (Радл. IV, 175) — ср.
др.-уйг. jyMQbi 'всё’, ]умут — 'собирать’ (Радл. Ill, 576—584);
4) gar 'извещение’: Аб. 230 (Радл. IV, 25) — ср. jap алт. и др.
(Радл. III, 100);
5) gerge 'круг’, 'ряд’, 'облава’: Аб. 230 (Радл. IV, 75) — ср.
jepze алт. (Радл. III, 341), вероятно, от йер~жер 'земля’;
6) gbldam 'скоро’, 'быстро’: Аб. 242 (Радл. IV, 130) — ср. il-
дам н.-уйг. и др. (Радл. 1, 1379, 1495 — с отпадением начального
7), вероятно, от йил~жыл 'год’;
7) дь!аи 'поводья’: Аб. 242, Баб. gilausiz 'без поводьев’ (Радл.
IV, 145) — ср. каз. жылау, кирг. жылоо-,
8) gucun 'часть’: Аб. 248.
Следующие два номера по списку А. Н. Самойловича отпадают,
так как арабская буква обозначает здесь не дж, а ч;20
9) gyrke 'чирок’: Аб. 250 (надо сугке) — ср. каз. шурегей, карк.
шуреней (Радл. Ill, 2194 чуракш 'род уток’);
10) gyldy 'награда’, 'подарок’: Аб. 252 (надо culdu, ср. Радл.
Ill, 2178 чулду 'добыча’, 'награда’ тур. чагат).
Еще три слова, отсутствующих в «Абушка», А. Н. Самойло-
вич добавляет по литературным источникам:
И) gar 'яр’, 'обрыв’: Баб. (Радл. IV, 26) — jar (Радл. III, 99),
алт., тат., тур. и др.
12) gau 'враг’, 'войско’, 'война’: Шб. неоднократно (Радл. IV,
7) — ср. jay Аб., бараб., тат. и др. (Радл. III, 16);
13) goimaq 'уничтожать’: Шб. (Радл. IV, 92)—каз. жою, кирг.
жоюу — ср. МК /од 'прятать’, 'собирать’, 'уничтожать’, др.-уйг.
/ой-, 707- (Радл. III, 397 чагат.).
Таким образом, из отмеченных нами в современном узбекском
языке «джекающих» слов два, по крайней мере, — жар 'овраг’,
жилое 'поводья’ (а может быть, и некоторые другие) — наличест-
вовали уже в староузбекском литературном языке XV—XVI вв.21
Отсюда вывод, обязательный для будущей анкеты диалекто-
логического атласа: наряду с примерами на джоканье, по-види-
мому «регулярными» по своим границам (джок, джул, джаман
и т. п.), она должна включить и несколько «нерегулярных» при-
(530
меров типа узб. жун, жар 'овраг’ и некоторые другие. Установле-
ние границ этих явлений разъяснит их происхождение и место
в истории языка.
2. Еще большую сложность в смысле лексического охвата
представляет вопрос о звонком произношении смычных соглас-
ных в начальном положении. Озвончение начальных т, к счи-
тается одним из древних признаков огузского наречия. Оно было
отмечено (для д — т) уже Махмудом Кашгарским: «Каждое t
гуззы и родственные им народы обращают в d, например: tavd
'верблюд’ — dava, ot 'дыра’ — od».22 Однако, как отмечает Ряся-
нен, «большая путаница в этом вопросе наблюдается даже в юго-
западных тюркских языках».23 В статье В. М. Иллича-Свитыча,
написанной на широкой сравнительно-грамматической основе,
вопрос этот ставится на материале огузских языков (турецкого,
гагаузского, азербайджанского, туркменского) в сопоставлении
с тувинским и карагасским.24 В таблицах слов, приведенных
автором,25 в 28 случаях все огузские языки совпадают между
собой. Например, тур., аз., туркм. day 'гора’; тур., аз., туркм.
daman 'туман’; тур., аз., туркм. dil 'язык’. Зато в других 36 слу-
чаях совпадение отсутствует, причем t- сохраняется то в одном,
то в двух из названных языков. Ср. тур. tas 'камень’ — аз. das,
туркм. das; тур. Шя'соль’ — аз. duz, туркм. duz; аз. tan 'равный’ —
тур. denk, туркм. deg; аз., туркм. tik — 'шить’ — тур. dik-; тур.,
туркм. tan 'вечер’, 'ночь’ — аз. diinen; тур. ter 'пот’, аз. tar —
туркм. dar и ряд других. Пестрота эта еще увеличивается, если
от литературных языков обратиться к диалектам, где расхожде-
ния в лексическом охвате озвончения очень значительны и могут
быть показаны только методом изоглосс. В списке В. М. Иллича-
Свитыча диалектные отклонения представлены лишь малым
числом примеров: ср. тур. tiin — diin, аз. dis 'зуб’ — tis, туркм.
dus — 'падать’ — tiis и др.
Напомним, что начальное d- вместо t- спорадически встречается
и в некоторых языках, которые не причисляются к огузским,
например: тат., башк., diirt 'четыре’[(ср. туркм. diiort, тур. dort,
аз. derd — узб. турт, каз., кирг. терт) и некоторые другие.26
Автор пытается внести в эти несоответствия некоторый поря-
док исходя, вслед за Рясяненом и рядом других тюркологов,27
из закономерных фонетических отражений трех, а не двух обще-
тюркских (и общеалтайских) переднеязычных фонем t, d (глухой,
звонкий и полузвонкий). Однако с точки зрения лексического
распределения этих соответствий по языкам и диалектам он сам
вынужден признать, что они «сейчас затемнены в результате дейст-
вия аналогии и межплеменных смешений».28
Иными словами, границы лексических отражений^этих фонем
требуют каждый раз специального изучениями в еще^большей
степени, чем в случае с «джоканьем», анкета должна учитывать
наряду с «регулярными» случаями также примеры на случаи
«нерегулярные».
631
Только атлас, позволяющий сопоставить ряд закономерных
и индивидуальных изоглосс, покажет, имеем ли мы основание
за каждым лексическим отклонением видеть результат этниче-
ского смешения древних огузов и кыпчаков или контактного
взаимодействия более раннего или более позднего времени.
Составленные по этим принципам анкеты атласа позволят,
таким образом, установить: 1) географические границы (изоглоссы)
отдельных фонетических и грамматических явлений, которые
в своей совокупности, далеко не всегда совпадая между собой,
характеризуют различия диалектов или говоров; 2) в ряде слу-
чаев также индивидуальные границы слов, выпадающих из зако-
номерной системы фонетических и грамматических соответствий
данного диалекта.
Чтобы обеспечить максимальную дифференцированность всей
этой совокупности различительных признаков, необходима доста-
точно густая сеть опорных пунктов опроса, иначе отдельные су-
щественные отклонения от традиционно понимаемого диалект-
ного единства не будут уловлены при картографировании.
Вопросы географии слов (Wortgeographie) требуют более спе-
циального рассмотрения. Скажем только, что в этом случае
могли бы оказать помощь и диалектологические словари, если бы
по отношению к диалектным синонимам они освоили технику
систематического опроса на местах, практикуемую некоторыми
немецкими областными словарями (например, гессен-нассауским,
рейнским и др.). Такой опрос позволил бы снабдить соответствую-
щие словарные статьи небольшими картами или упрощенными
схемами, позволяющими уточнить географическое распростране-
ние конкурирующих на данной территории диалектных синони-
мов.
1966 г.
ПРИМЕЧАНИЯ
О теории советского языкознания
1 См. сб.: Лингвистическая типология и восточные языки. Материалы
совещания. М., 1965.
2 В изд-ве «Наука» опубликовано: Мещанинов И. И. Структура
предложения. М.—Л., 1963; Панфилов В. 3. Грамматика и логика
(Грамматическое и логико-грамматическое членение предложения). М.—Л.,
1963; Макаев Э. А. Проблемы индоевропейской ареальной лингвистики.
М.—Л., 1964; В. Г. А д м о н и. Основы теории грамматики. М.—Л., 1964;
Будагов Р. А. Проблемы развития языка. М.—Л., 1965; Кацнель-
сон С. Д. Содержание слова, значение и обозначение. М.—Л., 1965; С у-
н и к О. П. Общая теория частей речи. М.—Л., 1966; Тройский И. М.
Общеиндоевропейское языковое состояние и вопросы его реконструкции.
Л., 1967; Леонтьев А. А. Психолингвистика. Л., 1967; Торсуев Г. П.
Проблемы теоретической фонетики и фонологии. Л., 1969; Десниц-
к а я А. В. Наддиалектальные формы устной речи и их роль в истории
языка. Л., 1970; Бондарко А. В. Грамматические категории и контекст.
Л., 1971; Климов Г. А. Вопросы методики сравнительно-грамматических
исследований. Л., 1971 — Ред.
3 Ср.:ЖирмунскийВ. М. Проблемы социальной диалектологии. —
«Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз.», 1964, т. XXIII, вып. 2.
4 М а р к с К. Из рукописного наследства. Введение (из экономиче-
ских рукописей 1857—1858 гг.). — В кн.: Маркс К., Энгельс Ф.
Соч. Т. 12, с. 731.
Б Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. — В кн.:
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3, с. 427.
6 См. сб.: Вопросы развития литературных языков народов СССР в со-
ветскую эпоху. Материалы Всесоюзной конференции 1962 г. Алма-Ата,
1964.
7 Иванов А. М., Якубинский Л. П. Очерки по языку. Л.,
1932. — См. также: Жирмунский В. М. Национальный язык и со-
циальные диалекты. Л., 1936.
8 Гухман М. М. От языка немецкой народности к немецкому на-
циональному языку. Ч. I и II. М., 1955—1959.
9 Сергиевский М. В. 1) Проблема социальной диалектологии
в истории французского языка XVI—XVII вв. — «Учен. зап. Ин-та яз. и
лит. РАНИОН», 1927, т. I; 2) История французского языка. М., 1938.
10 Ср.: Виноградов В. В. Очерки по истории русского литера-
турного языка XVII—XIX вв. Изд. 2-е. М., 1938.
11 Конрад Н.И.О литературном языке в Китае и Японии. — В кн.:
Вопросы формирования и развития национальных языков («Труды Ин-та
языкознания», 1960, т. X); см. также другие статьи того же сборника.
12 См., например: Rosenkranz Н., Spangenberg К. Sprach-
soziologische Studien in Thiiringen. Berlin, 1963, и др.
633
13 Ларин Б. А. 1) О лингвистическом изучении города. — «Русская
речь», 1928, вып. III; 2) Об изучении языка города. — «Язык и литература»,
1931, т. VII; К а р и н с к и й Н. М. 1) Очерки языка русских крестьян.
Говор деревни Ванилово. М., 1936; 2) К вопросу о социальной диалектоло-
гии. — «Sbornik praci I siezda Slovansky filologu». Praha, 1931; 3) Из наблю-
дений над языком современной деревни. — «Литературный критик», 1935, № 5.
14 См.: Вопросы лингвистической географии. Под ред. Р. И. Аванесова.
М., 1962, с. 7—27.
15 См., например: Capell A. Studies in Sociolinguistics. — In: So-
ciolinguistics. Ed. by W. Bright. The Hague, 1966.
16 Гурычева M. С., Катагощина H. А. Сравнительно-со-
поставительная грамматика романских языков. Галло-романская подгруппа.
М., 1964; Гурычева М. С. Сравнительно-сопоставительная грамматика
романских языков. Итало-романская подгруппа. М., 1966. (Издание про-
должается). — Ср. также: Методы сравнительно-сопоставительного изучения
современных романских языков. Под ред. М. А. Бородиной и М. С. Гурыче-
вой. М., 1966.
17 Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков.
Т. I—III. Под ред. Н. К. Дмитриева. М., 1955—1961. — По словам самого
организатора этого издания, эти тома являются лишь «подготовительным
этапом» к такому труду и имеют «сравнительно-описательный характер»
(т. I, Введение, с. 7).
18 См.: Жирмунский В. М. 1)0 диалектологическом атласе
тюркских языков Советского Союза. — Наст, кн., с. 605—629. 2) О не-
которых вопросах лингвистической географии тюркских диалектов. —
Наст, кн., с. 625—632.
19 См.: Баскаков Н. А., Гаджиева Н. 3., Покров-
ская А.А., Севортян Э.В.О подготовке диалектологического атласа
тюркских языков Советского Союза. — «Вопр. языкознания», 1966, № 3.
20 См.: Гамкрелидзе Т. В., Мачавариани Г. И. Система
сонантов и аблаут в картвельских языках. Под ред. и с предисл. акад. Г. В. Це-
ретели. Тбилиси, 1965 (на груз, яз., с подробным русским резюме); Мача-
вариани Г. И. 1) Общекартвельская консонантная система. Тбилиси,
1965 (на груз, яз.); 2) К типологической характеристике общекартвельского
языка-основы. — «Вопр. языкознания», 1966, № 1. — См. также: К л и-
м о в Г. А. Этимологический словарь картвельских языков. М., 1964; по
горским языкам Кавказа: Дешер и ев Ю. Д. Сравнительно-историческая
грамматика нахских языков и проблема происхождения и исторического
развития горских народов. Грозный, 1963.
21 См.: Макаев Э. А. Проблемы индоевропейской ареальной линг-
вистики. М—Л., 1964.
22 Иванов Вяч. Вс. Общеиндоевропейская, праславянская и анато-
лийская языковые системы. (Сравнительно-типологические очерки). М.,
1965; Иванов В.В., Топоров В.Н.К постановке вопроса о древней-
ших отношениях балтийских и славянских языков. — В кн.: Исследования
по славянскому языкознанию. М., 1961.
23 См.: Иллич-Свитыч В.М. Алтайские дентальные i, d. — «Вопр.
языкознания», 1963, № 6.
24 А б а е в В. И. Скифо-индоевропейские изоглоссы. М., 1965.
2б Десницкая А. В. 1) Древние германо-албанские языковые связп
в свете проблем индоевропейской ареальной лингвистики. — «Вопр. языко-
знания», 1965, № 6; 2) Реконструкция элементов древнеалбанского языка
и общеалбанские лингвистические проблемы. — В кн.: I Конгресс балкан-
ских исследований. Сообщения советской делегации. М., 1966.
26 См.: Иванов В. В. Хеттский язык. М., 1963.
27 См. кн.: Эргативная конструкция предложения в языках различ-
ных типов. Исследования и материалы Л., 1967; Иванов В. В. Эрга-
тивная конструкция в общеиндоевропейском. — Там же; Савченко А. Н.
Эргативная конструкция предложения в праиндоевропейском языке. —
Там же.
634
28 См. основные положения его доклада на научной сессии филологиче-
ского факультета Московского университета (декабрь 1964 г.) «Генезис
индоевропейских рядов гуттуральных в свете данных внешнего сравне-
ния», в тезисах научной сессии: «Проблемы сравнительной грамматики
индоевропейских языков». М., 1964, с. 22—26.
29 См.: V i п а у J.-P., Darbelnet J. Stylistique сошрагёе du fran-
<;ais et de Г anglais. Methode de traduction. Paris, 1958; Malblanc A. Sty-
listique сошрагёе defran^ais et de I’allemand. — In: Bibliotheque de stylistique
сошрагёе, sous la direction de A. Malblanc. Vol. I—II. Paris, 1961. — Рец.:
В. Г. Г а к. — «Вопр. языкознания», 1961, № 3.
30 Федоров А. В. Введение в теорию перевода. Изд. 2-е, перераб.
М., 1958; Федоров А. В., Кузнецова Н. Н., Морозова Е. Н.,
Цыганова И. А. Немецко-русские языковые параллели. М., 1961. —
Ср. также: Крушельницкая К. Г. Очерки по сопоставительной
грамматике немецкого и русского языков. М., 1961.
31 Сб.: Морфологическая структура слова в языках различных типов.
М.—Л., 1963; Морфологическая типология и проблема классификации язы-
ков. (Проблемы агглютинации и агглютинативного строя). М.—Л., 1965;
Аналитические конструкции в языках различных типов. М.—Л., 1965; Воп-
росы теории частей речи на материале языков различных типов. Л., 1968.
32 См.: Жирмунский В.М. Проблемы сравнительно-исторического
изучения литератур. — В кн.: Взаимосвязи и взаимодействия националь-
ных литератур. Материалы дискуссии. М., 1961.
33 Можно хотя бы напомнить выдающуюся, несправедливо забытую
книгу проф. С. Д. Кацнельсона «Историко-грамматические исследования»
(М.—Л., 1949), посвященную проблемам синтаксиса древнеисландского,
как языка «раннего номинативного строя».
34 На этом принципе построена автором глава «Категория имени прила-
гательного в древних германских языках» в коллективной «Сравнительной
грамматике германских языков» (Т. IV. М., 1966). Ср. также: Жирмун-
ский В.М. Происхождение категории прилагательных в индоевропейских
языках в сравнительно-грамматическом освещении. — Наст, кн., с. 209—235.
35 См.: Жирмунский В.М. Введение в сравнительно-историческое
изучение германских языков. М.—Л., 1964, с. 3—5.
36 М е й е А. Основные особенности германской группы языков. Пер.
с франц., под ред. и с вступ. статьей В.М. Жирмунского. М., 1952, с. 22 и 34.
37 Лучшим образцом такой научной грамматики современного немец-
кого языка представляется книга: BrinkmannH. Die deutsche Sprache.
Gestalt und Leistung. Dusseldorf, 1962. — Ср. рец.: В. Г. Адмони. — «Вопр.
языкознания», 1964, № 3.
38 См.: Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике.
Под ред. Р. А. Будагова и М. М. Гухман. М., 1961; Основные направления
структурализма. Под ред. М. М. Гухман и В. Н. Ярцевой. М., 1964,
с. 177-211.
39 С м и р н и ц к и й А. И. 1) Морфология английского языка. М.,
1959; 2) Синтаксис английского языка. М., 1957; 3) Лексикология англий-
ского языка. М., 1956.
40 А д м о н и В. Г. Введение в синтаксис современного немецкого языка.
М., 1955; A d ш о n i W. Der deutsche Sprachbau. 2. AufL Leningrad, 1966;
Адмони В. Г. Партитурное строение речевой цепи и система граммати-
ческих значений в предложении. — «Филол. науки», 1961, № 3.
41 См.: Поэтика. (Сборник по теории поэтического языка). Пг., 1919,
с. 7-12, 37-49.
42 Следуя в этом Вопросе Целиком за русскими формалистами, некоторые
Современные структуралисты, занимающиеся теорией литературы, продол-
жают утверждать, что вопросы биографии поэта, психологии, философии
(мировоззрения) и социологии «иррелевантны» (т. е. не имеют значения)
для анализа произведений художественной литературы и их истории. Ср.:
Wellek R., Warren A. Theory of Literature. New York, 1949 (пере-
издавалось неоднократно).
639
43 См. работы акад. В. В. Виноградова и его школы, в особенности:
Виноградов В. В. 1) О языке хуодожественной литературы. М., 1959;
2) Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963, и др.
44 Б у д д е Е. Ф. Опыт грамматики языка Пушкина. — «Изв. АН.
Отд-ние русск. яз. и слов.», 1904, т. 77, № 4.
45 См.: Жирмунскпй В. М. Стихотворения Гёте и Байрона «Ты
знаешь край?». Опыт сравнительно-стилистического исследования. — В кн.:
Проблемы международных литературных связей. Л., 1962, с. 50—51.
46 См. по этому вопросу справедливые замечания В. Д. Левина в кн.:
Очерк стилистики русского литературного языка конца XVIII—начала
XIX вв. М., 1964, с. 6—8.
47 Содоклад был прочитан на Самаркандском совещании по теории
языкознания 8 сентября 1966 г.
Внутренние законы развития языка и проблема
грамматической аналогии
1 См.: SchrijnenJ. Einleitung in das Stadium der indogermanischen
Sprachwissenschaft. Heidelberg, 1921, S. 91, 192.
2 Серебренников Б. А. К выяснению сущности внутренних
законов развития языка. — «Доклады и сообщения Ин-та языкознания
АН СССР», 1953, вып. V.
3 Булаховский Л. А. Исторический комментарий к русскому
литературному языку. Изд. 3-е. Киев, 1950, с. 96.
4 Обнорский С. П. Именное склонение в современном русском
языке. Вып. 2. Л., 1931, с. 149—150.
6 Б ул аховский Л. А. Указ, соч., с. 126.
8 Там же, с. 126 и сл. — Ср.: А. А. Ш а х м а т о в. Очерк современного
русского литературного языка. Изд. 3-е. М., 1936, с. 108—109; С. П. О б-
н о р с к и й. Указ, соч., с. 167 и сл.
7 Обнорский С. П. Указ, соч., с. 267 и сл.
8 Там же, с. 159.
9 Unbegaun В. La langue russe au XVI-e siecle (1500—1550). Paris,
1935, p. 199—203.
10 Там же, с. 39.
11 Обнорский С. П. Указ, соч., с. 304 и сл.; Б у л ахов-
ский Л. А. Указ, соч., с. 134—136.
12 Baudouin de Courtenay J. Einige Faile der Wirkung der
Analogic in der polnischen Deklination. — «Beitrage zur vergleichenden Sprach-
forschung», 1870, Bd. VI, S. 43—59.
13 Ср.:Богородицкий В.А. Очерки по языкознанию и русскому
языку. Изд. 4-е. М., 1939, с. 184. — По терминологии Пауля — stoffliche
u. formale Ausgleichung (Paul H. Prinzipien der Sprachgeschichte. Halle,
1920, S. 106 ff., S. 201 ff.).
14 L e s k i e n A. Die Deklination im Slavisch-Litauischen und Germa-
nischen. Leipzig, 1876; Osthoff H., Brugmann K. Morphologische
Untersuchungen auf dem Gebiete der indogermanischen Sprache. Bd. I. Leipzig,
1878; Osthoff H. Das physiologische und psychologische Moment in der
sprachlichen Formbildung. Leipzig, 1879; Paul H. Die Vokale der Flexions-
und Ableitungssilben in den altesten germanischen Dialekten. — «Beitrage zur
Geschichte der deutschen Sprache und Literatur» (в дальнейшем сокращенно:
PBB), 1877, Bd. 4, Einleitung, S. 315—322; Paul H. Zur Geschichte des
germanischen Vokalismus. — PBB, 1879, Bd. 6, Einleitung, S. 1—14;
Paul H. Prinzipien der Sprachgeschichte. Halle, 1880; Delbriick B.
Einleitung in das Sprachstudium. 2. Aufl. Leipzig, 1884; Brugmann K.
Zum heutigen Stand der Sprachwissenschaft. Strapburg, 1885.
16 P au 1 H. Prinzipien der Sprachgeschichte. (Далее цитируется по
4-му изд.: Halle, 1909).
636
16 Там же, с. НО и сл.
17 Там же, с. 117.
18 Hermann Е. Lautgesetz und Analogic. Berlin, 1931, S. 73—
76. — По тому же вопросу см.: R о g g е Ch. Die Analogie im Sprachleben,
was sie ist und wie sie wirkt. Das Grundkapitel der Psychologic der Sprache. —
«Archiv fiir die gesamte Psychologies 1925, Bd. 52, S. 452—457.
19 P a u 1 H. Prinzipien. . . , S. 114.
20 Osthoff H. Das physiologische und psychologische Moment. . . ,
S. 36. — Также Пауль в своей первой работе: РВВ, 1877, Bd. 4, S. 328.
21 В ан д р иес Ж. Язык. Пер. с франц. М., 1937, с. 155.
22 С и г t i u s G. Zur Kritik der neuesten Sprachforschung. Leipzig,
1885, S. 39-66.
23 Osthoff H., BrugmannK. Morphologische Untersuch ungen. . .
Bd. I, S. 82—83.
24 SchuchardtH. Uber die Lautgesetze. Gegen die Junggrammati-
ker, 1885. — In: «Schuchardt-Brevier». 2. Aufl. Halle, 1928, S. 74.
25 P a u 1 H. Prinzipien. . . , S. 208.
26 W u n d t W. Volkerpsychologie. Bd. I. 2. Aufl. Leipzig, 1900,
S. 431—458.
27 W u n d t W. Op. cit., S. 454—455. — Примеры Вундта крайне не-
удачны: на самом деле в средневерхненемецком глаголы geben и tun имеют
разный вокализм в единственном и множественном: ср. gap — gaben, t£te —
taten.
28 Там же, с. 457—458. — Значительно раньше Вундта сходную психо-
физическую теорию аналогии развивал ученик проф. И. А. Бодуэна де Кур-
тенэ, польский лингвист-психолог Карл Аппель. См. его работу «Несколько
слов о новейшем психологическом направлении языкознания» («Русский
филол. вестник», 1881, т. VI, с. 298—299).
29 Ср.: Paul Н. Die Vokale. . . , S. 325: «реальный язык существует
только в индивидууме».
30 Р a u 1 Н. Prinzipien. . . , S. 114 ff.
31 Там же, с. 13.
32 Meringer R., Mayer К. Versprechen und Verlesen. Eine psy-
chologisch-linguistische Studie. Stuttgart, 1895, S. 166 ff; M e r i n g e r R.
Aus dem Leben der Sprache. Versprechen. Kindersprache. Nachahmungstrieb.
Berlin, 1908.
33 Thumb A., Marbe R. Experimentelle Untersuchungen uber
die psychologischen Grundlagen der sprachlichen Analogiebildung. Leipzig,
1901.
34 H e g e 1 G. W. Fr. Vorlesungen uber die Philosophic der Geschichte.
Berlin, 1837, S. 62.
35 C u r t i u s G. 1) Bemerkungen fiber die Tragweite der Lautgesetze,
ins besondere im Griechischen und Lateinischen. — «Berichte uber die Ver-
handlung der Sachsischen Gesellschaft der Wissenschaften, philol.-histor.
Klasse», 1870, Bd. 22, S. 1—39; 2) Zur Kritik. . . , S. 23 ff., 70 ff.
36 Cur t i u s G. Bemerkungen. . . , S. 25.
37 Там же, с. 24—25.
38 Delbriick В. Op. cit., S. 106.
39 P a u 1 H. Prinzipien..., S. 58, 70—71. — Ср. также: Brug-
mann K. Zum heutigen Stand. . . , S. 51—52.
40 M e й e А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских
языков. Пер. с франц. М.—Л., 1938, с. 62; Schrijnen J. Op. cit.,
S. 132 —133.
41 P a u 1 H. Prinzipien. . . , S. 70.
42 H о r n W. Sprachkorper und Sprachfunktion. Berlin, 1923.
43 Там же, с. 21 и сл.
44 Там же, с. 51 и сл.
4Б Р a u 1 Н. Prinzipien. . . , S. 198.
46 Там же, с. 202.
47 Там же, с. 198.
637
48 В rugm an n К. Zum heutigen Stand. . . , S. 81—85.
49 Ф. де С о с c io p. Курс общей лингвистики. Пер. с франц. М., 1933,
с. 150—151 (разрядка моя, — В. Ж.).
60 См.: Bally Ch. Le langage et la vie. Paris, 1926, p. 40—41 (раз-
рядка моя, — В. Ж.).
61 См. ниже, с. 45.
52 Р a u 1 Н. Prinzipien. . . , S. 198.
53 Р a u 1 Н. Die Vokale. . . , S. 327.
54 Ср.: Томсен В. История языковедения до конца XIX в. М., 1938,
с. 97.
66 В ан дриес Ж. Указ, соч., с. 152.
66 А п п е л ь К. Указ, соч., с. 131.
57 Brugmann К. Zum heutigen Stand. . . , S. 84.
58 M i s t e 1 i F. Lautgesetz und Analogic. Methodologisch-psychologische
Abhandlung. — «Zeitschrift fur Volkerpsychologie und Sprachwissenschaft»,
1880, Bd. 4, S. 365-437.
69 Там же, с. 427—437.
60 Там же, с. 436.
61 Ср.: М е i 1 1 е t А. 1) Les lois du langage, II. L’analogie. — «Revue
Internationale de sociologie», 1894; 2) Note sur quelques recherches de linguis-
tique. — «Annee psychologique», 1905, vol. XI, p. 457—467 (о работах Пауля
и Вундта); Мейе А. Введение. . . , с. 62—64; Вандриес Ж. Указ,
соч., с. 57, 152—159.
62 J esp erse п О. 1) Zur Lautgesetzfrage. — «Internationale Zeit-
schrift fur allgemeine Sprachwissenschaft», 1888, Bd. Ill, S. 188—216; 2) Die
Sprache. Heidelberg, 1925, S. 74-76, 274—276.
63 Ф. де С о с с ю p. Курс. . . , c. 150—160.
64 Hermann E. Lautgesetz. . . ,
6Б Ср. рецензии: Bloomfield L. — «Language», 1932, Vol. VIII,
p. 220—233; A. Debrunner. — «Indogermanische Forschungen», 1933,
Bd. 51, S. 269—291; A. M e i 1 1 e t. — «Bulletin SLP», 1932, vol. 33, p. 3—6;
J. Endzelin. — «Filologu Bietrubas Baksi», 1932, v. XII, p. 178—184.
66 M i s t e 1 i F. Lautgesetz. . . , S. 427.
67 Hermann E. Lautgesetz. . . , S. 170.
68 Там же, с. 193.
69 Baudouin de Courtenay J. Einige Faile der Wirkung der
Analogic auf die polnische Deklination. — «Beitrage zur vergleichenden
Sprachforschung», 1870, Bd. VI, S. 19—88 (написано в феврале 1868 г.).
70 По сообщению Л. В. Щербы, Бодуэн де Куртенэ в 1874 г. (т. е. через
четыре года после напечатания его работы о польском склонении) вместе
с будущими младограмматиками Паулем и Брауне слушал в Лейпциге курс
сравнительной грамматики славянских языков у Лескина, одного из осново-
положников младограмматического направления. «Названный курс, — го-
ворит он, — был вообще крайне интересным, но он не представлял для меня
ничего существенно нового» (Л. Щерба.И.А. Бодуэн де Куртенэ. Некро-
лог. — «АН СССР, Изв. по русскому языку и словесности», 1930, т. III,
кн. 1, с. 315, прим. 1). — Книга Лескина «О склонении в германском и бал-
тийско-славянском» вышла в свет в 1876 г.
71 Baudouin de Courtenay J. Einige Faile. . . , S. 27.
72 Там же, с. 63.
73 Там же, с. 59.
74 Там же, с. 88.
7Б Щ е р б а Л. В. И. А. Бодуэн де Куртенэ. Некролог, с. 315.
7в Крушевскнй Н. В. Очерки науки о языке. Казань, 1883. —
Книга Н. В. Крушевского была переведена на немецкий язык и печаталась
в журнале «Internationale Zeitschrift fur allgeineine Sprachwissenschaft»:
N. К r us z e wsk 1. Prinzipien der SptachentWicklung, 1884, Bd. 1, S. 295—
307 (краткое резюме всей книги); 1885, Bd. 2, S. 258—268, Кар. I—II; 1886,
Bd. 8, S. 144—187, Кар. Ill—V (печатание прекратилось вследствие тяжелой
болезни и последовавшей смерти Крушевского). Начиная с третьего издания
638
своих «Prinzipien», Пауль дает суммарную ссылку на работу Крушевского
в главах о звуковых законах и аналогии (гл. III и X). Шухардт полемизи-
рует с Крушевскпм как с младограмматиком, нс учитывая своеобразия его
концепции грамматических явлений (см. «Schuchardt-Brevier», S. 73—78).
77 К р у ше в ский Н. В. Очерки. . . , с. 68—69.
78 Там же, с. 86—87.
79 Там же, с. 116.
80 Там же, с. 123.
[ 81 Там же, с. 114.
82 Там же, с. 116—117. — Более схематично и упрощенно трактует проб-
лему аналогии другой казанский ученик Бодуэна де Куртенэ — проф.
В. А. Богородицкий. См. его статью «Об основных факторах морфологиче-
ского развития языка» («Русский филол. вестник», 1895, т. XXIII, с. 219—
251; перепечатано: Богородицкий В. А. Очерки по языковедению
и русскому языку. Изд. 4-е, М., 1939, с. 183—191).
83 По вопросу об основах как показателях классов слов ср.: Wundt W.
Op. cit., S. 17—18; J espersen 0. Progress in Language. London, 1894,
p. 189; Royen G. Die nominalen Klassifikationssysteme in den Sprachen
der Erde. Modling bei Wien. 1929; C u n у A. Etudes pregrammaticales sur
le domaine des langues indoeuropeennes et chamitosemitiques. Paris, 1924.
84 Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение
о слове. М.—Л., 1947, с. 152—154.
85 Ср.: Paul Н. Prinzipien. . . , S. 210, 212.
86 Жирмунский В.М.К вопросу о внутренних законах развития
немецкого языка. — «Доклады и сообщения Ин-та языкознания АН СССР»,
1953, вып. V.
87 В г a u n е W. Althochdeutsche Grammatik. Halle, 1911, S. 197,
Anm. 1; Schatz J. Althochdeutsche Grammatik. Gottingen, 1927, 321—323.
88 P a u 1 H. Prinzipien. . . , S. 210.
89 Ср.: Мейе А. Введение. . . , c. 173.
90 Ср.: там же, с. 221 и сл.; M e й e А. Основные особенности германской
группы языков. М., 1952, с. 103; Н i г t Н. Handbuch des Urgermanischen.
Т. И. Heidelberg, 1932, S. 141. — Специально: Sverdrup J. Der Aorist
im germanischen Verbalsystem. Festskrift til Hjalmar Falk. Oslo, 1927,
S. 296—330.
91 Scherer W. Zur Geschichte der deutschen Sprache. 2. Aufl. Ber-
lin, 1878, S. 304—305 и др.
92 Ср.: Meillet A., Vendryes J. Traite de grammaire comparee
des langues classiques. Paris, p. 251; Sverdrup J. Der Aorist. . . , S. 319.
93 H i r t H. Handbuch. . . T. III. Heidelberg, 1934, S. 151.
94 Большой материал по этому вопросу см. в книге: Alm Е. Der Aus-
gleich des Ablauts im starken Prateritum der ostmitteldeutschen Schriftdia-
lekte. Uppsala, 1936.
95S iitterlin L. Neuhochdeutsche Grammatik. Munchen, 1924,
S. 456—457; J a c k i K. Das starke Prateritum in den Mundarten des hochdeut-
schen Sprachgebietes. — PBB, 1909, Bd. 34, S. 425—429.
96 P a u 1 H. Die Vokale. . . , S. 329.
97 К p у ш e в с к и й H. В. Очерки. . . , с. 94—95.
98 W u n d t W. Op. cit., S. 13.
99 H i г t H. Handbuch der griechischen Syntax. 2. Aufl. Heidelberg,
1912, S. 72-73.
100 В а н д p и e с Ж. Указ, соч., с. 155.
101 Osthoff H., Brugmann К. Morphologische Untersuchungen,
Bd. I, S. 82. — Об «индуцирующей» роли атематических глаголов в славян-
ских языках см.: Л. А. Б у л а х о в с к и й. Исследования в области грам-
матической аналогии и родственных явлений. Славянские атематические
глаголы. — «Учен. зап. Харьковского ун-та», 1940, № 19, с. 1—31.
102 Ср.: Meillet A. Linguistique historique et linguistique generale.
Paris, 1921, p. 63—64.
639
103 F r a n к J. Altfrankische Grammatik. Gottingen, 1909, S. 251;
Schatz J. Althochdeutsche Grammatik, S. 318.
104 S u 11 e г 1 i n L. Op. cit., S. 435—436.
105 Cp.: Weise 0. Unsre Mundarten. Berlin u. Leipzig, 1910, S, 65.
О природе частей речи и их классификации
1 См.: Тезисы докладов на открытом расширенном заседании Ученого
совета Ин-та языкознания АН СССР, посвященном дискуссии о проблеме
частей речи в языках разного типа. М., 1954 (тезисы Н. С. Поспелова, А. Б. Ша-
пиро). — См. отчет в «Вопр. языкознания» (1955, № 1, с. 162—166). Ср.
также: Поспелов Н.С. Учение о частях речи в русской грамматической
традиции. М., 1952.
2 Стеблин-Каменский М. И. К вопросу о частях речи. —
«Вестник Ленингр. ун-та», 1954, № 6.
3Ka lepky Th. Neuaufbau der Grammatik als Grundlegung zu einem
wissenschaftlichen System der Sprachbeschreibung. Leipzig—Berlin, 1928.
Фортунатов Ф. Ф. 1) Сравнительное языкознание. Общий
курс. —В кн.: Ф. Ф. Фортунатов. Избранные труды. Т. I. М., 1956,
с. 166 (по литографированному изданию 1901—1902 гг.). 2) О преподавании
грамматики русского языка в средней школе. — Там же. Т. II. М., 1957,
с. 446.
6 Strich F. Deutsche Klassik und Romantik, oder Vollendung und
Unendlichkeit. Ein Vergleich. 2. Aufl. Munchen, 1924.
6 Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове.
М.—Л., 1947, с. 745.
7 См.: Жирмунский В. М. О границах слова. — См. наст, кн.,
с. 125—148. Ср.: Виноградов В. В. Указ, соч., с. 28.
8 Буслаев Ф. И. Историческая грамматика русского языка. М.,
1959, с. 288 (§ 138).
9 П о т е б н я А. А. Из записок по русской грамматике. Т. I—II.
Харьков, 1886—1888, с. 26.
10 Kurylowicz J. The Inflectional Categories of Indo-European.
Heidelberg, 1964, p. 22.
11 См.: Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. Вып. II. Л.,
1927, с. 99—100; Виноградов В. В. Указ, соч., с. 663—676. — С сравни-
тельно-типологической точки зрения: Мещанинов И. И. Члены пред-
ложения и части речи. М.—Л., 1945, с. 309—315 («Служебные частицы»).
12 Виноградов В. В. Указ, соч., с. 44, 725—744.
13 Там же, с. 725.
14 Мещанинов И. И. Указ, соч., с. 287.
15 Виноградов В. В. Указ, соч., с. 725.
16 Щ е р б а Л.В. 1) О частях речи в русском языке. — В кн.: Русская
речь. Л., 1928, с. 16—18; 2) Избранные работы по русскому языку. М.,
1957, с. 74—76.
17 Виноградов В. В. Указ, соч., с. 42.
18 Там же, с. 399—421.
19 Там же, с. 401.
20 Исаченко А. В. О происхождении и развитии категории состоя-
ния в славянских языках. — «Вопр. языкознания», 1955, № 6, с. 48—65.
21 Подробнее см.: Ж и р м у н с к и й В. М. К вопросу о так называе-
мой «категории состояния». — В кн.: Восточная филология (В честь акад.
Г. С. Ахвледиани). Тбилиси, 1969.
22 См. в «северных» языках: Петрова Т. И. Образные слова в на-
найском языке. — «Изв. АН СССР. Отд-ние лит. и языка», 1948, т. VII,
вып. 6; А в р о р и н В. А. Грамматика нанайского языка. Т. II. М.—Л.,
1961, с. 213—223; Панфилов В. 3. Грамматика нивхского языка. Ч. 2.
М.—Л., 1965, с. 197—205, и др. — Ср. также в тюркских языках: Коно-
нов А. Н. Грамматика современного узбекского литературного языка.
640
М.—Л., 1960, с. 338—341 («Звуко-образо-подражательные слова» — с биб-
лиографией); Исхаков А. И. О подражательных словах в казахском
языке. — В кн.:-Тюркологический сборник. Т. I, М.—Л., 1951, с. 103—111;
Кудайбергенов С. Подражательные слова в киргизском языке.
Фрунзе, 1957, и др.; в монгольских языках: Шагдаров Л. Изобрази-
тельные слова в современном бурят-монгольском языке. Автореф. на соиск.
ученой степени канд. фплол. наук. Л., 1959, и др.
23 Ш а х м а т о в А. А. Указ, соч., с. 57.
24 Виноградов В. В. Указ, соч., с. 747—748.
25 Грамматика русского языка. Т. I. М., 1952, с. 679 (§ 1019); см. также
с. 491 (§ 760): «Прошедшее мгновенное, указывающее лишь на однократное
действие в прошлом (без отношения к настоящему), часто выражают глаголь-
ные междометия, обозначающие быстрое, мгновенное движение».
26 См.: Виноградов В. В. Указ, соч., с. 15: «Слово представляет
собою внутреннее, конструктивное единство лексических и грамматических
значений». — Ср. также: Мещанинов И. И. Указ, соч., с. 5: «Такие
лексические группировки, характеризуемые и по семантике, и по формаль-
ной стороне, именуются частями речи».
27 Фортунатов Ф. Ф. Указ, соч., с. 157—172. — Классификация
дается применительно к «общеиндоевропейскому языку в эпоху его распаде-
ния» (с. 158), но имеет общее значение для таких языков, как русский, латин-
ский, греческий и др.
28 У ш а к о в Д. Н. Краткое введение в науку о языке. Изд. 9-е. М.,
1929, с. 89.
29 П е т е р с о н М. Н. Русский язык. М., 1925, с. 29.
30 Щ е р б а Л. В. О частях речи. . . , с. 64, прим.
31П ешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении.
Изд. 3-е. М.— Л., 1928, с. 69—117.
32 Виноградов В. В. Указ, соч., с. 204—208.
33 См.: Жирмунский В.М. Немецкая диалектология. М.—Л.,
1956, с. 533—534.
I34 П ешк о вский А. М. Указ, соч., с. 89.
35 Там же, с. 82—83.
36 См.: Смирницкий А. И., Ахманова О. С. Образования
типа stone wall, speech sound в английском языке. — «Доклады и сообщения
Ин-та языкознания АН СССР», 1952, вып. II, с. 97—116; Смирниц-
кий А. И. Лексикология английского языка. М., 1956, с. 114—123.
37 См.: Якобсон Р. О. Значения лингвистических универсалий для
языкознания. — В кн.: Звегинцев В. А. История языкознания XIX—
XX веков в очерках и течениях. М., 1965, с. 303—395.
38 Щерба Л. В. Очередные проблемы языковедения. — В кн.:
Щерба Л. В. Избранные труды по языкознанию и фонетике. Т. I. Л.,
1958, с. 9.
39 Ср.: Жирмунский В. М. Об аналитических конструкциях. —
Наст, кн., с. 82—125.
40K urylowicz J. Op. cit., р. 23—24.
41 Мещанинов И. И. Указ, соч., с. 203.
42 Подробнее см.: Жирмунский В. М. 1) Происхождение кате-
гории прилагательных в индоевропейских языках в сравнительно-граммати-
ческом освещении. — Наст, кн., с. 209—235; 2) Категория имени прилага-
тельного в древних германских языках. — В кн.: Сравнительная грамматика
германских языков. Т. IV. М., 1966, с. 8—78.
43 П о т е б н я А. А. Указ. соч. Т. III. Харьков, 1889, с. 73.
44 Там же, с. 86. *
45 Там же, с. 77.
46 Н i г t Н. Indogermanische Grammatik. Bd. 3. Heidelberg, 1928, S. 39.
47 П о т e б н я А. А. Указ, соч., т. Ill, с. 129—261.
48 Ср., в частности, о тюркских языках: Дмитриев Н. К. Грам-
матика башкирского языка. М., 1948, с. 80—81; Батманов И. А. Части
речи в киргизском языке. — «Вопр. языкознания», 1955, № 2; Г р у н и н Т.Н.
i/2 41 в. М. Жирмунский 641
Имя прилагательное в тюркских языках (на материале турецкого языка). —
«Вопр. языкознания», 1955, № 4, и др.; о монгольских языках: С а н-
жеев Г. Д. 1) К проблеме частей речи в алтайских языках. — «Вопр.
языкознания», 1952, № 6; 2) Сравнительная грамматика монгольских язы-
ков. Т. I. М., 1953, с. 124—125; Алексеев Д. А. Именные части речи
в монгольских языках. — «Вопр. языкознания», 1955, №3, и др. — В те-
зисах дискуссии 1954 г.: Э. В. Севортян, Н. А. Баскаков, Т. А. Бертагаев,
О. П. Суник (тунгусо-маньчжурские языки), В. И. Лыткин (финно-угор-
ские языки).
49 См.: Кононов А. Н. Указ, соч., с. 208—231, 349.
60 См.: Жирмунский В. М. Развитие категории частей речи
ВфТюркских языках по сравнению с индоевропейскими. — Наст, кн., с. 187—
Об аналитических конструкциях
1 Подробнее см.: Ж ирму нский'В.М. О границах слова. — Наст,
кн., с. 142.
2 Ср.: Кононов А. Н. Грамматика современного узбекского лите-
ратурного языка. М.—Л., 1960, с. 297—301.
3 См.: Гухман М. М. Глагольные аналитические конструкции как
особый тип сочетаний частичного и полного слова (на материале немецкого
языка). — В кн.: Вопросы грамматического строя. М., 1955, с. 330.
4 Жирмунский В. М. О границах слова, с. 127.
6 В андриес Ж. Язык. Перев. с франц. М., 1937, с. 89.
6 Жирмунский В. М. О границах слова, с. 128.
7 J esp ersen О. Die Sprache. Heidelberg, 1925, S. 414.
8 Ж и p м у н с к и й В. M. О границах слова, с. 143—144 ?(с рядом
других примеров, в том числе из тюркских языков).
9 Там же, с. 140.
10 См.: Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном осве-
щении. Изд. 6-е. М., 1958, с. 62—63.
11 Виноградов В. В. Русский язык. М.—Л., 1947, с. 35.
12 Виноградов В.В. Словообразование и его отношение к лексико-
логии (на материале русского и родственных языков). — В кн.: Вопросы
теории и истории языка. М., 1952, с. 112.
13 Стеблин-Каменский М. И. Грамматика норвежского
языка. М.—Л., 1957, с. 21. . .
14 См.: Виноградов В. В. Об основных типах фразеологических
единиц в русском языке. — В кн.: Академик А. А. Шахматов. М.—Л., 1947,
с. 339—364. — По тому же вопросу см.: Балли Ш. Стилистика француз-
ского языка. Пер. с франц. М., 1961, с. 87—111 (§ 79—100).
16 Термин В. Н. Ярцевой. См.: Ярцева В.Н. Предложение и слово-
сочетание. — В кн.: Вопросы грамматического строя. М., 1955, с. 441.
16 См.: Жирмунский В. М. О границах слова, с. 141—142.
17 Виноградов В. В. Русский язык, с. 569—570.
18 См.: Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка. Т. IV.
М., 1940, с. 496; Ожегов С. И. Словарь русского языка. Изд. 2-е. М.,
1951, с. 707; Словарь русского языка в 4-х томах. Т. IV. М., 1961, с. 351.
19 Булаховский Л. А. Курс русского литературного языка.
Изд. 2-е. Харьков, 1937, с. 196.
20 В качестве примера аналитических форм в латинском языке ср. си-
стему перфекта страдательного залога: amatus sum, eram, его и т. д.
21 Schleicher A. Sprachvergleichende Untersuchungen. Bd. I.
Bonn, 1848, S. 14.
22 Жирмунский B.M. Синхрония и диахрония в языке. — «Вопр.
языкознания», 1958, № 5, с. 46.
23 В г u п о t F. La pensee et la langue. Methode, principe et plan d’une
theorie nouvelle du langage appliques au Fran$ais. Paris, 1936, p. XIV (изд. 3-e;
первое издание: Paris, 1926).
642
24 Deutschbein M. Die Einteilung der Aktionsarten. — «Englische
Studien», 1920, Bd. 54, S. 84—85.
25 Есперсен О. Философия грамматики. Пер. с англ, под ред.
проф. Б. А. Ильиша. М., 1958, с. 57—60.
26 D е u t s ch b е i n M. System der neuenglischen Syntax. 3. Aufl.
Leipzig, 1928, S. 67—95, 112—135.
27 C u r m e G. A Grammar of the English Language. Syntax, New York-
London, 1931, Vol. III. Ch. XIX Aspect, p. 373—388, Ch. XX Mood, p. 389—
436.
28 Кацнельсон С. Д. О грамматической категории. — «Вестник
Ленингр. ун-та», 1948, № 2, с. 114—134.
29 Там же, с. 116—118.
30 Там же, с. 119.
31 Виноградов В. В. Русский язык, с. 29.
32 Фортунатов Ф. Ф. О преподавании русского языка в средней
школе. — «Русский филол. вестник», 1905, № 2, с. 64; см. также: Форту-
натов Ф. Ф. Избранные труды. Т. 2. М., 1957, с. 446.
33 Виноградов В. В. Современный русский язык. Вып. I. М;,
1938, с. 49.
34 Виноградов В. В. Русский язык; ср. также Виногра-
дов В. В. Современный русский язык, вып. I, с. 140—143 («Вопрос о син-
тетических и аналитических формах слова в русском языке»).
35 «Учен. зап. фак-та яз. и лит. Кабардино-Балкарского пед. ин-та»,
1940, вып. 1, с. 85—97.
36 Сухотин В. П. Синтаксическая роль инфинитива в современном
русском языке, с. 94—95.
37 Сухотин В. П. Проблема словосочетаний в современном русском
языке. — В кн.: Вопросы синтаксиса современного русского языка. Под
ред. акад. В. В. Виноградова. М., 1950.
38 Там же, с. 153.
39 Там же, с. 133.
40 Г у х м а н М. М. Указ, соч., с. 322—361.
41 Там же, с. 324.
42 Там же, с. 323.
43 Там же, с. 322—323.
44 Там же, с. 325.
45 Там же, с. 345.
46 Там же, с. 348.
47 Там же, с. 359.
48 См., например: Jespersen О. A Modern English Grammar on
Historical Principles. Part IV. London, 1932, p. 237; Жигадло В. H.,
Иванова И. П., Иофик Л. Л. Современный английский язык. М.,
1956, с. 90 и др.
49 Г у х м а н М. М. Указ, соч., с. 346—347.
60 Там же, с. 360.
51 Там же, с. 357—358.
52 Там же, с. 358.
63 Ср.: R ohlfs G. Historische Grammatik der italienischen Sprache
und ihrer Mundarten. Bd. 2. Bern, 1949, S. 559—560 (с указанием диалектных
различий).
64 Grammaire Larousse du XX-e siecle. Paris, 1936, p. 359—360.
55 Ярцева B.H.l) «Длительные времена» и проблема вида в англий-
ском глаголе. — «Учен. зап. Ленингр. ун-та», 1940, № 58; 2) Составное ска-
зуемое и генезис связочных глаголов в английском языке. — «Труды воен,
ин-та иностр, яз.», 1947, № 3; 3) О вспомогательных глаголах в английском
языке. — В кн.: Памяти акад. Л. В. Щербы. Л., 1951; 4) Пути развития
словосочетаний (на материале английского языка). — В кн.: Вопросы грам-
матического строя и словарного состава языка. Ч. I. («Учеп. зап. Ленингр.
ун-та», 1952, № 156); 5) Предложение и словосочетание. — В кн.: Вопросы
грамматического строя. М., 1955; 6) Об аналитических формах слова. — В кн.:
643
41*
Морфологическая структура слова в языках различных типов. М.—Л.,
1963. — См. также ее статью «Проблема аналитического строя и формы ана-
лиза» в кн.: Аналитическая конструкция в языках различных типов. М.—Л.,
1965.
56 Ярцева В. Н. 1) Историческая морфология английского языка.
М.—Л., 1960; 2) Исторический синтаксис английского языка. М.—Л., 1961.
67 Ярцева В. Н. Историческая морфология. . ., с. 119.
68 Там же, с. 123.
59 Там же, с. 123.
60 Там же, с. 124.
61 Стеб лин-К аменский М. И. Указ, соч., с. 21.
62 Там же, с. 114.
63 М ас л о ва -Л ашанская С. С. Шведский язык. Л., 1953,
с. 229.
64 Там же, с. 114—116.
66 Стеблин-Каменский М. И. Указ, соч., с. 119.
6бМаслова-Лашапская С. С. Указ, соч., с. 239—240.
67 Стеблин-Каменский М. И. Указ, соч., с. 129.
68 Там же, с. 202—203. (Подчеркнуто мною, — В. Ж.).
69 Там же, с. 203—204. (Подчеркнуто мною, — В. Ж.},
70 В а с и л ь е в а И. Г. Датский язык. М., 1962.
71 Г у х м а н М'. М. Указ, соч., с. 359—360.
72 Зиндер Л. Р., Строева Т. В. Современный немецкий язык.
М., 1957, с. 246.
73 Крашенинникова Е. А. Модальные глаголы в немецком
языке. М., 1954.
74 Ярцева В. Н. Историческая морфология. . ., с. 127. — С истори-
ческой точки зрения should и would в этой конструкции представляют опта-
тив прошедшего (как и нем. sollte, wollte). *
76 Жпгадло В. Н., Иванова И. П., И о ф и к Л. Л. Указ,
соч., с. 118. (Подчеркнуто мною, — В. Ж.).
76 Там же, с. 119.
77 Kruisinga Е. A Handbook of Present-Day English. Part II.
Groningen, 1931—1932, p. 430—499.
78 J esp ersen O. A Modern English Grammar. . ., p. 237.
79 Виноградов В. В. Русский язык, с. 604 (со ссылкой па диссер-
тацию В. П. Сухотипа об инфинитивных конструкциях; подчеркнуто-
мною, — В. Ж.).
80 О каузативных конструкциях с глаголом lassen см.: Н е д я л-
к о в В. П., Никитина Т. Н. О признаках аналитичности и слу-
жебное™. — В кн.: Аналитические конструкции в языках различных
типов. М.—Л., 1965, с. 170—193.
81 С и г m е G. Op. cit., vol. Ill, р. 22—26; Kruisinga Е. Op.
cit., part II, p. 413—433; Deutsch be in M. System..., S. 78—82.
82 Ж и p м у н с к и й В.М. Немецкая диалектология. М.—Л., 1956.
с. 473, 634.
83 Ярцева В. Н. О вспомогательных глаголах. . ., с. 315.
84 J espersen О. A Modern English Grammar. . ., Ch. VIII. Tenses
and Auxiliares in the Passive, p. 112.
86 Graxmmaire Larousse. . ., p. 349—350.
86 Об испанском см.: Васильева-Шведе О. К. К вопросу
о категории вида в иберо-романских языках (глагол estar 4-герундий). —
В кн.: Романо-германская филология (сб. статей в честь акад. В. Ф. Шишма-
рева). Л., 1957, с. 107—137.
87 Алисова Т. Б., Черданцева Т. 3. Итальянский язык. М.„
1962.
88 См.: R о h 1 f s G. Op. cit., Bd. 2, S. 551—552.
89 Gougenheim G. Etudes sur les periphrases verbales de la langue
fran$aise. Paris, 1927.
90 Ebd. Ch. I. Les periphrases duratives: Aller4-gerondif, p. 2—36.
644
91 Арутюнова Н.Д.О критерии выделения аналитических форм.—
В кн.: Аналитические конструкции в языках различных типов. М.—Л., 1965.
92 Г у х м а н М. М. Указ, соч., с. 330.
93М оскальская О.И. История немецкого языка. М., 1959, с. 209.
94 3 и н д е р Л. Р., Строева Т. В. Указ, соч., с. 177—178. — См.
также: A d m о n i W. Der deutsche Sprachbau. Leningrad, 1966, S. 178.
96 Г у x м а н M. M. Указ, соч., с. 346. — Более подробное обоснова-
ние этой точки зрения — в диссертации А. И. Руфьевой (Связочные глаголы
в немецком языке. М., 1953).
96 Г у х м а н М. М. Указ, соч., с. 346.
ущерба Л. В. Избранные труды по русскому языку. М., 1957, с. 79.
98 Там же, с. 78.
99 Виноградов В. В. Русский язык, с. 675.
100 Л е н и н В. И. К вопросу о диалектике. — Поли. собр. соч. Т. 29,
с. 318.
101 См.: Виноградов В. В. Русский язык, с. 675.
102 П1 а х м а т о в А. А. Синтаксис русского языка. Вып. I. Л., 1925
с. 29.
103 Там же, с. 167—168.
104 См.: Paul Н. Deutsche Grammatik. Bd. 3. Halle, 1954, S. 42. —
Пауль указывает, что эти обороты встречались гораздо чаще в древненемец-
ком языке (там же, с. 41).
106 С и г m е G. Op. cit., vol. II, р. 67.
106 Ebd., vol. Ill, p. 26—27.
107 Ярцева В. H. Составное сказуемое. . ., с. 29.
108 Г у х м а н М. М. Указ, соч., с. 346—347, прим. 1.
109 См.: Ярцева В. Н. «Длительные времена». . ., с. 223.
110 См. также: ЖигадлоВ. Н., Иванова И. П., И о ф и к Л. Л.
Указ, соч., с. 80.
111 М а с k е n s е n L. Die deutsche Sprache unserer Zeit. Heidelberg,
1956, S. 57.
112 Я p ц e в а В. H. Исторический синтаксис. . ., с. 114—115.
113 П о т e б н я А. А. Из записок по русской грамматике. Т. I—II.
Харьков, 1886—1888, с. 114. — В. Н. Ярцева, опираясь на Потебню,
склонна, по-видимому, считать именные сказуемые со связкой основой всякой
аналитической формы. См.: Ярцева В. Н. 1) Историческая морфоло-
гия. . ., с. 123—124; 2) Исторический синтаксис . . ., с. 115: «Что касается
вспомогательных глаголов, то в первую очередь они развились из связочных
глаголов, по своей основной семантике имевших наиболее общее значение
(например, быть и иметь)». Между тем Потебня в своих высказываниях об
«описательных временах» не имел в виду ни аналитических конструкций с ин-
финитивом, ни во всяком случае с глаголом иметь, где глагол не является
связкой, а именной частью — не предикатив, а прямое дополнение (Ich habe
einen Brief geschrieben, I have written a letter).
114 П о т e б н я А. А. Указ, соч., с. 138.
116 C u r m e G. Op. cit., vol. II, p. 131—135.
116 См., например: Раппопорт Э. Г. Послелог ’$ и предлог of как
оформители атрибутивных отношений в английском языке. — «Иностр,
языки в школе», 1950, № 1.
117 С u г m е G. Op. cit., vol. II, р. 135.
118 Ж и г а д л о В. Н., Иванова И. П., И о ф и к Л. Л. Указ,
соч., с. 199.
119 Там же, с. 200.
120 Ярцева В. Н. Историческая морфология. . ., с. 120.
121 Там же, с. 121.
122 С u г m е G. Op. cit., vol. Ill, р. 132, 143.
123 В и н о г р а д о в В. В. Русский язык, с. 695—700.
124 Там же, с. 700.
42 В- М. Жирмунский 645
1 25На это различие обратил внимание доц. X. Абдуллаев (Ташкент)
в своей сопоставительной кандидатской диссертации о переводе русских
предлогов на узбекский язык (Среднеазиатский ун-т, 1943).
1 28Крушевский Н. В. Очерк науки о языке. Казань, 1883,
с. 112-114.
127 Виноградов В. В. Современный русский язык, вып. I, с. 142.
128 Жирмунский В. М. Немецкая диалектология, с. 139.
129 A d m о n i W. Der deutsche Sprachbau, S. 49.
130 Щ e p 6 a Л. В. Некоторые выводы из моих диалектологических
лужицких наблюдений. Пг., 1915. — В кн.: Щ е р б а Л. В. Избранные
работы по языкознанию и фонетике. Т. I. Л., 1958, с. 33—34.
131 Э н г е л ь с Ф. Диалектика природы. — В кн.: Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч. Т. 20, с. 527—528.
О границах слова
1 Петерсон М.Н. Русский язык. Пособие для преподавателей.
М.—Л., 1925, с. 23.
2 Щ е р б а Л. В. Восточнолужицкое наречие. Т. I. Пг., 1915, с. 75,
прим. 1.
3 Щ ерба Л. В. Очередные проблемы языковедения. — В кн.:
Щерба Л. В. Избранные работы по языкознанию и фонетике. Т. I. Л.,
1958, с. 9.
4 Толковый словарь русского языка. Под ред. проф. Д. Н. Ушакова.
Т. IV. М., 1940, стлб. 270.
5 Трубецкой Н.С. Основы фонологии. М., 1960, с. 299—325.
6 Смирницкий А. И. К вопросу о слове (проблема «отдельности
слова»). — В кн.: Вопросы теории и истории языка. М., 1952, с. 200 сл.
7 В андриес Ж. Язык. Пер. с франц. М., 1937, с. 89.
8 Мещанинов И. И. Члены предложения и части речи. М.—Л.,
1945, с. 25.
9 Кузнецов П. С. Морфологическая классификация языков. М.,
1954, с. 27.
10 Вандриес Ж. Указ, соч., с. 89. — На невозможность самостоя-
тельного употребления французских местоимений этого типа обратил внима-
ние и А. М. Пешковский в статье «Понятие отдельного слова» в кн.: П е rn-
ков с к и й А. М. Сб. статей. М.—Л., 1925, с. 124.
11 Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое ученпе
о слове. М.—Л., 1947, с. 10.
12 Грамматика русского языка. Т. I. Изд. АН СССР. М., 1952, с. 406
(§ 659).
13 См.: Левковская К. А. Лексикология немецкого языка. М.,
1956, с. 218—223 (§ 46). — Ср. рецензию того же автора на кн.: Степа-
нова М. Д. Словообразование современного немецкого языка. М., 1953
(«Вопр. языкознания», 1955, № 1, с. 148). — Проф. М. Д. Степанова рассма-
тривает отделяемые глагольные приставки как «полупрефиксы» (с. 315—317).
14 Левковская К. А. Указ, соч., с. 227. (Разрядка моя, — В. Ж.).
15 Смирницкий А. И. Лексикология английского языка. М.,
1956, с. 212—213 (§ 235).
16 Ср.: Кононов А. Н. 1) Грамматика современного узбекского
литературного языка. М.—Л., 1960, с. 387—389; 2) Грамматика современного
турецкого литературного языка. М.—Л., 1956, с. 430—433.
17 К у з н е ц о в П. С. Указ, соч., с. 27.
18 Дмитриев Н.К. Грамматика башкирского языка. М.—Л., 1948,
с. 121 — 122.
19 «Слово как система форм и значений является фокусом соединения и
взаимодействия грамматических категорий языка» (Виноградов В. В.
Указ, соч., с. 15).
646
20 См.: Фортунатов Ф. Ф. Избранные труды. Т. I. М., 1956,
с. 155—157.
21 Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении.
М., 1956, с. 31.
22 Щерба Л. В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957,
с. 76—77, прим. 2. — Автор, по-видимому, считал, что добежать по сравне-
нию с бежать содержит дополнительное лексическое значение — успешного
завершения действия, но, мне кажется, это в той же мере относится и к слову
сделать: можно «делать» и не «сделать», как можно «бежать» и не «добежать».
23 Грамматика русского языка, т. I, с. 15.
24 См.: Виноградов В. В. Указ, соч., с. 36.
25 Грамматика русского языка, т. I, с. 17.
26 Там же.
27 Виноградов В.В.О формах слова. — «Изв. АН СССР. Отд-ние
лит. и языка», 1944, т. III, вып. 1, с. 35—36.
28 П о т е б н я А. А. Из записок по русской грамматике. Т. I—II.
М., 1958, с. 15—16.
29 Виноградов В. В. О формах слова, с. 36.
30 Смирницкий А. И. К вопросу о слове (проблема «тождества
слова»). — «Труды Ин-та языкознания АН СССР», 1954, т. IV, с. 18—19.
31 Рецензия на кн.: Чернышев В. И. Законы и правила русского
произношения. — «Изв. Отд-ния рус. яз. и славистики АН», 1907, т. XII,
кн. 2, с. 495.
32 Виноградов В. В. Русский язык, с. 35.
33 Грамматика русского языка, т. I, с. 15.
34 М е й е А. Основные особенности германской группы языков. Пер.
с франц. М., 1952, с. 83.
36 Ср.: Жирмунский В.М. Внутренние законы развития языка
и проблема грамматической аналогии. — См. наст, кн., с. 36.
36 П ешковский А. М. Русский синтаксис . . ., с. 131.
37 См.: Смирницкий А. И. 1) Так называемая конверсия и чере-
дование звуков в английском языке. — «Иностр, языки в школе», 1953, № 5;
2) По поводу конверсии в английском языке. — Там же, 1954, № 3.
38 Смирницкий А. И. 1) Древнеанглийский язык. М., 1955, с. 168;
2) По поводу конверсии. . ., с. 13.
"Левковская К. А. Указ, соч., с. 159—161.
40 Смирницкий А. И. По поводу конверсии. . ., с. 24.
41 Смирницкий А. И. Так называемая конверсия. . ., с. 21.
42 С м и р н и ц к и й А. И. По поводу конверсии. . ., с. 13.
43 См.: Виноградов В. В. Основные принципы русского синтак-
сиса в «Грамматике русского языка» Академии наук СССР — «Изв. АН СССР,
Отд-ние лит. и языка», 1954, т. XIII, вып. 6, с. 498—502; Грамматика рус-
ского языка. Т. II. Синтаксис. Ч. I. М., 1954, с. 6 сл.
44 Гухман М.М. Глагольные аналитические конструкции как особый
тип сочетаний частичного и полного слова (на материале немецкого языка). —
В кн.: Вопросы грамматического строя. М., 1955, с. 569—570.
46 Виноградов В. В. Русский язык, с. 569—570.
46 Грамматика русского языка, т. I, с. 489 (§ 756): «Будущее несовершен-
ного вида (будущее сложное)».
47 См., например: Жигадло В. Н., Иванова И. П.,
И о ф и к Л. Л. Современный английский язык. М., 1956, с. 200.
48 См.: Кононов А. Н. 1) Грамматика современного узбекского
литературного языка, с. 263—268; 2) Грамматика современного турецкого
литературного языка, с. 209—218; Дмитриев Н.К. Указ, соч., с. 194—
201. — Ср. также: Михайлов М. С. Перифрастические формы и катего-
рия вида в турецком языке. М., 1954.
49 Кононов А. Н. Грамматика современного узбекского литератур-
ного языка, с. 212—213.
60 Кононов А. Н. Грамматика современного узбекского литератур-
ного языка, с. 211—212.
647
42*
61 Ср.: Жирмунский В. М. Развитие категории частей речи
в тюркских языках по сравнению с индоевропейскими языками. — Наст, кн.,
с. 187—209.
52 Ср.: Н i г t Н. Handbuch des Urgermanischen. Т. II. Heidelberg, 1932,
S. 118.
63 П а у л ь Г. Принципы истории языка. Пер. с нем. М., 1960, с. 389—
392.
64 Левковская К. А. Указ, соч., с. 181.
56 Степанова М. Д. Указ, соч., с. 71—72.
56 Орфографический словарь русского языка. М., 1956.
Б7 Севортян Э. В. К соотношению грамматики и лексики в тюрк-
ских языках. — В кн.: Вопросы теории и истории языка. М., 1952, с. 319—
320.
58 Смирницкий А. И. К вопросу о слове, с. 190.
69 Там же.
60 Смирницкий А. И., Ахманова О. С. Образования типа
stone wall, speech sound в английском языке. — «Доклады и сообщения
Ин-та языкознания АН СССР», 1952, вып. II, с. 97—116; Смирниц-
кий А. И. Лексикология. . ., с. 114—123.
Сравнительная грамматика и новое учение о языке
1 М а р р Н. Я. К вопросу об историческом процессе в освещении яфе-
тической теории. — В кн.: Марр Н. Я. Избранные работы. Т. III. М.—Л.,
1934, с. 156.
2 Schuchardt Н. Uber die Klassifikation der romanischen Mund-
arten. — In: «Schuchardt-Brevier». 2. Aufl. Halle, 1928, S. 167 ff.
3 Meillet A. Introduction a I’etude comparative des langues indoeuro-
peennes. Paris, 1934, p. 79 (ср.: Мейе А. Введение в сравнительное изуче-
ние индоевропейских языков. Пер. с франц. М.—Л., 1938, с. 107).
4 М е i 11 е t A. Les langues dans 1’Europe nouvelle. Paris, 1928, p. 73.
6 Там же, с. 73 и 74.
6 М а р р Н. Я. Индоевропейские языки Средиземноморья. — В кн.:
Марр Н. Я. Избранные работы. Т. I. Л., 1933, с. 185.
7 М е й е А. Введение. . ., с. 73.
8 L о е w е G. Germanische Sprachwissenschaft. Leipzig, 1911, S. 19 ff.
9 W г e d e F. Zur Entwicklung der deutschen Mundartforschung. —
«Zeitschrift fiir deutsche Mundarten», 1919, S. 3—18.
10 Там же, с. 14 сл.
11 Энгельс Ф. Франкский диалект. — В кн.: Маркс К., Эн-
гельс Ф. Соч. Т. 19. —Ср.: Жирмунский В. М. «Франкский
диалект» Ф. Энгельса и проблемы немецкой диалектологии. — Наст, кн.,
с. 539—561. 1936, № 4, с. 1—19.
12 Brinkmann Н. Sprachwandel und Sprachbewegungen in althoch-
deutscher Zeit. Jena, 1931, S. 128.
13 Mansion J. Les termes «urgermanisch» etc., sont ils encore admis-
sibles aujourd’hui? — In: Actes du П-me congres international des linguistes,
1931. Paris, 1933, p. 219—220.
14 M e i 1 1 e t A. Caracteres generaux des langues germaniques. Ed. 4.
Paris, 1930, p. 61.
15 Ср. изложение теории Акселя Кока: Einladungsschriften der Universi-
tat Lund. 1911—1912; Heusler A. Altislandisches Elementarbuch. Heidel-
berg, 1913, S. 22.
16 H i r t H. Handbuch des Urgermanischen. T. I. Heidelberg, 1931, S. 44.
17 W r e d e F. Die Entstehung der neuhochdeutschen Diphthonge. —
«Zeitschrift fiir deutsches Altertum», 1895, Bd. 39, S. 257.
18 Жирмунский В. M. 1) Развитие строя немецкого языка.
Наст. кн., с. 339. 2) История немецкого языка. Изд. 2-е. М., 1939, с. 122.
19 М е й е А. Введение. . ., с. 73—74.
648
20 Энгельс Ф. Франкский диалект, с. 542.
21 Meillet A. Caracteres generaux. . р. 35—37.
22 О примерных и секундарных признаках диалекта см. наст, кн.,
с. 496 сл.
23 М а р р Н. Я. Избр. работы, т. I, с. 336 и др.
24 Ср.: Kluge F. Vorgeschichte der germanischen Dialekte. — In:
Grundrip der germanischen Philologie hrsg. v. H. Paul. Bd. 1. Strap burg, 1901,
S. 410.
25 M e й e А. Введение. . ., c. 263.
26 H i r t H. Indogermanische Grammatik. Bd. 2. Heidelberg, 1928, S. 83.
27 M e й e А. Введение. . ., c. 263.
28 Cp.: Wundt W. Volkerpsychologie. Bd. 2, T. II. Leipzig, 1904,
S. 201 ft.; Cassirer E. Philosophie der symbolischen Formen. Bd. I.
Berlin, 1923.
29 Brinkmann H. Op. cit., S. 8.
30 Ср.: Жирмунский В. M. Историческая поэтика A. H. Весе-
ловского. — «Изв. АН СССР, Отд-ние обществ, наук», 1938, № 4, с. 52 сл.
31 Ср.: Жирмунский В. М. Развитие строя немецкого языка,
с. 361 сл.—Подробнее в статье Т. В. Строевой-Сокольской «Развитие буду-
щего времени в немецком языке» (Учен. зап. Ленингр. ун-та, 1941, вып. 5).
32 Brinkmann Н. Op. cit., S. 17.
33 Ср.: Н i г t Н. Handbuch des Urgermanischen. Т. III. Heidelberg,
1934, S. 127.
34 Cp.: Brugmann K. Kurze vergleichende Grammatik der indoger-
manischen Sprachen. Strapburg, 1904, S. 484.
36 M e й e А. Введение. . ., c. 255.
36 H i г t H. Indogermanische Grammatik. Bd. 4. Heidelberg, 1928,
S. 172.
37 M e й e А. Введение. . ., c. 256.
38 Ср.: H i г t H. Indogermanische Grammatik. Bd. 6, Heidelberg, 1934,
S. 244, 215.
39 Ср.: Мейе А. Введение. . ., c. 221 сл.; Meillet A. Caracteres
generaux. . ., p. 144—145; Sverdrup J. Der Aorist im germanischen
Verbalsystem. Festskrift til Hjalmar Falk. Oslo, 1927, S. 296—330; H i г t H.
Handbuch des Urgermanischen. T. II. Heidelberg, 1932, S. 141.
40 M e i 1 1 e t A. Caracteres generaux. . ., p. 144.
41 Cp. Meillet A., Vendry es J. Traite de grammaire comparee
des langues classiques. Paris, 1924, p. 251.
42 Sverdrup J. Op. cit., S. 319.
43 Ср.: H i r t H. Indogermanische Grammatik, Bd. 4, S. 280.
44 H i г t H. Handbuch des Urgermanischen, T. II, S. 168.
46 Жирмунский В. M. История немецкого языка, с. 197.
46 Н i г t Н. Handbuch des Urgermanischen. Т. III. Heidelberg, 1934,
S. 151.
47 Г у x м а н M. M. Происхождение строя готского глагола. Л., 1940,
с. 130.
48 М е i 1 1 е t А., V е n d г у е s J. Op. cit., р. 251; Sommer F.
Handbuch der lateinischen Laut- und Formenlehre. Heidelberg, 1914, S. 546.
49 Cm.: W acker nagel J. Vorlesungen uber Syntax mit besonderer
Beriicksichtigung von Griechisch, Lateinisch und Deutsch. T. I. Basel, 1920,
S. 187.
60 Cm.: Brugmann K. Op. cit., S. 538, 529; Streitberg W«
Perfektive und imperfektive Aktionsart im Germanischen. — PBB, 1891»
Bd. 15, S. 118.
61 M e й e А. Введение. . ., c. 230.
62 В e n f e у Th. Uber die Entstehung und die Formen des indogermani-
schen Optativs sowie uber das Futurum auf sanskritisch syami. — «Abhandlun-
gen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen», 1871; Hi rt H.
Indogermanische Grammatik, Bd. 4, S. 176; Bd. 6, S. 247.
63 Ср.: M e й e А. Введение. . ., c. 230.
649
54 Ср.: Жирмунский В. М. Развитие строя немецкого языка. —
Наст, кн., с. 375—376. — Более подробно в работах Т. В. Сокольской «Раз-
витие сложноподчиненного предложения в немецком языке» (Л., 1940) и
В. Н. Ярцевой «Развитие сложноподчиненного предложения в английском
языке» (Л., 1940).
66 Марр Н. Я. Язык и современность. Л., 1932, с. 39.
66 Там же, с. 39.
67 Meillet A. Linguistique historique et linguistique generale. Paris,
1921, p. 615.
68 Там же, с. 63.
69 M a p p H. Я. Избранные работы, т. I, с. 185.
60 Ср.: Жирмунский В. М. Развитие строя немецкого языка. —
Наст, кн., 344.
61 Ср.:Кацнельсон С.Д.К генезису номинативного предложения.
Л., 1936.
62 Как, например, в работах Уленбека (ср.: Uhlenbeck С. Agens
und Patiens im Klassensystem der indogermanischen Sprachen. — «Indogerma-
nische Forschungen», 1901, Bd. XII).
Развитие категории частей речи в тюркских языках по сравнению
с индоевропейскими языками
1 См.: Марр Н. Я. Избранные работы. Т. II. М.—Л., 1936, с. 417.
2 П о т е б н я А. А. Из записок по русской грамматике. Т. I. Харьков,
1886, с. 77.
3 Там же, т. III. Харьков, 1889, с. 354.
4 Там же, с. 73.
6 Там же, с. 77.
6 Там же, с. 129.
7 Там же, с. 189.
8 Дмитриев Н. К. Грамматика кумыкского языка. Л., 1940, с. 69.
9 Наблюдения К. Гренбека над сравнительно-историческим синтакси-
сом тюркских языков дают основание считать простое именное определение
более древним, чем оформленный родительный падеж. Ср.: GronbeckK.
Die tiirkischen Sprachen. T. I. Kopenhagen, 1936, S. 90 f.
10 Поцелуевский А. П. Основы синтаксиса литературного турк-
менского языка. Ашхабад, 1943, с. 22.
11 М а р р Н. Я. Избранные работы. Т. III. М.—Л., 1934, с. 66.
12 Там же, с. 223.
13 Там же, т. II, с. 50.
14 П о т е б н я А. А. Указ, соч., т. I, с. 109.
16 Там же, с. 110.
16 Там же, т. III, с. 352.
17 Мещанинов И. И. Общее учение о языке. Л., 1940, с. 75 сл.,
130 сл.
18 П о т е б н я А. А. Указ, соч., т. II, Харьков, 1888, с. 82 сл.
19 Там же, с. 94 сл.
20 Там же, т. III, с. 362 сл.
21 Brugmann К. Kurze vergleichende Grammatik der indogermani-
schen Sprachen. Strap burg, 1922, S. 444.
22 См.: Дмитриев H. К. Строй турецкого языка. Л., 1939, с. 35.
23 D ё п у J. Grammaire de la langue turque. Paris, 1920, p. 1110; В г o-
ckelmann C. Mahmud Al-Kasgharis. Darstellung des tiirkischen Ver-
balbaus. — «Keleti Szemle». 1918—1919, Bd. XVIII, S. 41.
24 См.: Дыренкова H. П. Грамматика шорского языка. Л., 1940,
с. 184 сл.
25 См.: Кононов А. Н. Грамматика турецкого языка. М.—Л.,
1941, с. 128 сл.
650
Происхождение категории прилагательных
в индоевропейских языках в сравнительно-грамматическом освещении
1 М а р р Н. Я. Почему так трудно стать лингвистом-теоретиком. —
В кн.: Марр Н. Я. Избранные работы. Т. II. М.—Л., 1936, с. 417.
0 П о т е б н я А. А. Из записок по русской грамматике. Т. III. Харь-
ков, 1889, с. 73.
3 Там же, с. 86.
4 Там же, с. 43.
6 Там же. Т. II. Харьков, 1888, с. 534—535.
6 Н i г t Н. Indogermanische Grammatik. Bd. 6. Heidelberg, 1934,
S 138
7 H i r t H. Op. cit. Bd. 3. Heidelberg, 1928, S. 39.
8 Ср.: Десницкая А. В. Сложные слова. — В кн.: Вопросы не-
мецкой грамматики в историческом освещении. Л., 1936.
9 Мещанинов И. И. Общее языкознание. Л., 1940, с. 94 сл.
19 П о т е б н я А. А. Указ, соч., т. III, с. 128 сл.
11 Brugmann К. Grundri£ der vergleichenden Grammatik der indo-
germanischen Sprachen. Bd. 2, T. 1. Strapburg, 1904, S. 420.
12 См.: Потебня А. А. Указ, соч., т. Ill, с. 108—109.
13 Там же, с. 86.
14 По этому вопросу подробнее см.: Кацнельсон С. Д. Вопросы
синтаксиса раннего номинативного строя. — В кн.: Историко-грамматиче-
ские исследования. Т. I. Из истории атрибутивных отношений. М.—Л., 1949.
15 J esperse п О. Progress in Language. London, 1894, p. 189.
16 Ср.: R о у e n G. Die nominalen Klassifikationssysteme in den Spra-
chen der Erde. Modling bei Wien, 1929; C u n у A. Etudes pregrammaticales
sur le domaine des langues indoeuropeennes et chamito-semitoques. Paris, 1924.
17 Ср.: Жирмунский В. M. Развитие строя немецкого языка. —
Наст. кн.,с. 334—385; Десницкая А. В. О мнимом структурном един-
стве индоевропейских языков. — «Изв. АН СССР. Отд-ние лит. и яз.»,
1941, № 3.
18 См.: Десницкая А. В. Именная классификация и проблема
индоевропейского склонения. — «Изв. АН СССР. Отд-нпе лит. и яз.», 1941,
вып. 3. — Ср. также: М е i 1 1 е t A. La categorie du genre et les conceptions
indo-europeennes. — In: M e i 1 1 e t A. Linguistique historique et linguisti-
que generale. Paris, 1921.
19 Cm.: Schmidt J. Die Pluralbildung der indogermanischen Neutra.
Weimar, 1889. — К этому вопросу см. также: Braun М. Das Kollektivum
und das Pluralia tantum im Russischen. Ein bedeutungsgeschichtlicher Versuch.
Leipzig, 1930. — Иначе: L о m m e 1 H. Studien uber indogermanische
Femininabildungen. Gottingen, 1912; LohmannJ. Genus und Sexus. Got-
tingen, 1932.
20 К этому вопросу ср.: М е i 1 1 е t A. Op. cit., р. 217. — Подробнее:
Н i г t Н. Op. cit., Bd. 3, S. 345.
21 Н i г t Н. Op. cit., Bd. 3, S. 279.
22 См.: Потебня А. А. Указ, соч., т. I, Харьков, 1886, с. 97 сл.;
т. III, с. 58 сл.
23 См.: Osthoff Н. Forschungen im Gebiete der indogermanischen
nominalen Stammbildung. Bd. 2. Jena, 1876, S. 37.
24 Cm.: Osthoff H. Op. cit., Bd. 2, S. 36.
26 Cm.: Wilmanns W. Deutsche Grammatik. II. Abt. 2. Aufl.
StraBburg, 1899, S. 398—403.
26 Cm.: Osthoff H. Op. cit., Bd. 2 («Zur Geschichte des schwachen
Adjektivums»); Кацнельсон С. Д. Указ. соч.
27 См.: H i r t Н. Op. cit., Bd. 2, Heidelberg, 1928, S. 68.
28 Мещанинов И. И. Члены предложения и части речи. М.—Л.»
1945, с. 211—212.
29 Санжеев Г. Д. Грамматика бурят-монгольского языка. М.—Л.,
1941, с. 156.
651
30 См.: Gronbeck К. Der turkische Sprachbau. T. I. Kopenhagen,
1936, S. 85, 106.
31 См.: Жирмунский В. M. Развитие категории частей речи
в тюркских языках по сравнению с индоевропейскими языками. — Наст, кн.,
с. 197.
32 См.: Санжеев Г. Д. Указ, соч., с. 157 сл.
33 Там же, с. 31; Санжеев Г. Д. Синтаксис монгольских языков.
М., 1934, с. 62—63.
Марксизм и социальная лингвистика
1 Н о i j е г Н. Anthropological Linguistics. Trends in European
and American Linguistics 1930—1960. Utrecht—Antwerpen, 1961. — Отзыв
в кн.: Новое в лингвистике. Вып. IV. М., 1965, с. 286—287.
2 Wyld Н.С. A History of Modern Colloquial English. 3-d ed. Oxford.,
1956, p. 11.
3 H er t zl er J.O. A Sociology of Language. New York, 1965, p. 305—
389.
4 Жирмунский В. M. Проблемы социальной диалектологии. —
«Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз.», 1964, т. XXIII, вып. 2, с. 99—112.
6 Державин К. Н. Борьба классов и партий в языке Великой
французской революции. — «Язык и литература», 1927, т. II, вып. I.
6 Сергиевский М. В. Проблемы социальной диалектологии
в истории французского языка XVI—XVII вв. — «Учен. зап. Ин-та яз. и
лит. РАНИОН», 1927, т. I.
7 С е р г и е в с к и й М. В. История французского языка. М., 1938.
(Изд. 2-е. М., 1947).
8 Иванов А. М., Якуб и некий Л. П. Очерки по языку.
Л., 1932.
9 Л арин Б. А. О лингвистическом изучении города. — «Русская
речь», 1928, вып. III, с. 61—62.
10 Ларин Б. А. К лингвистической характеристике города. (Не-
сколько предпосылок). — «Изв. Ленингр. пед. ин-та им. А. И. Герцена»,
1926, вып. I, с. 176. (Подчеркнуто автором).
11 См. статьи об изучении языка города в кн.: Язык и литература. Т. VII.
Л., 1931, с. 111—179.
12 S a i п ё a n L. Le langage parisien au XIX-me siecle. Paris, 1920.
13 См.: Жирмунский В. M. Национальный язык и социальные
диалекты. Л., 1936, с. 105—167 (гл. V: «Профессиональная лексика, жар-
гоны, арго», с библиографией, с. 285—291).
14 Ср. известную статью А. М. Горького «О языке» («Литературная
учеба», 1933, № 1), а также: Горький М. Собр. соч. Т. 27. М., 1953,
с. 168—170; Я к у б и н с к и й Л. П. Культура языка. — «Журналист»,
1925, № 1, с. 18. — Обзор и библиография по этому вопросу в брошюре:
Тонков В. А. Опыт исследования воровского языка. Казань, 1930,
с. 64 и сл.
16 См?: Бондалетов В. Д. 1) Условно-профессиональные языки
русских ремесленников и торговцев. Автореф. докт. дисс. Л., 1966 (со списком
работ автора); 2) К изучению социальных диалектов русского языка. —
В кн.: Язык и общество. Саратов, 1964; 3) Социально-экономические пред-
посылки отмирания условно-профессиональных языков и основные законо-
мерности этого пропесса. — В кн.: Вопросы социальной лингвистики. Л.,
1969, с. 398.
16 Ларин Б. А. О лингвистическом изучении. . ., с. 64.
17 Ср. в кн. «Вопросы социальной лингвистики» (Л., 1969) обзор Л. С. Ков-
тун и статьи Б. Н. Головина и О. Б. Сиротининой.
18 Панов М.В. 1)0 развитии русского языка в советском обществе.
(К постановке проблемы). — «Вопр. языкознания», 1962, № 3; 2) О некоторых
652
общих тенденциях в развитии русского литературного языка XX века. —
«Вопр. языкознания», 1963, № 1; 3) Русский язык и советское общество.
Тезисы докладов на расширенном заседании сектора современного литератур-
ного языка. М., 1966.
19 Ларин Б. А. Три иностранных источника по пстории русского
языка XVI—XVII вв. Аннотация докт. дисс. — «Докл. и сообщ. Ин-та
русск. яз. АН СССР», 1948, вып. 1; Лудольф Г.В. Русская грамматика.
Оксфорд, 1696. Переизд., пер., вступ. статья и примеч. Б. А. Ларина. Л.,
1937; Ларин Б. А. Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джемса
(1618—1619). Л., 1959.
20 Ларин Б. А. О записях иностранцев как источнике по истории
русского языка. — В кн.: Труды юбилейной научн. сессии Ленингр. ун-та.
Секция филол. наук. Л., 1946, с. 75.
21 См.: Источники по разговорной речи Московской Руси. Парижский
словарь Московитов 1586 (Dictionaire Moscovite). Перев., исслед. и коммент.
Б. А. Ларина. Рига, 1948, с. 54. — См. также: Ларин Б. А. Парижский
словарь русского языка 1586 г. — «Советское языкознание», 1936, т. II.
22 Tonnis Fenne’s Low German Manual of Spoken Russian. Pskov 1607.
Ed. by L. L. Hammerich and R. Jakobson. Vol. I—II. Copenhagen, 1961 —
1967 (издание продолжается).
23 См.: Виноградов В. В. Проблема литературных языков и за-
кономерность их образования и развития. М., 1967.
24 Каринский Н. М. 1) Очерки языка русских крестьян. Говор
деревни Ванилово. М., 1936; 2) Очерки из области русской диалектологии. —
«Учен. зап. Ин-та яз. и лит.», 1931, т. 4; 3) К вопросу о социальной диалекто-
логии. — В кн.: Sbornik praci I sjezdu slovanskych filologu. Praha, 1931,
zv. 11; 4) Из наблюдений над языком современной деревни. — «Литературный
критик», 1935, № 5.
26 И в а н о в А. М., Якубинский Л. П. Указ, соч., с. 85—106.
26 Каринский Н. М. Очерки языка русских крестьян, с. 82.
27 См.: Жирмунский В.М. О синхронии и диахронии в языко-
знании. — «Вопр. языкознания», 1958, № 5.
28 М а р к с К. Из рукописного наследства. Введение (Из экономиче-
ских рукописей 1857—1858 гг.). — В кн.: Маркс К., Энгельс Ф.
Соч. Т. 12, с. 731.
29 Ленин В. И. О праве наций на самоопределение. — Поли. собр.
соч. Т. 25, с. 258—259.
30 Ferguson Ch. A. Diglossia. — «Word», 1959, vol. 15, № 2.
31 Ж и p м у н с к и й В. М. 1) Национальный язык. . ., с. 212—276
(гл. VII: «Образование немецкого национального языка»); 2) История немец-
кого языка. М., 1938. (Изд. 5-е: М., 1965).
32 Гухман М.М. От языка немецкой народности к немецкому нацио-
нальному языку. Т. 1—2. М., 1955—1959. (Т. 1 в переводе на немецкий язык,
исправленный и дополненный: Guchmann М.М. Der Weg zur deutschen
Nationalsprache. Berlin, 1964).
33 Ср., например: Виноградов В. В. Основные проблемы изуче-
ния образования и развития древнерусского литературного языка. IV Между-
народный съезд славистов. М., 1958.
34 См., например, редакционную статью в кн.: Вопросы формирования
и развития национальных языков. — «Труды Ин-та языкознания», 1960,
т. X, с. 5.
36 См.: Конрад Н. И. О литературном языке в Китае и Японии.
Вопросы формирования и развития национальных языков. М., 1960, с. 11—49.
36 См. в особенности: Вопросы развития литературных языков наро-
дов СССР. Материалы всесоюзной конференции. Алма-Ата, 1962. — См. так-
же :Дешериев Ю. Д. Закономерности развития и взаимодействия
языков в советском обществе. М., 1966.
37 См. статьи: Ольдерогге Д. А. О некоторых этнолингвистиче-
ских проблемах Африки. — В кн.: Вопросы социальной лингвистики. Л.,
1969; Баранников П. А. Хинди и урду: их возникновение, развитие
653
и взаимодействие. — Там же; М а ретин Ю. В. Особенности бахаса
Индонесия как государственного языка Республики Индонезии. — Там же.
38 Ср.: Hanger Е. Linguistics and Language Planning. — In: So-
ciolinguistics. Ed. by W. Bright. The Hague, 1966.
39 О «примарных» («первичных») и «секундарных» («вторичных») диалект-
ных признаках см.: Жирмунский В. М. Немецкая диалектология.
М.—Л., 1956, с. 507—556.—Ср. также: Schirmunski V. Sprach-
geschichte und Siedlungsmundarten. — «Germanisch-romanische Monats-
schrift», 1930, Bd. 18, H. 3—4, 5—6.
40 Cm.: Kretschmer P. Wortgeographie der hochdeutschen
Umgangssprache. Einleitung. Gottingen, 1918.
41 См. гл. IV: «Социальные диалекты эпохи капитализма» (с. 72—104).
42 F 1 е i s с h е г W. Namen und Mundarten im Raum von Dresden.
Berlin, 1961, S. 161.
43 Gro pe R. Die meipnische Sprachlandschaft. Halle, 1955, S. 30. —
Cp.:^Polenz P. v. Die altenburgische Sprachlandschaft. Tubingen, 1954,
44 Например: К u f пег H. L. Strukturelle Grammatik der Munchner
Stadtmundart. Munchen, 1961; Heike G. Zur Phonologie der Stadt-Kolner
Mundart. Marburg, 1964; Sivertsen E. Cockney Phonology. Oslo, 1960,
и нек. др.
46 Bright W. Sociolinguistics. Proceedings of the UCLA Sociolinguistic
Conference 1964. The Hague, 1966, p. 11.
Существовал ли общегерманский язык-основа?
1Я кубинский Л. П. Образование народностей и их языков. —
«Вестник Ленингр. ун-та», 1947, № 1.
2 Р i s a n i V. Origini е costituzione dell’unita linguistica germanica
in rapporto alle lingue indoeuropee. In: «Le Protolingue». Atti del IV congresso
internazionale di linguisti. Milano, 1965.
3 См.: Жирмунский В. M. О некоторых проблемах лингвисти-
ческой географии. — Наст, кн., с. 452—473.
4 См.: Макаев Э. А. Проблемы индоевропейской ареальной лингви-
стики. М.—Л., 1964.
6 Pisani V. Glottologia indeuropea. 2-da ed. Torino, 1949, p. XXVI—
XXVII.
6 P i s a n i V. Linguistica generale e indeuropea. Milano, 1947, p. 13. —
В личном письме ко мне по этому вопросу Пизани формулировал эту мысль
еще точнее. «Что касается Вашей критики моего определения языка как
„пучка изоглосс" (fascio di isoglosse), то я отвечу, что в этом выражении
„изоглоссы" не означают географическую границу, но явление общее для инди-
видуальных (языковых) выражений тех, кто принадлежит к одному лингви-
стическому коллективу». Отметим, что Пизани, как и Герман Пауль, исходит
из концепции, рассматривающей индивидуальный речевой акт индивидуума
как реальную основу всякой языковой общности. Ср. «Linguistica generale
е indeuropea», р. 11: «Реальные факты, являющиеся основой нашей концепции
языка, — это отдельные лингвистические акты отдельных индивидов» (i sin-
goli atti linguistici dei singoli individui).
7 Там же, с. 61—62.
8 См.: Brugmann К. Kurze vergleichende Grammatik der indoger-
manischen Sprachen. Neudruck Berlin—Leipzig, 1922, S. 16. — Cp.: D e-
v о t о G. Origini indeuropee. Firenze, 1961, p. 349; H i r t H. Handbuch
des Urgermanischen. T. I. Heidelberg, 1931, S. 16; Чемоданов H. C.
Место германских языков среди других индоевропейских языков. — В кн.:
Сравнительная грамматика германских языков. Т. I. М., 1962, с. 45—48.
9 См.: Жирмунский В.М. Некоторые итоги дискуссии об армян-
ском консонантизме. — «Вопр. языкознания», 1962, № 5.
654
10 См. ниже, в статье «Общие тенденции фонетического развития герман-
ских языков» (с. 291 сл.).
11 Сравнительная грамматика германских языков. Т. I. М., 1962, с. 87—
100, 117-118.
12 М е й е А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских
языков. М., 1938, с. 128.
13 Schwarz Е. Goten, Nordgermanen, Angelsachsen. Bern, 1951, S. 55.
14 H i г t H. Indogermanische Grammatik. Bd. 5. Heidelberg, 1929.
16 Подробнее см. ниже, в статье «Грамматический аблаут» (с. 326—334).
16 Сравнительная грамматика. . . Т. IV. М., 1966, с. 57—58.
17 См. по этому вопросу замечания в рецензии Пизани: «Zeitschrift
fiir deutsche Sprache und Literatur», 1967, H. 2, S. 202—204.
18 См. выше, в статье «Происхождение категории прилагательных в индо-
европейских языках в сравнительно-грамматическом освещении» (с. 209—235).
19 См. ниже, в статье «Грамматический аблаут» (с. 326—334).
20 Жирмунский В. М. Введение в сравнительно-историческое
изучение германских языков. М.—Л., 1964, с. 125.
21 Там же, с. 70.
22 Р i s a n i V. Uber die Infinitive auf sanskritisch adyai etc. — «Zeit-
schrift fiir vergleichende Sprachforschung», Nr. 72, S. 217 ff. (санскр. Vahadhyai
’ad veheundum’). — Cp.: «Paideia», 1964, XIX, № 1, p. 37 ff.
23 Жирмунский В. M. Введение. . ., с. 116.
24 Rosenfeld H. F. Ingwaonische he, hi und das germanische De-
monstrativpronomen. — «Zeitschrift fiir Mundartforschung», 1955, Nr. 23,
S. 74—110. См.: Жирмунский В. M. Введение. . ., с. 160—161.
26 См.: Frings Th. Grundlegung einer Geschichte der deutschen
Sprache. Sprache und Geschichte. Bd. 2. Halle, 1956, S. 8, 62—63.
26 См.: Жирмунский В. M. Введение. . ., с. 23. — Интересный
новый материал по ингвеонской лексике содержит книга: Lerchner G.
Studien zum nordwestgermanischen Wortschatz. Ein Beitrag zu den Fragen
um Aufbau und Gliederung des Germanischen. Halle, 1965.
27 M e i 1 1 e t A. Les dialectes indo-europeen?. Ed. 2е. Paris, 1922.
28 P о г z i g W. Die Gliederung der indogermanischen Sprachen. Heidel-
berg, 1954.
29 Cm.: Hirt H. Indogermanische Grammatik. Bd. 2. Heidelberg,
1928, S. 147, 167—168.
30 Чемоданов H. С. Указ, соч., с. 86—91.
31 Десницкая А. В. Древние германо-албанские связи в свете
проблемы индоевропейской ареальной лингвистики. — «Вопр. языкознания»,
1965, № 6.
32 Георгиев В. И. Исследования по сравнительно-историческому
языкознанию. М., 1958, с. 230—237.
33 Чемоданов Н. С. Указ, соч., с. 112—113.
34 Макаев Э. А. Понятие общегерманского языка и его периодиза-
ция. — В кн.: Сравнительная грамматика. . ., т. I, с. 114.
35 Там же, с. 115.
36 Тройский И. М. Общеиндоевропейское языковое состояние.
(Вопросы реконструкции). Л., 1967, с. 22 сл.
37 См. ниже статью «Общие тенденции фонетического развития герман-
ских языков» (с. 277—298).
38 См.: Lehmann W. D. Proto-Indoeuropean Phonology. Austin,
Texas, 1952.
Общие тенденции фонетического развития германских языков
1 См.: Жирмунский В. М. Введение в сравнительно-историче-
ское изучение германских языков. М.—Л., 1964, с. 3 сл.
2 Ср., например: Мейе А. Основные особенности германской группы
языков. Пер. с франц. М., 1952, с. 22, 34, и др.
655
3 Процесс этот аналогичен вытеснению общетюркской «гармонии глас-
ных» в литературном узбекском языке под влиянием большого числа лекси-
ческих заимствований из арабского и персидско-таджикского языка.
4 Подробно в статье: Жирмунский В.М. Умлаут в английском
языке по сравнению с немецким. — Наст, кн., с. 298—313. (на немецком
языке: V. Schirmunski. Der Umlaut im Englischen und Deutschen.
Ein historisch-grammatischer Vergleich. — «Zeitschrift fiir Anglistik und Ame-
rikanistik», Jg. 9, 1961).
6 Cm.: Brugmann K., Delbriick B. Grundrip der vergleichen-
den Grammatik der indogermanischen Sprachen. 2. Bearb. Bd. 2. Strapburg,
1906, S. 166—168; Burrow T. The Sanskrit Language. London, 1955,
p. 178—179.
6 См.: В a h d e r K. v. Die Verbalabstracta in dengermanischen Sprachen.
Halle, 1880; W i 1 m a n n s W. Deutsche Grammatik. II. Abt. Wortbildung.
2. AufL Strapburg, 1899.
7 Подробнее см. Жирмунский В. М. Грамматический аблаут
в германских языках. — Наст, кн., с. 326—334.
8 См.: Мейе А. Указ, соч., с. 66—67; Макаев А. Э. Явления
конца слова в германских языках. — В кн.: Сравнительная грамматика
германских языков. Т. II. М., 1962, с. 290—338.
9 Sievers Е. Zur Akzent- und Lautlehre der germanischen Sprachen. —
«Beitrage zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur», 1878, Bd. V;
Streitberg W. Urgermanische Sprachwissenschaft. 5. Aufl. Bd. 1. Ber-
lin, 1963, S. 129—130. Ср.: Жирмунский В.М. Введение. . ., с. 126—
127.
10 S i е v е г s Е. Altgermanische Metrik. Halle, 1893.
11 См.: Маслова-Лашанская С. С. Шведский язык. Л.,
1958, с. 26 сл., 76 сл.
12 Торсуев Г. П. Вопросы акцентуации современного английского
языка. М.—Л., 1960, с. И.
13 Там же, с. 10.
14 Там же, с. И.
16 J е s р е г s е п О. A New English Grammar on Historical Principles.
P. 1: Sounds and Spellings. 5-th ed. London, 1933, p. 150—151.
16 В рецензии на сочинения Пушкина («Современник», 1855). См.: Чер-
нышевский Н. Г. Поли. собр. соч. Т. II. М., 1949, с. 472 (прим.).
17 Маслова-Лашанская С. С. Указ, соч., с. 26.
18 См.: Jespersen О. Op. cit., р. 152—156, 164—168. — Ср. также:
Торсуев Г. П. Указ, соч., с. 49 сл., стр. 49 сл.
19 Маслова-Лашанская С. С. Указ, соч., с. 32.
20 А. В. Исаченко на основании экспериментального исследования
современной немецкой интонации, результаты которого он демонстрировал
в магнитофонной записи в сентябре 1964 г. на конференции по теории стиха
в Варшаве, пришел к выводу, что определяющим элементом немецкого ударе-
ния является не динамический, а мелодический фактор, согласно формули-
ровке в тезисах его доклада, п. 5: «Подчиненность динамического ударения
(интенсивность, «громкость») интонационным явлениям в немецком языке».
Мне представляется, что вывод этот основан на недоразумении. Примеры,
которые приводит А. В. Исаченко (Dieser See ist natiirlich entstanden, die Kin-
der vertrauen ihren El tern и др.), показывают, что предметом его экспери-
ментального изучения была фразовая интонация в ее экспрессивной функции,
определяемая мелодически, а не словесное ударение, которое в немецком
языке было и остается силовым. Ср.: Isacenko А. V., Schad-
1 i с h Н. J. Untersuchungen liber die deutsche Satzintonation. Berlin, 1964.
21 Подробно см.: Жирмунский В. M. Немецкая диалектология.
М.-Л., 1956, с. 171-183.
22 Стеблин-Каменский М. И. История скандинавских язы-
ков. М.—Л., 1953, с. 123. — Наиболее отчетливо и систематично так называе-
мое «слоговое равновесие» (isochronismo sillabico) представлено в итальян-
ском языке, где при наличии фонологической долготы согласных имеется
656
большое число таких пар, как fato—fatto, cade—cadde, beve—bevve. caro—
сагго и мн. др. См.: Bonfante G., Porz io M. L. Cenni di fonetica
e di fonematica con particolare riguardo al Italiano. Torino, 1964, p. 61—62.
23 Жирмунский В. M. Немецкая диалектология, с. 173.
24 См.: J esperse п О. Op. cit., p. 114—116.
25 Cp.: Martinet A. La modalite anglaise de 1’isochronie et le «Great
Vowel Shift». — In: Martinet A. Economic des changements phoneti-
ques. 2е ed. Bern, 1964, p. 254—255. — Ср.: Жирмунский B.M. Не-
мецкая диалектология, с. 251—252.
26 Э. Сиверс дал этому явлению иное, психофонетическое объяснение,
которое вряд ли может быть признано достаточным: он полагал, что сила
и длительность звука вызывают «более энергичную и уверенную его артику-
ляцию», потому что при этих условиях звук обращает на себя больше внима-
ния, «сильнее входит в сознание» (starker zum Bewuptsein kommt). См.: S i e-
vers E. Grundzuge der Phonetik. 5. Aufl. Leipzig, 1901, S. 270—280. —
К этому объяснению присоединяется В. Хорн в своей исторической фонетике
новоанглийского языка, см.: Horn W., Lehnert М. Laut und Leben.
Bd. 1. Berlin, 1954, S. 406—417.
27 J espersen 0. Op. cit., p. 231—244; cp.: Horn W., Leh-
nert M. Op. cit., S. 202—336, 382—439.
28 Жирмунский B.M. Немецкая диалектология, с. 202—215.
29 W r e d e F. Die Enstehung der neuhochdeutschen Diphthonge. —
«Zeitschrift fiir deutsches Altertum», 1895, Bd. 39. — Для английского ср.:
Horn W., Lehnert M. Op. cit., S. 403.
30 См.: Жирмунский B.M. Немецкая диалектология, с. 238—247.
31 Kranzmayer E. Lautwandlungen und Lautverschiebungen
im gegenwartigen Wienerisch. — «Zeitschrift fiir Mundartforschung», 1962,
21, S. 197—223; Жирмунский В. M. Немецкая диалектология,
с. 202—203.
32 Жирмунский В.М. Готские аг, аи с точки зрения сравнитель-
ной грамматики и фонологии. — Наст, кн., с. 313—325.
33 Прокош Э. Сравнительная грамматика германских языков.
Пер. с англ. М., 1954, с. 103.
34 Ж и р м у н с к и й В. М. Введение..., с. 97—99.
35 Жирмунский В.М. Немецкая диалектология, с. 219—222.
36 Стеблин-Каменский М. И. Указ, соч., с. 132.
37 Жирмунский В.М. Введение. . ., с. 258.
"Бруннер К. История английского языка. Т. I. Пер. с нем. М.,
1955, с. 255.
39 Ж и р м у н с к и й В.М. Немецкая диалектология, с. 222—223.
40 Там же, с. 200—201.
41 Там же, с. 239.
42 Там же, с. 226, 239.
43 Стеблин-Каменский М. И. Указ, соч., с. 123—124.
44 Там же, с. 235.
45 Н о г n W., Lehnert М. Op. cit., S. 283, 335—336.
46 Там же, с. 203—205, 323—336.
47 Энгельс Ф. Франкский диалект. — В кн.: Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч. Т. 19, с. 523, 525, 529.
48 Жирмунский В. М. Немецкая диалектология, с. 231—237.
49 Стеблин-Каменский М. И. Указ, соч., с. 129—130;
ср.: В е с с е н Э. Скандинавские языки. Пер. с шв. М., 1949, с. 112.
60 Horn W., Lehnert М. Op. cit., S. 121—191.
61 Стеблин-Каменский M. И. Указ, соч., с. 130—131.
62 J espersen О. Op. cit., Ch. VI; Horn W., Lehnert M.
Op. cit., S. 974—993.
"Жирмунский B.M. Немецкая диалектология, с. 322.
"Жирмунский В. М. Введение..., с. 205—211.
"Жирмунский В.М. Немецкая диалектология, с. 258.
657
66 M i t z к a W. Die danische und die deutsche Konsonantenschwa-
chung. — «Zeitschrift fiir Mundartforschung», 1954, Bd. XX, S. 22.
67 Schmitt A. Die neuhochdeutschen Verschluplaute. — «Zeitschrift
fiir deutsche Philologie», 1931, H. 4—5.
68 Стеблин-Каменский M. И. Указ, соч., с. 136—137.
69 Там же, с. 138.
60 Жирмунский В. М. Немецкая диалектология, с. 281—296.
61 Там же, с. 320—127.
62 Winteler J. Die kerenzer Mundart des Kantons Glarus. Leipzig,
1876.
63 Fourquet J. Les mutations consonantiques du germanique. Paris,
1956.
64 Раевский M.B.K проблеме классификации родственных языков
на современном этапе их развития (на материале скандинавских языков).
Таллин, 1964, с. 17.
66 Fourquet J. Op. cit., р. 90.
66 Ср. замечания С. П. Боброва о применении теории вероятности к во-
просам структуры стиха. См.: Бобров С. П. Стихотворный размер
«Песен западных славян». — «Русская литература», 1964, № 3, с. 137.
Умлаут в английском языке по сравнению с немецким
1 М е й е А. 1) Основные особенности германской группы языков.
Пер. с франц. М., 1952, с. 28; 2) Сравнительный метод в историческом языко-
знании. Пер. с франц. М., 1954, с. 45—46.
2 См.: W г е d е F. Die Entstehung der neuhochdeutschen Diphthonge. —
«Zeitschrift fiir deutsches Altertum», 1895, Bd. 39, S. 257—300. — Ср.: Ж и p-
м у н с к и й В. M. Некоторые проблемы лингвистической географии. —
Наст, кн., с. 462—463.
3 И льиш Б. А. Современный английский язык. Изд. 2-е. Л., 1947,
с. 26—29.
4 См.: Жирмунский В.М. Умлаут в немецких диалектах с точки
зрения исторической фонологии. — Наст, кн., с. 597—598.
6 См.: Sievers Е., Brunner К. Altenglische Grammatik.
Halle, 1951, § 377, 421 f.
6 Там же, § 307-311.
7 Там же, § 371.
8 См.: Жирмунский В. М. Немецкая диалектология. М.—Л.,
1956, с. 462—465, 497—499.
9 См.: Sievers Е., ..Brunner К. Op. cit., § 407.
10 Ср.: б hmann Е. Uber Homonyme und Homonymie im Deutschen.
Helsinki, 1954 («Annales Academia Scientiarum Fennicae», Bd. XXXII,
S. 34—35).
11 Sievers E. Zum i-Umlaut im Angelsachsischen. — «Beitrage zur Ge-
schichte der Deutschen Sprache», 1902, Bd. 27, S. 206—208.
12 К последующему см.: Sievers E., Brunner K. Op. cit.,
§ 140-142.
Готские ai и au с точки зрения сравнительной грамматики
и фонологии
1 В учебном пособии М. М. Гухман «Готский язык» (М., 1958, с. 37—42)
дается краткое резюме основных разногласий, причем сам автор присоеди-
няется к дифтонгической теории.
2 Grimm J. Deutsche Grammatik, Tl. 1. 2. Aufl. Gottingen, 1822,
S. 43—43.
658
3 Weingartner W. Die Aussprache des Gothischen zur Zeit des Ulfi-
las. Leipzig, 1858, S. 39—43.
4 Dietrich F. Uber die Aussprache des Gothischen wahrend der Zeit
seines Bestehens. Marburg, 1862.
6 Wr e d e F. 1) Uber die Sprache der Wandalen. Strassburg, 1886,
S. 96—100; 2) Uber die Sprache der Ostgoten in Italien. Strassburg, 1891,
S. 165—166; Stamm F. L., H e у n e M. Ulfilas. 13—14. Aufl. Paderborn,
1920, 21 ff.
•Streitberg W. Gotisches Elementarbuch, § 34, 7—8 (cp. 5.
Aufl., Heidelberg, 1928, S. 68 ff.).
7 В r a u n e W. Gotische Grammatik. 13. Aufl., bearb. von K. Helm.
Halle, 1952, S. 13—20.
8 Wilmanns W. Deutsche Grammatik. Bd. 1. 2. Aufl. Strassburg,
1897, S. 228 (cp. 3. Aufl., 1911, S. 243—245, 345—347); Kluge F. Die Ele-
mente des Gotischen. Eine erste Einfiihrung in die deutsche Sprachwissenschaft.
Strassburg, 1921, S. 19—21; J ellinek M. H. Geschichte der gotischen
Sprache. Berlin, 1926, S. 42—44; Kieckers E. Handbuch der vergleichen-
den gotischen Grammatik. Munchen, 1928, S. 7—8; К rahe H.
Historische Laut-und Formenlehre des Gotischen. Heidelberg, 1948, S. 25—27,
34—35; Krause W. Handbuch des Gotischen. Munchen, 1953, S. 62—63.
9 P isa ni V. La pronunzia di ai, au in Gotico. — «Paideia», 1949,
anno IV, N 2—3, p. 118—120; S e h г t E. H. Ai und au im Gotischen. —
In: «Fragen und Forschungen im Bereich und Umkreis der germanischen Philo-
logie (Festgabe fiir T. Frings zum 70 Geburtstag)». Berlin, 1956, S. 1—11.
10 Trubetzkoy N. Zur allgemeinen Theorie der phonologischen
Vokalsysteme. TCLP, 1929, Bd. 1, S. 57.
11 Scherer W. Zur Geschichte der deutschen Sprache. 2. Aufl. Berlin,
1878, S. 202; Paul H. Beitrage zur Geschichte der Lautentwicklung und
Formenassoziation. — «Beitrage zur Geschichte der deutschen Sprache und Li-
teratur» (PBB), 1879 Bd. VI, S. 157; В r e m e r O. Germanisches ё. — PBB,
1886, Bd. XI, S. 51—76.
12 H i r t H. 1) Handbuch des Urgermanischen, Tl. I. Heidelberg, 1931,
S. 39—40; 2) Indogermanische Grammatik, Tl. I. Heidelberg, 1927, S. 116;
см. также: H ir t H. 1) Vom schleifenden und gestossenen Ton in den indo-
germanischen Sprachen. — IF, 1892, Bd. I, S. 206—207; 2) Zu den germanischen
Auslautsgesetzen, — IF, 1896, Bd. VI, S. 58—64; 3) Grammatische Miscellen. —
PBB, 1893, Bd. XVIII, S. 283-290.
13 H i r t H. Handbuch des Urgermanischen, Tl. I, S. 39. — Еще более
резко в другом месте: «Вульфила, пользовавшийся тремя разными алфави-
тами, чтобы создать свое письмо, был бы совершенным идиотом, если бы не был
в состоянии различить в письме ai от е, аи от о» (см.: Н i г t Н. Indogerma-
nische Grammatik, Tl. I, S. 116).
14 См. статью К. Марстрандера в: «Norsk tidskrift for sprogvidenskap»,
1928, Bd. I, Oslo, S. 232; Wright J. Grammar of the Gothic language.
Oxford, 1910, p. 362; F. M о sse. Manuel de la langue gotique. Paris, 1942,
p. 40—44 (2-e ed., Paris, 1956, p. 45—48); Prokosch E. A comparative
Germanic grammar. Philadelphia, 1939 (русск. перевод: Прокош Э.
Сравнительная грамматика германских языков. М., 1954, с. 102—103).
16 См.: Moulton W. G. The phonemes of Gothic. — «Language»,
vol. 24, N 1, 1948, p. 76—86; Bennet W. H. The monophthongization
of Gothic ai, du. — «Language», 1949, vol. 25, N 1, p. 15—21; P e n z 1 H.
Orthography and phonemes in Wulfila’s Gothic. — «Journ. of English and Ger-
manic philology», 1950, vol. XLIX, N 2, p. 207—230; Hamp E. P.l) Gothic
ai and au. — «Modern language notes», vol. LXXI, N 4, p. 265—269; 2) Gothic
ai and au again. — «Language», 1958, vol. 34, N 3, p. 359—363; Jones O. F.
1) Gothic ai in inflectional syllables. — «Language», 1956, vol. 32, N 4, p. 633—
640; 2) Gothic au in inflectional syllables. — «Language», 1958, vol. 34, N 1,
p. 33—39; 3) Gothic iu. — «Language», 1958, vol. 34, N 3, p. 345—352; M a r-
659
chand J. W. рец. на кн.: M о s s e F. Manuel de la langue gotique. —
«Language», 1957, vol. 33, N 2, p. 234—240.
16 P e n z 1 H. Op. cit., S. 230.
17 См. также: Жирмунский В. M. История немецкого языка.
5-е изд. М., 1965, с. 88.
18 Streiberg. Op. cit., §§ 19, 2 и 5.
19 См.: Sturtevant Е. The prounciation of Greek and Latin*
Philadelphia, 1940, p. 48—50.
20 Там же, с. 130—132.
21 Там же, с. 40—41.
22 Там же, с. 54—55.
23 См.: Schwarz Е. Go ten, Nordgermanen, Angelsachsen. Bonn,
1951, S. 56—57; cp.: Neckel G. Die Verwandschaften der germanischen
Sprachen untereinander. — PBB, 1927, Bd. 51, S. 3.
24 S treitberg W. Op. cit., § 68, Anm. 1.
25 Kieckers E. Op. cit., S. 202—203; Krause W. Op. cit.,
S. 76—77; Pisani V. Op. cit., p. 119—120.
28 Bremer O. Op. cit., S. 51 ff.; ср.: В r a u n e W. Althohdeutsche
Grammatik. 8. Aufl., bearb. v. W. Mitzka. 1955, §§ 110, 117.
27 См.: Жирмунский В. M. Немецкая диалектология. M.—Л.,
1956, с. 341.
28 Jacobsohn Н. Zwei Probleme der gotischen Lautgeschichte.
I. Gotisch saian. — «Zeitschrift fiir vergleichende Sprachforschung», 1915,
Bd. XLVII, S. 91—92.
29 Streitberg W. Op. cit., §§ 68 и 71; В r a u n e W. Op. cit.,
§§ 22 и 26 (иначе К. Хельм — см.: В г a u n е W. Op. cit. 13. Aufl.
bearb. von К. Helm. 1952, S. 16, 19).
30 S e h r t E. Op. cit., S. 4—9.
31 Streitberg W. Op. cit., § 71, 1; В г a и n e W. Op. cit., § 26
(иначе К. Хельм — см.: В г а и n е W. Op. cit., 13. Aufl., S. 19).
32 К г а и s е W. Op. cit., S. 102.
33 Р е n z 1 Н. Op. cit., S. 229; ср.: Н i г t Н. Handbuch des Urgermani-
schen, Tl. 1, S. 40.
34 P e n z 1 H. Op. cit., S. 229.
35 G r i m m J. Op. cit., S. 74.
36 Marchand J.W. Op. cit., S. 234—235. Cp.: Marchand J.W.
Dialect characteristics in our Gothic mss. — «Orbis», 1956, Bd. 5, p. 141—151.
37 Cm.: Kieckers E. Op. cit., S. 44. Cp.: Krause W. Op. cit.,
S. 77 (co знаком вопроса).
38 H i r t H. Urgermanische Grammatik, Tl. 1, S. 39.
39 Streitberg W. Op. cit., §§ 34, 7, Anm. 3.
47 J о n e s O. F. 1) Gothic ai in inflectional syllables, p. 639; 2) Gothic
au in inflectional syllables, p. 34.
41 H i r t H. Urgermanische Grammatik, Tl. II, S. 180. Ср. также: H irt H.
Grammatische Miscellen, S. 283—290.
42 Cm.: Hirt H. Urgermanische Grammatik, Tl. II, S. 171—172.
43 Там же, ч. I, с. 135—136; ч. II, с. 135, 184—187. Ср. также: Н i г t Н.
1) Vom schleifenden und gestossenen Ton in den indogermanischen Sprachen,
S. 206 ff. 2) Zu den germanischen Auslautgesetzen, S. 58 ff.
44 Обзор теорий дается в работе: Jellinek М. Beitrage zur Erklarung
der germanischen Flexion. Berlin, 1891, S. 94—105. Cp.: Brugmann K.,
Delbriick B. Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogerma-
nischen Sprachen. Bd. II. Strassburg, 1893, S. 444; Kieckers E. Op. cit.,
S. 192; Krause W. Op. cit., S. 213.
45 IF, 1896, Bd. II, S. 59.
46 J о n e s O. F. Gothic au in inflectional syllables, p. 35—36.
47 Mo sse F. Op. cit., 2-e ed., p. 47.
48 Cp.: S c h 6 n f e 1 d M. Worterbuch der altgermanischen Personen-
und Volkernamen. Heidelberg, 1911, S. 99—100.
660
49 В гетег О. Op. cit., S. 53. — О. Бремер приводит вестготское
имя Freidebadus (VII в.) с готским написанием ei вместо г.
60 Schonfeld М. Op. cit., S. 38.
61 Streit berg W. Op. cit., §§15, 34, 7.
62 Wr ede F. Ostgoten, S. 165 (выводы).
63 Gm.: Streitberg W. Op. cit., Anh. III.
54 Gm.: Meyer-Liibke W. Romanische Namenstudien. — «Sitzungs-
berichte der Wiener Akademie», 1905, Bd. CXLIV, S. 1 ff., 99 ff.; Gamillscheg
E. 1) Romania germanica. Bd. II. Berlin, 1935, S. 33 ff.; 2) Historia linguistica
de los visigodos. — «Revista di filologia espanola», 1932, t. XIX, p. 149 ff.
56 Gm.: P e n z 1 H. Op. cit., S. 228—229; Hamp P. Gothic ai and auf
p. 267—269.
66 П p о к о ш Э. Указ, соч., с. 103.
67 О тенденции готского вокализма к сужению гласных среднего уровня
(долгих и кратких) см.: Жирмунский В. Сравнительно-историческая
грамматика и диалектология. — Наст, кн., с. 409.
68 М о s s ё F. Op. cit., р. 40. — По мнению Г. Хирта («Indogermanische
Grammatik», Tl. I, p. 116),. «. . . ai и au — повсюду монофтонги, которые
могли быть долгими или краткими, поскольку количество гласного не обозна-
чалось в латинском и греческом алфавитах, послуживших для Вульфилы
образцами».
69 Ср.: Hamp Р. 1) Gothic ai and аи, S. 265; 2) Gothic ai and au again,
S. 359; Marchand J. W. Op. cit., S. 236. — Иначе у В. Беннета и Г. Пен-
цля, которые следовали в этом вопросе за Г. Хиртом и Ф. Моссе.
60 Особенно произвольный и искусственный характер имеют фонологи-
ческие схемы готского вокализма, предлагаемые О. Ф. Джонсом (см.: J о-
n е s О. F. Gothic iu, р. 357) и П. Хэмпом (см.: Hamp Р. Gothic ai and аи
again, S. 360—363).
61 Marchand J. W. Op. cit., S. 236.
62 Sturtevant E. Op. cit., p. 104—105.
63 H i r t H. Indogermanische Grammatik, Tl. I, S. 116.
64 Mosse F. Op. cit., p. 40.‘
65 Фонд 90, опись 1, № 50 — Курс Ф. Ф. Фортунатова «Готский язык»
сохранился в двух тетрадях. Тетрадь I (лл. 1—70) содержит запись 30 лекций
(историческая фонетика и начало исторической морфологии), переписанную
начисто, с карандашными поправками, которые внесены в окончательный
текст, содержащийся в тетради II (лл. 74—105; только 7 первых лекций —
начало фонетики). В ту же тетрадь II вошли черновые записи и наброски
к лекциям, сделанные рукой самого Ф. Ф. Фортунатова (лл. 106—121).
66 Подразумевается издание текста Вульфилы с грамматикой и слова-
рем: Stamm F. L. — Heyne М. Ulfilas. 6. Aufl. Paderborn, 1874.
Грамматический аблаут в германских языках
1 К и г у 1 о wicz J. L’apophonie en indo-еигорёеп. Wroclaw, 1956,
p. 383.
2 H i r t H. Indogermanische Grammatik. Bd. 2. Heidelberg, 1928, S. 200.
3 Здесь и в дальнейшем я пользуюсь составленным мною полным списком
сильных глаголов в древнегерманских языках. Подсчеты эти остаются при-
близительными, так как некоторые случаи допускают различное'толкование.
4K urylowicz J. Op. cit., р. 308—312.
5 Нд г t Н. Op. cit., Bd. 2, S. 201; ср.: Kuryiowicz J. Op. cit.,
p. 310—311.
6 Goetsem Fr. van. Das System der starken Verba und die Periodi-
sierung im alteren Germanischen. Amsterdam, 1956, S. 47—74; Lehmann W.
Proto-Indo-European Phonology. Austin, Texas, 1955, p. 69—73; Андре-
ев H. Д. Германский глагольный аблаут в свете ларингальной теории. —
«Труды Ин-та языкознания АН СССР», 1959, т. IX, с. 149—160.
661
1930? М ef4o 1 6 A' ^arac^eres generaux des langues germaniques. Paris,
8 Там же, с. 3.
9 Жирмунский В. М. Умлаут в английском языке по сравнению
с немецким. — Наст, кн., с. 298—313.
10 W ilmanns W. Deutsche Grammatik. II. Abt. Strasburg, 1899,
S. 43.
11 Жирмунский В. M. Немецкая диалектология. М.—Л., 1956,
с. 467—469, 499.
12 Ср.: Brugmann К., Delbriick В. Grundrip der vergleichen-
den^ Grammatik der indogermanischen Sprachen. Bd. 2, Tl. I. Strasburg, 1906,
S. 166—168.
13 Cp.: Burrow T. The Sanskrit Language. London, pp. 178—179;
Lindner B. Altindische Nominalbildung. Jena, 1878, S. 57.
14 О женск. wurd (герм*, uurpiz — сакральное слово) ср. исследование
Витторе Пизани «Wurd» («Paideia», 1958, XIII, р. 105—109).
16 В a h d е г К. v. Die Verbalabstracta in den germanischen Sprachen.
Halle, 1880, S. 25—34.
16 Согласно любезному сообщению проф. Карг-Гастерштедт, в обычном
значении засвидетельствовано уже у Ноткера.
17 W i ] m a n n s W. Op. cit., Bd. 2, S. 187; ср.: Н е n z е n W. Deutsche
Wortbildung. Tubingen, 1957, S. 126.
18 W i 1 m a n n s W. Op. cit., Bd. 2, S. 188—189.
19 Henzen W. Op. cit., S. 242—243.
20 Cp.: Brugmann K., Delbriick B. Op. cit. Bd. 2, T. III.
Strapburg, 1913, S. 244—269; Hirt H. Op. cit. Bd. 4. Heidelberg, 1928,
S. 227—252; cp.: Kurylowicz J. Op. cit., p. 86—94.
21 Cp.: Burrow T. Op. cit., p. 356—357.
22 Kurylowicz J. Op. cit., p. 92.
23 Brugmann K., Delbriick B. Op. cit., Bd. 2, T. Ill, S. 249—
5 0, 263—264.
24 Wilmanns W. Op. cit., Bd. 2, S. 43; 6 h m a n n E. Uber Ho-
monymie im Deutschen. Helsinki, 1934, S. 37.
Развитие строя немецкого языка
1 В новейшее время в особенности — Есперсен; ср.: J esp er sen О.
Progress in Language. London, 1894, p. 79 pass.
2 G r i m m J. Uber den Ursprung der Sprache. Berlin, 1858, S. 36.
3 Grimm J. Deutsche Grammatik. Bd. 1. Gottingen, 1822, S. XL
^Schleicher A. Sprachvergleichende Untersuchungen. Bd. 1.
Bonn, 1848, S. 14 f.
5 Schleicher A. Die deutsche Sprache. Stuttgart, 1879, S. 34.
6 J esp ers e n O. Progress in Language.
7 J esp e r s e n 0. Die Sprache. Heidelberg, 1925, S. 349 f.
8 Об этом Есперсен говорит как о факте самоочевидном; ср.: Die Sprache,
S 59
9 Ср.: Horn W. Sprachkorper und Sprachfunktion. Berlin, 1923, S. 21 f.,
51 f.
10 Cp.: Vossler К. 1) Geist und Kultur in der Sprache. Munchen,
1925, S. 56—83 («Neue Denkformen im Vulgarlatein»); 2) Frankreichs Kultur
im Spiegel seiner Sprachentwicklung. Heidelberg, 1921, S. 61 f.
11 В e hagh el 0. Deutsche Syntax. Bd. 4. Heidelberg, 1932, S. VII—
VHI.
12 Ср. кн.: Проблемы литературной формы. Под. ред. В. М. Жирмун-
ского. Л., 1928, с. VIII—XIII.
13 L е г с h Е. Die Verwendung des romanischen Futurums als Ausdruck
eines sittlichen Sollens. Munchen, 1919.
662
14 Н е g е 1 G. W. Fr. Philosophie der Geschichte (1837). — In: Vorle-
sungen fiber die Philosophie der Geschichte. Berlin, 1937, S. 62.
16 Cp.: Jespersen 0. Progress. . . , p. 40 pass.
16 Wilmanns W. Deutsche Grammatik. Bd. 3. Strasburg,„1909, S. 687.
17 Там же, с. 687.
18 В e h aghe 1 0. Op. cit. Bd. 2. Heidelberg, 1924, S. 26 f.
19 P a u 1 H. Deutsche Grammatik. Bd. 4, 1955, S. 15 ff.
• 20 Wilmanns W. Op. cit., Bd. 3, S. 2.
2 1Siitterlin L. Die deutsche Sprache der Gegenwart. 3. Aufl. Leip-
zig, 1910, S. 228.
22 P a u 1 H. Op. cit., Bd. 4, S. 137 f.
23 Cp.: L о г с к E. Passe defini, Imparfait, Passe indefini. — «Germa-
nisch-romanische Monatsschrlft», 1914.
24 Wilmanns W. Op. cit., Bd. 3, S. 176.
25 Там же, с. 178.
26 В e h a g h e 1 0. Gebrauch der Zeitformen. Paderborn, 189g, S. 67.
27 Wilmanns W. Op. cit., Bd. 3, S. 44.
28 Ср. по этому вопросу статью В. П. Погорельской «Глагольные пре-
фиксы» (в кн.: Вопросы немецкой грамматики в историческом освещении.
Л., 1935, с. 61 сл.).
29 Streitberg W. Perfektive und imperfektive Aktionsart im Ger-
manischen. — «Beitrage zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur»,
1891, Bd. XVI, S. 82 f.
30 Cp.: Brugmann K. Kurze vergleichende Grammatik. Strasburg,
1904, S. 341 f.
31 См.: Сокольская T. В. Сложно-подчиненное предложение в не-
мецком языке. — В кн.: Вопросы немецкой грамматики в историческом
освещении. Л., 1935, с. 148—171.
32 См.: Bach A. Deutsche Mundartforschung. Heidelberg, 1934, S. 147;
Havers W. Handbuch der erklarenden Syntax. Heidelberg, 1931, S. 47.
33 M i s t e 1 i F. Charakteristik der Typen des Sprachbaues. Berlin,
1893, S. 173-179.
34 Там же, с. 1T2—114. — Об инкорпорации в связи с словосложением
ср.: Десницкая А. В. Словосложение. — В кн.: Вопросы немецкой
грамматики в историческом освещении. Л., 1935, с. 130—147.
35 См.: Марр Н. Я. Новый поворот в работе по яфетической теории. —
В кн.: Марр Н. Я. Избранные работы. Т. I. Л., 1933, с. 323.
36 Ср.: Jespersen О. Growth and Structure of English Language.
Leipzig, 1935.
37 Мещанинов И. И. Проблема классификации языков в свете
нового учения о языке. — В кн.: Отчет о деятельности АН СССР в 1933 г.
Л., 1934, с. 22.
Проблема социальной дифференциации языков
1 См.: Жирмунский В. Проблемы соцпальпой диалектологии. —
«Изв. АН СССР. Отд-ние лит. и яз.», 1964, т. XXIII, вып. 2, с. 102—105.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 12, с. 731.
3 Л о м о п о с о в М. В. Полное собрание сочинений, т. 7. М.—Л.,
1952, с. 590.
4 Р о 1 еп z Р. v. Die altenburgische Sprachlandschaft. Tubingen, 1954;
Grope R. Die meissnische Sprachlandschaft. Halle, 1955; P г о t z e H.
Das Westlausitzische und Ostmeissnische. Halle, 1957; Fleischer W.
Namen und Mundart im Raum von Dresden. Berlin, 1961; Bellmann G.
Mundart und Umgangssprache in der Oberlausitz. Marburg, 1962.
6 Rosenkranz H.. Spangenberg K. Sprachsoziologische
Studien in Thiiringen. Berlin, 1963.
6 P о 1 e n z P. Op. cit., S. 105.
? Grope R. Op. cit., S. 29.
6G3
8 См.: Жирмунский В. Немецкая диалектология. М.—Л., 1956,
с. 546—551.
9 Fleischer W. Op. cit., S. 161.
10 M a p к с К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 427.
11 Л е н и н В. И. О праве наций на самоопределение. — Поли. собр.
соч., т. 25, с. 258—259.
12 Ferguson Ch. A. Diglossia. — «Word», 1959, v. 15, N 2, p. 324—340,
13 Hain M. Sprichwort und Volkssprache. Eine volkskundlich-soziolo-
gische Dorfuntersuchung. Giessen, 1951, S. 17—29.
14 См.: Жирмунский B.M. Немецкая диалектология, с. 554—556.
15 См.: Там же, с. 567—573.
16 См.: Н е n z е n W. Schriftsprache und Mundarten. Ein Uberblick
iiber ihr Verhaltnis und ihre Zwischenstufen im Deutschen. 2. Aufl. Bern, 1954,
S. 19.
17 Spangenberg K. Tendenzen volkssprachlicher Entwicklung in
Thiiringen. Studien zur Sprachschichtung. — In: Sprachsoziologische Studien
in Thiiringen. Berlin, 1963, S. 58—73.
18 К u f n e г H. L. Strukturelle Grammatik der Miinchner Stadtmundart.
Munchen, 1961; Heike G. Zur Phonologie der Kolner Stadtmundart. Mar-
burg, 1964.
19 Ср. по кельнскому диалекту: Muller W. Untersuchungen zum
Vokalismus der stadt- und landkolnischen Mundart. Bonn, 1912.
20 Сергиевский M.B. Проблема социальной диалектологии в исто-
рии французского языка XVI—XVII вв. — «Учен. зап. Ин-та языка и лите-
ратуры РАНИОН», т. I, М., 1927, с. 25.
21 М а и г е г Fr. Sprachschranken, Sprachraume und Sprachbewegungen
im Hessischen. Giessen, 1930 (K. No 3, 4, 7, 8, 13); ср.: Ж ирму некий В.
Немецкая диалектология, с. 552—554 и карта № 20.
22 Ф р и н г с Т. Образование «мейссенского» немецкого языка. — В кн.:
Немецкая диалектография. Перев. под ред. В. Жирмунского. М., 1955,
с. 206—219.
23 Gro₽e R. Op. cit., S. 34—45.
24 M e i 11 e t A. Les langues dans 1’Europe nouvelle. 2-me ed. Paris,
1928, p. 108.
25 M e i 1 1 e t A. Apercu d’une histoire de la langue grecque. Paris, 1965,
p. 324.
26 В r u n A. Parlers regionaux. France dialectale et unite franQaise.
Paris, 1946; D a u z a t A. Les patois. Paris, 1927; В a u c h e H. Le language
populaire. 4-me ed. Paris, 1951.
И 27 W у 1 d H. C. A history of modern colloquial English 3th ed. Oxford,
1956, p. 1—25.
28 H о г n W., Lehnert M. Laut und Leben. Englische Lautges-
chichte der neueren Zeit (1400—1950). Bd. 2. Berlin, 1954. См. в особенности:
«Soziologie der Lautgeschichte», Bd. II, § 533—537, S. 1193—1211.
29 W у 1 d H. C. Op. cit., p. 7.
30 Schirmunski W. Die gemeinsamen Tendenzen in der Lautent-
wicklung der germanischen Sprachen..— «Zeitschrift fiir Anglistik und Ame-
rikanistik», 1966, H. 1.
31 Siver.tsen E. Cockney phonology. Oslo, 1960.
32 F rankly n J. The Cockney. A survey of London-life and language.
London, 1953; M a't t'h e w s W. Cockney past and present. London, 1938.
Сравнительно-историческая грамматика и диалектология
1 М е й е А. Основные особенности германской группы языков. М.,
1952, с. 22.
2 Там же, с. 34.
3 Ср.: Жирмунский В. М. Немецкая диалектология. М., 1956,
с. 3 и 536.
664
4 Osthoff Ы. und Brugmann К. Morphologische Untersuchungen
auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen. Bd. I. Leipzig, 1878, Vor-
wort, S. IX—X.
6 M ei Het A. Les dialectes indoeuropeens. Paris, 1908 (2-me ed., 1922).
6 Исключение представляют две работы Теодора Фрингса, посвященные
специальным вопросам сравнительной грамматики германских диалектов:
Frings Th. 1) Germanisches о und ё. — «Beitrage zur Geschichte der
deutschen Sprache und Literatur» (PBB), Bd. 63, 1939, S. 1—117; 2) Vom g,
von seinen Lautwerten und von germanischen Sprachlandschaften. — «Rheinische
Vierteljahrsblatier», 1955, Bd. 20, 1. TL, S. 170—191.
7 S t r e i t b e r g W. Urgermanische Grammatik Einfuhrung in das
vergleichende Studium der altgermanischen Dialekte. Heidelberg, 1896 (2.
Aufl. — Heidelberg, 1943), § 13. — Эта классификация сохранилась в основ-
ном и в таких более новых сравнительно-исторических пособиях, как: Про-
кош Э. Сравнительная грамматика германских языков. М., 1954, с. 15—22.
8 См.: Жирмунский В.М. Немецкая диалектология, с. 33—62.
9 По этому вопросу см. в особенности: Loewe R. Die ethnische und
sprachliche Gliederung der Germanen. Halle, 1899; Neckel G. Die Ver-
wandtschaften der germanischen Sprachen. — «Beitrage zur Geschischte der
deutschen Sprache und Literatur», 1927, Bd. 51, S. 1—17; новейшую сводку
дает: Schwarz E. Goten, Nordgermanen, Angelsachsen. Studien zur Aus-
gliederung der germanischen Sprachen. Bern, 1951. Ср. также: Schwarz E.
Germanische Stammeskunde. Heidelberg, 1955.
10 См.: Прокош Э. Сравнительная грамматика, с. 88.
11 Schwarz Е. Goten, Nordgermanen, Angelsachsen, S. 47—120.
12 См: Жирмунский В.М. Немецкая диалектология, с. 14—15.
13 См.: Behaghel О. Deutsche Syntax. Bd. I. Heidelberg, 1923,
S. 641.
14 Cm.: Behaghel 0. Op. cit., Bd. II, S. 430—433; Ярцева В. H.
Развитие сложноподчиненного предложения в английском языке. Л., 1940,
с. 18—19; ср. также: Молодцова Е.П. Обороты с причастием в древне-
верхненемецком языке. Автореф. канд. дисс. М., 1955.
16 Streitberg W. Gotisches Elementarbuch, § 34, Anm. 2.
16 Там же, § 22—23.
17 Там же, Anh. III.
18 Ср. в особенности: Wolff L. Die Stellung des Altsachsischen. —
«Zeitschrift fiir deutscbes Altertum», 1934, Bd. 71, S. 129—154; Rooth E. Sa-
xonica. Beitrage zur niedersachsischen Sprachgeschichte. Lund, 1949; F о e r-
s t e W. Geschichte der niederdeutschen Mundarten. — In: «Deutsche Philo-
logie im Aufriss». Herausg. v. W. Stammler. Bd. II, Berlin, 1954, Sp. 1905—
1934 (с библиографией).
19 Об ингвеонизмах см. специально: Frings Th. Die Stellung der
Niederlande im Aufbau des Germanischen. Halle, 1944, Anh.: Ingwaonismen,
S. 30—42.
20 Энгельс Ф. Франкский диалект. — Маркс К., Энгельс Ф*
Соч. т. 19, с. 522.
21 Энгельс отмечает в «Гелианде» andar рядом с odhar как новую франк-
скую форму рядом с исконной ингвеонской. См.: Энгельс Ф. Франк-
ский диалект, с. 521.
22 Вредэ Ф. К истории развития немецкой диалектологии. — В кн.:
Немецкая диалектография, М., 1955, с. 36—38. (См.: W г е d е F. Zur Ent-
wicklungsgeschichte der deutschen Mundartenforschung. — «Zeitschrift fiir
deutsche Mundarten», 1919, H. 3—4, S. 15—16).
23 Энгельс Ф. Франкский диалект, с. 526—527.
24 На материале скандинавских языков см.: Стеблин-Камен-
ский М. И. История скандинавских языков. М.—Л., 1953, с. 107—108.
О фонологии умлаута в немецком языке см.: Р е n z 1 Н. Umlaut and Secon-
dary Umlaut in Old High German. — «Language», 1949, vol. 25, p. 223—240
(без учета диалектного материала). Подробнее см.: ЖирмунскийВ. М.
43 В. М. Жирмунский
665
Умлаут в немецких диалектах с точки зрения исторической фонологии. Наст,
кн., с. 595—605.
26 См.: Paul Н. Nachtragliches zum germanischen Vokalismus. —
«Beitrage zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur», 1887, XII,
S. 548 ff.; Kauffmann F. Geschlossenes E aus Ё nqt I. — Там же, 1888,
XIII, S. 393 ff. — Это обстоятельство позволяет ответить на вопрос, постав-
ленный Фуркэ, каким образом новое закрытое е, продукт ассимиляции а
последующему -г, могло «перескочить» через старое, более открытое ё, суще-
ствовавшее еще в общегерманском (см. Fourquet J. The two E’s of Middle
High German. A Diachronic Phonemic Approach. — «Word», 1952, vol. 8,
No 12, p. 122 e. а.). В древневерхненемецком языке e—ё являются не само-
стоятельными фонемами, а позиционными вариантами одной фонемы, из ко-
торых закрытый вариант е стоит перед последующим узким передним глас-
ным -i.
26 К г о h W. Beitrage zur nassauischen Dialektgeographie. Marburg,
1915, S. 77—79; см.: Жирмунский В. M. Немецкая диалектология,
с. 188.
27 В е h a g h е 1 О. 1) Mhd. iu und и. — «Germania», 1889, Bd. 34,
S. 247 ff. 2) Geschichte der deutschen Sprache, 5. Aufl. 1928, S. 319—321.
28 См.: Жирмунский B.M. Немецкая диалектология, с. 211 и сл.
29 Т а г г а 1 N-. Laut- und Flexionslehre der Mundart des Kantons Fal-
kenberg in Lothringen. Strassburg, 1903, S. 30—31.
30 Holthausen F. Vocalismus der Soester Mundart. Halle, 1885,
S. 20; cp.: S a r a u w Chr. Niederdeutsche Forschungen. 1. Vergleichende
Lautlehre der niederdeutschen Mundarten im Stammlande. Kobenhavn, 1921,
S. 143-196.
31 См.: Жирмунский В. M. Немецкая диалектология, ч. II,
гл. VI, § 3-6.
32 Lessiak Р. Beitrage zur Geschichte des deutschen Konsonantismus.
Prag, 1933; см. также: Zabrocki L. Usilnenie i lenicja w jezykach in-
dieuropejskich i w ugrofinskim. Poznan, 1951.
33 Энгельс Ф. Франкский диалект, с. 542.
34 Жирмунский В. М. Немецкая диалектология, с. 317—320.
36 М i t z k a W. Die danische und die deutsche Konsonantenschwachung.
«Zeitschrift fiir Mundartforschung», 1954, Bd. 22, S. 65—68.
36 P a u 1 H. Zur Lautverschiebung. — «Beitrage zur Geschichte der
deutschen Sprache und Literatur», 1874, Bd. 1, S. 147—201.
37 F г a n k J. Germanisch b, d, g. — «Zeitschrift fiir deutsches Alter-
tum», 1913, Bd. 54, S. 1—22.
38 В a e s e ck e G. Einfiihrung in das Althochdeutsche. Munchen, 1918,
S. 103—104; Behaghel O. Geschichte der deutschen Sprache, S. 409 ff.,
414 ff.
39 Schatz J. Die Mundart von Imst in Tirol. Innsbruck, 1897, S. 82;
Lessiak P. 1) Рец. на кн.: Franck J. Altfrankische Grammatik.
Gottingen, 1909. — «Anzeiger fiir deutsches Altertum». 1910, Bd. 34, S. 194—
195; 2) Beitrage zur Geschichte des deutschen Konsonantismus, S. 23 ff.,
132 ff., 272—279.
40 Ж и p м у н с к и й B.M. Немецкая диалектология, с. 300 и сл.
41 Энгельс Ф. Франкский диалект, с. 545.
42 В а е s е ck е G. Einfiihrung in das Althochdeutsche, S. 252—255;
Schmitt A. Akzent und Diphtongierung. Heidelberg, 1931.
43 Sievers E. Grundziige der Phonetik. 5 Aufl. Leipzig, 1901, S. 694.
44 H e n г у V. Le dialecte alaman de Colmar. Paris, 1900, p. 6 e. a.
46 Cp.: W r e d e F. Die Entstehung der neuhochdeutschen Dipthonge. —
«Zeitschrift fiir deutsches Altertum», 1895, Bd. 39, S. 257.
46 С точки зрения фонологической системы интересно отметить обстоя-
тельство, может быть не случайное, что дифтонгизация узких долгих отсут-
ствует только в таких диалектах, где не было дифтонгов ie, ио, йе (в нижне-
немецком, рипуарском, гессенском), либо где они сохранили свой дифтонги-
ческий характер (в алеманнском).
666
47 Жирмунский В. М. Немецкая диалектология, с. 202—203;
Reis Н. Die Mundarten des Grossherzogtums Hessen. Halle, 1910, S. 72.
48 Gm.: S tei nhauser W. Beitrage zur Kunde der bairischoster-
reichischen Mundarten. — «Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wis-
senschaften», philos.-histor. Klasse, 1922, Bd, 195, S. 8; К r a n z m ay er E.
Lautwandlungen und Lautverschiebungen im gegenwartigen Wienerisch. —
«Zeitschrift fiir Mundartforschung», 1952—1953, Bd. 21, S. 197—239.
49 Жирмунский В. M. Немецкая диалектология, с. 222—223.
50 Larsson Н. Lautstand der Mundart der Gemeinde Altengamma
(in den Vierlanden bei Hamburg). Hamburg, 1917, S. 51 ff.
51 Gm.: Friedrich W. Die Flexion des Hauptwortes in den heutigen
deutschen Mundarten. — «Zeitschrift fiir deutsche Philologie», 1900, Bd. 32,
S. 484—501; 33, 1901, S. 45—84; Жирмунский В. M. Немецкая диа-
лектология, ч. Ill, гл. I, §§ 1—2.
52 См.: Жирмунский B.M. История немецкого языка. Изд. 5-е.
М., 1965, с. 201—208.
53 S с h a t z J. Die Mundart der Imst. Strassburg, 1897, S. 121—125.
64 6 hm a nn E. Der s-Plural im deutschen. — «Annales Academiae
Scientiarum Fennicae», 1924, Ser. B, Bd. XVIII, No 1, Helsinki.
55 J e 1 1 i n gh au s H. Westfalische Grammatik. Braunschweig, 1877,
S. 77.
56 L i e n h ar t H. Laut- und Flexionslehre der Mundart des mittleren
Zorntales im Elsass. Strassburg, 1891, S. 44.
57 L a s c h A. Mittelniederdeutsche Grammatik. Halle, 1901, S. 197;
S a r a u w Chr. Niederdeutsche Forschungen. Bd. II. Kobenhavn, 1924, S. 33.
58 Lof st ed t E. Ostfalische Studien. Lund, 1933, S. 69.
59 Подробнее в моей работе: «Умлаут в английском языке по сравнению
с немецким» см. наст, кн., с. 298—313.
Методика социальной географии
(Диалектология и фольклор в свете географического исследования)
1 По этому вопросу см. статью Л. П. Якубинского «Классовый состав
современного русского языка», гл. IV, «Язык крестьянства» («Литературная
учеба», 1930, № 4). К аналогичным выводам я пришел исходя из проблем
современной диалектографии и фольклористики (см. ниже).
2 Gp.: Gillieron J. Genealogie des mots qui ont designe 1’abeille.
Paris, 1918; S p i t z e г L. Die Namengebung bei neuen Kulturpflanzen im
Franzosischen. Heidelberg, 1912 («картофель») и др.
3 Б. Мартин (44) приводит пример смешения синонимов сев. die Harke
и южн. der Rechen в округе Hofgeismar: пограничная полоса имеет der Har-
ken и даже der Herken.
4 Фрингс (39) и (50) объяснил кельнскую форму ollich елук’ как смеше-
ние из Опп (ср.-в.-нем. iinne < лат. unio) и louch, т. е. как латинское слово,
поясненное германским. При этом он исходил из расположения синонимов
на карте. Впоследствии в древненемецких глоссах было действительно обна-
ружено существование смешанной формы unelouch. Старая формальная
этимология возводила ollich к лат. alium.
5 Мег i nger R. Das deutsche Haus und sein Hausrat. 1906.
6 M a n nh ar d t W. Roggenwolf und Roggenhund (1865). Korndamo-
nen (1868). Wald- und Feldkulte (1875—1877).
О некоторых проблемах лингвистической географии
1 W г е d е F. Zur Entwicklungsgeschichte der deutschen Mundartenfor-
schung. — In: «Zeitschrift fiir deutsche Mundarten», Berlin, 1919, H. 1/2,
S. 8—9.
8 В a c h A. Deutsche Mundartforschung. 2. AufL Heidelberg, 1950, S. 56.
667 43*
3 Там же, с. 76—78.
4O sthoff Н. Das physiologische und psychologysche Moment in der
sprachlichen Formenbildung. Berlin, 1879, S. 13.
5 Brugmann K. Zum heutigen Stand derSprachwissenschaft. Strass-
burg, 1885, S. 49-50.
6 В качестве типического примера Энгельс приводит высказывание
известного немецкого критика Берне (Borne), который «. . . жаловался в своих
парижских письмах, что французы якобы не умеют различать Ъ и р, так как
они упорно полагали, будто его фамилия, которую он произносил как
Рете, начинается па р» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 19,
с. 545).
7 См.: Haag К. 1) Die Mundarten des oberen Neckar- und Donaulandes,
Reutlingen, 1898, S. 88 ff.; 2) 7 Satze fiber Sprachbewegung. — In: «Zeitschrift
fiir hochdeutsche Mundarten», 1900, Bd. I. Heidelberg, S. 138—141.
8 H a a g K. Sprachwandel im Lichte der Mundartgrenzen. — «Teutho-
nista», 1929/30, Jg. 6, S. 8.
9 H a a g К. 1) Die Mundarten des oberen Neckar- und Donaulandes,
S. 8; 2) Uber Mundartengeographie. — «Alemannia», 1901, Bd. 29, S. 238.
10 Bohnenberger K. Die Grenze von anlautendem к gegen anlau-
tendes ch. — «Alemannia», 1900, Bd. 28, S. 235.
11 Cm.: Aubin H., Frings Th., Muller J. Kulturstromungen
und Kulturprovinzen in den Rheinlanden. Geschichte. Sprache. Volkskunde.
Bd. II. Bonn, 1926; Th. Frings. Sprache. Bonn, 1926, S. 153, 161; K. NN 52, 56.
12 P a Ige n H. Studien zur Lautgeographie Luxemburgs. Luxemburg,
1949, S. 18—20.
13 F i s c h e r H. Geographic der schwabischen Mundart. Tubingen, 1895,
S. 37—39, K. NN 12, 5.
14 Ср. полемику по поводу книги ученика Бурдаха А. Берндта (В е г-
n d t A. Die Entstehung unserer Schriftsprache. Berlin, 1936); см. рец.:
Schwarz E. Die Grundlagen der neuhochdeutschen Schriftsprache. —
«Zeitschrift fiir Mundartforschung», 1936, Jg. 12,H. 1, S. 1—15; SchmittL.E.
Zur Entstehung und Erforschung der neuhochdeutschen Schriftsprache. —
Там же, H. 4, S. 193—223; см. также рец. В. Жирмунского на труды Т. Фрингса
в журн. «Известия АН СССР. Отделение лит-ры и языка», М., 1940, № 2,
с. 140—142.
16 Wagner К. Deutsche Sprachlandschaften. Marburg, 1927, S. 37.
16 См.: В г a u n e W. Zur Kenntnis des Frankischen und zur hochdeut-
schen Lautverschiebung. — «Beitrage zur Geschichte der deutschen Sprache
u. Literatur», 1874, Bd. 1, S. 36—37.
17 Bremer O. Deutsche Phonetik. Bd. I. Leipzig, Halle, 1893, S. XII.
18 Ср.: В a e s e c k e G. Einfiihrung in das Althochdeutsche. Munchen,
1918; Schmitt A. Akzent und Diphtongierung. Heidelberg, 1931.
19 W г e d e F. Die Entstehung der neuhochdeutschen Diphthonge. —
«Zeitschrift fiir deutsches Altertum», 1895, Bd. 39, Berlin, S. 257—300.
20 См.: Жирмунский В. M. К вопросу о внутренних законах раз-
вития немецкого языка. — «Доклады и сообщения [Йн-та языкознания]»,
1953, т. V, с. 81.
21 См.: KauffmannF. Geschichte der schwabischen Mundart. Strass-
burg, 1890, S. 66.
22 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 518—546.
23 Подробнее см. с. 545—547 наст. кн.
24 Frings Th. Friedrich Engels als Philologe. — «Tagliche Rundschau»
(Berlin), 1946, 18 VIII, S. 3.
25 Frings Th. Germania romana. Halle, 1932, S. 210.
26 Frings Th. Grundlegung einer Geschichte der deutschen Sprache.
Halle, 1948, S. 5-7.
27 См.: Жирмунский В. К вопросу о внутренних законах разви-
тия немецкого языка, с. 81.
28 См.: Frings Th. Studien zur Dialektgeographie des Niederrheins
zyvischen Dusseldorf und Aachen. Marburg, 1913, S. 68—74,
668
29 См.: Frings Th. Rheinische Sprachgeschichte. Essen, 1924, S. 18—19;
Aubin H., Frings Th., M ii 1 1 e r J. Kulturstromungen. . . , K. NNo 61,
65.
30 Cm.: Aubin H., Frings Th., Muller J. Kulturstromun-
gen. . . , K. NNo 65 и 55.
31 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 546.
32 Frings Th. Germania romana, S. 210.
33 См.: L a s c h A. Berlinisch. Berlin, 1929; ср.: Жирмунский В.
Восточносредненемецкие говоры и проблема смешения диалектов. — Наст,
1кн., с. 524—530.
34 Ср.: S с h и с h а г d t. Н. 1) Der Vokalismus des Vulgarlateins, Bd.
UII. Leipzig, 1868, S. 32; 2) Uber die Klassifikation der romanischen Mundar-
len. (Leipziger Probevorlesung, 1870). Graz, 1900; ср.: Ш у x a p д т Г,
Избранные статьи по языкознанию. М., 1950, с. 122—140.
36 М е у е г Р. Рец. на кн.: Archivio glottologico italiano diretto da
*G. I. Ascoli, t. Ill («Schizzi franco-provenzali»). — «Romania», 1875, No 14,
:p. 293—296.
"Paris G. Les Parlers de la France (Lecture faite a la reunion des
:Societes savantes 26 V 1888). — In: Melanges linguistiques, t. II. Paris, 1907,
jp. 432—448; см.: там же, с. 435.
37 P a u 1 H. Prinzipien der Sprachgeschichte. Halle, 1880, S. 237—240.
38 Cm.: Aubin H., Frings Th., Muller J. Kulturstromungen. . .,
Ebert W., Frings Th., Gleissner K., Kotschke R.,
Streitberg G. Kulturraume und Kulturstromungen im mitteldeutschen
Osten. Halle, 1936.
39 Frings Th. Grundlegung einer Geschichte der deutschen Sprache.
Halle, 1948, S. 38, 42, K. 50.
Немецкая диалектография
1 См. «Немецкая диалектография. Сб. статей», М., 1955, с. 100.
2 См.: Bremer О. Beitrage zur Geographie der Deutschen Mundarten
in Form einer Kritik von Wenkers Sprachatlas des Deutschen Reiches. Leipzig,
1895
3 P a u 1 H. Prinzipien der Sprachgeschichte. Halle, 1880, S. 242.
4 О методике интерпретации диалектологических карт см: Бах А.
Немецкая диалектология. — В кн.: Немецкая диалектография. М., 1955,
е. 107 и сл.
6 Ср.: Жирмунский В. О некоторых проблемах лингвистической
географии. — Наст, кн., с. 469—471.
6 Р a u 1 Н. Prinzipien der Sprachgeschichte, S. 237 ff.
7 Вредэ Ф. К истории развития немецкой диалектологии. — В кн.:
Немецкая диалектография. М., 1955, с. 30.
8 См.: Вредэ Ф. Указ, соч., с. 31.
9 М a u г е г F. Sprachschranken, Sprachraume und Sprachbewegungen
im Hessischen. Giessen, 1929; Bach A. Die nassauische Sprachlandschaft.
Bonn, 1930; Christmann E. Sprachbewegungen in der Pfalz. Kaisers-
lautern, 1931; Will W. Saarlandische Sprachgeschichte. Saarbriicken,
1932, и др.
10 См.: Энгельс Ф. К истории древних германцев. — Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 454.
11 См.: Вредэ Ф. Указ, соч., с. 35 и сл.
12 М а и г е г F. Alemannen und Nordgermanen. Strassburg, 1942; 3.
Aufl. Bern, 1952; Schwarz E. Goten, Nordgermanen, Angelsachsen. Stu-
dien zur Ausgliederung der germanischen Sprachen. Bern, 1951.
13 Cp.: Bach A. Geschichte der deutschen Sprache. 4. Aufl. Heidel-
berg, 1949.
669
Проблемы переселенческой диалектологии
1 О принципах немецкой диалектографии ср.: Жирмунский В.М.
Проблемы немецкой диалектографии в связи с историческим краеведением. —
«Этнография», 1927, кн. III. Об изучении переселенческих говоров: Т eu-
ch е г t Н. Grundsatzliches uber die Untersuchung der Siedelungsmundarten
(Zeitschrift f. deutsche Mundarten, 1919).
2 Firmenich J. Germaniens Volkerstimmen. Bd. Ill, 1854, S. 434 ff.
3 Unwerth W. Proben deutsch-russischer Mundarten aus den Wolga-
Kolonien und dem Gouv. Gherson, Berlin, 1919.
4 В сб. «Beitrage zur Heimatkunde des deutschen Wolgagebiets», По-
кровск, 1923.
6 D i n g e s G. G. Zur Erforschung der wolgadeutschen Mundarten. —
Teuthonista, 1925, Bd. I; на рус. яз.: «К изучению говоров поволжских нем-
цев». — Уч. зап. Саратовского ун-та, 1925, т. IV, вып. 3.
6 Ср.: Schirmunski V. Die schwabischen Mundarten in Transkau-
kasien und Sudukraine — «Teuthonista», 1928, Bd. V, 1—2.
7 Cm.: Schrenk F. Geschichte der deutschen Kolonien in Transkau-
kasien. Tiflis, 1869, S. 95 ff.
8 H a a g K. Verkehrs- und Schriftsprache auf dem Boden der ortlichen
Mundart. — Die neueren Sprachen, 1901, Bd. IX, S. 261.
9 Cp.: Z e r r A. Einwanderungsgeschichte der Familie Zerr in Russland.
Odessa, 1914, S. 14.
10 Согласно официальным данным отчетов немецких волостных управле-
ний (Schulzenberichte) 1848 г., в пос. Александергильф из общего числа 68 сем.
из Вюртемберга происходили 36, из Венгрии — 21, из Пфальца и Эльзаса — 6,
из других мест — 5; в пос. Нейбург — из Вюртемберга — 42, из Венгрии —
29 (см. Leibbrandt G. Die deutschen Kolonien in Cherson und Bessara-
bien. Berichte der Gemeindeamter. Stuttgart, 1926, S. 45, 49).
11 Официальные данные см.: L e i b b r a n d t G. Op. cit., S. 86.
12 По официальным данным, выходцы из Вюртемберга в большинстве
указанных колоний преобладали. Ср. Гюльдендорф — 65 сем. из Вюртем-
берга, 17 — из Бадена, 14 — разных; Глюксталь — 67 из Вюртемберга,
27 — из Венгрии, 10 — из Эльзаса, 9 — из Бадена, 3 — из Пфальца, 9 — раз-
ных; Бергдорф — 35 из Вюртемберга, 21 — из Эльзаса, 12 — разных.
(См.: Leibbrandt G. Op. cit., S. 91, 55, 66).
13 См.: Strom A., Schirmunski V. Deutsche Mundarten an
der Newa. — «Teuthonista», 1926—1927, Bd. Ill, 1—2, S. 155.
14 Cm.: Strom A., Schirmunski V. Op. cit., S. 154.
16 В 6 hmer E. Die Sprach- und Grundungsgeschichte der pfalzischen
Kolonien am Niederrhein. 1909, S. 2.
16 Cm.: Keller K. Die Beresaner Kolonien in Siidrussland. — «Deutsche
Erde», 1909, Bd. VIII, S. 206 ff.
17 Unterhaltungsblatt fiir deutsche Ansiedler im siidlichen Russland,
Odessa, 1849: Beschreibung des molotschnaer Kolonistenbezirkes, von E. Wal-
ter, S. 47.
18 Согласно теории проф. Ф. Вредэ, которая подтверждается на этом
примере, /- вместо pf- в начале слова в восточносредненемецких говорах
(ostmitteldeutsch) также объясняется смешением на колониальной почве
восточной Германии нижненемецкого р- и южнонемецкого pf-.
19 Firmenich J. Germaniens Volkerstimmen. Bd. Ill, 1854, S. 434—
435.
20 В a c h A. Zum Problem der Stadtmundart. — «Teuthonista», 1924,
Bd. I, S. 41.
21 См.: Жирмунский В. Проблемы немецкой дпалектографип
в связи с историческим краеведением. — «Этнография», 1927, № 1,кн. III,
с. 143.
22 Aubin Н., Frings Th., Muller J. Kulturstromungen und Kul-
turprovinzen in den Rheinlanden. Bonn, 1926, S. 115 ff.
670
Восточносредненемецкие говоры и проблема смешения диалектов
1 См.: Жирмунский В. 1) Проблемы переселенческой диалекто-
логии. — Наст, кн., с. 491—516; 2) Sprachgeschichte und Siedelungsmun-
darten.—«Germanisch-romanische Monatsschrift, 1930, H. 3/4, 5/6».
2 Cp.: Gutj a hr E. Die Anfange der neuhochdeutschen Schriftsprache
vor Luther. Halle, 1910, S. 116—117.
3 Lamprecht K. Deutsche Geschichte. Berlin, 1893, Bd. Ill, S. 364.
4 Wr ed e F. 1) Die Entstehung der nhd. Diphtonge. — «Zeitschrift fiir
deutsches Altertum», 1895, Bd. XXXIX, S. 279; 2) Zur Entwicklung der deut-
schen Mundartenforschung. — «Zeitschrift fiir deutsche Mundarten», 1919,
H. 1, S. 11-12.
6 Cm.: J u t z L. Die alemannischen Mundarten. 1931, S. 169.
6 W r e d e F. Zur Entwicklung. . . , S. 15—16.
7 Cm.: L a s c h A. Berlinisch. Berlin, 1929, S. 278 ff.
8 Там же, S. 267 ff., 284. Cp.: Kaiser K. Mundart und Schriftsprache.
Leipzig, 1930, S. 110.
9 Cm.: W r e d e F. 1) Zur Entwicklung. . . , S. 11. 2) Sprachliche Adop-
tivformen. — In: Beitrage zur germanischen Sprachwissenschaft, Heidelberg,
1924. Ср. также: Жирмунский В. Проблемы немецкой диалектогра-
фии. — «Этнография», 1927, № 1.
10 L a s с h A. Berlinisch, S. 256.
11 Там же, с. 76.
12 К а г g F. Flamische Sprachproben in der Halle-Leipziger Bucht.
1933, S. 56, 19.
13 Cp.: c. 509 наст. кн.
14 Cp.: Deutscher Sprachatlas, III, Marburg, 1929, K. 16.
16 Cm.: Karg F. Flamische Sprachproben. . . , S. 17—18.
16 L a s c h A. Berlinisch, S. 79.
17 Там же, с. 259.
18 R о e t h e G. Die Reimvorreden des Sachsenspiegels. — Abh. d. K. Ge-
sellsch. d. Wiss. z. Gottingen, Philol.-hist. KI., 1899, Bd. II, No 8, S. 36.
19 Jungandreas W. Beitrage zur Erforschung der Besiedlung Schle-
siens und zur Entwucklungsgeschichte der schlesischen Mundart. Breslau,
1928, S. 197. Cp.: Unwerth W. Die Schlesische Mundart in ihren Lautver-
haltnissen grammatisch und geographisch dargestellt. Breslau, 1908, S. 49.
20 Cp.: Jungandreas W. Beitrage zur Erforschung. . . , S. 58;
Unwerth W. Die Schlesische Mundart. . . , S. 60. S ii t t e г 1 i n L.
Neuhochdeutsche Grammatik mit besonderer Beriicksichtigung der nhd. Mun-
darten. Munchen, 1924, S. 202.
21 См.: Жирмунский В. Национальный язык и социальные диа-
лекты. М.—Л., 1936, с. 243.
22 Siitterlin L. Neuhochdeutsche Grammatik. . . S. 280. Примеры
из Альтенбурга (около Лейпцига); см.: Reis Н. Die deutsche Mundartdi-
chtung. Leipzig, 1915, S. 74.
23 Jungandreas W. Beitrage zur Erforschung. . . , S. 230. Cp.:
Unwerth W. Die schlesische Mundart. . . , S. 43.
24 Weinhold K. Uber deutsche Dialektforschung. Wien, 1853.
26 Сопоставления для городских говоров дает Кречмер: Kretsch-
mer Р. Wortgeographie der hochdeutschem Umgangsprache. Gottingen, 1918.
26 Ср.: Жирмунский В. Национальный язык и социальные диа-
лекты, гл. VII.
27 Там же, с. 246.
28 См.: Behaghel О. Schriftsprache und Mundart. 1896, S. 35 ff.;
см. также: R о e t h e G. Die Reimvorreden des Sachsenspiegels, S. 33 ff.
29 L a s c h A. Berlinisch.
30 Там же, с. 67 и сл.
31 Жирмунский В. Национальный язык и социальные диалекты,
гл. VII.
32 См.: с. 496 наст. кн.
671
33 L a s c h A. Berlinisch, S. 278.
34 Там же, с. 255.
36 Ср.: Жирмунский В. Национальный язык и социальные диа-
лекты, с. 10.
36 L a s с h A. Berlinisch, S. 56.
37 Там же, с. 254.
33 Там же.
39 См.: Жирмунский В. Национальный язык и социальные
диалекты, с. 10.
40 Kretschmer Р. Wortgeographie. . . , pass.
41 L a s с h A. Berlinisch, S. 73.
42 Там же, с. 83 и 139.
43 Там же, с. 87, 121—122, 139.
44 См. с. 513 наст. кн.
46 См. с. 497 и 514 наст. кн.
46 L a sc h A. Berlinisch, S. 139.
47 Loewe R. Die Dialektmischung im Magdeburger Gebiete. — Jhrb. d.
Vereins f. ndd. Sprachforschung, 1888, Bd. XIV.
48 Там же, с. 16 и сл.
49 См.: М i t z k a W. Studien zum baltischen Deutsch. — «Deutsche
Dialektgeographie», 1923, Bd. XVII.
60 Ср.: Там же, с. 23.
61 См.: Ziesemer W. Die ostpreussischen Mundarten. Breslau, 1924,
S. 121—122.
62 Например, обозначение диалекта восточного Эрмланда, как «bres-
lausch» (ср.: Ziesemer W. Die ostpreussischen Mundarten, S. 121).
63 Wr ed e4 F. Die Entstehung der nhd. Diphthonge, S. 260, Anm. 2.
64 Cp.: Jungandreas W. Beitrage zur Erforschung. . . , S. 294.
66 Ср.: там же.
66 Для примеров см.: R е i s Н. Die deutsche Mundartdichtung, S. 43 ff.
67 Э н г ел ь с Ф. Франкский диалект. — Маркс К., Энгельс Ф.
Собр. соч., т.’ 19.
68 Там же, с. 531.
69 Там же, с. 533.
60 Там же.
61 Там же, с. 542.
62 F г iji g s xTh. Rheinische Sprachgeschichte. Essen, 1924, S. 14—15.
63 Там "же, с. 9.
64 Brinkmann H. Sprachwandel und Sprachbewegnung in ahd.
Zeit. Jena, 1931, S. 28.
65 Behaghel 0. Geschichte der deutschen Sprache. 1928, 5. Aufl.
Berlin, 1928, S. V.
66 Frings Th. Germania Romana. Halle, 1932, S. 210.
67 Там же, с. 210—211.
68 Frings Th. Rheinische Sprachgeschichte, S. 9.
69 Cp.: Aubin H., Frings Th., Muller J. Kulturstrommungen
und Kulturprovinzen in den Rheinlanden. Geschichte Sprache. Volkskunde.
Bonn, 1926, pass.
«Франкский диалект» Ф. Энгельса и проблемы
немецкой диалектологии
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 518—546. (В даль-
нейшем в тексте в скобках даны ссылки на страницы этого издания).
2 Энгельс Ф. Франкский диалект. ИМЭЛ, 1935.
3 М арке К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 333—334.
4 В г a u n е W. Zur Kenntnis des Frankischen und zur hochdeutschen
Lautverschiebung. — Beitrage zur Geschichte der deutschen Sprache und
Literatur, 1874, Bd. I, S. 1—56.
672
6 Общая оценка ненадежности выводов Арнольда в новейшем сводном
труде по немецкой топонимике (Schwarz Е. Deutsche Namenforschung,
Bd. II. Berlin, 1950) вполне совпадает с критикой Энгельса. «Мысль (Ар-
нольда) о том, что в разное время предпочтительно употребляются различ-
ные местные названия, была плодотворной, но обманчивой оказалась надежда
приписать эти названия определенным германским племенам. В результате
этого топонимика отклонилась на пути, оказавшиеся малонадежными, и это
отбросило ее назад в течение нескольких десятилетий, вплоть до конца
XIX века» (с. 10—11).
6 Ср.: Bauerfeind. Einige sprachliche Eigentumlichkeiten aus dem
Wuppertale. Barmen — Wupperfeld, 1876, S. 3 ff. Описание современного
диалекта Эльберфельда дает Отто Лобес. (L о b b е s О. Nordbergische
Dialektgeographie. — «Deutsche Dialektgeographie», 1915, Bd. VIII).
7 О различии оттенков произношения спирантного g в рипуарском пишет
В. Велтер: Welter W. Die Mundarten des Aachener Landes. 1938, S. 22—
24.
8 Bremer 0. Ethnographic der germanischen Stamme. Grundriss der
germanischen Philologie, herausg. v. H. Paul. T. III. Strassburg, 1900, S. 747.
9 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 532.
10 Frings Th. Rheinische Sprachgeschichte. Dortmund, 1924;
Aubin H., Frings Th., Muller J. Kulturstromungenund Kulturpro-
vinzen in den Rheinlanden. Geschichte. Sprache. Volkskunde. Bonn, 1926.
11 Rheinisches Worterbuch. Herausg. von J. Muller. 1929 и сл.
12 См.: Aubin H., Frings Th., Muller J. Kulturstromun-
gen. . ., S. 157 (K. 55).
13 Behaghel O. Geschichte der Deutschen Sprache. 5. Aufl. Berlin,
1928, S. V—VI.
14 Cm.: Frings Th. Das Alter der Benrather Linie. — «Beitrage zur
Geschichte der deutschen Sprache und Literatur», 1914, Bd. XXXIX, S. 375—
376.
15 Frings Th. Germania romana. Halle, 1932, S. 210.
16 Frings Th. Grundlegung einer Geschichte der deutschen Sprache.
Halle, 1948, S. 5.
17 См.: там же, с. 7.
18 Frings Th. Rheinische Sprachgeschichte, S. 9.
19 Aubin H., Frings Th., Muller J. Kulturstromungen...,
S. 153.
20 Frings Th. Rheinische Sprachgeschichte, S. 14.
21 Ср. по этому вопросу специальное исследование: Philipp О. Die
Bach. — «Zeitschrift fiir deutsche Mundarten», 1906—1908, Bd. 7—8.
22 Cm.: W r e d e F. Zur Entwicklungsgeschichte der deutschen Mundarten-
forschung. — «Zeitschrift fiir deutsche Mundarten», 1919, Bd. 20, S. 7.
23 Cm.: Frings Th. Germania romana, S. 178—179.
24 Cm.: Bremer 0. Ethnographie der germanischen Stamme, S. 809.
26 M e й e А. Основные особенности германской группы языков . М.,
1952. с. 25.
26 Aubin Н., Frings Th., Muller J. Kulturstromungen...,
S. 141 (K. No 48).
27 Bach A. Deutsche Mundartforschung. 2. Aufl. Heidelberg, 1950, S. 161.
28 Cp.: Wrede F. Zur Entwicklungsgeschichte der deutschen Mundar-
tenforschung, S. 14—15.
29 Cp.: F г i n g s Th. Grundlegung einer Geschichte der deutschen Sprache,
S. 7.
30 Cm.: F.rings Th. Rheinische Sprachgeschichte, S. 15—16;
Aubin H., Frings Th., Muller J. Kulturstromungen.S. 182—185.
81 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. — В кн.:
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 427.
«73
Слабые и сильные формы слова и особенности их фонетического развития
(на материале немецких диалектов)
1 J utz L. Die alemannischen Mundarten. Halle, 1931, S. 215—216.
2 Жирмунский В. M. Потенцированные формы в немецких диа-
лектах. — Наст, кн., с. 582—584.
3 Bremer О. Beitrage zur Geographic der deutschen Mundarten in
Form einer Kritik von Wenkers Sprachatlas des Deutschen Reiches. Leipzig,
1895, S. 95 ff.
4 Deutscher Sprachatlas herausg. von Ferdinand Wrede. Text zur 1. Lfg.
Marburg, 1926, S. 10.
6 Из таких монографических работ по фонетике южнонемецких диалек-
тов в дальнейшем использованы преимущественно следующие: W i n t е-
ler J. Die Kerenzer Mundart des Kantons Glarus. Leipzig, 1876 (швейцар-
ский); Lienhart H. Laut- und Flexionslehre des mittleren Zorntals im
Elsass. Strassburg, 1891 (нижнеалеманнский); Bohnenberger K.
Die Mundarten Wiirttembergs. Stuttgart, 1928 (швабский); Gebhardt A.
Grammatik der Niirnberger Mundart. Leipzig, 1907 (севернобаварский); L e s-
s i a k P. Die Mundart von Pernegg. — «Beitrage zur Geschichte der deutschen
Sprache und Literatur», 1903, Bd. 28, S. 1—27 (южноавстрийский), и неко-
торые другие.
6 К a u f f m a n n F. Geschichte der schwabischen Mundart. Strassburg,
1890, S. 107—108.
7 Winteler J. Op. cit., S. 190—191.
8 Gebhardt A. Op. cit., S. 103, 115—118, 282.
9 Winteler J. Op. cit., S. 190.
10 W г e d e F. Zur Entwicklungsgeschichte der deutschen Mundartenfor-
schung. — «Zeitschrift fiir deutsche Mundarten», 1919, Bd. 20, H. 1/2, S. 8—9.
11 Cm.: c. 459 наст. кн.
12 Bohnenberger К. Op. cit., S. 56.
13 Gebhardt A. Op. cit., S. 289—290.
14 Lessi ak P. Op. cit., S. 218—219.
15 Siitterlin L. Neuhochdeutsche Grammatik. Munchen, 1954, S. 484.
16 V о g t E. F. Die Mundart von Deufringen und Umgebung. Stuttgart,
4QQ4 q 43
I’ Lienhart H. Op. cit., S. 73.
18 T ar r a 1 N. Laut- und Formenlehre der Mundart des Kantons Fal-
kenberg in Lothringen. Strassburg, 1903, S. 108.
19 Cm.: S а г a u w Chr. Niederdeutsche Forschungen. Bd. II. Die Fle-
xionen der mittelniederdeutschen Sprache. — «Historisk-filologiske Meddelser»,
1924—1925, Bd. 10, Kobenhavn, S. 209.
20 L e s s i a k P. Op. cit., S. 218.
21 M a г t i n B. Studien zur Dialektgeographie des Fiirstentums Wal-
deck. Marburg, 1925, S. 83—84.
22 Jellinghaus H. Die Laute und Flexionen der Ravensbergischen
Mundart. Bremen, 1877, S. 102.
23 Lenz Ph. Die Flexion des Verbums im Handschuhsheimer Dialekt. —
«Zeitschrift fiir hochdeutsche Mundarten», 1900, Bd. 1, S. 25—26.
24 W i n t e 1 e г J. Op. cit., S. 164.
26 R e g e 1 K. Die Ruhlaer Mundart. 1868, S. 116.
26 H e г t e 1 L. Die Salzunger Mundart. 1888, S. 127.
27 H о г n W. Verbalformen in der Mundart von Grossen-Buseck bei
Giessen. — «Zeitschrift fiir hochdeutsche Mundarten», 1900, Bd. 1, S. 15, 17.
28 N a g 1 H. W. Da Roanad. Grammatische Analyse des niederoster-
reichischen Dialekts. Wien, 1886, S. 130.
29 Lienhart H. Op. cit., S. 73.
30 Bohnenberger K. Op. cit., S. 56.
31 W i n t e 1 e r J. Op. cit., S. 164.
32 Regel K. Op. cit., S. 116.
33 F г a n k J. Die Frankenhauser Mundart. 1898, S. 40.
674
84 См., например: К г о h W. Beitrage zur Nassauischen Dialektgeogra-
phie. — «Deutsche Dialektgeographie», 1915, Bd. IV, S. 134.
36 Cp.: Michels V. Mittelhochdeutsches Elementarbuch. Heidelberg,
1921, S. 230; Paul H. Mittelhochdeutsche Grammatik. 16. Aufl. Halle,
1953, S. 137.
36 Cm.: Weinhold K. Mittelhochdeutsche Grammatik. 2. Aufl.
Paderborn, 1883, S. 364—365; Michels V. Op. cit., S. 230—231.
37 Lienhart H. Op. cit., S. 72—73.
38 M i c h e 1 s V. Op. cit., S. 230.
39 T а г г a 1 N. Op. cit., S. 109.
40 Schatz J. Die Mundart der Imst. Strassburg, 1897, S. 172.
41 Michels V. Op. cit., S. 130.
42 Tarr al N. Op. cit., S. 111—112.
43 Hoffmann K. Laut- und Flexionslehre der Mundart der Moselge-
gend von Oberham bis zur Rheinprovinz. Meiz, 1900, S. 75.
44 V о g t E. F. Op. cit., S. 35.
45 R e g e 1 K. Op. cit., S. 109.
46 Там же, с. 68—69.
47 M a r t i n В. Op. cit., S. 60, 75.
48 К г о h W. Beitrage zur nassauischen Dialektgeographie, S. 116.
49 Kursten O., Bremer O. Lautlehre der Mundart von Buttel-
stedt bei Weimar. Weimar, 1910, S. 126.
60 Bohnenberger K. Op. cit., S. 53.
61 Cm.: Winteler J. Op. cit., S. 184—187; Lienhart H. Op.
cit., S. 59—60, 63—64. Для средненемецкого см. также: К г о h W. Beitrage
zur nassauischen Dialektgeographie, S. 127—129 (верхнегессенский).
62 Gebhardt A. Op. cit., S. 271-275, 102-103, 113-114, 117-118.
Б3 Там же, с. 133, 171.
64 Там же, с. 102—103.
65 К г о h W. Beitrage zur nassauischen Dialektgeographie, S. 127.
66 Cm.: Deutscher Sprachatlas, K. 4 (ich), 25 (dich), 36 (sich).
67 Meisinger O. Die Rappenauer Mundart. Bd. I. Heidelberg, 1901, S. 21.
68 Winteler J. Op. cit., S. 137, 185.
59 Там же, с. 137.
60 H e n г у V. Le dialecte alaman de Colmar (Haute Alsace) en 1870.
Paris, 1900, p. 185.
61 Weinhold K. Op. cit., S. 530—533.
62S iitterlin L. Op. cit., S. 83.
63 Бруннер К. История английского языка. Т. I. М., 1955, с. 71.
64 Ср.: S t е с h е Th. Zeit und Ursachen der hochdeutschen Lautver-
schiebung. — «Zeitschrift fur deutsche Philologies, 1937, Bd. 64, S. 19 ff.;
M i t z k a W. Hessen in althochdeutscher und mittelhochdeutscher Dialekt-
geographie. — «Beitrage zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur»,
1953, Bd. 75, S. 131-157.
65 См.: Жирмунский В. M. О некоторых проблемах лингвистиче-
ской географии. — Наст, кн., с. 468.
66 Bischoff К. Studien zur Dialektgeographie des Elb-Saales Ge-
bietes in den Kreisen Calbe und Zerbst. I. Marburg, 1935, S. 33.
67 Cm.: Schwarz E. Ostmitteldeutsche Sprachprobleme. —«Bei-
trage zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur», 1928, Bd. 52, S. 389.
68 Lienhart H. Op. cit., S. 665.
69 Weinhold K. Op. cit., S. 189—191.
70 M i t z k a W. Hessen in althochdeutscher und mittelhochdeutscher
Dialektgeographie, S. 157.
71 P a u 1 H. Beitrage zur Geschichte der Lautentwicklung und Formenas-
soziation. 2. Das mittelfrankische Lautverschiebungsgestz. — «Beitrage zur
Geschichte der deutschen Sprache und Literatur», 1879, Bd. 6, S. 554—556.
72 В eh aghel O. Geschichte der deutschen Sprache. 5. Aufl. Berlin, 1928,
S. 420.
73 Cm. c. 466 наст. кн.
675
74 H ofjmann К. Op. cit., S. 59*
76 T a rr a 1 N. Op. cit., S. 94.
76 L a s c h A. Berlinisch. Berlin, 1929, S. 248, 274.
77 Frings Th. Studien zur Dialektgeographie des Niederrheins zwischen
Dusseldorf und Aachen. 1913, Marburg, S. 73—74.
Потенцированные формы в немецких диалектах
1 См.: Gillieron J. Pathologie et therapeutique verbales. V. 1—2.
Neuveville, 1915; V. 3—4, Paris, 1921.
2 Cm.: D a u z a t A. La geographic linguistique. 2-me partie, chap. 2,
Paris, 1922.
3 Cm.: Horn W. Sprachkorper und Sprachfunktion. Berlin, 1921; cm.
также: Horn W. Laut und Leben, bearb. von M. Lehnert. Bd. II, Berlin,
1954, S. 1170—1193.
4 D a 1 I. Systemerhaltende Tendenzen in den deutschen Mundarten. —
«Wirkendes Wort», 1956, Jg. 6, H. 3, S. 138—144.
6 См.: Мир онов С. А. Некоторые вопросы сравнительной морфоло-
гии немецких диалектов. (Система склонения). — «Вопросы языкознания»,
1957, № 3, с. 20—30.
6 См.: Nagi F. W. Grammatische Analyse des Niederosterreichischen
Dialekts. Wien, 1886, S. 175—176, 395 (говор Нойенкирхена в Нижней Авст-
рии). Ср.: Gebhardt A. Grammatik der Niirnberger Mundart. Leipzig,
1907, S. 249; Siitterlin L. Neuhochdeutsche Grammatik. Munchen,
1924, S. 342; Weitzenbock G. Die Mundart des Innviertels. Halle,
1942, S. 25 ff.
7 H er t e 1 L. Die Salzunger Mundart. Leipzig, 1888, S. 92.
8 L i e n h a r t H. Laut- und Flexionslehre der Mundart des mittleren
Zorntales im Elsass. Strassburg, 1891, S. 43; H e n г у V. Le dialecte alaman
de Colmar (Haute Alsace) en 1870. Paris, 1900, p. 70.
9 H e n z e n W. Die deutsche Freiburger Mundart. Frauenfeld, 1927,
S. 196-197.
10 Там же, с. 197.
11 S c h о 1 1 К. Die Mundarten des Kreises Ottweiler. Strassburg, 1913,
S. 74.
12 L e s s i a k P. Die Mundart von Pernegg in Karnten. — «Beitrage zur
Geschichte der deutschen Sprache und Literatur», 1903, Bd. XXVIII, H. 1,
S. 197.
13 T ar r a 1 N. Laut- und Formenlehre der Mundart des Kantons Fal-
kenberg in Lothringen. Strassburg, 1903, S. 102.
14 Cm.: Pfalz A. Suffigierung der Personalpronomina im Donaubairi-
schen. — «Beitrage zur Kunde der bayerisch-osterreischen Mundarten» (Sit-
zungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften, Philos.-hist. Klasse,
Bd. 190), 1918, S. 4—5.
15 L e s s i a k P. Op. cit., S. 204; Pfalz A. Op. cit., S. 5.
16 См.: В r a u n e W. Althochdeutsche Grammatik. 8. Aufl., bearb. von
W. Mitzka. Halle, 1955, S. 305, Anm. 4.
17 Cm.: Weinhold K. Mittelhochdeutsche Grammatik. 2. Aufl.
Paderborn, 1883, S. 388, 426; Michels V. Mittelhochdeutsches Elemen-
tarbuch. Heidelberg, 1921, S. 328.
18 R e i s H. Die Mundarten des Grossherzogturns Hessen. — «Zeitschrift
fiir deutsche Mundarten», 1909, H. 4, S. 115.
19 Winteler J. Die Kerenzer Mundart des Kanton Glarus. Leipzig
und Heidelberg, 1876, S. 159.
20 R e i s H. Die deutsche Mundartdichtung. Leipzig, 1915, S. 48.
21 В ub e ne r R. H. Untersuchungen zur Dialektgeographie des Bergischen
Landes zwischen Agger und Dhiinn. Marburg, 1935, S. 118.
22 Osthoff H., Brugmann K. Morphologische Untersuchungen
auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen. TL L Leipzig, 1878, S. 82.
676
23 Жирмунский В.М. Внутренние законы развития языка и про-
блема грамматической аналогии. — Наст, кн., с. 26—61.
24 Ср.: Lenz Ph. Die Flexion des Verbums im Handschuhsheimer Dia-
lekt. — «Zeitschrift fiir hochdeutsche Mundarten», 1900, Bd. 1, H. 1—2, Heidel-
berg, S. 17 ff.
25 Cm.: Schonbach A. Uber den Conjunktiv Praeteriti im Bairisch-
Oesterreichischen. — «Beitrage zur Geschichte der deutschen Sprache und
Literatur», 1899, Bd. XXIV, H. I; J a c k i K. Das starke Praeteritum in den
Mundarten des hochdeutschen Sprachgebiets. — «Beitrage zur Geschichte der
deutschen Sprache und Literatur», 1909, Bd. XXXIV, H. 3.
26 J a c k i K. Op. cit., S. 222; Henry V. Op. cit., S. 101.
27 Wr ed e F. Die Diminutiva im Deutschen. — «Deutsche Dialekt-
geographie», 1908, H. I.
28 H e n z e n W. Deutsche Wortbildung. 2. Aufl. Tubingen, 1957, S. 140—
152.
29 P f a 1 z A. Die Mundart des Marchfelds. Wien, 1903, S. 10.
30 Cm.: Veil F. Zur Diminutivbildung im Schwabischen. — «Beitrage
zur Geschichte der deutschen Spracheund Literatur», 1909, Bd. XXXIV, H. 1.
31 Winteler J. Op. cit., 213.
32 Cm.: Siitterlin L. Die deutsche Sprache der Gegenwart. Leipzig,
1910, S. 144.
Умлаут в немецких диалектах с точки зрения
исторической фонологии
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 526—527.
2 Вопрос этот на материале скандинавских языков осветил М. И. Сте-
блин-Каменский (История скандинавских языков, М., 1953, с. 107—108).
О фонологии умлаута в немецком языке см.: Р е n z 1 Н. Umlaut and Secon-
dary Umlaut in Old High German. — «Language», 1949, t. 21, p. 223—240.
3 Cm.: Heusler A. Zur Lautform des Alemannischen: Die e-Laute. —
«Germania», 1889, Bd. 34, S. 112—130.
4 Meisinger O. Die Rappenauer Mundart. Bd. I. Heidelberg, 1901,
S. 14-15.
6 Cm.: Bubener R. H. Untersuchungen zur Dialektgeographie des Ber-
gischen Landes zwischen Agger und Dhiinn. Marburg, 1935, S.8—15 (рипуар-
ский диалект Бергской области).
’Meisinger О. Die Rappenauer Mundart, S. 16; cp. Kauff-
m a n n F. Geschlossenes e aus ё vor i. — «Beitrage zur Geschichte der deutschen
Sprache und Literatur», 1888, Bd. XIII, S. 393—394.
7 Cm.: Zwierzina K. Mittelhochdeutsche Studien. 8. Die e-Laute
in den Reimen der mhd. Dichter. — «Zeitschrift fiir deutsches Altertum»,
1900, Bd. 44, S. 249—316.
8 Ср., однако: Behaghel O. Geschichte der deutschen Sprache. 5.
Aufl. Berlin, 1928, S. 283-285.
9 Cm.: Schwarz E. Goten, Nordgermanen, Angelsachsen. Bern, 1951,
S. 51.
10 Muller J. Senkung des kurzen i in den ripuarischen und mittel-
frankischen Mundarten. — «Zeitschrift fiir hochdeutsche Mundarten», 1904,
Bd. X, S. 353—367. — Сходное чередование констатировал в рипуарском
говоре Зигерланда Б. Шмидт. (Schmidt В. Vokalismus der Siegerlander
Mundart. Halle, 1894, S. 35—39).
11 Cm.: Horn W. Die Senkung des i vor j im Hessischen. — «Zeitschrift
fiir hochdeutsche Mundarten», 1905, Bd. VI, S. 103—109; К г о h W. Beitrage
zur Nassauischen Dialektgeographie. — «Deutsche Dialektgeographie», 1915,
Bd. IV, Marburg, S. 77—79.
12 В e h a g h e 1 О. 1) Mhd. iu und u. — «Germania», 1889, Bd. 34,
S. 247 ff.; 2) Geschichte der deutschen Sprache, S. 318—321.
677
1 3Kauffmann F. Geschichte der schwabischen Mundart. Strass-
burg, 1890, S. 84.
14 L e ss i а к P. Die Mundart von Pernegg in Karnten. — «Beitrage zur
Geschichte der deutschen Sprache und Literatur», 1903, Bd. XXVIII, S. 83.
15 Schatz J. Die Mundart von Imst. Strassburg, 1897, S. 64—65.
16 J u t z L. Die alemannischen Mundarten. Halle, 1931, S. 103—104;
cp.: Clauss W. Die Mundart von Uri. Frauenfeld, 1929, S. 66.
17 Weinhold K. Mittelhochdeutsche Grammatik. 2. Aufl. Paderborn,
1883, S. 125—129; Michels V. Mittelhochdeutsches Elementarbuch. 4,
Aufl. Heidelberg, 1921, S. 100—101.
18 См.: M e r t e s E. Ahd. iu ohne Umlaut im Dialektgebiet des Deutschen
Reiches. — «Teuthonista», 1931, Bd. 6, S. 161—274; Bd. 7, S. 43—126, 268—
286, с библиографией и картой; О. W e i s e. Mitteldeutsches au — mhd. iu. —
«Zeitschrift fiir deutsche Mundarten», 1907, Bd. 8, S. 206 ff.
19 T a rr a 1 N. Laut- und Formenlehre der Mundart des Kantons Fal-
kenberg in Lothringen. Strassburg, 1903, S. 30—31.
20 Cm.: S a r a u w Chr. Niederdeutsche Forschungen. Bd. I. Vergleichende
Lautlehre der niederdeutschen Mundarten im Stammlande. Kobenhavn, 1921,
S. 143-196.
21 Holthausen F. Vocalismus der Soester Mundart. Halle, 1885,
S. 20 ff.
22 M а с к e 1 E. Die Mundart der Prignitz. — «Niederdeutsches Jahrbuch»,
1905, Bd. XXXI, S. 108—110.
23 Sarauw Chr. Niederdeutsche Forschungen, Bd. I, S. 158—162.
О диалектологическом атласе тюркских языков
Советского Союза
1 Чтобы получить некоторое представление об этом размахе, достаточно
просмотреть обзорную статью Е. И. Убрятовой «Изучение диалектов тюрк-
ских языков» с приложенной к ней обширной библиографией («Вопросы
диалектологии тюркских языков», II, Баку, 1960).
2 По этому вопросу см.: Решетов В. В. Монографическое изучение
диалектов. (На материале некоторых тюркских языков). — «Вопросы диа-
лектологии тюркских языков», II, Баку, 1960.
3 Radloff W. W. Phonetik der nordlichen Turksprachen. Leipzig, 1882.
4 К о p ш Ф. E. Классификация турецких племен по языкам. — «Этно-
графическое обозрение», 1910, т. 1—2.
6 Там ясе, с. 120.
6 Там же, с. 121—122.
7 См.: Баскаков Н. А. Тюркские языки. М., 1960, приложение 2:
«Общая схема развития тюркских языков».
8 Самойлович А. Некоторые дополнения к классификации ту-
рецких языков. Пгр., 1922, с. 6.
9 Там же, с. 8.
10 См.: Brockelmann С. Mahmud al-Ka§ghari uber die Sprachen
und Stamme der Turken im 11. Jahrhundert. — «Korosi Csoma-Archivum»,
Budapest, 1921, N 1, p. 26—40.
11 Самойлович А. Указ, соч., с. 15.
12 Б ат манов И.А. Краткое введение в изучение киргизского языка.
Фрунзе, 1947, с. 87 и сл.
13 Недаром финский ученый М. Рясянен, следуя в своей классификации
за А. Н. Самойловичем (и Г. Рамстедтом), воспроизвел классификационную
таблицу первого в своей книге «Материалы по исторической фонетике тюрк-
ских языков» (М., 1955, с. 30).
14 Батманов И. А. Северные диалекты киргизского языка. Т. 1.
Фрунзе, 1938.
15 Ср., например: ДоскараевЖ. Краткий очерк о южном диалекте
казахского языка. — «Изв. АН КазССР», сер. филол., 1946, № 4 (29), с. 63 и сл.
678
16 Самойлович А. Указ, соч., с. 14.
17 Батманов И.А. Краткое введение в изучение киргизского языка,
с. 86—90.
18 Там же.
19 Богородицкий В. А. Введение в татарское языкознание
в связи с другими тюркскими языками. Казань, 1953, с. 101.
20 Там же, с. 105—116.
21 Серебренников Б. А. К проблеме классификации тюркских
языков. — «Вопросы языкознания», 1961, № 4, с. 67.
22 Боровков А. К. Вопросы классификации узбекских говоров. —
«Изв. АН УзССР», 1953, № 5, с. 73.
23 Решетов В. В. Узбекский язык, ч. I. Ташкент, 1959, с. 59—68.
24 Там же, с. 73—75; см. также: Решетов В. В. Изучение узбек-
ских народных говоров. — В кн.: Узбек диалектологиясидан материаллар, I,
Тошкент, 1957, с. 15—16.
26 Поливанов Е. Д. Узбекская диалектология и узбекский ли-
тературный язык. Ташкент, 1933, с. 4.
26 См.: Жирмунский В. М. 1)0 племенных диалектах древних
германцев. — В кн.: Вопросы германского языкознания. Материалы II науч-
ной сессии по вопросам германского языкознания. М.— Л., 1961, с. 29;
2) История немецкого языка. Изд. 5-е. М., 1965, с. 38—40.
27 Шухардт Г. Избранные статьи по языкознанию. М., 1950, с. 123—
125.
28 Сауранбаев Н. Т., Сарыбаев Ш. Ш. К изучению казах-
ских диалектов. — В кн.: Вопросы истории и диалектологии казахского
языка. Т. I. Алма-Ата, 1958, с. 8.
29 Р е ш е т о в В. В. Узбекский язык, ч. I, с. 36.
30 Brockelmann С. Op. cit., S. 39.
31 Примеры см.: Рясянен М. Указ, соч., с. 132—139; прим, к с. 133.
32 Попытку дать фонетически закономерное объяснение лексической
пестроты чередования t—d в тюркских наречиях содержит статья В.М. Ил-
лича-Свитыча «Алтайские дентальные: /, d, 5». («Вопросы языкознания»,
1963, 6, с. 37-56).
33 Баскаков Н. А. Алтайский язык. (Введение в изучение алтай-
ского языка и его диалектов). М., 1958; Baskakov N.A. La classification
des dialectes de la langue d’Altai. — «Acta orient. Hung.», 1958, v. VIII, No 1.
34 Д ыренкова H. П. Грамматика шорского языка. M.—Л., 1941,
с. 5-6.
36 Дмитриев Н. К., Исхаков Ф. Г. Вопросы изучения хакас-
ского языка и его диалектов (материалы для научной грамматики). Абакан,
1954; Баскаков Н. А., Никиженкова-Грекул А. И. Фоне-
тические особенности хакасского языка и его диалектов. — «Труды Ин-та
языкознания (АН СССР)», 1954, вып. IV.
36 Исхаков Ф. Г., Пальмбах А. А. Грамматика тувинского
языка. М., 1961; Исхаков Ф. Г. Тувинский язык. Очерк по фонетике.
М.—Л., 1957.
37 См. также: Баскаков Н. А. Тюркские языки, с. 212—219,
204—207, 198—204, 192—194.
38 См.: Юнусалиев Б. М. К вопросу о формировании общенарод-
ного киргизского языка.— «Труды Ин-та языка и литературы АН КиргССР»,
1956, т. IV.
39 См.: Батманов Н.А.К генезису диалектов киргизского языка. —
«Труды Ин-та языка, литературы и истории (Кирг. ФАН СССР)», 1944,
с. 55—57.
40 Ишаев А. Из истории мангытов и мангытского диалекта узбек-
ского языка. — «Вопросы диалектологии тюркских языков», II, Баку,
1960, с. 163.
41 История народов Узбекистана, т. 2. Ташкент, 1947, с. 24.
42 Узбек шева-ла^жаларинитекширишга дойр савол-жавоблар. Тош-
кент, 1944.
679
43 Решетов В. В. О диалектологическом атласе узбекского языка.
«Второе региональное совещание по диалектологии тюркских языков. Ноябрь
1958 г. Казань (Тезисы докладов)», Казань, 1958.
44 См.: Программа собирания сведений для составления диалектологиче-
ского атласа азербайджанского языка. Ред. М. Ширалиев, Р. Рустамов.
Баку, 1958 (на азерб. яз.); Ширалиев М. Ш. 1) Диалектологический атлас
азербайджанского языка. «Второе региональное совещание по диалектологии
тюркских языков. . . (Тезисы докладов)»; 2) Азербайджанская диалектология
на новом этапе. — «Вопросы диалектологии тюркских языков», II; 3) Воп-
росы азербайджанской диалектологии, М., 1960 («XXV Международный
конгресс востоковедов. Доклады делегации СССР»).
46 См.: «Вопросы диалектологии тюркских языков». I, Казань, 1960.
46 Тезисы докладов IV регионального совещания по диалектологии
тюркских языков, Фрунзе, 1963.
О некоторых вопросах лингвистической географии
тюркских диалектов
1 См.: Жирмунский В.М.О диалектологическом атласе тюркских
языков Советского Союза. — Наст, кн., с. 605—625.•
2 Поливанов Е. Д. Узбекская диалектология и узбекский лите-
ратурный язык (к современной стадии узбекского языкового строительства).
Ташкент, 1933.
’Боровков А. К. Вопросы классификации узбекских говоров. —
«Известия АН^УзССР», 1953, № 5, с. 73.
4 Решетов В. В. Узбекский язык, ч. 1. Ташкент, 1959, с. 59—68;
Решетов В., Шоабдурахмонов Ш. Узбек диалектологияси.
Тошкент, 1962, с. 79—86.
6 Решетов В., Шоабдурахмонов Ш. Узбек диалектоло-
гияси, с. 85.
’Решетов В. В. Узбекский язык, с. 73—74.
’Поливанов Е.Д. Узбекская диалектология и узбекский литера-
турный язык, с. 4. Подробнее см.: Решетов В. В. Узбекский язык,
с. 28—41. Ср. также: Кононов А. Н. Грамматика современного узбек-
ского литературного языка. М.—Л., 1960, с. 9—10; Баскаков Н. А.
Тюркские языки. М., 1960, с. 160.
8 Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского
языка, ч. I. Алма-Ата, 1959, с. 169—349. См. карту диалектов казахского
языка: там же, с. 351.
9 Д о ска р а е в Ж. Д. Некоторые вопросы диалектологии и истории
казахского языка. — «Вопросы языкознания», 1954, № 2, с. 83—92.
10 Сауранбаев Н.Т. Диалекты в современном казахском языке. —
«Вопросы языкознания», 1955, № 5, с. 43—51.
иС ауранбаев Н. Т. иСарыбаев Ш. Ш. К изучению казах-
ских диалектов. — В кн.: «Вопросы истории и диалектологии казахского
языка». Алма-Ата, 1958, с. 14—15.
12 Сарыбаев Ш. Ш. К вопросу о диалектном членении казахского
языка. — В кн.: «Вопросы диалектологии тюркских языков», т. III. Баку,
1963, с. 45-53.
13 Сауранбаев Н. Диалекты в современном казахском языке,
с. 44.
14 Жирмунский В. М. Немецкая диалектология. М,—Л., 1956,
с. 116-118, 122—127.
16 Р е ш е т о в В. В. Узбекский язык, с. 36.
16 Жирмунский В. М. О диалектологическом атласе тюркских
языков. — Наст, кн., с. 618.
17 Консультациями по вопросам этимологии по материалам «Древне-
тюркского словаря» я обязан А. М. Щербаку.
680
18 Самойлович А. Н. Элементы диалекта «джокчи» в литератур-
ном чагатайском языке. — «Научная мысль», вып. 1, Самарканд—Ташкент,
1930, № 1, с. 11—14.
19 «Словарь джагатайско-турецкий», изданный В. В. Вельяминовым-
Зерновым, СПб., 1868. — Словарь составлен в середине XVI в. в основном
по сочинениям Алишера Навои.
20 Ср. об этом: Самойлович А. Н. Элементы диалекта «джокчи»
в литературном чагатайском языке, с. 12.
21 Ряд других «джокающих» слов в «Бабур-наме» приводится в статье:
Благоева Г. Ф., Данияров X. Д. Говоры «тюрков» Узбекистана в их
отношениях к языку староузбекской литературы. — «Вопр. языкознания»,
1966, № 6. Слово джылау 'поводья’ следует, по-видимому, исключить из
списка А. Н. Самойловича как «раннее монгольское заимствование». См.:
Brockelmann С. Osttiirkische Grammatik der islamischen Literatur-
sprachen Mittelasiens. Leiden, 1954, S. 36 (прим. 3).
22 См.: Brockelmann C. Mahmud al-Ka§gari fiber die Sprachen
und Stamme der Tiirken im 11. Jahrhundert. — «Korosi Csoma Archivum»,
1921, No 1, Budapest, S. 39.
23 Рясянен M. Материалы по исторической фонетике тюркских язы-
ков. М., 1955, с. 133 (прим.).
24 Иллич-Свитыч В. Алтайские дентальные: £, d, В — «Вопросы
языкознания», 1963, № 6, с. 37—56.
26 Там же, с. 38—42.
26 См.: Рясянен М. Материалы по исторической фонетике тюркских
языков, с. 138.
27 Там же, с. 141.
28 И л л ич - С в и тыч В.М. Алтайские дентальные: d, S, с. 43.
44 В. М. Жирмунский
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
1 рамматические термины
архаич. — архаический
буд. вр. — будущее время
букв. — буквально
вин. п. — винительный падеж
глаг. — глагол
дат. п. — дательный падеж
им. п. — именительный падеж
индик. — индикатив
инф. — инфинитив
исходи, п. — исходный падеж
л. — лицо
литер. — литературная форма
мести, п. — местный падеж
Названия язы:
аз. — азербайджанский
а л ем. — алеманнский
алт.—алтайский
англ. — английский
англосакс. — англосаксонский
арм. — армянский
башк. — башкирский
болг. — болгарский
бурят-монг. — бурят-монгольский
вед. — ведический
в.-нем. — верхненемецкий
в.-эльз. — верхнеэльзасский
вост.-франкск. — восточнофранкский
герм. — германская форма
гесс. — гессенский
гото-сканд. — гото-скандинавский
готск. — готский
греч. — греческий
дат. — датский
др.-в.-нем. — древневерхненемецкий
др.-ю.-нем. — древнеюжнонемецкий
др .-англ. — древнеанглийский
др.-ирл. — древнеирландский
др.-исл. — древнеисландский
направит, п. — направительный па-
деж
нар. — наречие
наст. вр. — настоящее время
опт. — оптатив
прев. ст. — превосходная степень
прош. вр. — прошедшее время
разг. — разговорная форма
сильн. — сильный глагол
слаб. — слабый глагол
собир. — собирательное
совр. — современная форма
сравн. ст. — сравнительная степень
твор. п. — творительный падеж
ов и диалектов
др.-лит. — древне литовский
др.-н.-нем. — древненижненемецкий
др.-рун. — древнерунический
др.-русск. — древнерусский
др.-сакс. — древнесаксонский
др.-сев. — древнесеверная форма
др.-фриз. — древнефризский
др.-шв. — древнешведский
зап.-герм. — западногерманский
зап.-тюринг. — западнотюрингский
и.-е. — индоевропейские (языки)
исп. — испанский
итал. — итальянский
карельск. — карельский
каз. — казахский
кирг. — киргизский
лат. — латинский
латышек. — латышский
лит. — литовский
лонд. — лондонская форма
меклб. — мекленбургский
мозельск. — мозельский
нем. — немецкий
н.-в.-нем. — нововерхненемецкий
682
новоангл. — новоанглийский
новонем. — новонемецкий
н.-нем. — нижненемецкий
н.-франц. — новофранцузский
норв. — норвежский
р.-франкск. — рейнскофранкский
рун. — рунический
русск. — русский
санскр. — санскрит
сев.-герм. — северогерманский
сев.-нем. — северонемецкий
сев.-сакс. — северосаксонский
сев.-эльз. — североэльзасский
сербск. — сербский
сканд. — скандинавский
слав. — славянский
слов. — словенский
ср.-англ. — среднеанглийский
ср.-в.-нем. — средневерхненемецкий
ср.-нем. — средненемецкий
ср.-н.-нем. — средненижненемецкий
ср.-франкск. — среднефранкский
ср.-шв. — среднешведский
ст.-с лав. — старославянский
ст.-франц. — старофранцузский
тат. — татарский
тур. — турецкий
тюркск. — тюркский
узб. — узбекский
умбр. — умбрский
франц. — французский
ц.-слав. — церковнославянский
чу к. — чукотский
шв. — шведский
швб. — швабский
ю.-нем. — южнонемецкий
ю.-франкск. — южнофранкский
ю.-эльз. — южноэльзасский
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
О теории советского языкознания. — Изв. АН СССР, ОЛЯ, 1967, т. 26,
вып. I, с. 13—27.
Внутренние законы развития языка и проблема грамматической аналогии. —
Тр. Ин-та языкознания АН СССР, 1954, т. 4, с. 74—110.
О природе частей речи и их классификации. — В кн.: Вопросы теории частей
речи на материале языков различных типов. Л., 1968, с. 7—32.
Об аналитических конструкциях. — В кн.: Аналитические конструкции
в языках различных типов. М.—Л., 1965, с. 5—57.
О границах слова. — В кн.: Морфологическая структура слова в языках
различных типов. М.—Л., 1963, с. 6—33.
Сравнительная грамматика и новое учение о языке. — Изв. АН СССР, ОЛЯ,
1940, № 3, с. 28—61.
Развитие категорий частей речи в тюркских языках по сравнению с индо-
европейскими языками. — Изв. АН СССР, ОЛЯ, 1945, т. 4, № 3—4,
с. 111—127.
Происхождение категории прилагательных в индоевропейских языках
в сравнительно-грамматическом освещении. — Изв. АН СССР, ОЛЯ,
1946, т. 5, вып. 3, с. 183—203.
Марксизм и социальная лингвистика. — В кн.: Вопросы социальной лингви-
стики. Л., 1969, с. 5—24.
Существовал ли общегерманский язык-основа? — Печатается впервые.
Общие тенденции фонетического развития германских языков — «Вопр.
языкознания», 1965, № 1, с. 3—21.
Умлаут в английском языке по сравнению с немецким. — В кн.: Вопросы
грамматики. Сб. статей к 75-летию академика И. И. Мещанинова. М.—Л.,
1960, с. 310-330.
Готские ai, аи с точки зрения сравнительной грамматики и фонологии. —
«Вопр. языкознания», 1959, № 4, с. 67—78.
Грамматический аблаут в германских языках. — В кн.: Symbolae lingui-
sticae in honorem Georgii Kurylowcz. Wroclaw—Warszawa—Krakow,
Wyd PAN, 1965, s. 383—392 (на русск. яз. печатается впервые).
Развитие строя немецкого языка. М.—Л., 1936.
Проблема социальной дифференциации языков. — В кн.: Язык и общество.
М., 1968, с. 22-38.
Сравнительно-историческая грамматика и диалектология. — В кн.: Ма-
териалы Первой научной сессии по вопросам германского языкознания.
М., 1959, с. 5-35.
Методика социальной географии (диалектология и фольклор в свете геогра-
фического исследования). — «Язык и литература», 1932, вып. 8, с. 83—119.
684
О некоторых проблемах лингвистической географии — «Вопр. языкознания»,
1954, № 4, с. 3-25.
Немецкая диалектография — предисловие к кн. «Немецкая диалектография.
Сб. статей», М., Изд. ин. лит., 1955, с. 3—22.
Проблемы переселенческой диалектологии. — «Язык и литература», 1929,
вып. 3, с. 179—220.
Восточносредненемецкие говоры и проблема смешения диалектов. — «Язык
и мышление», 1936, т. 6—7, с. 133—159.
«Франкский диалект» Энгельса и проблемы немецкой диалектологии. —
«Ин. яз. в школе», 1954, № 5, с. 7—27.
Слабые и сильные формы слова и особенности их фонетического развития
(на материале немецких диалектов). — Тр. Ин-та языкознания АН СССР,
1959, т. 9, с. 161-184.
Потенцированные формы в немецких диалектах. — «Вопр. языкознания»,
1958, № 6, с. 44—54.
Умлаут в немецких диалектах с точки зрения исторической фонологии. —
В кн.: Академику Виктору Владимировичу Виноградову к его шести-
десятилетию. Сб. статей. М., 1956, с. 137—146.
О диалектологическом атласе тюркских языков Советского Союза — «Вопр.
языкознания», 1963, № 6, с. 3—19.
О некоторых вопросах лингвистической географии тюркских диалектов. —
В кн.: Тюркологический сборник. К шестидесятилетию Андрея Нико-
лаевича Кононова. М., 1966, с. 54—63.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Абаев В. П. 19, 634
Абдуллаев X. 646
Абулгази 630
Аванесов Р. И. 634
Аврорин В. А. 640
Адмони В. Г. 24, 70, 123, 633, 635
Адольф II 517
Алексеев Д. А. 642
Алисова Т. Б. 644
Алкуин 322
Аманжолов С. 627, 628, 680
Андреев Н. Д. 661
Аппель К. 39, 637, 638
Арнольд В. 539, 673
Арутюнова Н. Д. 112, 645
Ахвледиани Г. С. 640
Ахманова О. С. 139, 641, 648
Бадер К. 328—330
Бакинова Г. 622
Балли Ш. 20, 37, 642
Баранников П. А. 653
Баранникова Л. И. 242
Бартоли М. 256
Баскаков Н. А. 608, 610, 634, 642,
678-680
Батманов И. А. 612, 641, 678, 679
Бауманн В. 510
Бах А. 454, 474, 514, 669
Безеке Г. 415
Бельман Г. 388
Бем Ф. 443, 444
Бёмер Э. 507
Бенвенист Э. 259
Беннет В. 314, 661
Бенфей Т. 181
Берндт А. 668
Берне Л. 668
Бертагаев Т. А. 642
Бертольд Л. 426, 434
Бехагель О. 339, 341, 351, 366, 407,
414, 415, 537, 550, 580, 600
Бехтлинг 211
Благова Г. Ф. 630, 681
Блумфильд Л. 236
Боас Ф. 236
Бобров С. П. 658
Богораз В. Г. 241
Богородицкий В. А. 613, 636, 639,
679
Бодуэн де Куртенэ И. А. 7, 23, 24,
40, 41, 69, 132, 135, 238, 254, 386,
637-639
Бондалетов В. Д. 239, 652
Бондарко А. В. 633
Боненбергер К. 456, 477, 482, 567
Бонфанте Дж. 256
Бопп Ф. 123, 144, 343, 539
Боровков А. К. 605, 614, 621, 622,
626, 679, 680
Бородина М. А. 255, 633
Бош А. 399
Брайт У. 251
Браун Ф. А. 7
Брауне В. 314, 317, 318, 460, 462,
539, 548, 557, 638
Бремер О. 314, 321, 461, 475, 476,
482, 483, 542, 559, 563, 661
Бретшнейдер А. 410
Бринкман X. 23, 157, 172, 537
Броккельман К. 205
Бругман К. 7, 33, 37, 54, 57, 169,
174, 177, 181, 201, 214, 258, 320,
332, 402, 403, 455, 456, 464, 589
Бруннер К. 578, 657, 675
Брюно Ф. 92
Бубрих Д. В. 405
Будагов Р. А. 633, 635
Будде Е. Ф. 25, 241, 636
Булаховский Л. А. 30, 90, 636,
639, 642
Бурганова Н. Б. 622
Бурдах К. 460, 488, 668
Бусбек 322
Буслаев Ф. И. 23, 63, 640
Вагнер К. 444, 460
Вальтер фон дер Фогельвейде 25,
173, 245, 396
Вальтер Э. 509
686
Вандриес Ж. 33, 55, 85, 127, 128,
144, 637—639, 642, 646
Вартбург В. 256, 489
Васильева И. Г. 104, 644
Васильева-Шведе О. К. 644
Вейнгертнер В. 313, 314
Вейнгольд К. 522
Вейсгербер Л. 23
Велтер В. 673
Вельяминов-Зернов В. В. 681
Венкер Г. 423, 427, 452-454, 474—
479, 485, 494, 513, 548, 563, 575
Венцель В. 435, 438, 439
Вернер К. 259, 275, 294
Веселовский А. Н. 7, 171, 649
Вессен Э. 657
Вигилий из Папса 321
Вильманс В. 227, 314, 330, 349,
351, 353, 363, 367, 407
Виноградов В. В. 16, 23, 24, 63,
65, 68, 69, 71, 86, 87, 89, 90, 93—
97, 108, 114, 115, 121, 122, 129,
131, 133, 135, 140, 141, 147, 237,
240, 244, 245, 633, 639-647,
653
Виноградов Н. 241
Винтелер И. 296, 563, 565
Винэ Ж.-П. 20
Вольф Л. 410
Воссидло Р. 444
Востоков А. X. 23
Вредэ Ф. 8, 156, 157, 161, 162, 256,
288, 299, 314, 322, 410, 423, 431,
452—454, 458, 459, 462, 474, 477—
484, 489, 490, 492, 517-519, 533,
548, 553, 559, 563, 567, 591, 592,
665, 669, 670
Вульфила (Ульфила) 161, 166, 172,
173, 289, 313—316, 319, 321 —
325, 329, 361, 404, 405, 508, 659,
661
Вундт В. 33, 34, 39, 55, 199, 637
Гаджиева Н. 3. 634
Гак В. Г. 635
Гамплыпег Э. 322
Гамкрелидзе Т. В. 18, 634
Гарибян А. С. 259
Гебхардт А. 565, 574
Гегель Г. В. 334, 342
Гейне М. 325, 412, 539, 541, 595
Георгиев В. И. 272, 655
Геркнер Э. 427
Герман, ландграф Тюрингенский 396
Герман Э. 32, 39, 40
Гёте И. В. 17, 71, 72, 109, 350,
352, 355, 360, 363, 408, 430, 593
Г линц X. 23
Головин Б. Н. 240, 652
Гольтгаузен Ф. 414
Гомер 174, 340
Гораций 175
Горький А. М. 652
Готфрид Страсбургский 371
Готхельф И. 352
Готшед И. К. 521
Гренбек К. 234, 650
Гримм, братья 91
Гримм Я. 157, 166, 167, 313, 319,
337, 338, 482, 488, 539, 544,
Гроссе Р. 388, 389, 392, 397
Грунин Т. И. 642
Гугенхейм Г. 111
Гурычева М. С. 634
Гухман М. М. 9, 13, 16, 20, 83,
97-99, 102, 105, 112-114, 117,
141, 179, 240, 633, 635, 642-645,
647, 649, 653, 658
Гюбнер А. 444
Даль И. 583
Данияров X. 629, 681
Дарбельне Ж. 20
Девото Дж. 256
Дейчбейн М. 92
Дельбрюк Б. 35
Дени Ж. 205
Державин К. Н. 237, 238, 652
Десницкая А. В. 9, 17, 19, 20, 221,
272, 633, 634, 651, 655, 663
Дешериев Ю. Д. 634, 653
Джемс Р. 240, 653
Джонс О. 319, 661
Дингес Г. Г. 493, 500, 505
Дитрих Ф. 314, 321
Диц Ф. 539
Дмитриев Н. К. 196, 634, 641, 646,
647, 650, 679
Доскараев Ж. 627, 628, 678, 680
Дурново Н. 450
Дыренкова Н. П. 650, 679
Екатерина II 491, 506
Еллинек М. 314, 321
Есперсен О. 28, 39, 85, 92, 108,
110, 220, 282, 338, 381, 643, 662
Жигадло В. Н. 643—645, 647
Жильерон Ж. 8, 255, 256, 452,
454, 458, 469—471, 473, 476—
478, 480, 481, 483, 583
Жирмунский В. М. 5, 6, 11, 13, 20,
450, 633—636, 639—642, 644, 646—
658, 660—672, 674, 675, 677, 679,
680
За ляп Л. 3. 622
Звегинцзв В. А. 641
687
Зеленин Д. К. 241
Зерт Э. 314, 317, 318, 323
Зиндер Л. Р. 105, 112, 194, 499,
518, 644, 645
Зоммер Ф. 169
Зюттерлпн Л. 359, 568
Иванов А. М. 633, 652, 653
Иванов В. В. 19, 634
Иванова И. П. 107, 643—645, 647
Иллич-Свитыч В. И. 19, 631, 634,
679, 681
Ильиш Б. А. 643, 658
Иогансон Э. Г. 494
Иордан 406, 409
Иофик Л. Л. 107, 643—645, 647
Исаченко А. В. 67, 640, 656
Исхаков А. И. 641
Исхаков Ф. Г. 679
Ишаев А. 679
Калепки Т. 61
Карг Ф. 519, 520
Карг-Гастерштедт Э. 662
Каринский Н. М. 16, 241, 242,
634, 653
Карл Великий 152, 156, 158, 410,
489, 523, 555, 616
Карл IV 488
Карлблом Е. 494
Карломан 540
Кассирер Э. 236, 387
Катагощина Н. А. 634
Кауфман Ф. 563, 565, 567, 574
Кацнельсон С. Д. 9, 13, 20, 93,
229—231, 324, 633, 635, 643, 650,
651
Керм Дж. 93, 116, 117, 120
Кикере Е. 314, 321
Климов Г. А. 13, 26, 633, 634
Клуге Ф. 314
Клуке Г. Г. 410, 554
Ковтун Л. С. 652
Кок А. 648
Кононов А. Н. 634, 640, 642, 646,
647, 650, 680
Конрад Н. И. 16, 247, 633, 653
Корш Ф. Е. 609—611, 678
Краузе В. 314, 321
Крашенинникова Е. А. 106, 644
Краэ Г. 276, 314, 321
Кречмер П. 248, 428, 430, 431,
478, 528, 671
Крот Рубеан 397
Крушевский Н. В. 41, 54, 122,
638, 639, 646
Крушельницкая К. Г. 635
Кудайбергенов С. 641
Кузнецов П.^С. 128, 646
Кузнецова^ Н._ Н. 635
Куриловпч Е. 63, 77, 326
Курциус Г. 32, 35, 36
Ларин Б. А. 16, 237—240, 242,
248, 634, 652, 653
Лафарг П. 236, 237, 241
Лаш А. 524, 526, 528—531
Леве Р. 155, 530
Леви-Брюль Л. 236, 387
Левин В. Д. 636
Левковская К. А. 129, 130, 138,
146, 646—648
Леман В. 277
Ленерт М. 399
Ленин В. И. 12, 115, 235, 243, 390,
645, 653, 664
Леонтьев А. А. 633
Лермонтов М. Ю. 90
Лерх Э. 342
Лескин А. 638
Лессинг Г. Э. 360, 371
Лессяк П. 415
Лингарт X. 426
Линней К. 62
Лобес О. 673
Ломоносов М. В. 23, 388, 391, 663
Лудольф Г. В. 240, 653
Лыткин В. И. 642
Лютер М. 50, 356, 363, 371, 397,
398, 403, 488, 522—524
Макаев Э. А. 275, 633, 634, 654—656
Малерб Ф. 112
Мальблан А. 20
Мангардт В. 444, 445
Мансион Ж. 158
Маретин Ю. В. 653
Маркс К. 9, 12, 15, 235, 243, 245,
342, 387, 390, 561, 633, 646, 648,
653, 657, 663—665, 668, 669, 672,
673, 677
Марр Н. Я. 8, 9, 17, 20, 97, 101,
148, 149, 153, 165, 182—185, 187,
188, 191, 199, 209, 236, 237, 243,
254, 276, 280, 336, 378, 386, 387,
648-651, 663
Марстрандер К. 314, 659
Мартин Б. 431, 479, 667
Мартин Э. 426
Марчанд Дж. 319, 323
Маслова-Лашанская С. С. 102, 103,
283, 644, 656, 657
Матьюз В. 400
Маурер Ф. 296, 487, 490
Махмуд Кашгарский 205, 611, 618,
631
Мачавариани Г. И. 18, 634
Мейе А. 21, 136, 152, 153, 158,^160,
161, 164, 165, 168, 169, 174,.176,
177, 180, 181, 184,4185/256/ 269,
277, 288, 298, 327, 398, 399, 401,
403, 554, 635, 637-639, 647-
650, 655—658, 664, 673
Мейер Дж. 443, 444, 447
Мейер П. 470, 481
Мейер-Любке В. 61
Меланхтон Ф. 398
Мелиоранский П. М. 205
Мензинг О. 426
Мерингер а Р. 441
Мещанинов И. И. 9, 19, 20, 65,
78, 127, 128, 187, 200, 232, 236,
382, 633, 640, 641, 646, 650, 651,
663
Миронов С. А. 676
Мистели Ф. 39, 40
Митцка В. 415, 444-479, 579
Михайлов М. С. 647
Михельс В. 571, 572
Молодцова Е. Н. 665
Морозова Е. Н. 635
Морф Г. 454
Москальская О. И. 112, 645
Моссе Ф. 314, 321, 322, 324, 661
Мухаммед Салих 630
Муциан Руф 397
Мюлленгоф К. 460, 488, 539
Мюллер И. 426, 440-442, 486
Навои Алишер 681
Надлер К. Г. 541
Недялков В. П. 644
Неймарк И. фон 488
Никиженкова-Грекул А. И. 679
Никитина Т. Н. 644
Ноткер 338, 359, 360, 365, 568, 571,
572, 662
Обнорский С. П. 636
Обэн Г. 441, 444, 486
Ожегов С. И. 89, 642
Оке Э. 426
Ольдерогге Д. А. 653
Остгоф X. 32, 33, 226, 227, 229,
231, 402
Отфрид 348, 349, 360, 371, 374, 569
Пальмбах А. А. 679
Панов М. В. 652
Панфилов В. 3. 67, 68, 633, 640
Парис Г. 470, 481
Пасси П. 85
Пауль Г. 7, 32—39, 41, 48, 54, 145,
314, 352, 360, 403, 415, 470, 478,
481, 579, 580, 636—639, 645, 648,
654
Пенцль Г. 314, 315, 318, 319, 323,
661
Песслер В. 441
Петерсон М. Н. 69, 70, 125, 641, 646
Петрова Т. И. 640
Пешковский А. М. 71, 72, 75, 87,
132, 137, 641, 642, 646, 647
Пизани В. 254—257, 269, 277, 314,
654, 655
Платон 340
Плиний 157, 405, 406, 489, 541,
542, 554
Погорельская В. П. 494, 499, 663
Покровская А. А. 634
Поленц П. фон 388
Поливанов Е. Д. 12, 614, 616, 626,
627, 679, 680
Поржезинский В. К. 69, 324
Порциг В. 256, 269
Поспелов Н. С. 61, 640
Потебня А. А. 23, 63, 64, 78, 80,
118, 134, 191, 193, 195, 201, 209,
210, 225, 226, 640, 641, 645, 647,
650, 651
Поцелуевский А. П. 199, 650
Праш И. Л. 426
Присциан 180
Прокош Э. 289, 314, 322, 657, 659,
661, 665
Протце X. 388
Пушкин А. С. 25, 26, 90, 246, 656
Пфальц А. 592
Радлов В. В. 609, 619
Раевский М. В. 296, 658
Райт Дж. 314
Рамстедт Г. 678
Раппопорт Э. Г. 645
Рейнмар Старший 396
Рёте Г 521
Решетов В. В. 615, 618, 622, 626,
629, 678—680
Риттер С. 364
Розенкранц X. 388
Розенфельд X. Ф. 269
Рот Э. 410
Рудольф О. 393
Рустамов Р. 680
Руфьева А. И. 645
Рясянен М. 618, 631, 676, 679, 681
Савченко А. Н. 634
Самойлович А. Н. 610—612, 614,
618, 630, 678, 679, 681
Санжеев Г. Д. 234, 642, 651, 652
Сарыбаев Ш. Ш. 617, 627, 628, 679,
680
Сауранбаев Н. Т. 617, 627, 628,
679, 680
Свердруп И. 177, 178
Севортян Э. В. 146, 634, 642, 648
Сенеан Л. 239
Сергиевский М. В. 16, 237, 238,
244, 395, 633, 652, 664
689
Серебренников Б. А. 28, 614, 636,
679
Сиверс Э. 218, 311, 314, 322, 417,
475, 483, 487, 657
Сивертсен Э. 400
Сиротинина О. Б. 240, 652
Смирницкий А. И. 24, 126, 130,
135, 138, 139, 146, 147, 635, 641,
646-648
Соссюр Ф. де 17, 37, 39, 242, 638
Спенсер Г. 39
Сталин И. В. 96, 237
Стеблин-Каменский М. И. 61, 87,
102, 103, 285, 291, 295, 640, 642,
644, 656-658, 665, 677
Степанова М. Д. 146, 646, 648
Строева (Сокольская) Т. В. 105,
112, 375, 494, 499, 644, 645, 649,
650, 663
Суник О. П. 20, 633, 643
Сухотин В. П. 95, 96, 643, 644
Сэпир Э. 236
Тарквиний Гордый 407, 408
Татиан 361, 568, 569
Тацит 157, 405, 472, 489, 541, 544
Тоблер Л. 426
Томсен В. 638
Тонков В. А. 652
Топоров В. Н. 19, 634
Торсуев Г. П. 282, 633, 656
Тройский И. М. 275, 633, 655
Трубецкой Н. С. 126, 314, 646
Тургенев А. И. 89
Уайльд Г. С. 237, 399
Уайльд О. 110
Убрятова Е. И. 678
Уленбек К. 650
Унверт В. 493
Ушаков Д. Н. 69, 70, 89, 126, 450,
607, 641, 642, 646
Федоров А. В. 20, 635
Ферсте В. 410
Филипп Швабский 396
Фирмених И. 493
Фишер Г. 426, 428
Флейшер В. 250, 388, 390
Фортунатов Ф. Ф. 23, 61, 69, 70,
84, 86, 94, 96, 97, 132, 134, 136,
140, 324, 640, 641, 643, 647, 661
Фосслер К. 8, 340, 341
Фохт Г. 259
Франк И. 415
Франклин Дж. 400
Фридрих Мудрый 397
Фрингс Т. 8, 16, 157, 250, 256, 388,
394, 397, 410, 441-444, 452, 459,
464. 465, 472, 483-490, 514, 537,
548, 550, 551, 554, 664, 665, 667,
668
Фурке Ж. 296, 666
Хааг К. 456, 471, 477, 478, 480—
482, 498
Хайн М. 393
Хаммерих Л. 240
Хельм К. 314, 660
Хенцен В. 330
Херцлер Д. 237
Хирт Г. 55, 80, 145, 161, 169, 174,
181, 208, 211, 225, 231, 258, 261,
265, 314, 315, 318-320, 322, 324,
326, 661
Хлодвиг 464, 542, 550, 558, 559
Хойер Г. 236, 237
Хольцман А. 406
Хорн В. 36, 291-293, 339, 399,
583, 657
Хэмп П. 661
Цвингли У. 398
Цезарь Юлий 173
Церетели Г. В. 634
Цыганова И. А. 635
Чемоданов Н. С. 258, 269, 271, 273,
654, 655
Черданцева Т. 3. 644
Чернышев В. И. 241, 647
Чернышевский Н. Г. 283, 656
Шагдаров Л. 641
Шапиро А. Б. 61, 640
Шатц И. 419
Шахматов А. А. 23, 68, 115, 116,
137, 241, 636, 640-642
Шварц Э. 256, 490
Шенфельд М. 321
Шерер В. 314
Шиллер Ф. 352, 355, 360, 456
Ширалиев М. Ш. 18, 622, 680
Шишмарев В. Ф. 644
Шкловский В. Б. 25
Шлейхер А. 91, 253, 254, 276, 337,
338, 606
Шмеллер И. 426
Шмидт Б. 677
Шмидт И. 154, 222, 254
Шоабдурахмонов Ш. 680
Шолохов М. А. 25
Шоу Б. 399
Шпангенберг К. 388, 394
Шпитцер Л. 8
Шредер Э. 410
Штифтер А. 408
Штрейтберг В. 7, 181, 314, 315,
317—319, 321, 370, 404, 405
Штрем А. Н. 505, 506, 509, 510
690
Штрих Ф. 62
Шуллерус 426
Шухардт Г. 8, 33, 152, 154, 254,
470, 481, 617, 639, 669, 679
Щерба Л. В. 8, 23, 24, 40, 66, 67,
69, 70, 76, 114, 115, 124, 126, 127,
132-134, 136, 243, 323, 638, 640,
641, 643, 645—647
Щербак А. М. 680
Эдмон Э. 476
Эккарт 374
Элингер 364
Энгельс Ф. 125, 157, 159, 165, 235,
236, 292, 404, 405, 410, 412, 415,
416, 455, 463, 467, 536—542, 544—
550, 560, 595, 633, 646, 648, 649,
653, 657, 663-666, 668, 669, 672,
673, 677
Эрбен И. 23
Юлдашев Ф. 23
Юнгандреас В. 522, 523
Юнуса лиев Б. М. 679
Якобзон Г. 317
Якобсон Р. О. 76, 240, 641
Якубинский Л. П. 16, 24, 237, 238,
241, 244, 245, 248, 254, 375, 386,
633, 652-654, 667
Ярцева В. Н. 101, 107, НО, 117, 118,
120, 123, 140, 635, 642-645, 650
Admoni W. 635, 645, 646
Alm Е. 639
Aubin Н. 451, 668, 669, 672, 673
Bach А. 450, 451, 663, 667. 669,
670, 673
Baesecke G. 666, 668
Bahder К. v. 656, 662
Bally Ch. 638
Baskakov N. A. 679
Bauche H. 664
Baudouin de Courtenay J. 636, 638
Bauerfeind 673
Behaghel O. 451, 662, 663, 665,
666, 671-673, 675, 677
Bellmann G. 663
Benfey Th. 649
Bennet W. H. 659
Berndt A. 668
Berthold L. 451
Bischoff K. 675
Bloomfield L. 638
Boehm F. 452
Bohmer E. 670
Bohnenberger K. 668, 674
Borne L. 668
Braun M. 651
Braune W. 639, 659, 660, 668, 672,
676
Bremer O. 659—661, 668, 669, 673—
675
Bretschneider A. 450
Bright W. 654
Brinkmann H. 635, 648, 649, 672
Brockelmann C. 650, 678, 679, 681
Brugmann K. 636—639, 649—651,
654, 655, 660, 662, 663, 665, 668,
676
Brun A. 664
Brunner K. 658
Brunot F. 642
Bubener R. H. 676, 677
Burrow T. 656, 662
Capell A. 634
Cassirer E. 649
Christmann E. 450, 669
Clauss W. 678
Cuny A. 639, 651
Curme G. 643—645
Curtius G. 637
Dal I. 676
Darbelnet J. 635
Dauzat A. 664, 676
Debrunner A. 638
Delbriick B. 636, 637, 656, 660, 662
Deny J. 650
Deutschbein M. 643, 644
Devoto G. 654
Dietrich F. 659
Dinges G. G. 670
Ebert W. 669
Endzelin J. 638
Ferguson Clb A. 653, 664
Firmenich J. 670
Fischer H. 451, 668
Fleischer W. 654, 663, 664
Foerste W. 665
Fourquet J. 658, 666
Frank J. 640, 666, 674
Franklyn J. 664
Friedrich W. 667
Frings Th. 450, 451, 655, 665, 668-
670, 672, 673, 676
Gebhardt A. 674, 675, 676
Gillieron J. 667, 676
Gleissner K. 669
Goetsem Fr. van 661
Gougenheim G. 644
Grimm J. 658, 660, 662
Gronbeck K. 650, 651
691
Grope R. 654, 663, 664
Guchmann M. M. 653
Gutjahr E. 671
Haag K. 451, 668, 670
Hain M. 664
Hammerich L. L. 653
Hamp E. P. 659, 661
Hanger E. 654
Harmjanz H. 491
Havers W. 663
Hegel G. W. Fr. 637, 663
Heeger G. 451
Heike G. 654, 664
Heilig 0. 451
Helmold 517
Henry V. 666, 675, 676, 677
Henzen W. 662, 664, 676, 677
Herkner E. 451
Hermann E. 637, 638
Hertel L. 674, 676
Hertzler J. 0. 652
Heusler A. 648, 677
Heyne M. 325, 659, 661
Hirt H. 639, 641, 648, 649, 651,
654, 655, 659-662
Hoffmann K. 675, 676
Hojer H. 652
Holthausen F. 666, 678
Horn W. 637, 657, 662, 664, 674,
676, 677
Hiibner A. 450, 452
Isacenko A. V. 656
Jacki K. 639, 677
Jakobsohn H. 660
Jakobson R. 653
Jellinek M. H. 659, 660
Jellinghaus H. 667, 674
Jespersen 0. 638, 639, 642—644,
651, 656, 657, 662, 663
Jones 0. F. 659—661
Jungandreas W. 671, 672
Jutz L. 671, 674, 678
Kaiser K. 671
Kalepky Th. 640
Karg F. 671
Kauffmann F. 666, 668, 674, 677,
678
Keller K. 670
Kieckers E. 659, 660
Kluge F. 649, 659
Kotschke R. 669
Krahe H. 659
Kranzmayer E. 451, 657, 667
Krause W. 659, 660
Kretschmer P. 451, 654, 671, 672
Kroh W. 666, 675, 677
Kruisinga E. A. 644
Kruszewski N. 638
Kufner H. L. 654, 664
Kursten 0. 675
Kurytowicz J. 640, 641, 661, 662
Lamprecht K. 671
Larousse 644
Larsson H. 667
Lasch A. 451,- 667, 669, 671, 672,
676
Lehmann W. D. 655, 661
Lehnert M. 657, 664, 676
Leibbrandt G. 670
Lenz Ph. 451, 674, 677
Lerch E. 662
Lerchner G. 655
Leskien A. 636
Lessiak P. 666, 674, 676, 678
Lienhart H. 451, 667, 674, 675,
676
Lindner B. 662
Lobbes 0. 673
Loewe G. 648
Loewe R. 451, 665, 672
Lofstedt E. 666
Lohmann J. 651
Lohss M. 451
Lommel H. 651
Lorck E. 663
Mackel E. 678
Mackensen L. 645
Malblanc A. 635
Mannhardt W. 667
Mansion J. 648
Marbe D. 637
Marchand J. W. 660, 661
Martin B. 451, 674, 675
Martin E. 451
Martinet A. 657
Matthews W. 664
Maurer Fr. 450, 664, 669
Mayer K. 637
Meillet A. 638—651, 655, 662, 664,
665
Meisinger 0. 451, 675, 677
Mensing 0. 451
Meringer R. 637, 667
Mertes E. 678
Meyer P. 669
Meyer-Liibke W. 661
Michels V. 675, 676, 678
Misteli F. 638, 663
Mitzka W. 658, 666, 672, 675, 676
Mosse F. 659—661
Moulton W. G. 659
Muller J. 451, 668, 669, 672, 673,
677
Muller W. 664
692
Nagi H. W. 674, 676
Neckel G. 660, 665
Niessen J. 451
Ochs E. 451
Ohmann E. 658, 662, 667
Osthoff H. 636, 637, 639, 651, 665,
668, 676
Paige n H. 668
Paris G. 669
Paul H. 636—639, 645, 649, 659,
663, 666, 669, 673, 675
Penzl H. 659—661, 665, 677
Pessler W. 451
Pfalz A. 676, 677
Philipp 0. 673
Pisani V. 654, 655, 659, 660
Polenz P. v. 654, 663
Porzig W. 655
Prokosch E. 659
Protze H. 663
Radloff W. W. 678
Regel K. 674, 675
Reis H. 667, 671, 672, 676
Roethe G. 671
Rogge Ch. 637
Rohlfs G. 643, 644
Rohr E. 491
Rooth E. 665
Rosenfeld H. F. 655
Rosenkranz H. 633, 663
Royen G. 639, 651
Rudolph 0. 451
Sainean L. 652
Sarauw Chr. 666, 674, 678
Schadlich H. J. 656
Schatz J. 639, 640, 666, 667, 675, 678
Scherer W. 639, 659
Schirmunski V. 452, 654, 656, 662,
664, 670
Schleicher A. 642, 662
Schmidt B. 674
Schmidt J. 651
Schmitt A. 658, 666, 668
Schmitt L. E. 668
Scholl K. 676
Schonbach A. 677
Schoner G. 451
Schonfeld M. 660, 661
Schrenk F. 670
Schrijnen J. 636, 637
Schuchardt H. 637, 648, 669
Schullerus 451
Schwarz E. 655, 660, 665, 668, 669,
673, 675, 677
Scioppius 519
gQbrt E. H. 659 f 660
Sievers E. 656—658, 666
Sivertsen E. 654, 664
Sommer F. 649
Spangenberg K. 633, 663, 664
Spitzer L. 667
Stamm F. L. 325, 659, 661
Stammler W. 665
Steche Th. 675
Steinhauser W. 667
Streitberg W. 649, 656, 659—661,
663, 665, 669
Strich F. 640
Strom A. 670
Sturtevant E. 660, 661
Sutterlin L. 639, 640, 663, 671, 674-
677
Sverdrup J. 639, 649
Tarral N. 666, 674—676, 678
Teuchert H. 451, 670
Thumb A. 637
Tille E. 451
To bier L. 451
Trubetzkoy N. 659
Uhlenbeck C. 650
Unbegaun B. 636
Unwerth W. 670, 671
Veil F. 677
Vendryes L. 639, 640
Vilmar A. 451
Vinay J.-P. 635
Vogt E. F. 674, 675
Vossler K. 662
Wackernagel J. 649
Wagner K. 450-452, 668
Walter E. 670
Warren .A. 636
Weingartner W. 659
Weinhold K. — 671, 675, 676, 678
Weise O. 640, 678
Weitzenbock G. 676
Wellek R. 636
Welter W. 673
Wenzel W. 451
Will W. 669
Wilmanns W. 651, 656, 659, 662, 663
Winteler J. 658, 674—677
Wolff L. 665
Wrede F. 450, 648, 657—661, 665-
668, 671—674, 677
Wright J. 659
Wundt W. 637, 639, 649
Wyld H. C. 652, 664
Zabrocki L. 666
Zerr A. 670
Ziesemer W. 672
Zwierzina K. 677
СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
От редакции 5
Предисловие 7
ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ
О теории советского языкознания.................................. И
Внутренние законы развития языка и проблема грамматической
аналогии.................................................... 26
О природе частей речи и их классификации........................ 60
О'’ Об аналитических конструкциях ................................ 82
/ О границах слова ............................-................. 125
Сравнительная грамматика и новое учение о языке................ 148
Развитие категории частей речи в тюркских языках по сравнению
с индоевропейскими языками................................. 187
Происхождение категории прилагательных в индоевропейских язы-
ках в сравнительно-грамматическом освещении................ 209
Марксизм и социальная лингвистика.............................. 235
ГЕРМАНИСТИКА
Существовал ли общегерманский язык-основа? .................... 253
Общие тенденции фонетического развития германских языков . . . 277
Умлаут в английском языке по сравнению с немецким.............. 298
Готские ai, аи с точки зрения сравнительной грамматики и фонологии 313
Грамматический аблаут в германских языках...................... 326
Развитие строя немецкого языка................................. 334
ДИАЛЕКТОЛОГИЯ И ДИАЛЕКТОГРАФИЯ
Проблема социальной дифференциации языков...................... 386
Сравнительно-историческая грамматика и диалектология........... 400
Методика социальной географии. (Диалектология и фольклор в свете
географического исследования) ............................. 422
О некоторых проблемах лингвистической географии................ 452
Немецкая диалектография ....................................... 474
Проблемы переселенческой диалектологии......................... 491
Восточносредненемецкие говоры и проблема смешения диалектов. 516
«Франкский диалект» Ф. Энгельса и проблемы немецкой диалекто-
логии ..................................................... 538
Слабые и сильные формы слова и особенности их фонетического раз-
вития (на материале немецких диалектов).................... 561
Потенцированные формы в немецких диалектах..................... 582
Умлаут в немецких диалектах с точки зрения исторической фоно-
логии ..................................................... 595
О диалектологическом атласе тюркских языков Советского Союза. 605
О некоторых вопросах лингвистической географии тюркских диа-
лектов .................................................... 625
Примечания . 633
Список сокращений 682
Библиографическая справка 684
Указатель имен................................................
INHALT
Vorbemerkung der Herausgeber........................................... 5
Vorrede ............................................................... 7
ALLGEMEINE SPRACHWISSENSCHAFT
Uber die Theorie der sowjetischen Sprachwissenschaft.................. 11
Die inneren Gesetze der Sprachentwicklung und das Problem der gram-
matischen Analogic ............................................... 26
Uber das Wesen der Wortarten und ihre Klassifikation.................. 60
Uber analytische Konstruktionen....................................... 82
Uber die Grenzen des Wortes.......................................... 125
Die vergleichende Grammatik und die neue Sprachlehre ....... 148
Die Entwicklung der Kategorie der Wortarten in den tiirkischen
Sprachen im Vergleich mit den indoeuropaischen................... 187
Der Ursprung der Adjektivkategorie in den indoeuropaischen Sprachen
in vergleichend-grammatischer Sicht.............................. 209
Marxismus und Soziallinguistik ...................................... 235
GERMANISTIK
Gab es eine gemeingermanische Grundsprache?.......................... 253
Die gemeinsamen Tendenzen in der Lautentwicklung der germanischen
Sprachen ........................................................ 277
Der Umlaut im Englischen und Deutschen............................... 298
Gotisch ai, au in vergleichend-grammatischer und phonologischer Sicht 313
ber grammatische Ablaut im Germanischen.............................. 326
Die Entwicklung des deutschen Sprachbaus............................. 334
MUNDARTFORSCHUNG UND DIALEKTGEOGRAPHIE
Das Problem der sozialen Differenzierung der Sprachen................ 386
Historisch-vergleichende Grammatik und Mundartkunde.................. 400
Die Methodik der sozialen Geographic (Mundart- und Volkskunde im
Lichte der geographischen Forschung)............................. 422
Uber einige Probleme der Sprachgeographie............................ 452
Deutsche Dialektgeographie .......................................... 474
Probleme der Siedelungsmundartforschung ............................. 491
Die ostmitteldeutschen Dialekte und das Problem der Dialektmischung 516
Der «Frankische Dialekt» von Engels und die Probleme der deutschen
Mundartforschung............................................. 538
Schwache und starke Wortformen und die Besonderheiten ihrer Lautent-
wicklung in den deutschen Mundarten.......................... 561
Verstarkte Wortformen in den deutschen Mundarten................. 582
Der Umlaut in deutschen Mundarten in historisch-phonologischer Sicht 595
Uber den Dialektatlas der tiirkischen Sprachen der Sowjetunion .... 605
Uber einige Fragen der Sprachgeographie der tiirkischen Mundarten . . 625
Anmerkungen 633
Abkiirzungen ........................................................ 682
Bibliographischer Nachweis....................................... 684
Namenregister.................................................... 686