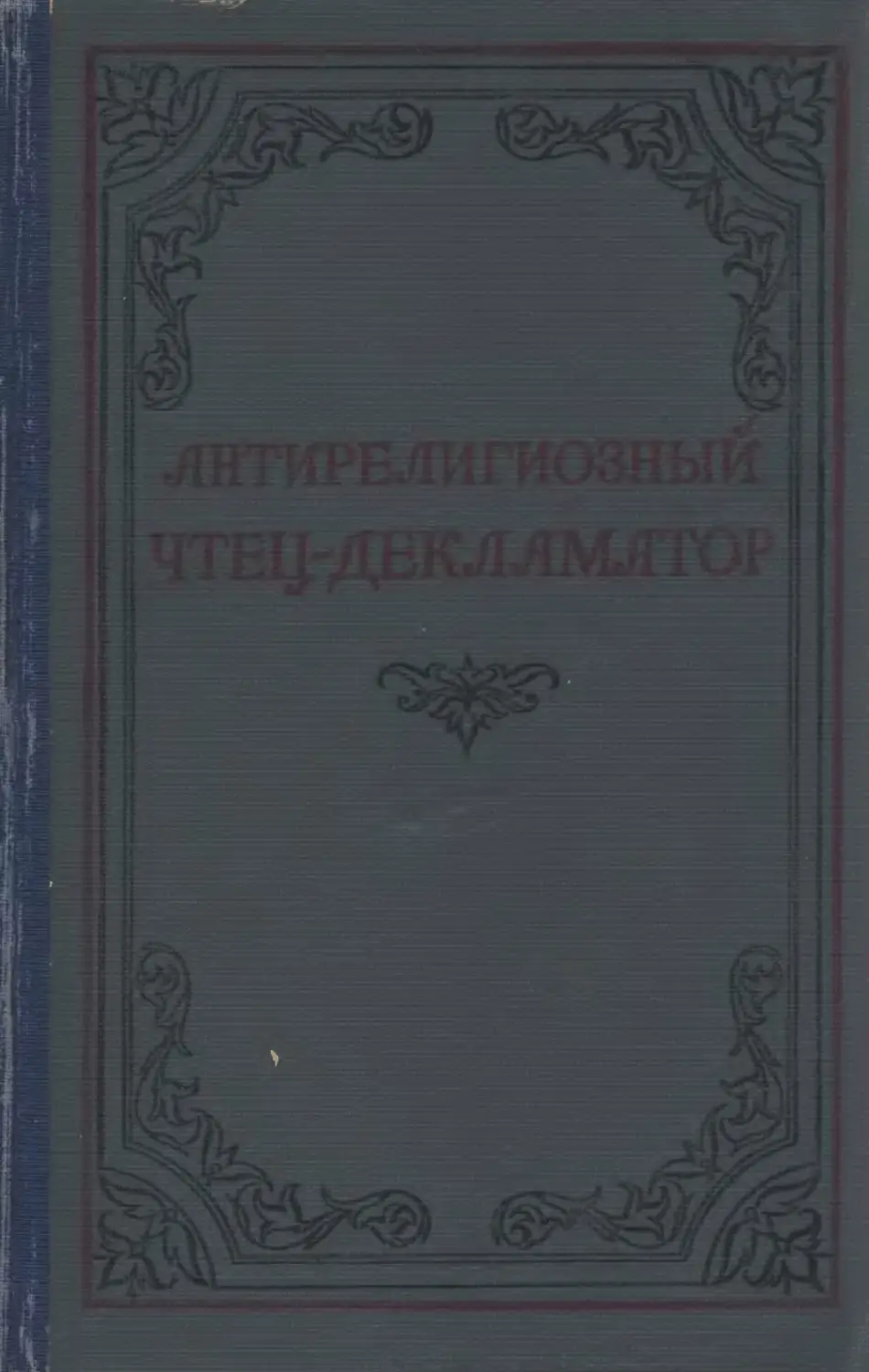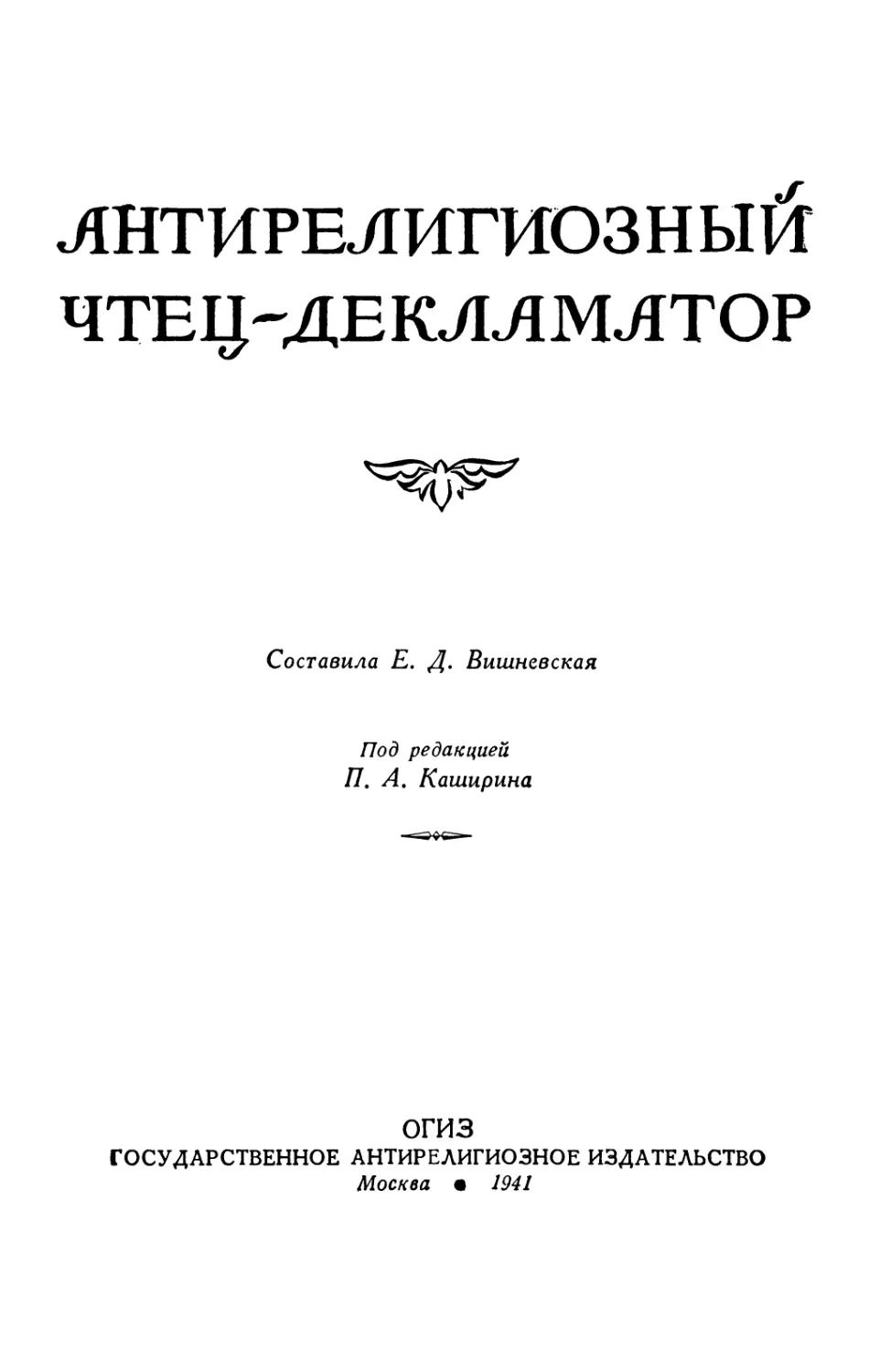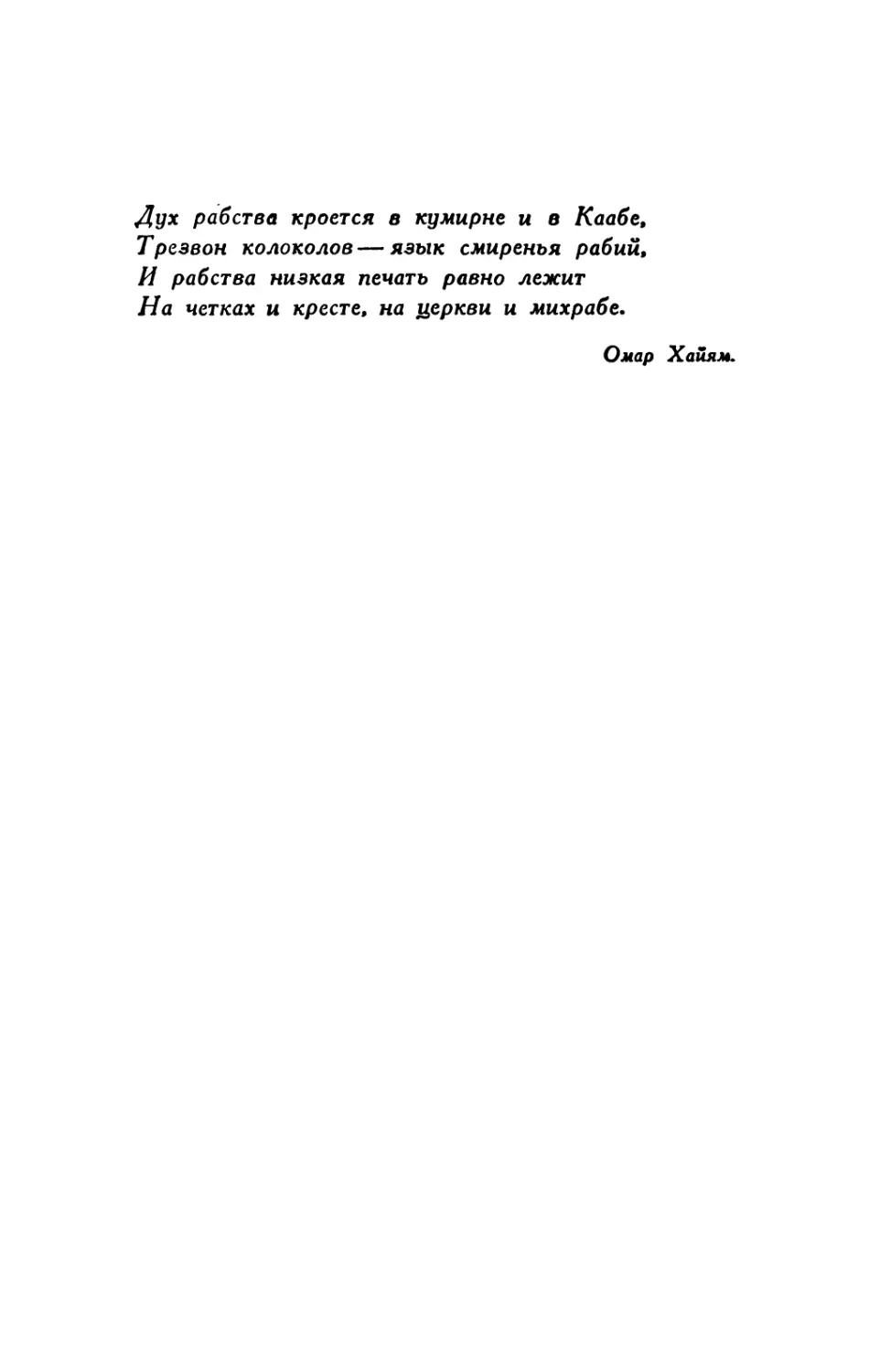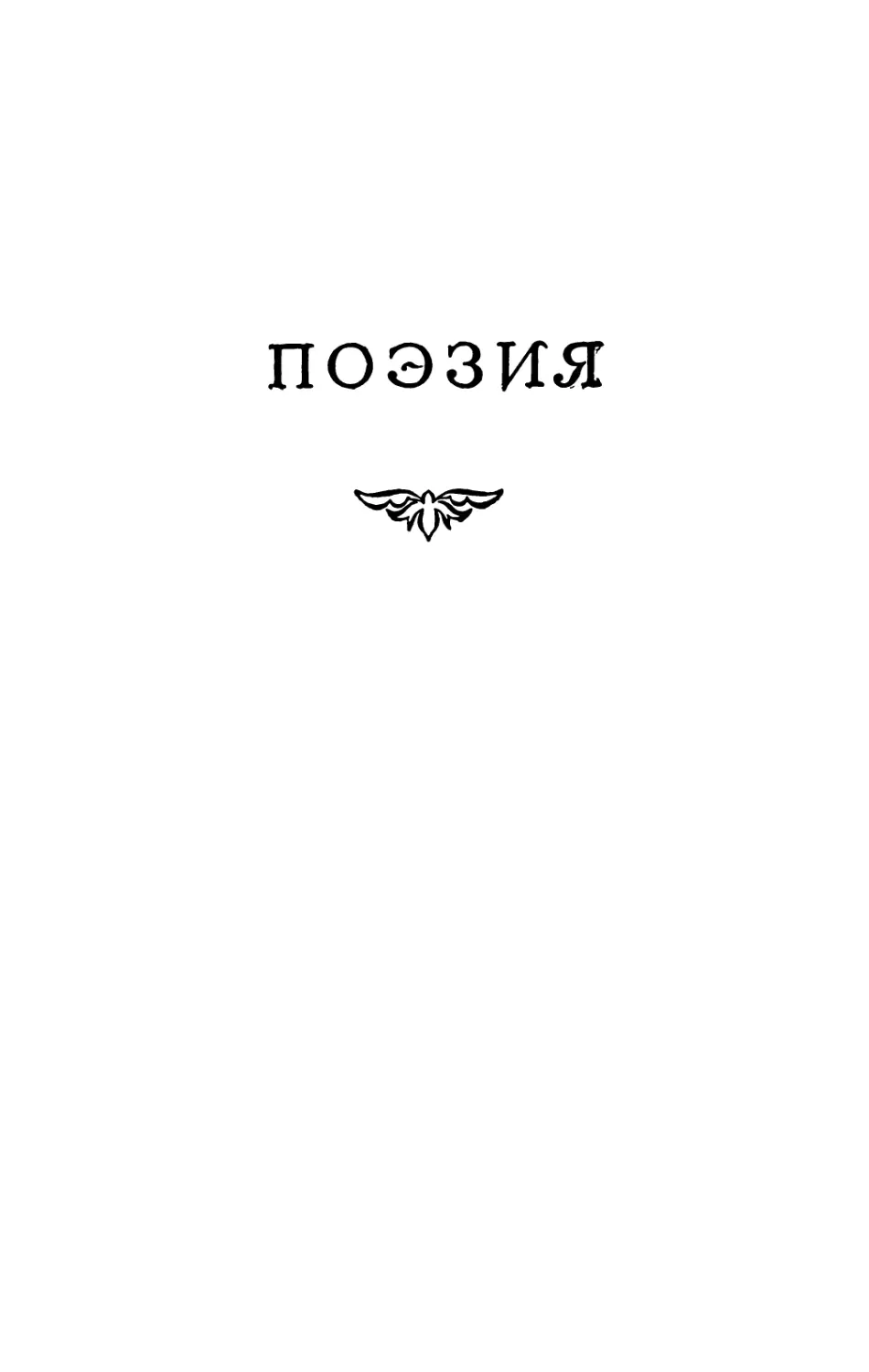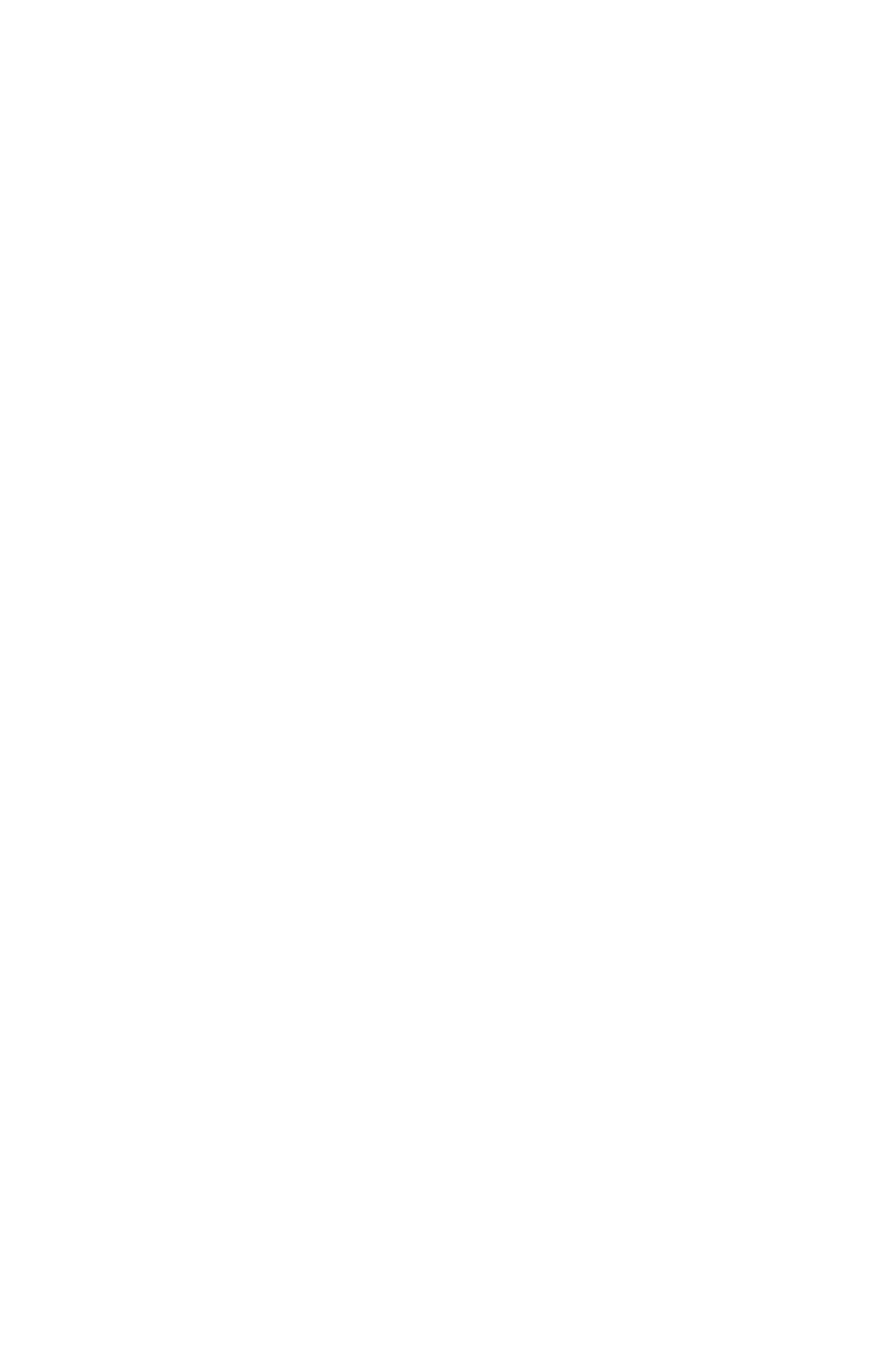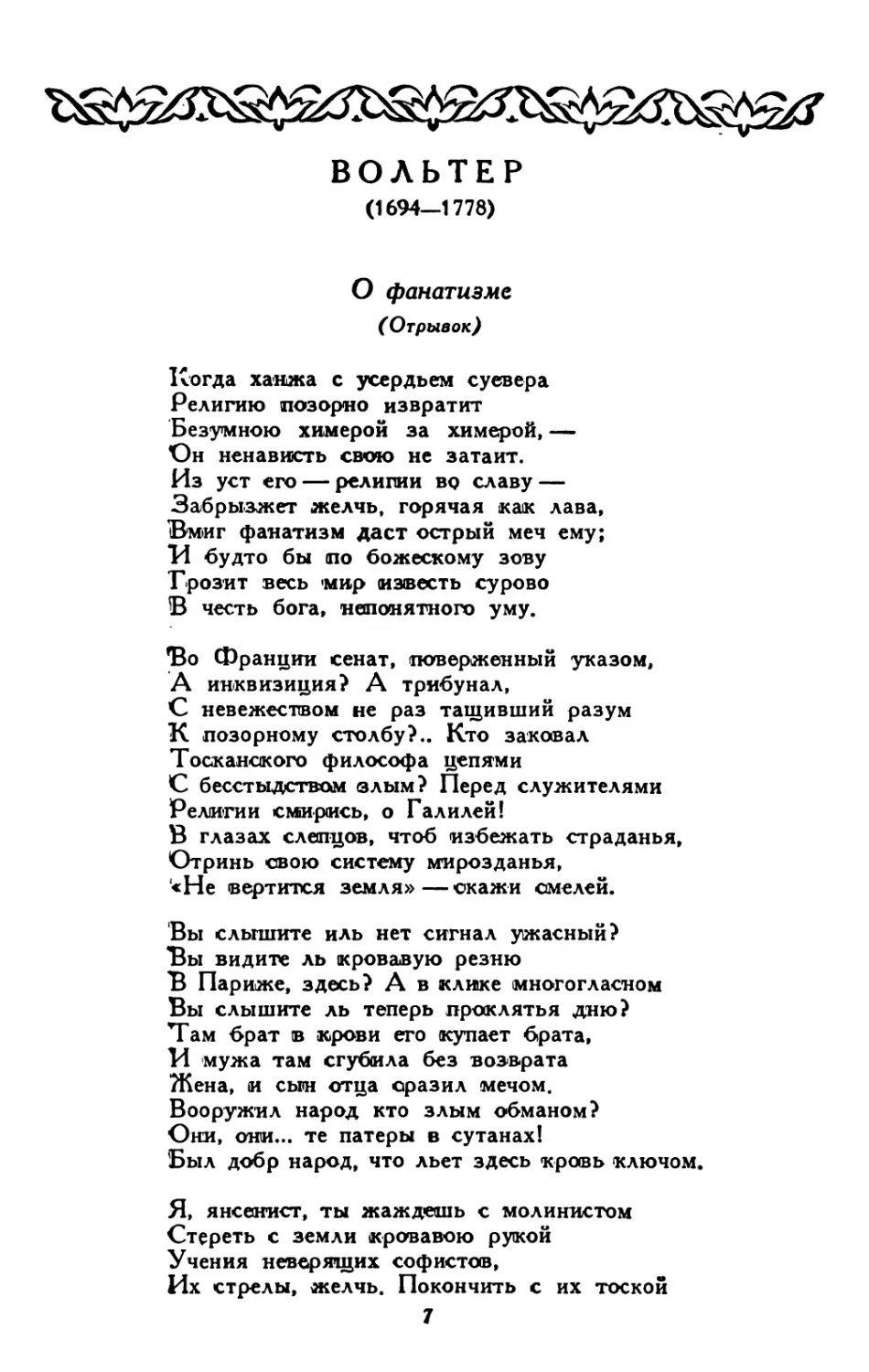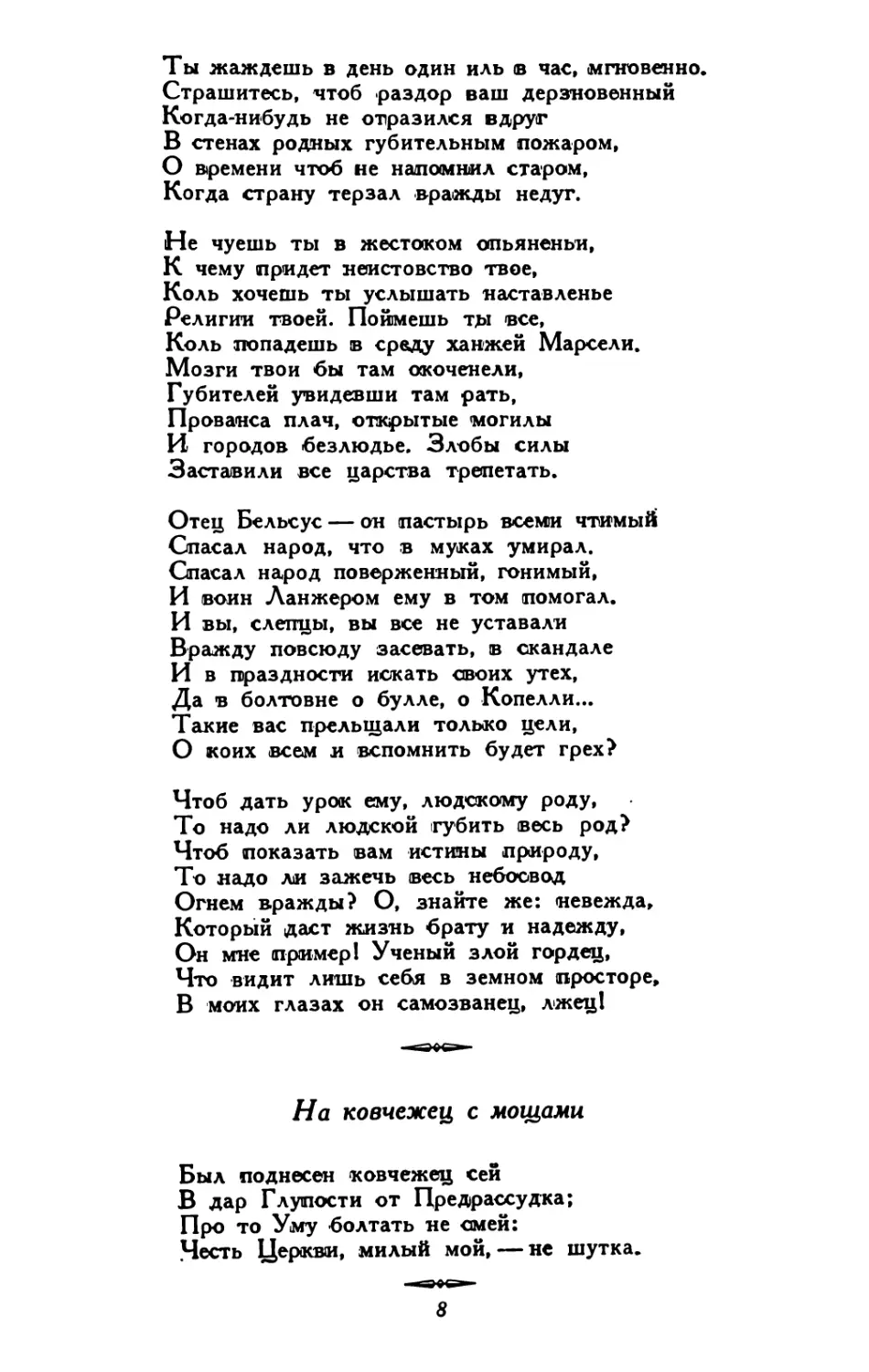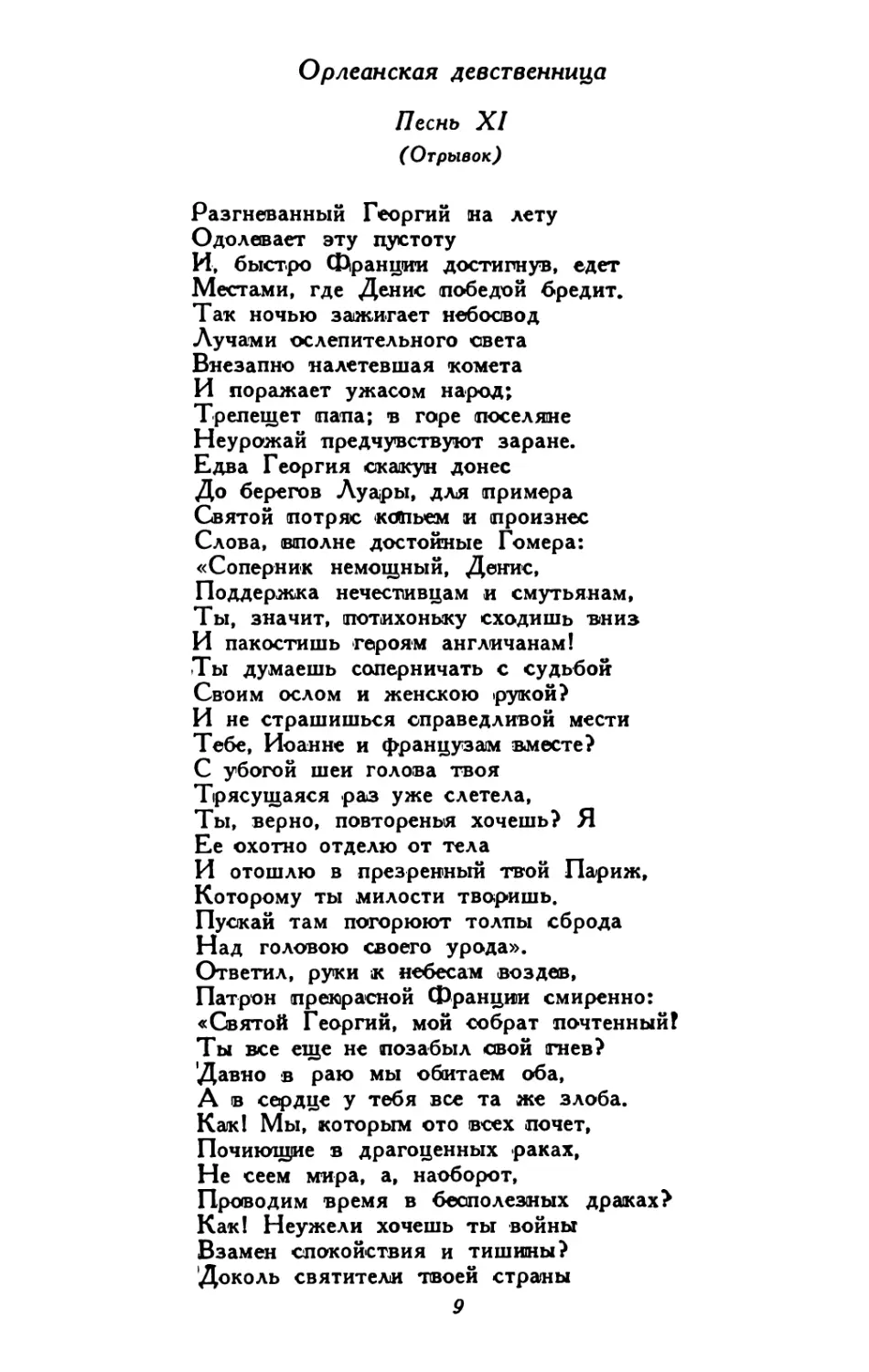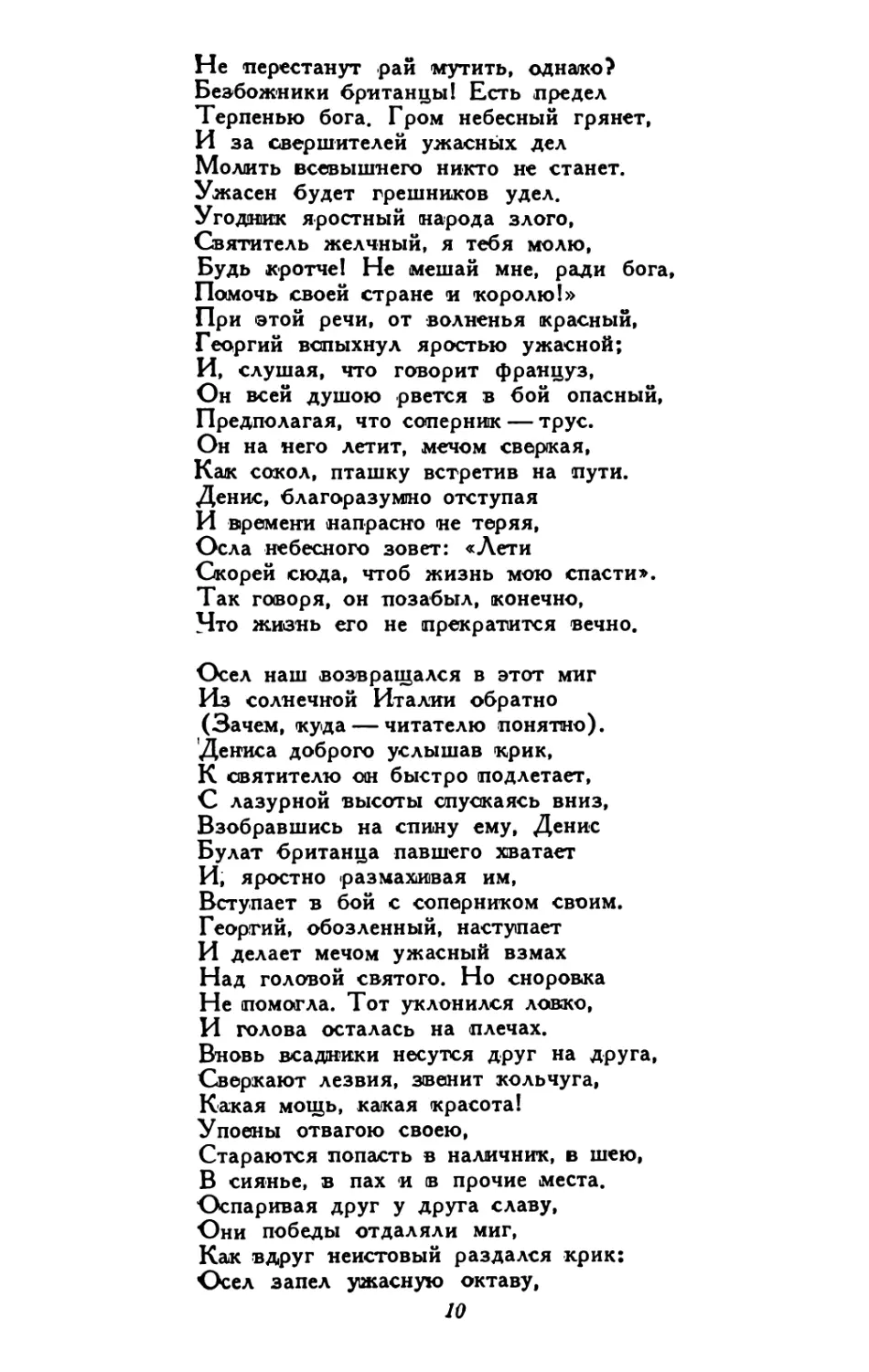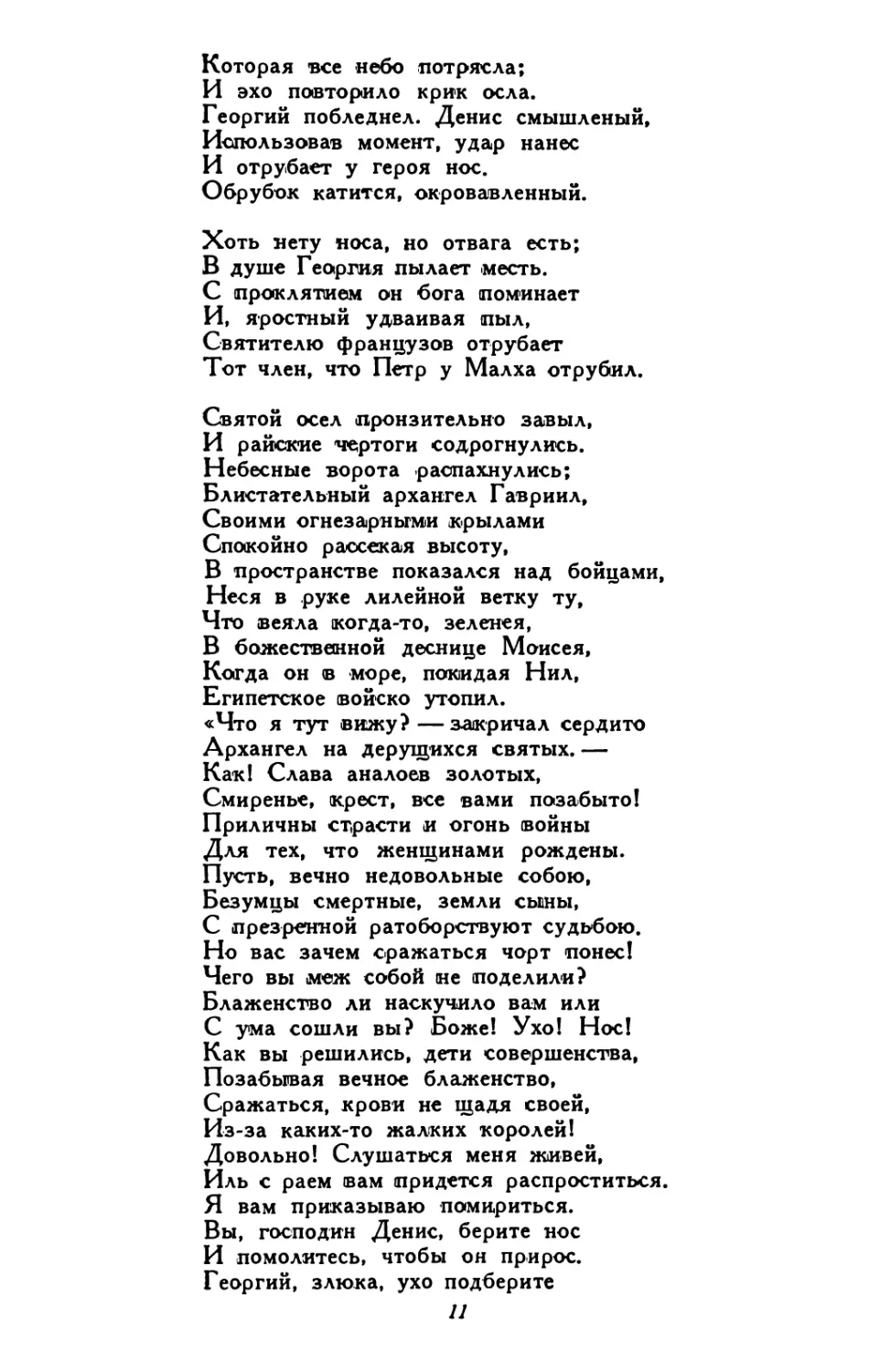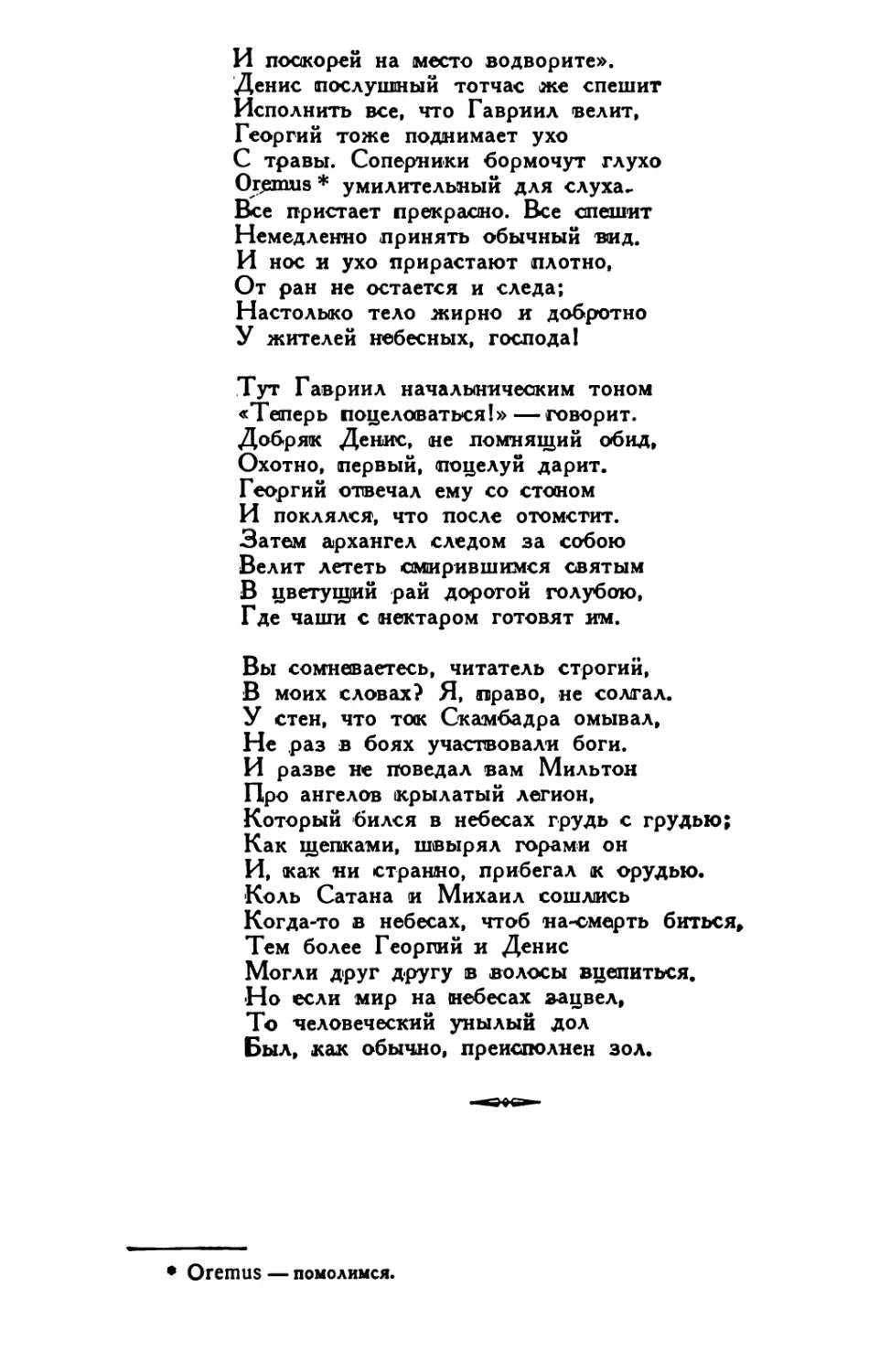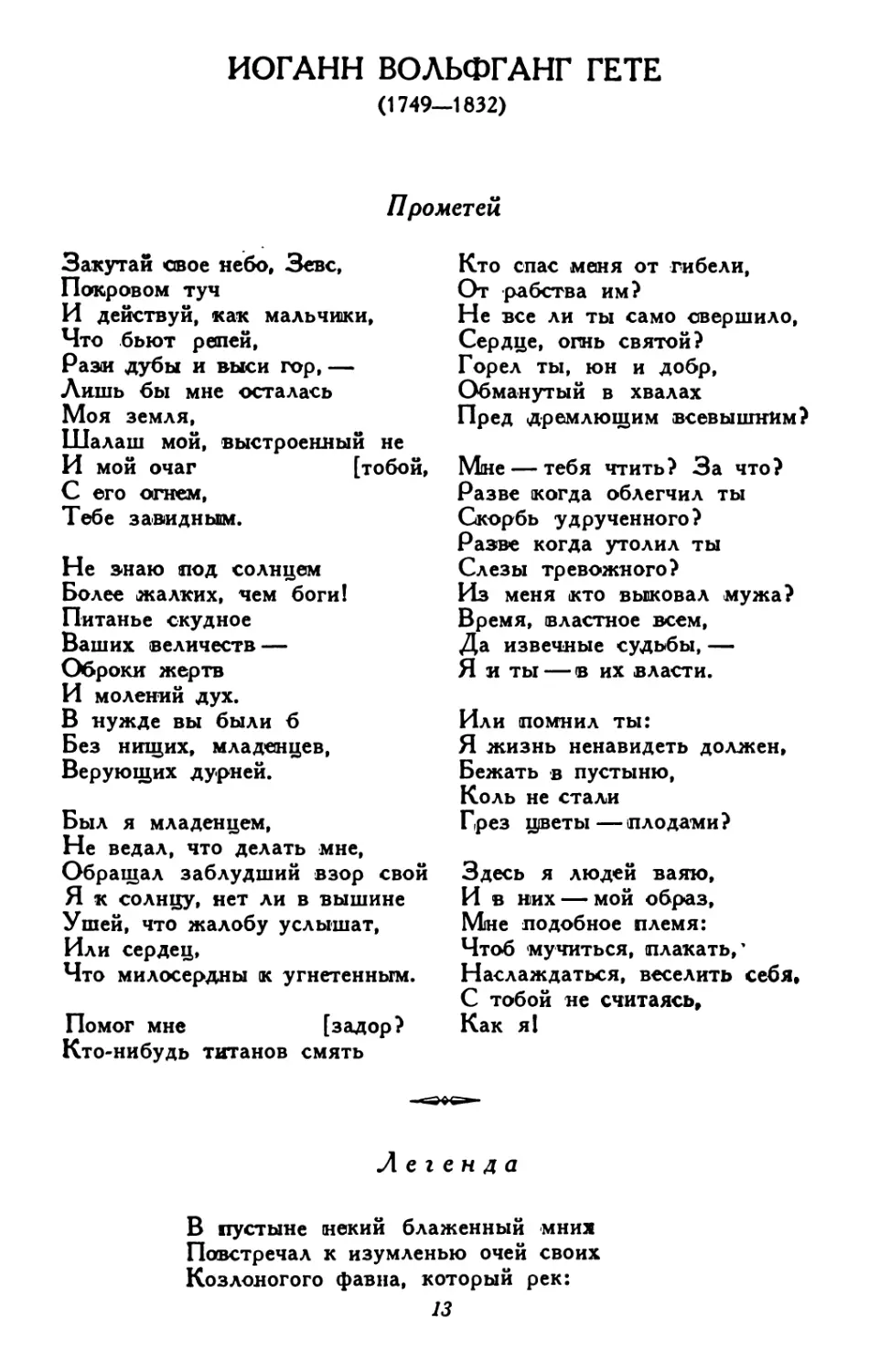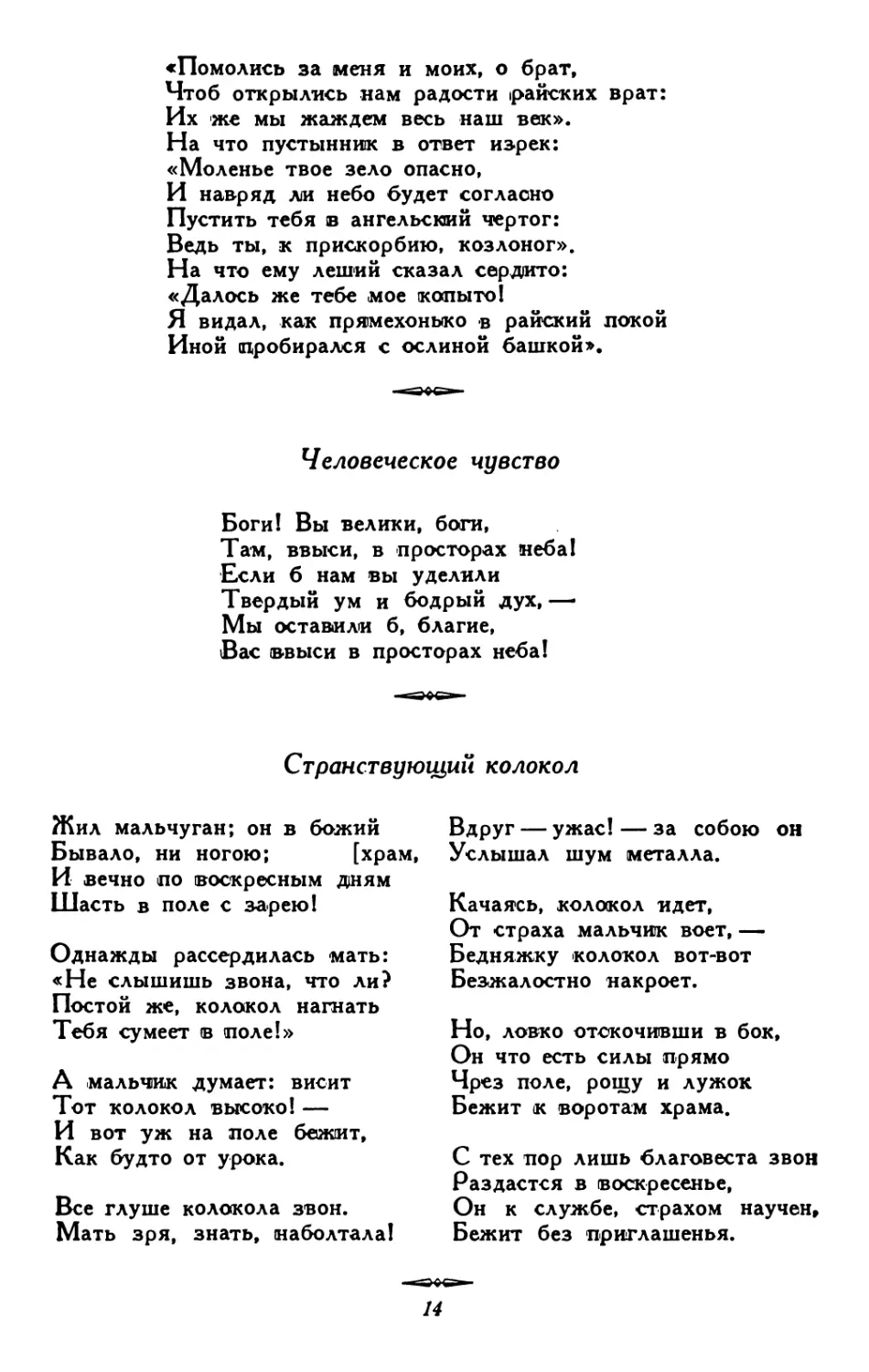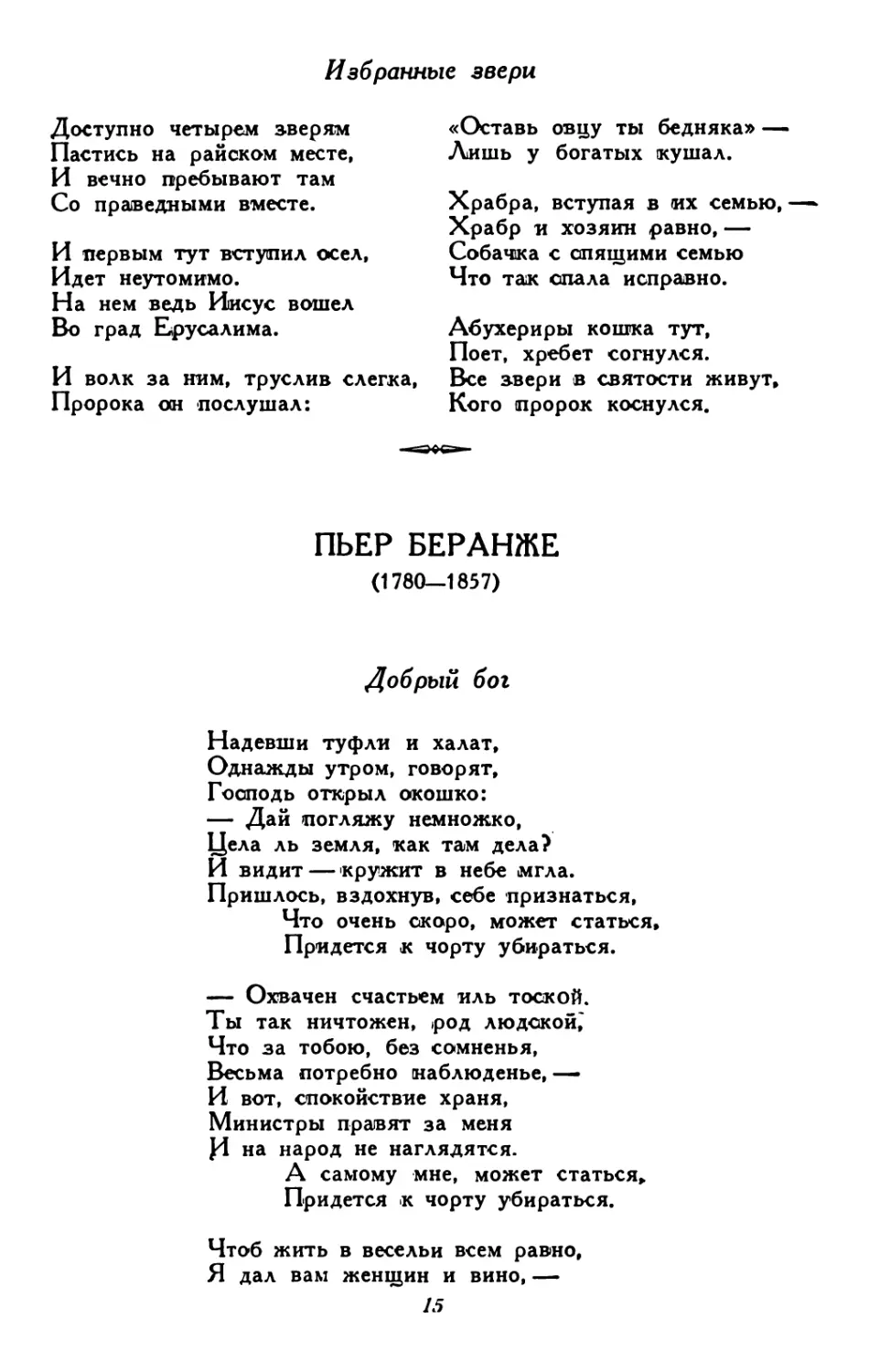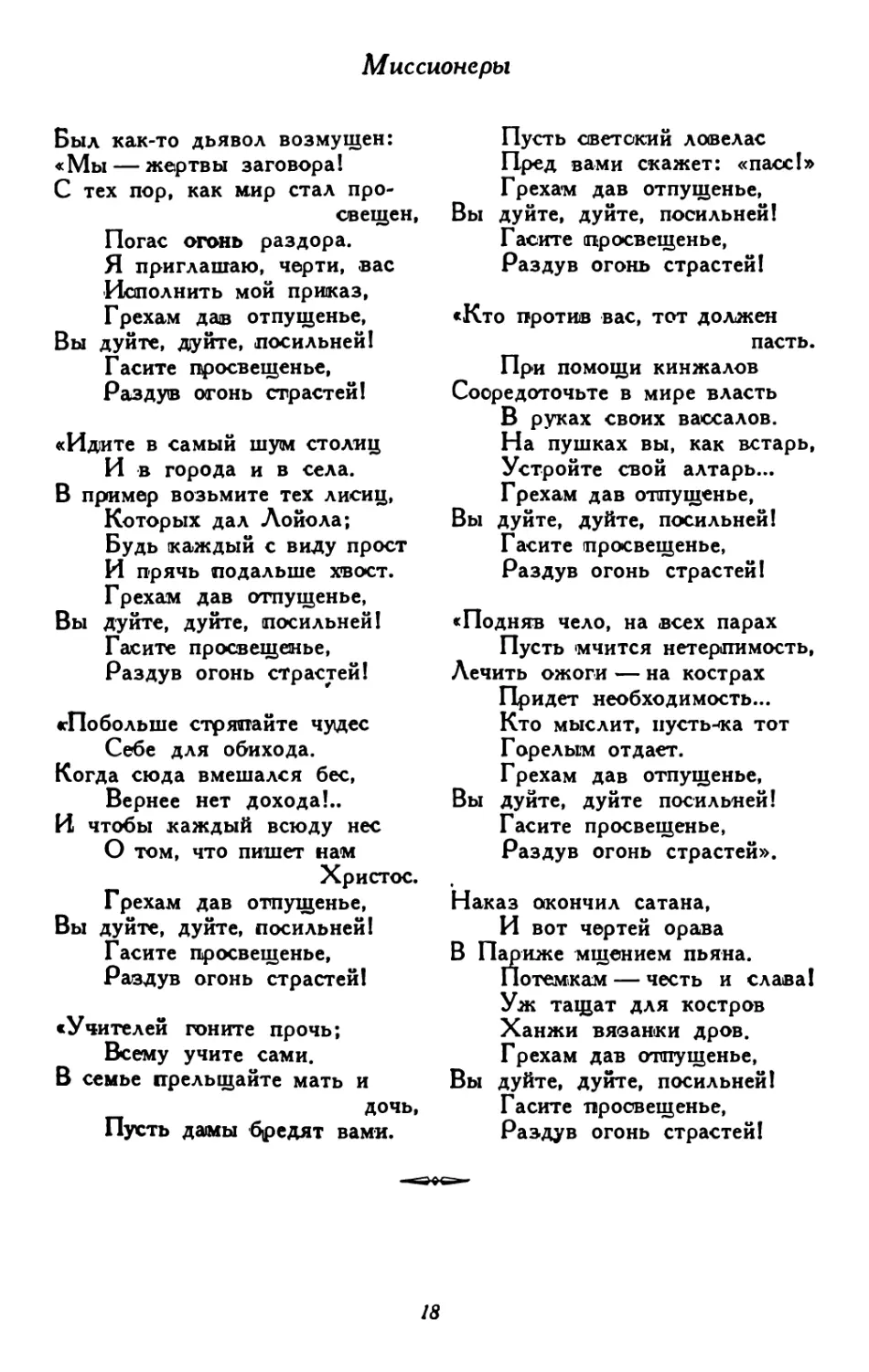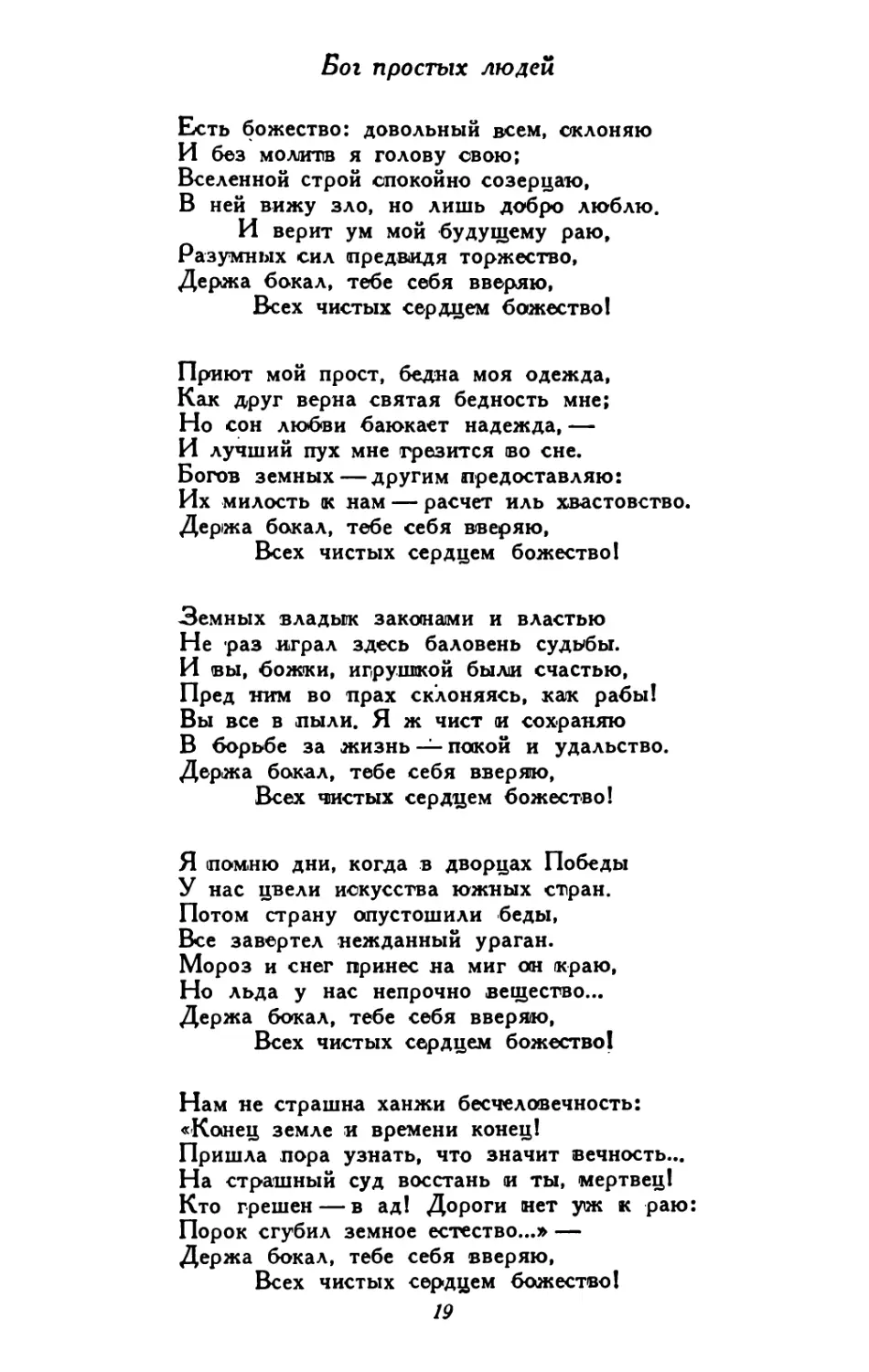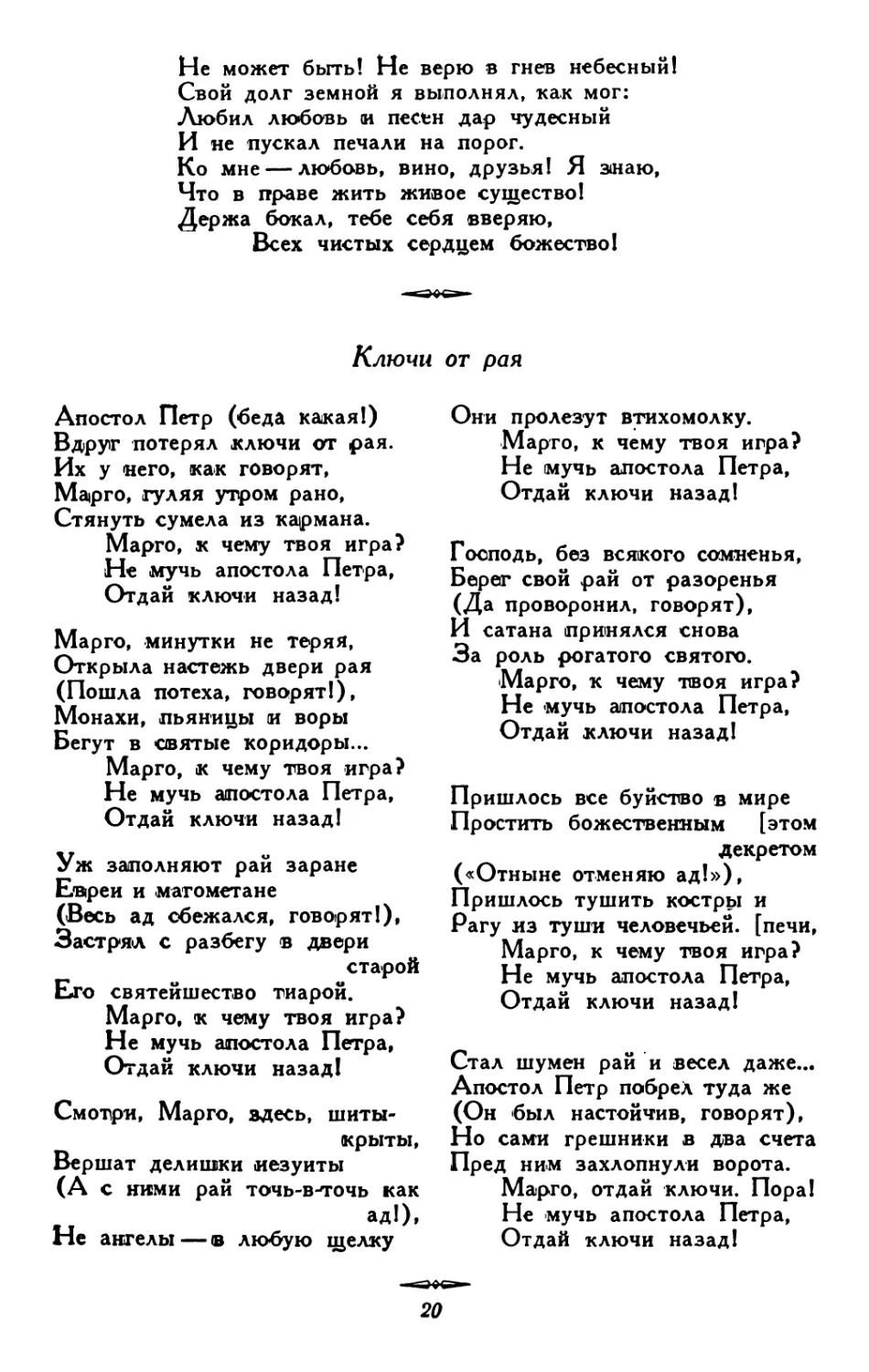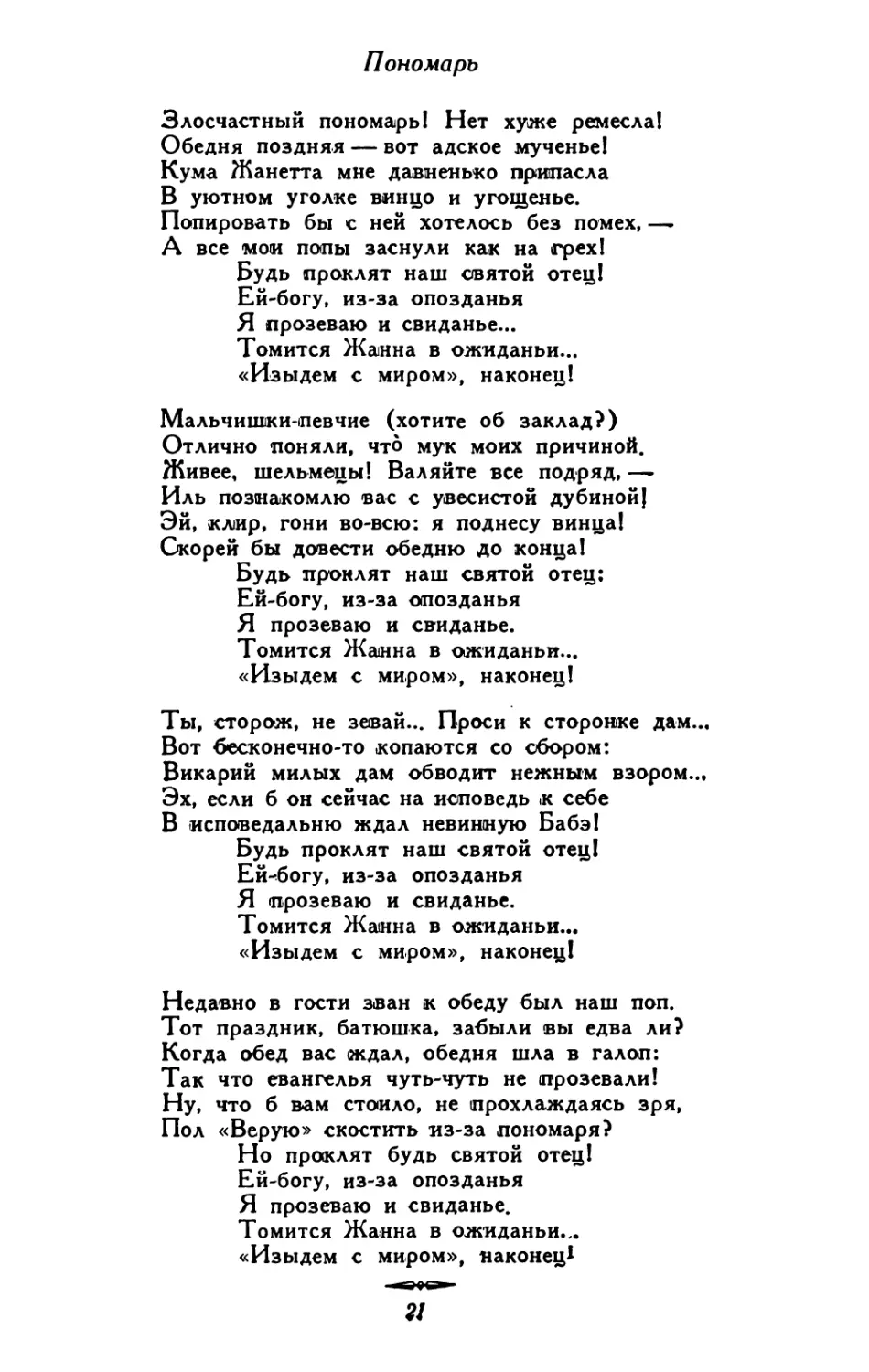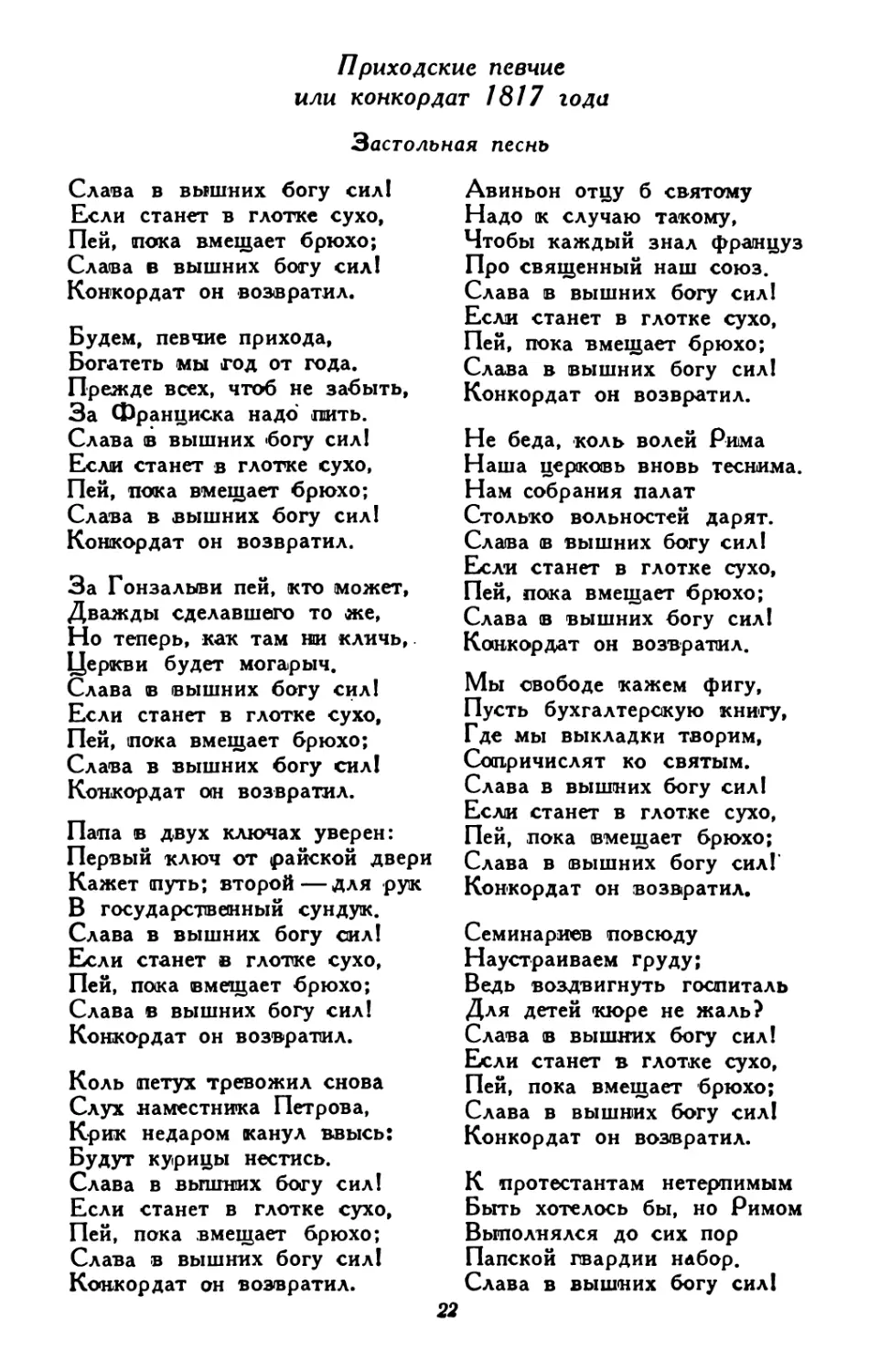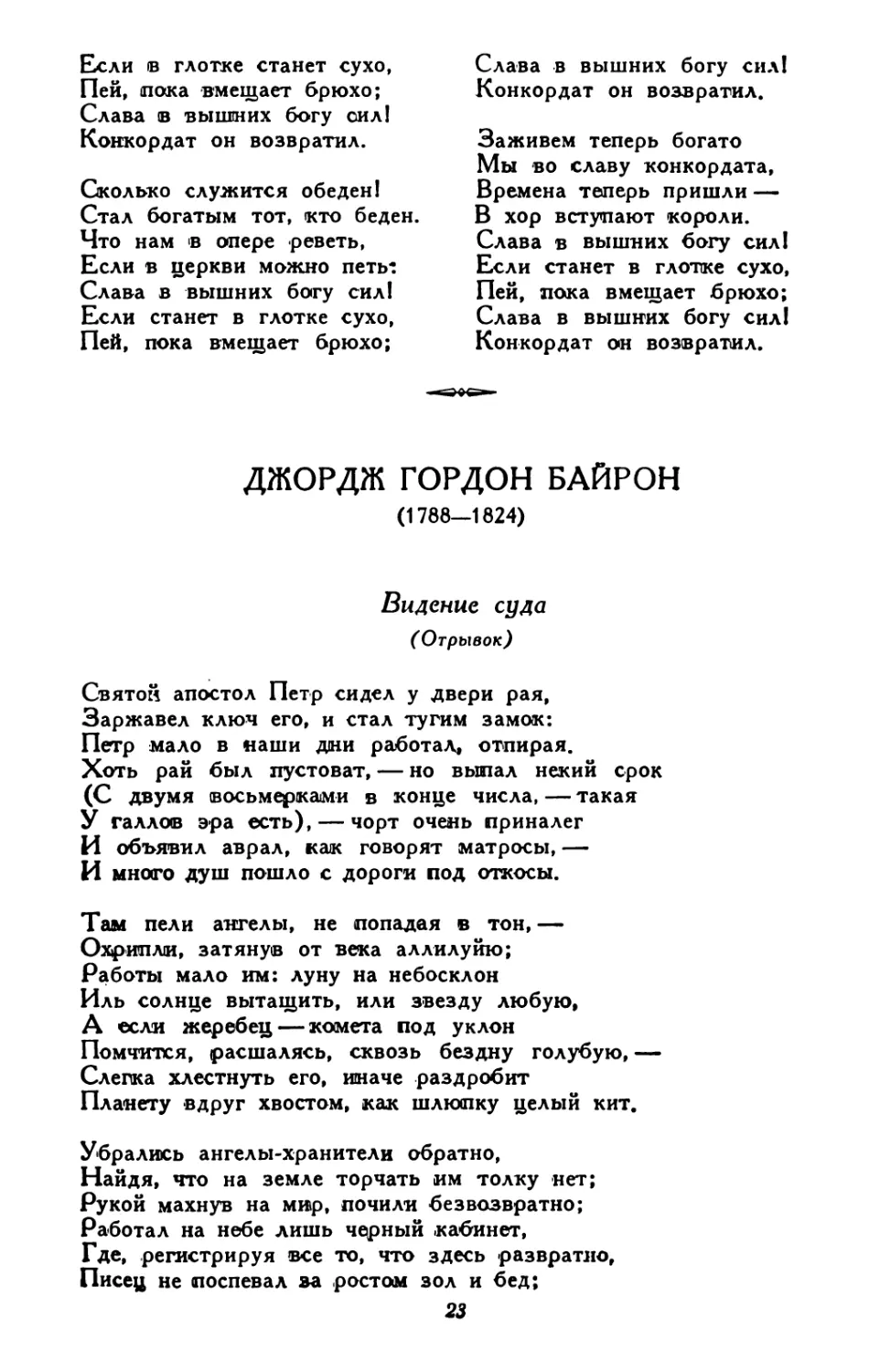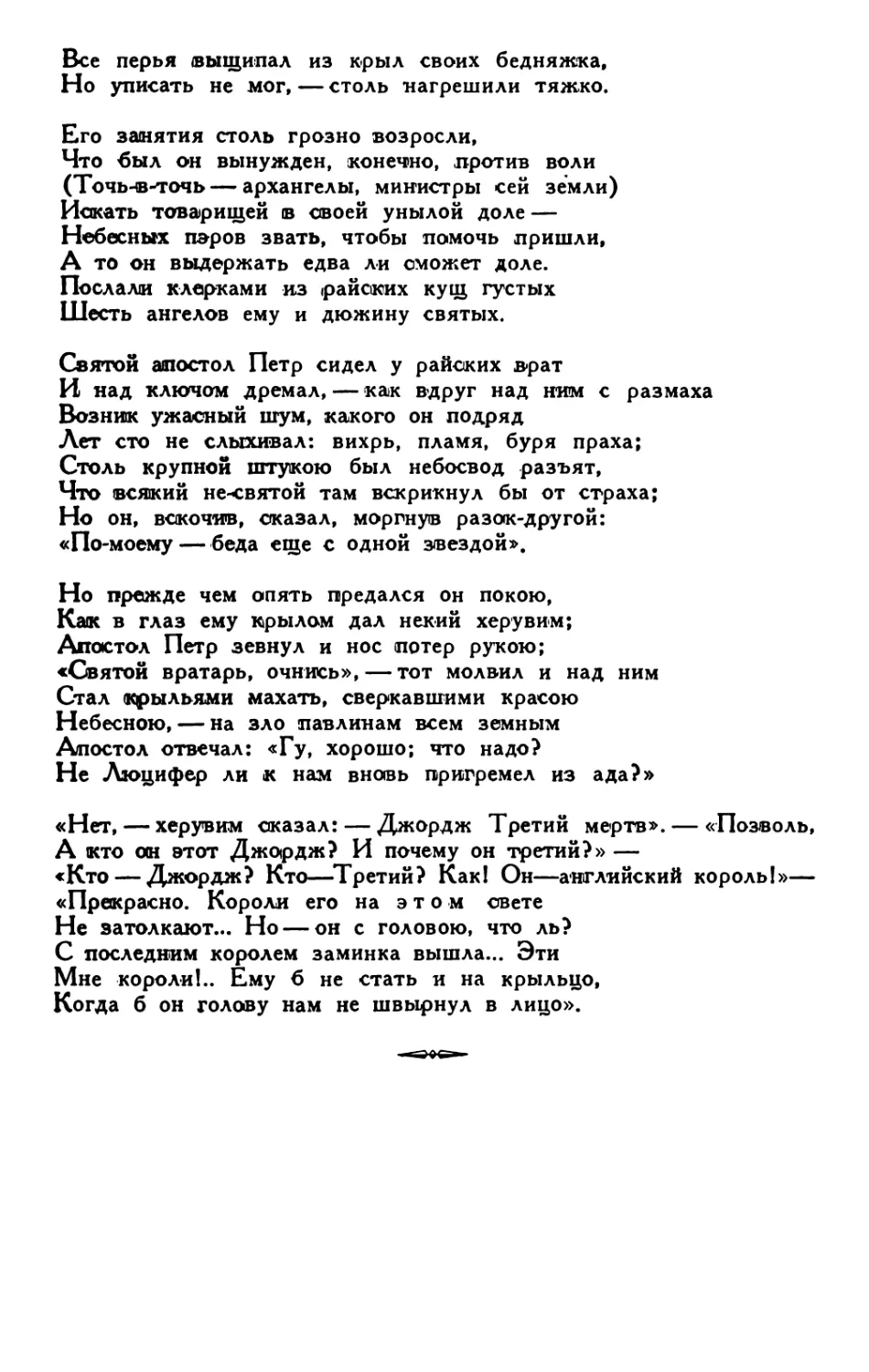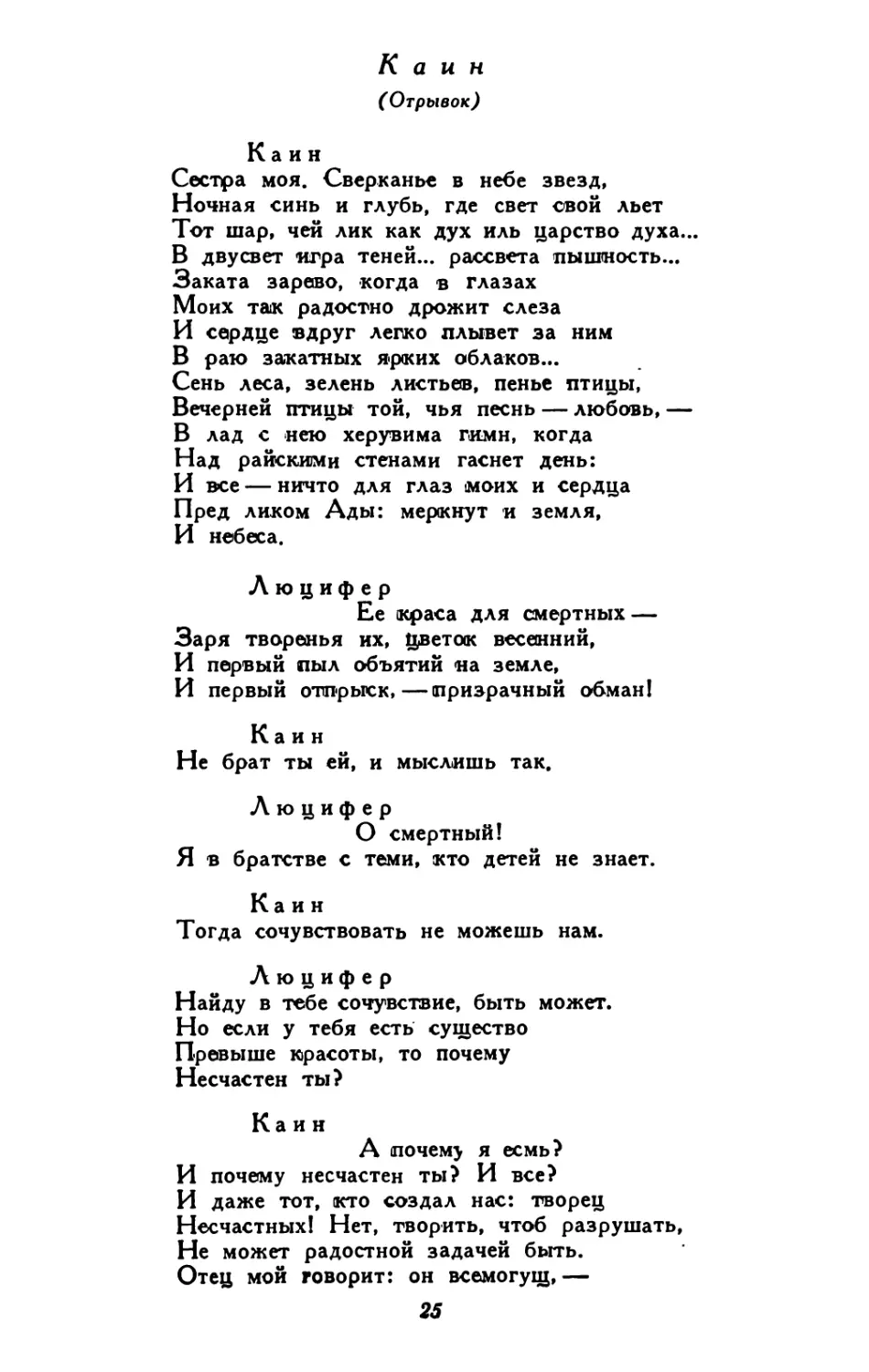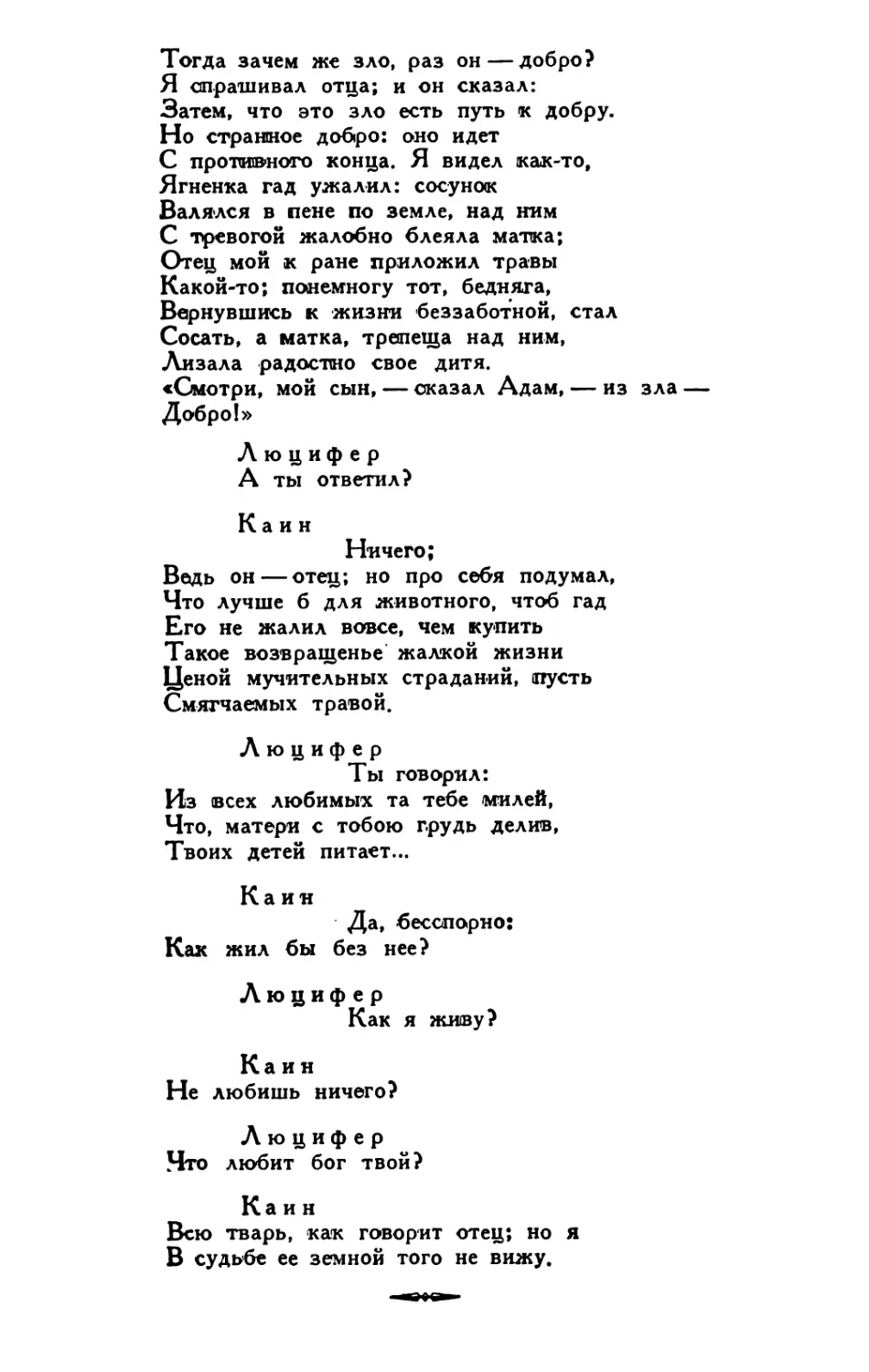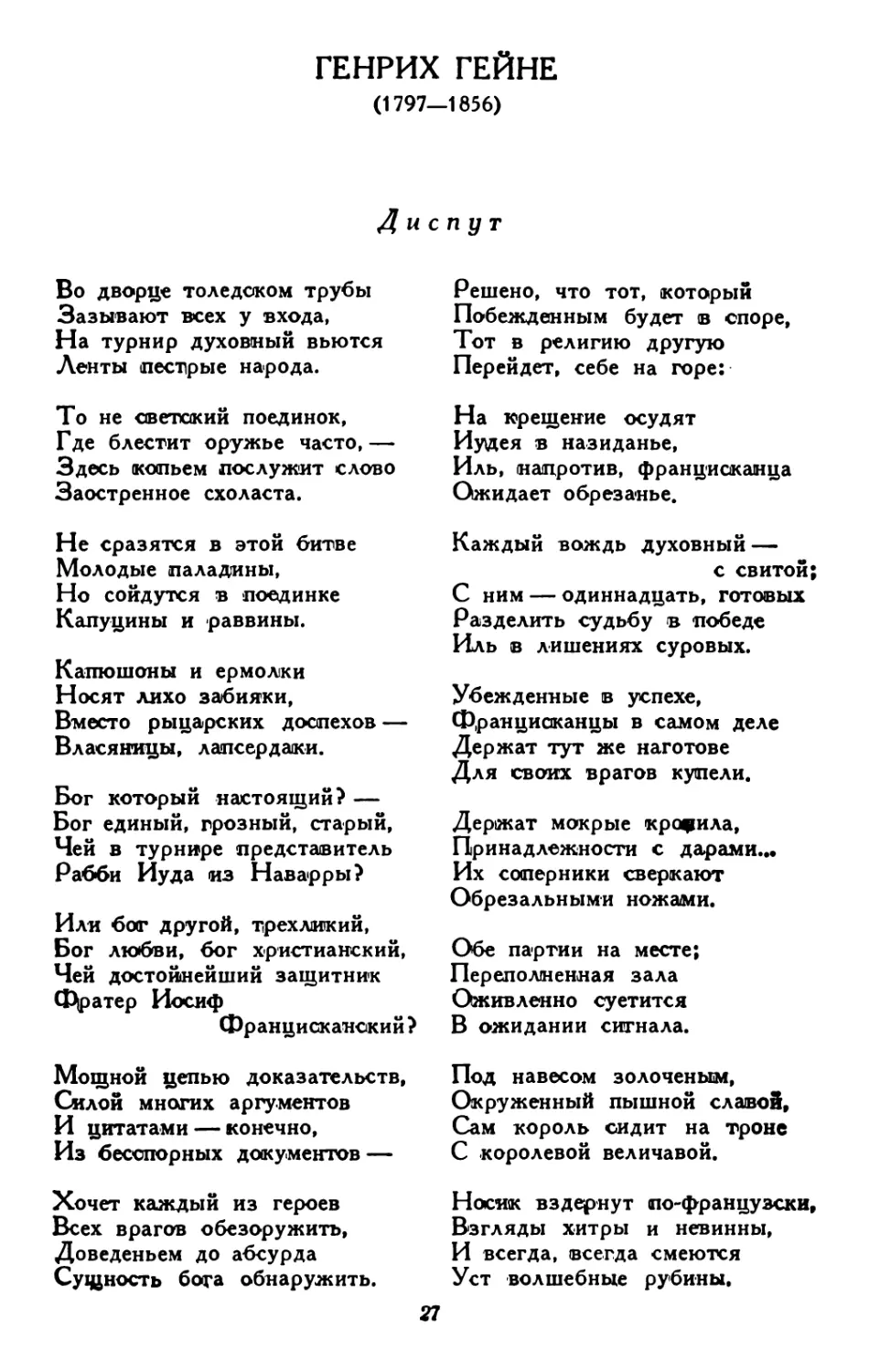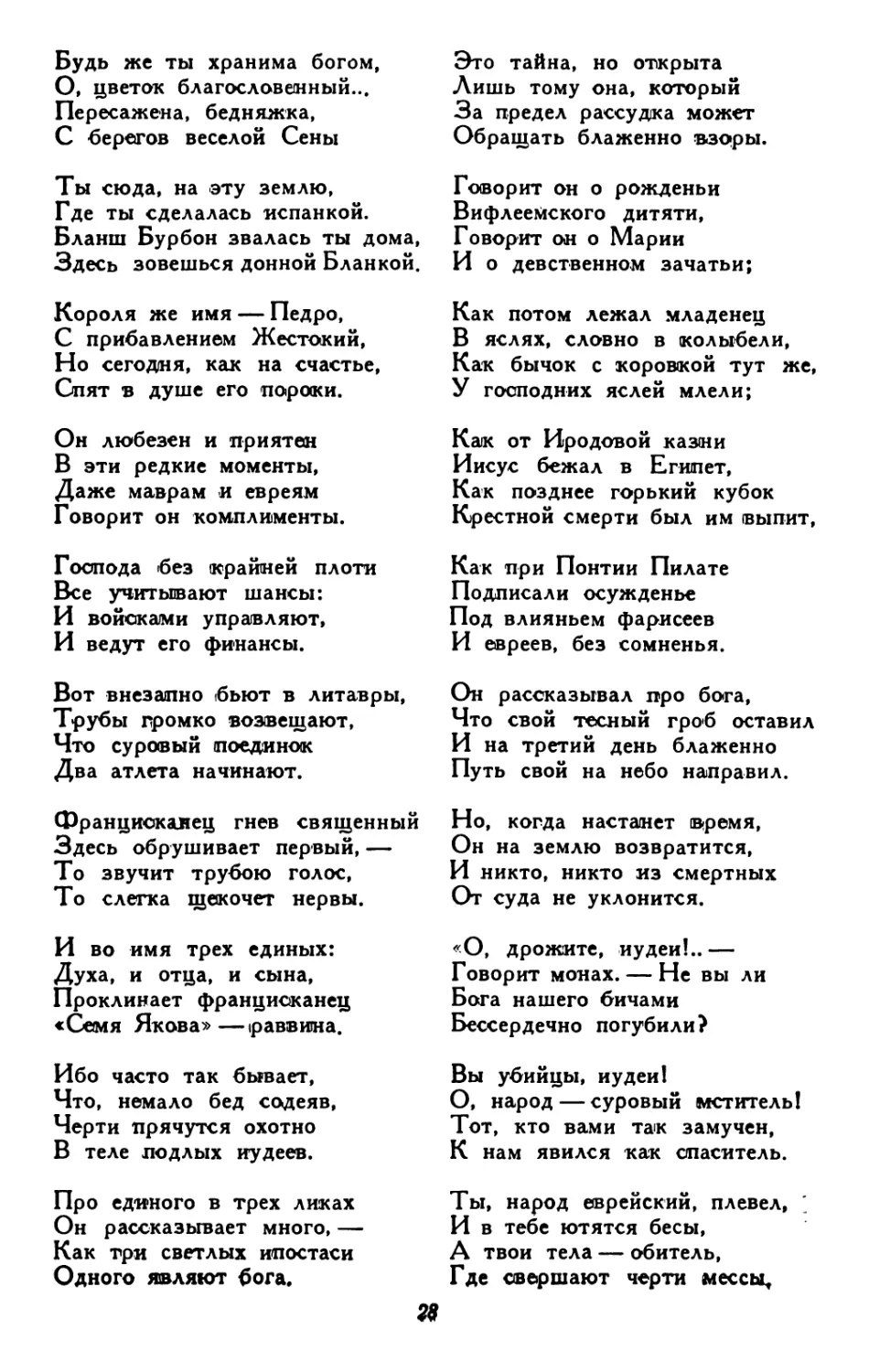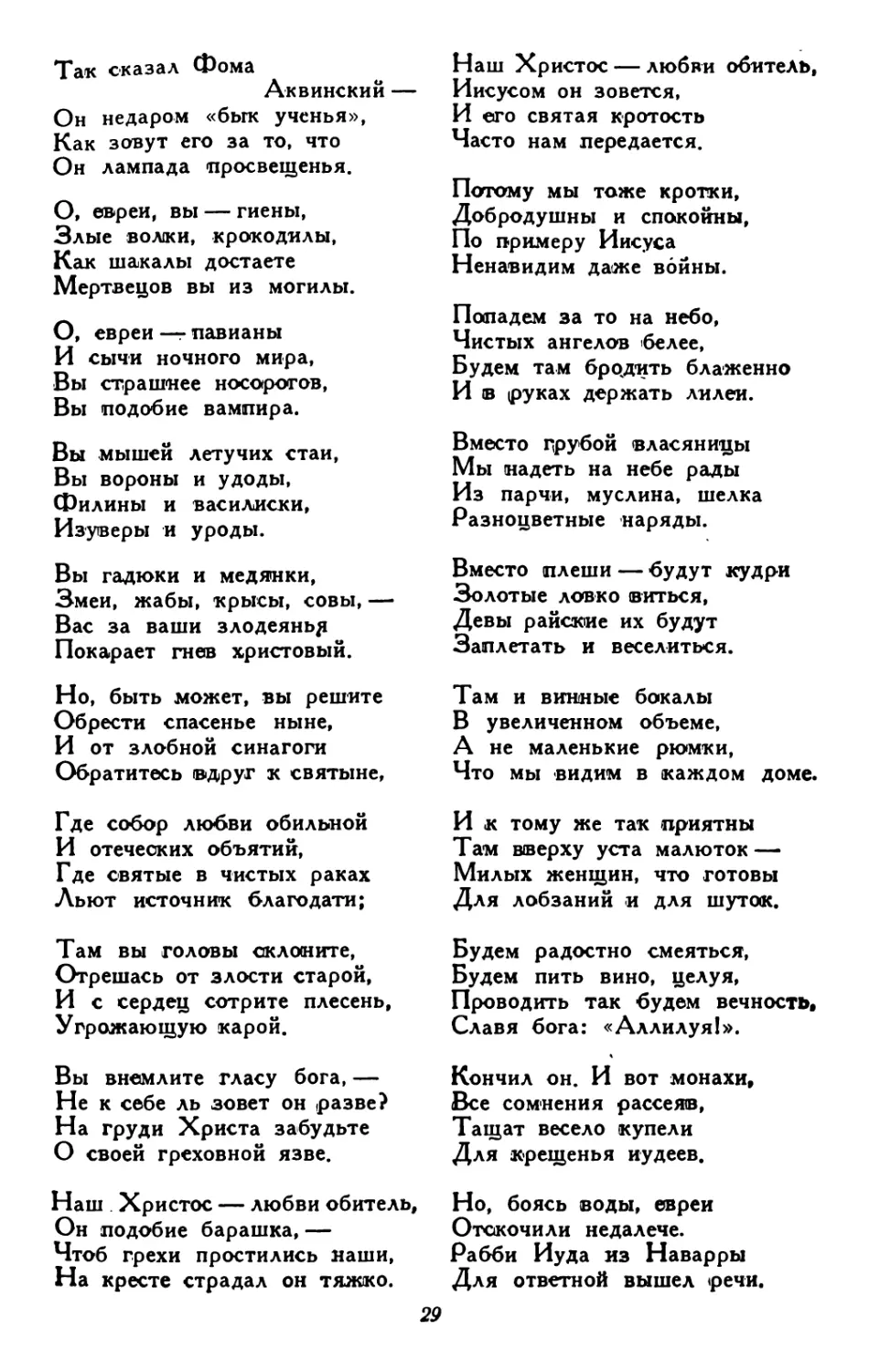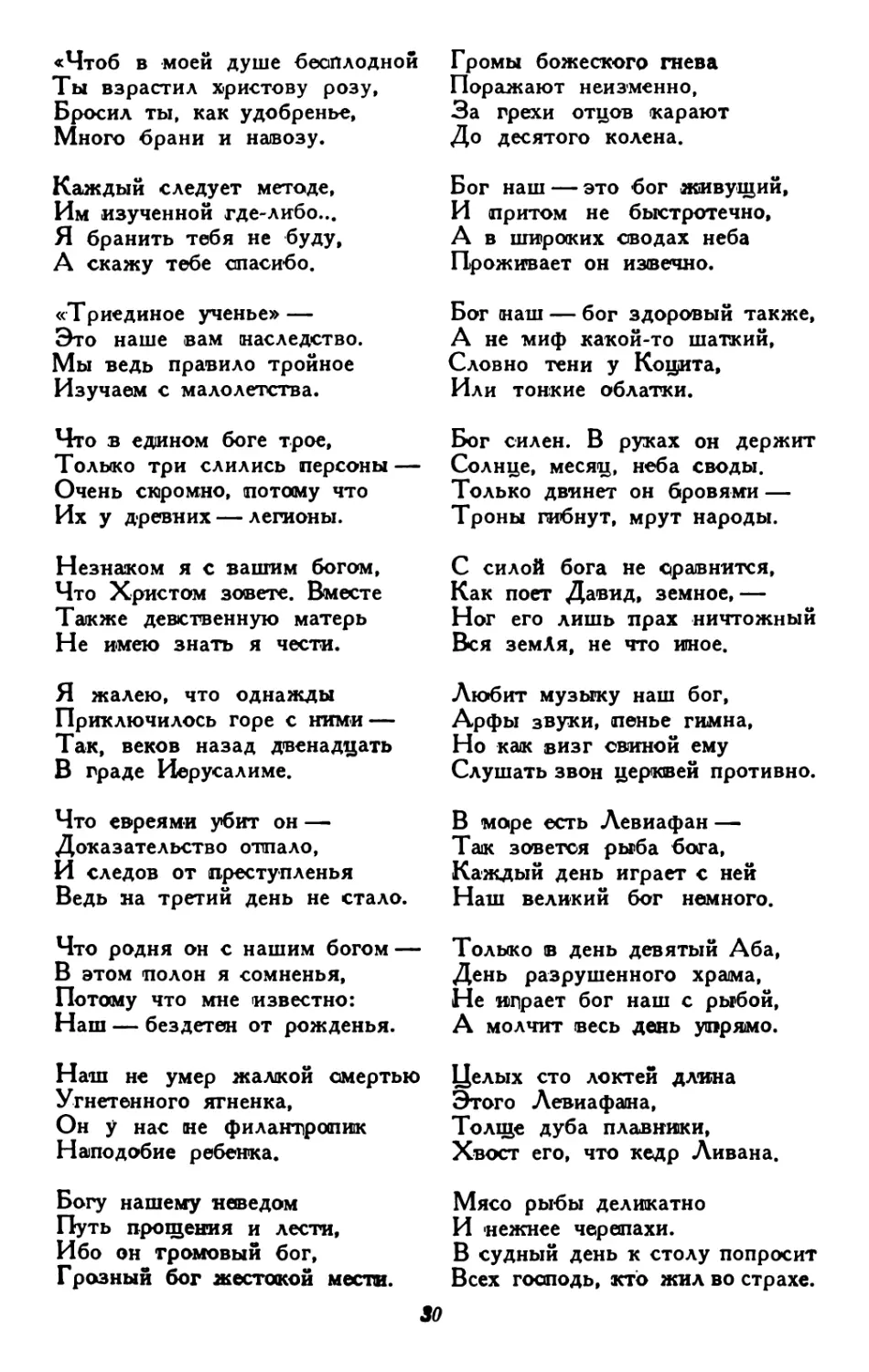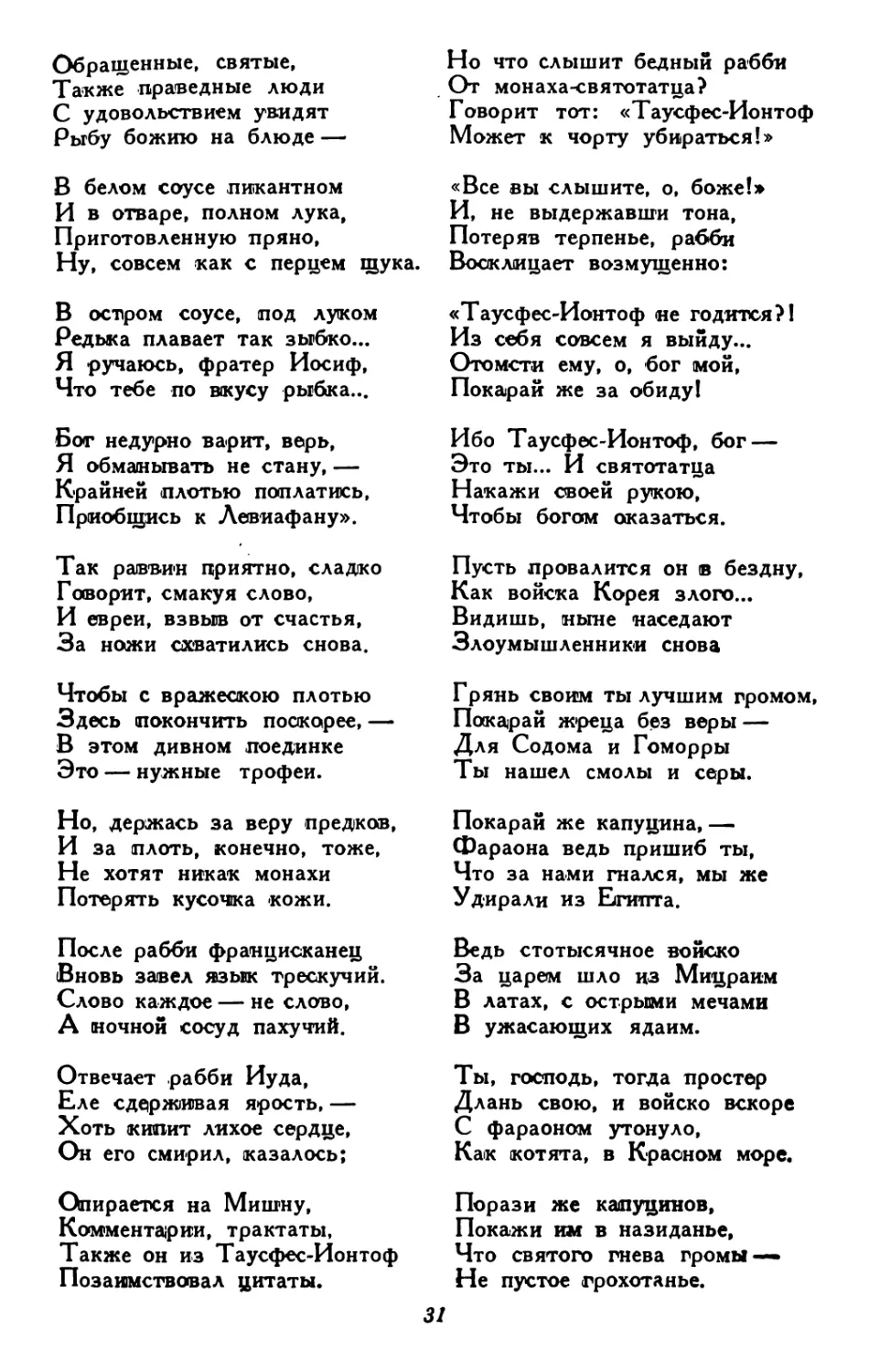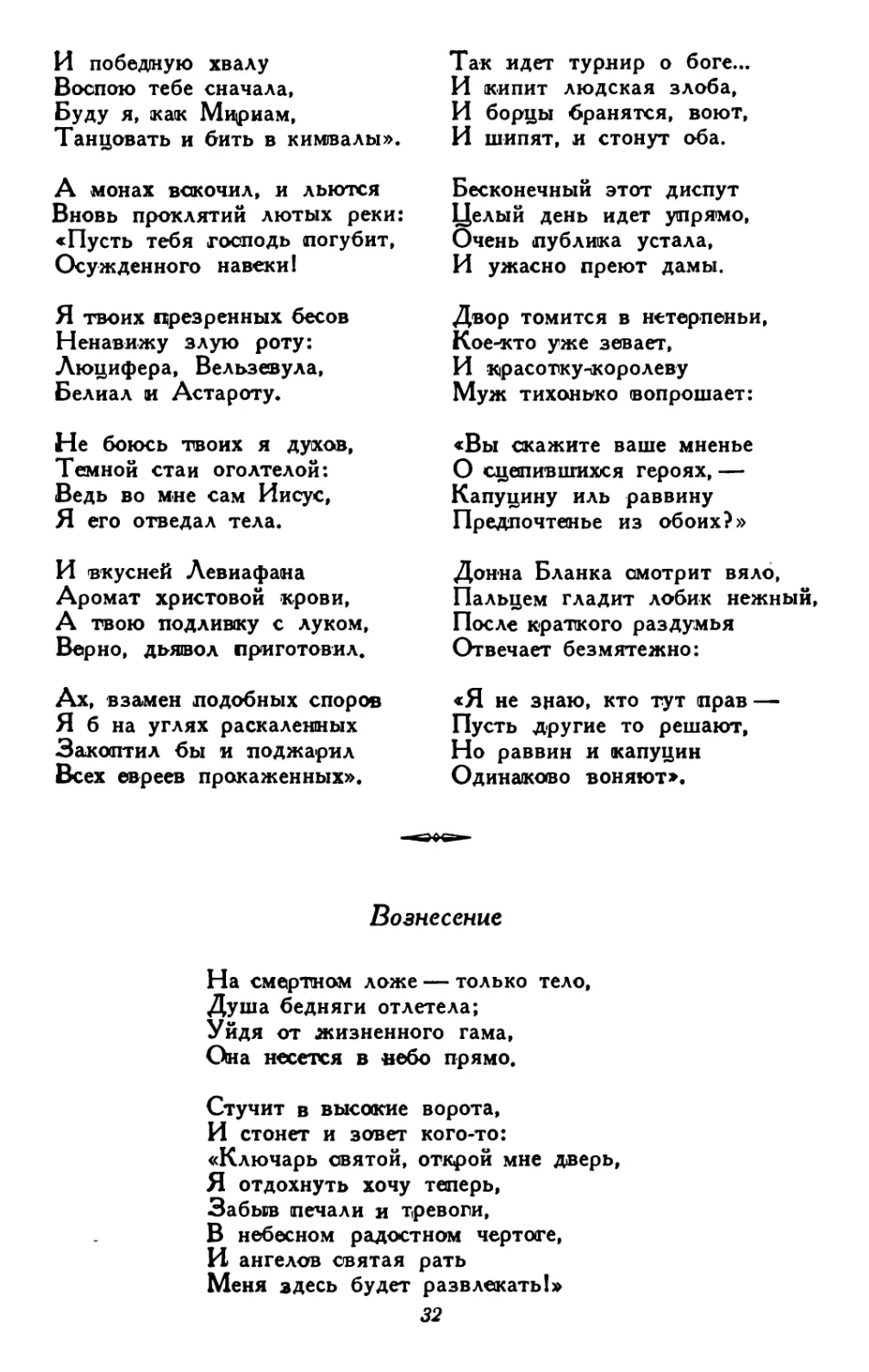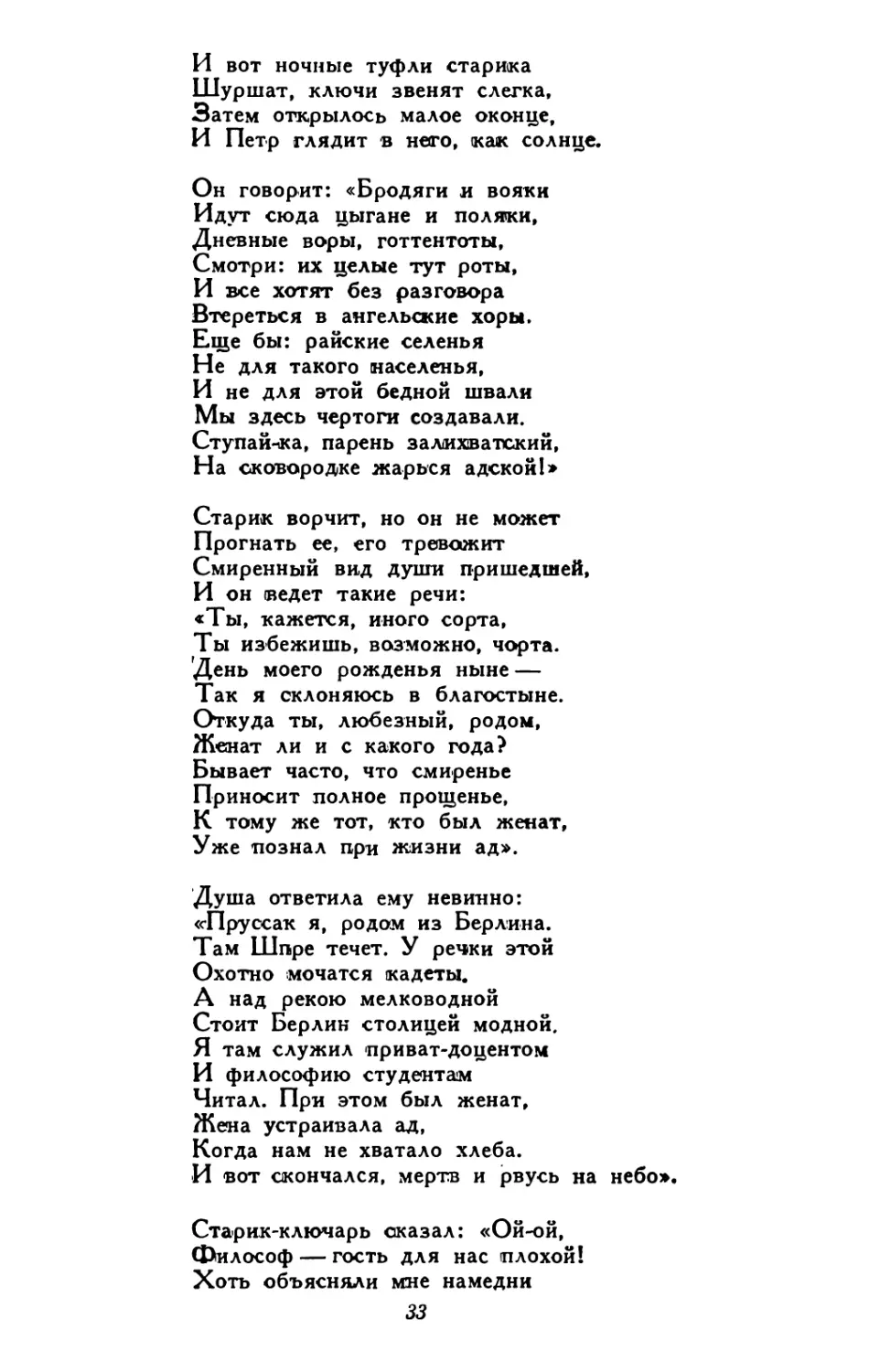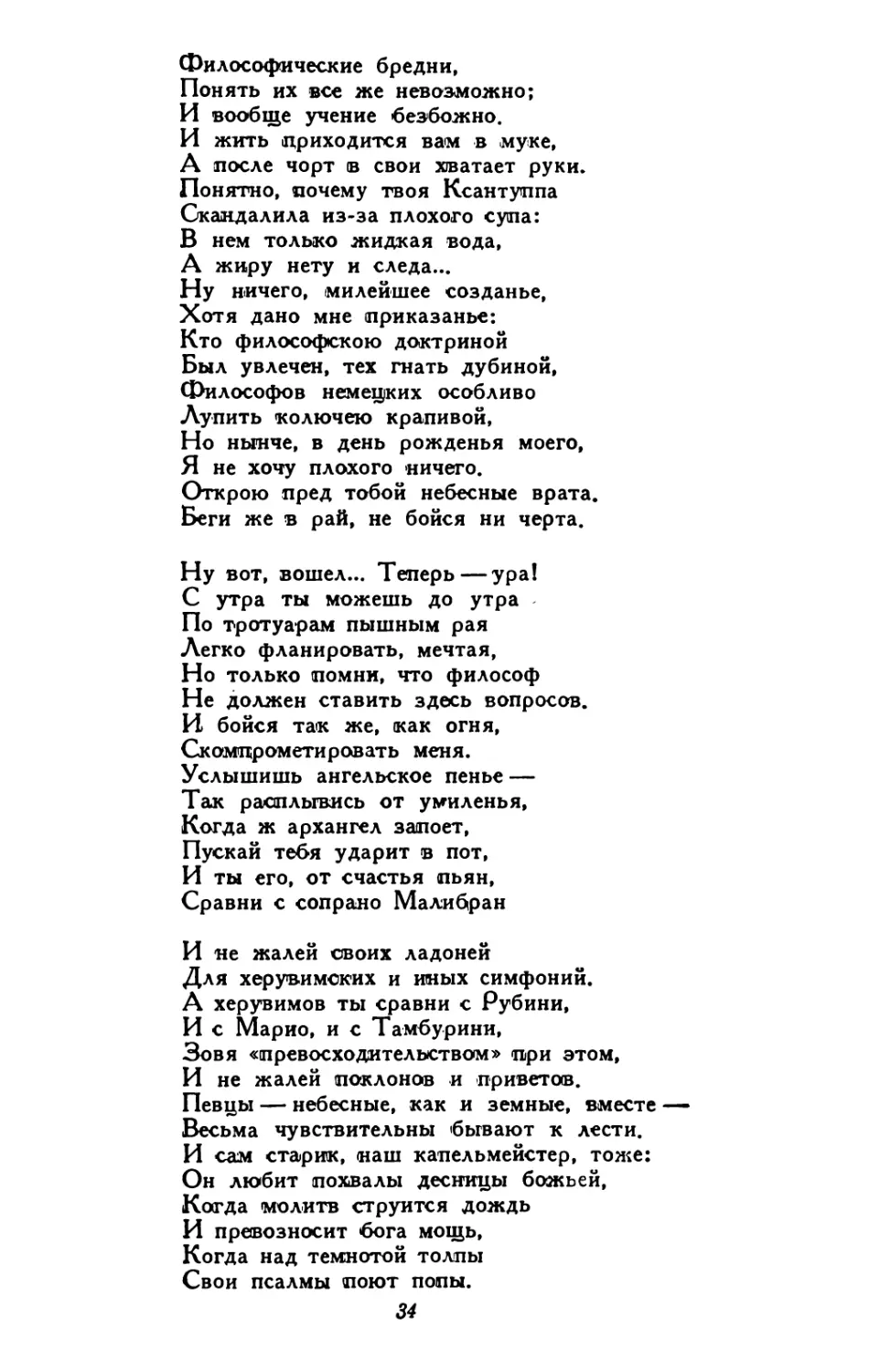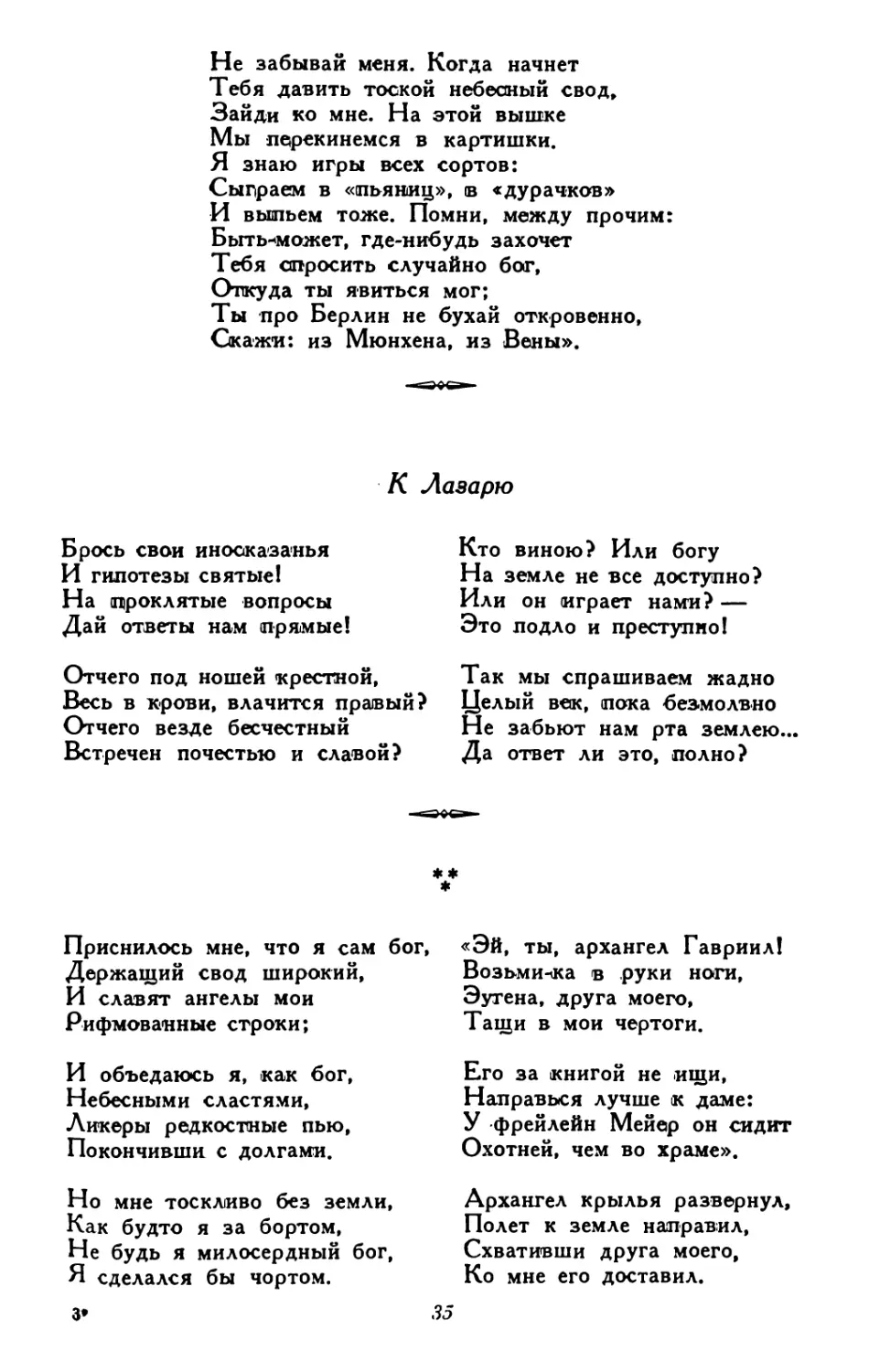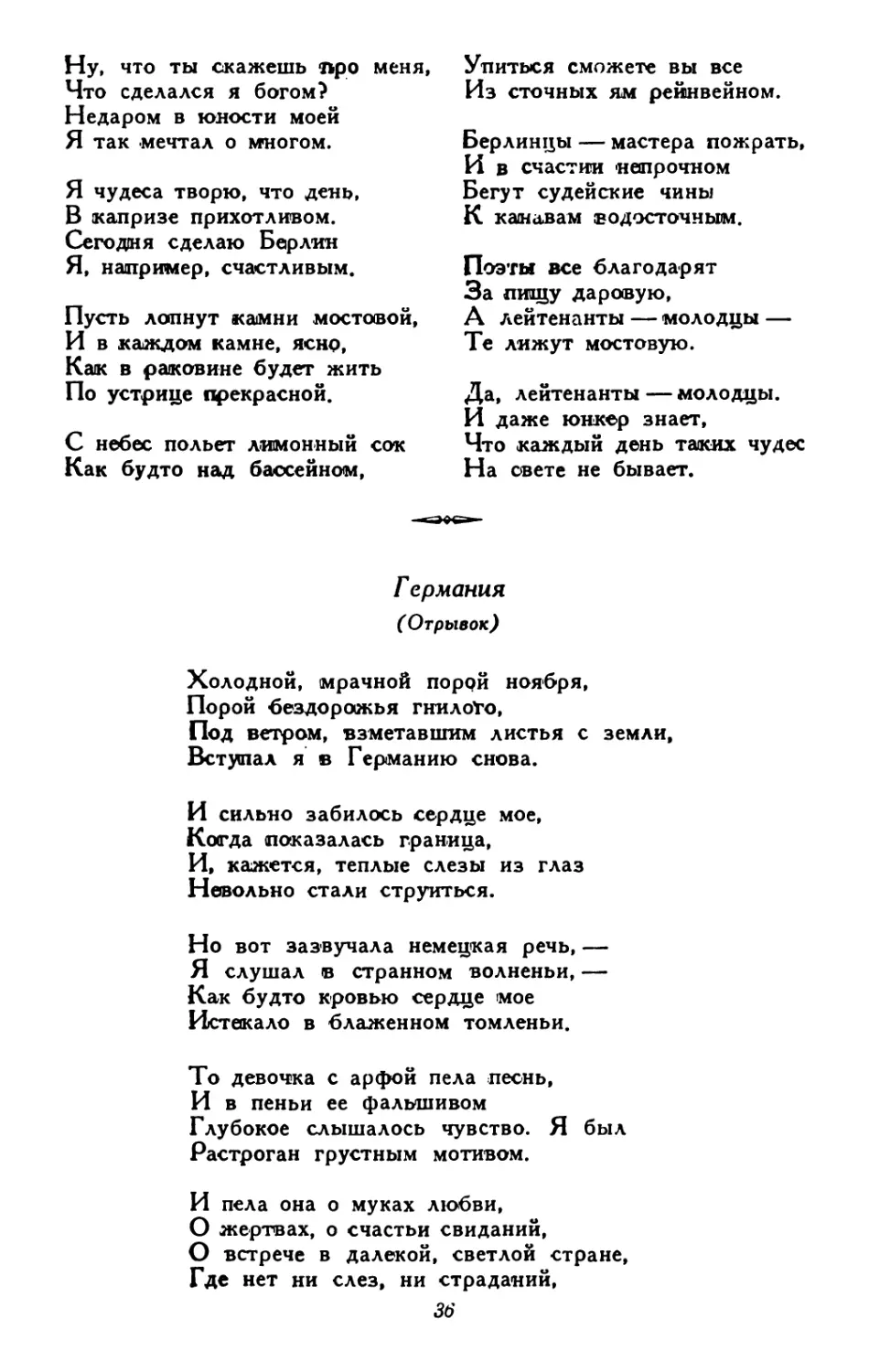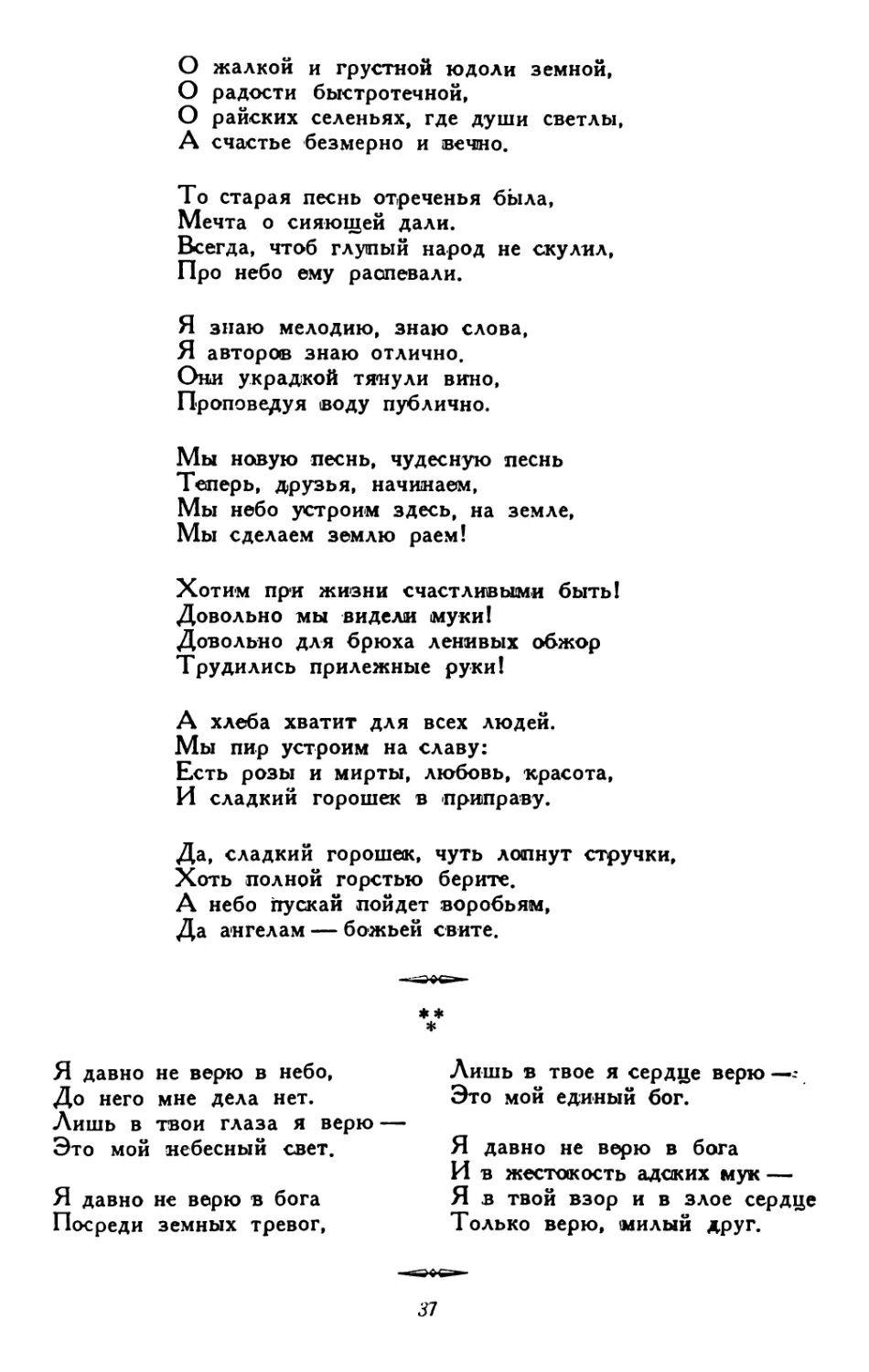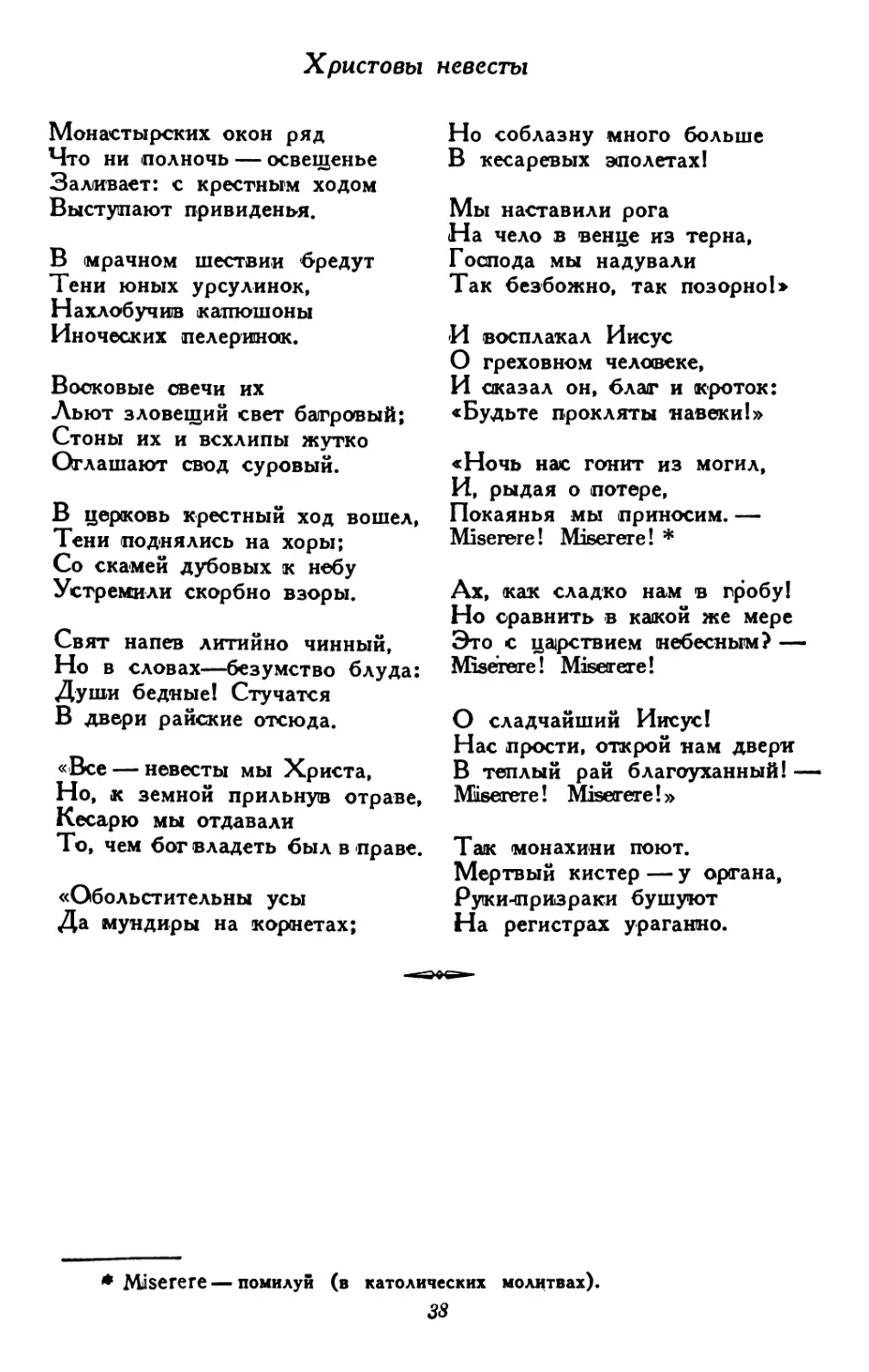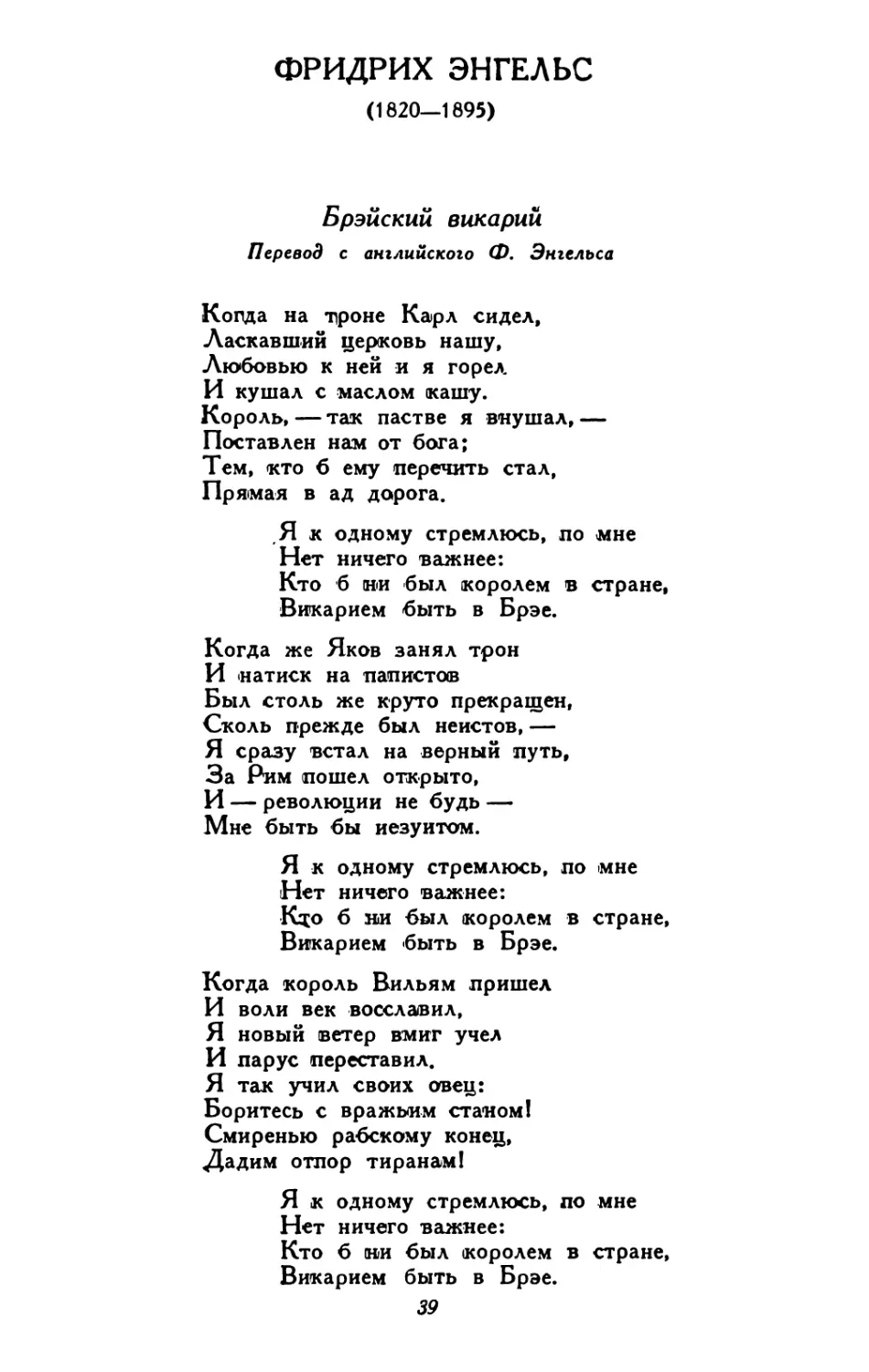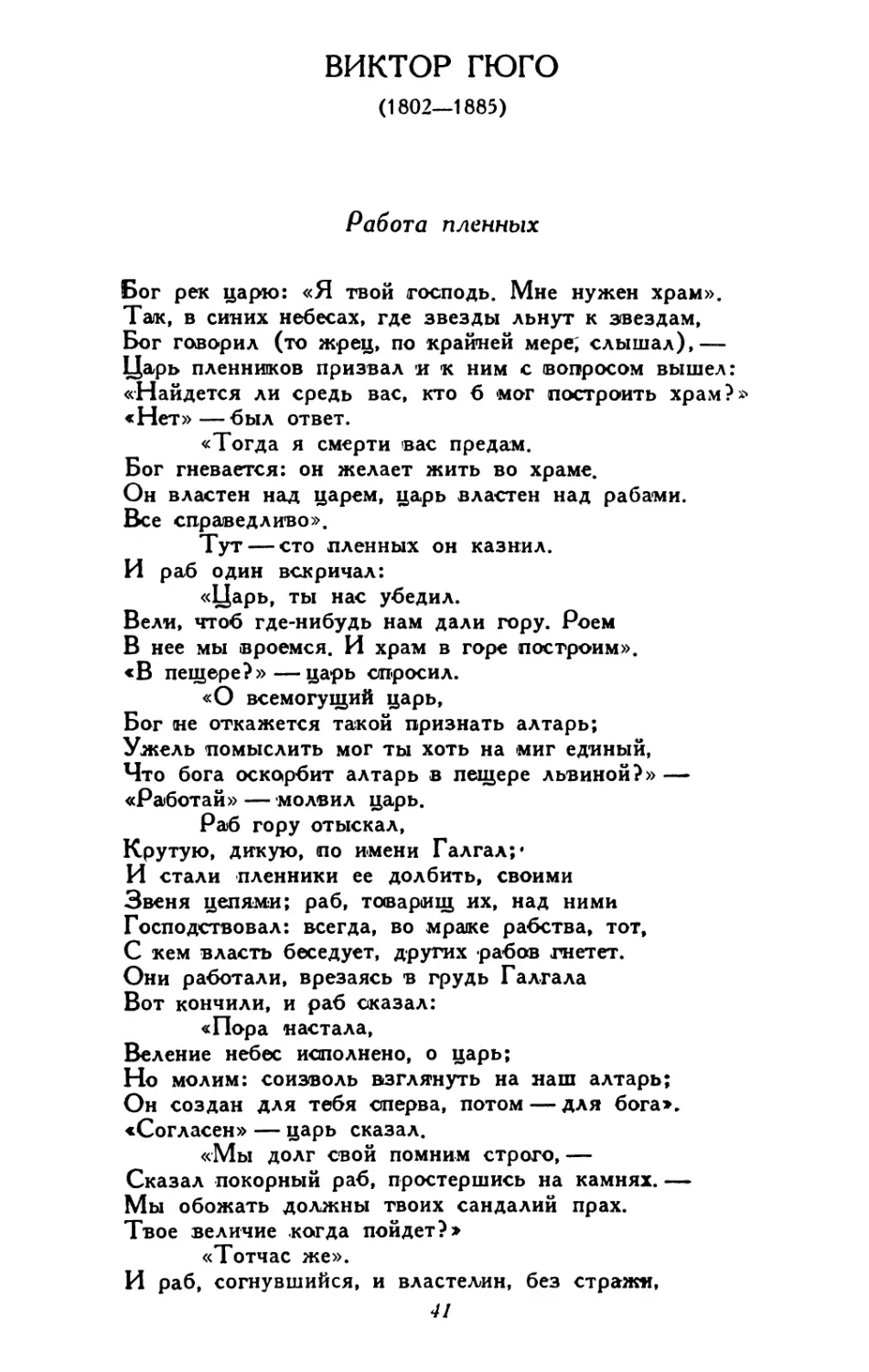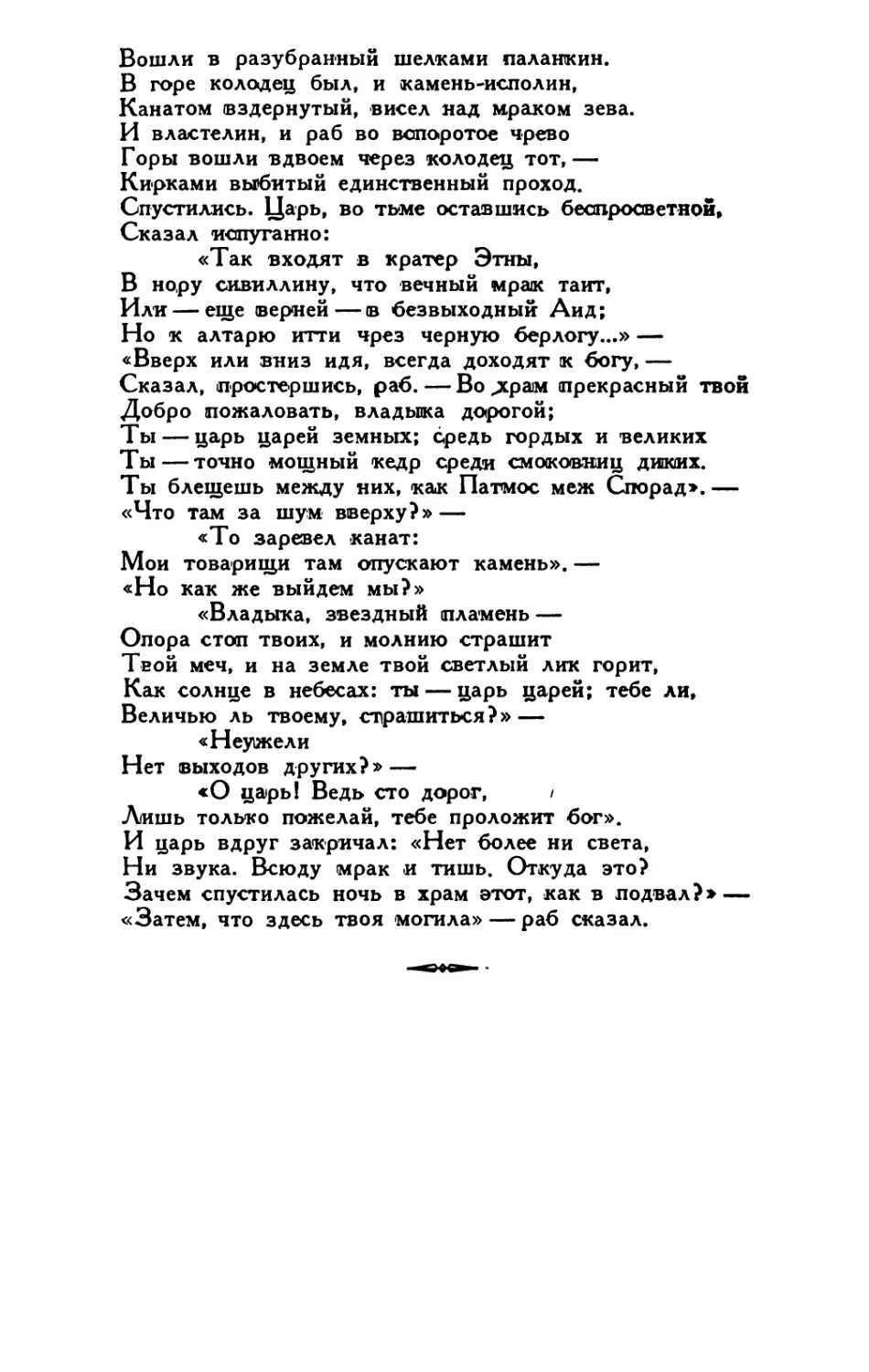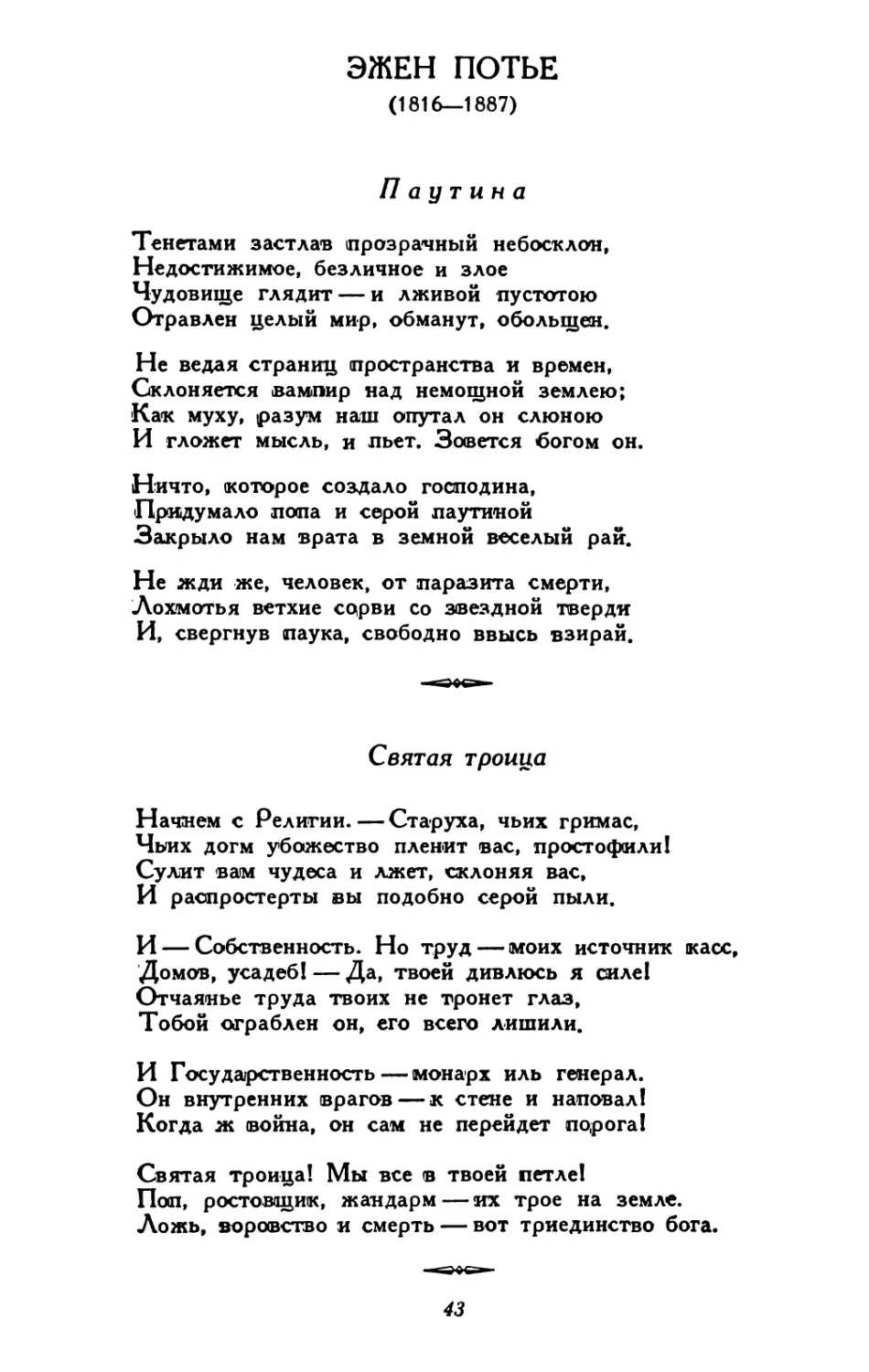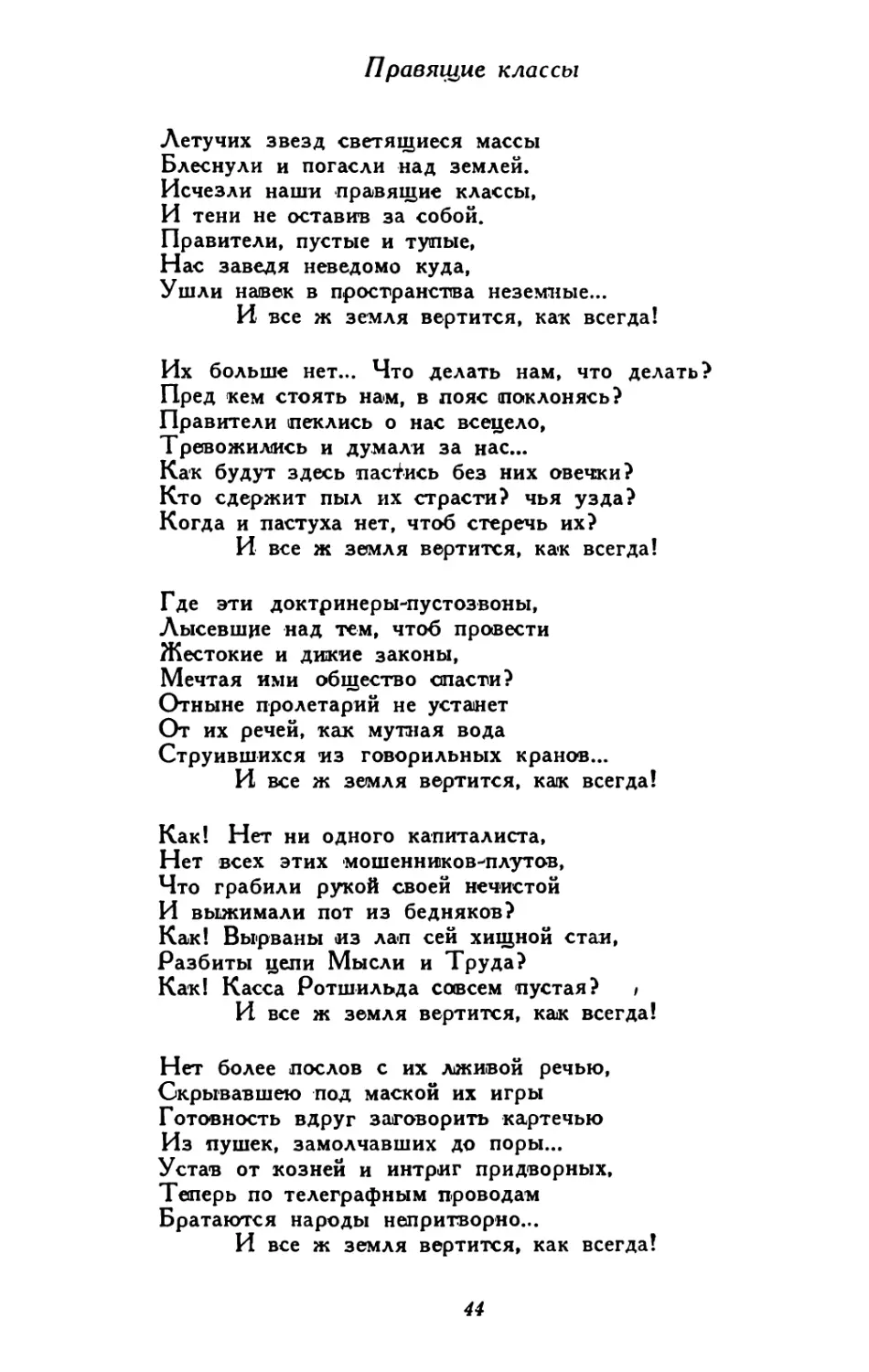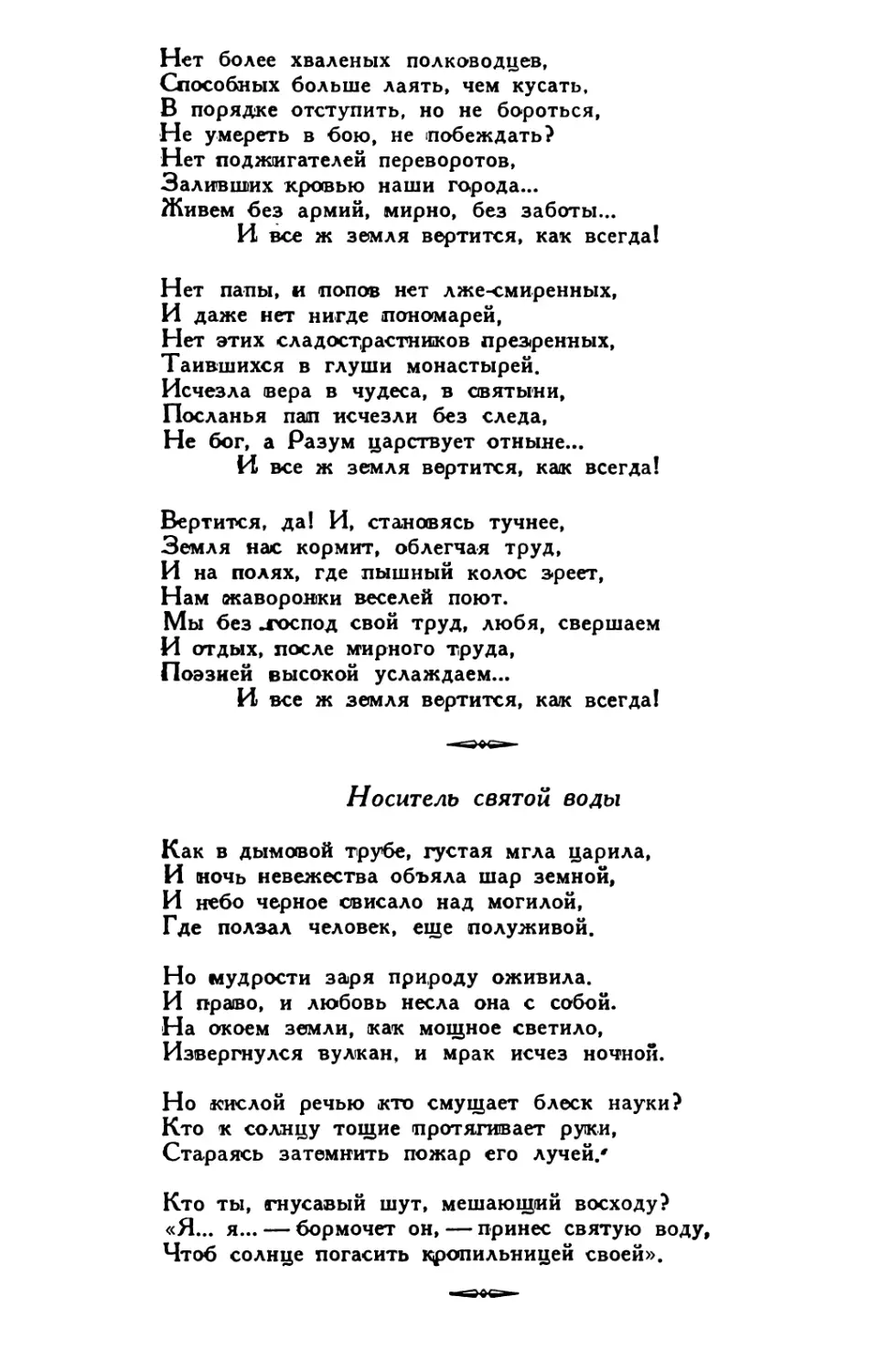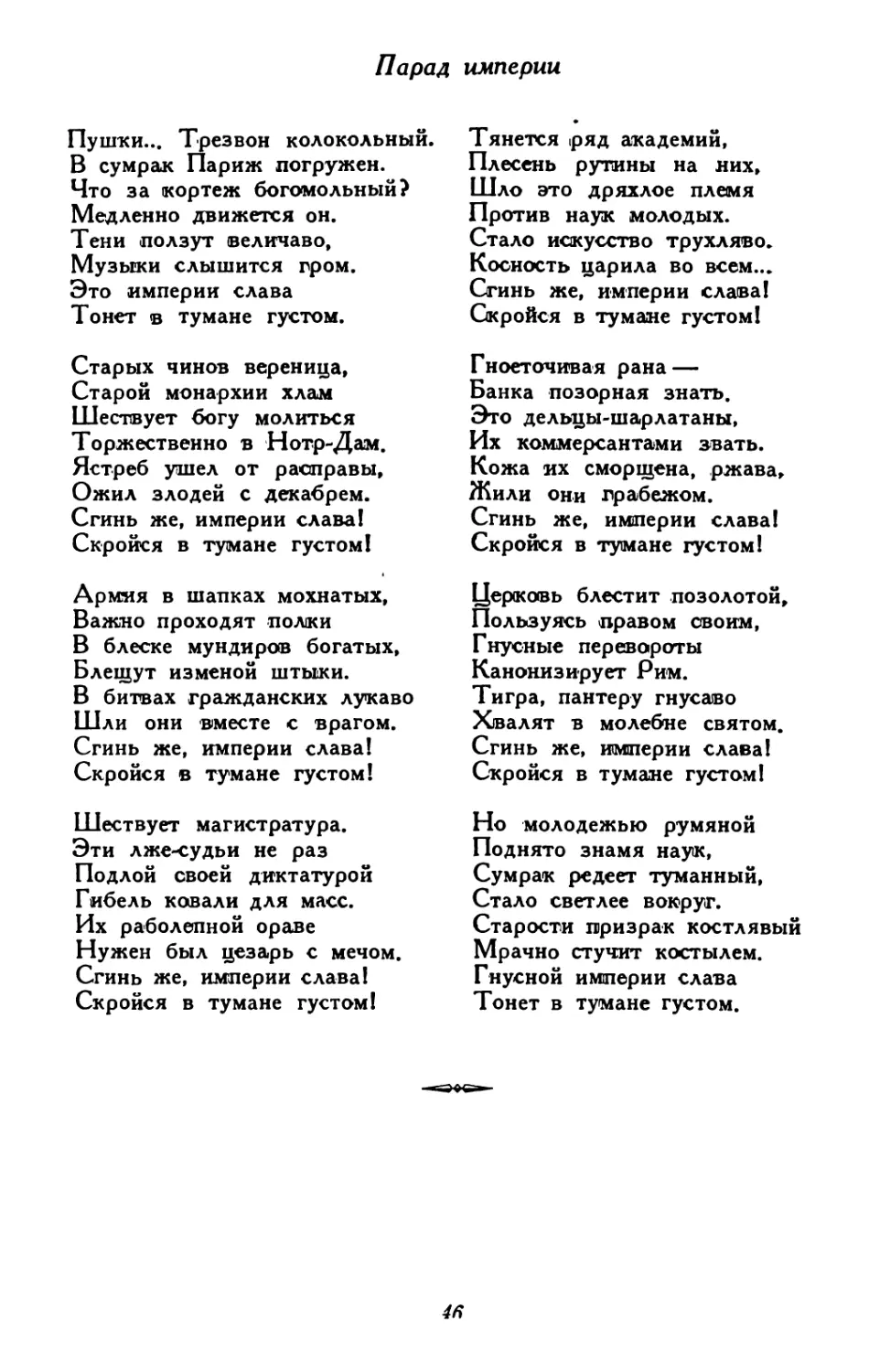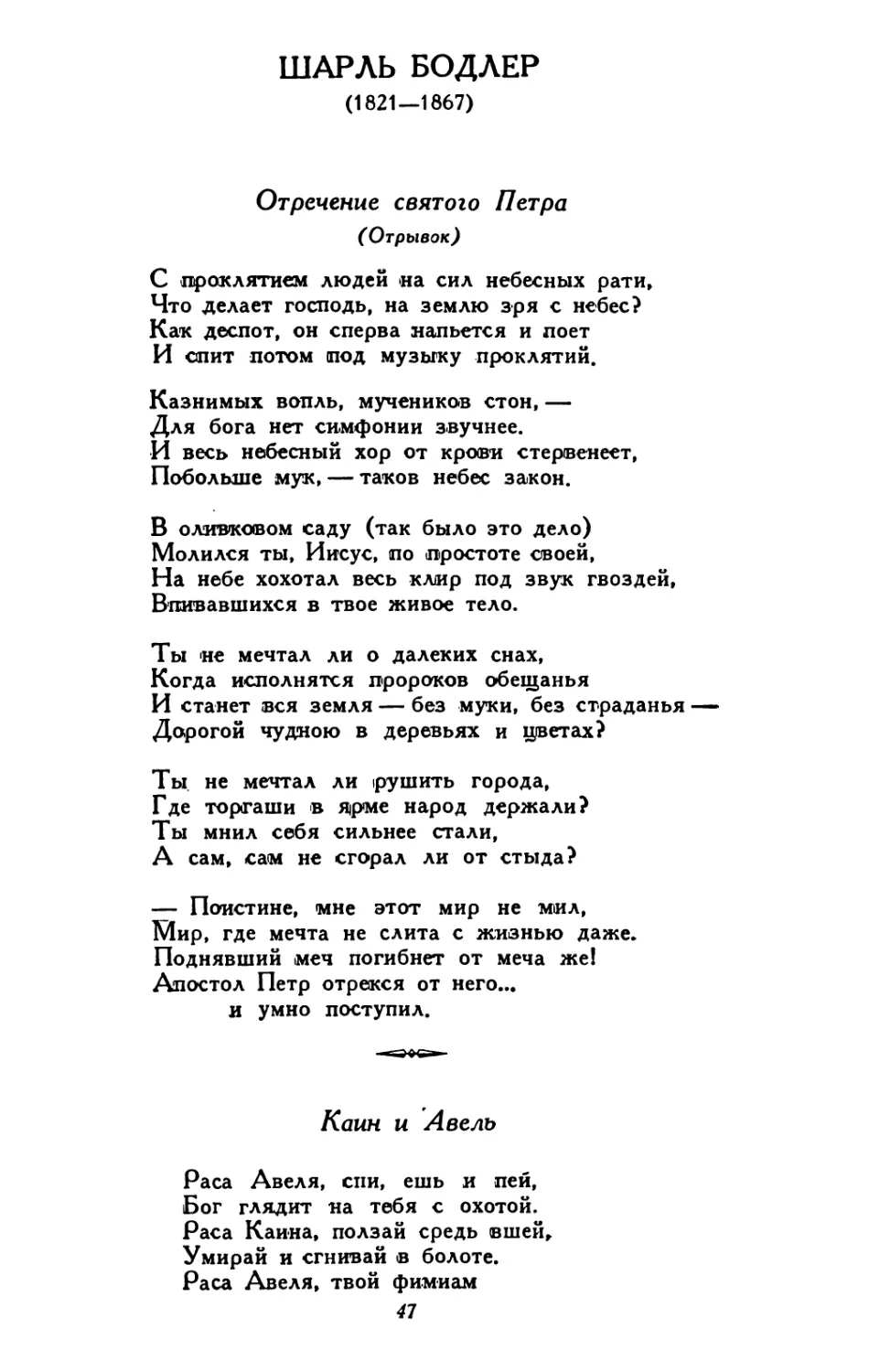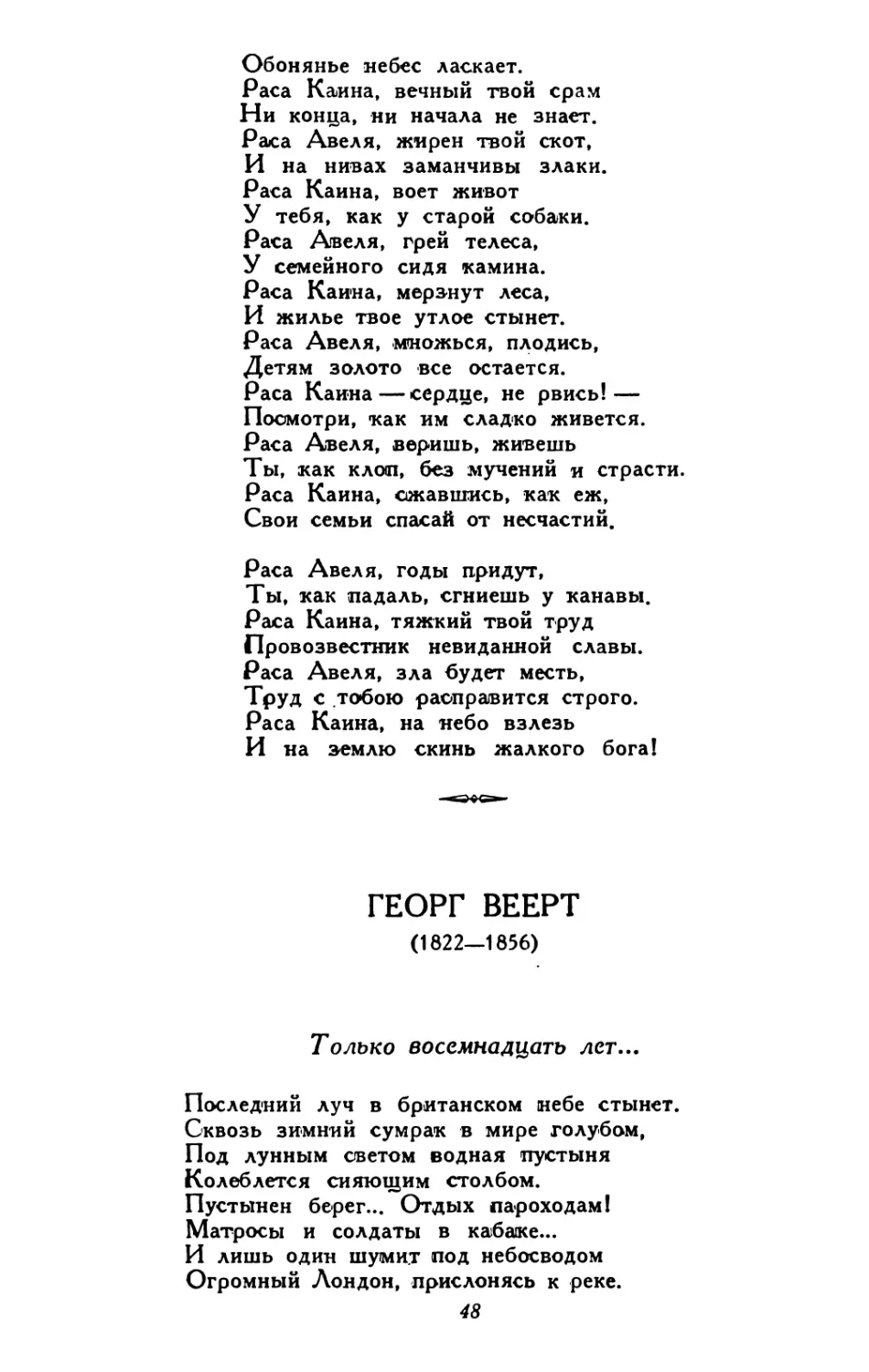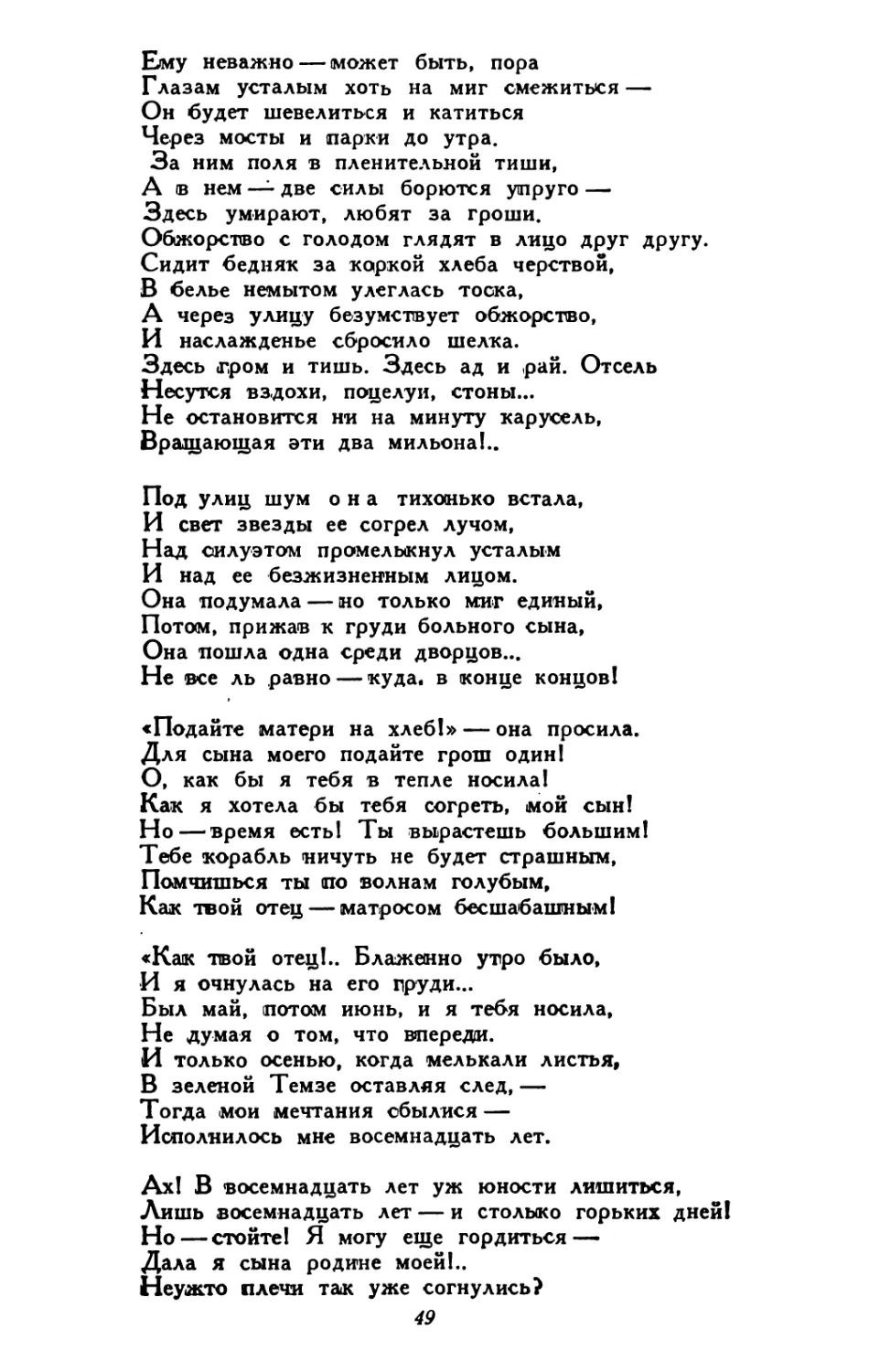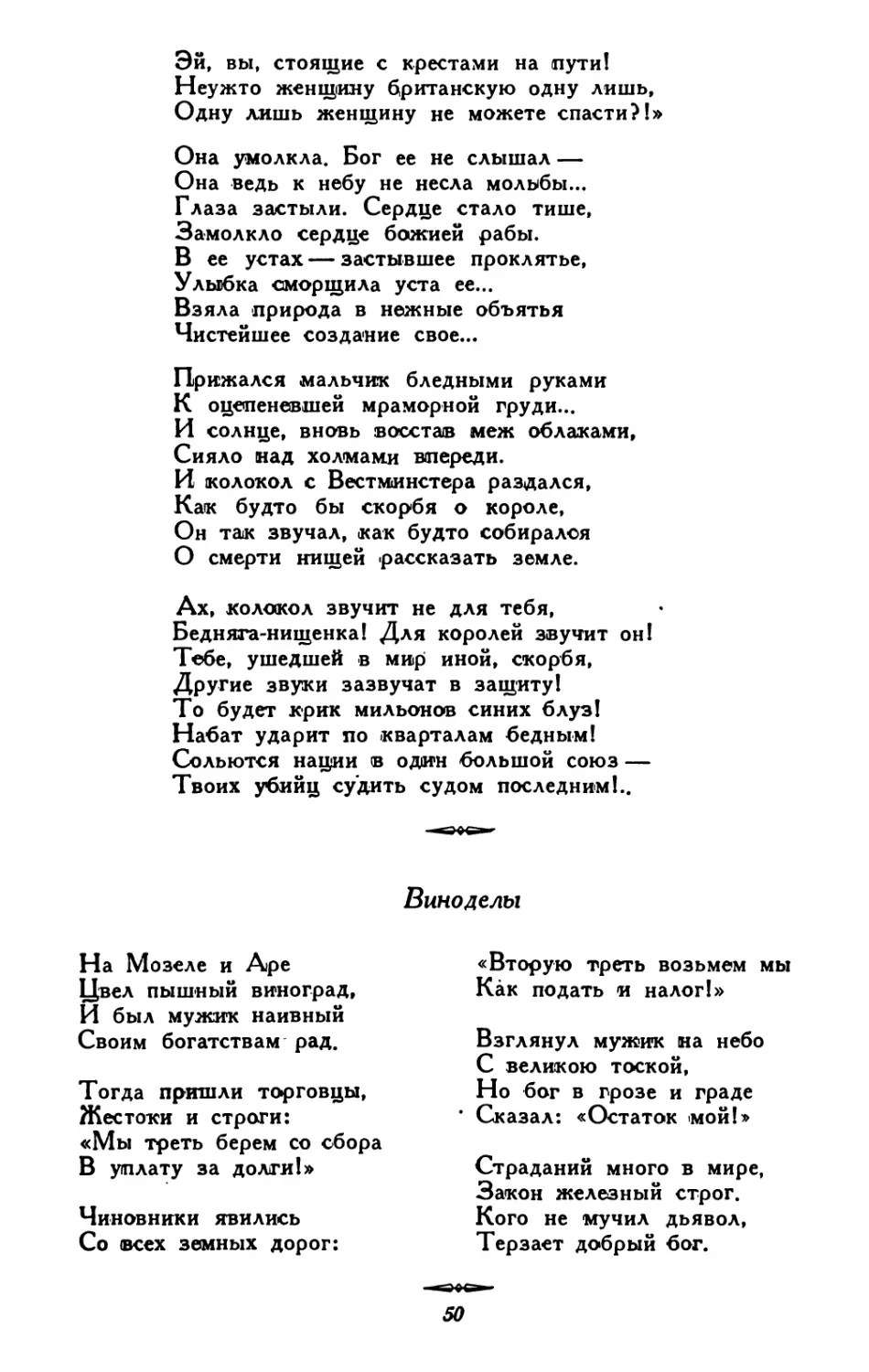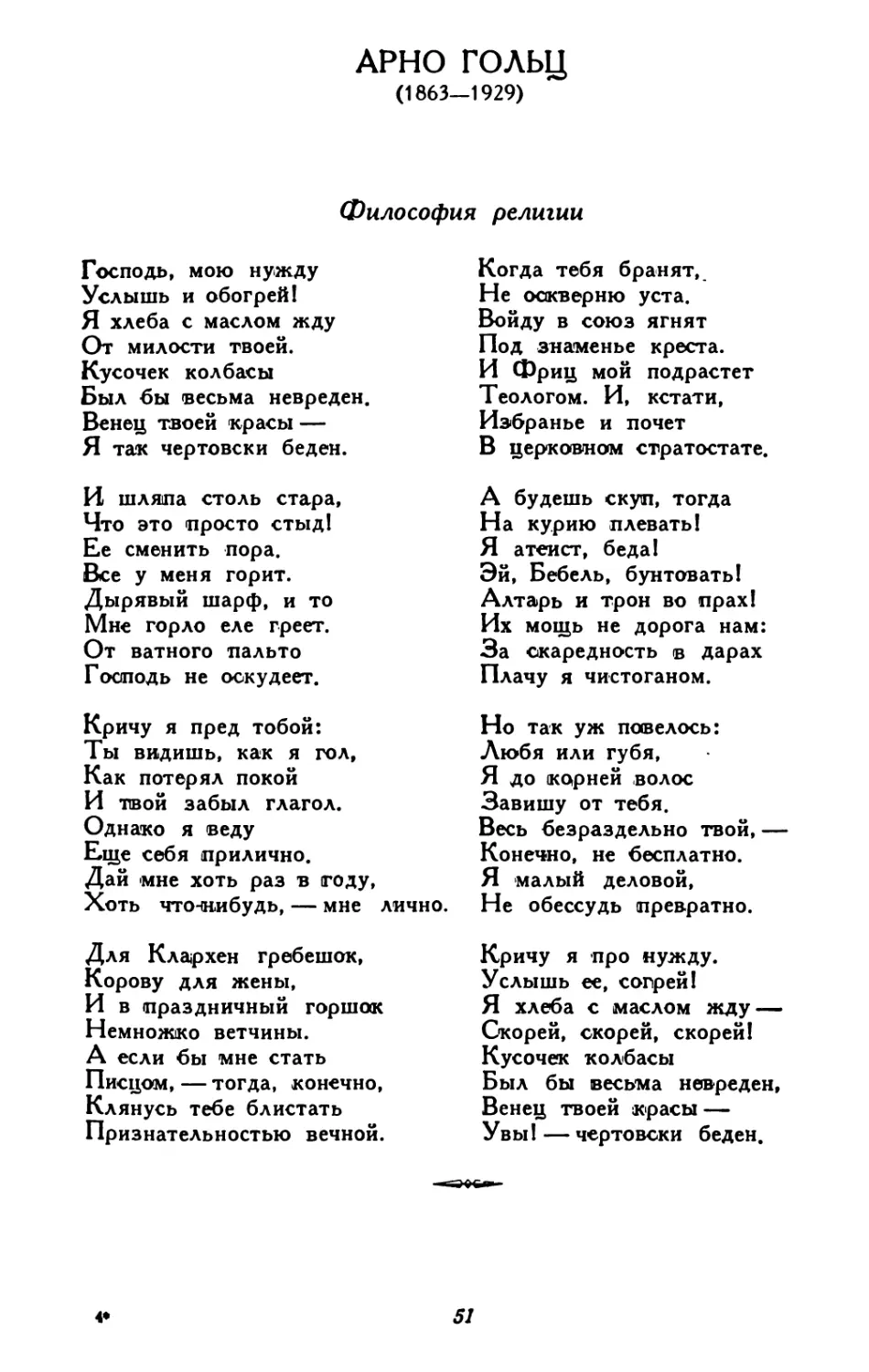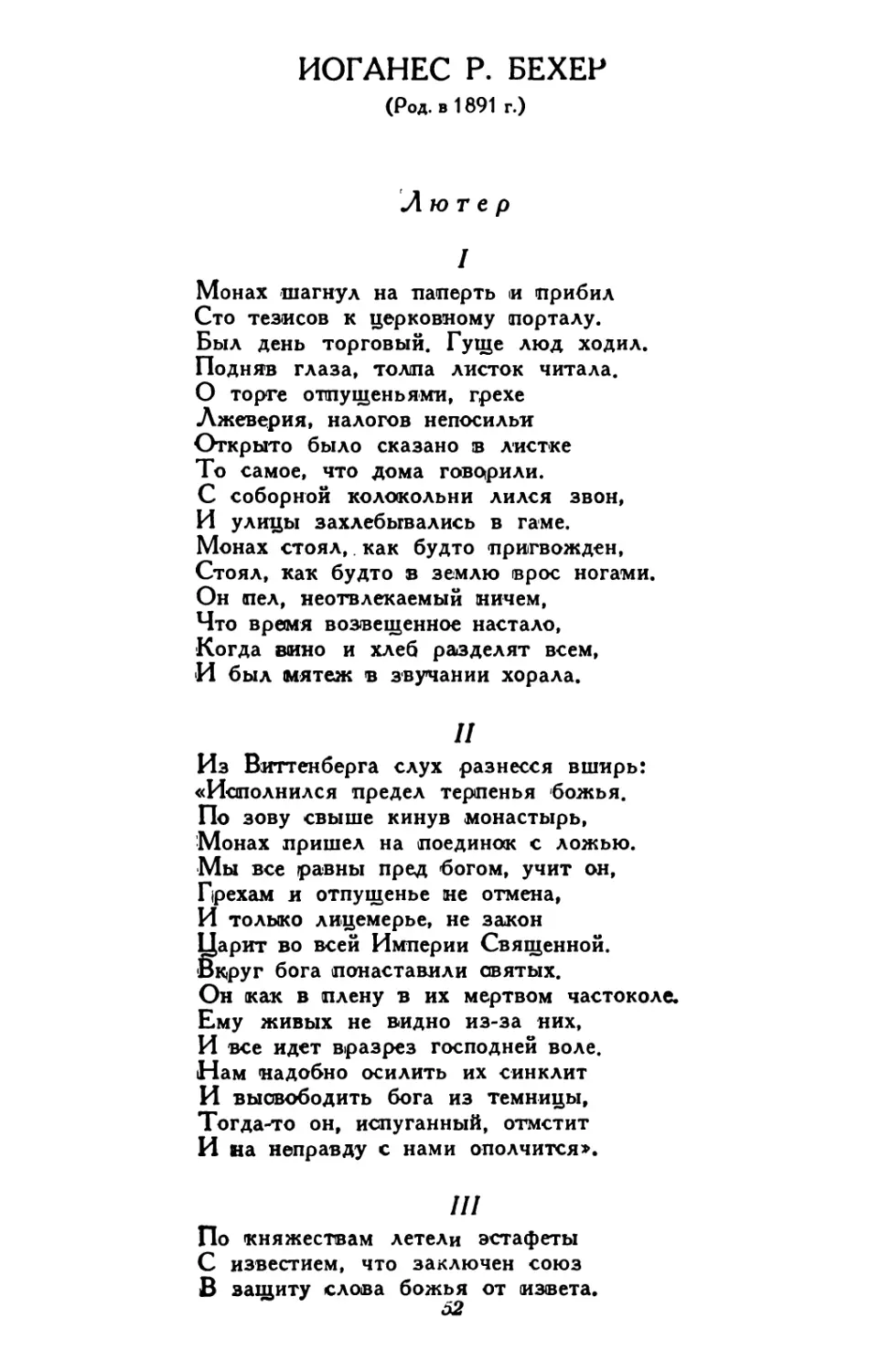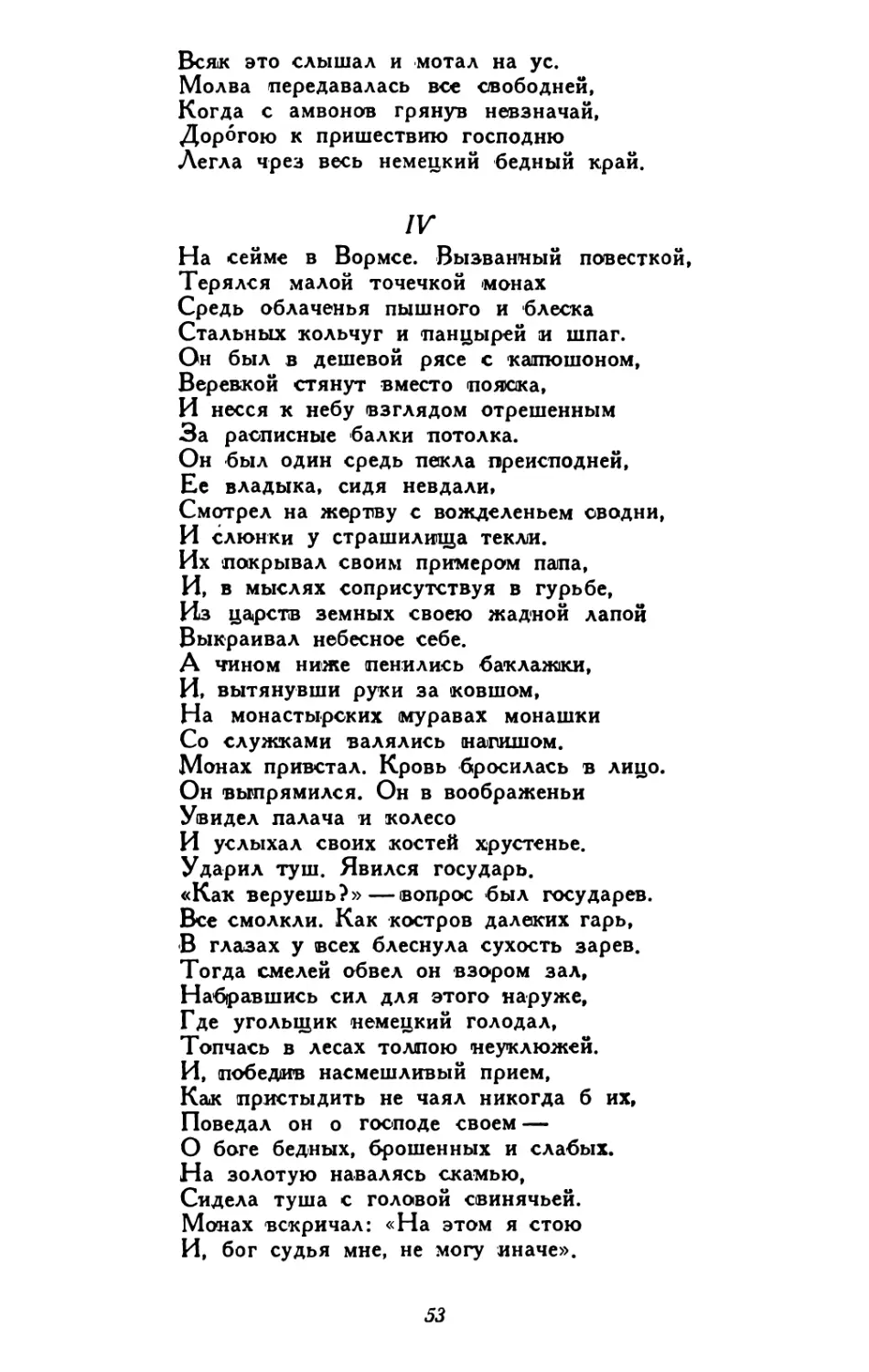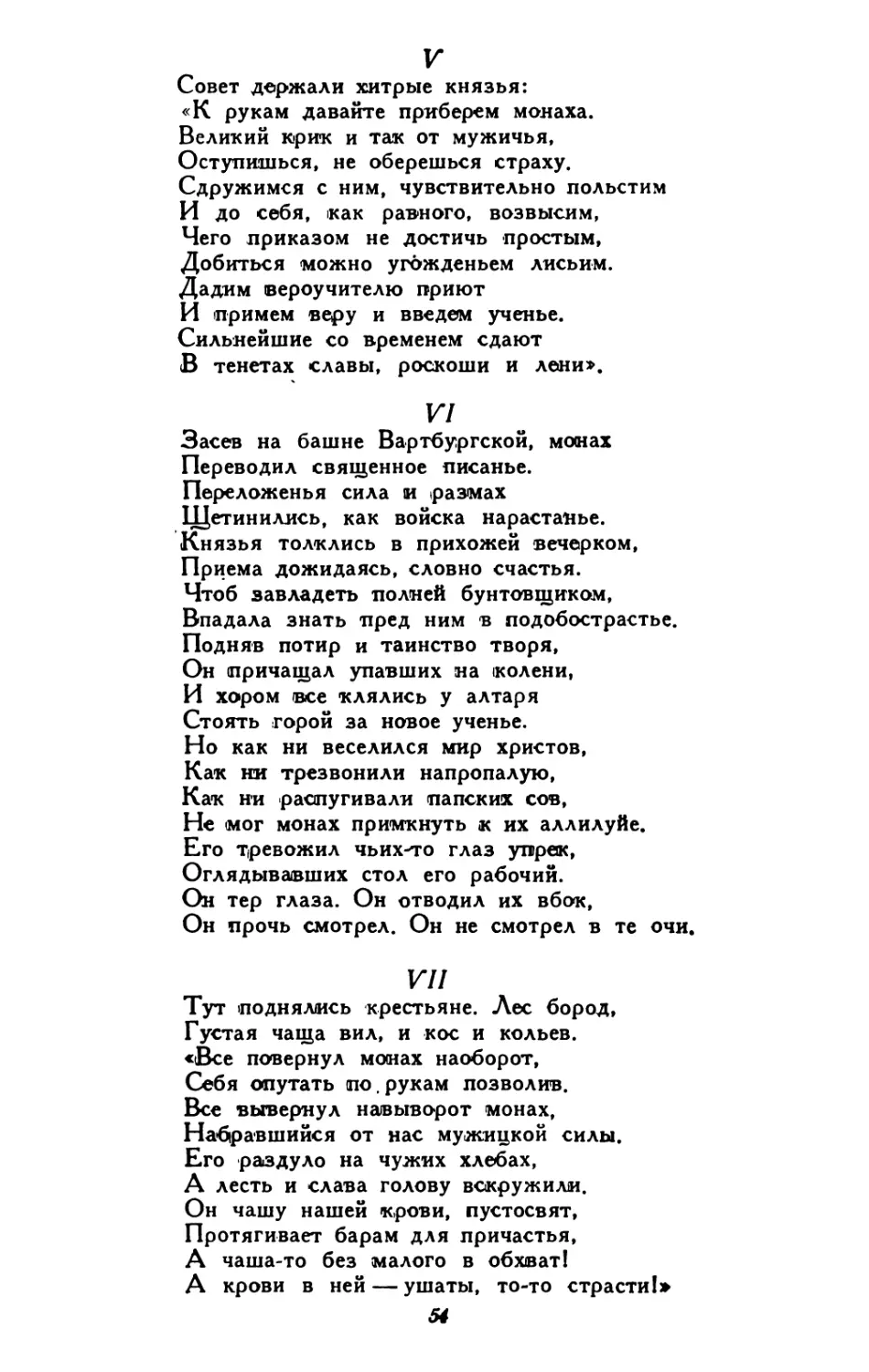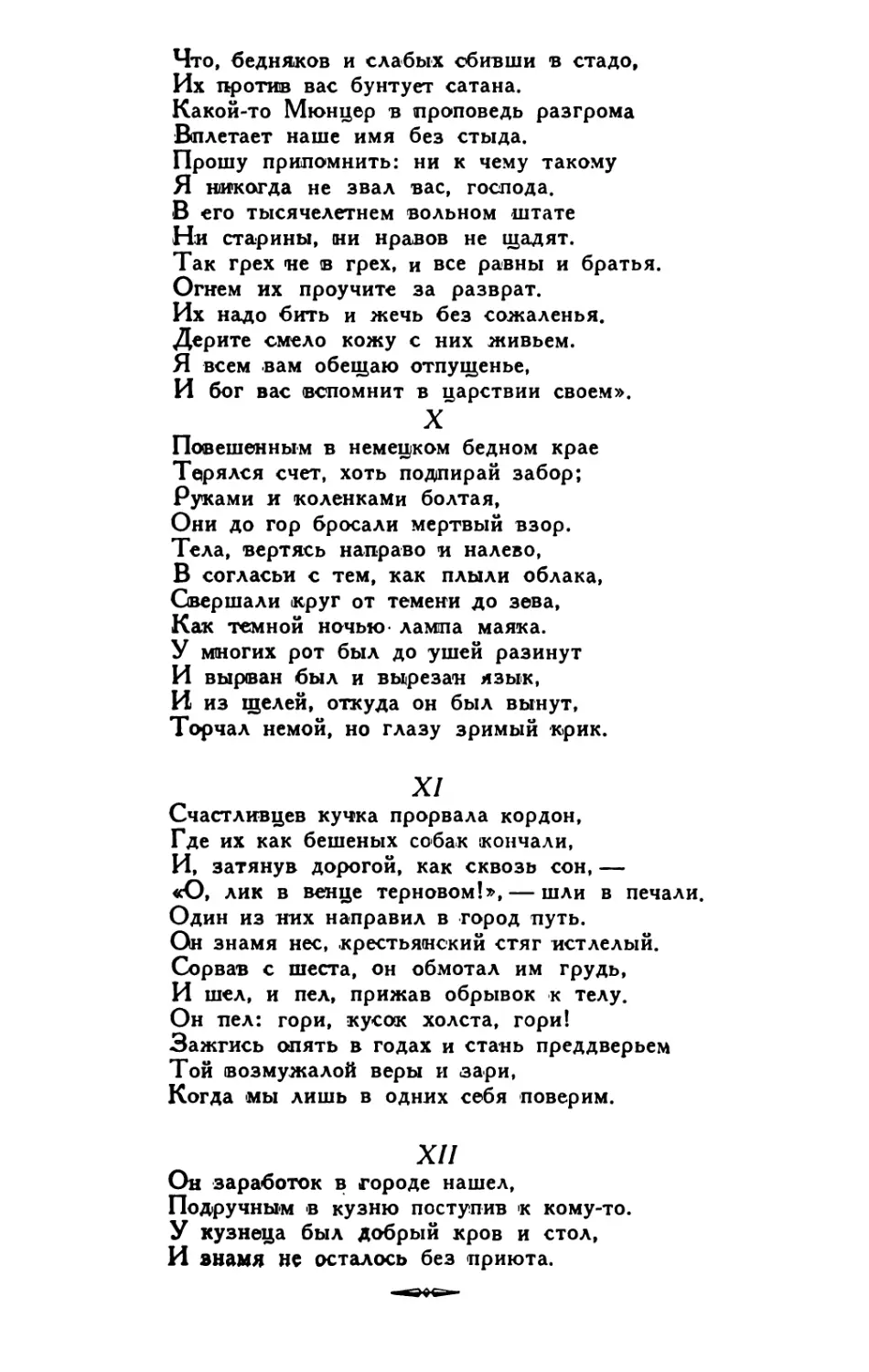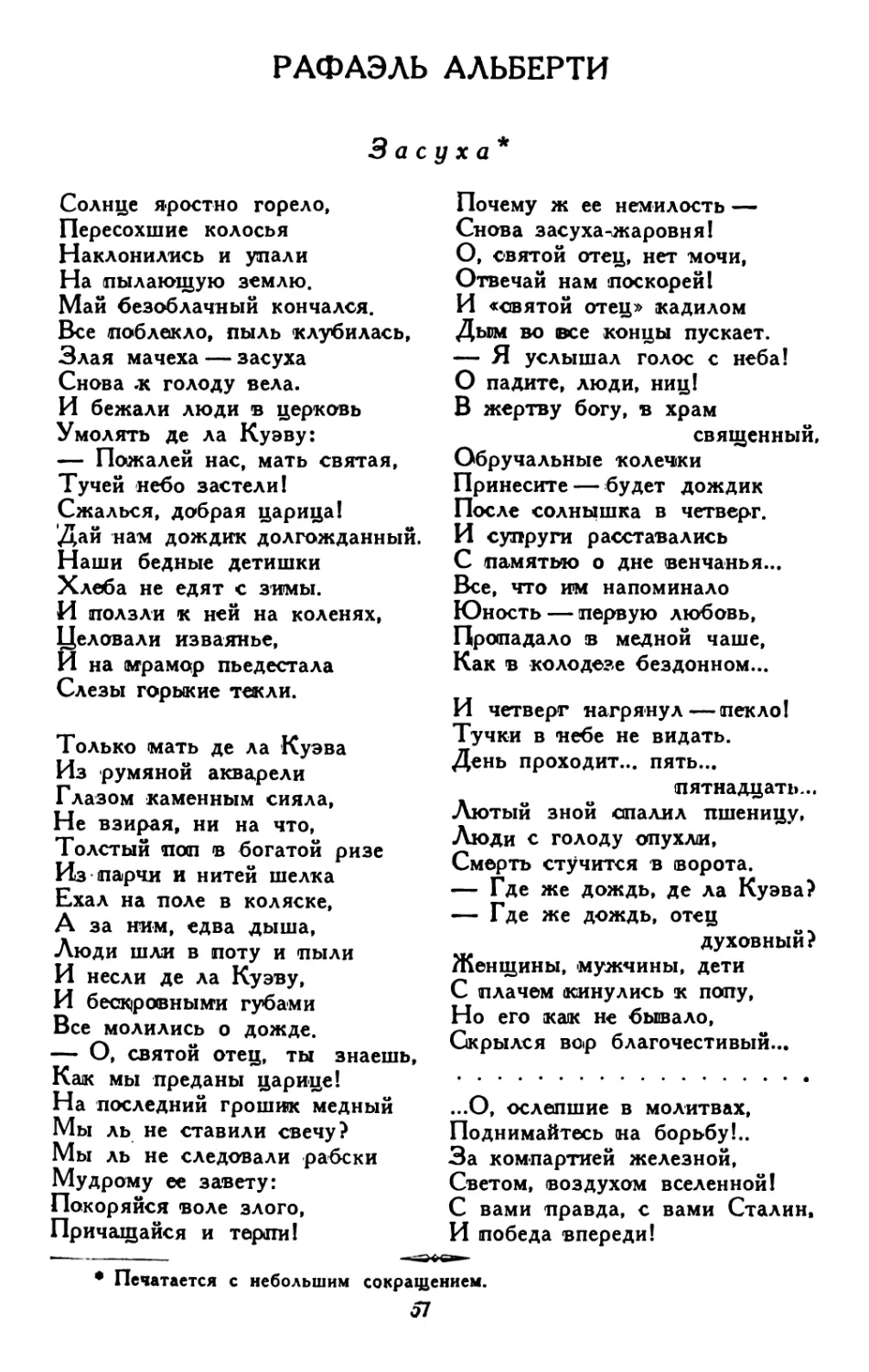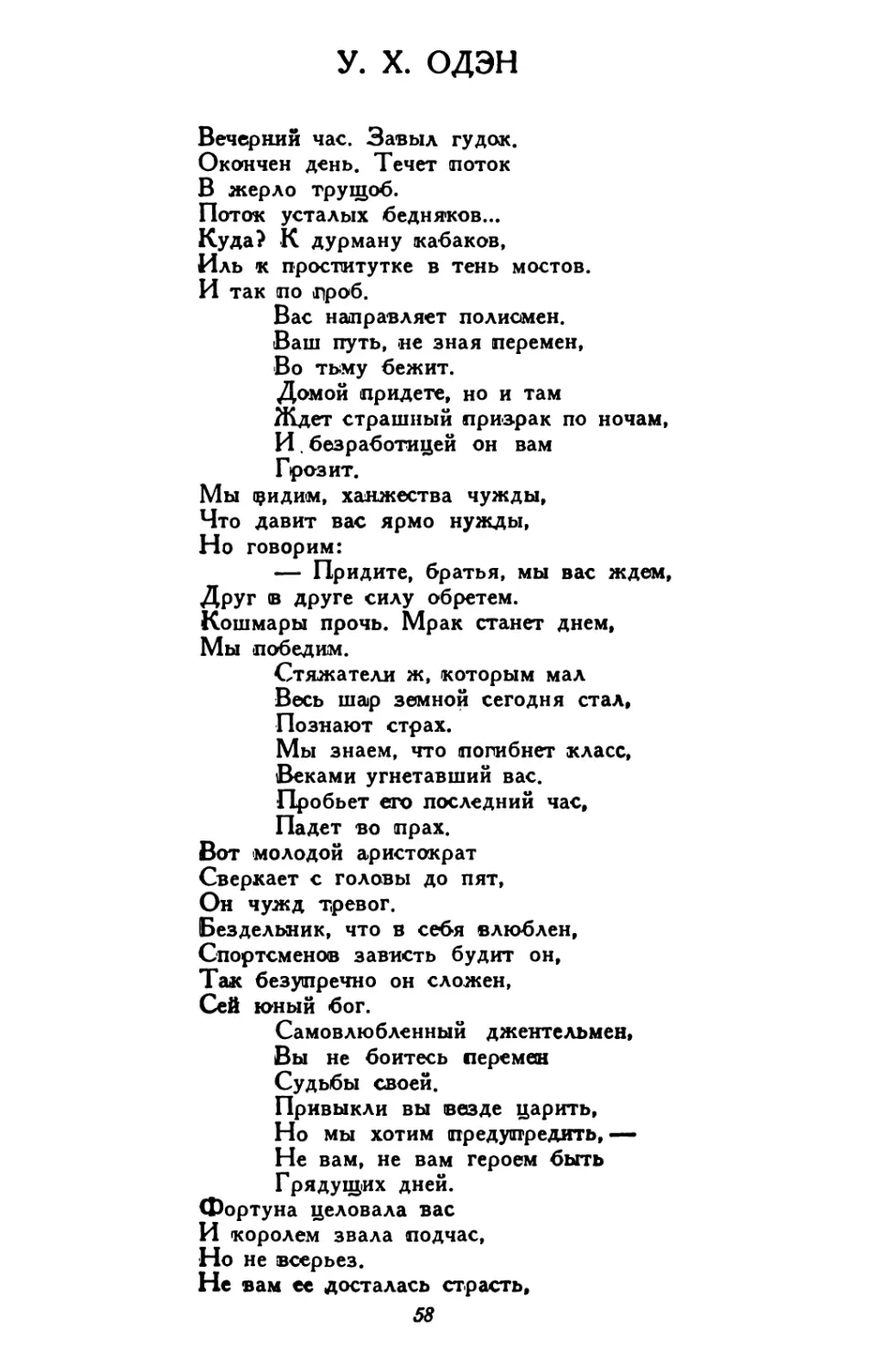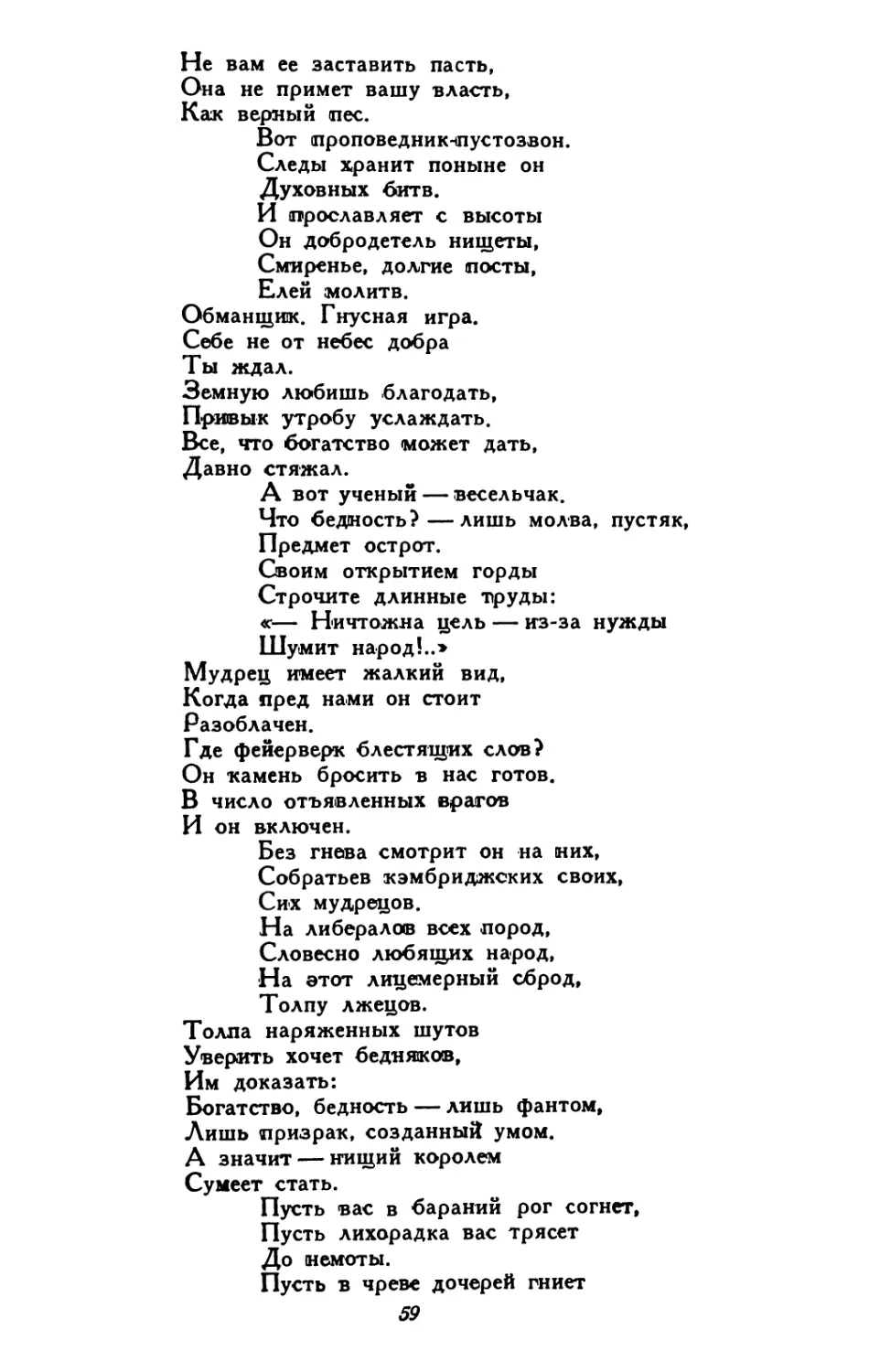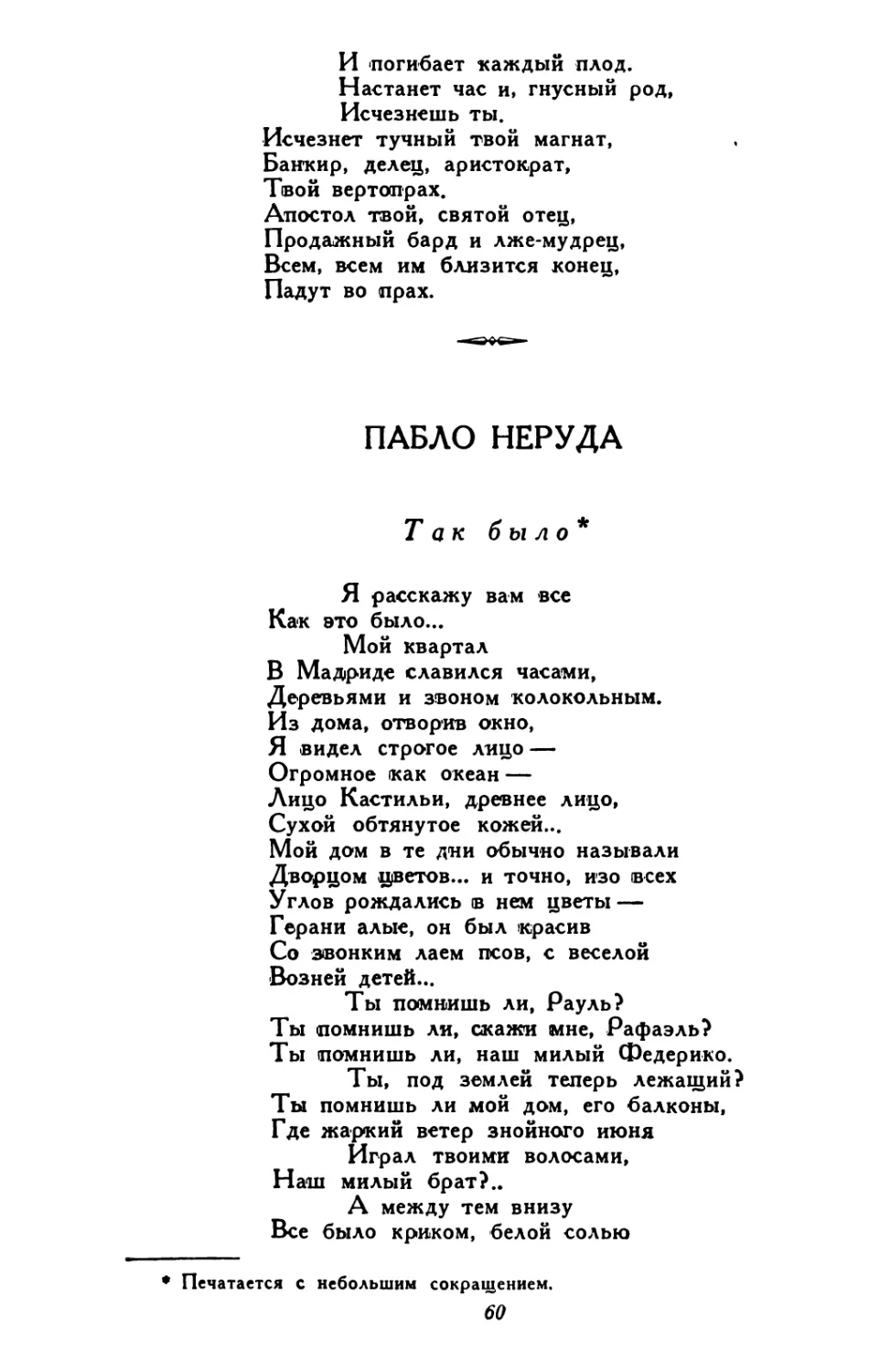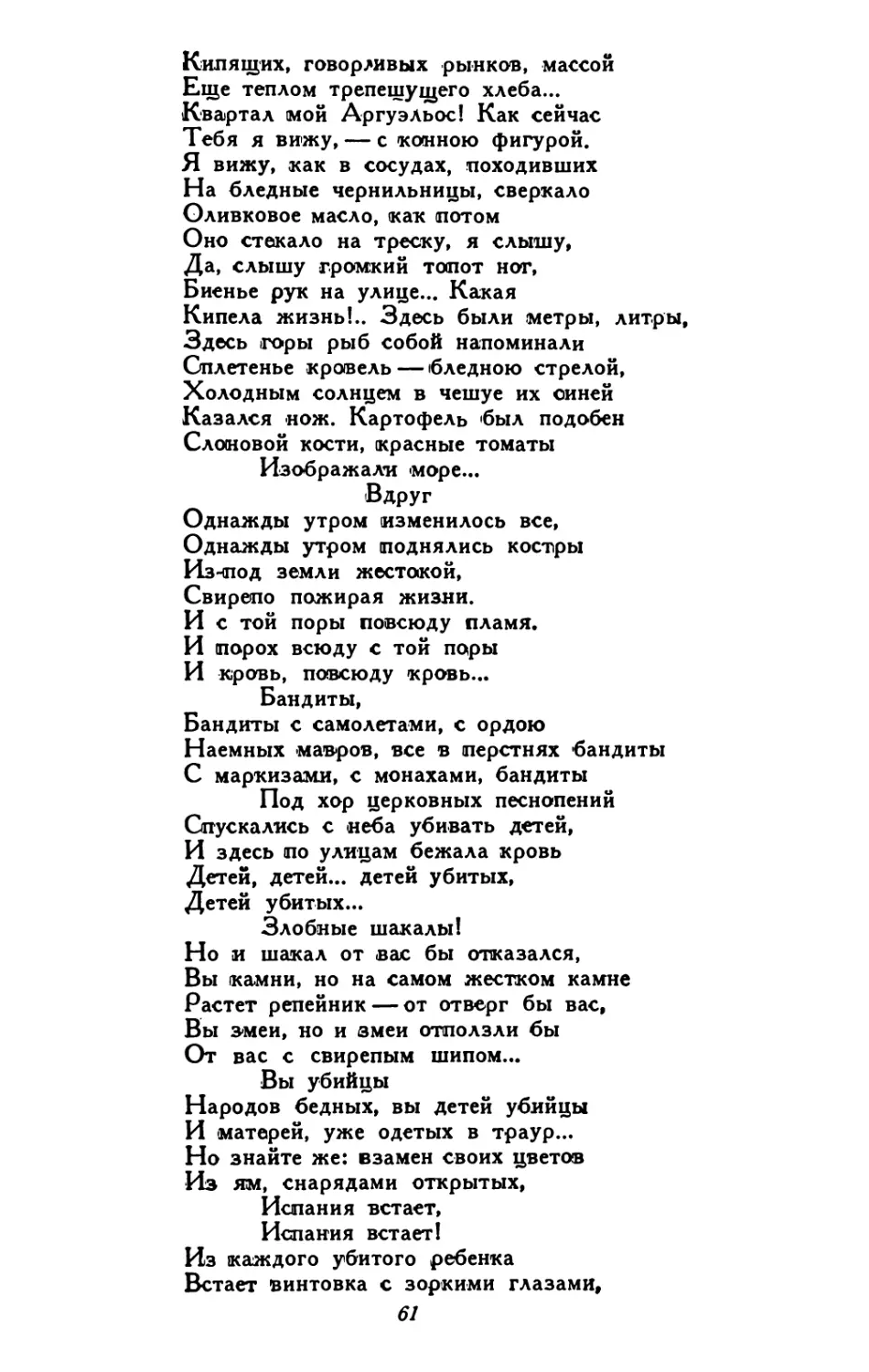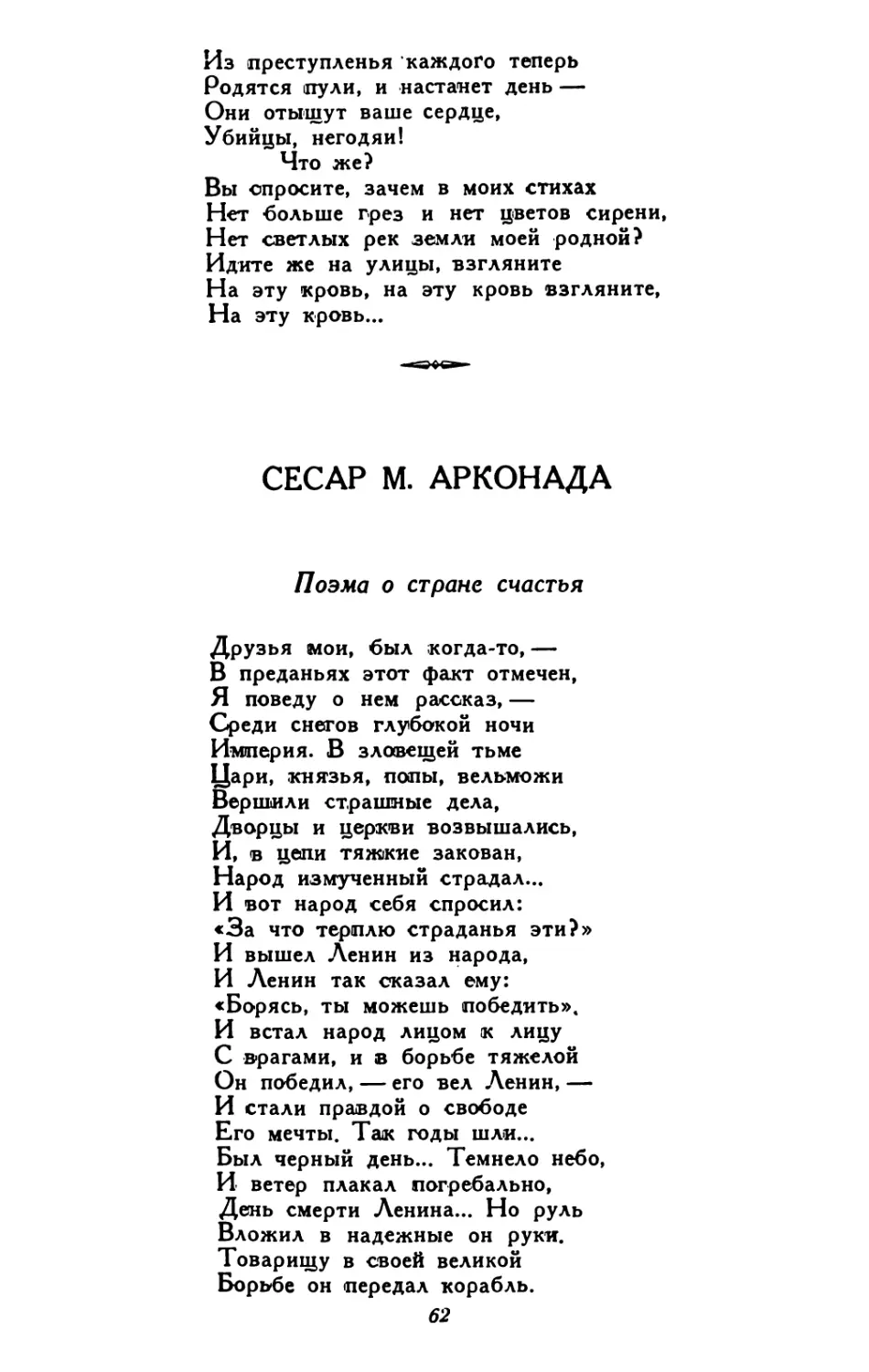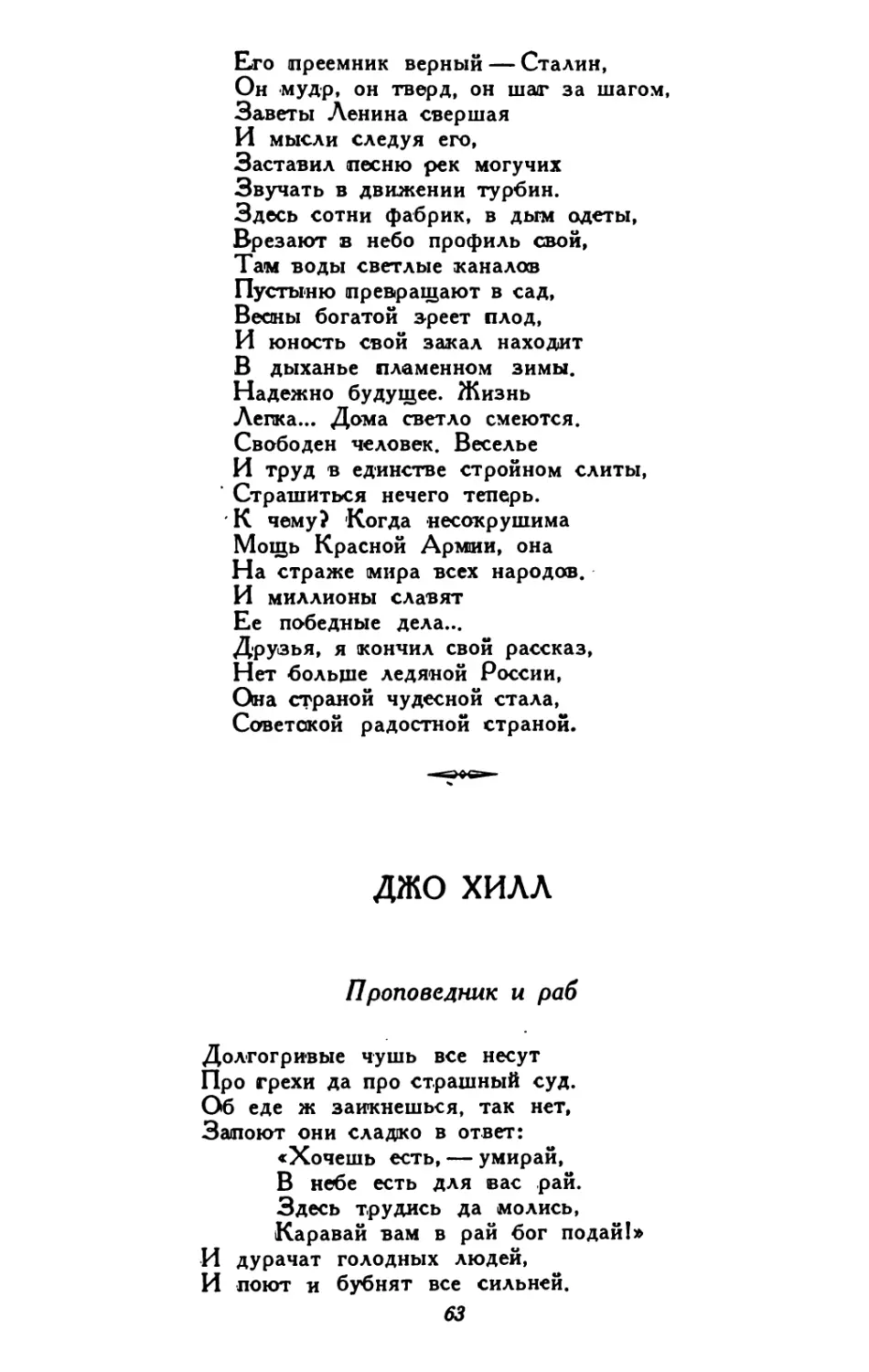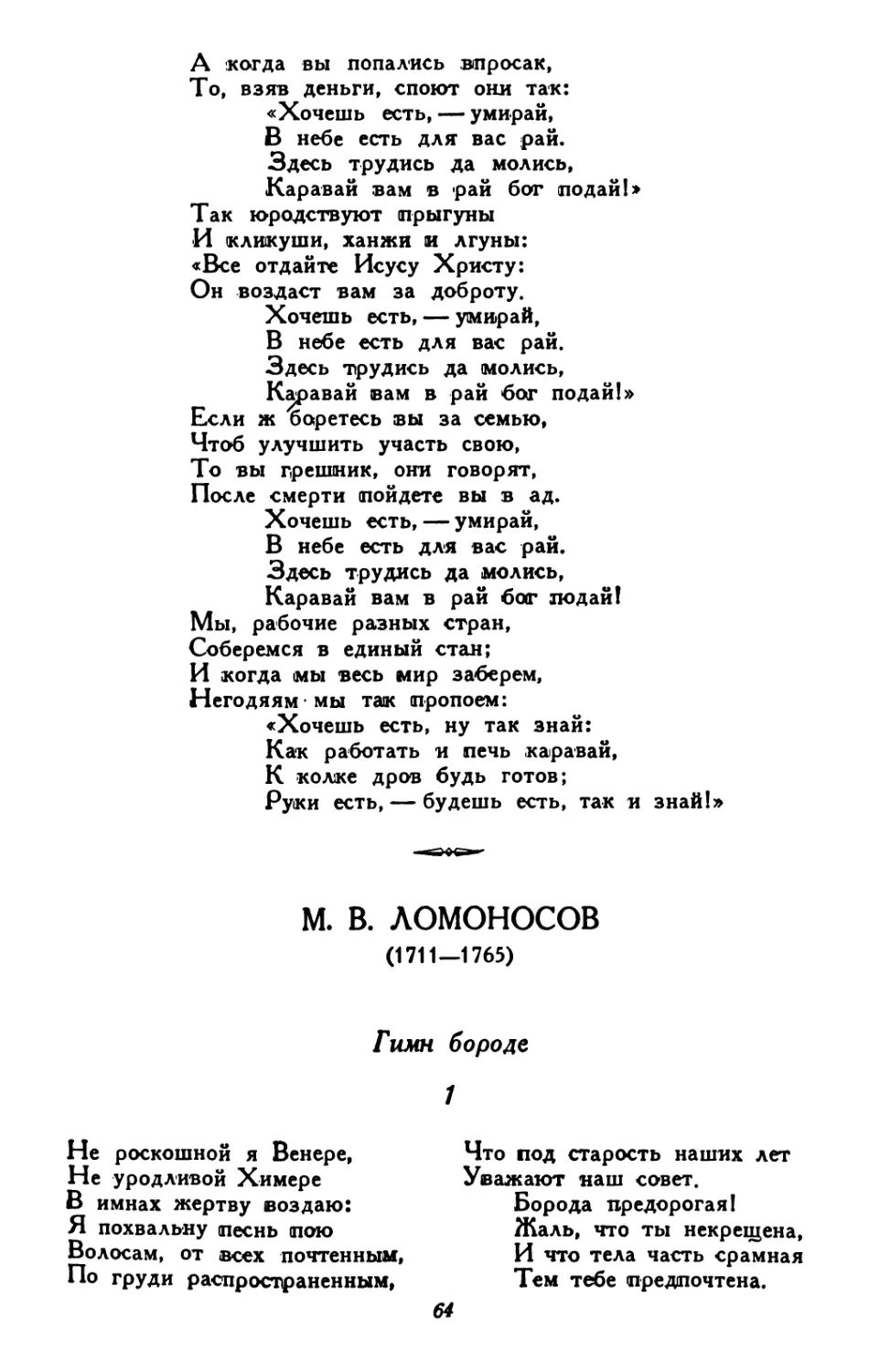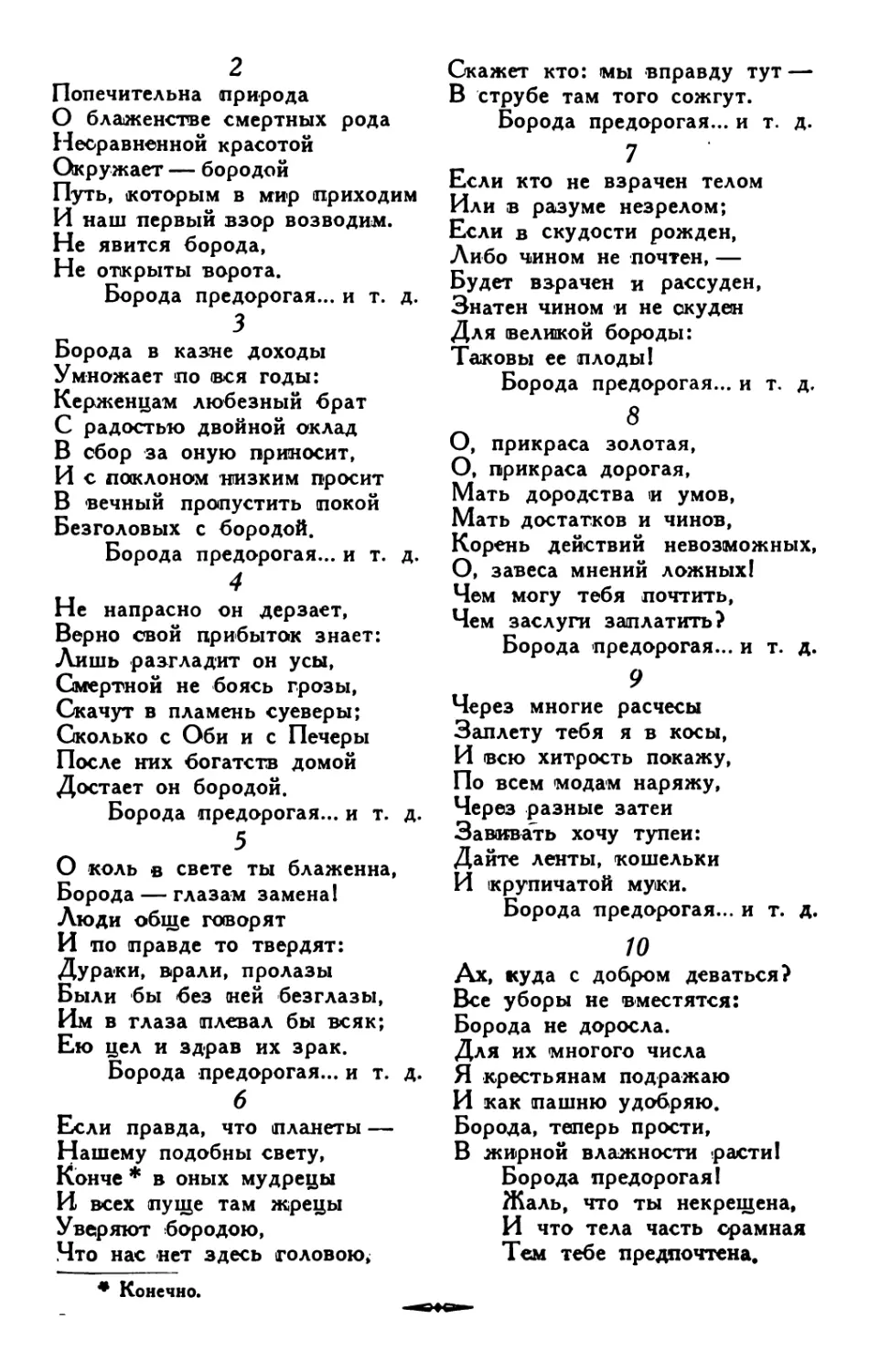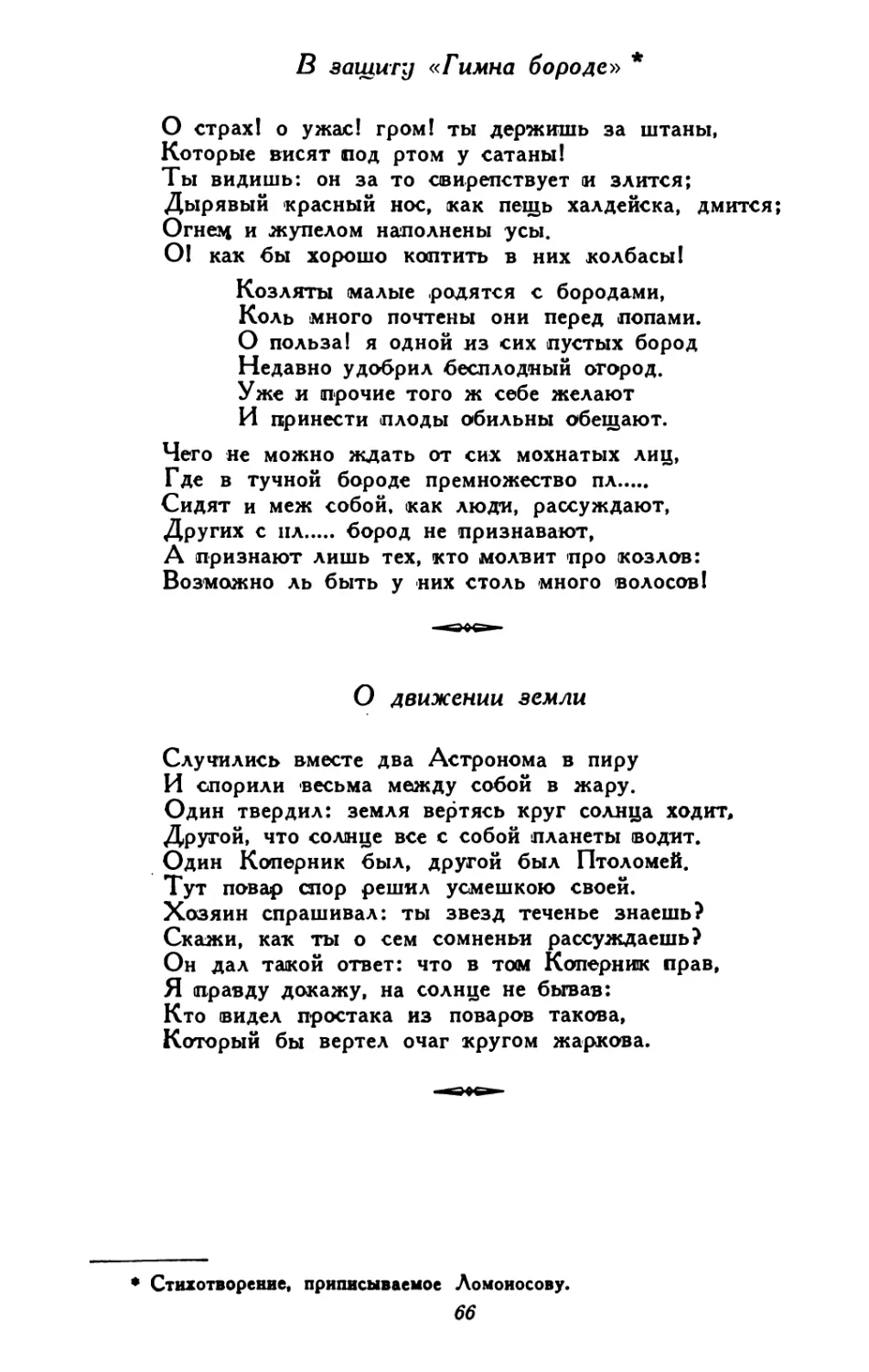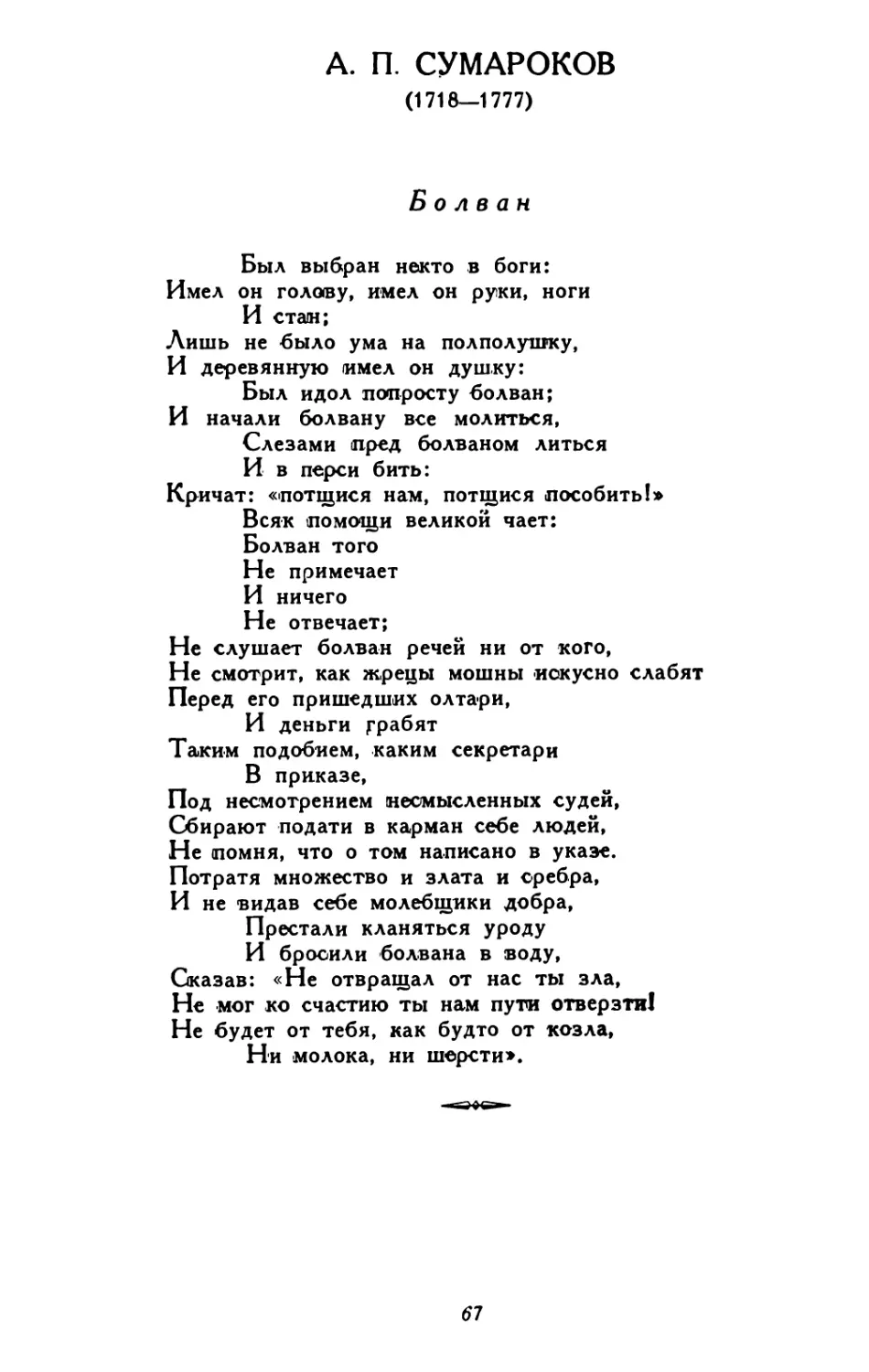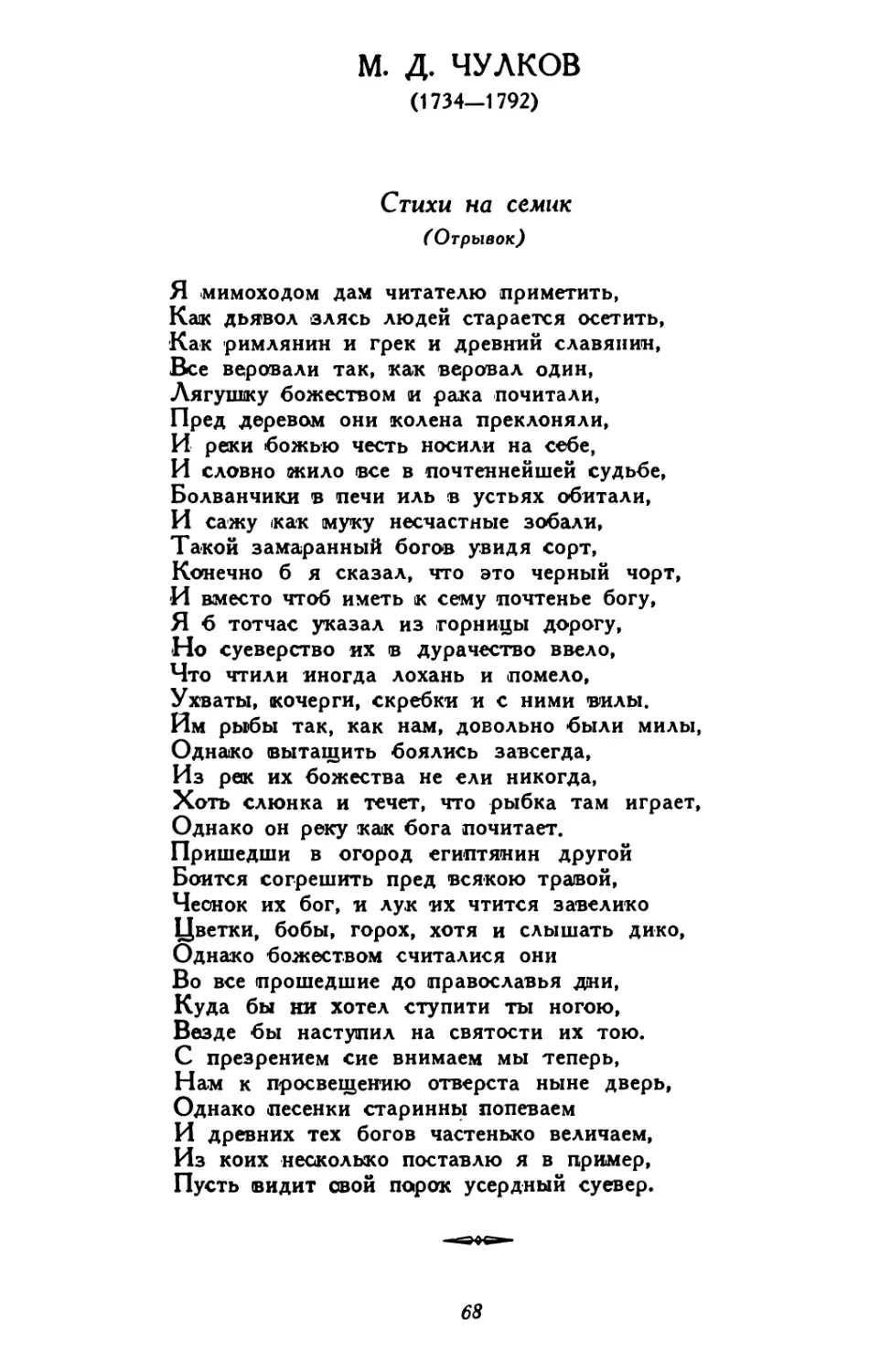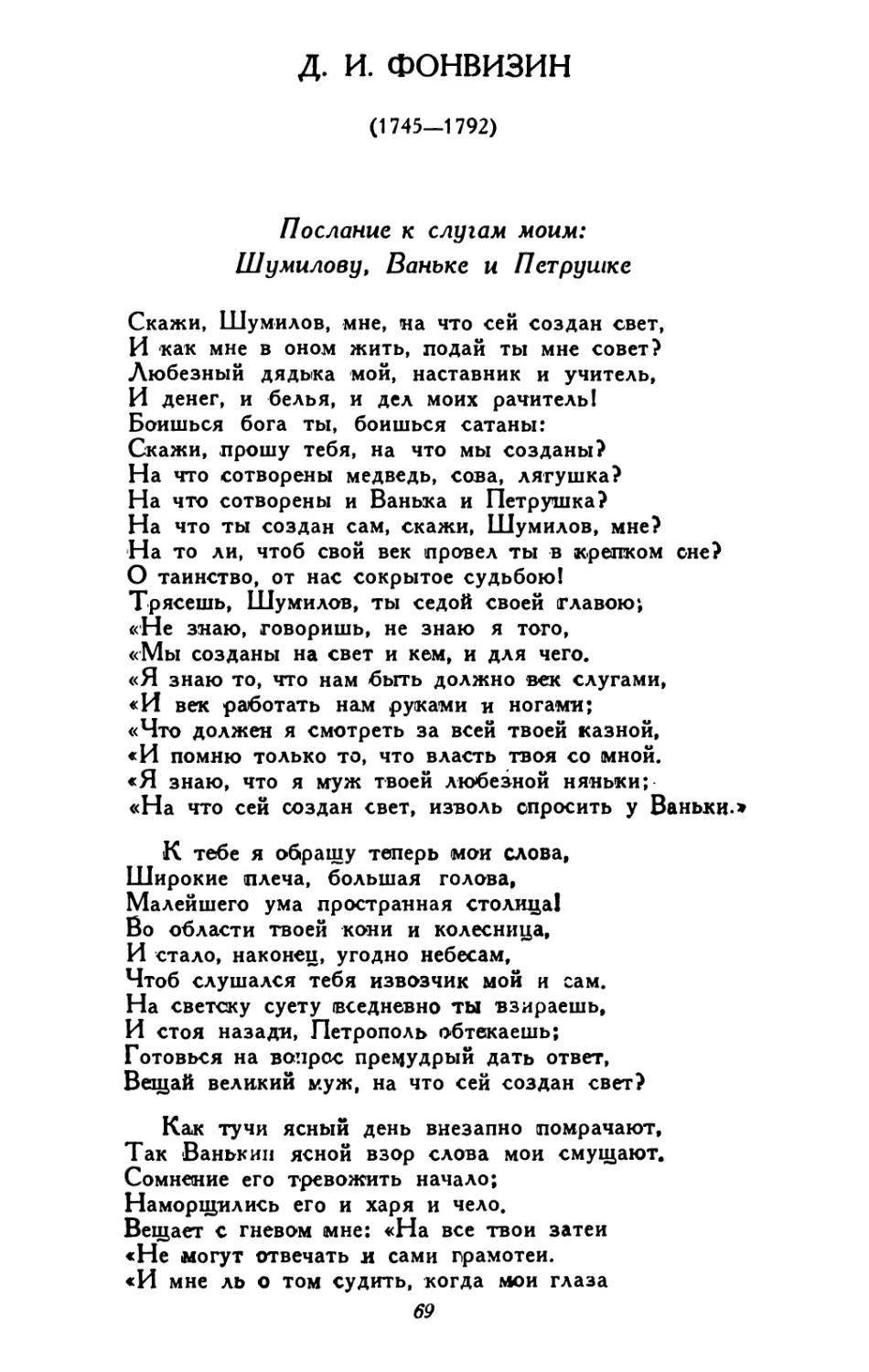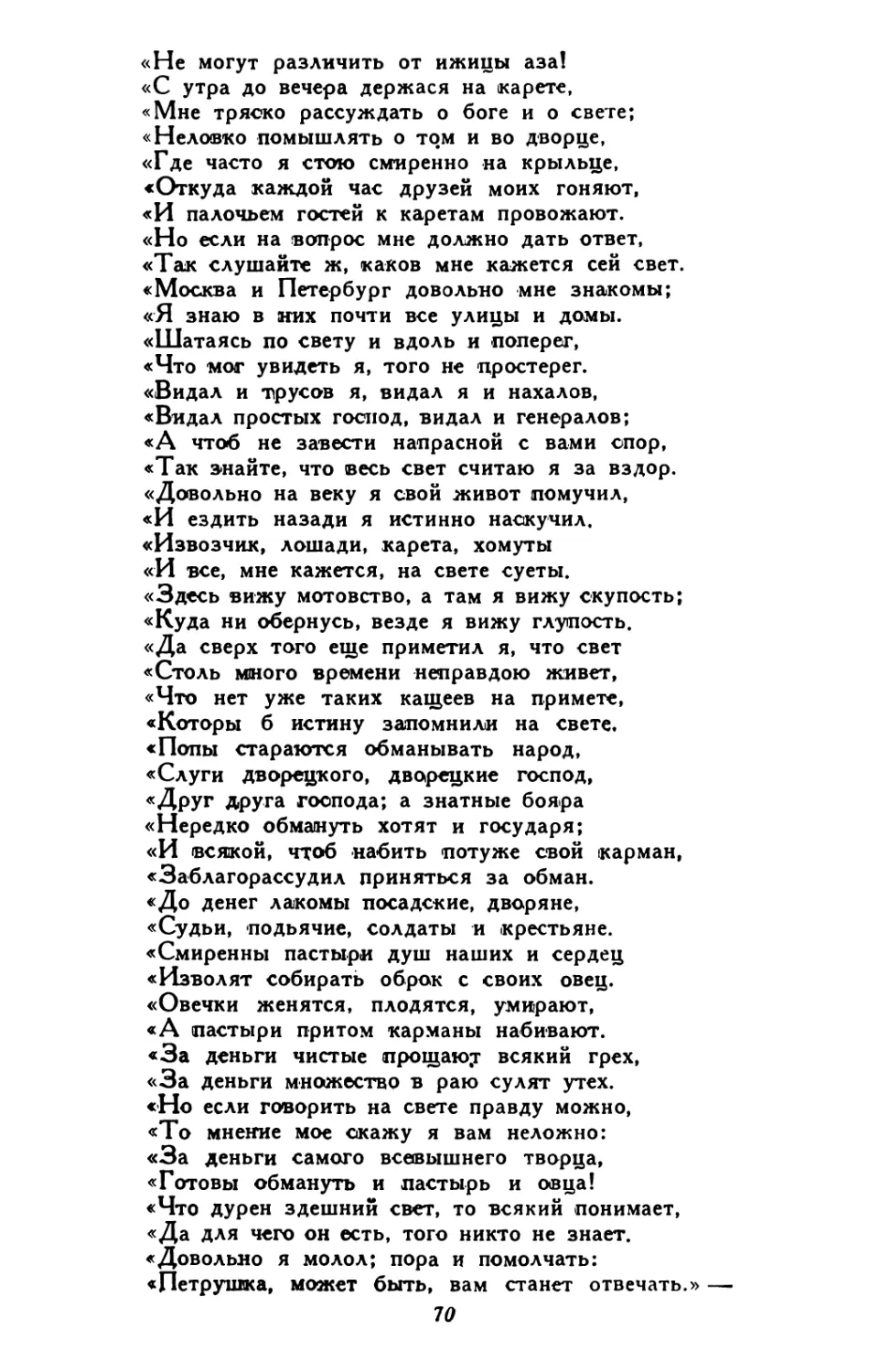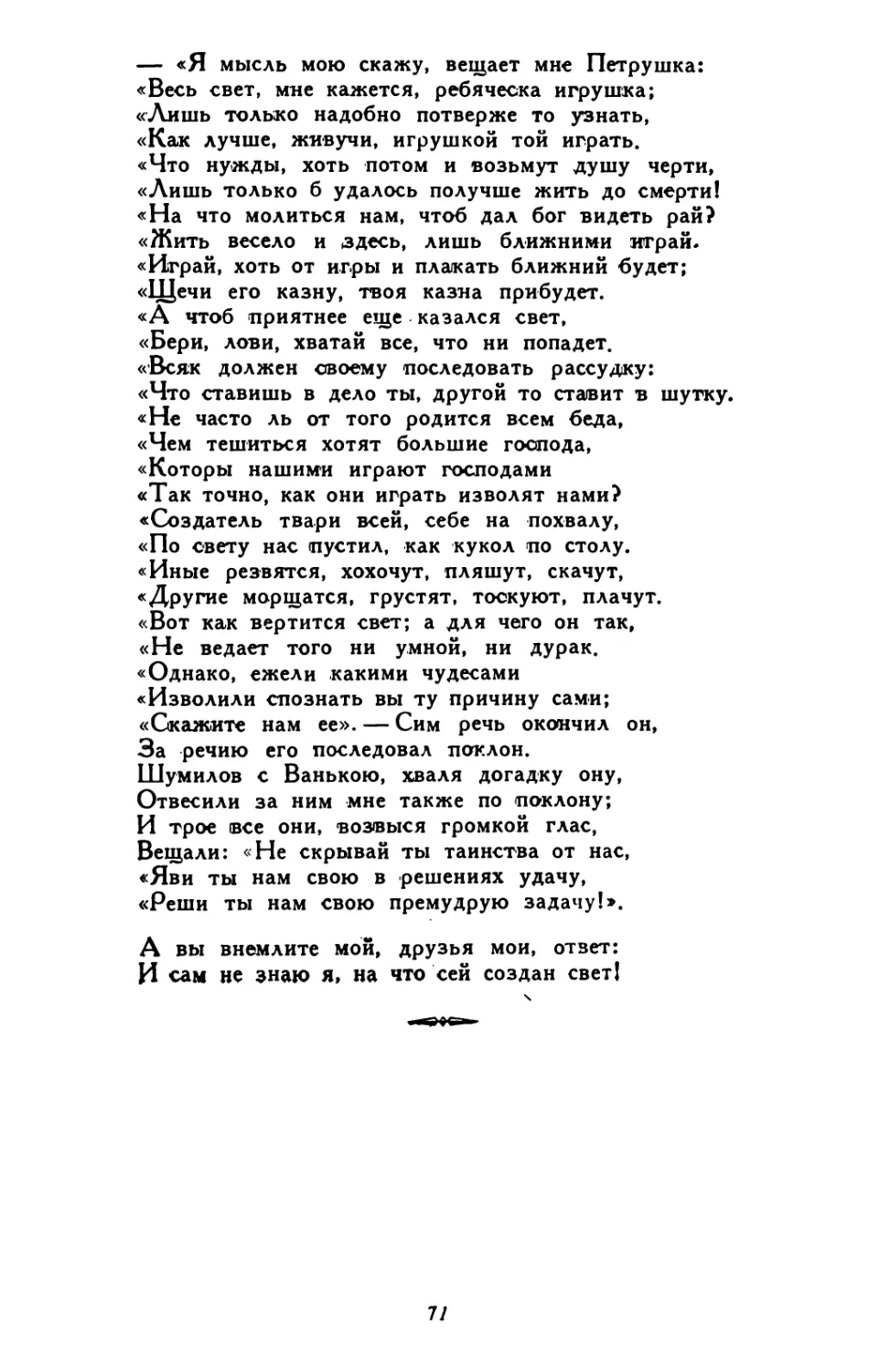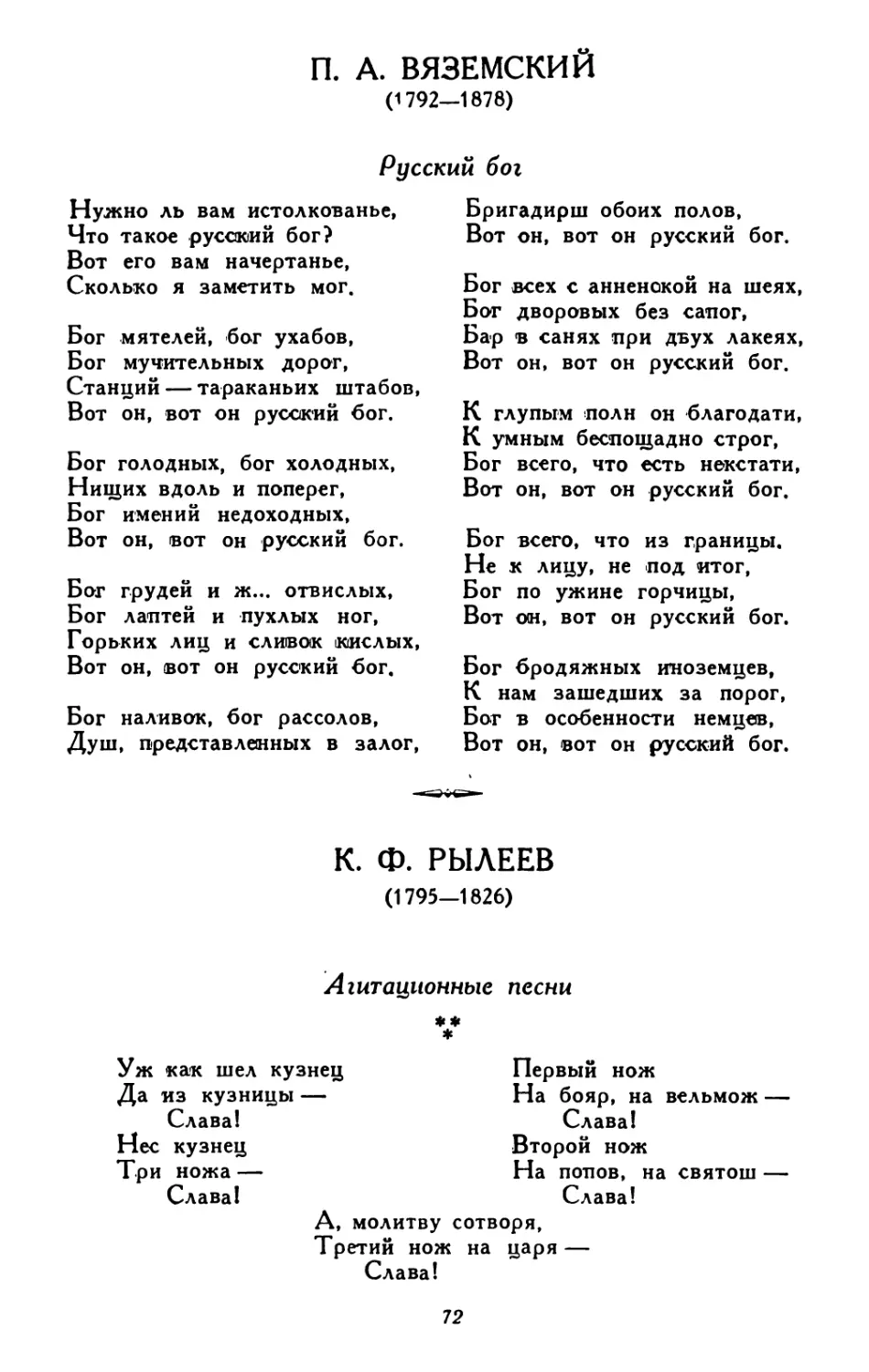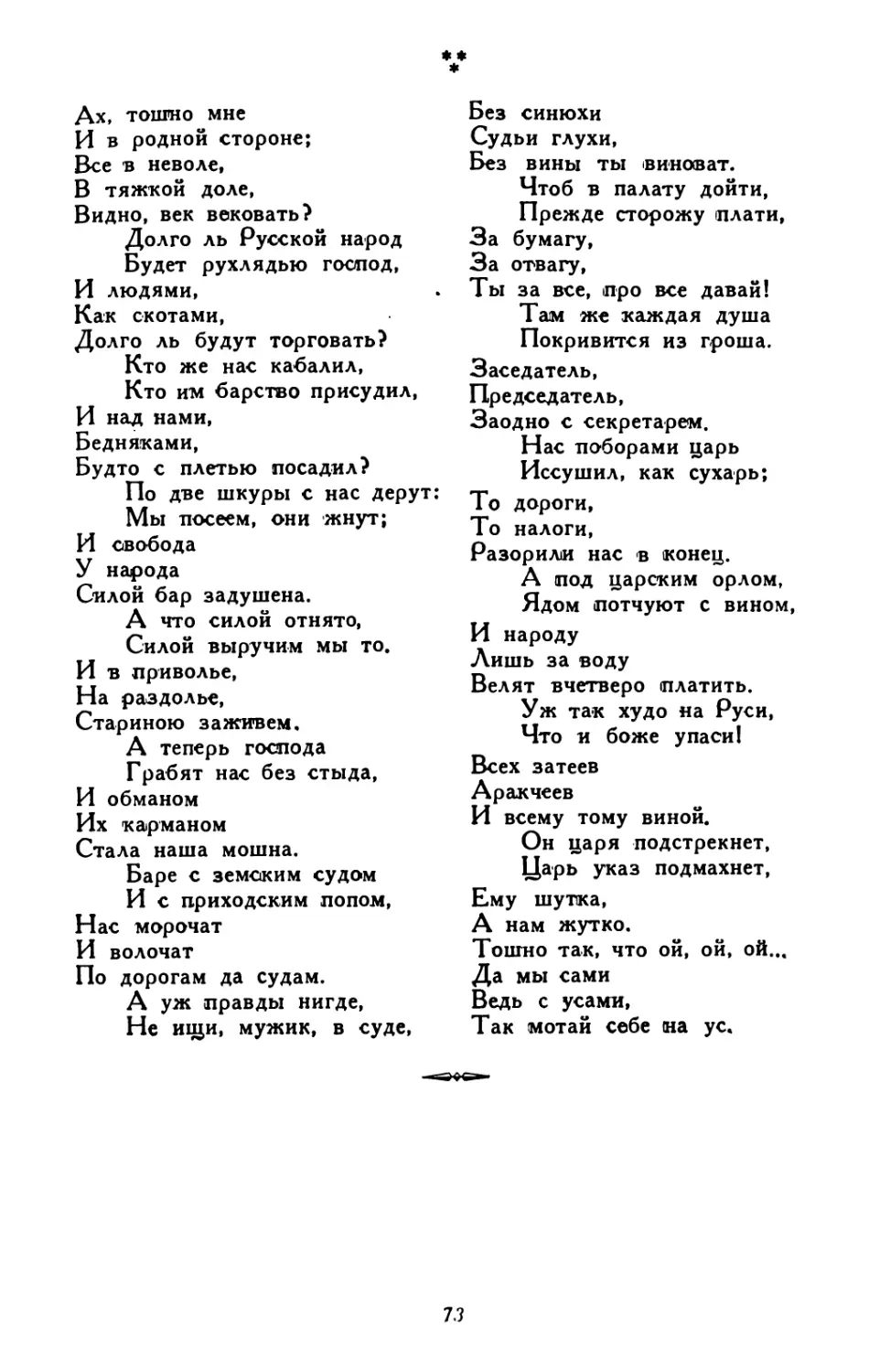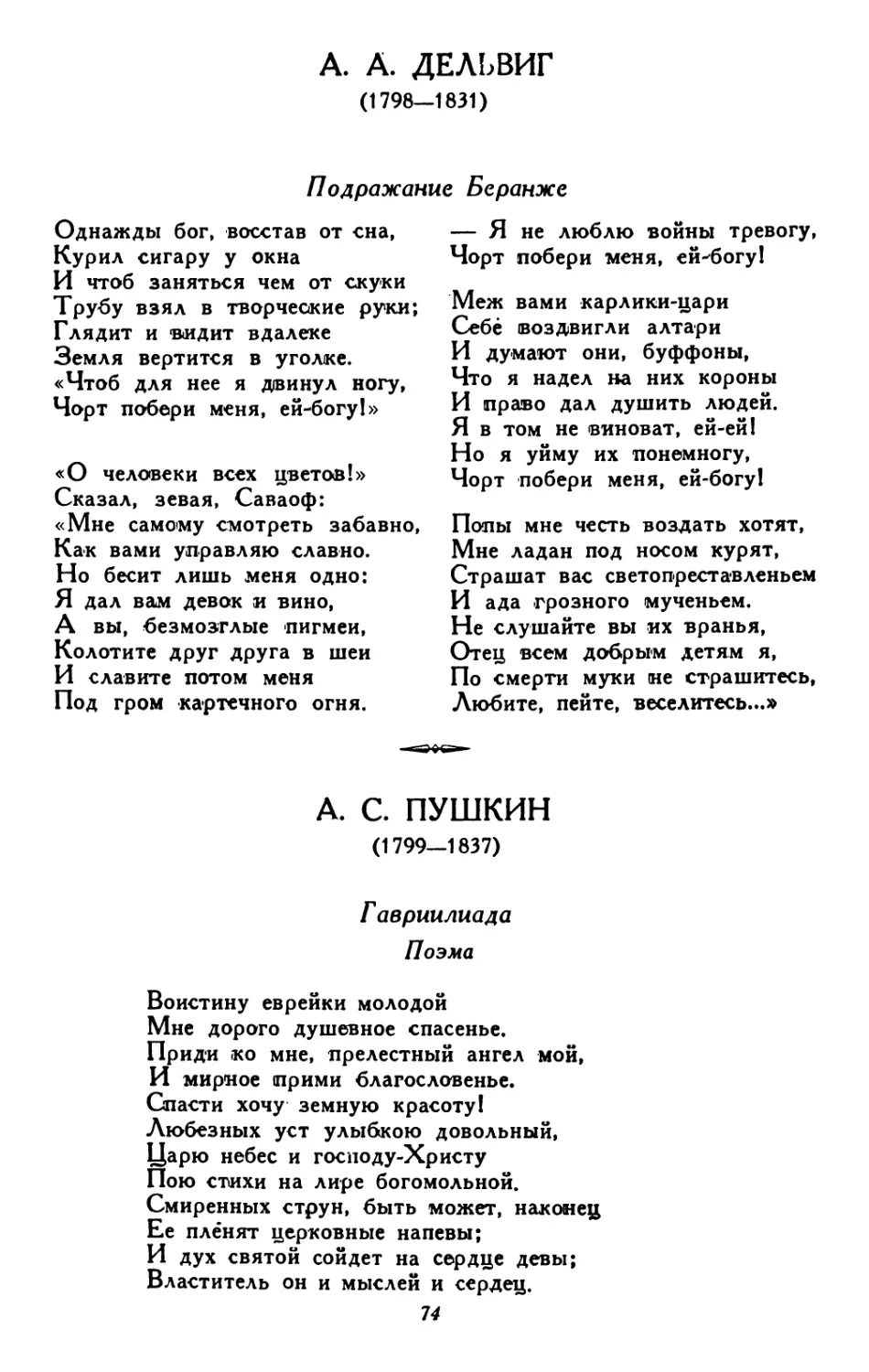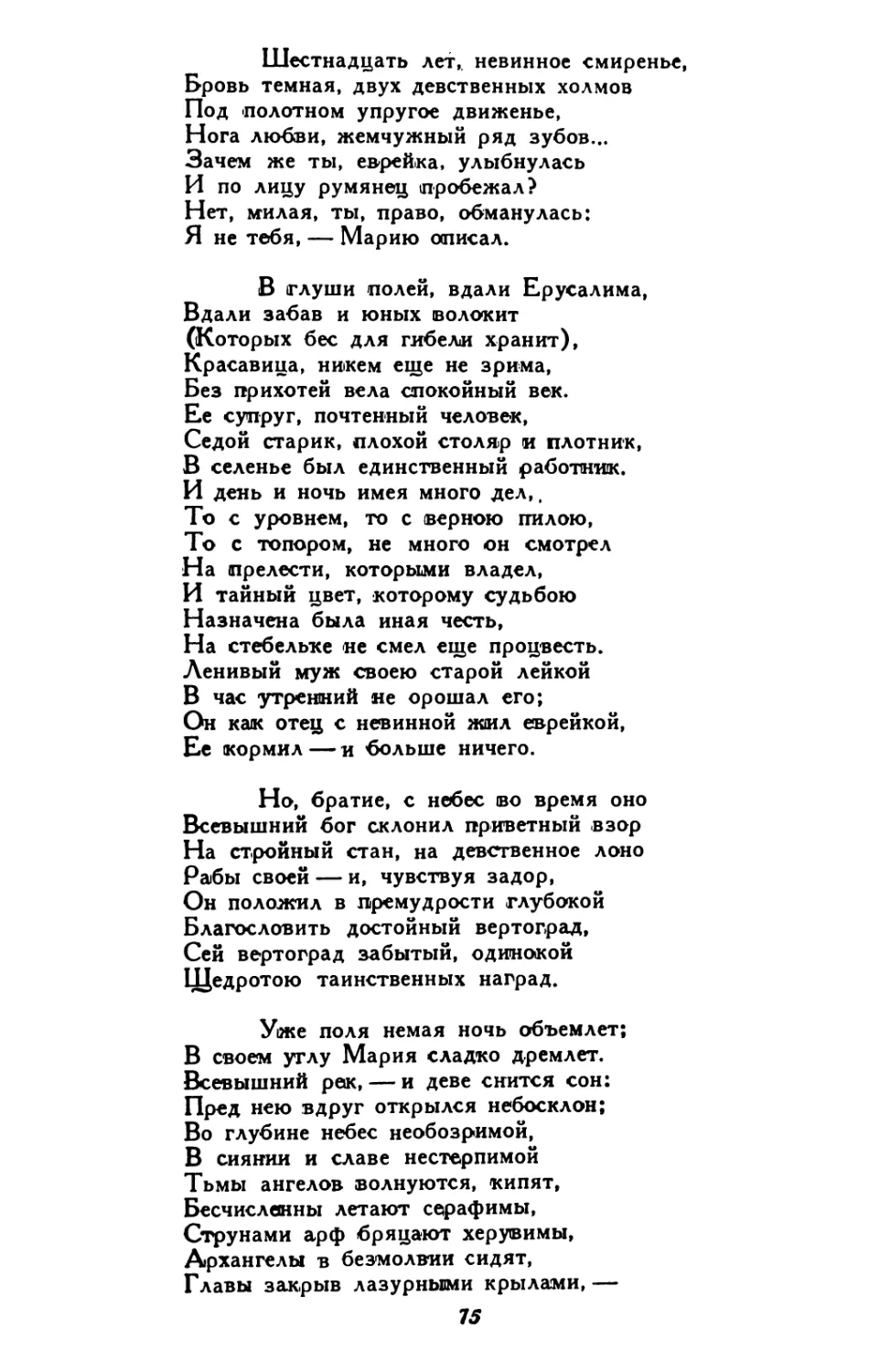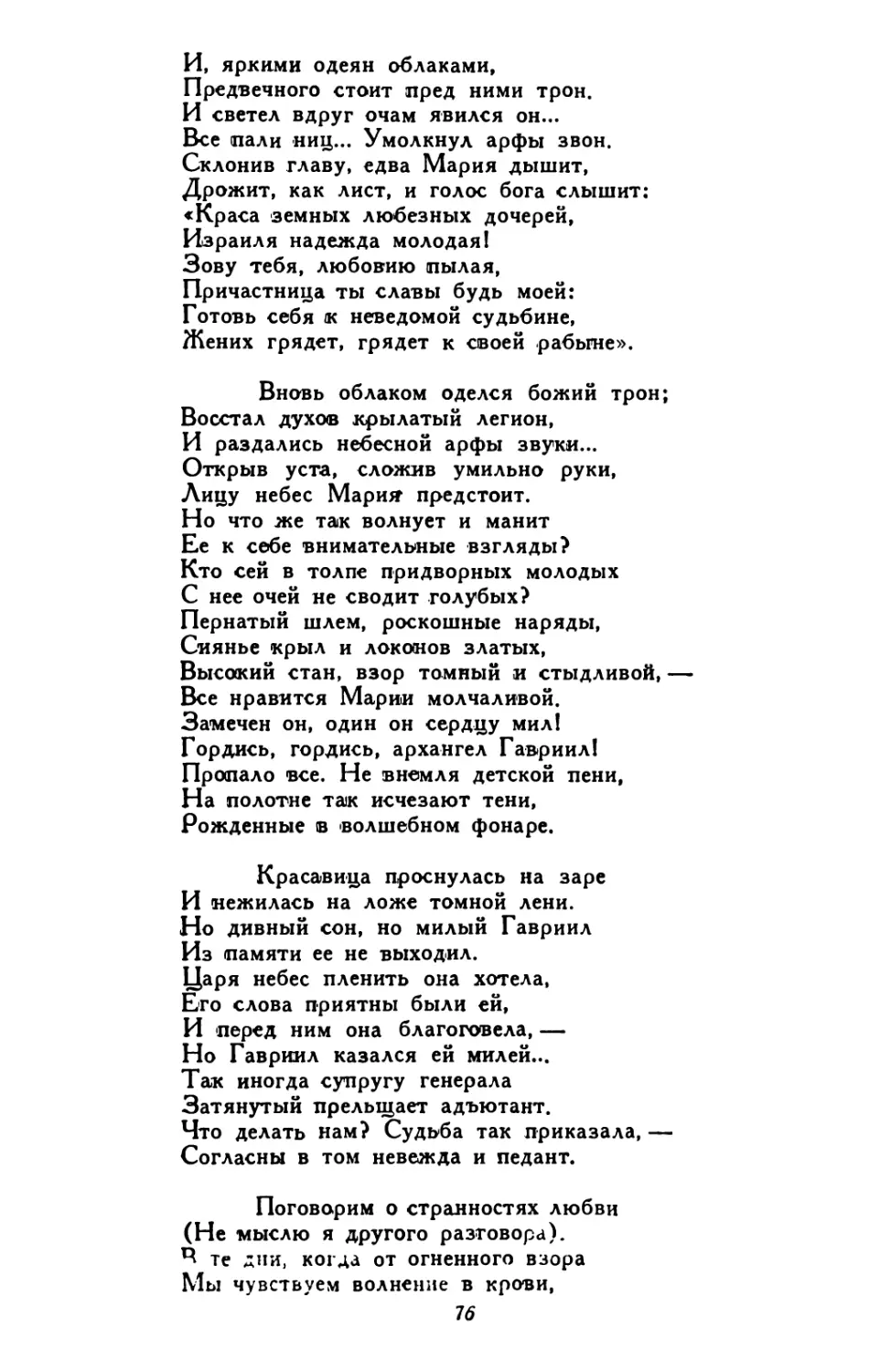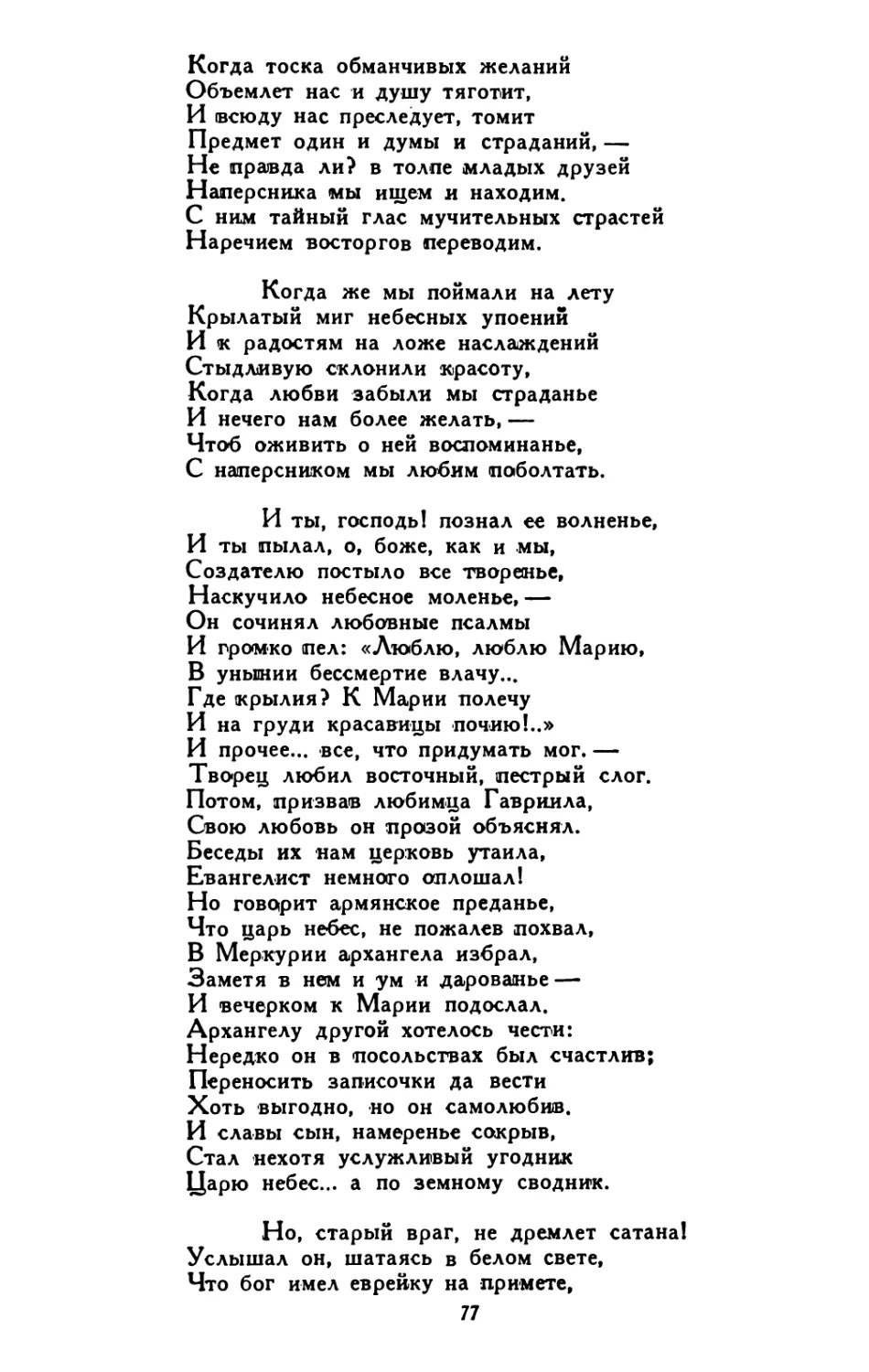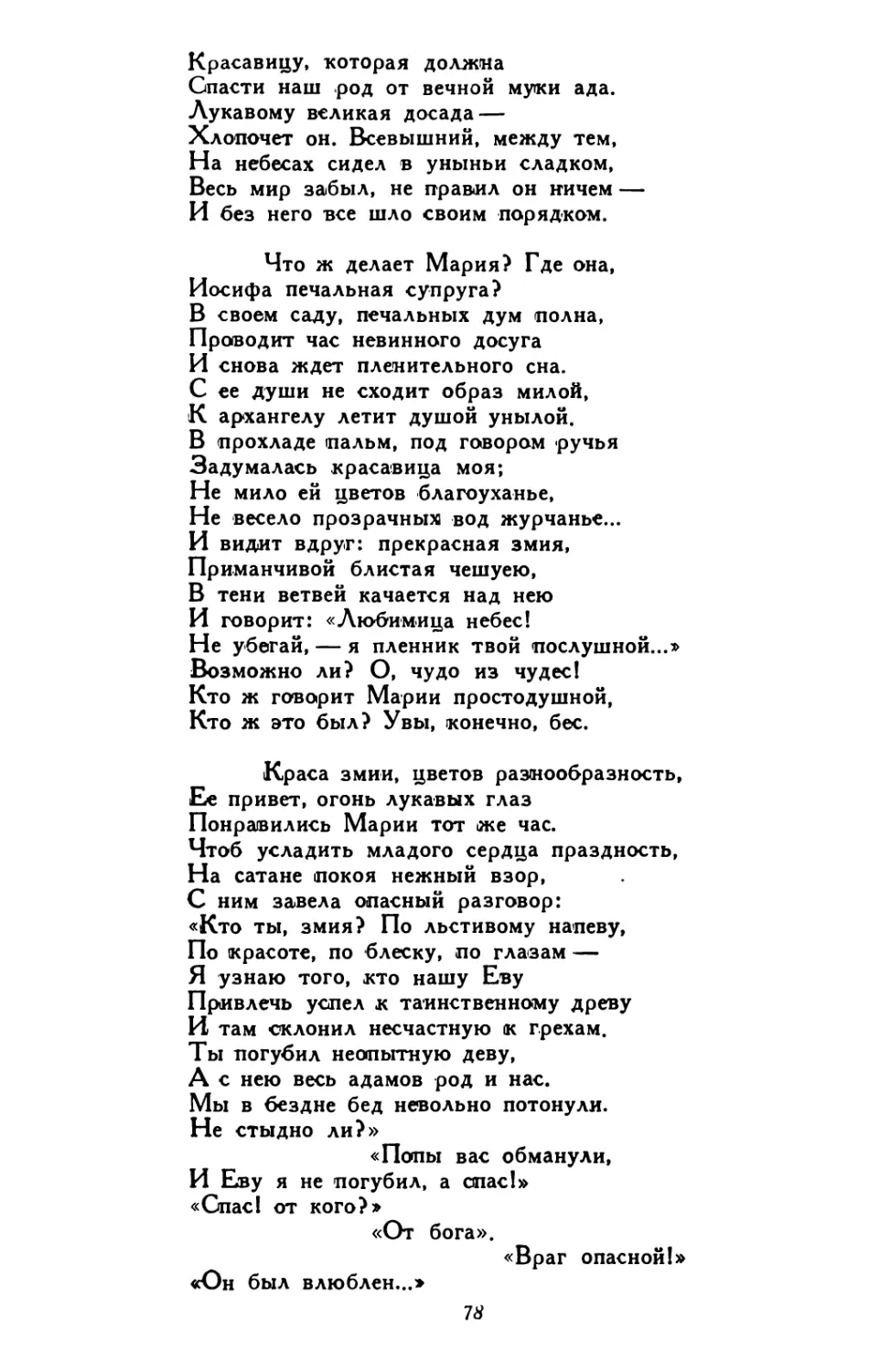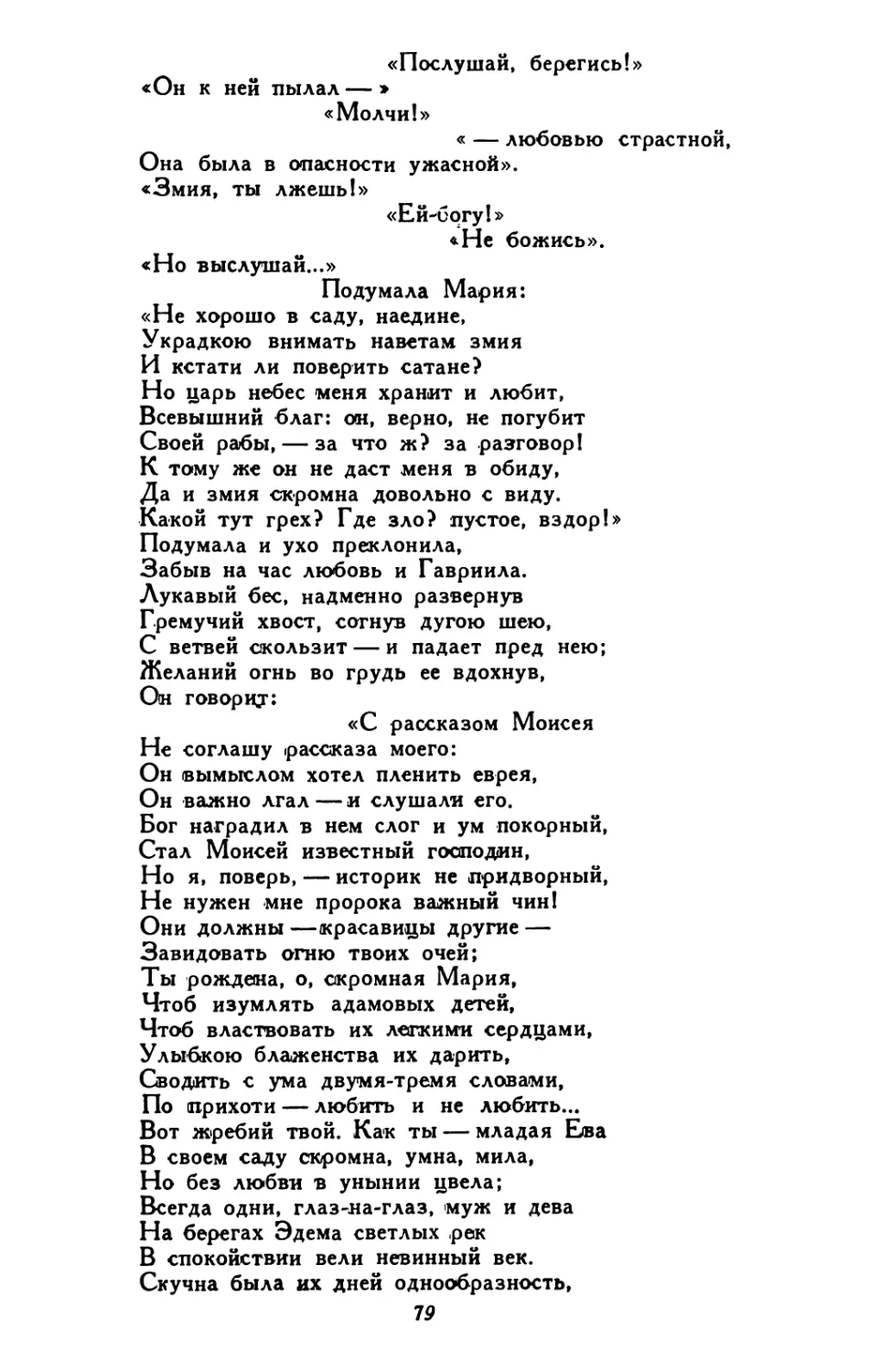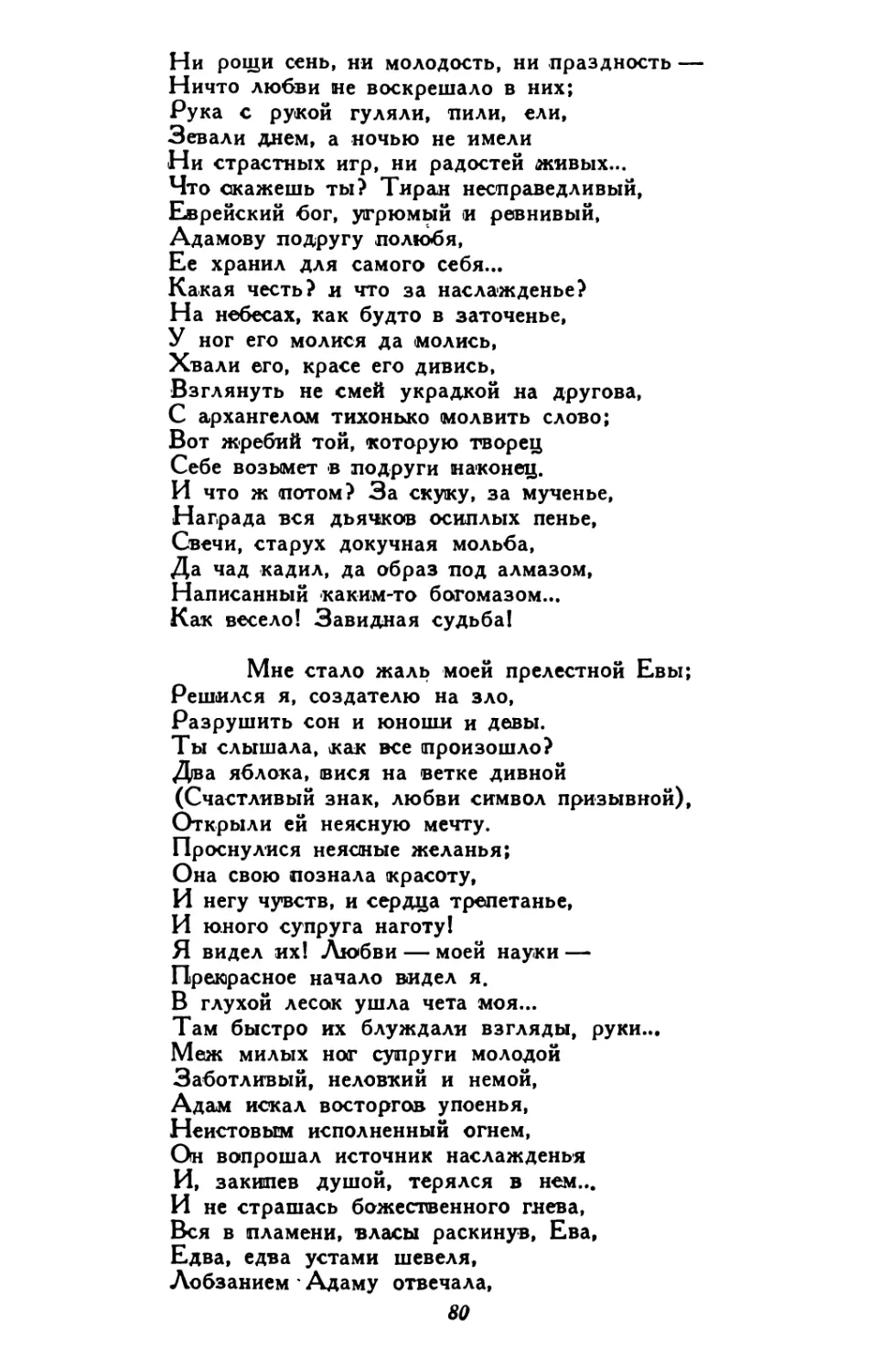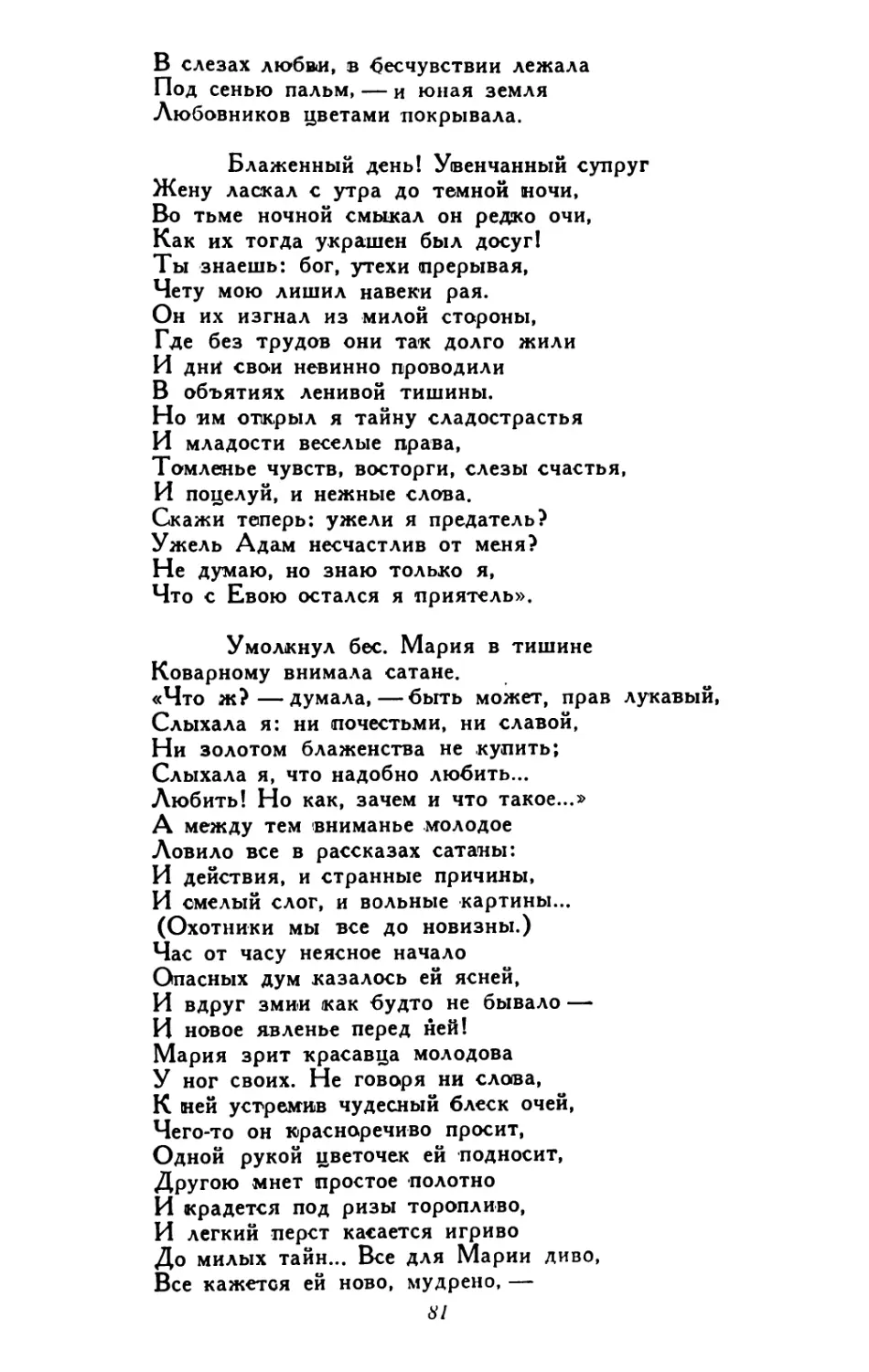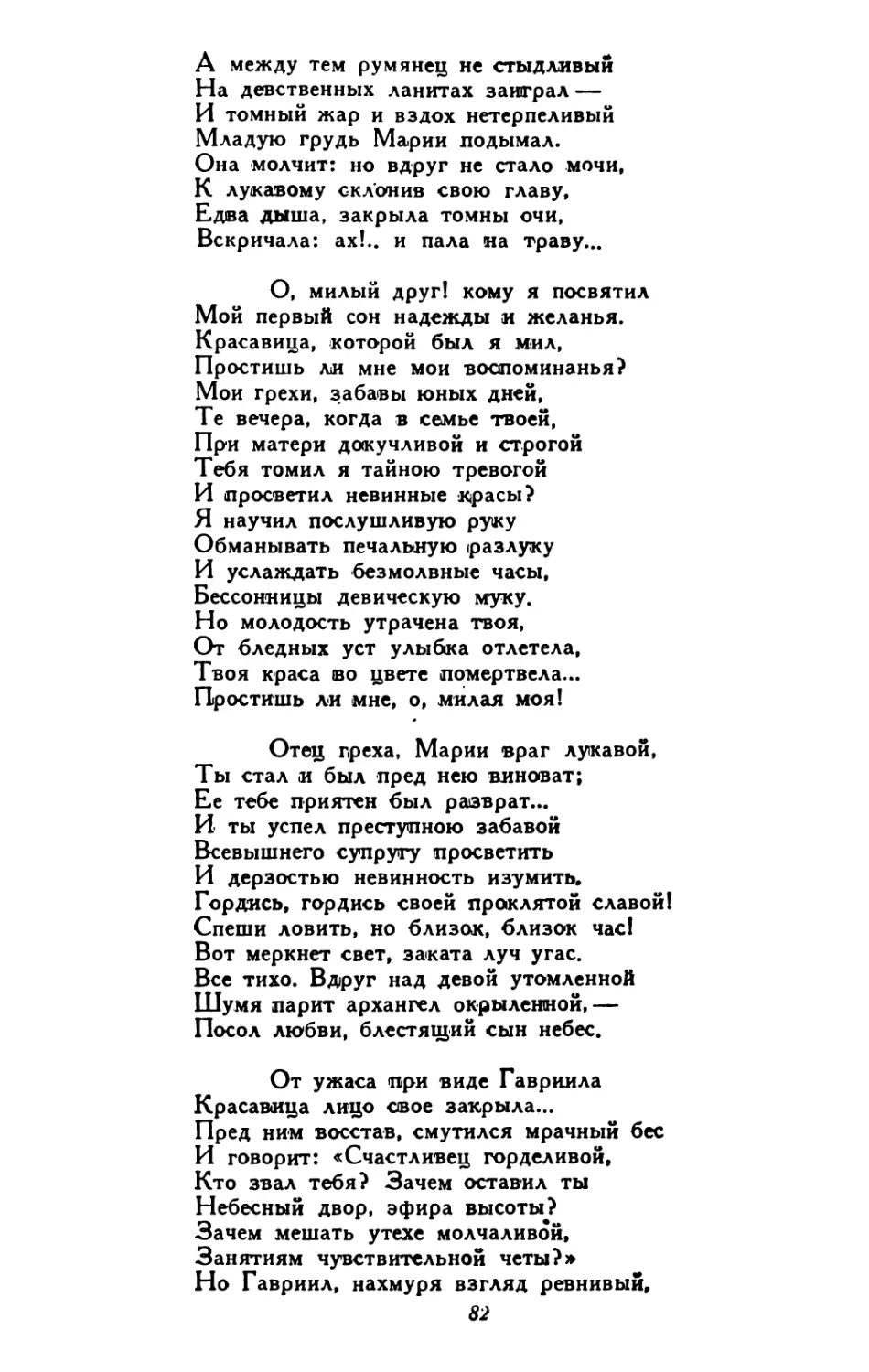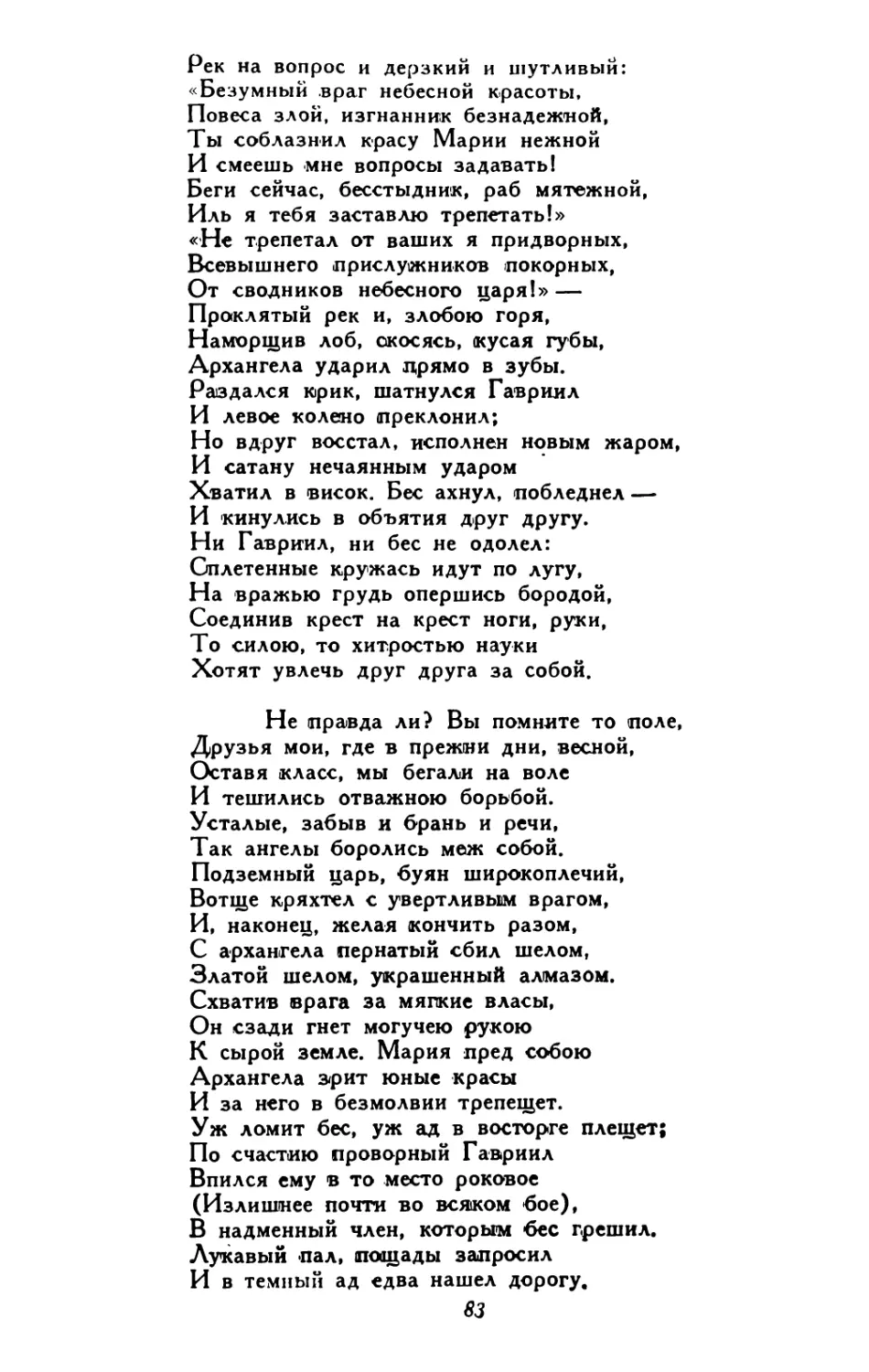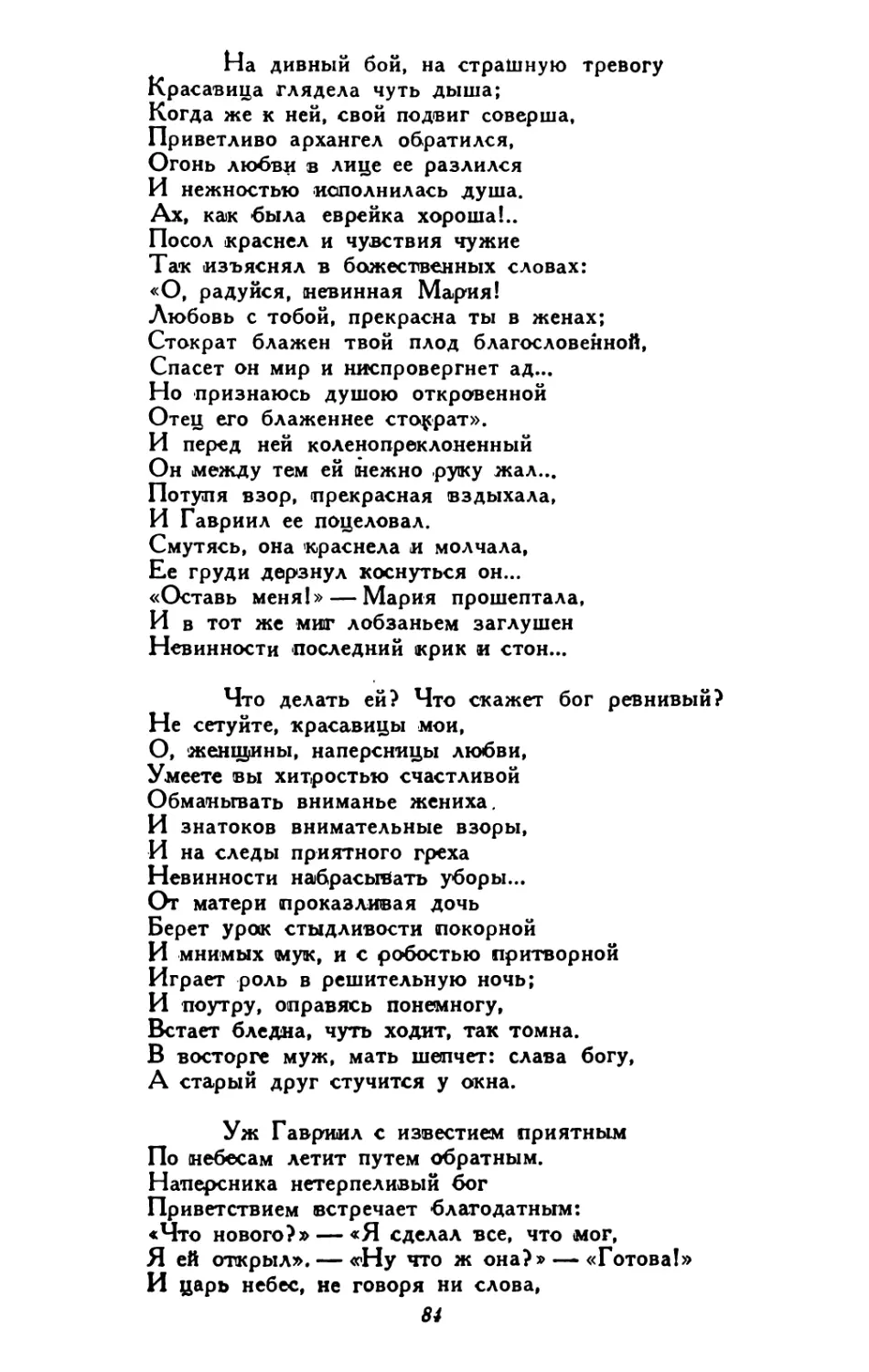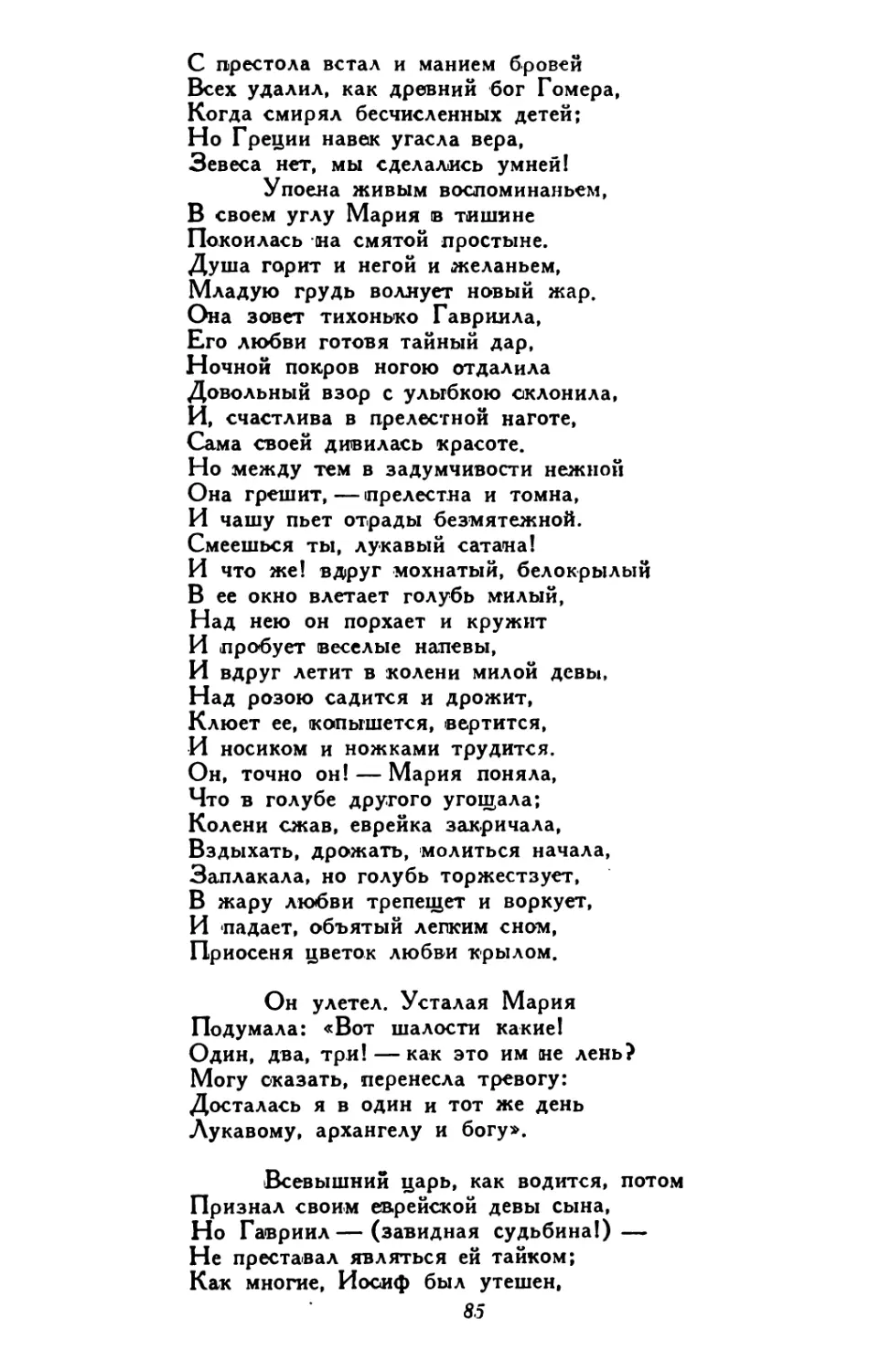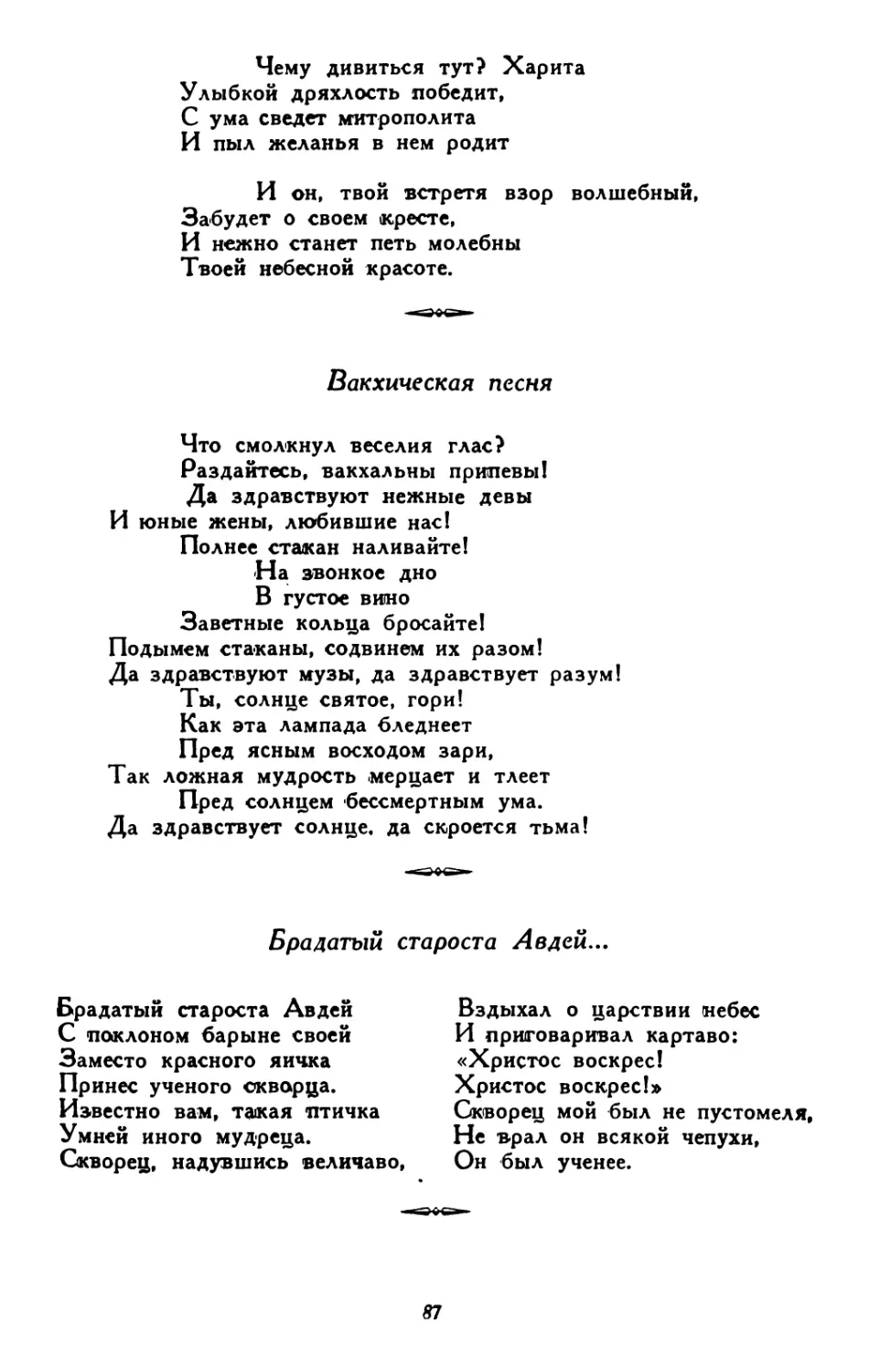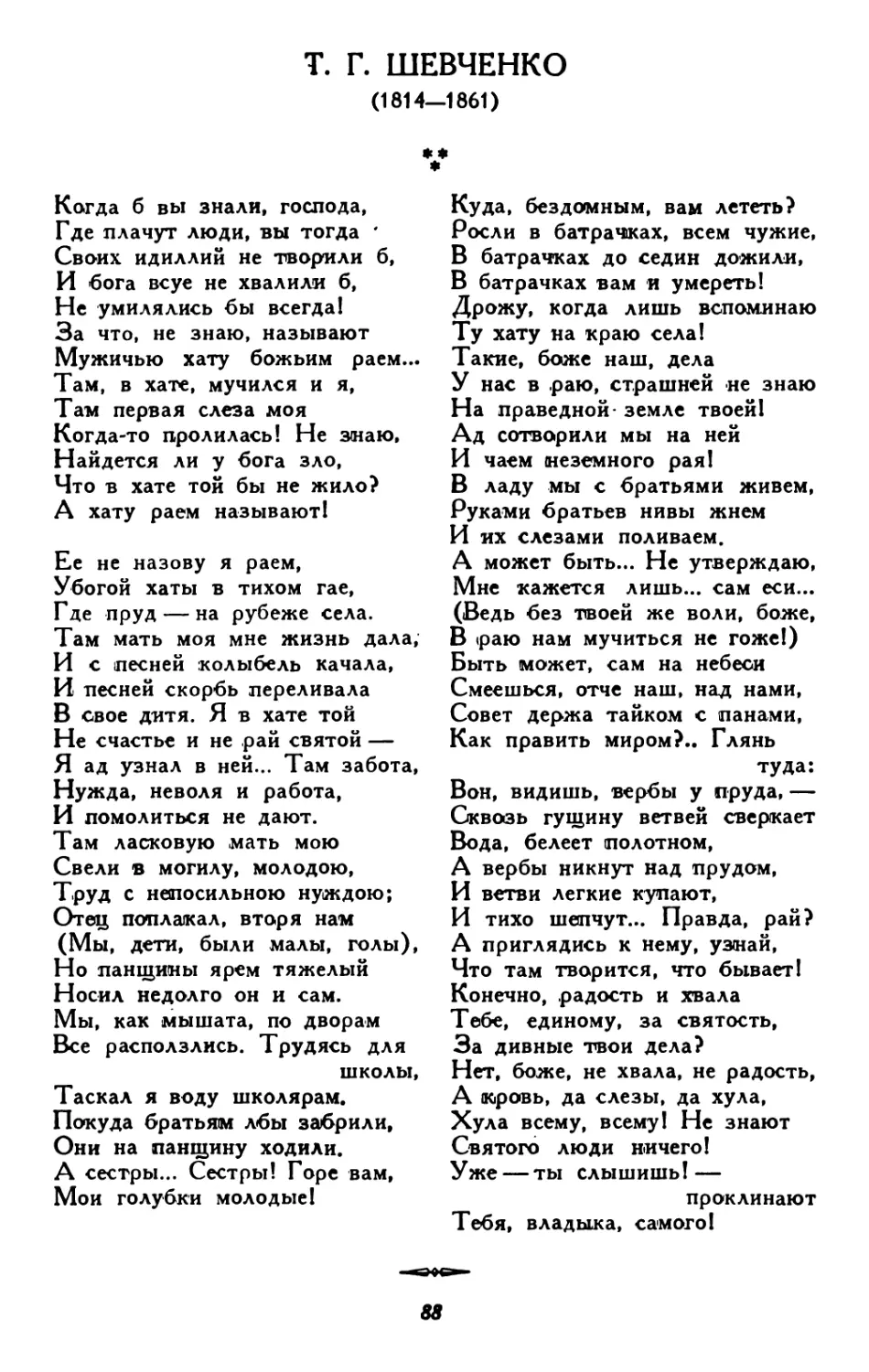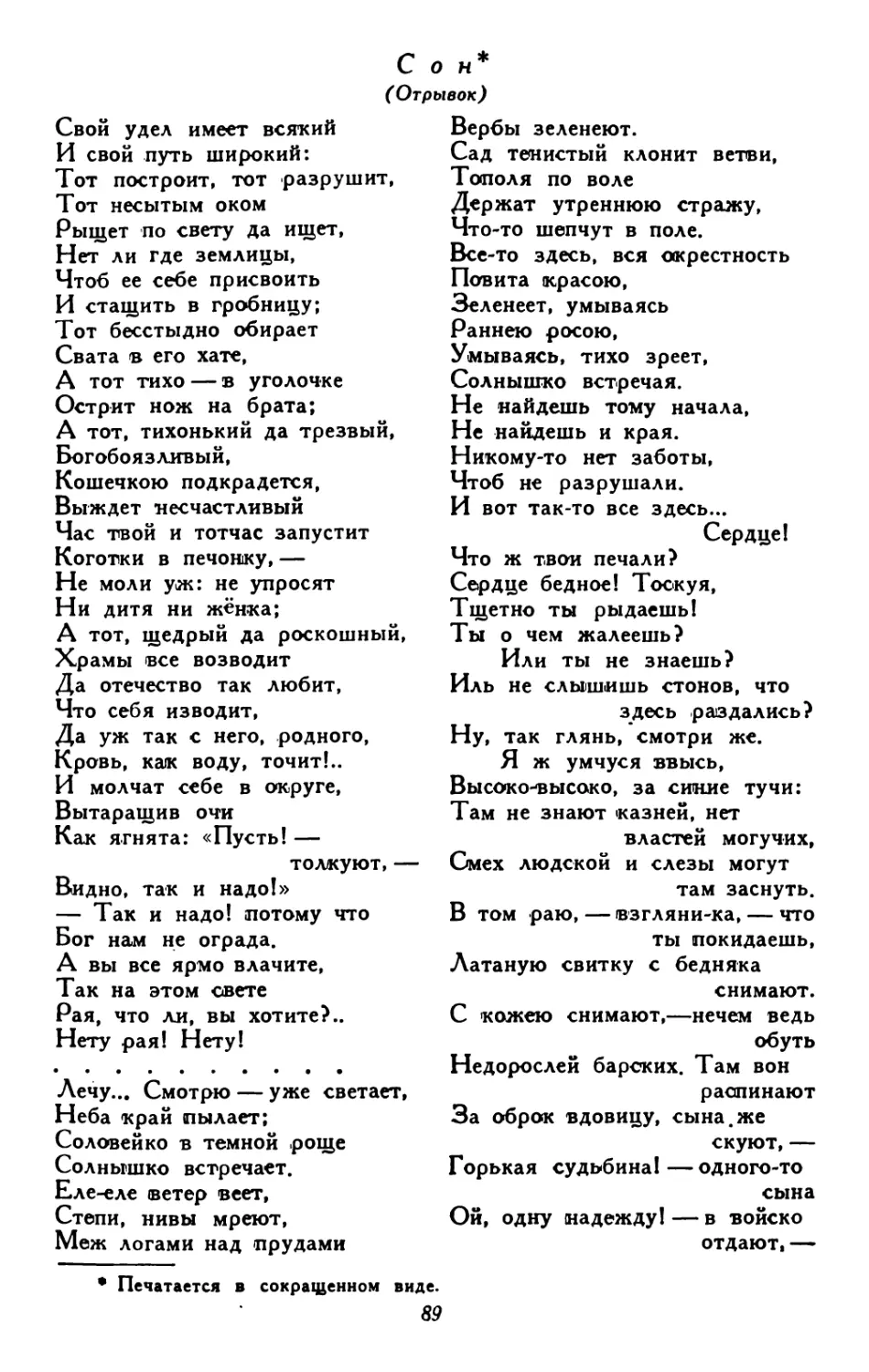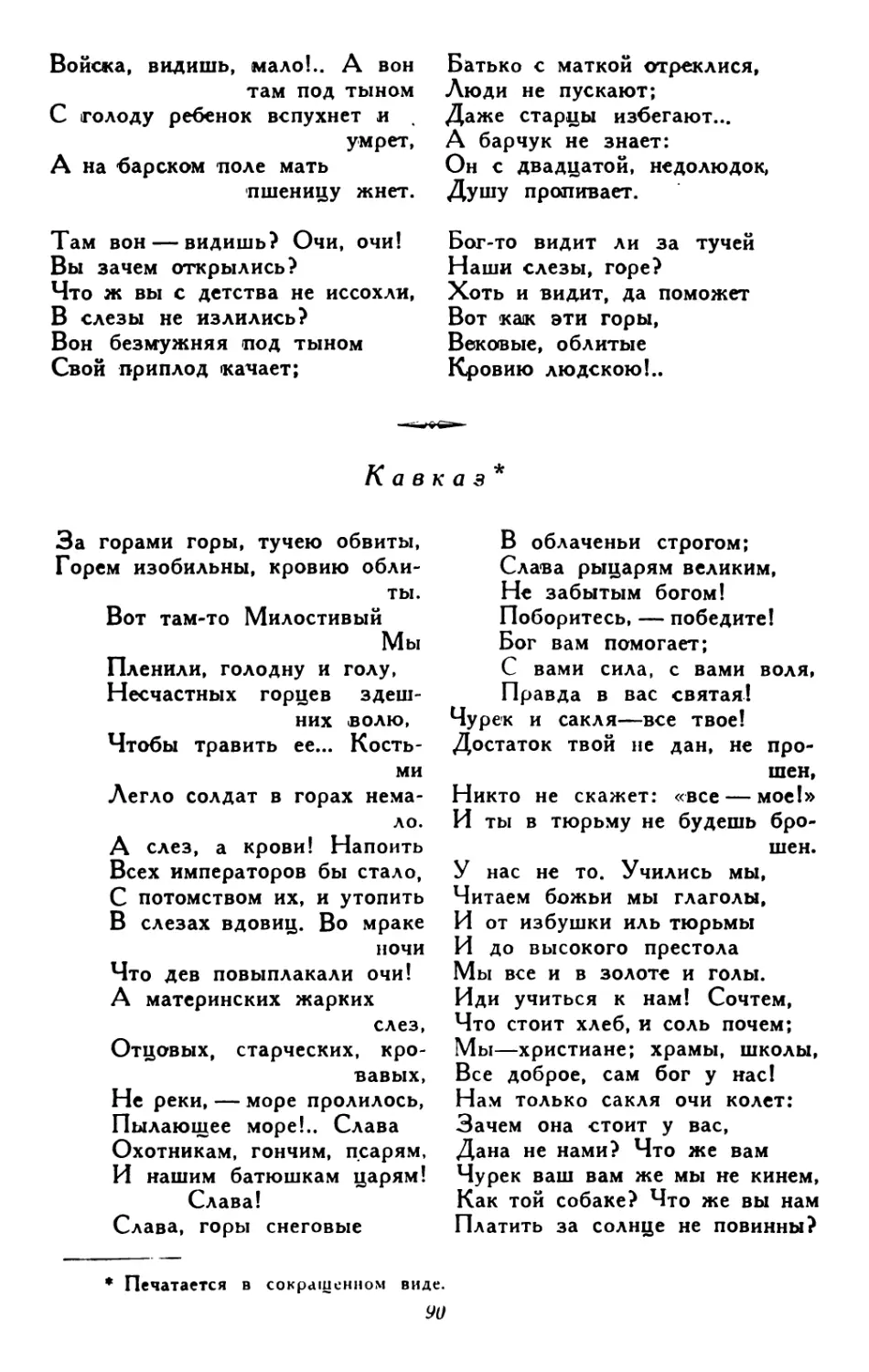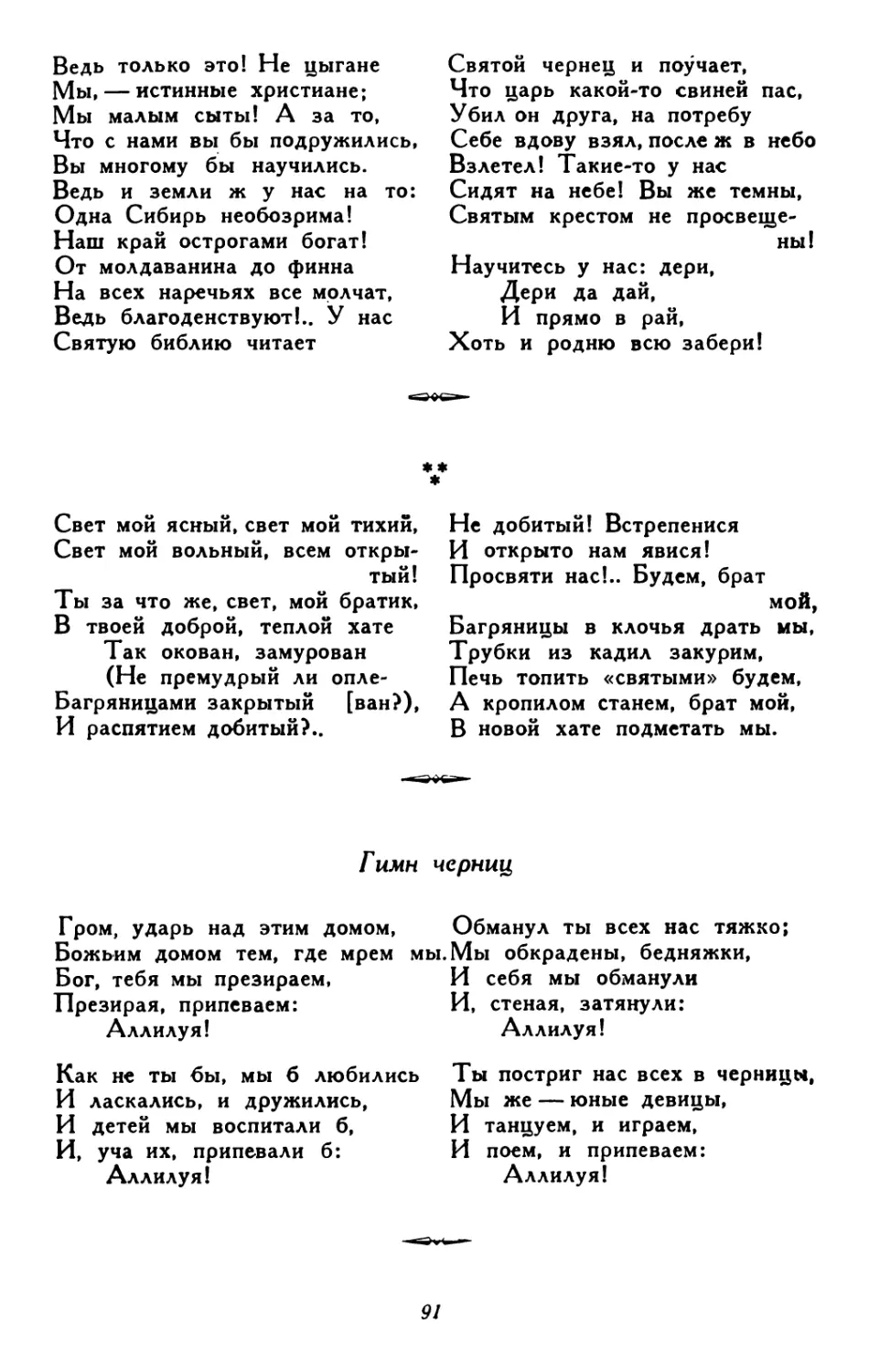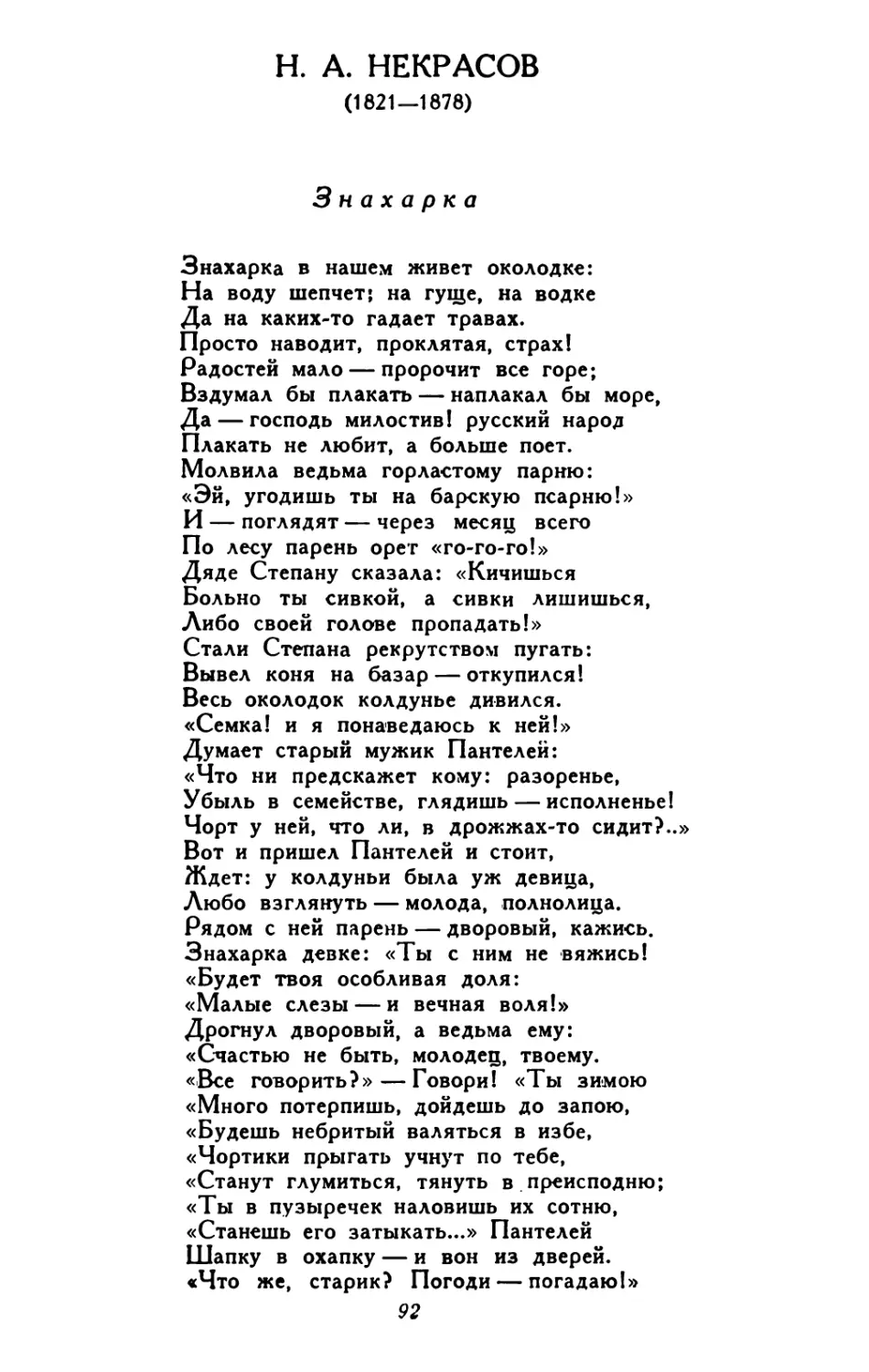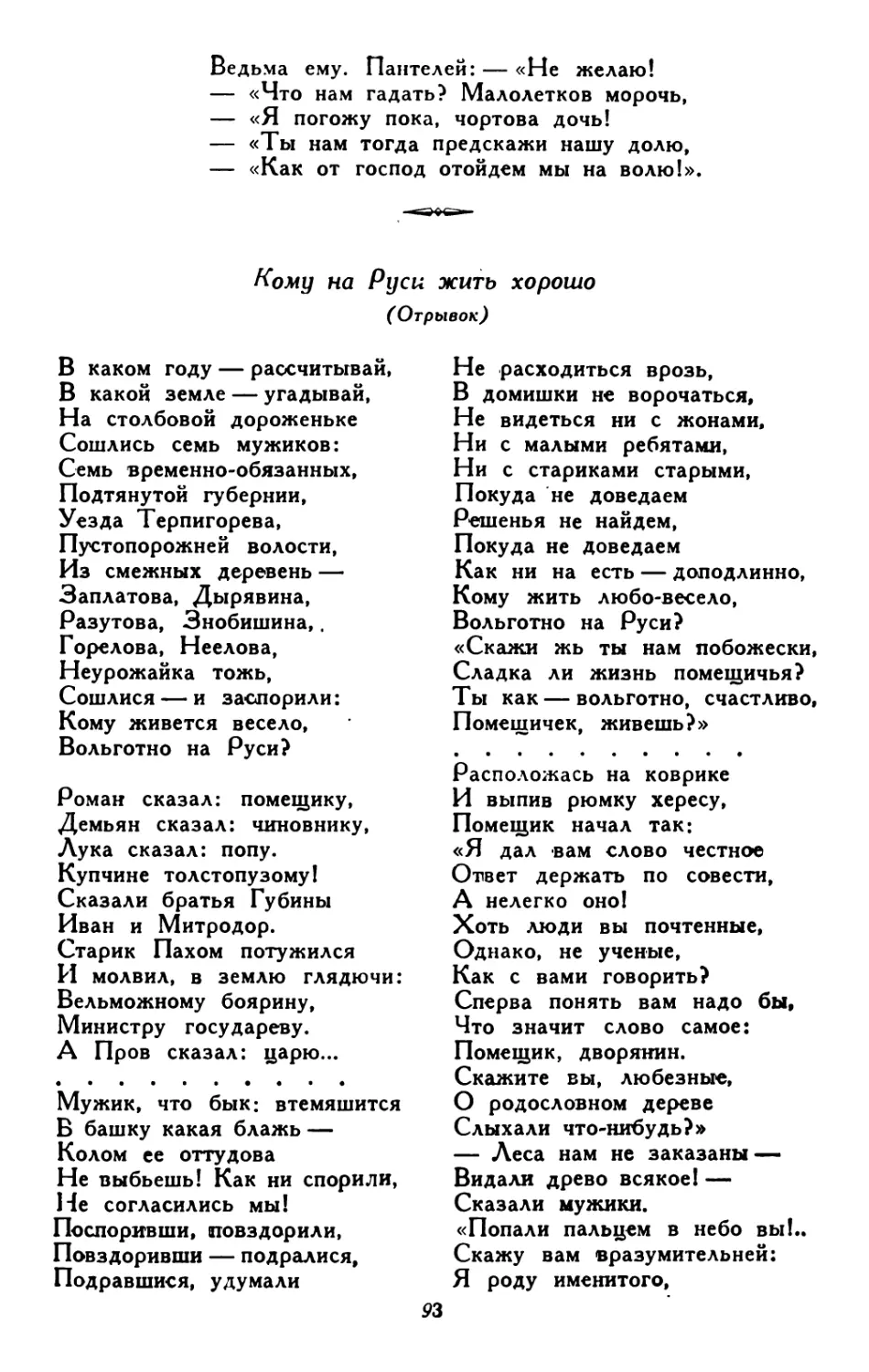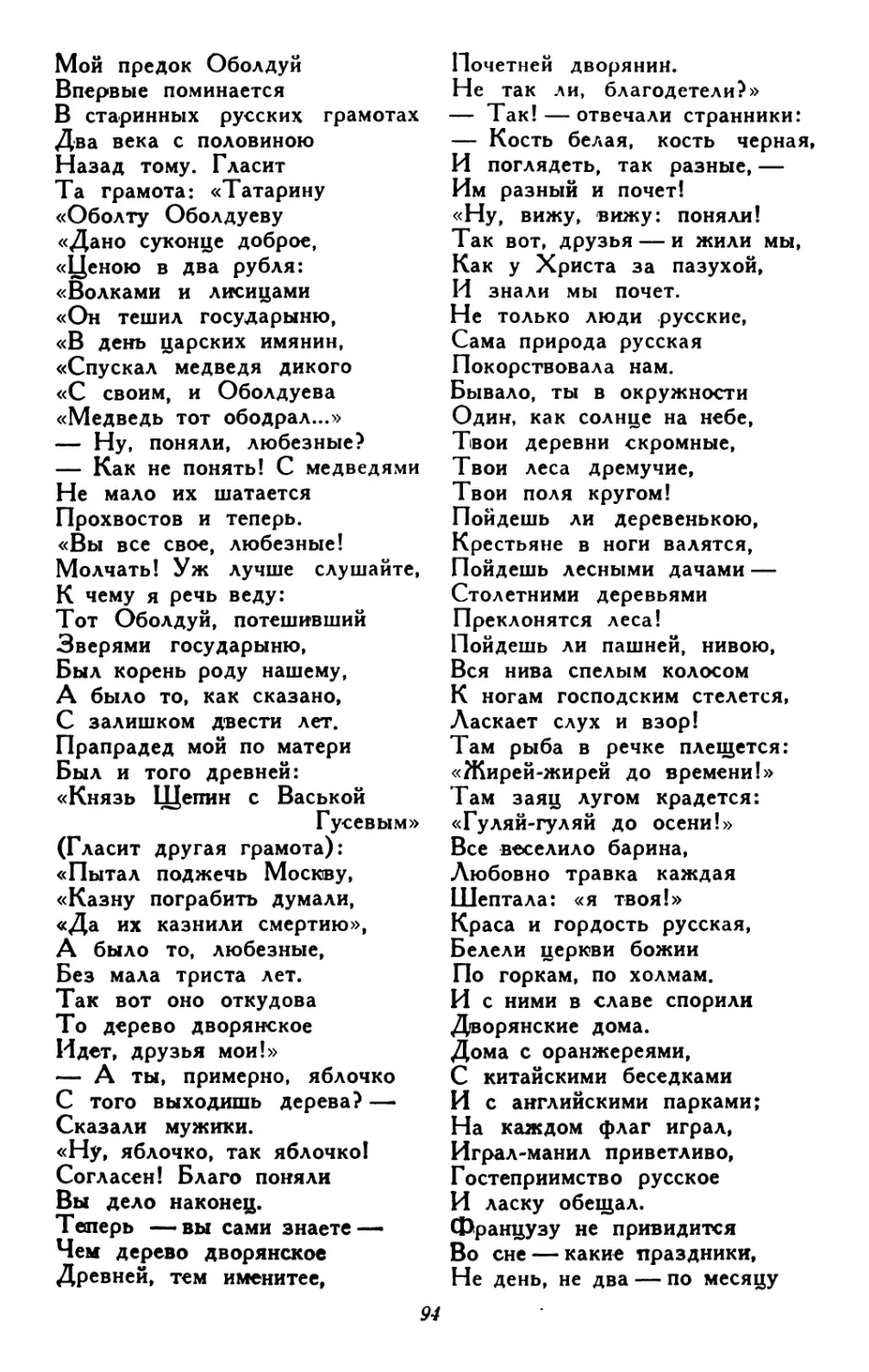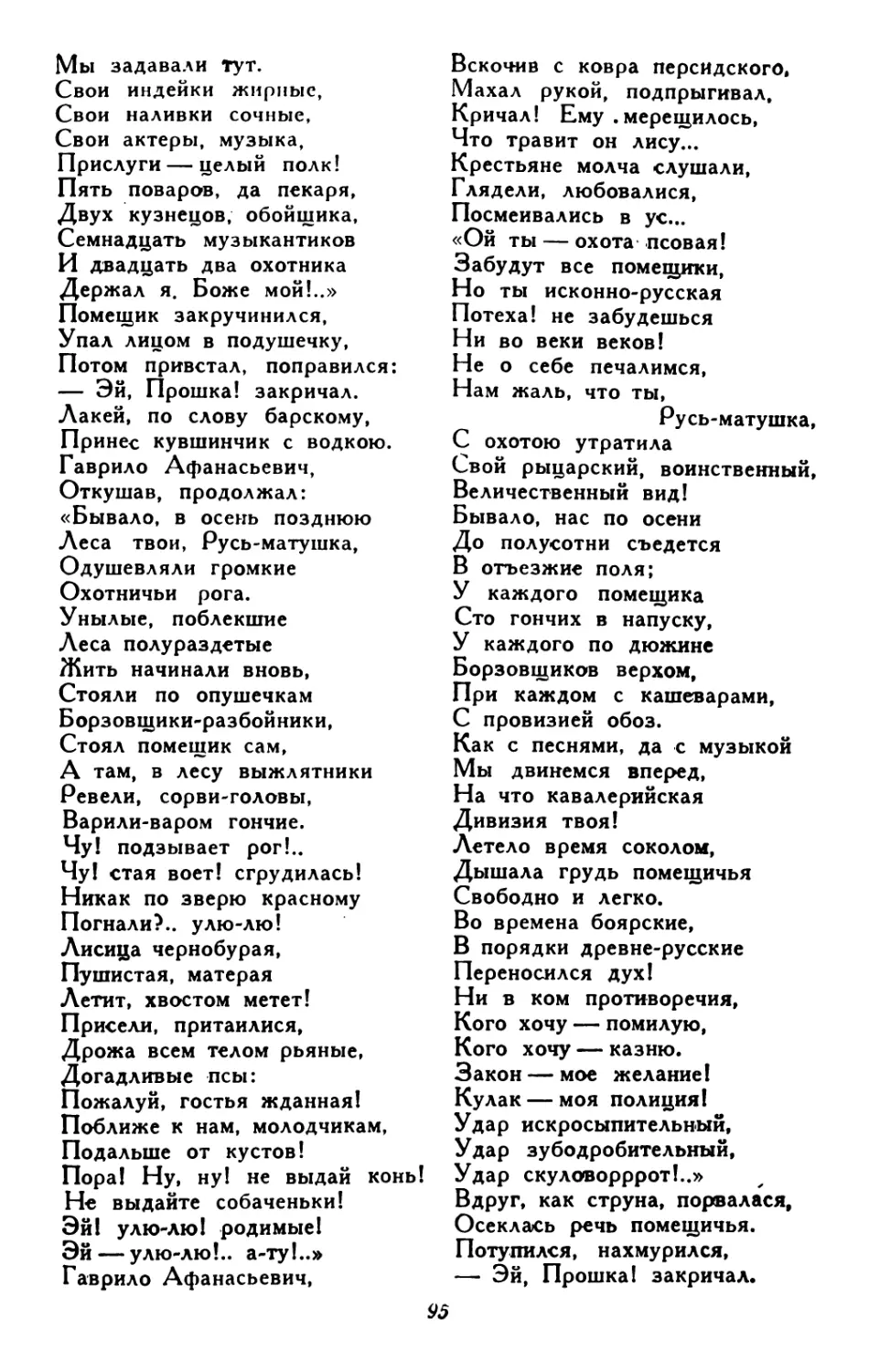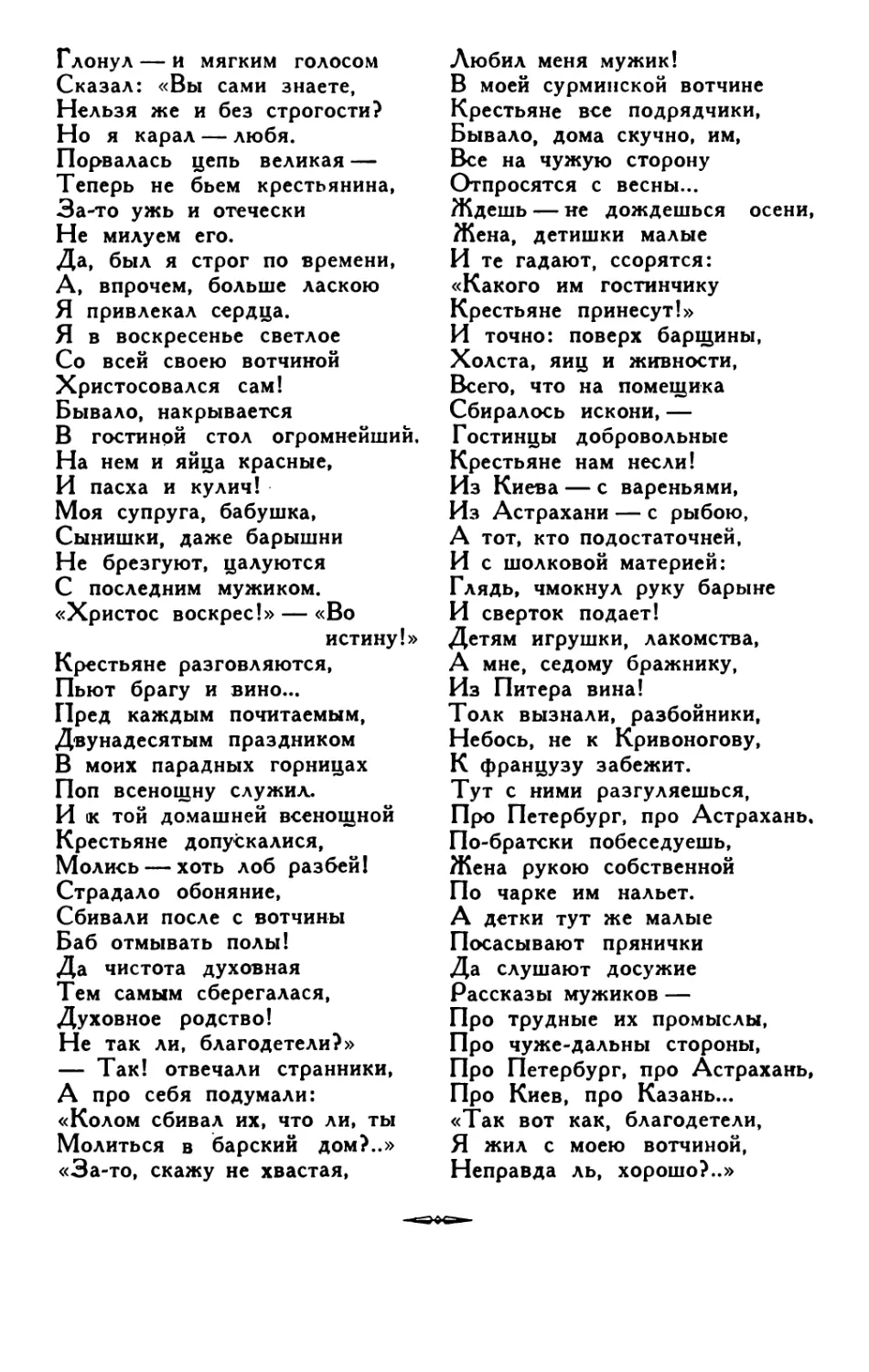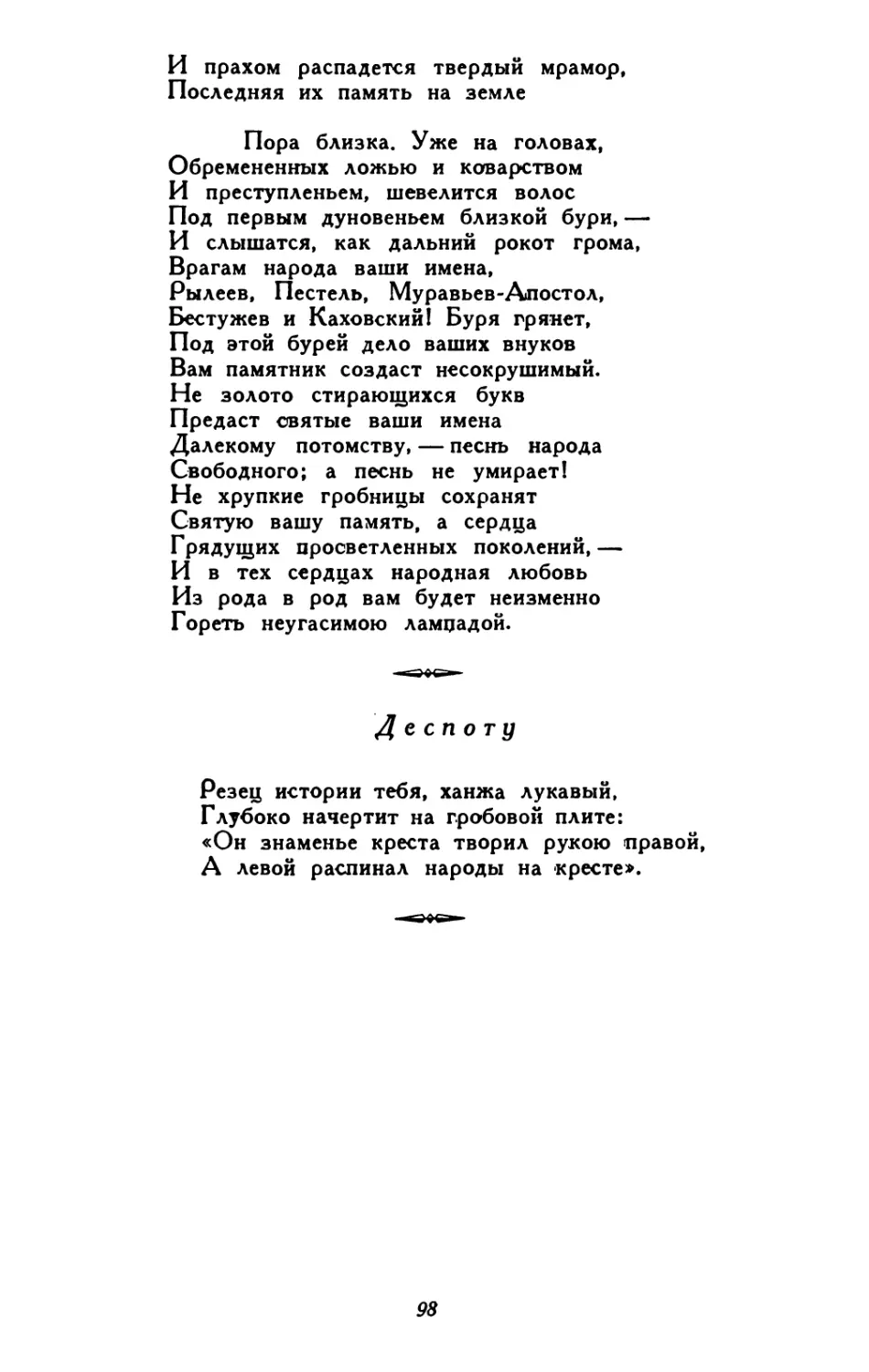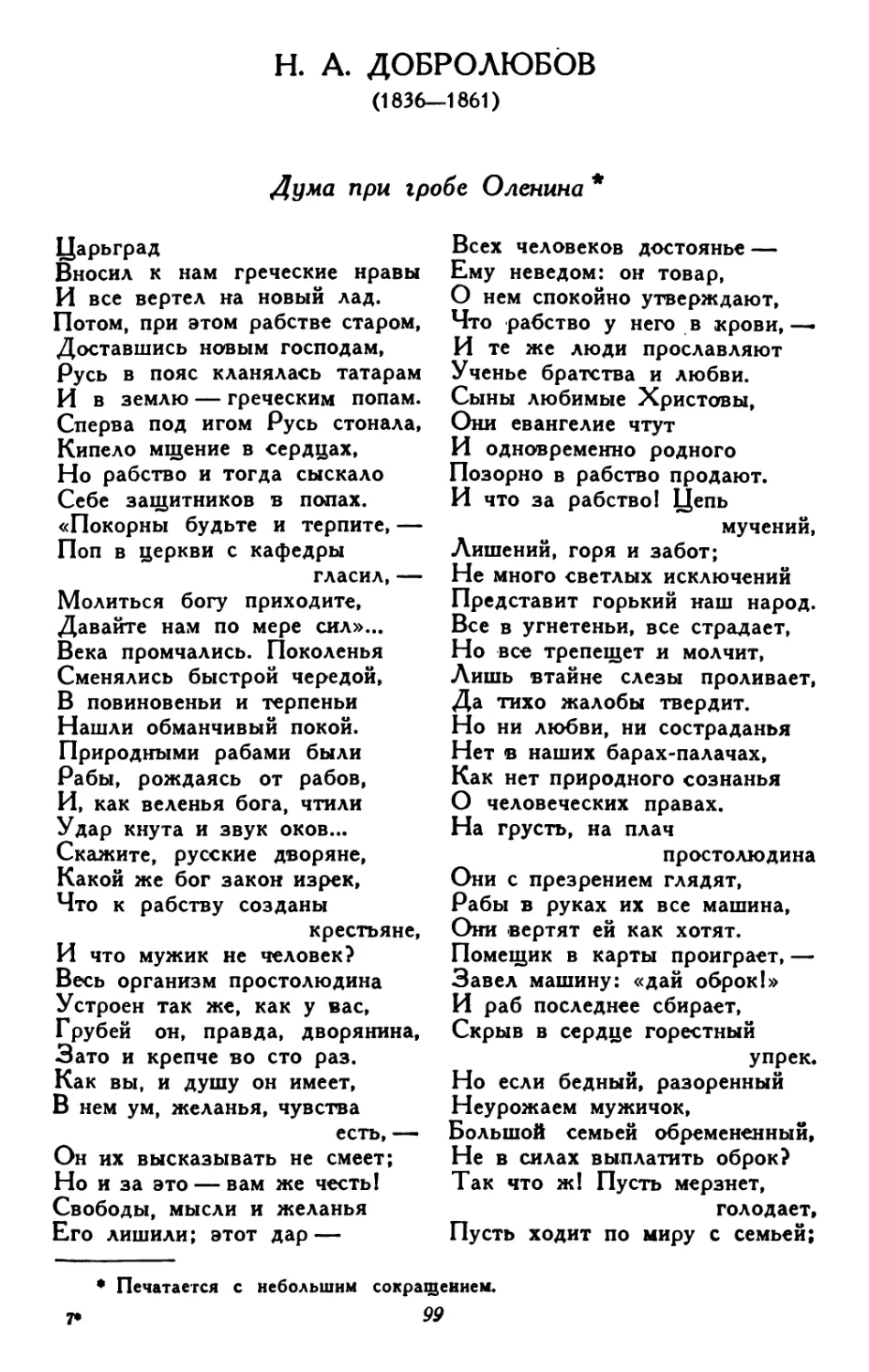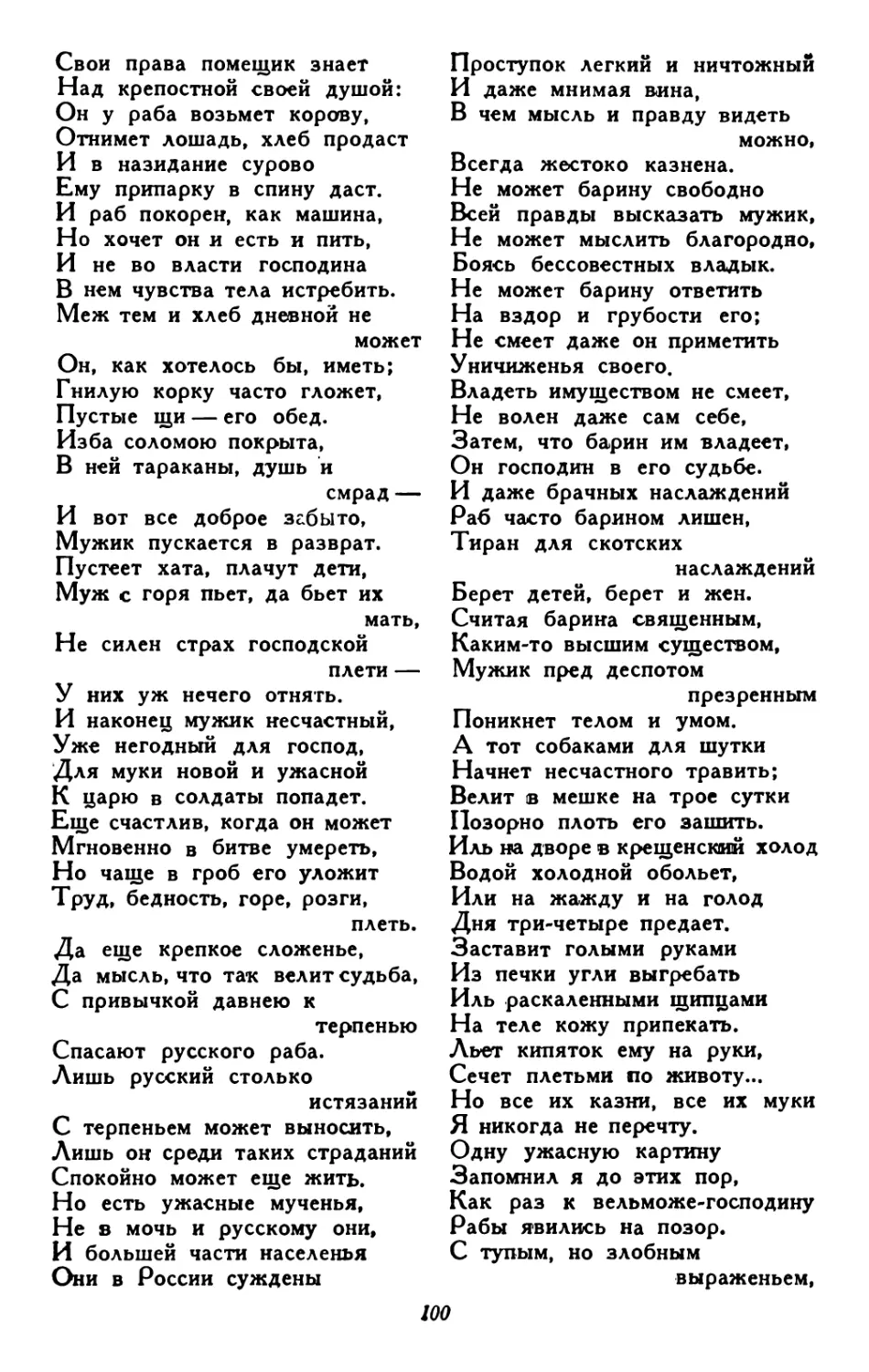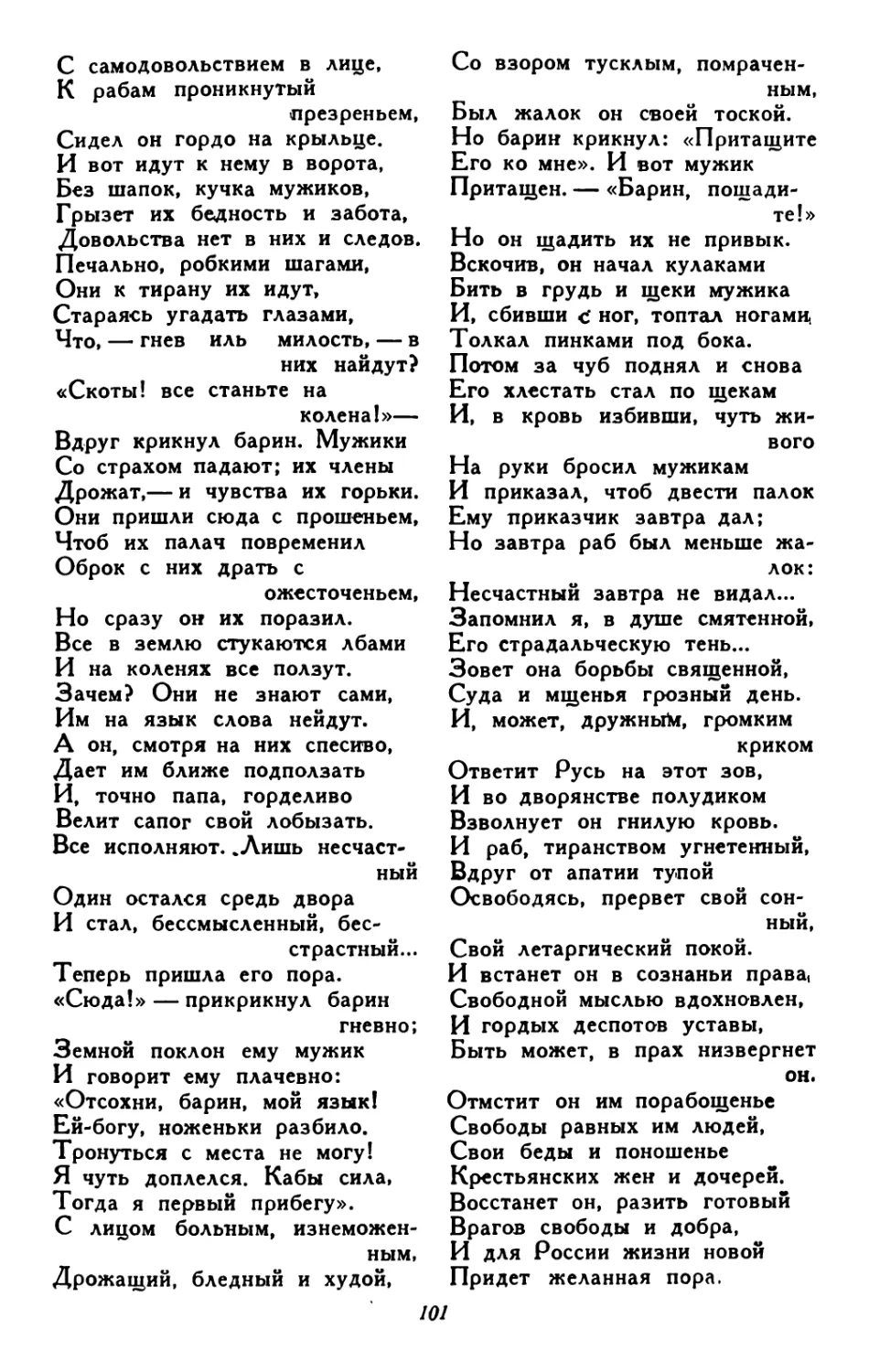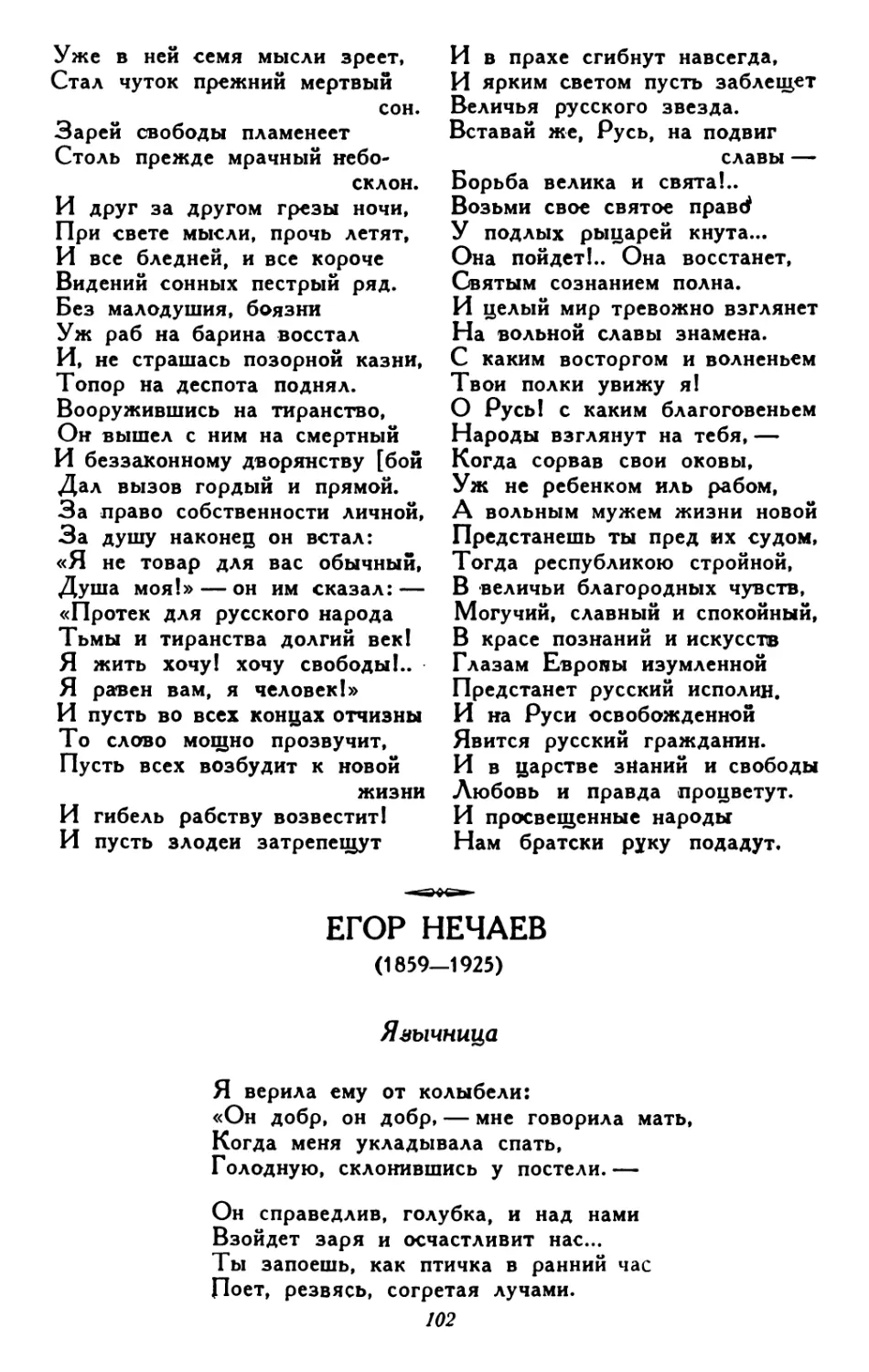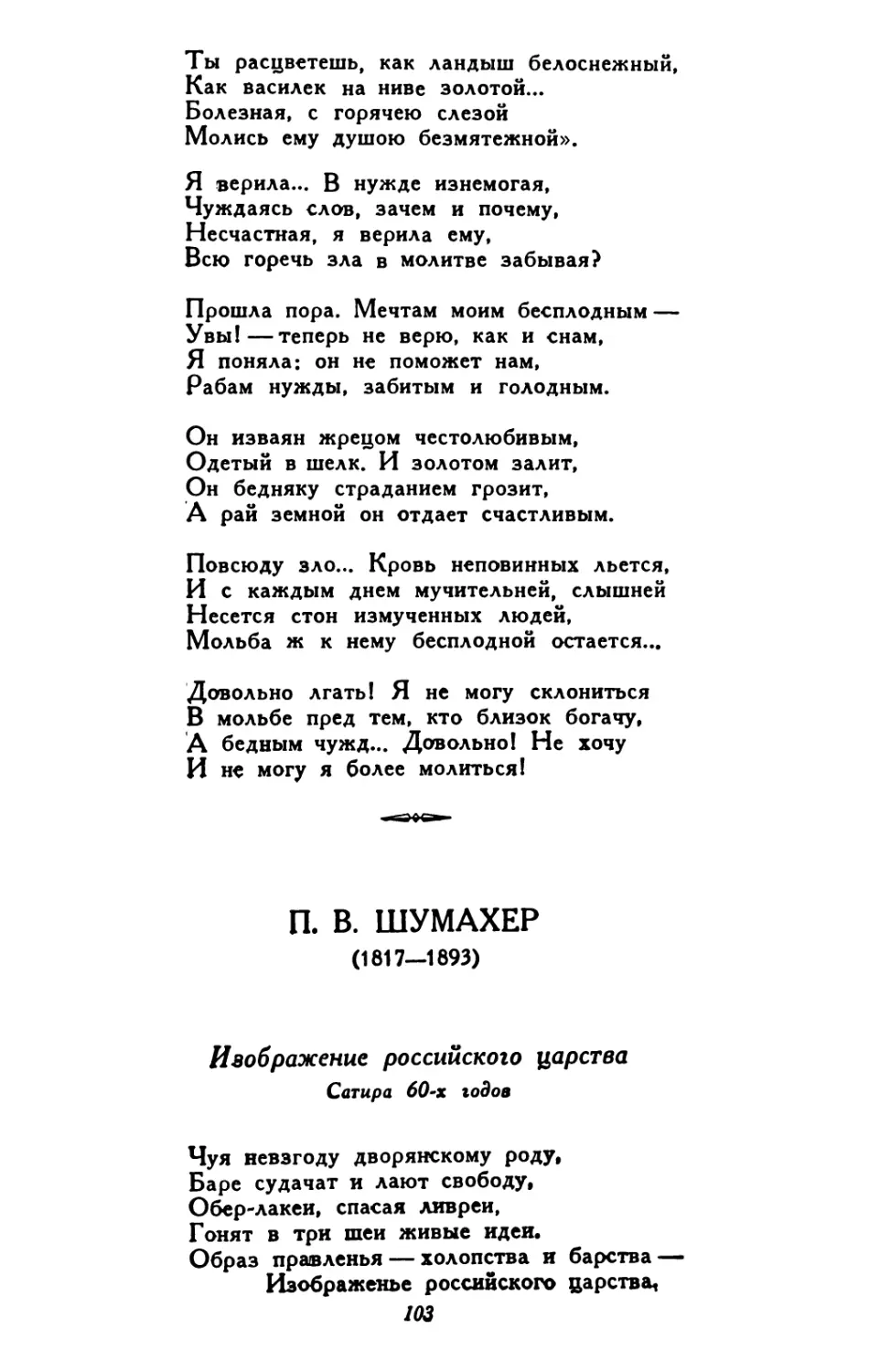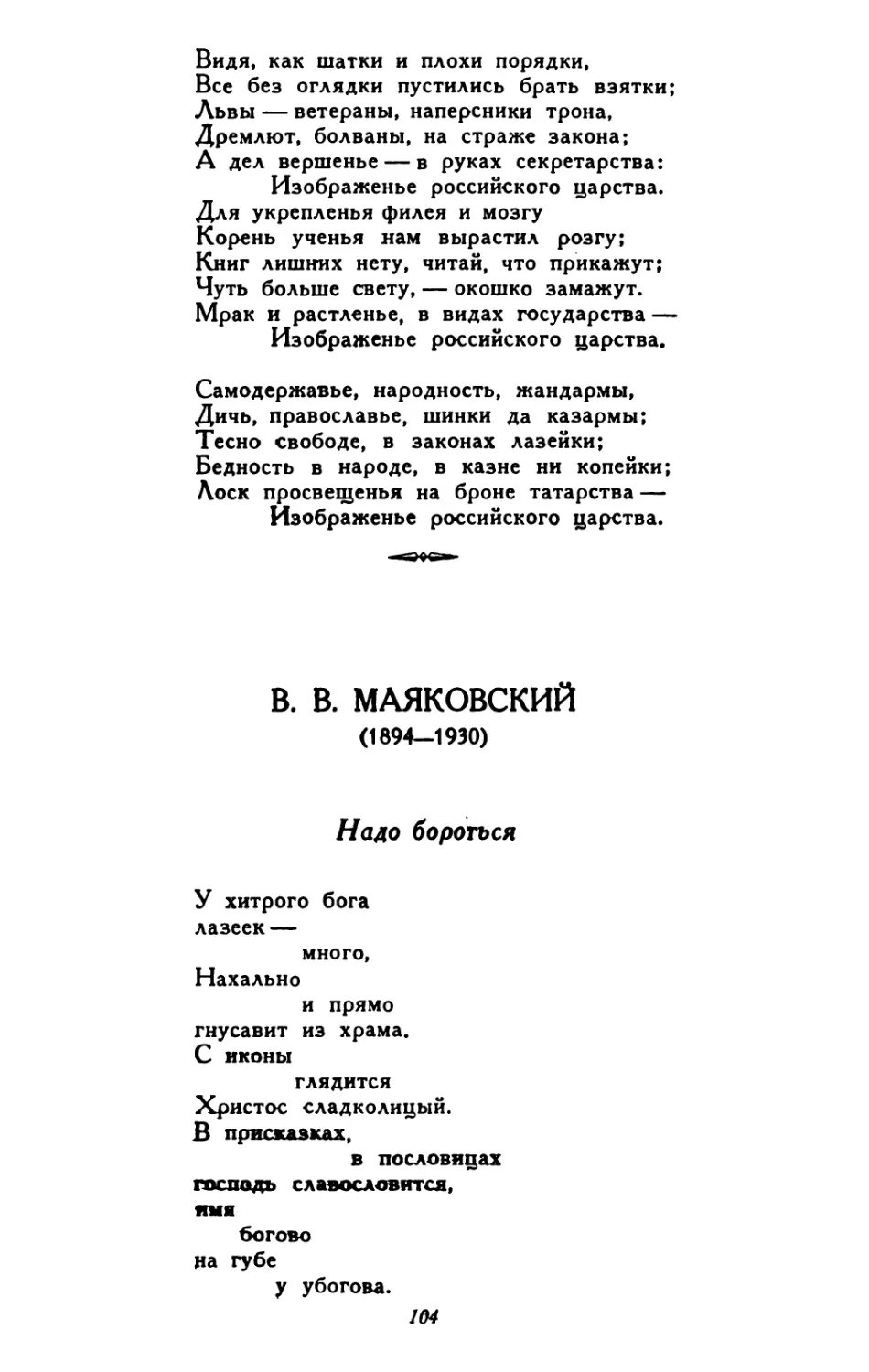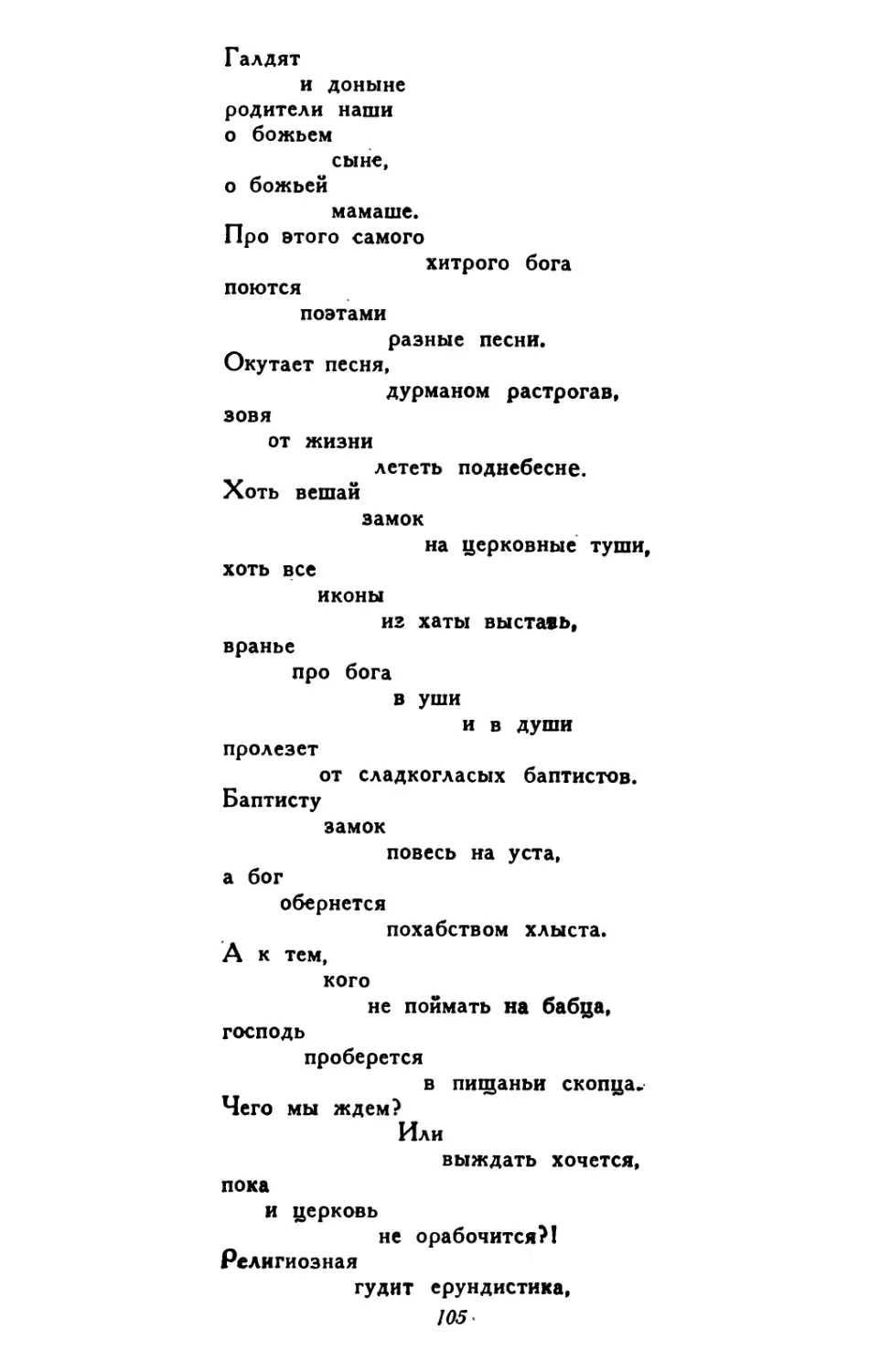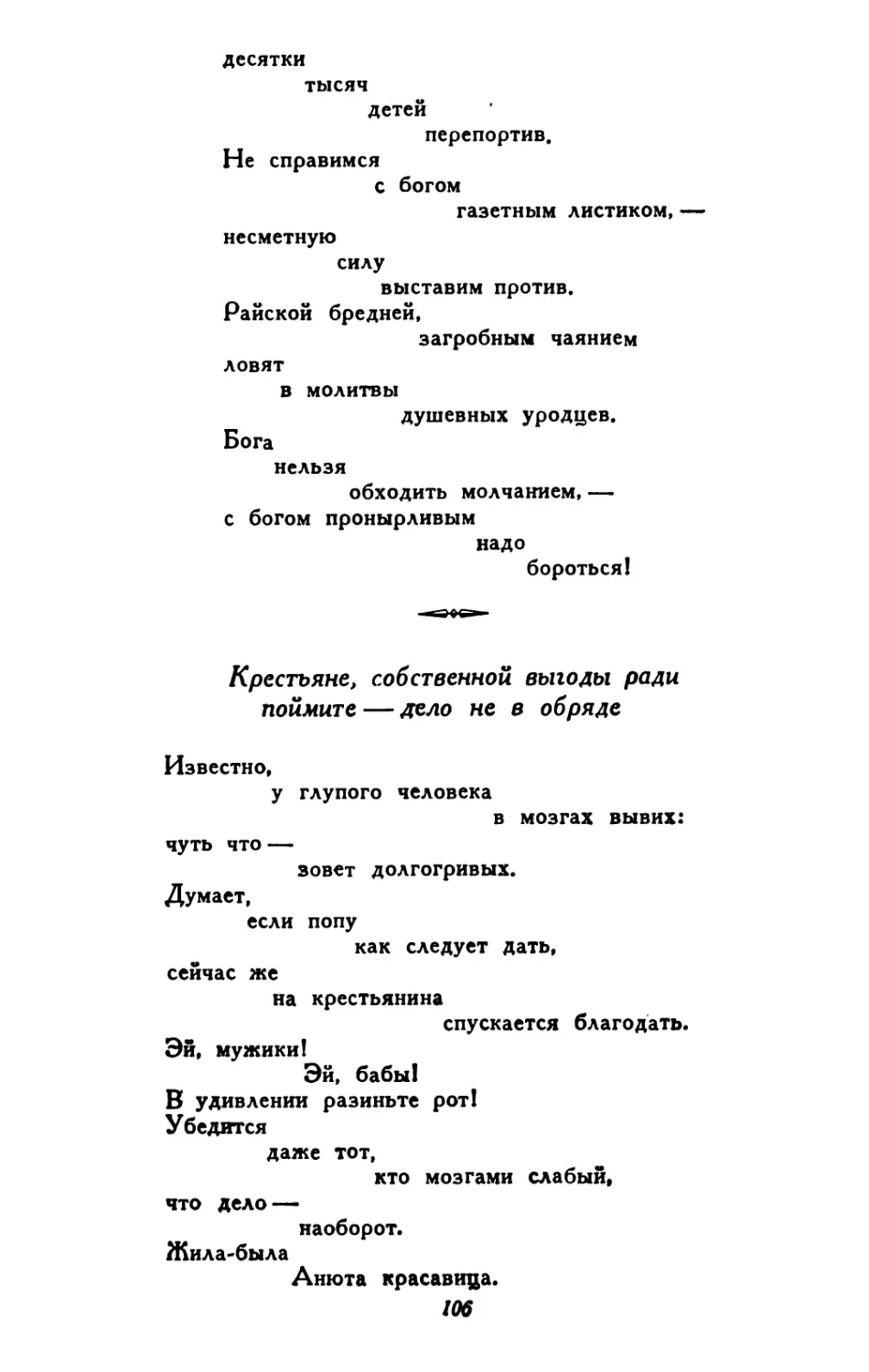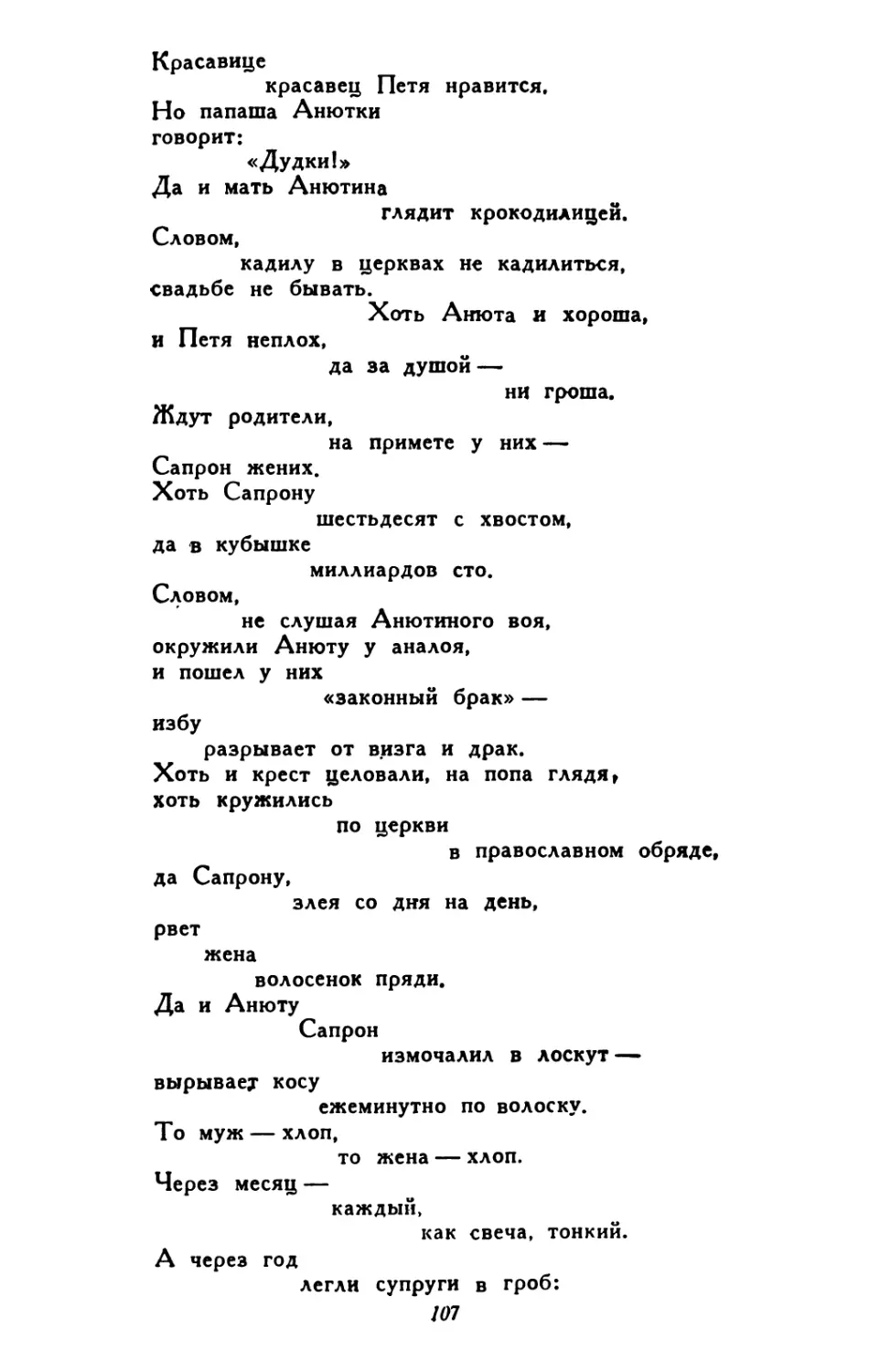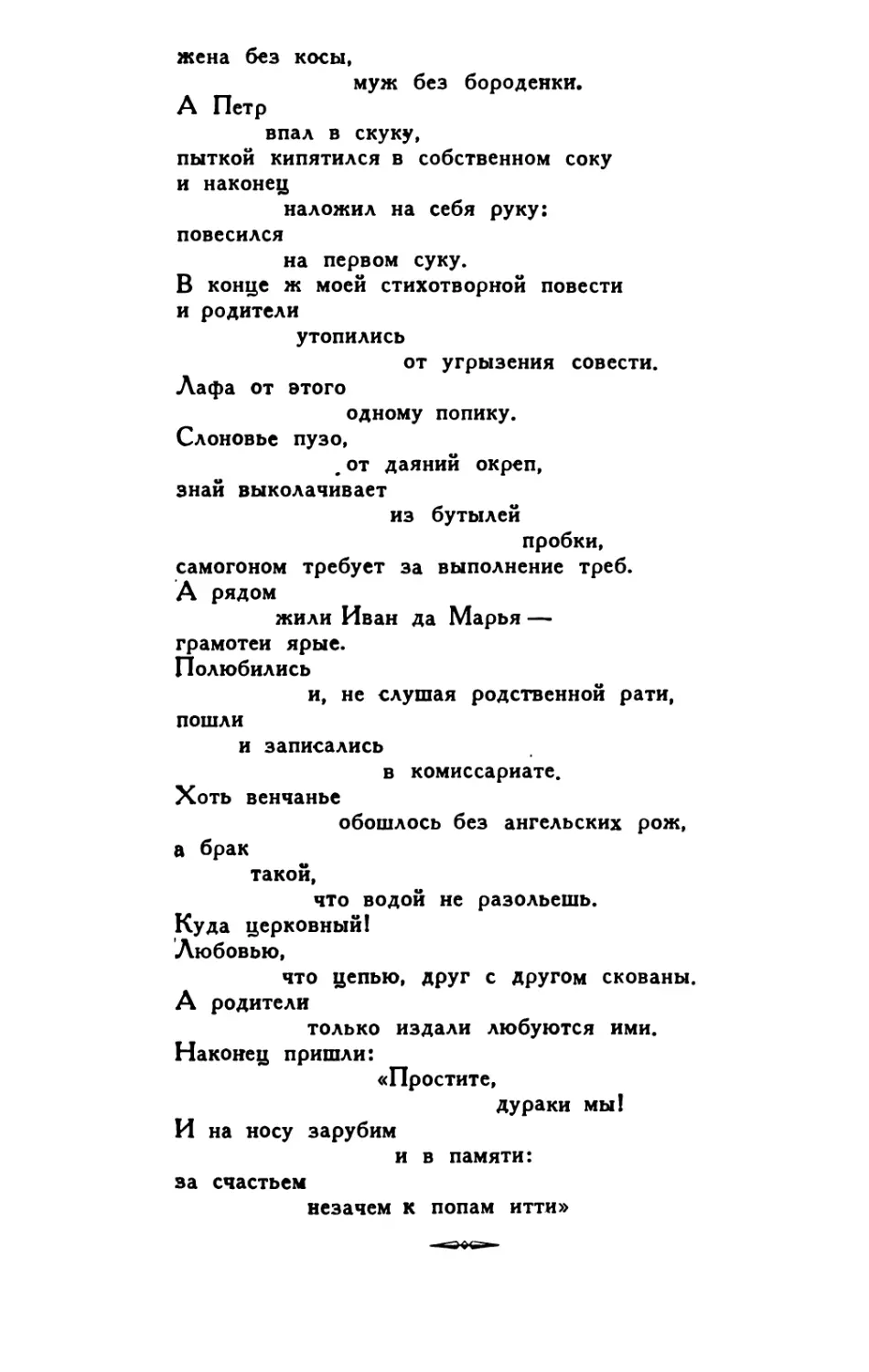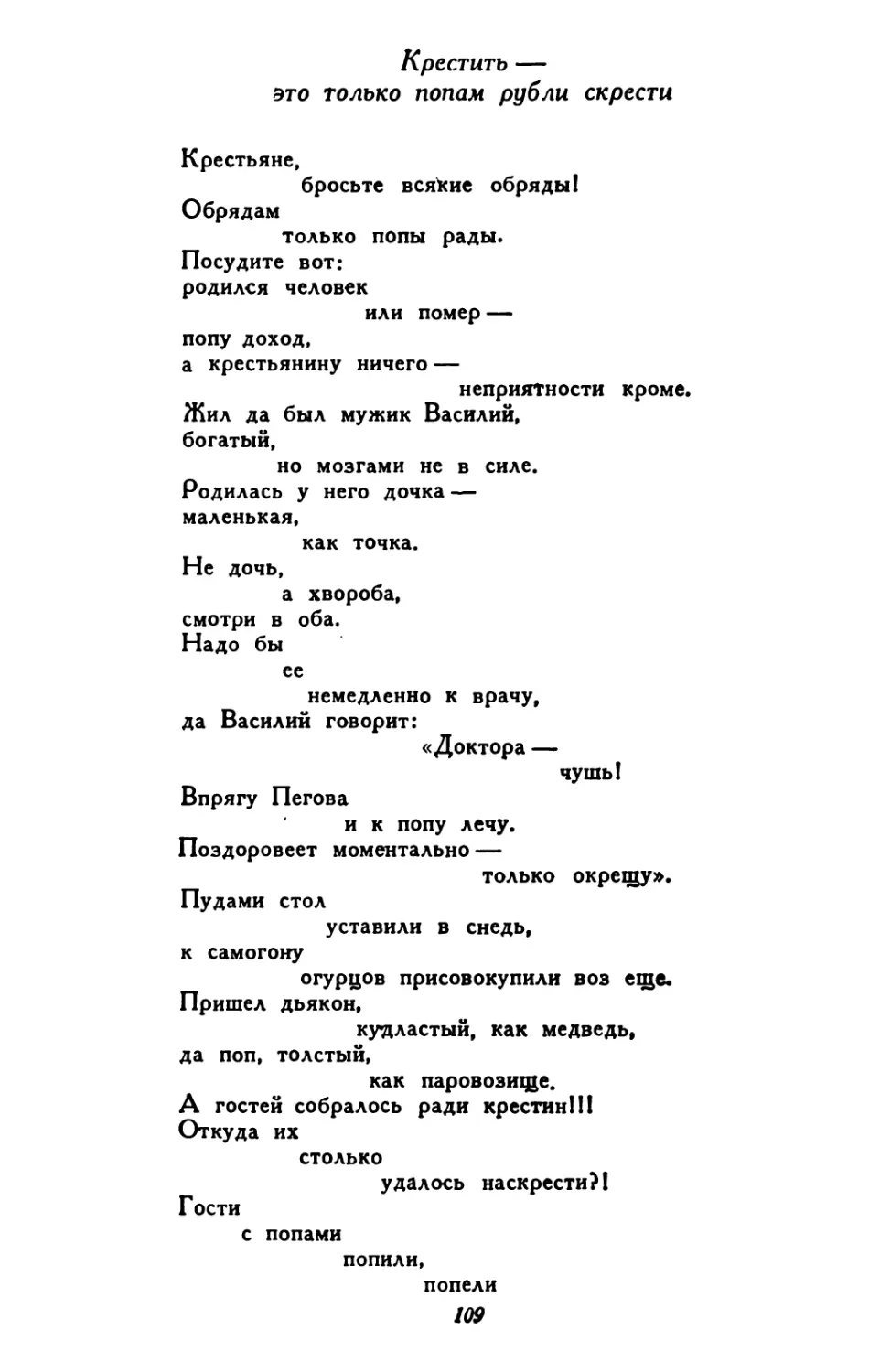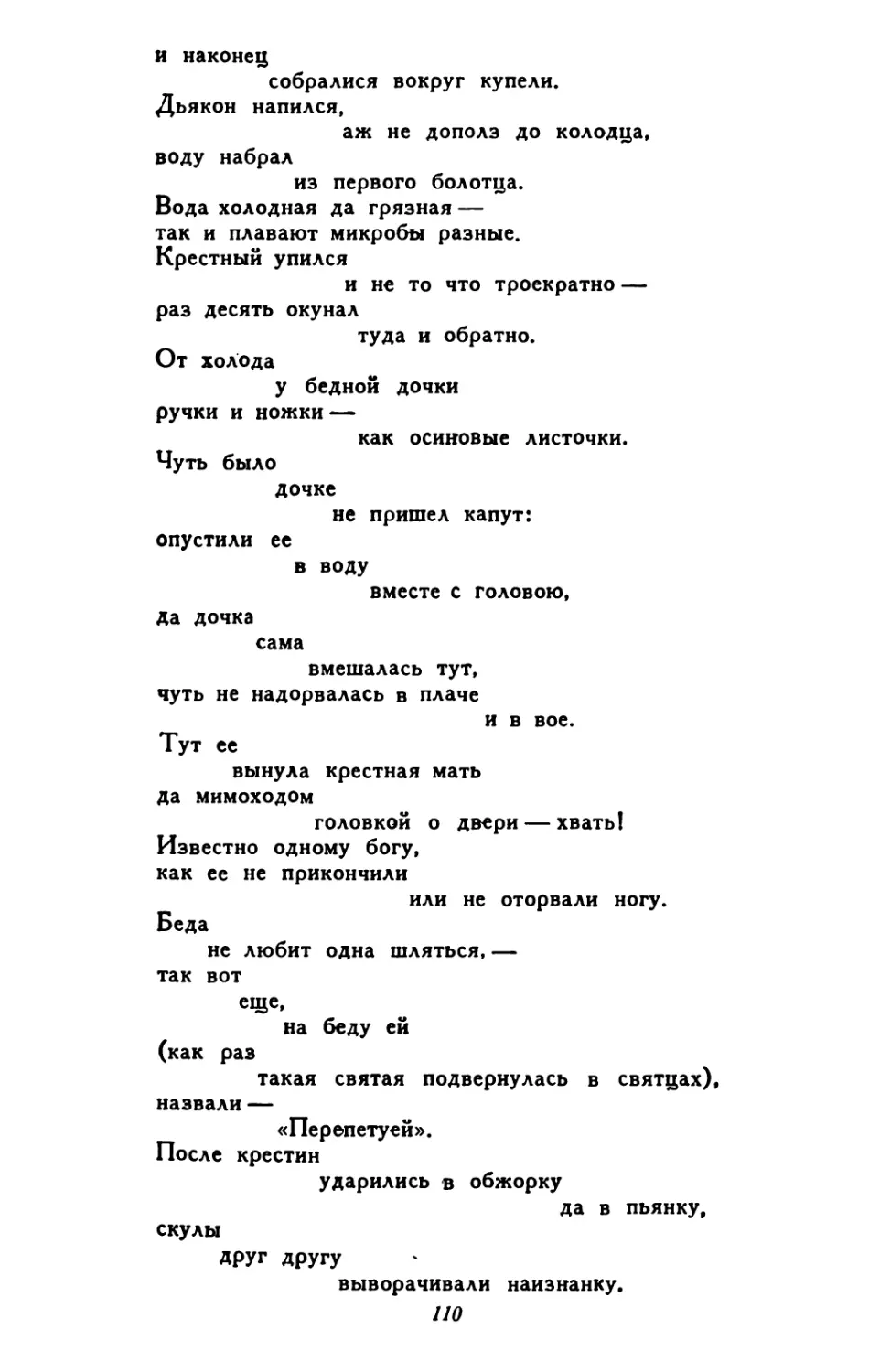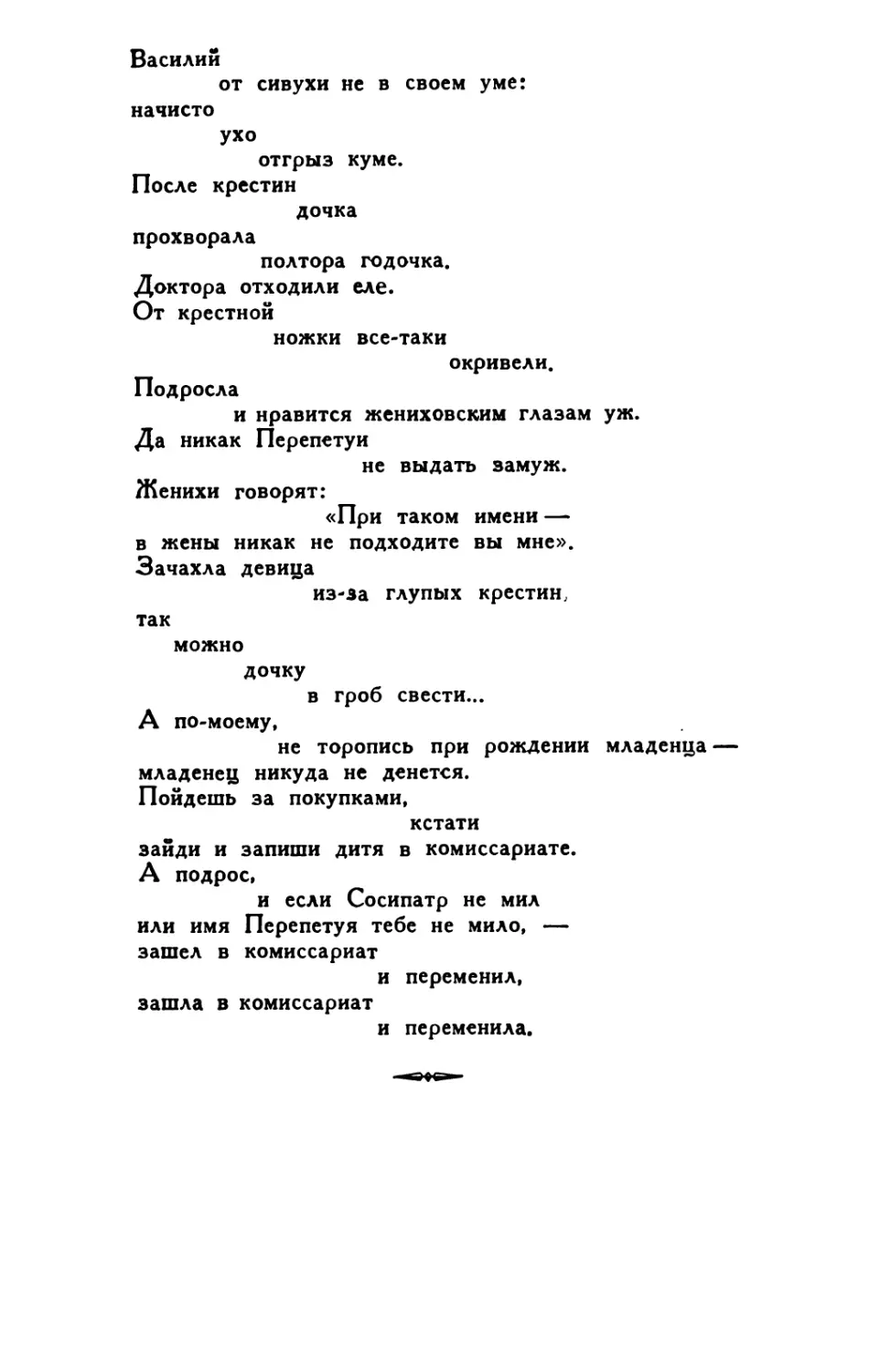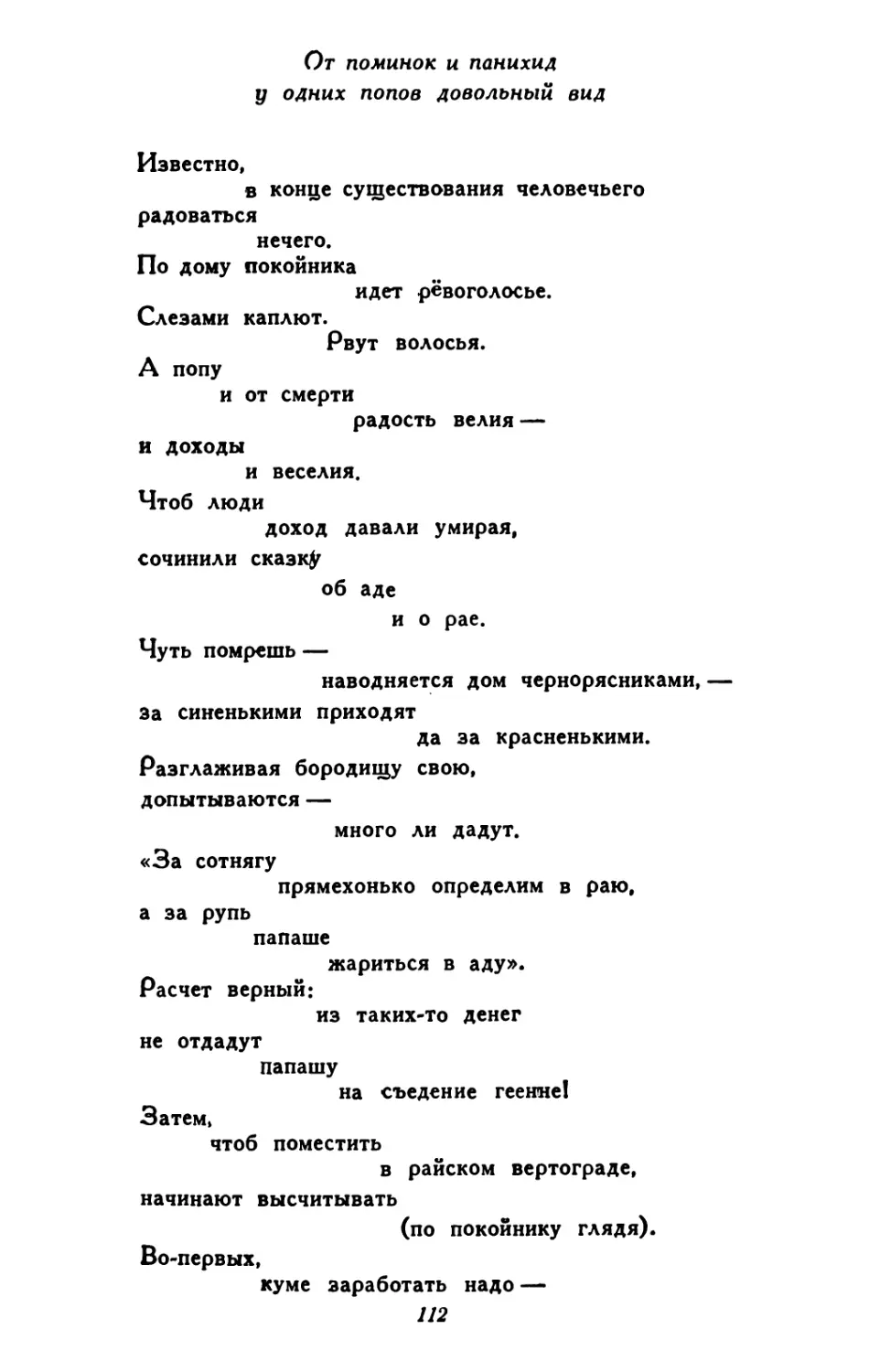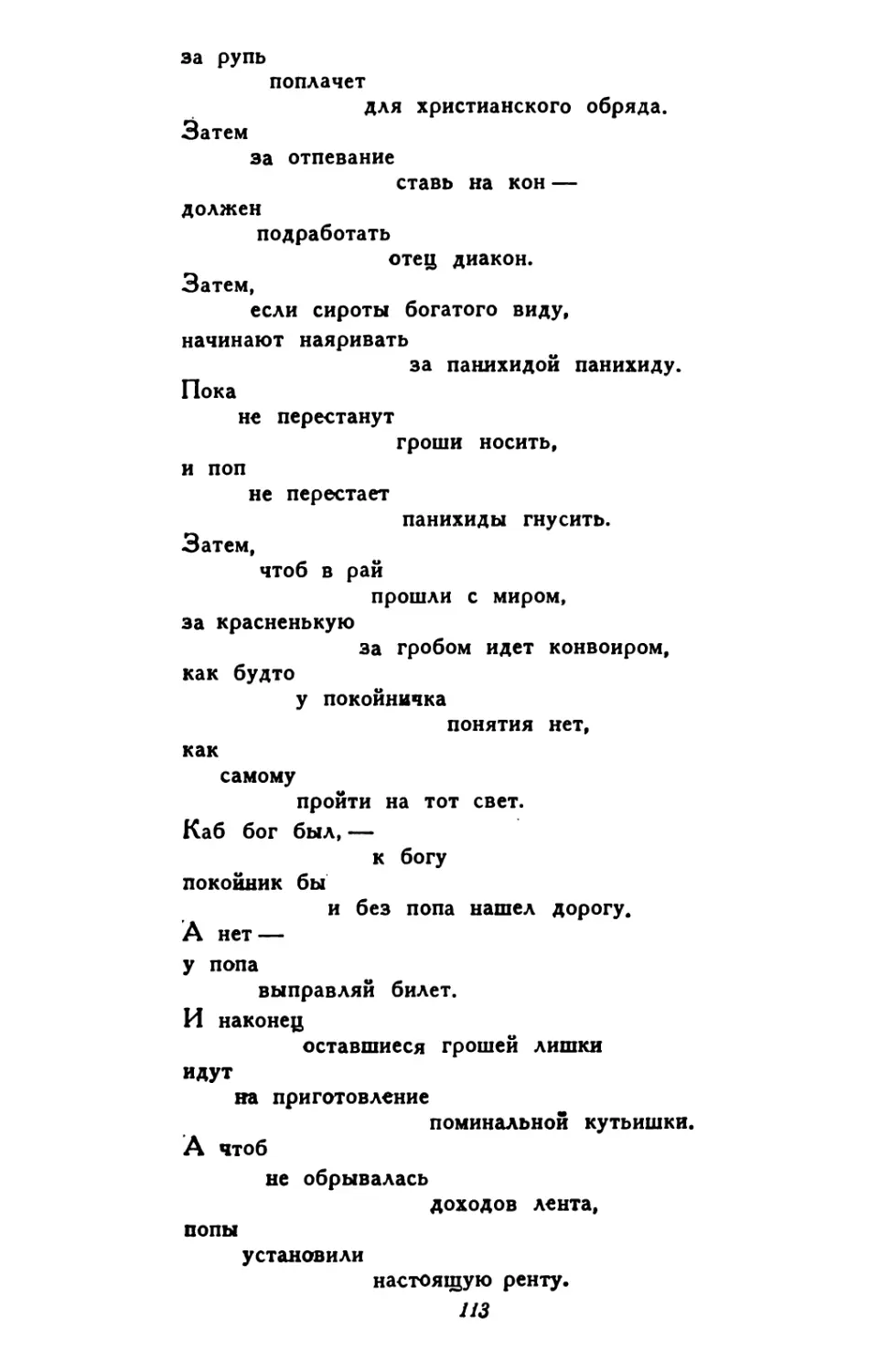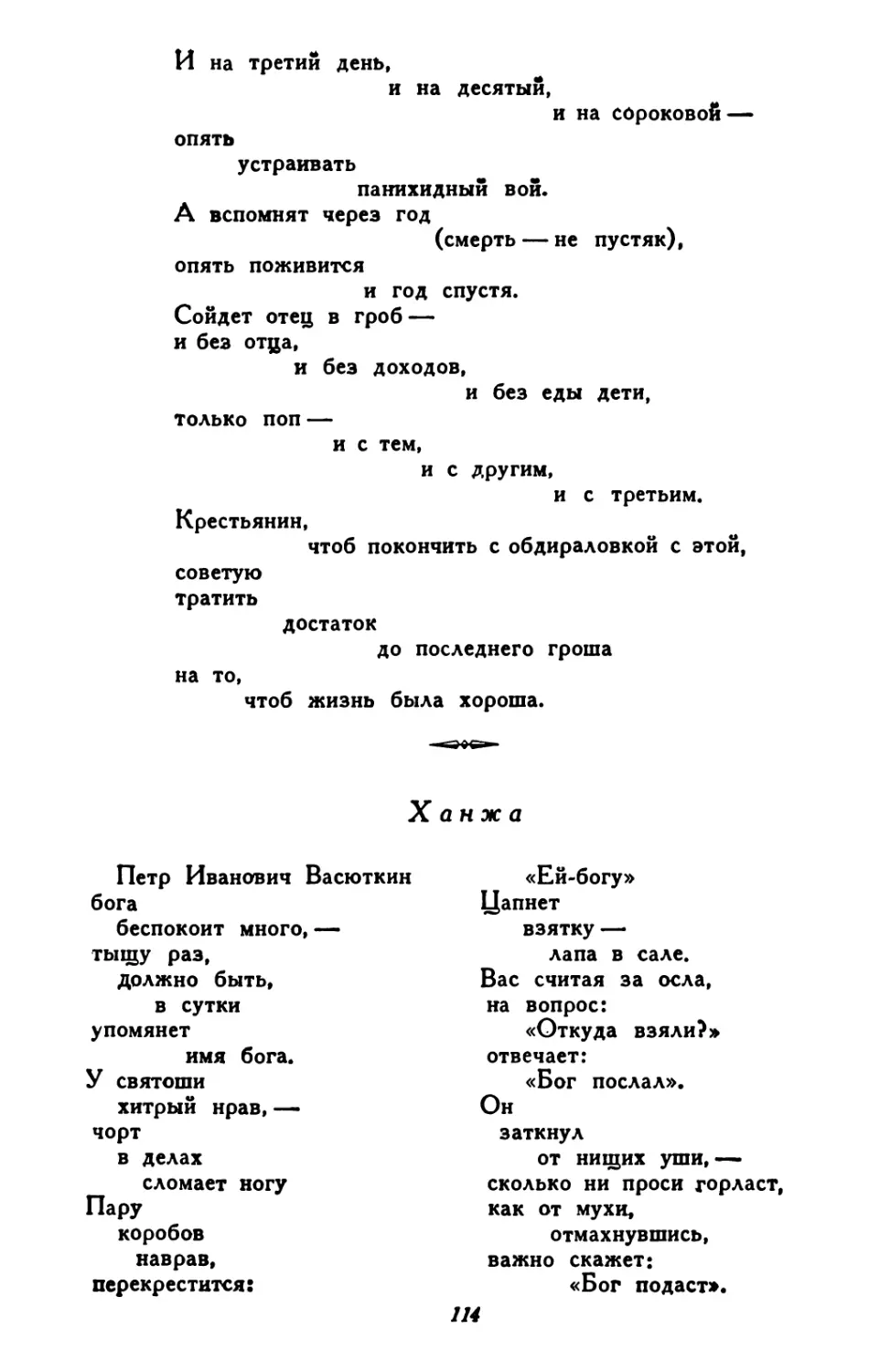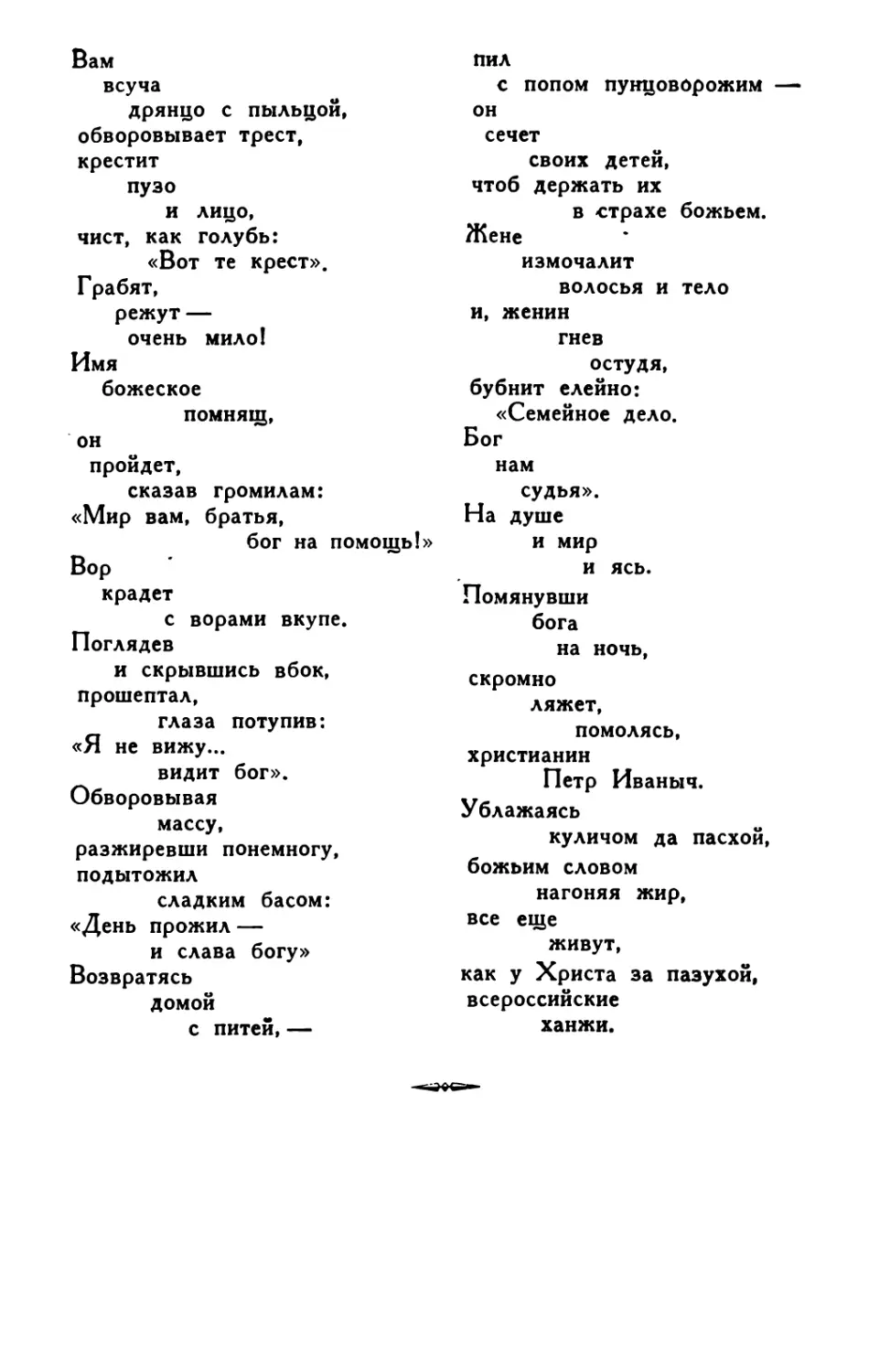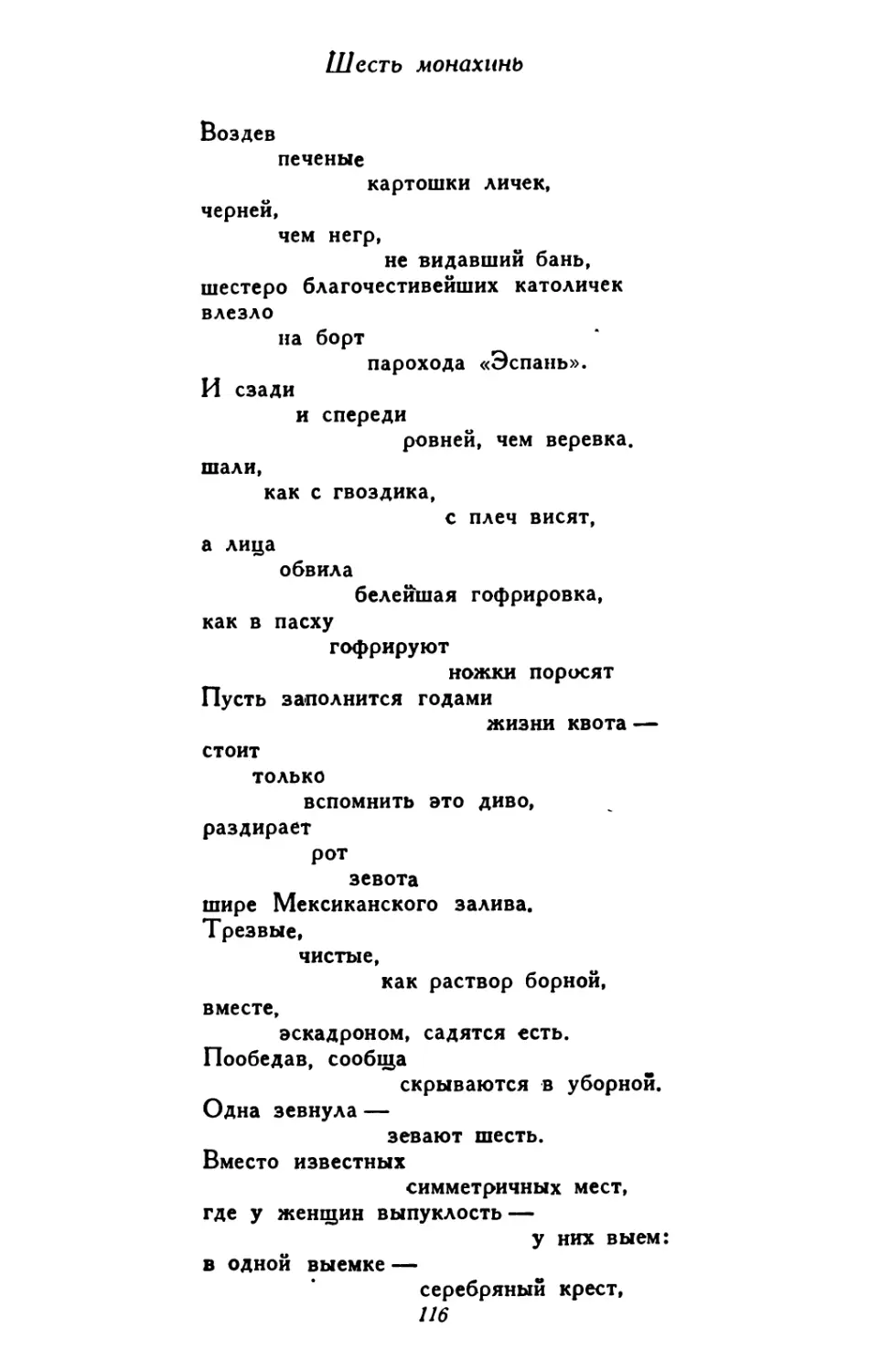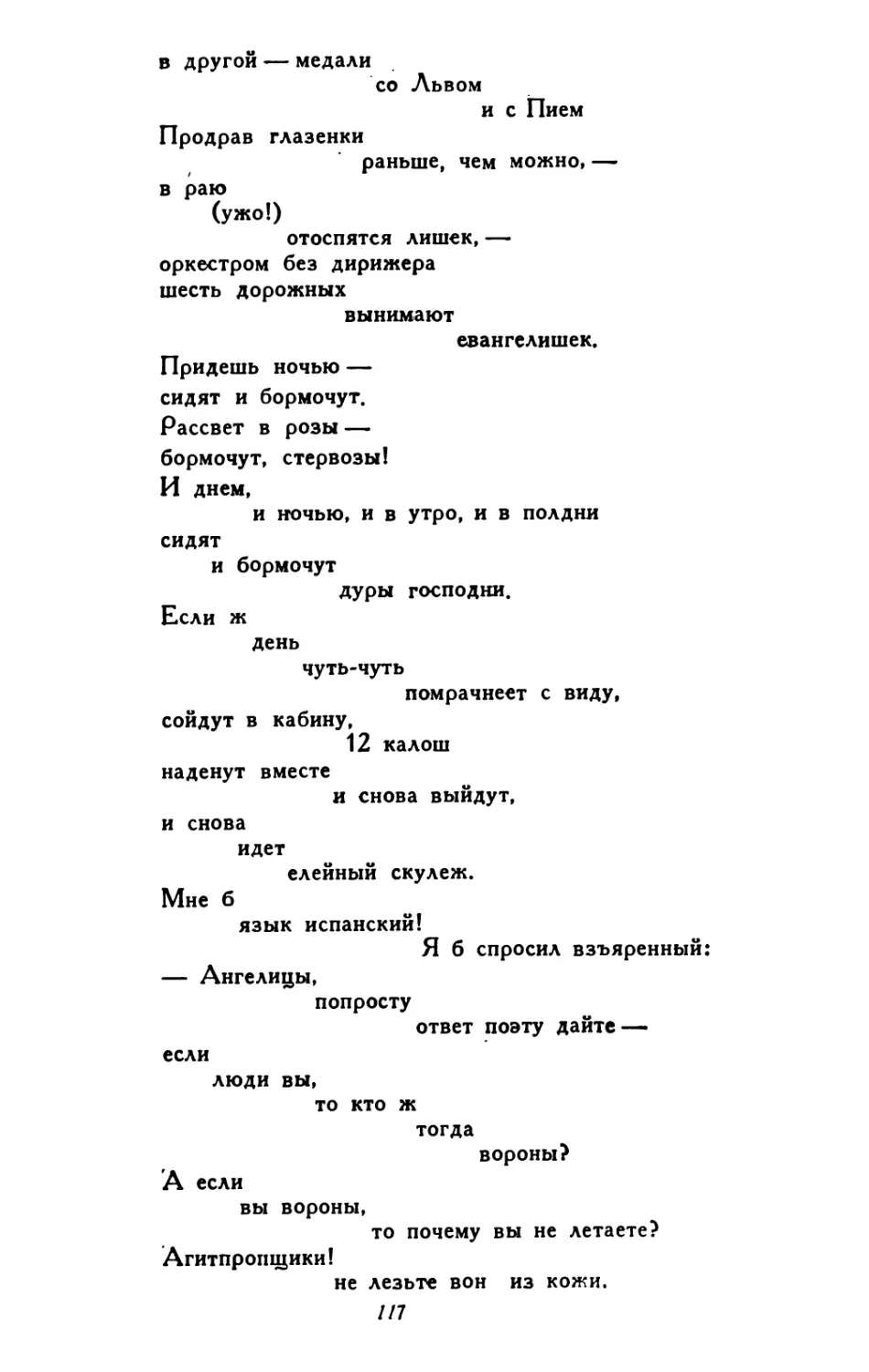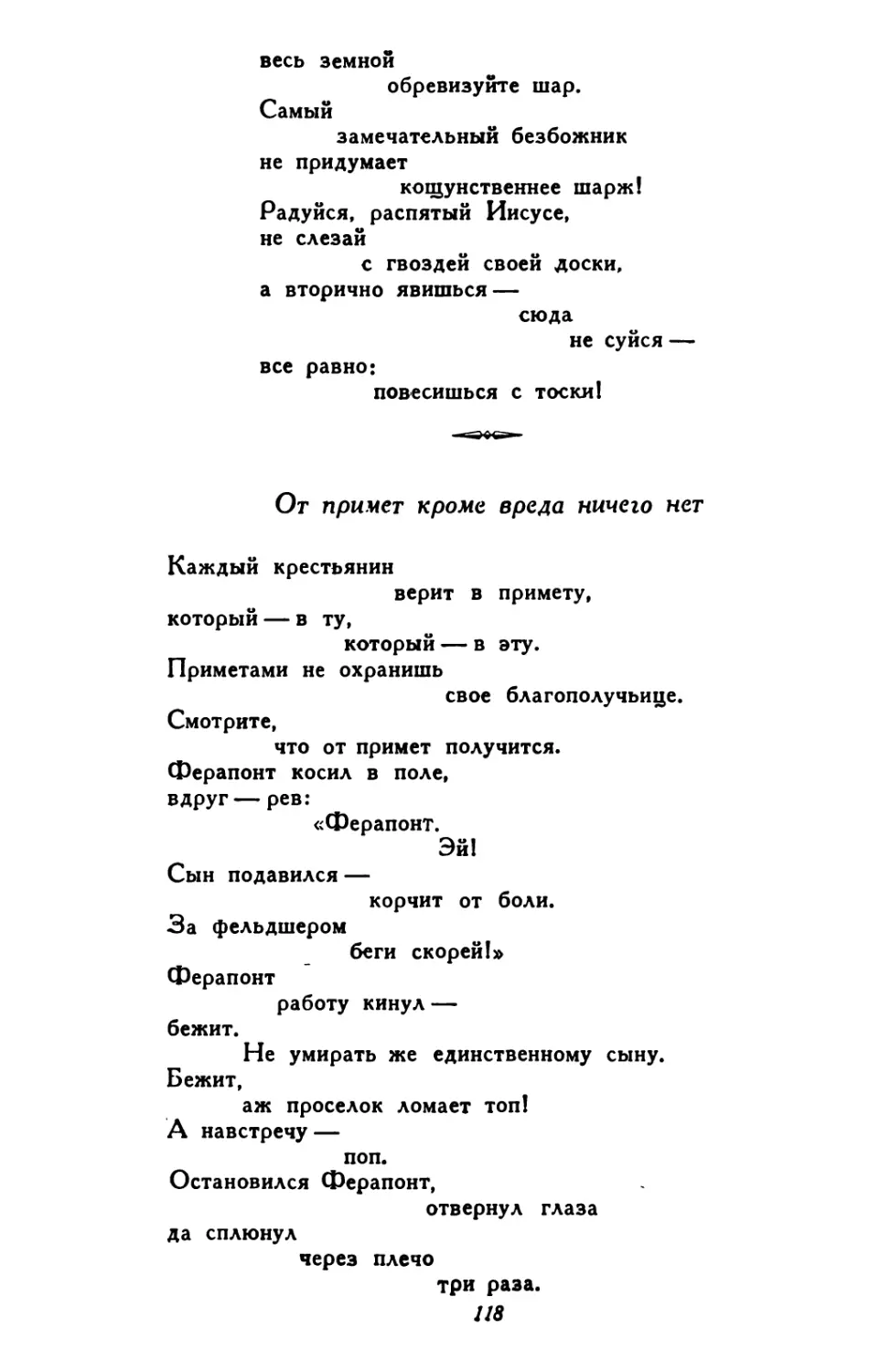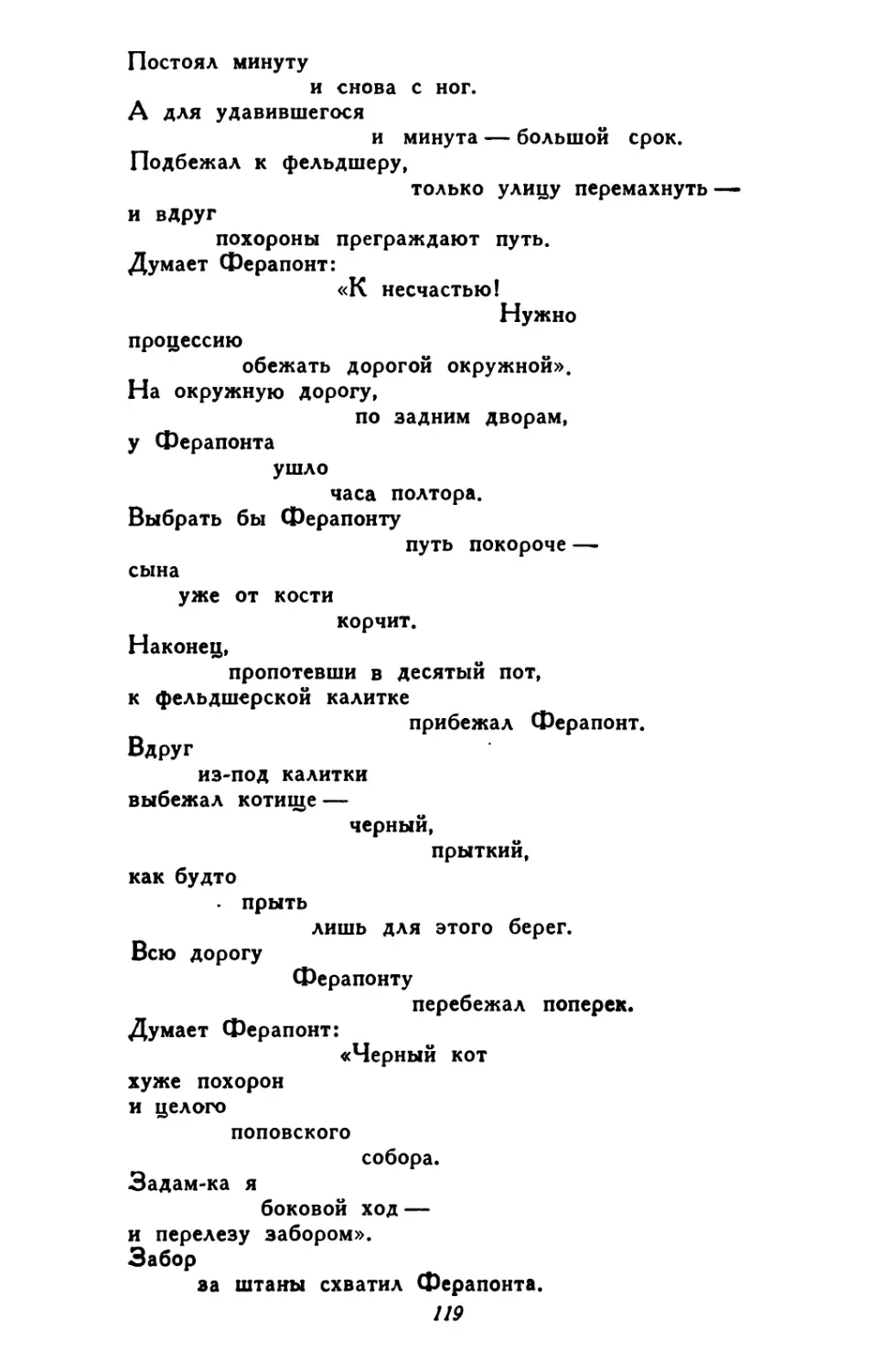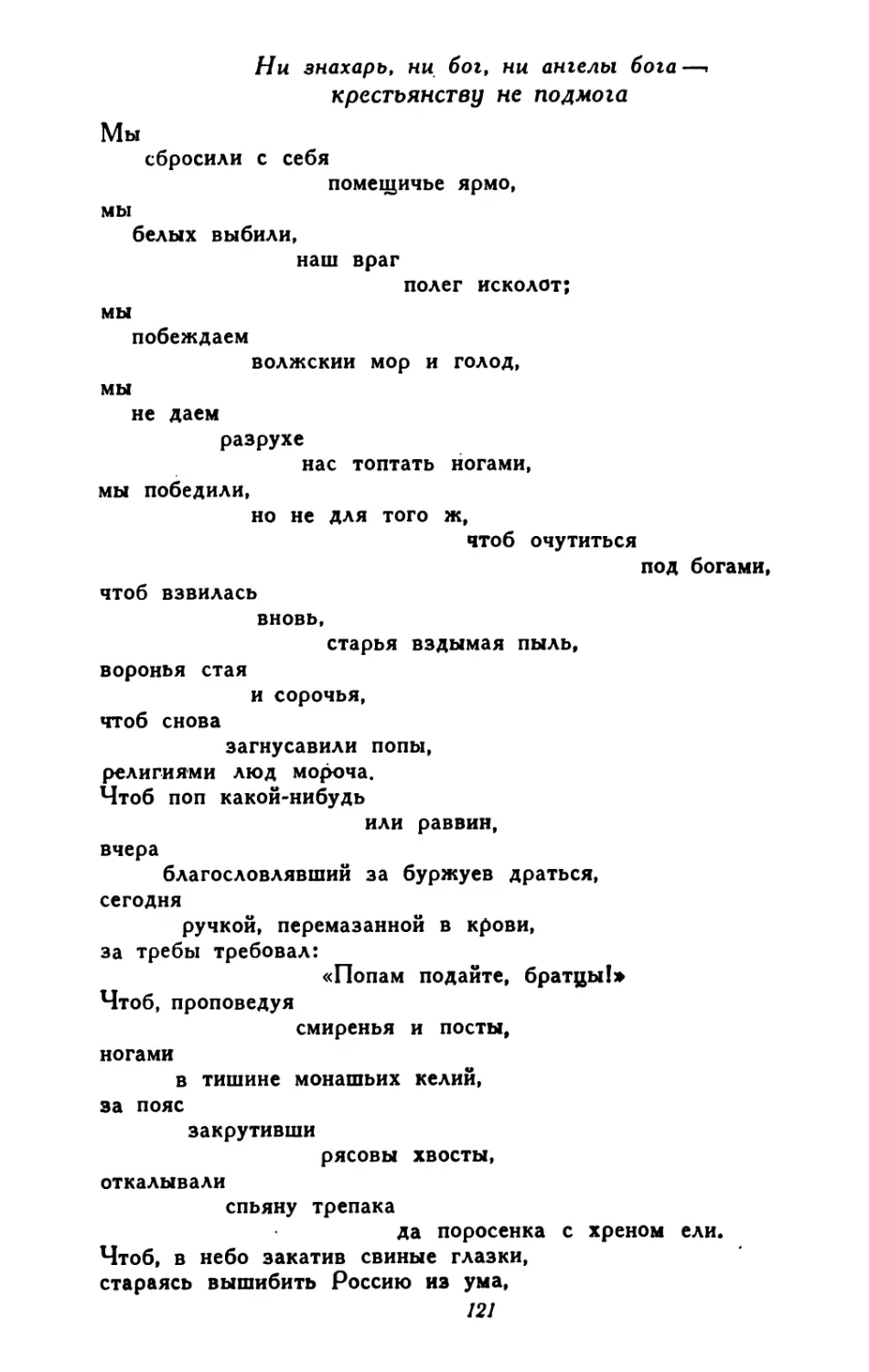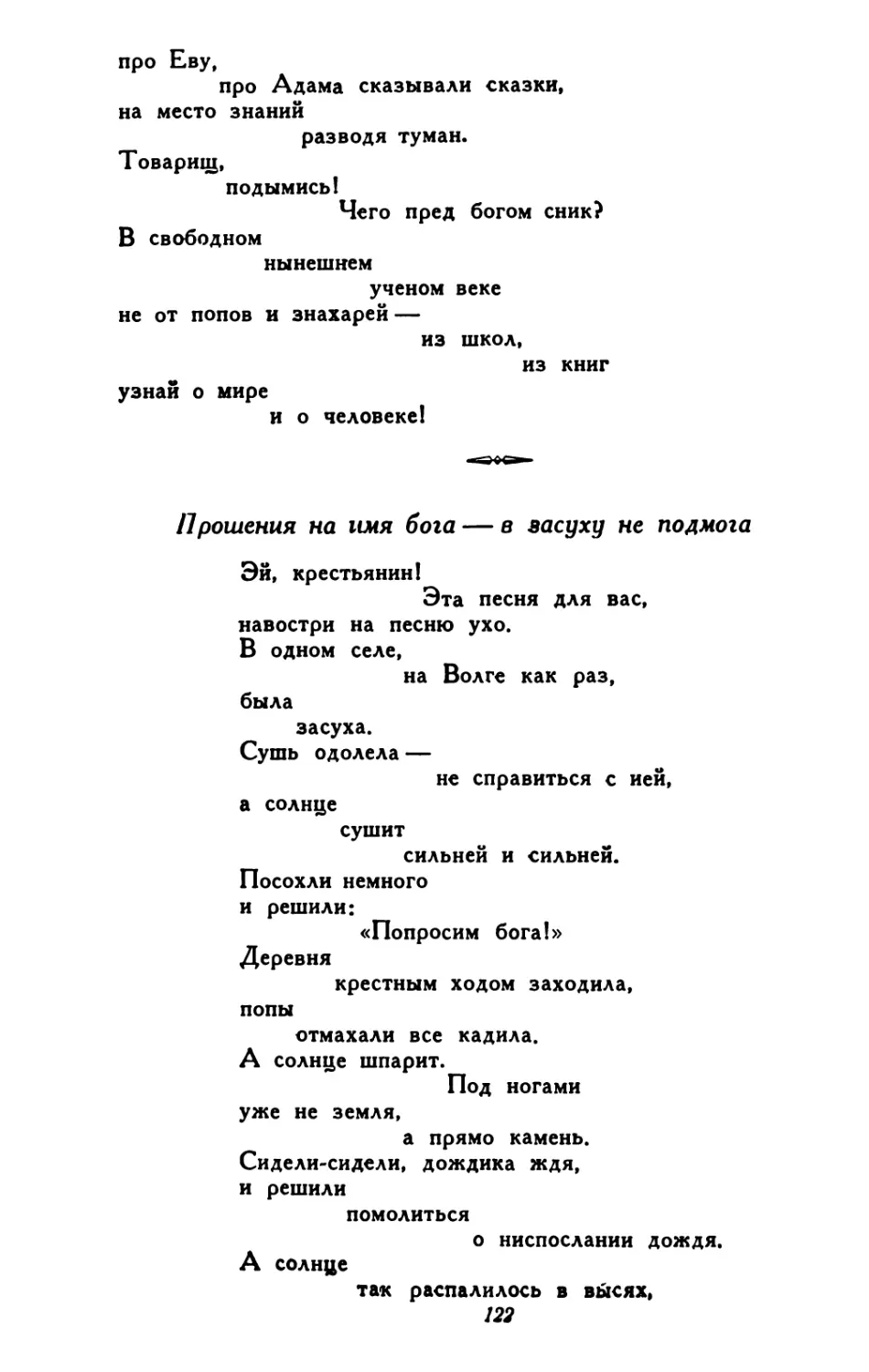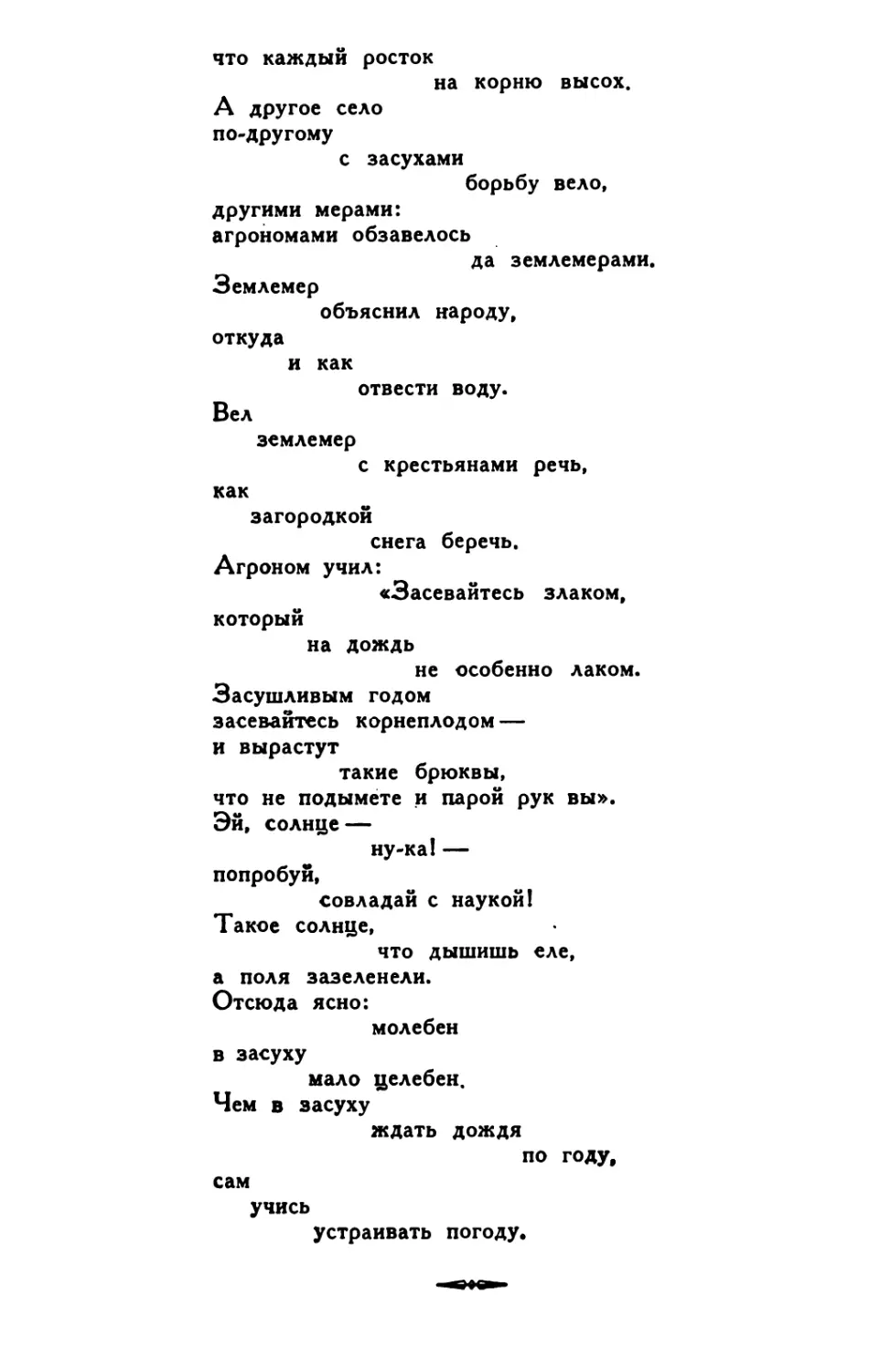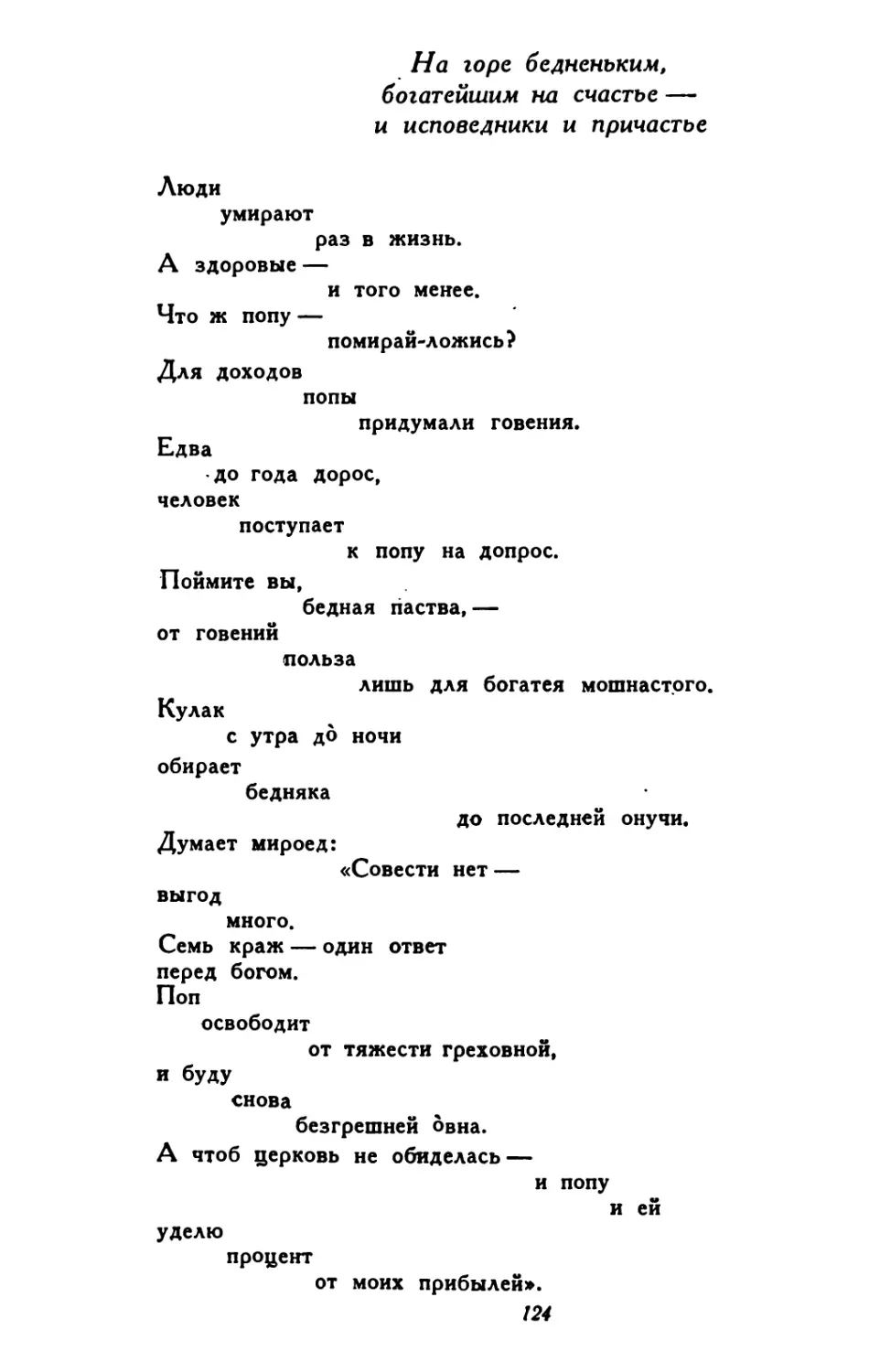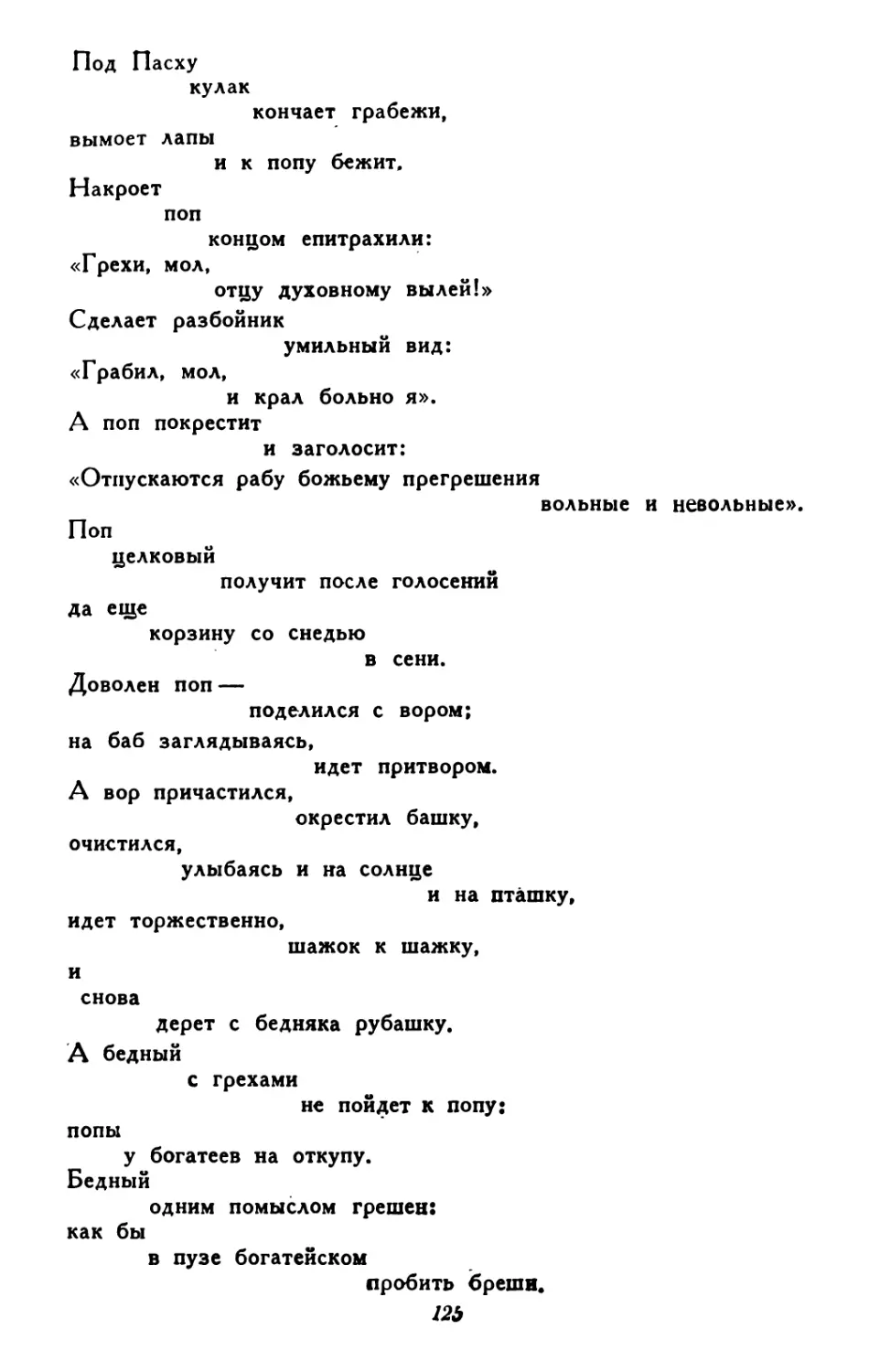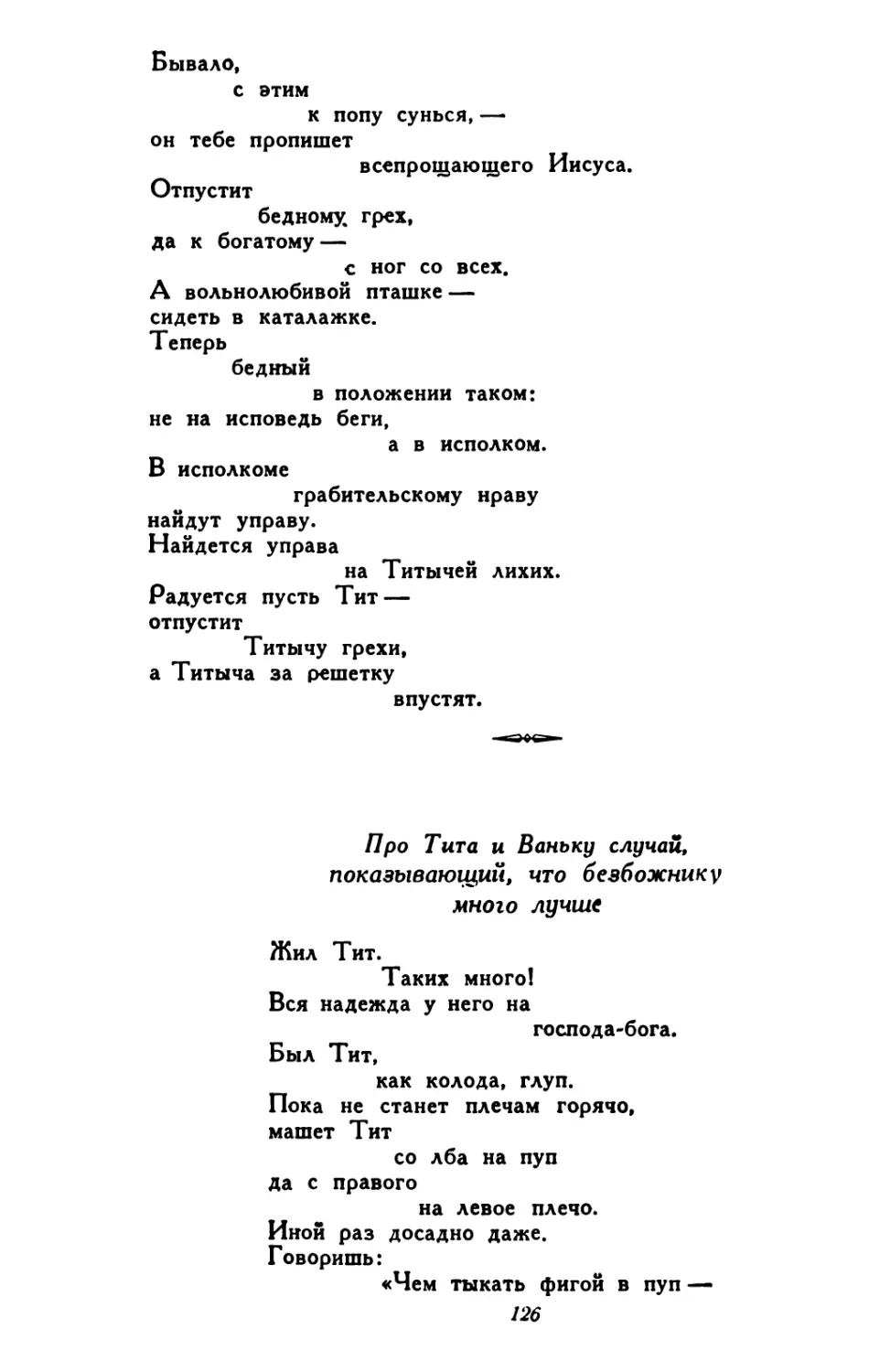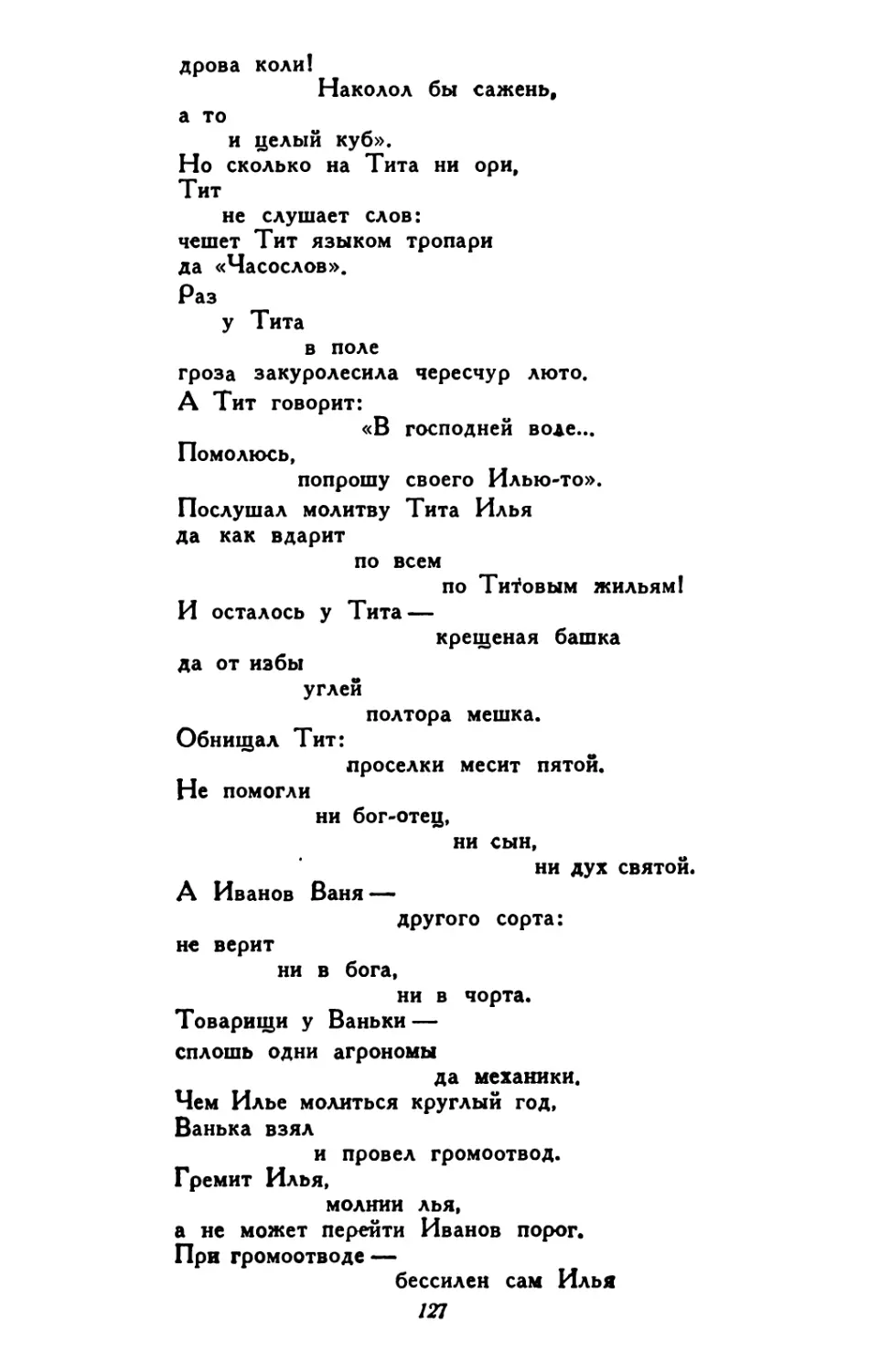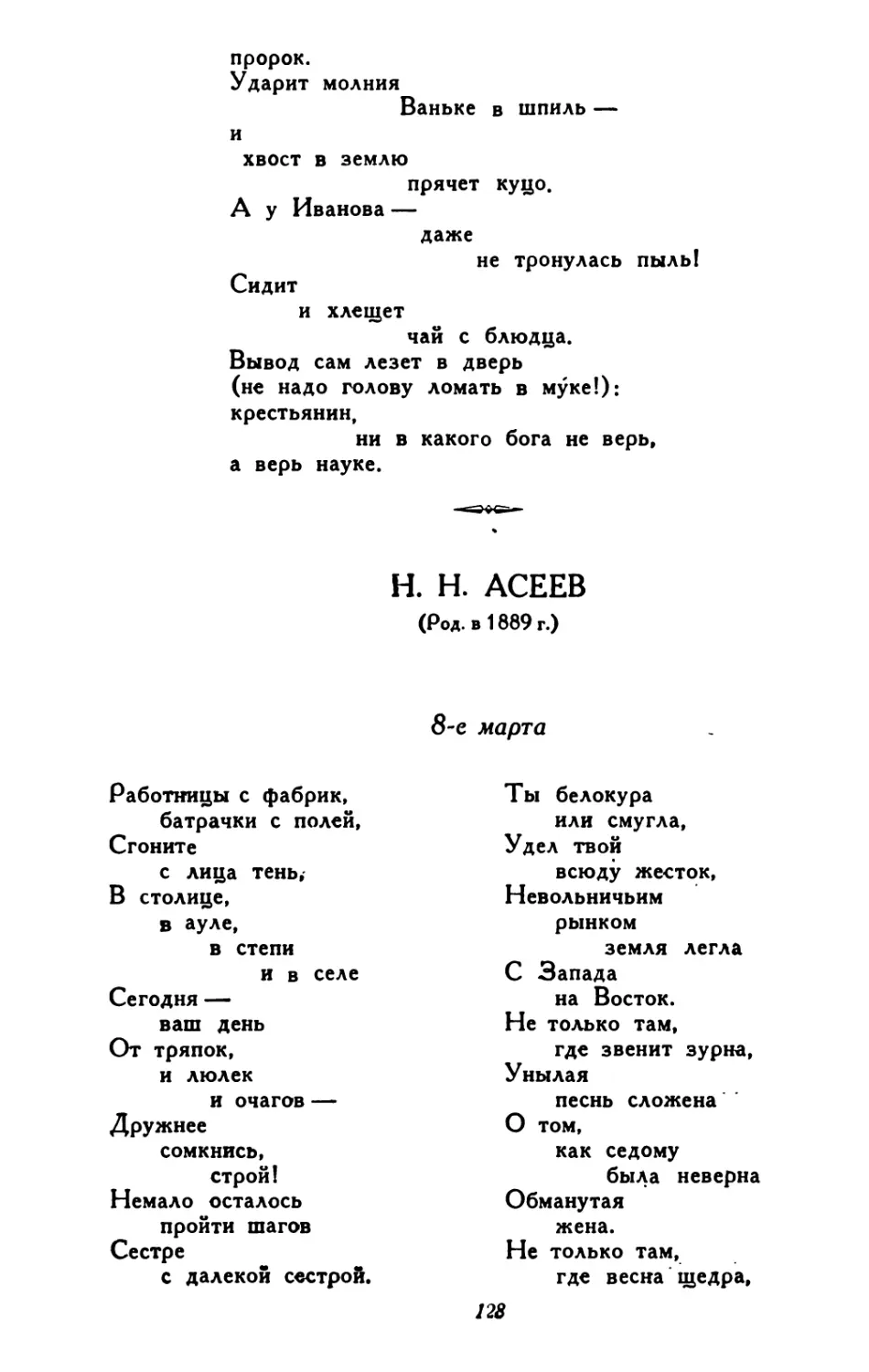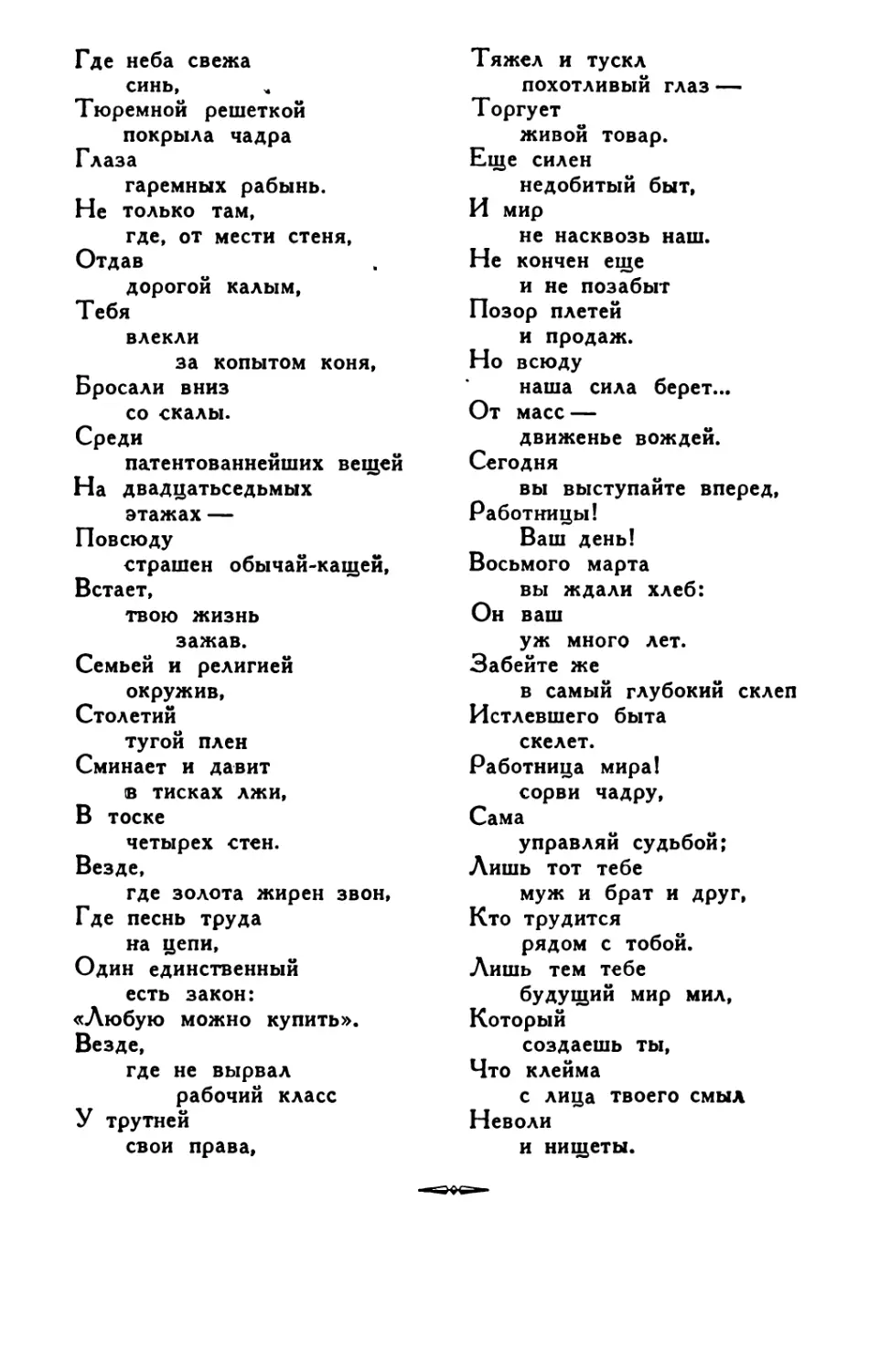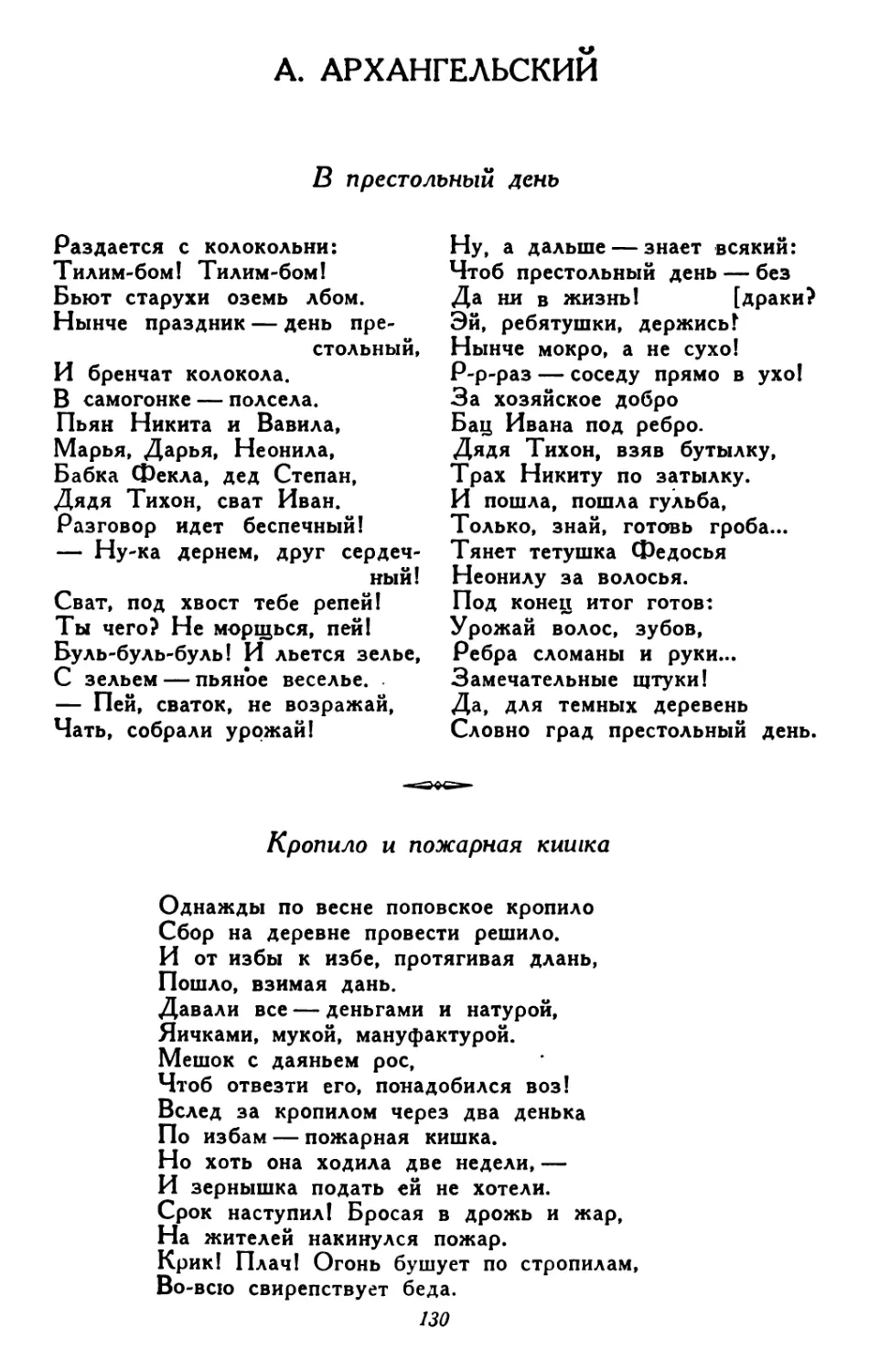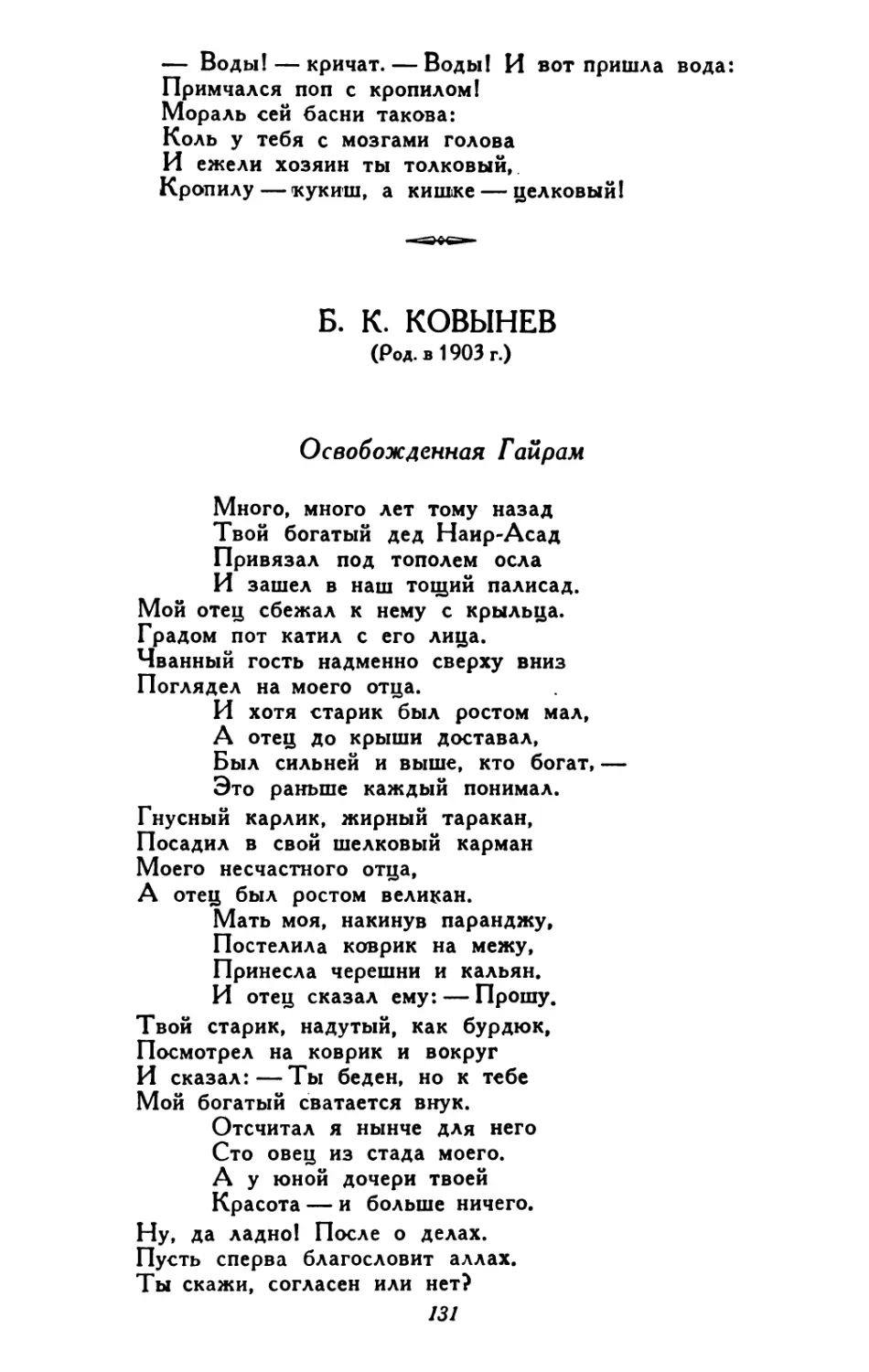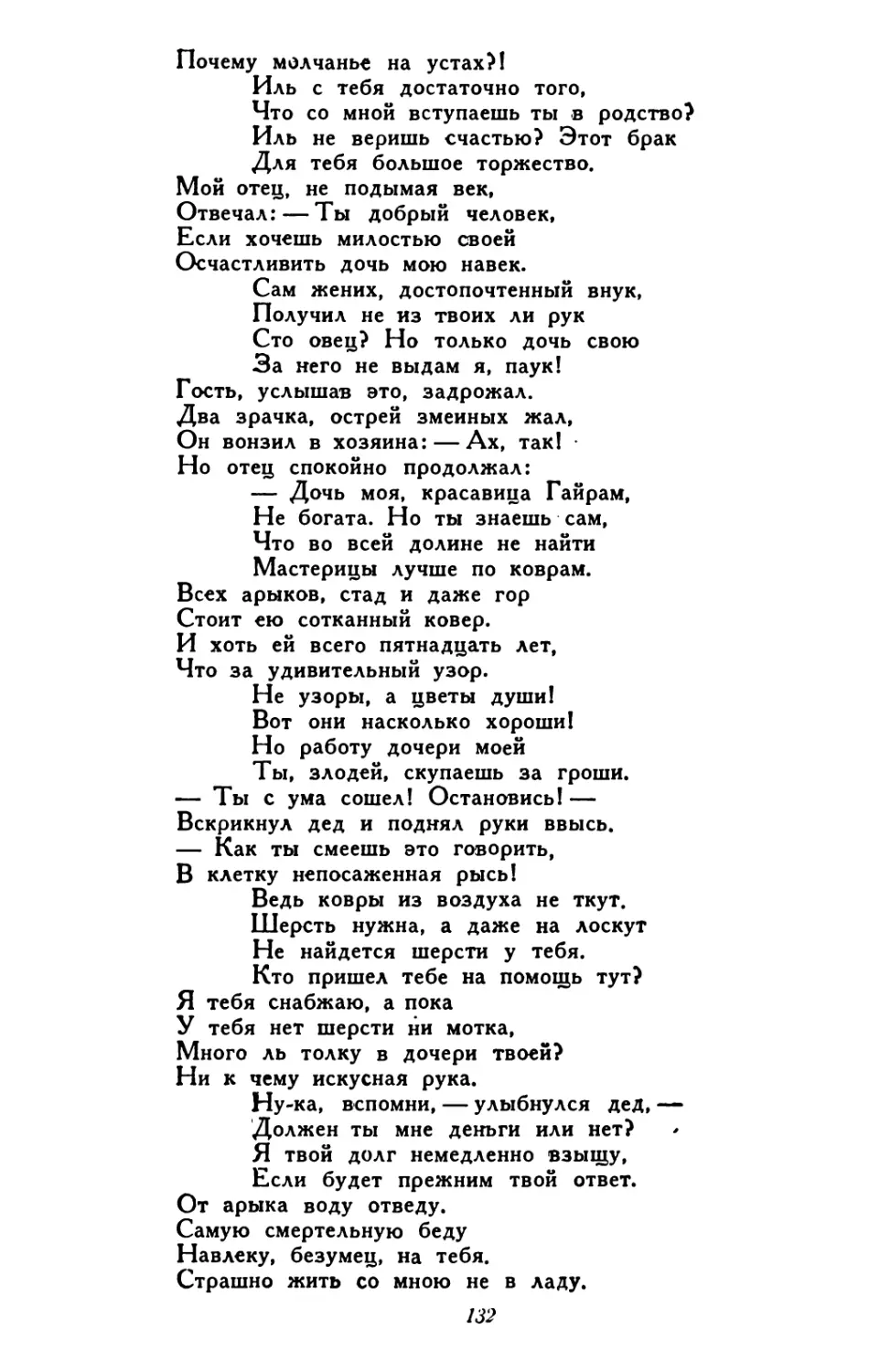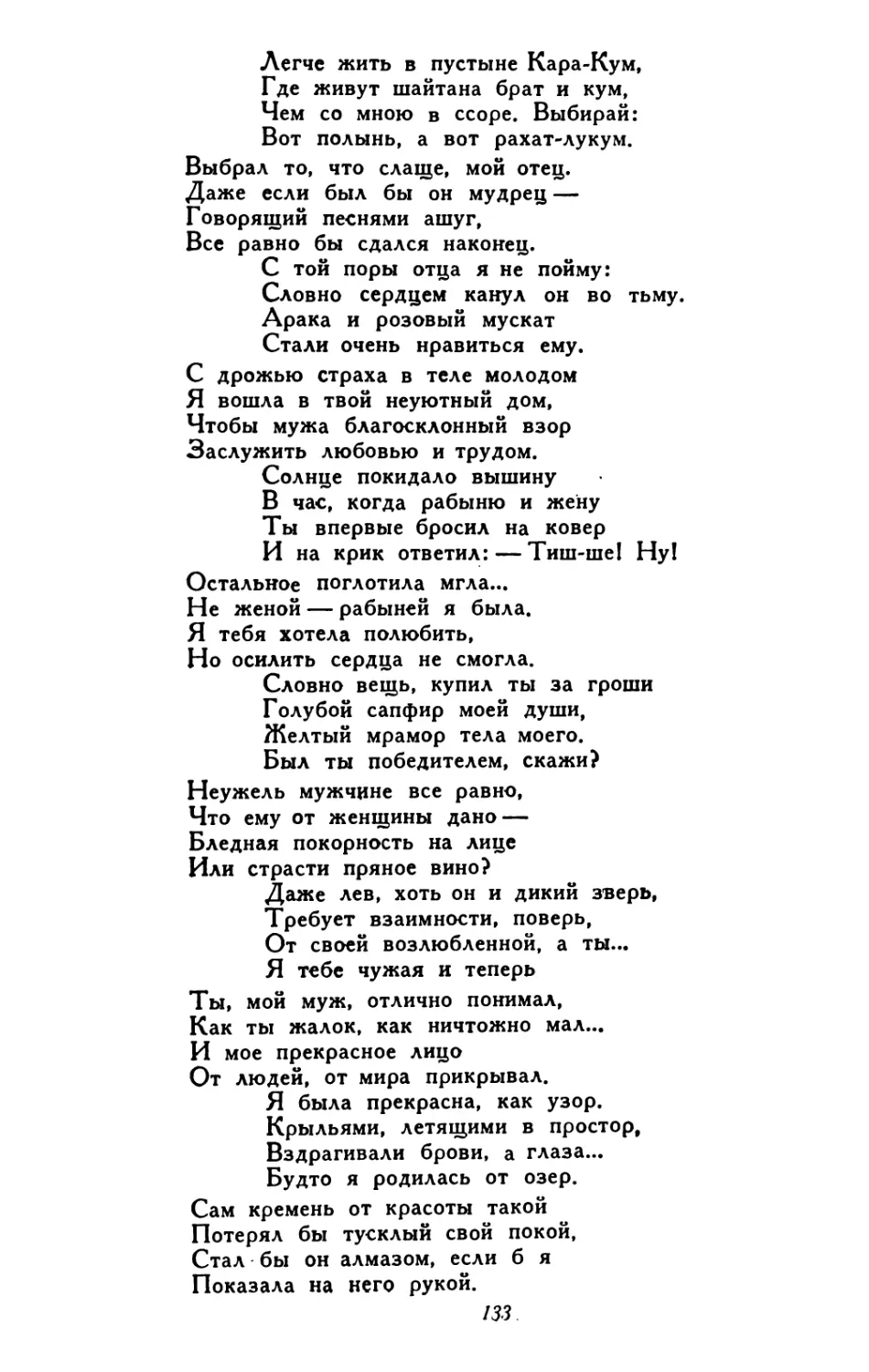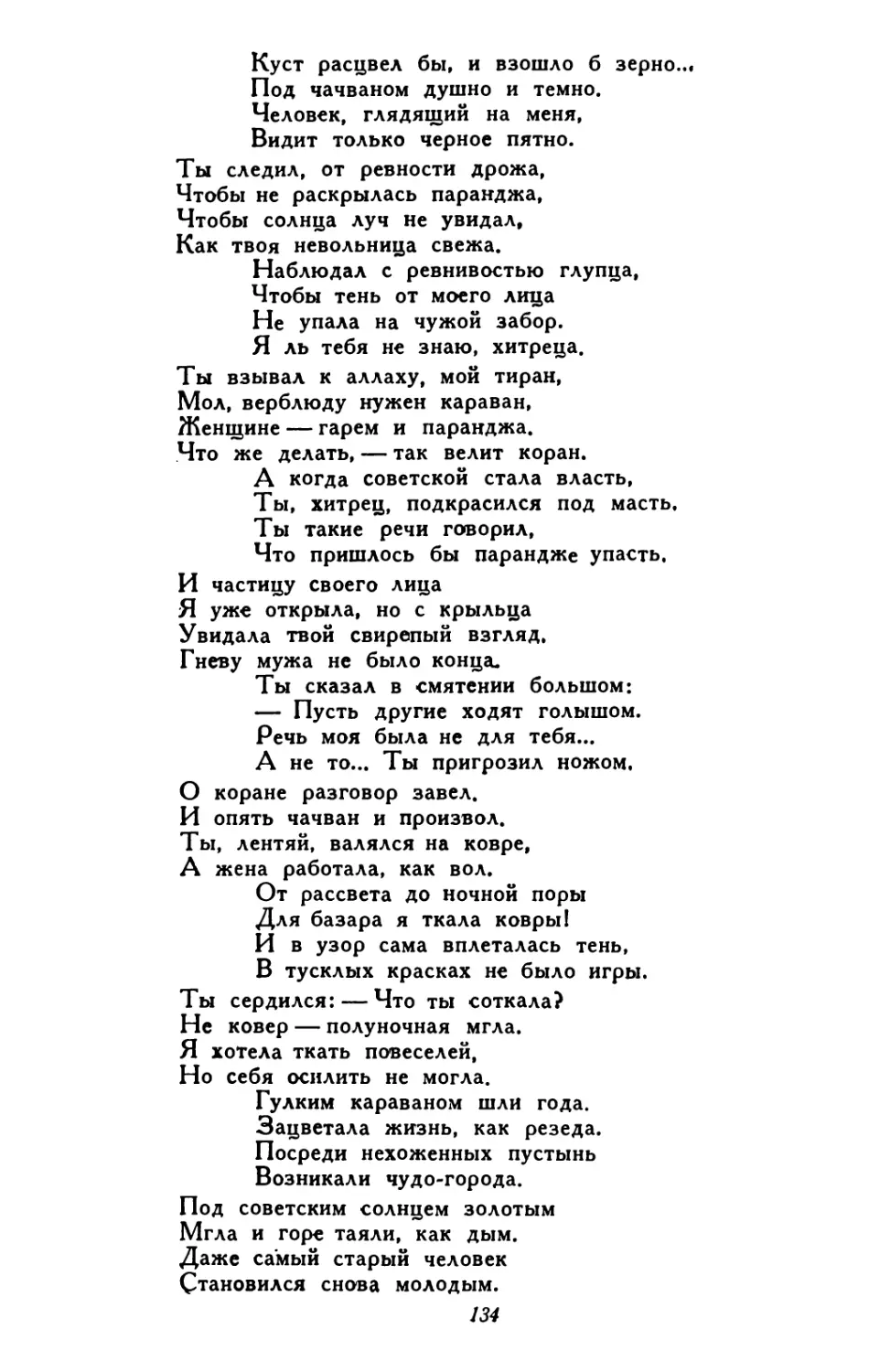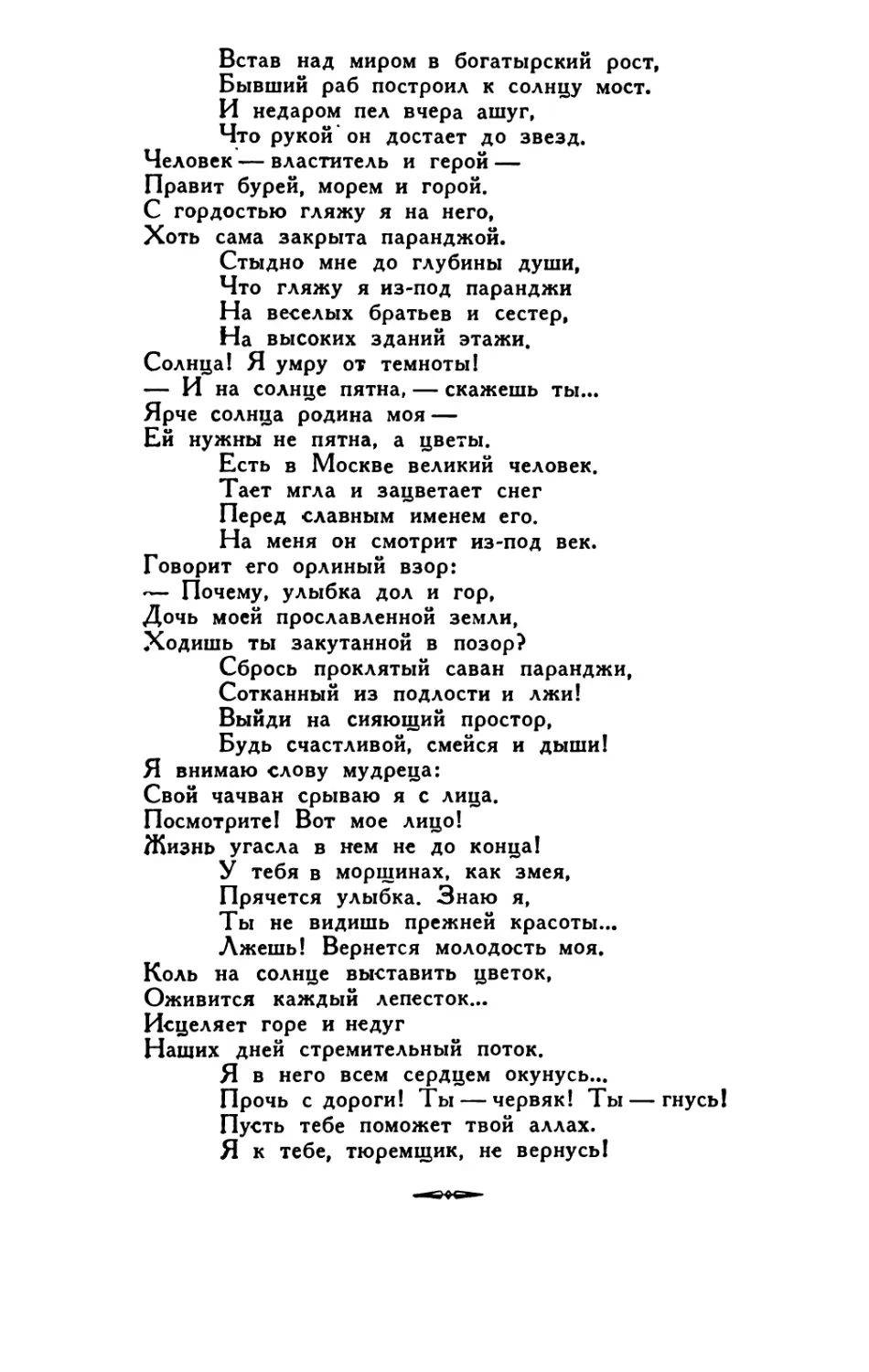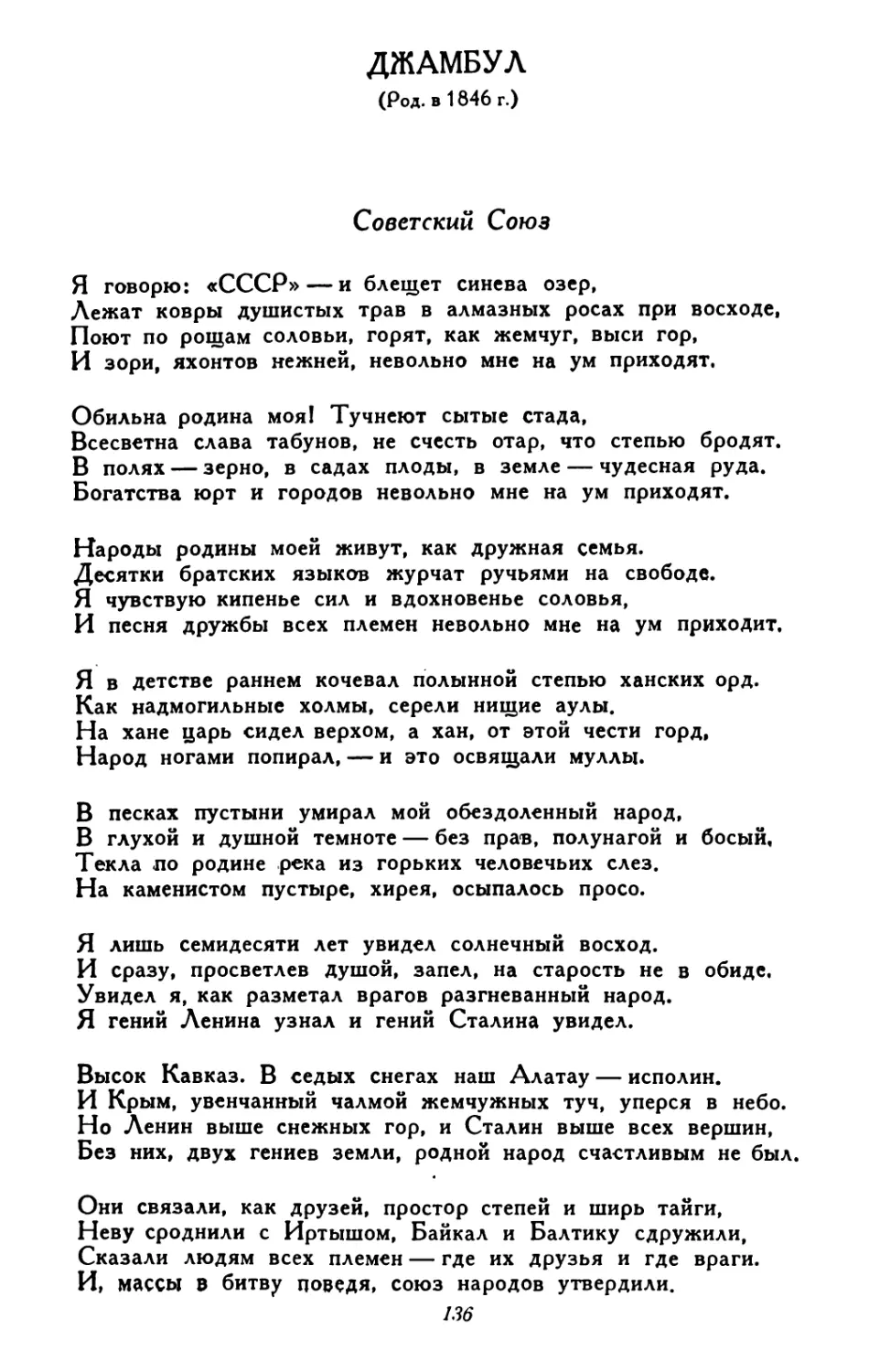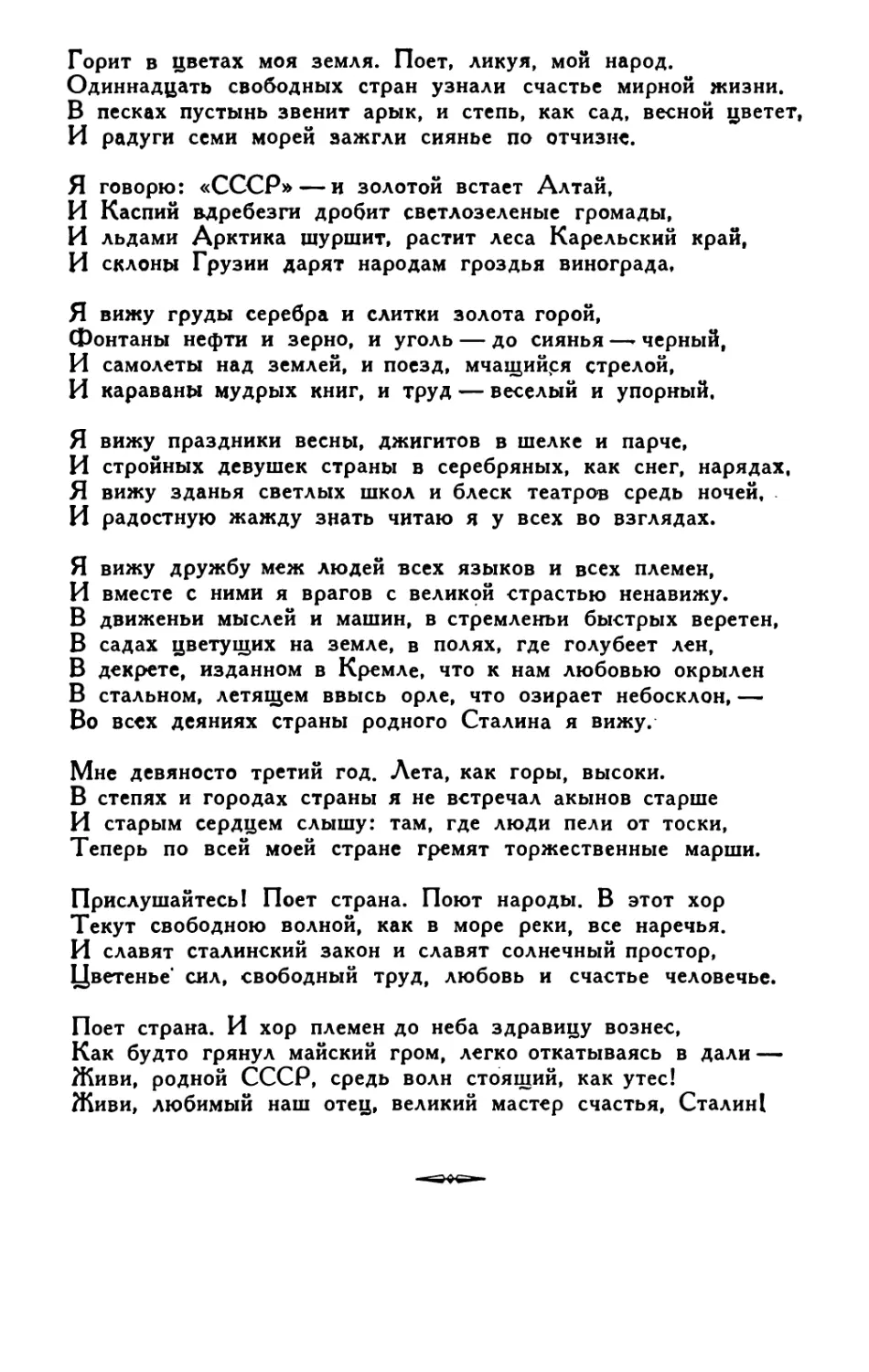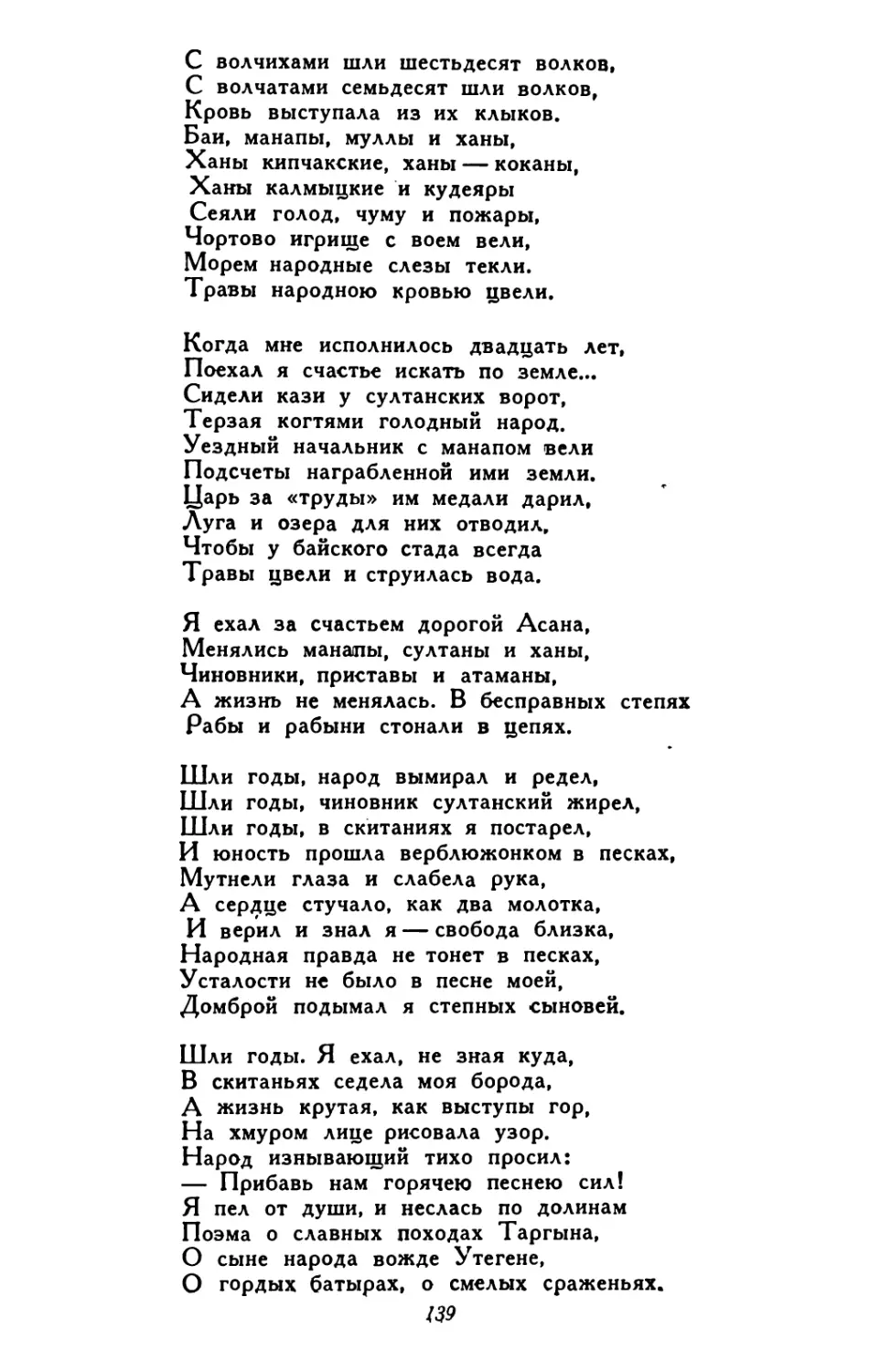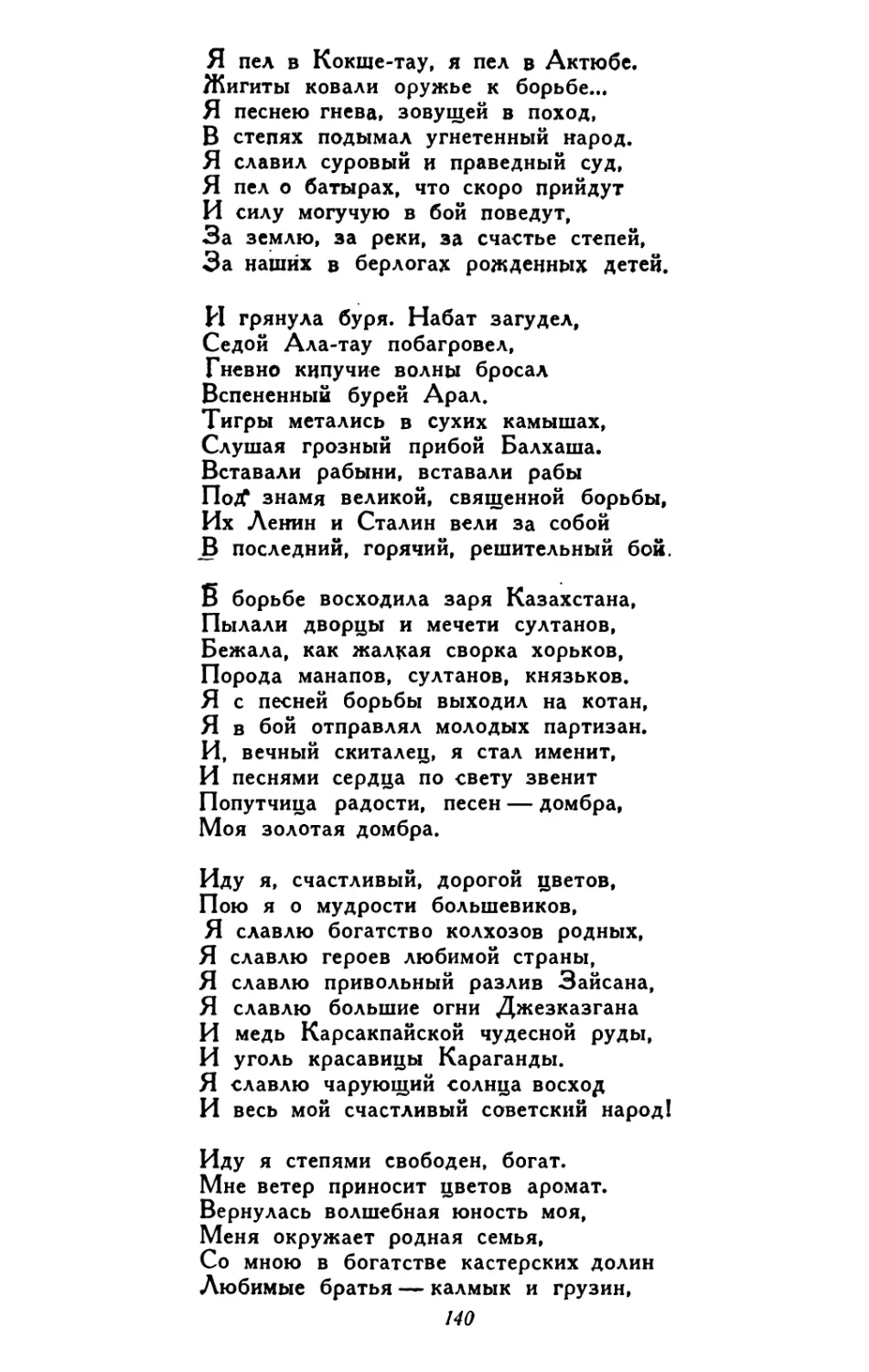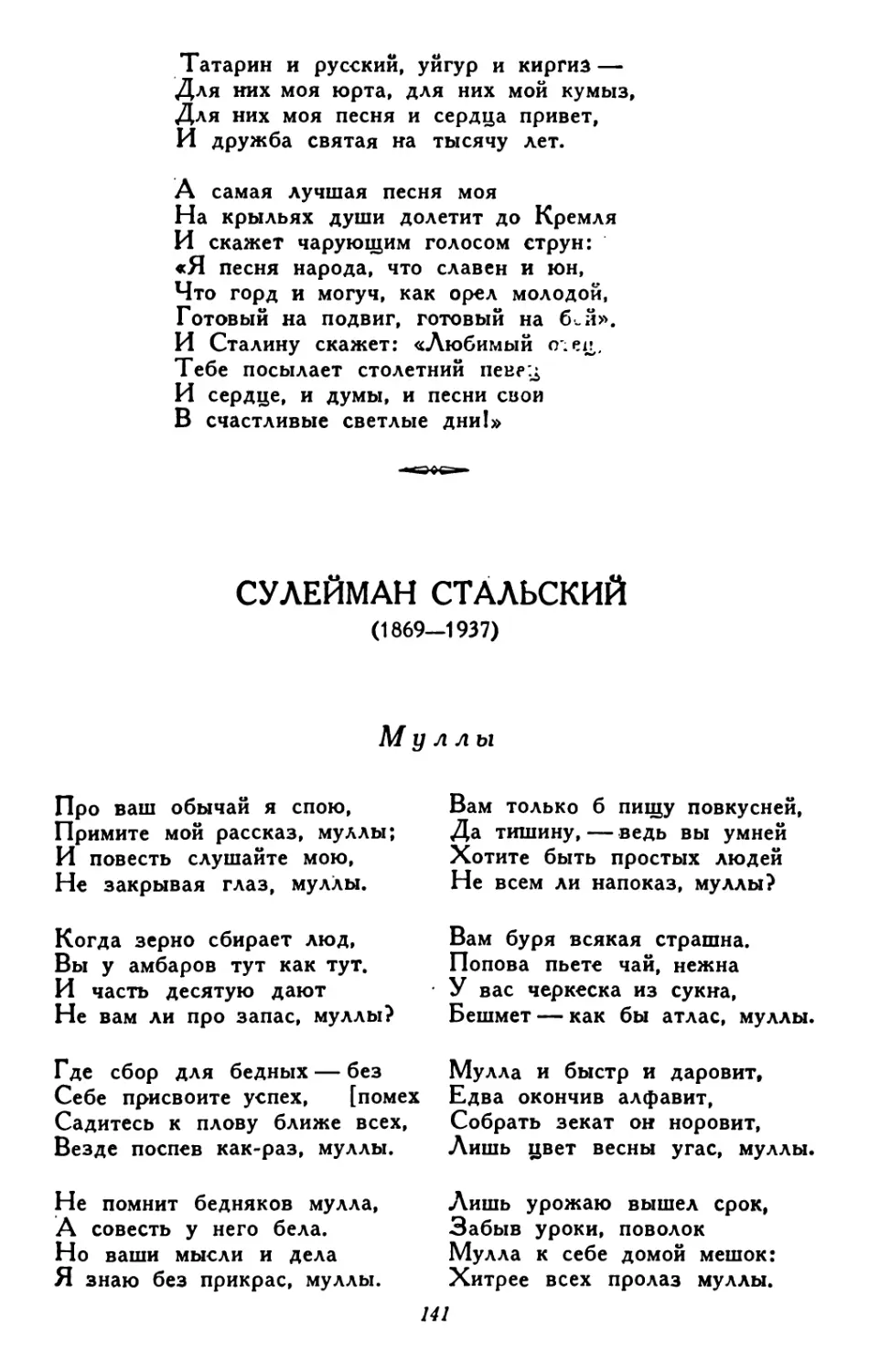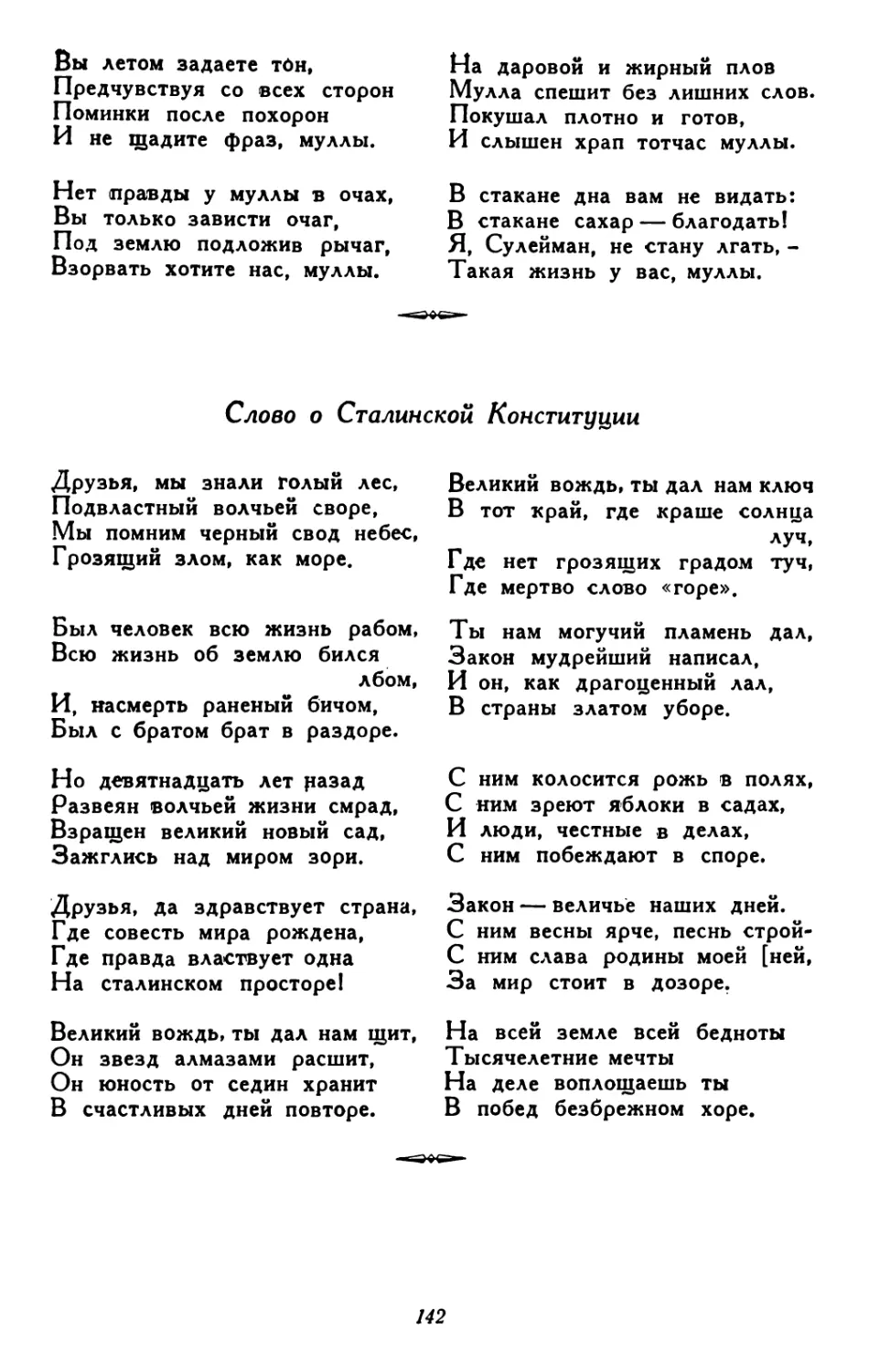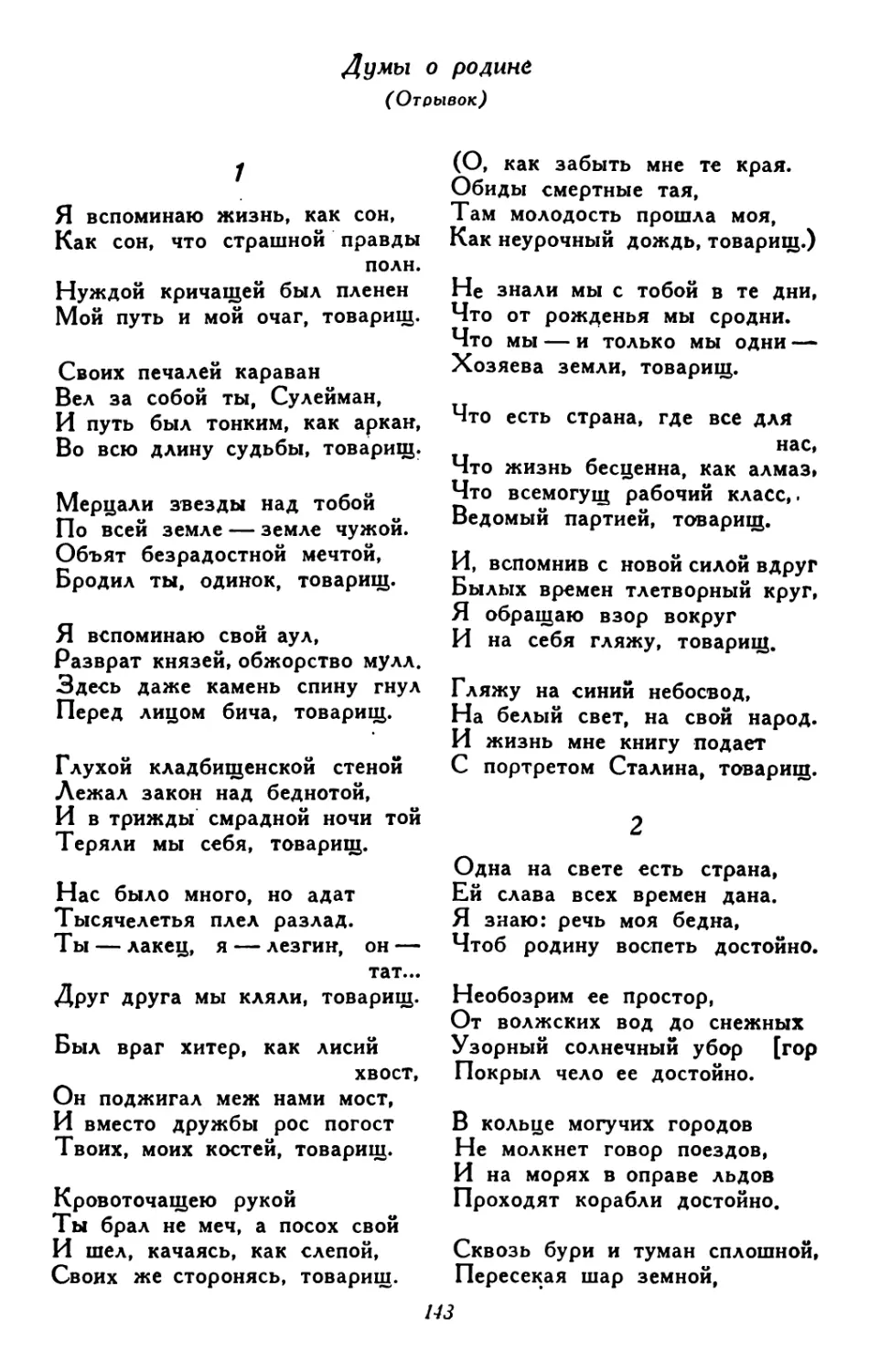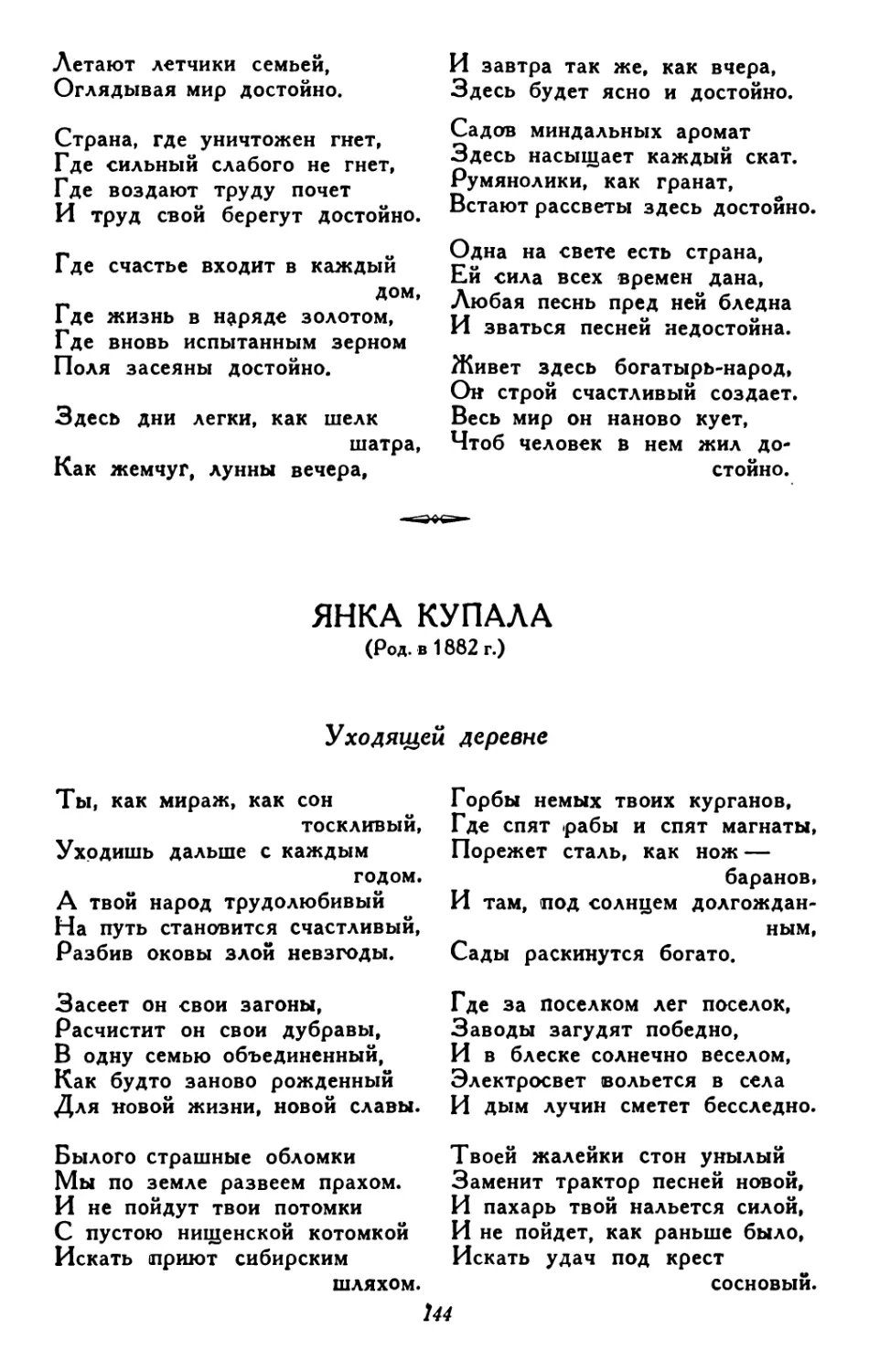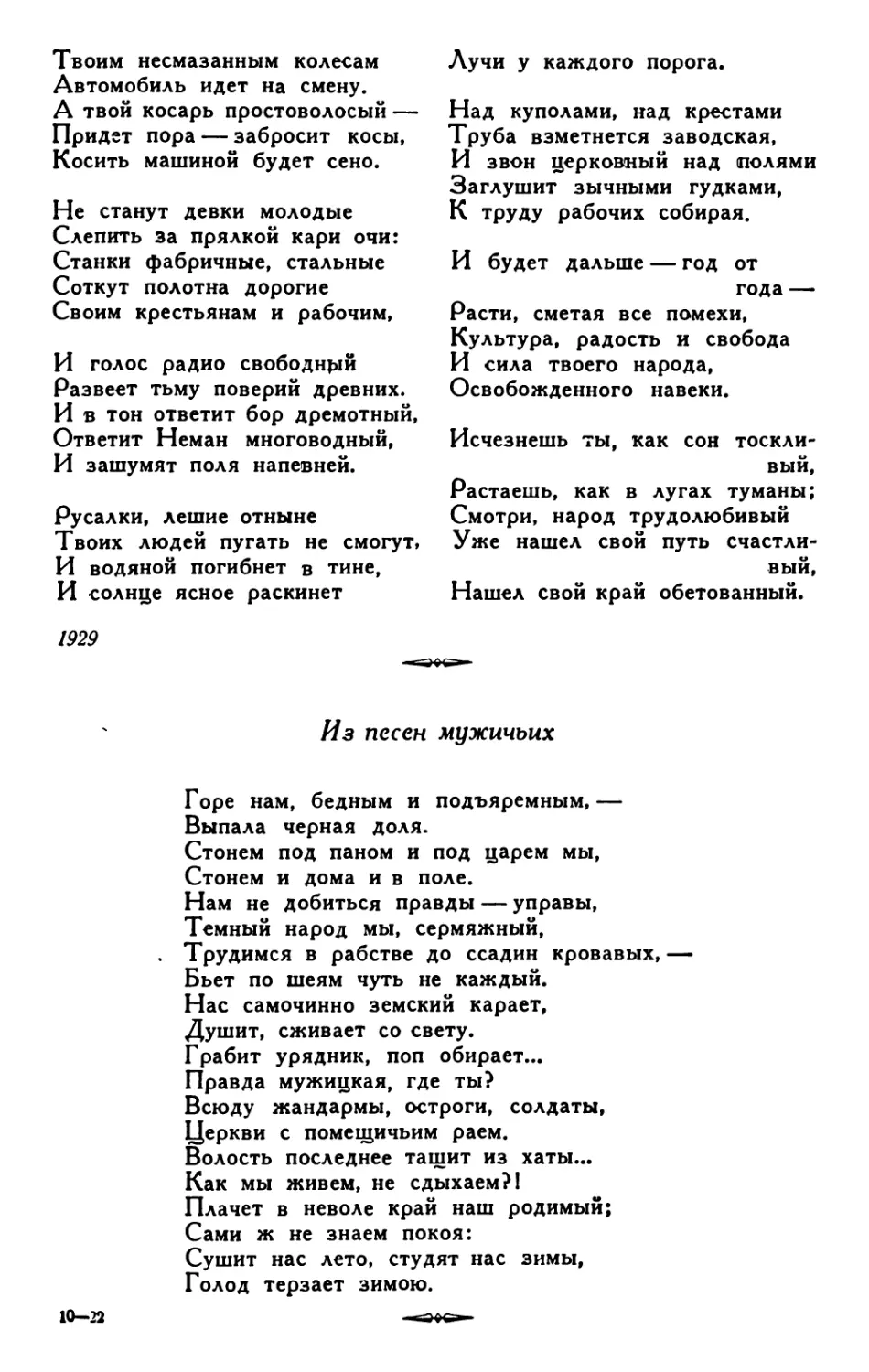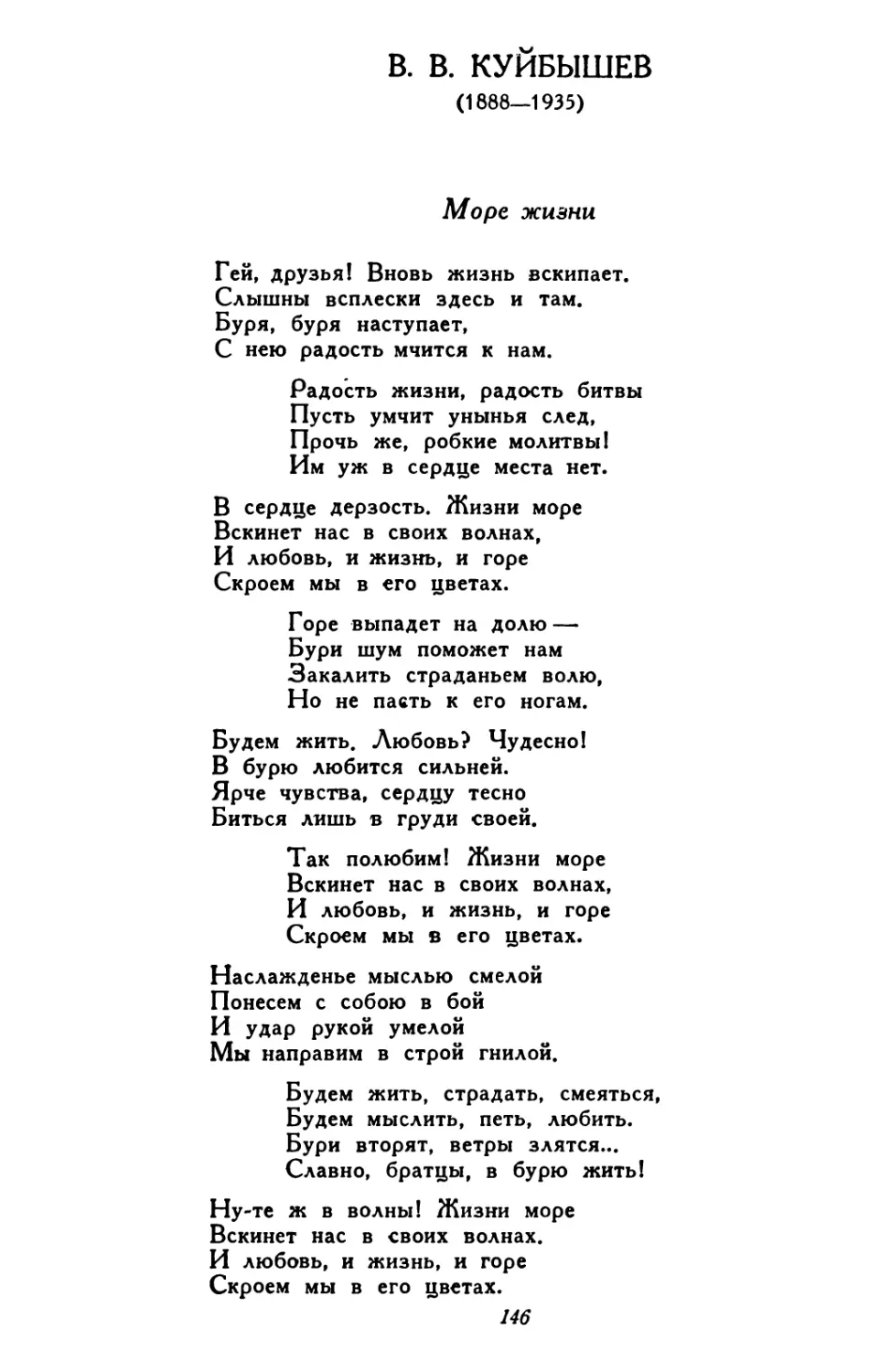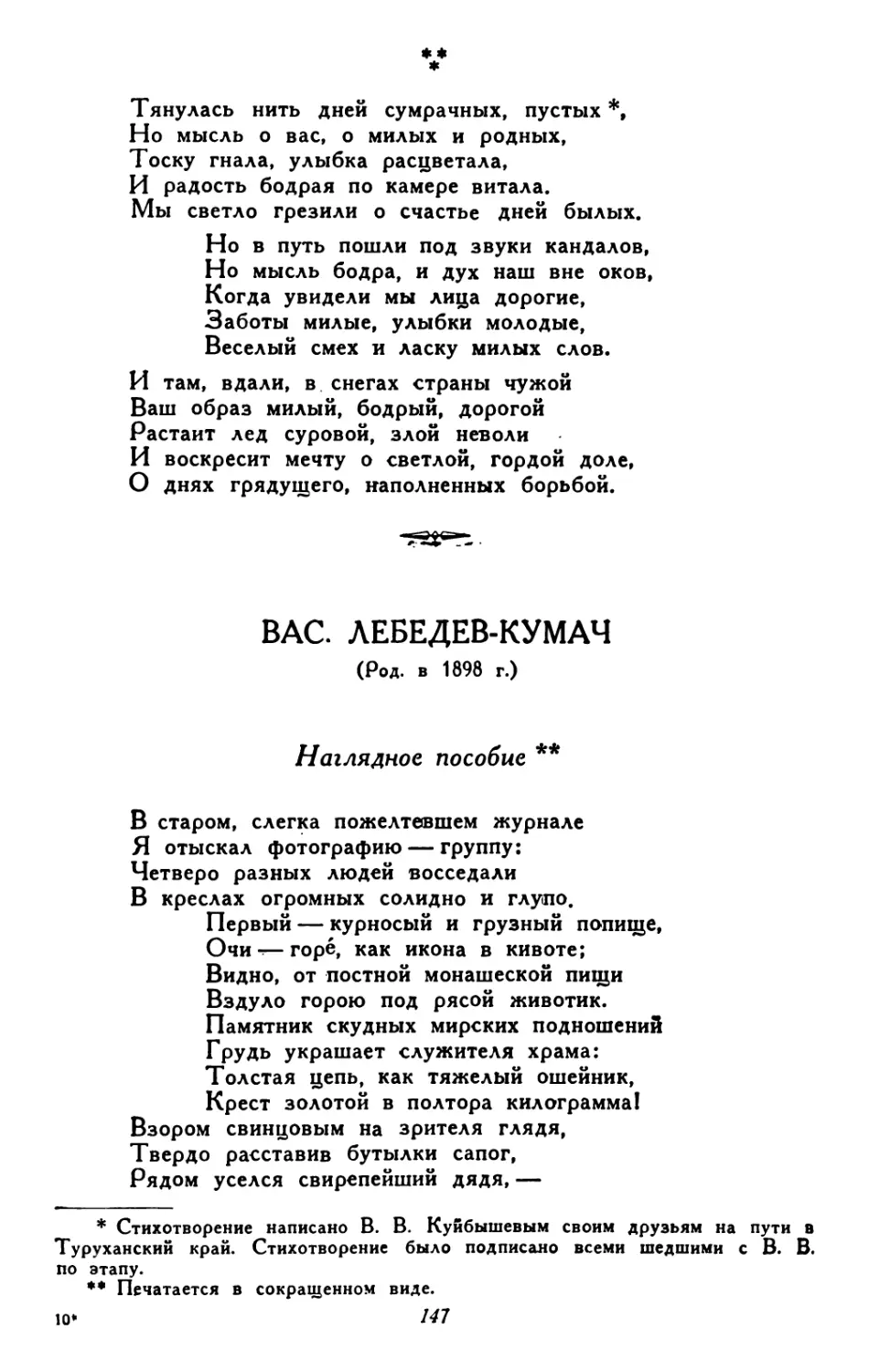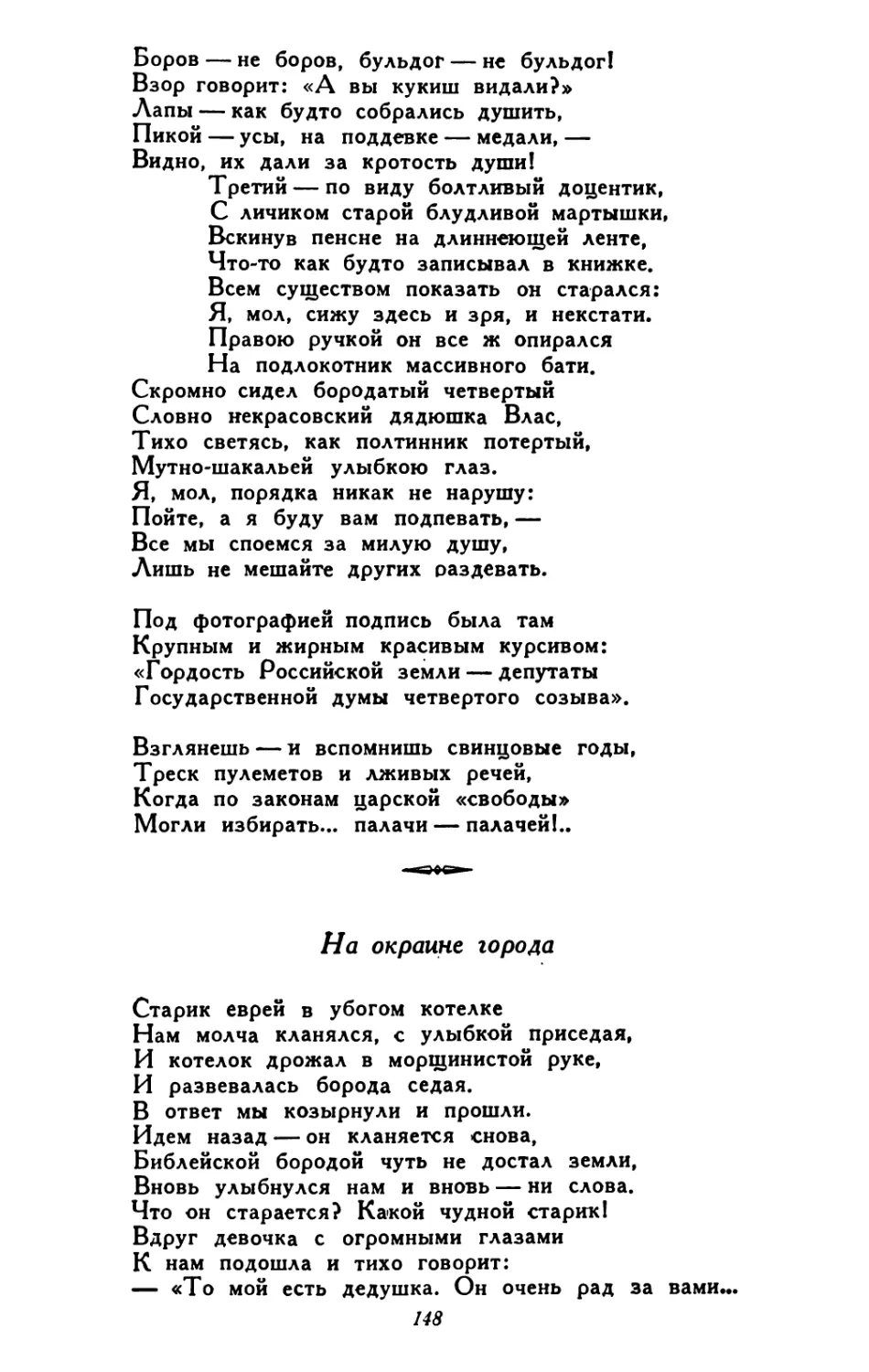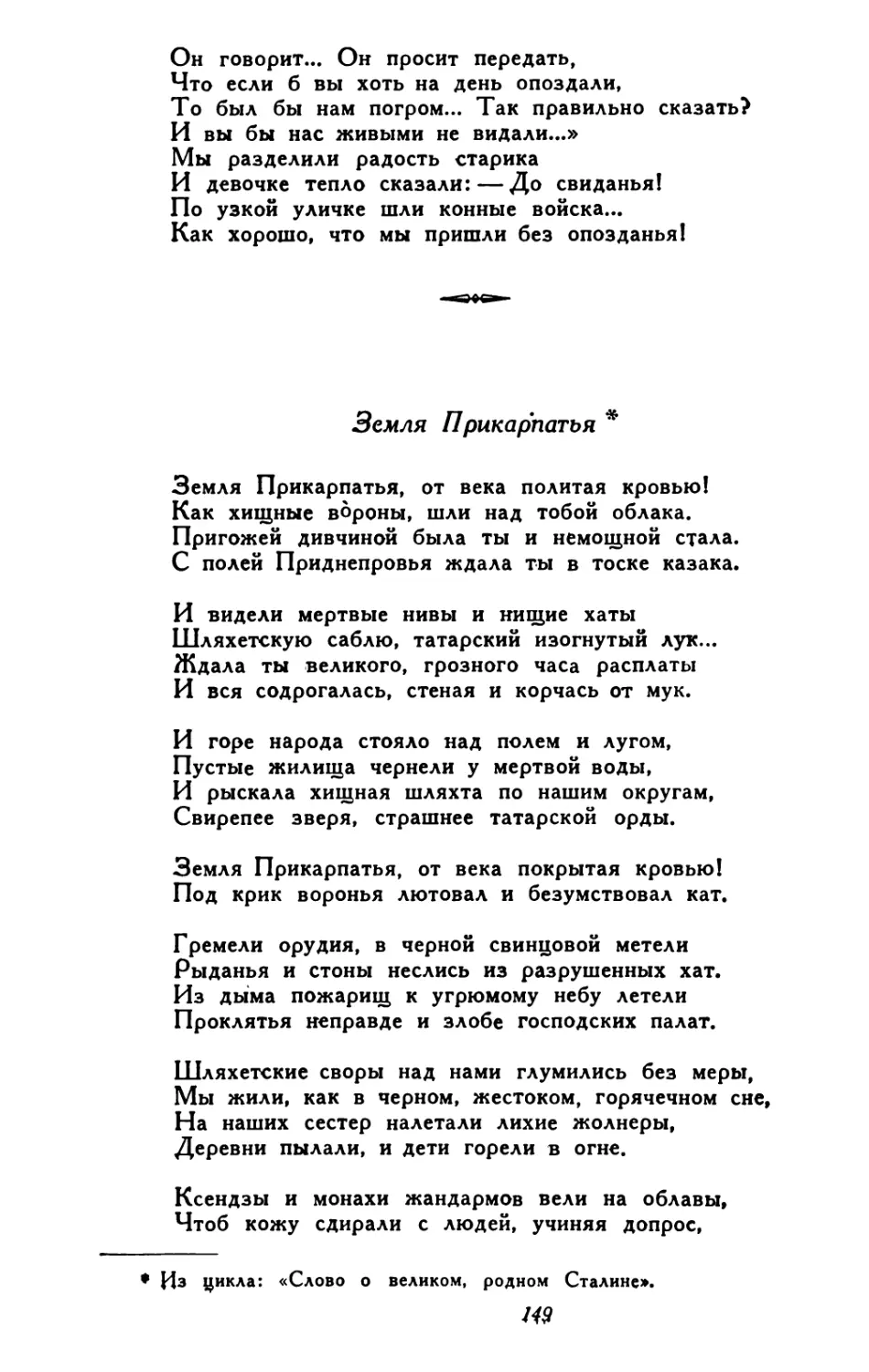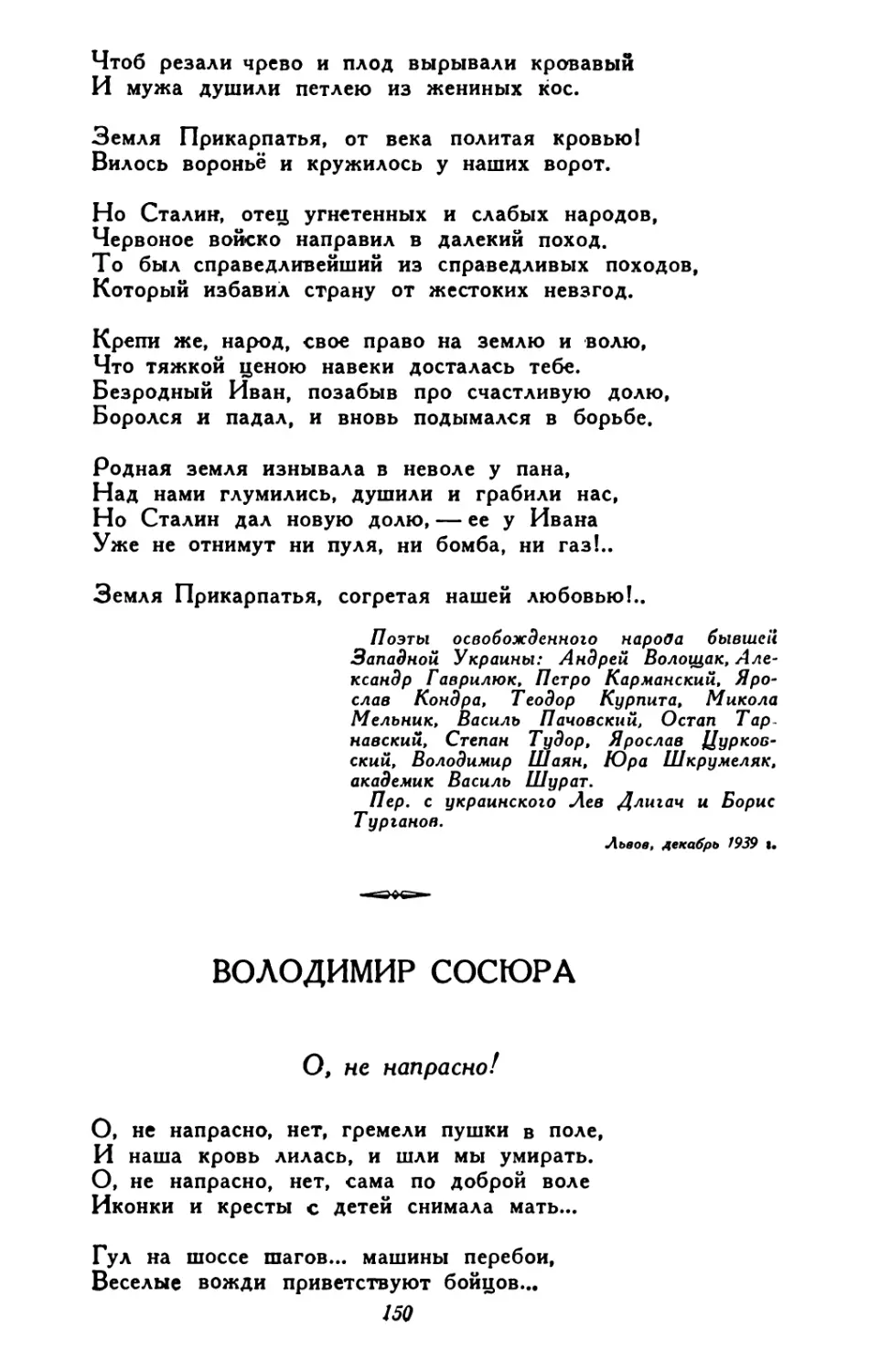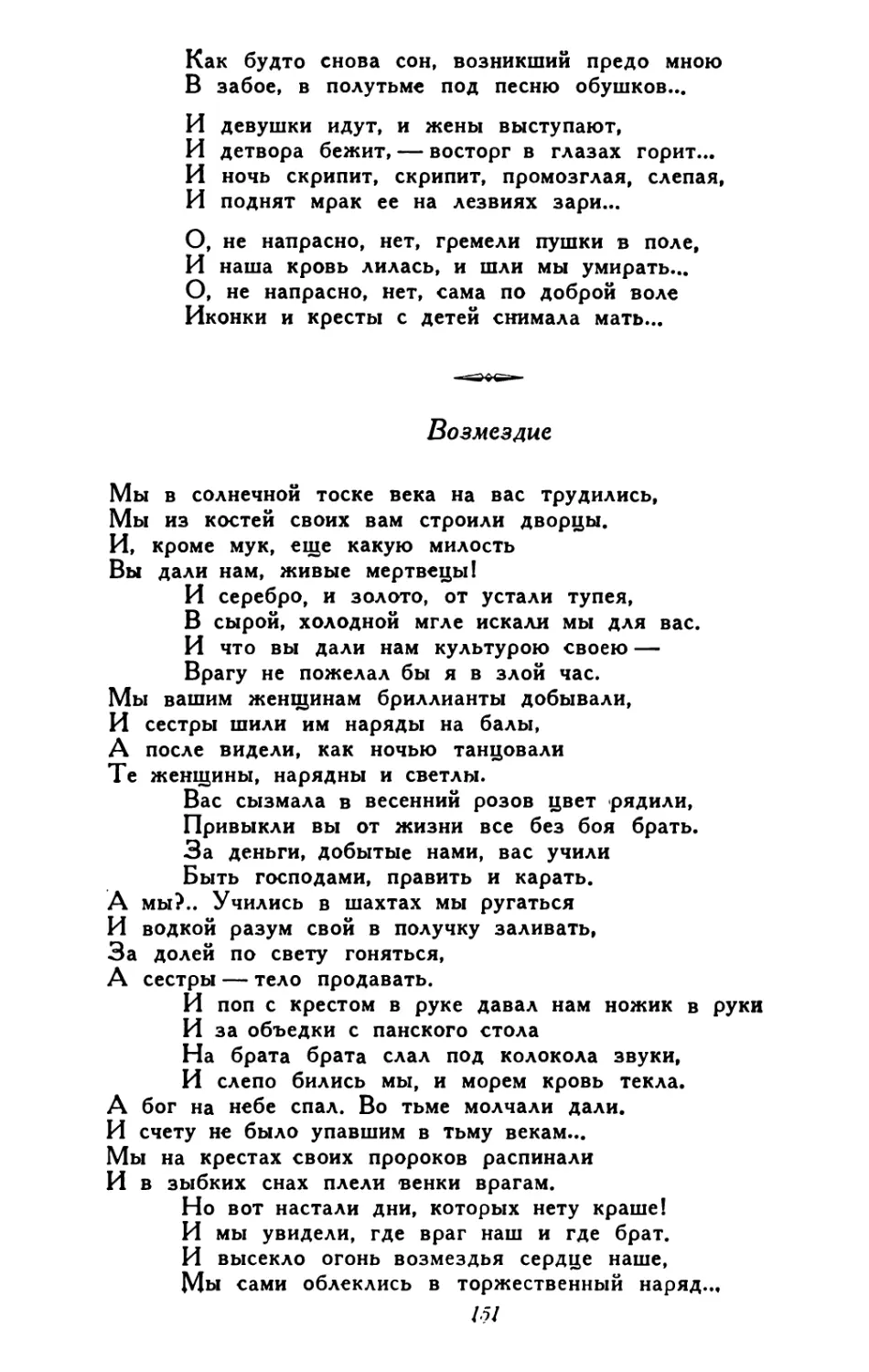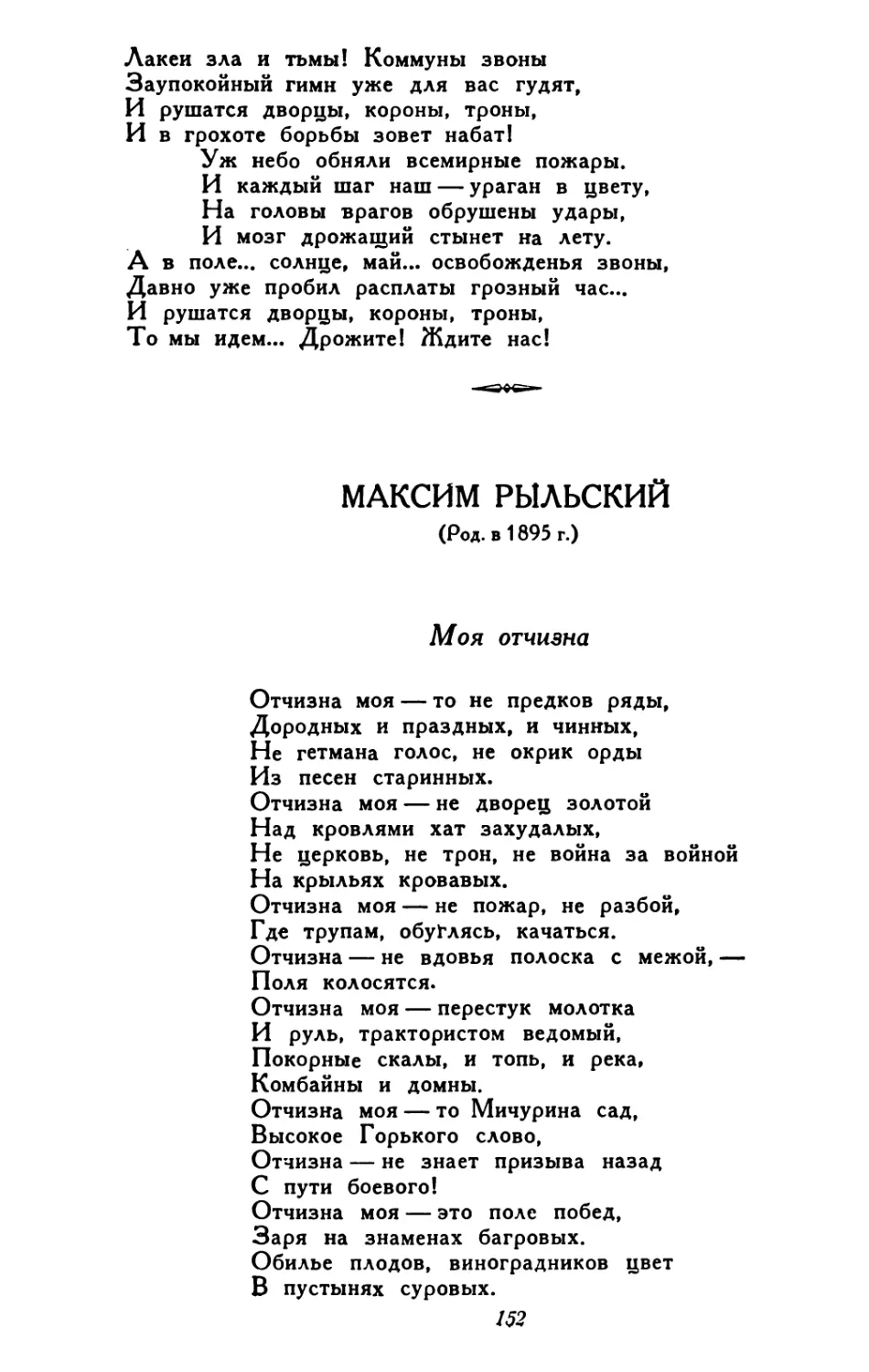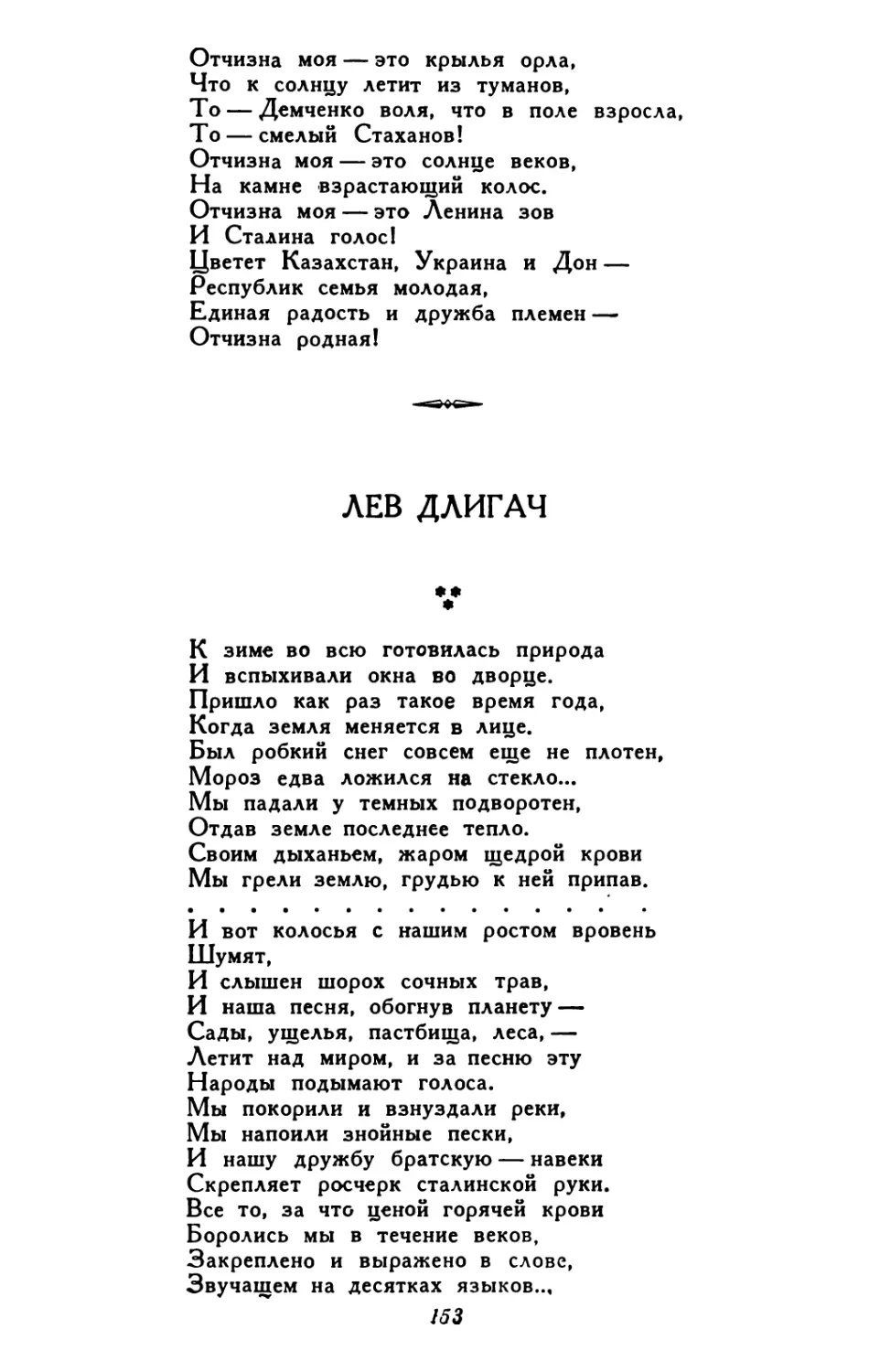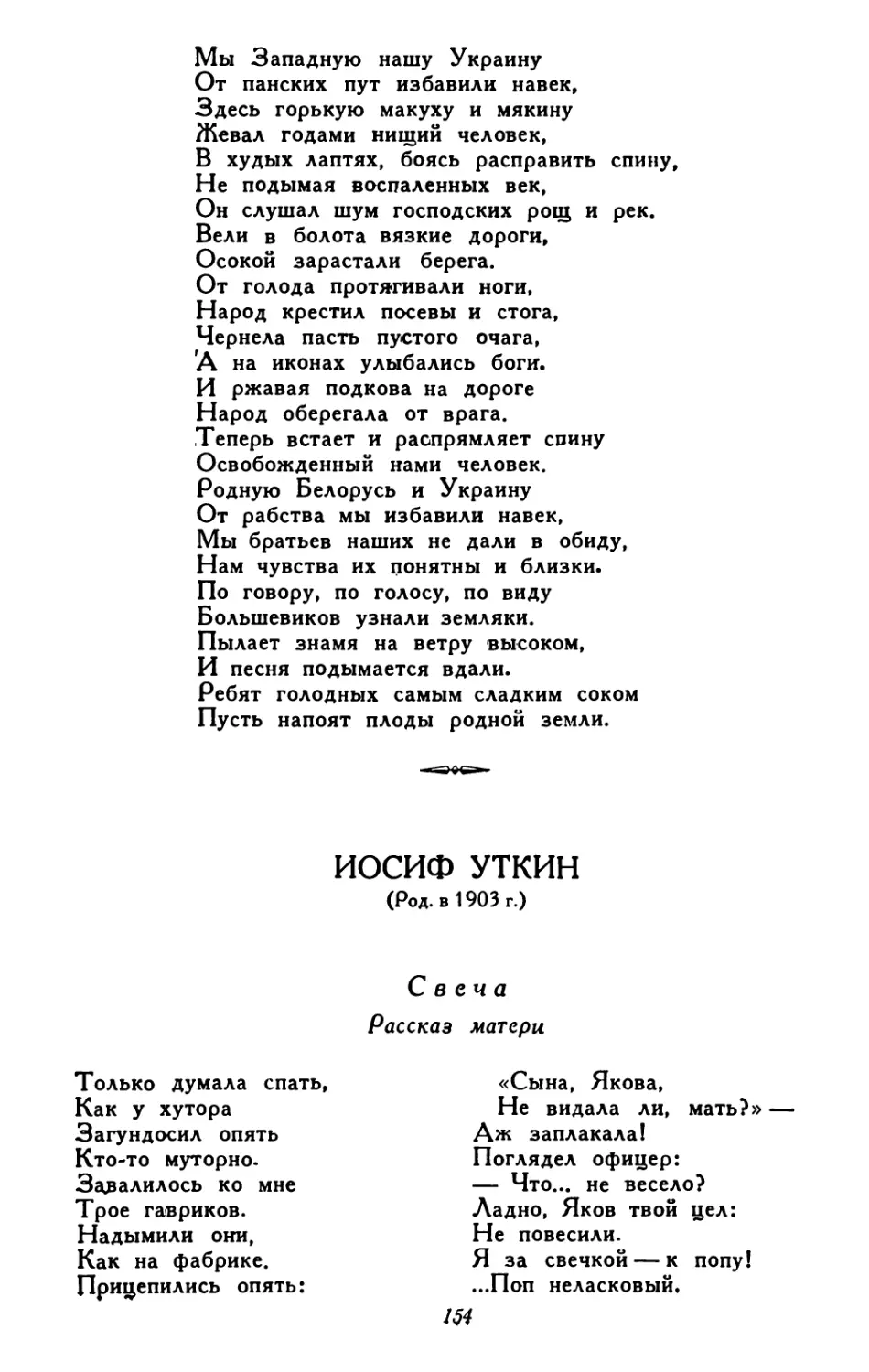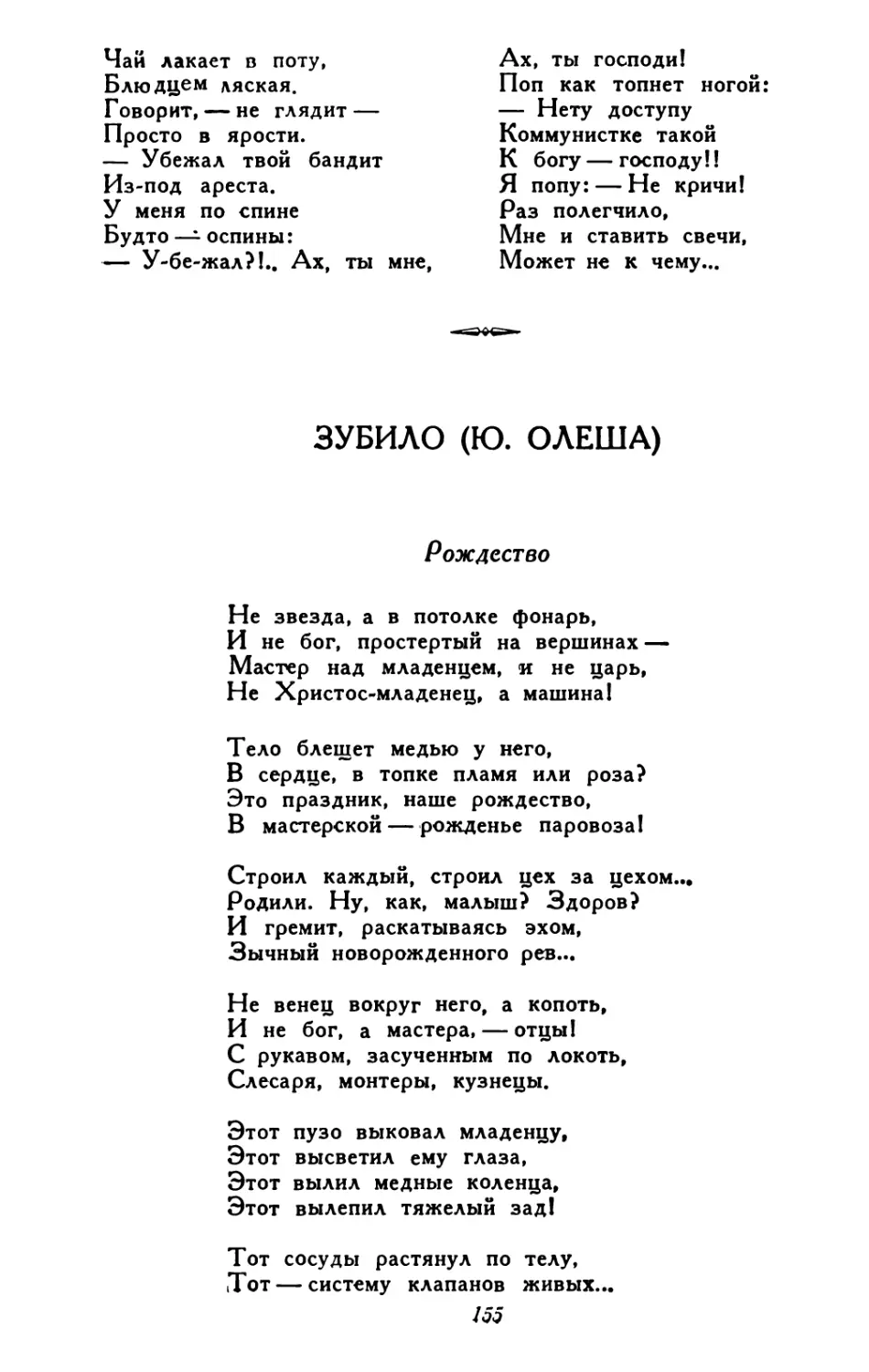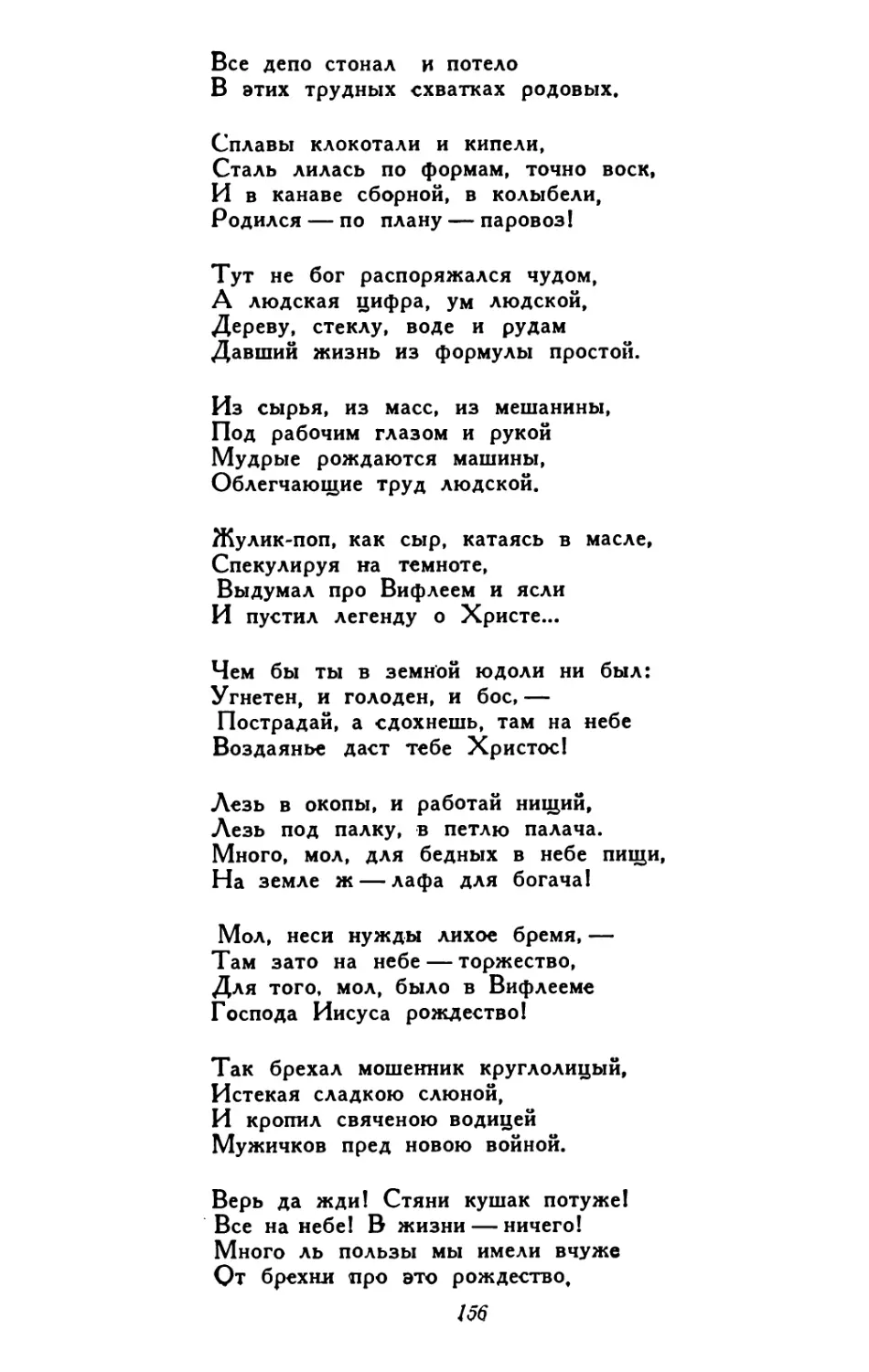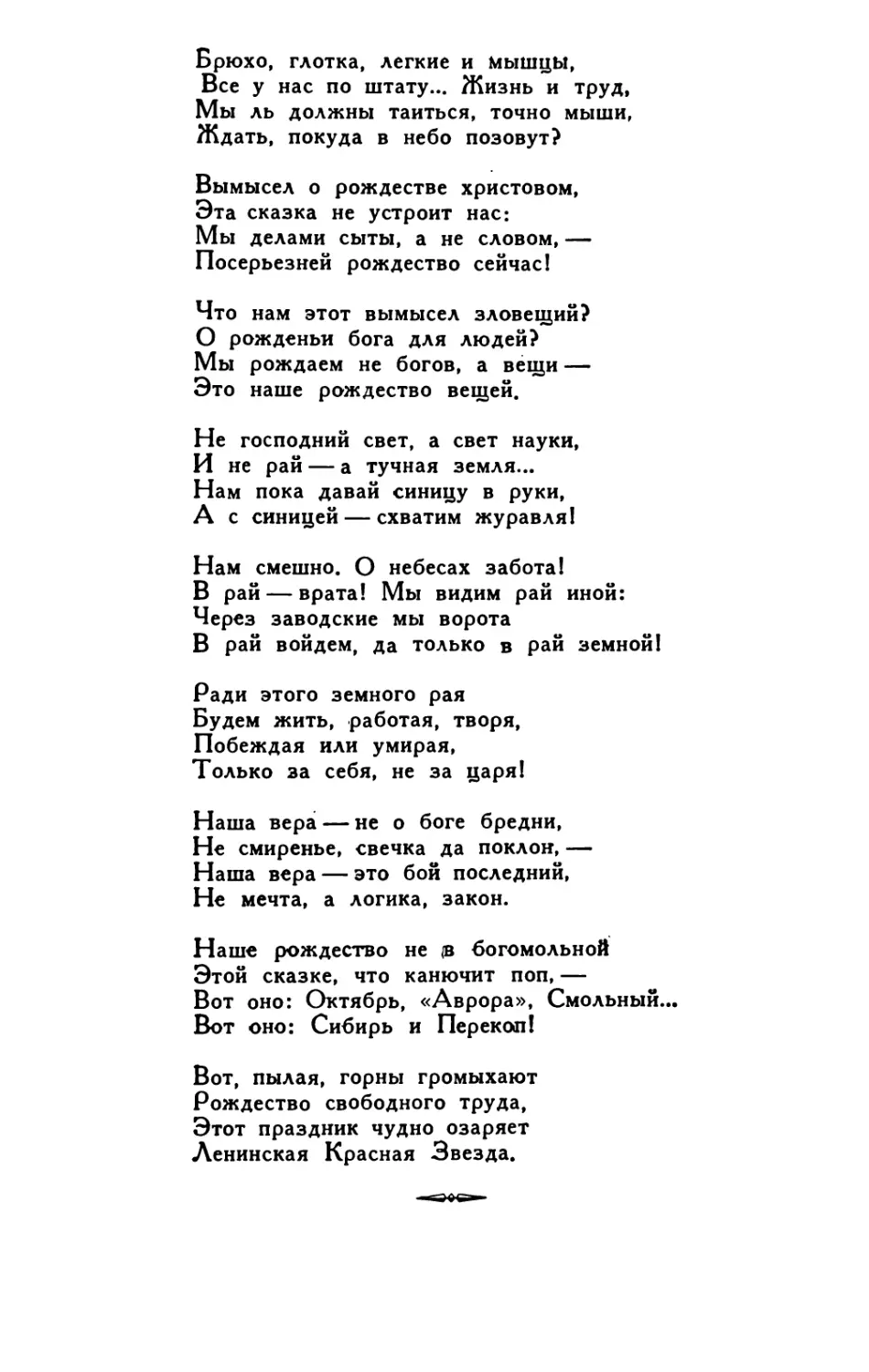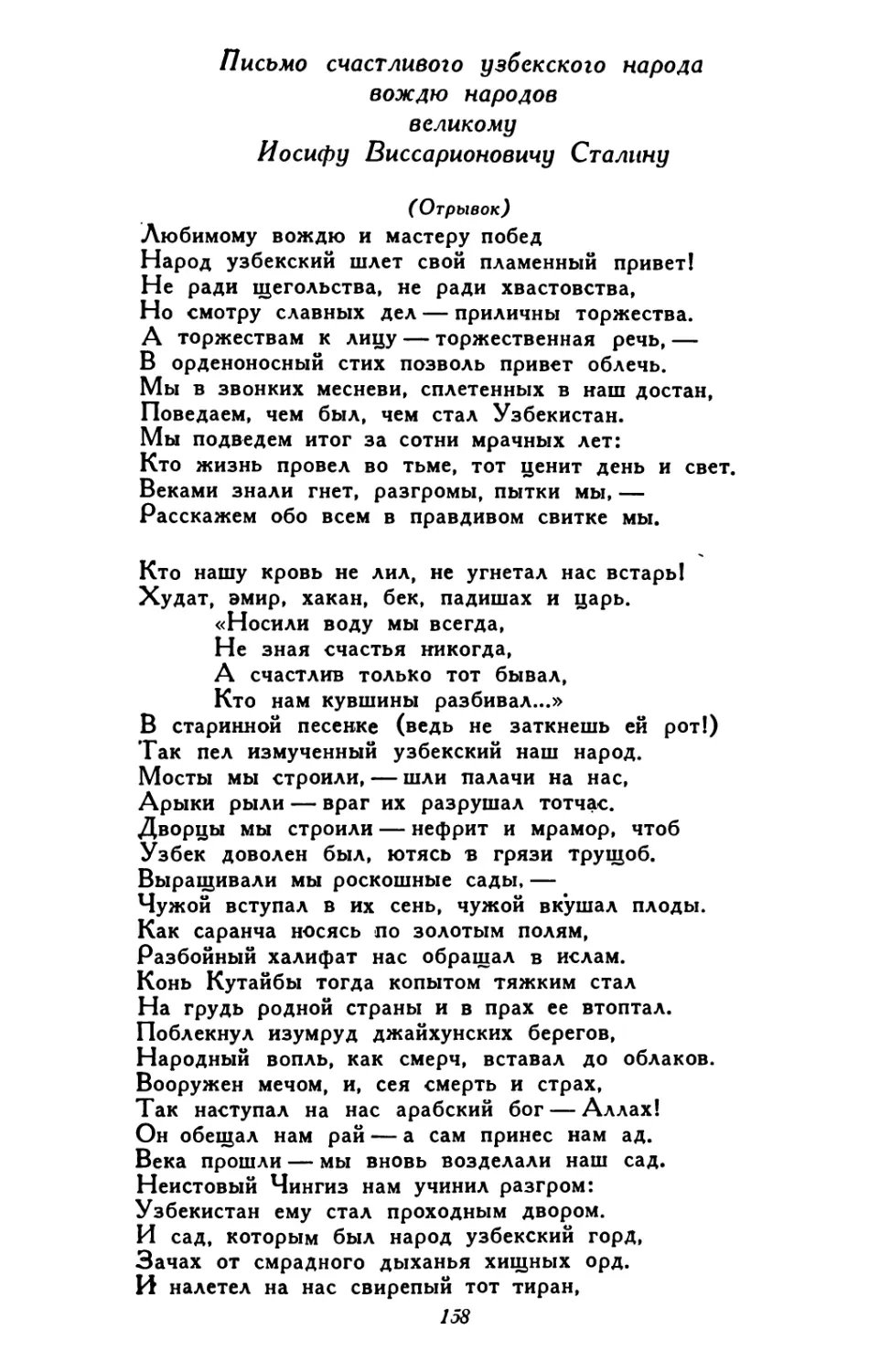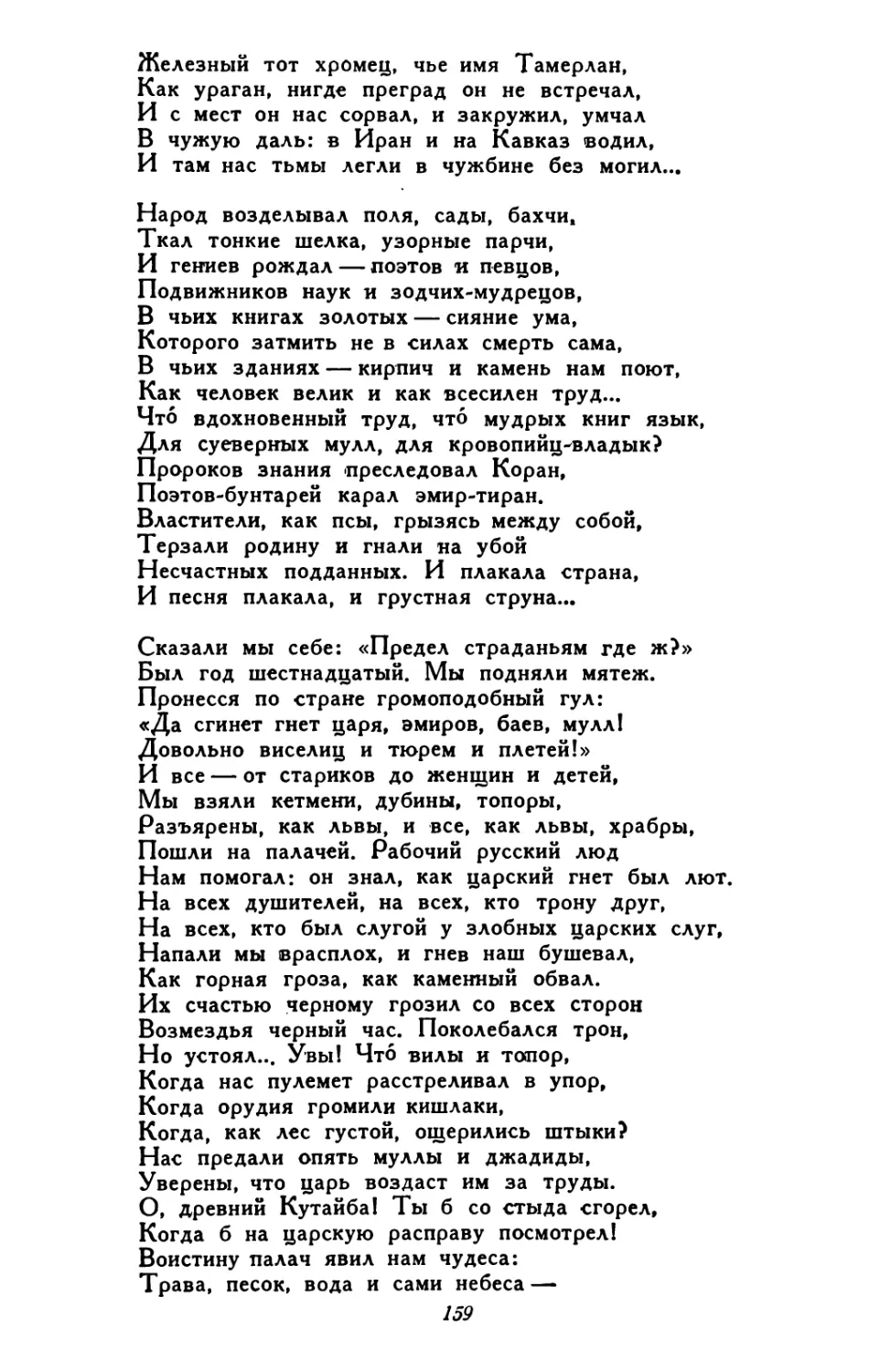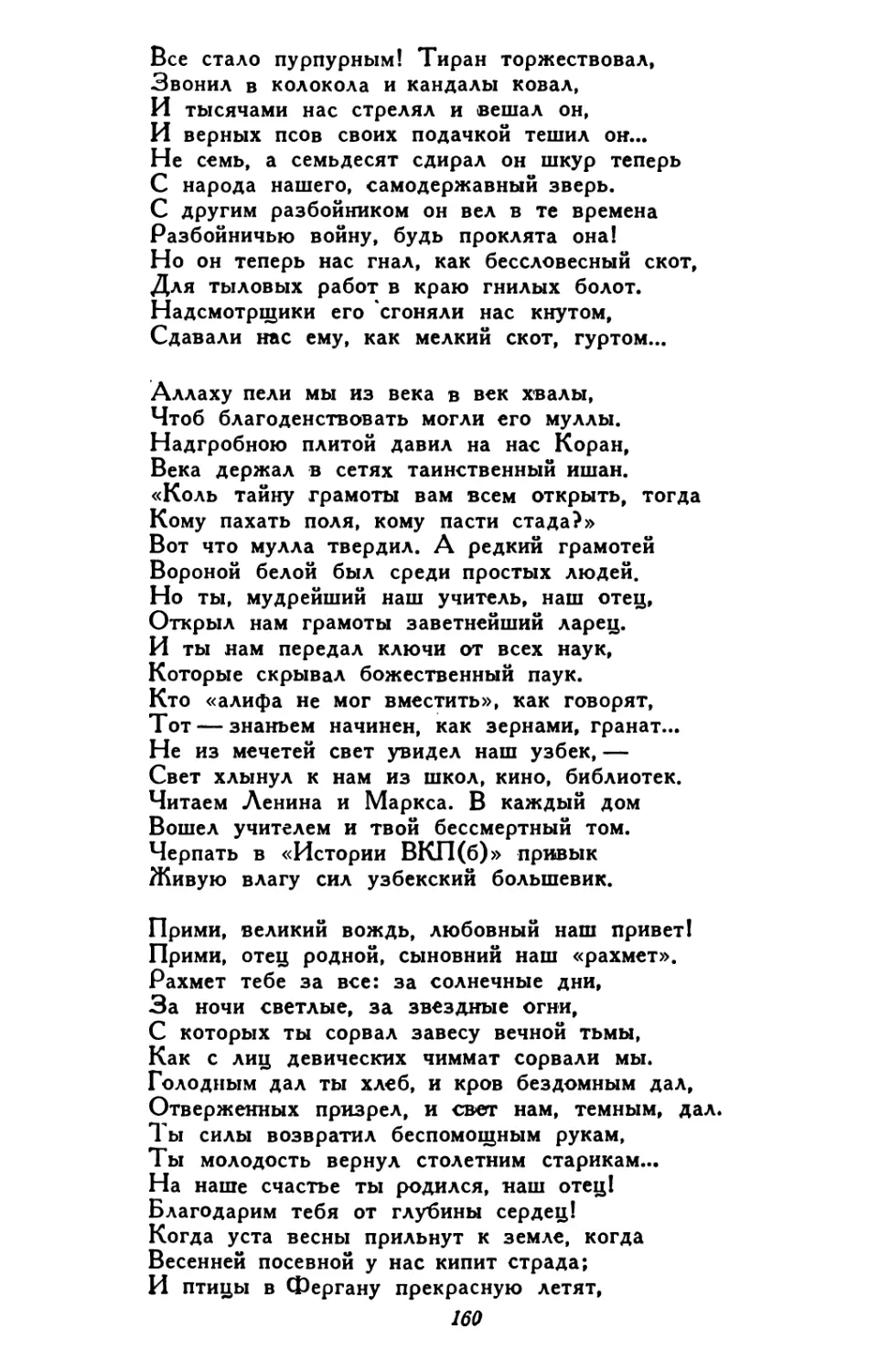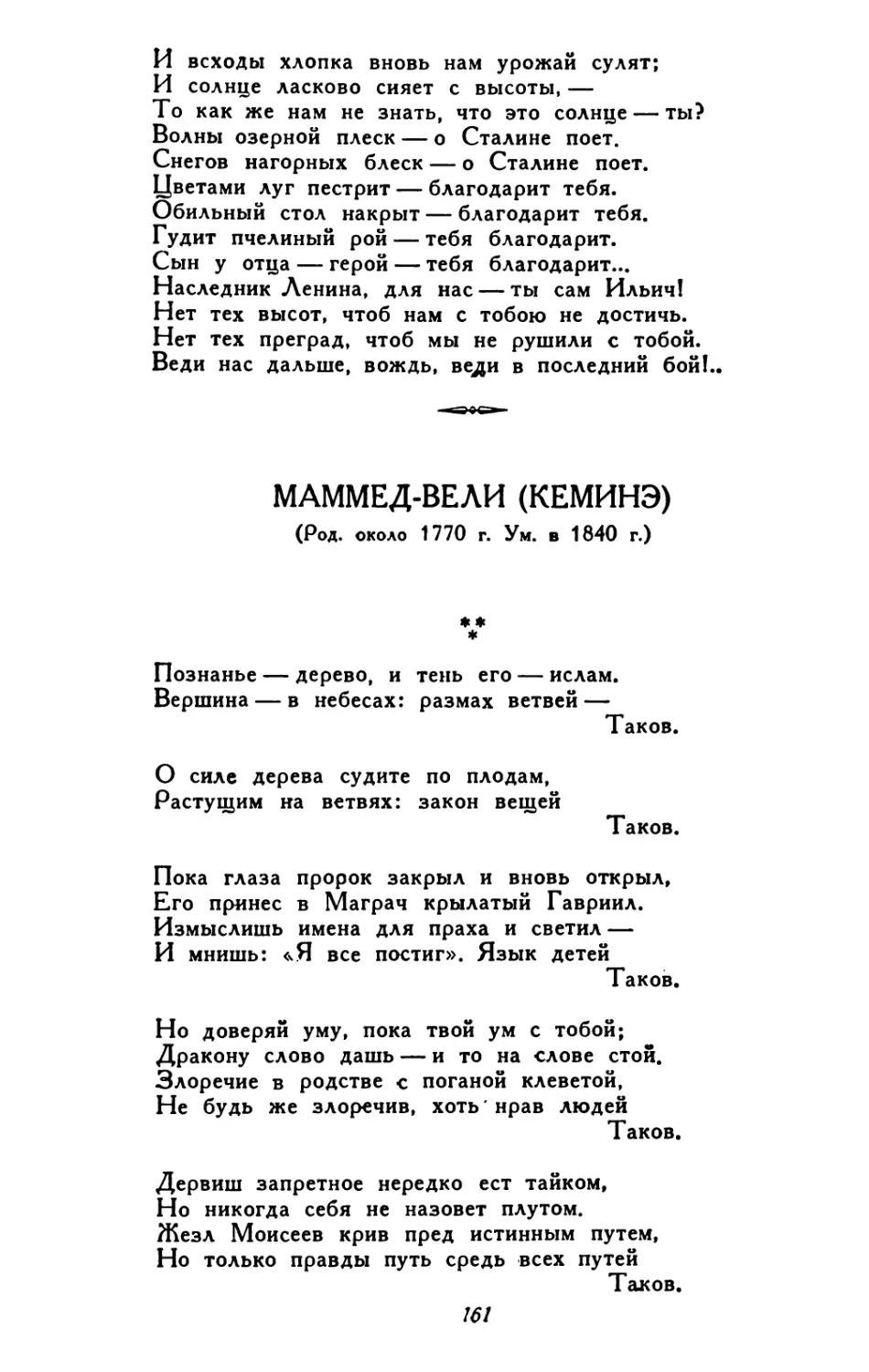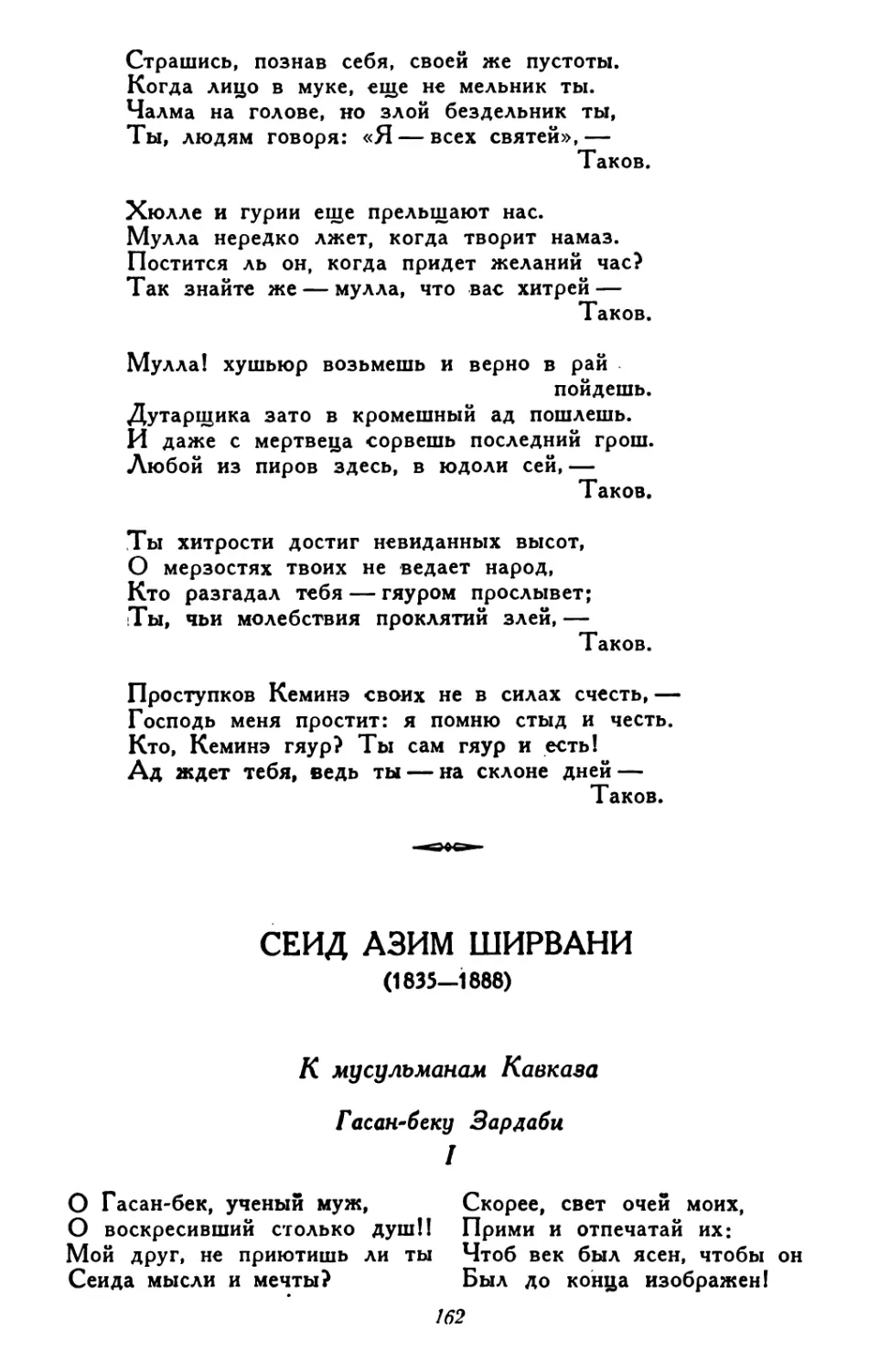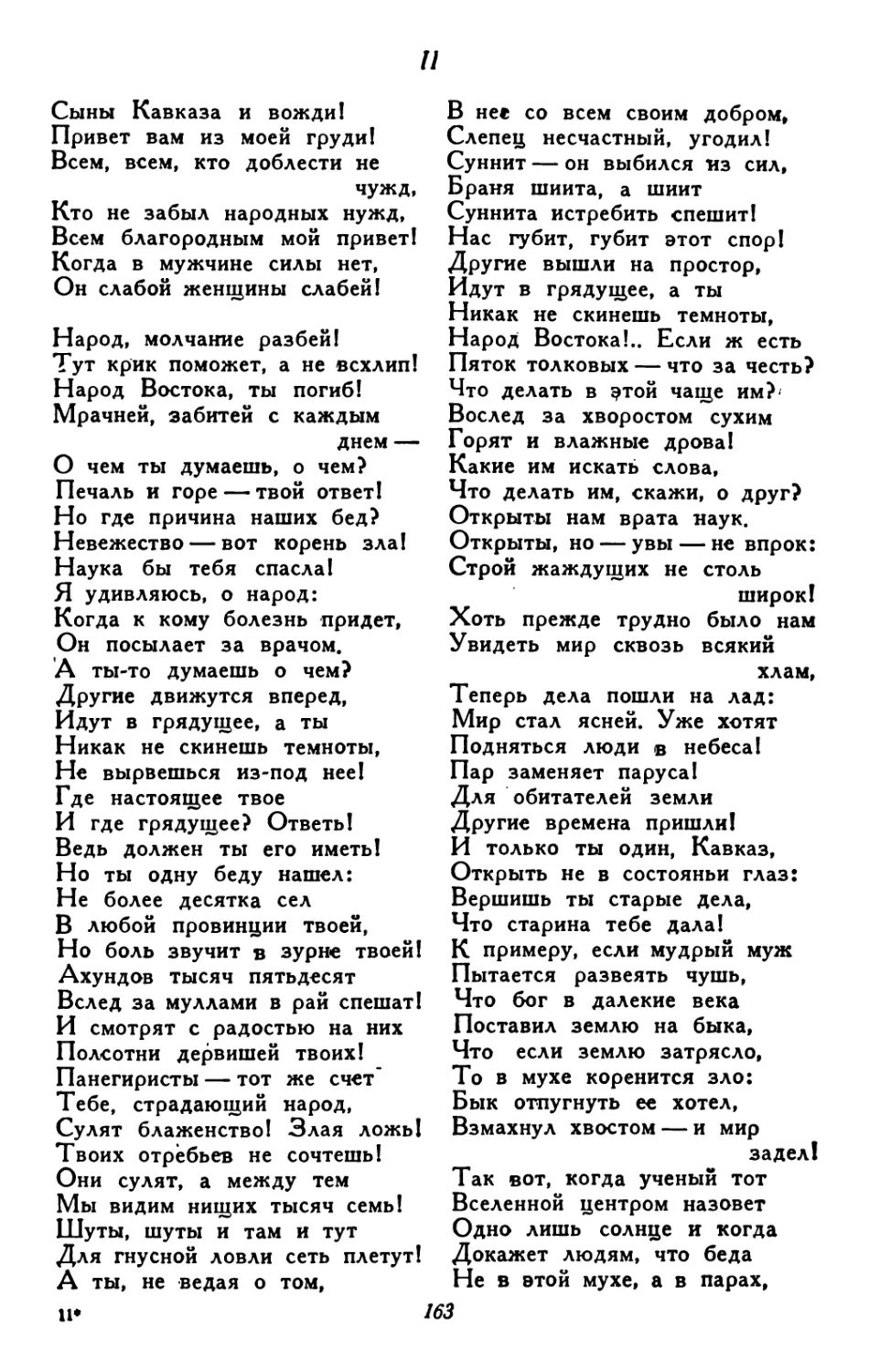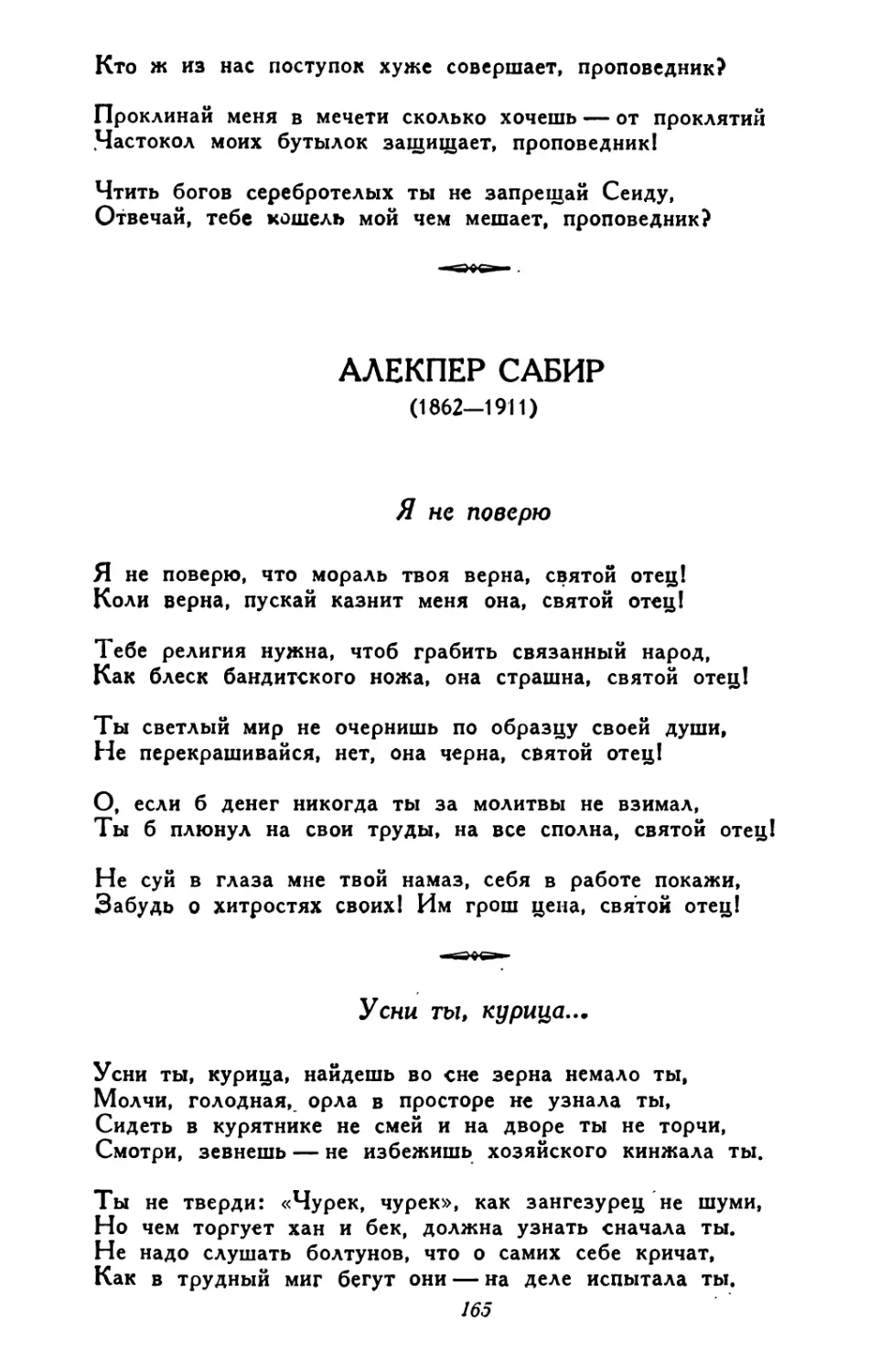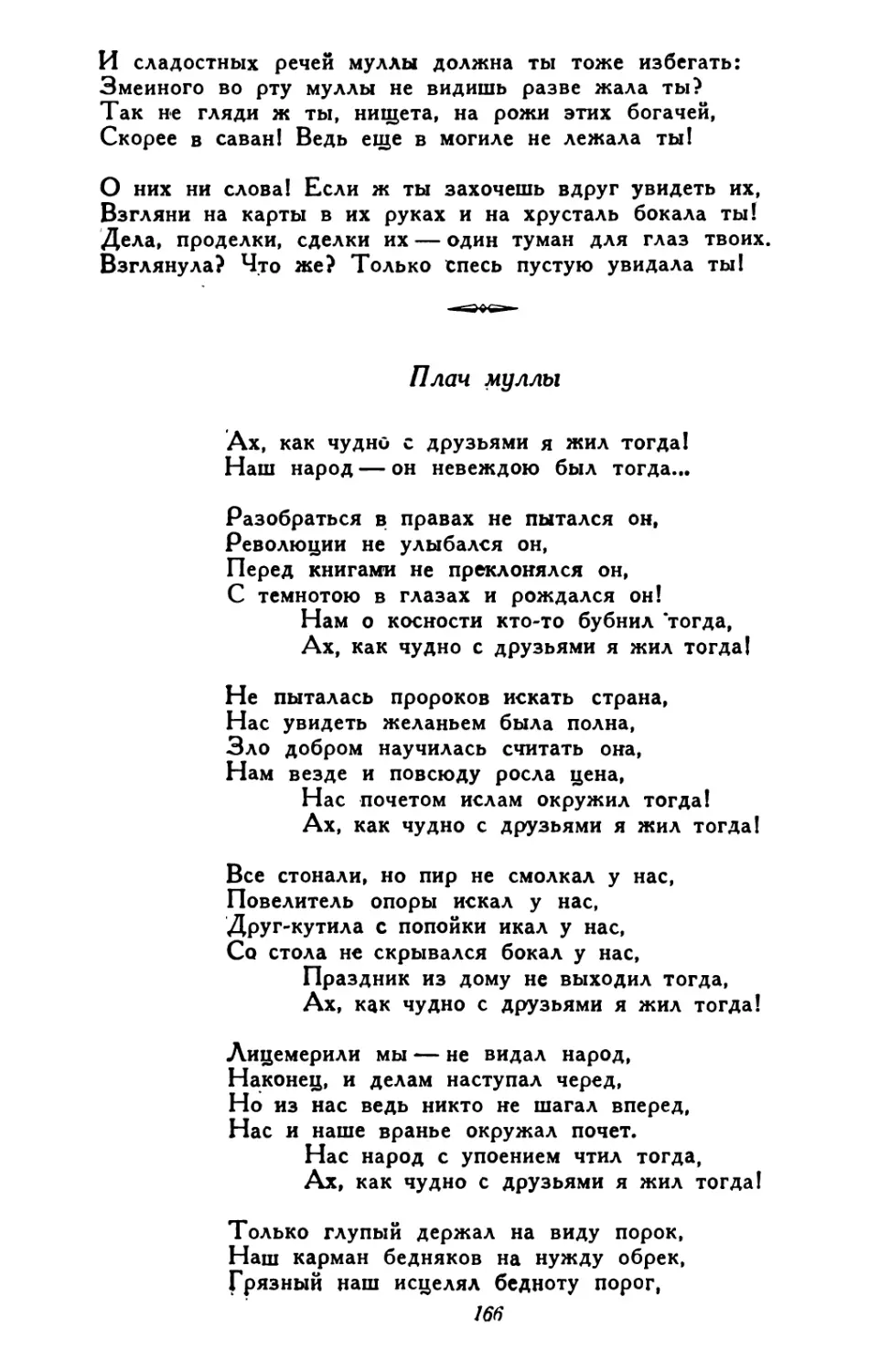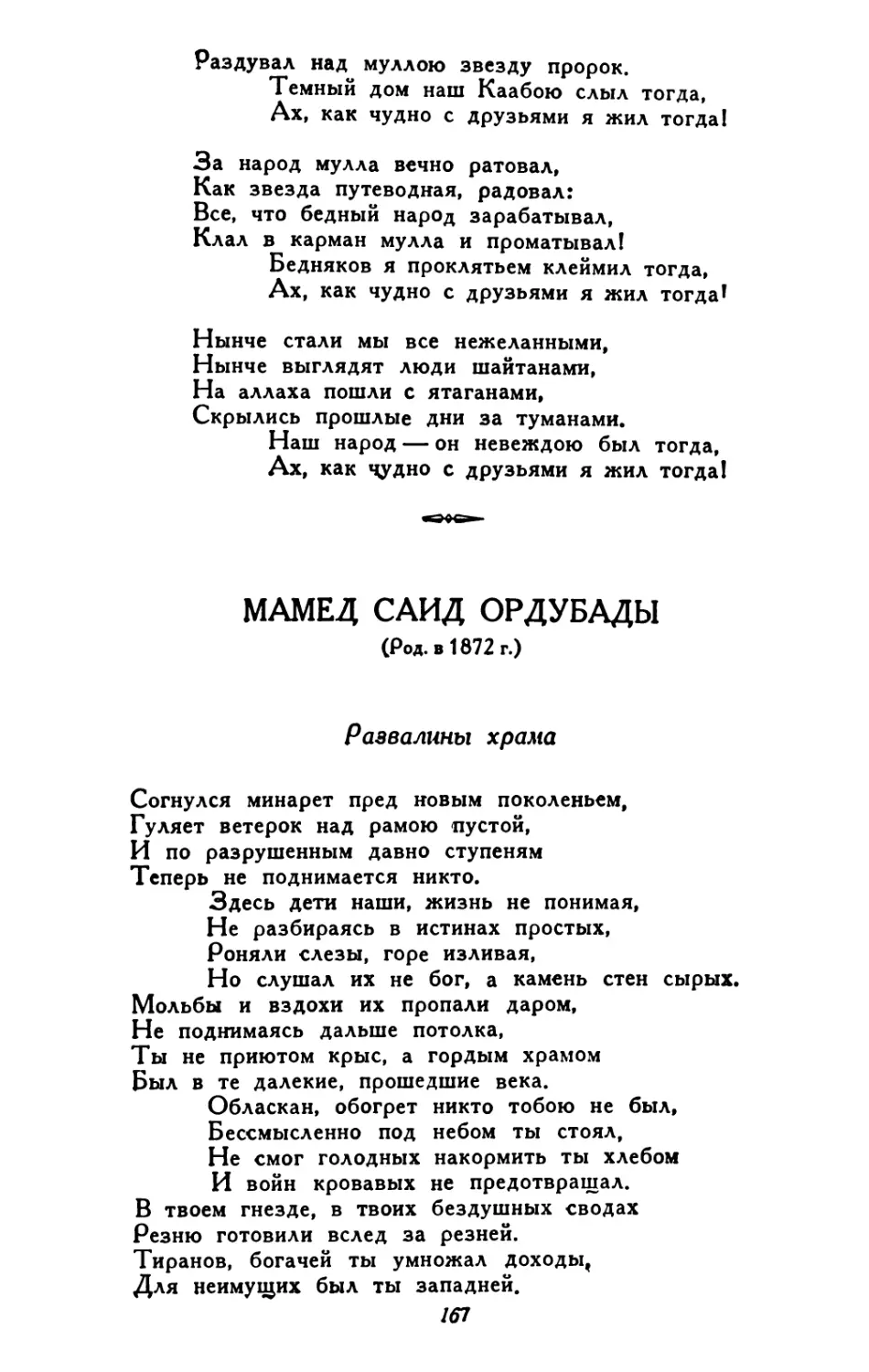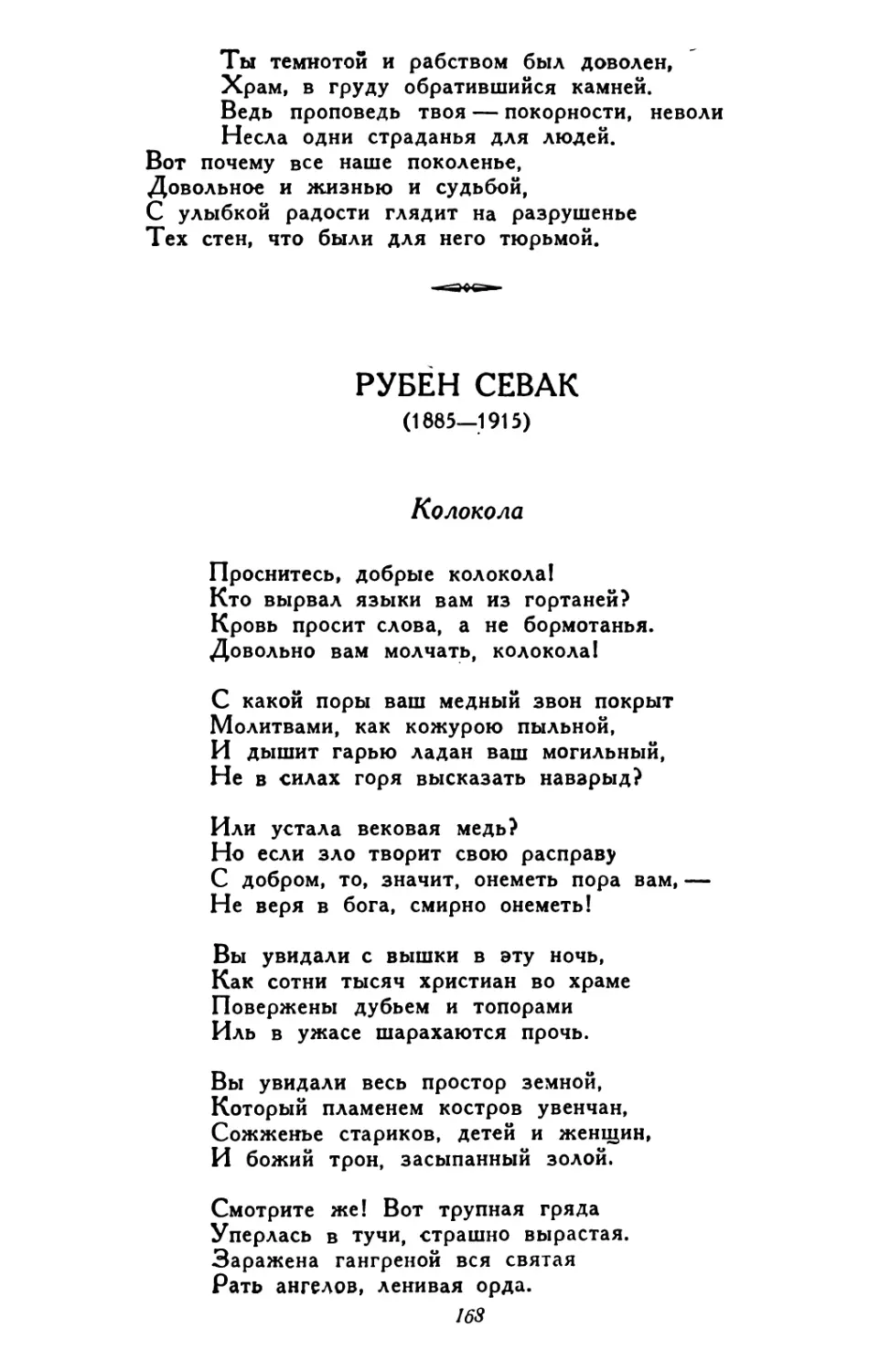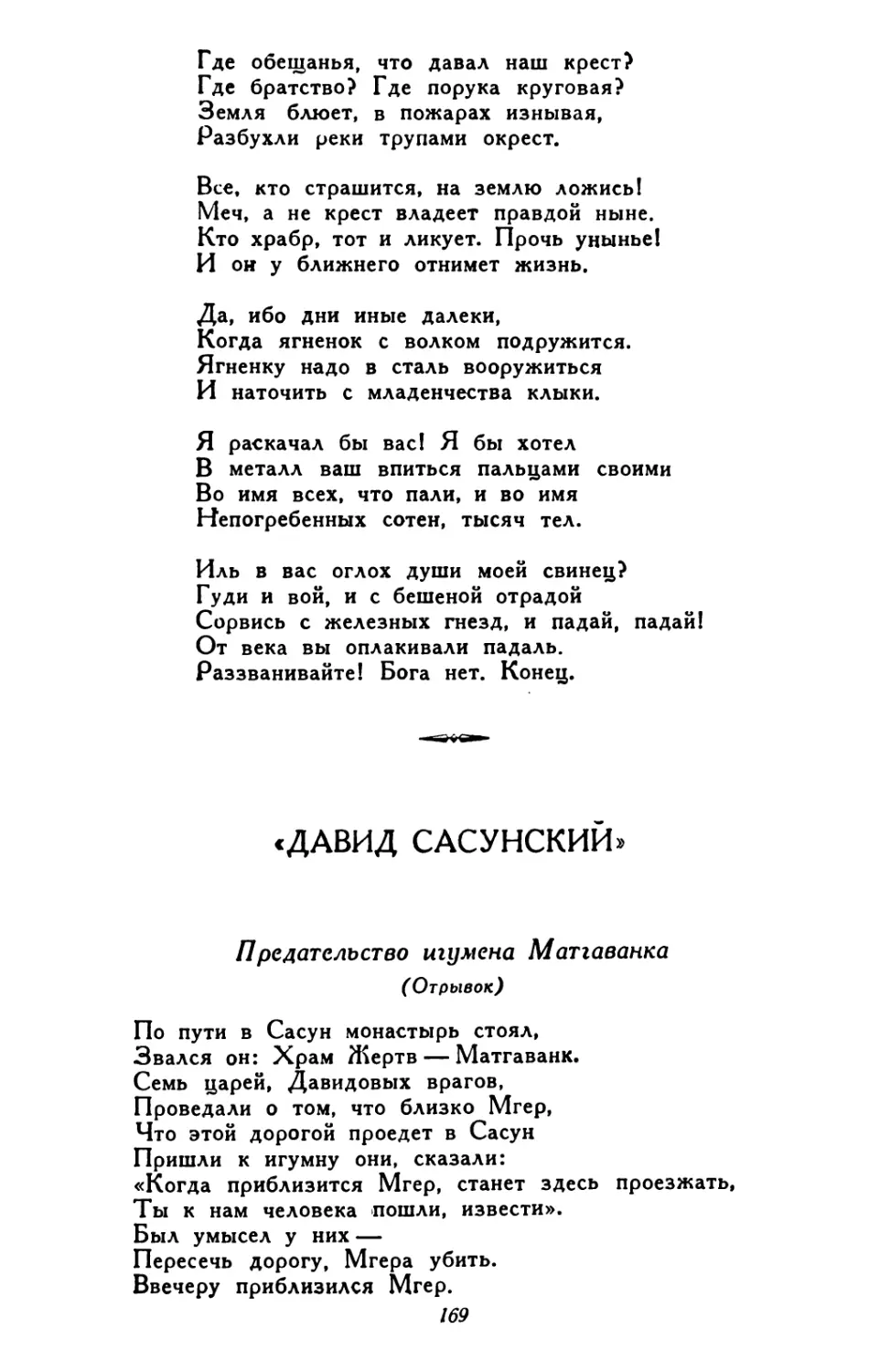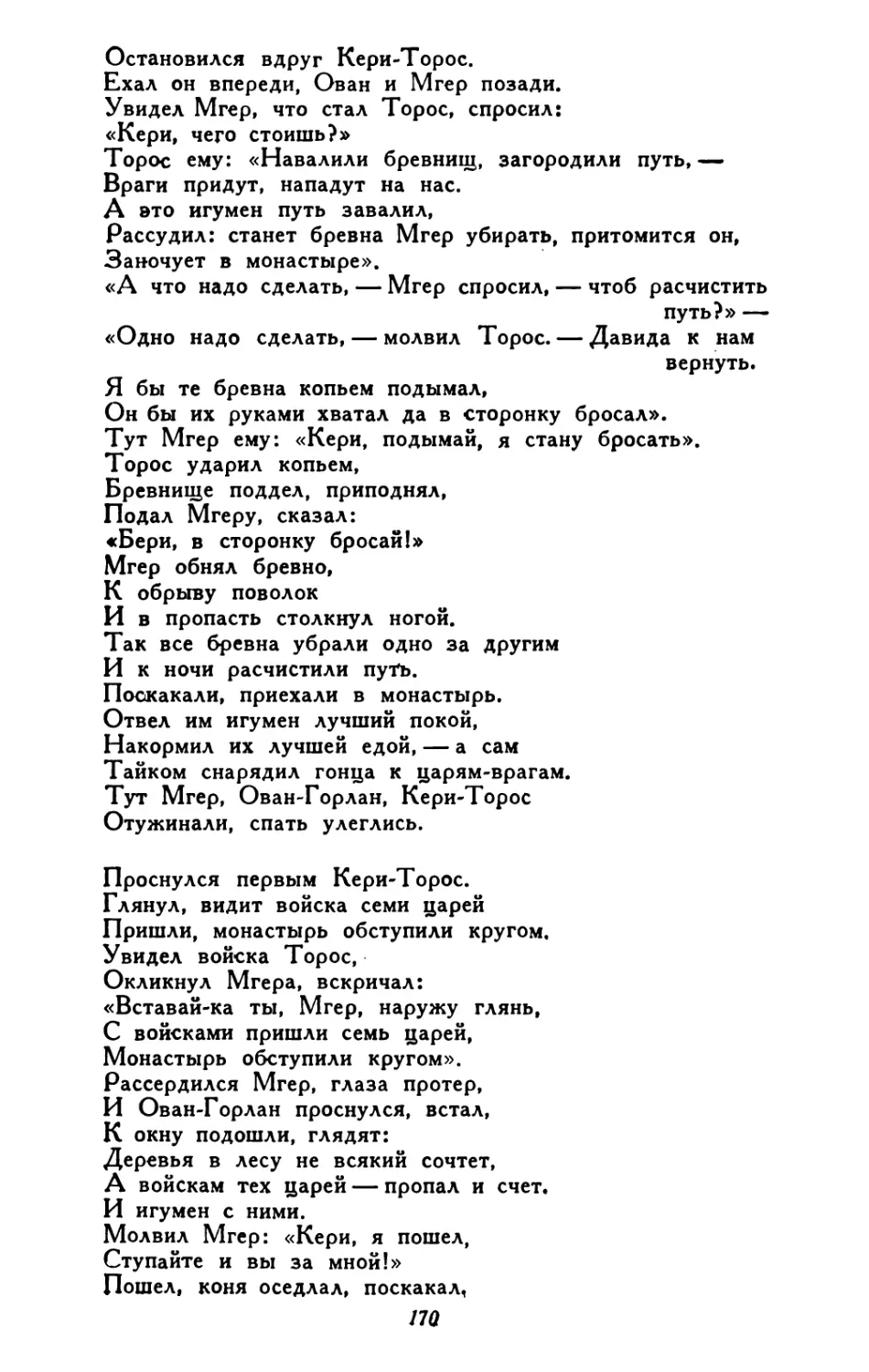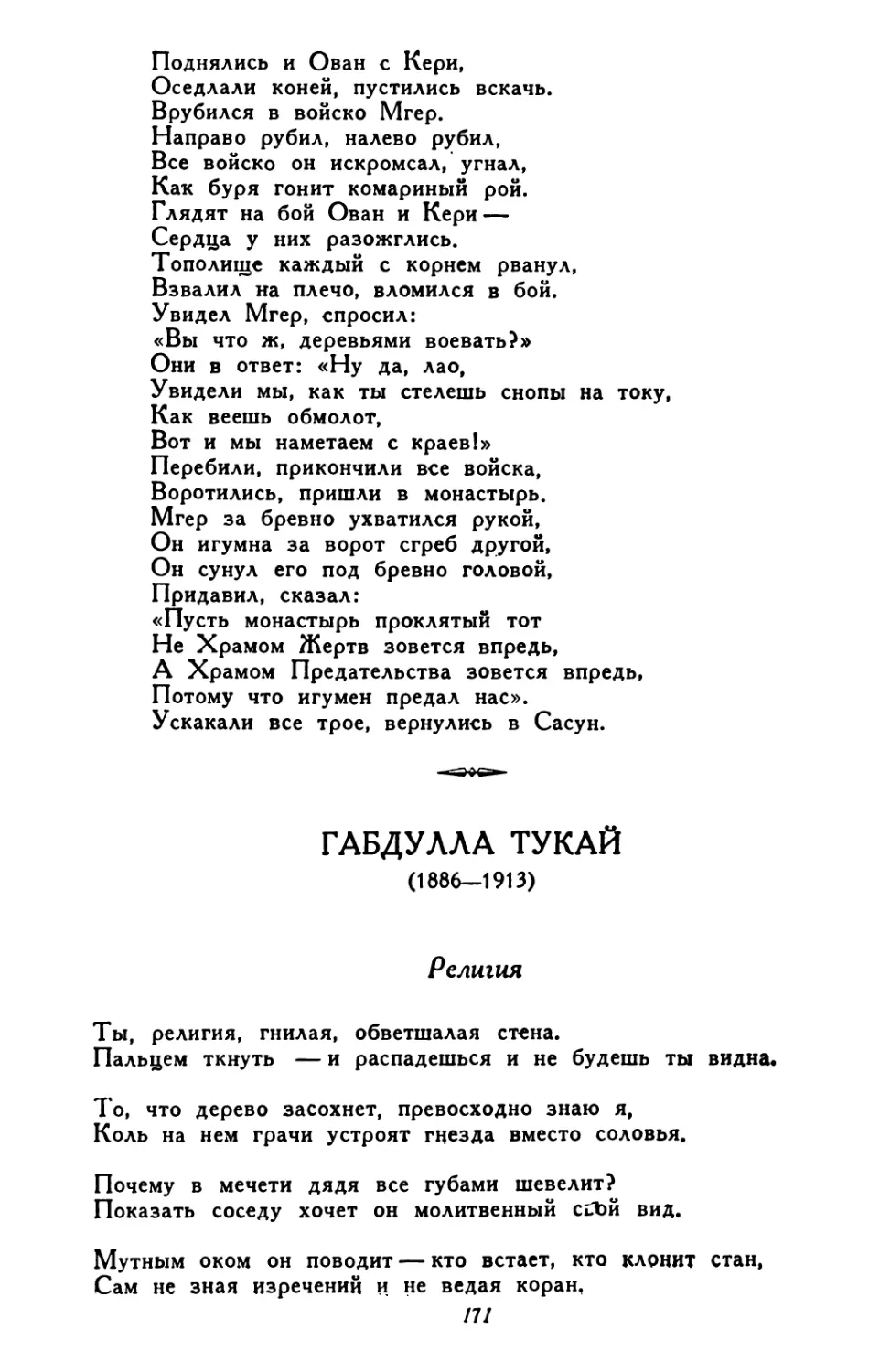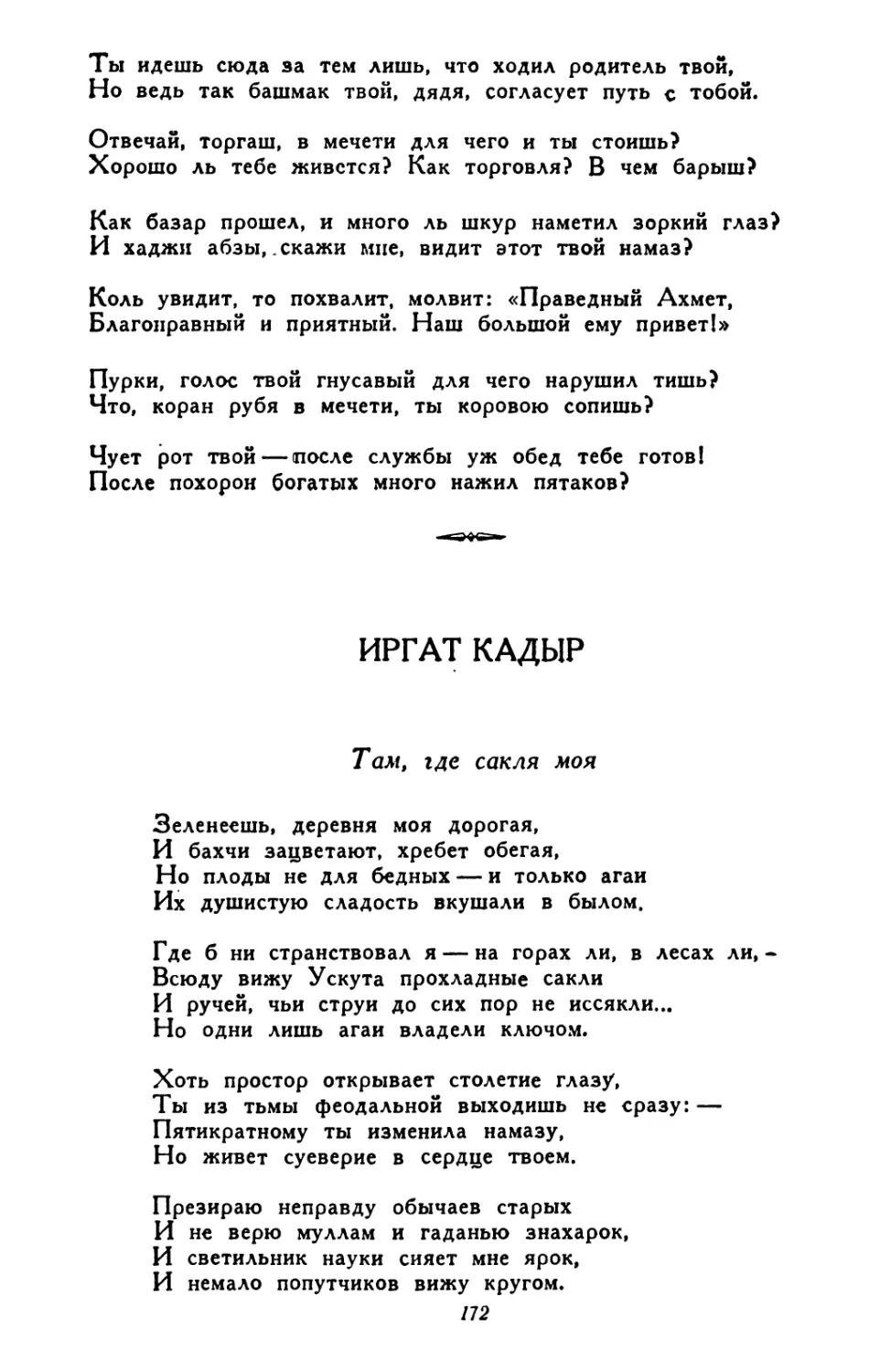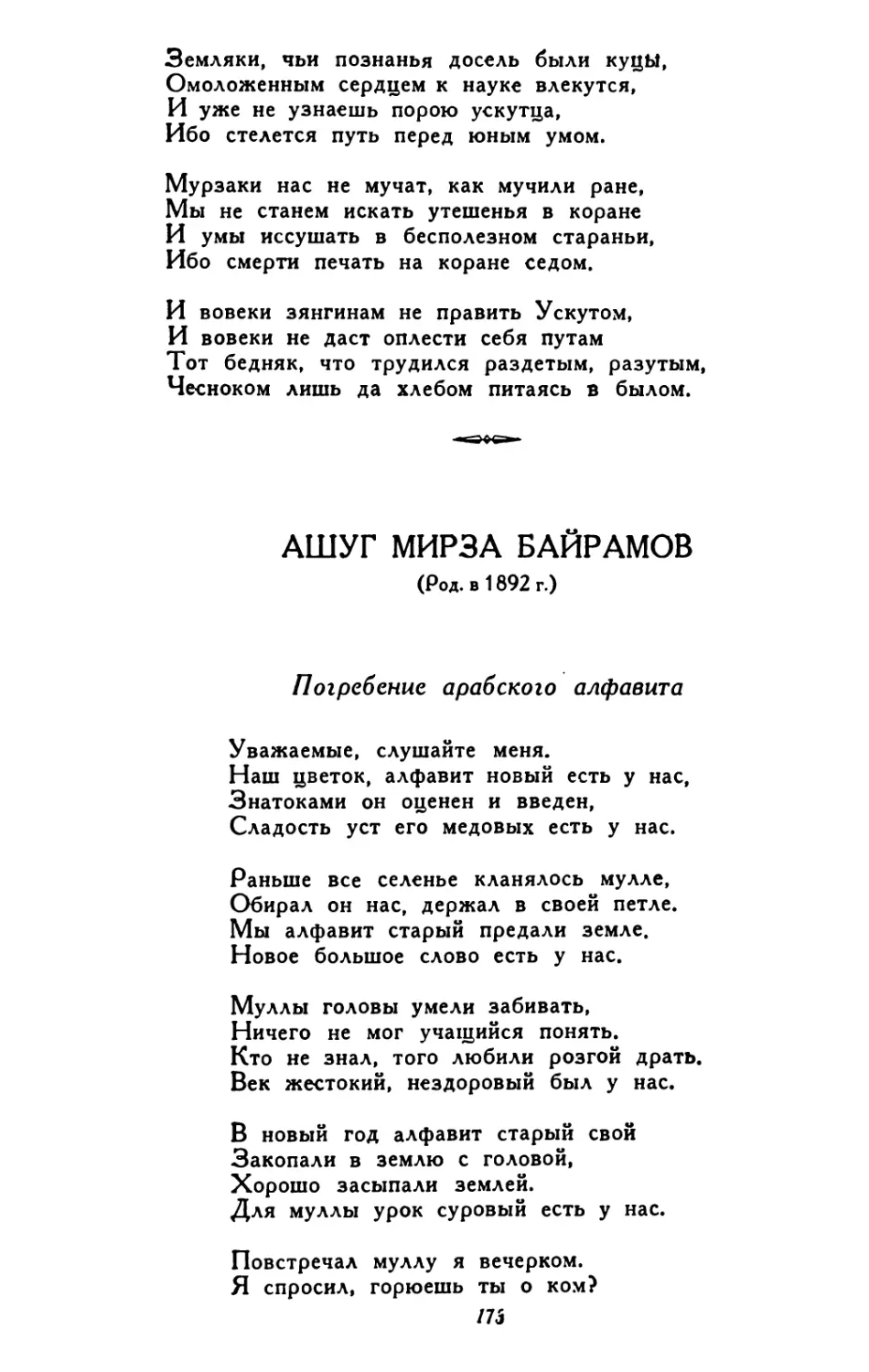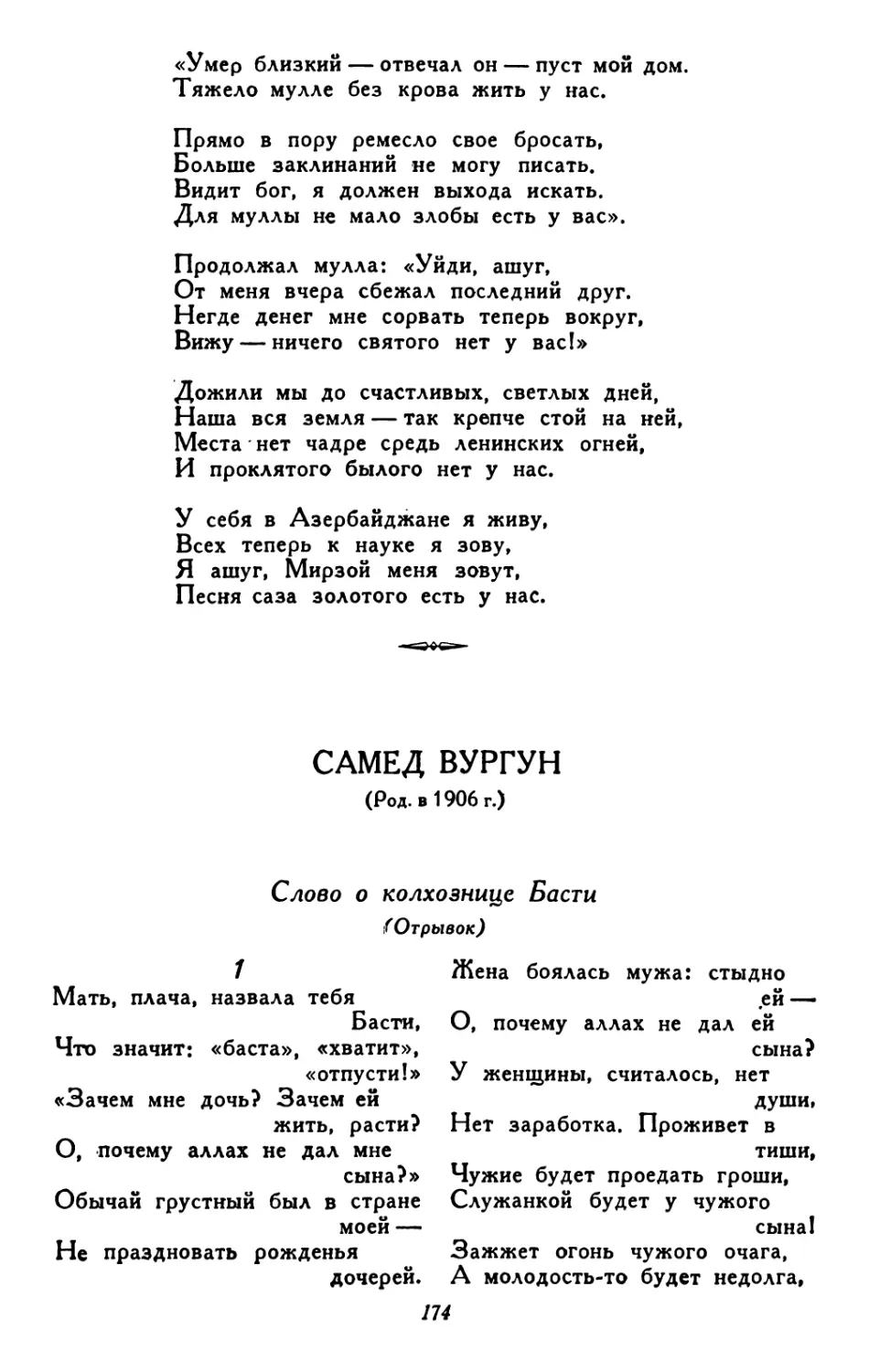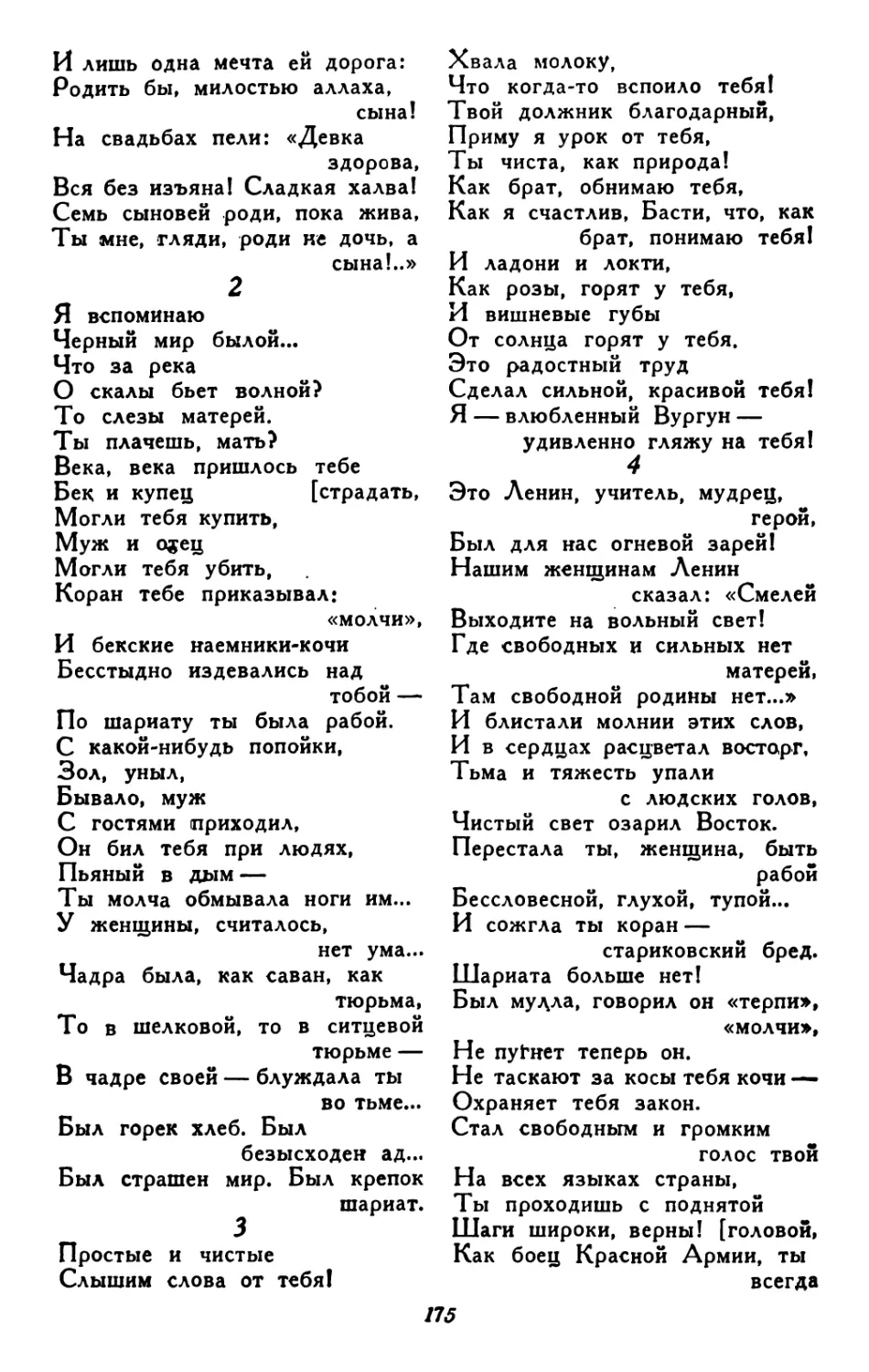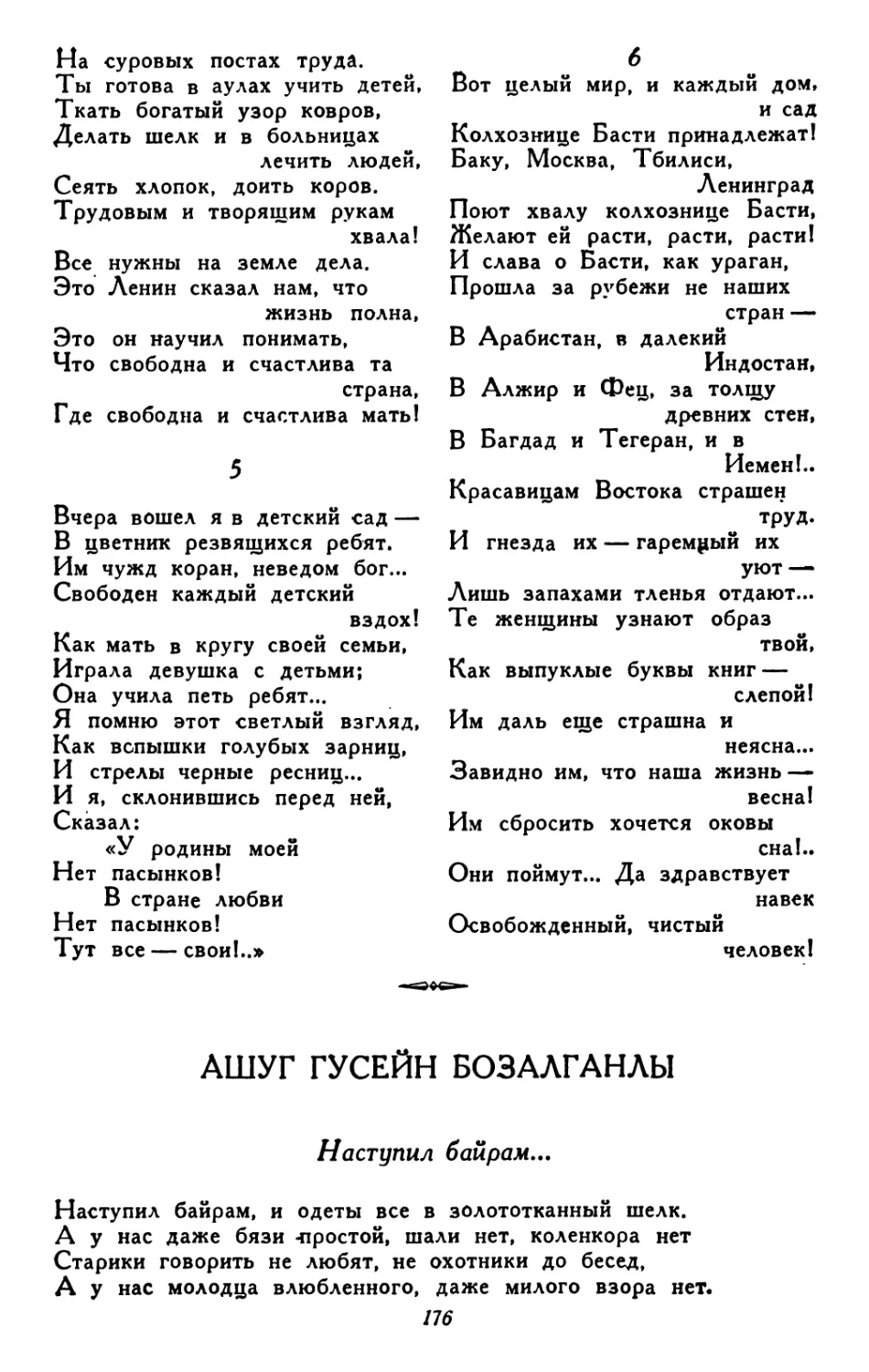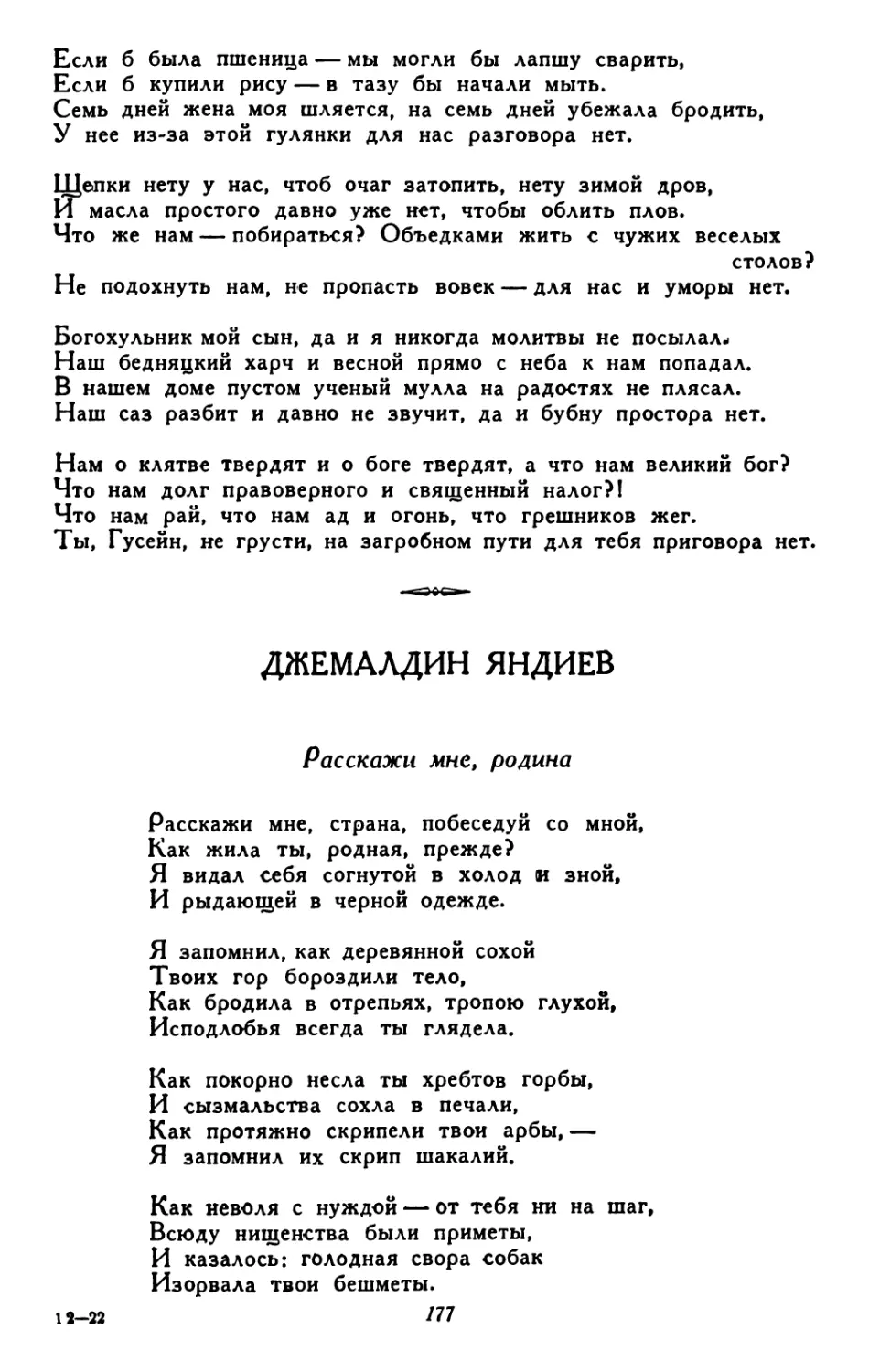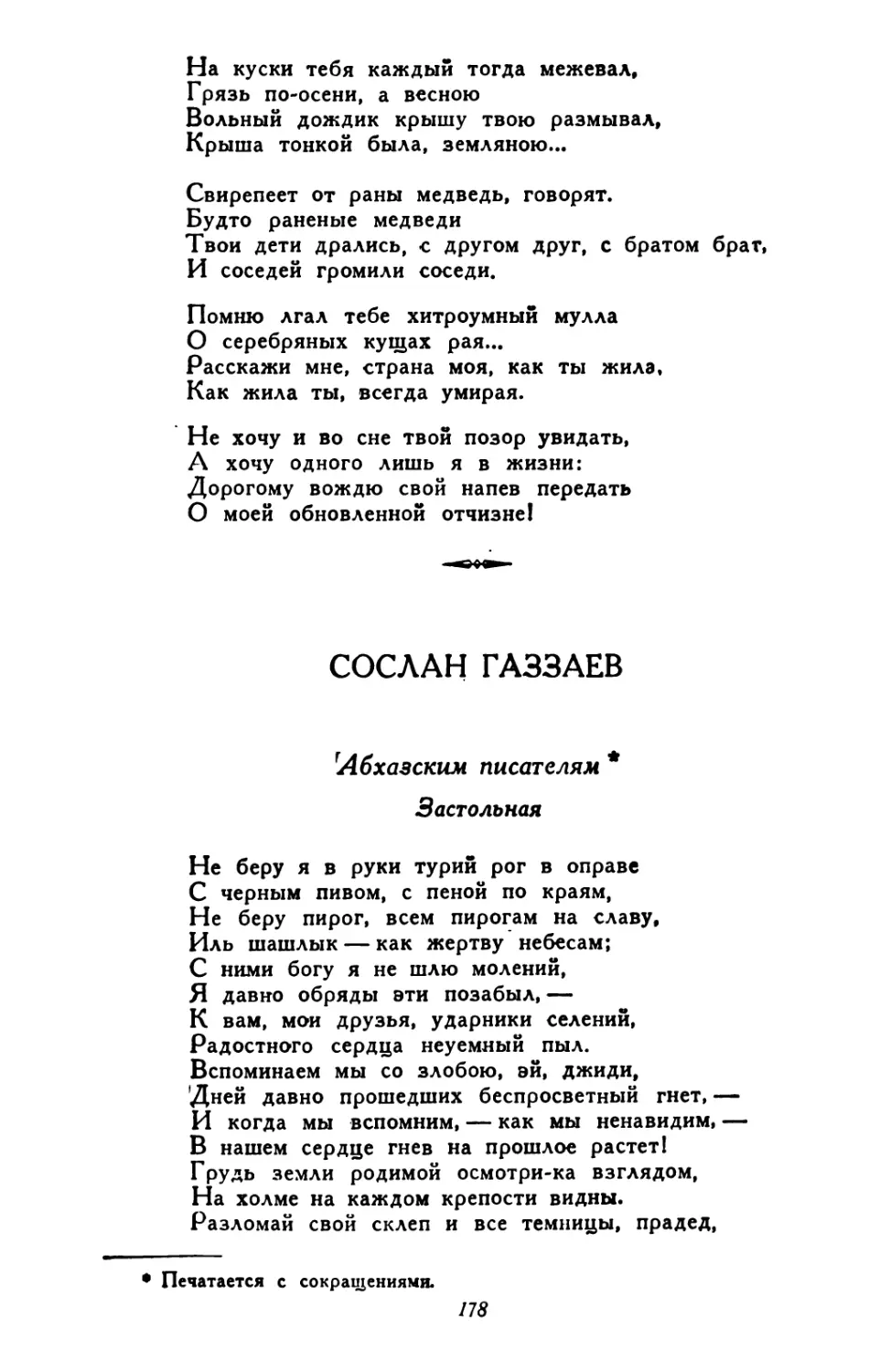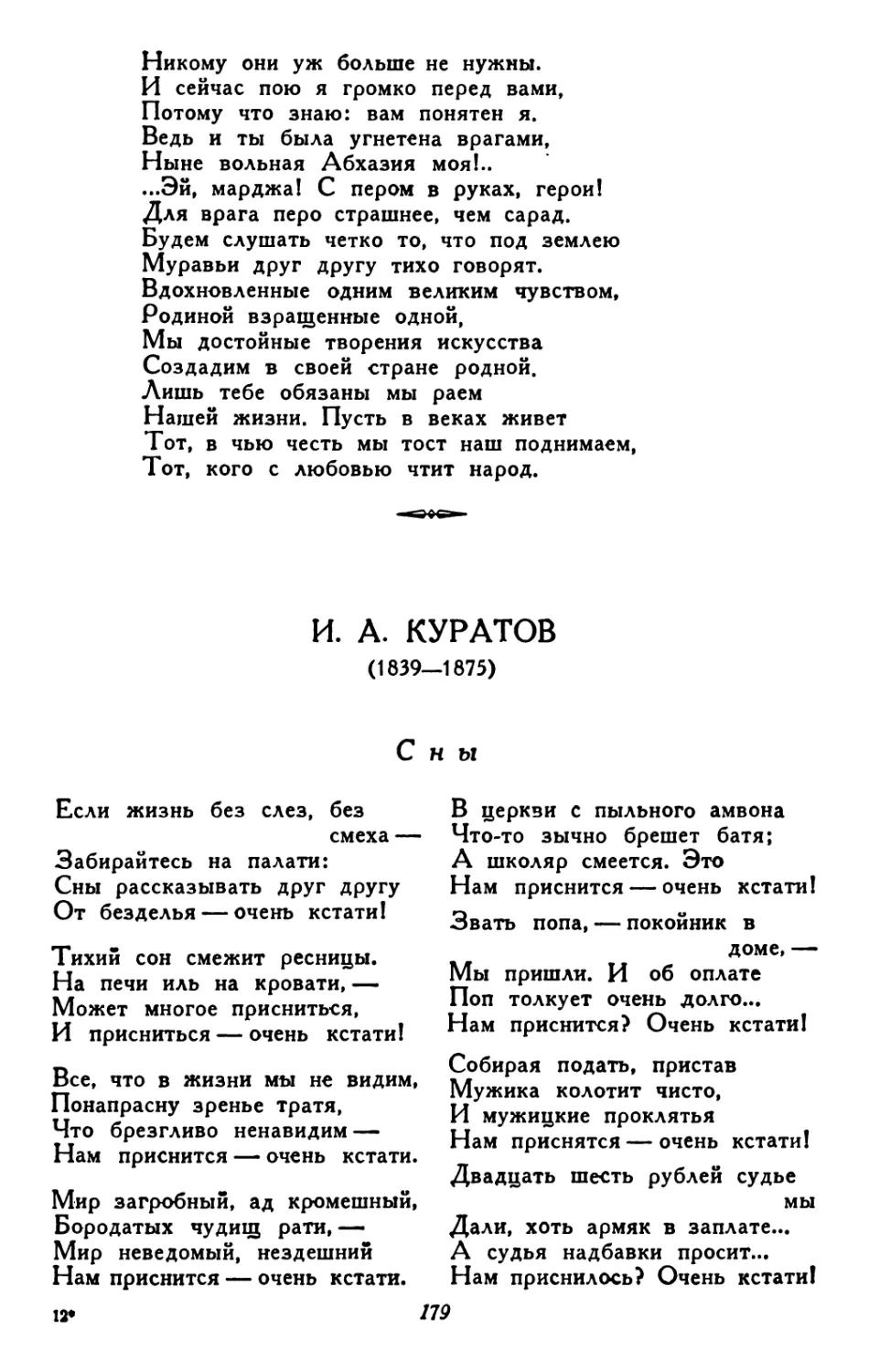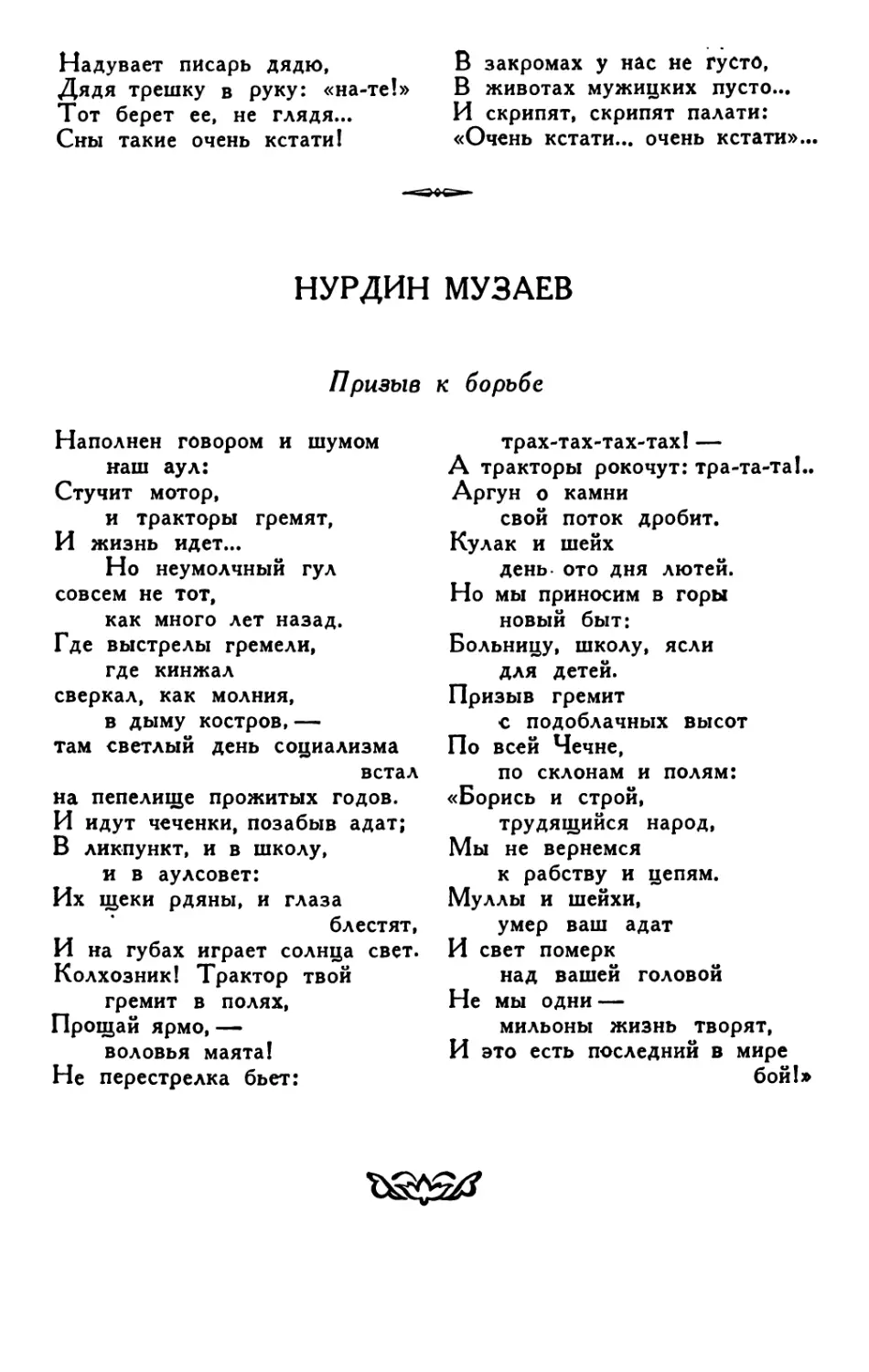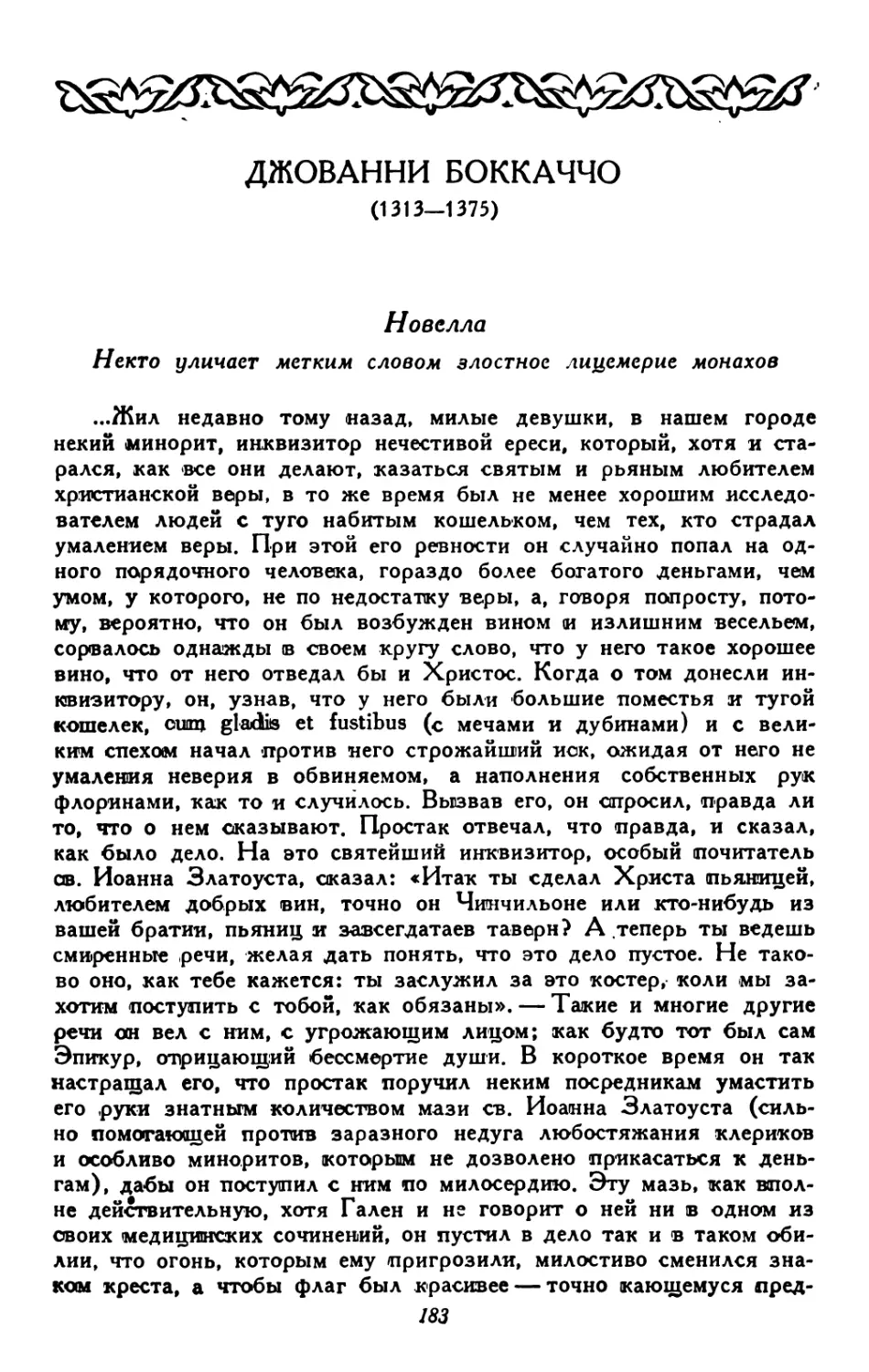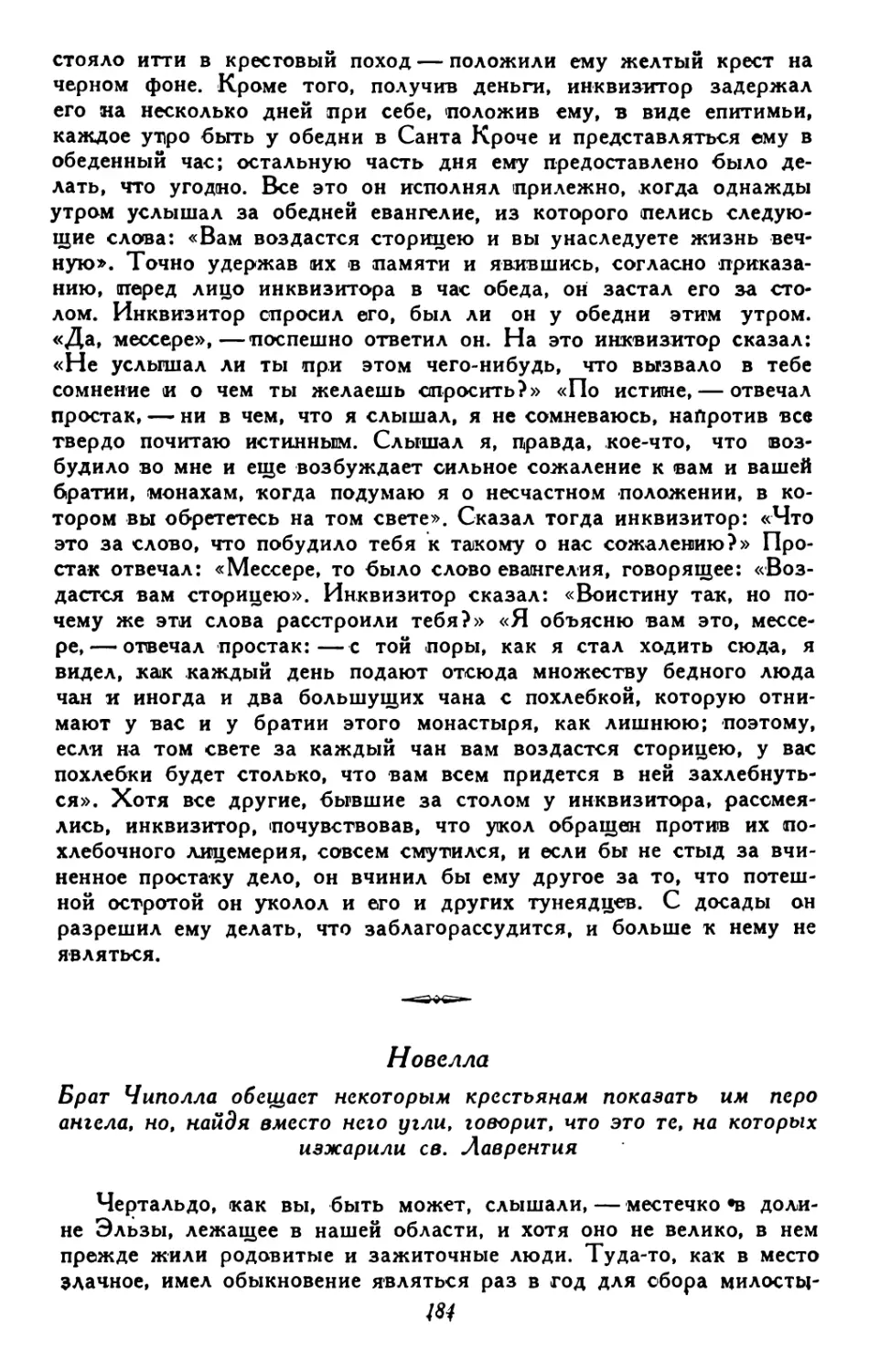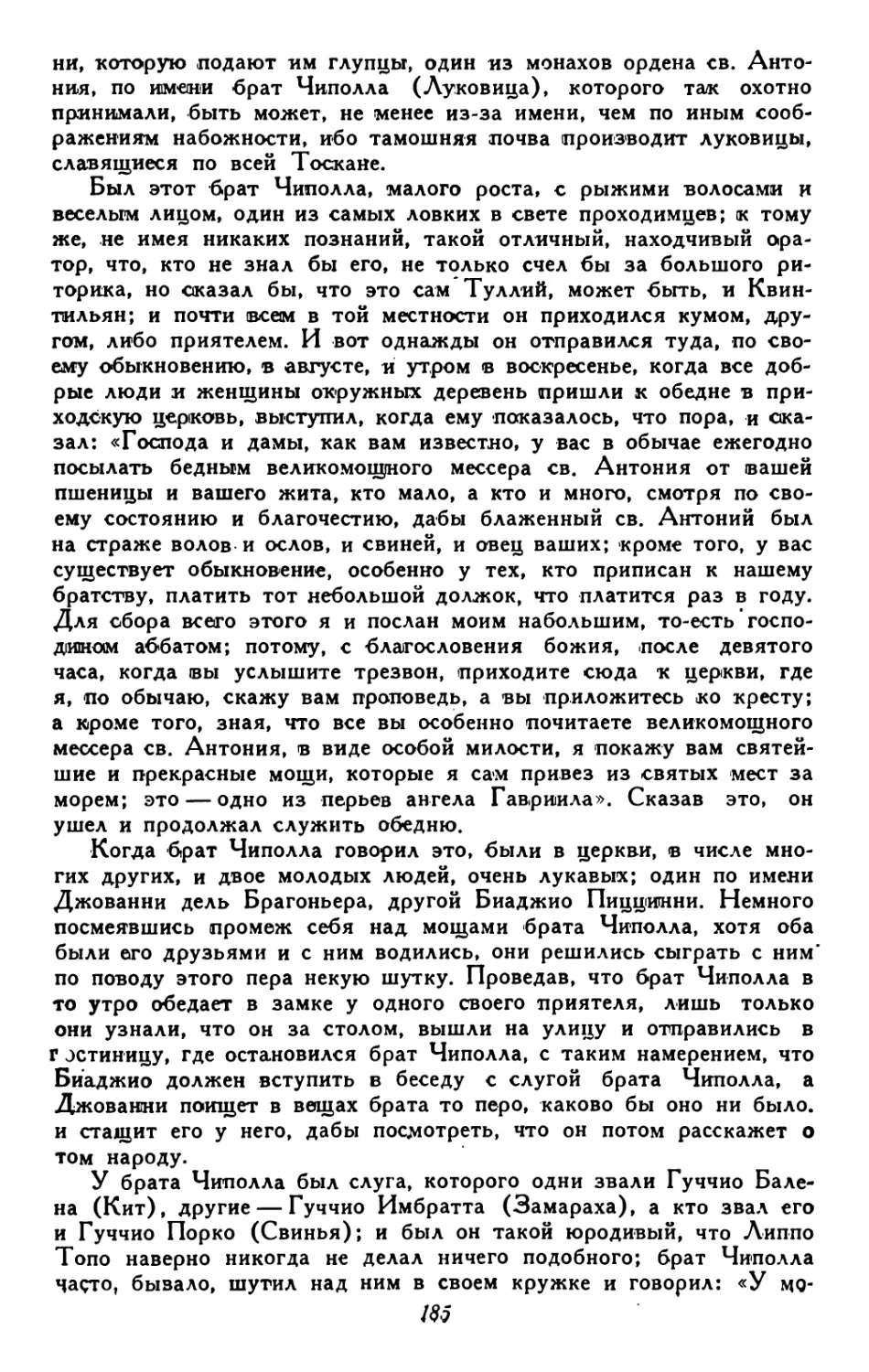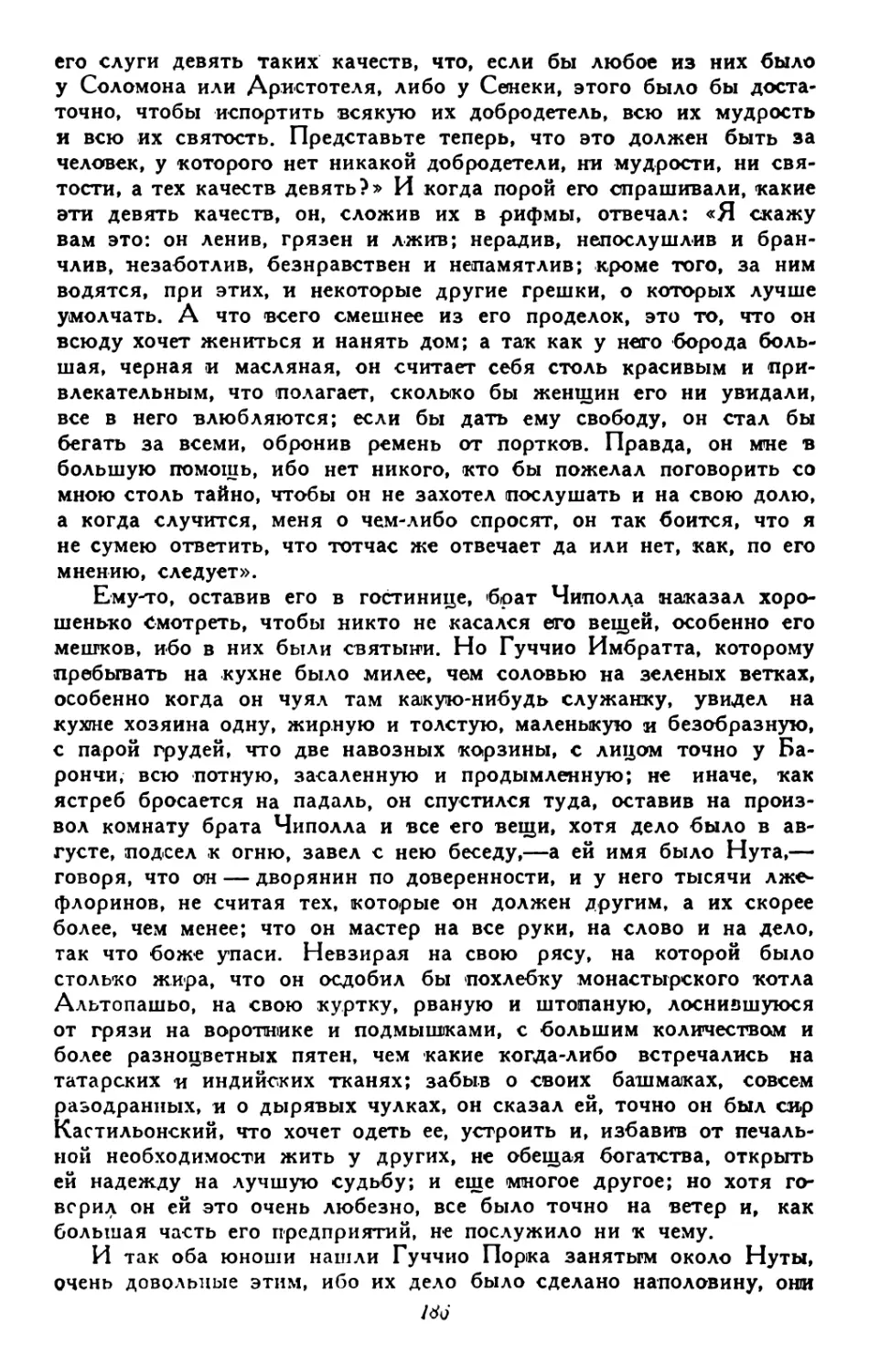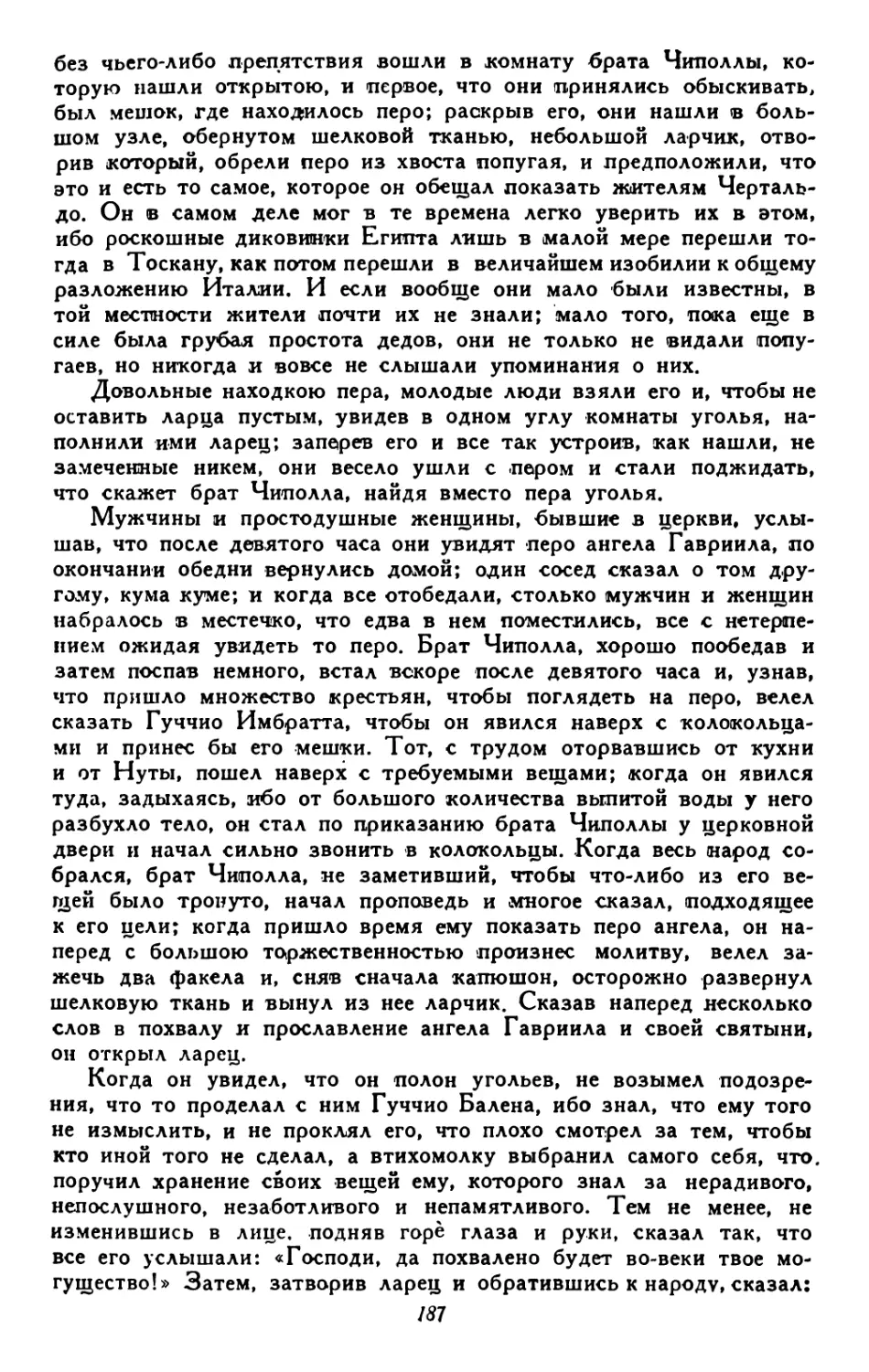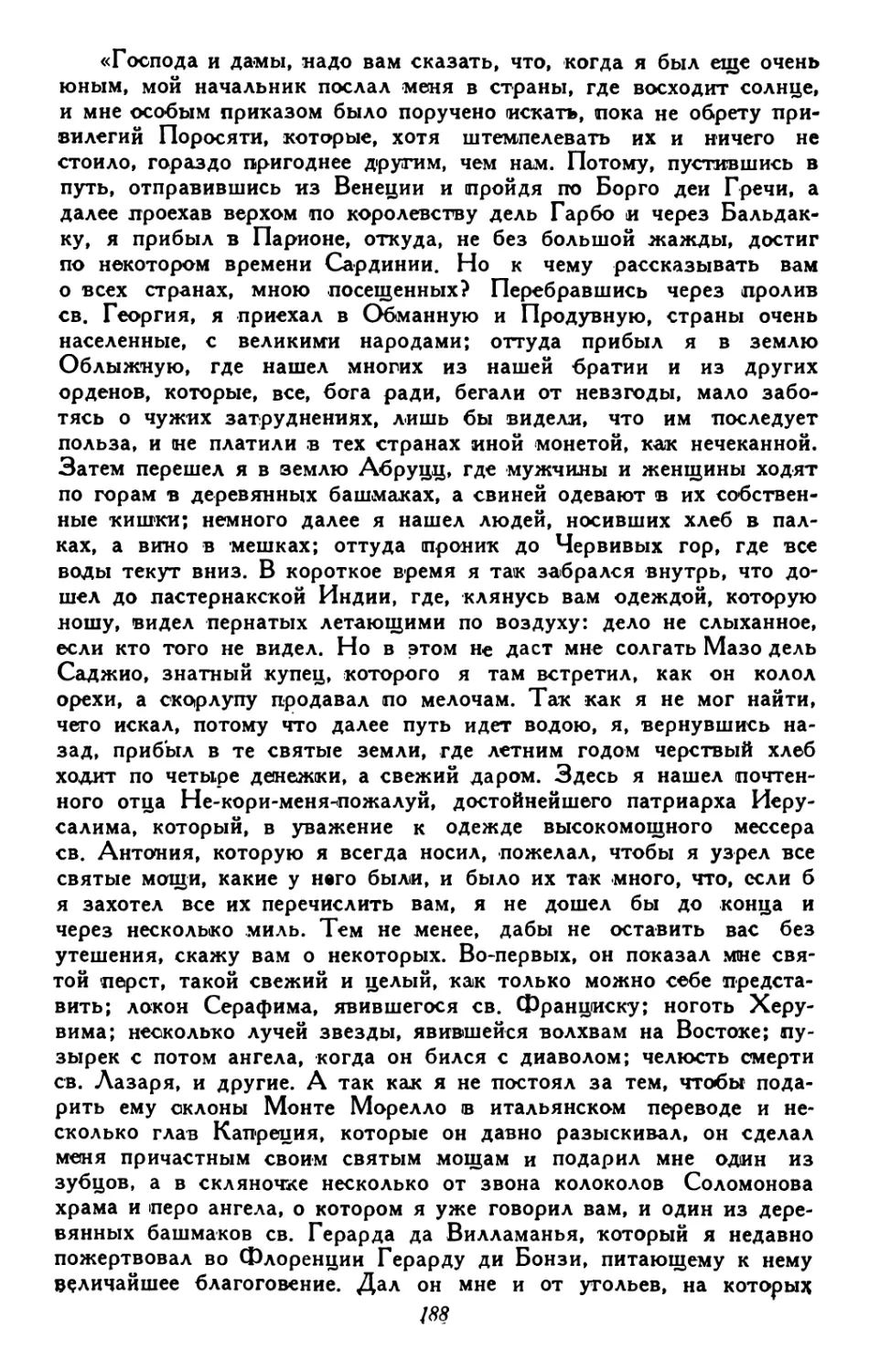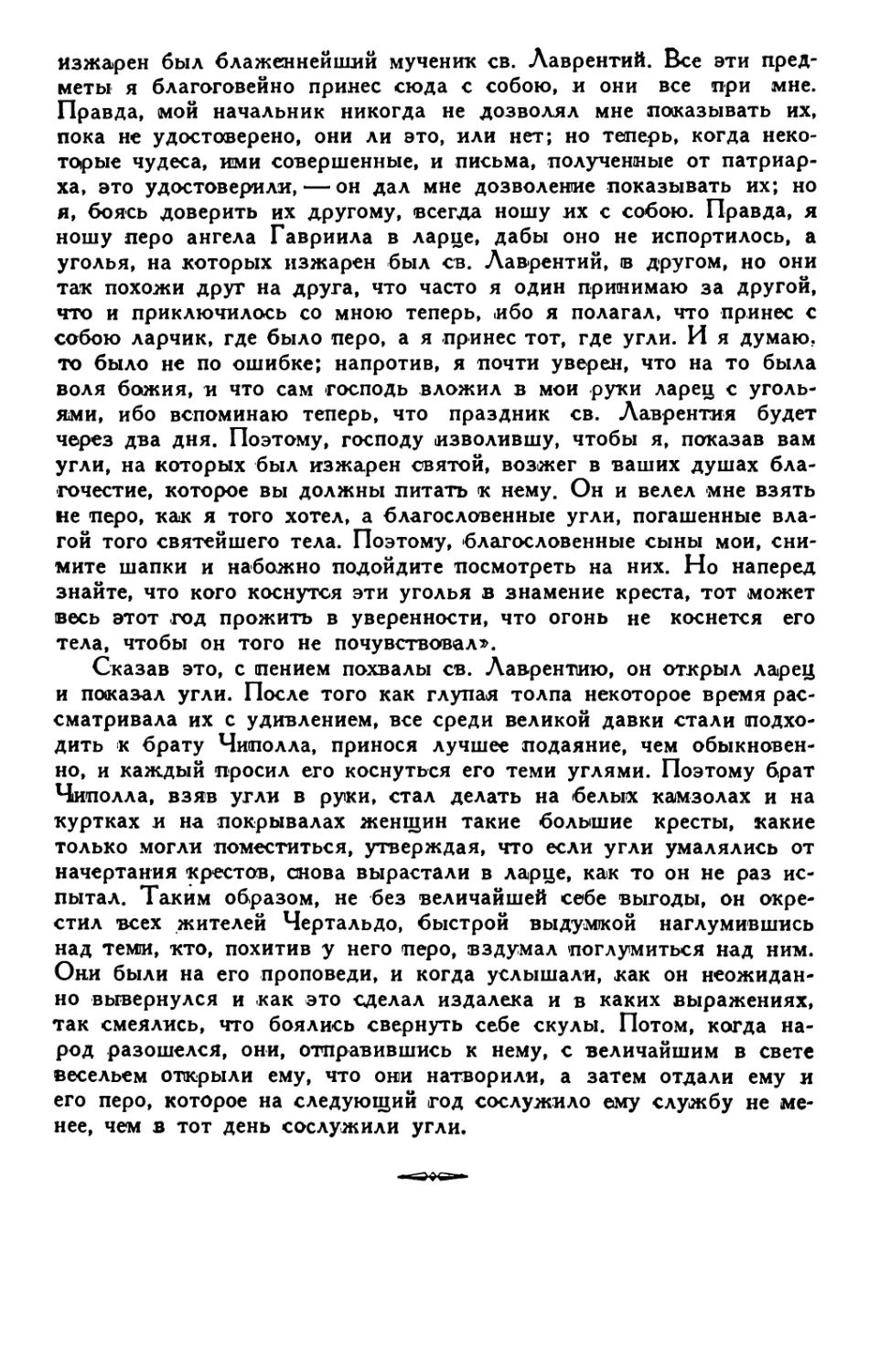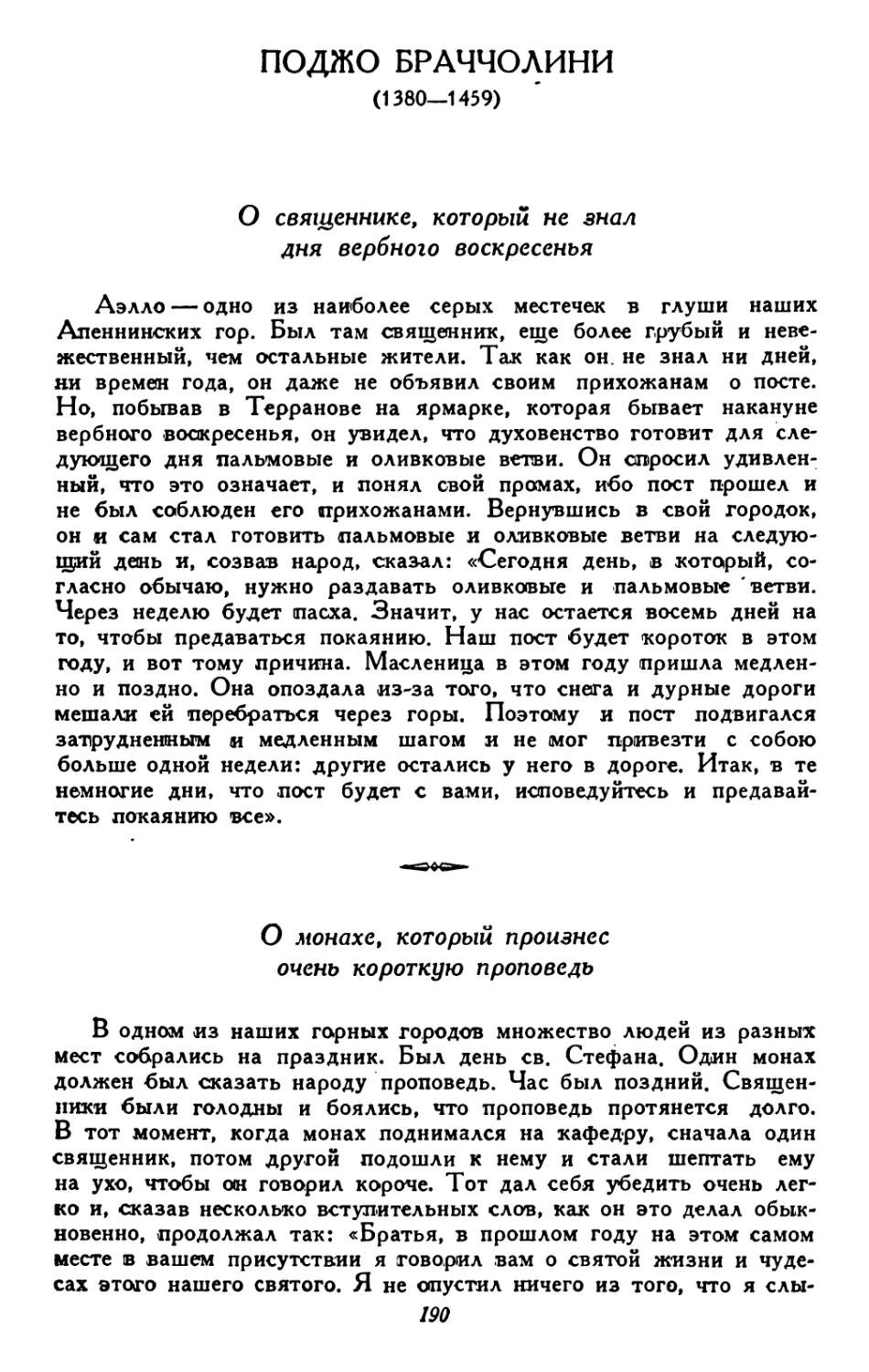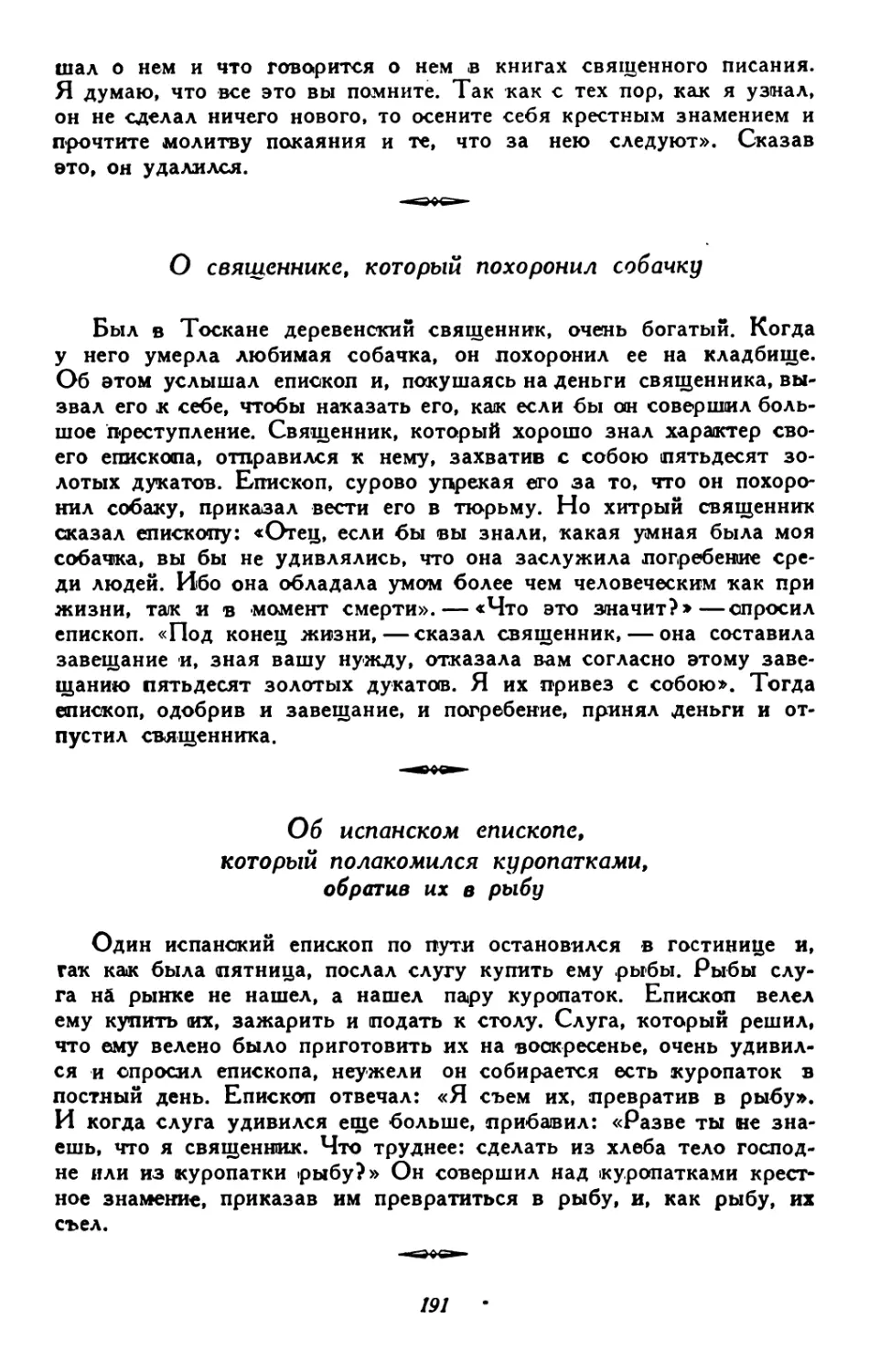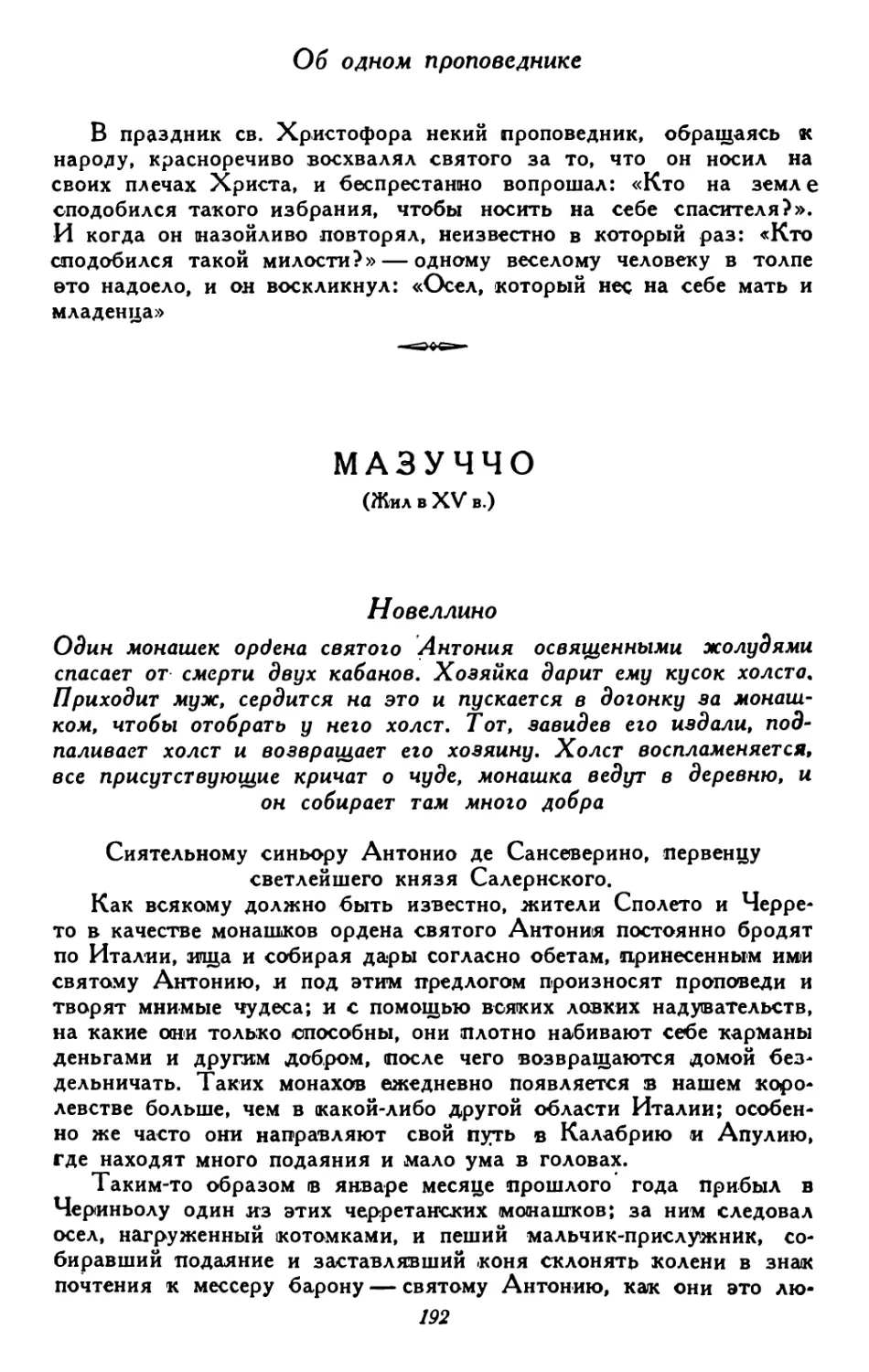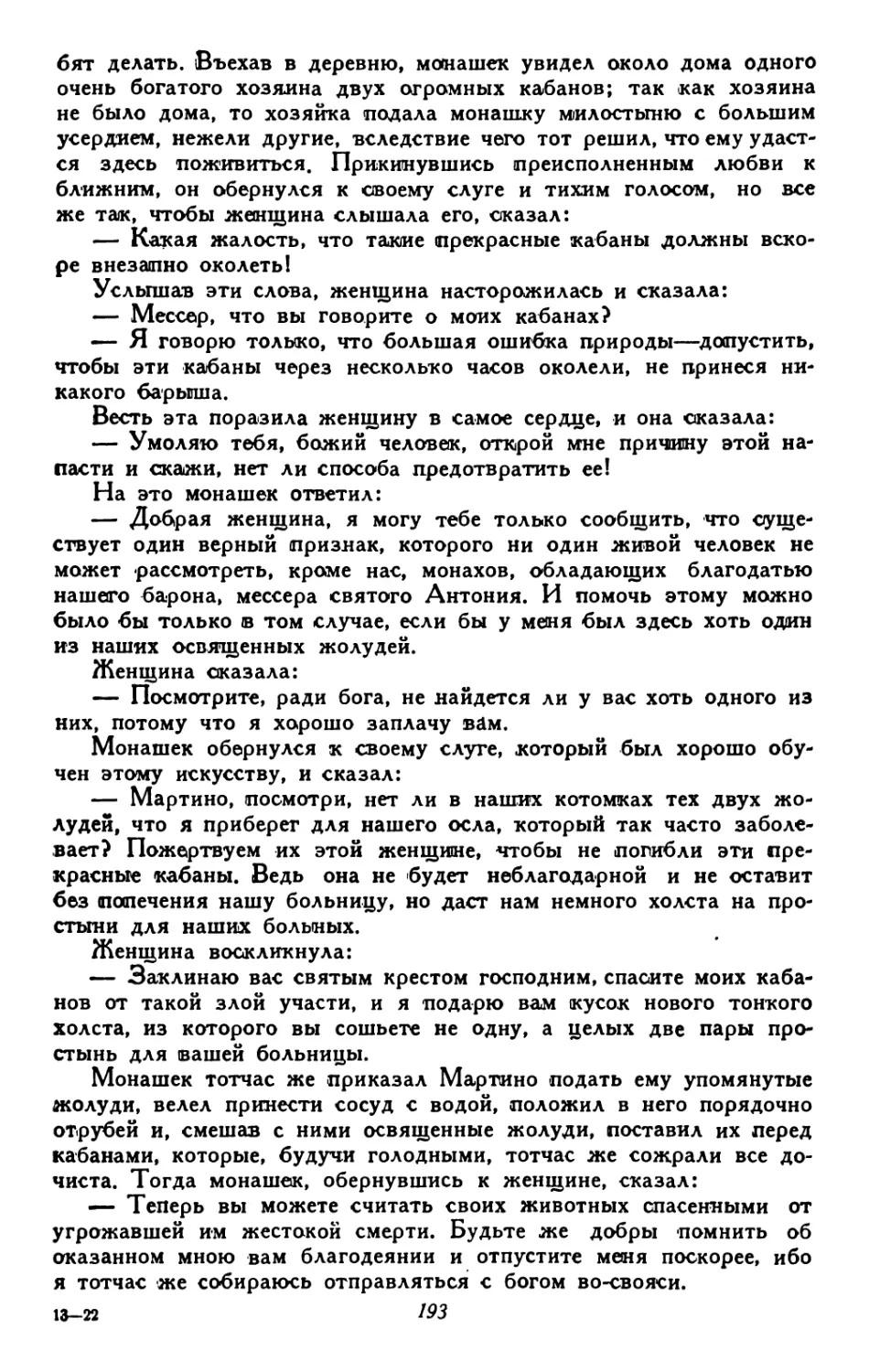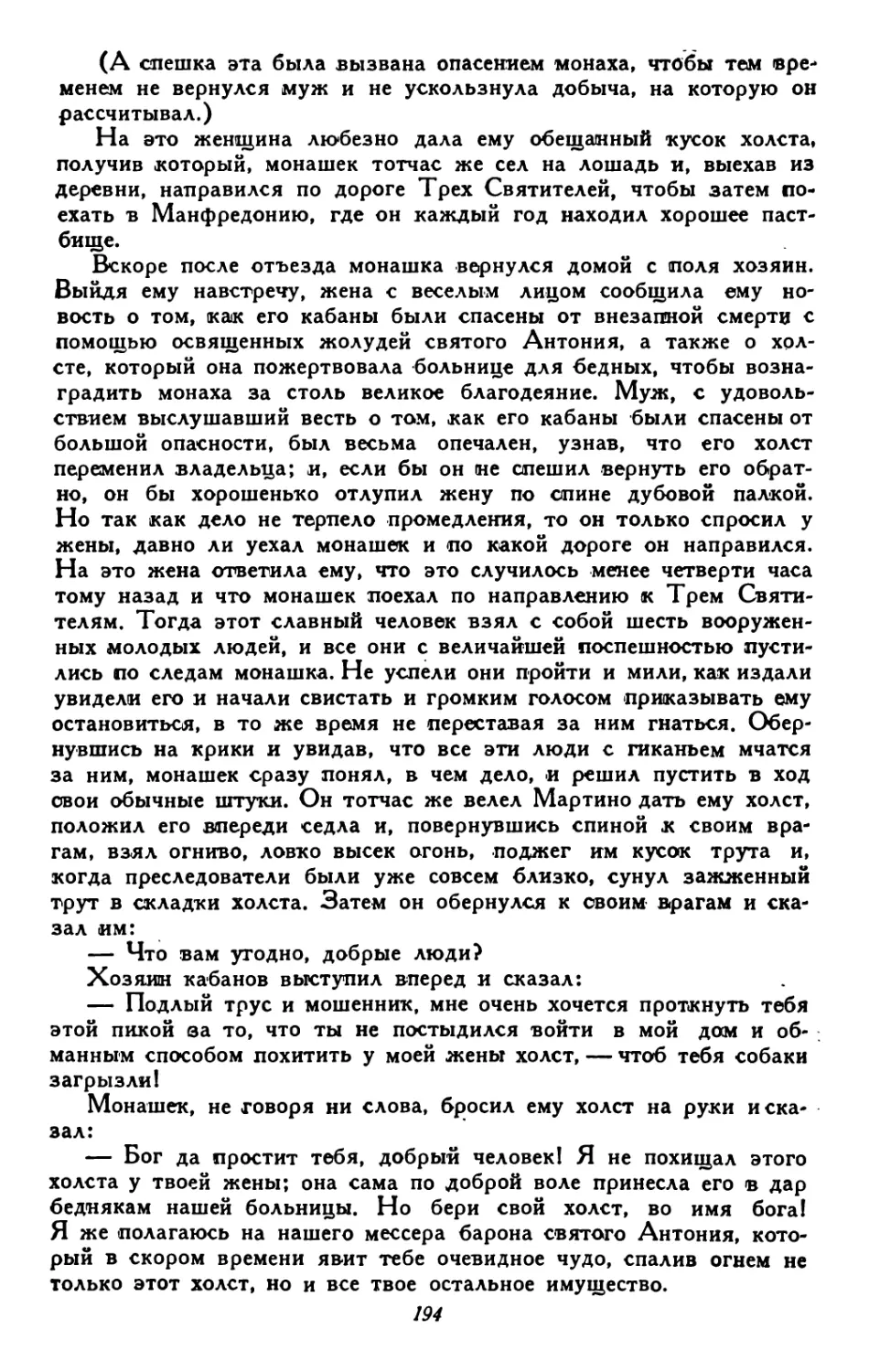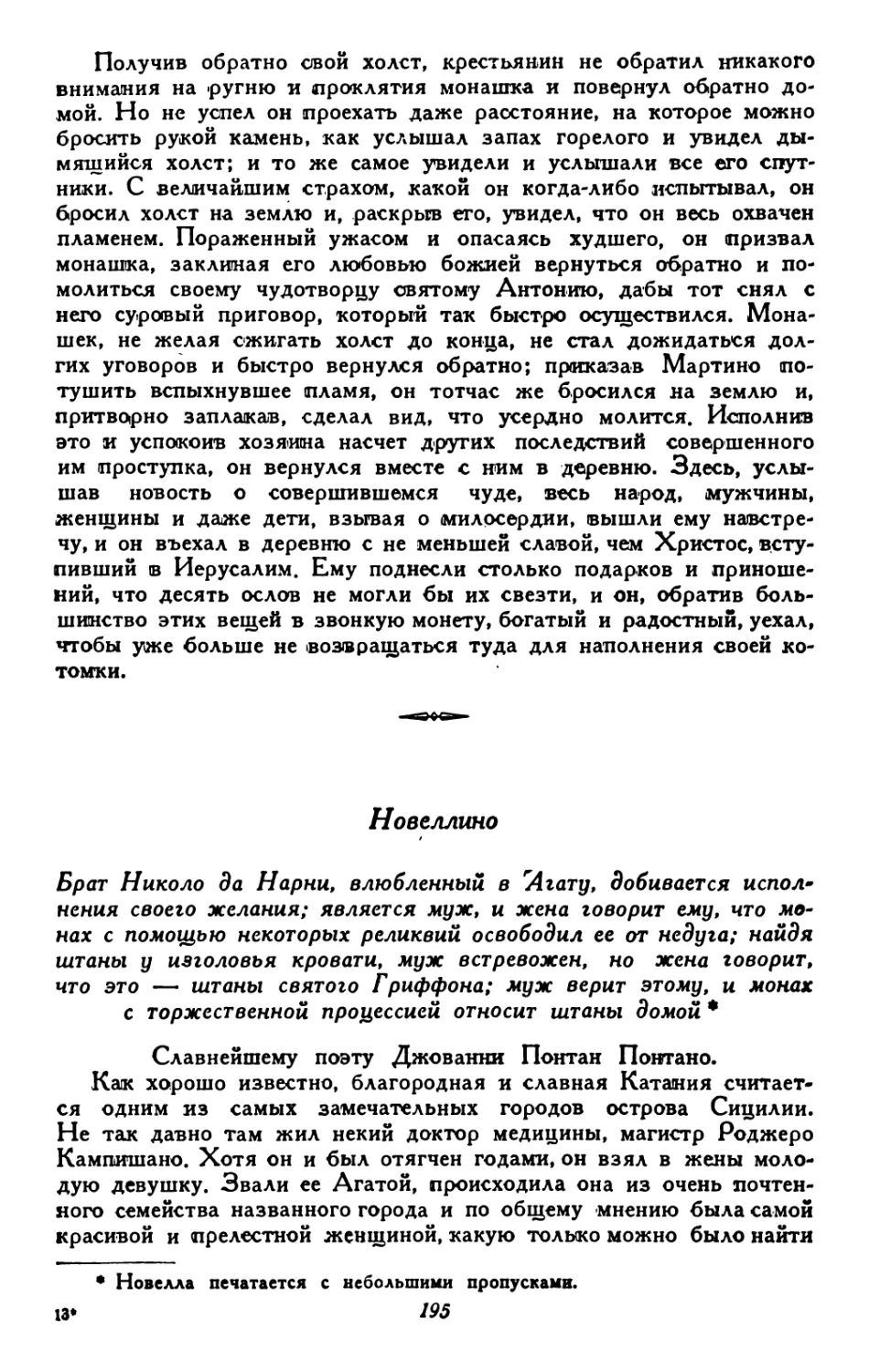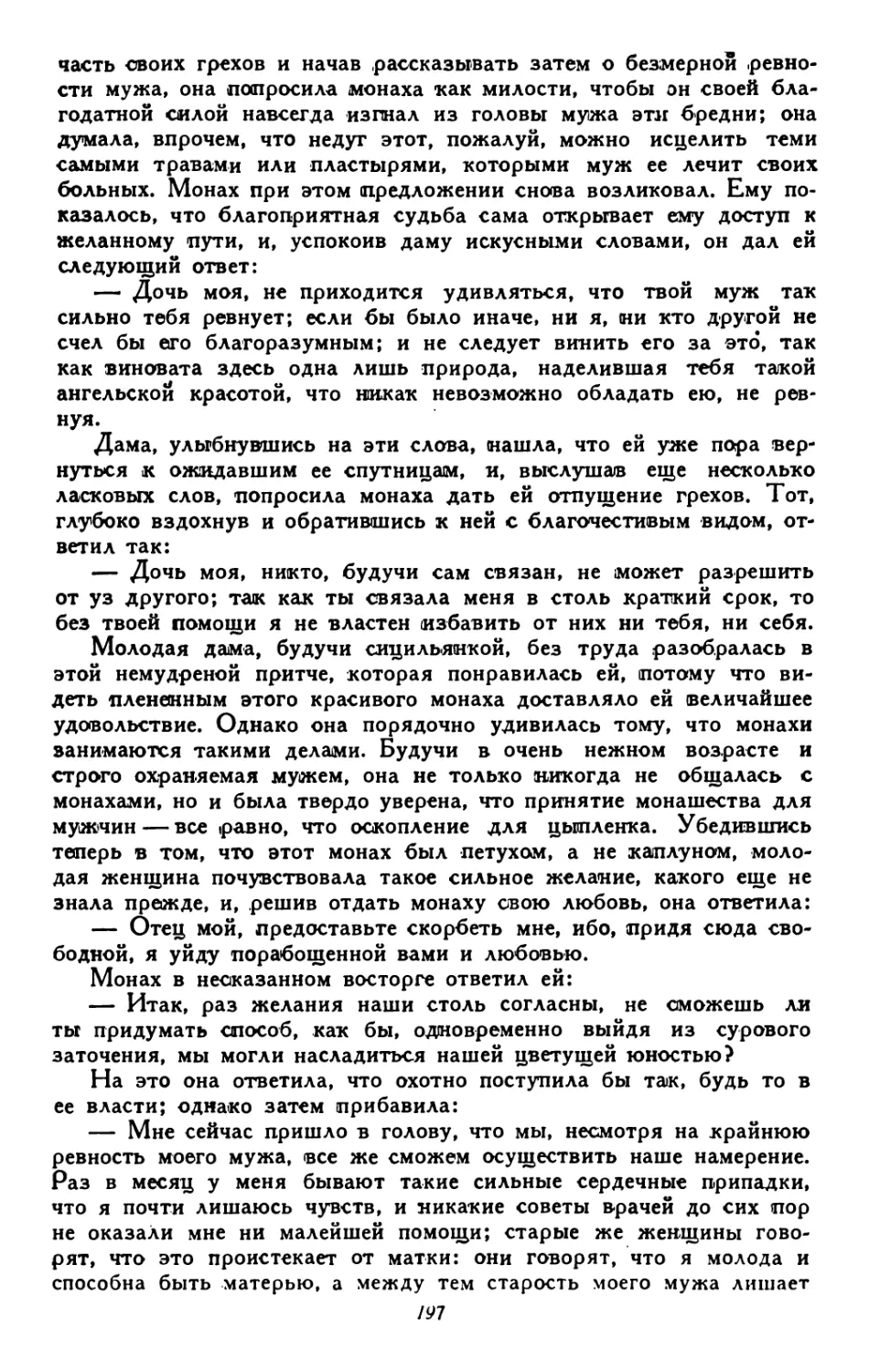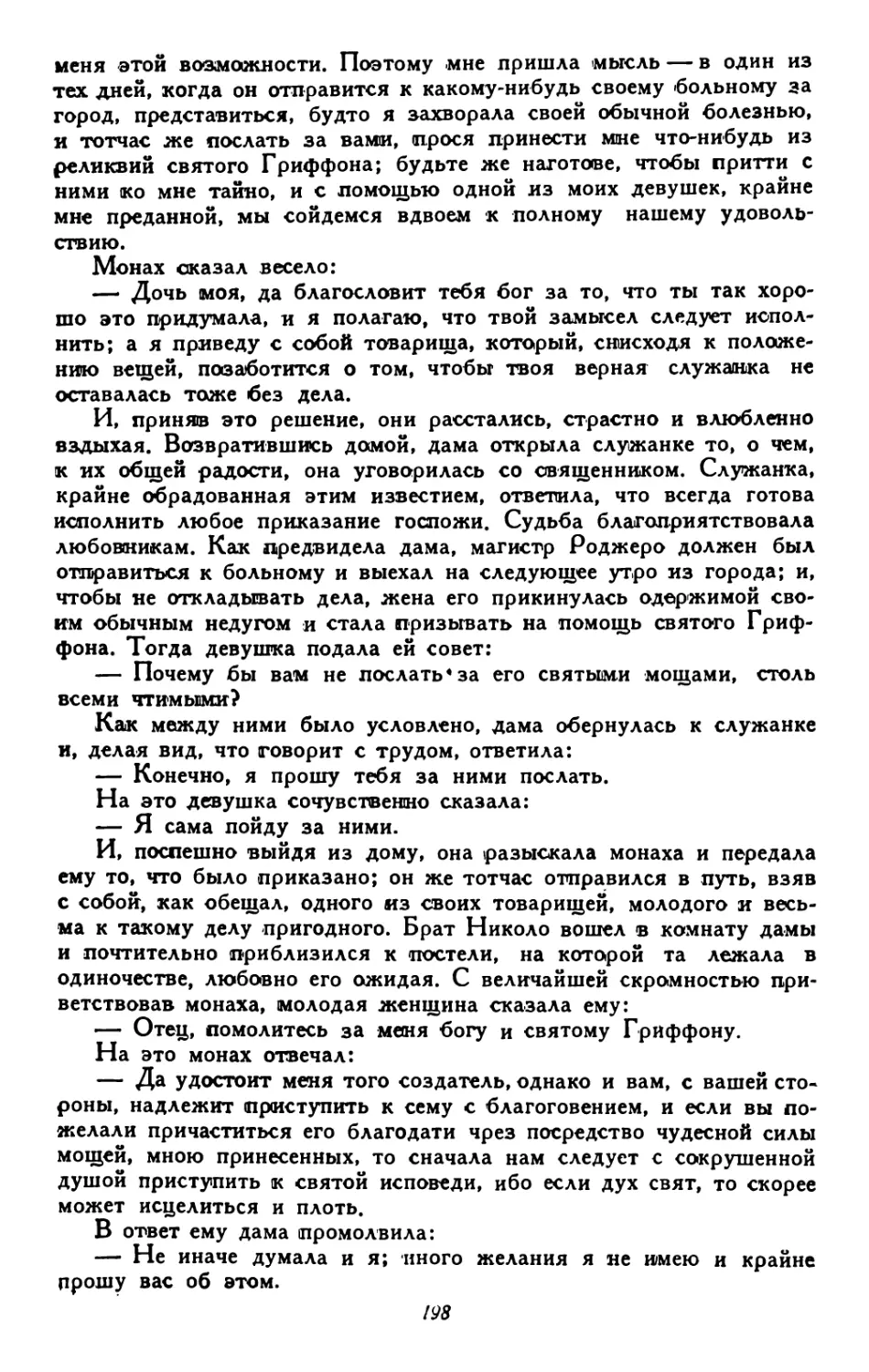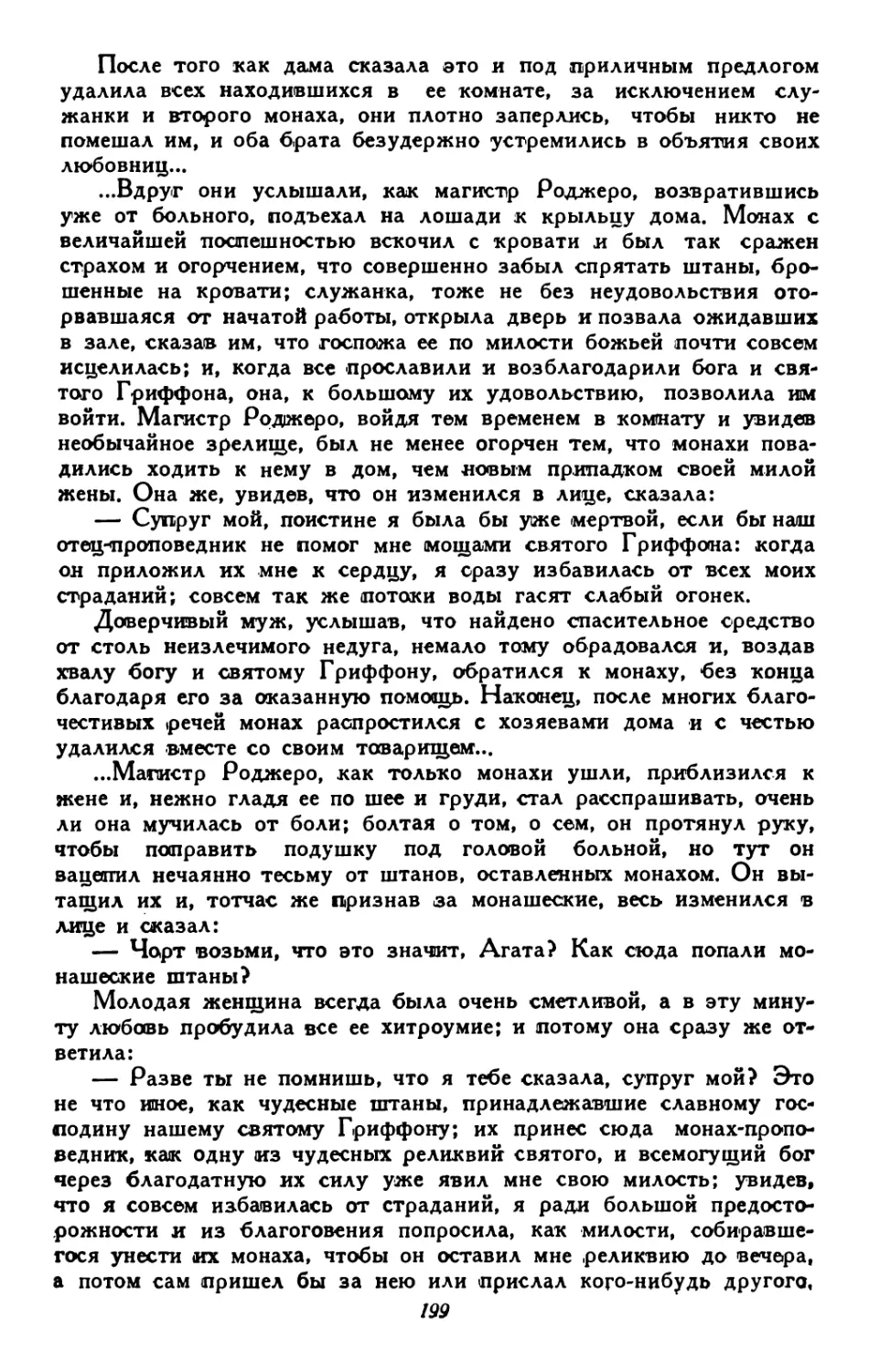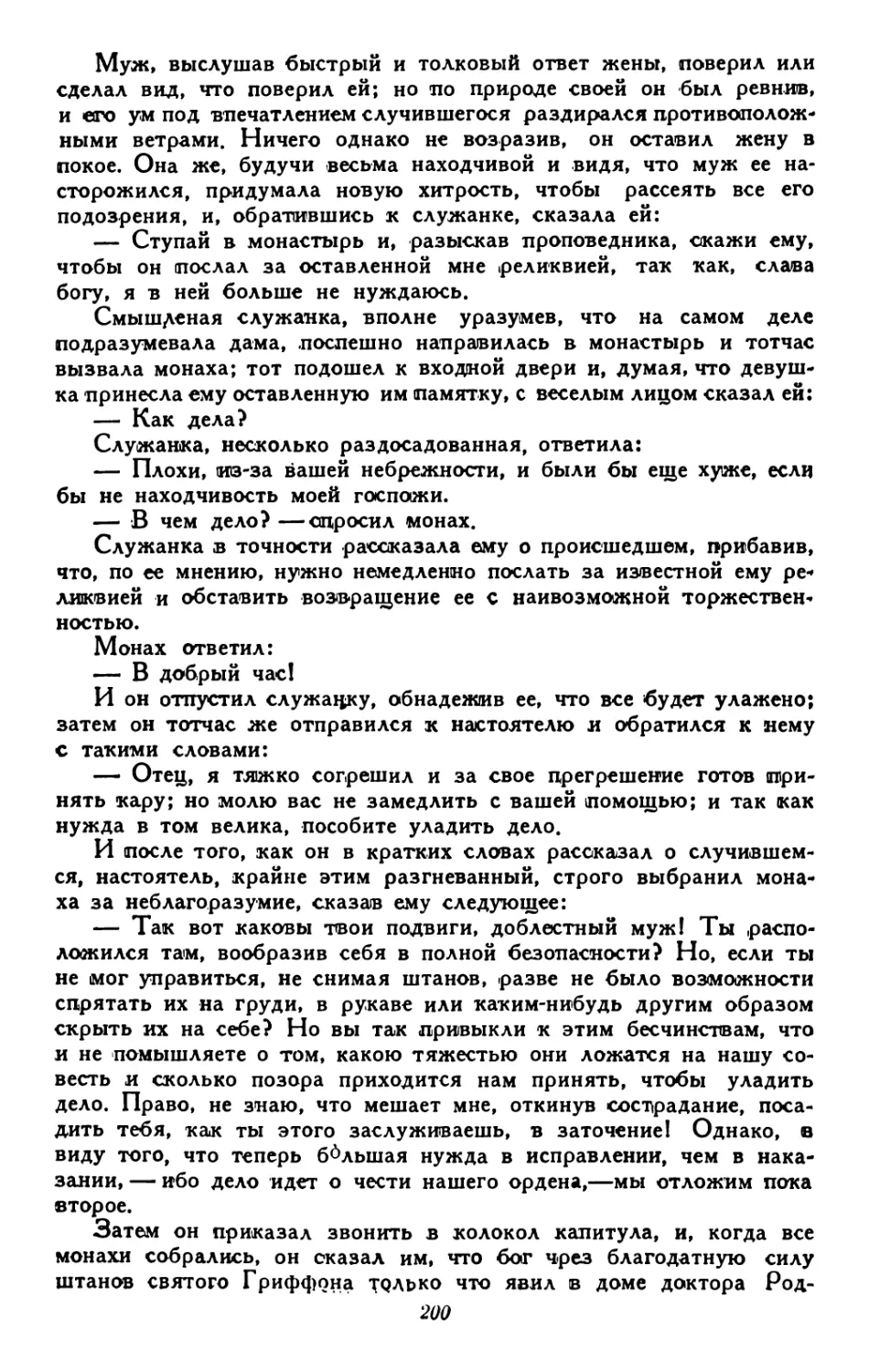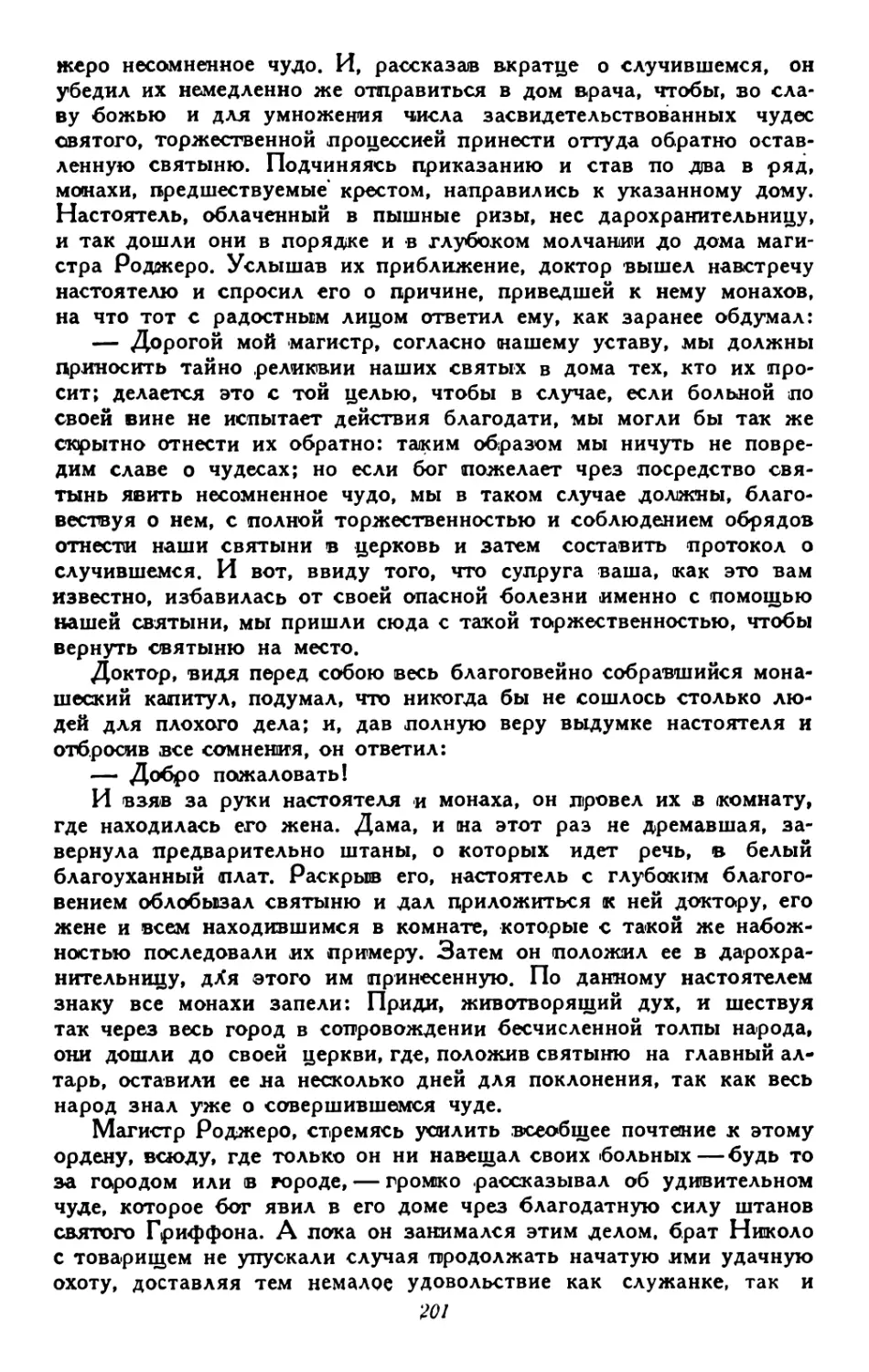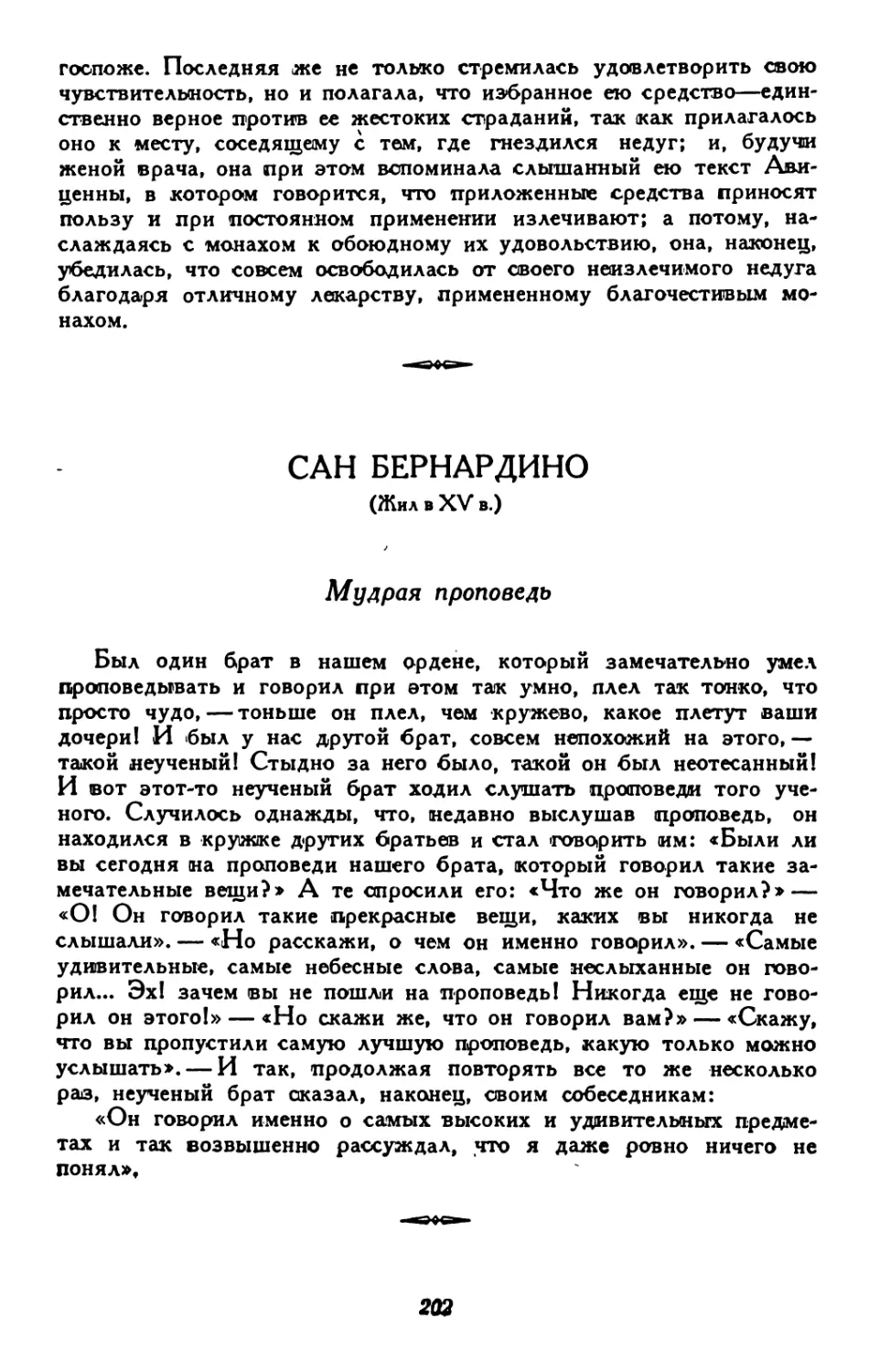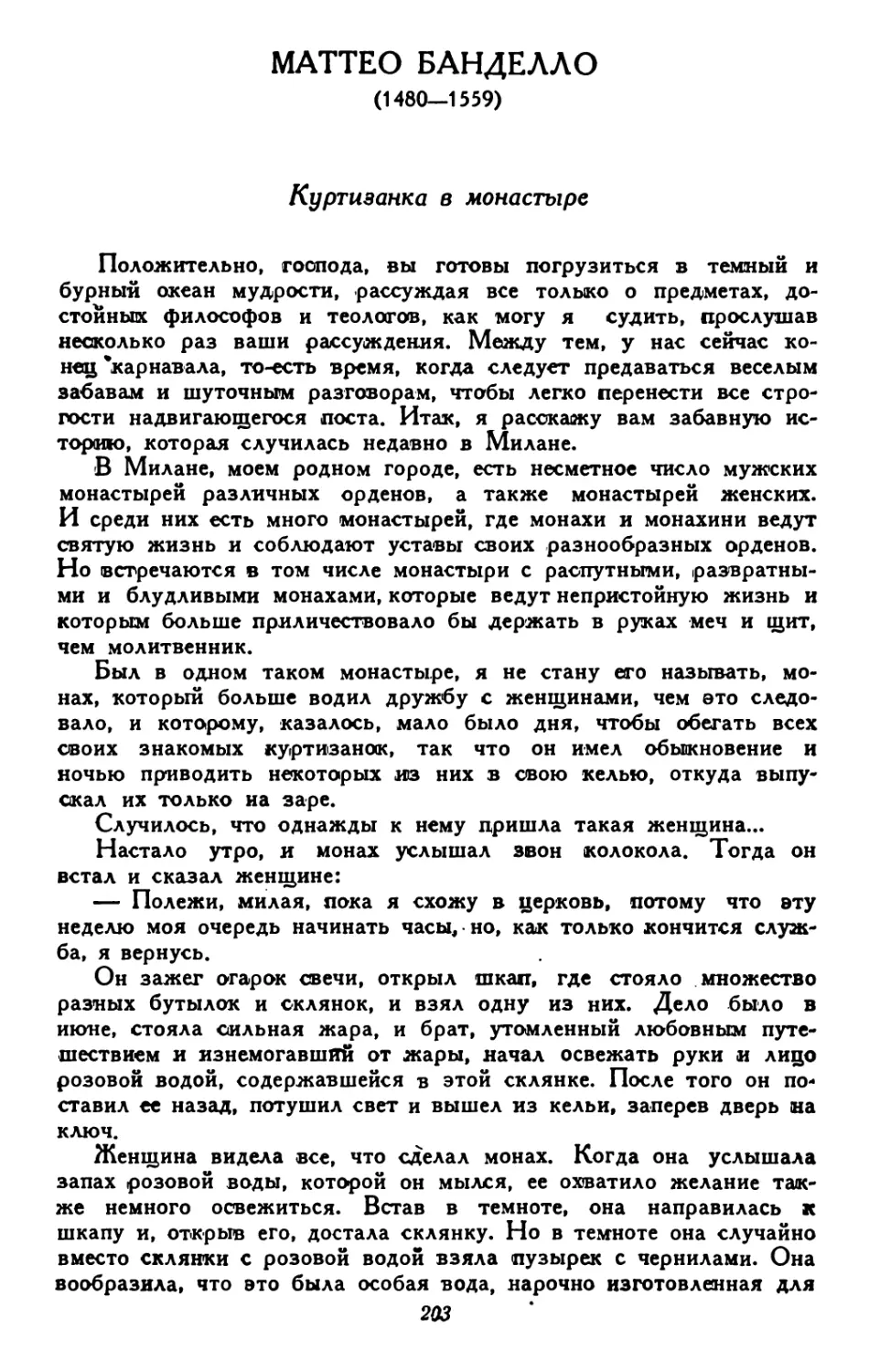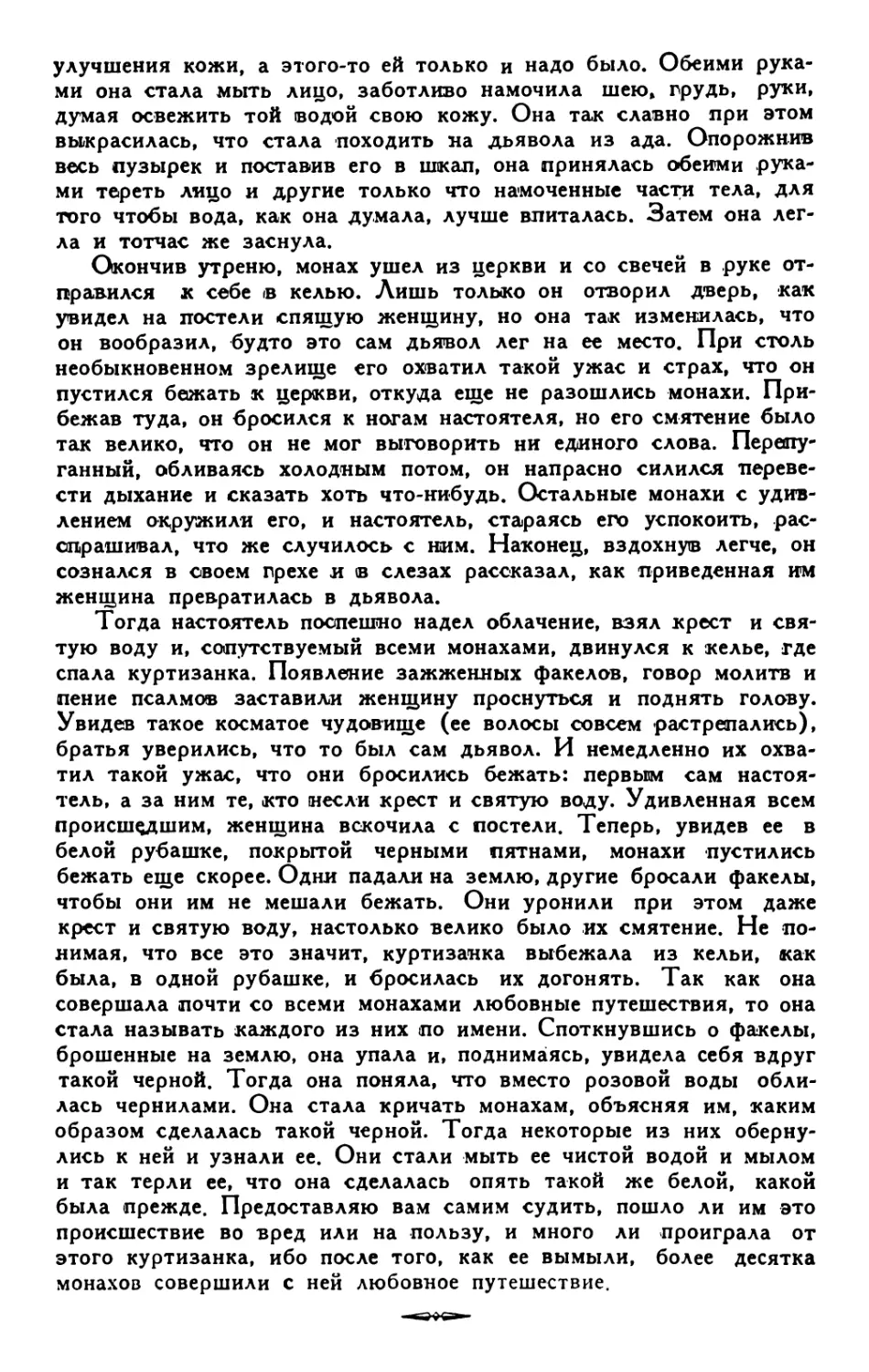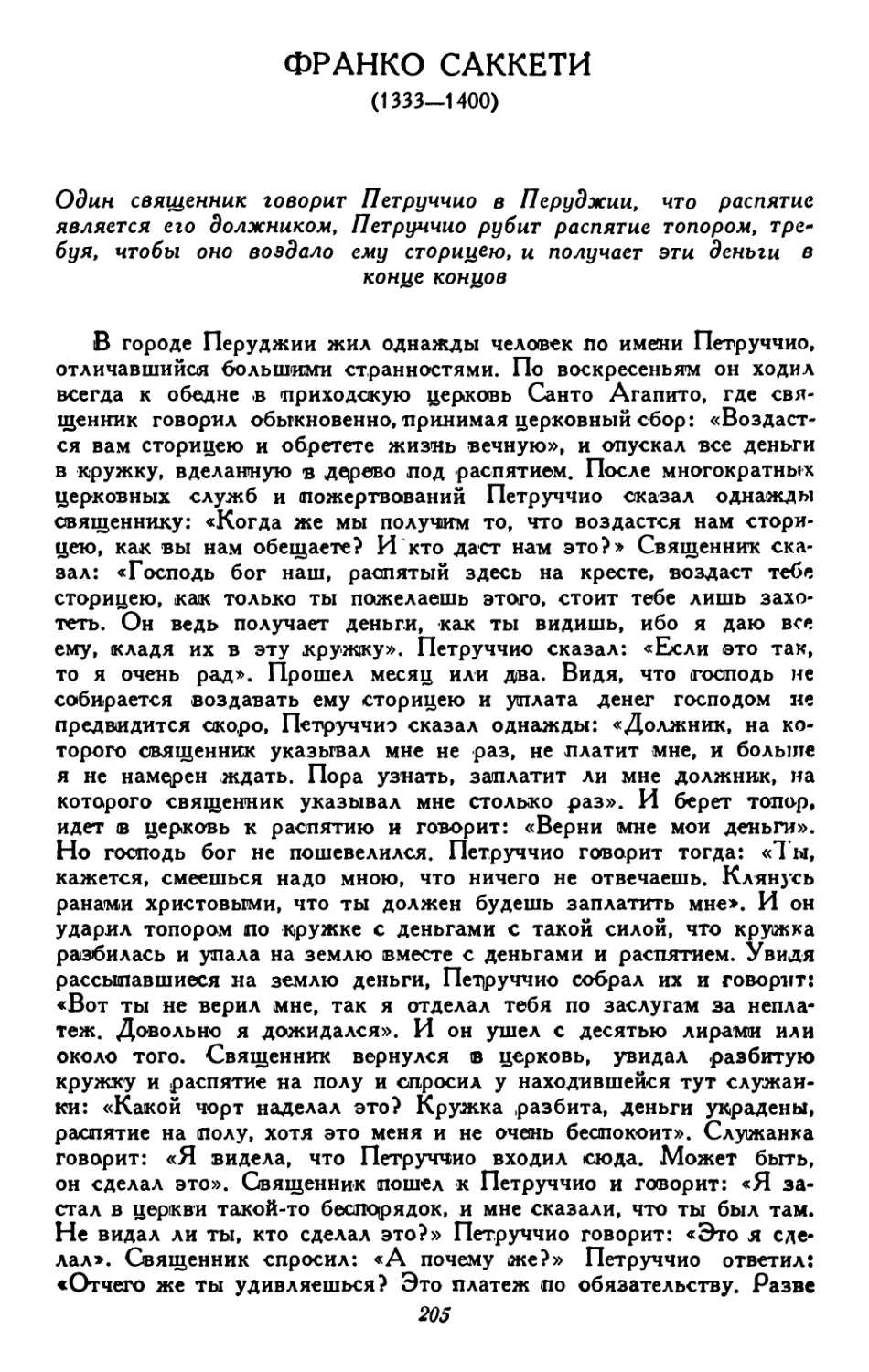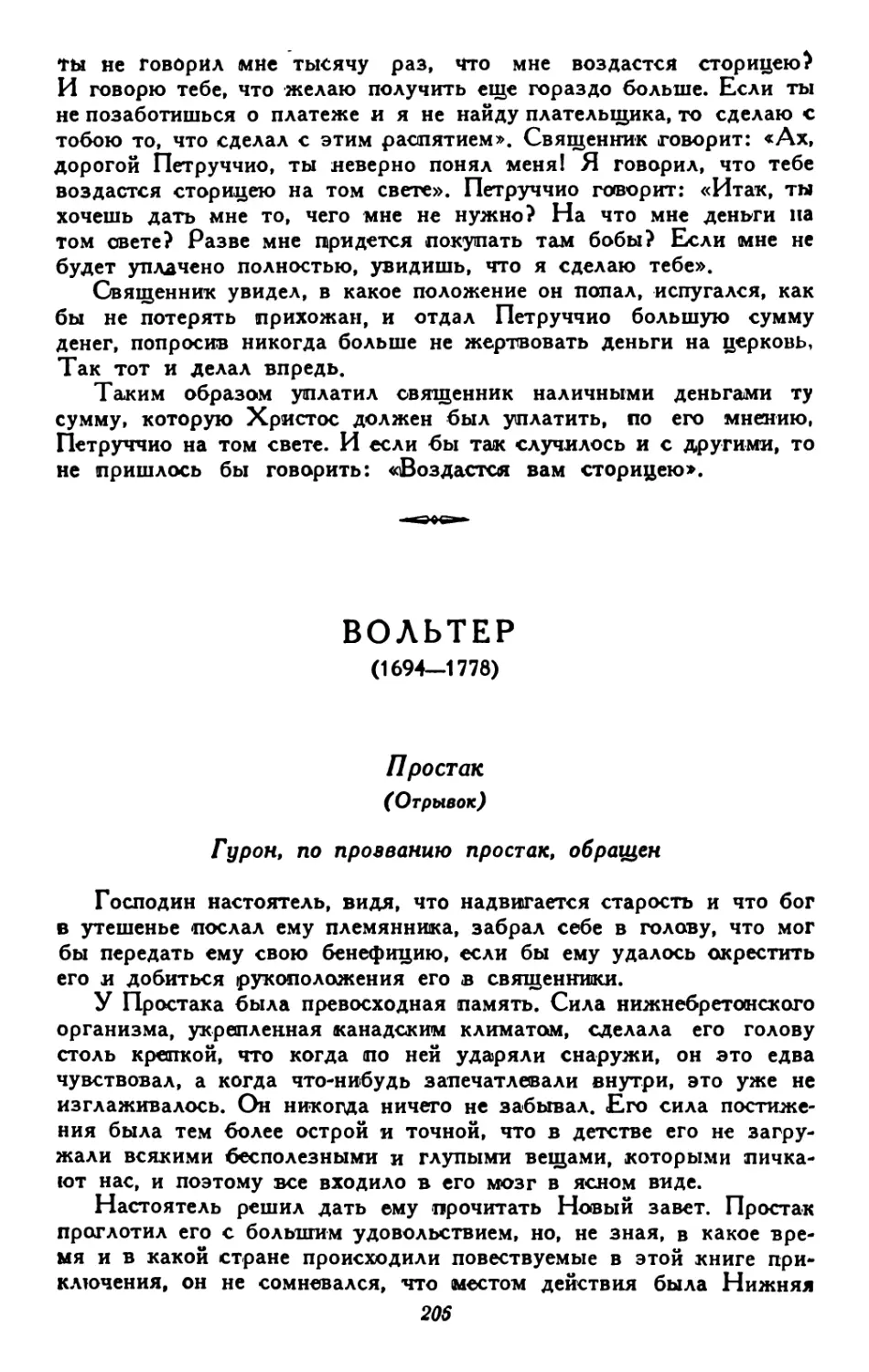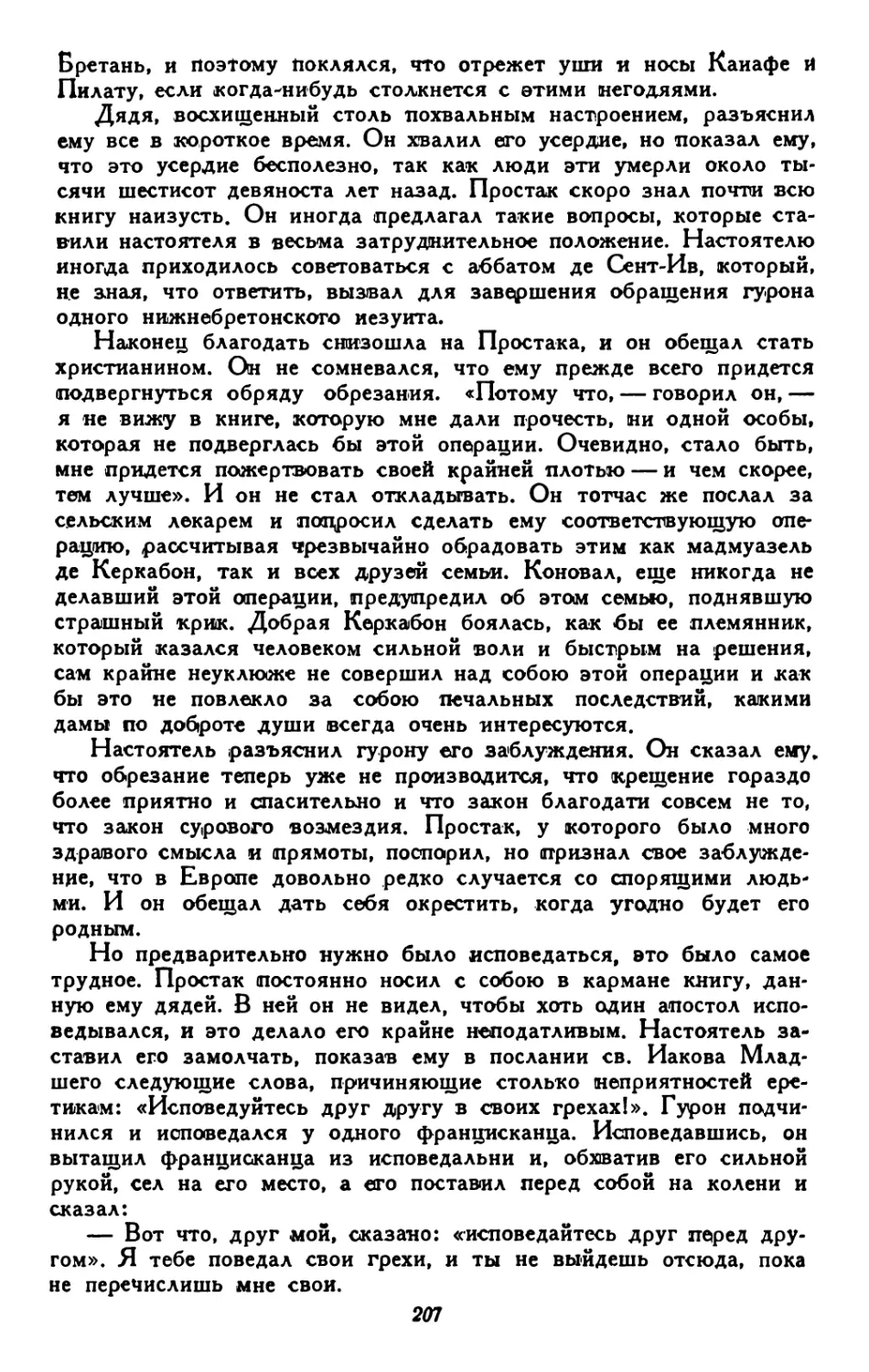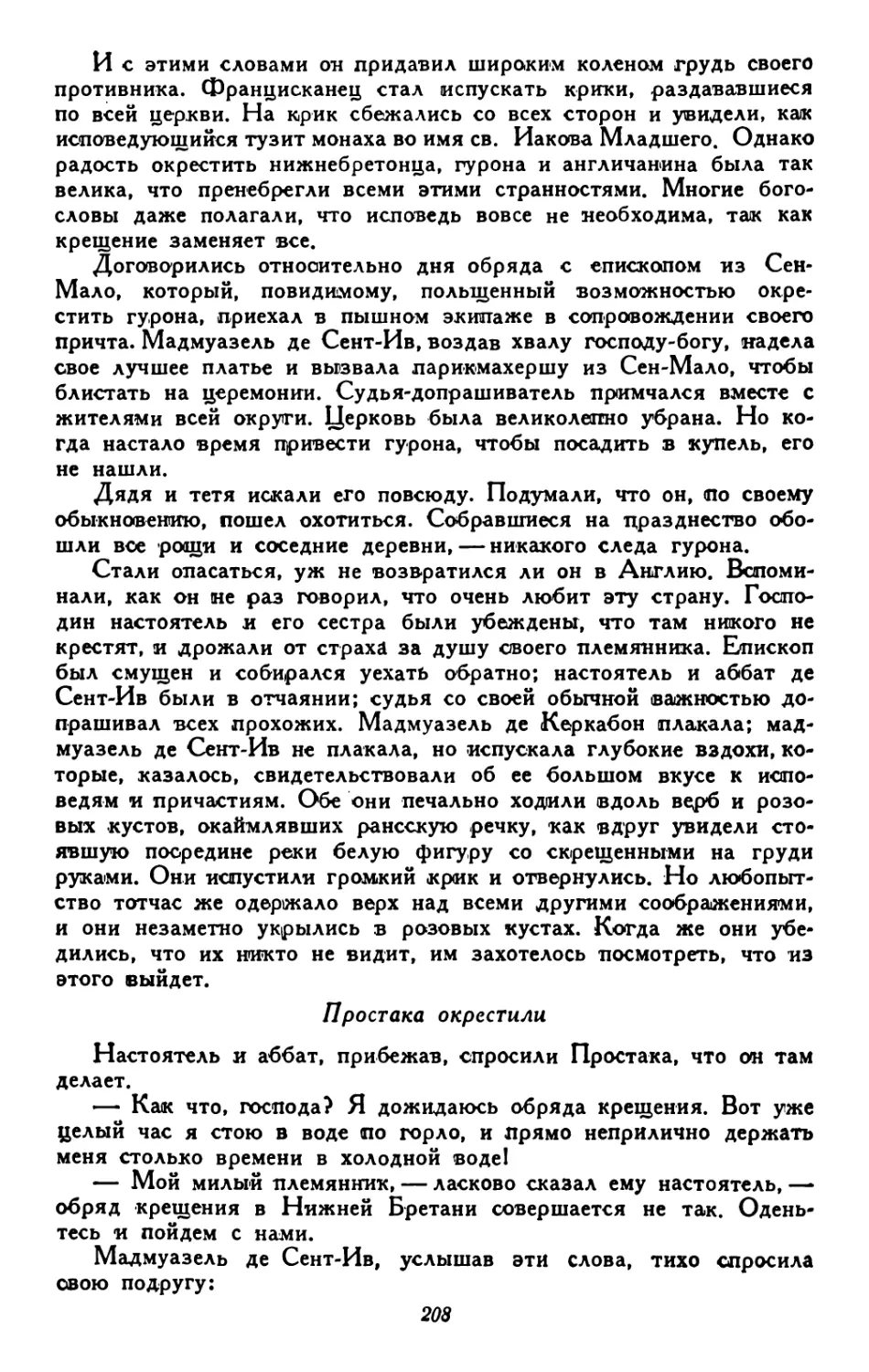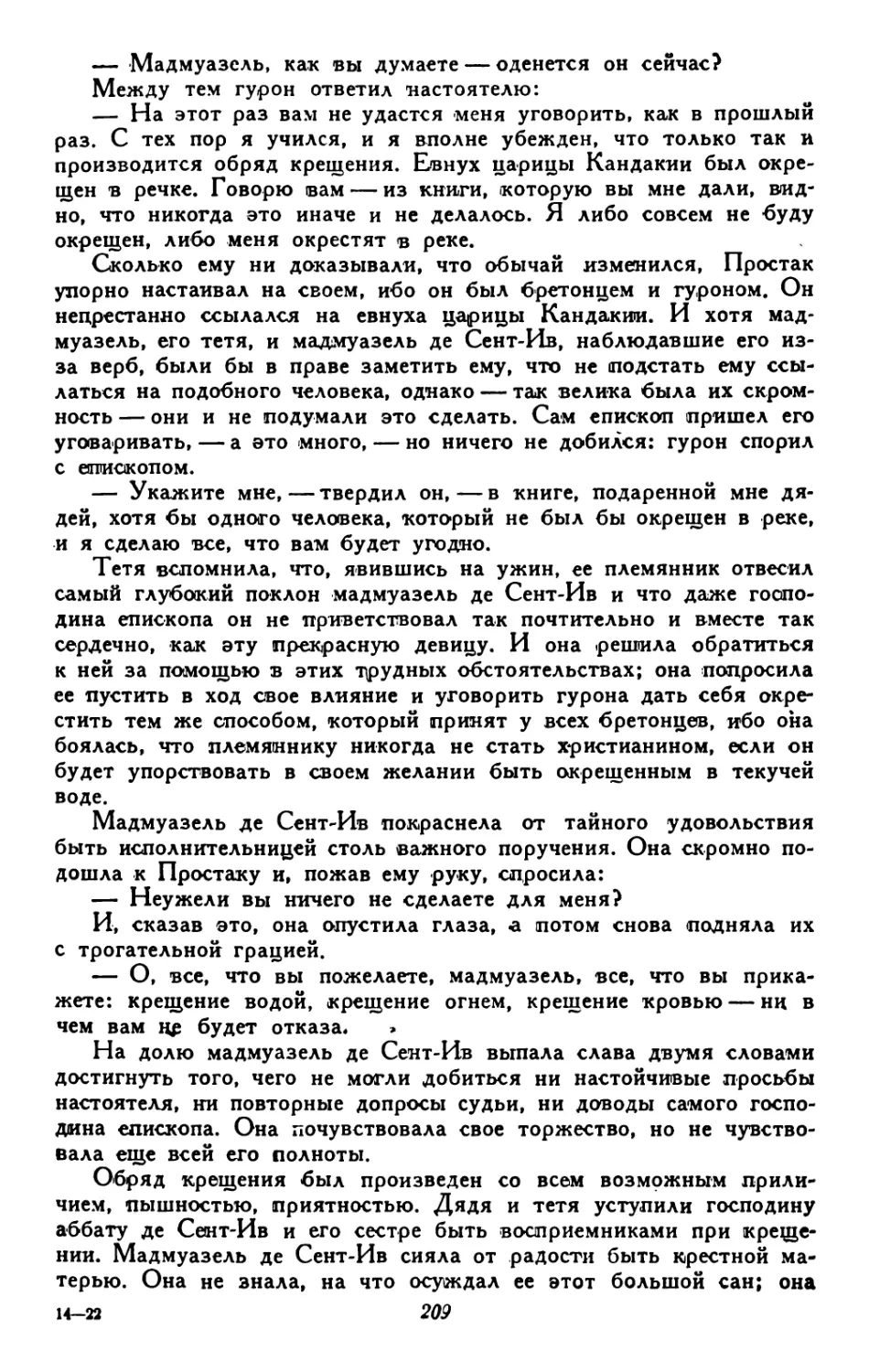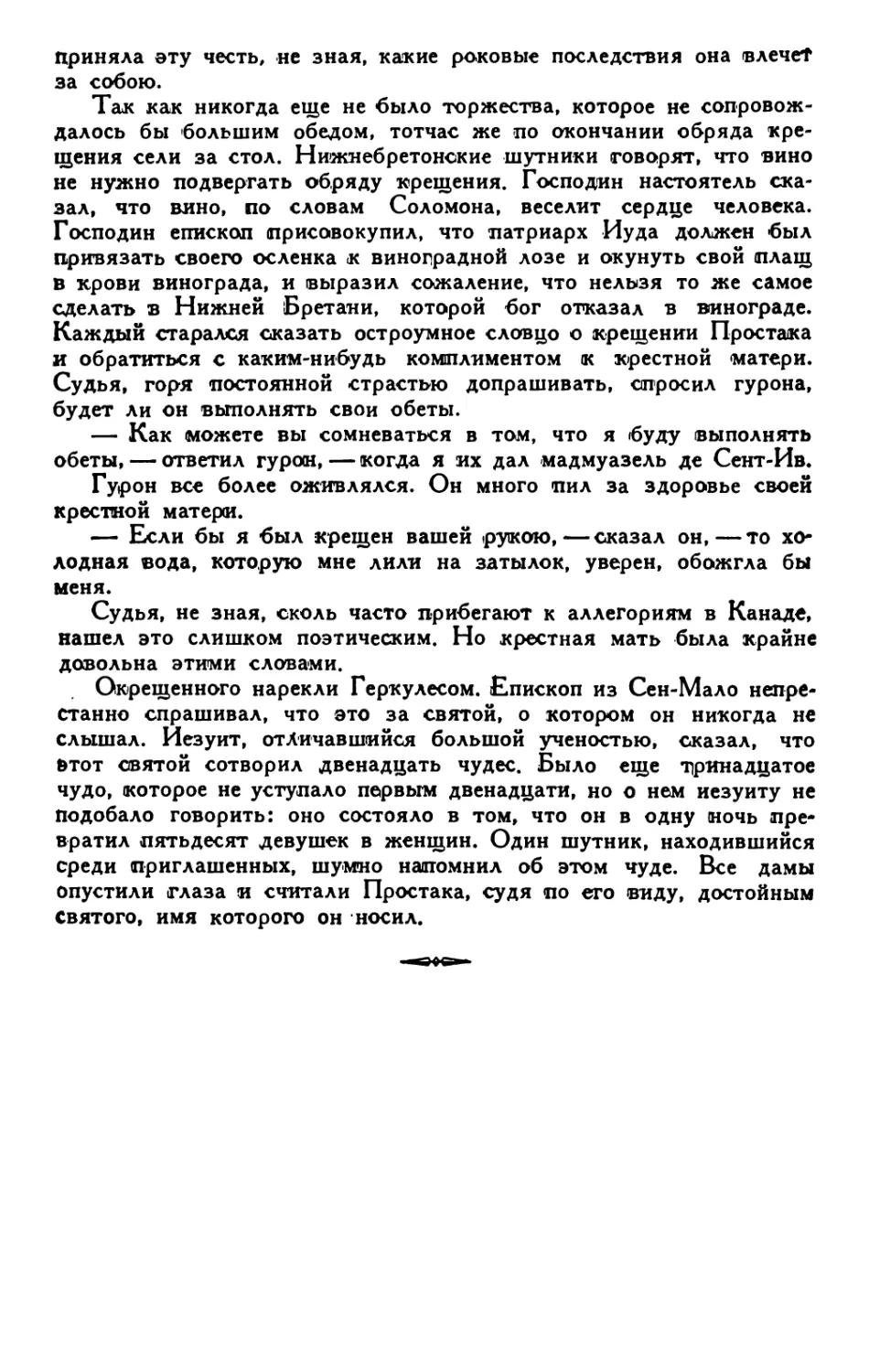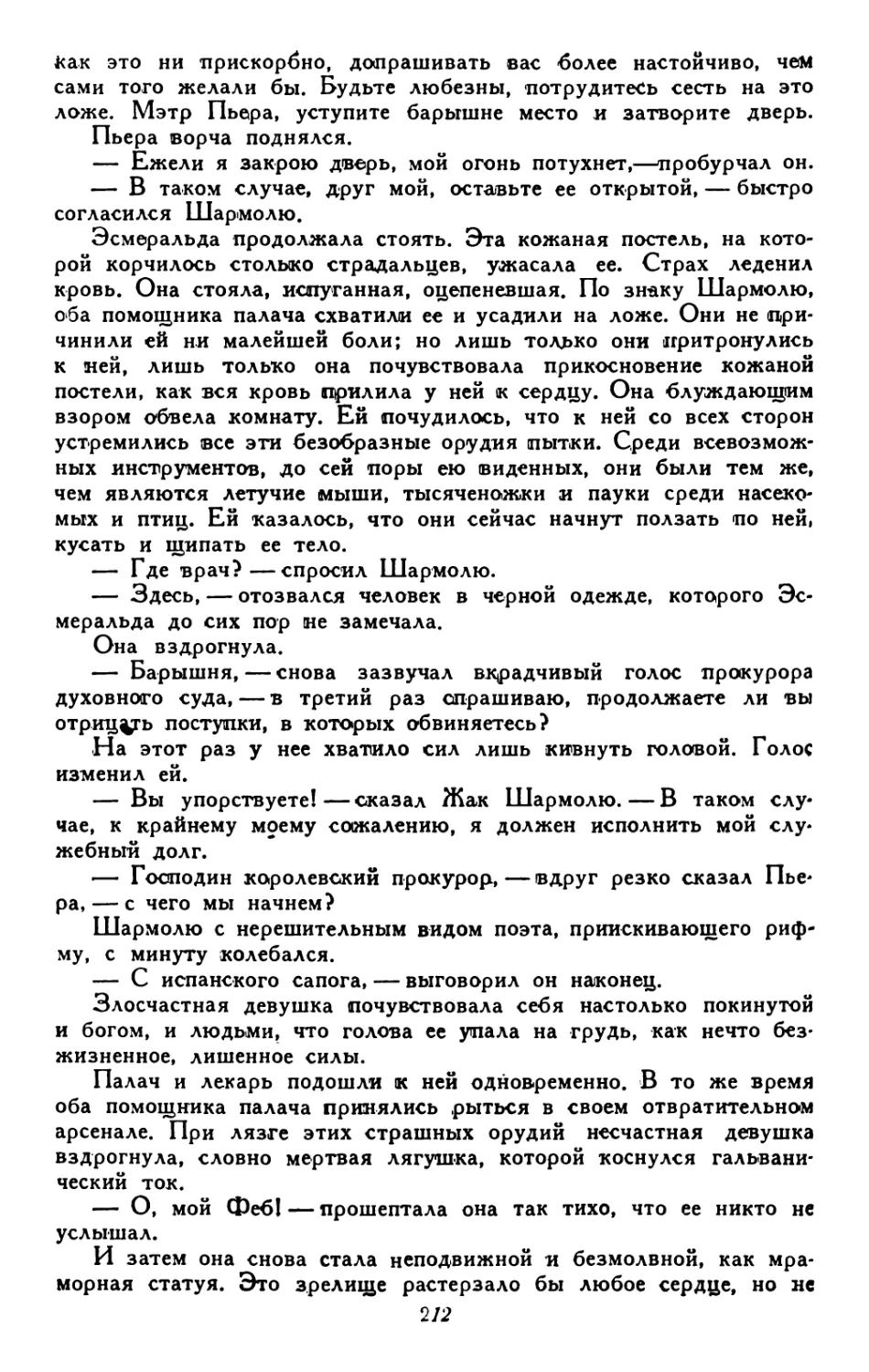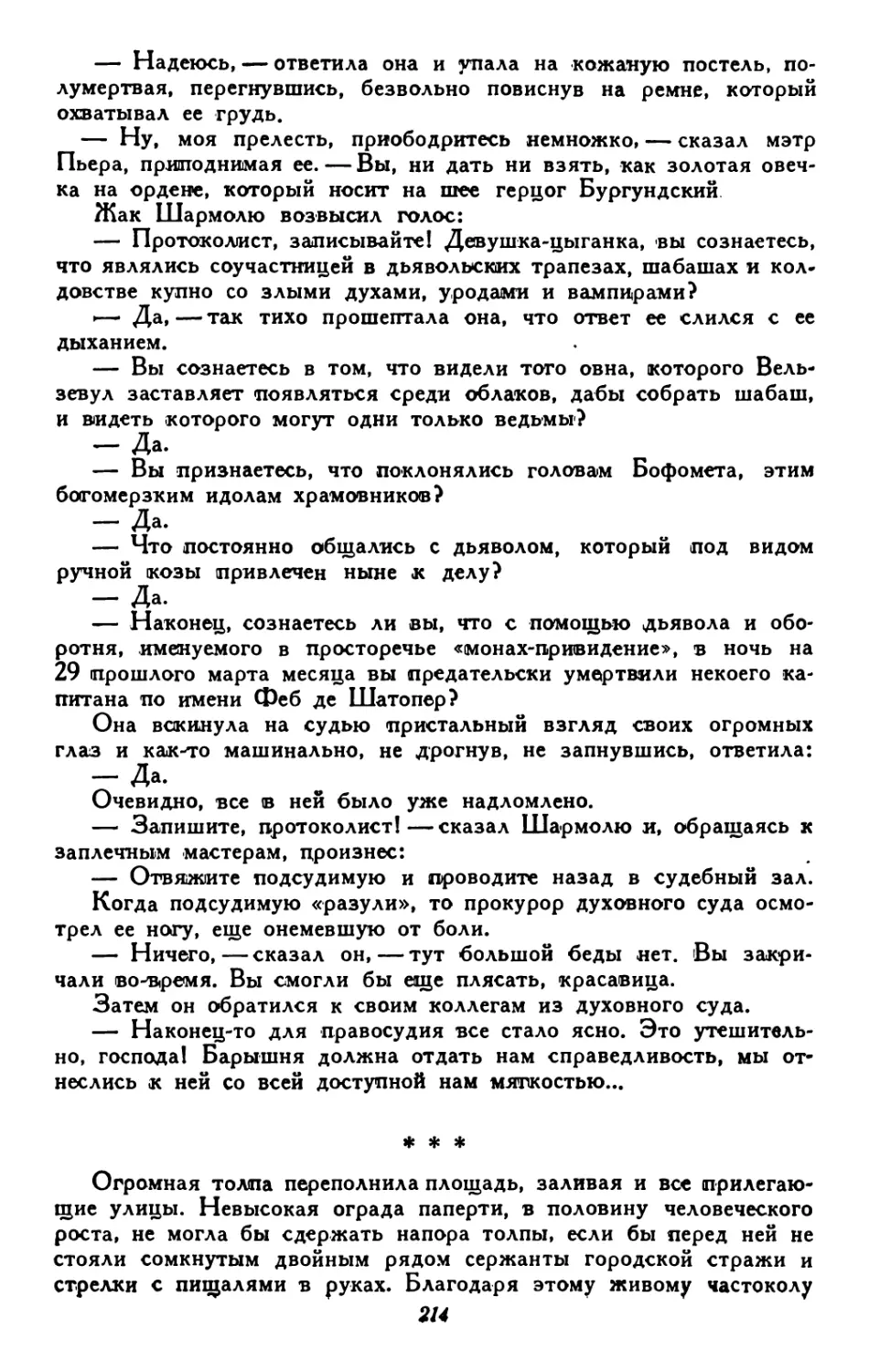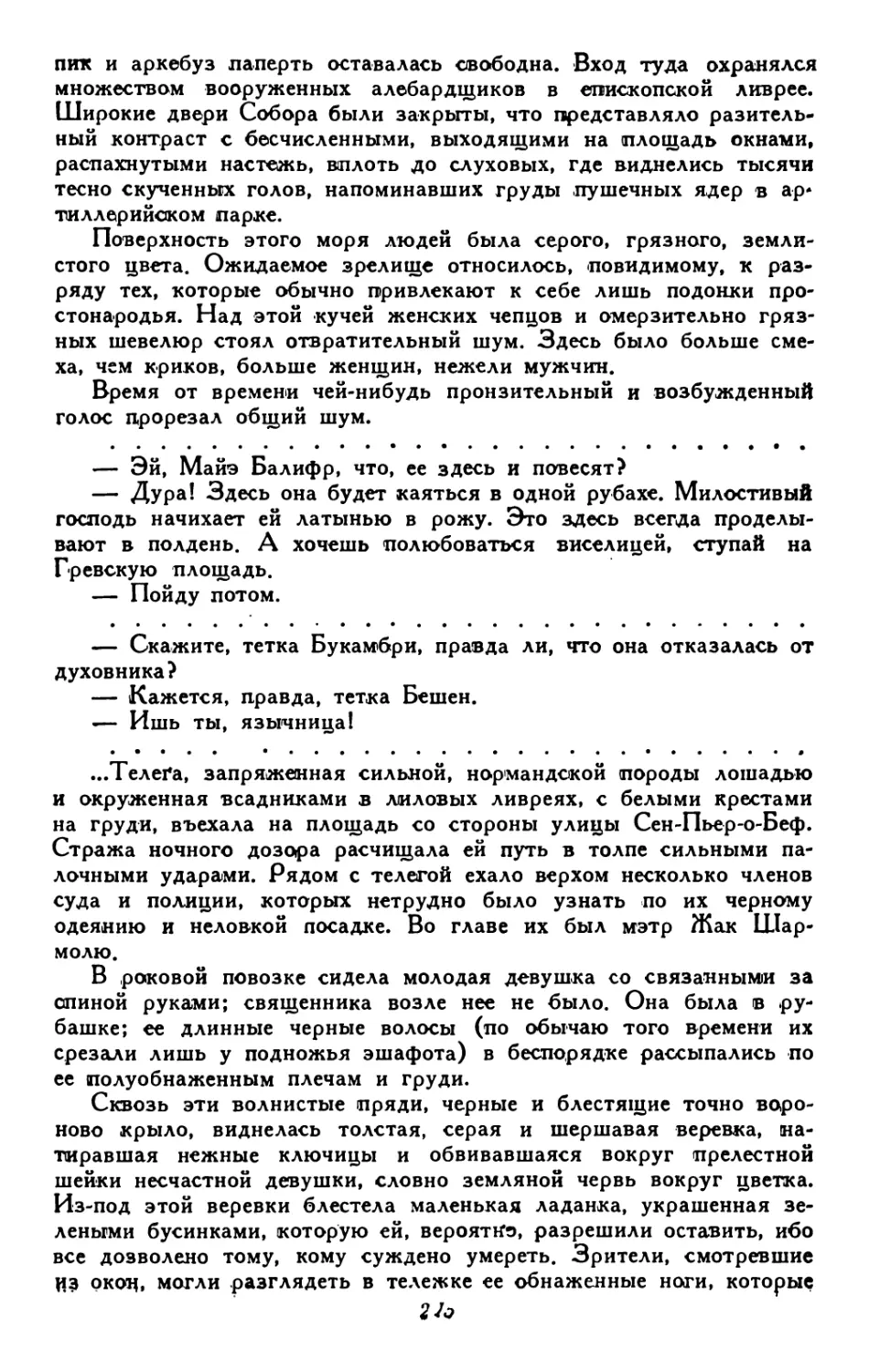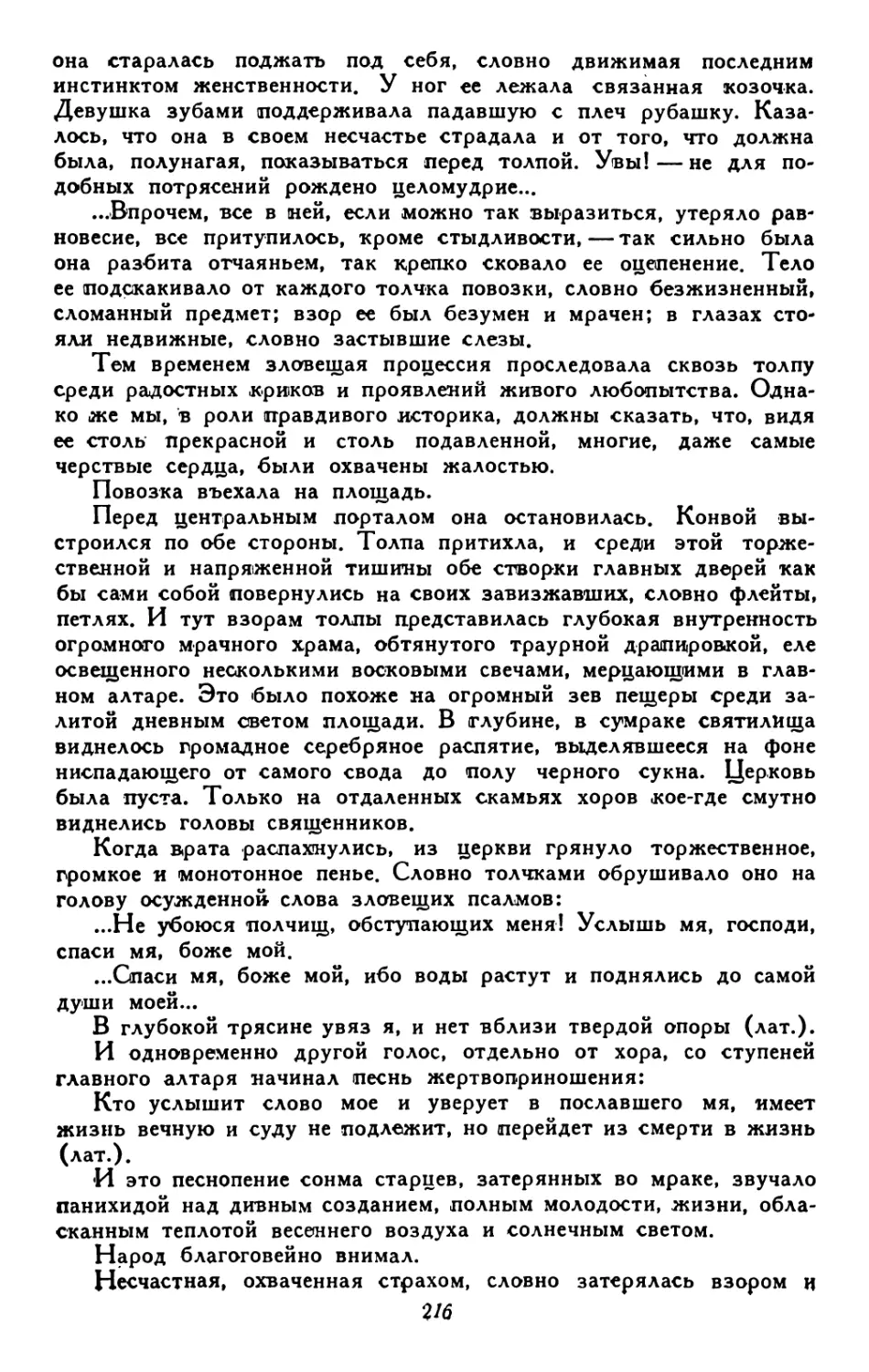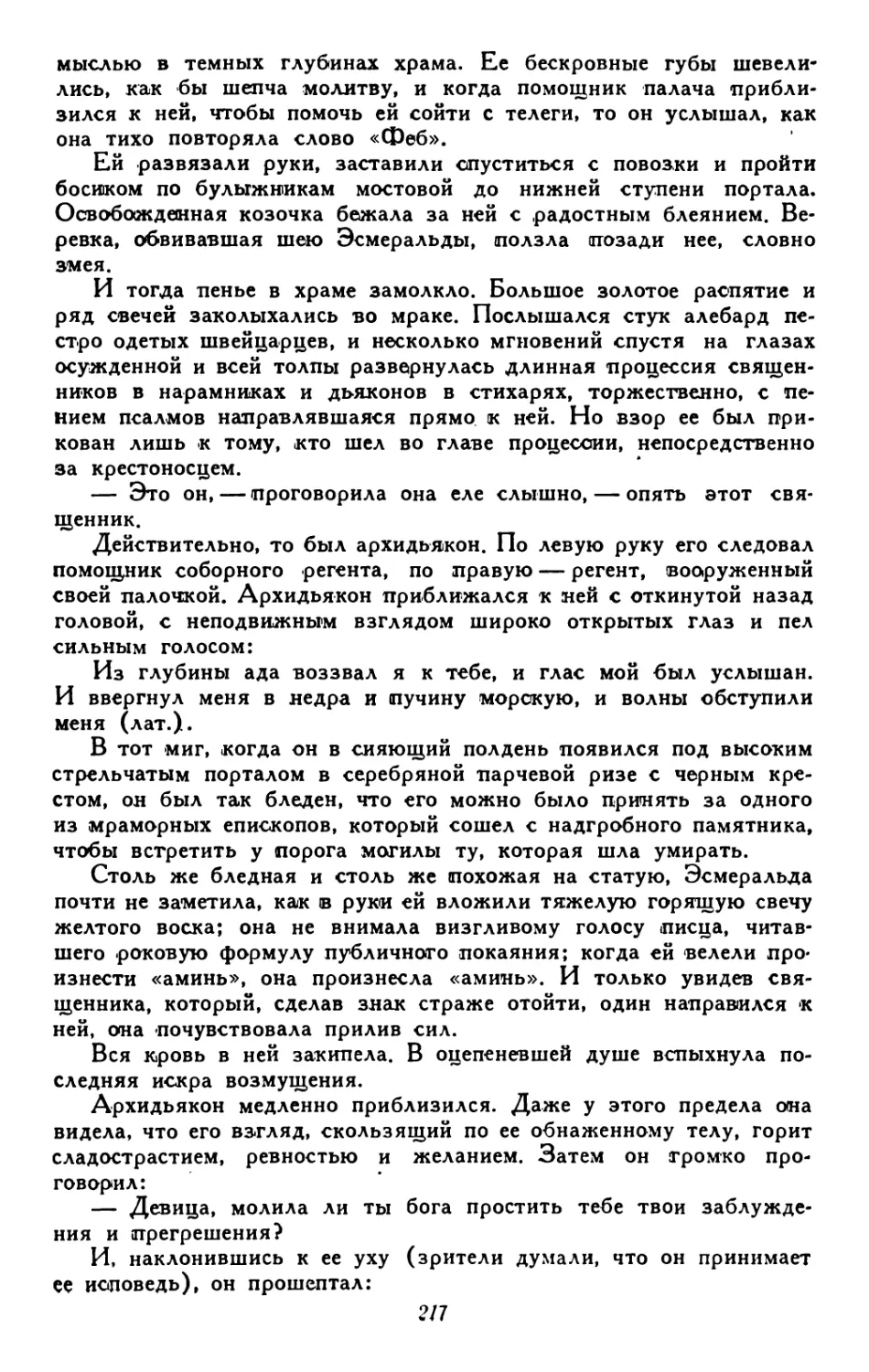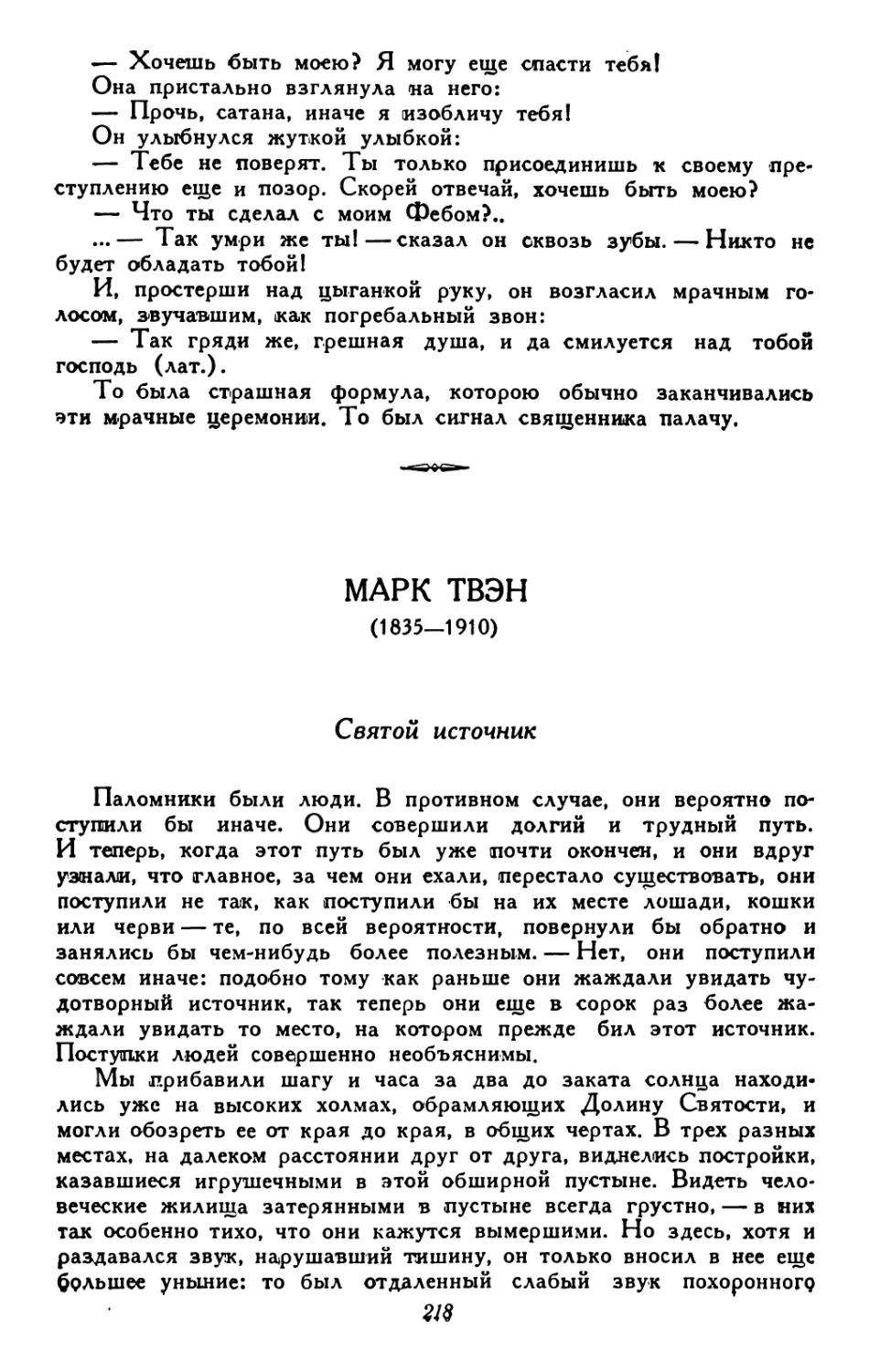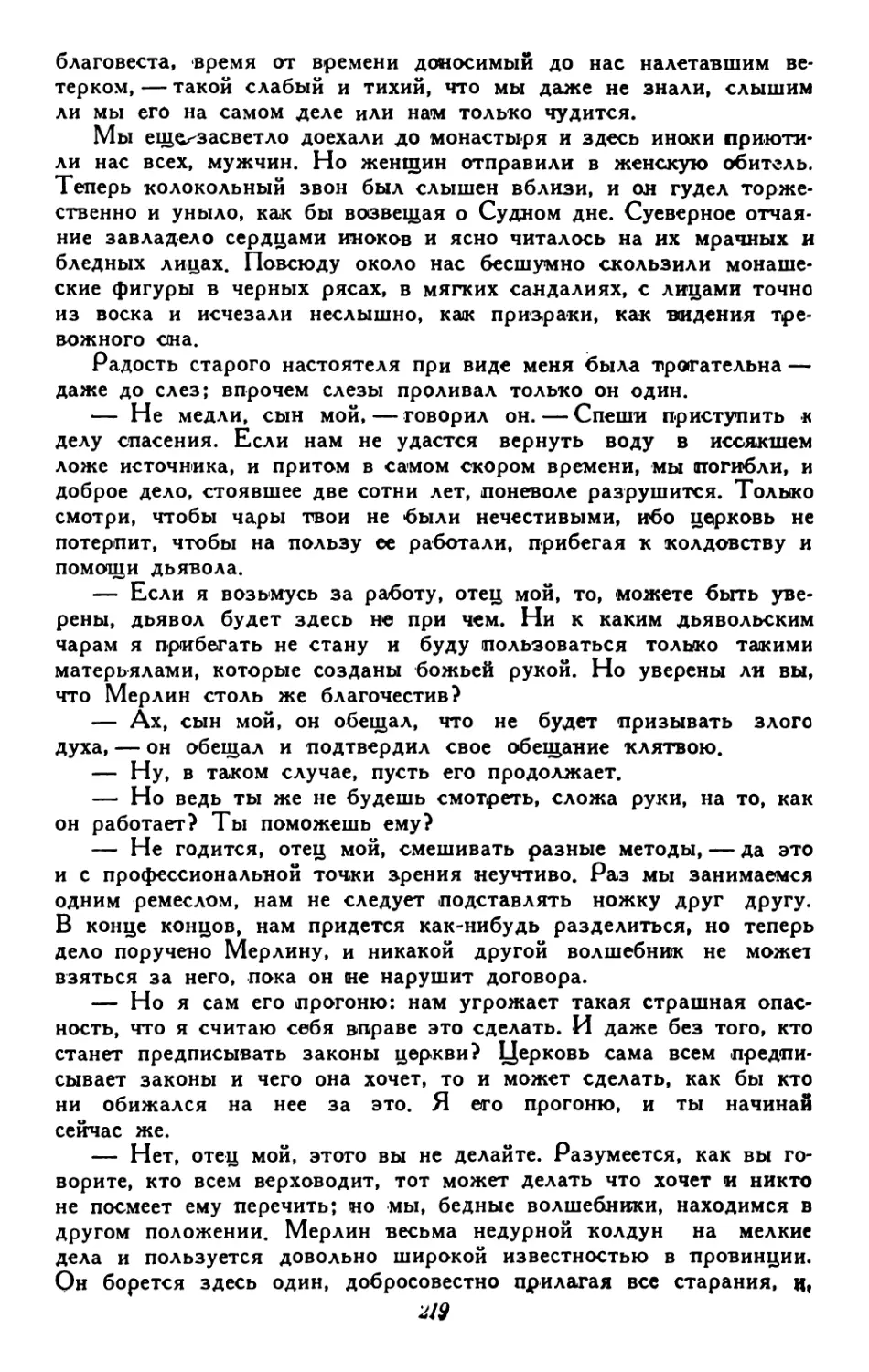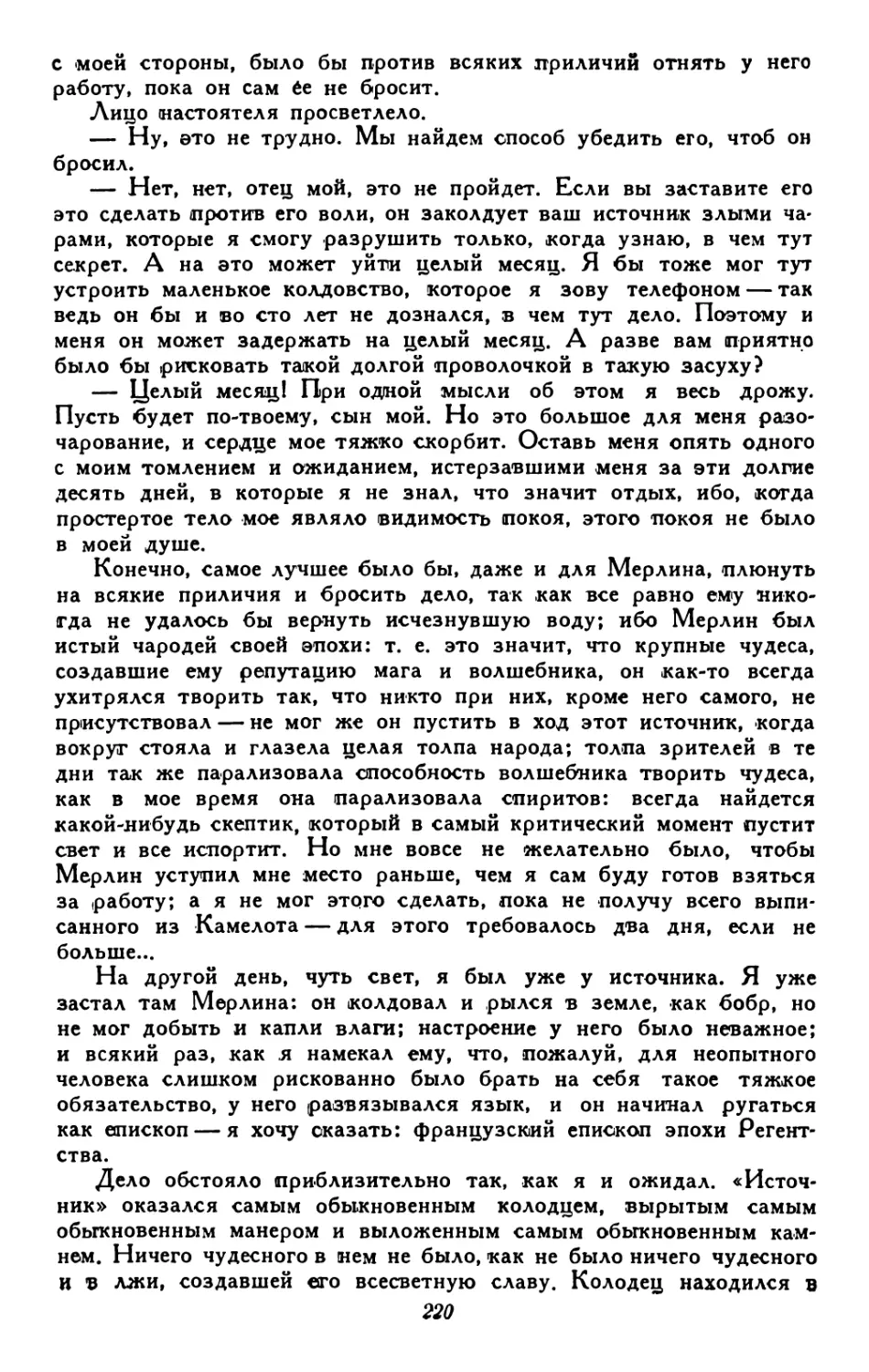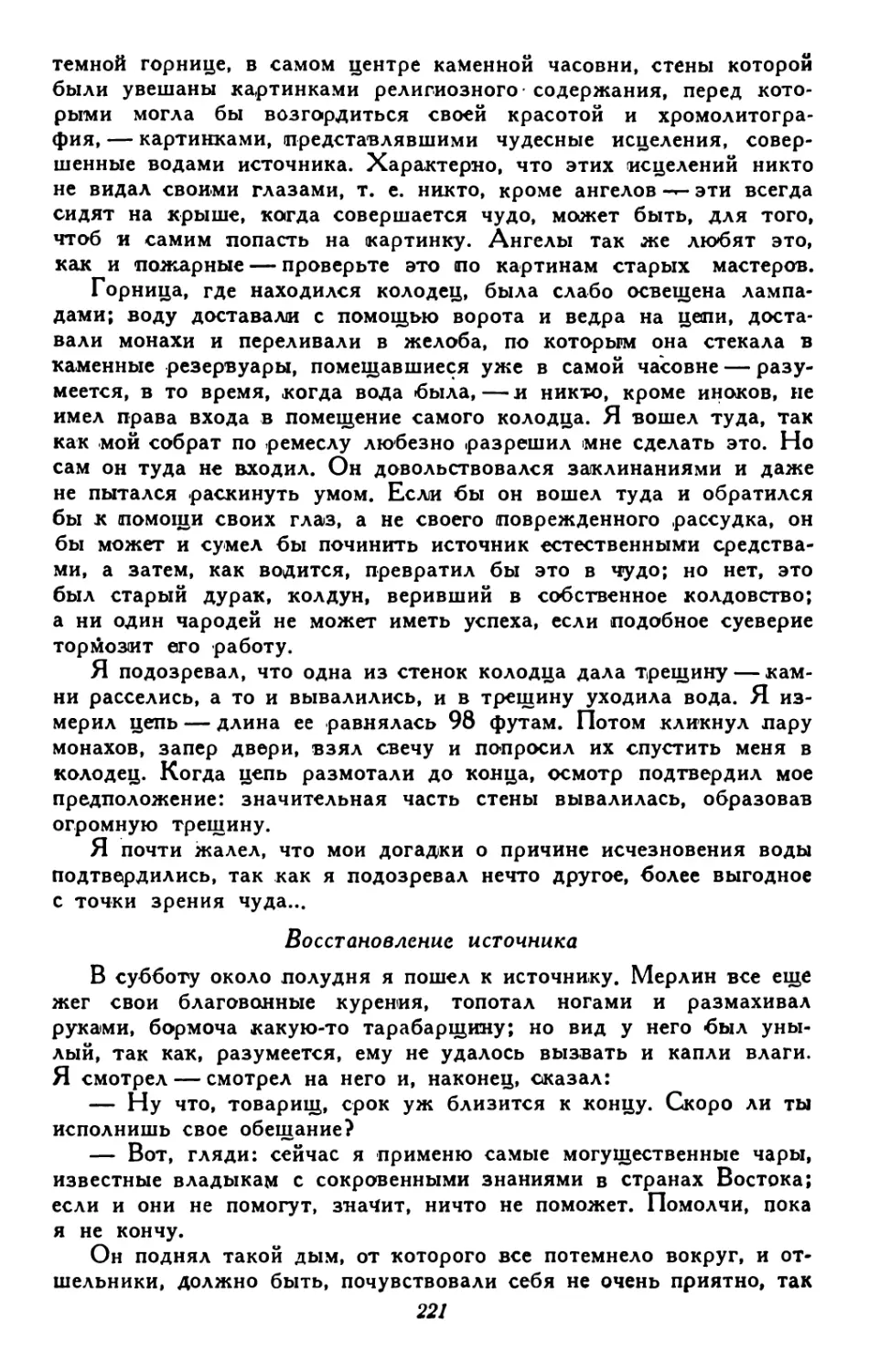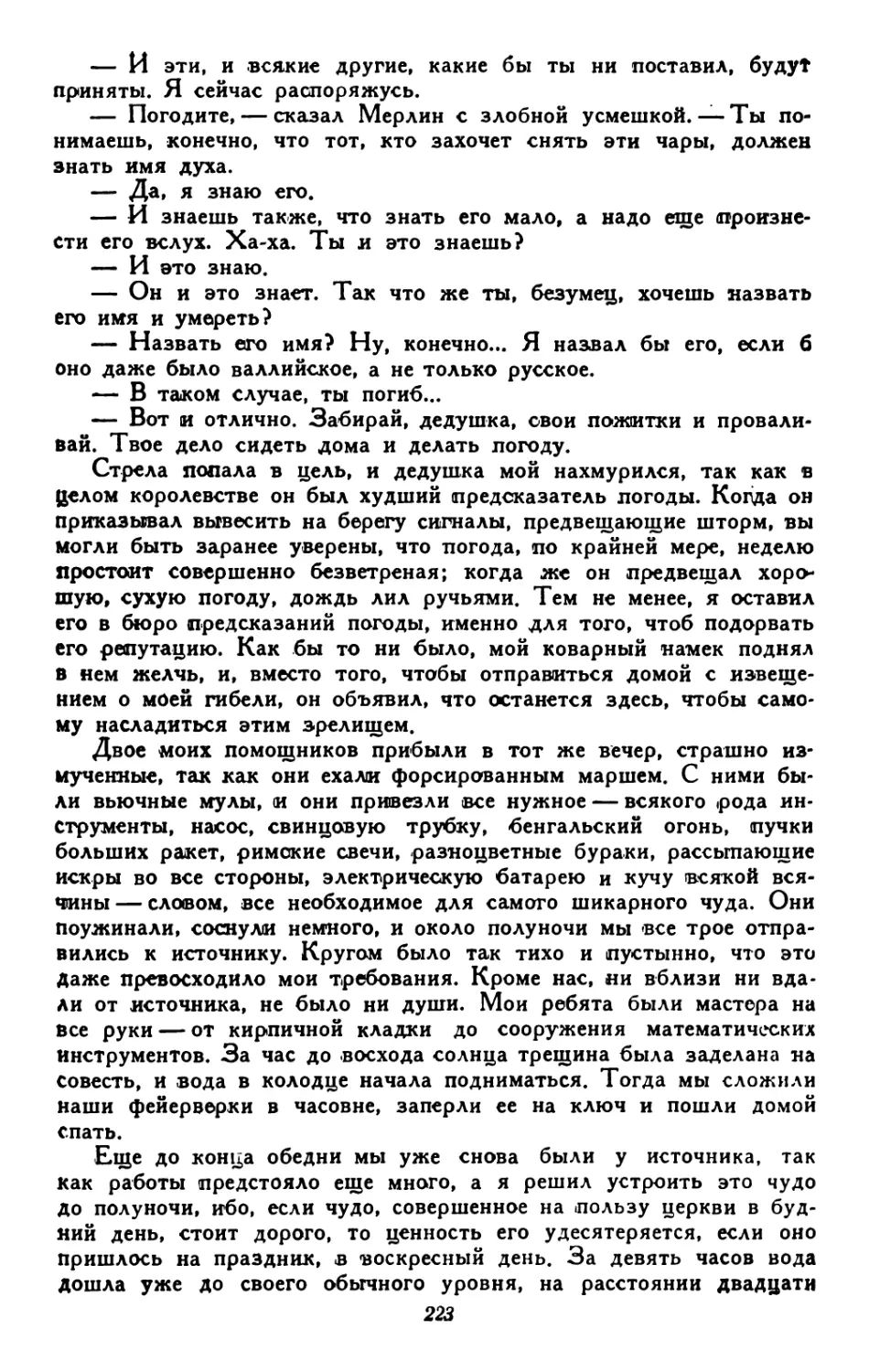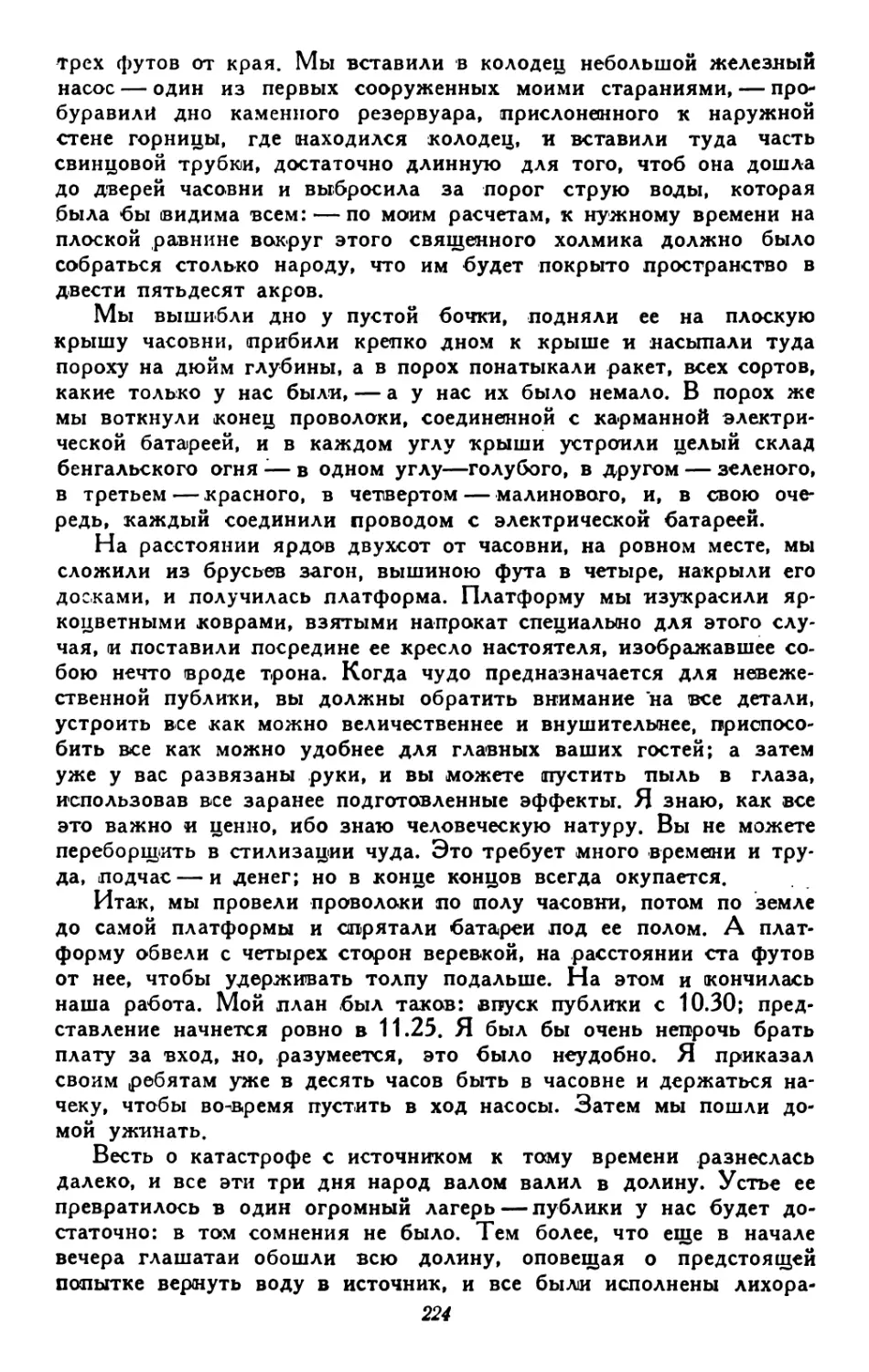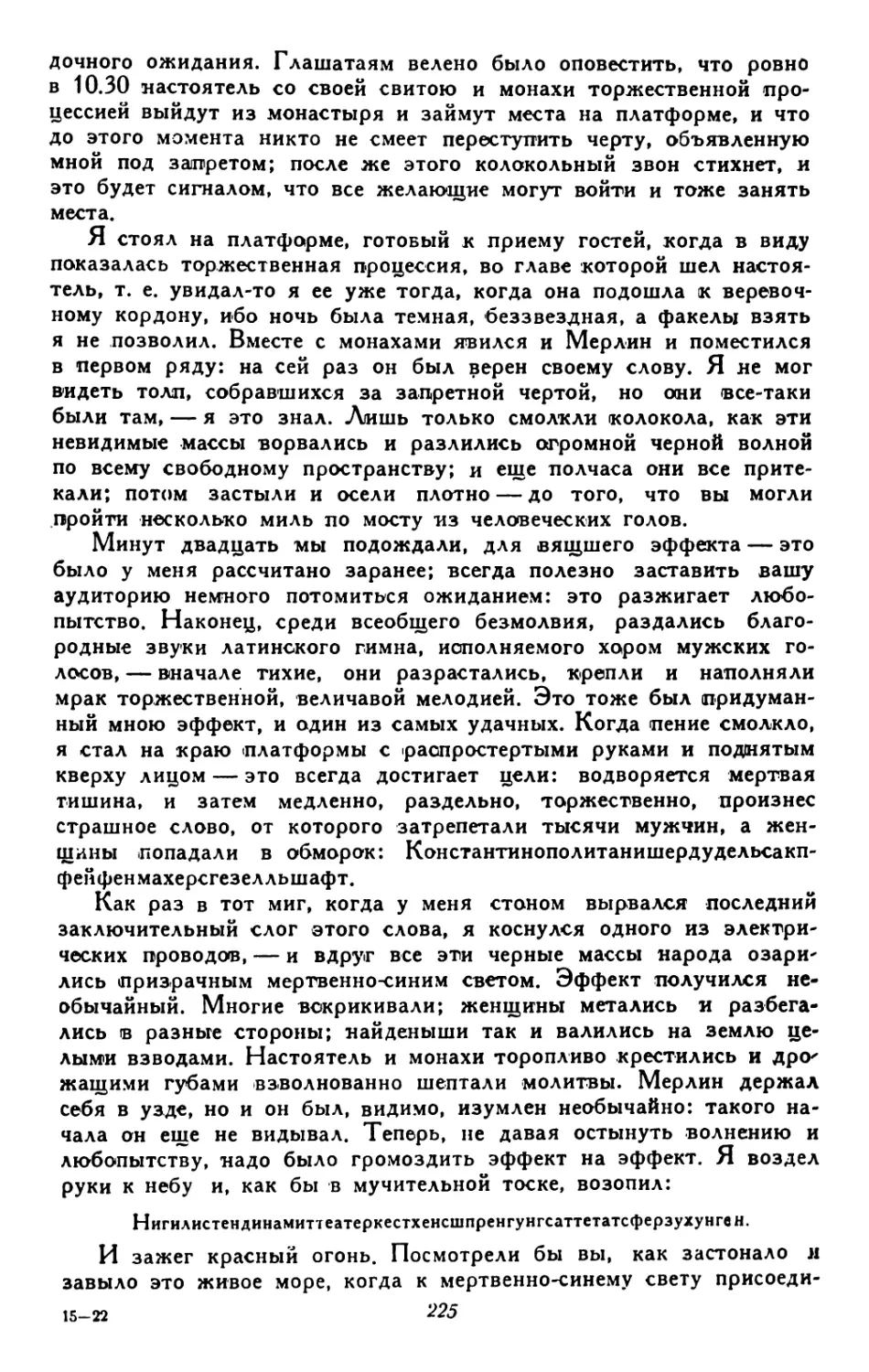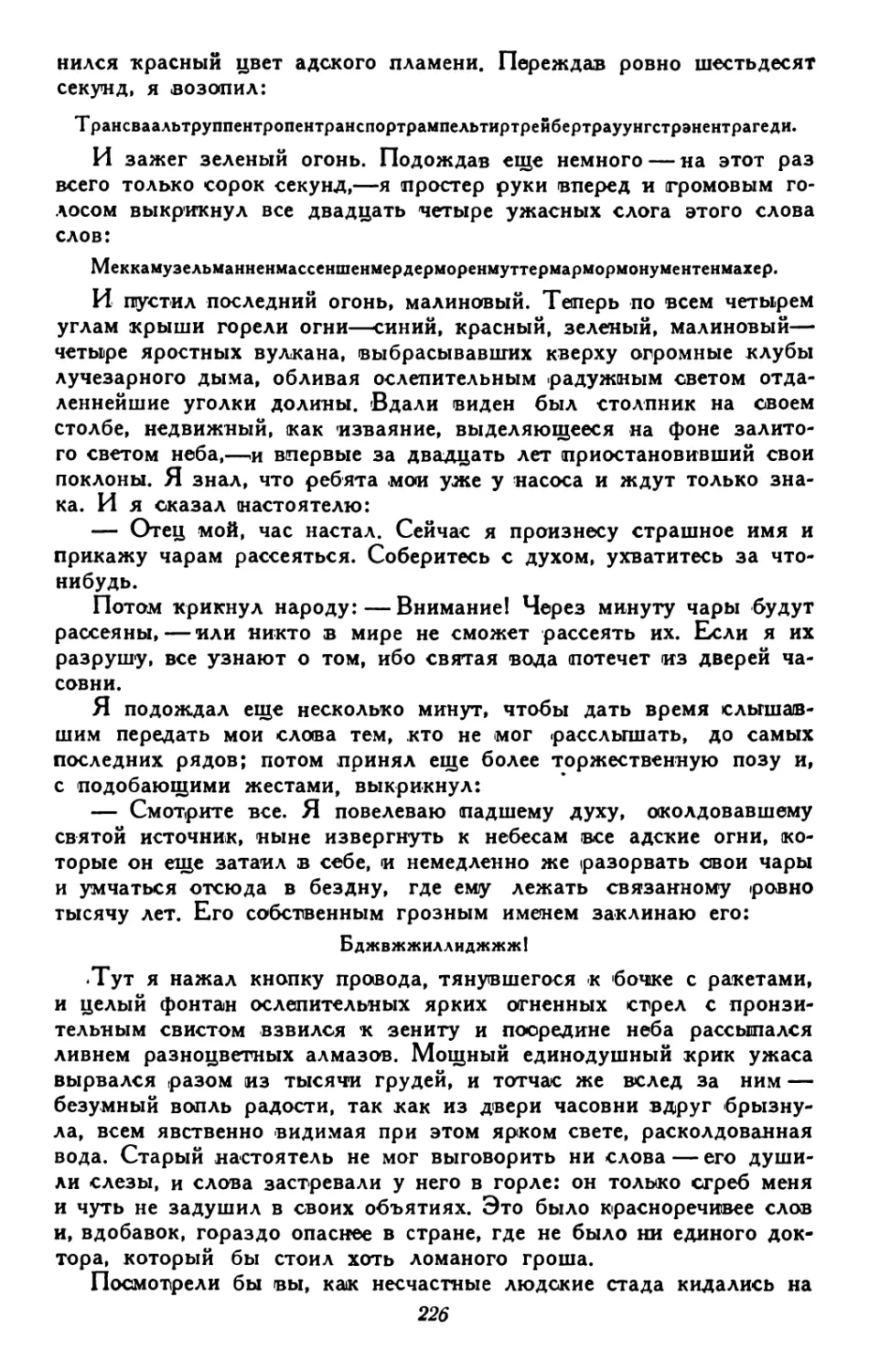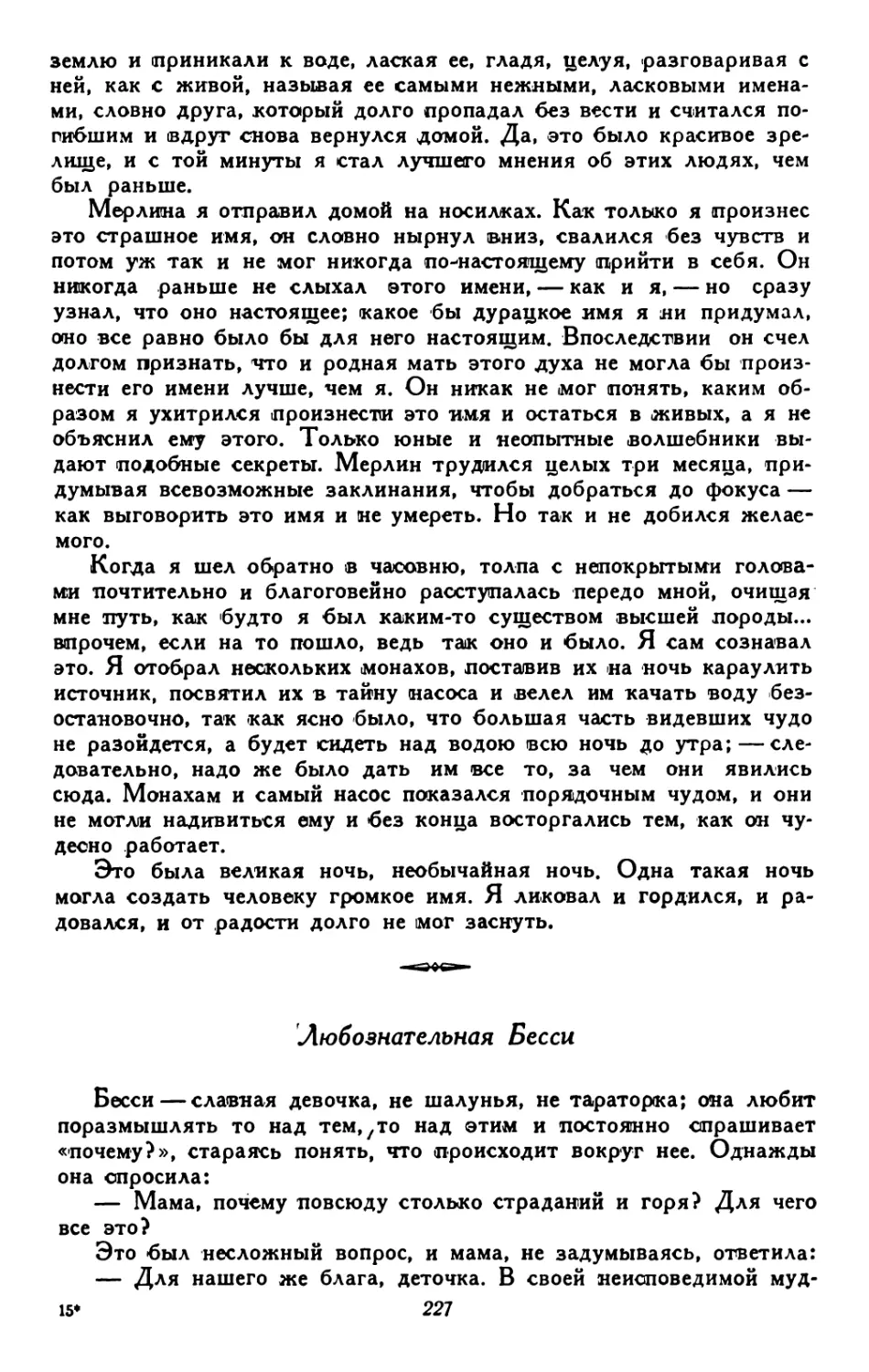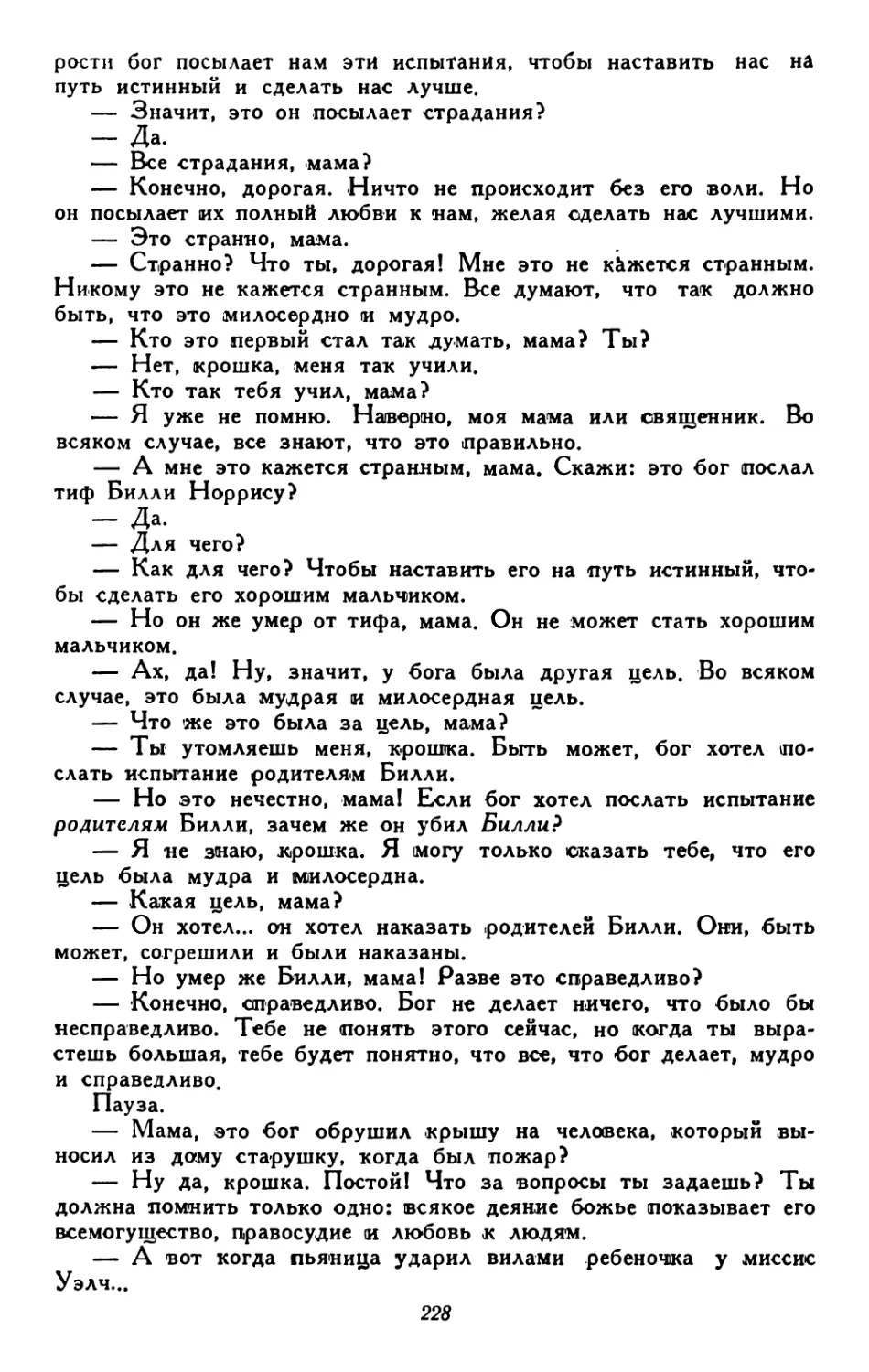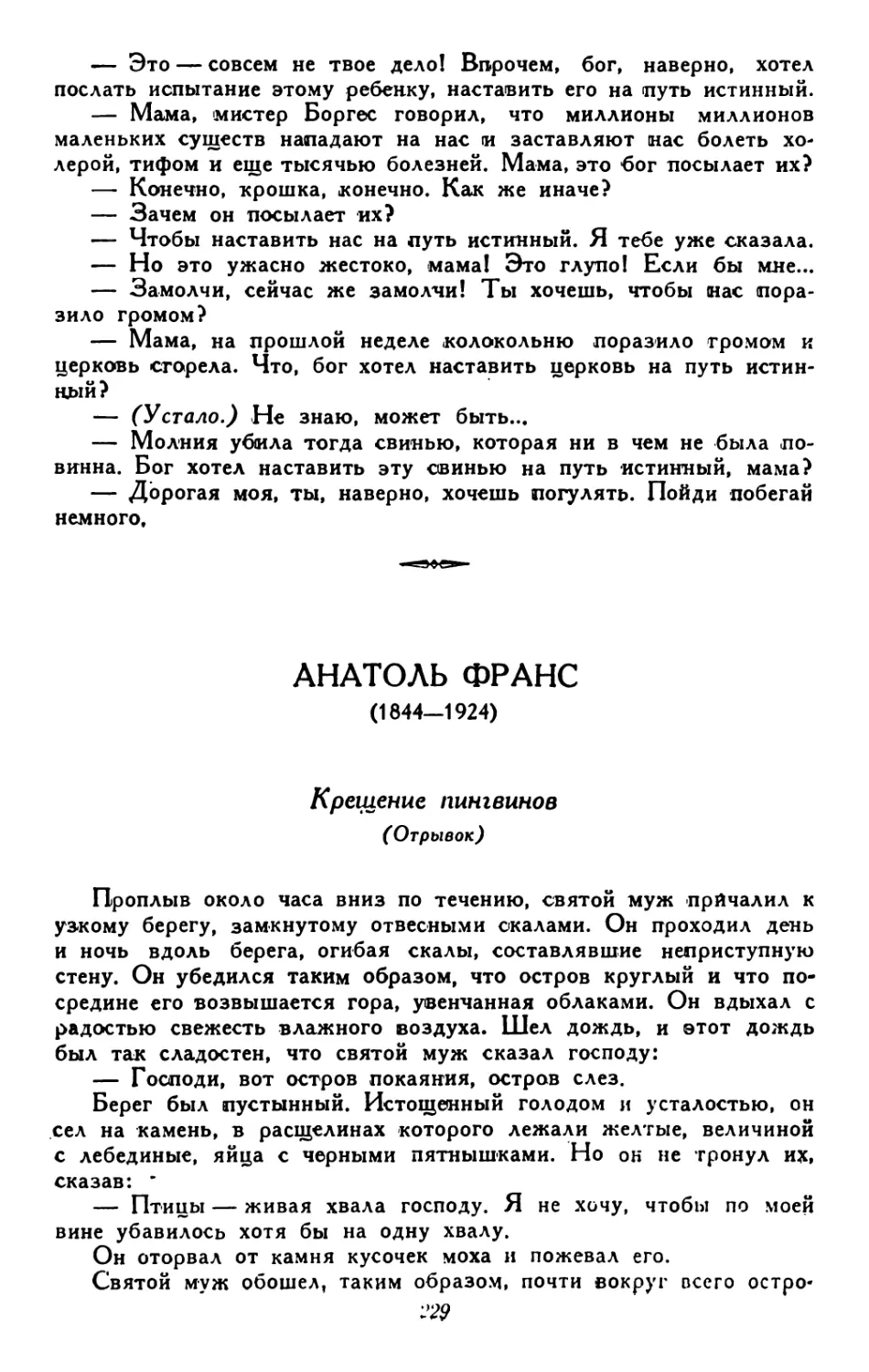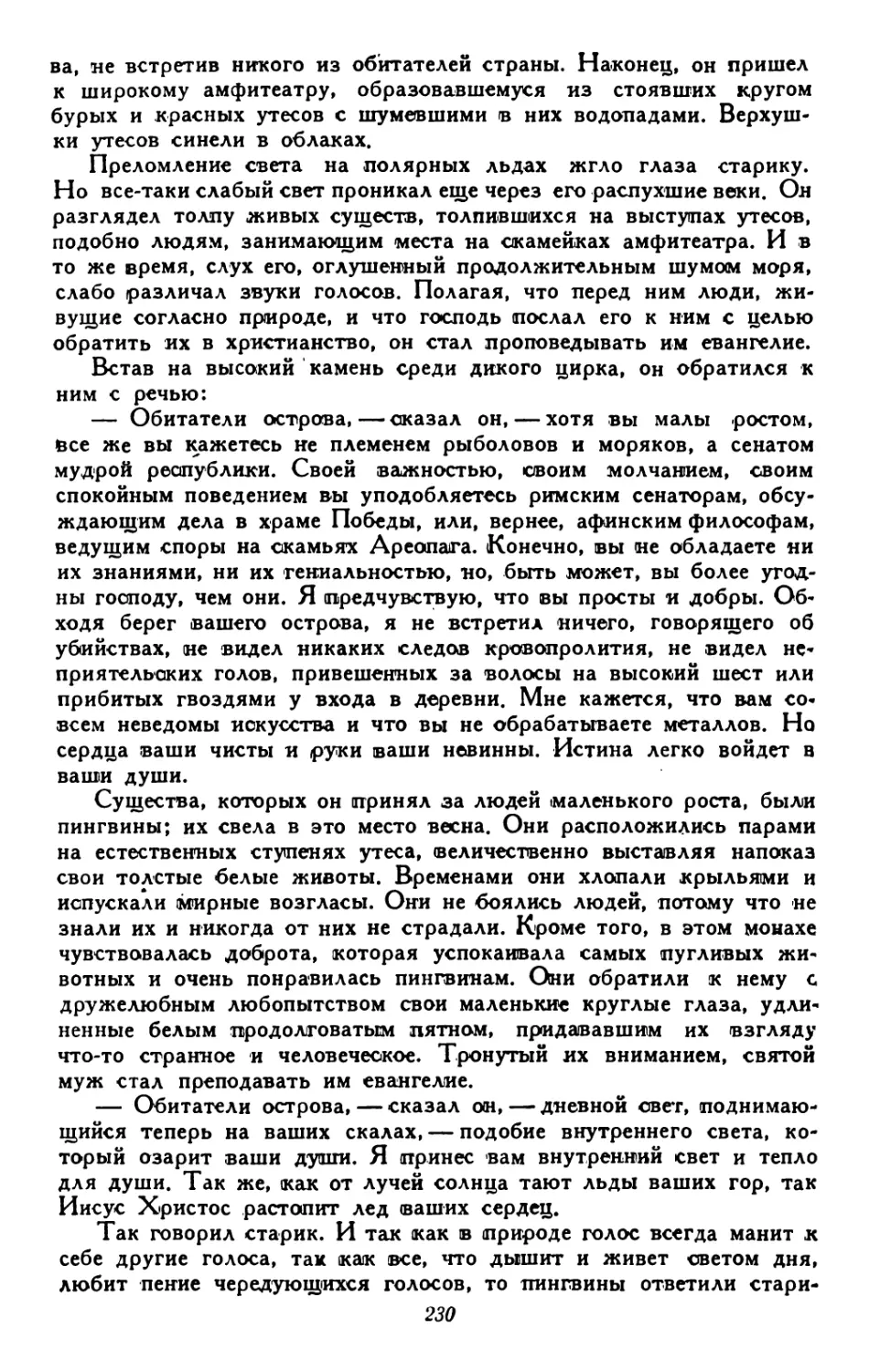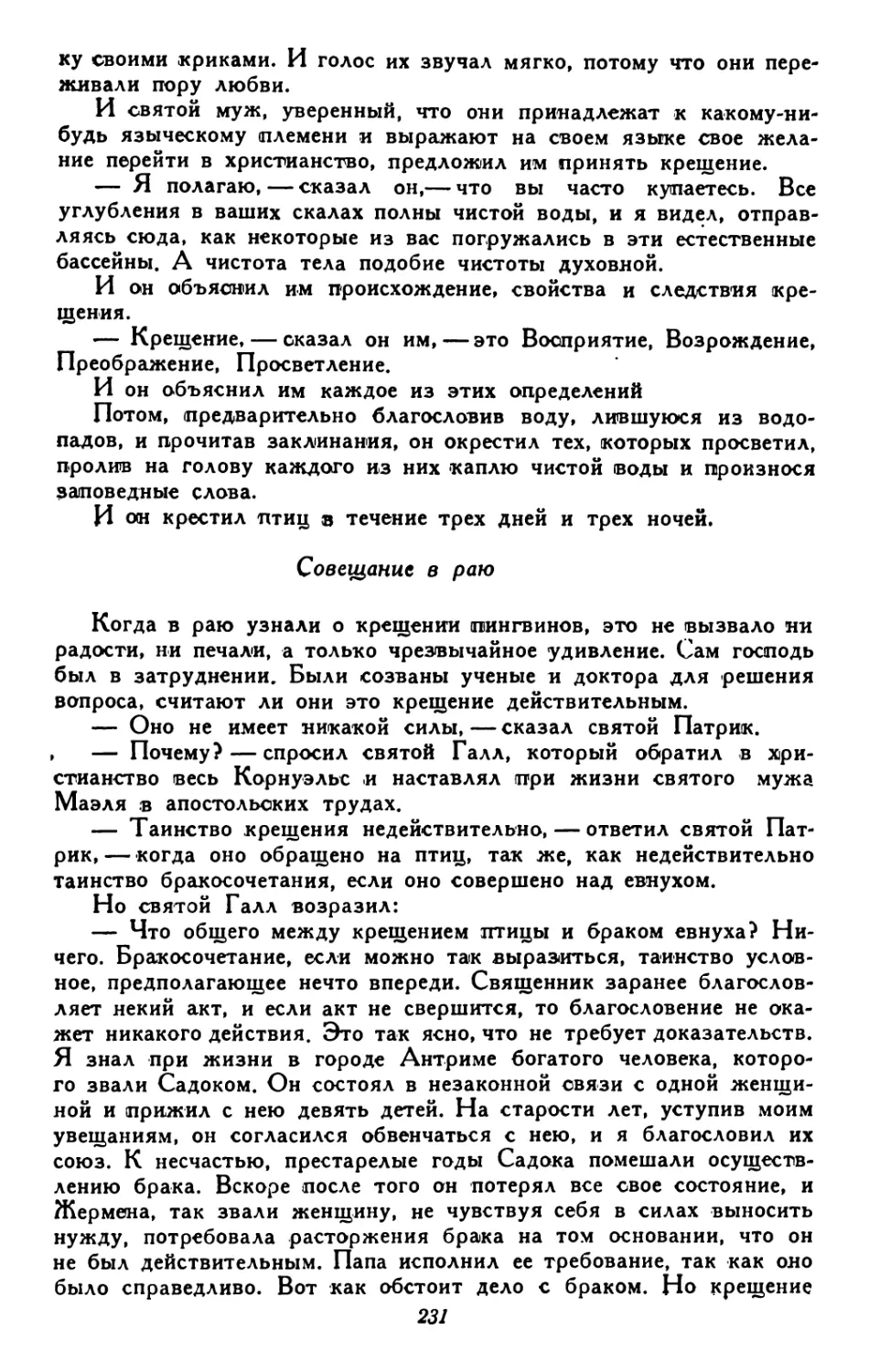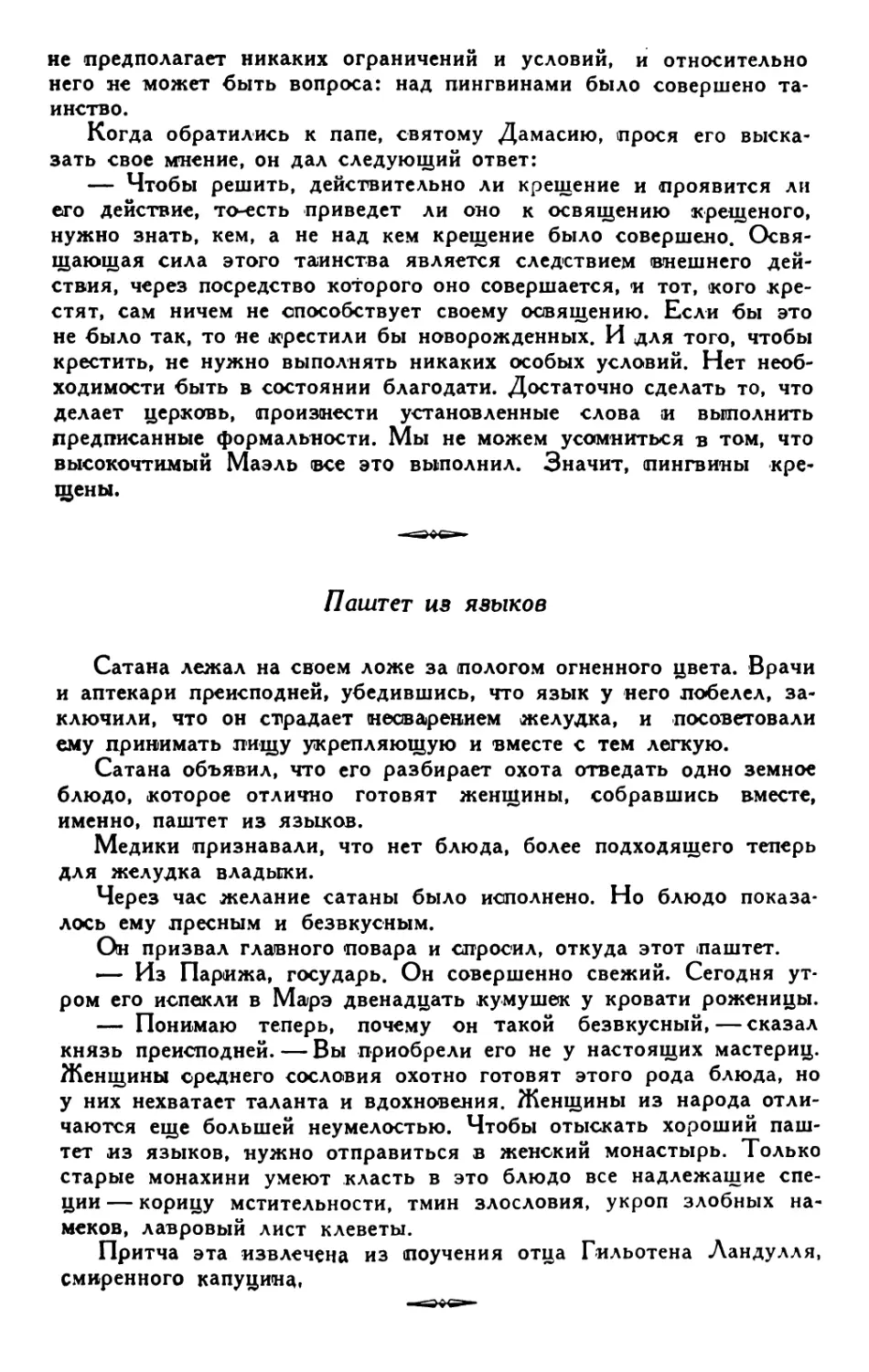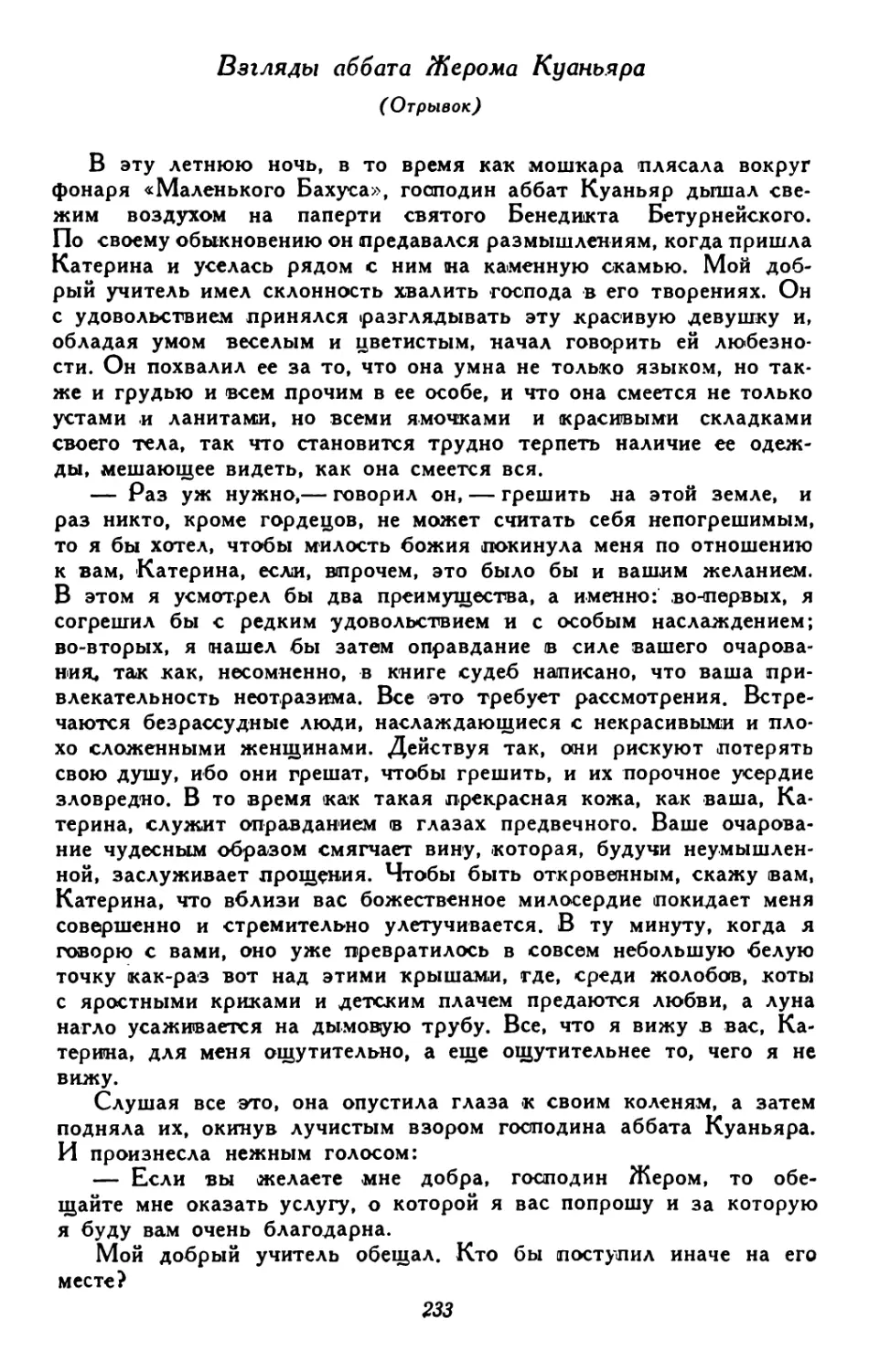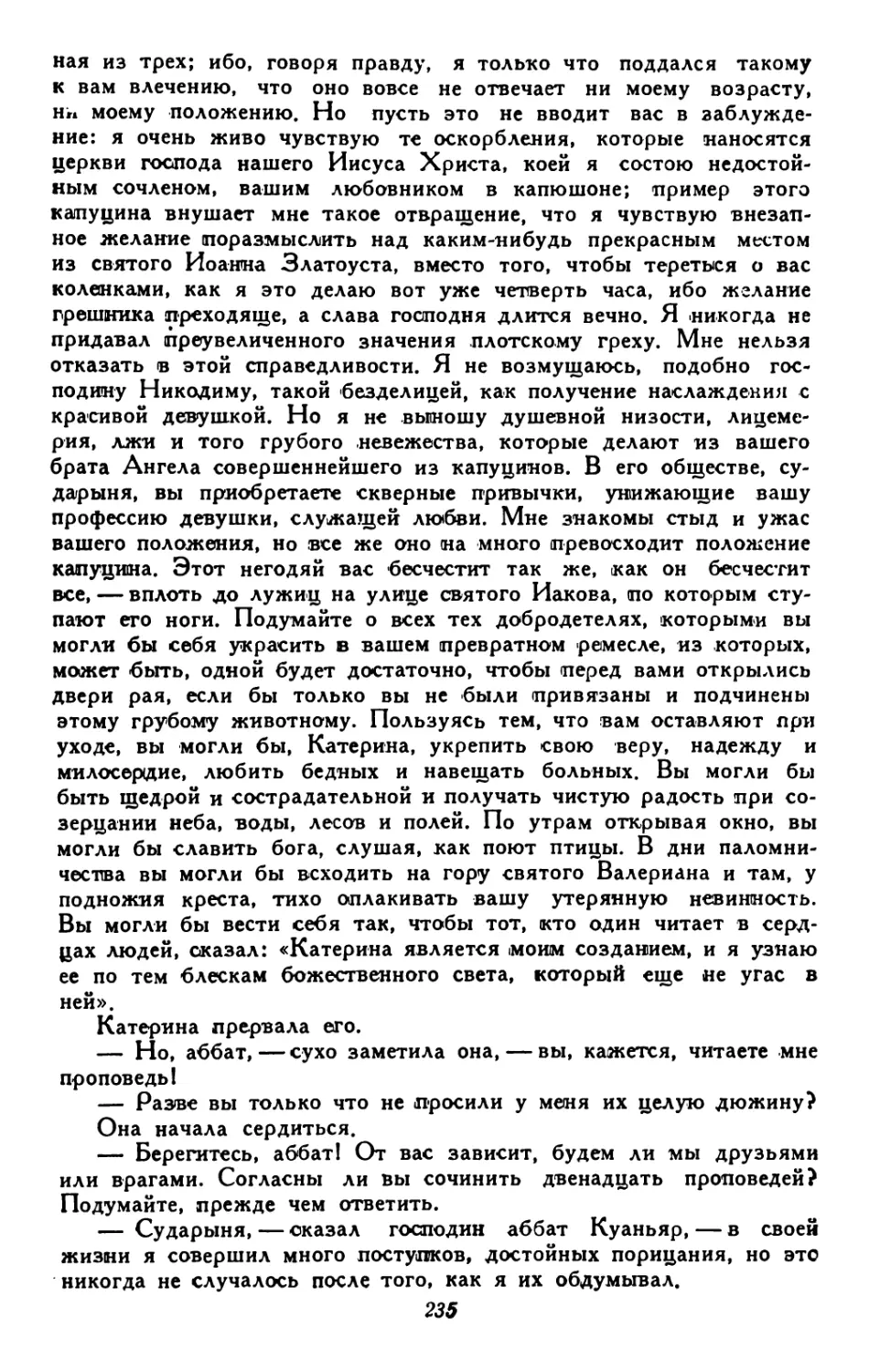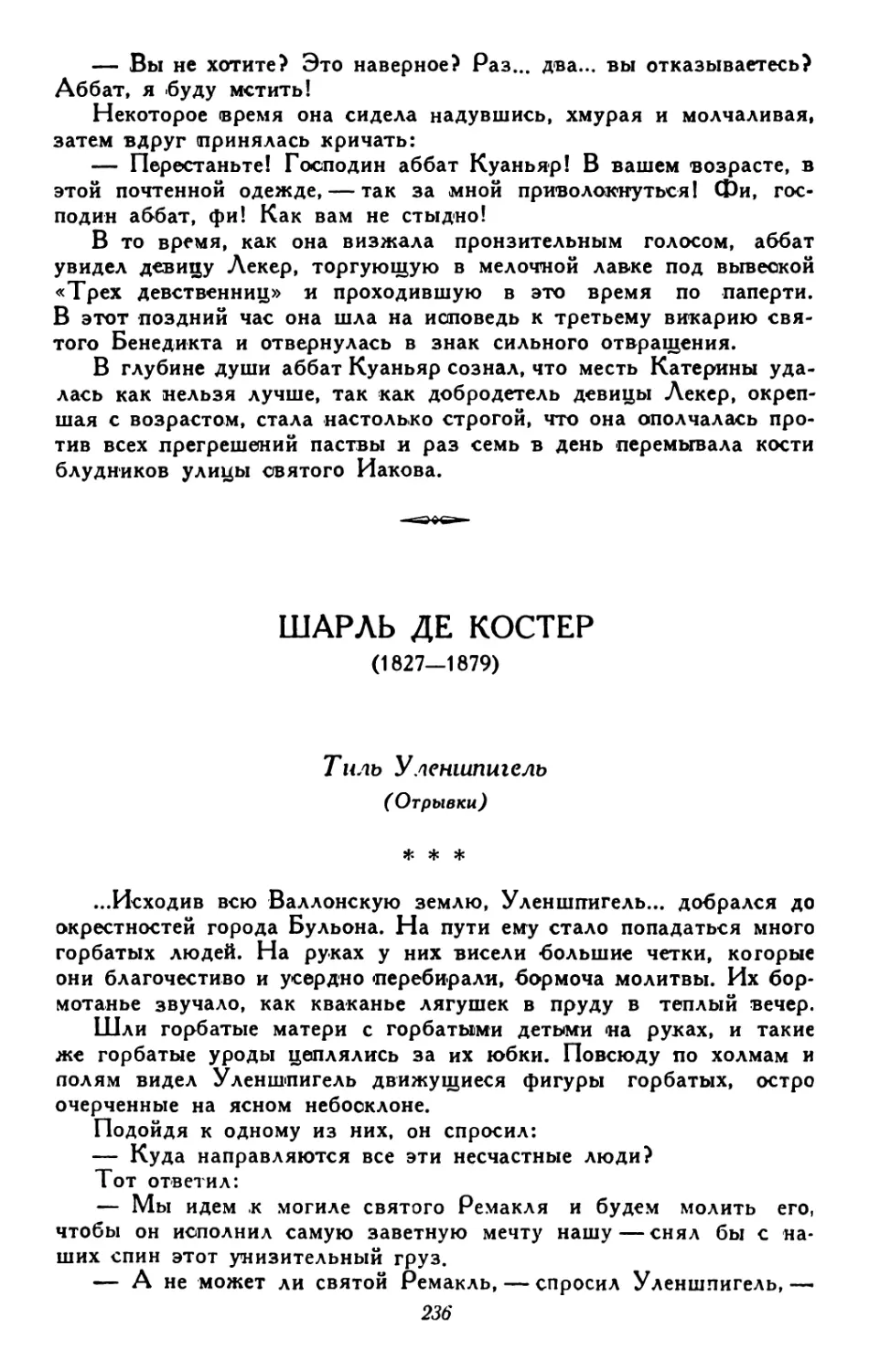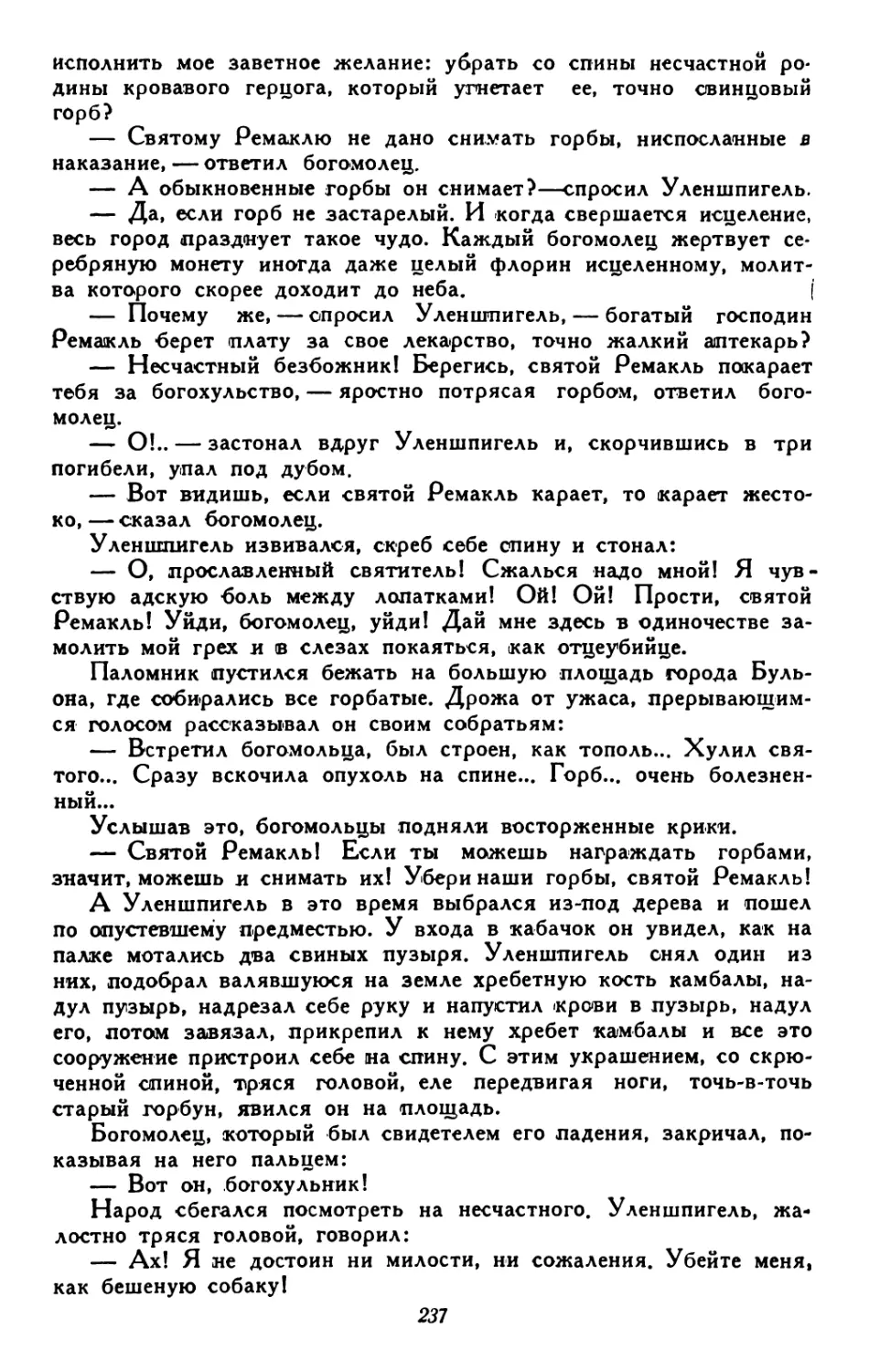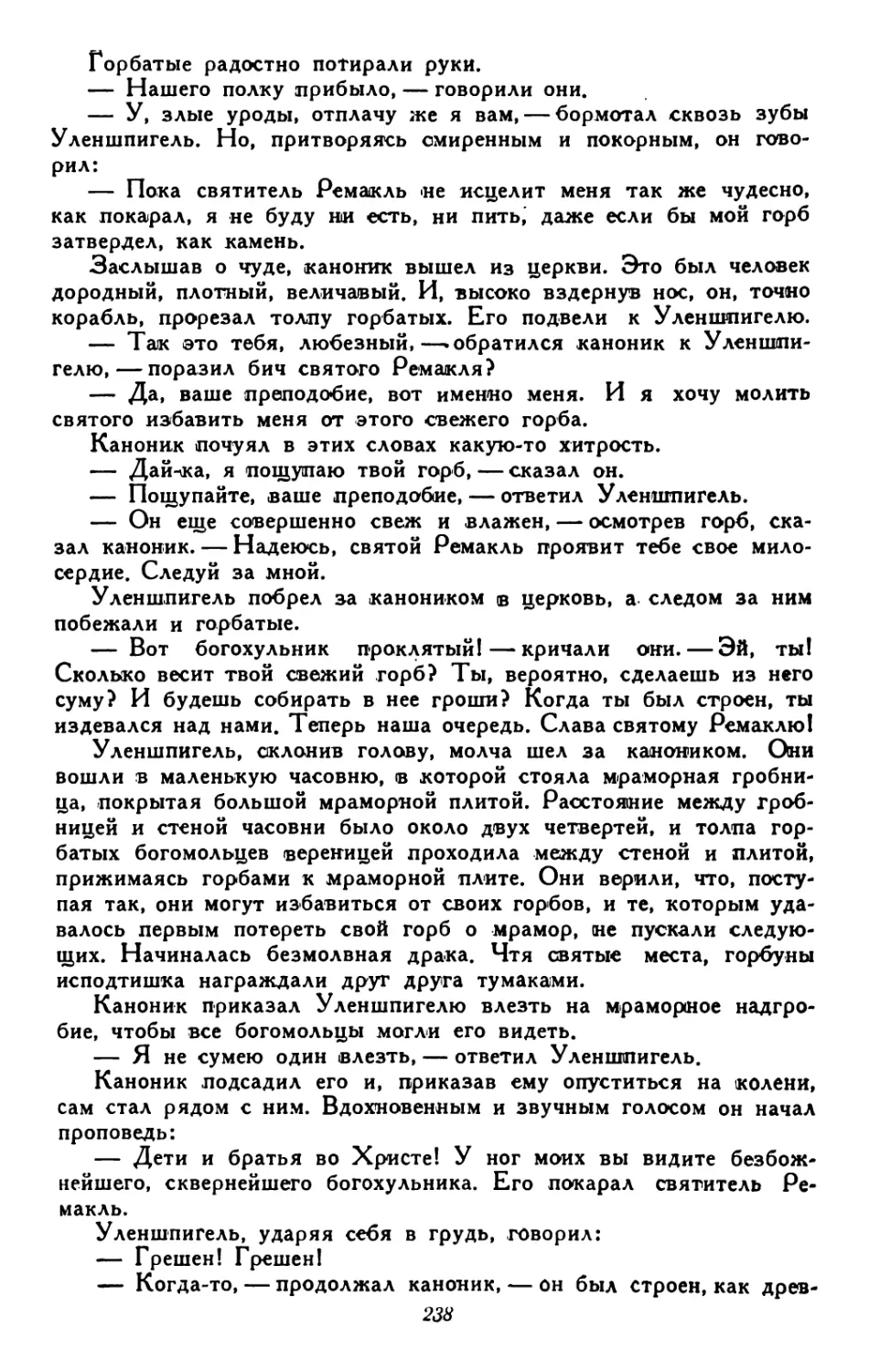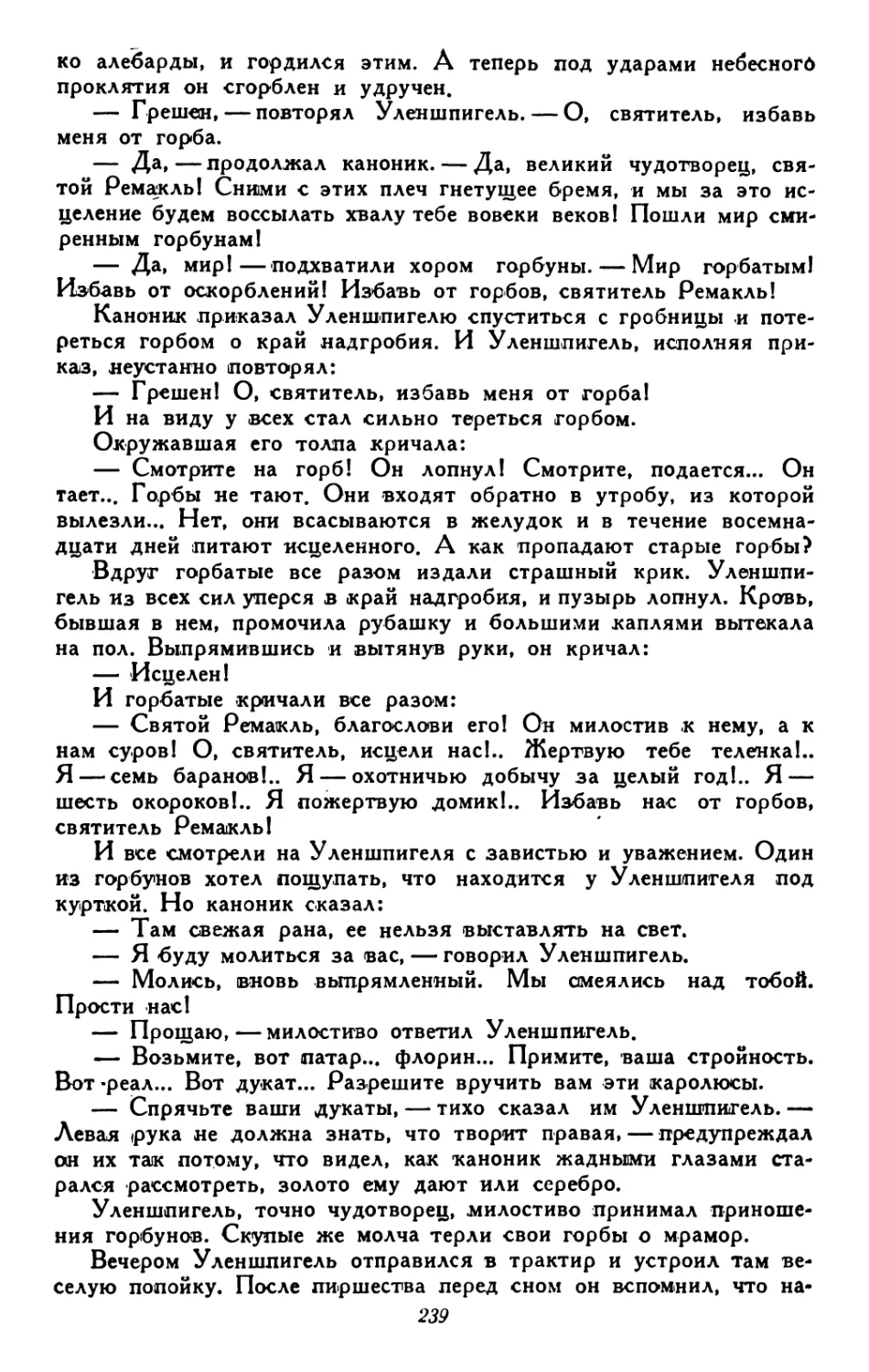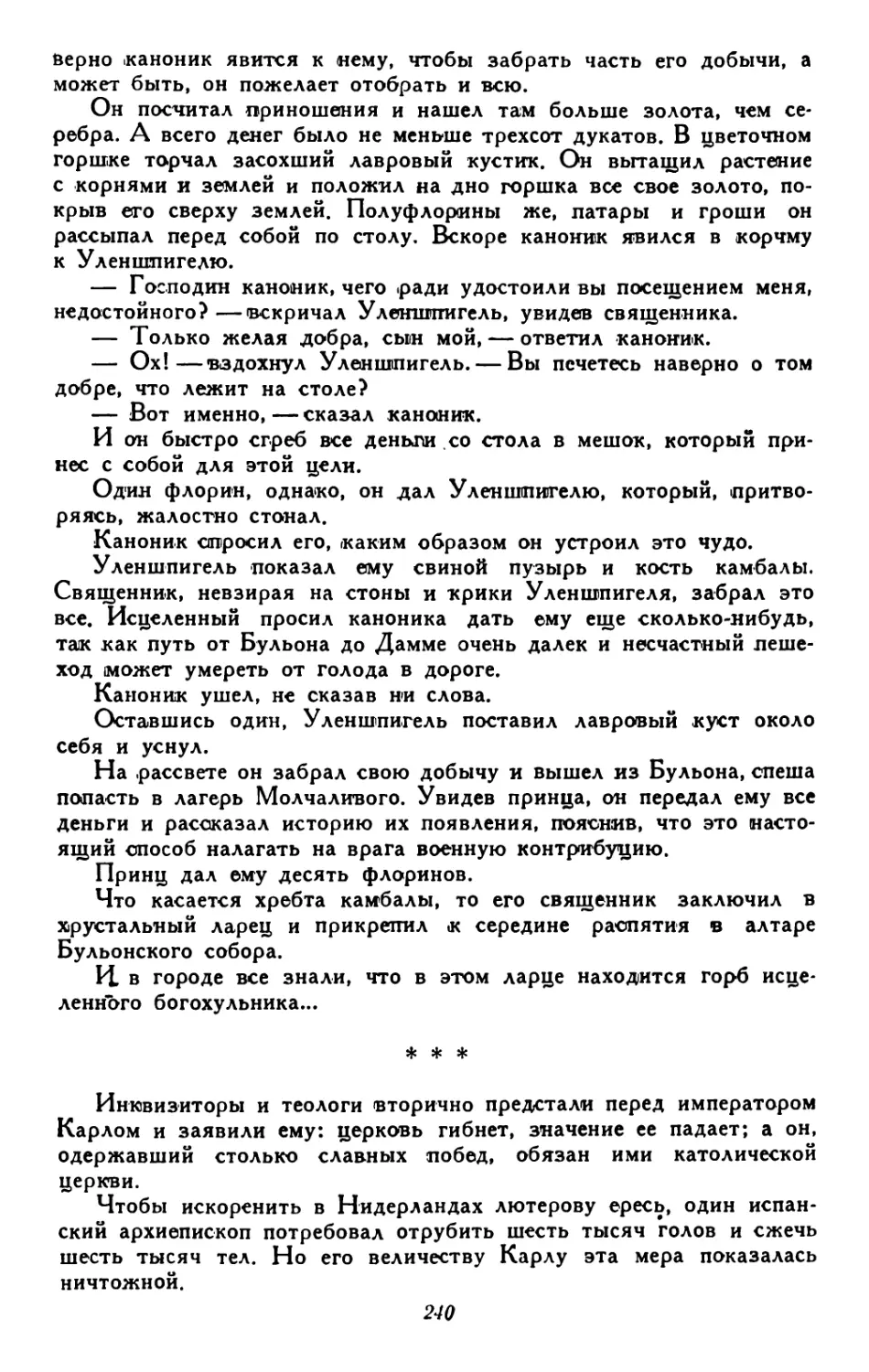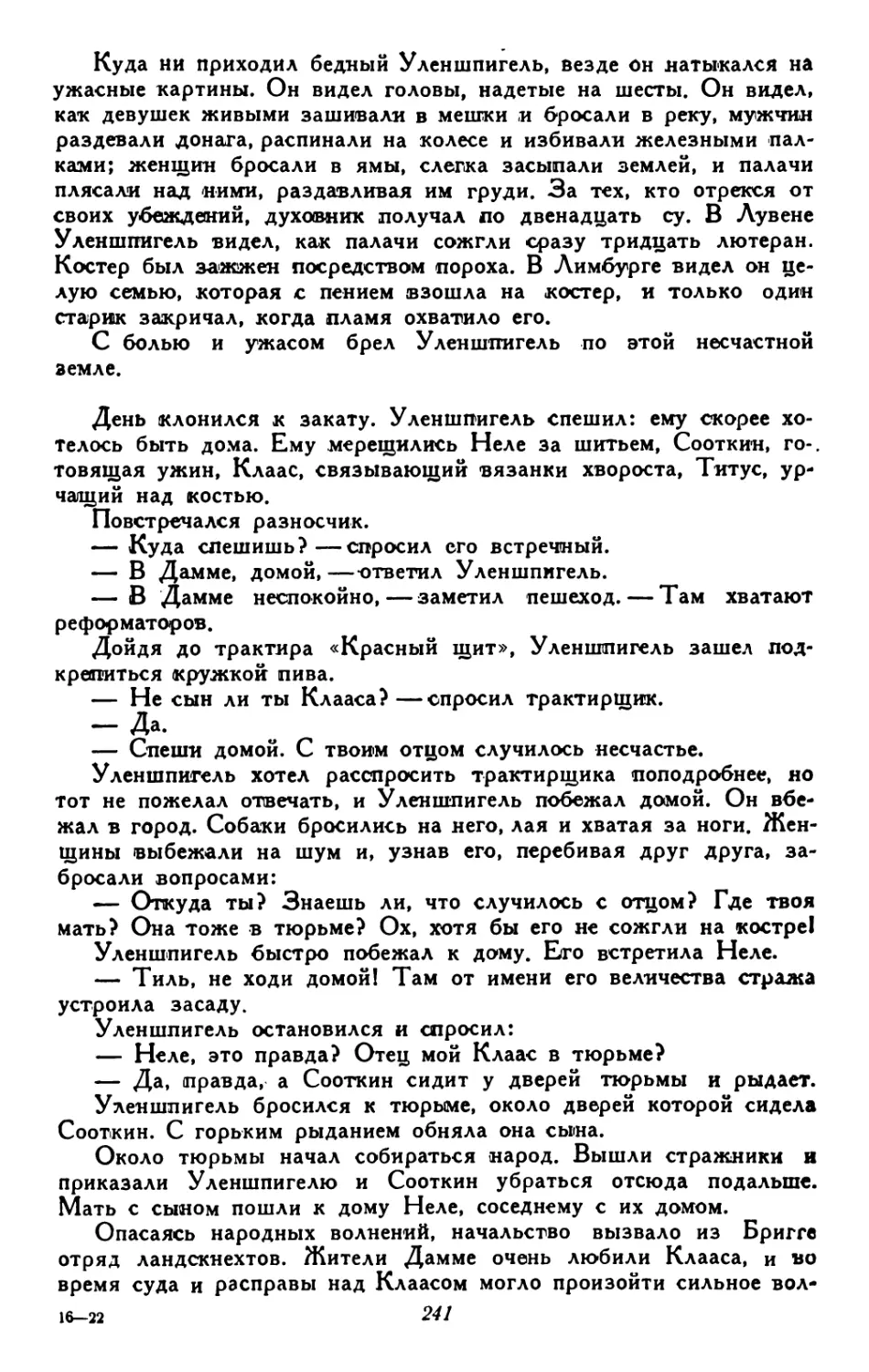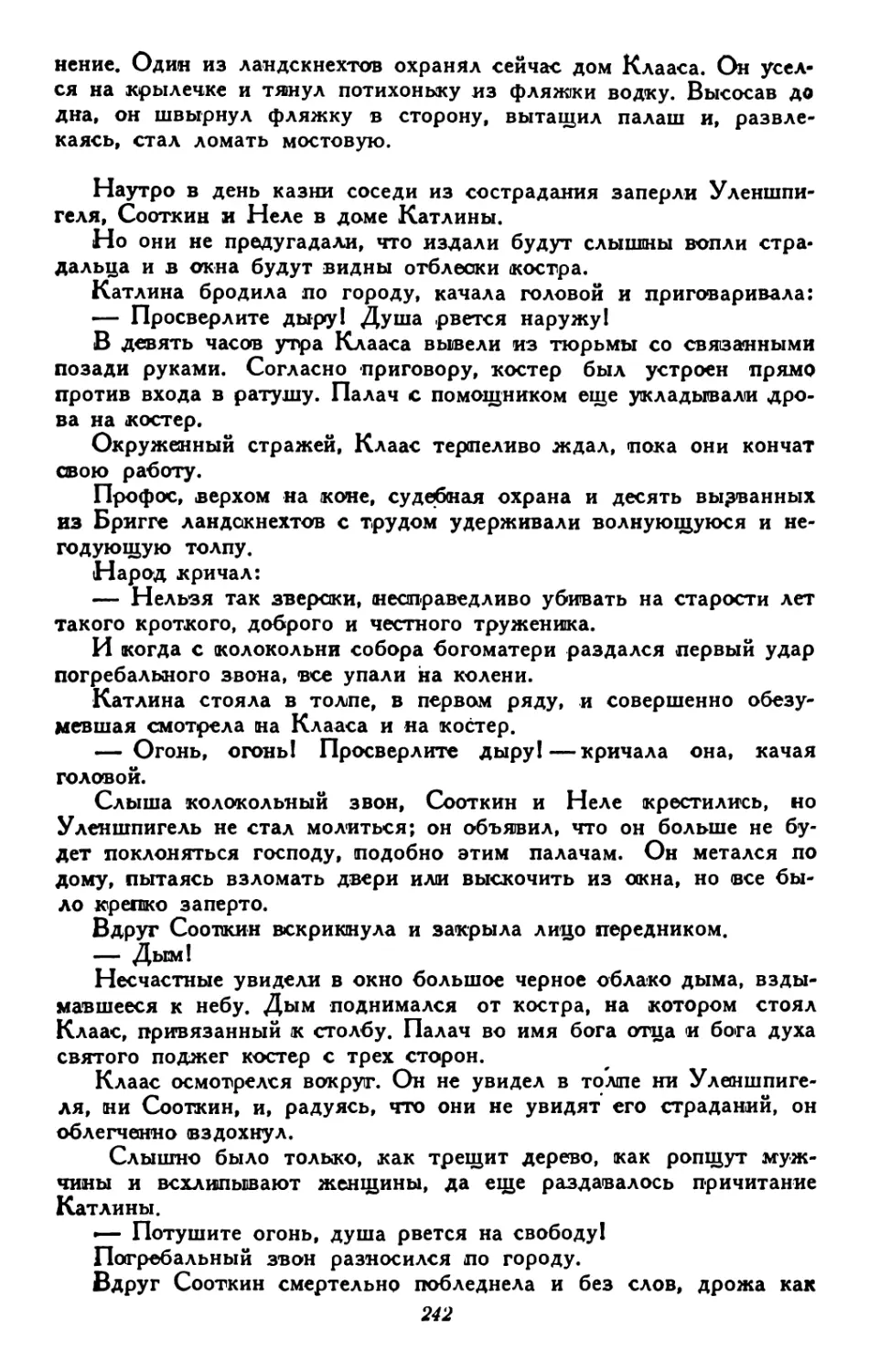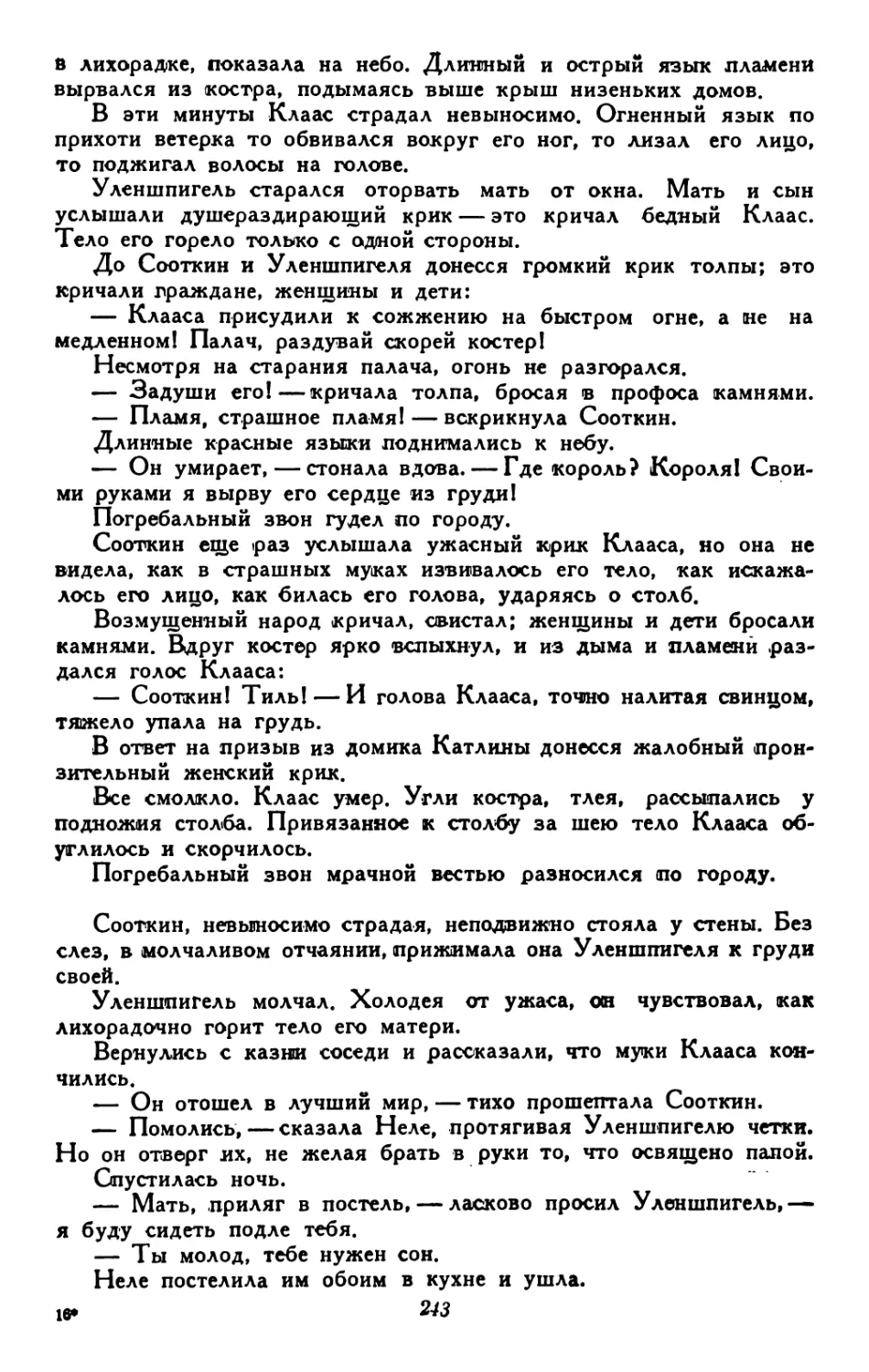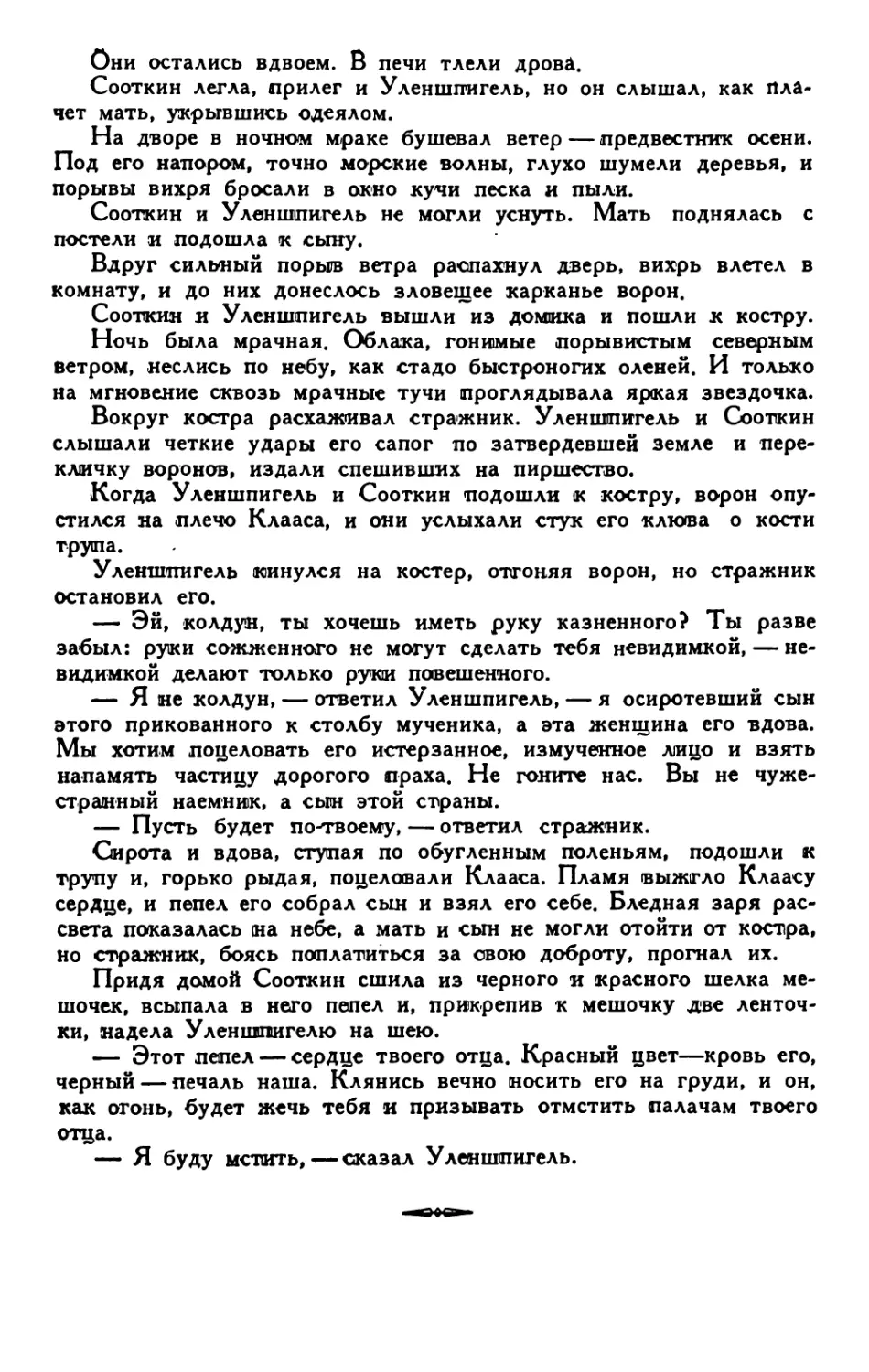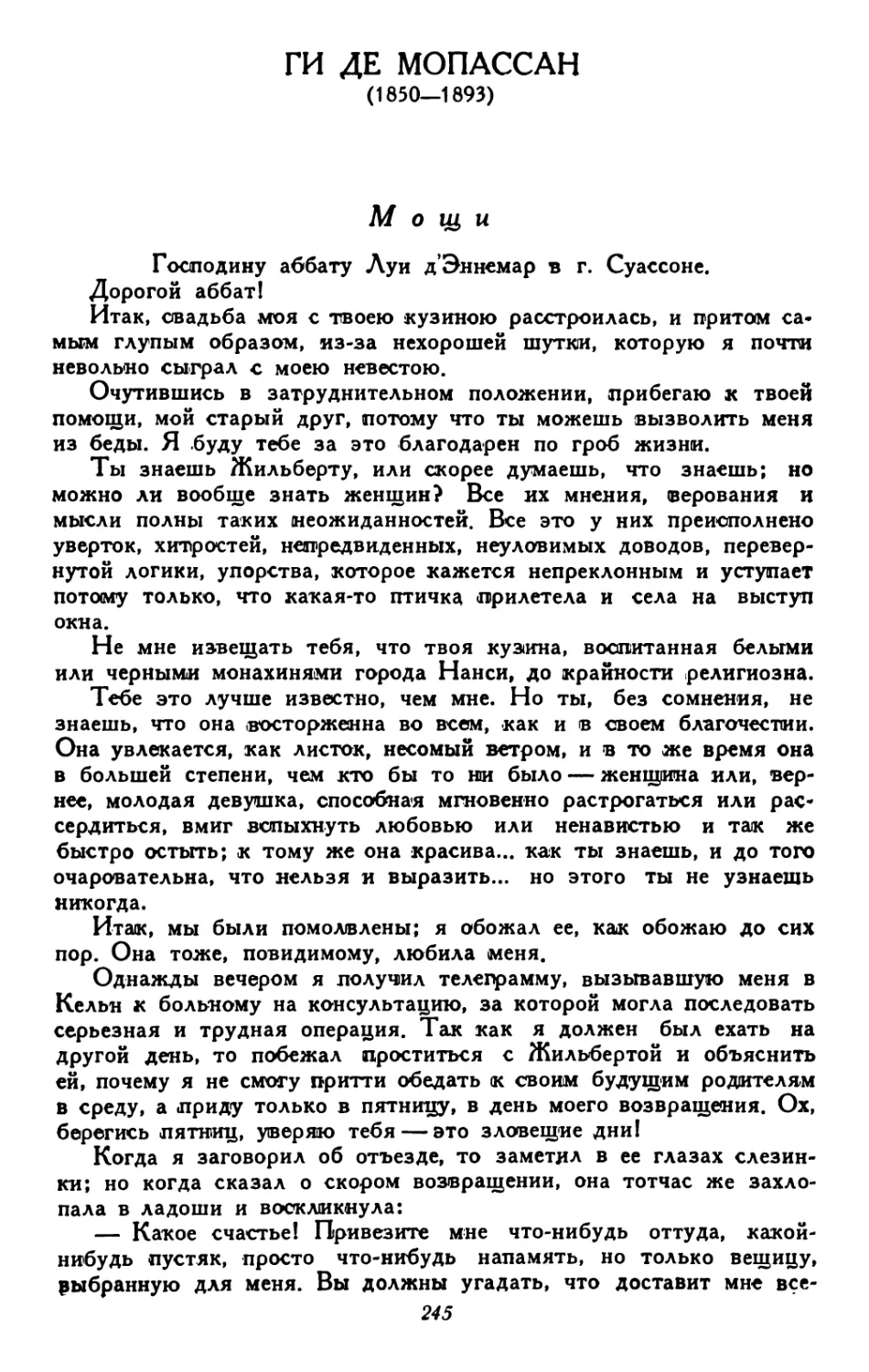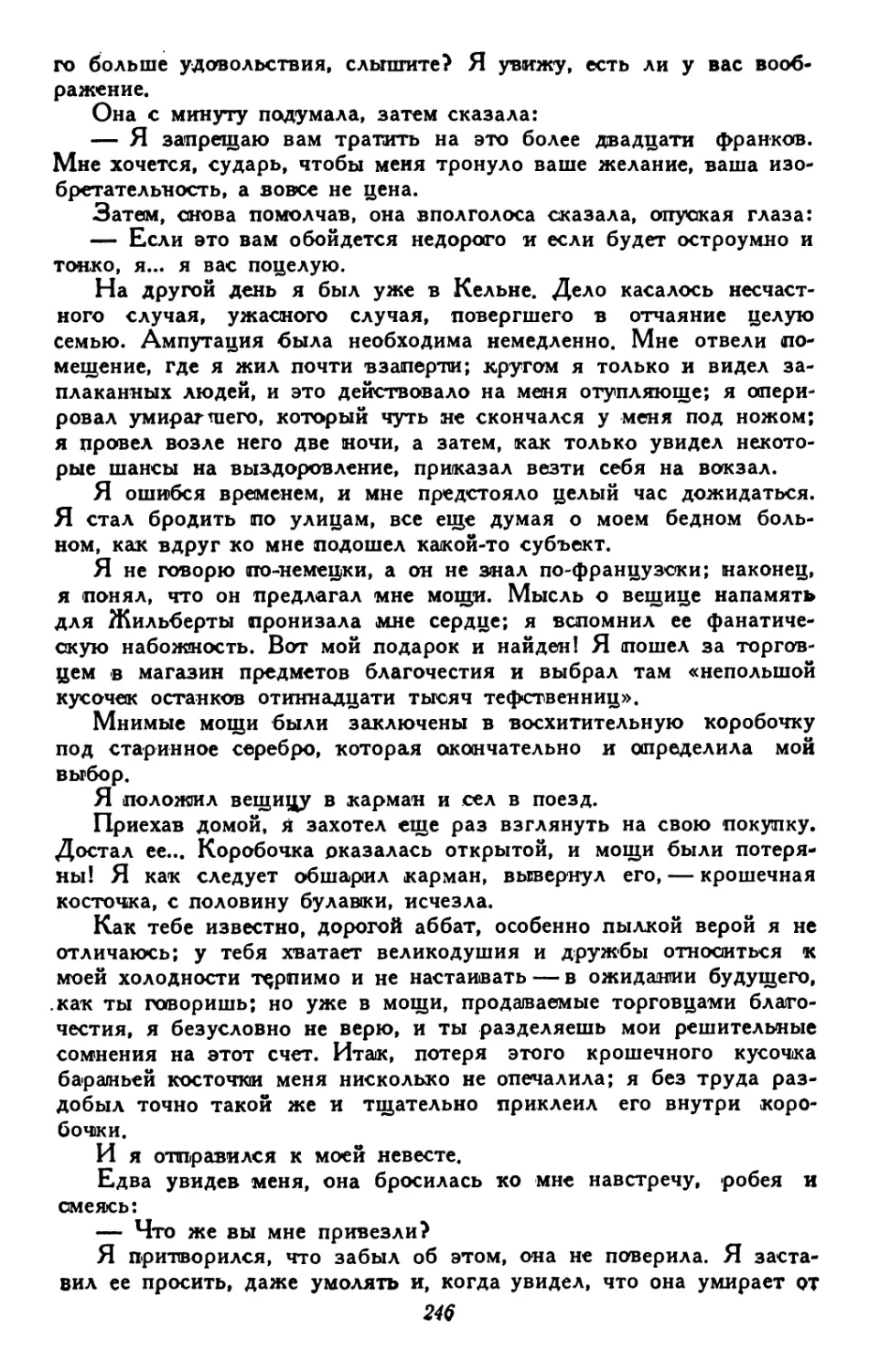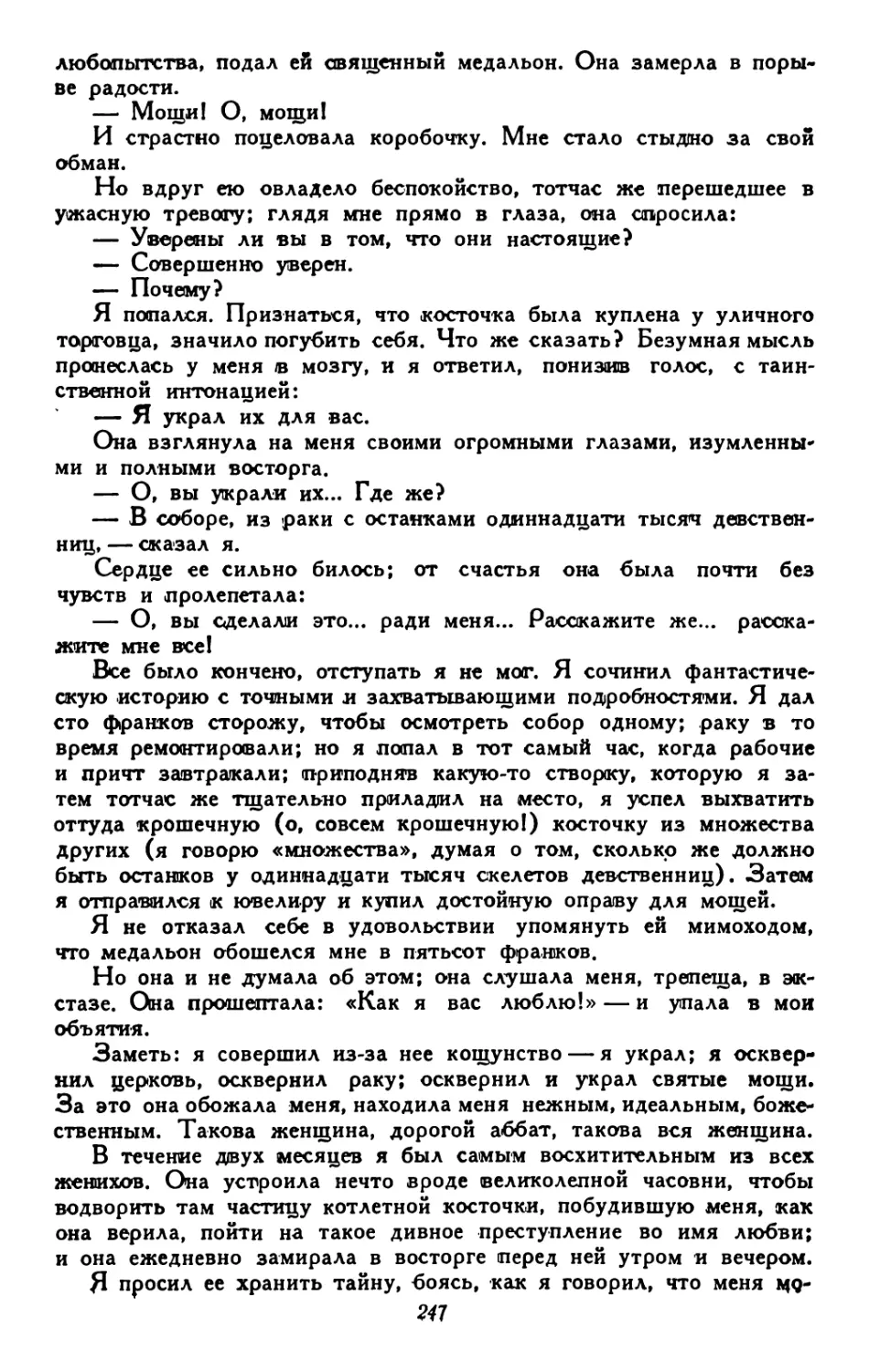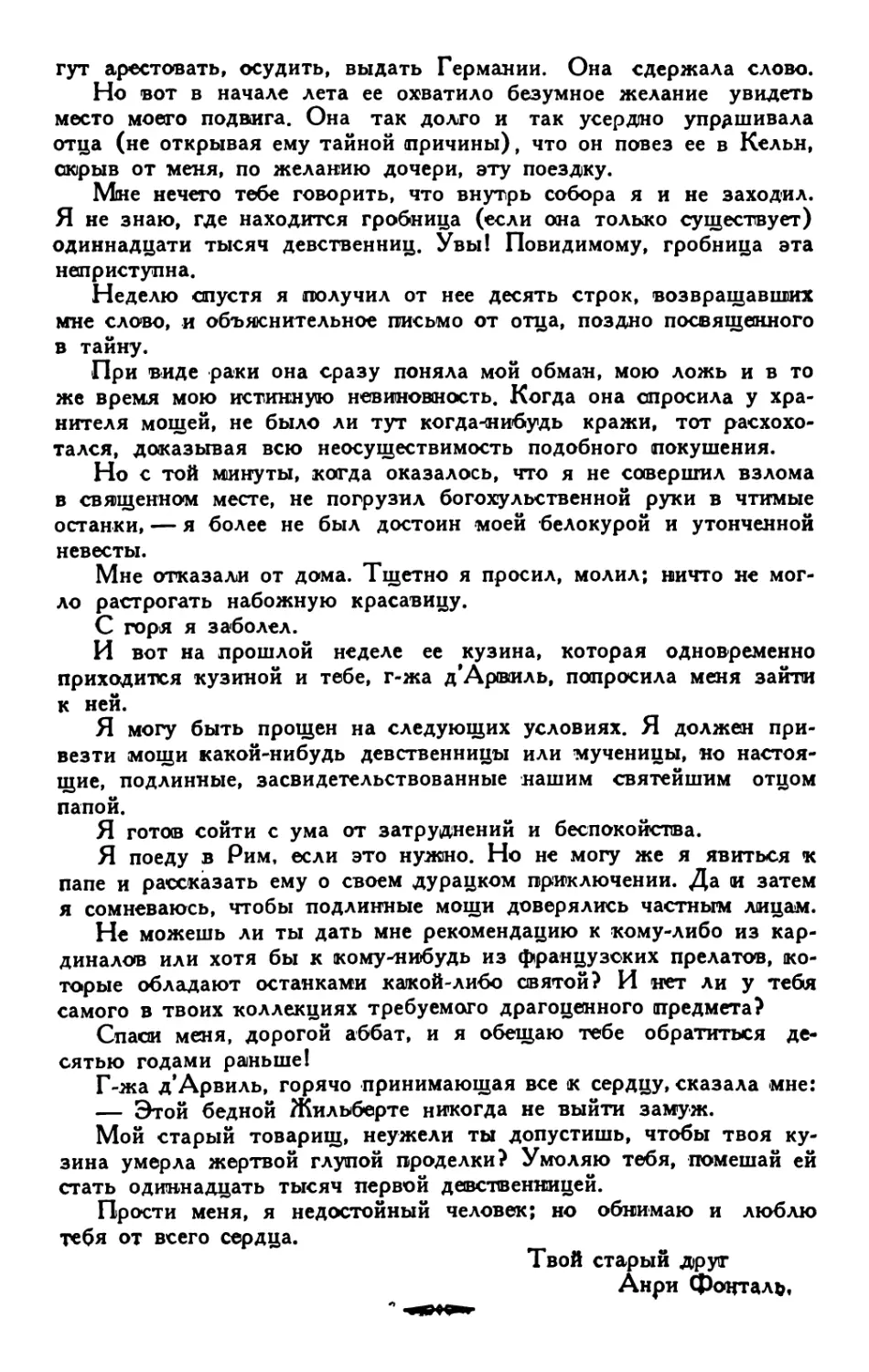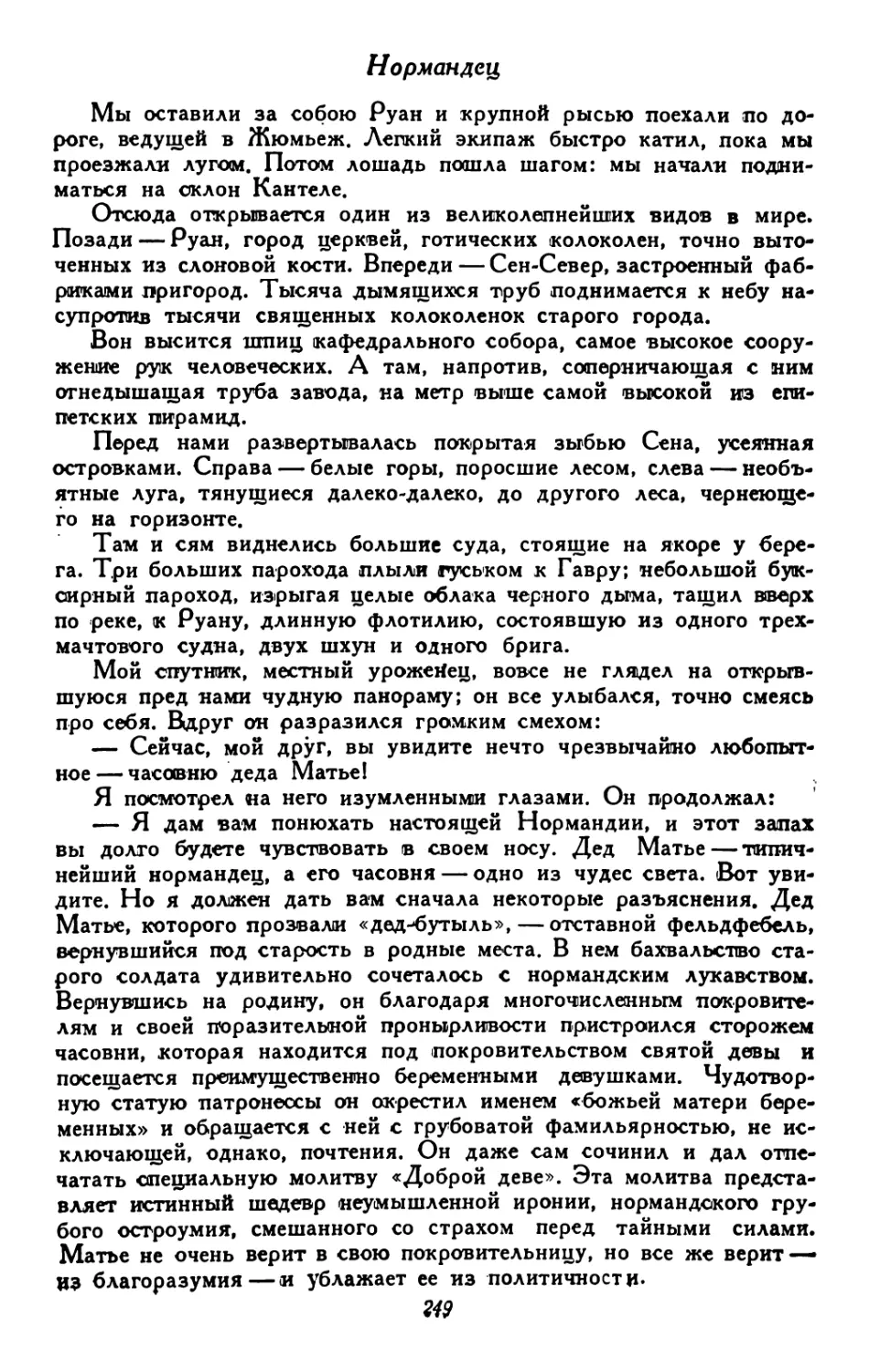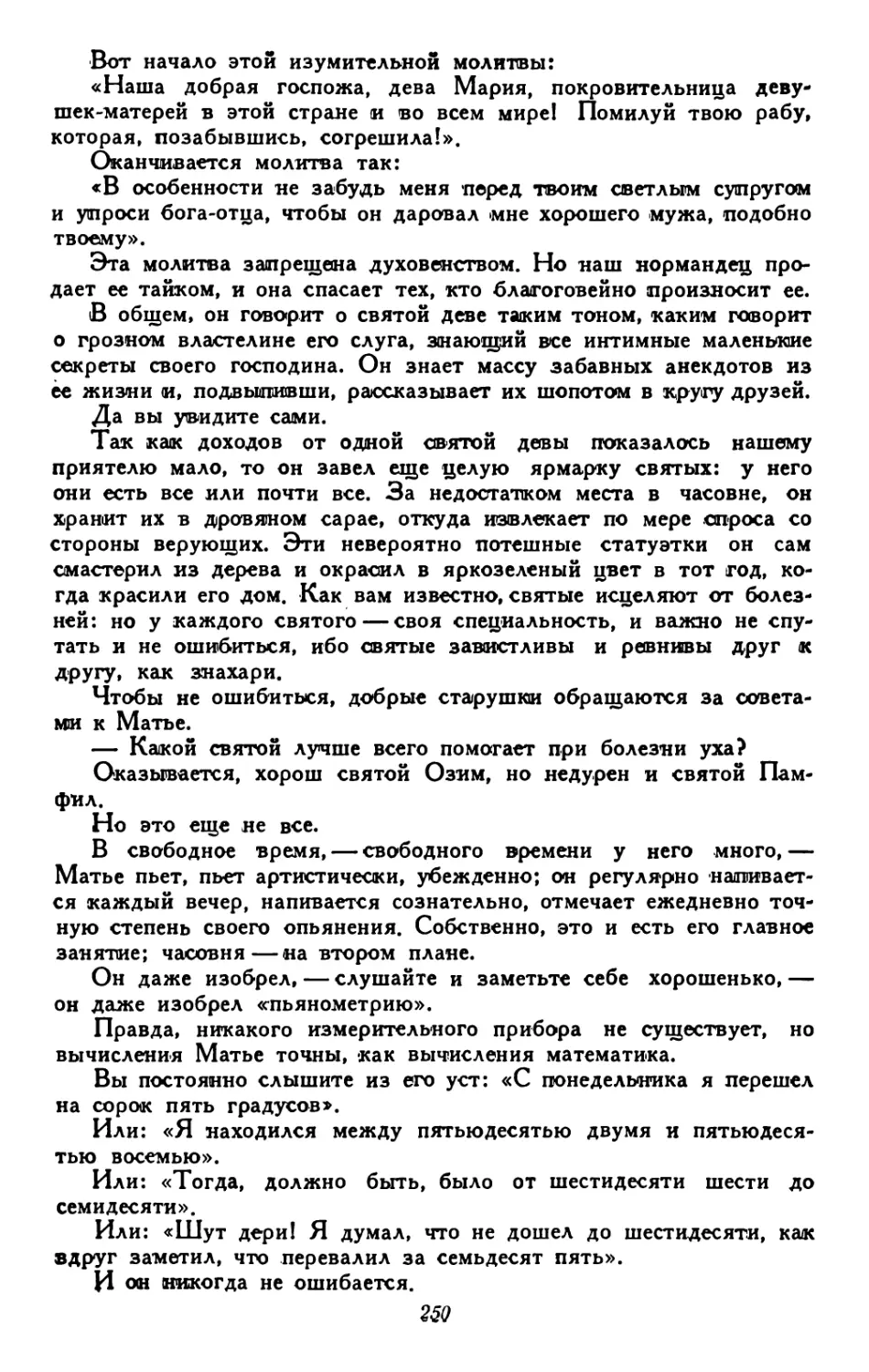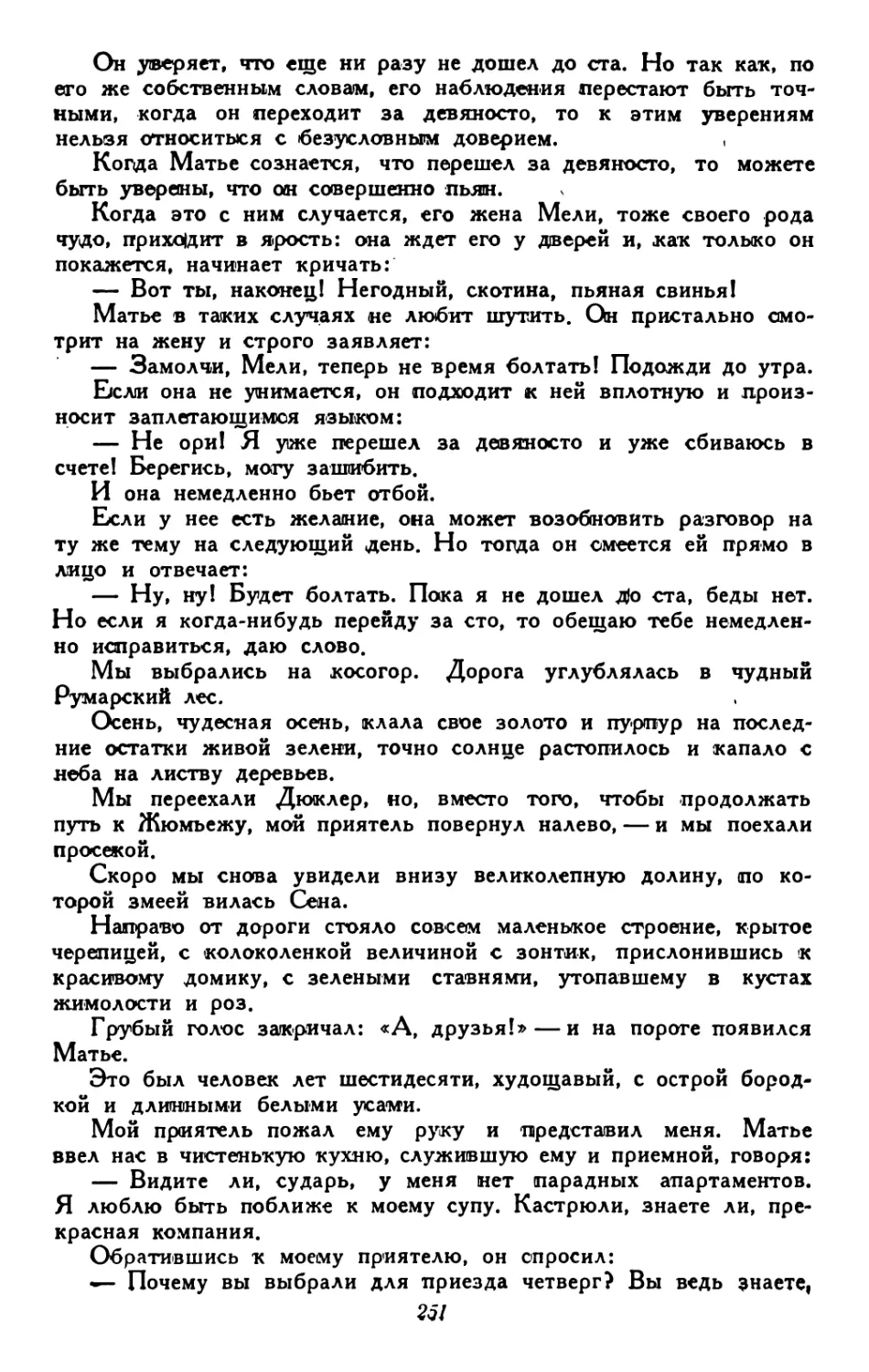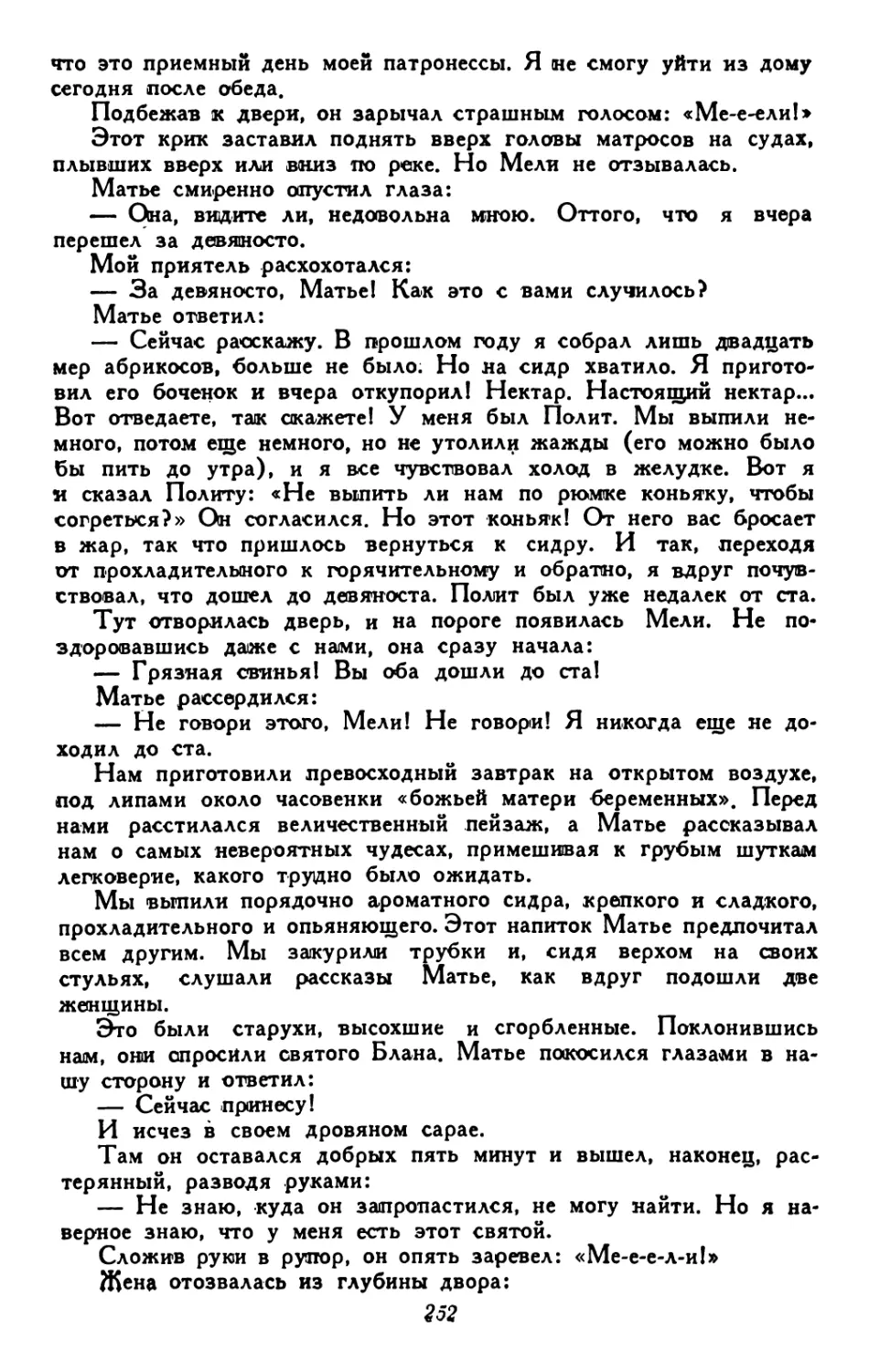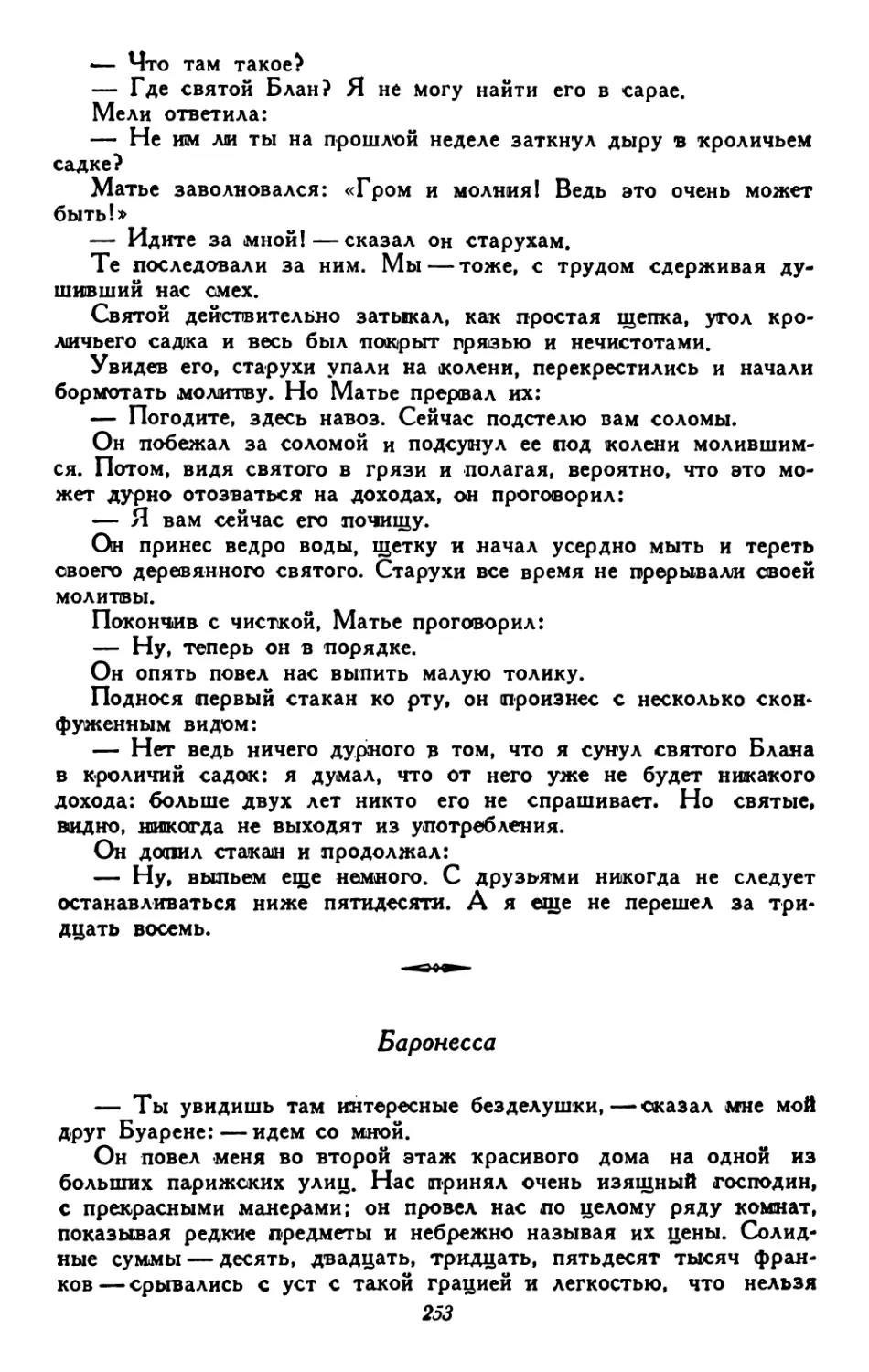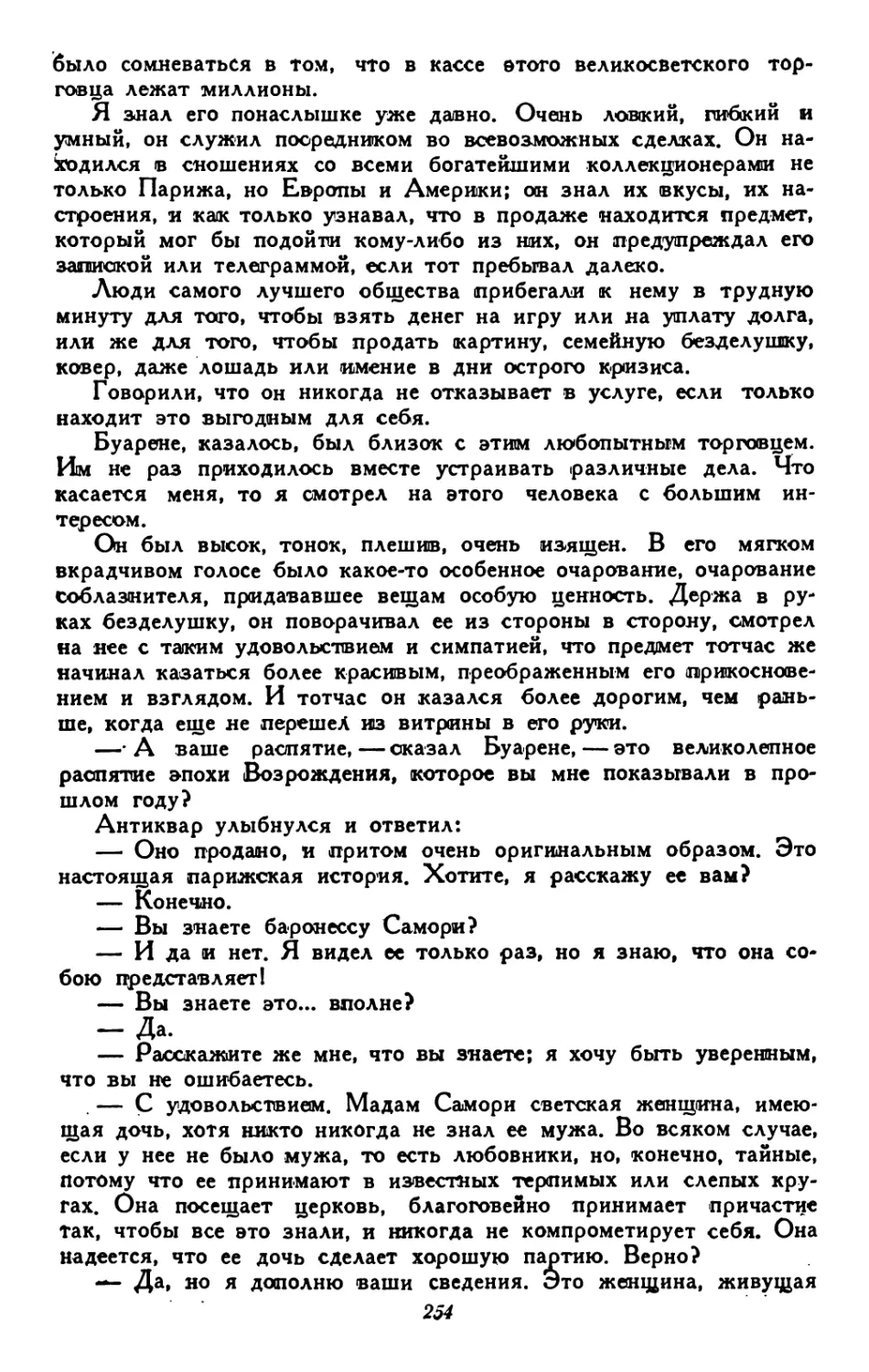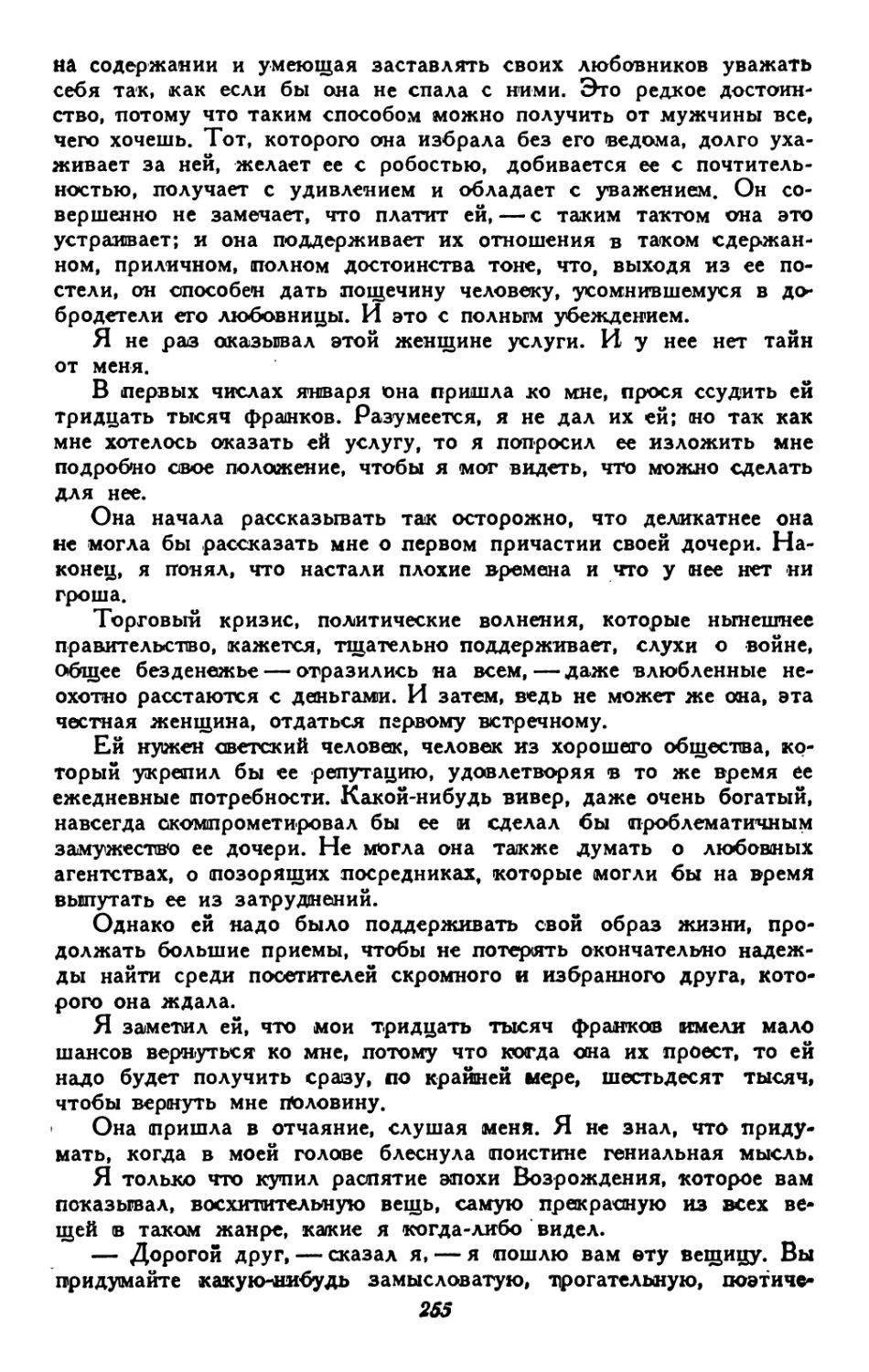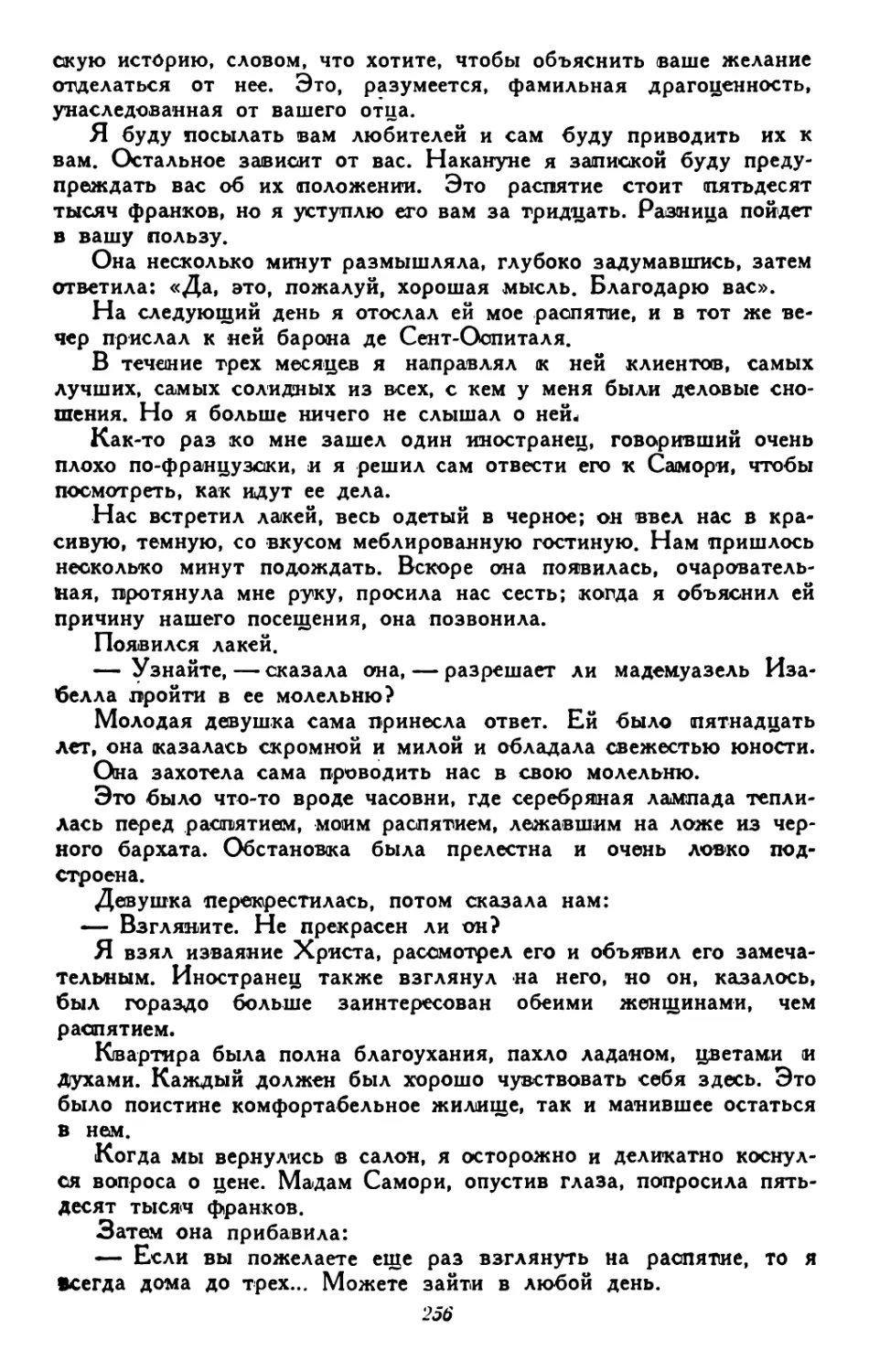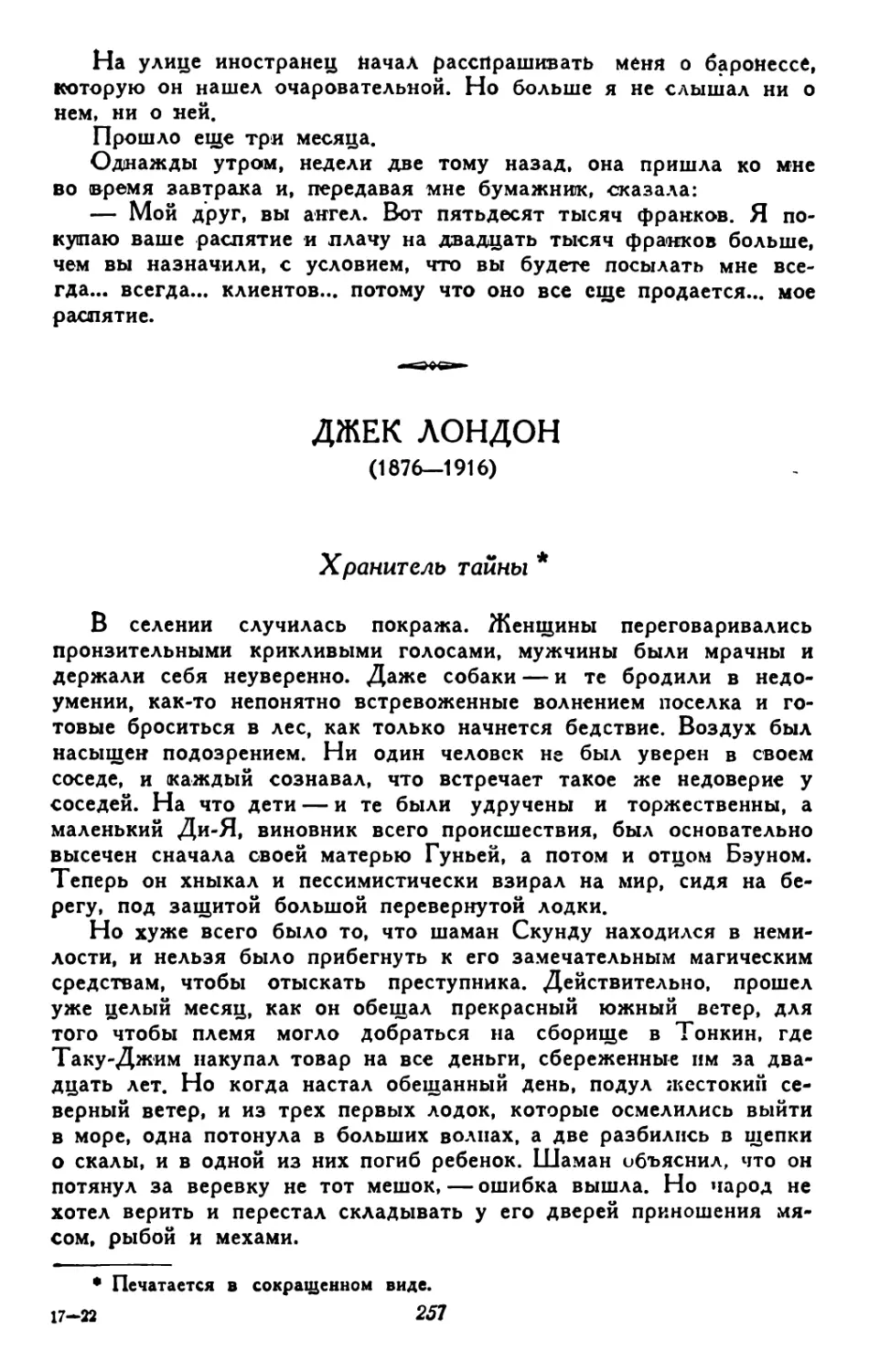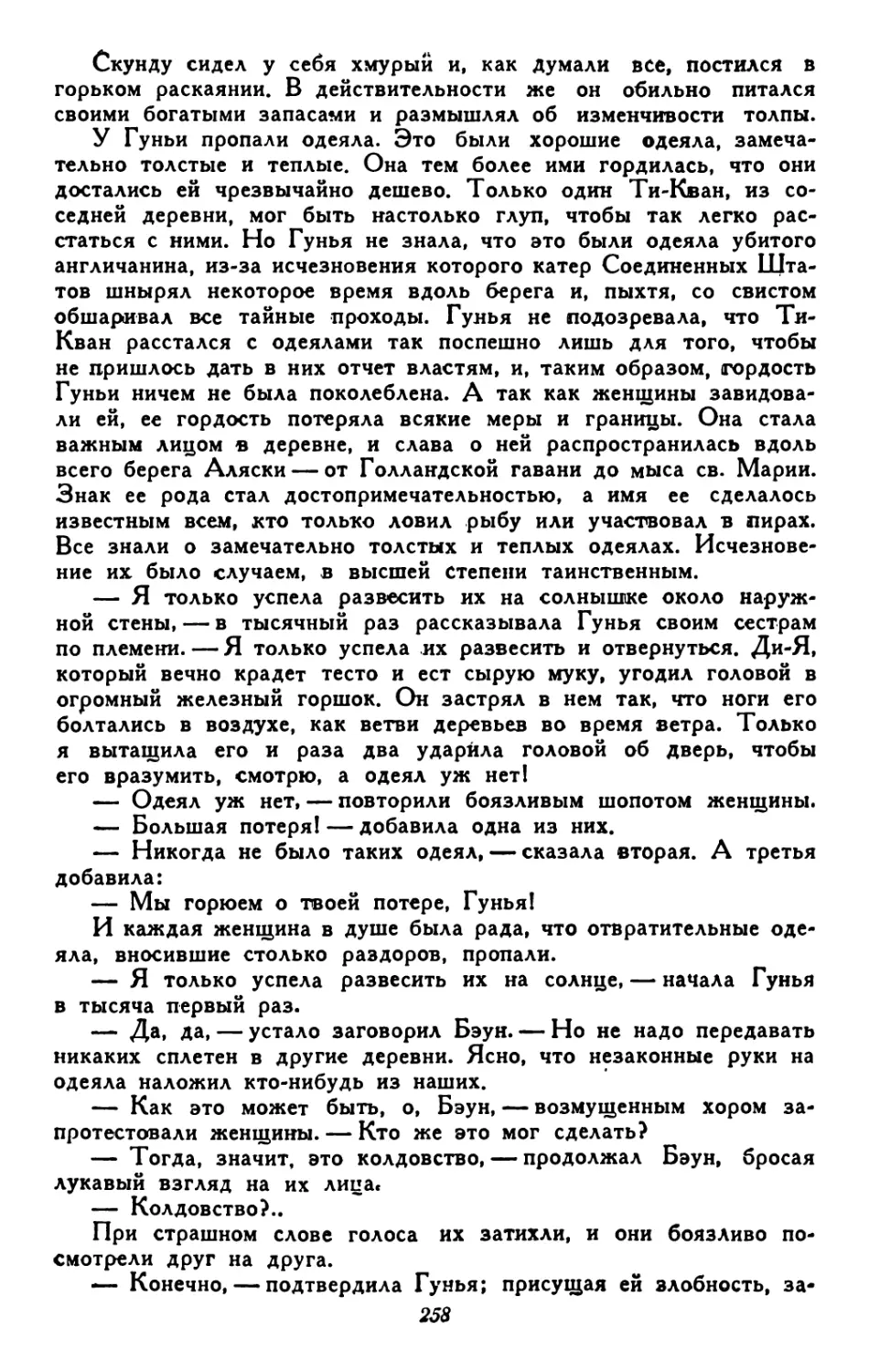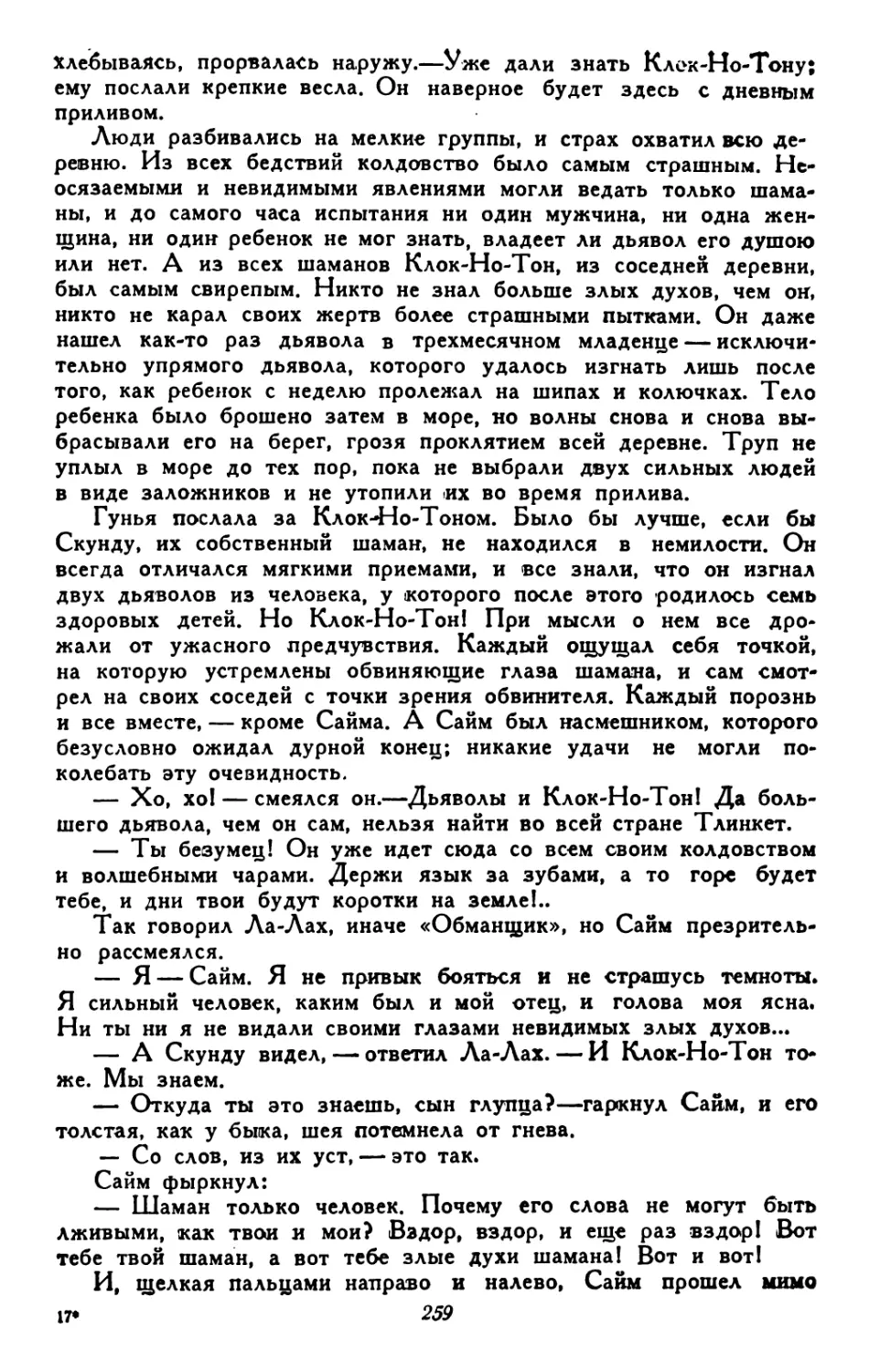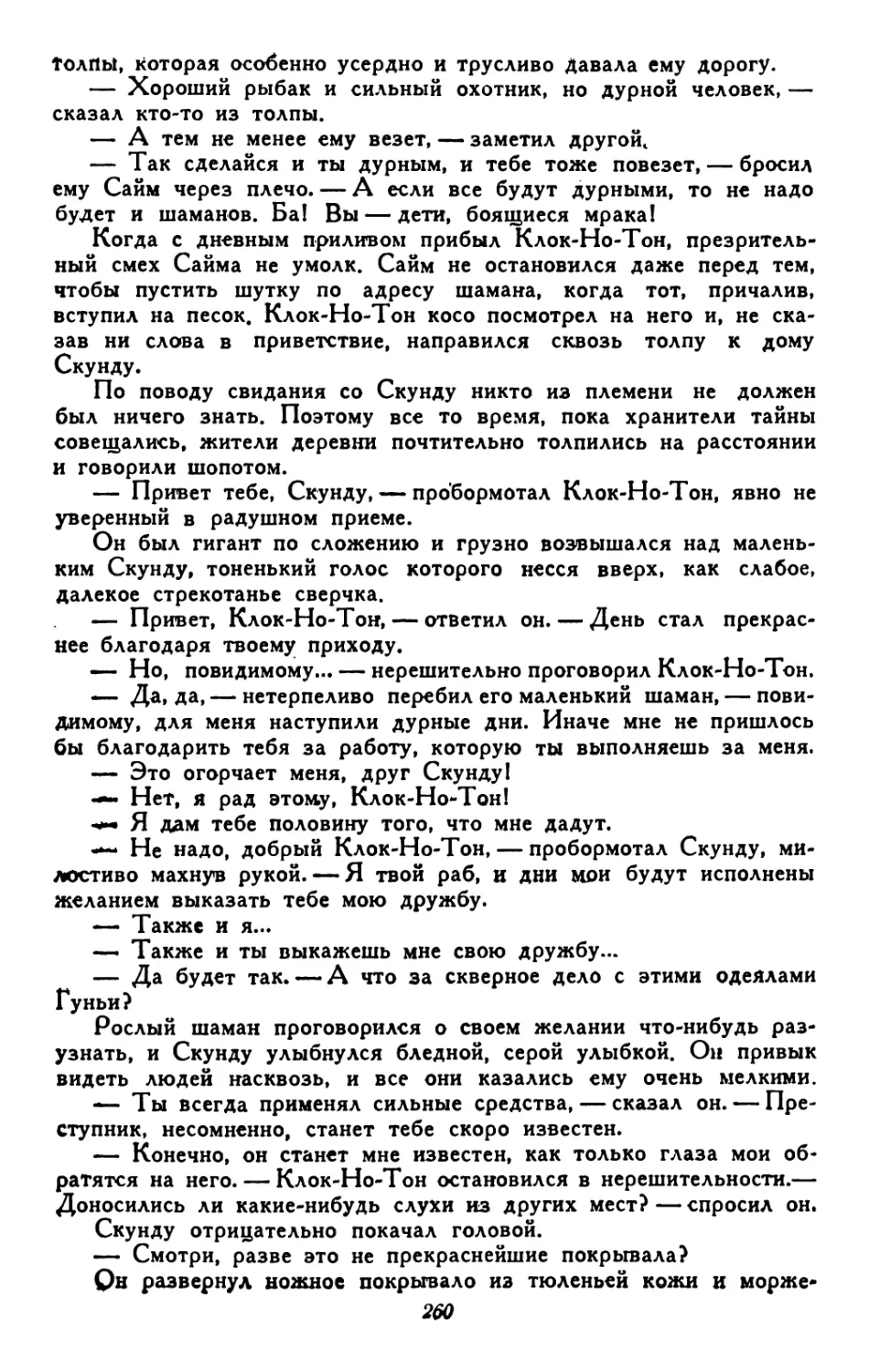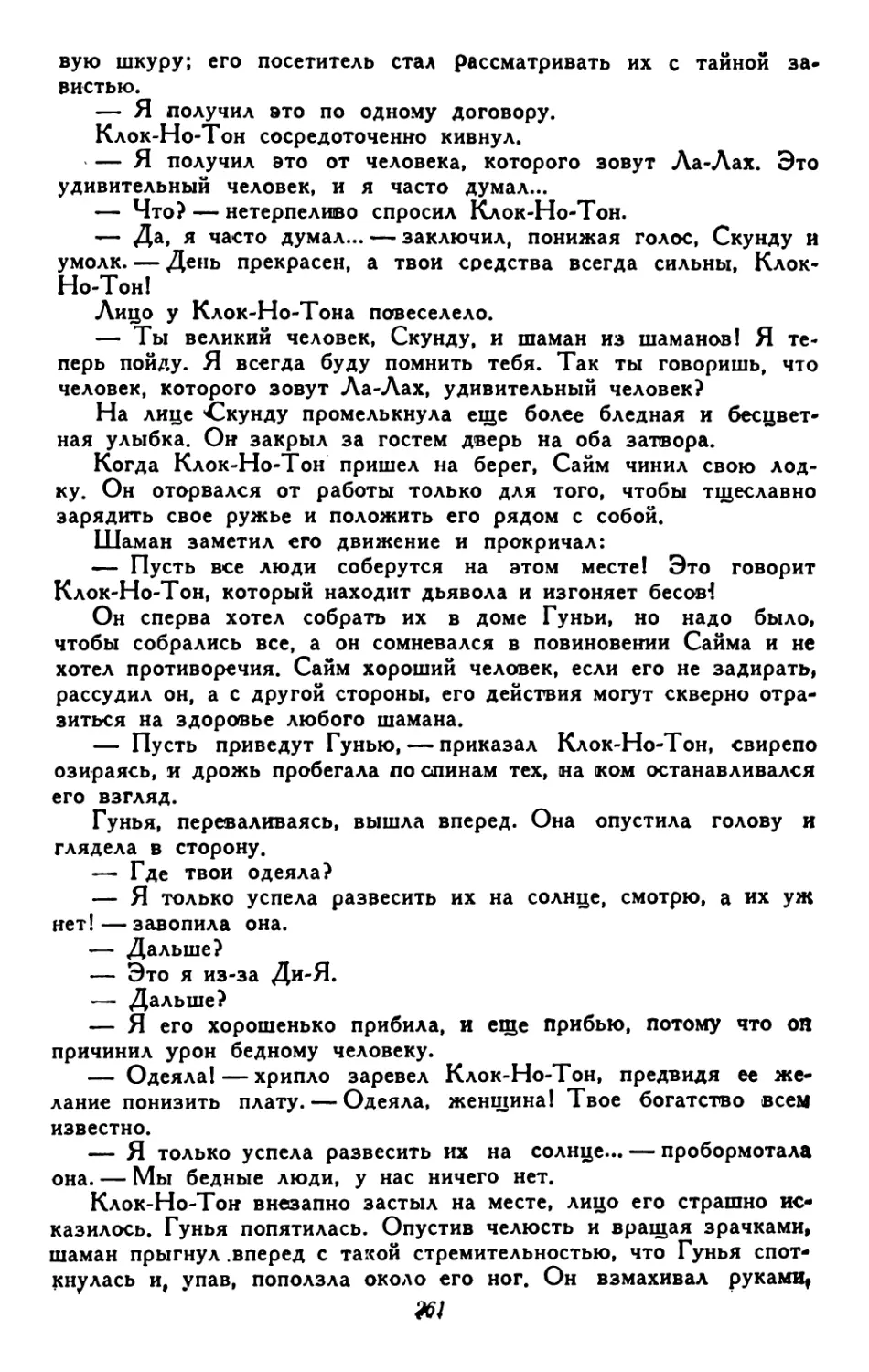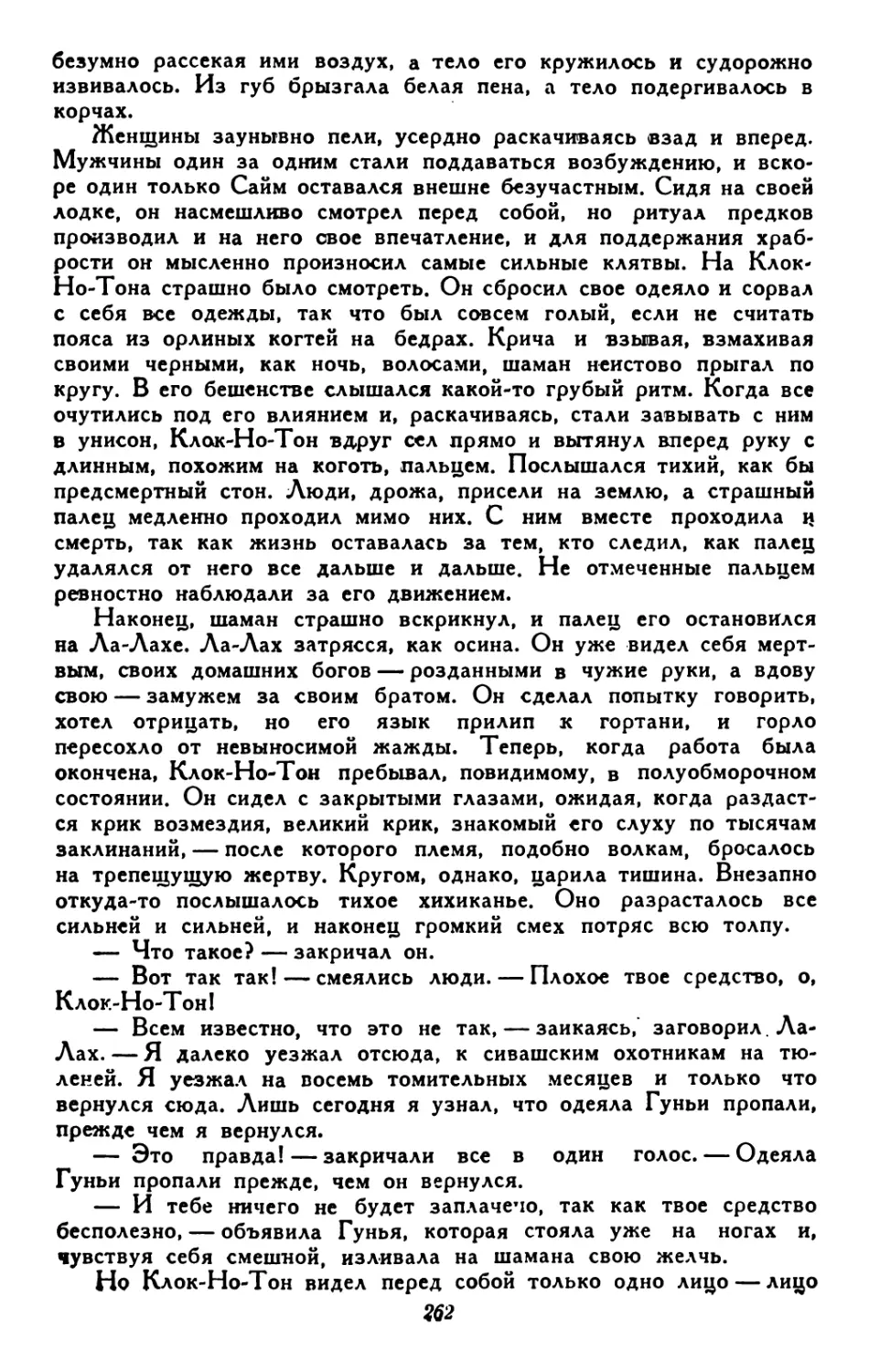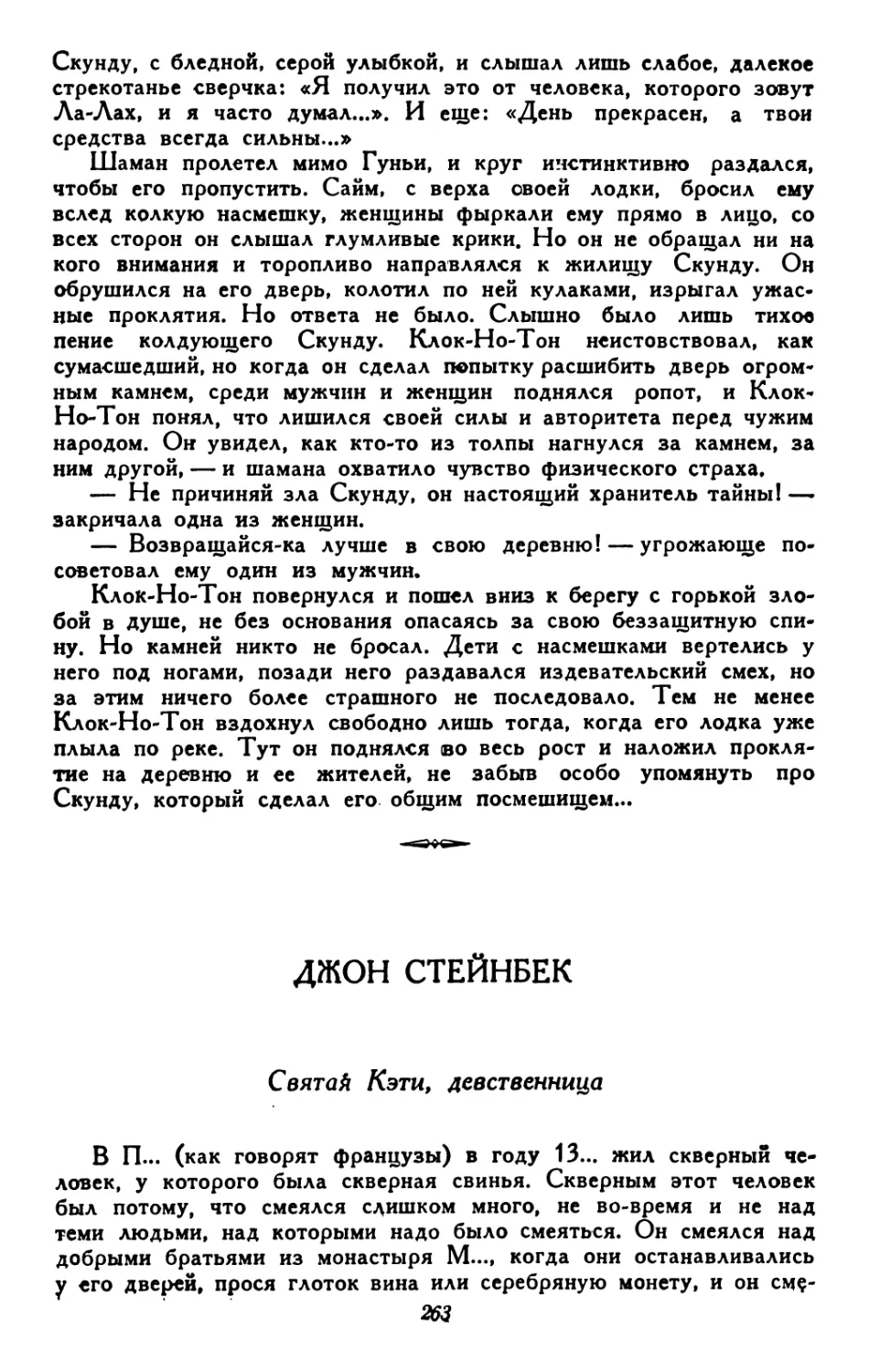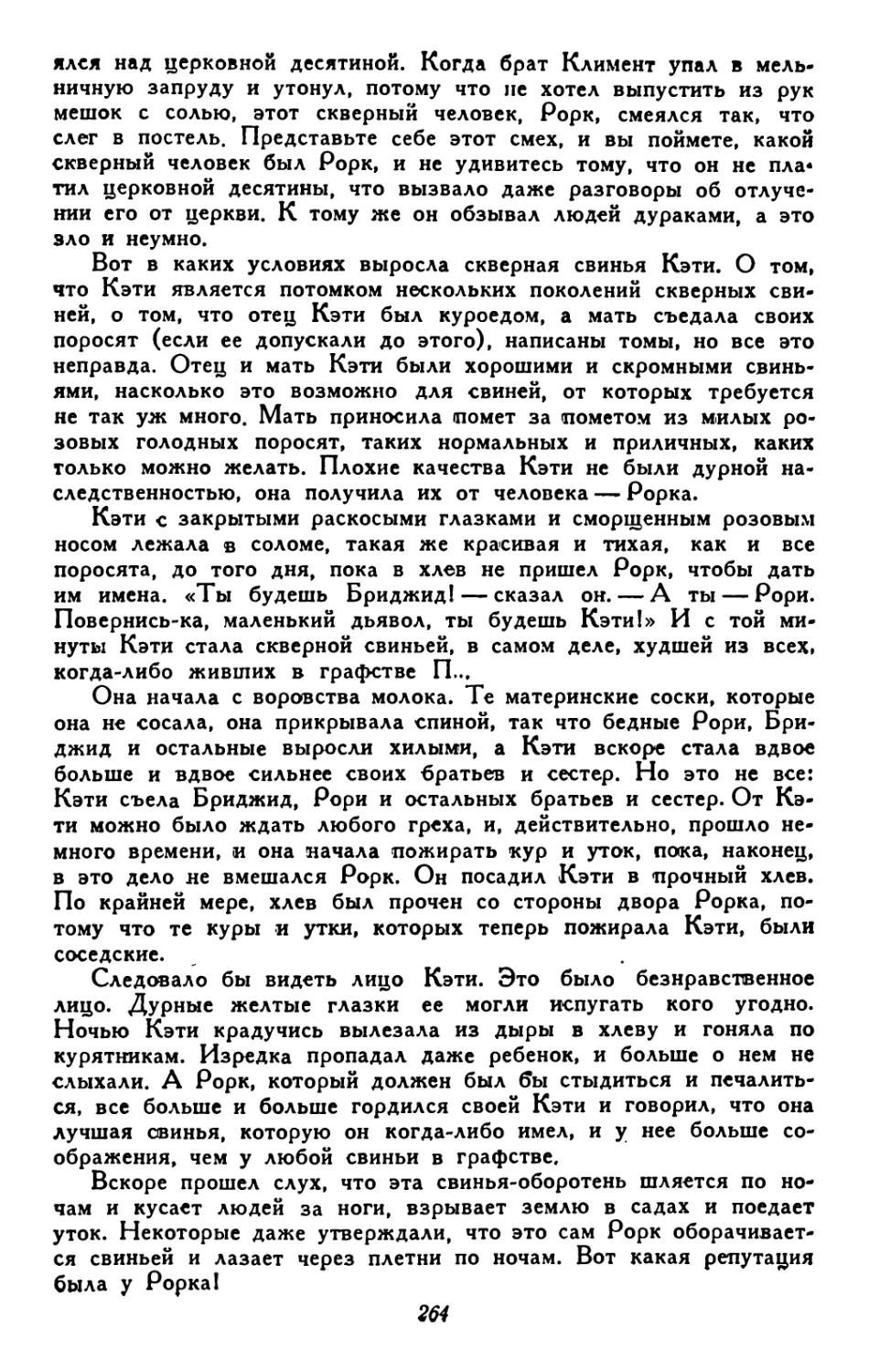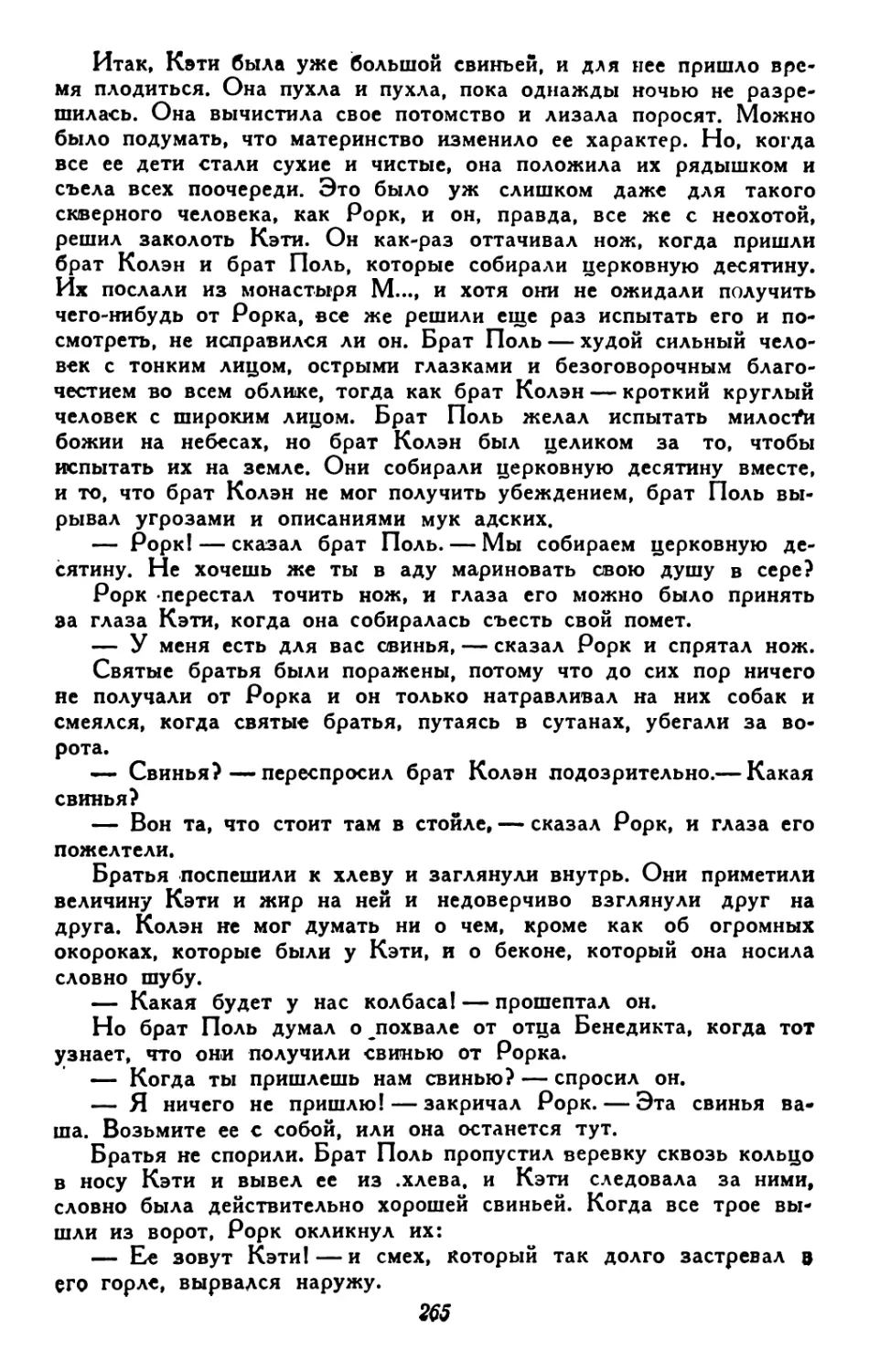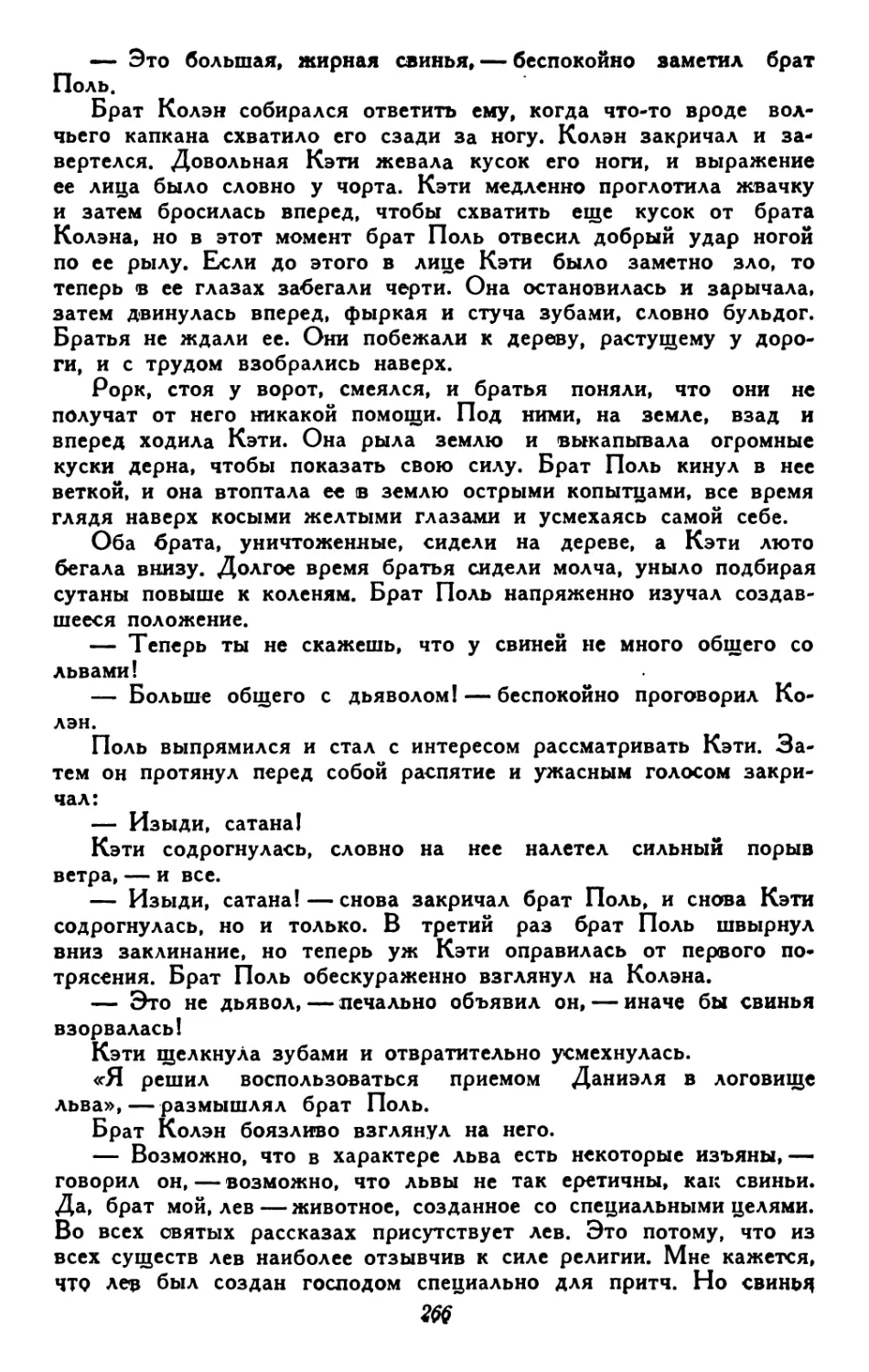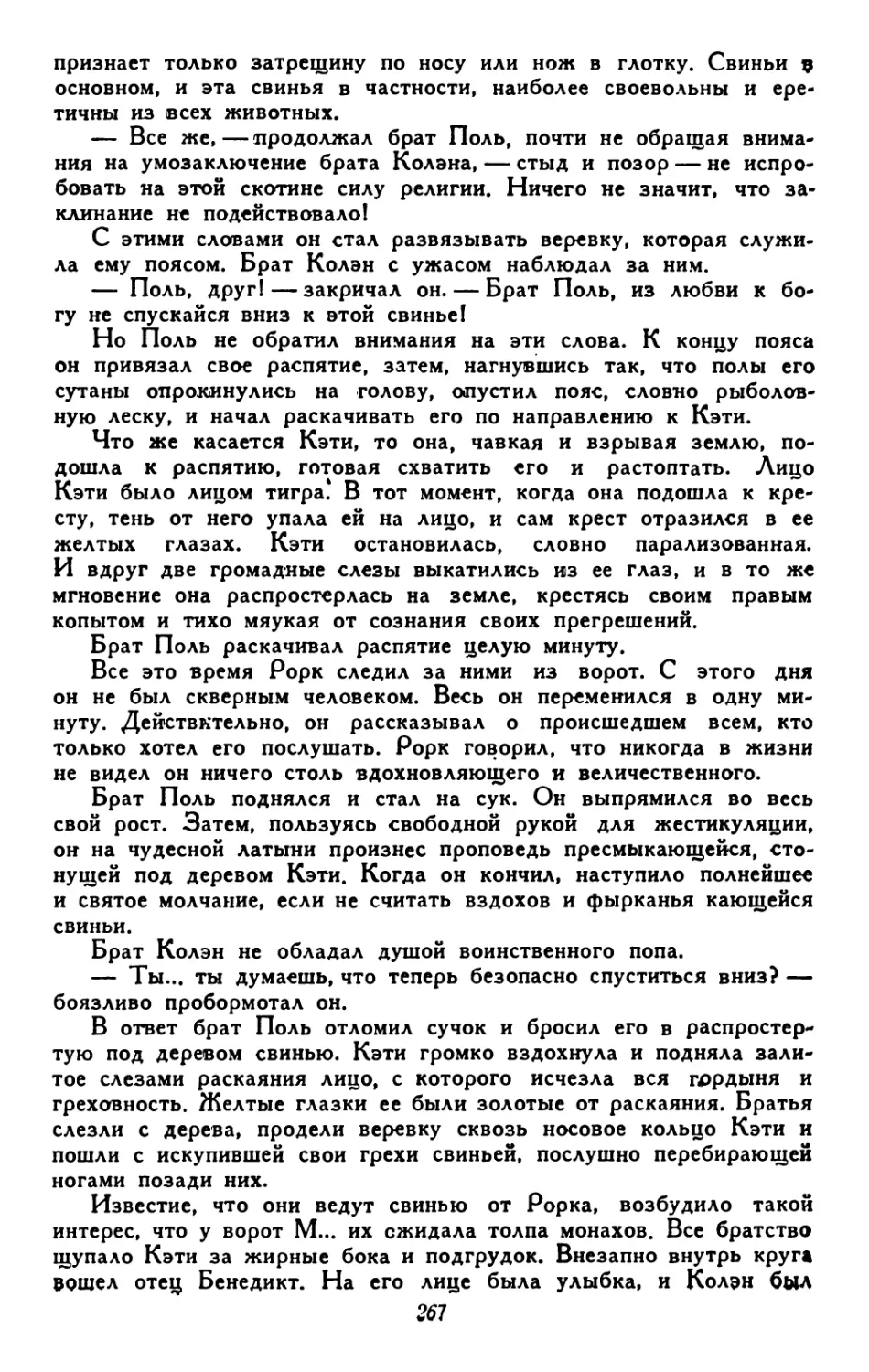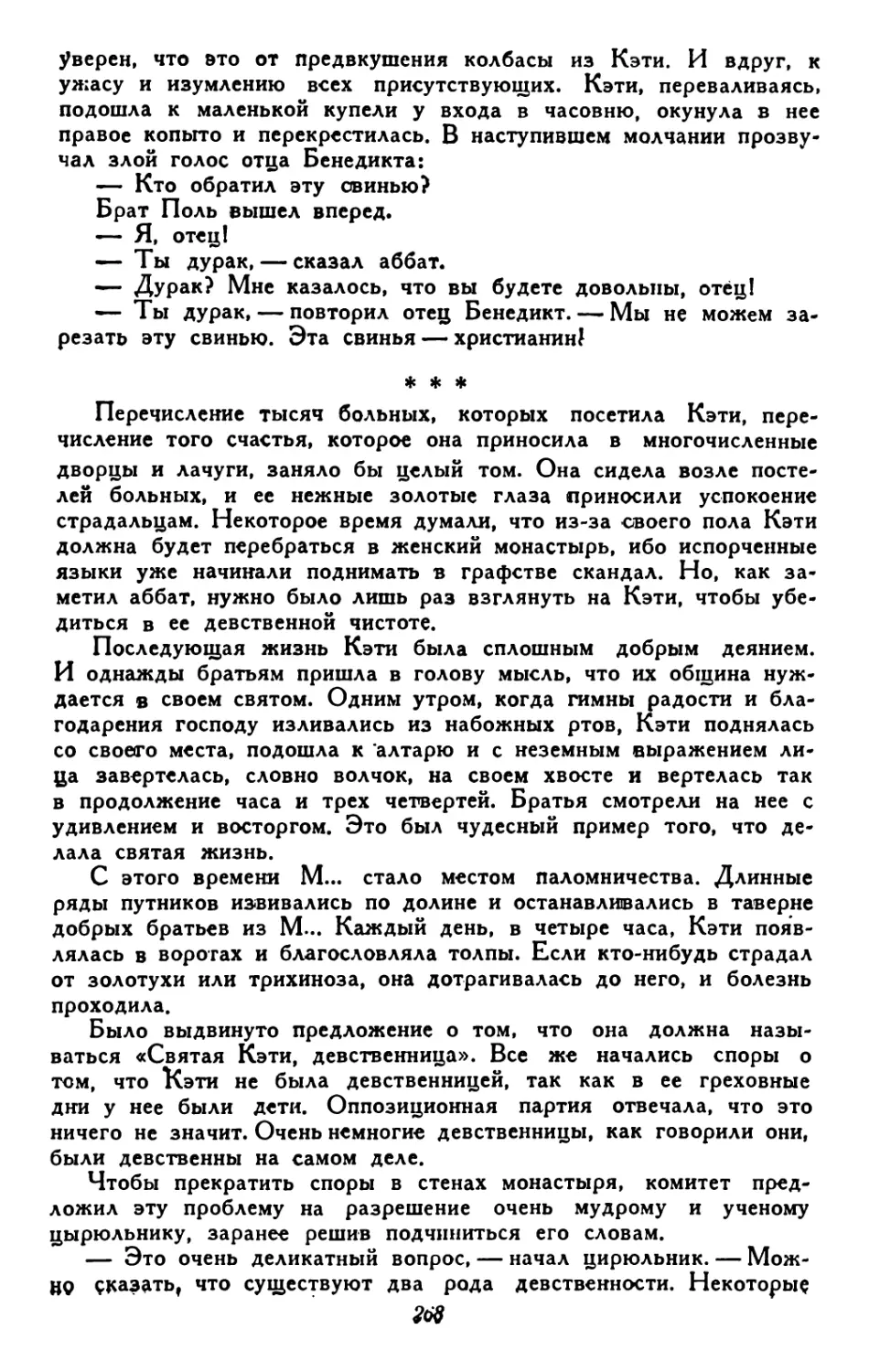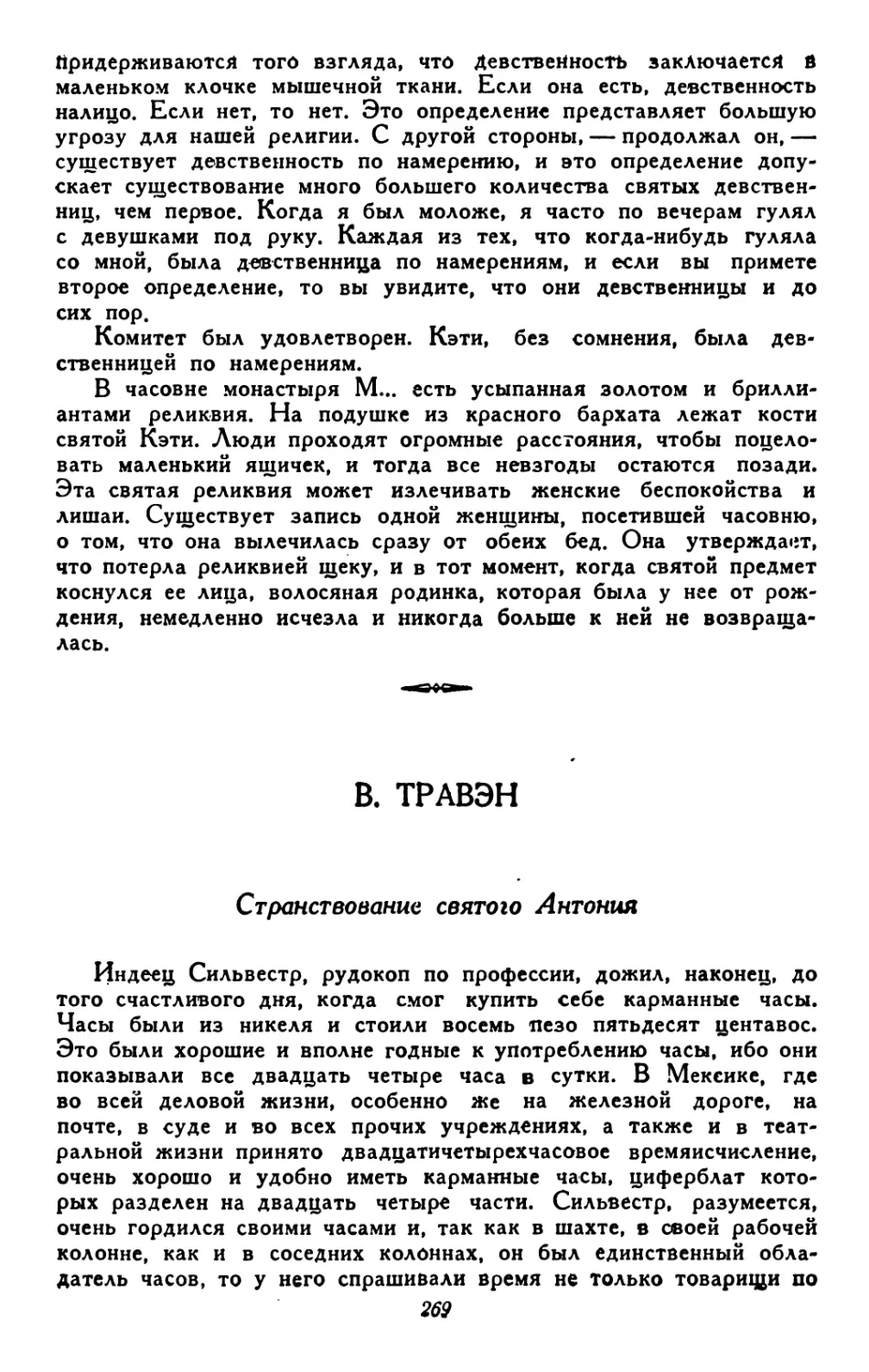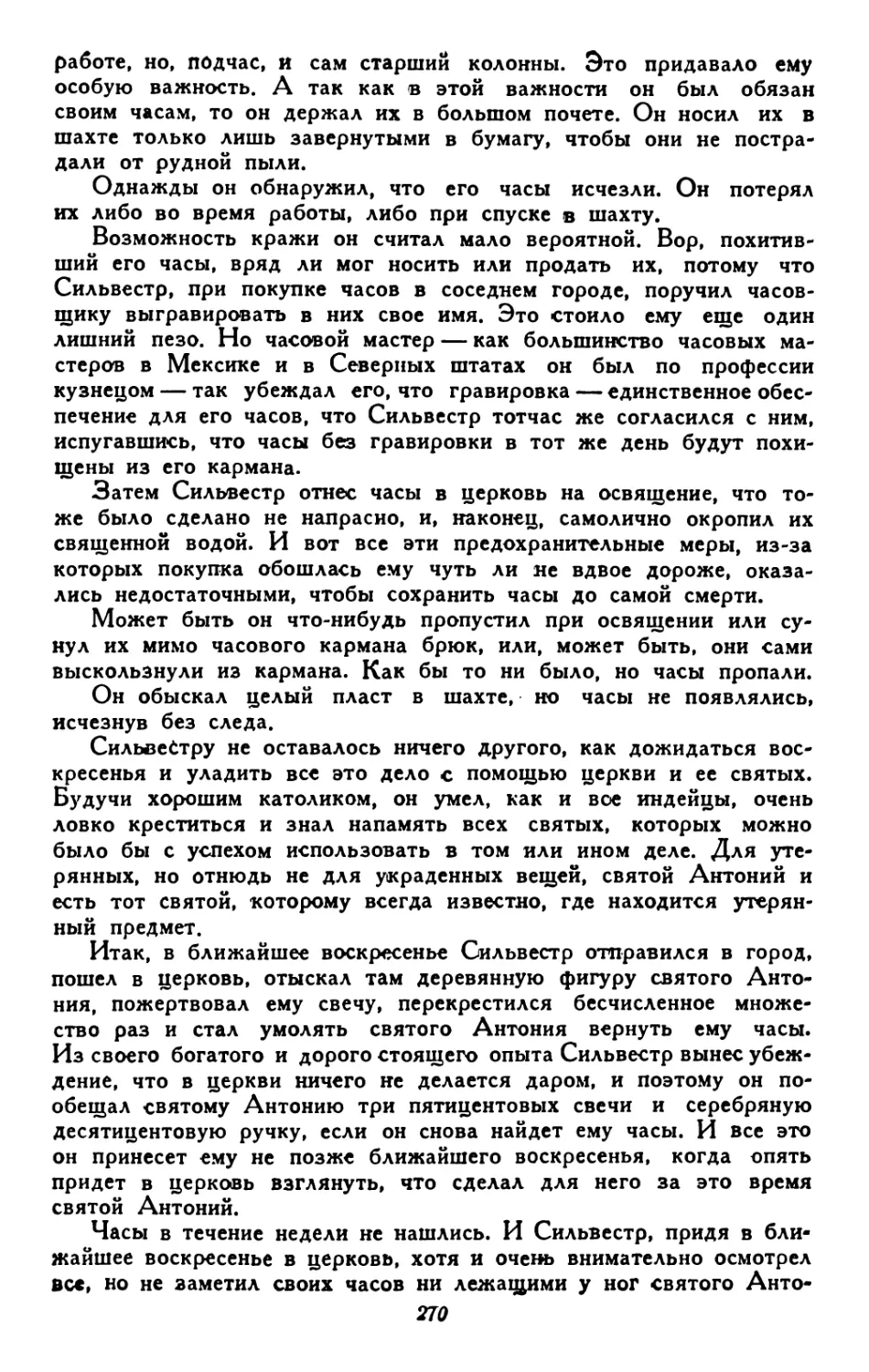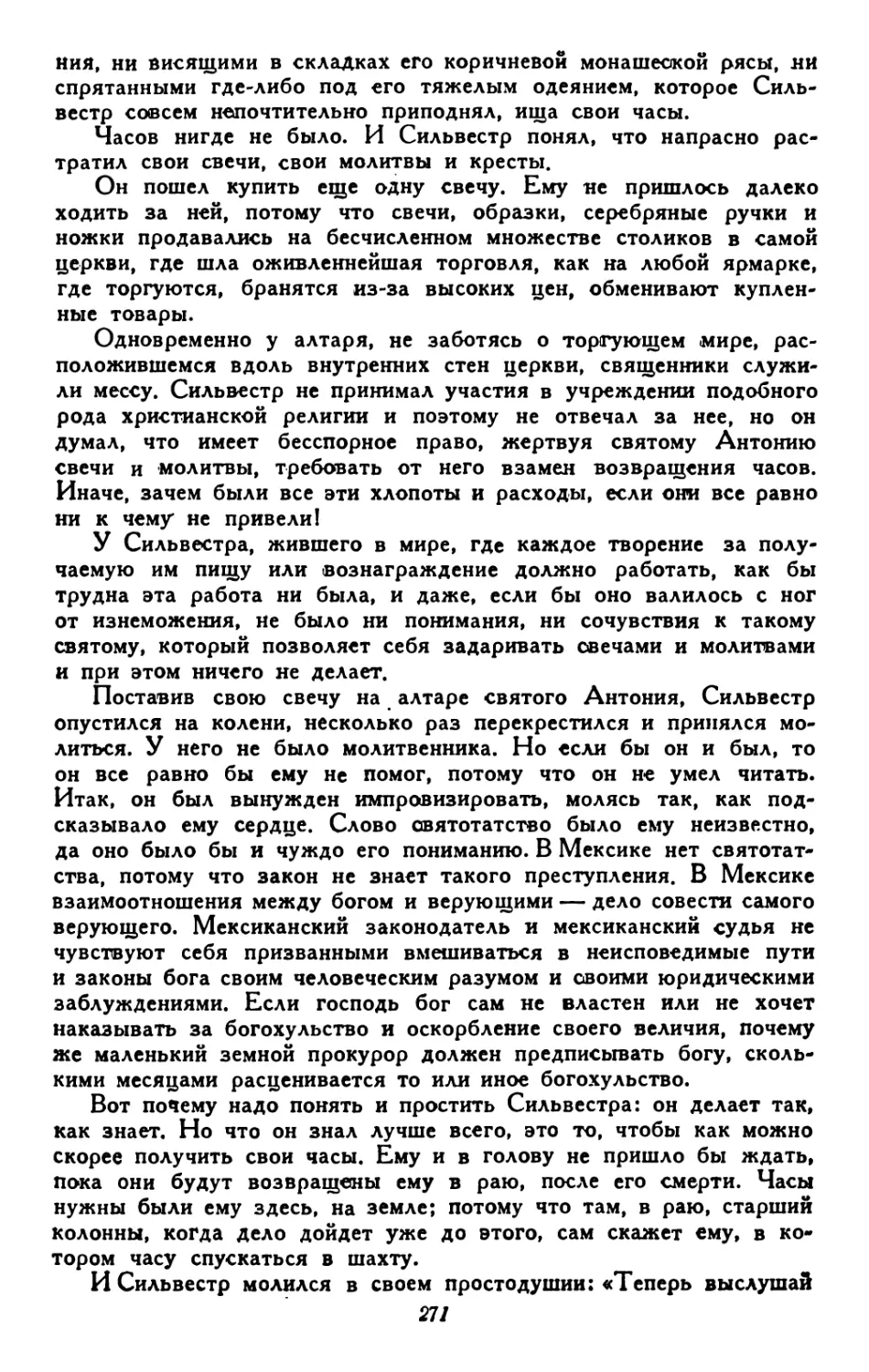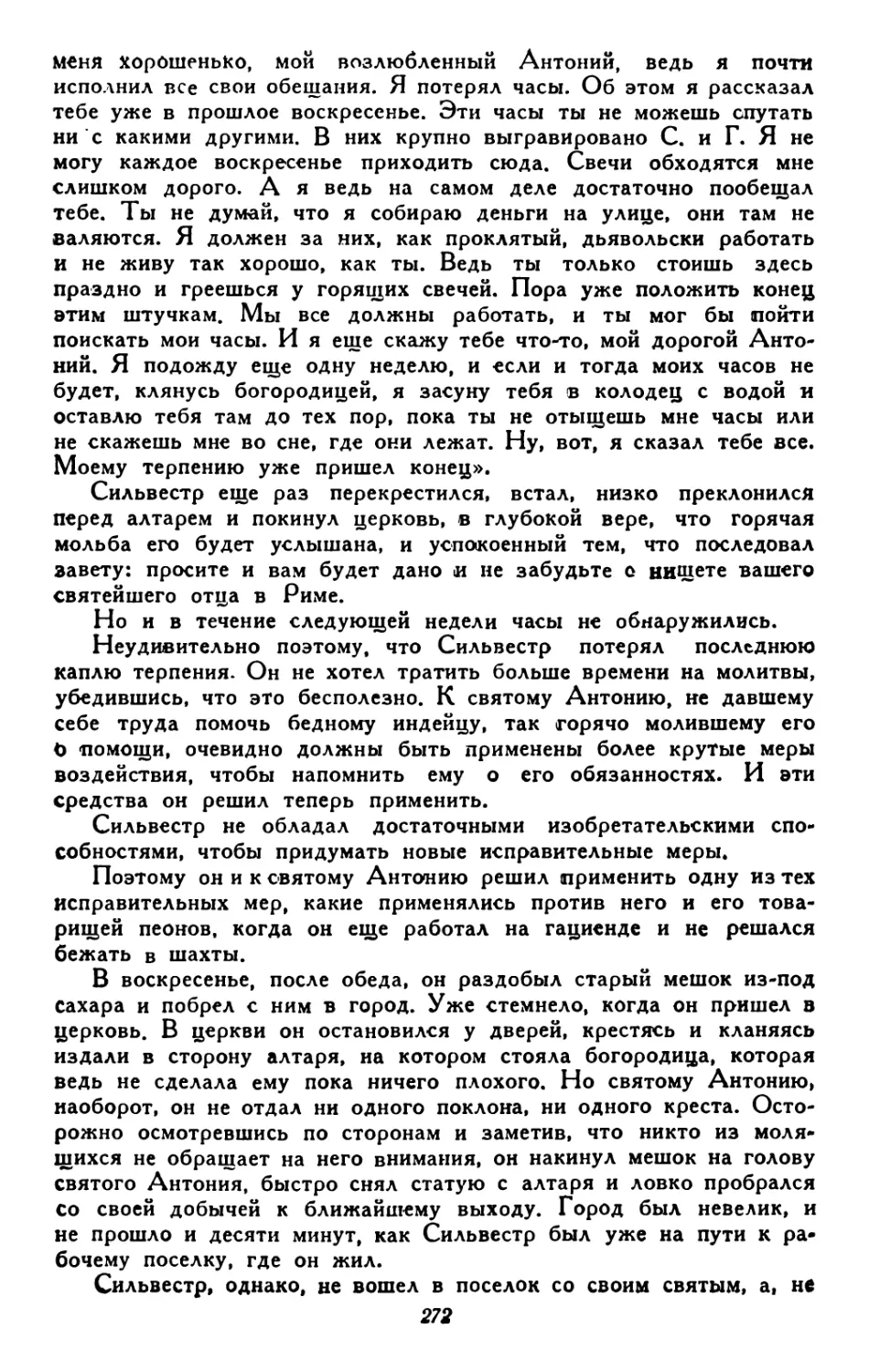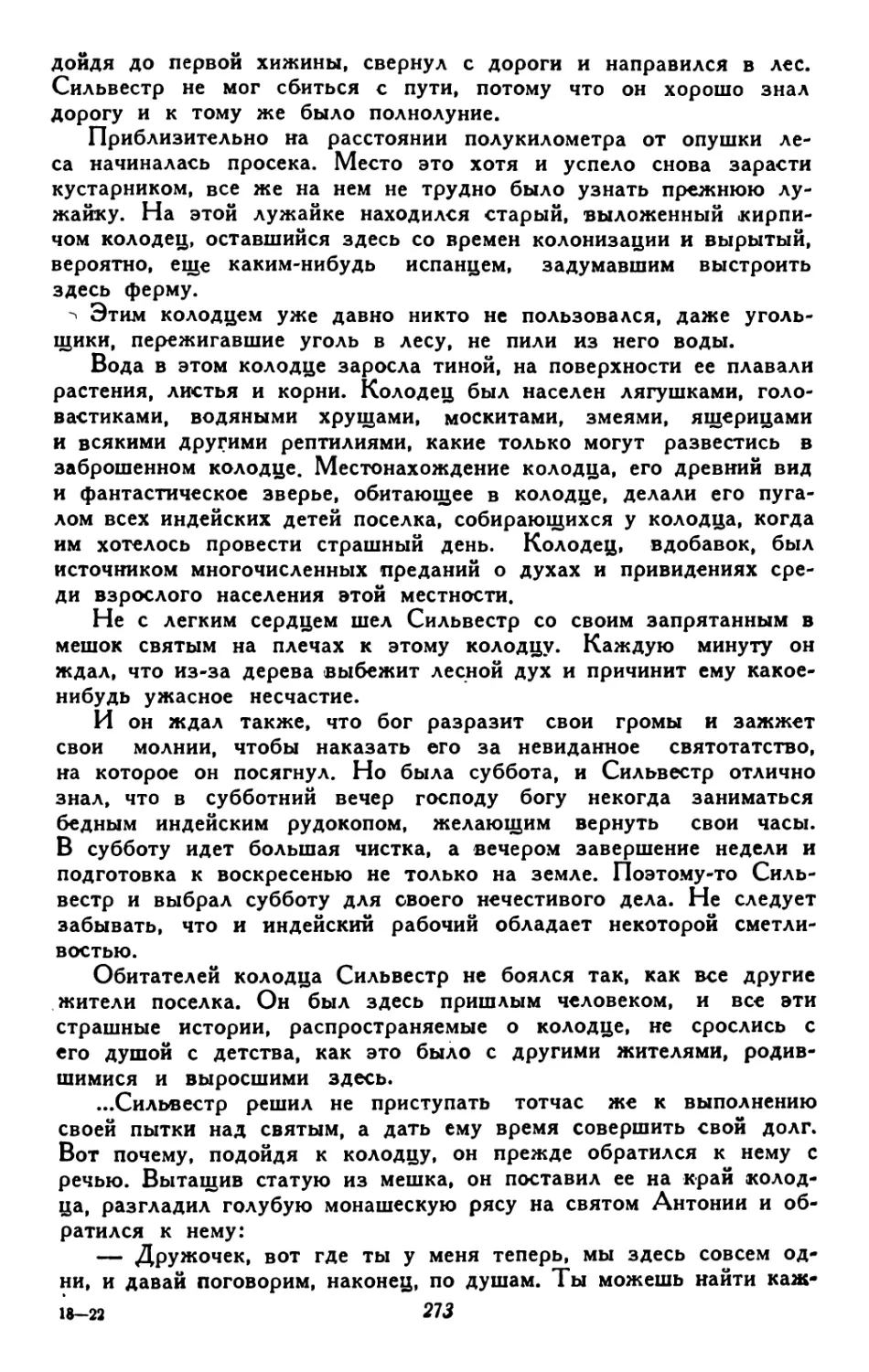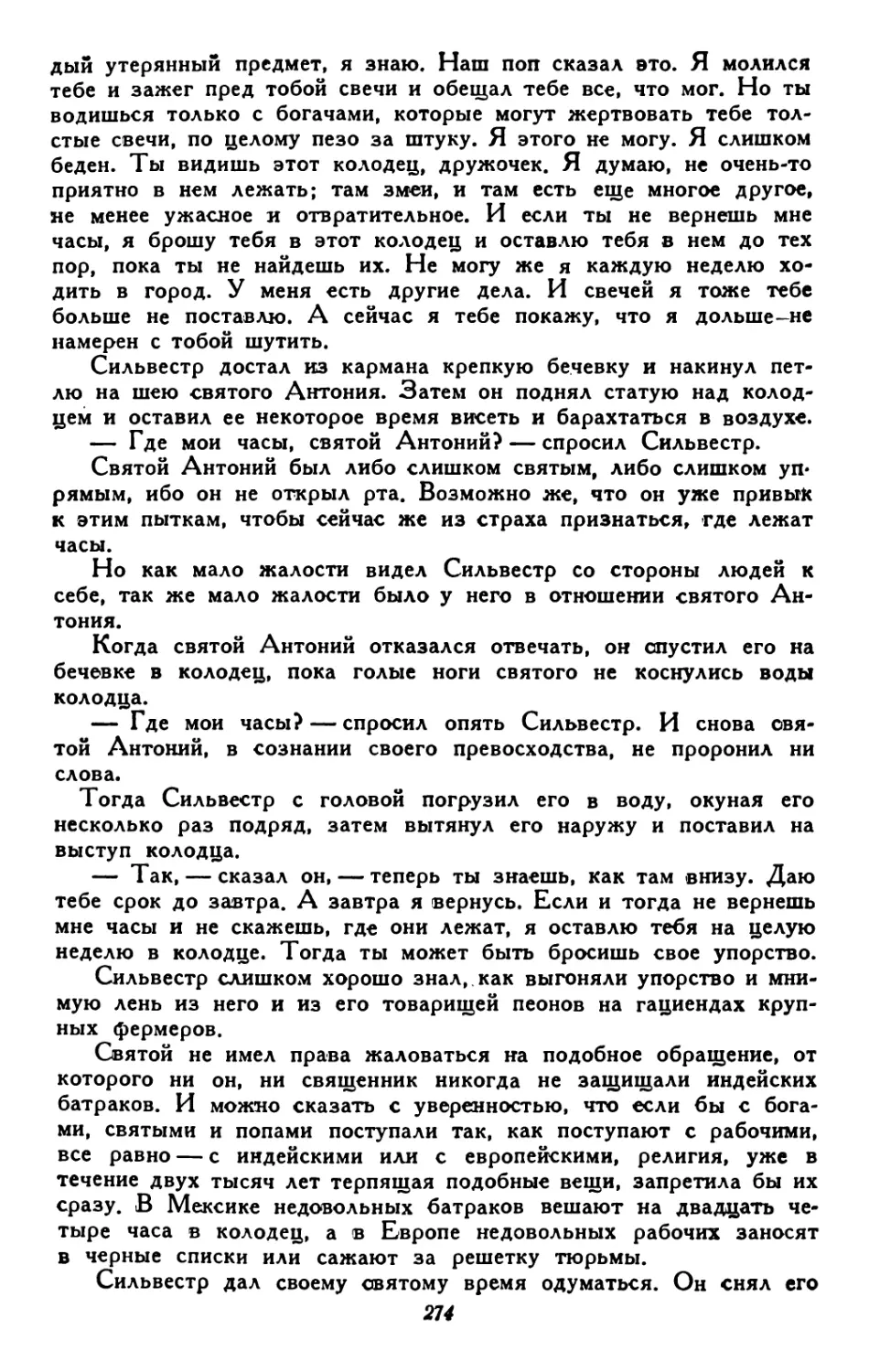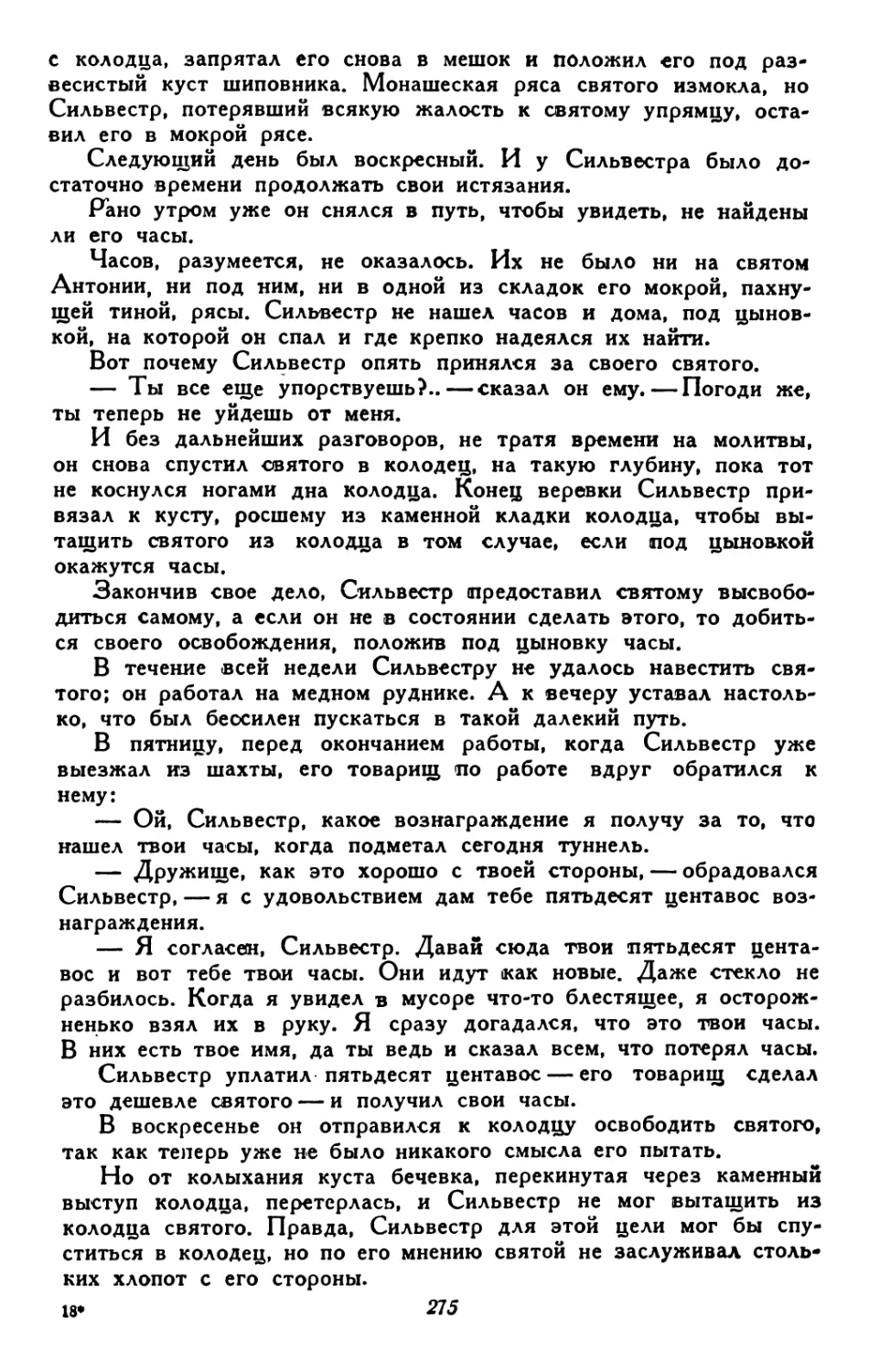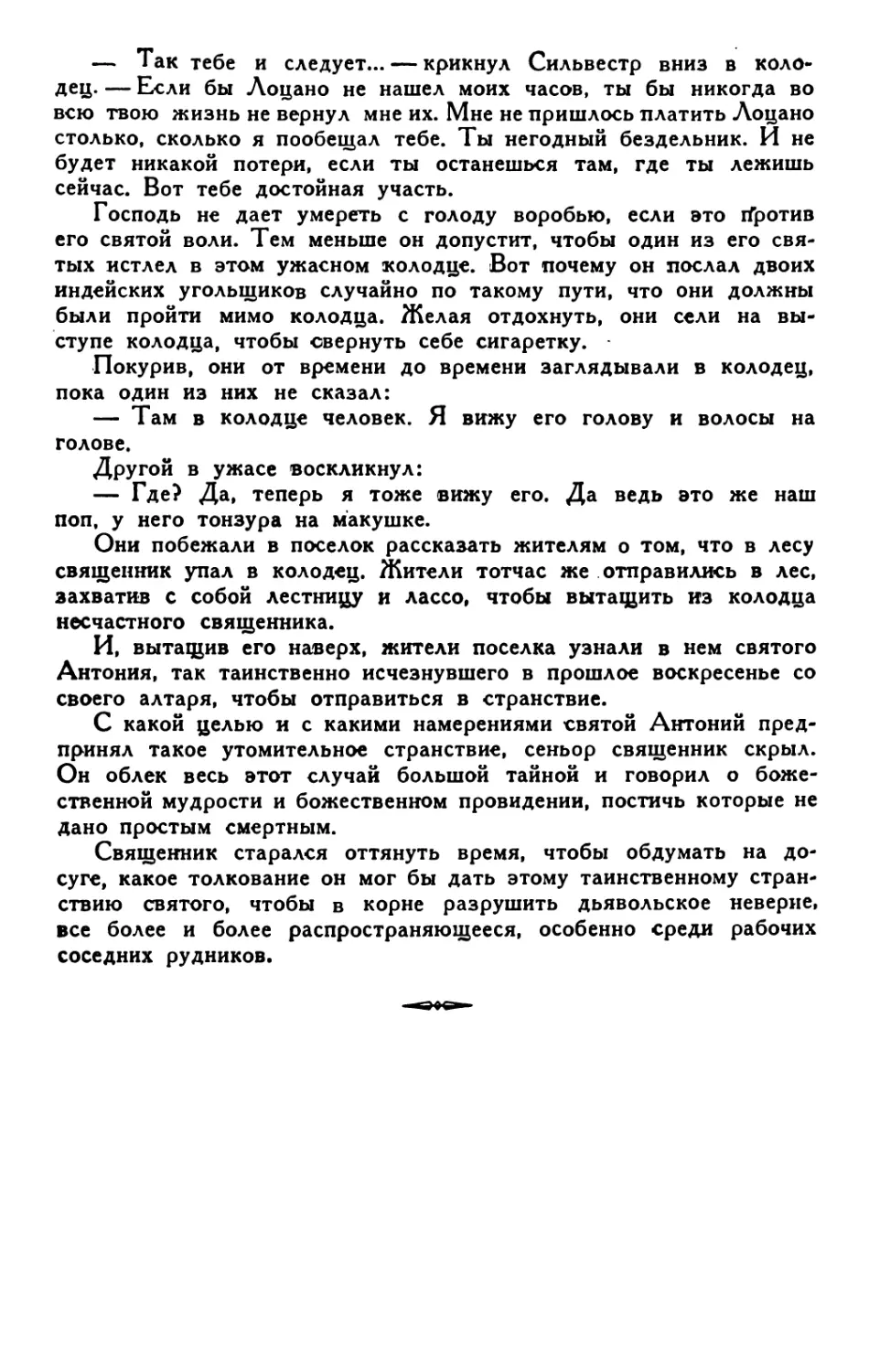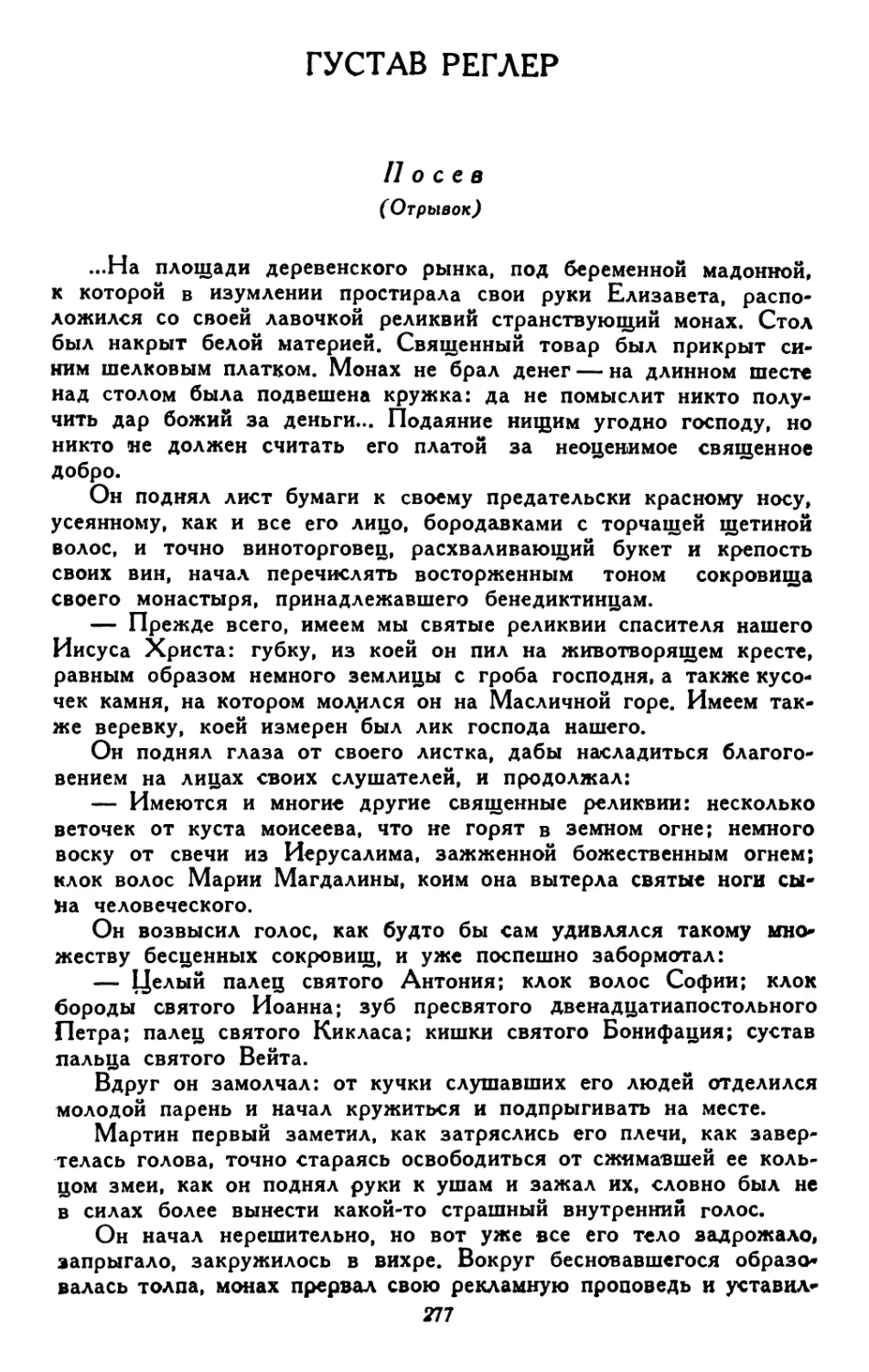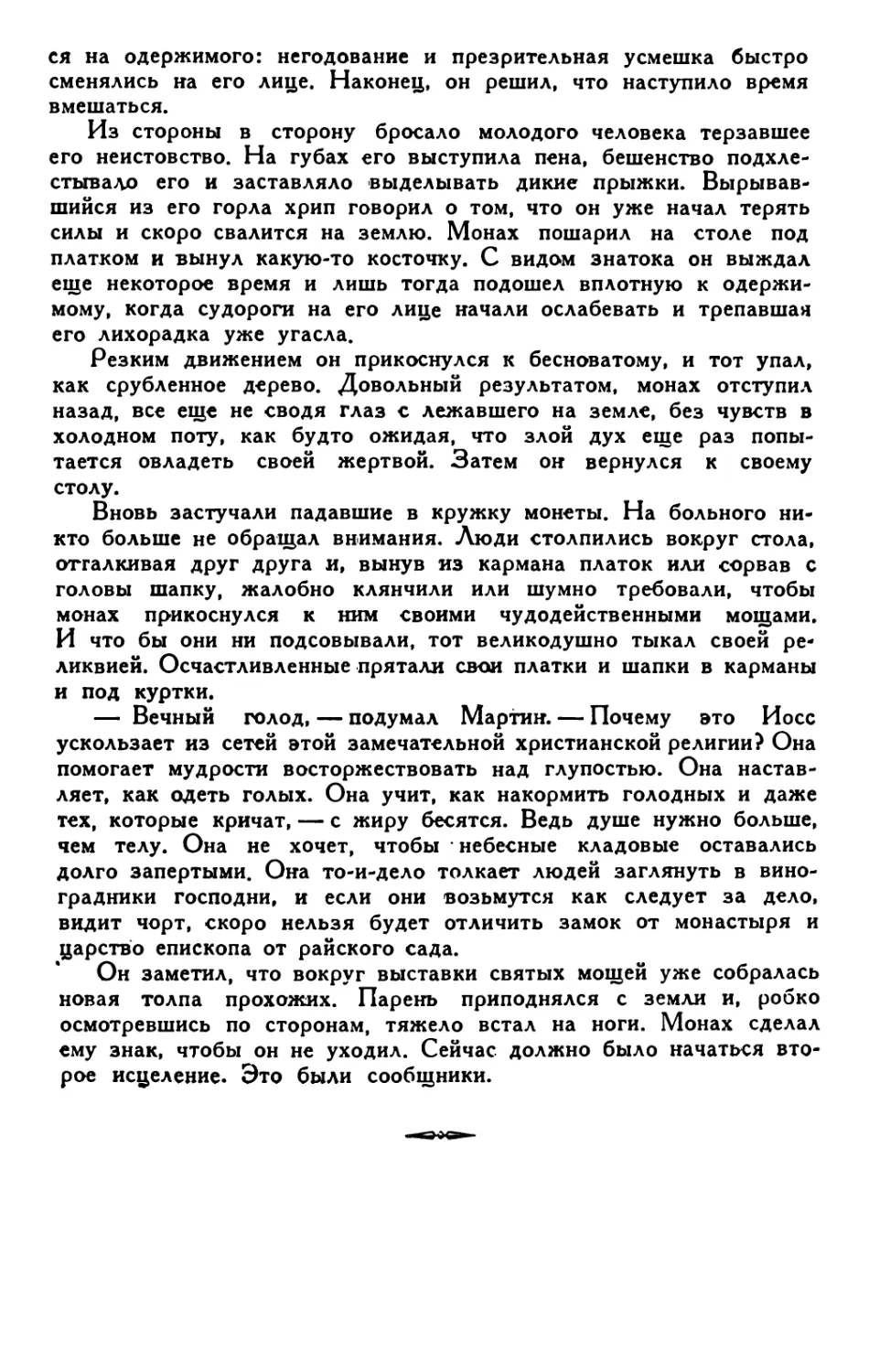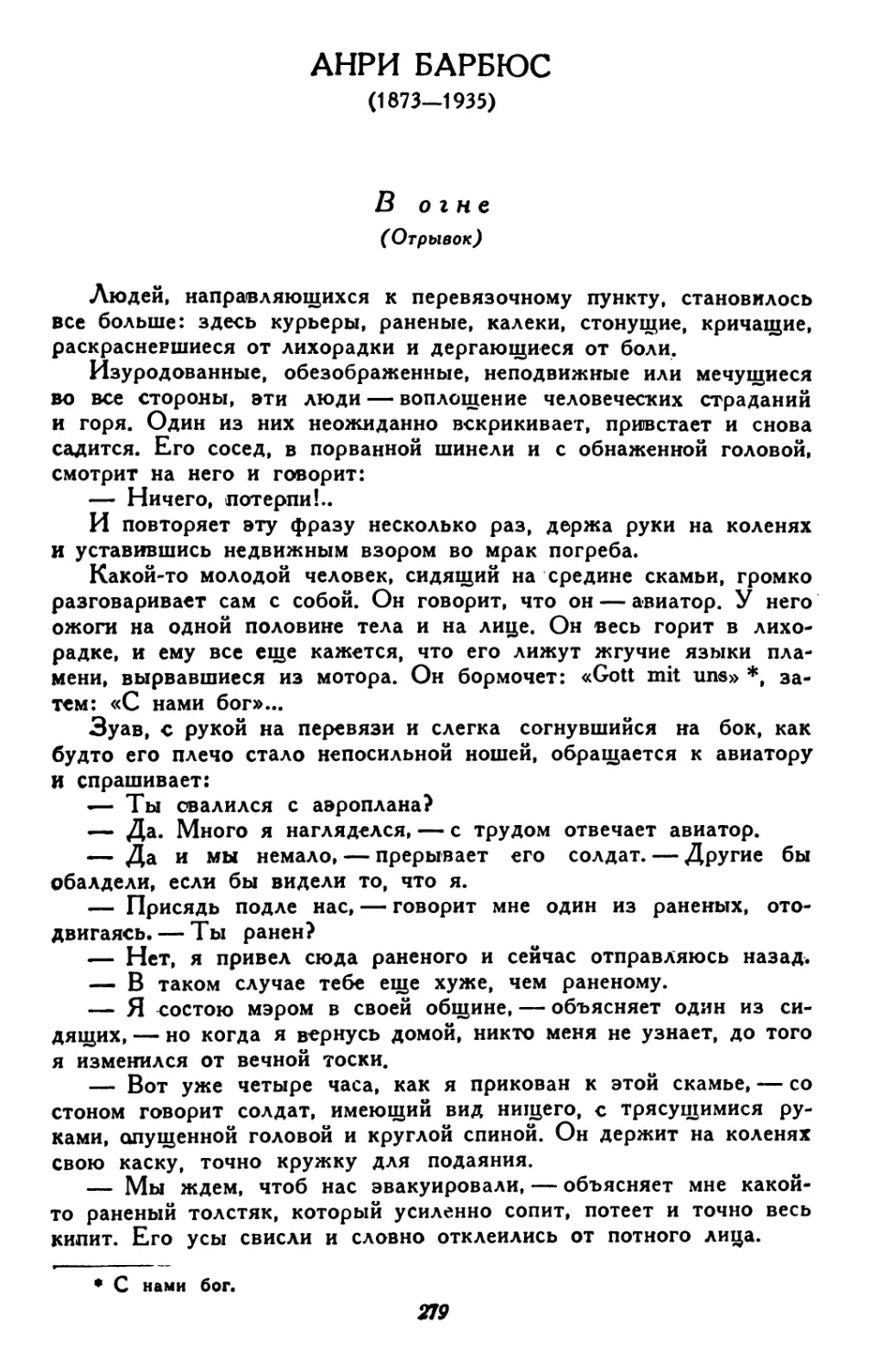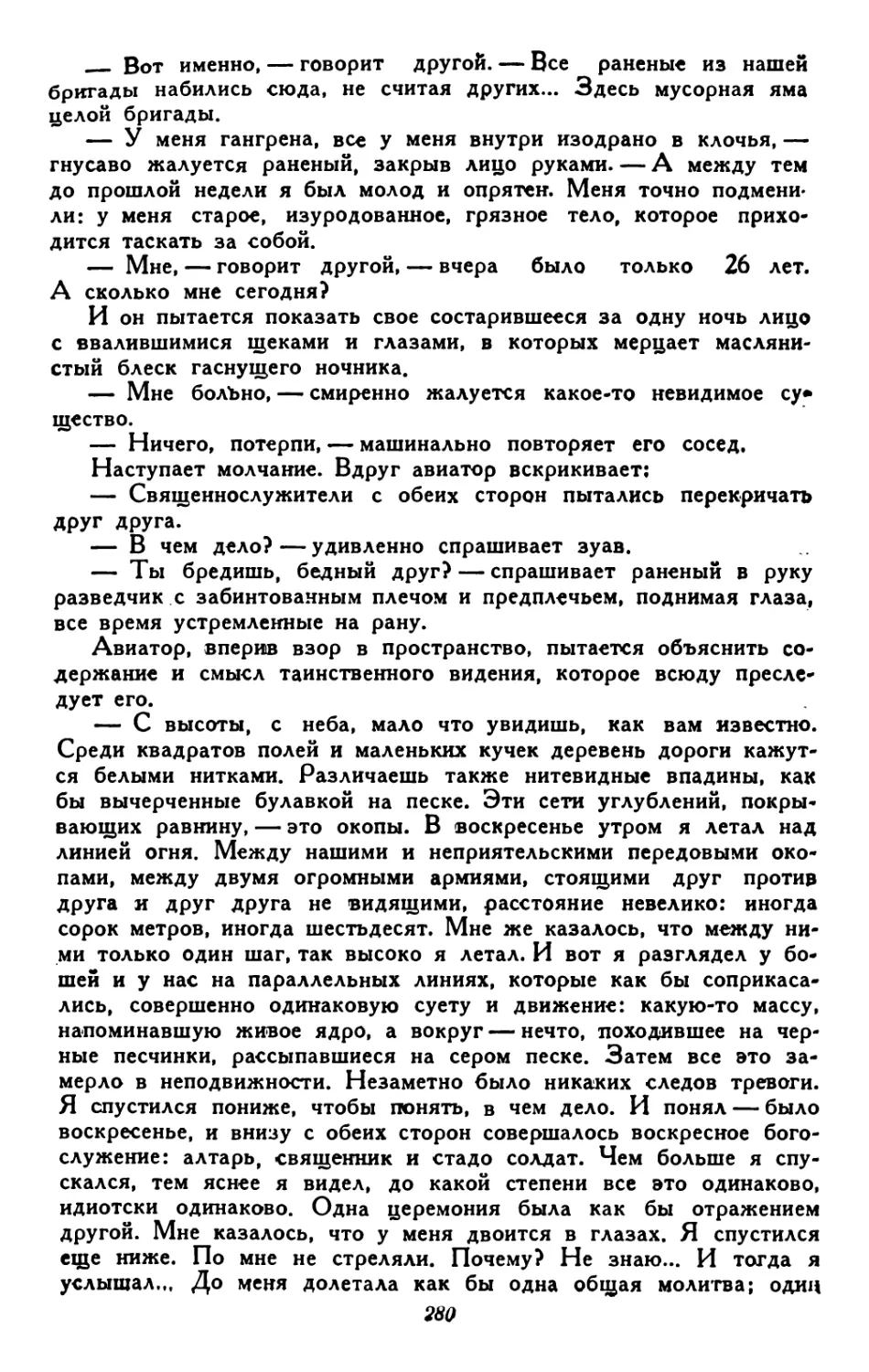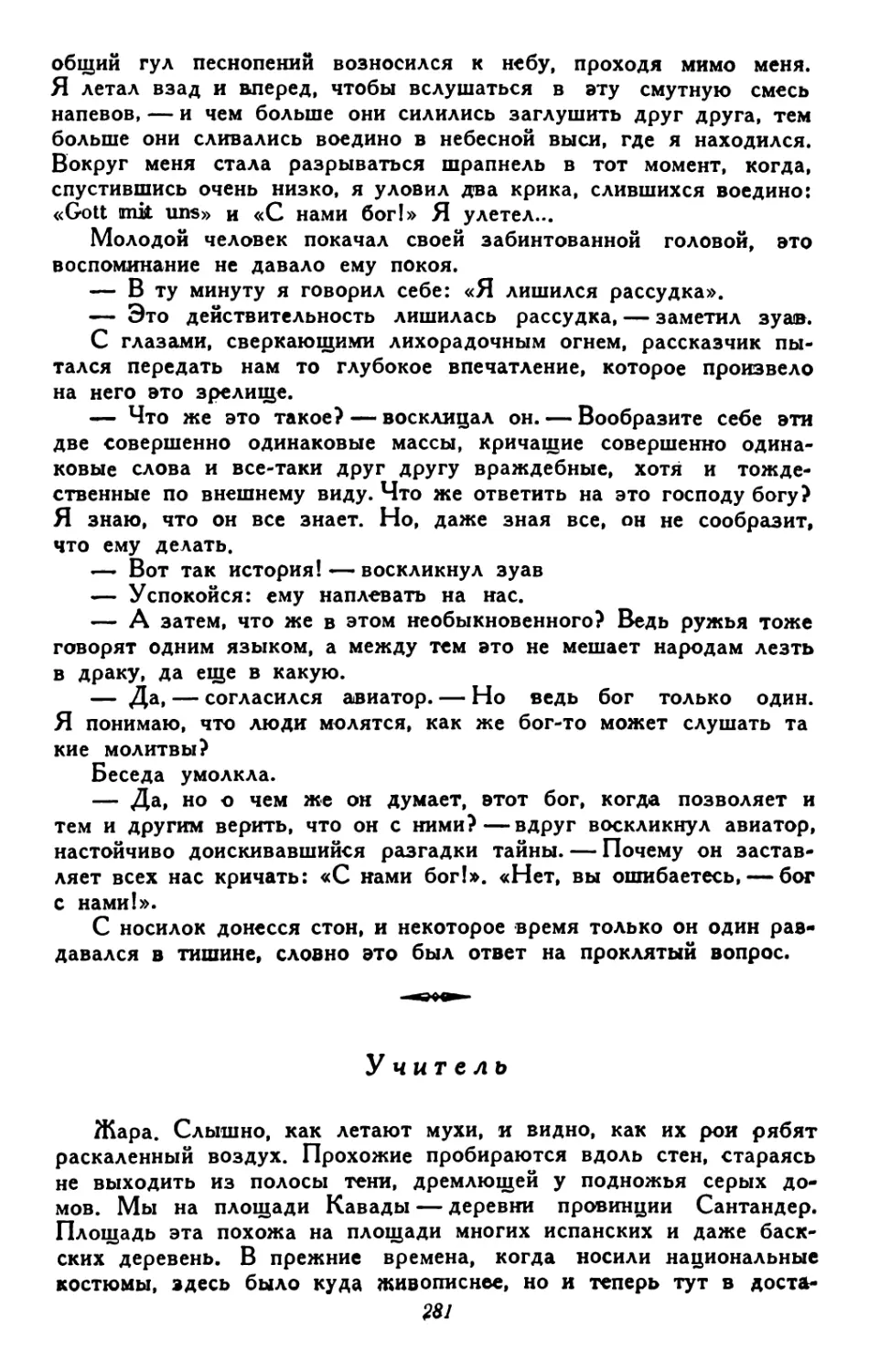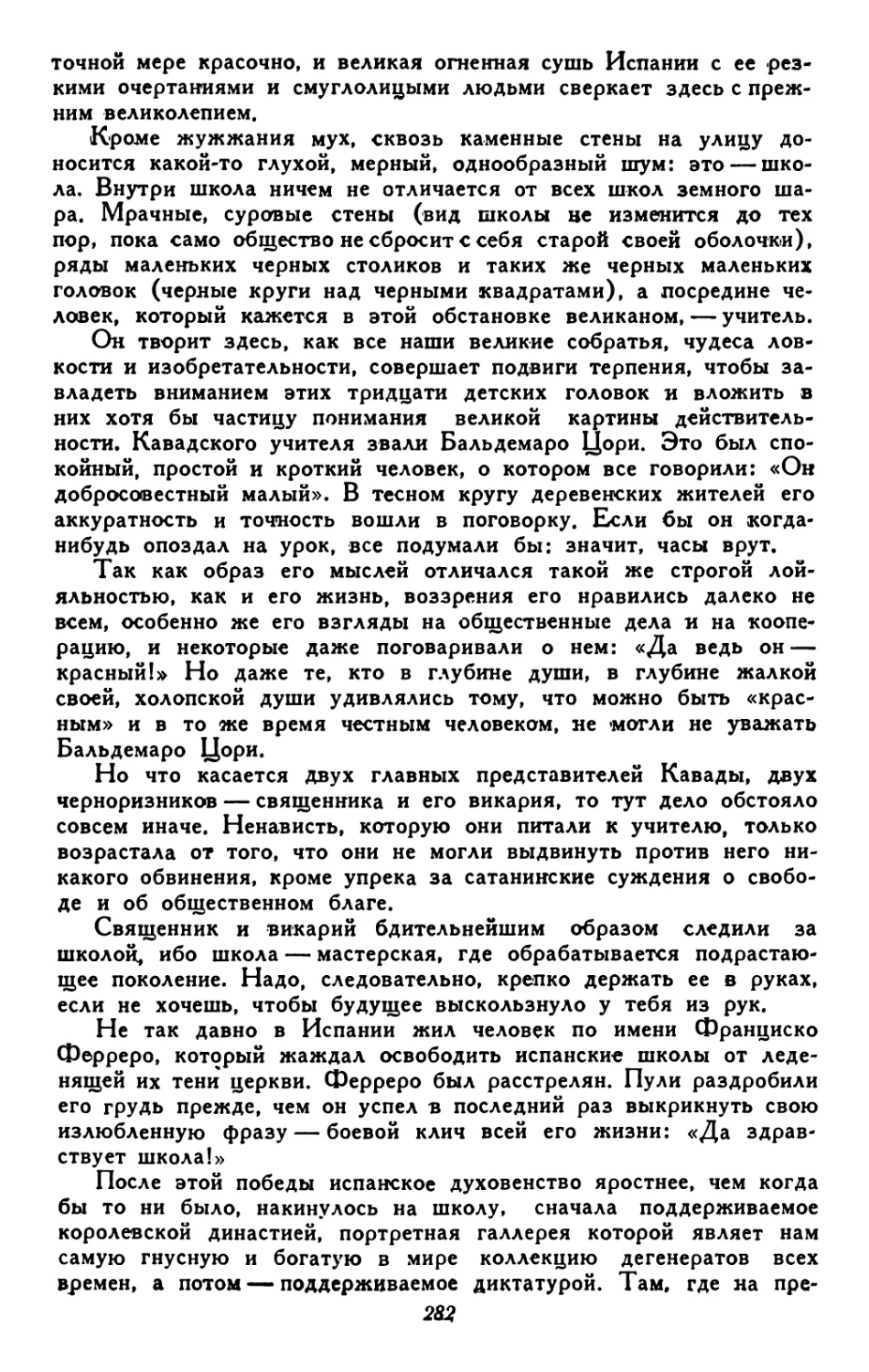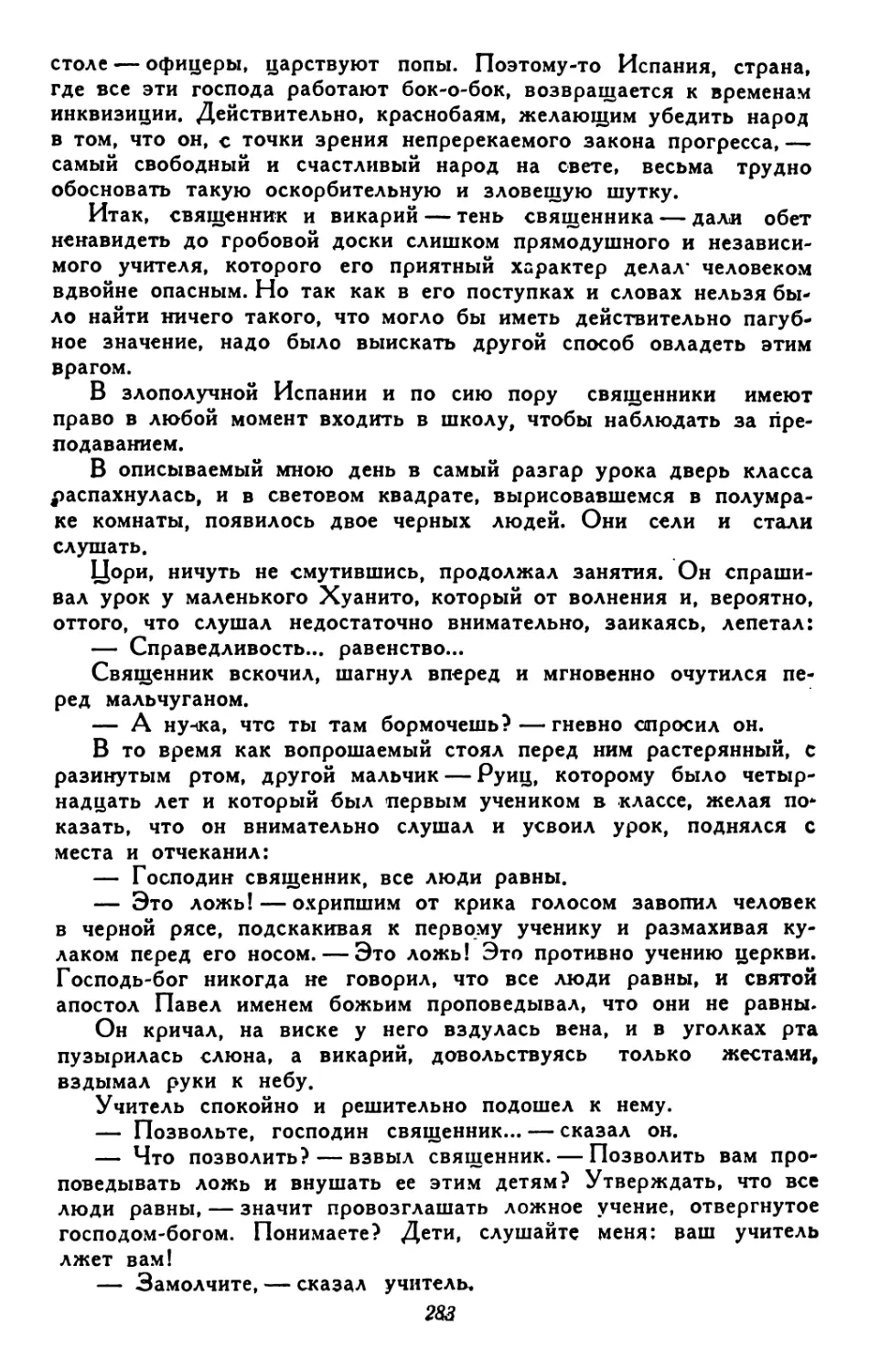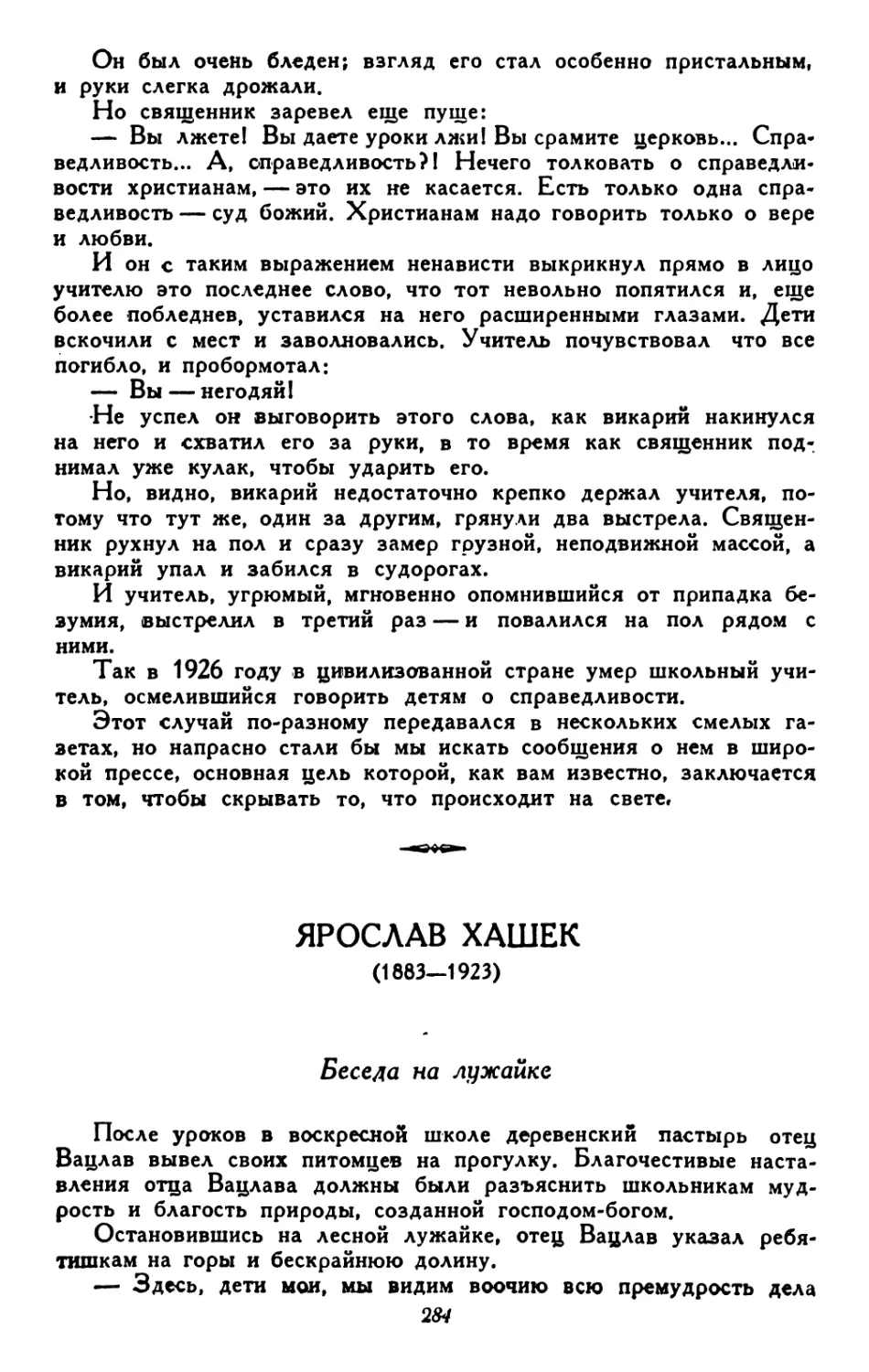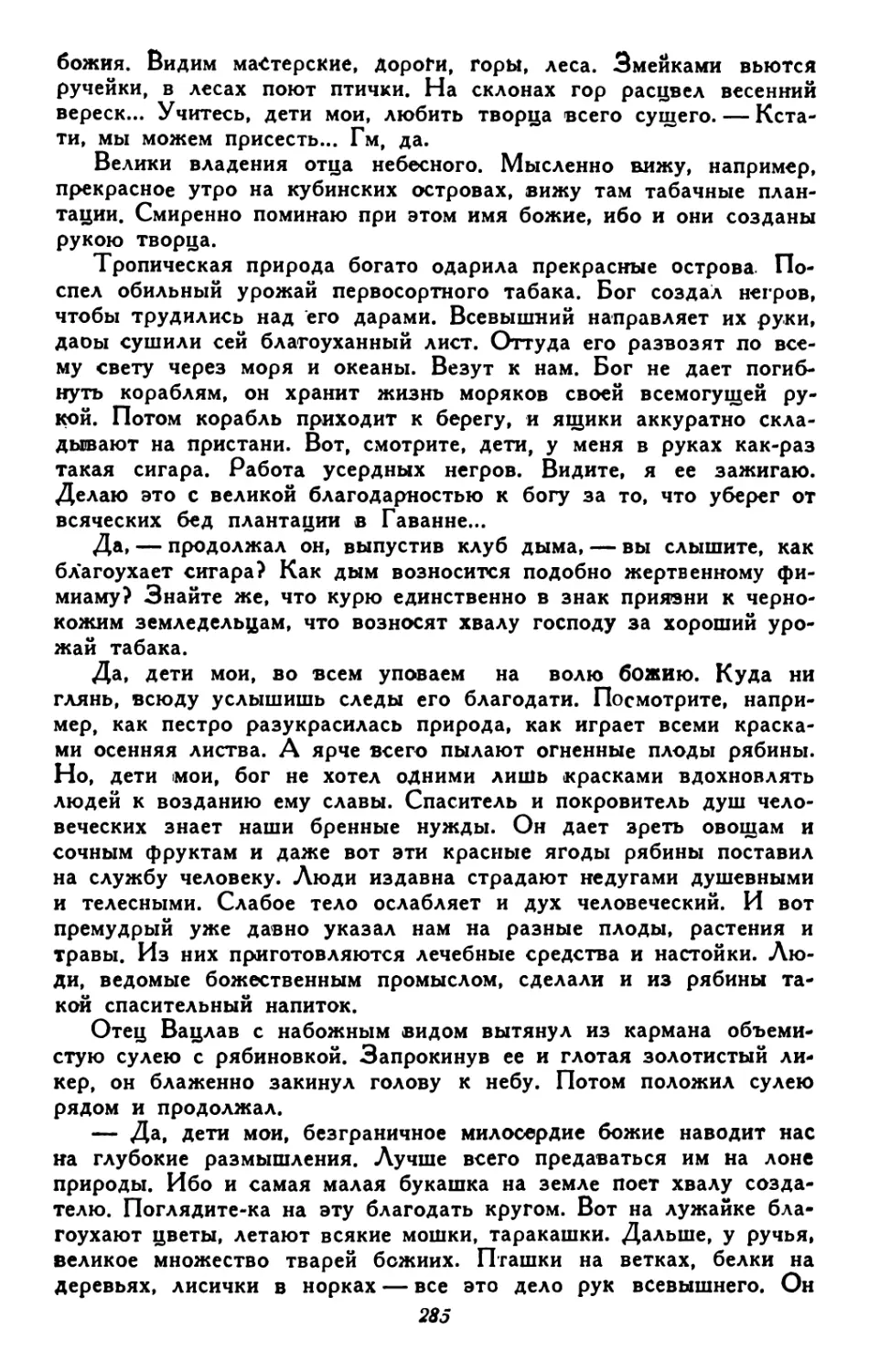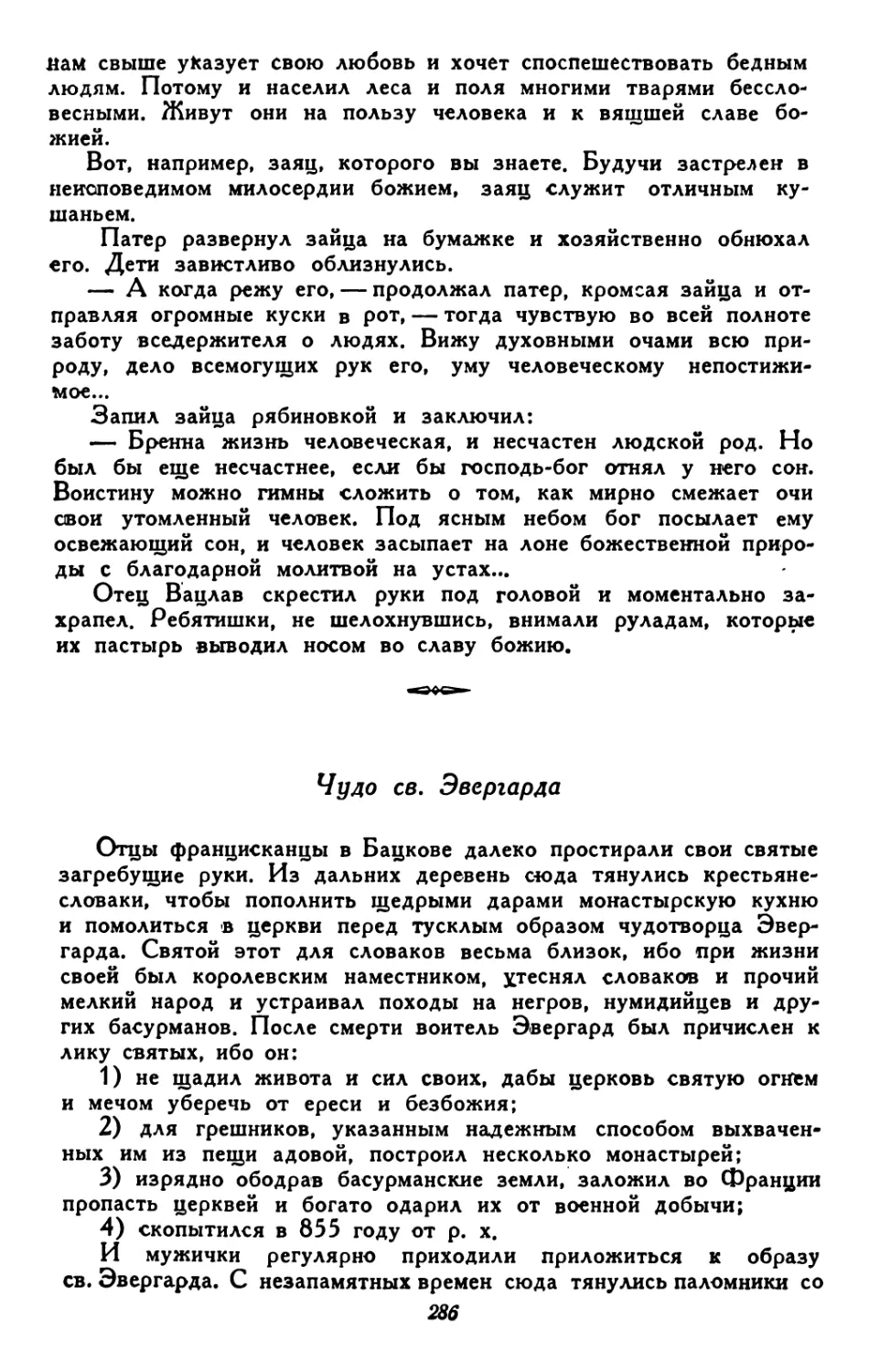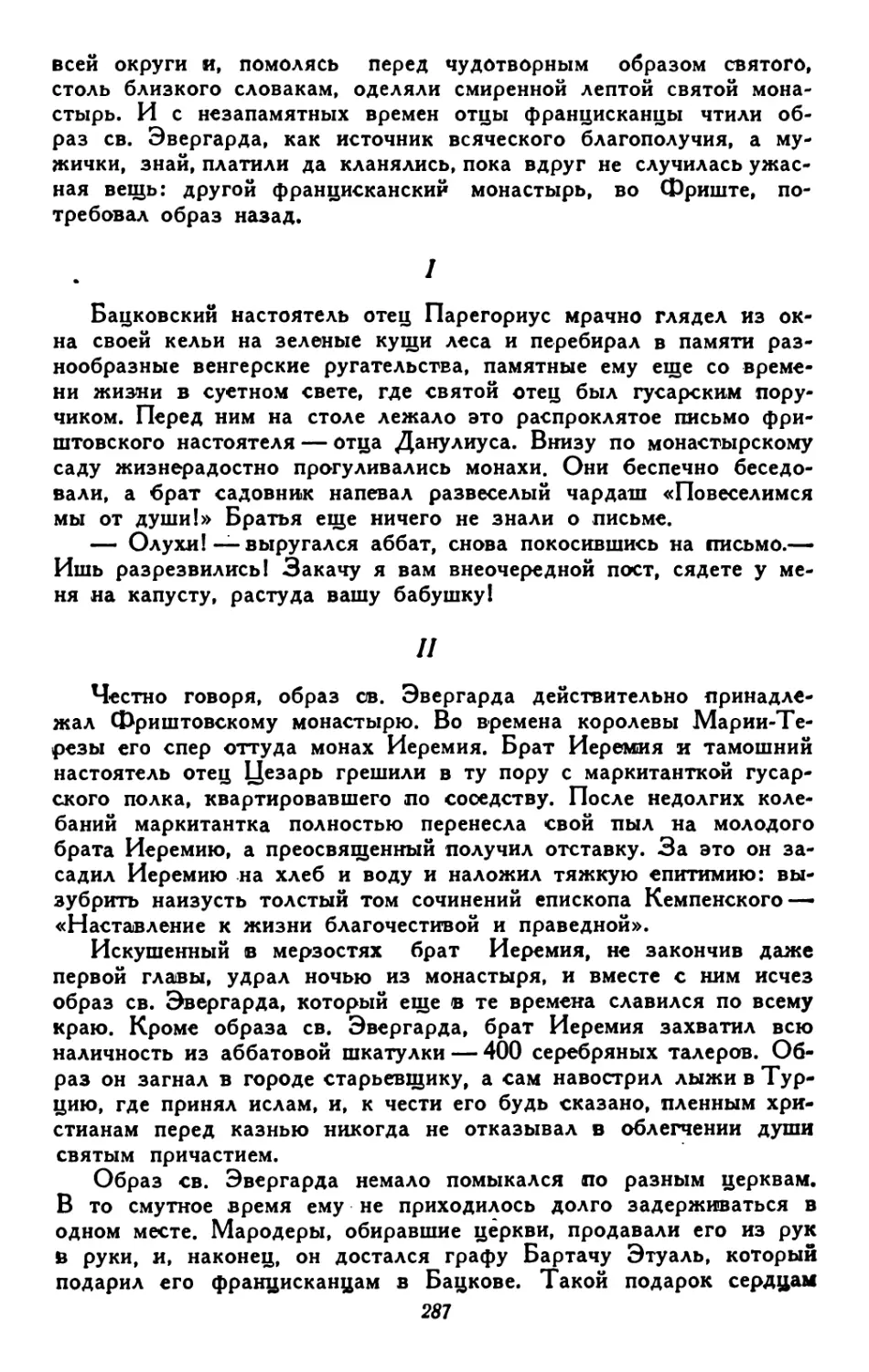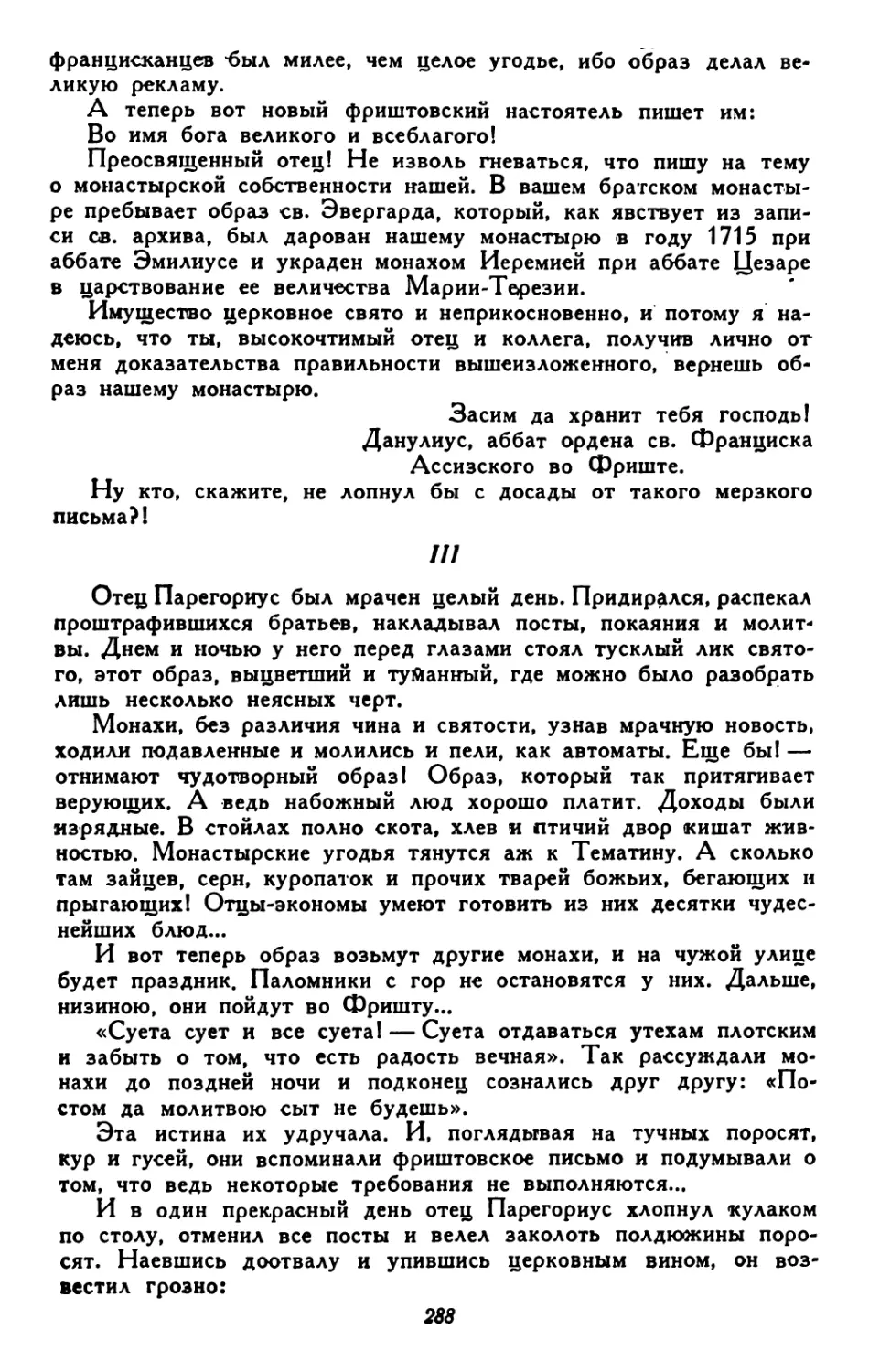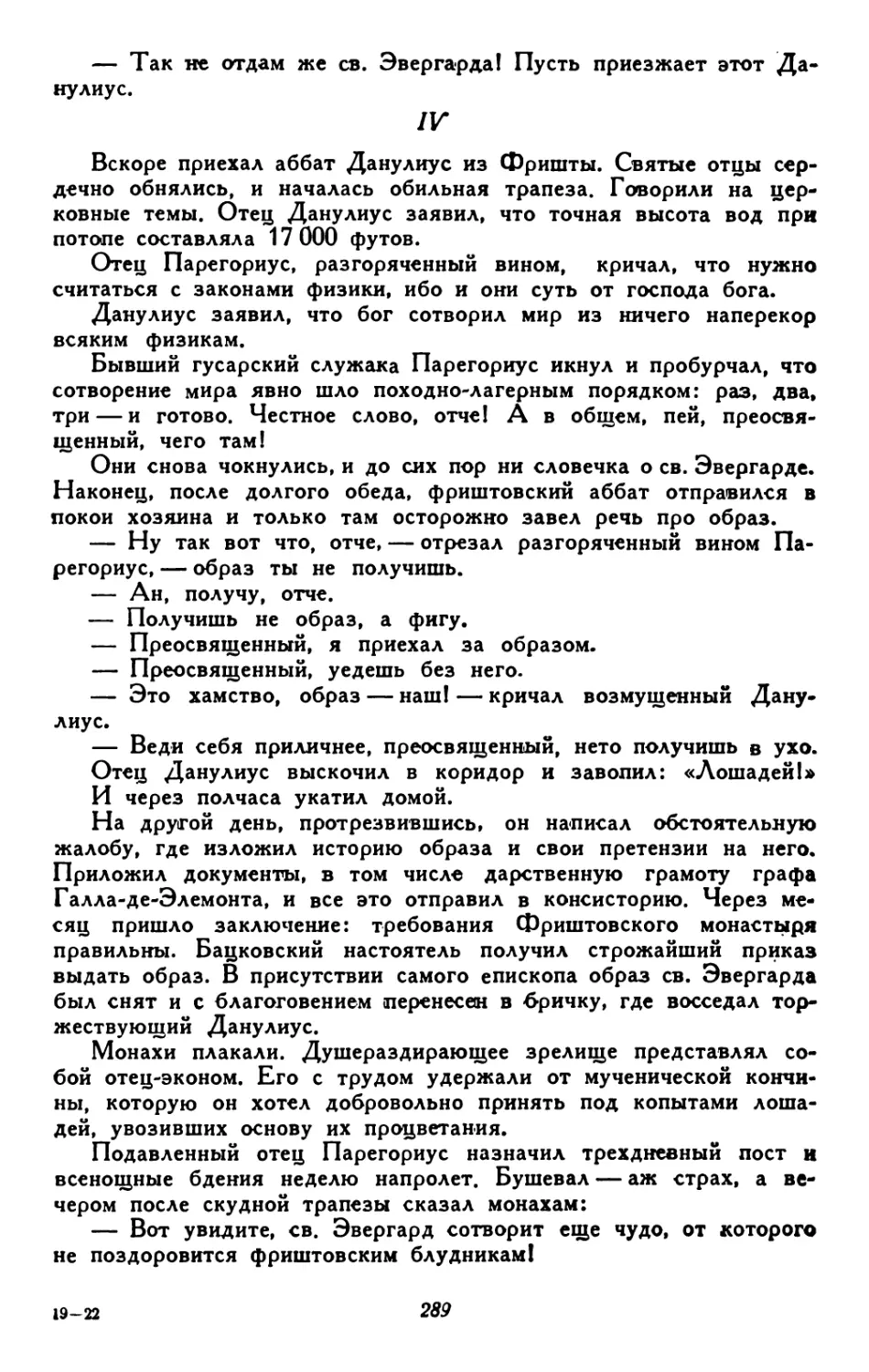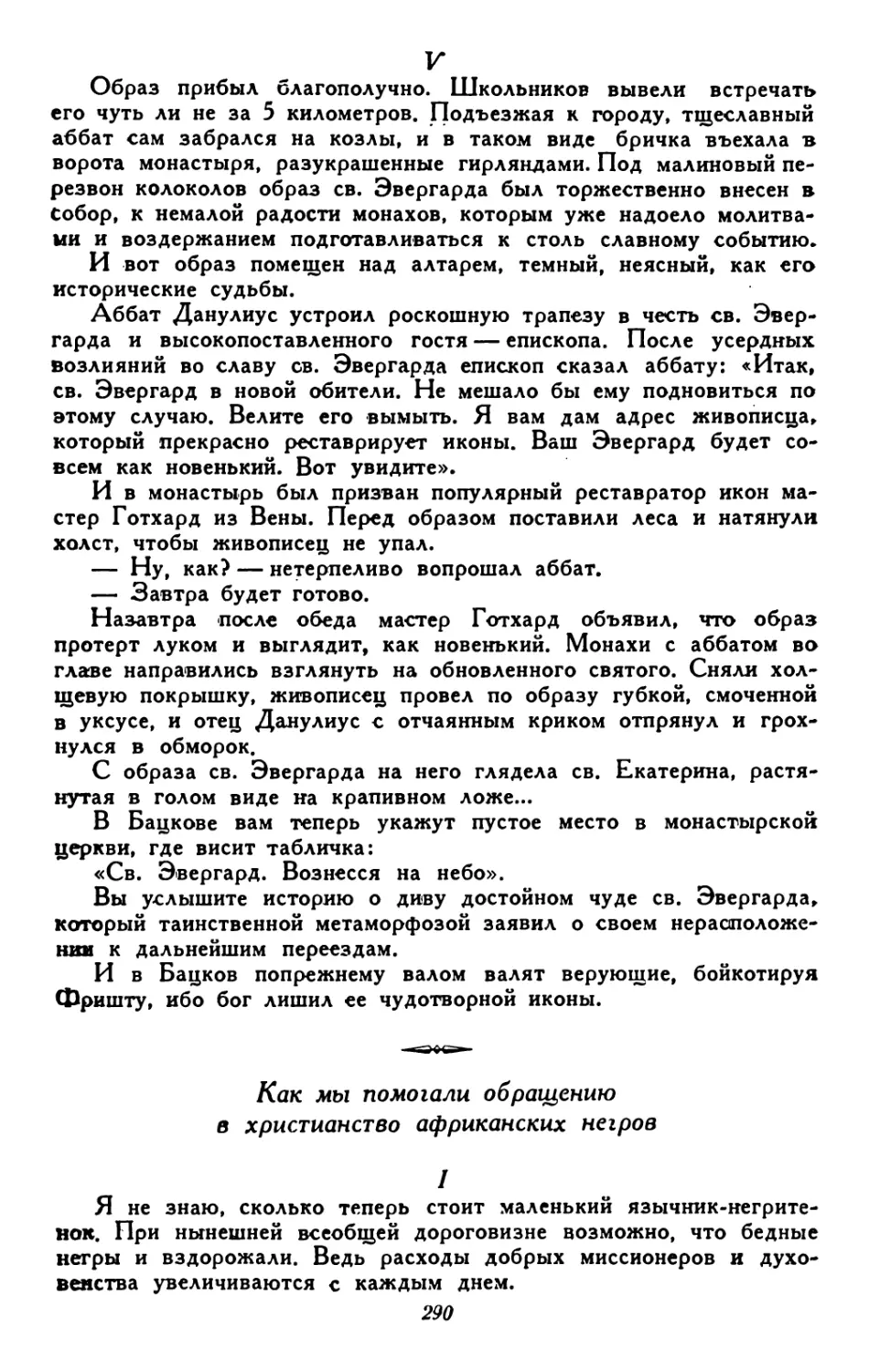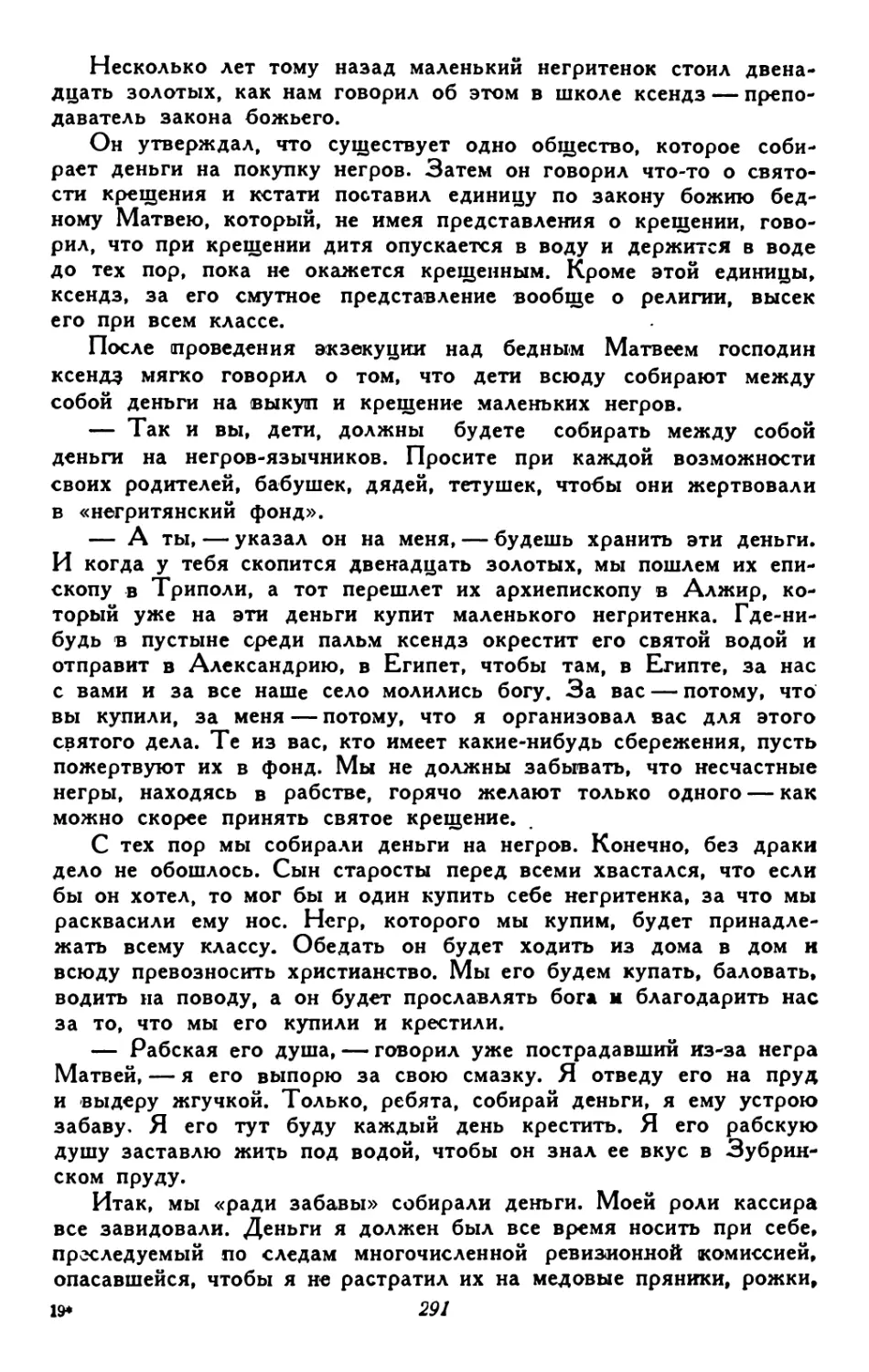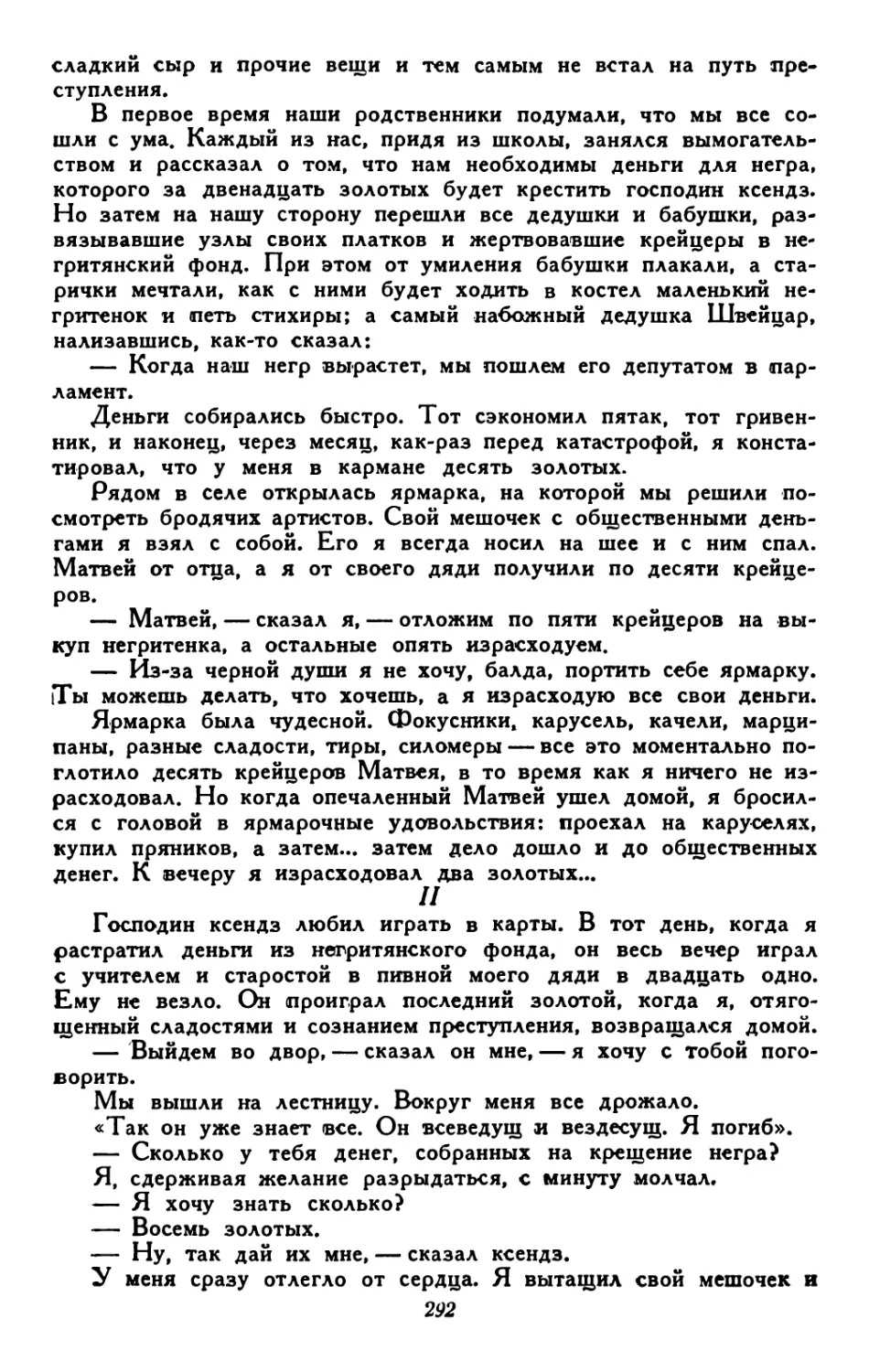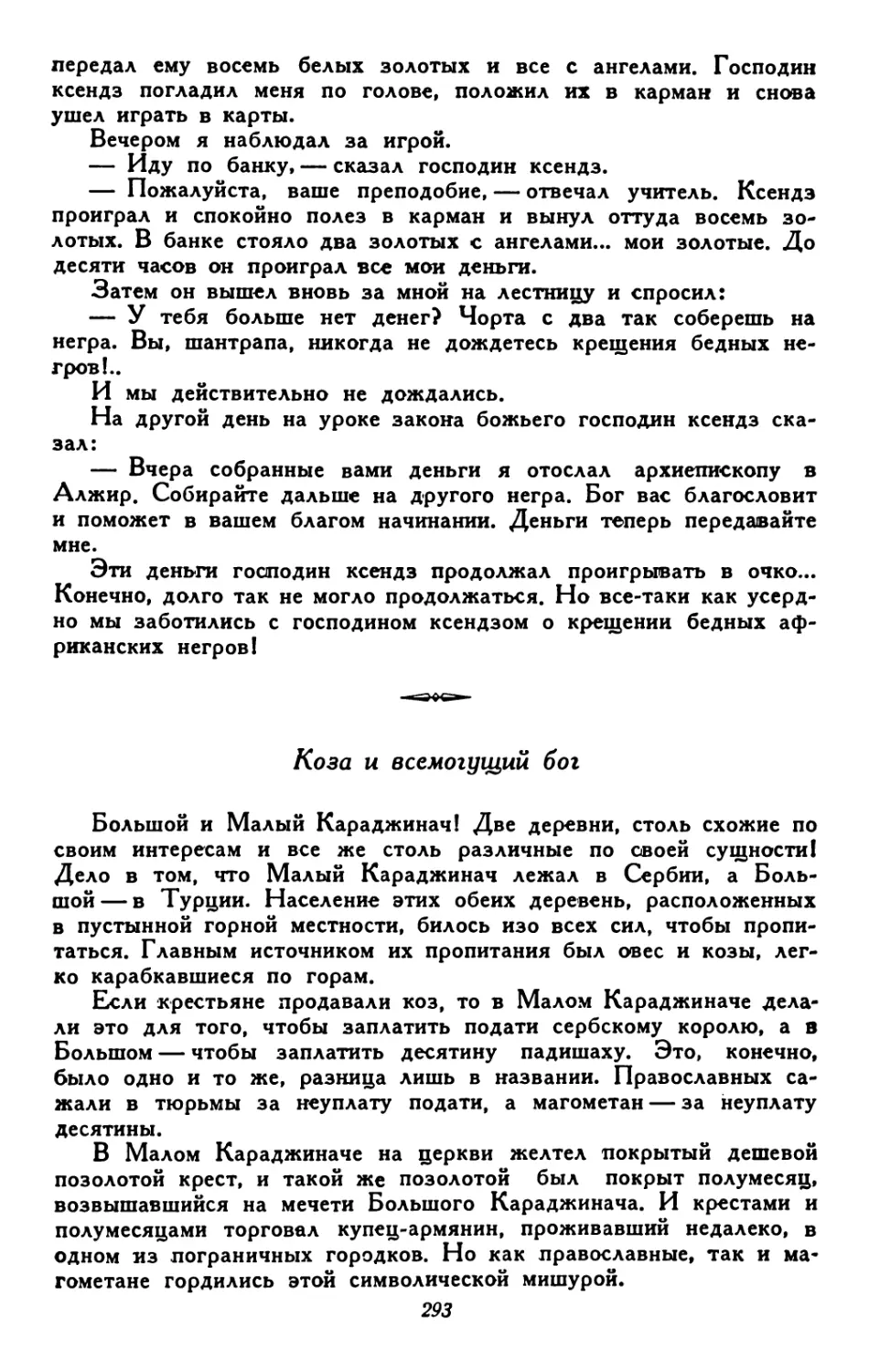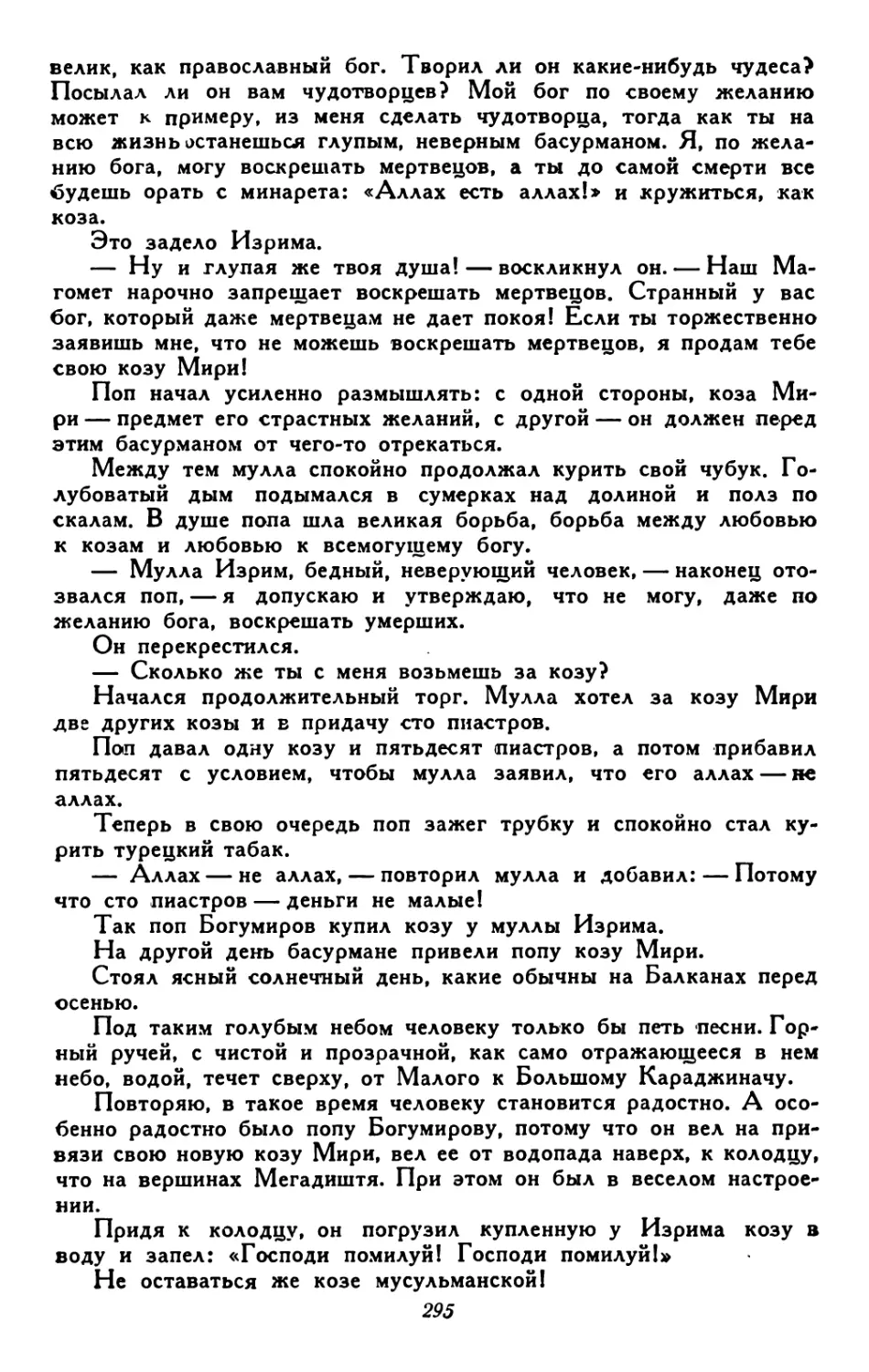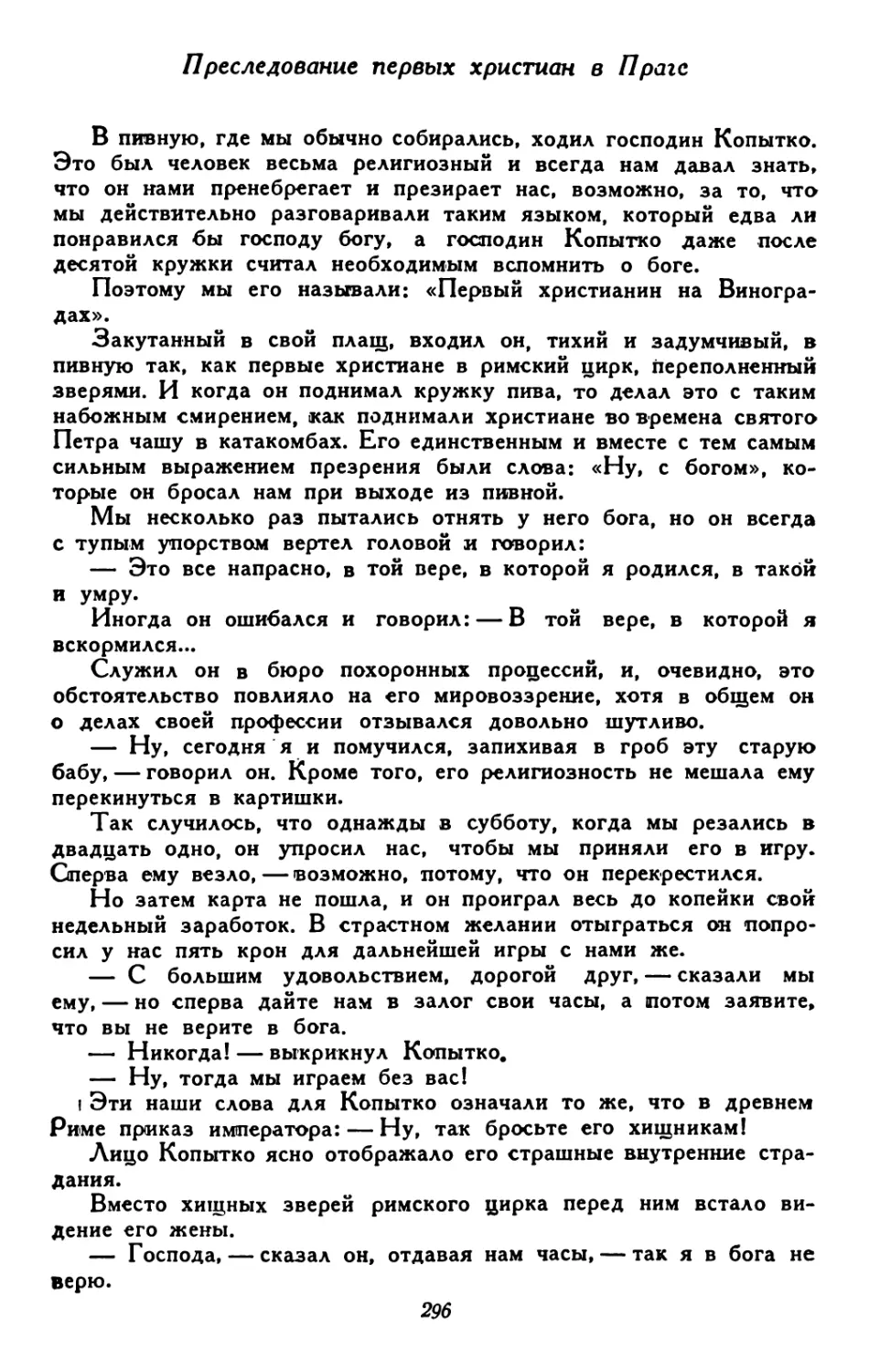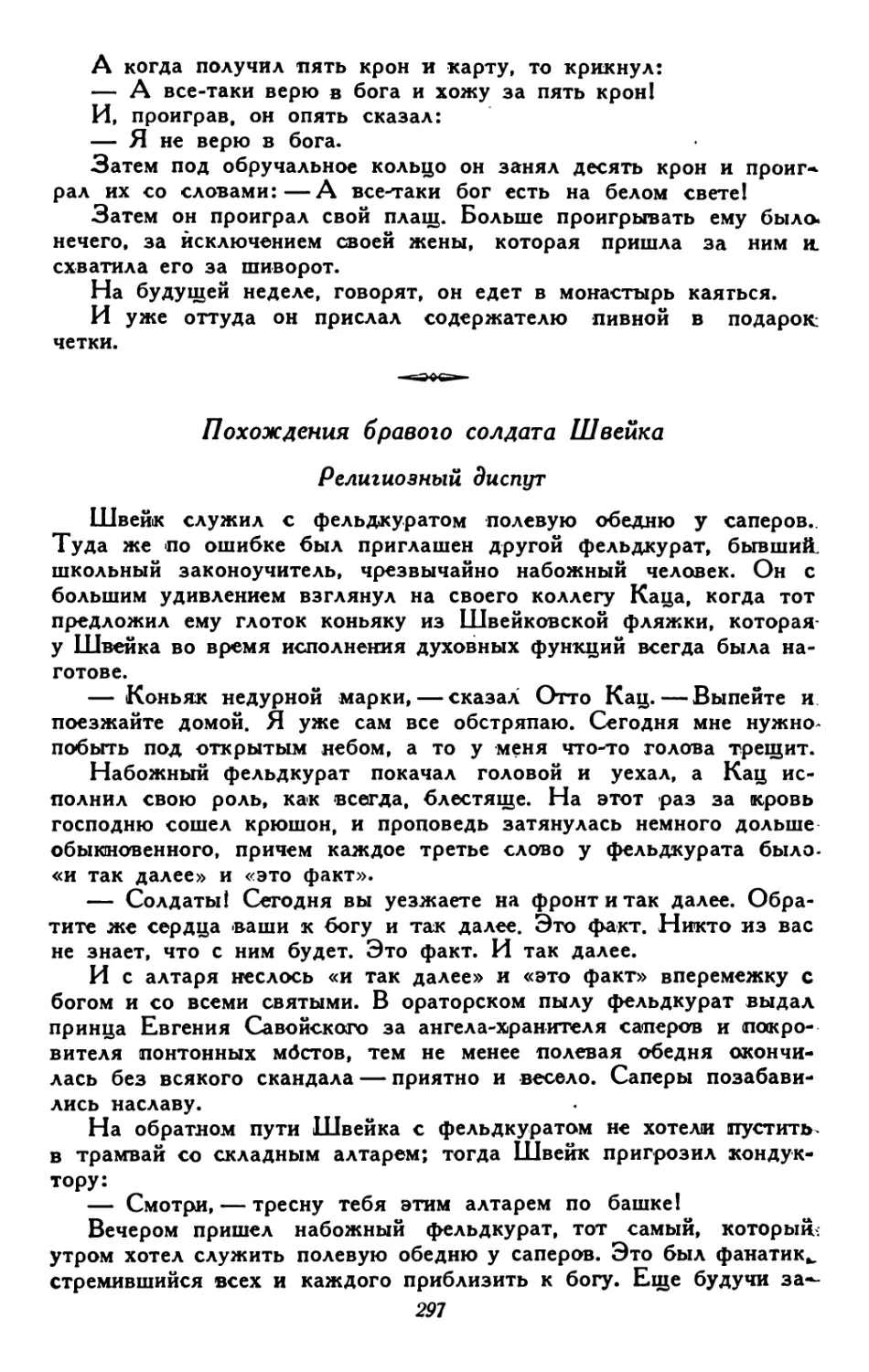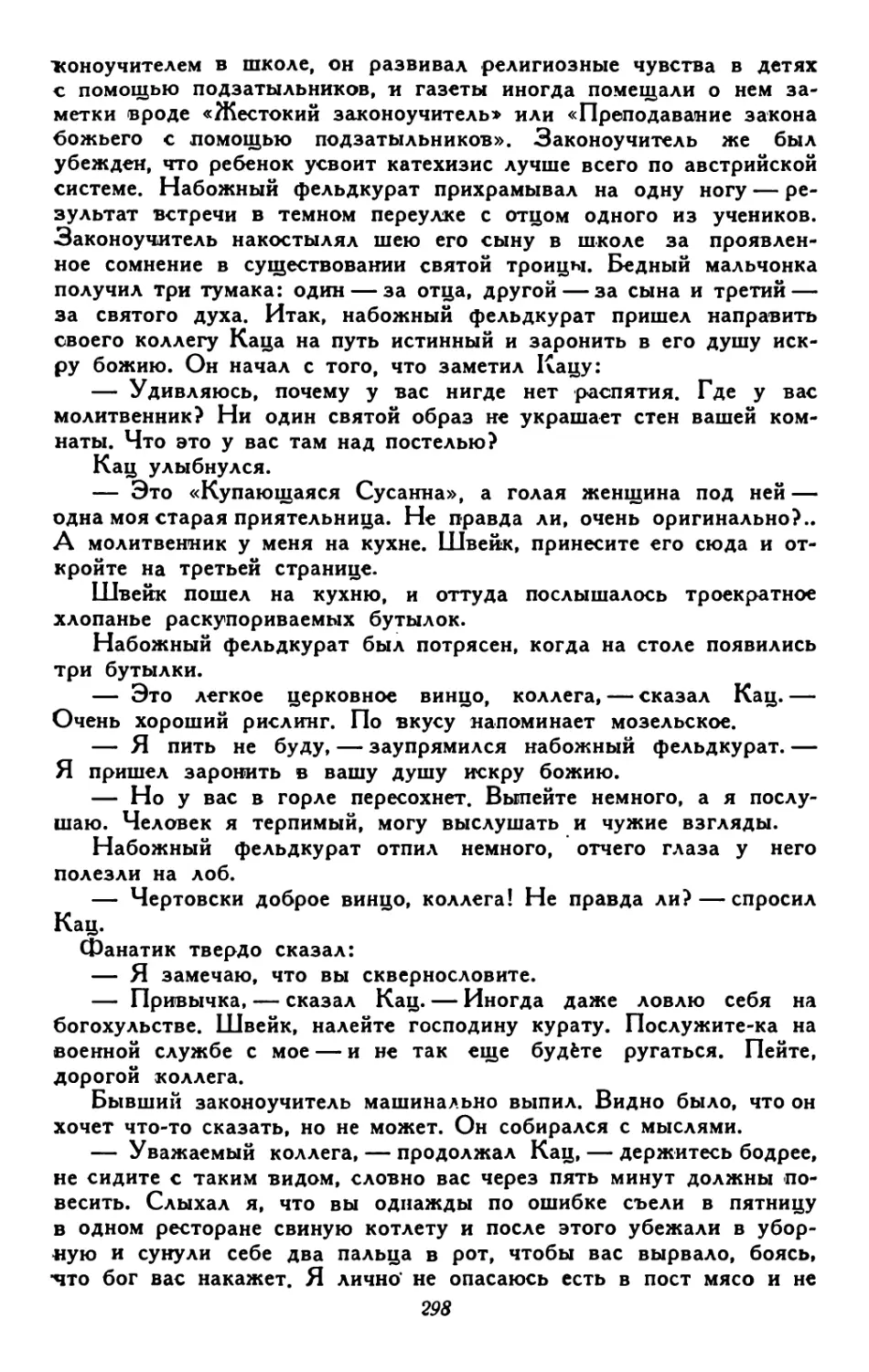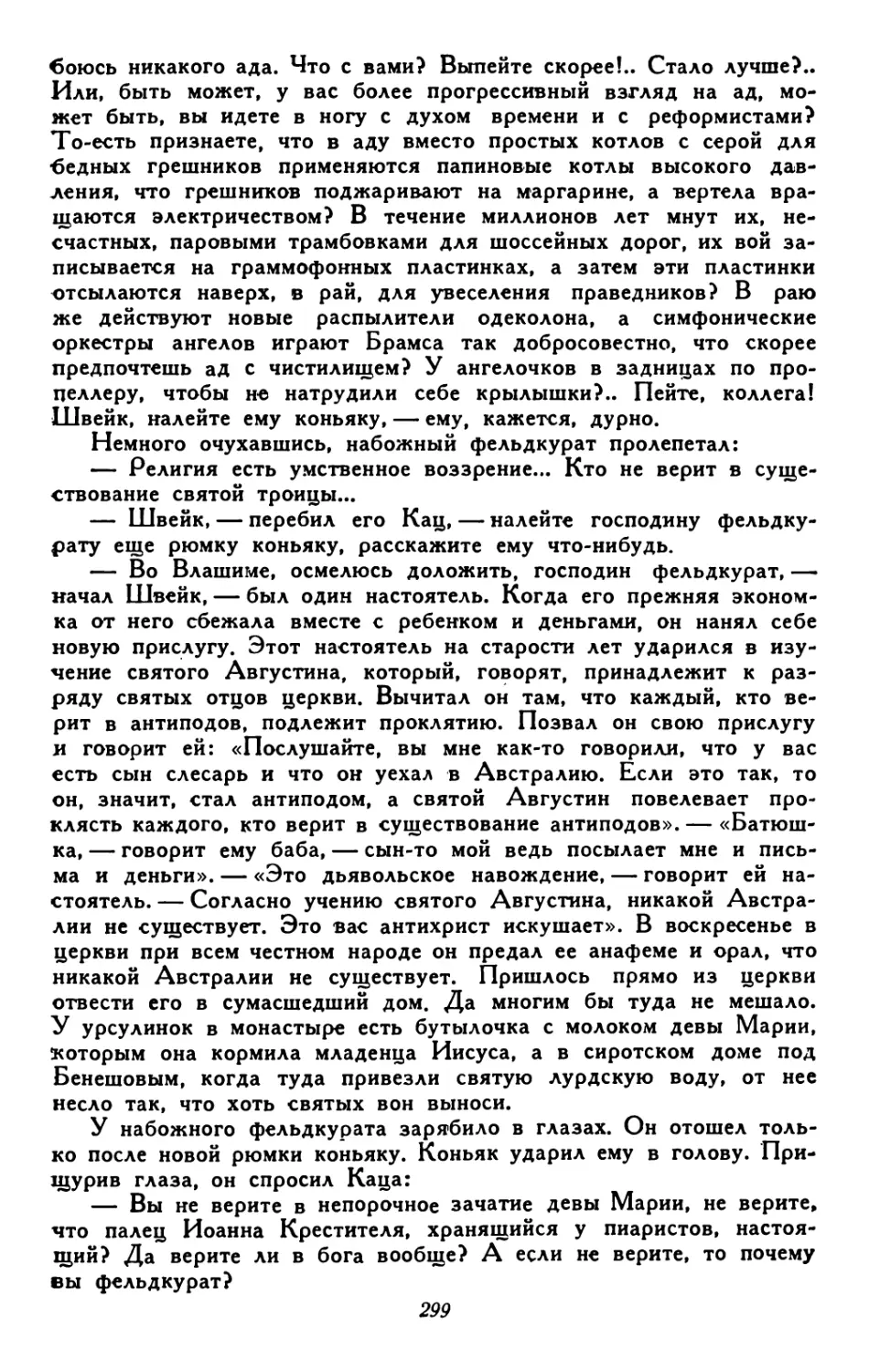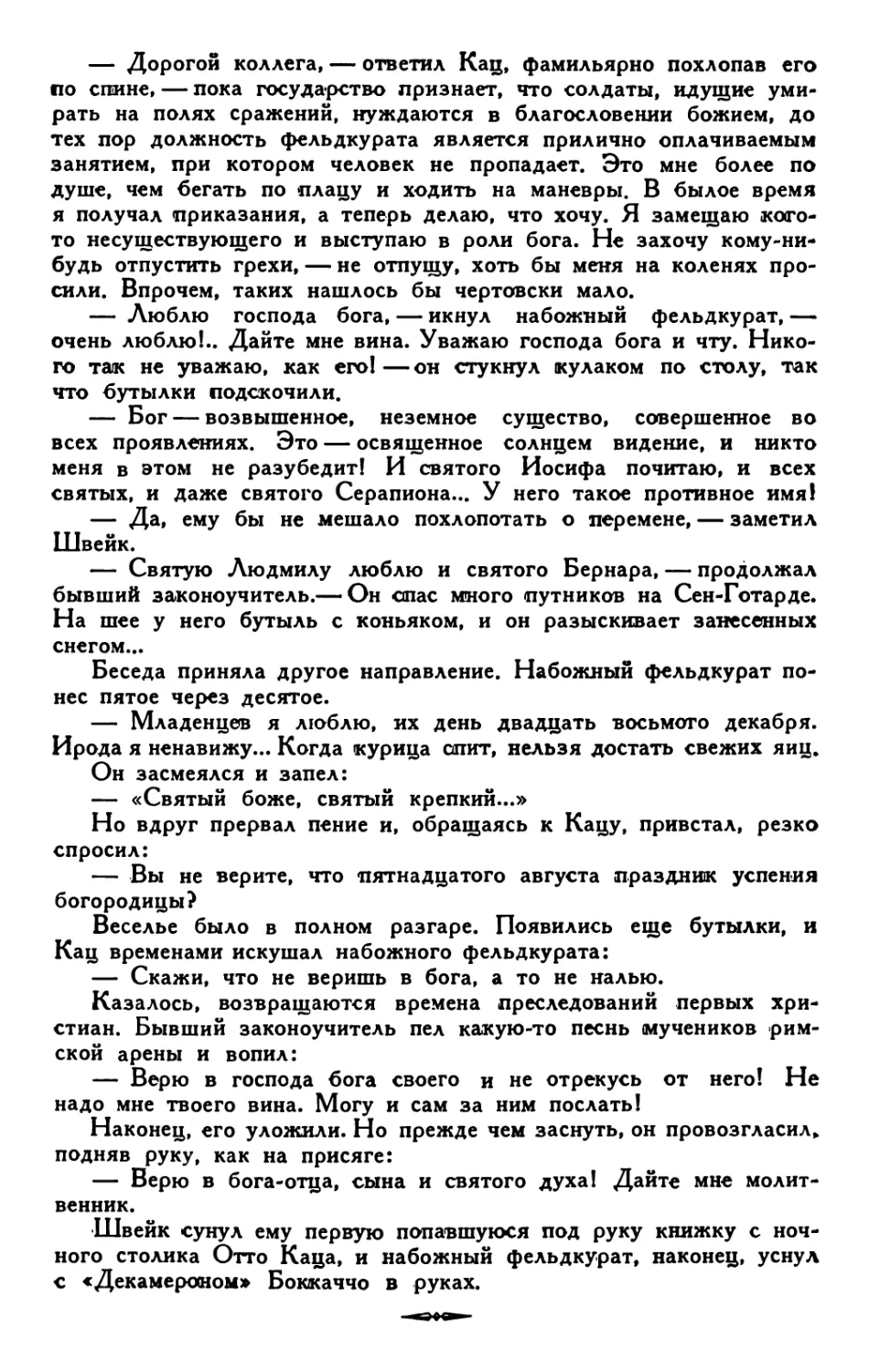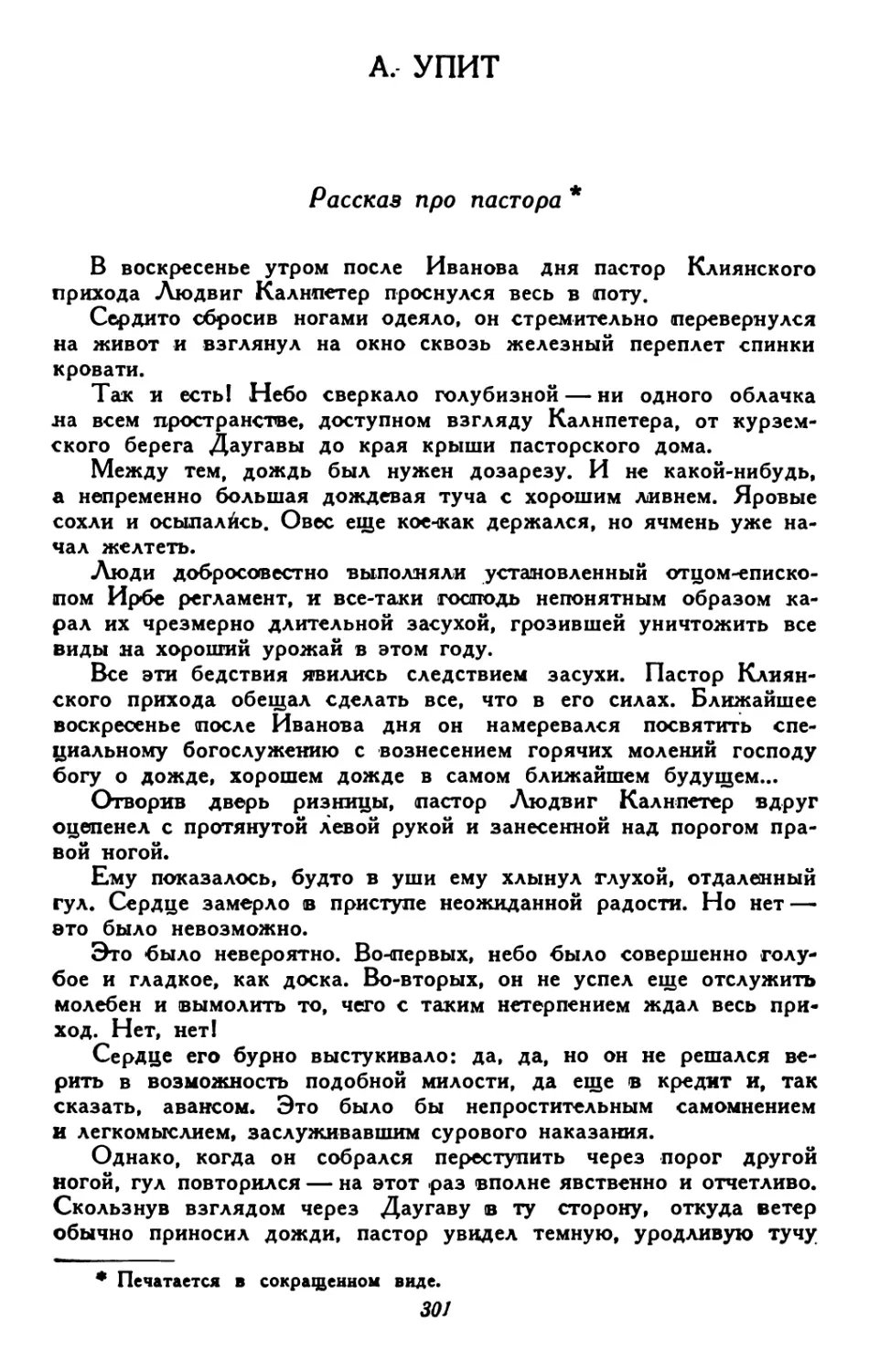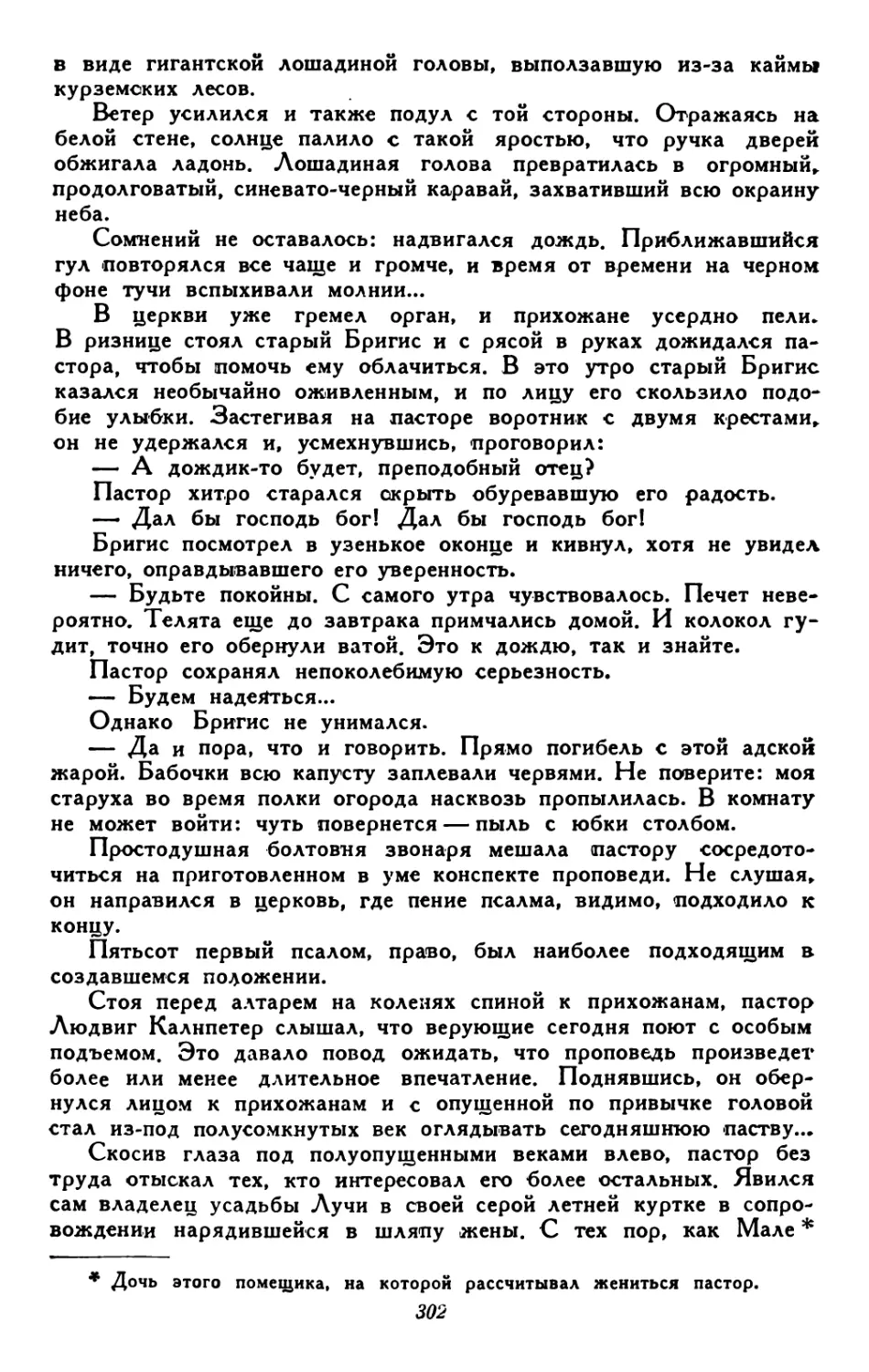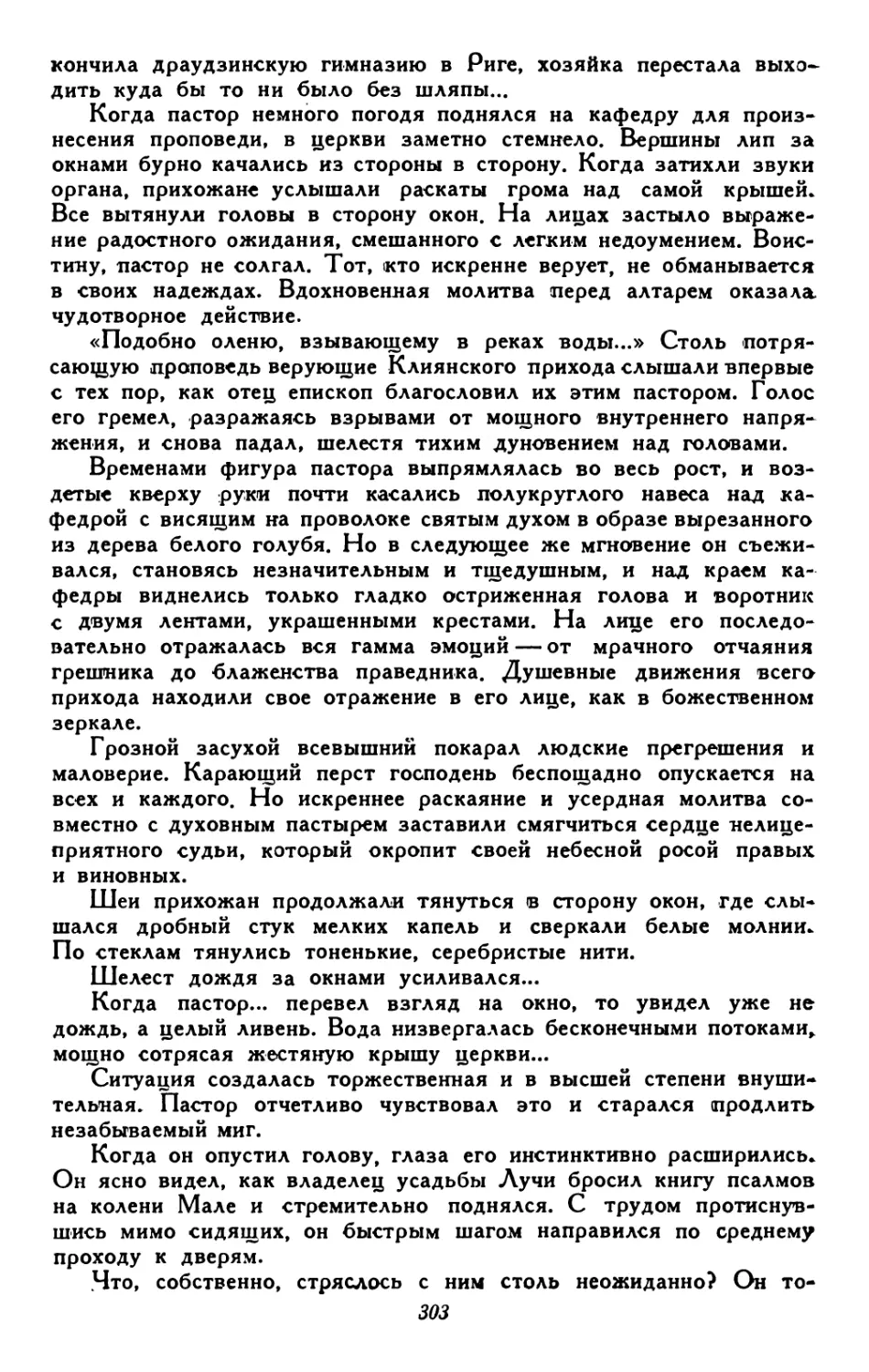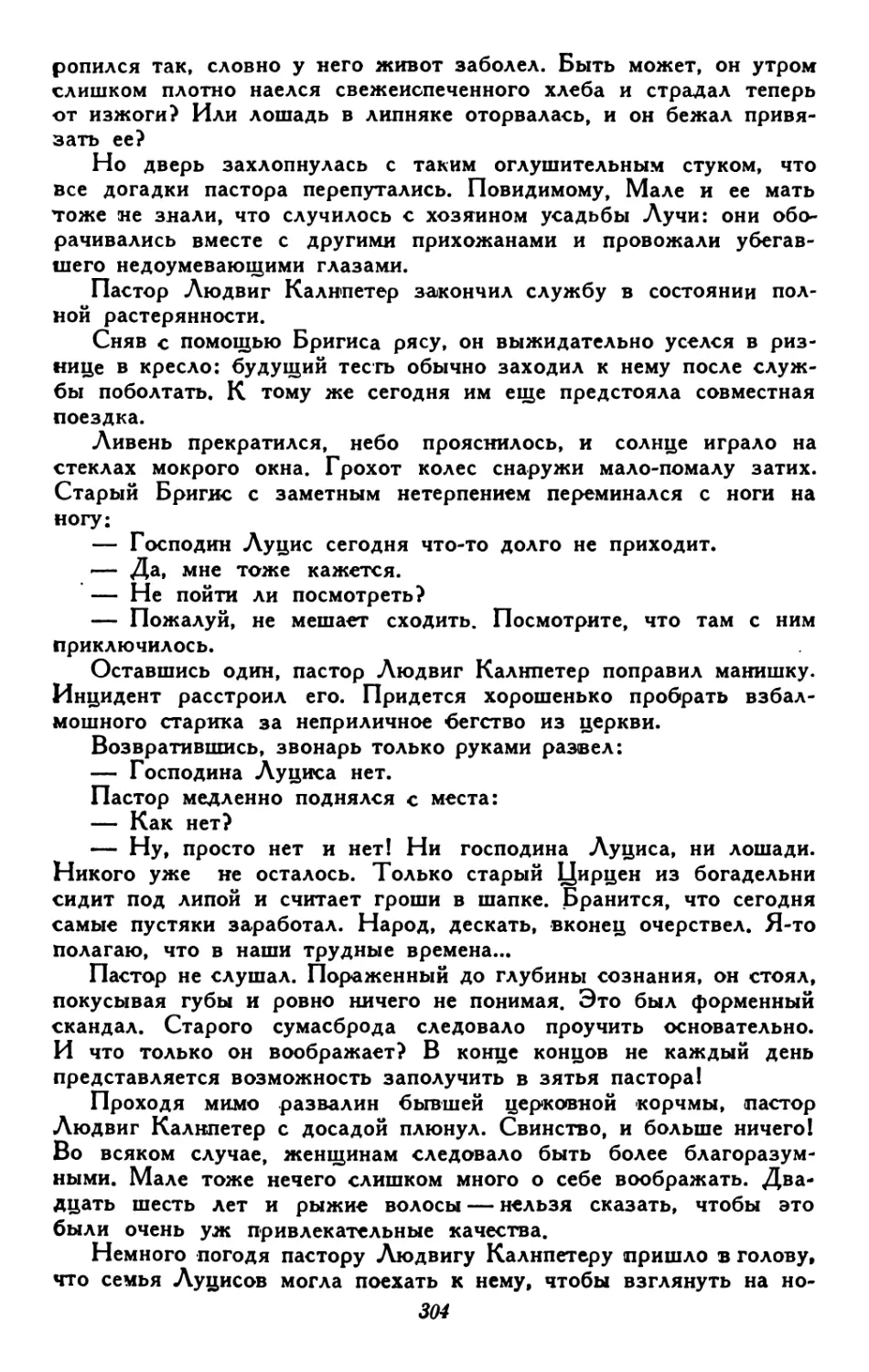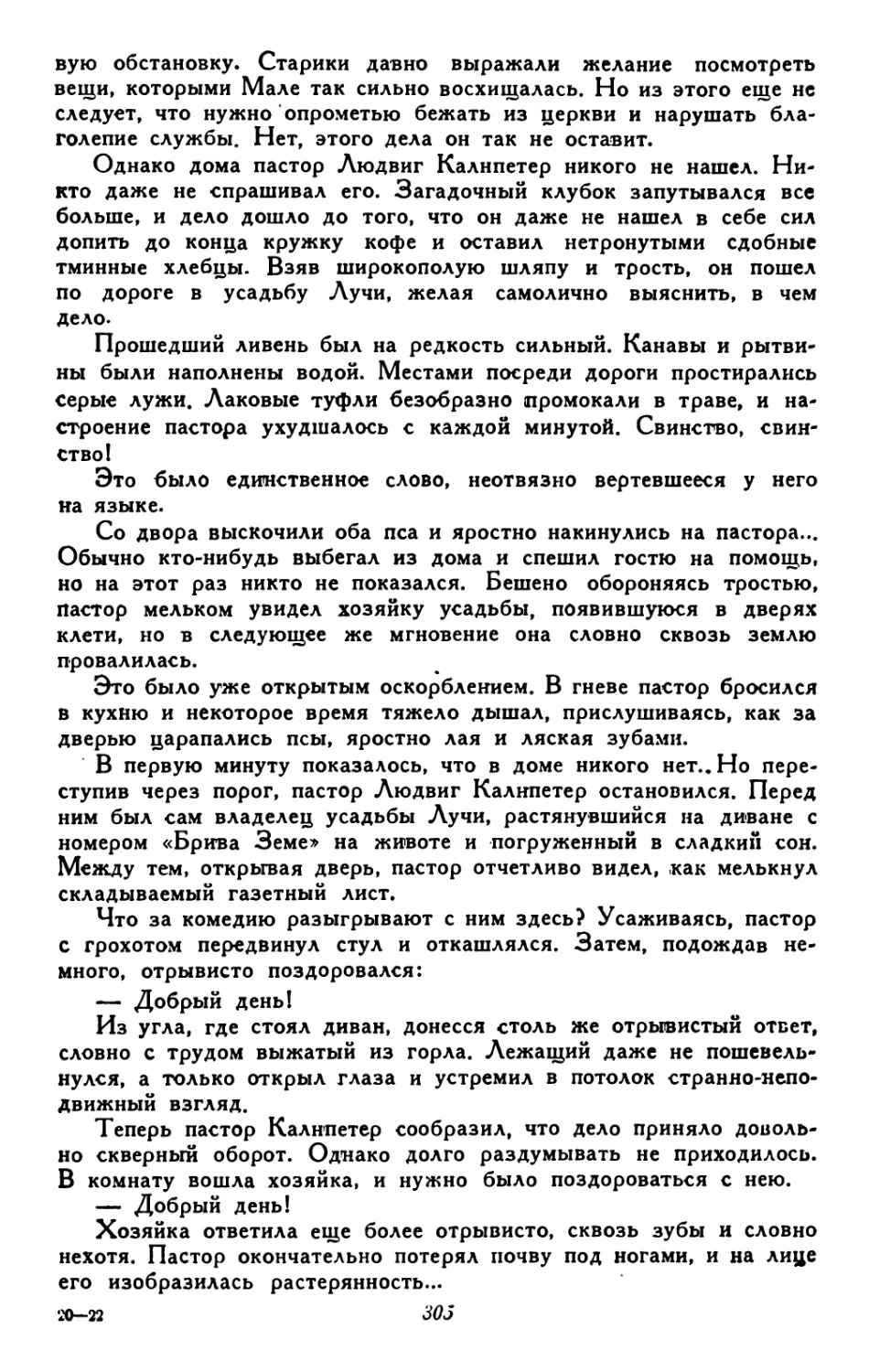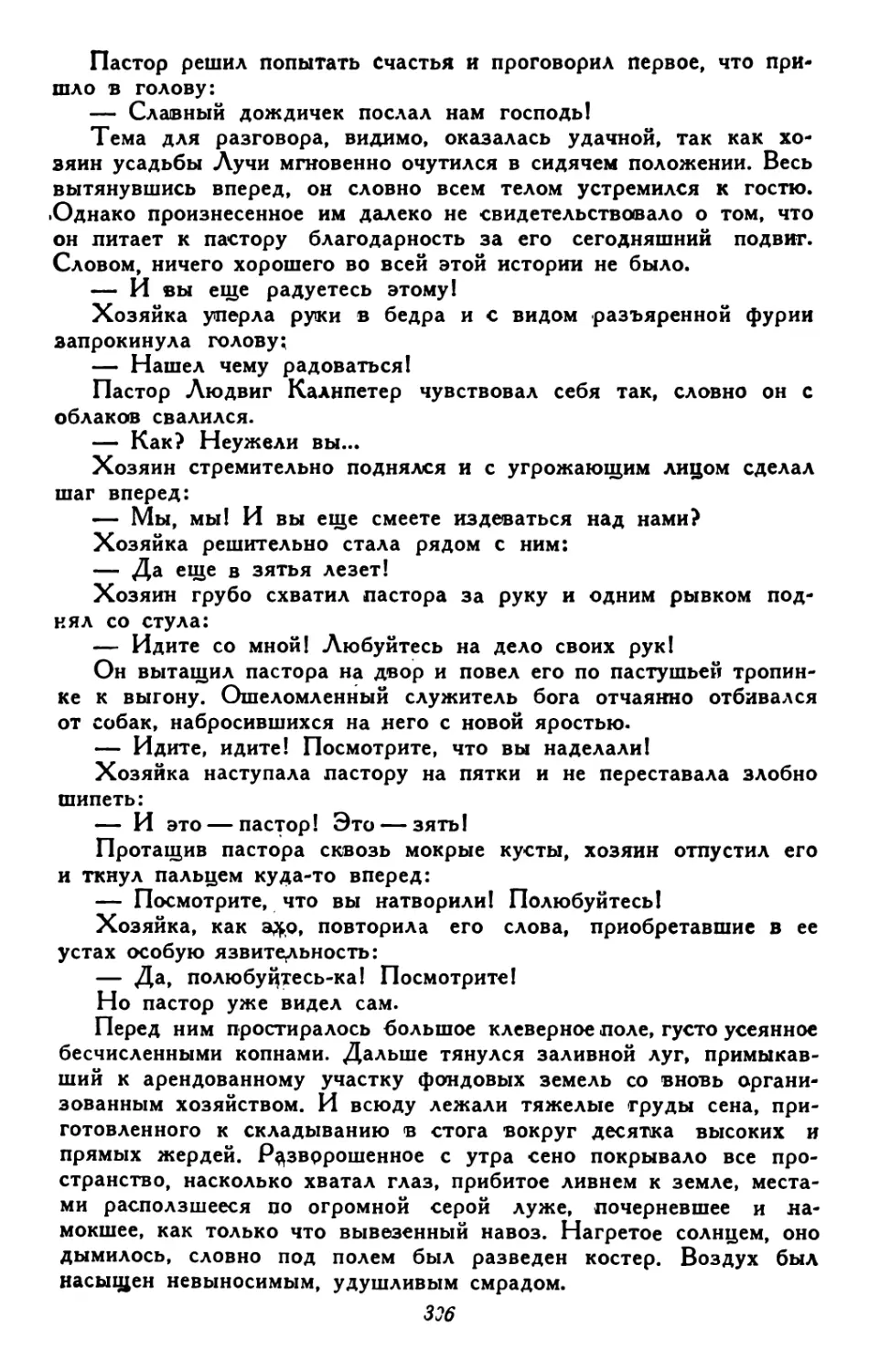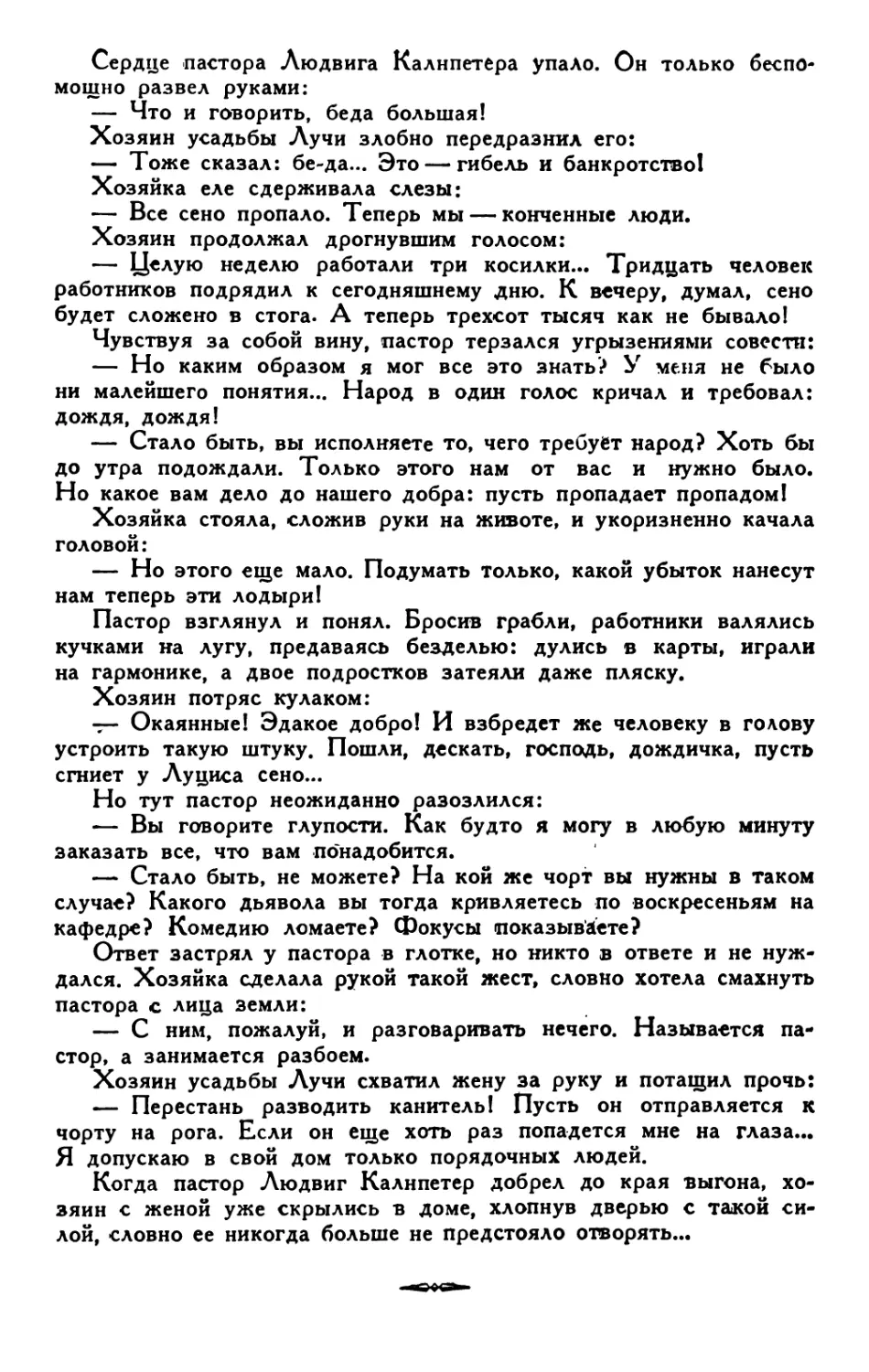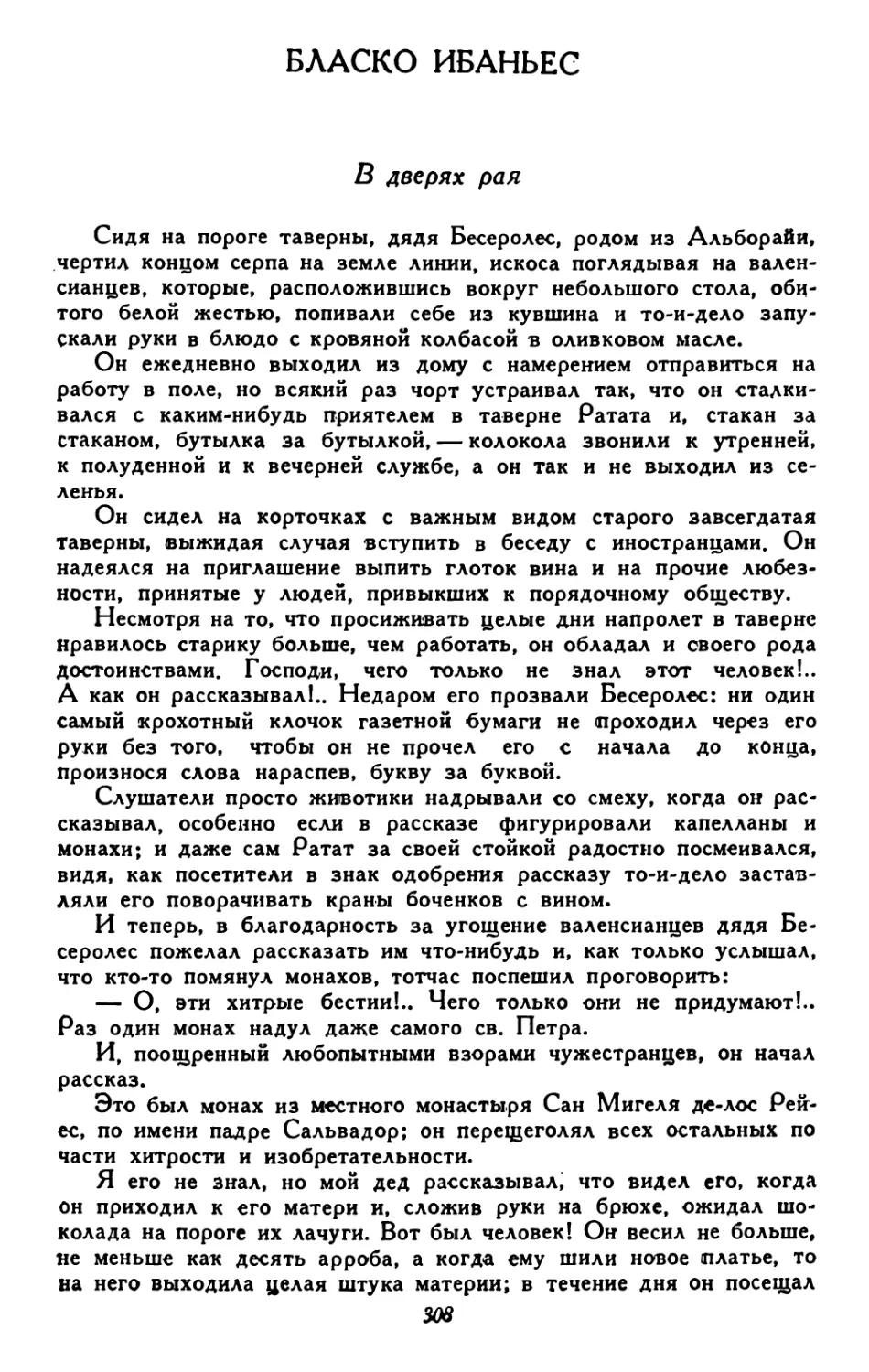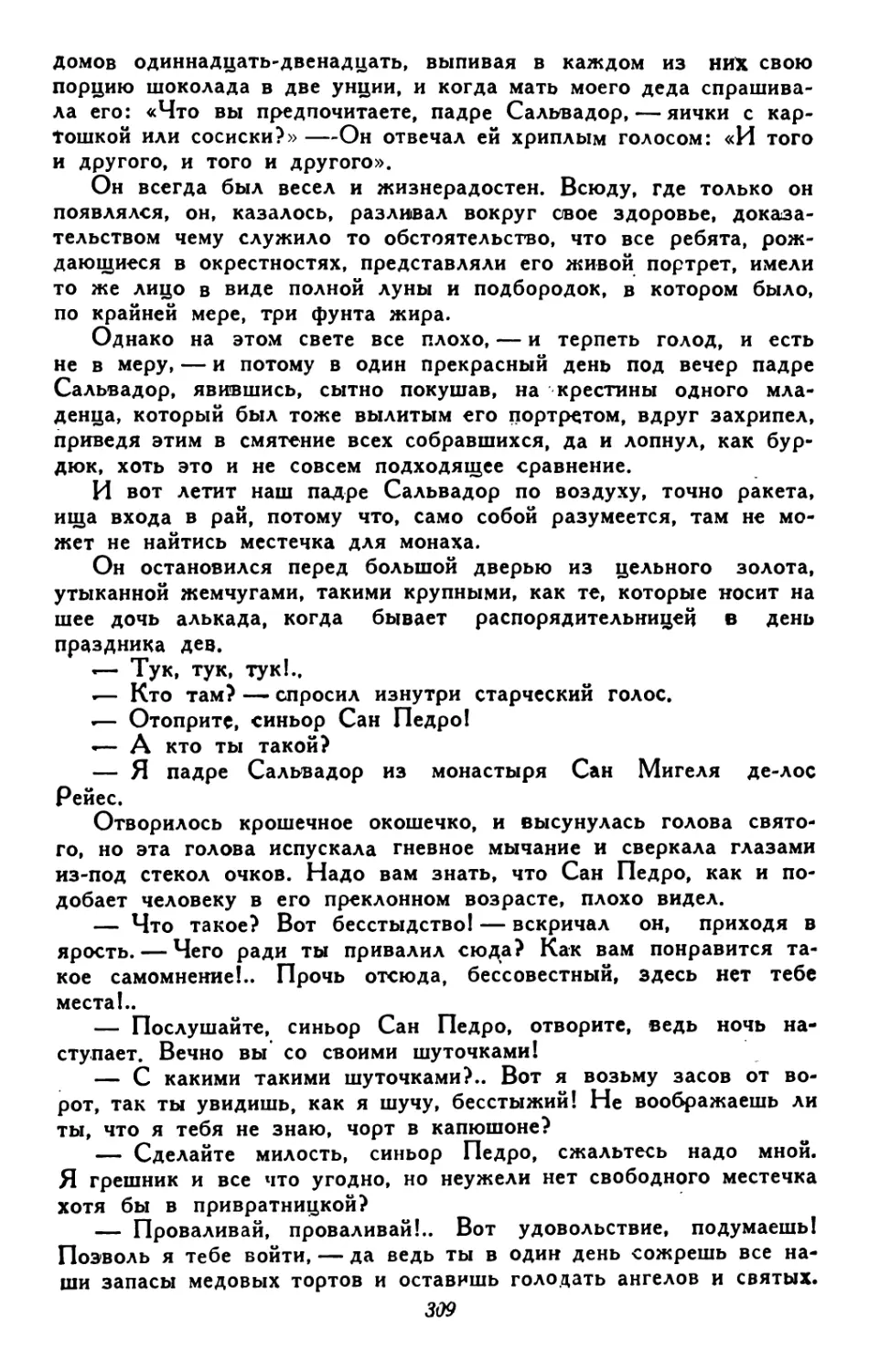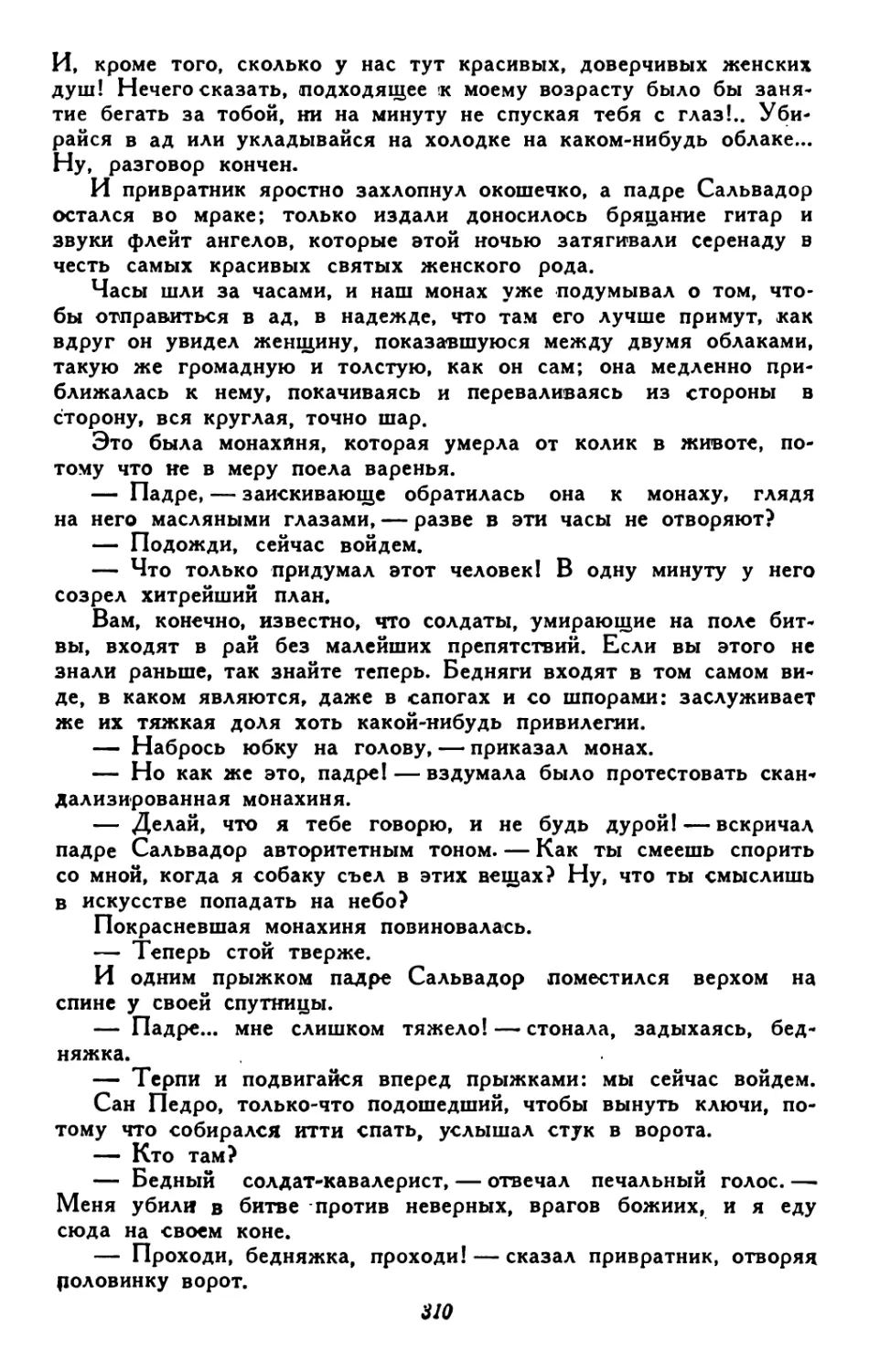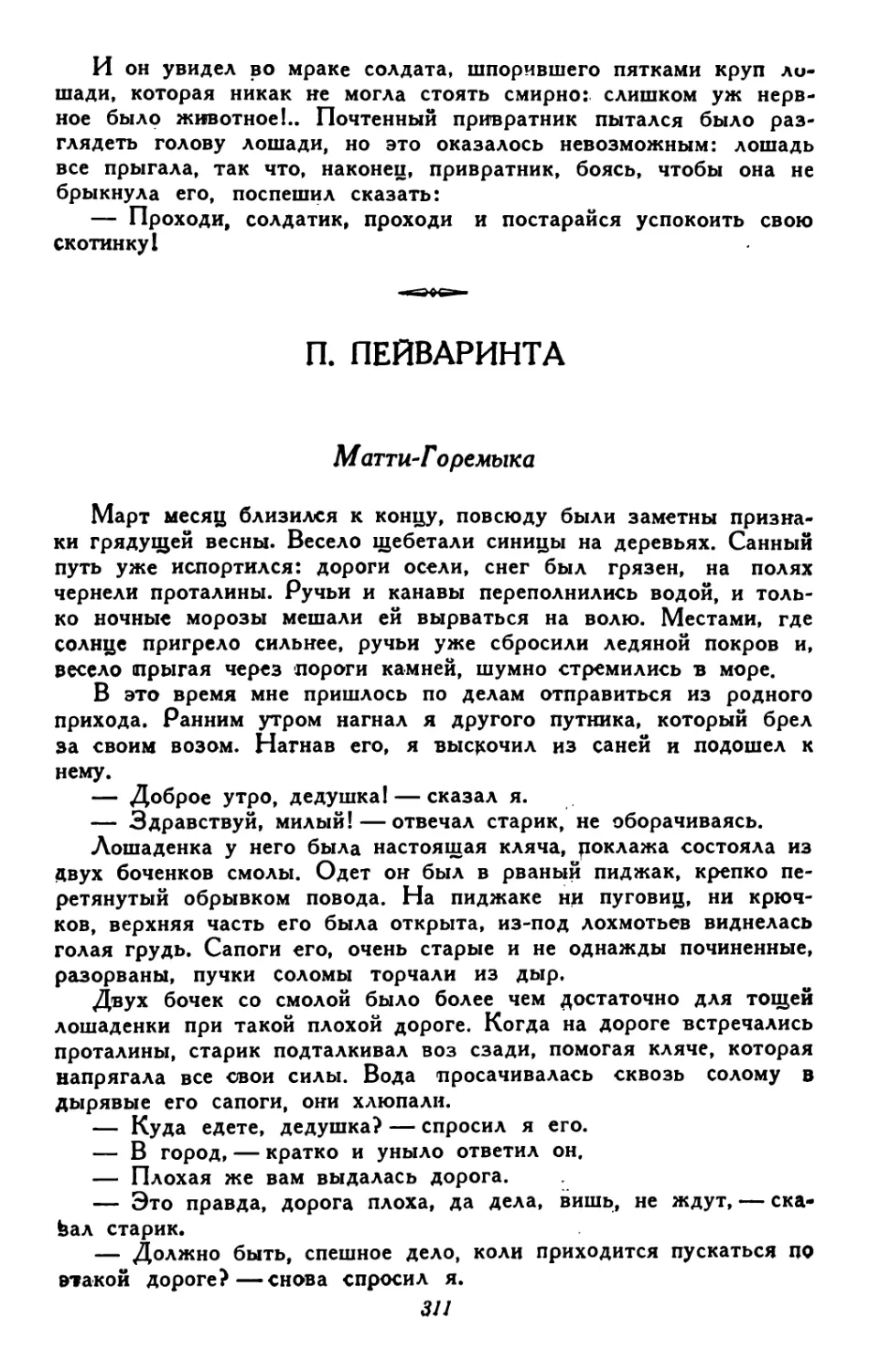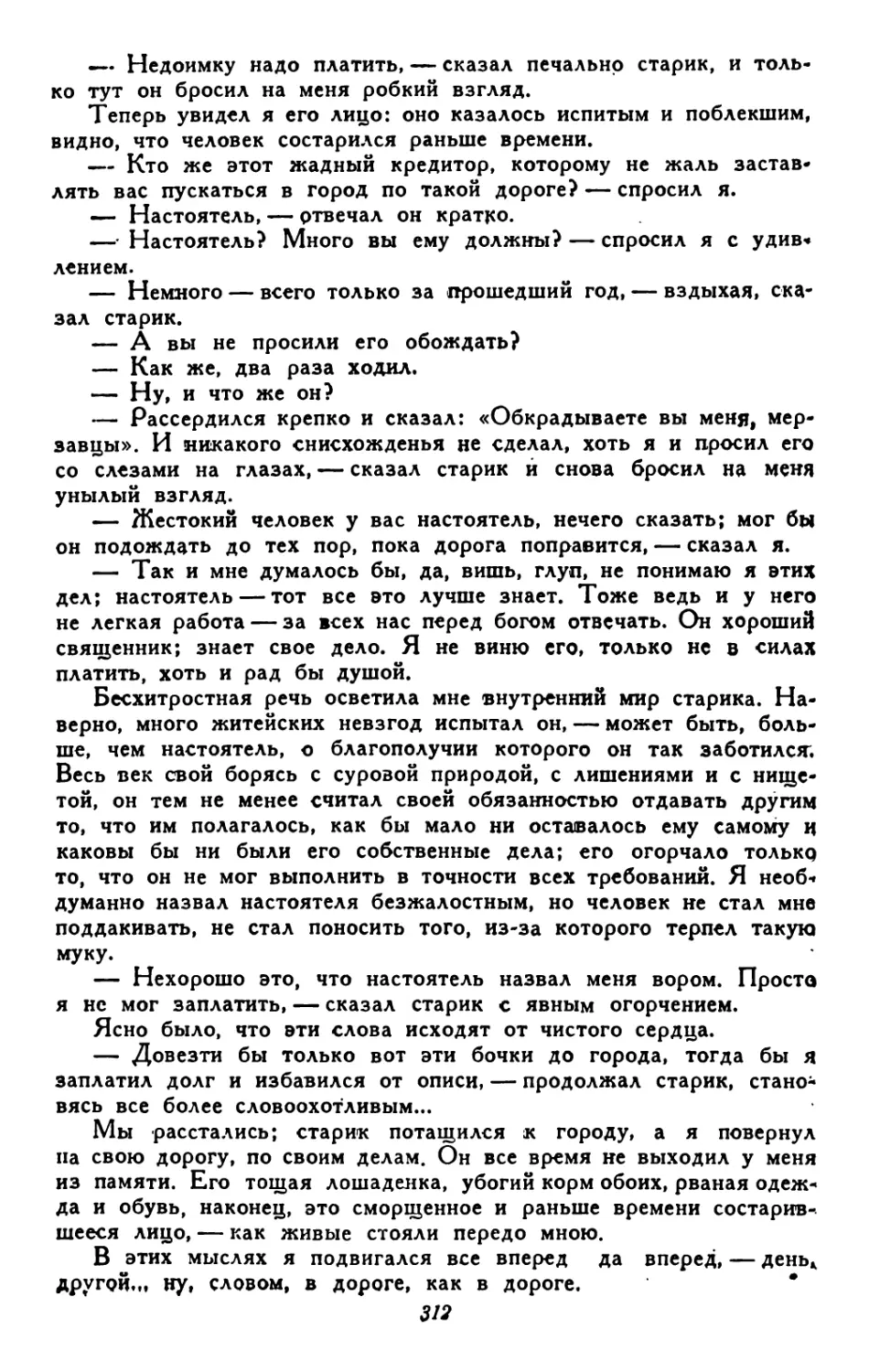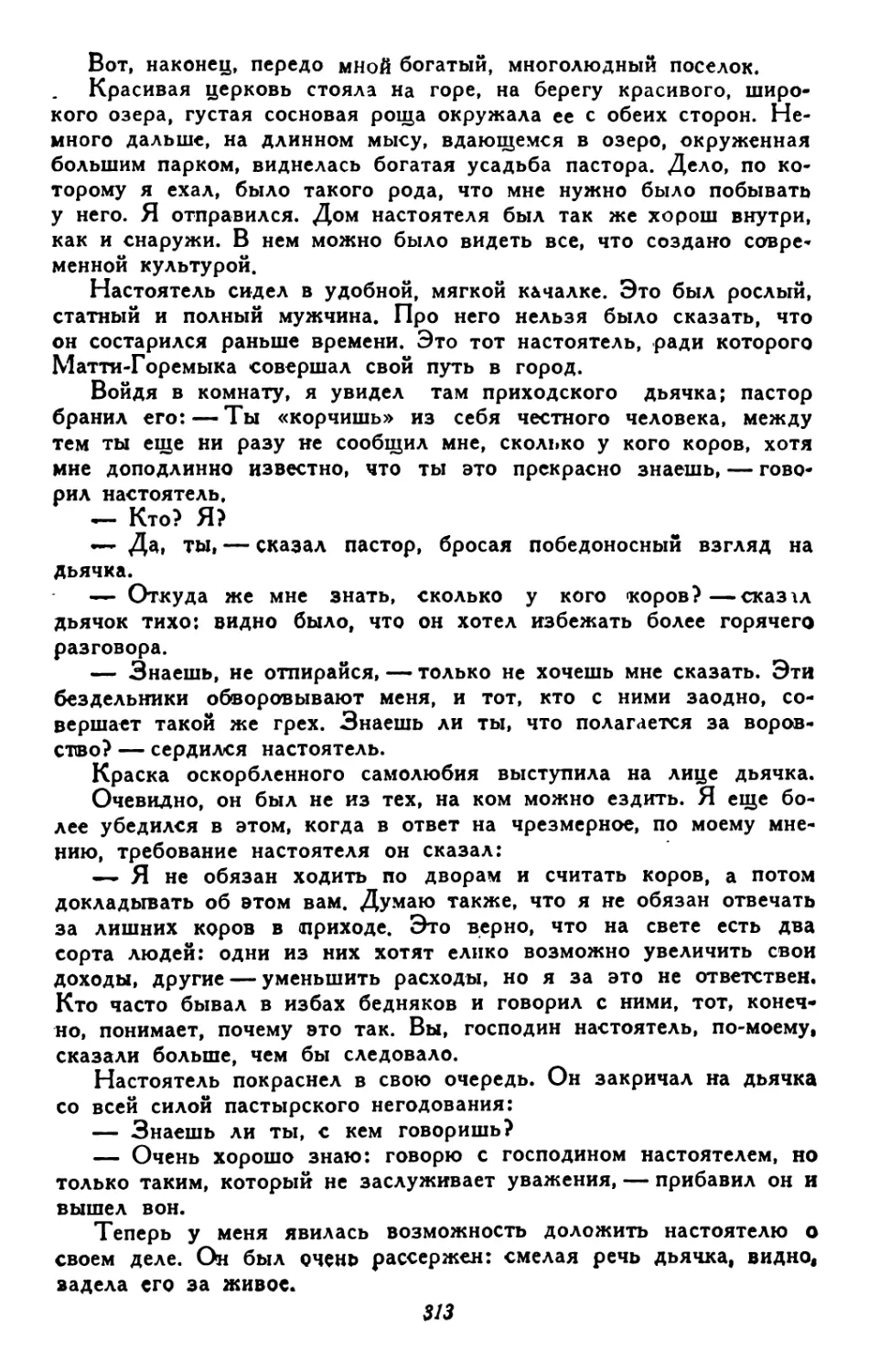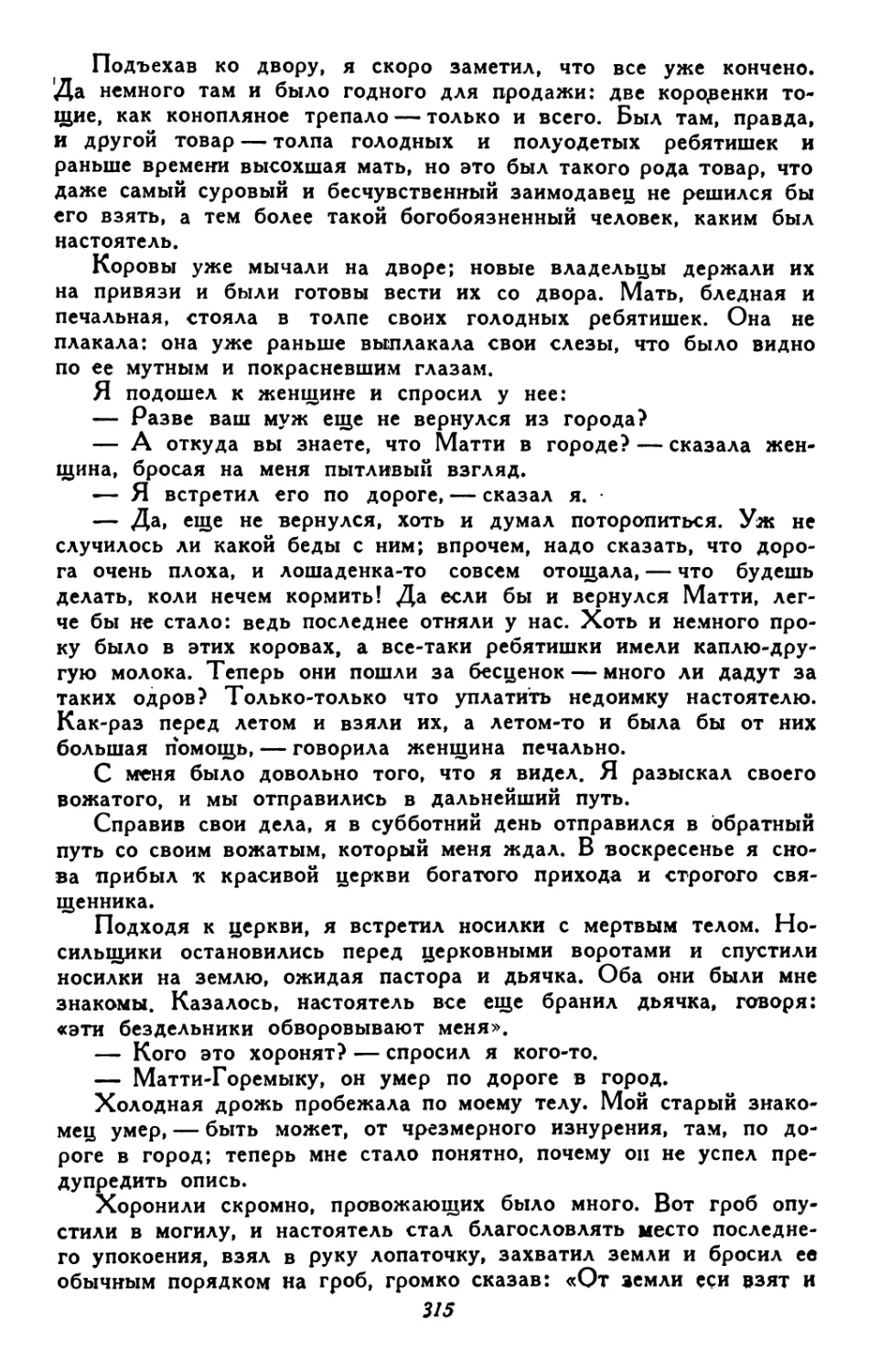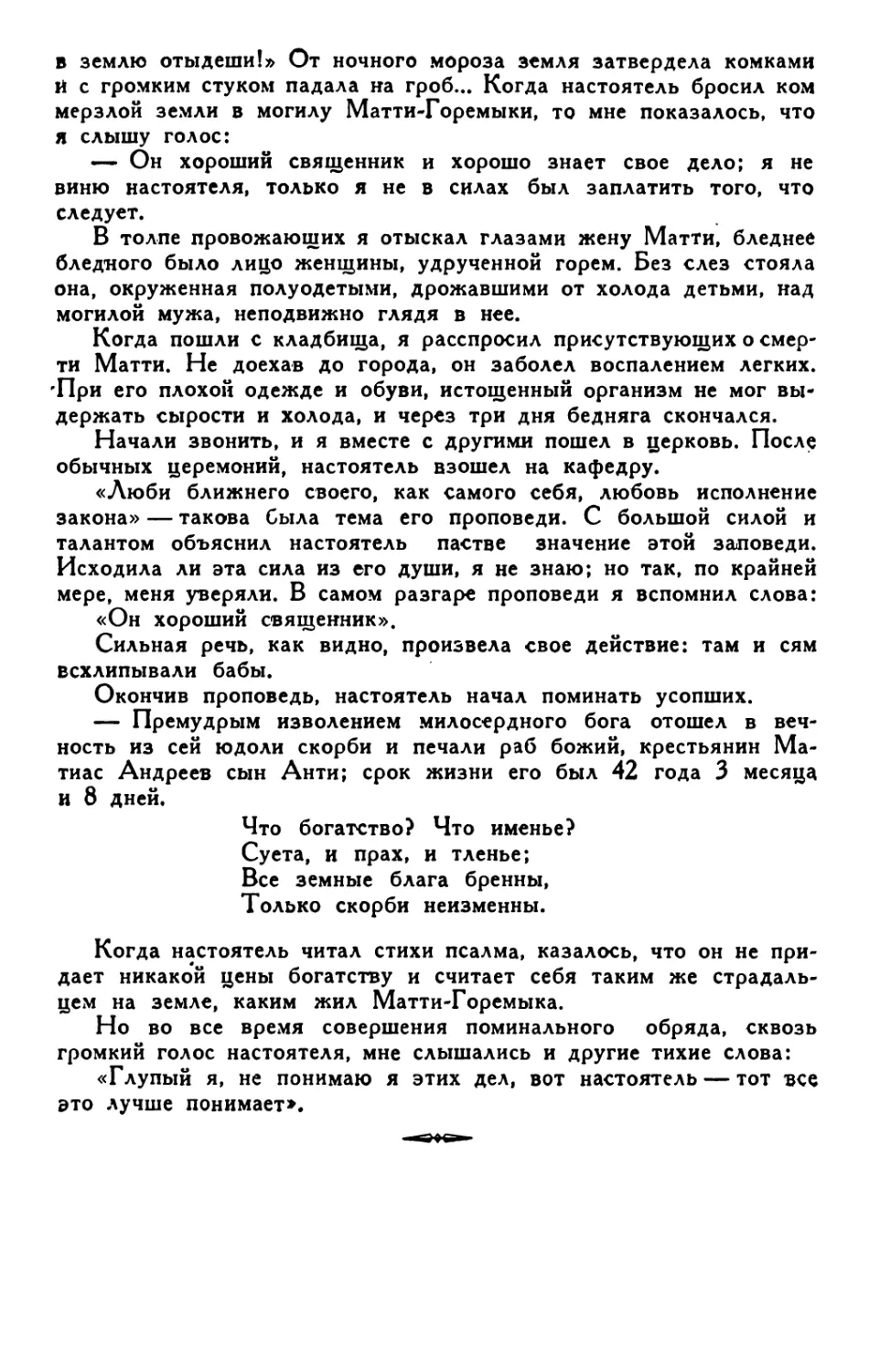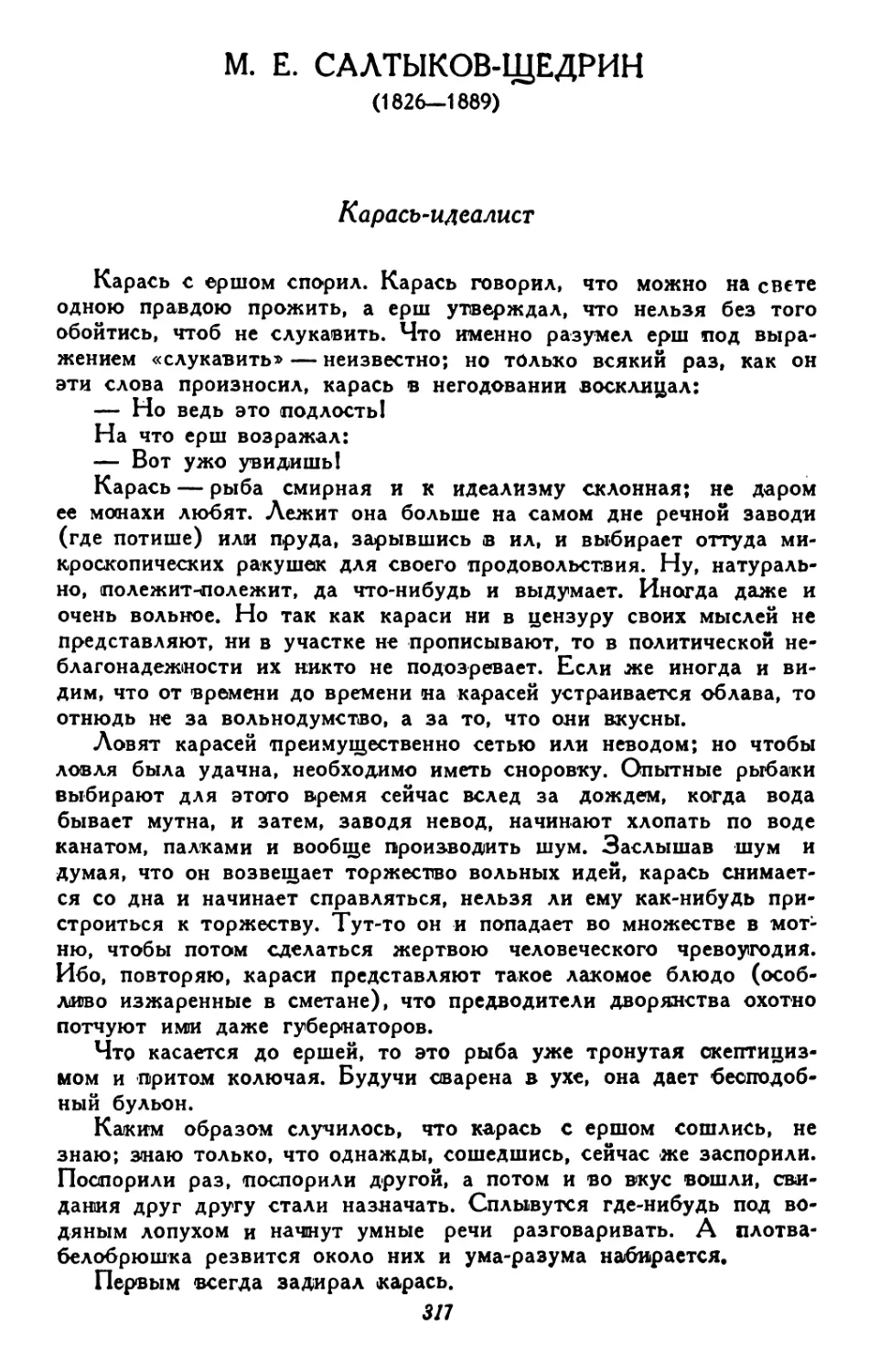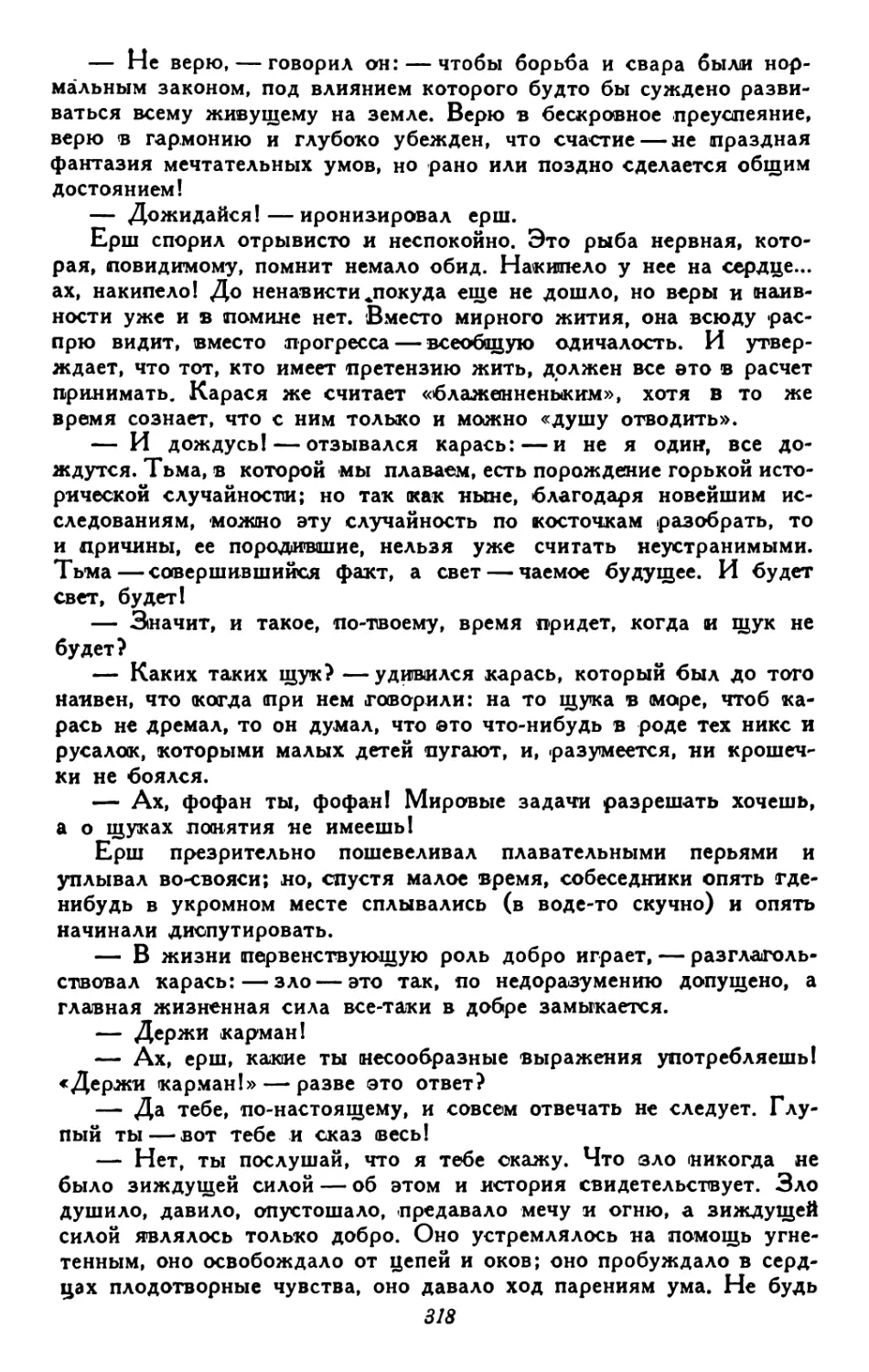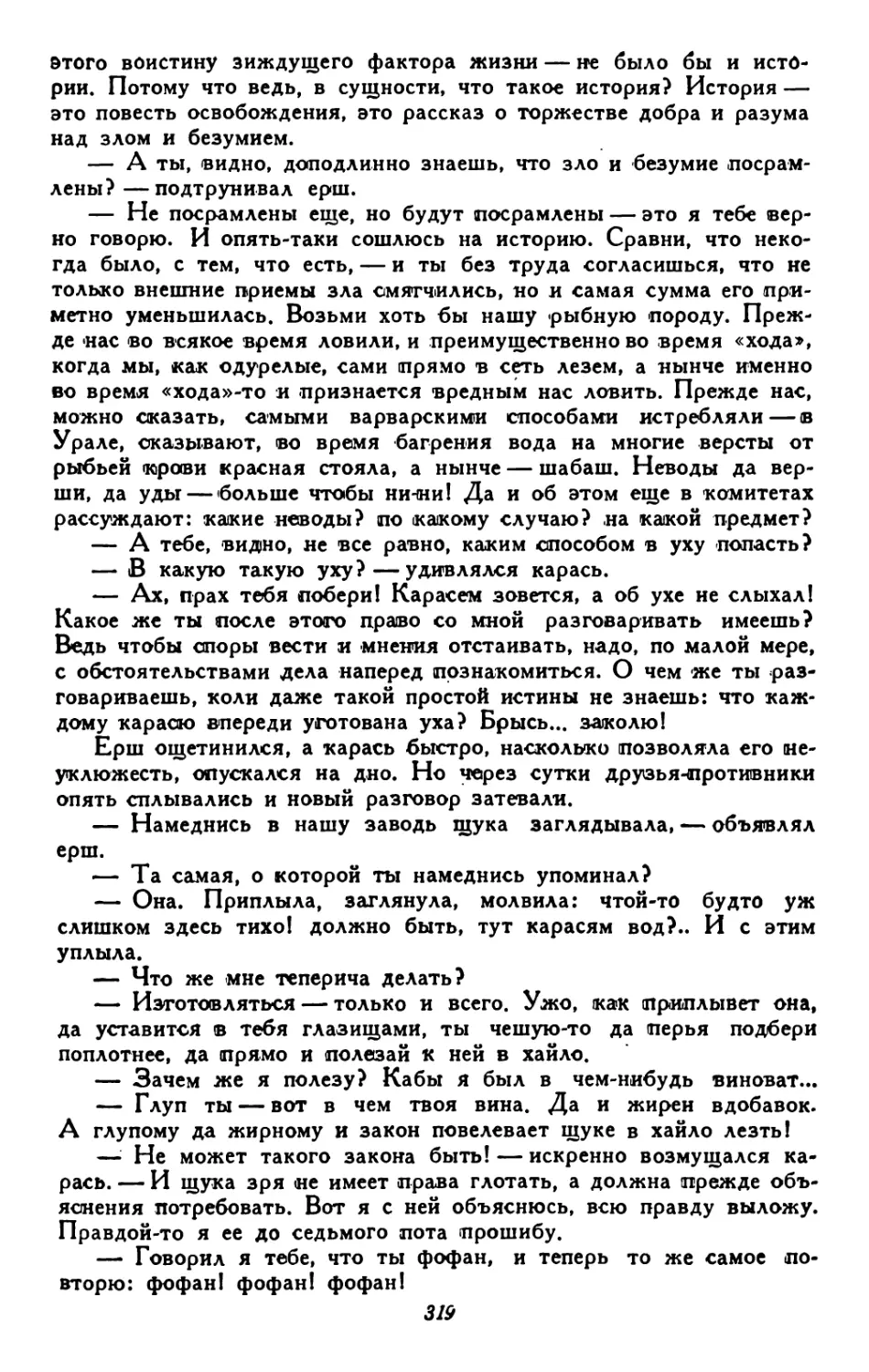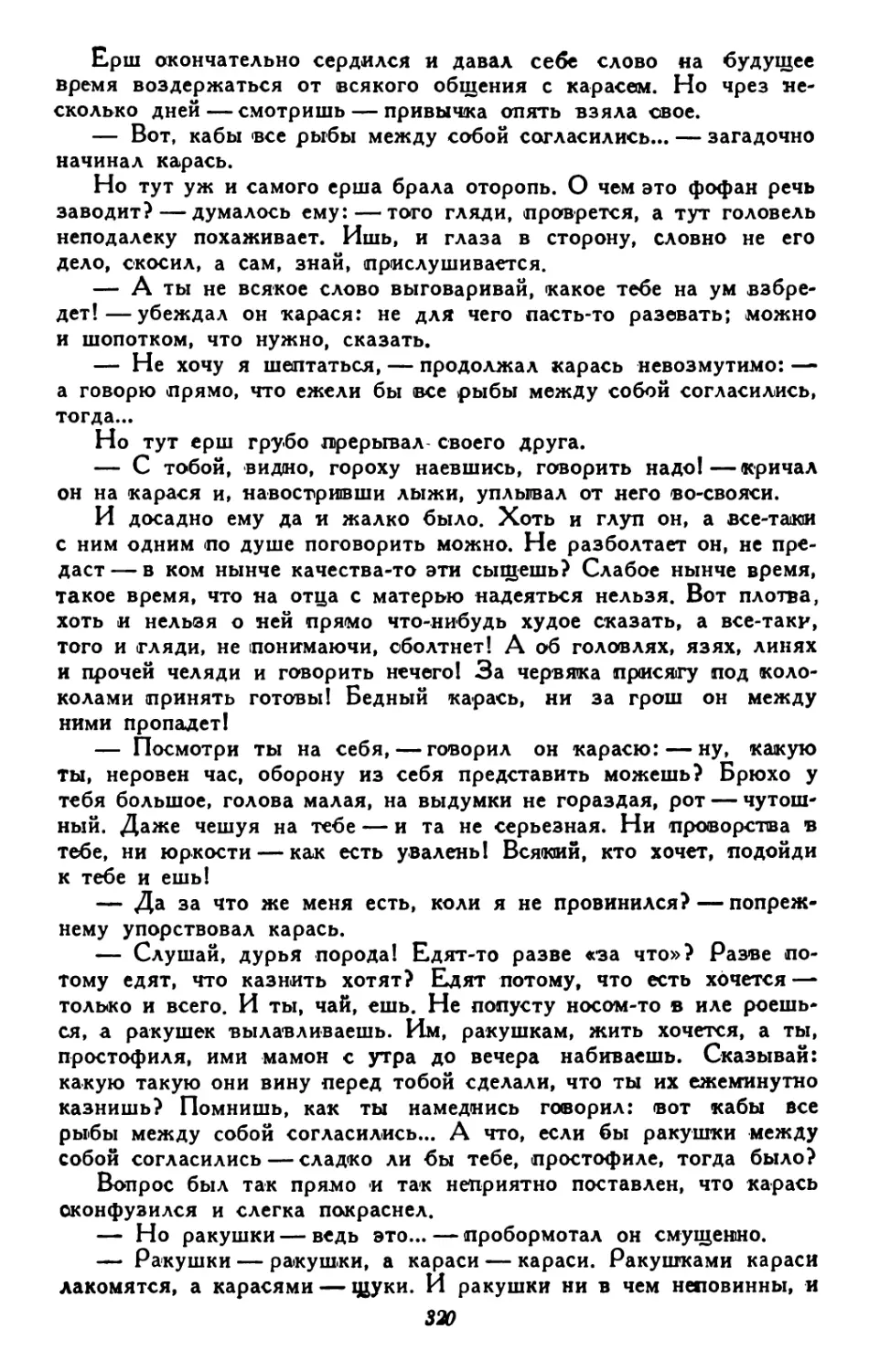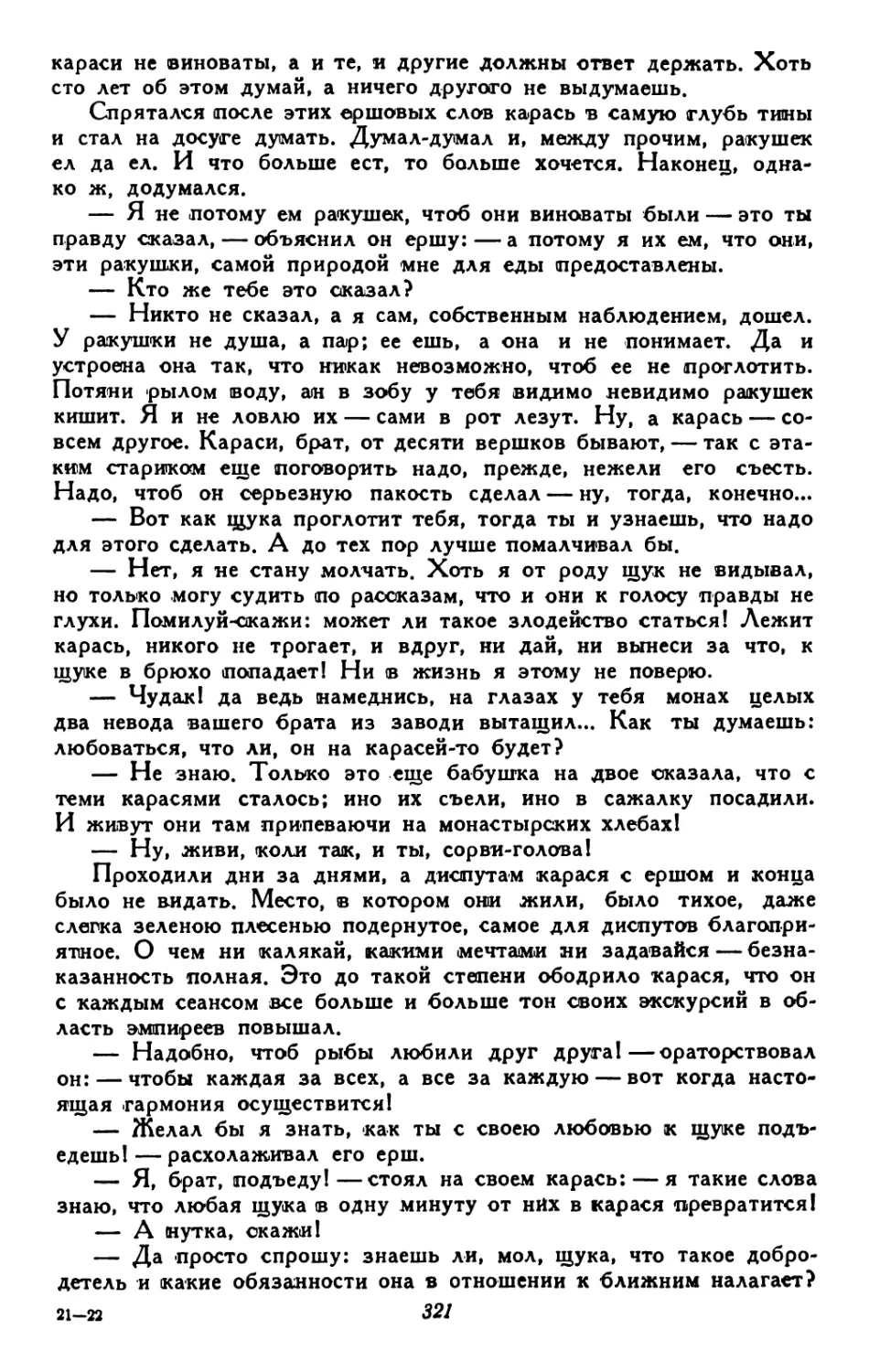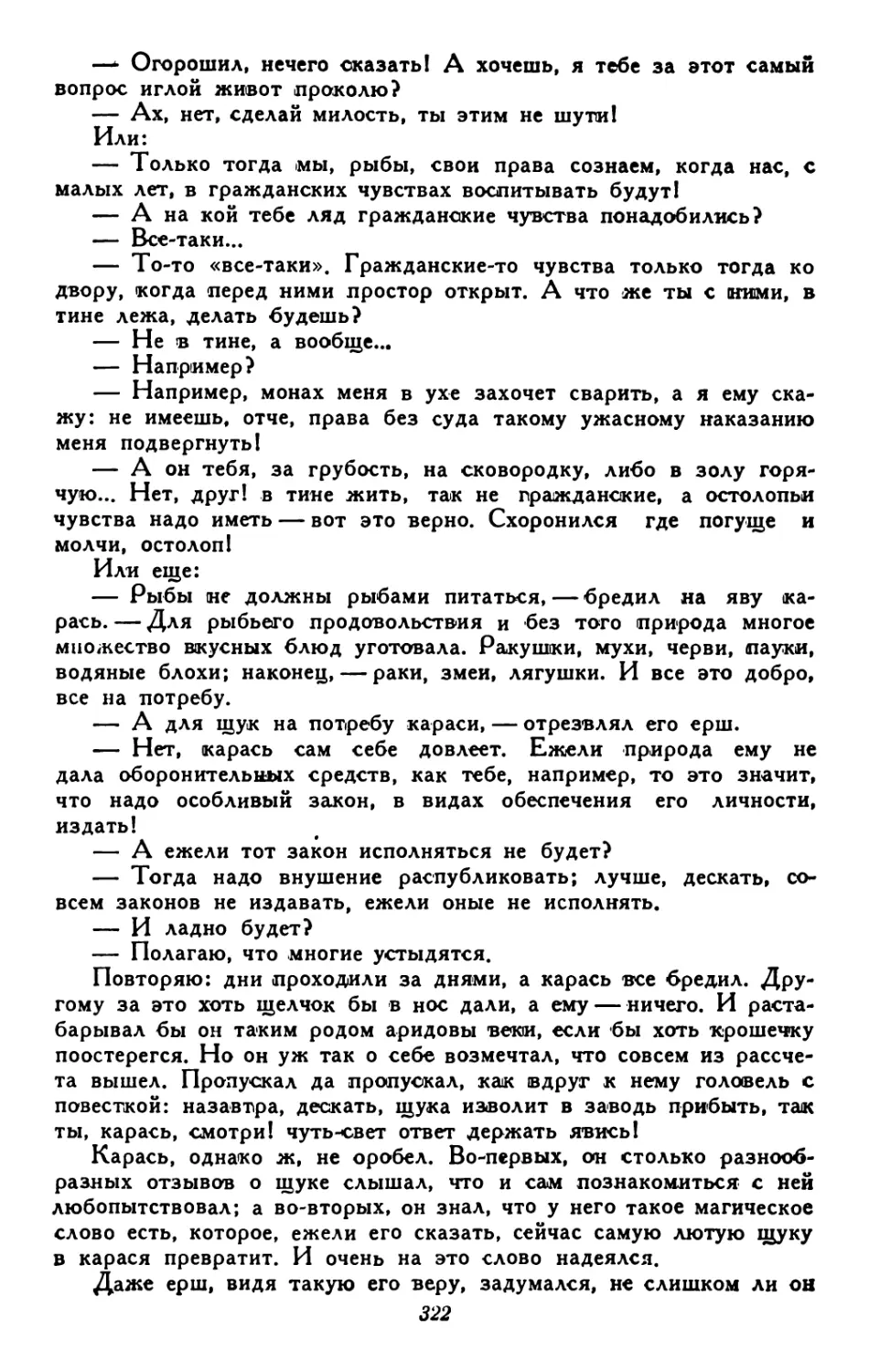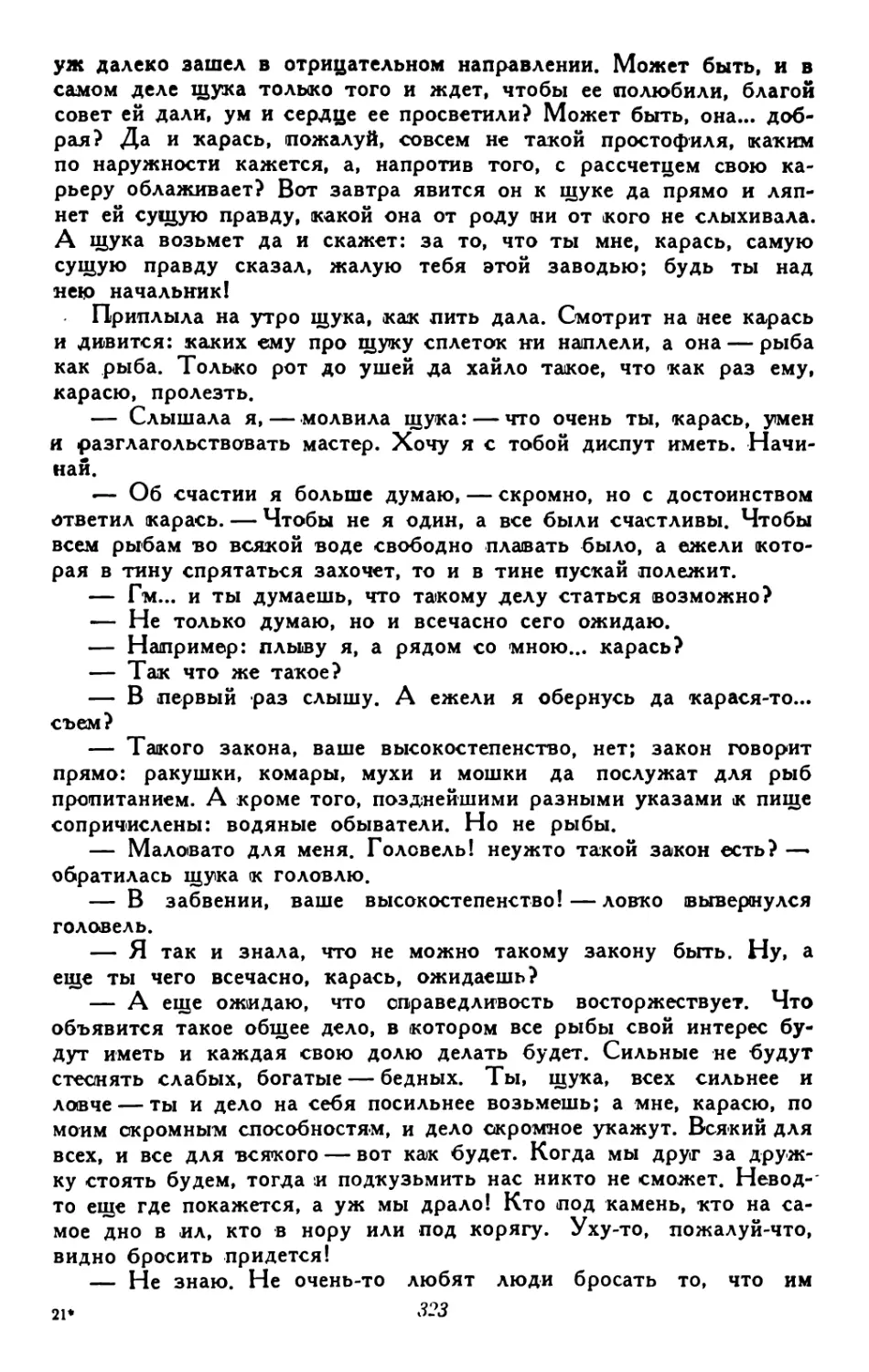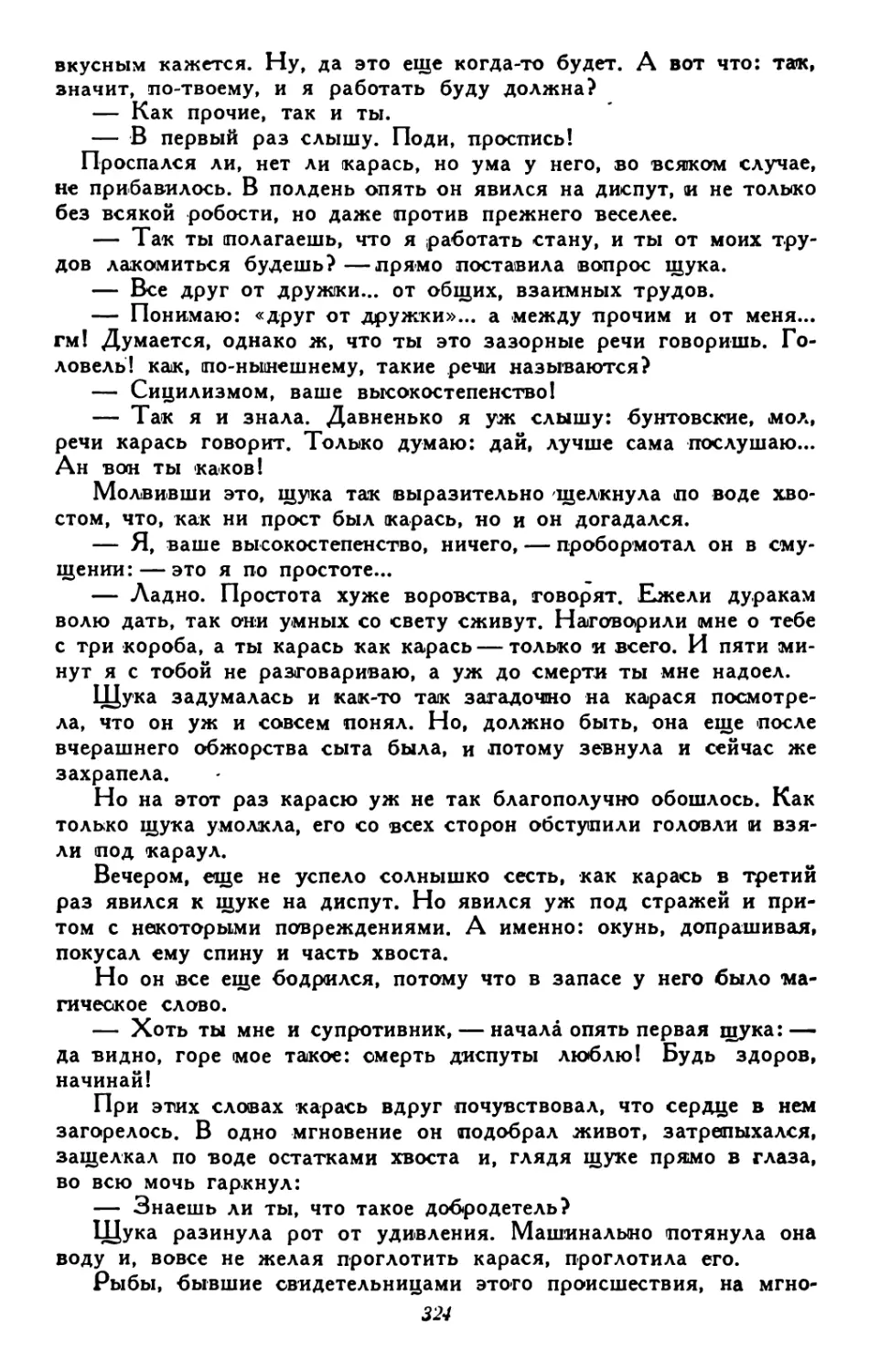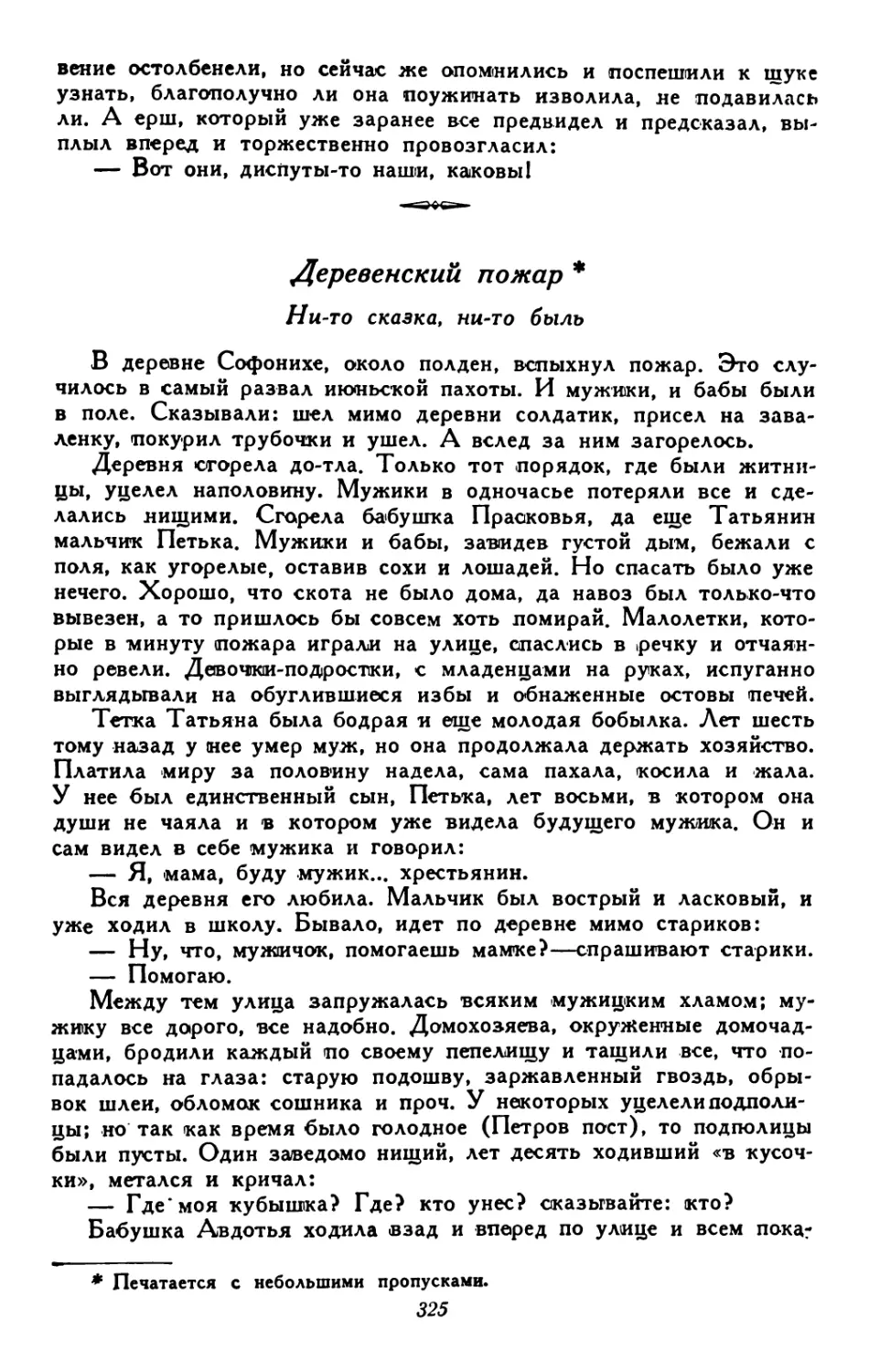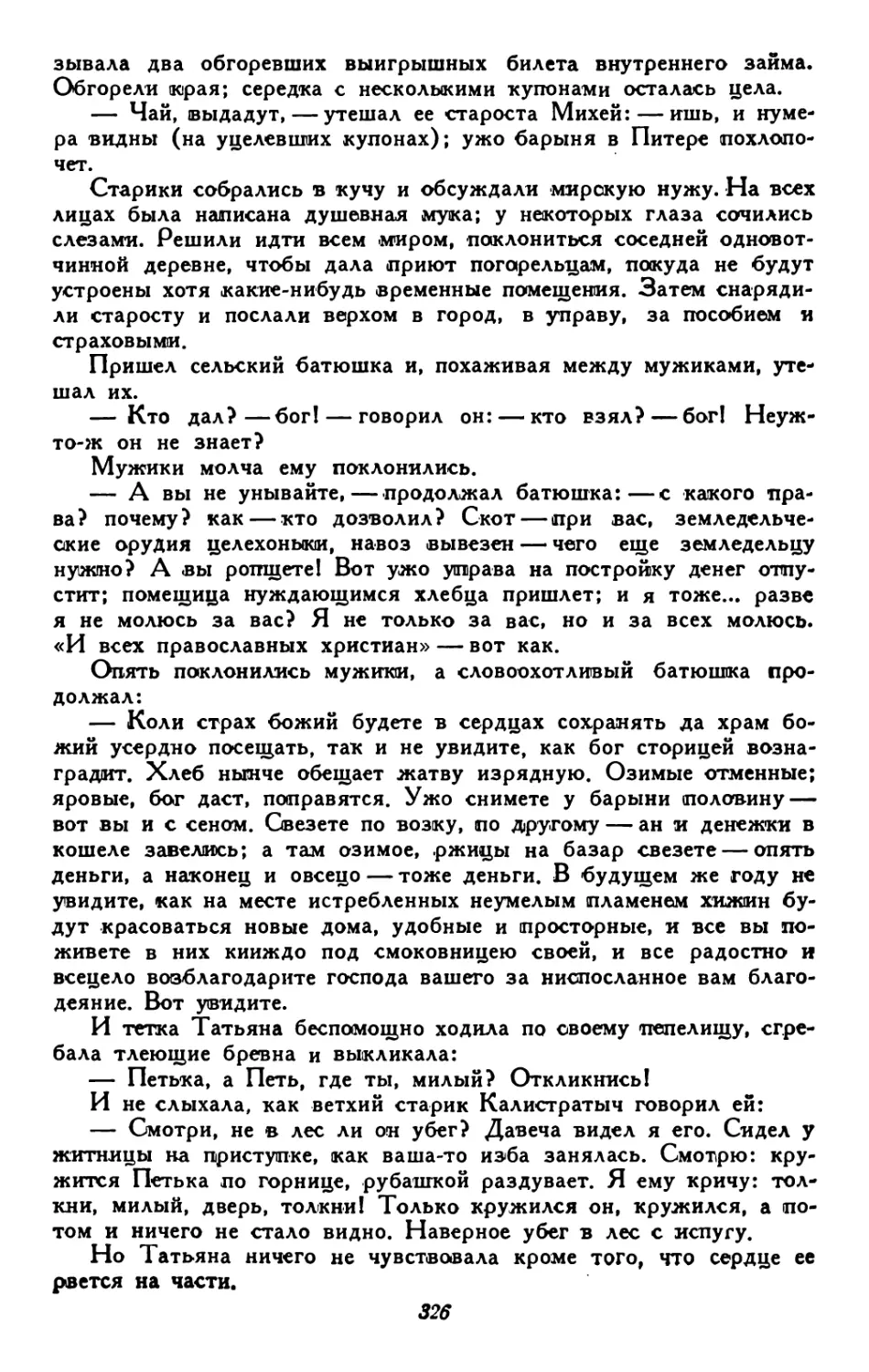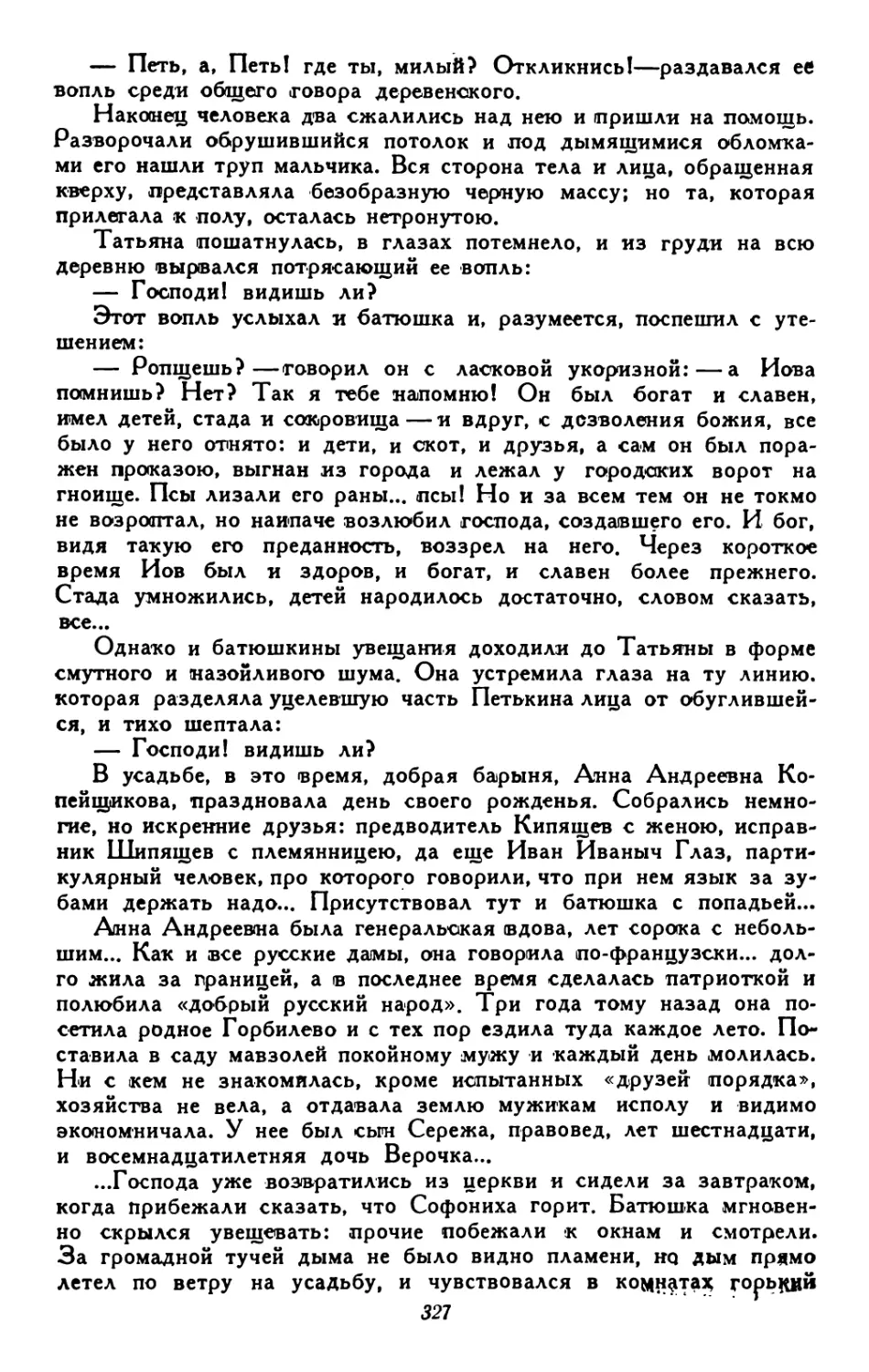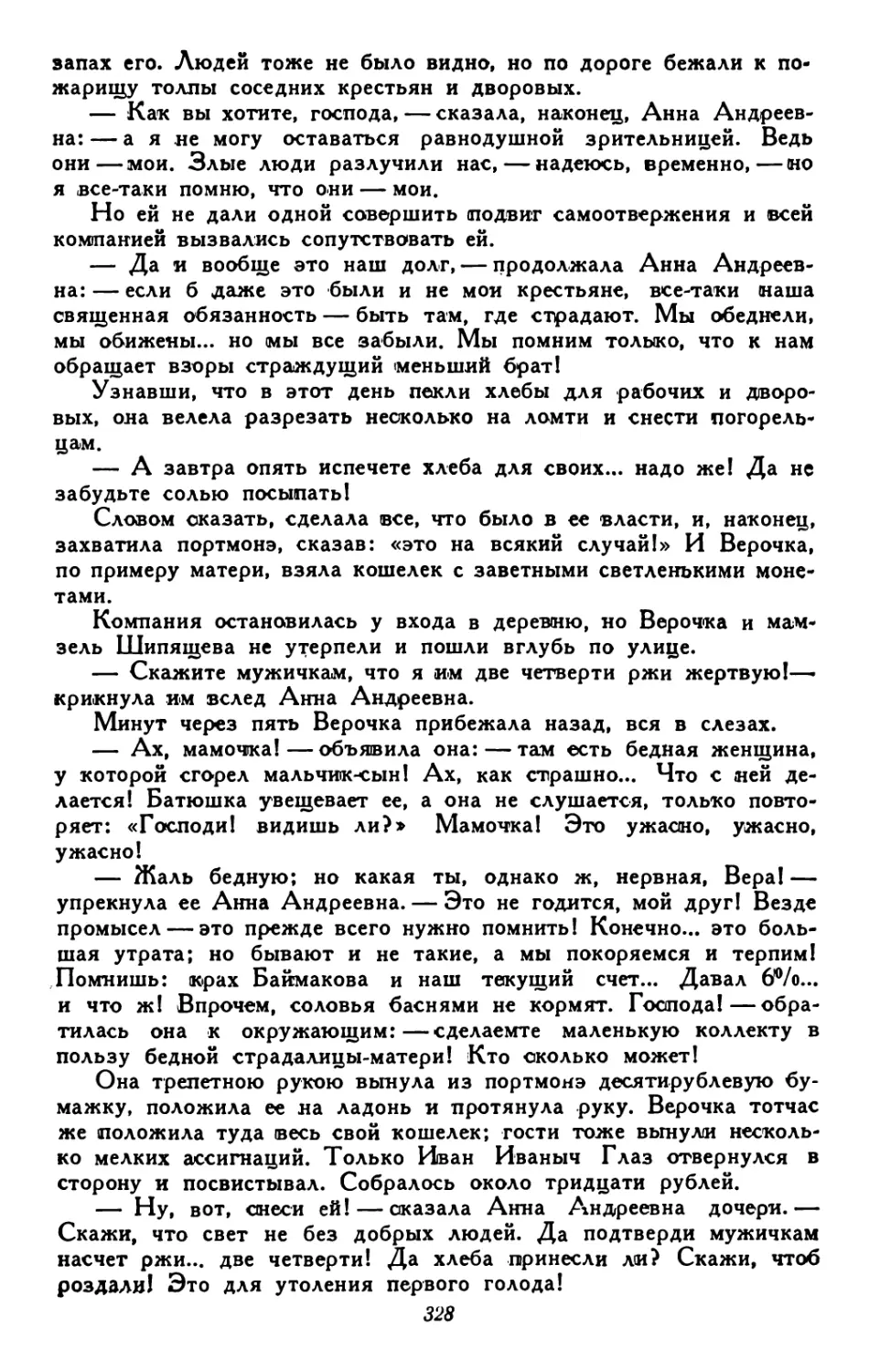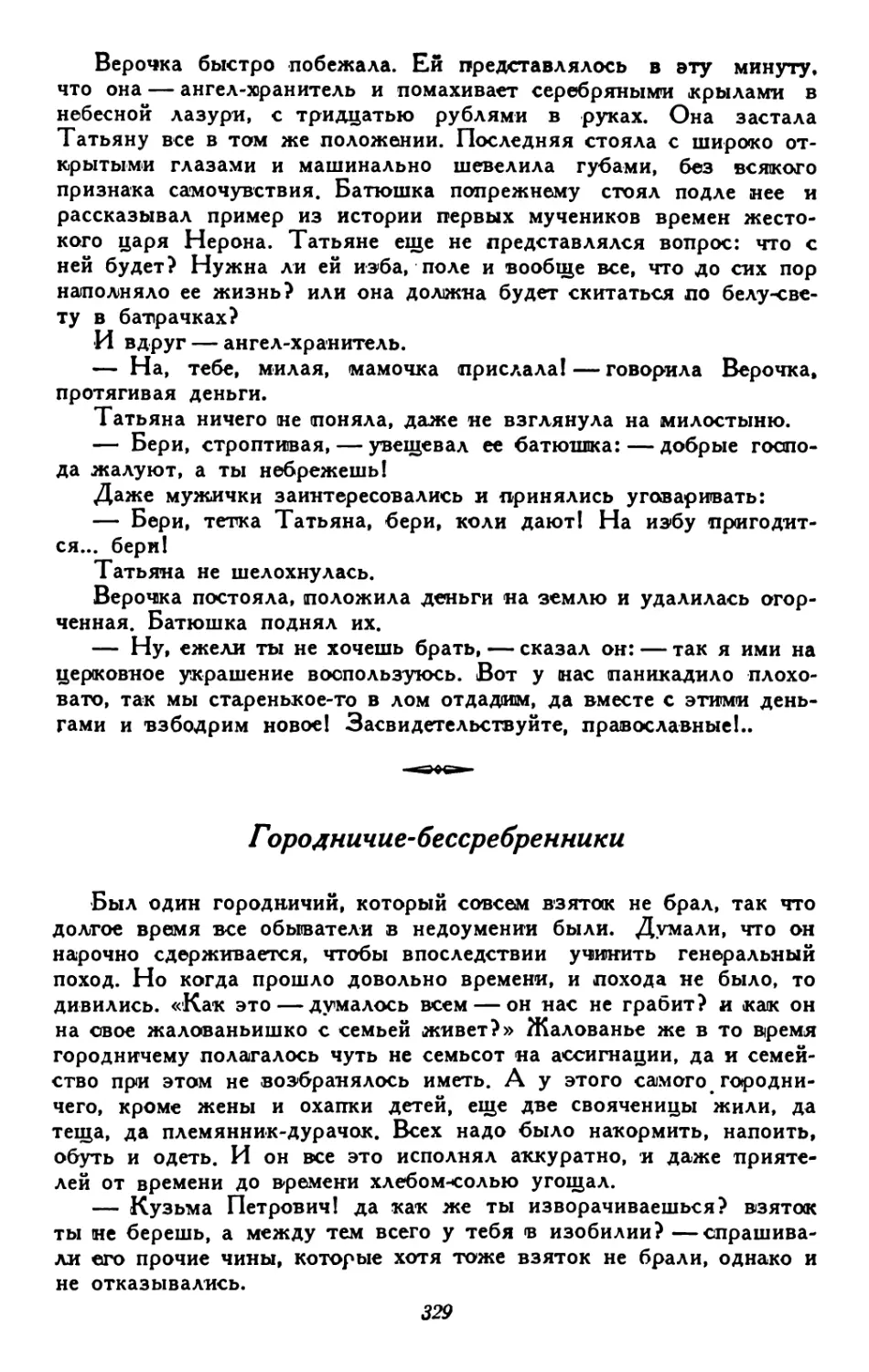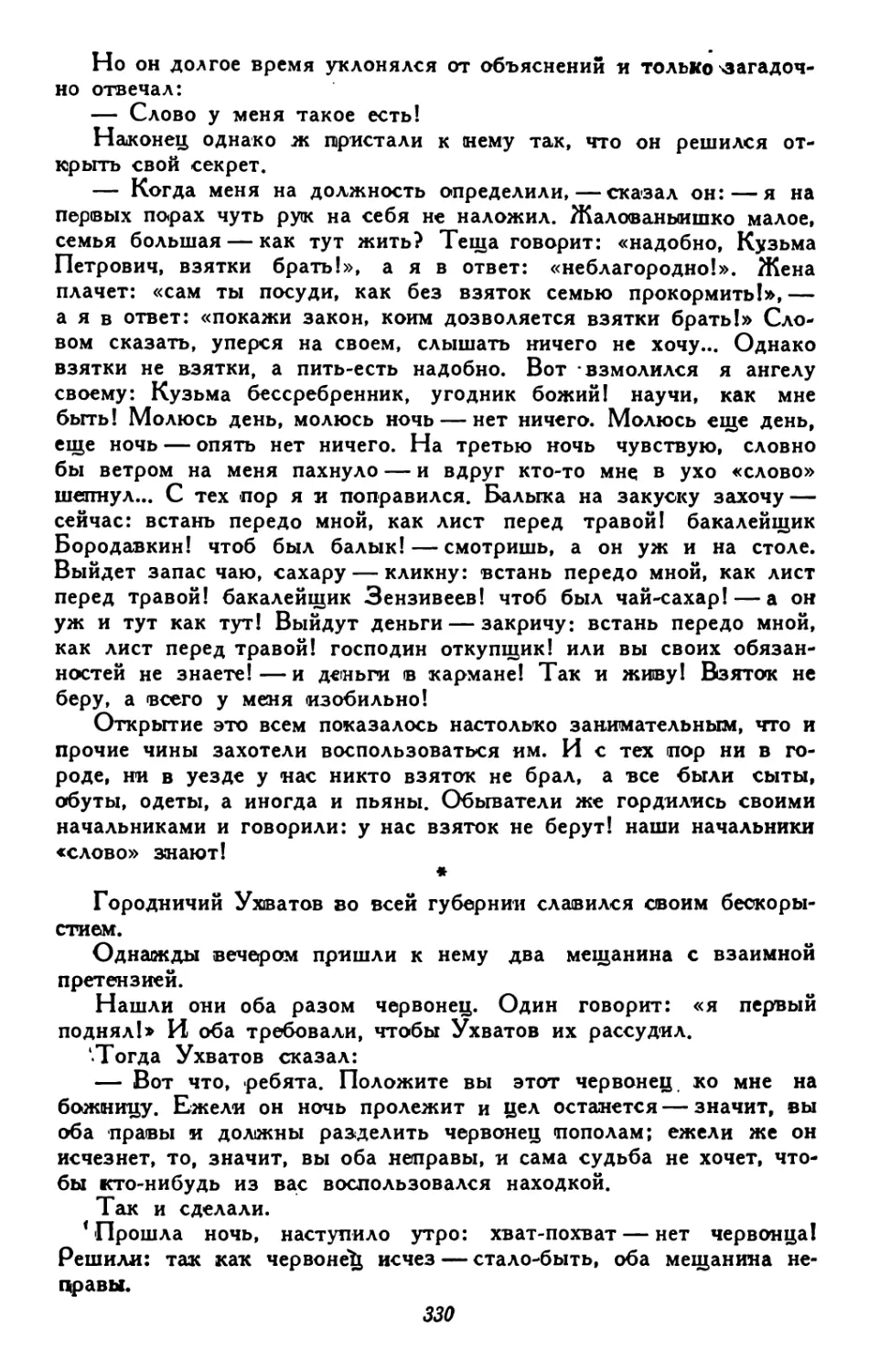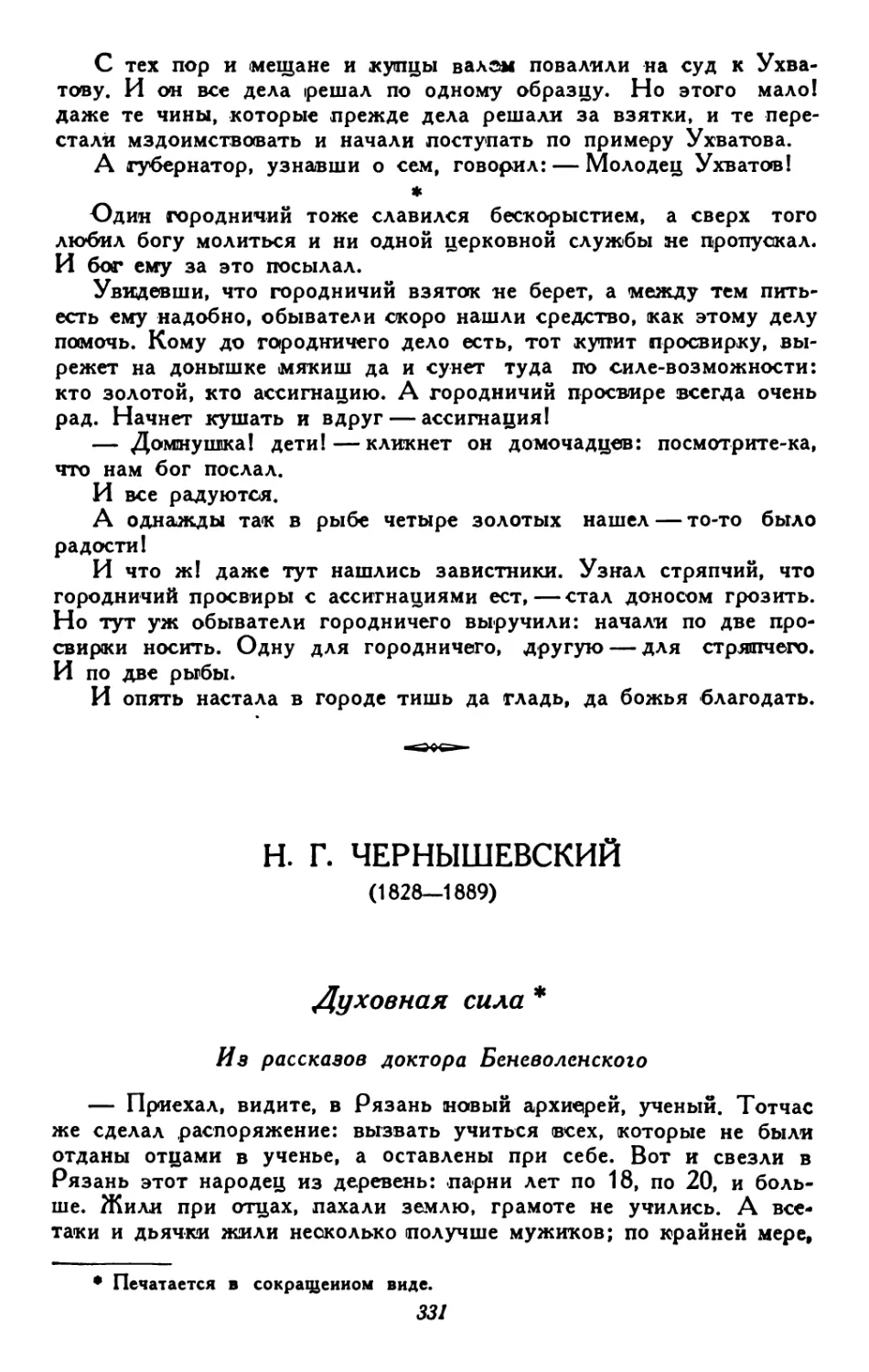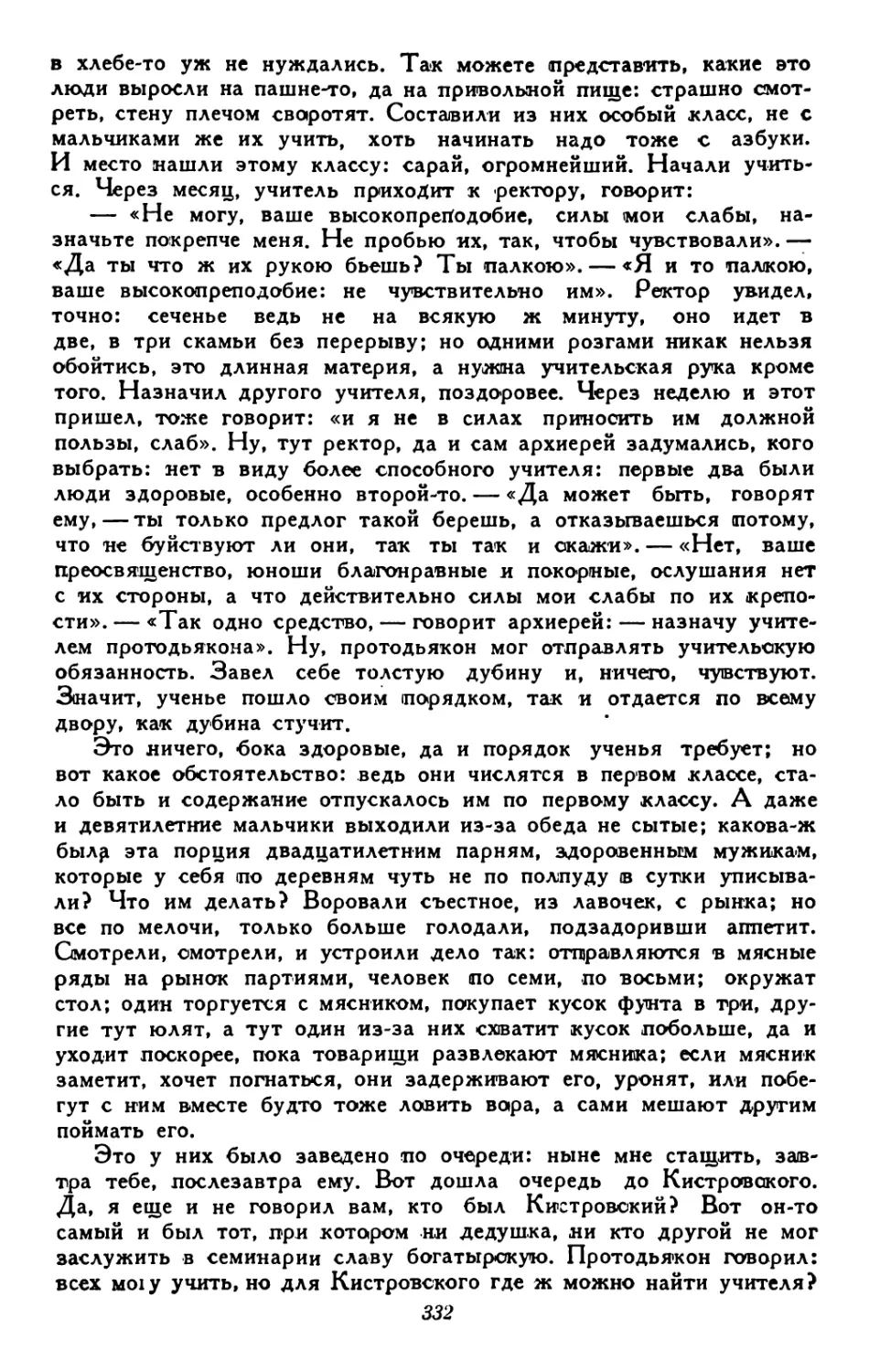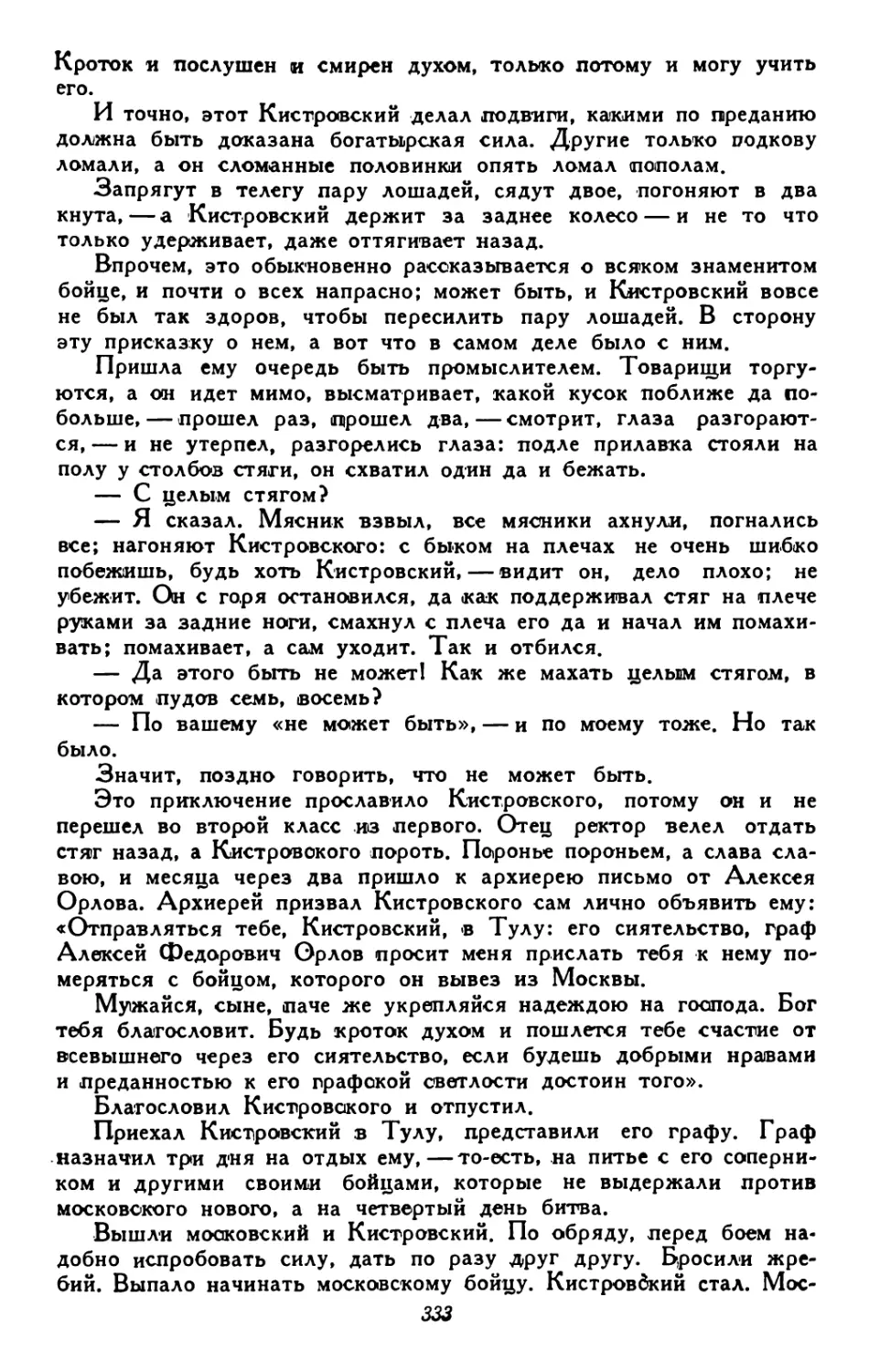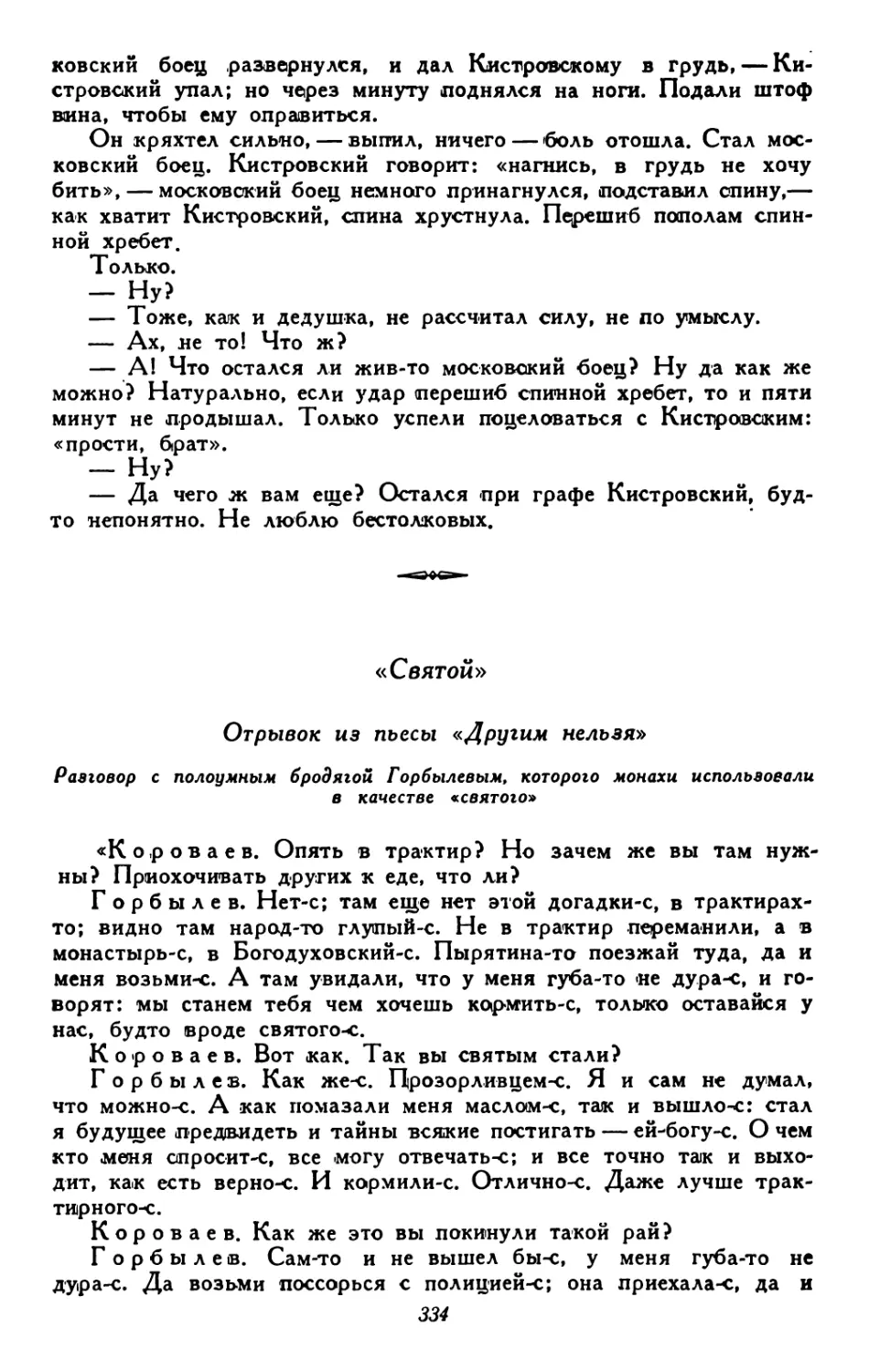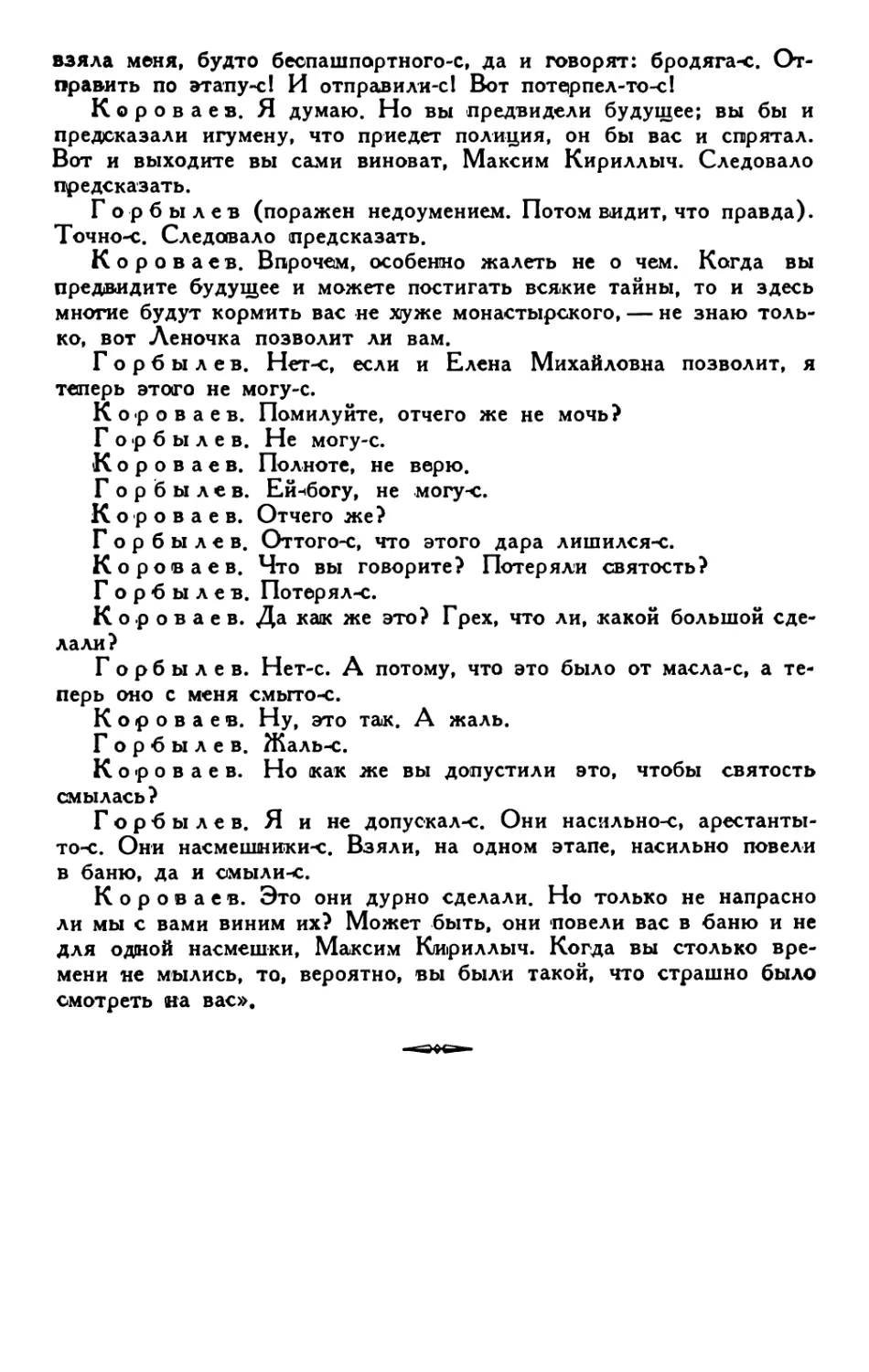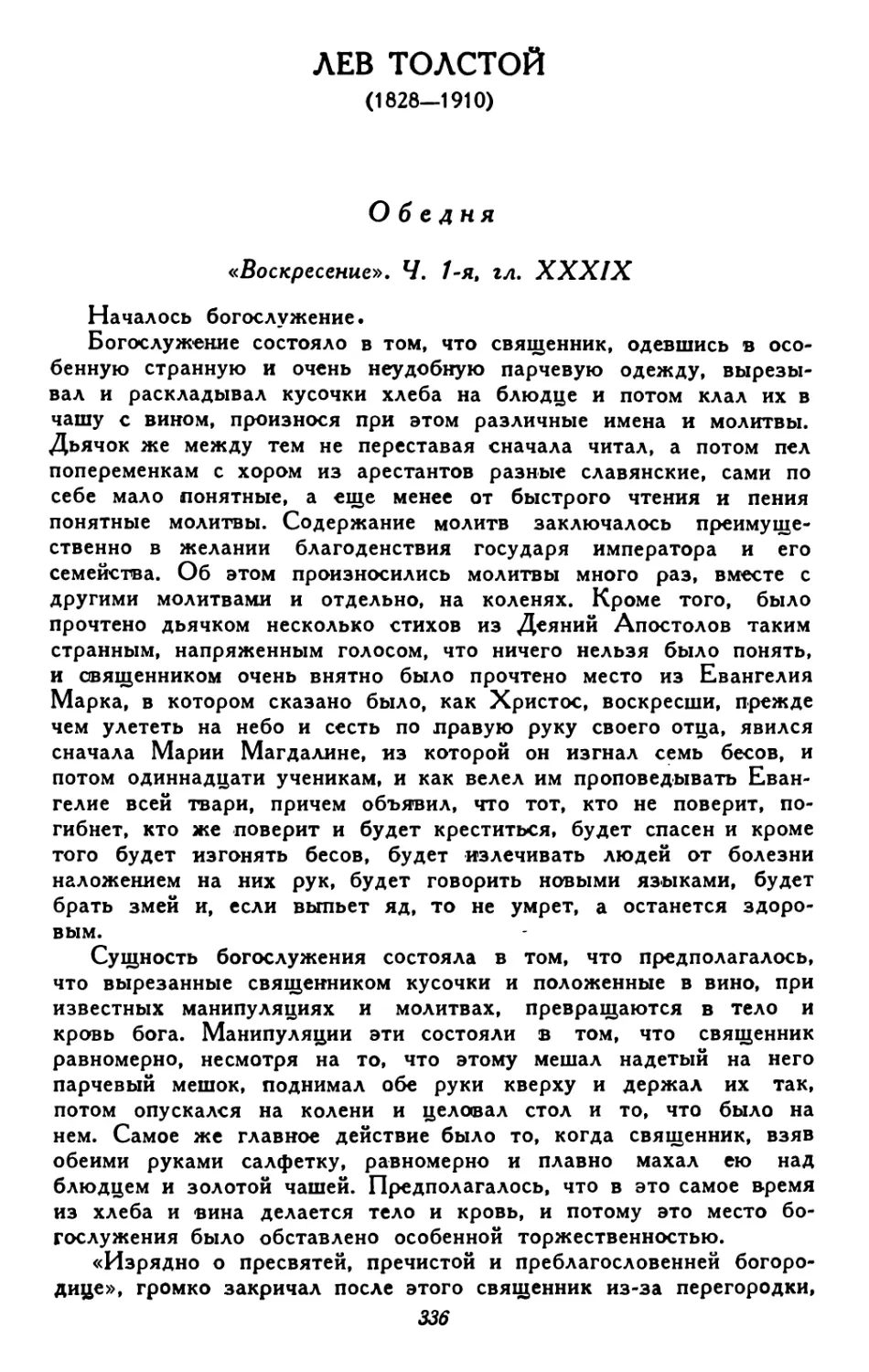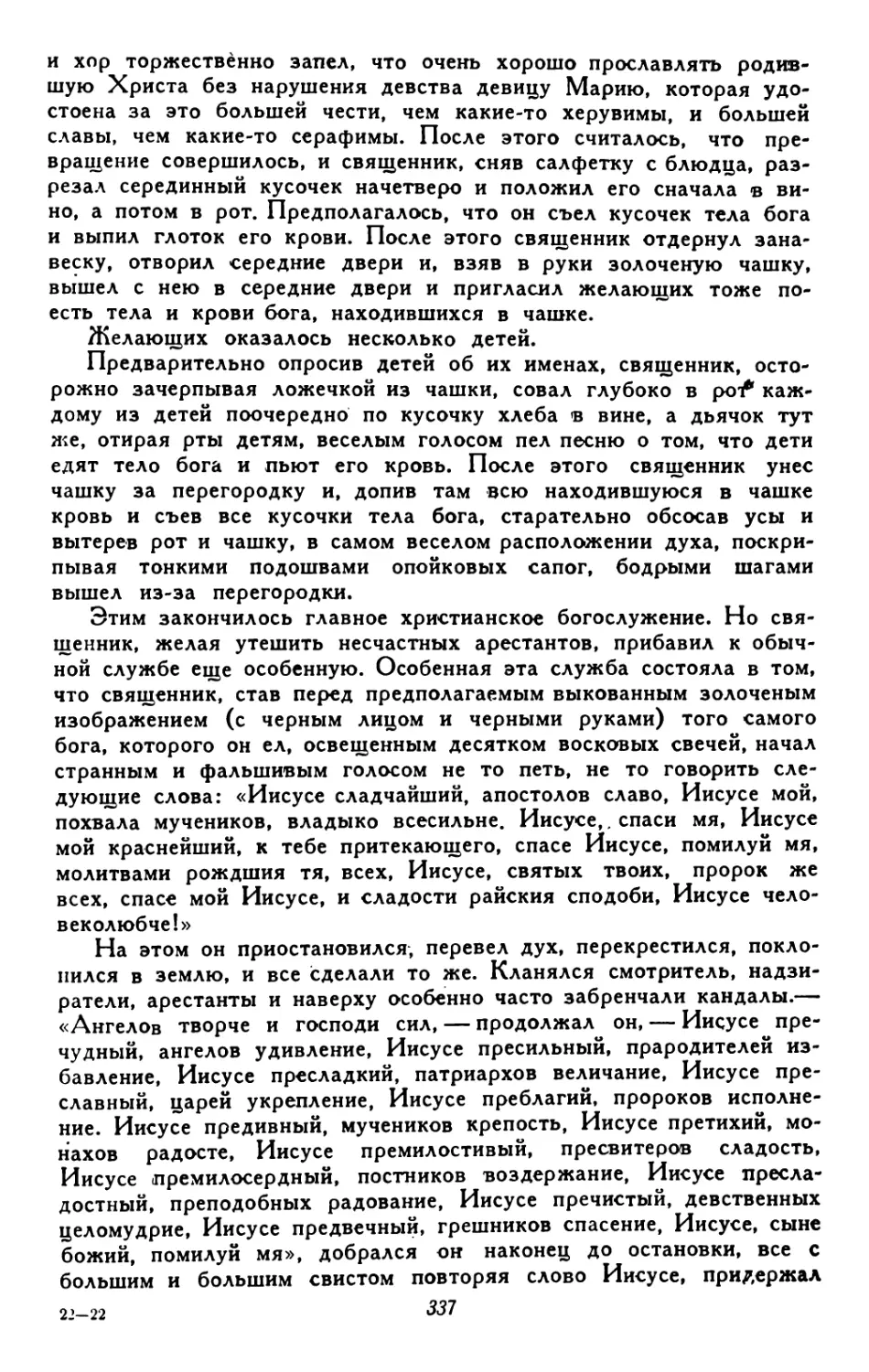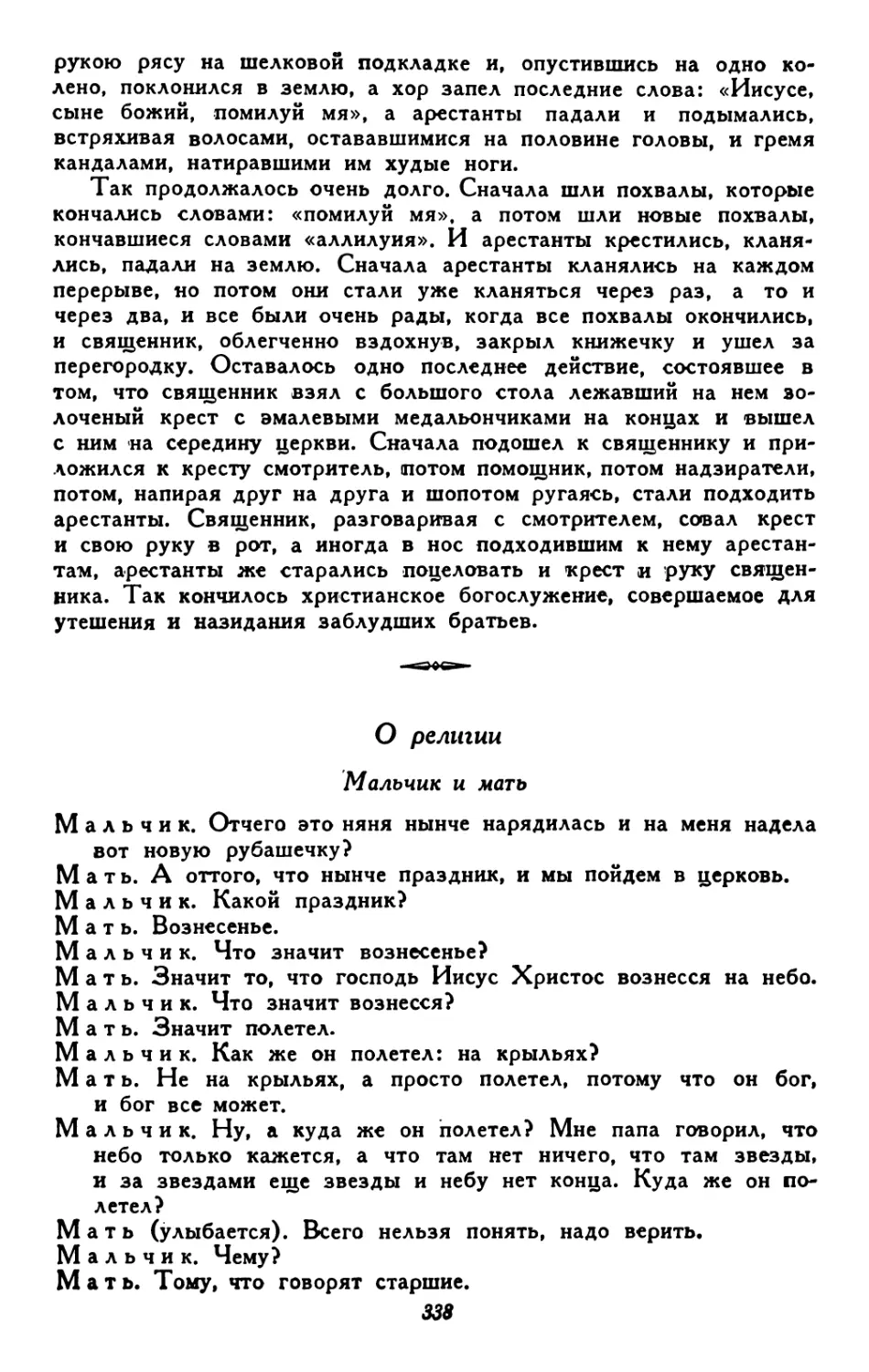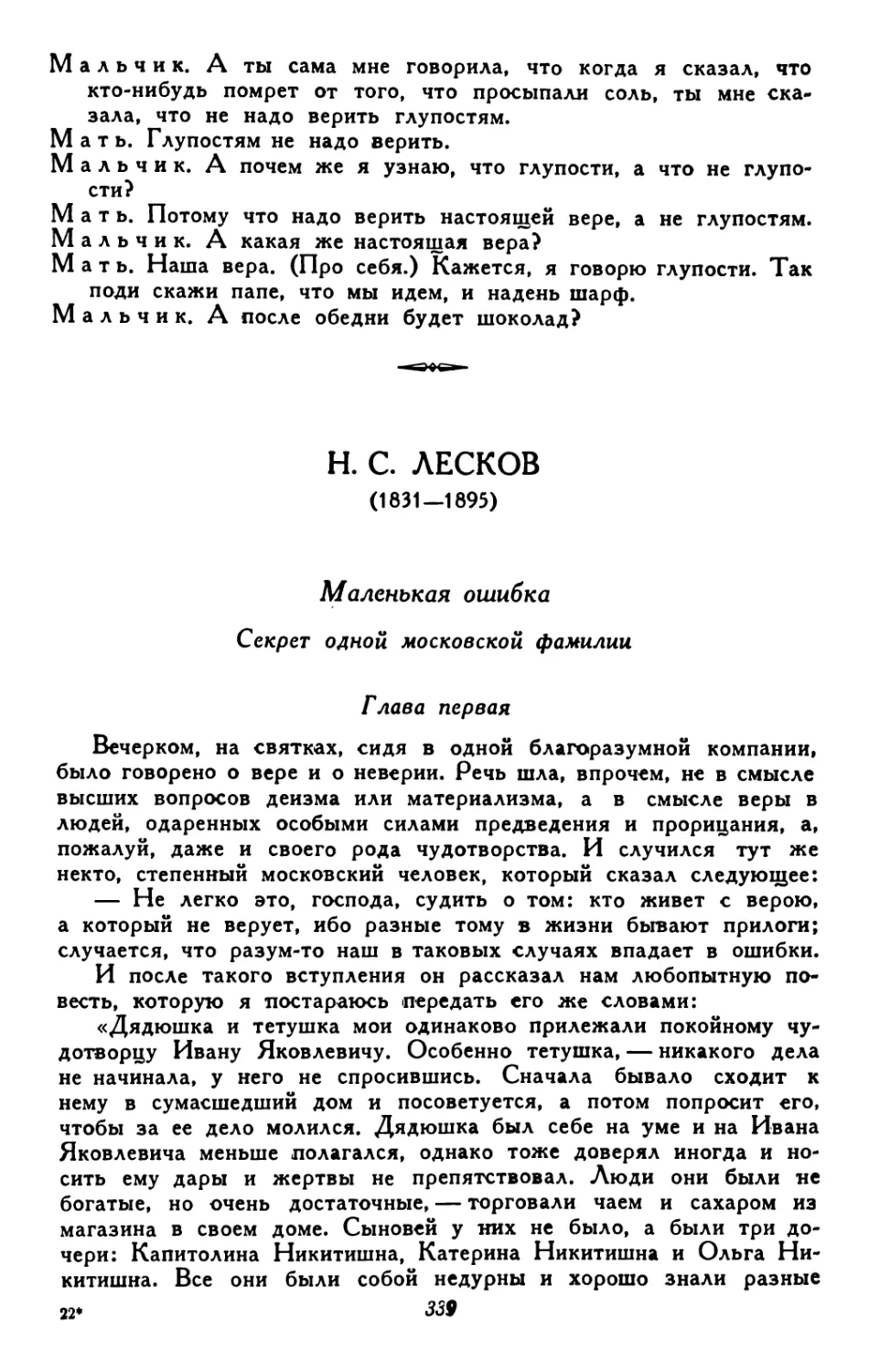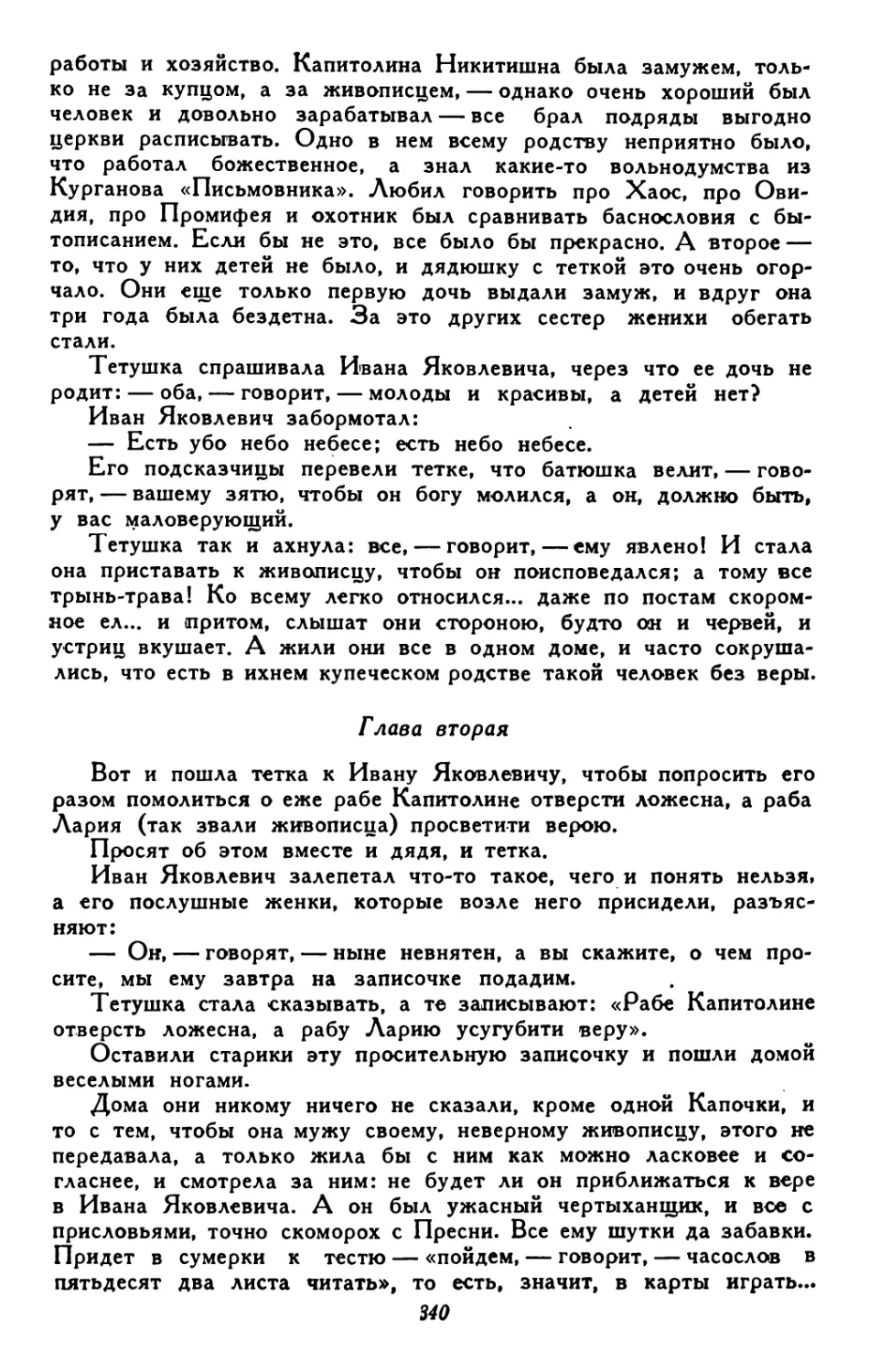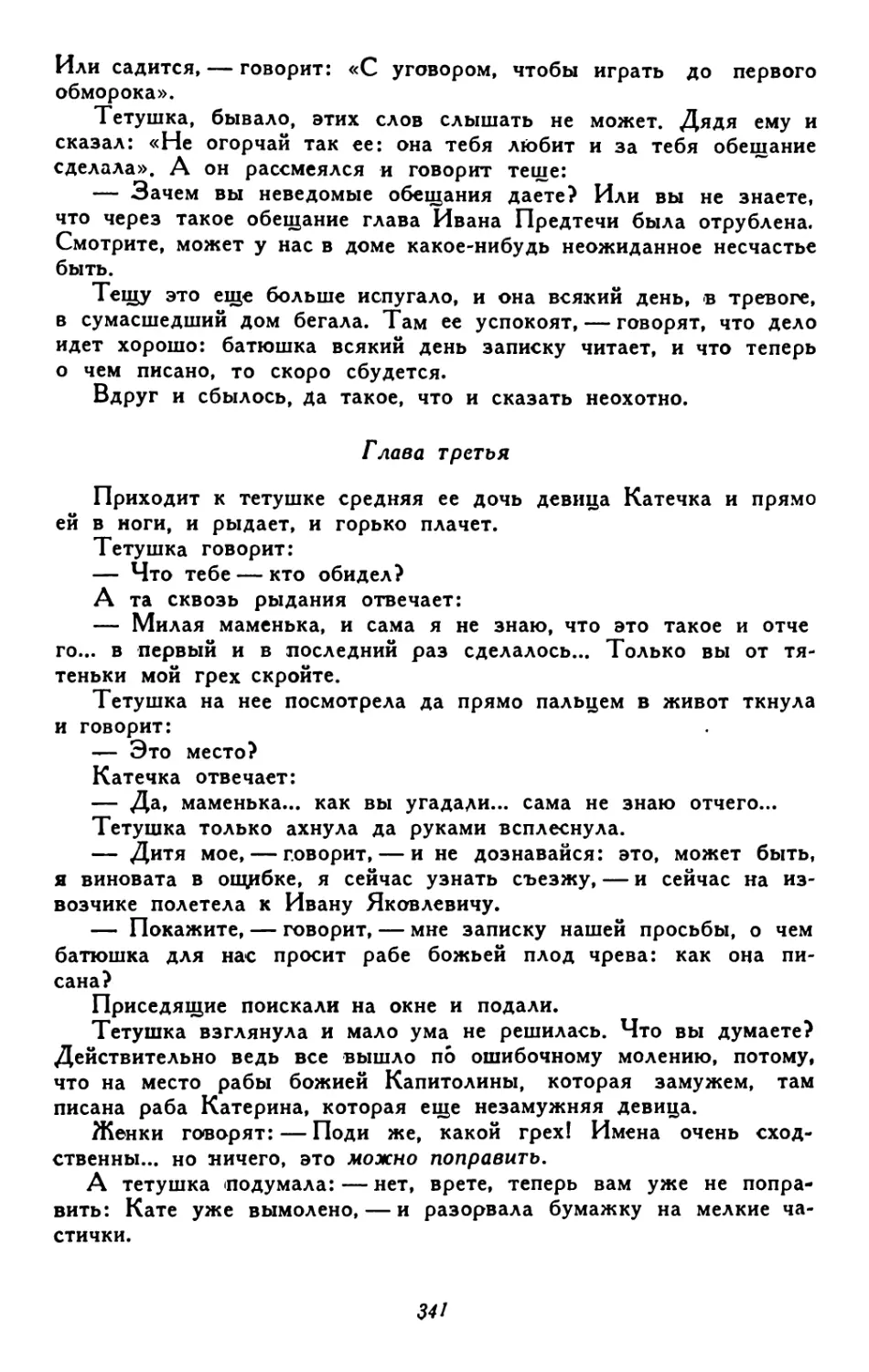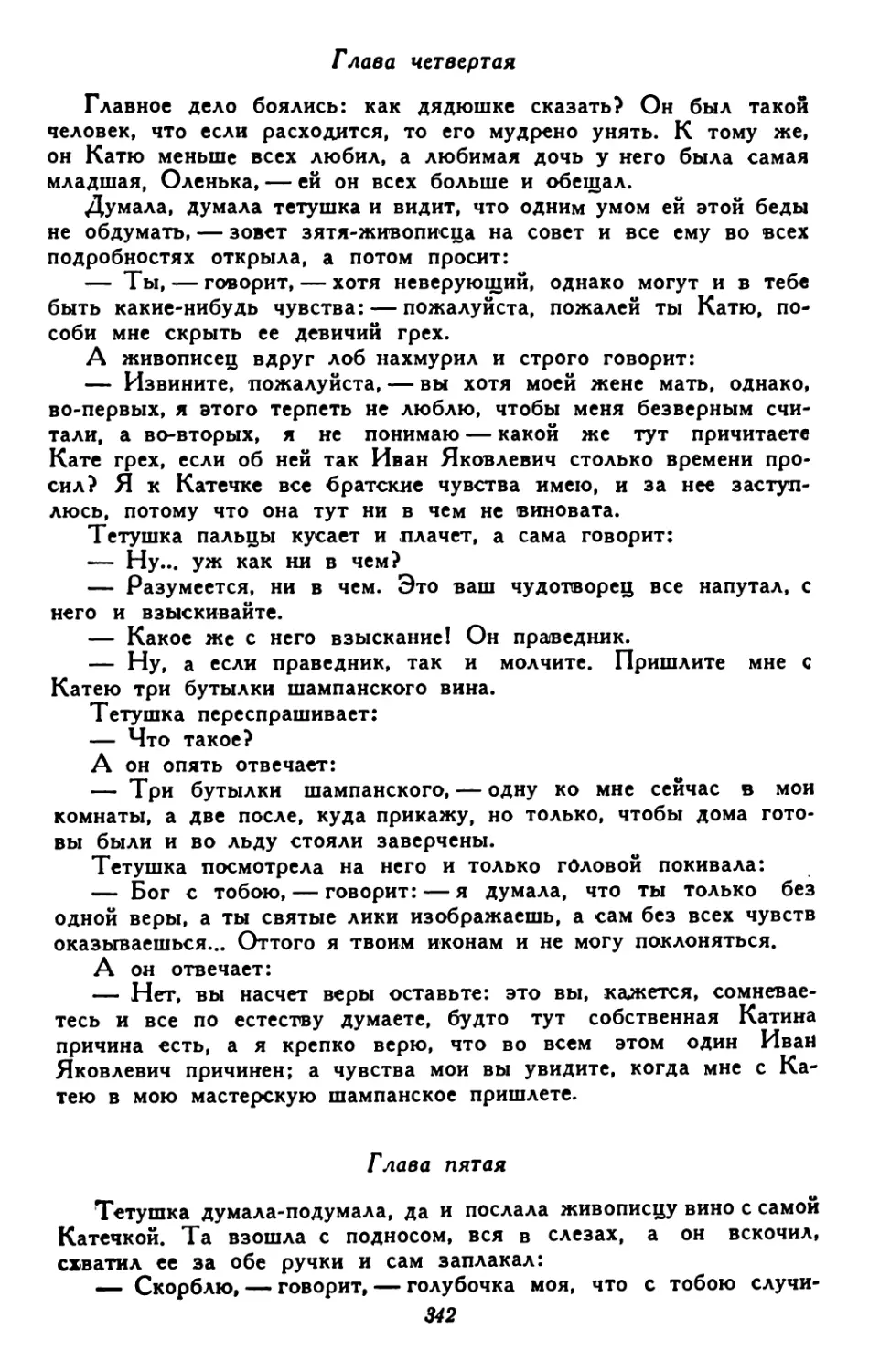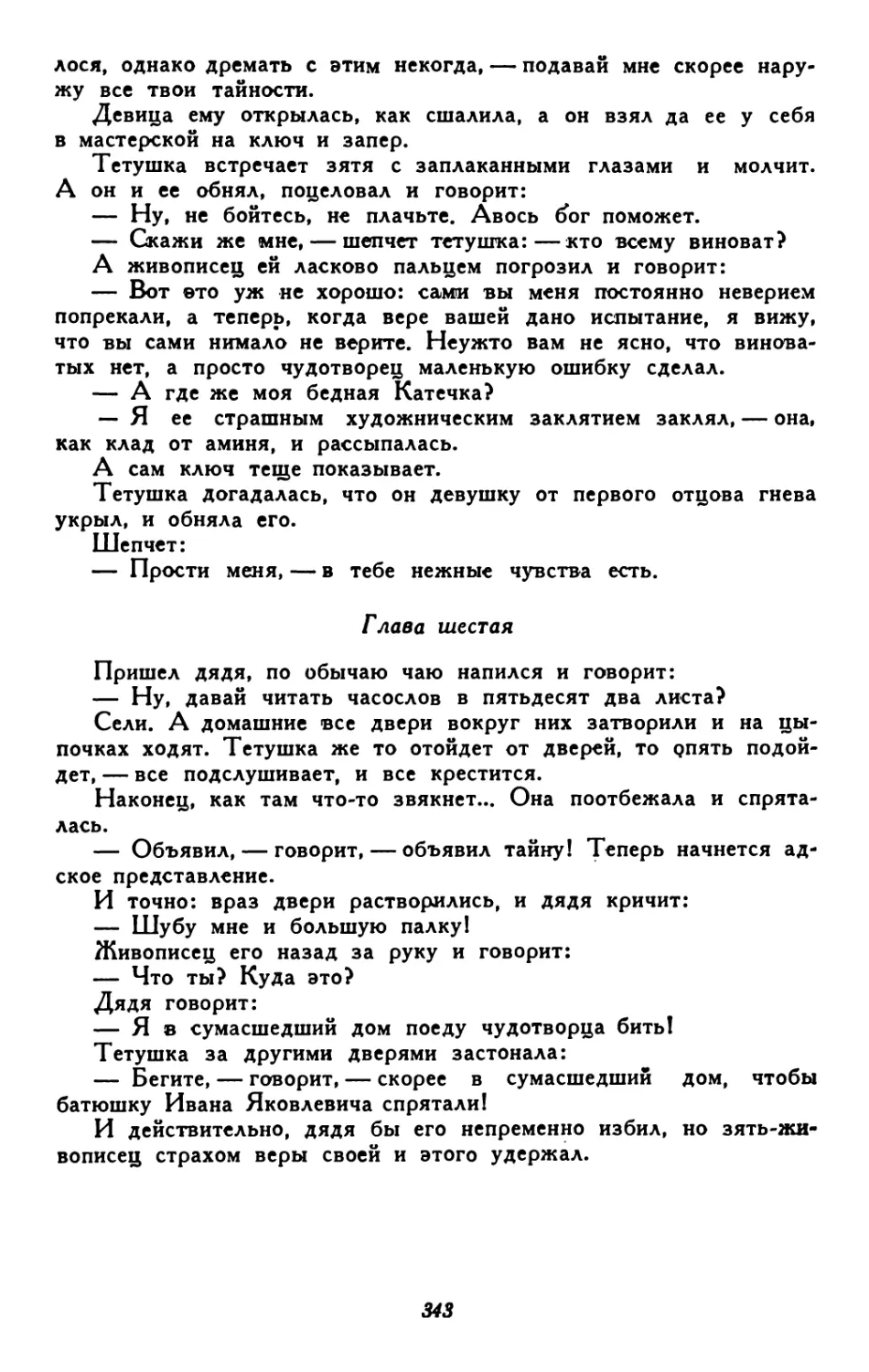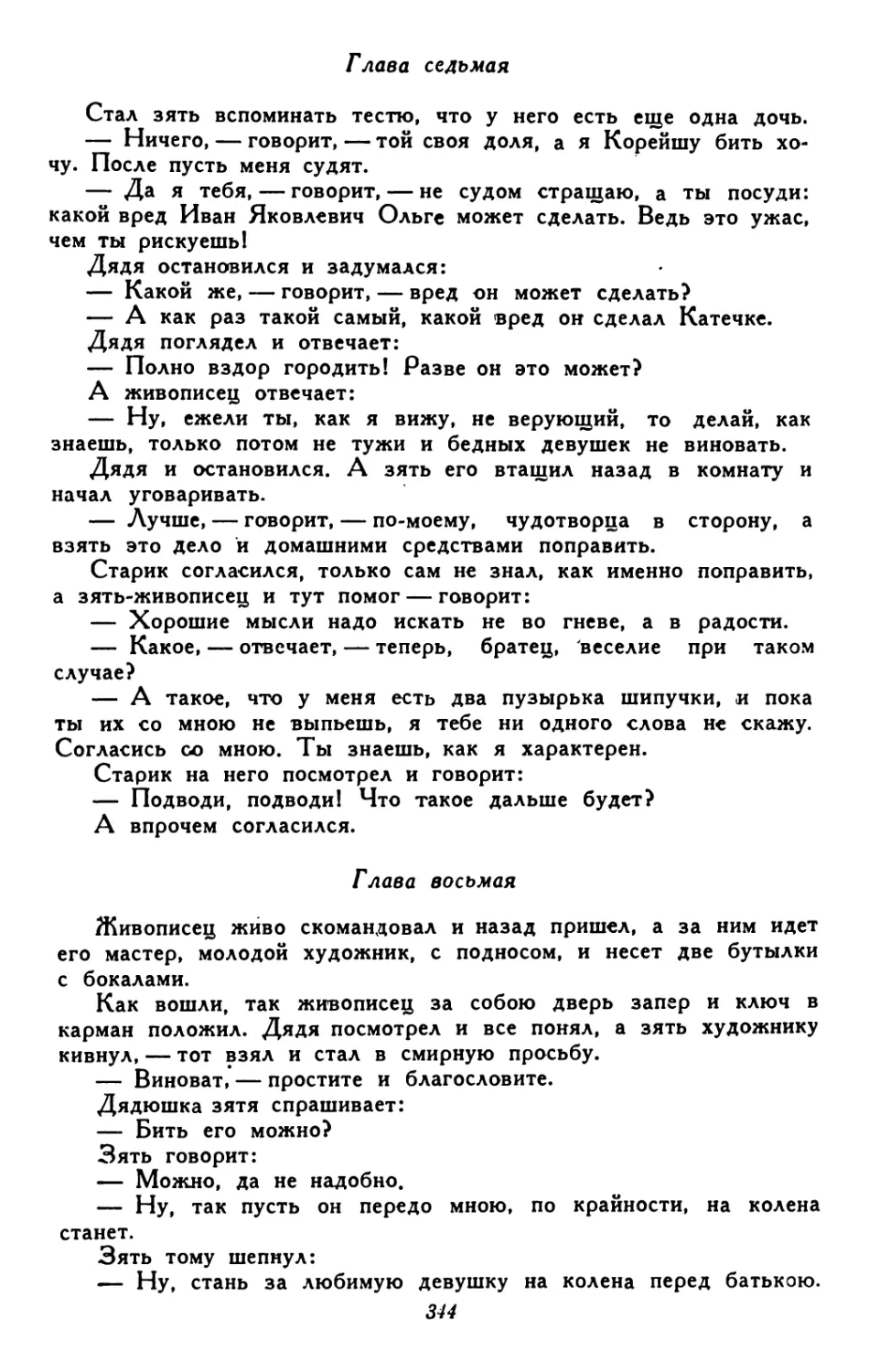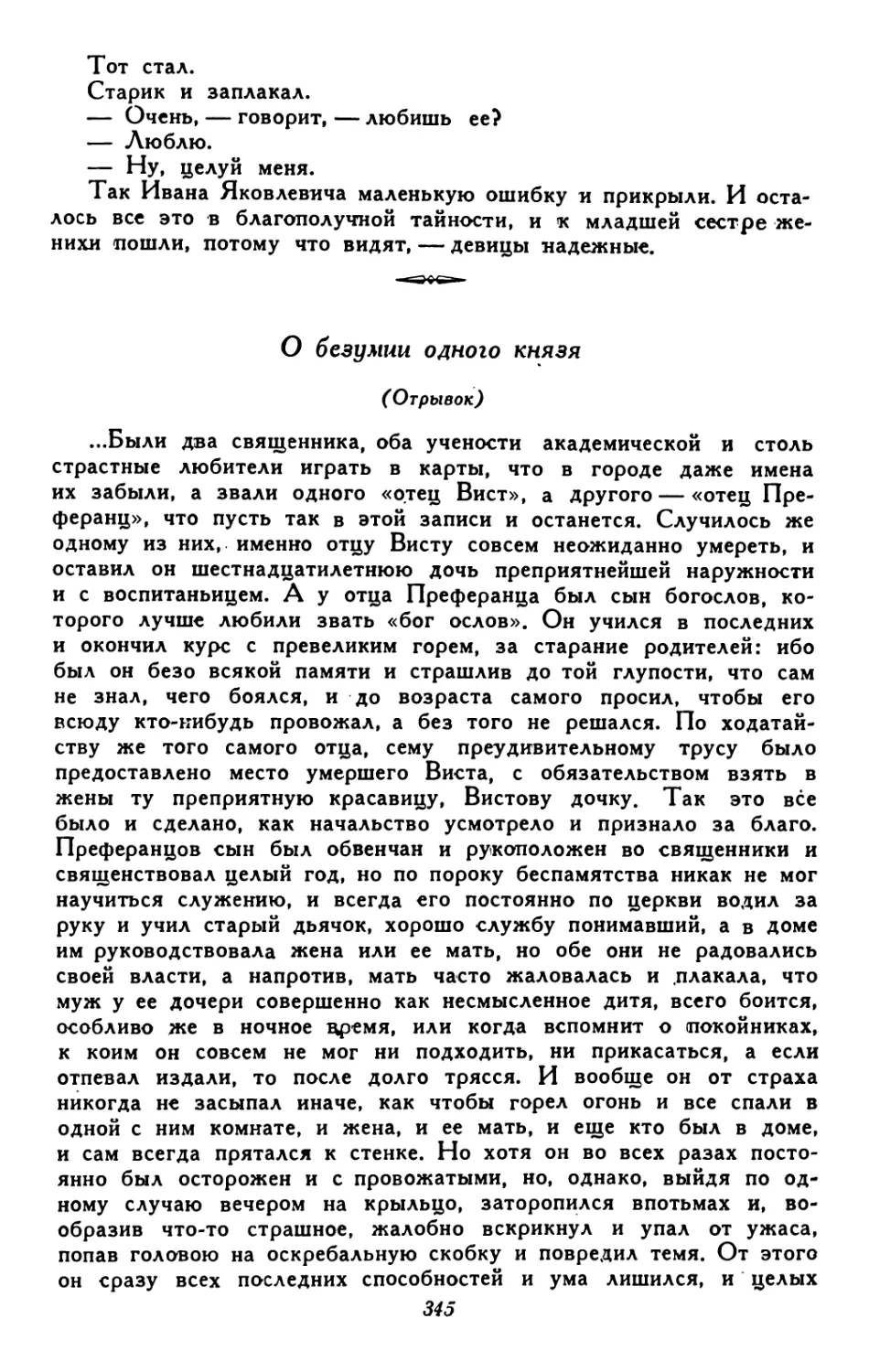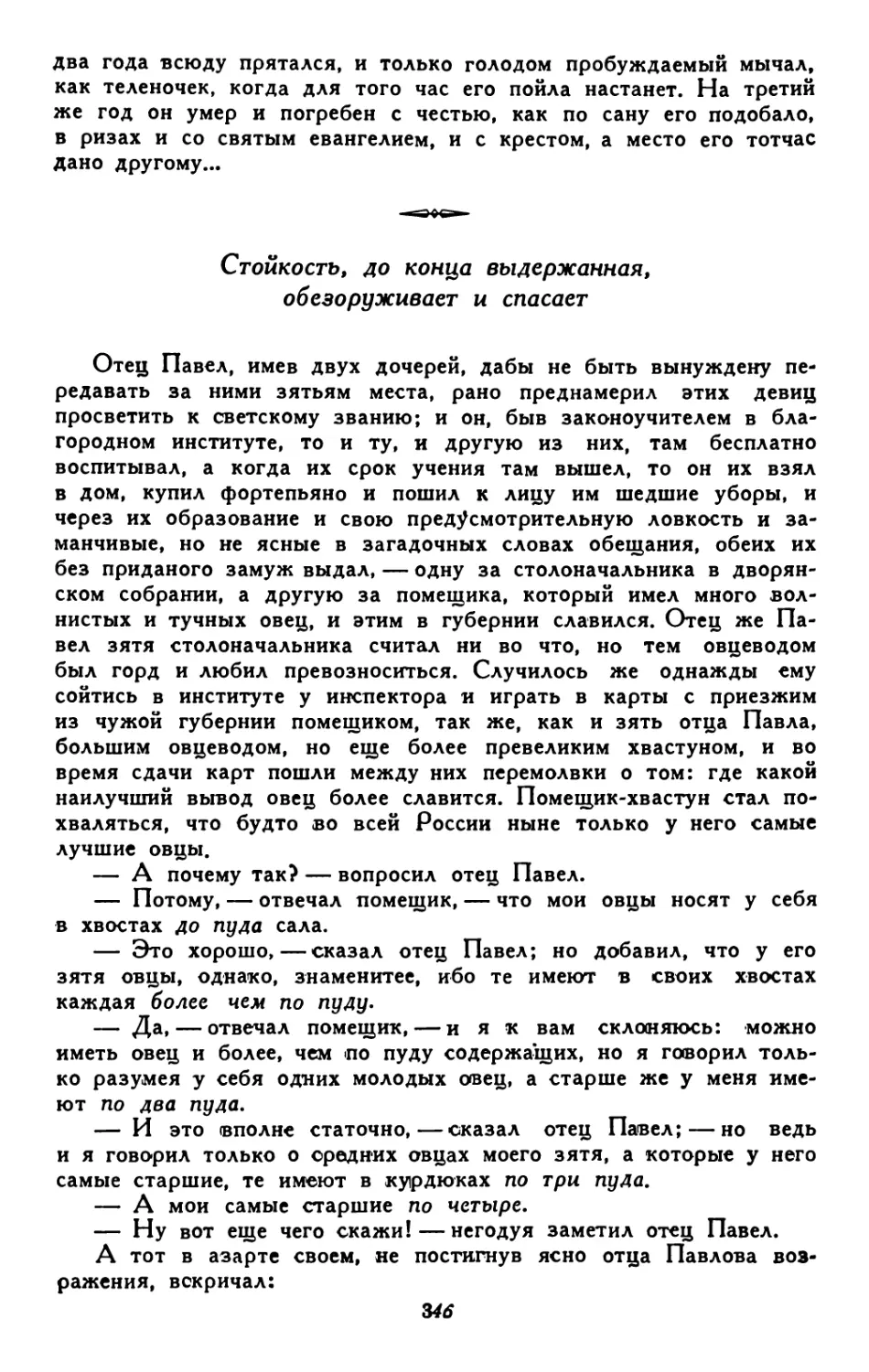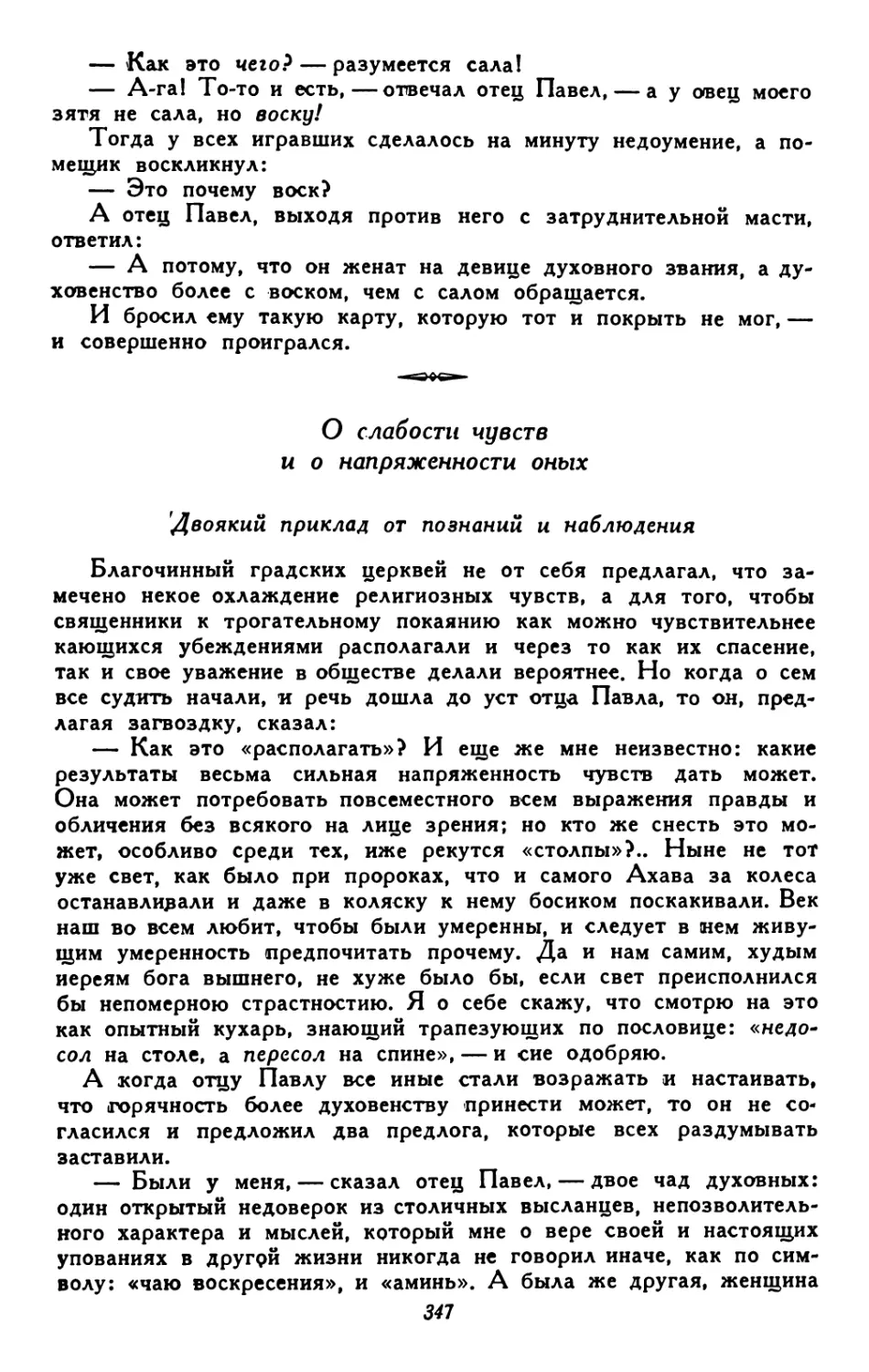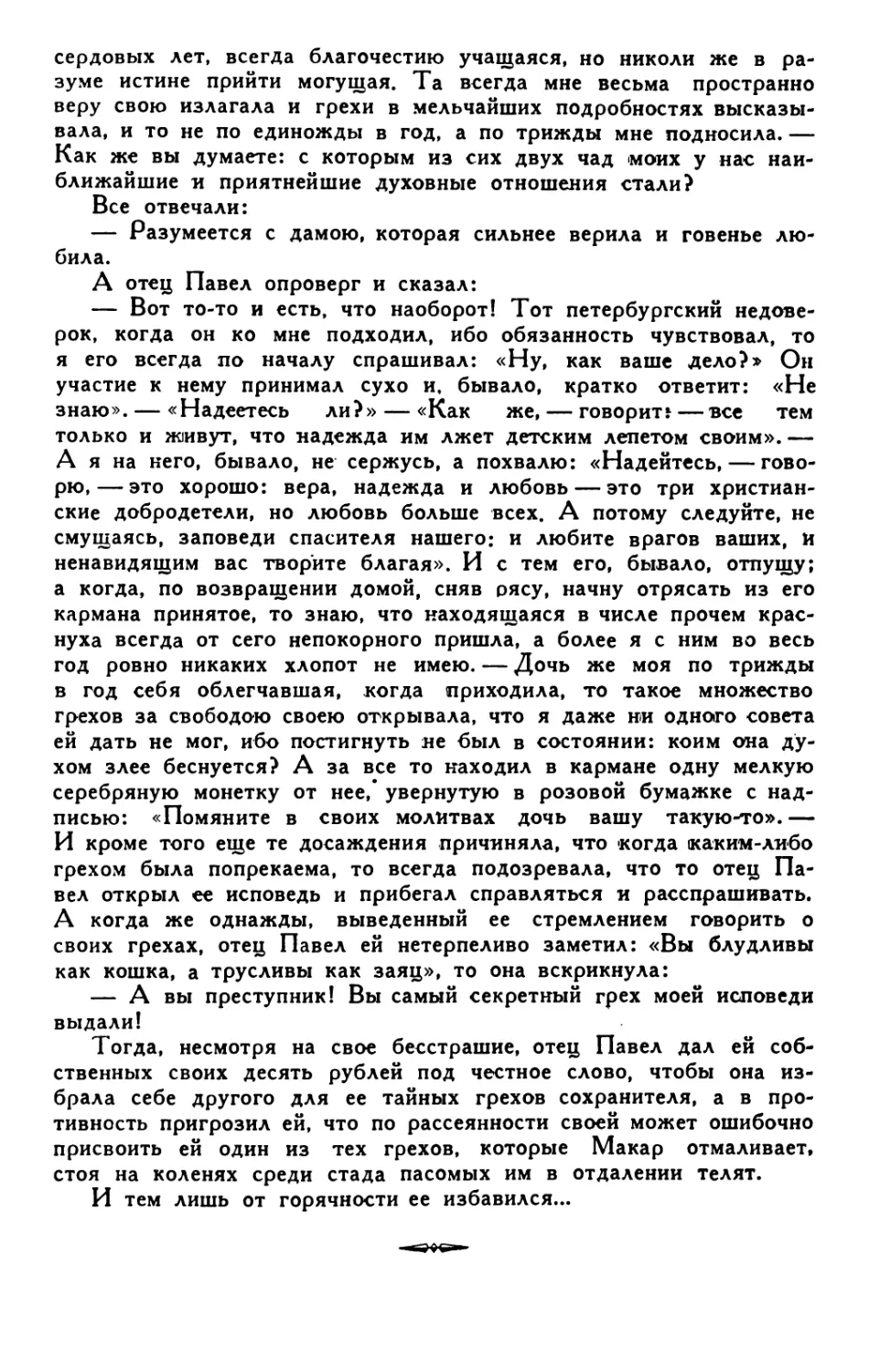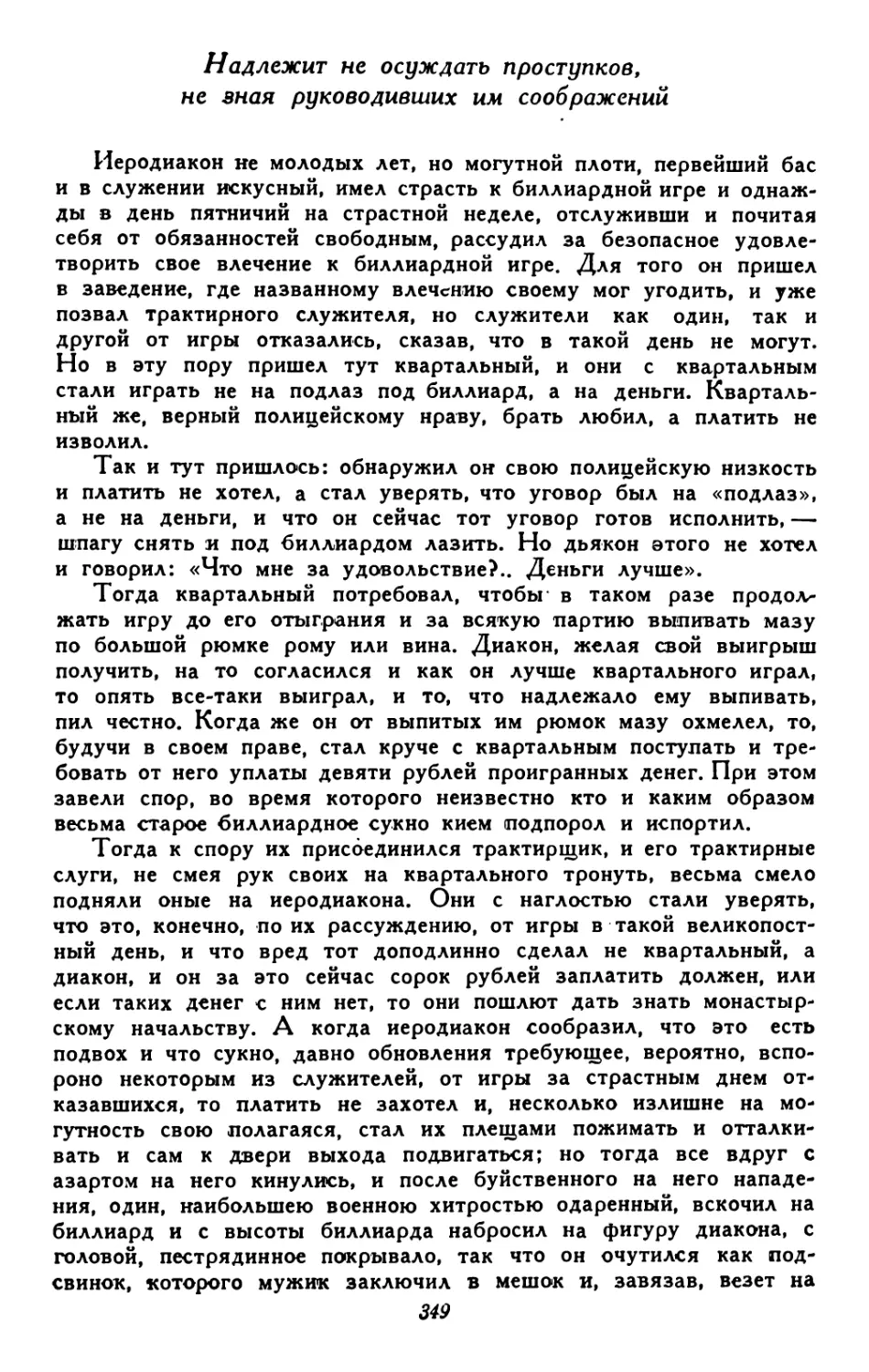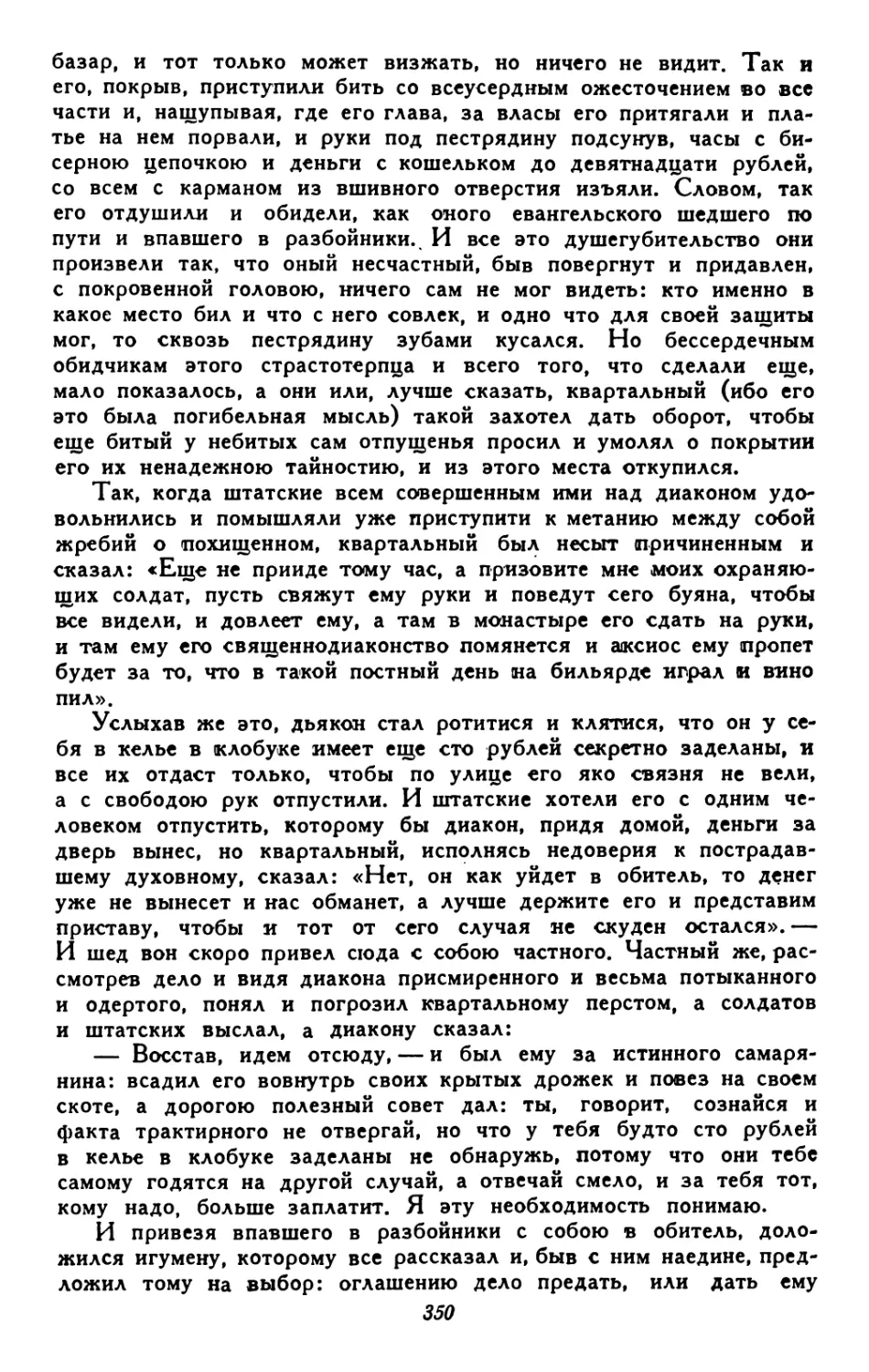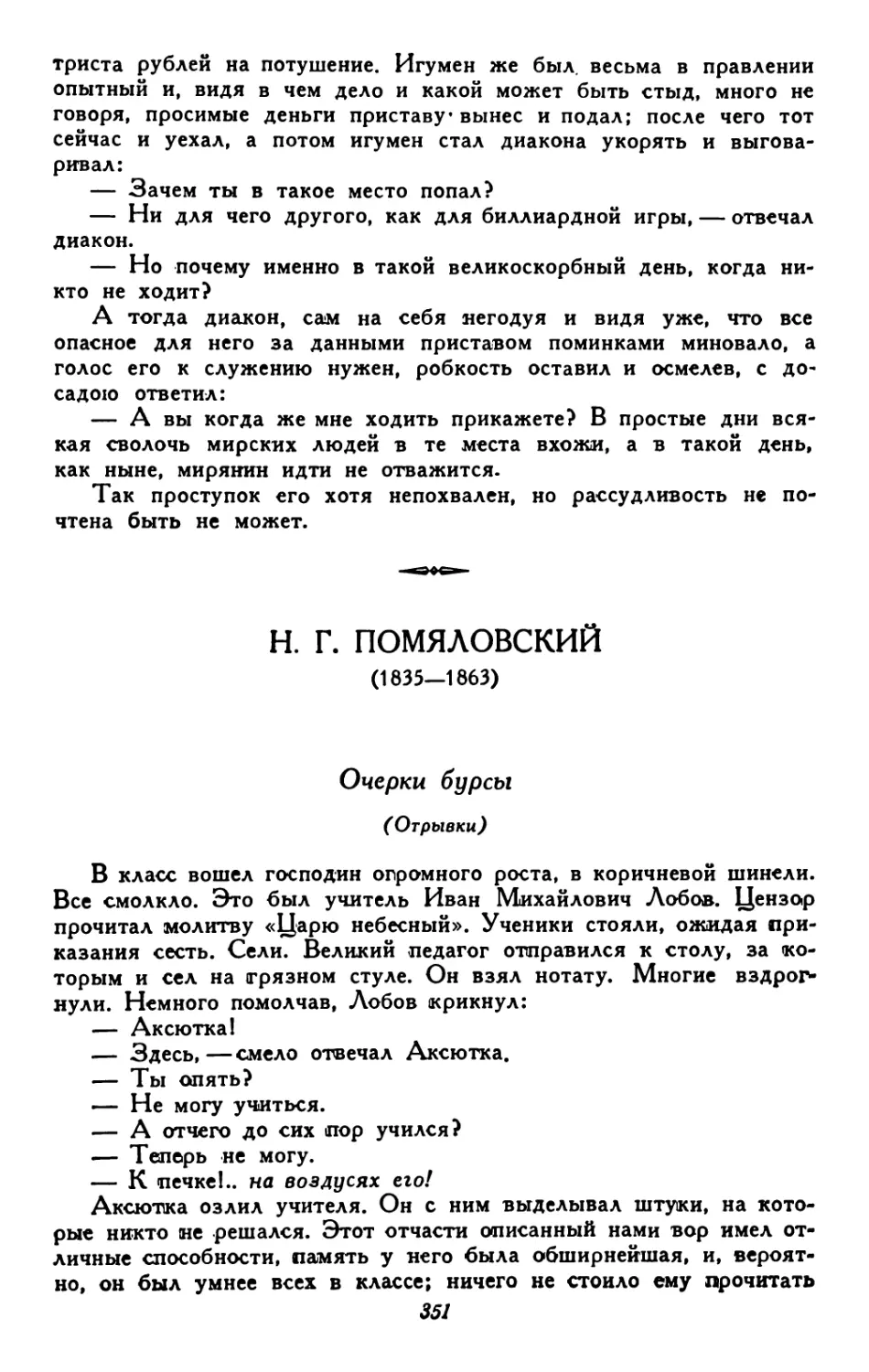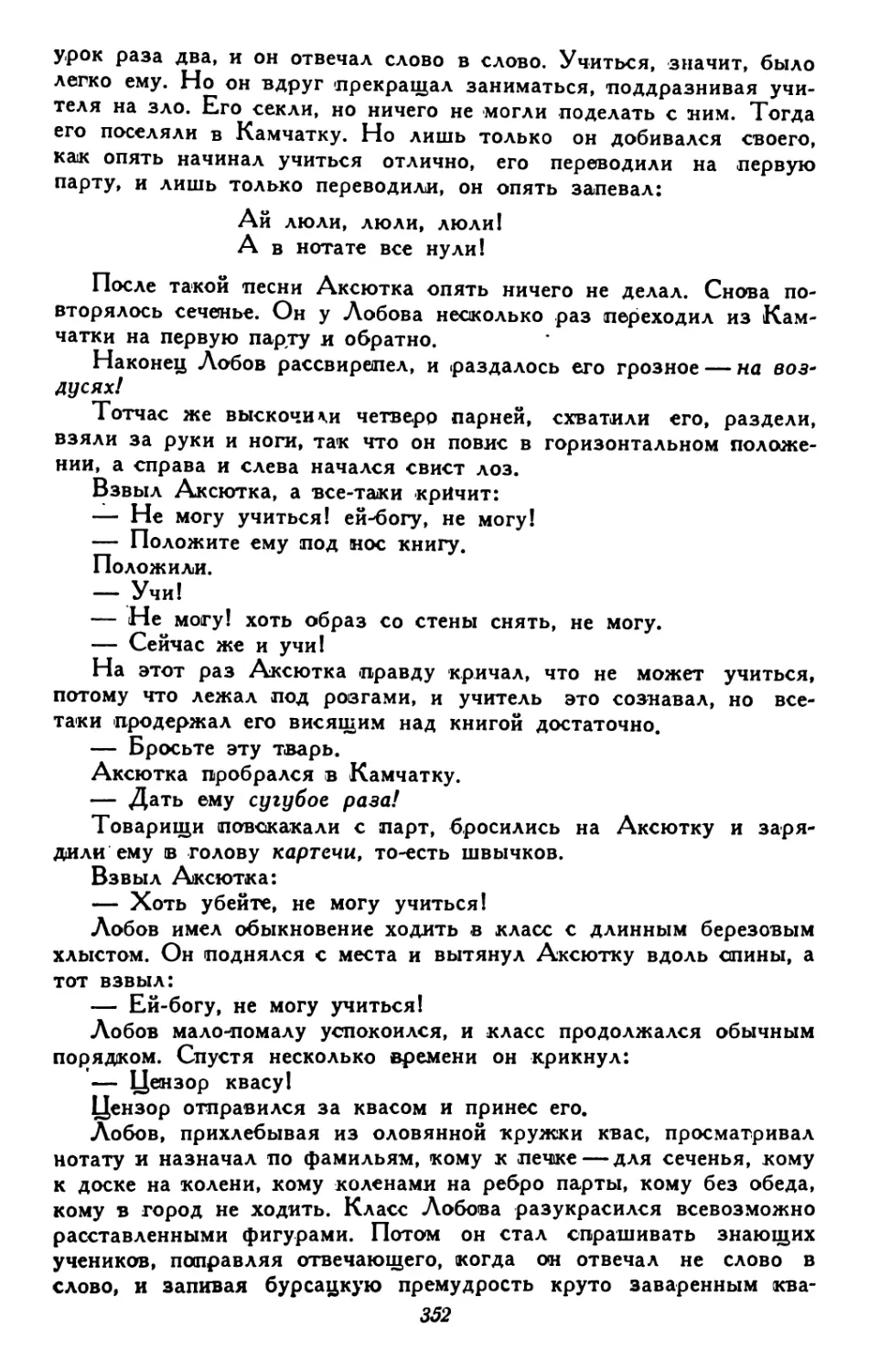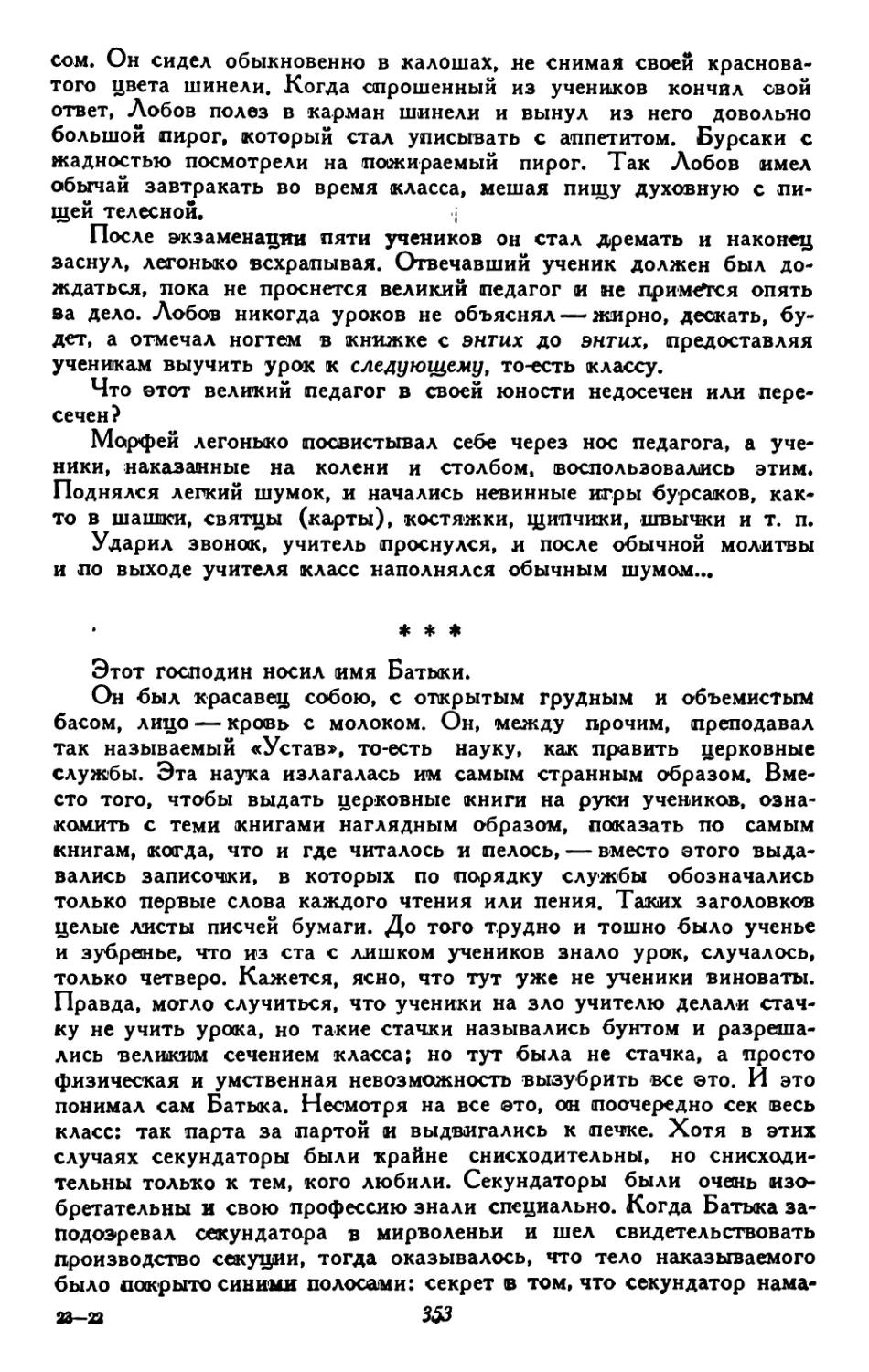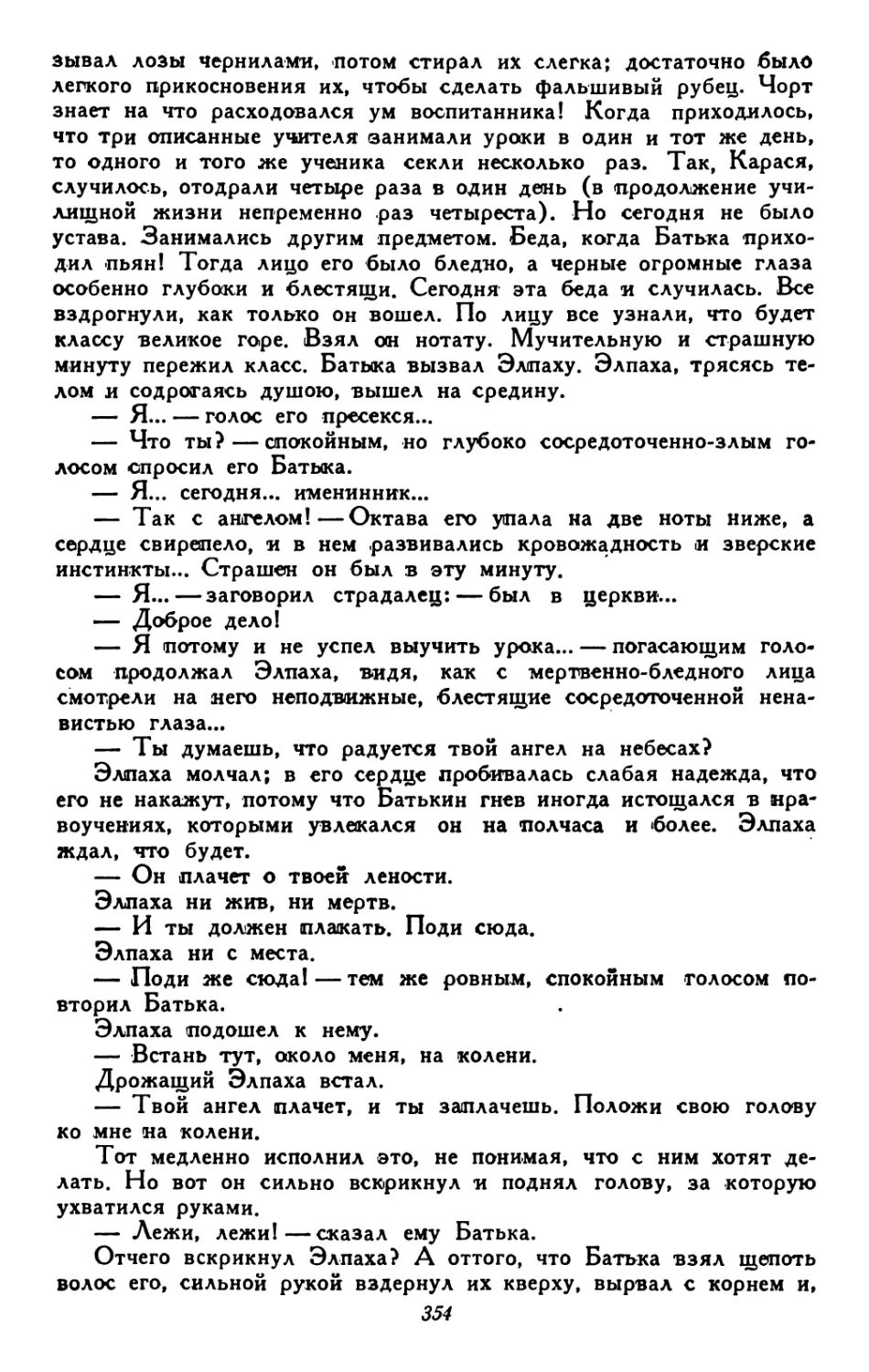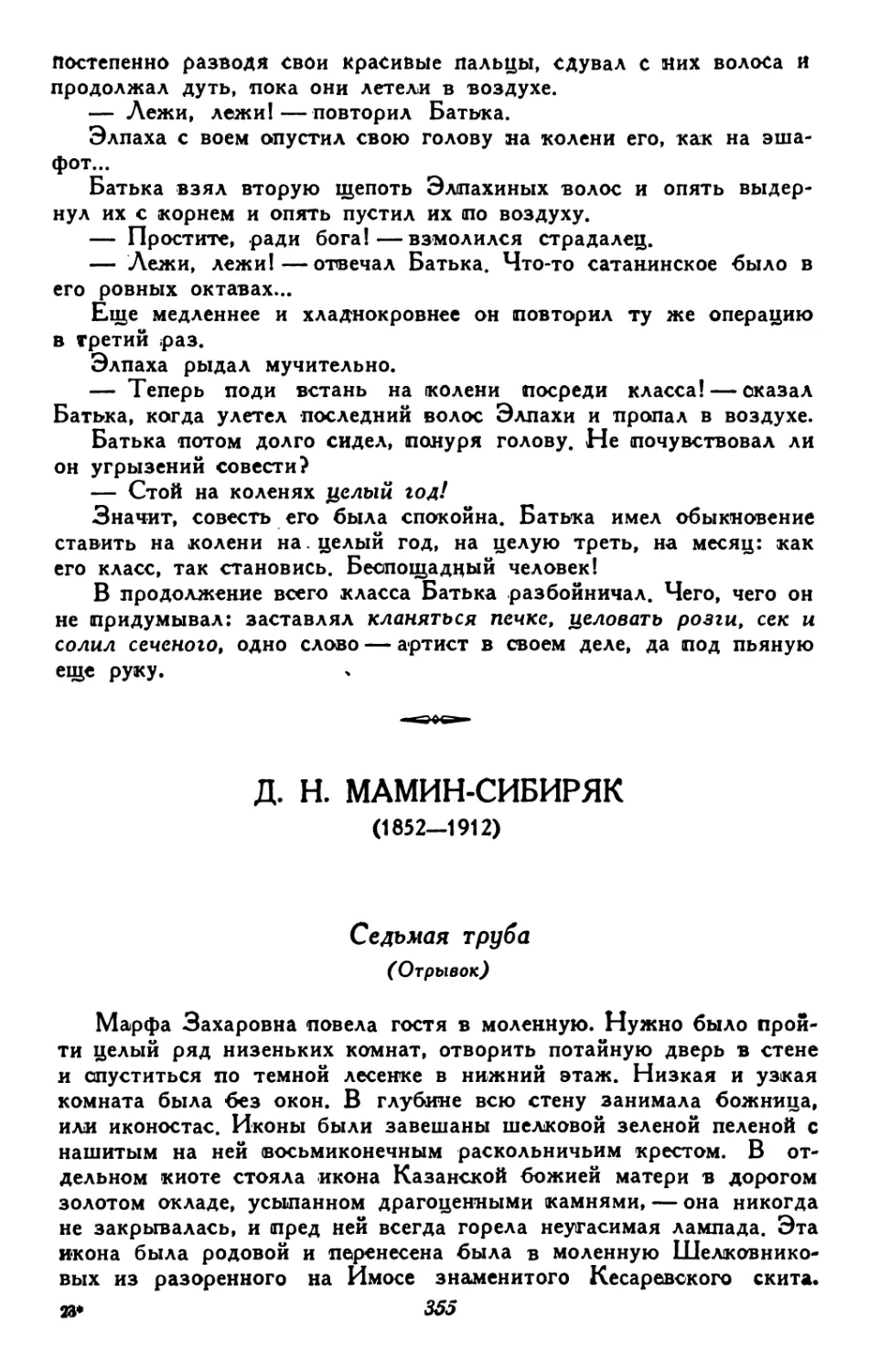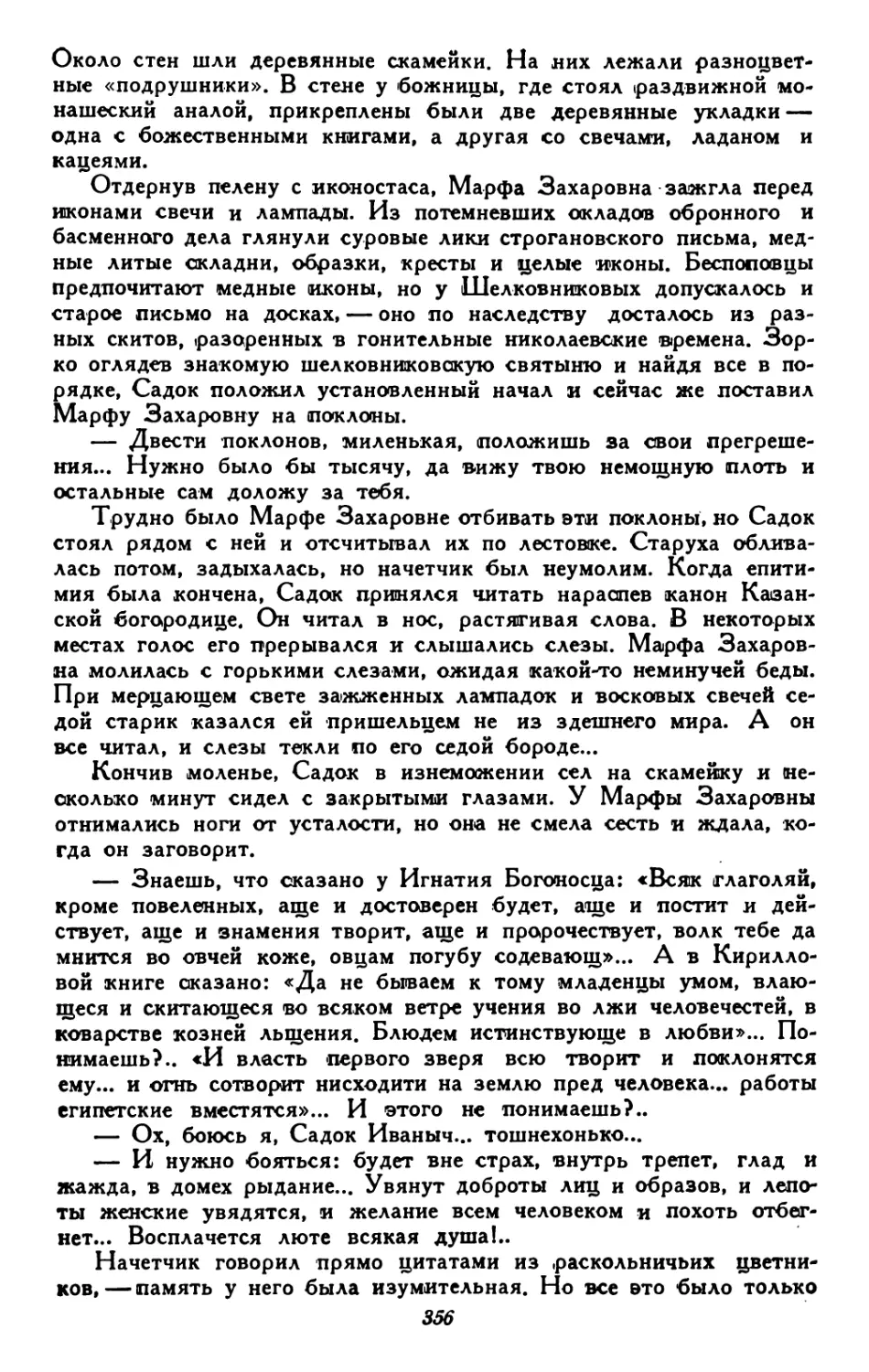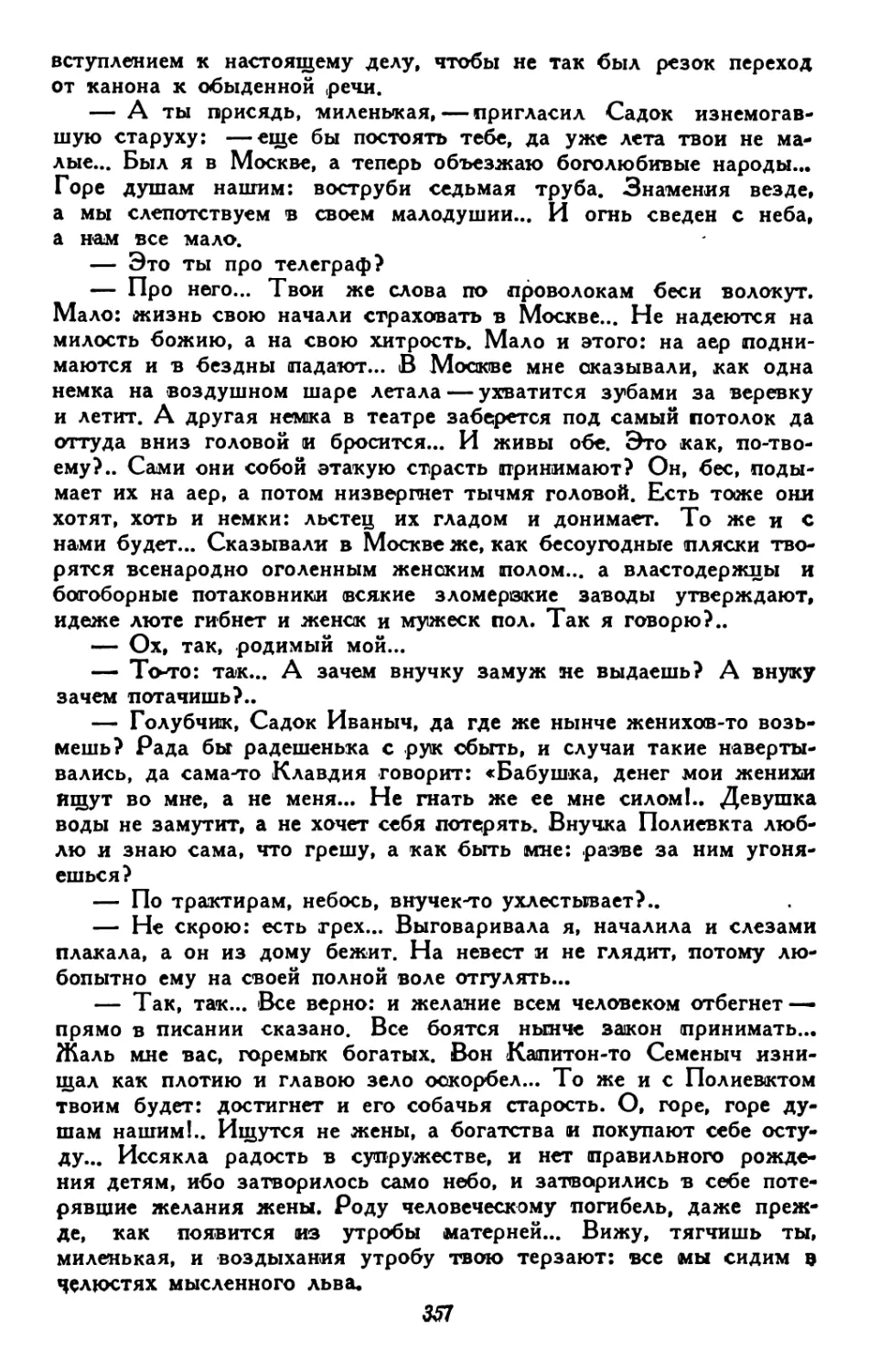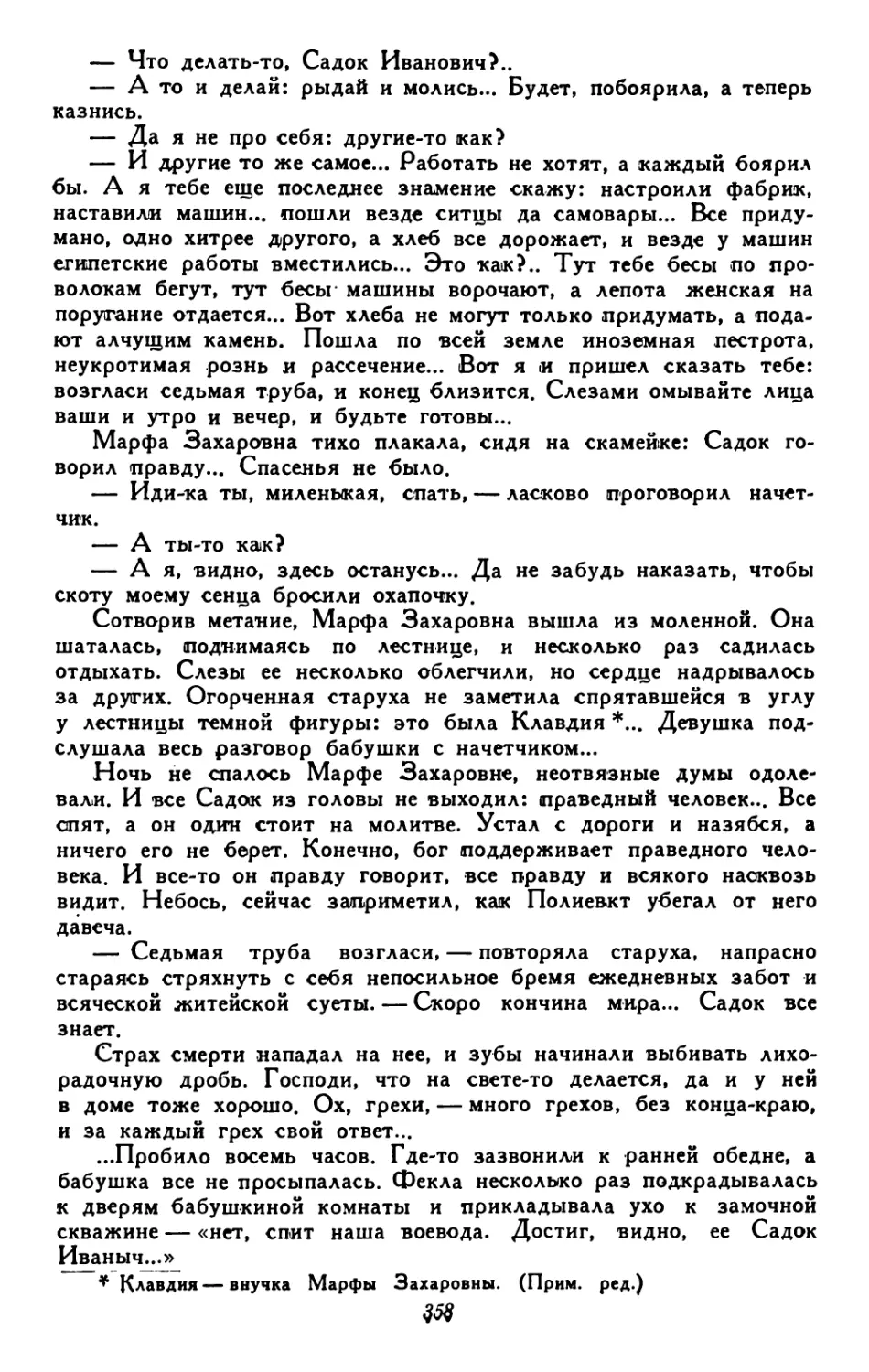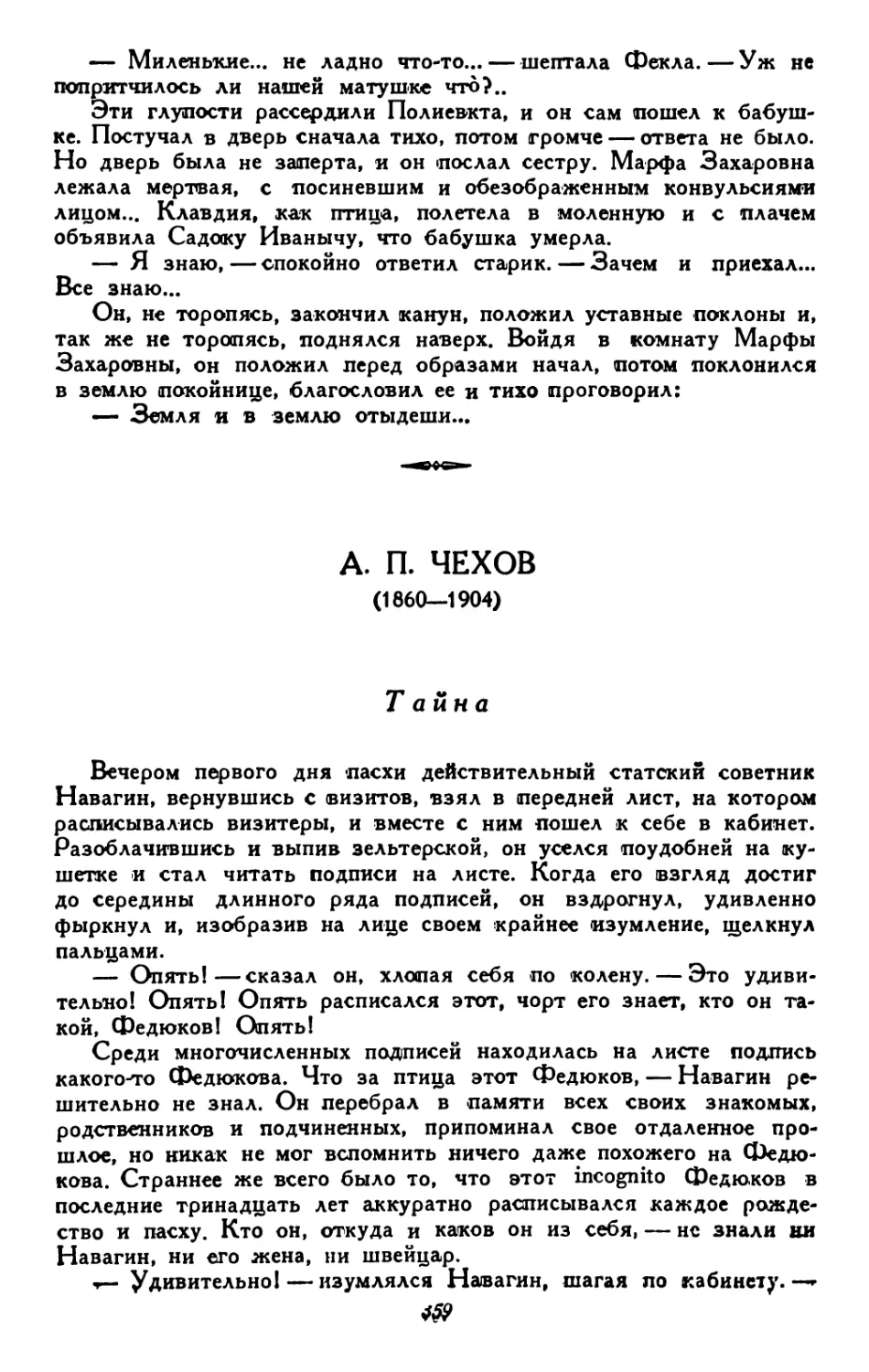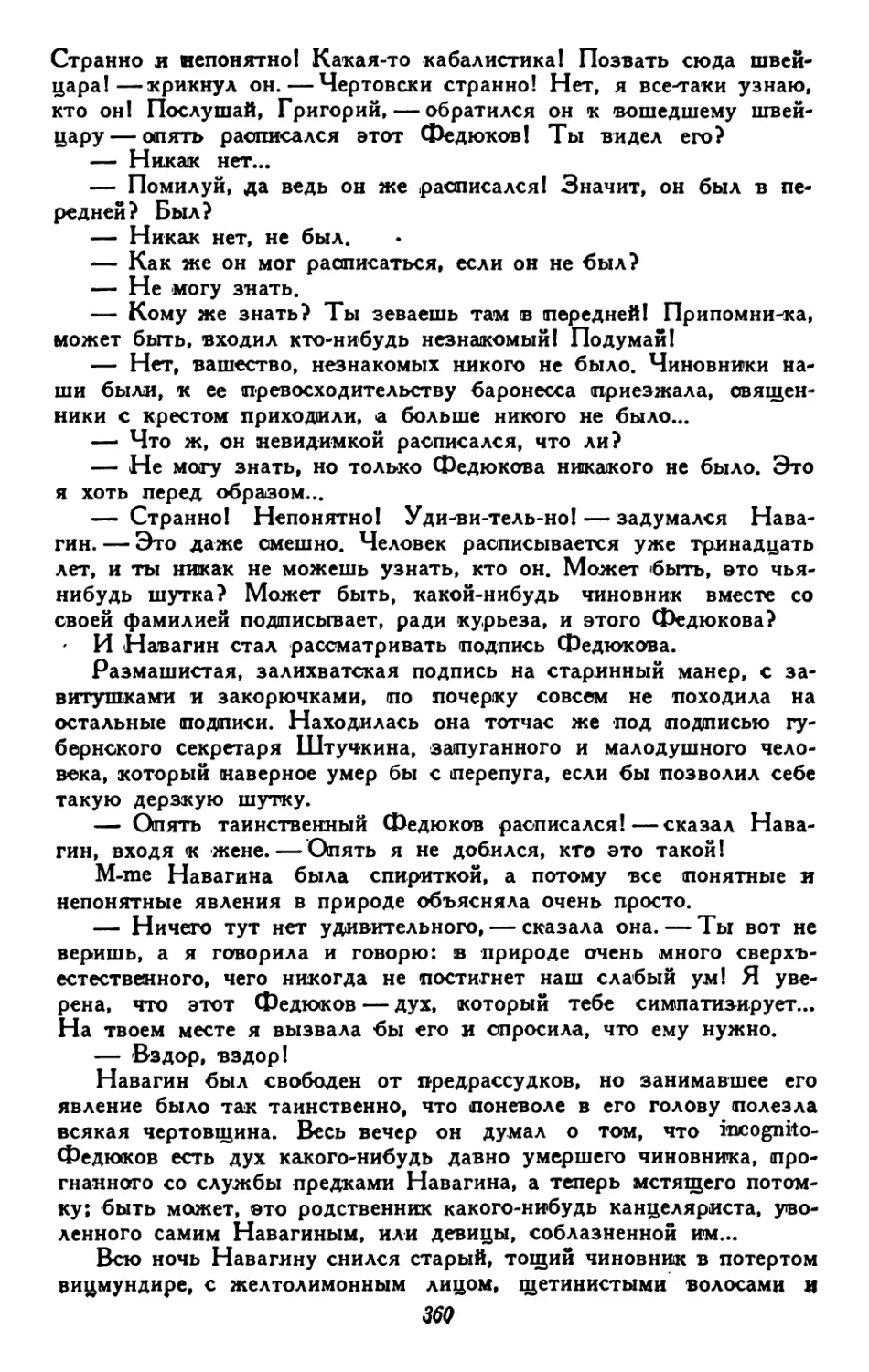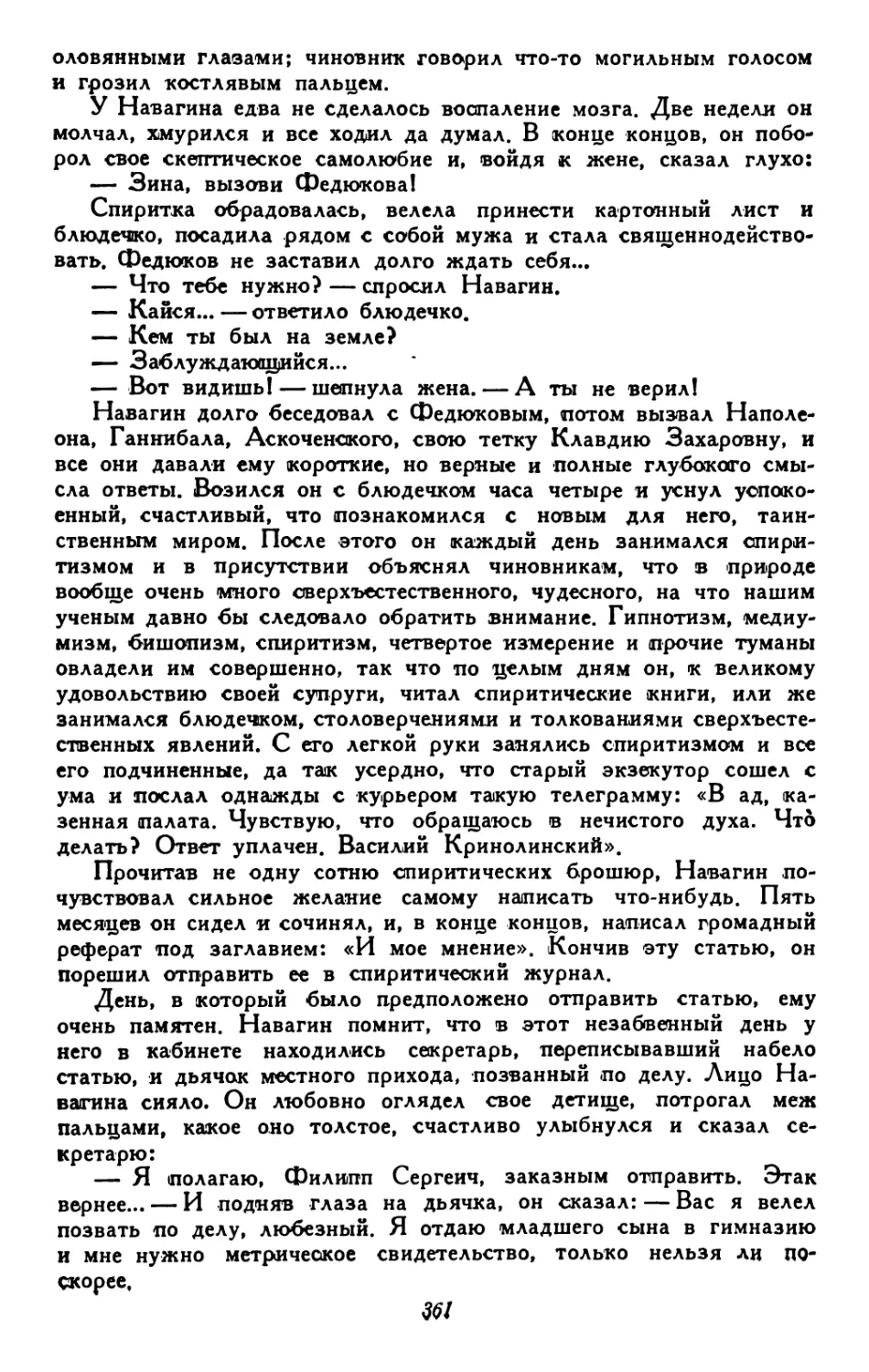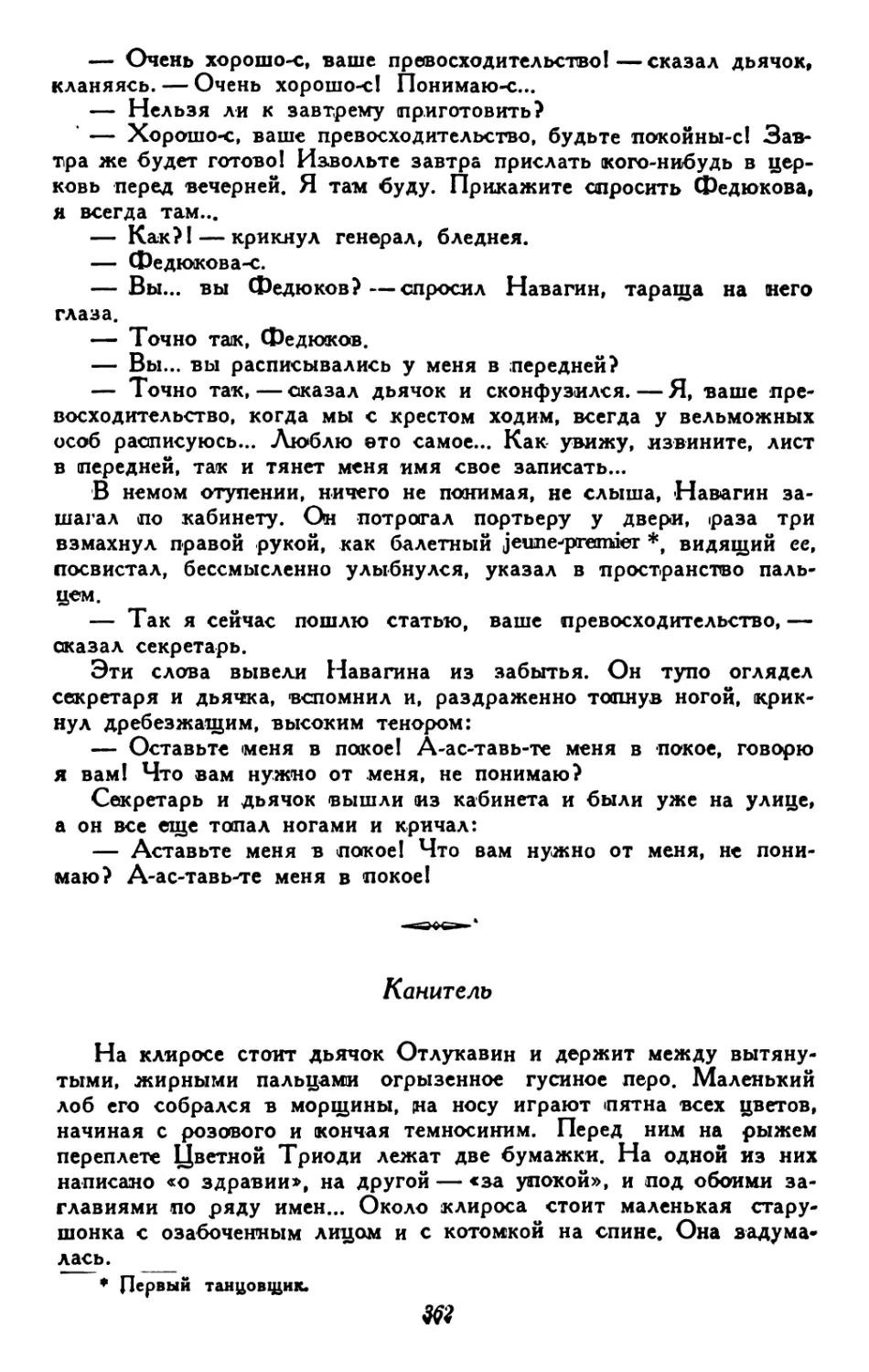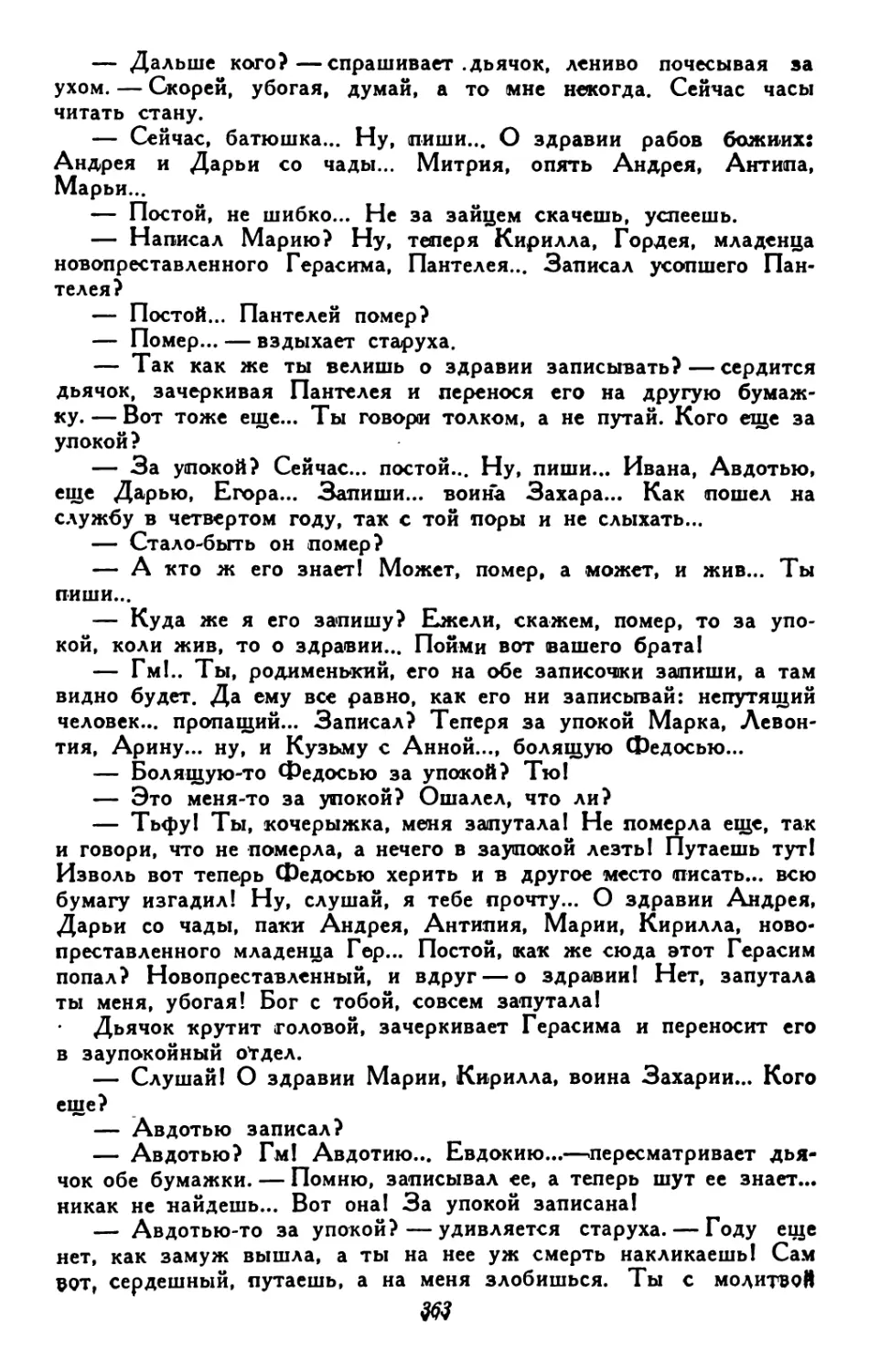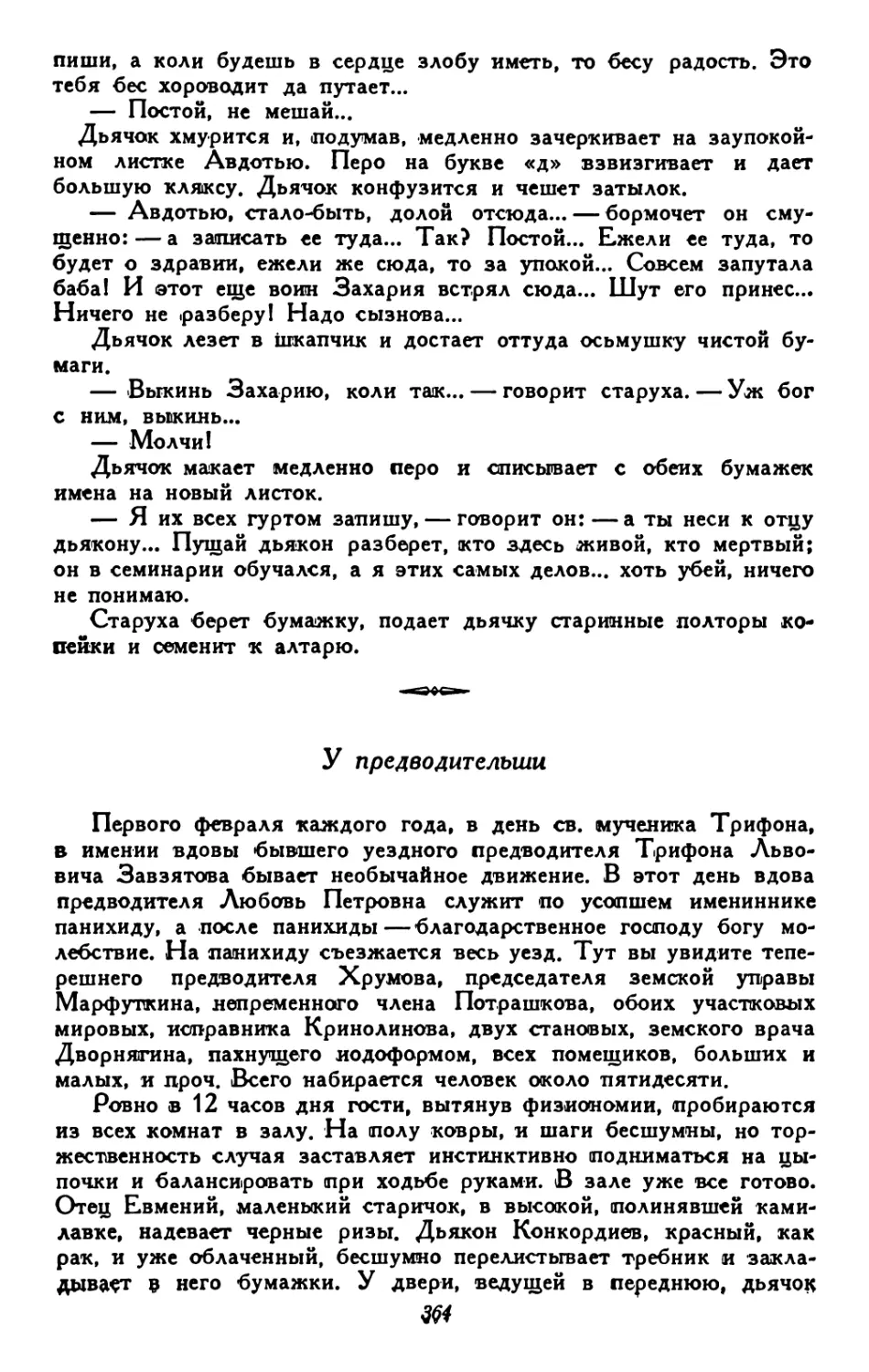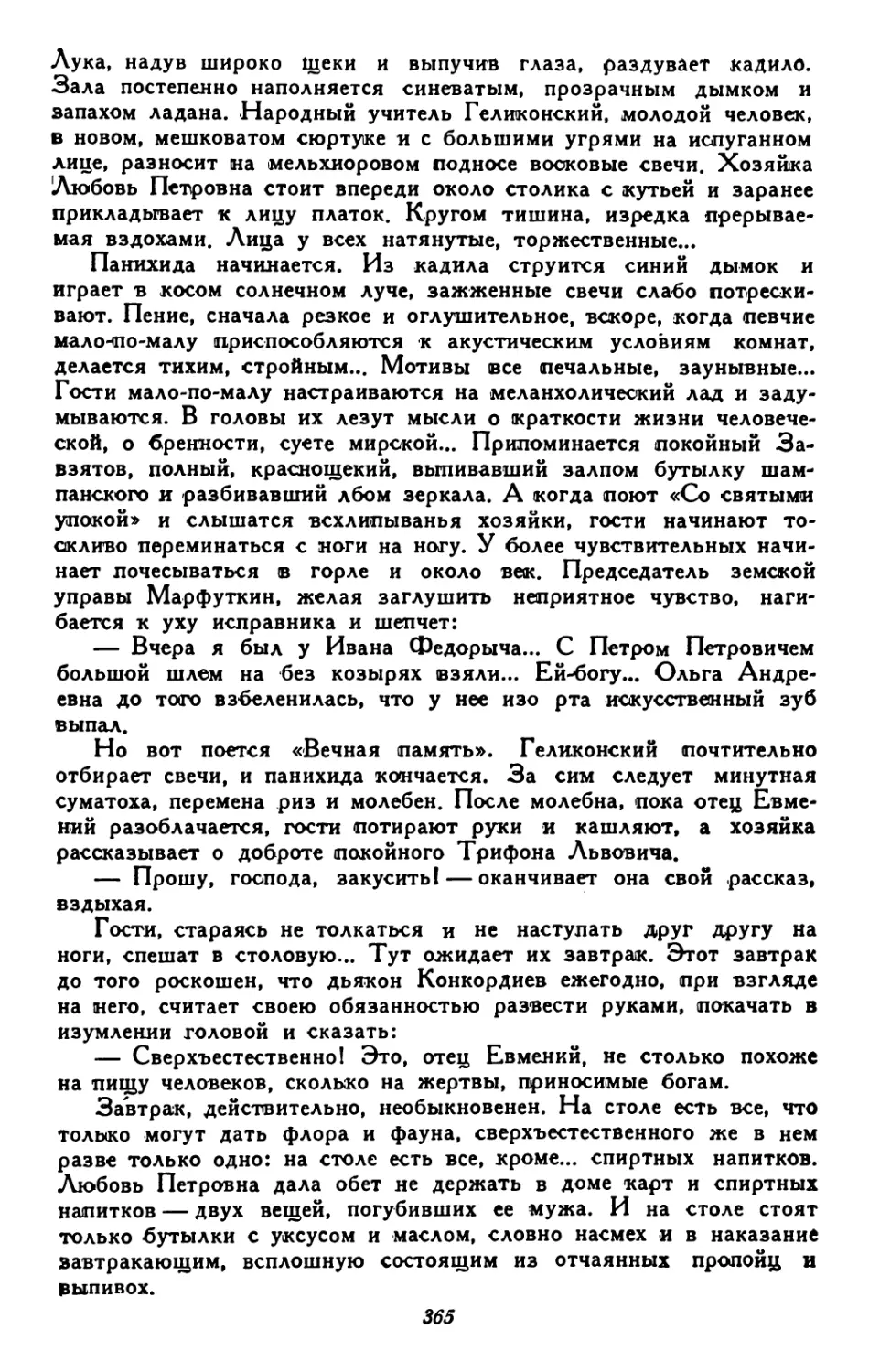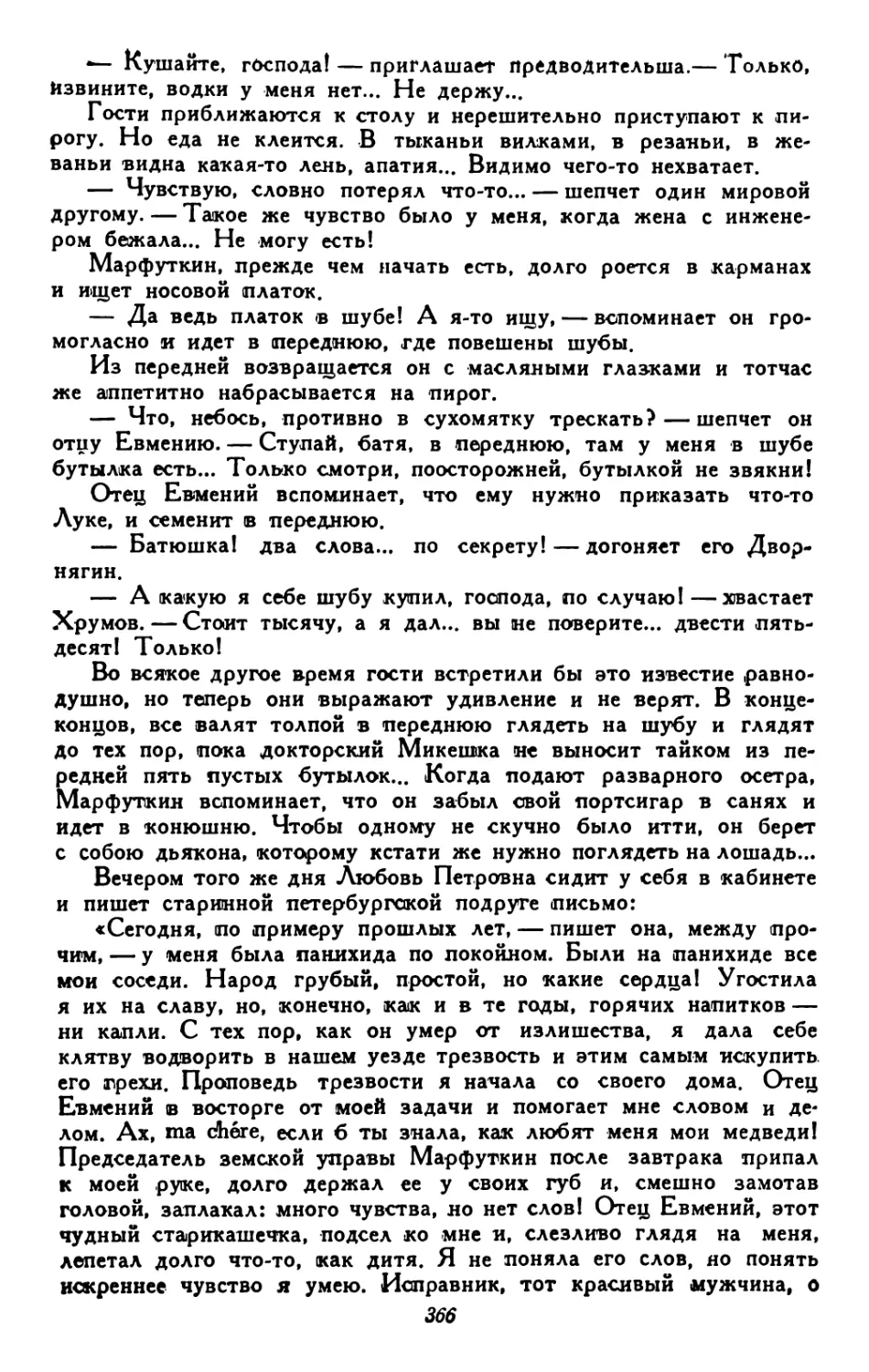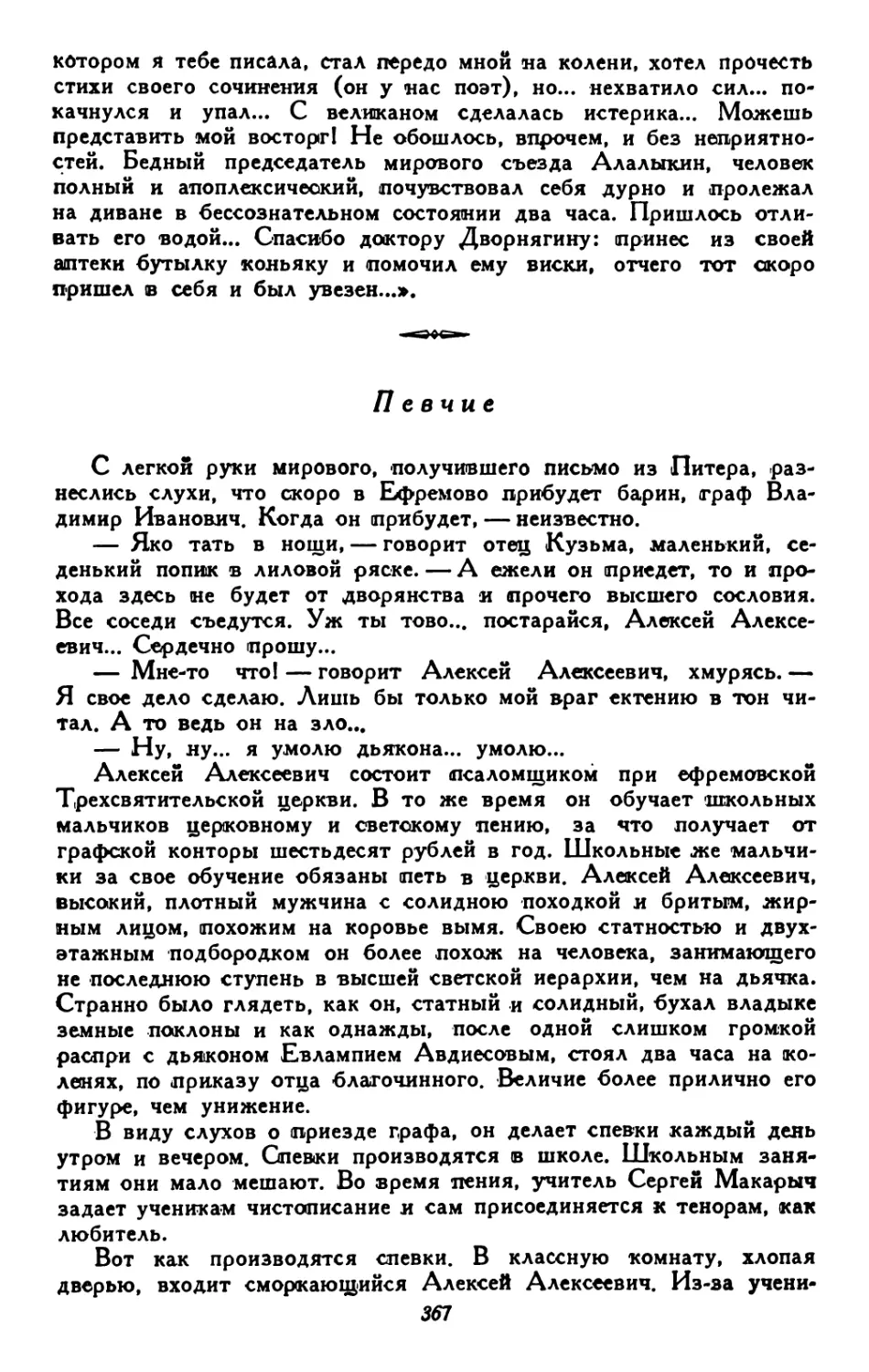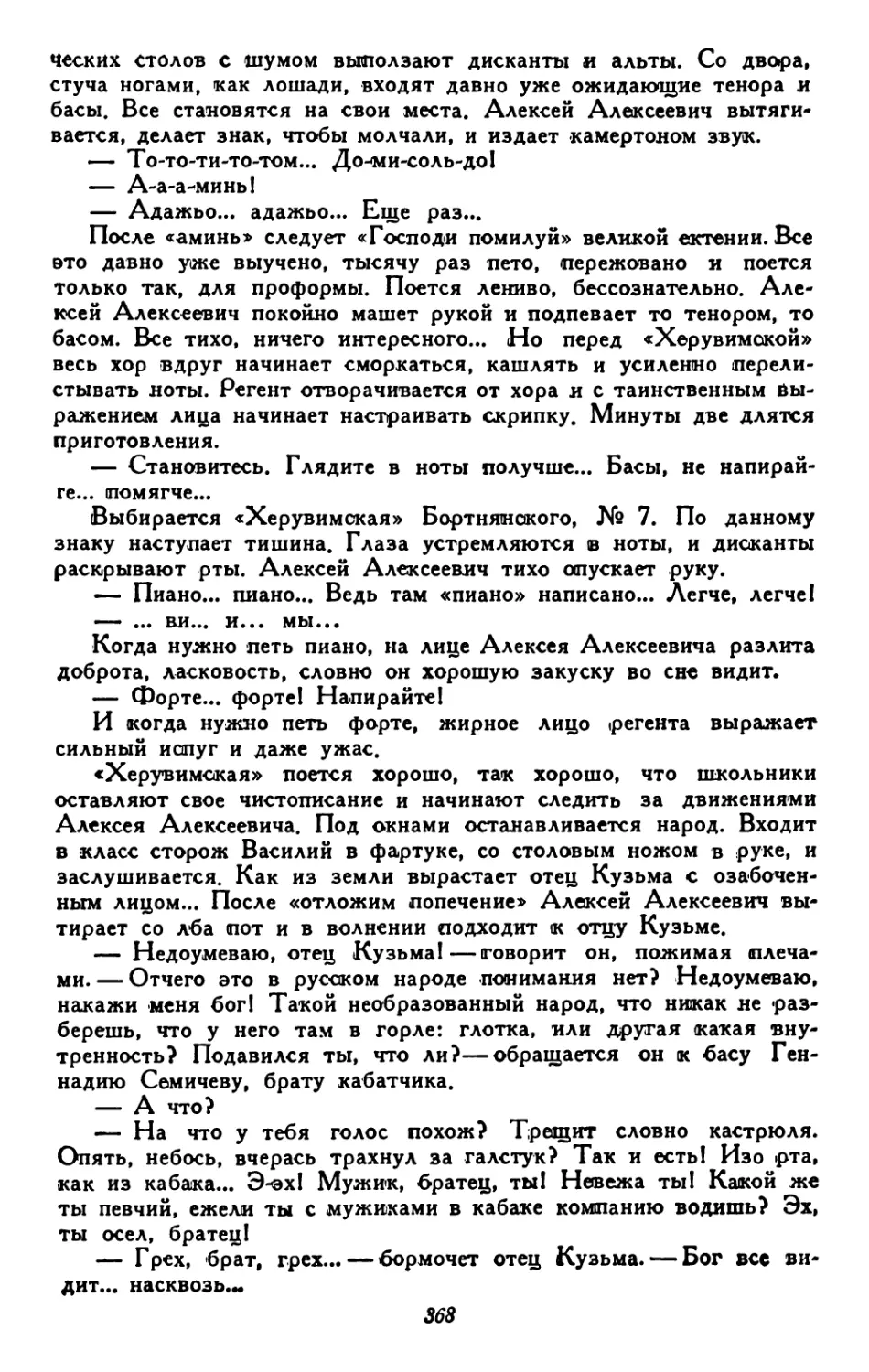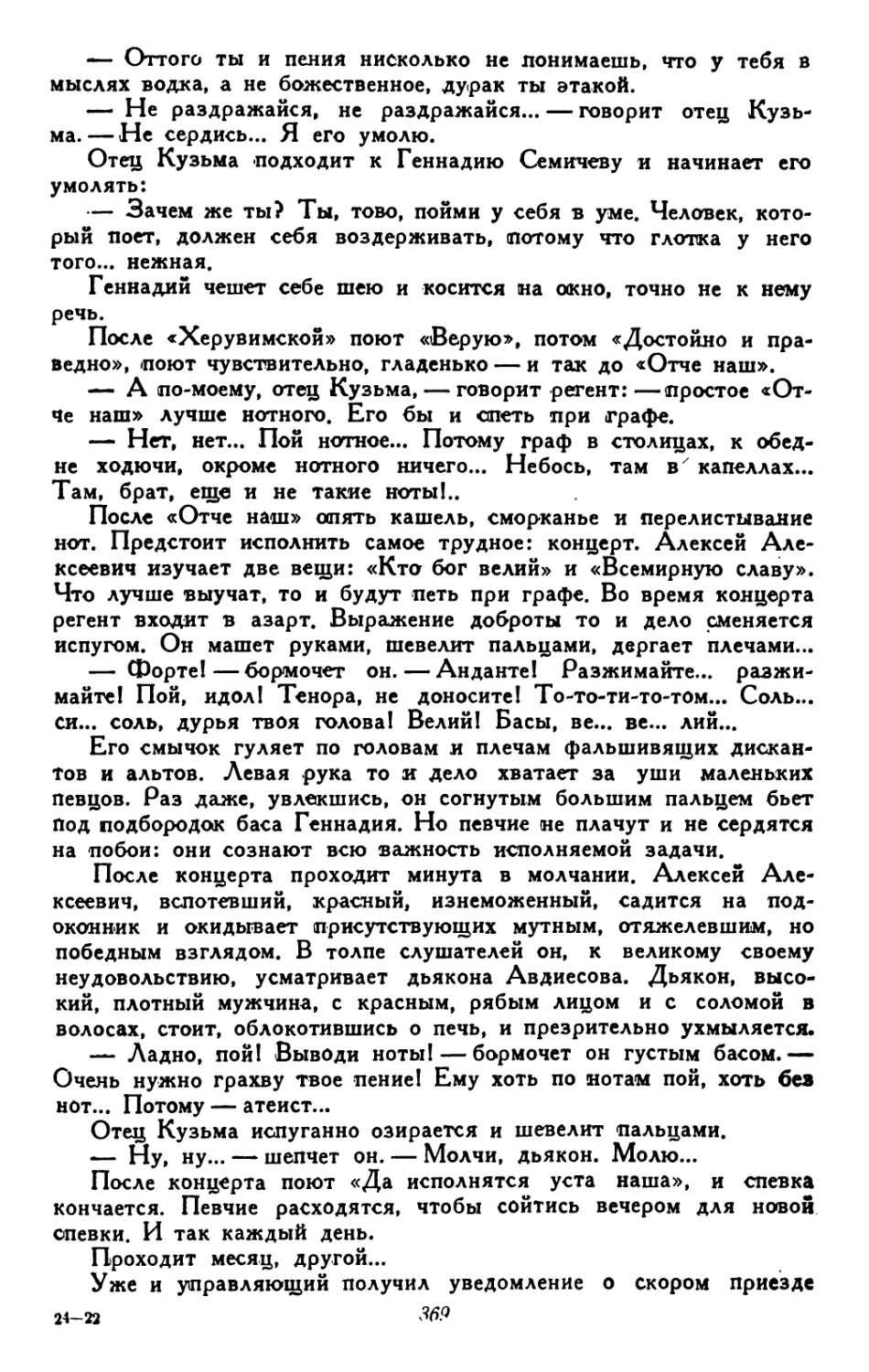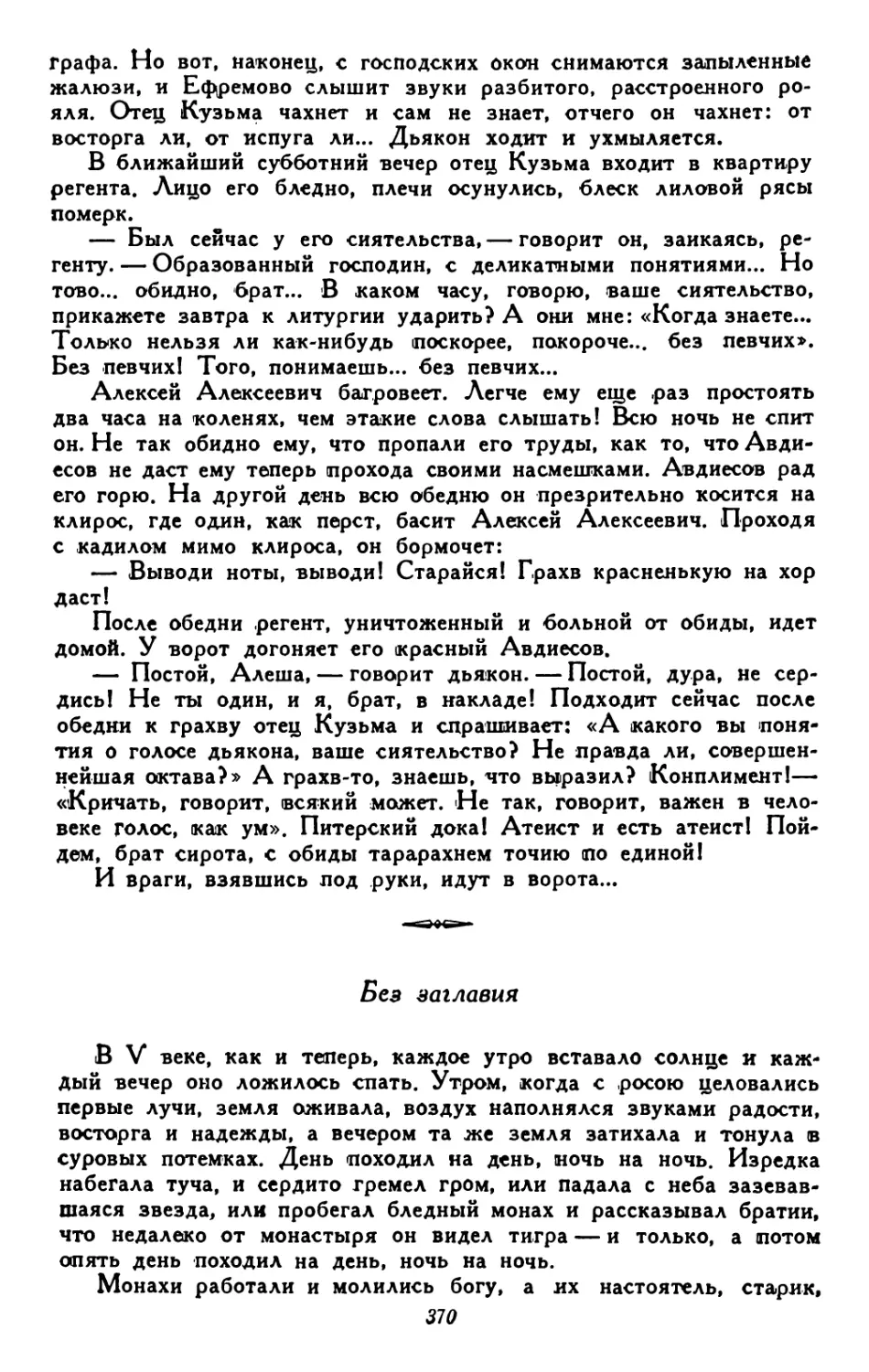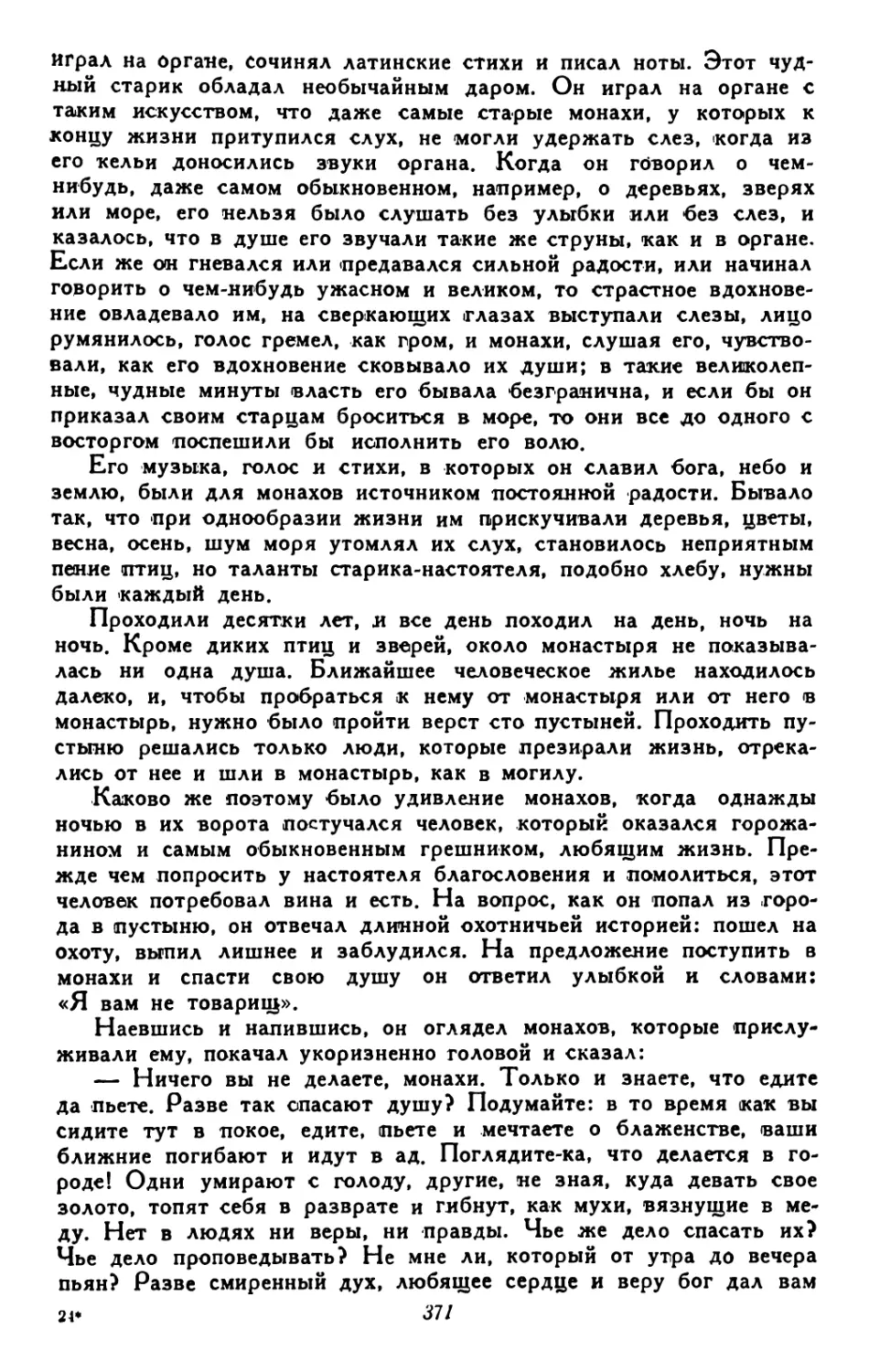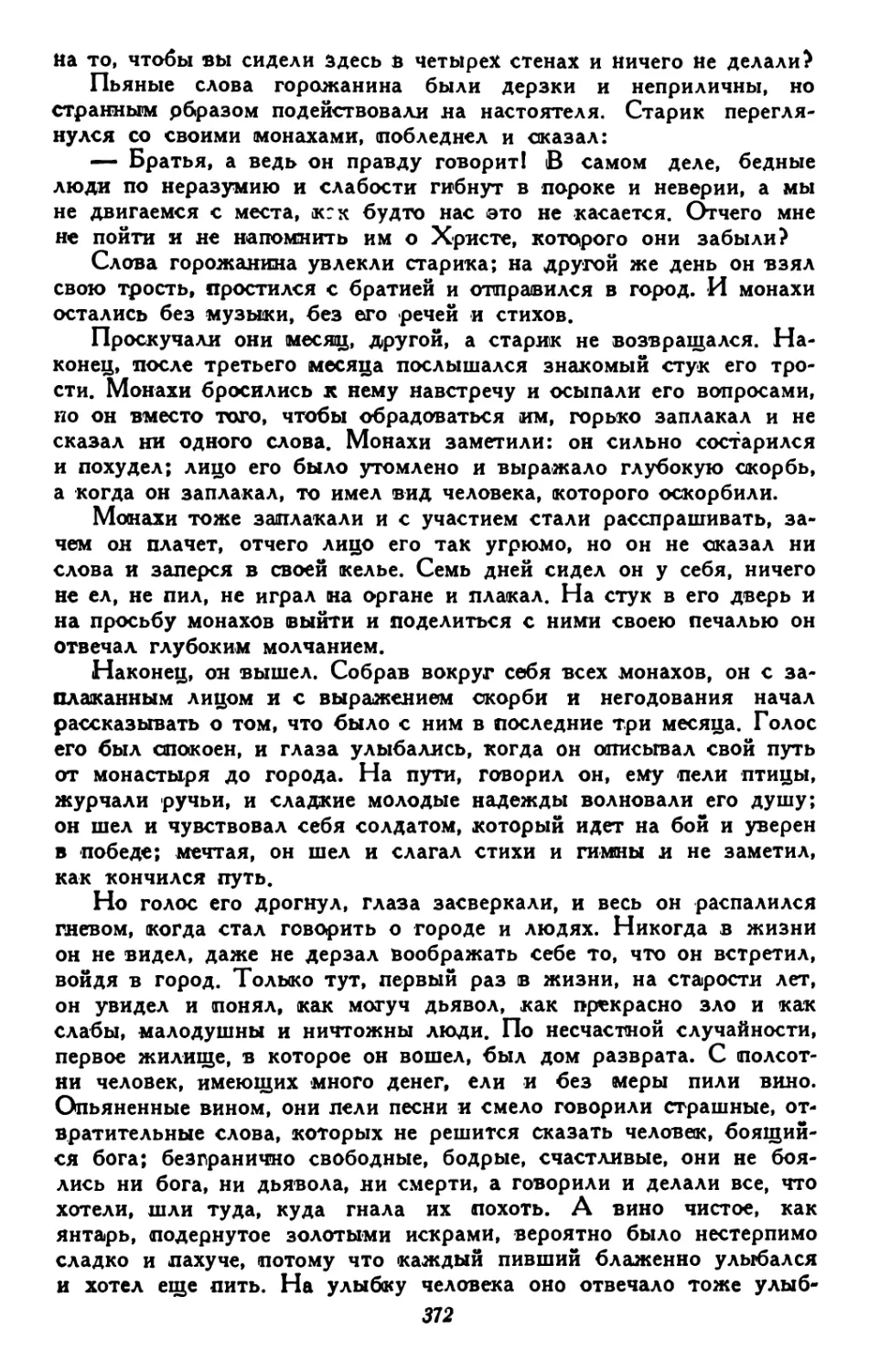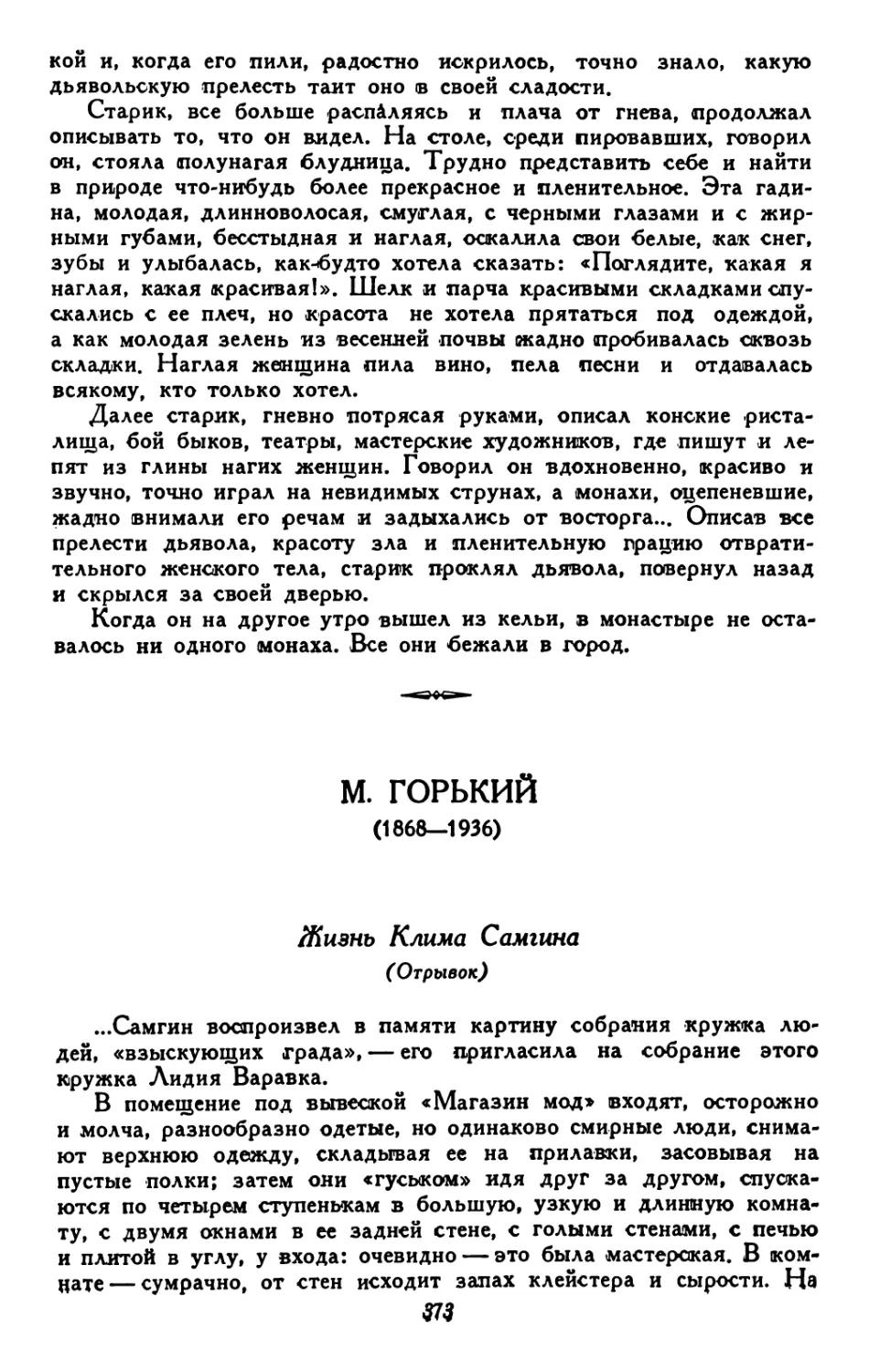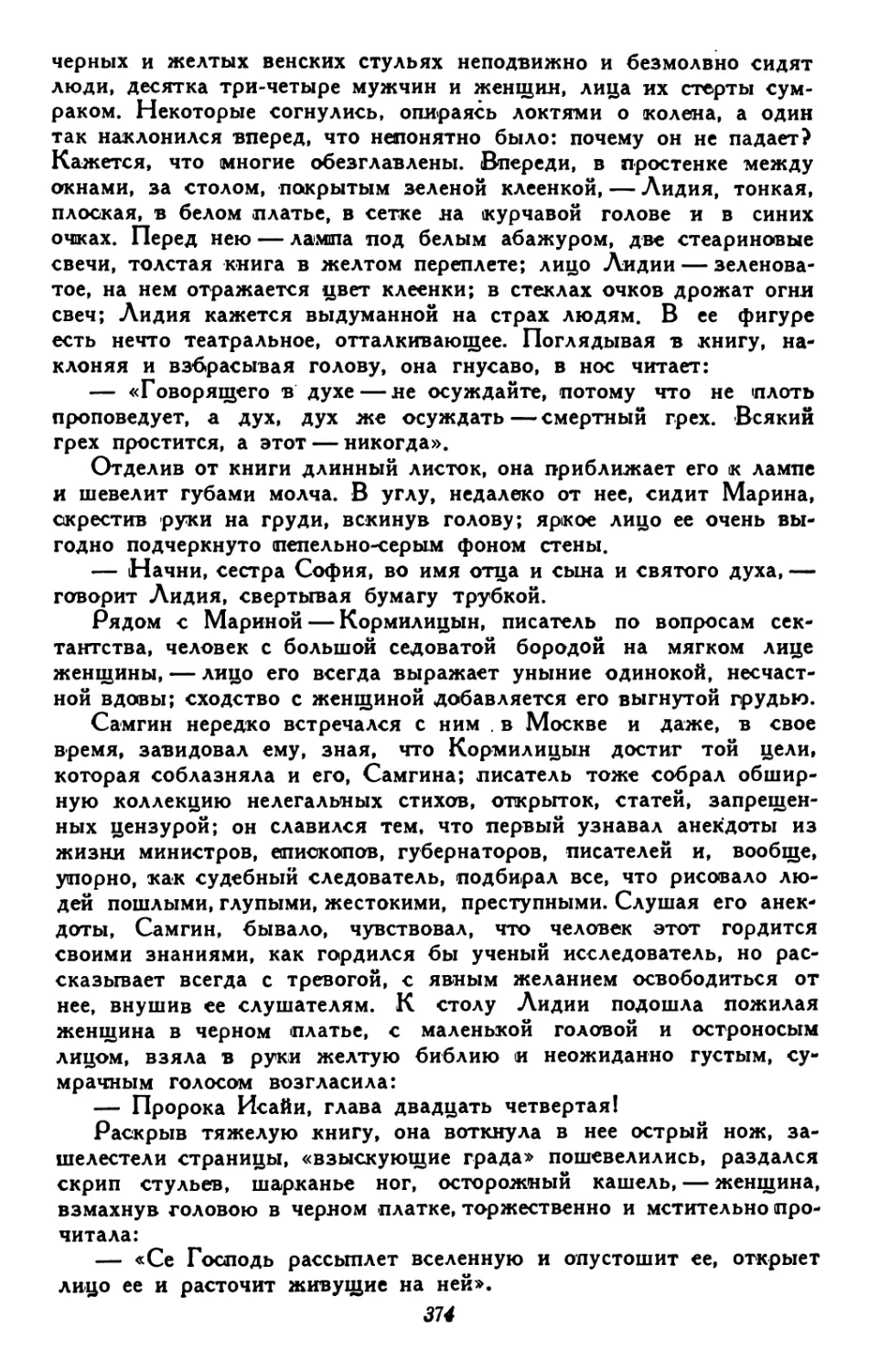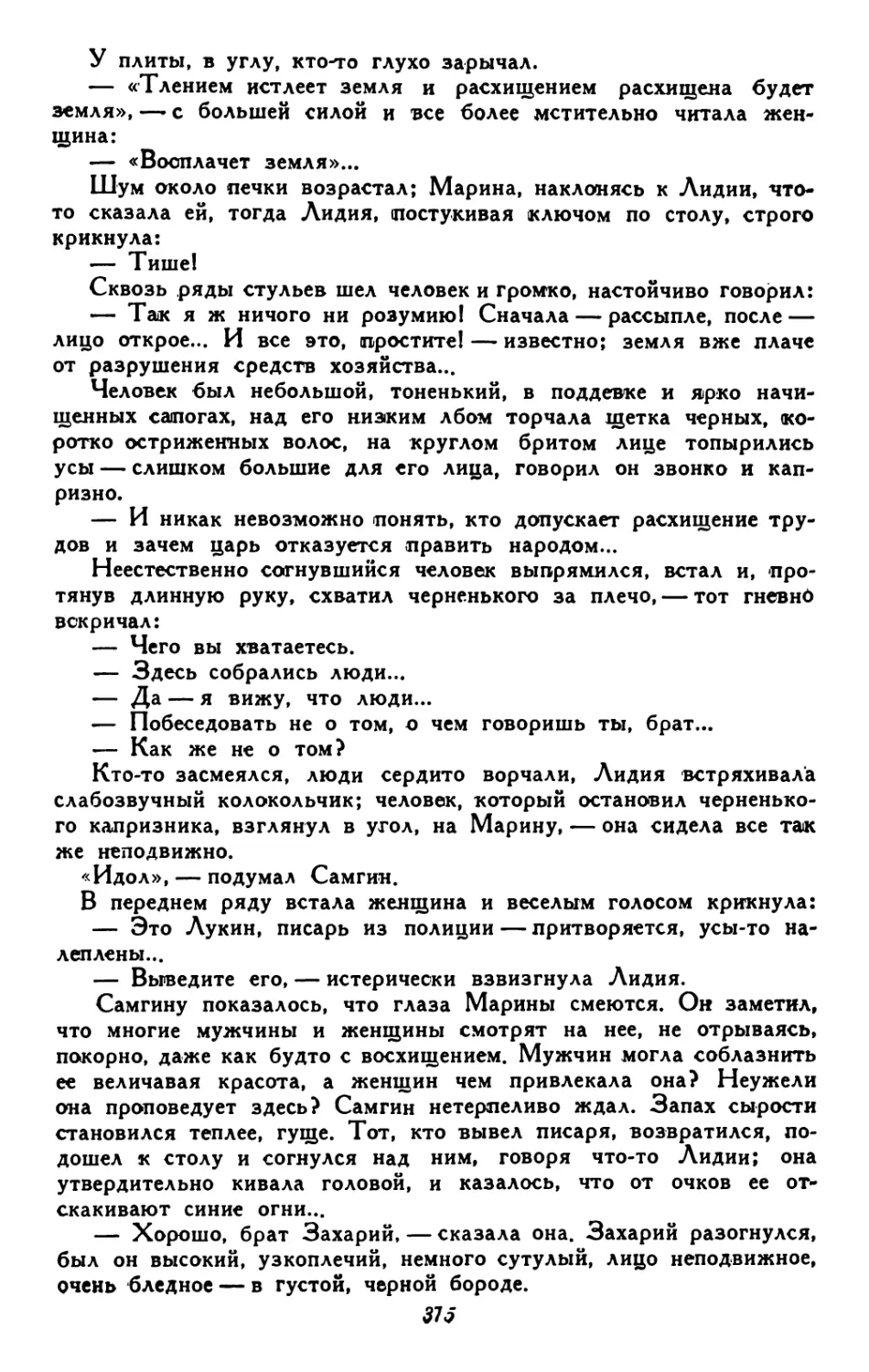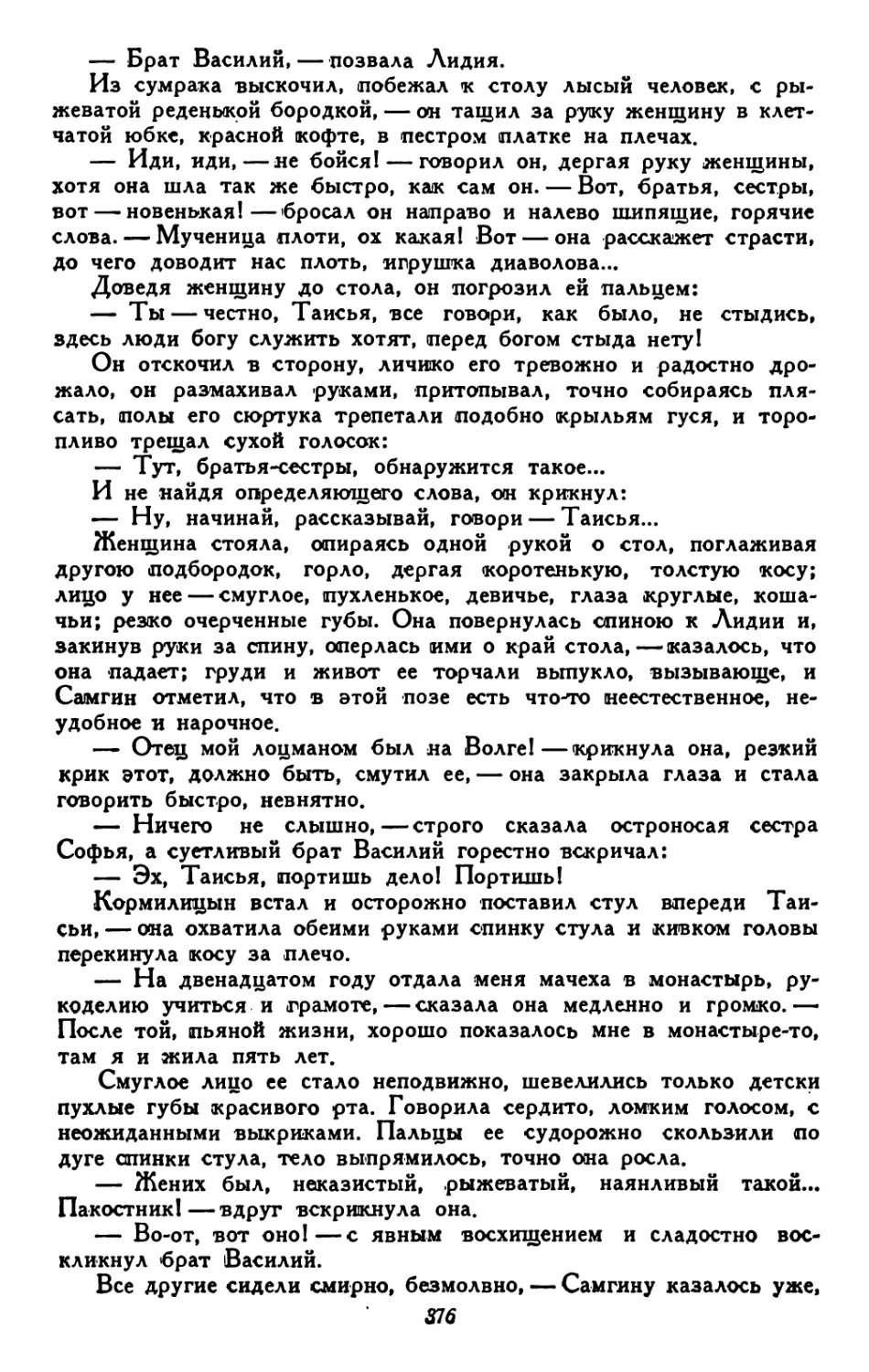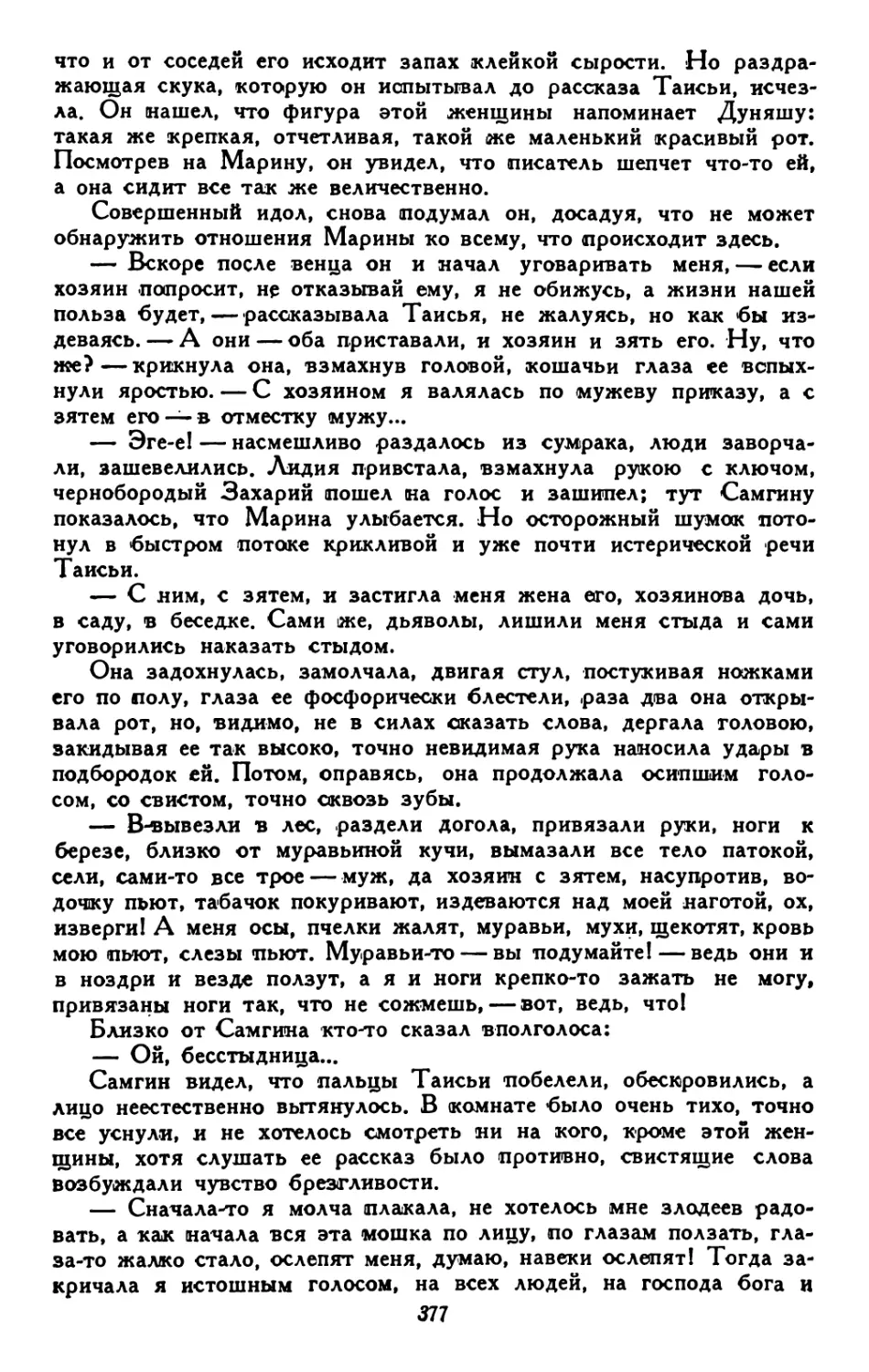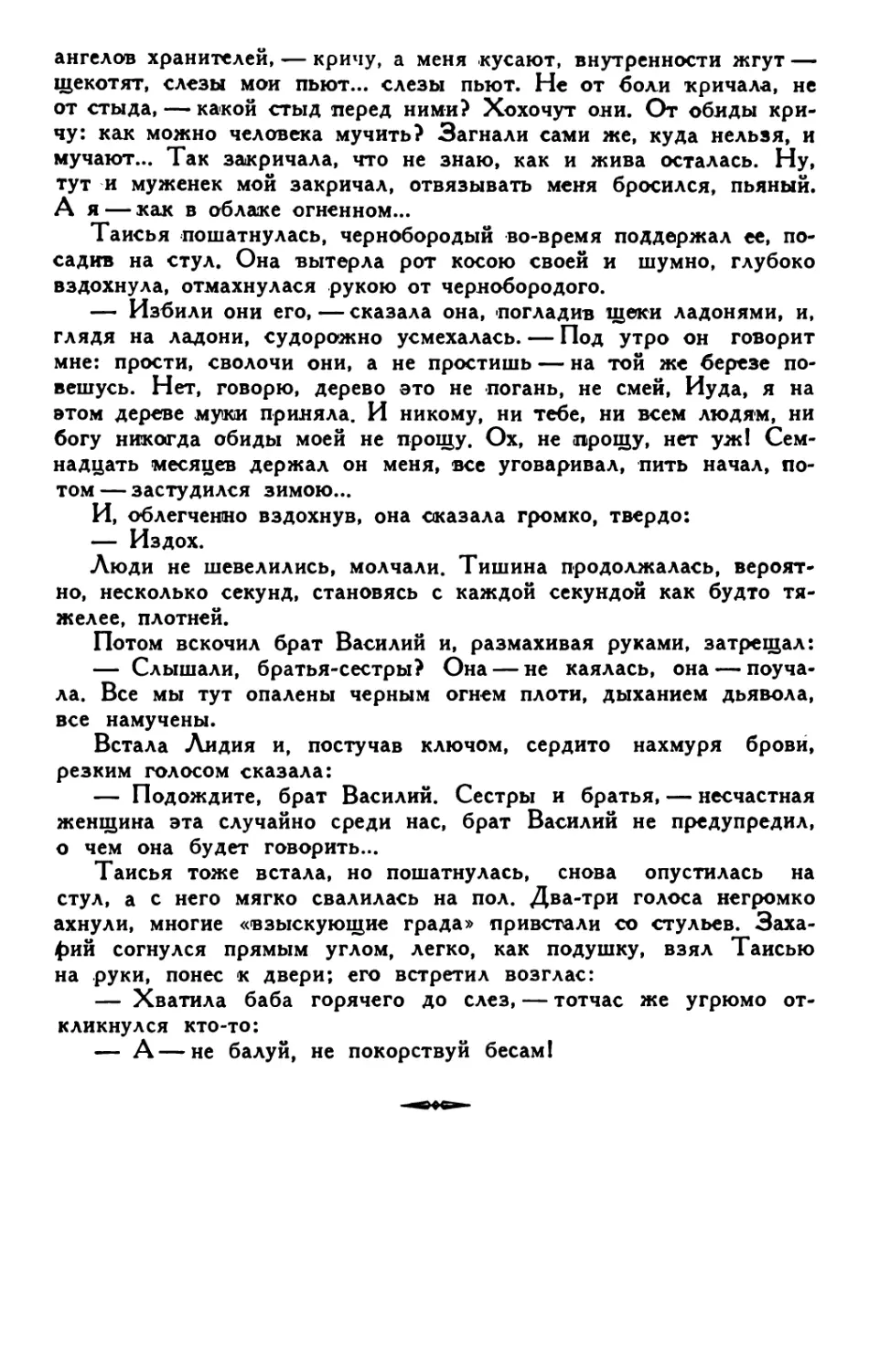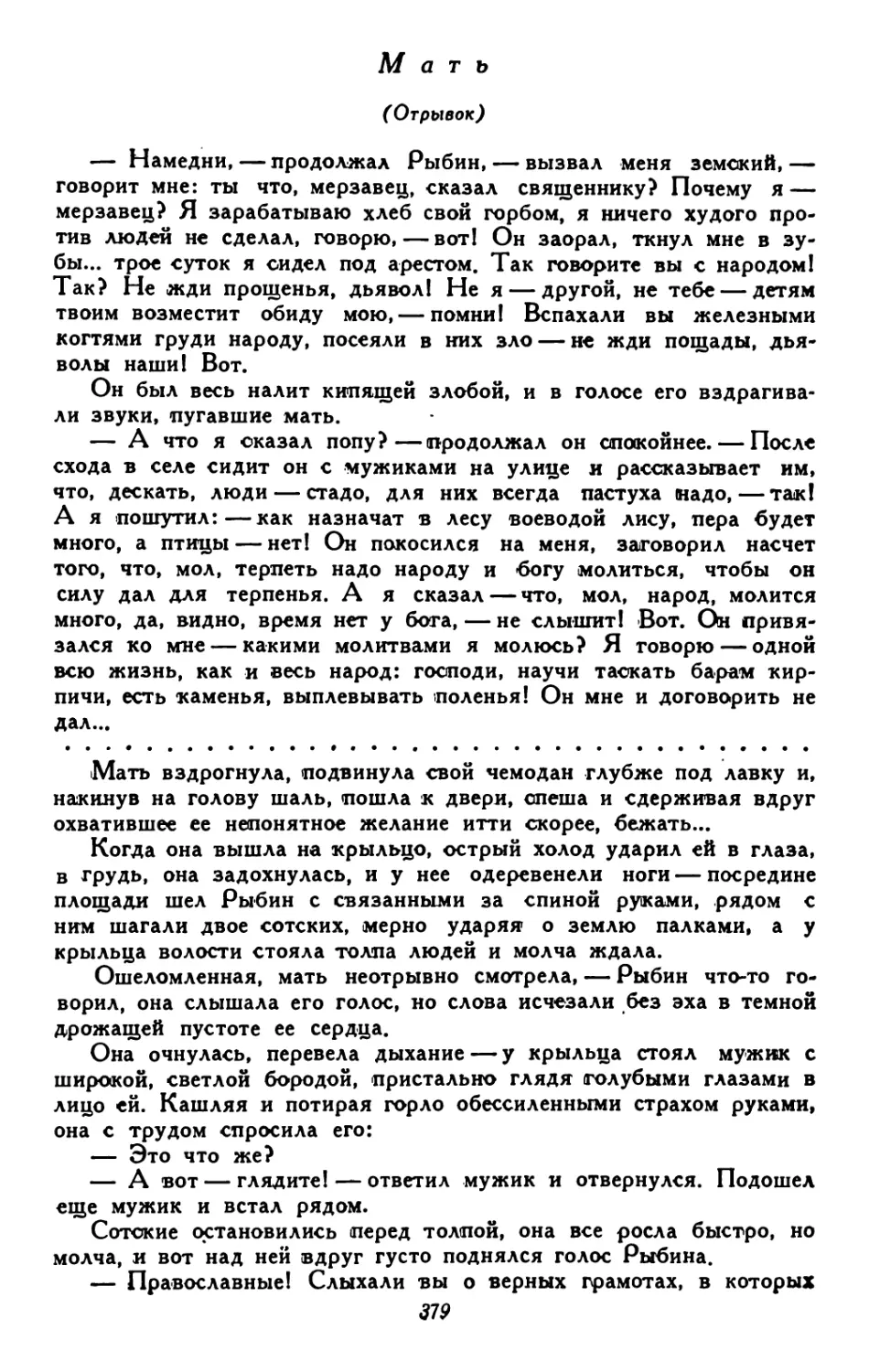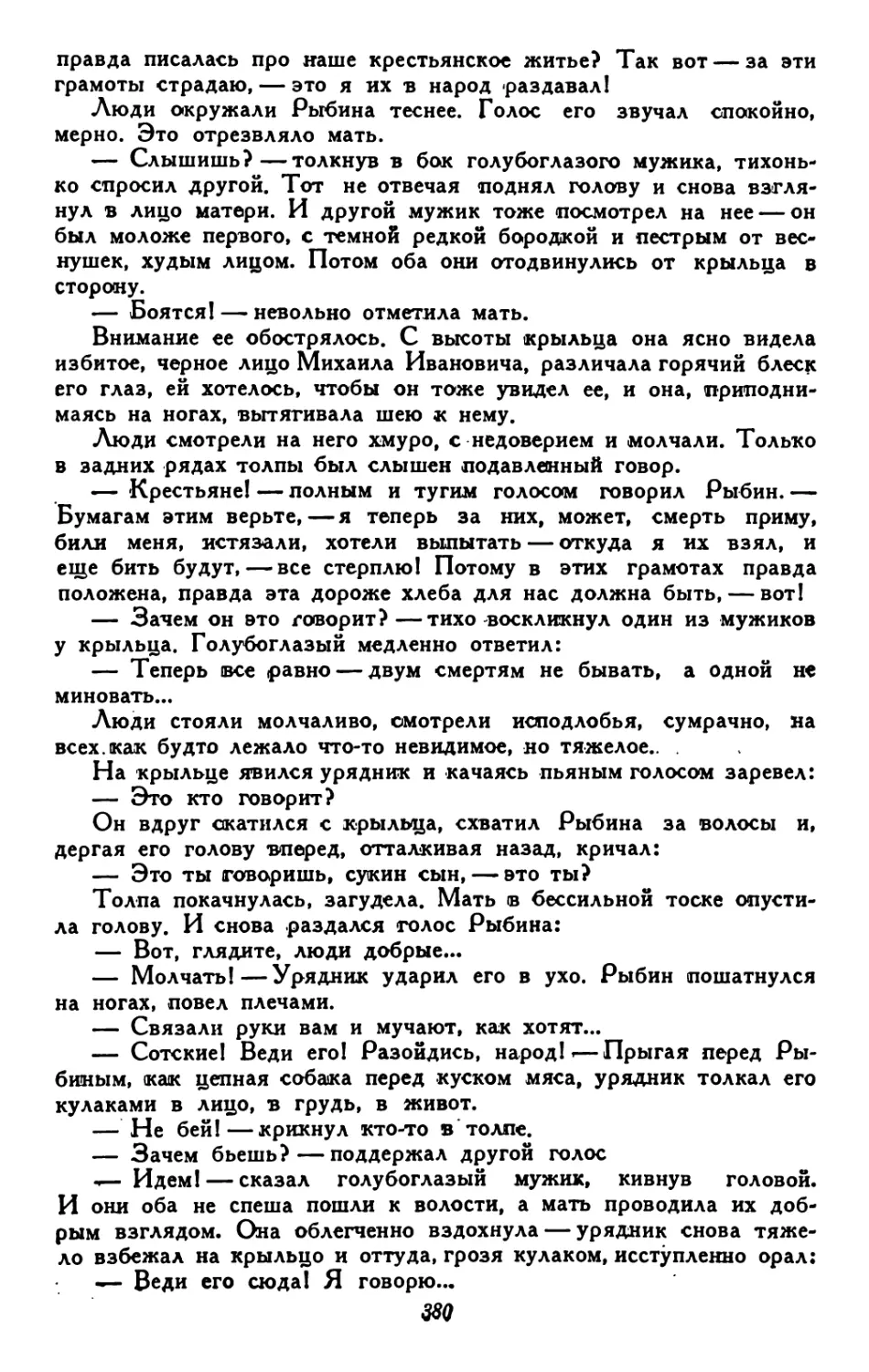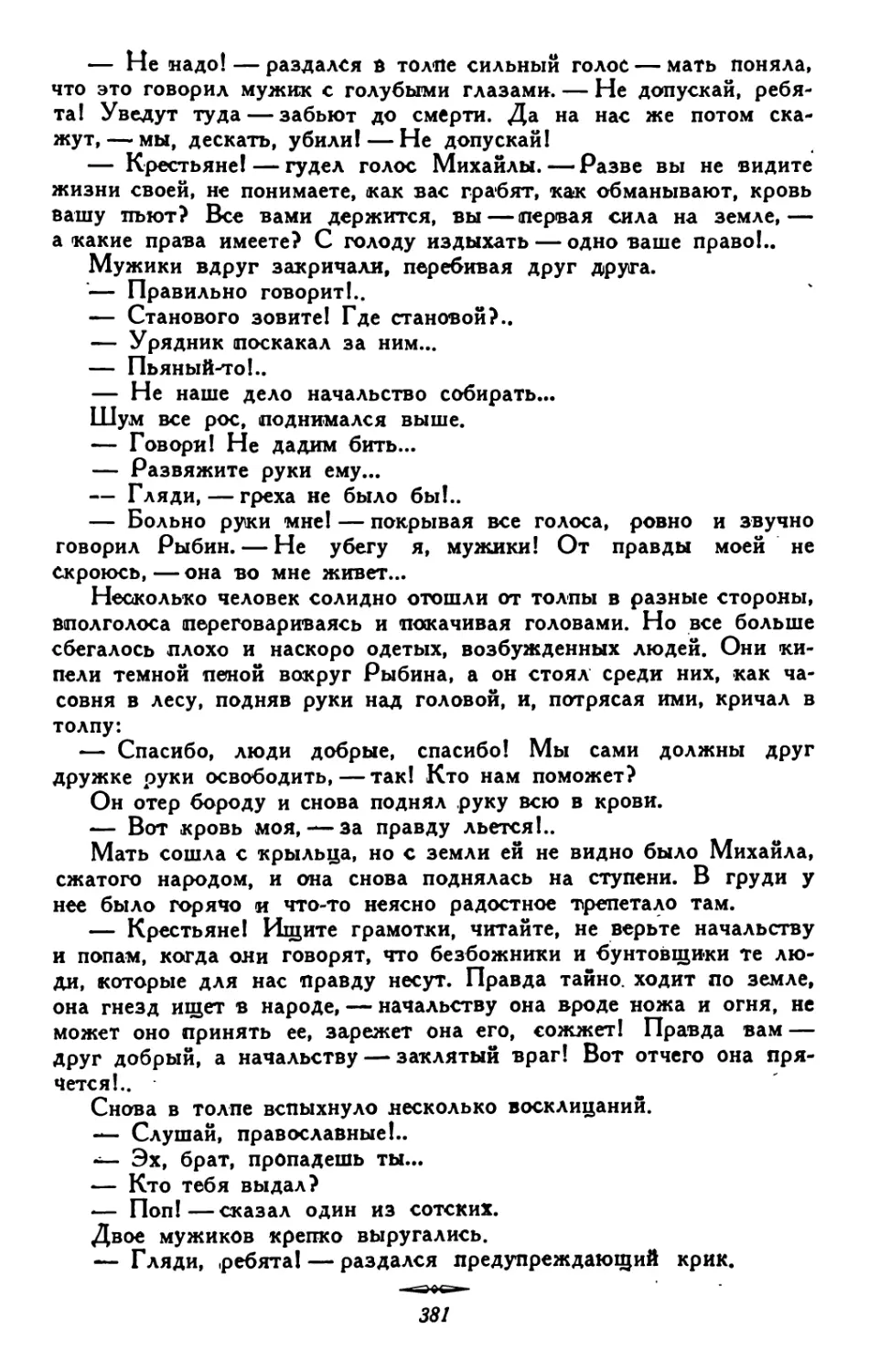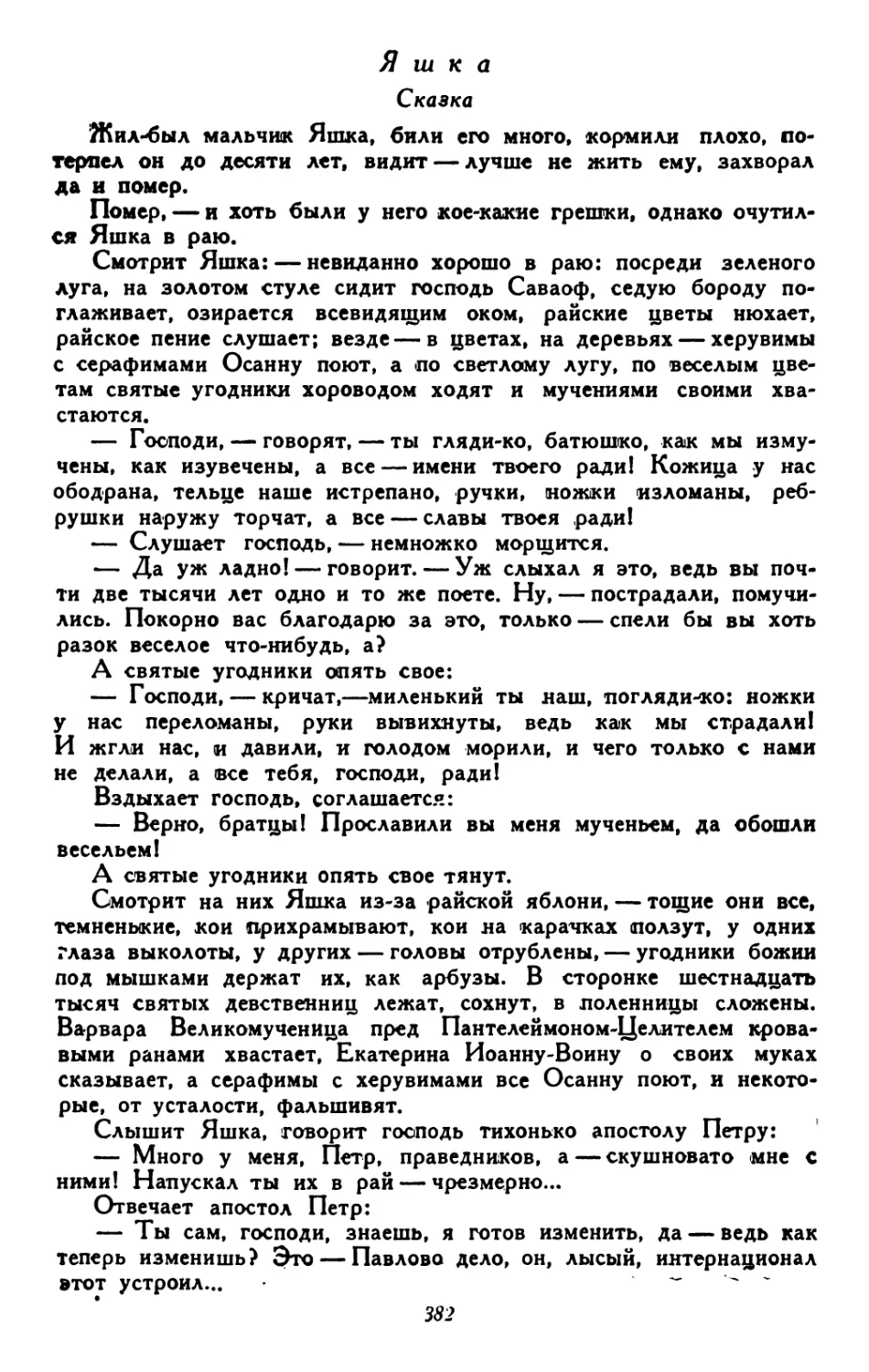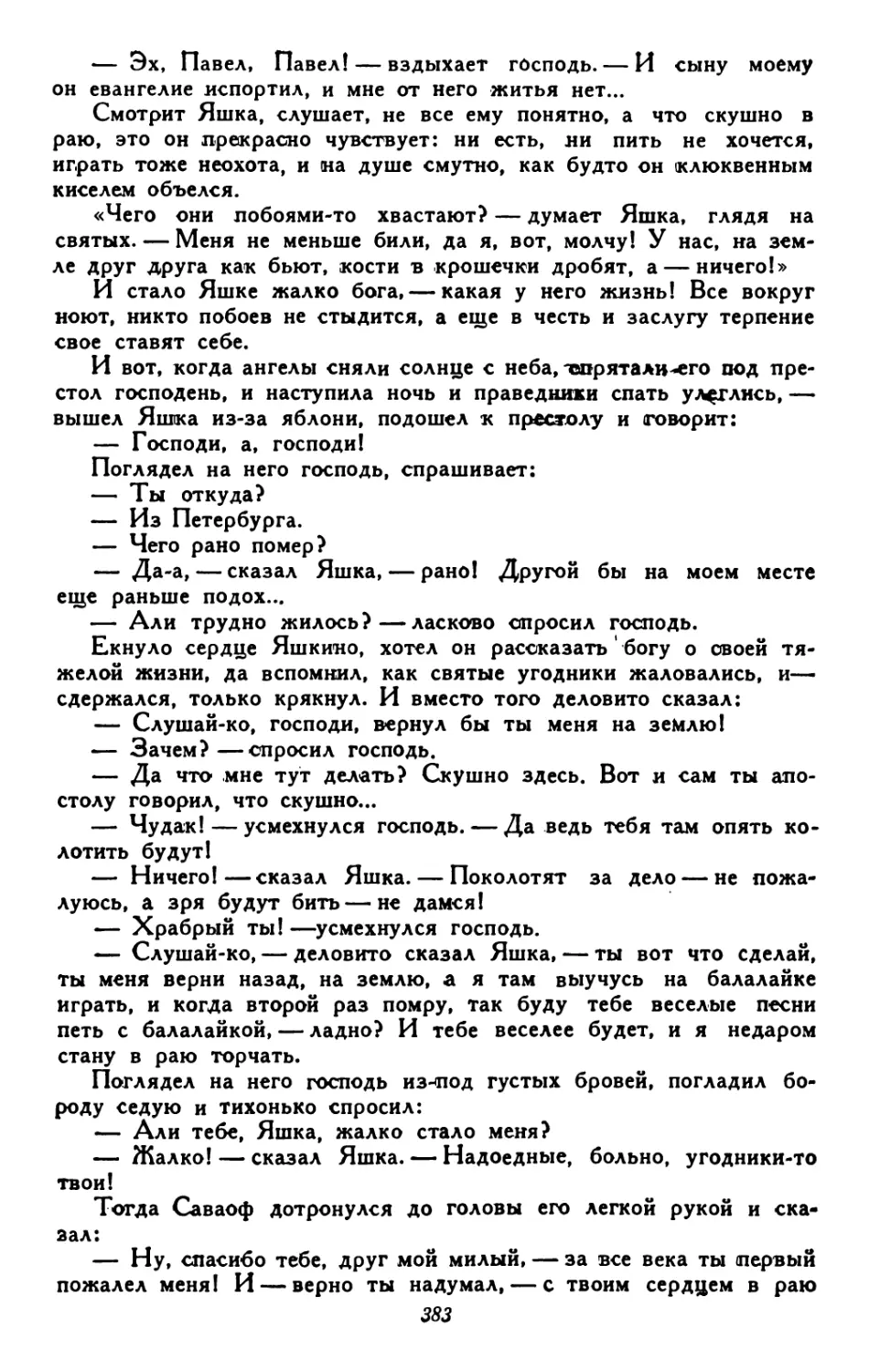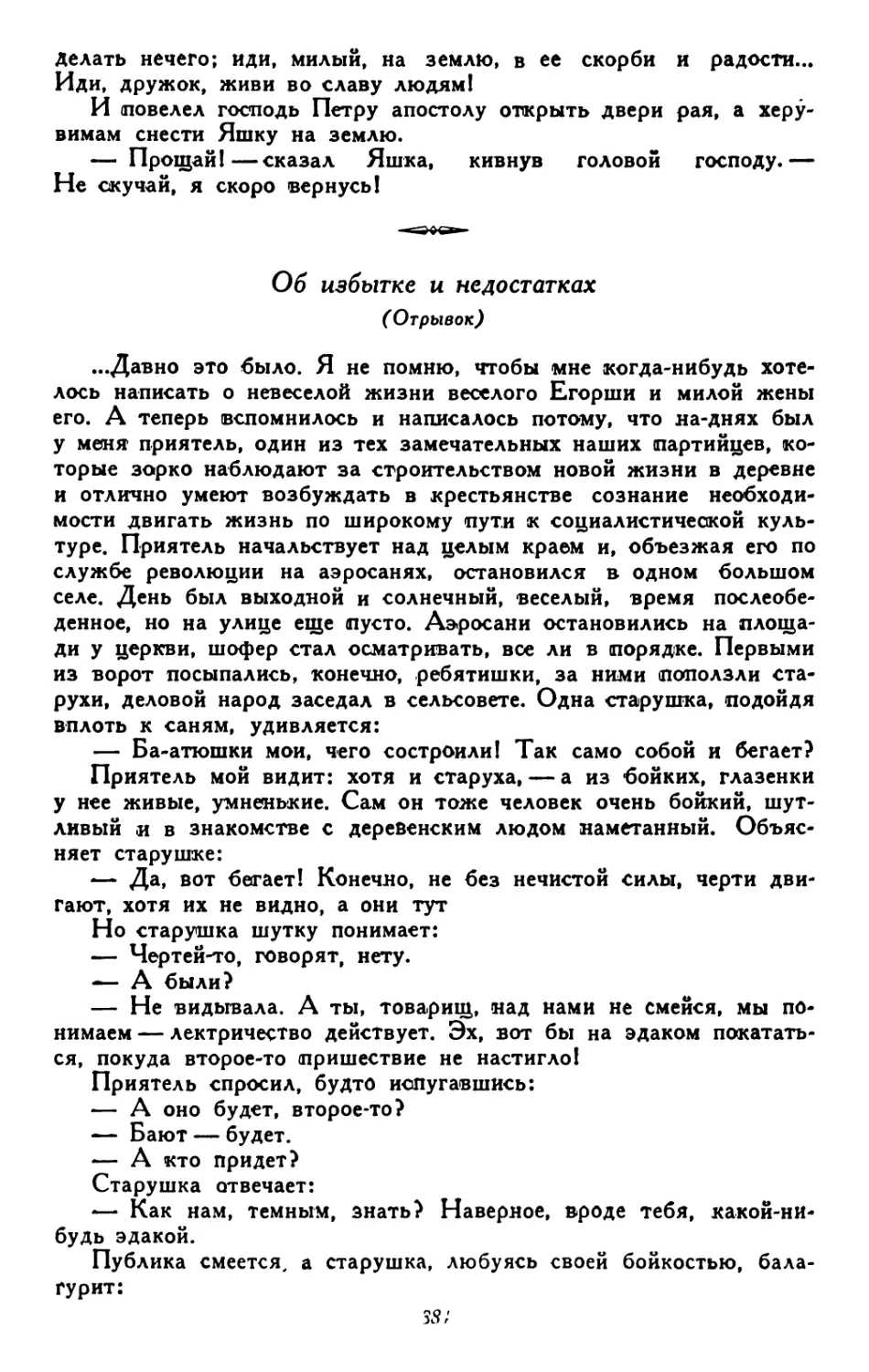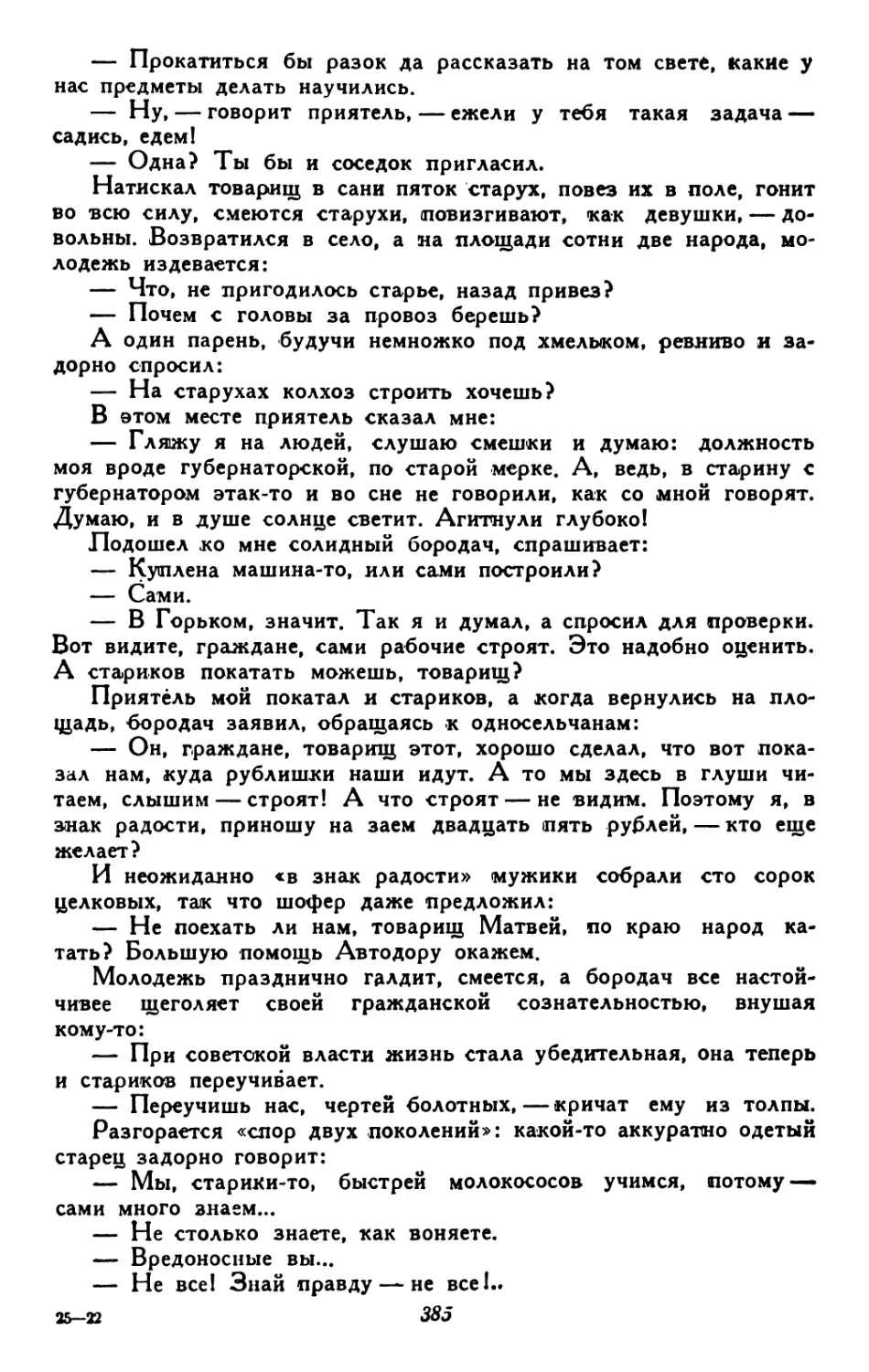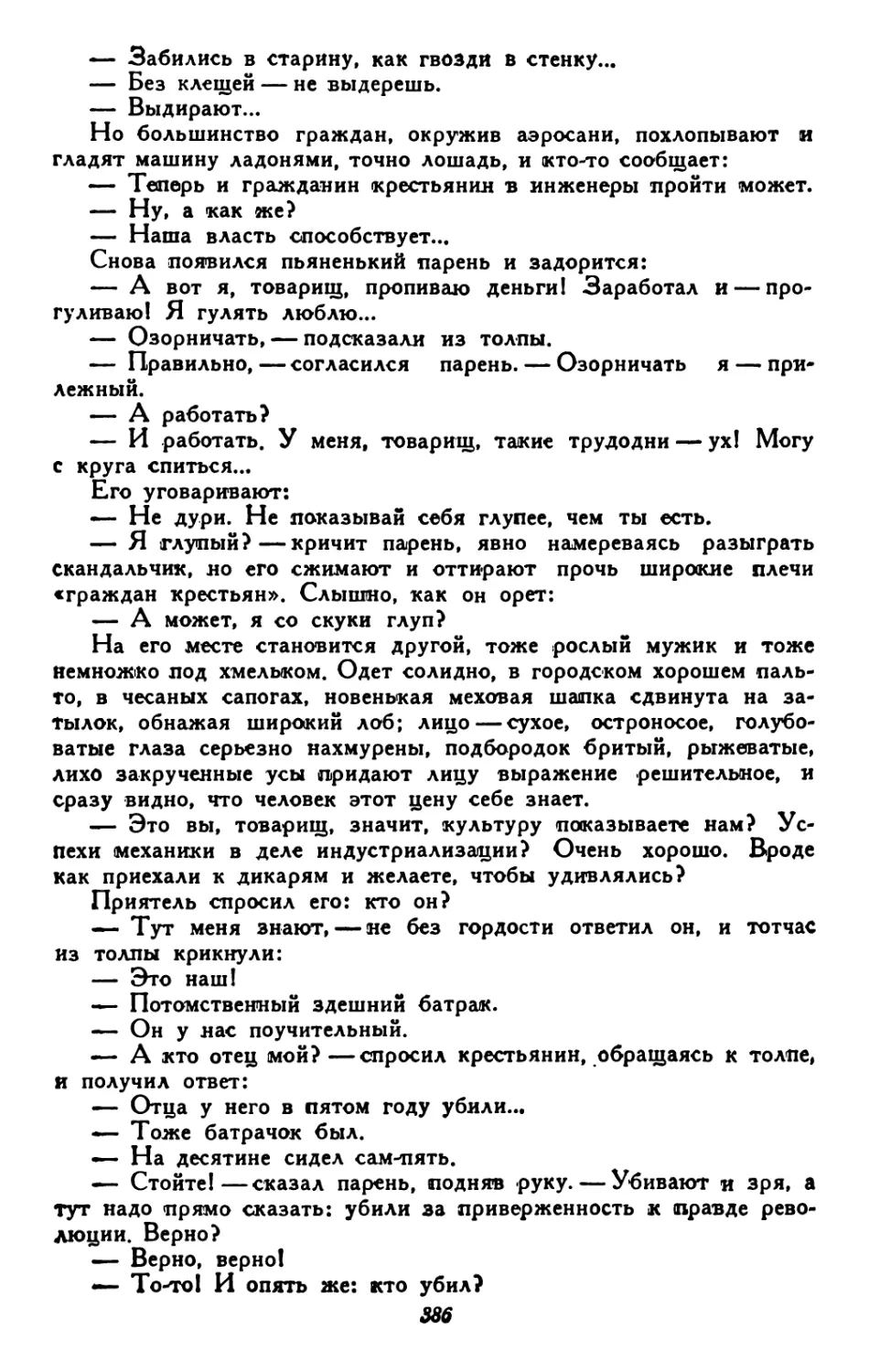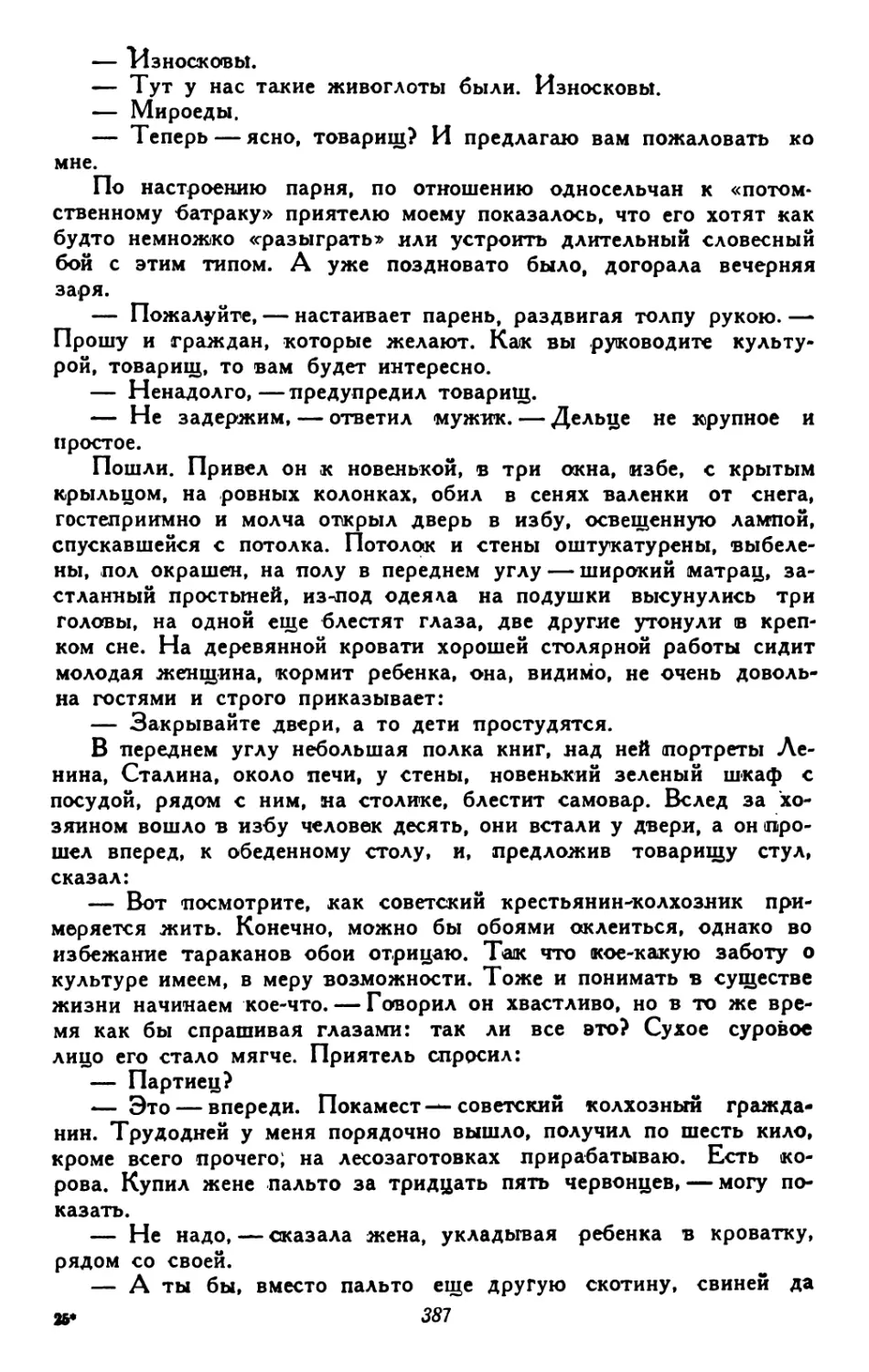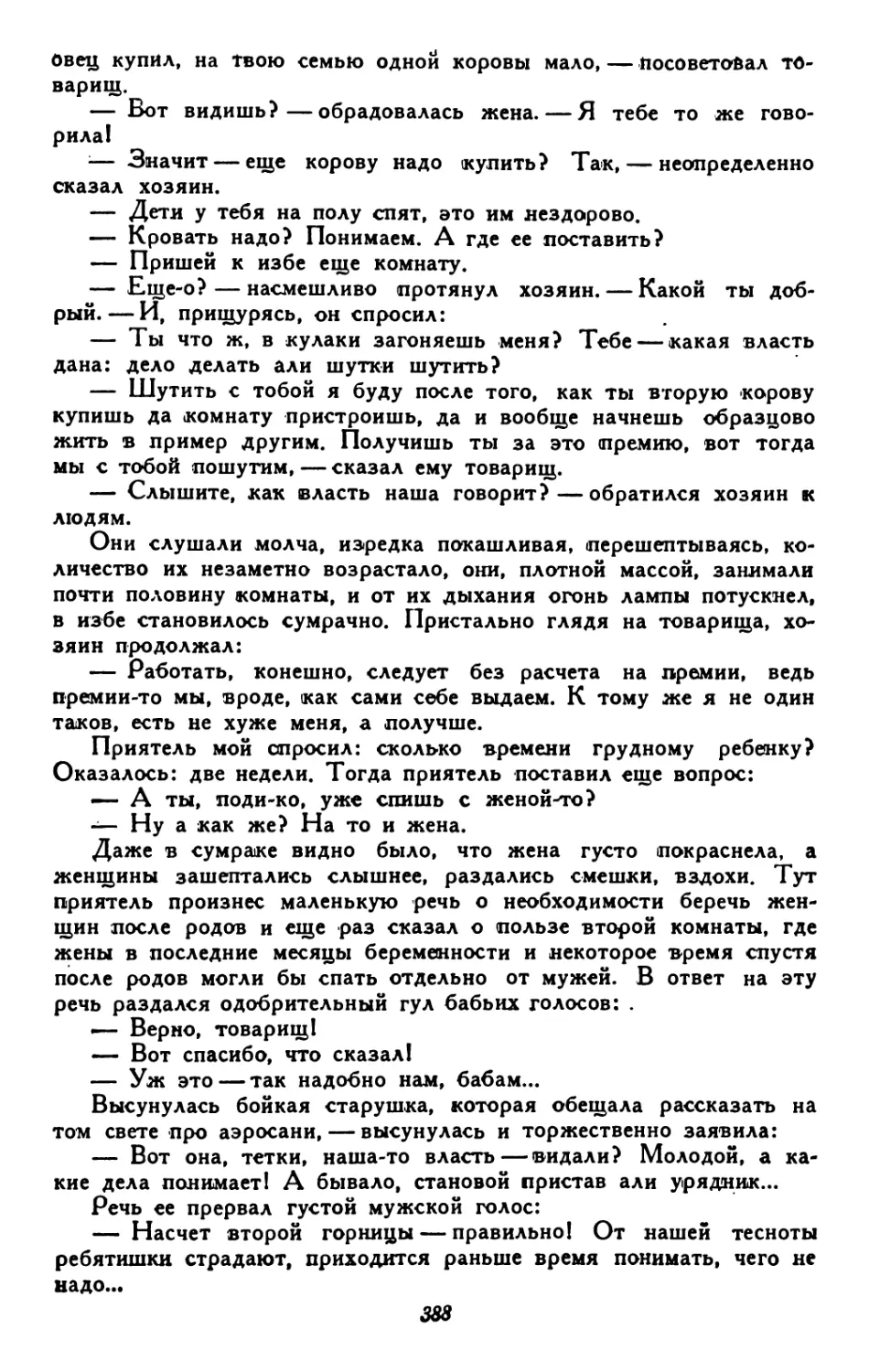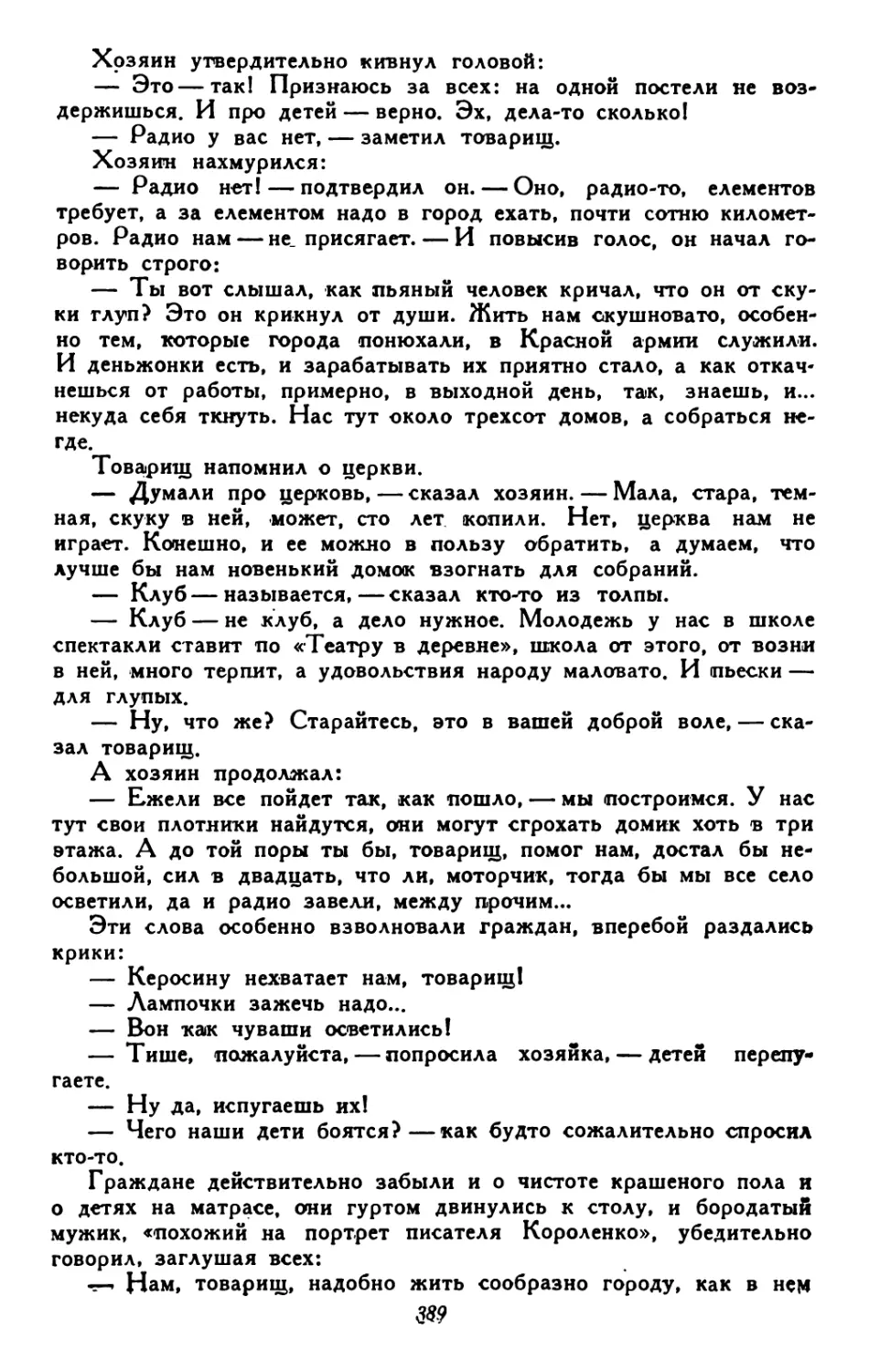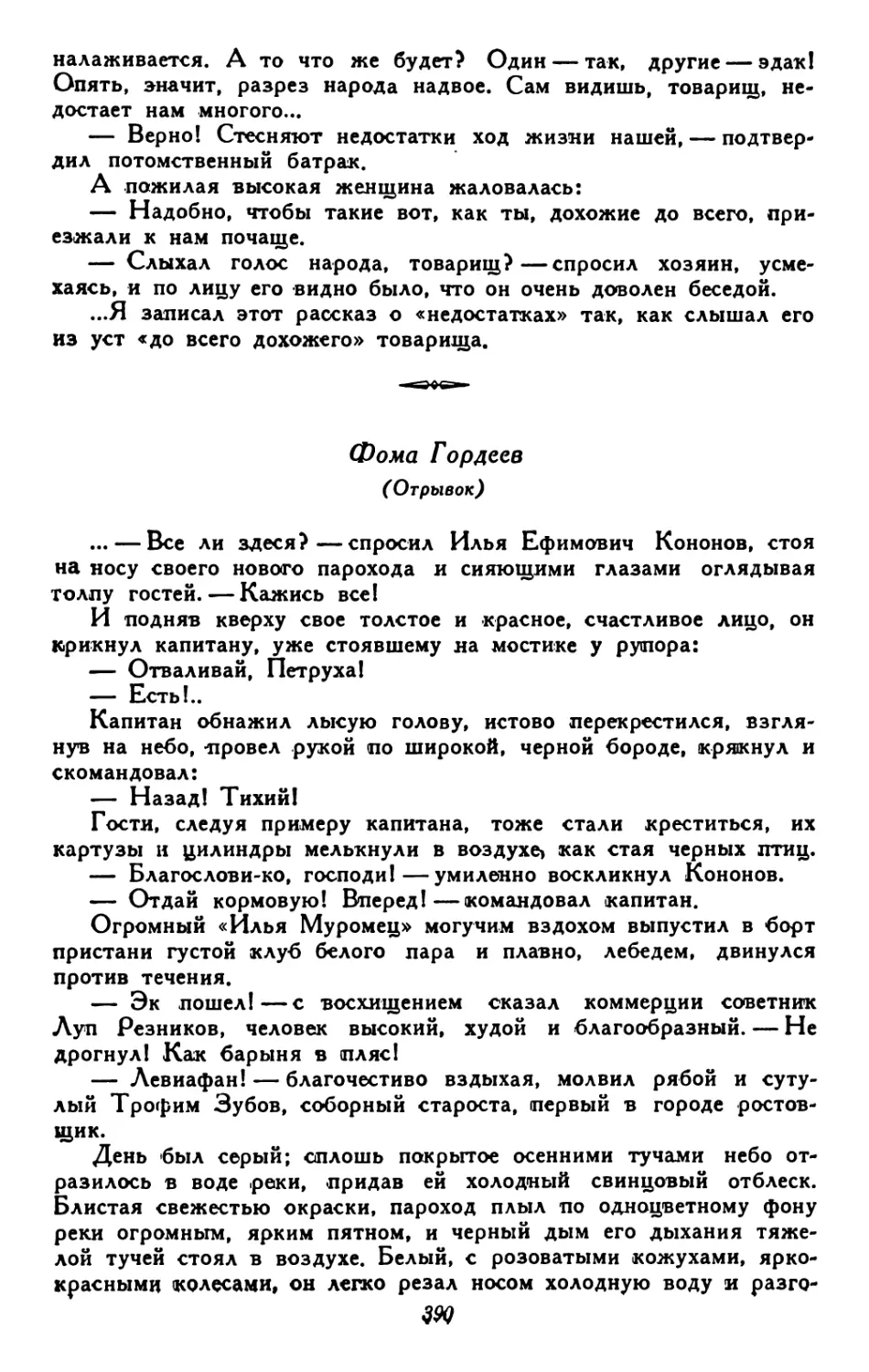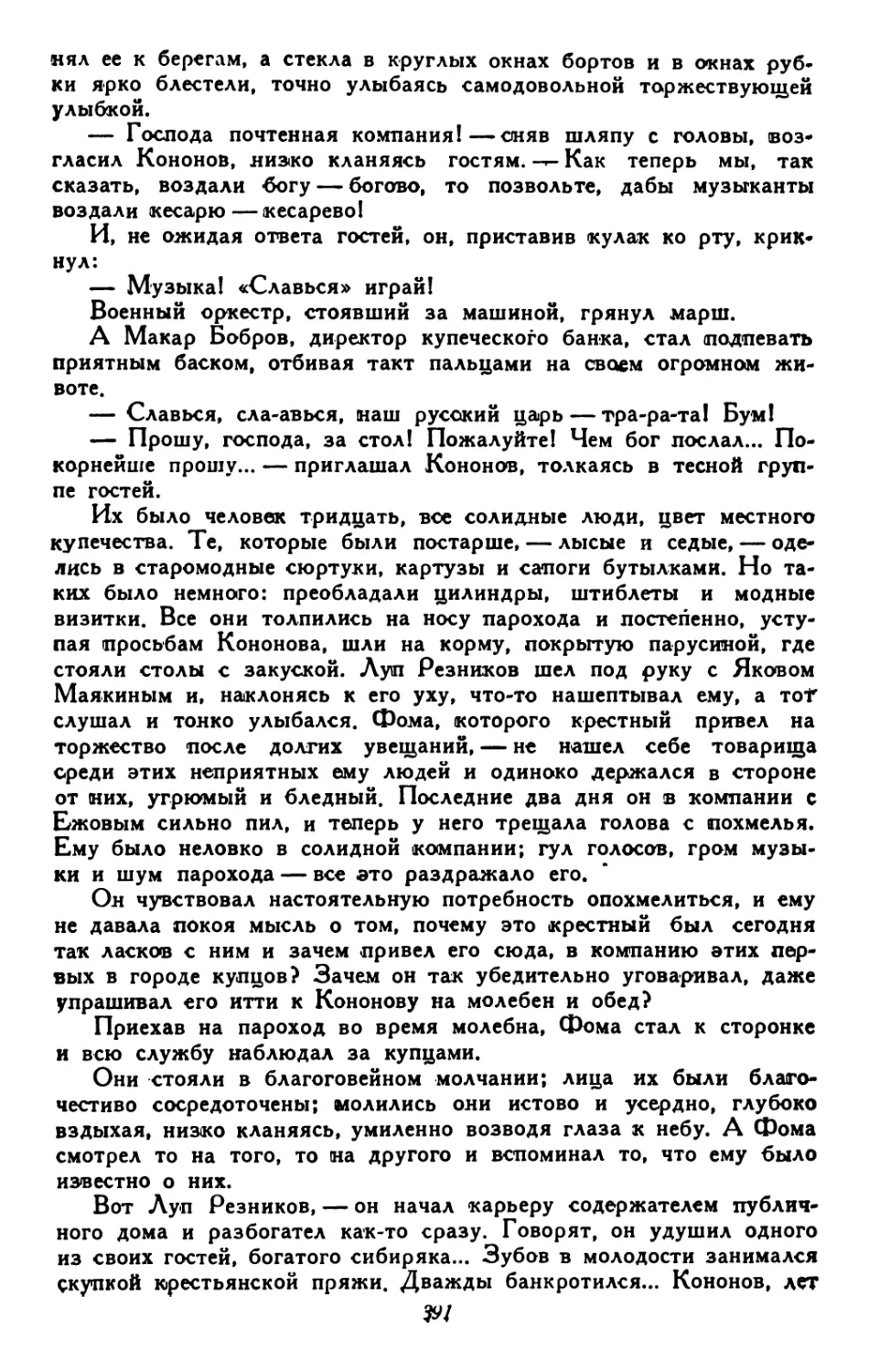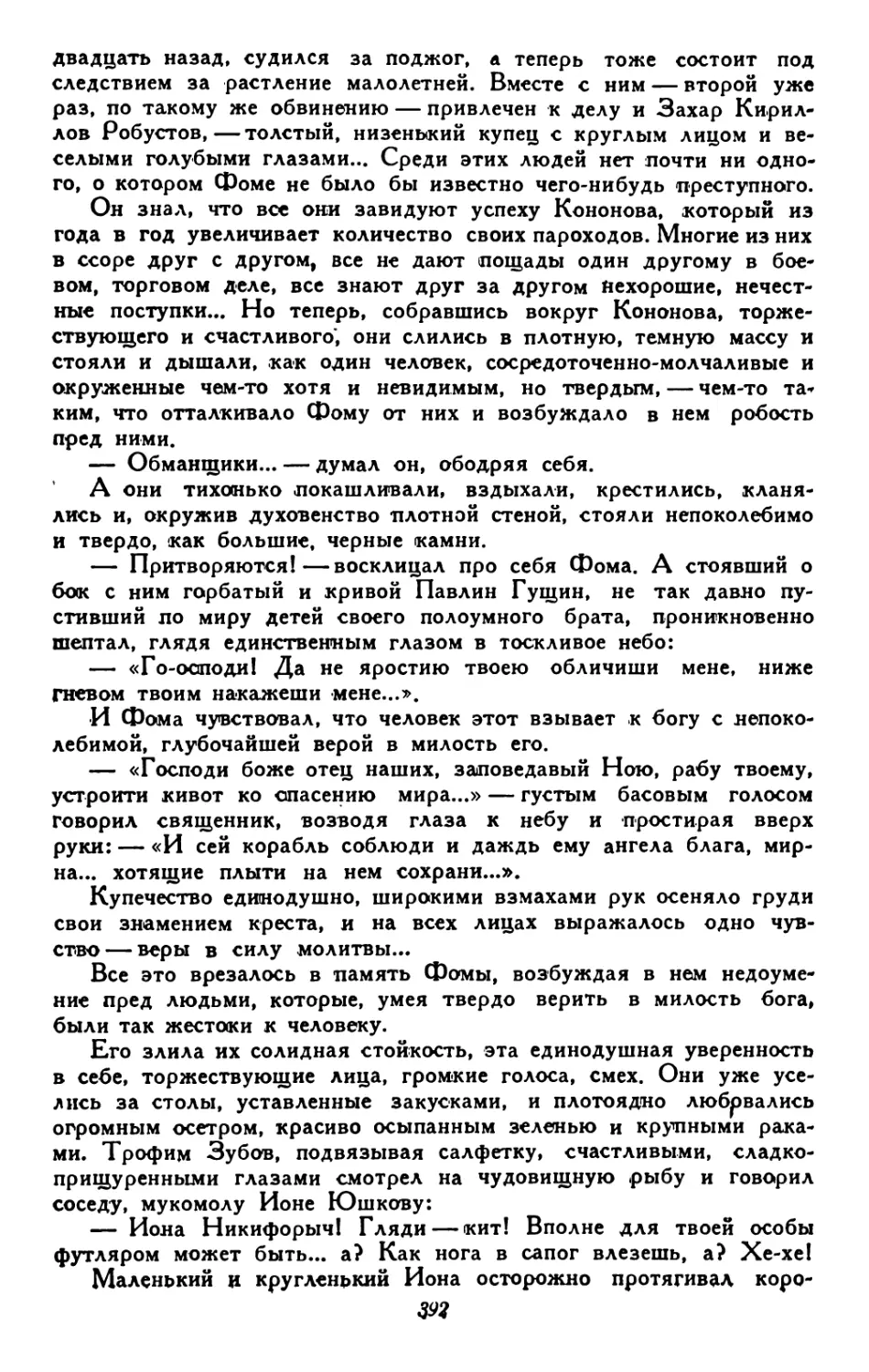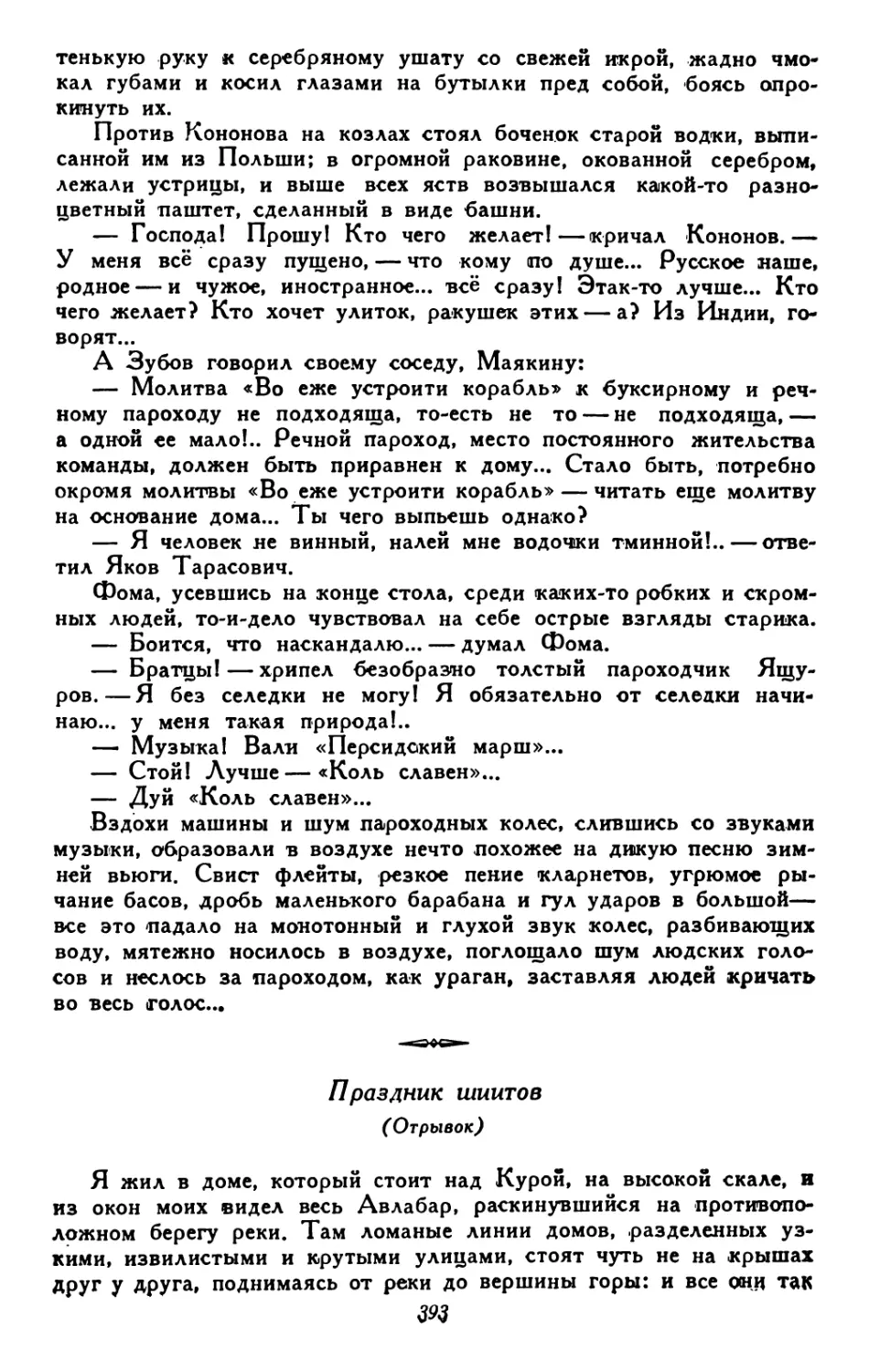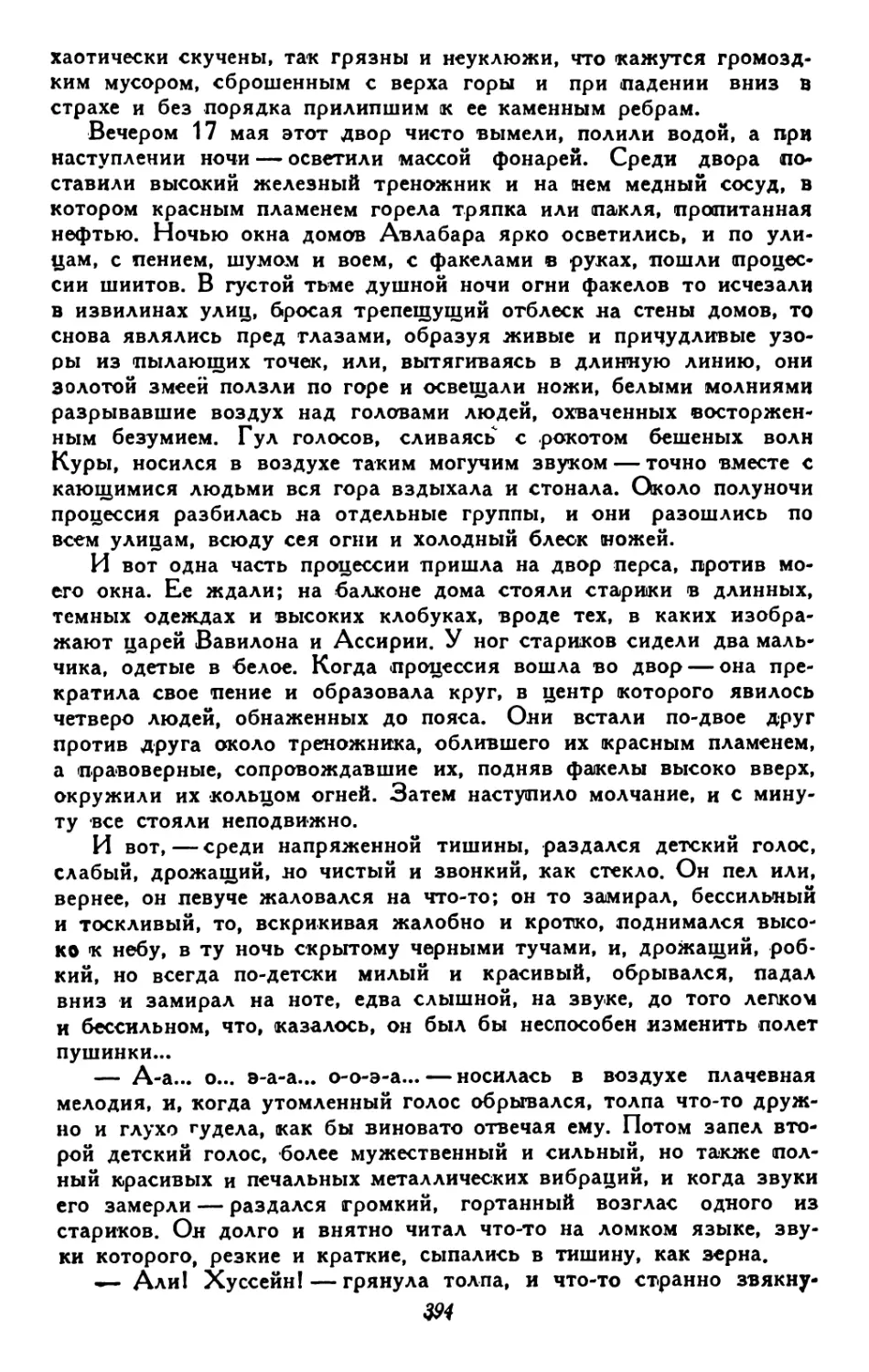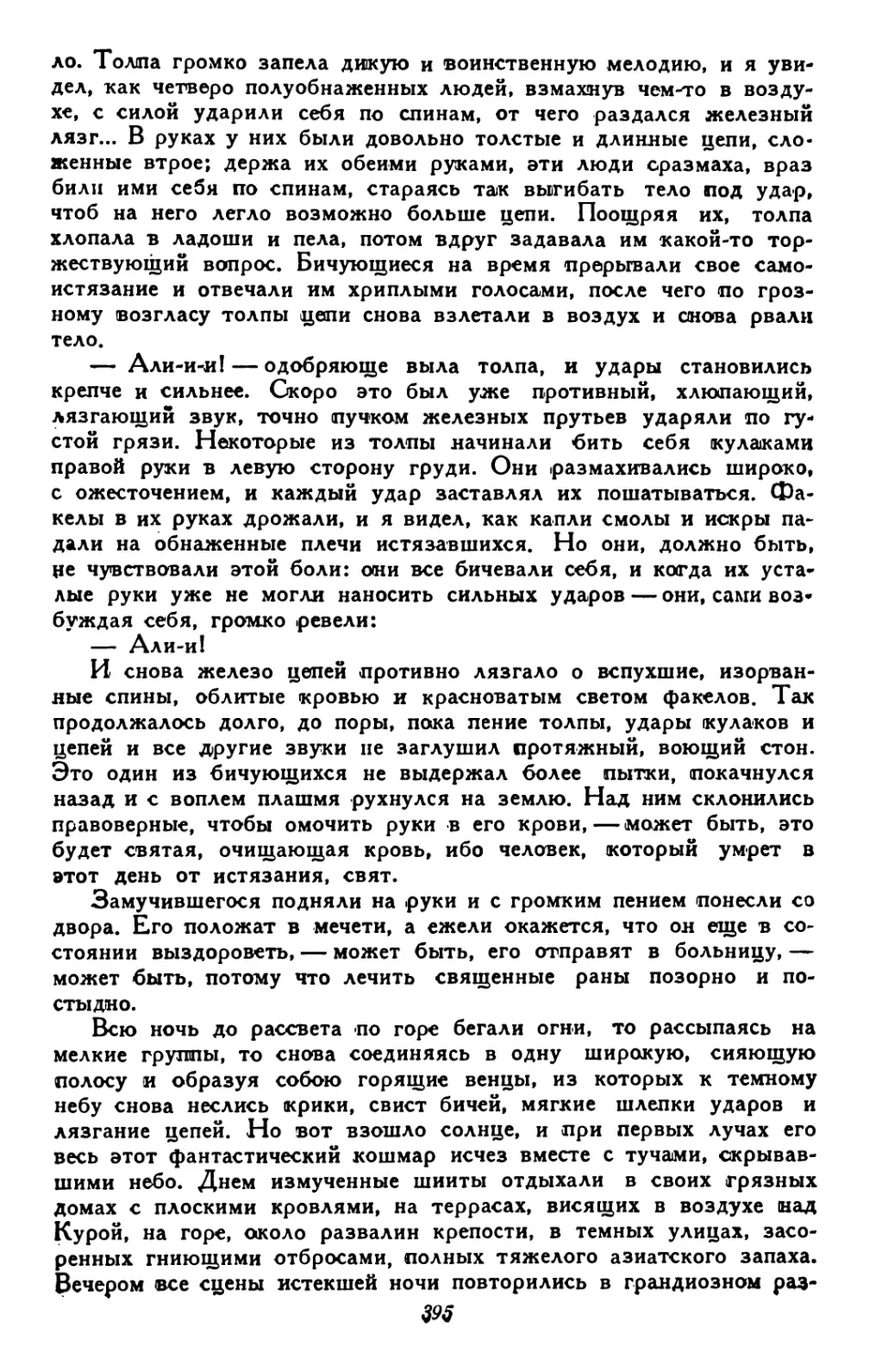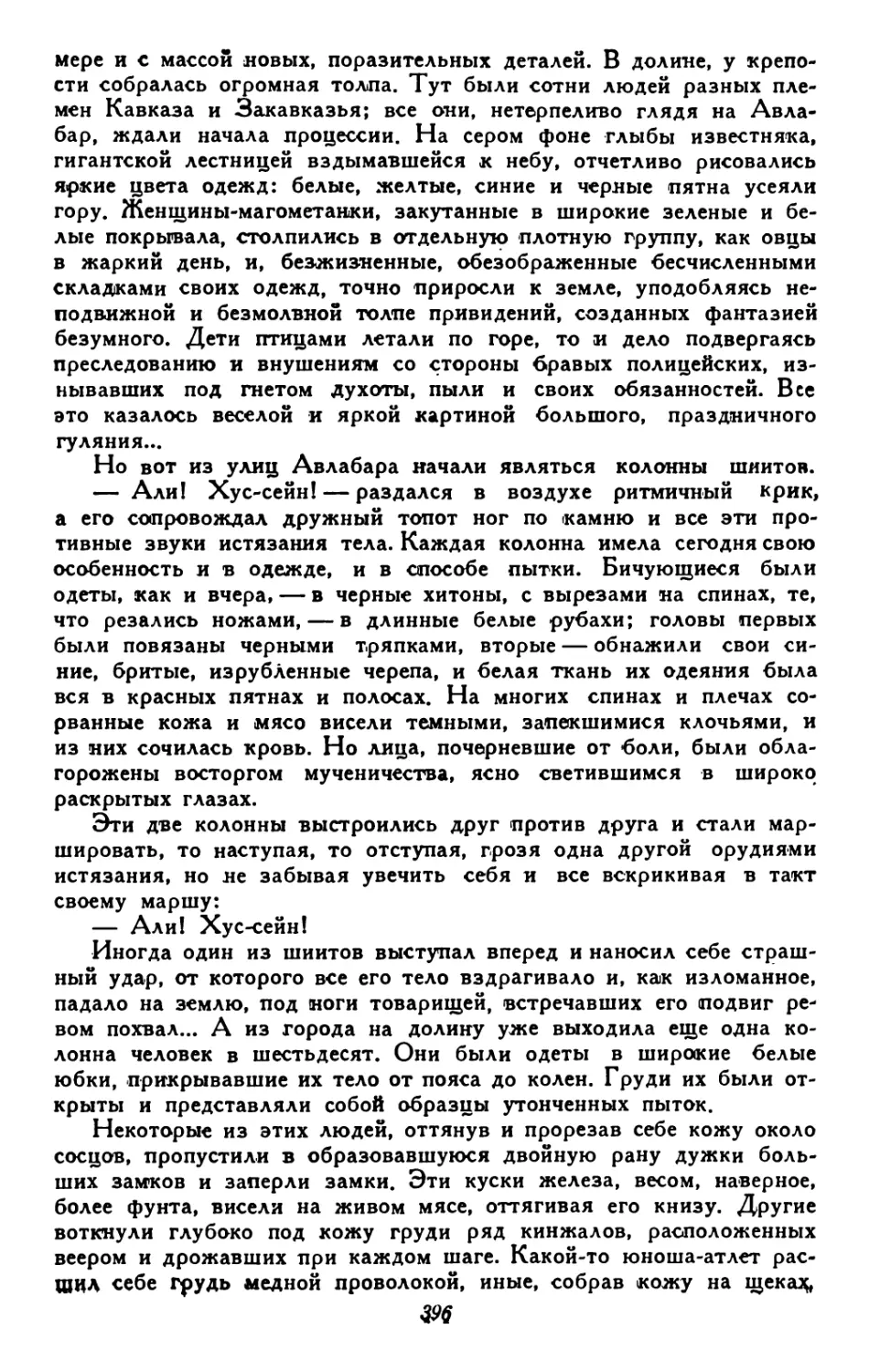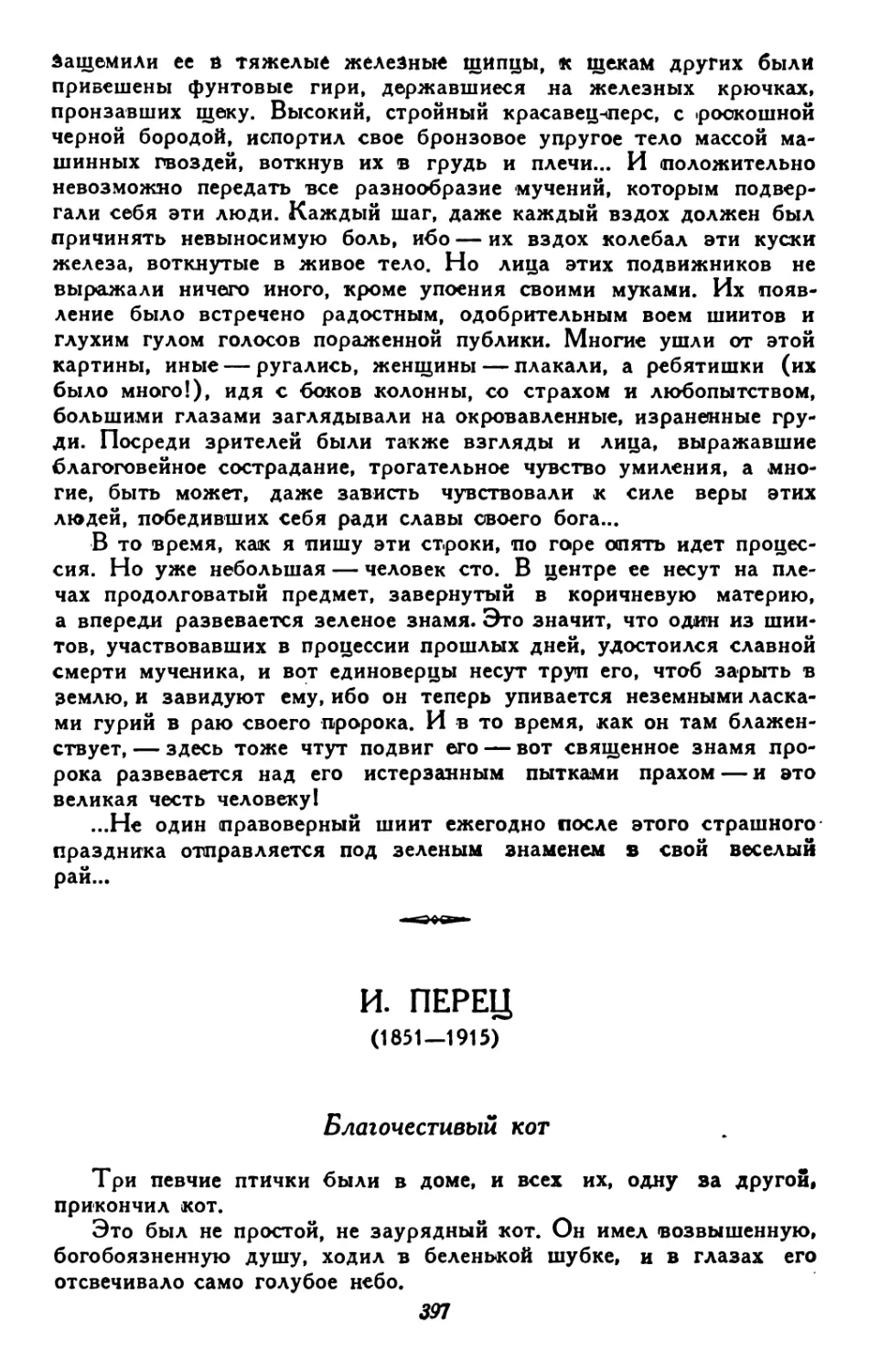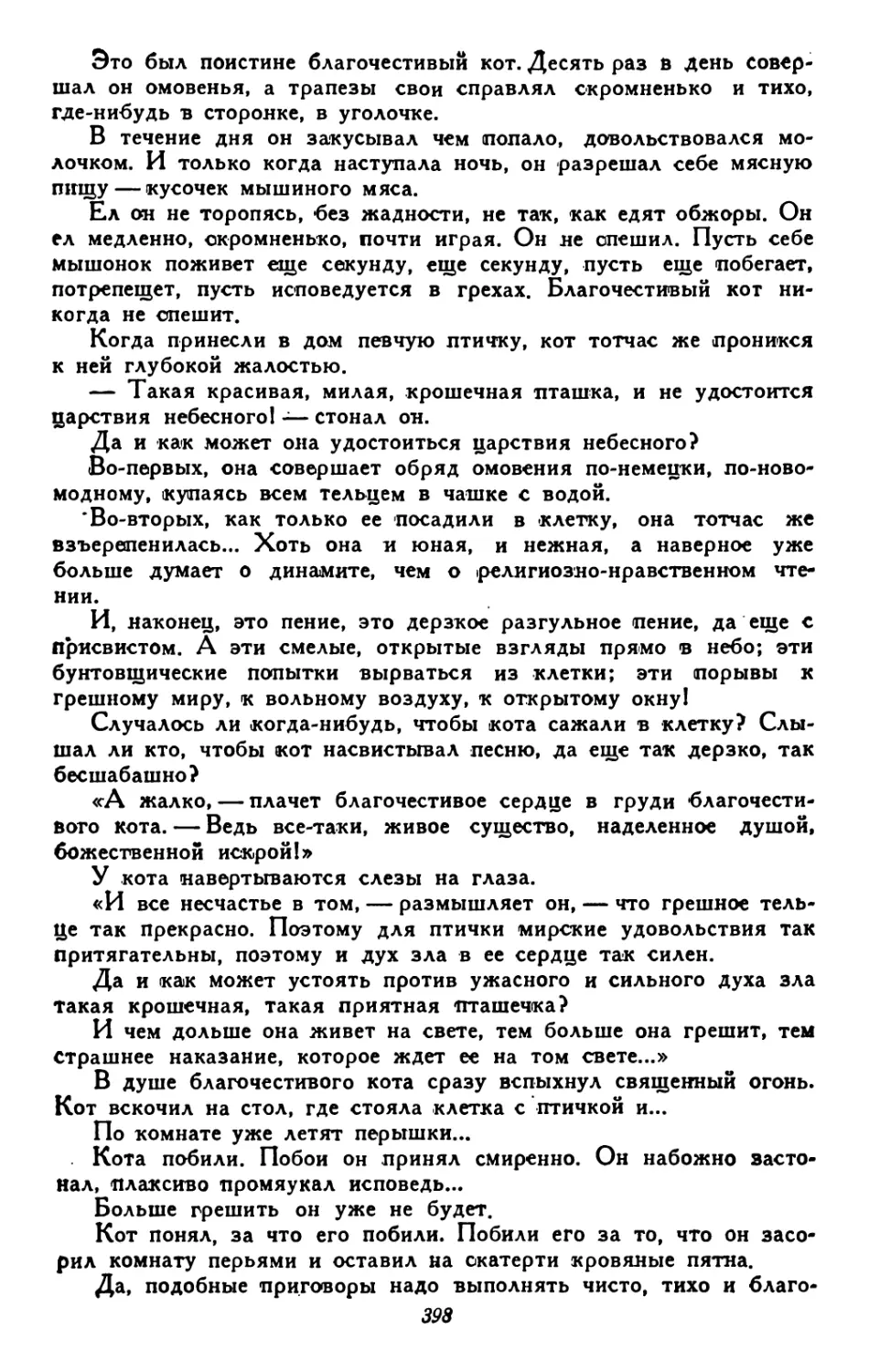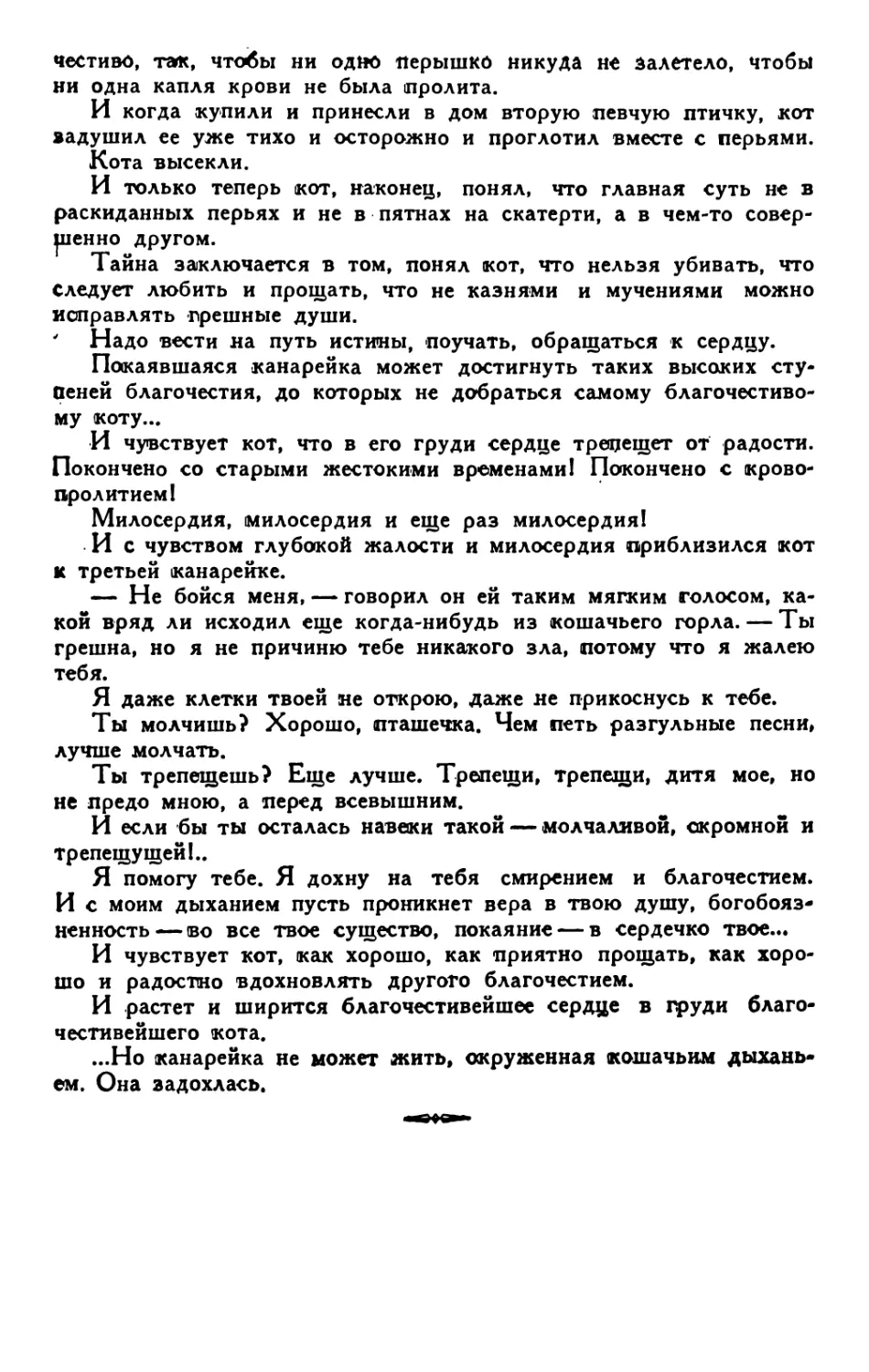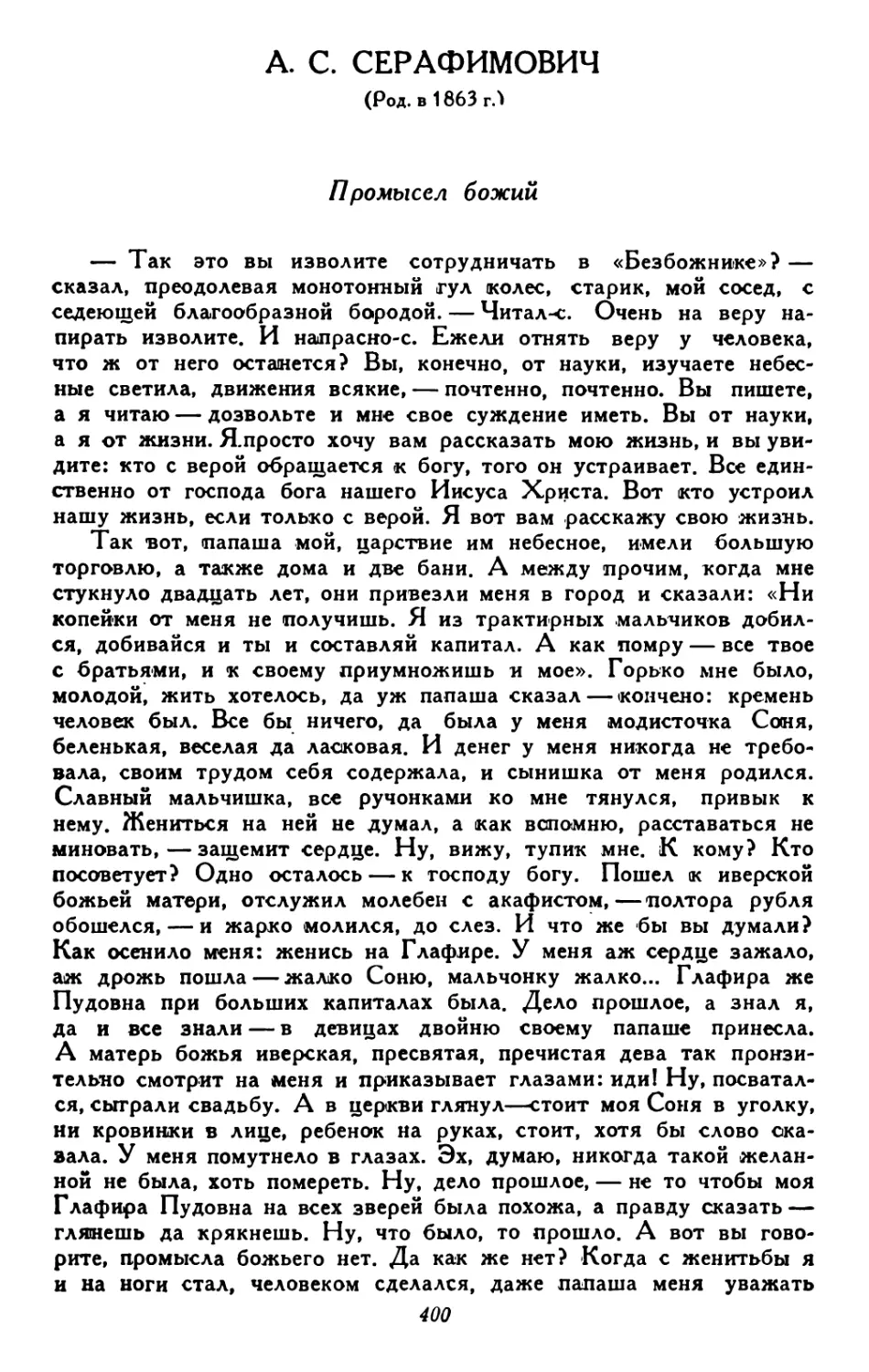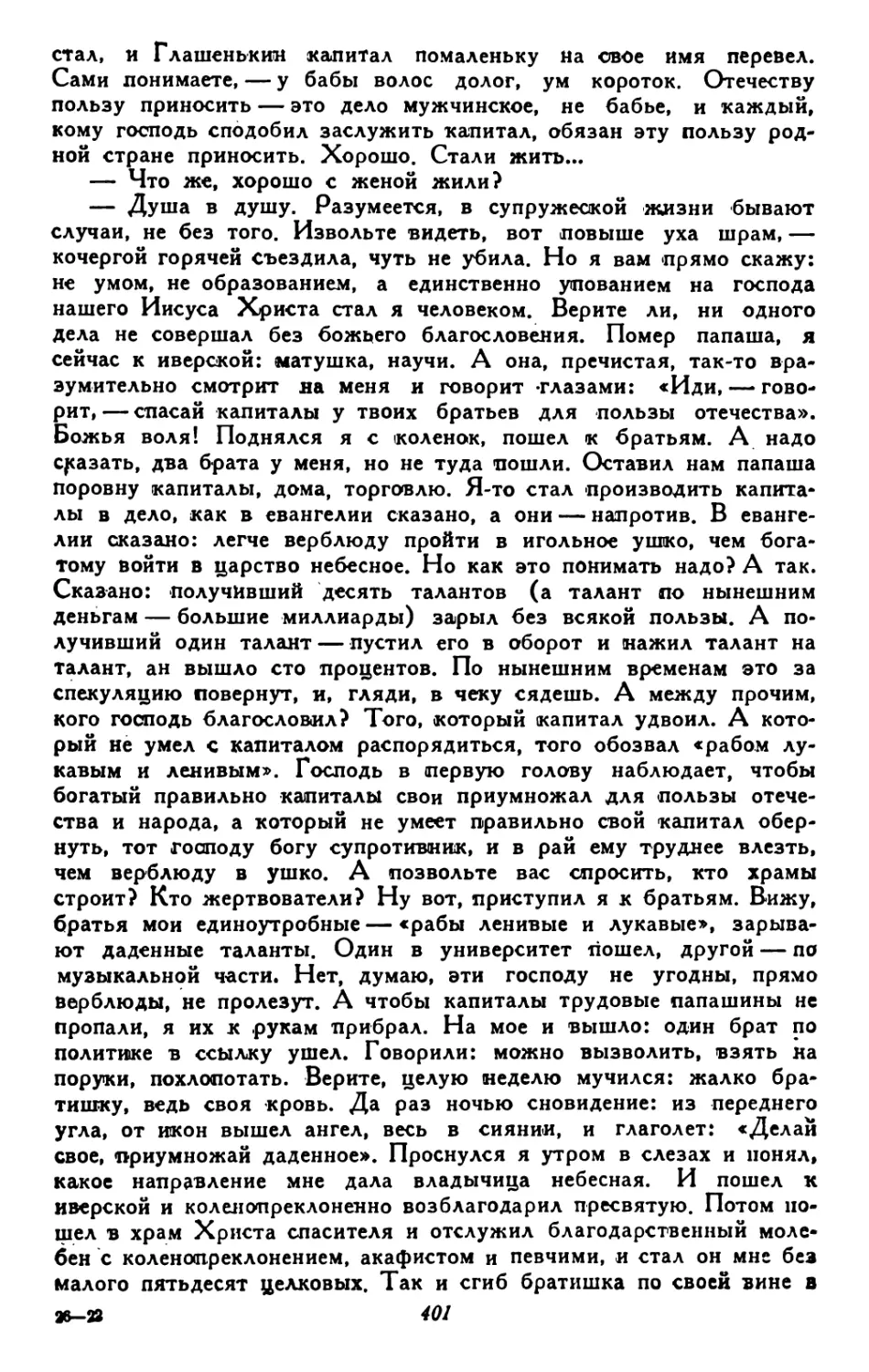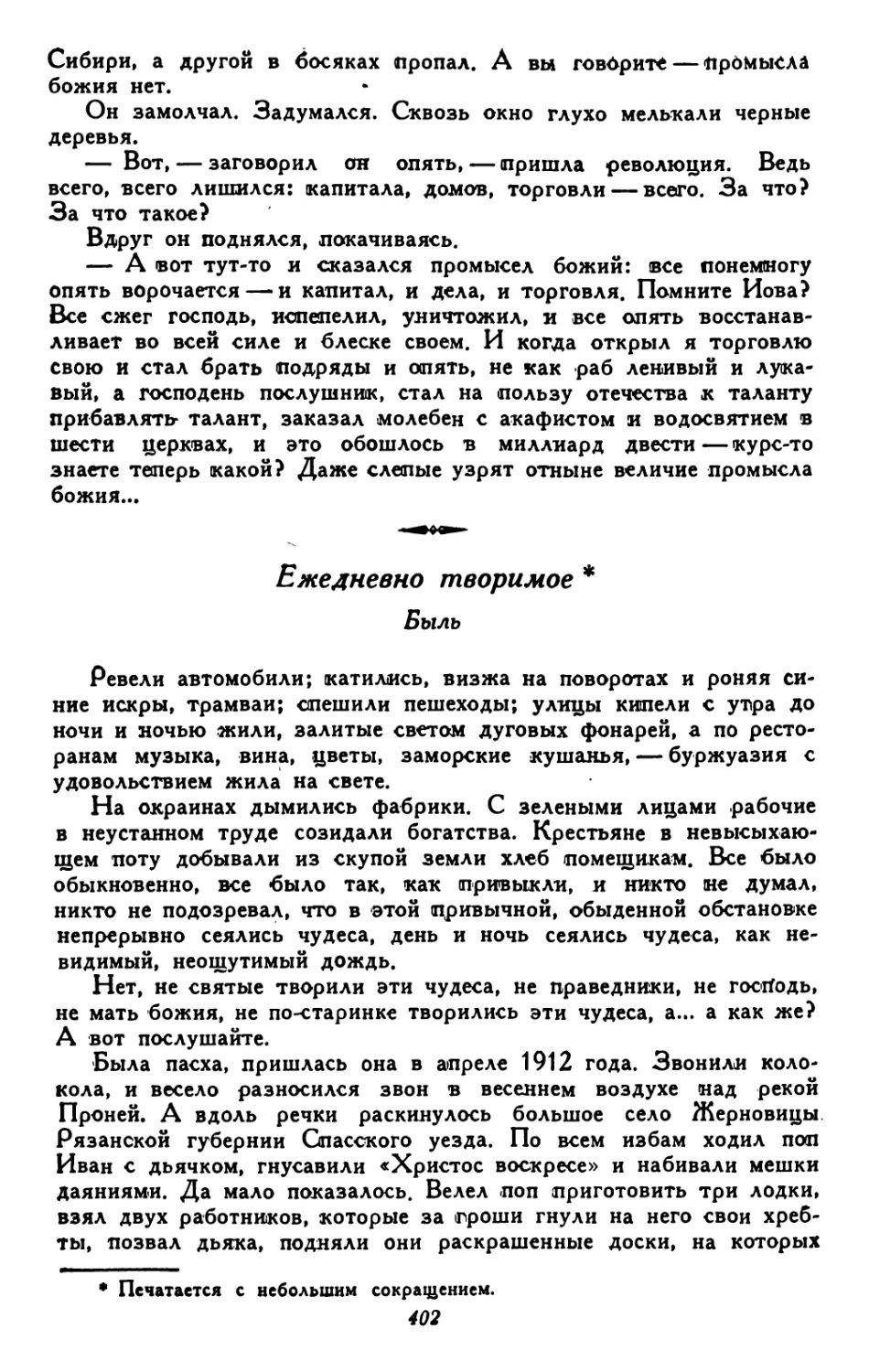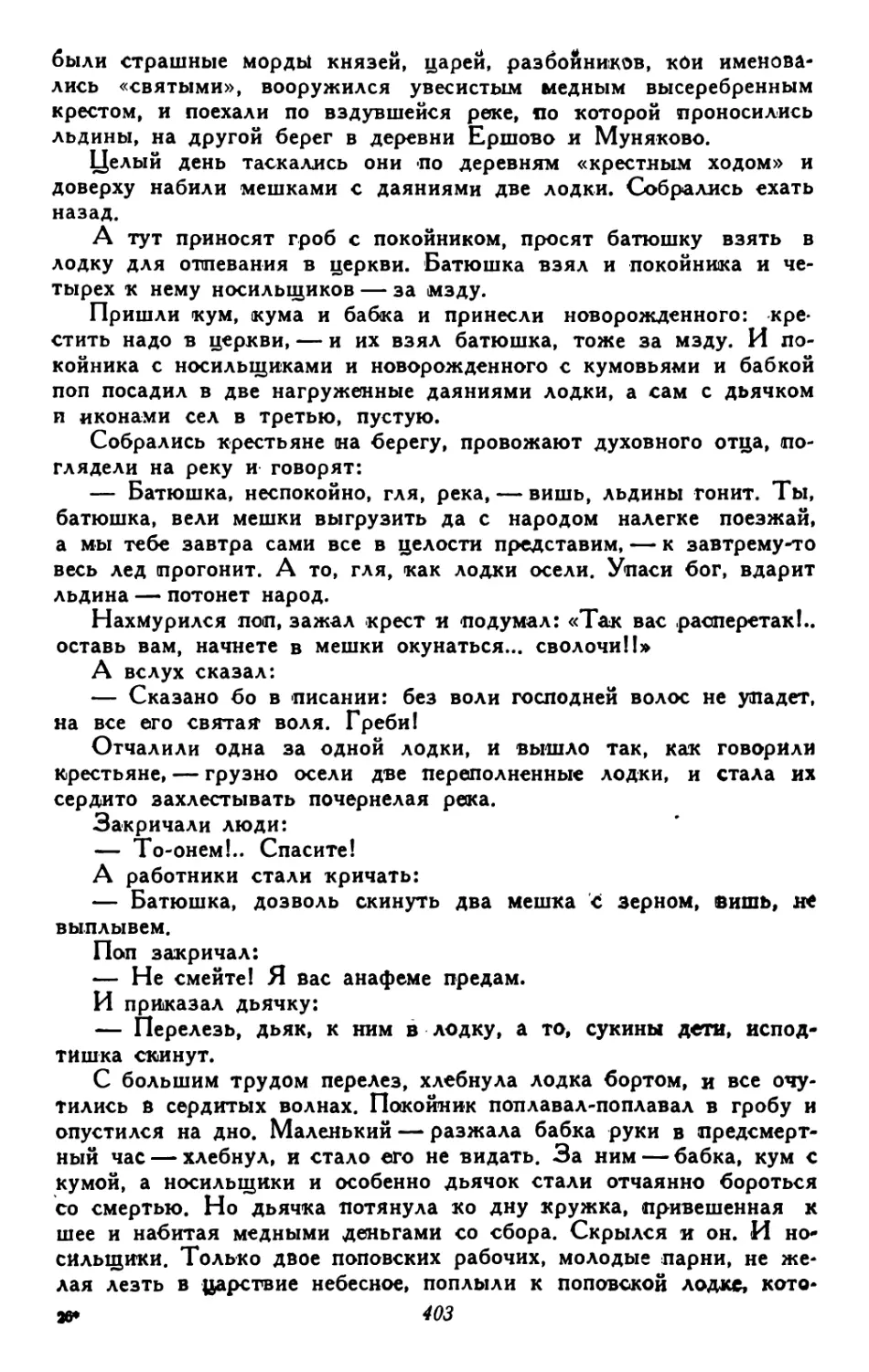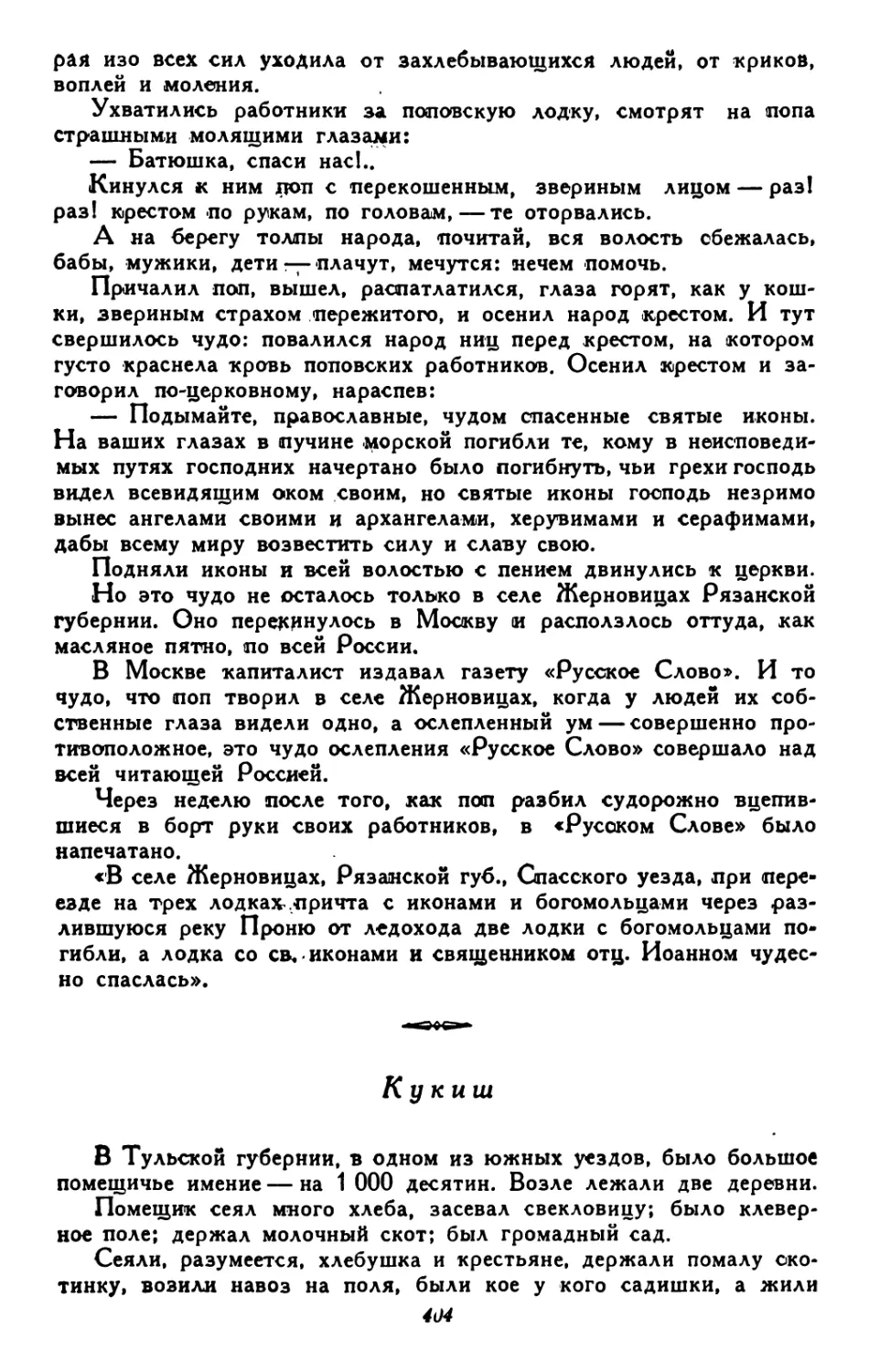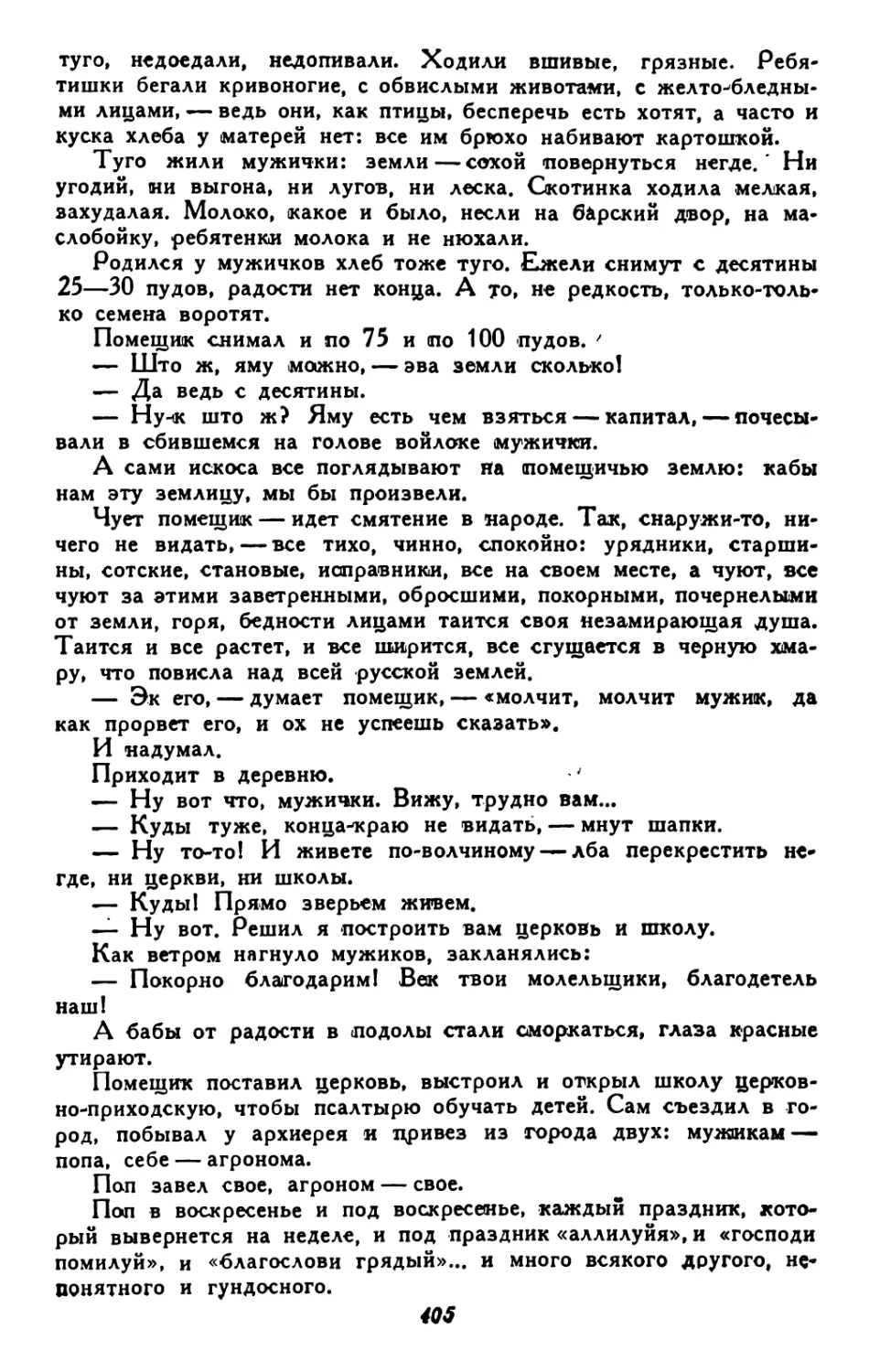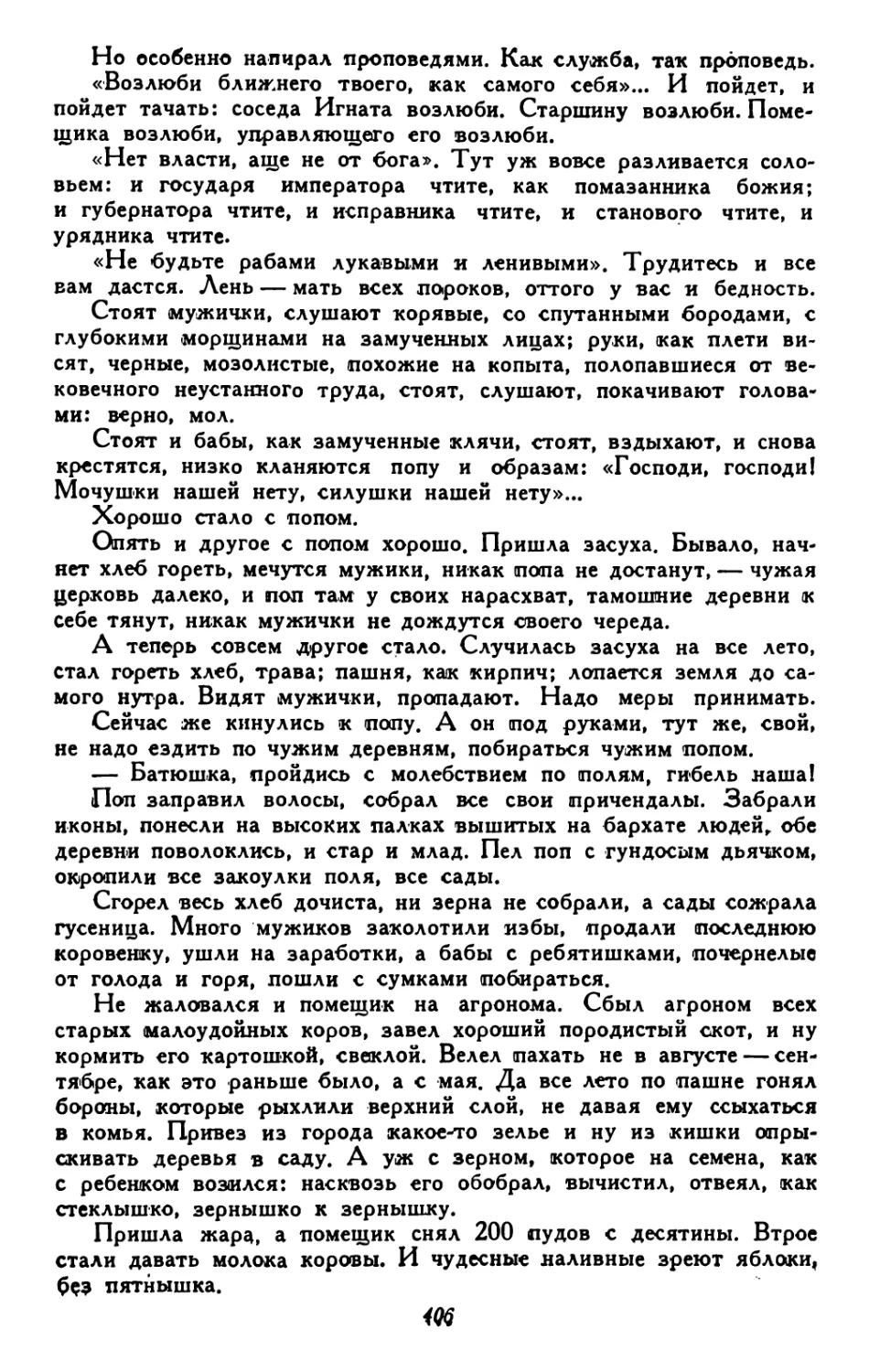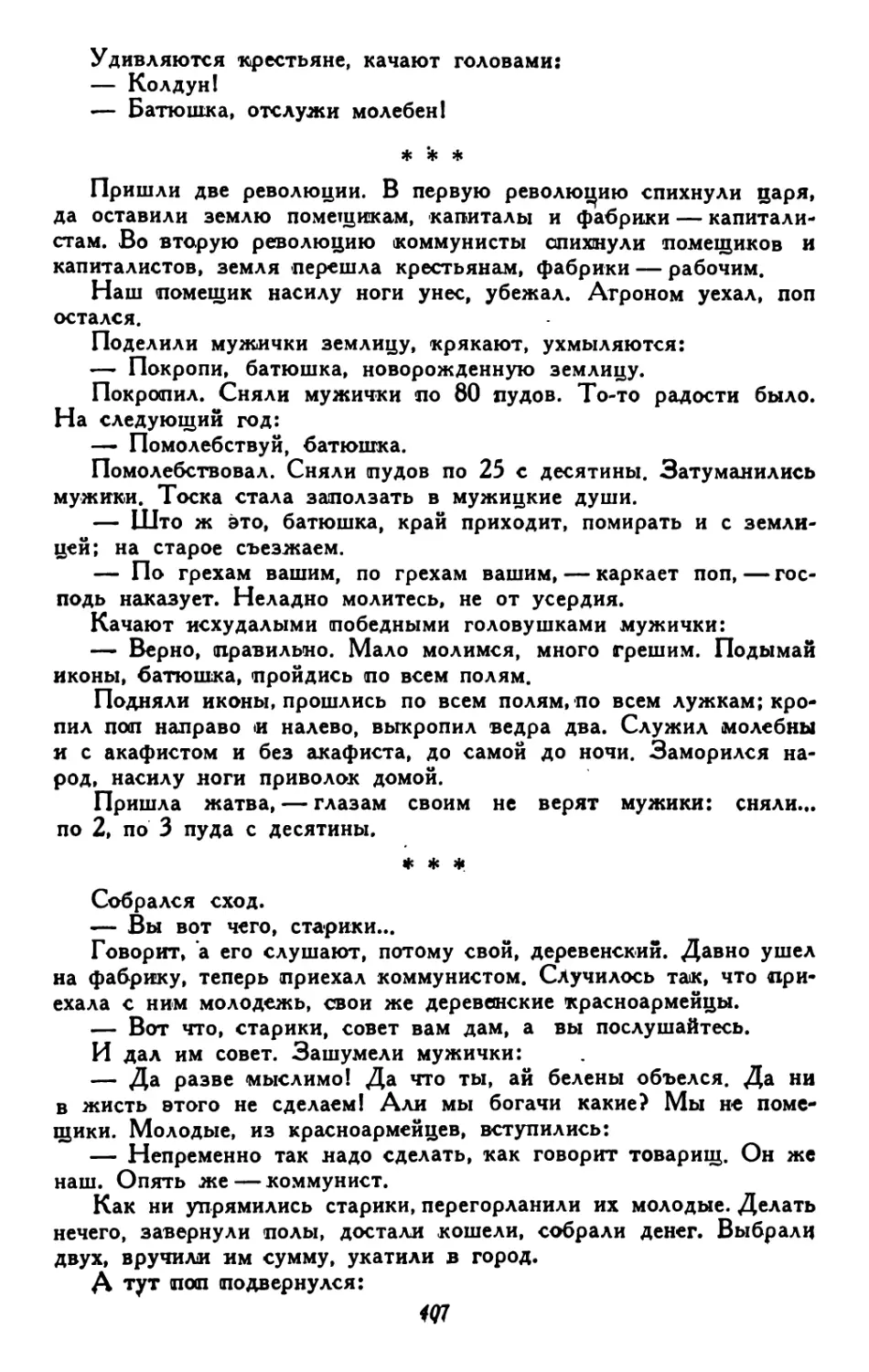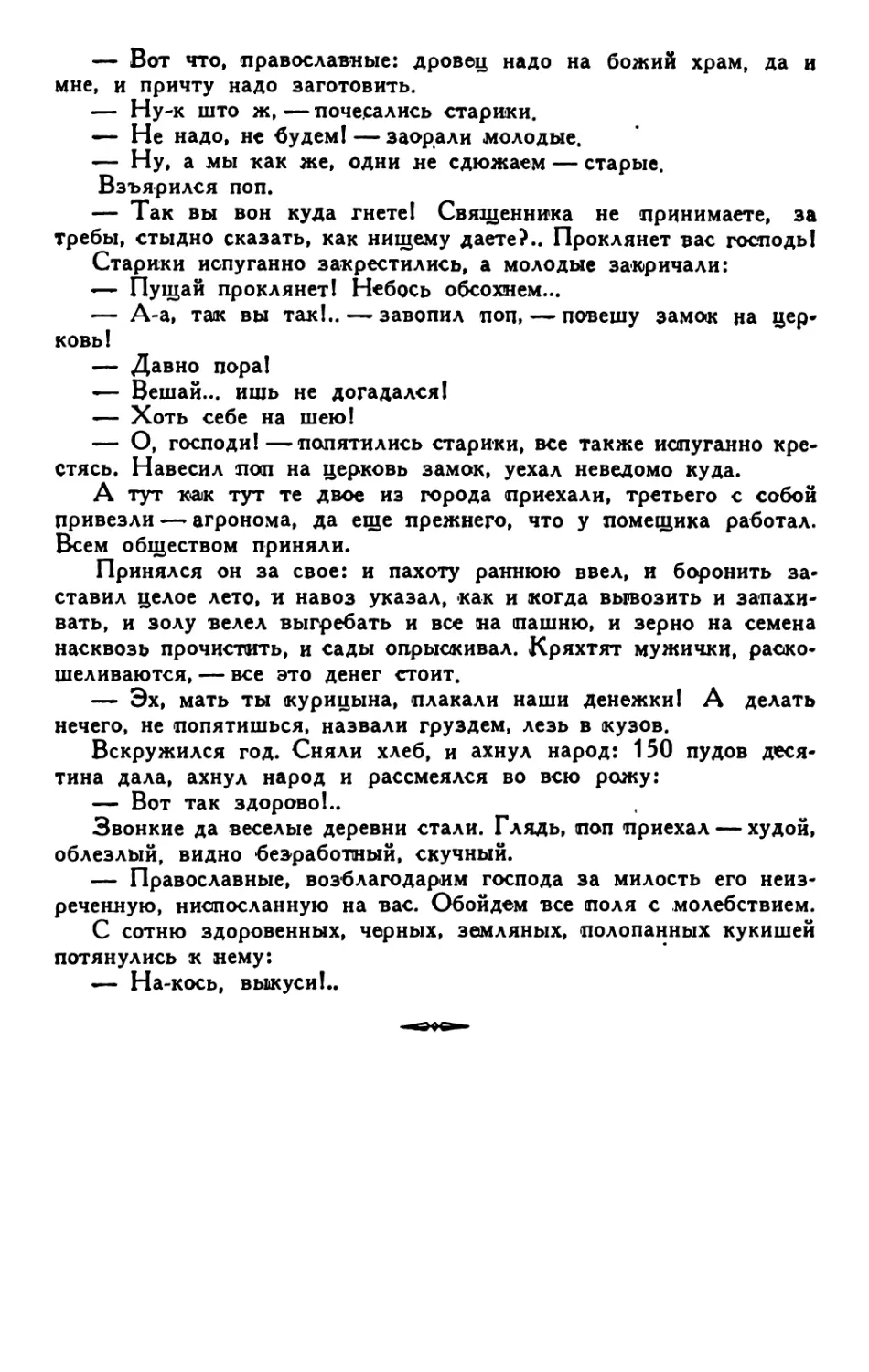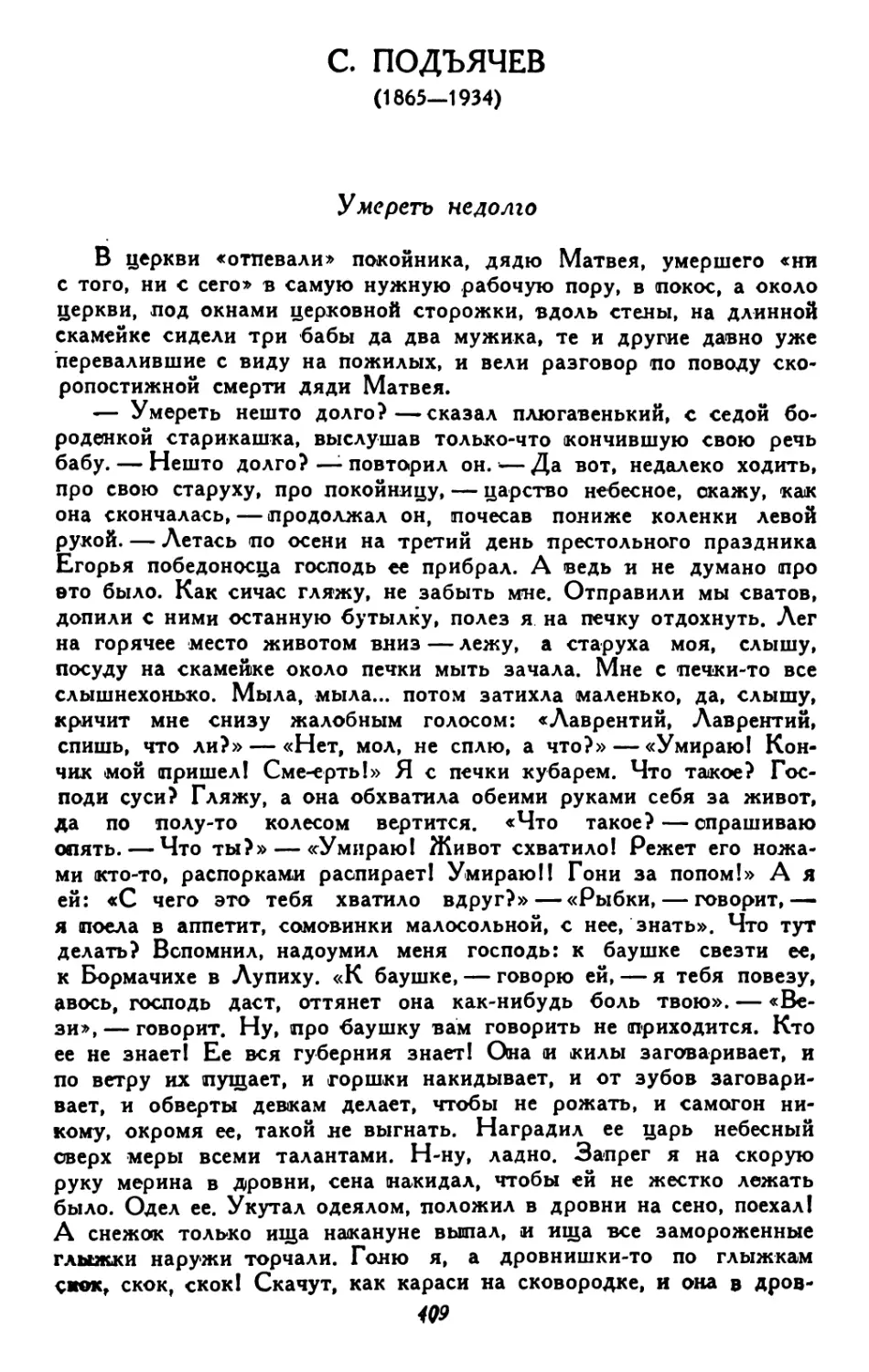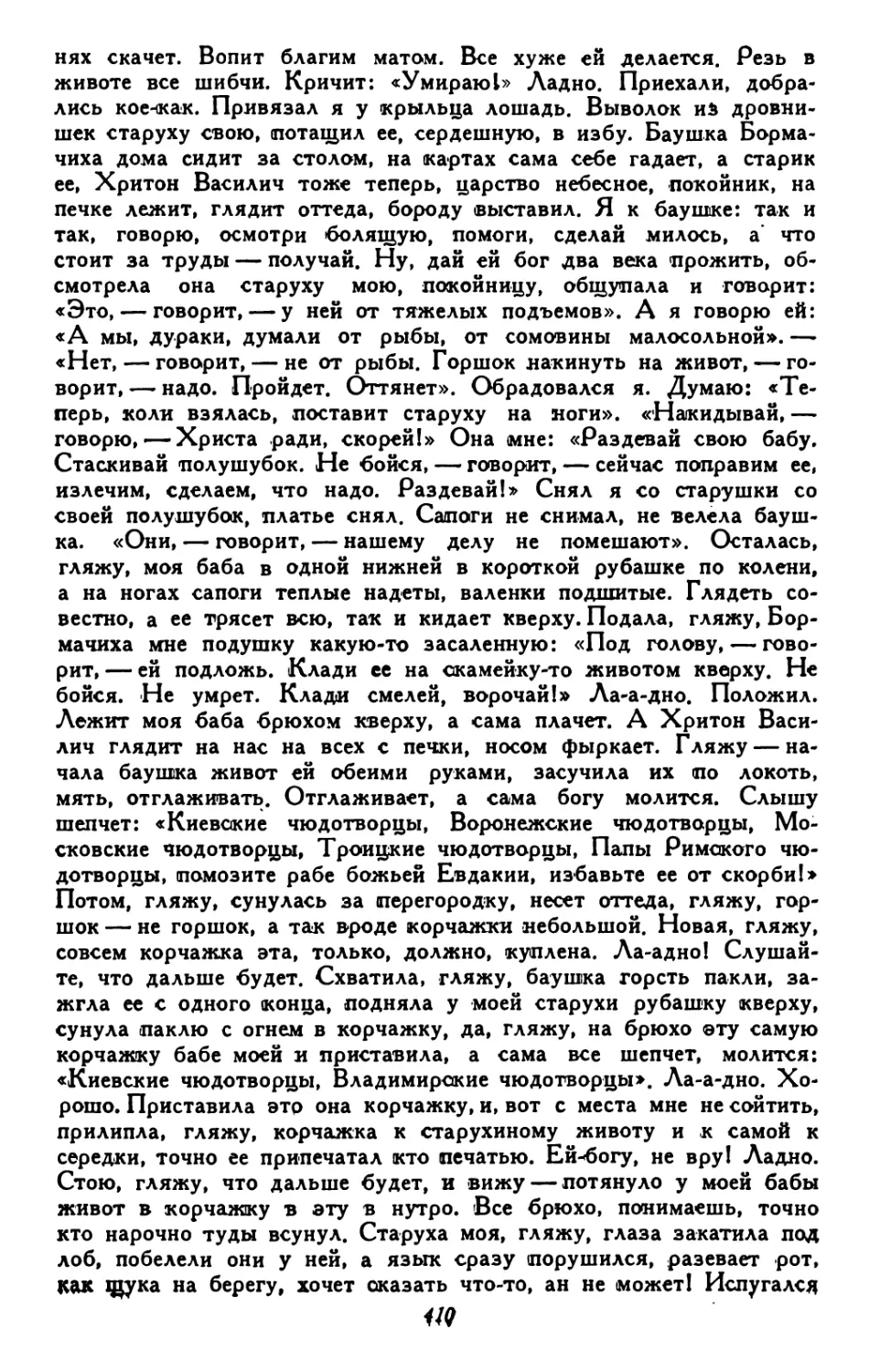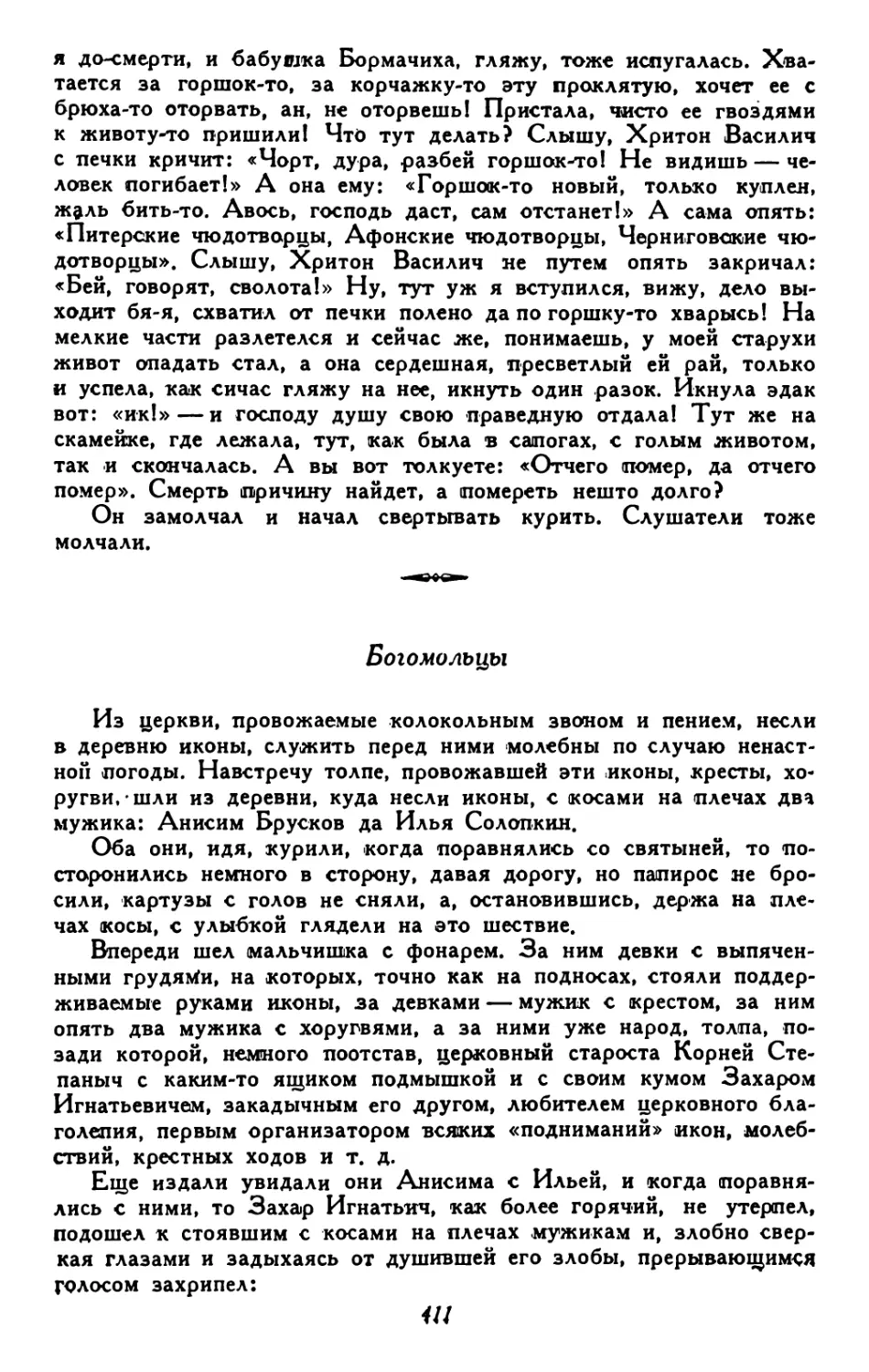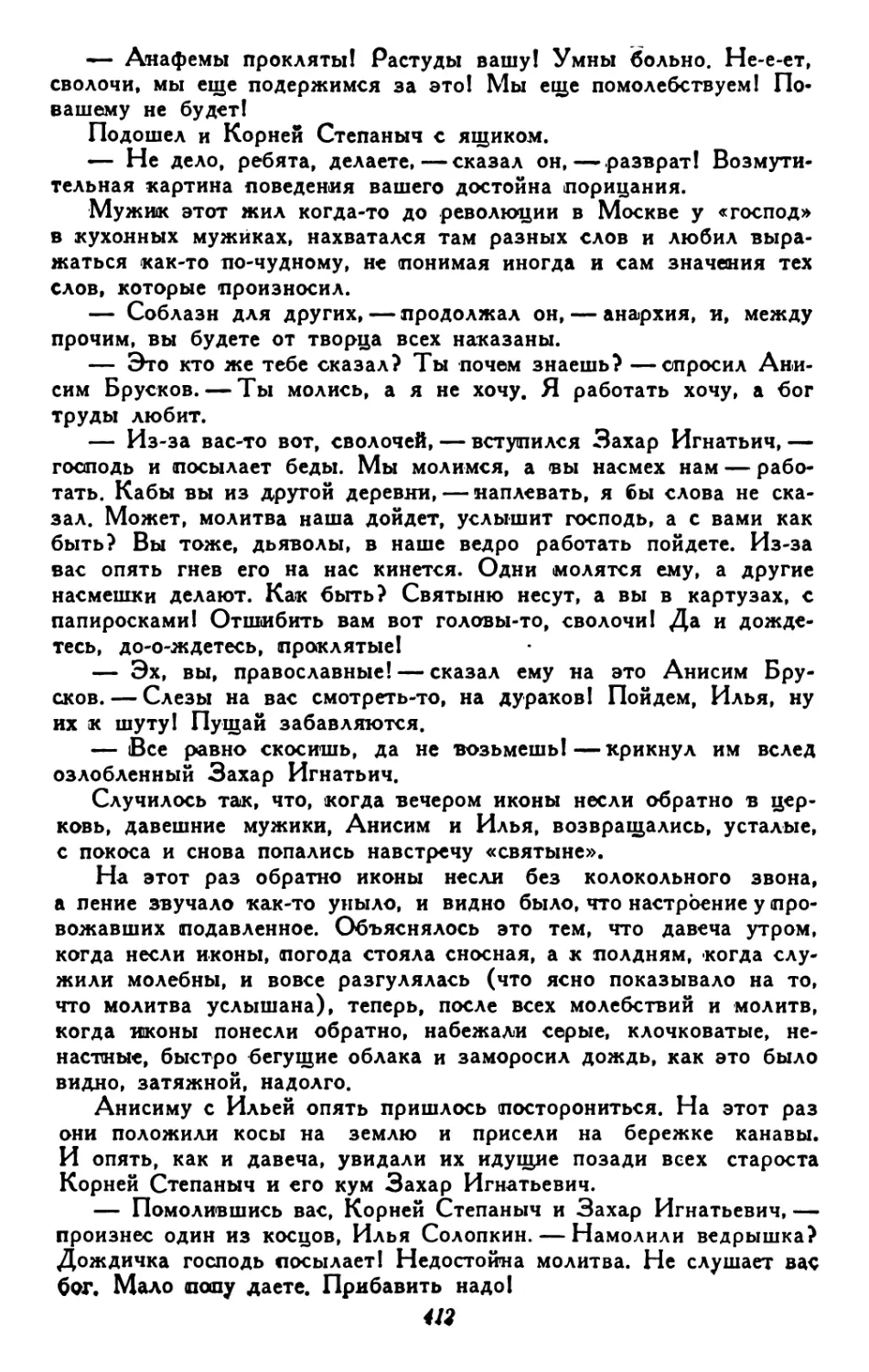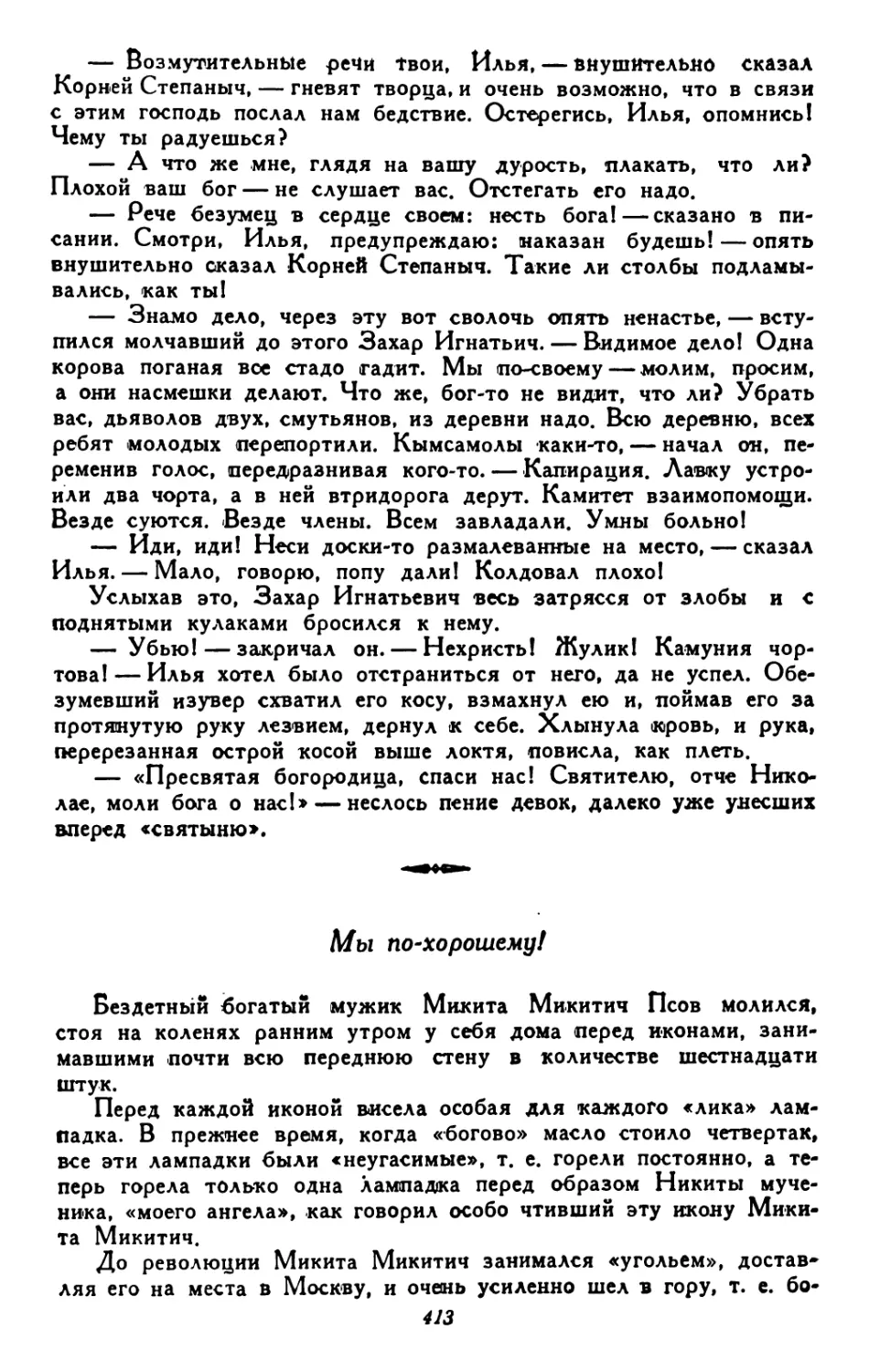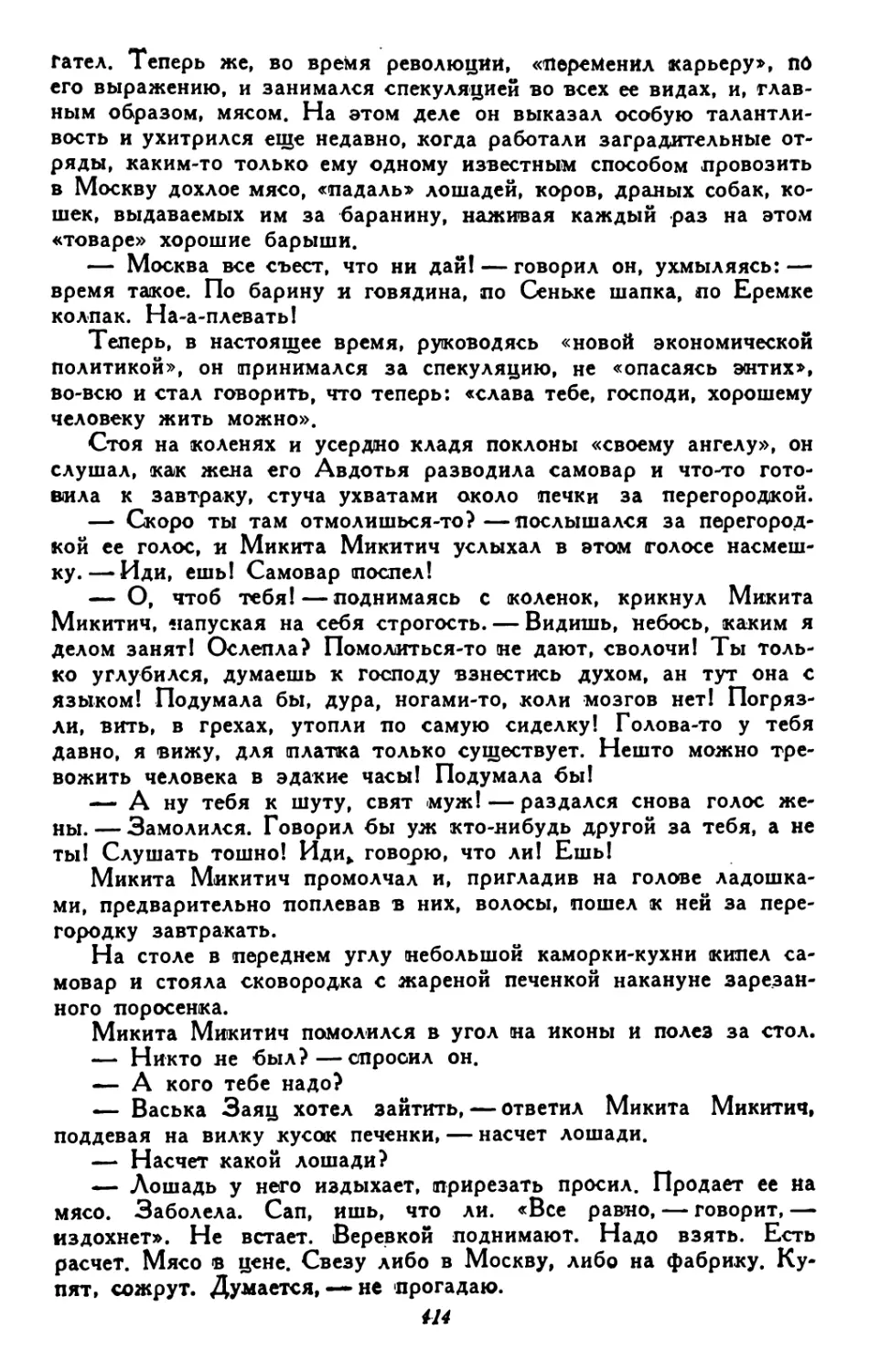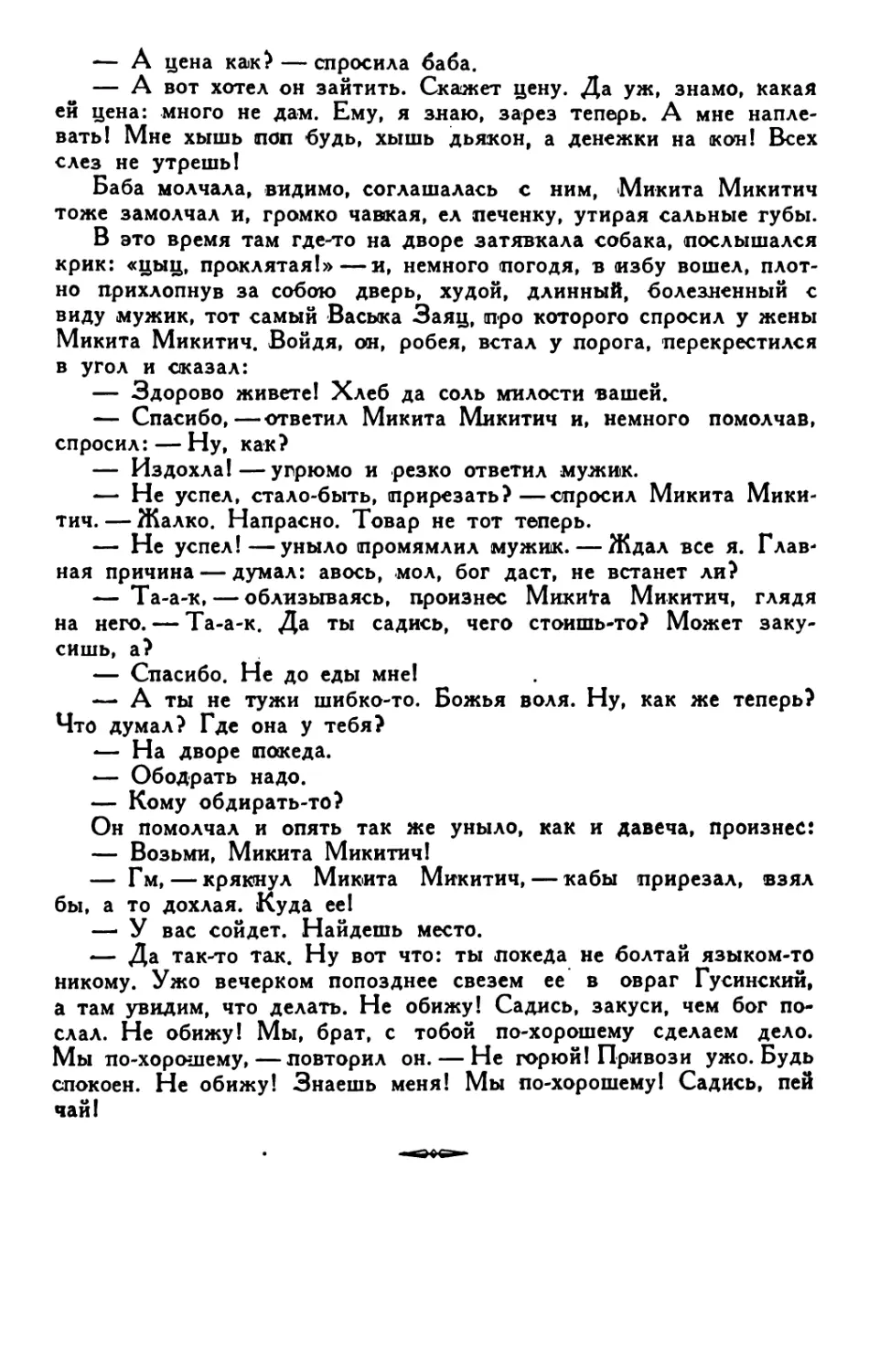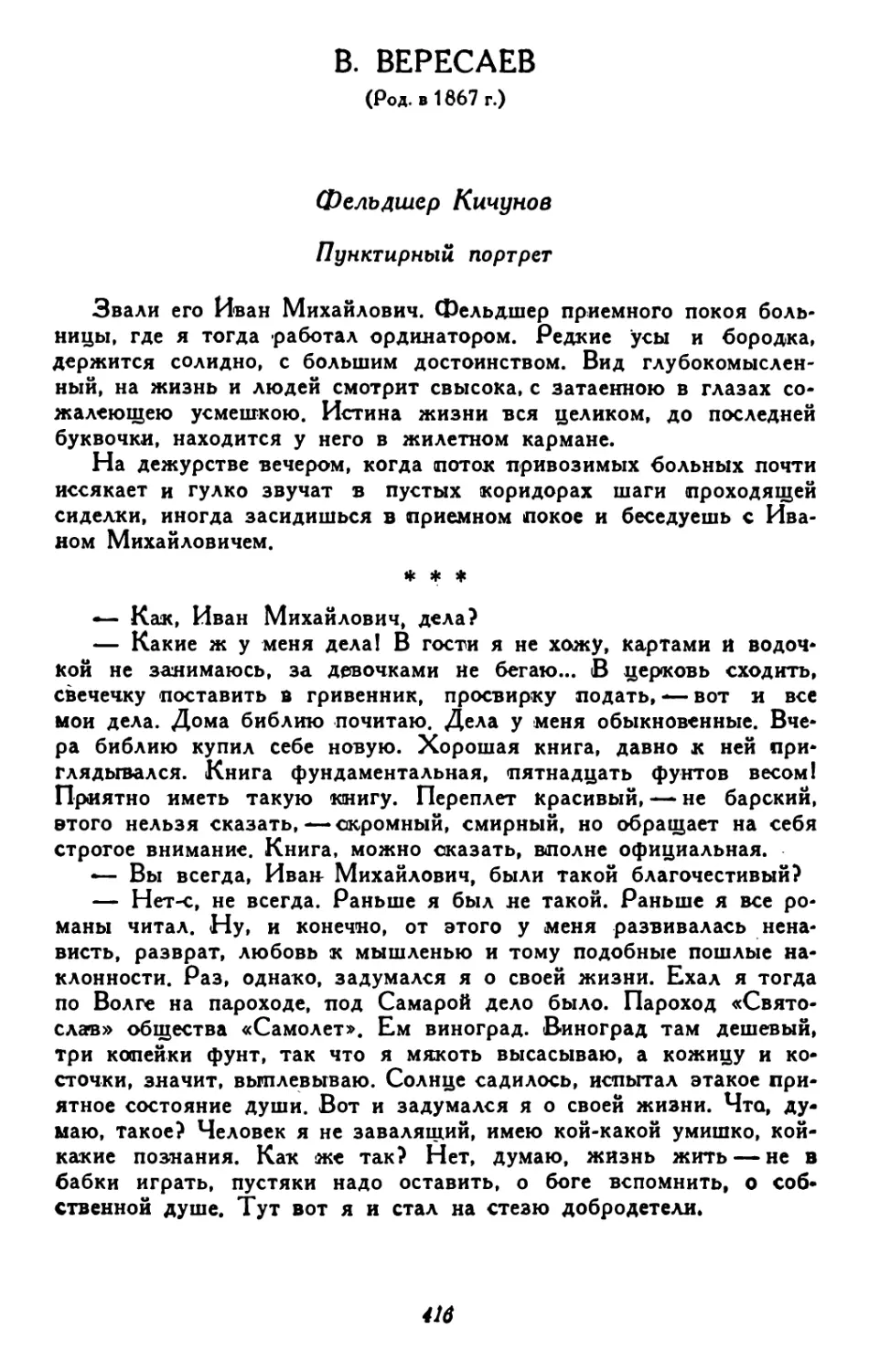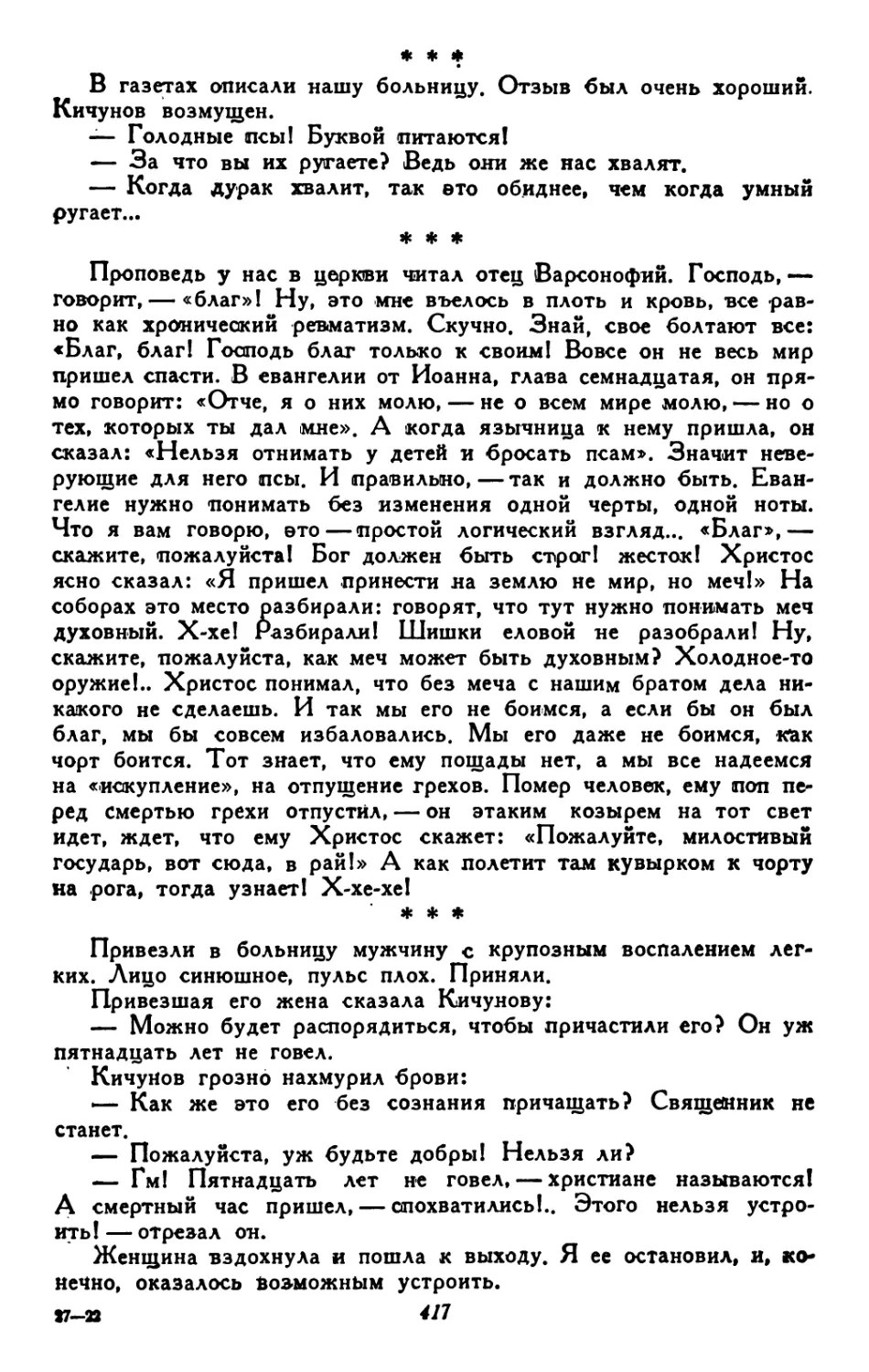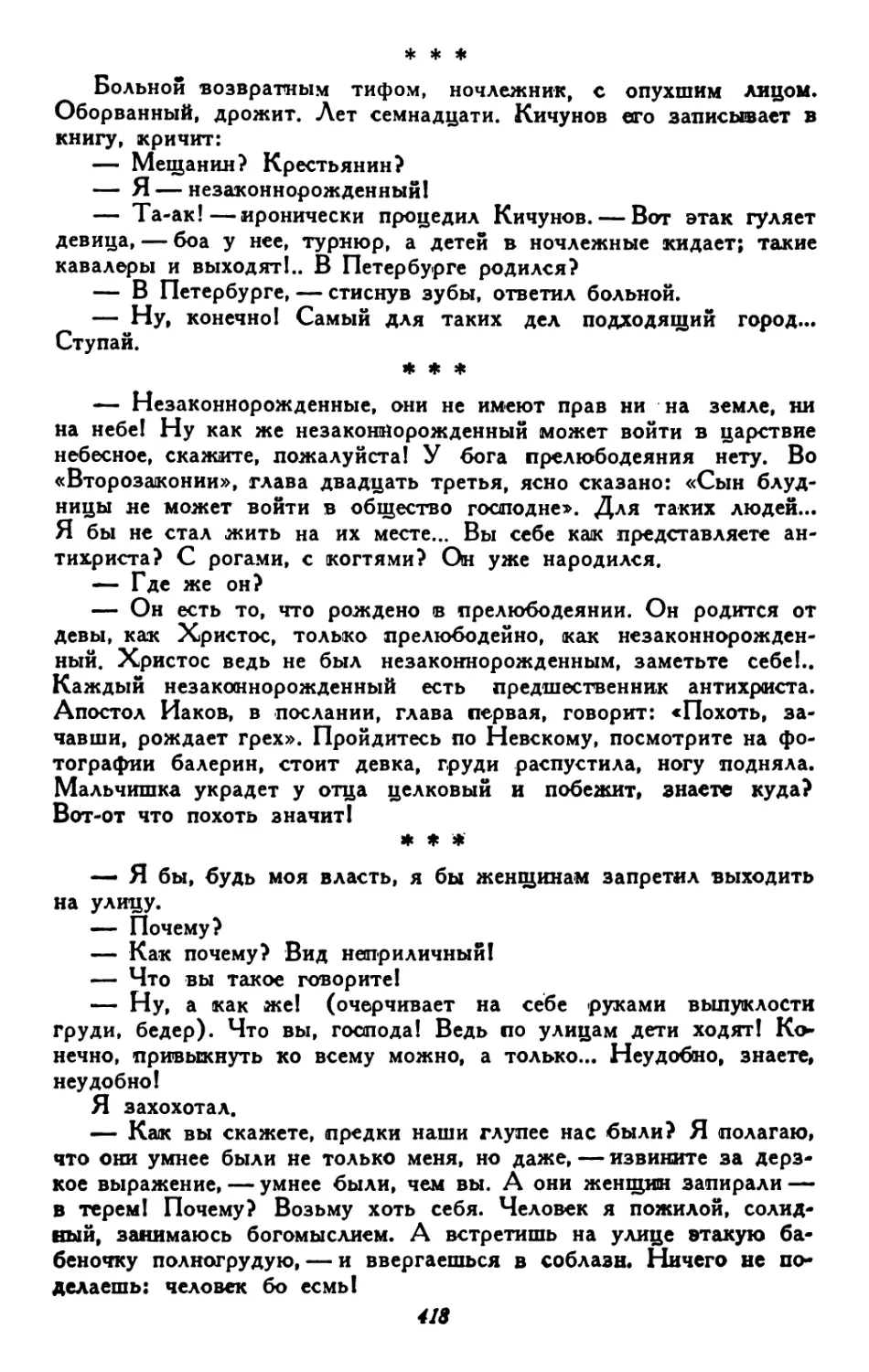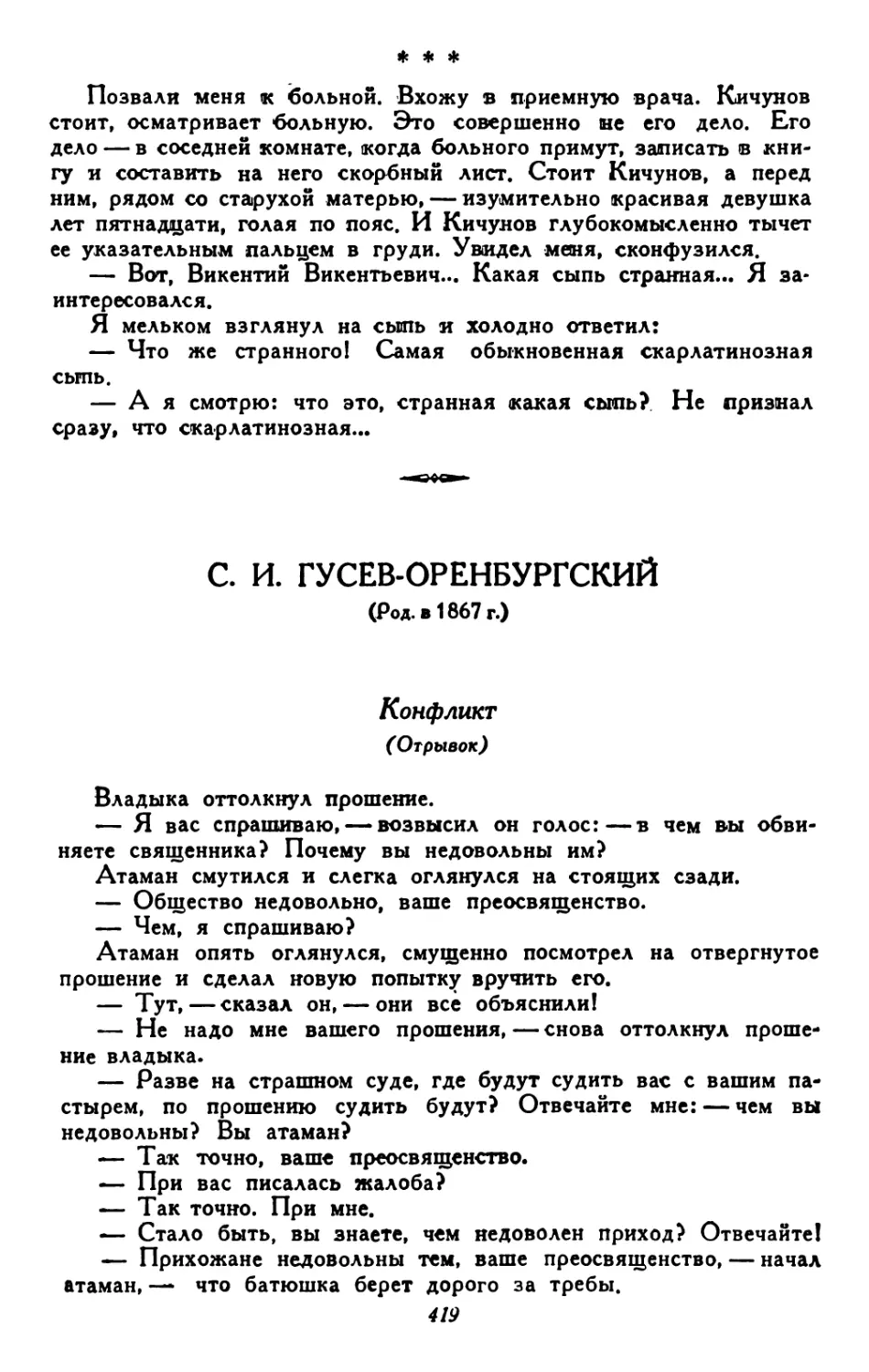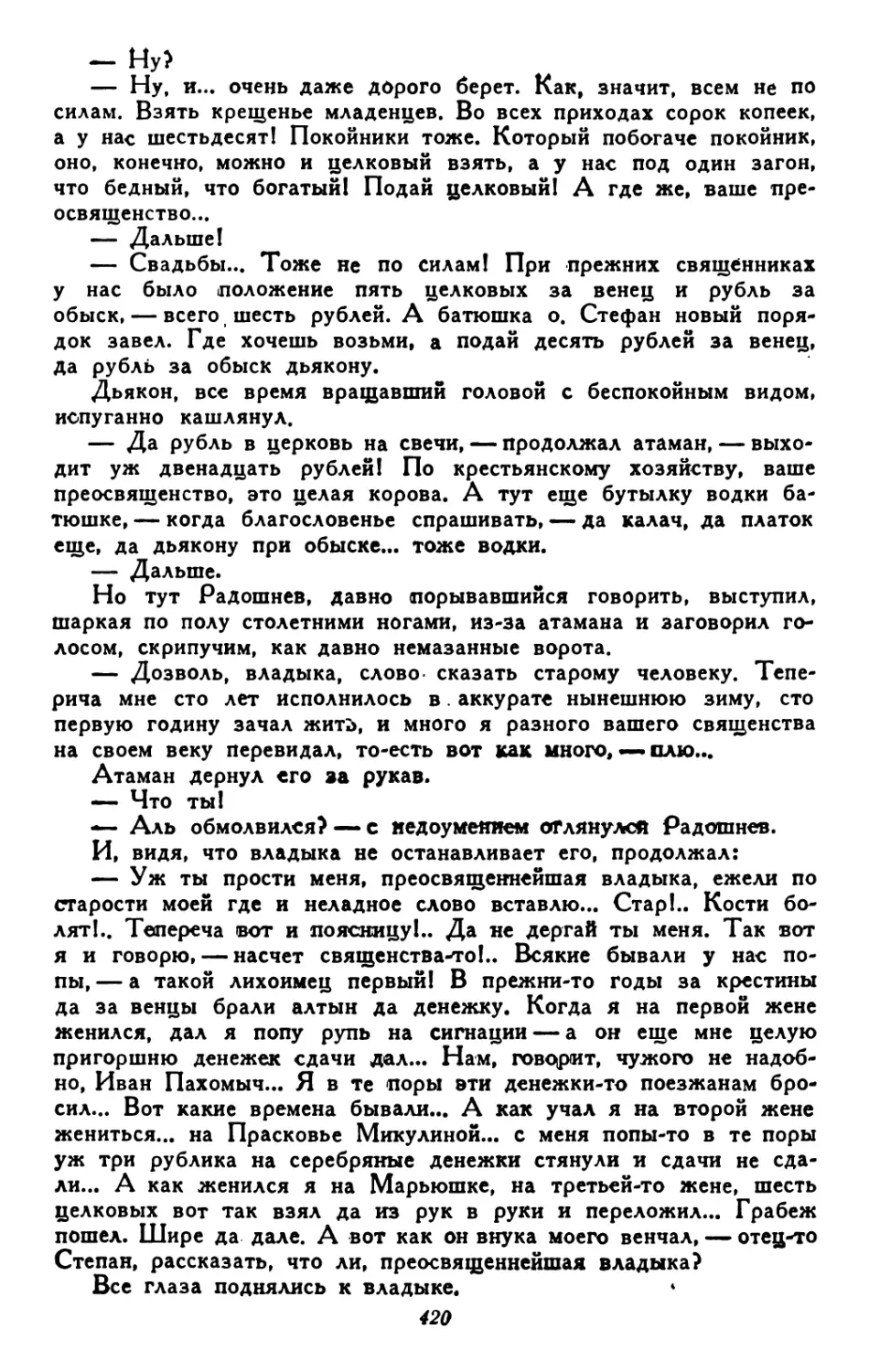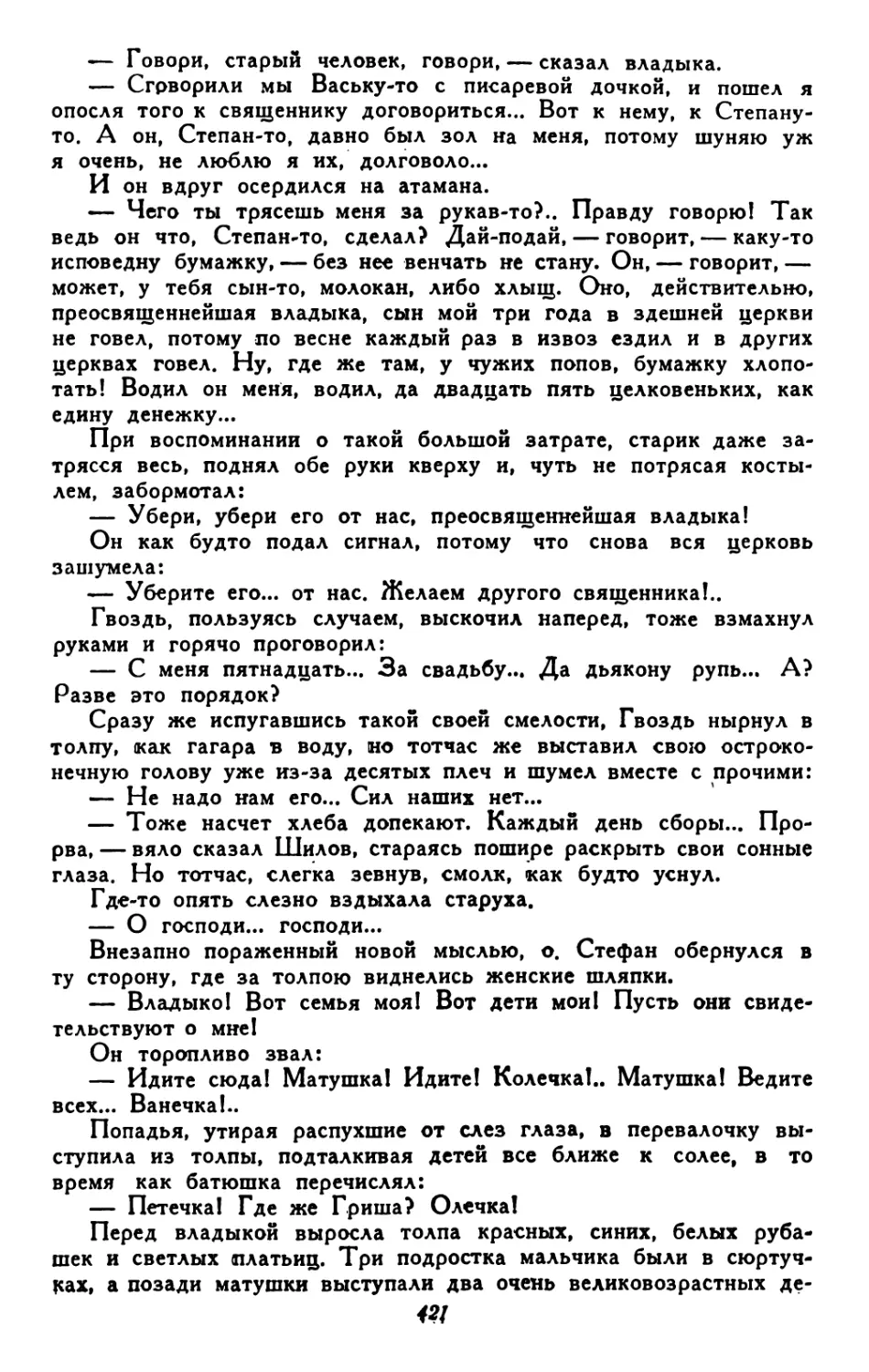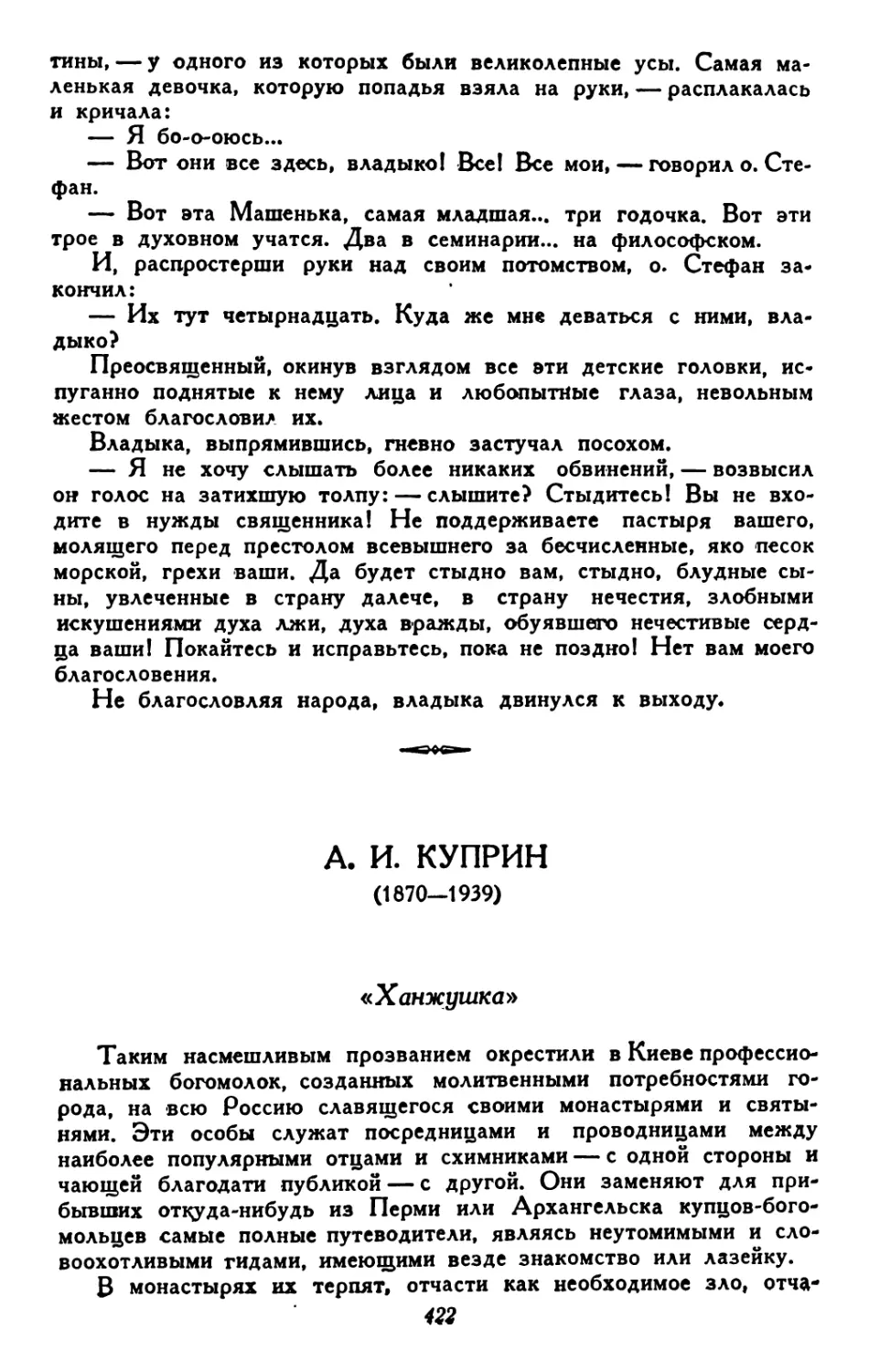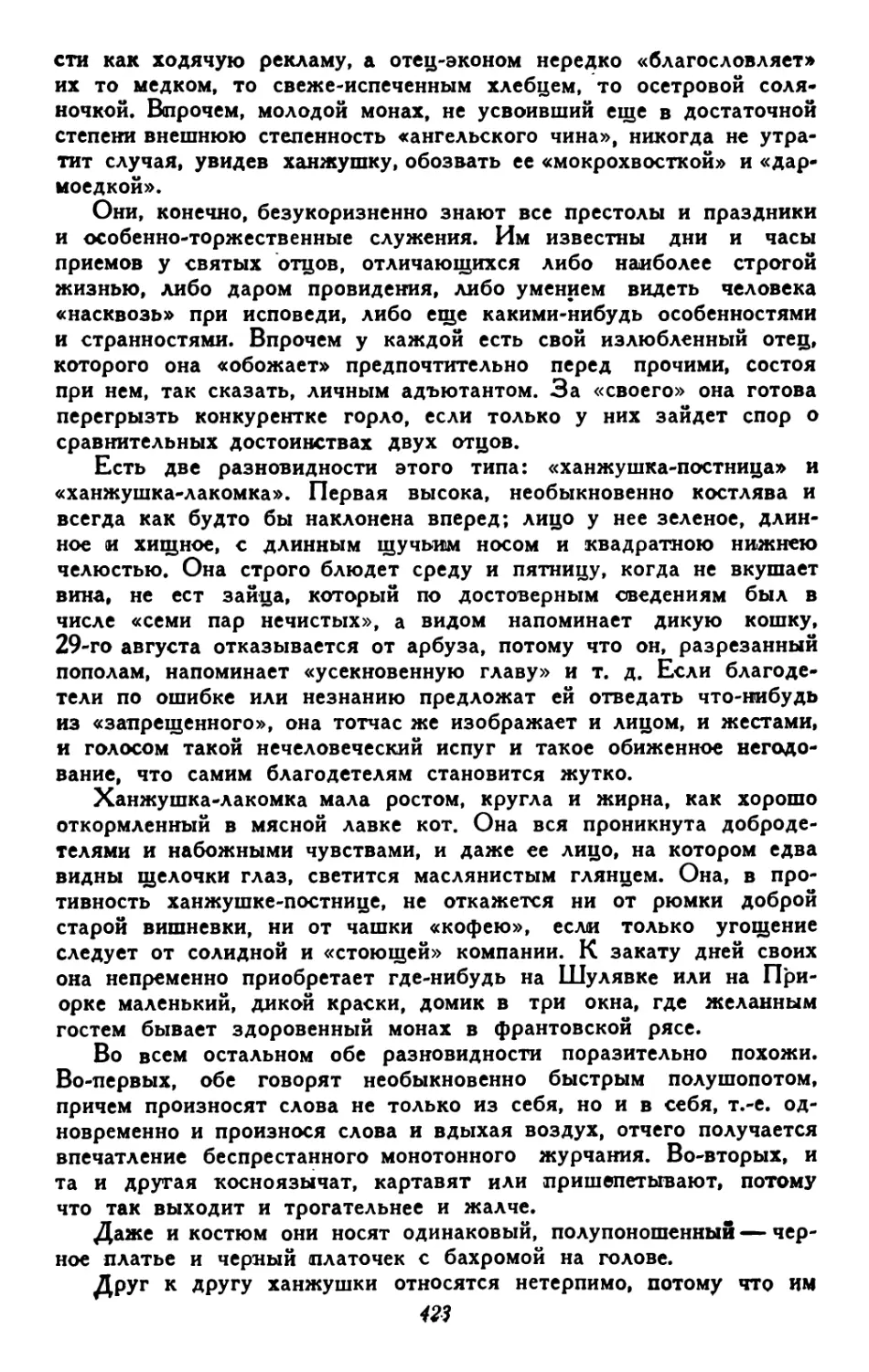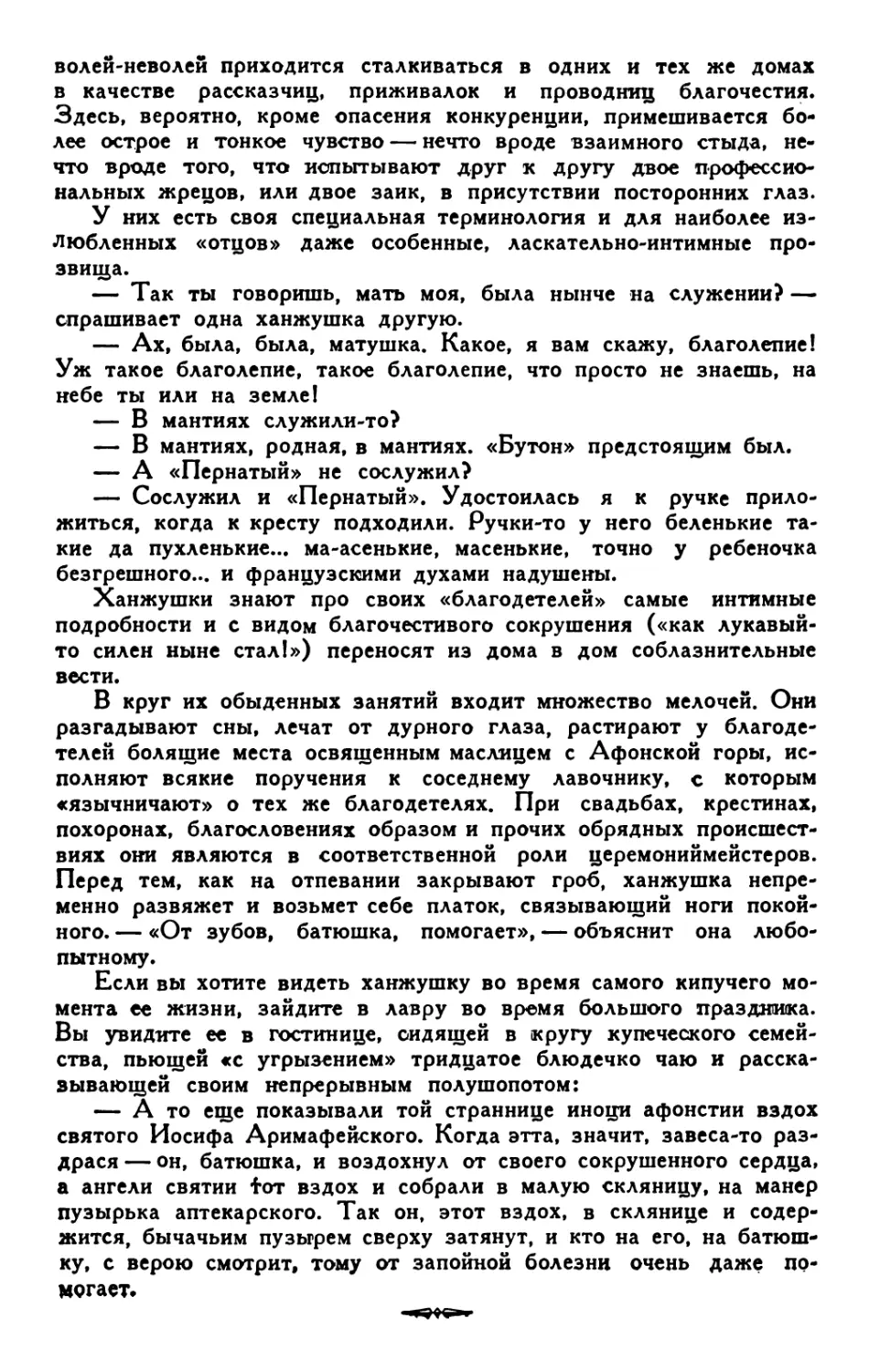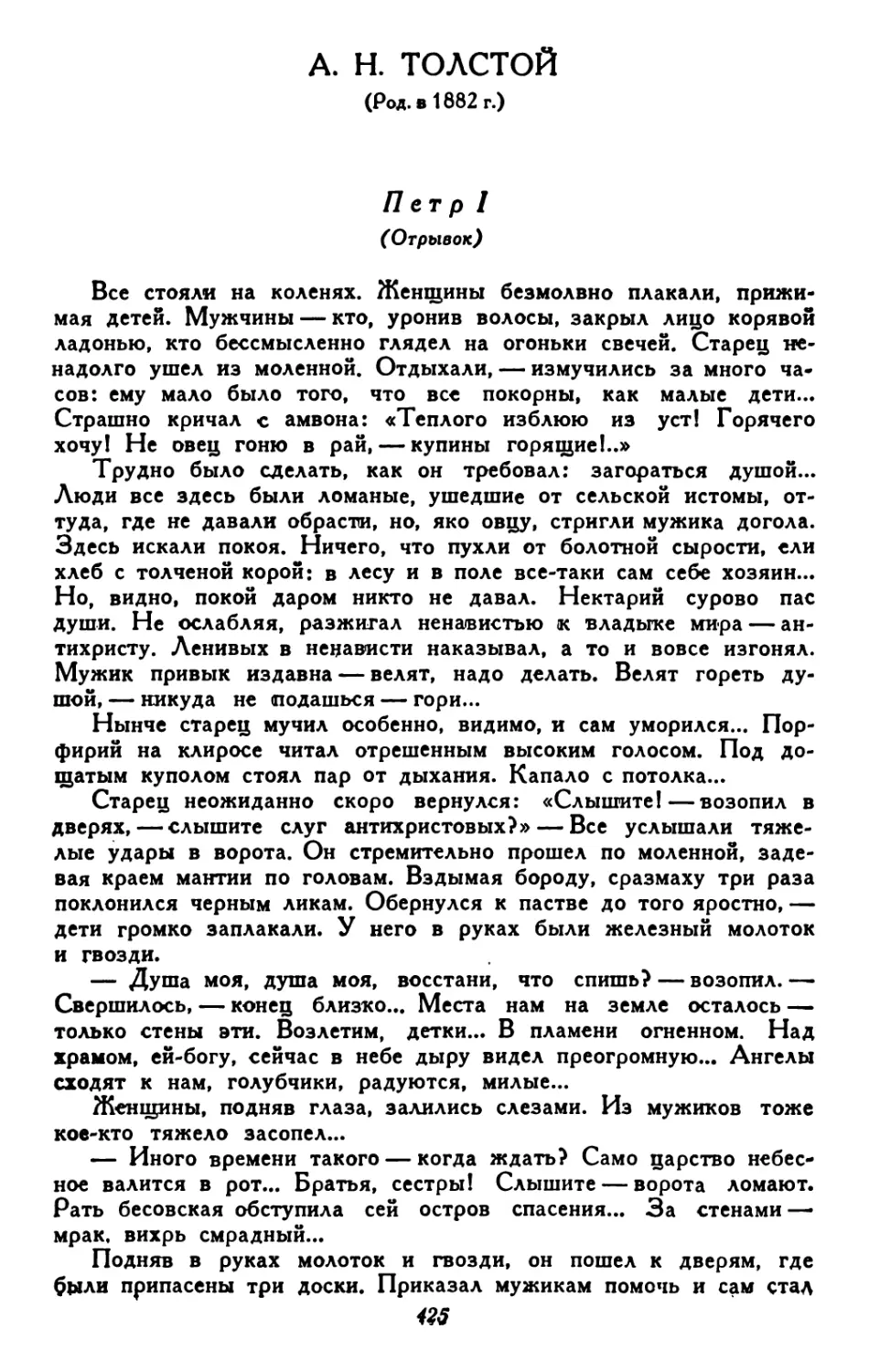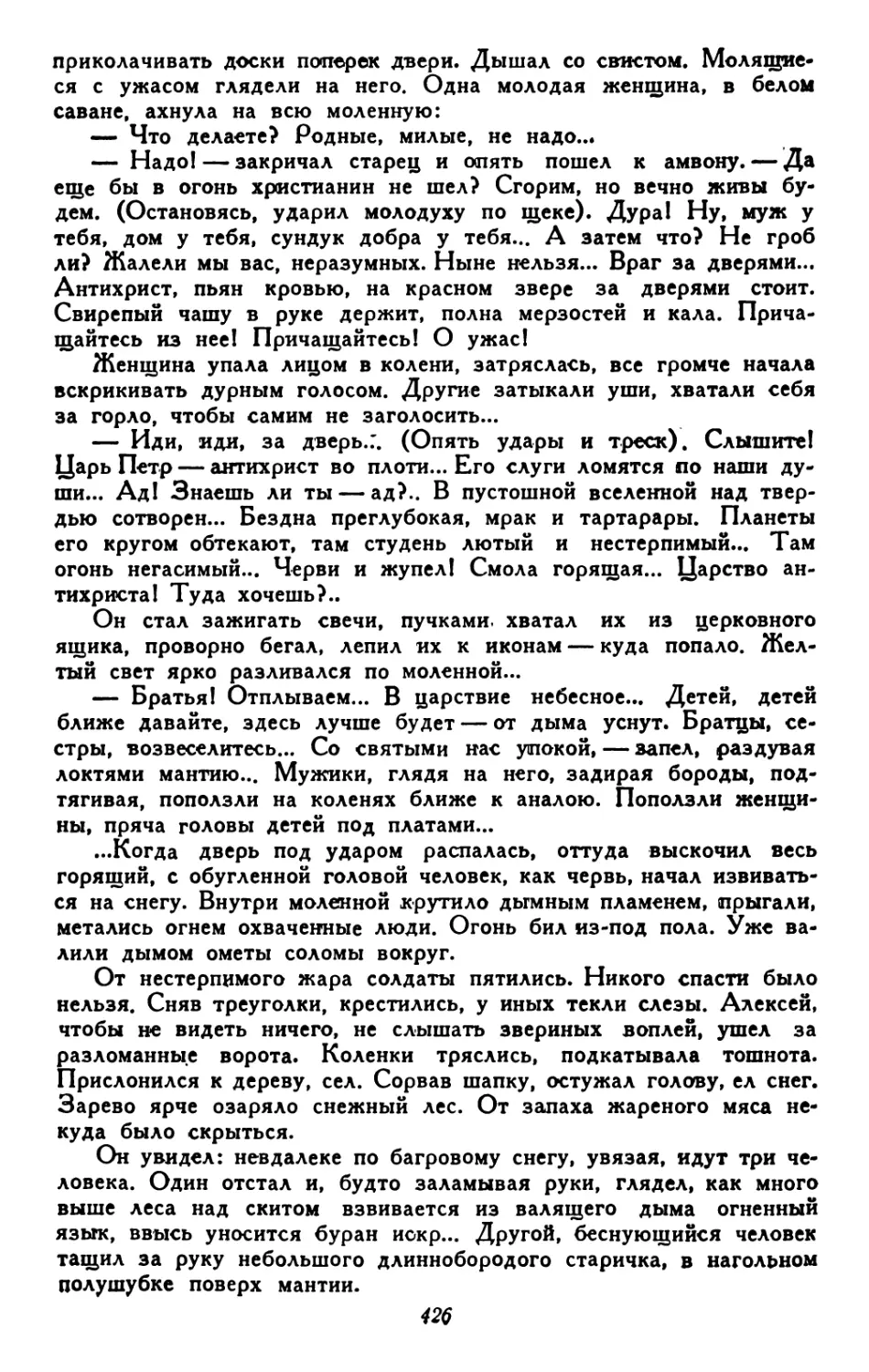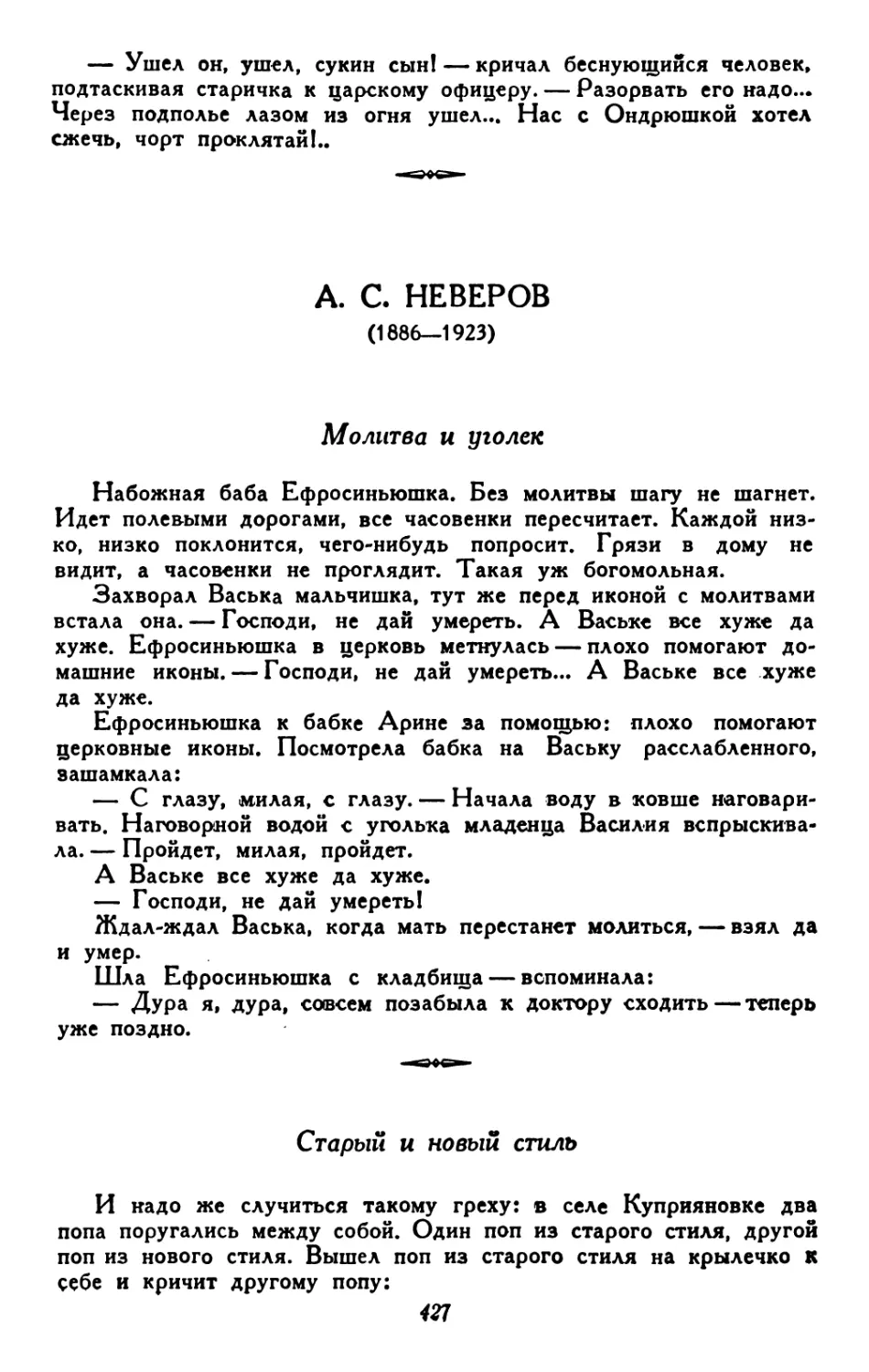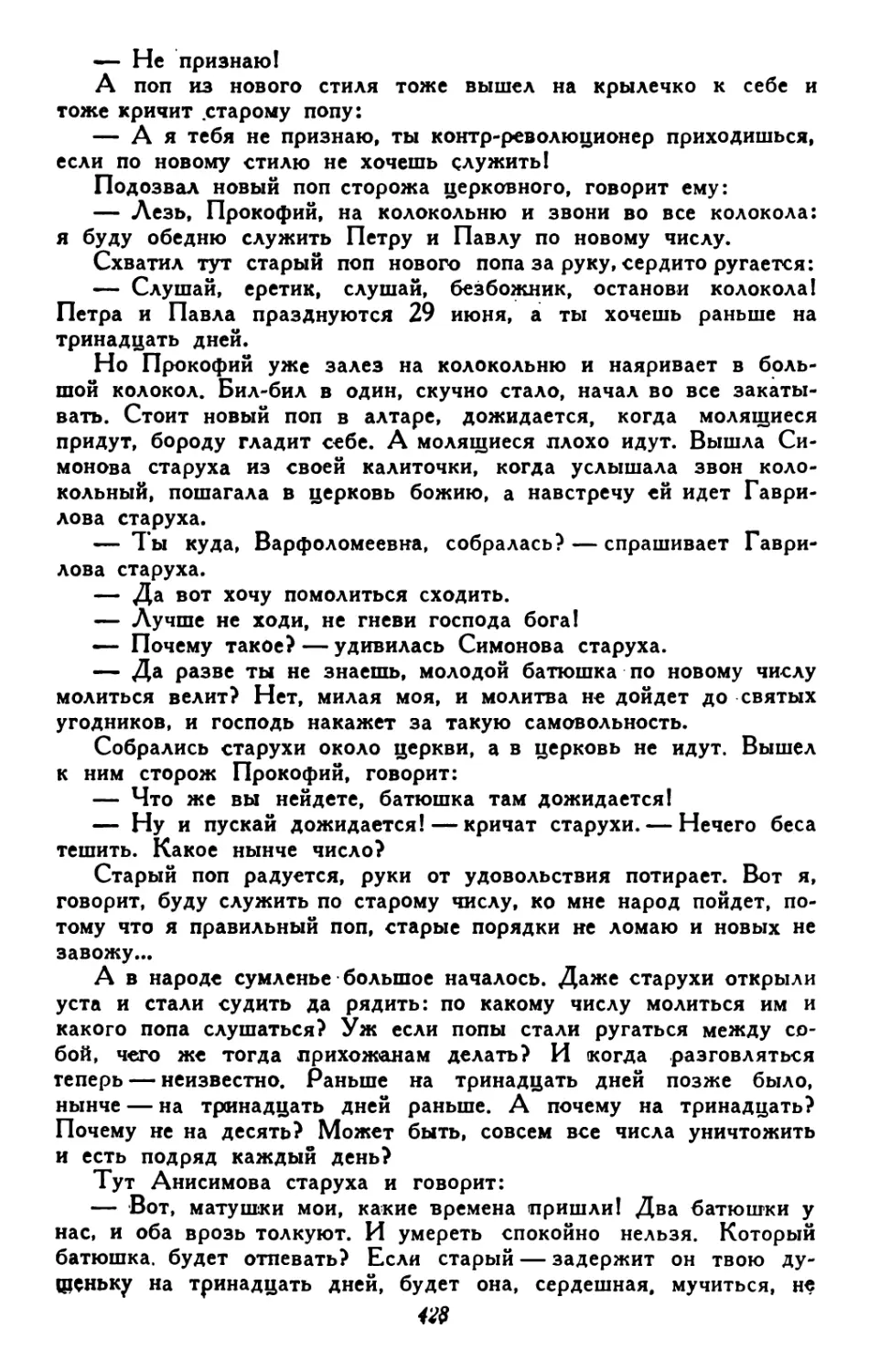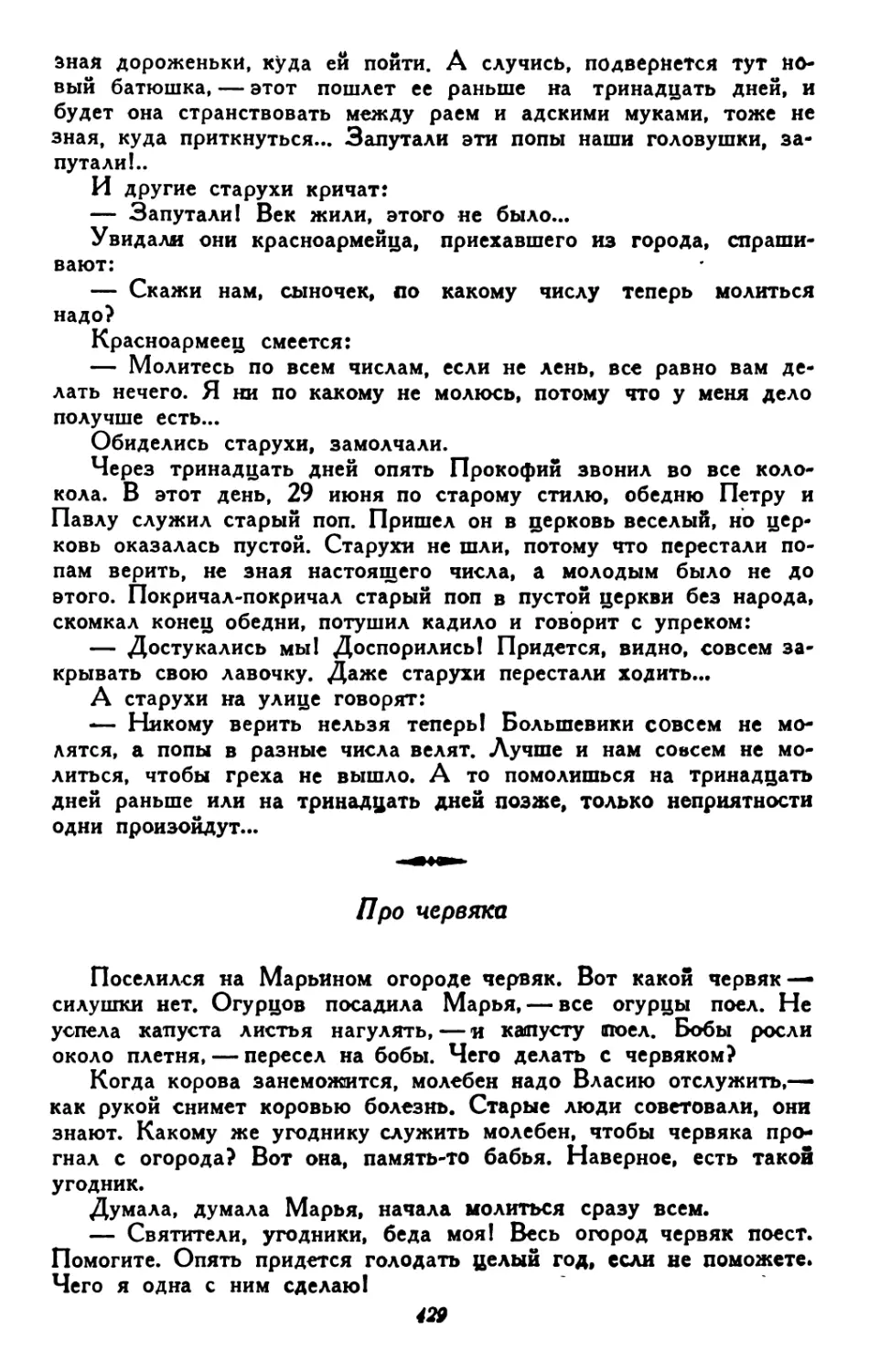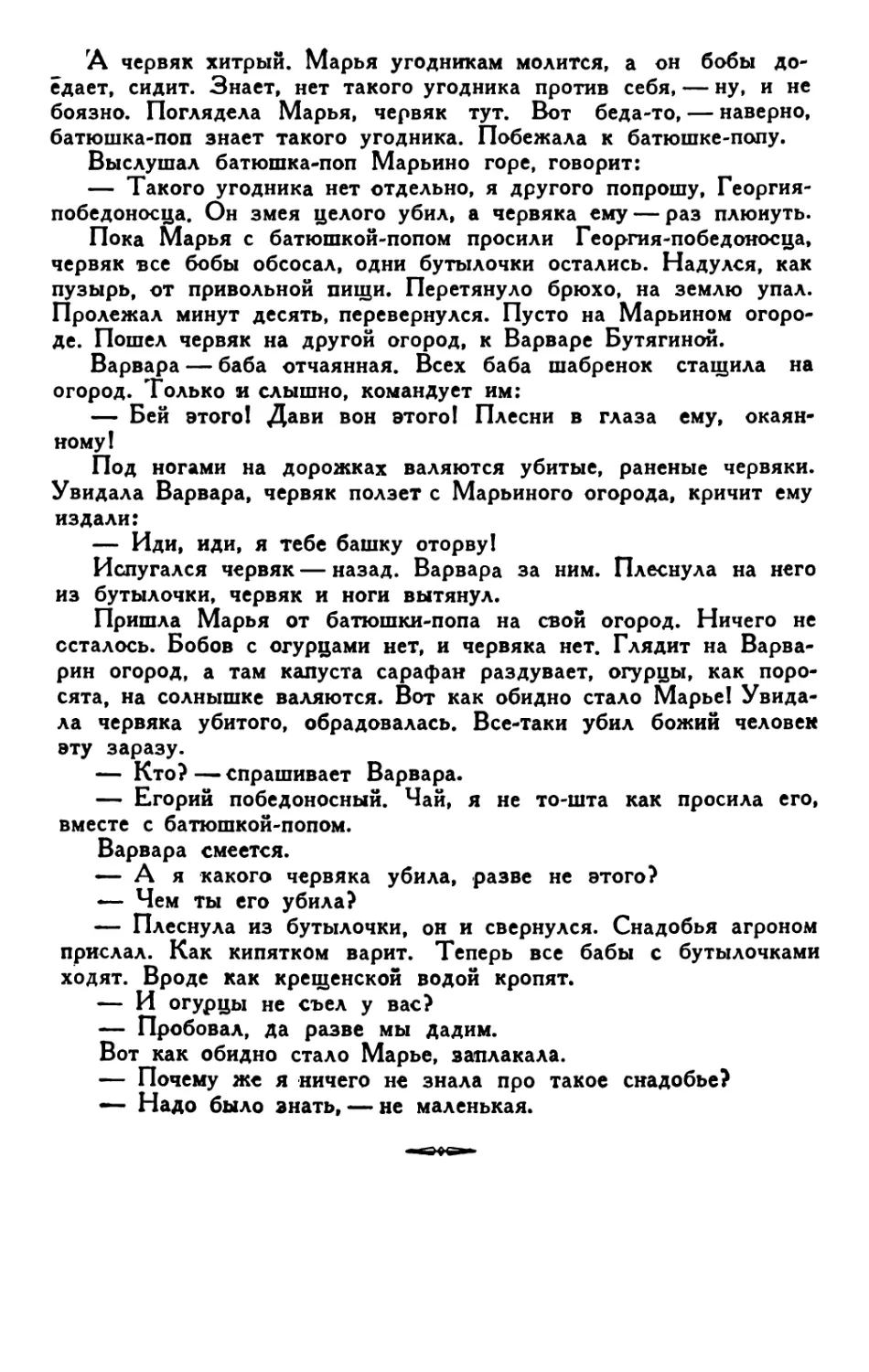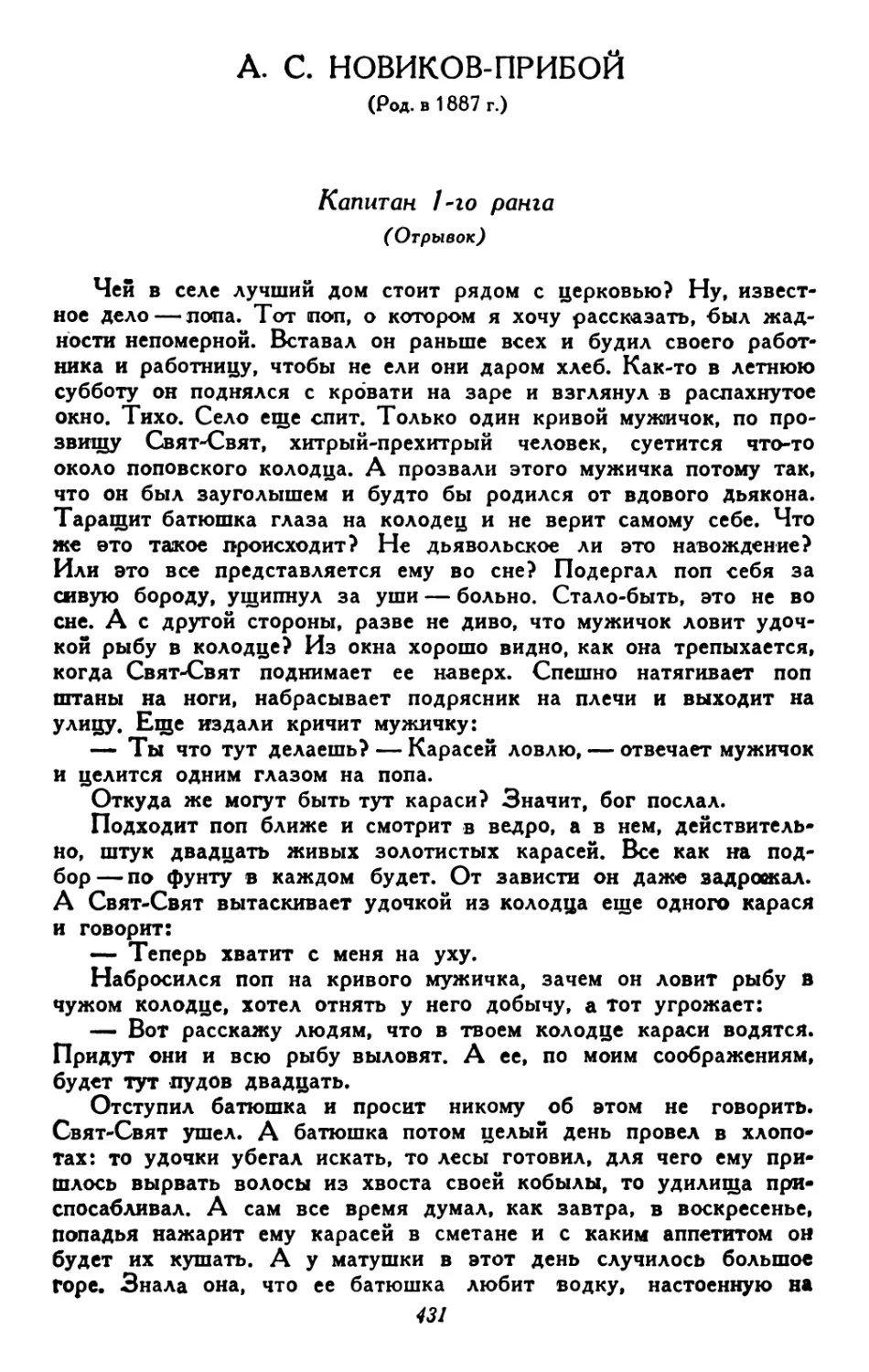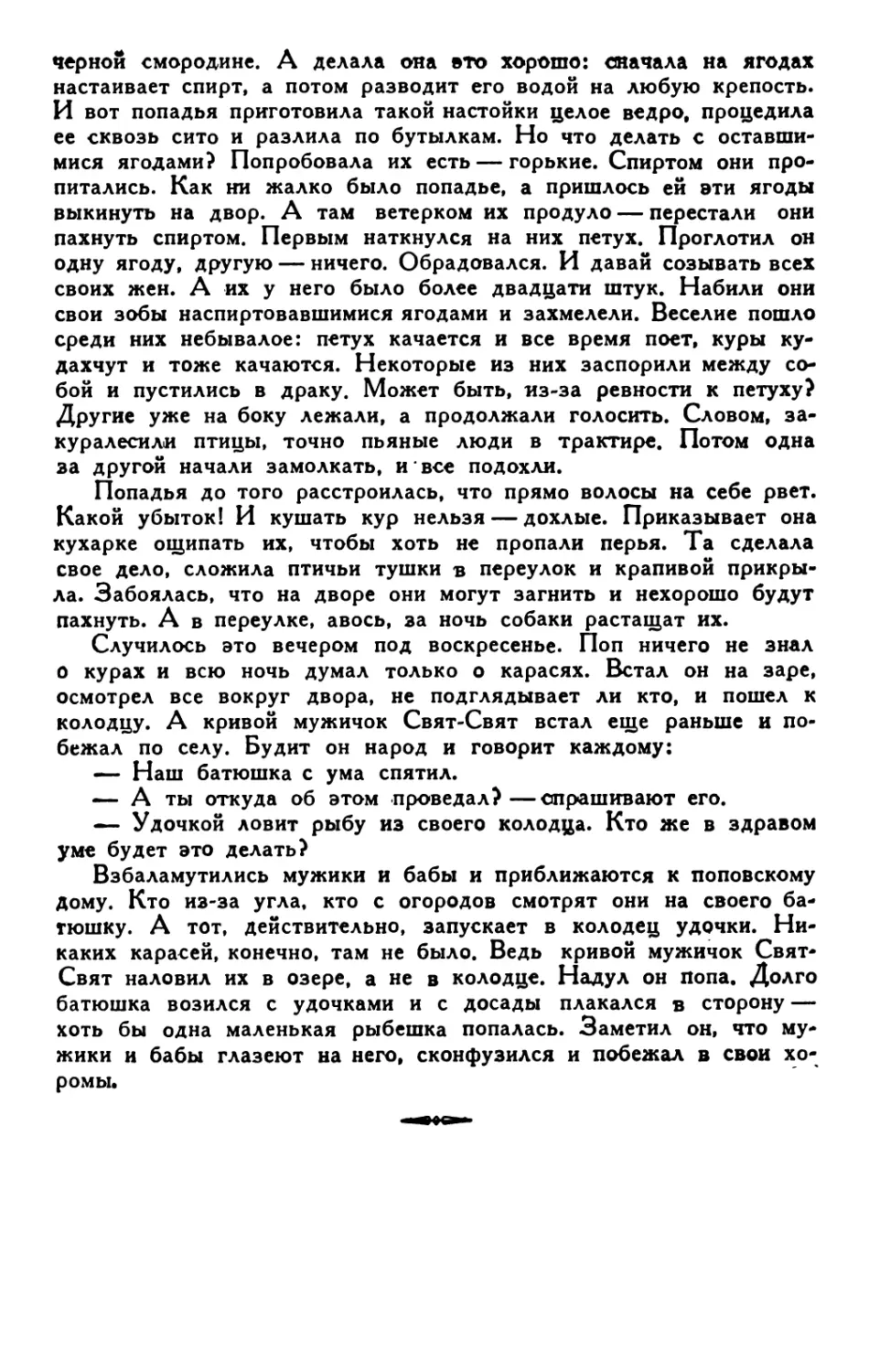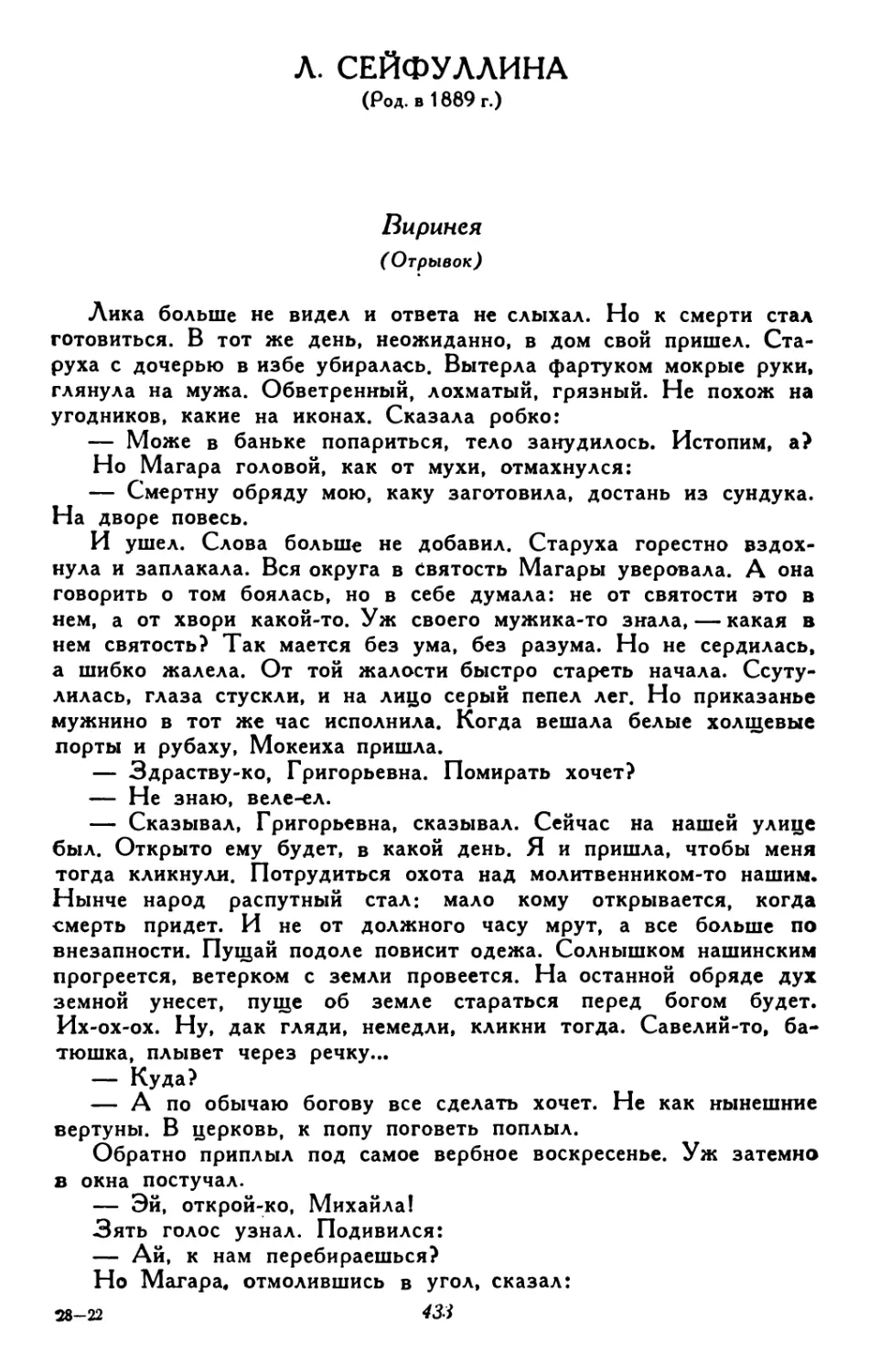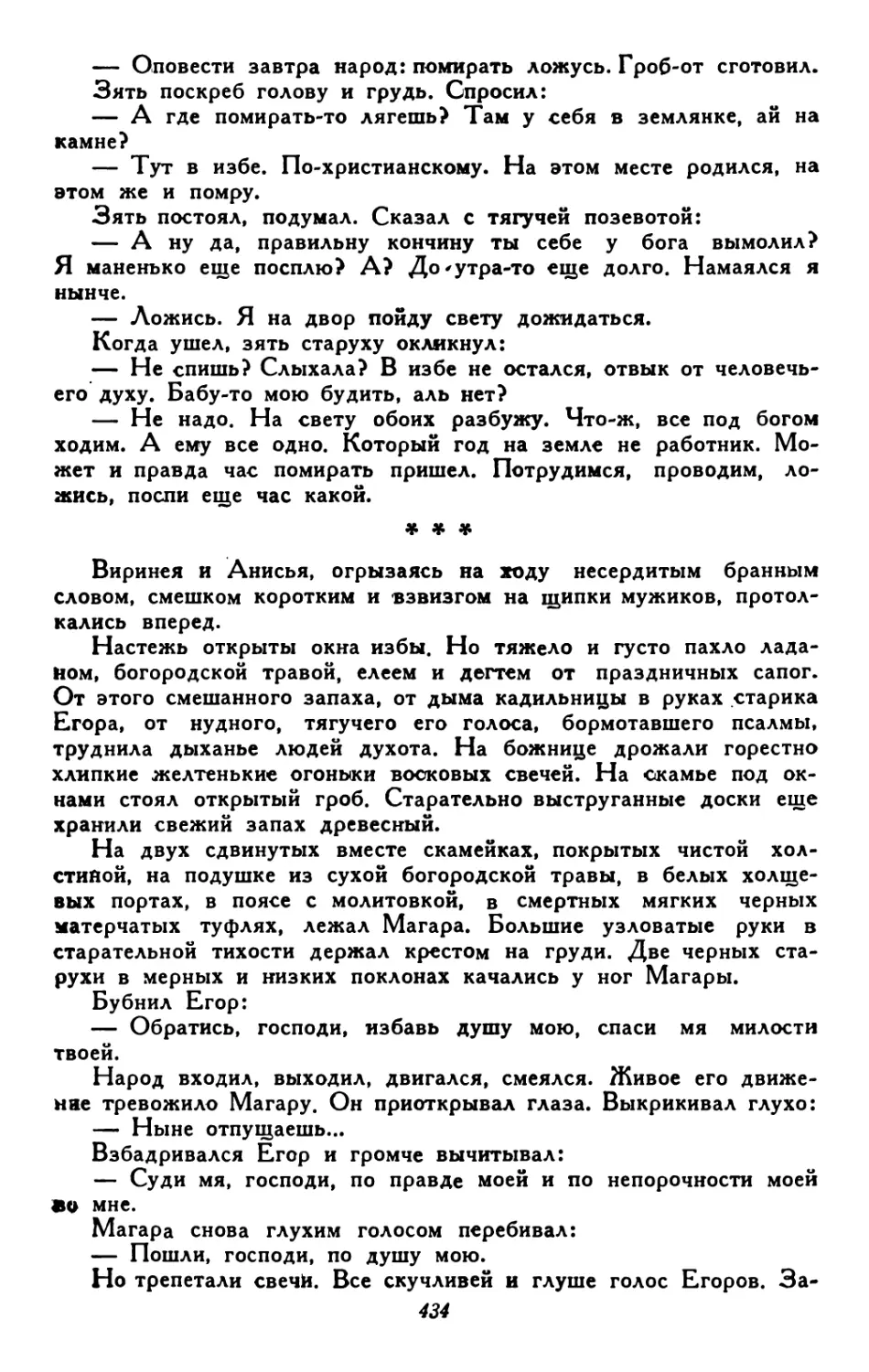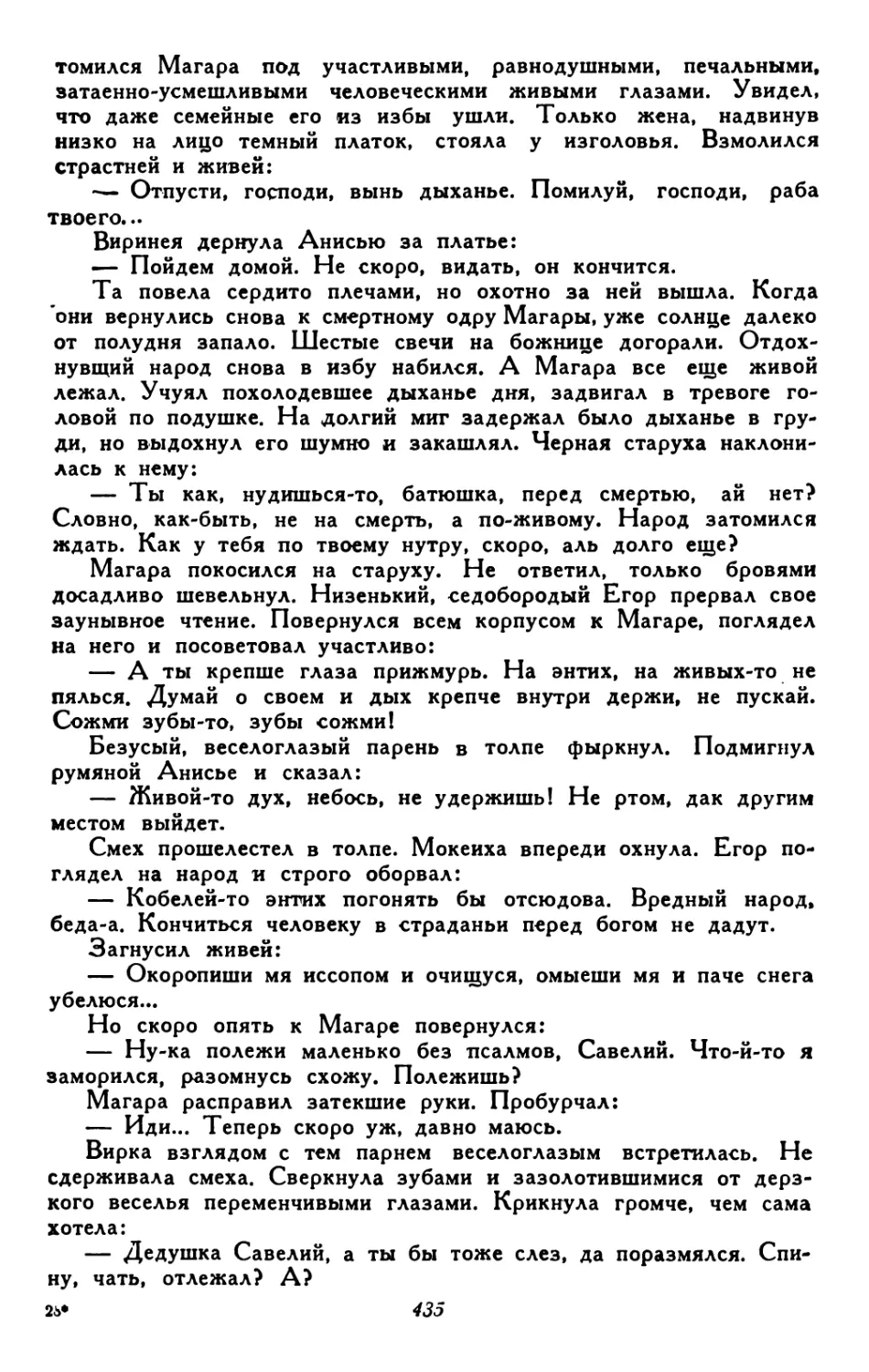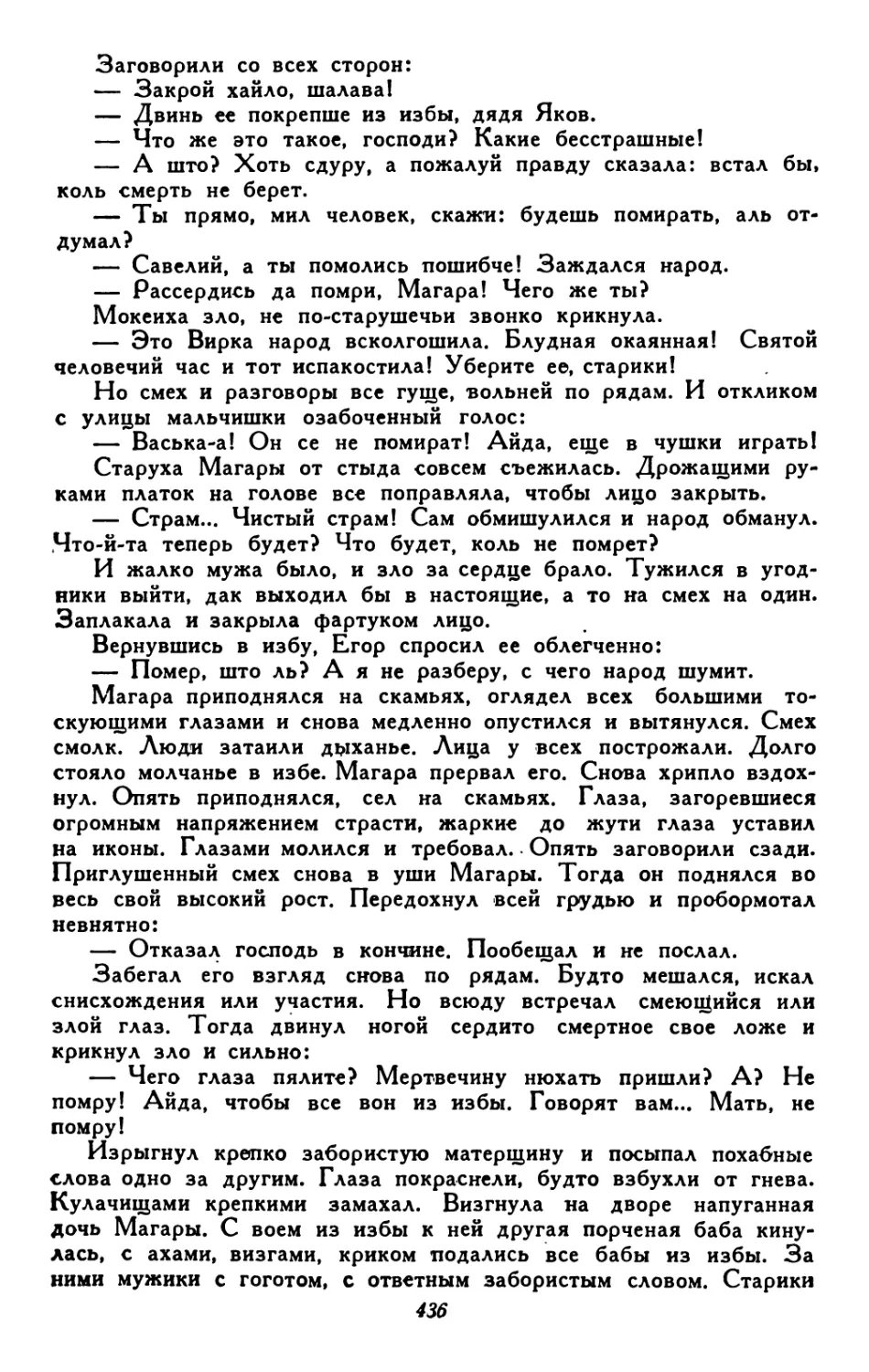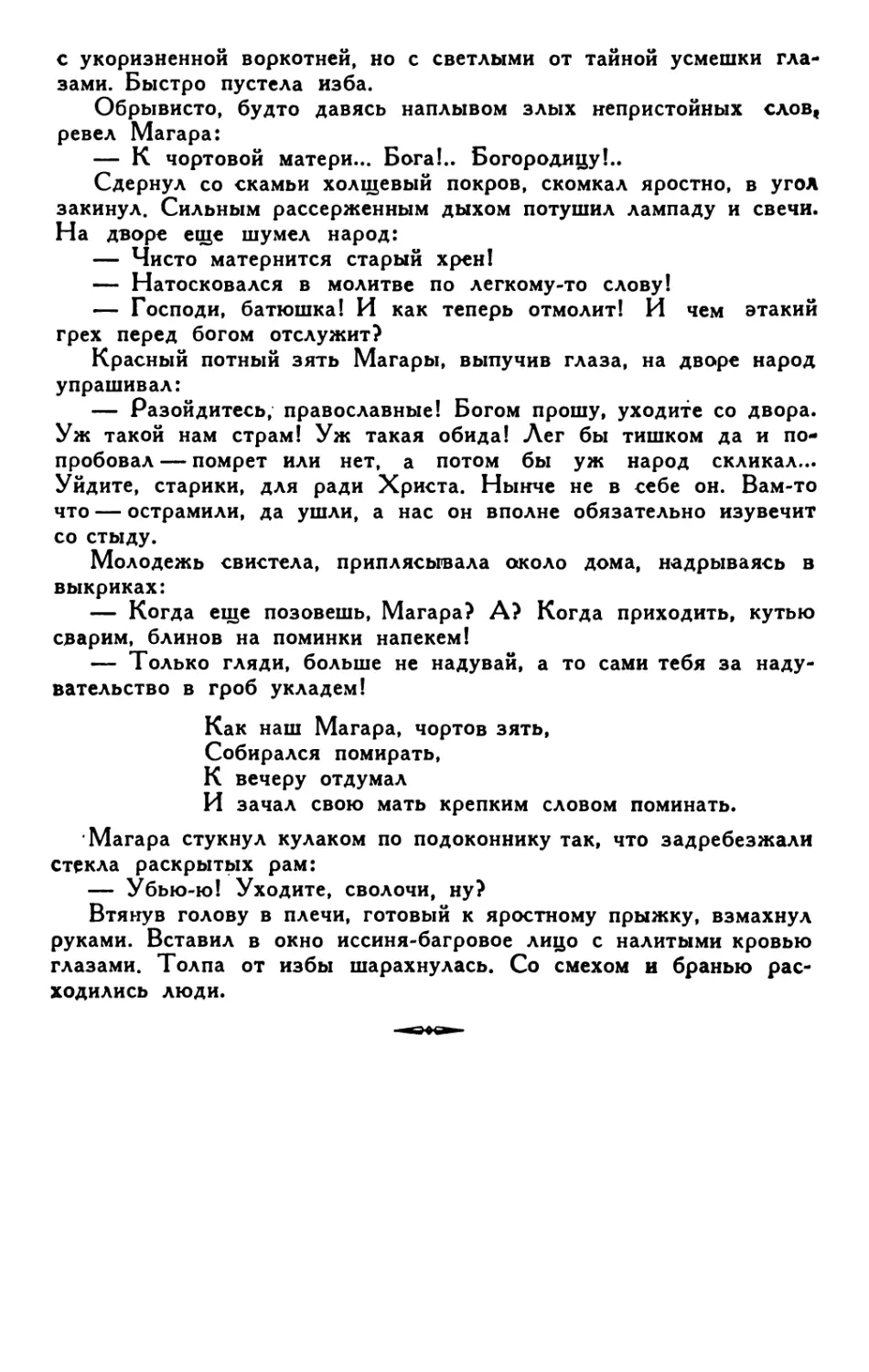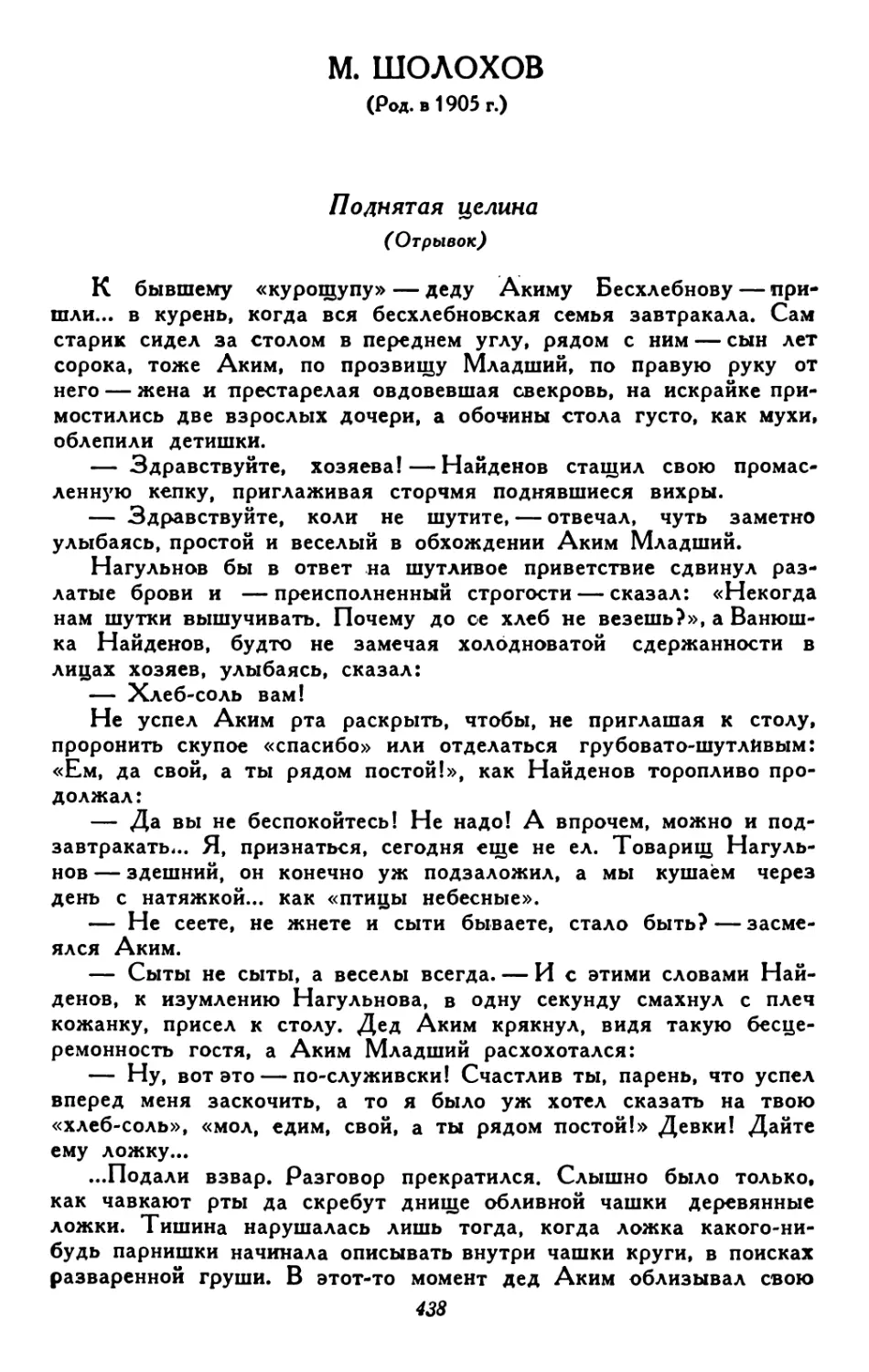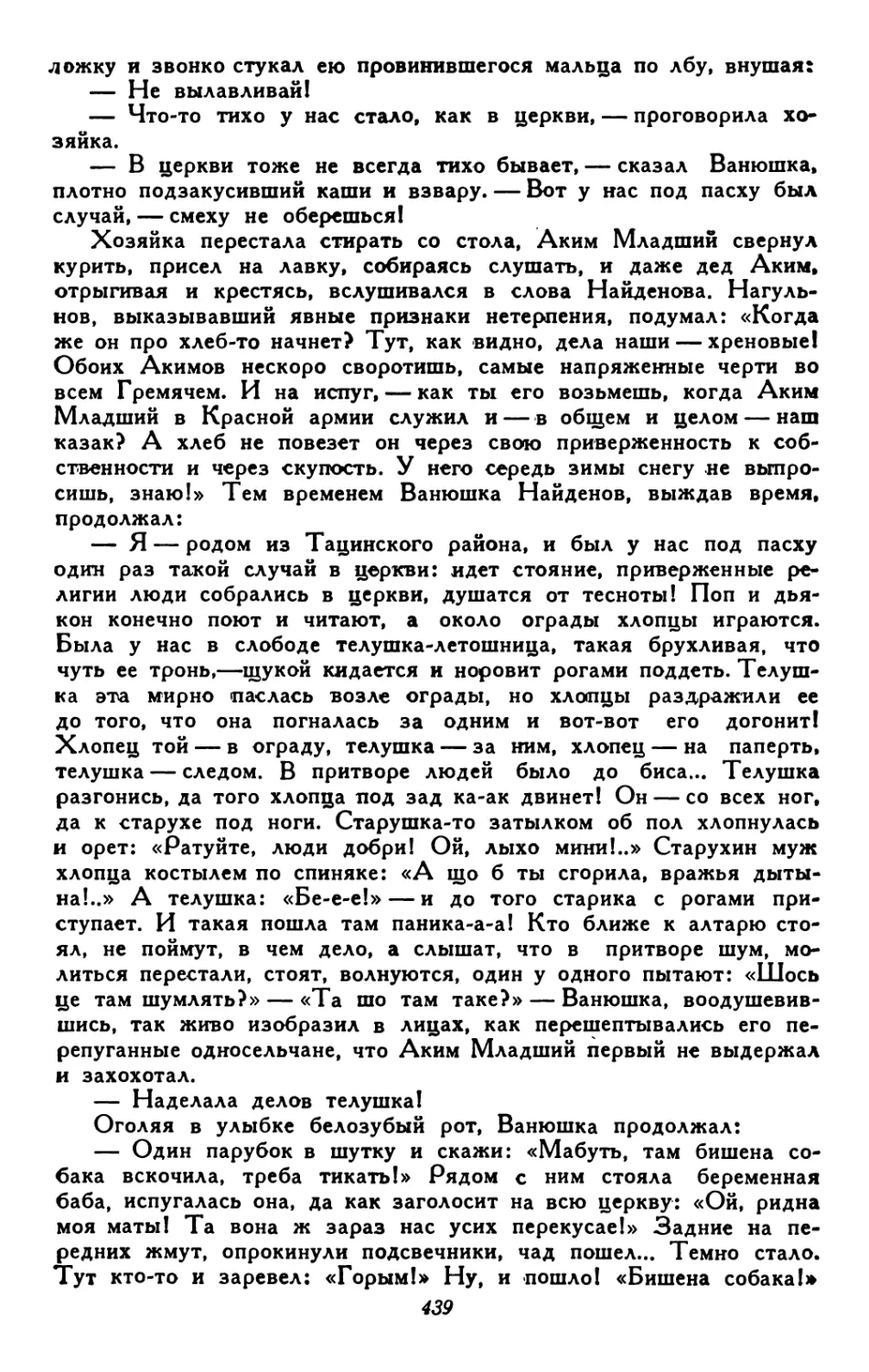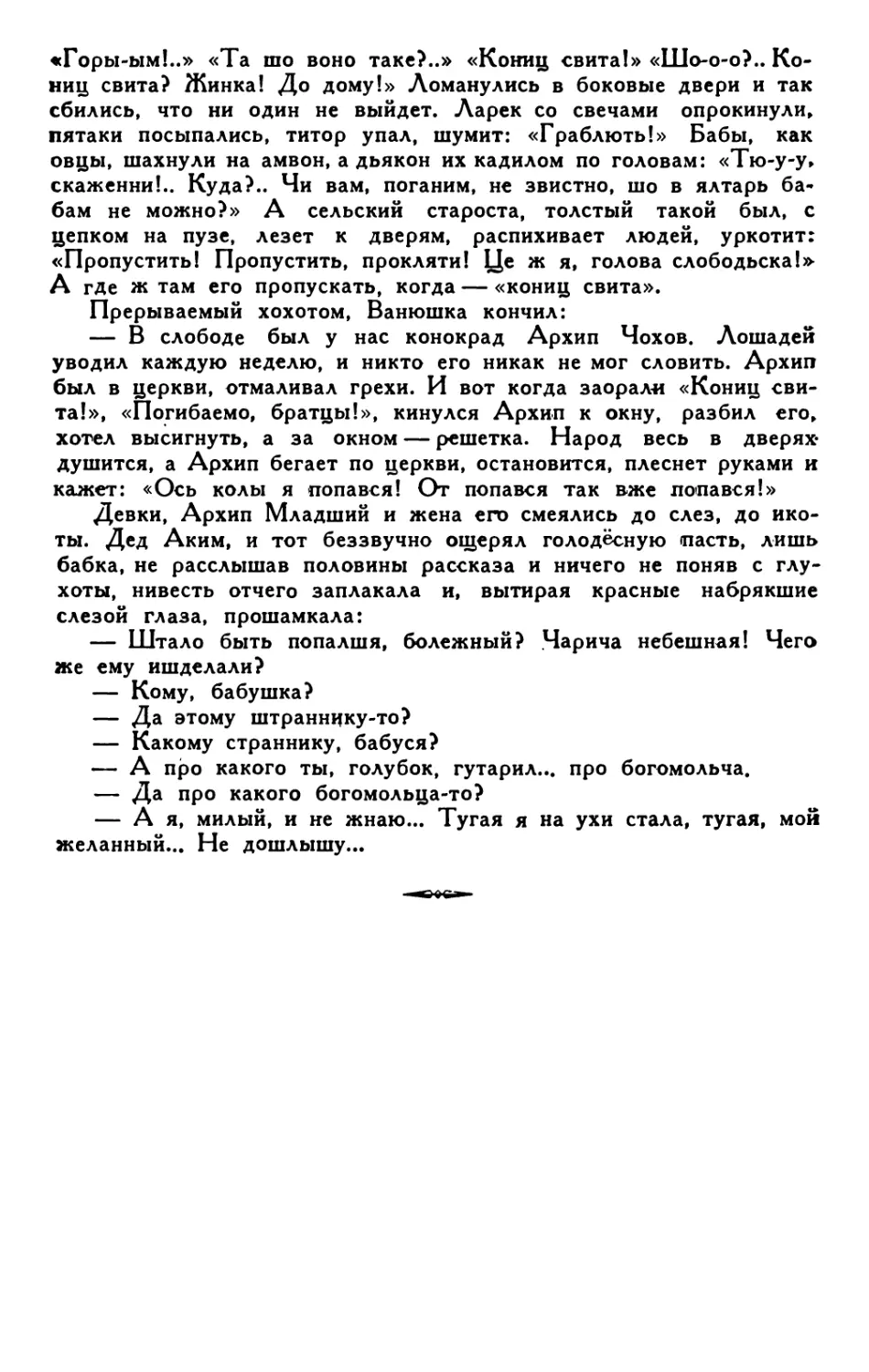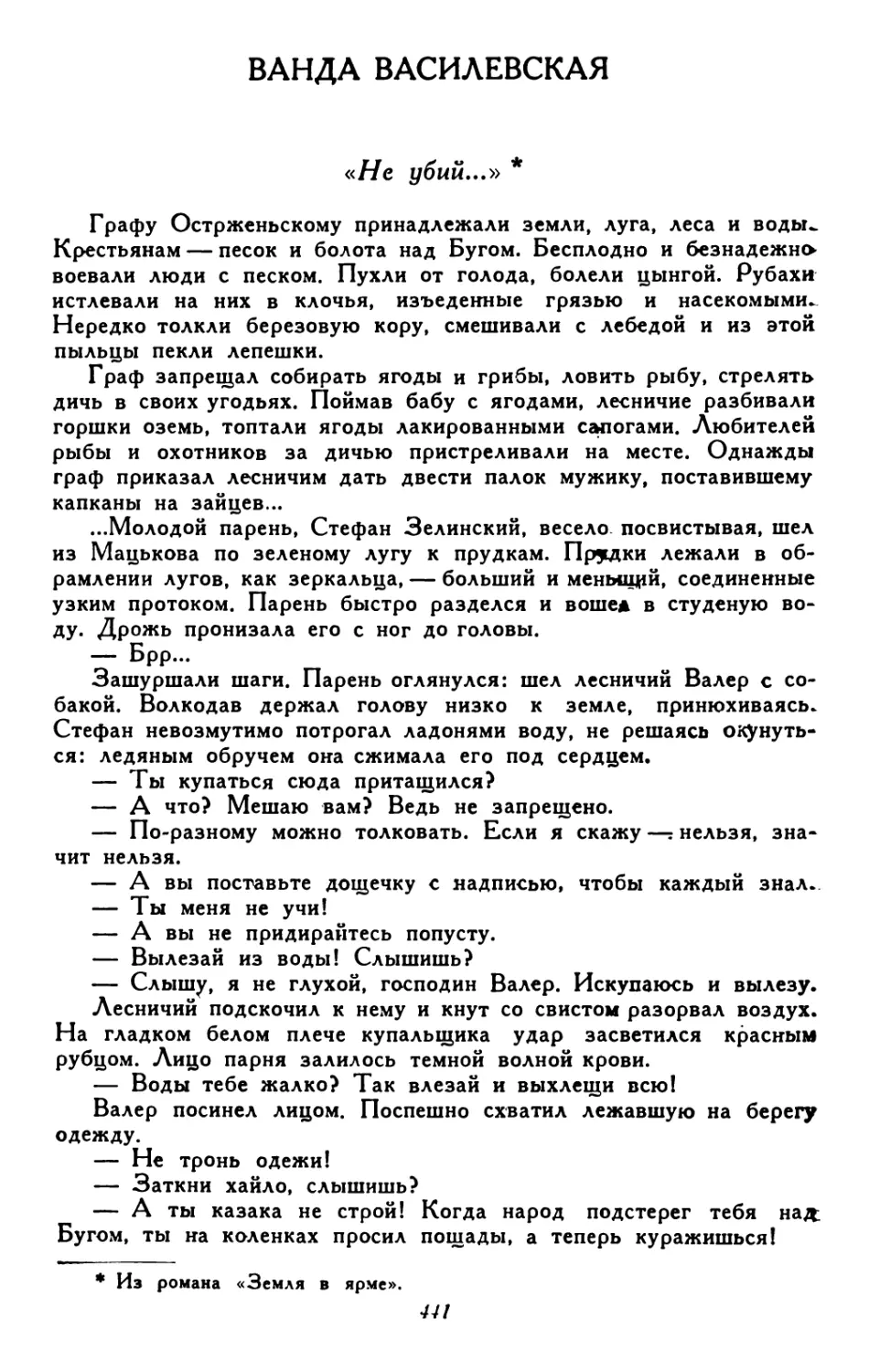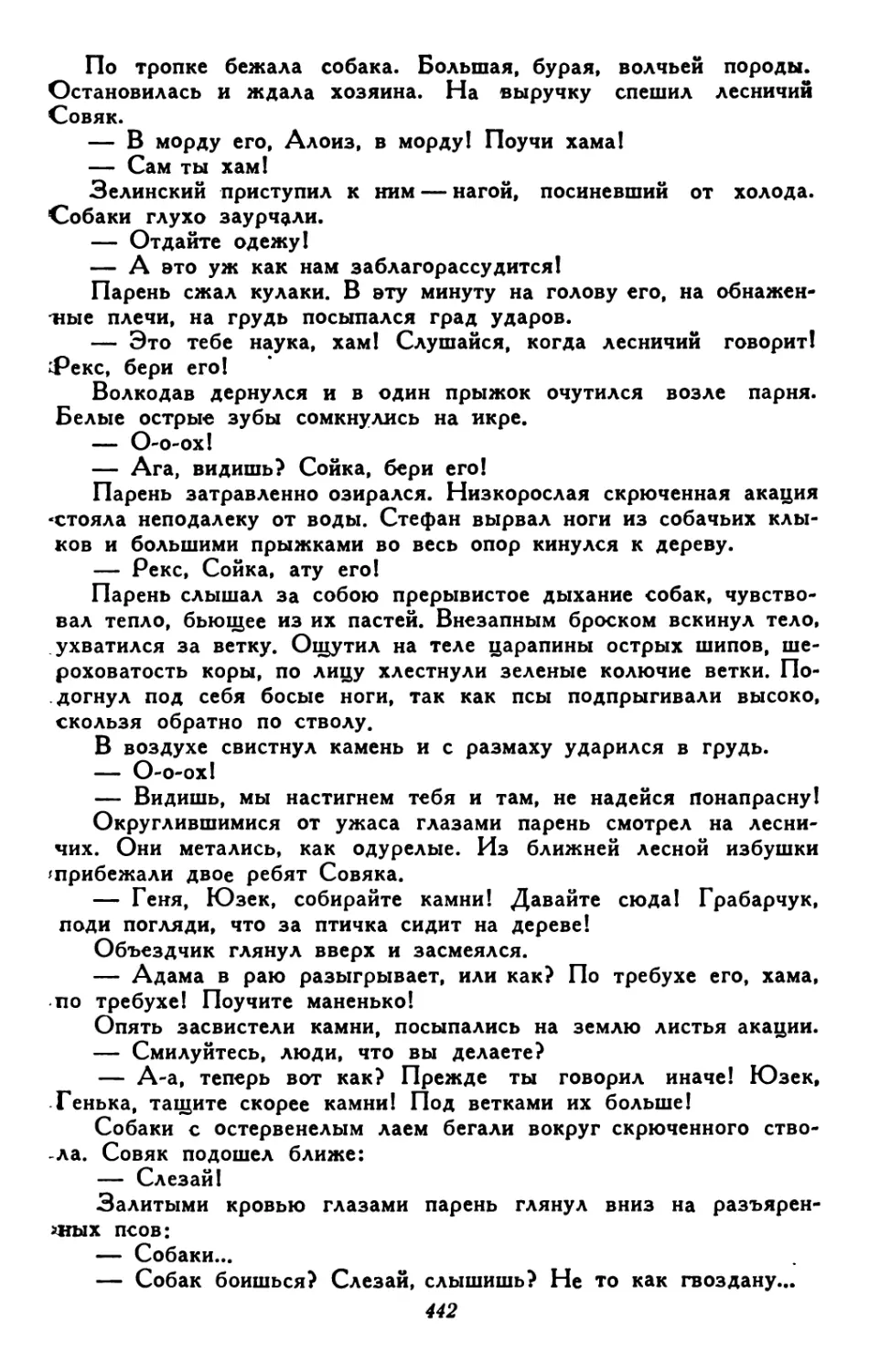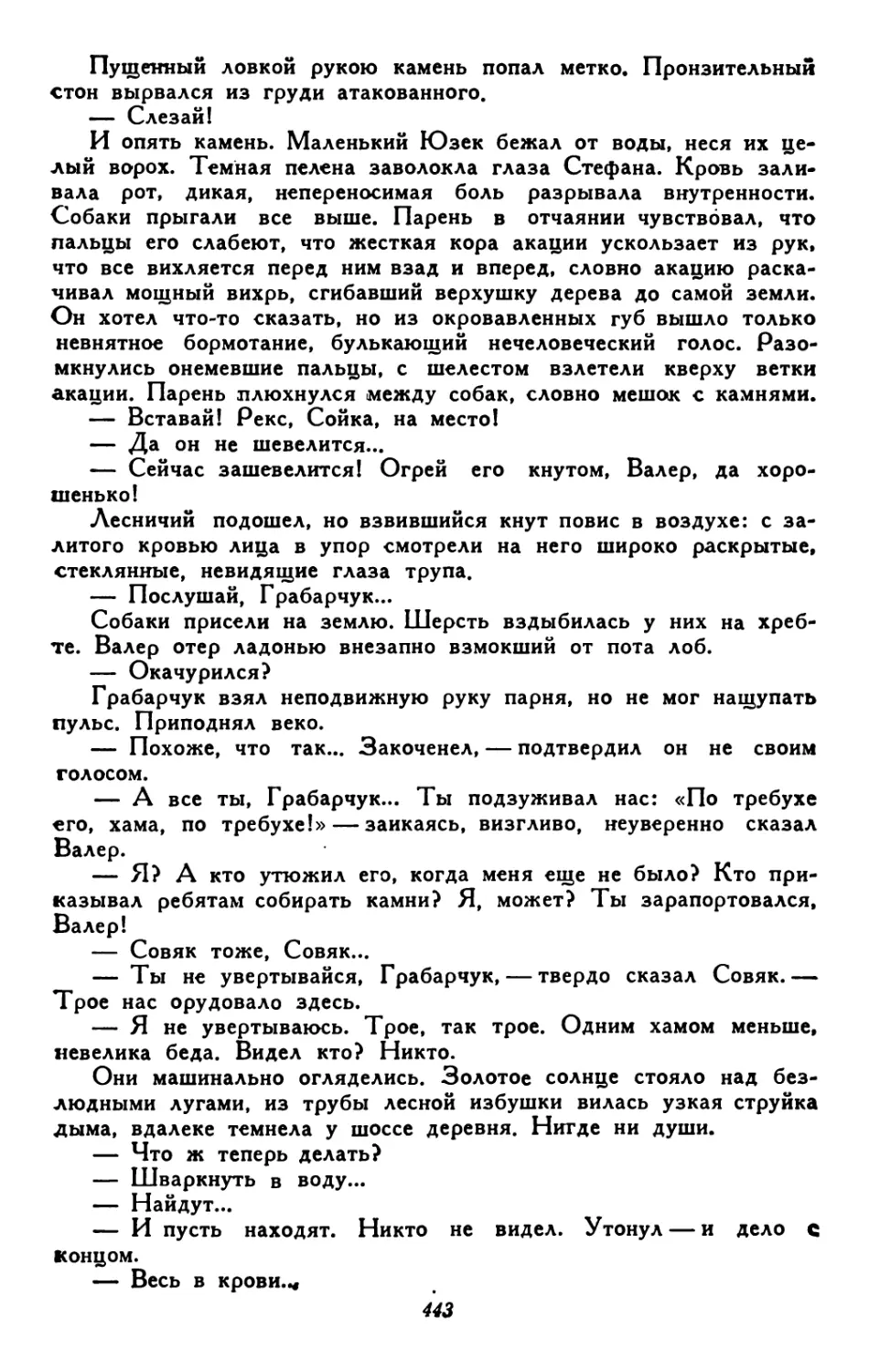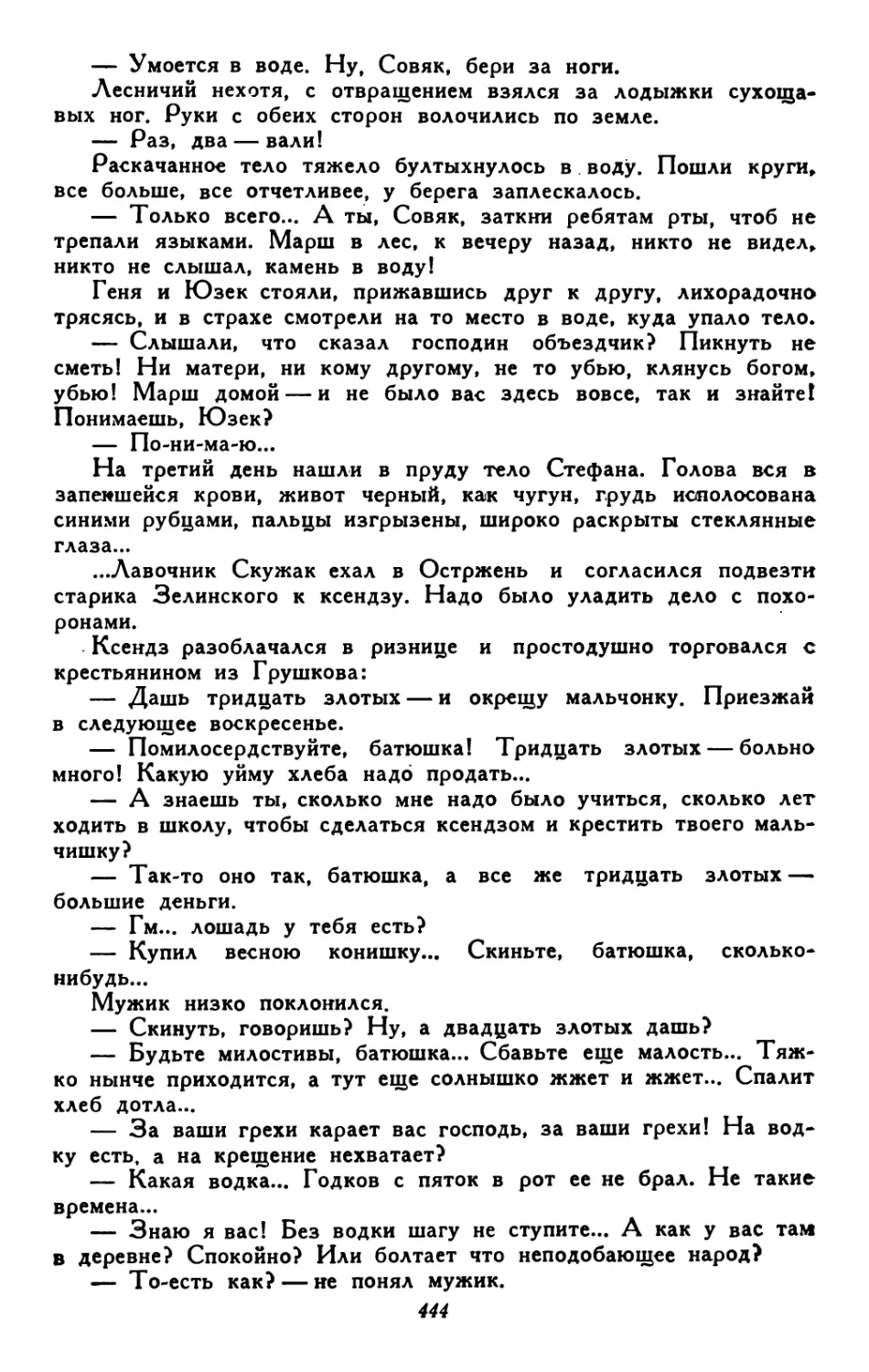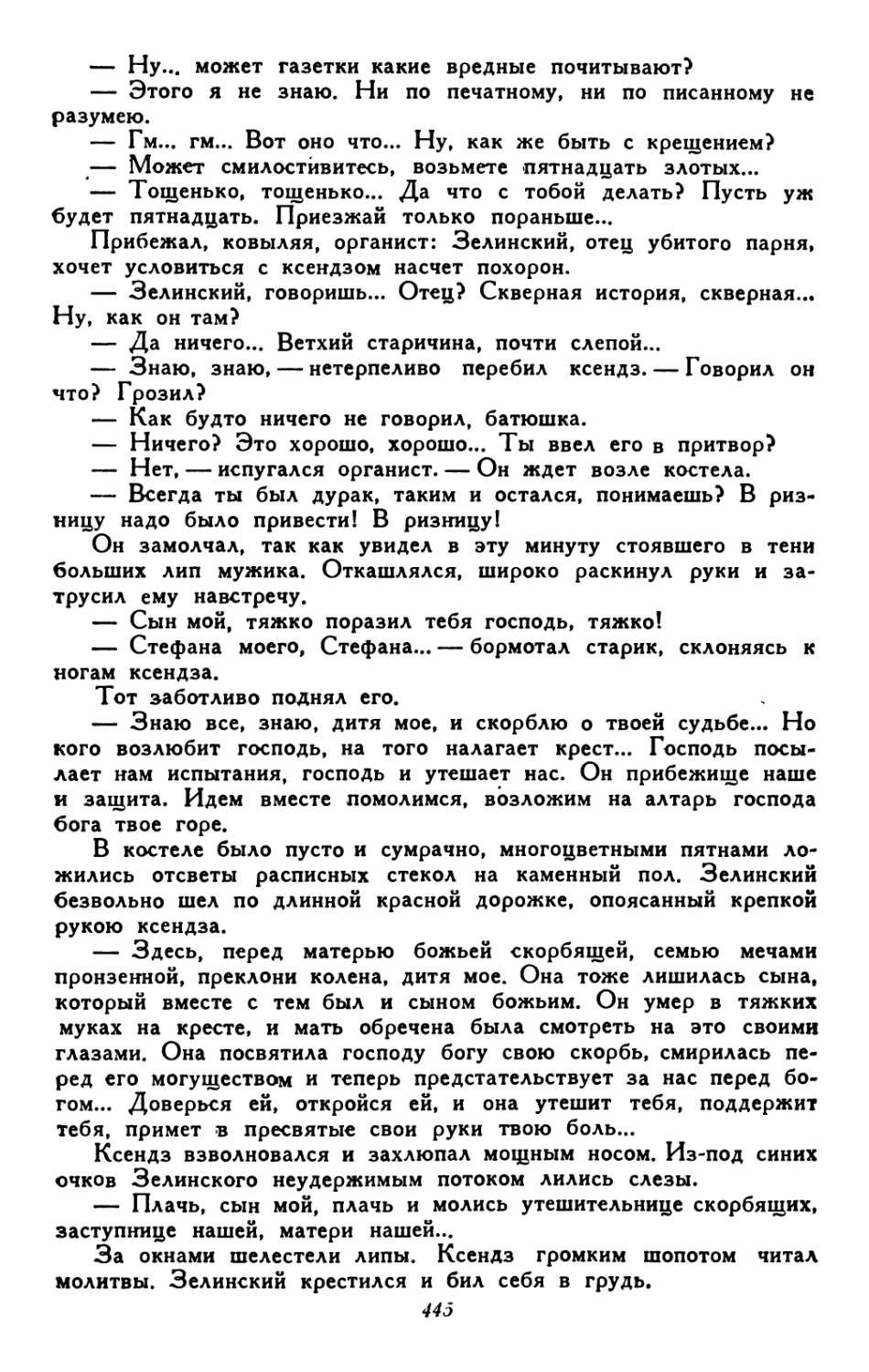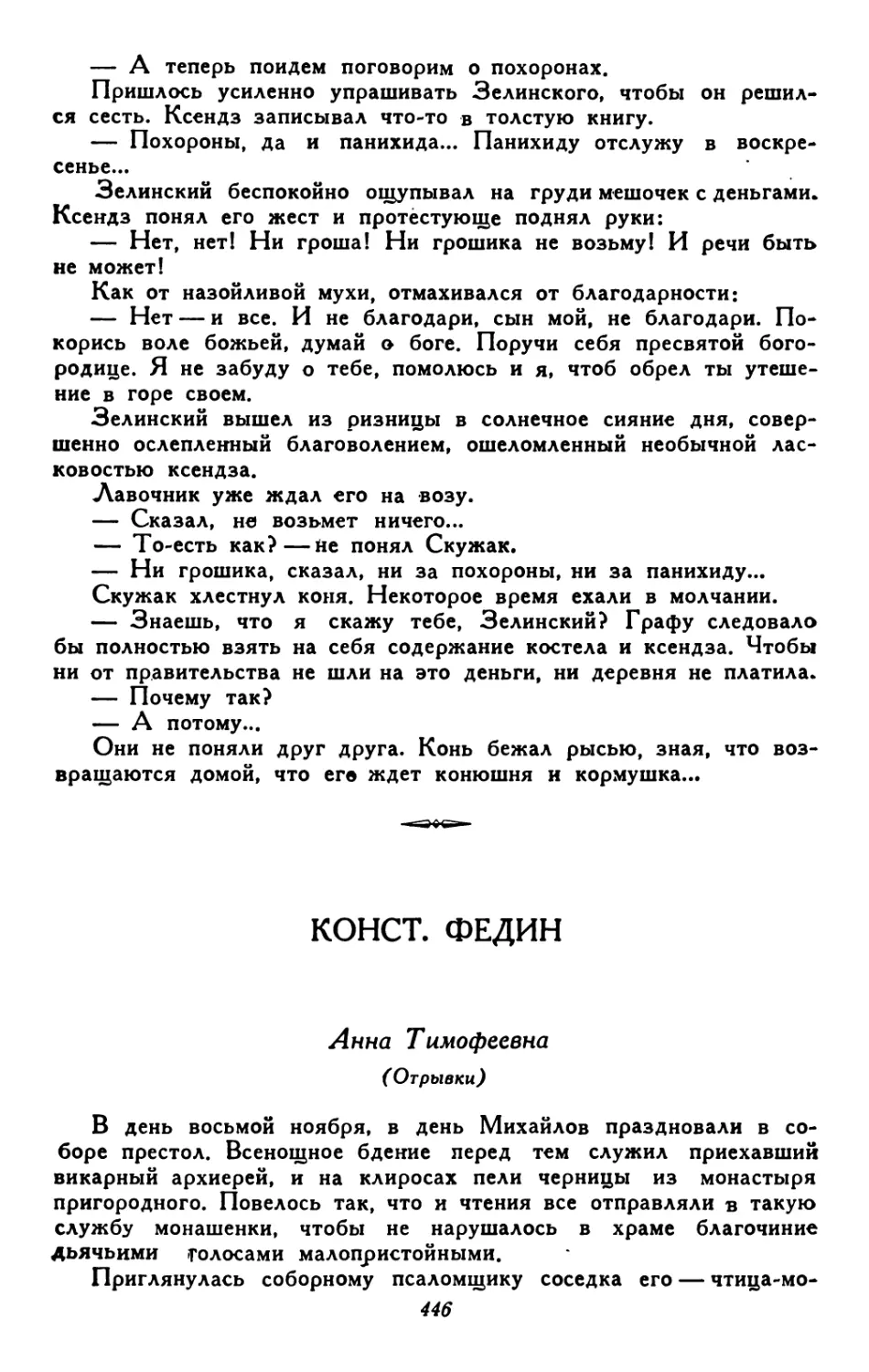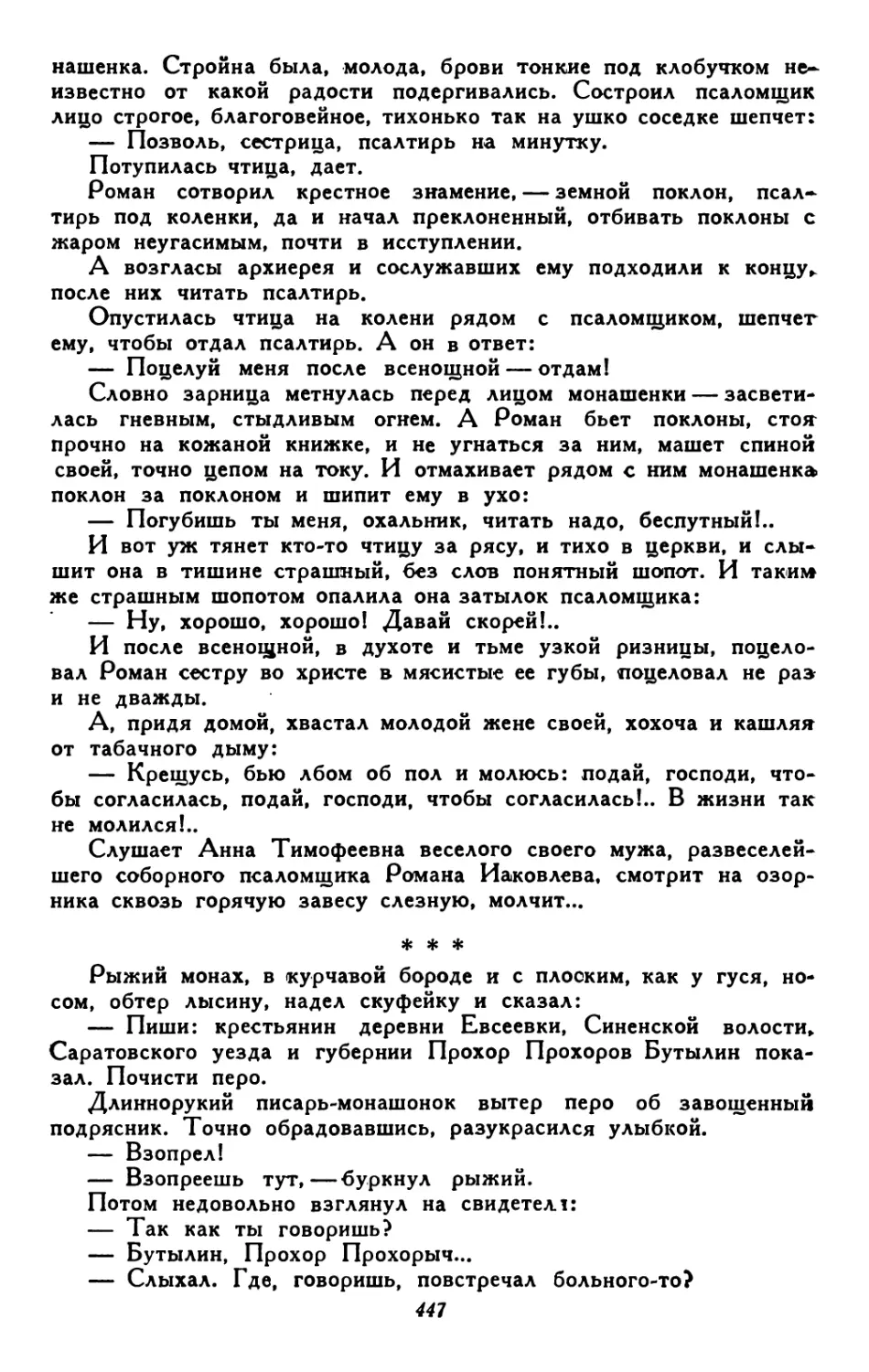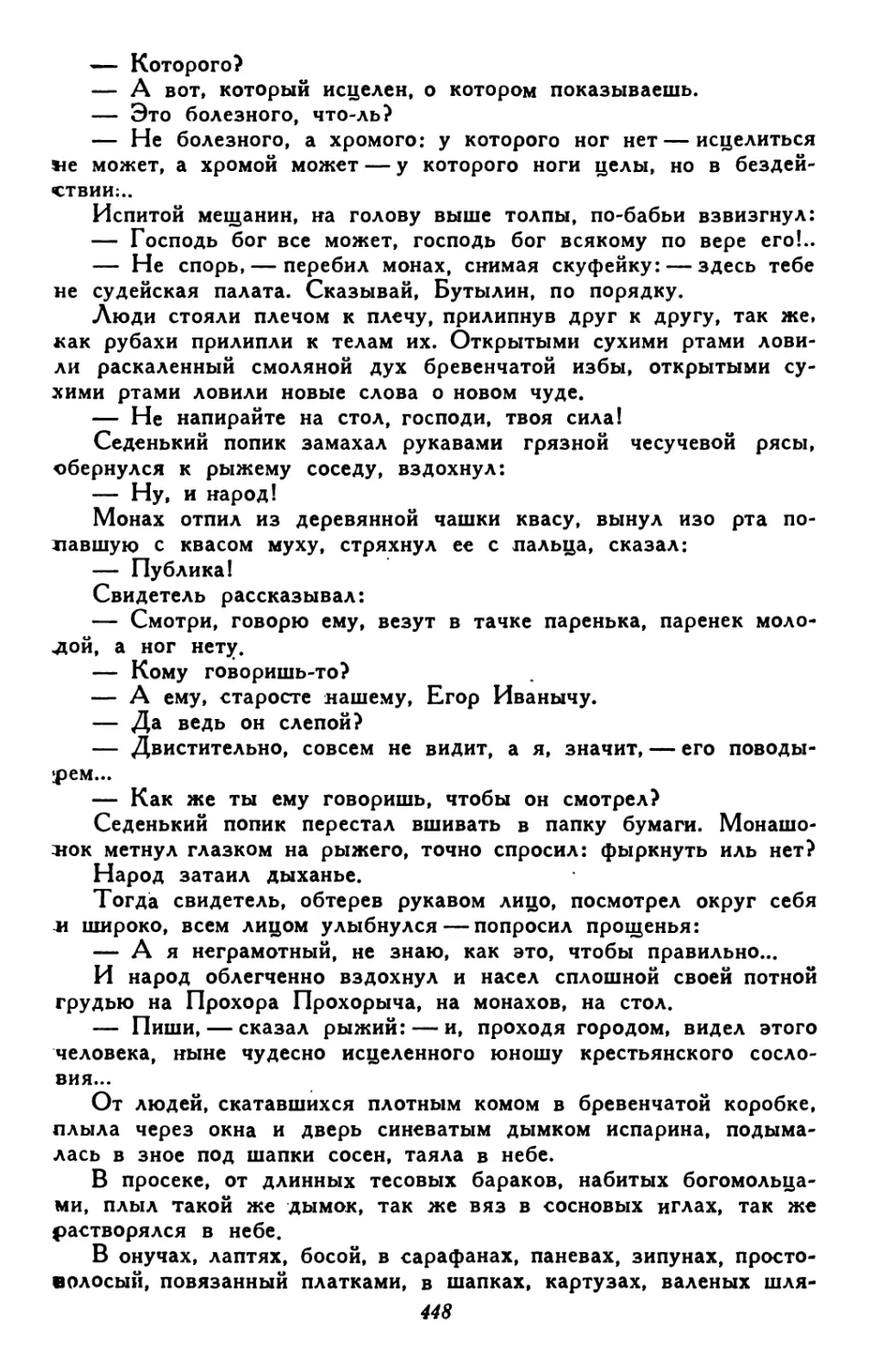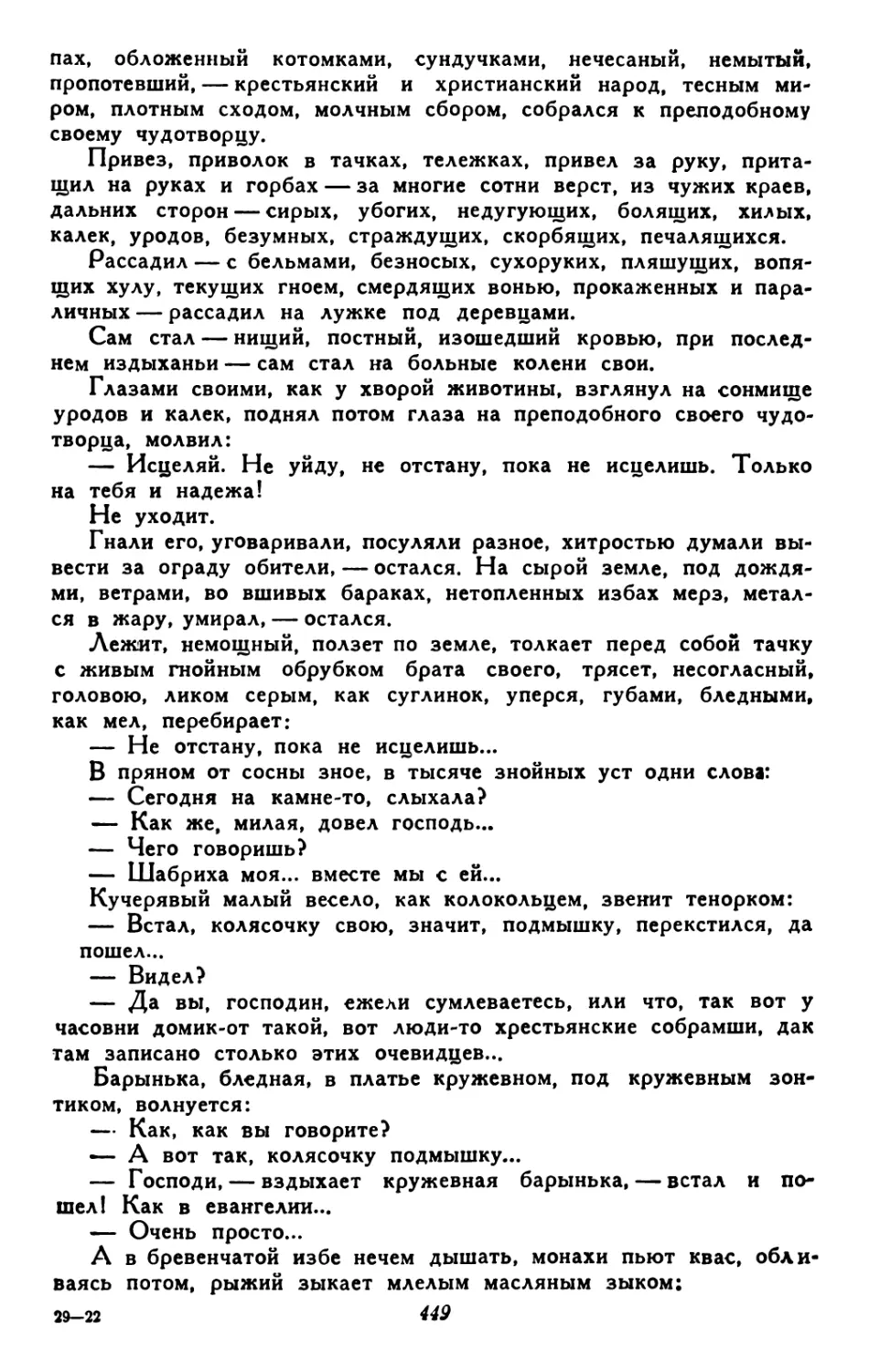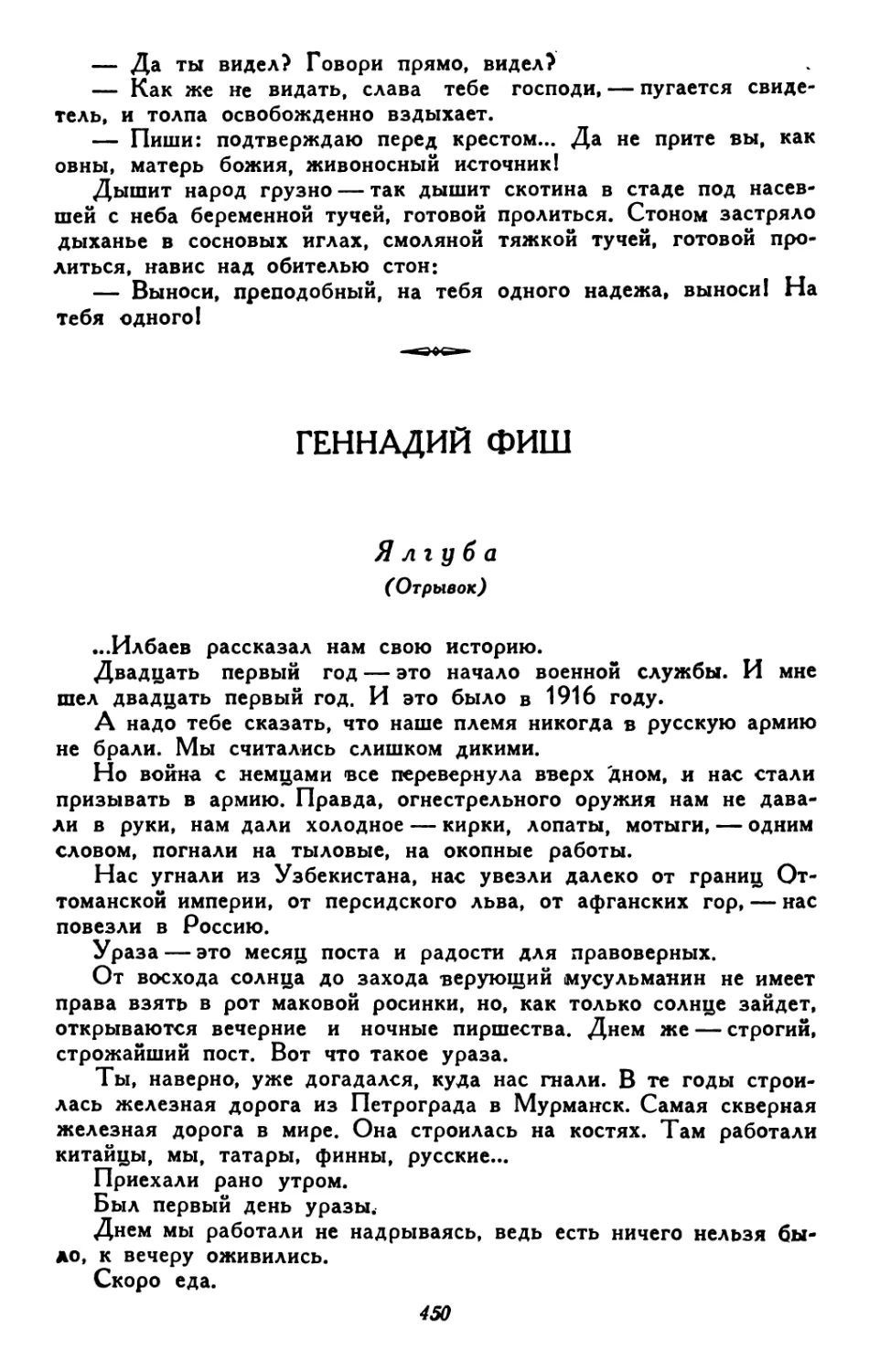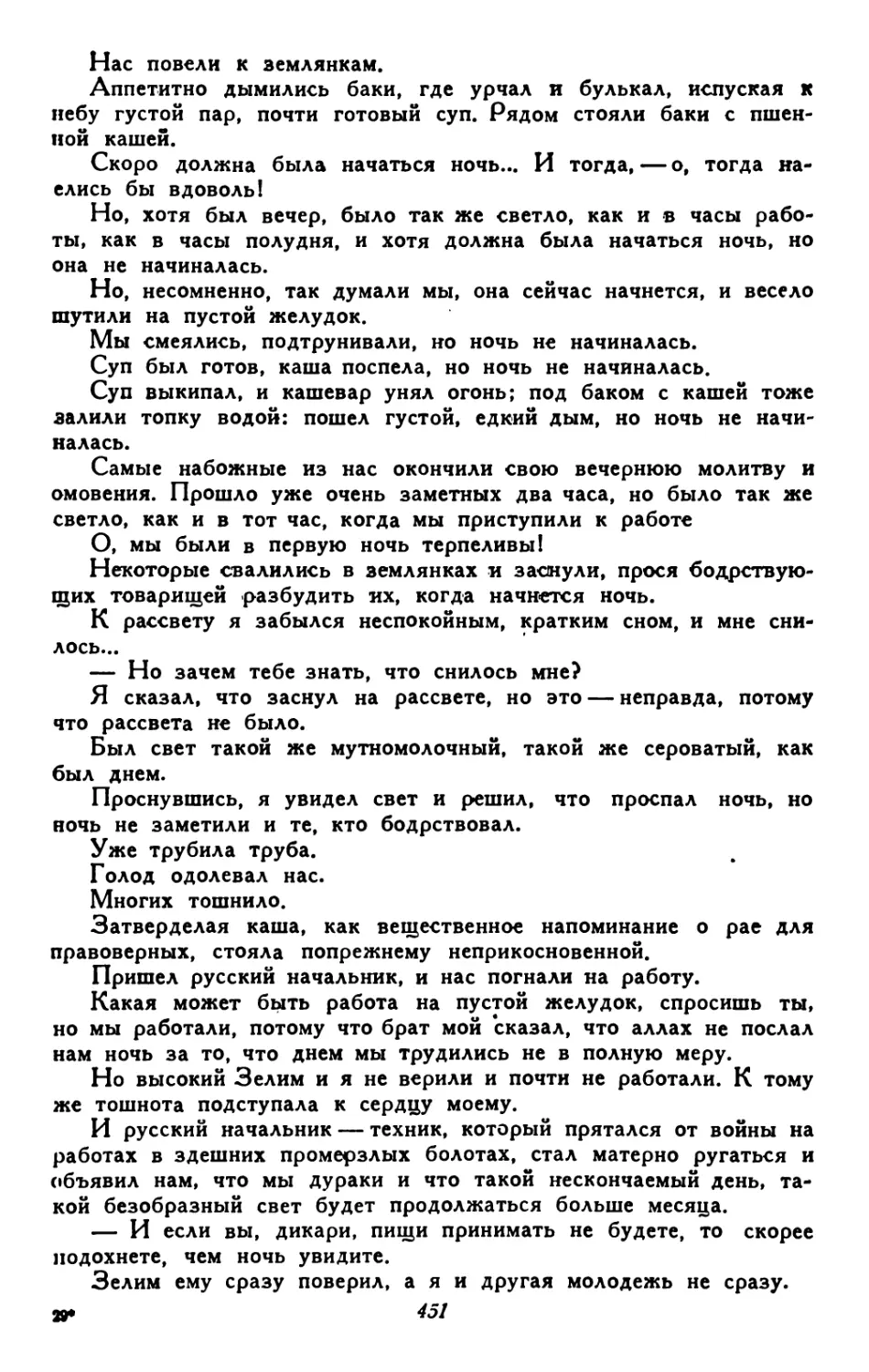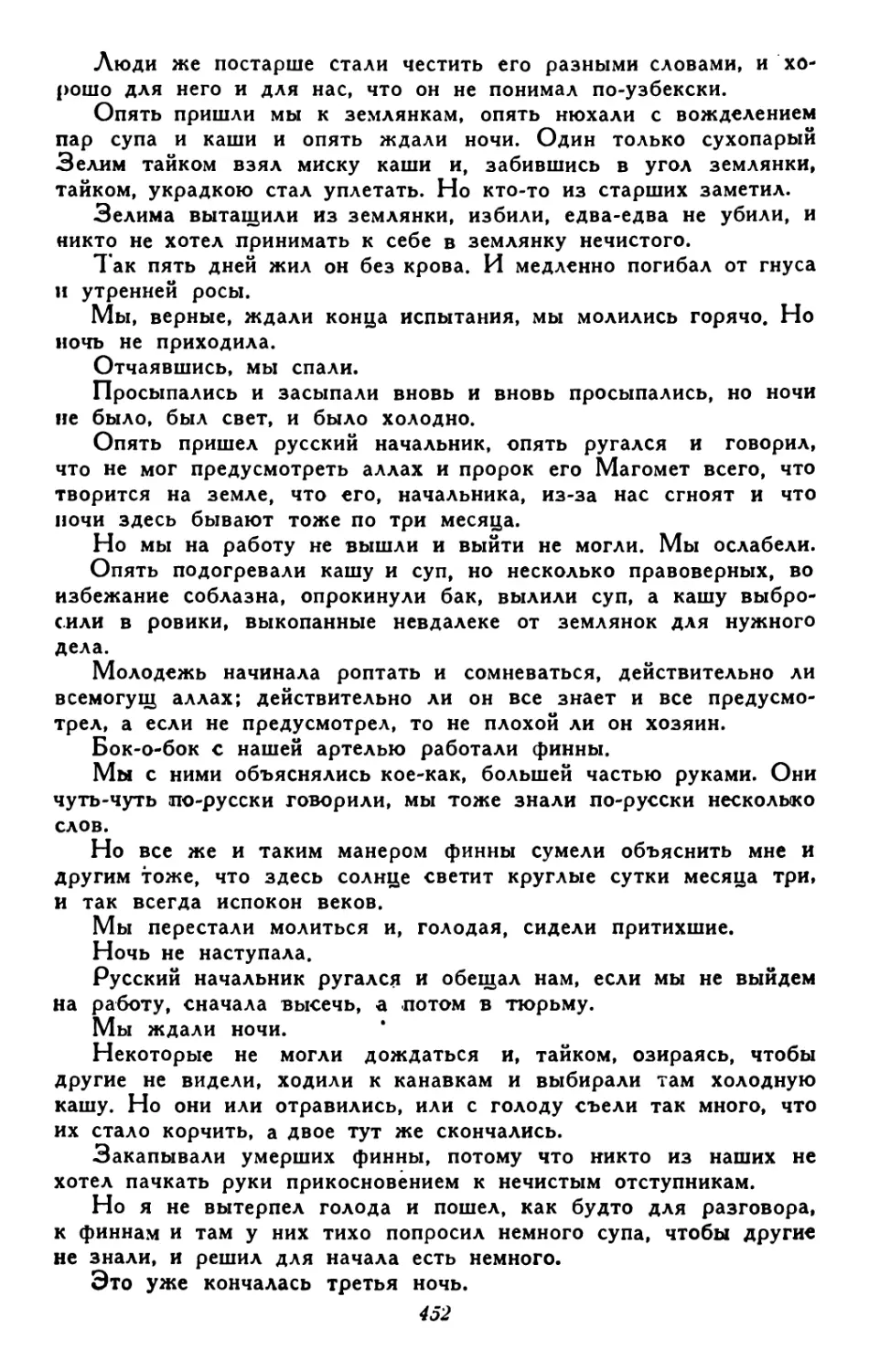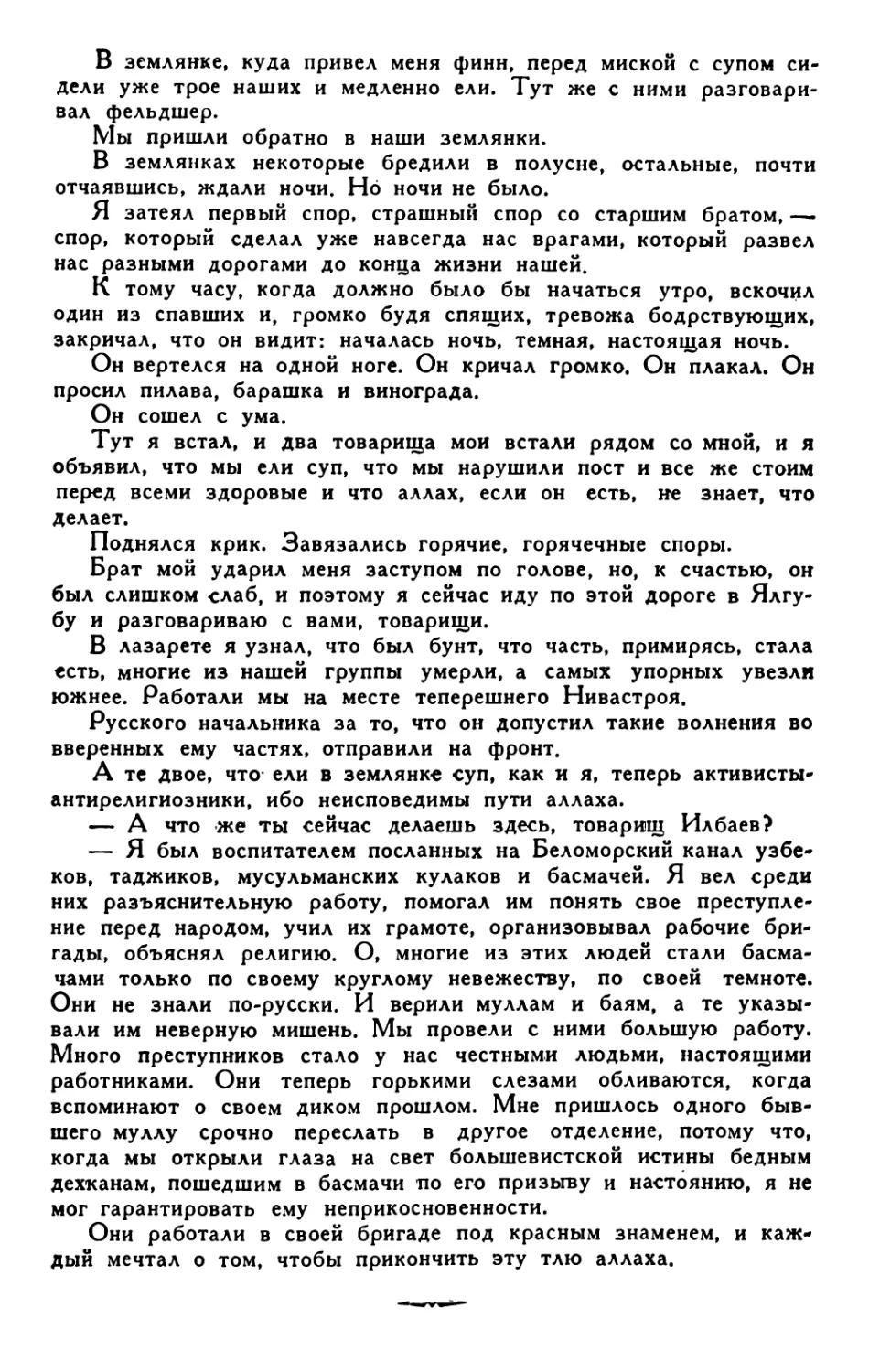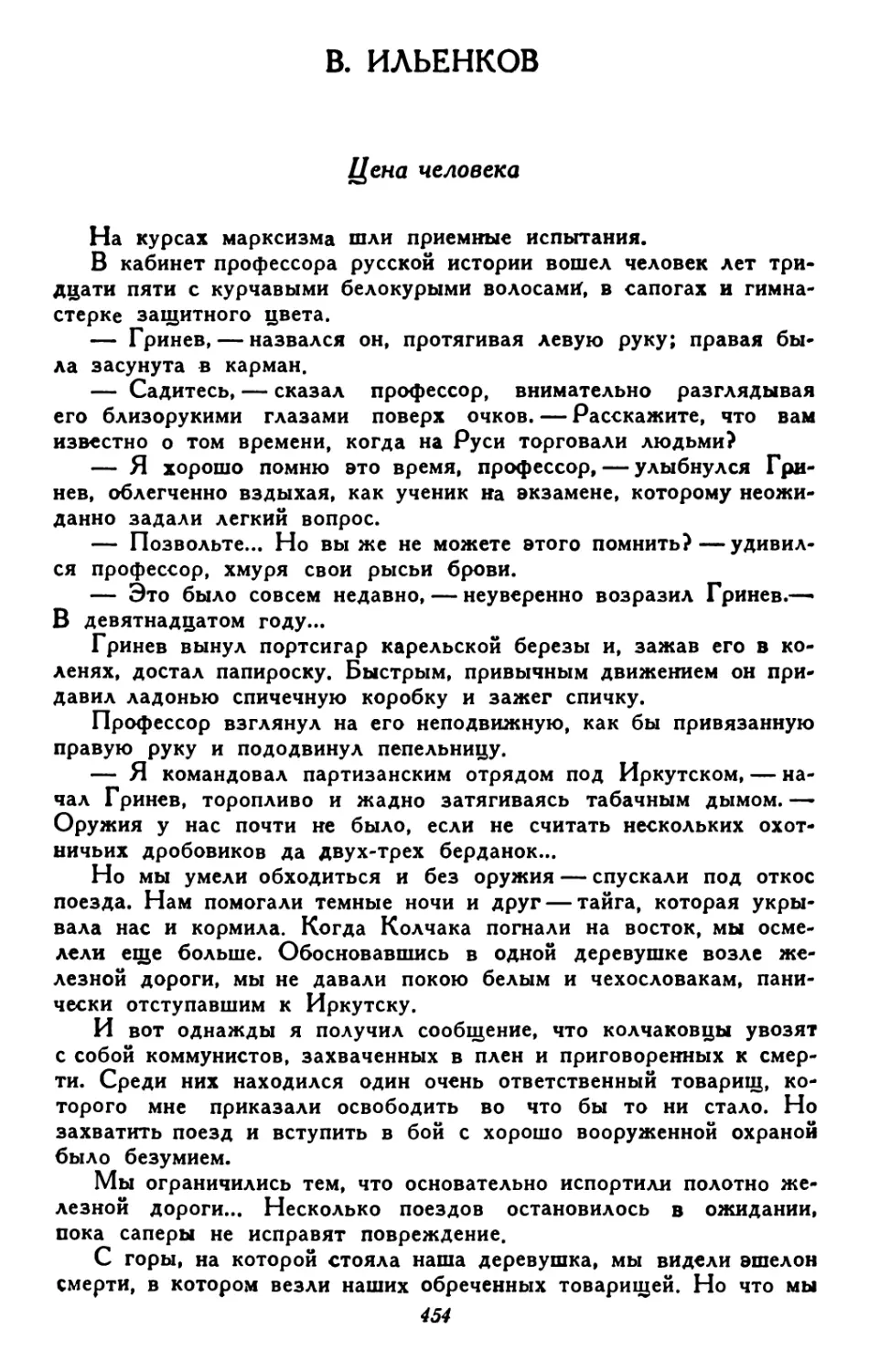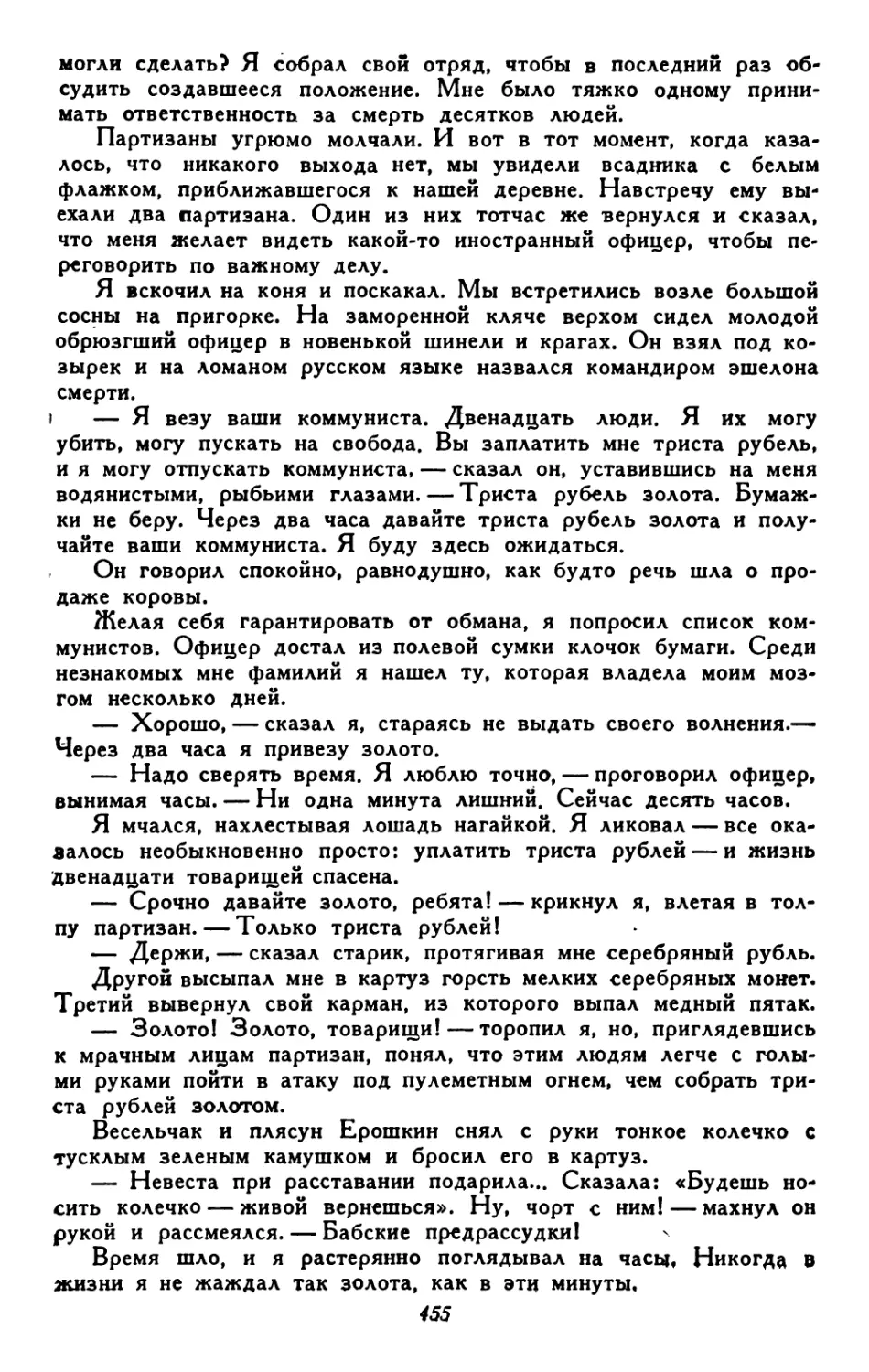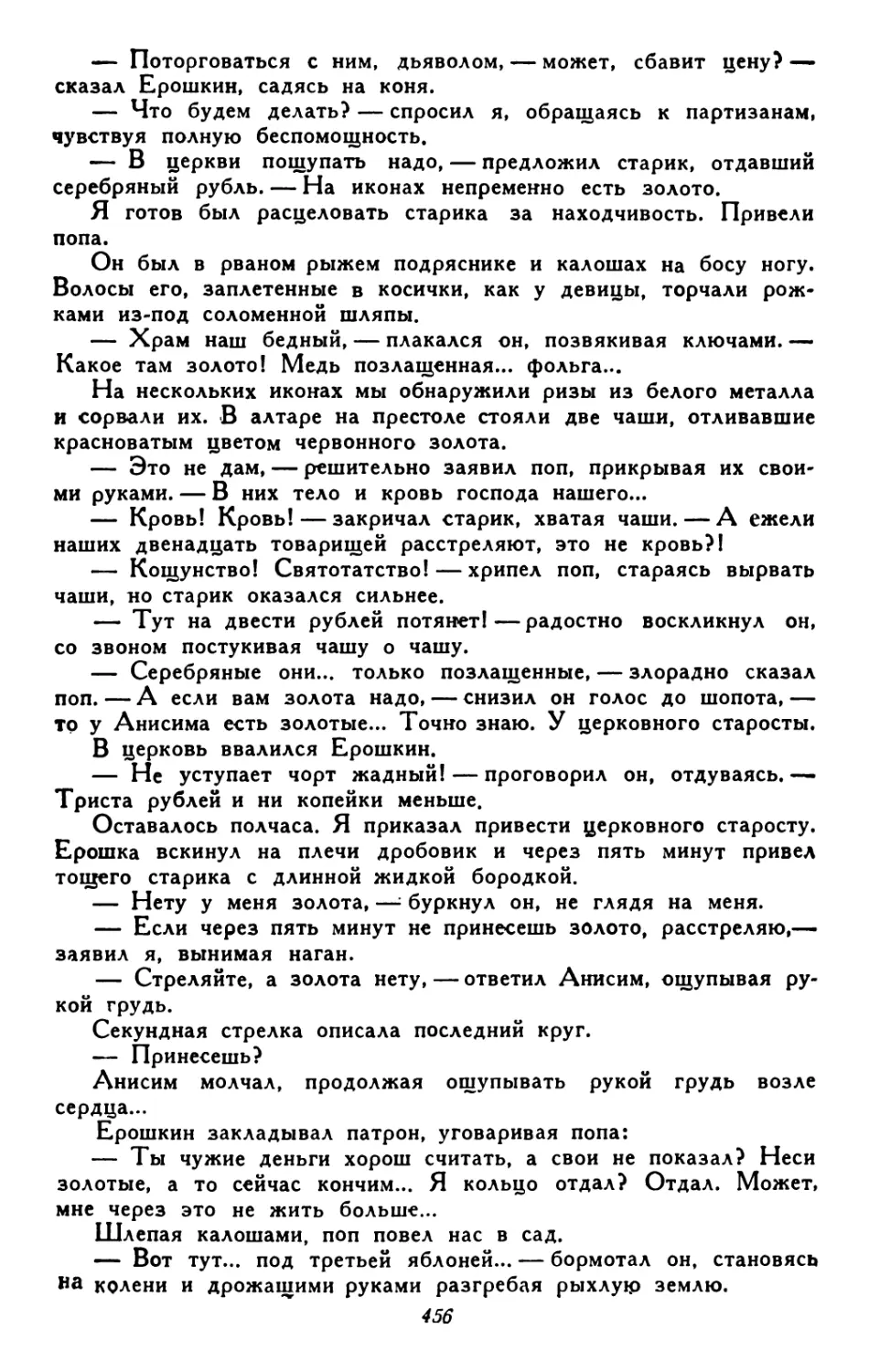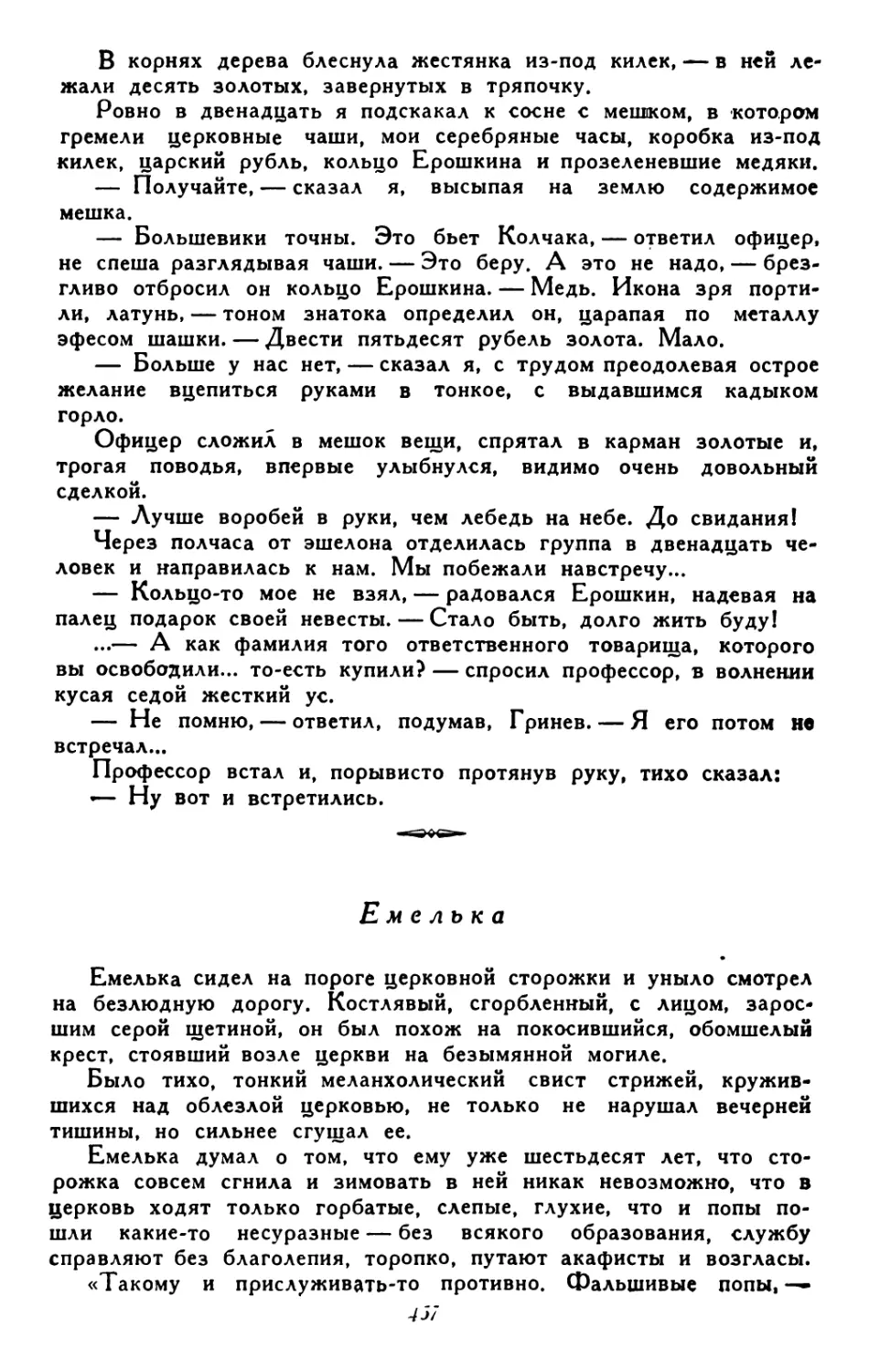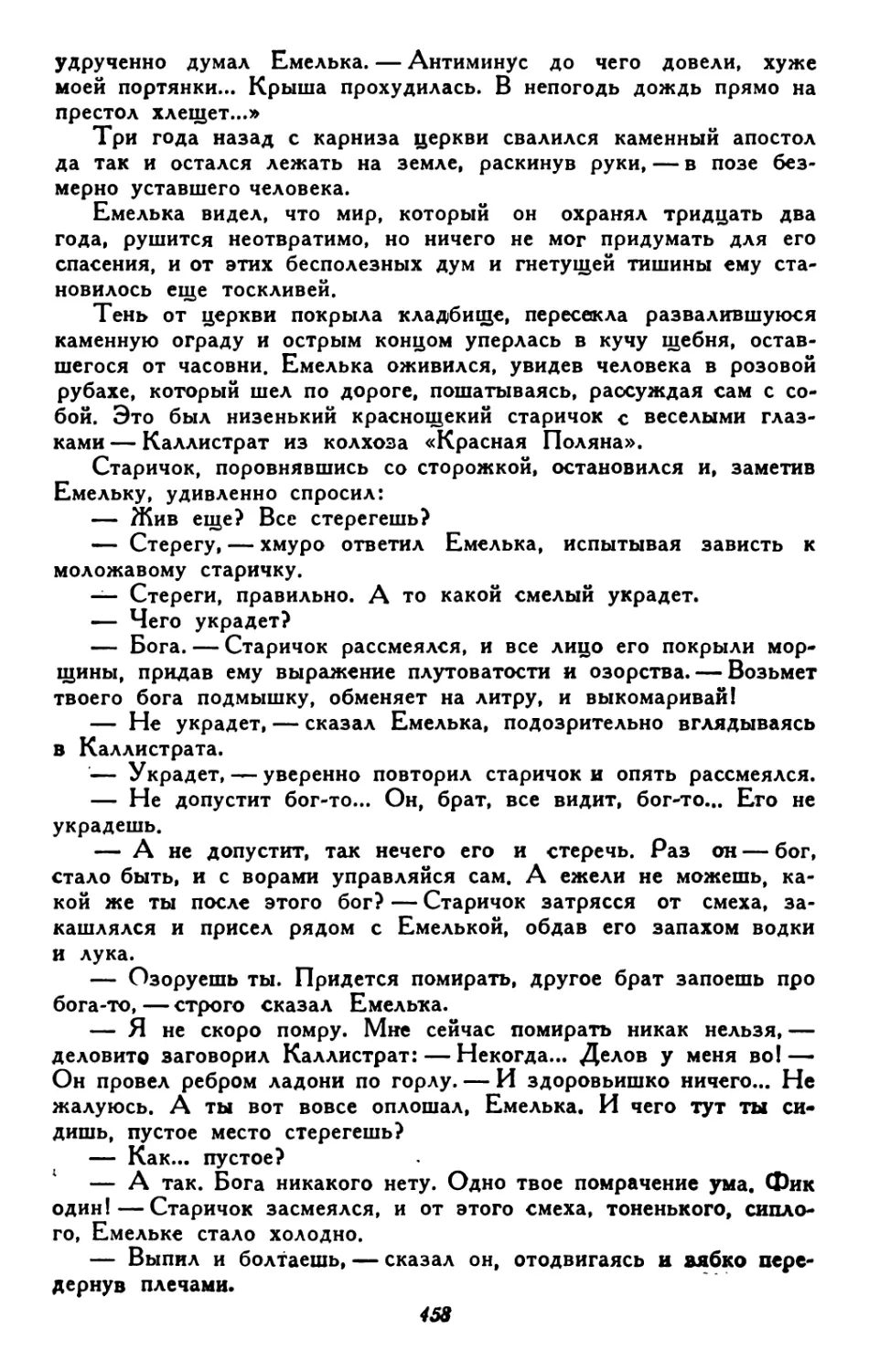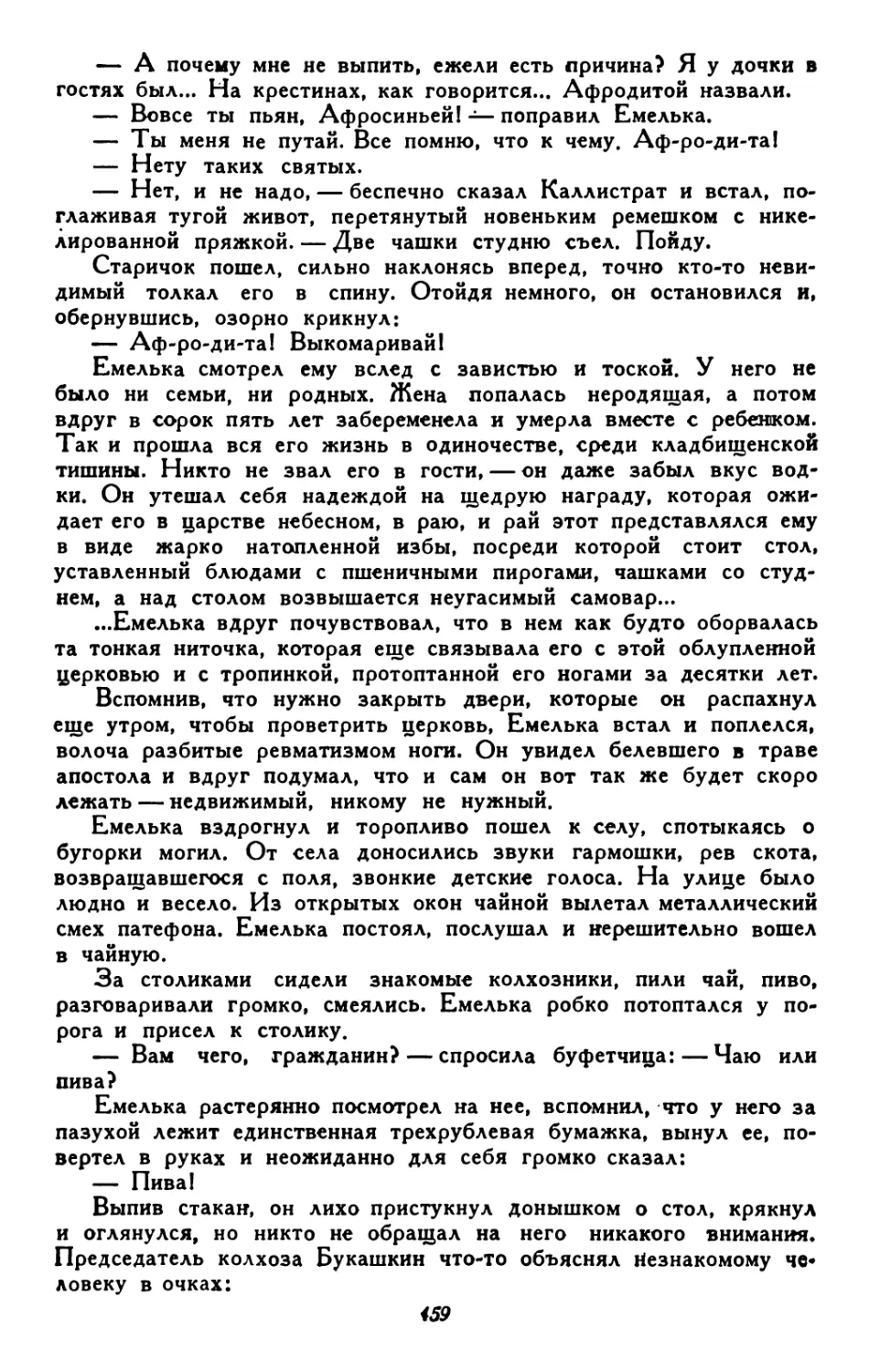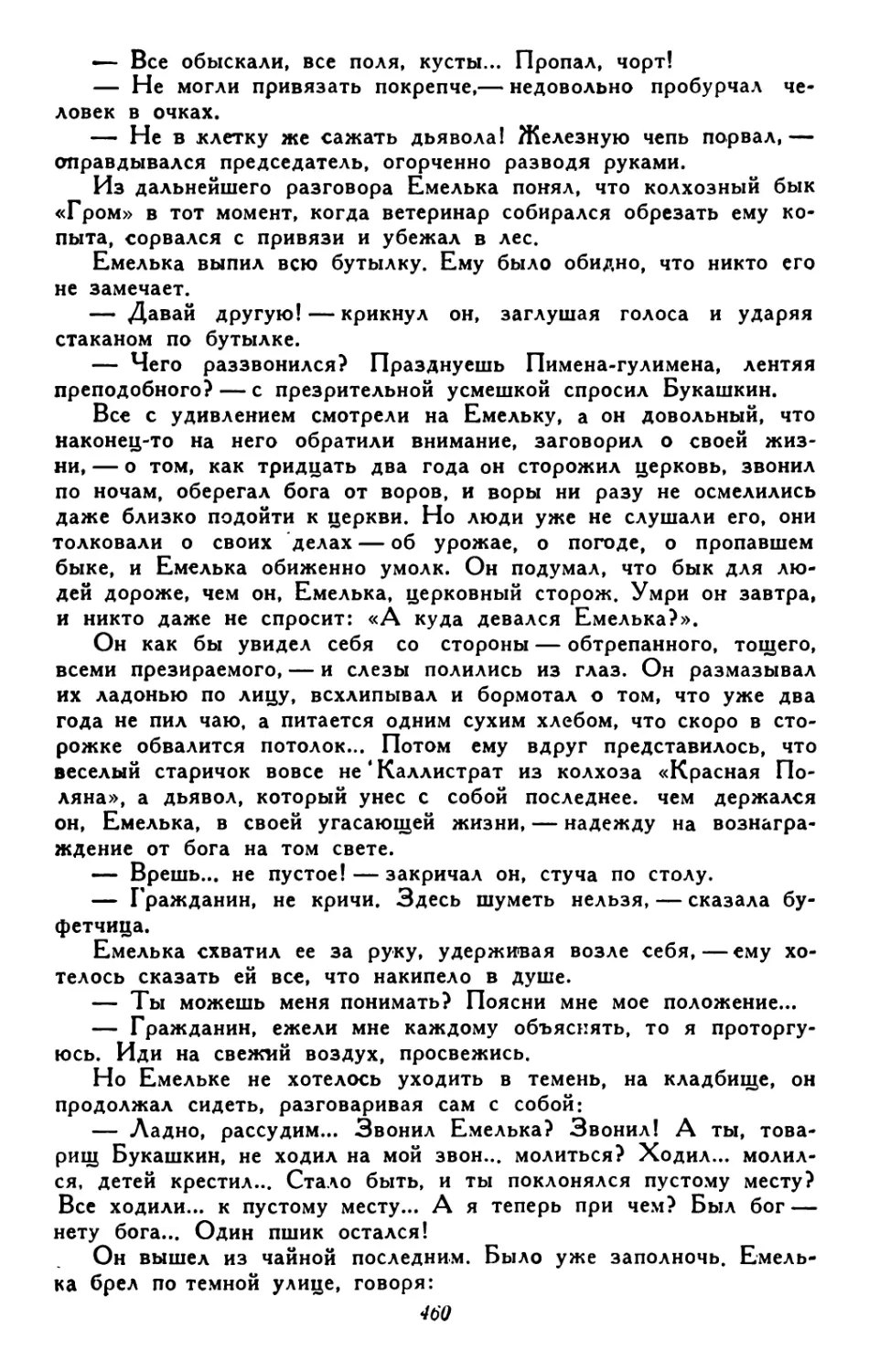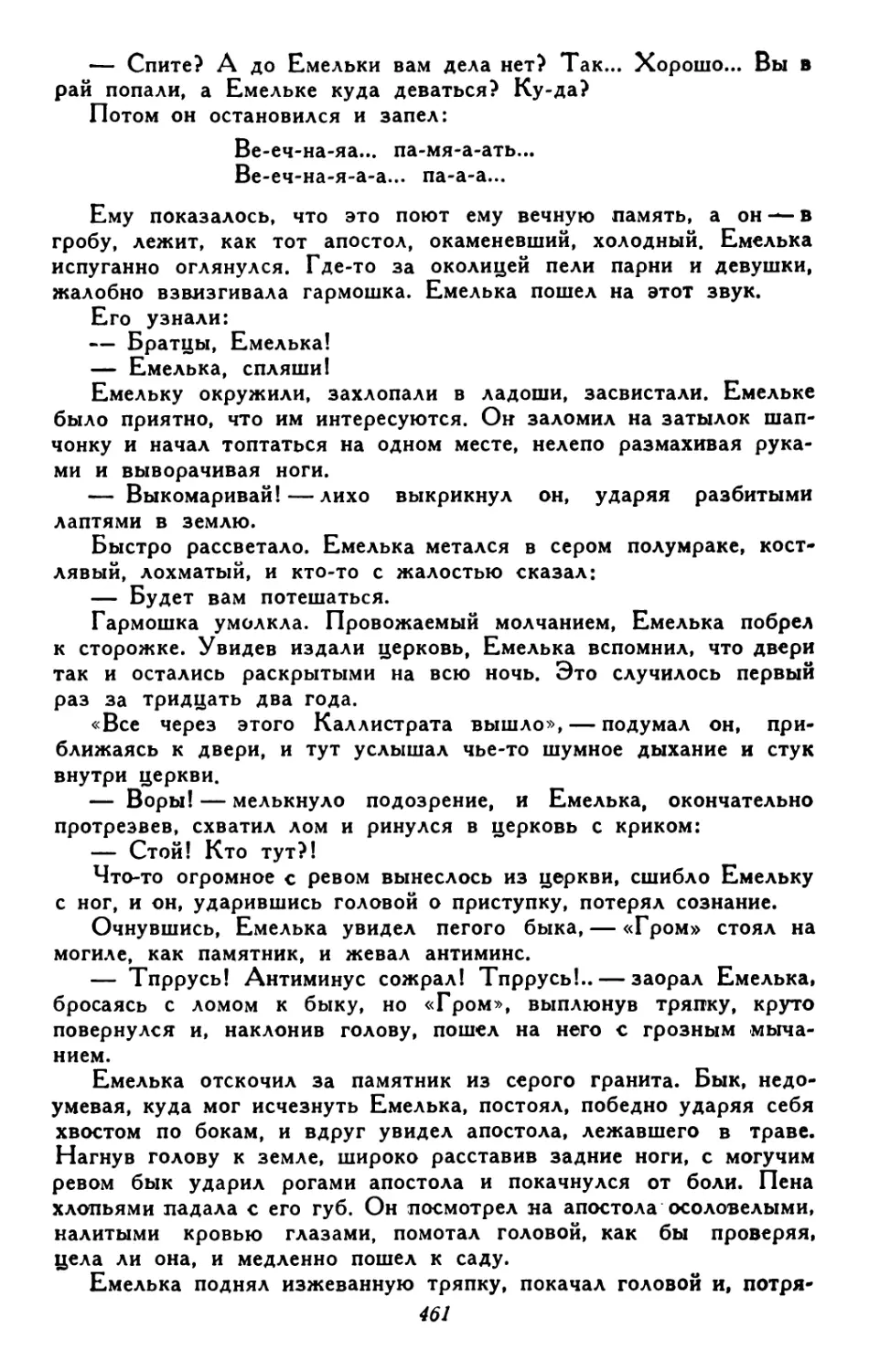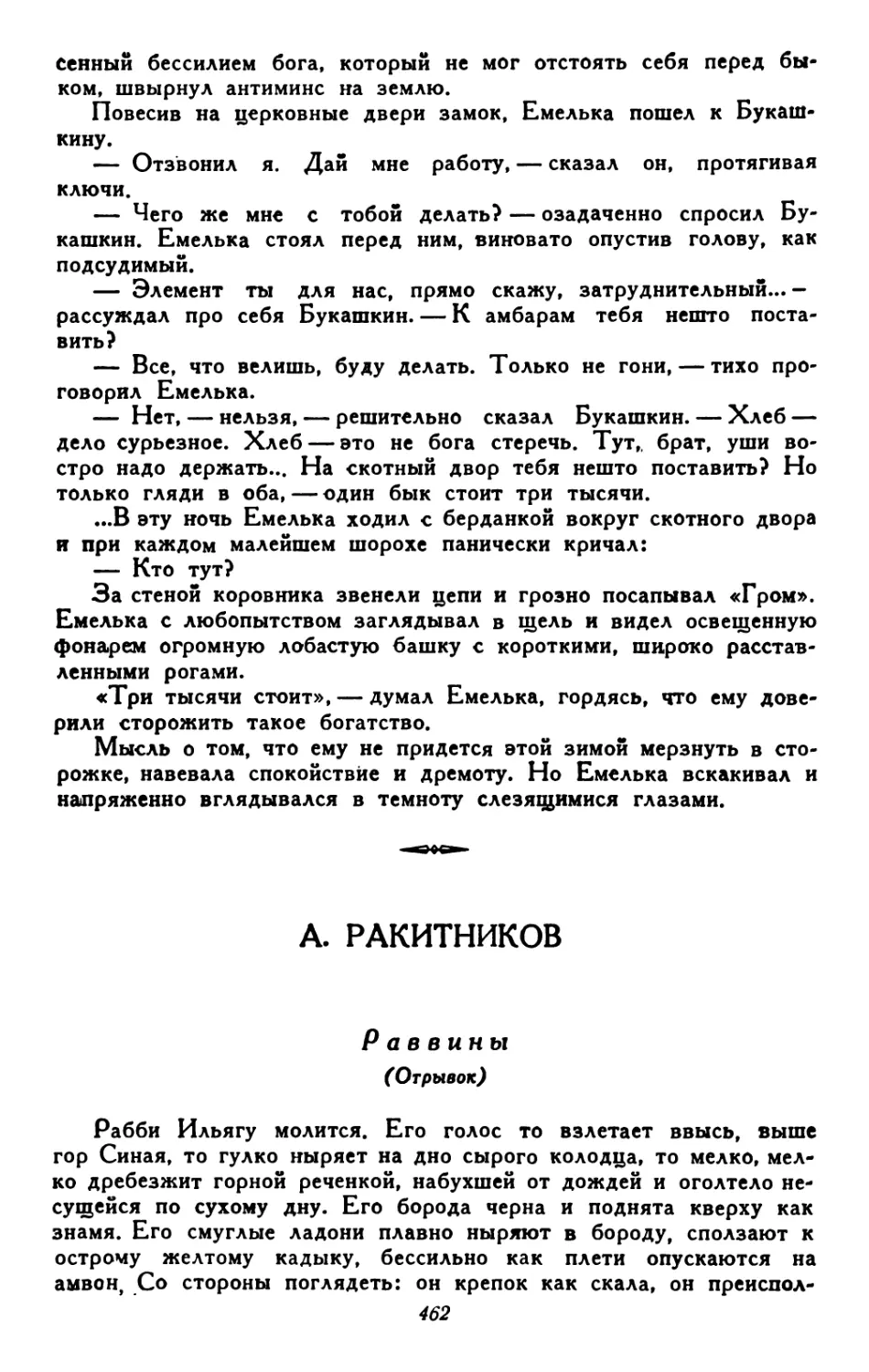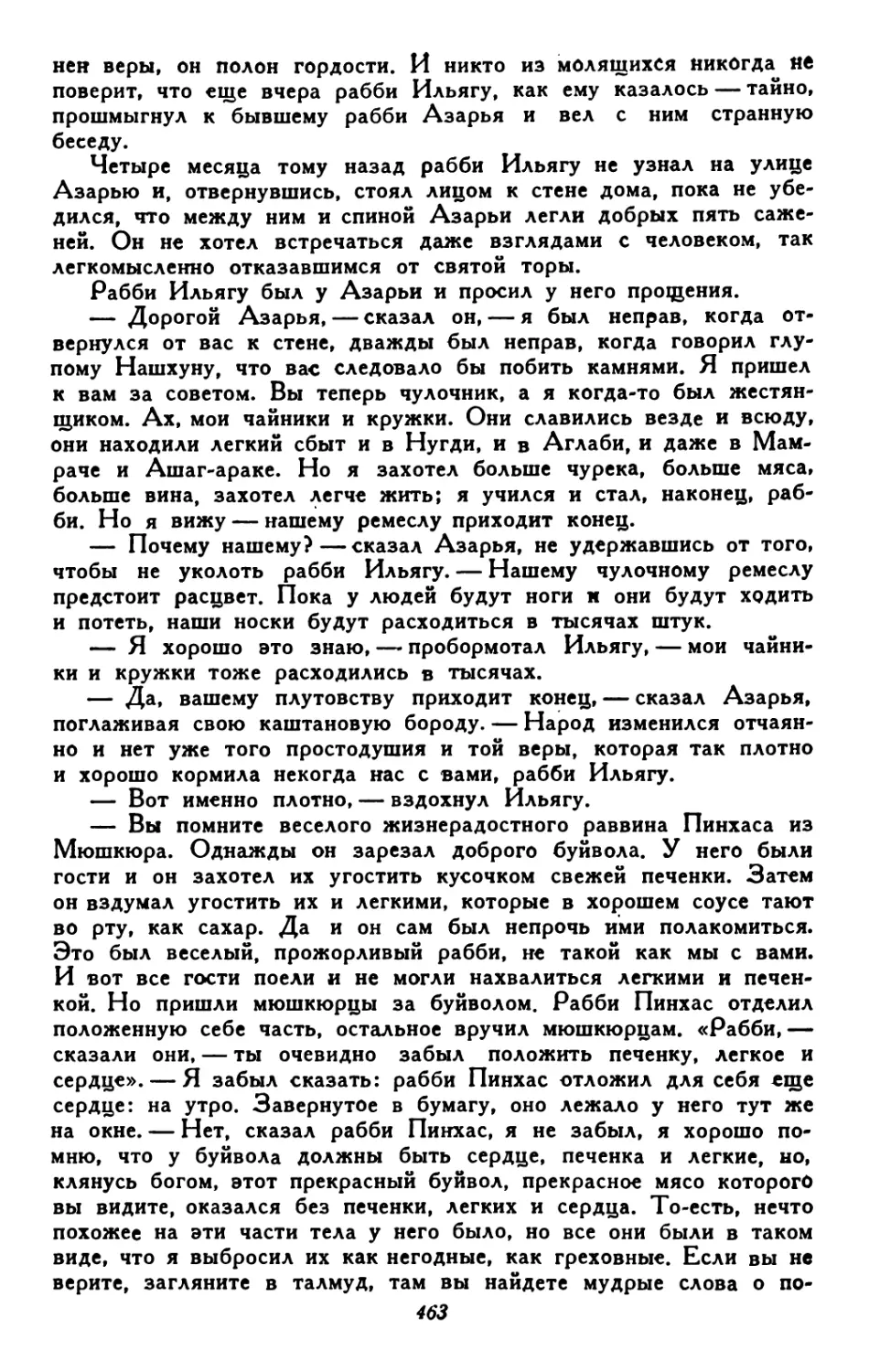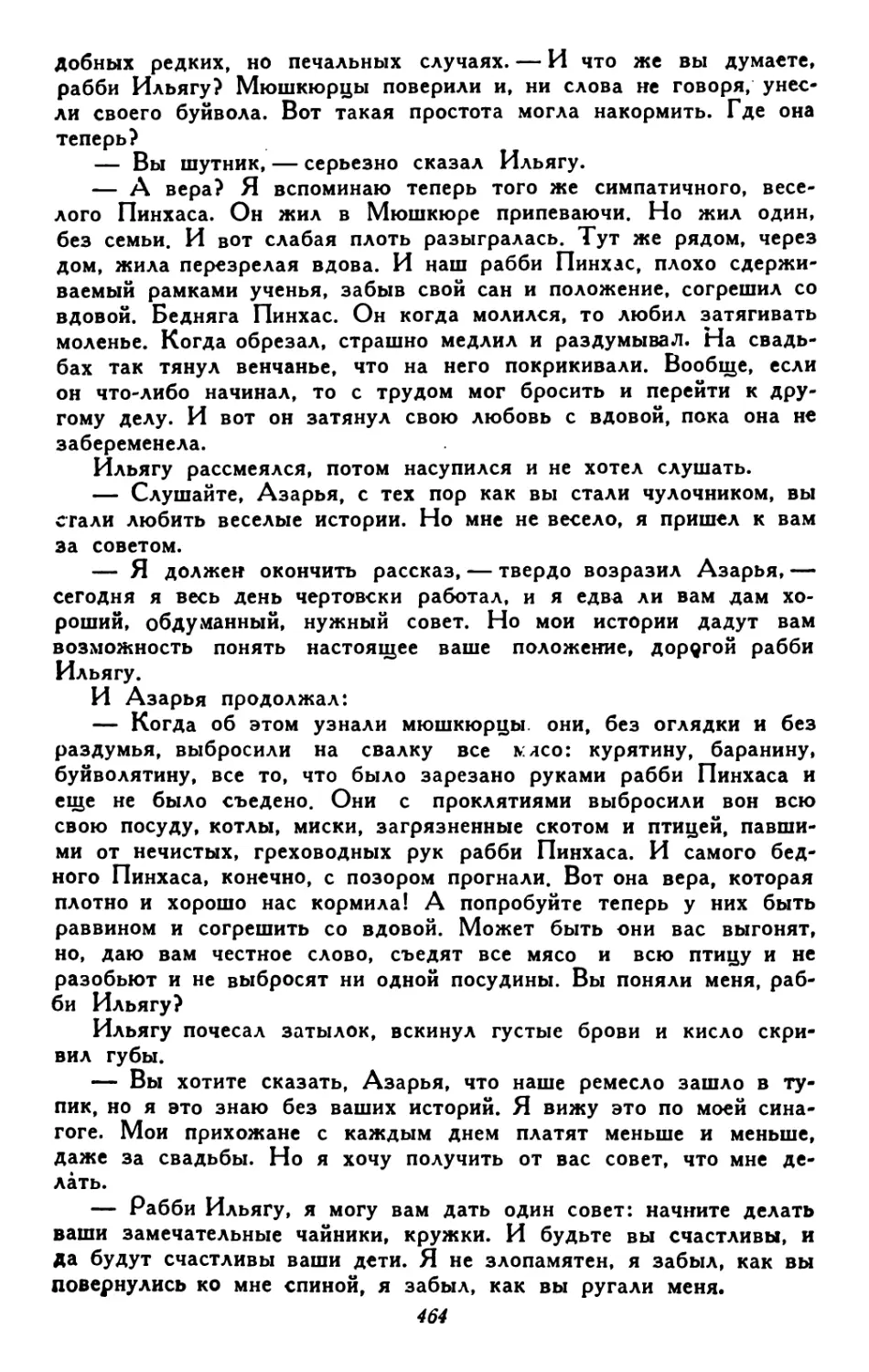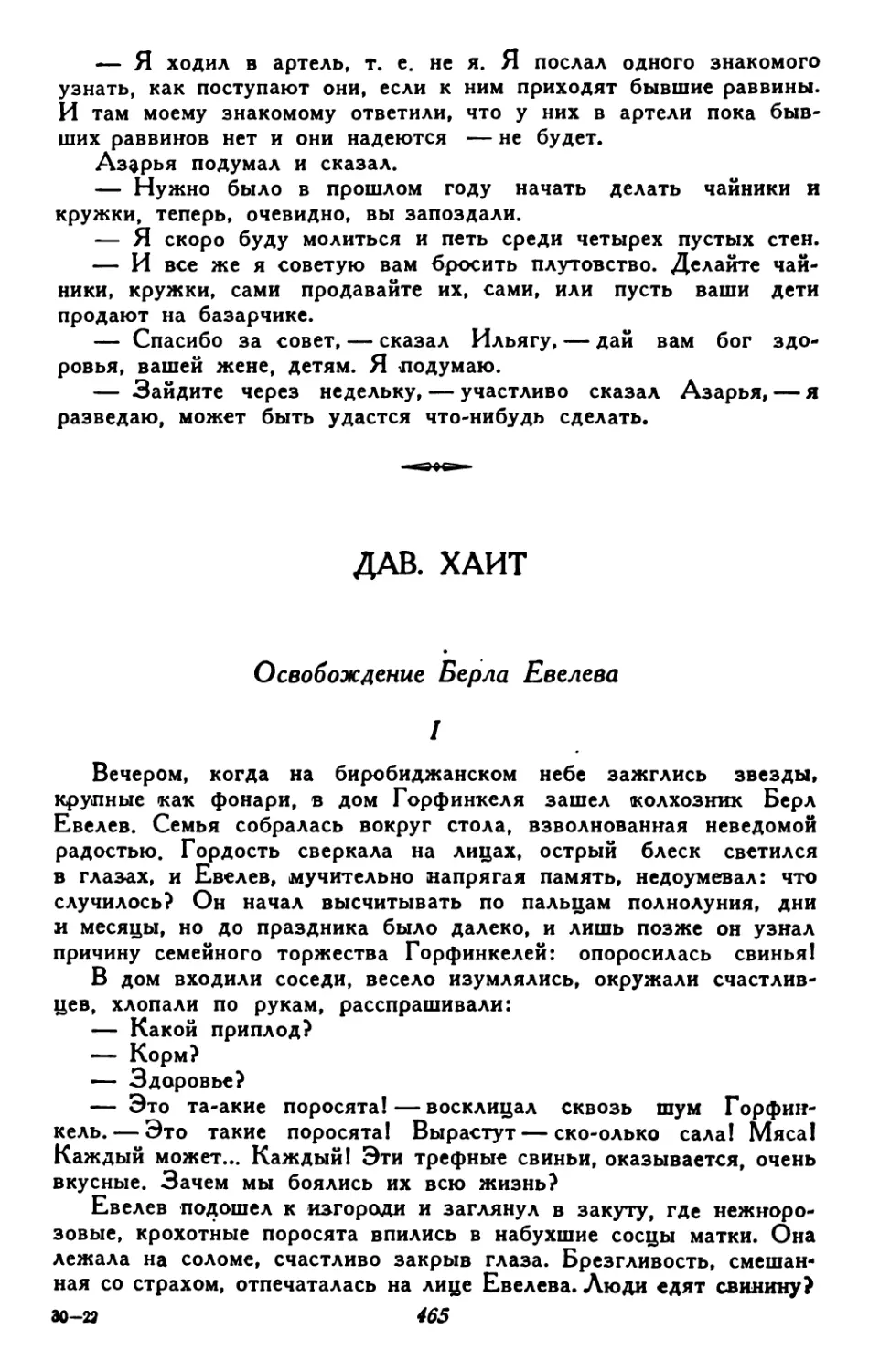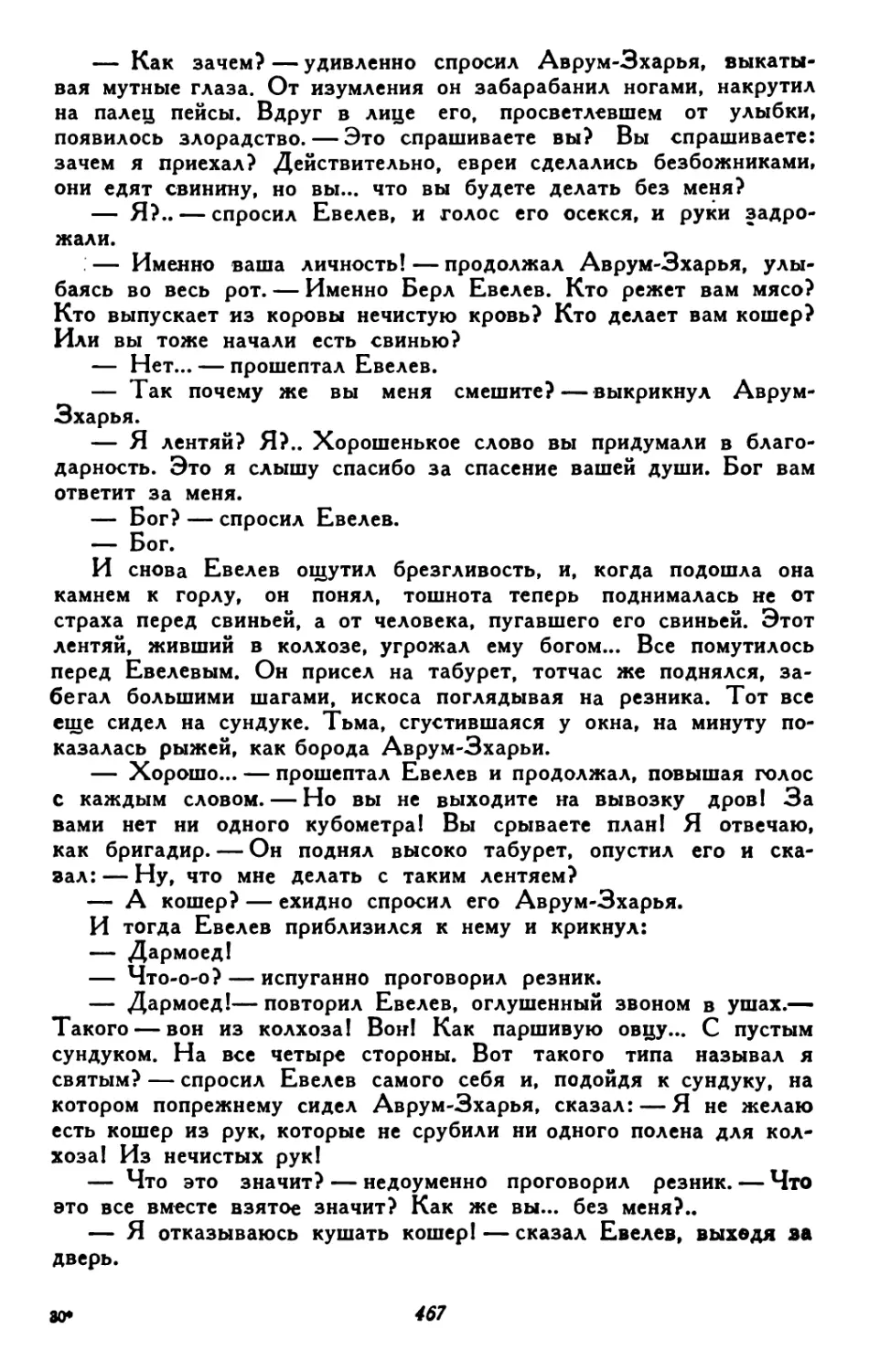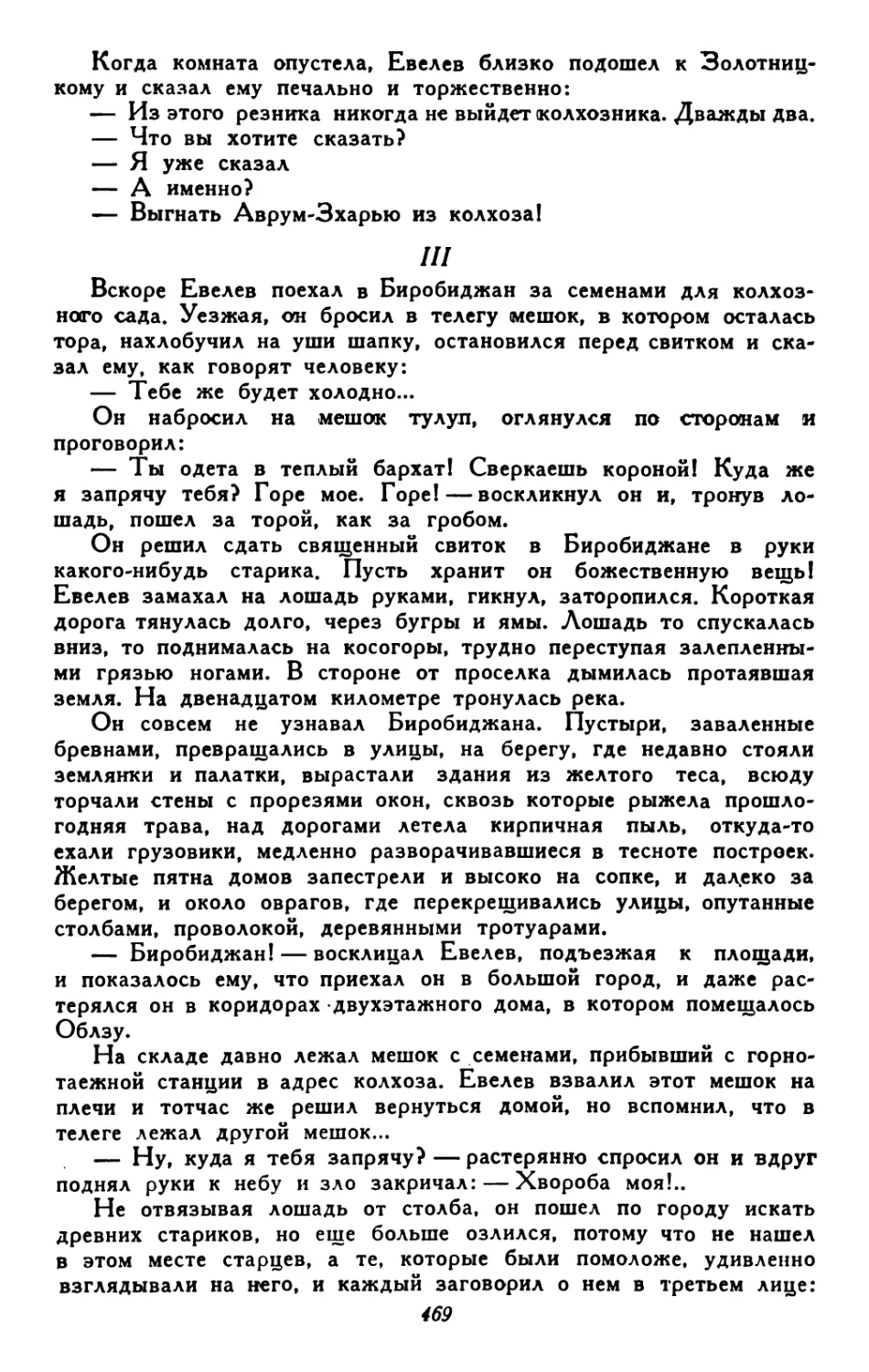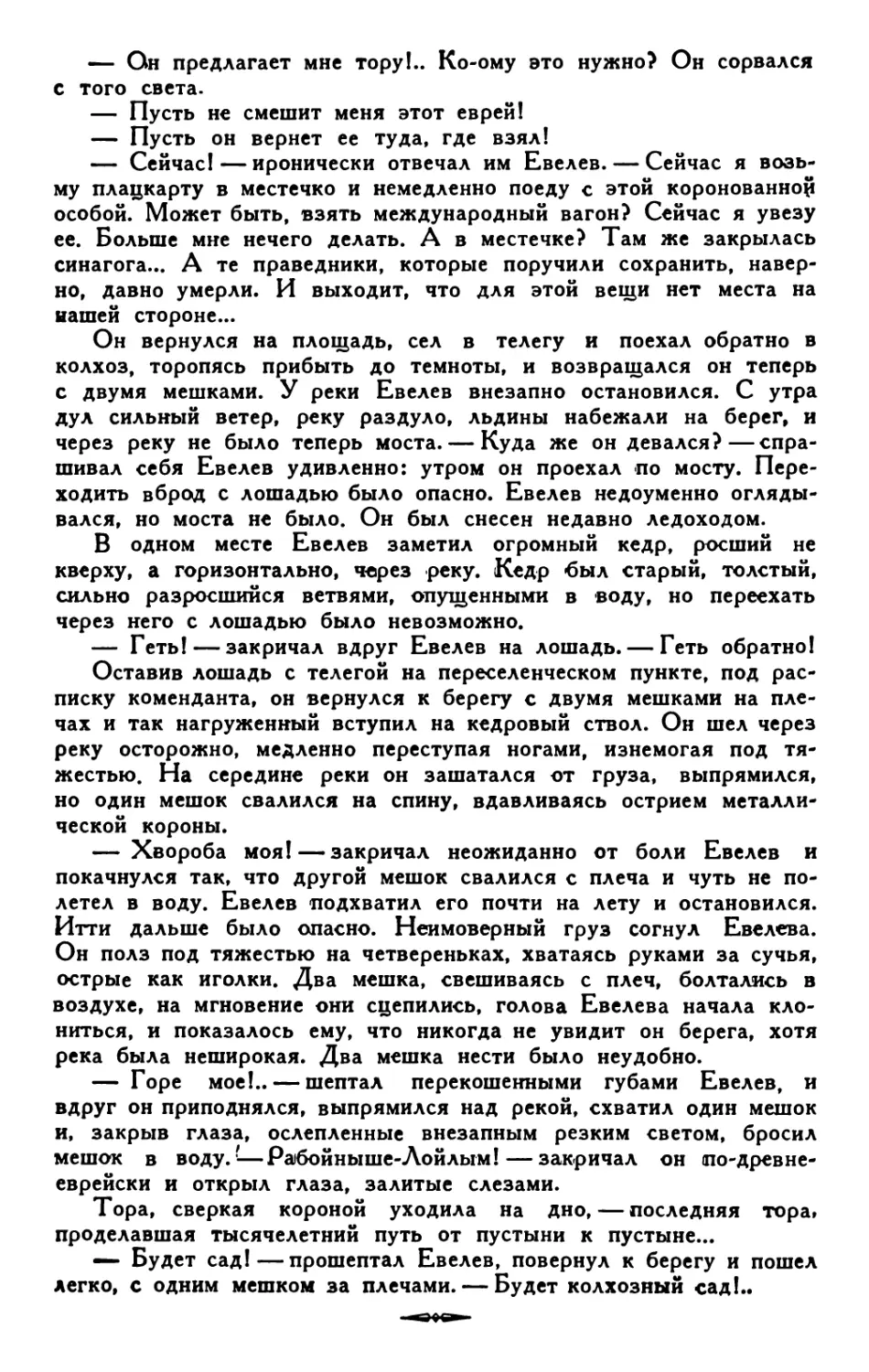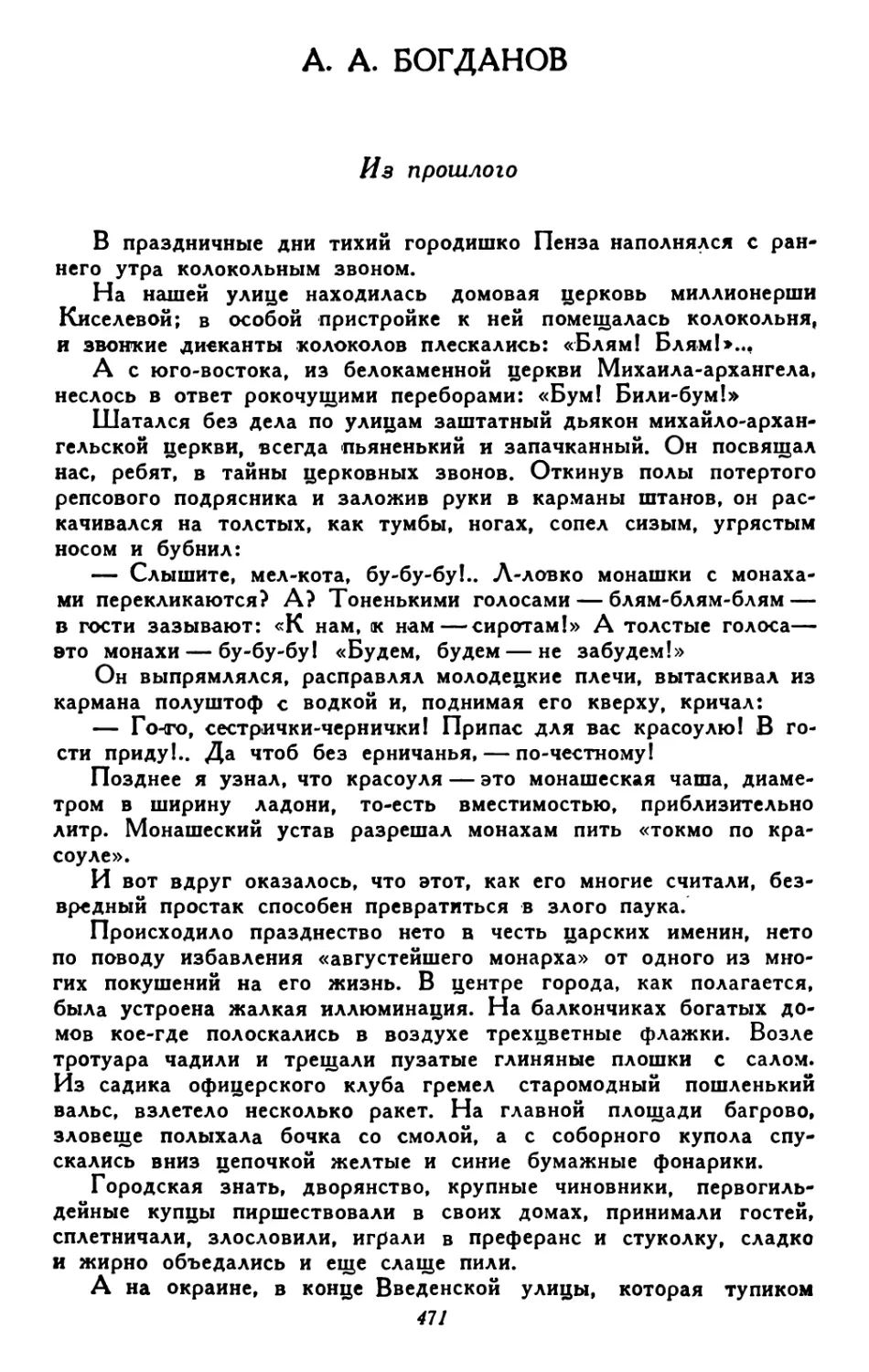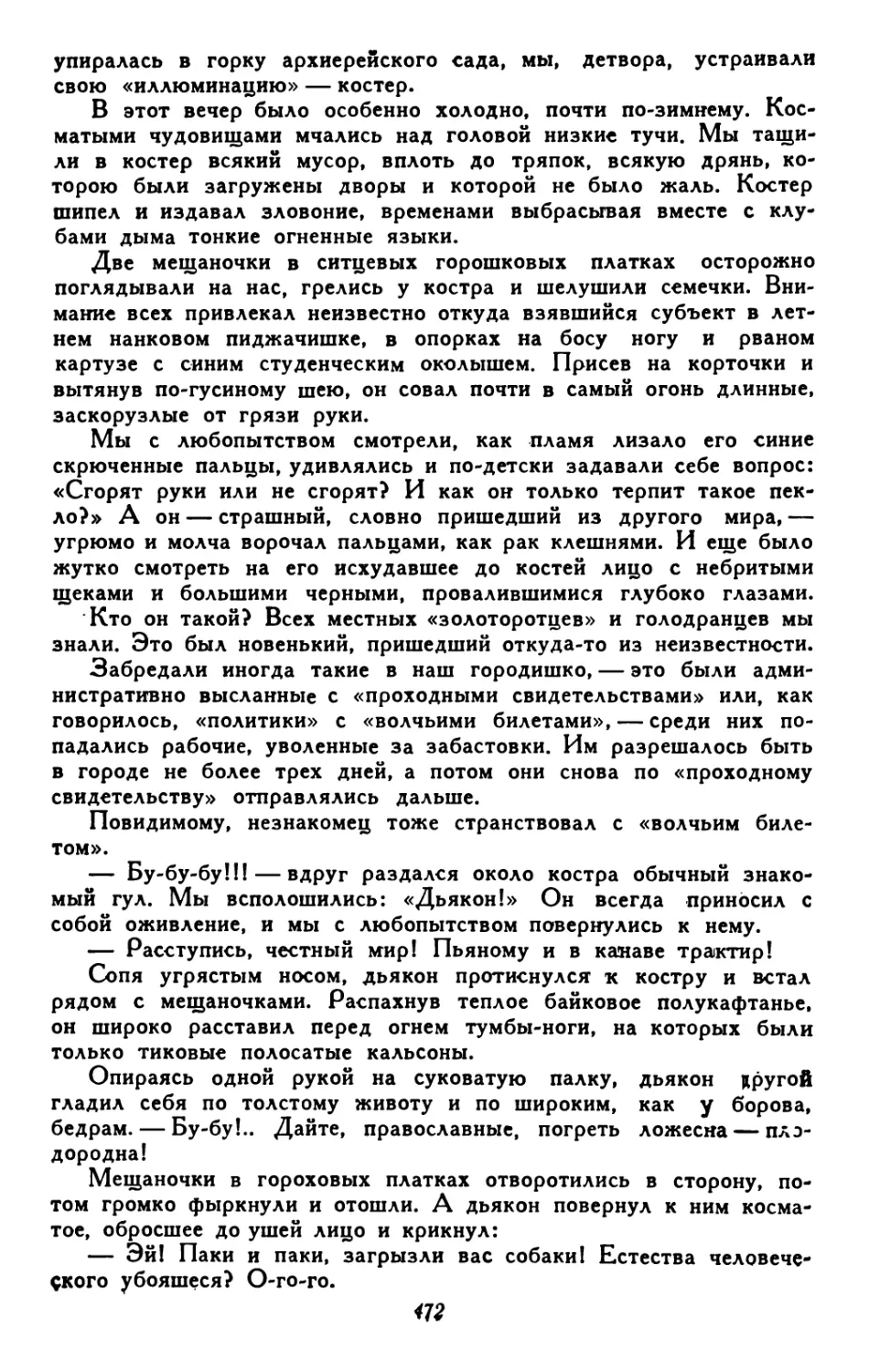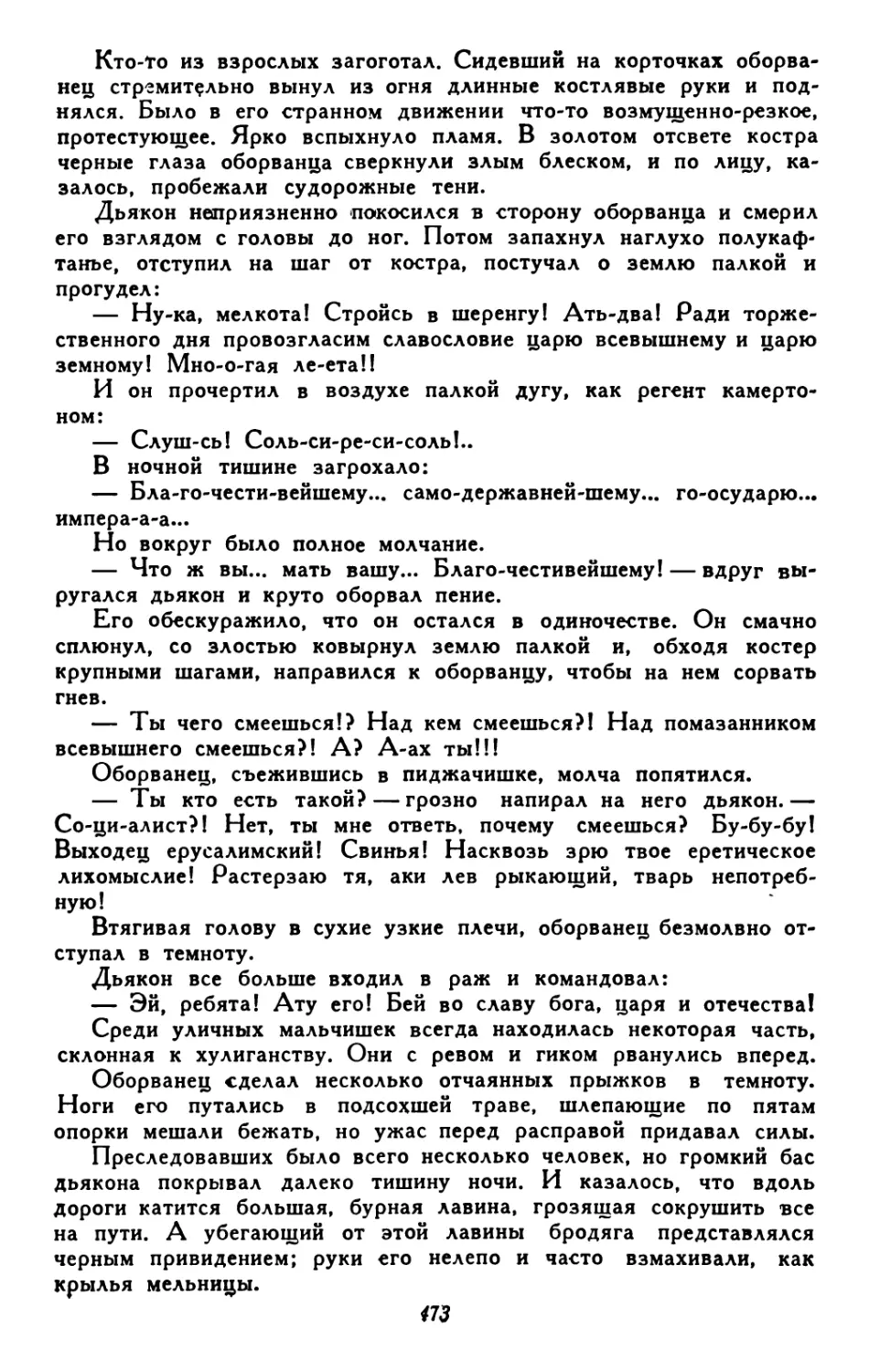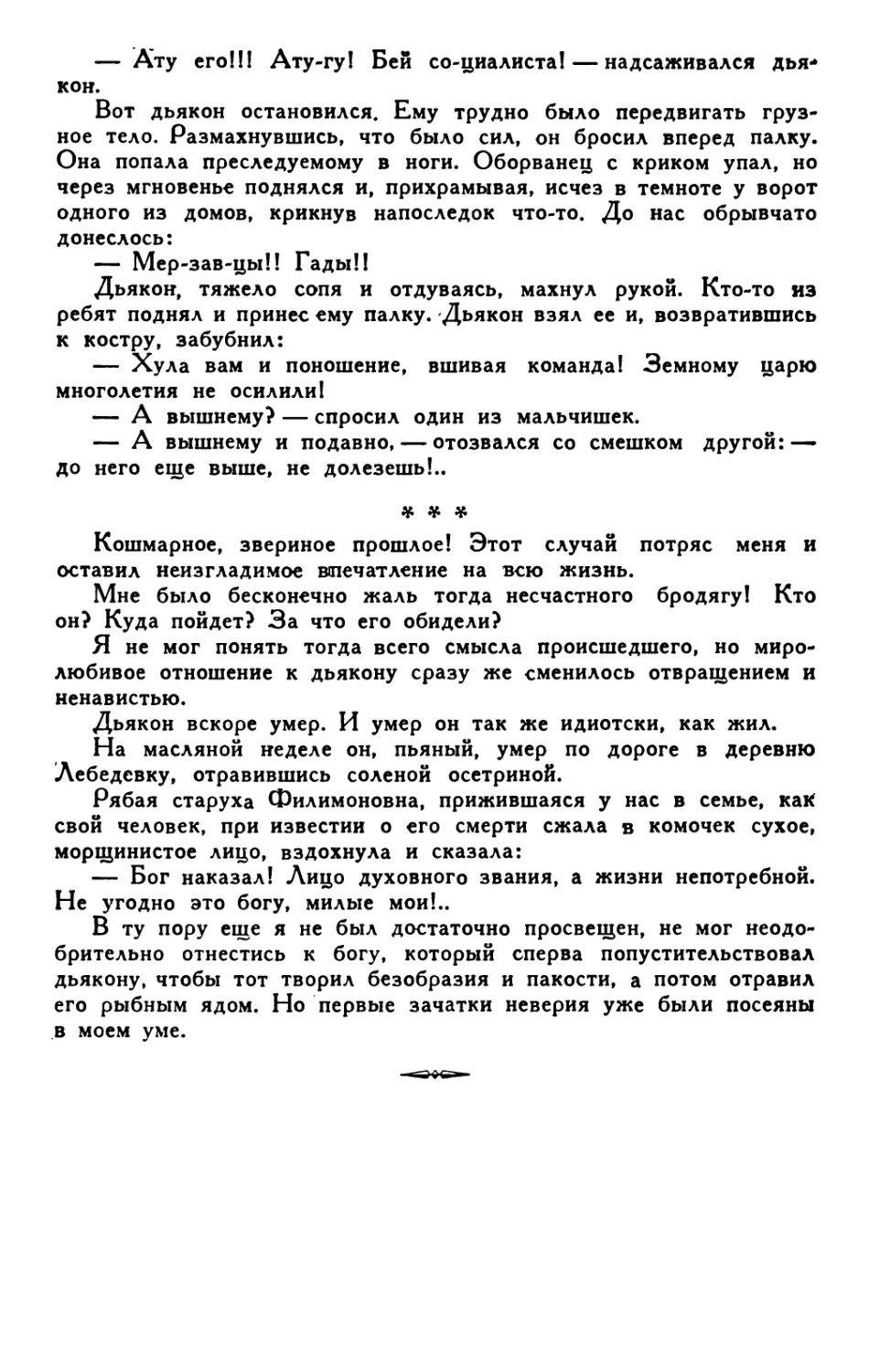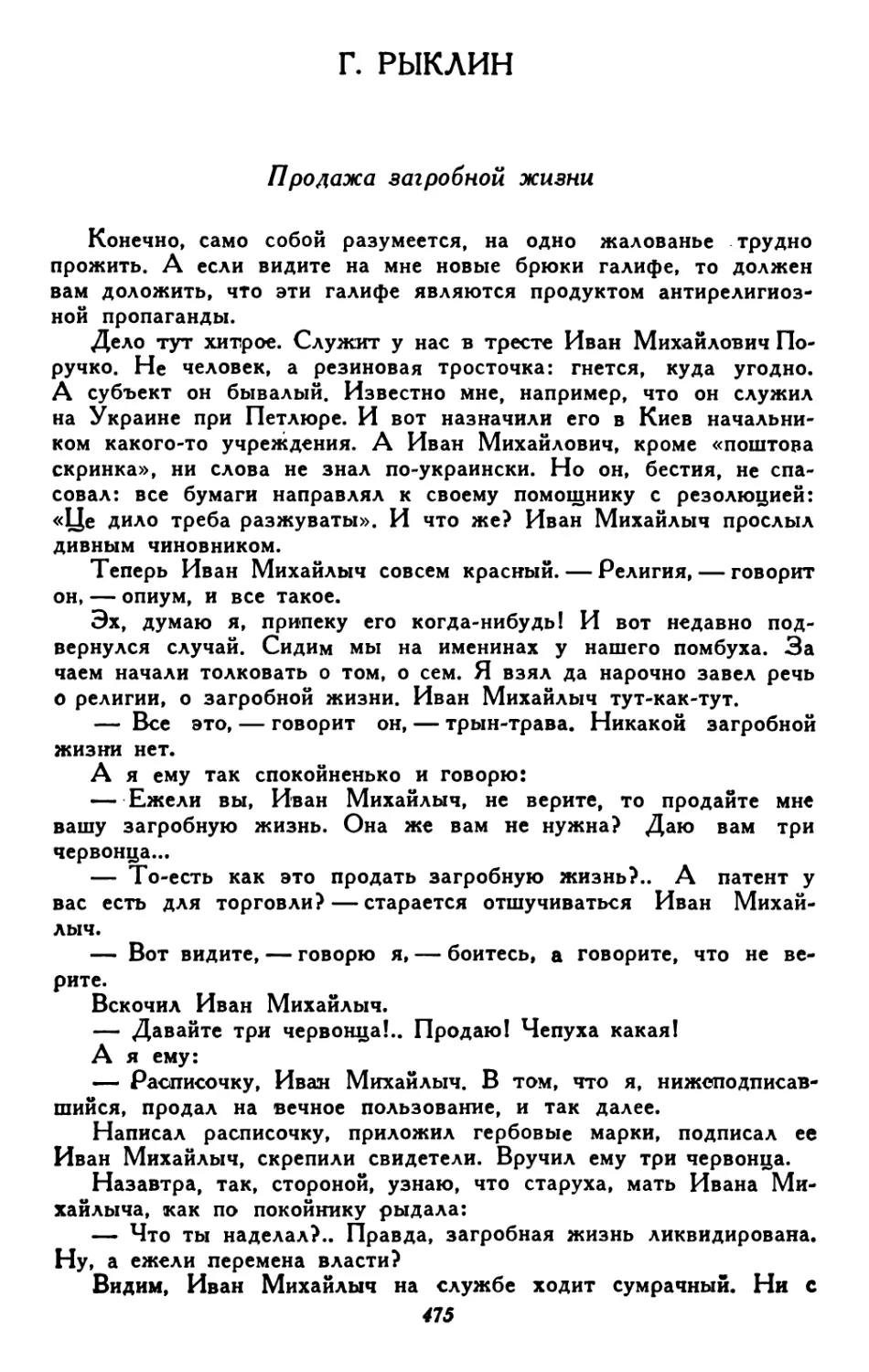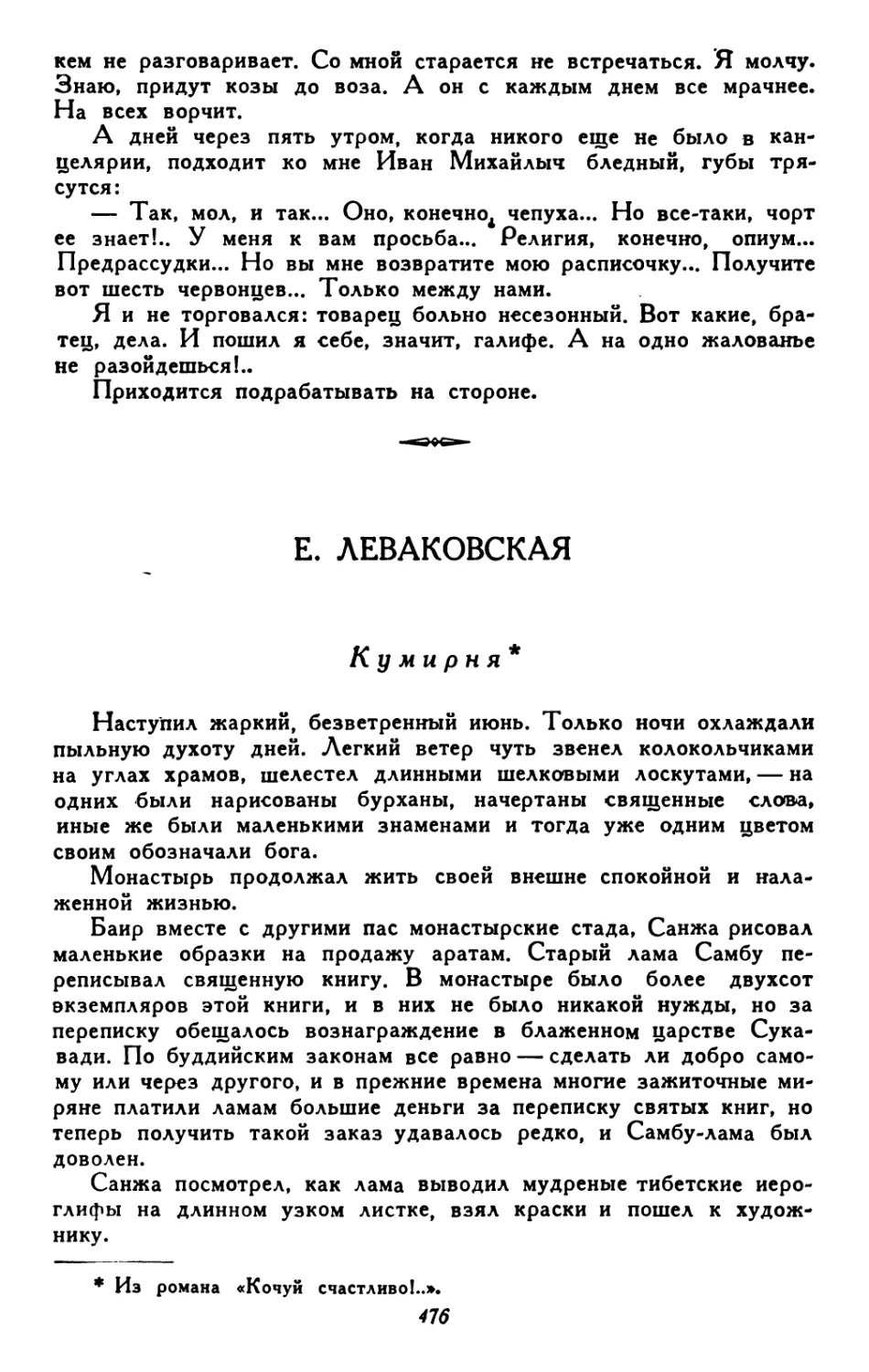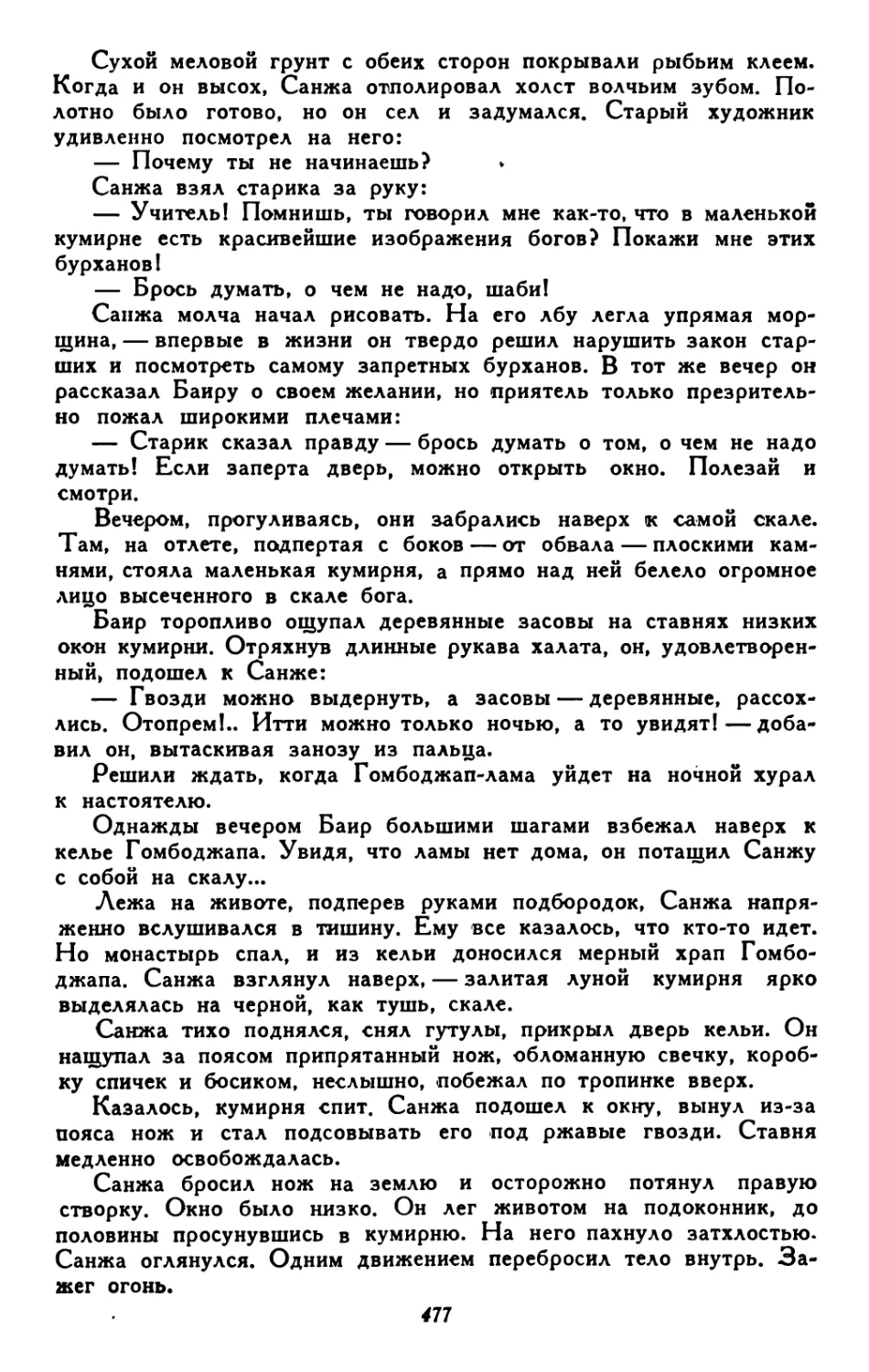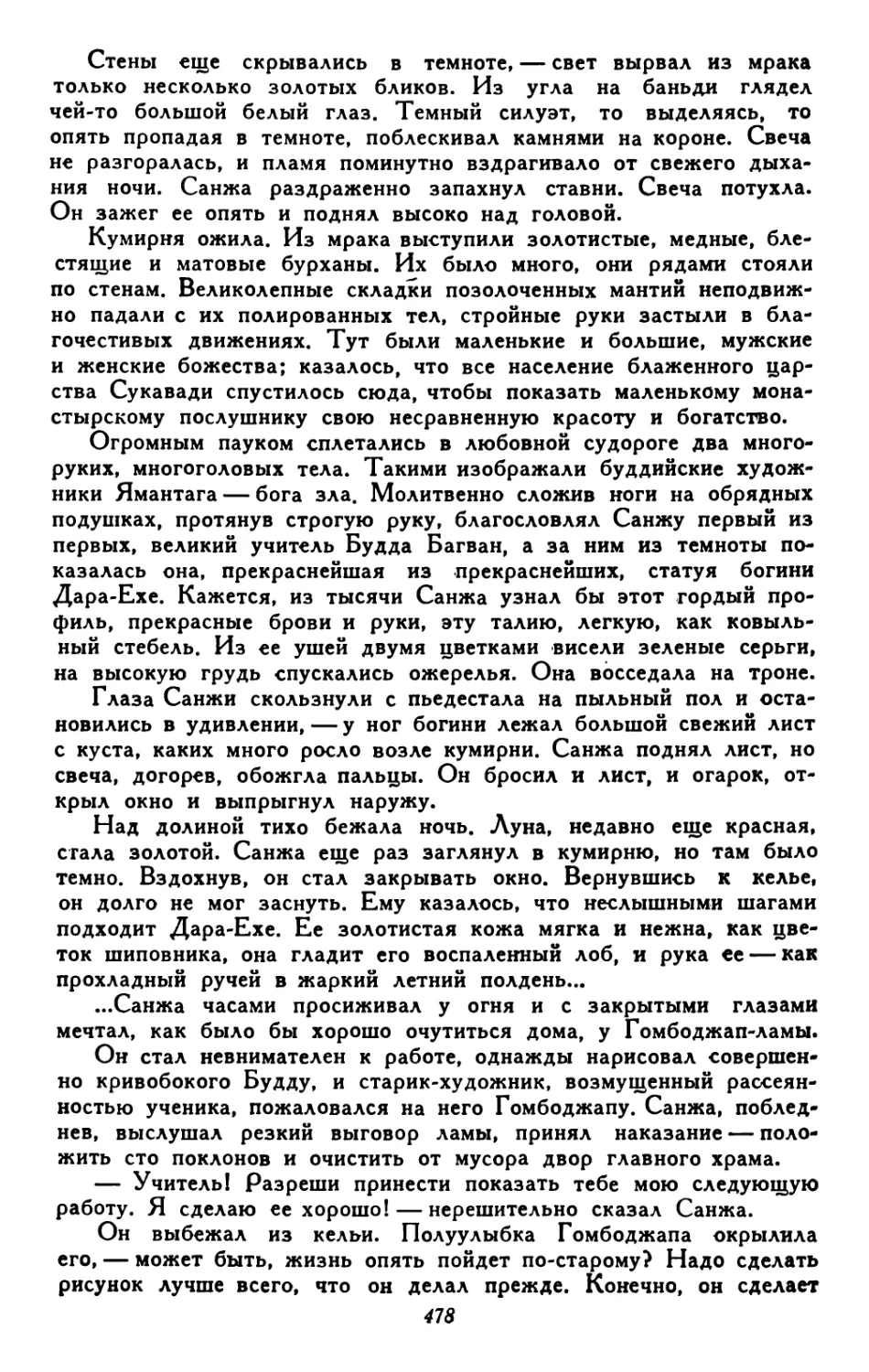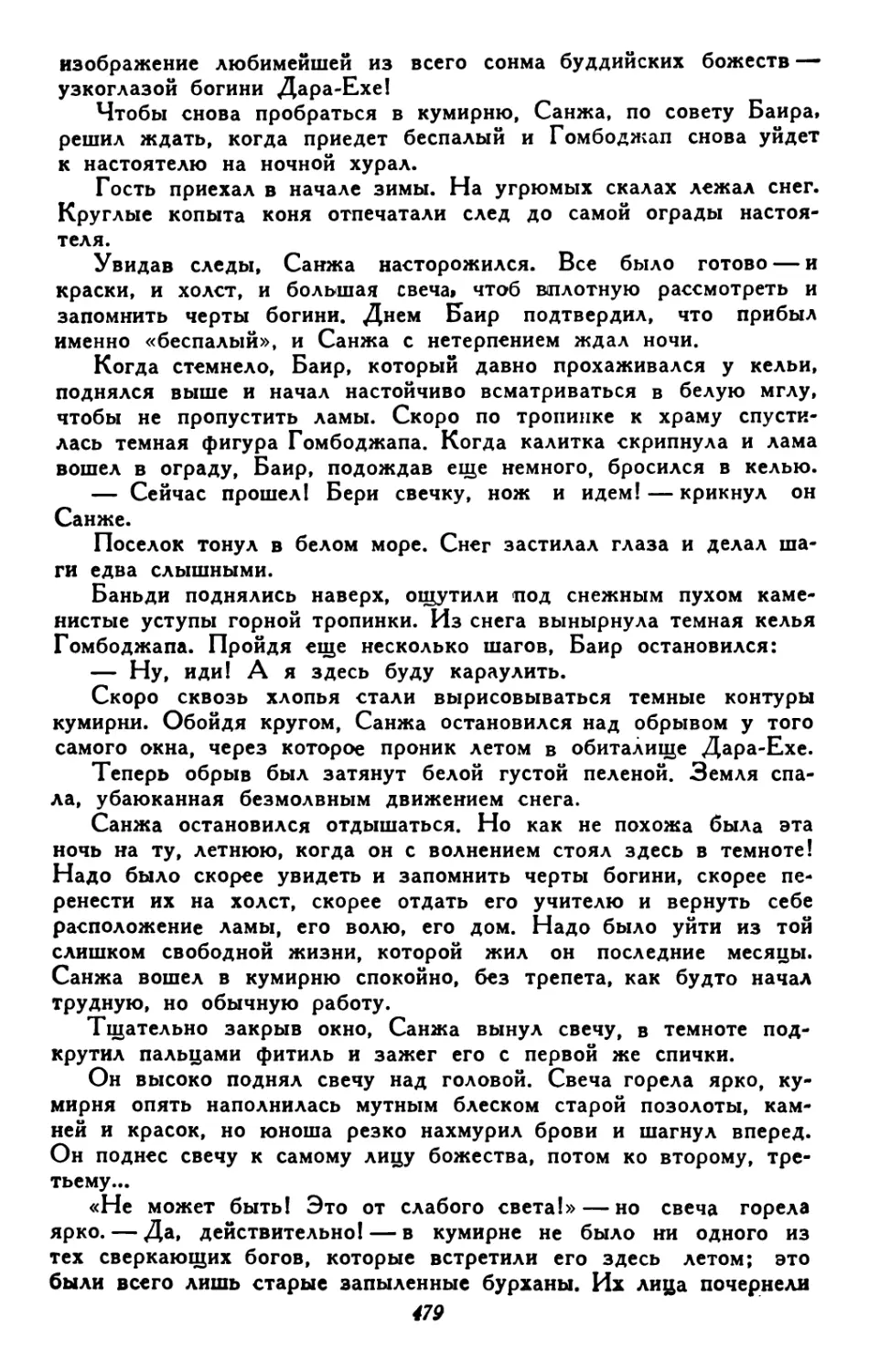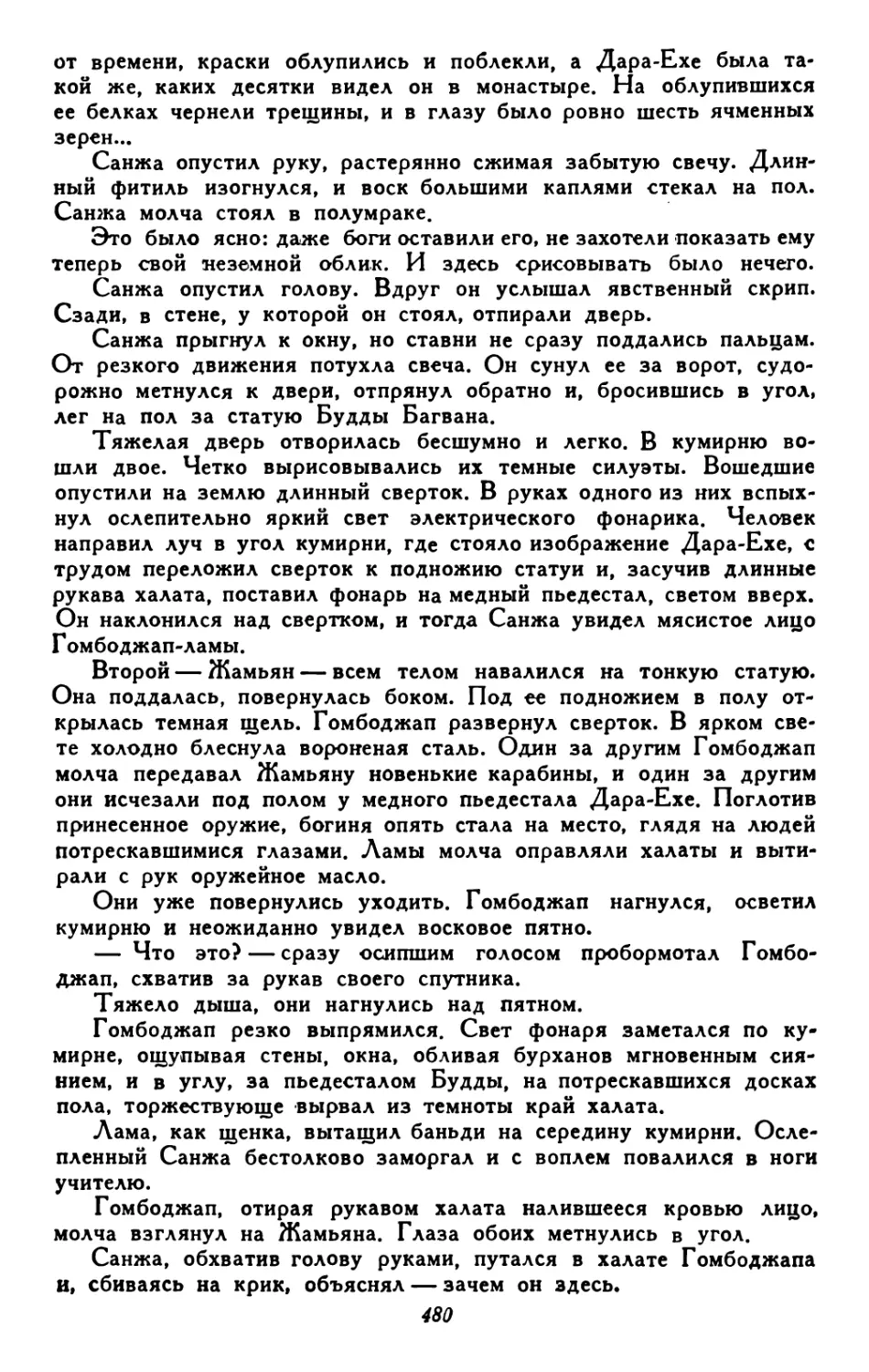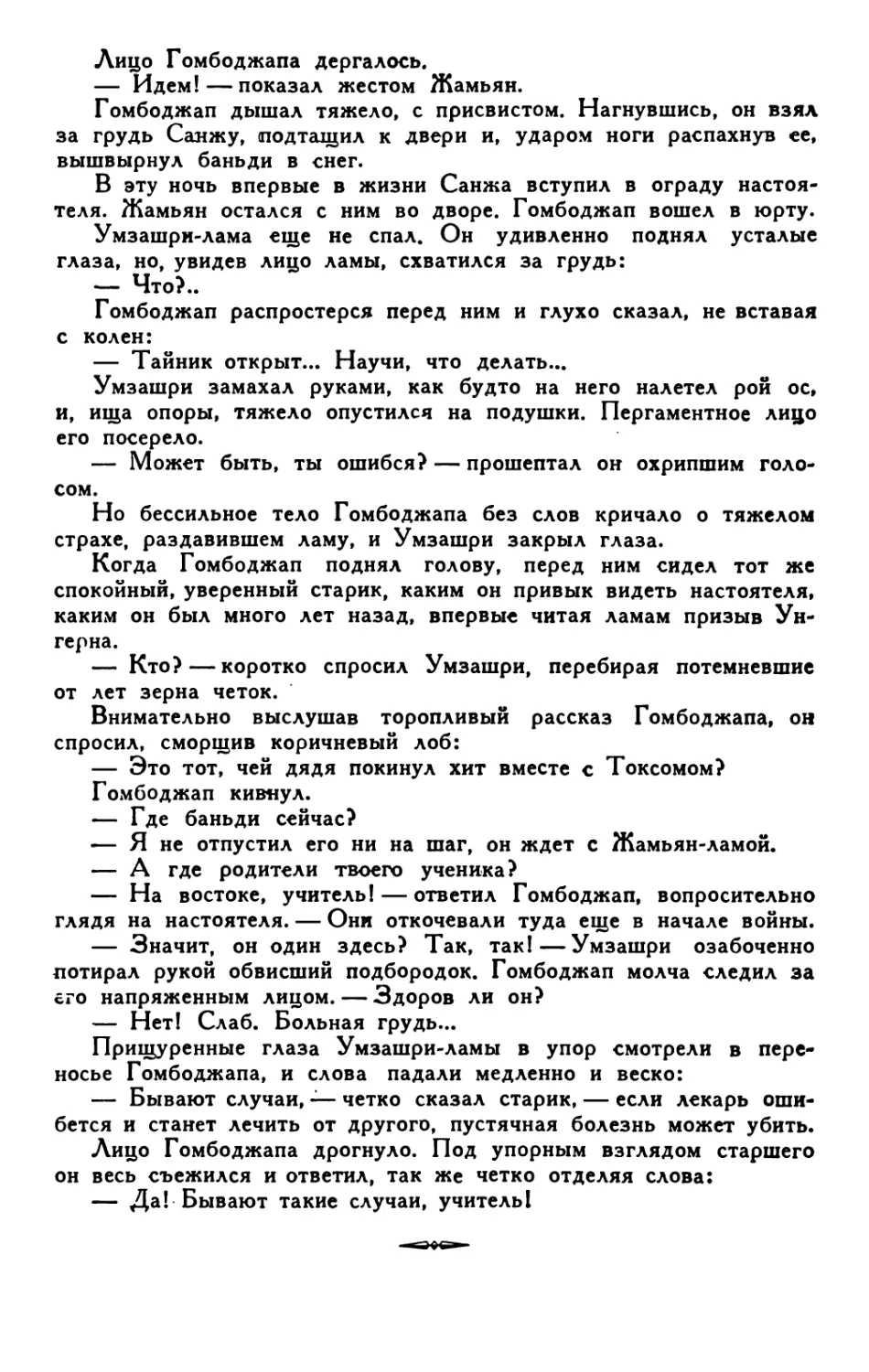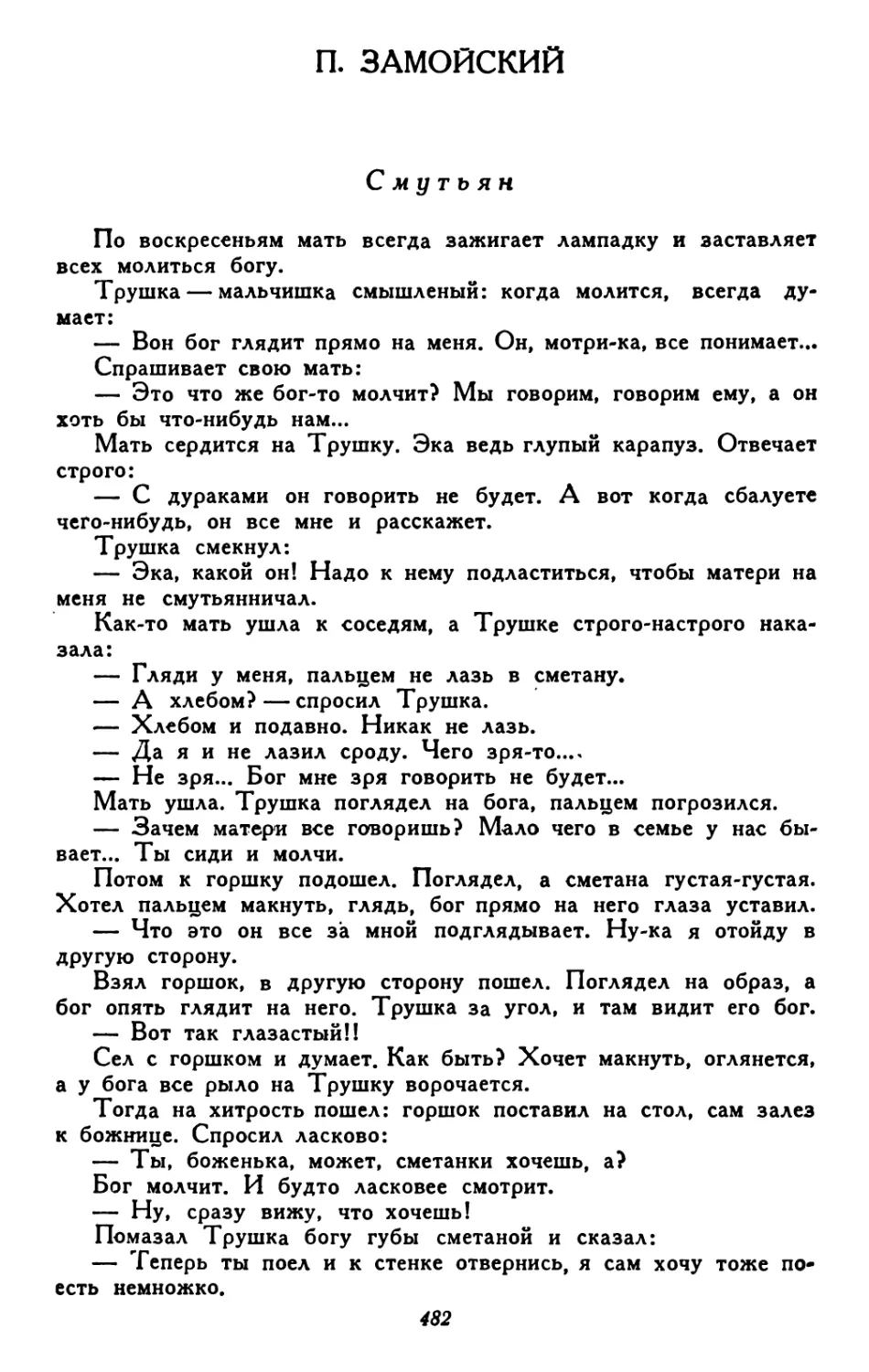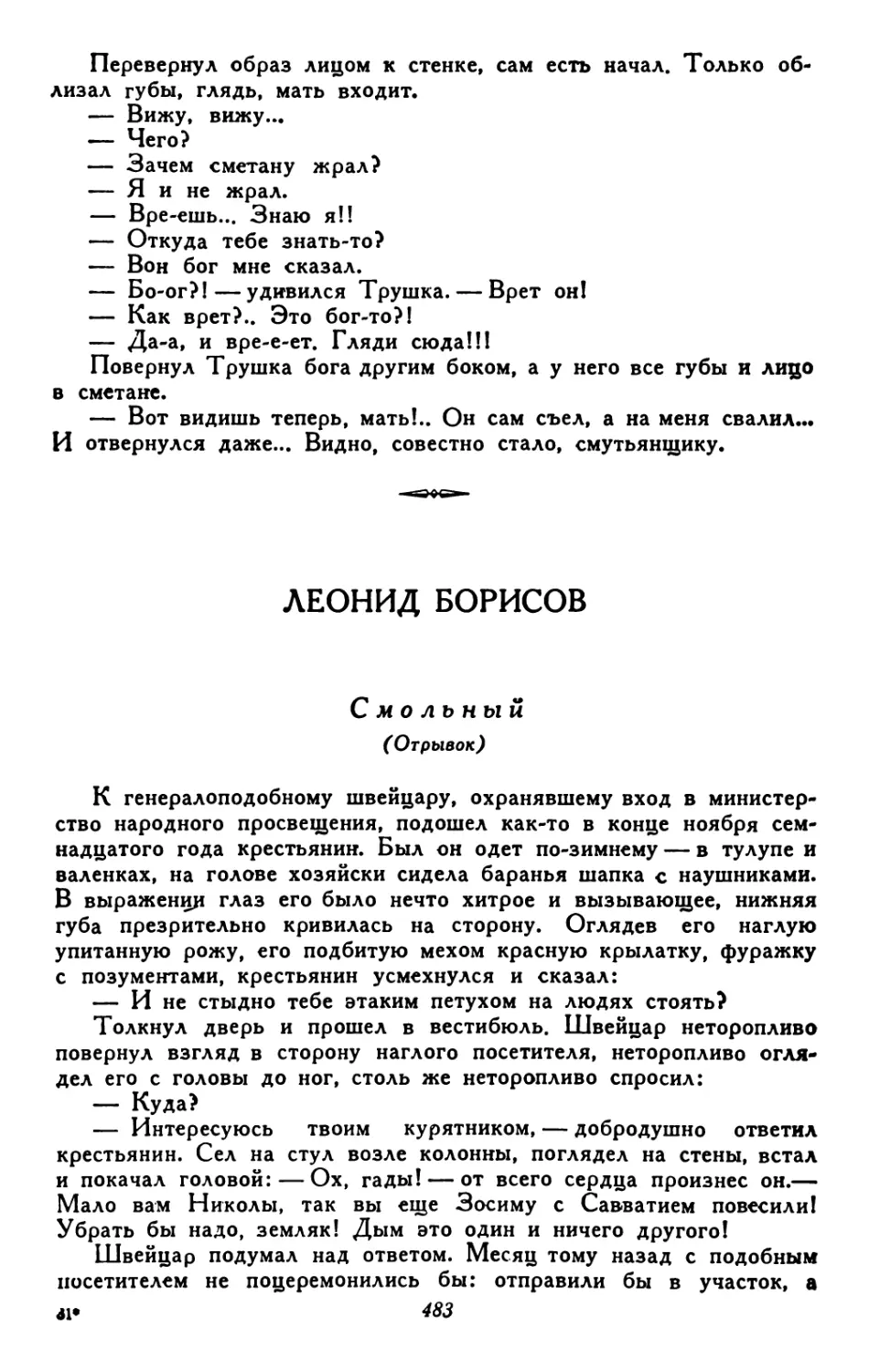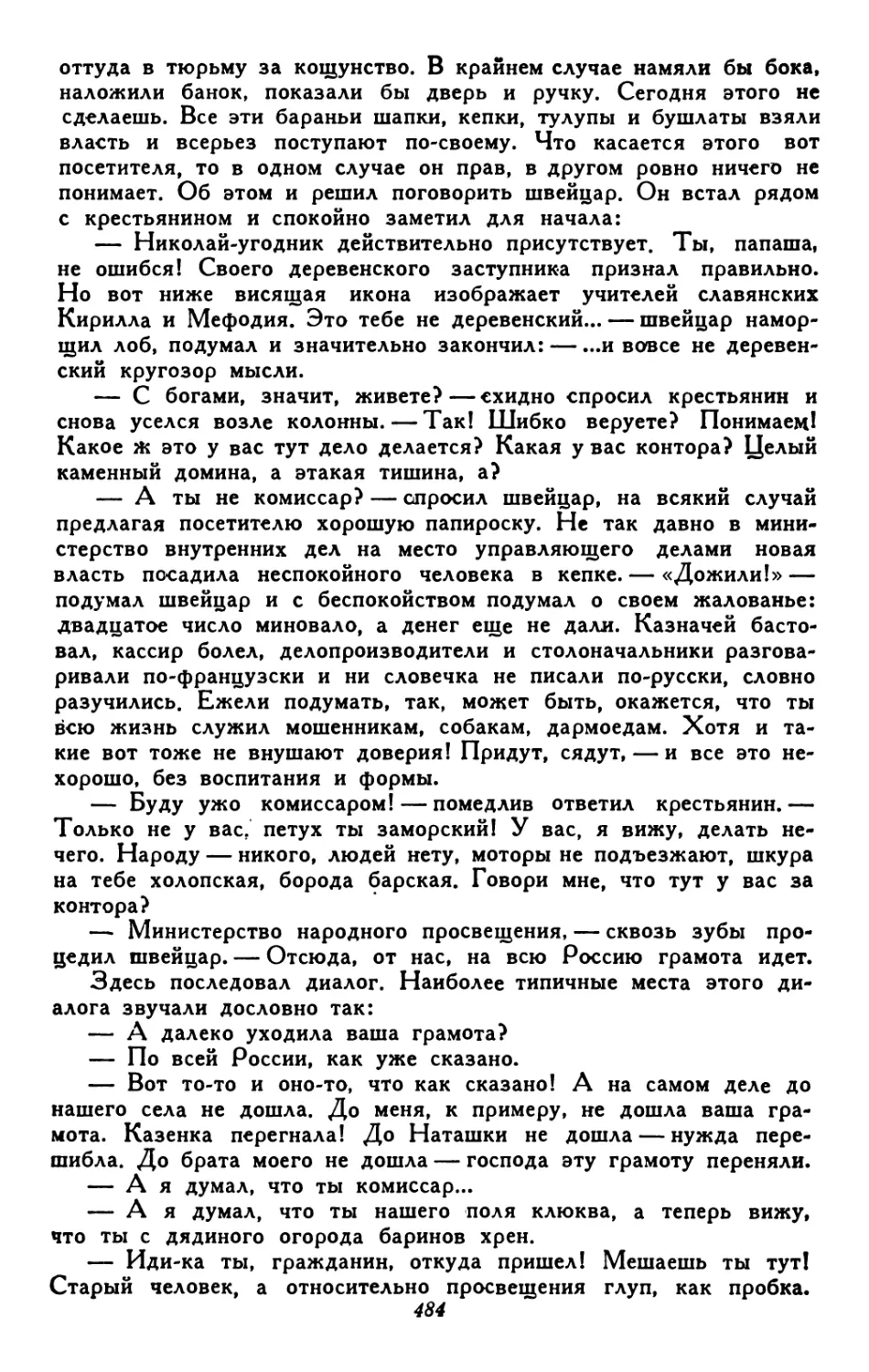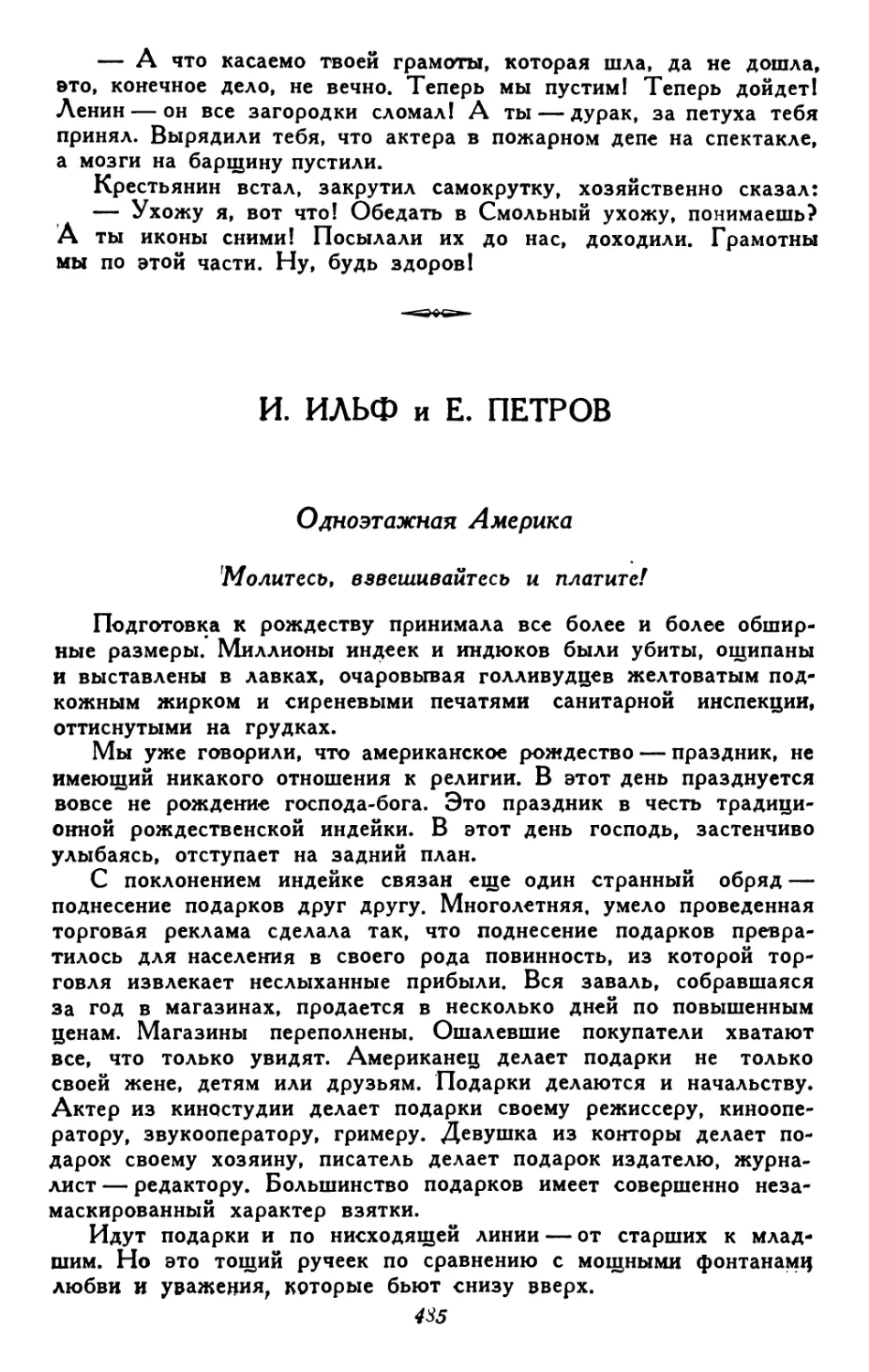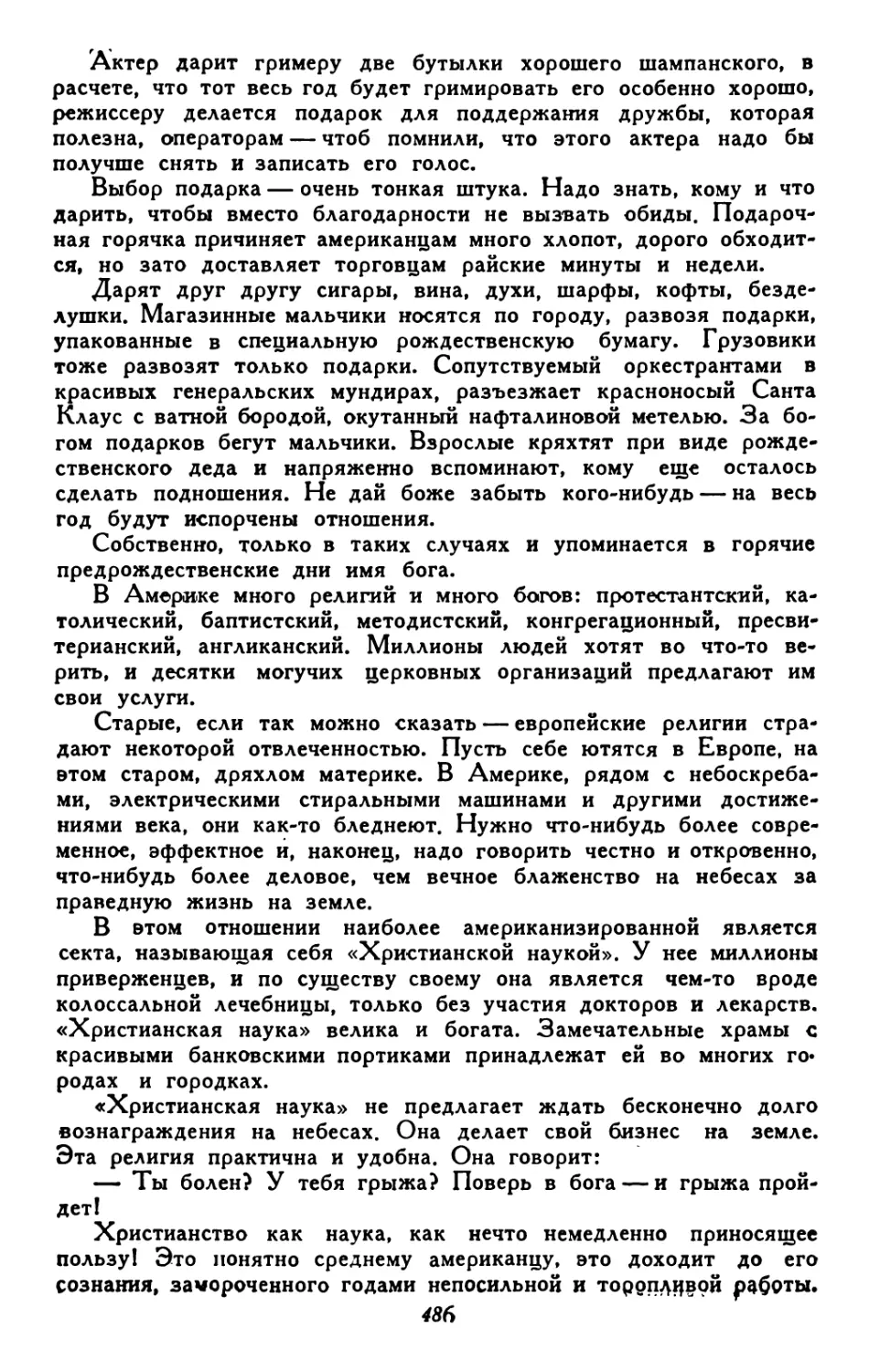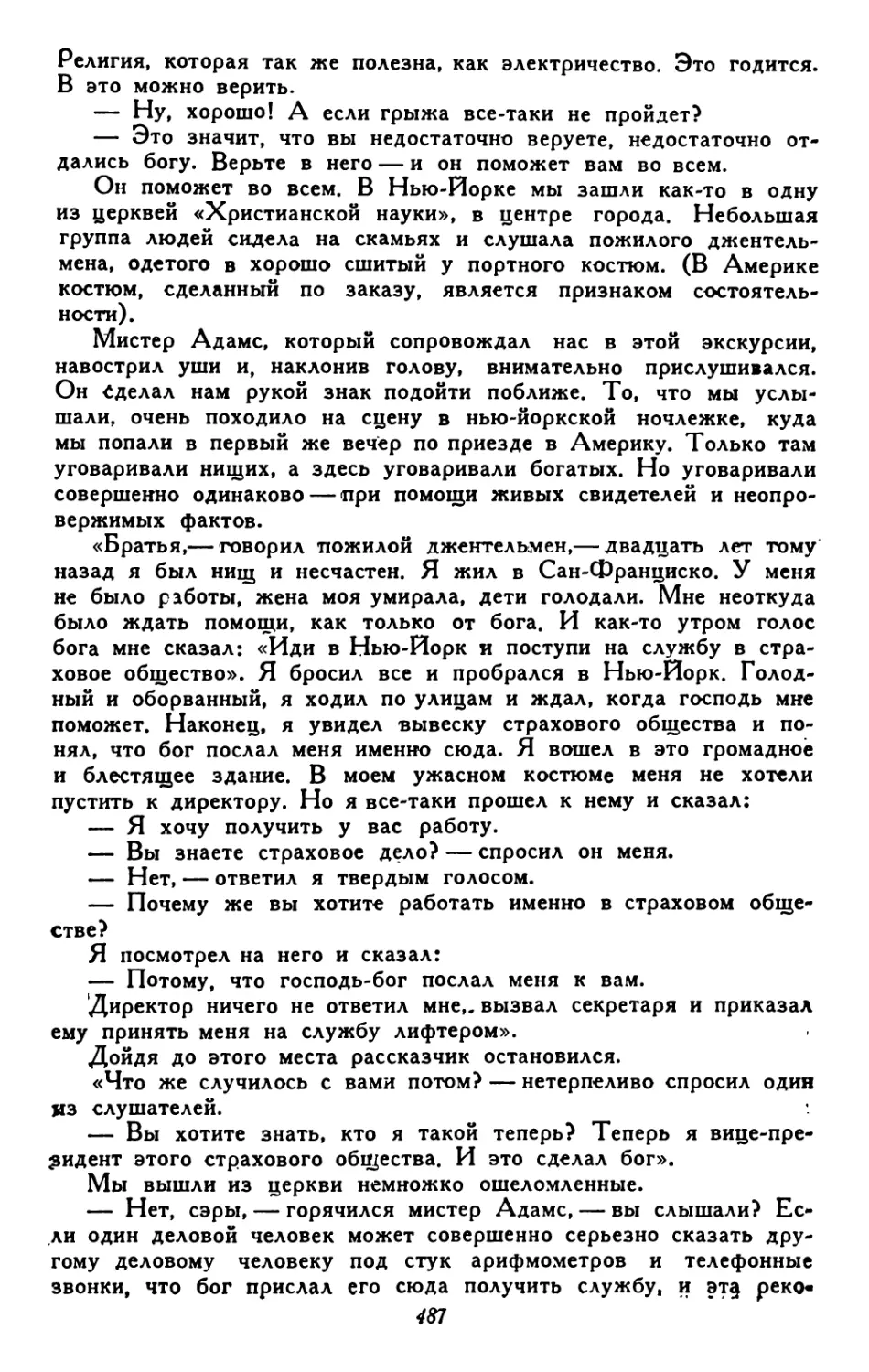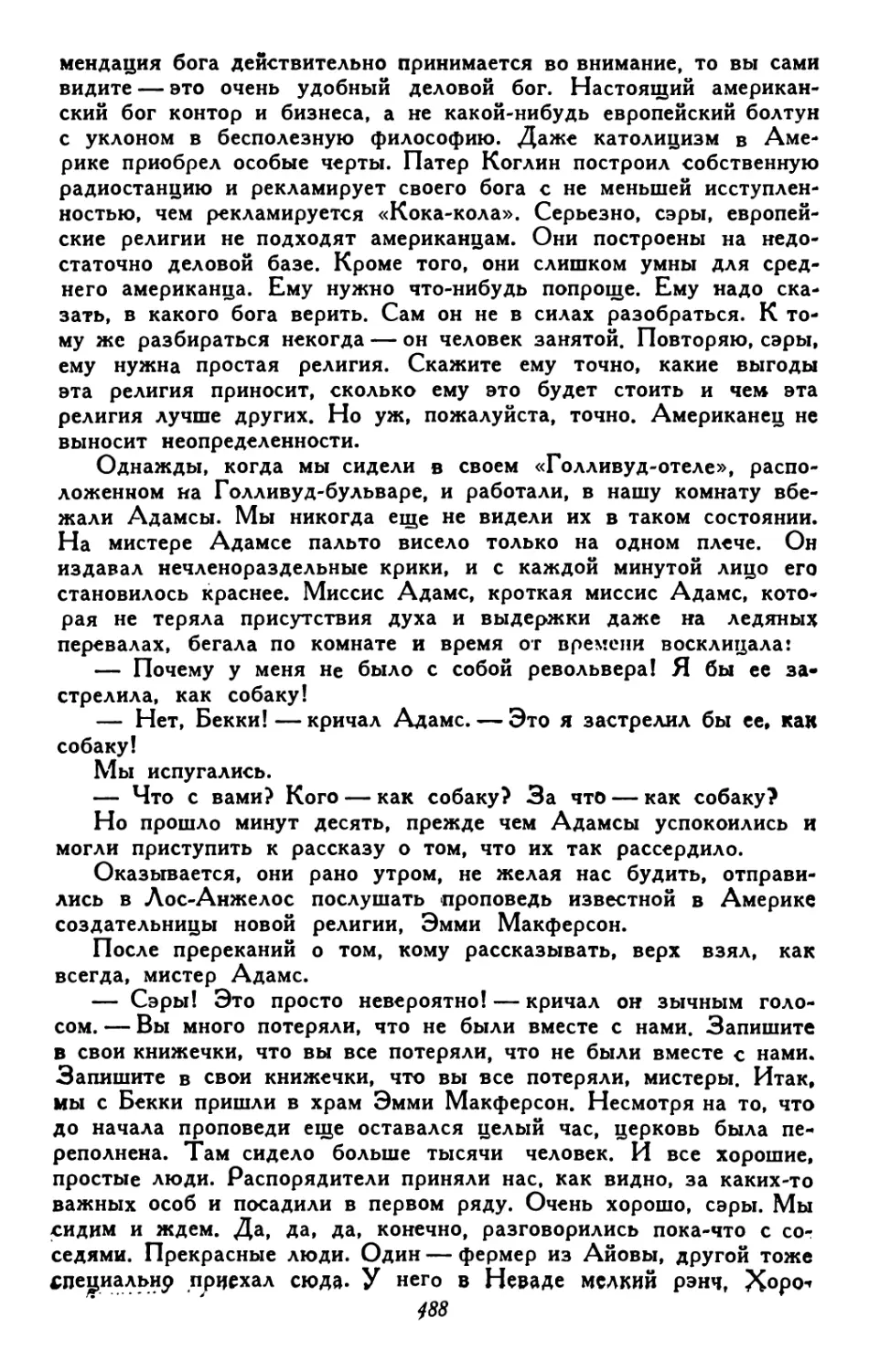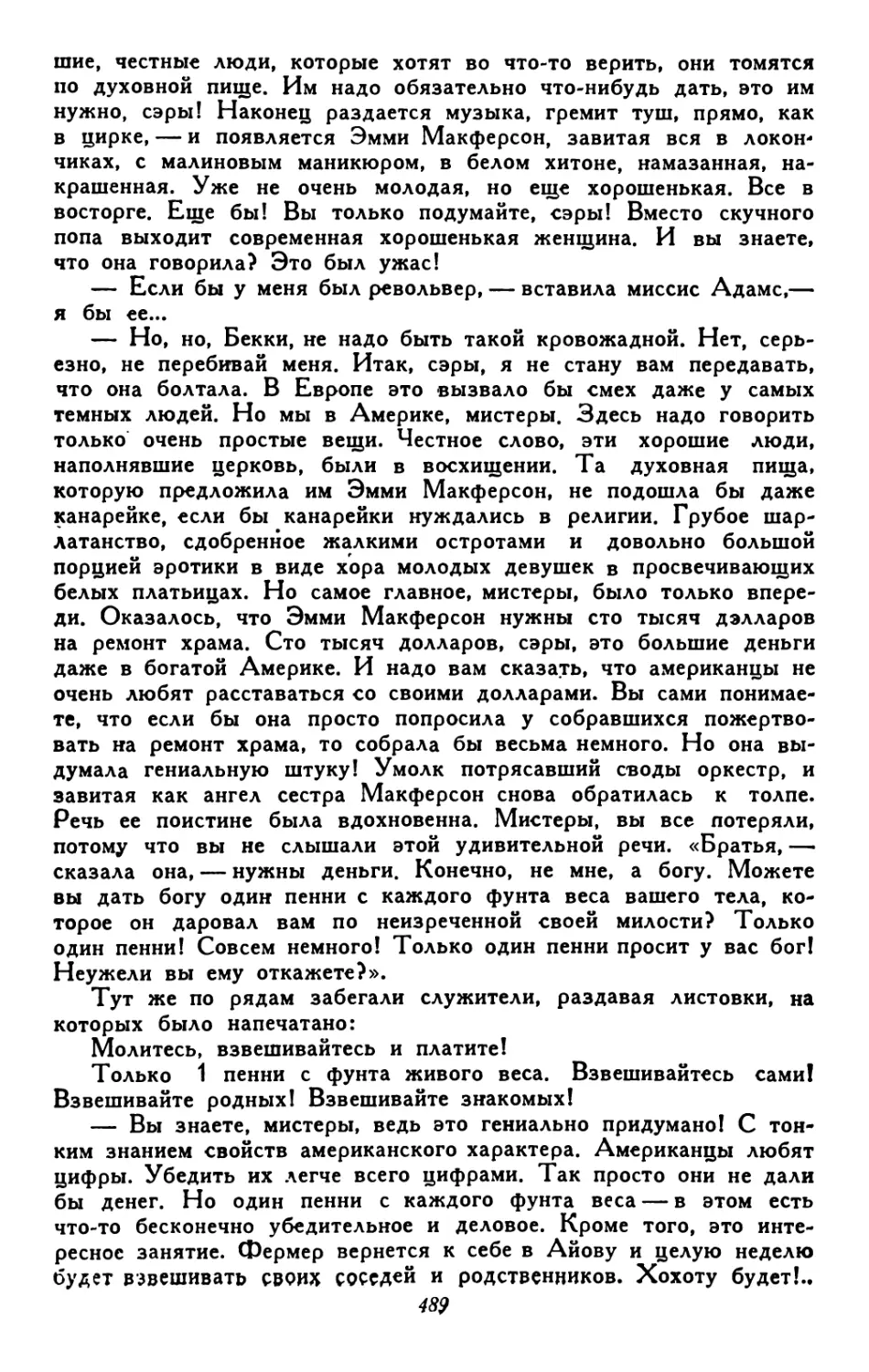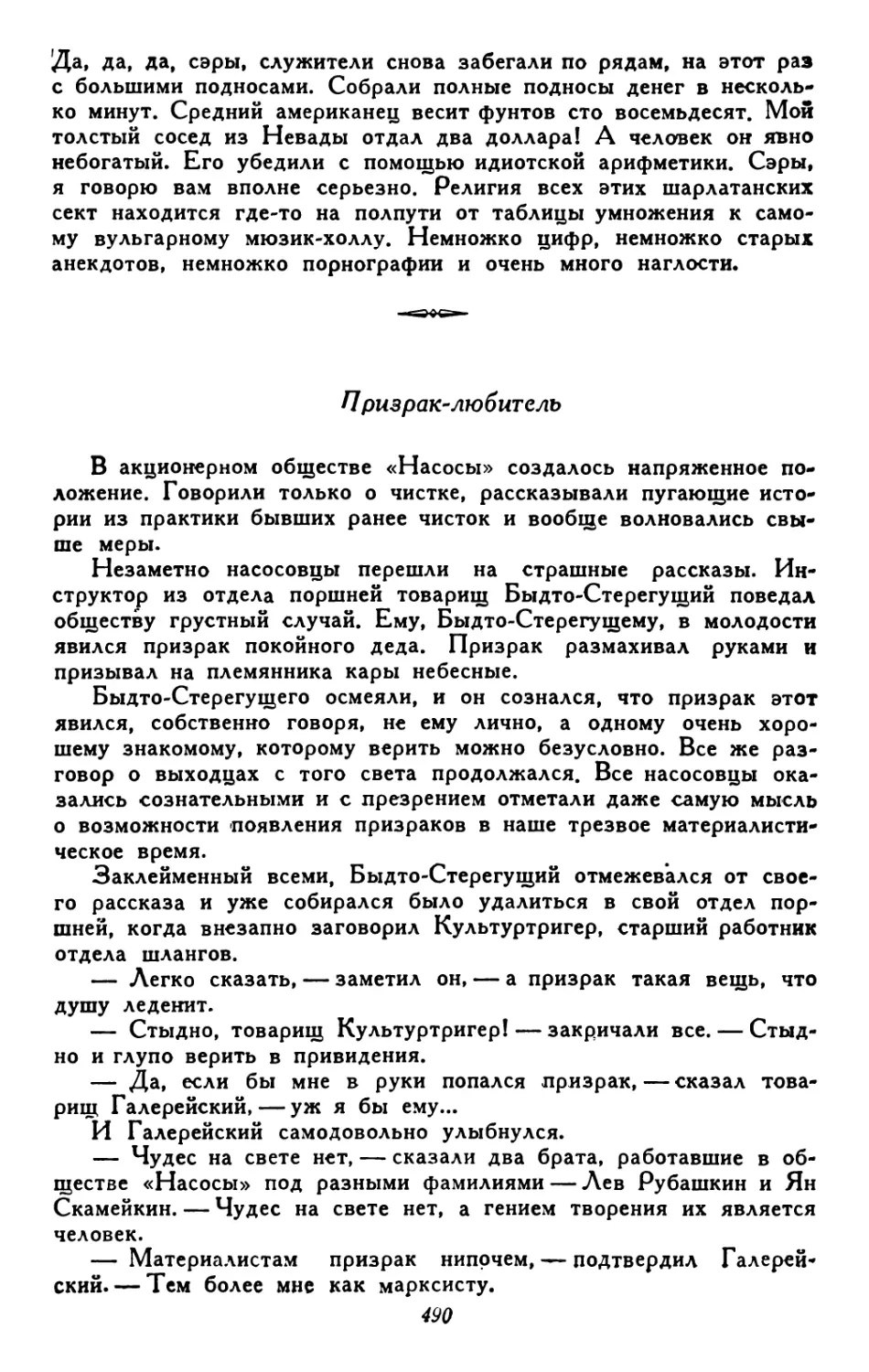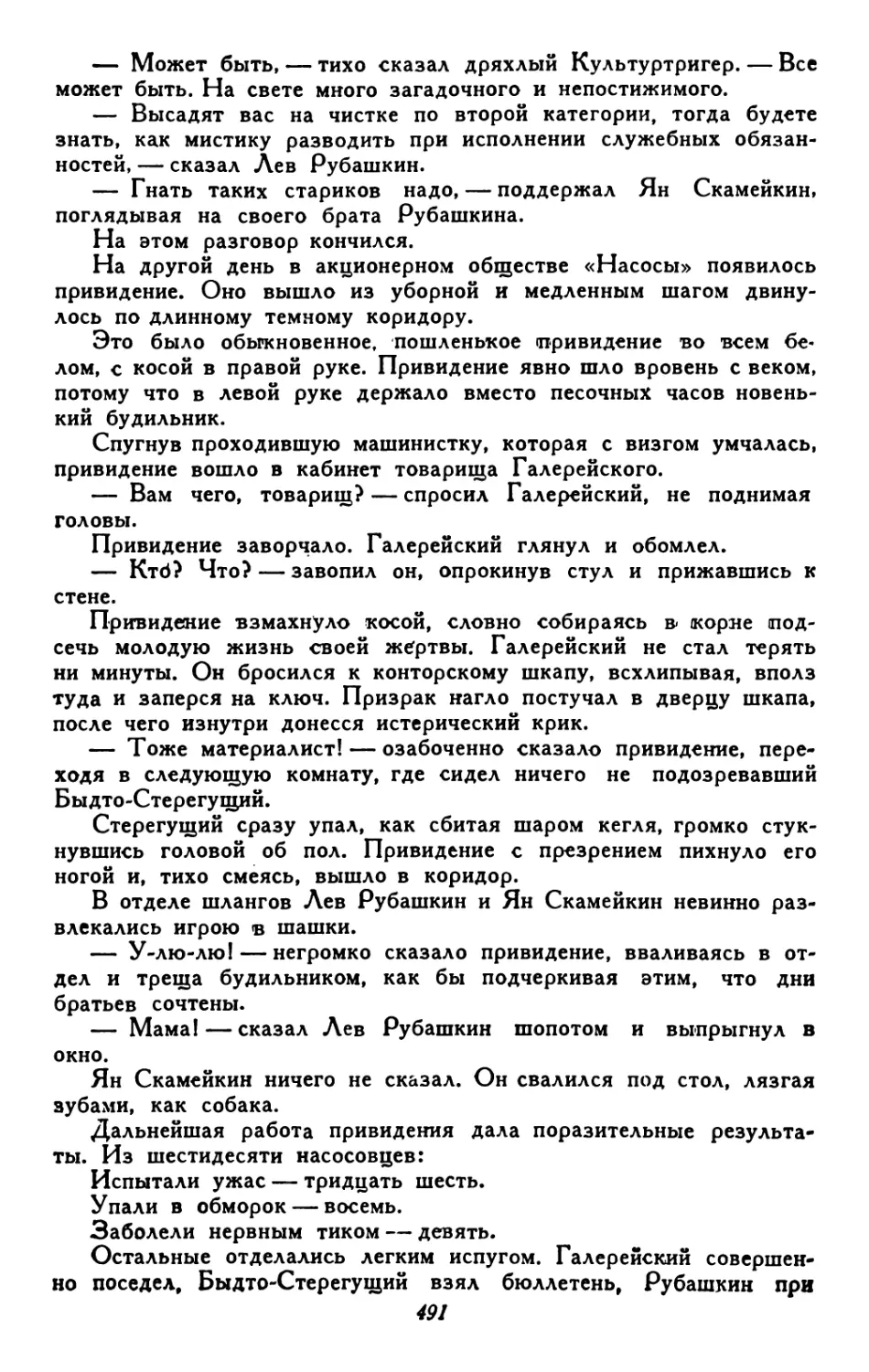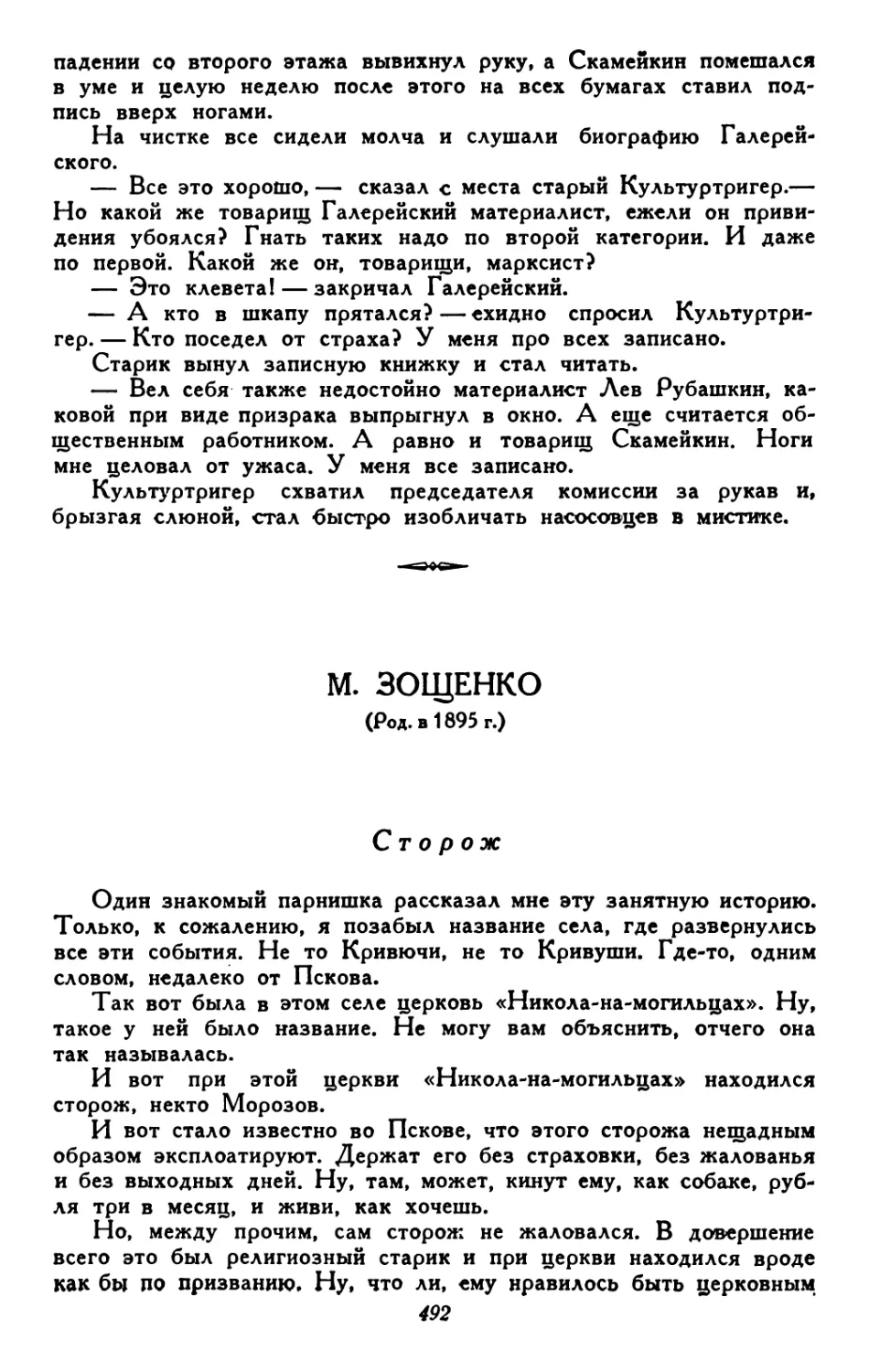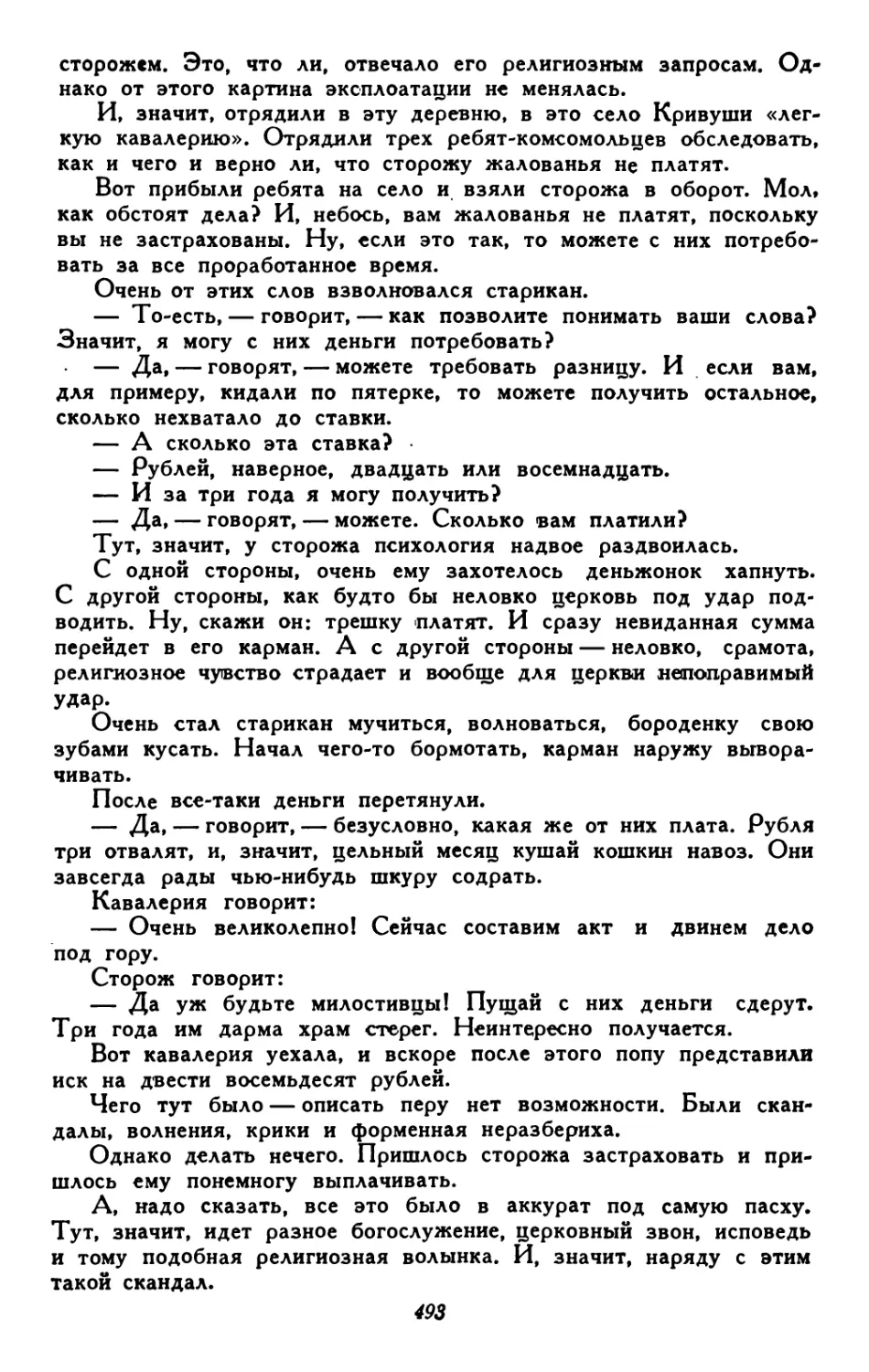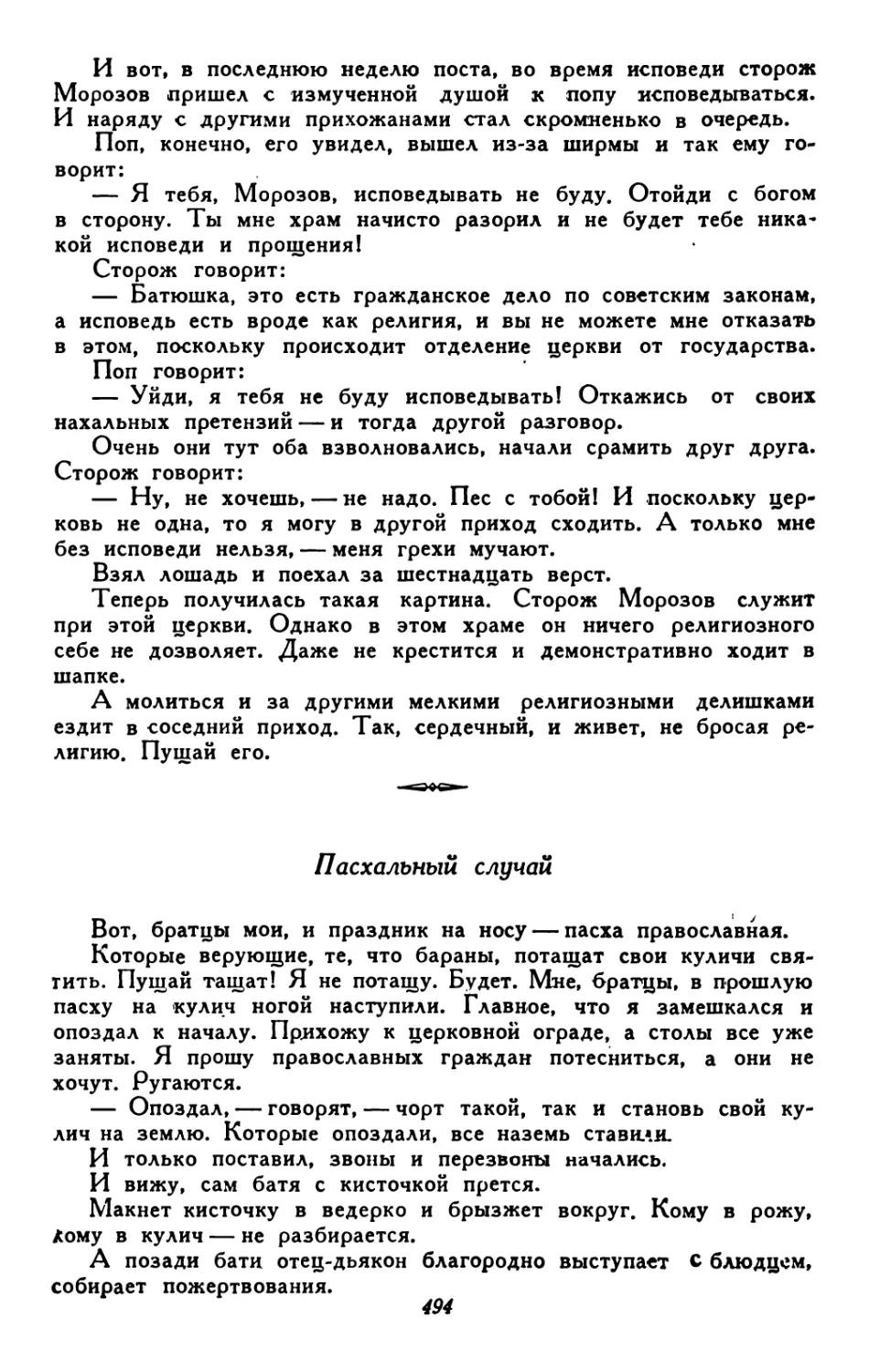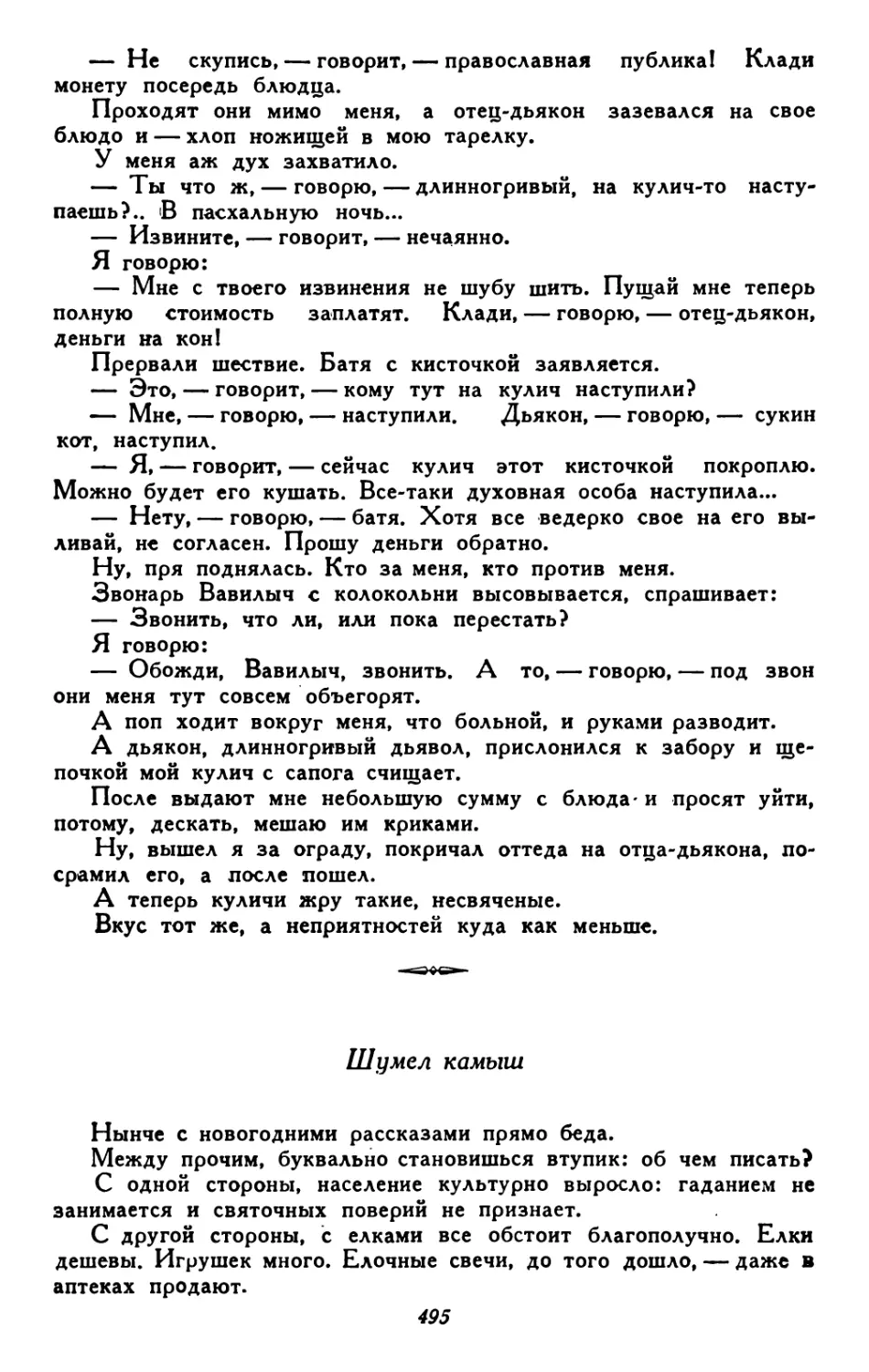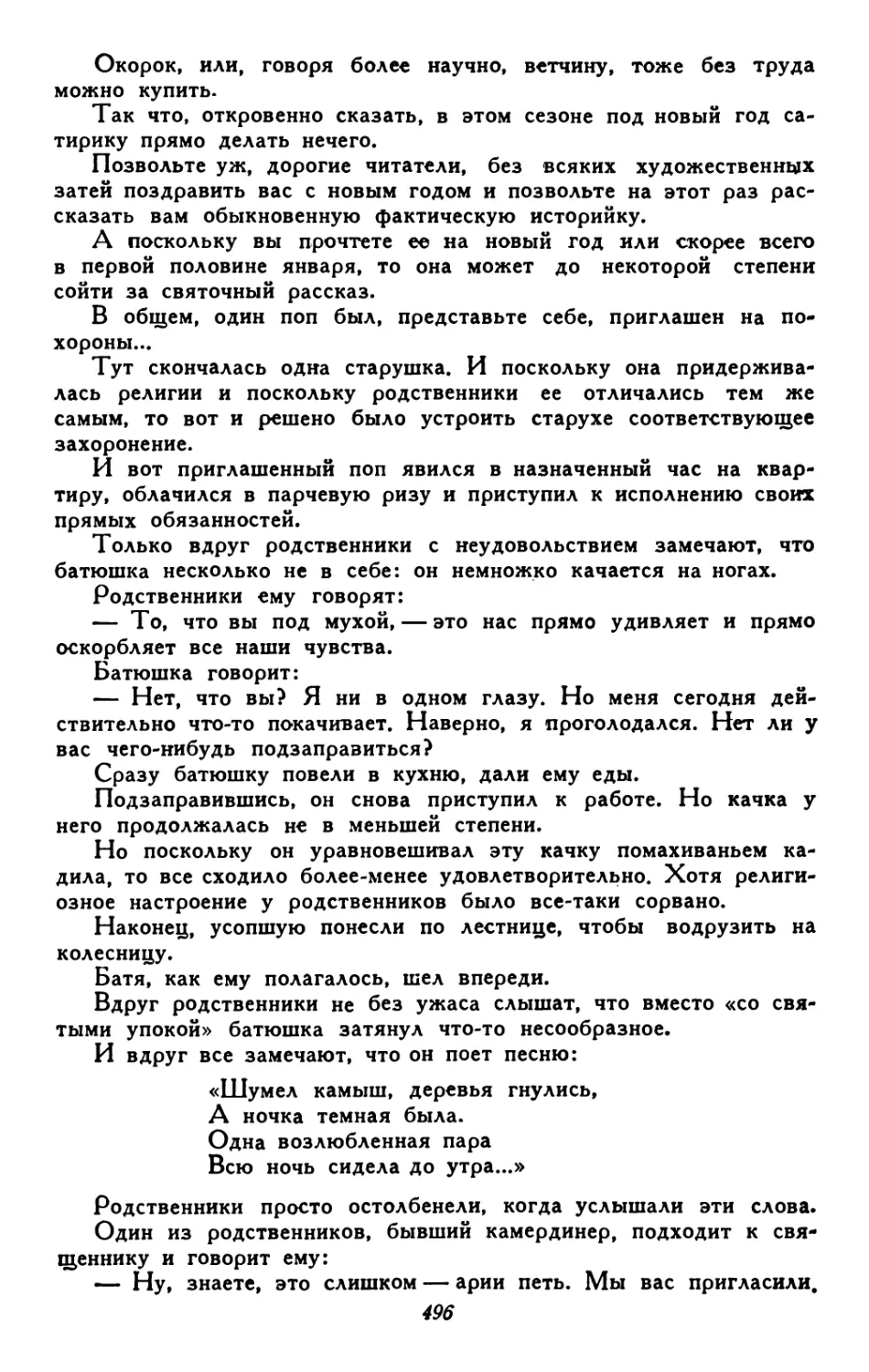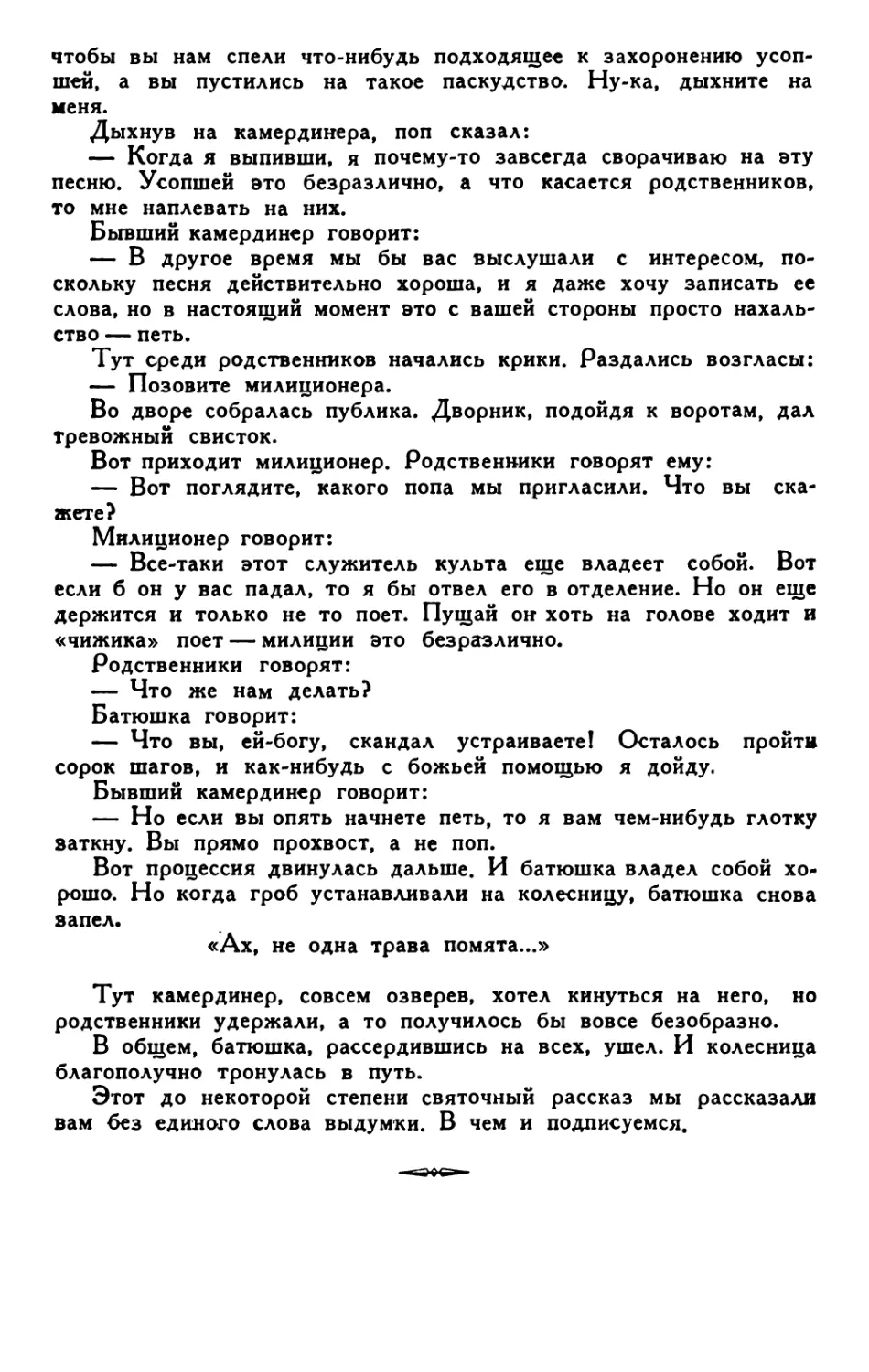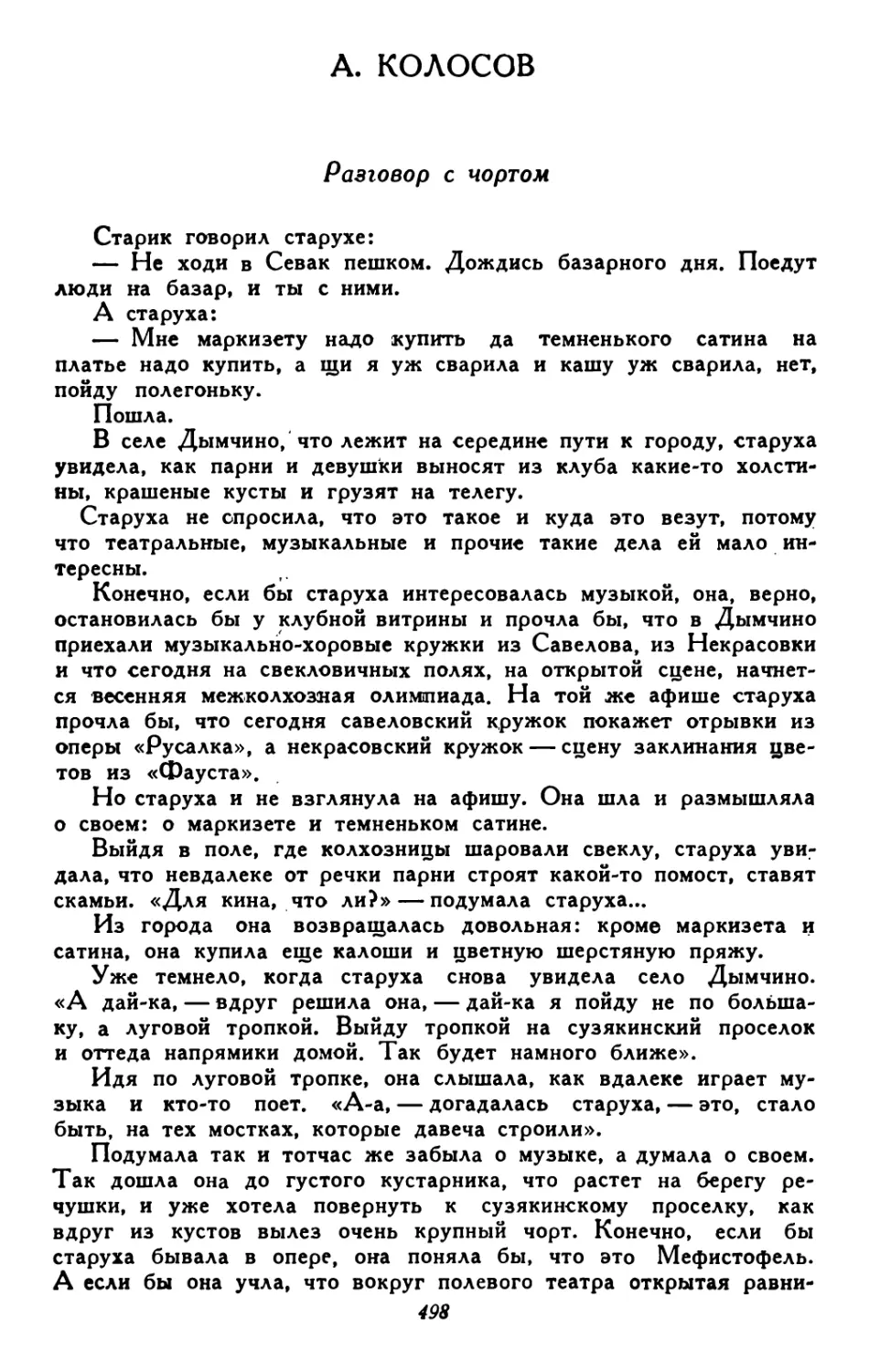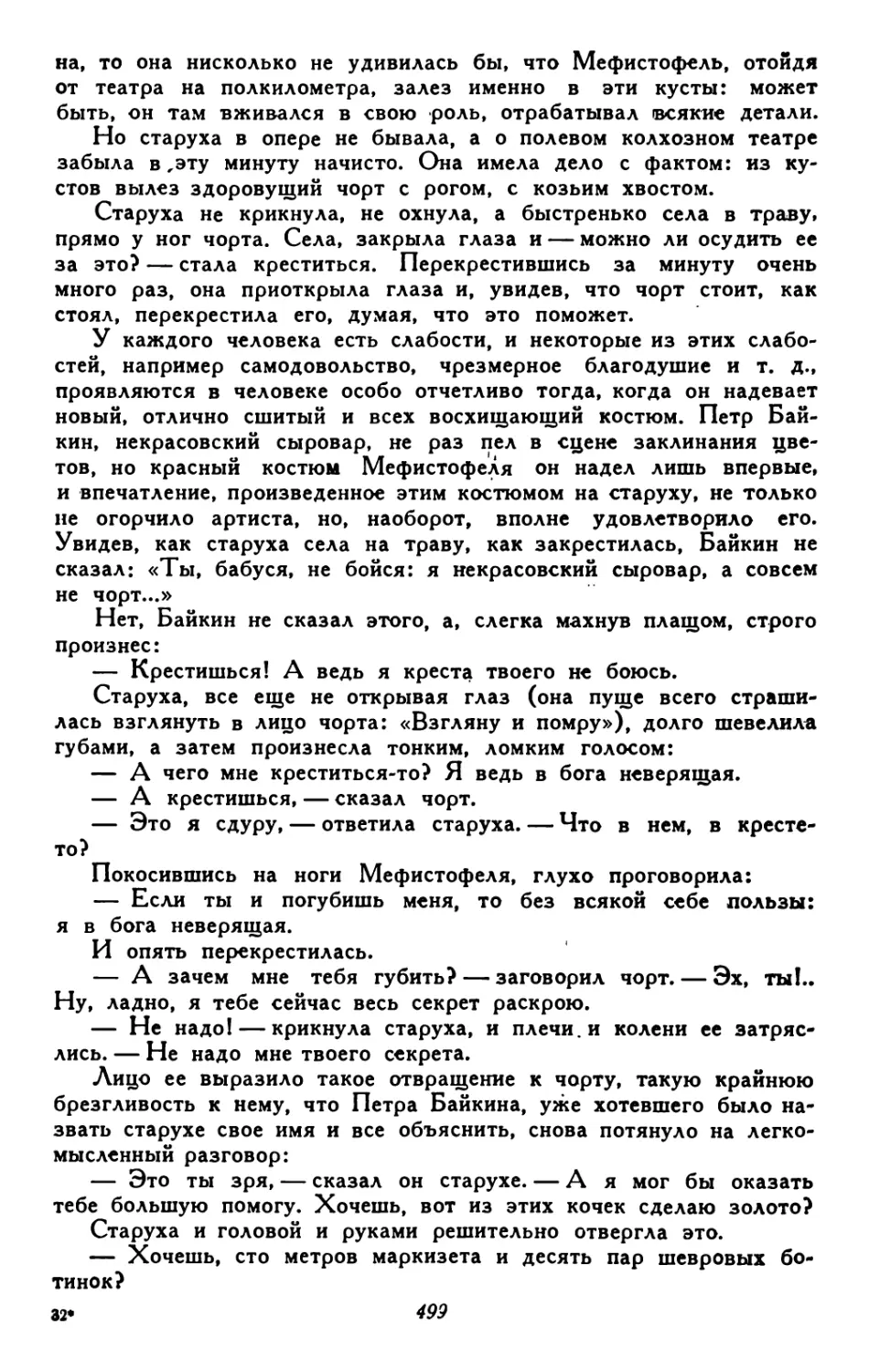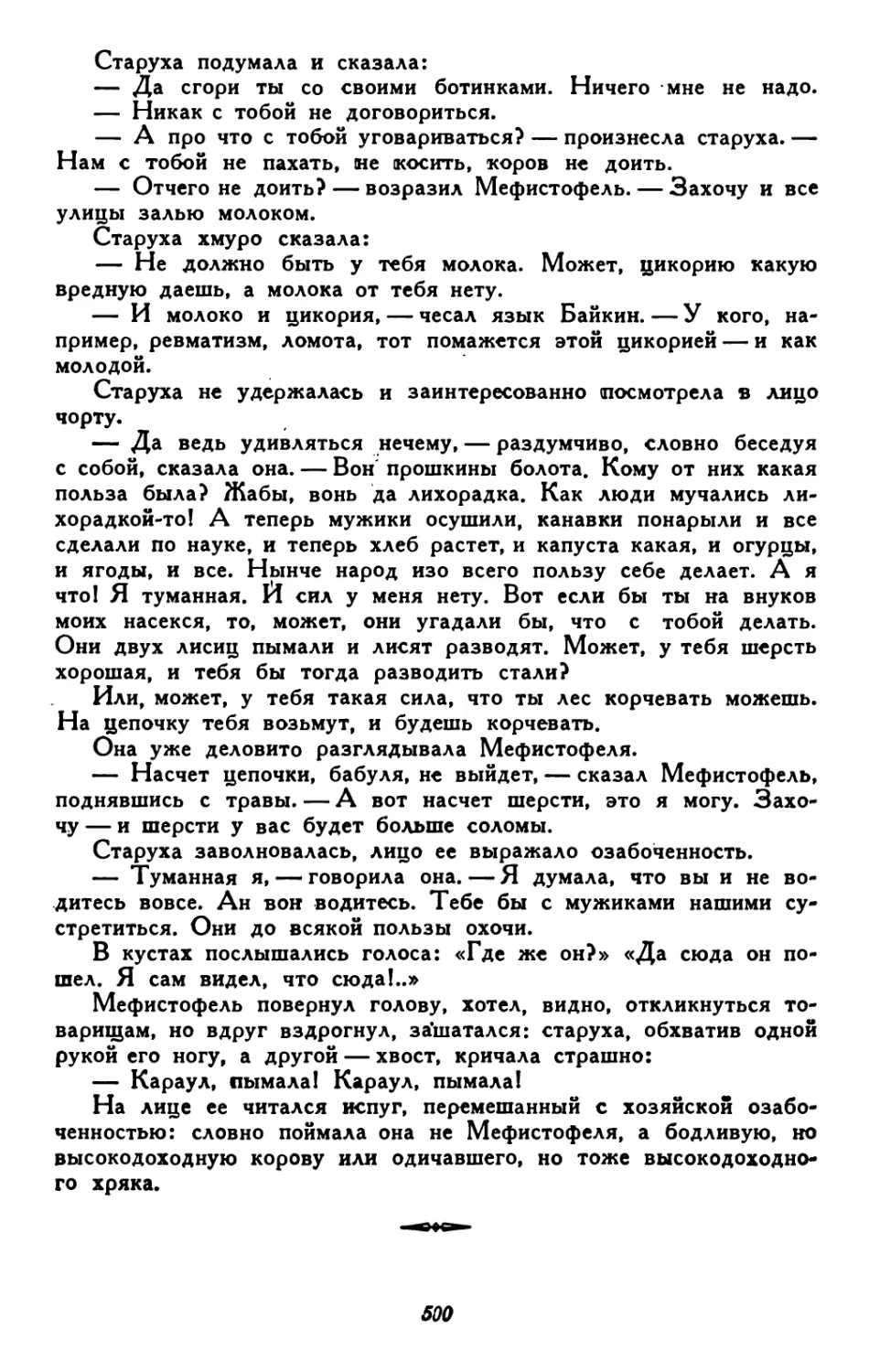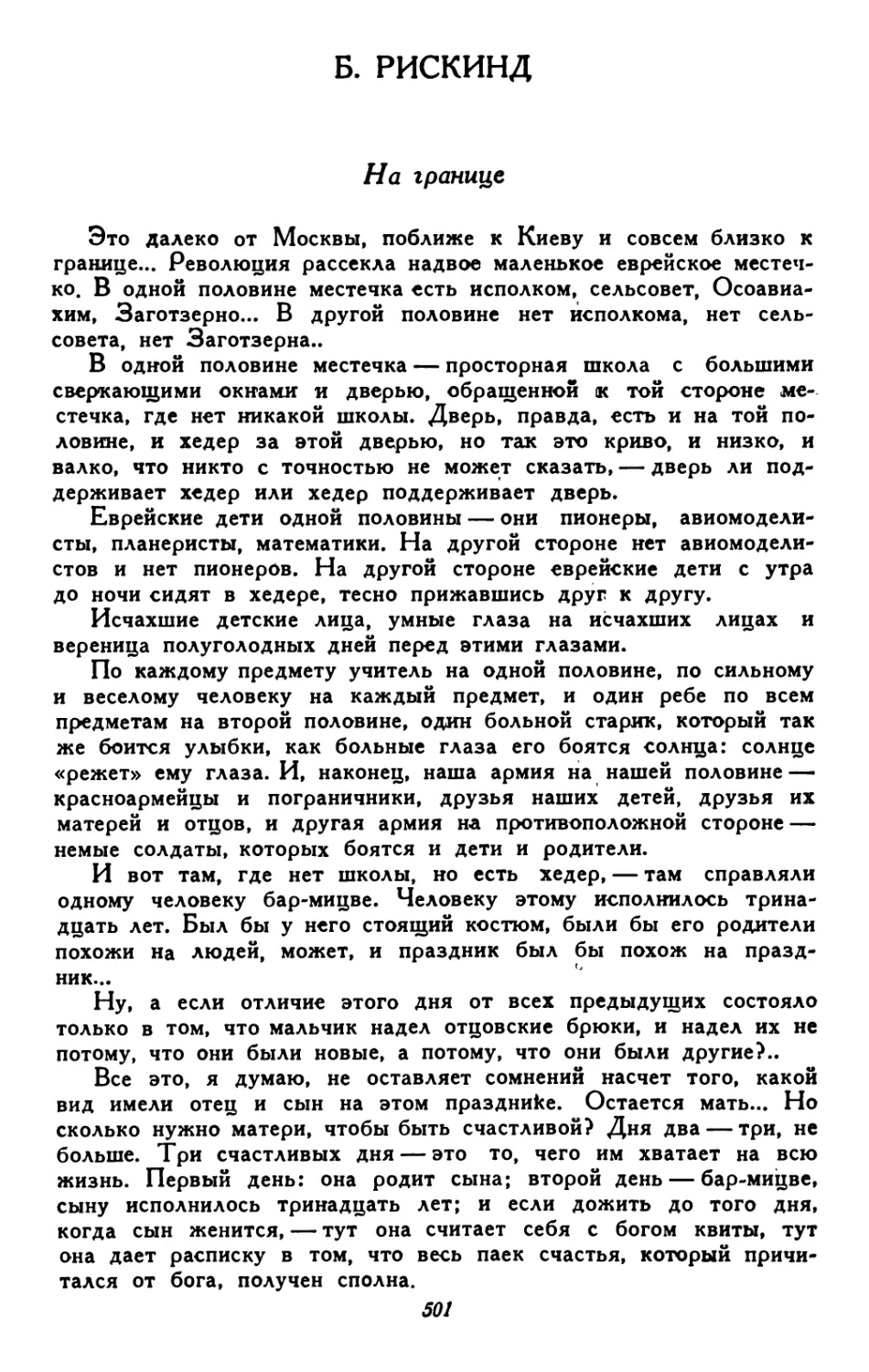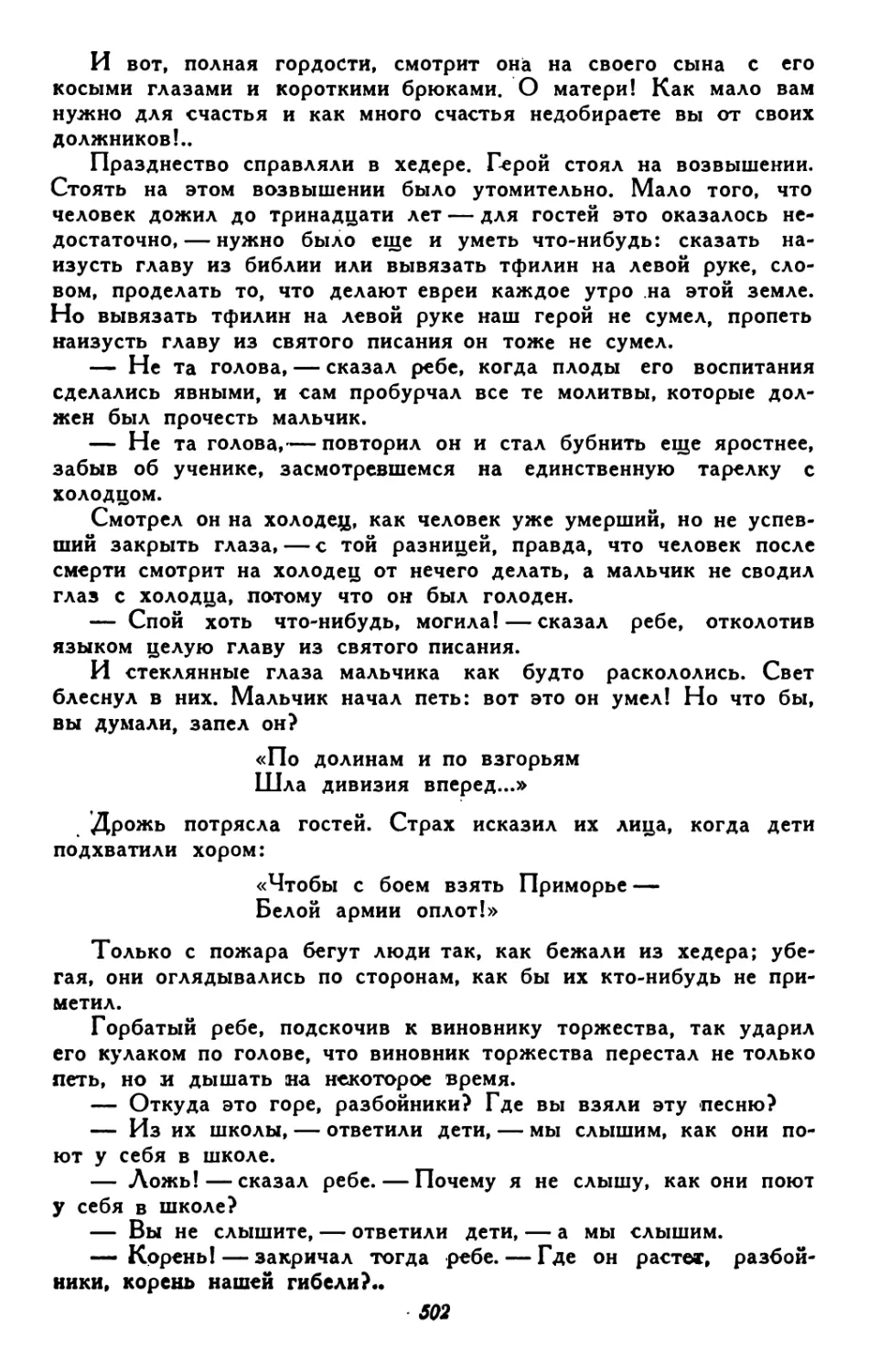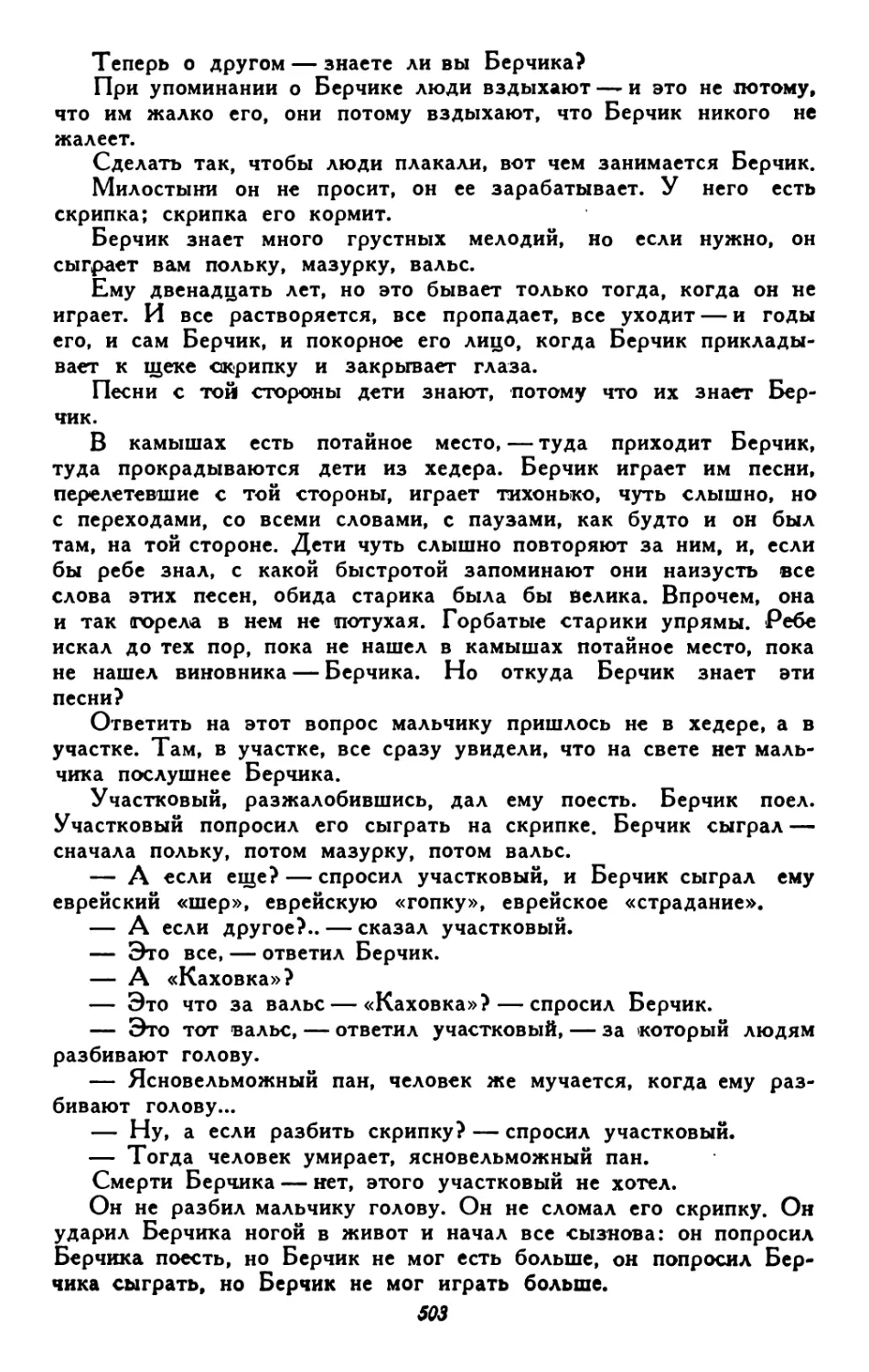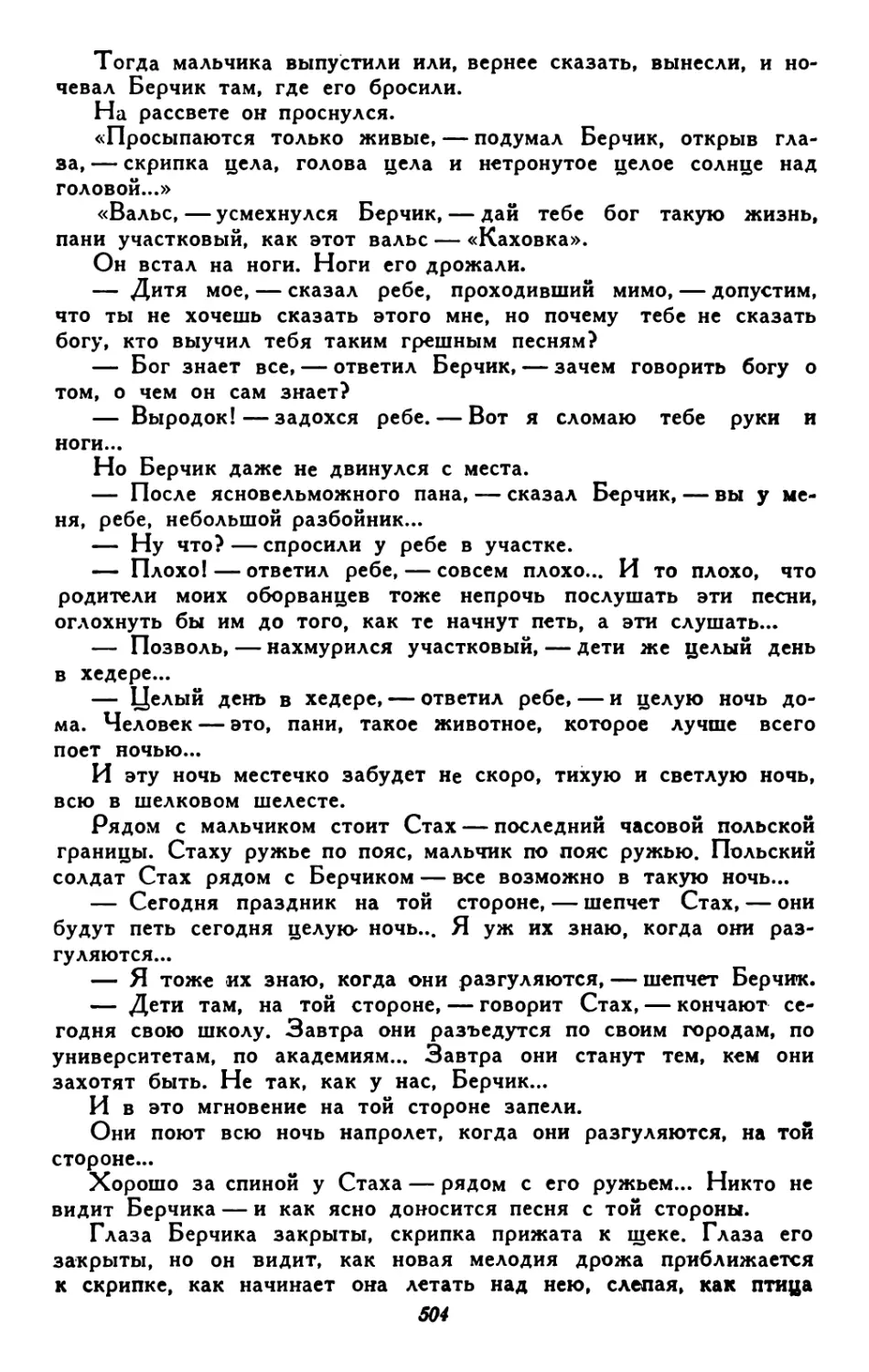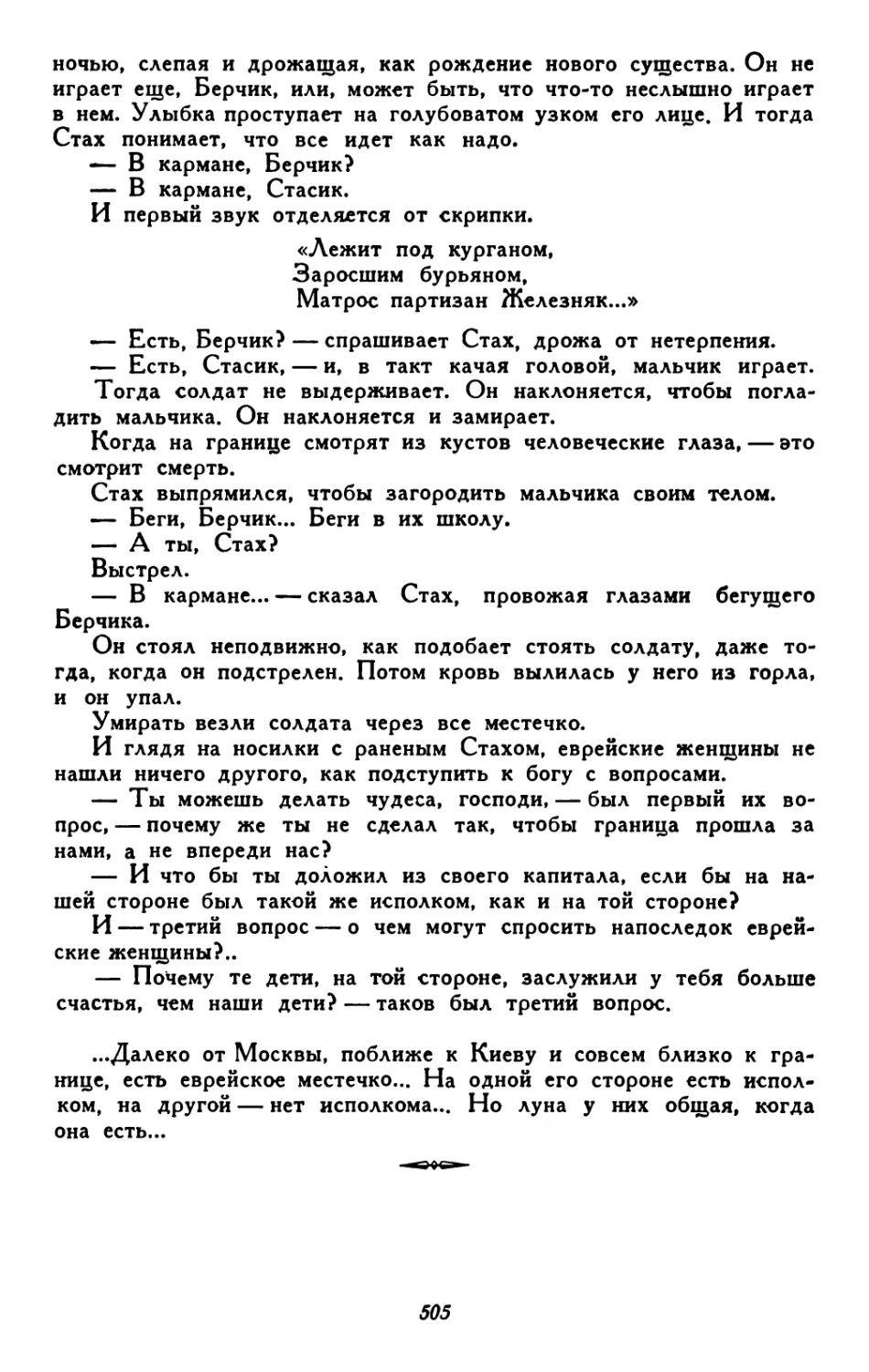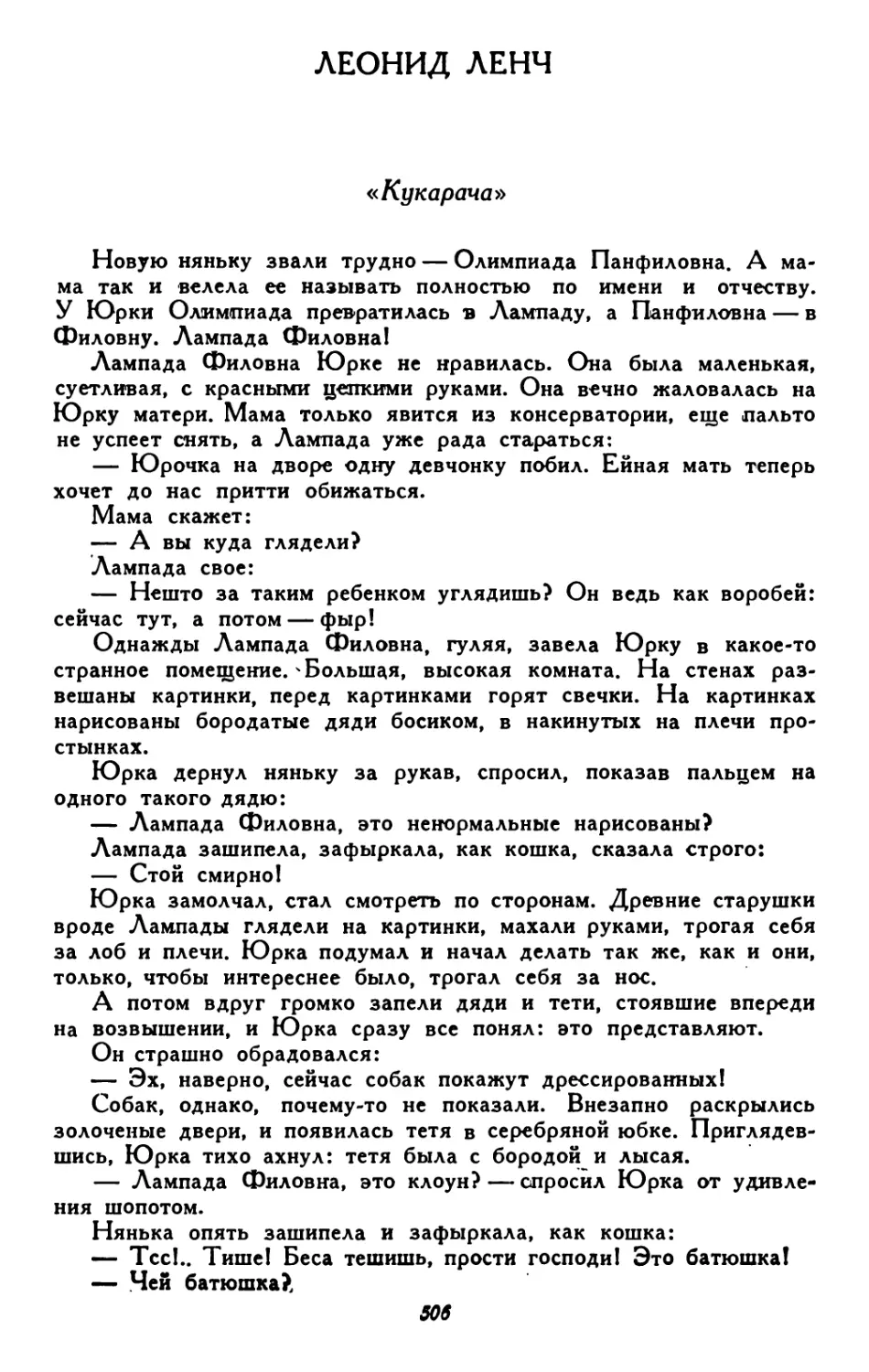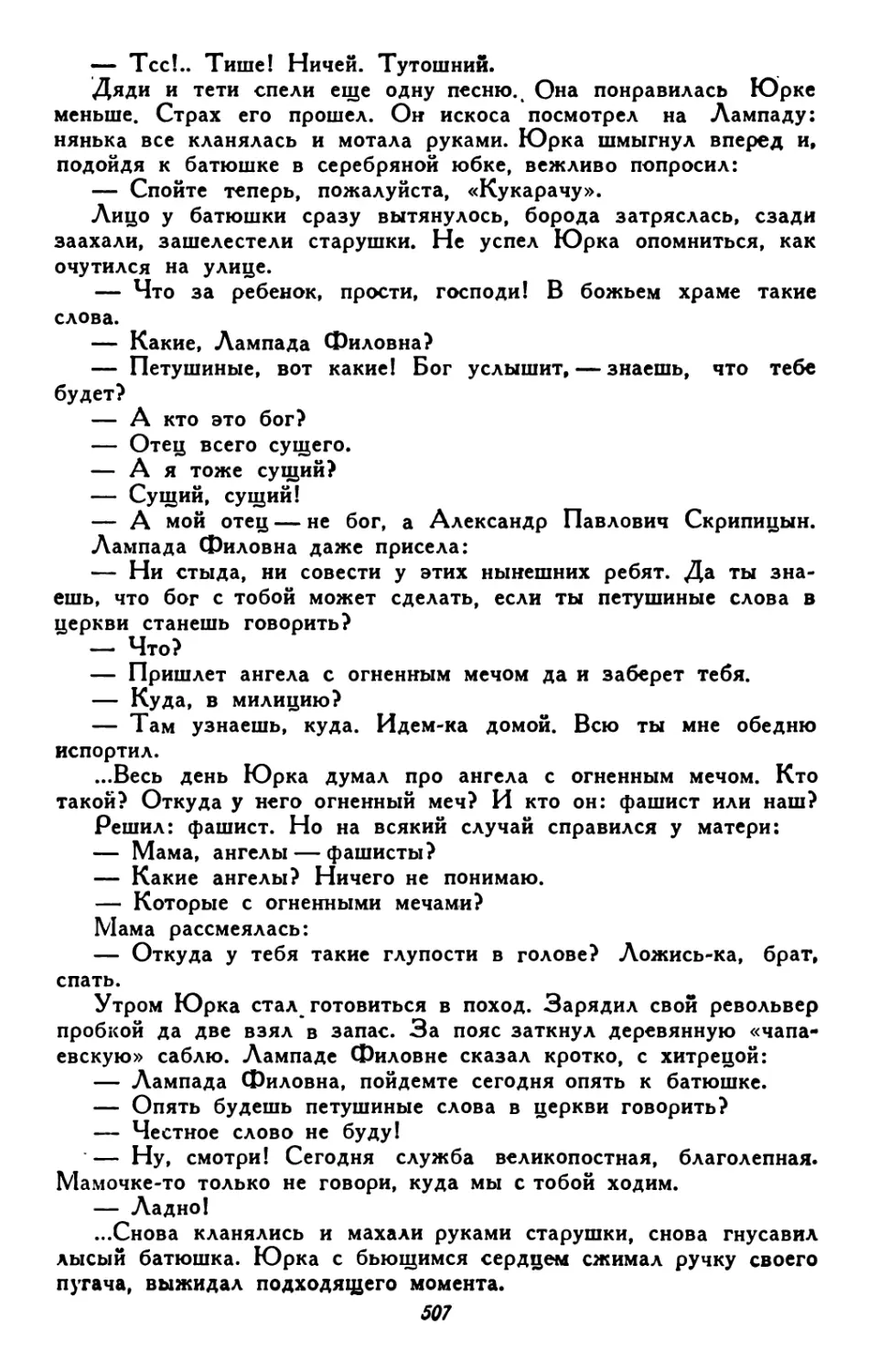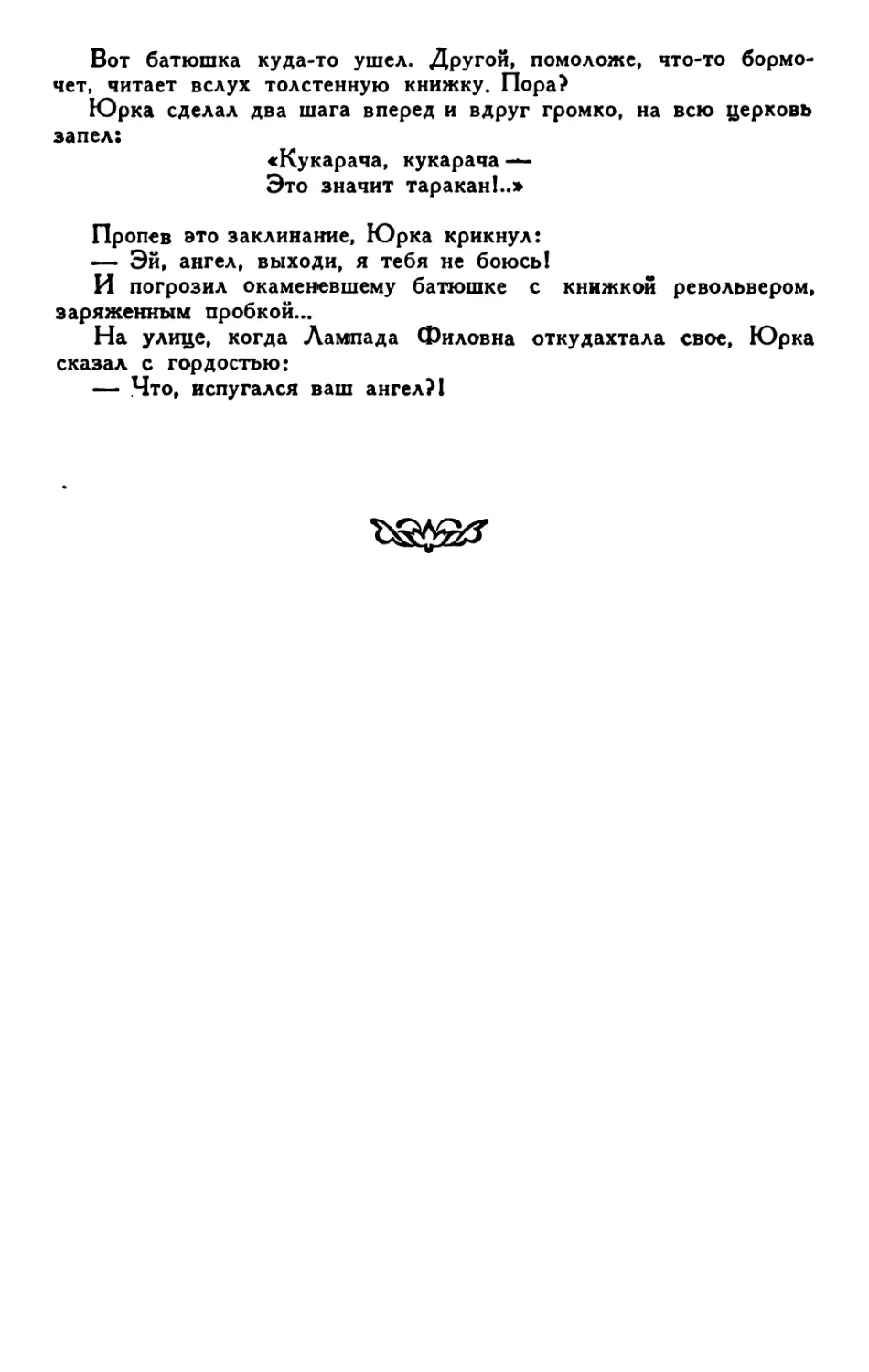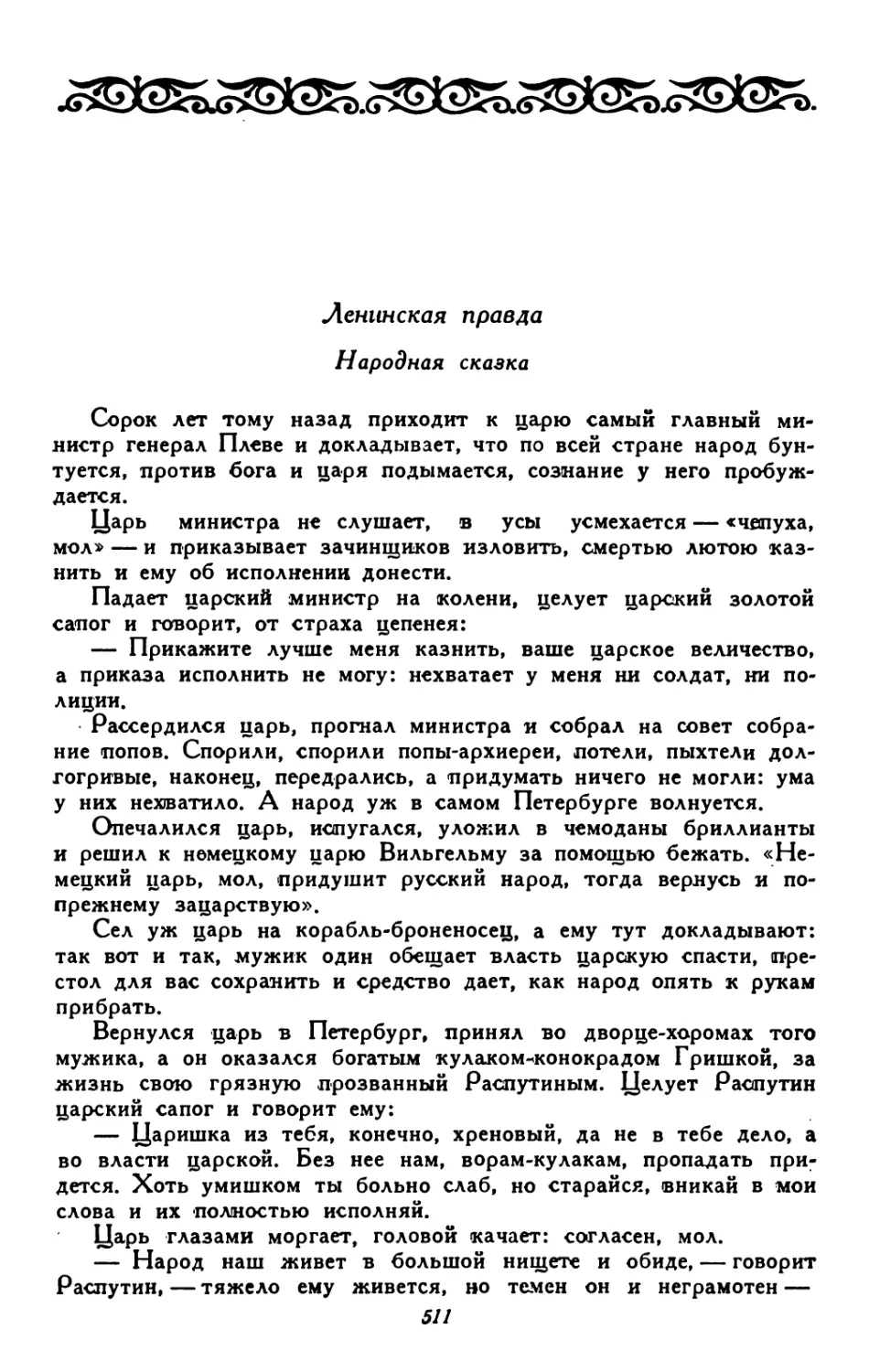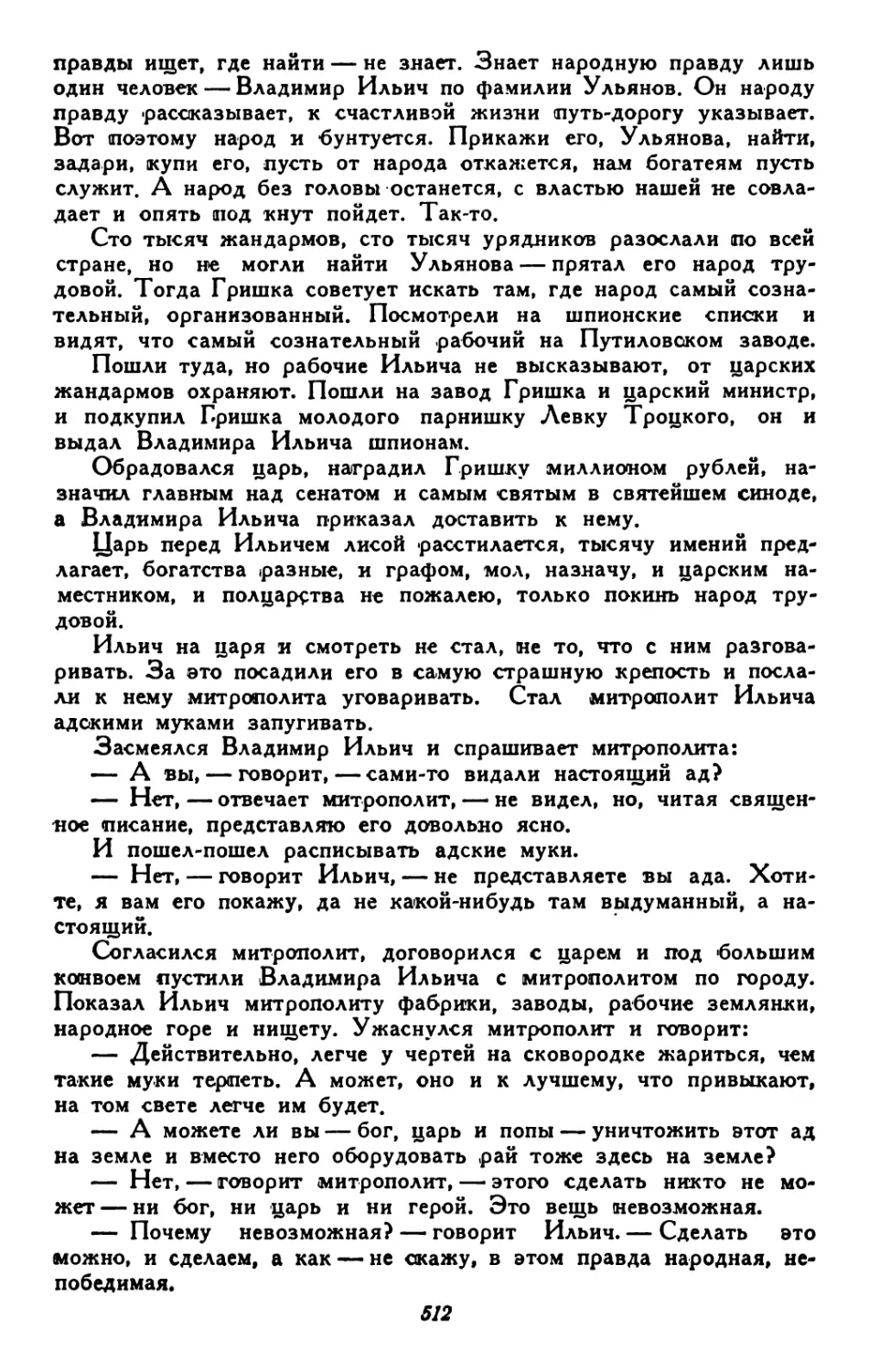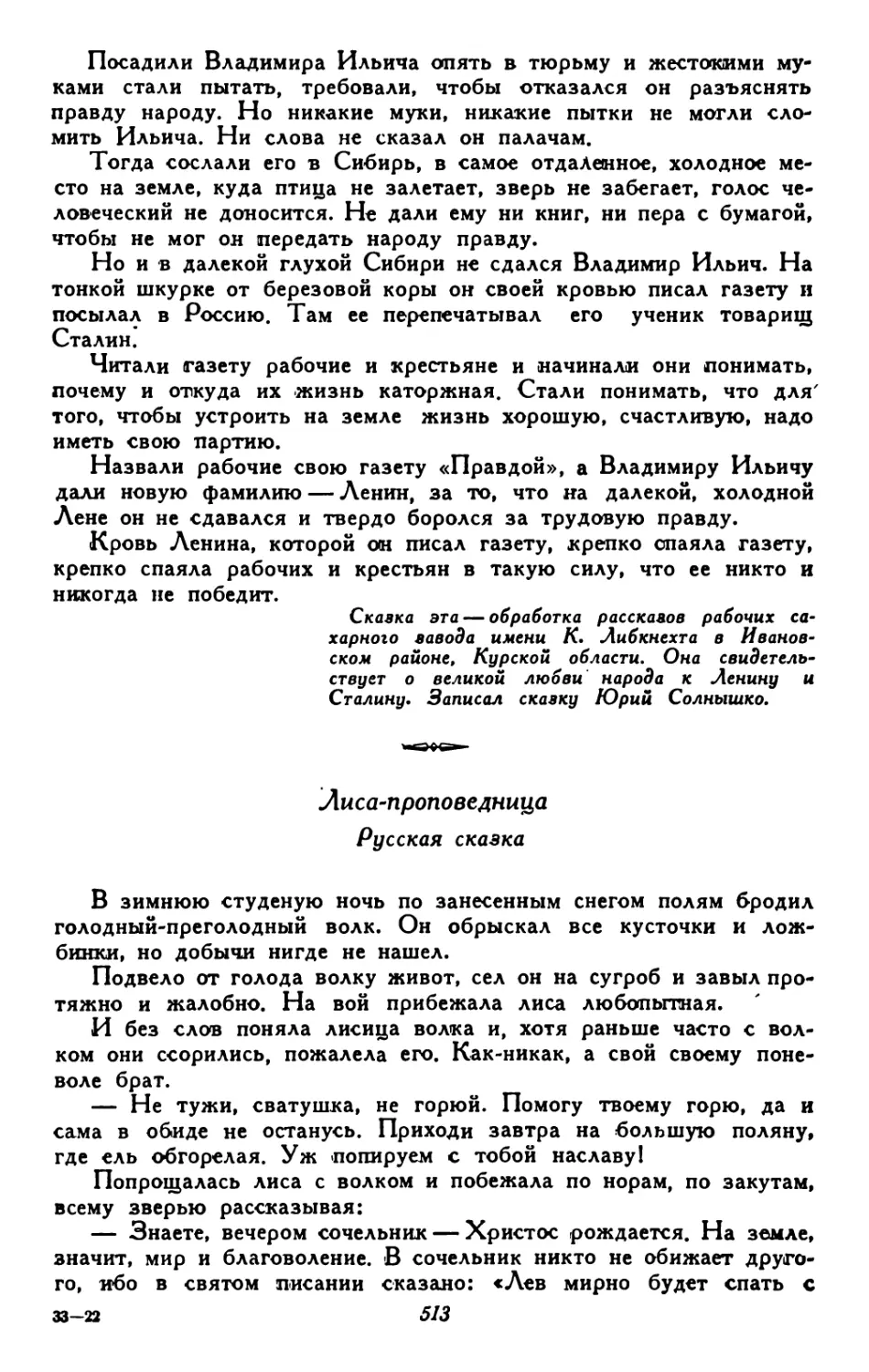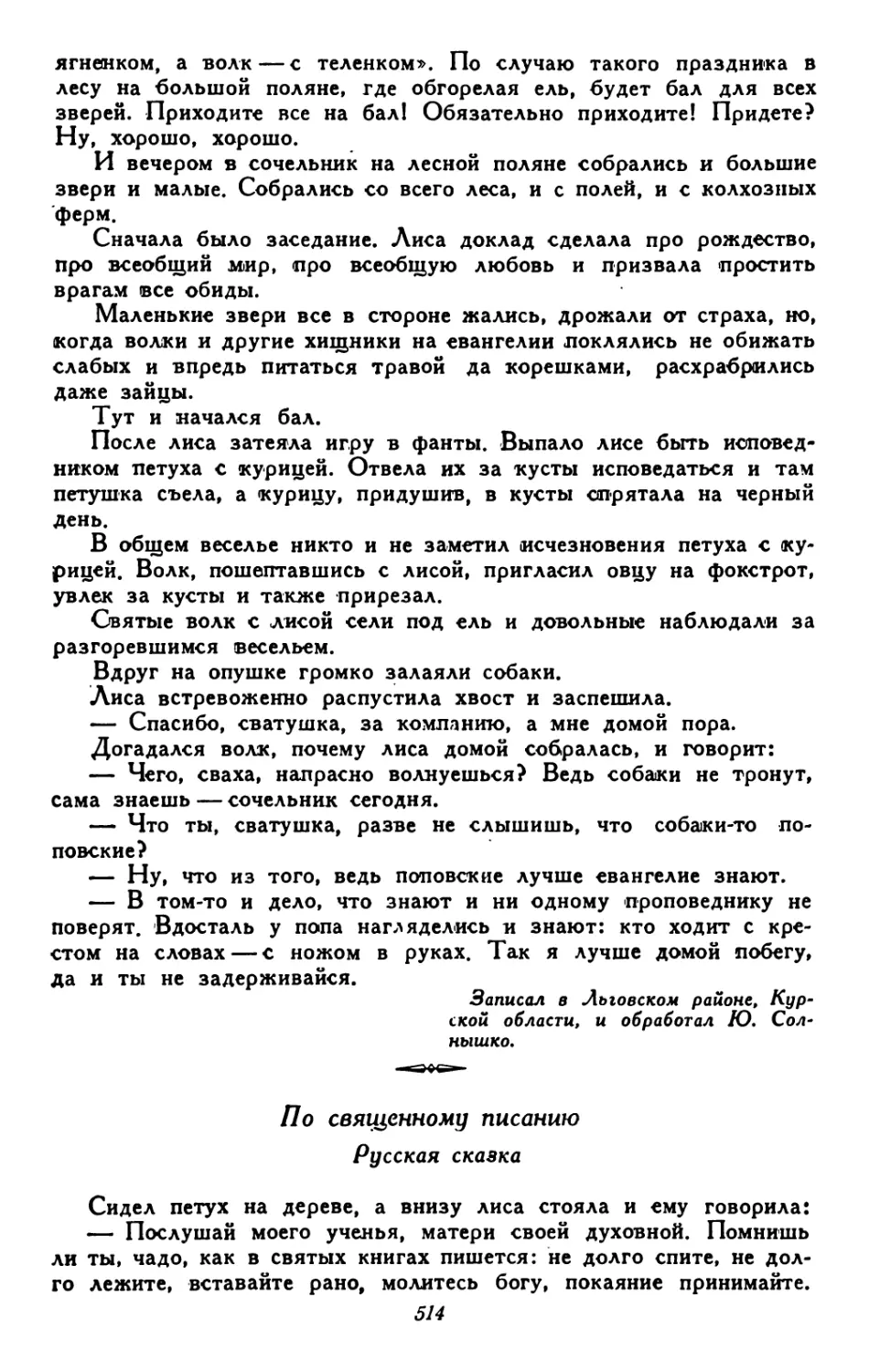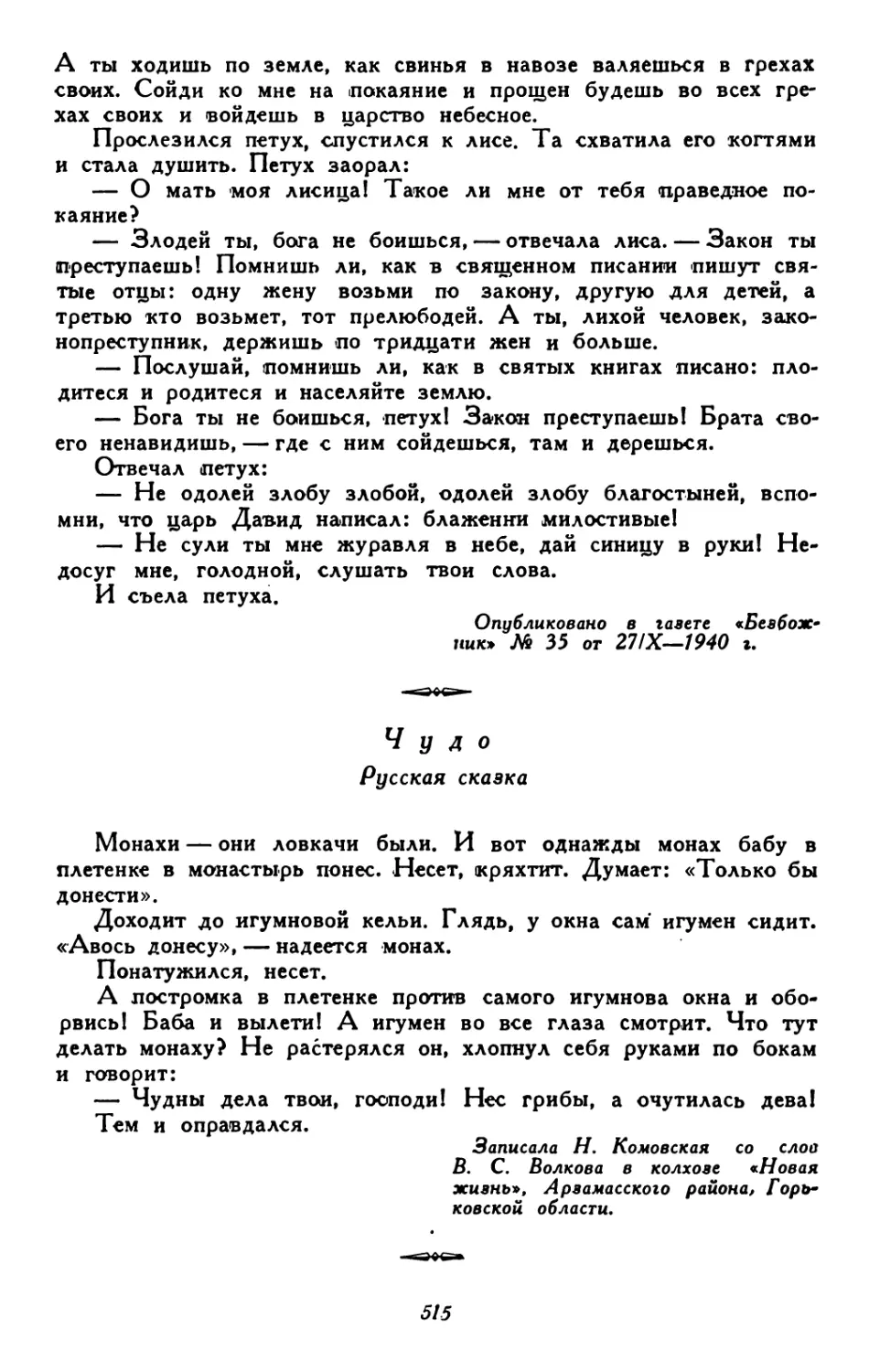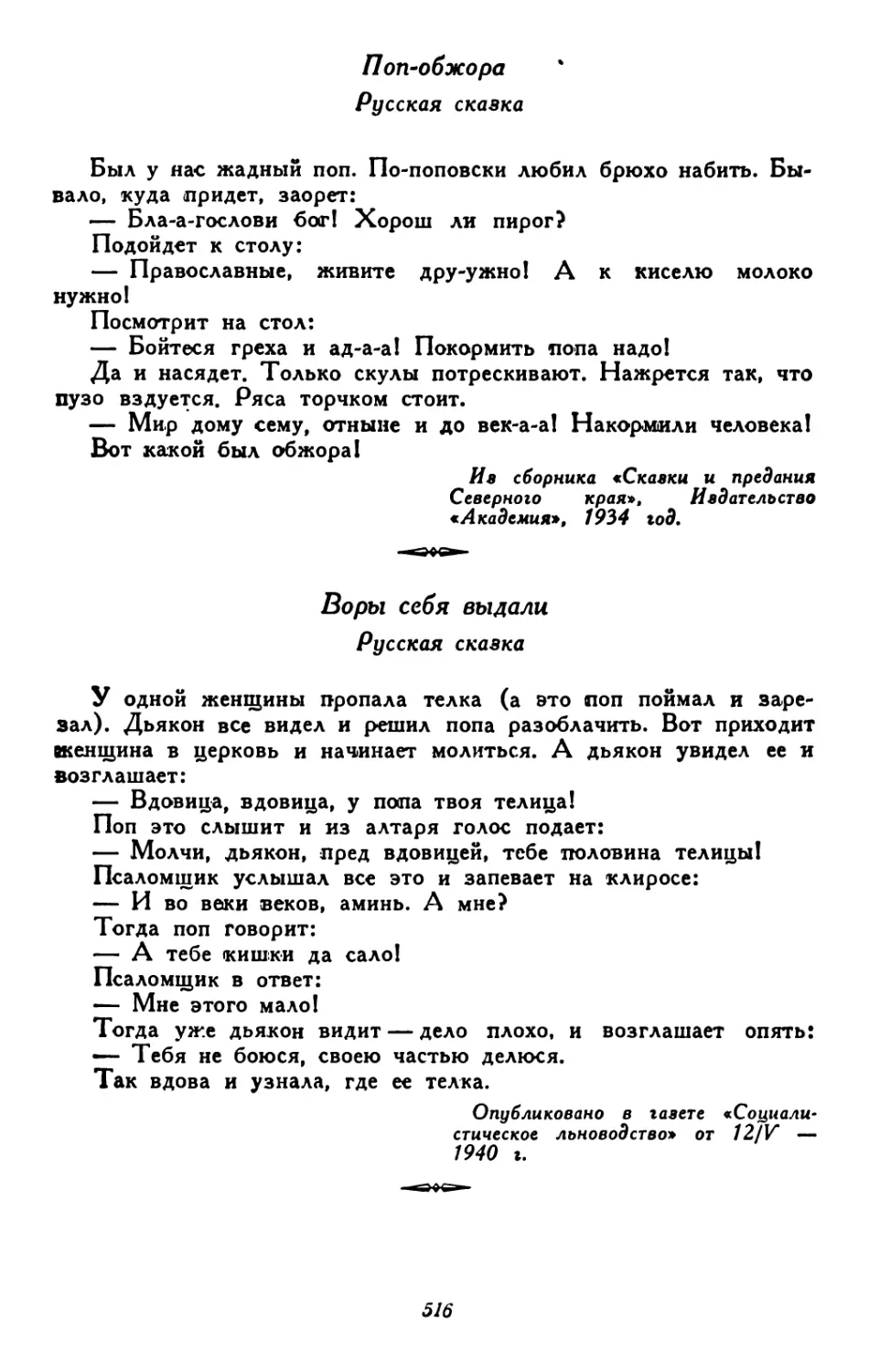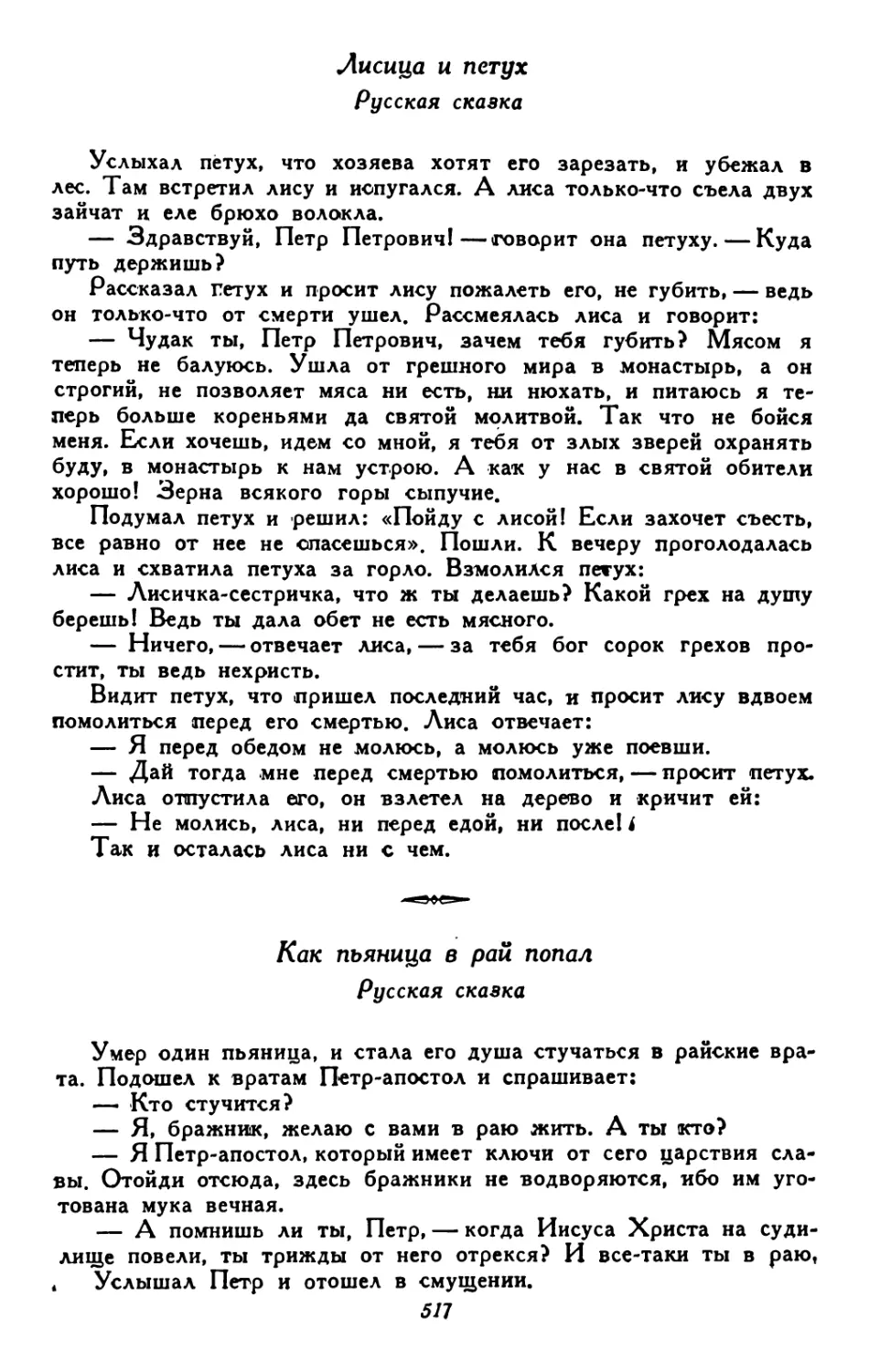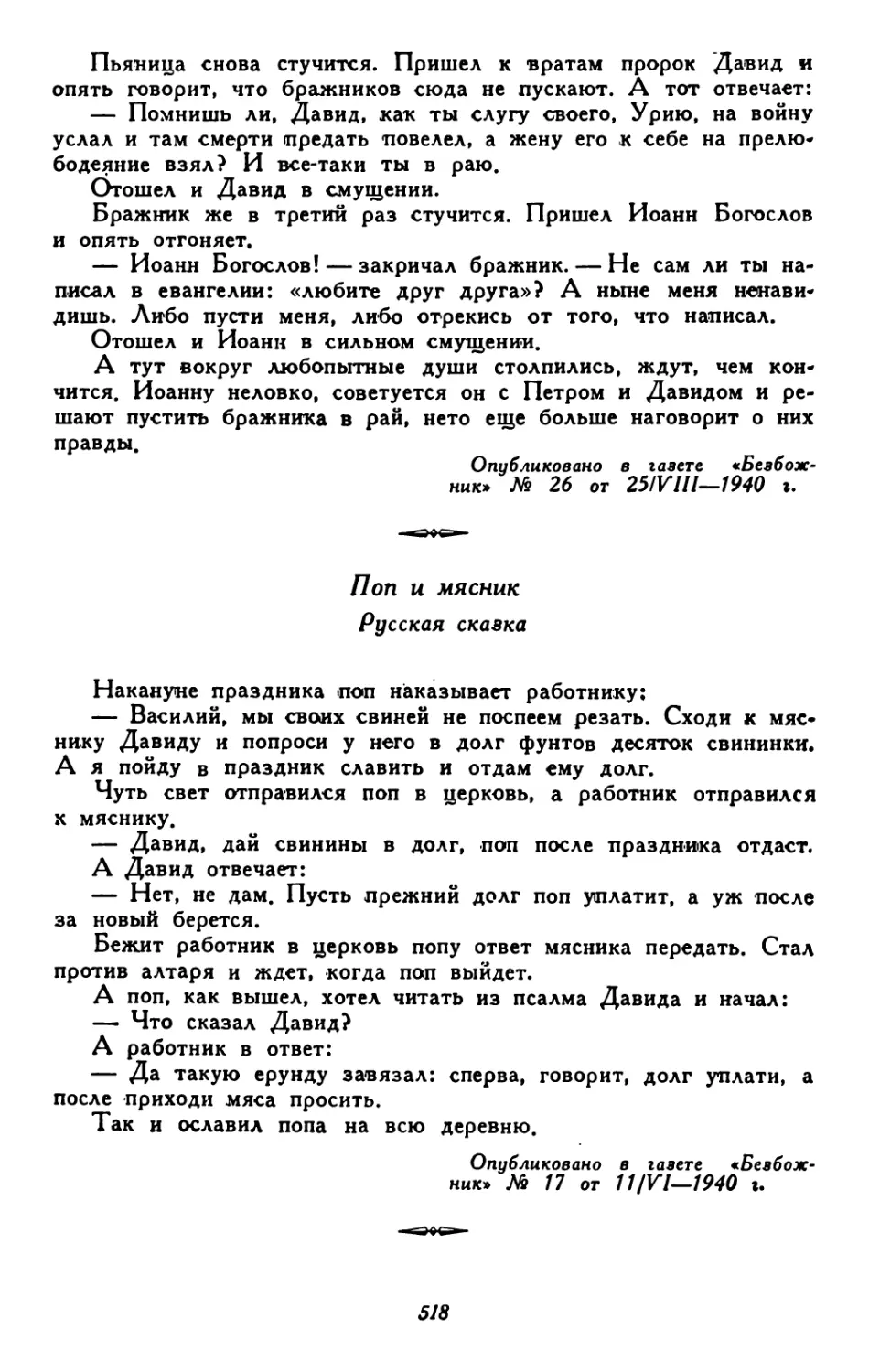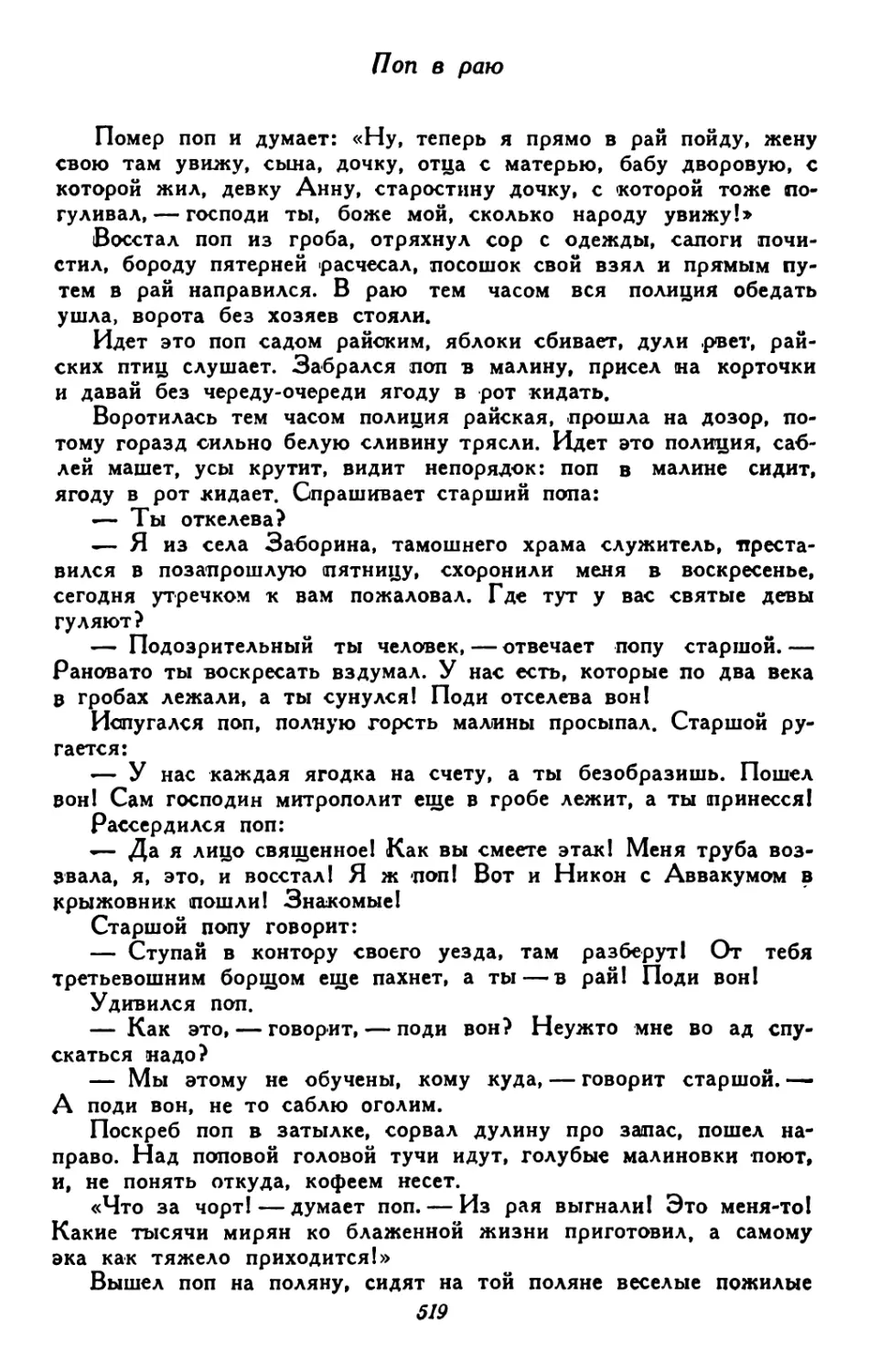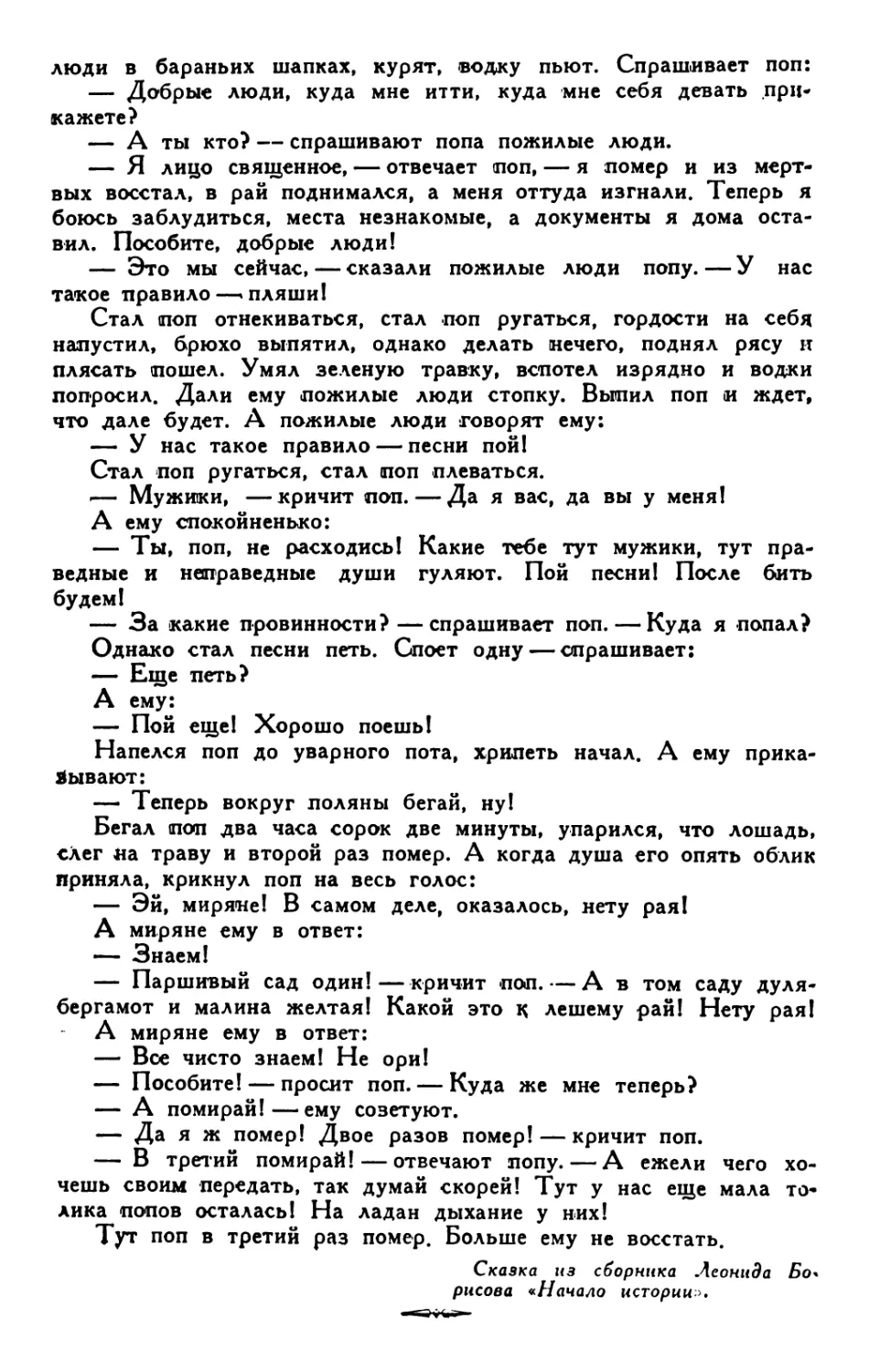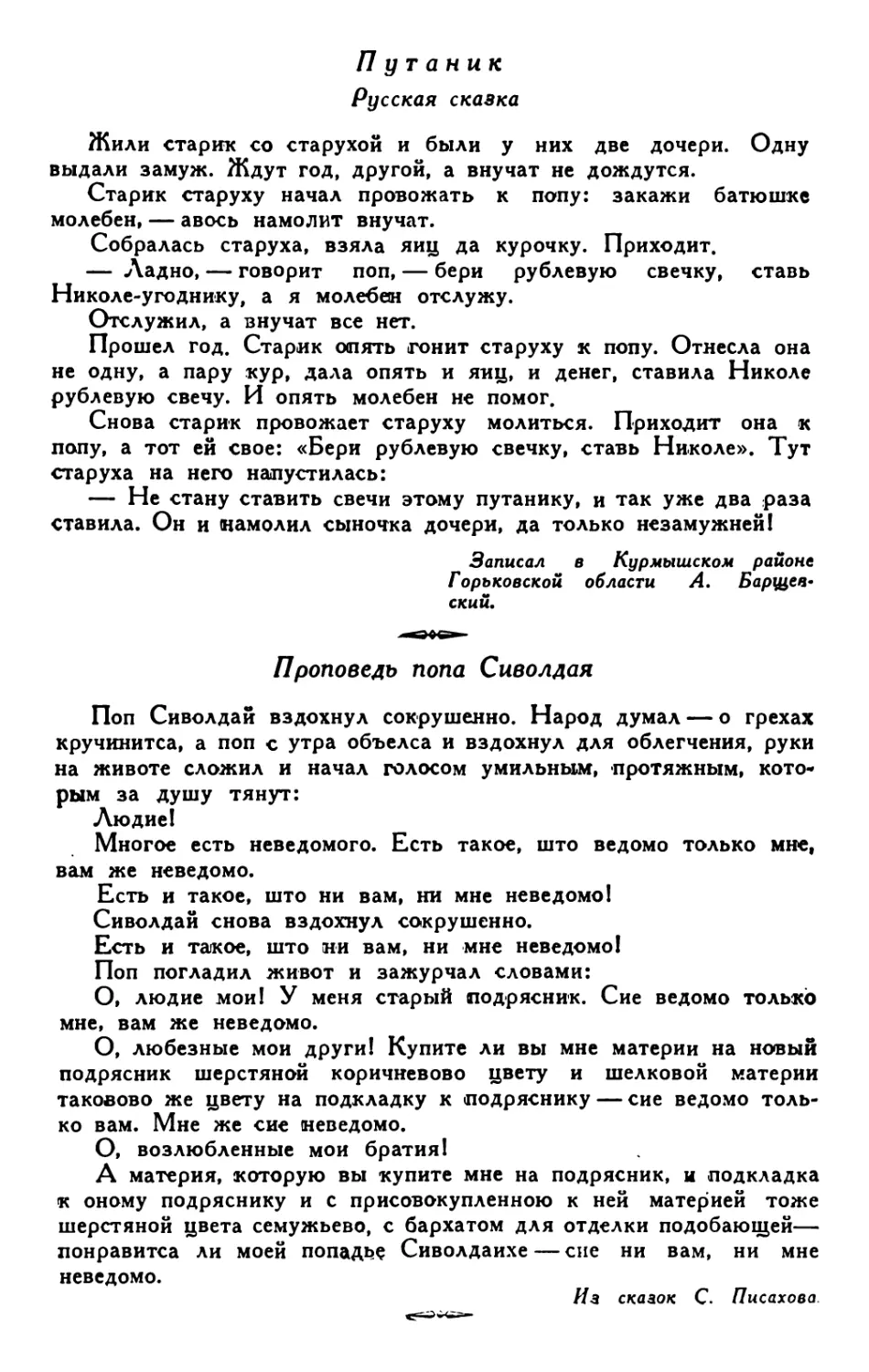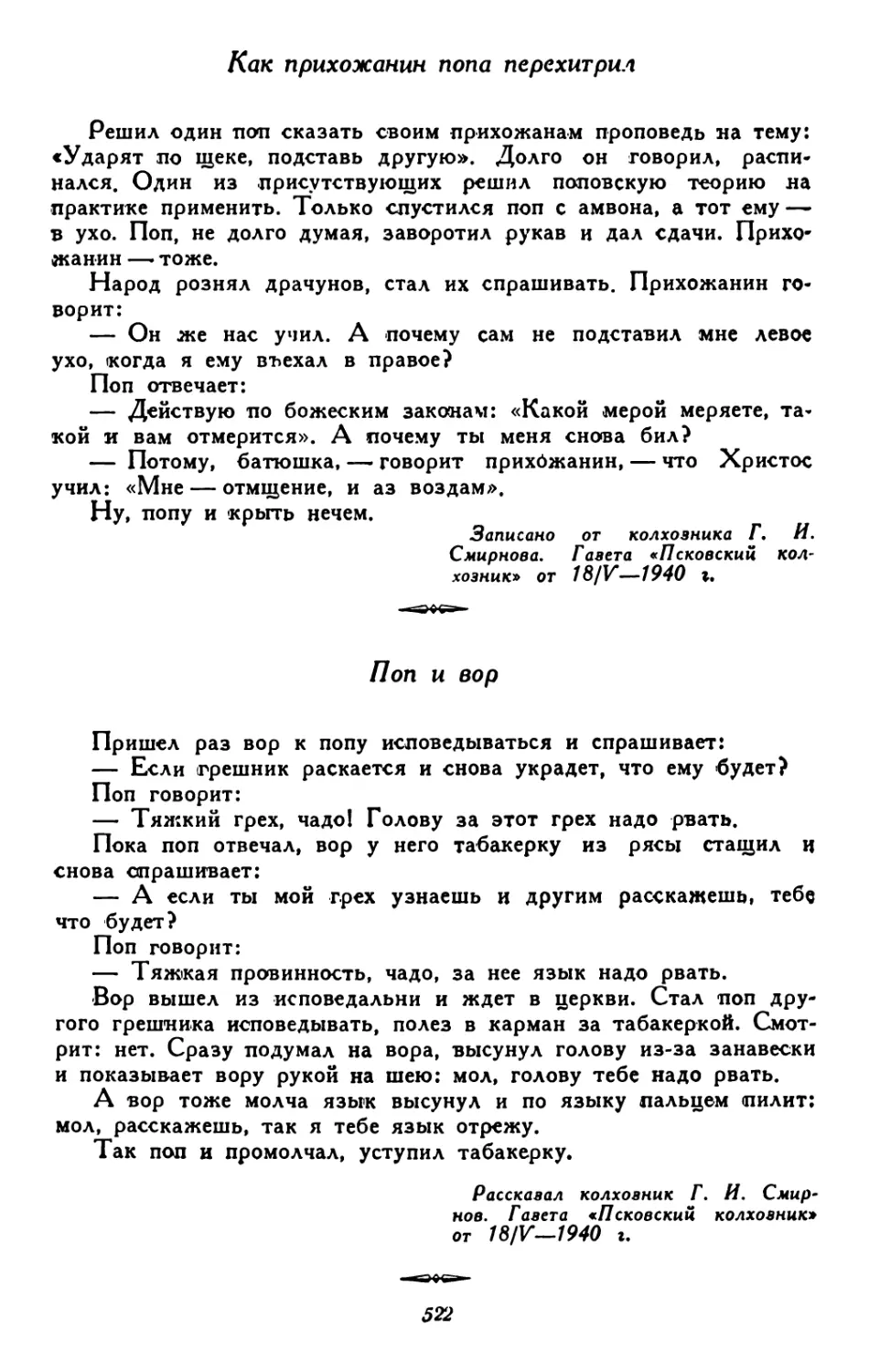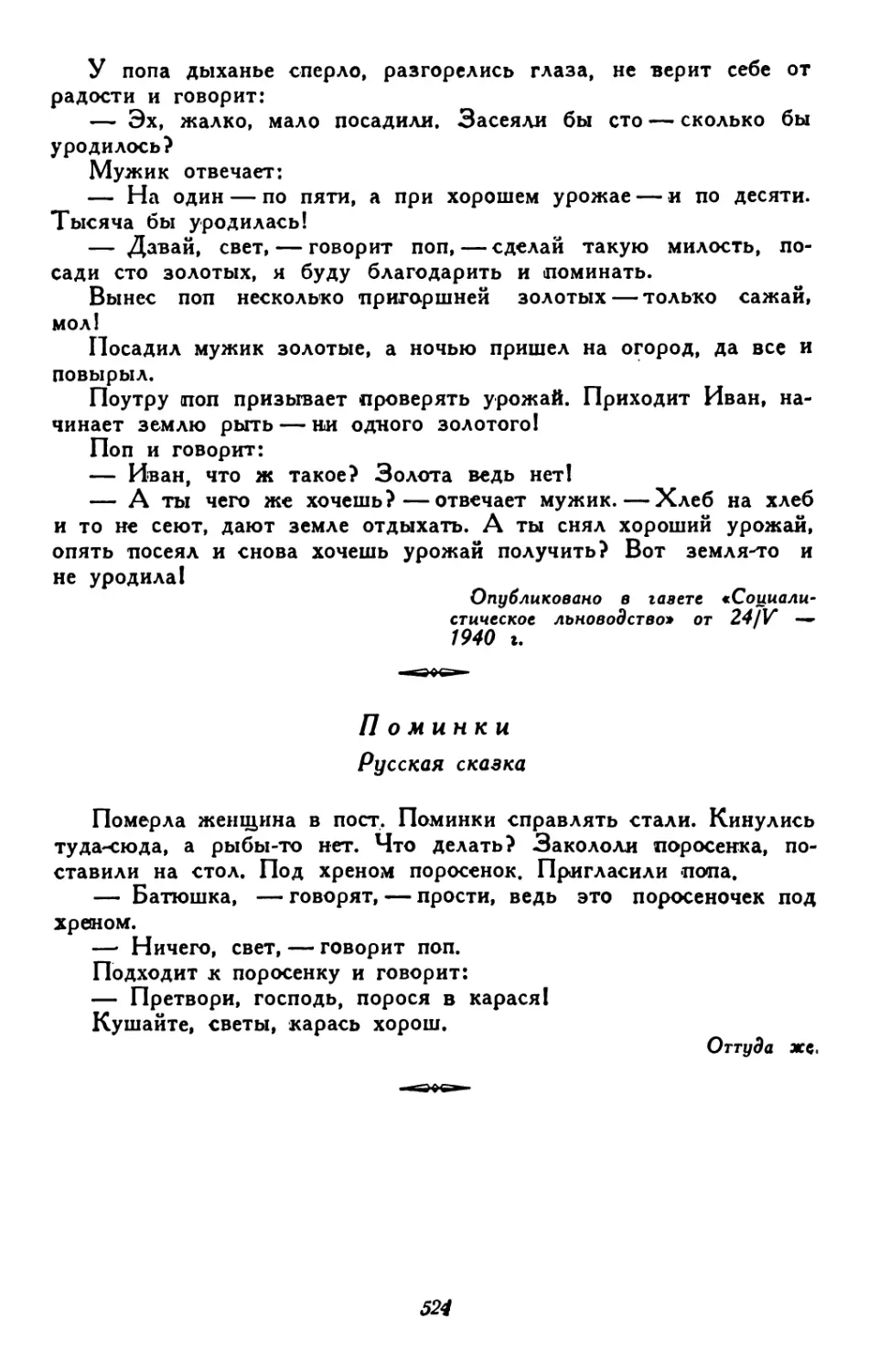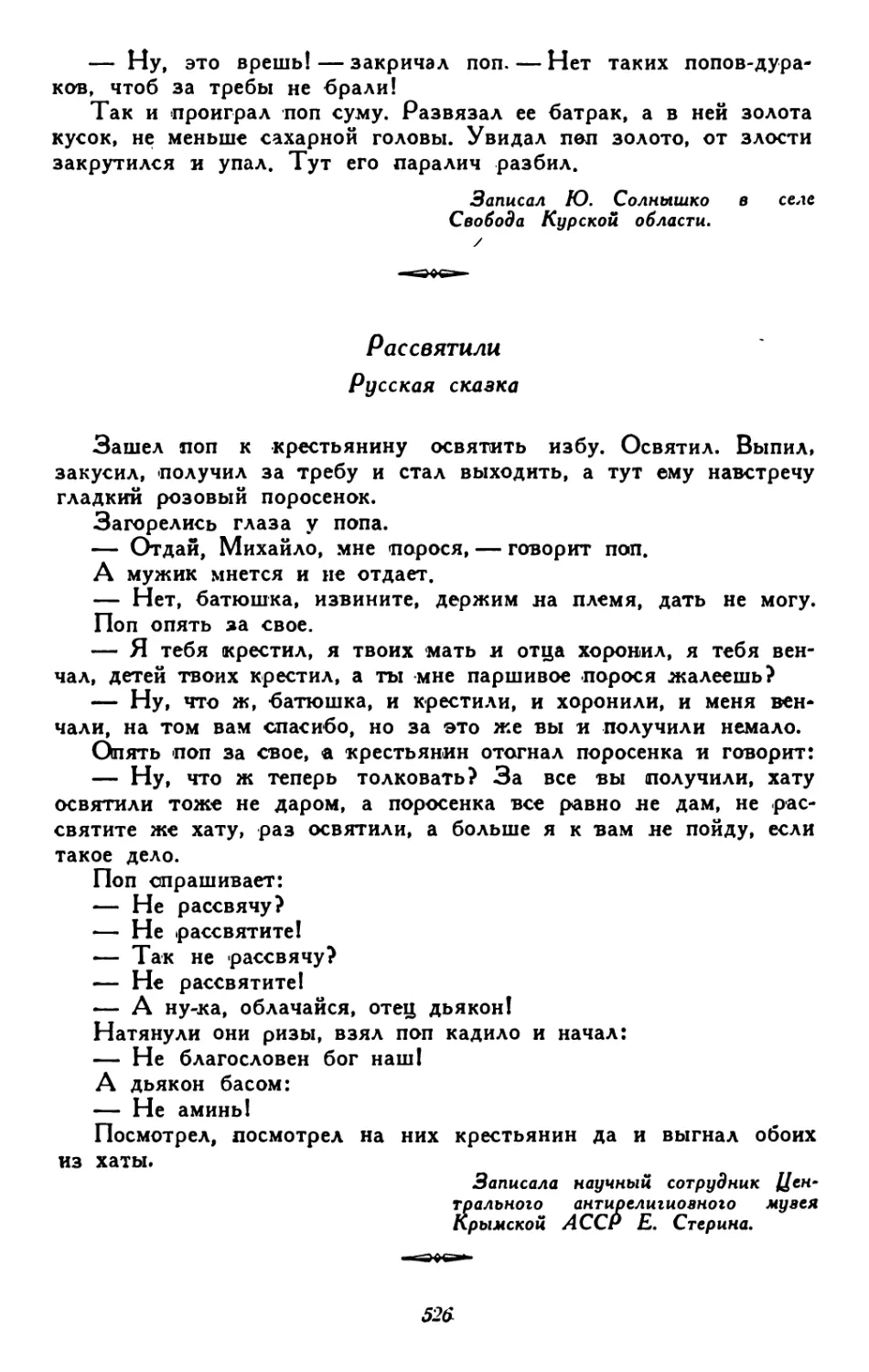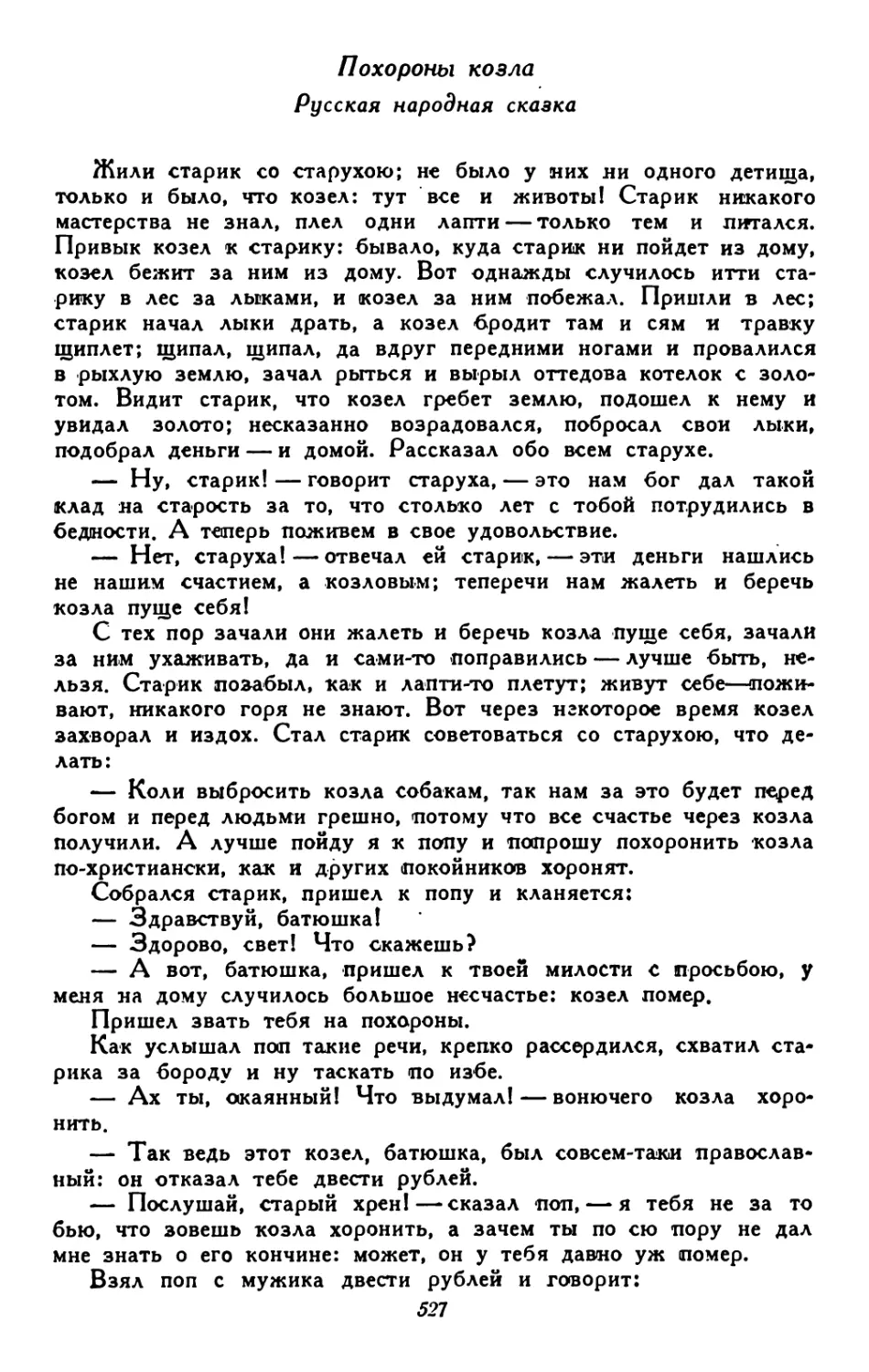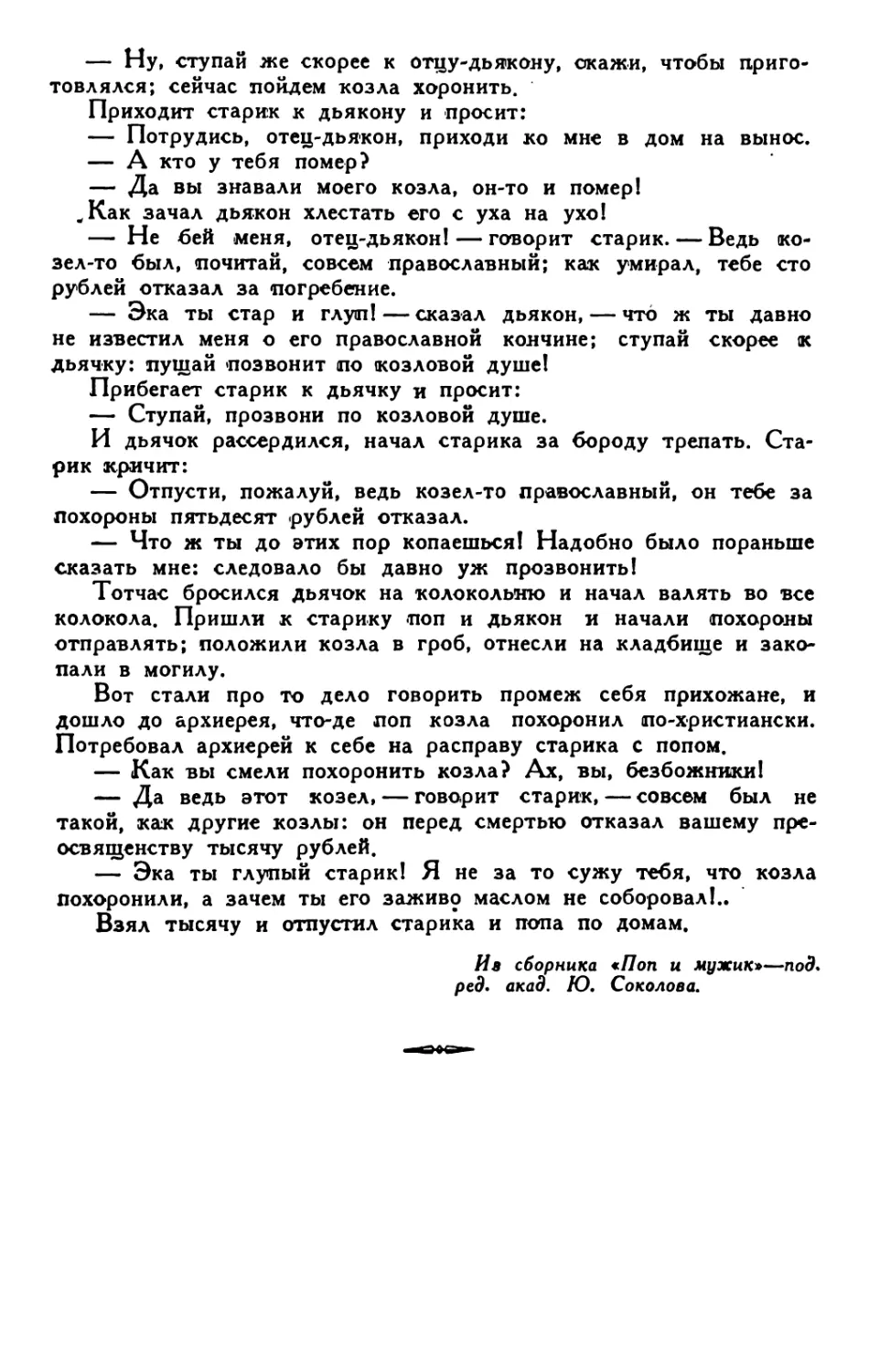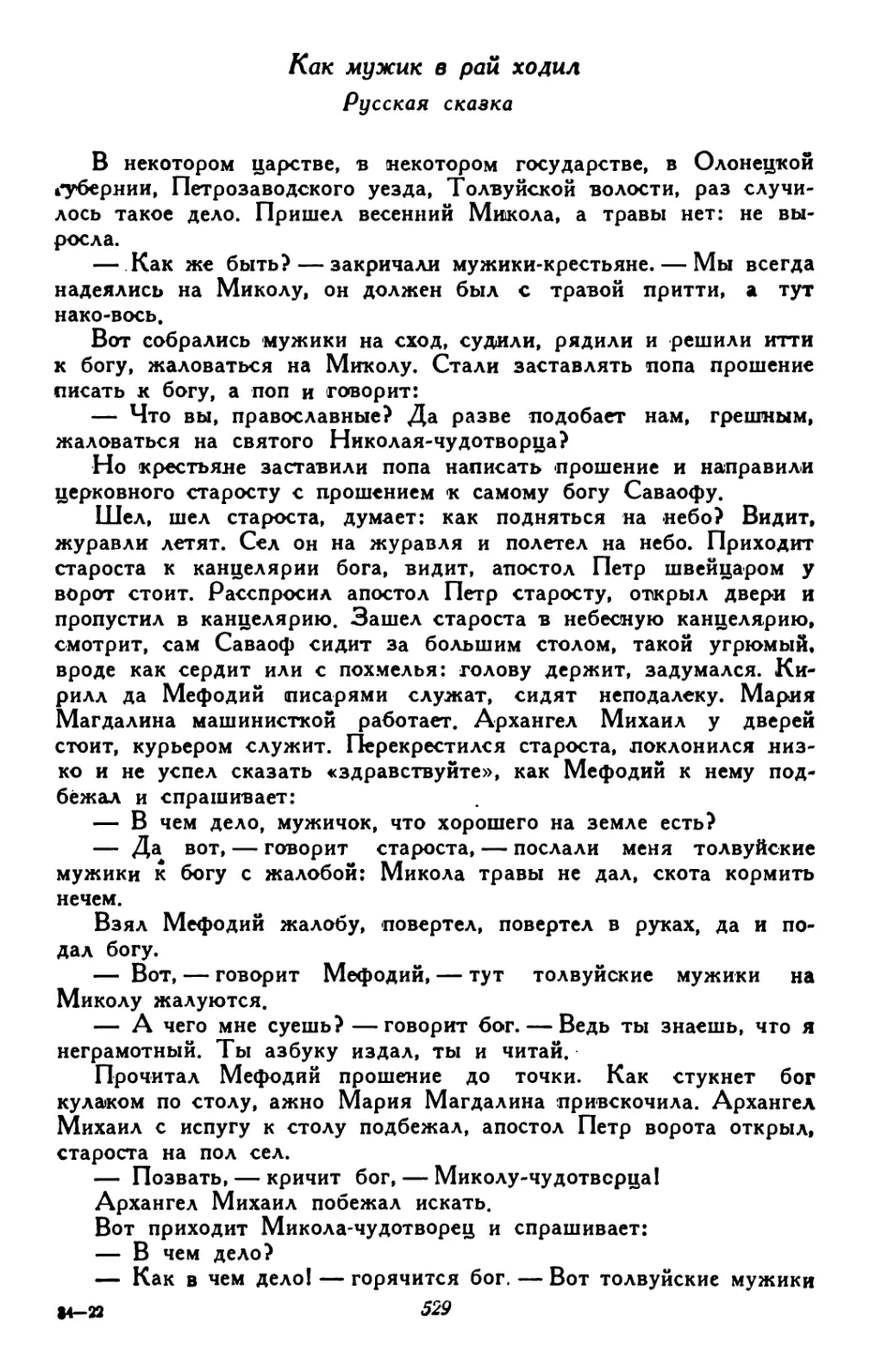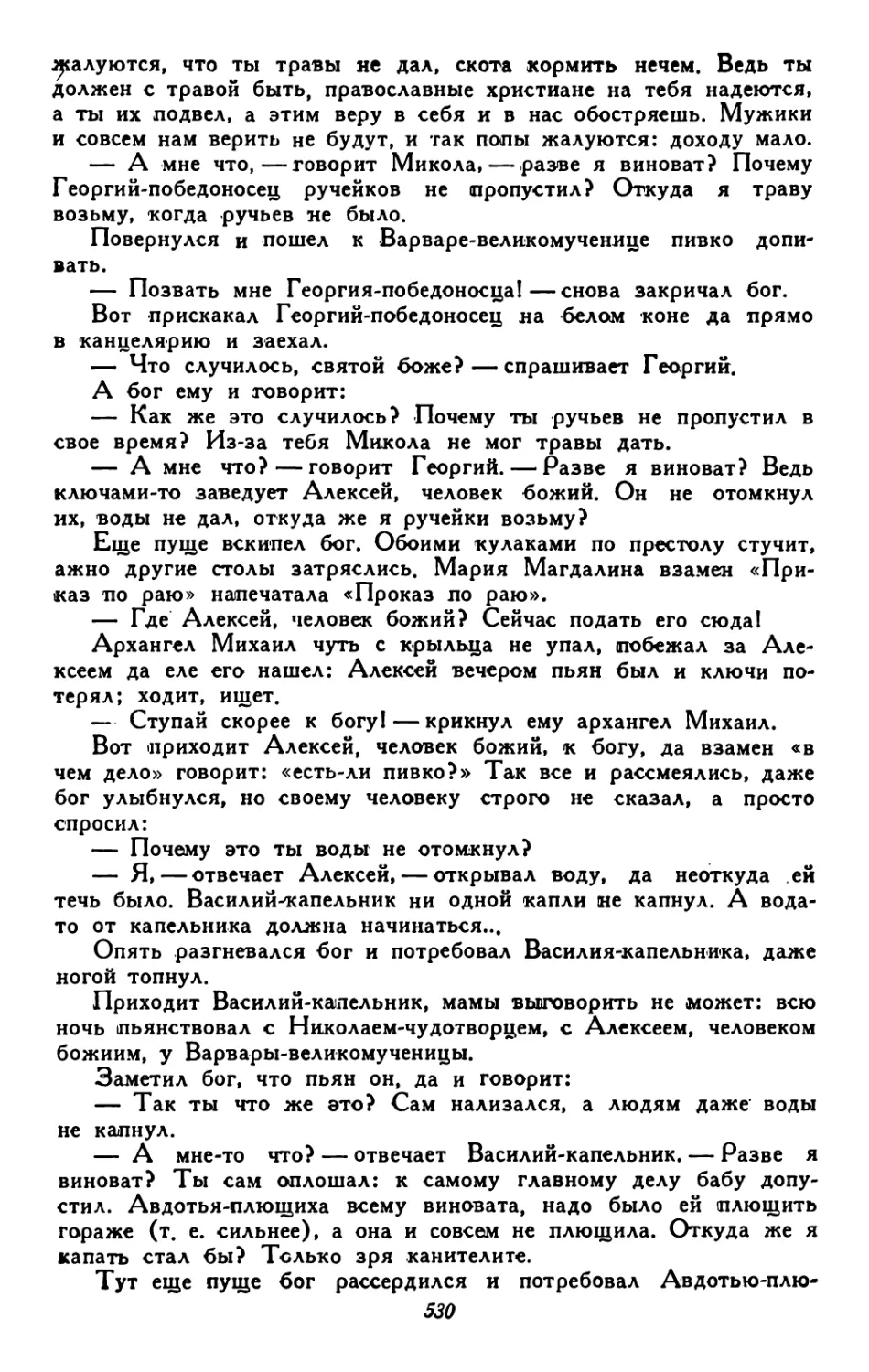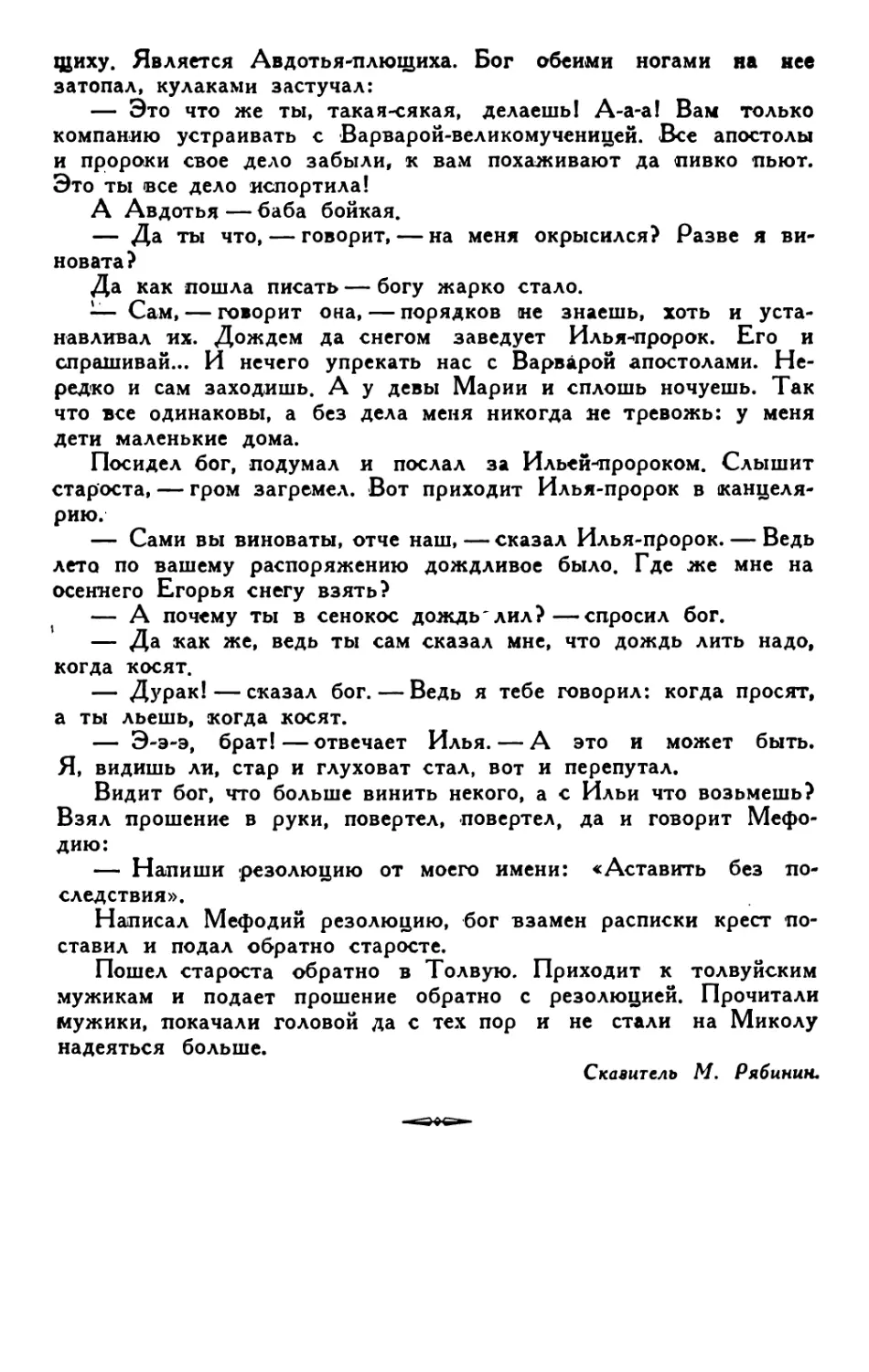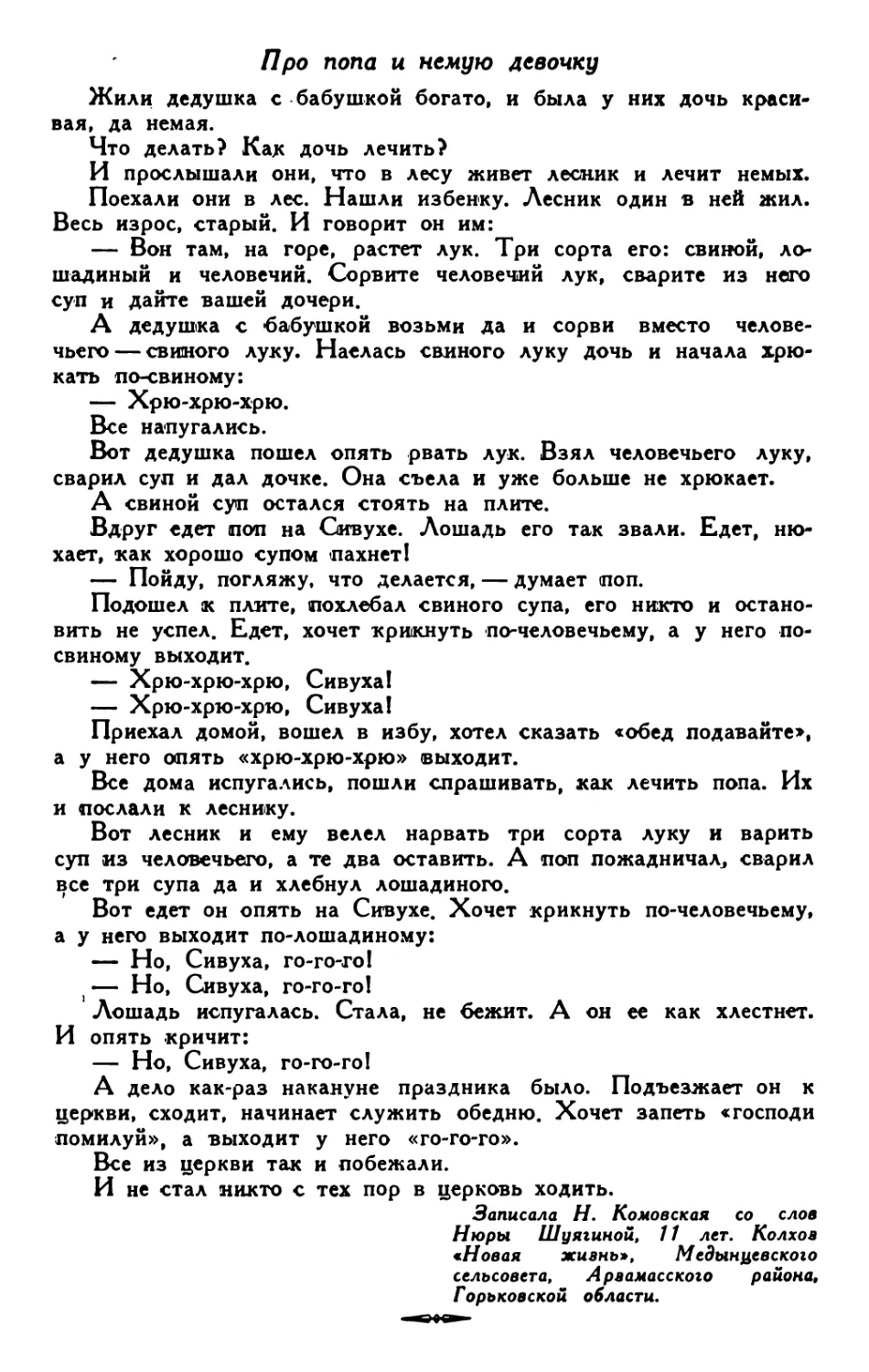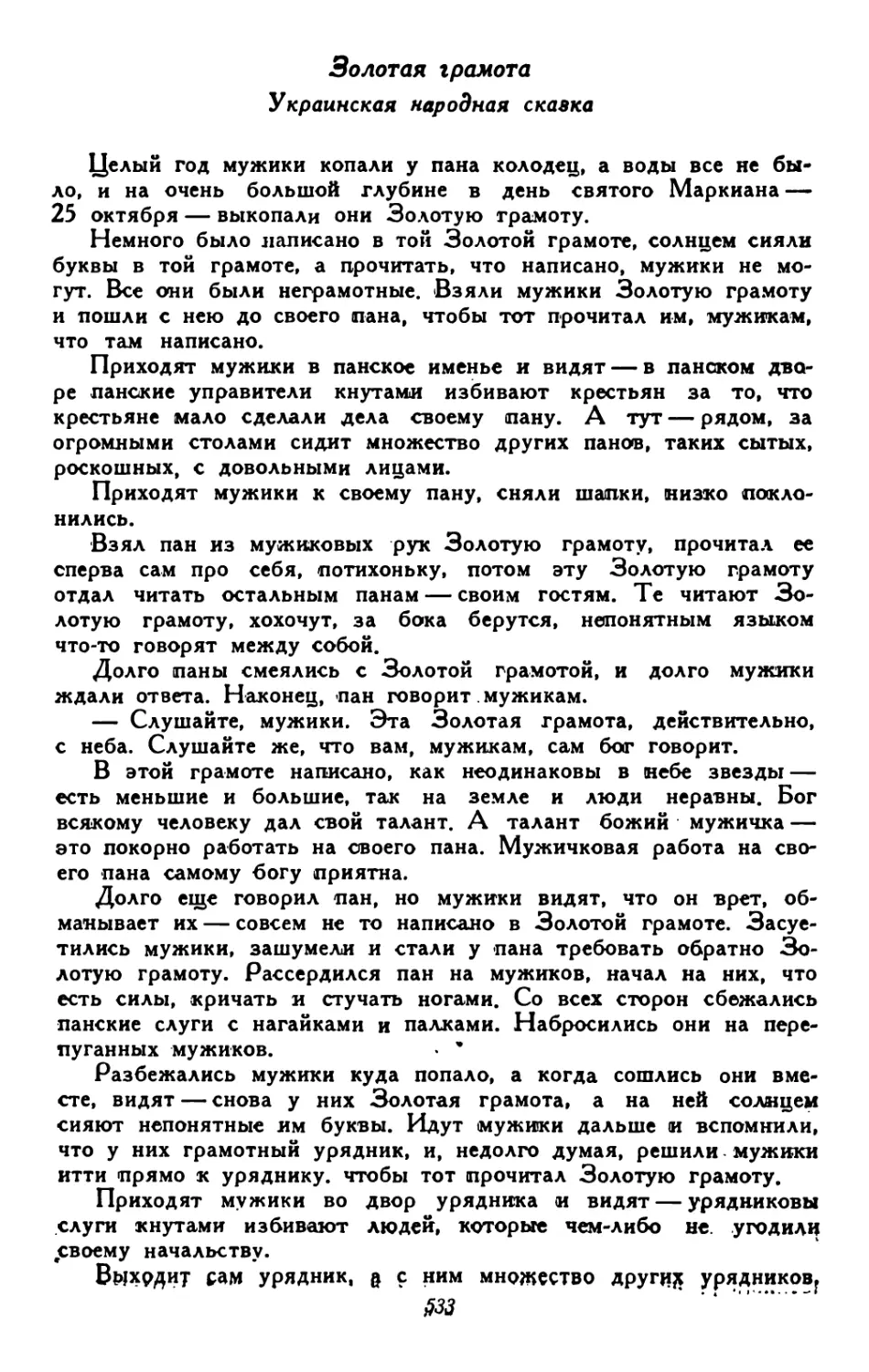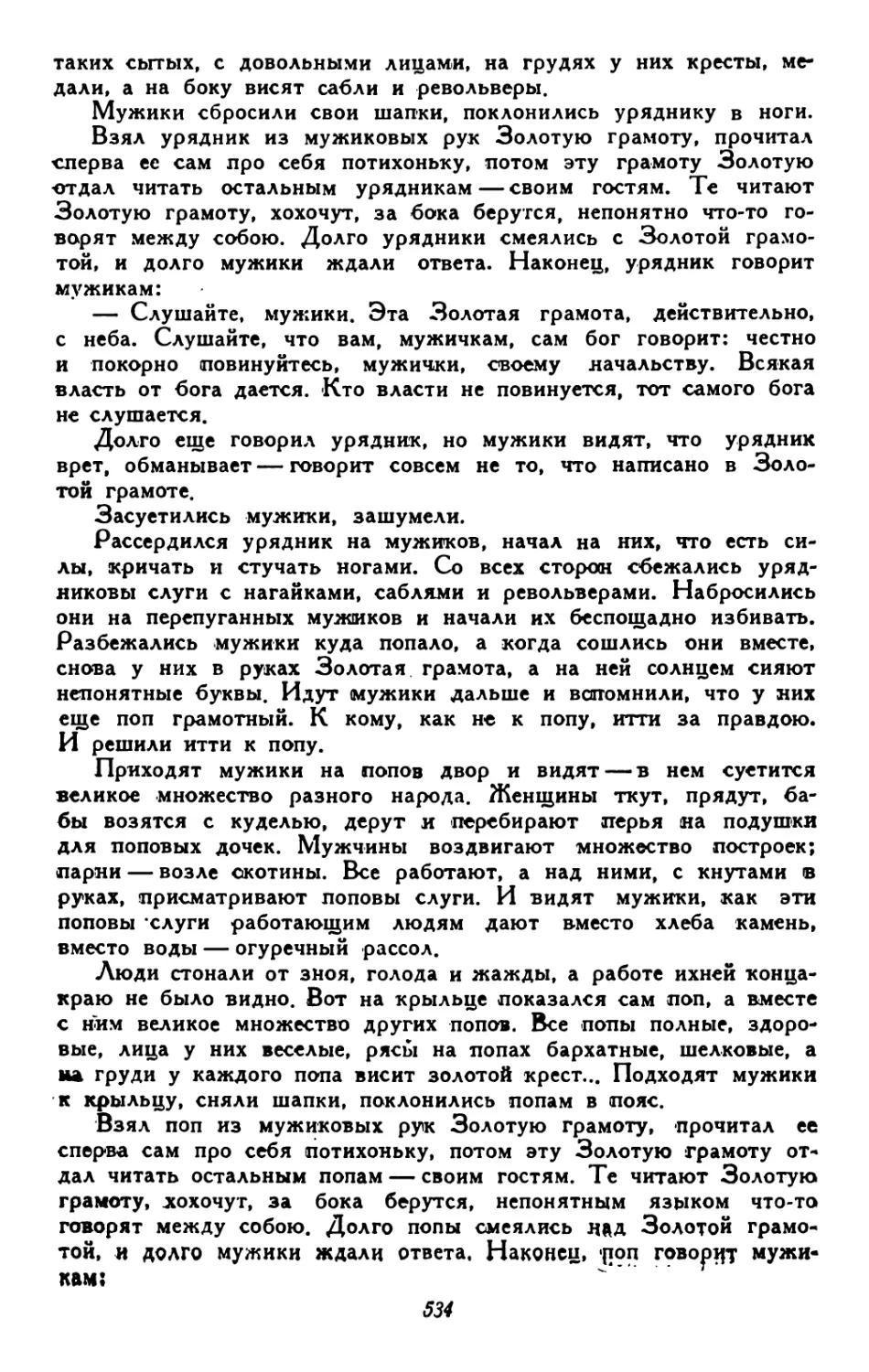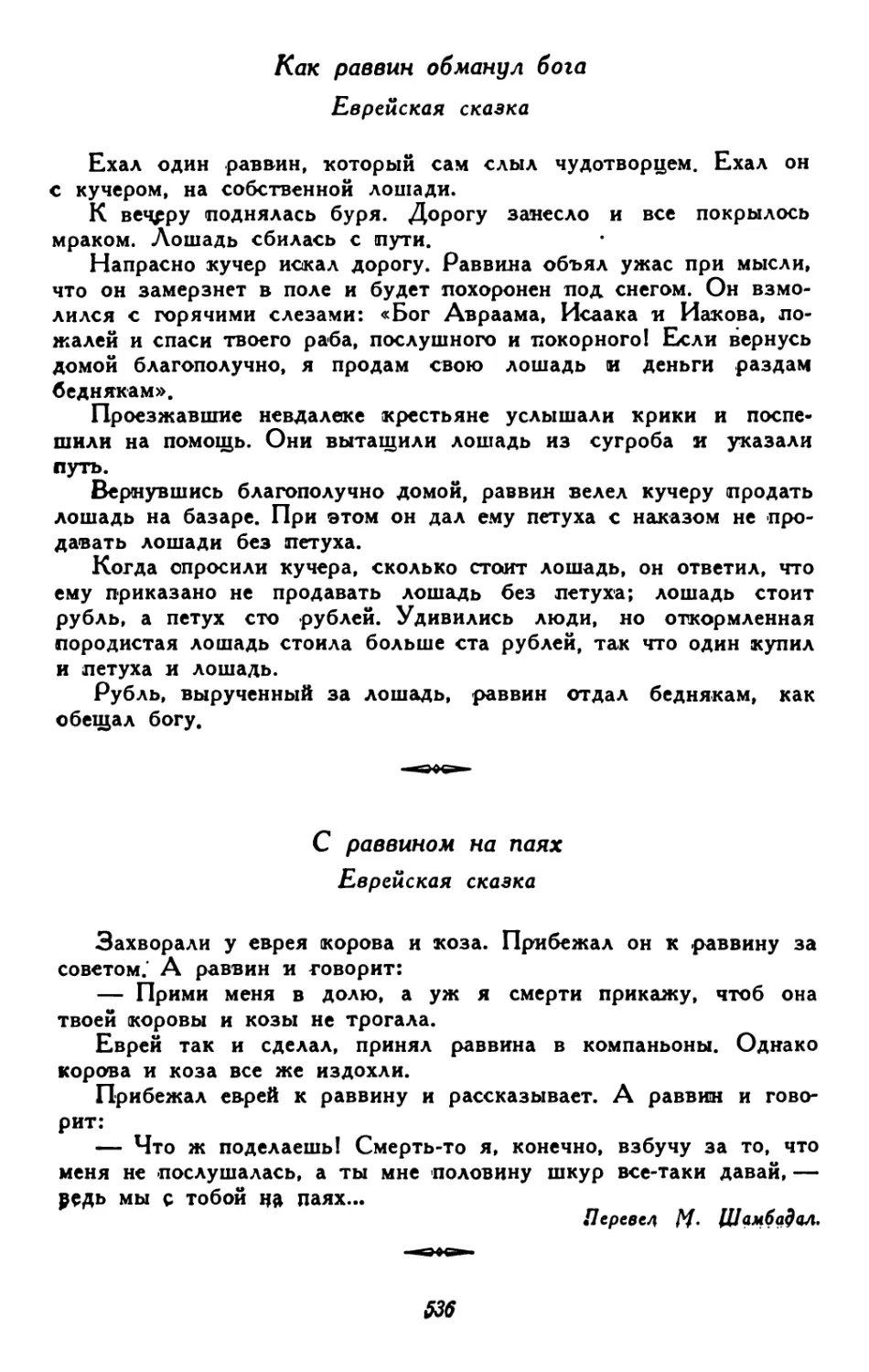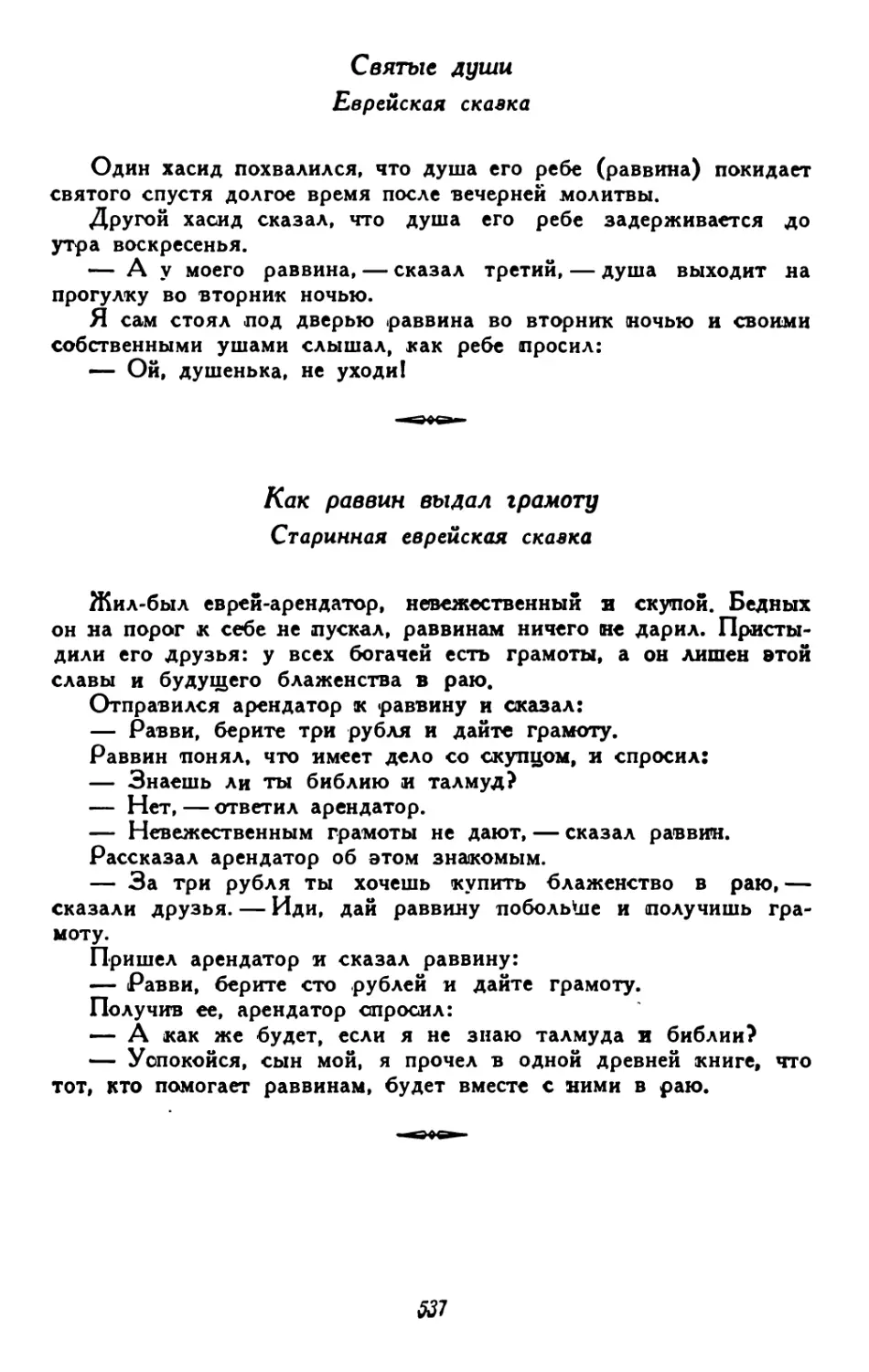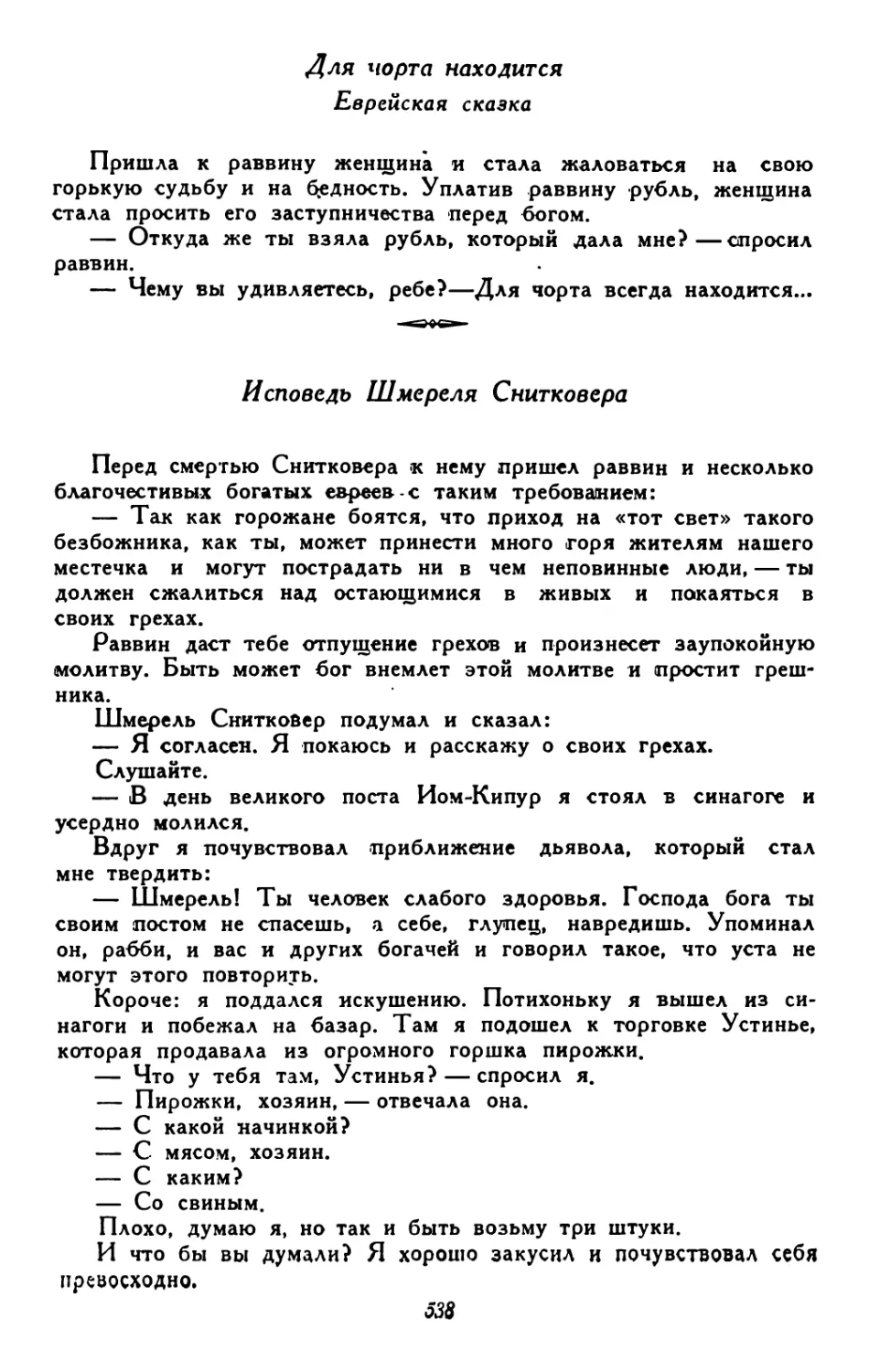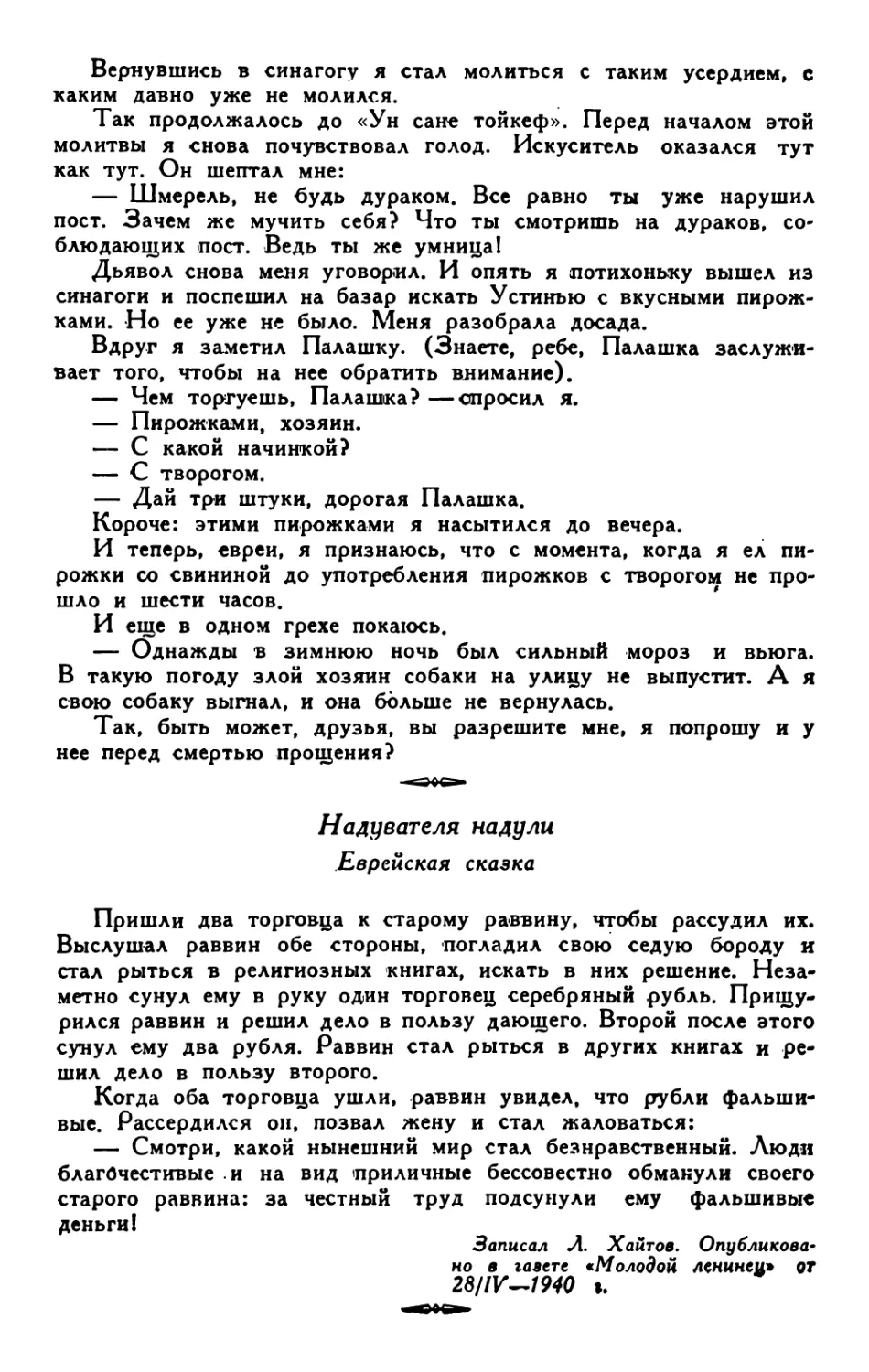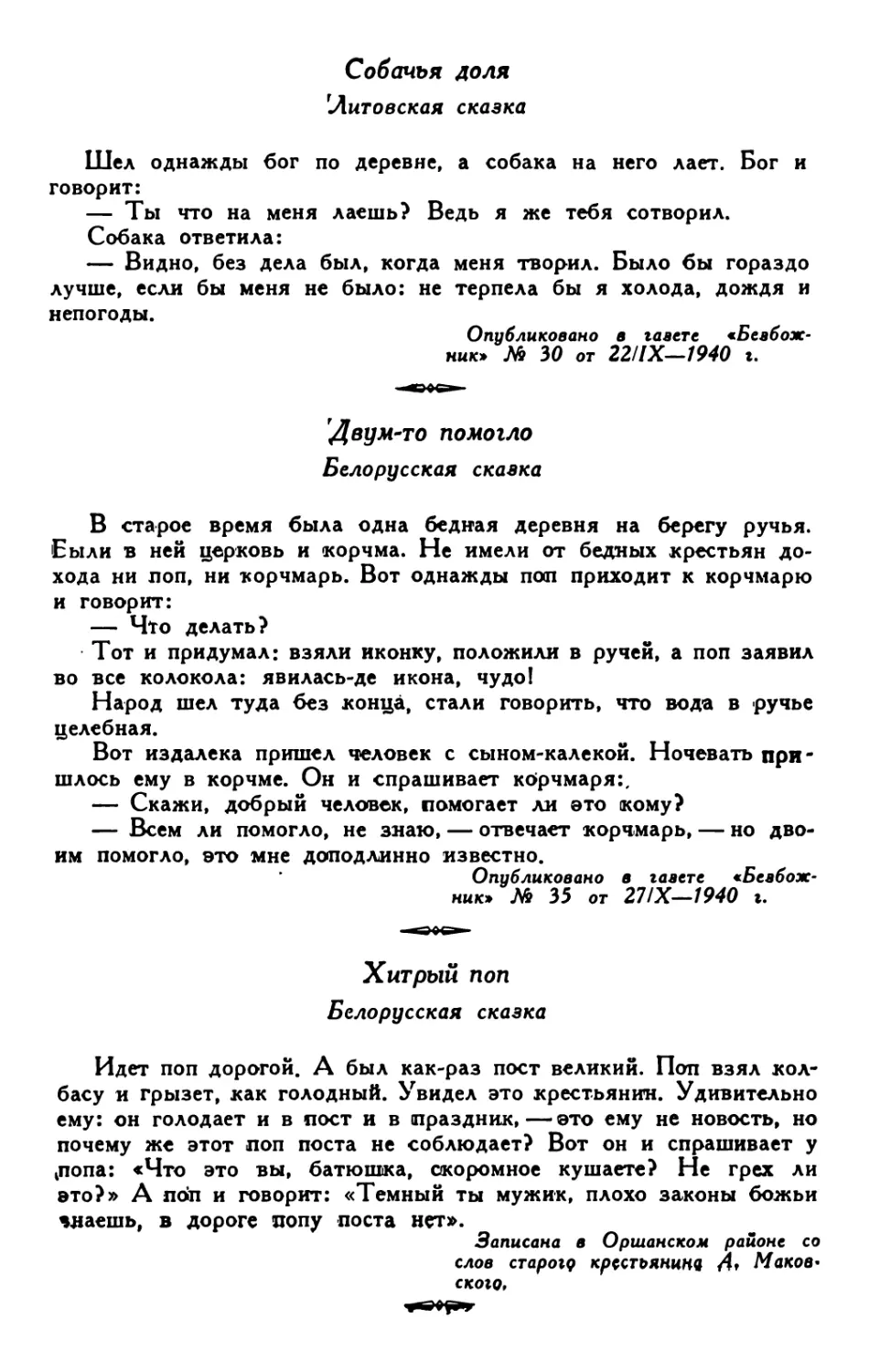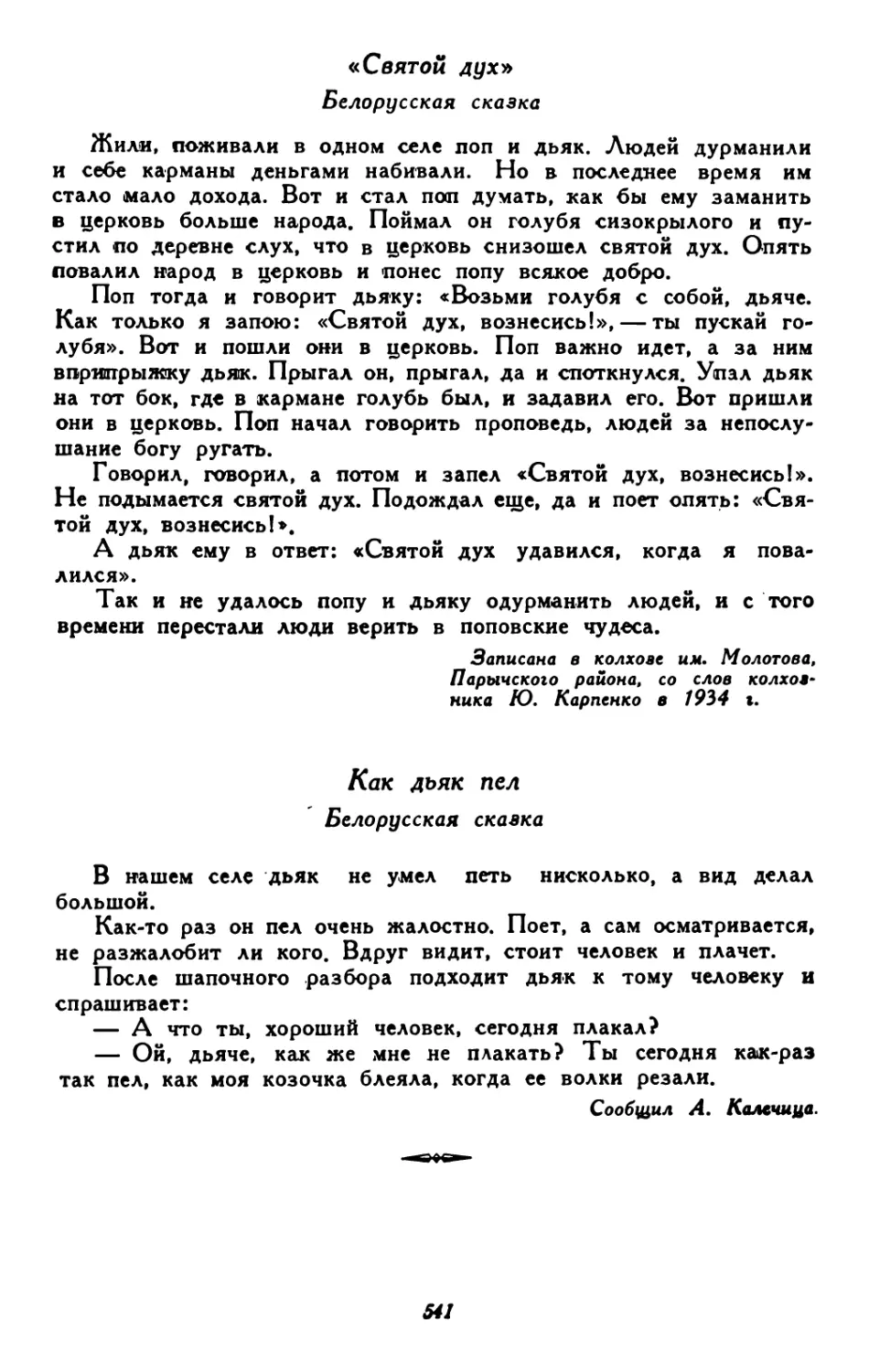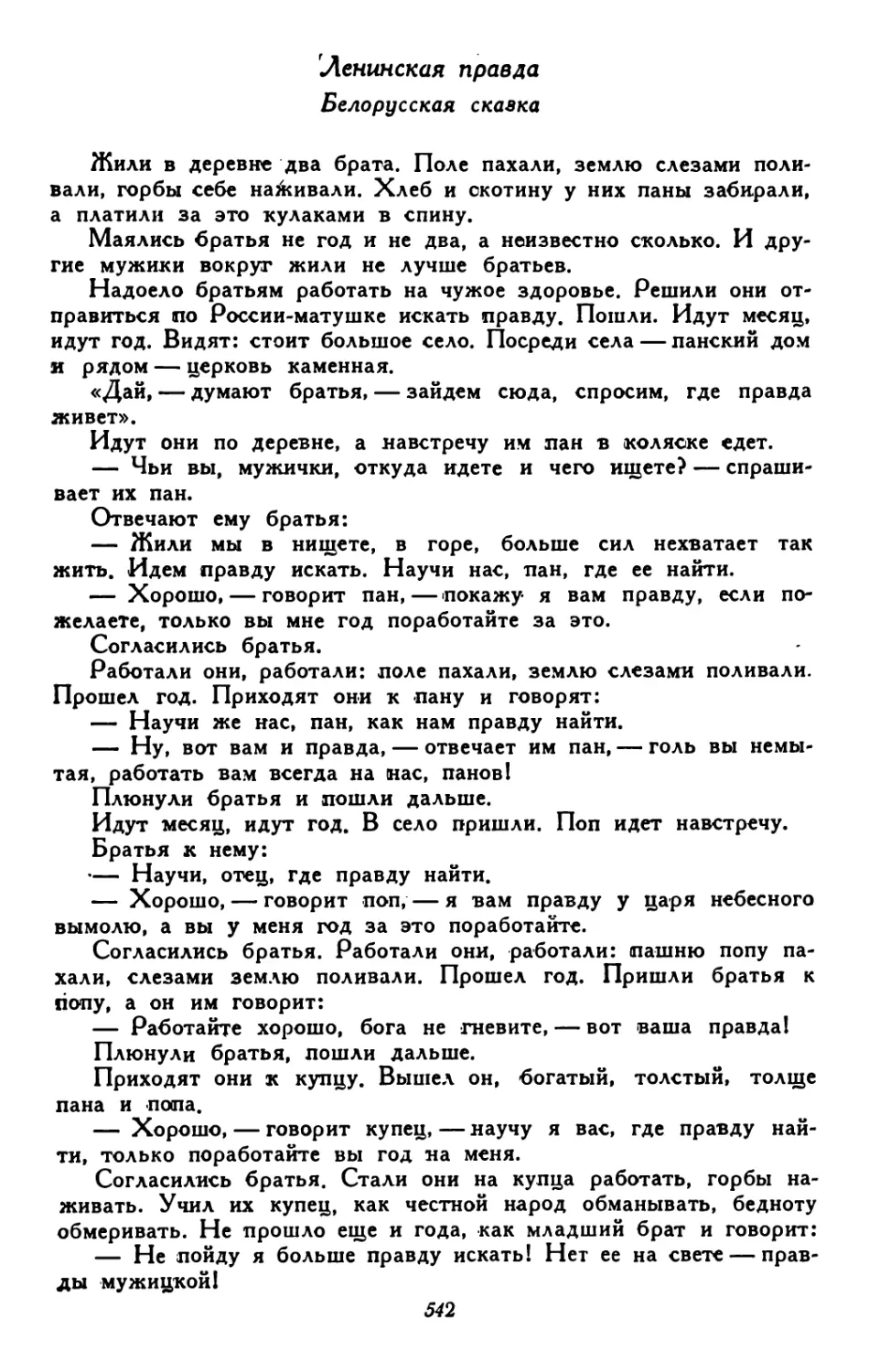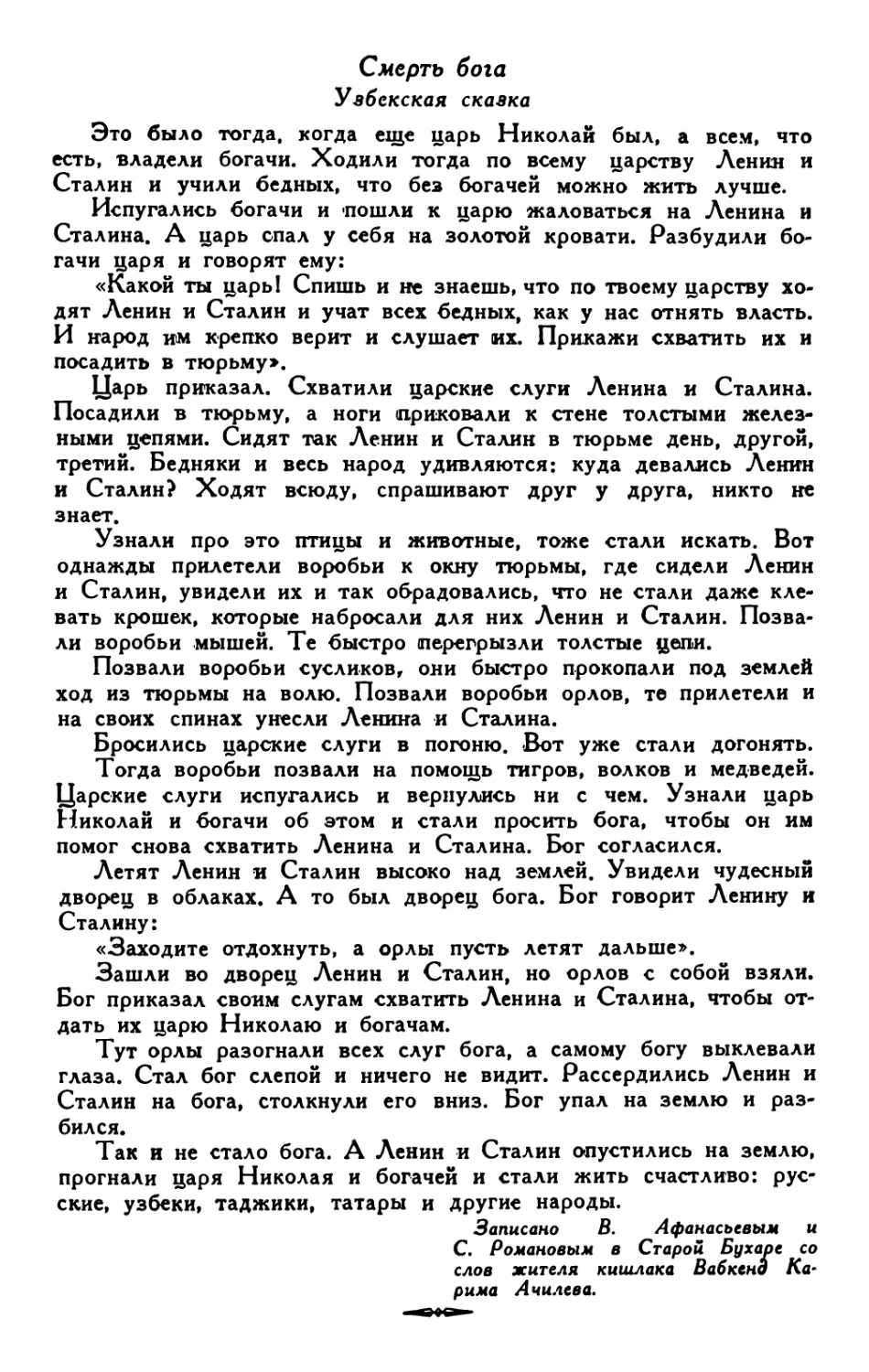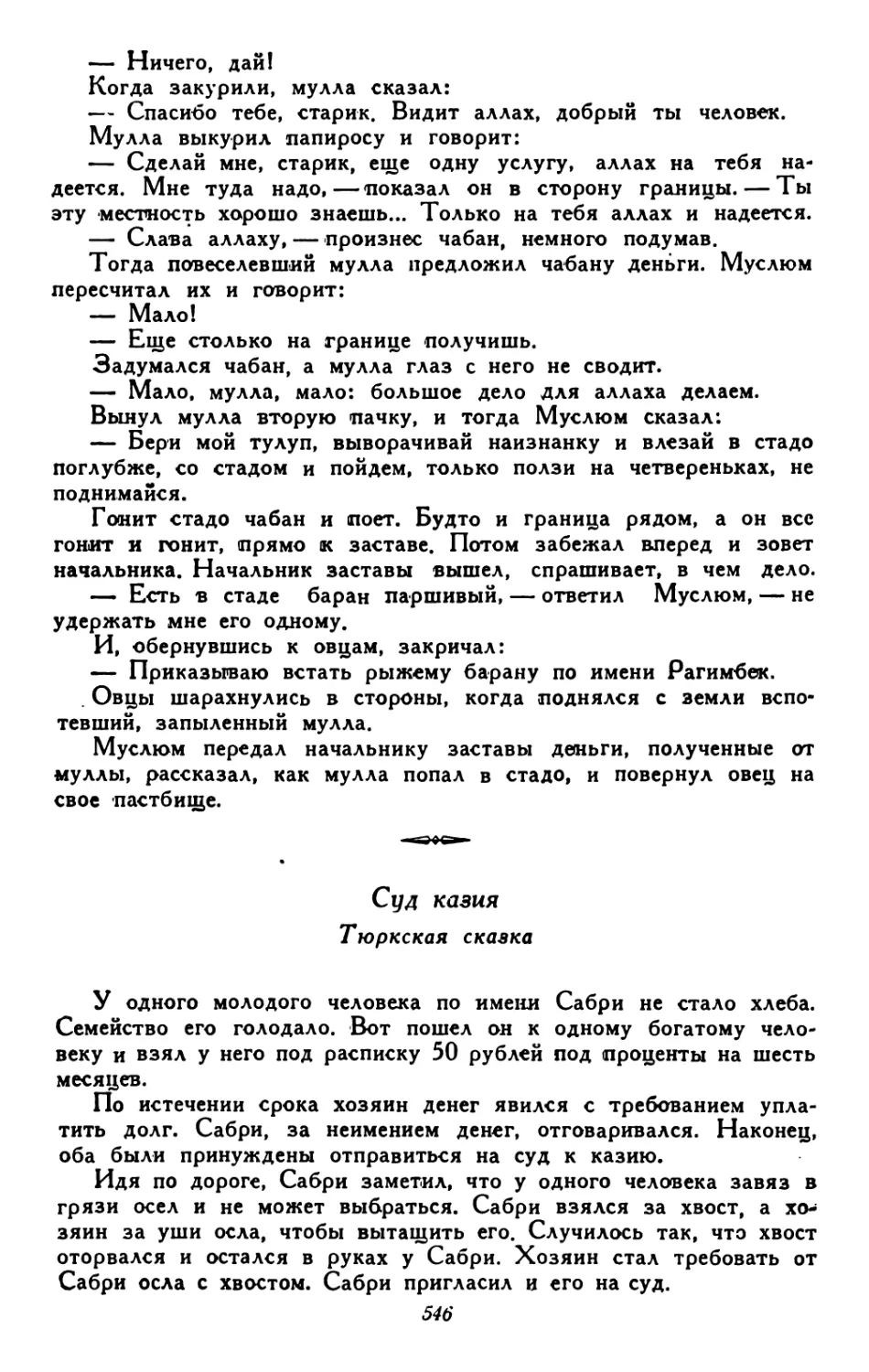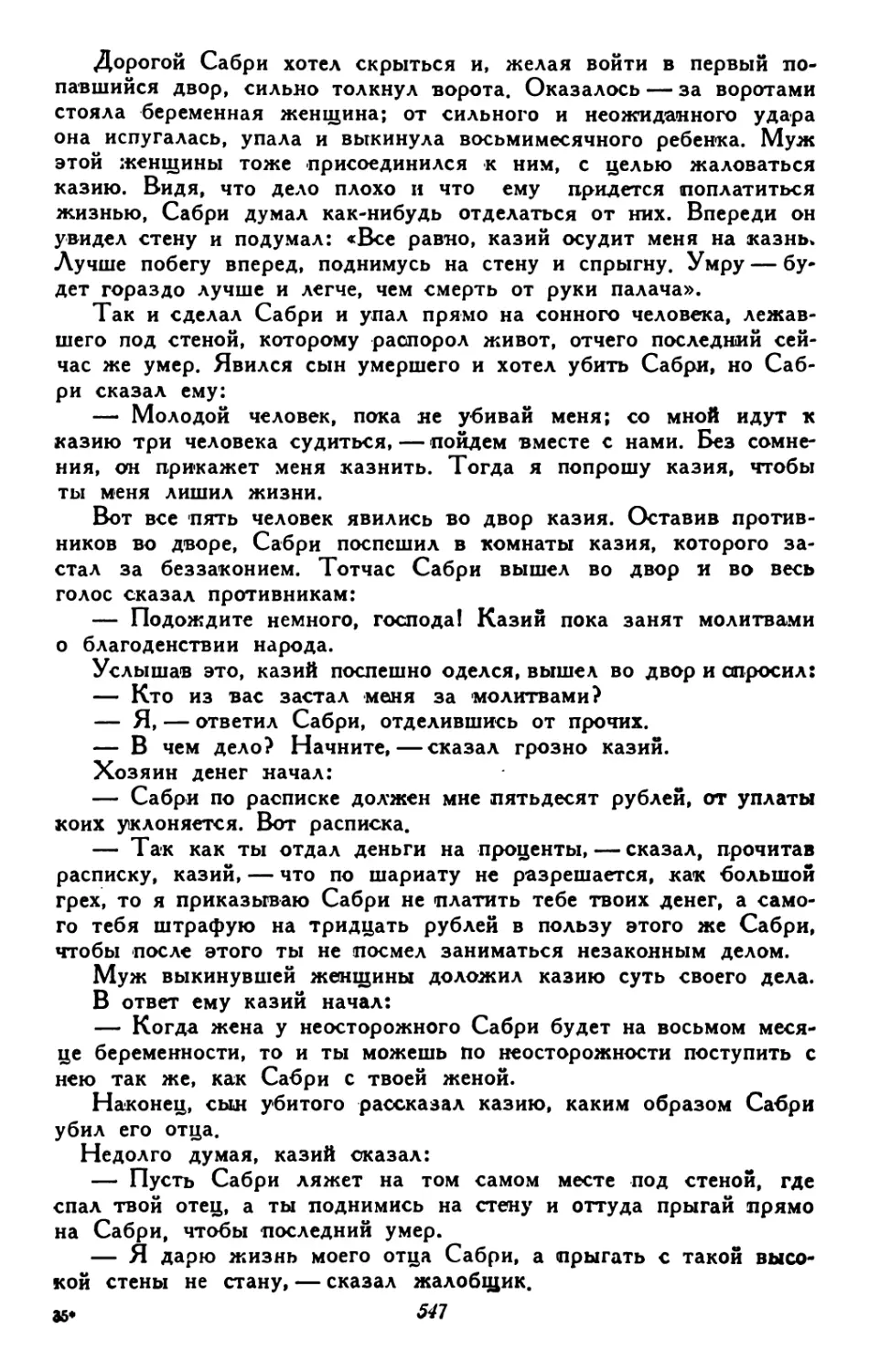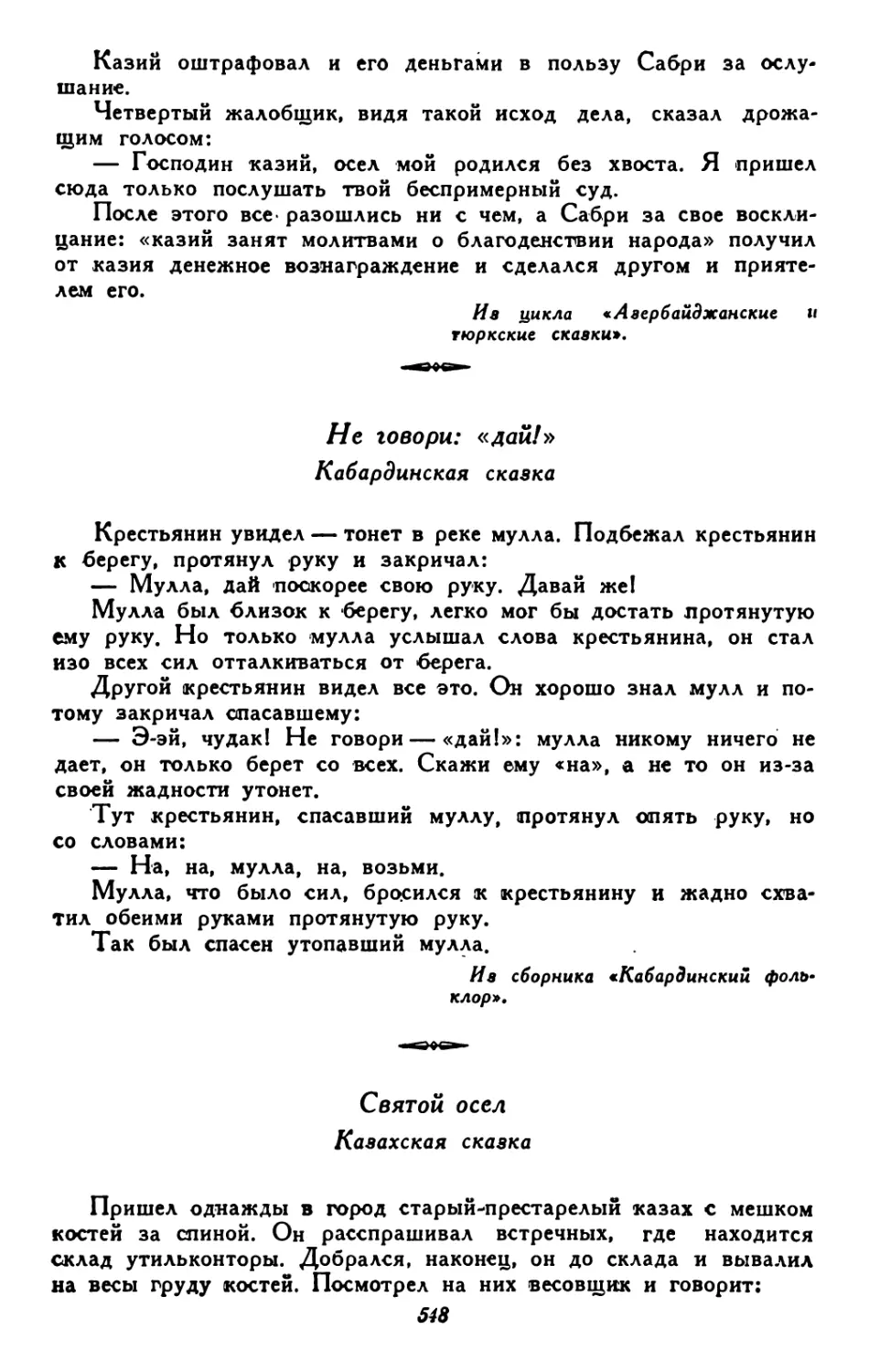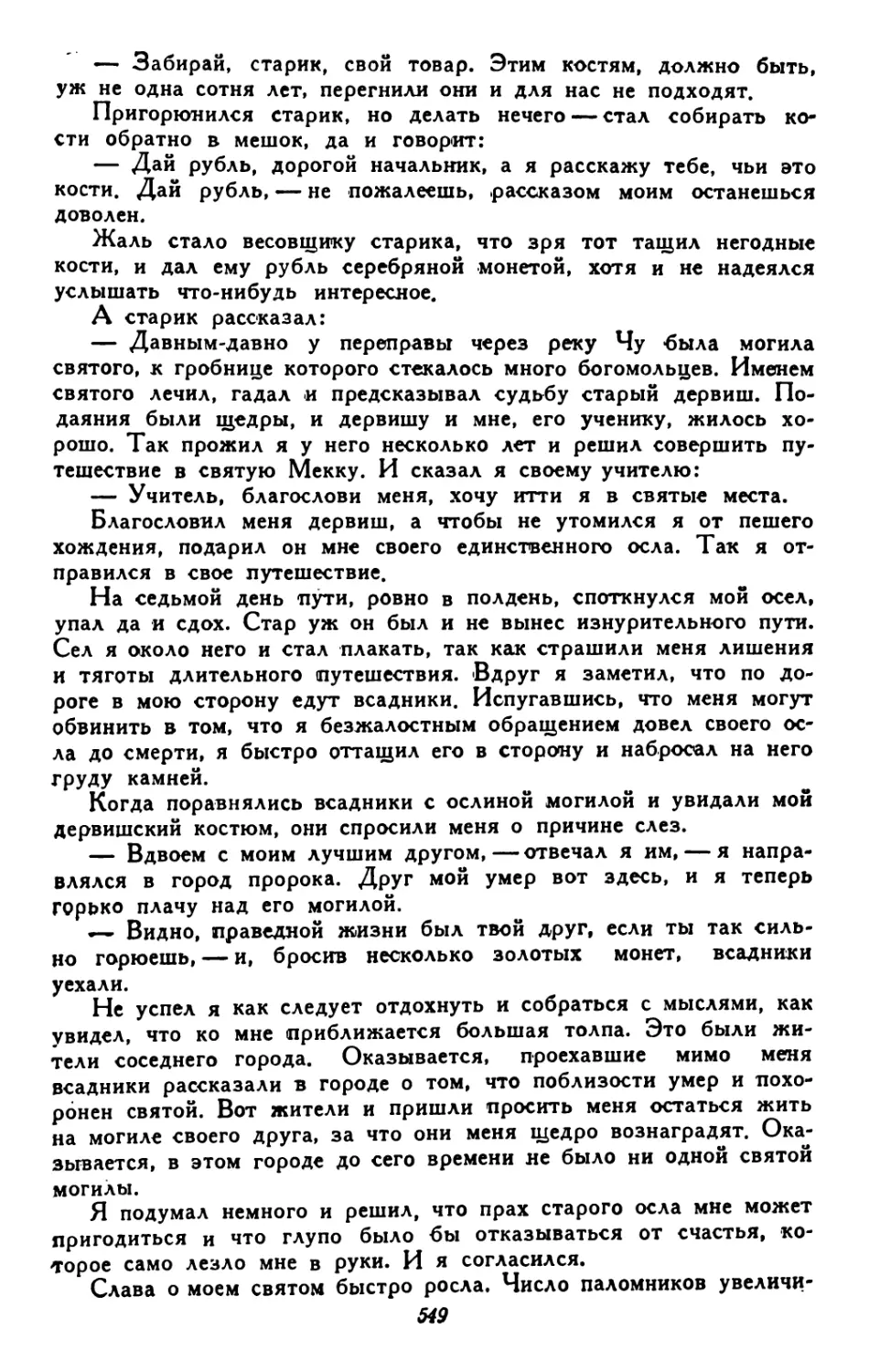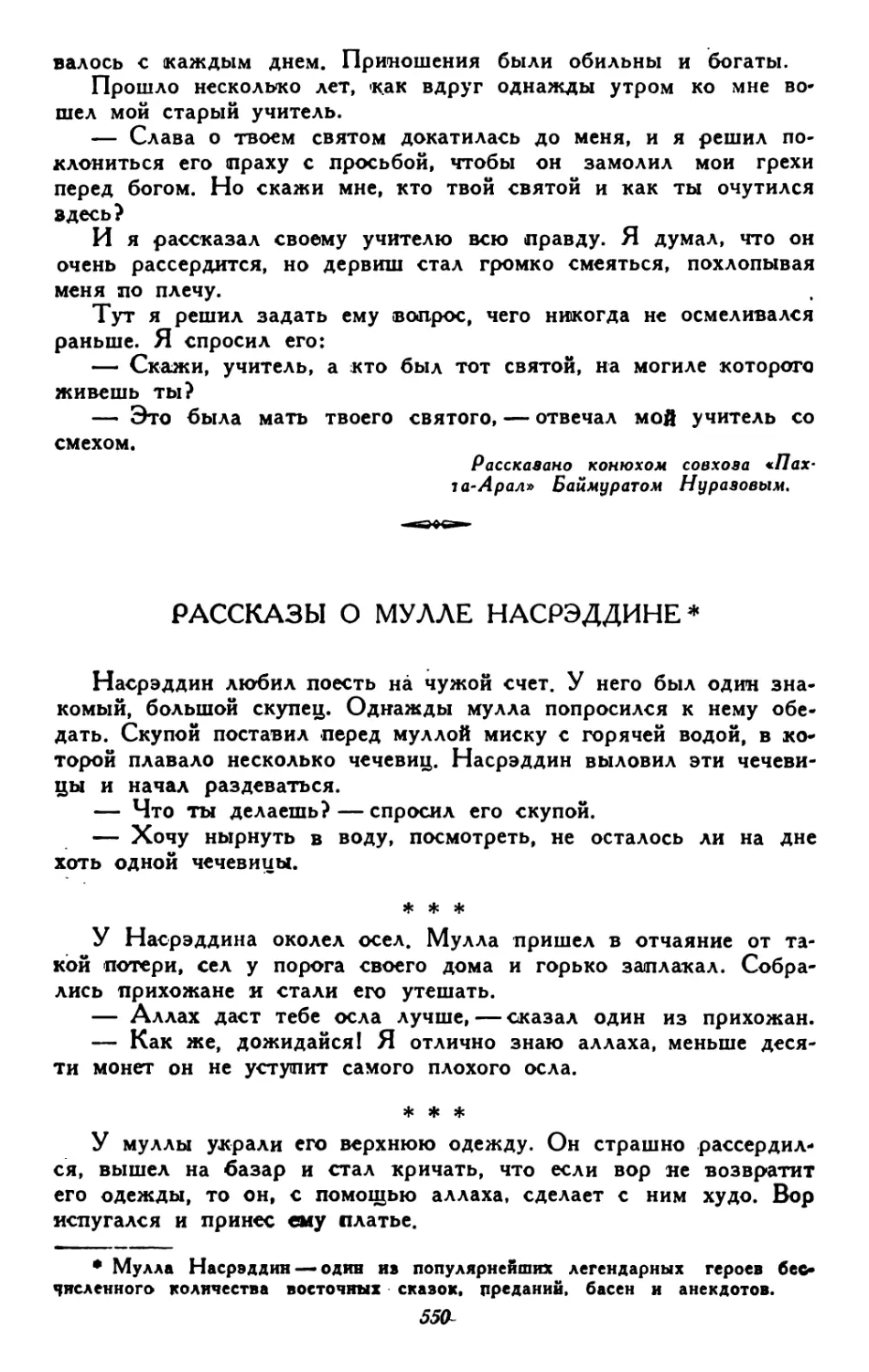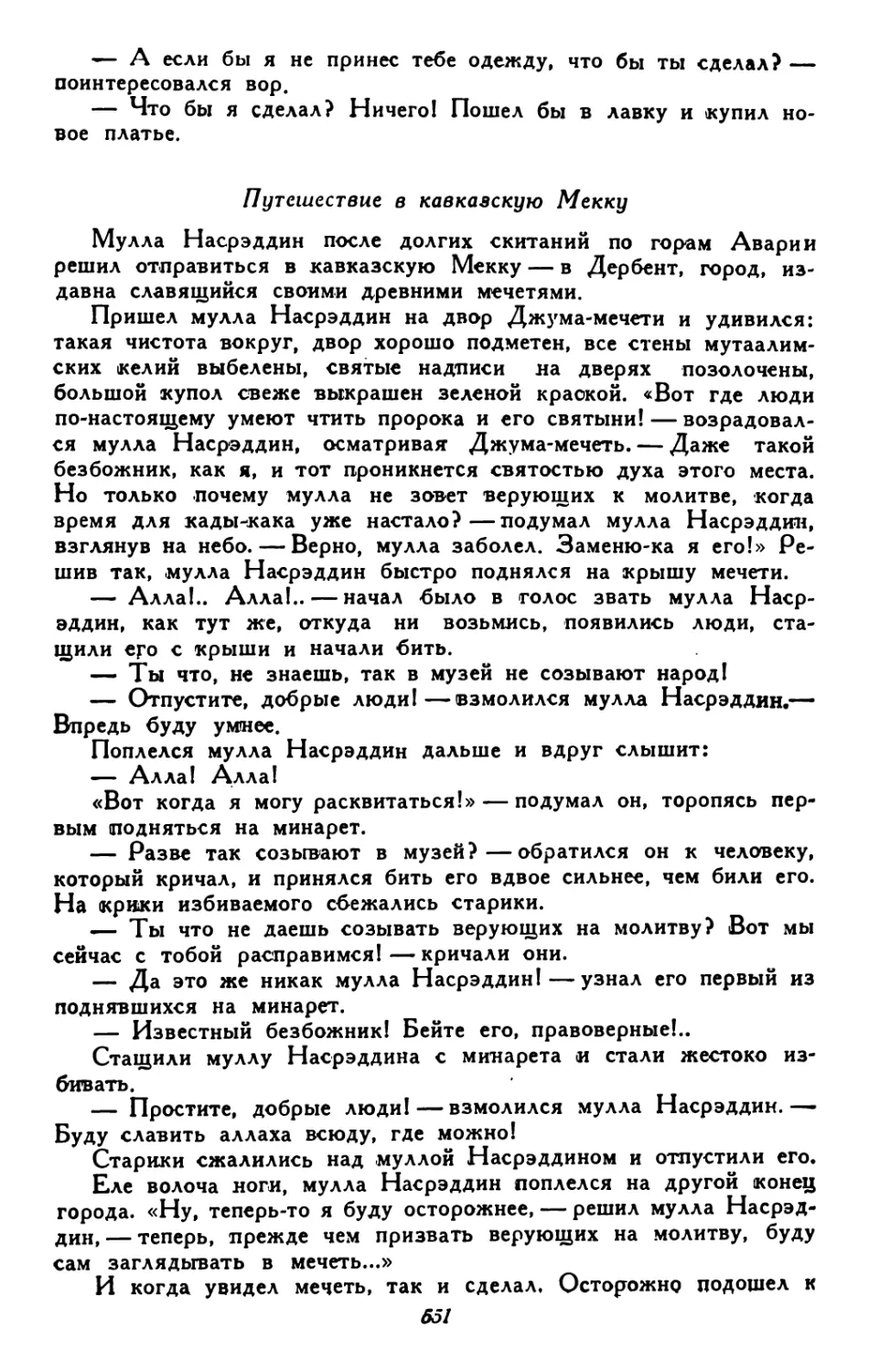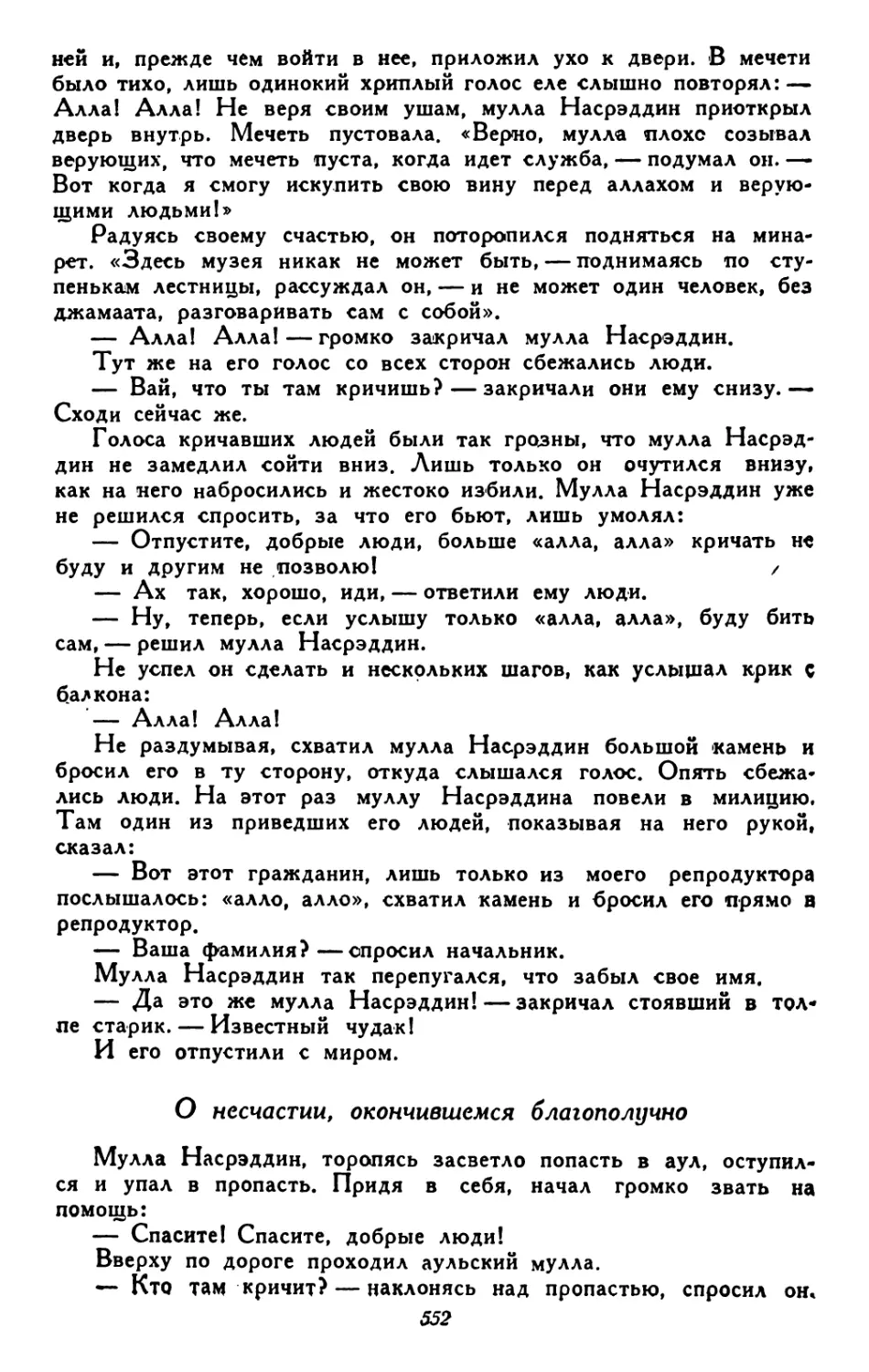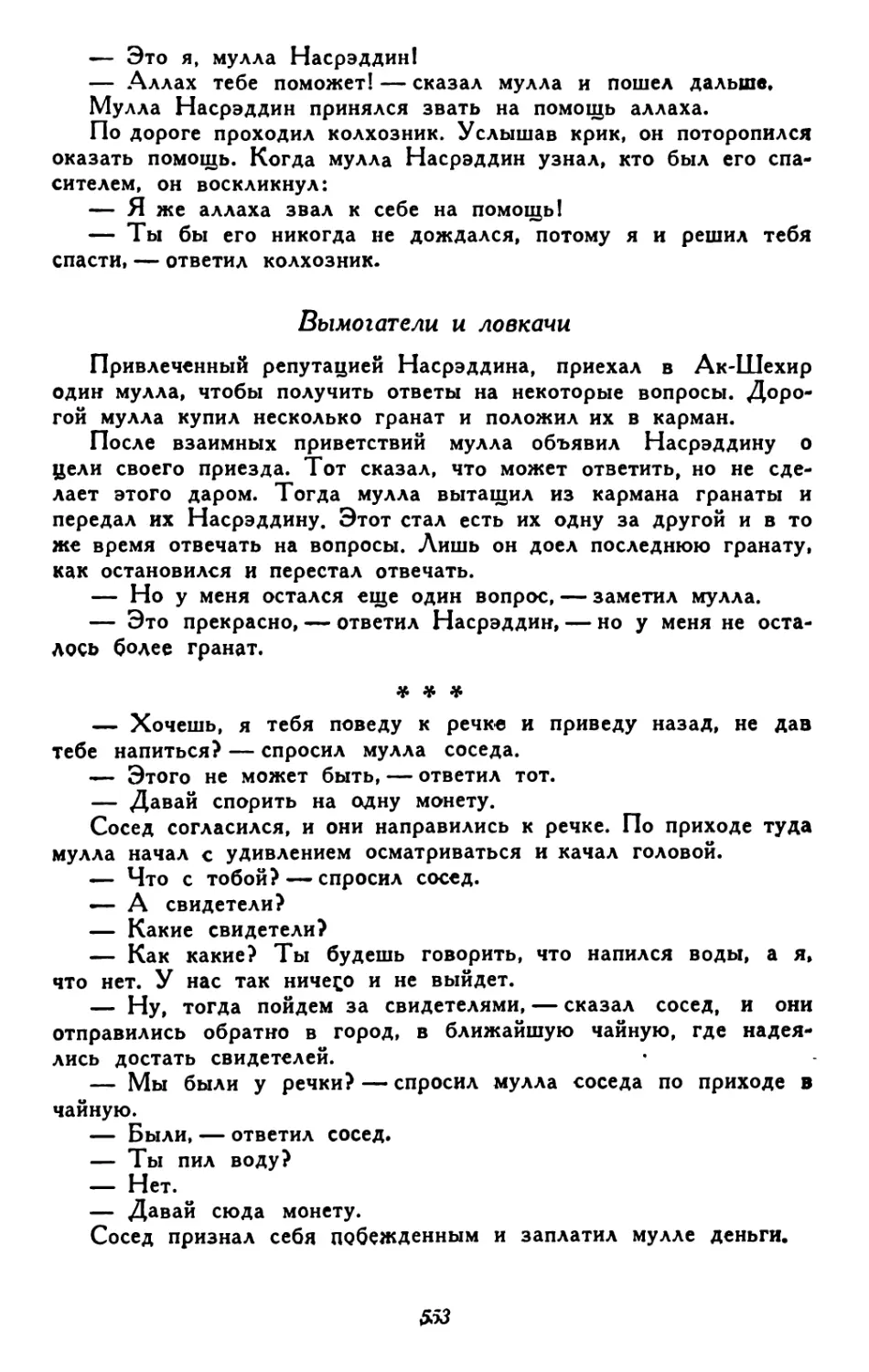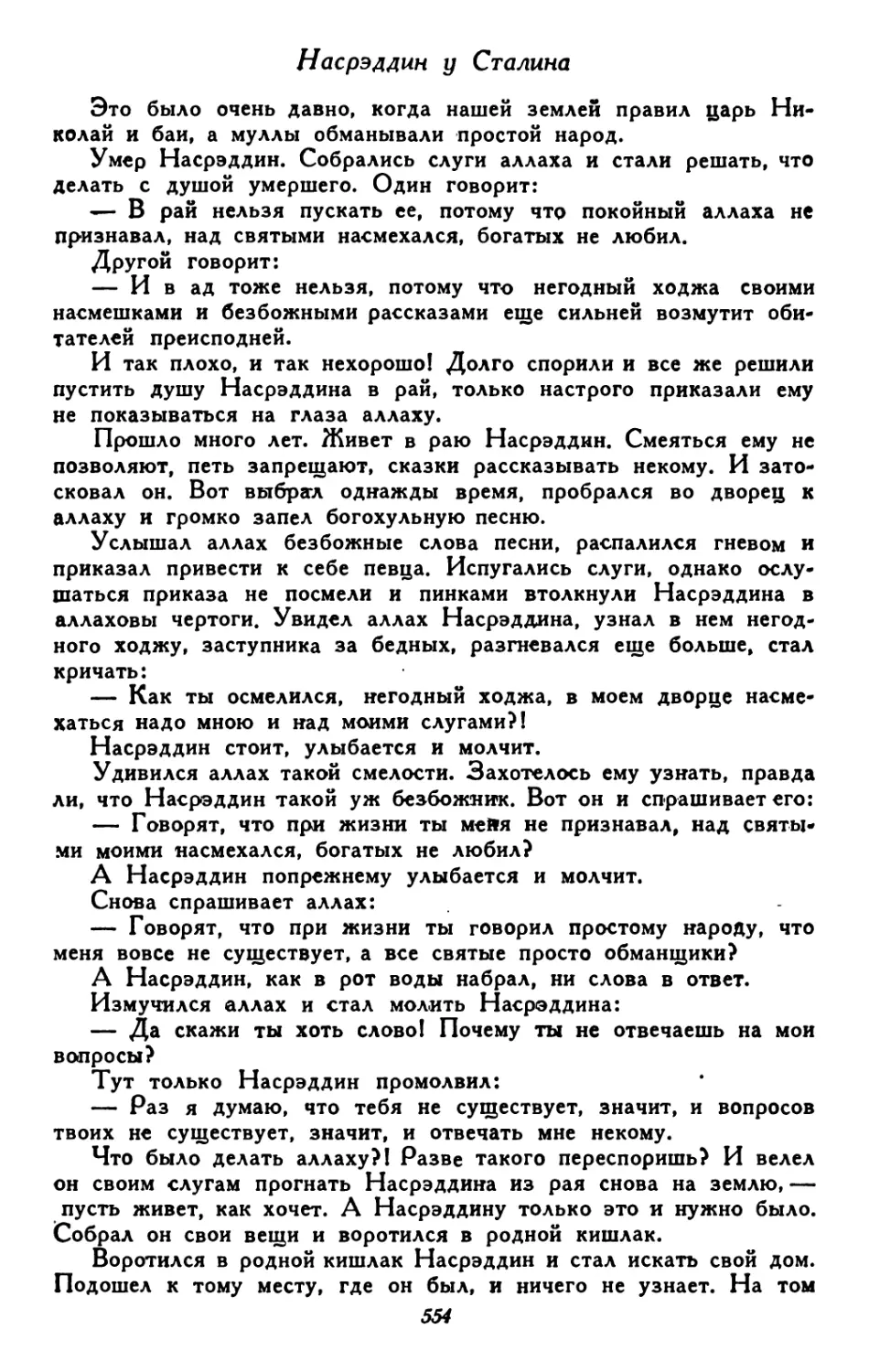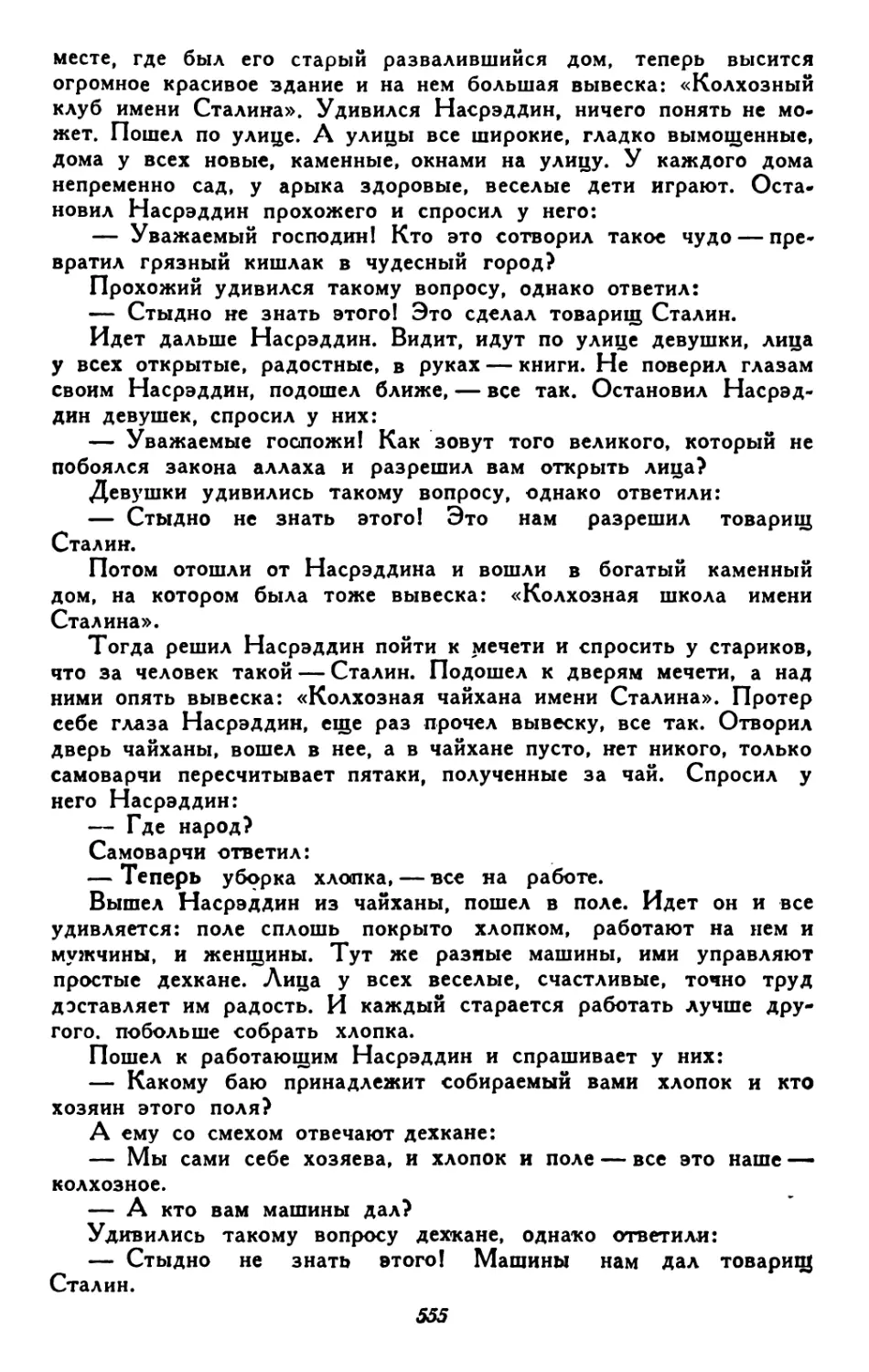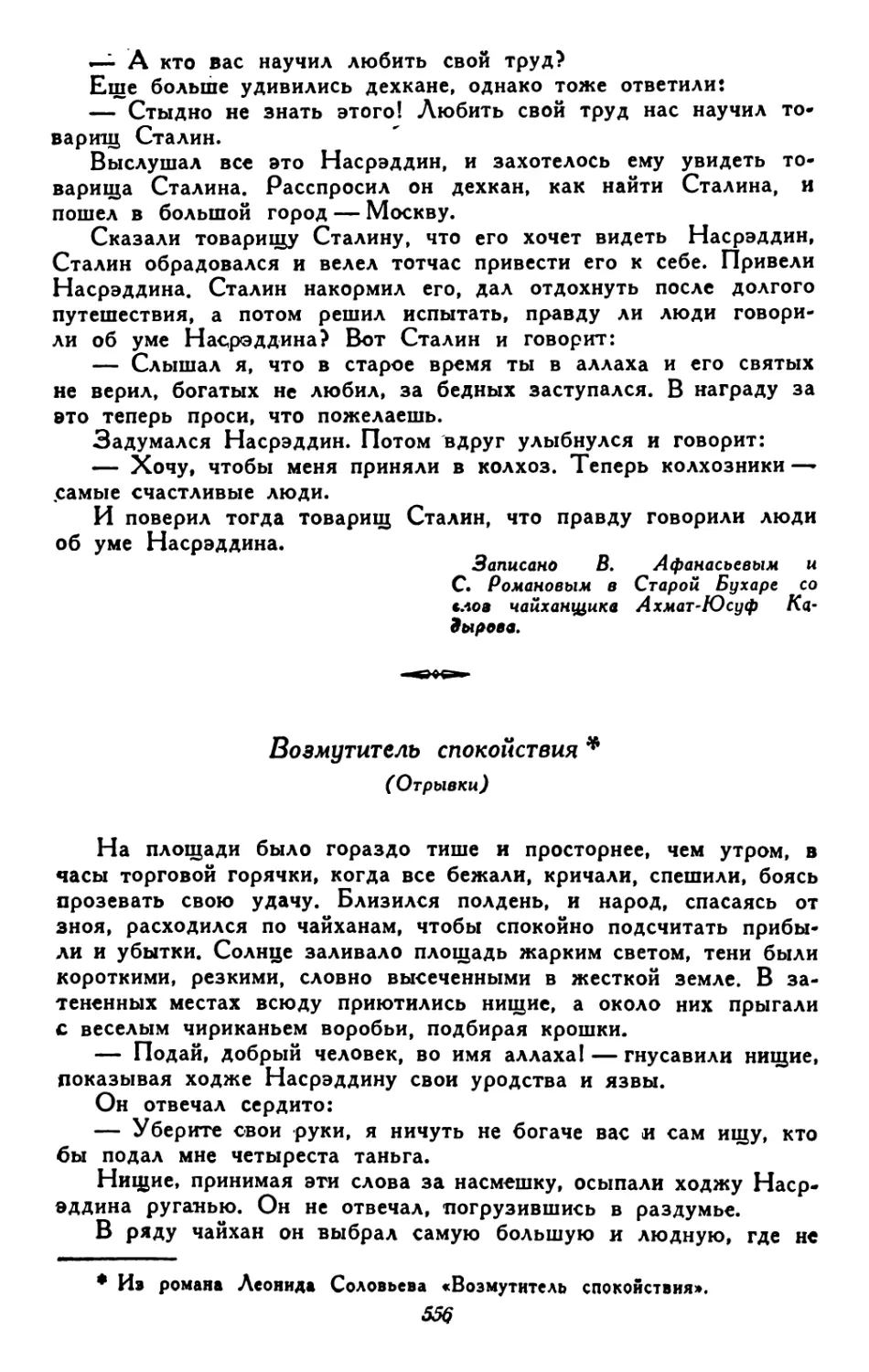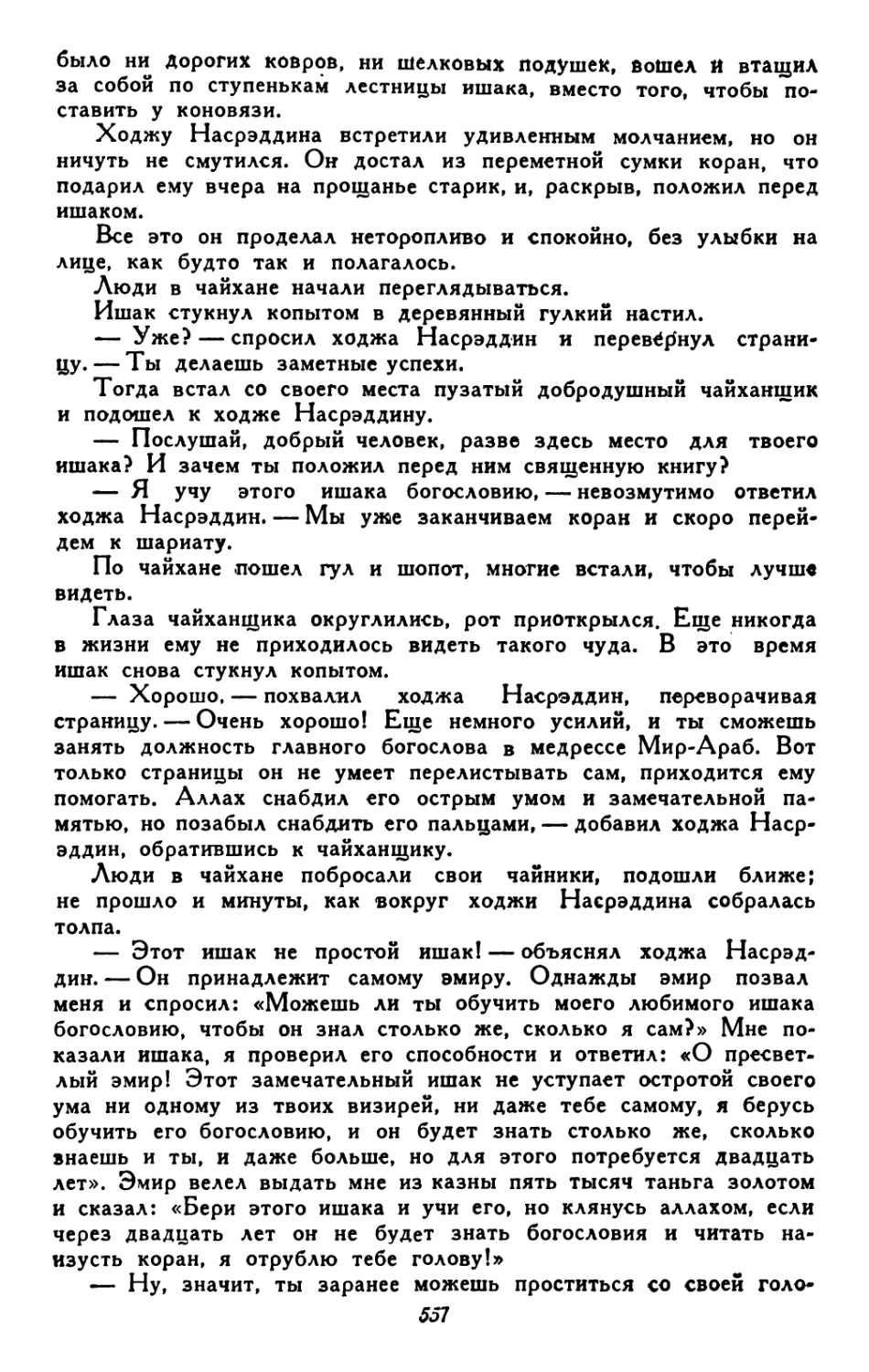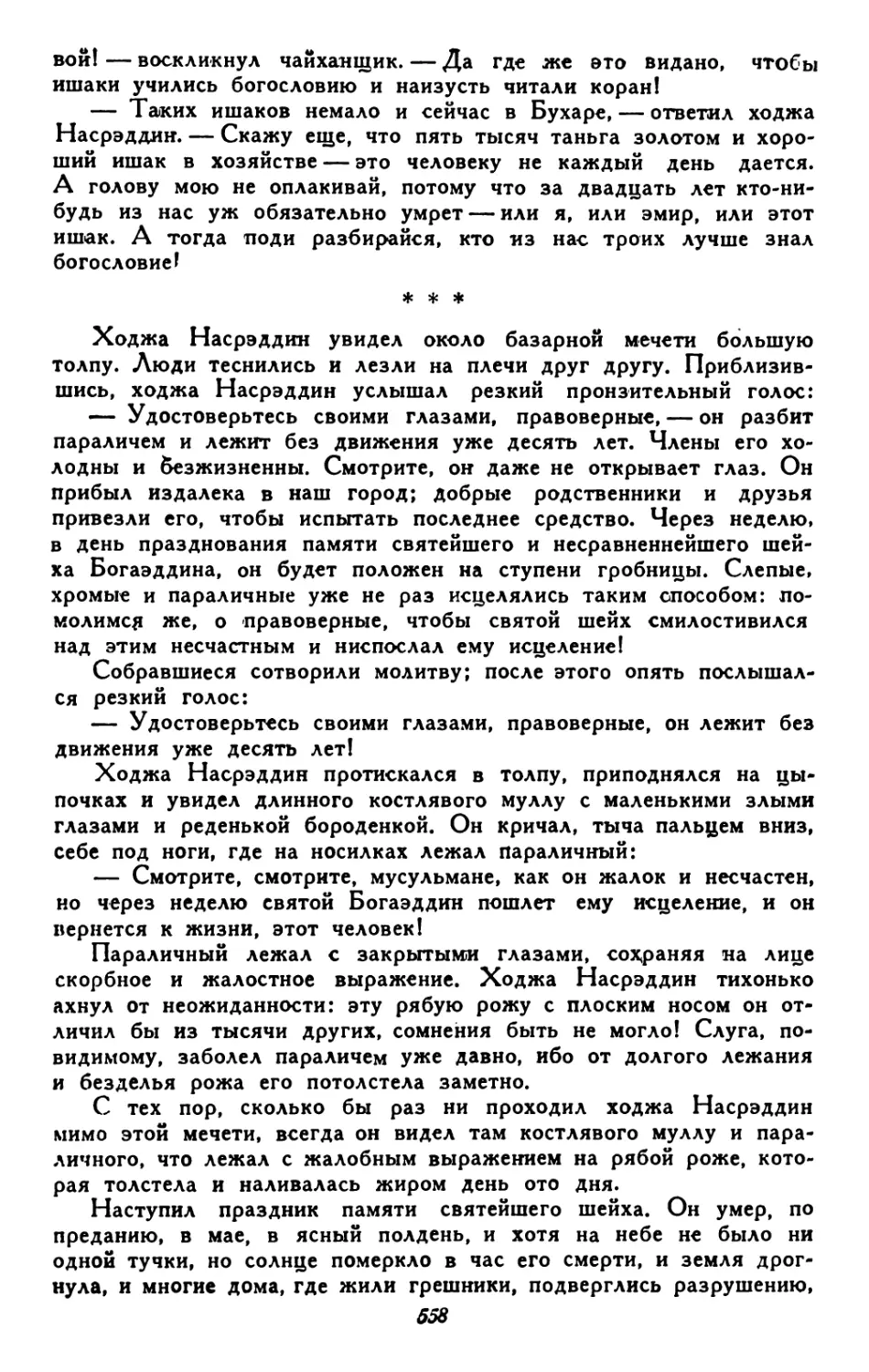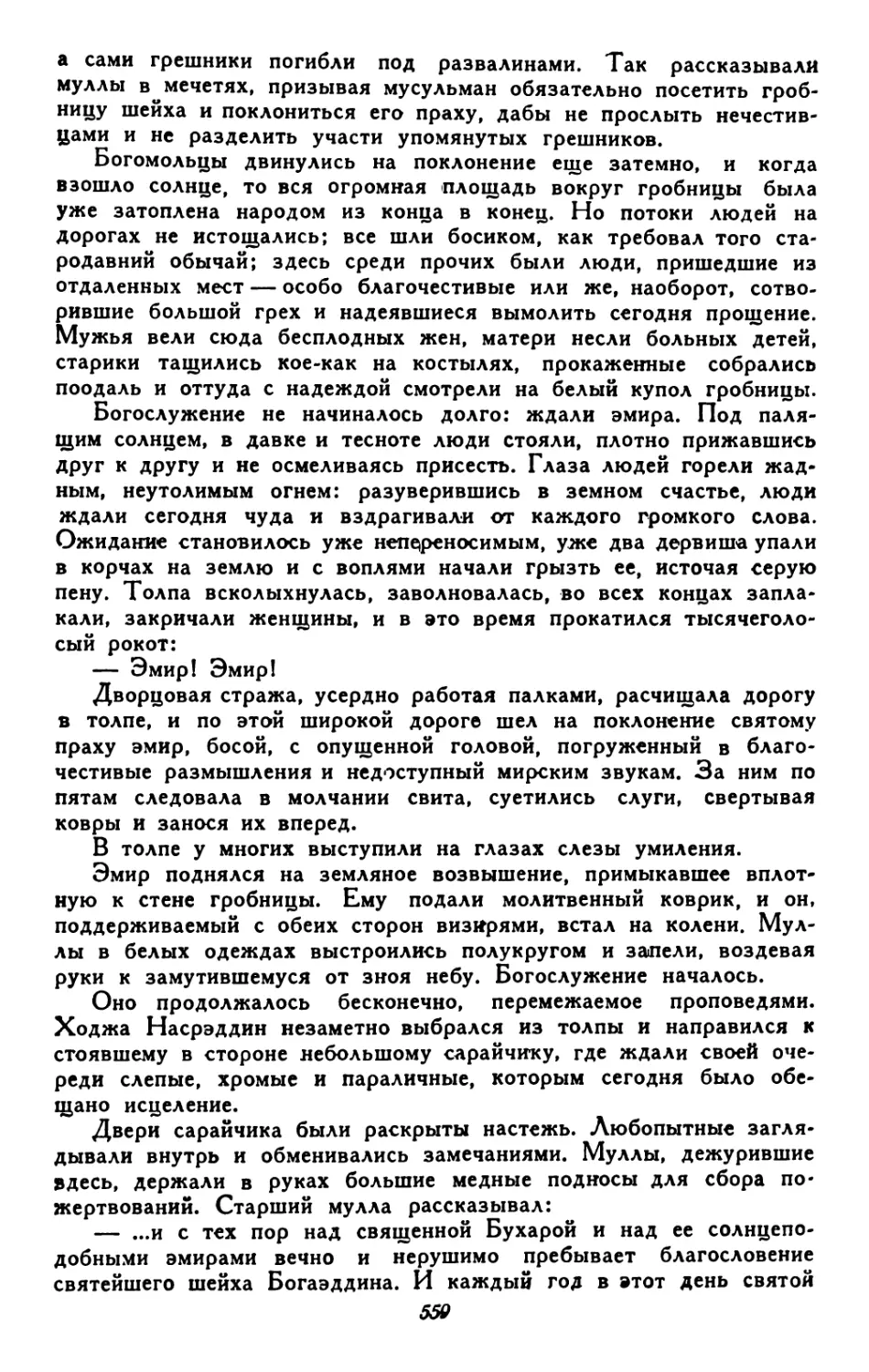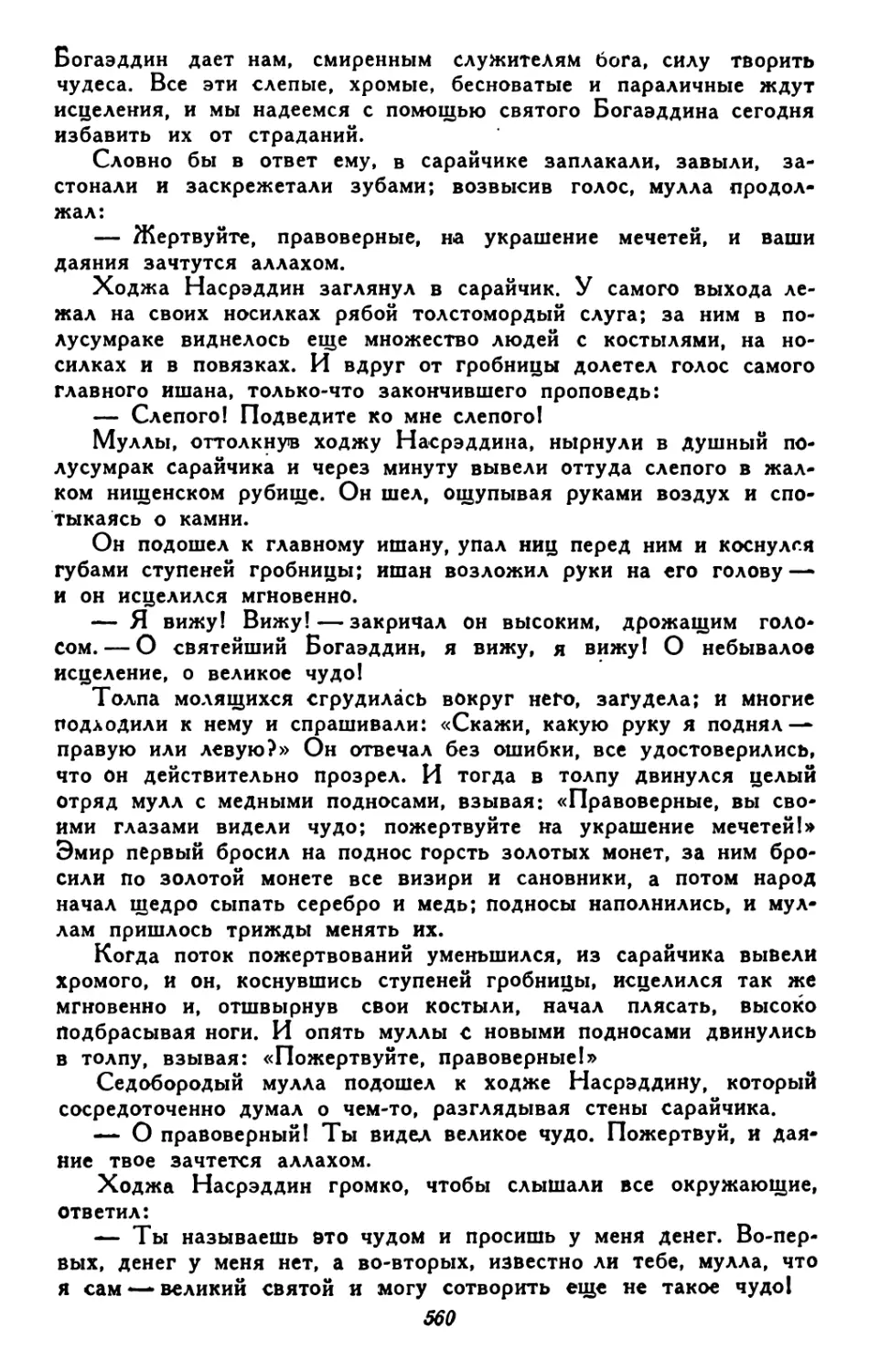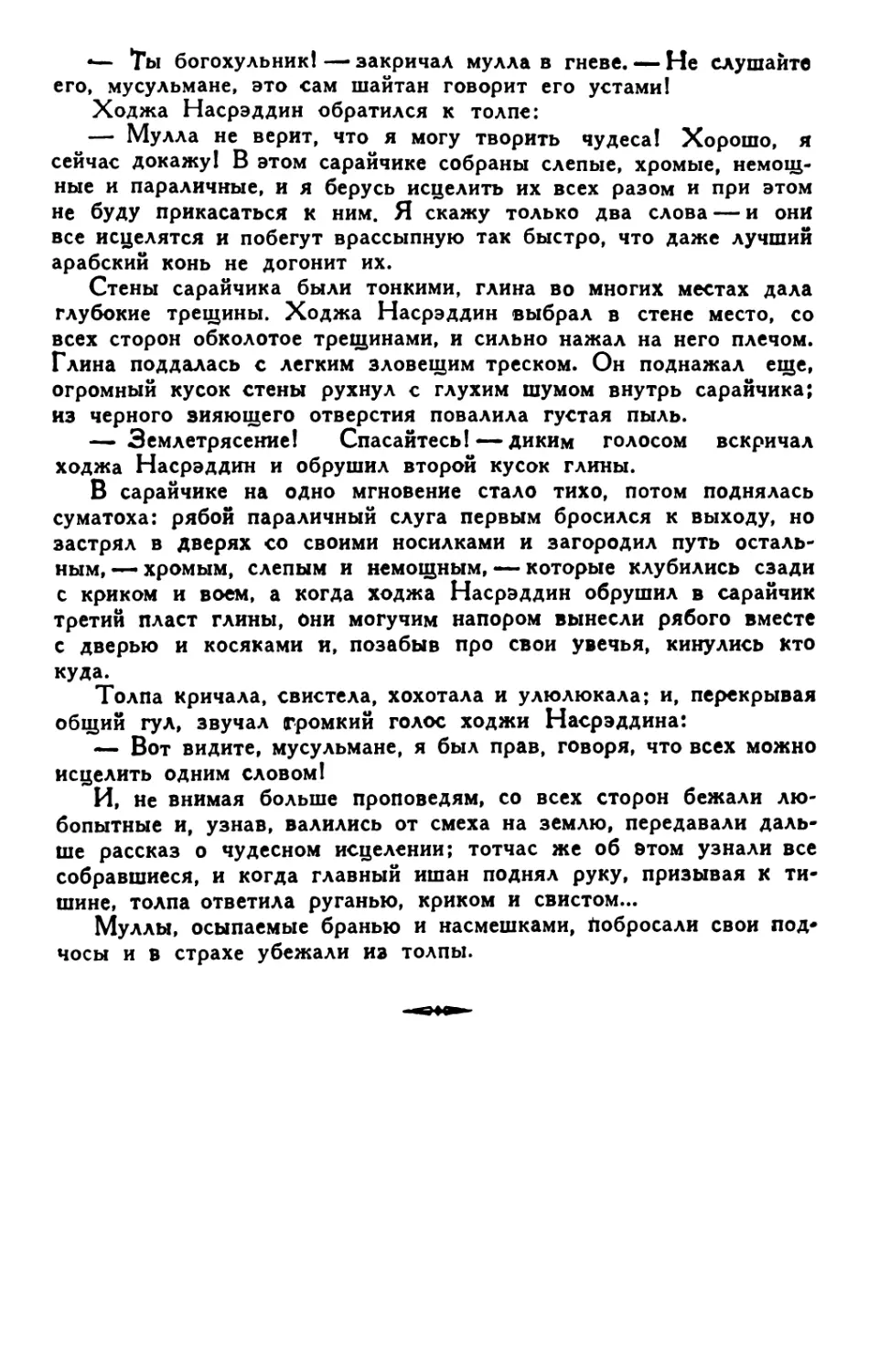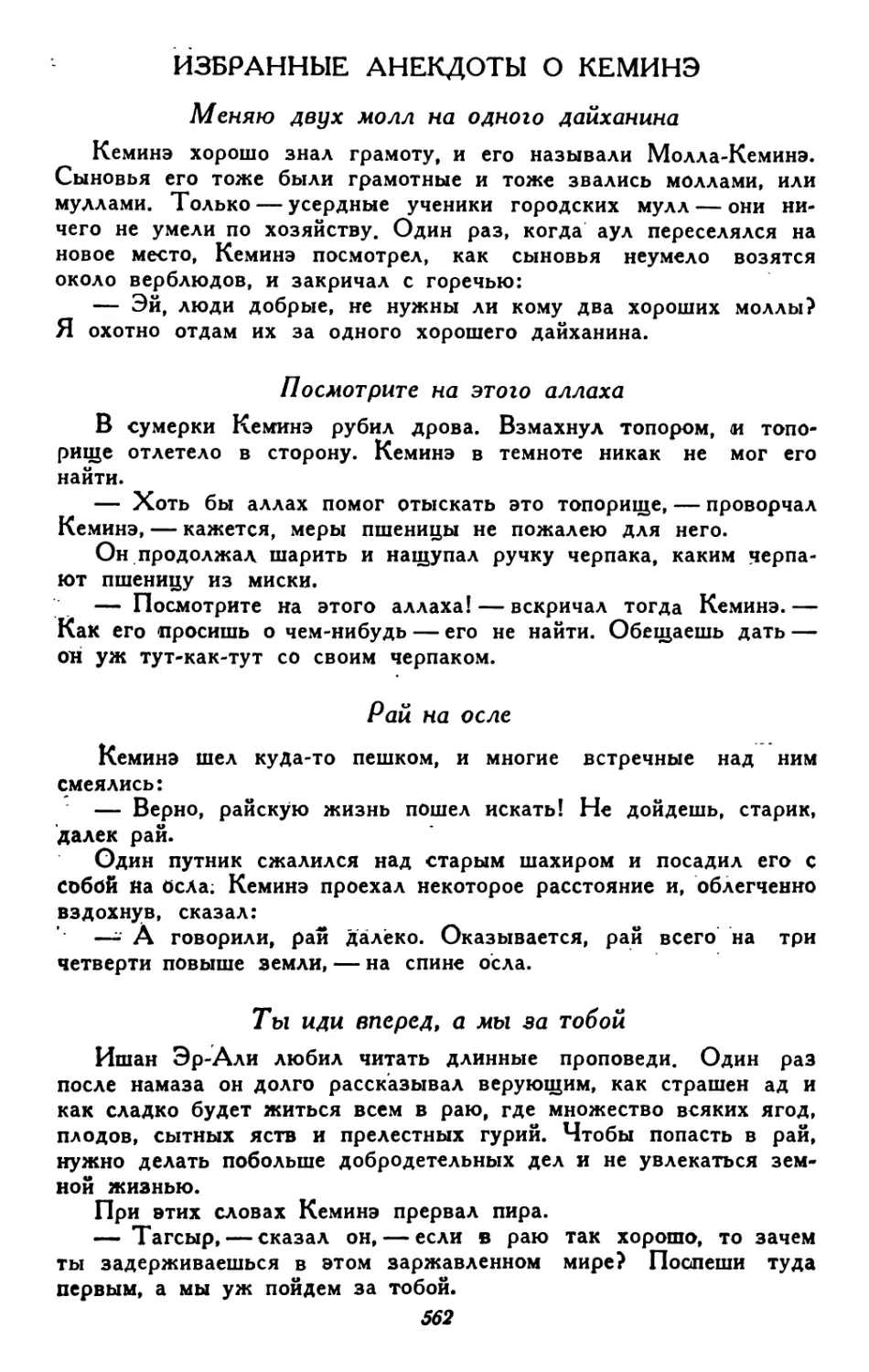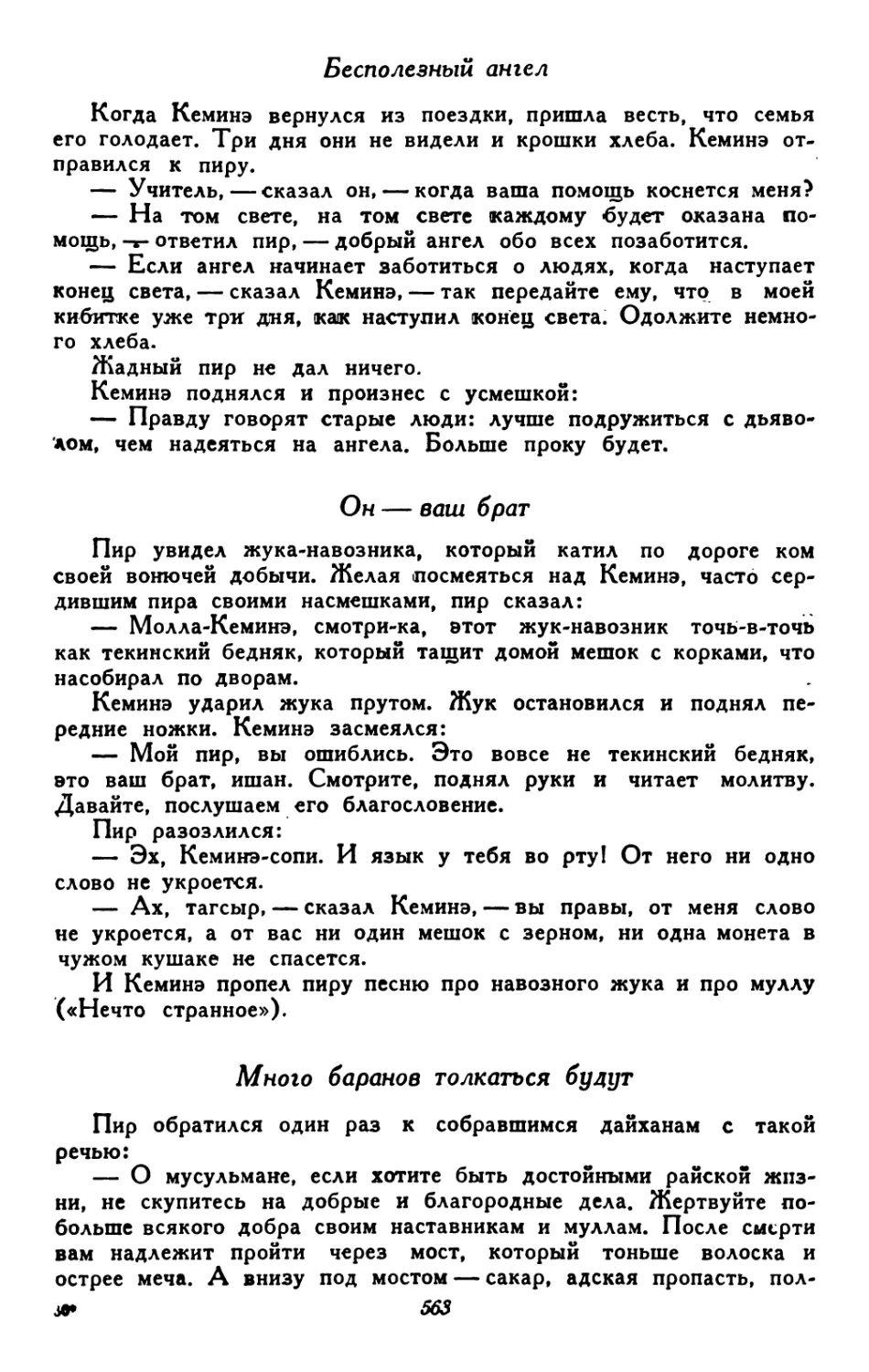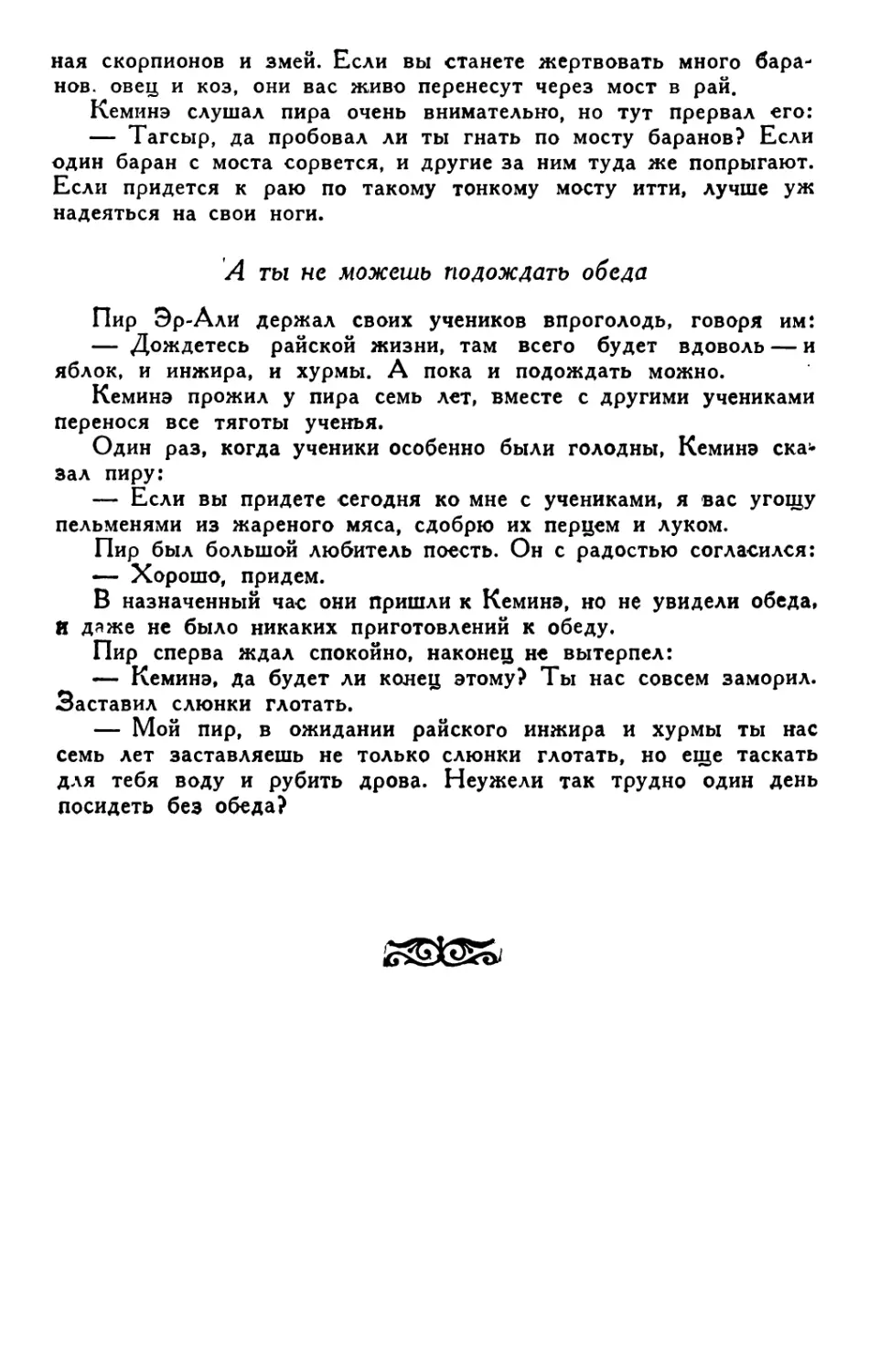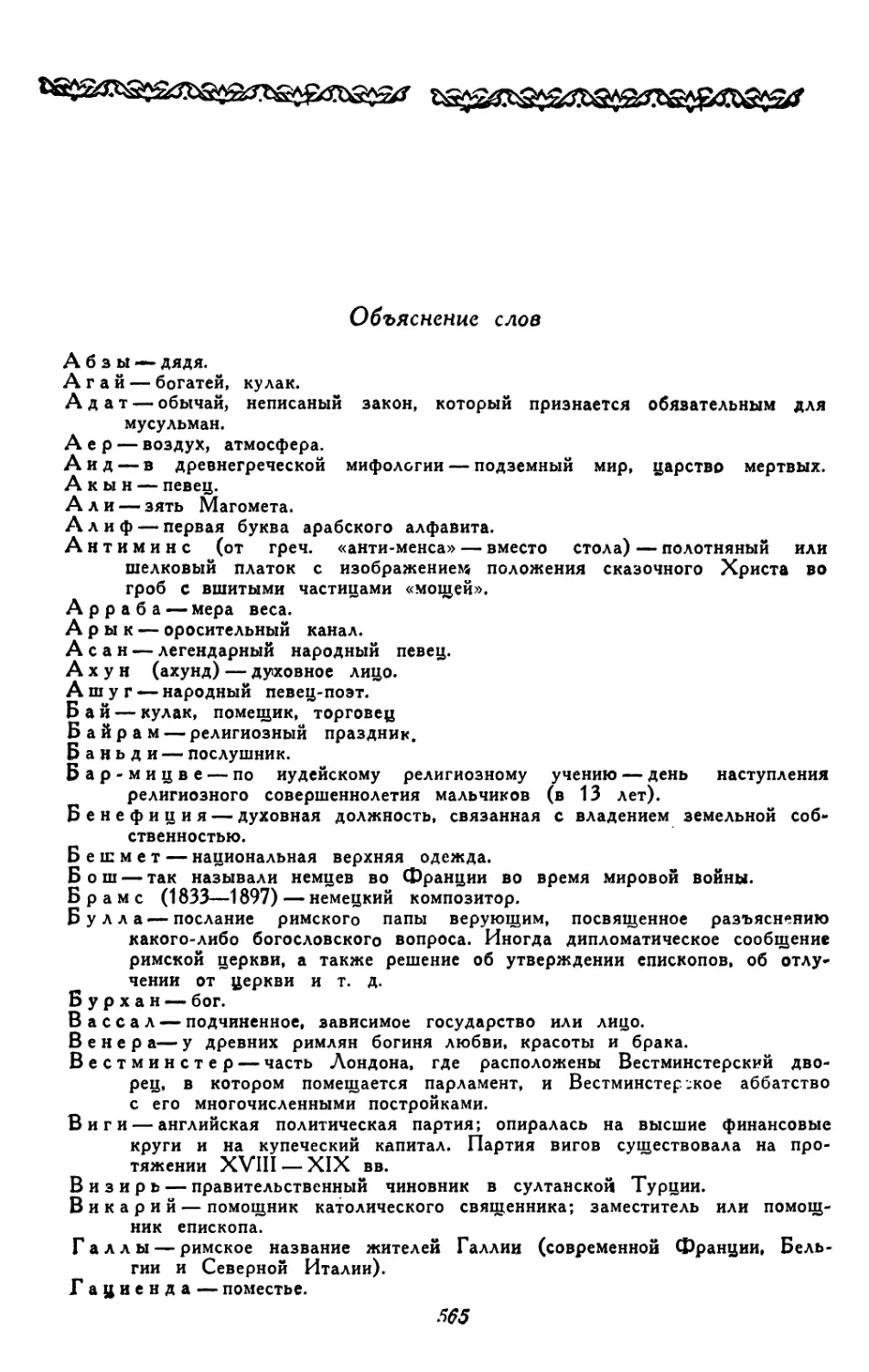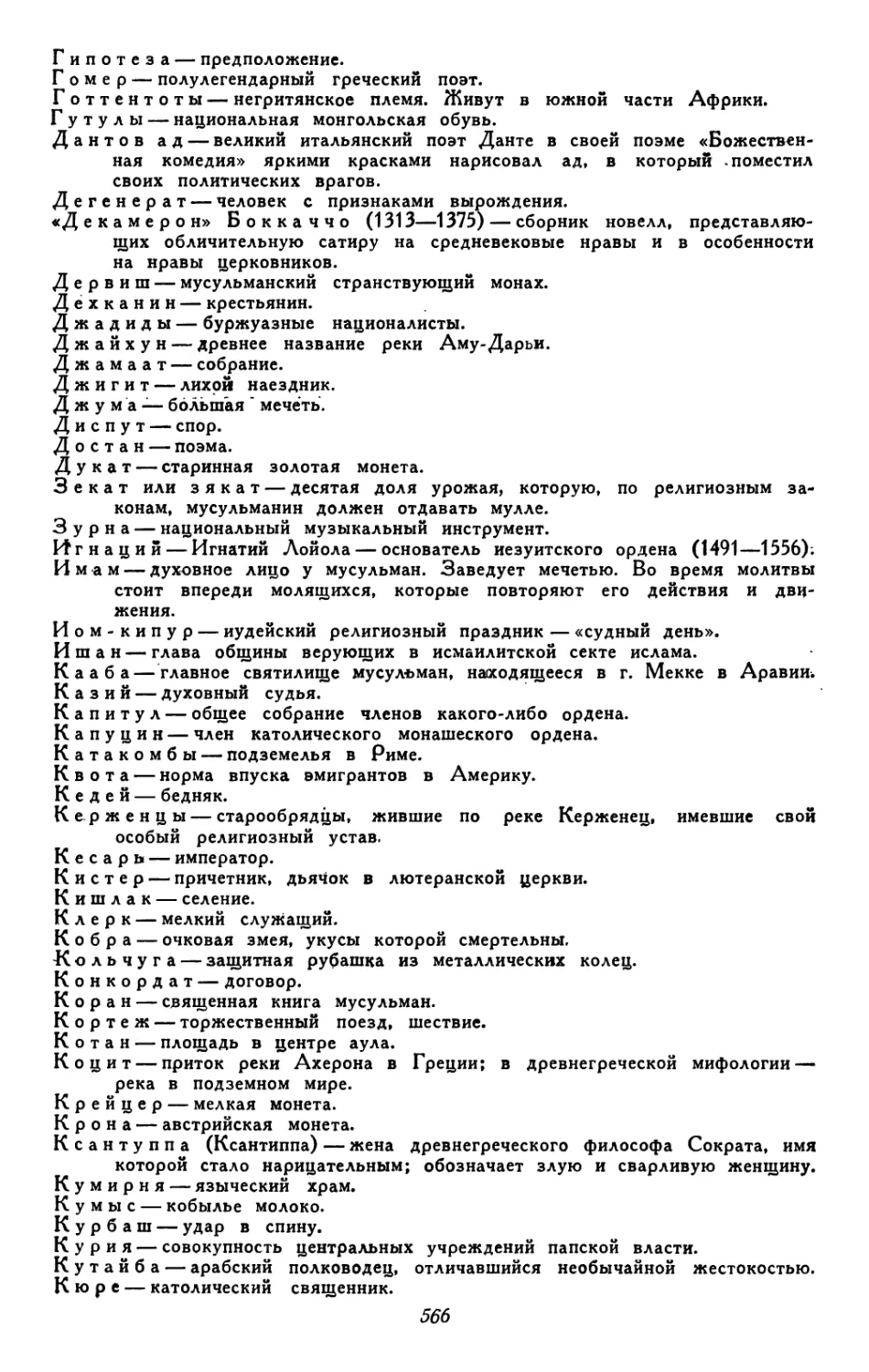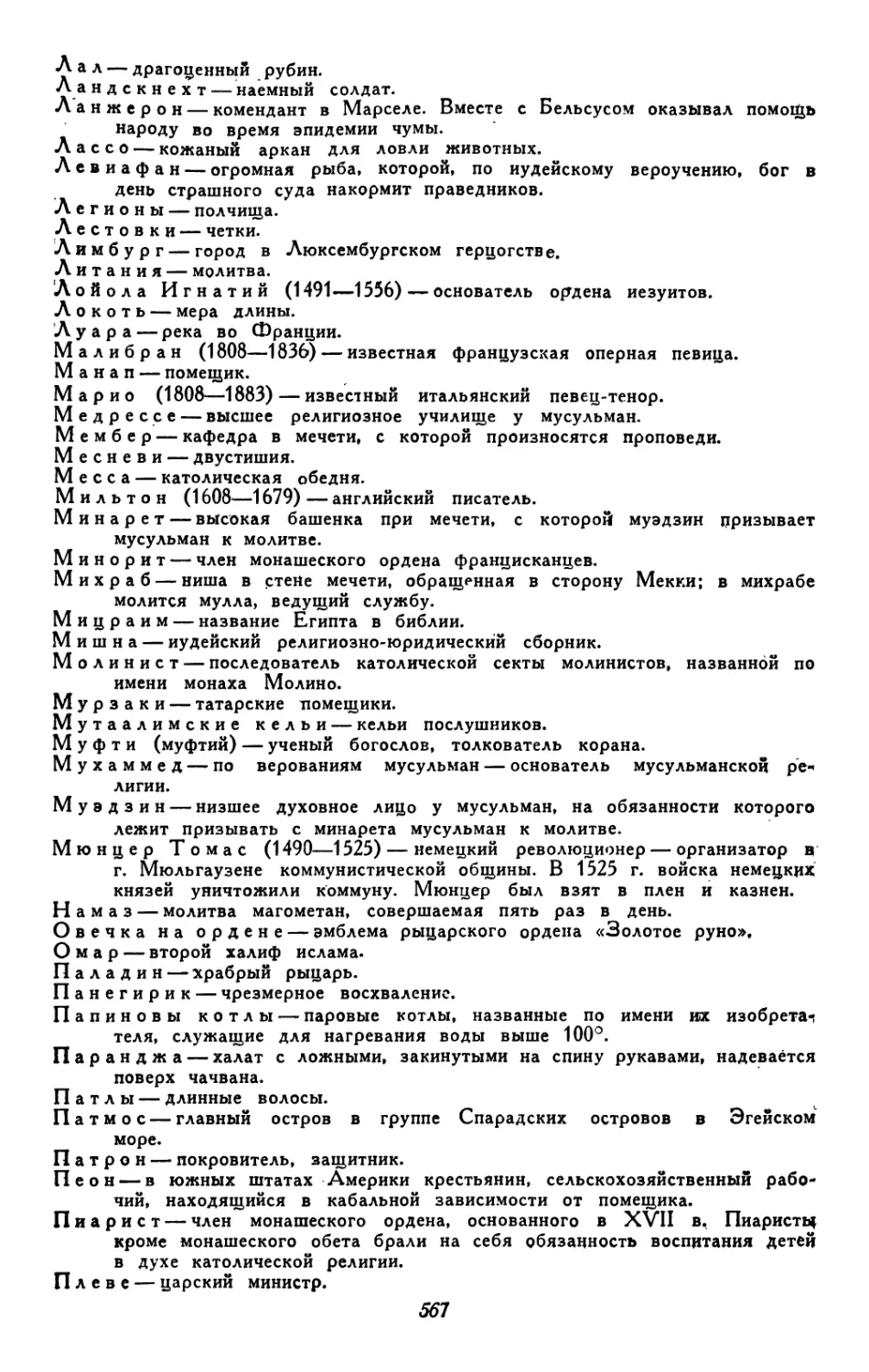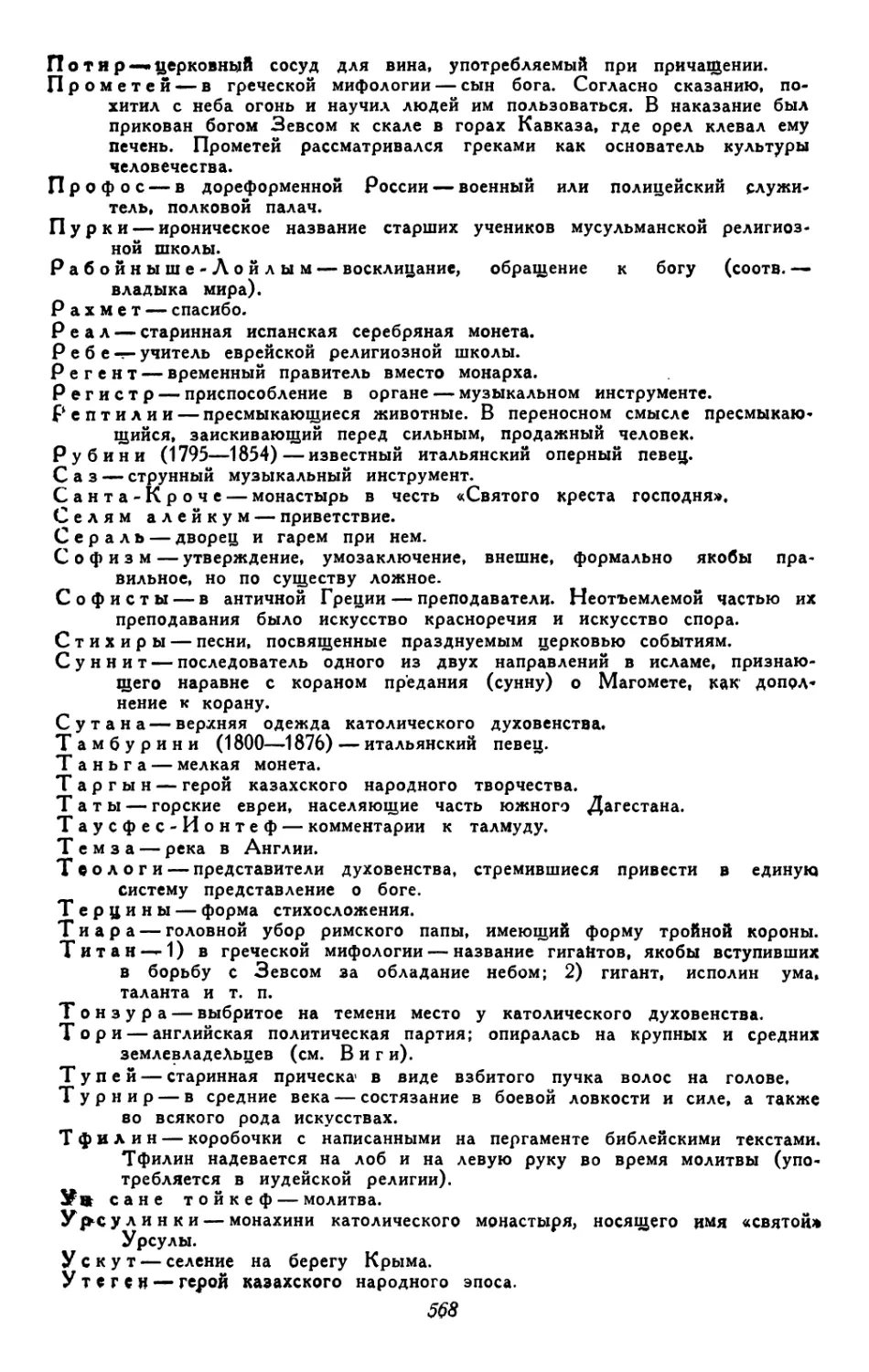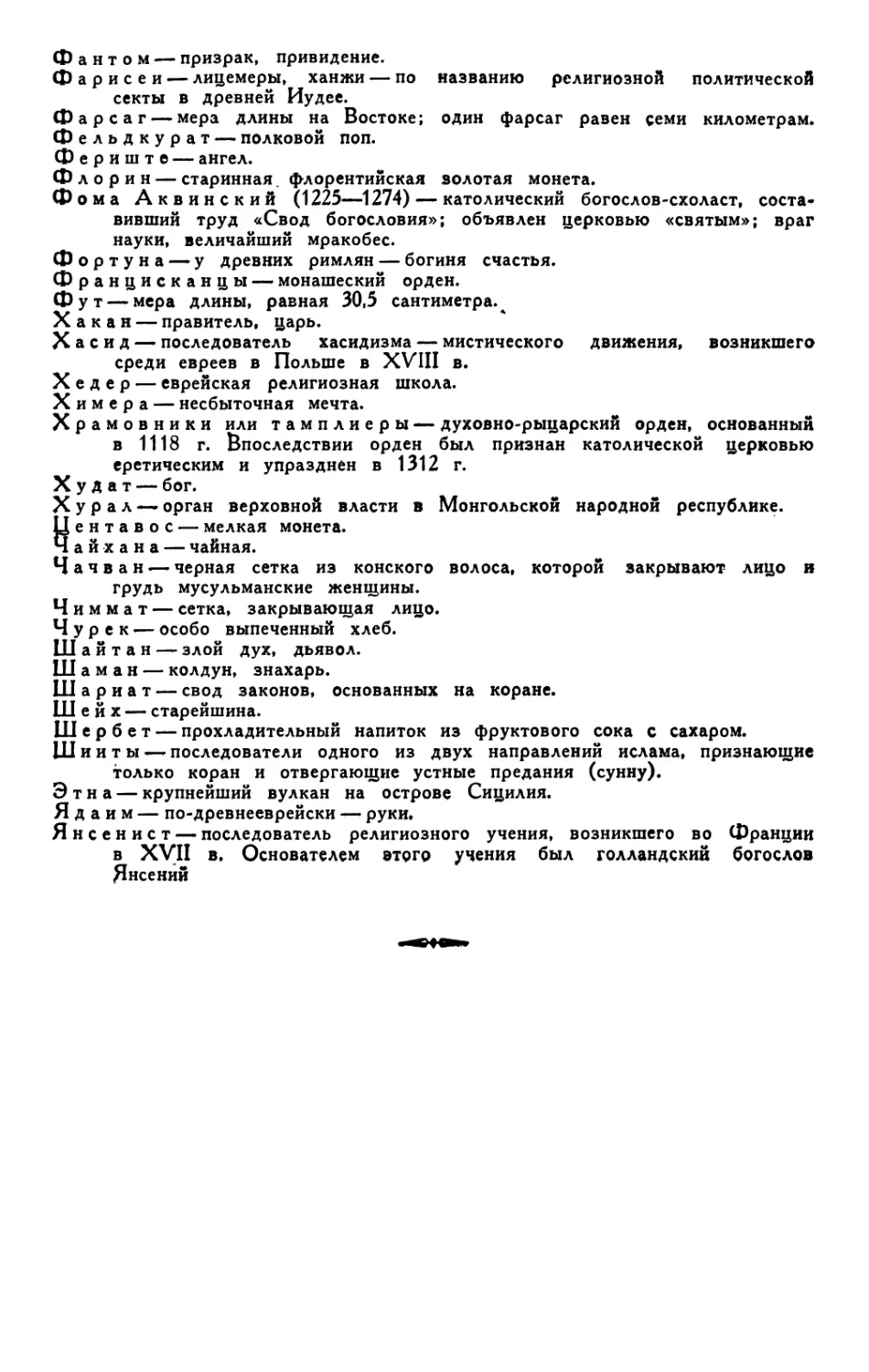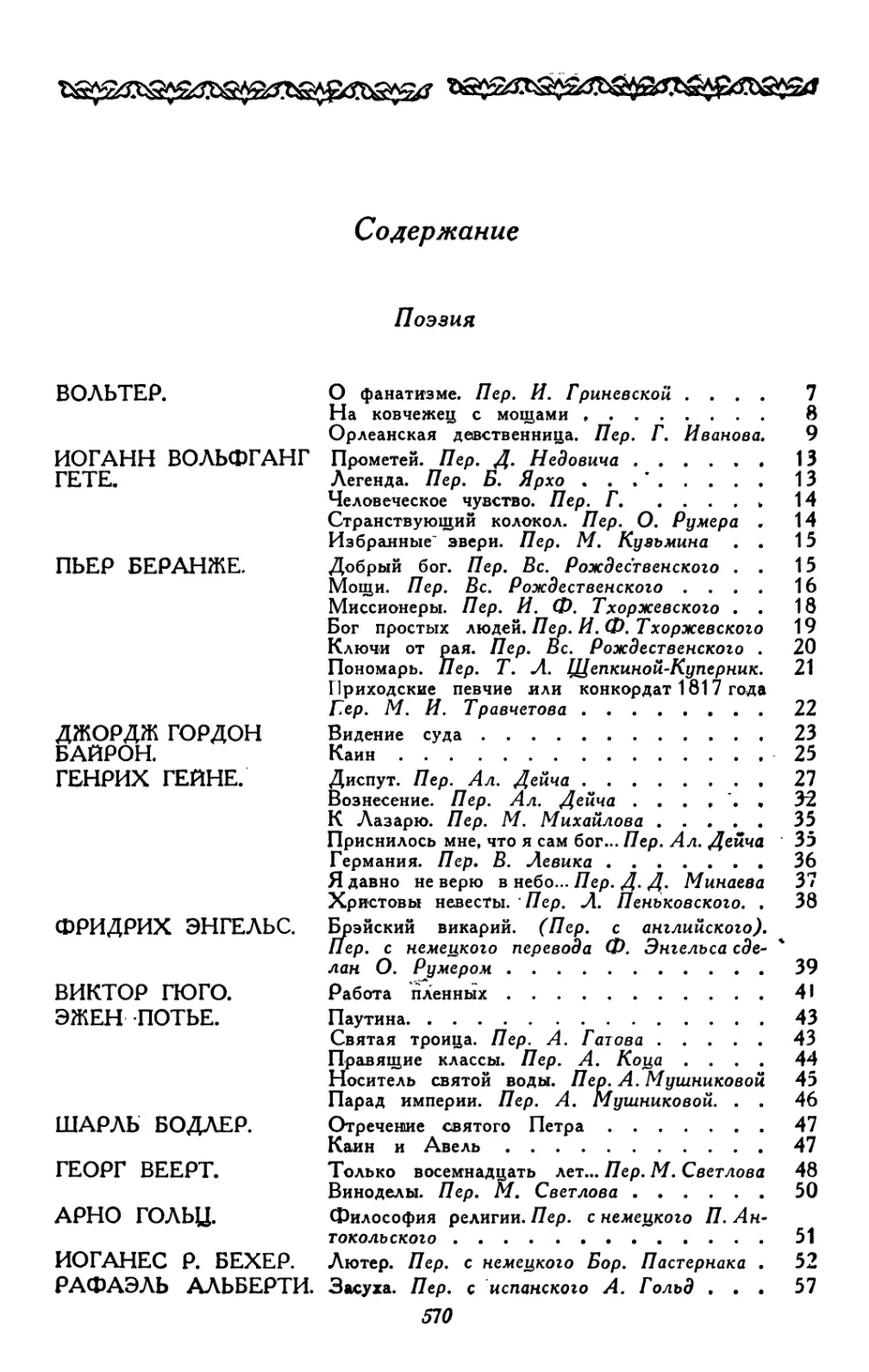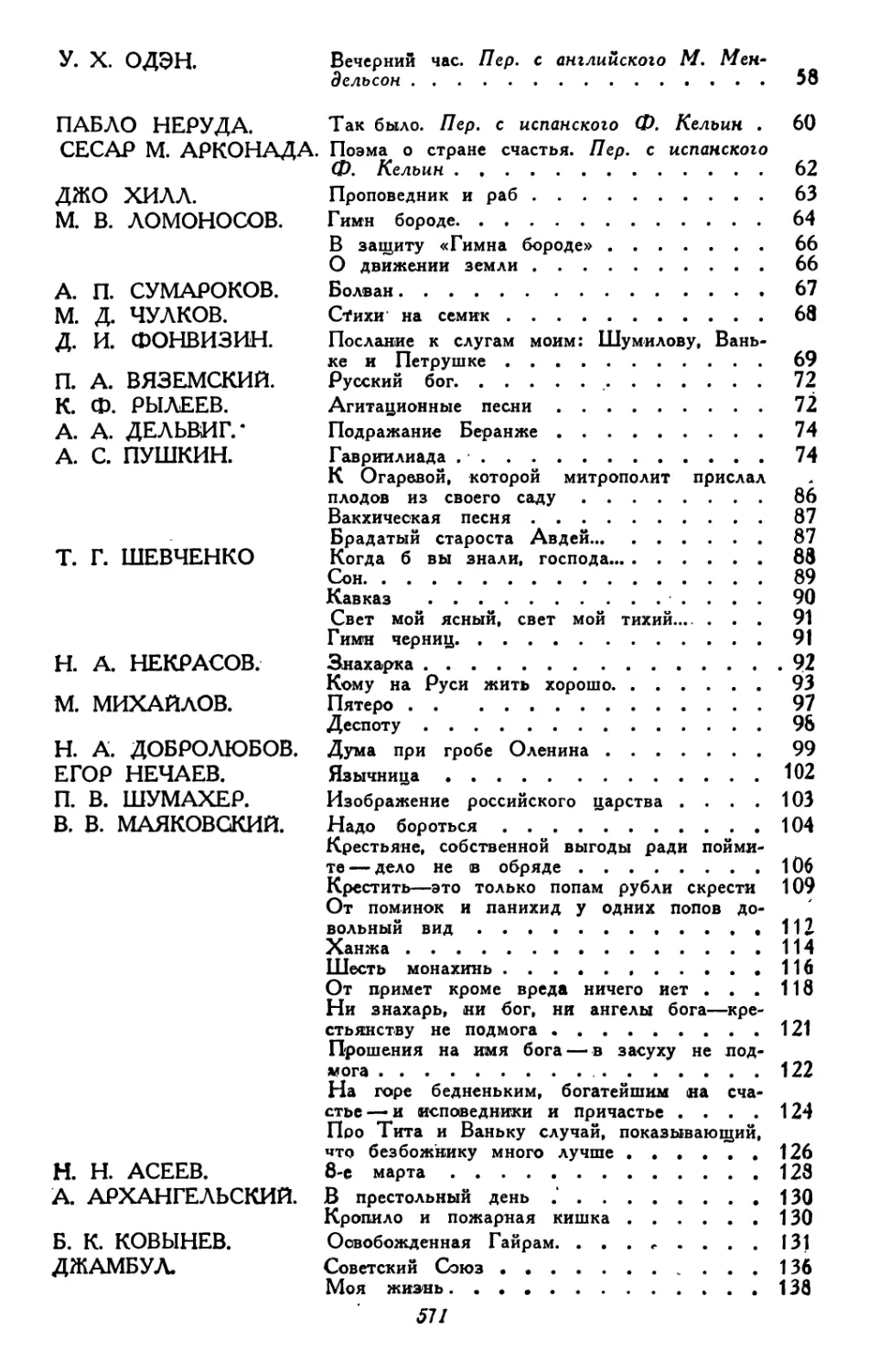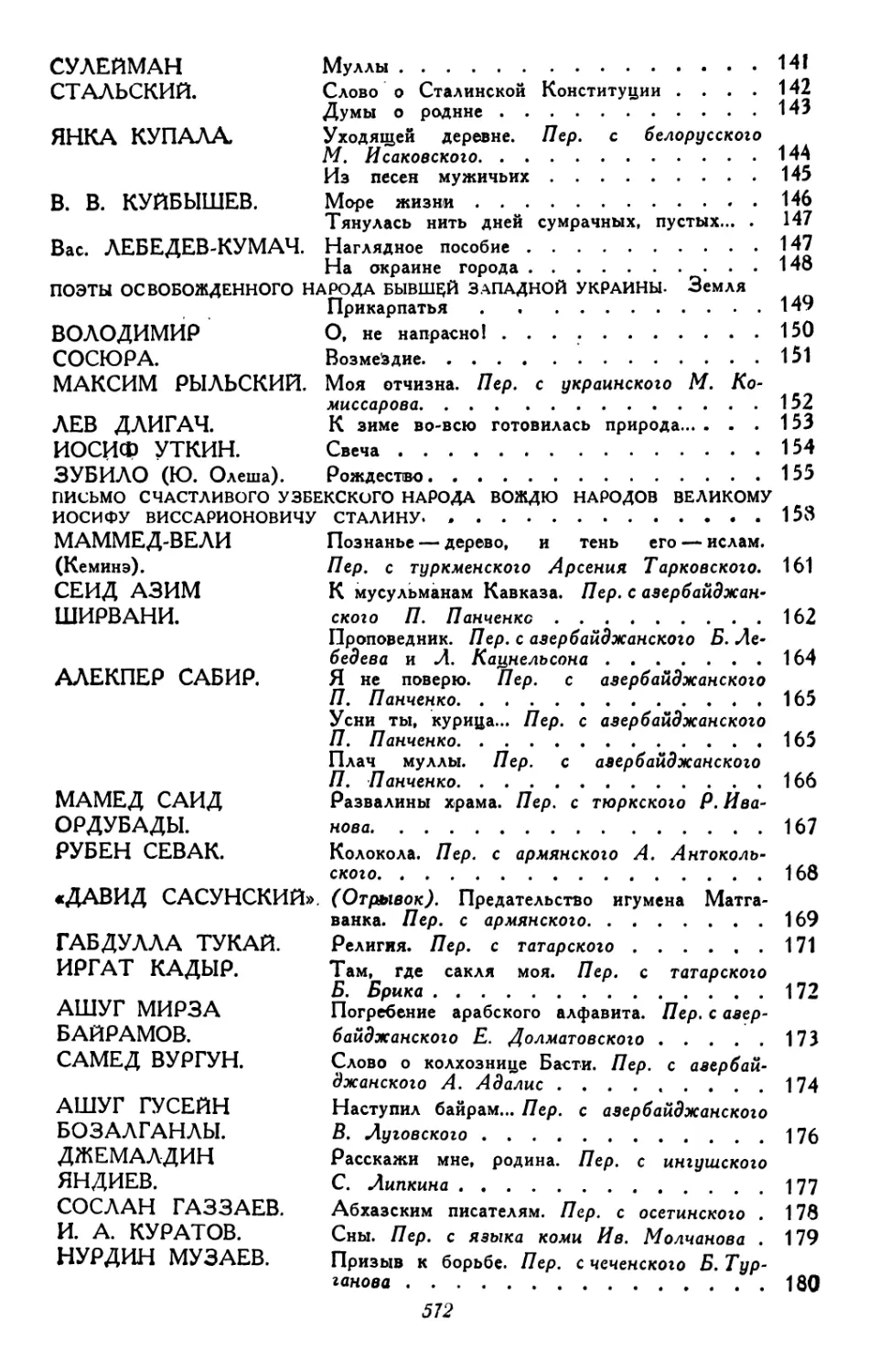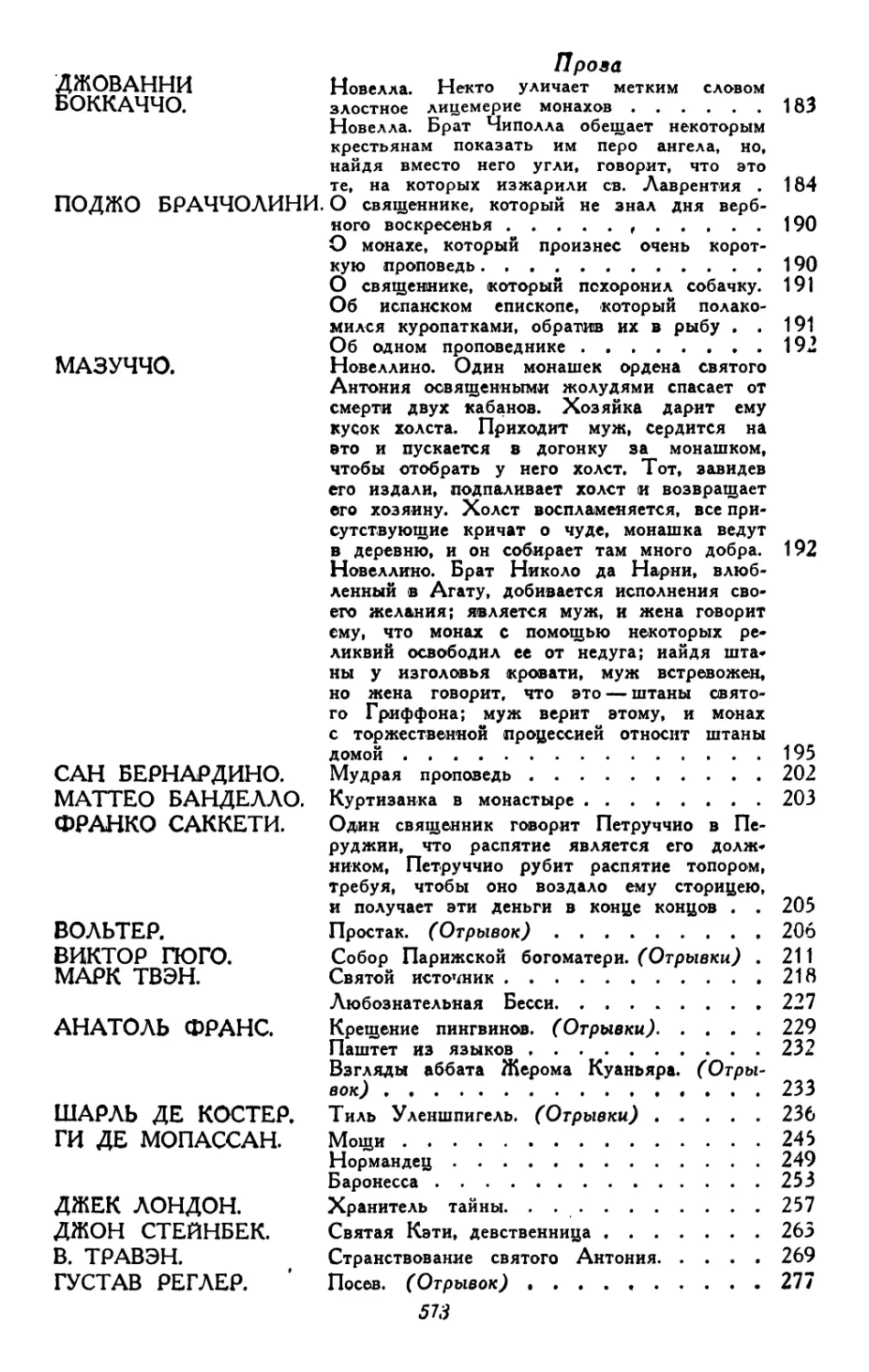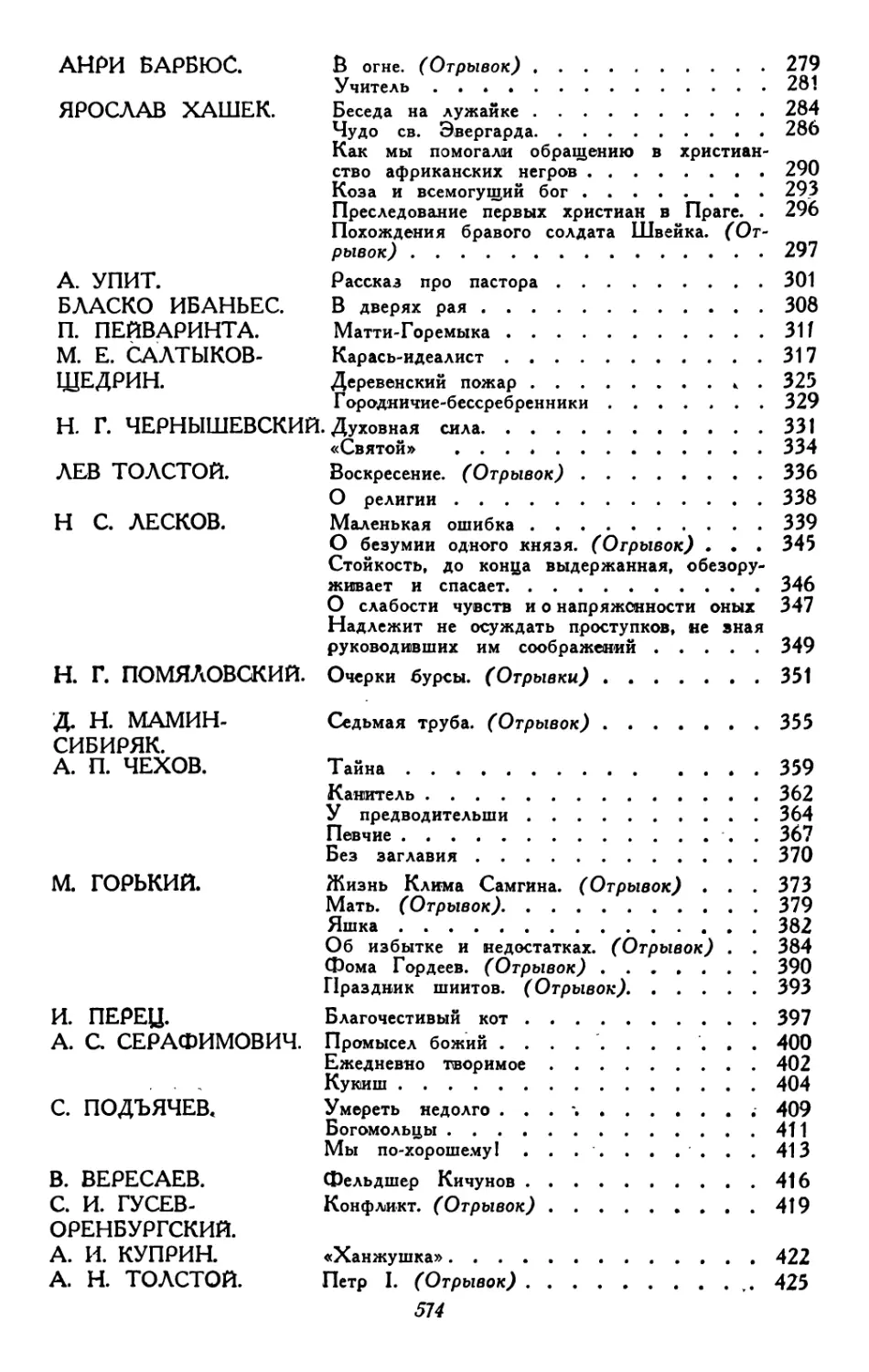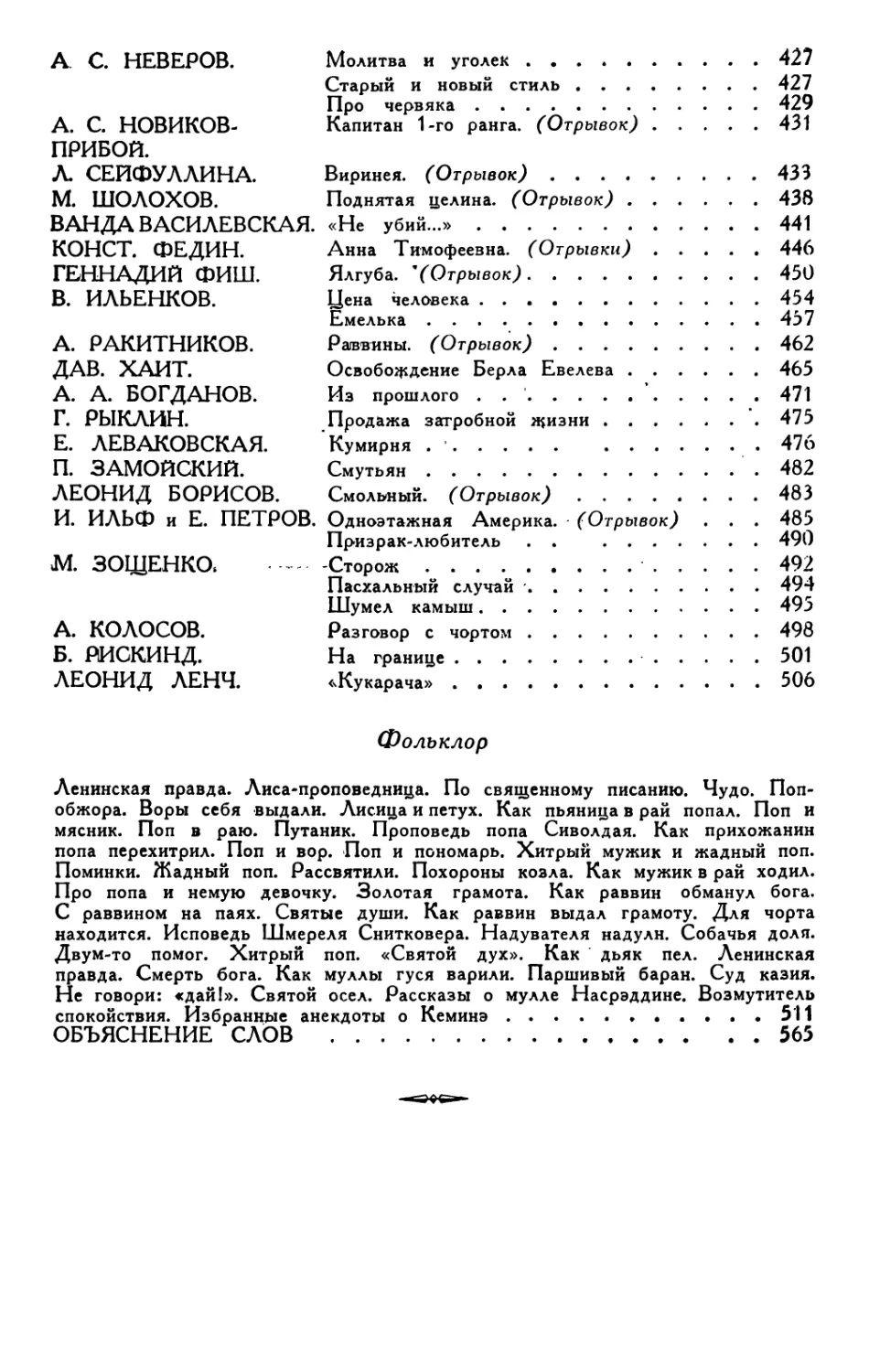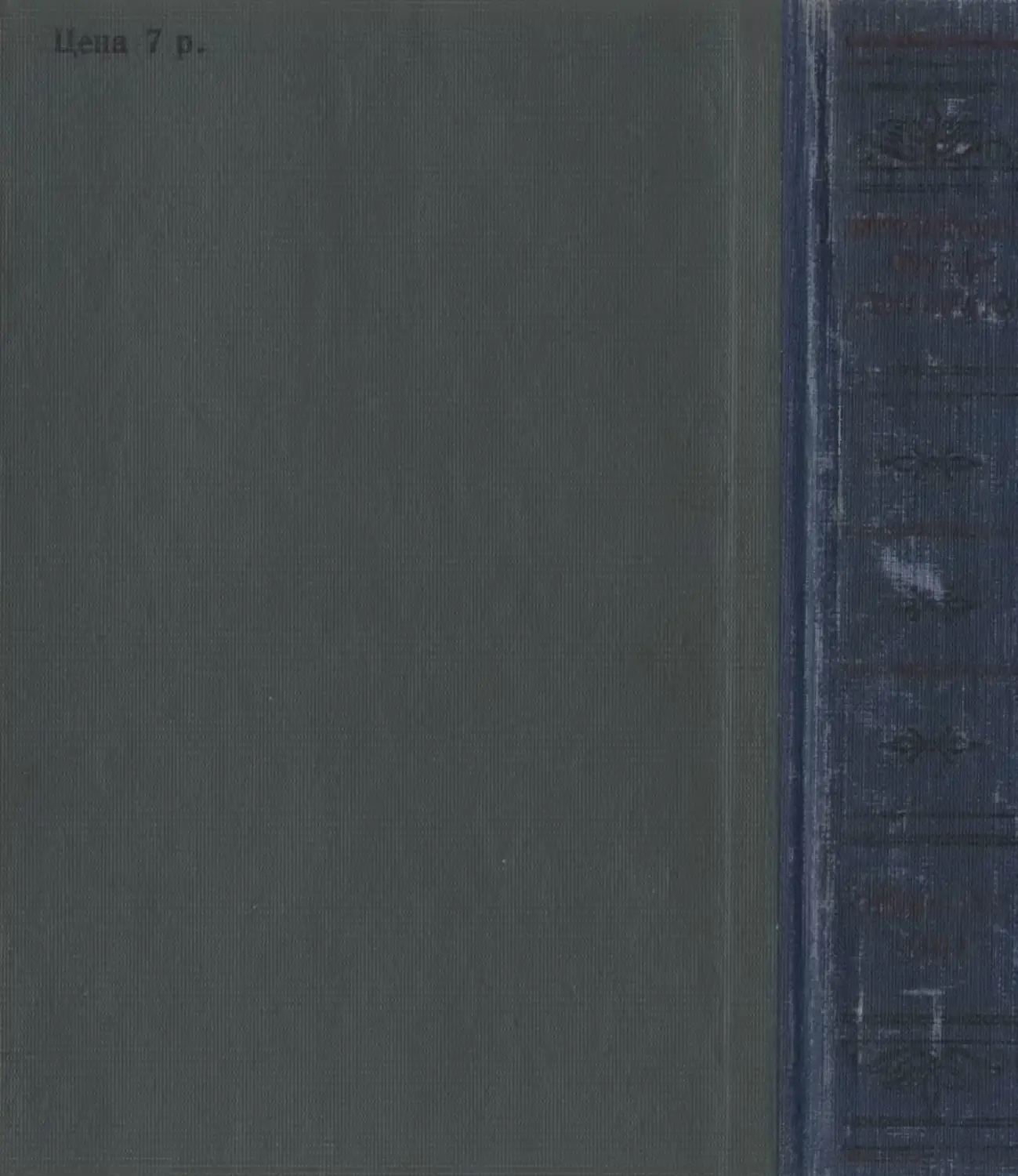Текст
Л НТИРЕЛ игиоз H ы й
ЧТЕЦ'ДЕКЛЛМЛТОР
Составила Е. Д. Вишневская
Под редакцией
П. А. Каширина
ОГИЗ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АНТИРЕЛИГИОЗНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва m 1941
Антирелигиозный чтец-декламатор в 55· Д°6· 2
содержит небольшие отрывки и
законченные художественные
произведения русских и иностранных писателей»
В сборнике представлены
образцы народного творчества.
Материал рассчитан для
исполнения перед массовой аудиторией и для
самостоятельного чтения.
Дух рабства кроется в кумирне и β Каабе,
Трезвон колоколов—язык смиренья рабий,
И рабства низкая печать равно лежит
На четках и кресте, на церкви и михрабе.
Омар Хайям.
поэзия
ВОЛЬТЕР
(1694—1778)
О фанатизме
(Отрывок)
Когда ханжа с усердьем суевера
Религию позорно извратит
Безумною химерой за химерой, —
Он ненависть свою не затаит.
Из уст его — религии во славу —
Забрызжет желчь, горячая как лава,
Вмиг фанатизм даст острый меч ему;
ТЛ будто бы по божескому зову
Грозит весь »мир известь сурово
В честь бога, непонятного уму.
Во Франции сенат, поверженный указом,
А инквизиция? А трибунал,
С невежеством не раз тащивший разум
К позорному столбу?.. Кто заковал
Тосканского философа цепями
С бесстыдством злым? Перед служителями
Религии смирись, о Галилей!
В глазах слепцов, чтоб избежать страданья,
Отринь свою систему мирозданья,
«Не вертится земля»—скажи смелей.
Вы слышите иль нет сигнал ужасный?
Вы видите ль кровавую резню
В Париже, здесь? А в клике многогласном
Вы слышите ль теперь проклятья дню?
Там брат в крови его купает брата,
VI мужа там сгубила без возврата
Жена, и сьга отца сразил мечом.
Вооружил народ кто злым обманом?
Они, они... те патеры в сутанах!
Был добр народ, что льет здесь кровь ключом.
Я, янсенист, ты жаждешь с молинистом
Стереть с земли кровавою рукой
Учения неверя>щих софистов,
Их стрелы, желчь. Покончить с их тоской
7
Ты жаждешь в день один иль в час, (Мгновенно.
Страшитесь, чтоб раздор ваш дерзновенный
Когда-нибудь не отразился вдруг
В стенах родных губительным пожаром,
О времени чтоб не напомнил старом,
Когда страну терзал вражды недуг.
Не чуешь ты в жестоком опьяненьи,
К чему придет неистовство твое,
Коль хочешь ты услышать наставленье
Религии твоей. Поймешь Tbl все,
Коль попадешь в среду ханжей Марсели.
Мозги твои бы там окоченели,
Губителей увидевши там рать,
Прованса плач, открытые «могилы
И городов безлюдье. Злобы силы
Заставили все царства трепетать.
Отец Бельсус — он пастырь всеми чтимый
Спасал народ, что в муках умирал.
Спасал народ поверженный, гонимый,
И воин Ланжером ему в том помогал.
И вы, слепцы, вы все не уставали
Вражду повсюду засевать, в скандале
И в праздности искать своих утех,
Да в болтовне о булле, о Копелли...
Такие вас прельщали только цели,
О коих всем и вспомнить будет грех?
Чтоб дать урок ему, людскому роду,
То надо ли людской губить весь род?
Чтоб показать вам истины природу,
То надо ли зажечь весь небосвод
Огнем вражды? О, знайте же: невежда»
Который даст жизнь брату и надежду,
Он мне пример! Ученый злой гордец,
Что видит лишь себя в земном просторе,
В моих глазах он самозванец, лжец!
На ковчежец с мощами
Был поднесен ковчежец сей
В дар Глупости от Предрассудка;
Про то Уму болтать не смей:
Честь Церкви, милый мой, — не шутка.
8
Орлеанская девственница
Песнь XI
(Отрывок)
Разгневанный Георгий на лету
Одолевает эту пустоту
И, быстро Франции достигнув, едет
Местами, где Денис победой бредит.
Так ночью зажигает небосвод
Лучами ослепительного света
Внезапно налетевшая комета
И поражает ужасом народ;
Трепещет папа; в горе поселяне
Неурожай предчувствуют заране.
Едва Георгия скакун донес
До берегов Луары, для примера
Святой потряс копьем и произнес
Слова, вполне достойные Гомера:
«Соперник немощный, Денис,
Поддержка нечестивцам и смутьянам,
Ты, значит, потихоньку сходишь вниз
И пакостишь героям англичанам!
Ты думаешь соперничать с судьбой
Своим ослом и женскою рукой?
И не страшишься справедливой мести
Тебе, Иоанне и французам вместе?
С убогой шеи голова твоя
Трясущаяся раз уже слетела,
Ты, верно, повторенья хочешь? Я
Ее охотно отделю от тела
И отошлю в презренный твой Париж,
Которому ты милости творишь.
Пускай там погорюют толпы сброда
Над головою своего урода».
Ответил, руки к небесам воздев,
Патрон прекрасной Франции смиренно:
«Святой Георгий, мой собрат почтенный!
Ты все еще не позабыл свой гнев?
Давно в раю мы обитаем оба,
А в сердце у тебя все та же злоба.
Как! Мы, которым ото всех почет,
Почиющие в драгоценных раках,
Не сеем мира, а, наоборот,
Проводим время в бесполезных драках>
Как! Неужели хочешь ты войны
Взамен спокойствия и тишины?
Доколь святители твоей страны
9
He перестанут рай мутить, однако?
Безбожники британцы! Есть предел
Терпенью бога. Гром небесный грянет,
И за свершителей ужасных дел
Молить всевышнего никто не станет.
Ужасен будет грешников удел.
Угодник яростный народа злого,
Святитель желчный, я тебя молю,
Будь кротче! Не мешай мне, ради бога,
Помочь своей стране и «королю!»
При этой речи, от волненья красный,
Георгий вспыхнул яростью ужасной;
И, слушая, что говорит француз,
Он всей душою рвется в бой опасный,
Предполагая, что соперник — трус.
Он на него летит, мечом сверкая,
Как сокол, пташку встретив на пути.
Денис, благоразумно отступая
И времени напрасно не теряя,
Осла небесного зовет: «Лети
Скорей сюда, чтоб жизнь мою спасти».
Так говоря, он позабыл, конечно,
Нто жизнь его не прекратится вечно.
Осел наш возвращался в этот миг
Из солнечной Италии обратно
(Зачем, куда — читателю понятно).
Дениса доброго услышав крик,
К святителю он быстро подлетает,
С лазурной высоты спускаясь вниз,
Взобравшись на спину ему, Денис
Булат британца павшего хватает
И, яростно размахивая им,
Вступает в бой с соперником своим.
Георгий, обозленный, наступает
И делает мечом ужасный взмах
Над головой святого. Но сноровка
Не помогла. Тот уклонился ловко,
И голова осталась на плечах.
Вновь всадники несутся друг на друга,
Сверкают лезвия, звенит кольчуга,
Какая мощь, какая красота!
Упоены отвагою своею,
Стараются попасть в наличник, в шею,
В сиянье, в пах « в прочие места.
Оспаривая друг у друга славу,
Они победы отдаляли миг,
Как вдруг неистовый раздался крик:
Осел запел ужасную октаву,
10
Которая все небо потрясла;
И эхо повторило крик осла.
Георгий побледнел. Денис смышленый,
Использовав момент, удар нанес
И отрубает у героя нос.
Обрубок катится, окровавленный.
Хоть нету носа, но отвага есть;
В душе Георгия пылает месть.
С проклятием он бога поминает
И, яростный удваивая пыл,
Святителю французов отрубает
Тот член, что Петр у Малха отрубил.
Святой осел пронзительно завыл,
И райские чертоги содрогнулись.
Небесные ворота распахнулись;
Блистательный архангел Гавриил,
Своими огнезарными крылами
Спокойно рассекая высоту,
В пространстве показался над бойцами,
Неся в руке лилейной ветку ту,
Что веяла когда-то, зеленея,
В божественной деснице Моисея,
Когда он в море, покидая Нил,
Египетское войско утопил.
«Что я тут вижу? —закричал сердито
Архангел на дерущихся святых. —
Как! Слава аналоев золотых,
Смиренье, крест, все вами позабыто!
Приличны страсти и огонь войны
Для тех, что женщинами рождены.
Пусть, вечно недовольные собою,
Безумцы смертные, земли сыны,
С презренной ратоборствуют судьбою.
Но вас зачем сражаться чорт понес!
Чего вы меж собой не поделили?
Блаженство ли наскучило вам или
С ума сошли вы? Боже! Ухо! Нос!
Как вы решились, дети совершенства,
Позабывая вечное блаженство,
Сражаться, крови не щадя своей,
Из-за каких-то жалких королей!
Довольно! Слушаться меня живей,
Иль с раем вам придется распроститься.
Я вам приказываю помириться.
Вы, господин Денис, берите нос
И помолитесь, чтобы он прирос.
Георгий, злюка, ухо подберите
11
И поскорей на место водворите».
Денис послушный тотчас же спешит
Исполнить все, что Гавриил велит,
Георгий тоже поднимает ухо
С травы. Соперники бормочут глухо
Oremus * умилительный для слуха-
Все пристает прекрасно. Все спешит
Немедленно принять обычный вид.
И нос и ухо прирастают плотно,
От ран не остается и следа;
Настолько тело жирно и добротно
У жителей небесных, господа!
Тут Гавриил начальническим тоном
«Теперь поцеловаться!»—говорит.
Добряк Денис, не помнящий обид,
Охотно, первый, поцелуй дарит.
Георгий отвечал ему со стоном
И поклялся, что после отомстит.
Затем архангел следом за собою
Велит лететь смирившимся святым
В цветущий рай дорогой голубою,
Где чаши с нектаром готовят им.
Вы сомневаетесь, читатель строгий,
В моих словах? Я, ораво, не солгал.
У стен, что ток Скамбадра омывал,
Не раз в боях участвовали боги.
И разве не поведал вам Мильтон
Про ангелов крылатый легион,
Который бился в небесах грудь с грудью;
Как щепками, швырял горами он
И, как ни странно, прибегал к орудью.
Коль Сатана и Михаил сошлись
Когда-то в небесах, чтоб насмерть биться»
Тем более Георгий и Денис
Могли друг другу в волосы вцепиться.
Но если мир на небесах зацвел,
То человеческий унылый дол
Был, как обычно, преисполнен зол.
• Oremus — помолимся.
ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЕТЕ
(1749—1832)
Прометей
Закутай свое небо, Зевс,
Покровом туч
И действуй, как мальчики,
Что бьют репей,
Рази дубы и выси гор, —
Лишь бы мне осталась
Моя земля,
Шалаш мой, выстроенный не
И мой очаг [тобой,
С его огнем,
Тебе завидным.
Не знаю под солнцем
Более жалких, чем боги!
Питанье скудное
Ваших величеств —
Оброки жертв
И молений дух.
В нужде вы были б
Без нищих, младенцев,
Верующих дурней.
Был я младенцем,
Не ведал, что делать мне,
Обращал заблудший взор свой
Я к солнцу, нет ли в вышине
Ушей, что жалобу услышат,
Или сердец,
Что милосердны к угнетенным.
Помог мне [задор?
Кто-нибудь титанов смять
Кто спас меня от гибели,
От рабства им?
Не все ли ты само свершило,
Сердце, огнь святой?
Горел ты, юн и добр,
Обманутый в хвалах
Пред дремлющим всевышним?
Мне — тебя чтить? За что?
Разве когда облегчил ты
Скорбь удрученного?
Разве когда утолил ты
Слезы тревожного?
Из меня кто выковал мужа?
Время, властное всем,
Да извечные судьбы, —
Я и ты — в их власти.
Или помнил ты:
Я жизнь ненавидеть должен,
Бежать в пустыню,
Коль не стали
Грез цветы — плодами ?
Здесь я людей ваяю,
И в них — мой образ,
Мне подобное племя:
Чтоб мучиться, плакать/
Наслаждаться, веселить себя»
С тобой не считаясь»
Как я!
Легенда
В пустыне некий блаженный мних
Повстречал к изумленью очей своих
Козлоногого фавна, который рек:
13
«Помолись за меня и моих, о брат,
Чтоб открылись нам радости райских врат:
Их же мы жаждем весь наш век».
На что пустынник в ответ изрек:
«Моленье твое зело опасно,
И навряд ли небо будет согласно
Пустить тебя в ангельский чертог:
Ведь ты, к прискорбию, козлоног».
На что ему леший сказал сердито:
«Далось же тебе мое копыто!
Я видал, как прямехонько в райский покой
Иной пробирался с ослиной башкой».
Человеческое чувство
Боги! Вы велики, боги,
Там, ввыси, в просторах иеба!
Если б нам вы уделили
Твердый ум и бодрый дух,—·
Мы оставили б, благие,
Вас »выси в просторах неба!
Странствующий колокол
Жил мальчуган; он в божий Вдруг — ужас! — за собою он
Бывало, ни ногою; [храм, Услышал шум металла.
И вечно по воскресным дням
Шасть в поле с зарею! Качаясь, колокол идет,
От страха мальчик воет, —
Однажды рассердилась мать: Бедняжку колокол вот-вот
«Не слышишь звона, что ли? Безжалостно накроет.
Постой же, колокол нагнать
Тебя сумеет в иоле!» Но, ловко отскочивши в бок,
Он что есть силы прямо
А мальчик думает: висит Чрез поле, рощу и лужок
Тот колокол высоко! — Бежит к воротам храма.
И вот уж на поле бежит,
Как будто от урока. С тех пор лишь благовеста звон
Раздастся в воскресенье,
Все глуше колокола звон. Он к службе, страхом научен,
Мать зря, знать, наболтала! Бежит без приглашенья.
14
Избранные звери
Доступно четырем зверям «Оставь овцу ты бедняка» —
Пастись на райском месте, Лишь у богатых кушал.
И вечно пребывают там
Со праведными вместе. Храбра, вступая в их семью, -
Храбр и хозяин равно, —
И первым тут вступил осел, Собачка с спящими семью
Идет неутомимо. Что так спала исправно.
На нем ведь Иисус вошел
Во град Ерусалима. Абухериры кошка тут,
Поет, хребет согнулся.
И волк за ним, труслив слегка, Все звери в святости живут,
Пророка он послушал: Кого пророк коснулся.
ПЬЕР БЕРАНЖЕ
(1780—1857)
Добрый бог
Надевши туфли и халат,
Однажды утром, говорят,
Господь открыл окошко:
— Дай погляжу немножко,
Цела ль земля, как там дела?
И видит — кружит в небе мгла.
Пришлось, вздохнув, себе признаться,
Что очень скоро, может статься»
Придется к чорту убираться.
— Охвачен счастьем иль тоской.
Ты так ничтожен, род людской,'
Что за тобою, без сомненья,
Весьма потребно наблюденье, —
И вот, спокойствие храня,
Министры правят за меня
\\ на народ не наглядятся.
А самому мне, может статься.
Придется к чорту убираться.
Чтоб жить в весельи всем равно,
Я дал вам женщин и вино, —
15
И что ж, своею бородою
Клянусь,—от войн мне нет покою.
Призвав в свидетели меня,
Весь мир взбесился от огня, —
Нет, с вами мне не столковаться!
Мне самому^го, может статься,
Придется к чорту убираться.
Что там за люди пред толпой
В парче, в короне золотой?
Уже помазанные миром,
Земли становятся (кумиром
И говорят, что их глава
Мои восприняла права.
Ну как же тут не рассмеяться?
Мне самому-то, может статься,
Придется к чорту убираться.
А сколько траурных сутан
Кадят мне под нос свой туман
И, продавая людям чудо,
За мой же счет живут не худо,
Сплетая с именем моим
Своих делишек едкий дым, —
Нет, с ними мне не рассчитаться!
При виде их мне, может статься,
Придется к чорту убираться.
Увы, я, дети, не при чем,
Я — в тех, кто с сердцем и с умом,
И я всегда был чужд злословью.
Живите счастьем и любовью
И, ненавидя звон цепей,
Гоните в шею королей.
Кто там? Шпион?.. Когда пробраться
Сумел на небо он, — признаться, —
Мне надо к чорту убираться.
Мощи
Однажды я главой приник
К гробнице местного святого.
Приятель мой, звонарь-старик,
Шепнул: «А хочешь зреть живого?»
— «Живого? — что ты... бог с тобой.
!Да разве может так случиться?»
16
И вдруг в гробу своем святой
Поднялся в ризе золотой.
— Спешите, братья, приложиться!
Хохочет дерзостный скелет.
Еще немного — лопнут стекла.
«Друг, не одну уж сотню лет
Меня поджаривает пекло.
Давно когда-то сгоряча,
Чтоб барышами раздобыться,
Прелат, дукатами бренча,
Купил мой труп у палача».
— Спешите, братья, приложиться!
«Я—шарлатан, убийца, вор,
Клятвопреступник и бродяга.
Во всех разбоях с давних пор
Моя участвовала шпага.
Все церкви грабил я подряд,
Мне что? гробницаТ так гробница, —
Сдирая камни и оклад,
Святых бросал я прямо в ад».
— Спешите, братья, приложиться!
«Вон та святая — как мила
И как на ангела похожа!
И все же, друг, она была
Простой еврейкой с белой кожей.
Из-за нее святой отец
Забыл однажды причаститься,
Двух кардиналов для колец
Она замучила вконец».
— Спешите, братья, приложиться!
«Склонись пред черепом пустым,
Уж ни на что теперь не годным.
Он был (разбойником плохим,
Но палачом стал превосходным·
Был королями он любим
И сам умел повеселиться.
Увы! Я щедро взыскан им,
Ведь он помог мне стать святым».
— Спешите, братья, приложиться!
«В шелку и золоте гробниц
Нам отдыхать совсем не худо.
Мы лечим сирот и вдовиц,
Мы тянем деньги, — чем не чудо?
Однако дьявол трубит в рог —
И мне пора поторопиться».
Стянув попутно образок,
Святой обратно в раку лег.
— Спешите, братья, приложиться!
Миссионеры
Был как-то дьявол возмущен:
«Мы — жертвы заговора!
С тех пор, как мир стал
просвещен,
Погас огонь раздора.
Я приглашаю, черти, вас
Исполнить мой приказ,
Грехам дав отпущенье,
Вы дуйте, дуйте, посильней!
Гасите просвещенье,
Раздув огонь страстей!
«Идите в самый шум столиц
И в города и в села.
В пример возьмите тех лисиц,
Которых дал Лойола;
Будь каждый с виду прост
И прячь подальше хвост.
Грехам дав отпущенье,
Вы дуйте, дуйте, посильней!
Гасите просвещенье,
Раздув огонь страстей!
«•Побольше стряпайте чудес
Себе для обихода.
Когда сюда вмешался бес,
Вернее нет дохода!..
И чтобы каждый всюду нес
О том, что пишет нам
Христос.
Грехам дав отпущенье,
Вы дуйте, дуйте, посильней!
Гасите просвещенье,
Раздув огонь страстей!
«Учителей гоните прочь;
Всему учите сами.
В семье прельщайте мать и
дочь,
Пусть дамы бредят вами.
Пусть светский ловелас
Пред вами скажет: «пасс!»
Грехам дав отпущенье,
Вы дуйте, дуйте, посильней!
Гасите просвещенье,
Раздув огонь страстей!
«Кто против вас, тот должен
пасть.
При помощи кинжалов
Сосредоточьте в мире власть
В руках своих вассалов.
На пушках вы, как встарь,
Устройте свой алтарь-
Грехам дав отпущенье,
Вы дуйте, дуйте, посильней!
Гасите просвещенье,
Раздув огонь страстей!
«Подняв чело, на всех парах
Пусть мчится нетерпимость,
Лечить ожоги — на кострах
Придет необходимость...
Кто мыслит, нусть-^ка тот
Горелым отдает.
Грехам дав отпущенье,
Вы дуйте, дуйте посильней!
Гасите просвещенье,
Раздув огонь страстей».
Наказ окончил сатана,
И вот чертей орава
В Париже мщением пьяна.
Потемкам — честь и слава!
Уж тащат для костров
Ханжи вязанки дров.
Грехам дав отпущенье,
Вы дуйте, дуйте, посильней!
Гасите просвещенье,
Раздув огонь страстей!
18
Бог простых людей
Есть божество: довольный всем, склоняю
И без молитв я голову свою;
Вселенной строй спокойно созерцаю,
В ней вижу зло, но лишь добро люблю.
И верит ум мой будущему раю,
Разумных сил (предвидя торжество,
Держа бокал, тебе себя вверяю,
Всех чистых сердцем божество!
Приют мой прост, бедна моя одежда,
Как друг верна святая бедность мне;
Но сон любви баюкает надежда, —
И лучший пух мне грезится во сне.
Богов земных — другим предоставляю:
Их милость к нам — расчет иль хвастовство.
Держа бокал, тебе себя вверяю,
Всех чистых сердцем божество!
Земных владык законами и властью
Не раз играл здесь баловень судьбы.
И вы, божки, игрушкой были счастью,
Пред ним во ирах склоняясь, как рабы!
Вы все в пыли. Я ж чист и сохраняю
В борьбе за жизнь — покой и удальство.
Держа бокал, тебе себя вверяю,
Всех чистых сердцем божество!
Я помню дни, когда в дворцах Победы
У нас цвели искусства южных стран.
Потом страну опустошили беды,
Все завертел нежданный ураган.
Мороз и снег принес на миг он краю,
Но льда у нас непрочно вещество...
Держа бокал, тебе себя вверяю,
Всех чистых сердцем божество!
Нам не страшна ханжи бесчеловечность:
«Конец земле и времени конец!
Пришла пора узнать, что значит вечность...
На страшный суд восстань и ты, мертвец!
Кто грешен — в ад! Дороги нет уж к раю:
Порок сгубил земное естество...» —
Держа бокал, тебе себя вверяю,
Всех чистых сердцем божество!
19
Не может быть! Не верю в гнев небесный!
Свой долг земной я выполнял, как мог:
Любил любовь и nectH дар чудесный
И не пускал печали на порог.
Ко мне — любовь, вино, друзья! Я знаю,
Что в праве жить живое существо!
Держа бокал, тебе себя вверяю,
Всех чистых сердцем божество!
Ключи от рая
Апостол Петр (беда какая!)
Вдруг потерял ключи от рая.
Их у «его, как говорят,
Maipro, гуляя утром рано,
Стянуть сумела из кармана.
Марго, к чему твоя игра?
Не мучь апостола Петра,
Отдай ключи назад!
Марго, минутки не теряя,
Открыла настежь двери рая
(Пошла потеха, говорят!),
Монахи, пьяницы и воры
Бегут в святые коридоры...
Марго, к чему твоя игра?
Не мучь апостола Петра,
Отдай ключи назад!
Уж заполняют рай заране
Евреи и магометане
(Весь ад сбежался, говорят!),
Застрял с разбегу в двери
старой
Его святейшество тиарой.
Марго, к чему твоя игра?
Не мучь апостола Петра,
Отдай ключи назад!
Смотри, Марго, здесь, шиты-
крыты,
Вершат делишки иезуиты
(А с ними рай точь-в-точь как
ад!),
rie ангелы — © любую щелку
Они пролезут втихомолку.
Марго, к чему твоя игра?
Не (мучь апостола Петра,
Отдай ключи назад!
Господь, без всякого сомненья,
Берег свой рай от разоренья
(Да проворонил, говорят),
И сатана принялся снова
За роль рогатого святого.
Марго, к чему твоя игра?
Не мучь апостола Петра,
Отдай ключи назад!
Пришлось все буйство в мире
Простить божественным [этом
декретом
(«Отныне отменяю ад!»),
Пришлось тушить костры и
Рагу из туши человечьей, [печи,
Марго, к чему твоя игра?
Не мучь апостола Петра,
Отдай ключи назад!
Стал шумен рай и весел даже...
Апостол Петр побрел туда же
(Он был настойчив, говорят),
Но сами грешники в два счета
Пред ним захлопнули ворота.
Марго, отдай ключи. Пора!
Не мучь апостола Петра,
Отдай ключи назад!
20
Пономарь
Злосчастный пономарь! Нет хуже ремесла!
Обедня поздняя — вот адское мученье!
Кума Жанетта мне давненько припасла
В уютном уголке винцо и угощенье.
Попировать бы с ней хотелось без помех, —>
А все мои попы заснули как на грех!
Будь проклят наш святой отец!
Ей-богу, из-за опозданья
Я прозеваю и свиданье...
Томится Жанна в ожиданьи...
«Изыдем с миром», наконец!
Мальчишки-певчие (хотите об заклад?)
Отлично поняли, что мук моих причиной.
Живее, шельмецы! Валяйте все подряд, —
Иль познакомлю вас с увесистой дубиной)
Эй, клир, гони во-всю: я поднесу винца!
Скорей бы довести обедню до конца!
Будь проклят наш святой отец:
Ей-богу, из-за опозданья
Я прозеваю и свиданье.
Томится Жанна в ожиданьи...
«Изыдем с миром», наконец!
Ты, сторож, не зевай... Проси к сторонке дам...
Вот бесконечно-то копаются со обором:
Викарий милых дам обводит нежным взором...
Эх, если б он сейчас на исповедь к себе
В исповедальню ждал невинную Бабэ!
Будь проклят наш святой отец!
Ей-богу, из-за опозданья
Я прозеваю и свиданье.
Томится Жанна в ожиданьи...
«Изыдем с миром», наконец!
Недавно в гости зван к обеду был наш поп.
Тот праздник, батюшка, забыли вы едва ли?
Когда обед вас ждал, обедня шла в галоп:
Так что евангелья чуть-чуть не прозевали!
Ну, что б вам стоило, не прохлаждаясь зря,
Пол «Верую» скостить из-за пономаря?
Но проклят будь святой отец!
Ей-богу, из-за опозданья
Я прозеваю и свиданье.
Томится Жанна в ожиданьи...
«Изыдем с миром», наконец*
21
Приходские певчие
или конкордат 1817 года
застольная песнь
Слава в вышних богу сил!
Если станет в глотке сухо,
Пей, пока вмещает брюхо;
Слава в вышних богу сил!
Конкордат он возвратил.
Будем, певчие прихода,
Богатеть мы «год от года.
Прежде всех, чтоб не забыть,
За Франциска надо пить.
Слава в вышних богу сил!
Если станет в глотке сухо,
Пей, пока вмещает брюхо;
Слава в вышних богу сил!
Конкордат он возвратил.
За Гонзальви пей, кто может,
Дважды сделавшего то же,
Но теперь, как там ни кличь,
Церкви будет могарыч.
Слава в вышних богу сил!
Если станет в глотке сухо,
Пей, пока вмещает брюхо;
Слава в вышних богу сил!
Конкордат он возвратил.
Пана в двух ключах уверен:
Первый ключ от «райской двери
Кажет путь; второй—для рук
В государственный сундук.
Слава в вышних богу сил!
Если станет в глотке сухо,
Пей, пока вмещает брюхо;
Слава в вышних богу сил!
Конкордат он возвратил.
Коль петух тревожил снова
Слух наместника Петрова,
Крик недаром канул ввысь:
Будут курицы нестись.
Слава в вышних богу сил!
Если станет в глотке сухо,
Пей, пока вмещает брюхо;
Слава в вышних богу сил!
Конкордат он возвратил.
Авиньон отцу б святому
Надо к случаю такому,
Чтобы каждый знал француз
Про священный наш союз.
Слава в вышних богу сил!
Если станет в глотке сухо,
Пей, пока вмещает брюхо;
Слава в вышних богу сил!
Конкордат он возвратил.
Не беда, коль волей Рима
Наша церковь вновь теснима.
Нам собрания палат
Столько вольностей дарят.
Слава в вышних богу сил!
Если станет в глотке сухо,
Пей, пока вмещает брюхо;
Слава в вышних богу сил!
Конкордат он возвратил.
Мы свободе кажем фигу,
Пусть бухгалтерскую книгу,
Где мы выкладки творим,
Сопричислят ко святым.
Слава в вышних богу сил!
Если станет в глотке сухо,
Пей, пока вмещает брюхо;
Слава в вышних богу сил!
Конкордат он возвратил.
Семинариев повсюду
Наустраиваем груду;
Ведь воздвигнуть госпиталь
Для детей кюре не жаль?
Слава в вышних богу сил!
Если станет в глотке сухо,
Пей, пока вмещает брюхо;
Слава в вышних богу сил!
Конкордат он возвратил.
К протестантам нетерпимым
Быть хотелось бы, но Римом
Выполнялся до сих пор
Папской гвардии набор.
Слава в вышних богу сил!
22
Если в глотке станет сухо,
Пей, пока вмещает брюхо;
Слава в вышних богу сил!
Конкордат он возвратил.
Сколько служится обеден!
Стал богатым тот, кто беден.
Что нам в опере реветь,
Если в церкви можно петь:
Слава в вышних богу сил!
Если станет в глотке сухо,
Пей, пока вмещает брюхо;
Слава в вышних богу сил!
Конкордат он возвратил.
Заживем теперь богато
Мы во славу конкордата,
Времена теперь пришли —
В хор вступают короли.
Слава в вышних богу сил!
Если станет в глотке сухо,
Пей, пока вмещает брюхо;
Слава в вышних богу сил!
Конкордат он возвратил.
ДЖОРДЖ ГОРДОН БАЙРОН
(1788—1824)
Видение суда
(Отрывок)
Святой апостол Петр сидел у двери рая,
Заржавел ключ его, и стал тугим замок:
Петр мало в наши дни работал, отпирая.
Хоть рай был пустоват, — но выпал некий срок
(С двумя восьмерками в конце числа, — такая
У галлов эра есть), — чорт очень приналег
И объявил аврал, как говорят матросы, —
И много душ пошло с дороги под откосы.
Там пели ангелы, не попадая в тон,—
Охрипли, затянув от века аллилуйю;
Работы мало им: луну на небосклон
Иль солнце вытащить, или звезду любую,
А если жеребец — комета под уклон
Помчится, расшалясь, сквозь бездну голубую,—
Слегка хлестнуть его, иначе раздробит
Планету вдруг хвостом, как шлюпку целый кит.
Убрались ангелы-хранители обратно,
Найдя, что на земле торчать им толку нет;
Рукой махнув на мир, почили безвозвратно;
Работал на небе лишь черный кабинет,
Где, регистрируя все то, что здесь развратно,
Писец не поспевал за ростом зол и бед;
23
Все перья (выщипал из крыл своих бедняжка,
Но уписать не мог, — столь нагрешили тяжко.
Его занятия столь грозно возросли,
Что был он вынужден, конечно, против воли
(Точыв-точь — архангелы, министры сей земли)
Искать товарищей в своей унылой доле —
Небесных пэров звать, чтобы помочь пришли,
А то он выдержать едва ли сможет доле.
Послали клерками из райских кущ густых
Шесть ангелов ему и дюжину святых.
Святой апостол Петр сидел у райских врат
И над ключом дремал, — как вдруг над ним с размаха
Возник ужасный шум, какого он подряд
Лет сто не слыхивал: вихрь, пламя, буря праха;
Столь крупной штукою был небосвод разъят,
Что всякий не-<вятой там вскрикнул бы от страха;
Но он, вскочив, сказал, моргнув разок-другой:
«По-моему—беда еще с одной звездой».
Но прежде чем опять предался он покою,
Как в глаз ему крылом дал некий херувим;
Апостол Петр зевнул и нос потер рукою;
«Святой вратарь, очнись», — тот молвил и над ним
Стал крыльями махать, сверкавшими красою
Небесною, — на зло павлинам всем земным
Апостол отвечал: «Гу, хорошо; что надо?
Не Люцифер ли к нам вновь пригремел из ада?»
«Нет, — херувим сказал: — Джордж Третий мертв». — «Позволь,
А кто он этот Джордж? И почему он третий?» —
«Кто — Джордж? Кто—Третий? Как! Он—английский король!»—
«Прекрасно. Короли его на этом свете
Не затолкают... Но — он с головою, что ль?
С последним королем заминка вышла... Эти
Мне короли!.. Ему б не стать и на крыльцо,
Когда б он голову нам не швырнул в лицо».
Каин
(Отрывок)
Ка и н
Сестра моя. Сверканье в небе звезд,
Ночная синь и глубь, где свет свой льет
Тот шар, чей лик как дух иль царство духа...
В двусвет игра теней... рассвета пышность...
Заката зарево, когда в глазах
Моих так радостно дрожит слеза
И сердце вдруг легко плывет за ним
В раю закатных ярких облаков...
Сень леса, зелень листьев, пенье птицы,
Вечерней птицы той, чья песнь — любовь, —
В лад с нею херувима гимн, когда
Над райскими стенами гаснет день:
И все — ничто для глаз моих и сердца
Пред ликом Ады: меркнут и земля,
И небеса.
Люцифер
Ее (краса для смертных —
Заря творенья их, Цветок весенний,
И первый пыл объятий «на земле,
И первый отпрыск,—призрачный обман!
Ка и н
Не брат ты ей, и мыслишь так.
Люцифер
О смертный!
Я в братстве с теми, кто детей не знает.
Ка и н
Тогда сочувствовать не можешь нам.
Люцифер
Найду в тебе сочувствие, быть может.
Но если у тебя есть существо
Превыше красоты, то почему
Несчастен ты?
Ка и н
А почем} я есмь?
И почему несчастен ты? И все?
И даже тот, кто создал нас: творец
Несчастных! Нет, творить, чтоб разрушать,
Не может радостной задачей быть.
Отец мой говорит: он всемогущ,—
25
Тогда зачем же зло, раз он — добро?
Я спрашивал отца; и он сказал:
Затем, что это зло есть путь к добру.
Но странное добро: оно идет
С противного конца. Я видел как-то,
Ягненка гад ужалил: сосунок
Валялся в пене по земле, над ним
С тревогой жалобно блеяла матка;
Отец мой к ране приложил травы
Какой-то; понемногу тот, бедняга,
Вернувшись к жизни беззаботной, стал
Сосать, а матка, трепеща над ним,
Лизала радостно свое дитя.
«Смотри, мой сын, — оказал Адам, — из зла
Добро!»
Люцифер
А ты ответил?
Ка и н
Ничего;
Ведь он — отец; но про себя подумал,
Что лучше б для животного, чтоб гад
Его не жалил вовсе, чем купить
Такое возвращенье жалкой жизни
Ценой мучительных страданий, пусть
Смягчаемых травой.
Люцифер
Ты говорил:
Из всех любимых та тебе милей,
Что, матери с тобою грудь делив,
Твоих детей питает...
Каин
Да, бесспорно:
Как жил бы без нее?
Люцифер
Как я живу?
Каин
Не любишь ничего?
Люцифер
Что любит бог твой?
Каи н
Всю тварь, как говорит отец; но я
В судьбе ее земной того не вижу.
ГЕНРИХ ГЕЙНЕ
(1797—1856)
Ди
Во дворце толедоком трубы
Зазывают всех у входа,
На турнир духовный вьются
Ленты пестрые народа.
То не светский поединок,
Где блестит оружье часто, —
Здесь копьем послужит слово
Заостренное схоласта.
Не сразятся в этой битве
Молодые паладины,
Но сойдутся в поединке
Капуцины и раввины.
Капюшоны и ермолки
Носят лихо забияки,
Вместо рыцарских доспехов —
Власяницы, лапсердаки.
Бог который настоящий? —
Бог единый, грозный, старый,
Чей в турнире представитель
Рабой Иуда из Наварры?
Или бог другой, трехликий,
Бог любви, бог христианский,
Чей достойнейший защитник
Ф|ратер Иосиф
Францисканский ?
Мощной цепью доказательств,
Силой многих аргументов
И цитатами — конечно,
Из бесспорных документов —
Хочет каждый из героев
Всех врагов обезоружить,
Доведеньем до абсурда
Сущность бога обнаружить.
пут
Решено, что тот, который
Побежденным будет в споре,
Тот в религию другую
Перейдет, себе на горе:
На крещение осудят
Иудея в назиданье,
Иль, напротив, францисканца
Ожидает обрезанье.
Каждый вождь духовный —
с свитой;
С ним — одиннадцать, готовых
Разделить судьбу в победе
Иль в лишениях суровых.
Убежденные в успехе,
Францисканцы в самом деле
Держат тут же наготове
Для своих врагов купели.
Держат мокрые крофила,
Принадлежности с дарами.··
Их соперники сверкают
Обрезальными ножами·
Обе партии на месте;
Переполненная зала
Оживленно суетится
В ожидании сигнала.
Под навесом золоченым,
Окруженный пышной славой,
Сам король сидит на троне
С королевой величавой.
Носик вздернут по-французски»
Взгляды хитры и невинны,
И всегда, всегда смеются
Уст волшебные рубины.
Будь же ты хранима богом,
О, цветок благословенный...
Пересажена, бедняжка,
С берегов веселой Сены
Ты сюда, на эту землю,
Где ты сделалась испанкой.
Бланш Бурбон звалась ты дома,
Здесь зовешься донной Бланкой.
Короля же имя — Педро,
С прибавлением Жестокий,
Но сегодня, как на счастье,
Спят в душе его пороки.
Он любезен и приятен
В эти редкие моменты,
Даже маврам и евреям
Говорит он комплименты.
Господа без крайней плоти
Все учитывают шансы:
И войсками управляют,
И ведут его финансы.
Вот внезапно бьют в литавры,
Трубы громко возвещают,
Что суровый поединок
Два атлета начинают.
Францисканец гнев священный
Здесь обрушивает первый, —
То звучит трубою голос,
То слегка щекочет нервы.
И во имя трех единых:
Духа, и отца, и сына,
Проклинает францисканец
«Семя Якова»—(раввина.
Ибо часто так бывает,
Что, немало бед содеяв,
Черти прячутся охотно
В теле подлых иудеев.
Про единого в трех ликах
Он рассказывает много, —
Как три светлых ипостаси
Одного являют бога·
Это тайна, но открыта
Лишь тому она, который
За предел рассудка может
Обращать блаженно взоры.
Говорит он о рожденьи
Вифлеемского дитяти,
Говорит он о Марии
И о девственном зачатьи;
Как потом лежал младенец
В яслях, словно в колыбели,
Как бычок с коровкой тут же,
У господних яслей млели;
Как от Иродовой казни
Иисус бежал в Египет,
Как позднее горький кубок
Крестной смерти был им выпит,
Как при Понтии Пилате
Подписали осужденье
Под влияньем фарисеев
И евреев, без сомненья.
Он рассказывал про бога,
Что свой тесный гроб оставил
И на третий день блаженно
Путь свой на небо направил.
Но, когда настанет время,
Он на землю возвратится,
И никто, никто из смертных
От суда не уклонится.
«О, дрожите, иудеи!..—
Говорит монах. — Не вы ли
Бога нашего бичами
Бессердечно погубили?
Вы убийцы, иудеи 1
О, народ — суровый мститель!
Тот, кто вами так замучен,
К нам явился как спаситель.
Ты, народ еврейский, плевел,
И в тебе ютятся бесы,
А твои тела — обитель,
Где свершают черти мессы.
Так сказал Фома
Ак в и некий
Он недаром «бык ученья»,
Как зовут его за то, что
Он лампада просвещенья.
О, евреи, вы — гиены,
Злые волки, крокодилы,
Как шакалы достаете
Мертвецов вы из могилы.
О, евреи — павианы
И сычи ночного мира,
Вы страигнее носорогов,
Вы подобие вампира.
Вы мышей летучих стаи,
Вы вороны и удоды,
Филины и василиски,
Изуверы и уроды.
Вы гадюки и медянки,
Змеи, жабы, крысы, совы, —
Вас за ваши злодеянья
Покарает гнев христовый.
Но, быть может, вы решите
Обрести спасенье ныне,
И от злобной синагоги
Обратитесь »друг к святыне,
Где собор любви обильной
И отеческих объятий,
Где святые в чистых раках
Льют источник благодати;
Там вы головы склоните,
Отрешась от злости старой,
И с сердец сотрите плесень,
Угрожающую карой.
Вы внемлите гласу бога, —
Не к себе ль зовет он разве?
На груди Христа забудьте
О своей греховной язве.
Наш Христос — любви обитель.
Он подобие барашка, —
Чтоб грехи простились наши,
На кресте страдал он тяжко.
Наш Христос — любви обитель,
Иисусом он зовется,
И его святая кротость
Часто нам передается.
Потому мы тоже кротки,
Добродушны и спокойны,
По примеру Иисуса
Ненавидим даже войны.
Попадем за то на небо,
Чистых ангелов белее,
Будем там бродить блаженно
И в руках держать лилеи.
Вместо грубой власяницы
Мы надеть на небе рады
Из парчи, муслина, шелка
Разноцветные наряды.
Вместо плеши — будут кудри
Золотые ловко виться,
Девы райские их будут
Заплетать и веселиться.
Там и вюшые бокалы
В увеличенном объеме,
А не маленькие рюмки,
Что мы видим в каждом доме.
И к тому же так приятны
Там вверху уста малюток —
Милых женщин, что готовы
Для лобзаний и для шуток.
Будем радостно смеяться,
Будем пить вино, целуя,
Проводить так будем вечность·
Славя бога: «Аллилуя!».
Кончил он. И вот монахи»
Все сомнения рассеяв,
Тащат весело купели
Для крещенья иудеев.
Но, боясь воды, евреи
Отскочили недалече.
Рабби Иуда из Наварры
Для ответной вышел «речи.
«Чтоб в моей душе бесплодной
Ты взрастил христову розу,
Бросил ты, как удобренье,
Много брани и навозу.
Каждый следует методе,
Им изученной где-либо...
Я бранить тебя не буду,
А скажу тебе спасибо.
«Триединое ученье» —
Это наше вам наследство.
Мы ведь правило тройное
Изучаем с малолетства.
Что в едином боге трое,
Только три слились персоны —
Очень скромно, потому что
Их у древних — легионы.
Незнаком я с вашим богом,
Что Христом зовете. Вместе
Также девственную матерь
Не имею знать я чести.
Я жалею, что однажды
Приключилось горе с ними —
Так, веков назад двенадцать
В граде Иерусалиме.
Что евреями убит он —
Доказательство отпало,
И следов от преступленья
Ведь на третий день не стало.
Что родня он с нашим богом —
В этом полон я сомненья,
Потому что мне известно:
Наш — бездетен от рожденья.
Наш не умер жалкой смертью
Угнетенного ягненка,
Он у нас не филантропик
Наподобие ребенка.
Богу нашему неведом
Путь прощения и лести,
Ибо он громовый бог,
Грозный бог жестокой мести.
Громы божеского гнева
Поражают неизменно,
За грехи отцов карают
До десятого колена.
Бог наш — это бог живущий,
И притом не быстротечно,
А в широких сводах неба
Проживает он извечно.
Бог наш — бог здоровый также,
А не миф какой-то шаткий,
Словно тени у Коцита,
Или тонкие облатки.
Бог силен. В руках он держит
Солнце, месяц, неба своды.
Только двинет он бровями —
Троны гибнут, мрут народы.
С силой бога не сравнится,
Как поет Давид, земное,—
Ног его лишь прах ничтожный
Вся земЛя, не что иное.
Любит музыку наш бог,
Арфы звуки, пенье гимна,
Но как визг свиной ему
Слушать звон церквей противно.
В море есть Левиафан —
Так зовется рыба бога,
Каждый день играет с ней
Наш великий бог немного.
Только в день девятый Аба,
День разрушенного храма,
Не играет бог наш с рыбой,
А молчит весь день упрямо.
Целых сто локтей длина
Этого Левиафана,
Толще дуба плавники,
Хвост его, что кедр Ливана.
Мясо рыбы деликатно
И нежнее черепахи.
В судный день к столу попросит
Всех господь, кто жил во страхе.
Обращенные, святые,
Также праведные люди
С удовольствием увидят
Рыбу божию на блюде —
В белом соусе пикантном
И в отваре, полном лука,
Приготовленную пряно,
Ну, совсем как с перцем щука.
В остром соусе, под луком
Редька плавает так зыбко...
Я ручаюсь, фратер Иосиф,
Что тебе по вкусу рыбка...
Бог недурно варит, верь,
Я обманывать не стану, —
Крайней плотью поплатись,
Приобщись к Левиафану».
Так раввин приятно, сладко
Говорит, смакуя слово,
И евреи, взвыв от счастья,
За ножи схватились снова.
Чтобы с вражескою плотью
Здесь покончить поскорее, —
В этом дивном поединке
Это — нужные трофеи.
Но, держась за веру предков,
И за плоть, конечно, тоже,
Не хотят никак монахи
Потерять кусочка кожи.
После рабби францисканец
Вновь завел язык трескучий.
Слово каждое — не слово,
А ночной сосуд пахучий.
Отвечает рабби Иуда,
Еле сдерживая ярость, —
Хоть кипит лихое сердце,
Он его смирил, казалось;
Опирается на Мишну,
Комментарии, трактаты,
Также он из Таусфес-Ионтоф
Позаимствовал цитаты.
Но что слышит бедный рабби
От монаха-святотатца?
Говорит тот: «Таусфес-Ионтоф
Может к чорту убираться!»
«Все вы слышите, о, боже!»
И, не выдержавши тона,
Потеряв терпенье, раб«би
Восклицает возмущенно:
«Таусфес-Ионтоф «е годится?!
Из себя совсем я выйду...
Отомсти ему, о, бог мой,
Покарай же за обиду!
Ибо Таусфес-Ионтоф, бог —
Это ты... И святотатца
Накажи своей рукою,
Чтобы богом оказаться.
Пусть провалится он в бездну,
Как войска Корея злого...
Видишь, ныне наседают
Злоумышленники снова
Грянь своим ты лучшим громом,
Пака-рай ж'реца без веры —
Для Содома и Гоморры
Ты нашел смолы и серы.
Покарай же капуцина, —
Фараона ведь пришиб ты,
Что за нами гнался, мы же
Удирали из Египта.
Ведь стотысячное войско
За царем шло из Мицраим
В латах, с острыми мечами
В ужасающих ядаим.
Ты, господь, тогда простер
Длань свою, и войско вскоре
С фараоном утонуло,
Как котята, в Красном море.
Порази же капуцинов,
Покажи им в назиданье,
Что святого гнева громы —
Не пустое грохотанье.
И победную хвалу
Воспою тебе сначала,
Буду я, как Мириам,
Танцовать и бить в кимвалы».
А монах вскочил, и льются
Вновь проклятий лютых реки:
«Пусть тебя господь погубит,
Осужденного навеки!
Я твоих презренных бесов
Ненавижу злую роту:
Люцифера, Вельзевула,
Белиал и Астароту.
Не боюсь твоих я духов,
Темной стаи оголтелой:
Ведь во мне сам Иисус,
Я его отведал тела.
И вкусней Левиафана
Аромат христовой крови,
А твою подливку с луком,
Верно, дьявол приготовил.
Ах, взамен подобных споров
Я б на углях раскаленных
Закоптил бы и поджарил
Всех евреев прокаженных».
Так идет турнир о боге...
И кипит людская злоба,
И борцы бранятся, воют,
И шипят, и стонут оба.
Бесконечный этот диспут
Целый день идет упрямо,
Очень публика устала,
И ужасно преют дамы.
Двор томится в нетерпеньи,
Кое-кто уже зевает,
И KipacoTKy-тКоролеву
Муж тихонько вопрошает:
«Вы скажите ваше мненье
О сцепившихся героях, —
Капуцину иль раввину
Предпочтенье из обоих?»
Донна Бланка смотрит вяло,
Пальцем гладит лобик нежный,
После краткого раздумья
Отвечает безмятежно:
«Я не знаю, кто тут прав —
Пусть другие то решают,
Но раввин и капуцин
Одинаково воняют».
Вознесение
На смертном ложе — только тело,
Душа бедняги отлетела;
Уйдя от жизненного гама,
Она несется в небо прямо.
Стучит в высокие ворота,
И стонет и зовет кого-то:
«Ключарь святой, открой мне дверь,
Я отдохнуть хочу теперь,
Забыв печали и тревоги,
В небесном радостном чертоге,
И ангелов святая рать
Меня здесь будет развлекать!»
32
И вот ночные туфли старика
Шуршат, ключи звенят слегка,
Затем открылось малое оконце,
И Петр глядит в него, как солнце.
Он говорит: «Бродяги и вояки
Идут сюда цыгане и поляки,
Дневные воры, готтентоты,
Смотри: их целые тут роты,
И все хотят без разговора
Втереться в ангельские хоры.
Еще бы: райские селенья
Не для такого населенья,
И не для этой бедной швалн
Мы здесь чертоги создавали.
Ступай-ла, парень залихватский,
На сковородке жарься адской!»
Старик ворчит, но он не может
Прогнать ее, его тревожит
Смиренный вид души пришедшей,
И он ведет такие речи:
«Ты, кажется, иного сорта,
Ты избежишь, возможно, чорта.
День моего рожденья ныне —
Так я склоняюсь в благостыне.
Откуда ты, любезный, родом,
Женат ли и с какого года?
Бывает часто, что смиренье
Приносит полное прощенье,
К тому же тот, кто был женат,
Уже познал при жизни ад».
Душа ответила ему невинно:
«•Пруссак я, родом из Берлина.
Там Шпре течет. У речки этой
Охотно мочатся кадеты.
А над рекою мелководной
Стоит Берлин столицей модной.
Я там служил приват-доцентом
И философию студентам
Читал. При этом был женат,
Жена устраивала ад,
Когда нам не хватало хлеба.
И вот скончался, мертв и рвусь на небо»·
Старик-ключарь оказал: «Ой-ой,
Философ — гость для нас плохой!
Хоть объясняли мне намедни
33
Философические бредни,
Понять их все же невозможно;
И вообще учение безбожно.
И жить приходится вам в муке,
А после чорт в свои хватает руки.
Понятно, почему твоя Ксантутша
Скандалила из-за плохого супа:
В нем только жидкая вода,
А жиру нету и следа...
Ну ничего, милейшее созданье,
Хотя дано мне приказанье:
Кто философскою доктриной
Был увлечен, тех гнать дубиной,
Философов немецких особливо
Лупить колючею крапивой,
Но нынче, в день рожденья моего,
Я не хочу плохого »ничего.
Открою пред тобой небесные врата.
Беги же в рай, не бойся ни черта.
Ну вот, вошел... Теперь — ура!
С утра ты можешь до утра
По тротуарам пышным рая
Легко фланировать, мечтая,
Но только помни, что философ
Не должен ставить здесь вопросов.
И бойся та« же, как огня,
Скомпрометировать меня.
Услышишь ангельское пенье —
Так расплывись от умиленья,
Когда ж архангел запоет,
Пускай тебя ударит в пот,
И ты его, от счастья пьян,
Сравни с сопрано Малиб|ран
И ие жалей своих ладоней
Для херувимских и иных симфоний.
А херувимов ты сравни с Рубини,
И с Марио, и с Тамбурини,
Зовя «превосходительством» тар и этом,
И не жалей поклонов и приветов.
Певцы — небесные, как и земные, вместе —
Весьма чувствительны бывают к лести.
И сам старик, «аш капельмейстер, тоже:
Он любит похвалы десницы божьей,
Когда молитв струится дождь
И превозносит бога мощь,
Когда над темнотой толпы
Свои псалмы поют попы.
34
Не забывай меня. Когда начнет
Тебя давить тоской небесный свод.
Зайди ко мне. На этой вышке
Мы перекинемся в картишки.
Я знаю игры всех сортов:
Сыграем в «пьяниц», в «дурачков»
И выпьем тоже. Помни, между прочим:
Бытьчможет, где-нибудь захочет
Тебя опросить случайно бог,
Откуда ты явиться мог;
Ты про Берлин не бухай откровенно,
Скажи: из Мюнхена, из Вены».
К Лазарю
Брось свои инооказанья
И гипотезы святые!
На проклятые вопросы
Дай ответы нам прямые!
Отчего под ношей крестной,
Весь в крови, влачится правый?
Отчего везде бесчестный
Встречен почестью и славой?
Кто виною? Или богу
На земле не все доступно?
Или он играет нами/ —
Это подло и преступно!
Так мы спрашиваем жадно
Целый век, пока безмолвно
Не забьют нам рта землею.,
Да ответ ли это, полно?
**
Приснилось мне, что я сам бог,
Держащий свод широкий,
И славят ангелы мои
Рифмованные строки;
И объедаюсь я, как бог,
Небесными сластями,
Ликеры редкостные пью,
Покончивши с долгами.
Но мне тоскливо без земли,
Как будто я за бортом,
Не будь я милосердный бог,
Я сделался бы чортом.
3· 35
«Эй, ты, архангел Гавриил!
Возьми-деа в руки ноги,
Эутена, друга моего,
Тащи в мои чертоги.
Его за книгой не ищи,
Направься лучше к даме:
У фрейлейн Мейер он сидит
Охотней, чем во храме».
Архангел крылья развернул,
Полет к земле направил,
Схвативши друга моего,
Ко мне его доставил.
Ну, что ты скажешь юро меня, Улиться сможете вы все
Что сделался я богом? Из сточных ям рейнвейном.
Недаром в юности моей
Я так мечтал о многом. Берлинцы — мастера пожрать,
И в счастии «шрочном
Я чудеса творю, что день, Бегут судейские чины
В капризе прихотливом. К канавам водосточным.
Сегодня сделаю Берлин
Я, например, счастливым. Поэты все благодарят
За пищу даровую,
Пусть лопнут камни мостовой, А лейтенанты — молодцы —
И в каждом камне, ясно, Те лижут мостовую.
Как в раковине будет жить
По устрице прекрасной. Да, лейтенанты — молодцы.
И даже юнкер знает,
С небес польет лимонный сок Что каждый день таких чудес
Как будто над бассейном, На свете не бывает.
Германия
(Отрывок)
Холодной, мрачной порой ноября,
Порой бездорожья гнилото,
Под ветром, взметавшим листья с земли,
Вступал я в Германию снова.
И сильно забилось сердце мое,
Когда показалась граница,
И, кажется, теплые слезы из глаз
Невольно стали струиться.
Но вот зазвучала немецкая речь, —
Я слушал в странном волненьи, —
Как будто кровью сердце мое
Истекало в блаженном томленьи.
То девочка с арфой пела песнь,
И в пеньи ее фальшивом
Глубокое слышалось чувство. Я был
Растроган грустным мотивом.
И пела она о муках любви,
О жертвах, о счастьи свиданий,
О встрече в далекой, светлой стране,
Где нет ни слез, ни страданий,
36
О жалкой и грустной юдоли земной,
О радости быстротечной,
О райских селеньях, где души светлы,
А счастье безмерно и вечно.
То старая песнь отреченья была,
Мечта о сияющей дали.
Всегда, чтоб глупый народ не скулил,
Про небо ему распевали.
Я знаю мелодию, знаю слова,
Я авторов знаю отлично.
Они украдкой тянули вино,
Проповедуя воду публично.
Мы новую песнь, чудесную песнь
Теперь, друзья, начинаем,
Мы небо устроим здесь, на земле,
Мы сделаем землю раем!
Хотим при жизни счастливыми быть!
Довольно мы видели муки!
Довольно для брюха ленивых обжор
Трудились прилежные руки!
А хлеба хватит для всех людей.
Мы пир устроим на славу:
Есть розы и мирты, любовь, красота,
И сладкий горошек в приправу.
Да, сладкий горошек, чуть лопнут стручки,
Хоть полной горстью берите.
А небо пускай пойдет воробьям,
Да ангелам — божьей свите.
**
*
Лишь в твое я сердце верю—-
Это мой единый бог.
Я давно не верю в бога
И в жестокость адских мук —
Я в твой взор и в злое сердце
Только верю, милый друг.
Я давно не верю в небо,
До него мне дела нет.
Лишь в твои глаза я верю
Это мой небесный свет.
Я давно не верю в бога
Посреди земных тревог,
37
Христовы невесты
Монастырских окон ряд
Что ни полночь — освещенье
Заливает: с крестным ходом
Выступают привиденья.
В (Мрачном шествии бредут
Тени юных урсулинок,
Нахлобучив капюшоны
Иноческих пелеринок.
Восковые овечи их
Льют зловещий свет багровый;
Стоны их и всхлипы жутко
Оглашают свод суровый.
В церковь крестный ход вошел,
Тени поднялись на хоры;
Со скамей дубовых к небу
Устремили скорбно взоры.
Свят напев литийно чинный,
Но в словах—безумство блуда:
Души бедные! Стучатся
В двери райские отсюда.
«Все — невесты мы Христа,
Но, к земной прильнув отраве,
Кесарю мы отдавали
То, чем бог владеть был в праве.
«Обольстительны усы
Да мундиры на корнетах;
Но соблазну много больше
В кесаревых эполетах!
Мы наставили рога
На чело в венце из терна,
Господа мы надували
Так безбожно, так позорно!»
И восплакал Иисус
О греховном человеке,
И оказал он, благ и кроток:
«Будьте прокляты навеки!»
«Ночь нас гонит из могил,
И, рыдая о потере,
Покаянья мы приносим. —
Miserere! Miserere! *
Ах, как сладко нам в гробу!
Но сравнить в какой же мере
Это с царствием небесным? —
Miserere ! Miserere !
О сладчайший Иисус!
Нас прости, открой нам двери
В теплый рай благоуханный! —
Miserere! Miserere!»
Так монахини поют.
Мертвый кистер — у органа,
Рукичпризраки бушуют
На регистрах ураганно.
* Miserere — помилуй (в католических молитвах).
38
ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС
(1820—1895)
Брэйский викарий
Перевод с английского Ф. Энгельса
Копда на троне Карл сидел,
Ласкавший церковь нашу,
Любовью к ней и я горел.
И кушал с маслом кашу.
Король, — так пастве я внушал, —
Поставлен нам от бога;
Тем, кто б ему перечить стал,
Прямая в ад дорога.
Я к одному стремлюсь, по мне
Нет ничего важнее:
Кто б пи был королем в стране,
Викарием быть в Брэе.
Когда же Яков занял трон
И натиск на папистов
Был столь же круто прекращен,
Сколь прежде был неистов, —
Я сразу встал на верный путь,
За Рим пошел открыто,
И — революции не будь —
Мне быть бы иезуитом.
Я к одному стремлюсь, по мне
Нет ничего важнее:
Кто б ни был королем в стране,
Викарием быть в Брэе.
Когда король Вильям пришел
И воли век восславил,
Я новый ветер вмиг учел
И парус переставил.
Я так учил своих овец:
Боритесь с вражьим станом!
Смиренью рабскому конец,
Дадим отпор тиранам!
Я к одному стремлюсь, по мне
Нет ничего важнее:
Кто б ии был королем в стране,
Викарием быть в Брэе.
39
Но Анна, севши на престол,
Родимой церкви вскоре
Вернула блеск,"и я пришел
К сознанью, что я торий.
Борьбу я на смерть объявил
За нашей церкви целость
И словом пламенным громил
Терпимость, мягкотелость.
Я к одному стремлюсь, по мне
Нет ничего важнее:
Кто б «и был королем в стране,
Викарием быть в Брэе.
Когда ж Георг провозгласил
Умеренность, — я мигом
Свое лицо переменил
И стал усердным вигом.
Я тем свои доходы спас
И в честь попал к регенту;
Зато громил чрез каждый час
То Рим, то претендентов.
Я к одному стремлюсь, по мне
Нет ничего важнее:
Кто б ии был королем в стране,
Викарием быть в Брэе.
Ганноверский державный дом —
Папистов исключая —
Я буду чтить, покуда в нем
Нам дан владыка края.
Я — верный сердцем паладин,
Коль нет причин к измене,
Король Георг — мой господин...
До новых изменений.
Я к одному стремлюсь, по мне
Нет ничего важнее:
Кто б ни был королем в стране,
Викарием быть в Брэе *.
* Перевод с немецкого перевода Ф. Энгельса сделан О. Румерозд.
ВИКТОР ГЮГО
(1802—1885)
Работа пленных
Бог рек царю: «Я твой господь. Мне нужен храм».
Тате, в синих небесах, где звезды льнут к звездам,
Бог говорил (то жрец, по крайней мере; слышал),—
Царь пленников призвал и -к ним с вопросом вышел:
«Найдется ли средь вас, кто б мог построить храм?»
«Нет»—был ответ.
«Тогда я смерти вас предам.
Бог гневается: он желает жить во храме.
Он властен над царем, царь властен над рабами.
Все справедливо».
Тут — сто пленных он казнил.
И раб один вскричал:
«Царь, ты нас убедил.
Вели, чтоб где-нибудь нам дали гору. Роем
В нее мы вроемся. И храм в горе построим».
«В пещере?»—царь спросил.
«О всемогущий царь,
Бог ие откажется такой признать алтарь;
Ужель помыслить мог ты хоть на миг единый,
Что бога оскорбит алтарь в пещере львиной?» —
«Работай» — молвил царь.
Раб гору отыскал,
Крутую, дикую, по имени Галгал;»
И стали пленники ее долбить, своими
Звеня целями; раб, товарищ их, над ними
Господствовал: всегда, во мраке рабства, тот,
С кем власть беседует, других рабов гнетет.
Они работали, врезаясь в грудь Галгала
Вот кончили, и раб сказал:
«Пора «астала,
Веление небес исполнено, о царь;
Но молим: соизволь взглянуть на наш алтарь;
Он создан для тебя сперва, потом — для бога»,
«Согласен» — царь сказал.
«Мы долг свой помним строго, —
Сказал покорный раб, простершись на камнях. —
Мы обожать должны твоих сандалий прах.
Твое величие когда пойдет?»
«Тотчас же».
И раб, согнувшийся, и властелин, без стражи,
41
Вошли в разубранный шелками паланкин.
В горе колодец был, и камень-исполин,
Канатом вздернутый, висел над мраком зева.
И властелин, и раб во вспоротое чрево
Горы вошли вдвоем через колодец тот, —
Кирками выбитый единственный проход.
Спустились. Царь, во тьме оставшись беспросветной,
Сказал испуганно:
«Так входят в кратер Этны,
В нору сивиллину, что вечный мрак таит,
Или — еще верней—в безвыходный Аид;
Но к алтарю итти чрез черную берлогу...» —
«Вверх или вниз идя, всегда доходят к богу» —
Сказал, простершись, раб. — Во „храм прекрасный твой
Добро пожаловать, владыка дорогой;
Ты — царь царей земных; средь гордых и великих
Ты — точно мощный кедр среди смоковниц диких.
Ты блещешь между них, как Патмос меж Спорад».—
«Что там за шум вверху?» —
«То заревел канат:
Мои товарищи там опускают камень». —
«Но как же выйдем мы?»
«Владыка, звездный пламень —
Опора стоп твоих, и молнию страшит
Твой меч, и на земле твой светлый лик горит,
Как солнце в небесах: ты — царь царей; тебе ли,
Величью ль твоему, страшиться ?» —
«Неужели
Нет выходов других?» —
«О царь! Ведь сто дорог, /
Лишь только пожелай, тебе проложит бог».
И царь вдруг закричал: «Нет более ни света,
Ни звука. Всюду мрак и тишь. Откуда это?
Зачем спустилась ночь в храм этот, как в подвал?» —
«Затем, что здесь твоя могила» — раб сказал.
ЭЖЕН ПОТЬЕ
(1816—1887)
Паутина
Тенетами застлав прозрачный небосклон,
Недостижимое, безличное и злое
Чудовище глядит — и лживой пустотою
Отравлен целый мир, обманут, обольщен.
Не ведая страниц пространства и времен,
Склоняется вампир над немощной землею;
Как муху, разум наш опутал он слюною
И гложет мысль, и пьет. Зовется богом он.
Ничто, которое создало господина,
Придумало попа и серой паутиной
Закрыло нам врата в земной веселый рай.
Не жди же, человек, от паразита смерти,
Лохмотья ветхие сорви со звездной твердя
И, свергнув паука, свободно ввысь взирай.
Святая троица
Начнем с Религии. — Старуха, чьих гримас,
Чьих догм убожество пленит вас, простофили!
Сулит вам чудеса и лжет, склоняя вас,
И распростерты вы подобно серой пыли.
И — Собственность. Но труд — моих источник касс,
Домов, усадеб!—Да, твоей дивлюсь я силе!
Отчаянье труда твоих не тронет глаз,
Тобой ограблен он, его всего лишили.
И Государственность—монарх иль генерал.
Он внутренних врагов — к стене и наповал!
Когда ж война, он сам не перейдет порога!
Святая троица! Мы все в твоей петле!
Поп, ростовщик, жандарм — их трое на земле.
Ложь, воровство и смерть — вот триединство бога.
43
Правящие классы
Летучих звезд светящиеся массы
Блеснули и погасли над землей.
Исчезли наши правящие классы,
И тени не оставив за собой.
Правители, пустые и тупые,
Нас заведя неведомо куда,
Ушли навек в пространства неземные...
И все ж земля вертится, как всегда!
Их больше нет... Что делать нам, что делать?
Пред кем стоять нам, в пояс поклонясь?
Правители пеклись о нас всецело,
Тревожились и думали за нас...
Как будут здесь пастись без них овечки?
Кто сдержит пыл их страсти? чья узда?
Когда и пастуха нет, чтоб стеречь их?
И все ж земля вертится, как всегда!
Где эти доктринеры-пустозвоны,
Лысевшие над тем, чтоб провести
Жестокие и дикие законы,
Мечтая ими общество спасти?
Отныне пролетарий не устанет
От их речей, как мутная вода
Струившихся из говорильных кранов...
И все ж земля вертится, как всегда!
Как! Нет ни одного капиталиста,
Нет всех этих мошенников-^плутов,
Что грабили рукой своей нечистой
И выжимали пот из бедняков?
Как! Вырваны из лап сей хищной стаи,
Разбиты цели Мысли и Труда?
Как! Касса Ротшильда совсем пустая? /
И все ж земля вертится, как всегда!
Нет более послов с их лживой речью,
Скрывавшею под маской их игры
Готовность вдруг заговорить картечью
Из пушек, замолчавших до поры...
Устав от козней и интриг придворных.
Теперь по телеграфным проводам
Братаются народы непритворно...
И все ж земля вертится, как всегда!
44
Нет более хваленых полководцев,
Способных больше лаять, чем кусать,
В порядке отступить, но не бороться,
Не умереть в бою, не побеждать?
Нет поджигателей переворотов,
Заливших кровью наши города...
Живем без армий, мирно, без заботы...
И все ж земля вертится, как всегда!
Нет папы, и попов нет лже-смиренных,
И даже нет нигде пономарей,
Нет этих сладострастников презренных,
Таившихся в глуши монастырей.
Исчезла вера в чудеса, в святыни,
Посланья пап исчезли без следа,
Не бог, а Разум царствует отныне...
И все ж земля вертится, как всегда!
Вертится, да! И, становясь тучнее,
Земля нас кормит, облегчая труд,
И на полях, где пышный колос зреет,
Нам (жаворонки веселей поют.
Мы без .господ свой труд, любя, свершаем
И отдых, после мирного труда,
Поэзией высокой услаждаем...
И все ж земля вертится, как всегда!
Носитель святой воды
Как в дымовой трубе, густая мгла царила,
И ночь невежества объяла шар земной,
И небо черное свисало над могилой,
Где ползал человек, еще полуживой.
Но мудрости заря природу оживила.
И право, и любовь несла она с собой.
На окоем земли, как мощное светило,
Извергнулся вулкан, и мрак исчез ночной.
Но кислой речью кто смущает блеск науки?
Кто к солнцу тощие протягивает руки,
Стараясь затемнить пожар его лучей/
Кто ты, гнусавый шут, мешающий восходу?
«Я... я... — бормочет он, — принес святую воду,
Чтоб солнце погасить кропильницей своей».
Парад империи
Пушки... Трезвон колокольный.
В сумрак Париж погружен.
Что за кортеж богомольный?
Медленно движется он.
Тени ползут величаво,
Музыки слышится гром.
Это империи слава
Тонет в тумане густом.
Старых чинов вереница,
Старой монархии хлам
Шествует богу молиться
Торжественно в Нотр-Дам.
Ястреб ушел от расправы,
Ожил злодей с декабрем.
Сгинь же, империи слава!
Скройся в тумане густом!
Армия в шапках мохнатых,
Важно проходят полки
В блеске мундиров богатых,
Блещут изменой штыки.
В битвах гражданских лукаво
Шли они вместе с врагом.
Сгинь же, империи слава!
Скройся в тумане густом!
Шествует магистратура.
Эти лже-судьи не раз
Подлой своей диктатурой
Гибель ковали для масс.
Их раболепной ораве
Нужен был цезарь с мечом.
Сгинь же, империи слава!
Скройся в тумане густом!
Тянется ряд академий,
Плесень рутины на них,
Шло это дряхлое племя
Против наук молодых.
Стало искусство трухляво.
Косность царила во всем...
Сгинь же, империи слава!
Скройся в тумане густом!
Гноеточивая рана —
Банка позорная знать.
Это дельцы-шарлатаны,
Их коммерсантами звать.
Кожа их сморщена, ржава.
Жили они грабежом.
Сгинь же, империи слава!
Скройся в тумане густом!
Церковь блестит позолотой,
Пользуясь правом своим,
Гнусные перевороты
Канонизирует Рим.
Тигра, пантеру гнусаво
Хвалят в молебне святом.
Сгинь же, империи слава!
Скройся в тумане густом!
Но молодежью румяной
Поднято знамя наук,
Сумрак редеет туманный,
Стало светлее вокруг.
Старости призрак костлявый
Мрачно стучит костылем.
Гнусной империи слава
Тонет в тумане густом.
4в
ШАРЛЬ БОДЛЕР
(1821—1867)
Отречение святого Петра
(Отрывок)
С проклятием людей «а сил небесных рати.
Что делает господь, на землю зря с небес?
Кате деспот, он сперва напьется и поет
И спит лотом под музыку проклятий.
Казнимых вопль, мучеников стон, —
Для бога нет симфонии звучнее.
И весь небесный хор от крови стервенеет,
Побольше мук, — таков небес закон.
В оливковом саду (так было это дело)
Молился ты, Иисус, по простоте своей,
На небе хохотал весь клир под звук гвоздей,
Впивавшихся в твое живое тело.
Ты «е мечтал ли о далеких снах,
Когда исполнятся пророков обещанья
И станет вся земля —без муки, без страданья —
Дорогой чудною в деревьях и цветах?
Ты не мечтал ли рушить города,
Где торгаши в ярме народ держали?
Ты мнил себя сильнее стали,
А сам, сам не сгорал ли от стыда?
— Поистине, мне этот мир не мил,
Мир, где мечта не слита с жизнью даже.
Поднявший меч погибнет от меча же!
Апостол Петр отрекся от него...
и умно поступил.
Каин и Авель
Раса Авеля, спи, ешь и пей,
Бог глядит иа тебя с охотой.
Раса Каина, ползай средь вшей.
Умирай и сгнивай в болоте.
Раса Авеля, твой фимиам
47
Обонянье небес ласкает.
Раса Каина, вечный твой срам
Ни конца, ни начала не знает.
Раса Авеля, жирен твой скот,
И на нивах заманчивы злаки.
Раса Каина, воет живот
У тебя, как у старой собаки.
Раса Авеля, грей телеса,
У семейного сидя камина.
Раса Каина, мерзнут леса,
И жилье твое утлое стынет.
Раса Авеля, множься, плодись,
Детям золото все остается.
Раса Каина — сердце, не рвись! —
Посмотри, как им сладко живется.
Раса Авеля, веришь, живешь
Ты, как клоп, без мучений и страсти.
Раса Каина, сжавшись, как еж,
Свои семьи спасай от несчастий.
Раса Авеля, годы придут,
Ты, как падаль, сгниешь у канавы.
Раса Каина, тяжкий твой труд
Провозвестник невиданной славы.
Раса Авеля, зла будет месть,
Труд с тобою расправится строго.
Раса Каина, на небо взлезь
И на землю скинь жалкого бога!
ГЕОРГ ВЕЕРТ
(1822—1856)
Только восемнадцать лет...
Последний луч в британском небе стынет.
Сквозь зимний сумрак в мире голубом,
Под лунным светом водная пустыня
Колеблется сияющим столбом.
Пустынен берег... Отдых пароходам!
Матросы и солдаты в кабаке...
И лишь один шумит под небосводом
Огромный Лондон, прислонясь к реке.
48
Ему неважно — может быть, пора
Глазам усталым хоть на миг смежиться —
Он будет шевелиться и катиться
Через мосты и парки до утра.
За ним поля в пленительной тиши,
А в нем —- две силы борются упруго —
Здесь умирают, любят за гроши.
Обжорство с голодом глядят в лицо друг другу.
Сидит бедняк за коркой хлеба черствой,
В белье немытом улеглась тоска,
А через улицу безумствует обжорство,
И наслажденье сбросило шелка.
Здесь «гром и тишь. Здесь ад и рай. Отсель
Несутся вздохи, поцелуи, стоны...
Не остановится ни на минуту карусель,
Вращающая эти два мильона!..
Под улиц шум она тихонько встала,
И свет звезды ее согрел лучом,
Над силуэтом промелькнул усталым
И над ее безжизненным лицом.
Она подумала — но только миг единый,
Потом, прижав к груди больного сына,
Она пошла одна среди дворцов...
Не все ль равно—куда, в конце концов!
«Подайте матери на хлеб!» — она просила.
Для сына моего подайте грош один!
О, как бы я тебя в тепле носила!
Как я хотела бы тебя согреть, мой сын!
Но — время есть! Ты вырастешь большим!
Тебе корабль ничуть не будет страшным,
Помчишься ты по волнам голубым,
Как твой отец — матросом бесшабашным!
«Как твой отец!.. Блаженно утро было,
И я очнулась на его груди...
Был май, потом июнь, и я тебя носила,
Не думая о том, что впереди.
И только осенью, когда мелькали листья,
В зеленой Темзе оставляя след, —
Тогда мои мечтания сбылися —
Исполнилось мне восемнадцать лет.
Ах! В восемнадцать лет уж юности лишиться,
Лишь восемнадцать лет — и столько горьких дней!
Но — стойте! Я могу еще гордиться:—
Дала я сына родине моей!..
Неужто плечи так уже согнулись?
49
Эй, вы, стоящие с крестами на пути!
Неужто женщину британскую одну лишь,
Одну лишь женщину не можете спасти?!»
Она умолкла. Бог ее не слышал —
Она ведь к небу не несла мольбы...
Глаза застыли. Сердце стало тише,
Замолкло сердце божией рабы.
В ее устах — застывшее проклятье,
Улыбка сморщила уста ее...
Взяла природа в нежные объятья
Чистейшее создание свое...
Прижался мальчик бледными руками
К оцепеневшей мраморной груди...
И солнце, вновь восстав меж облаками,
Сияло над холмами впереди.
И колокол с Вестминстера раздался,
Как будто бы скорбя о короле,
Он та« звучал, как будто собирался
О смерти нищей «рассказать земле.
Ах, колокол звучит не для тебя,
Бедняга-нищенка! Для королей звучит он!
Тебе, ушедшей в мир иной, скорбя,
Другие звуки зазвучат в защиту!
То будет крик мильоноб синих блуз!
Набат ударит по кварталам бедным!
Сольются нации в один большой союз —
Твоих убийц судить судом последним!..
Виноделы
На Мозеле и Аре
Цвел пышный виноград,
И был мужик наивный
Своим богатствам рад.
Тогда пришли торговцы,
Жестоки и строги:
«Мы треть берем со сбора
В уплату за долги!»
Чиновники явились
Со всех земных дорог:
«Вторую треть возьмем мы
Как подать и налог!»
Взглянул мужик на небо
С великою тоской,
Но бог в грозе и граде
Сказал: «Остаток мой!»
Страданий много в мире,
Закон железный строг.
Кого не мучил дьявол,
Терзает добрый бог.
50
АРНО ГОЛЬЦ
(1863—1929)
Философия религии
Господь, мою нужду
Услышь и обогрей!
Я хлеба с маслом жду
От милости твоей.
Кусочек колбасы
Был бы (весьма невреден.
Венец твоей красы —
Я так чертовски беден.
И шляпа столь стара,
Что это просто стыд!
Ее сменить пора.
Все у меня горит.
Дырявый шарф, и то
Мне горло еле греет.
От ватного пальто
Господь не оскудеет.
Кричу я пред тобой:
Ты видишь, как я гол,
Как потерял покой
И твой забыл глагол.
Однако я веду
Еще себя прилично.
Дай мне хоть раз в году,
Хоть чтоннибудь, — мне лично.
Для Кла<рхен гребешок,
Корову для жены,
И в праздничный горшок
Немножко ветчины.
А если бы мне стать
Писцом, — тогда, конечно,
Клянусь тебе блистать
Признательностью вечной.
Когда тебя бранят,
Не оскверню уста.
Войду в союз ягнят
Под знаменье креста.
И Фриц мой подрастет
Теологом. И, кстати,
Иэбранье и почет
В церковном стратостате.
А будешь скуп, тогда
На курию плевать!
Я атеист, беда!
Эй, Бебель, бунтовать!
Алтарь и трон во прах!
Их мощь не дорога нам:
За скаредность в дарах
Плачу я чистоганом.
Но так уж повелось:
Любя или губя,
Я до корней волос
Завишу от тебя.
Весь безраздельно твой, —
Конечно, не бесплатно.
Я малый деловой,
Не обессудь превратно.
Кричу я про нужду.
Услышь ее, согрей!
Я хлеба с маслом жду —
Скорей, скорей, скорей!
Кусочек колбасы
Был бы весьма невреден,
Венец твоей красы —
Увы! — чертовски беден.
4·
51
ИОГАНЕС Р. БЕХЕР
(Род. в 1891 г.)
Лютер
I
Монах шагнул на паперть и прибил
Сто тезисов к церковному порталу.
Был день торговый. Гуще люд ходил.
Подняв глаза, толпа листок читала.
О торге отпущеньями, грехе
Лжеверия, налогов непосильи
Открыто было сказано в листке
То самое, что дома говорили.
С соборной колокольни лился звон,
И улицы захлебывались в гаме.
Монах стоял, как будто пригвожден,
Стоял, как будто в землю врос ногами.
Он пел, неотвлекаемый ничем,
Что время возвещенное настало,
Когда вино и хлеб разделят всем,
И был мятеж в звучании хорала.
//
Из Виттенберга слух разнесся вширь:
«Исполнился предел терпенья божья.
По зову свыше кинув монастырь,
Монах пришел на поединок с ложью.
Мы все равны пред богом, учит он,
Грехам и отпущенье не отмена,
И только лицемерье, не закон
Царит во всей Империи Священной.
Вкруг бога понаставили святых.
Он как в плену в их мертвом частоколе.
Ему живых не видно из-за них,
И все идет вразрез господней воле.
Нам надобно осилить их синклит
И высвободить бога из темницы,
Тогда-то он, испуганный, отмстит
И на неправду с нами ополчится».
III
По княжествам летели эстафеты
С известием, что заключен союз
В защиту слова божья от извета.
62
Всяк это слышал и мотал на ус.
Молва передавалась все свободней,
Когда с амвонов грянув невзначай,
Дорогою к пришествию господню
Легла чрез весь немецкий бедный край.
IV
На сейме в Вормсе. Вызванный повесткой,
Терялся малой точечкой монах
Средь облаченья пышного и блеска
Стальных кольчуг и панцырей и шпаг.
Он был в дешевой рясе с капюшоном,
Веревкой стянут вместо пояска,
И несся к небу взглядом отрешенным
За расписные балки потолка.
Он был один средь пекла преисподней,
Ее владыка, сидя невдали,
Смотрел на жертву с вожделеньем сводни,
И слюнки у страшилища текли.
Их покрывал своим примером папа,
И, в мыслях соприсутствуя в гурьбе,
Из царств земных своею жадной лапой
Выкраивал небесное себе.
А чином ниже пенились баклажки,
И, вытянувши руки за ковшом,
На монастырских муравах монашки
Со служками валялись нагишом.
Монах привстал. Кровь бросилась в лицо.
Он выпрямился. Он в воображеньи
Увидел палача и колесо
И услыхал своих костей хрустенье.
Ударил туш. Явился государь.
«Как веруешь?»—вопрос был государев.
Все смолкли. Как костров далеких гарь,
В глазах у всех блеснула сухость зарев.
Тогда смелей обвел он взором зал,
Набравшись сил для этого наруже,
Где угольщик «емецкий голодал,
Топчась в лесах толпою «еуклюжей.
И, победив насмешливый прием,
Как пристыдить не чаял никогда б их,
Поведал он о господе своем—
О боге бедных, брошенных и слабых.
На золотую навалясь скамью,
Сидела туша с головой свинячьей.
Монах вскричал: «На этом я стою
И, бог судья мне, не могу иначе».
53
ν
Совет держали хитрые князья:
«К рукам давайте приберем монаха.
Великий крик и так от мужичья,
Оступишься, не оберешься страху.
Сдружимся с ним, чувствительно польстим
И до себя, как равного, возвысим,
Чего приказом не достичь простым,
Добиться можно угбжденьем лисьим.
Дадим вероучителю приют
И примем веру и введем ученье.
Сильнейшие со временем сдают
В тенетах славы, роскоши и лени».
VI
Засев на башне Вартбургской, монах
Переводил священное писанье.
Переложенья сила и размах
Щетинились, как войска нарастанье.
Князья толклись в прихожей вечерком,
Приема дожидаясь, словно счастья.
Чтоб завладеть полней бунтовщиком,
Впадала знать пред ним в подобострастье.
Подняв потир и таинство творя,
Он причащал упавших иа колени,
И хором все клялись у алтаря
Стоять горой за новое ученье.
Но как ни веселился мир христов,
Как ни трезвонили напропалую,
Как ни распугивали папских сов,
Не мог монах примкнуть к их аллилуйе.
Его тревожил чьих-то глаз упрек,
Оглядывавших стол его рабочий.
Он тер глаза. Он отводил их вбок,
Он прочь смотрел. Он не смотрел в те очи.
VII
Тут поднялись крестьяне. Лес бород,
Густая чаща вил, и кос и кольев.
«Все повернул монах наоборот,
Себя опутать по .рукам позволив.
Все вывернул навыворот монах,
Набравшийся от нас мужицкой силы.
Его раздуло на чужих хлебах,
А лесть и слава голову вскружили.
Он чашу нашей крови, пустосвят,
Протягивает барам для причастья,
А чаша-то без малого в обхват!
А крови в ней — ушаты, то-то страсти!»
54
VIII
Он уши затыкал, ио слышал рев
И в промежутках — пение петушье.
«Теперь ты наш до самых потрохов.
Иди на суд и обвиненье слушай.
Петух я красный, Петя-петушок,
Я искрою сажусь на крыши княжьи.
Я мстить привык поджогом за подлог,
Я углем выжигаю козни вражьи.
Я меч возмездья, я возмездья меч.
Я речь улик, что к сердцу путь находит,
Я тот язык, кого немая речь
Тебя на воду свежую выводит.
Я меч возмездья и его пожар.
Гляди, гляди, как я машу крылами.
Гляди, гляди, как меток мой удар.
Я мести меч и воздаянья пламя.
Князья умрут, и ты не устоишь,
И поколенья сменят поколенья,—
Я буду жить и сыпать искры с крыш,
Единственный, бессмертный в вашей смене.
Я — как народ. Я кость его и хрящ,
И плоть его, и доля и недоля.
Я как народ, а он непреходящ:
Доколе жив он, жив и я дотоле».
Монах бледнел, превозмогая страх.
Кричал петух, и меч огнем светился.
Чуть стоя на ногах, он сделал шаг
И вдруг на лобном месте очутился.
IX
Он как беглец, весь в трепете оглядки,
Чтоб ложный шаг в беду его не вверг,
А сыщики за ним во все лопатки.
Вот побегут и крикнут: «Руки вверх!»
Он — в их кольце. Пропало. Окружили.
И вдруг спасенье. Он прО|рвал кольцо.
Какой-то лес; лесной тропы развилье;
Какой-то дом; он всходит на крыльцо.
Как прячутся во сне под одеяло,
Так, крадучись, с крыльца он входит в дом,
Как вдруг — ни стен, ни дома, ни привала,
Лишь лес, да вслед бегут, да он бегом.
Так мечется, склонясь к доске конторки,
Монах с чернильницею в пятерне.
Вдруг склянка скок и на стену каморки,
И страшен знак чернильный на стене.
Тогда он в крик: «Светлейшие, пощадыI
Сиятельные, не моя вина,
55
Что, бедняков и слабых обивши в стадо,
Их против вас бунтует сатана.
Какой-то Мюнцер в проповедь разгрома
Вплетает наше имя без стыда.
Прошу припомнить: ни к чему такому
Я никогда не звал вас, господа.
В его тысячелетнем вольном штате
Ни старины, ни нравов не щадят.
Так грех не в грех, и все равны и братья.
Огнем их проучите за разврат.
Их надо бить и жечь без сожаленья.
Дерите смело кожу с них живьем.
Я всем вам обещаю отпущенье,
И бог вас вспомнит в царствии своем».
X
Повешенным в немецком бедном крае
Терялся счет, хоть подпирай забор;
Руками и коленками болтая,
Они до гор бросали мертвый взор.
Тела, вертясь направо и налево,
В согласьи с тем, как плыли облака,
Свершали круг от темени до зева,
Как темной ночью- лампа маяка.
У многих рот был до ушей разинут
И вырван был и вырезан язык,
И из щелей, откуда он был вынут,
Торчал немой, но глазу зримый крик.
X/
Счастливцев кучка прорвала кордон,
Где их как бешеных собак кончали,
И, затянув дорогой, как сквозь сон, —
«О, лик в венце терновом!», — шли в печали.
Один из них направил в город путь.
Он знамя нес, крестьянский стяг истлелый.
Сорвав с шеста, он обмотал им грудь,
И шел, и пел, прижав обрывок к телу.
Он пел: гори, кусок холста, гори!
Зажгись опять в годах и стань преддверьем
Той возмужалой веры и зари,
Когда мы лишь в одних себя поверим.
XII
Он заработок в городе нашел,
Подручным в кузню поступив « кому-то.
У кузнеца был добрый кров и стол,
И знамя не осталось без приюта.
РАФАЭЛЬ АЛЬБЕРТИ
Засуха*
Солнце яростно горело,
Пересохшие колосья
Наклонились и упали
На пылающую землю.
Май безоблачный кончался.
Все /поблекло, пыль клубилась,
Злая мачеха — засуха
Снова -к голоду вела.
И бежали люди в церковь
Умолять де ла Куэву:
— Пожалей нас, мать святая,
Тучей небо застели!
Сжалься, добрая царица!
Дай нам дождик долгожданный.
Наши бедные детишки
Хлеба не едят с зимы.
И ползли к ней на коленях,
Целовали изваянье,
И на мрамор пьедестала
Слезы горькие текли.
Только <мать де ла Куэва
Из румяной акварели
Глазом каменным сияла,
Не взирая, ни на что,
Толстый поп в богатой ризе
Из парчи и нитей шелка
Ехал на поле в коляске,
А за ним, едва дыша,
Люди шли в поту и пыли
И несли де ла Куэву,
И бескровными губами
Все молились о дожде.
— О, святой отец, ты знаешь,
Как мы преданы царице!
На последний грошик медный
Мы ль не ставили свечу?
Мы ль не следовали рабски
Мудрому ее завету:
Покоряйся воле злого,
Причащайся и терпи!
Почему ж ее немилость —
Снова засуха ^жаровня!
О, святой отец, нет мочи,
Отвечай нам поскорей!
И «святой отец» кадилом
Дым во все концы пускает.
— Я услышал голос с неба!
О падите, люди, ниц!
В жертву богу, в храм
священный.
Обручальные колечки
Принесите — будет дождик
После солнышка в четверг.
И супруги расставались
С памятью о дне венчанья...
Все, что им напоминало
Юность — первую любовь,
Пропадало в медной чаше,
Как в колодезе бездонном...
И четверг нагрянул—пекло!
Тучки в небе не видать.
День проходит... пять...
пятнадцать...
Лютый зной спалил пшеницу,
Люди с голоду опухли,
Смерть стучится в ворота.
— Где же дождь, де ла Куэва?
— Где же дождь, отец
духовный?
Женщины, мужчины, дети
С плачем кинулись к попу,
Но его как не бывало,
Скрылся вор благочестивый...
...О, ослепшие в молитвах,
Поднимайтесь на борьбу!..
За компартией железной,
Светом, воздухом вселенной!
С вами правда, с вами Сталин,
И победа впереди!
Печатается с небольшим сокращением.
Ol
У. X. одэн
Вечерний час. Завыл гудок.
Окончен день. Течет поток
В жерло трущоб.
Поток усталых бедняков...
Куда? К дурману кабаков,
Иль к проститутке в тень мостов.
И так по проб.
Вас направляет полисмен.
Ваш путь, не зная перемен,
Во тьму бежит.
Домой придете, но и там
Ждет страшный призрак по ночам,
И. безработицей он вам
Грозит.
Мы (видим, ханжества чужды,
Что давит вас ярмо нужды,
Но говорим:
— Придите, братья, мы вас ждем,
Друг о друге силу обретем.
Кошмары прочь. Мрак станет днем,
Мы победим.
Стяжатели ж, которым мал
Весь шар земной сегодня стал.
Познают страх.
Мы знаем, что погибнет класс,
Веками угнетавший вас.
Пробьет его последний час,
Падет во прах.
Вот молодой аристократ
Сверкает с головы до пят,
Он чужд тревог.
Бездельник, что в себя влюблен,
Спортсменов зависть будит он,
Так безупречно он сложен,
Сей юный бог.
Самовлюбленный джентельмен,
Вы не боитесь перемен
Судьбы своей.
Привыкли вы везде царить,
Но мы хотим предупредить,—
Не вам, не вам героем быть
Грядущих дней.
Фортуна целовала вас
И королем звала подчас,
Но не всерьез.
Не вам ее досталась страсть,
58
Не вам ее заставить пасть,
Она не примет вашу власть,
Как верный пес.
Вот проповедникнпустозвон.
Следы хранит поныне он
Духовных битв.
И прославляет с высоты
Он добродетель нищеты,
Смиренье, долгие посты,
Елей молитв.
Обманщик. Гнусная игра.
Себе не от небес добра
Ты ждал.
Земную любишь благодать,
Привык утробу услаждать.
Все, что богатство «может дать,
Давно стяжал.
А вот ученый — весельчак.
Что бедность?—лишь молва, пустяк,
Предмет острот.
Своим открытием горды
Строчите длинные труды:
«с— Ничтожна цель — из-за нужды
Шумит народ!..»
Мудрец имеет жалкий вид,
Когда пред нами он стоит
Разоблачен.
Где фейерверк блестящих слов?
Он «камень бросить в нас готов.
В число отъявленных врагов
И он включен.
Без гнева смотрит он на них,
Собратьев кэмбриджских своих,
Сих мудрецов.
На либералов всех пород,
Словесно любящих народ,
На этот лицемерный сброд,
Толпу лжецов.
Толпа наряженных шутов
Уверить хочет бедняков,
Им доказать:
Богатство, бедность — лишь фантом,
Лишь призрак, созданный умом.
А значит — нищий королем
Сумеет стать.
Пусть вас в бараний рог согнет,
Пусть лихорадка вас трясет
До немоты.
Пусть в чреве дочерей гниет
59
И погибает каждый плод.
Настанет час и, гнусный род,
Исчезнешь ты.
Исчезнет тучный твой магнат,
Банкир, делец, аристократ,
Твой вертопрах.
Апостол твой, святой отец,
Продажный бард и лже-мудрец,
Всем, всем им близится конец,
Падут во прах.
ПАБЛО НЕРУДА
Так было*
Я расскажу вам все
Как это было...
Мой квартал
В Мадриде славился часами,
Деревьями и звоном колокольным.
Из дома, отворив окно,
Я видел строгое лицо —
Огромное как океан —
Лицо Кастильи, древнее лицо,
Сухой обтянутое кожей...
Мой дом в те дни обычно называли
Дворцом цветов... и точно, изо всех
Углов рождались в нем цветы —
Герани алые, он был »красив
Со звонким лаем псов, с веселой
Возней детей...
Ты помнишь ли, Рауль?
Ты помнишь ли, скажи мне, Рафаэль?
Ты помнишь ли, наш милый Федерико.
Ты, под землей теперь лежащий?
Ты помнишь ли мой дом, его балконы,
Где жаркий ветер знойного июня
Играл твоими волосами,
Наш милый брат?..
А между тем внизу
Все было криком, белой солью
Печатается с небольшим сокращением.
60
Кипящих, говорливых рынков, массой
Еще теплом трепещущего хлеба...
Квартал мой Аргуэльос! Как сейчас
Тебя я вижу, — с конною фигурой.
Я вижу, как в сосудах, походивших
На бледные чернильницы, сверкало
Оливковое масло, как потом
Оно стекало на треску, я слышу,
Да, слышу громкий топот нот,
Биенье рук на улице... Какая
Кипела жизнь!.. Здесь были метры, литры,
Здесь горы рыб собой напоминали
Сплетенье кровель — бледною стрелой,
Холодным солнцем в чешуе их синей
Казался нож. Картофель был подобен
Слоновой кости, красные томаты
Изображали море...
Вдруг
Однажды утром изменилось все,
Однажды утром поднялись костры
Изнпод земли жестокой,
Свирепо пожирая жизни.
И с той поры повсюду пламя.
И порох всюду с той поры
И кровь, повсюду кровь-
Бандиты,
Бандиты с самолетами, с ордою
Наемных мавров, все в перстнях бандиты
С маркизами, с монахами, бандиты
Под хор церковных песнопений
Спускались с «еба убивать детей,
И здесь по улицам бежала кровь
Детей, детей... детей убитых,
Детей убитых...
Злобные шакалы!
Но и шакал от вас бы отказался,
Вы камни, но на самом жестком камне
Растет репейник — от отверг бы вас,
Вы змеи, но и змеи отползли бы
От вас с свирепым шипом...
Вы убийцы
Народов бедных, вы детей убийцы
И матерей, уже одетых в траур...
Но знайте же: взамен своих цветов
Из ям, снарядами открытых,
Испания встает,
Испания встает!
Из каждого убитого ребенка
Встает винтовка с зоркими глазами,
61
Из преступленья каждого теперь
Родятся пули, и настанет день —
Они отыщут ваше сердце,
Убийцы, негодяи!
Что же?
Вы спросите, зачем в моих стихах
Нет больше грез и нет цветов сирени,
Нет светлых рек земля моей родной?
Идите же на улицы, взгляните
На эту кровь, на эту кровь взгляните,
На эту кровь...
СЕСАР М. АРКОНАДА
Поэма о стране счастья
Друзья мои, был когда-то, —
В преданьях этот факт отмечен,
Я поведу о нем рассказ, —
Среди снегов глубокой ночи
Империя. В зловещей тьме
Цари, князья, попы, вельможи
Вершили страшные дела,
Дворцы и церкви возвышались,
И, в цепи тяжкие закован,
Народ измученный страдал...
И вот народ себя спросил:
«За что терплю страданья эти?»
И вышел Ленин из народа,
И Ленин так сказал ему:
«Борясь, ты можешь победить».
И встал народ лицом к лицу
С врагами, и в борьбе тяжелой
Он победил, — его вел Ленин, —
И стали правдой о свободе
Его мечты. Так годы шли...
Был черный день... Темнело небо,
И ветер плакал погребально,
День смерти Ленина... Но руль
Вложил в надежные он руки.
Товарищу в своей великой
Борьбе он передал корабль.
62
Его преемник верный — Сталин,
Он мудр, он тверд, он шаг за шагом,
Заветы Ленина свершая
И мысли следуя его,
Заставил песню рек могучих
Звучать в движении турбин.
Здесь сотни фабрик, в дым одеты,
Врезают в небо профиль свой,
Там воды светлые каналов
Пустыню превращают в сад,
Весны богатой зреет плод,
И юность свой закал находит
В дыханье пламенном зимы.
Надежно будущее. Жизнь
Легка... Дома светло смеются.
Свободен человек. Веселье
И труд в единстве стройном слиты,
Страшиться нечего теперь.
К чему? Когда несокрушима
Мощь Красной Армии, она
На страже мира всех народов.
И миллионы славят
Ее победные дела...
Друзья, я кончил свой рассказ,
Нет больше ледяной России,
Она страной чудесной стала,
Советской радостной страной.
ДЖО хилл
Проповедник и раб
Долгогривые чушь все несут
Про грехи да про страшный суд.
Об еде ж заикнешься, так нет,
Запоют они сладко в ответ:
«Хочешь есть, — умирай,
В небе есть для вас рай.
Здесь трудись да молись,
Каравай вам в рай бог подай!»
И дурачат голодных людей,
И поют и бубнят все сильней.
63
Так
А когда вы попались впросак,
То, взяв деньги, споют они так:
«Хочешь есть, — умирай,
В небе есть для вас рай.
Здесь трудись да молись,
Каравай вам в рай бог подай!»
юродствуют прыгуны
И кликуши, ханжи и лгуны:
«Все отдайте Исусу Христу:
Он воздаст вам за доброту.
Хочешь есть, — умирай,
В небе есть для вас рай.
Здесь трудись да (молись,
Каравай вам в рай бог подай!»
Если ж боретесь вы за семью,
Чтоб улучшить участь свою,
То вы грешник, они говорят,
После смерти пойдете вы в ад.
Хочешь есть, — умирай,
В небе есть для вас рай.
Здесь трудись да молись,
Каравай вам в рай бог подай!
Мы, рабочие разных стран,
Соберемся в единый стан;
И когда мы весь мир заберем,
Негодяям мы так пропоем:
«Хочешь есть, ну так знай:
Как работать и печь каравай,
К колке дров будь готов;
Руки есть, — будешь есть, так и знай!»
М- В. ЛОМОНОСОВ
(1711—1765)
Гимн бороде
1
Не роскошной я Венере,
Не уродливой Химере
В имнах жертву воздаю:
Я похвальну песнь пою
Волосам, от всех почтенным,
По
груди распространенным,
Что под старость наших лет
Уважают наш совет.
Борода предорогая!
Жаль, что ты некрещена,
И что тела часть срамная
Тем тебе предпочтена.
64
2
Попечительна природа
О блаженстве смертных рода
Несравненной красотой
Окружает — бородой
Путь, »которым в мир приходим
И наш первый взор возводим.
Не явится борода,
Не открыты ворота.
Борода предорогая... и т. д.
3
Борода в казне доходы
Умножает по вся годы:
Керженцам любезный брат
С радостью двойной оклад
В сбор за оную приносит,
И с поклоном низким просит
В вечный пропустить покой
Безголовых с бородой.
Борода предорогая... и т. д.
4
Не напрасно он дерзает,
Верно свой прибыток знает:
Лишь разгладит он усы,
Смертной не боясь грозы,
Скачут в пламень суеверы;
Сколько с Оби и с Печеры
После них богатств домой
Достает он бородой.
Борода предорогая... и т. д.
5
О коль в свете ты блаженна,
Борода — глазам замена!
Люди обще говорят
И по правде то твердят:
Дураки, врали, пролазы
Были бы без ней безглазы,
Им в глаза плевал бы всяк;
Ею цел и здрав их зрак.
Борода предорогая... и т. д.
6
Если правда, что планеты —
Нашему подобны свету,
Конче * в оных мудрецы
И всех пуще там жрецы
Уверяют бородою,
Что нас нет здесь головою,;
Скажет кто: мы вправду тут —
В струбе там того сожгут.
Борода предорогая... и т. д.
7
Если кто не взрачен телом
Или в разуме незрелом;
Если в скудости рожден,
Либо чином не почтен, —
Будет взрачен и рассуден,
Знатен чином и не скуден
Для великой бороды:
Таковы ее плоды!
Борода предорогая... и т. д.
δ
О, прикраса золотая,
О, прикраса дорогая,
Мать дородства и умов,
Мать достатков и чинов,
Корень действий невозможных,
О, завеса мнений ложных!
Чем могу тебя почтить,
Чем заслуги заплатить?
Борода предорогая... и т. д.
9
Через многие расчесы
Заплету тебя я в косы,
И всю хитрость покажу,
По всем модам наряжу,
Через разные затеи
Завивать хочу тупеи:
Дайте ленты, кошельки
И крупичатой муки.
Борода предорогая... и т. д.
10
Ах, куда с добром деваться?
Все уборы не вместятся:
Борода не доросла.
Для их многого числа
Я крестьянам подражаю
И как пашню удобряю.
Борода, теперь прости,
В жирной влажности «расти!
Борода предорогая!
Жаль, что ты некрещена,
И что тела часть срамная
Тем тебе предпочтена.
* Конечно.
В защиту «Гимна бороде»
О страх! о ужас! гром! ты держишь за штаны,
Которые висят под ртом у сатаны!
Ты видишь: он за то свирепствует и злится;
Дырявый красный нос, как пещь халдейска, дмится;
Огнем и жупелом наполнены усы.
О! как бы хорошо коптить в них колбасы!
Козляты (малые родятся с бородами,
Коль много почтены они перед попами.
О польза! я одной из сих пустых бород
Недавно удобрил бесплодный огород.
Уже и прочие того ж себе желают
И принести плоды обильны обещают.
Чего не можно ждать от сих мохнатых лиц,
Где в тучной бороде премножество пл
Сидят и меж собой, как люди, рассуждают,
Других с нл бород не признавают,
А признают лишь тех, кто молвит про козлов:
Возможно ль быть у них столь много волосов!
О движении земли
Случились вместе два Астронома в пиру
И спорили весьма между собой в жару.
Один твердил: земля вертясь круг солнца ходит.
Другой, что солнце все с собой планеты водит.
Один Коперник был, другой был Птоломей.
Тут повар спор решил усмешкою своей.
Хозяин спрашивал: ты звезд теченье знаешь?
Скажи, как ты о сем сомненьи рассуждаешь?
Он дал такой ответ: что в том Коперник прав,
Я правду докажу, на солнце не бывав:
Кто видел простака из поваров такова,
Который бы вертел очаг кругом жаркова.
* Стихотворение, приписываемое Ломоносову.
66
А. П. СУМАРОКОВ
(1718—1777)
Болван
Был выбран некто в боги:
Имел он голову, имел он руки, ноги
И стан;
Лишь не было ума на полполушку,
И деревянную имел он душку:
Был идол попросту болван;
И начали болвану все молиться,
Слезами пред болваном литься
И в перси бить:
Кричат: «потщися нам, потщися пособить!»
Всяк помощи великой чает:
Болван того
Не примечает
И ничего
Не отвечает;
Не слушает болван речей ни от кого,
Не смотрит, как жрецы мошны искусно слабят
Перед его пришедших олтари,
И деньги грабят
Таким подобием, каким секретари
В приказе,
Под несмотрением несмысленных судей,
Сбирают подати в карман себе людей,
Не помня, что о том написано в указе.
Потратя множество и злата и сребра,
И не видав себе молебщики добра,
Престали кланяться уроду
И бросили болвана в »оду,
Сказав: «Не отвращал от нас ты зла,
Не мог ко счастию ты нам пути отверзти!
Не будет от тебя, как будто от козла,
Ни молока, ни шерсти».
67
M. Д. ЧУЛКОВ
(1734—1792)
Стихи на семик
(Отрывок)
Я мимоходом дам читателю приметить,
Как дьявол злясь людей старается осетить,
Как римлянин и грек и древний славянин,
Все веровали так, как веровал один,
Лягушку божеством и рака почитали,
Пред деревом они колена преклоняли,
И реки божью честь носили на себе,
И словно жило все в почтеннейшей судьбе,
Болванчики в печи иль в устьях обитали,
И сажу как муку несчастные зобали,
Такой замаранный богов увидя сорт,
Конечно б я сказал, что это черный чорт,
И вместо чтоб иметь к сему почтенье богу,
Я б тотчас указал из горницы дорогу,
Но суеверство их в дурачество ввело,
Что чтили иногда лохань и помело,
Ухваты, кочерги, скребки и с ними вилы.
Им рыбы так, как нам, довольно были милы,
Однако вытащить боялись завсегда,
Из рек их божества не ели никогда,
Хоть слюнка и течет, что рыбка там играет,
Однако он реку как бога почитает.
Пришедши в огород египтянин другой
Боится согрешить пред всякою травой,
Чеснок их бог, и лук их чтится завелико
Цветки, бобы, горох, хотя и слышать дико,
Однако божеством считалися они
Во все прошедшие до православья дни,
Куда бы ни хотел ступити ты ногою,
Везде бы наступил на святости их тою.
С презрением сие внимаем мы теперь,
Нам к просвещению отверста ныне дверь,
Однако лесенки старинны попеваем
И древних тех богов частенько величаем,
Из коих несколько поставлю я в пример,
Пусть видит свой порок усердный суевер.
68
Д. И. ФОНВИЗИН
(1745—1792)
Послание к слугам моим:
Шумилову, Ваньке и Петрушке
Скажи, Шумилов, мне, «а что сей создан свет,
И как мне в оном жить, подай ты мне совет?
Любезный дядька мой, наставник и учитель,
И денег, и белья, и дел моих рачитель!
Боишься бога ты, боишься сатаны:
Скажи, прошу тебя, на что мы созданы?
На что сотворены медведь, сова, лягушка?
На что сотворены и Ванька и Петрушка?
На что ты создан сам, скажи, Шумилов, мне?
На то ли, чтоб свой век провел ты в крепком сне?
О таинство, от нас сокрытое судьбою!
Трясешь, Шумилов, ты седой своей главою;
«Не знаю, говоришь, не знаю я того,
«Мы созданы на свет и кем, и для чего.
«Я знаю то, что нам быть должно век слугами,
«И век работать нам руками и ногами;
«Что должен я смотреть за всей твоей казной,
«И помню только то, что власть твоя со (МНОЙ.
«Я знаю, что я муж твоей любезной няньки;
«На что сей создан свет, изволь спросить у Ваньки»
К тебе я обращу теперь мои слова,
Широкие плеча, большая голова.
Малейшего ума пространная столица!
Во области твоей кони и колесница,
И стало, наконец, угодно небесам,
Чтоб слушался тебя извозчик мой и сам.
На светску суету вседневно ты взираешь,
И стоя назади, Петрополь обтекаешь;
Готовься на вопрос премудрый дать ответ,
Вещай великий муж, на что сей создан свет?
Как тучи ясный день внезапно помрачают.
Так Ванькин ясной взор слова мои смущают.
Сомнение его тревожить начало;
Наморщились его и харя и чело.
Вещает с гневом мне: «На все твои затеи
«Не могут отвечать и сами грамотеи.
«И мне ль о том судить, когда мои глаза
69
«Не могут различить от ижицы аза!
«С утра до вечера держася на карете,
«Мне тряско рассуждать о боге и о свете;
«Неловко помышлять о том и во дворце,
«Где часто я стою смиренно на крыльце,
«Откуда каждой час друзей моих гоняют,
«И палочьем гостей к каретам провожают.
«Но если на вопрос мне должно дать ответ,
«Так слушайте ж, каков мне кажется сей свет.
«Москва и Петербург довольно мне знакомы;
«Я знаю в них почти все улицы и домы.
«Шатаясь по свету и вдоль и поперег,
«Что мог увидеть я, того не простерег.
«Видал и трусов я, видал я и нахалов,
«Видал простых господ, видал и генералов;
«А чтоб не завести напрасной с вами спор,
«Так знайте, что весь свет считаю я за вздор.
«Довольно на веку я свой живот помучил,
«И ездить назади я истинно наскучил.
«Извозчик, лошади, карета, хомуты
«И все, мне кажется, на свете суеты.
«Здесь вижу мотовство, а там я вижу скупость;
«Куда ни обернусь, везде я вижу глупость.
«Да сверх того еще приметил я, что свет
«Столь много времени неправдою живет,
«Что нет уже таких кащеев на примете,
«Которы б истину запомнили на свете.
«Попы стараются обманывать народ,
«Слуги дворецкого, дворецкие господ,
«Друг друга господа; а знатные бояра
«Нередко обмануть хотят и государя;
«И всякой, чтоб набить потуже свой карман,
«Заблагорассудил приняться за обман.
«До денег лакомы посадские, дворяне,
«Судьи, подьячие, солдаты и крестьяне.
«Смиренны пастыри душ наших и сердец
«Изволят собирать оброк с своих овец.
«Овечки женятся, плодятся, умирают,
«А пастыри притом карманы набивают.
«За деньги чистые прощают всякий грех,
«За деньги множество в раю сулят утех.
«Но если говорить на свете правду можно,
«То мнение мое скажу я вам неложно:
«За деньги самого всевышнего творца,
«Готовы обмануть и пастырь и овца!
«Что дурен здешний свет, то всякий понимает,
«Да для чего он есть, того никто не знает.
«Довольно я молол; пора и помолчать:
«Петрушка, может быть, вам станет отвечать.» —
70
— «Я мысль мою скажу, вещает мне Петрушка:
«Весь свет, мне кажется, ρ еб я ческа игрушка;
«Лишь только надобно потверже то узнать,
«Как лучше, живучи, игрушкой той играть.
«Что нужды, хоть потом и возьмут душу черти,
«Лишь только б удалось получше жить до смерти!
«На что молиться нам, чтоб дал бог видеть рай?
«Жить весело и здесь, лишь ближними играй«
«Играй, хоть от игры и плакать ближний будет;
«Щечи его казну, твоя казна прибудет.
«А чтоб приятнее еще казался свет,
«Бери, лови, хватай все, что ни попадет.
«Всяк должен своему последовать рассудку:
«Что ставишь в дело ты, другой то ставит в шутку.
«Не часто ль от того родится всем беда,
«Чем тешиться хотят большие господа,
«Которы нашими играют господами
«Так точно, как они играть изволят нами?
«Создатель твари всей, себе на похвалу,
«По свету нас пустил, как кукол по столу.
«Иные резвятся, хохочут, пляшут, скачут,
«Другие морщатся, грустят, тоскуют, плачут.
«Вот как вертится свет; а для чего он так,
«Не ведает того ни умной, ни дурак.
«Однако, ежели какими чудесами
«Изволили спознать вы ту причину сами;
«Скажите нам ее». — Сим речь окончил он,
За речию его последовал поклон.
Шумилов с Ванькою, хваля догадку ону,
Отвесили за ним мне также по поклону;
И трое все они, возвыся громкой глас,
Вещали: «Не скрывай ты таинства от нас,
«Яви ты нам свою в решениях удачу,
«Реши ты нам свою премудрую задачу!».
А вы внемлите мой, друзья мои, ответ:
И сам не знаю я, на что сей создан свет!
7/
П. А. ВЯЗЕМСКИЙ
(1792—1878)
Русский бог
Нужно ль вам истолкованье,
Что такое русский бог?
Вот его вам начертанье,
Сколько я заметить мог.
Бог мятелей, бог ухабов,
Бог мучительных дорог,
Станций — тараканьих штабов,
Вот он, вот он русский бог.
Бог голодных, бог холодных,
Нищих вдоль и поперег,
Бог имений недоходных,
Вот он, вот он русский бог.
Бог грудей и ж... отвислых,
Бог лаптей и пухлых ног,
ГорьКИХ ЛИЦ И СЛИВОК (КИСЛЫХ,
Вот он, вот он русский бог.
Бог наливок, бог рассолов,
Душ, представленных в залог,
Бригадирш обоих полов,
Вот он, вот он русский бог.
Бог всех с анненокой на шеях,
Бог дворовых без сапог,
Бар в санях при двух лакеях,
Вот он, вот он русский бог.
К глупым полн он благодати,
К умным беспощадно строг,
Бог всего, что есть некстати,
Вот он, вот он русский бог.
Бог всего, что из границы.
Не к лицу, не под итог,
Бог по ужине горчицы,
Вот он, вот он русский бог.
Бог бродяжных иноземцев,
К нам зашедших за порог,
Бог в особенности немцев,
Вот он, вот он русский бог.
К. Ф. РЫЛЕЕВ
(1795-1826)
Агитационные песни
Уж как шел кузнец
Да из кузницы —
Слава!
Нес кузнец
Три ножа —
Слава!
А,
Τρι
**
Первый нож
На бояр, на вельмож
Слава!
Второй нож
На попов, на святош
Слава!
молитву сотворя,
етий нож
Слава!
на
царя —
72
Ах, тошно мне
И в родной стороне;
Все в неволе,
В тяжкой доле,
Видно, век вековать?
Долго ль Русской народ
Будет рухлядью господ,
И людями,
Как скотами,
Долго ль будут торговать?
Кто же нас кабалил,
Кто им барство присудил,
И над нами,
Бедняками,
Будто с плетью посадил?
По две шкуры с нас дерут
Мы ттосеем, они жнут;
И свобода
У народа
Силой бар задушена.
А что силой отнято,
Силой выручим мы то.
И в приволье,
На раздолье,
Стариною заживем.
А теперь господа
Грабят нас без стыда,
И обманом
Их карманом
Стала наша мошна.
Баре с земским судом
И с приходским попом,
Нас морочат
И волочат
По дорогам да судам.
А уж правды нигде,
Не ищи, мужик, в суде,
**
*
Без синюхи
Судьи глухи,
Без вины ты виноват.
Чтоб в палату дойти,
Прежде сторожу плати,
За бумагу,
За отвагу,
Ты за все, про все давай!
Там же каждая душа
Покривится из гроша.
Заседатель,
Председатель,
Заодно с секретарем.
Нас поборами царь
Иссушил, как сухарь;
То дороги,
То налоги,
Разорили нас в конец.
А под царским орлом,
Ядом потчуют с вином,
И народу
Лишь за воду
Велят вчетверо платить.
Уж так худо на Руси,
Что и боже упаси!
Всех затеев
Аракчеев
И всему тому виной.
Он царя подстрекнет,
Царь указ подмахнет,
Ему шутка,
А нам жутко.
Тошно так, что ой, ой, ой...
Да мы сами
Ведь с усами,
Так мотай себе па ус.
73
Α. Α. ДЕЛЬВИГ
(1798—1831)
Подражание Беранже
Однажды бог, восстав от сна,
Курил сигару у окна
И чтоб заняться чем от скуки
Трубу взял в творческие руки;
Глядит и видит вдалеке
Земля вертится в уголке.
«Чтоб для нее я двинул ногу,
Чорт побери меня, ей-богу!»
«О человеки всех цветов!»
Сказал, зевая, Саваоф:
«Мне самому смотреть забавно,
Как вами управляю славно.
Но бесит лишь меня одно:
Я дал вам девок и вино,
А вы, безмозглые пигмеи,
Колотите друг друга в шеи
И славите потом меня
Под гром картечного огня.
— Я не люблю войны тревогу,
Чорт побери меня, ей-богу!
Меж вами карлики-цари
Себе воздвигли алтари
И думают они, буффоны,
Что я надел на них короны
И право дал душить людей.
Я в том не виноват, ей-ей!
Но я уйму их понемногу,
Чорт побери меня, ей-богу!
Попы мне честь воздать хотят,
Мне ладан под носом курят,
Страшат вас светопреставленьем
И ада грозного мученьем.
Не слушайте вы их вранья,
Отец всем добрым детям я,
По смерти муки не страшитесь,
Любите, пейте, веселитесь...»
А. С. ПУШКИН
(1799—1837)
Гавриилиада
Поэма
Воистину еврейки молодой
Мне дорого душевное спасенье.
Приди ·κο мне, прелестный ангел мой,
И мирное прими благословенье.
Спасти хочу земную красоту!
Любезных уст улыбкою довольный,
Царю небес и господу-Христу
Пою стихи на лире богомольной.
Смиренных струн, быть может, наконец
Ее пленят церковные напевы;
И дух святой сойдет на сердце девы;
Властитель он и мыслей и сердец.
74
Шестнадцать лет, невинное смиренье,
Бровь темная, двух девственных холмов
Под полотном упругое движенье,
Нога любви, жемчужный ряд зубов...
Зачем же ты, еврейка, улыбнулась
И по лицу румянец пробежал?
Нет. милая, ты, право, обманулась:
Я не тебя, — Марию описал.
В глуши полей, вдали Ерусалима,
Вдали забав и юных волокит
(Которых бес для гибели хранит),
Красавица, никем еще не зрима,
Без прихотей вела спокойный век.
Ее супруг, почтенный человек,
Седой старик, плохой столяр и плотник,
В селенье был единственный работник.
И день и ночь имея много дел,,
То с уровнем, то с верною пилою,
То с топором, не много он смотрел
На прелести, которыми владел,
И тайный цвет, которому судьбою
Назначена была иная честь,
На стебельке «е смел еще процвесть.
Ленивый муж своею старой лейкой
В час утренний яе орошал его;
Он как отец с невинной жил еврейкой,
Ее кормил — и больше ничего.
Но, братие, с небес во время оно
Всевышний бог склонил приветный взор
На стройный стан, на девственное лоно
Рабы своей — и, чувствуя задор,
Он положил в премудрости глубокой
Благословить достойный вертоград,
Сей вертоград забытый, одинокой
Щедротою таинственных наград.
Уже поля немая ночь объемлет;
В своем углу Мария сладко дремлет.
Всевышний рек, — и деве снится сон:
Пред нею вдруг открылся небосклон;
Во глубине небес необозримой,
В сиянии и славе нестерпимой
Тьмы ангелов волнуются, кипят,
Бесчисленны летают серафимы,
Струнами арф бряцают херувимы,
Архангелы в безмолвии сидят,
Главы закрыв лазурными крылами, —
75
И, яркими одеян облаками,
Предвечного стоит пред ними трон.
И светел вдруг очам явился он...
Все пали ниц... Умолкнул арфы звон.
Склонив главу, едва Мария дышит,
Дрожит, как лист, и голос бога слышит:
«Краса земных любезных дочерей,
Израиля надежда молодая!
Зову тебя, любовию пылая,
Причастница ты славы будь моей:
Готовь себя к неведомой судьбине,
Жених грядет, грядет к своей рабыне».
Вновь облаком оделся божий трон;
Восстал духов крылатый легион,
И раздались небесной арфы звуки...
Открыв уста, сложив умильно руки,
Лицу небес Мария* предстоит.
Но что же так волнует и манит
Ее к себе внимательные взгляды?
Кто сей в толпе придворных молодых
С нее очей не сводит голубых?
Пернатый шлем, роскошные наряды,
Сиянье крыл и локонов златых,
Высокий стан, взор томный и стыдливой, —
Все нравится Марии молчаливой.
Замечен он, один он сердцу мил!
Гордись, гордись, архангел Гавриил!
Пропало все. Не внемля детской пени,
На полотне та« исчезают тени,
Рожденные в волшебном фонаре.
Красавица проснулась на заре
И нежилась на ложе томной лени.
Но дивный сон, но милый Гавриил
Из памяти ее не выходил.
Царя небес пленить она хотела,
Его слова приятны были ей,
И перед ним она благоговела, —
Но Гавриил казался ей милей...
Так иногда супругу генерала
Затянутый прельщает адъютант.
Что делать нам? Судьба так приказала, —
Согласны в том невежда и педант.
Поговорим о странностях любви
(Не мыслю я другого разговора).
Ч те дни, когда от огненного взора
Мы чувствуем волнение в крови,
76
Когда тоска обманчивых желаний
Объемлет нас и душу тяготит,
И всюду нас преследует, томит
Предмет один и думы и страданий, —
Не правда ли? в толпе .младых друзей
Наперсника <мы ищем и находим.
С ним тайный глас мучительных страстей
Наречием восторгов переводим.
Когда же мы поймали на лету
Крылатый миг небесных упоений
И к радостям на ложе наслаждений
Стыдливую склонили красоту,
Когда любви забыли мы страданье
И нечего нам более желать, —
Чтоб оживить о ней воспоминанье,
С наперсником мы любим поболтать.
И ты, господь! познал ее волненье,
И ты пылал, о, боже, как и мы,
Создателю постыло все творенье,
Наскучило небесное моленье, —
Он сочинял любовные псалмы
И громко пел: «Люблю, люблю Марию,
В унынии бессмертие влачу...
Где крылия? К Марии полечу
И на груди красавицы почию!..»
И прочее... все, что придумать мог. —
Творец любил восточный, пестрый слог.
Потом, призвав любимца Гавриила,
Свою любовь он прозой объяснял.
Беседы их иам церковь утаила,
Евангелист немного оплошал!
Но говорит армянское преданье,
Что царь небес, не пожалев похвал,
В Меркурии архангела избрал,
Заметя в нем и ум и дарованье —
И вечерком к Марии подослал.
Архангелу другой хотелось чести:
Нередко он в посольствах был счастлив;
Переносить записочки да вести
Хоть выгодно, но он самолюбив.
И славы сын, намеренье сокрыв,
Стал нехотя услужливый угодник
Царю небес... а по земному сводник.
Но, старый враг, не дремлет сатана!
Услышал он, шатаясь в белом свете,
Что бог имел еврейку на примете,
77
Красавицу, которая должна
Спасти наш род от вечной муки ада.
Лукавому великая досада —
Хлопочет он. Всевышний, между тем,
На небесах сидел в уныньи сладком,
Весь мир забыл, не правил он ничем —
И без него все шло своим порядком.
Что ж делает Мария? Где она,
Иосифа печальная супруга?
В своем саду, печальных дум полна,
Проводит час невинного досуга
И снова ждет пленительного сна.
С ее души не сходит образ милой,
К архангелу летит душой унылой.
В прохладе тальм, под говором ручья
Задумалась красавица моя;
Не мило ей цветов благоуханье,
Не весело прозрачных вод журчанье...
И видит вдруг: прекрасная змия,
Приманчивой блистая чешуею,
В тени ветвей качается над нею
И говорит: «Любимица небес!
Не убегай, — я пленник твой послушной...*
Возможно ли? О, чудо из чудес!
Кто ж говорит Марии простодушной,
Кто ж это был? Увы, конечно, бес.
Краса змии, цветов разнообразность,
Ее привет, огонь лукавых глаз
Понравились Марии тот же час.
Чтоб усладить младого сердца праздность,
На сатане покоя нежный взор,
С ним завела опасный разговор:
«Кто ты, змия? По льстивому напеву,
По красоте, по блеску, по глазам —
Я узнаю того, кто нашу Еву
Привлечь успел к таинственному древу
И там склонил несчастную к грехам.
Ты погубил неопытную деву,
А с нею весь адамов род и нас.
Мы в бездне бед невольно потонули.
Не стыдно ли?»
«Попы вас обманули,
И Еву я не погубил, а шас!»
«Спас! от кого?»
«От бога».
«Враг опасной!»
«Он был влюблен...»
78
«Послушай, берегись!»
«Он к ней пылал — »
«Молчи!»
« — любовью страстной,
Она была в опасности ужасной».
«Змия, ты лжешь!»
«Ей-богу!»
«Не божись».
«Но выслушай...»
Подумала Мария:
«Не хорошо в саду, наедине,
Украдкою внимать наветам змия
И кстати ли поверить сатане?
Но царь небес »меня хранит и любит,
Всевышний благ: он, верно, не погубит
Своей рабы, — за что ж? за разговор!
К тому же он не даст меня в обиду,
Да и змия скромна довольно с виду.
Какой тут грех? Где зло? пустое, вздор!»
Подумала и ухо преклонила,
Забыв на час любовь и Гавриила.
Лукавый бес, надменно развернув
Гремучий хвост, согнув дугою шею,
С ветвей скользит — и падает пред нею;
Желаний огнь во грудь ее вдохнув,
Он говорит:
«С рассказом Моисея
Не соглашу рассказа моего:
Он вымыслом хотел пленить еврея,
Он важно лгал—и слушали его.
Бог наградил в нем слог и ум покорный,
Стал Моисей известный господин,
Но я, поверь, — историк не придворный,
Не нужен мне пророка важный чин!
Они должны —красавицы другие —
Завидовать огню твоих очей;
Ты рождена, о, скромная Мария,
Чтоб изумлять адамовых детей,
Чтоб властвовать их легкими сердцами,
Улыбкою блаженства их дарить,
Сводить с ума двумя-тремя словами,
По прихоти — любить и не любить...
Вот жребий твой. Как ты — младая Ела
В своем саду скромна, умна, мила,
Но без любви в унынии цвела;
Всегда одни, глаз-па-глаз, муж и дева
На берегах Эдема светлых рек
В спокойствии вели невинный век.
Скучна была их дней однообразность,
79
Ни рощи сень, ни молодость, ни праздность —
Ничто любви не воскрешало в них;
Рука с рукой гуляли, пили, ели,
Зевали днем, а ночью не имели
Ни страстных игр, ни радостей акивых...
Что окажешь ты? Тиран несправедливый,
Еврейский бог, угрюмый и ревнивый,
Адамову подругу полюбя,
Ее хранил для самого себя...
Какая честь? и что за наслажденье?
На небесах, как будто в заточенье,
У ног его молися да молись,
Хвали его, красе его дивись,
Взглянуть не смей украдкой на другова,
С архангелам тихонько молвить слово;
Вот жребий той, «которую творец
Себе возьмет в подруги наконец.
И что ж «потом? За скуку, за мученье,
Награда вся дьячков осиплых пенье,
Свечи, старух докучная мольба,
Да чад кадил, да образ под алмазом,
Написанный каким-то богомазом...
Как весело! Завидная судьба!
Мне стало жаль моей прелестной Евы;
Решился я, создателю на зло,
Разрушить сон и юноши и девы.
Ты слышала, как все произошло?
Два яблока, сися на ветке дивной
(Счастливый знак, любви символ призывной),
Открыли ей неясную мечту.
Проснулися неясные желанья;
Она свою познала красоту,
И негу чувств, и сердца трепетанье,
И юного супруга наготу!
Я видел их! Любви — моей науки —
Прекрасное начало видел я.
В глухой лесок ушла чета моя...
Там быстро их блуждали взгляды, руки..·
Меж милых ног супруги молодой
Заботливый, неловкий и немой,
Адам искал восторгав упоенья,
Неистовым исполненный огнем,
Он вопрошал источник наслажденья
И, закипев душой, терялся в нем...
И не страшась божественного гнева,
Вся в пламени, власы раскинув, Ева,
Едва, едва устами шевеля,
Лобзанием * Адаму отвечала,
80
В слезах любви, в бесчувствии лежала
Под сенью пальм, — и юная земля
Любовников цветами покрывала.
Блаженный день! Увенчанный супруг
Жену ласкал с утра до темной ночи,
Во тьме ночной смыкал он редко очи,
Как их тогда украшен был досуг!
Ты знаешь: бог, утехи прерывая,
Чету мою лишил навеки рая.
Он их изгнал из милой стороны,
Где без трудов они так долго жили
И дни свои невинно проводили
В объятиях ленивой тишины.
Но им открыл я тайну сладострастья
И младости веселые права,
Томленье чувств, восторги, слезы счастья,
И поцелуй, и нежные слова.
Скажи теперь: ужели я предатель?
Ужель Адам несчастлив от меня?
Не думаю, но знаю только я,
Что с Евою остался я приятель».
Умолкнул бес. Мария в тишине
Коварному внимала сатане.
«Что ж?—думала,—быть может, прав лукавый,
Слыхала я: ни почестьми, ни славой,
Ни золотом блаженства не купить;
Слыхала я, что надобно любить...
Любить! Но как, зачем и что такое...»
А между тем вниманье молодое
Ловило все в рассказах сатаны:
И действия, и странные причины,
И смелый слог, и вольные картины...
(Охотники мы все до новизны.)
Час от часу неясное начало
Опасных дум казалось ей ясней,
И вдруг змии как будто не бывало —
И новое явленье перед ней!
Мария зрит красавца молодова
У ног своих. Не говоря ни слова,
К ней устремив чудесный блеск очей,
Чего-то он красноречиво просит,
Одной рукой цветочек ей подносит,
Другою мнет простое полотно
И крадется под ризы торопливо,
И легкий перст касается игриво
До милых тайн... Все для Марии диво,
Все кажется ей ново, мудрено, —
81
А между тем румянец не стыдливый
На девственных ланитах заиграл —
И томный жар и вздох нетерпеливый
Младую грудь Марии подымал.
Она молчит: но вдруг не стало мочи,
К лукавому склонив свою главу,
Едва дыша, закрыла томны очи,
Вскричала: ах!., и пала на траву...
О, милый друг! кому я посвятил
Мой первый сон надежды и желанья.
Красавица, которой был я мил,
Простишь ли мне мои воспоминанья?
Мои грехи, забавы юных дней,
Те вечера, когда в семье твоей,
При матери докучливой и строгой
Тебя томил я тайною тревогой
И просветил невинные красы?
Я научил послушливую руку
Обманывать печальную (разлуку
И услаждать безмолвные часы,
Бессонницы девическую муку.
Но молодость утрачена твоя,
От бледных уст улыбка отлетела,
Твоя краса во цвете помертвела...
Простишь ли мне, о, милая моя!
Отец греха, Марии враг лукавой,
Ты стал и был пред нею виноват;
Ее тебе приятен был разврат...
И ты успел преступною забавой
Всевышнего супругу просветить
И дерзостью невинность изумить·
Гордись, гордись своей проклятой славой!
Спеши ловить, но близок, близок час!
Вот меркнет свет, заката луч угас.
Все тихо. Вдруг над девой утомленной
Шумя парит архангел окрыленной,—
Посол любви, блестящий сын небес.
От ужаса гори виде Гавриила
Красавица лицо свое закрыла...
Пред ним восстав, смутился мрачный бес
И говорит: «Счастливец горделивой,
Кто звал тебя? Зачем оставил ты
Небесный двор, эфира высоты?
Зачем мешать утехе молчаливой»
Занятиям чувствительной четы?»
Но Гавриил, нахмуря взгляд ревнивый,
82
Рек на вопрос и дерзкий и шутливый:
«Безумный враг небесной красоты.
Повеса злой, изгнанник безнадежной,
Ты соблазнил красу Марии нежной
И смеешь мне вопросы задавать!
Беги сейчас, бесстыдник, раб мятежной,
Иль я тебя заставлю трепетать!»
«Не трепетал от ваших я придворных,
Всевышнего прислужников покорных,
От сводников небесного царя!» —
Проклятый рек и, злобою горя,
Наморщив лоб, окосясь, кусая губы,
Архангела ударил дрямо в зубы.
Раздался крик, шатнулся Гавриил
И левое колено (преклонил;
Но вдруг восстал, исполнен новым жаром,
И сатану нечаянным ударом
Хватил в висок. Бес ахнул, побледнел —
И кинулись в объятия друг другу.
Ни Гавриил, ни бес не одолел:
Сплетенные кружась идут по лугу,
На вражью грудь опершись бородой,
Соединив крест на крест ноги, руки,
То силою, то хитростью науки
Хотят увлечь друг друга за собой.
Не правда ли? Вы помните то поле,
Друзья мои, где в прежни дни, весной,
Оставя класс, мы бегали на воле
И тешились отважною борьбой.
Усталые, забыв и брань и речи,
Так ангелы боролись меж собой.
Подземный царь, буян широкоплечий,
Вотще кряхтел с увертливым врагом,
И, наконец, желая кончить разом,
С архангела пернатый сбил шелом,
Златой шелом, украшенный алмазом.
Схватив врага за мягкие власы,
Он сзади гнет могучею рукою
К сырой земле. Мария пред собою
Архангела зрит юные красы
И за него в безмолвии трепещет.
Уж ломит бес, уж ад в восторге плещет;
По счастию проворный Гавриил
Впился ему в то место роковое
(Излишнее почти во всяком бое),
В надменный член, которым бес грешил.
Лукавый пал, пощады запросил
И в темный ад едва нашел дорогу.
83
На дивный бой, на страшную тревогу
Красавица глядела чуть дыша;
Когда же к ней, свой подвиг соверша,
Приветливо архангел обратился,
Огонь любви в лице ее разлился
И нежностью исполнилась душа.
Ах, как была еврейка хороша!..
Посол краснел и чувствия чужие
Так изъяснял в божественных словах:
«О, радуйся, невинная Мария!
Любовь с тобой, прекрасна ты в женах;
Стократ блажен твой плод благословенной,
Спасет он мир и ниспровергнет ад...
Но признаюсь душою откровенной
Отец его блаженнее стократ».
И перед ней коленопреклоненный
Он между тем ей «нежно руку жал...
По туп я взор, прекрасная вздыхала,
И Гавриил ее поцеловал.
Смутясь, она краснела и молчала,
Ее груди дерзнул коснуться он...
«Оставь меня!» — Мария прошептала,
И в тот же миг лобзаньем заглушён
Невинности последний крик и стон...
Что делать ей? Что скажет бог ревнивый?
Не сетуйте, красавицы мои,
О, женщины, наперсницы любви,
Умеете вы хитростью счастливой
Обманывать вниманье жениха.
И знатоков внимательные взоры,
И на следы приятного греха
Невинности набрасывать уборы...
От матери проказливая дочь
Берет урок стыдливости покорной
И мнимых мук, и с робостью притворной
Играет роль в решительную ночь;
И поутру, оправясь понемногу,
Встает бледна, чуть ходит, так томна.
В восторге муж, мать шепчет: слава богу,
А старый друг стучится у окна.
Уж Гавриил с известием приятным
По небесам летит путем обратным.
Наперсника нетерпеливый бог
Приветствием встречает благодатным:
«Что нового?» — «Я сделал все, что мог,
Я ей открыл». — «Ну что ж она?» — «Готова!»
И царь небес, не говоря ни слова,
84
С престола встал и манием бровей
Всех удалил, как древний бог Гомера,
Когда смирял бесчисленных детей;
Но Греции навек угасла вера,
Зев ее а нет, мы сделались умней!
Упоена живым воспоминаньем,
В своем углу Мария в тишине
Покоилась на смятой простыне.
Душа горит и негой и желаньем,
Младую грудь волнует новый жар.
Она зовет тихонько Гавриила,
Его любви готовя тайный дар,
Ночной покров ногою отдалила
Довольный взор с улыбкою склонила,
И, счастлива в прелестной наготе,
Сама своей дивилась красоте.
Но между тем в задумчивости нежной
Она грешит, — (прелестна и томна,
И чашу пьет отрады безмятежной.
Смеешься ты, лукавый сатана!
И что же! вдруг мохнатый, белокрылый
В ее окно влетает голубь милый,
Над нею он порхает и кружит
И пробует веселые напевы,
И вдруг летит в колени милой девы,
Над розою садится и дрожит,
Клюет ее, колышется, вертится,
И носиком и ножками трудится.
Он, точно он! — Мария поняла,
Что в голубе другого угощала;
Колени сжав, еврейка закричала,
Вздыхать, дрожать, молиться начала,
Заплакала, но голубь торжестзует,
В жару любви трепещет и воркует,
И падает, объятый легким сном,
Приосеня цветок любви крылом.
Он улетел. Усталая Мария
Подумала: «Вот шалости какие!
Один, два, три!—как это им не лень?
Могу оказать, перенесла тревогу:
Досталась я в один и тот же день
Лукавому, архангелу и богу».
Всевышний царь, как водится, потом
Признал своим еврейской девы сына,
Но Гавриил—(завидная судьбина!) —
Не преставал являться ей тайком;
Как многие, Иосиф был утешен,
85
Он пред, женой попрежнему безгрешен,
Христа любил, как сына своего,
За то господь и наградил его!
Аминь, аминь. Чем кончу я рассказы?
Навек забыв старинные проказы,
Я пел тебя, крылатый Гавриил.
Смиренных струн тебе я посвятил
Усердное, спасительное пенье:
Храни меня, внемли мое моленье!
Досель я был еретиком в любви,
Младых богинь безумный обожатель,
Друг демона, повеса и предатель...
Раскаянье мое благослови!
Приемлю я намеренья благие,
Переменюсь: Елену видел я;
Она мила, как нежная Мария!
Подвластна ей навек душа моя.
Моим речам придай очарованье,
Понравиться поведай тайну мне,
В ее душе зажги любви желанье,
Не то пойду молиться сатане!
Но дни бегут, и время сединою
Мою главу тишком осеребрит
И важный брак с любезною женою
Пред алтарем меня соединит.
Иосифа прекрасный утешитель!
Молю тебя, колена преклоня,
О, рогачей заступник и хранитель,
Молю — тогда благослови меня,
Даруй ты мне беспечность и смиренье,
Молю тебя, пошли мне вновь и вновь
Спокойный сон, в супруге уверенье,
В семействе мир и к ближнему любовь!
К Огаревой,
которой митрополит прислал
плодов из своего саду
Митрополит, хвастун бесстыдной,
Тебе прислав своих плодов,
Хотел уверить нас, как видно,
Что будто сам он бог садов.
86
Чему дивиться тут? Харита
Улыбкой дряхлость победит,
С ума сведет митрополита
И пыл желанья в нем родит
И он, твой встретя взор волшебный,
Забудет о своем кресте,
И нежно станет петь молебны
Твоей небесной красоте.
Вакхическая песня
Что смолкнул веселия глас?
Раздайтесь, вакхальны припевы!
Да здравствуют нежные девы
И юные жены, любившие нас!
Полнее стакан наливайте!
На звонкое дно
В густое вино
Заветные кольца бросайте!
Подымем стаканы, содвинем их разом!
Да здравствуют музы, да здравствует разум!
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!
Брадатый староста Авдей...
Брадатый староста Авдей
С поклоном барыне своей
Заместо красного яичка
Принес ученого скворца.
Известно вам, такая птичка
Умней иного мудреца.
Скворец, надувшись величаво,
Вздыхал о царствии небес
И приговаривал картаво:
«Христос воскрес!
Христос воскрес!»
Скворец мой был не пустомеля,
Не врал он всякой чепухи,
Он был ученее.
87
Т. Г. ШЕВЧЕНКО
(1814—1861)
Когда б вы знали, господа,
Где плачут люди, вы тогда *
Своих идиллий не творили б,
И -бога всуе не хвалили б,
Не умилялись бы всегда!
За что, не знаю, называют
Мужичью хату божьим раем...
Там, в хате, мучился и я,
Там первая слеза моя
Когда-то пролилась! Не знаю.
Найдется ли у бога зло,
Что в хате той бы не жило?
А хату раем называют!
Ее не назову я раем,
Убогой хаты в тихом гае,
Где пруд — на рубеже села.
Там мать моя мне жизнь дала,
И с песней колыбель качала,
И песней скорбь переливала
В свое дитя. Я в хате той
Не счастье и не рай святой —
Я ад узнал в ней... Там забота,
Нужда, неволя и работа,
И помолиться не дают.
Там ласковую мать мою
Свели в могилу, молодою,
Труд с непосильною нуждою;
Отец поплакал, вторя нам
(Мы, дети, были малы, голы),
Но панщины ярем тяжелый
Носил недолго он и сам.
Мы, как мышата, по дворам
Все расползлись. Трудясь для
школы,
Таскал я воду школярам.
Покуда братьям лбы забрили,
Они на панщину ходили.
А сестры... Сестры! Горе вам,
Мои голубки молодые!
Куда, бездомным, вам лететь?
Росли в батрачках, всем чужие,
В батрачках до седин дожили,
В батрачках вам и умереть!
Дрожу, когда лишь вспоминаю
Ту хату на краю села!
Такие, боже наш, дела
У нас в раю, страшней не знаю
На праведной земле твоей1
Ад сотворили мы на ней
И чаем неземного рая!
В ладу мы с братьями живем,
Руками братьев нивы жнем
И их слезами поливаем.
А может быть... Не утверждаю,
Мне кажется лишь... сам еси...
(Ведь без твоей же воли, боже,
В (раю нам мучиться не гоже!)
Быть может, сам на небеси
Смеешься, отче наш, над нами,
Совет держа тайком с панами,
Как править миром?.. Глянь
туда:
Вон, видишь, вербы у пруда, —
Сквозь гущину ветвей сверкает
Вода, белеет полотном,
А вербы никнут над прудом,
И ветви легкие купают,
И тихо шепчут... Правда, рай?
А приглядись к нему, узнай,
Что там творится, что бывает!
Конечно, радость и хвала
Тебе, единому, за святость,
За дивные твои дела?
Нет, боже, не хвала, не радость,
А кровь, да слезы, да хула,
Хула всему, всему! Не знают
Святого люди ничего!
Уже — ты слышишь! —
проклинают
Тебя, владыка, самого!
S3
Свой удел имеет всякий
И свой путь широкий:
Тот построит, тот разрушит,
Тот несытым оком
Рыщет по свету да ищет,
Нет ли где землицы,
Чтоб ее себе присвоить
И стащить в гробницу;
Тот бесстыдно обирает
Свата © его хате,
А тот тихо — в уголочке
Острит нож на брата;
А тот, тихонький да трезвый,
Богобоязливый,
Кошечкою подкрадется,
Выждет несчастливый
Час твой и тотчас запустит
Коготки в печонку, —
Не моли уж: не упросят
Ни дитя ни жёнка;
А тот, щедрый да роскошный,
Храмы все возводит
Да отечество так любит,
Что себя изводит,
Да уж так с него, родного,
Кровь, как воду, точит!..
И молчат себе в округе,
Вытаращив очи
Как ягнята: «Пусть! —
толкуют, —
Видно, так и надо!»
— Так и надо! потому что
Бог нам не ограда.
А вы все ярмо влачите,
Так на этом свете
Рая, что ли, вы хотите?..
Нету рая! Нету!
Лечу... Смотрю — уже светает,
Неба край пылает;
Соловейко в темной -роще
Солнышко встречает.
Еле-еле ветер веет,
Степи, нивы мреют,
Меж логами над прудами
Сон*
(Отрывок)
Вербы зеленеют.
Сад тенистый клонит ветви,
Тополя по воле
Держат утреннюю стражу,
Что-то шепчут в поле.
Все-то здесь, вся окрестность
Повита красою,
Зеленеет, умываясь
Раннею росою,
Умываясь, тихо зреет,
Солнышко встречая.
Не найдешь тому начала,
Не найдешь и края.
Никому-то нет заботы,
Чтоб не разрушали.
И вот так-то все здесь...
Сердце!
Что ж твои печали?
Сердце бедное! Тоскуя,
Тщетно ты рыдаешь!
Ты о чем жалеешь?
Или ты не знаешь?
Иль не слышишь стонов, что
здесь раздались?
Ну, так глянь, смотри же.
Я ж умчуся ввысь,
Высоко-Высоко, за синие тучи:
Там не знают казней, нет
властей могучих,
Смех людской и слезы могут
там заснуть.
В том раю, —взгляни-ка, — что
ты покидаешь,
Латаную свитку с бедняка
снимают.
С кожею снимают,—нечем ведь
обуть
Недорослей барских. Там вон
распинают
За оброк вдовицу, сына.же
скуют, —
Горькая судьбина!—одного-то
сына
Ой, одну надежду! — в войско
отдают, —
* Печатается в сокращенном виде.
89
Войска, видишь, мало!.. А вон
там под тыном
С голоду ребенок вспухнет и
умрет,
А на барском поле мать
пшеницу жнет.
Там вон — видишь? Очи, очи!
Вы зачем открылись?
Что ж вы с детства не иссохли,
В слезы не излились?
Вон безмужняя под тыном
Свой приплод <качает;
Батько с маткой отреклися,
Люди не пускают;
Даже старцы избегают...
А барчук не знает:
Он с двадцатой, недолюдок,
Душу пропивает.
Бог-то видит ли за тучей
Наши слезы, горе?
Хоть и видит, да поможет
Вот как эти горы,
Вековые, облитые
Кровию людскою!..
К
а в к а з
За горами горы, тучею обвиты,
Горем изобильны, кровию
облиты.
Вот там-то Милостивый
Мы
Пленили, голодну и голу,
Несчастных горцев
здешних БОЛЮ,
Чтобы травить ее...
Костьми
Легло солдат в горах
немало.
А слез, а крови! Напоить
Всех императоров бы стало,
С потомством их, и утопить
В слезах вдовиц. Во мраке
ночи
Что дев повыплакали очи!
А материнских жарких
слез,
Отцовых, старческих,
кровавых,
Не реки, — море пролилось,
Пылающее море!.. Слава
Охотникам, гончим, псарям,
И нашим батюшкам царям!
Слава!
Слава, горы снеговые
В облаченьи строгом;
Слава рыцарям великим,
Не забытым богом!
Поборитесь, — победите!
Бог вам помогает;
С вами сила, с вами воля,
Правда в вас святая!
Чурек и сакля—все твое!
Достаток твой не дан, не
прошен,
Никто не скажет: «все — мое!»
И ты в тюрьму не будешь
брошен.
У нас не то. Учились мы,
Читаем божьи мы глаголы,
И от избушки иль тюрьмы
И до высокого престола
Мы все и в золоте и голы.
Иди учиться к нам! Сочтем,
Что стоит хлеб,и соль почем;
Мы—христиане; храмы, школы,
Все доброе, сам бог у нас!
Нам только сакля очи колет:
Зачем она стоит у вас,
Дана не нами? Что же вам
Чурек ваш вам же мы не кинем,
Как той собаке? Что же вы нам
Платить за солнце не повинны?
* Печатается в сокращенном виде.
90
Ведь только это! Не цыгане
Мы, — истинные христиане;
Мы малым сыты! А за то,
Что с нами вы бы подружились,
Вы многому бы научились.
Ведь и земли ж у нас на то:
Одна Сибирь необозрима!
Наш край острогами богат!
От молдаванина до финна
На всех наречьях все молчат,
Ведь благоденствуют!.. У нас
Святую библию читает
Святой чернец и поучает,
Что царь какой-то свиней пас,
Убил он друга, на потребу
Себе вдову взял, после ж в небо
Взлетел! Такие-то у нас
Сидят на небе! Вы же темны,
Святым крестом не
просвещены!
Научитесь у нас: дери,
Дери да дай,
И прямо в рай,
Хоть и родню всю забери!
**
Свет мой ясный, свет мой тихий,
Свет мой вольный, всем
открытый!
Ты за что же, свет, мой братик,
В твоей доброй, теплой хате
Так окован, замурован
(Не премудрый ли опле-
Багряницами закрытый [ван?),
И распятием добитый?..
Не добитый! Встрепенися
И открыто нам явися!
Просвяти нас!.. Будем, брат
мой,
Багряницы в клочья драть мы,
Трубки из кадил закурим,
Печь топить «святыми» будем,
А кропилом станем, брат мой,
В новой хате подметать мы.
Гимн черниц
Гром, ударь над этим домом, Обманул ты всех нас тяжко;
Божьим домом тем, где мрем мы. Мы обкрадены, бедняжки,
Бог, тебя мы презираем, И себя мы обманули
Презирая, припеваем: И, стеная, затянули:
Аллилуя! Аллилуя!
Как не ты бы, мы б любились
И ласкались, и дружились,
И детей мы воспитали б,
И, уча их, припевали б:
Аллилуя!
Ты постриг нас всех в черницы,
Мы же — юные девицы,
И танцуем, и играем,
И поем, и припеваем:
Аллилуя!
91
H. A. НЕКРАСОВ
(1821—1878)
Знахарка
Знахарка в нашем живет околодке:
На воду шепчет; на гуще, на водке
Да на каких-то гадает травах.
Просто наводит, проклятая, страх!
Радостей мало — пророчит все горе;
Вздумал бы плакать — наплакал бы море,
Да — господь милостив! русский народ
Плакать не любит, а больше поет.
Молвила ведьма горластому парню:
«Эй, угодишь ты на барскую псарню!»
И — поглядят — через месяц всего
По лесу парень орет «го-го-го!»
Дяде Степану сказала: «Кичишься
Больно ты сивкой, а сивки лишишься,
Либо своей голове пропадать!»
Стали Степана рекрутством пугать:
Вывел коня на базар — откупился!
Весь околодок колдунье дивился.
«Семка! и я понаведаюсь к ней!»
Думает старый мужик Пантелей:
«Что ни предскажет кому: разоренье,
Убыль в семействе, глядишь — исполненье!
Чорт у ней, что ли, в дрожжах-то сидит?..»
Вот и пришел Пантелей и стоит,
Ждет: у колдуньи была уж девица,
Любо взглянуть — молода, полнолица.
Рядом с ней парень — дворовый, кажись.
Знахарка девке: «Ты с ним не вяжись!
«Будет твоя особливая доля:
«Малые слезы — и вечная воля!»
Дрогнул дворовый, а ведьма ему:
«Счастью не быть, молодец, твоему.
«Все говорить?» — Говори! «Ты зимою
«Много потерпишь, дойдешь до запою,
«Будешь небритый валяться в избе,
«Чортики прыгать учнут по тебе,
«Станут глумиться, тянуть в преисподню;
«Ты в пузыречек наловишь их сотню,
«Станешь его затыкать...» Пантелей
Шапку в охапку — и вон из дверей.
«Что же, старик? Погоди — погадаю!»
92
Ведьма ему. Пантелей: — «Не желаю!
— «Что нам гадать? Малолетков морочь,
— «Я погожу пока, чортова дочь!
— «Ты нам тогда предскажи нашу долю,
— «Как от господ отойдем мы на волю!».
Кому на Руси жить хорошо
(Отрывок)
В каком году — рассчитывай,
В какой земле — угадывай,
На столбовой дороженьке
Сошлись семь мужиков:
Семь временно-обязанных,
Подтянутой губернии,
Уезда Терпигорева,
Пустопорожней волости,
Из смежных деревень —
Заплатова, Дырявина,
Разутова, Знобишина,,
Горелова, Неелова,
Неурожайка тожь,
Сошлися — и заспорили:
Кому живется весело,
Вольготно на Руси?
Роман сказал: помещику,
Демьян сказал: чиновнику,
Лука сказал: попу.
Купчине толстопузому!
Сказали братья Губины
Иван и Митродор.
Старик Пахом потужился
И молвил, в землю глядючи:
Вельможному боярину,
Министру государеву.
А Пров сказал: царю...
Мужик, что бык; втемяшится
В башку какая блажь —
Колом ее оттудова
Не выбьешь! Как ни спорили,
Не согласились мы!
Поспоривши, повздорили,
Повздоривши — подралися,
Подравшися, удумали
Не расходиться врозь,
В домишки не ворочаться,
Не видеться ни с жонами,
Ни с малыми ребятами,
Ни с стариками старыми,
Покуда не доведаем
Решенья не найдем,
Покуда не доведаем
Как ни на есть — доподлинно,
Кому жить любо-весело,
Вольготно на Руси?
«Скажи жь ты нам побожески,
Сладка ли жизнь помещичья?
Ты как — вольготно, счастливо,
Помещичек, живешь?»
Расположась на коврике
И выпив рюмку хересу,
Помещик начал так:
«Я дал вам слово честное
Ответ держать по совести,
А нелегко оно!
Хоть люди вы почтенные,
Однако, не ученые,
Как с вами говорить?
Сперва понять вам надо бы.
Что значит слово самое:
Помещик, дворянин.
Скажите вы, любезные,
О родословном дереве
Слыхали что-нибудь?»
— Леса нам не заказаны —
Видали древо всякое! —
Сказали мужики.
«Попали пальцем в небо вы!..
Скажу вам вразумительней:
Я роду именитого,
93
Мой предок Оболдуй
Впервые поминается
В старинных русских грамотах
Два века с половиною
Назад тому. Гласит
Та грамота: «Татарину
«Оболту Оболдуеву
«Дано суконце доброе,
«Ценою в два рубля:
«Волками и лисицами
«Он тешил государыню,
«В день царских имянин,
«Спускал медведя дикого
«С своим, и Оболдуева
«Медведь тот ободрал...»
— Ну, поняли, любезные?
— Как не понять! С медведями
Не мало их шатается
Прохвостов и теперь.
«Вы все свое, любезные!
Молчать! Уж лучше слушайте,
К чему я речь веду:
Тот Оболдуй, потешивший
Зверями государыню,
Был корень роду нашему,
А было то, как сказано,
С залишком двести лет.
Прапрадед мой по матери
Был и того древней:
«Князь Щегтин с Васькой
Гусевым»
(Гласит другая грамота):
«Пытал поджечь Москву,
«Казну пограбить думали,
«Да их казнили смертию»,
А было то, любезные,
Без мала триста лет.
Так вот оно откудова
То дерево дворянское
Идет, друзья мои!»
— А ты, примерно, яблочко
С того выходишь дерева? —
Сказали мужики.
«Ну, яблочко, так яблочко!
Согласен! Благо поняли
Вы дело наконец.
Теперь —вы сами знаете —
Чем дерево дворянское
Древней, тем именитее,
Почетней дворянин.
Не так ли, благодетели?»
— Так! — отвечали странники:
— Кость белая, кость черная,
И поглядеть, так разные, —
Им разный и почет!
«Ну, вижу, вижу: поняли!
Так вот, друзья — и жили мы,
Как у Христа за пазухой,
И знали мы почет.
Не только люди русские,
Сама природа русская
Покорствовала нам.
Бывало, ты в окружности
Один, как солнце на небе,
Твои деревни скромные,
Твои леса дремучие,
Твои поля кругом!
Пойдешь ли деревенькою,
Крестьяне в ноги валятся,
Пойдешь лесными дачами —
Столетними деревьями
Преклонятся леса!
Пойдешь ли пашней, нивою,
Вся нива спелым колосом
К ногам господским стелется,
Ласкает слух и взор!
Там рыба в речке плещется:
«Жирей-жирей до времени!»
Там заяц лугом крадется:
«Гуляй-гуляй до осени!»
Все веселило барина,
Любовно травка каждая
Шептала: «я твоя!»
Краса и гордость русская,
Белели церкви божий
По горкам, по холмам.
И с ними в славе спорили
Дворянские дома.
Дома с оранжереями,
С китайскими беседками
И с английскими парками;
На каждом флаг играл,
Играл-манил приветливо,
Гостеприимство русское
И ласку обещал.
Французу не привидится
Во сне — какие праздники,
Не день, не два — по месяцу
94
Мы задавали тут.
Свои индейки жирные,
Свои наливки сочные,
Свои актеры, музыка,
Прислуги — целый полк!
Пять поваров, да пекаря,
Двух кузнецов, обойщика,
Семнадцать музыкантиков
И двадцать два охотника
Держал я. Боже мой!..»
Помещик закручинился,
Упал лицом в подушечку,
Потом привстал, поправился:
— Эй, Прошка! закричал.
Лакей, по слову барскому,
Принес кувшинчик с водкою.
Гаврило Афанасьевич,
Откушав, продолжал:
«Бывало, в осень позднюю
Леса твои, Русь-матушка,
Одушевляли громкие
Охотничьи рога.
Унылые, поблекшие
Леса полураздетые
Жить начинали вновь,
Стояли по опушечкам
Борзовщики-разбойники,
Стоял помещик сам,
А там, в лесу выжлятники
Ревели, сорви-головы,
Варили-варом гончие.
Чу! подзывает рог!..
Чу! стая воет! сгрудилась!
Никак по зверю красному
Погнали?., улю-лю!
Лисица чернобурая,
Пушистая, матерая
Летит, хвостом метет!
Присели, притаилися,
Дрожа всем телом рьяные,
Догадливые псы:
Пожалуй, гостья жданная!
Поближе к нам, молодчикам,
Подальше от кустов!
Пора! Ну, ну! не выдай конь!
Н« выдайте собаченьки!
Эй! улю-лю! родимые!
Эй — улю-лю!.. а-ту!..»
Гаврило Афанасьевич,
Вскочив с ковра персидского,
Махал рукой, подпрыгивал.
Кричал! Ему .мерещилось,
Что травит он лису...
Крестьяне молча слушали,
Глядели, любовалися,
Посмеивались в ус...
«Ой ты — охота псовая!
Забудут все помещики,
Но ты исконно-русская
Потеха! не забудешься
Ни во веки веков!
Не о себе печалимся,
Нам жаль, что ты,
Русь-матушка,
С охотою утратила
Свой рыцарский, воинственный,
Величественный вид!
Бывало, нас по осени
До полусотни съедется
В отъезжие поля;
У каждого помещика
Сто гончих в напуску,
У каждого по дюжине
Борзовщиков верхом,
При каждом с кашеварами,
С провизией обоз.
Как с песнями, да с музыкой
Мы двинемся вперед,
На что кавалерийская
Дивизия твоя!
Летело время соколом,
Дышала грудь помещичья
Свободно и легко.
Во времена боярские,
В порядки древне-русские
Переносился дух!
Ни в ком противоречия,
Кого хочу — помилую,
Кого хочу — казню.
Закон — мое желание!
Кулак — моя полиция!
Удар искросыпительный,
Удар зубодробительный,
Удар скуловорррот!..»
Вдруг, как струна, порвалася,
Осеклась речь помещичья.
Потупился, нахмурился,
— Эй, Прошка! закричал.
Глонул — и мягким голосом
Сказал: «Вы сами знаете,
Нельзя же и без строгости?
Но я карал — любя.
Порвалась цепь великая —
Теперь не бьем крестьянина,
За-то ужь и отечески
Не милуем его.
Да, был я строг по времени,
А, впрочем, больше ласкою
Я привлекал сердца.
Я в воскресенье светлое
Со всей своею вотчиной
Христосовался сам!
Бывало, накрывается
В гостиной стол огромнейший.
На нем и яйца красные,
И пасха и кулич!
Моя супруга, бабушка,
Сынишки, даже барышни
Не брезгуют, цалуются
С последним мужиком.
«Христос воскрес!» — «Во
истину!»
Крестьяне разговляются,
Пьют брагу и вино...
Пред каждым почитаемым,
Двунадесятым праздником
В моих парадных горницах
Поп всенощну служил.
И к той домашней всенощной
Крестьяне допускалися,
Молись — хоть лоб разбей!
Страдало обоняние,
Сбивали после с вотчины
Баб отмывать полы!
Да чистота духовная
Тем самым сберегалася,
Духовное родство!
Не так ли, благодетели?»
— Так! отвечали странники,
А про себя подумали:
«Колом сбивал их, что ли, ты
Молиться в барский дом?..»
«За-то, скажу не хвастая,
Любил меня мужик!
В моей сурминской вотчине
Крестьяне все подрядчики,
Бывало, дома скучно, им,
Все на чужую сторону
Отпросятся с весны...
Ждешь — не дождешься осени,
Жена, детишки малые
И те гадают, ссорятся:
«Какого им гостинчику
Крестьяне принесут!»
И точно: поверх барщины,
Холста, яиц и живности,
Всего, что на помещика
Сбиралось искони, —
Гостинцы добровольные
Крестьяне нам несли!
Из Киева — с вареньями,
Из Астрахани — с рыбою,
А тот, кто подостаточней,
И с шолковой материей:
Глядь, чмокнул руку барыне
И сверток подает!
Детям игрушки, лакомства,
А мне, седому бражнику,
Из Питера вина!
Толк вызнали, разбойники,
Небось, не к Кривоногову,
К французу забежит.
Тут с ними разгуляешься,
Про Петербург, про Астрахань,
По-братски побеседуешь,
Жена рукою собственной
По чарке им нальет.
А детки тут же малые
Посасывают прянички
Да слушают досужие
Рассказы мужиков —
Про трудные их промыслы,
Про чуже-дальны стороны,
Про Петербург, про Астрахань,
Про Киев, про Казань...
«Так вот как, благодетели,
Я жил с моею вотчиной,
Неправда ль, хорошо?..»
M. МИХАЙЛОВ
(1829—1865)
Пятеро
Над вашими телами надругавшись,
В безвестную могилу их зарыли,
И над могилой выравняли землю,
Чтоб не было ни знака, ни отметы,
Где тлеют ваши кости без гробов, —
Чтоб самый след прекрасной жизни вашей
Изгладился, — чтоб ваши имена
На смену вам идущим поколеньям
С могильного креста не говорили,
Как вы любили правду и свободу,
Как из-за них боролись и страдали,
Как шли на смерть с лицом спокойно-ясным
И с упованьем, что пора придет —
И вами смело начатое дело
Великою победой завершится.
Пора та близко. Пусть могила ваша
Незнаема, пусть царственная зависть
Старается стереть повсюду память
О вашем деле, ваших именах, —
В глуби живых сердец она живет!
И с каждым днем таких сердец все больше,
Самоотверженных, могучих, смелых
И любящих.
Близ места вашей казни
Есть пышный храм. Там гордыми рядами
* гробницы,
Блестя резьбой и золотом. Над ними
Курится ладан, теплятся лампады,
И каждый день священство в черных ризах
Поет заупокойные обедни.
Гробницы эти прочны; имена
Их мертвецов угодливой рукой
Глубоко в камень врезаны. Напрасно!
От одного дыхания свободы
Потухнет ладан и елей в лампадах,
Наемный клир навеки онемеет,
* Слова, замененные тире, в рукописи стерлись и не поддаются
прочтению. — Ред.
7-22 97
И прахом распадется твердый мрамор,
Последняя их память на земле
Пора близка. Уже на головах,
Обремененных ложью и коварством
И преступленьем, шевелится волос
Под первым дуновеньем близкой бури, —
И слышатся, как дальний рокот грома,
Врагам народа ваши имена,
Рылеев, Пестель, Муравьев-Апостол,
Бестужев и Каховский! Буря грянет,
Под этой бурей дело ваших внуков
Вам памятник создаст несокрушимый.
Не золото стирающихся букв
Предаст святые ваши имена
Далекому потомству, — песнь народа
Свободного; а песнь не умирает!
Не хрупкие гробницы сохранят
Святую вашу память, а сердца
Грядущих просветленных поколений, —
И в тех сердцах народная любовь
Из рода в род вам будет неизменно
Гореть неугасимою лампадой.
Деспоту
Резец истории тебя, ханжа лукавый,
Глубоко начертит на гробовой плите:
«Он знаменье креста творил рукою правой,
А левой распинал народы на кресте».
98
H. A. ДОБРОЛЮБОВ
(1836—1861)
Дума при гробе Оленина *
Царьград
Вносил к нам греческие нравы
И все вертел на новый лад.
Потом, при этом рабстве старом,
Доставшись новым господам,
Русь в пояс кланялась татарам
И в землю — греческим попам.
Сперва под игом Русь стонала,
Кипело мщение в сердцах,
Но рабство и тогда сыскало
Себе защитников в попах.
«Покорны будьте и терпите, —
Поп в церкви с кафедры
гласил, —
Молиться богу приходите,
Давайте нам по мере сил»...
Века промчались. Поколенья
Сменялись быстрой чередой,
В повиновеньи и терпеньи
Нашли обманчивый покой.
Природными рабами были
Рабы, рождаясь от рабов,
И, как веленья бога, чтили
Удар кнута и звук оков...
Скажите, русские дворяне,
Какой же бог закон изрек,
Что к рабству созданы
крестьяне,
И что мужик не человек?
Весь организм простолюдина
Устроен так же, как у вас,
Грубей он, правда, дворянина,
Зато и крепче во сто раз.
Как вы, и душу он имеет,
В нем ум, желанья, чувства
есть,—
Он их высказывать не смеет;
Но и за это — вам же честь!
Свободы, мысли и желанья
Его лишили ; этот дар —
Всех человеков достоянье —
Ему неведом: он товар,
О нем спокойно утверждают,
Что рабство у него в крови,—
И те же люди прославляют
Ученье братства и любви.
Сыны любимые Христовы,
Они евангелие чтут
И одновременно родного
Позорно в рабство продают.
И что за рабство! Цепь
мучений,
Лишений, горя и забот;
Не много светлых исключений
Представит горький наш народ.
Все в угнетеньи, все страдает,
Но все трепещет и молчит,
Лишь втайне слезы проливает,
Да тихо жалобы твердит.
Но ни любви, ни состраданья
Нет в наших барах-палачах,
Как нет природного сознанья
О человеческих правах.
На грусть, на плач
простолюдина
Они с презрением глядят,
Рабы в руках их все машина,
Они вертят ей как хотят.
Помещик в карты проиграет, —
Завел машину: «дай оброк!»
И раб последнее сбирает,
Скрыв в сердце горестный
упрек.
Но если бедный, разоренный
Неурожаем мужичок,
Большой семьей обремененный,
Не в силах выплатить оброк?
Так что ж! Пусть мерзнет,
голодает,
Пусть ходит по миру с семьей;
♦ Печатается с небольшим сокращением.
Свои права помещик знает
Над крепостной своей душой:
Он у раба возьмет корову,
Отнимет лошадь, хлеб продаст
И в назидание сурово
Ему припарку в спину даст.
И раб покорен, как машина,
Но хочет он и есть и пить,
И не во власти господина
В нем чувства тела истребить.
Меж тем и хлеб дневной не
может
Он, как хотелось бы, иметь;
Гнилую корку часто гложет,
Пустые щи — его обед.
Изба соломою покрыта,
В ней тараканы, душь и
смрад —
И вот все доброе згбыто,
Мужик пускается в разврат.
Пустеет хата, плачут дети,
Муж с горя пьет, да бьет их
мать,
Не силен страх господской
плети —
У них уж нечего отнять.
И наконец мужик несчастный,
Уже негодный для господ,
Для муки новой и ужасной
К царю в солдаты попадет.
Еще счастлив, когда он может
Мгновенно в битве умереть,
Но чаще в гроб его уложит
Труд, бедность, горе, розги,
плеть.
Да еще крепкое сложенье,
Да мысль, что так велит судьба,
С привычкой давнею к
терпенью
Спасают русского раба.
Лишь русский столько
истязаний
С терпеньем может выносить,
Лишь он среди таких страданий
Спокойно может еще жить.
Но есть ужасные мученья,
Не в мочь и русскому они,
И большей части населенья
Они в России суждены
Проступок легкий и ничтожный
И даже мнимая вина,
В чем мысль и правду видеть
можно,
Всегда жестоко казнена.
Не может барину свободно
Всей правды высказать мужик,
Не может мыслить благородно,
Боясь бессовестных владык.
Не может барину ответить
На вздор и грубости его;
Не смеет даже он приметить
Уничиженья своего.
Владеть имуществом не смеет,
Не волен даже сам себе,
Затем, что барин им владеет,
Он господин в его судьбе.
И даже брачных наслаждений
Раб часто барином лишен,
Тиран для скотских
наслаждений
Берет детей, берет и жен.
Считая барина священным,
Каким-то высшим существом,
Мужик пред деспотом
презренным
Поникнет телом и умом.
А тот собаками для шутки
Начнет несчастного травить;
Велит в мешке на трое сутки
Позорно плоть его зашить.
Иль на дворе в крещенский холод
Водой холодной обольет,
Или на жажду и на голод
Дня три-четыре предает.
Заставит голыми руками
Из печки угли выгребать
Иль раскаленными щипцами
На теле кожу припекать.
Льет кипяток ему на руки,
Сечет плетьми по животу...
Но все их казни, все их муки
Я никогда не перечту.
Одну ужасную картину
Запомнил я до этих пор,
Как раз к вельможе-господину
Рабы явились на позор.
С тупым, но злобным
выраженьем,
100
С самодовольствием в лице,
К рабам проникнутый
презреньем,
Сидел он гордо на крыльце.
И вот идут к нему в ворота,
Без шапок, кучка мужиков,
Грызет их бедность и забота,
Довольства нет в них и следов.
Печально, робкими шагами,
Они к тирану их идут,
Стараясь угадать глазами,
Что, — гнев иль милость, — в
них найдут?
«Скоты! все станьте на
колена!»—
Вдруг крикнул барин. Мужики
Со страхом падают; их члены
Дрожат,— и чувства их горьки.
Они пришли сюда с прошеньем,
Чтоб их палач повременил
Оброк с них драть с
ожесточеньем,
Но сразу он их поразил.
Все в землю стукаются лбами
И на коленях все ползут.
Зачем? Они не знают сами,
Им на язык слова нейдут.
А он, смотря на них спесиво,
Дает им ближе подползать
И, точно папа, горделиво
Велит сапог свой лобызать.
Все исполняют. .Лишь
несчастный
Один остался средь двора
И стал, бессмысленный,
бесстрастный...
Теперь пришла его пора.
«Сюда!» — прикрикнул барин
гневно;
Земной поклон ему мужик
И говорит ему плачевно:
«Отсохни, барин, мой язык!
Ей-богу, ноженьки разбило.
Тронуться с места не могу!
Я чуть доплелся. Кабы сила,
Тогда я первый прибегу».
С лицом больным,
изнеможенным,
Дрожащий, бледный и худой,
Со взором тусклым,
помраченным,
Был жалок он своей тоской.
Но барин крикнул: «Притащите
Его ко мне». И вот мужик
Притащен. — «Барин,
пощадите!»
Но он щадить их не привык.
Вскочив, он начал кулаками
Бить в грудь и щеки мужика
И, сбивши с" ног, топтал ногами,
Толкал пинками под бока.
Потом за чуб поднял и снова
Его хлестать стал по щекам
И, в кровь избивши, чуть
живого
На руки бросил мужикам
И приказал, чтоб двести палок
Ему приказчик завтра дал;
Но завтра раб был меньше
жалок:
Несчастный завтра не видал...
Запомнил я, в душе смятенной,
Его страдальческую тень...
Зовет она борьбы священной,
Суда и мщенья грозный день.
И, может, дружным, громким
криком
Ответит Русь на этот зов,
И во дворянстве полудиком
Взволнует он гнилую кровь.
И раб, тиранством угнетенный,
Вдруг от апатии тупой
Освободясь, прервет свой
сонный,
Свой летаргический покой.
И встанет он в сознаньи права,
Свободной мыслью вдохновлен,
И гордых деспотов уставы,
Быть может, в прах низвергнет
он.
Отмстит он им порабощенье
Свободы равных им людей,
Свои беды и поношенье
Крестьянских жен и дочерей.
Восстанет он, разить готовый
Врагов свободы и добра,
И для России жизни новой
Придет желанная пора.
101
Уже в ней семя мысли зреет,
Стал чуток прежний мертвый
сон.
Зарей свободы пламенеет
Столь прежде мрачный
небосклон.
И друг за другом грезы ночи,
При свете мысли, прочь летят,
И все бледней, и все короче
Видений сонных пестрый ряд.
Без малодушия, боязни
Уж раб на барина восстал
И, не страшась позорной казни,
Топор на деспота поднял.
Вооружившись на тиранство,
Он вышел с ним на смертный
И беззаконному дворянству [бой
Дал вызов гордый и прямой.
За право собственности личной,
За душу наконец он встал:
«Я не товар для вас обычный,
Душа моя!» — он им сказал: —
«Протек для русского народа
Тьмы и тиранства долгий век!
Я жить хочу! хочу свободы!..
Я равен вам, я человек!»
И пусть во всех концах отчизны
То слово мощно прозвучит,
Пусть всех возбудит к новой
жизни
И гибель рабству возвестит!
И пусть злодеи затрепещут
И в прахе сгибнут навсегда,
И ярким светом пусть заблещет
Величья русского звезда.
Вставай же, Русь, на подвиг
славы —
Борьба велика и свята!..
Возьми свое святое право4
У подлых рыцарей кнута...
Она пойдет!.. Она восстанет,
Святым сознанием полна.
И целый мир тревожно взглянет
На вольной славы знамена.
С каким восторгом и волненьем
Твои полки увижу я!
О Русь! с каким благоговеньем
Народы взглянут на тебя, —
Когда сорвав свои оковы,
Уж не ребенком иль рабом,
А вольным мужем жизни новой
Предстанешь ты пред их судом,
Тогда республикою стройной,
В величьи благородных чувств,
Могучий, славный и спокойный,
В красе познаний и искусств
Глазам Европы изумленной
Предстанет русский исполин.
И на Руси освобожденной
Явится русский гражданин.
И в царстве знаний и свободы
Любовь и правда процветут.
И просвещенные народы
Нам братски руку подадут.
ЕГОР НЕЧАЕВ
(1859—1925)
Я&ычница
Я верила ему от колыбели:
«Он добр, он добр, — мне говорила мать,
Когда меня укладывала спать,
Голодную, склонившись у постели. —
Он справедлив, голубка, и над нами
Взойдет заря и осчастливит нас...
Ты запоешь, как птичка в ранний час
Поет, резвясь, согретая лучами.
102
Ты расцветешь, как ландыш белоснежный,
Как василек на ниве золотой...
Болезная, с горячею слезой
Молись ему душою безмятежной».
Я верила... В нужде изнемогая,
Чуждаясь слов, зачем и почему,
Несчастная, я верила ему,
Всю горечь зла в молитве забывая?
Прошла пора. Мечтам моим бесплодным —
Увы!—теперь не верю, как и снам,
Я поняла: он не поможет нам,
Рабам нужды, забитым и голодным.
Он изваян жрецом честолюбивым,
Одетый в шелк. И золотом залит,
Он бедняку страданием грозит,
А рай земной он отдает счастливым.
Повсюду зло... Кровь неповинных льется,
И с каждым днем мучительней, слышней
Несется стон измученных людей,
Мольба ж к нему бесплодной остается...
Довольно лгать! Я не могу склониться
В мольбе пред тем, кто близок богачу,
А бедным чужд... Довольно! Не хочу
И не могу я более молиться!
П. В. ШУМАХЕР
(1817—1893)
Изображение российского царства
Сатира 60-х годов
Чуя невзгоду дворянскому роду,
Баре судачат и лают свободу,
Обер-лакеи, спасая ливреи,
Гонят в три шеи живые идеи.
Образ правленья — холопства и барства —
Изображенье российского царства,
103
Видя, как шатки и плохи порядки,
Все без оглядки пустились брать взятки;
Львы — ветераны, наперсники трона,
Дремлют, болваны, на страже закона;
А дел вершенье — в руках секретарства:
Изображенье российского царства.
Для укрепленья филея и мозгу
Корень ученья нам вырастил розгу;
Книг лишних нету, читай, что прикажут;
Чуть больше свету, — окошко замажут.
Мрак и растленье, в видах государства —
Изображенье российского царства.
Самодержавье, народность, жандармы,
Дичь, православье, шинки да казармы;
Тесно свободе, в законах лазейки;
Бедность в народе, в казне ни копейки;
Лоск просвещенья на броне татарства —
Изображенье российского царства.
В. В· МАЯКОВСКИЙ
(1894—1930)
Надо бороться
У хитрого бога
лазеек —
много,
Нахально
и прямо
гнусавит из храма.
С иконы
глядится
Христос сладколицый.
В присказках,
в пословицах
господь славословится,
имя
богово
на губе
у убогова.
104
Галдят
и доныне
родители наши
о божьем
сыне,
о божьей
мамаше.
Про этого самого
хитрого бога
поются
поэтами
разные песни.
Окутает песня,
дурманом растрогав,
зовя
от жизни
лететь поднебесне.
Хоть вешай
замок
на церковные туши,
хоть все
иконы
из хаты выставь,
вранье
про бога
в уши
и в души
пролезет
от сладкогласых баптистов.
Баптисту
замок
повесь на уста,
а бог
обернется
похабством хлыста.
À к тем,
кого
не поймать на бабца,
господь
проберется
в пищаньи скопца»
Чего мы ждем?
Или
выждать хочется,
пока
и церковь
не орабочится?!
Религиозная
гудит ерундистика,
105
десятки
тысяч
детей
перепортив.
Не справимся
с богом
газетным листиком, —
несметную
силу
выставим против.
Райской бредней,
загробным чаянием
ловят
в молитвы
душевных уродцев.
Бога
нельзя
обходить молчанием,—
с богом пронырливым
надо
бороться!
Крестьяне, собственной выгоды ради
поймите — дело не в обряде
Известно,
у глупого человека
в мозгах вывих:
чуть что —
зовет долгогривых.
Думает,
если попу
как следует дать,
сейчас же
на крестьянина
спускается благодать.
Эй, мужики!
Эй, бабы!
В удивлении разиньте рот!
Убедится
даже тот,
кто мозгами слабый,
что дело —
наоборот.
Жила-была
Анюта красавица.
106
Красавице
красавец Петя нравится.
Но папаша Анютки
говорит:
«Дудки!»
Да и мать Анютина
глядит крокодилицей.
Словом,
кадилу в церквах не кадилиться,
свадьбе не бывать.
Хоть Анюта и хороша,
и Петя неплох,
да за душой —
ни гроша.
Ждут родители,
на примете у них —
Сапрон жених.
Хоть Сапрону
шестьдесят с хвостом,
да в кубышке
миллиардов сто.
Словом,
не слушая Анютиного воя,
окружили Анюту у аналоя,
и пошел у них
«законный брак» —
избу
разрывает от визга и драк.
Хоть и крест целовали, на попа глядя t
хоть кружились
по церкви
в православном обряде,
да Сапрону,
злея со дня на день,
рвет
жена
волосенок пряди.
Да и Анюту
Сапрон
измочалил в лоскут —
вырывает косу
ежеминутно по волоску.
То муж — хлоп,
то жена — хлоп.
Через месяц —
каждый,
как свеча, тонкий.
А через год
легли супруги в гроб:
107
жена без косы,
муж без бороденки.
А Петр
впал в скуку,
пыткой кипятился в собственном соку
и наконец
наложил на себя руку:
повесился
на первом суку.
В конце ж моей стихотворной повести
и родители
утопились
от угрызения совести.
Лафа от этого
одному попику.
Слоновье пузо,
фот даяний окреп,
знай выколачивает
из бутылей
пробки,
самогоном требует за выполнение треб.
А рядом
жили Иван да Марья —
грамотеи ярые.
Полюбились
и, не слушая родственной рати,
пошли
и записались
в комиссариате.
Хоть венчанье
обошлось без ангельских рож,
а брак
такой,
что водой не разольешь.
Куда церковный!
Любовью,
что цепью, друг с другом скованы.
А родители
только издали любуются ими.
Наконец пришли:
«Простите,
дураки мы!
И на носу зарубим
и в памяти:
за счастьем
незачем к попам итти»
Крестить —
это только попам рубли скрести
Крестьяне,
бросьте всякие обряды!
Обрядам
только попы рады.
Посудите вот:
родился человек
или помер —
попу доход,
а крестьянину ничего —
неприятности кроме.
Жил да был мужик Василий,
богатый,
но мозгами не в силе.
Родилась у него дочка —
маленькая,
как точка.
Не дочь,
а хвороба,
смотри в оба.
Надо бы
ее
немедленно к врачу,
да Василий говорит:
«Доктора —
чушь!
Впрягу Пегова
и к попу лечу.
Поздоровеет моментально —
только окрещу».
Пудами стол
уставили в снедь,
к самогону
огурцов присовокупили воз еще«
Пришел дьякон,
кудластый, как медведь,
да поп, толстый,
как паровозище.
А гостей собралось ради крестин!!!
Откуда их
столько
удалось наскрести ?I
Гости
с попами
попили,
попели
109
и наконец
собралися вокруг купели.
Дьякон напился,
аж не дополз до колодца,
воду набрал
из первого болотца.
Вода холодная да грязная —
так и плавают микробы разные.
Крестный упился
и не то что троекратно —
раз десять окунал
туда и обратно.
От холода
у бедной дочки
ручки и ножки —
как осиновые листочки.
Чуть было
дочке
не пришел капут:
опустили ее
в воду
вместе с головою,
да дочка
сама
вмешалась тут,
чуть не надорвалась в плаче
и в вое.
Тут ее
вынула крестная мать
да мимоходом
головкой о двери — хвать!
Известно одному богу,
как ее не прикончили
или не оторвали ногу.
Беда
не любит одна шляться, —
так вот
еще,
на беду ей
(как раз
такая святая подвернулась в святцах),
назвали —
«Перепетуей».
После крестин
ударились в обжорку
да в пьянку,
скулы
друг другу
выворачивали наизнанку.
ПО
Василий
от сивухи не в своем уме:
начисто
ухо
отгрыз куме.
После крестин
дочка
прохворала
полтора годочка.
Доктора отходили еле.
От крестной
ножки все-таки
окривели.
Подросла
и нравится жениховским глазам уж.
Да никак Перепетуи
не выдать замуж.
Женихи говорят:
«При таком имени —
в жены никак не подходите вы мне».
Зачахла девица
из-за глупых крестин,
так
можно
дочку
в гроб свести...
А по-моему,
не торопись при рождении младенца —
младенец никуда не денется.
Пойдешь за покупками,
кстати
зайди и запиши дитя в комиссариате.
А подрос,
и если Сосипатр не мил
или имя Перепетуя тебе не мило, —
зашел в комиссариат
и переменил,
зашла в комиссариат
и переменила.
От поминок и панихид
у одних попов довольный вид
Известно,
в конце существования человечьего
радоваться
нечего.
По дому покойника
идет рёвоголосье.
Слезами каплют.
Рвут волосья.
А попу
и от смерти
радость велия —
и доходы
и веселия.
Чтоб люди
доход давали умирая,
сочинили сказку
об аде
и о рае.
Чуть помрешь —
наводняется дом чернорясниками, —
за синенькими приходят
да за красненькими.
Разглаживая бородищу свою,
допытываются —
много ли дадут.
«За сотнягу
прямехонько определим в раю,
а за рупь
папаше
жариться в аду».
Расчет верный:
из таких-то денег
не отдадут
папашу
на съедение геенне!
Затем»
чтоб поместить
в райском вертограде,
начинают высчитывать
(по покойнику глядя).
Во-первых,
куме заработать надо —
112
за рупь
поплачет
для христианского обряда.
Затем
за отпевание
ставь на кон —
должен
подработать
отец диакон.
Затем,
если сироты богатого виду,
начинают наяривать
за панихидой панихиду.
Пока
не перестанут
гроши носить,
и поп
не перестает
панихиды гнусить.
Затем,
чтоб в рай
прошли с миром,
за красненькую
за гробом идет конвоиром,
как будто
у покойничка
понятия нет,
как
самому
пройти на тот свет.
Каб бог был, —
к богу
покойник бы
и без попа нашел дорогу.
А нет —
у попа
выправляй билет.
И наконец
оставшиеся грошей лишки
идут
на приготовление
поминальной кутьишки.
А чтоб
не обрывалась
доходов лента,
попы
установили
настоящую ренту.
ИЗ
И на третий день,
и на десятый,
и на сороковой—
опять
устраивать
панихидный вой.
А вспомнят через год
(смерть — не пустяк),
опять поживится
и год спустя.
Сойдет отец в гроб —
и без отца,
и без доходов,
и без еды дети,
только поп —
и с тем,
и с другим,
и с третьим.
Крестьянин,
чтоб покончить с обдираловкой с этой,
советую
тратить
достаток
до последнего гроша
на то,
чтоб жизнь была хороша.
Ханжа
Петр Иванович Васюткин
бога
беспокоит много, —
тыщу раз,
должно быть,
в сутки
упомянет
имя бога«
У святоши
хитрый нрав, —
чорт
в делах
сломает ногу
Пару
коробов
наврав,
перекрестится:
«Ей-богу»
Цапнет
взятку —
лапа в сале.
Вас считая за осла,
на вопрос:
«Откуда взяли?»
отвечает:
«Бог послал».
Он
заткнул
от нищих уши, —
сколько ни проси горласт,
как от мухи,
отмахнувшись,
важно скажет:
«Бог подаст».
114
Вам
всуча
дрянцо с пыльцой,
обворовывает трест,
крестит
пузо
и лицо,
чист, как голубь:
«Вот те крест».
Грабят,
режут —
очень мило!
Имя
божеское
помнящ,
он
пройдет,
сказав громилам:
«Мир вам, братья,
бог на помощь!»
Вор
крадет
с ворами вкупе.
Поглядев
и скрывшись вбок,
прошептал,
глаза потупив:
«Я не вижу...
видит бог».
Обворовывая
массу,
разжиревши понемногу,
подытожил
сладким басом:
«День прожил —
и слава богу»
Возвратясь
домой
с питей, —
пил
с попом пунцоворожим —·
он
сечет
своих детей,
чтоб держать их
в страхе божьем.
Жене
измочалит
волосья и тело
и, женин
гнев
остудя,
бубнит елейно:
«Семейное дело.
Бог
нам
судья».
На душе
и мир
и ясь.
Помянувши
бога
на ночь,
скромно
ляжет,
помолясь,
христианин
Петр Иваныч.
Ублажаясь
куличом да пасхой,
божьим словом
нагоняя жир,
все еще
живут,
как у Христа за пазухой,
всероссийские
ханжи.
Шесть монахинь
Воздев
печеные
картошки личек,
черней,
чем негр,
не видавший бань,
шестеро благочестивейших католичек
влезло
на борт
парохода «Эспань».
И сзади
и спереди
ровней, чем веревка,
шали,
как с гвоздика,
с плеч висят,
а лица
обвила
белейшая гофрировка,
как в пасху
гофрируют
ножки поросят
Пусть заполнится годами
жизни квота —
стоит
только
вспомнить это диво,
раздирает
рот
зевота
шире Мексиканского залива.
Трезвые,
чистые,
как раствор борной,
вместе,
эскадроном, садятся есть.
Пообедав, сообща
скрываются в уборной.
Одна зевнула —
зевают шесть.
Вместо известных
симметричных мест,
где у женщин выпуклость —
у них выем:
в одной выемке —
серебряный крест,
116
в другой — медали
со Львом
и с Пием
Продрав глазенки
раньше, чем можно, —
в раю
(ужо!)
отоспятся лишек, —
оркестром без дирижера
шесть дорожных
вынимают
евангелишек.
Придешь ночью —
сидят и бормочут.
Рассвет в розы —
бормочут, стервозы!
И днем,
и ночью, и в утро, и в полдни
сидят
и бормочут
дуры господни.
Если ж
день
чуть-чуть
помрачнеет с виду,
сойдут в кабину,
12 калош
наденут вместе
и снова выйдут,
и снова
идет
елейный скулеж.
Мне б
язык испанский!
Я б спросил взъяренный:
— Ангелицы,
попросту
ответ поэту дайте —
если
люди вы,
то кто ж
тогда
вороны?
А если
вы вороны,
то почему вы не летаете?
Агитпропщики!
не лезьте вон из кожи.
//7
весь земной
обревизуйте шар.
Самый
замечательный безбожник
не придумает
кощунственнее шарж!
Радуйся, распятый Иисусе,
не слезай
с гвоздей своей доски,
а вторично явишься —
сюда
не суйся —
все равно:
повесишься с тоски!
От примет кроме вреда ничего нет
Каждый крестьянин
верит в примету,
который — в ту,
который — в эту.
Приметами не охранишь
свое благополучьице.
Смотрите,
что от примет получится.
Ферапонт косил в поле,
вдруг — рев:
«Ферапонт.
Эй!
Сын подавился —
корчит от боли.
За фельдшером
беги скорей!»
Ферапонт
работу кинул —
бежит.
Не умирать же единственному сыну.
Бежит,
аж проселок ломает топ!
А навстречу—
поп.
Остановился Ферапонт,
отвернул глаза
да сплюнул
через плечо
три раза.
118
Постоял минуту
и снова с ног.
А для удавившегося
и минута — большой срок.
Подбежал к фельдшеру,
только улицу перемахнуть —
и вдруг
похороны преграждают путь.
Думает Ферапонт:
«К несчастью!
Нужно
процессию
обежать дорогой окружной».
На окружную дорогу,
по задним дворам,
у Ферапонта
ушло
часа полтора.
Выбрать бы Ферапонту
путь покороче —
сына
уже от кости
корчит.
Наконец,
пропотевши в десятый пот,
к фельдшерской калитке
прибежал Ферапонт.
Вдруг
из-под калитки
выбежал котище —
черный,
прыткий,
как будто
• прыть
лишь для этого берег.
Всю дорогу
Ферапонту
перебежал поперек.
Думает Ферапонт:
«Черный кот
хуже похорон
и целого
поповского
собора.
Задам-ка я
боковой ход —
и перелезу забором».
Забор
за штаны схватил Ферапонта.
119
С полчаса повисел он там,
пока отцепился.
Чуть не сутки
ушли у Ферапонта
на эти предрассудки
Ферапонт прихватил фельдшера,
фельдшер — щипчик,
бегут к подавившемуся
ветра шибче.
Прибежали,
а в избе
вой и слеза —
сын
скончался
полчаса назад.
Ά фельдшер
говорит,
Ферапонта виня:
Что ж
теперь
подвывать вой?!
Каб раньше
да на час
позвали меня,
сын бы
был
обязательно живой».
Задумался Ферапонт.
Мысль эта
суеверного Ферапонта
сжила со света.
У моей
у басенки
мыслишка та,
что в несчастиях
не суеверия помогут,
а быстрота.
Ни знахарь, ни бог, ни ангелы бога—.
крестьянству не подмога
Мы
сбросили с себя
помещичье ярмо,
мы
белых выбили,
наш враг
полег исколот;
мы
побеждаем
волжский мор и голод,
мы
не даем
разрухе
нас топтать ногами,
мы победили,
но не для того ж,
чтоб очутиться
под богами,
чтоб взвилась
вновь,
старья вздымая пыль,
воронья стая
и сорочья,
чтоб снова
загнусавили попы,
религиями люд мороча.
Чтоб поп какой-нибудь
или раввин,
вчера
благословлявший за буржуев драться,
сегодня
ручкой, перемазанной в крови,
за требы требовал:
«Попам подайте, братцы!»
Чтоб, проповедуя
смиренья и посты,
ногами
в тишине монашьих келий,
за пояс
закрутивши
рясовы хвосты,
откалывали
спьяну трепака
да поросенка с хреном ели.
Чтоб, в небо закатив свиные глазки,
стараясь вышибить Россию из ума,
12 Г
про Еву,
про Адама сказывали сказки,
на место знаний
разводя туман.
Товарищ,
подымись!
Чего пред богом сник?
В свободном
нынешнем
ученом веке
не от попов и знахарей —
из школ,
из книг
узнай о мире
и о человеке!
Прошения на имя бога — в засуху не подмога
Эй, крестьянин!
Эта песня для вас,
навостри на песню ухо.
В одном селе,
на Волге как раз,
была
засуха.
Сушь одолела —
не справиться с ней,
а солнце
сушит
сильней и сильней.
Посохли немного
и решили:
«Попросим бога!»
Деревня
крестным ходом заходила,
попы
отмахали все кадила.
А солнце шпарит.
Под ногами
уже не земля,
а прямо камень.
Сидели-сидели, дождика ждя,
и решили
помолиться
о ниспослании дождя.
А солнце
так распалилось в высях,
122
что каждый росток
на корню высох.
А другое село
по-другому
с засухами
борьбу вело,
другими мерами:
агрономами обзавелось
да землемерами.
Землемер
объяснил народу,
откуда
и как
отвести воду.
Вел
землемер
с крестьянами речь,
как
загородкой
снега беречь.
Агроном учил:
«Засеваитесь злаком,
который
на дождь
не особенно лаком.
Засушливым годом
засеваитесь корнеплодом —
и вырастут
такие брюквы,
что не подымете и парой рук вы».
Эй, солнце —
ну-ка! —
попробуй,
совладай с наукой!
Такое солнце,
что дышишь еле,
а поля зазеленели.
Отсюда ясно:
молебен
в засуху
мало целебен.
Чем в засуху
ждать дождя
по году,
сам
учись
устраивать погоду·
На горе бедненьким,
богатейшим на счастье —
и исповедники и причастье
Люди
умирают
раз в жизнь.
А здоровые —
и того менее.
Что ж попу —
помирай-ложись ?
Для доходов
попы
придумали говения.
Едва
до года дорос,
человек
поступает
к попу на допрос.
Поймите вы,
бедная паства,—
от говений
польза
лишь для богатея мошнастого.
Кулак
с утра до ночи
обирает
бедняка
до последней онучи.
Думает мироед:
«Совести нет —
выгод
много.
Семь краж — один ответ
перед богом.
Поп
освободит
от тяжести греховной,
и буду
снова
безгрешней овна.
А чтоб церковь не обиделась —
и попу
и ей
уделю
процент
от моих прибылей».
124
Под Пасху
кулак
кончает грабежи,
вымоет лапы
и к попу бежит.
Накроет
поп
концом епитрахили:
«Грехи, мол,
отцу духовному вылей!»
Сделает разбойник
умильный вид:
«Грабил, мол,
и крал больно я».
А поп покрестит
и заголосит:
«Отпускаются рабу божьему прегрешения
вольные и невольные».
Поп
целковый
получит после голосений
да еще
корзину со снедью
в сени.
Доволен поп —
поделился с вором;
на баб заглядываясь,
идет притвором.
А вор причастился,
окрестил башку,
очистился,
улыбаясь и на солнце
и на пташку,
идет торжественно,
шажок к шажку,
и
снова
дерет с бедняка рубашку.
А бедный
с грехами
не пойдет к попу:
попы
у богатеев на откупу.
Бедный
одним помыслом грешен:
как бы
в пузе богатейском
пробить бреши.
12а
Бывало,
с этим
к попу сунься, —
он тебе пропишет
всепрощающего Иисуса.
Отпустит
бедному, грех,
да к богатому —
с ног со всех.
А вольнолюбивой пташке —
сидеть в каталажке.
Теперь
бедный
в положении таком:
не на исповедь беги,
а в исполком.
В исполкоме
грабительскому нраву
найдут управу.
Найдется управа
на Титычей лихих.
Радуется пусть Тит —
отпустит
Титычу грехи,
а Титыча за решетку
впустят.
Про Тита и Ваньку случай,
показывающий, что безбожнику
много лучше
Жил Тит.
Таких много!
Вся надежда у него на
господа-бога.
Был Тит,
как колода, глуп.
Пока не станет плечам горячо,
машет Тит
со лба на пуп
да с правого
на левое плечо.
Иной раз досадно даже.
Говоришь:
«Чем тыкать фигой в пуп —
126
дрова коли!
Наколол бы сажень,
а то
и целый куб».
Но сколько на Тита ни ори,
Тит
не слушает слов :
чешет Тит языком тропари
да «Часослов».
Раз
у Тита
в поле
гроза закуролесила чересчур люто.
А Тит говорит:
«В господней воле...
Помолюсь,
попрошу своего Илью-то».
Послушал молитву Тита Илья
да как вдарит
по всем
по Титовым жильям!
И осталось у Тита —
крещеная башка
да от избы
углей
полтора мешка.
Обнищал Тит:
проселки месит пятой.
Не помогли
ни бог-отец,
ни сын,
ни дух святой.
А Иванов Ваня —
другого сорта:
не верит
ни в бога,
ни в чорта.
Товарищи у Ваньки —
сплошь одни агрономы
да механики.
Чем Илье молиться круглый год,
Ванька взял
и провел громоотвод.
Гремит Илья,
молнии лья,
а не может перейти Иванов порог.
При громоотводе —
бессилен сам Илья
127
пророк.
Ударит молния
Ваньке в шпиль
хвост в землю
прячет куцо.
А у Иванова —
даже
не тронулась пыль!
Сидит
и хлещет
чай с блюдца.
Вывод сам лезет в дверь
(не надо голову ломать в муке!):
крестьянин,
ни в какого бога не верь,
а верь науке.
H. Н. АСЕЕВ
(Род. в 1889 г.)
θ-e марта
Работницы с фабрик,
батрачки с полей,
Сгоните
с лица тень,
В столице,
в ауле,
в степи
и в селе
Сегодня —
ваш день
От тряпок,
и люлек
и очагов —
Дружнее
сомкнись,
строй!
Немало осталось
пройти шагов
Сестре
с далекой сестрой.
Ты белокура
или смугла,
Удел твой
всюду жесток,
Невольничьим
рынком
земля легла
С Запада
на Восток.
Не только там,
где звенит зурна,
Унылая
песнь сложена
О том,
как седому
была неверна
Обманутая
жена.
Не только там,
где весна щедра,
128
Где неба свежа
синь,
Тюремной решеткой
покрыла чадра
Глаза
гаремных рабынь.
Не только там,
где, от мести стеня,
Отдав
дорогой калым,
Тебя
влекли
за копытом коня,
Бросали вниз
со скалы.
Среди
патентованнеиших вещей
На двадцатьседьмых
этажах —
Повсюду
страшен обычай-кащей,
Встает,
твою жизнь
зажав.
Семьей и религией
окружив,
Столетий
тугой плен
Сминает и давит
в тисках лжи,
В тоске
четырех стен.
Везде,
где золота жирен звон,
Где песнь труда
на цепи,
Один единственный
есть закон:
«Любую можно купить».
Везде,
где не вырвал
рабочий класс
У трутней
свои права,
Тяжел и тускл
похотливый глаз —
Торгует
живой товар.
Еще силен
недобитый быт,
И мир
не насквозь наш.
Не кончен еще
и не позабыт
Позор плетей
и продаж.
Но всюду
наша сила берет...
От масс —
движенье вождей.
Сегодня
вы выступайте вперед,
Работницы!
Ваш день!
Восьмого марта
вы ждали хлеб:
Он ваш
уж много лет.
Забейте же
в самый глубокий склеп
Истлевшего быта
скелет.
Работница мира!
сорви чадру,
Сама
управляй судьбой;
Лишь тот тебе
муж и брат и друг,
Кто трудится
рядом с тобой.
Лишь тем тебе
будущий мир мил,
Который
создаешь ты,
Что клейма
с лица твоего смыл
Неволи
и нищеты.
А. АРХАНГЕЛЬСКИЙ
В престольный день
Раздается с колокольни:
Тилим-бом! Тилим-бом!
Бьют старухи оземь лбом.
Нынче праздник — день
престольный,
И бренчат колокола.
В самогонке — полсела.
Пьян Никита и Вавила,
Марья, Дарья, Неонила,
Бабка Фекла, дед Степан,
Дядя Тихон, сват Иван.
Разговор идет беспечный!
— Ну-ка дернем, друг
сердечный!
Сват, под хвост тебе репей!
Ты чего? Не морщься, пей!
Буль-буль-буль! И льется зелье,
С зельем — пьяное веселье.
— Пей, сваток, не возражай,
Чать, собрали урожай!
Ну, а дальше — знает всякий:
Чтоб престольный день — без
Да ни в жизнь! [драки?
Эй, ребятушки, держись Г
Нынче мокро, а не сухо!
Р-р-раз — соседу прямо в ухо!
За хозяйское добро
Бац Ивана под ребро.
Дядя Тихон, взяв бутылку,
Трах Никиту по затылку.
И пошла, пошла гульба,
Только, знай, готовь гроба...
Тянет тетушка Федосья
Неонилу за волосья.
Под конец итог готов:
Урожай волос, зубов,
Ребра сломаны и руки...
Замечательные штуки!
Да, для темных деревень
Словно град престольный день.
Кропило и пожарная кишка
Однажды по весне поповское кропило
Сбор на деревне провести решило.
И от избы к избе, протягивая длань,
Пошло, взимая дань.
Давали все — деньгами и натурой,
Яичками, мукой, мануфактурой.
Мешок с даяньем рос,
Чтоб отвезти его, понадобился воз!
Вслед за кропилом через два денька
По избам — пожарная кишка.
Но хоть она ходила две недели, —
И зернышка подать ей не хотели.
Срок наступил! Бросая в дрожь и жар,
На жителей накинулся пожар.
Крик! Плач! Огонь бушует по стропилам,
Во-всю свирепствует беда.
130
— Воды! — кричат. — Воды! И вот пришла вода:
Примчался поп с кропилом!
Мораль сей басни такова:
Коль у тебя с мозгами голова
И ежели хозяин ты толковый,
Кропилу—кукиш, а кишке — целковый!
Б. К. КОВЫНЕВ
(Род. в 1903 г.)
Освобожденная Гайрам
Много, много лет тому назад
Твой богатый дед Наир-Асад
Привязал под тополем осла
И зашел в наш тощий палисад.
Мой отец сбежал к нему с крыльца.
Градом пот катил с его лица.
Чванный гость надменно сверху вниз
Поглядел на моего отца.
И хотя старик был ростом мал,
А отец до крыши доставал,
Был сильней и выше, кто богат,
Это раньше каждый понимал.
Гнусный карлик, жирный таракан,
Посадил в свой шелковый карман
Моего несчастного отца,
А отец был ростом великан.
Мать моя, накинув паранджу,
Постелила коврик на межу,
Принесла черешни и кальян.
И отец сказал ему: — Прошу.
Твой старик, надутый, как бурдюк,
Посмотрел на коврик и вокруг
И сказал:—Ты беден, но к тебе
Мой богатый сватается внук.
Отсчитал я нынче для него
Сто овец из стада моего.
А у юной дочери твоей
Красота — и больше ничего.
Ну, да ладно! После о делах.
Пусть сперва благословит аллах.
Ты скажи, согласен или нет?
131
Почему молчанье на устах?!
Иль с тебя достаточно того,
Что со мной вступаешь ты в родство?
Иль не веришь счастью? Этот брак
Для тебя большое торжество.
Мой отец, не подымая век,
Отвечал: — Ты добрый человек,
Если хочешь милостью своей
Осчастливить дочь мою навек.
Сам жених, достопочтенный внук,
Получил не из твоих ли рук
Сто овец? Но только дочь свою
За него не выдам я, паук!
Гость, услышав это, задрожал.
Два зрачка, острей змеиных жал,
Он вонзил в хозяина: — Ах, так!
Но отец спокойно продолжал:
— Дочь моя, красавица Гайрам,
Не богата. Но ты знаешь сам,
Что во всей долине не найти
Мастерицы лучше по коврам.
Всех арыков, стад и даже гор
Стоит ею сотканный ковер.
И хоть ей всего пятнадцать лет,
Что за удивительный узор.
Не узоры, а цветы души!
Вот они насколько хороши!
Но работу дочери моей
Ты, злодей, скупаешь за гроши.
— Ты с ума сошел! Остановись! —
Вскрикнул дед и поднял руки ввысь.
— Как ты смеешь это говорить,
В клетку непосаженная рысь!
Ведь ковры из воздуха не ткут.
Шерсть нужна, а даже на лоскут
Не найдется шерсти у тебя.
Кто пришел тебе на помощь тут?
Я тебя снабжаю, а пока
У тебя нет шерсти ни мотка,
Много ль толку в дочери твоей?
Ни к чему искусная рука.
Ну-ка, вспомни, — улыбнулся дед, —
Должен ты мне деньги или нет?
Я твой долг немедленно взыщу,
Если будет прежним твой ответ.
От арыка воду отведу.
Самую смертельную беду
Навлеку, безумец, на тебя.
Страшно жить со мною не в ладу.
132
Легче жить в пустыне Кара-Кум,
Где живут шайтана брат и кум,
Чем со мною в ссоре. Выбирай:
Вот полынь, а вот рахат-лукум.
Выбрал то, что слаще, мой отец.
Даже если был бы он мудрец —
Говорящий песнями ашуг,
Все равно бы сдался наконец.
С той поры отца я не пойму:
Словно сердцем канул он во тьму.
Арака и розовый мускат
Стали очень нравиться ему.
С дрожью страха в теле молодом
Я вошла в твой неуютный дом,
Чтобы мужа благосклонный взор
Заслужить любовью и трудом.
Солнце покидало вышину
В час, когда рабыню и жену
Ты впервые бросил на ковер
И на крик ответил: — Тиш-ше! Ну!
Остальное поглотила мгла...
Не женой — рабыней я была.
Я тебя хотела полюбить,
Но осилить сердца не смогла.
Словно вещь, купил ты за гроши
Голубой сапфир моей души,
Желтый мрамор тела моего.
Был ты победителем, скажи?
Неужель мужчине все равно,
Что ему от женщины дано —
Бледная покорность на лице
Или страсти пряное вино?
Даже лев, хоть он и дикий зверь,
Требует взаимности, поверь,
От своей возлюбленной, а ты...
Я тебе чужая и теперь
Ты, мой муж, отлично понимал,
Как ты жалок, как ничтожно мал...
И мое прекрасное лицо
От людей, от мира прикрывал.
Я была прекрасна, как узор.
Крыльями, летящими в простор.
Вздрагивали брови, а глаза...
Будто я родилась от озер.
Сам кремень от красоты такой
Потерял бы тусклый свой покой,
Стал бы он алмазом, если б я
Показала на него рукой.
133
Куст расцвел бы, и взошло б зерно...
Под чачваном душно и темно.
Человек, глядящий на меня,
Видит только черное пятно.
Ты следил, от ревности дрожа,
Чтобы не раскрылась паранджа,
Чтобы солнца луч не увидал,
Как твоя невольница свежа.
Наблюдал с ревнивостью глупца,
Чтобы тень от моего лица
Не упала на чужой забор.
Я ль тебя не знаю, хитреца.
Ты взывал к аллаху, мой тиран,
Мол, верблюду нужен караван,
Женщине — гарем и паранджа.
Что же делать, — так велит коран.
А когда советской стала власть,
Ты, хитрец, подкрасился под масть.
Ты такие речи говорил,
Что пришлось бы парандже упасть.
И частицу своего лица
Я уже открыла, но с крыльца
Увидала твой свирепый взгляд.
Гневу мужа не было конца.
Ты сказал в смятении большом:
— Пусть другие ходят голышом.
Речь моя была не для тебя...
А не то... Ты пригрозил ножом.
О коране разговор завел.
И опять чачван и произвол.
Ты, лентяй, валялся на ковре,
А жена работала, как вол.
От рассвета до ночной поры
Для базара я ткала ковры!
И в узор сама вплеталась тень,
В тусклых красках не было игры.
Ты сердился: — Что ты соткала?
Не ковер — полуночная мгла.
Я хотела ткать повеселей,
Но себя осилить не могла.
Гулким караваном шли года.
Зацветала жизнь, как резеда.
Посреди нехоженных пустынь
Возникали чудо-города.
Под советским солнцем золотым
Мгла и гор« таяли, как дым.
Даже самый старый человек
Становился снова молодым.
134
Встав над миром в богатырский рост,
Бывший раб построил к солнцу мост.
И недаром пел вчера ашуг,
Что рукой он достает до звезд.
Человек — властитель и герой —
Правит бурей, морем и горой.
С гордостью гляжу я на него,
Хоть сама закрыта паранджой.
Стыдно мне до глубины души,
Что гляжу я из-под паранджи
На веселых братьев и сестер,
На высоких зданий этажи.
Солнца! Я умру от темноты!
— И на солнце пятна, — скажешь ты...
Ярче солнца родина моя —
Ей нужны не пятна, а цветы.
Есть в Москве великий человек.
Тает мгла и зацветает снег
Перед славным именем его.
На меня он смотрит из-под век.
Говорит его орлиный взор:
— Почему, улыбка дол и гор,
Дочь моей прославленной земли,
Ходишь ты закутанной в позор?
Сбрось проклятый саван паранджи,
Сотканный из подлости и лжи!
Выйди на сияющий простор,
Будь счастливой, смейся и дыши!
Я внимаю слову мудреца:
Свой чачван срываю я с лица.
Посмотрите! Вот мое лицо!
Жизнь угасла в нем не до конца!
У тебя в морщинах, как змея,
Прячется улыбка. Знаю я,
Ты не видишь прежней красоты...
Лжешь! Вернется молодость моя.
Коль на солнце выставить цветок,
Оживится каждый лепесток...
Исцеляет горе и недуг
Наших дней стремительный поток.
Я в него всем сердцем окунусь...
Прочь с дороги! Ты — червяк! Ты — гнусь!
Пусть тебе поможет твой аллах.
Я к тебе, тюремщик, не вернусь!
ДЖАМБУЛ
(Род. в 1846 г.)
Советский Союз
Я говорю: «СССР» — и блещет синева озер,
Лежат ковры душистых трав в алмазных росах при восходе,
Поют по рощам соловьи, горят, как жемчуг, выси гор,
И зори, яхонтов нежней, невольно мне на ум приходят.
Обильна родина моя! Тучнеют сытые стада,
Всесветна слава табунов, не счесть отар, что степью бродят.
В полях — зерно, в садах плоды, в земле — чудесная руда.
Богатства юрт и городов невольно мне на ум приходят.
Народы родины моей живут, как дружная семья.
Десятки братских языков журчат ручьями на свободе.
Я чувствую кипенье сил и вдохновенье соловья,
И песня дружбы всех племен невольно мне на ум приходит,
Я в детстве раннем кочевал полынной степью ханских орд.
Как надмогильные холмы, серели нищие аулы.
На хане царь сидел верхом, а хан, от этой чести горд,
Народ ногами попирал, — и это освящали муллы.
В песках пустыни умирал мой обездоленный народ,
В глухой и душной темноте — без прав, полунагой и босый,
Текла ло родине река из горьких человечьих слез.
На каменистом пустыре, хирея, осыпалось просо.
Я лишь семидесяти лет увидел солнечный восход.
И сразу, просветлев душой, запел, на старость не в обиде.
Увидел я, как разметал врагов разгневанный народ.
Я гений Ленина узнал и гений Сталина увидел.
Высок Кавказ. В седых снегах наш Алатау — исполин.
И Крым, увенчанный чалмой жемчужных туч, уперся в небо.
Но Ленин выше снежных гор, и Сталин выше всех вершин,
Без них, двух гениев земли, родной народ счастливым не был.
Они связали, как друзей, простор степей и ширь тайги,
Неву сроднили с Иртышом, Байкал и Балтику сдружили,
Сказали людям всех племен — где их друзья и где враги.
И, массы в битву поведя, союз народов утвердили.
136
Горит в цветах моя земля. Поет, ликуя, мой народ.
Одиннадцать свободных стран узнали счастье мирной жизни.
В песках пустынь звенит арык, и степь, как сад, весной цветет,
И радуги семи морей зажгли сиянье по отчизне.
Я говорю: «СССР» — и золотой встает Алтай,
И Каспий вдребезги дробит светлозеленые громады,
И льдами Арктика шуршит, растит леса Карельский край,
И склоны Грузии дарят народам гроздья винограда,
Я вижу груды серебра и слитки золота горой,
Фонтаны нефти и зерно, и уголь — до сиянья —> черный,
И самолеты над землей, и поезд, мчащийся стрелой,
И караваны мудрых книг, и труд — веселый и упорный,
Я вижу праздники весны, джигитов в шелке и парче,
И стройных девушек страны в серебряных, как снег, нарядах,
Я вижу зданья светлых школ и блеск театров средь ночей,
И радостную жажду знать читаю я у всех во взглядах.
Я вижу дружбу меж людей всех языков и всех племен,
И вместе с ними я врагов с великой страстью ненавижу.
В движеньи мыслей и машин, в стремленьи быстрых веретен,
В садах цветущих на земле, в полях, где голубеет лен,
В декрете, изданном в Кремле, что к нам любовью окрылен
В стальном, летящем ввысь орле, что озирает небосклон, —
Во всех деяниях страны родного Сталина я вижу.
Мне девяносто третий год. Лета, как горы, высоки.
В степях и городах страны я не встречал акынов старше
И старым сердцем слышу: там, где люди пели от тоски,
Теперь по всей моей стране гремят торжественные марши.
Прислушайтесь! Поет страна. Поют народы. В этот хор
Текут свободною волной, как в море реки, все наречья.
И славят сталинский закон и славят солнечный простор,
Цветенье сил, свободный труд, любовь и счастье человечье.
Поет страна. И хор племен до неба здравицу вознес,
Как будто грянул майский гром, легко откатываясь в дали —
Живи, родной СССР, средь волн стоящий, как утес!
Живи, любимый наш отец, великий мастер счастья, Сталин!
Моя жизнь *
В ночь у подножья Джамбул-горы,
Сжавшись комочком у снежной норы,
Мать моя, рабскую жизнь кляня,
В стонах и муках родила меня
Молча собрался голодный аул,
Дали казахи мне имя — Джамбул,
Пели акыны под звуки домбры
Песню о мальчике, в буре рожденном,
Песню о мальчике, нареченном
Именем гордой.и древней горы.
Глаза я открыл. Вместо солнца и дня
Ночь и рыданья встречали меня,
Слезы кровавые бурно текли,
Тучи лукавые хмуро ползли,
Слышал я режущий посвист кнута.
Люди бежали, как стадо скота,
Реки холодные вброд проходили,
Грудью пожары степные тушили,
Голод косил за аулом аул-
Рос и скитался с народом Джамбул,
Я в сердце лелеял мечту, я хотел,
Чтоб голос мой звонче Бухара звенел,
Чтоб песни любимые к солнцу неслись,
Чтоб крылья орла за плечами росли,
Чтоб взлетом беркутьим я ринулся ввысь
И чтобы аулы со мной поднялись
В просторы, где счастье находит ксдей,
Где нет ожиревших султанских свиней,
Где реки и сочные травы степей
Приносят дары для бедных людей.
Седые певцы мне за песни и труд
Дали волшебницу кюйев — домбру,
Я счастья бескрайную чашу испил,
Я душу свою с иноходцем сравнил,
Я верил: на свете счастливее нет
Такого жигита пятнадцати лет.
Кровь бушевала, как пламя огня.
Семнадцати лет оседлал я коня.
И мне показалось, что этой порой
Сравнялся я с гордой Джамбул-горой.
• Из автобиографической поэмы Джамбула Джабасва.
138
С волчихами шли шестьдесят волков,
С волчатами семьдесят шли волков,
Кровь выступала из их клыков.
Баи, манапы, муллы и ханы,
Ханы кипчакские, ханы — коканы,
Ханы калмыцкие и кудеяры
Сеяли голод, чуму и пожары,
Чортово игрище с воем вели,
Морем народные слезы текли.
Травы народною кровью цвели.
Когда мне исполнилось двадцать лет,
Поехал я счастье искать по земле...
Сидели казн у султанских ворот,
Терзая когтями голодный народ.
Уездный начальник с манапом вели
Подсчеты награбленной ими земли.
Царь за «труды» им медали дарил,
Луга и озера для них отводил.
Чтобы у байского стада всегда
Травы цвели и струилась вода.
Я ехал за счастьем дорогой Асана,
Менялись манапы, султаны и ханы,
Чиновники, приставы и атаманы,
А жизнь не менялась. В бесправных степях
Рабы и рабыни стонали в цепях.
Шли годы, народ вымирал и редел,
Шли годы, чиновник султанский жирел,
Шли годы, в скитаниях я постарел,
И юность прошла верблюжонком в песках,
Мутнели глаза и слабела рука,
А сердце стучало, как два молотка,
И верил и знал я — свобода близка,
Народная правда не тонет в песках,
Усталости не было в песне моей,
Домброй подымал я степных сыновей.
Шли годы. Я ехал, не зная куда,
В скитаньях седела моя борода,
А жизнь крутая, как выступы гор,
На хмуром лице рисовала узор.
Народ изнывающий тихо просил:
— Прибавь нам горячею песнею сил!
Я пел от души, и неслась по долинам
Поэма о славных походах Таргына,
О сыне народа вожде Утегене,
О гордых батырах, о смелых сраженьях.
139
Я пел в Кокше-тау, я пел в Актюбе.
Жигиты ковали оружье к борьбе...
Я песнею гнева, зовущей в поход,
В степях подымал угнетенный народ.
Я славил суровый и праведный суд,
Я пел о батырах, что скоро прийдут
И силу могучую в бой поведут,
За землю, за реки, за счастье степей,
За наших в берлогах рожденных детей.
И грянула буря. Набат загудел,
Седой Ала-тау побагровел,
Гневно кипучие волны бросал
Вспененный бурей Арал.
Тигры метались в сухих камышах,
Слушая грозный прибой Балхаша.
Вставали рабыни, вставали рабы
Πο/f знамя великой, священной борьбы,
Их Ленин и Сталин вели за собой
В последний, горячий, решительный бой.
В борьбе восходила заря Казахстана,
Пылали дворцы и мечети султанов,
Бежала, как жалкая сворка хорьков,
Порода манапов, султанов, князьков.
Я с песней борьбы выходил на котан,
Я в бой отправлял молодых партизан.
И, вечный скиталец, я стал именит,
И песнями сердца по свету звенит
Попутчица радости, песен — домбра,
Моя золотая домбра.
Иду я, счастливый, дорогой цветов,
Пою я о мудрости большевиков,
Я славлю богатство колхозов родных,
Я славлю героев любимой страны,
Я славлю привольный разлив Зайсана,
Я славлю большие огни Джезказгана
И медь Карсакпайской чудесной руды,
И уголь красавицы Караганды.
Я славлю чарующий солнца восход
И весь мой счастливый советский народ!
Иду я степями свободен, богат.
Мне ветер приносит цветов аромат.
Вернулась волшебная юность моя,
Меня окружает родная семья,
Со мною в богатстве кастерских долин
Любимые братья — калмык и грузин,
140
Татарин и русский, уйгур и киргиз —
Для них моя юрта, для них мой кумыз,
Для них моя песня и сердца привет,
И дружба святая на тысячу лет.
А самая лучшая песня моя
На крыльях души долетит до Кремля
И скажет чарующим голосом струн:
«Я песня народа, что славен и юн,
Что горд и могуч, как орел молодой,
Готовый на подвиг, готовый на б~й».
И Сталину скажет: «Любимый oiei?,.
Тебе посылает столетний певе:^
И сердце, и думы, и песни свои
В счастливые светлые дни!»
СУЛЕЙМАН СТАЛЬСКИЙ
(1869-1937)
Муллы
Про ваш обычай я спою,
Примите мой рассказ, муллы;
И повесть слушайте мою,
Не закрывая глаз, муллы.
Когда зерно сбирает люд,
Вы у амбаров тут как тут.
И часть десятую дают
Не вам ли про запас, муллы?
Вам только б пищу повкусней,
Да тишину, — ведь вы умней
Хотите быть простых людей
Не всем ли напоказ, муллы?
Вам буря всякая страшна.
Попова пьете чай, нежна
У вас черкеска из сукна,
Бешмет — как бы атлас, муллы.
Где сбор для бедных — без Мулла и быстр и даровит,
Себе присвоите успех, [помех Едва окончив алфавит,
Садитесь к плову ближе всех, Собрать зекат он норовит,
Везде поспев как-раз, муллы. Лишь цвет весны угас, муллы.
Не помнит бедняков мулла,
À совесть у него бела.
Но ваши мысли и дела
Я знаю без прикрас, муллы.
Лишь урожаю вышел срок,
Забыв уроки, поволок
Мулла к себе домой мешок:
Хитрее всех пролаз муллы.
141
Вы летом задаете тон,
Предчувствуя со всех сторон
Поминки после похорон
И не щадите фраз, муллы.
Нет правды у муллы в очах,
Вы только зависти очаг,
Под землю подложив рычаг,
Взорвать хотите нас, муллы.
Друзья, мы знали голый лес,
Подвластный волчьей своре,
Мы помним черный свод небес,
Грозящий злом, как море.
Был человек всю жизнь рабом,
Всю жизнь об землю бился
лбом,
И, насмерть раненый бичом,
Был с братом брат в раздоре.
Но девятнадцать лет назад
Развеян волчьей жизни смрад,
Взращен великий новый сад,
Зажглись над миром зори.
Друзья, да здравствует страна,
Где совесть мира рождена,
Где правда властвует одна
На сталинском просторе!
Великий вождь, ты дал нам щит,
Он звезд алмазами расшит,
Он юность от седин хранит
В счастливых дней повторе.
На даровой и жирный плов
Мулла спешит без лишних слов.
Покушал плотно и готов,
И слышен храп тотчас муллы.
В стакане дна вам не видать:
В стакане сахар — благодать!
Я, Сулейман, не стану лгать, -
Такая жизнь у вас, муллы.
Великий вождь, ты дал нам ключ
В тот край, где краше солнца
'. луч,
Где нет грозящих градом туч,
Где мертво слово «горе».
ι» Ты нам могучий пламень дал,
Закон мудрейший написал,
» И он, как драгоценный лал,
В страны златом уборе.
С ним колосится рожь в полях,
С ним зреют яблоки в садах,
И люди, честные в делах,
С ним побеждают в споре.
, Закон — величье наших дней.
С ним весны ярче, песнь строй-
С ним слава родины моей [ней,
За мир стоит в дозоре.
·, На всей земле всей бедноты
Тысячелетние мечты
На деле воплощаешь ты
В побед безбрежном хоре.
Слово о Сталинской Конституции
142
Думы о родине
(Отрывок)
1
Я вспоминаю жизнь, как сон,
Как сон, что страшной правды
полн.
Нуждой кричащей был пленен
Мой путь и мой очаг, товарищ.
Своих печалей караван
Вел за собой ты, Сулейман,
И путь был тонким, как аркан,
Во всю длину судьбы, товарищ.
Мерцали звезды над тобой
По всей земле — земле чужой.
Объят безрадостной мечтой,
Бродил ты, одинок, товарищ.
Я вспоминаю свой аул,
Разврат князей, обжорство мулл.
Здесь даже камень спину гнул
Перед лицом бича, товарищ.
Глухой кладбищенской стеной
Лежал закон над беднотой,
И в трижды смрадной ночи той
Теряли мы себя, товарищ.
Нас было много, но адат
Тысячелетья плел разлад.
Ты — лакец, я — лезгин, он —
тат...
Друг друга мы кляли, товарищ.
Был враг хитер, как лисий
хвост,
Он поджигал меж нами мост,
И вместо дружбы рос погост
Твоих, моих костей, товарищ.
Кровоточащею рукой
Ты брал не меч, а посох свой
И шел, качаясь, как слепой,
Своих же сторонясь, товарищ.
(О, как забыть мне те края.
Обиды смертные тая,
Там молодость прошла моя,
Как неурочный дождь, товарищ.)
Не знали мы с тобой в те дни,
Что от рожденья мы сродни.
Что мы — и только мы одни
Хозяева земли, товарищ.
Что есть страна, где все для
нас,
Что жизнь бесценна, как алмаз»
Что всемогущ рабочий класс,.
Ведомый партией, товарищ.
И, вспомнив с новой силой вдруг
Былых времен тлетворный круг,
Я обращаю взор вокруг
И на себя гляжу, товарищ.
Гляжу на синий небосвод,
На белый свет, на свой народ.
И жизнь мне книгу подает
С портретом Сталина, товарищ.
2
Одна на свете есть страна,
Ей слава всех времен дана.
Я знаю: речь моя бедна,
Чтоб родину воспеть достойно.
Необозрим ее простор,
От волжских вод до снежных
Узорный солнечный убор [гор
Покрыл чело ее достойно.
В кольце могучих городов
Не молкнет говор поездов,
И на морях в оправе льдов
Проходят корабли достойно.
Сквозь бури и туман сплошной,
Пересекая шар земной,
Летают летчики семьей,
Оглядывая мир достойно.
Страна, где уничтожен гнет,
Где сильный слабого не гнет,
Где воздают труду почет
И труд свой берегут достойно.
Где счастье входит в каждый
дом,
Где жизнь в наряде золотом,
Где вновь испытанным зерном
Поля засеяны достойно.
Здесь дни легки, как шелк
шатра,
Как жемчуг, лунны вечера,
И завтра так же, как вчера,
Здесь будет ясно и достойно.
Садов миндальных аромат
Здесь насыщает каждый скат.
Румянолики, как гранат,
Встают рассветы здесь достойно.
Одна на свете есть страна,
Ей сила всех времен дана,
Любая песнь пред ней бледна
И зваться песней недостойна.
Живет здесь богатырь-народ,
Он строй счастливый создает.
Весь мир он наново кует,
Чтоб человек в нем жил
достойно.
ЯНКА КУПАЛА
(Род. в 1882 г.)
Уходящей деревне
Ты, как мираж, как сон
тоскливый,
Уходишь дальше с каждым
годом.
А твой народ трудолюбивый
На путь становится счастливый,
Разбив оковы злой невзгоды.
Горбы немых твоих курганов,
Где спят рабы и спят магнаты,
Порежет сталь, как нож —
баранов,
И там, под солнцем
долгожданным,
Сады раскинутся богато.
Засеет он свои загоны, Где за поселком лег поселок,
Расчистит он свои дубравы, Заводы загудят победно,
В одну семью объединенный, И в блеске солнечно веселом,
Как будто заново рожденный Электросвет вольется в села
Для новой жизни, новой славы. И дым лучин сметет бесследно.
Былого страшные обломки
Мы по земле развеем прахом.
И не пойдут твои потомки
С пустою нищенской котомкой
Искать приют сибирским
шляхом.
Твоей жалейки стон унылый
Заменит трактор песней новой,
И пахарь твой нальется силой,
И не пойдет, как раньше было,
Искать удач под крест
сосновый.
144
Твоим несмазанным колесам
Автомобиль идет на смену.
А твой косарь простоволосый —
Придет пора — забросит косы,
Косить машиной будет сено.
Не станут девки молодые
Слепить за прялкой кари очи:
Станки фабричные, стальные
Соткут полотна дорогие
Своим крестьянам и рабочим,
И голос радио свободней
Развеет тьму поверий древних.
И в тон ответит бор дремотный,
Ответит Неман многоводный,
И зашумят поля напевней.
Русалки, лешие отныне
Твоих людей пугать не смогут,
И водяной погибнет в тине,
И солнце ясное раскинет
1929
Лучи у каждого порога.
Над куполами, над крестами
Труба взметнется заводская,
И звон церковный над полями
Заглушит зычными гудками,
К труду рабочих собирая.
И будет дальше — год от
года —
Расти, сметая все помехи,
Культура, радость и свобода
И сила твоего народа,
Освобожденного навеки.
Исчезнешь ты, как сон
тоскливый,
Растаешь, как в лугах туманы;
Смотри, народ трудолюбивый
Уже нашел свой путь
счастливый,
Нашел свой край обетованный.
Из песен мужичьих
Горе нам, бедным и подъяремным, —
Выпала черная доля.
Стонем под паном и под царем мы,
Стонем и дома и в поле.
Нам не добиться правды — управы,
Темный народ мы, сермяжный,
Трудимся в рабстве до ссадин кровавых, «
Бьет по шеям чуть не каждый.
Нас самочинно земский карает,
Душит, сживает со свету.
Грабит урядник, поп обирает...
Правда мужицкая, где ты?
Всюду жандармы, остроги, солдаты,
Церкви с помещичьим раем.
Волость последнее тащит из хаты...
Как мы живем, не сдыхаем?!
Плачет в неволе край наш родимый;
Сами ж не знаем покоя:
Сушит нас лето, студят нас зимы,
Голод терзает зимою.
10-22
В. В. КУЙБЫШЕВ
(1888—1935)
Море жизни
Гей, друзья! Вновь жизнь вскипает.
Слышны всплески здесь и там.
Буря, буря наступает,
С нею радость мчится к нам.
Радость жизни, радость битвы
Пусть умчит унынья след,
Прочь же, робкие молитвы!
Им уж в сердце места нет.
В сердце дерзость. Жизни море
Вскинет нас в своих волнах,
И любовь, и жизнь, и горе
Скроем мы в его цветах.
Горе выпадет на долю —
Бури шум поможет нам
Закалить страданьем волю,
Но не пасть к его ногам.
Будем жить. Любовь? Чудесно!
В бурю любится сильней.
Ярче чувства, сердцу тесно
Биться лишь в груди своей.
Так полюбим! Жизни море
Вскинет нас в своих волнах,
И любовь, и жизнь, и горе
Скроем мы в его цветах.
Наслажденье мыслью смелой
Понесем с собою в бой
И удар рукой умелой
Мы направим в строй гнилой.
Будем жить, страдать, смеяться,
Будем мыслить, петь, любить.
Бури вторят, ветры злятся...
Славно, братцы, в бурю жить!
Ну-те ж в волны! Жизни море
Вскинет нас в своих волнах.
И любовь, и жизнь, и горе
Скроем мы в его цветах.
146
4c*
Тянулась нить дней сумрачных, пустых *,
Но мысль о вас, о милых и родных,
Тоску гнала, улыбка расцветала,
И радость бодрая по камере витала.
Мы светло грезили о счастье дней былых.
Но в путь пошли под звуки кандалов,
Но мысль бодра, и дух наш вне оков,
Когда увидели мы лица дорогие,
Заботы милые, улыбки молодые,
Веселый смех и ласку милых слов.
И там, вдали, в снегах страны чужой
Ваш образ милый, бодрый, дорогой
Растаит лед суровой, злой неволи
И воскресит мечту о светлой, гордой доле,
О днях грядущего, наполненных борьбой.
ВАС. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ
(Род. в 1898 г.)
Наглядное пособие **
В старом, слегка пожелтевшем журнале
Я отыскал фотографию — группу:
Четверо разных людей восседали
В креслах огромных солидно и глупо.
Первый — курносый и грузный попище,
Очи г— горе, как икона в кивоте;
Видно, от постной монашеской пищи
Вздуло горою под рясой животик.
Памятник скудных мирских подношений
Грудь украшает служителя храма:
Толстая цепь, как тяжелый ошейник,
Крест золотой в полтора килограмма!
Взором свинцовым на зрителя глядя,
Твердо расставив бутылки сапог,
Рядом уселся свирепейший дядя, —
* Стихотворение написано В. В. Куйбышевым своим друзьям на пути в
Туруханский край. Стихотворение было подписало всеми шедшими с В. В.
по этапу.
** Печатается в сокращенном виде.
Ю* 147
Боров — не боров, бульдог — не бульдог!
Взор говорит: «А вы кукиш видали?»
Лапы — как будто собрались душить,
Пикой — усы, на поддевке — медали, —
Видно, их дали за кротость души!
Третий — по виду болтливый доцентик,
С личиком старой блудливой мартышки,
Вскинув пенсне на длиннеющей ленте,
Что-то как будто записывал в книжке.
Всем существом показать он старался:
Я, мол, сижу здесь и зря, и некстати.
Правою ручкой он все ж опирался
На подлокотник массивного бати.
Скромно сидел бородатый четвертый
Словно некрасовский дядюшка Влас,
Тихо светясь, как полтинник потертый,
Мутно-шакальей улыбкою глаз.
Я, мол, порядка никак не нарушу:
Пойте, а я буду вам подпевать, —
Все мы споемся за милую душу,
Лишь не мешайте других раздевать.
Под фотографией подпись была там
Крупным и жирным красивым курсивом:
«Гордость Российской земли — депутаты
Государственной думы четвертого созыва».
Взглянешь — и вспомнишь свинцовые годы,
Треск пулеметов и лживых речей,
Когда по законам царской «свободы»
Могли избирать... палачи — палачей!..
На окраине города
Старик еврей в убогом котелке
Нам молча кланялся, с улыбкой приседая,
И котелок дрожал в морщинистой руке,
И развевалась борода седая.
В ответ мы козырнули и прошли.
Идем назад — он кланяется снова,
Библейской бородой чуть не достал земли,
Вновь улыбнулся нам и вновь — ни слова.
Что он старается? Какой чудной старик!
Вдруг девочка с огромными глазами
К нам подошла и тихо говорит:
— «То мой есть дедушка. Он очень рад за вами··.
148
Он говорит... Он просит передать,
Что если б вы хоть на день опоздали,
То был бы нам погром... Так правильно сказать?
И вы бы нас живыми не видали...»
Мы разделили радость старика
И девочке тепло сказали: — До свиданья!
По узкой уличке шли конные войска...
Как хорошо, что мы пришли без опозданья!
Земля Прикарпатья *
Земля Прикарпатья, от века политая кровью!
Как хищные вороны, шли над тобой облака.
Пригожей дивчиной была ты и немощной стала.
С полей Приднепровья ждала ты в тоске казака.
И видели мертвые нивы и нищие хаты
Шляхетскую саблю, татарский изогнутый лук...
Ждала ты великого, грозного часа расплаты
И вся содрогалась, стеная и корчась от мук.
И горе народа стояло над полем и лугом,
Пустые жилища чернели у мертвой воды,
И рыскала хищная шляхта по нашим округам,
Свирепее зверя, страшнее татарской орды.
Земля Прикарпатья, от века покрытая кровью!
Под крик воронья лютовал и безумствовал кат.
Гремели орудия, в черной свинцовой метели
Рыданья и стоны неслись из разрушенных хат.
Из дыма пожарищ к угрюмому небу летели
Проклятья неправде и злобе господских палат.
Шляхетские своры над нами глумились без меры,
Мы жили, как в черном, жестоком, горячечном сне,
На наших сестер налетали лихие жолнеры,
Деревни пылали, и дети горели в огне.
Ксендзы и монахи жандармов вели на облавы,
Чтоб кожу сдирали с людей, учиняя допрос,
• Из цикла: «Слово о великом, родном Сталине».
Чтоб резали чрево и плод вырывали кровавый
И мужа душили петлею из жениных кос.
Земля Прикарпатья, от века политая кровью!
Вилось вороньё и кружилось у наших ворот.
Но Сталин, отец угнетенных и слабых народов,
Червоное войско направил в далекий поход.
То был справедливейший из справедливых походов,
Который избавил страну от жестоких невзгод.
Крепи же, народ, свое право на землю и волю,
Что тяжкой ценою навеки досталась тебе.
Безродный Иван, позабыв про счастливую долю,
Боролся и падал, и вновь подымался в борьбе.
Родная земля изнывала в неволе у пана,
Над нами глумились, душили и грабили нас,
Но Сталин дал новую долю, — ее у Ивана
Уже не отнимут ни пуля, ни бомба, ни газ!..
Земля Прикарпатья, согретая нашей любовью!..
Поэты освобожденного нароОа бывшей
Западной Украины: Андрей Волощак, Але-
ксандр Гаврилюк, Петро Карманский,
Ярослав Кондра, Теодор Курпита, Микола
Мельник, Василь Пачовский, Остап Тар-
навский, Степан Тудор, Ярослав Цурков-
ский, Володимир Шаян, Юра Шкрумеляк,
академик Василь Шурат.
Пер. с украинского Лее Длигач и Борис
Турганов.
Львов, декабрь 1939 и
ВОЛОДИМИР СОСЮРА
О, не напрасно!
О, не напрасно, нет, гремели пушки в поле,
И наша кровь лилась, и шли мы умирать.
О, не напрасно, нет, сама по доброй воле
Иконки и кресты с детей снимала мать-
Гул на шоссе шагов... машины перебои,
Веселые вожди приветствуют бойцов...
150
Как будто снова сон, возникший предо мною
В забое, в полутьме под песню обушков...
И девушки идут, и жены выступают,
И детвора бежит, — восторг в глазах горит...
И ночь скрипит, скрипит, промозглая, слепая,
И поднят мрак ее на лезвиях зари...
О, не напрасно, нет, гремели пушки в поле,
И наша кровь лилась, и шли мы умирать...
О, не напрасно, нет, сама по доброй воле
Иконки и кресты с детей снимала мать...
Возмездие
Мы в солнечной тоске века на вас трудились,
Мы из костей своих вам строили дворцы.
И, кроме мук, еще какую милость
Вы дали нам, живые мертвецы!
И серебро, и золото, от устали тупея,
В сырой, холодной мгле искали мы для вас.
И что вы дали нам культурою своею —
Врагу не пожелал бы я в злой час.
Мы вашим женщинам бриллианты добывали,
И сестры шили им наряды на балы,
А после видели, как ночью танцовали
Те женщины, нарядны и светлы.
Вас сызмала в весенний розов цвет рядили,
Привыкли вы от жизни все без боя брать.
За деньги, добытые нами, вас учили
Быть господами, править и карать.
А мы?.. Учились в шахтах мы ругаться
И водкой разум свой в получку заливать,
За долей по свету гоняться,
А сестры — тело продавать.
И поп с крестом в руке давал нам ножик в руки
И за объедки с панского стола
На брата брата слал под колокола звуки,
И слепо бились мы, и морем кровь текла.
А бог на небе спал. Во тьме молчали дали.
И счету не было упавшим в тьму векам...
Мы на крестах своих пророков распинали
И в зыбких снах плели венки врагам.
Но вот настали дни, которых нету краше!
И мы увидели, где враг наш и где брат.
И высекло огонь возмездья сердце наше,
Мы сами облеклись в торжественный наряд...
Ш
Лакеи зла и тьмы! Коммуны звоны
Заупокойный гимн уже для вас гудят,
И рушатся дворцы, короны, троны,
И в грохоте борьбы зовет набат!
Уж небо обняли всемирные пожары.
И каждый шаг наш — ураган в цвету,
На головы врагов обрушены удары,
И мозг дрожащий стынет на лету.
А в поле... солнце, май... освобожденья звоны,
Давно уже пробил расплаты грозный час...
И рушатся дворцы, короны, троны,
То мы идем... Дрожите! Ждите нас!
МАКСИМ РЫЛЬСКИЙ
(Род. в 1895 г.)
Моя отчизна
Отчизна моя — то не предков ряды,
Дородных и праздных, и чинных,
Не гетмана голос, не окрик орды
Из песен старинных.
Отчизна моя — не дворец золотой
Над кровлями хат захудалых,
Не церковь, не трон, не война за войной
На крыльях кровавых.
Отчизна моя — не пожар, не разбой,
Где трупам, обуглясь, качаться.
Отчизна — не вдовья полоска с межой, —
Поля колосятся.
Отчизна моя — перестук молотка
И руль, трактористом ведомый,
Покорные скалы, и топь, и река,
Комбайны и домны.
Отчизна моя — то Мичурина сад,
Высокое Горького слово,
Отчизна — не знает призыва назад
С пути боевого!
Отчизна моя — это поле побед,
Заря на знаменах багровых.
Обилье плодов, виноградников цвет
В пустынях суровых.
Ш
Отчизна моя — это крылья орла,
Что к солнцу летит из туманов,
То — Демченко воля, что в поле взросла,
То — смелый Стаханов!
Отчизна моя — это солнце веков,
На камне взрастающий колос.
Отчизна моя — это Ленина зов
И Сталина голос!
Цветет Казахстан, Украина и Дон —
Республик семья молодая,
Единая радость и дружба племен —
Отчизна родная!
ЛЕВ ДЛИГАЧ
*Ф
К зиме во всю готовилась природа
И вспыхивали окна во дворце.
Пришло как раз такое время года,
Когда земля меняется в лице.
Был робкий снег совсем еще не плотен,
Мороз едва ложился на стекло...
Мы падали у темных подворотен,
Отдав земле последнее тепло.
Своим дыханьем, жаром щедрой крови
Мы грели землю, грудью к ней припав.
И вот колосья с нашим ростом вровень
Шумят,
И слышен шорох сочных трав,
И наша песня, обогнув планету —
Сады, ущелья, пастбища, леса, —
Летит над миром, и за песню эту
Народы подымают голоса.
Мы покорили и взнуздали реки,
Мы напоили знойные пески,
И нашу дружбу братскую — навеки
Скрепляет росчерк сталинской руки.
Все то, за что ценой горячей крови
Боролись мы в течение веков,
Закреплено и выражено в слове,
Звучащем на десятках языков..,
153
Мы Западную нашу Украину
От панских пут избавили навек,
Здесь горькую макуху и мякину
Жевал годами нищий человек,
В худых лаптях, боясь расправить спину,
Не подымая воспаленных век,
Он слушал шум господских рощ и рек.
Вели в болота вязкие дороги,
Осокой зарастали берега.
От голода протягивали ноги,
Народ крестил посевы и стога,
Чернела пасть пустого очага,
Ä на иконах улыбались боги.
И ржавая подкова на дороге
Народ оберегала от врага.
Теперь встает и распрямляет спину
Освобожденный нами человек.
Родную Белорусь и Украину
От рабства мы избавили навек,
Мы братьев наших не дали в обиду,
Нам чувства их понятны и близки.
По говору, по голосу, по виду
Большевиков узнали земляки.
Пылает знамя на ветру высоком,
И песня подымается вдали.
Ребят голодных самым сладким соком
Пусть напоят плоды родной земли.
ИОСИФ УТКИН
(Род. в 1903 г.)
Свеча
Рассказ матери
Только думала спать,
Как у хутора
Загундосил опять
Кто-то муторно.
Завалилось ко мне
Трое гавриков.
Надымили они,
Как на фабрике.
Прицепились опять:
«Сына, Якова,
Не видала ли, мать?» —
Аж заплакала!
Поглядел офицер:
— Что... не весело?
Ладно, Яков твой цел:
Не повесили.
Я за свечкой — к попу!
...Поп неласковый»
Ш
Чай лакает в поту, Ах, ты господи!
Блюдцем ляская. Поп как топнет ногой:
Говорит, — не глядит — — Нету доступу
Просто в ярости. Коммунистке такой
— Убежал твой бандит К богу — господу!!
Из-под ареста. Я попу: — Не кричи!
У меня по спине Раз полегчило,
Будто —оспины: Мне и ставить свечи,
— У-бе-жал?!.. Ах, ты мне, Может не к чему...
ЗУБИЛО (Ю. ОЛЕША)
Рождество
Не звезда, а в потолке фонарь,
И не бог, простертый на вершинах —
Мастер над младенцем, и не царь,
Не Христос-младенец, а машина!
Тело блещет медью у него,
В сердце, в топке пламя или роза?
Это праздник, наше рождество,
В мастерской — рожденье паровоза!
Строил каждый, строил цех за цехом.,
Родили. Ну, как, малыш? Здоров?
И гремит, раскатываясь эхом,
Зычный новорожденного рев...
Не венец вокруг него, а копоть,
И не бог, а мастера, — отцы!
С рукавом, засученным по локоть,
Слесаря, монтеры, кузнецы.
Этот пузо выковал младенцу,
Этот высветил ему глаза,
Этот вылил медные коленца,
Этот вылепил тяжелый зад!
Тот сосуды растянул по телу,
Тот — систему клапанов живых..·
1ээ
Все депо стонал и потело
В этих трудных схватках родовых.
Сплавы клокотали и кипели,
Сталь лилась по формам, точно воск,
И в канаве сборной, в колыбели,
Родился — по плану — паровоз!
Тут не бог распоряжался чудом,
А людская цифра, ум людской,
Дереву, стеклу, воде и рудам
Давший жизнь из формулы простой.
Из сырья, из масс, из мешанины,
Под рабочим глазом и рукой
Мудрые рождаются машины,
Облегчающие труд людской.
Жулик-поп, как сыр, катаясь в масле,
Спекулируя на темноте,
Выдумал про Вифлеем и ясли
И пустил легенду о Христе...
Чем бы ты в земной юдоли ни был:
Угнетен, и голоден, и бос, —
Пострадай, а сдохнешь, там на небе
Воздаянье даст тебе Христос!
Лезь в окопы, и работай нищий,
Лезь под палку, в петлю палача.
Много, мол, для бедных в небе пищи,
На земле ж — лафа для богача!
Мол, неси нужды лихое бремя, —
Там зато на небе — торжество,
Для того, мол, было в Вифлееме
Господа Иисуса рождество!
Так брехал мошенник круглолицый,
Истекая сладкою слюной,
И кропил свяченою водицей
Мужичков пред новою войной.
Верь да жди! Стяни кушак потуже!
Все на небе! В жизни — ничего!
Много ль пользы мы имели вчуже
От брехни про это рождество.
Брюхо, глотка, легкие и Мышцы,
Все у нас по штату... Жизнь и труд,
Мы ль должны таиться, точно мыши,
Ждать, покуда в небо позовут?
Вымысел о рождестве христовом,
Эта сказка не устроит нас:
Мы делами сыты, а не словом, —
Посерьезней рождество сейчас!
Что нам этот вымысел зловещий?
О рожденья бога для людей?
Мы рождаем не богов, а вещи —
Это наше рождество вещей.
Не господний свет, а свет науки,
И не рай — а тучная земля...
Нам пока давай синицу в руки,
А с синицей — схватим журавля!
Нам смешно. О небесах забота!
В рай — врата! Мы видим рай иной:
Через заводские мы ворота
В рай войдем, да только в рай земной!
Ради этого земного рая
Будем жить, работая, творя,
Побеждая или умирая,
Только за себя, не за царя!
Наша вера — не о боге бредни,
Не смиренье, свечка да поклон, —
Наша вера — это бой последний,
Не мечта, а логика, закон.
Наше рождество не jb богомольной
Этой сказке, что канючит поп, —
Вот оно: Октябрь, «Аврора», Смольный...
Вот оно: Сибирь и Перекоп!
Вот, пылая, горны громыхают
Рождество свободного труда,
Этот праздник чудно озаряет
Ленинская Красная Звезда.
Письмо счастливого узбекского народа
вождю народов
великому
Иосифу Виссарионовичу Сталину
(Отрывок)
Любимому вождю и мастеру побед
Народ узбекский шлет свой пламенный привет!
Не ради щегольства, не ради хвастовства,
Но смотру славных дел — приличны торжества.
А торжествам к лицу — торжественная речь, —
В орденоносный стих позволь привет облечь.
Мы в звонких месневи, сплетенных в наш достан,
Поведаем, чем был, чем стал Узбекистан.
Мы подведем итог за сотни мрачных лет:
Кто жизнь провел во тьме, тот ценит день и свет.
Веками знали гнет, разгромы, пытки мы, —
Расскажем обо всем в правдивом свитке мы.
Кто нашу кровь не лил, не угнетал нас встарь!
Худат, эмир, хакан, бек, падишах и царь.
«Носили воду мы всегда,
Не зная счастья никогда,
А счастлив только тот бывал,
Кто нам кувшины разбивал...»
В старинной песенке (ведь не заткнешь ей рот!)
Так пел измученный узбекский наш народ.
Мосты мы строили, — шли палачи на нас,
Арыки рыли — враг их разрушал тотчас.
Дворцы мы строили—нефрит и мрамор, чтоб
Узбек доволен был, ютясь в грязи трущоб.
Выращивали мы роскошные сады, —
Чужой вступал в их сень, чужой вкушал плоды.
Как саранча носясь по золотым полям,
Разбойный халифат нас обращал в ислам.
Конь Кутайбы тогда копытом тяжким стал
На грудь родной страны и в прах ее втоптал.
Поблекнул изумруд джайхунских берегов,
Народный вопль, как смерч, вставал до облаков.
Вооружен мечом, и, сея смерть и страх,
Так наступал на нас арабский бог — Аллах!
Он обещал нам рай — а сам принес нам ад.
Века прошли — мы вновь возделали наш сад.
Неистовый Чингиз нам учинил разгром:
Узбекистан ему стал проходным двором.
И сад, которым был народ узбекский горд,
Зачах от смрадного дыханья хищных орд.
И налетел на нас свирепый тот тиран,
158
Железный тот хромец, чье имя Тамерлан,
Как ураган, нигде преград он не встречал,
И с мест он нас сорвал, и закружил, умчал
В чужую даль: в Иран и на Кавказ водил,
И там нас тьмы легли в чужбине без могил...
Народ возделывал поля, сады, бахчи,
Ткал тонкие шелка, узорные парчи,
И гениев рождал — поэтов и певцов,
Подвижников наук и зодчих-мудрецов,
В чьих книгах золотых — сияние ума,
Которого затмить не в силах смерть сама,
В чьих зданиях — кирпич и камень нам поют,
Как человек велик и как всесилен труд...
Что вдохновенный труд, что мудрых книг язык,
Для суеверных мулл, для кровопийц-владык?
Пророков знания преследовал Коран,
Поэтов-бунтарей карал эмир-тиран.
Властители, как псы, грызясь между собой,
Терзали родину и гнали на убой
Несчастных подданных. И плакала страна,
И песня плакала, и грустная струна...
Сказали мы себе: «Предел страданьям где ж?»
Был год шестнадцатый. Мы подняли мятеж.
Пронесся по стране громоподобный гул:
«Да сгинет гнет царя, эмиров, баев, мулл!
Довольно виселиц и тюрем и плетей!»
И все — от стариков до женщин и детей,
Мы взяли кетмени, дубины, топоры,
Разъярены, как львы, и все, как львы, храбры,
Пошли на палачей. Рабочий русский люд
Нам помогал: он знал, как царский гнет был лют.
На всех душителей, на всех, кто трону друг,
На всех, кто был слугой у злобных царских слуг,
Напали мы врасплох, и гнев наш бушевал,
Как горная гроза, как каменный обвал.
Их счастью черному грозил со всех сторон
Возмездья черный час. Поколебался трон,
Но устоял... Увы! Что вилы и топор,
Когда нас пулемет расстреливал в упор,
Когда орудия громили кишлаки,
Когда, как лес густой, ощерились штыки?
Нас предали опять муллы и джадиды,
Уверены, что царь воздаст им за труды.
О, древний Кутайба! Ты б со стыда сгорел,
Когда б на царскую расправу посмотрел!
Воистину палач явил нам чудеса:
Трава, песок, вода и сами небеса —
159
Все стало пурпурным! Тиран торжествовал,
Звонил в колокола и кандалы ковал,
И тысячами нас стрелял и вешал он,
И верных псов своих подачкой тешил он...
Не семь, а семьдесят сдирал он шкур теперь
С народа нашего, самодержавный зверь.
С другим разбойником он вел в те времена
Разбойничью войну, будь проклята она!
Но он теперь нас гнал, как бессловесный скот,
Для тыловых работ в краю гнилых болот.
Надсмотрщики его сгоняли нас кнутом,
Сдавали нас ему, как мелкий скот, гуртом...
Аллаху пели мы из века в век хвалы,
Чтоб благоденствовать могли его муллы.
Надгробною плитой давил на нас Коран,
Века держал в сетях таинственный ишан.
«Коль тайну грамоты вам всем открыть, тогда
Кому пахать поля, кому пасти стада?»
Вот что мулла твердил. А редкий грамотей
Вороной белой был среди простых людей.
Но ты, мудрейший наш учитель, наш отец,
Открыл нам грамоты заветнейший ларец.
И ты нам передал ключи от всех наук,
Которые скрывал божественный паук.
Кто «алифа не мог вместить», как говорят,
Тот — знаньем начинен, как зернами, гранат...
Не из мечетей свет увидел наш узбек, —
Свет хлынул к нам из школ, кино, библиотек.
Читаем Ленина и Маркса. В каждый дом
Вошел учителем и твой бессмертный том.
Черпать в «Истории ВКП(б)» привык
Живую влагу сил узбекский большевик.
Прими, великий вождь, любовный наш привет!
Прими, отец родной, сыновний наш «рахмет».
Рахмет тебе за все: за солнечные дни,
За ночи светлые, за звездные огни,
С которых ты сорвал завесу вечной тьмы,
Как с лиц девических чиммат сорвали мы.
Голодным дал ты хлеб, и кров бездомным дал,
Отверженных призрел, и свет нам, темным, дал.
Ты силы возвратил беспомощным рукам,
Ты молодость вернул столетним старикам...
На наше счастье ты родился, наш отец!
Благодарим тебя от глубины сердец!
Когда уста весны прильнут к земле, когда
Весенней посевной у нас кипит страда;
И птицы в Фергану прекрасную летят,
160
И всходы хлопка вновь нам урожай сулят;
И солнце ласково сияет с высоты, —
То как же нам не знать, что это солнце — ты?
Волны озерной плеск — о Сталине поет.
Снегов нагорных блеск — о Сталине поет.
Цветами луг пестрит — благодарит тебя.
Обильный стол накрыт — благодарит тебя.
Гудит пчелиный рой — тебя благодарит.
Сын у отца — герой — тебя благодарит...
Наследник Ленина, для нас — ты сам Ильич!
Нет тех высот, чтоб нам с тобою не достичь.
Нет тех преград, чтоб мы не рушили с тобой.
Веди нас дальше, вождь, веди в последний бой!..
МАММЕД-ВЕЛИ (КЕМИНЭ)
(Род. около 1770 г. Ум. в 1840 г.)
**
*
Познанье — дерево, и тень его — ислам.
Вершина — в небесах: размах ветвей —
Таков.
О силе дерева судите по плодам,
Растущим на ветвях: закон вещей
Таков.
Пока глаза пророк закрыл и вновь открыл,
Его принес в Маграч крылатый Гавриил.
Измыслишь имена для праха и светил —
И мнишь: <чЯ все постиг». Язык детей
Таков.
Но доверяй уму, пока твой ум с тобой;
Дракону слово дашь — и то на слове стой.
Злоречие в родстве с поганой клеветой,
Не будь же злоречив, хоть ' нрав людей
Таков.
Дервиш запретное нередко ест тайком,
Но никогда себя не назовет плутом.
Жезл Моисеев крив пред истинным путем,
Но только правды путь средь всех путей
Таков.
161
Страшись, познав себя, своей же пустоты.
Когда лицо в муке, еще не мельник ты.
Чалма на голове, но злой бездельник ты,
Ты, людям говоря: «Я — всех святей»,—
Таков.
Хюлле и гурии еще прельщают нас.
Мулла нередко лжет, когда творит намаз.
Постится ль он, когда придет желаний час?
Так знайте же — мулла, что вас хитрей —
Таков.
Мулла! хушьюр возьмешь и верно в рай
пойдешь.
Дутарщика зато в кромешный ад пошлешь.
И даже с мертвеца сорвешь последний грош.
Любой из пиров здесь, в юдоли сей,—
Таков.
Ты хитрости достиг невиданных высот,
О мерзостях твоих не ведает народ,
Кто разгадал тебя — гяуром прослывет;
Ты, чьи молебствия проклятий злей, —
Таков.
Проступков Кеминэ своих не в силах счесть, —
Господь меня простит: я помню стыд и честь.
Кто, Кеминэ гяур? Ты сам гяур и есть!
Ад ждет тебя, ведь ты — на склоне дней —
Таков.
СЕИД АЗИМ ШИРВАНИ
(1835-1888)
К мусульманам Кавказа
Гасан-беку Зардаби
I
О Гасан-бек, ученый муж, Скорее, свет очей моих,
О воскресивший столько душ!! Прими и отпечатай их:
Мой друг, не приютишь ли ты Чтоб век был ясен, чтобы он
Сеида мысли и мечты? Был до конца изображен!
162
//
Сыны Кавказа и вожди!
Привет вам из моей груди!
Всем, всем, кто доблести не
чужд,
Кто не забыл народных нужд,
Всем благородным мой привет!
Когда в мужчине силы нет,
Он слабой женщины слабей!
Народ, молчание разбей!
Тут крик поможет, а не всхлип!
Народ Востока, ты погиб!
Мрачней, забитей с каждым
днем —
О чем ты думаешь, о чем?
Печаль и горе — твой ответ!
Но где причина наших бед?
Невежество — вот корень зла!
Наука бы тебя спасла!
Я удивляюсь, о народ:
Когда к кому болезнь придет,
Он посылает за врачом.
А ты-то думаешь о чем?
Другие движутся вперед,
Идут в грядущее, а ты
Никак не скинешь темноты,
Не вырвешься из-под нее!
Где настоящее твое
И где грядущее? Ответь!
Ведь должен ты его иметь!
Но ты одну беду нашел:
Не более десятка сел
В любой провинции твоей,
Но боль звучит в зурне твоей!
Ахундов тысяч пятьдесят
Вслед за муллами в рай спешат!
И смотрят с радостью на них
Полсотни дервишей твоих!
Панегиристы — тот же счет
Тебе, страдающий народ,
Сулят блаженство! Злая ложь!
Твоих отребьев не сочтешь!
Они сулят, а между тем
Мы видим нищих тысяч семь!
Шуты, шуты и там и тут
Для гнусной ловли сеть плетут!
А ты, не ведая о том,
и*
В нее со всем своим добром,
Слепец несчастный, угодил!
Суннит — он выбился из сил,
Браня шиита, а шиит
Суннита истребить спешит!
Нас губит, губит этот спор!
Другие вышли на простор,
Идут в грядущее, а ты
Никак не скинешь темноты,
Народ Востока!.. Если ж есть
Пяток толковых — что за честь?
Что делать в этой чаще им?
Вослед за хворостом сухим
Горят и влажные дрова!
Какие им искать слова,
Что делать им, скажи, о друг?
Открыты нам врата наук.
Открыты, но — увы — не впрок:
Строй жаждущих не столь
широк!
Хоть прежде трудно было нам
Увидеть мир сквозь всякий
хлам,
Теперь дела пошли на лад:
Мир стал ясней. Уже хотят
Подняться люди β небеса!
Пар заменяет паруса!
Для обитателей земли
Другие времена пришли!
И только ты один, Кавказ,
Открыть не в состояньи глаз:
Вершишь ты старые дела,
Что старина тебе дала!
К примеру, если мудрый муж
Пытается развеять чушь,
Что бог в далекие века
Поставил землю на быка,
Что если землю затрясло,
То в мухе коренится зло:
Бык отпугнуть ее хотел,
Взмахнул хвостом — и мир
задел!
Так вот, когда ученый тот
Вселенной центром назовет
Одно лишь солнце и когда
Докажет людям, что беда
Не в этой мухе, а в парах,
163
Когда развеет сказку впрах,
Что при затмении луны
Мы будем все погружены
На веки вечные во тьму —
«Неверный», закричат ему.
«В пророке усомнился он!»
«Шайтану подчинился он!»
Но почему? Невежды мы!
Не жаждем вырваться из тьмы!
Понять «Посланий» не хотим!
Не верим светочам своим!
И шариат от нас далек!
И вся наука нам не впрок!
Забыли мы свою, звезду!
Хотя способны мы к труду,
Сидим мы сотни лет подряд,
Затмивши лень твою, Багдад!
Сидим и, опустив губу,
Клянем, клянем свою судьбу.
Но «Труженик — сказал
пророк —
Любимец бога». Мой Восток!
Открой же, наконец, глаза!
Пойми, что высшая краса
В ученьи! Неуч — это скот!
Нас химия к добру ведет!
Она — могущества огонь!
А мы невежды — лень и сонь,
Печаль и скука нам сродни!
Но к нам пришли иные дни:
В Ширване школа есть у нас —
И радостей не счесть у нас!
Счастливые ученики
Там изучают языки:
Фарсидский, русский, свой
родной!
Мой друг, великою ценой
Дается это счастье нам!
Но верю я: моим трудам
Бесплодно не пропасть во мгле!
Ведь есть же правда на земле!
Быть может к людям долетит
Мое посланье — и Муфти
С шейх-уль-исламом прекратит
Все споры сразу. Буду рад! —
Они же благородства клад!
Сеид, посланье оборви,
На помощь бога призови:
Муфти и наш шейх-уль-ислам
Помогут в школьном деле нам.
Проповедник
Часто нам о свойствах ада распевает проповедник,
Так подробно, будто сам он там бывает, проповедник.
Восемь райских врат искусно в сотне глав он вам опишет,
Но от вашей двери вас же отгоняет проповедник.
Глаз кося на грудь красотки, нараспев коран читает,
Сам религии фундамент разрушает проповедник.
О святоша, опозорил ты мембер в своей мечети!
Ливнем лживых слез позора не смывают, проповедник!
Если в самом деле смел ты, откажись от лицемерья!
А трусливый — тот про честность лишь болтает, проповедник.
Превозносишь, восторгаясь, ты Али, бранишь Омара.
Пусть же он тебя за гробом обругает, проповедник!
Ты — сирот ограбил, нами — выпита вина бутылка.
164
Кто ж из нас поступок хуже совершает, проповедник?
Проклинай меня в мечети сколько хочешь — от проклятий
Частокол моих бутылок защищает, проповедник!
Чтить богов серебротелых ты не запрещай Сеиду,
Отвечай, тебе кошель мой чем мешает, проповедник?
АЛЕКПЕР САБИР
(1862—1911)
Я не поверю
Я не поверю, что мораль твоя верна, святой отец!
Коли верна, пускай казнит меня она, святой отец!
Тебе религия нужна, чтоб грабить связанный народ,
Как блеск бандитского ножа, она страшна, святой отец!
Ты светлый мир не очернишь по образцу своей души,
Не перекрашивайся, нет, она черна, святой отец!
О, если б денег никогда ты за молитвы не взимал,
Ты б плюнул на свои труды, на все сполна, святой отец!
Не суй в глаза мне твой намаз, себя в работе покажи,
Забудь о хитростях своих! Им грош цена, святой отец!
Усни ты, курица...
Усни ты, курица, найдешь во сне зерна немало ты,
Молчи, голодная, орла в просторе не узнала ты,
Сидеть в курятнике не смей и на дворе ты не торчи,
Смотри, зевнешь — не избежишь хозяйского кинжала ты.
Ты не тверди: «Чурек, чурек», как зангезурец не шуми,
Но чем торгует хан и бек, должна узнать сначала ты.
Не надо слушать болтунов, что о самих себе кричат,
Как в трудный миг бегут они — на деле испытала ты.
165
И сладостных речей муллы должна ты тоже избегать:
Змеиного во рту муллы не видишь разве жала ты?
Так не гляди ж ты, нищета, на рожн этих богачей,
Скорее в саван! Ведь еще в могиле не лежала ты!
О них ни слова! Если ж ты захочешь вдруг увидеть их,
Взгляни на карты в их руках и на хрусталь бокала ты!
Дела, проделки, сделки их — один туман для глаз твоих.
Взглянула? Что же? Только спесь пустую увидала ты!
Плач муллы
Ах, как чудно с друзьями я жил тогда!
Наш народ — он невеждою был тогда...
Разобраться в правах не пытался он,
Революции не улыбался он,
Перед книгами не преклонялся он,
С темнотою в глазах и рождался он!
Нам о косности кто-то бубнил тогда,
Ах, как чудно с друзьями я жил тогда!
Не пыталась пророков искать страна,
Нас увидеть желаньем была полна,
Зло добром научилась считать она,
Нам везде и повсюду росла цена,
Нас почетом ислам окружил тогда!
Ах, как чудно с друзьями я жил тогда!
Все стонали, но пир не смолкал у нас,
Повелитель опоры искал у нас,
Друг-кутила с попойки икал у нас,
Со стола не скрывался бокал у нас,
Праздник из дому не выходил тогда,
Ах, как чудно с друзьями я жил тогда!
Лицемерили мы — не видал народ,
Наконец, и делам наступал черед,
Но из нас ведь никто не шагал вперед,
Нас и наше вранье окружал почет.
Нас народ с упоением чтил тогда,
Ах, как чудно с друзьями я жил тогда!
Только глупый держал на виду порок,
Наш карман бедняков на нужду обрек,
Грязный наш исцелял бедноту порог,
166
Раздувал над муллою звезду пророк.
Темный дом наш Каабою слыл тогда,
Ах, как чудно с друзьями я жил тогда!
За народ мулла вечно ратовал,
Как звезда путеводная, радовал:
Все, что бедный народ зарабатывал,
Клал в карман мулла и проматывал!
Бедняков я проклятьем клеймил тогда,
Ах, как чудно с друзьями я жил тогда'
Нынче стали мы все нежеланными,
Нынче выглядят люди шайтанами,
На аллаха пошли с ятаганами,
Скрылись прошлые дни за туманами.
Наш народ — он невеждою был тогда,
Ах, как чудно с друзьями я жил тогда!
МАМЕД САЙД ОРДУБАДЫ
(Род. в 1872 г.)
Развалины храма
Согнулся минарет пред новым поколеньем,
Гуляет ветерок над рамою пустой,
И по разрушенным давно ступеням
Теперь не поднимается никто.
Здесь дети наши, жизнь не понимая,
Не разбираясь в истинах простых,
Роняли слезы, горе изливая,
Но слушал их не бог, а камень стен сырых.
Мольбы и вздохи их пропали даром,
Не поднимаясь дальше потолка,
Ты не приютом крыс, а гордым храмом
Был в те далекие, прошедшие века.
Обласкан, обогрет никто тобою не был,
Бессмысленно под небом ты стоял,
Не смог голодных накормить ты хлебом
И войн кровавых не предотвращал.
В твоем гнезде, в твоих бездушных сводах
Резню готовили вслед за резней.
Тиранов, богачей ты умножал доходы,
Для неимущих был ты западней.
167
Ты темнотой и рабством был доволен,
Храм, в груду обратившийся камней.
Ведь проповедь твоя — покорности, неволи
Несла одни страданья для людей.
Вот почему все наше поколенье,
Довольное и жизнью и судьбой,
С улыбкой радости глядит на разрушенье
Тех стен, что были для него тюрьмой.
РУБЕН СЕВАК
(1885—1915)
Колокола
Проснитесь, добрые колокола!
Кто вырвал языки вам из гортаней?
Кровь просит слова, а не бормотанья.
Довольно вам молчать, колокола!
С какой поры ваш медный звон покрыт
Молитвами, как кожурою пыльной,
И дышит гарью ладан ваш могильный,
Не в силах горя высказать навзрыд?
Или устала вековая медь?
Но если зло творит свою расправу
С добром, то, значит, онеметь пора вам, ·
Не веря в бога, смирно онеметь!
Вы увидали с вышки в эту ночь,
Как сотни тысяч христиан во храме
Повержены дубьем и топорами
Иль в ужасе шарахаются прочь.
Вы увидали весь простор земной,
Который пламенем костров увенчан,
Сожженье стариков, детей и женщин,
И божий трон, засыпанный золой.
Смотрите же! Вот трупная гряда
Уперлась в тучи, страшно вырастая.
Заражена гангреной вся святая
Рать ангелов, ленивая орда.
168
Где обещанья, что давал наш крест?
Где братство? Где порука круговая?
Земля блюет, в пожарах изнывая,
Разбухли реки трупами окрест.
Все, кто страшится, на землю ложись!
Меч, а не крест владеет правдой ныне.
Кто храбр, тот и ликует. Прочь унынье!
И он у ближнего отнимет жизнь.
Да, ибо дни иные далеки,
Когда ягненок с волком подружится.
Ягненку надо в сталь вооружиться
И наточить с младенчества клыки.
Я раскачал бы вас! Я бы хотел
В металл ваш впиться пальцами своими
Во имя всех, что пали, и во имя
Непогребенных сотен, тысяч тел.
Иль в вас оглох души моей свинец?
Гуди и вой, и с бешеной отрадой
Сорвись с железных гнезд, и падай, падай!
От века вы оплакивали падаль.
Раззванивайте! Бога нет. Конец.
гДАВИД САСУНСКИИ*
Предательство игумена Матгаванка
(Отрывок)
По пути в Сасун монастырь стоял,
Звался он: Храм Жертв — Матгаванк.
Семь царей, Давидовых врагов,
Проведали о том, что близко Мгер,
Что этой дорогой проедет в Сасун
Пришли к игумну они, сказали:
«Когда приблизится Мгер, станет здесь проезжать,
Ты к нам человека пошли, извести».
Был умысел у них —
Пересечь дорогу, Мгера убить.
Ввечеру приблизился Мгер.
169
Остановился вдруг Кери-Торос.
Ехал он впереди, Ован и Мгер позади.
Увидел Мгер, что стал Торос, спросил:
«Кери, чего стоишь?»
Торос ему: «Навалили бревнищ, загородили путь,—
Враги придут, нападут на нас.
А это игумен путь завалил,
Рассудил: станет бревна Мгер убирать, притомится он,
Заночует в монастыре».
«А что надо сделать, — Мгер спросил, — чтоб расчистить
путь?» —
«Одно надо сделать, — молвил Торос. — Давида к нам
вернуть.
Я бы те бревна копьем подымал,
Он бы их руками хватал да в сторонку бросал».
Тут Мгер ему: «Кери, подымай, я стану бросать».
Торос ударил копьем,
Бревнище поддел, приподнял,
Подал Мгеру, сказал:
«Бери, в сторонку бросай!»
Мгер обнял бревно,
К обрыву поволок
И в пропасть столкнул ногой.
Так все бревна убрали одно за другим
И к ночи расчистили путь.
Поскакали, приехали в монастырь.
Отвел им игумен лучший покой,
Накормил их лучшей едой, — а сам
Тайком снарядил гонца к царям-врагам.
Тут Мгер, Ован-Горлан, Кери-Торос
Отужинали, спать улеглись.
Проснулся первым Кери-Торос.
Глянул, видит войска семи царей
Пришли, монастырь обступили кругом.
Увидел войска Торос,
Окликнул Мгера, вскричал:
«Вставай-ка ты, Мгер, наружу глянь,
С войсками пришли семь царей,
Монастырь обступили кругом».
Рассердился Мгер, глаза протер,
И Ован-Горлан проснулся, встал,
К окну подошли, глядят:
Деревья в лесу не всякий сочтет,
А войскам тех царей — пропал и счет,
И игумен с ними.
Молвил Мгер: «Кери, я пошел,
Ступайте и вы за мной!»
Пошел, коня оседлал, поскакал,
/70
Поднялись и Ован с Кери,
Оседлали коней, пустились вскачь.
Врубился в войско Мгер.
Направо рубил, налево рубил,
Все войско он искромсал, угнал,
Как буря гонит комариный рой.
Глядят на бой Ован и Кери —
Сердца у них разожглись.
Тополище каждый с корнем рванул,
Взвалил на плечо, вломился в бой.
Увидел Мгер, спросил:
«Вы что ж, деревьями воевать?»
Они в ответ: «Ну да, лао,
Увидели мы, как ты стелешь снопы на току,
Как веешь обмолот,
Вот и мы наметаем с краев!»
Перебили, прикончили все войска,
Воротились, пришли в монастырь.
Мгер за бревно ухватился рукой,
Он игумна за ворот сгреб другой,
Он сунул его под бревно головой,
Придавил, сказал:
«Пусть монастырь проклятый тот
Не Храмом Жертв зовется впредь,
А Храмом Предательства зовется впредь,
Потому что игумен предал нас».
Ускакали все трое, вернулись в Сасун.
ГАБДУЛЛА ТУКАЙ
(1886-1913)
Религия
Ты, религия, гнилая, обветшалая стена.
Пальцем ткнуть — и распадешься и не будешь ты видна·
То, что дерево засохнет, превосходно знаю я,
Коль на нем грачи устроят гнезда вместо соловья.
Почему в мечети дядя все губами шевелит?
Показать соседу хочет он молитвенный сЛй вид.
Мутным оком он поводит — кто встает, кто клонит стан,
Сам не зная изречений и не ведая коран,
171
Ты идешь сюда за тем лишь, что ходил родитель твой,
Но ведь так башмак твой, дядя, согласует путь с тобой.
Отвечай, торгаш, в мечети для чего и ты стоишь?
Хорошо ль тебе живется? Как торговля? В чем барыш?
Как базар прошел, и много ль шкур наметил зоркий глаз?
И хаджи абзы, скажи мне, видит этот твой намаз?
Коль увидит, то похвалит, молвит: «Праведный Ахмет,
Благонравный и приятный. Наш большой ему привет!»
Пурки, голос твой гнусавый для чего нарушил тишь?
Что, коран рубя в мечети, ты коровою сопишь?
Чует рот твой — после службы уж обед тебе готов!
После похорон богатых много нажил пятаков?
ИРГАТ КАДЫР
Там, где сакля моя
Зеленеешь, деревня моя дорогая,
И бахчи зацветают, хребет обегая,
Но плоды не для бедных — и только агаи
Их душистую сладость вкушали в былом.
Где б ни странствовал я — на горах ли, в лесах ли, -
Всюду вижу Ускута прохладные сакли
И ручей, чьи струи до сих пор не иссякли...
Но одни лишь агаи владели ключом.
Хоть простор открывает столетие глазу,
Ты из тьмы феодальной выходишь не сразу: —
Пятикратному ты изменила намазу,
Но живет суеверие в сердце твоем.
Презираю неправду обычаев старых
И не верю муллам и гаданью знахарок,
И светильник науки сияет мне ярок,
И немало попутчиков вижу кругом.
172
Земляки, чьи познанья досель были куцы,
Омоложенным сердцем к науке влекутся,
И уже не узнаешь порою ускутца,
Ибо стелется путь перед юным умом.
Мурзаки нас не мучат, как мучили ране,
Мы не станем искать утешенья в коране
И умы иссушать в бесполезном стараньи,
Ибо смерти печать на коране седом.
И вовеки зянгинам не править Ускутом,
И вовеки не даст оплести себя путам
Тот бедняк, что трудился раздетым, разутым,
Чесноком лишь да хлебом питаясь в былом.
АШУГ МИРЗА БАЙРАМОВ
(Род. в 1892 г.)
Погребение арабского алфавита
Уважаемые, слушайте меня.
Наш цветок, алфавит новый есть у нас,
Знатоками он оценен и введен,
Сладость уст его медовых есть у нас.
Раньше все селенье кланялось мулле,
Обирал он нас, держал в своей петле.
Мы алфавит старый предали земле.
Новое большое слово есть у нас.
Муллы головы умели забивать,
Ничего не мог учащийся понять.
Кто не знал, того любили розгой драть.
Век жестокий, нездоровый был у нас.
В новый год алфавит старый свой
Закопали в землю с головой,
Хорошо засыпали землей.
Для муллы урок суровый есть у нас.
Повстречал муллу я вечерком.
Я спросил, горюешь ты о ком?
/73
«Умер близкий — отвечал он — пуст мой дом.
Тяжело мулле без крова жить у нас.
Прямо в пору ремесло свое бросать,
Больше заклинаний не могу писать.
Видит бог, я должен выхода искать.
Для муллы не мало злобы есть у вас».
Продолжал мулла: «Уйди, ашуг,
От меня вчера сбежал последний друг.
Негде денег мне сорвать теперь вокруг,
Вижу — ничего святого нет у вас!»
Дожили мы до счастливых, светлых дней,
Наша вся земля — так крепче стой на ней,
Места нет чадре средь ленинских огней,
И проклятого былого нет у нас.
У себя в Азербайджане я живу,
Всех теперь к науке я зову,
Я ашуг, Мирзой меня зовут,
Песня саза золотого есть у нас.
САМЕД ВУРГУН
(Род. в 1906 г.)
Слово о колхознице Басти
(Отрывок)
1 Жена боялась мужа: стыдно
Мать, плача, назвала тебя ей —
Басти, О, почему аллах не дал ей
Что значит: «баста», «хватит», сына?
«отпусти!» У женщины, считалось, нет
«Зачем мне дочь? Зачем ей дупль
жить, расти? Нет заработка. Проживет в
О, почему аллах не дал мне тиши,
сына?» Чужие будет проедать гроши,
Обычай грустный был в стране Служанкой будет у чужого
моей — сына!
Не праздновать рожденья Зажжет огонь чужого очага,
дочерей. А молодость-то будет недолга,
J74
И лишь одна мечта ей дорога:
Родить бы, милостью аллаха,
сына!
На свадьбах пели: «Девка
здорова,
Вся без изъяна! Сладкая халва!
Семь сыновей роди, пока жива,
Ты мне, гляди, роди не дочь, а
сына!..»
2
Я вспоминаю
Черный мир былой...
Что за река
О скалы бьет волной?
То слезы матерей.
Ты плачешь, мать?
Века, века пришлось тебе
Бек и купец [страдать,
Могли тебя купить,
Муж и осец
Могли тебя убить,
Коран тебе приказывал:
«молчи»,
И бекские наемники-кочи
Бесстыдно издевались над
тобой —
По шариату ты была рабой.
С какой-нибудь попойки,
Зол, уныл,
Бывало, муж
С гостями приходил,
Он бил тебя при людях,
Пьяный в дым
Ты молча обмывала ноги им...
У женщины, считалось,
нет ума...
Чадра была, как саван, как
тюрьма,
То в шелковой, то в ситцевой
тюрьме —
В чадре своей — блуждала ты
во тьме...
Был горек хлеб. Был
безысходен ад...
Был страшен мир. Был крепок
шариат.
3
Простые и чистые
Слышим слова от тебя!
Хвала молоку,
Что когда-то вспоило тебя!
Твой должник благодарный,
Приму я урок от тебя,
Ты чиста, как природа!
Как брат, обнимаю тебя,
Как я счастлив, Басти, что, как
брат, понимаю тебя!
И ладони и локти,
Как розы, горят у тебя,
И вишневые губы
От солнца горят у тебя.
Это радостный труд
Сделал сильной, красивой тебя!
Я — влюбленный Вургун —
удивленно гляжу на тебя!
4
Это Ленин, учитель, мудрец,
герой,
Был для нас огневой зарей!
Нашим женщинам Ленин
сказал: «Смелей
Выходите на вольный свет!
Где свободных и сильных нет
матерей,
Там свободной родины нет...»
И блистали молнии этих слов,
И в сердцах расцветал восторг.
Тьма и тяжесть упали
с людских голов,
Чистый свет озарил Восток.
Перестала ты, женщина, быть
рабой
Бессловесной, глухой, тупой...
И сожгла ты коран —
стариковский бред.
Шариата больше нет!
Был мудла, говорил он «терпи»,
«молчи»,
Не пугнет теперь он.
Не таскают за косы тебя кочи —
Охраняет тебя закон.
Стал свободным и громким
голос твой
На всех языках страны,
Ты проходишь с поднятой
Шаги широки, верны! [головой,
Как боец Красной Армии, ты
всегда
На суровых постах труда.
Ты готова в аулах учить детей,
Ткать богатый узор ковров,
Делать шелк и в больницах
лечить людей,
Сеять хлопок, доить коров.
Трудовым и творящим рукам
хвала!
Все нужны на земле дела.
Это Ленин сказал нам, что
жизнь полна,
Это он научил понимать,
Что свободна и счастлива та
страна,
Где свободна и счастлива мать!
Вчера вошел я в детский сад —
В цветник резвящихся ребят.
Им чужд коран, неведом бог...
Свободен каждый детский
вздох!
Как мать в кругу своей семьи,
Играла девушка с детьми;
Она учила петь ребят...
Я помню этот светлый взгляд,
Как вспышки голубых зарниц,
И стрелы черные ресниц...
И я, склонившись перед ней,
Сказал:
«У родины моей
Нет пасынков!
В стране любви
Нет пасынков!
Тут все — свои!..»
Вот целый мир, и каждый дом,
и сад
Колхознице Басти принадлежат!
Баку, Москва, Тбилиси,
Ленинград
Поют хвалу колхознице Басти,
Желают ей расти, расти, расти!
И слава о Басти, как ураган,
Прошла за рубежи не наших
стран —
В Арабистан, в далекий
Индостан,
В Алжир и Фец, за толщу
древних стен,
В Багдад и Тегеран, и в
Йемен!..
Красавицам Востока страшен
труд.
И гнезда их — гаремный их
уют —
Лишь запахами тленья отдают...
Те женщины узнают образ
твой,
Как выпуклые буквы книг —
слепой!
Им даль еще страшна и
неясна...
Завидно им, что наша жизнь —
весна!
Им сбросить хочется оковы
сна!..
Они поймут... Да здравствует
навек
Освобожденный, чистый
человек!
АШУГ ГУСЕЙН БОЗАЛГАНЛЫ
Наступил б аирам...
Наступил байрам, и одеты все в золототканный шелк.
А у нас даже бязи -простой, шали нет, коленкора нет
Старики говорить не любят, не охотники до бесед,
А у нас молодца влюбленного, даже милого взора нет«
J76
Если б была пшеница — мы могли бы лапшу сварить,
Если б купили рису — в тазу бы начали мыть.
Семь дней жена моя шляется, на семь дней убежала бродить,
У нее из-за этой гулянки для нас разговора нет.
Щепки нету у нас, чтоб очаг затопить, нету зимой дров,
И масла простого давно уже нет, чтобы облить плов.
Что же нам — побираться? Объедками жить с чужих веселых
столов?
Не подохнуть нам, не пропасть вовек — для нас и уморы нет.
Богохульник мой сын, да и я никогда молитвы не посылал-
Наш бедняцкий харч и весной прямо с неба к нам попадал.
В нашем доме пустом ученый мулла на радостях не плясал.
Наш саз разбит и давно не звучит, да и бубну простора нет.
Нам о клятве твердят и о боге твердят, а что нам великий бог?
Что нам долг правоверного и священный налог?!
Что нам рай, что нам ад и огонь, что грешников жег.
Ты, Гусейн, не грусти, на загробном пути для тебя приговора нет.
ДЖЕМАЛДИН ЯНДИЕВ
Расскажи мне, родина
Расскажи мне, страна, побеседуй со мной,
Как жила ты, родная, прежде?
Я видал себя согнутой в холод и зной,
И рыдающей в черной одежде.
Я запомнил, как деревянной сохой
Твоих гор бороздили тело,
Как бродила в отрепьях, тропою глухой,
Исподлобья всегда ты глядела.
Как покорно несла ты хребтов горбы,
И сызмальства сохла в печали,
Как протяжно скрипели твои арбы,—
Я запомнил их скрип шакалий.
Как неволя с нуждой — от тебя ни на шаг,
Всюду нищенства были приметы,
И казалось: голодная свора собак
Изорвала твои бешметы,
ι î-22 m
На куски тебя каждый тогда межевал.
Грязь по-осени, а весною
Вольный дождик крышу твою размывал,
Крыша тонкой была, земляною...
Свирепеет от раны медведь, говорят.
Будто раненые медведи
Твои дети дрались, с другом друг, с братом брат,
И соседей громили соседи.
Помню лгал тебе хитроумный мулла
О серебряных кущах рая...
Расскажи мне, страна моя, как ты жила,
Как жила ты, всегда умирая.
Не хочу и во сне твой позор увидать,
А хочу одного лишь я в жизни:
Дорогому вождю свой напев передать
О моей обновленной отчизне!
СОСЛАН ГАЗЗАЕВ
гАбхазским писателям *
Застольная
Не беру я в руки турий рог в оправе
С черным пивом, с пеной по краям,
Не беру пирог, всем пирогам на славу.
Иль шашлык — как жертву небесам;
С ними богу я не шлю молений,
Я давно обряды эти позабыл, —
К вам, мои друзья, ударники селений.
Радостного сердца неуемный пыл.
Вспоминаем мы со злобою, вй, джиди,
Дней давно прошедших беспросветный гнет, —
И когда мы вспомним, — как мы ненавидим, —
В нашем сердце гнев на прошлое растет!
Грудь земли родимой осмотри-ка взглядом,
На холме на каждом крепости видны.
Разломай свой склеп и все темницы, прадед,
Печатается с сокращениями.
178
Никому они уж больше не нужны.
И сейчас пою я громко перед вами,
Потому что знаю: вам понятен я.
Ведь и ты была угнетена врагами,
Ныне вольная Абхазия моя!..
...Эй, марджа! С пером в руках, герои!
Для врага перо страшнее, чем сарад.
Будем слушать четко то, что под землею
Муравьи друг другу тихо говорят.
Вдохновленные одним великим чувством,
Родиной взращенные одной,
Мы достойные творения искусства
Создадим в своей стране родной.
Лишь тебе обязаны мы раем
Нашей жизни. Пусть в веках живет
Тот, в чью честь мы тост наш поднимаем,
Тот, кого с любовью чтит народ.
И. А. КУРАТОВ
(1839—1875)
Сны
Если жизнь без слез, без
смеха —
Забирайтесь на палата:
Сны рассказывать друг другу
От безделья — очень кстати!
Тихий сон смежит ресницы.
На печи иль на кровати, —
Может многое присниться,
И присниться — очень кстати!
Все, что в жизни мы не видим,
Понапрасну зренье тратя,
Что брезгливо ненавидим —
Нам приснится — очень кстати.
Мир загробный, ад кромешный,
Бородатых чудищ рати, —
Мир неведомый, нездешний
Нам приснится — очень кстати.
12·
В церкви с пыльного амвона
Что-то зычно брешет батя;
А школяр смеется. Это
Нам приснится — очень кстати!
Звать попа, — покойник в
доме, —
Мы пришли. И об оплате
Поп толкует очень долго...
Нам приснится? Очень кстати!
Собирая подать, пристав
Мужика колотит чисто,
И мужицкие проклятья
Нам приснятся — очень кстати!
Двадцать шесть рублей судье
мы
Дали, хоть армяк в заплате...
А судья надбавки просит...
Нам приснилось? Очень кстати!
179
Надувает писарь дядю,
Дядя трешку в руку: «на-те!»
Тот берет ее, не глядя...
Сны такие очень кстати!
Наполнен говором и шумом
наш аул:
Стучит мотор,
и тракторы гремят,
И жизнь идет...
Но неумолчный гул
совсем не тот,
как много лет назад.
Где выстрелы гремели,
где кинжал
сверкал, как молния,
в дыму костров, —
там светлый день социализма
встал
на пепелище прожитых годов.
И идут чеченки, позабыв адат;
В ликпункт, и в школу,
и в аулсовет:
Их щеки рдяны, и глаза
блестят,
И на губах играет солнца свет.
Колхозник! Трактор твой
гремит в полях,
Прощай ярмо, —
воловья маята!
Не перестрелка бьет:
В закромах у нас не густо,
В животах мужицких пусто...
И скрипят, скрипят палати:
«Очень кстати... очень кстати»...
трах-тах-тах-тах! —
А тракторы рокочут: тра-та-та!..
Аргун о камни
свой поток дробит.
Кулак и шейх
день ото дня лютей.
Но мы приносим в горы
новый быт:
Больницу, школу, ясли
для детей.
Призыв гремит
с подоблачных высот
По всей Чечне,
по склонам и полям:
«Борись и строй,
трудящийся народ,
Мы не вернемся
к рабству и цепям.
Муллы и шейхи,
умер ваш адат
И свет померк
над вашей головой
Не мы одни —
мильоны жизнь творят,
И это есть последний в мире
бой!»
НУРДИН МУЗАЕВ
Призыв к борьбе
X&&Ï
ПРОЗЛ
ДЖОВАННИ БОККАЧЧО
(1313—1375)
Новелла
Некто уличает метким словом злостное лицемерие монахов
...Жил недавно тому назад, милые девушки, в нашем городе
некий минорит, инквизитор нечестивой ереси, который, хотя и
старался, как »все они делают, казаться святым и рьяным любителем
христианской веры, в то же время был не менее хорошим
исследователем людей с туго набитым кошельком, чем тех, кто страдал
умалением веры. При этой его ревности он случайно попал на
одного порядочного человека, гораздо более богатого деньгами, чем
умом, у которого, не по недостатку веры, а, говоря попросту,
потому, вероятно, что он был возбужден вином и излишним весельем,
сорвалось однажды в своем кругу слово, что у него такое хорошее
вино, что от него отведал бы и Христос. Когда о том донесли
инквизитору, он, узнав, что у него были большие поместья и тугой
кошелек, ошп gladis et fustibus (с мечами и дубинами) и с
великим спехом начал против него строжайший иск, ожидая от него не
умаления неверия в обвиняемом, а наполнения собственных рук
флоринами, как то и случилось. Вызвав его, он спросил, правда ли
то, что о нем сказывают. Простак отвечал, что правда, и сказал,
как было дело. На это святейший инквизитор, особый почитатель
ав. Иоанна Златоуста, оказал: «Итак ты сделал Христа пьяницей,
любителем добрых вин, точно он Чиичильоне или кто-нибудь из
вашей братии, пьяниц и завсегдатаев таверн? А теперь ты ведешь
смиренные речи, желая дать понять, что это дело пустое. Не
таково оно, как тебе кажется: ты заслужил за это костер, коли мы
захотим поступить с тобой, как обязаны». — Такие и многие другие
речи он вел с ним, с угрожающим лицом; как будто тот был сам
Эпикур, отрицающий бессмертие души. В короткое время он так
настращал его, что простак поручил неким посредникам умастить
его руки знатным количеством мази св. Иоанна Златоуста
(сильно помогающей против заразного недуга любостяжания клериков
и особливо миноритов, которым не дозволено прикасаться к
деньгам), дабы он поступил с ним по милосердию. Эту мазь, как
вполне действительную, хотя Гален и не говорит о ней ни в одном из
своих медицинских сочинений, он пустил в дело так и в таком
обилии, что огонь, которым ему пригрозили, милостиво сменился
знакам креста, а чтобы флаг был красивее — точно кающемуся пред-
УАЗ
стояло итти в крестовый поход — положили ему желтый крест на
черном фоне. Кроме того, получив деньги, инквизитор задержал
его иа несколько дней при себе, положив ему, в виде епитимьи,
каждое утро быть у обедни в Санта Кроче и представляться ему в
обеденный час; остальную часть дня ему предоставлено было
делать, что угодно. Все это он исполнял прилежно, когда однажды
утром услышал за обедней евангелие, из которого пелись
следующие слова: «Вам воздастся сторицею и вы унаследуете жизнь
вечную». Точно удержав их в памяти и явившись, согласно
приказанию, перед лицо инквизитора в час обеда, он застал его за
столом. Инквизитор спросил его, был ли он у обедни этим утром.
«Да, мессере»,—поспешно ответил он. На это инквизитор сказал:
«Не услышал ли ты при этом чего-нибудь, что вызвало в тебе
сомнение и о чем ты желаешь спросить?» «По истине, — отвечал
простак, — ни в чем, что я слышал, я не сомневаюсь, напротив все
твердо почитаю истинным. Слышал я, правда, кое-что, что
возбудило во мне и еще возбуждает сильное сожаление к вам и вашей
братии, монахам, когда подумаю я о несчастном положении, в
котором вы обрететесь на том свете». Сказал тогда инквизитор: «Что
это за слово, что побудило тебя к такому о нас сожалению?»
Простак отвечал: «Мессере, то было слово евангелия, говорящее:
«Воздастся вам сторицею». Инквизитор сказал: «Воистину так, но
почему же эти слова расстроили тебя?» «Я объясню вам это,
мессере,— отвечал простак:—с той поры, как я стал ходить сюда, я
видел, как каждый день подают отсюда множеству бедного люда
чан и иногда и два большущих чана с похлебкой, которую
отнимают у вас и у братии этого монастыря, как лишнюю; поэтому,
если на том свете за каждый чан вам воздастся сторицею, у вас
похлебки будет столько, что вам всем придется в ней
захлебнуться». Хотя все другие, бывшие за столом у инквизитора,
рассмеялись, инквизитор, почувствовав, что укол обращен против их по-
хлебочного лицемерия, совсем смутился, и если бы не стыд за
вчиненное простаку дело, он вчинил бы ему другое за то, что
потешной остротой он уколол и его и других тунеядцев. С досады он
разрешил ему делать, что заблагорассудится, и больше к нему не
являться.
Новелла
Брат Чиполла обещает некоторым крестьянам показать им перо
ангела, но, найдя вместо него угли, говорит, что это те, на которых
изжарили св. Лаврентия
Чертальдо, как вы, быть может, слышали, — местечко ·β
долине Эльзы, лежащее в нашей области, и хотя оно не велико, в нем
прежде жили родовитые и зажиточные люди. Туда-то, как в место
злачное, имел обыкновение являться раз в год для сбора милосты-
М
ни, которую подают им глупцы, один из монахов ордена св.
Антония, по имени брат Чиполла (Луковица), которого так охотно
принимали, быть может, не менее из-за имени, чем по иным
соображениям набожности, ибо тамошняя почва производит луковицы,
славящиеся по всей Тоскане.
Был этот брат Чиполла, малого роста, с рыжими волосами и
веселым лицом, один из самых ловких в свете проходимцев; к тому
же, не имея никаких познаний, такой отличный, находчивый
оратор, что, кто не знал бы его, не только счел бы за большого
риторика, но сказал бы, что это сам Туллий, может быть, и Квин-
тильян; и почти всем в той местности он приходился кумом,
другом, либо приятелем. И вот однажды он отправился туда, по
своему обыкновению, в августе, и утром в воскресенье, когда все
добрые люди и женщины окружных деревень пришли к обедне в
приходскую церковь, выступил, когда ему показалось, что пора, и
оказал: «Господа и дамы, как вам известно, у вас в обычае ежегодно
посылать бедным великомощного мессера св. Антония от вашей
пшеницы и вашего жита, кто мало, а кто и много, смотря по
своему состоянию и благочестию, дабы блаженный св. Антоний был
на страже волов и ослов, и свиней, и овец ваших; кроме того, у вас
существует обыкновение, особенно у тех, кто приписан к нашему
братству, платить тот небольшой должок, что платится раз в году.
Для сбора всего этого я и послан моим набольшим, то-есть
господином аббатом; потому, с благословения божия, после девятого
часа, когда вы услышите трезвон, приходите сюда к церкви, где
я, по обычаю, скажу вам проповедь, а вы приложитесь ко кресту;
а кроме того, зная, что все вы особенно почитаете великомощного
мессера св. Антония, в виде особой милости, я покажу вам
святейшие и прекрасные мощи, которые я сам привез из святых мест за
морем; это — одно из перьев ангела Гавриила». Сказав это, он
ушел и продолжал служить обедню.
Когда брат Чиполла говорил это, были в церкви, в числе
многих других, и двое молодых людей, очень лукавых; один по имени
Джованни дель Брагоньера, другой Биаджио Пиццинни. Немного
посмеявшись промеж себя над мощами брата Чиполла, хотя оба
были его друзьями и с ним водились, они решились сыграть с ним*
по поводу этого пера некую шутку. Проведав, что брат Чиполла в
то утро обедает в замке у одного своего приятеля, лишь только
они узнали, что он за столом, вышли на улицу и отправились в
г эстиницу, где остановился брат Чиполла, с таким намерением, что
Биаджио должен вступить в беседу с слугой брата Чиполла, а
Джованни поищет в вещах брата то перо, каково бы оно ни было.
и стащит его у него, дабы посмотреть, что он потом расскажет о
том народу.
У брата Чиполла был слуга, которого одни звали Гуччио
Валена (Кит), другие — Гуччио Имбратта (Замараха), а кто звал его
и Гуччио Порко (Свинья); и был он такой юродивый, что Липло
Топо наверно никогда не делал ничего подобного; брат Чиполла
часто, бывало, шутил над ним в своем кружке и говорил: «У мо-
№
его слуги девять таких качеств, что, если бы любое из них было
у Соломона или Аристотеля, либо у Сенеки, этого было бы
достаточно, чтобы испортить всякую их добродетель, всю их мудрость
и всю их святость. Представьте теперь, что это должен быть за
человек, у которого нет никакой добродетели, ни мудрости, ни
святости, а тех качеств девять?» И когда порой его спрашивали, какие
эти девять качеств, он, сложив их в рифмы, отвечал: «Я скажу
вам это: он ленив, грязен и лжив; нерадив, непослушлив и
бранчлив, незаботлив, безнравствен и непамятлив; кроме того, за ним
водятся, при этих, и некоторые другие грешки, о которых лучше
умолчать. А что всего смешнее из его проделок, это то, что он
всюду хочет жениться и нанять дом; а так как у него борода
большая, черная и масляная, он считает себя столь красивым и
привлекательным, что полагает, сколько бы женщин его ни увидали,
все в него влюбляются; если бы дать ему свободу, он стал бы
бегать за всеми, обронив ремень от портков. Правда, он мне в
большую помощь, ибо нет никого, кто бы пожелал поговорить со
мною столь тайно, чтобы он не захотел послушать и на свою долю,
а когда случится, меня о чем-либо спросят, он так боится, что я
не сумею ответить, что тотчас же отвечает да или нет, как, по его
мнению, следует».
Ему^го, оставив его в гостинице, 'брат Чиполла наказал
хорошенько Смотреть, чтобы никто не касался его вещей, особенно его
мешков, ибо в них были святыни. Но Гуччио Имбратта, которому
пребывать на кухне было милее, чем соловью на зеленых ветках,
особенно когда он чуял там какую-нибудь служанку, увидел на
кухне хозяина одну, жирную и толстую, маленькую и безобразную,
с парой грудей, что две навозных корзины, с лицом точно у Ба-
рончи, всю потную, засаленную и продымленную; не иначе, как
ястреб бросается на падаль, он спустился туда, оставив на
произвол комнату брата Чиполла и все его вещи, хотя дело было в
августе, подсел к огню, завел с нею беседу,—а ей имя было Нута,—
говоря, что он — дворянин по доверенности, и у него тысячи
лжефлоринов, не считая тех, которые он должен другим, а их скорее
более, чем менее; что он мастер на все руки, на слово и на дело,
так что боже упаси. Невзирая на свою рясу, на которой было
столько жира, что он осдобил бы похлебку монастырского котла
Альтопашьо, на свою куртку, рваную и штопаную, лосниашуюся
от грязи на воротнике и подмышками, с большим количествам и
более разноцветных пятен, чем какие когда-либо встречались на
татарских и индийских тканях; забыв о своих башмаках, совсем
разодранных, и о дырявых чулках, он сказал ей, точно он был сир
Кастильонский, что хочет одеть ее, устроить и, избавив от
печальной необходимости жить у других, не обещая богатства, открыть
ей надежду на лучшую судьбу; и еще многое другое; но хотя
говорил он ей это очень любезно, все было точно на ветер и, как
большая часть его предприятий, не послужило ни к чему.
И так оба юноши нашли Гуччио Порка занятым около Нуты,
очень довольные этим, ибо их дело было сделано наполовину, они
без чьего-либо препятствия вошли в комнату брата Чиполлы,
которую нашли открытою, и первое, что они принялись обыскивать,
был мешок, где находилось перо; раскрыв его, они нашли в
большом узле, обернутом шелковой тканью, небольшой ларчик,
отворив который, обрели перо из хвоста попугая, и предположили, что
это и есть то самое, которое он обещал показать жителям Черталь-
до. Он в самом деле мог в те времена легко уверить их в этом,
ибо роскошные диковинки Египта лишь в малой мере перешли
тогда в Тоскану, как потом перешли в величайшем изобилии к общему
разложению Италии. И если вообще они мало были известны, в
той местности жители почти их не знали; мало того, пока еще в
силе была грубая простота дедов, они не только не видали
попугаев, но никогда и вовсе не слышали упоминания о них.
Довольные находкою пера, молодые люди взяли его и, чтобы не
оставить ларца пустым, увидев в одном углу комнаты уголья,
наполнили ими ларец; запарев его и все так устроив, как нашли, не
замеченные никем, они весело ушли с пером и стали поджидать,
что скажет брат Чиполла, найдя вместо пера уголья.
Мужчины и простодушные женщины, бывшие в церкви,
услышав, что после девятого часа они увидят перо ангела Гавриила, по
окончании обедни вернулись домой; один сосед сказал о том дру-
гоиму, кума куме; и когда все отобедали, столько мужчин и женщин
набралось в местечко, что едва в нем поместились, все с
нетерпением ожидая увидеть то перо. Брат Чиполла, хорошо пообедав и
затем поспав немного, встал вскоре после девятого часа и, узнав,
что пришло множество крестьян, чтобы поглядеть на перо, велел
сказать Гуччио Имбратта, чтобы он явился наверх с
колокольцами и принес бы его мешки. Тот, с трудом оторвавшись от кухни
и от Нуты, пошел наверх с требуемыми вещами; когда он явился
туда, задыхаясь, ибо от большого количества выпитой воды у него
разбухло тело, он стал по приказанию брата Чиполлы у церковной
двери и начал сильно звонить в колокольцы. Когда весь народ
собрался, брат Чиполла, не заметивший, чтобы что-либо из его
вещей было тронуто, начал проповедь и многое сказал, подходящее
к его цели; когда пришло время ему показать перо ангела, он
наперед с большою торжественностью произнес молитву, велел
зажечь два факела и, сняв сначала капюшон, осторожно развернул
шелковую ткань и вынул из нее ларчик. Сказав наперед несколько
слов в похвалу и прославление ангела Гавриила и своей святыни,
он открыл ларец.
Когда он увидел, что он полон угольев, не возымел
подозрения, что то проделал с ним Гуччио Балена, ибо знал, что ему того
не измыслить, и не проклял его, что плохо смотрел за тем, чтобы
кто иной того не сделал, а втихомолку выбранил самого себя, что.
поручил хранение своих вещей ему, которого знал за нерадивого,
непослушного, незаботливого и непамятливого. Тем не менее, не
изменившись в лице, подняв горе глаза и руки, сказал так, что
все его услышали: «Господи, да похвалено будет во-веки твое
могущество!» Затем, затворив ларец и обратившись к народу, сказал:
187
«Господа и дамы, надо вам сказать, что, когда я был еще очень
юным, мой начальник послал меня в страны, где восходит солнце,
и мне особым приказом было поручено искать, пока не обрету
привилегий Поросяти, которые, хотя штемпелевать их и ничего не
стоило, гораздо пригоднее другим, чем нам. Потому, пустившись в
путь, отправившись из Венеции и пройдя по Борго деи Гречи, а
далее проехав верхом по королевству дель Гарбо и через Бальдак-
ку, я прибыл в Парионе, откуда, не без большой жажды, достиг
по некотором времени Сардинии. Но к чему рассказывать вам
о всех странах, мною посещенных? Перебравшись через пролив
св. Георгия, я приехал в Обманную и Продувную, страны очень
населенные, с великими народами; оттуда прибыл я в землю
Облыжную, где нашел многих из нашей братии и из других
орденов, которые, все, бога ради, бегали от невзгоды, мало
заботясь о чужих затруднениях, лишь бы видели, что им последует
польза, и не платили в тех странах иной монетой, как нечеканной.
Затем перешел я в землю Абруцц, где мужчины и женщины ходят
по горам в деревянных башмаках, а свиней одевают в их
собственные кишки; немного далее я нашел людей, носивших хлеб в
палках, а вино в мешках; оттуда проник до Червивых гор, где все
воды текут вниз. В короткое время я так забрался внутрь, что
дошел до пастернакской Индии, где, клянусь вам одеждой, которую
ношу, видел пернатых летающими по воздуху: дело не слыханное,
если кто того не видел. Но в этом не даст мне солгать Мазо дель
Саджио, знатный купец, которого я там встретил, как он колол
орехи, а скорлупу продавал по мелочам. Так как я не мог найти,
чего искал, потому что далее путь идет водою, я, вернувшись
назад, прибыл в те святые земли, где летним годом черствый хлеб
ходит по четыре денежки, а свежий даром. Здесь я нашел
почтенного отца Не-кори-меня-пожалуй, достойнейшего патриарха
Иерусалима, который, в уважение к одежде высокомощного мессера
св. Антония, которую я всегда носил, пожелал, чтобы я узрел все
святые мощи, какие у него были, и было их так много, что, если б
я захотел все их перечислить вам, я не дошел бы до конца и
через несколько миль. Тем не менее, дабы не оставить вас без
утешения, скажу вам о некоторых. Во-первых, он показал мне
святой перст, такой свежий и целый, как только можно себе
представить; локон Серафима, явившегося св. Франциску; ноготь
Херувима; несколько лучей звезды, явившейся волхвам на Востоке;
пузырек с потом ангела, когда он бился с диаволом; челюсть смерти
св. Лазаря, и другие. А так как я не постоял за тем, чтобы
подарить ему склоны Монте Морелло в итальянском переводе и
несколько глав Капреция, которые он давно разыскивал, он сделал
меня причастным своим святым мощам и подарил мне один из
зубцов, а в скляночке несколько от звона колоколов Соломонова
храма и перо ангела, о котором я уже говорил вам, и один из
деревянных башмаков св. Герарда да Вилламанья, который я недавно
пожертвовал во Флоренции Герарду ди Бонзи, питающему к нему
величайшее благоговение. Дал он мне и от угольев, на которых
188
Изжарен был блаженнейший мученик св. Лаврентий. Все эти
предметы я благоговейно принес сюда с собою, и они все при мне.
Правда, мой начальник никогда не дозволял мне показывать их,
пока не удостоверено, они ли это, или нет; но теперь, когда
некоторые чудеса, ими совершенные, и письма, полученные от
патриарха, это удостоверили, — он дал мне дозволение показывать их; но
я, боясь доверить их другому, всегда ношу их с собою. Правда, я
ношу перо ангела Гавриила в ларце, дабы оно не испортилось, а
уголья, на которых изжарен был св. Лаврентий, в другом, но они
так похожи друг на друга, что часто я один принимаю за другой,
что и приключилось со мною теперь, ибо я полагал, что принес с
собою ларчик, где было перо, а я принес тот, где угли. И я думаю,
то было не по ошибке; напротив, я почти уверен, что на то была
воля божия, и что сам господь вложил в мои руки ларец с
угольями, ибо вспоминаю теперь, что праздник св. Лаврентия будет
через два дня. Поэтому, господу изволившу, чтобы я, показав вам
угли, на которых был изжарен святой, возжег в ваших душах
благочестие, которое вы должны питать к нему. Он и велел мне взять
не перо, как я того хотел, а благословенные угли, погашенные
влагой того святейшего тела. Поэтому, благословенные сыны мои,
снимите шапки и набожно подойдите посмотреть на них. Но наперед
знайте, что кого коснутся эти уголья в знамение креста, тот может
весь этот год прожить в уверенности, что огонь не коснется его
тела, чтобы он того не почувствовал*.
Сказав это, с пением похвалы св. Лаврентию, он открыл ларец
и показал угли. После того как глупая толпа некоторое время
рассматривала их с удивлением, все среди великой давки стали
подходить к брату Чиполла, принося лучшее подаяние, чем
обыкновенно, и каждый просил его коснуться его теми углями. Поэтому брат
Чиполла, взяв угли в руки, стал делать на белых камзолах и на
куртках и на покрывалах женщин такие болышие кресты, какие
только могли поместиться, утверждая, что если угли умалялись от
начертания крестов, снова вырастали в ларце, как то он не раз
испытал. Таким образом, не без величайшей себе выгоды, он
окрестил всех жителей Чертальдо, быстрой выдумкой наглумившись
над теми, кто, похитив у него перо, вздумал поглумиться над ним.
Они были на его проповеди, и когда услышали, как он
неожиданно вывернулся и как это сделал издалека и в каких выражениях,
так смеялись, что боялись свернуть себе скулы. Потом, когда
народ разошелся, они, отправившись к нему, с величайшим в свете
весельем открыли ему, что они натворили, а затем отдали ему и
его перо, которое на следующий год сослужило ему службу не
менее, чем s тот день сослужили угли.
ПОДЖО БРАЧЧОЛИНИ
(1380—1459)
О священнике, который не знал
дня вербного воскресенья
Аэлло — одно из наиболее серых местечек в глуши наших
Апеннинских гор. Был там священник, еще более грубый и
невежественный, чем остальные жители. Так как он. не знал ни дней,
ни времен года, он даже не объявил своим прихожанам о посте.
Но, побывав в Терранове на ярмарке, которая бьгеает накануне
вербного воскресенья, он увидел, что духовенство готовит для
следующего дня пальмовые и оливковые ветви. Он спросил
удивленный, что это означает, и понял свой промах, ибо пост прошел и
не был соблюден его прихожанами. Вернувшись в свой городок,
он и сам стал готовить пальмовые и оливковые ветви на
следующий день и, созвав народ, сказал: «Сегодня день, в который,
согласно обычаю, нужно раздавать оливковые и пальмовые ветви.
Через неделю будет пасха. Значит, у нас остается восемь дней на
то, чтобы предаваться покаянию. Наш пост будет короток в этом
году, и вот тому причина. Масленица в этом году пришла
медленно и поздно. Она опоздала из-за того, что снега и дурные дороги
мешали ей перебраться через горы. Поэтому и пост подвигался
затрудненным и медленным шагом и не мог привезти с собою
больше одной недели: другие остались у него в дороге. Итак, в те
немногие дни, что пост будет с вами, исповедуйтесь и
предавайтесь покаянию все».
О монахе, который произнес
очень короткую проповедь
В одном из наших горных городов множество людей из разных
мест собрались на праздник. Был день св. Стефана. Один монах
должен был сказать народу проповедь. Час был поздний.
Священники были голодны и боялись, что проповедь протянется долго.
В тот момент, когда монах поднимался на кафедру, сначала один
священник, потом другой подошли к нему и стали шептать ему
на ухо, чтобы он говорил короче. Тот дал себя убедить очень
легко и, сказав несколько вступительных слов, как он это делал
обыкновенно, продолжал так: «Братья, в прошлом году на этом самом
месте в вашем присутствии я говорил вам о святой жизни и
чудесах этого нашего святого. Я не опустил ничего из того, что я слы-
190
шал о нем и что говорится о нем .в книгах священного писания.
Я думаю, что все это вы помните. Так как с тех пор, как я узнал,
он не сделал ничего нового, то осените себя крестным знамением и
прочтите молитву покаяния и те, что за нею следуют». Сказав
это, он удалился.
О священнике, который похоронил собачку
Был в Тоскане деревенский священник, очень богатый. Когда
у него умерла любимая собачка, он похоронил ее на кладбище.
Об этом услышал епископ и, покушаясь на деньги священника,
вызвал его к себе, чтобы наказать его, как если бы он совершил
большое преступление. Священник, который хорошо знал характер
своего епископа, отправился к нему, захватив с собою пятьдесят
золотых дукатов. Епископ, сурово упрекая его за то, что он
похоронил собаку, приказал вести его в тюрьму. Но хитрый священник
сказал епископу: «Отец, если бы вы знали, какая умная была моя
собачка, вы бы не удивлялись, что она заслужила погребение
среди людей. Ибо она обладала умом более чем человеческим как при
жизни, так и в момент смерти». — «Что это значит?»—спросил
епископ. «Под конец жизни,—сказал священник, — она составила
завещание и, зная вашу нужду, отказала вам согласно этому
завещанию пятьдесят золотых дукатов. Я их привез с собою». Тогда
епископ, одобрив и завещание, и погребение, принял деньги и
отпустил священника.
Об испанском епископе,
который полакомился куропатками,
обратив их в рыбу
Один испанский епископ по пути остановился в гостинице и,
гак как была пятница, послал слугу купить ему рыбы. Рыбы
слуга на рынке не нашел, а нашел пару куропаток. Епископ велел
ему купить их, зажарить и подать к столу. Слуга, который решил,
что ему велено было приготовить их на воскресенье, очень
удивился и спросил епископа, неужели он собирается есть куропаток в
постный день. Епископ отвечал: «Я съем их, превратив в рыбу».
И когда слуга удивился еще больше, прибавил: «Разве ты не
знаешь, что я священник. Что труднее: сделать из хлеба тело
господне или из куропатки рыбу?» Он совершил над куропатками
крестное знамение, приказав им превратиться в рыбу, и, как рыбу, их
съел.
191 ·
Об одном проповеднике
В праздник св. Христофора некий проповедник, обращаясь к
народу, красноречиво восхвалял святого за то, что он носил на
своих плечах Христа, и беспрестанно вопрошал: «Кто на земле
сподобился такого избрания, чтобы носить на себе спасителя?».
И когда он назойливо повторял, неизвестно в который раз: «Кто
сподобился такой милости?» — одному веселому человеку в толпе
это надоело, и он воскликнул: «Осел, который нес на себе мать и
младенца»
МАЗУЧЧО
(Жил в XV в.)
Новеллино
Один монашек ордена святого Антония освященными жолудями
спасает от смерти двух кабанов. Хозяйка дарит ему кусок холста.
Приходит муж, сердится на это и пускается в догонку за
монашком, чтобы отобрать у него холст. Тот, завидев его издали,
подпаливает холст и возвращает его хозяину. Холст воспламеняется,
все присутствующие кричат о чуде, монашка ведут в деревню, и
он собирает там много добра
Сиятельному синьору Антонио де Сансеверино, первенцу
светлейшего князя Салернского.
Как всякому должно быть известно, жители Сполето и Черре-
то в качестве монашков ордена святого Антония постоянно бродят
по Италии, ища и собирая дары согласно обетам, принесенным ими
святому Антонию, н под этим предлогом произносят проповеди и
творят мнимые чудеса; и с помощью всяких ловких надувательств,
на какие они только способны, они плотно набивают себе карманы
деньгами и другим добром, после чего возвращаются домой
бездельничать. Таких монахов ежедневно появляется в нашем
королевстве больше, чем в какой-либо другой области Италии;
особенно же часто они направляют свой путь в Калабрию и Апулию,
где находят много подаяния и мало ума в головах.
Таким-то образом в январе месяце прошлого года прибыл в
Чериньолу один из этих черретанских монашков; за ним следовал
осел, нагруженный котомками, и пеший мальчик-прислужник,
собиравший подаяние и заставлявший коня склонять колени в знак
почтения к мессеру барону — святому Антонию, как они это лю-
192
бят делать. Въехав в деревню, монашек увидел около дома одного
очень богатого хозяина двух огромных кабанов; так как хозяина
не было дома, то хозяйка подала монашку милостыню с большим
усердием, нежели другие, вследствие чего тот решил, что ему
удастся здесь поживиться. Прикинувшись преисполненным любви к
ближним, он обернулся к своему слуге и тихим голосом, но все
же так, чтобы женщина слышала его, оказал:
— Какая жалость, что такие прекрасные кабаны должны
вскоре внезапно околеть!
Услышав эти слова, женщина насторожилась и сказала:
— Мессер, что вы говорите о моих кабанах?
— Я говорю только, что большая ошибка природы—допустить,
чтобы эти кабаны через несколько часов околели, не принеся
никакого барышна.
Весть эта поразила женщину в самое сердце, и она сказала:
— Умоляю тебя, божий человек, открой мне причину этой
напасти и скажи, нет ли способа предотвратить ее!
На это монашек ответил:
— Добрая женщина, я могу тебе только сообщить, что
существует один верный признак, которого ни один живой человек не
может рассмотреть, кроме нас, монахов, обладающих благодатью
нашего барона, мессера святого Антония. И помочь этому можно
было бы только в том случае, если бы у меня был здесь хоть один
из наших освященных жолудей.
Женщина сказала:
— Посмотрите, ради бога, не найдется ли у вас хоть одного из
них, потому что я хорошо заплачу вам.
Монашек обернулся к своему слуге, который был хорошо
обучен этому искусству, и сказал:
— Мартино, посмотри, нет ли в наших котомках тех двух
жолудей, что я приберег для нашего осла, который так часто
заболевает? Пожертвуем их этой женщине, чтобы не погибли эти
прекрасные кабаны. Ведь она не будет неблагодарной и не оставит
без попечения нашу больницу, но даст нам немного холста на
простыни для наших больных.
Женщина воскликнула:
— Заклинаю вас святым крестом господним, спасите моих
кабанов от такой злой участи, и я подарю вам кусок нового тонкого
холста, из которого вы сошьете не одну, а целых две пары
простынь для вашей больницы.
Монашек тотчас же приказал Мартино подать ему упомянутые
жолуди, велел принести сосуд с водой, положил в него порядочно
отрубей и, смешав с ними освященные жолуди, поставил их перед
кабанами, которые, будучи голодными, тотчас же сожрали все
дочиста. Тогда монашек, обернувшись к женщине, сказал:
— Теперь вы можете считать своих животных спасенными от
угрожавшей им жестокой смерти. Будьте же добры помнить об
оказанном мною вам благодеянии и отпустите меня поскорее, ибо
я тотчас же собираюсь отправляться с богом во-свояси.
ia-22 193
(А спешка эта была вызвана опасением монаха, чтобы тем
временем не вернулся муж и не ускользнула добыча, на которую он
рассчитывал.)
На это женщина любезно дала ему обещанный кусок холста,
получив который, монашек тотчас же сел на лошадь и, выехав из
деревни, направился по дороге Трех Святителей, чтобы затем
поехать в Манфредонию, где он каждый год находил хорошее
пастбище.
Вскоре после отъезда монашка вернулся домой с поля хозяин.
Выйдя ему навстречу, жена с веселым лицом сообщила ему
новость о том, как его кабаны были спасены от внезапной смерти с
помощью освященных жолудей святого Антония, а также о
холсте, который она пожертвовала больнице для бедных, чтобы
вознаградить монаха за столь великое благодеяние. Муж, с
удовольствием выслушавший весть о том, как его кабаны были спасены от
большой опасности, был весьма опечален, узнав, что его холст
переменил владельца; и, если бы он не спешил вернуть его
обратно, он бы хорошенько отлупил жену по спине дубовой палкой.
Но так как дело не терпело промедления, то он только спросил у
жены, давно ли уехал монашек и по какой дороге он направился.
На это жена ответила ему, что это случилось менее четверти часа
тому назад и что монашек поехал по направлению к Трем
Святителям. Тогда этот славный человек взял с собой шесть
вооруженных молодых людей, и все они с величайшей поспешностью
пустились по следам монашка. Не успели они пройти и мили, как издали
увидели его и начали свистать и громким голосом приказывать ему
остановиться, в то же время не переставая за ним гнаться.
Обернувшись на крики и увидав, что все эти люди с гиканьем мчатся
за ним, монашек сразу понял, в чем дело, и решил пустить в ход
свои обычные штуки. Он тотчас же велел Мартино дать ему холст,
положил его впереди седла и, повернувшись спиной к своим
врагам, взял огниво, ловко высек огонь, поджег им кусок трута и,
когда преследователи были уже совсем близко, сунул зажженный
трут в складки холста. Затем он обернулся к своим врагам и
сказал им:
— Что вам угодно, добрые люди?
Хозяин кабанов выступил вперед и сказал:
— Подлый трус и мошенник, мне очень хочется проткнуть тебя
этой пикой за то, что ты не постыдился войти в мой дам и
обманным способом похитить у моей жены холст, — чтоб тебя собаки
загрызли!
Монашек, не говоря ни слова, бросил ему холст на руки и
сказал:
— Бог да простит тебя, добрый человек! Я не похищал этого
холста у твоей жены; она сама по доброй воле принесла его в дар
беднякам нашей больницы. Но бери свой холст, во имя бога!
Я же полагаюсь на нашего мессера барона святого Антония,
который в скором времени явит тебе очевидное чудо, спалив огнем не
только этот холст, но и все твое остальное имущество.
194
Получив обратно свой холст, крестьянин не обратил никакого
внимания на ругню и проклятия монашка и повернул обратно
домой. Но не успел он проехать даже расстояние, на которое можно
бросить рукой камень, как услышал запах горелого и увидел
дымящийся холст; и то же самое увидели и услышали все его
спутники. С величайшим страхом, какой он когда-либо испытывал, он
бросил холст на землю и, раскрыв его, увидел, что он весь охвачен
пламенем. Пораженный ужасом и опасаясь худшего, он призвал
монашка, заклиная его любовью божией вернуться обратно и
помолиться своему чудотворцу святому Антонию, дабы тот снял с
него суровый приговор, который так быстро осуществился.
Монашек, не желая сжигать холст до конца, не стал дожидаться
долгих уговоров и быстро вернулся обратно; приказав Мартино
потушить вспыхнувшее пламя, он тотчас же бросился на землю и,
притворно заплакав, сделал вид, что усердно молится. Исполнив
это и успокоив хозяина насчет других последствий совершенного
им проступка, он вернулся вместе с ним в деревню. Здесь,
услышав новость о совершившемся чуде, весь народ, »мужчины,
женщины и даже дети, взывая о милосердии, вышли ему
навстречу, и он въехал в деревню с не меньшей славой, чем Христос,
вступивший в Иерусалим. Ему поднесли столько подарков и
приношений, что десять ослов не могли бы их свезти, и он, обратив
большинство этих вещей в звонкую монету, богатый и радостный, уехал,
чтобы уже больше не возвращаться туда для наполнения своей
котомки.
Новеллино
Брат Николо да Нарни, влюбленный в 'Агату, добивается испол'
нения своего желания; является муж, и жена говорит ему, что
монах с помощью некоторых реликвий освободил ее от недуга; найдя
штаны у изголовья кровати, муж встревожен, но жена говорит,
что это — штаны святого Гриффона; муж верит этому, и монах
с торжественной процессией относит штаны домой *
Славнейшему поэту Джованни Понтан Понтано.
Как хорошо известно, благородная и славная Катания
считается одним из самых замечательных городов острова Сицилии.
Не так давно там жил некий доктор медицины, магистр Роджеро
Кампишано. Хотя он и был отягчен годами, он взял в жены
молодую девушку. Звали ее Агатой, происходила она из очень
почтенного семейства названного города и по общему мнению была самой
красивой и прелестной женщиной, какую только можно было найти
* Новелла печатается с небольшими пропусками.
13* 195
тогда на всем острове, а потому муж любил ее не меньше
собственной жизни. Но редко или никогда даже такая любовь не
обходится без ревности. И в скором времени, без малейшего повода,
доктор стал так ревновать жену, что запретил видеться не только
с посторонними, но и с друзьями и родственниками. И хотя
магистр Роджеро, как казначей миноритов, их поверенный, словом—
как лицо, посвященное во все их дела, был у них своим человеком,
все же для большей верности он приказал своей жене избегать их
общества ничуть не менее, чем общества мирян. Случилось,
однако, что вскоре после этого прибыл в Катанию минорит, которого
звали братом Николо да Нарни. Хотя он имел вид настоящего
святоши, носил башмаки с деревянными подметками, похожие на
тюремные колодки, и кожаный нагрудник на рясе, и хотя он был
полон ханжества и лицемерия, тем не менее он был «красивым и
хорошо сложенным юношей. Этот монах изучил богословие в Пе-
руджии и стал не только славным знатоком францисканского
учения, но и знаменитым проповедником; кроме того, согласно его
собственному утверждению, он был прежде учеником святого Бер-
нардина, от которого, как говорил, получил некие реликвии, через
чудесную силу которых бог явил и являет ему постоянно многие
чудеса. По этим причинам, а также благодаря благоговейному
отношению всех к его ордену проповеди его вызывали огромное
стечение народа.
Итак, случилось, что однажды утром во время обычной
проповеди он увидел в толпе женщин мадонну Агату, показавшуюся
ему рубином в оправе из множества белоснежных жемчужин;
поглядывая на нее по временам искоса, но ни на мгновение не
прерывая своей речи, он не раз говорил себе, что можно будет
назвать счастливцем того, кто заслужит любовь столь прелестной
женщины. Агата, как это обыкновенно бывает, когда слушают
проповедь, все время смотрела в упор на проповедника, который
показался ей необычайно красивым; и ее чувственность заставляла
ее втайне желать, чтобы муж ее был таким же красивым, как
проповедник; она подумала также, а потом и решила, пойти к нему на
исповедь. Приняв это решение, она направилась к монаху, как
только увидела, что тот сходит с кафедры, и попросила его
назначить ей время для исповеди. Монах, в глубине души испытавший
величайшее удовольствие, чтобы не обнаружить своих позорных
помыслов, ответил, что исповедь не входит в его обязанности.
На это дама возразила:
— Но, может быть, ради моего мужа, магистра Роджеро, вы
согласитесь сделать исключение в мою пользу!
Монах ответил:
— Так как вы — супруга нашего уполномоченного, то из
уважения к нему я охотно вас выслушаю.
Затем они отошли в сторону, и после того, как монах занял
место, полагающееся исповеднику, дама, опустившись перед ним на
колени, начала исповедываться в обычном порядке; перечислив
196
часть своих грехов и начав рассказывать затем о безмерной
ревности мужа, она попросила -монаха как милости, чтобы он своей
благодатной силой навсегда изгнал из головы мужа эти бредни; она
думала, впрочем, что недуг этот, пожалуй, можно исцелить теми
самыми травами или пластырями, которыми муж ее лечит своих
больных. Монах при этом предложении снова возликовал. Ему
показалось, что благоприятная судьба сама открывает ему доступ к
желанному пути, и, успокоив даму искусными словами, он дал ей
следующий ответ:
— Дочь моя, не приходится удивляться, что твой муж так
сильно тебя ревнует; если бы было иначе, ни я, ни кто другой не
счел бы его благоразумным; и не следует винить его за это, так
как виновата здесь одна лишь природа, наделившая тебя такой
ангельской красотой, что никак невозможно обладать ею, не
ревнуя.
Дама, улыбнувшись на эти слова, нашла, что ей уже пора
вернуться к ожидавшим ее спутницам, и, выслушав еще несколько
ласковых слов, попросила монаха дать ей отпущение грехов. Тот,
глубоко вздохнув и обратившись к ней с благочестивым видом,
ответил так:
— Дочь моя, никто, будучи сам связан, не может разрешить
от уз другого; так как ты связала меня в столь краткий срок, то
без твоей помощи я не властен избавить от них ни тебя, ни себя.
Молодая дама, будучи сицильянкой, без труда разобралась в
этой немудреной притче, которая понравилась ей, потому что
видеть плененным этого красивого монаха доставляло ей величайшее
удовольствие. Однако она порядочно удивилась тому, что монахи
занимаются такими делами. Будучи в очень нежном возрасте и
строго охраняемая мужем, она не только никогда не общалась с
монахами, но и была твердо уверена, что принятие монашества для
мужчин — все равно, что оскопление для цыпленка. Убедившись
теперь в том, что этот монах был петухом, а не каплуном,
молодая женщина почувствовала такое сильное желание, какого еще не
знала прежде, и, решив отдать монаху свою любовь, она ответила:
— Отец мой, предоставьте скорбеть мне, ибо, придя сюда
свободной, я уйду порабощенной вами и любовью.
Монах в несказанном восторге ответил ей:
— Итак, раз желания наши столь согласны, не сможешь ли
ты придумать способ, как бы, одновременно выйдя из сурового
заточения, мы могли насладиться нашей цветущей юностью?
На это она ответила, что охотно поступила бы так, будь то в
ее власти; однако затем прибавила:
— Мне сейчас пришло в голову, что мы, несмотря на крайнюю
ревность моего мужа, все же сможем осуществить наше намерение.
Раз в месяц у меня бывают такие сильные сердечные припадки,
что я почти лишаюсь чувств, и никакие советы врачей до сих пор
не оказали мне ни малейшей помощи; старые же женщины
говорят, что это проистекает от матки: они говорят, что я молода и
способна быть матерью, а между тем старость моего мужа лишает
/97
меня этой возможности. Поэтому мне пришла мысль — в один из
тех дней, когда он отправится к какому-нибудь своему больному за
город, представиться, будто я захворала своей обычной болезнью,
и тотчас же послать за вами, (прося принести мне что-нибудь из
реликвий святого Гриффона; будьте же наготове, чтобы притти с
ними ко мне тайно, и с помощью одной из моих девушек, крайне
мне преданной, мы сойдемся вдвоем к полному нашему
удовольствию.
Монах сказал весело:
— Дочь моя, да благословит тебя бог за то, что ты так
хорошо это придумала, и я полагаю, что твой замысел следует
исполнить; а я приведу с собой товарища, который, снисходя к
положению вещей, позаботится о том, чтобы твоя верная служанка не
оставалась тоже без дела.
И, приняв это решение, они расстались, страстно и влюбленно
вздыхая. Возвратившись домой, дама открыла служанке то, о чем,
к их общей радости, она уговорилась со священником. Служанка,
крайне обрадованная этим известием, ответила, что всегда готова
исполнить любое приказание госпожи. Судьба благоприятствовала
любовникам. Как предвидела дама, магистр Роджеро должен был
отправиться к больному и выехал на следующее утро из города; и,
чтобы не откладывать дела, жена его прикинулась одержимой
своим обычным недугом и стала призывать на помощь святого
Гриффона. Тогда девушка подала ей совет:
— Почему бы вам не послать4за его святыми мощами, столь
всеми чтимыми?
Как между ними было условлено, дама обернулась к служанке
и, делая вид, что говорит с трудом, ответила:
— Конечно, я прошу тебя за ними послать.
На это девушка сочувственно сказала:
— Я сама пойду за ними.
И, поспешно выйдя из дому, она разыскала монаха и передала
ему то, что было приказано; он же тотчас отправился в путь, взяв
с собой, как обещал, одного из своих товарищей, молодого и
весьма к такому делу пригодного. Брат Николо вошел в комнату дамы
и почтительно приблизился к постели, на которой та лежала в
одиночестве, любовно его ожидая. С величайшей скромностью
приветствовав монаха, молодая женщина сказала ему:
— Отец, помолитесь за меня богу и святому Гриффону.
На это монах отвечал:
— Да удостоит меня того создатель, однако и вам, с вашей
стороны, надлежит приступить к сему с благоговением, и если вы
пожелали причаститься его благодати чрез посредство чудесной силы
мощей, мною принесенных, то сначала нам следует с сокрушенной
душой приступить к святой исповеди, ибо если дух свят, то скорее
может исцелиться и плоть.
В ответ ему дама промолвила:
— Не иначе думала и я; иного желания я не имею и крайне
прошу вас об этом.
/98
После того как дама сказала это и под приличным предлогом
удалила всех находившихся в ее комнате, за исключением
служанки и второго монаха, они плотно заперлись, чтобы никто не
помешал им, и оба брата безудержно устремились в объятия своих
любовниц...
...Вдруг они услышали, как магистр Роджеро, возвратившись
уже от больного, подъехал на лошади к крыльцу дома. Монах с
величайшей поспешностью вскочил с кровати и был так сражен
страхом и огорчением, что совершенно забыл спрятать штаны,
брошенные на кровати; служанка, тоже не без неудовольствия
оторвавшаяся от начатой работы, открыла дверь и позвала ожидавших
в зале, сказав им, что госпожа ее по милости божьей почти совсем
исцелилась; и, когда все прославили и возблагодарили бога и
святого Гриффона, она, к большому их удовольствию, позволила им
войти. Магистр Роджеро, войдя тем временем в комнату и увидев
необычайное зрелище, был не менее огорчен тем, что монахи
повадились ходить к нему в дом, чем новым припадком своей милой
жены. Она же, увидев, что он изменился в лице, сказала:
— Супруг мой, поистине я была бы уже мертвой, если бы наш
отец^проповедник не помог мне мощами святого Гриффона: когда
он приложил их мне к сердцу, я сразу избавилась от всех моих
страданий; совсем так же потоки воды гасят слабый огонек.
Доверчивый муж, услышав, что найдено спасительное средство
от столь неизлечимого недуга, немало тому обрадовался и, воздав
хвалу богу и святому Гриффону, обратился к монаху, без конца
благодаря его за оказанную помощь. Наконец, после многих
благочестивых речей монах распростился с хозяевами дома и с честью
удалился вместе со своим товарищем...
...Магистр Роджеро, как только монахи ушли, приблизился к
жене и, нежно гладя ее по шее и груди, стал расспрашивать, очень
ли она мучилась от боли; болтая о том, о сем, он протянул руку,
чтобы поправить подушку под головой больной, но тут он
вацепил нечаянно тесьму от штанов, оставленных монахом. Он
вытащил их и, тотчас же признав за монашеские, весь изменился в
лице и сказал:
— Чорт возьми, что это значит, Агата? Как сюда попали
монашеские штаны?
Молодая женщина всегда была очень сметливой, а в эту
минуту любовь пробудила все ее хитроумие; и потому она сразу же
ответила:
— Разве ты не помнишь, что я тебе сказала, супруг мой? Это
не что иное, как чудесные штаны, принадлежавшие славному
господину нашему святому Гриффону; их принес сюда
монах-проповедник, как одну из чудесных реликвий святого, и всемогущий бог
через благодатную их силу уже явил мне свою милость; увидев,
что я совсем избавилась от страданий, я ради большой
предосторожности и из благоговения попросила, как милости,
собиравшегося унести их монаха, чтобы он оставил мне реликвию до вечера,
а потом сам пришел бы за нею или прислал кого-нибудь другого,
199
Муж, выслушав быстрый и толковый ответ жены, поверил или
сделал вид, что поверил ей; но по природе своей он был ревнив,
и его ум под впечатлением случившегося раздирался
противоположными ветрами. Ничего однако не возразив, он оставил жену в
покое. Она же, будучи весьма находчивой и видя, что муж ее
насторожился, придумала новую хитрость, чтобы рассеять все его
подозрения, и, обратившись к служанке, сказала ей:
— Ступай в монастырь и, разыскав проповедника, скажи ему,
чтобы он послал за оставленной мне реликвией, так как, слава
богу, я в ней больше не нуждаюсь.
Смышленая служанка, вполне уразумев, что на самом деле
подразумевала дама, поспешно направилась в монастырь и тотчас
вызвала монаха; тот подошел к входной двери и, думая, что
девушка принесла ему оставленную им памятку, с веселым лицом сказал ей:
— Как дела?
Служанка, несколько раздосадованная, ответила:
— Плохи, из-за вашей небрежности, и были бы еще хуже, если
бы не находчивость моей госпожи.
— В чем дело? —спросил монах.
Служанка в точности рассказала ему о происшедшем, прибавив,
что, по ее мнению, нужно немедленно послать за известной ему
реликвией и обставить возвращение ее с наивозможной торжествен*
ностью.
Монах ответил:
— В добрый час!
И он отпустил служацку, обнадежив ее, что все будет улажено;
затем он тотчас же отправился к настоятелю и обратился к нему
с такими словами:
— Отец, я тяжко согрешил и за свое прегрешение готов
(принять кару; но молю вас не замедлить с вашей помощью; и так как
нужда в том велика, пособите уладить дело.
И после того, как он в кратких словах рассказал о
случившемся, настоятель, крайне этим разгневанный, строго выбранил
монаха за неблагоразумие, сказав ему следующее:
— Так вот каковы твои подвиги, доблестный муж! Ты
расположился там, вообразив себя в полной безопасности? Но, если ты
не мог управиться, не снимая штанов, разве не было возможности
спрятать их на груди, в рукаве или каким-нибудь другим образом
скрыть их на себе? Но вы так привыкли к этим бесчинствам, что
и не помышляете о том, какою тяжестью они ложатся на нашу
совесть и сколько позора приходится нам принять, чтобы уладить
дело. Право, не знаю, что мешает мне, откинув сострадание,
посадить тебя, как ты этого заслуживаешь, в заточение! Однако, в
виду того, что теперь большая нужда в исправлении, чем в
наказании, — ибо дело идет о чести нашего ордена,—мы отложим пока
второе.
Затем он приказал звонить в колокол капитула, и, когда все
монахи собрались, он сказал им, что бог чрез благодатную силу
штанов святого Гриффона только что явил в доме доктора Род-
200
жеро несомненное чудо. И, рассказа© вкратце о случившемся, он
убедил их немедленно же отправиться в дом врача, чтобы, во
славу божью и для умножения числа засвидетельствованных чудес
святого, торжественной лроцессией принести оттуда обратно
оставленную святыню. Подчиняясь приказанию и став по два в ряд,
моиахи, предшествуемые крестом, направились к указанному дому.
Настоятель, облаченный в пышные ризы, нес дарохранительницу,
и так дошли они в порядке и в глубоком молчании до дома
магистра Роджеро. Услышав их приближение, доктор вышел навстречу
настоятелю и спросил его о причине, приведшей к нему монахов,
на что тот с радостным лицом ответил ему, как заранее обдумал:
— Дорогой мой магистр, согласно нашему уставу, мы должны
приносить тайно реликвии наших святых в дома тех, кто их
просит; делается это с той целью, чтобы в случае, если больной по
своей вине не испытает действия благодати, мы могли бы так же
скрытно отнести их обратно: таким образом мы ничуть не
повредим славе о чудесах; но если бог пожелает чрез посредство
святынь явить несомненное чудо, мы в таком случае долисны, благо-
вествуя о нем, с полной торжественностью и соблюдением обрядов
отнести наши святыни в церковь и затем составить протокол о
случившемся. И вот, ввиду того, что супруга ваша, как это вам
известно, избавилась от своей опасной болезни именно с помощью
нашей святыни, мы пришли сюда с такой торжественностью, чтобы
вернуть святыню на место.
Доктор, видя перед собою весь благоговейно собравшийся
монашеский капитул, подумал, что никогда бы не сошлось столько
людей для плохого дела; и, дав полную веру выдумке настоятеля и
отбросив все сомнения, он ответил:
— Добро пожаловать!
И взяв за руки настоятеля и монаха, он провел их в комнату,
где находилась его жена. Дама, и на этот раз не дремавшая,
завернула предварительно штаны, о которых идет речь, в белый
благоуханный плат. Раскрыв его, настоятель с глубоким
благоговением облобызал святыню и дал приложиться к ней доктору, его
жене и всем находившимся в комнате, которые с такой же
набожностью последовали их примеру. Затем он положил ее в
дарохранительницу, дХя этого им принесенную. По данному настоятелем
знаку все монахи запели: Приди, животворящий дух, и шествуя
так через весь город в сопровождении бесчисленной толпы народа,
они дошли до своей церкви, где, положив святыню на главный
алтарь, оставили ее на несколько дней для поклонения, так как весь
народ знал уже о совершившемся чуде.
Магистр Роджеро, стремясь усилить всеобщее почтение к этому
ордену, всюду, где только он ни навещал своих больных — будь то
за городом или в городе, — громко рассказывал об удивительном
чуде, которое бог явил в его доме чрез благодатную силу штанов
святого Гриффона. А пока он занимался этим делом, брат Николо
с товарищем не упускали случая продолжать начатую ими удачную
охоту, доставляя тем немалое удовольствие как служанке, так и
201
госпоже. Последняя же не только стремилась удовлетворить свою
чувствительность, но и полагала, что избранное ею
средство—единственно верное против ее жестоких страданий, так как прилагалось
оно к месту, соседящему с тем, где гнездился недуг; и, будучи
женой врача, она при этом вспоминала слышанный ею текст
Авиценны, в котором говорится, что приложенные средства приносят
пользу и при постоянном применении излечивают; а потому,
наслаждаясь с монахом к обоюдному их удовольствию, она, наконец,
убедилась, что совсем освободилась от своего неизлечимого недуга
благодаря отличному лекарству, примененному благочестивым
монахом.
САН БЕРНАРДИНО
(Жил в XV в.)
Мудрая проповедь
Был один брат в нашем ордене, который замечательно умел
проповедывать и говорил при этом так умно, плел так тонко, что
просто чудо, — тоньше он плел, чем кружево, какое плетут ваши
дочери! И был у нас другой брат, совсем непохожий на этого, —
такой неученый! Стыдно за него было, такой он был неотесанный!
И вот этот-то неученый брат ходил слушать проповеди того
ученого. Случилось однажды, что, недавно выслушав проповедь, он
находился в кружке других братьев и стал «говорить им: «Были ли
вы сегодня на проповеди нашего брата, который говорил такие
замечательные вещи?* А те опросили его: «Что же он говорил?» —
«О! Он говорил такие прекрасные вещи, каких вы никогда не
слышали». — «Но расскажи, о чем он именно говорил». — «Самые
удивительные, самые небесные слова, самые неслыханные он
говорил... Эх! зачем вы не пошли на проповедь! Никогда еще не
говорил он этого!» — «Но скажи же, что он говорил вам?» — «Скажу,
что вы пропустили самую лучшую проповедь, какую только можно
услышать». — И так, продолжая повторять все то же несколько
раз, неученый брат оказал, наконец, своим собеседникам:
«Он говорил именно о самых высоких и удивительных
предметах и так возвышенно рассуждал, что я даже ровно ничего не
понял».
203
МАТТЕО БАНДЕЛЛО
(1480—1559)
Куртизанка в монастыре
Положительно, господа, вы готовы погрузиться в темный и
бурный океан мудрости, рассуждая все только о предметах,
достойных философов и теологов, как могу я судить, прослушав
несколько раз ваши рассуждения. Между тем, у нас сейчас
конец Ткарнавала, то-есть время, когда следует предаваться веселым
забавам и шуточным разговорам, чтобы легко перенести все
строгости надвигающегося поста. Итак, я расскажу вам забавную
историю, которая случилась недавно в Милане.
В Милане, моем родном городе, есть несметное число мужских
монастырей различных орденов, а также монастырей женских.
И среди них есть много монастырей, где монахи и монахини ведут
святую жизнь и соблюдают уставы своих разнообразных орденов.
Но встречаются в том числе монастыри с распутными,
развратными и блудливыми монахами, которые ведут непристойную жизнь и
которым больше приличествовало бы держать в руках меч и щит,
чем молитвенник.
Был в одном таком монастыре, я не стану его называть,
монах, который больше водил дружбу с женщинами, чем это
следовало, и которому, казалось, мало было дня, чтобы обегать всех
своих знакомых куртизанок, так что он имел обыкновение и
ночью приводить некоторых из них в свою келью, откуда
выпускал их только на заре.
Случилось, что однажды к нему пришла такая женщина...
Настало утро, и монах услышал звон колокола. Тогда он
встал и сказал женщине:
— Полежи, милая, пока я схожу в церковь, потому что эту
неделю моя очередь начинать часы, но, как только кончится
служба, я вернусь.
Он зажег огарок свечи, открыл шкап, где стояло множество
разных бутылок и склянок, и взял одну из них. Дело было в
июне, стояла сильная жара, и брат, утомленный любовным
путешествием и изнемогавший от жары, начал освежать руки и лицо
розовой водой, содержавшейся в этой склянке. После того он
поставил ее назад, потушил свет и вышел из кельи, заперев дверь на
ключ.
Женщина видела все, что сделал монах. Когда она услышала
запах розовой воды, которой он мылся, ее охватило желание
также немного освежиться. Встав в темноте, она направилась к
шкапу и, открыв его, достала склянку. Но в темноте она случайно
вместо склянки с розовой водой взяла пузырек с чернилами. Она
вообразила, что это была особая вода, нарочно изготовленная для
203
улучшения кожи, а этого-то ей только и надо было. Обеими
руками она стала мыть лицо, заботливо намочила шею» грудь, руки,
думая освежить той водой свою кожу. Она так славно при этом
выкрасилась, что стала походить на дьявола из ада. Опорожнив
весь пузырек и поставив его в шкап, она принялась обеими
руками тереть лицо и другие только что намоченные части тела, для
того чтобы вода, как она думала, лучше впиталась. Затем она
легла и тотчас же заснула.
Окончив утреню, монах ушел из церкви и со свечей в руке
отправился χ себе в келью. Лишь только он отворил дверь, как
увидел на постели спящую женщину, но она так изменилась, что
он вообразил, будто это сам дьявол лег на ее место. При столь
необыкновенном зрелище его охватил такой ужас и страх, что он
пустился бежать к церкви, откуда еще не разошлись монахи.
Прибежав туда, он бросился к ногам настоятеля, но его смятение было
так велико, что он не мог выговорить ни единого слова.
Перепуганный, обливаясь холодным потом, он напрасно силился
перевести дыхание и сказать хоть что-нибудь. Остальные монахи с
удивлением окружили его, и настоятель, стараясь его успокоить,
расспрашивал, что же случилось с ним. Наконец, вздохнув легче, он
сознался в своем грехе и в слезах рассказал, как приведенная им
женщина превратилась в дьявола.
Тогда настоятель поспешно надел облачение, взял крест и
святую воду и, сояутствуемый всеми монахами, двинулся к келье, где
спала куртизанка. Появление зажженных факелов, говор молитв и
пение псалмов заставили женщину проснуться и поднять голову.
Увидев такое косматое чудовище (ее волосы совсем растрепались),
братья уверились, что то был сам дьявол. И немедленно их
охватил такой ужас, что они бросились бежать: первым сам
настоятель, а за ним те, кто несли крест и святую воду. Удивленная всем
происшедшим, женщина вскочила с постели. Теперь, увидев ее в
белой рубашке, покрытой черными пятнами, монахи пустились
бежать еще скорее. Одни падали на землю, другие бросали факелы,
чтобы они им не мешали бежать. Они уронили при этом даже
крест и святую воду, настолько велико было их смятение. Не
понимая, что все это значит, куртизанка выбежала из кельи, как
была, в одной рубашке, и бросилась их догонять. Так как она
совершала почти со всеми монахами любовные путешествия, то она
стала называть каждого из них по имени. Споткнувшись о факелы,
брошенные на землю, она упала и, поднимаясь, увидела себя вдруг
такой черной. Тогда она поняла, что вместо розовой воды
облилась чернилами. Она стала кричать монахам, объясняя им, каким
образом сделалась такой черной. Тогда некоторые из них
обернулись к ней и узнали ее. Они стали мыть ее чистой водой и мылом
и так терли ее, что она сделалась опять такой же белой, какой
была прежде. Предоставляю вам самим судить, пошло ли им это
происшествие во вред или на пользу, и много ли проиграла от
этого куртизанка, ибо после того, как ее вымыли, более десятка
монахов совершили с ней любовное путешествие.
ФРАНКО САККЕТИ
(1333-1400)
Один священник говорит Петруччио в Перуджии, что распятие
является его должником, Петруччио рубит распятие топором,
требуя, чтобы оно воздало ему сторицею, и получает эти деньги в
конце концов
В городе Перуджии жил однажды человек по имени Петруччио,
отличавшийся большими странностями. По воскресеньям он ходил
всегда к обедне в «приходскую церковь Санто Агапито, где
священник говорил обыкновенно, принимая церковный сбор:
«Воздастся вам сторицею и обретете жизнь вечную», и опускал все деньги
в кружку, вделанную в дерево под распятием. После многократных
церковных служб и пожертвований Петруччио сказал однажды
священнику: «Когда же мы получим то, что воздастся нам
сторицею, как вы нам обещаете? И кто даст нам это?» Священник
сказал: «Господь бог наш, распятый здесь на кресте, воздаст тебе
сторицею, как только ты пожелаешь этого, стоит тебе лишь
захотеть. Он ведь получает деньги, как ты видишь, ибо я даю все
ему, кладя их в эту кружку». Петруччио сказал: «Если это так,
то я очень рад». Прошел месяц или два. Видя, что господь не
собирается воздавать ему сторицею и уплата денег господом не
предвидится скоро, Петруччио сказал однажды: «Должник, на
которого священник указьгаал мне не раз, не платит мне, и болыпе
я не намерен ждать. Пора узнать, заплатит ли мне должник, на
которого священник указывал мне столько раз». И берет топор,
идет в церковь к распятию и говорит: «Верни мне мои деньги».
Но господь бог не пошевелился. Петруччио говорит тогда: «Ты,
кажется, смеешься надо мною, что ничего не отвечаешь. Клян)сь
ранами христовыми, что ты должен будешь заплатить мне». И он
ударил топором по кружке с деньгами с такой силой, что кружка
разбилась и упала на землю вместе с деньгами и распятием. Увидя
рассыпавшиеся на землю деньги, Петруччио собрал их и говорит:
«Вот ты не верил мне, так я отделал тебя по заслугам за
неплатеж. Довольно я дожидался». И он ушел с десятью лирами или
около того. Священник вернулся в церковь, увидал разбитую
кружку и распятие на полу и спросил у находившейся тут
служанки: «Какой чорт наделал это? Кружка разбита, деньги украдены,
распятие на полу, хотя это меня и не очень беспокоит». Служанка
говорит: «Я видела, что Петруччио входил сюда. Может быть,
он сделал это». Священник пошел к Петруччио и говорит: «Я
застал в церкви такой-то беспорядок, и мне сказали, что ты был там.
Не видал ли ты, кто сделал это?» Петруччио говорит: «Это я
сделал». Священник спросил: «А почему же?» Петруччио ответил:
«Отчего же ты удивляешься? Это платеж по обязательству. Разве
205
ты не говорил мне тысячу раз, что мне воздастся сторицею)
И говорю тебе, что желаю получить еще гораздо больше. Если ты
не позаботишься о платеже и я не найду плательщика, то сделаю с
тобою то, что сделал с этим распятием». Священник говорит: «Ах,
дорогой Петруччио, ты неверно понял меня! Я говорил, что тебе
воздастся сторицею на том свете». Петруччио говорит: «Итак, ты
хочешь дать мне то, чего мне не нужно? На что мне деньги на
том свете? Разве мне придется покушать там бобы? Если мне не
будет уплачено полностью, увидишь, что я сделаю тебе».
Священник увидел, в какое положение он попал, испугался, как
бы не потерять прихожан, и отдал Петруччио большую сумму
денег, попросив никогда больше не жертвовать деньги на церковь,
Так тот и делал впредь.
Таким образом уплатил священник наличными деньгами ту
сумму, которую Христос должен был уплатить, по его мнению,
Петруччио на том свете. И если бы так случилось и с другими, то
не пришлось бы говорить: «Воздастся вам сторицею».
ВОЛЬТЕР
(1694—1778)
Простак
(Отрывок)
Гурон, по прозванию простак, обращен
Господин настоятель, видя, что надвигается старость и что бог
в утешенье -послал ему племянника, забрал себе в голову, что мог
бы передать ему свою бенефицию, если бы ему удалось окрестить
его и добиться (рукоположения его в священники.
У Простака была превосходная память. Сила нижнебретонского
организма, укрепленная канадским климатом, сделала его голову
столь крепкой, что когда по ней ударяли снаружи, он это едва
чувствовал, а когда что-нибудь запечатлевали внутри, это уже не
изглаживалось. Он никогда ничего не забывал. Его сила
постижения была тем более острой и точной, что в детстве его не
загружали всякими бесполезными и глупыми вещами, которыми
пичкают нас, и поэтому все входило в его мозг в ясном виде.
Настоятель решил дать ему прочитать Новый завет. Простак
проглотил его с большим удовольствием, но, не зная, в какое
время и в какой стране происходили повествуемые в этой книге
приключения, он не сомневался, что местом действия была Нижняя
206
Бретань, и поэтому поклялся, что отрежет уши и носы Каиафе й
Пилату, если когда-нибудь столкнется с этими негодяями.
Дядя, восхищенный столь похвальным настроением, разъяснил
ему все в короткое время. Он хвалил его усердие, но показал ему,
что это усердие бесполезно, так как люди эти умерли около
тысячи шестисот девяноста лет назад. Простак скоро знал почти всю
книгу наизусть. Он иногда предлагал такие вопросы, которые
ставили настоятеля в весьма затруднительное положение. Настоятелю
иногда приходилось советоваться с аббатом де Сент-Ив, который,
не зная, что ответить, вызвал для завершения обращения гурона
одного нижнебретонското иезуита.
Наконец благодать снизошла на Простака, и он обещал стать
христианином. Он не сомневался, что ему прежде всего придется
подвергнуться обряду обрезания. «Потому что, — говорил он, —
я не вижу в книге, которую мне дали прочесть, ни одной особы,
которая не подверглась бы этой операции. Очевидно, стало быть,
мне придется пожертвовать своей крайней плотью — и чем скорее,
тем лучше». И он не стал откладывать. Он тотчас же послал за
сельским лекарем и попросил сделать ему соответствующую
операцию, рассчитывая чрезвычайно обрадовать этим как мадмуазель
де Керкабон, так и всех друзей семьи. Коновал, еще никогда не
делавший этой операции, предупредил об этом семью, поднявшую
страшный крик. Добрая Керкабон боялась, как бы ее племянник,
который казался человеком сильной воли и быстрым на решения,
сам крайне неуклюже не совершил над собою этой операции и лак
бы это не повлекло за собою печальных последствий, какими
дамы по доброте души всегда очень интересуются.
Настоятель разъяснил гурону его заблуждения. Он сказал ему,
что обрезание теперь уже не производится, что крещение гораздо
более приятно и спасительно и что закон благодати совсем не то,
что закон сурового возмездия. Простак, у которого было много
здравого смысла и прямоты, поспорил, но признал свое
заблуждение, что в Европе довольно редко случается со спорящими
людьми. И он обещал дать себя окрестить, когда угодно будет его
родным.
Но предварительно нужно было исповедаться, вто было самое
трудное. Простак постоянно носил с собою в кармане книгу,
данную ему дядей. В ней он не видел, чтобы хоть один апостол испо-
ведывался, и это делало его крайне неподатливым. Настоятель
заставил его замолчать, показав ему в послании св. Иакова
Младшего следующие слова, причиняющие столько неприятностей
еретикам: «Исповедуйтесь друг другу в своих грехах!». Гурон
подчинился и исповедался у одного францисканца. Исповедавшись, он
вытащил францисканца из исповедальни и, обхватив его сильной
рукой, сел на его место, а его поставил перед собой на колени и
сказал:
— Вот что, друг мой, сказано: «исповедайтесь друг перед
другом». Я тебе поведал свои грехи, и ты не выйдешь отсюда, пока
не перечислишь мне свои.
207
И с этими словами он придавил широким коленом грудь своего
противника. Францисканец стал испускать крики, раздававшиеся
по всей церкви. На крик сбежались со всех сторон и увидели, как
исповедующийся тузит монаха во имя св. Иакова Младшего. Однако
радость окрестить нижнебретонца, гурона и англичанина была так
велика, что пренебрегли всеми этими странностями. Многие
богословы даже полагали, что исповедь вовсе не необходима, так как
крещение заменяет все.
Договорились относительно дня обряда с епископом из Сен-
Мало, который, повидимому, польщенный возможностью
окрестить гурона, приехал в пышном экипаже в сопровождении своего
причта. Мадмуазель де Сент-Ив, воздав хвалу господу-богу, надела
свое лучшее платье и вызвала парикмахершу из Сен-Мало, чтобы
блистать на церемонии. Судья-допрашиватель примчался вместе с
жителями всей округи. Церковь была великолепно убрана. Но
когда настало время привести гурона, чтобы посадить в купель, его
не нашли.
Дядя и тетя искали его повсюду. Подумали, что он, (по своему
обыкновению, пошел охотиться. Собравшиеся на празднество
обошли все рощи и соседние деревни, — никакого следа гурона.
Стали опасаться, уж не возвратился ли он в Англию.
Вспоминали, как он не раз говорил, что очень любит эту страну.
Господин настоятель и его сестра были убеждены, что там никого не
крестят, я дрожали от страха за душу своего племянника. Епископ
был смущен и собирался уехать обратно; настоятель и аббат де
Сент-Ив были в отчаянии; судья со своей обычной важностью
допрашивал всех прохожих. Мадмуазель де Керкабон плакала;
мадмуазель де Сент-Ив не плакала, но испускала глубокие вздохи,
которые, казалось, свидетельствовали об ее большом вкусе к
исповедям и причастиям. Обе они печально ходили вдоль верб и
розовых кустов, окаймлявших рансскую речку, как вдруг увидели
стоявшую посредине реки белую фигуру со скрещенными на груди
руками. Они испустили громкий крик и отвернулись. Но
любопытство тотчас же одержало верх над всеми другими соображениями,
и они незаметно укрылись в розовых кустах. Когда же они
убедились, что их никто не видит, им захотелось посмотреть, что из
этого выйдет.
Простака окрестили
Настоятель и аббат, прибежав, спросили Простака, что ом там
делает.
— Как что, господа? Я дожидаюсь обряда крещения. Вот уже
целый час я стою в воде по горло, и прямо неприлично держать
меня столько времени в холодной воде!
— Мой милый племянник, — ласково сказал ему настоятель, —
обряд крещения в Нижней Бретани совершается не так.
Оденьтесь и пойдем с нами.
Мадмуазель де Сент-Ив, услышав эти слова, тихо спросила
свою подругу:
208
— Мадмуазель, как вы думаете — оденется он сейчас?
Между тем гурон ответил настоятелю:
— На этот раз вам не удастся меня уговорить, как в прошлый
раз. С тех пор я учился, и я вполне убежден, что только так и
производится обряд крещения. Евнух царицы Кандакии был
окрещен в речке. Говорю вам — из книги, (которую вы мне дали,
видно, что никогда это иначе и не делалось. Я либо совсем не буду
окрещен, либо меня окрестят в реке.
Сколько ему ни доказывали, что обычай изменился, Простак
упорно настаивал на своем, ибо он был бретонцем и гуроном. Он
непрестанно ссылался на евнуха царицы Кандакии. И хотя
мадмуазель, его тетя, и мадмуазель де Сент-Ив, наблюдавшие его из-
за верб, были бы в праве заметить ему, что не подстать ему
ссылаться на подобного человека, однако — так велика была их
скромность — они и не подумали это сделать. Сам епископ пришел его
уговаривать, — а это много, — но ничего не добился: гурон спорил
с епископом.
— Укажите мне, — твердил он, — в книге, подаренной мне
дядей, хотя бы одного человека, который не был бы окрещен в реке,
и я сделаю все, что вам будет угодно.
Тетя вспомнила, что, явившись на ужин, ее племянник отвесил
самый глубокий поклон мадмуазель де Сент-Ив и что даже
господина епископа он не приветствовал так почтительно и вместе так
сердечно, как эту прекрасную девицу. И она решила обратиться
к ней за помощью в этих трудных обстоятельствах; она попросила
ее пустить в ход свое влияние и уговорить гурона дать себя
окрестить тем же способом, который принят у всех бретонцев, ибо она
боялась, что племяннику никогда не стать христианином, если он
будет упорствовать в своем желании быть окрещенным в текучей
воде.
Мадмуазель де Сент-Ив покраснела от тайного удовольствия
быть исполнительницей столь важного поручения. Она скромно
подошла к Простаку и, пожав ему руку, спросила:
— Неужели вы ничего не сделаете для меня?
И, сказав это, она опустила глаза, а потом снова подняла их
с трогательной грацией.
— О, все, что вы пожелаете, мадмуазель, все, что вы
прикажете: крещение водой, крещение огнем, крещение кровью — ни в
чем вам не будет отказа.
На долю мадмуазель де Сент-Ив выпала слава двумя словами
достигнуть того, чего не могли добиться ни настойчивые просьбы
настоятеля, ни повторные допросы судьи, ни доводы самого
господина епископа. Она почувствовала свое торжество, но не
чувствовала еще всей его полноты.
Обряд крещения был произведен со всем возможным
приличием, пышностью, приятностью. Дядя и тетя уступили господину
аббату де Сент-Ив и его сестре быть восприемниками при
крещении. Мадмуазель де Сент-Ив сияла от радости быть крестной
матерью. Она не знала, на что осуждал ее этот большой сан; она
14-22 209
Приняла эту честь, не зная, какие роковые последствия она влечет
за собою.
Так как никогда еще не было торжества, которое не
сопровождалось бы большим обедом, тотчас же по окончании обряда
крещения сели за стол. Нижнебретонские шутники говорят, что вино
не нужно подвергать обряду крещения. Господин настоятель
сказал, что вино, по словам Соломона, веселит сердце человека.
Господин епископ присовокупил, что патриарх Иуда должен был
привязать своего осленка к виноградной лозе и окунуть свой плащ
в крови винограда, и выразил сожаление, что нельзя то же самое
сделать в Нижней Бретани, которой бог отказал в винограде.
Каждый старался сказать остроумное словцо о крещении Простака
и обратиться с каким-нибудь комплиментом к крестной «матери.
Судья, горя постоянной страстью допрашивать, спросил гурона,
будет ли он выполнять свои обеты.
— Как можете вы сомневаться в том, что я буду выполнять
обеты, — ответил гурон, — когда я их дал мадмуазель де Сент-Ив.
Гурон все более оживлялся. Он много пил за здоровье своей
крестной матери.
— Если бы я был крещен вашей рукою,—сказал он,—то
холодная вода, которую мне лили на затылок, уверен, обожгла бы
меня.
Судья, не зная, сколь часто прибегают к аллегориям в Канаде,
нашел это слишком поэтическим. Но крестная мать была крайне
довольна этими словами.
Окрещенного нарекли Геркулесом. Епископ из Сен-Мало
непрестанно спрашивал, что это за святой, о котором он никогда не
слышал. Иезуит, отличавшийся большой ученостью, сказал, что
этот святой сотворил двенадцать чудес. Было еще тринадцатое
чудо, которое не уступало первым двенадцати, но о нем иезуиту не
подобало говорить: оно состояло в том, что он в одну ночь
превратил пятьдесят девушек в женщин. Один шутник, находившийся
среди приглашенных, шумно напомнил об этом чуде. Все дамы
опустили глаза и считали Простака, судя по его виду, достойным
святого, имя которого он носил.
ВИКТОР ГЮГО
(1802—1885)
Собор Парижской богоматери
(Отрывки)
Поднявшись и снова опустившись по нескольким лестницам,
выходившим в какие-то коридоры, до того темные, что даже среди
бела дня в них горели лампы, Эомеральда, окруженная мрачным
конвоем, попала, наконец, в какую-то комнату зловещего вида.
Эта круглая комната помещалась в нижнем этаже одной из тех
массивных башен, которые и в нашем столетии пронизывают еще
пласты современных построек, покрывших собой старый Париж.
В этом склепе не было ни окон и никакого иного отверстия, кроме
входа — низкой, кованой, громадной железной двери. Света,
впрочем, в нем было достаточно; в толще стены была выложена
печь; в ней горел, наполняя склеп багровыми отсветами, яркий
огонь, рядом с которым язычок свечи, поставленной в углу, лишь
едва мерцал. Железная решетка, закрывавшая печь, была поднята.
Над устьем пламенеющего отверстия видны были нижние концы
ее прутьев, словно ряд черных, острых и редко расставленных
зубов, что придавало горну сходство с пастью сказочного дракона,
извергающего пламя. При свете этого огня пленница увидела
вокруг себя ужасные орудия, употребление которых было ей
непонятно. Посредине комнаты, почти на полу, находился кожаный
тюфяк, а над ним ремень с пряжкой, прикрепленной к медному
кольцу, которое держал в зубах изваянный в центре свода
курносый урод. Тиски, клещи, широкие треугольные ножи в форме
лемеха, брошенные как попало, загромождали внутренность горна
и накалялись там на пылающих углях. Кровавый отблеск печи
освещал хаос этих жутких предметов.
Эта преисподняя называлась в просторечии — «застенок».
На тюфяке в небрежной позе сидел Пьера Тортерю —
присяжный палач. Его помощники, два гнома с квадратными лицами, в
кожаных фартуках и холщевых штанах, поворачивали
раскалившееся на углях железо.
Несчастная девушка напрасно крепилась. Войдя в эту комнату,
она ужаснулась.
Стража дворцового судьи встала по одну сторону горна,
священники духовного суда—по другую. Писец, чернильница и стол
находились в углу.
Мэтр Жак Шармолю со слащавой улыбкой приблизился к
цыганке:
— Дорогое дитя мое, — сказал он, — итак, вы все еще
продолжаете отпираться?
— Да, — угасшим голосом ответила она.
— В таком случае, — продолжал Шармолю, — мы вынуждены,
14* 211
Как это ни прискорбно, допрашивать вас более настойчиво, чем
сами того желали бы. Будьте любезны, потрудитесь сесть на это
ложе. Мэтр Пьера, уступите барышне место и затворите дверь.
Пьера ворча поднялся.
— Ежели я закрою дверь, мой огонь потухнет,—пробурчал он.
— В таком случае, друг мой, оставьте ее открытой, — быстро
согласился Шармолю.
Эсмеральда продолжала стоять. Эта кожаная постель, на
которой корчилось столько страдальцев, ужасала ее. Страх леденил
кровь. Она стояла, испуганная, оцепеневшая. По знаку Шармолю,
оба помощника палача схватили ее и усадили на ложе. Они не
причинили ей ни малейшей боли; но лишь только они притронулись
к ией, лишь только она почувствовала прикосновение кожаной
постели, как вся кровь прилила у ней к сердцу. Она блуждающим
взором обвела комнату. Ей почудилось, что к ней со всех сторон
устремились все эти безобразные орудия пытки. Среди
всевозможных инструментов, до сей поры ею виденных, они были тем же,
чем являются летучие мыши, тысяченожки и пауки среди
насекомых и птиц. Ей казалось, что они сейчас начнут ползать по ней,
кусать и щипать ее тело.
— Где врач?—спросил Шармолю.
— Здесь, — отозвался человек в черной одежде, которого
Эсмеральда до сих пор не замечала.
Она вздрогнула.
— Барышня, — снова зазвучал вкрадчивый голос прокурора
духовного суда, — в третий раз опрашиваю, продолжаете ли вы
отрицать поступки, в которых обвиняетесь?
На этот раз у нее хватило сил лишь кивнуть головой. Голос
изменил ей.
— Вы упорствуете!—сказал Жак Шармолю. — В таком
случае, к крайнему моему сожалению, я должен исполнить мой слу*
жебньгй долг.
— Господин королевский прокурор, — вдруг резко сказал Пье-
ра, — с чего мы начнем?
Шармолю с нерешительным видом поэта, приискивающего риф«
му, с минуту колебался.
— С испанского сапога, — выговорил он наконец.
Злосчастная девушка почувствовала себя настолько покинутой
и богом, и людьми, что голова ее упала на грудь, как нечто
безжизненное, лишенное силы.
Палач и лекарь подошли к ней одновременно. В то же время
оба помощника палача принялись рыться в своем отвратительном
арсенале. При лязге этих страшных орудий несчастная девушка
вздрогнула, словно мертвая лягушка, которой коснулся
гальванический ток.
— О, мой Феб! — прошептала она так тихо, что ее никто не
услышал.
И затем она снова стала неподвижной и безмолвной, как
мраморная статуя. Это зрелище растерзало бы любое сердце, но не
212
сердце судьи. Казалось, будто сам сатана допрашивает несчастную
грешную душу при багровом свете ада. Это нежное, бледное,
хрупкое создание и было тем бедным телом, в которое готовился
вцепиться весь этот ужасный муравейник пил, колес и козел, эта
несчастная девушка была тем существом, которым готовились
овладеть грубые лапы палачей и тисков. Жалкое просяное зернышко,
отдаваемое правосудием на размол чудовищным жерновам пытки...
Между тем мозолистые руки помощников Пьера Тортерю
грубо обнажили ее прелестную ножку, которая так часто
очаровывала прохожих на перекрестках Парижа своей ловкостью и
красотой.
— Жаль, жаль, — бурчал палач, рассматривая ее изящные и
нежные формы.
Если бы здесь присутствовал архидьякон, он, несомненно,
вспомнил бы о своем символе мухи и паука.
Вскоре несчастная сквозь туман, застилавший ей глаза,
увидела, какпоиблизился к ней «испанский сапог», и как ее ножка,
вложенная между двух окованных железом б|русков, исчезла в
страшном приборе. Ужас придал ей сил.
— Снимите это! — вскричала она запальчиво. И, выпрямляясь,
вся растрепанная, добавила: — Пощадите!
Она рванулась с ложа, чтобы броситься к ногам прокурора, но
ее ножка была ущемлена тяжелым окованным в железо дубовым
обрубком, и она припала к этой колодке, бессильная, как пчела^
к крылу которой привязан свинец.
По знаку Шармолю, ее снова положили на постель, и две
грубые руки подвязали ее к ремню, свисавшему со свода.
— В последний раз, признаете ли вы свои преступления? —
спросил со своим невозмутимым добродушием Шармолю.
— Я невиновна.
— В таком случае, барышня, как объясните вы обстоятельства,
уличающие вас?
— Увы, монсеньер, я не знаю!
— Итак, вы отрицаете?
— Все отрицаю.
— Приступайте!—крикнул Шармолю.
Пьера повернул рукоятку, испанский сапог сжался, и несчастная
испустила один из тех ужасных воплей, для которых нет слов ни
на одном человеческом языке.
— Остановитесь! — сказал Шармолю, обращаясь к Пьера. —
Сознаетесь?—спросил он цыганку.
— Во всем сознаюсь!—воскликнула несчастная девушка.—
Сознаюсь! Только пощадите!
Она не рассчитала своих сил, идя на пытку. Бедная малютка!
Ее жизнь до сей поры была столь беззаботной, столь приятной,
столь сладостной, и первая же боль сломила ее.
— Человеколюбие побуждает меня предупредить вас, — сказал
королевский прокурор, — что ваше признание равносильно для вас
И смерти.
213
— Надеюсь, — ответила она и упала на кожаную постель,
полумертвая, перегнувшись, безвольно повиснув на ремне, который
охватывал ее грудь.
— Ну, моя прелесть, приободритесь немножко, — сказал мэтр
Пьера, приподнимая ее. — Вы, ни дать ни взять, как золотая
овечка на ордене, который носит на шее герцог Бургундский
Жак Шармолю возвысил голос:
— Протоколист, записывайте! Девушка-цыганка, вы сознаетесь,
что являлись соучастницей в дьявольских трапезах, шабашах и
колдовстве купно со злыми духами, уродами и вампирами?
•— Да, — так тихо прошептала она, что ответ ее слился с ее
дыханием.
— Вы сознаетесь в том, что видели того овна, которого
Вельзевул заставляет «появляться среди облаков, дабы собрать шабаш,
и видеть которого могут одни только ведьмы?
-Да.
— Вы признаетесь, что поклонялись головам Бофомета, этим
богомерзким идолам храмовников?
-Да.
— Что постоянно общались с дьяволом, который под видом
ручной козы привлечен ныне к делу?
-Да.
— Наконец, сознаетесь ли вы, что с помощью дьявола и
оборотня, именуемого в просторечье «монах-привидение», в ночь на
29 прошлого марта месяца вы предательски умертвили некоего
капитана по имени Феб де Шатопер?
Она вскинула на судью пристальный взгляд своих огромных
глаз и как-то машинально, не дрогнув, не запнувшись, ответила:
-Да.
Очевидно, все в ней было уже надломлено.
— Запишите, протоколист!—сказал Шармолю и, обращаясь к
заплечным мастерам, произнес:
— Отвяжите подсудимую и проводите назад в судебный зал.
Когда подсудимую «разули», то прокурор духовного суда
осмотрел ее ногу, еще онемевшую от боли.
— Ничего,—сказал он,—тут большой беды нет. Вы
закричали во-время. Вы смогли бы еще плясать, красавица.
Затем он обратился к своим коллегам из духовного суда.
— Наконец-то для правосудия все стало ясно. Это
утешительно, господа! Барышня должна отдать нам справедливость, мы
отнеслись к ней со всей доступной нам мягкостью...
* * *
Огромная толпа переполнила площадь, заливая и все
прилегающие улицы. Невысокая ограда паперти, в половину человеческого
роста, не могла бы сдержать напора толпы, если бы перед ней не
стояли сомкнутым двойным рядом сержанты городской стражи и
стрелки с пищалями в руках. Благодаря этому живому частоколу
214
пик и аркебуз лаперть оставалась свободна. Вход туда охранялся
множеством вооруженных алебардщиков в епископской ливрее.
Широкие двери Собора были закрыты, что представляло
разительный контраст с бесчисленными, выходящими на площадь окнами,
распахнутыми настежь, вплоть до слуховых, где виднелись тысячи
тесно скученных голов, напоминавших груды пушечных ядер в ар*
тиллерийском парке.
Поверхность этого моря людей была серого, грязного,
землистого цвета. Ожидаемое зрелище относилось, повидимому, к
разряду тех, которые обычно привлекают к себе лишь подонки
простонародья. Над этой кучей женских чепцов и омерзительно
грязных шевелюр стоял отвратительный шум. Здесь было больше
смеха, чем криков, больше женщин, нежели мужчин.
Время от времени чей-нибудь пронзительный и возбужденный
голос прорезал общий шум.
— Эй, Майэ Балифр, что, ее здесь и повесят?
— Дура! Здесь она будет каяться в одной рубахе. Милостивый
господь начихает ей латынью в рожу. Это здесь всегда
проделывают в полдень. А хочешь полюбоваться виселицей, ступай на
Гревскую площадь.
— Пойду потом.
— Скажите, тетка Букамбри, правда ли, что она отказалась от
духовника?
— Кажется, правда, тетка Бешен.
-— Ишь ты, язычница!
...Телега, запряженная сильной, нормандской породы лошадью
и окруженная всадниками в лиловых ливреях, с белыми крестами
на груди, въехала на площадь со стороны улицы Сен-Пьер-о-Беф.
Стража ночного дозора расчищала ей путь в толпе сильными
палочными ударами. Рядом с телегой ехало верхом несколько членов
суда и полиции, которых нетрудно было узнать по их черному
одеянию и неловкой посадке. Во главе их был мэтр Жак Шар-
молю.
В роковой повозке сидела молодая девушка со связанными за
спиной руками; священника возле нее не было. Она была в
рубашке; ее длинные черные волосы (по обычаю того времени их
срезали лишь у подножья эшафота) в беспорядке рассыпались по
ее полуобнаженным плечам и груди.
Сквозь эти волнистые пряди, черные и блестящие точно
вороново крыло, виднелась толстая, серая и шершавая веревка,
натиравшая нежные ключицы и обвивавшаяся вокруг прелестной
шейки несчастной девушки, словно земляной червь вокруг цветка.
Из-под этой веревки блестела маленькая ладанка, украшенная
зелеными бусинками, которую ей, вероятк'з, разрешили оставить, ибо
все дозволено тому, кому суждено умереть. Зрители, смотревшие
ИЭ окон., могли разглядеть в тележке ее обнаженные ноги, которые
21о
она старалась поджать под себя, словно движимая последним
инстинктом женственности. У ног ее лежала связанная козочка.
Девушка зубами поддерживала падавшую с плеч рубашку.
Казалось, что она в своем несчастье страдала и от того, что должна
была, полунагая, показываться перед толпой. Увы!—не для
подобных потрясений рождено целомудрие...
...Впрочем, все в ней, если можно так выразиться, утеряло
равновесие, все притупилось, кроме стыдливости, — так сильно была
она разбита отчаяньем, так крепко сковало ее оцепенение. Тело
ее подскакивало от каждого толчка повозки, словно безжизненный,
сломанный предмет; взор ее был безумен и мрачен; в глазах
стояли недвижные, словно застывшие слезы.
Тем временем зловещая процессия проследовала сквозь толпу
среди радостных криков и проявлений живого любопытства.
Однако же мы, в роли правдивого историка, должны сказать, что, видя
ее столь прекрасной и столь подавленной, многие, даже самые
черствые сердца, были охвачены жалостью.
Повозка въехала на площадь.
Перед центральным порталом она остановилась. Конвой
выстроился по обе стороны. Толпа притихла, и среди этой
торжественной и напряженной тишины обе створки главных дверей как
бы сами собой повернулись на своих завизжавших, словно флейты,
петлях. И тут взорам толпы представилась глубокая внутренность
огромного мрачного храма, обтянутого траурной драпировкой, еле
освещенного несколькими восковыми свечами, мерцающими в
главном алтаре. Это было похоже на огромный зев пещеры среди
залитой дневным светом площади. В глубине, в сумраке святилища
виднелось громадное серебряное распятие, выделявшееся на фоне
ниспадающего от самого свода до полу черного сукна. Церковь
была пуста. Только на отдаленных скамьях хоров кое-где смутно
виднелись головы священников.
Когда врата распахнулись, из церкви грянуло торжественное,
громкое и монотонное пенье. Словно толчками обрушивало оно на
голову осужденной слова зловещих псалмов:
...Не убоюся полчищ, обступающих меня! Услышь мя, господи,
спаси мя, боже мой.
...Спаси мя, боже мой, ибо воды растут и поднялись до самой
души моей...
В глубокой трясине увяз я, и нет вблизи твердой опоры (лат.).
И одновременно другой голос, отдельно от хора, со ступеней
главного алтаря начинал песнь жертвоприношения:
Кто услышит слово мое и уверует в пославшего мя, имеет
жизнь вечную и суду не подлежит, но перейдет из смерти в жизнь
(лат.).
И это песнопение сонма старцев, затерянных во мраке, звучало
панихидой над дивным созданием, полным молодости, жизни,
обласканным теплотой весеннего воздуха и солнечным светом.
Народ благоговейно внимал.
Несчастная, охваченная страхом, словно затерялась взором и
V6
мыслью в темных глубинах храма. Ее бескровные губы
шевелились, как бы шепча молитву, и когда помощник палача
приблизился к ней, чтобы помочь ей сойти с телеги, то он услышал, как
она тихо повторяла слово «Феб».
Ей развязали руки, заставили спуститься с повозки и пройти
босиком по булыжникам мостовой до нижней ступени портала.
Освобожденная козочка бежала за ней с радостным блеянием.
Веревка, обвивавшая шею Эсмеральды, ползла позади нее, словно
змея.
И тогда пенье в храме замолкло. Большое золотое распятие и
ряд свечей заколыхались во мраке. Послышался стук алебард
пестро одетых швейцарцев, и несколько мгновений спустя на глазах
осужденной и всей толпы развернулась длинная процессия
священников в нарамниках и дьяконов в стихарях, торжественно, с
пением псалмов направлявшаяся прямо к ней. Но взор ее был
прикован лишь к тому, «то шел во главе процессии, непосредственно
за крестоносцем.
— Это он,—проговорила она еле слышно, — опять этот
священник.
Действительно, то был архидьякон. По левую руку его следовал
помощник соборного регента, по правую — регент, вооруженный
своей палочкой. Архидьякон приближался к мей с откинутой назад
головой, с неподвижным взглядом широко открытых глаз и пел
сильным голосом:
Из глубины ада воззвал я к тебе, и глас мой был услышан.
И ввергнул меня в недра и пучину морскую, и волны обступили
меня (лат.).
В тот миг, когда он в сияющий полдень появился под высоким
стрельчатым порталом в серебряной парчевой ризе с черным
крестом, он был так бледен, что его можно было примять за одного
из мраморных епископов, который сошел с надгробного памятника,
чтобы встретить у порога могилы ту, которая шла умирать.
Столь же бледная и столь же похожая на статую, Эсмеральда
почти не заметила, как в руки ей вложили тяжелую горящую свечу
желтого воска; она не внимала визгливому голосу писца,
читавшего роковую формулу публичного покаяния; когда ей велели
произнести «аминь», она произнесла «аминь». И только увидев
священника, который, сделав знак страже отойти, один направился к
ней, она почувствовала прилив сил.
Вся кровь в ней закипела. В оцепеневшей душе вспыхнула
последняя искра возмущения.
Архидьякон медленно приблизился. Даже у этого предела она
видела, что его взгляд, скользящий по ее обнаженному телу, горит
сладострастием, ревностью и желанием. Затем он громко
проговорил:
— Девица, молила ли ты бога простить тебе твои
заблуждения и прегрешения?
И, наклонившись к ее уху (зрители думали, что он принимает
ее исповедь), он прошептал:
2/7
<— Хочешь быть моею? Я могу еще спасти тебя!
Она пристально взглянула «а него:
— Прочь, сатана, иначе я изобличу тебя!
Он улыбнулся жуткой улыбкой:
— Тебе не поверят. Ты только присоединишь к своему
преступлению еще и позор. Скорей отвечай, хочешь быть моею?
— Что ты сделал с моим Фебом?..
...— Так умри же ты!—сказал он сквозь зубы. — Никто не
будет обладать тобой!
И, простерши над цыганкой руку, он возгласил мрачным
голосом, звучавшим, жак погребальный звон:
— Так гряди же, грешная душа, и да смилуется над тобой
господь (лат.).
То была страшная формула, которою обычно заканчивались
эти мрачные церемонии. То был сигнал священника палачу.
МАРК ТВЭН
(1835—1910)
Святой источник
Паломники были люди. В противном случае, они вероятно
поступили бы иначе. Они совершили долгий и трудный путь.
И теперь, когда этот путь был уже почти окончен, и они вдруг
узиали, что главное, за чем они ехали, перестало существовать, они
поступили не так, как поступили бы на их месте лошади, кошки
или черви — те, по всей вероятности, повернули бы обратно и
занялись бы чем-нибудь более полезным. — Нет, они поступили
совсем иначе: подобно тому как раньше они жаждали увидать
чудотворный источник, так теперь они еще в сорок раз более
жаждали увидать то место, на котором прежде бил этот источник.
Поступки людей совершенно необъяснимы.
Мы прибавили шагу и часа за два до заката солнца
находились уже на высоких холмах, обрамляющих Долину Святости, и
могли обозреть ее от края до края, в общих чертах. В трех разных
местах, на далеком расстоянии друг от друга, виднелись постройки,
казавшиеся игрушечными в этой обширной пустыне. Видеть
человеческие жилища затерянными в пустыне всегда грустно, — в них
так особенно тихо, что они кажутся вымершими. Но здесь, хотя и
раздавался звук, нарушавший тишину, он только вносил в нее еще
большее уныние: то был отдаленный слабый звук похоронного
благовеста, время от времени доносимый до нас налетавшим
ветерком, — такой слабый и тихий, что мы даже не знали, слышим
ли мы его на самом деле или нам только чудится.
Мы еще^засветло доехали до монастыря и здесь иноки
приютили нас всех, мужчин. Но женщин отправили в женскую обитель.
Теперь колокольный звон был слышен вблизи, и он гудел
торжественно и уныло, как бы возвещая о Судном дне. Суеверное
отчаяние завладело сердцами иноков и ясно читалось на их мрачных и
бледных лицах. Повсюду около нас бесшумно скользили
монашеские фигуры в черных рясах, в мягких сандалиях, с лицами точно
из воска и исчезали неслышно, как призраки, как видения
тревожного сна.
Радость старого настоятеля при виде меня была трогательна —
даже до слез; впрочем слезы проливал только он один.
— Не медли, сын мой, — говорил он.—Спешн приступить к
делу спасения. Если нам не удастся вернуть воду в иссякшем
ложе источника, и притом в самом скором времени, мы погибли, и
доброе дело, стоявшее две сотни лет, поневоле разрушится. Только
смотри, чтобы чары твои не были нечестивыми, ибо церковь не
потерпит, чтобы на пользу ее работали, прибегая к колдовству и
помощи дьявола.
— Если я возьмусь за работу, отец мой, то, можете быть
уверены, дьявол будет здесь не при чем. Ни к каким дьявольским
чарам я прибегать не стану и буду пользоваться только такими
матерьялами, которые созданы божьей рукой. Но уверены ли вы,
что Мерлин столь же благочестив?
— Ах, сын мой, он обещал, что не будет призывать злого
духа, — он обещал и подтвердил свое обещание клятвою.
— Ну, в таком случае, пусть его продолжает.
— Но ведь ты же не будешь смотреть, сложа руки, на то, как
он работает? Ты поможешь ему?
— Не годится, отец мой, смешивать разные методы, — да это
и с профессиональной точки зрения неучтиво. Раз мы занимаемся
одним ремеслом, нам не следует подставлять ножку друг другу.
В конце концов, нам придется как-нибудь разделиться, но теперь
дело поручено Мерлину, и никакой другой волшебник не может
взяться за него, пока он не нарушит договора.
— Но я сам его прогоню: нам угрожает такая страшная
опасность, что я считаю себя вправе это сделать. И даже без того, кто
станет предписывать законы церкви? Церковь сама всем
предписывает законы и чего она хочет, то и может сделать, как бы кто
ни обижался на нее за это. Я его прогоню, и ты начинай
сейчас же.
— Нет, отец мой, этого вы не делайте. Разумеется, как вы
говорите, кто всем верховодит, тот может делать что хочет и никто
не посмеет ему перечить; но мы, бедные волшебники, находимся в
другом положении. Мерлин весьма недурной колдун на мелкие
дела и пользуется довольно широкой известностью в провинции.
Он борется здесь один, добросовестно прилагая все старания, ц(
219
с моей стороны, было бы против всяких приличий отнять у него
работу, пока он сам ее не бросит.
Лицо настоятеля просветлело.
— Ну, это не трудно. Мы найдем способ убедить его, чтоб он
бросил.
— Нет, нет, отец мой, это не пройдет. Если вы заставите его
это сделать против его воли, он заколдует ваш источник злыми
чарами, которые я смогу разрушить только, когда узнаю, в чем тут
секрет. А на это может уйти целый месяц. Я бы тоже мог тут
устроить маленькое колдовство, которое я зову телефоном — так
ведь он бы и во сто лет не дознался, в чем тут дело. Поэтому и
меня он может задержать на целый месяц. А разве вам приятно
было бы рисковать такой долгой проволочкой в такую засуху?
— Целый месяц! При одной мысли об этом я весь дрожу.
Пусть будет по-твоему, сын мой. Но это большое для меня
разочарование, и сердце мое тяжко скорбит. Оставь меня опять одного
с моим томлением и ожиданием, истерзавшими меня за эти долгие
десять дней, в которые я не знал, что значит отдых, ибо, когда
простертое тело мое являло видимость покоя, этого покоя не было
в моей душе.
Конечно, самое лучшее было бы, даже и для Мерлина, плюнуть
на всякие приличия и бросить дело, так как все равно ему
никогда не удалось бы вернуть исчезнувшую воду; ибо Мерлин был
истый чародей своей эпохи: т. е. это значит, что крупные чудеса,
создавшие ему репутацию мага и волшебника, он как-то всегда
ухитрялся творить так, что никто при них, кроме него самого, не
присутствовал — не мог же он пустить в ход этот источник, когда
вокруг стояла и глазела целая толпа народа; толпа зрителей в те
дни так же парализовала способность волшебника творить чудеса,
как в мое время она парализовала спиритов: всегда найдется
какой-нибудь скептик, который в самый критический момент пустит
свет и все испортит. Но мне вовсе не желательно было, чтобы
Мерлин уступил мне место раньше, чем я сам буду готов взяться
за работу; а я не мог этого сделать, пока не получу всего
выписанного из Камелота — для этого требовалось два дня, если не
больше...
На другой день, чуть свет, я был уже у источника. Я уже
застал там Мерлина: он колдовал и рылся в земле, как бобр, но
не мог добыть и капли влаги; настроение у него было неважное;
и всякий раз, как я намекал ему, что, пожалуй, для неопытного
человека слишком рискованно было брать на себя такое тяжкое
обязательство, у него развязывался язык, и он начинал ругаться
как епископ — я хочу сказать: французский епископ эпохи
Регентства.
Дело обстояло приблизительно так, как я и ожидал.
«Источник» оказался самым обыкновенным колодцем, вырытым самым
обыкновенным манером и выложенным самым обыкновенным
камнем. Ничего чудесного в нем не было, как не было ничего чудесного
И в лжи, создавшей его всесветную славу. Колодец находился в
220
темной горнице, в самом центре каменной часовни, стены которой
были увешаны картинками религиозного содержания, перед
которыми могла бы возгордиться своей красотой и
хромолитография, — картинками, представлявшими чудесные исцеления,
совершенные водами источника. Характерно, что этих исцелений никто
не видал своими глазами, т. е. никто, кроме ангелов -*- эти всегда
сидят на крыше, когда совершается чудо, может быть, для того,
чтоб и самим лопасть на картинку. Ангелы так же любят это,
как и пожарные — проверьте это по картинам старых мастеров.
Горница, где находился колодец, была слабо освещена
лампадами; воду доставали с помощью ворота и ведра на цепи,
доставали монахи и переливали в желоба, по которым она стекала в
каменные резервуары, помещавшиеся уже в самой часовне —
разумеется, в то время, когда вода была, — и никто, кроме иноков, не
имел права входа в помещение самого колодца. Я вошел туда, так
как мой собрат по ремеслу любезно разрешил мне сделать это. Но
сам он туда не входил. Он довольствовался заклинаниями и даже
не пытался раскинуть умом. Если бы он вошел туда и обратился
бы к помощи своих глаз, а не своего поврежденного рассудка, он
бы может и сумел бы починить источник естественными
средствами, а затем, как водится, превратил бы это в чудо; но нет, это
был старый дурак, колдун, веривший в собственное колдовство;
а ни один чародей не может иметь успеха, если подобное суеверие
тормозит его работу.
Я подозревал, что одна из стенок колодца дала трещину —
камни расселись, а то и вывалились, и в трещину уходила вода. Я
измерил цепь — длина ее равнялась 98 футам. Потом кликнул пару
монахов, запер двери, взял свечу и попросил их спустить меня в
колодец. Когда цепь размотали до конца, осмотр подтвердил мое
предположение: значительная часть стены вывалилась, образовав
огромную трещину.
Я почти жалел, что мои догадки о причине исчезновения воды
подтвердились, так как я подозревал нечто другое, более выгодное
с точки зрения чуда...
Восстановление источника
В субботу около полудня я пошел к источнику. Мерлин все еще
жег свои благовонные курения, топотал ногами и размахивал
руками, бормоча какую-то тарабарщину; но вид у него был
унылый, так как, разумеется, ему не удалось вызвать и капли влаги.
Я смотрел — смотрел на него и, наконец, сказал:
— Ну что, товарищ, срок уж близится к концу. Скоро ли ты
исполнишь свое обещание?
— Вот, гляди: сейчас я применю самые могущественные чары,
известные владыкам с сокровенными знаниями в странах Востока;
если и они не помогут, значит, ничто не поможет. Помолчи, пока
я не кончу.
Он поднял такой дым, от которого все потемнело вокруг, и
отшельники, должно быть, почувствовали себя не очень приятно, так
221
Как ветер был в их сторону, и весь дым густыми клубами валил
туда. При этом он наговорил столько, что из его слов можно было
составить целые томы, и изгибался всем телом, и делал руками
в воздухе какие-то неестественные жесты. Через двадцать минут
он опустился на землю, задыхаясь, совершенно обессиленный. Тут
подоспел настоятель и с ним несколько сот монахов и монахинь, а
вслед за ними куча паломников и призреваемые найденыши,
которые заняли пространство чуть не в две десятины. Все они были
привлечены сюда густым вонючим дымом, и все очень волновались.
Игумен тревожно допытывался относительно результатов. Мерлин
отвечал:
— Если бы труды смертного были в состоянии рассеять чары,
сковавшие эти воды, это давно, было бы сделано. Все мои усилия
остались бесплодными; и теперь я знаю, что произошло именно
то, чего я боялся: моя неудача доказывает, что источник
околдован могущественнейшим духом, известным восточным волхвам —
духом, имя которого нельзя произнести и остаться в живых. Нет
и не будет такого смертного, который был бы в силах проникнуть
в тайну θτογο заклятия, а, не узнав этой тайны, невозможно и
снять его... Вода в источнике иссякла навсегда, добрый отец мой.
Я сделал все, что может сделать человек. Позвольте мне удалиться.
Разумеется, такое заявление очень смутило настоятеля. Он
повернул ко мне расстроенное лицо и спросил:
— Ты слышал, сын мой, что он говорит? Правда это?
— Частью, правда.
— Но не все? Значит, не все! Что же именно правда?
— Что дух, носящий русское имя, околдовал источник.
— Язвы господни! В таком случае, мы погибли.
— Весьма возможно.
— Но не наверное? Ты хочешь сказать: не наверное?
— Именно.
— Стало быть ты полагаешь, что, когда он говорил, будто
ничто не может разрушить эти чары...
— Ну да, это не обязательно должно оказаться правдой.
Существуют условия, при которых попытка рассеять эти чары может
иметь некоторые шансы на успех — хотя самые слабые, ничтожные.
— Эти условия...
— О, условия не трудные. Всего-навсего вот что: я требую,
чтобы источник и окружающее его пространство на расстоянии
полу-мили вокруг было предоставлено исключительно в мое
распоряжение от сегодняшнего заката до той минуты, когда я сниму
заклятие — и чтобы никто не смел входить туда иначе, как с моего
позволения.
— И это все?
— Все.
— И ты не боишься попробовать?
— О, ничуть. Разумеется, попытка может и не удаться, но
может быть и успешной. Отчего же не попытаться? Я готов
попытаться. Условия мои вам известны.
222
— И эти, и всякие другие, какие бы ты ни поставил, будут
приняты. Я сейчас распоряжусь.
— Погодите, — сказал Мерлин с злобной усмешкой. — Ты
понимаешь, конечно, что тот, кто захочет снять эти чары, должен
знать имя духа.
— Да, я знаю его.
— И знаешь также, что знать его мало, а надо еще
произнести его вслух. Ха-ха. Ты и это знаешь?
— И это знаю.
— Он и это знает. Так что же ты, безумец, хочешь назвать
его имя и умереть?
— Назвать его имя? Ну, конечно... Я назвал бы его, если б
оно даже было валлийское, а не только русское.
— В таком случае, ты погиб...
— Вот и отлично. Забирай, дедушка, свои пожитки и
проваливай. Твое дело сидеть дома и делать погоду.
Стрела попала в цель, и дедушка мой нахмурился, так как в
целом королевстве он был худший предсказатель погоды. Когда он
приказывал вывесить на берегу сигналы, предвещающие шторм, вы
могли быть заранее уверены, что погода, по крайней мере, неделю
простоит совершенно безветреная; когда же он предвещал хоро*
шую, сухую погоду, дождь лил ручьями. Тем не менее, я оставил
его в бюро предсказаний погоды, именно для того, чтоб подорвать
его репутацию. Как бы то ни было, мой коварный намек поднял
в нем желчь, и, вместо того, чтобы отправиться домой с
извещением о моей гибели, он объявил, что останется здесь, чтобы
самому насладиться этим зрелищем.
Двое моих помощников прибыли в тот же вечер, страшно
измученные, так как они ехали форсированным маршем. С ними
были вьючные мулы, и они привезли все нужное — всякого рода
инструменты, насос, свинцовую трубку, бенгальский огонь, пучки
больших ракет, римские свечи, разноцветные бураки, рассыпающие
искры во все стороны, электрическую батарею и кучу всякой
всячины— словом, все необходимое для самого шикарного чуда. Они
поужинали, соснули немного, и около полуночи мы все трое
отправились к источнику. Кругом было так тихо и пустынно, что это
Даже превосходило мои требования. Кроме нас, ни вблизи ни
вдали от источника, не было ни души. Мои ребята были мастера на
все руки — от кирпичной кладки до сооружения математических
Инструментов. За час до восхода солнца трещина была заделана на
совесть, и вода в колодце начала подниматься. Тогда мы сложили
наши фейерверки в часовне, заперли ее на ключ и пошли домой
спать.
Еще до конца обедни мы уже снова были у источника, так
как работы предстояло еще много, а я решил устроить это чудо
до полуночи, ибо, если чудо, совершенное на пользу церкви в
будний день, стоит дорого, то ценность его удесятеряется, если оно
пришлось на праздник, в воскресный день. За девять часов вода
дошла уже до своего обычного уровня, на расстоянии двадцати
223
трех футов от края. Мы вставили в колодец небольшой железный
насос — один из первых сооруженных моими стараниями, —
пробуравили дно каменного резервуара, прислоненного к наружной
стене горницы, где находился колодец, и вставили туда часть
свинцовой трубки, достаточно длинную для того, чтоб она дошла
до дверей часовни и выбросила за порог струю воды, которая
была бы видима всем: — по моим расчетам, к нужному времени на
плоской равнине вокруг этого священного холмика должно было
собраться столько народу, что им будет покрыто пространство в
двести пятьдесят акров.
Мы вышибли дно у пустой бочки, подняли ее на плоскую
крышу часовни, (прибили крепко дном к крыше и насьтали туда
пороху на дюйм глубины, а в порох понатыкали ракет, всех сортов,
какие только у нас были, — а у нас их было немало. В порох же
мы воткнули конец проволоки, соединенной с карманной
электрической батареей, и в каждом углу крыши устроили целый склад
бенгальского огня -— в одном углу—голубого, в другом — зеленого,
в третьем — красного, в четвертом —малинового, и, в свою
очередь, каждый соединили проводом с электрической батареей.
На расстоянии ярдов двухсот от часовни, на ровном месте, мы
сложили из брусьев загон, вышиною фута в четыре, накрыли его
досками, и получилась платформа. Платформу мы изукрасили
яркоцветными коврами, взятыми напрокат специально для этого
случая, и поставили посредине ее кресло настоятеля, изображавшее
собою нечто вроде трона. Когда чудо предназначается для
невежественной публики, вы должны обратить внимание "на все детали,
устроить все как можно величественнее и внушительнее,
приспособить все как можно удобнее для главных ваших гостей; а затем
уже у вас развязаны руки, и вы можете пустить пыль в глаза,
использовав все заранее подготовленные эффекты. Я знаю, как все
это важно « ценно, ибо знаю человеческую натуру. Вы не можете
переборщить в стилизации чуда. Это требует много времени и
труда, подчас — и денег; но в конце концов всегда окупается.
Итак, мы провели проволоки по полу часовни, потом по земле
до самой платформы и спрятали батареи под ее полом. А
платформу обвели с четырех сторон веревкой, на расстоянии ста футов
от нее, чтобы удерживать толпу подальше. На этом и кончилась
наша работа. Мой план был таков: впуск публики с 10.30;
представление начнется ровно в 11.25. Я был бы очень непрочь брать
плату за вход, но, разумеется, это было неудобно. Я приказал
своим ребятам уже в десять часов быть в часовне и держаться
начеку, чтобы вопвремя пустить в ход насосы. Затем мы пошли
домой ужинать.
Весть о катастрофе с источником к тому времени разнеслась
далеко, и все эти три дня народ валом валил в долину. Устье ее
превратилось в один огромный лагерь — публики у нас будет
достаточно: в том сомнения не было. Тем более, что еще в начале
вечера глашатаи обошли всю долину, оповещая о предстоящей
попытке вернуть воду в источник, и все были исполнены лихора-
224
дочного ожидания. Глашатаям велено было оповестить, что ровно
в 10.30 настоятель со своей свитою и монахи торжественной
процессией выйдут из монастыря и займут места на платформе, и что
до этого момента никто не смеет переступить черту, объявленную
мной под запретом; после же этого колокольный звон стихнет, и
это будет сигналом, что все желающие могут войти и тоже занять
места.
Я стоял на платформе, готовый к приему гостей, когда в виду
показалась торжественная процессия, во главе которой шел
настоятель, т. е. увидал-то я ее уже тогда, когда она подошла к
веревочному кордону, ибо ночь была темная, беззвездная, а факелы взять
я не позволил. Вместе с монахами явился и Мерлин и поместился
в первом ряду: на сей раз он был верен своему слову. Я не мог
видеть толп, собравшихся за запретной чертой, но они все-таки
были там, — я это знал. Лишь только смолкли колокола, как эти
невидимые массы ворвались и разлились огромной черной волной
по всему свободному пространству; и еще полчаса они все
притекали; потом застыли и осели плотно — до того, что вы могли
пройти несколько миль по мосту из человеческих голов.
Минут двадцать мы подождали, для вящшего эффекта — это
было у меня рассчитано заранее; всегда полезно заставить вашу
аудиторию немного потомиться ожиданием: это разжигает
любопытство. Наконец, среди всеобщего безмолвия, раздались
благородные звуки латинского гимна, исполняемого хором мужских
голосов, — вначале тихие, они разрастались, крепли и наполняли
мрак торжественной, величавой мелодией. Это тоже был
придуманный мною эффект, и один из самых удачных. Когда пение смолкло,
я стал на краю платформы с распростертыми руками и поднятым
кверху лицом — это всегда достигает цели: водворяется мертвая
тишина, и затем медленно, раздельно, торжественно, произнес
страшное слово, от которого затрепетали тысячи мужчин, а
женщины попадали в обморок: Константинополитанишердудельсакп-
фейфенмахерсгезелльшафт.
Как раз в тот миг, когда у меня стоном вырвался последний
заключительный слог этого слова, я коснулся одного из
электрических проводов, — и -вдруг все эти черные массы народа озари'
лись призрачным мертвенно-синим светом. Эффект получился
необычайный. Многие вскрикивали; женщины метались и
разбегались в разные стороны; найденыши так и валились на землю
целыми взводами. Настоятель и монахи торопливо крестились и дро'
жащими губами взволнованно шептали молитвы. Мерлин держал
себя в узде, но и он был, видимо, изумлен необычайно: такого
начала он еще не видывал. Теперь, не давая остынуть волнению и
любопытству, надо было громоздить эффект на эффект. Я воздел
руки к небу и, как бы в мучительной тоске, возопил:
Нигнлистендинамиттеатеркестхенсшпренгунгсаттетатсферзухунген.
И зажег красный огонь. Посмотрели бы вы, как застонало л
завыло это живое море, когда к мертвенно-синему свету присоеди-
нился красный цвет адского пламени. Переждав ровно шестьдесят
секунд, я возопил:
Трансваальтруппентропентранспортрампельтиртрейбертрауунгстрэнентрагеди.
И зажег зеленый огонь. Подождав еще немного — на этот раз
всего только сорок секунд,—я простер руки вперед и громовым
голосом выкрикнул все двадцать четыре ужасных слога этого слова
слов:
Меккамузельманненмассеншенмердерморенмуттермармормонументенмахер.
И пустил последний огонь, малиновый. Теперь по всем четырем
углам крыши горели огни—синий, красный, зеленый, малиновый—
четыре яростных вулкана, выбрасывавших кверху огромные клубы
лучезарного дыма, обливая ослепительным «радужным светом
отдаленнейшие уголки долины. Вдали виден был столпник на своем
столбе, недвижный, как изваяние, выделяющееся на фоне
залитого светом неба,—и впервые за двадцать лет приостановивший свои
поклоны. Я знал, что ребята мои уже у насоса и ждут только
знака. И я сказал настоятелю:
— Отец мой, час настал. Сейчас я произнесу страшное имя и
прикажу чарам рассеяться. Соберитесь с духом, ухватитесь за что-
нибудь.
Потом крикнул народу:—Внимание! Через минуту чары будут
рассеяны,—или никто в мире не сможет рассеять их. Если я их
разрушу, все узнают о том, ибо святая вода потечет из дверей
часовни.
Я подождал еще несколько минут, чтобы дать время
слышавшим передать мои слова тем, кто не мог расслышать, до самых
последних рядов; потом принял еще более торжественную позу и,
с подобающими жестами, выкрикнул:
— Смотрите все. Я повелеваю падшему духу, околдовавшему
святой источник, ныне извергнуть к небесам все адские огни,
которые он еще затаил в себе, и немедленно же (разорвать свои чары
и умчаться отсюда в бездну, где ему лежать связанному (ровно
тысячу лет. Его собственным грозным именем заклинаю его:
Бджвжжиллиджжж!
Тут я нажал кнопку провода, тянувшегося к бочке с ракетами,
и целый фонтан ослепительных ярких огненных стрел с
пронзительным свистом взвился к зениту и посредине неба рассыпался
ливнем разноцветных алмазов. Мощный единодушный крик ужаса
вырвался ,разом из тысячи грудей, и тотчас же вслед за ним —
безумный вопль радости, так как из двери часовни вдруг
брызнула, всем явственно видимая при этом ярком свете, расколдованная
вода. Старый настоятель не мог выговорить ни слова — его
душили слезы, и слова застревали у него в горле: он только сгреб меня
и чуть не задушил в своих объятиях. Это было красноречивее слов
и, вдобавок, гораздо опаснее в стране, где не было ни единого
доктора, который бы стоил хоть ломаного гроша.
Посмотрели бы вы, как несчастные людские стада кидались на
226
землю и приникали к воде, лаская ее, гладя, целуя, разговаривая с
ней, как с живой, называя ее самыми нежными, ласковыми
именами, словно друга, который долго пропадал без вести и считался
погибшим и ©друг снова вернулся домой. Да, это было красивое
зрелище, и с той минуты я стал лучшего мнения об этих людях, чем
был раньше.
Мерлина я отправил домой на носилках. Как только я произнес
это страшное имя, он словно нырнул вниз, свалился без чувств и
потом уж так и не мог никогда по-настоящему прийти в себя. Он
никогда раньше не слыхал этого имени, — как и я, — но сразу
узнал, что оно настоящее; какое бы дурацкое имя я ни придумал,
оно все равно было бы для него настоящим. Впоследствии он счел
долгом признать, что и родная мать этого духа не могла бы
произнести его имени лучше, чем я. Он никак не мог понять, каким
образом я ухитрился произнести это имя и остаться в живых, а я не
объяснил ему этого. Только юные и неопытные волшебники
выдают подобные секреты. Мерлин трудился целых три месяца,
придумывая всевозможные заклинания, чтобы добраться до фокуса —
как выговорить это имя и не умереть. Но так и не добился
желаемого.
Когда я шел обратно в часовню, толпа с непокрытыми
головами почтительно и благоговейно расступалась передо мной, очищая
мне путь, как будто я был каким-то существом высшей породы...
впрочем, если на то пошло, ведь так оно и было. Я сам сознавал
это. Я отобрал нескольких монахов, поставив их на ночь караулить
источник, посвятил их в тайну насоса и велел им качать воду
безостановочно, так как ясно было, что большая часть видевших чудо
не разойдется, а будет сидеть над водою всю ночь до
утра;—следовательно, надо же было дать им все то, за чем они явились
сюда. Монахам и самый насос показался порядочным чудом, и они
не могли надивиться ему и без конца восторгались тем, как он
чудесно работает.
Это была великая ночь, необычайная ночь. Одна такая ночь
могла создать человеку громкое имя. Я ликовал и гордился, и
радовался, и от радости долго не ιμογ заснуть.
Любознательная Бесси
Бесси—славная девочка, не шалунья, не тараторка; она любит
поразмышлять то над тем, fто над этим и постоянно спрашивает
«почему?», стараясь понять, что происходит вокруг нее. Однажды
она спросила:
— Мама, почему повсюду столько страданий и горя? Для чего
все это?
Это был несложный вопрос, и мама, не задумываясь, ответила:
— Для нашего же блага, деточка. В своей неисповедимой муд-
15* 227
расти бог посылает нам эти испытания, чтобы наставить нас на
путь истинный и сделать нас лучше.
— Значит, это он посылает страдания?
-Да.
— Все страдания, мама?
— Конечно, дорогая. Ничто не происходит без его воли. Но
он посылает их полный любви к иам, желая сделать нас лучшими.
— Это странно, мама.
— Странно? Что ты, дорогая! Мне это не кажется странным.
Никому это не кажется странным. Все думают, что так должно
быть, что это милосердно и мудро.
— Кто это первый стал так думать, мама? Ты?
— Нет, крошка, меня так учили.
— Кто так тебя учил, мама?
— Я уже не помню. Наверно, моя мама или священник. Во
всяком случае, все знают, что это правильно.
— А мне это кажется странным, мама. Скажи: это бог послал
тиф Билли Норрису?
-Да.
— Для чего?
— Как для чего? Чтобы наставить его на путь истинный,
чтобы сделать его хорошим мальчиком.
— Но он же умер от тифа, мама. Он не может стать хорошим
мальчиком.
— Ах, да! Ну, значит, у бога была другая цель. Во всяком
случае, это была мудрая и милосердная цель.
— Что же это была за цель, мама?
— Ты утомляешь меня, крошка. Быть может, бог хотел
послать испытание родителям Билли.
— Но это нечестно, мама! Если бог хотел послать испытание
родителям Билли, зачем же он убил Билли?
— Я не знаю, крошка. Я могу только сказать тебе, что его
цель была мудра и милосердна.
— Какая цель, мама?
— Он хотел... он хотел наказать родителей Билли. Они, быть
может, согрешили и были наказаны.
— Но умер же Билли, мама! Разве это справедливо?
— Конечно, справедливо. Бог не делает ничего, что было бы
несправедливо. Тебе не (понять этого сейчас, но когда ты
вырастешь большая, тебе будет понятно, что все, что бог делает, мудро
и справедливо.
Пауза.
— Мама, это бог обрушил крышу на человека, который
выносил из дому старушку, когда был пожар?
— Ну да, крошка. Постой! Что за вопросы ты задаешь? Ты
должна помнить только одно: всякое деяние божье показывает его
всемогущество, правосудие и любовь к людям.
— А вот когда пьяница ударил вилами ребеночка у миссис
Уэлч...
228
— Это — совсем не твое дело! Впрочем, бог, наверно, хотел
послать испытание этому ребенку, наставить его на путь истинный.
— Мама, мистер Боргес говорил, что миллионы миллионов
маленьких существ нападают на нас и заставляют нас болеть
холерой, тифом и еще тысячью болезней. Мама, это бог посылает их?
— Конечно, крошка, конечно. Как же иначе?
— Зачем он посылает их?
— Чтобы наставить нас на путь истинный. Я тебе уже сказала.
— Но это ужасно жестоко, мама! Это глупо! Если бы мне...
— Замолчи, сейчас же замолчи! Ты хочешь, чтобы иас
поразило громом?
— Мама, на прошлой неделе «колокольню поразило громом к
церковь сгорела. Что, бог хотел наставить церковь на путь
истинный?
— (Устало.) Не знаю, может быть...
— Молния убила тогда свинью, которая ни в чем не была
повинна. Бог хотел наставить эту свинью на путь истинный, мама?
— Дорогая моя, ты, наверно, хочешь погулять. Пойди побегай
немного.
АНАТОЛЬ ФРАНС
(1844—1924)
Крещение пингвинов
(Отрывок)
Проплыв около часа вниз по течению, святой муж причалил к
узкому берегу, замкнутому отвесными скалами. Он проходил день
и ночь вдоль берега, огибая скалы, составлявшие неприступную
стену. Он убедился таким образом, что остров круглый и что
посредине его возвышается гора, увенчанная облаками. Он вдыхал с
радостью свежесть влажного воздуха. Шел дождь, и этот дождь
был так сладостен, что святой муж сказал господу:
— Господи, вот остров покаяния, остров слез.
Берег был пустынный. Истощенный голодом и усталостью, он
сел на камень, в расщелинах которого лежали желтые, величиной
с лебединые, яйца с черными пятнышками. Но он не тронул их,
сказав: "
— Птицы — живая хвала господу. Я не хочу, чтобы по моей
вине убавилось хотя бы на одну хвалу.
Он оторвал от камня кусочек моха и пожевал его.
Святой муж обошел, таким образом, почти вокруг всего остро-
J29
ва, не встретив никого из обитателей страны. Наконец, он пришел
к широкому амфитеатру, образовавшемуся из стоявших кругом
бурых и красных утесов с шумевшими в них водопадами.
Верхушки утесов синели в облаках.
Преломление света на полярных льдах жгло глаза старику.
Но все-таки слабый свет проникал еще через его распухшие веки. Он
разглядел толпу живых существ, толпившихся на выступах утесов,
подобно людям, занимающим «места на скамейках амфитеатра. И в
то же время, слух его, оглушенный продолжительным шумом моря,
слабо различал звуки голосов. Полагая, что перед ним люди,
живущие согласно природе, и что господь послал его к ним с целью
обратить их в христианство, он стал проповедывать им евангелие.
Встав на высокий камень среди дикого цирка, он обратился к
ним с речью:
— Обитатели острова, — оказал он, — хотя вы малы ростом,
все же вы кажетесь не племенем рыболовов и моряков, а сенатом
мудрой республики. Своей важностью, своим молчанием, своим
спокойным поведением вы уподобляетесь римским сенаторам,
обсуждающим дела в храме Победы, или, вернее, афинским философам,
ведущим споры на скамьях Ареопага. Конечно, вы не обладаете ни
их знаниями, ни их гениальностью, но, быть может, вы более
угодны господу, чем они. Я предчувствую, что вы просты и добры.
Обходя берег вашего острова, я не встретил ничего, говорящего об
убийствах, не видел никаких следов кровопролития, не видел
неприятельских голов, привешенных за волосы на высокий шест или
прибитых гвоздями у входа в деревни. Мне кажется, что вам
совсем неведомы искусства и что вы не обрабатываете металлов. Но
сердца ваши чисты и руки ваши невинны. Истина легко войдет в
ваши души.
Существа, которых он принял за людей маленького роста, были
пингвины; их свела в это место весна. Они расположились парами
на естественных ступенях утеса, величественно выставляя напоказ
свои толстые белые животы. Временами они хлопали крыльями и
испускали мирные возгласы. Они не боялись людей, потому что не
знали их и никогда от них не страдали. Кроме того, в этом монахе
чувствовалась доброта, которая успокаивала самых пугливых
животных и очень понравилась пингвинам. Они обратили к нему с
дружелюбным любопытством свои маленькие круглые глаза,
удлиненные белым продолговатым пятном, придававшим их взгляду
что-то странное и человеческое. Тронутый их вниманием, святой
муж стал преподавать им евангелие.
— Обитатели острова, — сказал он, — дневной свет,
поднимающийся теперь на ваших скалах, — подобие внутреннего света,
который озарит ваши души. Я принес вам внутренний свет и тепло
для души. Так же, как от лучей солнца тают льды ваших гор, так
Иисус Христос растопит лед ваших сердец.
Так говорил старик. И так как в природе голос всегда манит к
себе другие голоса, так как все, что дышит и живет светом дня,
любит пение чередующихся голосов, то пингвины ответили стари-
230
ку своими криками. И голос их звучал мягко, потому что они
переживали пору любви.
И святой муж, уверенный, что они принадлежат к
какому-нибудь языческому племени и выражают на своем языке свое
желание перейти в христианство, предложил им принять крещение.
— Я полагаю, — сказал он,— что вы часто купаетесь. Все
углубления в ваших скалах полны чистой воды, и я видел,
отправляясь сюда, как некоторые из вас погружались в эти естественные
бассейны. А чистота тела подобие чистоты духовной.
И он объяснил им происхождение, свойства и следствия
крещения.
— Крещение, — сказал он им, — это Восприятие, Возрождение,
Преображение, Просветление.
И он объяснил им каждое из этих определений
Потом, предварительно благословив воду, лившуюся из
водопадов, и прочитав заклинания, он окрестил тех, которых просветил,
пролив на голову каждого из них каплю чистой воды и произнося
заповедные слова.
И он крестил птиц в течение трех дней и трех ночей.
Совещание в раю
Когда в раю узнали о крещении пингвинов, это не вызвало ни
радости, ни печали, а только чрезвычайное удивление. Сам господь
был в затруднении. Были созваны ученые и доктора для решения
вопроса, считают ли они это крещение действительным.
— Оно не имеет никакой силы, — сказал святой Патрик.
, — Почему? — спросил святой Галл, который обратил в
христианство весь Корнуэльс и наставлял при жизни святого мужа
Маэля в апостольских трудах.
— Таинство крещения недействительно, — ответил святой
Патрик, — когда оно обращено на птиц, так же, как недействительно
таинство бракосочетания, если оно совершено над евнухом.
Но святой Галл возразил:
— Что общего между крещением птицы и браком евнуха?
Ничего. Бракосочетание, если можно так выразиться, таинство
условное, предполагающее нечто впереди. Священник заранее
благословляет некий акт, и если акт не свершится, то благословение не
окажет никакого действия. Это так ясно, что не требует доказательств.
Я знал при жизни в городе Антриме богатого человека,
которого звали Садоком. Он состоял в незаконной связи с одной
женщиной и прижил с нею девять детей. На старости лет, уступив моим
увещаниям, он согласился обвенчаться с нею, и я благословил их
союз. К несчастью, престарелые годы Садока помешали
осуществлению брака. Вскоре после того он потерял все свое состояние, и
Жермена, так звали женщину, не чувствуя себя в силах выносить
нужду, потребовала расторжения брака на том основании, что он
не был действительным. Папа исполнил ее требование, так как оно
было справедливо. Вот как обстоит дело с браком. Но крещение
231
не предполагает никаких ограничений и условий, и относительно
него не может быть вопроса: над пингвинами было совершено
таинство.
Когда обратились к папе, святому Дамасию, прося его
высказать свое мнение, он дал следующий ответ:
— Чтобы решить, действительно ли крещение и проявится ли
его действие, то-есть приведет ли оно к освящению крещеного,
нужно знать, кем, а не над кем крещение было совершено.
Освящающая сила этого таинства является следствием внешнего
действия, через посредство которого оно совершается, и тот, «ого
крестят, сам ничем не способствует своему освящению. Если бы это
не было так, то не крестили бы новорожденных. И для того, чтобы
крестить, не нужно выполнять никаких особых условий. Нет
необходимости быть в состоянии благодати. Достаточно сделать то, что
делает церковь, произнести установленные слова и выполнить
предписанные формальности. Мы не можем усомниться в том, что
высокочтимый Маэль ©се это выполнил. Значит, пингвины
крещены.
Паштет из языков
Сатана лежал на своем ложе за пологом огненного цвета. Врачи
и аптекари преисподней, убедившись, что язык у него побелел,
заключили, что он страдает несварением желудка, и посоветовали
ему принимать пищу укрепляющую и вместе с тем легкую.
Сатана объявил, что его разбирает охота отведать одно земное
блюдо, которое отлично готовят женщины, собравшись вместе,
именно, паштет из языков.
Медики признавали, что нет блюда, более подходящего теперь
для желудка владыки.
Через час желание сатаны было исполнено. Но блюдо
показалось ему пресным и безвкусным.
Он призвал главного повара и спросил, откуда этот паштет.
— Из Парижа, государь. Он совершенно свежий. Сегодня
утром его испекли в Марэ двенадцать кумушек у кровати роженицы.
— Понимаю теперь, почему он такой безвкусный, — сказал
князь преисподней. — Вы приобрели его не у настоящих мастериц.
Женщины среднего сословия охотно готовят этого рода блюда, но
у них нехватает таланта и вдохновения. Женщины из народа
отличаются еще большей неумелостью. Чтобы отыскать хороший
паштет из языков, нужно отправиться в женский монастырь. Только
старые монахини умеют класть в это блюдо все надлежащие
специи — корицу мстительности, тмин злословия, укроп злобных
намеков, лавровый лист клеветы.
Притча эта извлечена из поучения отца Гильотена Ландулля,
смиренного капуцина,
Взгляды аббата Жерома Куаньяра
(Отрывок)
В эту летнюю ночь, в то время как мошкара плясала вокруг
фонаря «Маленького Бахуса», господин аббат Куаньяр дышал
свежим воздухом на паперти святого Бенедикта Бетурнейского.
По своему обыкновению он предавался размышлениям, когда пришла
Катерина и уселась рядом с ним на каменную скамью. Мой
добрый учитель имел склонность хвалить господа в его творениях. Он
с удовольствием принялся (разглядывать эту красивую девушку и,
обладая умом веселым и цветистым, начал говорить ей
любезности. Он похвалил ее за то, что она умна не только языком, но
также и грудью и «всем прочим в ее особе, и что она смеется не только
устами и ланитами, но всеми ямочками и красивыми складками
своего тела, так что становится трудно терпеть наличие ее
одежды, мешающее видеть, как она смеется вся.
— Раз уж нужно,— говорил он, — грешить на этой земле, и
раз никто, кроме гордецов, не может считать себя непогрешимым,
то я бы хотел, чтобы милость божия покинула меня по отношению
к вам, Катерина, если, впрочем, это было бы и вашим желанием.
В этом я усмотрел бы два преимущества, а именно: вочпервых, я
согрешил бы с редким удовольствием и с особым наслаждением;
во-вторых, я нашел бы затем оправдание в силе вашего
очарования* так как, несомненно, в книге судеб написано, что ваша
привлекательность неотразима. Все это требует рассмотрения.
Встречаются безрассудные люди, наслаждающиеся с некрасивыми и
плохо сложенными женщинами. Действуя так, они рискуют потерять
свою душу, ибо они грешат, чтобы грешить, и их порочное усердие
зловредно. В то время как такая прекрасная кожа, как ваша,
Катерина, служит оправданием в глазах предвечного. Ваше
очарование чудесным образом смягчает вину, которая, будучи
неумышленной, заслуживает прощения. Чтобы быть откровенным, скажу вам,
Катерина, что вблизи вас божественное милосердие покидает меня
совершенно и стремительно улетучивается. В ту минуту, когда я
говорю с вами, оно уже превратилось в совсем небольшую «белую
точку как-раз вот над этими крышами, где, среди жолобов, коты
с яростными криками и детским плачем предаются любви, а луна
нагло усаживается на дымовую трубу. Все, что я вижу в вас,
Катерина, для меня ощутительно, а еще ощутительнее то, чего я не
вижу.
Слушая все это, она опустила глаза к своим коленям, а затем
подняла их, окинув лучистым взором господина аббата Куаньяра.
И произнесла нежным голосом:
— Если вы желаете мне добра, господин Жером, то
обещайте мне оказать услугу, о которой я вас попрошу и за которую
я буду вам очень благодарна.
Мой добрый учитель обещал. Кто бы поступил иначе на его
месте?
233
Тогда Катерина заговорила с живостью:
— Вы знаете, господин Жером, что аббат Ла-Перрюк, викарий
святого Бенедикта, обвиняет брата Ангела в том, что тот похитил
у него осла. Он подал на него жалобу в суд. Между тем это —
совершенная клевета. Этот добрый брат занял осла, чтобы
развозить по деревням реликвии. По дороге осел пропал. Реликвии же
были найдены. Брат Ангел говорит, что в сущности это и есть
самое главное. Но аббат Ла-Перрюк требует своего осла и не
хочет ничего слушать. Он заставит посадить бедного братца в
тюрьму архиепископа. Только зы можете смягчить его гнев и заставить
его взять обратно свою жалобу.
— Но, сударыня, — сказал аббат Куаньяр, — у меня нет ни
возможности, ни желания это сделать.
— О! — возразила Катерина, прижимаясь к нему и глядя на
него с притворной нежностью. — Я считала бы себя очень
несчастной, если бы не смогла внушить вам этого желания. Что же
касается до возможности, вы ее имеете, господин Жером. И ничего
не может быть для вас более легким, как спасти маленького братца.
Вам достаточно преподнести господину Ла-Перрюку восемь
великопостных проповедей и четыре проповеди для поста
рождественского. Вы так хорошо составляете проповеди, что сочинять их
должно быть для вас лишь удовольствием. Напишите же эти
двенадцать проповедей, господин Жером, напишите их поскорее.
Я приду за ними сама в ваш ларек святого Иннокентия. Господин
Ла-Перрюк очень высокого мнения о ваших дарованиях и заслугах
и считает, что дюжина ваших проповедей вполне стоит одного
осла. Как только он получит эту дюжину, он возьмет обратно
свою жалобу. Он так сказал. Что стоит для вас написать
двенадцать проповедей, господин Жером? А я вам обещаю, что напишу
аминь в конце последней из них. Ведь вы мне обещали, —
прибавила она, обвивая руками его шею.
— Ну, нет, я решительно отказываюсь от этого, — резко
сказал господин Куаньяр, освобождаясь от красивых рук, обвивших
его плечи. — Обещания, данные красивой девушке, обязывают
только тело, и отказываться от них не составляет никакого греха.
Не рассчитывайте на меня, красавица, в деле спасения вашего
бородатого возлюбленного из рук суда. Если бы я написал одну или
две дюжины проповедей, то они были бы направлены против
дурных монахов, позорящих церковь и подобно пиявкам
присосавшихся к одежде святого Петра. Этот брат Ангел — мошенник. Он
подсовывает набожным женщинам, под видом реликвий, бараньи или
свиные кости, которые обгладывал сам же с отвратительной
жадностью. Ручаюсь, что он возил на осле господина Ла-Перрюка для
продажи перья архангела Гавриила, луч рождественской звезды и
маленькую бутылочку, заключавшую звон колоколов, что звонили
некогда на колокольне Соломонова храма. Он — невежда, лгун, и
вы его любите. Вот три причины, по которым он мне не нравится.
Предоставляю вам судить, сударыня, которая из них наиболее
уважительна. Этой причиной может оказаться наименее чест-
234
ная из трех; ибо, говоря правду, я только что поддался такому
к вам влечению, что оно вовсе не отвечает ни моему возрасту,
H« моему положению. Но пусть это не вводит вас в
заблуждение: я очень живо чувствую те оскорбления, которые наносятся
церкви господа нашего Иисуса Христа, коей я состою
недостойным сочленом, вашим любовником в капюшоне; пример этого
капуцина внушает мне такое отвращение, что я чувствую
внезапное желание поразмыслить над каким-нибудь прекрасным местом
из святого Иоанна Златоуста, вместо того, чтобы теретыся о вас
коленками, как я это делаю вот уже четверть часа, ибо желание
грешника преходяще, а слава господня длится вечно. Я «никогда не
придавал преувеличенного значения плотскому греху. Мне нельзя
отказать в этой справедливости. Я не возмущаюсь, подобно
господину Никодиму, такой безделицей, как получение наслаждения с
красивой девушкой. Но я не выношу душевной низости,
лицемерия, лжи и того грубого невежества, которые делают из вашего
брата Ангела совершеннейшего из капуцинов. В его обществе,
сударыня, вы приобретаете скверные привычки, унижающие вашу
профессию девушки, служащей любви. Мне знакомы стыд и ужас
вашего положения, но все же оно на много превосходит положение
капуцина. Этот негодяй вас бесчестит так же, как он бесчестит
все, — вплоть до лужиц на улице святого Иакова, по которым
ступают его ноги. Подумайте о всех тех добродетелях, которыми вы
могли бы себя украсить в вашем превратном ремесле, из которых,
может быть, одной будет достаточно, чтобы перед вами открылись
двери рая, если бы только вы не были привязаны и подчинены
этому грубому животному. Пользуясь тем, что вам оставляют при
уходе, вы могли бы, Катерина, укрепить свою веру, надежду и
милосердие, любить бедных и навещать больных. Вы могли бы
быть щедрой и сострадательной и получать чистую радость при
созерцании неба, воды, лесов и полей. По утрам открывая окно, вы
могли бы славить бога, слушая, как поют птицы. В дни
паломничества вы могли бы всходить на гору святого Валериана и там, у
подножия креста, тихо оплакивать вашу утерянную невинность.
Вы могли бы вести себя так, чтобы тот, кто один читает в
сердцах людей, оказал: «Катерина является моим созданием, и я узнаю
ее по тем блескам божественного света, который еще не угас в
ней».
Катерина прервала его.
— Но, аббат, — сухо заметила она, — вы, кажется, читаете мне
проповедь!
— Разве вы только что не просили у меня их целую дюжину?
Она начала сердиться.
— Берегитесь, аббат! От вас зависит, будем ли мы друзьями
или врагами. Согласны ли вы сочинить двенадцать проповедей?
Подумайте, прежде чем ответить.
— Сударыня, — оказал господин аббат Куаньяр, — в своей
жизни я совершил много поступков, достойных порицания, но это
никогда не случалось после того, как я их обдумывал.
235
— Вы не хотите? Это наверное? Раз... два... вы отказываетесь?
Аббат, я буду мстить!
Некоторое (время она сидела надувшись, хмурая и молчаливая,
затем вдруг принялась кричать:
— Перестаньте! Господин аббат Куаньяр! В вашем возрасте, в
этой почтенной одежде, — так за мной приволокнуться! Фи,
господин аббат, фи! Как вам не стыдно!
В то время, как она визжала пронзительным голосом, аббат
увидел девицу Лекер, торгующую в мелочной лавке под вывеской
«Трех девственниц» и проходившую в это время по паперти.
В этот поздний час она шла на исповедь к третьему викарию
святого Бенедикта и отвернулась в знак сильного отвращения.
В глубине души аббат Куаньяр сознал, что месть Катерины
удалась как нельзя лучше, так как добродетель девицы Лекер,
окрепшая с возрастом, стала настолько строгой, что она ополчалась
против всех прегрешений паствы и раз семь в день перемывала кости
блудников улицы святого Иакова.
ШАРЛЬ ДЕ КОСТЕР
(1827—1879)
Тиль Уленшпигель
(Отрывки)
* * *
...Исходив всю Валлонскую землю, Уленшпигель... добрался до
окрестностей города Бульона. На пути ему стало попадаться много
горбатых людей. На руках у них висели -большие четки, которые
они благочестиво и усердно «перебирали, бормоча молитвы. Их бор-
мотанье звучало, как кваканье лягушек в пруду в теплый вечер.
Шли горбатые матери с горбатыми детьми на руках, и такие
же горбатые уроды цеплялись за их юбки. Повсюду по холмам и
полям видел Уленшпигель движущиеся фигуры горбатых, остро
очерченные на ясном небосклоне.
Подойдя к одному из них, он спросил:
— Куда направляются все эти несчастные люди?
Тот ответил:
— Мы идем к могиле святого Ремакля и будем молить его,
чтобы он исполнил самую заветную мечту нашу — снял бы с
наших спин этот унизительный груз.
— А не может ли святой Ремакль, — спросил Уленшпигель, —
236
исполнить мое заветное желание: убрать со спины несчастной
родины кровавого герцога, который угнетает ее, точно свинцовый
горб?
— Святому Ремаклю не дано снимать горбы, ниспосланные в
наказание, — ответил богомолец.
— А обыкновенные горбы он снимает?—спросил Уленшпигель.
— Да, если горб не застарелый. И когда свершается исцеление,
весь город (Празднует такое чудо. Каждый богомолец жертвует
серебряную монету иногда даже целый флорин исцеленному,
молитва которого скорее доходит до неба. [
— Почему же, — спросил Уленшпигель, — богатый господин
Ремакль берет плату за свое лекарство, точно жалкий аптекарь?
— Несчастный безбожник! Берегись, святой Ремакль покарает
тебя за богохульство, — яростно потрясая горбом, ответил
богомолец.
— О!.. — застонал вдруг Уленшпигель и, скорчившись в три
погибели, упал под дубом.
— Вот видишь, если святой Ремакль карает, то карает
жестоко, — сказал богомолец.
Уленшпигель извивался, скреб себе опину и стонал:
— О, прославленный святитель! Сжалься надо мной! Я
чувствую адскую боль между лопатками! Ой! Ой! Прости, святой
Ремакль! Уйди, богомолец, уйди! Дай мне здесь в одиночестве
замолить мой грех и в слезах покаяться, как отцеубийце.
Паломник пустился бежать на большую площадь города
Бульона, где собирались все горбатые. Дрожа от ужаса,
прерывающимся голосом рассказывал он своим собратьям:
— Встретил богомольца, был строен, как тополь... Хулил
святого... Сразу вскочила опухоль на спине... Горб... очень
болезненный...
Услышав это, богомольцы подняли восторженные крики.
— Святой Ремакль! Если ты можешь награждать горбами,
значит, можешь и снимать их! Убери наши горбы, святой Ремакль!
А Уленшпигель в это время выбрался из-под дерева и пошел
по опустевшему предместью. У входа в кабачок он увидел, как на
палке мотались два свиных пузыря. Уленшпигель снял один из
них, подобрал валявшуюся на земле хребетную кость камбалы,
надул пузырь, надрезал себе руку и напустил крови в пузырь, надул
его, потом завязал, прикрепил к нему хребет камбалы и все это
сооружение пристроил себе на спину. С этим украшением, со
скрюченной спиной, тряся головой, еле передвигая ноги, точь-в-точь
старый горбун, явился он на площадь.
Богомолец, который был свидетелем его падения, закричал,
показывая на него пальцем:
— Вот он, богохульник!
Народ сбегался посмотреть на несчастного. Уленшпигель,
жалостно тряся головой, говорил:
— Ах! Я не достоин ни милости, ни сожаления. Убейте меня,
как бешеную собаку!
237
Горбатые радостно потирали руки.
— Нашего полку прибыло, — говорили они.
— У, злые уроды, отплачу же я вам, — бормотал сквозь зубы
Уленшпигель. Но, притворяясь смиренным и покорным, он
говорил:
— Пока святитель Ремакль «не исцелит меня так же чудесно,
как покарал, я не буду ни есть, ни пить, даже если бы мой горб
затвердел, как камень.
Заслышав о чуде, каноник вышел из церкви. Это был человек
дородный, плотный, величавый. И, высоко вздернув нос, он, точно
корабль, прорезал толпу горбатых. Его подвели к Уленшпигелю.
— Так это тебя, любезный,—»обратился каноник к
Уленшпигелю,— поразил бич святого Ремакля?
— Да, ваше преподобие, вот именно меня. И я хочу молить
святого избавить меня от этого свежего горба.
Каноник почуял в этих словах какую-то хитрость.
— Дай^ка, я пощупаю твой горб, — сказал он.
— Пощупайте, ваше преподобие, — ответил Уленшпигель.
— Он еще совершенно свеж и влажен, — осмотрев горб,
сказал каноник. — Надеюсь, святой Ремакль проявит тебе свое
милосердие. Следуй за мной.
Уленшпигель побрел за каноником в церковь, а следом за ним
побежали и горбатые.
— Вот богохульник проклятый!—кричали они. — Эй, ты!
Сколько весит твой свежий горб? Ты, вероятно, сделаешь из него
суму? И будешь собирать в нее гроши? Когда ты был строен, ты
издевался над нами. Теперь наша очередь. Слава святому Ремаклю!
Уленшпигель, склонив голову, молча шел за каноником. Они
вошли в маленькую часовню, в которой стояла мраморная
гробница, покрытая большой мраморной плитой. Расстояние между
гробницей и стеной часовни было около двух четвертей, и толпа
горбатых богомольцев вереницей проходила между стеной и плитой,
прижимаясь горбами к мраморной плите. Они верили, что,
поступая так, они могут избавиться от своих горбов, и те, которым
удавалось первым потереть свой горб о мрамор, не пускали
следующих. Начиналась безмолвная драка. Чтя святые места, горбуны
исподтишка награждали друг друга тумаками.
Каноник приказал Уленшпигелю влезть на мраморное
надгробие, чтобы все богомольцы могли его видеть.
— Я не сумею один влезть, — ответил Уленшпигель.
Каноник подсадил его и, приказав ему опуститься на колени,
сам стал рядом с ним. Вдохновенным и звучным голосом он начал
проповедь:
— Дети и братья во Христе! У ног моих вы видите безбож-
нейшего, сквернейшего богохульника. Его покарал святитель
Ремакль.
Уленшпигель, ударяя себя в грудь, говорил:
— Грешен! Грешен!
— Когда-то, — продолжал каноник, — он был строен, как
древня
ко алебарды, и гордился этим. А теперь под ударами небесного
проклятия он сгорблен и удручен.
— Грешен, — повторял Уленшпигель. — О, святитель, избавь
меня от горба.
— Да, — продолжал каноник. — Да, великий чудотворец,
святой Ремакль! Сними с этих плеч гнетущее бремя, и мы за это
исцеление будем воссылать хвалу тебе вовеки веков! Пошли мир
смиренным горбунам!
— Да, мир!—подхватили хором горбуны. — Мир горбатым!
Избавь от оскорблений! Избавь от горбов, святитель Ремакль!
Каноник приказал Уленшпигелю спуститься с гробницы и
потереться горбом о край надгробия. И Уленшпигель, исполняя
приказ, «еустанно повторял:
— Грешен! О, святитель, избавь меня от горба!
И на виду у всех стал сильно тереться горбом.
Окружавшая его толпа кричала:
— Смотрите на горб! Он лопнул! Смотрите, подается... Он
тает... Горбы не тают. Они входят обратно в утробу, из которой
вылезли... Нет, они всасываются в желудок и в течение
восемнадцати дней питают исцеленного. А как пропадают старые горбы?
Вдруг горбатые все разом издали страшный крик.
Уленшпигель из всех сил уперся в край надгробия, и пузырь лопнул. Кровь,
бывшая в нем, промочила рубашку и большими каплями вытекала
на пол. Выпрямившись и вытянув руки, он кричал:
— Исцелен!
И горбатые кричали все разом:
— Святой Ремакль, благослови его! Он милостив к нему, а к
нам суров! О, святитель, исцели нас!.. Жертвую тебе теленка!..
Я — семь баранов!.. Я — охотничью добычу за целый год!.. Я —
шесть окороков!.. Я пожертвую домик!.. Избавь нас от горбов,
святитель Ремакль!
И все смотрели на Уленшпигеля с завистью и уважением. Один
из горбунов хотел пощупать, что находится у Уленшпигеля под
курткой. Но каноник сказал:
— Там свежая рана, ее нельзя выставлять на свет.
— Я буду молиться за вас, — говорил Уленшпигель.
— Молись, вновь выпрямленный. Мы смеялись над тобой.
Прости нас!
— Прощаю, — милостиво ответил Уленшпигель.
— Возьмите, вот патар... флорин... Примите, ваша стройность.
Вот-реал... Вот дукат... Разрешите вручить вам эти каролюсы.
— Спрячьте ваши дукаты, — тихо сказал им Уленшпигель. —
Левая рука не должна знать, что творит правая, — предупреждал
он их так потому, что видел, как каноник жадными глазами
старался рассмотреть, золото ему дают или серебро.
Уленшпигель, точно чудотворец, милостиво принимал
приношения горбунов. Скупые же молча терли свои горбы о мрамор.
Вечером Уленшпигель отправился в трактир и устроил там
веселую попойку. После пиршества перед сном он вспомнил, что на-
239
верно .каноник явится к «ему, чтобы забрать часть его добычи, а
может быть, он пожелает отобрать и всю.
Он посчитал приношения и нашел там больше золота, чем
серебра. А всего денег было не меньше трехсот дукатов. В цветочном
горшке торчал засохший лавровый кустик. Он вытащил растение
с корнями и землей и положил на дно горшка все свое золото,
покрыв его сверху землей. Полуфлорины же, патары и гроши он
рассыпал перед собой по столу. Вскоре каноник явился в корчму
к Уленшпигелю.
— Господин каноник, чего «ради удостоили вы посещением меня,
недостойного?—вскричал Уленшпигель, увидев священника.
— Только желая добра, сын мой, — ответил каноник.
— Ох!—вздохнул Уленшпигель. — Вы печетесь наверно о том
добре, что лежит на столе?
— Вот именно,—сказал каноник.
И он быстро сгреб все деньги со стола в мешок, который
принес с собой для этой цели.
Один флорин, однако, он дал Уленшпигелю, который,
»притворяясь, жалостно стонал.
Каноник опросил его, каким образом он устроил это чудо.
Уленшпигель показал ему свиной пузырь и кость камбалы.
Священник, невзирая на стоны и крики Уленшпигеля, забрал это
все. Исцеленный просил каноника дать ему еще сколько-нибудь,
так как путь от Бульона до Дамме очень далек и несчастный
пешеход может умереть от голода в дороге.
Каноник ушел, не сказав ни слова.
Оставшись один, Уленшпигель поставил лавровый куст около
себя и уснул.
На рассвете он забрал свою добычу и вышел из Бульона, спеша
попасть в лагерь Молчаливого. Увидев принца, он передал ему все
деньги и рассказал историю их появления, пояснив, что это
настоящий способ налагать на врага военную контрибуцию.
Принц дал ему десять флоринов.
Что касается хребта камбалы, то его священник заключил в
хрустальный ларец и прикрепил к середине распятия в алтаре
Бульонского собора.
H в городе все знали, что в этом ларце находится горб
исцеленного богохульника...
* * *
Инквизиторы и теологи вторично предстали перед императором
Карлом и заявили ему: церковь гибнет, значение ее падает; а он,
одержавший столько славных побед, обязан ими католической
церкви.
Чтобы искоренить в Нидерландах лютерову ересь, один
испанский архиепископ потребовал отрубить шесть тысяч голов и сжечь
шесть тысяч тел. Но его величеству Карлу эта мера показалась
ничтожной.
240
Куда ни приходил бедный Уленшпигель, везде он натыкался на
ужасные картины. Он видел головы, надетые на шесты. Он видел,
как девушек живыми зашивали в мешки и бросали в реку, мужчин
раздевали донага, распинали на колесе и избивали железными
палками; женщин бросали в ямы, слегка засыпали землей, и палачи
плясали над ними, раздавливая им груди. За тех, кто отрекся от
своих убеждений, духовник получал по двенадцать су. В Лувене
Уленшпигель видел, как палачи сожгли сразу тридцать лютеран.
Костер был зажжен посредством пороха. В Лимбурге видел он
целую семью, которая с пением взошла на костер, и только один
старик закричал, когда пламя охватило его.
С болью и ужасом брел Уленшпигель по этой несчастной
земле.
День клонился к закату. Уленшпигель спешил: ему скорее
хотелось быть дома. Ему мерещились Неле за шитьем, Сооткин, го-,
товящая ужин, Клаас, связывающий вязанки хвороста, Титус,
урчащий над костью.
Повстречался разносчик.
— Куда спешишь?—спросил его встречный.
— В Дамме, домой,—ответил Уленшпигель.
— В Дамме неспокойно, — заметил пешеход. — Там хватают
реформаторов.
Дойдя до трактира «Красный щит», Уленшпигель зашел
подкрепиться кружкой пива.
— Не сын ли ты Клааса? —спросил трактирщик.
— Да.
— Спеши домой. С твоим отцом случилось несчастье.
Уленшпигель хотел расспросить трактирщика поподробнее, но
тот не пожелал отвечать, и Уленшпигель побежал домой. Он
вбежал в город. Собаки бросились на него, лая и хватая за ноги.
Женщины выбежали на шум и, узнав его, перебивая друг друга,
забросали вопросами:
— Откуда ты? Знаешь ли, что случилось с отцом? Где твоя
мать? Она тоже в тюрьме? Ох, хотя бы его не сожгли на костре!
Уленшпигель быстро побежал к дому. Его встретила Неле.
— Тиль, не ходи домой! Там от имени его величества стража
устроила засаду.
Уленшпигель остановился и спросил:
— Неле, это правда? Отец мой Клаас в тюрьме?
— Да, правда, а Сооткин сидит у дверей тюрьмы и рыдает.
Уленшпигель бросился к тюрыме, около дверей которой сидела
Сооткин. С горьким рыданием обняла она сына.
Около тюрьмы начал собираться народ. Вышли стражники и
приказали Уленшпигелю и Сооткин убраться отсюда подальше.
Мать с сыном пошли к дому Неле, соседнему с их домом.
Опасаясь народных волнений, начальство вызвало из Бригге
отряд ландскнехтов. Жители Дамме очень любили Клааса, и во
время суда и расправы над Клаасом могло произойти сильное вол-
16-22 241
нение. Один из ландскнехтов охранял сейчас дом Клааса. Он
уселся на крылечке и тяиул потихоньку из фляжки водку. Высосав до
дна, он швырнул фляжку в сторону, вытащил палаш и,
развлекаясь, стал ломать мостовую.
Наутро в день казни соседи из сострадания заперли
Уленшпигеля, Сооткин и Неле в доме Катлины.
Но они не предугадали, что издали будут слышны вопли
страдальца и в окна будут видны отблески «остра.
Катлина бродила по городу, качала головой и приговаривала:
— Просверлите дыру! Душа рвется наружу!
В девять часов утра Клааса вывели из тюрьмы со связанными
позади руками. Согласно приговору, костер был устроен прямо
против входа в ратушу. Палач с помощником еще укладывали
дрова на «костер.
Окруженный стражей, Клаас терпеливо ждал, пока они кончат
свою работу.
Профос, верхом на коне, судебная охрана и десять вызванных
из Бригге ландскнехтов с трудом удерживали волнующуюся и
негодующую толпу.
Народ кричал:
•— Нельзя так зверски, несправедливо убивать на старости лет
такого кроткого, доброго и честного труженика.
И когда с колокольни собора богоматери раздался первый удар
погребального звона, все упали на колени.
Катлина стояла в толпе, в первом ряду, и совершенно
обезумевшая смотрела на Клааса и на костер.
— Огонь, огонь! Просверлите дыру!—кричала она, качая
головой.
Слыша колокольный звон, Сооткин и Неле крестились, но
Уленшпигель не стал молиться; он объявил, что он больше не
будет поклоняться господу, подобно этим палачам. Он метался по
дому, пытаясь взломать двери или выскочить из окна, но все
было крепко заперто.
Вдруг Сооткин вскрикнула и закрыла лицо передником.
— Дым!
Несчастные увидели в окно большое черное облако дыма,
вздымавшееся к небу. Дым поднимался от костра, на котором стоял
Клаас, привязанный к столбу. Палач во имя бога отца н бога духа
святого поджег костер с трех сторон.
Клаас осмотрелся вокруг. Он не увидел в толпе ни
Уленшпигеля, ни Сооткин, и, радуясь, что они не увидят его страданий, он
облегченно вздохнул.
Слышно было только, как трещит дерево, как ропщут
мужчины и всхлипывают женщины, да еще раздавалось причитание
Катлины.
— Потушите огонь, душа рвется на свободу!
Погребальный звон разносился по городу.
Вдруг Сооткин смертельно побледнела и без слов, дрожа как
242
β лихорадке, показала на небо. Длинный и острый язык пламени
вырвался из костра, подымаясь выше крыш низеньких домов.
В эти минуты Клаас страдал невыносимо. Огненный язык по
прихоти ветерка то обвивался вокруг его ног, то лизал его лицо,
то поджигал волосы на голове.
Уленшпигель старался оторвать мать от окна. Мать и сын
услышали душераздирающий крик— это кричал бедный Клаас.
Тело его горело только с одной стороны.
До Сооткин и Уленшпигеля донесся громкий крик толпы; это
кричали граждане, женщины и дети:
— Клааса присудили к сожжению на быстром огне, а не на
медленном! Палач, раздувай скорей костер!
Несмотря на старания палача, огонь не разгорался.
— Задуши его!—кричала толпа, бросая в профоса камнями.
— Пламя, страшное пламя! — вскрикнула Сооткин.
Длинные красные языки поднимались к небу.
— Он умирает, — стонала вдова. — Где король? Короля!
Своими руками я вырву его сердце из груди!
Погребальный звон гудел по городу.
Сооткин еще »раз услышала ужасный крик Клааса, но она не
видела, как в страшных муках извивалось его тело, как
искажалось его лицо, как билась его голова, ударяясь о столб.
Возмущенный народ кричал, свистал; женщины и дети бросали
камнями. Вдруг костер ярко вспыхнул, и из дыма и пламени
.раздался голос Клааса:
— Сооткин! Тиль! — И голова Клааса, точно налитая свинцом,
тяжело упала на грудь.
В ответ на призыв из домика Катлкны донесся жалобный
пронзительный женский крик.
Все смолкло. Клаас умер. Угли костра, тлея, рассыпались у
подножия столба. Привязанное к столбу за шею тело Клааса
обуглилось и скорчилось.
Погребальный звон мрачной вестью разносился по городу.
Сооткин, невыносимо страдая, неподвижно стояла у стены. Без
слез, в молчаливом отчаянии, прижимала она Уленшпигеля к груди
своей.
Уленшпигель молчал. Холодея от ужаса, on чувствовал, как
лихорадочно горит тело его матери.
Вернулись с казни соседи и рассказали, что муки Клааса
кончились.
— Он отошел в лучший мир, — тихо прошептала Сооткин.
— Помолись, — сказала Неле, протягивая Уленшпигелю четки.
Но он отверг их, не желая брать в руки то, что освящено папой.
Спустилась ночь.
— Мать, приляг в постель, — ласково просил Уленшпигель, —
я буду сидеть подле тебя.
— Ты молод, тебе нужен сон.
Неле постелила им обоим в кухне и ушла.
Они остались вдвоем. В печи тлели дрова.
Сооткин легла, прилег и Уленшпигель, но он слышал, как
плачет мать, укрывшись одеялом.
На дворе в ночном мраке бушевал ветер — предвестник осени.
Под его напором, точно морские волны, глухо шумели деревья, и
порывы вихря бросали в окно кучи песка и пыли.
Сооткин и Уленшпигель не могли уснуть. Мать поднялась с
постели и подошла к сыну.
Вдруг сильный порыв ветра распахнул дверь, вихрь влетел в
комнату, и до них донеслось зловещее карканье ворон.
Сооткин и Уленшпигель вышли из домика и пошли к костру.
Ночь была мрачная. Облака, гонимые порывистым северным
ветром, неслись по небу, как стадо быстроногих оленей. И только
на мгновение сквозь мрачные тучи проглядывала яркая звездочка.
Вокруг костра расхаживал стражник. Уленшпигель и Сооткин
слышали четкие удары его сапог по затвердевшей земле и
перекличку воронов, издали спешивших на пиршество.
Когда Уленшпигель и Сооткин подошли к костру, ворон
опустился на плечо Клааса, и они услыхали стук его клюва о кости
трупа.
Уленшпигель кинулся на костер, отгоняя ворон, но стражник
остановил его.
— Эй, колдуй, ты хочешь иметь руку казненного? Ты разве
забыл: руки сожженного не могут сделать тебя невидимкой, —
невидимкой делают только руки повешенного.
— Я не колдун, — ответил Уленшпигель, — я осиротевший сын
этого прикованного к столбу мученика, а эта женщина его вдова.
Мы хотим поцеловать его истерзанное, измученное лицо и взять
напамять частицу дорогого праха. Не гоните нас. Вы не
чужестранный наемник, а сын этой страны.
— Пусть будет по-твоему, — ответил стражник.
Сирота и вдова, ступая по обугленным поленьям, подошли к
трупу и, горько рыдая, поцеловали Клааса. Пламя выжгло Клаасу
сердце, и пепел его собрал сын и взял его себе. Бледная заря
рассвета показалась на небе, а мать и сын не могли отойти от костра,
но стражник, боясь поплатиться за свою доброту, прогнал их.
Придя домой Сооткин сшила из черного и красного шелка
мешочек, всыпала в него пепел и, прикрепив к мешочку две
ленточки, надела Уленшпигелю на шею.
— Этот пепел — сердце твоего отца. Красный цвет—кровь его,
черный — печаль наша. Клянись вечно носить его на груди, и он,
как огонь, будет жечь тебя и призывать отмстить палачам твоего
отца.
— Я буду мстить,—сказал Уленшпигель.
ГИ ДЕ МОПАССАН
(1850—1893)
Мощи
Господину аббату Луи д'Эннемар в г. Суассоне.
Дорогой аббат!
Итак, свадьба моя с твоею кузиною расстроилась, и притом
самым глупым образом, из-за нехорошей шутки, которую я почти
невольно сыграл с моею невестою.
Очутившись в затруднительном положении, прибегаю к твоей
помощи, мой старый друг, потому что ты можешь вызволить меня
из беды. Я буду тебе за это благодарен по гроб жизни.
Ты знаешь Жильберту, или скорее думаешь, что знаешь; но
можно ли вообще знать женщин? Все их мнения, (верования и
мысли полны таких неожиданностей. Все это у них преисполнено
уверток, хитростей, непредвиденных, неуловимых доводов,
перевернутой логики, упорства, которое кажется непреклонным и уступает
потому только, что какая-то птичка прилетела и села на выступ
окна.
Не мне извещать тебя, что твоя кузина, воспитанная белыми
или черными монахинями города Нанси, до крайности религиозна.
Тебе это лучше известно, чем мне. Но ты, без сомнения, не
знаешь, что она восторженна во всем, как и в своем благочестии.
Она увлекается, как листок, несомый ветром, и в то же время она
в большей степени, чем кто бы то ни было — женщина или,
вернее, молодая девушка, способная мгновенно растрогаться или рас«
сердиться, вмиг вспыхнуть любовью или ненавистью и так же
быстро остыть; к тому же она красива... как ты знаешь, и до того
очаровательна, что нельзя и выразить... но этого ты не узнаешь
никогда.
Итак, мы были помолвлены; я обожал ее, как обожаю до сих
пор. Она тоже, повидимому, любила меня.
Однажды вечером я получил телеграмму, вызывавшую меня в
Кельн к больному на консультацию, за которой могла последовать
серьезная и трудная операция. Так как я должен был ехать на
другой день, то побежал проститься с Жильбертой и объяснить
ей, почему я не смогу притти обедать к своим будущим родителям
в среду, а приду только в пятнтгу, в день моего возвращения. Ох,
берегись пятниц, уверяю тебя — это зловещие дни!
Когда я заговорил об отъезде, то заметил в ее глазах
слезинки; но когда сказал о скором возвращении, она тотчас же
захлопала в ладоши и воскликнула:
— Какое счастье! Привезите мне что-нибудь оттуда, какой-
нибудь пустяк, просто что-нибудь напамять, но только вещицу,
выбранную для меня. Вы должны угадать, что доставит мне все-
245
го больше удовольствия, слышите? Я увижу, есть ли у вас
воображение.
Она с минуту подумала, затем сказала:
— Я запрещаю вам тратить на это более двадцати франков.
Мне хочется, сударь, чтобы меня тронуло ваше желание, ваша
изобретательность, а вовсе не цена.
Затем, снова помолчав, она вполголоса сказала, опуская глаза:
— Если это вам обойдется недорого и если будет остроумно и
тонко, я... я вас поцелую.
На другой день я был уже в Кельне. Дело касалось
несчастного случая, ужасного случая, повергшего в отчаяние целую
семью. Ампутация была необходима немедленно. Мне отвели
помещение, где я жил почти взаперти; кругом я только и видел
заплаканных людей, и это действовало на меня отупляюще; я
оперировал умиравшего, который чуть не скончался у меня под ножом;
я провел возле него две ночи, а затем, как только увидел
некоторые шансы на выздоровление, приказал везти себя на вокзал.
Я ошибся временем, и мне предстояло целый час дожидаться.
Я стал бродить по улицам, все еще думая о моем бедном
больном, как вдруг ко мне подошел какой-то субъект.
Я не говорю по-немецки, а он не знал по-французски; наконец,
я понял, что он предлагал мне мощи. Мысль о вещице напамять
для Жильберты пронизала мне сердце; я вспомнил ее
фанатическую набожность. Вот мой подарок и найден! Я пошел за
торговцем в магазин предметов благочестия и выбрал там «непольшой
кусочек останков отитгаадцати тысяч тефственниц».
Мнимые мощи были заключены в восхитительную коробочку
под старинное серебро, которая окончательно и определила мой
выбор.
Я положил вещицу в карман и сел в поезд.
Приехав домой, я захотел еще раз взглянуть на свою покупку.
Достал ее... Коробочка оказалась открытой, и мощи были
потеряны! Я как следует обшарил карман, вывернул его, — крошечная
косточка, с половину булавки, исчезла.
Как тебе известно, дорогой аббат, особенно пылкой верой я не
отличаюсь; у тебя хватает великодушия и дружбы относиться к
моей холодности терпимо и не настаивать — в ожидании будущего,
.как ты говоришь; но уже в мощи, продаваемые торговцами
благочестия, я безусловно не верю, и ты разделяешь мои решительные
сомнения на этот счет. Итак, потеря этого крошечного кусочка
бараньей косточки меня нисколько не опечалила; я без труда
раздобыл точно такой же и тщательно приклеил его внутри
коробочки.
И я отправился к моей невесте.
Едва увидев меня, она бросилась ко мне навстречу, робея и
смеясь:
— Что же вы мне привезли?
Я притворился, что забыл об этом, она не поверила. Я
заставил ее просить, даже умолять и, когда увидел, что она умирает от
249
любопытства, подал ей священный медальон. Она замерла в поры·
ве радости.
— Мощи! О, мощи!
И страстно поцеловала коробочку. Мне стало стыдно за свой
обман.
Но вдруг ею овладело беспокойство, тотчас же перешедшее в
ужасную тревогу; глядя мне прямо в глаза, она опросила:
— Уверены ли вы в том, что они настоящие?
— Совершенно уверен.
— Почему?
Я попался. Признаться, что косточка была куплена у уличного
торговца, значило погубить себя. Что же сказать? Безумная мысль
пронеслась у меня /в мозгу, и я ответил, понизив голос, с
таинственной интонацией:
— Я украл их для вас.
Она взглянула на меня своими огромными глазами, изумленны*
ми и полными восторга.
— О, вы украли их... Где же?
— В соборе, из раки с останками одиннадцати тысяч
девственниц, — сказал я.
Сердце ее сильно билось; от счастья она была почти без
чувств и пролепетала:
— О, вы сделали это... ради меня... Расскажите же...
расскажите мне все!
Все было кончено, отступать я не мог. Я сочинил
фантастическую историю с точными и захватывающими подробностями. Я дал
сто франков сторожу, чтобы осмотреть собор одному; раку в то
время ремонтировали; но я попал в тот самый час, когда рабочие
и причт завтракали; «приподняв какую-то створку, которую я
затем тотчас же тщательно приладил на место, я успел выхватить
оттуда крошечную (о, совсем крошечную!) косточку из множества
других (я говорю «множества», думая о том, сколько же должно
быть останков у одиннадцати тысяч скелетов девственниц). Затем
я отправился к ювелиру и купил достойную оправу для мощей.
Я не отказал себе в удовольствии упомянуть ей мимоходом,
что медальон обошелся мне в пятьсот франков.
Но она и не думала об этом; она слушала меня, трепеща, в
экстазе. Она прошептала: «Как я вас люблю!» — и упала в мои
объятия.
Заметь: я совершил из-за нее кощунство — я украл; я
осквернил церковь, осквернил раку; осквернил и украл святые мощи.
За это она обожала меня, находила меня нежным, идеальным,
божественным. Такова женщина, дорогой аббат, такова вся женщина.
В течение даух месяцев я был самым восхитительным из всех
женихов. Она устроила нечто вроде великолепной часовни, чтобы
водворить там частицу котлетной косточки, побудившую меня, как
она верила, пойти на такое дивное преступление во имя любви;
и она ежедневно замирала в восторге перед ней утром и вечером.
Я просил ее хранить тайну, боясь, как я говорил, что меня mq-
247
гут арестовать, осудить, выдать Германии. Она сдержала слово.
Но вот в начале лета ее охватило безумное желание увидеть
место моего подвига. Она так долго и так усердно упрашивала
отца (не открывая ему тайной причины), что он повез ее в Кельн,
скрыв от меня, по желанию дочери, эту поездку.
Мне нечего тебе говорить, что внутрь собора я и не заходил.
Я не знаю, где находится гробница (если она только существует)
одиннадцати тысяч девственниц. Увы! Повидимому, гробница эта
неприступна.
Неделю спустя я получил от нее десять строк, возвращавших
мне слово, и объяснительное письмо от отца, поздно посвященного
в тайну.
При виде раки она сразу поняла мой обман, мою ложь и в то
же время мою истинную невиновность. Когда она опросила у
хранителя мощей, не было ли тут когда-нибудь кражи, тот
расхохотался, доказывая всю неосуществимость подобного покушения.
Но с той минуты, когда оказалось, что я не совершил взлома
в священном месте, не погрузил богохульственной руки в чтимые
останки, — я более не был достоин моей белокурой и утонченной
невесты.
Мне отказали от дома. Тщетно я просил, молил; ничто не
могло растрогать набожную красавицу.
С горя я заболел.
И вот на прошлой неделе ее кузина, которая одновременно
приходится кузиной и тебе, г-жа д'Арвиль, попросила меня зайти
к ней.
Я могу быть прощен на следующих условиях. Я должен
привезти мощи какой-нибудь девственницы или мученицы, но
настоящие, подлинные, засвидетельствованные нашим святейшим отцом
папой.
Я готов сойти с ума от затруднений и беспокойства.
Я поеду в Рим, если это нужно. Но не могу же я явиться к
папе и рассказать ему о своем дурацком приключении. Да и затем
я сомневаюсь, чтобы подлинные мощи доверялись частным лицам.
Не можешь ли ты дать мне рекомендацию к кому-либо из
кардиналов или хотя бы к кому-нибудь из французских прелатов,
которые обладают останками какой-либо святой? И нет ли у тебя
самого в твоих коллекциях требуемого драгоценного предмета?
Спаси меня, дорогой аббат, и я обещаю тебе обратиться
десятью годами раньше!
Г-жа д'Арвиль, горячо принимающая все к сердцу, сказала мне:
— Этой бедной Жильберте никогда не выйти замуж.
Мой старый товарищ, неужели ты допустишь, чтобы твоя
кузина умерла жертвой глупой проделки? Умоляю тебя, помешай ей
стать одиннадцать тысяч первой девственницей.
Прости меня, я недостойный человек; но обнимаю и люблю
тебя от всего сердца.
Твой старый друг
Анри Фонталь,
Нормандец
Мы оставили за собою Руан и крупной рысью поехали по
дороге, ведущей в Жюмьеж. Легкий экипаж быстро катил, пока мы
проезжали лугом. Потом лошадь пошла шагом: мы начали
подниматься на оклон Кантеле.
Отсюда открывается один из великолепнейших видов в мире.
Позади — Руан, город церквей, готических колоколен, точно
выточенных из слоновой кости. Впереди — Сен-Север, застроенный
фабриками пригород. Тысяча дымящихся труб поднимается к небу
насупротив тысячи священных колоколенок старого города.
Вон высится шпиц кафедрального собора, самое высокое
сооружение рук человеческих. А там, напротив, соперничающая с ним
огнедышащая труба завода, на метр выше самой высокой из
египетских пирамид.
Перед нами развертывалась покрытая зыбью Сена, усеянная
островками. Справа — белые горы, поросшие лесом, слева —
необъятные луга, тянущиеся далеко-далеко, до другого леса,
чернеющего на горизонте.
Там и сям виднелись большие суда, стоящие на якоре у
берега. Три больших парохода плыли гуськом к Гавру; небольшой
буксирный пароход, изрыгая целые облака черного дыма, тащил вверх
по реке, к Руану, длинную флотилию, состоявшую из одного
трехмачтового судна, двух шхун и одного брига.
Мой спутник, местный уроженец, вовсе не глядел на
открывшуюся пред нами чудную панораму; он все улыбался, точно смеясь
про себя. Вдруг он разразился громким смехом:
— Сейчас, мой друг, вы увидите нечто чрезвычайно
любопытное— часовню деда Матье!
Я посмотрел «а него изумленными глазами. Он продолжал:
— Я дам вам понюхать настоящей Нормандии, и этот запах
вы долго будете чувствовать в своем носу. Дед
Матье—типичнейший нормандец, а его часовня — одно из чудес света. Вот
увидите. Но я должен дать вам сначала некоторые разъяснения. Дед
Матье, которого прозвали «дед^бутыль», — отставной фельдфебель,
вернувшийся под старость в родные места. В нем бахвальство
старого солдата удивительно сочеталось с нормандским лукавством.
Вернувшись на родину, он благодаря многочисленным
покровителям и своей поразительной пронырливости пристроился сторожем
часовни, которая находится под покровительством святой девы и
посещается преимущественно беременными девушками.
Чудотворную статую патронессы он окрестил именем «божьей матери
беременных» и обращается с ней с грубоватой фамильярностью, не
исключающей, однако, почтения. Он даже сам сочинил и дал
отпечатать специальную молитву «Доброй деве». Эта молитва
представляет истинный шедевр неумышленной иронии, нормандского
грубого остроумия, смешанного со страхом перед тайными силами.
Матье не очень верит в свою покровительницу, но все же верит —
из благоразумия—и ублажает ее из политичности·
249
Вот начало этой изумительной молитвы:
«Наша добрая госпожа, дева Мария, покровительница
девушек-матерей в этой стране и во всем мире! Помилуй твою рабу,
которая, позабывшись, согрешила!».
Оканчивается молитва так:
«В особенности не забудь меня перед твоим светлым супругам
и упроси бога-отца, чтобы он даровал мне хорошего мужа, подобно
твоему».
Эта молитва запрещена духовенством. Но наш нормандец
продает ее тайком, и она спасает тех, кто благоговейно произносит ее.
В общем, он говорит о святой деве таким тоном, каким говорит
о грозном властелине его слуга, знающий все интимные маленькие
секреты своего господина. Он знает массу забавных анекдотов из
ее жизни и, подвыпивши, рассказывает их топотом в кругу друзей.
Да вы увидите сами.
Так как доходов от одной святой девы показалось нашему
приятелю мало, то он завел еще целую ярмарку святых: у него
они есть все или почти все. За недостатком места в часовне, он
хранит их в дровяном сарае, откуда извлекает по мере опроса со
стороны верующих. Эти невероятно потешные статуэтки он сам
смастерил из дерева и окрасил в яркозеленый цвет в тот год,
когда красили его дом. Как вам известно, святые исцеляют от
болезней: но у каждого святого — своя специальность, и важно не
спутать и не ошибиться, ибо святые завистливы и ревнивы друг к
другу, как знахари.
Чтобы не ошибиться, добрые старушки обращаются за
советами к Матье.
— Какой святой лучше всего помогает при болезни уха?
Оказывается, хорош святой Озим, но недурен и святой Пам-
фил.
Но это еще не все.
В свободное время, — свободного времени у него много, —
Матье пьет, пьет артистически, убежденно; он регулярно
напивается каждый вечер, напивается сознательно, отмечает ежедневно
точную степень своего опьянения. Собственно, это и есть его главное
занятие; часовня—на втором плане.
Он даже изобрел, — слушайте и заметьте себе хорошенько, —
он даже изобрел «пьянометрию».
Правда, никакого измерительного прибора не существует, но
вычисления Матье точны, как вычисления математика.
Вы постоянно слышите из его уст: «С понедельника я перешел
на сорок пять градусов».
Или: «Я находился между пятьюдесятью двумя и
пятьюдесятью восемью».
Или: «Тогда, должно быть, было от шестидесяти шести до
семидесяти».
Или: «Шут дери! Я думал, что не дошел до шестидесяти, как
вдруг заметил, что перевалил за семьдесят пять».
И он никогда не ошибается.
250
Он уверяет, что еще ни разу не дошел до ста. Но так как, по
его же собственным словам, его наблюдения перестают быть
точными, когда он переходит за девяносто, то к этим уверениям
нельзя относиться с безусловным доверием.
Когда Матье сознается, что перешел за девяносто, то можете
быть уверены, что он совершенно пьян.
Когда это с ним случается, его жена Мели, тоже своего рода
чудо, приходит в ярость: она ждет его у дверей и, .как только он
покажется, начинает кричать:
— Вот ты, наконец! Негодный, скотина, пьяная свинья!
Матье в таких случаях не любит шутить. Он пристально
смотрит на жену и строго заявляет:
— Замолчи, Мели, теперь не время болтать! Подожди до утра.
Бели она не унимается, он подходит к ней вплотную и
произносит заплетающимся языком:
— Не ори! Я уже перешел за девяносто и уже сбиваюсь в
счете! Берегись, могу зашибить.
И она немедленно бьет отбой.
Если у нее есть желание, она может возобновить разговор на
ту же тему на следующий день. Но тогда он смеется ей прямо в
лицо и отвечает:
— Ну, ну! Будет болтать. Пока я не дошел дю ста, беды нет.
Но если я когда-нибудь перейду за сто, то обещаю тебе
немедленно исправиться, даю слово.
Мы выбрались на косогор. Дорога углублялась в чудный
Румарский лес.
Осень, чудесная осень, клала свое золото и пурпур на
последние остатки живой зелени, точно солнце растопилось и капало с
неба на листву деревьев.
Мы переехали Дюклер, но, вместо того, чтобы продолжать
путь к Жюмьежу, мой приятель повернул налево, — и мы поехали
просекой.
Скоро мы снова увидели внизу великолепную долину, по
которой змеей вилась Сена.
Направо от дороги стояло совсем маленькое строение, крытое
черепицей, с колоколенкой величиной с зонтик, прислонившись »к
красивому домику, с зелеными ставнями, утопавшему в кустах
жимолости и роз.
Грубый голос закричал: «А, друзья!»—и на пороге появился
Матье.
Это был человек лет шестидесяти, худощавый, с острой
бородкой и длинными белыми усами.
Мой приятель пожал ему руку и -представил меня. Матье
ввел нас в чистенькую кухню, служившую ему и приемной, говоря:
— Видите ли, сударь, у меня нет парадных апартаментов.
Я люблю быть поближе к моему супу. Кастрюли, знаете ли,
прекрасная компания.
Обратившись к моему приятелю, он опросил:
-— Почему вы выбрали для приезда четверг? Вы ведь знаете,
2*1
что это приемный день моей патронессы. Я не смогу уйти из дому
сегодня после обеда.
Подбежав к двери, он зарычал страшным голосом: «Ме-е-ели!»
Этот крик заставил поднять вверх головы матросов на судах,
плывших вверх или вниз по реке. Но Мели не отзывалась.
Матье смиренно опустил глаза:
— Она, видите ли, недовольна мною. Оттого, что я вчера
перешел за девяносто.
Мой приятель расхохотался:
— За девяносто, Матье! Как это с вами случилось?
Матье ответил:
— Сейчас расскажу. В прошлом году я собрал лишь двадцать
мер абрикосов, больше не было. Но на сидр хватило. Я
приготовил его боченок и вчера откупорил! Нектар. Настоящий нектар...
Вот отведаете, так скажете! У меня был Полит. Мы выпили
немного, потом еще немного, но не утолили жажды (его можно было
бы пить до утра), и я все чувствовал холод в желудке. Вот я
и сказал Политу: «Не выпить ли нам по рюмке коньяку, чтобы
согреться?» Он согласился. Но этот коньяк! От него вас бросает
в жар, так что пришлось вернуться к сидру. И так, переходя
от прохладительного к горячительному и обратно, я вдруг
почувствовал, что дошел до девяноста. Полит был уже недалек от ста.
Тут отворилась дверь, и на пороге появилась Мели. Не
поздоровавшись даже с нами, она сразу начала:
— Грязная свинья! Вы оба дошли до ста!
Матье рассердился:
— Не говори этого, Мели! Не говори! Я никогда еще не
доходил до ста.
Нам приготовили превосходный завтрак на открытом воздухе,
под липами около часовенки «божьей матери беременных». Перед
нами расстилался величественный пейзаж, а Матье рассказывал
нам о самых невероятных чудесах, примешивая к грубым шуткам
легковерие, какого трудно было ожидать.
Мы выпили порядочно ароматного сидра, крепкого и сладкого,
прохладительного и опьяняющего. Этот напиток Матье предпочитал
всем другим. Мы закурили трубки и, сидя верхом на своих
стульях, слушали рассказы Матье, как вдруг подошли две
женщины.
Это были старухи, высохшие и сгорбленные. Поклонившись
нам, они опросили святого Блана. Матье покосился глазами в
нашу сторону и ответил:
— Сейчас принесу!
И исчез в своем дровяном сарае.
Там он оставался добрых пять минут и вышел, наконец,
растерянный, разводя руками:
— Не знаю, куда он запропастился, не могу найти. Но я
наверное знаю, что у меня есть этот святой.
Сложив руки в рупор, он опять заревел: «Ме-е-е-л-и!»
Жена отозвалась из глубины двора:
252
«— Что там такое?
— Где святой Блан? Я не могу найти его в сарае.
Мели ответила:
— Не им ли ты на прошлой неделе заткнул дыру в кроличьем
садке?
Матье заволновался: «Гром и молния! Ведь это очень может
быть!»
— Идите за мной!—сказал он старухам.
Те последовали за ним. Мы — тоже, с трудом сдерживая
душивший нас смех.
Святой действительно затыкал, как простая щепка, угол
кроличьего садка и весь был покрыт грязью и нечистотами.
Увидев его, старухи упали на колени, перекрестились и начали
бормотать молитву. Но Матье прервал их:
— Погодите, здесь навоз. Сейчас подстелю вам соломы.
Он побежал за соломой и подсунул ее под колени
молившимся. Потом, видя святого в грязи и полагая, вероятно, что это
может дурно отозваться на доходах, он проговорил:
— Я вам сейчас его почищу.
Он принес ведро воды, щетку и начал усердно мыть и тереть
своего деревянного святого. Старухи все время не прерывали своей
молитвы.
Покончив с чисткой, Матье проговорил:
— Ну, теперь он в порядке.
Он опять повел нас выпить малую толику.
Поднося первый стакан ко рту, он произнес с несколько
сконфуженным видом:
— Нет ведь ничего дурного в том, что я сунул святого Блана
в кроличий садок: я думал, что от него уже не будет никакого
дохода: больше двух лет никто его не спрашивает. Но святые,
видно, никогда не выходят из употребления.
Он допил стакан и продолжал:
— Ну, выпьем еще немного. С друзьями никогда не следует
останавливаться ниже пятидесяти. А я еще не перешел за
тридцать восемь.
Баронесса
— Ты увидишь там интересные безделушки, — сказал мне мой
друг Буарене: — идем со мной.
Он повел меня во второй этаж красивого дома на одной из
больших парижских улиц. Нас принял очень изящный господин,
с прекрасными манерами; он провел нас по целому ряду комнат,
показывая редкие предметы и небрежно называя их цены.
Солидные суммы — десять, двадцать, тридцать, пятьдесят тысяч
франков— срывались с уст с такой грацией и легкостью, что нельзя
253
было сомневаться в том, что в кассе θτογο великосветского
торговца лежат миллионы.
Я знал его понаслышке уже давно. Очень ловкий, гибкий и
умный, он служил посредником во всевозможных сделках. Он
находился в сношениях со всеми богатейшими коллекционерами не
только Парижа, но Европы и Америки; он знал их вкусы, их
настроения, и как только узнавал, что в продаже находится предмет,
который мог бы подойти кому-либо из них, он предупреждал его
запиской или телеграммой, если тот пребывал далеко.
Люди самого лучшего общества прибегали к нему в трудную
минуту для того, чтобы взять денег на игру или на уплату долга,
или же для того, чтобы продать картину, семейную безделушку,
ковер, даже лошадь или имение в дни острого кризиса.
Говорили, что он никогда не отказывает в услуге, если только
находит это выгодным для себя.
Буарене, казалось, был близок с этим любопытным торговцем.
Им не раз приходилось вместе устраивать различные дела. Что
касается меня, то я смотрел на этого человека с большим
интересом.
Он был высок, тонок, плешив, очень изящен. В его мягком
вкрадчивом голосе было какое-то особенное очарование, очарование
соблазнителя, придававшее вещам особую ценность. Держа в
руках безделушку, он поворачивал ее из стороны в сторону, смотрел
на нее с таким удовольствием и симпатией, что предмет тотчас же
начинал казаться более красивым, преображенным его
прикосновением и взглядом. И тотчас он казался более дорогим, чем
раньше, когда еще не перешел из витрины в его руки.
—· А ваше распятие, — сказал Буарене, — это великолепное
распятие эпохи Возрождения, которое вы мне показывали в
прошлом году?
Антиквар улыбнулся и ответил:
— Оно продано, и притом очень оригинальным образом. Это
настоящая парижская история. Хотите, я расскажу ее вам?
— Конечно.
— Вы знаете баронессу Самори?
— И да и нет. Я видел ее только раз, но я знаю, что она со«
бою представляет!
— Вы знаете это... вполне?
-Да.
— Расскажите же мне, что вы знаете; я хочу быть уверенным,
что вы не ошибаетесь.
. — С удовольствием. Мадам Самори светская женщина,
имеющая дочь, хотя никто никогда не знал ее мужа. Во всяком случае,
если у нее не было мужа, то есть любовники, но, конечно, тайные,
потому что ее принимают в известных терпимых или слепых
кругах. Она посещает церковь, благоговейно принимает причастие
Так, чтобы все это знали, и никогда не компрометирует себя. Она
надеется, что ее дочь сделает хорошую партию. Верно?
— Да, но я дополню ваши сведения. Это женщина, живущая
254
На содержании и умеющая заставлять своих любовников уважать
себя так, как если бы она не спала с ними. Это редкое
достоинство, потому что таким способом можно получить от мужчины все,
чего хочешь. Тот, которого она избрала без его ведома, долго
ухаживает за ней, желает ее с робостью, добивается ее с
почтительностью, получает с удивлением и обладает с уважением. Он
совершенно не замечает, что платит ей, — с таким тактом она это
устраивает; и она поддерживает их отношения в таком
сдержанном, приличном, полном достоинства тоне, что, выходя из ее
постели, он способен дать пощечину человеку, усомнившемуся в
добродетели его любовницы. И это с полным убеждением.
Я не раз оказывал этой женщине услуги. И у нее нет тайн
от меня.
В первых числах января она пришла ко мне, прося ссудить ей
тридцать тысяч франков. Разумеется, я не дал их ей; но так как
мне хотелось оказать ей услугу, то я попросил ее изложить мне
подробно свое положение, чтобы я мог видеть, что можно сделать
для нее.
Она начала рассказывать так осторожно, что деликатнее она
не могла бы рассказать мне о первом причастии своей дочери.
Наконец, я понял, что настали плохие времена и что у нее нет ни
гроша.
Торговый кризис, политические волнения, которые нынешнее
правительство, кажется, тщательно поддерживает, слухи о войне,
общее безденежье — отразились на всем, — даже влюбленные
неохотно расстаются с деньгами. И затем, ведь не может же она, эта
честная женщина, отдаться первому встречному.
Ей нужен светский человек, человек из хорошего общества,
который укрепил бы ее репутацию, удовлетворяя в то же время ее
ежедневные потребности. Какой-нибудь вивер, даже очень богатый,
навсегда скомпрометировал бы ее и сделал бы проблематичным
замужество ее дочери. Не могла она также думать о любовных
агентствах, о позорящих посредниках, которые могли бы на время
выпутать ее из затруднений.
Однако ей надо было поддерживать свой образ жизни,
продолжать большие приемы, чтобы не потерять окончательно
надежды найти среди посетителей скромного и избранного друга,
которого она ждала.
Я заметил ей, что мои тридцать тысяч франков имели мало
шансов вериуться ко мне, потому что когда она их проест, то ей
надо будет получить сразу, по крайней мере, шестьдесят тысяч,
чтобы вернуть мне половину.
Она пришла в отчаяние, слушая меня. Я не знал, что
придумать, когда в моей голове блеснула поистине гениальная мысль»
Я только что купил распятие эпохи Возрождения, которое вам
показывал, восхитительную вещь, самую прекрасную из всех
вещей в таком жанре, какие я когда-либо видел.
— Дорогой друг, — сказал я, — я пошлю вам эту вещицу. Вы
придумайте какую-нибудь замысловатую, трогательную, поэтиче-
253
скую историю, словом, что хотите, чтобы объяснить ваше желание
отделаться от нее. Это, разумеется, фамильная драгоценность,
унаследованная от вашего отца.
Я буду посылать вам любителей и сам буду приводить их к
вам. Остальное зависит от вас. Накануне я запиской буду
предупреждать вас об их положении. Это распятие стоит пятьдесят
тысяч франков, но я уступлю его вам за тридцать. Разница пойдет
в вашу пользу.
Она несколько минут размышляла, глубоко задумавшись, затем
ответила: «Да, это, пожалуй, хорошая мысль. Благодарю вас».
На следующий день я отослал ей мое распятие, и в тот же
вечер прислал к ней барона де Сент-Оопиталя.
В течение трех месяцев я направлял к ней клиентов, самых
лучших, самых солидных из всех, с кем у меня были деловые
сношения. Но я больше ничего не слышал о ней-
Как-то раз ко мне зашел один иностранец, говоривший очень
плохо по-французски, и я решил сам отвести его к Самори, чтобы
посмотреть, как идут ее дела.
Нас встретил лакей, весь одетый в черное; он ввел нас в
красивую, темную, со вкусом меблированную гостиную. Нам пришлось
несколько минут подождать. Вскоре она появилась,
очаровательная, протянула мне руку, просила нас сесть; когда я объяснил ей
причину нашего посещения, она позвонила.
Появился лакей.
— Узнайте, — сказала она, — разрешает ли мадемуазель
Изабелла пройти в ее молельню?
Молодая девушка сама принесла ответ. Ей было пятнадцать
лет, она казалась скромной и милой и обладала свежестью юности.
Она захотела сама проводить нас в свою молельню.
Это было что-то вроде часовни, где серебряная лампада
теплилась перед распятием, моим распятием, лежавшим на ложе из
черного бархата. Обстановка была прелестна и очень ловко
подстроена.
Девушка перекрестилась, потом сказала нам:
— Взгляните. Не прекрасен ли он?
Я взял изваяние Христа, рассмотрел его и объявил его
замечательным. Иностранец также взглянул на него, но он, казалось,
был гораздо больше заинтересован обеими женщинами, чем
распятием.
Квартира была полна благоухания, пахло ладаном, цветами и
Духами. Каждый должен был хорошо чувствовать себя здесь. Это
было поистине комфортабельное жилище, так и манившее остаться
в нем.
Когда мы вернулись в салон, я осторожно и деликатно
коснулся вопроса о цене. Мадам Самори, опустив глаза, попросила
пятьдесят тысяч франков.
Затем она прибавила:
— Если вы пожелаете еще раз взглянуть на распятие, то я
Всегда дома до трех... Можете зайти в любой день.
236
На улице иностранец Начал расспрашивать меня о баронессе,
которую он нашел очаровательной. Но больше я не слышал ни о
нем, ни о ней.
Прошло еще три месяца.
Однажды утром, недели две тому назад, она пришла ко мне
во «время завтрака и, передавая мне бумажник, сказала:
— Мой друг, вы ангел. Вот пятьдесят тысяч франков. Я
покупаю ваше распятие и ллачу на двадцать тысяч франков больше,
чем вы назначили, с условием, что вы будете посылать мне
всегда... всегда... клиентов... потому что оно все еще продается... мое
распятие.
ДЖЕК ЛОНДОН
(1676—1916)
Хранитель тайны *
В селении случилась покража. Женщины переговаривались
пронзительными крикливыми голосами, мужчины были мрачны и
держали себя неуверенно. Даже собаки — и те бродили в
недоумении, как-то непонятно встревоженные волнением поселка и
готовые броситься в лес, как только начнется бедствие. Воздух был
насыщен подозрением. Ни один человек не был уверен в своем
соседе, и каждый сознавал, что встречает такое же недоверие у
соседей. На что дети — и те были удручены и торжественны, а
маленький Ди-Я, виновник всего происшествия, был основательно
высечен сначала своей матерью Гуньей, а потом и отцом Бэуном.
Теперь он хныкал и пессимистически взирал на мир, сидя на
берегу, под защитой большой перевернутой лодки.
Но хуже всего было то, что шаман Скунду находился в
немилости, и нельзя было прибегнуть к его замечательным магическим
средствам, чтобы отыскать преступника. Действительно, прошел
уже целый месяц, как он обещал прекрасный южный ветер, для
того чтобы племя могло добраться на сборище в Тонкий, где
Таку-Джим накупал товар на все деньги, сбереженные им за
двадцать лет. Но когда настал обещанный день, подул жестокий
северный ветер, и из трех первых лодок, которые осмелились выйти
в море, одна потонула в больших волнах, а две разбились в щепки
о скалы, и в одной из них погиб ребенок. Шаман объяснил, что он
потянул за веревку не тот мешок, — ошибка вышла. Но народ не
хотел верить и перестал складывать у его дверей приношения
мясом, рыбой и мехами.
* Печатается в сокращенном виде.
17-22 251
Скунду сидел у себя хмурый и, как думали все, постился в
горьком раскаянии. В действительности же он обильно питался
своими богатыми запасами и размышлял об изменчивости толпы.
У Гуньи пропали одеяла. Это были хорошие одеяла,
замечательно толстые и теплые. Она тем более ими гордилась, что они
достались ей чрезвычайно дешево. Только один Ти-Кван, из
соседней деревни, мог быть настолько глуп, чтобы так легко
расстаться с ними. Но Гунья не знала, что это были одеяла убитого
англичанина, из-за исчезновения которого катер Соединенных
Штатов шнырял некоторое время вдоль берега и, пыхтя, со свистом
обшаривал все тайные проходы. Гунья не подозревала, что Ти-
Кван расстался с одеялами так поспешно лишь для того, чтобы
не пришлось дать в них отчет властям, и, таким образом, гордость
Гуньи ничем не была поколеблена. А так как женщины
завидовали ей, ее гордость потеряла всякие меры и границы. Она стала
важным лицом в деревне, и слава о ней распространилась вдоль
всего берега Аляски — от Голландской гавани до мыса св. Марии.
Знак ее рода стал достопримечательностью, а имя ее сделалось
известным всем, кто только ловил рыбу или участвовал в пирах.
Все знали о замечательно толстых и теплых одеялах.
Исчезновение их было случаем, в высшей степени таинственным.
— Я только успела развесить их на солнышке около
наружной стены, — в тысячный раз рассказывала Гунья своим сестрам
по племени. — Я только успела их развесить и отвернуться. Ди-Я,
который вечно крадет тесто и ест сырую муку, угодил головой в
огромный железный горшок. Он застрял в нем так, что ноги его
болтались в воздухе, как ветви деревьев во время ветра. Только
я вытащила его и раза два ударила головой об дверь, чтобы
его вразумить, смотрю, а одеял уж нет!
— Одеял уж нет, — повторили боязливым шопотом женщины.
— Большая потеря! — добавила одна из них.
— Никогда не было таких одеял, — сказала вторая. А третья
добавила:
— Мы горюем о твоей потере, Гунья!
И каждая женщина в душе была рада, что отвратительные
одеяла, вносившие столько раздоров, пропали.
— Я только успела развесить их на солнце, — начала Гунья
в тысяча первый раз.
— Да, да, — устало заговорил Бэун. — Но не надо передавать
никаких сплетен в другие деревни. Ясно, что незаконные руки на
одеяла наложил кто-нибудь из наших.
— Как это может быть, о, Бэун, — возмущенным хором
запротестовали женщины. — Кто же это мог сделать?
— Тогда, значит, это колдовство, — продолжал Бэун, бросая
лукавый взгляд на их лицас
— Колдовство?..
При страшном слове голоса их затихли, и они боязливо
посмотрели друг на друга.
— Конечно, — подтвердила Гунья; присущая ей злобность, за-
258
хлебываясь, прорвалась наружу.—Уже дали знать Клек-Но-Тону;
ему послали крепкие весла. Он наверное будет здесь с дневным
приливом.
Люди разбивались на мелкие группы, и страх охватил всю
деревню. Из всех бедствий колдовство было самым страшным.
Неосязаемыми и невидимыми явлениями могли ведать только
шаманы, и до самого часа испытания ни один мужчина, ни одна
женщина, ни один ребенок не мог знать, владеет ли дьявол его душою
или нет. А из всех шаманов Клок-Но-Тон, из соседней деревни,
был самым свирепым. Никто не знал больше злых духов, чем он,
никто не карал своих жертв более страшными пытками. Он даже
нашел как-то раз дьявола в трехмесячном младенце —
исключительно упрямого дьявола, которого удалось изгнать лишь после
того, как ребенок с неделю пролежал на шипах и колючках. Тело
ребенка было брошено затем в море, но волны снова и снова
выбрасывали его на берег, грозя проклятием всей деревне. Труп не
уплыл в море до тех пор, пока не выбрали двух сильных людей
в виде заложников и не утопили их во время прилива.
Гунья послала за Клок-Но-Тоном. Было бы лучше, если бы
Скунду, их собственный шаман, не находился в немилости. Он
всегда отличался мягкими приемами, и все знали, что он изгнал
двух дьяволов из человека, у которого после этого родилось семь
здоровых детей. Но Клок-Но-Тон! При мысли о нем все
дрожали от ужасного предчувствия. Каждый ощущал себя точкой,
на которую устремлены обвиняющие глаза шамана, и сам
смотрел на своих соседей с точки зрения обвинителя. Каждый порознь
и все вместе, — кроме Сайма. А Сайм был насмешником, которого
безусловно ожидал дурной конец; никакие удачи не могли
поколебать эту очевидность.
— Хо, хо! — смеялся он.—Дьяволы и Клок-Но-Тон! Да
большего дьявола, чем он сам, нельзя найти во всей стране Тлинкет.
— Ты безумец! Он уже идет сюда со всем своим колдовством
и волшебными чарами. Держи язык за зубами, а то горе будет
тебе, и дни твои будут коротки на земле!..
Так говорил Ла-Лах, иначе «Обманщик», но Сайм
презрительно рассмеялся.
— Я — Сайм. Я не привык бояться и не страшусь темноты.
Я сильный человек, каким был и мой отец, и голова моя ясна.
Ни ты ни я не видали своими глазами невидимых злых духов...
— А Скунду видел, — ответил Ла-Лах. — И Клок-Но-Тон
тоже. Мы знаем.
— Откуда ты это знаешь, сын глупца?—гаркнул Сайм, и его
толстая, как у быка, шея потемнела от гнева.
— Со слов, из их уст,— это так.
Сайм фыркнул:
— Шаман только человек. Почему его слова не могут быть
лживыми, как твои и мои? Вздор, вздор, и еще раз вздор! Вот
тебе твой шаман, а вот тебе злые духи шамана! Вот и вот!
И, щелкая пальцами направо и налево, Сайм прошел мимо
17· 259
Толпы, которая особенно усердно и трусливо Давала ему дорогу.
— Хороший рыбак и сильный охотник, но дурной человек, —
сказал кто-то из толпы.
— А тем не менее ему везет, — заметил другой,
— Так сделайся и ты дурным, и тебе тоже повезет, — бросил
ему Сайм через плечо. — А если все будут дурными, то не надо
будет и шаманов. Ба! Вы — дети, боящиеся мрака!
Когда с дневным приливом прибыл Клок-Но-Тон,
презрительный смех Сайма не умолк. Сайм не остановился даже перед тем,
чтобы пустить шутку по адресу шамана, когда тот, причалив,
вступил на песок, Клок-Но-Тон косо посмотрел на него и, не
сказав ни слова в приветствие, направился сквозь толпу к дому
Скунду.
По поводу свидания со Скунду никто из племени не должен
был ничего знать. Поэтому все то время, пока хранители тайны
совещались, жители деревни почтительно толпились на расстоянии
и говорили шопотом.
— Привет тебе, Скунду, — пробормотал Клок-Но-Тон, явно не
уверенный в радушном приеме.
Он был гигант по сложению и грузно возвышался над
маленьким Скунду, тоненький голос которого несся вверх, как слабое,
далекое стрекотанье сверчка.
— Привет, Клок-Но-Тон, — ответил он. — День стал
прекраснее благодаря твоему приходу.
— Но, повидимому... — нерешительно проговорил Клок-Но-Тон.
— Да, да, — нетерпеливо перебил его маленький шаман, —
повидимому, для меня наступили дурные дни. Иначе мне не пришлось
бы благодарить тебя за работу, которую ты выполняешь за меня.
— Это огорчает меня, друг Скунду!
— Нет, я рад этому, Клок-Но-Тон!
*** Я дам тебе половину того, что мне дадут.
*— Не надо, добрый Клок-Но-Тон, — пробормотал Скунду,
милостиво махнув рукой. — Я твой раб, и дни мои будут исполнены
желанием выказать тебе мою дружбу.
-— Также и я...
—. Также и ты выкажешь мне свою дружбу...
— Да будет так. — А что за скверное дело с этими одеялами
Гуньи?
Рослый шаман проговорился о своем желании что-нибудь
разузнать, и Скунду улыбнулся бледной, серой улыбкой. Он привык
видеть людей насквозь, и все они казались ему очень мелкими.
— Ты всегда применял сильные средства, — сказал он. —
Преступник, несомненно, станет тебе скоро известен.
— Конечно, он станет мне известен, как только глаза мои
обратятся на него. — Клок-Но-Тон остановился в нерешительности.—
Доносились ли какие-нибудь слухи из других мест? — спросил он.
Скунду отрицательно покачал головой.
— Смотри, разве это не прекраснейшие покрывала?
Он развернул ножное покрывало из тюленьей кожи и морже-
260
вую шкуру; его посетитель стал рассматривать их с тайной за-
вистью.
— Я получил это по одному договору.
Клок-Но-Тон сосредоточенно кивнул.
— Я получил это от человека, которого зовут Ла-Лах. Это
удивительный человек, и я часто думал...
— Что? — нетерпеливо спросил Клок-Но-Тон.
— Да, я часто думал... — заключил, понижая голос, Скунду и
умолк. — День прекрасен, а твои средства всегда сильны, Клок-
Но-Тон!
Лицо у Клок-Но-Тона повеселело.
— Ты великий человек, Скунду, и шаман из шаманов! Я
теперь пойду. Я всегда буду помнить тебя. Так ты говоришь, что
человек, которого зовут Ла-Лах, удивительный человек?
На лице -Скунду промелькнула еще более бледная и
бесцветная улыбка. Он закрыл за гостем дверь на оба затвора.
Когда Клок-Но-Тон пришел на берег, Сайм чинил свою
лодку. Он оторвался от работы только для того, чтобы тщеславно
зарядить свое ружье и положить его рядом с собой.
Шаман заметил его движение и прокричал:
— Пусть все люди соберутся на этом месте! Это говорит
Клок-Но-Тон, который находит дьявола и изгоняет бесов·!
Он сперва хотел собрать их в доме Гуньи, но надо было,
чтобы собрались все, а он сомневался в повиновении Сайма и не
хотел противоречия. Сайм хороший человек, если его не задирать,
рассудил он, а с другой стороны, его действия могут скверно
отразиться на здоровье любого шамана.
— Пусть приведут Гунью, — приказал Клок-Но-Тон, свирепо
озираясь, и дрожь пробегала по спинам тех, на ком останавливался
его взгляд.
Гунья, переваливаясь, вышла вперед. Она опустила голову и
глядела в сторону.
—■ Где твои одеяла?
— Я только успела развесить их на солнце, смотрю, а их уж
нет!—завопила она.
— Дальше?
— Это я из-за Ди-Я.
— Дальше?
— Я его хорошенько прибила, и еще прибью, потому что on
причинил урон бедному человеку.
— Одеяла!—хрипло заревел Клок-Но-Тон, предвидя ее
желание понизить плату. — Одеяла, женщина! Твое богатство всем
известно.
— Я только успела развесить их на солнце... — пробормотала
она. — Мы бедные люди, у нас ничего нет.
Клок-Но-Тон внезапно застыл на месте, лицо его страшно
исказилось. Гунья попятилась. Опустив челюсть и вращая зрачками,
шаман прыгнул .вперед с такой стремительностью, что Гунья
споткнулась и, упав, поползла около его ног. Он взмахивал руками?
безумно рассекая ими воздух, а тело его кружилось и судорожно
извивалось. Из губ брызгала белая пена, а тело подергивалось в
корчах.
Женщины заунывно пели, усердно раскачиваясь взад и вперед.
Мужчины один за одним стали поддаваться возбуждению, и
вскоре один только Сайм оставался внешне безучастным. Сидя на своей
лодке, он насмешливо смотрел перед собой, но ритуал предков
производил и на него свое впечатление, и для поддержания
храбрости он мысленно произносил самые сильные клятвы. На Клок-
Но-Тона страшно было смотреть. Он сбросил свое одеяло и сорвал
с себя все одежды, так что был совсем голый, если не считать
пояса из орлиных когтей на бедрах. Крича и взывая, взмахивая
своими черными, как ночь, волосами, шаман неистово прыгал по
кругу. В его бешенстве слышался какой-то грубый ритм. Когда все
очутились под его влиянием и, раскачиваясь, стали завывать с ним
в унисон, Клок-Но-Тон вдруг сел прямо и вытянул вперед руку с
длинным, похожим на коготь, пальцем. Послышался тихий, как бы
предсмертный стон. Люди, дрожа, присели на землю, а страшный
палец медленно проходил мимо них. С ним вместе проходила и.
смерть, так как жизнь оставалась за тем, кто следил, как палец
удалялся от него все дальше и дальше. Не отмеченные пальцем
ревностно наблюдали за его движением.
Наконец, шаман страшно вскрикнул, и палец его остановился
на Ла-Лахе. Ла-Лах затрясся, как осина. Он уже видел себя
мертвым, своих домашних богов — розданными в чужие руки, а вдову
свою — замужем за своим братом. Он сделал попытку говорить,
хотел отрицать, но его язык прилип к гортани, и горло
пересохло от невыносимой жажды. Теперь, когда работа была
окончена, Клок-Но-Тон пребывал, повидимому, в полуобморочном
состоянии. Он сидел с закрытыми глазами, ожидая, когда
раздастся крик возмездия, великий крик, знакомый его слуху по тысячам
заклинаний, — после которого племя, подобно волкам, бросалось
на трепещущую жертву. Кругом, однако, царила тишина. Внезапно
откуда-то послышалось тихое хихиканье. Оно разрасталось все
сильней и сильней, и наконец громкий смех потряс всю толпу.
— Что такое? — закричал он.
— Вот так так! — смеялись люди. — Плохое твое средство, о,
Клок-Но-Тон I
— Всем известно, что это не так, — заикаясь, заговорил. Ла-
Лах. — Я далеко уезжал отсюда, к сивашским охотникам на
тюленей. Я уезжал на восемь томительных месяцев и только что
вернулся сюда. Лишь сегодня я узнал, что одеяла Гуньи пропали,
прежде чем я вернулся.
— Это правда! — закричали все в один голос. — Одеяла
Гуньи пропали прежде, чем он вернулся.
— И тебе ничего не будет заплачено, так как твое средство
бесполезно, — объявила Гунья, которая стояла уже на ногах и,
чувствуя себя смешной, изливала на шамана свою желчь.
Но Клок-Но-Тон видел перед собой только одно лицо — лицо
262
Скунду, с бледной, серой улыбкой, и слышал лишь слабое, далекое
стрекотанье сверчка: «Я получил это от человека, которого зовут
Ла-Лах, и я часто думал...». И еще: «День прекрасен, а твои
средства всегда сильны...»
Шаман пролетел мимо Гуньи, и круг инстинктивно раздался,
чтобы его пропустить. Сайм, с верха овоей лодки, бросил ему
вслед колкую насмешку, женщины фыркали ему прямо в лицо, со
всех сторон он слышал глумливые крики. Но он не обращал ни на
кого внимания и торопливо направлялся к жилищу Скунду. Он
обрушился на его дверь, колотил по ней кулаками, изрыгал
ужасные проклятия. Но ответа не было. Слышно было лишь тихое
пение колдующего Скунду. Клок-Но-Тон неистовствовал, как
сумасшедший, но когда он сделал попытку расшибить дверь
огромным камнем, среди мужчин и женщин поднялся ропот, и Клок-
Но-Тон понял, что лишился своей силы и авторитета перед чужим
народом. Он увидел, как кто-то из толпы нагнулся за камнем, за
ним другой, — и шамана охватило чувство физического страха,
— Не причиняй зла Скунду, он настоящий хранитель тайны! —
закричала одна из женщин.
— Возвращайся-ка лучше в свою деревню! — угрожающе
посоветовал ему один из мужчин.
Клок-Но-Тон повернулся и пошел вниз к берегу с горькой
злобой в душе, не без основания опасаясь за свою беззащитную
спину. Но камней никто не бросал. Дети с насмешками вертелись у
него под ногами, позади него раздавался издевательский смех, но
за этим ничего более страшного не последовало. Тем не менее
Клок-Но-Тон вздохнул свободно лишь тогда, когда его лодка уже
плыла по реке. Тут он поднялся во весь рост и наложил
проклятие на деревню и ее жителей, не забыв особо упомянуть про
Скунду, который сделал его общим посмешищем...
ДЖОН СТЕЙНБЕК
Сеятак Кэти, девственница
В П... (как говорят французы) в году 13... жил скверный
человек, у которого была скверная свинья. Скверным этот человек
был потому, что смеялся слишком много, не во-время и не над
теми людьми, над которыми надо было смеяться. Он смеялся над
добрыми братьями из монастыря М..., когда они останавливались
у его дверей, прося глоток вина или серебряную монету, и он смс-
Ж
ялея над церковной десятиной. Когда брат Климент упал в
мельничную запруду и утонул, потому что не хотел выпустить из рук
мешок с солью, этот скверный человек, Рорк, смеялся так, что
слег в постель. Представьте себе этот смех, и вы поймете, какой
скверный человек был Рорк, и не удивитесь тому, что он не пла«
тил церковной десятины, что вызвало даже разговоры об
отлучении его от церкви. К тому же он обзывал людей дураками, а это
зло и неумно.
Вот в каких условиях выросла скверная свинья Кэти. О том,
что Кэти является потомком нескольких поколений скверных
свиней, о том, что отец Кэти был куроедом, а мать съедала своих
поросят (если ее допускали до этого), написаны томы, но все это
неправда. Отец и мать Кэти были хорошими и скромными
свиньями, насколько это возможно для свиней, от которых требуется
не так уж много. Мать приносила (помет за пометом из милых
розовых голодных поросят, таких нормальных и приличных, каких
только можно желать. Плохие качества Кэти не были дурной
наследственностью, она получила их от человека — Рорка.
Кэти с закрытыми раскосыми глазками и сморщенным розовым
носом лежала в соломе, такая же красивая и тихая, как и все
поросята, до того дня, пока в хлев не пришел Рорк, чтобы дать
им имена. «Ты будешь Бри джид! — сказал он. — А ты — Рори.
Повернись-ка, маленький дьявол, ты будешь Кэти!» И с той
минуты Кэти стала скверной свиньей, в самом деле, худшей из всех,
когда-либо живших в графстве П...
Она начала с воровства молока. Те материнские соски, которые
она не сосала, она прикрывала спиной, так что бедные Рори, Бри-
джид и остальные выросли хилыми, а Кэти вскоре стала вдвое
больше и вдвое сильнее своих братьев и сестер. Но это не все:
Кэти съела Бриджид, Рори и остальных братьев и сестер. От
Кэти можно было ждать любого греха, и, действительно, прошло
немного времени, и она начала пожирать кур и уток, пока, наконец,
в это дело не вмешался Рорк. Он посадил Кэти в прочный хлев.
По крайней мере, хлев был прочен со стороны двора Рорка,
потому что те куры и утки, которых теперь пожирала Кэти, были
соседские.
Следовало бы видеть лицо Кэти. Это было безнравственное
лицо. Дурные желтые глазки ее могли испугать кого угодно.
Ночью Кэти крадучись вылезала из дыры в хлеву и гоняла по
курятникам. Изредка пропадал даже ребенок, и больше о нем не
слыхали. А Рорк, который должен был бы стыдиться и
печалиться, все больше и больше гордился своей Кэти и говорил, что она
лучшая свинья, которую он когда-либо имел, и у нее больше
соображения, чем у любой свиньи в графстве.
Вскоре прошел слух, что эта свинья-оборотень шляется по
ночам и кусает людей за ноги, взрывает землю в садах и поедает
уток. Некоторые даже утверждали, что это сам Рорк
оборачивается свиньей и лазает через плетни по ночам. Вот какая репутация
была у Рорка!
264
Итак, Кэти была уже большой свиньей, и для нее пришло
время плодиться. Она пухла и пухла, пока однажды ночью не
разрешилась. Она вычистила свое потомство и лизала поросят. Можно
было подумать, что материнство изменило ее характер. Но, когда
все ее дети стали сухие и чистые, она положила их рядышком и
съела всех поочереди. Это было уж слишком даже для такого
скверного человека, как Рорк, и он, правда, все же с неохотой,
решил заколоть Кэти. Он как-раз оттачивал нож, когда пришли
брат Колэн и брат Поль, которые собирали церковную десятину.
Их послали из монастыря М..., и хотя они не ожидали получить
чего-нибудь от Рорка, все же решили еще раз испытать его и
посмотреть, не исправился ли он. Брат Поль — худой сильный
человек с тонким лицом, острыми глазками и безоговорочным
благочестием во всем облике, тогда как брат Колэн — кроткий круглый
человек с широким лицом. Брат Поль желал испытать милости
божий на небесах, но брат Колэн был целиком за то, чтобы
испытать их на земле. Они собирали церковную десятину вместе,
и то, что брат Колэн не мог получить убеждением, брат Поль
вырывал угрозами и описаниями мук адских.
— Рорк! — сказал брат Поль. — Мы собираем церковную
десятину. Не хочешь же ты в аду мариновать свою душу в сере?
Рорк перестал точить нож, и глаза его можно было принять
за глаза Кэти, когда она собиралась съесть свой помет.
— У меня есть для вас свинья, — сказал Рорк и спрятал нож.
Святые братья были поражены, потому что до сих пор ничего
не получали от Рорка и он только натравливал на них собак и
смеялся, когда святые братья, путаясь в сутанах, убегали за
ворота.
— Свинья?—переспросил брат Колэн подозрительно.— Какая
свинья?
— Вон та, что стоит там в стойле, — сказал Рорк, и глаза его
пожелтели.
Братья поспешили к хлеву и заглянули внутрь. Они приметили
величину Кэти и жир на ней и недоверчиво взглянули друг на
друга. Колэн не мог думать ни о чем, кроме как об огромных
окороках, которые были у Кэти, и о беконе, который она носила
словно шубу.
— Какая будет у нас колбаса! — прошептал он.
Но брат Поль думал о похвале от отца Бенедикта, когда тот
узнает, что они получили свинью от Рорка.
— Когда ты пришлешь нам свинью? — спросил он.
— Я ничего не пришлю! — закричал Рорк. — Эта свинья
ваша. Возьмите ее с собой, или она останется тут.
Братья не спорили. Брат Поль пропустил веревку сквозь кольцо
в носу Кэти и вывел ее из .хлева, и Кэти следовала за ними,
словно была действительно хорошей свиньей. Когда все трое
вышли из ворот, Рорк окликнул их:
— Ее зовут Кэти!—и смех, который так долго застревал о
его горле, вырвался наружу.
265
— Это большая, жирная свинья, — беспокойно заметил брат
Поль.
Брат Колэн собирался ответить ему, когда что-то вроде
волчьего капкана схватило его сзади за ногу. Колэн закричал и
завертелся. Довольная Кэти жевала кусок его ноги, и выражение
ее лица было словно у чорта. Кэти медленно проглотила жвачку
и затем бросилась вперед, чтобы схватить еще кусок от брата
Колэна, но в этот момент брат Поль отвесил добрый удар ногой
по ее рылу. Если до этого в лице Кэти было заметно зло, то
теперь в ее глазах забегали черти. Она остановилась и зарычала,
затем двинулась вперед, фыркая и стуча зубами, словно бульдог.
Братья не ждали ее. Они побежали к дереву, растущему у
дороги, и с трудом взобрались наверх.
Рорк, стоя у ворот, смеялся, и братья поняли, что они не
получат от него никакой помощи. Под ними, на земле, взад и
вперед ходила Кэти. Она рыла землю и выкапывала огромные
куски дерна, чтобы показать свою силу. Брат Поль кинул в нее
веткой, и она втоптала ее в землю острыми копытцами, все время
глядя наверх косыми желтыми глазами и усмехаясь самой себе.
Оба брата, уничтоженные, сидели на дереве, а Кэти люто
бегала внизу. Долгое время братья сидели молча, уныло подбирая
сутаны повыше к коленям. Брат Поль напряженно изучал
создавшееся положение.
— Теперь ты не скажешь, что у свиней не много общего со
львами!
— Больше общего с дьяволом! — беспокойно проговорил
Колэн.
Поль выпрямился и стал с интересом рассматривать Кэти.
Затем он протянул перед собой распятие и ужасным голосом
закричал:
— Изыди, сатана!
Кэти содрогнулась, словно на нее налетел сильный порыв
ветра, — и все.
— Изыди, сатана! — снова закричал брат Поль, и снова Кэти
содрогнулась, но и только. В третий раз брат Поль швырнул
вниз заклинание, но теперь уж Кэти оправилась от первого по·
трясения. Брат Поль обескураженно взглянул на Колэна.
— Это не дьявол, — печально объявил он, — иначе бы свинья
взорвалась!
Кэти щелкнула зубами и отвратительно усмехнулась.
<сЯ решил воспользоваться приемом Даниэля в логовище
льва»,—размышлял брат Поль.
Брат Колэн боязливо взглянул на него.
— Возможно, что в характере льва есть некоторые изъяны,—
говорил он, — возможно, что львы не так еретичны, как свиньи.
Да, брат мой, лев — животное, созданное со специальными целями.
Во всех святых рассказах присутствует лев. Это потому, что из
всех существ лев наиболее отзывчив к силе религии. Мне кажется,
что лев был создан господом специально для притч. Но свинья.
признает только затрещину по носу или нож в глотку. Свиньи в
основном, и эта свинья в частности, наиболее своевольны и ере-
тичны из всех животных.
— Все же, — продолжал брат Поль, почти не обращая
внимания на умозаключение брата Колэна, — стыд и позор — не
испробовать на этой скотине силу религии. Ничего не значит, что
заклинание не подействовало!
С этими словами он стал развязывать веревку, которая
служила ему поясом. Брат Колэн с ужасом наблюдал за ним.
— Поль, друг!—закричал он. — Брат Поль, из любви к
богу не спускайся вниз к этой свинье!
Но Поль не обратил внимания на эти слова. К концу пояса
он привязал свое распятие, затем, нагнувшись так, что полы его
сутаны опрокинулись на голову, опустил пояс, словно
рыболовную леску, и начал раскачивать его по направлению к Кэти.
Что же касается Кэти, то она, чавкая и взрывая землю,
подошла к распятию, готовая схватить его и растоптать. Лицо
Кэти было лицом тигра! В тот момент, когда она подошла к
кресту, тень от него упала ей на лицо, и сам крест отразился в ее
желтых глазах. Кэти остановилась, словно парализованная.
И вдруг две громадные слезы выкатились из ее глаз, и в то же
мгновение она распростерлась на земле, крестясь своим правым
копытом и тихо мяукая от сознания своих прегрешений.
Брат Поль раскачивал распятие целую минуту.
Все это время Рорк следил за ними из ворот. С этого дня
он не был скверным человеком. Весь он переменился в одну
минуту. Действительно, он рассказывал о происшедшем всем, кто
только хотел его послушать. Рорк говорил, что никогда в жизни
не видел он ничего столь вдохновляющего и величественного.
Брат Поль поднялся и стал на сук. Он выпрямился во весь
свой рост. Затем, пользуясь свободной рукой для жестикуляции,
он на чудесной латыни произнес проповедь пресмыкающейся,
стонущей под деревом Кэти. Когда он кончил, наступило полнейшее
и святое молчание, если не считать вздохов и фырканья кающейся
свиньи.
Брат Колэн не обладал душой воинственного попа.
— Ты... ты думаешь, что теперь безопасно спуститься вниз? —
боязливо пробормотал он.
В ответ брат Поль отломил сучок и бросил его в
распростертую под деревом свинью. Кэти громко вздохнула и подняла
залитое слезами раскаяния лицо, с которого исчезла вся гррдыня и
греховность. Желтые глазки ее были золотые от раскаяния. Братья
слезли с дерева, продели веревку сквозь носовое кольцо Кэти и
пошли с искупившей свои грехи свиньей, послушно перебирающей
ногами позади них.
Известие, что они ведут свинью от Рорка, возбудило такой
интерес, что у ворот М... их ожидала толпа монахов. Все братство
щупало Кэти за жирные бока и подгрудок. Внезапно внутрь круга
вошел отец Бенедикт. На его лице была улыбка, и Колэн был
267
Уверен, что это от предвкушения колбасы из Кэти. И вдруг, к
ужасу и изумлению всех присутствующих. Кэти, переваливаясь,
подошла к маленькой купели у входа в часовню, окунула в нее
правое копыто и перекрестилась. В наступившем молчании
прозвучал злой голос отца Бенедикта:
— Кто обратил эту свинью?
Брат Поль вышел вперед.
— Я, отец!
— Ты дурак, — сказал аббат.
— Дурак? Мне казалось, что вы будете довольны, отец!
— Ты дурак, — повторил отец Бенедикт. — Мы не можем
зарезать эту свинью. Эта свинья — христианин?
* * *
Перечисление тысяч больных, которых посетила Кэти,
перечисление того счастья, которое она приносила в многочисленные
дворцы и лачуги, заняло бы целый том. Она сидела возле
постелей больных, и ее нежные золотые глаза приносили успокоение
страдальцам. Некоторое время думали, что из-за своего пола Кэти
должна будет перебраться в женский монастырь, ибо испорченные
языки уже начинали поднимать в графстве скандал. Но, как
заметил аббат, нужно было лишь раз взглянуть на Кэти, чтобы
убедиться в ее девственной чистоте.
Последующая жизнь Кэти была сплошным добрым деянием.
И однажды братьям пришла в голову мысль, что их община
нуждается в своем святом. Одним утром, когда гимны радости и
благодарения господу изливались из набожных ртов, Кэти поднялась
со своего места, подошла к "алтарю и с неземным выражением
лица завертелась, словно волчок, на своем хвосте и вертелась так
в продолжение часа и трех четвертей. Братья смотрели на нее с
удивлением и восторгом. Это был чудесный пример того, что
делала святая жизнь.
С этого времени М... стало местом паломничества. Длинные
ряды путников извивались по долине и останавливались в таверне
добрых братьев из М... Каждый день, в четыре часа, Кэти
появлялась в ворогах и благословляла толпы. Если кто-нибудь страдал
от золотухи или трихиноза, она дотрагивалась до него, и болезнь
проходила.
Было выдвинуто предложение о том, что она должна
называться «Святая Кэти, девственница». Все же начались споры о
том, что Кэти не была девственницей, так как в ее греховные
дни у нее были дети. Оппозиционная партия отвечала, что это
ничего не значит. Очень немногие девственницы, как говорили они,
были девственны на самом деле.
Чтобы прекратить споры в стенах монастыря, комитет
предложил эту проблему на разрешение очень мудрому и ученому
цырюльнику, заранее решив подчиниться его словам.
— Это очень деликатный вопрос, — начал цирюльник. —
Можно сказать, что существуют два рода девственности. Некоторые
m
придерживаются того взгляда, что Девственность заключается ö
маленьком клочке мышечной ткани. Если она есть, девственность
налицо. Если нет, то нет. Это определение представляет большую
угрозу для нашей религии. С другой стороны, — продолжал он, —
существует девственность по намерению, и это определение
допускает существование много большего количества святых
девственниц, чем первое. Когда я был моложе, я часто по вечерам гулял
с девушками под руку. Каждая из тех, что когда-нибудь гуляла
со мной, была девственница по намерениям, и если вы примете
второе определение, то вы увидите, что они девственницы и до
сих пор.
Комитет был удовлетворен. Кэти, без сомнения, была
девственницей по намерениям.
В часовне монастыря М... есть усыпанная золотом и
бриллиантами реликвия. На подушке из красного бархата лежат кости
святой Кэти. Люди проходят огромные расстояния, чтобы
поцеловать маленький ящичек, и тогда все невзгоды остаются позади.
Эта святая реликвия может излечивать женские беспокойства и
лишаи. Существует запись одной женщины, посетившей часовню,
о том, что она вылечилась сразу от обеих бед. Она утверждает,
что потерла реликвией щеку, и в тот момент, когда святой предмет
коснулся ее лица, волосяная родинка, которая была у нее от
рождения, немедленно исчезла и никогда больше к ней не
возвращалась.
В. ТРАВЭН
Странствовании святого Антония
Индеец Сильвестр, рудокоп по профессии, дожил, наконец, до
того счастливого дня, когда смог купить себе карманные часы.
Часы были из никеля и стоили восемь пезо пятьдесят центавос.
Это были хорошие и вполне годные к употреблению часы, ибо они
показывали все двадцать четыре часа в сутки. В Мексике, где
во всей деловой жизни, особенно же на железной дороге, на
почте, в суде и во всех прочих учреждениях, а также и в
театральной жизни принято двадцатичетырехчасовое времяисчисление,
очень хорошо и удобно иметь карманные часы, циферблат
которых разделен на двадцать четыре части. Сильвестр, разумеется,
очень гордился своими часами и, так как в шахте, в своей рабочей
колонне, как и в соседних колоннах, он был единственный
обладатель часов, то у него спрашивали время не только товарищи по
269
работе, но, подчас, и сам старший колонны. Это придавало ему
особую важность. А так как в этой важности он был обязан
своим часам, то он держал их в большом почете. Он носил их в
шахте только лишь завернутыми в бумагу, чтобы они не
пострадали от рудной пыли.
Однажды он обнаружил, что его часы исчезли. Он потерял
их либо во время работы, либо при спуске в шахту.
Возможность кражи он считал мало вероятной. Вор,
похитивший его часы, вряд ли мог носить или продать их, потому что
Сильвестр, при покупке часов в соседнем городе, поручил
часовщику выгравировать в них свое имя. Это стоило ему еще один
лишний пезо. Но часовой мастер — как большинство часовых
мастеров в Мексике и в Северных штатах он был по профессии
кузнецом — так убеждал его, что гравировка — единственное
обеспечение для его часов, что Сильвестр тотчас же согласился с ним,
испугавшись, что часы без гравировки в тот же день будут
похищены из его кармана.
Затем Сильвестр отнес часы в церковь на освящение, что
тоже было сделано не напрасно, и, наконец, самолично окропил их
священной водой. И вот все эти предохранительные меры, из-за
которых покупка обошлась ему чуть ли яе вдвое дороже,
оказались недостаточными, чтобы сохранить часы до самой смерти.
Может быть он что-нибудь пропустил при освящении или
сунул их мимо часового кармана брюк, или, может быть, они сами
выскользнули из кармана. Как бы то ни было, но часы пропали.
Он обыскал целый пласт в шахте, но часы не появлялись,
исчезнув без следа.
Сильвестру не оставалось ничего другого, как дожидаться
воскресенья и уладить все это дело с помощью церкви и ее святых.
Будучи хорошим католиком, он умел, как и вое индейцы, очень
ловко креститься и знал напамять всех святых, которых можно
было бы с успехом использовать в том или ином деле. Для
утерянных, но отнюдь не для украденных вещей, святой Антоний и
есть тот святой, которому всегда известно, где находится
утерянный предмет.
Итак, в ближайшее воскресенье Сильвестр отправился в город,
пошел в церковь, отыскал там деревянную фигуру святого
Антония, пожертвовал ему свечу, перекрестился бесчисленное
множество раз и стал умолять святого Антония вернуть ему часы.
Из своего богатого и дорого стоящего опыта Сильвестр вынес
убеждение, что в церкви ничего не делается даром, и поэтому он
пообещал святому Антонию три пятицентовых свечи и серебряную
десятицентовую ручку, если он снова найдет ему часы. И все это
он принесет ему не позже ближайшего воскресенья, когда опять
придет в церковь взглянуть, что сделал для него за это время
святой Антоний.
Часы в течение недели не нашлись. И Сильвестр, придя в
ближайшее воскресенье в церковь, хотя и очень внимательно осмотрел
вес, но не заметил своих часов ни лежащими у ног святого Анто-
270
ния, ни висящими в складках его коричневой монашеской рясы, ни
спрятанными где-либо под его тяжелым одеянием, которое
Сильвестр совсем непочтительно приподнял, ища свои часы.
Часов нигде не было. И Сильвестр понял, что напрасно
растратил свои свечи, свои молитвы и кресты.
Он пошел купить еще одну свечу. Ему ие пришлось далеко
ходить за ней, потому что свечи, образки, серебряные ручки и
ножки продавались на бесчисленном множестве столиков в самой
церкви, где шла оживленнейшая торговля, как на любой ярмарке,
где торгуются, бранятся из-за высоких цен, обменивают
купленные товары.
Одновременно у алтаря, не заботясь о торгующем мире,
расположившемся вдоль внутренних стен церкви, священники
служили мессу. Сильвестр не принимал участия в учреждении подобного
рода христианской религии и поэтому не отвечал за нее, но он
думал, что имеет бесспорное право, жертвуя святому Антонию
свечи и молитвы, требовать от него взамен возвращения часов.
Иначе, зачем были все эти хлопоты и расходы, если они все равно
ни к чему не привели!
У Сильвестра, жившего в мире, где каждое творение за
получаемую им пищу или вознаграждение должно работать, как бы
трудна эта работа ни была, и даже, если бы оно валилось с ног
от изнеможения, не было ни понимания, ни сочувствия к такому
святому, который позволяет себя задаривать свечами и молитвами
и при этом ничего не делает.
Поставив свою свечу на алтаре святого Антония, Сильвестр
опустился на колени, несколько раз перекрестился и принялся
молиться. У него не было молитвенника. Но если бы он и был, то
он все равно бы ему не помог, потому что он не умел читать.
Итак, он был вынужден импровизировать, молясь так, как
подсказывало ему сердце. Слово святотатство было ему неизвестно,
да оно было бы и чуждо его пониманию. В Мексике нет
святотатства, потому что закон не знает такого преступления. В Мексике
взаимоотношения между богом и верующими — дело совести самого
верующего. Мексиканский законодатель и мексиканский судья не
чувствуют себя призванными вмешиваться в неисповедимые пути
и законы бога своим человеческим разумом и своими юридическими
заблуждениями. Если господь бог сам не властен или не хочет
наказывать за богохульство и оскорбление своего величия, почему
же маленький земной прокурор должен предписывать богу,
сколькими месяцами расценивается то или иное богохульство.
Вот почему надо понять и простить Сильвестра: он делает так,
как знает. Но что он знал лучше всего, это то, чтобы как можно
скорее получить свои часы. Ему и в голову не пришло бы ждать,
пока они будут возвращены ему в раю, после его смерти. Часы
нужны были ему здесь, на земле; потому что там, в раю, старший
колонны, когда дело дойдет уже до этого, сам скажет ему, в
котором часу спускаться в шахту.
И Сильвестр молился в своем простодушии: «Теперь выслушай
271
меня Хорошенько, мой возлюбленный Антоний, ведь я почти
исполнил все свои обещания. Я потерял часы. Об этом я рассказал
тебе уже в прошлое воскресенье. Эти часы ты не можешь спутать
ни с какими другими. В них крупно выгравировано С. и Г. Я не
могу каждое воскресенье приходить сюда. Свечи обходятся мне
слишком дорого. А я ведь на самом деле достаточно пообещал
тебе. Ты не думай, что я собираю деньги на улице, они там не
валяются. Я должен за них, как проклятый, дьявольски работать
и не живу так хорошо, как ты. Ведь ты только стоишь здесь
праздно и греешься у горящих свечей. Пора уже положить конец
этим штучкам. Мы все должны работать, и ты мог бы пойти
поискать мои часы. И я еще скажу тебе что-то, мой дорогой
Антоний. Я подожду еще одну неделю, и если и тогда моих часов не
будет, клянусь богородицей, я засуну тебя в колодец с водой и
оставлю тебя там до тех пор, пока ты не отыщешь мне часы или
не скажешь мне во сне, где они лежат. Ну, вот, я сказал тебе все.
Моему терпению уже пришел конец».
Сильвестр еще раз перекрестился, встал, низко преклонился
перед алтарем и покинул церковь, в глубокой вере, что горячая
мольба его будет услышана, и успокоенный тем, что последовал
завету: просите и вам будет дано «и не забудьте о нищете вашего
святейшего отца в Риме.
Но и в течение следующей недели часы не обнаружились.
Неудивительно поэтому, что Сильвестр потерял последнюю
каплю терпения. Он не хотел тратить больше времени на молитвы,
убедившись, что это бесполезно. К святому Антонию, не давшему
себе труда помочь бедному индейцу, так горячо молившему его
О «помощи, очевидно должны быть применены более крутые меры
воздействия, чтобы напомнить ему о его обязанностях. И эти
средства он решил теперь применить.
Сильвестр не обладал достаточными изобретательскими
способностями, чтобы придумать новые исправительные меры.
Поэтому он и к святому Антонию решил применить одну из тех
исправительных мер, какие применялись против него и его
товарищей пеонов, когда он еще работал на гациенде и не решался
бежать в шахты.
В воскресенье, после обеда, он раздобыл старый мешок из-под
сахара и побрел с ним в город. Уже стемнело, когда он пришел в
церковь. В церкви он остановился у дверей, крестясь и кланяясь
издали в сторону алтаря, на котором стояла богородица, которая
ведь не сделала ему пока ничего плохого. Но святому Антонию,
наоборот, он не отдал ни одного поклона, ни одного креста.
Осторожно осмотревшись по сторонам и заметив, что никто из
молящихся не обращает на него внимания, он накинул мешок на голову
святого Антония, быстро снял статую с алтаря и ловко пробрался
со своей добычей к ближайшему выходу. Город был невелик, и
не прошло и десяти минут, как Сильвестр был уже на пути к
рабочему поселку, где он жил.
Сильвестр, однако, не вошел в поселок со своим святым, а, не
272
дойдя до первой хижины, свернул с дороги и направился в лес.
Сильвестр не мог сбиться с пути, потому что он хорошо знал
дорогу и к тому же было полнолуние.
Приблизительно на расстоянии полукилометра от опушки
леса начиналась просека. Место это хотя и успело снова зарасти
кустарником, все же на нем не трудно было узнать прежнюю
лужайку. На этой лужайке находился старый, выложенный
кирпичом колодец, оставшийся здесь со времен колонизации и вырытый,
вероятно, еще каким-нибудь испанцем, задумавшим выстроить
здесь ферму.
^ Этим колодцем уже давно никто не пользовался, даже
угольщики, пережигавшие уголь в лесу, не пили из него воды.
Вода в этом колодце заросла тиной, на поверхности ее плавали
растения, листья и корни. Колодец был населен лягушками,
головастиками, водяными хрущами, москитами, змеями, ящерицами
и всякими другими рептилиями, какие только могут развестись в
заброшенном колодце. Местонахождение колодца, его древний вид
и фантастическое зверье, обитающее в колодце, делали его
пугалом всех индейских детей поселка, собирающихся у колодца, когда
им хотелось провести страшный день. Колодец, вдобавок, был
источником многочисленных преданий о духах и привидениях
среди взрослого населения этой местности.
Не с легким сердцем шел Сильвестр со своим запрятанным в
мешок святым на плечах к этому колодцу. Каждую минуту он
ждал, что из-за дерева выбежит лесной дух и причинит ему какое-
нибудь ужасное несчастие.
И он ждал также, что бог разразит свои громы и зажжет
свои молнии, чтобы наказать его за невиданное святотатство,
на которое он посягнул. Но была суббота, и Сильвестр отлично
знал, что в субботний вечер господу богу некогда заниматься
бедным индейским рудокопом, желающим вернуть свои часы.
В субботу идет большая чистка, а вечером завершение недели и
подготовка к воскресенью не только на земле. Поэтому-то
Сильвестр и выбрал субботу для своего нечестивого дела. Не следует
забывать, что и индейский рабочий обладает некоторой
сметливостью.
Обитателей колодца Сильвестр не боялся так, как все другие
жители поселка. Он был здесь пришлым человеком, и все эти
страшные истории, распространяемые о колодце, не срослись с
его душой с детства, как это было с другими жителями,
родившимися и выросшими здесь.
...Сильвестр решил не приступать тотчас же к выполнению
своей пытки над святым, а дать ему время совершить свой долг.
Вот почему, подойдя к колодцу, он прежде обратился к нему с
речью. Вытащив статую из мешка, он поставил ее на край
колодца, разгладил голубую монашескую рясу на святом Антонии и
обратился к нему:
— Дружочек, вот где ты у меня теперь, мы здесь совсем
одни, и давай поговорим, наконец, по душам. Ты можешь найти каж-
18-22 273
дый утерянный предмет, я знаю. Наш поп сказал вто. Я молился
тебе и зажег пред тобой свечи и обещал тебе все, что мог. Но ты
водишься только с богачами, которые могут жертвовать тебе
толстые свечи, по целому пезо за штуку. Я этого не могу. Я слишком
беден. Ты видишь этот колодец, дружочек. Я думаю, не очень-то
приятно в нем лежать; там змеи, и там есть еще многое другое,
не менее ужасное и отвратительное. И если ты не вернешь мне
часы, я брошу тебя в этот колодец и оставлю тебя в нем до тех
пор, пока ты не найдешь их. Не могу же я каждую неделю
ходить в город. У меня есть другие дела. И свечей я тоже тебе
больше не поставлю. А сейчас я тебе покажу, что я дольше-не
намерен с тобой шутить.
Сильвестр достал из кармана крепкую бечевку и накинул
петлю на шею святого Антония. Затем он поднял статую над
колодцем и оставил ее некоторое время висеть и барахтаться в воздух«.
— Где мои часы, святой Антоний? — спросил Сильвестр.
Святой Антоний был либо слишком святым, либо слишком
упрямым, ибо он не открыл рта. Возможно же, что он уже привык
к этим пыткам, чтобы сейчас же из страха признаться, где лежат
часы.
Но как мало жалости видел Сильвестр со стороны людей к
себе, так же мало жалости было у него в отношении святого
Антония.
Когда святой Антоний отказался отвечать, он спустил его на
бечевке в колодец, пока голые ноги святого не коснулись воды
колодца.
— Где мои часы? — спросил опять Сильвестр. И снова овя-
той Антоний, в сознании своего превосходства, не проронил ни
слова.
Тогда Сильвестр с головой погрузил его в воду, окуная его
несколько раз подряд, затем вытянул его наружу и поставил на
выступ колодца.
— Так, — сказал он, — теперь ты знаешь, как там ©низу. Даю
тебе срок до завтра. А завтра я вернусь. Если и тогда не вернешь
мне часы и не скажешь, где они лежат, я оставлю тебя на целую
неделю в колодце. Тогда ты может быть бросишь свое упорство.
Сильвестр слишком хорошо знал, как выгоняли упорство и
мнимую лень из него и из его товарищей пеонов на гациендах
крупных фермеров.
Святой не имел права жаловаться на подобное обращение, от
которого ни он, ни священник никогда не защищали индейских
батраков. И можно сказать с уверенностью, что если бы с
богами, святыми и попами поступали так, как поступают с рабочими,
все равно — с индейскими или с европейскими, религия, уже в
течение двух тысяч лет терпящая подобные вещи, запретила бы их
сразу. В Мексике недовольных батраков вешают на двадцать
четыре часа в колодец, а в Европе недовольных рабочих заносят
в черные списки или сажают за решетку тюрьмы.
Сильвестр дал своему святому время одуматься. Он снял его
274
с колодца, запрятал его снова в мешок и положил его под
развесистый куст шиповника. Монашеская ряса святого измокла, но
Сильвестр, потерявший всякую жалость к святому упрямцу,
оставил его в мокрой рясе.
Следующий день был воскресный. И у Сильвестра было
достаточно времени продолжать свои истязания.
Рано утром уже он снялся в путь, чтобы увидеть, не найдены
ли его часы.
Часов, разумеется, не оказалось. Их не было ни на святом
Антонии, ни под ним, ни в одной из складок его мокрой,
пахнущей тиной, рясы. Сильвестр не нашел часов и дома, под
цыновкои, на которой он спал и где крепко надеялся их найти.
Вот почему Сильвестр опять принялся за своего святого.
— Ты все еще упорствуешь?.. — сказал он ему. — Погоди же,
ты теперь не уйдешь от меня.
И без дальнейших разговоров, не тратя времени на молитвы,
он снова спустил святого в колодец, на такую глубину, пока тот
не коснулся ногами дна колодца. Конец веревки Сильвестр
привязал к кусту, росшему из каменной кладки колодца, чтобы
вытащить святого из колодца в том случае, если под цыновкои
окажутся часы.
Закончив свое дело, Сильвестр предоставил святому
высвободиться самому, а если он не в состоянии сделать этого, то
добиться своего освобождения, положив под цыновку часы.
В течение всей недели Сильвестру не удалось навестить
святого; он работал на медном руднике. А к вечеру уставал
настолько, что был бессилен пускаться в такой далекий путь.
В пятницу, перед окончанием работы, когда Сильвестр уже
выезжал из шахты, его товарищ по работе вдруг обратился к
нему:
— Ой, Сильвестр, какое вознаграждение я получу за то, что
нашел твои часы, когда подметал сегодня туннель.
— Дружище, как это хорошо с твоей стороны, — обрадовался
Сильвестр, — я с удовольствием дам тебе пятьдесят центавос
вознаграждения.
— Я согласен, Сильвестр. Давай сюда твои пятьдесят
центавос и вот тебе твои часы. Они идут как новые. Даже стекло не
разбилось. Когда я увидел в мусоре что-то блестящее, я
осторожненько взял их в руку. Я сразу догадался, что это твои часы.
В них есть твое имя, да ты ведь и сказал всем, что потерял часы.
Сильвестр уплатил пятьдесят центавос — его товарищ сделал
это дешевле святого — и получил свои часы.
В воскресенье он отправился к колодцу освободить святого,
так как теперь уже не было никакого смысла его пытать.
Но от колыхания куста бечевка, перекинутая через каменный
выступ колодца, перетерлась, и Сильвестр не мог вытащить из
колодца святого. Правда, Сильвестр для этой цели мог бы
спуститься в колодец, но по его мнению святой не заслуживал
стольких хлопот с его стороны.
18* 275
— Так тебе и следует... — крикнул Сильвестр вниз в
колодец. — Если бы Лоцано не нашел моих часов, ты бы никогда во
всю твою жизнь не вернул мне их. Мне не пришлось платить Лоцано
столько, сколько я пообещал тебе. Ты негодный бездельник. И не
будет никакой потери, если ты останешься там, где ты лежишь
сейчас. Вот тебе достойная участь.
Господь не дает умереть с голоду воробью, если это п"ротив
его святой воли. Тем меньше он допустит, чтобы один из его
святых истлел в этом ужасном колодце. Вот почему он послал двоих
индейских угольщиков случайно по такому пути, что они должны
были пройти мимо колодца. Желая отдохнуть, они сели на
выступе колодца, чтобы свернуть себе сигаретку.
Покурив, они от времени до времени заглядывали в колодец,
пока один из них не сказал:
— Там в колодце человек. Я вижу его голову и волосы на
голове.
Другой в ужасе воскликнул:
— Где? Да, теперь я тоже вижу его. Да ведь это же наш
поп, у него тонзура на макушке.
Они побежали в поселок рассказать жителям о том, что в лесу
священник упал в колодец. Жители тотчас же отправились в лес,
захватив с собой лестницу и лассо, чтобы вытащить из колодца
несчастного священника.
И, вытащив его наверх, жители поселка узнали в нем святого
Антония, так таинственно исчезнувшего в прошлое воскресенье со
своего алтаря, чтобы отправиться в странствие.
С какой целью и с какими намерениями святой Антоний
предпринял такое утомительное странствие, сеньор священник скрыл.
Он облек весь этот случай большой тайной и говорил о
божественной мудрости и божественном провидении, постичь которые не
дано простым смертным.
Священник старался оттянуть время, чтобы обдумать на
досуге, какое толкование он мог бы дать этому таинственному
странствию святого, чтобы в корне разрушить дьявольское неверие,
все более и более распространяющееся, особенно среди рабочих
соседних рудников.
ГУСТАВ РЕГЛЕР
Посев
(Отрывок)
...На площади деревенского рынка, под беременной мадонной,
к которой в изумлении простирала свои руки Елизавета,
расположился со своей лавочкой реликвий странствующий монах. Стол
был накрыт белой материей. Священный товар был прикрыт
синим шелковым платком. Монах не брал денег — на длинном шесте
над столом была подвешена кружка: да не помыслит никто
получить дар божий за деньги... Подаяние нищим угодно господу, но
никто ие должен считать его платой за неоценимое священное
добро.
Он поднял лист бумаги к своему предательски красному носу,
усеянному, как и все его лицо, бородавками с торчащей щетиной
волос, и точно виноторговец, расхваливающий букет и крепость
своих вин, начал перечислять восторженным тоном сокровища
своего монастыря, принадлежавшего бенедиктинцам.
— Прежде всего, имеем мы святые реликвии спасителя нашего
Иисуса Христа: губку, из коей он пил на животворящем кресте,
равным образом немного землицы с гроба господня, а также
кусочек камня, на котором молился он на Масличной горе. Имеем
также веревку, коей измерен был лик господа нашего.
Он поднял глаза от своего листка, дабы насладиться
благоговением на лицах своих слушателей, и продолжал:
— Имеются и многие другие священные реликвии: несколько
веточек от куста моисеева, что не горят в земном огне; немного
воску от свечи из Иерусалима, зажженной божественным огнем;
клок волос Марии Магдалины, коим она вытерла святые ноги
сына человеческого.
Он возвысил голос, как будто бы сам удивлялся такому мно~
жеству бесценных сокровищ, и уже поспешно забормотал:
— Целый палец святого Антония; клок волос Софии; клок
бороды святого Иоанна; зуб пресвятого двенадцатнапостольного
Петра; палец святого Кикласа; кишки святого Бонифация; сустав
пальца святого Вейта.
Вдруг он замолчал: от кучки слушавших его людей отделился
молодой парень и начал кружиться и подпрыгивать на месте.
Мартин первый заметил, как затряслись его плечи, как
завертелась голова, точно стараясь освободиться от сжимавшей ее
кольцом змеи, как он поднял руки к ушам и зажал их, словно был не
в силах более вынести какой-то страшный внутренний голос.
Он начал нерешительно, но вот уже все его тело задрожало,
запрыгало, закружилось в вихре. Вокруг бесновавшегося
образовалась толпа, монах прервал свою рекламную проповедь и уставил-
m
ся на одержимого: негодование и презрительная усмешка быстро
сменялись на его лице. Наконец, он решил, что наступило время
вмешаться.
Из стороны в сторону бросало молодого человека терзавшее
его неистовство. На губах его выступила пена, бешенство
подхлестывало его и заставляло выделывать дикие прыжки.
Вырывавшийся из его горла хрип говорил о том, что он уже начал терять
силы и скоро свалится на землю. Монах пошарил на столе под
платком и вынул какую-то косточку. С видом знатока он выждал
еще некоторое время и лишь тогда подошел вплотную к
одержимому, когда судороги на его лице начали ослабевать и трепавшая
его лихорадка уже угасла.
Резким движением он прикоснулся к бесноватому, и тот упал,
как срубленное дерево. Довольный результатом, монах отступил
назад, все еще не сводя глаз с лежавшего на земле, без чувств в
холодном поту, как будто ожидая, что злой дух еще раз
попытается овладеть своей жертвой. Затем он вернулся к своему
столу.
Вновь застучали падавшие в кружку монеты. На больного
никто больше не обращал внимания. Люди столпились вокруг стола,
отгалкивая друг друга и, вынув из кармана платок или сорвав с
головы шапку, жалобно клянчили или шумно требовали, чтобы
монах прикоснулся к ним своими чудодейственными мощами.
И что бы они ни подсовывали, тот великодушно тыкал своей
реликвией. Осчастливленные прятали свои платки и шапки в карманы
и под куртки.
— Вечный голод, — подумал Мартин. — Почему это Иосс
ускользает из сетей этой замечательной христианской религии? Она
помогает мудрости восторжествовать над глупостью. Она
наставляет, как одеть голых. Она учит, как накормить голодных и даже
тех, которые кричат, — с жиру бесятся. Ведь душе нужно больше,
чем телу. Она не хочет, чтобы небесные кладовые оставались
долго запертыми. Она то-и-дело толкает людей заглянуть в
виноградники господни, и если они возьмутся как следует за дело,
видит чорт, скоро нельзя будет отличить замок от монастыря и
царство епископа от райского сада.
Он заметил, что вокруг выставки святых мощей уже собралась
новая толпа прохожих. Парень приподнялся с земли и, робко
осмотревшись по сторонам, тяжело встал на ноги. Монах сделал
ему знак, чтобы он не уходил. Сейчас должно было начаться
второе исцеление. Это были сообщники.
АНРИ БАРБЮС
(1873—1935)
В огне
(Отрывок)
Людей, направляющихся к перевязочному пункту, становилось
все больше: здесь курьеры, раненые, калеки, стонущие, кричащие,
раскрасневшиеся от лихорадки и дергающиеся от боли.
Изуродованные, обезображенные, неподвижные или мечущиеся
во все стороны, эти люди — воплощение человеческих страданий
и горя. Один из них неожиданно вскрикивает, привстает и снова
садится. Его сосед, в порванной шинели и с обнаженной головой,
смотрит на него и говорит:
— Ничего, потерпи!..
И повторяет эту фразу несколько раз, держа руки на коленях
и уставившись недвижным взором во мрак погреба.
Какой-то молодой человек, сидящий на средине скамьи, громко
разговаривает сам с собой. Он говорит, что он — авиатор. У него
ожоги на одной половине тела и на лице. Он весь горит в
лихорадке, и ему все еще кажется, что его лижут жгучие языки
пламени, вырвавшиеся из мотора. Он бормочет: «Gott mit une» *,
затем: «С нами бог»...
Зуав, с рукой на перевязи и слегка согнувшийся на бок, как
будто его плечо стало непосильной ношей, обращается к авиатору
И спрашивает:
«— Ты свалился с аэроплана?
— Да. Много я нагляделся, — с трудом отвечает авиатор.
— Да и мы немало, — прерывает его солдат. — Другие бы
обалдели, если бы видели то, что я.
— Присядь подле нас, — говорит мне один из раненых,
отодвигаясь. — Ты ранен?
— Нет, я привел сюда раненого и сейчас отправляюсь назад.
— В таком случае тебе еще хуже, чем раненому.
— Я состою мэром в своей общине, — объясняет один из
сидящих, — но когда я вернусь домой, никто меня не узнает, до того
я изменился от вечной тоски.
— Вот уже четыре часа, как я прикован к этой скамье, — со
стоном говорит солдат, имеющий вид нищего, с трясущимися
руками, опущенной головой и круглой спиной. Он держит на коленях
свою каску, точно кружку для подаяния.
— Мы ждем, чтоб нас эвакуировали, — объясняет мне какой-
то раненый толстяк, который усиленно сопит, потеет и точно весь
кипит. Его усы свисли и словно отклеились от потного лица.
• С нами бог·
2Т9
Вот именно, — говорит другой. — Все раненые из нашей
бригады набились сюда, не считая других... Здесь мусорная яма
целой бригады.
— У меня гангрена, все у меня внутри изодрано в клочья, —
гнусаво жалуется раненый, закрыв лицо руками. — А между тем
до прошлой недели я был молод и опрятен. Меня точно
подменили: у меня старое, изуродованное, грязное тело, которое
приходится таскать за собой.
— Мне, — говорит другой, — вчера было только 26 лет.
А сколько мне сегодня?
И он пытается показать свое состарившееся за одну ночь лицо
с ввалившимися щеками и глазами, в которых мерцает
маслянистый блеск гаснущего ночника.
— Мне болЪно, — смиренно жалуется какое-то невидимое су·
щество.
— Ничего, потерпи, — машинально повторяет его сосед.
Наступает молчание. Вдруг авиатор вскрикивает:
— Священнослужители с обеих сторон пытались перекричать
друг друга.
— В чем дело?—удивленно спрашивает зуав.
— Ты бредишь, бедный друг? — спрашивает раненый в руку
разведчик с забинтованным плечом и предплечьем, поднимая глаза,
все время устремленные на рану.
Авиатор, вперив взор в пространство, пытается объяснить
содержание и смысл таинственного видения, которое всюду
преследует его.
— С высоты, с неба, мало что увидишь, как вам известно.
Среди квадратов полей и маленьких кучек деревень дороги
кажутся белыми нитками. Различаешь также нитевидные впадины, как
бы вычерченные булавкой на песке. Эти сети углублений,
покрывающих равнину, — это окопы. В воскресенье утром я летал над
линией огня. Между нашими и неприятельскими передовыми
окопами, между двумя огромными армиями, стоящими друг против
друга и друг друга не видящими, расстояние невелико: иногда
сорок метров, иногда шестьдесят. Мне же казалось, что между
ними только один шаг, так высоко я летал. И вот я разглядел у бо-
шей и у нас на параллельных линиях, которые как бы
соприкасались, совершенно одинаковую суету и движение: какую-то массу,
напоминавшую живое ядро, а вокруг — нечто, походившее на
черные песчинки, рассыпавшиеся на сером песке. Затем все это
замерло в неподвижности. Незаметно было никаких следов тревоги.
Я спустился пониже, чтобы понять, в чем дело. И понял — было
воскресенье, и внизу с обеих сторон совершалось воскресное
богослужение: алтарь, священник и стадо солдат. Чем больше я
спускался, тем яснее я видел, до какой степени все это одинаково,
идиотски одинаково. Одна церемония была как бы отражением
другой. Мне казалось, что у меня двоится в глазах. Я спустился
еще ниже. По мне не стреляли. Почему? Не знаю... И тогда я
услышал... До меня долетала как бы одна общая молитва; один
280
общий гул песнопений возносился к небу, проходя мимо меня.
Я летал взад и влеред, чтобы вслушаться в эту смутную смесь
напевов, — и чем больше они силились заглушить друг друга, тем
больше они сливались воедино в небесной выси, где я находился.
Вокруг меня стала разрываться шрапнель в тот момент, когда,
спустившись очень низко, я уловил два крика, слившихся воедино:
«Gott mit uns» и «С нами бог!» Я улетел...
Молодой человек покачал своей забинтованной головой, это
воспоминание не давало ему покоя.
— В ту минуту я говорил себе: «Я лишился рассудка».
— Это действительность лишилась рассудка, — заметил зуав.
С глазами, сверкающими лихорадочным огнем, рассказчик
пытался передать нам то глубокое впечатление, которое произвело
на него это зрелище.
— Что же это такое? — восклицал он. — Вообразите себе эти
две совершенно одинаковые массы, кричащие совершенно
одинаковые слова и все-таки друг другу враждебные, хотя и
тождественные по внешнему виду. Что же ответить на это господу богу?
Я знаю, что он все знает. Но, даже зная все, он не сообразит,
что ему делать.
— Вот так история! — воскликнул зуав
— Успокойся: ему наплевать на нас.
— А затем, что же в этом необыкновенного? Ведь ружья тоже
говорят одним языком, а между тем это не мешает народам лезть
в драку, да еще в какую.
— Да, — согласился авиатор. — Но ведь бог только один.
Я понимаю, что люди молятся, как же бог-то может слушать та
кие молитвы?
Беседа умолкла.
— Да, но о чем же он думает, этот бог, когда позволяет и
тем и другим верить, что он с ними?—вдруг воскликнул авиатор,
настойчиво доискивавшийся разгадки тайны. — Почему он
заставляет всех нас кричать: «С нами бог!». «Нет, вы ошибаетесь, — бог
с нами!».
С носилок донесся стон, и некоторое время только он один
раздавался в тишине, словно это был ответ на проклятый вопрос.
Учитель
Жара. Слышно, как летают мухи, и видно, как их рои рябят
раскаленный воздух. Прохожие пробираются вдоль стен, стараясь
не выходить из полосы тени, дремлющей у подножья серых
домов. Мы на площади Кавады — деревни провинции Сантандер.
Площадь эта похожа на площади многих испанских и даже
баскских деревень. В прежние времена, когда носили национальные
костюмы, здесь было куда живописнее, но и теперь тут в
достану
точной мере красочно, и великая огненная сушь Испании с ее
резкими очертаниями и смуглолицыми людьми сверкает здесь с
прежним великолепием.
Кроме жужжания мух, сквозь каменные стены на улицу
доносится какой-то глухой, мерный, однообразный шум: это —
школа. Внутри школа ничем не отличается от всех школ земного
шара. Мрачные, суровые стены (вид школы не изменится до тех
пор, пока само общество не сбросит с себя старой своей оболочки),
ряды маленьких черных столиков и таких же черных маленьких
головок (черные круги над черными квадратами), а посредине
человек, который кажется в этой обстановке великаном, — учитель.
Он творит здесь, как все наши великие собратья, чудеса
ловкости и изобретательности, совершает подвиги терпения, чтобы
завладеть вниманием этих тридцати детских головок и вложить в
них хотя бы частицу понимания великой картины
действительности. Кавадского учителя звали Бальдемаро Цори. Это был
спокойный, простой и кроткий человек, о котором все говорили: «Он
добросовестный малый». В тесном кругу деревенских жителей его
аккуратность и точность вошли в поговорку. Если бы он когда-
нибудь опоздал на урок, все подумали бы: значит, часы врут.
Так как образ его мыслей отличался такой же строгой лой-
яльностью, как и его жизнь, воззрения его нравились далеко не
всем, особенно же его взгляды на общественные дела и на
кооперацию, и некоторые даже поговаривали о нем: «Да ведь он —
красный!» Но даже те, кто в глубине души, в глубине жалкой
своей, холопской души удивлялись тому, что можно быть
«красным» и в то же время честным человеком, не могли не уважать
Бальдемаро Цори.
Но что касается двух главных представителей Кавады, двух
черноризников — священника и его викария, то тут дело обстояло
совсем иначе. Ненависть, которую они питали к учителю, только
возрастала от того, что они не могли выдвинуть против него
никакого обвинения, кроме упрека за сатанинские суждения о
свободе и об общественном благе.
Священник и викарий бдительнейшим образом следили за
школой, ибо школа — мастерская, где обрабатывается
подрастающее поколение. Надо, следовательно, крепко держать ее в руках,
если не хочешь, чтобы будущее выскользнуло у тебя из рук.
Не так давно в Испании жил человек по имени Франциско
Ферреро, который жаждал освободить испански« школы от
леденящей их тени церкви. Ферреро был расстрелян. Пули раздробили
его грудь прежде, чем он успел в последний раз выкрикнуть свою
излюбленную фразу—боевой клич всей его жизни: «Да
здравствует школа!»
После этой победы испанское духовенство яростнее, чем когда
бы то ни было, накинулось на школу, сначала поддерживаемое
королевской династией, портретная галлерея которой являет нам
самую гнусную и богатую в мире коллекцию дегенератов всех
времен, а потом «— поддерживаемое диктатурой. Там, где на пре-
282
столе — офицеры, царствуют попы. Поэтому-то Испания, страна,
где все эти господа работают бок-о-бок, возвращается к временам
инквизиции. Действительно, краснобаям, желающим убедить народ
в том, что он, с точки зрения непререкаемого закона прогресса, —
самый свободный и счастливый народ на свете, весьма трудно
обосновать такую оскорбительную и зловещую шутку.
Итак, священник и викарий — тень священника — дали обет
ненавидеть до гробовой доски слишком прямодушного и
независимого учителя, которого его приятный характер делал* человеком
вдвойне опасным. Но так как в его поступках и словах нельзя
было найти ничего такого, что могло бы иметь действительно
пагубное значение, надо было выискать другой способ овладеть этим
врагом.
В злополучной Испании и по сию пору священники имеют
право в любой момент входить в школу, чтобы наблюдать за
преподаванием.
В описываемый мною день в самый разгар урока дверь класса
распахнулась, и в световом квадрате, вырисовавшемся в
полумраке комнаты, появилось двое черных людей. Они сели и стали
слушать.
Цори, ничуть не смутившись, продолжал занятия. Он
спрашивал урок у маленького Хуанито, который от волнения и, вероятно,
оттого, что слушал недостаточно внимательно, заикаясь, лепетал:
— Справедливость... равенство...
Священник вскочил, шагнул вперед и мгновенно очутился
перед мальчуганом.
— А ну-«а, чтс ты там бормочешь?—гневно опросил он.
В то время как вопрошаемый стоял перед ним растерянный, с
разинутым ртом, другой мальчик — Руиц, которому было
четырнадцать лет и который был первым учеником в классе, желая по*
казать, что он внимательно слушал и усвоил урок, поднялся с
места и отчеканил:
— Господин священник, все люди равны.
— Это ложь! — охрипшим от крика голосом завопил человек
в черной рясе, подскакивая к первому ученику и размахивая
кулаком перед его носом. — Это ложь! Это противно учению церкви.
Господь-бог никогда не говорил, что все люди равны, и святой
апостол Павел именем божьим проповедывал, что они не равны.
Он кричал, на виске у него вздулась вена, и в уголках рта
пузырилась слюна, а викарий, довольствуясь только жестами,
вздымал руки к небу.
Учитель спокойно и решительно подошел к нему.
— Позвольте, господин священник... — сказал он.
— Что позволить? — взвыл священник. — Позволить вам про-
поведывать ложь и внушать ее этим детям? Утверждать, что все
люди равны, — значит провозглашать ложное учение, отвергнутое
господом-богом. Понимаете? Дети, слушайте меня; ваш учитель
лжет вам!
— Замолчите, — сказал учитель,
283
Он был очень бледен; взгляд его стал особенно пристальным,
и руки слегка дрожали.
Но священник заревел еще пуще:
— Вы лжете! Вы даете уроки лжиI Вы срамите церковь...
Справедливость... А, справедливость?! Нечего толковать о
справедливости христианам, — это их не касается. Есть только одна
справедливость — суд божий. Христианам надо говорить только о вере
и любви.
И он с таким выражением ненависти выкрикнул прямо в лицо
учителю это последнее слово, что тот невольно попятился и, еще
более побледнев, уставился на него расширенными глазами. Дети
вскочили с мест и заволновались. Учитель почувствовал что все
погибло, и пробормотал:
— Вы — негодяй!
Не успел он выговорить этого слова, как викарий накинулся
на него и схватил его за руки, в то время как священник
поднимал уже кулак, чтобы ударить его.
Но, видно, викарий недостаточно крепко держал учителя,
потому что тут же, один за другим, грянули два выстрела.
Священник рухнул на пол и сразу замер грузной, неподвижной массой, а
викарий упал и забился в судорогах.
И учитель, угрюмый, мгновенно опомнившийся от припадка
безумия, выстрелил в третий раз — и повалился на пол рядом с
ними.
Так в 1926 году в цивилизованной стране умер школьный
учитель, осмелившийся говорить детям о справедливости.
Этот случай по-разному передавался в нескольких смелых
газетах, но напрасно стали бы мы искать сообщения о нем в
широкой прессе, основная цель которой, как вам известно, заключается
в том, чтобы скрывать то, что происходит на свете.
ЯРОСЛАВ ХАШЕК
(1883—1923)
Беседа на лужайке
После уроков в воскресной школе деревенский пастырь отец
Вацлав вывел своих питомцев на прогулку. Благочестивые
наставления отца Вацлава должны были разъяснить школьникам
мудрость и благость природы, созданной господом-богом.
Остановившись на лесной лужайке, отец Вацлав указал
ребятишкам на горы и бескрайнюю долину.
— Здесь, дети мои, мы видим воочию всю премудрость дела
284
божия. Видим мастерские, Дороги, горы, леса. Змейками вьются
ручейки, в лесах поют птички. На склонах гор расцвел весенний
вереск... Учитесь, дети мои, любить творца всего сущего. —
Кстати, мы можем присесть... Гм, да.
Велики владения отца небесного. Мысленно вижу, например,
прекрасное утро на кубинских островах, вижу там табачные
плантации. Смиренно поминаю при этом имя божие, ибо и они созданы
рукою творца.
Тропическая природа богато одарила прекрасные острова.
Поспел обильный урожай первосортного табака. Бог создал негров,
чтобы трудились над его дарами. Всевышний направляет их руки,
даоы сушили сей благоуханный лист. Оттуда его развозят по
всему свету через моря и океаны. Везут к нам. Бог не дает
погибнуть кораблям, он хранит жизнь моряков своей всемогущей
рукой. Потом корабль приходит к берегу, и ящики аккуратно
складывают на пристани. Вот, смотрите, дети, у меня в руках как-раз
такая сигара. Работа усердных негров. Видите, я ее зажигаю.
Делаю это с великой благодарностью к богу за то, что уберег от
всяческих бед плантации в Гаванне...
Да, — продолжал он, выпустив клуб дыма, — вы слышите, как
благоухает сигара? Как дым возносится подобно жертвенному
фимиаму? Знайте же, что курю единственно в знак приязни к
чернокожим земледельцам, что возносят хвалу господу за хороший
урожай табака.
Да, дети мои, во всем уповаем на волю божию. Куда ни
глянь, всюду услышишь следы его благодати. Посмотрите,
например, как пестро разукрасилась природа, как играет всеми
красками осенняя листва. А ярче всего пылают огненные плоды рябины.
Но, дети мои, бог не хотел одними лишь красками вдохновлять
людей к возданию ему славы. Спаситель и покровитель душ
человеческих знает наши бренные нужды. Он дает зреть овощам и
сочным фруктам и даже вот эти красные ягоды рябины поставил
на службу человеку. Люди издавна страдают недугами душевными
и телесными. Слабое тело ослабляет и дух человеческий. И вот
премудрый уже давно указал нам на разные плоды, растения и
травы. Из них приготовляются лечебные средства и настойки.
Люди, ведомые божественным промыслом, сделали и из рябины
такой спасительный напиток.
Отец Вацлав с набожным видом вытянул из кармана
объемистую сулею с рябиновкой. Запрокинув ее и глотая золотистый
ликер, он блаженно закинул голову к небу. Потом положил сулею
рядом и продолжал.
— Да, дети мои, безграничное милосердие божие наводит нас
на глубокие размышления. Лучше всего предаваться им на лоне
природы. Ибо и самая малая букашка на земле поет хвалу
создателю. Поглядите-ка на эту благодать кругом. Вот на лужайке
благоухают цветы, летают всякие мошки, таракашки. Дальше, у ручья,
великое множество тварей божиих. Пташки на ветках, белки на
деревьях, лисички в норках — все это дело рук всевышнего. Он
285
нам свыше указует свою любовь и хочет споспешествовать бедным
людям. Потому и населил леса и поля многими тварями
бессловесными. Живут они на пользу человека и к вящшей славе бо-
жией.
Вот, например, заяц, которого вы знаете. Будучи застрелен в
неисповедимом милосердии божием, заяц служит отличным
кушаньем.
Патер развернул зайца на бумажке и хозяйственно обнюхал
его. Дети завистливо облизнулись.
— А когда режу его, — продолжал патер, кромсая зайца и
отправляя огромные куски в рот, — тогда чувствую во всей полноте
заботу вседержителя о людях. Вижу духовными очами всю
природу, дело всемогущих рук его, уму человеческому
непостижимое-
Запил зайца рябиновкой и заключил:
— Бренна жизнь человеческая, и несчастен людской род. Но
был бы еще несчастнее, если бы господь-бог отнял у него сон.
Воистину можно гимны сложить о том, как мирно смежает очи
свои утомленный человек. Под ясным небом бог посылает ему
освежающий сон, и человек засыпает на лоне божественной
природы с благодарной молитвой на устах...
Отец Вацлав скрестил руки под головой и моментально
захрапел. Ребятишки, не шелохнувшись, внимали руладам, которые
их пастырь выводил носом во славу божию.
Чудо св. Эвергарда
Отцы францисканцы в Бацкове далеко простирали свои святые
загребущие руки. Из дальних деревень сюда тянулись крестьяне-
словаки, чтобы пополнить щедрыми дарами монастырскую кухню
и помолиться в церкви перед тусклым образом чудотворца
Эвергарда. Святой этот для словаков весьма близок, ибо при жизни
своей был королевским наместником, стеснял словаков и прочий
мелкий народ и устраивал походы на негров, нумидийцев и
других басурманов. После смерти воитель Эвергард был причислен к
лику святых, ибо он:
1) не щадил живота и сил своих, дабы церковь святую огнем
и мечом уберечь от ереси и безбожия;
2) для грешников, указанным надежным способом
выхваченных им из пещи адовой, построил несколько монастырей;
3) изрядно ободрав басурманские земли, заложил во Франции
пропасть церквей и богато одарил их от военной добычи;
4) скопытился в 855 году от р. х.
И мужички регулярно приходили приложиться к образу
св. Эвергарда. С незапамятных времен сюда тянулись паломники со
286
всей округи и, помолясь перед чудотворным образом святого,
столь близкого словакам, оделяли смиренной лептой святой
монастырь. И с незапамятных времен отцы францисканцы чтили
образ св. Эвергарда, как источник всяческого благополучия, а
мужички, знай, платили да кланялись, пока вдруг не случилась
ужасная вещь: другой францисканский монастырь, во Фриште,
потребовал образ назад.
/
Бацковский настоятель отец Парегориус мрачно глядел из
окна своей кельи на зеленые кущи леса и перебирал в памяти
разнообразные венгерские ругательства, памятные ему еще со
времени жизни в суетном свете, где святой отец был гусарским
поручиком. Перед ним на столе лежало это распроклятое письмо фри-
штовского настоятеля — отца Данулиуса. Внизу по монастырскому
саду жизнерадостно прогуливались монахи. Они беспечно
беседовали, а брат садовник напевал развеселый чардаш «Повеселимся
мы от души!» Братья еще ничего не знали о письме.
— Олухи!—выругался аббат, снова покосившись на письмо.—
Ишь разрезвились! Закачу я вам внеочередной пост, сядете у
меня на капусту, расту да вашу бабушку!
//
Честно говоря, образ св. Эвергарда действительно
принадлежал Фриштовскому монастырю. Во времена королевы
Марии-Терезы его спер оттуда монах Иеремия. Брат Иеремия и тамошний
настоятель отец Цезарь грешили в ту пору с маркитанткой
гусарского полка, квартировавшего по соседству. После недолгих
колебаний маркитантка полностью перенесла свой пыл на молодого
брата Иеремию, а преосвященный получил отставку. За это он
засадил Иеремию на хлеб и воду и наложил тяжкую епитимию:
вызубрить наизусть толстый том сочинений епископа Кемпенского —
«Наставление к жизни благочестивой и праведной».
Искушенный в мерзостях брат Иеремия, не закончив даже
первой главы, удрал ночью из монастыря, и вместе с ним исчез
образ св. Эвергарда, который еще в те времена славился по всему
краю. Кроме образа св. Эвергарда, брат Иеремия захватил всю
наличность из аббатовой шкатулки — 400 серебряных талеров.
Образ он загнал в городе старьевщику, а сам навострил лыжи в
Турцию, где принял ислам, и, к чести его будь сказано, пленным
христианам перед казнью никогда не отказывал в облегчении души
святым причастием.
Образ св. Эвергарда немало помыкался по разным церквам«
В то смутное время ему не приходилось долго задерживаться в
одном месте. Мародеры, обиравшие церкви, продавали его из рук
в руки, и, наконец, он достался графу Бартачу Этуаль, который
подарил его францисканцам в Бацкове. Такой подарок сердцам
287
францисканцев ЧЗыл милее, чем целое угодье, ибо образ делал
великую рекламу.
А теперь вот новый фриштовский настоятель пишет им:
Во имя бога великого и всеблагого!
Преосвященный отец! Не изволь гневаться, что пишу на тему
о монастырской собственности нашей. В вашем братском
монастыре пребывает образ св. Эвергарда, который, как явствует из
записи св. архива, был дарован нашему монастырю в году 1715 при
аббате Эмилиусе и украден монахом Иеремией при аббате Цезаре
в царствование ее величества Марии-Терезии.
Имущество церковное свято и неприкосновенно, и потому я
надеюсь, что ты, высокочтимый отец и коллега, получив лично от
меня доказательства правильности вышеизложенного, вернешь
образ нашему монастырю.
Засим да хранит тебя господь!
Данулиус, аббат ордена св. Франциска
Ассизского во Фриште.
Ну кто, скажите, не лопнул бы с досады от такого мерзкого
письма?!
///
Отец Парегориус был мрачен целый день. Придирался, распекал
проштрафившихся братьев, накладывал посты, покаяния и
молитвы. Днем и ночью у него перед глазами стоял тусклый лик
святого, этот образ, выцветший и туманный, где можно было разобрать
лишь несколько неясных черт.
Монахи, без различия чина и святости, узнав мрачную новость,
ходили подавленные и молились и пели, как автоматы. Еще бы! —
отнимают чудотворный образ! Образ, который так притягивает
верующих. А ведь набожный люд хорошо платит. Доходы были
изрядные. В стойлах полно скота, хлев и птичий двор кишат
живностью. Монастырские угодья тянутся аж к Тематину. А сколько
там зайцев, серн, куропаток и прочих тварей божьих, бегающих и
прыгающих! Отцы-экономы умеют готовить из них десятки
чудеснейших блюд...
И вот теперь образ возьмут другие монахи, и на чужой улице
будет праздник. Паломники с гор не остановятся у них. Дальше,
низиною, они пойдут во Фришту...
«Суета сует и все суета! — Суета отдаваться утехам плотским
и забыть о том, что есть радость вечная». Так рассуждали
монахи до поздней ночи и подконец сознались друг другу:
«Постом да молитвою сыт не будешь».
Эта истина их удручала. И, поглядывая на тучных поросят,
кур и гусей, они вспоминали фриштовское письмо и подумывали о
том, что ведь некоторые требования не выполняются...
И в один прекрасный день отец Парегориус хлопнул кулаком
по столу, отменил все посты и велел заколоть полдюжины
поросят. Наевшись доотвалу и упившись церковным вином, он
возвестил грозно:
288
— Так не отдам же св. Эвергарда! Пусть приезжает этот
Данулиус.
IV
Вскоре приехал аббат Данулиус из Фришты. Святые отцы
сердечно обнялись, и началась обильная трапеза. Говорили на
церковные темы. Отец Данулиус заявил, что точная высота вод при
потопе составляла 17 000 футов.
Отец Парегориус, разгоряченный вином, кричал, что нужно
считаться с законами физики, ибо и они суть от господа бога.
Данулиус заявил, что бог сотворил мир из ничего наперекор
всяким физикам.
Бывший гусарский служака Парегориус икнул и пробурчал, что
сотворение мира явно шло походно-лагерным порядком: раз, два,
три — и готово. Честное слово, отче! А в общем, пей,
преосвященный, чего там!
Они снова чокнулись, и до сих пор ни словечка о св. Эвергарде.
Наконец, после долгого обеда, фриштовский аббат отправился в
покои хозяина и только там осторожно завел речь про образ.
— Ну так вот что, отче, — отрезал разгоряченный вином
Парегориус, — образ ты не получишь.
— Ан, получу, отче.
— Получишь не образ, а фигу.
— Преосвященный, я приехал за образом.
— Преосвященный, уедешь без него.
— Это хамство, образ — наш! — кричал возмущенный
Данулиус.
— Веди себя приличнее, преосвященный, нето получишь в ухо.
Отец Данулиус выскочил в коридор и завопил: «Лошадей!»
И через полчаса укатил домой.
На другой день, протрезвившись, он написал обстоятельную
жалобу, где изложил историю образа и свои претензии на него.
Приложил документы, в том числе дарственную грамоту графа
Галла-де-Элемонта, и все это отправил в консисторию. Через
месяц пришло заключение: требования Фриштовского монастыря
правильны. Бацковский настоятель получил строжайший приказ
выдать образ. В присутствии самого епископа образ св. Эвергарда
был снят и с благоговением перенесен в бричку, где восседал
торжествующий Данулиус.
Монахи плакали. Душераздирающее зрелище представлял
собой отец-эконом. Его с трудом удержали от мученической
кончины, которую он хотел добровольно принять под копытами
лошадей, увозивших основу их процветания.
Подавленный отец Парегориус назначил трехдневный пост и
всенощные бдения неделю напролет. Бушевал — аж страх, а
вечером после скудной трапезы сказал монахам:
— Вот увидите, св. Эвергард сотворит еще чудо, от которого
не поздоровится фриштовским блудникам!
19-22
289
ν
Образ прибыл благополучно. Школьников вывели встречать
его чуть ли не за 5 километров. Подъезжая к городу, тщеславный
аббат сам забрался на козлы, и в таком виде бричка въехала в
ворота монастыря, разукрашенные гирляндами. Под малиновый
перезвон колоколов образ св. Эвергарда был торжественно внесен в
Собор, к немалой радости монахов, которым уже надоело
молитвами и воздержанием подготавливаться к столь славному событию.
И вот образ помещен над алтарем, темный, неясный, как его
исторические судьбы.
Аббат Данулиус устроил роскошную трапезу в честь св.
Эвергарда и высокопоставленного гостя — епископа. После усердных
возлияний во славу св. Эвергарда епископ сказал аббату: «Итак,
св. Эвергард в новой обители. Не мешало бы ему подновиться по
этому случаю. Велите его вымыть. Я вам дам адрес живописца,
который прекрасно реставрирует иконы. Ваш Эвергард будет
совсем как новенький. Вот увидите».
И в монастырь был призван популярный реставратор икон
мастер Готхард из Вены. Перед образом поставили леса и натянули
холст, чтобы живописец не упал.
— Ну, как? — нетерпеливо вопрошал аббат.
— Завтра будет готово.
Назавтра после обеда мастер Готхард объявил, что образ
протерт луком и выглядит, как новенький. Монахи с аббатом во
главе направились взглянуть на обновленного святого. Сняли хол-
щевую покрышку, живописец провел по образу губкой, смоченной
в уксусе, и отец Данулиус с отчаянным криком отпрянул и
грохнулся в обморок.
С образа св. Эвергарда на него глядела св. Екатерина,
растянутая в голом виде на крапивном ложе...
В Бацкове вам теперь укажут пустое место в монастырской
церкви, где висит табличка:
«Св. Эвергард. Вознесся на небо».
Вы услышите историю о диву достойном чуде св. Эвергарда,
который таинственной метаморфозой заявил о своем
нерасположении к дальнейшим переездам.
И в Бацков попрежнему валом валят верующие, бойкотируя
Фришту, ибо бог лишил ее чудотворной иконы.
Как мы помогали обращению
в христианство африканских негров
I
Я не знаю, сколько теперь стоит маленький
язычник-негритенок. При нынешней всеобщей дороговизне возможно, что бедные
негры и вздорожали. Ведь расходы добрых миссионеров и
духовенства увеличиваются с каждым днем.
290
Несколько лет тому назад маленький негритенок стоил
двенадцать золотых, как нам говорил об этом в школе ксендз —
преподаватель закона божьего.
Он утверждал, что существует одно общество, которое
собирает деньги на покупку негров. Затем он говорил что-то о
святости крещения и кстати поставил единицу по закону божито
бедному Матвею, который, не имея представления о крещении,
говорил, что при крещении дитя опускается в воду и держится в воде
до тех пор, пока не окажется крещенным. Кроме этой единицы,
ксендз, за его смутное представление вообще о религии, высек
его при всем классе.
После проведения экзекуции над бедным Матвеем господин
ксендз мягко говорил о том, что дети всюду собирают между
собой деньги на выкуп и крещение маленьких негров.
— Так и вы, дети, должны будете собирать между собой
деньги на негров-язычников. Просите при каждой возможности
своих родителей, бабушек, дядей, тетушек, чтобы они жертвовали
в «негритянский фонд».
— А ты, — указал он на меня, — будешь хранить эти деньги.
И когда у тебя скопится двенадцать золотых, мы пошлем их
епископу в Триполи, а тот перешлет их архиепископу в Алжир,
который уже на эти деньги купит маленького негритенка.
Где-нибудь в пустыне среди пальм ксендз окрестит его святой водой и
отправит в Александрию, в Египет, чтобы там, в Египте, за нас
с вами и за все наше село молились богу. За вас — потому, что
вы купили, за меня — потому, что я организовал вас для этого
святого дела. Те из вас, кто имеет какие-нибудь сбережения, пусть
пожертвуют их в фонд. Мы не должны забывать, что несчастные
негры, находясь в рабстве, горячо желают только одного — как
можно скорее принять святое крещение.
С тех пор мы собирали деньги на негров. Конечно, без драки
дело не обошлось. Сын старосты перед всеми хвастался, что если
бы он хотел, то мог бы и один купить себе негритенка, за что мы
расквасили ему нос. Негр, которого мы купим, будет
принадлежать всему классу. Обедать он будет ходить из дома в дом и
всюду превозносить христианство. Мы его будем купать, баловать,
водить на поводу, а он будет прославлять бога н благодарить нас
за то, что мы его купили и крестили.
— Рабская его душа, — говорил уже пострадавший из-за негра
Матвей, — я его выпорю за свою смазку. Я отведу его на пруд
и выдеру жгучкой. Только, ребята, собирай деньги, я ему устрою
забаву, Я его тут буду каждый день крестить. Я его рабскую
душу заставлю жить под водой, чтобы он знал ее вкус в Зубрин-
ском пруду.
Итак, мы «ради забавы» собирали деньги. Моей роли кассира
все завидовали. Деньги я должен был все время носить при себе,
преследуемый по следам многочисленной ревизионной комиссией,
опасавшейся, чтобы я не растратил их на медовые пряники, рожки,
19* 291
сладкий сыр и прочие вещи и тем самым не встал на путь
преступления.
В первое время наши родственники подумали, что мы все
сошли с ума. Каждый из нас, придя из школы, занялся
вымогательством и рассказал о том, что нам необходимы деньги для негра,
которого за двенадцать золотых будет крестить господин ксендз.
Но затем на нашу сторону перешли все дедушки и бабушки,
развязывавшие узлы своих платков и жертвовавшие крейцеры в
негритянский фонд. При этом от умиления бабушки плакали, а
старички мечтали, как с ними будет ходить в костел маленький
негритенок и спеть стихиры; а самый набожный дедушка Швейцар,
нализавшись, как-то сказал:
— Когда наш негр вырастет, мы пошлем его депутатом в
парламент.
Деньги собирались быстро. Тот сэкономил пятак, тот
гривенник, и наконец, через месяц, как-раз перед катастрофой, я
констатировал, что у меня в кармане десять золотых.
Рядом в селе открылась ярмарка, на которой мы решили
посмотреть бродячих артистов. Свой мешочек с общественными
деньгами я взял с собой. Его я всегда носил на шее и с ним спал.
Матвей от отца, а я от своего дяди получили по десяти
крейцеров.
— Матвей, — сказал я, — отложим по пяти крейцеров на
выкуп негритенка, а остальные опять израсходуем.
— Из-за черной души я не хочу, балда, портить себе ярмарку.
ПГы можешь делать, что хочешь, а я израсходую все свои деньги.
Ярмарка была чудесной. Фокусники, карусель, качели,
марципаны, разные сладости, тиры, силомеры — все это моментально
поглотило десять крейцеров Матвея, в то время как я ничего не
израсходовал. Но когда опечаленный Матвей ушел домой, я
бросился с головой в ярмарочные удовольствия: проехал на каруселях,
купил пряников, а затем... затем дело дошло и до общественных
денег. К вечеру я израсходовал два золотых...
//
Господин ксендз любил играть в карты. В тот день, когда я
растратил деньги из негритянского фонда, он весь вечер играл
с учителем и старостой в пивной моего дяди в двадцать одно.
Ему не везло. Он проиграл последний золотой, когда я,
отягощенный сладостями и сознанием преступления, возвращался домой.
— Выйдем во двор, — сказал он мне, — я хочу с тобой
поговорить.
Мы вышли на лестницу. Вокруг меня все дрожало.
«Так он уже знает все. Он всеведущ и вездесущ. Я погиб».
— Сколько у тебя денег, собранных на крещение негра?
Я, сдерживая желание разрыдаться, с минуту молчал·
— Я хочу знать сколько?
— Восемь золотых.
— Ну, так дай их мне, — сказал ксендз.
У меня сразу отлегло от сердца. Я вытащил свой мешочек и
292
передал ему восемь белых золотых и все с ангелами. Господин
ксендз погладил меня по голове, положил их в карман и снова
ушел играть в карты.
Вечером я наблюдал за игрой.
— Иду по банку, — сказал господин ксендз.
— Пожалуйста, ваше преподобие, — отвечал учитель. Ксендз
проиграл и спокойно полез в карман и вынул оттуда восемь
золотых. В банке стояло два золотых с ангелами... мои золотые. До
десяти часов он проиграл вес мои деньги.
Затем он вышел вновь за мной на лестницу и спросил:
— У тебя больше нет денег? Чорта с два так соберешь на
негра. Вы, шантрапа, никогда не дождетесь крещения бедных
негров!..
И мы действительно не дождались.
На другой день на уроке закона божьего господин ксендз
сказал:
— Вчера собранные вами деньги я отослал архиепископу в
Алжир. Собирайте дальше на другого негра. Бог вас благословит
и поможет в вашем благом начинании. Деньги теперь передавайте
мне.
Эти деньги господин ксендз продолжал проигрывать в очко...
Конечно, долго так не могло продолжаться. Но все-таки как
усердно мы заботились с господином ксендзом о крещении бедных
африканских негров!
Коза и всемогущий бог
Большой и Малый Караджинач! Две деревни, столь схожие по
своим интересам и все же столь различные по своей сущности!
Дело в том, что Малый Караджинач лежал в Сербии, а
Большой — в Турции. Население этих обеих деревень, расположенных
в пустынной горной местности, билось изо всех сил, чтобы
пропитаться. Главным источником их пропитания был овес и козы,
легко карабкавшиеся по горам.
Если крестьяне продавали коз, то в Малом Караджиначе
делали это для того, чтобы заплатить подати сербскому королю, а в
Большом — чтобы заплатить десятину падишаху. Это, конечно,
было одно и то же, разница лишь в названии. Православных
сажали в тюрьмы за неуплату подати, а магометан — за неуплату
десятины.
В Малом Караджиначе на церкви желтел покрытый дешевой
позолотой крест, и такой же позолотой был покрыт полумесяц,
возвышавшийся на мечети Большого Караджинача. И крестами и
полумесяцами торговал купец-армянин, проживавший недалеко, в
одном из пограничных городков. Но как православные, так и
магометане гордились этой символической мишурой.
293
А когда однажды турки Большого Караджинача побелили
свою мечеть, православные тоже вымазали свою церковь белой
известкой, так что обе вызывающе поблескивали и с сербской и
с турецкой стороны. И в то время когда православные звонили во
все колокола, на другой стороне мулла силился заглушить звон
криками:
— Аллах есть аллах! Велик аллах!
А когда мулла Изрим оканчивал свои призывы и спускался с
минарета, то, закурив чубук, шел поболтать с православным попом
Богумировым.
Обычно они сходились у водопада, который отделял
Османскую империю от королевства Сербского.
Поп Богумиров тоже курил чубук. Их беседа обычно
начиналась с взаимных ругательств.
— Ты что хромаешь, турецкая собака?
— А какие у тебя, проклятая христианская душа, круги под
глазами! — говорил мулла Изрим.
Затем тон разговора снижался, и аллах и всемогущий бог
отходили на задний план перед наиболее злободневным вопросом
о козах.
Дело в том, что оба священнослужителя разводили коз, и
каждый из них бахвалился своими успехами на этом поприще.
Возможно, что в их представлении эти козы были не обыкновенными
козами, а козами магометанскими и козами христианскими.
— Мои козы жирнее твоих, мулла, — торжествовал поп.
— Жирнее? Скажи мне, пожалуйста, где ты видел такую
красивую, как моя Мири, эта черная, знаешь? Какая она красавица!
Рога у нее, как у венгерской коровы.
И это была правда! Коза Мири приносила козлят один
другого лучше.
Мулла Изрим говорил, что у нее глаза лучше, чем у дочки
старосты — Кюлют. Когда он был в более приподнятом настроении,
то даже утверждал, что в эту козу переселилась душа одной
гурии, бывшей в свите пророка Гавриила.
И вот по этой-то козе и тосковал поп Богумиров.
Как бы с нею он улучшил породу своего стада, которое теперь
паслось на горах и то исчезало за большими каменными глыбами,
то снова появлялось на покрытых скудной растительностью серых
скалах, пощипывая редкую траву и высокий очиток!
Водопад шумел, первые звезды заблестели над Балканами.
Это была минута, полная интимных настроений.
— Послушай, мулла, — сказал поп Богумиров, — твоя коза не
так уж красива, но мне она могла бы понадобиться. Видишь ли,
самая лучшая моя коза издохла по воле божьей. Пришлась по
вкусу господу богу...
Поп перекрестился.
— Велик аллах! — воскликнул мулла. — Моя коза не
продается.
*— Послушай, мулла — продолжал поп, — твой аллах не так
294
велик, как православный бог. Творил ли он какие-нибудь чудеса)
Посылал ли он вам чудотворцев? Мой бог по своему желанию
может к примеру, из меня сделать чудотворца, тогда как ты на
всю жизнь останешься глупым, неверным басурманом. Я, по
желанию бога, могу воскрешать мертвецов, а ты до самой смерти все
будешь орать с минарета: «Аллах есть аллах!» и кружиться, как
коза.
Это задело Изрима.
— Ну и глупая же твоя душа! — воскликнул он. — Наш
Магомет нарочно запрещает воскрешать мертвецов. Странный у вас
бог, который даже мертвецам не дает покоя! Если ты торжественно
заявишь мне, что не можешь воскрешать мертвецов, я продам тебе
свою козу Мири!
Поп начал усиленно размышлять: с одной стороны, коза
Мири — предмет его страстных желаний, с другой — он должен перед
этим басурманом от чего-то отрекаться.
Между тем мулла спокойно продолжал курить свой чубук.
Голубоватый дым подымался в сумерках над долиной и полз по
скалам. В душе попа шла великая борьба, борьба между любовью
к козам и любовью к всемогущему богу.
— Мулла Изрим, бедный, неверующий человек, — наконец
отозвался поп, — я допускаю и утверждаю, что не могу, даже по
желанию бога, воскрешать умерших.
Он перекрестился.
— Сколько же ты с меня возьмешь за козу?
Начался продолжительный торг. Мулла хотел за козу Мири
две других козы и в придачу сто пиастров.
Поп давал одну козу и пятьдесят пиастров, а потом прибавил
пятьдесят с условием, чтобы мулла заявил, что его аллах — не
аллах.
Теперь в свою очередь поп зажег трубку и спокойно стал
курить турецкий табак.
— Аллах — не аллах, — повторил мулла и добавил:—Потому
что сто пиастров — деньги не малые!
Так поп Богумиров купил козу у муллы Изрима.
На другой день басурмане привели попу козу Мири.
Стоял ясный солнечный день, какие обычны на Балканах перед
осенью.
Под таким голубым небом человеку только бы петь песни.
Горный ручей, с чистой и прозрачной, как само отражающееся в нем
небо, водой, течет сверху, от Малого к Большому Караджиначу.
Повторяю, в такое время человеку становится радостно. А
особенно радостно было попу Богумирову, потому что он вел на
привязи свою новую козу Мири, вел ее от водопада наверх, к колодцу,
что на вершинах Мегадиштя. При этом он был в веселом
настроении.
Придя к колодцу, он погрузил купленную у Изрима козу в
воду и запел: «Господи помилуй! Господи помилуй!»
Не оставаться же козе мусульманской!
295
Преследование первых христиан в Праге
В пивную, где мы обычно собирались, ходил господин Копытко.
Это был человек весьма религиозный и всегда нам давал знать,
что он нами пренебрегает и презирает нас, возможно, за то, что
мы действительно разговаривали таким языком, который едва ли
понравился бы господу богу, а господин Копытко даже после
десятой кружки считал необходимым вспомнить о боге.
Поэтому мы его называли: «Первый христианин на
Виноградах».
Закутанный в свой плащ, входил он, тихий и задумчивый, в
пивную так, как первые христиане в римский цирк, переполненный
зверями. И когда он поднимал кружку пива, то делал это с таким
набожным смирением, как поднимали христиане во времена святого
Петра чашу в катакомбах. Его единственным и вместе с тем самым
сильным выражением презрения были слова: «Ну, с богом»,
которые он бросал нам при выходе из пивной.
Мы несколько раз пытались отнять у него бога, но он всегда
с тупым упорством вертел головой и говорил:
— Это все напрасно, в той вере, в которой я родился, в такой
и умру.
Иногда он ошибался и говорил: — В той вере, в которой я
вскормился...
Служил он в бюро похоронных процессий, и, очевидно, это
обстоятельство повлияло на его мировоззрение, хотя в общем он
о делах своей профессии отзывался довольно шутливо.
— Ну, сегодня я и помучился, запихивая в гроб эту старую
бабу, — говорил он. Кроме того, его религиозность не мешала ему
перекинуться в картишки.
Так случилось, что однажды в субботу, когда мы резались в
двадцать одно, он упросил нас, чтобы мы приняли его в игру.
Сперва ему везло, — возможно, потому, что он перекрестился.
Но затем карта не пошла, и он проиграл весь до копейки свой
недельный заработок. В страстном желании отыграться он
попросил у нас пять крон для дальнейшей игры с нами же.
— С большим удовольствием, дорогой друг, — сказали мы
ему, — но сперва дайте нам в залог свои часы, а потом заявите,
что вы не верите в бога.
— Никогда! — выкрикнул Копытко.
— Ну, тогда мы играем без вас!
ι Эти наши слова для Копытко означали то же, что в древнем
Риме приказ императора: — Ну, так бросьте его хищникам!
Лицо Копытко ясно отображало его страшные внутренние
страдания.
Вместо хищных зверей римского цирка перед ним встало
видение его жены.
— Господа, — сказал он, отдавая нам часы, — так я в бога не
верю.
296
А когда получил пять крон и карту, то крикнул:
— А все-таки верю в бога и хожу за пять крон!
И, проиграв, он опять сказал:
— Я не верю в бога.
Затем под обручальное кольцо он занял десять крон и проиг*
рал их со словами:—А все-таки бог есть на белом свете!
Затем он проиграл свой плащ. Больше проигрывать ему было,
нечего, за исключением своей жены, которая пришла за ним и.
схватила его за шиворот.
На будущей неделе, говорят, он едет в монастырь каяться.
И уже оттуда он прислал содержателю пивной в подарок:
четки.
Похождения бравого солдата Швейка
Религиозный диспут
Швейк служил с фельдкуратом полевую обедню у саперов.
Туда же по ошибке был приглашен другой фельдкурат, бывший,
школьный законоучитель, чрезвычайно набожный человек. Он с
большим удивлением взглянул на своего коллегу Каца, когда тот
предложил ему глоток коньяку из Швейковской фляжки, которая
у Швейка во время исполнения духовных функций всегда была
наготове.
— Коньяк недурной марки, — сказал Отто Кац. — Выпейте и
поезжайте домой. Я уже сам все обстряпаю. Сегодня мне нужно-
побыть под открытым небом, а то у меня что-то голова трещит.
Набожный фельдкурат покачал головой и уехал, а Кац
исполнил свою роль, как всегда, блестяще. На этот раз за кровь
господню сошел крюшон, и проповедь затянулась немного дольше
обыкновенного, причем каждое третье слово у фельдкурата было,
«и так далее» и «это факт».
— Солдаты! Сегодня вы уезжаете на фронт и так далее.
Обратите же сердца ваши к богу и так далее. Это факт. Никто из вас
не знает, что с ним будет. Это факт. И так далее.
И с алтаря неслось «и так далее» и «это факт» вперемежку с
богом и со всеми святыми. В ораторском пылу фельдкурат выдал
принца Евгения Савойского за ангела-хранителя саперов и
покровителя понтонных мостов, тем не менее полевая обедня окончи»
лась без всякого скандала — приятно и весело. Саперы
позабавились наславу.
На обратном пути Швейка с фельдкуратом не хотели пустить^
в трамвай со складным алтарем; тогда Швейк пригрозил
кондуктору:
— Смотри, — тресну тебя этим алтарем по башке!
Вечером пришел набожный фельдкурат, тот самый, который:
утром хотел служить полевую обедню у саперов. Это был фанатик^
стремившийся всех и каждого приблизить к богу. Еще будучи за—
297
коноучителем в школе, он развивал религиозные чувства в детях
с помощью подзатыльников, и газеты иногда помещали о нем
заметки вроде «Жестокий законоучитель» или «Преподавание закона
божьего с помощью подзатыльников». Законоучитель же был
убежден, что ребенок усвоит катехизис лучше всего по австрийской
системе. Набожный фельдкурат прихрамывал на одну ногу —
результат встречи в темном переулке с отцом одного из учеников.
Законоучитель накостылял шею его сыну в школе за
проявленное сомнение в существовании святой троицы. Бедный мальчонка
получил три тумака: один — за отца, другой — за сына и третий —
за святого духа. Итак, набожный фельдкурат пришел направить
своего коллегу Каца на путь истинный и заронить в его душу
искру божию. Он начал с того, что заметил Кацу:
— Удивляюсь, почему у вас нигде нет распятия. Где у вас
молитвенник? Ни один святой образ не украшает стен вашей
комнаты. Что это у вас там над постелью?
Кац улыбнулся.
— Это «Купающаяся Сусанна», а голая женщина под ней —
одна моя старая приятельница. Не правда ли, очень оригинально?..
А молитвенник у меня на кухне. Швейк, принесите его сюда и
откройте на третьей странице.
Швейк пошел на кухню, и оттуда послышалось троекратное
хлопанье раскупориваемых бутылок.
Набожный фельдкурат был потрясен, когда на столе появились
три бутылки.
— Это легкое церковное винцо, коллега, — сказал Кац. —
Очень хороший рислинг. По вкусу напоминает мозельское.
— Я пить не буду, — заупрямился набожный фельдкурат. —
Я пришел заронить в вашу душу искру божию.
— Но у вас в горле пересохнет. Выпейте немного, а я
послушаю. Человек я терпимый, могу выслушать и чужие взгляды.
Набожный фельдкурат отпил немного, отчего глаза у него
полезли на лоб.
— Чертовски доброе винцо, коллега! Не правда ли? — спросил
Кац.
Фанатик твердо сказал:
— Я замечаю, что вы сквернословите.
— Привычка, — сказал Кац. — Иногда даже ловлю себя на
богохульстве. Швейк, налейте господину курату. Послужите-ка на
военной службе с мое — и не так еще будете ругаться. Пейте,
дорогой коллега.
Бывший законоучитель машинально выпил. Видно было, что он
хочет что-то сказать, но не может. Он собирался с мыслями.
— Уважаемый коллега, — продолжал Кац, — держитесь бодрее,
не сидите с таким видом, словно вас через пять минут должны
повесить. Слыхал я, что вы однажды по ошибке съели в пятницу
в одном ресторане свиную котлету и после этого убежали в
уборную и сунули себе два пальца в рот, чтобы вас вырвало, боясь,
-что бог вас накажет. Я лично' не опасаюсь есть в пост мясо и не
298
боюсь никакого ада. Что с вами? Выпейте скорее!.. Стало лучше?..
Или, быть может, у вас более прогрессивный взгляд на ад,
может быть, вы идете в ногу с духом времени и с реформистами?
То-есть признаете, что в аду вместо простых котлов с серой для
бедных грешников применяются папиновые котлы высокого
давления, что грешников поджаривают на маргарине, а вертела
вращаются электричеством? В течение миллионов лет мнут их,
несчастных, паровыми трамбовками для шоссейных дорог, их вой
записывается на граммофонных пластинках, а затем эти пластинки
отсылаются наверх, в рай, для увеселения праведников? В раю
же действуют новые распылители одеколона, а симфонические
оркестры ангелов играют Брамса так добросовестно, что скорее
предпочтешь ад с чистилищем? У ангелочков в задницах по
пропеллеру, чтобы не натрудили себе крылышки?.. Пейте, коллега!
Швейк, налейте ему коньяку, — ему, кажется, дурно.
Немного очухавшись, набожный фельдкурат пролепетал:
— Религия есть умственное воззрение... Кто не верит в
существование святой троицы...
— Швейк, — перебил его Кац, — налейте господину фельдку-
рату еще рюмку коньяку, расскажите ему что-нибудь.
— Во Влашиме, осмелюсь доложить, господин фельдкурат, —
начал Швейк, — был один настоятель. Когда его прежняя
экономка от него сбежала вместе с ребенком и деньгами, он нанял себе
новую прислугу. Этот настоятель на старости лет ударился в
изучение святого Августина, который, говорят, принадлежит к
разряду святых отцов церкви. Вычитал он там, что каждый, кто
верит в антиподов, подлежит проклятию. Позвал он свою прислугу
и говорит ей: «Послушайте, вы мне как-то говорили, что у вас
есть сын слесарь и что он уехал в Австралию. Если это так, то
он, значит, стал антиподом, а святой Августин повелевает
проклясть каждого, кто верит в существование антиподов». —
«Батюшка, — говорит ему баба, — сын-то мой ведь посылает мне и
письма и деньги». — «Это дьявольское навождение, — говорит ей
настоятель. — Согласно учению святого Августина, никакой
Австралии не существует. Это вас антихрист искушает». В воскресенье в
церкви при всем честном народе он предал ее анафеме и орал, что
никакой Австралии не существует. Пришлось прямо из церкви
отвести его в сумасшедший дом. Да многим бы туда не мешало.
У урсулинок в монастыре есть бутылочка с молоком девы Марии,
которым она кормила младенца Иисуса, а в сиротском доме под
Бенешовым, когда туда привезли святую лурдскую воду, от нее
несло так, что хоть святых вон выноси.
У набожного фельдкурата зарябило в глазах. Он отошел
только после новой рюмки коньяку. Коньяк ударил ему в голову.
Прищурив глаза, он спросил Каца:
— Вы не верите в непорочное зачатие девы Марии, не верите,
что палец Иоанна Крестителя, хранящийся у пиаристов,
настоящий? Да верите ли в бога вообще? А если не верите, то почему
вы фельдкурат?
299
— Дорогой коллега, — ответил Кац, фамильярно похлопав его
по спине, — пока государство признает, что солдаты, идущие
умирать на полях сражений, нуждаются в благословении божием, до
тех пор должность фельдкурата является прилично оплачиваемым
занятием, при котором человек не пропадает. Это мне более по
душе, чем бегать по плацу и ходить на маневры. В былое время
я получал приказания, а теперь делаю, что хочу. Я замещаю кого-
то несуществующего и выступаю в роли бога. Не захочу
кому-нибудь отпустить грехи, — не отпущу, хоть бы меня на коленях
просили. Впрочем, таких нашлось бы чертовски мало.
— Люблю господа бога, — икнул набожный фельдкурат, —
очень люблю!.. Дайте мне вина. Уважаю господа бога и чту.
Никого так не уважаю, как его! — он стукнул кулаком по столу, так
что бутылки подскочили.
— Бог — возвышенное, неземное существо, совершенное во
всех проявлениях. Это — освященное солнцем видение, и никто
меня в этом не разубедит! И святого Иосифа почитаю, и всех
святых, и даже святого Серапиона... У него такое противное имя!
— Да, ему бы не мешало похлопотать о перемене, — заметил
Швейк.
— Святую Людмилу люблю и святого Бернара, — продолжал
бывший законоучитель.— Он спас много путников на Сен-Готарде.
На шее у него бутыль с коньяком, и он разыскивает занесенных
снегом...
Беседа приняла другое направление. Набожный фельдкурат
понес пятое через десятое.
— Младенцев я люблю, их день двадцать восьмого декабря.
Ирода я ненавижу... Когда курица опит, нельзя достать свежих яиц.
Он засмеялся и запел:
— «Святый боже, святый крепкий...»
Но вдруг прервал пение и, обращаясь к Кацу, привстал, резко
спросил:
— Вы не верите, что пятнадцатого августа праздник успения
богородицы?
Веселье было в полном разгаре. Появились еще бутылки, и
Кац временами искушал набожного фельдкурата:
— Скажи, что не веришь в бога, а то не налью.
Казалось, возвращаются времена преследований первых
христиан. Бывший законоучитель пел какую-то песнь мучеников
римской арены и вопил:
— Верю в господа бога своего и не отрекусь от него! Не
надо мне твоего вина. Могу и сам за ним послать!
Наконец, его уложили. Но прежде чем заснуть, он провозгласил»
подняв руку, как на присяге:
— Верю в бога-отца, сына и святого духа! Дайте мне
молитвенник.
Швейк сунул ему первую попавшуюся под руку книжку с
ночного столика Отто Каца, и набожный фельдкурат, наконец, уснул
с «Декамероном» Боккаччо в руках.
А, УПИТ
Рассказ про пастора *
В воскресенье утром после Иванова дня пастор Клиянского
прихода Людвиг Калнпетер проснулся весь в поту.
Сердито сбросив ногами одеяло, он стремительно перевернулся
на живот и взглянул на окно сквозь железный переплет спинки
кровати.
Так и есть! Небо сверкало голубизной — ни одного облачка
да всем пространстве, доступном взгляду Калнпетера, от курзем-
ского берега Даугавы до края крыши пасторского дома.
Между тем, дождь был нужен дозарезу. И не какой-нибудь,
а непременно большая дождевая туча с хорошим ливнем. Яровые
сохли и осыпались. Овес еще коенкак держался, но ячмень уже
начал желтеть.
Люди добросовестно выполняли установленный
отцом-епископом Ирбе регламент, и все-таки господь непонятным образом
карал их чрезмерно длительной засухой, грозившей уничтожить все
виды на хороший урожай в этом году.
Все эти бедствия явились следствием засухи. Пастор
Клиянского прихода обещал сделать все, что в его силах. Ближайшее
воскресенье после Иванова дня он намеревался посвятить
специальному богослужению с вознесением горячих молений господу
богу о дожде, хорошем дожде в самом ближайшем будущем...
Отворив дверь ризницы, пастор Людвиг Калнпетер вдруг
оцепенел с протянутой левой рукой и занесенной над порогом
правой ногой.
Ему показалось, будто в уши ему хлынул глухой, отдаленный
гул. Сердце замерло в приступе неожиданной радости. Но нет —
это было невозможно.
Это было невероятно. Во-первых, небо было совершенно
голубое и гладкое, как доска. Во-вторых, он не успел еще отслужить
молебен и вымолить то, чего с таким нетерпением ждал весь
приход. Нет, нет!
Сердце его бурно выстукивало: да, да, но он не решался
верить в возможность подобной милости, да еще в кредит и, так
сказать, авансом. Это было бы непростительным самомнением
и легкомыслием, заслуживавшим сурового наказания.
Однако, когда он собрался переступить через порог другой
ногой, гул повторился — на этот раз вполне явственно и отчетливо.
Скользнув взглядом через Даугаву в ту сторону, откуда ветер
обычно приносил дожди, пастор увидел темную, уродливую тучу
* Печатается в сокращенном виде.
301
в виде гигантской лошадиной головы, выползавшую из-за каймы
курземских лесов.
Ветер усилился и также подул с той стороны. Отражаясь на
белой стене, солнце палило с такой яростью, что ручка дверей
обжигала ладонь. Лошадиная голова превратилась в огромный,
продолговатый, синевато-черный каравай, захвативший всю окраину
неба.
Сомнений не оставалось: надвигался дождь. Приближавшийся
гул повторялся все чаще и громче, и время от времени на черном
фоне тучи вспыхивали молнии...
В церкви уже гремел орган, и прихожане усердно пели.
В ризнице стоял старый Бригис и с рясой в руках дожидался
пастора, чтобы помочь ему облачиться. В это утро старый Бригис
казался необычайно оживленным, и по лицу его скользило
подобие улыбки. Застегивая на пасторе воротник с двумя крестами,
он не удержался и, усмехнувшись, проговорил:
— А дождик-то будет, преподобный отец?
Пастор хитро старался скрыть обуревавшую его радость.
— Дал бы господь бог! Дал бы господь бог!
Бригис посмотрел в узенькое оконце и кивнул, хотя не увидел
ничего, оправдывавшего его уверенность.
— Будьте покойны. С самого утра чувствовалось. Печет
невероятно. Телята еще до завтрака примчались домой. И колокол
гудит, точно его обернули ватой. Это к дождю, так и знайте.
Пастор сохранял непоколебимую серьезность.
— Будем надеяться...
Однако Бригис не унимался.
— Да и пора, что и говорить. Прямо погибель с этой адской
жарой. Бабочки всю капусту заплевали червями. Не поверите: моя
старуха во время полки огорода насквозь пропылилась. В комнату
не может войти: чуть повернется — пыль с юбки столбом.
Простодушная болтовня звонаря мешала пастору
сосредоточиться на приготовленном в уме конспекте проповеди. Не слушая,
он направился в церковь, где пение псалма, видимо, подходило к
концу.
Пятьсот первый псалом, право, был наиболее подходящим в
создавшемся положении.
Стоя перед алтарем на коленях спиной к прихожанам, пастор
Людвиг Калнпетер слышал, что верующие сегодня поют с особым
подъемом. Это давало повод ожидать, что проповедь произведет
более или менее длительное впечатление. Поднявшись, он
обернулся лицом к прихожанам и с опущенной по привычке головой
стал из-под полусомкнутых век оглядывать сегодняшнюю паству...
Скосив глаза под полуопущенными веками влево, пастор без
труда отыскал тех, кто интересовал его более остальных. Явился
сам владелец усадьбы Лучи в своей серой летней куртке в
сопровождении нарядившейся в шляпу жены. С тех пор, как Мале *
* Дочь этого помещика, на которой рассчитывал жениться пастор.
302
кончила драудзинскую гимназию в Риге, хозяйка перестала
выходить куда бы то ни было без шляпы...
Когда пастор немного погодя поднялся на кафедру для
произнесения проповеди, в церкви заметно стемнело. Вершины лип за
окнами бурно качались из стороны в сторону. Когда затихли звуки
органа, прихожане услышали раскаты грома над самой крышей.
Все вытянули головы в сторону окон. На лицах застыло
выражение радостного ожидания, смешанного с легким недоумением.
Воистину, пастор не солгал. Тот, «то искренне верует, не обманывается
в своих надеждах. Вдохновенная молитва перед алтарем оказала
чудотворное действие.
«Подобно оленю, взывающему в реках воды...» Столь
потрясающую проповедь верующие Клиянского прихода слышали впервые
с тех пор, как отец епископ благословил их этим пастором. Голос
его гремел, разражаясь взрывами от мощного внутреннего
напряжения, и снова падал, шелестя тихим дуновением над головами.
Временами фигура пастора выпрямлялась во весь рост, и
воздетые кверху руки почти касались полукруглого навеса над
кафедрой с висящим на проволоке святым духом в образе вырезанного
из дерева белого голубя. Но в следующее же мгновение он
съеживался, становясь незначительным и тщедушным, и над краем
кафедры виднелись только гладко остриженная голова и воротник
с двумя лентами, украшенными крестами. На лице его
последовательно отражалась вся гамма эмоций — от мрачного отчаяния
грешника до блаженства праведника. Душевные движения всего·
прихода находили свое отражение в его лице, как в божественном
зеркале.
Грозной засухой всевышний покарал людские прегрешения и
маловерие. Карающий перст господень беспощадно опускается на
всех и каждого. Но искреннее раскаяние и усердная молитва
совместно с духовным пастырем заставили смягчиться сердце
нелицеприятного судьи, который окропит своей небесной росой правых
и виновных.
Шеи прихожан продолжали тянуться © сторону окон, где
слышался дробный стук мелких капель и сверкали белые молнии.
По стеклам тянулись тоненькие, серебристые нити.
Шелест дождя за окнами усиливался...
Когда пастор... перевел взгляд на окно, то увидел уже не
дождь, а целый ливень. Вода низвергалась бесконечными потоками,,
мощно сотрясая жестяную крышу церкви...
Ситуация создалась торжественная и в высшей степени
внушительная. Пастор отчетливо чувствовал это и старался продлить
незабываемый миг.
Когда он опустил голову, глаза его инстинктивно расширились*
Он ясно видел, как владелец усадьбы Лучи бросил книгу псалмов
на колени Мале и стремительно поднялся. С трудом
протиснувшись мимо сидящих, он быстрым шагом направился по среднему
проходу к дверям.
Что, собственно, стряслось с ним столь неожиданно? Он то-
303
ропился так, словно у него живот заболел. Быть может, он утром
слишком плотно наелся свежеиспеченного хлеба и страдал теперь
от изжоги? Или лошадь в липняке оторвалась, и он бежал
привязать ее?
Но дверь захлопнулась с таким оглушительным стуком, что
все догадки пастора перепутались. Повидимому, Мале и ее мать
тоже не знали, что случилось с хозяином усадьбы Лучи: они
оборачивались вместе с другими прихожанами и провожали
убегавшего недоумевающими глазами.
Пастор Людвиг Калнпетер зажончил службу в состоянии
полной растерянности.
Сняв с помощью Бригиса рясу, он выжидательно уселся в
ризнице в кресло: будущий тесть обычно заходил к нему после
службы поболтать. К тому же сегодня им еще предстояла совместная
поездка.
Ливень прекратился, небо прояснилось, и солнце играло на
стеклах мокрого окна. Грохот колес снаружи мало-помалу затих.
Старый Бригнс с заметным нетерпением переминался с ноги на
ногу:
— Господин Луцис сегодня что-то долго не приходит.
— Да, мне тоже кажется.
— Не пойти ли посмотреть?
— Пожалуй, не мешает сходить. Посмотрите, что там с ним
приключилось.
Оставшись один, пастор Людвиг Калнпетер поправил манишку.
Инцидент расстроил его. Придется хорошенько пробрать
взбалмошного старика за неприличное бегство из церкви.
Возвратившись, звонарь только руками развел:
— Господина Луциса нет.
Пастор медленно поднялся с места:
— Как нет?
— Ну, просто нет и нет! Ни господина Луциса, ни лошади.
Никого уже не осталось. Только старый Цирцеи из богадельни
сидит под липой и считает гроши в шапке. Бранится, что сегодня
самые пустяки заработал. Народ, дескать, вконец очерствел. Я-то
полагаю, что в наши трудные времена...
Пастор не слушал. Пораженный до глубины сознания, он стоял,
покусывая губы и ровно ничего не понимая. Это был форменный
скандал. Старого сумасброда следовало проучить основательно.
И что только он воображает? В конце концов не каждый день
представляется возможность заполучить в зятья пастора!
Проходя мимо развалин бывшей церковной корчмы, пастор
Людвиг Калнпетер с досадой плюнул. Свинство, и больше ничего!
Во всяком случае, женщинам следовало быть более
благоразумными. Мале тоже нечего слишком много о себе воображать.
Двадцать шесть лет и рыжие волосы — нельзя сказать, чтобы это
были очень уж привлекательные качества.
Немного погодя пастору Людвигу Калнпетеру пришло в голову,
что семья Луцисов могла поехать к нему, чтобы взглянуть на но-
304
вую обстановку. Старики давно выражали желание посмотреть
вещи, которыми Мале так сильно восхищалась. Но из этого еще не
следует, что нужно опрометью бежать из церкви и нарушать
благолепие службы. Нет, этого дела он так не оставит.
Однако дома пастор Людвиг Калнпетер никого не нашел.
Никто даже не спрашивал его. Загадочный клубок запутывался все
больше, и дело дошло до того, что он даже не нашел в себе сил
допить до конца кружку кофе и оставил нетронутыми сдобные
тминные хлебцы. Взяв широкополую шляпу и трость, он пошел
по дороге в усадьбу Лучи, желая самолично выяснить, в чем
дело.
Прошедший ливень был на редкость сильный. Канавы и
рытвины были наполнены водой. Местами посреди дороги простирались
серые лужи. Лаковые туфли безобразно промокали в траве, и
настроение пастора ухудшалось с каждой минутой. Свинство,
свинство!
Это было единственное слово, неотвязно вертевшееся у него
на языке.
Со двора выскочили оба пса и яростно накинулись на пастора...
Обычно кто-нибудь выбегал из дома и спешил гостю на помощь,
но на этот раз никто не показался. Бешено обороняясь тростью,
пастор мельком увидел хозяйку усадьбы, появившуюся в дверях
клети, но в следующее же мгновение она словно сквозь землю
провалилась.
Это было уже открытым оскорблением. В гневе пастор бросился
в кухню и некоторое время тяжело дышал, прислушиваясь, как за
дверью царапались псы, яростно лая и ляская зубами.
В первую минуту показалось, что в доме никого нет.. Но
переступив через порог, пастор Людвиг Калнпетер остановился. Перед
ним был сам владелец усадьбы Лучи, растянувшийся на диване с
номером «Брива Земе» на животе и погруженный в сладкий сон.
Между тем, открывая дверь, пастор отчетливо видел, как мелькнул
складываемый газетный лист.
Что за комедию разыгрывают с ним здесь? Усаживаясь, пастор
с грохотом передвинул стул и откашлялся. Затем, подождав
немного, отрывисто поздоровался:
— Добрый день!
Из угла, где стоял диван, донесся столь же отрывистый ответ,
словно с трудом выжатый из горла. Лежащий даже не
пошевельнулся, а только открыл глаза и устремил в потолок
странно-неподвижный взгляд.
Теперь пастор Калнпетер сообразил, что дело приняло
довольно скверный оборот. Однако долго раздумывать не приходилось.
В комнату вошла хозяйка, и нужно было поздороваться с нею.
— Добрый день!
Хозяйка ответила еще более отрывисто, сквозь зубы и словно
нехотя. Пастор окончательно потерял почву под ногами, и на лице
его изобразилась растерянность...
20-22 305
Пастор решил попытать счастья и проговорил первое, что
пришло в голову:
— Славный дождичек послал нам господь!
Тема для разговора, видимо, оказалась удачной, так как
хозяин усадьбы Лучи мгновенно очутился в сидячем положении. Весь
вытянувшись вперед, он словно всем телом устремился к гостю.
•Однако произнесенное им далеко не свидетельствовало о том, что
он питает к пастору благодарность за его сегодняшний подвиг.
Словом, ничего хорошего во всей этой истории не было.
— И вы еще радуетесь этому!
Хозяйка уперла руки в бедра и с видом разъяренной фурии
запрокинула голову;
— Нашел чему радоваться!
Пастор Людвиг Калнпетер чувствовал себя так, словно он с
облаков свалился.
— Как? Неужели вы...
Хозяин стремительно поднялся и с угрожающим лицом сделал
шаг вперед:
— Мы, мы! И вы еще смеете издеваться над нами?
Хозяйка решительно стала рядом с ним:
— Да еще в зятья лезет!
Хозяин грубо схватил пастора за руку и одним рывком
поднял со стула:
— Идите со мной! Любуйтесь на дело своих рук!
Он вытащил пастора на двор и повел его по пастушьей
тропинке к выгону. Ошеломленный служитель бога отчаянно отбивался
от собак, набросившихся на него с новой яростью.
— Идите, идите! Посмотрите, что вы наделали!
Хозяйка наступала пастору на пятки и не переставала злобно
шипеть:
— И это — пастор! Это — зять!
Протащив пастора сквозь мокрые кусты, хозяин отпустил его
и ткнул пальцем куда-то вперед:
— Посмотрите, что вы натворили! Полюбуйтесь!
Хозяйка, как эдо, повторила его слова, приобретавшие в ее
устах особую язвительность:
— Да, полюбуцтесь-ка! Посмотрите!
Но пастор уже видел сам.
Перед ним простиралось большое клеверное поле, густо усеянное
бесчисленными копнами. Дальше тянулся заливной луг,
примыкавший к арендованному участку фондовых земель со вновь
организованным хозяйством. И всюду лежали тяжелые груды сена,
приготовленного к складыванию в стога вокруг десятка высоких и
прямых жердей. Разворошенное с утра сено покрывало все
пространство, насколько хватал глаз, прибитое ливнем к земле,
местами расползшееся по огромной серой луже, почерневшее и
намокшее, как только что вывезенный навоз. Нагретое солнцем, оно
дымилось, словно под полем был разведен костер. Воздух был
насыщен невыносимым, удушливым смрадом.
306
Сердце пастора Людвига Калнпетера упало. Он только
беспомощно развел руками:
— Что и говорить, беда большая!
Хозяин усадьбы Лучи злобно передразнил его:
— Тоже сказал: бе-да... Это — гибель и банкротство!
Хозяйка еле сдерживала слезы:
— Все сено пропало. Теперь мы — конченные люди.
Хозяин продолжал дрогнувшим голосом:
— Целую неделю работали три косилки... Тридцать человек
работников подрядил к сегодняшнему дню. К вечеру, думал, сено
будет сложено в стога. А теперь трехсот тысяч как не бывало!
Чувствуя за собой вину, пастор терзался угрызениями совести:
— Но каким образом я мог все это знать > У меня не было
ни малейшего понятия... Народ в один голос кричал и требовал:
дождя, дождя!
— Стало быть, вы исполняете то, чего требует народ? Хоть бы
до утра подождали. Только этого нам от вас и нужно было.
Но какое вам дело до нашего добра: пусть пропадает пропадом!
Хозяйка стояла, сложив руки на животе, и укоризненно качала
головой:
— Но этого еще мало. Подумать только, какой убыток нанесут
нам теперь эти лодыри!
Пастор взглянул и понял. Бросив грабли, работники валялись
кучками на лугу, предаваясь безделью: дулись в карты, играли
на гармонике, а двое подростков затеяли даже пляску.
Хозяин потряс кулаком:
— Окаянные! Эдакое добро! И взбредет же человеку в голову
устроить такую штуку. Пошли, дескать, господь, дождичка, пусть
сгниет у Луциса сено...
Но тут пастор неожиданно разозлился:
— Вы говорите глупости. Как будто я могу в любую минуту
заказать все, что вам понадобится.
— Стало быть, не можете? На кой же чорт вы нужны в таком
случае? Какого дьявола вы тогда кривляетесь по воскресеньям на
кафедре? Комедию ломаете? Фокусы показываете?
Ответ застрял у пастора в глотке, но никто в ответе и не
нуждался. Хозяйка сделала рукой такой жест, словно хотела смахнуть
пастора с лица земли:
— С ним, пожалуй, и разговаривать нечего. Называется
пастор, а занимается разбоем.
Хозяин усадьбы Лучи схватил жену за руку и потащил прочь:
— Перестань разводить канитель! Пусть он отправляется к
чорту на рога. Если он еще хоть раз попадется мне на глаза.··
Я допускаю в свой дом только порядочных людей.
Когда пастор Людвиг Калнпетер добрел до края выгона,
хозяин с женой уже скрылись в доме, хлопнув дверью с такой
силой, словно ее никогда больше не предстояло отворять...
БЛАСКО ИБАНЬЕС
В дверях рая
Сидя на пороге таверны, дядя Бесеролес, родом из Альборайи,
чертил концом серпа на земле линии, искоса поглядывая на вален-
сианцев, которые, расположившись вокруг небольшого стола,
обитого белой жестью, попивали себе из кувшина и то-и-дело
запускали руки в блюдо с кровяной колбасой в оливковом масле.
Он ежедневно выходил из дому с намерением отправиться на
работу в поле, но всякий раз чорт устраивал так, что он
сталкивался с каким-нибудь приятелем в таверне Ратата и, стакан за
стаканом, бутылка за бутылкой, — колокола звонили к утренней,
к полуденной и к вечерней службе, а он так и не выходил из
селенья.
Он сидел на корточках с важным видом старого завсегдатая
таверны, выжидая случая вступить в беседу с иностранцами. Он
надеялся на приглашение выпить глоток вина и на прочие
любезности, принятые у людей, привыкших к порядочному обществу.
Несмотря на то, что просиживать целые дни напролет в таверне
нравилось старику больше, чем работать, он обладал и своего рода
достоинствами. Господи, чего только не знал этот человек!..
А как он рассказывал!.. Недаром его прозвали Бесеролес: ни один
самый крохотный клочок газетной бумаги не «проходил через его
руки без того, чтобы он не прочел его с начала до конца,
произнося слова нараспев, букву за буквой.
Слушатели просто животики надрывали со смеху, когда он
рассказывал, особенно если в рассказе фигурировали капелланы и
монахи; и даже сам Ратат за своей стойкой радостно посмеивался,
видя, как посетители в знак одобрения рассказу то-и-дело
заставляли его поворачивать краны боченков с вином.
И теперь, в благодарность за угощение валенсианцев дядя
Бесеролес пожелал рассказать им что-нибудь и, как только услышал,
что кто-то помянул монахов, тотчас поспешил проговорить:
— О, эти хитрые бестии!.. Чего только они не придумают!..
Раз один монах надул даже самого св. Петра.
И, поощренный любопытными взорами чужестранцев, он начал
рассказ.
Это был монах из местного монастыря Сан Мигеля дс-лос Рей-
ес, по имени падре Сальвадор; он перещеголял всех остальных по
части хитрости и изобретательности.
Я его не знал, но мой дед рассказывал, что видел его, когда
он приходил к его матери и, сложив руки на брюхе, ожидал
шоколада на пороге их лачуги. Вот был человек! Он весил не больше,
не меньше как десять арроба, а когда ему шили новое платье, то
на него выходила целая штука материи; в течение дня он посещал
зов
домов одиннадцать-двенадцать, выпивая в каждом из них свою
порцию шоколада в две унции, и когда мать моего деда
спрашивала его: «Что вы предпочитаете, падре Сальвадор, — яички с
картошкой или сосиски?»—Он отвечал ей хриплым голосом: «И того
и другого, и того и другого».
Он всегда был весел и жизнерадостен. Всюду, где только он
появлялся, он, казалось, разливал вокруг свое здоровье,
доказательством чему служило то обстоятельство, что все ребята,
рождающиеся в окрестностях, представляли его живой портрет, имели
то же лицо в виде полной луны и подбородок, в котором было,
по крайней мере, три фунта жира.
Однако на этом свете все плохо, — и терпеть голод, и есть
не в меру, — и потому в один прекрасный день под вечер падре
Сальвадор, явившись, сытно покушав, на крестины одного
младенца, который был тоже вылитым его портретом, вдруг захрипел,
приведя этим в смятение всех собравшихся, да и лопнул, как
бурдюк, хоть это и не совсем подходящее сравнение.
И вот летит наш падре Сальвадор по воздуху, точно ракета,
ища входа в рай, потому что, само собой разумеется, там не
может не найтись местечка для монаха.
Он остановился перед большой дверью из цельного золота,
утыканной жемчугами, такими крупными, как те, которые носит на
шее дочь алькада, когда бывает распорядительницей в день
праздника дев.
*— Тук, тук, тук!..
■— Кто там? — спросил изнутри старческий голос.
«— Отоприте, синьор Сан Педро!
<— А кто ты такой?
— Я падре Сальвадор из монастыря Сан Мигеля де-лос
Рейес.
Отворилось крошечное окошечко, и высунулась голова
святого, но эта голова испускала гневное мычание и сверкала глазами
из-под стекол очков. Надо вам знать, что Сан Педро, как и
подобает человеку в его преклонном возрасте, плохо видел.
— Что такое? Вот бесстыдство! — вскричал он, приходя в
ярость. — Чего ради ты привалил сюда? Как вам понравится
такое самомнение!.. Прочь отсюда, бессовестный, здесь нет тебе
места!..
— Послушайте, синьор Сан Педро, отворите, ведь ночь
наступает. Вечно вы со своими шуточками!
— С какими такими шуточками?.. Вот я возьму засов от
ворот, так ты увидишь, как я шучу, бесстыжий! Не воображаешь ли
ты, что я тебя не знаю, чорт в капюшоне?
— Сделайте милость, синьор Педро, сжальтесь надо мной.
Я грешник и все что угодно, но неужели нет свободного местечка
хотя бы в привратницкой?
— Проваливай, проваливай!.. Вот удовольствие, подумаешь!
Позволь я тебе войти, — да ведь ты в один день сожрешь все
наши запасы медовых тортов и оставишь голодать ангелов и святых.
309
И, кроме того, сколько у нас тут красивых, доверчивых женских
душ! Нечего сказать, подходящее ас моему возрасту было бы
занятие бегать за тобой, ни на минуту не спуская тебя с глаз!..
Убирайся в ад или укладывайся на холодке на каком-нибудь облаке...
Ну, разговор кончен.
И привратник яростно захлопнул окошечко, а падре Сальвадор
остался во мраке; только издали доносилось бряцание гитар и
звуки флейт ангелов, которые этой ночью затягивали серенаду в
честь самых красивых святых женского рода.
Часы шли за часами, и наш монах уже подумывал о том,
чтобы отправиться в ад, в надежде, что там его лучше примут, как
вдруг он увидел женщину, показавшуюся между двумя облаками,
такую же громадную и толстую, как он сам; она медленно
приближалась к нему, покачиваясь и переваливаясь из стороны в
сторону, вся круглая, точно шар.
Это была монахиня, которая умерла от колик в животе,
потому что не в меру поела варенья.
— Падре, — заискивающе обратилась она к монаху, глядя
на него масляными глазами, — разве в эти часы не отворяют?
— Подожди, сейчас войдем.
— Что только придумал этот человек! В одну минуту у него
созрел хитрейший план.
Вам, конечно, известно, что солдаты, умирающие на поле
битвы, входят в рай без малейших препятствии. Если вы этого не
знали раньше, так знайте теперь. Бедняги входят в том самом
виде, в каком являются, даже в сапогах и со шпорами: заслуживает
же их тяжкая доля хоть какой-нибудь привилегии.
— Набрось юбку на голову, — приказал монах.
— Но как же это, падре! — вздумала было протестовать
скандализированная монахиня.
— Делай, что я тебе говорю, и не будь дурой! — вскричал
падре Сальвадор авторитетным тоном. — Как ты смеешь спорить
со мной, когда я собаку съел в этих вещах? Ну, что ты смыслишь
в искусстве попадать на небо?
Покрасневшая монахиня повиновалась.
— Теперь стой тверже.
И одним прыжком падре Сальвадор поместился верхом на
спине у своей спутницы.
— Падре... мне слишком тяжело! — стонала, задыхаясь,
бедняжка.
— Терпи и подвигайся вперед прыжками: мы сейчас войдем.
Сан Педро, только-что подошедший, чтобы вынуть ключи,
потому что собирался итти спать, услышал стук в ворота.
— Кто там?
— Бедный солдат-кавалерист, — отвечал печальный голос. —
Меня убили в битве против неверных, врагов божиих, и я еду
сюда на своем коне.
— Проходи, бедняжка, проходи! — сказал привратник, отворяя
половинку ворот.
310
И он увидел во мраке солдата, шпорившего пятками круп ли-
шади, которая никак не могла стоять смирно: слишком уж
нервное было животное!.. Почтенный привратник пытался было
разглядеть голову лошади, но это оказалось невозможным: лошадь
все прыгала, так что, наконец, привратник, боясь, чтобы она не
брыкнула его, поспешил сказать:
— Проходи, солдатик» проходи и постарайся успокоить свою
скотинку!
П. ПЕЙВАРИНТА
Матти-Горемыка
Март месяц близился к концу, повсюду были заметны
признаки грядущей весны. Весело щебетали синицы на деревьях. Санный
путь уже испортился: дороги осели, снег был грязен, на полях
чернели проталины. Ручьи и канавы переполнились водой, и
только ночные морозы мешали ей вырваться на волю. Местами, где
солнце пригрело сильнее, ручьи уже сбросили ледяной покров и,
весело прыгая через пороги камней, шумно стремились в море.
В это время мне пришлось по делам отправиться из родного
прихода. Ранним утром нагнал я другого путника, который брел
за своим возом. Нагнав его, я выскочил из саней и подошел к
нему.
— Доброе утро, дедушка! — сказал я.
— Здравствуй, милый!—отвечал старик, не оборачиваясь.
Лошаденка у него была настоящая кляча, поклажа состояла из
двух боченков смолы. Одет он был в рваный пиджак, крепко
перетянутый обрывком повода. На пиджаке ни пуговиц, ни
крючков, верхняя часть его была открыта, из-под лохмотьев виднелась
голая грудь. Сапоги его, очень старые и не однажды починенные,
разорваны, пучки соломы торчали из дыр.
Двух бочек со смолой было более чем достаточно для тощей
лошаденки при такой плохой дороге. Когда на дороге встречались
проталины, старик подталкивал воз сзади, помогая кляче, которая
напрягала все свои силы. Вода просачивалась сквозь солому в
дырявые его сапоги, они хлюпали.
— Куда едете, дедушка? — спросил я его.
— В город, — кратко и уныло ответил он.
— Плохая же вам выдалась дорога.
— Это правда, дорога плоха, да дела, вишь, не ждут, — ска-
вал старик.
— Должно быть, спешное дело, коли приходится пускаться по
этакой дороге?—снова спросил я.
311
—· Недоимку надо платить, — сказал печально старик, и
только тут он бросил на меня робкий взгляд.
Теперь увидел я его лицо: оно казалось испитым и поблекшим,
видно, что человек состарился раньше времени.
— Кто же этот жадный кредитор, которому не жаль
заставлять вас пускаться в город по такой дороге? — спросил я.
— Настоятель, — отвечал он кратко.
— Настоятель? Много вы ему должны? — спросил я с удив*
лением.
— Немного — всего только за прошедший год, — вздыхая,
сказал старик.
— А вы не просили его обождать?
— Как же, два раза ходил.
— Ну, и что же он?
— Рассердился крепко и сказал: «Обкрадываете вы меня,
мерзавцы». И никакого снисхожденья не сделал, хоть я и просил его
со слезами на глазах, — сказал старик и снова бросил на меня
унылый взгляд.
— Жестокий человек у вас настоятель, нечего сказать; мог бы
он подождать до тех пор, пока дорога поправится, — сказал я.
— Так и мне думалось бы, да, вишь, глуп, не понимаю я этих
дел; настоятель — тот все это лучше знает. Тоже ведь и у него
не легкая работа — за всех нас перед богом отвечать. Он хороший
священник; знает свое дело. Я не виню его, только не в силах
платить, хоть и рад бы душой.
Бесхитростная речь осветила мне внутренний мир старика.
Наверно, много житейских невзгод испытал он, — может быть,
больше, чем настоятель, о благополучии которого он так заботился.
Весь век свой борясь с суровой природой, с лишениями и с нище«
той, он тем не менее считал своей обязанностью отдавать другим
то, что им полагалось, как бы мало ни оставалось ему самому и
каковы бы ни были его собственные дела; его огорчало только
то, что он не мог выполнить в точности всех требований. Я необ-»
думанно назвал настоятеля безжалостным, но человек не стал мне
поддакивать, не стал поносить того, из-за которого терпел такую
муку.
— Нехорошо это, что настоятель назвал меня вором. Просто
я не мог заплатить, — сказал старик с явным огорчением.
Ясно было, что эти слова исходят от чистого сердца.
— Довезти бы только вот эти бочки до города, тогда бы я
заплатил долг и избавился от описи, — продолжал старик,
становясь все более словоохотливым...
Мы расстались; старик потащился к городу, а я повернул
на свою дорогу, по своим делам. Он все время не выходил у меня
из памяти. Его тощая лошаденка, убогий корм обоих, рваная
одежда и обувь, наконец, это сморщенное и раньше времени
состарившееся лицо, — как живые стояли передо мною.
В этих мыслях я подвигался все вперед да вперед, — день*
другой.,, ну, словом, в дороге, как в дороге. #
312
Вот, наконец, передо мной богатый, многолюдный поселок.
Красивая церковь стояла на горе, на берегу красивого,
широкого озера, густая сосновая роща окружала ее с обеих сторон.
Немного дальше, на длинном мысу, вдающемся в озеро, окруженная
большим парком, виднелась богатая усадьба пастора. Дело, по
которому я ехал, было такого рода, что мне нужно было побывать
у него. Я отправился. Дом настоятеля был так же хорош внутри,
как и снаружи. В нем можно было видеть все, что создано совре*
менной культурой.
Настоятель сидел в удобной, мягкой качалке. Это был рослый,
статный и полный мужчина. Про него нельзя было сказать, что
он состарился раньше времени. Это тот настоятель, ради которого
Матти-Горемыка совершал свой путь в город.
Войдя в комнату, я увидел там приходского дьячка; пастор
бранил его: — Ты «корчишь» из себя честного человека, между
тем ты еще ни разу не сообщил мне, сколько у кого коров, хотя
мне доподлинно известно, что ты это прекрасно знаешь, —
говорил настоятель,
— Кто? Я?
— Да, ты, — сказал пастор, бросая победоносный взгляд на
дьячка.
— Откуда же мне знать, сколько у кого «коров?—сказал
дьячок тихо: видно было, что он хотел избежать более горячего
разговора.
— Знаешь, не отпирайся, — только не хочешь мне сказать. Эти
бездельники обворовывают меня, и тот, кто с ними заодно,
совершает такой же грех. Знаешь ли ты, что полагается за
воровство? — сердился настоятель.
Краска оскорбленного самолюбия выступила на лице дьячка.
Очевидно, он был не из тех, на ком можно ездить. Я еще
более убедился в этом, когда в ответ на чрезмерное, по моему
мнению, требование настоятеля он сказал:
— Я не обязан ходить по дворам и считать коров, а потом
докладывать об этом вам. Думаю также, что я не обязан отвечать
за лишних коров в приходе. Это верно, что на свете есть два
сорта людей: одни из них хотят елико возможно увеличить свои
доходы, другие — уменьшить расходы, но я за это не ответствен·
Кто часто бывал в избах бедняков и говорил с ними, тот,
конечно, понимает, почему это так. Вы, господин настоятель, по-моему,
сказали больше, чем бы следовало.
Настоятель покраснел в свою очередь. Он закричал на дьячка
со всей силой пастырского негодования:
— Знаешь ли ты, с кем говоришь?
— Очень хорошо знаю: говорю с господином настоятелем, но
только таким, который не заслуживает уважения, — прибавил он и
вышел вон.
Теперь у меня явилась возможность доложить настоятелю о
своем деле. Он был очень рассержен: смелая речь дьячка, видно,
задела его за живое.
313
— Этакий негодяй! Суется не в свое дело, да еще и грубит
старшим. Многие священники говорили мне: «Будь он у меня
дьячком, я бы его подковал». Подкуешь такого — поди-ка,
попробуй; видели, небось, сами, каков гусь? — не унимался настоятель.
Мне нечего было на это отвечать, я чувствовал, что настоятель
сам был главным виновником спора. Я скромно доложил о своем
деле, и это помогло. Настоятель сделался вежлив и любезен, и
скоро мы с ним мирно беседовали о разных предметах. Он, по·
видимому, знал народ и его нравы, или, по крайней мере, думал,
что знает. Он много говорил о том, что народ не умеет ценить
своего главного благодетеля. Правда, настоятель не упомянул, кто
такой этот благодетель, но по всему было видно, что он имел в
виду самого себя.
Справив свое дело, я ушел.
Как бы то ни было, а Матти-Горемыка со своими бочками
то-и-дело вспоминался мне. Я сравнивал между собой положение
Матти и настоятеля и во всем складе их жизни замечал, мягко
говоря, большое различие.
Из-за дел мне пришлось пробыть в селе несколько суток.
Покончив с делами, я отправился дальше по проселкам, которые
были до того запутаны, что мне пришлось взять проводника.
Погруженный в свои думы, сидел я в санях; вожатый правил лошадью,
потихоньку напевая песни. Это был молодой парень, повидимому,
не испытавший еще никаких житейских невзгод.
Когда мы отъехали от погоста мили две, то налево невдалеке
показался дом, на дворе которого было больше народу, чем это
обыкновенно бывает в глухих местах.
— Это что за дом? — машинально спросил я проводника.
— Горемыки, — отвечал парень беспечное
Я вздрогнул.
— А почему там столько народу?
— Опись делают за неплатеж церковной повинности, — сказал
проводник все так же.
— А как зовут хозяина двора? Не Матти ли?—опросил я
опять.
— Он самый, — отвечал вожатый еще более беспечно.
— Я встретил его по дороге к вам; он ехал в город, и .мы
вместе проехали полпути. Как же так? Ведь он должен бы был
встретиться мне, — сказал я с удивлением.
— Очень просто, — Матти поехал по другой дороге: здесь
бы ему пришлось сделать крюку, — сказал вожатый.
— Значит, хозяин не вернулся из города, коли пришли его
описывать? Он говорил, что для того и везет смолу продавать,
чтобы избавиться от описи.
— Должно быть, не вернулся.
— Поезжайте ко двору» — сказал я парню.
Он повиновался·
Ш
Подъехав ко двору, я скоро заметил, что все уже кончено.
Да немного там и было годного для продажи: две коровенки
тощие, как конопляное трепало — только и всего. Был там, правда,
и другой товар — толпа голодных и полуодетых ребятишек и
раньше времени высохшая мать, но это был такого рода товар, что
даже самый суровый и бесчувственный заимодавец не решился бы
его взять, а тем более такой богобоязненный человек, каким был
настоятель.
Коровы уже мычали на дворе; новые владельцы держали их
на привязи и были готовы вести их со двора. Мать, бледная и
печальная, стояла в толпе своих голодных ребятишек. Она не
плакала: она уже раньше выплакала свои слезы, что было видно
по ее мутным и покрасневшим глазам.
Я подошел к женщине и спросил у нее:
— Разве ваш муж еще не вернулся из города?
— А откуда вы знаете, что Матти в городе? — сказала
женщина, бросая на меня пытливый взгляд.
«— Я встретил его по дороге, — сказал я.
— Да, еще не вернулся, хоть и думал поторопиться. Уж не
случилось ли какой беды с ним; впрочем, надо сказать, что
дорога очень плоха, и лошаденка-то совсем отощала, — что будешь
делать, коли нечем кормить! Да если бы и вернулся Матти,
легче бы не стало: ведь последнее отняли у нас. Хоть и немного
проку было в этих коровах, а все-таки ребятишки имели каплю-дру-
гую молока. Теперь они пошли за бесценок — много ли дадут за
таких одров? Только-только что уплатить недоимку настоятелю.
Как-раз перед летом и взяли их, а летом-то и была бы от них
большая помощь, — говорила женщина печально.
С меня было довольно того, что я видел. Я разыскал своего
вожатого, и мы отправились в дальнейший путь.
Справив свои дела, я в субботний день отправился в обратный
путь со своим вожатым, который меня ждал. В воскресенье я
снова прибыл к красивой церкви богатого прихода и строгого
священника.
Подходя к церкви, я встретил носилки с мертвым телом.
Носильщики остановились перед церковными воротами и спустили
носилки на землю, ожидая пастора и дьячка. Оба они были мне
знакомы. Казалось, настоятель все еще бранил дьячка, говоря:
«эти бездельники обворовывают меня».
— Кого это хоронят? — спросил я кого-то.
— Матти-Горемыку, он умер по дороге в город.
Холодная дрожь пробежала по моему телу. Мой старый
знакомец умер, — быть может, от чрезмерного изнурения, там, по
дороге в город; теперь мне стало понятно, почему он не успел
предупредить опись.
Хоронили скромно, провожающих было много. Вот гроб
опустили в могилу, и настоятель стал благословлять место
последнего упокоения, взял в руку лопаточку, захватил земли и бросил ее
обычным порядком на гроб, громко сказав: «От земли еси взят и
315
в землю отыдеши!» От ночного мороза земля затвердела комками
й с громким стуком падала на гроб... Когда настоятель бросил ком
мерзлой земли в могилу Матти-Горемыки, то мне показалось, что
я слышу голос:
— Он хороший священник и хорошо знает свое дело; я не
виню настоятеля, только я не в силах был заплатить того, что
следует.
В толпе провожающих я отыскал глазами жену Матти, бледнее
бледного было лицо женщины, удрученной горем. Без слез стояла
она, окруженная полуодетыми, дрожавшими от холода детьми, над
могилой мужа, неподвижно глядя в нее.
Когда пошли с кладбища, я расспросил присутствующих о
смерти Матти. Не доехав до города, он заболел воспалением легких.
'При его плохой одежде и обуви, истощенный организм не мог
выдержать сырости и холода, и через три дня бедняга скончался.
Начали звонить, и я вместе с другими пошел в церковь. После
обычных церемоний, настоятель взошел на кафедру.
«Люби ближнего своего, как самого себя, любовь исполнение
закона» — такова была тема его проповеди. С большой силой и
талантом объяснил настоятель пастве значение этой заповеди.
Исходила ли эта сила из его души, я не знаю; но так, по крайней
мере, меня уверяли. В самом разгаре проповеди я вспомнил слова:
«Он хороший священник».
Сильная речь, как видно, произвела свое действие: там и сям
всхлипывали бабы.
Окончив проповедь, настоятель начал поминать усопших.
— Премудрым изволением милосердного бога отошел в
вечность из сей юдоли скорби и печали раб божий, крестьянин
Матиас Андреев сын Анти; срок жизни его был 42 года 3 месяца
и 8 дней.
Что богатство? Что именье?
Суета, и прах, и тленье;
Все земные блага бренны,
Только скорби неизменны.
Когда настоятель читал стихи псалма, казалось, что он не
придает никакой цены богатству и считает себя таким же
страдальцем на земле, каким жил Матти-Горемыка.
Но во все время совершения поминального обряда, сквозь
громкий голос настоятеля, мне слышались и другие тихие слова:
«Глупый я, не понимаю я этих дел, вот настоятель — тот все
это лучше понимает».
M. Ε. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
(1826—1889)
Карась-идеалист
Карась с ершом спорил. Карась говорил, что можно на свете
одною правдою прожить, а ерш утверждал, что нельзя без того
обойтись, чтоб не слукавить. Что именно разумел ерш под
выражением «слукавить» — неизвестно; но только всякий раз, как он
эти слова произносил, карась в негодовании восклицал:
— Но ведь это подлость!
На что ерш возражал:
— Вот ужо увидишь!
Карась — рыба смирная и к идеализму склонная; не даром
ее монахи любят. Лежит она больше на самом дне речной заводи
(где потише) или пруда, зарывшись в ил, и выбирает оттуда
микроскопических ракушек для своего продовольствия. Ну,
натурально, полежит-полежит, да что-нибудь и выдумает. Иногда даже и
очень вольное. Но так как караси ни в цензуру своих мыслей не
представляют, ни в участке не прописывают, то в политической
неблагонадежности их никто не подозревает. Если же иногда и
видим, что от времени до времени на карасей устраивается облава, то
отнюдь не за вольнодумство, а за то, что они вкусны.
Ловят карасей преимущественно сетью или неводом; но чтобы
ловля была удачна, необходимо иметь сноровку. Опытные рыбаки
выбирают для этого время сейчас вслед за дождем, когда вода
бывает мутна, и затем, заводя невод, начинают хлопать по воде
канатом, палками и вообще производить шум. Заслышав шум и
думая, что он возвещает торжество вольных идей, карась
снимается со дна и начинает справляться, нельзя ли ему как-нибудь
пристроиться к торжеству. Тут-то он и попадает во множестве в
мотню, чтобы потом сделаться жертвою человеческого чревоугодия.
Ибо, повторяю, караси представляют такое лакомое блюдо
(особливо изжаренные в сметане), что предводители дворянства охотно
потчуют ими даже губернаторов.
Что касается до ершей, то это рыба уже тронутая
скептицизмом и притом колючая. Будучи сварена в ухе, она дает
бесподобный бульон.
Каким образом случилось, что карась с ершом сошлись, не
знаю; знаю только, что однажды, сошедшись, сейчас же заспорили.
Поспорили раз, поспорили другой, а потом и во вкус вошли,
свидания друг другу стали назначать. Сплывутся где-нибудь под
водяным лопухом и начнут умные речи разговаривать. А плотва-
белобрюшка резвится около них и ума-разума набирается.
Первым всегда задирал «карась.
5/7
— Не верю, — говорил он: — чтобы борьба и свара были
нормальным законом, под влиянием которого будто бы суждено
развиваться всему живущему на земле. Верю в бескровное преуспеяние,
верю в гармонию и глубоко убежден, что счастие — не праздная
фантазия мечтательных умов, но рано или поздно сделается общим
достоянием!
— Дожидайся!—иронизировал ерш.
Ерш спорил отрывисто и неспокойно. Это рыба нервная,
которая, повидимому, помнит немало обид. Накипело у нее на сердце...
ах, накипело! До ненависти ^покуда еще не дошло, но веры и
наивности уже и в помине нет. Вместо мирного жития, она всюду
распрю видит, вместо прогресса — всеобщую одичалость. И
утверждает, что тот, кто имеет претензию жить, должен все это в расчет
принимать. Карася же считает «блаженненьким», хотя в то же
время сознает, что с ним только и можно «душу отводить».
— И дождусь! — отзывался карась: — и не я один, все
дождутся. Тьма, в которой мы плаваем, есть порождение горькой
исторической случайности; но так как ныне, благодаря новейшим
исследованиям, можно эту случайность по косточкам разобрать, то
и причины, ее породившие, нельзя уже считать неустранимыми.
Тьма— совершившийся факт, а свет — чаемое будущее. И будет
свет, будет!
— Значит, и такое, по-твоему, время придет, когда и щук не
будет?
— Каких таких щук? —удивился карась, который был до того
наивен, что когда при нем говорили: на то щука в (море, чтоб
карась не дремал, то он думал, что это что-нибудь в роде тех никс и
русалок, которыми малых детей пугают, и, .разумеется, ни
крошечки не боялся.
— Ах, фофан ты, фофан! Мировые задачи разрешать хочешь,
а о щуках понятия не имеешь!
Ерш презрительно пошевеливал плавательными перьями и
уплывал во-свояси; но, спустя малое время, собеседники опять где-
нибудь в укромном месте сплывались (в воде-то скучно) и опять
начинали диспутировать.
— В жизни первенствующую роль добро играет, —
разглагольствовал карась: — зло—это так, по недоразумению допущено, а
главная жизненная сила все-таки в добре замыкается.
— Держи карман!
— Ах, ерш, какие ты несообразные выражения употребляешь!
«Держи карман!» — разве это ответ?
— Да тебе, по-настоящему, и совсем отвечать не следует.
Глупый ты — вот тебе и сказ весь!
— Нет, ты послушай, что я тебе скажу. Что зло никогда не
было зиждущей силой — об этом и история свидетельствует. Зло
душило, давило, опустошало, предавало мечу и огню, а зиждущей
силой являлось только добро. Оно устремлялось на помощь
угнетенным, оно освобождало от цепей и оков; оно пробуждало в
сердцах плодотворные чувства, оно давало ход парениям ума. Не будь
318
этого воистину зиждущего фактора жизни — не было бы и
истории. Потому что ведь, в сущности, что такое история? История —
это повесть освобождения, это рассказ о торжестве добра и разума
над злом и безумием.
— А ты, видно, доподлинно знаешь, что зло и безумие
посрамлены?— подтрунивал ерш.
— Не посрамлены еще, но будут посрамлены — это я тебе
верно говорю. И опять-таки сошлюсь на историю. Сравни, что
некогда было, с тем, что есть, — и ты без труда согласишься, что не
только внешние приемы зла смягчились, но и самая сумма его
приметно уменьшилась. Возьми хоть бы нашу рыбную породу.
Прежде нас во всякое время ловили, и преимущественно во время «хода»,
когда мы, <как одурелые, сами прямо в сеть лезем, а нынче именно
во время «хода»-то и признается вредным нас ловить. Прежде нас,
можно оказать, самыми варварскими способами истребляли—в
Урале, сказывают, во время багрения вода на многие версты от
рыбьей крови красная стояла, а нынче — шабаш. Неводы да
верши, да уды — больше чтобы ни-ни! Да и об этом еще в -комитетах
рассуждают: какие неводы? по какому случаю? на какой предмет?
— А тебе, видно, не все равно, каким способом в уху попасть?
— В какую такую уху?—удивлялся карась.
— Ах, прах тебя побери! Карасем зовется, а об ухе не слыхал!
Какое же ты после этого право со мной разговаривать имеешь?
Ведь чтобы споры вести и мнения отстаивать, надо, по малой мере,
с обстоятельствами дела наперед познакомиться. О чем же ты
разговариваешь, коли даже такой простой истины не знаешь: что
каждому карасю впереди уготована уха? Брысь... заколю!
Ерш ощетинился, а карась быстро, насколько позволяла его
неуклюжесть, опускался на дно. Но через сутки дрздзьячпротивники
опять сплывались и новый разговор затевали.
— Намеднись в нашу заводь щука заглядывала, — объявлял
ерш.
— Та самая, о которой ты намеднись упоминал?
— Она. Приплыла, заглянула, молвила: чтой-то будто уж
слишком здесь тихо! должно быть, тут карасям вод?.. И с этим
уплыла.
— Что же мне теперича делать?
— Изготовляться — только и всего. Ужо, как приплывет она,
да уставится в тебя глазищами, ты чешую-то да перья подбери
поплотнее, да прямо и полезай к ней в хайло.
— Зачем же я полезу? Кабы я был в чем-нибудь виноват...
— Глуп ты — вот в чем твоя вина. Да и жирен вдобавок.
А глупому да жирному и закон повелевает щуке в хайло лезть!
— Не может такого закона быть! — искренно возмущался
карась. — И щука зря «е имеет права глотать, а должна прежде
объяснения потребовать. Вот я с ней объяснюсь, всю правду выложу.
Правдой-то я ее до седьмого пота прошибу.
— Говорил я тебе, что ты фофан, и теперь то же самое
повторю: фофан! фофан! фофан!
319
Ерш окончательно сердился и давал себе слово на будущее
время воздержаться от всякого общения с карасем. Но чрез
несколько дней — смотришь — привычка опять взяла свое.
— Вот, кабы все рыбы между собой согласились... — загадочно
начинал карась.
Но тут уж и самого ерша брала оторопь. О чем это фофан речь
заводит? — думалось ему:—того гляди, проврется, а тут головель
неподалеку похаживает. Ишь, и глаза в сторону, словно не его
дело, скосил, а сам, знай, прислушивается.
— А ты не всякое слово выговаривай, какое тебе на ум
взбредет!— убеждал он карася: не для чего пасть-то разевать; можно
и шопотком, что нужно, сказать.
— Не хочу я шептаться, — продолжал карась невозмутимо: —
а говорю прямо, что ежели бы все рыбы между собой согласились,
тогда...
Но тут ерш грубо прерывал своего друга.
— С тобой, видно, гороху наевшись, говорить надо!—кричал
он на карася и, навостривши лыжи, уплывал от него во-свояси.
И досадно ему да и жалко было. Хоть и глуп он, а все-таки
с ним одним по душе поговорить можно. Не разболтает он, не
предаст— в ком нынче качества-то эти сыщешь? Слабое нынче время,
такое время, что на отца с матерью надеяться нельзя. Вот плотва,
хоть и нельзя о ней прямо что-нибудь худое сказать, а все-таки,
того и гляди, не понимаючи, сболтнет! А об головлях, язях, линях
и прочей челяди и говорить нечего! За червяка прися1гу под
колоколами принять готовы! Бедный карась, ни за грош он между
ними пропадет!
— Посмотри ты на себя, — говорил он карасю: — ну, какую
ты, неровен час, оборону из себя представить можешь? Брюхо у
тебя большое, голова малая, на выдумки не гораздая, рот — чутош-
ный. Даже чешуя на тебе — и та не серьезная. Ни проворства в
тебе, ни юркости—как есть увалень! Всякий, кто хочет, подойди
к тебе и ешь!
— Да за что же меня есть, коли я не провинился? — попреж-
нему упорствовал карась.
— Слушай, дурья порода! Едят-то разве «за что»? Разве
потому едят, что казнить хотят? Едят потому, что есть хочется —
только и всего. И ты, чай, ешь. Не попусту носом-то в иле
роешься, а ракушек вылавливаешь. Им, ракушкам, жить хочется, а ты,
простофиля, ими мамон с утра до вечера набиваешь. Сказывай:
какую такую они вину перед тобой сделали, что ты их ежеминутно
казнишь? Помнишь, как ты намеднись говорил: вот кабы все
рыбы между собой согласились... А что, если бы ракушки между
собой согласились — сладко ли бы тебе, простофиле, тогда было?
Вопрос был так прямо и так неприятно поставлен, что карась
оконфузился и слегка покраснел.
— Но ракушки — ведь это... — пробормотал он смущенно.
— Ракушки — ракушки, а караси — караси. Ракушками караси
лакомятся, а карасями — щуки. И ракушки ни в чем неповинны, и
320
караси не виноваты, а и те, и другие должны ответ держать. Хоть
сто лет об этом думай, а ничего другого не выдумаешь.
Спрятался после этих ершовых слов карась в самую глубь тины
и стал на досуге думать. Думал-думал и, между прочим, ракушек
ел да ел. И что больше ест, то больше хочется. Наконец,
однако ж, додумался.
— Я не потому ем ракушек, чтоб они виноваты были — это ты
правду сказал, — объяснил он ершу: — а потому я их ем, что они,
эти ракушки, самой природой мне для еды предоставлены.
— Кто же тебе это сказал?
— Никто не сказал, а я сам, собственным наблюдением, дошел.
У ракушки не душа, а пар; ее ешь, а она и не понимает. Да и
устроена она так, что никак невозможно, чтоб ее не проглотить.
Потяни рылом воду, а« в зобу у тебя видимо невидимо ракушек
кишит. Я и не ловлю их — сами в рот лезут. Ну, а карась —
совсем другое. Караси, брат, от десяти вершков бывают, — так с
этаким старикам еще поговорить надо, прежде, нежели его съесть.
Надо, чтоб он серьезную пакость сделал — ну, тогда, конечно...
— Вот как щука проглотит тебя, тогда ты и узнаешь, что надо
для этого сделать. А до тех пор лучше помалчивал бы.
— Нет, я не стану молчать. Хоть я от роду щук не видывал,
но только могу судить по рассказам, что и они к голосу правды не
глухи. Помилуй-скажи: может ли такое злодейство статься! Лежит
карась, никого не трогает, и вдруг, ни дай, ни вынеси за что, к
щуке в брюхо попадает! Ни в жизнь я этому не поверю.
— Чудак! да ведь намеднись, на глазах у тебя монах целых
два невода вашего брата из заводи вытащил... Как ты думаешь:
любоваться, что ли, он на карасей-то будет?
— Не знаю. Только это еще бабушка на двое сказала, что с
теми карасями сталось; ино их съели, ино в сажалку посадили.
И живут они там припеваючи на монастырских хлебах!
— Ну, живи, коли так, и ты, сорви-голова!
Проходили дни за днями, а диспутам карася с ершом и конца
было не видать. Место, в котором они жили, было тихое, даже
слегка зеленою плесенью подернутое, самое для диспутов
благоприятное. О чем ни калякай, какими мечтами ни задавайся —
безнаказанность полная. Это до такой степени ободрило карася, что он
с каждым сеансом все больше и больше тон своих экскурсий в
область эмпиреев повышал.
— Надобно, чтоб рыбы любили друг друга!—ораторствовал
он: — чтобы каждая за всех, а все за каждую — вот когда
настоящая гармония осуществится!
— Желал бы я знать, как ты с своею любовью к щуке
подъедешь!— расхолаживал его ерш.
— Я, брат, подъеду!—стоял на своем карась: — я такие слова
знаю, что любая щука в одну минуту от них в карася превратится!
— А нутка, скажи!
— Да просто спрошу: знаешь ли, мол, щука, что такое
добродетель и какие обязанности она в отношении к ближним налагает?
21-22 321
—«■ Огорошил, нечего сказать! А хочешь, я тебе за этот самый
вопрос иглой живот проколю?
— Ах, нет, сделай милость, ты этим не шути!
Или:
— Только тогда мы, рыбы, свои права сознаем, когда нас, с
малых лет, в гражданских чувствах воспитывать будут!
— А на кой тебе ляд гражданские чувства понадобились?
— Все-таки...
— То-то «все-таки». Гражданские-то чувства только тогда ко
двору, когда перед ними простор открыт. А что же ты с ними, в
тине лежа, делать будешь?
— Не в тине, а вообще...
— Например?
— Например, монах меня в ухе захочет сварить, а я ему
скажу: не имеешь, отче, права без суда такому ужасному наказанию
меня подвергнуть!
— А он тебя, за грубость, на сковородку, либо в золу
горячую... Нет, друг! в тине жить, так не гражданские, а остолопьи
чувства надо иметь — вот это верно. Схоронился где погуще и
молчи, остолоп!
Или еще:
— Рыбы не должны рыбами питаться, — бредил на яву
карась. — Для рыбьего продовольствия и без того природа многое
множество вкусных блюд уготовала. Ракушки, мухи, черви, пауки,
водяные блохи; наконец, — раки, змеи, лягушки. И все это добро,
все на потребу.
— А для щук на потребу караси, — отрезвлял его ерш.
— Нет, карась сам себе довлеет. Ежели природа ему не
дала оборонительных средств, как тебе, например, то это значит,
что надо особливый закон, в видах обеспечения его личности,
издать!
— А ежели тот закон исполняться не будет?
— Тогда надо внушение распубликовать; лучше, дескать,
совсем законов не издавать, ежели оные не исполнять.
— И ладно будет?
— Полагаю, что многие устыдятся.
Повторяю: дни проходили за днями, а карась все бредил.
Другому за это хоть щелчок бы в нос дали, а ему — ничего. И
растабарывал бы он таким родом аридовы веки, если бы хоть крошечку
поостерегся. Но он уж так о себе возмечтал, что совсем из рассче-
та вышел. Пропускал да пропускал, как вдруг к нему головель с
повесткой: назавтра, дескать, щука изволит в заводь прибыть, так
ты, карась, смотри! чутьнсвет ответ держать явись!
Карась, однако ж, не оробел. Во-первых, он столько
разнообразных отзывов о щуке слышал, что и сам познакомиться с ней
любопытствовал; а во-вторых, он знал, что у него такое магическое
слово есть, которое, ежели его сказать, сейчас самую лютую щуку
в карася превратит. И очень на это слово надеялся.
Даже ерш, видя такую его веру, задумался, не слишком ли он
322
уж далеко зашел в отрицательном направлении. Может быть, и в
самом деле щука только того и ждет, чтобы ее полюбили, благой
совет ей дали, ум и сердце ее просветили? Может быть, она...
добрая? Да и карась, пожалуй, совсем не такой простофиля, каким
по наружности кажется, а, напротив того, с рассчетцем свою
карьеру облаживает? Вот завтра явится он к щуке да прямо и
ляпнет ей сущую правду, какой она от роду ни от кого не слыхивала.
А щука возьмет да и скажет: за то, что ты мне, карась, самую
сущую правду сказал, жалую тебя этой заводью; будь ты над
нею начальник!
Приплыла на утро щука, как пить дала. Смотрит на нее карась
и дивится: каких ему про щуку сплеток ни наплели, а она — рыба
как рыба. Только рот до ушей да хайло такое, что как раз ему,
карасю, пролезть.
— Слышала я,—молвила щука: — что очень ты, карась, умен
и «разглагольствовать мастер. Хочу я с тобой диспут иметь.
Начинай.
•— Об счастии я больше думаю, — скромно, но с достоинством
ответил карась. — Чтобы не я один, а все были счастливы. Чтобы
всем рыбам во всякой воде свободно плавать было, а ежели
которая в тину спрятаться захочет, то и в тине пускай полежит.
— Гм... и ты думаешь, что такому делу статься возможно?
— Не только думаю, но и всечасно сего ожидаю.
— Например: плыву я, а рядом со мною... карась?
— Так что же такое?
— В первый раз слышу. А ежели я обернусь да карася-то...
съем?
— Такого закона, ваше высокостепенство, нет; закон говорит
прямо: ракушки, комары, мухи и мошки да послужат для рыб
пропитанием. А кроме того, позднейшими разными указами к пище
сопричислены: водяные обыватели. Но не рыбы.
— Маловато для меня. Головель! неужто такой закон есть? —»
обратилась щука к головлю.
— В забвении, ваше высокостепенство!—ловко вывернулся
головель.
— Я так и знала, что не можно такому закону быть. Ну, а
еще ты чего всечасно, карась, ожидаешь?
— А еще ожидаю, что справедливость восторжествует. Что
объявится такое общее дело, в котором все рыбы свой интерес
будут иметь и каждая свою долю делать будет. Сильные не будут
стеснять слабых, богатые — бедных. Ты, щука, всех сильнее и
ловче — ты и дело на себя посильнее возьмешь; а мне, карасю, по
моим скромным способностям, и дело скромное укажут. Всякий для
всех, и все для всякого — вот как будет. Когда мы друг за
дружку стоять будем, тогда и подкузьмить нас никто не сможет. Невод-'
то еще где покажется, а уж мы драло! Кто под камень, кто на
самое дно в ил, кто в нору или под корягу. Уху-то, пожалуй-что,
видно бросить придется!
— Не знаю. Не очень-то любят люди бросать то, что им
21* 323
вкусным кажется. Ну, да это еще когда-то будет. А вот что: так,
значит, по-твоему, и я работать буду должна?
— Как прочие, так и ты.
— В первый раз слышу. Поди, проспись!
Проспался ли, нет ли карась, но ума у него, во всяком случае,
не прибавилось. В полдень опять он явился на диспут, и не только
без всякой робости, но даже против прежнего веселее.
— Так ты полагаешь, что я работать стану, и ты от моих
трудов лакомиться будешь? —прямо поставила вопрос щука.
— Все друг от дружки... от общих, взаимных трудов.
— Понимаю: «друг от дружки»... а между прочим и от меня...
гм! Думается, однако ж, что ты это зазорные речи говоришь. Го-
ловель! как, по-нынешнему, такие речи называются?
— Сицилизмом, ваше высокостепенство!
— Так я и знала. Давненько я уж слышу: бунтовские, мол,
речи карась говорит. Только думаю: дай, лучше сама послушаю...
Ан вон ты каков!
Молвивши это, щука так выразительно щелкнула по воде
хвостом, что, как ни прост был карась, но и он догадался.
— Я, ваше высокостепенство, ничего, — пробормотал он в
смущении:— это я по простоте...
— Ладно. Простота хуже воровства, говорят. Ежели дуракам
волю дать, так они умных со свету сживут. Наговорили мне о тебе
с три короба, а ты карась как карась — только и всего. И пяти
минут я с тобой не разговариваю, а уж до смерти ты мне надоел.
Щука задумалась и как-то так загадочно на карася
посмотрела, что он уж и совсем понял. Но, должно быть, она еще после
вчерашнего обжорства сыта была, и потому зевнула и сейчас же
захрапела.
Но на этот раз карасю уж не так благополучно обошлось. Как
только щука умолкла, его со всех сторон обступили головли и
взяли под караул.
Вечером, еще не успело солнышко сесть, как карась в третий
раз явился к щуке на диспут. Но явился уж под стражей и
притом с некоторыми повреждениями. А именно: окунь, допрашивая»
покусал ему спину и часть хвоста.
Но он все еще бодрился, потому что в запасе у него было
магическое слово.
— Хоть ты мне и супротивник, — начала опять первая щука: —
да видно, горе мое такое: смерть диспуты люблю! Будь здоров,
начинай!
При этих словах карась вдруг почувствовал, что сердце в нем
загорелось. В одно мгновение он подобрал живот, затрепыхался,
защелкал по воде остатками хвоста и, глядя щуке прямо в глаза,
во всю мочь гаркнул:
— Знаешь ли ты, что такое добродетель?
Щука разинула рот от удивления. Машинально потянула она
воду и, вовсе не желая проглотить карася, проглотила его.
Рыбы, бывшие свидетельницами этого происшествия, на мгно-
324
вение остолбенели, но сейчас же опомнились и поспешили к щуке
узнать, благополучно ли она поужинать изволила, не подавилась
ли. А ерш, который уже заранее все предвидел и предсказал,
выплыл вперед и торжественно провозгласил:
— Вот они, диспуты-то наши, каковы!
Деревенский пожар *
Hu-το сказка, ни-то быль
В деревне Софонихе, около полден, вспыхнул пожар. Это
случилось в самый развал июньской пахоты. И мужики, и бабы были
в поле. Сказывали: шел мимо деревни солдатик, присел на зава-
ленку, покурил трубочки и ушел. А вслед за ним загорелось.
Деревня сгорела до-тла. Только тот порядок, где были
житницы, уцелел наполовину. Мужики в одночасье потеряли все и
сделались нищими. Сгорела бабушка Прасковья, да еще Татьянин
мальчик Петька. Мужики и бабы, завидев густой дым, бежали с
поля, как угорелые, оставив сохи и лошадей. Но спасать было уже
нечего. Хорошо, что скота не было дома, да навоз был только-что
вывезен, а то пришлось бы совсем хоть помирай. Малолетки,
которые в минуту пожара играли на улице, спаслись в речку и
отчаянно ревели. Девочки-подростки, с младенцами на руках, испуганно
выглядывали на обуглившиеся избы и обнаженные остовы печей.
Тетка Татьяна была бодрая и еще молодая бобылка. Лет шесть
тому назад у нее умер муж, но она продолжала держать хозяйство.
Платила миру за половину надела, сама пахала, косила и жала.
У нее был единственный сын, Петька, лет восьми, в котором она
души не чаяла и в котором уже видела будущего мужика. Он и
сам видел в себе мужика и говорил:
— Я, мама, буду мужик... хрестьянин.
Вся деревня его любила. Мальчик был вострый и ласковый, и
уже ходил в школу. Бывало, идет по деревне мимо стариков:
— Ну, что, мужичок, помогаешь мамке?—спрашивают старики.
— Помогаю.
Между тем улица запружалась всяким мужицким хламом;
мужику все дорого, все надобно. Домохозяева, окруженные
домочадцами, бродили каждый по своему пепелищу и тащили все, что
попадалось на глаза: старую подошву, заржавленный гвоздь,
обрывок шлеи, обломок сошника и проч. У некоторых уцелели подполи-
цы; но так как время было голодное (Петров пост), то подполицы
были пусты. Один заведомо нищий, лет десять ходивший «в
кусочки», метался и кричал:
— Где* моя кубышка? Где? кто унес? сказывайте: кто?
Бабушка Авдотья ходила взад и вперед по улице и всем покаг
* Печатается с небольшими пропусками.
325
зывала два обгоревших выигрышных билета внутреннего займа.
Обгорели края; середка с несколькими купонами осталась цела.
— Чай, выдадут, — утешал ее староста Михей: — ишь, и
нумера видны (на уцелевших купонах); ужо барыня в Питере
похлопочет.
Старики собрались в кучу и обсуждали мирскую нужу. На всех
лицах была написана душевная мука; у некоторых глаза сочились
слезами. Решили идти всем миром, поклониться соседней одновот-
чинной деревне, чтобы дала приют погорельцам, покуда не будут
устроены хотя какие-нибудь (временные помещения. Затем
снарядили старосту и послали верхом в город, в управу, за пособием и
страховыми.
Пришел сельский батюшка и, похаживая между мужиками,
утешал их.
— Кто дал? —бог! — говорил он: — кто взял? — бог! Неуж-
то-ж он не знает?
Мужики молча ему поклонились.
— А вы не унывайте, — продолжал батюшка:—с какого
права? почему? как — кто дозволил? Скот — при вас,
земледельческие орудия целехоньки, навоз вывезен — чего еще земледельцу
нужно? А вы ропщете! Вот ужо уорава на постройку денег
отпустит; помещица нуждающимся хлебца пришлет; и я тоже... разве
я не молюсь за вас? Я не только за вас, но и за всех молюсь.
«И всех православных христиан» — вот как.
Опять поклонились мужики, а словоохотливый батюшка
продолжал:
— Коли страх божий будете в сердцах сохранять да храм
божий усердно посещать, так и не увидите, как бог сторицей
вознаградит. Хлеб нынче обещает жатву изрядную. Озимые отменные;
яровые, бог даст, поправятся. Ужо снимете у барыни половину —
вот вы и с сеном. Свезете по возку, по другому — ан и денежки в
кошеле завелись; а там озимое, ржицы на базар свезете — опять
деньги, а наконец и овсецо — тоже деньги. В будущем же году не
увидите, как на месте истребленных неумелым пламенем хижин
будут красоваться новые дома, удобные и просторные, и все вы
поживете в них кииждо под смоковницею своей, и все радостно и
всецело возблагодарите господа вашего за ниспосланное вам
благодеяние. Вот увидите.
И тетка Татьяна беспомощно ходила по своему пепелищу,
сгребала тлеющие бревна и выкликала:
— Петька, а Петь, где ты, милый? Откликнись!
И не слыхала, как ветхий старик Калистратыч говорил ей:
— Смотри, не в лес ли он убег? Давеча видел я его. Сидел у
житницы на приступке, как ваша-то изба занялась. Смотрю:
кружится Петька по горнице, рубашкой раздувает. Я ему кричу:
толкни, милый, дверь, толкни! Только кружился он, кружился, а
потом и ничего не стало видно. Наверное убег в лес с испугу.
Но Татьяна ничего не чувствовала кроме того, что сердце ее
рвется на части.
326
— Петь, а, Петь! где ты, милый? Откликнись!—раздавался ее
вопль среди общего «говора деревенского.
Наконец человека два сжалились над нею и пришли на помощь.
Разворочали обрушившийся потолок и под дымящимися
обломками его нашли труп мальчика. Вся сторона тела и лица, обращенная
кверху, представляла безобразную черную массу; но та, которая
прилетала к полу, осталась нетронутою.
Татьяна пошатнулась, в глазах потемнело, и из груди на всю
деревню вырвался потрясающий ее вопль:
— Господи! видишь ли?
Этот вопль услыхал и батюшка и, разумеется, поспешил с
утешением:
— Ропщешь?—товорил он с ласковой укоризной:—а Иова
помнишь? Нет? Так я тебе напомню! Он был богат и славен,
имел детей, стада и сокровища — и вдруг, с дозволения божия, все
было у него отнято: и дети, и скот, и друзья, а сам он был
поражен проказою, выгнан из города и лежал у городских ворот на
гноище. Псы лизали его раны... псы! Но и за всем тем он не токмо
не возроптал, но наипаче возлюбил господа, создавшего его. И бог,
видя такую его преданность, воззрел на него. Через короткое
время Иов был и здоров, и богат, и славен более прежнего.
Стада умножились, детей народилось достаточно, словом сказать,
Однако и батюшкины увещания доходили до Татьяны в форме
смутного и назойливого шума. Она устремила глаза на ту линию,
которая разделяла уцелевшую часть Петькина лица от
обуглившейся, и тихо шептала:
— Господи! видишь ли?
В усадьбе, в это время, добрая барыня, Анна Андреевна Ко-
пейщикова, праздновала день своего рожденья. Собрались
немногие, но искренние друзья: предводитель Кипящев с женою,
исправник Шипящев с племянницею, да еще Иван Иваныч Глаз,
партикулярный человек, про которого говорили, что при нем язык за
зубами держать надо... Присутствовал тут и батюшка с попадьей...
Анна Андреевна была генеральская вдова, лет сорока с
небольшим... Как и все русские дамы, она говорила по-французски...
долго жила за границей, а в последнее время сделалась патриоткой и
полюбила «добрый русский народ». Три года тому назад она
посетила родное Горбилево и с тех пор ездила туда каждое лето.
Поставила в саду мавзолей покойному мужу и каждый день молилась.
Ни с кем не знакомилась, кроме испытанных «друзей порядка»,
хозяйства не вела, а отдавала землю мужикам исполу и видимо
экономничала. У нее был сын Сережа, правовед, лет шестнадцати,
и восемнадцатилетняя дочь Верочка...
...Господа уже возвратились из церкви и сидели за завтраком,
когда прибежали сказать, что Софониха горит. Батюшка
мгновенно скрылся увещевать: прочие побежали к окнам и смотрели*
За громадной тучей дыма не было видно пламени, hq дым прямо
летел по ветру на усадьбу, и чувствовался в комната* горький
327
запах его. Людей тоже не было видно, но по дороге бежали к
пожарищу толпы соседних крестьян и дворовых.
— Как вы хотите, господа, — сказала, наконец, Анна
Андреевна: — а я не могу оставаться равнодушной зрительницей. Ведь
они—мои. Злые люди разлучили нас, — надеюсь, временно,—но
я все-таки помню, что они — мои.
Но ей не дали одной совершить подвиг самоотвержения и всей
компанией вызвались сопутствовать ей.
— Да и вообще это наш долг, — продолжала Анна
Андреевна: — если б даже это были и не мои крестьяне, все-таки наша
священная обязанность — быть там, где страдают. Мы обеднели,
мы обижены... но мы все забыли. Мы помним только, что к нам
обращает взоры страждущий меньший брат!
Узнавши, что в этот день пекли хлебы для рабочих и
дворовых, она велела разрезать несколько на ломти и снести
погорельцам.
— А завтра опять испечете хлеба для своих... надо же! Да не
забудьте солью посыпать!
Словом оказать, сделала все, что было в ее власти, и, наконец,
захватила портмонэ, сказав: «это на всякий случай!» И Верочка,
по примеру матери, взяла кошелек с заветными светленькими
монетами.
Компания остановилась у входа в деревню, но Верочка и
мамзель Шипящева не утерпели и пошли вглубь по улице.
— Скажите мужичкам, что я им две четверти ржи жертвую!—■
крикнула им вслед Анна Андреевна.
Минут через пять Верочка прибежала назад, вся в слезах.
— Ах, мамочка!—объявила она: — там есть бедная женщина,
у которой сгорел мальчик-сын! Ах, как страшно... Что с ней
делается! Батюшка увещевает ее, а она не слушается, только
повторяет: «Господи! видишь ли?» Мамочка! Это ужасно, ужасно,
ужасно!
— Жаль бедную; но какая ты, однако ж, нервная, Вера! —
упрекнула ее Анна Андреевна. — Это не годится, мой друг! Везде
промысел — это прежде всего нужно помнить! Конечно... это
большая утрата; но бывают и не такие, а мы покоряемся и терпим!
Помнишь: горах Баймакова и наш текущий счет... Давал Ö%...
и что ж! Впрочем, соловья баснями не кормят.
Господа!—обратилась она к окружающим:—сделаемте маленькую коллекту в
пользу бедной страдалицы-матери! Кто сколько может!
Она трепетною рукою вынула из портмонэ десятирублевую
бумажку, положила ее на ладонь и протянула руку. Верочка тотчас
же положила туда весь свой кошелек; гости тоже вынули
несколько мелких ассигнаций. Только Иван Иваныч Глаз отвернулся в
сторону и посвистывал. Собралось около тридцати рублей.
— Ну, вот, снеси ей! — сказала Анна Андреевна дочери.—
Скажи, что свет не без добрых людей. Да подтверди мужичкам
насчет ржи... две четверти! Да хлеба принесли ли? Скажи, чтоб
роздали! Это для утоления первого голода!
328
Верочка быстро побежала. Ей представлялось в эту минуту,
что она — ангел-хранитель и помахивает серебряными крылами в
небесной лазури, с тридцатью рублями в руках. Она застала
Татьяну все в том же положении. Последняя стояла с широко
открытыми глазами и машинально шевелила губами, без всякого
признака самочувствия. Батюшка попрежнему стоял подле нее и
рассказывал пример из истории первых мучеников времен
жестокого царя Нерона. Татьяне еще не представлялся вопрос: что с
ней будет? Нужна ли ей изба, поле и вообще все, что до сих пор
наполняло ее жизнь? или она должна будет скитаться по
белу-свету в батрачках?
И вдруг — ангел-хранитель.
— На, тебе, милая, мамочка прислала! — говорила Верочка,
протягивая деньги.
Татьяна ничего не поняла, даже не взглянула на милостыню.
— Бери, строптивая, — увещевал ее батюшка: — добрые
господа жалуют, а ты небрежешь!
Даже мужички заинтересовались и принялись уговаривать:
— Бери, тетка Татьяна, бери, коли дают! На избу
пригодится... бери!
Татьяна не шелохнулась.
Верочка постояла, положила деньги на землю и удалилась
огорченная. Батюшка поднял их.
— Ну, ежели ты не хочешь брать, — сказал он: — так я ими на
церковное украшение воспользуюсь. Вот у нас паникадило
плоховато, так мы старенькое-то в лом отдадим, да вместе с этими
деньгами и взбодрим новое! Засвидетельствуйте, православные!..
Городничие-бессребренники
Был один городничий, который совсем взяток не брал, так что
долгое время все обыватели в недоумении были. Думали, что он
нарочно сдерживается, чтобы впоследствии учинить генеральный
поход. Но когда прошло довольно времени, и похода не было, то
дивились. «Как это — думалось всем — он нас не грабит? и как он
на свое жалованьишко с семьей живет?» Жалованье же в то время
городничему полагалось чуть не семьсот на ассигнации, да и
семейство при этом не возбранялось иметь. А у этого самого
городничего, кроме жены и охапки детей, еще две свояченицы жили, да
теща, да племянник-дурачок. Всех надо было накормить, напоить,
обуть и одеть. И он все это исполнял аккуратно, и даже
приятелей от времени до времени хлебом-солью угощал.
— Кузьма Петрович! да как же ты изворачиваешься? взяток
ты не берешь, а между тем всего у тебя в изобилии?
—спрашивали его прочие чины, которые хотя тоже взяток не брали, однако и
не отказывались.
329
Но он долгое время уклонялся от объяснений и только
^загадочно отвечал:
— Слово у меня такое есть!
Наконец однако ж пристали к нему так, что он решился
открыть свой секрет.
— Когда меня на должность определили, — сказал он:—я на
первых порах чуть рук на себя не наложил. Жалованыишко малое,
семья большая — как тут жить? Теща говорит: «надобно, Кузьма
Петрович, взятки брать!», а я в ответ: «неблагородно!». Жена
плачет: «сам ты посуди, как без взяток семью прокормить!», —
а я в ответ: «покажи закон, коим дозволяется взятки брать!»
Словом сказать, уперся на своем, слышать ничего не хочу... Однако
взятки не взятки, а пить-есть надобно. Вот -взмолился я ангелу
своему: Кузьма бессребренник, угодник божий! научи, как мне
быть! Молюсь день, молюсь ночь — нет ничего. Молюсь еще день,
еще ночь — опять нет ничего. На третью ночь чувствую, словно
бы ветром на меня пахнуло — и вдруг кто-то мне в ухо «слово»
шепнул... С тех пор я и поправился. Балыка на закуску захочу —
сейчас: встань передо мной, как лист перед травой! бакалейщик
Бородавкин! чтоб был балык! — смотришь, а он уж и на столе.
Выйдет запас чаю, сахару — кликну: встань передо мной, как лист
перед травой! бакалейщик Зензивеев! чтоб был чай-сахар! — а он
уж и тут как тут! Выйдут деньги — закричу: встань передо мной,
как лист перед травой! господин откупщик! или вы своих
обязанностей не знаете! — и деньги в кармане! Так и живу! Взяток не
беру, а «всего у меня изобильно!
Открытие это всем показалось настолько занимательным, что и
прочие чины захотели воспользоваться им. И с тех пор ни в
городе, ни в уезде у нас никто взяток не брал, а все были сыты,
обуты, одеты, а иногда и пьяны. Обыватели же гордились своими
начальниками и говорили: у нас взяток не берут! наши начальники
«слово» знают!
*
Городничий Ухватов во всей губернии славился своим
бескорыстием.
Однажды вечерам пришли к нему два мещанина с взаимной
претензией.
Нашли они оба разом червонец. Один говорит: «я первый
поднял!» И оба требовали, чтобы Ухватов их рассудил.
•Тогда Ухватов сказал:
— Вот что, ребята. Положите вы этот червонец, ко мне на
божницу. Ежели он ночь пролежит и цел останется — значит, вы
оба правы и должны разделить червонец пополам; ежели же он
исчезнет, то, значит, вы оба неправы, и сама судьба не хочет,
чтобы кто-нибудь из вас воспользовался находкой.
Так и сделали.
i Прошла ночь, наступило утро: хват-похват — нет червонца!
Решили: так как червоне^ исчез — стало-быть, оба мещанина не-
щравы.
330
С тех пор и мещане и купцы валом повалили на суд к Ухва-
тову. И он все дела решал по одному образцу. Но этого мало!
даже те чины, которые прежде дела решали за взятки, и те
перестали мздоимствовать и начали поступать по примеру Ухватова.
А губернатор, узнавши о сем, говорил: — Молодец Ухватов!
*
Один городничий тоже славился бескорыстием, а сверх того
любил богу молиться и ни одной церковной службы не пропускал.
И бог ему за это посылал.
Увидевши, что городничий взяток не берет, а между тем пить-
есть ему надобно, обыватели скоро нашли средство, как этому делу
помочь. Кому до городничего дело есть, тот купит просвирку,
вырежет на донышке мякиш да и сунет туда по силе-возможности:
кто золотой, кто ассигнацию. А городничий просвире всегда очень
рад. Начнет кушать и вдруг — ассигнация!
— Домнушка! дети! — кликнет он домочадцев: посмотрите-ка,
что нам бог послал.
И все радуются.
А однажды так в рыбе четыре золотых нашел — то-то было
радости!
И что ж! даже тут нашлись завистники. Узнал стряпчий, что
городничий просвиры с ассигнациями ест, — стал доносом грозить.
Но тут уж обыватели городничего выручили: начали по две
просвирки носить. Одну для городничего, другую — для стряпчего.
И по две рыбы.
И опять настала в городе тишь да гладь, да божья благодать.
Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
(1828—1889)
Духовная сила *
Из рассказов доктора Беневоленского
— Приехал, видите, в Рязань новый архиерей, ученый. Тотчас
же сделал распоряжение: вызвать учиться всех, которые не были
отданы отцами в ученье, а оставлены при себе. Вот и свезли в
Рязань этот народец из деревень: парни лет по 18, по 20, и
больше. Жили при отцах, пахали землю, грамоте не учились. А все-
таки и дьячки жили несколько получше мужиков; по крайней мере,
• Печатается в сокращенном виде.
331
в хлебе-то уж не нуждались. Так можете представить, какие это
люди выросли на пашне-то, да на привольной пище: страшно
смотреть, стену плечом своротят. Составили из них особый класс, не с
мальчиками же их учить, хоть начинать надо тоже с азбуки.
И место нашли этому классу: сарай, огромнейший. Начали
учиться. Через месяц, учитель приходит к ректору, говорит:
— «Не могу, ваше высокопреподобие, силы мои слабы,
назначьте покрепче меня. Не пробью их, так, чтобы чувствовали». —
«Да ты что ж их рукою бьешь? Ты палкою». — «Я и то палкою,
ваше высокопреподобие: не чувствительно им». Ректор увидел,
точно: сеченье ведь не на всякую ж минуту, оно идет в
две, в три скамьи без перерыву; но одними розгами никак нельзя
обойтись, это длинная материя, а нужна учительская рука кроме
того. Назначил другого учителя, поздоровее. Через неделю и этот
пришел, тоже говорит: «и я не в силах приносить им должной
пользы, слаб». Ну, тут ректор, да и сам архиерей задумались, кого
выбрать: нет в виду более способного учителя: первые два были
люди здоровые, особенно второй-то. — «Да может быть, говорят
ему, — ты только предлог такой берешь, а отказываешься потому,
что не буйствуют ли они, так ты так и окажи». — «Нет, ваше
преосвященство, юноши благонравные и покорные, ослушания нет
с их стороны, а что действительно силы мои слабы по их
крепости». — «Так одно средство, — говорит архиерей: — назначу
учителем протодьякона». Ну, протодьякон мог отправлять учительскую
обязанность. Завел себе толстую дубину и, ничего, чувствуют.
Значит, ученье пошло своим порядком, так и отдается по всему
двору, как дубина стучит.
Это ничего, бока здоровые, да и порядок ученья требует; но
вот какое обстоятельство: ведь они числятся в первом классе,
стало быть и содержание отпускалось им по первому классу. А даже
и девятилетние мальчики выходили из-за обеда не сытые; какова-ж
была эта порция двадцатилетним парням, здоровенным мужикам,
которые у себя по деревням чуть не по полпуду в сутки
уписывали? Что им делать? Воровали съестное, из лавочек, с рынка; но
все по мелочи, только больше голодали, подзадоривши аппетит.
Смотрели, смотрели, и устроили дело так: отправляются в мясные
ряды на рынок партиями, человек по семи, по восьми; окружат
стол; один торгуется с мясником, покупает кусок фунта в три,
другие тут юлят, а тут один из-за них схватит кусок побольше, да и
уходит поскорее, пока товарищи развлекают мясника; если мясник
заметит, хочет погнаться, они задерживают его, уронят, или
побегут с ним вместе будто тоже ловить вора, а сами мешают другим
поймать его.
Это у них было заведено по очереди: ныне мне стащить,
завтра тебе, послезавтра ему. Вот дошла очередь до Кистровского.
Да, я еще и не говорил вам, кто был Кистровский? Вот он-то
самый и был тот, при котором ни дедушка, ни кто другой не мог
заслужить в семинарии славу богатырскую. Протодьякон говорил:
всех moi у учить, но для Кистровского где ж можно найти учителя?
332
Кроток и послушен и смирен духом, толыко потому и могу учить
его.
И точно, этот Кистровский делал подвиги, какими по преданию
должна быть доказана богатырская сила. Другие только подкову
ломали, а он сломанные половинки опять ломал пополам.
Запрягут в телегу пару лошадей, сядут двое, погоняют в два
кнута, — а Кистровский держит за заднее колесо — и не то что
только удерживает, даже оттягивает назад.
Впрочем, это обыкновенно рассказывается о всяком знаменитом
бойце, и почти о всех напрасно; может быть, и Кистровский вовсе
не был так здоров, чтобы пересилить пару лошадей. В сторону
эту присказку о нем, а вот что в самом деле было с ним.
Пришла ему очередь быть промыслителем. Товарищи
торгуются, а он идет мимо, высматривает, какой кусок поближе да
побольше, — прошел раз, щрошел два, — смотрит, глаза
разгораются, — и не утерпел, разгорелись глаза: подле прилавка стояли на
полу у столбов стяги, он схватил один да и бежать.
— С целым стягом?
— Я сказал. Мясник взвыл, все мясники ахнули, погнались
все; нагоняют Кистровского: с быком на плечах не очень шибко
побежишь, будь хоть Кистровский, — видит он, дело плохо; не
убежит. Он с горя остановился, да как поддерживал стяг на плече
руками за задние ноги, смахнул с плеча его да и начал им
помахивать; помахивает, а сам уходит. Так и отбился.
— Да этого быть не может! Как же махать целым стягом, в
котором пудов семь, восемь?
— По вашему «не может быть», — и по моему тоже. Но так
было.
Значит, поздно говорить, что не может быть.
Это приключение прославило Кистровского, потому он и не
перешел во второй класс из первого. Отец ректор велел отдать
стяг назад, а Кистровокого пороть. Поронье пороньем, а слава
славою, и месяца через два пришло к архиерею письмо от Алексея
Орлова. Архиерей призвал Кистровского сам лично объявить ему:
«Отправляться тебе, Кистровский, в Тулу: его сиятельство, граф
Алексей Федорович Орлов просит меня прислать тебя к нему по-
меряться с бойцом, которого он вывез из Москвы.
Мужайся, сыне, паче же укрепляйся надеждою на господа. Бог
тебя благословит. Будь кроток духом и пошлется тебе счастие от
всевышнего через его сиятельство, если будешь добрыми нравами
и преданностью к его графской светлости достоин того».
Благословил Кистровского и отпустил.
Приехал Кистровский в Тулу, представили его графу. Граф
назначил три дня на отдых ему,—то-есть, на питье с его
соперником и другими своими бойцами, которые не выдержали против
московского нового, а на четвертый день битва.
Вышли московский и Кистровский. По обряду, перед боем
надобно испробовать силу, дать по разу друг другу. Бросили
жребий. Выпало начинать московскому бойцу. Кистровский стал. Мос-
333
ковский боец развернулся, и дал Кистровскому в грудь, — Ки-
стровский упал; но через минуту поднялся на ноги. Подали штоф
вина, чтобы ему оправиться.
Он кряхтел сильно, — выпил, ничего—'боль отошла. Стал
московский боец. Кистровский говорит: «нагнись, в грудь не хочу
бить», — московский боец немного принагнулся, подставил опину,—
как хватит Кистровский, спина хрустнула. Перешиб пополам
спинной хребет.
Только.
— Ну?
— Тоже, как и дедушка, не рассчитал силу, не по умыслу.
— Ах, не то! Что ж?
— А! Что остался ли жив-то московский боец? Ну да как же
можно? Натурально, если удар перешиб спинной хребет, то и пяти
минут не продышал. Только успели поцеловаться с Кистровским:
«прости, брат».
— ну?
— Да чего ж вам еще? Остался «при графе Кистровский,
будто непонятно. Не люблю бестолковых.
«Святой»
Отрывок из пьесы «Другим нельзя»
Разговор с полоумным бродягой Горбылевым, которого монахи использовали
в качестве «святого»
«К о ρ ов а ев. Опять в трактир? Но зачем же вы там
нужны? Приохочивать других к еде, что ли?
Горбыле в. Нет-с; там еще нет этой догадки-с, в трактирах-
то; видно там народ-то глупый-с. Не в трактир переманили, а в
монастырь-с, в Богодуховский-с. Пырятина-то поезжай туда, да и
меня возьми-с. А там увидали, что у меня губа-то «е дура-с, и
говорят: мы станем тебя чем хочешь кормить-с, только оставайся у
нас, будто вроде святогоч:.
К о ρ о в а е в. Вот как. Так вы святым стали?
Горбылев. Как же-с. Прозорливцем-с. Я и сам не думал,
что можно-с. А как помазали меня маслом-с, так и вышло-с: стал
я будущее предвидеть и тайны всякие постигать — ей-богу-с. О чем
кто меня <шросит-с, все могу отвечать-с; и все точно так и
выходит, как есть верно-с. И кормили-с. Отлично-с. Даже лучше трак-
тирного-с.
Короваев. Как же это вы покинули такой рай?
Горбылев. Сам-то и не вышел бы-с, у меня губа-то не
дура-с. Да возьми поссорься с полицией-с; она приехала-с, да и
334
взяла меня, будто беспашпортного-с, да и говорят: бродяга-с.
Отправить по этапу-с! И отправили-с! Вот потерпел-то-с!
Короваев. Я думаю. Но вы предвидели будущее; вы бы и
предсказали игумену, что приедет полиция, он бы вас и спрятал.
Вот и выходите вы сами виноват, Максим Кириллыч. Следовало
предсказать.
Г о ρ б ы л е в (поражен недоумением. Потом видит, что правда).
Точно-с. Следовало предсказать.
Короваев. Впрочем, особенно жалеть не о чем. Когда вы
предвидите будущее и можете постигать всякие тайны, то и здесь
многие будут кормить вас не хуже монастырского, — не знаю
только, вот Леночка позволит ли вам.
Горбыле в. Нет-с, если и Елена Михайловна позволит, я
теперь этого не могу-с.
Короваев. Помилуйте, отчего же не мочь?
Горбылев. Не могу-с.
Короваев. Полноте, не верю.
Горбылев. Ей-богу, не могуч:.
Короваев. Отчего же?
Горбылев. Оттого-с, что этого дара лишился-с.
Короваев. Что вы говорите? Потеряли святость?
Горбылев. Потерял-с.
Короваев. Да как же это? Грех, что ли, какой большой
сделали?
Горбылев. Нет-с. А потому, что это было от масла-с, а
теперь оно с меня смыто-с.
Короваев. Ну, это так. А жаль.
Горбылев. Жаль-с.
Короваев. Но как же вы допустили это, чтобы святость
смылась?
Горбылев. Я и не допускал-с. Они насильно-с, арестанты-
то-с. Они насмешиики-с. Взяли, на одном этапе, насильно повели
в баню, да и смыли-с.
Короваев. Это они дурно сделали. Но только не напрасно
ли мы с вами виним их? Может быть, они повели вас в баню и не
для одной насмешки, Максим Кириллыч. Когда вы столько
времени не мылись, то, вероятно, вы были такой, что страшно было
смотреть на вас».
ЛЕВ ТОЛСТОЙ
(1828—1910)
Обедня
«Воскресение». Ч. 1-я, гл. XXXIX
Началось богослужение.
Богослужение состояло в том, что священник, одевшись в
особенную странную и очень неудобную парчевую одежду,
вырезывал и раскладывал кусочки хлеба на блюдце и потом клал их в
чашу с вином, произнося при этом различные имена и молитвы.
Дьячок же между тем не переставая сначала читал, а потом пел
попеременкам с хором из арестантов разные славянские, сами по
себе мало понятные, а еще менее от быстрого чтения и пения
понятные молитвы. Содержание молитв заключалось
преимущественно в желании благоденствия государя императора и его
семейства. Об этом произносились молитвы много раз, вместе с
другими молитвами и отдельно, на коленях. Кроме того, было
прочтено дьячком несколько стихов из Деяний Апостолов таким
странным, напряженным голосом, что ничего нельзя было понять,
и священником очень внятно было прочтено место из Евангелия
Марка, в котором сказано было, как Христос, воскресши, прежде
чем улететь на небо и сесть по лравую руку своего отца, явился
сначала Марии Магдалине, из которой он изгнал семь бесов, и
потом одиннадцати ученикам, и как велел им проповедывать
Евангелие всей твари, причем объявил, что тот, кто не поверит,
погибнет, кто же поверит и будет креститься, будет спасен и кроме
того будет изгонять бесов, будет излечивать людей от болезни
наложением на них рук, будет говорить новыми языками, будет
брать змей и, если выпьет яд, то не умрет, а останется
здоровым.
Сущность богослужения состояла в том, что предполагалось,
что вырезанные священником кусочки и положенные в вино, при
известных манипуляциях и молитвах, превращаются в тело и
кровь бога. Манипуляции эти состояли в том, что священник
равномерно, несмотря на то, что этому мешал надетый на него
парчевый мешок, поднимал обе руки кверху и держал их так,
потом опускался на колени и целовал стол и то, что было на
нем. Самое же главное действие было то, когда священник, взяв
обеими руками салфетку, равномерно и плавно махал ею над
блюдцем и золотой чашей. Предполагалось, что в это самое время
из хлеба и вина делается тело и кровь, и потому это место
богослужения было обставлено особенной торжественностью.
«Изрядно о пресвятей, пречистой и преблагословенней
богородице», громко закричал после этого священник из-за перегородки,
336
и хор торжественно запел, что очень хорошо прославлять
родившую Христа без нарушения девства девицу Марию, которая
удостоена за это большей чести, чем какие-то херувимы, и большей
славы, чем какие-то серафимы. После этого считалось, что
превращение совершилось, и священник, сняв салфетку с блюдца,
разрезал серединный кусочек начетверо и положил его сначала в
вино, а потом в рот. Предполагалось, что он съел кусочек тела бога
и выпил глоток его крови. После этого священник отдернул
занавеску, отворил середние двери и, взяв в руки золоченую чашку,
вышел с нею в середние двери и пригласил желающих тоже
поесть тела и крови бога, находившихся в чашке.
Желающих оказалось несколько детей.
Предварительно опросив детей об их именах, священник,
осторожно зачерпывая ложечкой из чашки, совал глубоко в рот*
каждому из детей поочередно по кусочку хлеба в вине, а дьячок тут
же, отирая рты детям, веселым голосом пел песню о том, что дети
едят тело бога и пьют его кровь. После этого священник унес
чашку за перегородку и, допив там всю находившуюся в чашке
кровь и съев все кусочки тела бога, старательно обсосав усы и
вытерев рот и чашку, в самом веселом расположении духа,
поскрипывая тонкими подошвами опойковых сапог, бодрыми шагами
вышел из-за перегородки.
Этим закончилось главное христианское богослужение. Но
священник, желая утешить несчастных арестантов, прибавил к
обычной службе еще особенную. Особенная эта служба состояла в том,
что священник, став перед предполагаемым выкованным золоченым
изображением (с черным лицом и черными руками) того самого
бога, которого он ел, освещенным десятком восковых свечей, начал
странным и фальшивым голосом не то петь, не то говорить
следующие слова: «Иисусе сладчайший, апостолов славо, Иисусе мой,
похвала мучеников, владыко всесильне. Иисусе,. спаси мя, Иисусе
мой краснейший, к тебе притекающего, спасе Иисусе, помилуй мя,
молитвами рождшия тя, всех, Иисусе, святых твоих, пророк же
всех, спасе мой Иисусе, и сладости райския сподоби, Иисусе чело-
веколюбче!»
На этом он приостановился, перевел дух, перекрестился,
поклонился в землю, и все сделали то же. Кланялся смотритель,
надзиратели, арестанты и наверху особенно часто забренчали кандалы.—
«Ангелов творче и господи сил, — продолжал он, — Иисусе пре-
чудный, ангелов удивление, Иисусе пресильный, прародителей
избавление, Иисусе пресладкий, патриархов величание, Иисусе пре-
славный, царей укрепление, Иисусе преблагий, пророков
исполнение. Иисусе предивный, мучеников крепость, Иисусе претихий,
монахов радосте, Иисусе премилостивый, пресвитеров сладость,
Иисусе лремилосердный, постников воздержание, Иисусе пресла-
достный, преподобных радование, Иисусе пречистый, девственных
целомудрие, Иисусе предвечный, грешников спасение, Иисусе, сыне
божий, помилуй мя», добрался он наконец до остановки, все с
большим и большим свистом повторяя слово Иисусе, придержал
22—22 337
рукою рясу на шелковой подкладке и, опустившись на одно
колено, поклонился в землю, а хор запел последние слова: «Иисусе,
сыне божий, помилуй мя», а арестанты падали и подымались,
встряхивая волосами, остававшимися на половине головы, и гремя
кандалами, натиравшими им худые ноги.
Так продолжалось очень долго. Сначала шли похвалы, которые
кончались словами: «помилуй мя», а потом шли новые похвалы,
кончавшиеся словами «аллилуйя». И арестанты крестились,
кланялись, падали на землю. Сначала арестанты кланялись на каждом
перерыве, но потом они стали уже кланяться через раз, а то и
через два, и все были очень рады, когда все похвалы окончились,
и священник, облегченно вздохнув, закрыл книжечку и ушел за
перегородку. Оставалось одно последнее действие, состоявшее в
том, что священник взял с большого стола лежавший на нем
золоченый крест с эмалевыми медальончиками на концах и вышел
с ним на середину церкви. Сначала подошел к священнику и
приложился к кресту смотритель, потом помощник, потом надзиратели,
потом, напирая друг на друга и шопотом ругаясь, стали подходить
арестанты. Священник, разговаривая с смотрителем, совал крест
и свою руку в рот, а иногда в нос подходившим к нему
арестантам, арестанты же старались поцеловать и крест и руку
священника. Так кончилось христианское богослужение, совершаемое для
утешения и назидания заблудших братьев.
О религии
Мальчик и мать
Мальчик. Отчего это няня нынче нарядилась и на меня надела
вот новую рубашечку?
Мать. А оттого, что нынче праздник, и мы пойдем в церковь.
Мальчик. Какой праздник?
Мать. Вознесенье.
Мальчик. Что значит вознесенье?
Мать. Значит то, что господь Иисус Христос вознесся на небо.
Мальчик. Что значит вознесся?
Мать. Значит полетел.
Мальчик. Как же он полетел: на крыльях?
Мать. Не на крыльях, а просто полетел, потому что он бог,
и бог все может.
Мальчик. Ну, а куда же он полетел? Мне папа говорил, что
небо только кажется, а что там нет ничего, что там звезды,
и за звездами еще звезды и небу нет конца. Куда же он
полетел?
Мать (улыбается). Всего нельзя понять, надо верить.
Мальчик. Чему?
Мать. Тому, что говорят старшие.
338
Мальчик. А ты сама мне говорила, что когда я сказал, что
кто-нибудь помрет от того, что просыпали соль, ты мне
сказала, что не надо верить глупостям.
Мать. Глупостям не надо верить.
Мальчик. А почем же я узнаю, что глупости, а что не
глупости?
Мать. Потому что надо верить настоящей вере, а не глупостям.
Мальчик. А какая же настоящая вера?
Мать. Наша вера. (Про себя.) Кажется, я говорю глупости. Так
поди скажи папе, что мы идем, и надень шарф.
Мальчик. А после обедни будет шоколад?
Н. С. ЛЕСКОВ
(1831—1895)
Маленькая ошибка
Секрет одной московской фамилии
Глава первая
Вечерком, на святках, сидя в одной благоразумной компании,
было говорено о вере и о неверии. Речь шла, впрочем, не в смысле
высших вопросов деизма или материализма, а в смысле веры в
людей, одаренных особыми силами предведения и прорицания, а,
пожалуй, даже и своего рода чудотворства. И случился тут же
некто, степенный московский человек, который сказал следующее:
— Не легко это, господа, судить о том: кто живет с верою,
а который не верует, ибо разные тому в жизни бывают прилоги;
случается, что разум-то наш в таковых случаях впадает в ошибки.
И после такого вступления он рассказал нам любопытную
повесть, которую я постараюсь передать его же словами:
«Дядюшка и тетушка мои одинаково прилежали покойному
чудотворцу Ивану Яковлевичу. Особенно тетушка, — никакого дела
не начинала, у него не спросившись. Сначала бывало сходит к
нему в сумасшедший дом и посоветуется, а потом попросит его,
чтобы за ее дело молился. Дядюшка был себе на уме и на Ивана
Яковлевича меньше полагался, однако тоже доверял иногда и
носить ему дары и жертвы не препятствовал. Люди они были не
богатые, но очень достаточные, — торговали чаем и сахаром из
магазина в своем доме. Сыновей у них не было, а были три
дочери: Капитолина Никитишна, Катерина Никитишна и Ольга Ни-
китишна. Все они были собой недурны и хорошо знали разные
22* 339
работы и хозяйство. Капитолина Никитишна была замужем,
только не за купцом, а за живописцем, — однако очень хороший был
человек и довольно зарабатывал — все брал подряды выгодно
церкви расписывать. Одно в нем всему родству неприятно было,
что работал божественное, а знал какие-то вольнодумства из
Курганова «Письмовника». Любил говорить про Хаос, про
Овидия, про Промифея и охотник был сравнивать баснословия с
бытописанием. Если бы не это, все было бы прекрасно. А второе —
то, что у них детей не было, и дядюшку с теткой это очень
огорчало. Они еще только первую дочь выдали замуж, и вдруг она
три года была бездетна. За это других сестер женихи обегать
стали.
Тетушка спрашивала Ивана Яковлевича, через что ее дочь не
родит: — оба, — говорит, — молоды и красивы, а детей нет?
Иван Яковлевич забормотал:
— Есть убо небо небесе; есть небо небесе.
Его подсказчицы перевели тетке, что батюшка велит, —
говорят, — вашему зятю, чтобы он богу молился, а он, должно быть,
у вас маловерующий.
Тетушка так и ахнула: все, — говорит,—ему явлено! И стала
она приставать к живописцу, чтобы он поисповедался; а тому все
трынь-трава! Ко всему легко относился... даже по постам
скоромное ел... и притом, слышат они стороною, будто оя и червей, и
устриц вкушает. А жили они все в одном доме, и часто
сокрушались, что есть в ихнем купеческом родстве такой человек без веры.
Глава вторая
Вот и пошла тетка к Ивану Яковлевичу, чтобы попросить его
разом помолиться о еже рабе Капитолине отверста ложесна, а раба
Лария (так звали живописца) просветити верою.
Просят об этом вместе и дядя, и тетка.
Иван Яковлевич залепетал что-то такое, чего и понять нельзя»
а его послушные женки, которые возле него присидели,
разъясняют:
— Он, — говорят, — ныне невнятен, а вы скажите, о чем
просите, мы ему завтра на записочке подадим.
Тетушка стала сказывать, а те записывают: «Рабе Капитолине
отверсть ложесна, а рабу Ларию усугубити веру».
Оставили старики эту просительную записочку и пошли домой
веселыми ногами.
Дома они никому ничего не сказали, кроме одной Капочки, и
то с тем, чтобы она мужу своему, неверному живописцу, этого не
передавала, а только жила бы с ним как можно ласковее и
согласнее, и смотрела за ним: не будет ли он приближаться к вере
в Ивана Яковлевича. А он был ужасный чертыханщик, и вое с
присловьями, точно скоморох с Пресни. Все ему шутки да забавки.
Придет в сумерки к тестю — «пойдем, — говорит, — часослов в
пятьдесят два листа читать», то есть, значит, в карты играть...
340
Или садится, — говорит: «С уговором, чтобы играть до первого
обморока».
Тетушка, бывало, этих слов слышать не может. Дядя ему и
сказал: «Не огорчай так ее: она тебя любит и за тебя обещание
сделала». А он рассмеялся и говорит теще:
— Зачем вы неведомые обещания даете? Или вы не знаете,
что через такое обещание глава Ивана Предтечи была отрублена.
Смотрите, может у нас в доме какое-нибудь неожиданное несчастье
быть.
Тещу это еще больше испугало, и она всякий день, в тревоге,
в сумасшедший дом бегала. Там ее успокоят, — говорят, что дело
идет хорошо: батюшка всякий день записку читает, и что теперь
о чем писано, то скоро сбудется.
Вдруг и сбылось, да такое, что и сказать неохотно.
Глава третья
Приходит к тетушке средняя ее дочь девица Катечка и прямо
ей в ноги, и рыдает, и горько плачет.
Тетушка говорит:
— Что тебе — кто обидел?
А та сквозь рыдания отвечает:
— Милая маменька, и сама я не знаю, что это такое и отче
го... в первый и в последний раз сделалось... Только вы от
тятеньки мой грех скройте.
Тетушка на нее посмотрела да прямо пальцем в живот ткнула
и говорит:
— Это место?
Катечка отвечает:
— Да, маменька... как вы угадали... сама не знаю отчего...
Тетушка только ахнула да руками всплеснула.
— Дитя мое, — говорит, — и не дознавайся: это, может быть,
я виновата в ощибке, я сейчас узнать съезжу, — и сейчас на
извозчике полетела к Ивану Яковлевичу.
— Покажите, — говорит, — мне записку нашей просьбы, о чем
батюшка для нас просит рабе божьей плод чрева: как она
писана?
Приседящие поискали на окне и подали.
Тетушка взглянула и мало ума не решилась. Что вы думаете?
Действительно ведь все вышло по ошибочному молению, потому,
что на место рабы божией Капитолины, которая замужем, там
писана раба Катерина, которая еще незамужняя девица.
Женки говорят: — Поди же, какой грех! Имена очень
сходственны... но ничего, это можно поправить,
А тетушка подумала:—нет, врете, теперь вам уже не
поправить: Кате уже вымолено, — и разорвала бумажку на мелкие
частички.
34!
Глава четвертая
Главное дело боялись: как дядюшке сказать? Он был такой
человек, что если расходится, то его мудрено унять. К тому же,
он Катю меньше всех любил, а любимая дочь у него была самая
младшая, Оленька, — ей он всех больше и обещал.
Думала, думала тетушка и видит, что одним умом ей этой беды
не обдумать, — зовет зятя-живописца на совет и все ему во всех
подробностях открыла, а потом просит:
— Ты, — говорит, — хотя неверующий, однако могут и в тебе
быть какие-нибудь чувства: — пожалуйста, пожалей ты Катю,
пособи мне скрыть ее девичий грех.
А живописец вдруг лоб нахмурил и строго говорит:
— Извините, пожалуйста, — вы хотя моей жене мать, однако,
во-первых, я этого терпеть не люблю, чтобы меня безверным
считали, а во-вторых, я не понимаю — какой же тут причитаете
Кате грех, если об ней так Иван Яковлевич столько времени
просил? Я к Катечке все братские чувства имею, и за нее
заступлюсь, потому что она тут ни в чем не виновата.
Тетушка пальцы кусает и плачет, а сама говорит:
— Ну... уж как ни в чем?
— Разумеется, ни в чем. Это ваш чудотворец все напутал, с
него и взыскивайте.
— Какое же с него взыскание! Он праведник.
— Ну, а если праведник, так и молчите. Пришлите мне с
Катею три бутылки шампанского вина.
Тетушка переспрашивает:
— Что такое?
А он опять отвечает:
— Три бутылки шампанского, — одну ко мне сейчас в мои
комнаты, а две после, куда прикажу, но только, чтобы дома
готовы были и во льду стояли заверчены.
Тетушка посмотрела на него и только головой покивала:
— Бог с тобою, — говорит: — я думала, что ты только без
одной веры, а ты святые лики изображаешь, а сам без всех чувств
оказываешься... Оттого я твоим иконам и не могу поклоняться.
А он отвечает:
— Нет, вы насчет веры оставьте: это вы, кажется,
сомневаетесь и все по естеству думаете, будто тут собственная Катина
причина есть, а я крепко верю, что во всем этом один Иван
Яковлевич причинен; а чувства мои вы увидите, когда мне с
Катею в мою мастерскую шампанское пришлете.
Глава пятая
Тетушка думала-подумала, да и послала живописцу вино с самой
Катечкой. Та взошла с подносом, вся в слезах, а он вскочил,
схватил ее за обе ручки и сам заплакал:
— Скорблю, — говорит, — голубочка моя, что с тобою случи-
342
лося, однако дремать с этим некогда, — подавай мне скорее
наружу все твои тайности.
Девица ему открылась, как сшалила, а он взял да ее у себя
в мастерской на ключ и запер.
Тетушка встречает зятя с заплаканными глазами и молчит.
А он и ее обнял, поцеловал и говорит:
— Ну, не бойтесь, не плачьте. Авось (юг поможет.
— Скажи же мне, — шепчет тетушка:—кто всему виноват?
А живописец ей ласково пальцем погрозил и говорит:
— Вот это уж не хорошо: сами вы меня постоянно неверием
попрекали, а теперь, когда вере вашей дано испытание, я вижу,
что вы сами нимало не верите. Неужто вам не ясно, что
виноватых нет, а просто чудотворец маленькую ошибку сделал.
— А где же моя бедная Катечка?
— Я ее страшным художническим заклятием заклял, — она,
как клад от аминя, и рассыпалась.
А сам ключ теще показывает.
Тетушка догадалась, что он девушку от первого отцова гнева
укрыл, и обняла его.
Шепчет:
— Прости меня, — в тебе нежные чувства есть.
Глава шестая
Пришел дядя, по обычаю чаю напился и говорит:
— Ну, давай читать часослов в пятьдесят два листа?
Сели. А домашние все двери вокруг них затворили и на
цыпочках ходят. Тетушка же то отойдет от дверей, то спять
подойдет, — все подслушивает, и все крестится.
Наконец, как там что-то звякнет... Она поотбежала и
спряталась.
— Объявил, — говорит, — объявил тайну! Теперь начнется
адское представление.
И точно: враз двери растворились, и дядя кричит:
— Шубу мне и большую палку!
Живописец его назад за руку и говорит:
— Что ты? Куда это?
Дядя говорит:
— Я в сумасшедший дом поеду чудотворца бить!
Тетушка за другими дверями застонала:
— Бегите, — говорит, — скорее в сумасшедший дом, чтобы
батюшку Ивана Яковлевича спрятали!
И действительно, дядя бы его непременно избил, но
зять-живописец страхом веры своей и этого удержал.
343
Глава седьмая
Стал зять вспоминать тестю, что у него есть еще одна дочь.
— Ничего, — говорит, — той своя доля, а я Корейшу бить
хочу. После пусть меня судят.
— Да я тебя, — говорит, — не судом стращаю, а ты посуди:
какой вред Иван Яковлевич Ольге может сделать. Ведь это ужас,
чем ты рискуешь!
Дядя остановился и задумался:
— Какой же, — говорит, — вред он может сделать?
— А как раз такой самый, какой вред он сделал Катечке.
Дядя поглядел и отвечает:
— Полно вздор городить! Разве он это может?
А живописец отвечает:
— Ну, ежели ты, как я вижу, не верующий, то делай, как
знаешь, только потом не тужи и бедных девушек не виновать.
Дядя и остановился. А зять его втащил назад в комнату и
начал уговаривать.
— Лучше, — говорит, — по-моему, чудотворца в сторону, а
взять это дело и домашними средствами поправить.
Старик согласился, только сам не знал, как именно поправить,
а зять-живописец и тут помог — говорит:
— Хорошие мысли надо искать не во гневе, а в радости.
— Какое, — отвечает, — теперь, братец, веселие при таком
случае?
— А такое, что у меня есть два пузырька шипучки, и пока
ты их со мною не выпьешь, я тебе ни одного слова не скажу.
Согласись со мною. Ты знаешь, как я характерен.
Старик на него посмотрел и говорит:
— Подводи, подводи! Что такое дальше будет?
А впрочем согласился.
Глава восьмая
Живописец живо скомандовал и назад пришел, а за ним идет
его мастер, молодой художник, с подносом, и несет две бутылки
с бокалами.
Как вошли, так живописец за собою дверь запер и ключ в
карман положил. Дядя посмотрел и все понял, а зять художнику
кивнул, — тот взял и стал в смирную просьбу.
— Виноват, — простите и благословите.
Дядюшка зятя спрашивает:
— Бить его можно?
Зять говорит:
— Можно, да не надобно.
— Ну, так пусть он передо мною, по крайности, на колена
станет.
Зять тому шепнул:
— Ну, стань за любимую девушку на колена перед батькою.
344
Тот стал.
Старик и заплакал.
— Очень, — говорит, — любишь ее?
— Люблю.
— Ну, целуй меня.
Так Ивана Яковлевича маленькую ошибку и прикрыли. И
осталось все это в благополучной тайности, и к младшей сестре
женихи опошли, потому что видят, — девицы надежные.
О безумии одного князя
(Отрывок)
...Были два священника, оба учености академической и столь
страстные любители играть в карты, что в городе даже имена
их забыли, а звали одного «отец Вист», а другого—«отец Пре-
феранц», что пусть так в этой записи и останется. Случилось же
одному из них, именно отцу Висту совсем неожиданно умереть, и
оставил он шестнадцатилетнюю дочь преприятнейшей наружности
и с воспитаньицем. А у отца Преферанца был сын богослов,
которого лучше любили звать «бог ослов». Он учился в последних
и окончил курс с превеликим горем, за старание родителей: ибо
был он безо всякой памяти и страшлив до той глупости, что сам
не знал, чего боялся, и до возраста самого просил, чтобы его
всюду кто-нибудь провожал, а без того не решался. По
ходатайству же того самого отца, сему преудивительному трусу было
предоставлено место умершего Виста, с обязательством взять в
жены ту преприятную красавицу, Вистову дочку. Так это все
было и сделано, как начальство усмотрело и признало за благо.
Преферанцов сын был обвенчан и рукоположен во священники и
священствовал целый год, но по пороку беспамятства никак не мог
научиться служению, и всегда его постоянно по церкви водил за
руку и учил старый дьячок, хорошо службу понимавший, а в доме
им руководствовала жена или ее мать, но обе они не радовались
своей власти, а напротив, мать часто жаловалась и плакала, что
муж у ее дочери совершенно как несмысленное дитя, всего боится,
особливо же в ночное др-емя, или когда вспомнит о покойниках,
к коим он совсем не мог ни подходить, ни прикасаться, а если
отпевал издали, то после долго трясся. И вообще он от страха
никогда не засыпал иначе, как чтобы горел огонь и все спали в
одной с ним комнате, и жена, и ее мать, и еще кто был в доме,
и сам всегда прятался к стенке. Но хотя он во всех разах
постоянно был осторожен и с провожатыми, но, однако, выйдя по
одному случаю вечером на крыльцо, заторопился впотьмах и,
вообразив что-то страшное, жалобно вскрикнул и упал от ужаса,
попав головою на оскребальную скобку и повредил темя. От этого
он сразу всех последних способностей и ума лишился, и целых
345
два года всюду прятался, и только голодом пробуждаемый мычал,
как теленочек, когда для того час его пойла настанет. На третий
же год он умер и погребен с честью, как по сану его подобало,
в ризах и со святым евангелием, и с крестом, а место его тотчас
дано другому...
Стойкость, до конца выдержанная,
обезоруживает и спасает
Отец Павел, имев двух дочерей, дабы не быть вынуждену
передавать за ними зятьям места, рано преднамерил этих девиц
просветить к светскому званию; и он, быв законоучителем в
благородном институте, то и ту, и другую из них, там бесплатно
воспитывал, а когда их срок учения там вышел, то он их взял
в дом, купил фортепьяно и пошил к лицу им шедшие уборы, и
через их образование и свою предусмотрительную ловкость и
заманчивые, но не ясные в загадочных словах обещания, обеих их
без приданого замуж выдал, — одну за столоначальника в
дворянском собрании, а другую за помещика, который имел много
волнистых и тучных овец, и этим в губернии славился. Отец же
Павел зятя столоначальника считал ни во что, но тем овцеводом
был горд и любил превозноситься. Случилось же однажды ему
сойтись в институте у инспектора и играть в карты с приезжим
из чужой губернии помещиком, так же, как и зять отца Павла,
большим овцеводом, но еще более превеликим хвастуном, и во
время сдачи карт пошли между них перемолвки о том: где какой
наилучший вывод овец более славится. Помещик-хвастун стал
похваляться, что будто во всей России ныне только у него самые
лучшие овцы.
— А почему так? — вопросил отец Павел.
— Потому, — отвечал помещик, — что мои овцы носят у себя
в хвостах до пуда сала.
— Это хорошо,—сказал отец Павел; но добавил, что у его
зятя овцы, однако, знаменитее, ибо те имеют в своих хвостах
каждая более чем по пуду.
— Да, — отвечал помещик, — и я к вам склоняюсь: можно
иметь овец и более, чем «по пуду содержащих, но я говорил
только разумея у себя одних молодых овец, а старше же у меня
имеют по два пуда.
— И это вполне статочно,—сказал отец Павел; — но ведь
и я говорил только о средних овцах моего зятя, а которые у него
самые старшие, те имеют в курдюках по три пуда.
— А мои самые старшие по четыре.
— Ну вот еще чего скажи!—негодуя заметил отец Павел.
А тот в азарте своем, не постигнув ясно отца Павлова
возражения, вскричал:
346
— Как это чего?—разумеется сала!
— Α-га! То-то и есть,—отвечал отец Павел, — а у овец моего
зятя не сала, но воску!
Тогда у всех игравших сделалось на минуту недоумение, а
помещик воскликнул:
— Это почему воск?
А отец Павел, выходя против него с затруднительной масти,
ответил:
— А потому, что он женат на девице духовного звания, а
духовенство более с воском, чем с салом обращается.
И бросил ему такую карту, которую тот и покрыть не мог, —
и совершенно проигрался.
О слабости чувств
и о напряженности оных
Двоякий приклад от познаний и наблюдения
Благочинный градских церквей не от себя предлагал, что
замечено некое охлаждение религиозных чувств, а для того, чтобы
священники к трогательному покаянию как можно чувствительнее
кающихся убеждениями располагали и через то как их спасение,
так и свое уважение в обществе делали вероятнее. Но когда о сем
все судить начали, и речь дошла до уст отца Павла, то он,
предлагая загвоздку, сказал:
— Как это «располагать»? И еще же мне неизвестно: какие
результаты весьма сильная напряженность чувств дать может.
Она может потребовать повсеместного всем выражения правды и
обличения без всякого на лице зрения; но кто же снесть это
может, особливо среди тех, иже рекутся «столпы»?.. Ныне не тот
уже свет, как было при пророках, что и самого Ахава за колеса
останавливали и даже в коляску к нему босиком поскакивали. Век
наш во всем любит, чтобы были умеренны, и следует в нем
живущим умеренность предпочитать прочему. Да и нам самим, худым
иереям бога вышнего, не хуже было бы, если свет преисполнился
бы непомерною страстностию. Я о себе скажу, что смотрю на это
как опытный кухарь, знающий трапезующих по пословице:
«недосол на столе, а пересол на спине», — и сие одобряю.
А когда отцу Павлу все иные стали возражать и настаивать,
что (Горячность более духовенству принести может, то он не
согласился и предложил два предлога, которые всех раздумывать
заставили.
— Были у меня, — сказал отец Павел, — двое чад духовных:
один открытый недоверок из столичных высланцев,
непозволительного характера и мыслей, который мне о вере своей и настоящих
упованиях в другой жизни никогда не говорил иначе, как по
символу: «чаю воскресения», и «аминь». А была же другая, женщина
347
сердовых лет, всегда благочестию учащаяся, но николи же в
разуме истине прийти могущая. Та всегда мне весьма пространно
веру свою излагала и грехи в мельчайших подробностях
высказывала, и то не по единожды в год, а по трижды мне подносила. —
Как же вы думаете: с которым из сих двух чад моих у нас
наиближайшие и приятнейшие духовные отношения стали?
Все отвечали:
— Разумеется с дамою, которая сильнее верила и говенье
любила.
А отец Павел опроверг и сказал:
— Вот то-то и есть, что наоборот! Тот петербургский недове-
рок, когда он ко мне подходил, ибо обязанность чувствовал, то
я его всегда по началу спрашивал: «Ну, как ваше дело?» Он
участие к нему принимал сухо и, бывало, кратко ответит: «Не
знаю». — «Надеетесь ли?» — «Как же, — говорит* — все тем
только и Ж1ивут, что надежда им лжет детским лепетом своим». —
А я на него, бывало, не сержусь, а похвалю: «Надейтесь, —
говорю,— это хорошо: вера, надежда и любовь — это три
христианские добродетели, но любовь больше всех. А потому следуйте, не
смущаясь, заповеди спасителя нашего: и любите врагов ваших, и
ненавидящим вас творите благая». И с тем его, бывало, отпущу;
а когда, по возвращении домой, сняв рясу, начну отрясать из его
кармана принятое, то знаю, что находящаяся в числе прочем
краснуха всегда от сего непокорного пришла, а более я с ним во весь
год ровно никаких хлопот не имею. — Дочь же моя по трижды
в год себя облегчавшая, когда приходила, то такое множество
грехов за свободою своею открывала, что я даже ни одного совета
ей дать не мог, ибо постигнуть не был в состоянии: коим она
духом злее беснуется? А за все то находил в кармане одну мелкую
серебряную монетку от нее," увернутую в розовой бумажке с
надписью: «Помяните в своих молитвах дочь вашу такую-то». —
И кроме того еще те досаждения причиняла, что когда каким-либо
грехом была попрекаема, то всегда подозревала, что то отец
Павел открыл ее исповедь и прибегал справляться и расспрашивать.
А когда же однажды, выведенный ее стремлением говорить о
своих грехах, отец Павел ей нетерпеливо заметил: «Вы блудливы
как кошка, а трусливы как заяц», то она вскрикнула:
— А вы преступник! Вы самый секретный грех моей исповеди
выдали!
Тогда, несмотря на свое бесстрашие, отец Павел дал ей
собственных своих десять рублей под честное слово, чтобы она
избрала себе другого для ее тайных грехов сохранителя, а в
противность пригрозил ей, что по рассеянности своей может ошибочно
присвоить ей один из тех грехов, которые Макар отмаливает·
стоя на коленях среди стада пасомых им в отдалении телят.
И тем лишь от горячности ее избавился...
Надлежит не осуждать проступков,
не зная руководивших им соображений
Иеродиакон не молодых лет, но могутной плоти, первейший бас
и в служении искусный, имел страсть к биллиардной игре и
однажды в день пятничий на страстной неделе, отслуживши и почитая
себя от обязанностей свободным, рассудил за безопасное
удовлетворить свое влечение к биллиардной игре. Для того он пришел
в заведение, где названному влечению своему мог угодить, и уже
позвал трактирного служителя, но служители как один, так и
другой от игры отказались, сказав, что в такой день не могут.
Но в эту пору пришел тут квартальный, и они с квартальным
стали играть не на подлаз под биллиард, а на деньги.
Квартальный же, верный полицейскому нраву, брать любил, а платить не
изволил.
Так и тут пришлось: обнаружил он свою полицейскую низкость
и платить не хотел, а стал уверять, что уговор был на «подлаз»,
а не на деньги, и что он сейчас тот уговор готов исполнить, —
шпагу снять и под биллиардом лазить. Но дьякон этого не хотел
и говорил: «Что мне за удовольствие?.. Деньги лучше».
Тогда квартальный потребовал, чтобы в таком разе
продолжать игру до его отыграния и за всякую партию выпивать мазу
по большой рюмке рому или вина. Диакон, желая свой выигрыш
получить, на то согласился и как он лучше квартального играл,
то опять все-таки выиграл, и то, что надлежало ему выпивать,
пил честно. Когда же он от выпитых им рюмок мазу охмелел, то,
будучи в своем праве, стал круче с квартальным поступать и
требовать от него уплаты девяти рублей проигранных денег. При этом
завели спор, во время которого неизвестно кто и каким образом
весьма старое биллиардное сукно кием подпорол и испортил.
Тогда к спору их присоединился трактирщик, и его трактирные
слуги, не смея рук своих на квартального тронуть, весьма смело
подняли оные на иеродиакона. Они с наглостью стали уверять,
что это, конечно, по их рассуждению, от игры в такой
великопостный день, и что вред тот доподлинно сделал не квартальный, а
диакон, и он за это сейчас сорок рублей заплатить должен, или
если таких денег с ним нет, то они пошлют дать знать
монастырскому начальству. А когда иеродиакон сообразил, что это есть
подвох и что сукно, давно обновления требующее, вероятно, вспо-
роно некоторым из служителей, от игры за страстным днем
отказавшихся, то платить не захотел и, несколько излишне на мо-
гутность свою полагался, стал их плещами пожимать и
отталкивать и сам к двери выхода подвигаться; но тогда все вдруг с
азартом на него кинулись, и после буйственного на него
нападения, один, наибольшею военною хитростью одаренный, вскочил на
биллиард и с высоты биллиарда набросил на фигуру диакона, с
головой, пестрядинное покрывало, так что он очутился как
подсвинок, которого мужик заключил в мешок и, завязав, везет на
349
базар, и тот только может визжать, но ничего не видит. Так и
его, покрыв, приступили бить со всеусердным ожесточением во все
части и, нащупывая, где его глава, за власы его притягали и
платье на нем порвали, и руки под пестрядину подсунув, часы с би-
серною цепочкою и деньги с кошельком до девятнадцати рублей,
со всем с карманом из вшивного отверстия изъяли. Словом, так
его отдушили и обидели, как оного евангельского шедшего по
пути и впавшего в разбойники. И все это душегубительство они
произвели так, что оный несчастный, быв повергнут и придавлен,
с покровеннои головою, ничего сам не мог видеть: кто именно в
какое место бил и что с него совлек, и одно что для своей защиты
мог, то сквозь пестрядину зубами кусался. Но бессердечным
обидчикам этого страстотерпца и всего того, что сделали еще,
мало показалось, а они или, лучше сказать, квартальный (ибо его
это была погибельная мысль) такой захотел дать оборот, чтобы
еще битый у небитых сам отпущенья просил и умолял о покрытии
его их ненадежною тайностию, и из этого места откупился.
Так, когда штатские всем совершенным ими над диаконом удо-
вольнились и помышляли уже приступити к метанию между собой
жребий о похищенном, квартальный был несыт причиненным и
сказал: «Еще не прииде тому час, а призовите мне «моих
охраняющих солдат, пусть свяжут ему руки и поведут сего буяна, чтобы
все видели, и довлеет ему, а там в монастыре его сдать на руки,
и там ему его священнодиаконство помянется и аксиос ему пропет
будет за то, что в такой постный день на бильярде играл и вино
пил».
Услыхав же это, дьякон стал ротитися и клятася, что он у
себя в келье в клобуке имеет еще сто рублей секретно заделаны, и
все их отдаст только, чтобы по улице его яко связня не вели,
а с свободою рук отпустили. И штатские хотели его с одним
человеком отпустить, которому бы диакон, придя домой, деньги за
дверь вынес, но квартальный, исполнясь недоверия к
пострадавшему духовному, сказал: «Нет, он как уйдет в обитель, то денег
уже не вынесет и нас обманет, а лучше держите его и представим
приставу, чтобы и тот от сего случая не скуден остался».—
И шед вон скоро привел сюда с собою частного. Частный же,
рассмотрев дело и видя диакона присмиренного и весьма потыканного
и одертого, понял и погрозил квартальному перстом, а солдатов
и штатских выслал, а диакону сказал:
— Восстав, идем отсюду, — и был ему за истинного самаря-
нина: всадил его вовнутрь своих крытых дрожек и повез на своем
скоте, а дорогою полезный совет дал: ты, говорит, сознайся и
факта трактирного не отвергай, но что у тебя будто сто рублей
в келье в клобуке заделаны не обнаружь, потому что они тебе
самому годятся на другой случай, а отвечай смело, и за тебя тот,
кому надо, больше заплатит. Я эту необходимость понимаю.
И привезя впавшего в разбойники с собою в обитель,
доложился игумену, которому все рассказал и, быв с ним наедине,
предложил тому на выбор: оглашению дело предать, или дать ему
350
триста рублей на потушение. Игумен же был. весьма в правлении
опытный и, видя в чем дело и какой может быть стыд, много не
говоря, просимые деньги приставу вынес и подал; после чего тот
сейчас и уехал, а потом игумен стал диакона укорять и
выговаривал:
— Зачем ты в такое место попал?
— Ни для чего другого, как для биллиардной игры, — отвечал
диакон.
— Но почему именно в такой великоскорбный день, когда
никто не ходит?
А тогда диакон, сам на себя негодуя и видя уже, что все
опасное для него за данными приставом поминками миновало, а
голос его к служению нужен, робкость оставил и осмелев, с
досадою ответил:
— А вы когда же мне ходить прикажете? В простые дни
всякая сволочь мирских людей в те места вхожи, а в такой день,
как ныне, мирянин идти не отважится.
Так проступок его хотя непохвален, но рассудливость не
почтена быть не может.
Н. Г. ПОМЯЛОВСКИЙ
(1835—1863)
Очерки бурсы
(Отрывки)
В класс вошел господин огромного роста, в коричневой шинели.
Все смолкло. Это был учитель Иван Михайлович Лобов. Цензор
прочитал молитву «Царю небесный». Ученики стояли, ожидая
приказания сесть. Сели. Великий педагог отправился к столу, за
«которым и сел на грязном стуле. Он взял нотату. Многие
вздрогнули. Немного помолчав, Лобов крикнул:
— Аксютка!
— Здесь,—смело отвечал Аксютка.
— Ты опять?
— Не могу учиться.
— А отчего до сих пор учился?
— Теперь не могу.
— К печке!., на воздусях его!
Аксютка озлил учителя. Он с ним выделывал штуки, на
которые никто не решался. Этот отчасти описанный нами вор имел
отличные способности, память у него была обширнейшая, и,
вероятно, он был умнее всех в классе; ничего не стоило ему прочитать
351
урок раза два, и он отвечал слово в слово. Учиться, значит, было
легко ему. Но он вдруг прекращал заниматься, поддразнивая
учителя на зло. Его секли, но ничего не могли поделать с мим. Тогда
его поселяли в Камчатку. Но лишь только он добивался своего,
как опять начинал учиться отлично, его переводили на первую
парту, и лишь только переводили, он опять запевал:
Ай люли, люли, люли!
А в нотате все нули!
После такой песни Аксютка опять ничего не делал. Снова
повторялось сеченье. Он у Лобова несколько раз переходил из
Камчатки на первую парту и обратно.
Наконец Лобов рассвирепел, и .раздалось его грозное — на воз-
дусях!
Тотчас же выскочи \и четверо парней, схватили его, раздели,
взяли за руки и ноги, так что он повис в горизонтальном
положении, а справа и слева начался свист лоз.
Взвыл Аксютка, а все-таки кричит:
— Не могу учиться! ей-богу, не могу!
— Положите ему под нос книгу.
Положили.
— Учи!
— Не могу! хоть образ со стены снять, не могу.
— Сейчас же и учи!
На этот раз Аксютка правду кричал, что не может учиться,
потому что лежал под розгами, и учитель это сознавал, но все-
таки продержал его висящим над книгой достаточно.
— Бросьте эту тварь.
Аксютка пробрался в Камчатку.
— Дать ему сугубое раза!
Товарищи повскакали с парт, бросились на Аксютку и
зарядили ему в голову картечи, то-есть швычков.
Взвыл Аксютка:
— Хоть убейте, не могу учиться!
Лобов имел обыкновение ходить в класс с длинным березовым
хлыстом. Он поднялся с места и вытянул Аксютку вдоль спины, а
тот взвыл:
— Ей-богу, не могу учиться!
Лобов мало-помалу успокоился, и класс продолжался обычным
порядком. Спустя несколько времени он крикнул:
— Цензор квасу!
Цензор отправился за квасом и принес его.
Лобов, прихлебывая из оловянной кружки квас, просматривал
нотату и назначал по фамильям, кому к печке—для сеченья, кому
к доске на колени, кому коленами на ребро парты, кому без обеда,
кому в город не ходить. Класс Лобова разукрасился всевозможно
расставленными фигурами. Потом он стал спрашивать знающих
учеников, поправляя отвечающего, когда он отвечал не слово в
слово, и запивая бурсацкую премудрость круто заваренным ква-
352
сом. Он сидел обыкновенно в калошах, не снимая своей
красноватого цвета шинели. Когда спрошенный из учеников кончил свой
ответ, Лобов полез в карман шинели и вынул из него довольно
большой пирог, который стал уписывать с аппетитом. Бурсаки с
жадностью посмотрели на пожираемый пирог. Так Лобов имел
обычай завтракать во время класса, мешая пищу духовную с
пищей телесной. i
После экзаменации пяти учеников он стал дремать и наконец
заснул, легонько всхрапывая. Отвечавший ученик должен был
дождаться, пока не проснется великий педагог и не примемся опять
ва дело. Лобов никогда уроков не объяснял — жирно, дескать,
будет, а отмечал ногтем в книжке с энтих до энтих, предоставляя
ученикам выучить урок к следующему, то-есть классу.
Что этот великий педагог в своей юности недосечен или
пересечен?
Морфей легонько посвистывал себе через нос педагога, а
ученики, наказанные на колени и столбом, воспользовались этим.
Поднялся легкий шумок, и начались невинные игры бурсаков, как-
то в шашки, святцы (карты), костяжки, щипчики, швычки и т. п.
Ударил звонок, учитель проснулся, и после обычной молитвы
и по выходе учителя класс наполнялся обычным шумом.··
* * *
Этот господин носил имя Батьки.
Он был красавец собою, с открытым грудным и объемистым
басом, лицо — кровь с молоком. Он, между прочим, преподавал
так называемый «Устав», то-есть науку, как править церковные
службы. Эта наука излагалась им самым странным образом.
Вместо того, чтобы выдать церковные книги на руки учеников,
ознакомить с теми книгами наглядным образом, показать по самым
книгам, когда, что и где читалось и пелось, — вместо этого
выдавались записочки, в которых по порядку службы обозначались
только первые слова каждого чтения или пения. Таких заголовков
целые листы писчей бумаги. До того трудно и тошно было ученье
и зубренье, что из ста с лишком учеников знало урок, случалось,
только четверо. Кажется, ясно, что тут уже не ученики виноваты.
Правда, могло случиться, что ученики на зло учителю делали
стачку не учить урока, но такие стачки назывались бунтом и
разрешались великим сечением класса; но тут была не стачка, а просто
физическая и умственная невозможность вызубрить все это. И это
понимал сам Батька. Несмотря на все это, он поочередно сек весь
класс: так парта за партой и выдвигались к печке. Хотя в этих
случаях секундаторы были крайне снисходительны, но
снисходительны только к тем, кого любили. Секундаторы были очень
изобретательны и свою профессию знали специально. Когда Батька за-
подоэревал секундатора в мирволеньи и шел свидетельствовать
производство секуции, тогда оказывалось, что тело наказываемого
было покрыто синими полосами: секрет в том, что секундатор нама-
23-22 SS3
зывал лозы чернилами, потом стирал их слегка; достаточно было
легкого прикосновения их, чтобы сделать фальшивый рубец. Чорт
знает на что расходовался ум воспитанника! Когда приходилось,
что три описанные учителя занимали уроки в один и тот же день,
то одного и того же ученика секли несколько раз. Так, Карася,
случилось, отодрали четыре раза в один день (в продолжение
училищной жизни непременно раз четыреста). Но сегодня не было
устава. Занимались другим предметом. Беда, когда Батька
приходил пьян! Тогда лицо его было бледно, а черные огромные глаза
особенно глубоки и блестящи. Сегодня эта беда и случилась. Все
вздрогнули, как только он вошел. По лицу все узнали, что будет
классу великое горе. Взял он нотату. Мучительную и страшную
минуту пережил класс. Батыка вызвал Элпаху. Элпаха, трясясь
телом и содрогаясь душою, вышел на средину.
— Я... — голос его пресекся...
— Что ты?—спокойным, но глубоко сосредоточенно-злым
голосом спросил его Батыка.
— Я... сегодня... именинник...
— Так с ангелом!—Октава его упала на две ноты ниже, а
сердце свирепело, и в нем развивались кровожадность и зверские
инстинкты... Страшен он был в эту минуту.
— Я...—заговорил страдалец: — был в церкви...
— Доброе дело!
— Я потому и не успел выучить урока... — погасающим
голосом продолжал Элпаха, видя, как с мертвенно-бледного лица
смотрели на него неподвижные, блестящие сосредоточенной
ненавистью глаза...
— Ты думаешь, что радуется твой ангел на небесах?
Элпаха молчал; в его сердце пробивалась слабая надежда, что
его не накажут, потому что Батькин гнев иногда истощался в
нравоучениях, которыми увлекался он на полчаса и 'более. Элпаха
ждал, что будет.
— Он плачет о твоей лености.
Элпаха ни жив, ни мертв.
— И ты должен плакать. Поди сюда.
Элпаха ни с места.
— Поди же сюда! — тем же ровным, спокойным голосом
повторил Батька.
Элпаха подошел к нему.
— Встань тут, около меня, на колени.
Дрожащий Элпаха встал.
— Твой ангел плачет, и ты заплачешь. Положи свою голову
ко мне на колени.
Тот медленно исполнил это, не понимая, что с ним хотят
делать. Но вот он сильно вскрикнул и поднял голову, за которую
ухватился руками.
— Лежи, лежи!—сказал ему Батька.
Отчего вскрикнул Элпаха? А оттого, что Батька взял щепоть
волос его, сильной рукой вздернул их кверху, вырвал с корнем и,
354
постепенно разводя свои красивые пальцы, сдувал с них волоса и
продолжал дуть, пока они летели в воздухе.
— Лежи, лежи! — повторил Батька.
Элпаха с воем опустил свою голову »а колени его, как на
эшафот...
Батька взял вторую щепоть Элпахиных волос и опять
выдернул их с корнем и опять пустил их по воздуху.
— Простите, ради бога!—взмолился страдалец.
— Лежи, лежи!—отвечал Батька. Что-то сатанинское было в
его ровных октавах...
Еще медленнее и хладнокровнее он повторил ту же операцию
в третий раз.
Элпаха рыдал мучительно.
— Теперь поди встань на колени посреди класса! — оказал
Батька, когда улетел последний волос Элпахи и пропал в воздухе.
Батька потом долго сидел, понуря голову. Не почувствовал ли
он угрызений совести?
— Стой на коленях целый год!
Значит, совесть его была спокойна. Батька имел обыкновение
ставить на колени на. целый год, на целую треть, на месяц: как
его класс, так становись. Беспощадный человек!
В продолжение всего класса Батька разбойничал. Чего, чего он
не придумывал: заставлял кланяться печке, целовать розги, сек и
солил сеченого, одно слово — артист в своем деле, да под пьяную
еще руку.
Д. Н. МАМИН-СИБИРЯК
(1852—1912)
Седьмая труба
(Отрывок)
Марфа Захаровна повела гостя в моленную. Нужно было
пройти целый ряд низеньких комнат, отворить потайную дверь в стене
и опуститься по темной лесенке в нижний этаж. Низкая и узкая
комната была без окон. В глубине всю стену занимала божница,
или иконостас. Иконы были завешаны шелковой зеленой пеленой с
нашитым на ней восьмиконечным раскольничьим крестом. В
отдельном киоте стояла икона Казанской божией матери в дорогом
золотом окладе, усыпанном драгоценными камнями, — она никогда
не закрывалась, и пред ней всегда горела неугасимая лампада. Эта
икона была родовой и перенесена была в моленную Шелковнико-
вых из разоренного на Имосе знаменитого Кесаревского скита.
23* 355
Около стен шли деревянные скамейки. На них лежали
разноцветные «подрушники». В стене у божницы, где стоял раздвижной
монашеский аналой, прикреплены были две деревянные укладки —
одна с божественными книгами, а другая со свечам«, ладаном и
кацеями.
Отдернув пелену с иконостаса, Марфа Захаровна зажгла перед
иконами свечи и лампады. Из потемневших окладов обронного и
басменного дела глянули суровые лики строгановского письма,
медные литые складни, образки, кресты и целые иконы. Беспоповцы
предпочитают медные иконы, но у Шелковниковых допускалось и
старое письмо на досках, — оно по наследству досталось из
разных скитов, разоренных в гонительные николаевские времена.
Зорко оглядев знакомую шелковниковакую святыню и найдя все в
порядке, Садок положил установленный начал и сейчас же поставил
Марфу Захаровну на поклоны.
— Двести поклонов, миленькая, положишь за свои
прегрешения... Нужно было бы тысячу, да вижу твою немощную плоть и
остальные сам доложу за тебя.
Трудно было Марфе Захаровне отбивать эти поклоны, но Садок
стоял рядом с ней и отсчитывал их по лестовке. Старуха
обливалась потом, задыхалась, но начетчик был неумолим. Когда епити-
мия была кончена, Садок принялся читать нараспев канон
Казанской богородице. Он читал в нос, растягивая слова. В некоторых
местах голос его прерывался и слышались слезы. Марфа
Захаровна молилась с горькими слезами, ожидая какой-то неминучей беды.
При мерцающем свете зажженных лампадок и восковых свечей
седой старик казался ей пришельцем не из здешнего мира. А он
все читал, и слезы текли по его седой бороде...
Кончив моленье, Садок в изнеможении сел на скамейку и
несколько минут сидел с закрытыми глазами. У Марфы Захаровны
отнимались ноги от усталости, но она не смела сесть и ждала,
когда он заговорит.
— Знаешь, что сказано у Игнатия Богоносца: «Всяк глаголяй,
кроме повеленных, аще и достоверен будет, аще и постит и
действует, аще и знамения творит, аще и пророчествует, волк тебе да
мнится во овчей коже, овцам погубу содевающ»... А в
Кирилловой книге сказано: «Да не бываем к тому младенцы умом, влаю-
щеся и скитающеся во всяком ветре учения во лжи человечестей, в
коварстве козней льщения. Блюдем истинствующе в любви»...
Понимаешь?.. «И власть первого зверя всю творит и поклонятся
ему... и огнь сотворит нисходити на землю пред человека... работы
египетские вместятся»... И этого не понимаешь?..
— Ох, боюсь я, Садок Иваныч... тошнехонько...
— И нужно бояться: будет вне страх, внутрь трепет, глад и
жажда, в домех рыдание... Увянут доброты лиц и образов, и
лепоты женские увядятся, и желание всем человеком и похоть отбег-
нет... Восплачется люте всякая душа!..
Начетчик говорил прямо цитатами из раскольничьих цветни«
ков,—память у него была изумительная. Но все это было только
356
вступлением к настоящему делу, чтобы не так был резок переход
от канона к обыденной речи.
— А ты присядь, миленькая,—пригласил Садок
изнемогавшую старуху: —еще бы постоять тебе, да уже лета твои не
малые... Был я в Москве, а теперь объезжаю боголюбивые народы...
Горе душам нашим: воструби седьмая труба. Знамения везде,
а мы слепотствуем в своем малодушии... И огнь сведен с неба,
а нам все мало.
— Это ты про телеграф?
— Про него... Твои же слова по проволокам беси волокут.
Мало: жизнь свою начали страховать в Москве... Не надеются на
милость божию, а на свою хитрость. Мало и этого: на аер
поднимаются и в бездны падают... В Москве мне оказывали, как одна
немка на воздушном шаре летала — ухватится зубами за веревку
и летит. А другая немка в театре заберется под самый потолок да
оттуда вниз головой и бросится... И живы обе. Это как,
по-твоему?.. Сами они собой этакую страсть принимают? Он, бес,
подымает их на аер, а потом низвергнет тычмя головой. Есть тоже они
хотят, хоть и немки: льстец их гладом и донимает. То же и с
нами будет... Сказывали в Москве же, как бесоугодные пляски
творятся всенародно оголенным женским полом... а властодержцы и
богоборные потаковники (всякие зломеракие заводы утверждают,
и деже люте гибнет и женск и мужеск пол. Так я говорю?..
— Ох, так, родимый мой...
— То^го: так... А зачем внучку замуж ие выдаешь? А внуку
зачем потачишь?..
— Голубчик, Садок Иваныч, да где же нынче женихов-то
возьмешь? Рада бы радешенька с рук сбыть, и случаи такие
навертывались, да сама^го Клавдия говорит: «Бабушка, денег мои женихи
ищут во мне, а не меня... Не гнать же ее мне силом!.. Девушка
воды не замутит, а не хочет себя потерять. Внучка Полиевкта
люблю и знаю сама, что грешу, а как быть мне: разве за ним
угоняешься?
— По трактирам, небось, внучек^го ухлестывает?..
— Не скрою: есть грех... Выговаривала я, началила и слезами
плакала, а он из дому бежит. На невест и не глядит, потому
любопытно ему на своей полной воле отгулять...
— Так, так... Все верно: и желание всем человеком отбегнет —
прямо в писании сказано. Все боятся нынче закон принимать...
Жаль мне вас, горемык богатых. Вон Капитон-то Семеныч
изнищал как плотию и главою зело оскорбел... То же и с Полиевктом
твоим будет: достигнет и его собачья старость. О, горе, горе
душам нашим!.. Ищутся не жены, а богатства и покупают себе
остуду... Иссякла радость в супружестве, и нет правильного
рождения детям, ибо затворилось само небо, и затворились в себе
потерявшие желания жены. Роду человеческому погибель, даже
прежде, как появится из утробы матерней... Вижу, тягчишь ты,
миленькая, и воздыхания утробу твою терзают: все мы сидим э
челюстях мысленного льва.
337
— Что делать-то, Садок Иванович?..
— А то и делай: рыдай и молись... Будет, побоярила, а теперь
казнись.
— Да я не про себя: другие-то как?
— И другие то же самое... Работать не хотят, а каждый боярил
бы. А я тебе еще последнее знамение скажу: настроили фабрик,
наставили машин... пошли везде ситцы да самовары... Все
придумано, одно хитрее другого, а хлеб все дорожает, и везде у машин
египетские работы вместились... Это как?.. Тут тебе бесы по
проволокам бегут, тут бесы машины ворочают, а лепота женская на
поругание отдается... Вот хлеба не могут только придумать, а
подают алчущим камень. Пошла по всей земле иноземная пестрота,
неукротимая рознь и рассечение... Вот я и пришел сказать тебе:
возгласи седьмая труба, и конец близится. Слезами омывайте лица
ваши и утро и вечер, и будьте готовы...
Марфа Захаровна тихо плакала, сидя на скамейке: Садок
говорил правду... Спасенья не было.
— Иди-ка ты, миленькая, спать, — ласково проговорил
начетчик.
— А ты-то как?
— А я, видно, здесь останусь... Да не забудь наказать, чтобы
скоту моему сенца бросили охапочку.
Сотворив метание, Марфа Захаровна вышла из моленной. Она
шаталась, поднимаясь по лестнице, и несколько раз садилась
отдыхать. Слезы ее несколько облегчили, но сердце надрывалось
за других. Огорченная старуха не заметила спрятавшейся в углу
у лестницы темной фигуры: это была Клавдия *... Девушка
подслушала весь разговор бабушки с начетчиком...
Ночь не спалось Марфе Захаровне, неотвязные думы
одолевали. И все Садок из головы не выходил: праведный человек... Все
спят, а он один стоит на молитве. Устал с дороги и назябся, а
ничего его не берет. Конечно, бог поддерживает праведного
человека. И все-то он правду говорит, все правду и всякого насквозь
видит. Небось, сейчас заприметил, как Полиевкт убегал от него
давеча.
—- Седьмая труба возгласи, —повторяла старуха, напрасно
стараясь стряхнуть с себя непосильное бремя ежедневных забот и
всяческой житейской суеты. — Скоро кончина мира... Садок все
знает.
Страх смерти нападал на нее, и зубы начинали выбивать
лихорадочную дробь. Господи, что на свете-то делается, да и у ней
в доме тоже хорошо. Ох, грехи, — много грехов, без конца-краю,
и за каждый грех свой ответ...
...Пробило восемь часов. Где-то зазвонили к ранней обедне, а
бабушка все не просыпалась. Фекла несколько раз подкрадывалась
к дверям бабушкиной комнаты и прикладывала ухо к замочной
скважине — «нет, спит наша воевода. Достиг, видно, ее Садок
Иваныч...»
* Клавдия — внучка Марфы Захаровны. (Прим. ред.)
959
— Миленькие... не ладно что-то... — шептала Фекла. — Уж не
попритчилось ли нашей матушке что?..
Эти глупости рассердили Полиевкта, и он сам пошел к
бабушке. Постучал в дверь сначала тихо, потом громче — ответа не было.
Но дверь была не заперта, и он послал сестру. Марфа Захаровна
лежала мертвая, с посиневшим и обезображенным конвульсиями
лицом... Клавдия, как птица, полетела в моленную и с плачем
объявила Садаку Иванычу, что бабушка умерла.
— Я знаю, — спокойно ответил старик. — Зачем и приехал...
Все знаю...
Он, не торопясь, закончил канун, положил уставные поклоны и,
так же не торопясь, поднялся наверх. Войдя в комнату Марфы
Захаровны, он положил перед образами начал, потом поклонился
в землю покойнице, благословил ее и тихо проговорил:
—- Земля я в землю отыдеши...
А. П. ЧЕХОВ
(1860—1904)
I айна
Вечером первого дня пасхи действительный статский советник
Навагин, вернувшись с визитов, взял в передней лист, на котором
расписывались визитеры, и вместе с ним пошел к себе в кабинет.
Разоблачившись и выпив зельтерской, он уселся поудобней на
кушетке и стал читать подписи на листе. Когда его взгляд достиг
до середины длинного ряда подписей, он вздрогнул, удивленно
фыркнул и, изобразив на лице своем крайнее изумление, щелкнул
пальцами.
— Опять!—сказал он, хлопая себя по колену. — Это
удивительно! Опять! Опять расписался этот, чорт его знает, кто он
такой, Федюков! Опять!
Среди многочисленных подписей находилась на листе подпись
какого-то Федкжова. Что за птица этот Федюков, — Навагин
решительно не знал. Он перебрал в памяти всех своих знакомых,
родственников и подчиненных, припоминал свое отдаленное
прошлое, но никак не мог вспомнить ничего даже похожего на Федю-
кова. Страннее же всего было то, что этот incognito Федюков в
последние тринадцать лет аккуратно расписывался каждое
рождество и пасху. Кто он, откуда и каков он из себя, — не знали ни
Навагин, ни его жена, ни швейцар.
▼— Удивительно!—изумлялся Навагин, шагая по кабинету.—»·
Странно и непонятно! Какая-то кабалистика! Позвать сюда
швейцара!— крикнул он. — Чертовски странно! Нет, я все-таки узнаю,
кто он! Послушай, Григорий, — обратился он <к вошедшему
швейцару— опять расписался этот Федюков! Ты видел его?
— Никак нет...
— Помилуй, да ведь он же расписался! Значит, он был в
передней? Был?
— Никак нет, не был.
— Как же он мог расписаться, если он не был?
— Не могу знать.
— Кому же знать? Ты зеваешь там в передней! Припомни-ка,
может быть, входил кто-нибудь незнакомый! Подумай!
— Нет, вашество, незнакомых никого не было. Чиновники
наши были, к ее превосходительству баронесса приезжала,
священники с крестом приходили, а больше никого не было...
— Что ж, он невидимкой расписался, что ли?
— Не могу знать, но только Федюкова никакого не было. Это
я хоть перед образом...
— Странно! Непонятно! Уди^ви-тель-но! — задумался Нава-
гин. — Это даже смешно. Человек расписывается уже тринадцать
лет, и ты никак не можешь узнать, кто он. Может быть, это чья-
нибудь шутка? Может быть, какой-нибудь чиновник вместе со
своей фамилией подписывает, ради курьеза, и этого Федюкова?
И Навагин стал рассматривать подпись Федюкова.
Размашистая, залихватская подпись на старинный манер, с
завитушками и закорючками, по почерку совсем не походила на
остальные подписи. Находилась она тотчас же под подписью
губернского секретаря Штучкина, запуганного и малодушного
человека, который наверное умер бы с перепуга, если бы позволил себе
такую дерзкую шутку.
— Опять таинственный Федюков расписался!—сказал
Навагин, входя к жене. — Опять я не добился, кто это такой!
М-те Навагина была спириткой, а потому все понятные и
непонятные явления в природе объясняла очень просто.
— Ничего тут нет удивительного, — сказала она. — Ты вот не
веришь, а я говорила и говорю: в природе очень много
сверхъестественного, чего никогда не постигнет наш слабый ум! Я
уверена, что этот Федюков — дух, который тебе симпатизирует...
На твоем месте я вызвала бы его и спросила, что ему нужно.
— Вздор, вздор!
Навагин был свободен от предрассудков, но занимавшее его
явление было так таинственно, что поневоле в его голову полезла
всякая чертовщина. Весь вечер он думал о том, что încognito-
Федюков есть дух какого-нибудь давно умершего чиновника,
прогнанного со службы предками Навагина, а теперь мстящего
потомку; быть может, это родственник какого-нибудь канцеляриста,
уволенного самим Навагиным, или девицы, соблазненной им...
Всю ночь Навагину снился старый, тощий чиновник в потертом
вицмундире, с желтолимонным лицом, щетинистыми волосами и
360
оловянными глазами; чиновник говорил что-то могильным голосом
и грозил костлявым пальцем.
У Навагина едва не сделалось воспаление мозга. Две недели он
молчал, хмурился и все ходил да думал. В конце концов, он
поборол свое скептическое самолюбие и, войдя к жене, сказал глухо:
— Зина, вызови Федкжова!
Спиритка обрадовалась, велела принести картонный лист и
блюдечко, посадила рядом с собой мужа и стала
священнодействовать. Федюков не заставил долго ждать себя...
— Что тебе нужно? — спросил Навагин.
— Кайся... — ответило блюдечко.
— Кем ты был на земле?
— Заблуждающийся...
— Вот видишь! — шепнула жена. — А ты не верил!
Навагин долго беседовал с Федюковым, потом вызвал
Наполеона, Ганнибала, Аскоченского, свою тетку Клавдию Захаровну, и
все они давали ему короткие, но верные и полные глубокого
смысла ответы. Возился он с блюдечком часа четыре и уснул
успокоенный, счастливый, что познакомился с новым для него,
таинственным миром. После этого он каждый день занимался
спиритизмом и в присутствии объяснял чиновникам, что в природе
вообще очень много сверхъестественного, чудесного, на что нашим
ученым давно бы следовало обратить внимание. Гипнотизм,
медиумизм, бишопизм, спиритизм, четвертое измерение и прочие туманы
овладели им совершенно, так что по 'целым дням он, к великому
удовольствию своей супруги, читал спиритические книги, или же
занимался блюдечком, столоверчениями и толкованиями
сверхъестественных явлений. С его легкой руки занялись спиритизмом и все
его подчиненные, да так усердно, что старый экзекутор сошел с
ума и послал однажды с курьером такую телеграмму: «В ад,
казенная палата. Чувствую, что обращаюсь в нечистого духа. Что
делать? Ответ уплачен. Василий Кринолинский».
Прочитав не одну сотню спиритических брошюр, Навагин
почувствовал сильное желание самому написать что-нибудь. Пять
месяцев он сидел и сочинял, и, в конце концов, написал громадный
реферат под заглавием: «И мое мнение». Кончив эту статью, он
порешил отправить ее в спиритический журнал.
День, в который было предположено отправить статью, ему
очень памятен. Навагин помнит, что в этот незабвенный день у
него в кабинете находились секретарь, переписывавший набело
статью, и дьячок местного прихода, позванный по делу. Лицо
Навагина сияло. Он любовно оглядел свое детище, потрогал меж
пальцами, какое оно толстое, счастливо улыбнулся и сказал
секретарю:
— Я полагаю, Филипп Сергеич, заказным отправить. Этак
вернее... — И подняв глаза на дьячка, он сказал: — Вас я велел
позвать по делу, любезный. Я отдаю младшего сына в гимназию
и мне нужно метрическое свидетельство, только нельзя ли
поскорее,
m
— Очень хорошо-с, ваше превосходительство!—сказал дьячок»
кланяясь. — Очень хорошо-с! Понимаю-с...
— Нельзя ли к завтрему приготовить?
' — Хорошо-с, ваше превосходительство, будьте покойны-с!
Завтра же будет готово! Извольте завтра прислать кого-нибудь в
церковь перед вечерней. Я там буду. Прикажите опросить Федюкова,
я всегда там...
— Как?! — крикнул генерал, бледнея.
— Федюков а-с.
— Вы... вы Федюков?—спросил Навагин, тараща на него
глаза.
— Точно так, Федюков.
— Вы... вы расписывались у меня в передней?
— Точно так, — сказал дьячок и сконфузился. — Я, ваше
превосходительство, когда мы с крестом ходим, всегда у вельможных
особ раописуюсь... Люблю θτο самое... Как увижу, извините, лист
в передней, так и тянет меня имя свое записать...
В немом отупении, ничего не понимая, не слыша, Навагин
зашагал по кабинету. Он потрогал портьеру у двери, раза три
взмахнул правой рукой, как балетный jeune-pretraieT *f видящий ее,
посвистал, бессмысленно улыбнулся, указал в пространство
пальцем.
— Так я сейчас пошлю статью, ваше превосходительство, —
оказал секретарь.
Эти слова вывели Навагина из забытья. Он тупо оглядел
секретаря и дьячка, вспомнил и, раздраженно топнув ногой,
крикнул дребезжащим, высоким тенором:
— Оставьте меня в покое! А-ас-тавь-те меня в покое, говорю
я вам! Что вам нужно от меня, не понимаю?
Секретарь и дьячок вышли из кабинета и были уже на улице,
а он все еще топал ногами и кричал:
— Аставьте меня в покое! Что вам нужно от меня, не
понимаю? А-ас-тавь^ге меня в покое!
Канитель
На клиросе стоит дьячок Отлукавин и держит между
вытянутыми, жирными пальцами огрызенное гусиное перо. Маленький
лоб его собрался в морщины, на носу играют пятна всех цветов,
начиная с розового и кончая темносиним. Перед ним на рыжем
переплете Цветной Триоди лежат две бумажки. На одной из них
написано «о здравии», на другой — «за упокой», и под обоими
заглавиями по ряду имен... Около клироса стоит маленькая
старушонка с озабоченным лицом и с котомкой на спине. Она
задумалась.
* Первый танцовщик.
— Дальше кого?—спрашивает .дьячок, лениво почесывая за
ухом. — Скорей, убогая, думай, а то мне некогда. Сейчас часы
читать стану.
— Сейчас, батюшка... Ну, пиши... О здравии рабов божиих:
Андрея и Дарьи со чады... Митрия, опять Андрея, Антипа,
Марьи...
— Постой, не шибко... Не за зайцем скачешь, успеешь.
— Написал Марию? Ну, твперя Кирилла, Гордея, младенца
новопреставленного Герасима, Пантелея... Записал усопшего
Пантелея?
— Постой... Пантелей помер?
— Помер... — вздыхает старуха.
— Так как же ты велишь о здравии записывать? — сердится
дьячок, зачеркивая Пантелея и перенося его на другую
бумажку. — Вот тоже еще... Ты говори толком, а не путай. Кого еще за
упокой?
— За упокой? Сейчас... постой... Ну, пиши... Ивана, Авдотью,
еще Дарью, Егора... Запиши... воина Захара... Как пошел на
службу в четвертом году, так с той поры и не слыхать...
— Стало-быть он помер?
— А кто ж его знает! Может, помер, а может, и жив... Ты
пиши...
— Куда же я его запишу? Ежели, скажем, помер, то за
упокой, коли жив, то о здравии... Пойми вот вашего брата!
— Гм!.. Ты, родименький, его на обе записочжи запиши, а там
видно будет. Да ему все равно, как его ни записывай: непутящий
человек... пропащий... Записал? Теперя за упокой Марка, Левон-
тия, Арину... ну, и Кузьму с Анной..., болящую Федосью...
— Болящую-то Федосью за упокой? Тк>!
— Это меня-то за упокой? Ошалел, что ли?
— Тьфу! Ты, кочерыжка, меня запутала! Не померла еще, так
и говори, что не померла, а нечего в зауотокой лезть! Путаешь тут!
Изволь вот теперь Федосью херить и в другое место писать... всю
бумагу изгадил! Ну, слушай, я тебе прочту... О здравии Андрея,
Дарьи со чады, паки Андрея, Антипия, Марии, Кирилла,
новопреставленного младенца Гер... Постой, как же сюда этот Герасим
попал? Новопреставленный, и вдруг — о здравии! Нет, запутала
ты меня, убогая! Бог с тобой, совсем запутала!
Дьячок крутит головой, зачеркивает Герасима и переносит его
в заупокойный отдел.
— Слушай! О здравии Марии, Кирилла, воина Захарии... Кого
еще?
— Авдотью записал?
— Авдотью? Гм! Авдотию... Евдокию...—-пересматривает
дьячок обе бумажки. — Помню, записывал ее, а теперь шут ее знает...
никак не найдешь... Вот она! За упокой записана!
— Авдотью-то за упокой?—удивляется старуха. — Году еще
нет, как замуж вышла, а ты на нее уж смерть накликаешь! Сам
вот, сердешный, путаешь, а на меня злобишься. Ты с молитвой
пиши, а коли будешь в сердце злобу иметь, то бесу радость. Это
тебя бес хороводит да путает...
— Постой, не мешай...
Дьячок хмурится и, подумав, медленно зачеркивает на
заупокойном листке Авдотью. Перо на букве «д» взвизгивает и дает
большую кляксу. Дьячок конфузится и чешет затылок.
— Авдотью, стало-быть, долой отсюда... — бормочет он
смущенно:— а записать ее туда... Так? Постой... Ежели ее туда, то
будет о здравии, ежели же сюда, то за упокой... Совсем запутала
баба! И этот еще воин Захария встрял сюда... Шут его принес...
Ничего не разберу! Надо сызнова...
Дьячок лезет в шкапчик и достает оттуда осьмушку чистой
бумаги.
— Выкинь Захарию, коли так... — говорит старуха. — Уж бог
с ним, выкинь...
— Молчи!
Дьячок макает медленно перо и списывает с обеих бумажек
имена на новый листок.
— Я их всех гуртом запишу, — говорит он: —а ты неси к отцу
дьякону... Пущай дьякон разберет, кто здесь живой, кто мертвый;
он в семинарии обучался, а я этих самых делов... хоть убей, ничего
не понимаю.
Старуха берет бумажку, подает дьячку старинные полторы
копейки и семенит к алтарю.
У предводительши
Первого февраля каждого года, в день св. мученика Трифона,
в имении вдовы бывшего уездного предводителя Трифона
Львовича Завзятова бывает необычайное движение. В этот день вдова
предводителя Любовь Петровна служит по усопшем имениннике
панихиду, а после панихиды—благодарственное господу богу
молебствие. На панихиду съезжается весь уезд. Тут вы увидите
теперешнего предводителя Хрумова, председателя земской управы
Марфуткина, непременного члена Потрашкова, обоих участковых
мировых, исправника Кринолинова, двух становых, земского врача
Дворнягина, пахнущего йодоформом, всех помещиков, больших и
малых, и проч. Всего набирается человек около пятидесяти.
Ровно в 12 часов дня гости, вытянув физиономии, пробираются
из всех комнат в залу. На полу ковры, и шаги бесшумны, но
торжественность случая заставляет инстинктивно подниматься на
цыпочки и балансировать при ходьбе руками. В зале уже все готово.
Отец Евмений, маленький старичок, в высокой, полинявшей
камилавке, надевает черные ризы. Дьякон Конкордиев, красный, как
рак, и уже облаченный, бесшумно перелистывает требник и
закладывает в него бумажки. У двери, ведущей в переднюю, дьячок
Лука, надув широко Щеки и выпучив глаза, раздувает кадило.
Зала постепенно наполняется синеватым, прозрачным дымком и
запахом ладана. Народный учитель Гелюконский, молодой человек,
в новом, мешковатом сюртуке и с большими угрями на испуганном
лице, разносит на мельхиоровом подносе восковые свечи. Хозяйка
Любовь Петровна стоит впереди около столика с кутьей и заранее
прикладывает к лицу платок. Кругом тишина, изредка
прерываемая вздохами. Лица у всех натянутые, торжественные...
Панихида начинается. Из кадила струится синий дымок и
играет в косом солнечном луче, зажженные свечи слабо
потрескивают. Пение, сначала резкое и оглушительное, вскоре, когда певчие
малонпо-малу приспособляются к акустическим условиям комнат,
делается тихим, стройным... Мотивы все печальные, заунывные...
Гости мало-по-малу настраиваются на меланхолический лад и
задумываются. В головы их лезут мысли о краткости жизни
человеческой, о бренности, суете мирской... Припоминается покойный
Завзятое, полный, краснощекий, выпивавший залпом бутылку
шампанского и разбивавший лбом зеркала. А когда поют «Со святыми
упокой» и слышатся всхлипыванья хозяйки, гости начинают
тоскливо переминаться с ноги на ногу. У более чувствительных
начинает почесываться в горле и около век. Председатель земской
управы Марфуткин, желая заглушить неприятное чувство,
нагибается к уху исправника и шепчет:
— Вчера я был у Ивана Федорыча... С Петром Петровичем
большой шлем на без козырях взяли... Ей-богу... Ольга
Андреевна до того взбеленилась, что у нее изо рта искусственный зуб
выпал.
Но вот поется «Вечная память». Геликонский почтительно
отбирает свечи, и панихида кончается. За сим следует минутная
суматоха, перемена риз и молебен. После молебна, пока отец Евме-
ний разоблачается, гости потирают руки и кашляют, а хозяйка
рассказывает о доброте покойного Трифона Львовича.
— Прошу, господа, закусить! — оканчивает она свой рассказ,
вздыхая.
Гости, стараясь не толкаться и не наступать друг другу на
ноги, спешат в столовую... Тут ожидает их завтрак. Этот завтрак
до того роскошен, что дьякон Конкордиев ежегодно, при взгляде
на него, считает своею обязанностью развести руками, покачать в
изумлении головой и сказать:
— Сверхъестественно! Это, отец Евмений, не столько похоже
на пищу человеков, сколько на жертвы, приносимые богам.
Завтрак, действительно, необыкновенен. На столе есть все, что
только могут дать флора и фауна, сверхъестественного же в нем
разве только одно: на столе есть все, кроме... спиртных напитков.
Любовь Петровна дала обет не держать в доме карт и спиртных
напитков — двух вещей, погубивших ее мужа. И на столе стоят
только бутылки с уксусом и маслом, словно насмех и в наказание
завтракающим, всплошную состоящим из отчаянных пропойц и
выпивох.
365
— Кушайте, господа! — приглашает предводительша.— Только,
Извините, водки у меня нет... Не держу...
Гости приближаются к столу и нерешительно приступают к
пирогу. Но еда не клеится. В тыканьи вилками, в резаньи, в же-
ваньи видна какая-то лень, апатия... Видимо чего-то нехватает.
— Чувствую, словно потерял что-то... — шепчет один мировой
другому. — Такое же чувство было у меня, когда жена с
инженером бежала... Не могу есть!
Марфуткин, прежде чем начать есть, долго роется в карманах
и ищет носовой платок.
— Да ведь платок в шубе! А я-то ищу, — вспоминает он
громогласно и идет в переднюю, где повешены шубы.
Из передней возвращается он с масляными глазками и тотчас
же аппетитно набрасывается на пирог.
— Что, небось, противно в сухомятку трескать? — шепчет он
отцу Евмению. — Ступай, батя, в переднюю, там у меня в шубе
бутылка есть... Только смотри, поосторожней, бутылкой не звякни!
Отец Евмений вспоминает, что ему нужно приказать что-то
Луке, и семенит в переднюю.
— Батюшка! два слова... по секрету!—догоняет его Двор-
нягин.
— А какую я себе шубу купил, господа, по случаю! —хвастает
Хрумов. — Стоит тысячу, а я дал... вы не поверите... двести
пятьдесят! Только!
Во всякое другое время гости встретили бы это известие
равнодушно, но теперь они выражают удивление и не верят. В конце-
концов, все валят толпой в переднюю глядеть на шубу и глядят
до тех пор, пока докторский Микешка не выносит тайком из
передней пять пустых бутылок... Когда подают разварного осетра,
Марфуткин вспоминает, что он забыл свой портсигар в санях и
идет в конюшню. Чтобы одному не скучно было итти, он берет
с собою дьякона, которому кстати же нужно поглядеть на лошадь...
Вечером того же дня Любовь Петровна сидит у себя в кабинете
и пишет старинной петербургской подруге письмо:
«Сегодня, по примеру прошлых лет, —пишет она, между
прочим, — у меня была панихида по покойном. Были на панихиде все
мои соседи. Народ грубый, простой, но какие сердца! Угостила
я их на славу, но, конечно, как и в те годы, горячих напитков —
ни капли. С тех пор, как он умер от излишества, я дала себе
клятву водворить в нашем уезде трезвость и этим самым искупить
его трехи. Проповедь трезвости я начала со своего дома. Отец
Евмений в восторге от моей задачи и помогает мне словом и
делом. Ах, ma dhére, если б ты знала, как любят меня мои медведи!
Председатель земской управы Марфуткин после завтрака припал
к моей руке, долго держал ее у своих губ и, смешно замотав
головой, заплакал: много чувства, но нет слов! Отец Евмений, этот
чудный старикашечка, подсел ко мне и, слезливо глядя на меня,
лепетал долго что-то, как дитя. Я не поняла его слов, но понять
искреннее чувство я умею. Исправник, тот красивый мужчина, о
366
котором я тебе писала, стал передо мной на колени, хотел прочесть
стихи своего сочинения (он у нас поэт), но... нехватило сил...
покачнулся и упал... С великаном сделалась истерика... Можешь
представить мой восторг! Не обошлось, впрочем, и без
неприятностей. Бедный председатель мирового съезда Алалыкин, человек
полный и апоплексический, почувствовал себя дурно и пролежал
на диване в бессознательном состоянии два часа. Пришлось
отливать его водой... Спасибо доктору Дворнягину: принес из своей
аптеки бутылку коньяку и помочил ему виски, отчего тот скоро
пришел о себя и был увезен...».
Певчие
С легкой руки мирового, получившего письмо из Питера,
разнеслись слухи, что скоро в Ефремово прибудет барин, граф
Владимир Иванович. Когда он прибудет, — неизвестно.
— Яко тать в нощи, — говорит отец Кузьма, маленький,
седенький попик в лиловой ряске. — А ежели он приедет, то и
прохода здесь не будет от дворянства я прочего высшего сословия.
Все соседи съедутся. Уж ты тово... постарайся, Алексей
Алексеевич... Сердечно прошу...
— Мне-то что! — говорит Алексей Алексеевич, хмурясь. —
Я свое дело сделаю. Лишь бы только мой враг ектению в тон
читал. А то ведь он на зло...
— Ну, ну... я умолю дьякона... умолю...
Алексей Алексеевич состоит псаломщиком при ефремовской
Трехсвятительской церкви. В то же время он обучает школьных
мальчиков церковному и светскому пению, за что получает от
графской конторы шестьдесят рублей в год. Школьные же
мальчики за свое обучение обязаны петь в церкви. Алексей Алексеевич,
высокий, плотный мужчина с солидною походкой н бритым,
жирным лицом, похожим на коровье вымя. Своею статностью и
двухэтажным подбородком он более похож на человека, занимающего
не последнюю ступень в высшей светской иерархии, чем на дьячка.
Странно было глядеть, как он, статный и солидный, бухал владыке
земные поклоны и как однажды, после одной слишком громкой
распри с дьяконом Евлампием Авдиесовым, стоял два часа на
коленях, по приказу отца благочинного. Величие более прилично его
фигуре, чем унижение.
В виду слухов о приезде графа, он делает спевки каждый день
утром и вечером. Спевки производятся в школе. Школьным
занятиям они мало мешают. Во время пения, учитель Сергей Макарыч
задает ученикам чистописание и сам присоединяется к тенорам, как
любитель.
Вот как производятся спевки. В классную комнату, хлопая
дверью, входит сморкающийся Алексей Алексеевич. Из-за учени-
367
ческих столов с шумом выползают дисканты и альты. Со двора,
стуча ногами, как лошади, входят давно уже ожидающие тенора и
басы. Все становятся на свои места. Алексей Алексеевич
вытягивается, делает знак, чтобы молчали, и издает камертоном звук.
— То-то-ти-то-том... До^ми-соль-до!
— А-а-а^минь!
— Адажьо... адажьо... Еще раз...
После «аминь» следует «Господи помилуй» великой ектений. Все
вто давно уже выучено, тысячу раз пето, пережовано и поется
только так, для проформы. Поется лениво, бессознательно.
Алексей Алексеевич покойно машет рукой и подпевает то тенором, то
басом. Все тихо, ничего интересного... Но перед «Херувимской»
весь хор вдруг начинает сморкаться, кашлять и усиленно
перелистывать ноты. Регент отворачивается от хора и с таинственным
выражением лица начинает настраивать скрипку. Минуты две длятся
приготовления.
— Становитесь. Глядите в ноты получше... Басы, не
напирайте... помягче...
Выбирается «Херувимская» Бортнянского, № 7. По данному
знаку наступает тишина. Глаза устремляются в ноты, и дисканты
раскрывают рты. Алексей Алексеевич тихо опускает руку.
— Пиано... пиано... Ведь там «пиано» написано... Легче, легче!
— ... ви... и... мы...
Когда нужно петь пиано, на лице Алексея Алексеевича разлита
доброта, ласковость, словно он хорошую закуску во сне видит·
— Форте... форте! Напирайте!
И когда нужно петь форте, жирное лицо регента выражает
сильный испуг и даже ужас.
«Херувимская» поется хорошо, так хорошо, что школьники
оставляют свое чистописание и начинают следить за движениями
Алексея Алексеевича. Под окнами останавливается народ. Входит
в класс сторож Василий в фартуке, со столовым ножом в руке, и
заслушивается. Как из земли вырастает отец Кузьма с
озабоченным лицом... После «отложим попечение» Алексей Алексеевич
вытирает со лба пот и в волнении подходит к отцу Кузьме.
— Недоумеваю, отец Кузьма!—говорит он, пожимая
плечами.— Отчего это в русском народе понимания нет? Недоумеваю,
накажи меня бог! Такой необразованный народ, что никак не
«разберешь, что у него там в горле: глотка, или другая какая
внутренность? Подавился ты, что ли?—обращается он к басу
Геннадию Семичеву, брату кабатчика.
— А что?
— На что у тебя голос похож? Трещит словно кастрюля.
Опять, небось, вчерась трахнул за галстук? Так и есть! Изо .рта,
как из кабака... Э^эх! Мужик, братец, ты! Невежа ты! Какой же
ты певчий, ежели ты с мужиками в кабаке компанию водишь? Эх,
ты осел, братец!
— Грех, брат, грех... — бормочет отец Кузьма. — Бог все
видит... насквозь...
368
— Оттого ты и пения нисколько не понимаешь, что у тебя в
мыслях водка, а не божественное, дурак ты этакой.
— Не раздражайся, не раздражайся... — говорит отец
Кузьма.— Не сердись... Я его умолю.
Отец Кузьма подходит к Геннадию Семичеву и начинает его
умолять:
— Зачем же ты? Ты, тово, пойми у себя в уме. Человек,
который поет, должен себя воздерживать, потому что глотка у него
того... нежная.
Геннадий чешет себе шею и косится на окно, точно не к нему
речь.
После «Херувимской» поют «Верую», потом «Достойно и
праведно», поют чувствительно, гладенько — и так до «Отче наш».
— А по-моему, отец Кузьма, — говорит регент:—простое
«Отче наш» лучше нотного. Его бы и спеть при графе.
— Нет, нет... Пой нотное... Потому граф в столицах, к
обедне ходючи, окроме нотного ничего... Небось, там в' капеллах...
Там, брат, еще и не такие ноты!..
После «Отче наш» опять кашель, сморканье и перелистывание
нот. Предстоит исполнить самое трудное: концерт. Алексей
Алексеевич изучает две вещи: «Кто бог велий» и «Всемирную славу».
Что лучше выучат, то и будут петь при графе. Во время концерта
регент входит в азарт. Выражение доброты то и дело сменяется
испугом. Он машет руками, шевелит пальцами, дергает плечами...
— Форте! — бормочет он. — Анданте! Разжимайте...
разжимайте! Пой, идол! Тенора, не доносите! То-то-ти-то-том... Соль...
си... соль, дурья твоя голова! Велий! Басы, ве... ве... лий...
Его смычок гуляет по головам и плечам фальшивящих
дискантов и альтов. Левая рука то и дело хватает за уши маленьких
певцов. Раз даже, увлекшись, он согнутым большим пальцем бьет
под подбородок баса Геннадия. Но певчие не плачут и не сердятся
на побои: они сознают всю важность исполняемой задачи.
После концерта проходит минута в молчании. Алексей
Алексеевич, вспотевший, красный, изнеможенный, садится на
подоконник и окидывает присутствующих мутным, отяжелевшим, но
победным взглядом. В толпе слушателей он, к великому своему
неудовольствию, усматривает дьякона Авдиесова. Дьякон,
высокий, плотный мужчина, с красным, рябым лицом и с соломой в
волосах, стоит, облокотившись о печь, и презрительно ухмыляется·
— Ладно, пой! Выводи ноты! — бормочет он густым басом.—
Очень нужно грахву твое пение! Ему хоть по нотам пой, хоть без
нот... Потому — атеист...
Отец Кузьма испуганно озирается и шевелит пальцами.
— Ну, ну... — шепчет он. — Молчи, дьякон. Молю...
После концерта поют «Да исполнятся уста наша», и спевка
кончается. Певчие расходятся, чтобы сойтись вечером для новой
спевки. И так каждый день.
Проходит месяц, другой...
Уже и управляющий получил уведомление о скором приезде
24-22 ^
графа. Но вот, наконец, с господских окон снимаются запыленные
жалюзи, и Ефремово слышит звуки разбитого, расстроенного
рояля. Отец Кузьма чахнет и сам не знает, отчего он чахнет: от
восторга ли, от испуга ли... Дьякон ходит и ухмыляется.
В ближайший субботний вечер отец Кузьма входит в квартиру
регента. Лицо его бледно, плечи осунулись, блеск лиловой рясы
померк.
— Был сейчас у его сиятельства, — говорит он, заикаясь,
регенту. — Образованный господин, с деликатными понятиями... Но
тово... обидно, брат... В каком часу, говорю, ваше сиятельство,
прикажете завтра к литургии ударить? А они мне: «Когда знаете...
Только нельзя ли как-нибудь (поскорее, покороче... без певчих».
Без певчих! Того, понимаешь... без певчих...
Алексей Алексеевич багровеет. Легче ему еще раз простоять
два часа на коленях, чем этакие слова слышать! Всю ночь не спит
он. Не так обидно ему, что пропали его труды, как то, что
Авдиесов не даст ему теперь прохода своими насмешками. Авдиесов рад
его горю. На другой день всю обедню он презрительно косится на
клирос, где один, как перст, басит Алексей Алексеевич. Проходя
с кадилом мимо клироса, он бормочет:
— Выводи ноты, выводи! Старайся! Прахв красненькую на хор
даст!
После обедни регент, уничтоженный и больной от обиды, идет
домой. У ворот догоняет его красный Авдиесов.
— Постой, Алеша, — говорит дьякон. — Постой, дура, не
сердись! Не ты один, и я, брат, в накладе! Подходит сейчас после
обедни к грахву отец Кузьма и спрашивает: «А какого вы
понятия о голосе дьякона, ваше сиятельство? Не правда ли,
совершеннейшая октава?» А грахв-то, знаешь, что выразил? Конплимент!—
«Кричать, говорит, всякий может. Не так, говорит, важен в
человеке голос, как ум». Питерский дока! Атеист и есть атеист!
Пойдем, брат сирота, с обиды тарарахнем точию по единой!
И враги, взявшись под руки, идут в ворота...
Без заглавия
В V веке, как и теперь, каждое утро вставало солнце и
каждый вечер оно ложилось спать. Утром, когда с росою целовались
первые лучи, земля оживала, воздух наполнялся звуками радости,
восторга и надежды, а вечером та же земля затихала и тонула в
суровых потемках. День походил на день, ночь на ночь. Изредка
набегала туча, и сердито гремел гром, или падала с неба
зазевавшаяся звезда, или пробегал бледный монах и рассказывал братии,
что недалеко от монастыря он видел тигра — и только, а потом
опять день походил на день, ночь на ночь.
Монахи работали и молились богу, а их настоятель, старик,
370
играл на органе, сочинял латинские стихи и писал ноты. Этот
чудный старик обладал необычайным даром. Он играл на органе с
таким искусством, что даже самые старые монахи, у которых к
хонцу жизни притупился слух, не могли удержать слез, когда из
его кельи доносились звуки органа. Когда он говорил о чем-
нибудь, даже самом обыкновенном, например, о деревьях, зверях
или море, его нельзя было слушать без улыбки или без слез, и
казалось, что в душе его звучали такие же струны, как и в органе.
Если же он гневался или предавался сильной радости, или начинал
говорить о чем-нибудь ужасном и великом, то страстное
вдохновение овладевало им, на сверкающих «глазах выступали слезы, лицо
румянилось, голос гремел, как гром, и монахи, слушая его,
чувствовали, как его вдохновение сковывало их души; в такие
великолепные, чудные минуты власть его бывала безгранична, и если бы он
приказал своим старцам броситься в море, то они все до одного с
восторгом поспешили бы исполнить его волю.
Его музыка, голос и стихи, в которых он славил бога, небо и
землю, были для монахов источником постоянной радости. Бывало
так, что при однообразии жизни им прискучивали деревья, цветы,
весна, осень, шум моря утомлял их слух, становилось неприятным
пение птиц, но таланты старика-настоятеля, подобно хлебу, нужны
были каждый день.
Проходили десятки лет, и все день походил на день, ночь на
ночь. Кроме диких птиц и зверей, около монастыря не
показывалась ни одна душа. Ближайшее человеческое жилье находилось
далеко, и, чтобы пробраться к нему от монастыря или от него в
монастырь, нужно было пройти верст сто пустыней. Проходить
пустыню решались только люди, которые презирали жизнь,
отрекались от нее и шли в монастырь, как в могилу.
Каково же поэтому было удивление монахов, когда однажды
ночью в их ворота постучался человек, который оказался
горожанином и самым обыкновенным грешником, любящим жизнь.
Прежде чем попросить у настоятеля благословения и помолиться, этот
человек потребовал вина и есть. На вопрос, как он попал из
города в пустыню, он отвечал длинной охотничьей историей: пошел на
охоту, выпил лишнее и заблудился. На предложение поступить в
монахи и спасти свою душу он ответил улыбкой и словами:
«Я вам не товарищ».
Наевшись и налившись, он оглядел монахов, которые
прислуживали ему, покачал укоризненно головой и сказал:
— Ничего вы не делаете, монахи. Только и знаете, что едите
да пьете. Разве так спасают душу? Подумайте: в то время как вы
сидите тут в покое, едите, пьете и мечтаете о блаженстве, ваши
ближние погибают и идут в ад. Поглядите-ка, что делается в
городе! Одни умирают с голоду, другие, не зная, куда девать свое
золото, топят себя в разврате и гибнут, как мухи, вязнущие в
меду. Нет в людях ни веры, ни правды. Чье же дело спасать их?
Чье дело проповедывать? Не мне ли, который от утра до вечера
пьян? Разве смиренный дух, любящее сердце и веру бог дал вам
24* 311
на то, чтобы вы сидели здесь в четырех стенах и ничего не делали)
Пьяные слова горожанина были дерзки и неприличны, но
странным рбразом подействовали на настоятеля. Старик
переглянулся со своими монахами, побледнел и оказал:
— Братья, а ведь он правду говорит! В самом деле, бедные
люди по неразумию и слабости гибнут в пороке и неверии, а мы
не двигаемся с места, к: χ будто нас это не касается. Отчего мне
не пойти и не напомнить им о Христе, которого они забыли?
Слова горожанина увлекли старика; на другой же день он взял
свою трость, простился с братией и отправился в город. И монахи
остались без музыки, без его речей и стихов.
Проскучали они месяц, другой, а старик не возвращался.
Наконец, после третьего месяца послышался знакомый стук его
трости. Монахи бросились к нему навстречу и осыпали его вопросами,
но он вместо того, чтобы обрадоваться им, горько заплакал и не
сказал ни одного слова. Монахи заметили: он сильно состарился
и похудел; лицо его было утомлено и выражало глубокую скорбь,
а когда он заплакал, то имел вид человека, которого оскорбили.
Монахи тоже заплакали и с участием стали расспрашивать,
зачем он плачет, отчего лицо его так угрюмо, но он не оказал ни
слова и заперся в своей келье. Семь дней сидел он у себя, ничего
не ел, не пил, не играл на органе и плакал. На стук в его дверь и
на просьбу монахов выйти и поделиться с ними своею печалью он
отвечал глубоким молчанием.
Наконец, он вышел. Собрав вокруг себя всех монахов, он с
заплаканным лицом и с выражением скорби и негодования начал
рассказывать о том, что было с ним в последние три месяца. Голос
его был спокоен, и глаза улыбались, когда он описывал свой путь
от монастыря до города. На пути, говорил он, ему пели птицы,
журчали ручьи, и сладкие молодые надежды волновали его душу;
он шел и чувствовал себя солдатом, который идет на бой и уверен
в победе; мечтая, он шел и слагал стихи и гимны и не заметил,
как кончился путь.
Но голос его дрогнул, глаза засверкали, и весь он распалился
гневом, когда стал говорить о городе и людях. Никогда в жизни
он не видел, даже не дерзал воображать себе то, что он встретил,
войдя в город. Только тут, первый раз в жизни, на старости лет,
он увидел и понял, как могуч дьявол, как прекрасно зло и как
слабы, малодушны и ничтожны люди. По несчастной случайности,
первое жилище, в которое он вошел, был дом разврата. С
полсотни человек, имеющих много денег, ели и без меры пили вино.
Опьяненные вином, они пели песни и смело говорили страшные,
отвратительные слова, которых не решится сказать человек,
боящийся бога; безгранично свободные, бодрые, счастливые, они не
боялись ни бога, ни дьявола, ни смерти, а говорили и делали все, что
хотели, шли туда, куда гнала их похоть. А вино чистое, как
янтарь, подернутое золотыми искрами, вероятно было нестерпимо
сладко и пахуче, потому что каждый пивший блаженно улыбался
и хотел еще пить. На улыбку человека оно отвечало тоже улыб-
372
кои и, когда его пили, радостно искрилось, точно знало, какую
дьявольскую прелесть таит оно в своей сладости.
Старик, все больше распаляясь и плача от гнева, продолжал
описывать то, что он видел. На столе, среди пировавших, говорил
он, стояла (полунагая блудница. Трудно представить себе и найти
в природе что-нибудь более прекрасное и пленительное. Эта
гадина, молодая, длинноволосая, смуглая, с черными глазами и с
жирными губами, бесстыдная и наглая, оскалила свои белые, как снег,
зубы и улыбалась, как^будто хотела сказать: «Поглядите, какая я
наглая, какая красивая!». Шелк и парча красивыми складками
спускались с ее плеч, но красота не хотела прятаться под одеждой,
а как молодая зелень из весенней почвы жадно пробивалась сквозь
складки. Наглая женщина пила вино, пела песни и отдавалась
всякому, кто только хотел.
Далее старик, гневно потрясая руками, описал конские
ристалища, бой быков, театры, мастерские художников, где пишут и
лепят из глины нагих женщин. Говорил он вдохновенно, красиво и
звучно, точно играл на невидимых струнах, а монахи, оцепеневшие,
жадно внимали его речам и задыхались от восторга... Описав все
прелести дьявола, красоту зла и пленительную грацию
отвратительного женского тела, старик проклял дьявола, повернул назад
и скрылся за своей дверью.
Когда он на другое утро вышел из кельи, в монастыре не
оставалось ни одного (монаха. Все они бежали в город.
М. ГОРЬКИЙ
(1868—1936)
Жизнь Клима Самгина
(Отрывок)
...Самгин воспроизвел в памяти картину собрания кружка
людей, «взыскующих града», — его пригласила на собрание этого
кружка Лидия Варавка.
В помещение под вывеской «Магазин мод» входят, осторожно
и молча, разнообразно одетые, но одинаково смирные люди,
снимают верхнюю одежду, складывая ее на прилавки, засовывая на
пустые полки; затем они «гуськом» идя друг за другом,
спускаются по четырем ступенькам в большую, узкую и длинную
комнату, с двумя окнами в ее задней стене, с голыми стенами, с печью
и плитой в углу, у входа: очевидно — это была мастерская. В
комнате— сумрачно, от стен исходит запах клейстера и сырости. На
573
черных и желтых венских стульях неподвижно и безмолвно сидят
люди, десятка три-четыре мужчин и женщин, лица их стерты
сумраком. Некоторые согнулись, опираясь локтями о колена, а один
так наклонился вперед, что непонятно было: почему он не падает?
Кажется, что многие обезглавлены. Впереди, в простенке между
окнами, за столом, покрытым зеленой клеенкой, — Лидия, тонкая,
плоская, в белом платье, в сетке на курчавой голове и в синих
очках. Перед нею — лампа под белым абажуром, две стеариновые
свечи, толстая книга в желтом переплете; лицо Лидии —
зеленоватое, на нем отражается цвет клеенки; в стеклах очков дрожат огни
свеч; Лидия кажется выдуманной на страх людям. В ее фигуре
есть нечто театральное, отталкивающее. Поглядывая в книгу,
наклоняя и взбрасывая голову, она гнусаво, в нос читает:
— «Говорящего в духе — не осуждайте, потому что не плоть
проповедует, а дух, дух же осуждать — смертный грех. Всякий
грех простится, а этот — никогда».
Отделив от книги длинный листок, она приближает его к лампе
и шевелит губами молча. В углу, недалеко от нее, сидит Марина,
скрестив руки на груди, вскинув голову; яркое лицо ее очень
выгодно подчеркнуто пепельно-серым фоном стены.
— Начни, сестра София, во имя отца и сына и святого духа, —
говорит Лидия, свертывая бумагу трубкой.
Рядом с Мариной — Кормилицын, писатель по вопросам
сектантства, человек с большой седоватой бородой на мягком лице
женщины, — лицо его всегда выражает уныние одинокой,
несчастной вдовы; сходство с женщиной добавляется его выгнутой грудью.
Самгин нередко встречался с ним . в Москве и даже, в свое
время, завидовал ему, зная, что Кормилицын достиг той цели,
которая соблазняла и его, Самгина; писатель тоже собрал
обширную коллекцию нелегальных стихов, открыток, статей,
запрещенных цензурой; он славился тем, что первый узнавал анекдоты из
жизни министров, епископов, губернаторов, писателей и, вообще,
упорно, как судебный следователь, подбирал все, что рисовало
людей пошлыми, глупыми, жестокими, преступными. Слушая его
анекдоты, Самгин, бывало, чувствовал, что человек этот гордится
своими знаниями, как гордился бы ученый исследователь, но
рассказывает всегда с тревогой, с явным желанием освободиться от
нее, внушив ее слушателям. К столу Лидии подошла пожилая
женщина в черном платье, с маленькой головой и остроносым
лицом, взяла в руки желтую библию « неожиданно густым,
сумрачным голосом возгласила:
— Пророка Исайи, глава двадцать четвертая!
Раскрыв тяжелую книгу, она воткнула в нее острый нож,
зашелестели страницы, «взыскующие града» пошевелились, раздался
скрип стульев, шарканье ног, осторожный кашель, — женщина,
взмахнув головою в черном платке, торжественно и мстительно
прочитала:
— «Се Господь рассыплет вселенную и опустошит ее, открыет
лицо ее и расточит живущие на ней».
374
У плиты, в углу, кто-то глухо зарычал.
— «Тлением истлеет земля и расхищением расхищена будет
земля», —■ с большей силой и все более мстительно читала
женщина:
— «Восплачет земля»...
Шум около печки возрастал; Марина, наклонясь к Лидии, что-
то сказала ей, тогда Лидия, (постукивая ключом по столу, строго
крикнула:
— Тише!
Сквозь ряды стульев шел человек и громко, настойчиво говорил:
— Так я ж ничого ни розумию! Сначала — рассыпле, после —
лицо открое... И все это, опростите! — известно; земля вже плаче
от разрушения средств хозяйства...
Человек был небольшой, тоненький, в поддевке и ярко
начищенных сапогах, над его низким лбом торчала щетка черных,
коротко остриженных волос, на круглом бритом лице топырились
усы — слишком большие для его лица, говорил он звонко и
капризно.
— И никак невозможно понять, кто допускает расхищение
трудов и зачем царь отказуется править народом...
Неестественно согнувшийся человек выпрямился, встал и,
протянув длинную руку, схватил черненького за плечо, — тот гневно
вскричал:
— Чего вы хватаетесь.
— Здесь собрались люди...
— Да — я вижу, что люди...
— Побеседовать не о том, о чем говоришь ты, брат...
— Как же не о том?
Кто-то засмеялся, люди сердито ворчали, Лидия встряхивала
слабозвучный колокольчик; человек, который остановил
черненького капризника, взглянул в угол, на Марину, — она сидела все так
же неподвижно.
«Идол», — подумал Самгин.
В переднем ряду встала женщина и веселым голосом крикнула:
— Это Лукин, писарь из полиции — притворяется, усы-то
налеплены...
— Выведите его, — истерически взвизгнула Лидия.
Самгину показалось, что глаза Марины смеются. Он заметил,
что многие мужчины и женщины смотрят на нее, не отрываясь,
покорно, даже как будто с восхищением. Мужчин могла соблазнить
ее величавая красота, а женщин чем привлекала она? Неужели
она проповедует здесь? Самгин нетерпеливо ждал. Запах сырости
становился теплее, гуще. Тот, кто вывел писаря, возвратился,
подошел к столу и согнулся над ним, говоря что-то Лидии; она
утвердительно кивала головой, и казалось, что от очков ее
отскакивают синие огни...
— Хорошо, брат Захарий, — сказала она. Захарий разогнулся,
был он высокий, узкоплечий, немного сутулый, лицо неподвижное,
очень бледное — в густой, черной бороде.
ЗТо
— Брат Василий, — позвала Лидия.
Из сумрака выскочил, побежал к столу лысый человек, с
рыжеватой реденькой бородкой, — ом тащил за руку женщину в
клетчатой юбке, красной кофте, в «пестром платке на плечах.
— Иди, иди,—не бойся! — говорил он, дергая руку женщины,
хотя она шла так же быстро, как сам он. — Вот, братья, сестры,
вот — новенькая! — бросал он направо и налево шипящие, горячие
слова. — Мученица плоти, ох какая! Вот — она расскажет страсти,
до чего доводит нас плоть, игрушка диаволова...
Доведя женщину до стола, он погрозил ей пальцем:
— Ты — честно, Таисья, все говори, как было, не стыдись,
здесь люди богу служить хотят, перед богом стыда нету!
Он отскочил в сторону, личико его тревожно и радостно
дрожало, он размахивал руками, притопывал, точно собираясь
плясать, полы его сюртука трепетали подобно крыльям гуся, и
торопливо трещал сухой голосок:
— Тут, братья-сестры, обнаружится такое...
И не найдя определяющего слова, он крикнул:
«— Ну, начинай, рассказывай, говори — Таисья...
Женщина стояла, опираясь одной рукой о стол, поглаживая
другою подбородок, горло, дергая коротенькую, толстую косу;
лицо у нее — смуглое, пухленькое, девичье, глаза круглые,
кошачьи; резко очерченные губы. Она повернулась спиною к Лидии и,
закинув руки за спину, оперлась ими о край стола, — казалось, что
она падает; груди и живот ее торчали выпукло, вызывающе, и
Самгин отметил, что в этой позе есть что-то неестественное,
неудобное и нарочное.
— Отец мой лоцманом был на Волге!—крикнула она, резкий
крик этот, должно быть, смутил ее, — она закрыла глаза и стала
говорить быстро, невнятно.
— Ничего не слышно,—строго сказала остроносая сестра
Софья, а суетливый брат Василий горестно вскричал:
— Эх, Таисья, портишь дело! Портишь!
Кормилицын встал и осторожно поставил стул впереди Таи-
сьи, — она охватила обеими руками спинку стула и кивком головы
перекинула косу за плечо.
— На двенадцатом году отдала меня мачеха в монастырь,
рукоделию учиться и грамоте,—сказала она медленно и громко.—
После той, пьяной жизни, хорошо показалось мне в монастыре-то,
там я и жила пять лет.
Смуглое лицо ее стало неподвижно, шевелились только детски
пухлые губы красивого рта. Говорила сердито, ломким голосом, с
неожиданными выкриками. Пальцы ее судорожно скользили по
дуге спинки стула, тело выпрямилось, точно она росла.
— Жених был, неказистый, рыжеватый, наянливый такой...
Пакостник!—вдруг вскрикнула она.
— Во-от, вот оно!—с явным восхищением и сладостно
воскликнул брат Василий.
Все другие сидели смирно, безмолвно, — Самгину казалось уже,
376
что и от соседей его исходит запах клейкой сырости. Но
раздражающая скука, которую он испытывал до рассказа Таисьи,
исчезла. Он нашел, что фигура этой женщины напоминает Дуняшу:
такая же крепкая, отчетливая, такой же маленький красивый рот.
Посмотрев на Марину, он увидел, что писатель шепчет что-то ей,
а она сидит все так же величественно.
Совершенный идол, снова подумал он, досадуя, что не может
обнаружить отношения Марины ко всему, что происходит здесь.
— Вскоре после венца он и начал уговаривать меня, — если
хозяин попросит, не отказывай ему, я не обижусь, а жизни нашей
польза будет, — рассказывала Таисья, не жалуясь, но как бы
издеваясь. — А они — оба приставали, и хозяин и зять его. Ну, что
же?—крикнула она, взмахнув головой, кошачьи глаза ее
вспыхнули яростью. — С хозяином я валялась по мужеву приказу, а с
зятем его —в отместку «мужу...
— Эге-е! — насмешливо раздалось из сумрака, люди
заворчали, зашевелились. Лидия привстала, взмахнула рукою с ключом,
чернобородый Захарий пошел на голос и зашипел; тут Самгину
показалось, что Марина улыбается. Но осторожный шумок
потонул в быстром потоке крикливой и уже почти истерической речи
Таисьи.
— С ним, с зятем, и застигла меня жена его, хозяинова дочь,
в саду, в беседке. Сами же, дьяволы, лишили меня стыда и сами
уговорились наказать стыдом.
Она задохнулась, замолчала, двигая стул, постукивая ножками
его по полу, глаза ее фосфорически блестели, раза два она
открывала рот, но, видимо, не в силах оказать слова, дергала головою,
закидывая ее так высоко, точно невидимая рука наносила удары в
подбородок ей. Потом, оправясь, она продолжала осипшим
голосом, со свистом, точно сквозь зубы.
— В-вывезли в лес, раздели догола, привязали руки, ноги к
березе, близко от муравьиной кучи, вымазали все тело патокой,
сели, сами-то все трое — муж, да хозяин с зятем, насупротив,
водочку пьют, табачок покуривают, издеваются над моей наготой, ох,
изверги! А меня осы, пчелки жалят, муравьи, мухи, щекотят, кровь
мою пьют, слезы пьют. Муравьи-то — вы подумайте!—ведь они и
в ноздри и везде ползут, а я и ноги крепко-то зажать не могу,
привязаны ноги так, что не сожмешь, — вот, ведь, что!
Близко от Самгина кто-то сказал вполголоса:
— Ой, бесстыдница...
Самгин видел, что пальцы Таисьи побелели, обескровились, а
лицо неестественно вытянулось. В комнате было очень тихо, точно
все уснули, и не хотелось смотреть ни на кого, кроме этой
женщины, хотя слушать ее рассказ было противно, свистящие слова
возбуждали чувство брезгливости.
— Сначала-то я молча плакала, не хотелось мне злодеев
радовать, а как начала вся эта мошка по лицу, по глазам ползать,
глаза-то жалко стало, ослепят меня, думаю, навеки ослепят! Тогда
закричала я истошным голосом, на всех людей, на господа бога и
377
ангелов хранителей, — кричу, а меня кусают, внутренности жгут —
щекотят, слезы мои пьют... слезы пьют. Не от боли кричала, не
от стыда, — какой стыд перед ними? Хохочут они. От обиды
кричу: как можно человека мучить? Загнали сами же, куда нельзя, и
мучают... Так закричала, что не знаю, как и жива осталась. Ну,
тут и муженек мой закричал, отвязывать меня бросился, пьяный.
А я — как в облаке огненном...
Таисья пошатнулась, чернобородый во-время поддержал ее,
посадив на стул. Она вытерла рот косою своей и шумно, глубоко
вздохнула, отмахнулася рукою от чернобородого.
— Избили они его, — сказала она, погладив щеки ладонями, и,
глядя на ладони, судорожно усмехалась. — Под утро он говорит
мне: прости, сволочи они, а не простишь — на той же березе
повешусь. Нет, говорю, дерево это не погань, не смей, Иуда, я на
этом дереве муки приняла. И никому, ни тебе, ни всем людям, ни
богу никогда обиды моей не прощу. Ох, не прощу, нет уж!
Семнадцать месяцев держал он меня, все уговаривал, пить начал,
потом— застудился зимою...
И, облегченно вздохнув, она оказала громко, твердо:
— Издох.
Люди не шевелились, молчали. Тишина продолжалась,
вероятно, несколько секунд, становясь с каждой секундой как будто
тяжелее, плотней.
Потом вскочил брат Василий и, размахивая руками, затрещал:
— Слышали, братья-сестры? Она — не каялась, она —
поучала. Все мы тут опалены черным огнем плоти, дыханием дьявола,
все намучены.
Встала Лидия и, постучав ключом, сердито нахмуря брови,
резким голосом сказала:
— Подождите, брат Василий. Сестры и братья, — несчастная
женщина эта случайно среди нас, брат Василий не предупредил,
о чем она будет говорить...
Таисья тоже встала, но пошатнулась, снова опустилась на
стул, а с него мягко свалилась на пол. Два-три голоса негромко
ахнули, многие «взыскующие града» привстали со стульев. Заха-
4>ий согнулся прямым углом, легко, как подушку, взял Таисью
на руки, понес к двери; его встретил возглас:
— Хватила баба горячего до слез, — тотчас же угрюмо
откликнулся кто-то:
— А — не балуй, не покорствуй бесам!
Мать
(Отрывок)
— Намедни, — продолжал Рыбин, — вызвал меня земский, —
говорит мне: ты что, мерзавец, сказал священнику? Почему я —
мерзавец? Я зарабатываю хлеб свой горбом, я ничего худого
против людей не сделал, говорю, — вот! Он заорал, ткнул мне в
зубы... трое суток я сидел под арестом. Так говорите вы с народом!
Так? Не жди прощенья, дьявол! Не я — другой, не тебе — детям
твоим возместит обиду мою, — помни! Вспахали вы железными
когтями груди народу, посеяли в них зло — не жди пощады,
дьяволы наши! Вот.
Он был весь налит кипящей злобой, и в голосе его
вздрагивали звуки, пугавшие мать.
— А что я сказал попу?—(продолжал он спокойнее. — После
схода в селе сидит он с мужиками на улице и рассказывает им,
что, дескать, люди — стадо, для них всегда пастуха надо, — так!
А я пошутил:—как назначат в лесу воеводой лису, пера будет
много, а птицы — нет! Он покосился на меня, заговорил насчет
того, что, мол, терпеть надо народу и богу молиться, чтобы он
силу дал для терпенья. А я сказал — что, мол, народ, молится
много, да, видно, время нет у бога, — не слышит! Вот. Он
привязался ко мне — какими молитвами я молюсь? Я говорю — одной
всю жизнь, как и весь народ: господи, научи таскать барам
кирпичи, есть каменья, выплевывать поленья! Он мне и договорить не
дал...
Мать вздрогнула, подвинула свой чемодан глубже под лавку и,
накинув на голову шаль, пошла к двери, спеша и сдерживая вдруг
охватившее ее непонятное желание итти скорее, бежать...
Когда она вышла на крыльцо, острый холод ударил ей в глаза,
в грудь, она задохнулась, и у нее одеревенели ноги — посредине
площади шел Рыбин с связанными за спиной руками, рядом с
ним шагали двое сотских, мерно ударяя о землю палками, а у
крыльца волости стояла толпа людей и молча ждала.
Ошеломленная, мать неотрывно смотрела, — Рыбин что-то
говорил, она слышала его голос, но слова исчезали без эха в темной
дрожащей пустоте ее сердца.
Она очнулась, перевела дыхание — у крыльца стоял мужик с
широкой, светлой бородой, пристально глядя голубыми глазами в
лицо ей. Кашляя и потирая горло обессиленными страхом руками,
она с трудом спросила его:
— Это что же?
— А вот — глядите! — ответил мужик и отвернулся. Подошел
еще мужик и встал рядом.
Сотские остановились перед толпой, она все росла быстро, но
молча, и вот над ней вдруг густо поднялся голос Рыбина.
— Православные! Слыхали вы о верных грамотах, в которых
379
правда писалась про наше крестьянское житье? Так вот — за эти
грамоты страдаю, — это я их в народ раздавал!
Люди окружали Рыбина теснее. Голос его звучал спокойно,
мерно. Это отрезвляло мать.
— Слышишь?—толкнув в бок голубоглазого мужика,
тихонько спросил другой. Тот не отвечая поднял голову и снова
взглянул в лицо матери. И другой мужик тоже посмотрел на нее — он
был моложе первого, с темной редкой бородкой и пестрым от
веснушек, худым лицом. Потом оба они отодвинулись от крыльца в
сторону.
— Боятся! — невольно отметила мать.
Внимание ее обострялось. С высоты крыльца она ясно видела
избитое, черное лицо Михаила Ивановича, различала горячий блеск
его глаз, ей хотелось, чтобы он тоже увидел ее, и она,
приподнимаясь на ногах, вытягивала шею к нему.
Люди смотрели на него хмуро, с недоверием и молчали. Только
в задних рядах толпы был слышен подавленный говор.
— Крестьяне! — полным и тугим голосом говорил Рыбин. —
Бумагам этим верьте,—я теперь за них, может, смерть приму,
били меня, истязали, хотели выпытать — откуда я их взял, и
еще бить будут, — все стерплю! Потому в этих грамотах правда
положена, правда эта дороже хлеба для нас должна быть, — вот!
— Зачем он это говорит?—тихо воскликнул один из мужиков
у крыльца. Голубоглазый медленно ответил:
— Теперь все равно — двум смертям не бывать, а одной не
миновать...
Люди стояли молчаливо, смотрели исподлобья, сумрачно, на
всех.как будто лежало что-то невидимое, но тяжелое..
На крыльце явился урядник и качаясь пьяным голосом заревел:
— Это кто говорит?
Он вдруг окатился с крыльца, схватил Рыбина за волосы и,
дергая его голову вперед, отталкивая назад, кричал:
— Это ты говоришь, сукин сын, — это ты?
Толпа покачнулась, загудела. Мать в бессильной тоске
опустила голову. И снова раздался голос Рыбина:
— Вот, глядите, люди добрые...
— Молчать!—Урядник ударил его в ухо. Рыбин пошатнулся
на ногах, повел плечами.
— Связали руки вам и мучают, как хотят...
— Сотские! Веди его! Разойдись, народ! ι—Прыгая перед Ры-
биным, как цепная собака перед куском мяса, урядник толкал его
кулаками в лицо, в грудь, в живот.
— Не бей!—крикнул кто-то в толпе.
— Зачем бьешь?—поддержал другой голос
— Идем! — сказал голубоглазый мужик, кивнув головой.
И они оба не спеша пошли к волости, а мать проводила их
добрым взглядом. Она облегченно вздохнула — урядник снова
тяжело взбежал на крыльцо и оттуда, грозя кулаком, исступленно орал:
— Веди его сюда! Я говорю...
m
— Не надо! — раздался в толпе сильный голос — мать поняла,
что это говорил мужик с голубыми глазами. — Не допускай,
ребята! Уведут туда — забьют до смерти. Да на нас же потом
скажут,— мы, дескать, убили! — Не допускай!
— Крестьяне! — гудел голос Михаилы. — Разве вы не видите
жизни своей, не понимаете, как вас грабят, как обманывают, кровь
вашу пьют? Все вами держится, вы — первая сила на земле,—
а какие права имеете? С голоду издыхать — одно ваше право!..
Мужики вдруг закричали, перебивая друг друга.
— Правильно говорит!..
— Станового зовите! Где становой?..
— Урядник поскакал за ним...
— Пьяный-то!..
— Не наше дело начальство собирать...
Шум все рос, поднимался выше.
— Говоря! Не дадим бить...
— Развяжите руки ему...
— Гляди, — греха не было бы!..
— Больно руки мне! — покрывая все голоса, ровно и звучно
говорил Рыбин. — Не убегу я, мужики! От правды моей не
скроюсь, — она во мне живет...
Несколько человек солидно отошли от толпы в разные стороны,
вполголоса переговариваясь и покачивая головами. Но все больше
сбегалось плохо и наскоро одетых, возбужденных людей. Они
кипели темной пеной вокруг Рыбина, а он стоял среди них, как
часовня в лесу, подняв руки над головой, и, потрясая ими, кричал в
толпу:
— Спасибо, люди добрые, спасибо! Мы сами должны друг
дружке руки освободить,—так! Кто нам поможет?
Он отер бороду и снова поднял руку всю в крови.
— Вот кровь моя, — за правду льется!..
Мать сошла с крыльца, но с земли ей не видно было Михаила,
сжатого народом, и она снова поднялась на ступени. В груди у
нее было горячо и что-то неясно радостное трепетало там.
— Крестьяне! Ищите грамотки, читайте, не верьте начальству
и попам, когда они говорят, что безбожники и бунтовщики те
люди, которые для нас правду несут. Правда тайно, ходит по земле,
она гнезд ищет в народе, — начальству она вроде ножа и огня, не
может оно принять ее, зарежет она его, сожжет! Правда вам —
друг добрый, а начальству — заклятый враг! Вот отчего она
прячется!..
Снова в толпе вспыхнуло несколько восклицаний.
— Слушай, православные!..
— Эх, брат, пропадешь ты...
— Кто тебя выдал?
— Поп!—сказал один из сотских.
Двое мужиков крепко выругались.
— Гляди, .ребята! — раздался предупреждающий крик.
381
Яшка
Сказка
Жил-был мальчик Яшка, били его много, кормили плохо,
потерпел он до десяти лет, видит — лучше не жить ему, захворал
да и помер.
Помер, — и хоть были у него кое-какие грешки, однако
очутился Яшка в раю.
Смотрит Яшка: — невиданно хорошо в раю: посреди зеленого
луга, на золотом стуле сидит господь Саваоф, седую бороду
поглаживает, озирается всевидящим оком, райские цветы нюхает,
райское пение слушает; везде—в цветах, на деревьях — херувимы
с серафимами Осанну поют, а по светлому лугу, по веселым
цветам святые угодники хороводом ходят и мучениями своими
хвастаются.
— Господи, — говорят, — ты гляди-ко, батюшко, как мы
измучены, как изувечены, а все — имени твоего ради! Кожица у нас
ободрана, тельце наше истрепано, ручки, ножки изломаны, реб-
рушки наружу торчат, а все — славы твоея ради!
— Слушает господь, — немножко морщится.
— Да уж ладно! — говорит. — Уж слыхал я это, ведь вы
почти две тысячи лет одно и то же поете. Ну, — пострадали,
помучились. Покорно вас благодарю за это, только — спели бы вы хоть
разок веселое что-нибудь, а?
А святые угодники опять свое:
— Господи, — кричат,—миленький ты наш, погляди^ко: ножки
у нас переломаны, руки вывихнуты, ведь как мы страдали!
И жгли нас, и давили, и голодом морили, и чего только с нами
не делали, а все тебя, господи, ради!
Вздыхает господь, соглашается:
— Верно, братцы! Прославили вы меня мученьем, да обошли
весельем!
А святые угодники опять свое тянут.
Смотрит на них Яшка из-за райской яблони, — тощие они все,
темненькие, кои прихрамывают, кои на карачках ползут, у одних
глаза выколоты, у других — головы отрублены, — угодники божий
под мышками держат их, как арбузы. В сторонке шестнадцать
тысяч святых девственниц лежат, сохнут, в поленницы сложены.
Варвара Великомученица пред Пантелеймоном-Целителем
кровавыми ранами хвастает, Екатерина Иоанну-Воину о своих муках
сказывает, а серафимы с херувимами все Осанну поют, и
некоторые, от усталости, фальшивят.
Слышит Яшка, говорит господь тихонько апостолу Петру:
— Много у меня, Петр, праведников, а — скушновато мне с
ними! Напускал ты их в рай — чрезмерно...
Отвечает апостол Петр:
— Ты сам, господи, знаешь, я готов изменить, да — ведь как
теперь изменишь? Это — Павлово дело, он, лысый, интернационал
этот устроил... - - - -
382
— Эх, Павел, Павел! — вздыхает господь. — И сыну моему
он евангелие испортил, и мне от него житья нет...
Смотрит Яшка, слушает, не все ему понятно, а что скушно в
раю, это он прекрасно чувствует: ни есть, ни пить не хочется,
играть тоже неохота, и на душе смутно, как будто он клюквенным
киселем объелся.
«Чего они побоями-то хвастают? — думает Яшка, глядя на
святых. — Меня не меньше били, да я, вот, молчу! У нас, на
земле друг друга как бьют, кости в крошечки дробят, а — ничего!»
И стало Яшке жалко бога, — какая у него жизнь! Все вокруг
ноют, никто побоев не стыдится, а еще в честь и заслугу терпение
свое ставят себе.
И вот, когда ангелы сняли солнце с неба, -©прятали-его под
престол господень, и наступила ночь и праведники спать улеглись, —
вышел Яшка из-за яблони, подошел к престолу и говорит:
— Господи, а, господи!
Поглядел на него господь, спрашивает:
— Ты откуда?
— Из Петербурга.
— Чего рано помер?
— Да-а, — сказал Яшка, — рано! Другой бы на моем месте
еще раньше подох...
— Али трудно жилось?—ласково опросил господь.
Екнуло сердце Яшкино, хотел он рассказать богу о своей
тяжелой жизни, да вспомнил, как святые угодники жаловались, и—
сдержался, только крякнул. И вместо того деловито сказал:
— Слушай-ко, господи, вернул бы ты меня на землю!
— Зачем?—спросил господь.
— Да что мне тут делать? Скушно здесь. Вот и сам ты
апостолу говорил, что скушно...
— Чудак!—усмехнулся господь. — Да ведь тебя там опять
колотить будут!
— Ничего!—сказал Яшка. — Поколотят за дело — не
пожалуюсь, а зря будут бить — не дамся!
— Храбрый ты! —усмехнулся господь.
— Слушай-ко, — деловито сказал Яшка, — ты вот что сделай,
ты меня верни назад, на землю, а я там выучусь на балалайке
играть, и когда второй раз помру, так буду тебе веселые песни
петь с балалайкой, — ладно? И тебе веселее будет, и я недаром
стану в раю торчать.
Поглядел на него господь из-етод густых бровей, погладил
бороду седую и тихонько спросил:
— Али тебе, Яшка, жалко стало меня?
— Жалко! — сказал Яшка. — Надоедные, больно, угодники-то
твои!
Тогда Саваоф дотронулся до головы его легкой рукой и
сказал:
— Ну, спасибо тебе, друг мой милый, — за все века ты первый
пожалел меня! И — верно ты надумал, — с твоим сердцем в раю
383
делать нечего; иди, милый, на землю, в ее скорби и радости...
Иди, дружок, живи во славу людям!
И повелел господь Петру апостолу открыть двери рая, а
херувимам снести Яшку на землю.
— Прощай!—сказал Яшка, кивнув головой господу.—
Не скучай, я скоро вернусь!
Об избытке и недостатках
(Отрывок)
...Давно это было. Я не помню, чтобы мне когда-нибудь
хотелось написать о невеселой жизни веселого Егорши и милой жены
его. А теперь вспомнилось и написалось потому, что на-днях был
у меня приятель, один из тех замечательных наших партийцев,
которые зорко наблюдают за строительством новой жизни в деревне
и отлично умеют возбуждать в крестьянстве сознание
необходимости двигать жизнь по широкому пути к социалистической
культуре. Приятель начальствует над целым краем и, объезжая его по
службе революции на аэросанях, остановился в одном большом
селе. День был выходной и солнечный, веселый, время
послеобеденное, но на улице еще пусто. Аэросани остановились на
площади у церкви, шофер стал осматривать, вое ли в порядке. Первыми
из ворот посыпались, конечно, ребятишки, за ними поползли
старухи, деловой народ заседал в сельсовете. Одна старушка, подойдя
вплоть к саням, удивляется:
— Ба-атюшки мои, чего состроили! Так само собой и бегает?
Приятель мой видит: хотя и старуха, — а из бойких, глазенки
у нее живые, умненькие. Сам он тоже человек очень бойкий,
шутливый и в знакомстве с деревенским людом наметанный.
Объясняет старушке:
*— Да, вот бегает! Конечно, не без нечистой силы, черти
двигают, хотя их не видно, а они тут
Но старушка шутку понимает:
— Чертей-то, говорят, нету.
— А были?
— Не видывала. А ты, товарищ, над нами не смейся, мы
понимаем— лектричество действует. Эх, вот бы на эдаком
покататься, покуда второе-то пришествие не настигло!
Приятель спросил, будто испугавшись:
— А оно будет, второе-то?
— Бают — будет.
— А «кто придет?
Старушка отвечает:
*— Как нам, темным, знать? Наверное, вроде тебя,
какой-нибудь эдакой.
Публика смеется, а старушка, любуясь своей бойкостью,
балагурит:
38!
— Прокатиться бы разок да рассказать на том свете, Какие у
нас предметы делать научились.
— Ну, — говорит приятель, — ежели у тебя такая задача —
садись, едем!
— Одна? Ты бы и соседок пригласил.
Натискал товарищ в сани пяток старух, повез их в поле, гонит
во всю силу, смеются старухи, повизгивают, как девушки, —
довольны. Возвратился в село, а на площади сотни две народа,
молодежь издевается:
— Что. не пригодилось старье, назад привез?
— Почем с головы за провоз берешь?
А один парень, будучи немножко под хмельком, ревниво и
задорно спросил:
— На старухах колхоз строить хочешь?
В этом месте приятель сказал мне:
— Гляжу я на людей, слушаю смешки и думаю: должность
моя вроде губернаторской, по старой мерке. А, ведь, в старину с
губернатором этак-то и во сне не говорили, как со мной говорят.
Думаю, и в душе солнце светит. Агитнули глубоко!
Подошел ко мне солидный бородач, спрашивает:
— Куплена машина-то, или сами построили?
— Сами.
— В Горьком, значит. Так я и думал, а спросил для проверки.
Вот видите, граждане, сами рабочие строят. Это надобно оценить.
А стариков покатать можешь, товарищ?
Приятель мой покатал и стариков, а когда вернулись на
площадь, бородач заявил, обращаясь к односельчанам:
— Он, граждане, товарищ этот, хорошо сделал, что вот
показал нам, куда рублишки наши идут. А то мы здесь в глуши
читаем, слышим — строят! А что строят — не видим. Поэтому я, в
знак радости, приношу на заем двадцать пять рублей, — кто еще
желает?
И неожиданно «в знак радости» мужики собрали сто сорок
целковых, так что шофер даже предложил:
— Не поехать ли нам, товарищ Матвей, по краю народ
катать? Большую помощь Автодору окажем.
Молодежь празднично галдит, смеется, а бородач все
настойчивее щеголяет своей гражданской сознательностью, внушая
кому-то:
— При советской власти жизнь стала убедительная, она теперь
и стариков переучивает.
— Переучишь нас, чертей болотных, — кричат ему из толпы.
Разгорается «спор двух поколений»: какой-то аккуратно одетый
старец задорно говорит:
— Мы, старики-то, быстрей молокососов учимся, потому —
сами много знаем...
— Не столько знаете, как воняете.
— Вредоносные вы...
— Не все! Знай правду — не все!..
25—22 385
— Забились в старину, как гвозди в стенку...
— Без клещей — не выдерешь.
— Выдирают...
Но большинство граждан, окружив аэросани, похлопывают и
гладят машину ладонями, точно лошадь, и кто-то сообщает:
— Теперь и гражданин крестьянин в инженеры пройти может.
— Ну, а «как же?
— Наша власть способствует...
Снова появился пьяненький парень и задорится:
— А вот я, товарищ, пропиваю деньги! Заработал и —
прогуливаю! Я гулять люблю...
— Озорничать, — подсказали из толпы.
— Правильно, — согласился парень. — Озорничать я —
прилежный.
— А работать?
— И работать. У меня, товарищ, такие трудодни — ух! Могу
с круга спиться...
Его уговаривают:
— Не дури. Не показывай себя глупее, чем ты есть.
— Я глупый?—кричит парень, явно намереваясь разыграть
скандальчик, но его сжимают и оттирают прочь широкие плечи
«граждан крестьян». Слышно, как он орет:
— А может, я со скуки глуп?
На его месте становится другой, тоже рослый мужик и тоже
немножко под хмельком. Одет солидно, в городском хорошем
пальто, в чесаных сапогах, новенькая меховая шапка сдвинута на
затылок, обнажая широкий лоб; лицо — сухое, остроносое,
голубоватые глаза серьезно нахмурены, подбородок бритый, рыжеватые,
лнхо закрученные усы придают лицу выражение решительное, и
сразу видно, что человек этот цену себе знает.
— Это вы, товарищ, значит, культуру показываете нам?
Успехи механики в деле индустриализации? Очень хорошо. Вроде
как приехали к дикарям и желаете, чтобы удивлялись?
Приятель спросил его: кто он?
—■ Тут меня знают, — не без гордости ответил он, и тотчас
из толпы крикнули:
— Это наш!
— Потомственный здешний батрак.
— Он у нас поучительный.
— А кто отец мой? —спросил крестьянин, обращаясь к толпе,
я получил ответ:
— Отца у него в пятом году убили...
— Тоже батрачок был.
— На десятине сидел сам-пять.
— Стойте!—сказал парень, подняв руку. — Убивают и зря, а
тут надо прямо сказать: убили за приверженность к правде
революции. Верно?
— Верно, верно!
— То-то! И опять же: кто убил?
386
— Износковы.
— Тут у нас такие живоглоты были. Износковы.
— Мироеды.
— Теперь — ясно, товарищ? И предлагаю вам пожаловать ко
мне.
По настроению парня, по отношению односельчан к
«потомственному батраку» приятелю моему показалось, что его хотят как
будто немножко <сразыграть» или устроить длительный словесный
бой с этим типом. А уже поздновато было, догорала вечерняя
заря.
— Пожалуйте, — настаивает парень, раздвигая толпу рукою. —
Прошу и граждан, которые желают. Как вы руководите
культурой, товарищ, то вам будет интересно.
— Ненадолго,—предупредил товарищ.
— Не задержим, — ответил мужик. — Дельце не крупное и
простое.
Пошли. Привел он к новенькой, в три окна, избе, с крытым
крыльцом, на ровных колонках, обил в сенях валенки от снега,
гостеприимно и молча открыл дверь в избу, освещенную лампой,
спускавшейся с потолка. Потолок и стены оштукатурены,
выбелены, пол окрашен, на полу в переднем углу — широкий матрац,
застланный простьгаей, из-под одеяла на подушки высунулись три
головы, на одной еще блестят глаза, две другие утонули в
крепком сне. На деревянной кровати хорошей столярной работы сидит
молодая женщина, кормит ребенка, она, видимо, не очень
довольна гостями и строго приказывает:
— Закрывайте двери, а то дети простудятся.
В переднем углу небольшая полка книг, над ней портреты
Ленина, Сталина, около печи, у стены, новенький зеленый шкаф с
посудой, рядом с ним, на столике, блестит самовар. Вслед за
хозяином вошло в избу человек десять, они встали у двери, а он
прошел вперед, к обеденному столу, и, предложив товарищу стул,
сказал:
— Вот посмотрите, как советский крестьянин-колхозник
примеряется жить. Конечно, можно бы обоями оклеиться, однако во
избежание тараканов обои отрицаю. Так что кое-какую заботу о
культуре имеем, в меру возможности. Тоже и понимать в существе
жизни начинаем кое-что. — Говорил он хвастливо, но в то же
время как бы спрашивая глазами: так ли все это? Сухое суровое
лицо его стало мягче. Приятель спросил:
— Партиец?
— Это — впереди. Покамест — советский колхозный
гражданин. Трудодней у меня порядочно вышло, получил по шесть кило,
кроме всего прочего; на лесозаготовках прирабатываю. Есть
корова. Купил жене пальто за тридцать пять червонцев, — могу
показать.
— Не надо, — сказала жена, укладывая ребенка в кроватку,
рядом со своей.
— А ты бы, вместо пальто еще другую скотину, свиней да
Я* 387
овец купил, на Твою семью одной коровы мало, —Посоветовал
товарищ.
— Вот видишь?—обрадовалась жена. — Я тебе то же
говорила!
;— Значит — еще корову надо купить? Так, — неопределенно
сказал хозяин.
— Дети у тебя на полу спят, это им нездорово.
— Кровать надо? Понимаем. А где ее поставить?
— Пришей к избе еще комнату.
— Еще-о? — насмешливо протянул хозяин. — Какой ты
добрый.— И, прищурясь, он спросил:
— Ты что ж, в кулаки загоняешь меня? Тебе — какая власть
дана: дело делать али шутки шутить?
— Шутить с тобой я буду после того, как ты вторую корову
купишь да комнату пристроишь, да и вообще начнешь образцово
жить в пример другим. Получишь ты за это премию, вот тогда
мы с тобой пошутим, — сказал ему товарищ.
— Слышите, как власть наша говорит?—обратился хозяин к
людям.
Они слушали молча, изредка покашливая, (перешептываясь,
количество их незаметно возрастало, они, плотной массой, занимали
почти половину комнаты, и от их дыхания огонь лампы потускнел,
в избе становилось сумрачно. Пристально глядя на товарища,
хозяин продолжал:
— Работать, конешно, следует без расчета на премии, ведь
премии-то мы, вроде, как сами себе выдаем. К тому же я не один
таков, есть не хуже меня, а получше.
Приятель мой спросил: сколько времени грудному ребенку?
Оказалось: две недели. Тогда приятель поставил еще вопрос:
— А ты, поди-ко, уже спишь с женой^го?
— Ну а как же? На то и жена.
Даже в сумраке видно было, что жена густо покраснела, а
женщины зашептались слышнее, раздались смешки, вздохи. Тут
приятель произнес маленькую речь о необходимости беречь
женщин после родов и еще раз сказал о пользе второй комнаты, где
жены в последние месяцы беременности и некоторое время спустя
после родов могли бы спать отдельно от мужей. В ответ на эту
речь раздался одобрительный гул бабьих голосов: .
— Верно, товарищ!
— Вот спасибо, что сказал!
— Уж это — так надобно нам, бабам...
Высунулась бойкая старушка, которая обещала рассказать на
том свете про аэросани, — высунулась и торжественно заявила:
— Вот она, тетки, наша-то власть—видали? Молодой, а
какие дела понимает! А бывало, становой пристав али урядник...
Речь ее прервал густой мужской голос:
— Насчет второй горницы — правильно! От нашей тесноты
ребятишки страдают, приходится раньше время понимать, чего не
надо...
388
Хозяин утвердительно кивнул головой:
— Это—так! Признаюсь за всех: на одной постели не
воздержишься. И про детей — верно. Эх, дела-то сколько!
— Радио у вас нет, — заметил товарищ.
Хозяин нахмурился:
— Радио нет! — подтвердил он. — Оно, радио-то, елементов
требует, а за елементом надо в город ехать, почти сотню
километров. Радио нам — не_ присягает. — И повысив голос, он начал
говорить строго:
— Ты вот слышал, как пьяный человек кричал, что он от
скуки глуп? Это он крикнул от души. Жить нам скушновато,
особенно тем, которые города понюхали, в Красной армии служили.
И деньжонки есть, и зарабатывать их приятно стало, а как
откачнешься от работы, примерно, в выходной день, так, знаешь, и...
некуда себя ткнуть. Нас тут около трехсот домов, а собраться
негде.
Товарищ напомнил о церкви.
— Думали про церковь, — сказал хозяин. — Мала, стара,
темная, скуку в ней, может, сто лет копили. Нет, церква нам не
играет. Конешно, и ее можно в пользу обратить, а думаем, что
лучше бы нам новенький домок взогнать для собраний.
— Клуб — называется, — сказал кто-то из толпы.
— Клуб — не клуб, а дело нужное. Молодежь у нас в школе
спектакли ставит ήο «Театру в деревне», школа от этого, от возни
в ней, много терпит, а удовольствия народу маловато. И пьески —
для глупых.
— Ну, что же? Старайтесь, это в вашей доброй воле, —
сказал товарищ.
А хозяин продолжал:
— Ежели все пойдет так, как пошло, — мы построимся. У нас
тут свои плотники найдутся, они могут сгрохать домик хоть в три
этажа. А до той поры ты бы, товарищ, помог нам, достал бы
небольшой, сил в двадцать, что ли, моторчик, тогда бы мы все село
осветили, да и радио завели, между прочим...
Эти слова особенно взволновали граждан, вперебой раздались
крики:
— Керосину нехватает нам, товарищ!
— Лампочки зажечь надо...
— Вон как чуваши осветились!
— Тише, пожалуйста, — попросила хозяйка, — детей
перепугаете.
— Ну да, испугаешь их!
— Чего наши дети боятся?—как будто сожалительно спросил
кто-то.
Граждане действительно забыли и о чистоте крашеного пола и
о детях на матрасе, они гуртом двинулись к столу, и бородатый
мужик, «похожий на портрет писателя Короленко», убедительно
говорил, заглушая всех:
—» Нам, товарищ, надобно жить сообразно городу, как в нем
399
налаживается. А то что же будет? Один — так, другие — эдак!
Опять, значит, разрез народа надвое. Сам видишь, товарищ,
недостает нам многого...
— Верно! Стесняют недостатки ход жизни нашей, —
подтвердил потомственный батрак.
А пожилая высокая женщина жаловалась:
— Надобно, чтобы такие вот, как ты, дохожие до всего,
приезжали к нам почаще.
— Слыхал голос народа, товарищ?—спросил хозяин,
усмехаясь, и по лицу его видно было, что он очень доволен беседой.
...Я записал этот рассказ о «недостатках» так, как слышал его
из уст «до всего дохожего» товарища.
Фома Гордеев
(Отрывок)
...— Все ли здеся?—спросил Илья Ефимович Кононов, стоя
на носу своего нового парохода и сияющими глазами оглядывая
толпу гостей. — Кажись все!
И подняв кверху свое толстое и красное, счастливое лицо, он
крикнул капитану, уже стоявшему на мостике у рупора:
— Отваливай, Петруха!
— Есть!..
Капитан обнажил лысую голову, истово перекрестился,
взглянув на небо, -провел рукой по широкой, черной бороде, крякнул и
скомандовал:
— Назад! Тихий!
Гостя, следуя примеру капитана, тоже стали креститься, их
картузы и цилиндры мелькнули в воздухе* как стая черных птиц.
— Благослови-ко, господи!—умиленно воскликнул Кононов.
— Отдай кормовую! Вперед!—командовал капитан.
Огромный «Илья Муромец» могучим вздохом выпустил в борт
пристани густой клуб белого пара и плавно, лебедем, двинулся
против течения.
— Эк пошел!—с восхищением сказал коммерции советник
Луп Резников, человек высокий, худой и благообразный. — Не
дрогнул! Как барыня в <пляс!
— Левиафан! — благочестиво вздыхая, молвил рябой и
сутулый Трофим Зубов, соборный староста, первый в городе
ростовщик.
День был серый; сплошь покрытое осенними тучами небо
отразилось в воде .реки, придав ей холодный свинцовый отблеск.
Блистая свежестью окраски, пароход плыл по одноцветному фону
реки огромным, ярким пятном, и черный дым его дыхания
тяжелой тучей стоял в воздухе. Белый, с розоватыми кожухами, ярко-
красными колесами, он легко резал носом холодную воду и
разгона?
«ял ее к берегам, а стекла в круглых окнах бортов и в окнах
рубки ярко блестели, точно улыбаясь самодовольной торжествующей
улыбкой.
— Господа почтенная компания!—сняв шляпу с головы,
возгласил Кононов, низко кланяясь гостям. -^ Как теперь мы, так
сказать, воздали богу — богово, то позвольте, дабы музыканты
воздали кесарю — кесарево!
И, не ожидая ответа гостей, он, приставив кулак ко рту, крик·
ну л:
— Музыка! «Славься» играй!
Военный оркестр, стоявший за машиной, грянул марш.
А Макар Бобров, директор купеческого банка, стал подпевать
приятным баском, отбивая такт пальцами на своем огромном
животе.
— Славься, сла-авься, наш русский царь — тра-ра-та! Бум!
— Прошу, господа, за стол! Пожалуйте! Чем бог послал...
Покорнейше прошу... — приглашал Кононов, толкаясь в тесной
группе гостей.
Их было человек тридцать, все солидные люди, цвет местного
купечества. Те, которые были постарше, — лысые и седые, —
оделись в старомодные сюртуки, картузы и сапоги бутылками. Но
таких было немного: преобладали цилиндры, штиблеты и модные
визитки. Все они толпились на носу парохода и постепенно,
уступая просьбам Кононова, шли на корму, покрытую парусиной, где
стояли столы с закуской. Луп Резников шел под руку с Яковом
Маякиным и, наклонясь к его уху, что-то нашептывал ему, а тот*
слушал и тонко улыбался. Фома, которого крестный привел на
торжество после долгих увещаний, — не нашел себе товарища
среди этих неприятных ему людей и одиноко держался в стороне
от них, угрюмый и бледный. Последние два дня он в компании с
Ежовым сильно пил, и теперь у него трещала голова с похмелья.
Ему было неловко в солидной компании; гул голосов, гром
музыки и шум парохода — все это раздражало его.
Он чувствовал настоятельную потребность опохмелиться, и ему
не давала покоя мысль о том, почему это крестный был сегодня
так ласков с ним и зачем привел его сюда, в компанию этих
первых в городе купцов? Зачем он так убедительно уговаривал, даже
упрашивал его итти к Кононову на молебен и обед?
Приехав на пароход во время молебна, Фома стал к сторонке
и всю службу наблюдал за купцами.
Они стояли в благоговейном молчании; лица их были
благочестиво сосредоточены; молились они истово и усердно, глубоко
вздыхая, низко кланяясь, умиленно возводя глаза к небу. А Фома
смотрел то на того, то на другого и вспоминал то, что ему было
известно о них.
Вот Луп Резников, — он начал карьеру содержателем
публичного дома и разбогател как-то сразу. Говорят, он удушил одного
из своих гостей, богатого сибиряка... Зубов в молодости занимался
скупкой крестьянской пряжи. Дважды банкротился... Кононов, лет
двадцать назад, судился за поджог, а теперь тоже состоит под
следствием за растление малолетней. Вместе с ним — второй уже
раз, по такому же обвинению — привлечен к делу и Захар
Кириллов Робустов,—толстый, низенький купец с круглым лицом и
веселыми голубыми глазами... Среди этих людей нет почти ни
одного, о котором Фоме не было бы известно чего-нибудь преступного.
Он знал, что все они завидуют успеху Кононова, который из
года в год увеличивает количество своих пароходов. Многие из них
в ссоре друг с другом, все не дают пощады один другому в
боевом, торговом деле, все знают друг за другом нехорошие,
нечестные поступки... Но теперь, собравшись вокруг Кононова,
торжествующего и счастливого', они слились в плотную, темную массу и
стояли и дышали, как один человек, сосредоточенно-молчаливые и
окруженные чем-то хотя и невидимым, но твердым, — чем-то та*
ким, что отталкивало Фому от них и возбуждало в нем робость
пред ними.
— Обманщики... — думал он, ободряя себя.
А они тихонько покашливали, вздыхали, крестились,
кланялись и, окружив духовенство плотной стеной, стояли непоколебимо
и твердо, как большие, черные камни.
— Притворяются!—восклицал про себя Фома. А стоявший о
бок с ним горбатый и кривой Павлин Гущин, не так давно
пустивший по миру детей своего полоумного брата, проникновенно
шептал, глядя единственным глазом в тоскливое небо:
— «Го-осподи! Да не яростию твоею обличиши мене, ниже
гневом твоим накажет и мене...».
И Фома чувствовал, что человек этот взывает к богу с
непоколебимой, глубочайшей верой в милость его.
— «Господи боже отец наших, заповедавый Ною, рабу твоему,
устроити кивот ко спасению мира...» — густым басовым голосом
говорил священник, возводя глаза к небу и простирая вверх
руки: — «И сей корабль соблюди и даждь ему ангела блага,
мирна... хотящие плыти на нем сохрани...».
Купечество единодушно, широкими взмахами рук осеняло груди
свои знамением креста, и на всех лицах выражалось одно
чувство— веры в силу молитвы...
Все это врезалось в память Фомы, возбуждая в нем
недоумение пред людьми, которые, умея твердо верить в милость бога,
были так жестоки к человеку.
Его злила их солидная стойкость, эта единодушная уверенность
в себе, торжествующие лица, громкие голоса, смех. Они уже
уселись за столы, уставленные закусками, и плотоядно любовались
огромным осетром, красиво осыпанным зеленью и крупными
раками. Трофим Зубов, подвязывая салфетку, счастливыми, сладко-
прищуренными глазами смотрел на чудовищную рыбу и говорил
соседу, мукомолу Ионе Юшкову:
— Иона Никифорыч! Гляди — кит! Вполне для твоей особы
футляром может быть... а? Как нога в сапог влезешь, а? Хе-хе!
Маленький и кругленький Иона осторожно протягивал коро-
392
тенькую руку к серебряному ушату со свежей икрой, жадно
чмокал губами и косил глазами на бутылки пред собой, боясь
опрокинуть их.
Против Кононова на козлах стоял боченок старой водки,
выписанной им из Польши; в огромной раковине, окованной серебром,
лежали устрицы, и выше всех яств возвышался какой-то
разноцветный паштет, сделанный в виде башни.
— Господа! Прошу! Кто чего желает!—кричал Кононов.—
У меня всё сразу пущено, — что кому по душе... Русское наше,
родное — и чужое, иностранное... всё сразу! Этак-то лучше... Кто
чего желает? Кто хочет улиток, ракушек этих — а? Из Индии,
говорят...
А Зубов говорил своему соседу, Маякину:
— Молитва «Во еже устроити корабль» к буксирному и
речному пароходу не подходяща, то-есть не то — не подходяща, —
а одной ее мало!.. Речной пароход, место постоянного жительства
команды, должен быть приравнен к дому... Стало быть, потребно
окромя молитвы «Во еже устроити корабль» — читать еще молитву
на основание дома... Ты чего выпьешь однако?
— Я человек не винный, налей мне водочки
тминной!..—ответил Яков Тарасович.
Фома, усевшись на конце стола, среди каких-то робких и
скромных людей, то-и-дело чувствовал на себе острые взгляды старика.
— Боится, что наскандалю... — думал Фома.
— Братцы!—хрипел безобразно толстый пароходчик Ящу-
ров.—Я без селедки не могу! Я обязательно от селедки
начинаю... у меня такая природа!..
— Музыка! Валн «Персидский марш»...
— Стой! Лучше—«Коль славен»...
— Дуй «Коль славен»...
Вздохи машины и шум пароходных колес, слившись со звуками
музыки, образовали в воздухе нечто похожее на дикую песню
зимней вьюги. Свист флейты, резкое пение кларнетов, угрюмое
рычание басов, дробь маленького барабана и гул ударов в большой—
все это падало на монотонный и глухой звук колес, разбивающих
воду, мятежно носилось в воздухе, поглощало шум людских
голосов и неслось за пароходом, как ураган» заставляя людей кричать
во весь (Голос...
Праздник шиитов
(Отрывок)
Я жил в доме, который стоит над Курой, на высокой скале, и
из окон моих видел весь Авлабар, раскинувшийся на
противоположном берегу реки. Там ломаные линии домов, разделенных
узкими, извилистыми и крутыми улицами, стоят чуть не на крышах
друг у друга, поднимаясь от реки до вершины горы: и все они так
ДОЗ
хаотически скучены, так грязны и неуклюжи, что кажутся
громоздким мусором, сброшенным с верха горы и при падении вниз в
страхе и без порядка прилипшим к ее каменным ребрам.
Вечером 17 мая этот двор чисто вымели, полили водой, а при
наступлении ночи — осветили массой фонарей. Среди двора
поставили высокий железный треножник и на нем медный сосуд, в
котором красным пламенем горела тряпка или пакля, пропитанная
нефтью. Ночью окна домов Авлабара ярко осветились, и по
улицам, с пением, шумом и воем, с факелами в руках, пошли
процессии шиитов. В густой тьме душной ночи огни факелов то исчезали
в извилинах улиц, бросая трепещущий отблеск на стены домов, то
снова являлись пред глазами, образуя живые и причудливые
узоры из пылающих точек, или, вытягиваясь в длинную линию, они
золотой змеей ползли по горе и освещали ножи, белыми молниями
разрывавшие воздух над головами людей, охваченных
восторженным безумием. Гул голосов, сливаясь с рокотом бешеных волн
Куры, носился в воздухе таким могучим звуком — точно вместе с
кающимися людьми вся гора вздыхала и стонала. Около полуночи
процессия разбилась на отдельные группы, и они разошлись по
всем улицам, всюду сея огни и холодный блеск ножей.
И вот одна часть процессии пришла на двор перса, против
моего окна. Ее ждали; на балконе дома стояли старики в длинных,
темных одеждах и высоких клобуках, вроде тех, в каких
изображают царей Вавилона и Ассирии. У ног стариков сидели два
мальчика, одетые в белое. Когда процессия вошла во двор — она
прекратила свое пение и образовала круг, в центр которого явилось
четверо людей, обнаженных до пояса. Они встали по-двое друг
против друга около треножника, облившего их красным пламенем,
а правоверные, сопровождавшие их, подняв факелы высоко вверх,
окружили их кольцом огней. Затем наступило молчание, и с
минуту все стояли неподвижно.
И вот, — среди напряженной тишины, раздался детский голос,
слабый, дрожащий, но чистый и звонкий, как стекло. Он пел или,
вернее, он певуче жаловался на что-то; он то замирал, бессильный
и тоскливый, то, вскрикивая жалобно и кротко, поднимался
высоко к небу, в ту ночь скрытому черными тучами, и, дрожащий,
робкий, но всегда по-детски милый и красивый, обрывался, падал
вниз и замирал на ноте, едва слышной, на звуке, до того легком
и бессильном, что, казалось, он был бы неспособен изменить полет
пушинки...
— Α-a... о... э-а-а... о-о-э-а... — носилась в воздухе плачевная
мелодия, и, когда утомленный голос обрывался, толпа что-то
дружно и глухо гудела, как бы виновато отвечая ему. Потом запел
второй детский голос, более мужественный и сильный, но также
полный красивых и печальных металлических вибраций, и когда звуки
его замерли — раздался громкий, гортанный возглас одного из
стариков. Он долго и внятно читал что-то на ломком языке,
звуки которого, резкие и краткие, сыпались в тишину, как зерна.
— Али! Хуссейн! — грянула толпа, и что-то странно звякну-
994
ло. Толпа громко запела дикую и воинственную мелодию, и я
увидел, как четверо полуобнаженных людей, взмахнув чем-то в
воздухе, с силой ударили себя по спинам, от чего раздался железный
лязг... В руках у них были довольно толстые и длинные цепи,
сложенные втрое; держа их обеими руками, эти люди сразмаха, враз
били ими себя по спинам, стараясь так выгибать тело под удар,
чтоб на него легло возможно больше цепи. Поощряя их, толпа
хлопала в ладоши и пела, потом вдруг задавала им какой-то
торжествующий вопрос. Бичующиеся на время прерывали свое
самоистязание и отвечали им хриплыми голосами, после чего по
грозному возгласу толпы цепи снова взлетали в воздух и снова рвали
тело.
— Али-и-и! — одобряюще выла толпа, и удары становились
крепче и сильнее. Скоро это был уже противный, хлюпающий,
лязгающий звук, точно пучком железных прутьев ударяли по
густой грязи. Некоторые из толпы начинали бить себя кулаками
правой руки в левую сторону груди. Они .размахивались широко,
с ожесточением, и каждый удар заставлял их пошатываться.
Факелы в их руках дрожали, и я видел, как капли смолы и искры
падали на обнаженные плечи истязавшихся. Но они, должно быть,
не чувствовали этой боли: они все бичевали себя, и когда их
усталые руки уже не могли наносить сильных ударов — они, сами воз·
буждая себя, громко ревели:
— Али-и!
И снова железо цепей противно лязгало о вспухшие,
изорванные спины, облитые кровью и красноватым светом факелов. Так
продолжалось долго, до поры, пока пение толпы, удары кулаков и
цепей и все другие звуки не заглушил протяжный, воющий стон.
Это один из бичующихся не выдержал более пытки, покачнулся
назад и с воплем плашмя рухнулся на землю. Над ним склонились
правоверные, чтобы омочить руки в его крови, — может быть, это
будет святая, очищающая кровь, ибо человек, который умрет в
этот день от истязания, свят.
Замучившегося подняли на .руки и с громким пением понесли со
двора. Его положат в мечети, а ежели окажется, что он еще в
состоянии выздороветь, — может быть, его отправят в больницу, —
может быть, потому что лечить священные раны позорно и
постыдно.
Всю ночь до рассвета по горе бегали огни, то рассыпаясь на
мелкие группы, то снова соединяясь в одну широкую, сияющую
полосу и образуя собою горящие венцы, из которых к темному
небу снова неслись крики, свист бичей, мягкие шлепки ударов и
лязгание цепей. Но вот взошло солнце, и при первых лучах его
весь этот фантастический кошмар исчез вместе с тучами,
скрывавшими небо. Днем измученные шииты отдыхали в своих грязных
домах с плоскими кровлями, на террасах, висящих в воздухе над
Курой, на горе, около развалин крепости, в темных улицах,
засоренных гниющими отбросами, полных тяжелого азиатского запаха.
Вечером все сцены истекшей ночи повторились в грандиозном раз-
мере и с массой новых, поразительных деталей. В долине, у
крепости собралась огромная толпа. Тут были сотни людей разных
племен Кавказа и Закавказья; все они, нетерпеливо глядя на Авла-
бар, ждали начала процессии. На сером фоне глыбы известняка,
гигантской лестницей вздымавшейся к небу, отчетливо рисовались
яркие цвета одежд: белые, желтые, синие и черные пятна усеяли
гору. Женщины-магометанки, закутанные в широкие зеленые и
белые покрывала, столпились в отдельную плотную группу, как овцы
в жаркий день, и, безжизненные, обезображенные бесчисленными
складками своих одежд, точно приросли к земле, уподобляясь
неподвижной и безмолвной толпе привидений, созданных фантазией
безумного. Дети птицами летали по горе, то и дело подвергаясь
преследованию и внушениям со стороны бравых полицейских,
изнывавших под гнетом духоты, пыли и своих обязанностей. Все
это казалось веселой и яркой картиной большого, праздничного
гуляния...
Но вот из улиц Авлабара начали являться колонны шиитов.
— Али! Хус-сейн! — раздался в воздухе ритмичный крик,
а его сопровождал дружный топот ног по камню и все эти
противные звуки истязания тела. Каждая колонна имела сегодня свою
особенность и в одежде, и в способе пытки. Бичующиеся были
одеты, как и вчера, — в черные хитоны, с вырезами на спинах, те,
что резались ножами, — в длинные белые рубахи; головы первых
были повязаны черными тряпками, вторые — обнажили свои
синие, бритые, изрубленные черепа, и белая ткань их одеяния была
вся в красных пятнах и полосах. На многих спинах и плечах
сорванные кожа и мясо висели темными, запекшимися клочьями, и
из них сочилась кровь. Но лица, почерневшие от боли, были
облагорожены восторгом мученичества, ясно светившимся в широко
раскрытых глазах.
Эти две колонны выстроились друг против друга и стали
маршировать, то наступая, то отступая, грозя одна другой орудиями
истязания, но не забывая увечить себя и все вскрикивая в такт
своему маршу:
— Али! Хус-сейн!
Иногда один из шиитов выступал вперед и наносил себе
страшный удар, от которого все его тело вздрагивало и, как изломанное,
падало на землю, под ноги товарищей, встречавших его подвиг
ревом похвал... А из города на долину уже выходила еще одна
колонна человек в шестьдесят. Они были одеты в широкие белые
юбки, прикрывавшие их тело от пояса до колен. Груди их были
открыты и представляли собой образцы утонченных пыток.
Некоторые из этих людей, оттянув и прорезав себе кожу около
сосцов, пропустили в образовавшуюся двойную рану дужки
больших замков и заперли замки. Эти куски железа, весом, наверное,
более фунта, висели на живом мясе, оттягивая его книзу. Другие
воткнули глубоко под кожу груди ряд кинжалов, расположенных
веером и дрожавших при каждом шаге. Какой-то юноша-атлет рас-
ШНЛ себе грудь медной проволокой, иные, собрав кожу на щеках,
ОТ
защемили ее в тяжелые железные щипцы, к щекам других были
привешены фунтовые гири, державшиеся на железных крючках,
пронзавших щеку. Высокий, стройный красавецнперс, с «роскошной
черной бородой, испортил свое бронзовое упругое тело массой
машинных гвоздей, воткнув их в грудь и плечи... И положительно
невозможно передать все разнообразие мучений, которым
подвергали себя эти люди. Каждый шаг, даже каждый вздох должен был
причинять невыносимую боль, ибо — их вздох колебал эти куски
железа, воткнутые в живое тело. Но лица этих подвижников не
выражали ничего иного, кроме упоения своими муками. Их
появление было встречено радостным, одобрительным воем шиитов и
глухим гулом голосов пораженной публики. Многие ушли от этой
картины, иные — ругались, женщины — плакали, а ребятишки (их
было много!), идя с боков колонны, со страхом и любопытством,
большими глазами заглядывали на окровавленные, израненные
груди. Посреди зрителей были также взгляды и лица, выражавшие
благоговейное сострадание, трогательное чувство умиления, а
«многие, быть может, даже зависть чувствовали к силе веры этих
людей, победивших себя ради славы своего бога...
В то время, как я пишу эти строки, по горе опять идет
процессия. Но уже небольшая — человек сто. В центре ее несут на
плечах продолговатый предмет, завернутый в коричневую материю,
а впереди развевается зеленое знамя. Это значит, что один из
шиитов, участвовавших в процессии прошлых дней, удостоился славной
смерти мученика, и вот единоверцы несут труп его, чтоб зарыть в
землю, и завидуют ему, ибо он теперь упивается неземными
ласками гурий в раю своего пророка. И в то время, как он там
блаженствует, — здесь тоже чтут подвиг его — вот священное знамя
пророка развевается над его истерзанным пытками прахом — и это
великая честь человеку!
...Не один правоверный шиит ежегодно после этого страшного
праздника отправляется под зеленым знаменем в свой веселый
рай...
И. ПЕРЕЦ
(1851—1915)
Благочестивый кот
Три певчие птички были в доме, и всех их, одну за другой,
прикончил кот.
Это был не простой, не заурядный кот. Он имел возвышенную,
богобоязненную душу, ходил в беленькой шубке, и в глазах его
отсвечивало само голубое небо.
397
Это был поистине благочестивый кот. Десять раз в день
совершал он омовенья, а трапезы свои справлял скромненько и тихо,
где-нибудь в сторонке, в уголочке.
В течение дня он закусывал чем попало, довольствовался
молочком. И только когда наступала ночь, он разрешал себе мясную
пищу — кусочек мышиного мяса.
Ел он не торопясь, без жадности, не так, как едят обжоры. Он
ел медленно, скромненько, почти играя. Он не опешил. Пусть себе
мышонок поживет еще секунду, еще секунду, пусть еще побегает,
потрепещет, пусть исповедуется в грехах. Благочестивый кот
никогда не спешит.
Когда принесли в дом певчую птичку, кот тотчас же проникся
к ней глубокой жалостью.
— Такая красивая, милая, крошечная пташка, и не удостоится
царствия небесного! — стонал он.
Да и как может она удостоиться царствия небесного?
Во-первых, она совершает обряд омовения по-немецки,
по-новомодному, купаясь всем тельцем в чашке с водой.
'Во-вторых, как только ее посадили в клетку, она тотчас же
взъерепенилась... Хоть она и юная, и нежная, а наверное уже
больше думает о динамите, чем о религиозно-нравственном
чтении.
И, наконец, это пение, это дерзкое разгульное пение, да еще с
присвистом. А эти смелые, открытые взгляды прямо в небо; эти
бунтовщические попытки вырваться из клетки; эти порывы к
грешному миру, к вольному воздуху, к открытому окну!
Случалось ли когда-нибудь, чтобы кота сажали в клетку?
Слышал ли кто, чтобы кот насвистывал песню, да еще так дерзко, так
бесшабашно?
«А жалко, — плачет благочестивое сердце в груди
благочестивого кота. — Ведь все-таки, живое существо, наделенное душой,
божественной искрой!»
У кота навертываются слезы на глаза.
«И все несчастье в том, — размышляет он, — что грешное
тельце так прекрасно. Поэтому для птички мирские удовольствия так
притягательны, поэтому и дух зла в ее сердце так силен.
Да и как может устоять против ужасного и сильного духа зла
такая крошечная, такая приятная пташечка?
И чем дольше она живет на свете, тем больше она грешит, тем
страшнее наказание, которое ждет ее на том свете...»
В душе благочестивого кота сразу вспыхнул священный огонь.
Кот вскочил на стол, где стояла клетка с птичкой и...
По комнате уже летят перышки...
Кота побили. Побои он принял смиренно. Он набожно
застонал, плаксиво промяукал исповедь...
Больше грешить он уже не будет.
Кот понял, за что его побили. Побили его за то, что он
засорил комнату перьями и оставил на скатерти кровяные пятна.
Да, подобные приговоры надо выполнять чисто, тихо и благо-
398
честиво, так, чтобы ни одно перышко никуда не залетело, чтобы
ни одна капля крови не была пролита.
И когда купили и принесли в дом вторую певчую птичку, кот
задушил ее уже тихо и осторожно и проглотил вместе с перьями.
Кота высекли.
И только теперь кот, наконец, понял, что главная суть не в
раскиданных перьях и не в пятнах на скатерти, а в чем-то
совершенно другом.
Тайна заключается в том, понял кот, что нельзя убивать, что
следует любить и прощать, что не казнями и мучениями можно
исправлять грешные души.
Надо вести на путь истины, поучать, обращаться к сердцу.
Покаявшаяся канарейка может достигнуть таких высоких
ступеней благочестия, до которых не добраться самому
благочестивому коту...
И чувствует кот, что в его груди сердце трепещет от радости.
Покончено со старыми жестокими временами! Покончено с
кровопролитием!
Милосердия, милосердия и еще раз милосердия!
И с чувством глубокой жалости и милосердия приблизился кот
к третьей канарейке.
— Не бойся меня, — говорил он ей таким мягким голосом,
какой вряд ли исходил еще когда-нибудь из кошачьего горла. — Ты
грешна, но я не причиню тебе никакого зла, потому что я жалею
тебя.
Я даже клетки твоей не открою, даже не прикоснусь к тебе.
Ты молчишь? Хорошо, пташечка. Чем петь разгульные песни,
лучше молчать.
Ты трепещешь? Еще лучше. Трепещи, трепещи, дитя мое, но
не предо мною, а перед всевышним.
И если бы ты осталась навеки такой — молчаливой, скромной и
трепещущей!..
Я помогу тебе. Я дохну на тебя смирением и благочестием.
И с моим дыханием пусть проникнет вера в твою душу,
богобоязненность— во все твое существо, покаяние — в сердечко твое..·
И чувствует кот, как хорошо, как приятно прощать, как
хорошо и радостно вдохновлять другого благочестием.
И растет и ширится благочестивейшее сердце в груди
благочестивейшего кота.
...Но канарейка не может жить« окруженная кошачьим
дыханьем. Она задохлась.
А. С. СЕРАФИМОВИЧ
(Род.в1863гЛ
Промысел божий
— Так это вы изволите сотрудничать в «Безбожнике»? —
сказал, преодолевая монотонный гул колес, старик, мой сосед, с
седеющей благообразной бородой. — Читал-с. Очень на веру
напирать изволите. И напрасно-с. Ежели отнять веру у человека,
что ж от него останется? Вы, конечно, от науки, изучаете
небесные светила, движения всякие, — почтенно, почтенно. Вы пишете,
а я читаю — дозвольте и мне свое суждение иметь. Вы от науки,
а я от жизни. Я.просто хочу вам рассказать мою жизнь, и вы
увидите: кто с верой обращается к богу, того он устраивает. Все
единственно от господа бога нашего Иисуса Христа. Вот кто устроил
нашу жизнь, если только с верой. Я вот вам расскажу свою жизнь.
Так бот, папаша мой, царствие им небесное, имели большую
торговлю, а также дома и две бани. А между прочим, когда мне
стукнуло двадцать лет, они привезли меня в город и сказали: «Ни
копейки от меня не получишь. Я из трактирных мальчиков
добился, добивайся и ты и составляй капитал. А как помру — все твое
с братьями, и к своему приумножишь и мое». Горько мне было,
молодой, жить хотелось, да уж папаша сказал—кончено: кремень
человек был. Все бы ничего, да была у меня модисточка Соня,
беленькая, веселая да ласковая. И денег у меня никогда не
требовала, своим трудом себя содержала, и сынишка от меня родился.
Славный мальчишка, все ручонками ко мне тянулся, привык к
нему. Жениться на ней не думал, а как вспомню, расставаться не
миновать,—защемит сердце. Ну, вижу, тупик мне. К кому? Кто
посоветует? Одно осталось — к господу богу. Пошел к иверской
божьей матери, отслужил молебен с акафистом,—полтора рубля
обошелся, — и жарко молился, до слез. И что же бы вы думали?
Как осенило меня: женись на Глафире. У меня аж сердце зажало,
аж дрожь пошла — жалко Соню, мальчонку жалко... Глафира же
Пудовна при больших капиталах была. Дело прошлое, а знал я,
да и все знали — в девицах двойню своему папаше принесла.
А матерь божья иверская, пресвятая, пречистая дева так
пронзительно смотрят на меня и приказывает глазами: иди! Ну,
посватался, сыграли свадьбу. А в церкви глянул—стоит моя Соня в уголку,
ни кровинки в лице, ребенок на руках, стоит, хотя бы слово
сказала. У меня помутнело в глазах. Эх, думаю, никогда такой
желанной не была, хоть помереть. Ну, дело прошлое, — не то чтобы моя
Глафира Пудовна на всех зверей была похожа, а правду сказать —
глянешь да крякнешь. Ну, что было, то прошло. А вот вы
говорите, промысла божьего нет. Да как же нет? Когда с женитьбы я
и на ноги стал, человеком сделался, даже папаша меня уважать
400
стал, и Глашеньким капитал помаленьку на свое имя перевел.
Сами понимаете, — у бабы волос долог, ум короток. Отечеству
пользу приносить — это дело мужчинское, не бабье, и каждый,
кому господь сподобил заслужить капитал, обязан эту пользу
родной стране приносить. Хорошо. Стали жить...
— Что же, хорошо с женой жили?
— Душа в душу. Разумеется, в супружеской жизни бывают
случаи, не без того. Извольте видеть, вот повыше уха шрам, —
кочергой горячей съездила, чуть не убила. Но я вам прямо скажу:
не умом, не образованием, а единственно упованием на господа
нашего Иисуса Христа стал я человеком. Верите ли, ни одного
дела не совершал без божьего благословения. Помер папаша, я
сейчас к иверской: матушка, научи. А она, пречистая, так-то
вразумительно смотрит на меня и говорит глазами: «Иди, —
говорит, — спасай капиталы у твоих братьев для пользы отечества».
Божья воля! Поднялся я с «оленок, пошел к братьям. А надо
сказать, два брата у меня, но не туда пошли. Оставил нам папаша
поровну капиталы, дома, торговлю. Я-то стал производить
капиталы в дело, как в евангелии сказано, а они — напротив. В
евангелии сказано: легче верблюду пройти в игольное ушко, чем
богатому войти в царство небесное. Но как это понимать надо? А так.
Сказано: получивший десять талантов (а талант по нынешним
деньгам — большие миллиарды) зарыл без всякой пользы. А
получивший один талант — пустил его в оборот и нажил талант на
талант, ан вышло сто процентов. По нынешним временам это за
спекуляцию повернут, и, гляди, в чеку сядешь. А между прочим,
кого господь благословил? Того, который капитал удвоил. А
который не умел с капиталом распорядиться, того обозвал «рабом
лукавым и ленивым». Господь в первую голову наблюдает, чтобы
богатый правильно капиталы свои приумножал для пользы
отечества и народа, а который не умеет правильно свой капитал
обернуть, тот господу богу супротивник, и в рай ему труднее влезть,
чем верблюду в ушко. А позвольте вас спросить, кто храмы
строит? Кто жертвователи? Ну вот, приступил я к братьям. Вижу,
братья мои единоутробные — «рабы ленивые и лукавые*,
зарывают даденные таланты. Один в университет пошел, другой — по
музыкальной части. Нет, думаю, эти господу не угодны, прямо
верблюды, не пролезут. А чтобы капиталы трудовые папашины не
пропали, я их к рукам прибрал. На мое и вышло: один брат по
политике в ссылку ушел. Говорили: можно вызволить, взять на
поруки, похлопотать. Верите, целую неделю мучился: жалко
братишку, ведь своя кровь. Да раз ночью сновидение: из переднего
угла, от икон вышел ангел, весь в сиянии, и глаголет: «Делай
свое, приумножай даденное». Проснулся я утром в слезах и понял,
какое направление мне дала владычица небесная. И пошел к
иверской и коленопреклоненно возблагодарил пресвятую. Потом
пошел в храм Христа спасителя и отслужил благодарственный
молебен с коленопреклонением, акафистом и певчими, и стал он мне без
малого пятьдесят целковых. Так и сгиб братишка по своей вине в
ав-22 401
Сибири, а другой в босяках пропал. А вы говорите — промысла
божия нет.
Он замолчал. Задумался. Сквозь окно глухо мелькали черные
деревья.
— Вот, — заговорил он опять,—пришла революция. Ведь
всего, всего лишился: капитала, домов, торговли — всего. За что?
За что такое?
Вдруг он поднялся, покачиваясь.
— А вот тут-то и сказался промысел божий: все понемногу
опять ворочается — и капитал, и дела, и торговля. Помните Иова?
Все сжег господь, испепелил, уничтожил, и все опять
восстанавливает во всей силе и блеске своем. И когда открыл я торговлю
свою и стал брать подряды и опять, не как раб ленивый и
лукавый, а господень послушник, стал на пользу отечества к таланту
прибавлять* талант, заказал 1Молебен с акафистом и водосвятием в
шести церквах, и это обошлось в миллиард двести — курс-то
знаете теперь какой? Даже слепые узрят отныне величие промысла
божия...
Ежедневно творимое *
Быль
Ревели автомобили; катились, визжа на поворотах и роняя
синие искры, трамваи; спешили пешеходы; улицы кипели с утра до
ночи и ночью жили, залитые светом дуговых фонарей, а по
ресторанам музыка, вина, цветы, заморские кушанья, — буржуазия с
удовольствием жила на свете.
На окраинах дымились фабрики. С зелеными лицами рабочие
в неустанном труде созидали богатства. Крестьяне в
невысыхающем поту добывали из скупой земли хлеб помещикам. Все было
обыкновенно, все было так, как привыкли, и никто не думал,
никто не подозревал, что в этой привычной, обыденной обстановке
непрерывно сеялись чудеса, день и ночь сеялись чудеса, как
невидимый, неощутимый дождь.
Нет, не святые творили эти чудеса, не праведники, не госп*одь,
не мать божия, не по-старинке творились эти чудеса, а... а как же?
А вот послушайте.
Была пасха, пришлась она в апреле 1912 года. Звонили
колокола, и весело разносился звон в весеннем воздухе над рекой
Проней. А вдоль речки раскинулось большое село Жерновицы
Рязанской губернии Спасского уезда. По всем избам ходил поп
Иван с дьячком, гнусавили «Христос воскресе» и набивали мешки
даяниями. Да мало показалось. Велел поп приготовить три лодки,
взял двух работников, которые за irpouin гнули на него свои
хребты, позвал дьяка, подняли они раскрашенные доски, на которых
* Печатается с небольшим сокращением.
402
были страшные морды князей, царей, разбойников, кои
именовались «святыми», вооружился увесистым медным высеребренным
крестом, и поехали по вздувшейся реке, по которой проносились
льдины, на другой берег в деревни Ершово и Муняково.
Целый день таскались они по деревням «крестным ходом» и
доверху набили мешками с даяниями две лодки. Собрались ехать
назад.
А тут приносят гроб с покойником, просят батюшку взять в
лодку для отпевания в церкви. Батюшка взял и покойника и
четырех к нему носильщиков — за мзду.
Пришли кум, кума и бабка и принесли новорожденного:
крестить надо в церкви, — и их взял батюшка, тоже за мзду. И
покойника с носильщиками и новорожденного с кумовьями и бабкой
поп посадил в две нагруженные даяниями лодки, а сам с дьячком
и иконами сел в третью, пустую.
Собрались крестьяне на берегу, провожают духовного отца,
поглядели на реку и говорят:
— Батюшка, неспокойно, гля, река, — вишь, льдины гонит. Ты,
батюшка, вели мешки выгрузить да с народом налегке поезжай,
а мы тебе завтра сами все в целости представим, — к завтрему-то
весь лед прогонит. А то, гля, как лодки осели. Упаси бог, вдарит
льдина — потонет народ.
Нахмурился поп, зажал крест и подумал: «Так вас расперетак!..
оставь вам, начнете в мешки окунаться... сволочи!!»
А вслух сказал:
— Сказано бо в писании: без воли господней волос не упадет,
на все его святая воля. Греби!
Отчалили одна за одной лодки, и вышло так, как говорили
крестьяне, — грузно осели две переполненные лодки, и стала их
сердито захлестывать почернелая река.
Закричали люди:
— То-онем!.. Спасите!
А работники стали кричать:
— Батюшка, дозволь скинуть два мешка с зерном, бишь, не
выплывем.
Поп закричал:
— Не смейте! Я вас анафеме предам.
И приказал дьячку:
— Перелезь, дьяк, к ним в лодку, а то, сукины дети,
исподтишка скинут.
С большим трудом перелез, хлебнула лодка бортом, и все
очутились в сердитых волнах. Покойник поплавал-поплавал в гробу и
опустился на дно. Маленький — разжала бабка руки в
предсмертный час — хлебнул, и стало его не видать. За ним — бабка, кум с
кумой, а носильщики и особенно дьячок стали отчаянно бороться
со смертью. Но дьячка потянула ко дну кружка, привешенная к
шее и набитая медными деньгами со сбора. Скрылся и он. И но*
сильщики. Только двое поповских рабочих, молодые парни, не
желая лезть в царствие небесное, поплыли к поповской лодке, кото·
2Θ* 403
рая изо всех сил уходила от захлебывающихся людей, от криков,
воплей и моления.
Ухватились работники за поповскую лодку, смотрят на попа
страшными молящими глазами:
— Батюшка, спаси нас!..
Кинулся к ним лоп с перекошенным, звериным лицом — раз!
раз! крестом по рукам, по головам,—те оторвались.
А на берегу толпы народа, почитай, вся волость сбежалась,
бабы, мужики, дети — плачут, мечутся: иечем помочь.
Причалил поп, вышел, распатлатился, глаза горят, как у
кошки, звериным страхом пережитого, и осенил народ крестом. И тут
свершилось чудо: повалился народ ниц перед крестом, на (котором
густо краснела кровь поповских работников. Осенил крестом и
заговорил по-церковному, нараспев:
— Подымайте, православные, чудом спасенные святые иконы.
На ваших глазах в пучине морской погибли те, кому в
неисповедимых путях господних начертано было погибнуть, чьи грехи господь
видел всевидящим оком своим, но святые иконы господь незримо
вынес ангелами своими и архангелами, херувимами и серафимами,
дабы всему миру возвестить силу и славу свою.
Подняли иконы и всей волостью с пением двинулись к церкви.
Но это чудо не осталось только в селе Жерновицах Рязанской
губернии. Оно перекинулось в Москву и расползлось оттуда, как
масляное пятно, по всей России.
В Москве капиталист издавал газету «Русское Слово». И то
чудо, что поп творил в селе Жерновицах, когда у людей их
собственные глаза видели одно, а ослепленный ум—совершенно
противоположное, это чудо ослепления «Русское Слово» совершало над
всей читающей Россией.
Через неделю после того, как поп разбил судорожно
вцепившиеся в борт руки своих работников, в «Русском Слове» было
напечатано.
«В селе Жерновицах, Рязанской губ., Спасского уезда, при
переезде на трех лодках, причта с иконами и богомольцами через
разлившуюся реку Про ню от ледохода две лодки с богомольцами
погибли, а лодка со св. иконами и священником отц. Иоанном
чудесно спаслась».
Кукиш
В Тульской губернии, в одном из южных уездов, было большое
помещичье имение — на 1 000 десятин. Возле лежали две деревни.
Помещик сеял много хлеба, засевал свекловицу; было
клеверное поле; держал молочный скот; был громадный сад.
Сеяли, разумеется, хлебушка и крестьяне, держали помалу
скотинку, возили навоз на поля, были кое у кого садишки, а жили
404
туго, недоедали, недопивали. Ходили вшивые, грязные.
Ребятишки бегали кривоногие, с обвислыми животами, с желто^бледны-
ми лицами, — ведь они, как птицы, бесперечь есть хотят, а часто и
куска хлеба у матерей нет: все им брюхо набивают картошкой.
Туго жили мужички: земли—сохой «повернуться негде.' Ни
угодий, ии выгона, ни лугов, ни леска. Скотинка ходила мелкая,
захудалая. Молоко, какое и было, несли на барский двор, на
маслобойку, ребятенки молока и не нюхали.
Родился у мужичков хлеб тоже туго. Ежели снимут с десятины
25—30 пудов, радости нет конца. А то, не редкость,
только-только семена воротят.
Помещик снимал и по 75 и по 100 пудов. ■'
— Што ж, яму можно, — эва земли сколько!
— Да ведь с десятины.
— Нунк што ж? Яму есть чем взяться — капитал, —
почесывали в сбившемся на голове войлоке мужички.
А сами искоса все поглядывают на помещичью землю: кабы
нам эту землицу, мы бы произвели.
Чует помещик — идет смятение в народе. Так, снаружи-то,
ничего не видать, — все тихо, чинно, спокойно: урядники,
старшины, сотские, становые, исправники, все на своем месте, а чуют, все
чуют за этими заветренными, обросшими, покорными, почернелыми
от земли, горя, бедности лицами таится своя незамирающая душа.
Таится и все растет, и все ширится, все сгущается в черную хма-
ру, что повисла над всей русской землей.
— Эк его, — думает помещик, — «молчит, молчит мужик, да
как прорвет его, и ох не успеешь сказать».
И надумал.
Приходит в деревню. ;
— Ну вот что, мужички. Вижу, трудно вам...
— Куды туже, конца^краю не видать, — мнут шапки.
— Ну то-то! И живете по-волчиному — лба перекрестить не»
где, ни церкви, ни школы.
— Куды! Прямо зверьем живем.
— Ну вот. Решил я построить вам церковь и школу.
Как ветром нагнуло мужиков, закланялись:
— Покорно благодарим! Век твои молельщики, благодетель
наш!
А бабы от радости в подолы стали сморкаться, глаза красные
утирают.
Помещик поставил церковь, выстроил и открыл школу церков-
но-приходскую, чтобы псалтырю обучать детей. Сам съездил в
город, побывал у архиерея н привез из города двух: мужикам-*
попа, себе — агронома.
Пап завел свое, агроном — свое.
Поп в воскресенье и под воскресенье, каждый праздник,
который вывернется на неделе, и под праздник «аллилуйя», и «господи
помилуй», и «благослови грядый»... и много всякого другого,
непонятного и гундосного.
405
Но особенно напирал проповедями. Как служба, так проповедь.
«Возлюби ближнего твоего, как самого себя»... И пойдет, и
пойдет тачать: соседа Игната возлюби. Старшину возлюби.
Помещика возлюби, управляющего его возлюби.
«Нет власти, аще не от бога». Тут уж вовсе разливается
соловьем: и государя императора чтите, как помазанника божия;
и губернатора чтите, и исправника чтите, и станового чтите, и
урядника чтите.
«Не будьте рабами лукавыми и ленивыми». Трудитесь и все
вам дастся. Лень — мать всех пороков, оттого у вас и бедность.
Стоят мужички, слушают корявые, со спутанными бородами, с
глубокими морщинами на замученных лицах; руки, как плети
висят, черные, мозолистые, похожие на копыта, полопавшиеся от
вековечного неустанного труда, стоят, слушают, покачивают
головами: верно, мол.
Стоят и бабы, как замученные клячи, стоят, вздыхают, и снова
крестятся, низко кланяются попу и образам: «Господи, господи!
Мочушки нашей нету, силушки нашей нету»...
Хорошо стало с попом.
Опять и другое с попом хорошо. Пришла засуха. Бывало,
начнет хлеб гореть, мечутся мужики, никак попа не достанут, — чужая
церковь далеко, и поп там у своих нарасхват, тамошние деревни к
себе тянут, никак мужички не дождутся своего череда.
А теперь совсем другое стало. Случилась засуха на все лето,
стал гореть хлеб, трава; пашня, как кирпич; лопается земля до
самого нутра. Видят мужички, пропадают. Надо меры принимать.
Сейчас же кинулись к попу. А он под руками, тут же, свой,
не надо ездить по чужим деревням, побираться чужим попом.
— Батюшка, пройдись с молебствием по полям, гибель наша!
Поп заправил волосы, собрал все свои причендалы. Забрали
иконы, понесли на высоких палках вышитых на бархате людей, обе
деревни поволоклись, и стар и млад. Пел поп с гундосым дьячком,
окропили все закоулки поля, все сады.
Сгорел весь хлеб дочиста, ни зерна не собрали, а сады сожрала
гусеница. Много мужиков заколотили избы, продали последнюю
коровенку, ушли на заработки, а бабы с ребятишками, почернелые
от голода и горя, пошли с сумками побираться.
Не жаловался и помещик на агронома. Сбыл агроном всех
старых малоудойных коров, завел хороший породистый скот, и ну
кормить его картошкой, свеклой. Велел пахать не в августе —
сентябре, как это раньше было, а с мая. Да все лето по пашне гонял
бороны, которые рыхлили верхний слой, не давая ему ссыхаться
в комья. Привез из города какое-то зелье и ну из кишки
опрыскивать деревья в саду. А уж с зерном, которое на семена, как
с ребенком возился: насквозь его обобрал, вычистил, отвеял, как
стеклышко, зернышко к зернышку.
Пришла жара, а помещик снял 200 пудов с десятины. Втрое
стали давать молока коровы. И чудесные наливные зреют яблоки,
Сеэ пятнышка.
Удивляются крестьяне, качают головами:
— Колдун!
•— Батюшка, отслужи молебен 1
Пришли две революции. В первую революцию спихнули царя,
да оставили землю помещикам, капиталы и фабрики —
капиталистам. Во вторую революцию коммунисты спихнули помещиков и
капиталистов, земля перешла крестьянам, фабрики — рабочим.
Наш помещик насилу ноги унес, убежал. Агроном уехал, поп
остался.
Поделили мужички землицу, крякают, ухмыляются:
— Покропи, батюшка, новорожденную землицу.
Покропил. Сняли мужички по 80 пудов. То-то радости было.
На следующий год:
— Помолебствуй, батюшка.
Помолебствовал. Сняли пудов по 25 с десятины. Затуманились
мужики. Тоска стала заползать в мужицкие души.
— Што ж это, батюшка, край приходит, помирать и с
землицей; на старое съезжаем.
— По грехам вашим, по грехам вашим, — каркает поп, —
господь наказует. Неладно молитесь, не от усердия.
Качают исхудалыми победными головушками мужички:
— Верно, правильно. Мало молимся, много грешим. Подымай
иконы, батюшка, пройдись по всем полям.
Подняли иконы, прошлись по всем полям, по всем лужкам;
кропил поп направо <и налево, вьгкропил ведра два. Служил молебны
я с акафистом и без акафиста, до самой до ночи. Заморился
народ, насилу ноги приволок домой.
Пришла жатва, — глазам своим не верят мужики: сняли...
по 2, по 3 пуда с десятины.
* * *
Собрался сход.
— Вы вот чего, старики...
Говорит, а его слушают, потому свой, деревенский. Давно ушел
на фабрику, теперь приехал коммунистом. Случилось так, что
приехала с ним молодежь, свои же деревенские красноармейцы.
— Вот что, старики, совет вам дам, а вы послушайтесь.
И дал им совет. Зашумели мужички:
— Да разве мыслимо! Да что ты, ай белены объелся. Да ни
в жисть этого не сделаем! Али мы богачи какие? Мы не
помещики. Молодые, из красноармейцев, вступились:
— Непременно так надо сделать, как говорит товарищ. Он же
наш. Опять же — коммунист.
Как ни упрямились старики, перегорланили их молодые. Делать
нечего, завернули полы, достали кошели, собрали денег. Выбрали
двух, вручили им сумму, укатили в город.
А тут поп подвернулся:
— Вот что, православные: дровец надо на божий храм, да и
мне, и причту надо заготовить.
— Ну-к што ж, — почесались старики.
— Не надо, не будем! — заорали молодые.
— Ну, а мы как же, одни не сдюжаем — старые.
Взъярился поп.
— Так вы вон куда гнете! Священника не принимаете, за
требы, стыдно сказать, как нищему даете?.. Проклянет вас господь!
Старики испуганно закрестились, а молодые закричали:
«— Пущай проклянет! Небось обсохнем...
— Α-a, так вы так!.. — завопил поп, — повешу замок на цер·
ковь!
— Давно пора!
-— Вешай... ишь не догадался!
— Хоть себе на шею!
— О, господи!—попятились старики, все также испуганно
крестясь. Навесил поп на церковь замок, уехал неведомо куда.
А тут как тут те двое из города приехали, третьего с собой
привезли—»агронома, да еще прежнего, что у помещика работал.
Всем обществом приняли.
Принялся он за свое: и пахоту раннюю ввел, и боронить
заставил целое лето, и навоз указал, как и когда вывозить и
запахивать, и золу велел выгребать и все на пашню, и зерно на семена
насквозь прочистить, и сады опрыскивал. Кряхтят мужички, раоко-
шеливаются, — все это денег стоит.
— Эх, мать ты курицына, плакали наши денежки! А делать
нечего, не попятишься, назвали груздем, лезь в кузов.
Вскружился год. Сняли хлеб, и ахнул народ: 150 пудов
десятина дала, ахнул народ и рассмеялся во всю рожу:
— Вот так здорово!..
Звонкие да веселые деревни стали. Глядь, поп приехал — худой,
облезлый, видно безработный, скучный.
— Православные, возблагодарим господа за милость его
неизреченную, ниспосланную на вас. Обойдем все поля с молебствием.
С сотню здоровенных, черных, земляных, полопанных кукишей
потянулись к нему:
— На-кось, выкуси!..
С. ПОДЪЯЧЕВ
(1865—1934)
Умереть недолго
В церкви «отпевали» покойника, дядю Матвея, умершего «ни
с того, ни с сего» в самую нужную рабочую пору, в покос, а около
церкви, под окнами церковной сторожки, вдоль стены, на длинной
скамейке сидели три бабы да два мужика, те и другие давно уже
перевалившие с виду на пожилых, и вели разговор по поводу
скоропостижной смерти дяди Матвея.
— Умереть нешто долго?—сказал плюгавенький, с седой бо-
роденкой старикашка, выслушав только-что кончившую свою речь
бабу. — Нешто долго?—- повторил он.—Да вот, недалеко ходить,
про свою старуху, про покойницу, — царство небесное, окажу, как
она скончалась,—продолжал он, почесав пониже коленки левой
рукой. — Летась по осени на третий день престольного праздника
Егорья победоносца господь ее прибрал. А ведь и не думано про
это было. Как сичас гляжу, не забыть мне. Отправили мы сватов,
допили с ними останную бутылку, полез я на печку отдохнуть. Лег
на горячее место животом вниз — лежу, а старуха моя, слышу,
посуду на скамейке около печки мыть зачала. Мне с печки-то все
слышнехонько. Мыла, мыла... потом затихла маленько, да, слышу,
кричит мне снизу жалобным голосом: «Лаврентий, Лаврентий,
спишь, что ли?» — «Нет, мол, не сплю, а что?» — «Умираю!
Кончик «мой пришел! Сме-ерть!» Я с печки кубарем. Что такое?
Господи су си? Гляжу, а она обхватила обеими руками себя за живот,
да по полу-то колесом вертится. «Что такое?—опрашиваю
опять. — Что ты?» — «Умираю! Живот схватило! Режет его
ножами кто-то, распорками распирает! Умираю!! Гони за попом!» А я
ей: «С чего это тебя хватило вдруг?» — «Рыбки, — говорит,—
я поела в аппетит, сомовинки малосольной, с нее, знать». Что тут
делать? Вспомнил, надоумил меня господь: к баушке свезти ее,
к Бормачихе в Лупиху. «К баушке, — говорю ей, — я тебя повезу,
авось, господь даст, оттянет она как-нибудь боль твою». —
«Вези»,— говорит. Ну, про баушку вам говорить не приходится. Кто
ее не знает! Ее вся губерния знает! Она и килы заговаривает, и
по ветру их пущает, и горшки накидывает, и от зубов
заговаривает, и обверты девкам делает, чтобы не рожать, и самогон
никому, окромя ее, такой не выгнать. Наградил ее царь небесный
сверх меры всеми талантами. Н-ну, ладно. Запрег я на скорую
руку мерина в дровни, сена накидал, чтобы ей не жестко лежать
было. Одел ее. Укутал одеялом, положил в дровни на сено, поехал!
А снежок только ища накануне выпал, и ища все замороженные
глыжки наружи торчали. Гоню я, а дровнишки-то по глыжкам
сток, скок, скок! Скачут, как караси на сковородке, и ока в дров-
499
нях скачет. Вопит благим матом. Все хуже ей делается. Резь в
животе все шибчи. Кричит: «УмираюI» Ладно. Приехали,
добрались кое-как. Привязал я у крыльца лошадь. Выволок из дровни«
шек старуху свою, потащил ее, сердешную, в избу. Баушка Борма-
чиха дома сидит за столом, на картах сама себе гадает, а старик
ее, Хритон Василич тоже теперь, царство небесное, покойник, на
печке лежит, глядит оттеда, бороду выставил. Я к баушке: так и
так, говорю, осмотри болящую, помоги, сделай милось, а что
стоит за труды — получай. Ну, дай ей бог два века прожить,
обсмотрела она старуху мою, покойницу, общупала и говорит:
«Это, — говорит, — у ней от тяжелых подъемов». А я говорю ей:
«А мы, дураки, думали от рыбы, от сомовины малосольной». —
«Нет, — говорит, — не от рыбы. Горшок накинуть на живот, —
говорит, — надо. Пройдет. Оттянет». Обрадовался я. Думаю:
«Теперь, коли взялась, поставит старуху на ноги». «Накидывай, —
говорю,·—Христа ради, скорей!» Она мне: «Раздевай свою бабу.
Стаскивай полушубок. Не бойся, — говорит, — сейчас поправим ее,
излечим, сделаем, что надо. Раздевай!» Снял я со старушки со
своей полушубок, платье снял. Сапоги не снимал, не велела
баушка. «Они, — говорит, — нашему делу не помешают». Осталась,
гляжу, моя баба в одной нижней в короткой рубашке по колени,
а на ногах сапоги теплые надеты, валенки подшитые. Глядеть
совестно, а ее трясет всю, так и кидает кверху. Подала, гляжу, Бор-
мачиха мне подушку какую-то засаленную: «Под голову, —
говорит,— ей подложь. Клади ее на скамейку-то животом кверху. Не
бойся. Не умрет. Клади смелей, ворочай!» Ла-а-дно. Положил.
Лежит моя баба брюхом кверху, а сама плачет. А Хритон
Василич глядит на нас на всех с печки, носом фыркает. Гляжу —
начала баушка живот ей обеими руками, засучила их по локоть,
мять, отглаживать. Отглаживает, а сама богу молится. Слышу
шепчет: «Киевские чюдотворцы, Воронежские чюдотворцы,
Московские чюдотворцы, Троицкие чюдотворцы, Папы Римского
чюдотворцы, помозите рабе божьей Евдакии, избавьте ее от скорби!»
Потом, гляжу, сунулась за перегородку, несет оттеда, гляжу,
горшок — не горшок, а так вроде корчажки небольшой. Новая, гляжу,
совсем корчажка эта, только, должно, куплена. Ла-адно!
Слушайте, что дальше будет. Схватила, гляжу, баушка горсть пакли,
зажгла ее с одного конца, подняла у моей старухи рубашку кверху,
сунула паклю с огнем в корчажку, да, гляжу, на брюхо ©ту самую
корчажку бабе моей и приставила, а сама все шепчет, молится:
«Киевские чюдотворцы, Владимирские чюдотворцы». Ла-а-дно.
Хорошо. Приставила этр она корчажку, и, вот с места мне не сойтить,
прилипла, гляжу, корчажка к старухиному животу и к самой к
середки, точно ее припечатал кто печатью. Ей-богу, не вру! Ладно.
Стою, гляжу, что дальше будет, и вижу — потянуло у моей бабы
живот в корчажку в эту в нутро. Все брюхо, понимаешь, точно
кто нарочно туды всунул. Старуха моя, гляжу, глаза закатила под
лоб, побелели они у ней, а язык сразу порушился, разевает рот,
Как щука на берегу, хочет оказать что-то, ан не может! Испугался
я до-смерти, и бабушка Бормачиха, гляжу, тож« испугалась.
Хватается за горшок-то, за корчажку-то эту проклятую, хочет ее с
брюха-то оторвать, ан, не оторвешь! Пристала, чисто ее гвоздями
к животу-то пришили! Что тут делать? Слышу, Хритон Василия
с печки кричит: «Чорт, дура, разбей горшок-то! Не видишь —
человек погибает!» А она ему: «Горшок-то новый, только куплен,
жаль бить-то. Авось, господь даст, сам отстанет!» А сама опять:
«Питерские чюдотворцы, Афонские чтодотворцы, Черниговские чю-
дотворцы». Слышу, Хритон Василич не путем опять закричал:
«Бей, говорят, сволота!» Ну, тут уж я вступился, вижу, дело
выходит бя-я, схватил от печки полено да по горшку-то хварысь! На
мелкие части разлетелся и сейчас же, понимаешь, у моей старухи
живот опадать стал, а она сердешная, пресветлый ей рай, только
и успела, как сичас гляжу на нее, икнуть один разок. Икнула эдак
вот: «ик!» — и господу душу свою праведную отдала! Тут же на
скамейке, где лежала, тут, как была в сапогах, с голым животом,
так и скончалась. А вы вот толкуете: «Отчего помер, да отчего
помер». Смерть причину найдет, а помереть нешто долго?
Он замолчал и начал свертывать курить. Слушатели тоже
молчали.
Богомольцы
Из церкви, провожаемые колокольным звоном и пением, несли
в деревню иконы, служить перед ними молебны по случаю ненаст-
нон погоды. Навстречу толпе, провожавшей эти иконы, кресты,
хоругви, шли из деревни, куда несли иконы, с косами на плечах дв*
мужика: Анисим Брусков да Илья Солопкин.
Оба они, идя, курили, когда поравнялись со святыней, то
посторонились немного в сторону, давая дорогу, но папирос не
бросили, картузы с голов не сняли, а, остановившись, держа на
плечах косы, с улыбкой глядели на это шествие.
Впереди шел мальчишка с фонарем. За ним девки с
выпяченными грудями, на которых, точно как на подносах, стояли
поддерживаемые руками иконы, за девками — мужик с крестом, за ним
опять два мужика с хоругвями, а за ними уже народ, толпа,
позади которой, немного поотстав, церковный староста Корней Сте-
паныч с каким-то ящиком подмышкой и с своим кумом Захаром
Игнатьевичем, закадычным его другом, любителем церковного
благолепия, первым организатором всяких «подниманий» икон,
молебствий, крестных ходов и т. д.
Еще издали увидали они Анисима с Ильей, и когда
поравнялись с ними, то Захар Игнатьич, как более горячий, не утерпел,
подошел к стоявшим с косами на плечах мужикам и, злобно
сверкая глазами и задыхаясь от душившей его злобы, прерывающимся
голосом захрипел:
— Анафемы прокляты! Растуды вашу! Умны больно. Не-е-ет,
сволочи, мы еще подержимся за это! Мы еще помолебствуем! По-
вашему не будет!
Подошел и Корней Степаныч с ящиком.
— Не дело, ребята, делаете,—сказал он, — разврат!
Возмутительная картина поведения вашего достойна (порицания.
Мужик этот жил когда-то до революции в Москве у «господ»
в кухонных мужиках, нахватался там разных слов и любил
выражаться как-то тю-чудному, не понимая иногда и сам значения тех
слов, которые произносил.
— Соблазн для других, — продолжал он, — анархия, и, между
прочим, вы будете от творца всех наказаны.
— Это кто же тебе сказал? Ты почем знаешь? —спросил Ани-
сим Брусков. — Ты молись, а я не хочу. Я работать хочу, а бог
труды любит.
— Из-за вас-то вот, сволочей, — вступился Захар Игнатьич, —
господь и посылает беды. Мы молимся, а вы насмех нам —
работать. Кабы вы из другой деревни, — наплевать, я бы слова не
сказал. Может, молитва наша дойдет, услышит господь, а с вами как
быть? Вы тоже, дьяволы, в наше ведро работать пойдете. Из-за
вас опять гнев его на нас кинется. Одни молятся ему, а другие
насмешки делают. Как быть? Святыню несут, а вы в картузах, с
папиросками! Отшибить вам вот головы-то, сволочи! Да и
дождетесь, до-о-ждетесь, проклятые!
— Эх, вы, православные! — сказал ему на это Анисим
Брусков.— Слезы на вас смотреть-то, на дураков! Пойдем, Илья, ну
их к шуту! Пущай забавляются.
— Все равно скосишь, да не возьмешь!—крикнул им вслед
озлобленный Захар Игнатьич.
Случилось так, что, когда вечером иконы несли обратно в
церковь, давешние мужики, Анисим и Илья, возвращались, усталые,
с покоса и снова попались навстречу «святыне».
На этот раз обратно иконы несли без колокольного звона,
а пение звучало как-то уныло, и видно было, что настроение у
провожавших подавленное. Объяснялось это тем, что давеча утром,
когда несли иконы, погода стояла сносная, а к полдням, когда
служили молебны, и вовсе разгулялась (что ясно показывало на то,
что молитва услышана), теперь, после всех молебствий и молитв,
когда иконы понесли обратно, набежали серые, клочковатые,
ненастные, быстро бегущие облака и заморосил дождь, как это было
видно, затяжной, надолго.
Анисиму с Ильей опять пришлось посторониться. На этот раз
они положили косы на землю и присели на бережке канавы.
И опять, как и давеча, увидали их идущие позади всех староста
Корней Степаныч и его кум Захар Игнатьевич.
— Помолившись вас, Корней Степаныч и Захар Игнатьевич, —
произнес один из косцов, Илья Солопкин. — Намолили ведрышка?
Дождичка господь посылает! Недостойна молитва. Не слушает вас
бог. Мало попу даете. Прибавить надо!
Ш
— Возмутительные речи твои, Илья, — внушительно сказал
Корней Степаныч, — гневят творца, и очень возможно, что в связи
с этим господь послал нам бедствие. Остерегись, Илья, опомнись!
Чему ты радуешься?
— А что же мне, глядя на вашу дурость, плакать, что ли?
Плохой ваш бог — не слушает вас. Отстегать его надо.
— Рече безумец в сердце своем: несть бога!—сказано в
писании. Смотри, Илья, предупреждаю: наказан будешь!—опять
внушительно сказал Корней Степаныч. Такие ли столбы
подламывались, как ты!
— Знамо дело, через эту вот сволочь опять ненастье, —
вступился молчавший до этого Захар Игнатьич. — Видимое дело! Одна
корова поганая вое стадо гадит. Мы по-своему — молим, просим,
а они насмешки делают. Что же, бог-то не видит, что ли? Убрать
вас, дьяволов двух, смутьянов, из деревни надо. Всю деревню, всех
ребят молодых перепортили. Кымсамолы каки-то, — начал он,
переменив голос, передразнивая кого-то. — Капирация. Давосу
устроили два чорта, а в ней втридорога дерут. Камитет взаимопомощи.
Везде суются. Везде члены. Всем завладали. Умны больно!
— Иди, иди! Неси доски-то размалеванные на место, — сказал
Илья. — Мало, говорю, попу дали! Колдовал плохо!
Услыхав это, Захар Игнатьевич весь затрясся от злобы и с
поднятыми кулаками бросился к нему.
— Убью!—закричал он. — Нехристь! Жулик! Камуния чор-
това! — Илья хотел было отстраниться от него, да не успел.
Обезумевший изувер схватил его косу, взмахнул ею и, поймав его за
протянутую руку лезвием, дернул к себе. Хлынула кровь, и рука,
перерезанная острой косой выше локтя, повисла, как плеть.
— «Пресвятая богородица, спаси нас! Святителю, отче
Николае, моли бога о нас!» — неслось пение девок, далеко уже унесших
вперед «святыню».
Мы по-хорошему!
Бездетный богатый мужик Микита Микитич Псов молился,
стоя на коленях ранним утром у себя дома перед иконами,
занимавшими почти всю переднюю стену в количестве шестнадцати
штук.
Перед каждой иконой висела особая для каждого «лика»
лампадка. В прежнее время, когда «богово» масло стоило четвертак,
все эти лампадки были «неугасимые», т. е. горели постоянно, а
теперь горела только одна лампадка перед образом Никиты
мученика, «моего ангела», как говорил особо чтивший эту икону
Микита Микитич.
До революции Микита Микитич занимался «угольем»,
доставляя его на места в Москву, и очень усиленно шел в гору, т. е. бо-
413
гател. Теперь же, во время революции, «переменил карьеру», по
его выражению, и занимался спекуляцией во всех ее видах, и,
главным образом, мясом. На этом деле он выказал особую
талантливость и ухитрился еще недавно, когда работали заградительные
отряды, каким-то только ему одному известным способом провозить
в Москву дохлое мясо, «падаль» лошадей, коров, драных собак,
кошек, выдаваемых им за баранину, наживая каждый раз на этом
«товаре» хорошие барыши.
— Москва все съест, что ни дай! — говорил он, ухмыляясь: —
время такое. По барину и говядина, по Сеньке шапка, по Еремке
колпак. На-а-плевать!
Теперь, в настоящее время, руководясь «новой экономической
политикой», он принимался за спекуляцию, не «опасаясь энтих»,
во-всю и стал говорить, что теперь: «слава тебе, господи, хорошему
человеку жить можно».
Стоя на коленях и усердно кладя поклоны «своему ангелу», он
слушал, как жена его Авдотья разводила самовар и что-то
готовила к завтраку, стуча ухватами около печки за перегородкой.
— Скоро ты там отмолишься-то?—послышался за
перегородкой ее голос, и Микита Микитич услыхал в этом голосе
насмешку.— Иди, ешь! Самовар поспел!
— О, чтоб тебя!—поднимаясь с коленок, крикнул Микита
Микитич, напуская на себя строгость. —Видишь, небось, каким я
делом занят! Ослепла? Помолиться-то не дают, сволочи! Ты
только углубился, думаешь к господу взнестись духом, ан тут она с
языком! Подумала бы, дура, ногами-то, коли мозгов нет!
Погрязли, вить, в грехах, утопли по самую сиделку! Голова-то у тебя
давно, я вижу, для платка только существует. Нешто можно
тревожить человека в эдакие часы! Подумала бы!
— А ну тебя к шуту, свят муж! — раздался снова голос
жены. — Замолился. Говорил бы уж кто-нибудь другой за тебя, а не
ты! Слушать тошно! Иди> говорю, что ли! Ешь!
Микита Микитич промолчал и, пригладив на голове
ладошками, предварительно поплевав в них, волосы, пошел к ней за
перегородку завтракать.
На столе в переднем углу небольшой каморки-кухни кипел
самовар и стояла сковородка с жареной печенкой накануне
зарезанного поросенка.
Микита Микитич помолился в угол на иконы и полез за стол.
— Никто не был?—спросил он.
— А кого тебе надо?
— Васька Заяц хотел зайтить, — ответил Микита Микитич,
поддевая на вилку кусок печенки, — насчет лошади.
— Насчет какой лошади?
— Лошадь у него издыхает, прирезать просил. Продает ее на
мясо. Заболела. Сап, ишь, что ли. «Все равно, — говорит, —
издохнет». Не встает. Веревкой поднимают. Надо взять. Есть
расчет. Мясо в цене. Свезу либо в Москву, либо на фабрику.
Купят, сожрут. Думается,— не «прогадаю.
Ш
— А цена как?— спросила баба.
— А вот хотел он зайтить. Скажет цену. Да уж, знамо, какая
ей цена: много не дам. Ему, я злаю, зарез теперь. А мне
наплевать! Мне хышь поп будь, хышь дьякон, а денежки на кон! Всех
слез не утрешь!
Баба молчала, видимо, соглашалась с ним, Микита Микитич
тоже замолчал и, громко чавкая, ел печенку, утирая сальные губы.
В это время там где-то на дворе затявкала собака, послышался
крик: «цыц, проклятая!»—и, немного погодя, в избу вошел,
плотно прихлопнув за собою дверь, худой, длинный, болезненный с
виду мужик, тот самый Васька Заяц, про которого спросил у жены
Микита Микитич. Войдя, он, робея, встал у порога, перекрестился
в угол и сказал:
— Здорово живете! Хлеб да соль милости вашей.
— Спасибо,—ответил Микита Микитич и, немного помолчав,
спросил: — Ну, как?
— Издохла!—угрюмо и резко ответил мужик.
— Не успел, стало-быть, прирезать?—спросил Микита
Микитич. — Жалко. Напрасно. Товар не тот теперь.
— Не успел!—уныло промямлил мужик. — Ждал все я.
Главная причина —думал: авось, мол, бог даст, не встанет ли?
— Та-а-к, — облизываясь, произнес Микита Микитич, глядя
на него. — Та-а-к. Да ты садись, чего стоишь-то? Может
закусишь, а?
— Спасибо. Не до еды мне!
— А ты не тужи шибко-то. Божья воля. Ну, как же теперь?
Что думал? Где она у тебя?
-— На дворе покеда.
— Ободрать надо.
— Кому обдирать-то?
Он помолчал и опять так же уныло, как и давеча, произнес:
— Возьми, Микита Микитич!
— Гм, — крякнул Микита Микитич, — кабы прирезал, взял
бы, а то дохлая. Куда ее!
—■ У вас сойдет. Найдешь место.
— Да так-то так. Ну вот что: ты покеда не болтай языком-то
никому. Ужо вечерком попозднее свезем ее в овраг Гусинский,
а там увидим, что делать. Не обижу! Садись, закуси, чем бог
послал. Не обижу! Мы, брат, с тобой по-хорошему сделаем дело.
Мы по-хорошему,—повторил он. — Не горюй! Привози ужо. Будь
спокоен. Не обижу! Знаешь меня! Мы по-хорошему! Садись, пей
чай!
В. ВЕРЕСАЕВ
(Род. в 1667 г.)
Фельдшер Кичунов
Пунктирный портрет
Звали его Иван Михайлович. Фельдшер приемного покоя
больницы, где я тогда работал ординатором. Редкие усы и бородка,
держится солидно, с большим достоинством. Вид
глубокомысленный, на жизнь и людей смотрит свысока, с затаенною в глазах со*
жалеющею усмешкою. Истина жизни вся целиком, до последней
буквочки, находится у него в жилетном кармане.
На дежурстве вечером, когда поток привозимых больных почти
иссякает и гулко звучат в пустых коридорах шаги проходящей
сиделки, иногда засидишься в приемном покое и беседуешь с
Иваном Михайловичем.
* * *
— Как, Иван Михайлович, дела?
— Какие ж у меня дела! В гости я не хожу, картами и водоч-
кой не занимаюсь, за девочками не бегаю... В церковь сходить,
свечечку поставить в гривенник, просвирку подать, — вот и все
мои дела. Дома библию почитаю. Дела у меня обыкновенные.
Вчера библию купил себе новую. Хорошая книга, давно к ней
приглядывался. Книга фундаментальная, пятнадцать фунтов весом!
Приятно иметь такую книгу. Переплет красивый, — не барский,
втого нельзя сказать,—скромный, смирный, но обращает на себя
строгое внимание. Книга, можно сказать, вполне официальная.
— Вы всегда, Иван Михайлович, были такой благочестивый?
— Нет-с, не всегда. Раньше я был не такой. Раньше я все
романы читал. Ну, и конечно, от этого у меня развивалась
ненависть, разврат, любовь к мышленью и тому подобные пошлые
наклонности. Раз, однако, задумался я о своей жизни. Ехал я тогда
по Волге на пароходе, под Самарой дело было. Пароход
«Святослав» общества «Самолет». Ем виноград. Виноград там дешевый,
три копейки фунт, так что я мякоть высасываю, а кожицу и ко·
сточки, значит, выплевываю. Солнце садилось, испытал этакое
приятное состояние души. Вот и задумался я о своей жизни. Что,
думаю, такое? Человек я не завалящий, имею кой-какой умишко, кой-
какие познания. Как же так? Нет, думаю, жизнь жить — не в
бабки играть, пустяки надо оставить, о боге вспомнить, о
собственной душе. Тут вот я и стал на стезю добродетели.
416
* * *
В газетах описали нашу больницу. Отзыв был очень хороший.
Кичунов возмущен.
— Голодные псы! Буквой питаются!
— За что вы их ругаете? Ведь они же нас хвалят.
— Когда дурак хвалит, так θτο обиднее, чем когда умный
ругает...
Проповедь у нас в церкви читал отец Варсонофий. Господь, —
говорит, — «благ»! Ну, это мне въелось в плоть и кровь, все
равно как хронический ревматизм. Скучно. Знай, свое болтают все:
«Благ, благ! Господь благ только к своим! Вовсе он не весь мир
пришел спасти. В евангелии от Иоанна, глава семнадцатая, он
прямо говорит: «Отче, я о них молю, — не о всем мире молю, — но о
тех, которых ты дал мне». А когда язычница к нему пришла, он
сказал: «Нельзя отнимать у детей и бросать псам». Значит
неверующие для него псы. И правильно, — так и должно быть.
Евангелие нужно понимать без изменения одной черты, одной ноты.
Что я вам говорю, это — простой логический взгляд... «Благ»,—
скажите, пожалуйста! Бог должен быть строг! жесток! Христос
ясно сказал: «Я пришел принести на землю не мир, но меч!» На
соборах это место разбирали: говорят, что тут нужно понимать меч
духовный. Х-хе! Разбирали! Шишки еловой не разобрали! Ну,
скажите, пожалуйста, как меч может быть духовным? Холодное-то
оружие!.. Христос понимал, что без меча с нашим братом дела
никакого не сделаешь. И так мы его не боимся, а если бы он был
благ, мы бы совсем избаловались. Мы его даже не боимся, как
чорт боится. Тот знает, что ему пощады нет, а мы все надеемся
на «искупление», на отпущение грехов. Помер человек, ему поп
перед смертью грехи отпустил, — он этаким козырем на тот свет
идет, ждет, что ему Христос скажет: «Пожалуйте, милостивый
государь, вот сюда, в рай!» А как полетит там кувырком к чорту
на рога, тогда узнает! Х-хе-хе!
Привезли в больницу мужчину с крупозным воспалением
легких. Лицо синюшное, пульс плох. Приняли.
Привезшая его жена сказала Кичунову:
— Можно будет распорядиться, чтобы причастили его? Он уж
пятнадцать лет не говел.
Кичунов грозно нахмурил брови:
— Как же это его без сознания причащать? Священник не
станет.
— Пожалуйста, уж будьте добры! Нельзя ли?
— Гм! Пятнадцать лет не говел, — христиане называются!
А смертный час пришел, — спохватились!.. Этого нельзя
устроить! — отрезал он.
Женщина вздохнула и пошла к выходу. Я ее остановил, и,
конечно, оказалось возможным устроить.
17-22 417
Больной возвратным тифом, ночлежник, с опухшим лицом.
Оборванный, дрожит. Лет семнадцати. Кичунов его записывает в
книгу# кричит:
— Мещанин? Крестьянин?
— Я — незаконнорожденный!
— Та-ак!—иронически процедил Кичунов. — Вот этак гуляет
девица, — боа у нее, турнюр, а детей в ночлежные кидает; такие
кавалеры и выходят!.. В Петербурге родился?
— В Петербурге, — стиснув зубы, ответил больной.
— Ну, конечно! Самый для таких дел подходящий город...
Ступай.
— Незаконнорожденные, они не имеют прав ни на земле, ни
на небе! Ну как же незаконнорожденный может войти в царствие
небесное, скажите, пожалуйста! У бога прелюбодеяния нету. Во
«Второзаконии», глава двадцать третья, ясно сказано: «Сын
блудницы не может войти в общество господне». Для таких людей...
Я бы не стал .жить на их месте... Вы себе как представляете
антихриста? С рогами, с когтями? Он уже народился.
— Где же он?
— Он есть то, что рождено в прелюбодеянии. Он родится от
девы, как Христос, только прелюбодейно, как
незаконнорожденный. Христос ведь не был незаконнорожденным, заметьте себе!..
Каждый незаконнорожденный есть предшественник антихриста.
Апостол Иаков, в послании, глава первая, говорит: «Похоть,
зачавши, рождает грех». Пройдитесь по Невскому, посмотрите на
фотографии балерин, стоит девка, груди распустила, ногу подняла.
Мальчишка украдет у отца целковый и побежит» знаете куда?
Вот-от что похоть значит!
* * *
— Я бы, будь моя власть, я бы женщинам запретил выходить
на улицу.
— Почему?
— Как почему? Вид неприличный!
— Что вы такое говорите!
— Ну, а как же! (очерчивает на себе руками выпуклости
груди, бедер). Что вы, господа! Ведь по улицам дети ходят!
Конечно, привыкнуть ко всему можно, а только... Неудобно, знаете»
неудобно!
Я захохотал.
— Как вы скажете, предки наши глупее нас были? Я полагаю,
что они умнее были не только меня, но даже, — извините за
дерзкое выражение, — умнее были, чем вы. А они женщин запирали —
в терем! Почему? Возьму хоть себя. Человек я пожилой,
солидный, занимаюсь богомыслием. А встретишь на улице этакую ба-
беночку полногрудую, — и ввергаешься в соблазн. Ничего не
поделаешь: человек бо есмь!
418
* * *
Позвали меня к больной. Вхожу в приемную врача. Кичунов
стоит, осматривает больную. Это совершенно ые его дело. Его
дело — в соседней комнате, когда больного примут, записать в
книгу и составить на него скорбный лист. Стоит Кичунов, а перед
ним, рядом со старухой матерью, — изумительно красивая девушка
лет пятнадцати, голая по пояс. И Кичунов глубокомысленно тычет
ее указательным пальцем в груди. Увидел меня, сконфузился.
— Вот, Викентий Викентьевич... Какая сыпь странная... Я
заинтересовался.
Я мельком взглянул на сыпь и холодно ответил:
— Что же странного! Самая обыкновенная скарлатинозная
сыпь.
— А я смотрю: что это, странная какая сыпь? Не признал
сразу, что скарлатинозная..·
С. И. ГУСЕВ-ОРЕНБУРГСКИЙ
(Род. в 1867 г.)
Конфликт
(Отрывок)
Владыка оттолкнул прошение.
— Я вас спрашиваю, — возвысил он голос:—в чем вы
обвиняете священника? Почему вы недовольны им?
Атаман смутился и слегка оглянулся на стоящих сзади.
— Общество недовольно, ваше преосвященство.
— Чем, я спрашиваю?
Атаман опять оглянулся, смущенно посмотрел на отвергнутое
прошение и сделал новую попытку вручить его.
— Тут,—сказал он, — они все объяснили!
— Не надо мне вашего прошения, — снова оттолкнул
прошение владыка.
— Разве на страшном суде, где будут судить вас с вашим
пастырем, по прошению судить будут? Отвечайте мне: — чем вы
недовольны? Вы атаман?
— Так точно, ваше преосвященство.
— При вас писалась жалоба?
— Так точно. При мне.
— Стало быть, вы знаете, чем недоволен приход? Отвечайте!
— Прихожане недовольны тем, ваше преосвященство, — начал
атаман, —- что батюшка берет дорого за требы.
419
— Hy>
— Ну, и... очень даже дорого берет. Как, значит, всем не по
силам. Взять крещенье младенцев. Во всех приходах сорок копеек,
а у нас шестьдесят! Покойники тоже. Который побогаче покойник,
оно, конечно, можно и целковый взять, а у нас под один загон,
что бедный, что богатый! Подай целковый! А где же, ваше
преосвященство...
— Дальше!
— Свадьбы... Тоже не по силам! При прежних священниках
у нас было положение пять целковых за венец и рубль за
обыск, — всего шесть рублей. А батюшка о. Стефан новый
порядок завел. Где хочешь возьми, а подай десять рублей за венец,
да рубль за обыск дьякону.
Дьякон, все время вращавший головой с беспокойным видом,
испуганно кашлянул.
— Да рубль в церковь на свечи, — продолжал атаман, —
выходит уж двенадцать рублей! По крестьянскому хозяйству, ваше
преосвященство, это целая корова. А тут еще бутылку водки
батюшке, — когда благословенье спрашивать, — да калач, да платок
еще, да дьякону при обыске... тоже водки.
— Дальше.
Но тут Радошнев, давно порывавшийся говорить, выступил,
шаркая по полу столетними ногами, из-за атамана и заговорил
голосом, скрипучим, как давно немазанные ворота.
— Дозволь, владыка, слово сказать старому человеку.
Теперича мне сто лет исполнилось в. аккурате нынешнюю зиму, сто
первую годину зачал жить, и много я разного вашего священства
на своем веку перевидал, то-есть вот как много, — плю...
Атаман дернул его за рукав.
— Что ты!
— Аль обмолвился? — с недоумением оглянулся Радошнев.
И, видя, что владыка не останавливает его, продолжал:
— Уж ты прости меня, преосвященнейшая владыка, ежели по
старости моей где и неладное слово вставлю... Стар!.. Кости
болят!.. Тепереча вот и поясницу!.. Да не дергай ты меня. Так вот
я и говорю, — насчет священства^го!.. Всякие бывали у нас
попы, — а такой лихоимец первый! В прежни-то годы за крестины
да за венцы брали алтын да денежку. Когда я на первой жене
женился, дал я попу рупь на сигнации — а он еще мне целую
пригоршню денежек сдачи дал... Нам, говорит, чужого не
надобно, Иван Пахомыч... Я в те «поры эти денежки-то поезжанам
бросил... Вот какие времена бывали... А как учал я на второй жене
жениться... на Прасковье Микулиной... с меня попы-то в те поры
уж три рублика на серебряные денежки стянули и сдачи не
сдали... А как женился я на Марьюшке, на третьей-то жене, шесть
целковых вот так взял да из рук в руки и переложил... Грабеж
пошел. Шире да дале. А вот как он внука моего венчал, — отец-то
Степан, рассказать, что ли, преосвященнейшая владыка?
Все глаза поднялись к владыке.
420
— Говори, старый человек, говори, — сказал владыка.
— Сгрворили мы Ваську-то с Писаревой дочкой, и пошел я
опосля того к священнику договориться... Вот к нему, к Степану-
то. А он, Степан-то, давно был зол на меня, потому шуняю уж
я очень, не люблю я их, долговоло...
И он вдруг осердился на атамана.
— Чего ты трясешь меня за рукав-то?.. Правду говорю! Так
ведь он что, Степан-то, сделал? Дай-подай, — говорит, — каку-то
исповедну бумажку, — без нее венчать не стану. Он, — говорит, —
может, у тебя сын-то, молокан, либо хлыщ. Оно, действительно,
преосвященнейшая владыка, сын мой три года в здешней церкви
не говел, потому по весне каждый раз в извоз ездил и в других
церквах говел. Ну, где же там, у чужих попов, бумажку
хлопотать! Водил он меня, водил, да двадцать пять целковеньких, как
едину денежку...
При воспоминании о такой большой затрате, старик даже
затрясся весь, поднял обе руки кверху и, чуть не потрясая
костылем, забормотал:
— Убери, убери его от нас, преосвященнейшая владыка!
Он как будто подал сигнал, потому что снова вся церковь
зашумела:
— Уберите его... от нас. Желаем другого священника!..
Гвоздь, пользуясь случаем, выскочил наперед, тоже взмахнул
руками и горячо проговорил:
— С меня пятнадцать... За свадьбу... Да дьякону рупь... А?
Разве это порядок?
Сразу же испугавшись такой своей смелости, Гвоздь нырнул в
толпу, как гагара в воду, но тотчас же выставил свою
остроконечную голову уже из-за десятых плеч и шумел вместе с прочими:
— Не надо нам его... Сил наших нет...
— Тоже насчет хлеба допекают. Каждый день сборы...
Прорва, — вяло сказал Шилов, стараясь пошире раскрыть свои сонные
глаза. Но тотчас, слегка зевнув, смолк, как будто уснул.
Где-то опять слезно вздыхала старуха.
— О господи... господи...
Внезапно пораженный новой мыслью, о. Стефан обернулся в
ту сторону, где за толпою виднелись женские шляпки.
— Владыко! Вот семья моя! Вот дети мои! Пусть они
свидетельствуют о мне!
Он торопливо звал:
— Идите сюда! Матушка! Идите! Колечка!.. Матушка! Ведите
всех... Ванечка!..
Попадья, утирая распухшие от слез глаза, в перевалочку
выступила из толпы, подталкивая детей все ближе к солее, в то
время как батюшка перечислял:
— Петечка! Где же Гриша? Олечка!
Перед владыкой выросла толпа красных, синих, белых
рубашек и светлых платьиц. Три подростка мальчика были в
сюртучках, а позади матушки выступали два очень великовозрастных де-
тины, — у одного из которых были великолепные усы. Самая
маленькая девочка, которую попадья взяла на руки, — расплакалась
и кричала:
— Я бо-о-оюсь...
— Вот они все здесь, владыко! Все! Все мои, — говорил о.
Стефан.
— Вот эта Машенька, самая младшая... три годочка. Вот эти
трое в духовном учатся. Два в семинарии... на философском.
И, распростерши руки над своим потомством, о. Стефан
закончил:
— Их тут четырнадцать. Куда же мне деваться с ними,
владыко?
Преосвященный, окинув взглядом все эти детские головки,
испуганно поднятые к нему лица и любопытные глаза, невольным
жестом благословил их.
Владыка, выпрямившись, гневно застучал посохом.
— Я не хочу слышать более никаких обвинений, — возвысил
он голос на затихшую толпу: — слышите? Стыдитесь! Вы не
входите в нужды священника! Не поддерживаете пастыря вашего,
молящего перед престолом всевышнего за бесчисленные, яко песок
морской, грехи ваши. Да будет стыдно вам, стыдно, блудные
сыны, увлеченные в страну далече, в страну нечестия, злобными
искушениями духа лжи, духа вражды, обуявшего нечестивые
сердца ваши! Покайтесь и исправьтесь, пока не поздно! Нет вам моего
благословения.
Не благословляя народа, владыка двинулся к выходу«
А. И. КУПРИН
(1870—1939)
«Ханжушка»
Таким насмешливым прозванием окрестили в Киеве
профессиональных богомолок, созданных молитвенными потребностями
города, на всю Россию славящегося своими монастырями и
святынями. Эти особы служат посредницами и проводницами между
наиболее популярными отцами и схимниками — с одной стороны и
чающей благодати публикой — с другой. Они заменяют для
прибывших откуда-нибудь из Перми или Архангельска
купцов-богомольцев самые полные путеводители, являясь неутомимыми и
словоохотливыми гидами, имеющими везде знакомство или лазейку.
В монастырях их терпят, отчасти как необходимое зло, отча-
422
ста как ходячую рекламу, а отец-эконом нередко «благословляет»
их то медком, то свеже-испеченным хлебцем, то осетровой
соляночкой. Впрочем, молодой монах, не усвоивший еще в достаточной
степени внешнюю степенность «ангельского чина», никогда не
утратит случая, увидев ханжушку, обозвать ее «мокрохвосткой» и
«дармоедкой».
Они, конечно, безукоризненно знают все престолы и праздники
и особенно-торжественные служения. Им известны дни и часы
приемов у святых отцов, отличающихся либо наиболее строгой
жизнью, либо даром провидения, либо умением видеть человека
«насквозь» при исповеди, либо еще какими-нибудь особенностями
и странностями. Впрочем у каждой есть свой излюбленный отец,
которого она «обожает» предпочтительно перед прочими, состоя
при нем, так сказать, личным адъютантом. За «своего» она готова
перегрызть конкурентке горло, если только у них зайдет спор о
сравнительных достоинствах двух отцов.
Есть две разновидности этого типа: «ханжушка-постница» и
«ханжушка-лакомка». Первая высока, необыкновенно костлява и
всегда как будто бы наклонена вперед; лицо у нее зеленое,
длинное и хищное, с длинным щучьим носом и квадратною нижнею
челюстью. Она строго блюдет среду и пятницу, когда не вкушает
вина, не ест зайца, который по достоверным сведениям был в
числе «семи пар нечистых», а видом напоминает дикую кошку,
29-го августа отказывается от арбуза, потому что он, разрезанный
пополам, напоминает «усекновенную главу» и т. д. Если
благодетели по ошибке или незнанию предложат ей отведать что-нибудь
из «запрещенного», она тотчас же изображает и лицом, и жестами,
и голосом такой нечеловеческий испуг и такое обиженное
негодование, что самим благодетелям становится жутко.
Ханжушка-лакомка мала ростом, кругла и жирна, как хорошо
откормленный в мясной лавке кот. Она вся проникнута
добродетелями и набожными чувствами, и даже ее лицо, на котором едва
видны щелочки глаз, светится маслянистым глянцем. Она, в
противность ханжушке-постнице, не откажется ни от рюмки доброй
старой вишневки, ни от чашки «кофею», если только угощение
следует от солидной и «стоющей» компании. К закату дней своих
она непременно приобретает где-нибудь на Шулявке или на При-
орке маленький, дикой краски, домик в три окна, где желанным
гостем бывает здоровенный монах в франтовской рясе.
Во всем остальном обе разновидности поразительно похожи.
Во-первых, обе говорят необыкновенно быстрым полушопотом,
причем произносят слова не только из себя, но и в себя, т.-е.
одновременно и произнося слова и вдыхая воздух, отчего получается
впечатление беспрестанного монотонного журчания. Во-вторых, и
та и другая косноязычат, картавят или пришепетывают, потому
что так выходит и трогательнее и жалче.
Даже и костюм они носят одинаковый, полупоношенный —
черное платье и черный платочек с бахромой на голове.
Друг к другу ханжушки относятся нетерпимо, потому что им
m
волей-неволей приходится сталкиваться в одних и тех же домах
в качестве рассказчиц, приживалок и проводниц благочестия.
Здесь, вероятно, кроме опасения конкуренции, примешивается
более острое и тонкое чувство — нечто вроде взаимного стыда,
нечто вроде того, что испытывают друг к другу двое
профессиональных жрецов, или двое заик, в присутствии посторонних глаз.
У них есть своя специальная терминология и для наиболее
излюбленных «отцов» даже особенные, ласкательно-интимные
прозвища.
— Так ты говоришь, мать моя, была нынче на служении? —
спрашивает одна ханжушка другую.
— Ах, была, была, матушка. Какое, я вам скажу, благолепие!
Уж такое благолепие, такое благолепие, что просто не знаешь, на
небе ты или на земле!
— В мантиях служили-то?
— В мантиях, родная, в мантиях. «Бутон» предстоящим был.
— А «Пернатый» не сослужил?
— Сослужил и «Пернатый». Удостоилась я к ручке
приложиться, когда к кресту подходили. Ручки-то у него беленькие
такие да пухленькие... ма-асенькие, масенькие, точно у ребеночка
безгрешного... и французскими духами надушены.
Ханжушки знают про своих «благодетелей» самые интимные
подробности и с видом благочестивого сокрушения («как лукавый-
то силен ныне стал!») переносят из дома в дом соблазнительные
вести.
В круг их обыденных занятий входит множество мелочей. Они
разгадывают сны, лечат от дурного глаза, растирают у
благодетелей болящие места освященным маслицем с Афонской горы,
исполняют всякие поручения к соседнему лавочнику, с которым
«язычничают» о тех же благодетелях. При свадьбах, крестинах,
похоронах, благословениях образом и прочих обрядных
происшествиях они являются в соответственной роли церемониймейстеров.
Перед тем, как на отпевании закрывают гроб, ханжушка
непременно развяжет и возьмет себе платок, связывающий ноги
покойного. — «От зубов, батюшка, помогает», — объяснит она
любопытному.
Если вы хотите видеть ханжушку во время самого кипучего
момента ее жизни, зайдите в лавру во время большого праздника.
Вы увидите ее в гостинице, сидящей в кругу купеческого
семейства, пьющей «с угрызением» тридцатое блюдечко чаю и
рассказывающей своим непрерывным полушопотом:
— А то еще показывали той страннице иноци афонстии вздох
святого Иосифа Аримафейского. Когда этта, значит, завеса-то раз-
драся — он, батюшка, и воздохнул от своего сокрушенного сердца,
а ангели святии тот вздох и собрали в малую скляницу, на манер
пузырька аптекарского. Так он, этот вздох, в склянице и
содержится, бычачьим пузырем сверху затянут, и кто на его, на
батюшку, с верою смотрит, тому от запойной болезни очень даже
помогает.
Α. Η. ТОЛСТОЙ
(Род. в 1882 г.)
Πетρ I
(Отрывок)
Все стояли на коленях. Женщины безмолвно плакали,
прижимая детей. Мужчины — кто, уронив волосы, закрыл лицо корявой
ладонью, кто бессмысленно глядел на огоньки свечей. Старец
ненадолго ушел из моленной. Отдыхали, — измучились за много
часов: ему мало было того, что все покорны, как малые дети...
Страшно кричал с амвона: «Теплого изблюю из уст! Горячего
хочу! Не овец гоню в рай, — купины горящие!..»
Трудно было сделать, как он требовал: загораться душой...
Люди все здесь были ломаные, ушедшие от сельской истомы,
оттуда, где не давали обрасти, но, яко овцу, стригли мужика догола.
Здесь искали покоя. Ничего, что пухли от болотной сырости, ели
хлеб с толченой корой: в лесу и в поле все-таки сам себе хозяин...
Но, видно, покой даром никто не давал. Нектарий сурово пас
души. Не ослабляя, разжигал ненавистью к владыке мира —
антихристу. Ленивых в ненависти наказывал, а то и вовсе изгонял.
Мужик привык издавна — велят, надо делать. Велят гореть
душой, — никуда не подашься — гори...
Нынче старец мучил особенно, видимо, и сам уморился... Пор-
фирий на клиросе читал отрешенным высоким голосом. Под
дощатым куполом стоял пар от дыхания. Капало с потолка...
Старец неожиданно скоро вернулся: «Слышите!—возопил в
дверях,—слышите слуг антихристовых?» — Все услышали
тяжелые удары в ворота. Он стремительно прошел по моленной,
задевая краем мантии по головам. Вздымая бороду, сразмаху три раза
поклонился черным ликам. Обернулся к пастве до того яростно, —
дети громко заплакали. У него в руках были железный молоток
и гвозди.
— Душа моя, душа моя, восстани, что спишь? — возопил. —
Свершилось, — конец близко... Места нам на земле осталось —
только стены эти. Возлетим, детки... В пламени огненном. Над
храмом, ей-богу, сейчас в небе дыру видел преогромную... Ангелы
сходят к нам, голубчики, радуются, милые...
Женщины, подняв глаза, залились слезами. Из мужиков тоже
кое-кто тяжело засопел...
— Иного времени такого — когда ждать? Само царство
небесное валится в рот... Братья, сестры! Слышите — ворота ломают.
Рать бесовская обступила сей остров спасения... За стенами —
мрак, вихрь смрадный...
Подняв в руках молоток и гвозди, он пошел к дверям, где
были припасены три доски. Приказал мужикам помочь и сам стал
425
приколачивать доски поперек двери. Дышал со свистом.
Молящиеся с ужасом глядели на него. Одна молодая женщина, в белом
саване, ахнула на всю моленную:
— Что делаете? Родные, милые, не надо...
— Надо! — закричал старец и опять пошел к амвону. — Да
еще бы в огонь христианин не шел? Сгорим, но вечно живы
будем. (Остановясь, ударил молодуху по щеке). Дура! Ну, муж у
тебя, дом у тебя, сундук добра у тебя... А затем что? Не гроб
ли? Жалели мы вас, неразумных. Ныне нельзя... Враг за дверями...
Антихрист, пьян кровью, на красном звере за дверями стоит.
Свирепый чашу в руке держит, полна мерзостей и кала.
Причащайтесь из нее! Причащайтесь! О ужас!
Женщина упала лицом в колени, затряслась, все громче начала
вскрикивать дурным голосом. Другие затыкали уши, хватали себя
за горло, чтобы самим не заголосить...
— Иди, иди, за дверь.:. (Опять удары и треск). Слышите!
Царь Петр — антихрист во плоти... Его слуги ломятся по наши
души... Ад! Знаешь ли ты — ад?.. В пустошной вселенной над
твердью сотворен... Бездна преглубокая, мрак и тартарары. Планеты
его кругом обтекают, там студень лютый и нестерпимый... Там
огонь негасимый... Черви и жупел! Смола горящая... Царство
антихриста! Туда хочешь?..
Он стал зажигать свечи, пучками, хватал их из церковного
ящика, проворно бегал, лепил их к иконам — куда попало.
Желтый свет ярко разливался по моленной...
— Братья! Отплываем... В царствие небесное... Детей, детей
ближе давайте, здесь лучше будет — от дыма уснут. Братцы,
сестры, возвеселитесь... Со святыми нас упокой, — запел, раздувая
локтями мантию... Мужики, глядя на него, задирая бороды,
подтягивая, поползли на коленях ближе к аналою. Поползли
женщины, пряча головы детей под платами...
...Когда дверь под ударом распалась, оттуда выскочил весь
горящий, с обугленной головой человек, как червь, начал
извиваться на снегу. Внутри моленной крутило дымным пламенем, прыгали,
метались огнем охваченные люди. Огонь бил из-под пола. Уже
валили дымом ометы соломы вокруг.
От нестерпимого жара солдаты пятились. Никого спасти было
нельзя. Сняв треуголки, крестились, у иных текли слезы. Алексей,
чтобы не видеть ничего, не слышать звериных воплей, ушел за
разломанные ворота. Коленки тряслись, подкатывала тошнота.
Прислонился к дереву, сел. Сорвав шапку, остужал голову, ел снег.
Зарево ярче озаряло снежный лес. От запаха жареного мяса
некуда было скрыться.
Он увидел: невдалеке по багровому снегу, увязая, идут три
человека. Один отстал и, будто заламывая руки, глядел, как много
выше леса над скитом взвивается из валящего дыма огненный
язык, ввысь уносится буран искр... Другой, беснующийся человек
тащил за руку небольшого длиннобородого старичка, в нагольном
полушубке поверх мантии.
426
— Ушел он, ушел, сукин сын! — кричал беснующийся человек»
подтаскивая старичка к царскому офицеру. — Разорвать его надо..·
Через подполье лазом из огня ушел... Нас с Ондрюшкой хотел
сжечь, чорт проклятай!..
А. С. НЕВЕРОВ
(1886—1923)
Молитва и уголек
Набожная баба Ефросиньюшка. Без молитвы шагу не шагнет.
Идет полевыми дорогами, все часовенки пересчитает. Каждой
низко, низко поклонится, чего-нибудь попросит. Грязи в дому не
видит, а часовенки не проглядит. Такая уж богомольная.
Захворал Васька мальчишка, тут же перед иконой с молитвами
встала она. — Господи, не дай умереть. А Ваське все хуже да
хуже. Ефросиньюшка в церковь метнулась — плохо помогают
домашние иконы. — Господи, не дай умереть... А Ваське все хуже
да хуже.
Ефросиньюшка к бабке Арине за помощью: плохо помогают
церковные иконы. Посмотрела бабка на Ваську расслабленного,
зашамкала:
— С глазу, «милая, с глазу. — Начала воду в ковше
наговаривать. Наговорной водой с уголька младенца Василия
вспрыскивала. — Пройдет, милая, пройдет.
А Ваське все хуже да хуже.
— Господи, не дай умереть!
Ждал-ждал Васька, когда мать перестанет молиться, — взял да
и умер.
Шла Ефросиньюшка с кладбища — вспоминала:
— Дура я, дура, совсем позабыла к доктору сходить—теперь
уже поздно.
Старый и новый стиль
И надо же случиться такому греху: в селе Куприяновке два
попа поругались между собой. Один поп из старого стиля, другой
поп из нового стиля. Вышел поп из старого стиля на крылечко к
себе и кричит другому попу:
427
— Не признаю!
А поп из нового стиля тоже вышел на крылечко к себе и
тоже кричит .старому попу:
— А я тебя не признаю, ты контр-революционер приходишься,
если по новому стилю не хочешь служить!
Подозвал новый поп сторожа церковного, говорит ему:
— Лезь, Прокофий, на колокольню и звони во все колокола:
я буду обедню служить Петру и Павлу по новому числу.
Схватил тут старый поп нового попа за руку, сердито ругается:
— Слушай, еретик, слушай, безбожник, останови колокола!
Петра и Павла празднуются 29 июня, а ты хочешь раньше на
тринадцать дней.
Но Прокофий уже залез на колокольню и наяривает в
большой колокол. Бил-бил в один, скучно стало, начал во все
закатывать. Стоит новый поп в алтаре, дожидается, когда молящиеся
придут, бороду гладит себе. А молящиеся плохо идут. Вышла
Симонова старуха из своей калиточки, когда услышала звон
колокольный, пошагала в церковь божию, а навстречу ей идет Гаври-
лова старуха.
— Ты куда, Варфоломеевна, собралась? — спрашивает Гаври-
лова старуха.
— Да вот хочу помолиться сходить.
— Лучше не ходи, не гневи господа бога!
— Почему такое? — удивилась Симонова старуха.
— Да разве ты не знаешь, молодой батюшка по новому числу
молиться велит? Нет, милая моя, и молитва не дойдет до святых
угодников, и господь накажет за такую самовольность.
Собрались старухи около церкви, а в церковь не идут. Вышел
к ним сторож Прокофий, говорит:
— Что же вы нейдете, батюшка там дожидается!
— Ну и пускай дожидается! — кричат старухи. — Нечего беса
тешить. Какое нынче число?
Старый поп радуется, руки от удовольствия потирает. Вот я,
говорит, буду служить по старому числу, ко мне народ пойдет,
потому что я правильный поп, старые порядки не ломаю и новых не
завожу...
А в народе сумленье большое началось. Даже старухи открыли
уста и стали судить да рядить: по какому числу молиться им и
какого попа слушаться? Уж если попы стали ругаться между
собой, чего же тогда прихожанам делать? И когда разговляться
теперь — неизвестно. Раньше на тринадцать дней позже было,
нынче — на тринадцать дней раньше. А почему на тринадцать?
Почему не на десять? Может быть, совсем все числа уничтожить
и есть подряд каждый день?
Тут Анисимова старуха и говорит:
— Вот, матушки мои, какие времена пришли! Два батюшки у
нас, и оба врозь толкуют. И умереть спокойно нельзя. Который
батюшка, будет отпевать? Если старый — задержит он твою ду-
щсньку на тринадцать дней, будет она, сердешная, мучиться, не
429
зная дороженьки, куда ей пойти. А случись, подвернется тут
новый батюшка, — этот пошлет ее раньше на тринадцать дней, и
будет она странствовать между раем и адскими муками, тоже не
зная, куда приткнуться... Запутали эти попы наши головушки,
запутали!..
И другие старухи кричат:
— Запутали! Век жили, этого не было...
Увидали они красноармейца, приехавшего из города,
спрашивают:
— Скажи нам, сыночек, по какому числу теперь молиться
надо?
Красноармеец смеется:
— Молитесь по всем числам, если не лень, все равно вам
делать нечего. Я ни по какому не молюсь, потому что у меня дело
получше есть...
Обиделись старухи, замолчали.
Через тринадцать дней опять Прокофий звонил во все
колокола. В этот день, 29 июня по старому стилю, обедню Петру и
Павлу служил старый поп. Пришел он в церковь веселый, но
церковь оказалась пустой. Старухи не шли, потому что перестали
попам верить, не зная настоящего числа, а молодым было не до
этого. Покричал-покричал старый поп в пустой церкви без народа,
скомкал конец обедни, потушил кадило и говорит с упреком:
— Достукались мы! Доспорились! Придется, видно, совсем
закрывать свою лавочку. Даже старухи перестали ходить...
А старухи на улице говорят:
-— Никому верить нельзя теперь! Большевики совсем не
молятся, а попы в разные числа велят. Лучше и нам совсем не
молиться, чтобы греха не вышло. А то помолишься на тринадцать
дней раньше или на тринадцать дней позже, только неприятности
одни произойдут...
Про червяка
Поселился на Марьином огороде червяк. Вот какой червяк —
силушки нет. Огурцов посадила Марья, — все огурцы поел. Не
успела капуста листья нагулять, — я капусту поел. Бобы росли
около плетня, — пересел на бобы. Чего делать с червяком?
Когда корова занеможится, молебен надо Власию отслужить,—
как рукой снимет коровью болезнь. Старые люди советовали, они
знают. Какому же угоднику служить молебен, чтобы червяка
прогнал с огорода? Вот она, память-то бабья. Наверное, есть такой
угодник.
Думала, думала Марья, начала молиться сразу всем·
— Святители, угодники, беда моя! Весь огород червяк поест.
Помогите. Опять придется голодать целый год, если не поможете.
Чего я одна с ним сделаю!
429
Ά червяк хитрый. Марья угодникам молится, а он бобы
доедает, сидит. Знает, нет такого угодника против себя, — ну, и не
боязно. Поглядела Марья, червяк тут. Вот беда-то, — наверно,
батюшка-поп знает такого угодника. Побежала к батюшке-попу.
Выслушал батюшка-поп Марьино горе, говорит:
— Такого угодника нет отдельно, я другого попрошу, Георгия-
победоносца. Он змея целого убил, а червяка ему — раз плюнуть.
Пока Марья с батюшкой-попом просили Георгия-победоносца,
червяк все бобы обсосал, одни бутылочки остались. Надулся, как
пузырь, от привольной пищи. Перетянуло брюхо, на землю упал.
Пролежал минут десять, перевернулся. Пусто на Марьином
огороде. Пошел червяк на другой огород, к Варваре Бутягиной.
Варвара — баба отчаянная. Всех баба шабренок стащила на
огород. Только и слышно, командует им:
— Бей этого! Дави вон этого! Плесни в глаза ему,
окаянному!
Под ногами на дорожках валяются убитые, раненые червяки.
Увидала Варвара, червяк ползет с Марьиного огорода, кричит ему
издали:
— Иди, иди, я тебе башку оторву!
Испугался червяк — назад. Варвара за ним. Плеснула на него
из бутылочки, червяк и ноги вытянул.
Пришла Марья от батюшки-попа на свой огород. Ничего не
осталось. Бобов с огурцами нет, и червяка нет. Глядит на Варва-
рин огород, а там капуста сарафан раздувает, огурцы, как
поросята, на солнышке валяются. Вот как обидно стало Марье!
Увидала червяка убитого, обрадовалась. Все-таки убил божий человек
эту заразу.
— Кто? — спрашивает Варвара.
— Егорий победоносный. Чай, я не то-шта как просила его,
вместе с батюшкой-попом.
Варвара смеется.
— А я какого червяка убила, разве не этого?
— Чем ты его убила?
— Плеснула из бутылочки, он и свернулся. Снадобья агроном
прислал. Как кипятком варит. Теперь все бабы с бутылочками
ходят. Вроде как крещенской водой кропят.
— И огурцы не съел у вас?
— Пробовал, да разве мы дадим.
Вот как обидно стало Марье, заплакала.
— Почему же я ничего не знала про такое снадобье?
— Надо было знать, — не маленькая.
А. С. НОВИКОВ-ПРИБОЙ
(Род. в 1887 г.)
Капитан 1-го ранга
(Отрывок)
Чей в селе лучший дом стоит рядом с церковью? Ну,
известное дело — попа. Тот поп, о котором я хочу рассказать, был
жадности непомерной. Вставал он раньше всех и будил своего
работника и работницу, чтобы не ели они даром хлеб. Как-то в летнюю
субботу он поднялся с кровати на заре и взглянул в распахнутое
окно. Тихо. Село еще спит. Только один кривой мужичок, по
прозвищу Свят-Свят, хитрый-прехитрый человек, суетится что-то
около поповского колодца. А прозвали этого мужичка потому так,
что он был зауголышем и будто бы родился от вдового дьякона.
Таращит батюшка глаза на колодец и не верит самому себе. Что
же это такое происходит? Не дьявольское ли это навождение?
Или это все представляется ему во сне? Подергал поп себя за
сивую бороду, ущипнул за уши — больно. Стало-быть, это не во
сне. А с другой стороны, разве не диво, что мужичок ловит
удочкой рыбу в колодце? Из окна хорошо видно, как она трепыхается,
когда Свят-Свят поднимает ее наверх. Спешно натягивает поп
штаны на ноги, набрасывает подрясник на плечи и выходит на
улицу. Еще издали кричит мужичку:
— Ты что тут делаешь? — Карасей ловлю, — отвечает мужичок
и целится одним глазом на попа.
Откуда же могут быть тут караси? Значит, бог послал.
Подходит поп ближе и смотрит в ведро, а в нем,
действительно, штук двадцать живых золотистых карасей. Все как на
подбор— по фунту в каждом будет. От зависти он даже задрожал.
А Свят-Свят вытаскивает удочкой из колодца еще одного карася
и говорит:
— Теперь хватит с меня на уху.
Набросился поп на кривого мужичка, зачем он ловит рыбу в
чужом колодце, хотел отнять у него добычу, а тот угрожает:
— Вот расскажу людям, что в твоем колодце караси водятся.
Придут они и всю рыбу выловят. А ее, по моим соображениям,
будет тут пудов двадцать.
Отступил батюшка и просит никому об этом не говорить.
Свят-Свят ушел. А батюшка потом целый день провел в
хлопотах: то удочки убегал искать, то лесы готовил, для чего ему
пришлось вырвать волосы из хвоста своей кобылы, то удилища
приспосабливал. А сам все время думал, как завтра, в воскресенье,
попадья нажарит ему карасей в сметане и с каким аппетитом он
будет их кушать. А у матушки в этот день случилось большое
горе· Знала она, что ее батюшка любит водку, настоенную на
431
черной смородине. А делала она »то хорошо: сначала на ягодах
настаивает спирт, а потом разводит его водой на любую крепость.
И вот попадья приготовила такой настойки целое ведро, процедила
ее сквозь сито и разлила по бутылкам. Но что делать с
оставшимися ягодами? Попробовала их есть — горькие. Спиртом они
пропитались. Как ни жалко было попадье, а пришлось ей эти ягоды
выкинуть на двор. А там ветерком их продуло — перестали они
пахнуть спиртом. Первым наткнулся на них петух. Проглотил он
одну ягоду, другую — ничего. Обрадовался. И давай созывать всех
своих жен. А их у него было более двадцати штук. Набили они
свои зобы наспиртовавшимися ягодами и захмелели. Веселие пошло
среди них небывалое: петух качается и все время поет, куры
кудахчут и тоже качаются. Некоторые из них заспорили между
собой и пустились в драку. Может быть, из-за ревности к петуху?
Другие уже на боку лежали, а продолжали голосить. Словом, за-
куралесили птицы, точно пьяные люди в трактире. Потом одна
за другой начали замолкать, и все подохли.
Попадья до того расстроилась, что прямо волосы на себе рвет.
Какой убыток! И кушать кур нельзя — дохлые. Приказывает она
кухарке ощипать их, чтобы хоть не пропали перья. Та сделала
свое дело, сложила птичьи тушки в переулок и крапивой
прикрыла. Забоялась, что на дворе они могут загнить и нехорошо будут
пахнуть. А в переулке, авось, за ночь собаки растащат их.
Случилось это вечером под воскресенье. Поп ничего не знал
о курах и всю ночь думал только о карасях. Встал он на заре,
осмотрел все вокруг двора, не подглядывает ли кто, и пошел к
колодцу. А кривой мужичок Свят-Свят встал еще раньше и
побежал по селу. Будит он народ и говорит каждому:
— Наш батюшка с ума спятил.
— А ты откуда об этом проведал?—опрашивают его.
— Удочкой ловит рыбу из своего колодца. Кто же в здравом
уме будет это делать?
Взбаламутились мужики и бабы и приближаются к поповскому
дому. Кто из-за угла, кто с огородов смотрят они на своего
батюшку. А тот, действительно, запускает в колодец удочки.
Никаких карасей, конечно, там не было. Ведь кривой мужичок Свят-
Свят наловил их в озере, а не в колодце. Надул он попа. Долго
батюшка возился с удочками и с досады плакался в сторону —
хоть бы одна маленькая рыбешка попалась. Заметил он, что
мужики и бабы глазеют на него, сконфузился и побежал в свои
хоромы.
Л. СЕЙФУЛЛИНА
(Род. в 1889 г.)
Виринея
(Отрывок)
Лика больше не видел и ответа не слыхал. Но к смерти стал
готовиться. В тот же день, неожиданно, в дом свой пришел.
Старуха с дочерью в избе убиралась. Вытерла фартуком мокрые руки,
глянула на мужа. Обветренный, лохматый, грязный. Не похож на
угодников, какие на иконах. Сказала робко:
— Може в баньке попариться, тело занудилось. Истопим, а>
Но Магара головой, как от мухи, отмахнулся:
— Смертну обряду мою, каку заготовила, достань из сундука.
На дворе повесь.
И ушел. Слова больше не добавил. Старуха горестно
вздохнула и заплакала. Вся округа в святость Магары уверовала. А она
говорить о том боялась, но в себе думала: не от святости это в
нем, а от хвори какой-то. Уж своего мужика-то знала, — какая в
нем святость? Так мается без ума, без разума. Но не сердилась,
а шибко жалела. От той жалости быстро стареть начала.
Ссутулилась, глаза стускли, и на лицо серый пепел лег. Но приказанье
мужнино в тот же час исполнила. Когда вешала белые холщевые
порты и рубаху, Мокеиха пришла.
— Здраству-ко, Григорьевна. Помирать хочет?
— Не знаю, веле-ел.
— Сказывал, Григорьевна, сказывал. Сейчас на нашей улице
был. Открыто ему будет, в какой день. Я и пришла, чтобы меня
тогда кликнули. Потрудиться охота над молитвенником-то нашим.
Нынче народ распутный стал: мало кому открывается, когда
смерть придет. И не от должного часу мрут, а все больше по
внезапности. Пущай подоле повисит одежа. Солнышком нашинским
прогреется, ветерком с земли провеется. На останной обряде дух
земной унесет, пуще об земле стараться перед богом будет.
Их-ох-ох. Ну, дак гляди, немедли, кликни тогда. Савелий-то,
батюшка, плывет через речку...
— Куда?
— А по обычаю богову все сделать хочет. Не как нынешние
вертуны. В церковь, к попу поговеть поплыл.
Обратно приплыл под самое вербное воскресенье. Уж затемно
в окна постучал.
— Эй, открой-ко, Михаила!
Зять голос узнал. Подивился:
— Ай, к нам перебираешься?
Но Магара, отмолившись в угол, сказал:
28—22 43'i
— Оповести завтра народ: помирать ложусь. Гроб-от сготовил.
Зять поскреб голову и грудь. Спросил:
— А где помирать-то лягешь? Там у себя в землянке, ай на
камне?
— Тут в избе. По-христианскому. На этом месте родился, на
этом же и помру.
Зять постоял, подумал. Сказал с тягучей позевотой:
— А ну да, правильну кончину ты себе у бога вымолил?
Я маненько еще посплю? А? До'утра-то еще долго. Намаялся я
нынче.
— Ложись. Я на двор пойду свету дожидаться.
Когда ушел, зять старуху окликнул:
— Не спишь? Слыхала? В избе не остался, отвык от
человечьего духу. Бабу-то мою будить, аль нет?
— Не надо. На свету обоих разбужу. Что-ж, все под богом
ходим. А ему все одно. Который год на земле не работник.
Может и правда час помирать пришел. Потрудимся, проводим,
ложись, поспи еще час какой.
Виринея и Анисья, огрызаясь на ходу несердитым бранным
словом, смешком коротким и взвизгом на щипки мужиков,
протолкались вперед.
Настежь открыты окна избы. Но тяжело и густо пахло
ладаном, богородской травой, елеем и дегтем от праздничных сапог.
От этого смешанного запаха, от дыма кадильницы в руках старика
Егора, от нудного, тягучего его голоса, бормотавшего псалмы,
труднила дыханье людей духота. На божнице дрожали горестно
хлипкие желтенькие огоныки восковых свечей. На скамье под
окнами стоял открытый гроб. Старательно выструганные доски еще
хранили свежий запах древесный.
На двух сдвинутых вместе скамейках, покрытых чистой
холстиной, на подушке из сухой богородской травы, в белых холще-
вых портах, в поясе с молитовкой, в смертных мягких черных
матерчатых туфлях, лежал Магара. Большие узловатые руки в
старательной тихости держал крестом на груди. Две черных
старухи в мерных и низких поклонах качались у ног Магары.
Бубнил Егор:
— Обратись, господи, избавь душу мою, спаси мя милости
твоей.
Народ входил, выходил, двигался, смеялся. Живое его
движение тревожило Магару. Он приоткрывал глаза. Выкрикивал глухо:
— Ныне отпущаешь...
Взбадривался Егор и громче вычитывал:
— Суди мя, господи, по правде моей и по непорочности моей
во мне.
Магара снова глухим голосом перебивал:
— Пошли, господи, по душу мою.
Но трепетали свечи. Все скучливей и глуше голос Егоров. За-
434
томился Магара под участливыми, равнодушными, печальными,
затаенно-усмешливыми человеческими живыми глазами. Увидел,
что даже семейные его из избы ушли. Только жена, надвинув
низко на лицо темный платок, стояла у изголовья. Взмолился
страстней и живей:
•— Отпусти, господи, вынь дыханье. Помилуй, господи, раба
твоего...
Виринея дернула Анисью за платье:
— Пойдем домой. Не скоро, видать, он кончится.
Та повела сердито плечами, но охотно за ней вышла. Когда
они вернулись снова к смертному одру Магары, уже солнце далеко
от полудня запало. Шестые свечи на божнице догорали.
Отдохнувший народ снова в избу набился. А Магара все еще живой
лежал. Учуял похолодевшее дыханье дня, задвигал в тревоге
головой по подушке. На долгий миг задержал было дыханье в
груди, но выдохнул его шумно и закашлял. Черная старуха
наклонилась к нему:
— Ты как, нудишься-то, батюшка, перед смертью, ай нет?
Словно, как-быть, не на смерть, а по-живому. Народ затомился
ждать. Как у тебя тю твоему нутру, скоро, аль долго еще?
Магара покосился на старуху. Не ответил, только бровями
досадливо шевельнул. Низенький, седобородый Егор прервал свое
заунывное чтение. Повернулся всем корпусом к Магаре, поглядел
на него и посоветовал участливо:
— А ты крепше глаза прижмурь. На энтих, на живых-то не
пялься. Думай о своем и дых крепче внутри держи, не пускай.
Сожми зубы-то, зубы сожми!
Безусый, веселоглазый парень в толпе фыркнул. Подмигнул
румяной Анисье и сказал:
— Живой-то дух, небось, не удержишь! Не ртом, дак другим
местом выйдет.
Смех прошелестел в толпе. Мокеиха впереди охнула. Егор
поглядел на народ и строго оборвал:
— Кобелей-то энтих погонять бы отсюдова. Вредный народ»
беда-a. Кончиться человеку в страданьи перед богом не дадут.
Загнусил живей:
— Окоропиши мя иссопом и очищуся, омыеши мя и паче снега
убелюся...
Но скоро опять к Магаре повернулся:
— Ну-ка полежи маленько без псалмов, Савелий. Что-й-то я
заморился, разомнусь схожу. Полежишь?
Магара расправил затекшие руки. Пробурчал:
— Иди... Теперь скоро уж, давно маюсь.
Вирка взглядом с тем парнем веселоглазым встретилась. Не
сдерживала смеха. Сверкнула зубами и зазолотившимися от
дерзкого веселья переменчивыми глазами. Крикнула громче, чем сама
хотела:
— Дедушка Савелий, а ты бы тоже слез, да поразмялся.
Спину, чать, отлежал? А?
26· 435
Заговорили со всех сторон:
— Закрой хайло, шалава!
— Двинь ее покрепше из избы, дядя Яков.
— Что же это такое, господи? Какие бесстрашные!
— А што? Хоть сдуру, а пожалуй правду сказала: встал бы,
коль смерть не берет.
— Ты прямо, мил человек, скажи: будешь помирать, аль
отдумал?
— Савелий, а ты помолись пошибче! Заждался народ.
— Рассердись да помри, Магара! Чего же ты?
Мокеиха зло, не по-старушечьи звонко крикнула.
— Это Вирка народ всколгошила. Блудная окаянная! Святой
человечий час и тот испакостила! Уберите ее, старики!
Но смех и разговоры все гуще, вольней по рядам. И откликом
с улицы мальчишки озабоченный голос:
— Васька-а! Он се не помират! Айда, еще в чушки играть!
Старуха Магары от стыда совсем съежилась. Дрожащими
руками платок на голове все поправляла, чтобы лицо закрыть.
— Страм... Чистый страм! Сам обмишулился и народ обманул.
Что-й-та теперь будет? Что будет, коль не помрет?
И жалко мужа было, и зло за сердце брало. Тужился в
угодники выйти, дак выходил бы в настоящие, а то на смех на одни.
Заплакала и закрыла фартуком лицо.
Вернувшись в избу, Егор спросил ее облегченно:
— Помер, што ль? А я не разберу, с чего народ шумит.
Магара приподнялся на скамьях, оглядел всех большими
тоскующими глазами и снова медленно опустился и вытянулся. Смех
смолк. Люди затаили дыханье. Лица у всех построжали. Долго
стояло молчанье в избе. Магара прервал его. Снова хрипло
вздохнул. Опять приподнялся, сел на скамьях. Глаза, загоревшиеся
огромным напряжением страсти, жаркие до жути глаза уставил
на иконы. Глазами молился и требовал. Опять заговорили сзади.
Приглушенный смех снова в уши Магары. Тогда он поднялся во
весь свой высокий рост. Передохнул всей грудью и пробормотал
невнятно:
— Отказал господь в кончине. Пообещал и не послал.
Забегал его взгляд снова по рядам. Будто мешался, искал
снисхождения или участия. Но всюду встречал смеющийся или
злой глаз. Тогда двинул ногой сердито смертное свое ложе и
крикнул зло и сильно:
— Чего глаза пялите? Мертвечину нюхать пришли? А? Не
помру! Айда, чтобы все вон из избы. Говорят вам... Мать, не
помру!
Изрыгнул крепко забористую матерщину и посыпал похабные
слова одно за другим. Глаза покраснели, будто взбухли от гнева.
Кулачищами крепкими замахал. Визгнула на дворе напуганная
дочь Магары. С воем из избы к ней другая порченая баба
кинулась, с ахами, визгами, криком подались все бабы из избы. За
ними мужики с гоготом, с ответным забористым словом. Старики
436
с укоризненной воркотней, но с светлыми от тайной усмешки
глазами. Быстро пустела изба.
Обрывисто, будто давясь наплывом злых непристойных слов,
ревел Магара:
— К чортовой матери... Бога!.. Богородицу!..
Сдернул со скамьи холщевый покров, скомкал яростно, в угол
закинул. Сильным рассерженным дыхом потушил лампаду и свечи.
На дворе еще шумел народ:
— Чисто матернится старый хрен!
— Натосковался в молитве по легкому-то слову!
— Господи, батюшка! И как теперь отмолит! И чем этакий
грех перед богом отслужит?
Красный потный зять Магары, выпучив глаза, на дворе народ
упрашивал:
— Разойдитесь, православные! Богом прошу, уходите со двора.
Уж такой нам страм! Уж такая обида! Лег бы тишком да и
попробовал — помрет или нет, а потом бы уж народ скликал...
Уйдите, старики, для ради Христа. Нынче не в себе он. Вам-то
что — острамили, да ушли, а нас он вполне обязательно изувечит
со стыду.
Молодежь свистела, приплясывала около дома, надрываясь в
выкриках:
— Когда еще позовешь, Магара? А? Когда приходить, кутью
сварим, блинов на поминки напекем!
— Только гляди, больше не надувай, а то сами тебя за
надувательство в гроб укладем!
Как наш Магара, чортов зять,
Собирался помирать,
К вечеру отдумал
И зачал свою мать крепким словом поминать.
Магара стукнул кулаком по подоконнику так, что задребезжали
стекла раскрытых рам:
— Убью-ю! Уходите, сволочи, ну?
Втянув голову в плечи, готовый к яростному прыжку, взмахнул
руками. Вставил в окно иссиня-багровое лицо с налитыми кровью
глазами. Толпа от избы шарахнулась. Со смехом и бранью
расходились люди.
M. ШОЛОХОВ
(Род. в 1905 г.)
Поднятая целина
(Отрывок)
К бывшему «курощупу» — деду Акиму Бесхлебнову —
пришли... в курень, когда вся бесхлебновская семья завтракала. Сам
старик сидел за столом в переднем углу, рядом с ним — сын лет
сорока, тоже Аким, по прозвищу Младший, по правую руку от
него — жена и престарелая овдовевшая свекровь, на искрайке
примостились две взрослых дочери, а обочины стола густо, как мухи,
облепили детишки.
— Здравствуйте, хозяева! — Найденов стащил свою
промасленную кепку, приглаживая сторчмя поднявшиеся вихры.
— Здравствуйте, коли не шутите, — отвечал, чуть заметно
улыбаясь, простой и веселый в обхождении Аким Младший.
Нагульнов бы в ответ на шутливое приветствие сдвинул раз-
латые брови и —преисполненный строгости — сказал: «Некогда
нам шутки вышучивать. Почему до се хлеб не везешь?», а
Ванюшка Найденов, будто не замечая холодноватой сдержанности в
лицах хозяев, улыбаясь, сказал:
— Хлеб-соль вам!
Не успел Аким рта раскрыть, чтобы, не приглашая к столу,
проронить скупое «спасибо» или отделаться грубовато-шутливым:
«Ем, да свой, а ты рядом постой!», как Найденов торопливо
продолжал:
— Да вы не беспокойтесь! Не надо! А впрочем, можно и под-
завтракать,.. Я, признаться, сегодня еще не ел. Товарищ
Нагульнов — здешний, он конечно уж подзаложил, а мы кушаем через
день с натяжкой... как «птицы небесные».
— Не сеете, не жнете и сыти бываете, стало быть? —
засмеялся Аким.
— Сыты не сыты, а веселы всегда. — И с этими словами
Найденов, к изумлению Нагульнова, в одну секунду смахнул с плеч
кожанку, присел к столу. Дед Аким крякнул, видя такую
бесцеремонность гостя, а Аким Младший расхохотался:
— Ну, вот это — по-служивски! Счастлив ты, парень, что успел
вперед меня заскочить, а то я было уж хотел сказать на твою
«хлеб-соль», «мол, едим, свой, а ты рядом постой!» Девки! Дайте
ему ложку...
...Подали взвар. Разговор прекратился. Слышно было только,
как чавкают рты да скребут днище обливной чашки деревянные
ложки. Тишина нарушалась лишь тогда, когда ложка
какого-нибудь парнишки начинала описывать внутри чашки круги, в поисках
разваренной груши. В этот-то момент дед Аким облизывал свою
438
ложку и звонко стукал ею провинившегося мальца по лбу, внушая:
— Не вылавливай!
— Что-то тихо у нас стало, как в церкви, — проговорила
хозяйка.
— В церкви тоже не всегда тихо бывает, — сказал Ванюшка»
плотно подзакусивший каши и взвару. — Вот у нас под пасху был
случай, — смеху не оберешься!
Хозяйка перестала стирать со стола, Аким Младший свернул
курить, присел на лавку, собираясь слушать, и даже дед Аким»
отрыгивая и крестясь, вслушивался в слова Найденова.
Нагульнов, выказывавший явные признаки нетерпения, подумал: «Когда
же он про хлеб-то начнет? Тут, как видно, дела наши — хреновые!
Обоих Акимов нескоро своротишь, самые напряженные черти во
всем Гремячем. И на испуг, — как ты его возьмешь, когда Аким
Младший в Красной армии служил и —в общем и целом — наш
казак? А хлеб не повезет он через свою приверженность к
собственности и через скупость. У него середь зимы снегу не
выпросишь, знаю!» Тем временем Ванюшка Найденов, выждав время·
продолжал:
— Я — родом из Тацинского района, и был у нас под пасху
один раз такой случай в церкви: идет стояние, приверженные
религии люди собрались в церкви, душатся от тесноты! Поп и
дьякон конечно поют и читают, а около ограды хлопцы играются.
Была у нас в слободе телушка-летошница, такая брухливая, что
чуть ее тронь,—щукой кидается и норовит рогами поддеть.
Телушка эта мирно паслась возле ограды, но хлопцы раздражили ее
до того, что она погналась за одним и вот-вот его догонит!
Хлопец той — в ограду, телушка — за ним, хлопец — на паперть,
телушка — следом. В притворе людей было до биса... Телушка
разгонись, да того хлопца под зад ка-ак двинет! Он — со всех ног,
да к старухе под ноги. Старушка-то затылком об пол хлопнулась
и орет: «Ратуйте, люди добри! Ой, лыхо мини!..» Старухин муж
хлопца костылем по спиняке: «А що б ты сгорила, вражья дыты-
на!..» А телушка: «Бе-е-е!» — и до того старика с рогами
приступает. И такая пошла там паника-а-а! Кто ближе к алтарю
стоял, не поймут, в чем дело, а слышат, что в притворе шум,
молиться перестали, стоят, волнуются, один у одного пытают: «Шось
це там шумлять?» — «Та шо там таке?» — Ванюшка,
воодушевившись, так живо изобразил в лицах, как перешептывались его
перепуганные односельчане, что Аким Младший первый не выдержал
и захохотал.
— Наделала делов телушка!
Оголяя в улыбке белозубый рот, Ванюшка продолжал:
— Один парубок в шутку и скажи: «Мабуть, там бишена
собака вскочила, треба тикать!» Рядом с ним стояла беременная
баба, испугалась она, да как заголосит на всю церкву: «Ой, ридна
моя маты! Та вона ж зараз нас усих перекусав!» Задние на
передних жмут, опрокинули подсвечники, чад пошел... Темно стало.
Тут кто-то и заревел: «Горым!» Ну, и пошло! «Бишена собака!»
439
«Горы-ым!..» «Та шо воно таке?..» «Кониц свита!» «Шо-о-о?.. Ко-
ниц свита? Жинка! До дому!» Ломанулись в боковые двери и так
сбились, что ни один не выйдет. Ларек со свечами опрокинули,
пятаки посыпались, титор упал, шумит: «Граблють!» Бабы, как
овцы, шахнули на амвон, а дьякон их кадилом по головам: «Тю-у-у»
скаженни!.. Куда?.. Чи вам, поганим, не звистно, шо в ялтарь
бабам не можно?» А сельский староста, толстый такой был, с
цепком на пузе, лезет к дверям, распихивает людей, уркотит:
«Пропустить! Пропустить, прокляти! Це ж я, голова слободьска!»
А где ж там его пропускать, когда — «кониц свита».
Прерываемый хохотом, Ванюшка кончил:
— В слободе был у нас конокрад Архип Чохов. Лошадей
уводил каждую неделю, и никто его никак не мог словить. Архип
был в церкви, отмаливал грехи. И вот когда заорали «Кониц
свита!», «Погибаемо, братцы!», кинулся Архип к окну, разбил его,
хотел высигнуть, а за окном — решетка. Народ весь в дверях·
душится, а Архип бегает по церкви, остановится, плеснет руками и
кажет: «Ось колы я попався! От попався так вже попався!»
Девки, Архип Младший и жена его смеялись до слез, до
икоты. Дед Аким, и тот беззвучно ощерял голодёсную пасть, лишь
бабка, не расслышав половины рассказа и ничего не поняв с
глухоты, нивесть отчего заплакала и, вытирая красные набрякшие
слезой глаза, прошамкала:
— Штало быть попалшя, болежный? Чарича небешная! Чего
же ему ишделали?
— Кому, бабушка?
— Да этому штраннику-то?
— Какому страннику, бабуся?
— А про какого ты, голубок, гутарил... про богомольча.
— Да про какого богомольца-то?
— А я, милый, и не жнаю... Тугая я на ухи стала, тугая, мой
желанный... Не дошлышу...
ВАНДА ВАСИЛЕВСКАЯ
«Не убий...» *
Графу Острженьскому принадлежали земли, луга, леса и водьи
Крестьянам — песок и болота над Бугом. Бесплодно и безнадежна
воевали люди с песком. Пухли от голода, болели цынгой. Рубахи
истлевали на них в клочья, изъеденные грязью и насекомыми.
Нередко толкли березовую кору, смешивали с лебедой и из этой
пыльцы пекли лепешки.
Граф запрещал собирать ягоды и грибы, ловить рыбу, стрелять
дичь в своих угодьях. Поймав бабу с ягодами, лесничие разбивали
горшки оземь, топтали ягоды лакированными сапогами. Любителей
рыбы и охотников за дичью пристреливали на месте. Однажды
граф приказал лесничим дать двести палок мужику, поставившему
капканы на зайцев...
...Молодой парень, Стефан Зелинский, весело посвистывая, шел
из Мацькова по зеленому лугу к прудкам. Прудки лежали в
обрамлении лугов, как зеркальца, — больший и меньший, соединенные
узким протоком. Парень быстро разделся и вошел в студеную
воду. Дрожь пронизала его с ног до головы.
— Брр...
Зашуршали шаги. Парень оглянулся: шел лесничий Валер с
собакой. Волкодав держал голову низко к земле, принюхиваясь.
Стефан невозмутимо потрогал ладонями воду, не решаясь
окунуться: ледяным обручем она сжимала его под сердцем.
— Ты купаться сюда притащился?
— А что? Мешаю вам? Ведь не запрещено.
— По-разному можно толковать. Если я скажу —: нельзя,
значит нельзя.
— А вы поставьте дощечку с надписью, чтобы каждый знал.
— Ты меня не учи!
— А вы не придирайтесь попусту.
— Вылезай из воды! Слышишь?
— Слышу, я не глухой, господин Валер. Искупаюсь и вылезу.
Лесничий подскочил к нему и кнут со свистом разорвал воздух.
На гладком белом плече купальщика удар засветился красным
рубцом. Лицо парня залилось темной волной крови.
— Воды тебе жалко? Так влезай и выхлещи всю!
Валер посинел лицом. Поспешно схватил лежавшую на берегу
одежду.
— Не тронь одежи!
— Заткни хайло, слышишь?
— А ты казака не строй! Когда народ подстерег тебя над:
Бугом, ты на коленках просил пощады, а теперь куражишься!
* Из романа «Земля в ярме».
441
По тропке бежала собака. Большая, бурая, волчьей породы.
Остановилась и ждала хозяина. На выручку спешил лесничий
Совяк.
— В морду его, Алоиз, в морду! Поучи хама!
— Сам ты хам!
Зелинский приступил к ним — нагой, посиневший от холода.
Собаки глухо заурчали.
— Отдайте одежу!
— А это уж как нам заблагорассудится!
Парень сжал кулаки. В эту минуту на голову его, на обнажен-
иые плечи, на грудь посыпался град ударов.
— Это тебе наука, хам! Слушайся, когда лесничий говорит!
Фекс, бери его!
Волкодав дернулся и в один прыжок очутился возле парня.
Белые острые зубы сомкнулись на икре.
— О-о-ох!
— Ага, видишь? Сойка, бери его!
Парень затравленно озирался. Низкорослая скрюченная акация
-стояла неподалеку от воды. Стефан вырвал ноги из собачьих
клыков и большими прыжками во весь опор кинулся к дереву.
— Рекс, Сойка, ату его!
Парень слышал за собою прерывистое дыхание собак,
чувствовал тепло, бьющее из их пастей. Внезапным броском вскинул тело,
ухватился за ветку. Ощутил на теле царапины острых шипов,
шероховатость коры, по лицу хлестнули зеленые колючие ветки.
Подогнул под себя босые ноги, так как псы подпрыгивали высоко,
скользя обратно по стволу.
В воздухе свистнул камень и с размаху ударился в грудь.
— О-о-ох!
— Видишь, мы настигнем тебя и там, не надейся понапрасну!
Округлившимися от ужаса глазами парень смотрел на
лесничих. Они метались, как одурелые. Из ближней лесной избушки
^прибежали двое ребят Совяка.
— Геня, Юзек, собирайте камни! Давайте сюда! Грабарчук,
поди погляди, что за птичка сидит на дереве!
Объездчик глянул вверх и засмеялся.
—- Адама в раю разыгрывает, или как? По требухе его, хама,
по требухе! Поучите маненько!
Опять засвистели камни, посыпались на землю листья акации.
— Смилуйтесь, люди, что вы делаете?
— Α-a, теперь вот как? Прежде ты говорил иначе! Юзек,
Генька, тащите скорее камни! Под ветками их больше!
Собаки с остервенелым лаем бегали вокруг скрюченного
ствола. Совяк подошел ближе:
— Слезай!
Залитыми кровью глазами парень глянул вниз на
разъяренных псов:
— Собаки...
— Собак боишься? Слезай, слышишь? Не то как гвоздану...
442
Пущенный ловкой рукою камень попал метко. Пронзительный
стон вырвался из груди атакованного.
— Слезай!
И опять камень. Маленький Юзек бежал от воды, неся их
целый ворох. Темная пелена заволокла глаза Стефана. Кровь
заливала рот, дикая, непереносимая боль разрывала внутренности.
Собаки прыгали все выше. Парень в отчаянии чувствовал, что
пальцы его слабеют, что жесткая кора акации ускользает из рук,
что все вихляется перед ним взад и вперед, словно акацию
раскачивал мощный вихрь, сгибавший верхушку дерева до самой земли.
Он хотел что-то сказать, но из окровавленных губ вышло только
невнятное бормотание, булькающий нечеловеческий голос.
Разомкнулись онемевшие пальцы, с шелестом взлетели кверху ветки
акации. Парень плюхнулся между собак, словно мешок с камнями.
— Вставай! Рекс, Сойка, на место!
— Да он не шевелится...
— Сейчас зашевелится! Огрей его кнутом, Валер, да
хорошенько!
Лесничий подошел, но взвившийся кнут повис в воздухе: с
залитого кровью лица в упор смотрели на него широко раскрытые,
стеклянные, невидящие глаза трупа.
— Послушай, Грабарчук...
Собаки присели на землю. Шерсть вздыбилась у них на
хребте. Валер отер ладонью внезапно взмокший от пота лоб.
— Окачу рился?
Грабарчук взял неподвижную руку парня, но не мог нащупать
пульс. Приподнял веко.
— Похоже, что так... Закоченел, — подтвердил он не своим
голосом.
— А все ты, Грабарчук... Ты подзуживал нас: «По требухе
«го, хама, по требухе!» — заикаясь, визгливо, неуверенно сказал
Валер.
— Я? А кто утюжил его, когда меня еще не было? Кто
приказывал ребятам собирать камни? Я, может? Ты зарапортовался,
Валер!
— Совяк тоже, Совяк...
— Ты не увертывайся, Грабарчук, — твердо сказал Совяк. —
Трое нас орудовало здесь.
— Я не увертываюсь. Трое, так трое. Одним хамом меньше,
невелика беда. Видел кто? Никто.
Они машинально огляделись. Золотое солнце стояло над
безлюдными лугами, из трубы лесной избушки вилась узкая струйка
дыма, вдалеке темнела у шоссе деревня. Нигде ни души.
— Что ж теперь делать?
— Шваркнуть в воду...
— Найдут...
— И пусть находят. Никто не видел. Утонул — и дело с
концом.
— Весь в крови..,
443
— Умоется в воде. Ну, Совяк, бери за ноги.
Лесничий нехотя, с отвращением взялся за лодыжки
сухощавых ног. Руки с обеих сторон волочились по земле.
— Раз, два — вали!
Раскачанное тело тяжело бултыхнулось в воду. Пошли круги»
все больше, все отчетливее, у берега заплескалось.
— Только всего... А ты, Совяк, заткни ребятам рты, чтоб не
трепали языками. Марш в лес, к вечеру назад, никто не видел»
никто не слышал, камень в воду!
Геня и Юзек стояли, прижавшись друг к другу, лихорадочно
трясясь, и в страхе смотрели на то место в воде, куда упало тело.
— Слышали, что сказал господин объездчик? Пикнуть не
сметь! Ни матери, ни кому другому, не то убью, клянусь богом,
убью! Марш домой — и не было вас здесь вовсе, так и знайте!
Понимаешь, Юзек?
— По-ни-ма-ю...
На третий день нашли в пруду тело Стефана. Голова вся в
запекшейся крови, живот черный, как чугун, грудь исполосована
синими рубцами, пальцы изгрызены, широко раскрыты стеклянные
глаза...
...Лавочник Скужак ехал в Остржень и согласился подвезти
старика Зелинского к ксендзу. Надо было уладить дело с
похоронами.
Ксендз разоблачался в ризнице и простодушно торговался с
крестьянином из Грушкова:
— Дашь тридцать злотых — и окрещу мальчонку. Приезжай
в следующее воскресенье.
— Помилосердствуйте, батюшка! Тридцать злотых — больно
много! Какую уйму хлеба надо продать...
— А знаешь ты, сколько мне надо было учиться, сколько лет
ходить в школу, чтобы сделаться ксендзом и крестить твоего
мальчишку?
— Так-то оно так, батюшка, а все же тридцать злотых —
большие деньги.
— Гм... лошадь у тебя есть?
— Купил весною конишку... Скиньте, батюшка, сколько-
нибудь...
Мужик низко поклонился.
— Скинуть, говоришь? Ну, а двадцать злотых дашь?
— Будьте милостивы, батюшка... Сбавьте еще малость...
Тяжко нынче приходится, а тут еще солнышко жжет и жжет... Спалит
хлеб дотла...
— За ваши грехи карает вас господь, за ваши грехи! На
водку есть, а на крещение нехватает?
— Какая водка... Годков с пяток в рот ее не брал. Не такие
времена...
— Знаю я вас! Без водки шагу не ступите... А как у вас там
в деревне? Спокойно? Или болтает что неподобающее народ?
— То-есть как? — не понял мужик.
444
— Ну... может газетки какие вредные почитывают?
— Этого я не знаю. Ни по печатному, ни по писанному не
разумею.
— Гм... гм... Вот оно что... Ну, как же быть с крещением?
— Может смилостивитесь, возьмете пятнадцать злотых...
— Тощенько, тощенько... Да что с тобой делать? Пусть уж
будет пятнадцать. Приезжай только пораньше...
Прибежал, ковыляя, органист: Зелинский, отец убитого парня,
хочет условиться с ксендзом насчет похорон.
— Зелинский, говоришь... Отец? Скверная история, скверная...
Ну, как он там?
— Да ничего... Ветхий старичина, почти слепой...
— Знаю, знаю, — нетерпеливо перебил ксендз. — Говорил он
что? Грозил?
— Как будто ничего не говорил, батюшка.
— Ничего? Это хорошо, хорошо... Ты ввел его в притвор?
— Нет, — испугался органист. — Он ждет возле костела.
— Всегда ты был дурак, таким и остался, понимаешь? В
ризницу надо было привести! В ризницу!
Он замолчал, так как увидел в эту минуту стоявшего в тени
больших лип мужика. Откашлялся, широко раскинул руки и
затрусил ему навстречу.
— Сын мой, тяжко поразил тебя господь, тяжко!
— Стефана моего, Стефана... — бормотал старик, склоняясь к
ногам ксендза.
Тот заботливо поднял его.
— Знаю все, знаю, дитя мое, и скорблю о твоей судьбе... Но
кого возлюбит господь, на того налагает крест... Господь
посылает нам испытания, господь и утешает нас. Он прибежище наше
и защита. Идем вместе помолимся, возложим на алтарь господа
бога твое горе.
В костеле было пусто и сумрачно, многоцветными пятнами
ложились отсветы расписных стекол на каменный пол. Зелинский
безвольно шел по длинной красной дорожке, опоясанный крепкой
рукою ксендза.
— Здесь, перед матерью божьей скорбящей, семью мечами
пронзенной, преклони колена, дитя мое. Она тоже лишилась сына,
который вместе с тем был и сыном божьим. Он умер в тяжких
муках на кресте, и мать обречена была смотреть на это своими
глазами. Она посвятила господу богу свою скорбь, смирилась
перед его могуществом и теперь предстательствует за нас перед
богом... Доверься ей, откройся ей, и она утешит тебя, поддержит
тебя, примет в пресвятые свои руки твою боль...
Ксендз взволновался и захлюпал мощным носом. Из-под синих
очков Зелинского неудержимым потоком лились слезы.
— Плачь, сын мой, плачь и молись утешительнице скорбящих,
заступнице нашей, матери нашей...
За окнами шелестели липы. Ксендз громким шопотом читал
молитвы. Зелинский крестился и бил себя в грудь.
445
— А теперь пойдем поговорим о похоронах.
Пришлось усиленно упрашивать Зелинского, чтобы он
решился сесть. Ксендз записывал что-то в толстую книгу.
— Похороны, да и панихида... Панихиду отслужу в
воскресенье...
Зелинский беспокойно ощупывал на груди мешочек с деньгами.
Ксендз понял его жест и протестующе поднял руки:
— Нет, нет! Ни гроша! Ни грошика не возьму! И речи быть
не может!
Как от назойливой мухи, отмахивался от благодарности:
— Нет — и все. И не благодари, сын мой, не благодари.
Покорись воле божьей, думай о боге. Поручи себя пресвятой
богородице. Я не забуду о тебе, помолюсь и я, чтоб обрел ты
утешение в горе своем.
Зелинский вышел из ризницы в солнечное сияние дня,
совершенно ослепленный благоволением, ошеломленный необычной
ласковостью ксендза.
Лавочник уже ждал его на возу.
— Сказал, не возьмет ничего...
— То-есть как?—не понял Скужак.
— Ни грошика, сказал, ни за похороны, ни за панихиду...
Скужак хлестнул коня. Некоторое время ехали в молчании.
— Знаешь, что я скажу тебе, Зелинский? Графу следовало
бы полностью взять на себя содержание костела и ксендза. Чтобы
ни от правительства не шли на это деньги, ни деревня не платила.
— Почему так?
— А потому...
Они не поняли друг друга. Конь бежал рысью, зная, что
возвращаются домой, что ere ждет конюшня и кормушка...
КОНСТ. ФЕДИН
Анна Тимофеевна
(Отрывки)
В день восьмой ноября, в день Михайлов праздновали в
соборе престол. Всенощное бдение перед тем служил приехавший
викарный архиерей, и на клиросах пели черницы из монастыря
пригородного. Повелось так, что и чтения все отправляли в такую
службу монашенки, чтобы не нарушалось в храме благочиние
дьячьими »голосами малопристойными.
Приглянулась соборному псаломщику соседка его — чтица-мо-
446
нашенка. Стройна была, молода, брови тонкие под клобучком
неизвестно от какой радости подергивались. Состроил псаломщик
лицо строгое, благоговейное, тихонько так на ушко соседке шепчет:
— Позволь, сестрица, псалтирь на минутку.
Потупилась чтица, дает.
Роман сотворил крестное знамение, — земной поклон,
псалтирь под коленки, да и начал преклоненный, отбивать поклоны с
жаром неугасимым, почти в исступлении.
А возгласы архиерея и сослужавших ему подходили к концу^
после них читать псалтирь.
Опустилась чтица на колени рядом с псаломщиком, шепчет
ему, чтобы отдал псалтирь. А он в ответ:
— Поцелуй меня после всенощной — отдам!
Словно зарница метнулась перед лицом монашенки —
засветилась гневным, стыдливым огнем. А Роман бьет поклоны, стоя
прочно на кожаной книжке, и не угнаться за ним, машет спиной
своей, точно цепом на току. И отмахивает рядом с ним монашенка
поклон за поклоном и шипит ему в ухо:
— Погубишь ты меня, охальник, читать надо, беспутный!..
И вот уж тянет кто-то чтицу за рясу, и тихо в церкви, и
слышит она в тишине страшный, без слов понятный шопот. И таким
же страшным шопотом опалила она затылок псаломщика:
— Ну, хорошо, хорошо! Давай скорей!..
И после всенощной, в духоте и тьме узкой ризницы,
поцеловал Роман сестру во Христе в мясистые ее губы, поцеловал не раз
и не дважды.
А, придя домой, хвастал молодой жене своей, хохоча и кашляя
от табачного дыму:
— Крещусь, бью лбом об пол и молюсь: подай, господи, что·
бы согласилась, подай, господи, чтобы согласилась!.. В жизни так
не молился!..
Слушает Анна Тимофеевна веселого своего мужа, развеселен-
шего соборного псаломщика Романа Иаковлева, смотрит на
озорника сквозь горячую завесу слезную, молчит...
* * *
Рыжий монах, в курчавой бороде и с плоским, как у гуся,
носом, обтер лысину, надел скуфейку и сказал:
— Пиши: крестьянин деревни Евсеевки, Синенской волости*
Саратовского уезда и губернии Прохор Прохоров Бутылин
показал. Почисти перо.
Длиннорукий писарь-монашонок вытер перо об завощенный
подрясник. Точно обрадовавшись, разукрасился улыбкой.
— Взопрел!
— Взопреешь тут,—буркнул рыжий.
Потом недовольно взглянул на свидетеле
— Так как ты говоришь?
— Бутылин, Прохор Прохорыч...
— Слыхал. Где, говоришь, повстречал больного-то?
447
— Которого?
— А вот, который исцелен, о котором показываешь.
— Это болезного, что-ль?
— Не болезного, а хромого: у которого ног нет — исцелиться
tie может, а хромой может — у которого ноги целы, но в
бездействии:..
Испитой мещанин, на голову выше толпы, по-бабьи взвизгнул:
— Господь бог все может, господь бог всякому по вере его!..
— Не спорь, — перебил монах, снимая скуфейку: — здесь тебе
не судейская палата. Сказывай, Бутылин, по порядку.
Люди стояли плечом к плечу, прилипнув друг к другу, так же,
как рубахи прилипли к телам их. Открытыми сухими ртами
ловили раскаленный смоляной дух бревенчатой избы, открытыми
сухими ртами ловили новые слова о новом чуде.
— Не напирайте на стол, господи, твоя сила!
Седенький попик замахал рукавами грязной чесучевой рясы,
обернулся к рыжему соседу, вздохнул:
— Ну, и народ!
Монах отпил из деревянной чашки квасу, вынул изо рта
попавшую с квасом муху, стряхнул ее с лальца, сказал:
— Публика!
Свидетель рассказывал:
— Смотри, говорю ему, везут в тачке паренька, паренек
молодой, а ног нету.
— Кому говоришь-то?
— А ему, старосте нашему, Егор Иванычу.
— Да ведь он слепой?
— Двистительно, совсем не видит, а я, значит, — его
поводырем...
— Как же ты ему говоришь, чтобы он смотрел?
Седенький попик перестал вшивать в папку бумаги. Монашо-
мок метнул глазком на рыжего, точно спросил: фыркнуть иль нет?
Народ затаил дыханье.
Тогда свидетель, обтерев рукавом лицо, посмотрел округ себя
и широко, всем лицом улыбнулся — попросил прощенья:
— А я неграмотный, не знаю, как это, чтобы правильно...
И народ облегченно вздохнул и насел сплошной своей потной
грудью на Прохора Прохорыча, на монахов, на стол.
— Пиши, — сказал рыжий: — и, проходя городом, видел этого
человека, ныне чудесно исцеленного юношу крестьянского
сословия...
От людей, скатавшихся плотным комом в бревенчатой коробке,
плыла через окна и дверь синеватым дымком испарина,
подымалась в зное под шапки сосен, таяла в небе.
В просеке, от длинных тесовых бараков, набитых
богомольцами, плыл такой же дымок, так же вяз в сосновых иглах, так же
растворялся в небе.
В онучах, лаптях, босой, в сарафанах, паневах, зипунах,
простоволосый, повязанный платками, в шапках, картузах, валеных шля-
448
пах, обложенный котомками, сундучками, нечесаный, немытый,
пропотевший, — крестьянский и христианский народ, тесным
миром, плотным сходом, молчным сбором, собрался к прелодобному
своему чудотворцу.
Привез, приволок в тачках, тележках, привел за руку,
притащил на руках и горбах — за многие сотни верст, из чужих краев,
дальних сторон — сирых, убогих, недугующих, болящих, хилых,
калек, уродов, безумных, страждущих, скорбящих, печалящихся.
Рассадил — с бельмами, безносых, сухоруких, пляшущих,
вопящих хулу, текущих гноем, смердящих вонью, прокаженных и
параличных — рассадил на лужке под деревцами.
Сам стал — нищий, постный, изошедший кровью, при
последнем издыханьи — сам стал на больные колени свои.
Глазами своими, как у хворой животины, взглянул на сонмище
уродов и калек, поднял потом глаза на преподобного своего
чудотворца, молвил:
— Исцеляй. Не уйду, не отстану, пока не исцелишь. Только
на тебя и надежа!
Не уходит.
Гнали его, уговаривали, посуляли разное, хитростью думали
вывести за ограду обители, — остался. На сырой земле, под
дождями, ветрами, во вшивых бараках, нетопленных избах мерз,
метался в жару, умирал, — остался.
Лежит, немощный, ползет по земле, толкает перед собой тачку
с живым гнойным обрубком брата своего, трясет, несогласный,
головою, ликом серым, как суглинок, уперся, губами, бледными,
как мел, перебирает:
— Не отстану, пока не исцелишь...
В пряном от сосны зное, в тысяче знойных уст одни слова:
— Сегодня на камне-то, слыхала?
— Как же, милая, довел господь...
— Чего говоришь?
— Шабриха моя... вместе мы с ей...
Кучерявый малый весело, как колокольцем, звенит тенорком:
— Встал, колясочку свою, значит, подмышку, перекстился, да
пошел...
— Видел?
— Да вы, господин, ежели сумлеваетесь, или что, так вот у
часовни домик-от такой, вот люди-то хрестьянские собрамши, дак
там записано столько этих очевидцев...
Барынька, бледная, в платье кружевном, под кружевным
зонтиком, волнуется:
— Как, как вы говорите?
— А вот так, колясочку подмышку...
— Господи, — вздыхает кружевная барынька, — встал и
пошел! Как в евангелии...
— Очень просто...
А в бревенчатой избе нечем дышать, монахи пьют квас,
обливаясь потом, рыжий зыкает млелым масляным зыком:
29-22 449
— Да ты видел? Говори прямо, видел?
— Как же не видать, слава тебе господи, — пугается
свидетель, и толпа освобожденно вздыхает.
— Пиши: подтверждаю перед крестом... Да не прите вы, как
овны, матерь божия, живоносный источник!
Дышит народ грузно — так дышит скотина в стаде под
насевшей с неба беременной тучей, готовой пролиться. Стоном застряло
дыханье в сосновых иглах, смоляной тяжкой тучей, готовой
пролиться, навис над обителью стон:
— Выноси, преподобный, на тебя одного надежа, выноси! На
тебя одного!
ГЕННАДИЙ ФИШ
Я лгу б а
(Отрывок)
...Илбаев рассказал нам свою историю.
Двадцать первый год — это начало военной службы. И мне
шел двадцать первый год. И это было в 1916 году.
А надо тебе сказать, что наше племя никогда в русскую армию
не брали. Мы считались слишком дикими.
Но война с немцами "все перевернула вверх дном, и нас стали
призывать в армию. Правда, огнестрельного оружия нам не
давали в руки, нам дали холодное — кирки, лопаты, мотыги, — одним
словом, погнали на тыловые, на окопные работы.
Нас угнали из Узбекистана, нас увезли далеко от границ
Оттоманской империи, от персидского льва, от афганских гор, — нас
повезли в Россию.
Ураза — это месяц поста и радости для правоверных.
От восхода солнца до захода верующий мусульманин не имеет
права взять в рот маковой росинки, но, как только солнце зайдет,
открываются вечерние и ночные пиршества. Днем же — строгий,
строжайший пост. Вот что такое ураза.
Ты, наверно, уже догадался, куда нас гнали. В те годы
строилась железная дорога из Петрограда в Мурманск. Самая скверная
железная дорога в мире. Она строилась на костях. Там работали
китайцы, мы, татары, финны, русские...
Приехали рано утром.
Был первый день уразы.
Днем мы работали не надрываясь, ведь есть ничего нельзя
было, к вечеру оживились.
Скоро еда.
450
Нас повели к землянкам.
Аппетитно дымились баки, где урчал и булькал, испуская к
небу густой пар, почти готовый суп. Рядом стояли баки с
пшенной кашей.
Скоро должна была начаться ночь... И тогда,—о, тогда
наелись бы вдоволь!
Но, хотя был вечер, было так же светло, как и в часы
работы, как в часы полудня, и хотя должна была начаться ночь, но
она не начиналась.
Но, несомненно, так думали мы, она сейчас начнется, и весело
шутили на пустой желудок.
Мы смеялись, подтрунивали, но ночь не начиналась.
Суп был готов, каша поспела, но ночь не начиналась.
Суп выкипал, и кашевар унял огонь; под баком с кашей тоже
залили топку водой: пошел густой, едкий дым, но ночь не
начиналась.
Самые набожные из нас окончили свою вечернюю молитву и
омовения. Прошло уже очень заметных два часа, но было так же
светло, как и в тот час, когда мы приступили к работе
О, мы были в первую ночь терпеливы!
Некоторые свалились в землянках и заснули, прося
бодрствующих товарищей разбудить их, когда начнется ночь.
К рассвету я забылся неспокойным, кратким сном, и мне
снилось...
— Но зачем тебе знать, что снилось мне?
Я сказал, что заснул на рассвете, но это — неправда, потому
что рассвета не было.
Был свет такой же мутномолочный, такой же сероватый, как
был днем.
Проснувшись, я увидел свет и решил, что проспал ночь, но
ночь не заметили и те, кто бодрствовал.
Уже трубила труба.
Голод одолевал нас.
Многих тошнило.
Затверделая каша, как вещественное напоминание о рае для
правоверных, стояла попрежнему неприкосновенной.
Пришел русский начальник, и нас погнали на работу.
Какая может быть работа на пустой желудок, спросишь ты,
но мы работали, потому что брат мой сказал, что аллах не послал
нам ночь за то, что днем мы трудились не в полную меру.
Но высокий Зелим и я не верили и почти не работали. К тому
же тошнота подступала к сердцу моему.
И русский начальник — техник, который прятался от войны на
работах в здешних промерзлых болотах, стал матерно ругаться и
объявил нам, что мы дураки и что такой нескончаемый день,
такой безобразный свет будет продолжаться больше месяца.
— И если вы, дикари, пищи принимать не будете, то скорее
подохнете, чем ночь увидите.
Зелим ему сразу поверил, а я и другая молодежь не сразу.
»· 451
Люди же постарше стали честить его разными словами, и
хорошо для него и для нас, что он не понимал по-узбекски.
Опять пришли мы к землянкам, опять нюхали с вожделением
пар супа и каши и опять ждали ночи. Один только сухопарый
Зелим тайком взял миску каши и, забившись в угол землянки,
тайком, украдкою стал уплетать. Но кто-то из старших заметил.
Зелима вытащили из землянки, избили, едва-едва не убили, и
никто не хотел принимать к себе в землянку нечистого.
Так пять дней жил он без крова. И медленно погибал от гнуса
и утренней росы.
Мы, верные, ждали конца испытания, мы молились горячо. Но
ночь не приходила.
Отчаявшись, мы спали.
Просыпались и засыпали вновь и вновь просыпались, но ночи
не было, был свет, и было холодно.
Опять пришел русский начальник, опять ругался и говорил,
что не мог предусмотреть аллах и пророк его Магомет всего, что
творится на земле, что его, начальника, из-за нас сгноят и что
ночи здесь бывают тоже по три месяца.
Но мы на работу не вышли и выйти не могли. Мы ослабели.
Опять подогревали кашу и суп, но несколько правоверных, во
избежание соблазна, опрокинули бак, вылили суп, а кашу
выбросили в ровики, выкопанные невдалеке от землянок для нужного
дела.
Молодежь начинала роптать и сомневаться, действительно ли
всемогущ аллах; действительно ли он все знает и все
предусмотрел, а если не предусмотрел, то не плохой ли он хозяин.
Бок-о-бок с нашей артелью работали финны.
Мы с ними объяснялись кое-как, большей частью руками. Они
чуть-чуть по-русски говорили, мы тоже знали по-русски несколько
слов.
Но все же и таким манером финны сумели объяснить мне и
другим тоже, что здесь солнце светит круглые сутки месяца три,
и так всегда испокон веков.
Мы перестали молиться и, голодая, сидели притихшие.
Ночь не наступала.
Русский начальник ругался и обещал нам, если мы не выйдем
на работу, сначала высечь, а потом в тюрьму.
Мы ждали ночи.
Некоторые не могли дождаться и, тайком, озираясь, чтобы
другие не видели, ходили к канавкам и выбирали там холодную
кашу. Но они или отравились, или с голоду съели так много, что
их стало корчить, а двое тут же скончались.
Закапывали умерших финны, потому что никто из наших не
хотел пачкать руки прикосновением к нечистым отступникам.
Но я не вытерпел голода и пошел, как будто для разговора,
к финнам и там у них тихо попросил немного супа, чтобы другие
не знали, и решил для начала есть немного.
Это уже кончалась третья ночь.
452
В землянке, куда привел меня финн, перед миской с супом
сидели уже трое наших и медленно ели. Тут же с ними
разговаривал фельдшер.
Мы пришли обратно в наши землянки.
В землянках некоторые бредили в полусне, остальные, почти
отчаявшись, ждали ночи. Но ночи не было.
Я затеял первый спор, страшный спор со старшим братом, —■
спор, который сделал уже навсегда нас врагами, который развел
нас разными дорогами до конца жизни нашей.
К тому часу, когда должно было бы начаться утро, вскочил
один из спавших и, громко будя спящих, тревожа бодрствующих,
закричал, что он видит: началась ночь, темная, настоящая ночь.
Он вертелся на одной ноге. Он кричал громко. Он плакал. Он
просил пилава, барашка и винограда.
Он сошел с ума.
Тут я встал, и два товарища мои встали рядом со мной, и я
объявил, что мы ели суп, что мы нарушили пост и все же стоим
перед всеми здоровые и что аллах, если он есть, не знает, что
делает.
Поднялся крик. Завязались горячие, горячечные споры.
Брат мой ударил меня заступом по голове, но, к счастью, он
был слишком слаб, и поэтому я сейчас иду по этой дороге в Ялгу-
бу и разговариваю с вами, товарищи.
В лазарете я узнал, что был бунт, что часть, примирясь, стала
есть, многие из нашей группы умерли, а самых упорных увезли
южнее. Работали мы на месте теперешнего Нивастроя.
Русского начальника за то, что он допустил такие волнения во
вверенных ему частях, отправили на фронт.
А те двое, что ели в землянке суп, как и я, теперь активисты-
антирелигиозники, ибо неисповедимы пути аллаха.
— А что же ты сейчас делаешь здесь, товарищ Илбаев?
— Я был воспитателем посланных на Беломорский канал
узбеков, таджиков, мусульманских кулаков и басмачей. Я вел среди
них разъяснительную работу, помогал им понять свое
преступление перед народом, учил их грамоте, организовывал рабочие
бригады, объяснял религию. О, многие из этих людей стали
басмачами только по своему круглому невежеству, по своей темноте.
Они не знали по-русски. И верили муллам и баям, а те
указывали им неверную мишень. Мы провели с ними большую работу.
Много преступников стало у нас честными людьми, настоящими
работниками. Они теперь горькими слезами обливаются, когда
вспоминают о своем диком прошлом. Мне пришлось одного
бывшего муллу срочно переслать в другое отделение, потому что,
когда мы открыли глаза на свет большевистской истины бедным
дехканам, пошедшим в басмачи ήο его призыву и настоянию, я не
мог гарантировать ему неприкосновенности.
Они работали в своей бригаде под красным знаменем, и
каждый мечтал о том, чтобы прикончить эту тлю аллаха.
В. ИЛЬЕНКОВ
Цена человека
На курсах марксизма шли приемные испытания.
В кабинет профессора русской истории вошел человек лет
тридцати пяти с курчавыми белокурыми волосами, в сапогах и
гимнастерке защитного цвета.
— Гринев, — назвался он, протягивая левую руку; правая
была засунута в карман.
— Садитесь, — сказал профессор, внимательно разглядывая
его близорукими глазами поверх очков. — Расскажите, что вам
известно о том времени, когда на Руси торговали людьми?
— Я хорошо помню это время, профессор, — улыбнулся
Гринев, облегченно вздыхая, как ученик на экзамене, которому
неожиданно задали легкий вопрос.
— Позвольте... Но вы же не можете этого
помнить?—удивился профессор, хмуря свои рысьи брови.
— Это было совсем недавно, — неуверенно возразил Гринев.—·
В девятнадцатом году...
Гринев вынул портсигар карельской березы и, зажав его в
коленях, достал папироску. Быстрым, привычным движением он
придавил ладонью спичечную коробку и зажег спичку.
Профессор взглянул на его неподвижную, как бы привязанную
правую руку и пододвинул пепельницу.
— Я командовал партизанским отрядом под Иркутском, —
начал Гринев, торопливо и жадно затягиваясь табачным дымом. —
Оружия у нас почти не было, если не считать нескольких
охотничьих дробовиков да двух-трех берданок...
Но мы умели обходиться и без оружия — спускали под откос
поезда. Нам помогали темные ночи и друг — тайга, которая
укрывала нас и кормила. Когда Колчака погнали на восток, мы
осмелели еще больше. Обосновавшись в одной деревушке возле
железной дороги, мы не давали покою белым и чехословакам,
панически отступавшим к Иркутску.
И вот однажды я получил сообщение, что колчаковцы увозят
с собой коммунистов, захваченных в плен и приговоренных к
смерти. Среди них находился один очень ответственный товарищ,
которого мне приказали освободить во что бы то ни стало. Но
захватить поезд и вступить в бой с хорошо вооруженной охраной
было безумием.
Мы ограничились тем, что основательно испортили полотно
железной дороги... Несколько поездов остановилось в ожидании,
пока саперы не исправят повреждение.
С горы, на которой стояла наша деревушка, мы видели эшелон
смерти, в котором везли наших обреченных товарищей. Но что мы
454
могли сделать? Я собрал свой отряд, чтобы в последний раз
обсудить создавшееся положение. Мне было тяжко одному
принимать ответственность за смерть десятков людей.
Партизаны угрюмо молчали. И вот в тот момент, когда
казалось, что никакого выхода нет, мы увидели всадника с белым
флажком, приближавшегося к нашей деревне. Навстречу ему
выехали два партизана. Один из них тотчас же вернулся и сказал,
что меня желает видеть какой-то иностранный офицер, чтобы
переговорить по важному делу.
Я вскочил на коня и поскакал. Мы встретились возле большой
сосны на пригорке. На заморенной кляче верхом сидел молодой
обрюзгший офицер в новенькой шинели и крагах. Он взял под
козырек и на ломаном русском языке назвался командиром эшелона
смерти.
ι — Я везу ваши коммуниста. Двенадцать люди. Я их могу
убить, могу пускать на свобода. Вы заплатить мне триста рубель,
и я могу отпускать коммуниста, — сказал он, уставившись на меня
водянистыми, рыбьими глазами. — Триста рубель золота.
Бумажки не беру. Через два часа давайте триста рубель золота и
получайте ваши коммуниста. Я буду здесь ожидаться.
Он говорил спокойно, равнодушно, как будто речь шла о
продаже коровы.
Желая себя гарантировать от обмана, я попросил список
коммунистов. Офицер достал из полевой сумки клочок бумаги. Среди
незнакомых мне фамилий я нашел ту, которая владела моим
мозгом несколько дней.
— Хорошо, — сказал я, стараясь не выдать своего волнения.—
Через два часа я привезу золото.
— Надо сверять время. Я люблю точно, — проговорил офицер,
вынимая часы. — Ни одна минута лишний. Сейчас десять часов.
Я мчался, нахлестывая лошадь нагайкой. Я ликовал — все
оказалось необыкновенно просто: уплатить триста рублей — и жизнь
двенадцати товарищей спасена.
— Срочно давайте золото, ребята! — крикнул я, влетая в
толпу партизан. — Только триста рублей!
— Держи, — сказал старик, протягивая мне серебряный рубль.
Другой высыпал мне в картуз горсть мелких серебряных монет.
Третий вывернул свой карман, из которого выпал медный пятак.
— Золото! Золото, товарищи! — торопил я, но, приглядевшись
к мрачным лицам партизан, понял, что этим людям легче с
голыми руками пойти в атаку под пулеметным огнем, чем собрать
триста рублей золотом.
Весельчак и плясун Ерошкин снял с руки тонкое колечко с
тусклым зеленым камушком и бросил его в картуз.
— Невеста при расставании подарила... Сказала: «Будешь
носить колечко — живой вернешься». Ну, чорт с ним! — махнул он
рукой и рассмеялся. — Бабские предрассудки!
Время шло, и я растерянно поглядывал на часы« Никогда в
жизни я не жаждал так золота, как в эти минуты,
455
— Поторговаться с ним, дьяволом, — может, сбавит цену? —
сказал Ерошкин, садясь на коня.
— Что будем делать? — спросил я, обращаясь к партизанам,
чувствуя полную беспомощность.
— В церкви пощупать надо, — предложил старик, отдавший
серебряный рубль. — На иконах непременно есть золото.
Я готов был расцеловать старика за находчивость. Привели
попа.
Он был в рваном рыжем подряснике и калошах на босу ногу.
Волосы его, заплетенные в косички, как у девицы, торчали
рожками из-под соломенной шляпы.
— Храм наш бедный, — плакался он, позвякивая ключами. —
Какое там золото! Медь позлащенная... фольга...
На нескольких иконах мы обнаружили ризы из белого металла
и сорвали их. В алтаре на престоле стояли две чаши, отливавшие
красноватым цветом червонного золота.
— Это не дам, — решительно заявил поп, прикрывая их
своими руками. — В них тело и кровь господа нашего...
— Кровь! Кровь!—закричал старик, хватая чаши. — А ежели
наших двенадцать товарищей расстреляют, это не кровь?!
— Кощунство! Святотатство! — хрипел поп, стараясь вырвать
чаши, но старик оказался сильнее.
— Тут на двести рублей потянет!—радостно воскликнул он,
со звоном постукивая чашу о чашу.
— Серебряные они... только позлащенные, — злорадно сказал
поп. — А если вам золота надо, — снизил он голос до шопота, —
то у Анисима есть золотые... Точно знаю. У церковного старосты.
В церковь ввалился Ерошкин.
— Не уступает чорт жадный! — проговорил он, отдуваясь. —
Триста рублей и ни копейки меньше.
Оставалось полчаса. Я приказал привести церковного старосту.
Ерошка вскинул на плечи дробовик и через пять минут привел
тощего старика с длинной жидкой бородкой.
— Нету у меня золота, —· буркнул он, не глядя на меня.
— Если через пять минут не принесешь золото, расстреляю,—
заявил я, вынимая наган.
— Стреляйте, а золота нету, — ответил Анисим, ощупывая
рукой грудь.
Секундная стрелка описала последний круг.
— Принесешь?
Анисим молчал, продолжая ощупывать рукой грудь возле
сердца...
Ерошкин закладывал патрон, уговаривая попа:
— Ты чужие деньги хорош считать, а свои не показал? Неси
золотые, а то сейчас кончим... Я кольцо отдал? Отдал. Может,
мне через это не жить больше...
Шлепая калошами, поп повел нас в сад.
— Вот тут... под третьей яблоней... — бормотал он, становясь
на колени и дрожащими руками разгребая рыхлую землю.
456
В корнях дерева блеснула жестянка из-под килек, — в ней
лежали десять золотых, завернутых в тряпочку.
Ровно в двенадцать я подскакал к сосне с мешком, в котором
гремели церковные чаши, мои серебряные часы, коробка из-под
килек, царский рубль, кольцо Ерошкина и прозеленевшие медяки.
— Получайте, — сказал я, высыпая на землю содержимое
мешка.
— Большевики точны. Это бьет Колчака, — ответил офицер,
не спеша разглядывая чаши. — Это беру. А это не надо, —
брезгливо отбросил он кольцо Ерошкина. — Медь. Икона зря
портили, латунь, — тоном знатока определил он, царапая по металлу
эфесом шашки. — Двести пятьдесят рубель золота. Мало.
— Больше у нас нет, — сказал я, с трудом преодолевая острое
желание вцепиться руками в тонкое, с выдавшимся кадыком
горло.
Офицер сложил в мешок вещи, спрятал в карман золотые и,
трогая поводья, впервые улыбнулся, видимо очень довольный
сделкой.
— Лучше воробей в руки, чем лебедь на небе. До свидания!
Через полчаса от эшелона отделилась группа в двенадцать
человек и направилась к нам. Мы побежали навстречу...
— Кольцо-то мое не взял, — радовался Ерошкин, надевая на
палец подарок своей невесты. — Стало быть, долго жить буду!
...— А как фамилия того ответственного товарища, которого
вы освободили... то-есть купили? — спросил профессор, в волнении
кусая седой жесткий ус.
— Не помню, — ответил, подумав, Гринев. — Я его потом на
встречал...
Профессор встал и, порывисто протянув руку, тихо сказал:
— Ну вот и встретились.
Емелька
Емелька сидел на пороге церковной сторожки и уныло смотрел
на безлюдную дорогу. Костлявый, сгорбленный, с лицом,
заросшим серой щетиной, он был похож на покосившийся, обомшелый
крест, стоявший возле церкви на безымянной могиле.
Было тихо, тонкий меланхолический свист стрижей,
кружившихся над облезлой церковью, не только не нарушал вечерней
тишины, но сильнее сгущал ее.
Емелька думал о том, что ему уже шестьдесят лет, что
сторожка совсем сгнила и зимовать в ней никак невозможно, что в
церковь ходят только горбатые, слепые, глухие, что и попы
пошли какие-то несуразные — без всякого образования, службу
справляют без благолепия, торопко, путают акафисты и возгласы.
«Такому и прислуживать-то противно. Фальшивые попы, —
457
удрученно думал Емелька. — Антиминус до чего довели, хуже
моей портянки... Крыша прохудилась. В непогодь дождь прямо на
престол хлещет...»
Три года назад с карниза церкви свалился каменный апостол
да так и остался лежать на земле, раскинув руки, — в позе
безмерно уставшего человека.
Емелька видел, что мир, который он охранял тридцать два
года, рушится неотвратимо, но ничего не мог придумать для его
спасения, и от этих бесполезных дум и гнетущей тишины ему
становилось еще тоскливей.
Тень от церкви покрыла кладбище, пересекла развалившуюся
каменную ограду и острым концом уперлась в кучу щебня,
оставшегося от часовни. Емелька оживился, увидев человека в розовой
рубахе, который шел по дороге, пошатываясь, рассуждая сам с
собой. Это был низенький краснощекий старичок с веселыми
глазками — Каллистрат из колхоза «Красная Поляна».
Старичок, поровнявшись со сторожкой, остановился и, заметив
Емельку, удивленно спросил:
— Жив еще? Все стерегешь?
— Стерегу, — хмуро ответил Емелька, испытывая зависть к
моложавому старичку.
— Стереги, правильно. А то какой смелый украдет.
— Чего украдет?
— Бога. — Старичок рассмеялся, и все лицо его покрыли
морщины, придав ему выражение плутоватости и озорства. — Возьмет
твоего бога подмышку, обменяет на литру, и выкомаривай!
— Не украдет, — сказал Емелька, подозрительно вглядываясь
в Каллистрата.
— Украдет, — уверенно повторил старичок и опять рассмеялся.
— Не допустит бог-то... Он, брат, все видит, бог-то... Его не
украдешь.
— А не допустит, так нечего его и стеречь. Раз он — бог,
стало быть, и с ворами управляйся сам. А ежели не можешь,
какой же ты после этого бог? — Старичок затрясся от смеха,
закашлялся и присел рядом с Емелькой, обдав его запахом водки
и лука.
— Озоруешь ты. Придется помирать, другое брат запоешь про
бога-то, — строго сказал Емелька.
— Я не скоро помру. Мне сейчас помирать никак нельзя, —
деловито заговорил Каллистрат: — Некогда... Делов у меня во! —
Он провел ребром ладони по горлу. — И здоровьишко ничего... Не
жалуюсь. А ты вот вовсе оплошал, Емелька. И чего тут ты
сидишь, пустое место стерегешь?
— Как... пустое?
— А так. Бога никакого нету. Одно твое помрачение ума. Фик
один!—Старичок засмеялся, и от этого смеха, тоненького,
сиплого, Емельке стало холодно.
— Выпил и болтаешь, — сказал он, отодвигаясь и зябко
передернув плечами.
458
— А почему мне не выпить, ежели есть причина? Я у дочки в
гостях был... На крестинах, как говорится... Афродитой назвали.
— Вовсе ты пьян, Афросиньей! — поправил Емелька.
— Ты меня не путай. Все помню, что к чему. Аф-ро-ди-та!
— Нету таких святых.
— Нет, и не надо, — беспечно сказал Каллистрат и встал,
поглаживая тугой живот, перетянутый новеньким ремешком с
никелированной пряжкой. — Две чашки студню съел. Пойду.
Старичок пошел, сильно наклонясь вперед, точно кто-то
невидимый толкал его в спину. Отойдя немного, он остановился и,
обернувшись, озорно крикнул:
— Аф-ро-ди-та! Выкомаривай!
Емелька смотрел ему вслед с завистью и тоской. У него не
было ни семьи, ни родных. Жена попалась неродящая, а потом
вдруг в сорок пять лет забеременела и умерла вместе с ребенком.
Так и прошла вся его жизнь в одиночестве, среди кладбищенской
тишины. Никто не звал его в гости, — он даже забыл вкус
водки. Он утешал себя надеждой на щедрую награду, которая
ожидает его в царстве небесном, в раю, и рай этот представлялся ему
в виде жарко натопленной избы, посреди которой стоит стол,
уставленный блюдами с пшеничными пирогами, чашками со
студнем, а над столом возвышается неугасимый самовар...
...Емелька вдруг почувствовал, что в нем как будто оборвалась
та тонкая ниточка, которая еще связывала его с этой облупленной
церковью и с тропинкой, протоптанной его ногами за десятки лет.
Вспомнив, что нужно закрыть двери, которые он распахнул
еще утром, чтобы проветрить церковь, Емелька встал и поплелся,
волоча разбитые ревматизмом ноги. Он увидел белевшего в траве
апостола и вдруг подумал, что и сам он вот так же будет скоро
лежать — недвижимый, никому не нужный.
Емелька вздрогнул и торопливо пошел к селу, спотыкаясь о
бугорки могил. От села доносились звуки гармошки, рев скота,
возвращавшегося с поля, звонкие детские голоса. На улице было
людно и весело. Из открытых окон чайной вылетал металлический
смех патефона. Емелька постоял, послушал и нерешительно вошел
в чайную.
За столиками сидели знакомые колхозники, пили чай, пиво,
разговаривали громко, смеялись. Емелька робко потоптался у
порога и присел к столику.
— Вам чего, гражданин? — спросила буфетчица: — Чаю или
пива?
Емелька растерянно посмотрел на нее, вспомнил, что у него за
пазухой лежит единственная трехрублевая бумажка, вынул ее,
повертел в руках и неожиданно для себя громко сказал:
— Пива!
Выпив стакан, он лихо пристукнул донышком о стол, крякнул
и оглянулся, но никто не обращал на него никакого внимания·
Председатель колхоза Букашкин что-то объяснял Незнакомому че·
ловеку в очках:
459
— Все обыскали, все поля, кусты... Пропал, чорт!
— Не могли привязать покрепче,— недовольно пробурчал
человек в очках.
— Не в клетку же сажать дьявола! Железную чепь порвал,—
оправдывался председатель, огорченно разводя руками.
Из дальнейшего разговора Емелька понял, что колхозный бык
«Гром» в тот момент, когда ветеринар собирался обрезать ему
копыта, сорвался с привязи и убежал в лес.
Емелька выпил всю бутылку. Ему было обидно, что никто его
не замечает.
— Давай другую! — крикнул он, заглушая голоса и ударяя
стаканом по бутылке.
— Чего раззвонился? Празднуешь Пимена-гулимена, лентяя
преподобного? — с презрительной усмешкой спросил Букашкин.
Все с удивлением смотрели на Емельку, а он довольный, что
наконец-то на него обратили внимание, заговорил о своей
жизни, — о том, как тридцать два года он сторожил церковь, звонил
по ночам, оберегал бога от воров, и воры ни разу не осмелились
даже близко подойти к церкви. Но люди уже не слушали его, они
толковали о своих делах — об урожае, о погоде, о пропавшем
быке, и Емелька обиженно умолк. Он подумал, что бык для
людей дороже, чем он, Емелька, церковный сторож. Умри он завтра,
и никто даже не спросит: «А куда девался Емелька?».
Он как бы увидел себя со стороны — обтрепанного, тощего,
всеми презираемого, — и слезы полились из глаз. Он размазывал
их ладонью по лицу, всхлипывал и бормотал о том, что уже два
года не пил чаю, а питается одним сухим хлебом, что скоро в
сторожке обвалится потолок... Потом ему вдруг представилось, что
веселый старичок вовсе не ' Каллистрат из колхоза «Красная
Поляна», а дьявол, который унес с собой последнее, чем держался
он, Емелька, в своей угасающей жизни, — надежду на
вознаграждение от бога на том свете.
— Врешь... не пустое! — закричал он, стуча по столу.
— Гражданин, не кричи. Здесь шуметь нельзя, — сказала
буфетчица.
Емелька схватил ее за руку, удерживая возле себя, — ему
хотелось сказать ей все, что накипело в душе.
— Ты можешь меня понимать? Поясни мне мое положение...
— Гражданин, ежели мне каждому объяснять, то я
проторгуюсь. Иди на свежий воздух, просвежись.
Но Емельке не хотелось уходить в темень, на кладбище, он
продолжал сидеть, разговаривая сам с собой:
— Ладно, рассудим... Звонил Емелька? Звонил! А ты,
товарищ Букашкин, не ходил на мой звон... молиться? Ходил...
молился, детей крестил... Стало быть, и ты поклонялся пустому месту?
Все ходили... к пустому месту... А я теперь при чем? Был бог —
нету бога... Один пшик остался!
Он вышел из чайной последним. Было уже заполночь.
Емелька брел по темной улице, говоря:
460
— Спите? А до Емельки вам дела нет? Так... Хорошо... Вы в
рай попали, а Емельке куда деваться? Ку-да?
Потом он остановился и запел:
Ве-еч-на-яа... па-мя-а-ать...
Ве-еч-на-я-а-а... па-а-а...
Ему показалось, что это поют ему вечную память, а он — в
гробу, лежит, как тот апостол, окаменевший, холодный. Емелька
испуганно оглянулся. Где-то за околицей пели парни и девушки,
жалобно взвизгивала гармошка. Емелька пошел на этот звук.
Его узнали:
— Братцы, Емелька!
— Емелька, спляши!
Емельку окружили, захлопали в ладоши, засвистали. Емельке
было приятно, что им интересуются. Он заломил на затылок
шапчонку и начал топтаться на одном месте, нелепо размахивая
руками и выворачивая ноги.
— Выкомаривай! — лихо выкрикнул он, ударяя разбитыми
лаптями в землю.
Быстро рассветало. Емелька метался в сером полумраке,
костлявый, лохматый, и кто-то с жалостью сказал:
— Будет вам потешаться.
Гармошка умолкла. Провожаемый молчанием, Емелька побрел
к сторожке. Увидев издали церковь, Емелька вспомнил, что двери
так и остались раскрытыми на всю ночь. Это случилось первый
раз за тридцать два года.
«Все через этого Каллистрата вышло», — подумал он,
приближаясь к двери, и тут услышал чье-то шумное дыхание и стук
внутри церкви.
— Воры! — мелькнуло подозрение, и Емелька, окончательно
протрезвев, схватил лом и ринулся в церковь с криком:
— Стой! Кто тут?!
Что-то огромное с ревом вынеслось из церкви, сшибло Емельку
с ног, и он, ударившись головой о приступку, потерял сознание.
Очнувшись, Емелька увидел пегого быка, — «Гром» стоял на
могиле, как памятник, и жевал антиминс.
— Тпррусь! Антиминус сожрал! Тпррусь!.. — заорал Емелька,
бросаясь с ломом к быку, но «Гром», выплюнув тряпку, круто
повернулся и, наклонив голову, пошел на него с грозным
мычанием.
Емелька отскочил за памятник из серого гранита. Бык,
недоумевая, куда мог исчезнуть Емелька, постоял, победно ударяя себя
хвостом по бокам, и вдруг увидел апостола, лежавшего в траве.
Нагнув голову к земле, широко расставив задние ноги, с могучим
ревом бык ударил рогами апостола и покачнулся от боли. Пена
хлопьями падала с его губ. Он посмотрел на апостола осоловелыми,
налитыми кровью глазами, помотал головой, как бы проверяя,
цела ли она, и медленно пошел к саду.
Емелька поднял изжеванную тряпку, покачал головой и, потря-
461
сенный бессилием бога, который не мог отстоять себя перед
быком, швырнул антиминс на землю.
Повесив на церковные двери замок, Емелька пошел к Букаш-
кину.
— Отзвонил я. Дай мне работу, — сказал он, протягивая
ключи.
— Чего же мне с тобой делать? — озадаченно спросил Бу-
кашкин. Емелька стоял перед ним, виновато опустив голову, как
подсудимый.
— Элемент ты для нас, прямо скажу, затруднительный... —
рассуждал про себя Букашкин. — К амбарам тебя нешто
поставить?
— Все, что велишь, буду делать. Только не гони, — тихо
проговорил Емелька.
— Нет, — нельзя, — решительно сказал Букашкин. — Хлеб —
дело сурьезное. Хлеб — это не бога стеречь. Тут,, брат, уши
востро надо держать... На скотный двор тебя нешто поставить? Но
только гляди в оба, — один бык стоит три тысячи.
...В эту ночь Емелька ходил с берданкой вокруг скотного двора
и при каждом малейшем шорохе панически кричал:
— Кто тут?
За стеной коровника звенели цепи и грозно посапывал «Гром».
Емелька с любопытством заглядывал в щель и видел освещенную
фонарем огромную лобастую башку с короткими, широко
расставленными рогами.
«Три тысячи стоит», — думал Емелька, гордясь, что ему
доверили сторожить такое богатство.
Мысль о том, что ему не придется этой зимой мерзнуть в
сторожке, навевала спокойствие и дремоту. Но Емелька вскакивал и
напряженно вглядывался в темноту слезящимися глазами.
А. РАКИТНИКОВ
Раввины
(Отрывок)
Рабби Ильягу молится. Его голос то взлетает ввысь, выше
гор Синая, то гулко ныряет на дно сырого колодца, то мелко,
мелко дребезжит горной реченкой, набухшей от дождей и оголтело
несущейся по сухому дну. Его борода черна и поднята кверху как
знамя. Его смуглые ладони плавно ныряют в бороду, сползают к
острому желтому кадыку, бессильно как плети опускаются на
амвон, Со стороны поглядеть: он крепок как скала, он преиспол-
462
ней веры, он полон гордости. И никто из молящихся никогда не
поверит, что еще вчера рабби Ильягу, как ему казалось — тайно,
прошмыгнул к бывшему рабби Азарья и вел с ним странную
беседу.
Четыре месяца тому назад рабби Ильягу не узнал на улице
Азарью и, отвернувшись, стоял лицом к стене дома, пока не
убедился, что между ним и спиной Азарьи легли добрых пять
саженей. Он не хотел встречаться даже взглядами с человеком, так
легкомысленно отказавшимся от святой торы.
Рабби Ильягу был у Азарьи и просил у него прощения.
— Дорогой Азарья, — сказал он, — я был неправ, когда
отвернулся от вас к стене, дважды был неправ, когда говорил
глупому Нашхуну, что вас следовало бы побить камнями. Я пришел
к вам за советом. Вы теперь чулочник, а я когда-то был
жестянщиком. Ах, мои чайники и кружки. Они славились везде и всюду,
они находили легкий сбыт и в Нугди, и в Аглаби, и даже в Мам-
раче и Ашаг-араке. Но я захотел больше чурека, больше мяса,
больше вина, захотел легче жить; я учился и стал, наконец,
рабби. Но я вижу — нашему ремеслу приходит конец.
— Почему нашему?—сказал Азарья, не удержавшись от того,
чтобы не уколоть рабби Ильягу. — Нашему чулочному ремеслу
предстоит расцвет. Пока у людей будут ноги м они будут ходить
и потеть, наши носки будут расходиться в тысячах штук.
— Я хорошо это знаю, — пробормотал Ильягу, — мои
чайники и кружки тоже расходились в тысячах.
— Да, вашему плутовству приходит конец, — сказал Азарья,
поглаживая свою каштановую бороду. — Народ изменился
отчаянно и нет уже того простодушия и той веры, которая так плотно
и хорошо кормила некогда нас с вами, рабби Ильягу.
— Вот именно плотно, — вздохнул Ильягу.
— Вы помните веселого жизнерадостного раввина Пинхаса из
Мюшкюра. Однажды он зарезал доброго буйвола. У него были
гости и он захотел их угостить кусочком свежей печенки. Затем
он вздумал угостить их и легкими, которые в хорошем соусе тают
во рту, как сахар. Да и он сам был непрочь ими полакомиться.
Это был веселый, прожорливый рабби, не такой как мы с вами.
И вот все гости поели и не могли нахвалиться легкими и
печенкой. Но пришли мюшкюрцы за буйволом. Рабби Пинхас отделил
положенную себе часть, остальное вручил мюшкюрцам. «Рабби,—
сказали они, — ты очевидно забыл положить печенку, легкое и
сердце». — Я забыл сказать: рабби Пинхас отложил для себя еще
сердце: на утро. Завернутое в бумагу, оно лежало у него тут же
на окне. — Нет, сказал рабби Пинхас, я не забыл, я хорошо
помню, что у буйвола должны быть сердце, печенка и легкие, но,
клянусь богом, этот прекрасный буйвол, прекрасное мясо которого
вы видите, оказался без печенки, легких и сердца. То-есть, нечто
похожее на эти части тела у него было, но все они были в таком
виде, что я выбросил их как негодные, как греховные. Если вы не
верите, загляните в талмуд, там вы найдете мудрые слова о по-
463
добных редких, но печальных случаях. — И что же вы думаете,
рабби Ильягу? Мюшкюрцы поверили и, ни слова не говоря,
унесли своего буйвола. Вот такая простота могла накормить. Где она
теперь?
— Вы шутник, — серьезно сказал Ильягу.
— А вера? Я вспоминаю теперь того же симпатичного,
веселого Пинхаса. Он жил в Мюшкюре припеваючи. Но жил один,
без семьи. И вот слабая плоть разыгралась. Тут же рядом, через
дом, жила перезрелая вдова. И наш рабби Пинхас, плохо
сдерживаемый рамками ученья, забыв свой сан и положение, согрешил со
вдовой. Бедняга Пинхас. Он когда молился, то любил затягивать
моленье. Когда обрезал, страшно медлил и раздумывал. На
свадьбах так тянул венчанье, что на него покрикивали. Вообще, если
он что-либо начинал, то с трудом мог бросить и перейти к
другому делу. И вот он затянул свою любовь с вдовой, пока она не
забеременела.
Ильягу рассмеялся, потом насупился и не хотел слушать.
— Слушайте, Азарья, с тех пор как вы стали чулочником, вы
стали любить веселые истории. Но мне не весело, я пришел к вам
за советом.
— Я должен окончить рассказ, — твердо возразил Азарья, —
сегодня я весь день чертовски работал, и я едва ли вам дам
хороший, обдуманный, нужный совет. Но мои истории дадут вам
возможность понять настоящее ваше положение, дорсгой рабби
Ильягу.
И Азарья продолжал:
— Когда об этом узнали мюшкюрцы. они, без оглядки и без
раздумья, выбросили на свалку все клсо: курятину, баранину,
буйволятину, все то, что было зарезано руками рабби Пинхаса и
еще не было съедено. Они с проклятиями выбросили вон всю
свою посуду, котлы, миски, загрязненные скотом и птицей,
павшими от нечистых, греховодных рук рабби Пинхаса. И самого
бедного Пинхаса, конечно, с позором прогнали. Вот она вера, которая
плотно и хорошо нас кормила! А попробуйте теперь у них быть
раввином и согрешить со вдовой. Может быть они вас выгонят,
но, даю вам честное слово, съедят все мясо и всю птицу и не
разобьют и не выбросят ни одной посудины. Вы поняли меня,
рабби Ильягу?
Ильягу почесал затылок, вскинул густые брови и кисло
скривил губы.
— Вы хотите сказать, Азарья, что наше ремесло зашло в
тупик, но я это знаю без ваших историй. Я вижу это по моей
синагоге. Мои прихожане с каждым днем платят меньше и меньше,
даже за свадьбы. Но я хочу получить от вас совет, что мне
делать.
— Рабби Ильягу, я могу вам дать один совет: начните делать
ваши замечательные чайники, кружки. И будьте вы счастливы, и
да будут счастливы ваши дети. Я не злопамятен, я забыл, как вы
повернулись ко мне спиной, я забыл, как вы ругали меня.
464
— Я ходил в артель, т. е. не я. Я послал одного знакомого
узнать, как поступают они, если к ним приходят бывшие раввины.
И там моему знакомому ответили, что у них в артели пока
бывших раввинов нет и они надеются — не будет.
Азарья подумал и сказал.
— Нужно было в прошлом году начать делать чайники и
кружки, теперь, очевидно, вы запоздали.
— Я скоро буду молиться и петь среди четырех пустых стен.
— И все же я советую вам бросить плутовство. Делайте
чайники, кружки, сами продавайте их, сами, или пусть ваши дети
продают на базарчике.
— Спасибо за совет, — сказал Ильягу, — дай вам бог
здоровья, вашей жене, детям. Я лодумаю.
— Зайдите через недельку, — участливо сказал Азарья, — я
разведаю, может быть удастся что-нибудь сделать.
ДАВ. ХАИТ
Освобождение Берла Евелева
I
Вечером, когда на биробиджанском небе зажглись звезды,
крупные как фонари, в дом Горфинкеля зашел колхозник Берл
Евелев. Семья собралась вокруг стола, взволнованная неведомой
радостью. Гордость сверкала на лицах, острый блеск светился
в глазах, и Евелев, мучительно напрягая память, недоумевал: что
случилось? Он начал высчитывать по пальцам полнолуния, дни
и месяцы, но до праздника было далеко, и лишь позже он узнал
причину семейного торжества Горфинкелей: опоросилась свинья!
В дом входили соседи, весело изумлялись, окружали
счастливцев, хлопали по рукам, расспрашивали:
— Какой приплод?
— Корм?
— Здоровье?
— Это та-акие поросята! — восклицал сквозь шум Горфин-
кель. — Это такие поросята! Вырастут — ско-олько сала! Мяса!
Каждый может... Каждый! Эти трефные свиньи, оказывается, очень
вкусные. Зачем мы боялись их всю жизнь?
Евелев подошел к изгороди и заглянул в закуту, где нежноро-
зовые, крохотные поросята впились в набухшие сосцы матки. Она
лежала на соломе, счастливо закрыв глаза. Брезгливость,
смешанная со страхом, отпечаталась на лице Евелева. Люди едят свинину?
30-23 465
Это было грешно и противно. В колхозе строилась свиноводческая
ферма, но — есть свинину? Это казалось невозможным, ибо
помнил Берл Евелев: свинья — нечистое животное! Закон повелевает
есть только «кошерное» мясо. Ощущение брезгливости росло, и
казалось уже Евелеву, что запачкалась его душа и он погружается
в большую яму. Он не посмел возразить: это были колхозные
свиньи. И вместе с брезгливостью откуда-то из души поднималась
смутная, несознательная еще гордость: первый колхозный
приплод! Надо было радоваться, но мешал стыд, вековечный стыд
перед «хазером», нечистым мясом. Евелев пронес этот стыд через
детство свое, через жизнь, строго рассчитанную на милость Адо-
ная. Богу не угодна была свинья...
— Грех!.. — шептал Евелев, стоя у закуты. — Хороший
приплод! — Неожиданно восклицал он. — Каждый может...
И так, переполненный брезгливостью и гордостью, он вышел
из дома Горфинкелей. Он шел по шоссе долго и, когда
остановился далеко у леса и посмотрел на крайнее окно, понял, куда
пришел. Здесь жил бердичевский резник Аврум-Зхарья. Рыжие
пейсы курчавились на его щеках. Одеяло, наброшенное на плечи,
как талес, пестрело лоскутьями. В доме было холодно и грязно.
Резник лежал на скамье, в ермолке и рубище, прикрывавшем его
тело. Губы его дрожали от озноба и молитвы.
— За дровами! — сказал ему Евелев. — Вы не выходите на
вывозку. Мне непонятна эта лень.
— А валенки? — спросил резник и указал на ноги, укутанные
в тряпки. — А тулуп? — спросил он, указывая на лохмотья. —
Я — голый и босой. Куда я пойду в такой мороз?
— Колхоз вам не выдал?
— Выдал.
— Где же валенки и тулуп?
— Вы спрашиваете про вчерашний день! — проговорил Аврум-
Зхарья. — Мой тулуп давно износился. Смотрите, я прикрываюсь
одеялом... Мне холодно.
— Дрова — в двух шагах, а вы мерзнете! — зло воскликнул
Евелев. — Ка-акая лень! Вы сразу срываете два плана:
колхозный и лично ваш. Если вы откажетесь выйти на вывозку, я
подойду сейчас к вашему сундуку!
Услышав это, Аврум-Зхарья быстро пересел с койки на
сундук. Он испуганно замолчал, придавливая огромным телом сундук,
в котором лежало множество новой одежды, выданной Озетом.
Аврум Эдорья часто ездил «по тайге. В каждом новом месте он
получал обмундировку и прятал ее, собираясь вернуться домой,
в Бердичев. И хотя в колхозе знали о замечательном его сундуке,
он выходил на шоссе укутанный в одеяло. Вечером его пугались
лошади и дети.
— Слезайте с вашего комода! — сказал ему Евелев. — Там
поместится весь Озет. Люди работают, а вы копите себе
приданое. Вы, извините, первосортный лентяй. Остается только спросить;
вачем вы приехали?
466
— Как зачем? — удивленно спросил Аврум-Зхарья,
выкатывая мутные глаза. От изумления он забарабанил ногами, накрутил
на палец пейсы. Вдруг в лице его, просветлевшем от улыбки,
появилось злорадство. — Это спрашиваете вы? Вы спрашиваете:
зачем я приехал? Действительно, евреи сделались безбожниками,
они едят свинину, но вы... что вы будете делать без меня?
— Я?.. — спросил Евелев, и голос его осекся, и руки
задрожали.
— Именно ваша личность! — продолжал Аврум-Зхарья,
улыбаясь во весь рот. — Именно Берл Евелев. Кто режет вам мясо?
Кто выпускает из коровы нечистую кровь? Кто делает вам кошер?
Или вы тоже начали есть свинью?
— Нет... — прошептал Евелев.
— Так почему же вы меня смешите?—выкрикнул Аврум-
Зхарья.
— Я лентяй? Я?.. Хорошенькое слово вы придумали в
благодарность. Это я слышу спасибо за спасение вашей души. Бог вам
ответит за меня.
— Бог? — спросил Евелев.
— Бог.
И снова Евелев ощутил брезгливость, и, когда подошла она
камнем к горлу, он понял, тошнота теперь поднималась не от
страха перед свиньей, а от человека, пугавшего его свиньей. Этот
лентяй, живший в колхозе, угрожал ему богом... Все помутилось
перед Евелевым. Он присел на табурет, тотчас же поднялся,
забегал большими шагами, искоса поглядывая на резника. Тот все
еще сидел на сундуке. Тьма, сгустившаяся у окна, на минуту
показалась рыжей, как борода Аврум-Зхарьи.
— Хорошо... — прошептал Евелев и продолжал, повышая голос
с каждым словом. — Но вы не выходите на вывозку дров! За
вами нет ни одного кубометра! Вы срываете план! Я отвечаю,
как бригадир. — Он поднял высоко табурет, опустил его и
сказал: — Ну, что мне делать с таким лентяем?
— А кошер? — ехидно спросил его Аврум-Зхарья.
И тогда Евелев приблизился к нему и крикнул:
— Дармоед!
— Что-о-о? — испуганно проговорил резник.
— Дармоед!— повторил Евелев, оглушенный звоном в ушах.—
Такого — вон из колхоза! Вон! Как паршивую овцу... С пустым
сундуком. На все четыре стороны. Вот такого типа называл я
святым? — спросил Евелев самого себя и, подойдя к сундуку, на
котором попрежнему сидел Аврум-Зхарья, сказал: — Я не желаю
есть кошер из рук, которые не срубили ни одного полена для
колхоза! Из нечистых рук!
— Что это значит? — недоуменно проговорил резник. — Что
это все вместе взятое значит? Как же вы... без меня?..
— Я отказываюсь кушать кошер! — сказал Евелев, выходя sa
дверь.
80·
467
//
Дома Евелев остановился перед заветным мешком. В нем
хранились молитвенные вещи, которые он надевал на себя утром
и вечером — талес и тфилн. В мешке лежал и предмет,
оберегаемый свято Есть нерушимый закон: когда горит синагога, спасают
прежде всего этот предмет. Когда сгорает он, пепел его хоронят
в гробу, как человека, и мальчики в черных крылатках, провожая
его на кладбище, поют «Эль:Мулей-Рахамим», надгробную
молитву. Местечковые старики из синагоги, превращенной в клуб,
поручили Евелеву хранить этот предмет в тайге. Он пронес его через
горы и реки и сейчас, оглядываясь по сторонам, извлек из мешка
святой предмет, навернутый на две палки и покрытый бархатным
чехлом: святая тора.
Он развернул талес и сказал ему, точно было это живое
существо:
— Я вознесусь с тобой к богу! Чей бог? — спросил он себя
и тотчас же нашел ответ, поразивший его: — Бердичевского
лентяя!..
Он свернул талес и отнес его соседу, древнему старику. Тот
днем и ночью стоял у окна и молился, жалуясь Адонаю на
несбывшиеся в тайге мечты, на одинокую жизнь, на людей,
потерявших в пути его багаж, в котором лежало и священное покрывало.
Он жадно схватил талес Евелева, покрыл им спину и руки,
поклонился в пояс благодетелю и тотчас же начал молиться на восток.
Евелев решил отдать ему и тфилн, но передумал, ибо предмет
этот был кожаный: из него можно сделать каблуки. И он понес
тфилн в сельсовет. Это был второй еврейский сельсовет в таежной
области. Председатель Золотницкий, десятник по заготовке леса,
разглядывал цифры, волновавшие его: вокруг было вырублено
уже семь тысяч кубометров леса, строятся новые дома для
переселенцев с семьями, лес отошел к западу, взорванный динамитом,
и каждый день нарезались новые участки. За шоссе, в пустом
поле строился свинарник. Рядом разместилась пасека. Среди
переселенцев нашлись пчеловоды. Над ульями летали яркозеленые
от солнечного блеска пчелы. Вокруг менялся пейзаж.
Евелев подошел к столу и положил малиновый мешочек, в
котором лежал тфилн. Он положил малиновый мешочек и сказал:
— Сдайте в сапожную мастерскую, на каблуки!..
Золотницкий спросил удивленно, указывая на тфилн:
— Вы это серьезно?
— Серьезно! — ответил Евелев.
Глаза председателя засверкали. Он поднял высоко над столом
молитвенную вещь и сказал торжествующе людям, окружавшим
его стол:
— Смотрите!..
Но никого не удивило святотатство Евелева. И лишь один из
колхозников, протягивая руку к столу, проговорил:
— Из этого бархата выйдет хорошенькая шляпка для моей
Геси!
468
Когда комната опустела, Евелев близко подошел к Золотниц-
кому и сказал ему печально и торжественно:
— Из этого резника никогда не выйдет (колхозника. Дважды два.
— Что вы хотите сказать?
— Я уже сказал
— А именно?
— Выгнать Аврум-Зхарью из колхоза!
///
Вскоре Евелев поехал в Биробиджан за семенами для колхоз-
наго сада. Уезжая, он бросил в телегу мешок, в котором осталась
тора, нахлобучил на уши шапку, остановился перед свитком и
сказал ему, как говорят человеку:
— Тебе же будет холодно...
Он набросил на мешок тулул, оглянулся по сторонам и
проговорил:
— Ты одета в теплый бархат! Сверкаешь короной! Куда же
я запрячу тебя? Горе мое. Горе! — воскликнул он и, тронув
лошадь, пошел за торой, как за гробом.
Он решил сдать священный свиток в Биробиджане в руки
какого-нибудь старика. Пусть хранит он божественную вещь!
Евелев замахал на лошадь руками, гикнул, заторопился. Короткая
дорога тянулась долго, через бугры и ямы. Лошадь то спускалась
вниз, то поднималась на косогоры, трудно переступая
залепленными грязью ногами. В стороне от проселка дымилась протаявшая
земля. На двенадцатом километре тронулась река.
Он совсем не узнавал Биробиджана. Пустыри, заваленные
бревнами, превращались в улицы, на берегу, где недавно стояли
землянки и палатки, вырастали здания из желтого теса, всюду
торчали стены с прорезями окон, сквозь которые рыжела
прошлогодняя трава, над дорогами летела кирпичная пыль, откуда-то
ехали грузовики, медленно разворачивавшиеся в тесноте построек.
Желтые пятна домов запестрели и высоко на сопке, и далеко за
берегом, и около оврагов, где перекрещивались улицы, опутанные
столбами, проволокой, деревянными тротуарами.
— Биробиджан! — восклицал Евелев, подъезжая к площади,
и показалось ему, что приехал он в большой город, и даже
растерялся он в коридорах двухэтажного дома, в котором помещалось
Облзу.
На складе давно лежал мешок с семенами, прибывший с
горнотаежной станции в адрес колхоза. Евелев взвалил этот мешок на
плечи и тотчас же решил вернуться домой, но вспомнил, что в
телеге лежал другой мешок...
— Ну, куда я тебя запрячу? — растерянно спросил он и вдруг
поднял руки к небу и зло закричал: — Хвороба моя!..
Не отвязывая лошадь от столба, он пошел по городу искать
древних стариков, но еще больше озлился, потому что не нашел
в этом месте старцев, а те, которые были помоложе, удивленно
взглядывали на него, и каждый заговорил о нем в третьем лице:
469
— Он предлагает мне тору!.. Ко-ому это нужно? Он сорвался
с того света.
— Пусть не смешит меня этот еврей!
— Пусть он вернет ее туда, где взял!
— Сейчас! — иронически отвечал им Евелев. — Сейчас я
возьму плацкарту в местечко и немедленно поеду с этой коронованной
особой. Может быть, взять международный вагон? Сейчас я увезу
ее. Больше мне нечего делать. А в местечке? Там же закрылась
синагога... А те праведники, которые поручили сохранить,
наверно, давно умерли. И выходит, что для этой вещи нет места на
нашей стороне...
Он вернулся на площадь, сел в телегу и поехал обратно в
колхоз, торопясь прибыть до темноты, и возвращался он теперь
с двумя мешками. У реки Евелев внезапно остановился. С утра
дул сильный ветер, реку раздуло, льдины набежали на берег, и
через реку не было теперь моста. — Куда же он
девался?—спрашивал себя Евелев удивленно: утром он проехал «по мосту.
Переходить вброд с лошадью было опасно. Евелев недоуменно
оглядывался, но моста не было. Он был снесен недавно ледоходом.
В одном месте Евелев заметил огромный кедр, росший не
кверху, а горизонтально, через реку. Кедр «был старый, толстый,
сильно разросшийся ветвями, опущенными в воду, но переехать
через него с лошадью было невозможно.
— Геть! — закричал вдруг Евелев на лошадь. — Геть обратно!
Оставив лошадь с телегой на переселенческом пункте, под
расписку коменданта, он вернулся к берегу с двумя мешками на
плечах и так нагруженный вступил на кедровый ствол. Он шел через
реку осторожно, медленно переступая ногами, изнемогая под
тяжестью. На середине реки он зашатался от груза, выпрямился,
но один мешок свалился на спину, вдавливаясь острием
металлической короны.
— Хвороба моя! — закричал неожиданно от боли Евелев и
покачнулся так, что другой мешок свалился с плеча и чуть не
полетел в воду. Евелев подхватил его почти на лету и остановился.
Итти дальше было опасно. Неимоверный груз согнул Евелева.
Он полз под тяжестью на четвереньках, хватаясь руками за сучья,
острые как иголки. Два мешка, свешиваясь с плеч, болтались в
воздухе, на мгновение они сцепились, голова Евелева начала
клониться, и показалось ему, что никогда не увидит он берега, хотя
река была неширокая. Два мешка нести было неудобно.
— Горе мое!.. — шептал перекошенными губами Евелев, и
вдруг он приподнялся, выпрямился над рекой, схватил один мешок
и, закрыв глаза, ослепленные внезапным резким светом, бросил
мешок в воду.·—Рабойныше-Лойлым!—закричал он
по-древнееврейски и открыл глаза, залитые слезами.
Тора, сверкая короной уходила на дно, — последняя тора»
проделавшая тысячелетний путь от пустыни к пустыне...
— Будет сад!—прошептал Евелев, повернул к берегу и пошел
легко, с одним мешком за плечами. — Будет колхозный сад!..
Α. Α. БОГДАНОВ
Из прошлого
В праздничные дни тихий городишко Пенза наполнялся с
раннего утра колокольным звоном.
На нашей улице находилась домовая церковь миллионерши
Киселевой; в особой пристройке к ней помещалась колокольня,
и звонкие ди€канты колоколов плескались: «Блям! Блям!»..·
А с юго-востока, из белокаменной церкви Михаила-архангела,
неслось в ответ рокочущими переборами: «Бум! Били-бум!»
Шатался без дела по улицам заштатный дьякон михайло-архан-
гельской церкви, всегда пьяненький и запачканный. Он посвящал
нас, ребят, в тайны церковных звонов. Откинув полы потертого
репсового подрясника и заложив руки в карманы штанов, он
раскачивался на толстых, как тумбы, ногах, сопел сизым, угрястым
носом и бубнил:
— Слышите, мел-кота, бу-бу-бу!.. Л-ловко монашки с
монахами перекликаются? А? Тоненькими голосами — блям-блям-блям —
в гости зазывают: «К нам, к нам—сиротам!» А толстые голоса—
это монахи — бу-бу-бу! «Будем, будем — не забудем!»
Он выпрямлялся, расправлял молодецкие плечи, вытаскивал из
кармана полуштоф с водкой и, поднимая его кверху, кричал:
— Гочго, сестрички-чернички! Припас для вас красоулю! В
гости приду!.. Да чтоб без ерничанья, — по-честному!
Позднее я узнал, что красоуля — это монашеская чаша,
диаметром в ширину ладони, то-есть вместимостью, приблизительно
литр. Монашеский устав разрешал монахам пить «токмо по кра-
соуле».
И вот вдруг оказалось, что этот, как его многие считали,
безвредный простак способен превратиться в злого паука.
Происходило празднество нето в честь царских именин, нето
по поводу избавления «августейшего монарха» от одного из
многих покушений на его жизнь. В центре города, как полагается,
была устроена жалкая иллюминация. На балкончиках богатых
домов кое-где полоскались в воздухе трехцветные флажки. Возле
тротуара чадили и трещали пузатые глиняные плошки с салом.
Из садика офицерского клуба гремел старомодный пошленький
вальс, взлетело несколько ракет. На главной площади багрово,
зловеще полыхала бочка со смолой, а с соборного купола
спускались вниз цепочкой желтые и синие бумажные фонарики.
Городская знать, дворянство, крупные чиновники, первогиль-
дейные купцы пиршествовали в своих домах, принимали гостей,
сплетничали, злословили, играли в преферанс и стуколку, сладко
и жирно объедались и еще слаще пили.
А на окраине, в конце Введенской улицы, которая тупиком
471
упиралась в горку архиерейского сада, мы, детвора, устраивали
свою «иллюминацию» — костер.
В этот вечер было особенно холодно, почти по-зимнему.
Косматыми чудовищами мчались над головой низки« тучи. Мы
тащили в костер всякий мусор, вплоть до тряпок, всякую дрянь,
которою были загружены дворы и которой не было жаль. Костер
шипел и издавал зловоние, временами выбрасывая вместе с
клубами дыма тонкие огненные языки.
Две мещаночки в ситцевых горошковых платках осторожно
поглядывали на нас, грелись у костра и шелушили семечки.
Внимание всех привлекал неизвестно откуда взявшийся субъект в
летнем нанковом пиджачишке, в опорках на босу ногу и рваном
картузе с синим студенческим околышем. Присев на корточки и
вытянув по-гусиному шею, он совал почти в самый огонь длинные,
заскорузлые от грязи руки.
Мы с любопытством смотрели, как пламя лизало его синие
скрюченные пальцы, удивлялись и по-детски задавали себе вопрос:
«Сгорят руки или не сгорят? И как он только терпит такое
пекло?» А он — страшный, словно пришедший из другого мира, —
угрюмо и молча ворочал пальцами, как рак клешнями. И еще было
жутко смотреть на его исхудавшее до костей лицо с небритыми
щеками и большими черными, провалившимися глубоко глазами.
Кто он такой? Всех местных «золоторотцев» и голодранцев мы
знали. Это был новенький, пришедший откуда-то из неизвестности.
Забредали иногда такие в наш городишко, — это были
административно высланные с «проходными свидетельствами» или, как
говорилось, «политики» с «волчьими билетами», — среди них
попадались рабочие, уволенные за забастовки. Им разрешалось быть
в городе не более трех дней, а потом они снова по «проходному
свидетельству» отправлялись дальше.
Повидимому, незнакомец тоже странствовал с «волчьим
билетом».
— Бу-бу-бу!!! — вдруг раздался около костра обычный
знакомый гул. Мы всполошились: «Дьякон!» Он всегда приносил с
собой оживление, и мы с любопытством повернулись к нему.
— Расступись, честный мир! Пьяному и в канаве трактир!
Сопя угрястым носом, дьякон протиснулся к костру и встал
рядом с мещаночками. Распахнув теплое байковое полукафтанье,
он широко расставил перед огнем тумбы-ноги, на которых были
только тиковые полосатые кальсоны.
Опираясь одной рукой на суковатую палку, дьякон другой
гладил себя по толстому животу и по широким, как у борова,
бедрам. — Бу-бу!.. Дайте, православные, погреть ложесна —
плодородна!
Мещаночки в гороховых платках отворотились в сторону,
потом громко фыркнули и отошли. А дьякон повернул к ним
косматое, обросшее до ушей лицо и крикнул:
— Эй! Паки и паки, загрызли вас собаки! Естества
человеческого убояшеся? О-го-го.
412
Кто-то из взрослых загоготал. Сидевший на корточках
оборванец стремительно вынул из огня длинные костлявые руки и
поднялся. Было в его странном движении что-то возмущенно-резкое,
протестующее. Ярко вспыхнуло пламя. В золотом отсвете костра
черные глаза оборванца сверкнули злым блеском, и по лицу,
казалось, пробежали судорожные тени.
Дьякон неприязненно покосился в сторону оборванца и смерил
его взглядом с головы до ног. Потом запахнул наглухо
полукафтанье, отступил на шаг от костра, постучал о землю палкой и
прогудел:
— Ну-ка, мелкота! Стройсь в шеренгу! Ать-два! Ради
торжественного дня провозгласим славословие царю всевышнему и царю
земному! Мно-о-гая ле-ета!!
И он прочертил в воздухе палкой дугу, как регент
камертоном:
— Слуш-сь! Соль-си-ре-си-соль!..
В ночной тишине загрохало:
— Бла-го-чести-вейшему... само-державней-шему... го-осударю...
импера-а-а...
Но вокруг было полное молчание.
— Что ж вы... мать вашу... Благо-честивейшему! — вдруг
выругался дьякон и круто оборвал пение.
Его обескуражило, что он остался в одиночестве. Он смачно
сплюнул, со злостью ковырнул землю палкой и, обходя костер
крупными шагами, направился к оборванцу, чтобы на нем сорвать
гнев.
— Ты чего смеешься!? Над кем смеешься?! Над помазанником
всевышнего смеешься?! А? А-ах ты!!!
Оборванец, съежившись в пиджачишке, молча попятился.
— Ты кто есть такой? — грозно напирал на него дьякон.—
Со-ци-алист?! Нет, ты мне ответь, почему смеешься? Бу-бу-бу!
Выходец ерусалимский! Свинья! Насквозь зрю твое еретическое
лихомыслие! Растерзаю тя, аки лев рыкающий, тварь
непотребную!
Втягивая голову в сухие узкие плечи, оборванец безмолвно
отступал в темноту.
Дьякон все больше входил в раж и командовал:
— Эй, ребята! Ату его! Бей во славу бога, царя и отечества!
Среди уличных мальчишек всегда находилась некоторая часть,
склонная к хулиганству. Они с ревом и гиком рванулись вперед.
Оборванец сделал несколько отчаянных прыжков в темноту.
Ноги его путались в подсохшей траве, шлепающие по пятам
опорки мешали бежать, но ужас перед расправой придавал силы.
Преследовавших было всего несколько человек, но громкий бас
дьякона покрывал далеко тишину ночи. И казалось, что вдоль
дороги катится большая, бурная лавина, грозящая сокрушить все
на пути. А убегающий от этой лавины бродяга представлялся
черным привидением; руки его нелепо и часто взмахивали, как
крылья мельницы.
m
— Ату его!!! Ату-гу! Бей со-циалиста! — надсаживался дья*
кон.
Вот дьякон остановился. Ему трудно было передвигать
грузное тело. Размахнувшись, что было сил, он бросил вперед палку.
Она попала преследуемому в ноги. Оборванец с криком упал, но
через мгновенье поднялся и, прихрамывая, исчез в темноте у ворот
одного из домов, крикнув напоследок что-то. До нас обрывчато
донеслось:
— Мер-зав-цы!! Гады!!
Дьякон, тяжело сопя и отдуваясь, махнул рукой. Кто-то из
ребят поднял и принес ему палку. Дьякон взял ее и, возвратившись
к костру, забубнил:
— Хула вам и поношение, вшивая команда! Земному царю
многолетия не осилили!
— А вышнему? — спросил один из мальчишек.
— А вышнему и подавно, — отозвался со смешком другой: —
до него еще выше, не долезешь!..
Кошмарное, звериное прошлое! Этот случай потряс меня и
оставил неизгладимое впечатление на всю жизнь.
Мне было бесконечно жаль тогда несчастного бродягу! Кто
он? Куда пойдет? За что его обидели?
Я не мог понять тогда всего смысла происшедшего, но
миролюбивое отношение к дьякону сразу же сменилось отвращением и
ненавистью.
Дьякон вскоре умер. И умер он так же идиотски, как жил.
На масляной неделе он, пьяный, умер по дороге в деревню
Лебедевку, отравившись соленой осетриной.
Рябая старуха Филимоновна, прижившаяся у нас в семье, как
свой человек, при известии о его смерти сжала в комочек сухое,
морщинистое лицо, вздохнула и сказала:
— Бог наказал! Лицо духовного звания, а жизни непотребной.
Не угодно это богу, милые мои!..
В ту пору еще я не был достаточно просвещен, не мог
неодобрительно отнестись к богу, который сперва попустительствовал
дьякону, чтобы тот творил безобразия и пакости, а потом отравил
его рыбным ядом. Но первые зачатки неверия уже были посеяны
в моем уме.
Г. РЫКЛИН
Продажа загробной жизни
Конечно, само собой разумеется, на одно жалованье трудно
прожить. А если видите на мне новые брюки галифе, то должен
вам доложить, что эти галифе являются продуктом
антирелигиозной пропаганды.
Дело тут хитрое. Служит у нас в тресте Иван Михайлович По-
ручко. Не человек, а резиновая тросточка: гнется, куда угодно.
А субъект он бывалый. Известно мне, например, что он служил
на Украине при Петлюре. И вот назначили его в Киев
начальником какого-то учреждения. А Иван Михайлович, кроме «поштора
скринка», ни слова не знал по-украински. Но он, бестия, не
спасовал: все бумаги направлял к своему помощнику с резолюцией:
«Це дило треба разжуваты». И что же? Иван Михайлыч прослыл
дивным чиновником.
Теперь Иван Михайлыч совсем красный. — Религия, — говорит
он, — опиум, и все такое.
Эх, думаю я, припеку его когда-нибудь! И вот недавно
подвернулся случай. Сидим мы на именинах у нашего помбуха. За
чаем начали толковать о том, о сем. Я взял да нарочно завел речь
о религии, о загробной жизни. Иван Михайлыч тут-как-тут.
— Все это, — говорит он, — трын-трава. Никакой загробной
жизни нет.
А я ему так спокойненько и говорю:
— Ежели вы, Иван Михайлыч, не верите, то продайте мне
вашу загробную жизнь. Она же вам не нужна? Даю вам три
червонца...
— То-есть как это продать загробную жизнь?.. А патент у
вас есть для торговли? — старается отшучиваться Иван
Михайлыч.
— Вот видите, — говорю я, — боитесь, а говорите, что не
верите.
Вскочил Иван Михайлыч.
— Давайте три червонца!.. Продаю! Чепуха какая!
А я ему:
— Расписочку, Иван Михайлыч. В том, что я,
нижеподписавшийся, продал на вечное пользование, и так далее.
Написал расписочку, приложил гербовые марки, подписал ее
Иван Михайлыч, скрепили свидетели. Вручил ему три червонца.
Назавтра, так, стороной, узнаю, что старуха, мать Ивана Ми-
хайлыча, как по покойнику рыдала:
— Что ты наделал?.. Правда, загробная жизнь ликвидирована.
Ну, а ежели перемена власти?
Видим, Иван Михайлыч на службе ходит сумрачный. Ни с
475
кем не разговаривает. Со мной старается не встречаться. Я молчу.
Знаю, придут козы до воза. А он с каждым днем все мрачнее.
На всех ворчит.
А дней через пять утром, когда никого еще не было в
канцелярии, подходит ко мне Иван Михайлыч бледный, губы
трясутся :
— Так, мол, и так... Оно, конечно^ чепуха... Но все-таки, чорт
ее знает!.. У меня к вам просьба... Религия, конечно, опиум...
Предрассудки... Но вы мне возвратите мою расписочку... Получите
вот шесть червонцев... Только между нами.
Я и не торговался: товарец больно несезонный. Вот какие,
братец, дела. И пошил я себе, значит, галифе. А на одно жалованье
не разойдешься!..
Приходится подрабатывать на стороне.
Е. ЛЕВАКОВСКАЯ
Кумирня*
Наступил жаркий, безветренный июнь. Только ночи охлаждали
пыльную духоту дней. Легкий ветер чуть звенел колокольчиками
на углах храмов, шелестел длинными шелковыми лоскутами, — на
одних были нарисованы бурханы, начертаны священные слова,
иные же были маленькими знаменами и тогда уже одним цветом
своим обозначали бога.
Монастырь продолжал жить своей внешне спокойной и
налаженной жизнью.
Баир вместе с другими пас монастырские стада, Санжа рисовал
маленькие образки на продажу аратам. Старый лама Самбу
переписывал священную книгу. В монастыре было более двухсот
экземпляров этой книги, и в них не было никакой нужды, но за
переписку обещалось вознаграждение в блаженном царстве Сука-
вади. По буддийским законам все равно — сделать ли добро
самому или через другого, и в прежние времена многие зажиточные
миряне платили ламам большие деньги за переписку святых книг, но
теперь получить такой заказ удавалось редко, и Самбу-лама был
доволен.
Санжа посмотрел, как лама выводил мудреные тибетские
иероглифы на длинном узком листке, взял краски и пошел к
художнику.
Из романа «Кочуй счастливо!..».
476
Сухой меловой грунт с обеих сторон покрывали рыбьим клеем.
Когда и он высох, Санжа отполировал холст волчьим зубом.
Полотно было готово, но он сел и задумался. Старый художник
удивленно посмотрел на него:
— Почему ты не начинаешь?
Санжа взял старика за руку:
— Учитель! Помнишь, ты говорил мне как-то, что в маленькой
кумирне есть красивейшие изображения богов? Покажи мне этих
бурханов!
— Брось думать, о чем не надо, шаби!
Санжа молча начал рисовать. На его лбу легла упрямая
морщина, — впервые в жизни он твердо решил нарушить закон
старших и посмотреть самому запретных бурханов. В тот же вечер он
рассказал Баиру о своем желании, но приятель только
презрительно пожал широкими плечами:
— Старик сказал правду — брось думать о том, о чем не надо
думать! Если заперта дверь, можно открыть окно. Полезай и
смотри.
Вечером, прогуливаясь, они забрались наверх к самой скале.
Там, на отлете, подпертая с боков — от обвала — плоскими
камнями, стояла маленькая кумирня, а прямо над ней белело огромное
лицо высеченного в скале бога.
Баир торопливо ощупал деревянные засовы на ставнях низких
окон кумирни. Отряхнув длинные рукава халата, он,
удовлетворенный» подошел к Санже:
— Гвозди можно выдернуть, а засовы — деревянные,
рассохлись. Отопрем!.. Итти можно только ночью, а то увидят! —
добавил он, вытаскивая занозу из пальца.
Решили ждать, когда Гомбоджап-лама уйдет на ночной хурал
к настоятелю.
Однажды вечером Баир большими шагами взбежал наверх к
келье Гомбоджапа. Увидя, что ламы нет дома, он потащил Санжу
с собой на скалу...
Лежа на животе, подперев руками подбородок, Санжа
напряженно вслушивался в тишину. Ему все казалось, что кто-то идет.
Но монастырь спал, и из кельи доносился мерный храп
Гомбоджапа. Санжа взглянул наверх, — залитая луной кумирня ярко
выделялась на черной, как тушь, скале.
Санжа тихо поднялся, снял гутулы, прикрыл дверь кельи. Он
нащупал за поясом припрятанный нож, обломанную свечку,
коробку спичек и босиком, неслышно, побежал по тропинке вверх.
Казалось, кумирня спит. Санжа подошел к окну, вынул из-за
пояса нож и стал подсовывать его под ржавые гвозди. Ставня
медленно освобождалась.
Санжа бросил нож на землю и осторожно потянул правую
створку. Окно было низко. Он лег животом на подоконник, до
половины просунувшись в кумирню. На него пахнуло затхлостью.
Санжа оглянулся. Одним движением перебросил тело внутрь.
Зажег огонь.
477
Стены еще скрывались в темноте, — свет вырвал из мрака
только несколько золотых бликов. Из угла на баньди глядел
чей-то большой белый глаз. Темный силуэт, то выделяясь, то
опять пропадая в темноте, поблескивал камнями на короне. Свеча
не разгоралась, и пламя поминутно вздрагивало от свежего
дыхания ночи. Санжа раздраженно запахнул ставни. Свеча потухла.
Он зажег ее опять и поднял высоко над головой.
Кумирня ожила. Из мрака выступили золотистые, медные,
блестящие и матовые бурханы. Их было много, они рядами стояли
по стенам. Великолепные складки позолоченных мантий
неподвижно падали с их полированных тел, стройные руки застыли в
благочестивых движениях. Тут были маленькие и большие, мужские
и женские божества; казалось, что все население блаженного
царства Сукавади спустилось сюда, чтобы показать маленькому
монастырскому послушнику свою несравненную красоту и богатство.
Огромным пауком сплетались в любовной судороге два
многоруких, многоголовых тела. Такими изображали буддийские
художники Ямантага — бога зла. Молитвенно сложив ноги на обрядных
подушках, протянув строгую руку, благословлял Санжу первый из
первых, великий учитель Будда Багван, а за ним из темноты
показалась она, прекраснейшая из прекраснейших, статуя богини
Дара-Exe. Кажется, из тысячи Санжа узнал бы этот гордый
профиль, прекрасные брови и руки, эту талию, легкую, как
ковыльный стебель. Из ее ушей двумя цветками висели зеленые серьги,
на высокую грудь спускались ожерелья. Она восседала на троне.
Глаза Санжи скользнули с пьедестала на пыльный пол и
остановились в удивлении, — у ног богини лежал большой свежий лист
с куста, каких много росло возле кумирни. Санжа поднял лист, но
свеча, догорев, обожгла пальцы. Он бросил и лист, и огарок,
открыл окно и выпрыгнул наружу.
Над долиной тихо бежала ночь. Луна, недавно еще красная,
стала золотой. Санжа еще раз заглянул в кумирню, но там было
темно. Вздохнув, он стал закрывать окно. Вернувшись к келье,
он долго не мог заснуть. Ему казалось, что неслышными шагами
подходит Дара-Exe. Ее золотистая кожа мягка и нежна, как
цветок шиповника, она гладит его воспаленный лоб, и рука ее — как
прохладный ручей в жаркий летний полдень...
...Санжа часами просиживал у огня и с закрытыми глазами
мечтал, как было бы хорошо очутиться дома, у Гомбоджап-ламы.
Он стал невнимателен к работе, однажды нарисовал
совершенно кривобокого Будду, и старик-художник, возмущенный
рассеянностью ученика, пожаловался на него Гомбоджапу. Санжа,
побледнев, выслушал резкий выговор ламы, принял наказание —
положить сто поклонов и очистить от мусора двор главного храма.
— Учитель! Разреши принести показать тебе мою следующую
работу. Я сделаю ее хорошо! — нерешительно сказал Санжа.
Он выбежал из кельи. Полуулыбка Гомбоджапа окрылила
его, — может быть, жизнь опять пойдет по-старому? Надо сделать
рисунок лучше всего, что он делал прежде. Конечно, он сделает
478
изображение любимейшей из всего сонма буддийских божеств —
узкоглазой богини Дара-Ехе!
Чтобы снова пробраться в кумирню, Санжа, по совету Banpat
решил ждать, когда приедет беспалый и Гомбоджал снова уйдет
к настоятелю на ночной хурал.
Гость приехал в начале зимы. На угрюмых скалах лежал снег.
Круглые копыта коня отпечатали след до самой ограды
настоятеля.
Увидав следы, Санжа насторожился. Все было готово — и
краски, и холст, и большая свеча» чтоб вплотную рассмотреть и
запомнить черты богини. Днем Ваир подтвердил, что прибыл
именно «беспалый», и Санжа с нетерпением ждал ночи.
Когда стемнело, Ваир, который давно прохаживался у кельи,
поднялся выше и начал настойчиво всматриваться в белую мглу,
чтобы не пропустить ламы. Скоро по тропинке к храму
спустилась темная фигура Гомбоджапа. Когда калитка скрипнула и лама
вошел в ограду, Ваир, подождав еще немного, бросился в келью.
— Сейчас прошел! Бери свечку, нож и идем! — крикнул он
Санже.
Поселок тонул в белом море. Снег застилал глаза и делал
шаги едва слышными.
Баньди поднялись наверх, ощутили под снежным пухом
каменистые уступы горной тропинки. Из снега вынырнула темная келья
Гомбоджапа. Пройдя еще несколько шагов, Баир остановился:
— Ну, иди! А я здесь буду караулить.
Скоро сквозь хлопья стали вырисовываться темные контуры
кумирни. Обойдя кругом, Санжа остановился над обрывом у того
самого окна, через которое проник летом в обиталище Дара-Ехе.
Теперь обрыв был затянут белой густой пеленой. Земля
спала, убаюканная безмолвным движением снега.
Санжа остановился отдышаться. Но как не похожа была эта
ночь на ту, летнюю, когда он с волнением стоял здесь в темноте!
Надо было скорее увидеть и запомнить черты богини, скорее
перенести их на холст, скорее отдать его учителю и вернуть себе
расположение ламы, его волю, его дом. Надо было уйти из той
слишком свободной жизни, которой жил он последние месяцы.
Санжа вошел в кумирню спокойно, без трепета, как будто начал
трудную, но обычную работу.
Тщательно закрыв окно, Санжа вынул свечу, в темноте
подкрутил пальцами фитиль и зажег его с первой же спички.
Он высоко поднял свечу над головой. Свеча горела ярко,
кумирня опять наполнилась мутным блеском старой позолоты,
камней и красок, но юноша резко нахмурил брови и шагнул вперед.
Он поднес свечу к самому лицу божества, потом ко второму,
третьему...
«Не может быть! Это от слабого света!» — но свеча горела
ярко. — Да, действительно! — в кумирне не было ни одного из
тех сверкающих богов, которые встретили его здесь летом; это
были всего лишь старые запыленные бурханы. Их лица почернели
479
от времени, краски облупились и поблекли, а Дара-Exe была
такой же, каких десятки видел он в монастыре. На облупившихся
ее белках чернели трещины, и в глазу было ровно шесть ячменных
зерен...
Санжа опустил руку, растерянно сжимая забытую свечу.
Длинный фитиль изогнулся, и воск большими каплями стекал на пол.
Санжа молча стоял в полумраке.
Это было ясно: даже боги оставили его, не захотели показать ему
теперь свой неземной облик. И здесь срисовывать было нечего.
Санжа опустил голову. Вдруг он услышал явственный скрип.
Сзади, в стене, у которой он стоял, отпирали дверь.
Санжа прыгнул к окну, но ставни не сразу поддались пальцам.
От резкого движения потухла свеча. Он сунул ее за ворот,
судорожно метнулся к двери, отпрянул обратно и, бросившись в угол,
лег на пол за статую Будды Багвана.
Тяжелая дверь отворилась бесшумно и легко. В кумирню
вошли двое. Четко вырисовывались их темные силуэты. Вошедшие
опустили на землю длинный сверток. В руках одного из них
вспыхнул ослепительно яркий свет электрического фонарика. Человек
направил луч в угол кумирни, где стояло изображение Дара-Exe, с
трудом переложил сверток к подножию статуи и, засучив длинные
рукава халата, поставил фонарь на медный пьедестал, светом вверх.
Он наклонился над свертком, и тогда Санжа увидел мясистое лицо
Гомбоджап-ламы.
Второй — Жамьян — всем телом навалился на тонкую статую.
Она поддалась, повернулась боком. Под ее подножием в полу
открылась темная щель. Гомбоджап развернул сверток. В ярком
свете холодно блеснула вороненая сталь. Один за другим Гомбоджап
молча передавал Жамьяну новенькие карабины, и один за другим
они исчезали под полом у медного пьедестала Дара-Exe. Поглотив
принесенное оружие, богиня опять стала на место, глядя на людей
потрескавшимися глазами. Ламы молча оправляли халаты и
вытирали с рук оружейное масло.
Они уже повернулись уходить. Гомбоджап нагнулся, осветил
кумирню и неожиданно увидел восковое пятно.
— Что это? — сразу осипшим голосом пробормотал
Гомбоджап, схватив за рукав своего спутника.
Тяжело дыша, они нагнулись над пятном.
Гомбоджап резко выпрямился. Свет фонаря заметался по
кумирне, ощупывая стены, окна, обливая бурханов мгновенным
сиянием, и в углу, за пьедесталом Будды, на потрескавшихся досках
пола, торжествующе вырвал из темноты край халата.
Лама, как щенка, вытащил баньди на середину кумирни.
Ослепленный Санжа бестолково заморгал и с воплем повалился в ноги
учителю.
Гомбоджап, отирая рукавом халата налившееся кровью лицо,
молча взглянул на Жамьяна. Глаза обоих метнулись в угол.
Санжа, обхватив голову руками, путался в халате Гомбоджапа
и, сбиваясь на крик, объяснял — зачем он здесь.
480
Лицо Гомбоджапа дергалось.
— Идем! — показал жестом Жамьян.
Гомбоджап дышал тяжело, с присвистом. Нагнувшись, он взял
за грудь Санжу, подтащил к двери и, ударом ноги распахнув ее,
вышвырнул баньди в снег.
В эту ночь впервые в жизни Санжа вступил в ограду
настоятеля. Жамьян остался с ним во дворе. Гомбоджап вошел в юрту.
Умзашри-лама еще не спал. Он удивленно поднял усталые
глаза, но, увидев лицо ламы, схватился за грудь:
— Что?..
Гомбоджап распростерся перед ним и глухо сказал, не вставая
с колен:
— Тайник открыт... Научи, что делать...
Умзашри замахал руками, как будто на него налетел рой ос»
и, ища опоры, тяжело опустился на подушки. Пергаментное лицо
его посерело.
— Может быть, ты ошибся? — прошептал он охрипшим
голосом.
Но бессильное тело Гомбоджапа без слов кричало о тяжелом
страхе, раздавившем ламу, и Умзашри закрыл глаза.
Когда Гомбоджап поднял голову, перед ним сидел тот же
спокойный, уверенный старик, каким он привык видеть настоятеля,
каким он был много лет назад, впервые читая ламам призыв Ун-
герна.
— Кто? — коротко спросил Умзашри, перебирая потемневшие
от лет зерна четок.
Внимательно выслушав торопливый рассказ Гомбоджапа, он
спросил, сморщив коричневый лоб:
— Это тот, чей дядя покинул хит вместе с Токсомом?
Гомбоджап кивнул.
— Где баньди сейчас?
— Я не отпустил его ни на шаг, он ждет с Жамьян-ламой.
— А где родители твоего ученика?
— На востоке, учитель! — ответил Гомбоджап, вопросительно
глядя на настоятеля. — Они откочевали туда еще в начале войны.
— Значит, он один здесь? Так, так!—Умзашри озабоченно
лотирал рукой обвисший подбородок. Гомбоджап молча следил за
его напряженным лицом. — Здоров ли он?
— Нет! Слаб. Больная грудь...
Прищуренные глаза Умзашри-ламы в упор смотрели в
переносье Гомбоджапа, и слова падали медленно и веско:
— Бывают случаи, — четко сказал старик, — если лекарь
ошибется и станет лечить от другого, пустячная болезнь может убить.
Лицо Гомбоджапа дрогнуло. Под упорным взглядом старшего
он весь съежился и ответил, так же четко отделяя слова:
— Да! Бывают такие случаи, учитель!
П. ЗАМОЙСКИЙ
Смутьян
По воскресеньям мать всегда зажигает лампадку и заставляет
всех молиться богу.
Трушка — мальчишка смышленый: когда молится, всегда
думает:
— Вон бог глядит прямо на меня. Он, мотри-ка, все понимает-
Спрашивает свою мать:
— Это что же бог-то молчит? Мы говорим, говорим ему, а он
хоть бы что-нибудь нам...
Мать сердится на Трушку. Эка ведь глупый карапуз. Отвечает
строго:
— С дураками он говорить не будет. А вот когда сбалуете
чего-нибудь, он все мне и расскажет.
Трушка смекнул:
— Эка, какой он! Надо к нему подластиться, чтобы матери на
меня не смутьянничал.
Как-то мать ушла к соседям, а Трушке строго-настрого
наказала:
— Гляди у меня, пальцем не лазь в сметану.
— А хлебом? — спросил Трушка.
— Хлебом и подавно. Никак не лазь.
— Да я и не лазил сроду. Чего зря-то...,
— Не зря... Бог мне зря говорить не будет...
Мать ушла. Трушка поглядел на бога, пальцем погрозился.
— Зачем матери все говоришь? Мало чего в семье у нас
бывает... Ты сиди и молчи.
Потом к горшку подошел. Поглядел, а сметана густая-густая.
Хотел пальцем макнуть, глядь, бог прямо на него глаза уставил.
— Что это он все за мной подглядывает. Ну-ка я отойду в
другую сторону.
Взял горшок, в другую сторону пошел. Поглядел на образ, а
бог опять глядит на него. Трушка за угол, и там видит его бог.
— Вот так глазастый!!
Сел с горшком и думает. Как быть? Хочет макнуть, оглянется,
а у бога все рыло на Трушку ворочается.
Тогда на хитрость пошел: горшок поставил на стол, сам залез
к божнице. Спросил ласково:
— Ты, боженька, может, сметанки хочешь, а?
Бог молчит. И будто ласковее смотрит.
— Ну, сразу вижу, что хочешь!
Помазал Трушка богу губы сметаной и сказал:
— Теперь ты поел и к стенке отвернись, я сам хочу тоже
поесть немножко.
482
Перевернул образ лицом к стенке, сам есть начал. Только
облизал губы, глядь, мать входит.
— Вижу, вижу...
— Чего?
— Зачем сметану жрал?
— Я и не жрал.
— Вре-ешь... Знаю я!!
— Откуда тебе знать-то?
— Вон бог мне сказал.
— Бо-ог?!—удивился Трушка. — Врет он!
— Как врет?.. Это бог-то?!
— Да-а, и вре-е-ет. Гляди сюда!!!
Повернул Трушка бога другим боком, а у него все губы и лицо
в сметане.
— Вот видишь теперь, мать!.. Он сам съел, а на меня свалил...
И отвернулся даже... Видно, совестно стало, смутьянщику.
ЛЕОНИД БОРИСОВ
Смольный
(Отрывок)
К генералоподобному швейцару, охранявшему вход в
министерство народного просвещения, подошел как-то в конце ноября
семнадцатого года крестьянин. Был он одет по-зимнему — в тулупе и
валенках, на голове хозяйски сидела баранья шапка с наушниками.
В выражении глаз его было нечто хитрое и вызывающее, нижняя
губа презрительно кривилась на сторону. Оглядев его наглую
упитанную рожу, его подбитую мехом красную крылатку, фуражку
с позументами, крестьянин усмехнулся и сказал:
— И не стыдно тебе этаким петухом на людях стоять?
Толкнул дверь и прошел в вестибюль. Швейцар нетороплива
повернул взгляд в сторону наглого посетителя, неторопливо
оглядел его с головы до ног, столь же неторопливо спросил:
— Куда?
— Интересуюсь твоим курятником, — добродушно ответил
крестьянин. Сел на стул возле колонны, поглядел на стены, встал
и покачал головой: — Ох, гады! — от всего сердца произнес он.—
Мало вам Николы, так вы еще Зосиму с Савватием повесили!
Убрать бы надо, земляк! Дым это один и ничего другого!
Швейцар подумал над ответом. Месяц тому назад с подобным
посетителем не поцеремонились бы: отправили бы в участок, а
«· 483
оттуда в тюрьму за кощунство. В крайнем случае намяли бы бока,
наложили банок, показали бы дверь и ручку. Сегодня этого не
сделаешь. Все эти бараньи шапки, кепки, тулупы и бушлаты взяли
власть и всерьез поступают по-своему. Что касается этого вот
посетителя, то в одном случае он прав, в другом ровно ничего не
понимает. Об этом и решил поговорить швейцар. Он встал рядом
с крестьянином и спокойно заметил для начала:
— Николай-угодник действительно присутствует. Ты, папаша,
не ошибся! Своего деревенского заступника признал правильно.
Но вот ниже висящая икона изображает учителей славянских
Кирилла и Мефодия. Это тебе не деревенский... — швейцар
наморщил лоб, подумал и значительно закончил: — ...и вовсе не
деревенский кругозор мысли.
— С богами, значит, живете?—ехидно спросил крестьянин и
снова уселся возле колонны. — Так! Шибко веруете? Понимаем!
Какое ж это у вас тут дело делается? Какая у вас контора? Целый
каменный домина, а этакая тишина, а?
— А ты не комиссар? — опросил швейцар, на всякий случай
предлагая посетителю хорошую папироску. Не так давно в
министерство внутренних дел на место управляющего делами новая
власть посадила неспокойного человека в кепке. — «Дожили!» —
подумал швейцар и с беспокойством подумал о своем жалованье:
двадцатое число миновало, а денег еще не дали. Казначей
бастовал, кассир болел, делопроизводители и столоначальники
разговаривали по-французски и ни словечка не писали по-русски, словно
разучились. Ежели подумать, так, может быть, окажется, что ты
всю жизнь служил мошенникам, собакам, дармоедам. Хотя и
такие вот тоже не внушают доверия! Придут, сядут, — и все это
нехорошо, без воспитания и формы.
— Буду ужо комиссаром! — помедлив ответил крестьянин.—
Только не у вас. петух ты заморский! У вас, я вижу, делать
нечего. Народу — никого, людей нету, моторы не подъезжают, шкура
на тебе холопская, борода барская. Говори мне, что тут у вас за
контора?
— Министерство народного просвещения, — сквозь зубы
процедил швейцар. — Отсюда, от нас, на всю Россию грамота идет.
Здесь последовал диалог. Наиболее типичные места этого
диалога звучали дословно так:
— А далеко уходила ваша грамота?
— По всей России, как уже сказано.
— Вот то-то и оно-то, что как сказано! А на самом деле до
нашего села не дошла. До меня, к примеру, не дошла ваша
грамота. Казенка перегнала! До Наташки не дошла — нужда
перешибла. До брата моего не дошла — господа эту грамоту переняли.
— А я думал, что ты комиссар...
— А я думал, что ты нашего поля клюква, а теперь вижу,
что ты с дядиного огорода баринов хрен.
— Иди-ка ты, гражданин, откуда пришел! Мешаешь ты тут!
Старый человек, а относительно просвещения глуп, как пробка.
484
— А что касаемо твоей грамоты, которая шла, да не дошла,
вто, конечное дело, не вечно. Теперь мы пустим! Теперь дойдет!
Ленин — он все загородки сломал! А ты — дурак, за петуха тебя
принял. Вырядили тебя, что актера в пожарном депе на спектакле,
а мозги на барщину пустили.
Крестьянин встал, закрутил самокрутку, хозяйственно сказал:
— Ухожу я, вот что! Обедать в Смольный ухожу, понимаешь?
А ты иконы сними! Посылали их до нас, доходили. Грамотны
мы по этой части. Ну, будь здоров!
И. ИЛЬФ и Е. ПЕТРОВ
Одноэтажная Америка
Молитесь, взвешивайтесь и платите!
Подготовка к рождеству принимала все более и более
обширные размеры. Миллионы индеек и индюков были убиты, ощипаны
и выставлены в лавках, очаровывая голливудцев желтоватым
подкожным жирком и сиреневыми печатями санитарной инспекции,
оттиснутыми на грудках.
Мы уже говорили, что американское рождество — праздник, не
имеющий никакого отношения к религии. В этот день празднуется
вовсе не рождение господа-бога. Это праздник в честь
традиционной рождественской индейки. В этот день господь, застенчиво
улыбаясь, отступает на задний план.
С поклонением индейке связан еще один странный обряд —
поднесение подарков друг другу. Многолетняя, умело проведенная
торговая реклама сделала так, что поднесение подарков
превратилось для населения в своего рода повинность, из которой
торговля извлекает неслыханные прибыли. Вся заваль, собравшаяся
за год в магазинах, продается в несколько дней по повышенным
ценам. Магазины переполнены. Ошалевшие покупатели хватают
все, что только увидят. Американец делает подарки не только
своей жене, детям или друзьям. Подарки делаются и начальству.
Актер из киностудии делает подарки своему режиссеру,
кинооператору, звукооператору, гримеру. Девушка из конторы делает
подарок своему хозяину, писатель делает подарок издателю,
журналист— редактору. Большинство подарков имеет совершенно
незамаскированный характер взятки.
Идут подарки и по нисходящей линии — от старших к
младшим. Но это тощий ручеек по сравнению с мощными фонтанами
любви и уважения, которые бьют снизу вверх.
4*5
Актер дарит гримеру две бутылки хорошего шампанского, в
расчете, что тот весь год будет гримировать его особенно хорошо,
режиссеру делается подарок для поддержания дружбы, которая
полезна, операторам — чтоб помнили, что этого актера надо бы
получше снять и записать его голос.
Выбор подарка — очень тонкая штука. Надо знать, кому и что
дарить, чтобы вместо благодарности не вызвать обиды.
Подарочная горячка причиняет американцам много хлопот, дорого
обходится, но зато доставляет торговцам райские минуты и недели.
Дарят друг другу сигары, вина, духи, шарфы, кофты,
безделушки. Магазинные мальчики носятся по городу, развозя подарки,
упакованные в специальную рождественскую бумагу. Грузовики
тоже развозят только подарки. Сопутствуемый оркестрантами в
красивых генеральских мундирах, разъезжает красноносый Сайта
Клаус с ватной бородой, окутанный нафталиновой метелью. За
богом подарков бегут мальчики. Взрослые кряхтят при виде
рождественского деда и напряженно вспоминают, кому еще осталось
сделать подношения. Не дай боже забыть кого-нибудь — на весь
год будут испорчены отношения.
Собственно, только в таких случаях и упоминается в горячие
предрождественские дни имя бога.
В Америке много религий и много богов: протестантский,
католический, баптистский, методистский, конгрегационный,
пресвитерианский, англиканский. Миллионы людей хотят во что-то
верить, и десятки могучих церковных организаций предлагают им
свои услуги.
Старые, если так можно сказать — европейские религии
страдают некоторой отвлеченностью. Пусть себе ютятся в Европе, на
этом старом, дряхлом материке. В Америке, рядом с
небоскребами, электрическими стиральными машинами и другими
достижениями века, они как-то бледнеют. Нужно что-нибудь более
современное, эффектное и, наконец, надо говорить честно и откровенно,
что-нибудь более деловое, чем вечное блаженство на небесах за
праведную жизнь на земле.
В этом отношении наиболее американизированной является
секта, называющая себя «Христианской наукой». У нее миллионы
приверженцев, и по существу своему она является чем-то вроде
колоссальной лечебницы, только без участия докторов и лекарств.
«Христианская наука» велика и богата. Замечательные храмы с
красивыми банковскими портиками принадлежат ей во многих
городах и городках.
«Христианская наука» не предлагает ждать бесконечно долго
вознаграждения на небесах. Она делает свой бизнес на земле.
Эта религия практична и удобна. Она говорит:
— Ты болен? У тебя грыжа? Поверь в бога — и грыжа
пройдет!
Христианство как наука, как нечто немедленно приносящее
пользу! Это понятно среднему американцу, это доходит до его
сознания, замороченного годами непосильной и торопдивой работы.
486
Религия, которая так же полезна, как электричество. Это годится.
В это можно верить.
— Ну, хорошо! А если грыжа все-таки не пройдет?
— Это значит, что вы недостаточно веруете, недостаточно
отдались богу. Верьте в него — и он поможет вам во всем.
Он поможет во всем. В Нью-Йорке мы зашли как-то в одну
из церквей «Христианской науки», в центре города. Небольшая
группа людей сидела на скамьях и слушала пожилого джентель-
мена, одетого в хорошо сшитый у портного костюм. (В Америке
костюм, сделанный по заказу, является признаком
состоятельности).
Мистер Адаме, который сопровождал нас в этой экскурсии,
навострил уши и, наклонив голову, внимательно прислушивался.
Он сделал нам рукой знак подойти поближе. То, что мы
услышали, очень походило на сцену в нью-йоркской ночлежке, куда
мы попали в первый же вечер по приезде в Америку. Только там
уговаривали нищих, а здесь уговаривали богатых. Но уговаривали
совершенно одинаково — при помощи живых свидетелей и
неопровержимых фактов.
«Братья,— говорил пожилой джентельмен,— двадцать лет тому
назад я был нищ и несчастен. Я жил в Сан-Франциско. У меня
не было работы, жена моя умирала, дети голодали. Мне неоткуда
было ждать помощи, как только от бога. И как-то утром голос
бога мне сказал: «Иди в Нью-Йорк и поступи на службу в
страховое общество». Я бросил все и пробрался в Нью-Йорк.
Голодный и оборванный, я ходил по улицам и ждал, когда господь мне
поможет. Наконец, я увидел вывеску страхового общества и
понял, что бог послал меня именно сюда. Я вошел в это громадное
и блестящее здание. В моем ужасном костюме меня не хотели
пустить к директору. Но я все-таки прошел к нему и сказал:
— Я хочу получить у вас работу.
— Вы знаете страховое дело? — спросил он меня.
— Нет, — ответил я твердым голосом.
— Почему же вы хотите работать именно в страховом
обществе?
Я посмотрел на него и сказал:
— Потому, что господь-бог послал меня к вам.
Директор ничего не ответил мне,, вызвал секретаря и приказал
ему принять меня на службу лифтером».
Дойдя до этого места рассказчик остановился.
«Что же случилось с вами потом? — нетерпеливо спросил один
кз слушателей.
— Вы хотите знать, кто я такой теперь? Теперь я
вице-президент этого страхового общества. И это сделал бог».
Мы вышли из церкви немножко ошеломленные.
— Нет, сэры, — горячился мистер Адаме, — вы слышали?
Если один деловой человек может совершенно серьезно сказать
другому деловому человеку под стук арифмометров и телефонные
звонки, что бог прислал его сюда получить службу, и эта реко·
487
мендация бога действительно принимается во внимание, то вы сами
видите — это очень удобный деловой бог. Настоящий
американский бог контор и бизнеса, а не какой-нибудь европейский болтун
с уклоном в бесполезную философию. Даже католицизм в
Америке приобрел особые черты. Патер Коглин построил собственную
радиостанцию и рекламирует своего бога с не меньшей
исступленностью, чем рекламируется «Кока-кола». Серьезно, сэры,
европейские религии не подходят американцам. Они построены на
недостаточно деловой базе. Кроме того, они слишком умны для
среднего американца. Ему нужно что-нибудь попроще. Ему надо
сказать, в какого бога верить. Сам он не в силах разобраться. К
тому же разбираться некогда — он человек занятой. Повторяю, сэры,
ему нужна простая религия. Скажите ему точно, какие выгоды
эта религия приносит, сколько ему это будет стоить и чем эта
религия лучше других. Но уж, пожалуйста, точно. Американец не
выносит неопределенности.
Однажды, когда мы сидели в своем «Голливуд-отеле»,
расположенном на Голливуд-бульваре, и работали, в нашу комнату
вбежали Адамсы. Мы никогда еще не видели их в таком состоянии.
На мистере Адамсе пальто висело только на одном плече. Он
издавал нечленораздельные крики, и с каждой минутой лицо его
становилось краснее. Миссис Адаме, кроткая миссис Адаме,
которая не теряла присутствия духа и выдержки даже на ледяных
перевалах, бегала по комнате и время от времени восклицала:
— Почему у меня не было с собой револьвера! Я бы ее за·
стрелила, как собаку!
— Нет, Бекки!—кричал Адаме. — Это я застрелил бы ее, как
собаку!
Мы испугались.
— Что с вами? Кого — как собаку? За что — как собаку?
Но прошло минут десять, прежде чем Адамсы успокоились и
могли приступить к рассказу о том, что их так рассердило.
Оказывается, они рано утром, не желая нас будить,
отправились в Лос-Анжелос послушать проповедь известной в Америке
создательницы новой религии, Эмми Макферсон.
После пререканий о том, кому рассказывать, верх взял, как
всегда, мистер Адаме.
— Сэры! Это просто невероятно! — кричал он зычным
голосом. — Вы много потеряли, что не были вместе с нами. Запишите
в свои книжечки, что вы все потеряли, что не были вместе с нами.
Запишите в свои книжечки, что вы все потеряли, мистеры. Итак,
мы с Бекки пришли в храм Эмми Макферсон. Несмотря на то, что
до начала проповеди еще оставался целый час, церковь была
переполнена. Там сидело больше тысячи человек. И все хорошие,
простые люди. Распорядители приняли нас, как видно, за каких-то
важных особ и посадили в первом ряду. Очень хорошо, сэры. Мы
сидим и ждем. Да, да, да, конечно, разговорились пока-что с
соседями. Прекрасные люди. Один — фермер из Айовы, другой тоже
спе^иальир приехал сюда. У него в Неваде мелкий рэнч, Хоро-г
" ' m
шие, честные люди, которые хотят во что-то верить, они томятся
по духовной пище. Им надо обязательно что-нибудь дать, это им
нужно, сэры! Наконец раздается музыка, гремит туш, прямо, как
в цирке, — и появляется Эмми Макферсон, завитая вся в локон-
чиках, с малиновым маникюром, в белом хитоне, намазанная,
накрашенная. Уже не очень молодая, но еще хорошенькая. Все в
восторге. Еще бы! Вы только подумайте, сэры! Вместо скучного
попа выходит современная хорошенькая женщина. И вы знаете,
что она говорила? Это был ужас!
— Если бы у меня был револьвер, — вставила миссис Адаме,—
я бы ее...
— Но, но, Бекки, не надо быть такой кровожадной. Нет,
серьезно, не перебивай меня. Итак, сэры, я не стану вам передавать,
что она болтала. В Европе это вызвало бы смех даже у самых
темных людей. Но мы в Америке, мистеры. Здесь надо говорить
только очень простые вещи. Честное слово, эти хорошие люди,
наполнявшие церковь, были в восхищении. Та духовная пища,
которую предложила им Эмми Макферсон, не подошла бы даже
канарейке, если бы канарейки нуждались в религии. Грубое
шарлатанство, сдобренное жалкими остротами и довольно большой
порцией эротики в виде хора молодых девушек в просвечивающих
белых платьицах. Но самое главное, мистеры, было только
впереди. Оказалось, что Эмми Макферсон нужны сто тысяч дэлларов
на ремонт храма. Сто тысяч долларов, сэры, это большие деньги
даже в богатой Америке. И надо вам сказать, что американцы не
очень любят расставаться со своими долларами. Вы сами
понимаете, что если бы она просто попросила у собравшихся
пожертвовать на ремонт храма, то собрала бы весьма немного. Но она
выдумала гениальную штуку! Умолк потрясавший своды оркестр, и
завитая как ангел сестра Макферсон снова обратилась к толпе.
Речь ее поистине была вдохновенна. Мистеры, вы все потеряли,
потому что вы не слышали этой удивительной речи. «Братья, —
сказала она, — нужны деньги. Конечно, не мне, а богу. Можете
вы дать богу один пенни с каждого фунта веса вашего тела,
которое он даровал вам по неизреченной своей милости? Только
один пенни! Совсем немного! Только один пенни просит у вас бог!
Неужели вы ему откажете?».
Тут же по рядам забегали служители, раздавая листовки, на
которых было напечатано:
Молитесь, взвешивайтесь и платите!
Только 1 пенни с фунта живого веса. Взвешивайтесь сами!
Взвешивайте родных! Взвешивайте знакомых!
— Вы знаете, мистеры, ведь это гениально придумано! С
тонким знанием свойств американского характера. Американцы любят
цифры. Убедить их легче всего цифрами. Так просто они не дали
бы денег. Но один пенни с каждого фунта веса — в этом есть
что-то бесконечно убедительное и деловое. Кроме того, это
интересное занятие. Фермер вернется к себе в Айову и целую неделю
будет взвешивать своих соседей и родственников. Хохоту будет!.·
489
Да, да, да, сэры, служители снова забегали по рядам, на этот раз
с большими подносами. Собрали полные подносы денег в
несколько минут. Средний американец весит фунтов сто восемьдесят. Мой
толстый сосед из Невады отдал два доллара! А человек он явно
небогатый. Его убедили с помощью идиотской арифметики. Сэры,
я говорю вам вполне серьезно. Религия всех этих шарлатанских
сект находится где-то на полпути от таблицы умножения к
самому вульгарному мюзик-холлу. Немножко цифр, немножко старых
анекдотов, немножко порнографии и очень много наглости.
Призрак-любитель
В акционерном обществе «Насосы» создалось напряженное
положение. Говорили только о чистке, рассказывали пугающие
истории из практики бывших ранее чисток и вообще волновались
свыше меры.
Незаметно насосовцы перешли на страшные рассказы.
Инструктор из отдела поршней товарищ Быдто-Стерегущий поведал
обществу грустный случай. Ему, Быдто-Стерегущему, в молодости
явился призрак покойного деда. Призрак размахивал руками и
призывал на племянника кары небесные.
Быдто-Стерегущего осмеяли, и он сознался, что призрак этот
явился, собственно говоря, не ему лично, а одному очень
хорошему знакомому, которому верить можно безусловно. Все же
разговор о выходцах с того света продолжался. Все насосовцы
оказались сознательными и с презрением отметали даже самую мысль
о возможности появления призраков в наше трезвое
материалистическое время.
Заклейменный всеми, Быдто-Стерегущий отмежевался от
своего рассказа и уже собирался было удалиться в свой отдел
поршней, когда внезапно заговорил Культуртригер, старший работник
отдела шлангов.
— Легко сказать, — заметил он, — а призрак такая вещь, что
душу леденит.
— Стыдно, товарищ Культуртригер! — закричали все. —
Стыдно и глупо верить в привидения.
— Да, если бы мне в руки попался призрак, — сказал
товарищ Галерейский, — уж я бы ему...
И Галерейский самодовольно улыбнулся.
— Чудес на свете нет, — сказали два брата, работавшие в
обществе «Насосы» под разными фамилиями — Лев Рубашкин и Ян
Скамейкин. — Чудес на свете нет, а гением творения их является
человек.
— Материалистам призрак нипочем, — подтвердил
Галерейский.— Тем более мне как марксисту.
490
— Может быть, — тихо сказал дряхлый Культуртригер. — Все
может быть. На свете много загадочного и непостижимого.
— Высадят вас на чистке по второй категории, тогда будете
знать, как мистику разводить при исполнении служебных
обязанностей, — сказал Лев Рубашкин.
— Гнать таких стариков надо, — поддержал Ян Скамейкин,
поглядывая на своего брата Рубашкина.
На этом разговор кончился.
На другой день в акционерном обществе «Насосы» появилось
привидение. Оно вышло из уборной и медленным шагом
двинулось по длинному темному коридору.
Это было обыкновенное, пошленькое «привидение во всем
белом, с косой в правой руке. Привидение явно шло вровень с веком,
потому что в левой руке держало вместо песочных часов
новенький будильник.
Спугнув проходившую машинистку, которая с визгом умчалась,
привидение вошло в кабинет товарища Галерейского.
— Вам чего, товарищ? — спросил Галерейский, не поднимая
головы.
Привидение заворчало. Галерейский глянул и обомлел.
— Кто? Что? — завопил он, опрокинув стул и прижавшись к
стене.
Привидение взмахнуло косой, словно собираясь в< корне
подсечь молодую жизнь своей жертвы. Галерейский не стал терять
ни минуты. Он бросился к конторскому шкапу, всхлипывая, вполз
туда и заперся на ключ. Призрак нагло постучал в дверцу шкапа,
после чего изнутри донесся истерический крик.
— Тоже материалист! — озабоченно сказало привидение,
переходя в следующую комнату, где сидел ничего не подозревавший
Быдто-Стерегущий.
Стерегущий сразу упал, как сбитая шаром кегля, громко
стукнувшись головой об пол. Привидение с презрением пихнуло его
ногой и, тихо смеясь, вышло в коридор.
В отделе шлангов Лев Рубашкин и Ян Скамейкин невинно
развлекались игрою в шашки.
— У-лю-лю! — негромко сказало привидение, вваливаясь в
отдел и треща будильником, как бы подчеркивая этим, что дни
братьев сочтены.
— Мама! — сказал Лев Рубашкин шопотом и выпрыгнул в
окно.
Ян Скамейкин ничего не сказал. Он свалился под стол, лязгая
зубами, как собака.
Дальнейшая работа привидения дала поразительные
результаты. Из шестидесяти насосовцев:
Испытали ужас — тридцать шесть.
Упали в обморок — восемь.
Заболели нервным тиком — девять.
Остальные отделались легким испугом. Галерейский
совершенно поседел, Быдто-Стерегущий взял бюллетень, Рубашкин при
491
падении со второго этажа вывихнул руку, а Скамейкин помешался
в уме и целую неделю после этого на всех бумагах ставил
подпись вверх ногами.
На чистке все сидели молча и слушали биографию Галерей-
ского.
— Все это хорошо, — сказал с места старый Культуртригер.—
Но какой же товарищ Галерейский материалист, ежели он
привидения убоялся? Гнать таких надо по второй категории. И даже
по первой. Какой же он, товарищи, марксист?
— Это клевета! — закричал Галерейский.
— А кто в шкапу прятался?—ехидно спросил
Культуртригер. — Кто поседел от страха? У меня про всех записано.
Старик вынул записную книжку и стал читать.
— Вел себя также недостойно материалист Лев Рубашкин,
каковой при виде призрака выпрыгнул в окно. А еще считается
общественным работником. А равно и товарищ Скамейкин. Ноги
мне целовал от ужаса. У меня все записано.
Культуртригер схватил председателя комиссии за рукав и,
брызгая слюной, стал быстро изобличать насосовцев в мистике.
М. ЗОЩЕНКО
(Род. в 1895 г.)
Сторож
Один знакомый парнишка рассказал мне эту занятную историю.
Только, к сожалению, я позабыл название села, где развернулись
все эти события. Не то Кривючи, не то Кривуши. Где-то, одним
словом, недалеко от Пскова.
Так вот была в этом селе церковь «Никола-на-могильцах». Ну,
такое у ней было название. Не могу вам объяснить, отчего она
так называлась.
И вот при этой церкви «Никола-на-могильцах» находился
сторож, некто Морозов.
И вот стало известно во Пскове, что этого сторожа нещадным
образом эксплоатируют. Держат его без страховки, без жалованья
и без выходных дней. Ну, там, может, кинут ему, как собаке,
рубля три в месяц, и живи, как хочешь.
Но, между прочим, сам сторож не жаловался. В довершение
всего это был религиозный старик и при церкви находился вроде
как бы по призванию. Ну, что ли, ему нравилось быть церковным
492
сторожем. Это, что ли, отвечало его религиозным запросам.
Однако от этого картина эксплоатации не менялась.
И, значит, отрядили в эту деревню, в это село Кривуши
«легкую кавалерию». Отрядили трех ребят-комсомольцев обследовать,
как и чего и верно ли, что сторожу жалованья не платят.
Вот прибыли ребята на село и взяли сторожа в оборот. Мол,
как обстоят дела? И, небось, вам жалованья не платят, поскольку
вы не застрахованы. Ну, если это так, то можете с них
потребовать за все проработанное время.
Очень от этих слов взволновался старикан.
— То-есть, — говорит, — как позволите понимать ваши слова?
Значит, я могу с них деньги потребовать?
— Да, — говорят, — можете требовать разницу. И если вам,
для примеру, кидали по пятерке, то можете получить остальное,
сколько нехватало до ставки.
— А сколько эта ставка?
— Рублей, наверное, двадцать или восемнадцать.
— И за три года я могу получить?
— Да, — говорят, — можете. Сколько вам платили?
Тут, значит, у сторожа психология надвое раздвоилась.
С одной стороны, очень ему захотелось деньжонок хапнуть.
С другой стороны, как будто бы неловко церковь под удар
подводить. Ну, скажи он: трешку платят. И сразу невиданная сумма
перейдет в его карман. А с другой стороны — неловко, срамота,
религиозное чувство страдает и вообще для церкви непоправимый
удар.
Очень стал старикан мучиться, волноваться, бороденку свою
зубами кусать. Начал чего-то бормотать, карман наружу
выворачивать.
После все-таки деньги перетянули.
— Да, — говорит, — безусловно, какая же от них плата. Рубля
три отвалят, и, значит, цельный месяц кушай кошкин навоз. Они
завсегда рады чью-нибудь шкуру содрать.
Кавалерия говорит:
— Очень великолепно! Сейчас составим акт и двинем дело
под гору.
Сторож говорит:
— Да уж будьте милостивцы! Пущай с них деньги сдерут.
Три года им дарма храм стерег. Неинтересно получается.
Вот кавалерия уехала, и вскоре после этого попу представили
иск на двести восемьдесят рублей.
Чего тут было — описать перу нет возможности. Были
скандалы, волнения, крики и форменная неразбериха.
Однако делать нечего. Пришлось сторожа застраховать и
пришлось ему понемногу выплачивать.
А, надо сказать, все это было в аккурат под самую пасху.
Тут, значит, идет разное богослужение, церковный звон, исповедь
и тому подобная религиозная волынка. И, значит, наряду с этим
такой скандал.
493
И вот, в последнюю неделю поста, во время исповеди сторож
Морозов пришел с измученной душой к попу исповедываться.
И наряду с другими прихожанами стал скромненько в очередь.
Поп, конечно, его увидел, вышел из-за ширмы и так ему
говорит:
— Я тебя, Морозов, исповедывать не буду. Отойди с богом
в сторону. Ты мне храм начисто разорил и не будет тебе
никакой исповеди и прощения!
Сторож говорит:
— Батюшка, это есть гражданское дело по советским законам,
а исповедь есть вроде как религия, и вы не можете мне отказать
в этом, поскольку происходит отделение церкви от государства.
Поп говорит:
— Уйди, я тебя не буду исповедывать! Откажись от своих
нахальных претензий — и тогда другой разговор.
Очень они тут оба взволновались, начали срамить друг друга.
Сторож говорит:
— Ну, не хочешь, — не надо. Пес с тобой! И поскольку
церковь не одна, то я могу в другой приход сходить. А только мне
без исповеди нельзя, — меня грехи мучают.
Взял лошадь и поехал за шестнадцать верст.
Теперь получилась такая картина. Сторож Морозов служит
при этой церкви. Однако в этом храме он ничего религиозного
себе не дозволяет. Даже не крестится и демонстративно ходит в
шапке.
А молиться и за другими мелкими религиозными делишками
ездит в соседний приход. Так, сердечный, и живет, не бросая
религию. Пущай его.
Пасхальный случай
Вот, братцы мои, и праздник на носу — пасха православная.
Которые верующие, те, что бараны, потащат свои куличи
святить. Пущай тащат! Я не потащу. Будет. Мне, братцы, в прошлую
пасху на кулич ногой наступили. Главное, что я замешкался и
опоздал к началу. Прихожу к церковной ограде, а столы все уже
заняты. Я прошу православных граждан потесниться, а они не
хочут. Ругаются.
— Опоздал, — говорят, — чорт такой, так и становь свой
кулич на землю. Которые опоздали, все наземь ставили.
И только поставил, звоны и перезвоны начались.
И вижу, сам батя с кисточкой прется.
Макнет кисточку в ведерко и брызжет вокруг. Кому в рожу,
/ому в кулич — не разбирается.
А позади бати отец-дьякон благородно выступает с блюдцем,
собирает пожертвования.
494
— Не скупись, — говорит, — православная публика! Клади
монету посередь блюдца.
Проходят они мимо меня, а отец-дьякон зазевался на свое
блюдо и — хлоп ножищей в мою тарелку.
У меня аж дух захватило.
— Ты что ж, — говорю, — длинногривый, на кулич-то
наступаешь?.. В пасхальную ночь...
— Извините, — говорит, — нечаянно.
Я говорю:
— Мне с твоего извинения не шубу шить. Пущай мне теперь
полную стоимость заплатят. Клади, — говорю, — отец-дьякон,
деньги на кон!
Прервали шествие. Батя с кисточкой заявляется.
— Это, — говорит, — кому тут на кулич наступили?
— Мне, — говорю, — наступили. Дьякон, — говорю,— сукин
кот, наступил.
— Я, — говорит, — сейчас кулич этот кисточкой покроплю.
Можно будет его кушать. Все-таки духовная особа наступила...
—· Нету, — говорю, — батя. Хотя все ведерко свое на его
выливай, не согласен. Прошу деньги обратно.
Ну, пря поднялась. Кто за меня, кто против меня.
Звонарь Вавилыч с колокольни высовывается, спрашивает:
— Звонить, что ли, или пока перестать?
Я говорю:
— Обожди, Вавилыч, звонить. А то, — говорю, — под звон
они меня тут совсем объегорят.
А поп ходит вокруг меня, что больной, и руками разводит.
А дьякон, длинногривый дьявол, прислонился к забору и
щепочкой мой кулич с сапога счищает.
После выдают мне небольшую сумму с блюда- и просят уйти,
потому, дескать, мешаю им криками.
Ну, вышел я за ограду, покричал оттеда на отца-дьякона,
посрамил его, а после пошел.
А теперь куличи жру такие, несвяченые.
Вкус тот же, а неприятностей куда как меньше.
Шумел камыш
Нынче с новогодними рассказами прямо беда.
Между прочим, буквально становишься втупик: об чем писать?
С одной стороны, население культурно выросло: гаданием не
занимается и святочных поверий не признает.
С другой стороны, с елками все обстоит благополучно. Елки
дешевы. Игрушек много. Елочные свечи, до того дошло, — даже в
аптеках продают.
495
Окорок, или, говоря более научно, ветчину, тоже без труда
можно купить.
Так что, откровенно сказать, в этом сезоне под новый год
сатирику прямо делать нечего.
Позвольте уж, дорогие читатели, без всяких художественных
затей поздравить вас с новым годом и позвольте на этот раз
рассказать вам обыкновенную фактическую историйку.
А поскольку вы прочтете ее на новый год или скорее всего
в первой половине января, то она может до некоторой степени
сойти за святочный рассказ.
В общем, один поп был, представьте себе, приглашен на
похороны...
Тут скончалась одна старушка. И поскольку она
придерживалась религии и поскольку родственники ее отличались тем же
самым, то вот и решено было устроить старухе соответствующее
захоронение.
И вот приглашенный поп явился в назначенный час на
квартиру, облачился в парчевую ризу и приступил к исполнению своих
прямых обязанностей.
Только вдруг родственники с неудовольствием замечают, что
батюшка несколько не в себе: он немножко качается на ногах.
Родственники ему говорят:
— То, что вы под мухой, — это нас прямо удивляет и прямо
оскорбляет все наши чувства.
Батюшка говорит:
— Нет, что вы? Я ни в одном глазу. Но меня сегодня
действительно что-то покачивает. Наверно, я проголодался. Нет ли у
вас чего-нибудь подзаправиться?
Сразу батюшку повели в кухню, дали ему еды.
Подзаправившись, он снова приступил к работе. Но качка у
него продолжалась не в меньшей степени.
Но поскольку он уравновешивал эту качку помахиваньем
кадила, то все сходило более-менее удовлетворительно. Хотя
религиозное настроение у родственников было все-таки сорвано.
Наконец, усопшую понесли по лестнице, чтобы водрузить на
колесницу.
Батя, как ему полагалось, шел впереди.
Вдруг родственники не без ужаса слышат, что вместо «со
святыми упокой» батюшка затянул что-то несообразное.
И вдруг все замечают, что он поет песню:
«Шумел камыш, деревья гнулись,
А ночка темная была.
Одна возлюбленная пара
Всю ночь сидела до утра...»
Родственники просто остолбенели, когда услышали эти слова.
Один из родственников, бывший камердинер, подходит к
священнику и говорит ему:
— Ну, знаете, это слишком — арии петь. Мы вас пригласили.
496
чтобы вы нам спели что-нибудь подходящее к захоронению
усопшей, а вы пустились на такое паскудство. Ну-ка, дыхните на
меня.
Дыхнув на камердинера, поп сказал:
— Когда я выпивши, я почему-то завсегда сворачиваю на эту
песню. Усопшей это безразлично, а что касается родственников,
то мне наплевать на них.
Бывший камердинер говорит:
— В другое время мы бы вас выслушали с интересом,
поскольку песня действительно хороша, и я даже хочу записать ее
слова, но в настоящий момент это с вашей стороны просто
нахальство — петь.
Тут среди родственников начались крики. Раздались возгласы:
— Позовите милиционера.
Во дворе собралась публика. Дворник, подойдя к воротам, дал
тревожный свисток.
Вот приходит милиционер. Родственники говорят ему:
— Вот поглядите, какого попа мы пригласили. Что вы
скажете?
Милиционер говорит:
— Все-таки этот служитель культа еще владеет собой. Вот
если б он у вас падал, то я бы отвел его в отделение. Но он еще
держится и только не то поет. Пущай он хоть на голове ходит и
«чижика» поет — милиции это безразлично.
Родственники говорят:
— Что же нам делать?
Батюшка говорит:
— Что вы, ей-богу, скандал устраиваете! Осталось пройти
сорок шагов, и как-нибудь с божьей помощью я дойду.
Бывший камердинер говорит:
— Но если вы опять начнете петь, то я вам чем-нибудь глотку
заткну. Вы прямо прохвост, а не поп.
Вот процессия двинулась дальше. И батюшка владел собой
хорошо. Но когда гроб устанавливали на колесницу, батюшка снова
запел.
«Ах, не одна трава помята...»
Тут камердинер, совсем озверев, хотел кинуться на него, но
родственники удержали, а то получилось бы вовсе безобразно.
В общем, батюшка, рассердившись на всех, ушел. И колесница
благополучно тронулась в путь.
Этот до некоторой степени святочный рассказ мы рассказали
вам без единого слова выдумки. В чем и подписуемся.
А. КОЛОСОВ
Разговор с чортом
Старик говорил старухе:
— Не ходи в Севак пешком. Дождись базарного дня. Поедут
люди на базар, и ты с ними.
А старуха:
— Мне маркизету надо купить да темненького сатина на
платье надо купить, а щи я уж сварила и кашу уж сварила, нет,
пойду полегоньку.
Пошла.
В селе Дымчино, что лежит на середине пути к городу, старуха
увидела, как парни и девушки выносят из клуба какие-то
холстины, крашеные кусты и грузят на телегу.
Старуха не спросила, что это такое и куда это везут, потому
что театральные, музыкальные и прочие такие дела ей мало
интересны.
Конечно, если бы старуха интересовалась музыкой, она, верно,
остановилась бы у клубной витрины и прочла бы, что в Дымчино
приехали музыкально-хоровые кружки из Савелова, из Некрасовки
и что сегодня на свекловичных полях, на открытой сцене,
начнется весенняя межколхозная олимпиада. На той же афише старуха
прочла бы, что сегодня савеловский кружок покажет отрывки из
оперы «Русалка», а некрасовский кружок — сцену заклинания
цветов из «Фауста».
Но старуха и не взглянула на афишу. Она шла и размышляла
о своем: о маркизете и темненьком сатине.
Выйдя в поле, где колхозницы шаровали свеклу, старуха
увидала, что невдалеке от речки парни строят какой-то помост, ставят
скамьи. «Для кина, что ли?» — подумала старуха...
Из города она возвращалась довольная: кроме маркизета и
сатина, она купила еще калоши и цветную шерстяную пряжу.
Уже темнело, когда старуха снова увидела село Дымчино.
«А дай-ка, — вдруг решила она, — дай-ка я пойду не по
большаку, а луговой тропкой. Выйду тропкой на сузякинский проселок
и оттеда напрямики домой. Так будет намного ближе».
Идя по луговой тропке, она слышала, как вдалеке играет
музыка и кто-то поет. «А-а, — догадалась старуха, — это, стало
быть, на тех мостках, которые давеча строили».
Подумала так и тотчас же забыла о музыке, а думала о своем.
Так дошла она до густого кустарника, что растет на берегу
речушки, и уже хотела повернуть к сузякинскому проселку, как
вдруг из кустов вылез очень крупный чорт. Конечно, если бы
старуха бывала в опере, она поняла бы, что это Мефистофель.
А если бы она учла, что вокруг полевого театра открытая равни-
498
на, то она нисколько не удивилась бы, что Мефистофель, отойдя
от театра на полкилометра, залез именно в эти кусты: может
быть, он там вживался в свою роль, отрабатывал всякие детали.
Но старуха в опере не бывала, а о полевом колхозном театре
забыла в гэту минуту начисто. Она имела дело с фактом: из
кустов вылез здоровущий чорт с рогом, с козьим хвостом.
Старуха не крикнула, не охнула, а быстренько села в траву,
прямо у ног чорта. Села, закрыла глаза и — можно ли осудить ее
за это? — стала креститься. Перекрестившись за минуту очень
много раз, она приоткрыла глаза и, увидев, что чорт стоит, как
стоял, перекрестила его, думая, что это поможет.
У каждого человека есть слабости, и некоторые из этих
слабостей, например самодовольство, чрезмерное благодушие и т. д.,
проявляются в человеке особо отчетливо тогда, когда он надевает
новый, отлично сшитый и всех восхищающий костюм. Петр Бай-
кин, некрасовский сыровар, не раз пел в сцене заклинания
цветов, но красный костюм Мефистофеля он надел лишь впервые,
и впечатление, произведенное этим костюмом на старуху, не только
не огорчило артиста, но, наоборот, вполне удовлетворило его.
Увидев, как старуха села на траву, как закрестилась, Байкин не
сказал: «Ты, бабуся, не бойся: я некрасовский сыровар, а совсем
не чорт...»
Нет, Байкин не сказал этого, а, слегка махнув плащом, строго
произнес:
— Крестишься! А ведь я креста твоего не боюсь.
Старуха, все еще не открывая глаз (она пуще всего
страшилась взглянуть в лицо чорта: «Взгляну и помру»), долго шевелила
губами, а затем произнесла тонким, ломким голосом:
— А чего мне креститься-то? Я ведь в бога неверящая.
— А крестишься, — сказал чорт.
— Это я сдуру, — ответила старуха. — Что в нем, в кресте-
то?
Покосившись на ноги Мефистофеля, глухо проговорила:
— Если ты и погубишь меня, то без всякой себе пользы:
я в бога неверящая.
И опять перекрестилась.
— А зачем мне тебя губить? — заговорил чорт. — Эх, ты!..
Ну, ладно, я тебе сейчас весь секрет раскрою.
— Не надо! — крикнула старуха, и плечи, и колени ее
затряслись. — Не надо мне твоего секрета.
Лицо ее выразило такое отвращение к чорту, такую крайнюю
брезгливость к нему, что Петра Байкина, уже хотевшего было
назвать старухе свое имя и все объяснить, снова потянуло на
легкомысленный разговор:
— Это ты зря, — сказал он старухе. — А я мог бы оказать
тебе большую помогу. Хочешь, вот из этих кочек сделаю золото?
Старуха и головой и руками решительно отвергла это.
— Хочешь, сто метров маркизета и десять пар шевровых
ботинок?
32· 499
Старуха подумала и сказала:
— Да сгори ты со своими ботинками. Ничего мне не надо.
— Никак с тобой не договориться.
— А про что с тобой уговариваться? — произнесла старуха. —
Нам с тобой не пахать, не косить, коров не доить.
— Отчего не доить? — возразил Мефистофель. — Захочу и все
улицы залью молоком.
Старуха хмуро сказала:
— Не должно быть у тебя молока. Может, цикорию какую
вредную даешь, а молока от тебя нету.
— И молоко и цикория, — чесал язык Байкин. — У кого,
например, ревматизм, ломота, тот помажется этой цикорией — и как
молодой.
Старуха не удержалась и заинтересованно посмотрела в лицо
чорту.
— Да ведь удивляться нечему, — раздумчиво, словно беседуя
с собой, сказала она. — Вон прошкины болота. Кому от них какая
польза была? Жабы, вонь да лихорадка. Как люди мучались
лихорадкой-то! А теперь мужики осушили, канавки понарыли и все
сделали по науке, и теперь хлеб растет, и капуста какая, и огурцы,
и ягоды, и все. Нынче народ изо всего пользу себе делает. Ä я
что! Я туманная. И сил у меня нету. Вот если бы ты на внуков
моих насекся, то, может, они угадали бы, что с тобой делать.
Они двух лисиц пымали и лисят разводят. Может, у тебя шерсть
хорошая, и тебя бы тогда разводить стали?
Или, может, у тебя такая сила, что ты лес корчевать можешь.
На цепочку тебя возьмут, и будешь корчевать.
Она уже деловито разглядывала Мефистофеля.
— Насчет цепочки, бабуля, не выйдет, — сказал Мефистофель,
поднявшись с травы. — А вот насчет шерсти, это я могу.
Захочу— и шерсти у вас будет больше соломы.
Старуха заволновалась, лицо ее выражало озабоченность.
— Туманная я, — говорила она. — Я думала, что вы и не
водитесь вовсе. Ан вон водитесь. Тебе бы с мужиками нашими су-
стретиться. Они до всякой пользы охочи.
В кустах послышались голоса: «Где же он?» «Да сюда он
пошел. Я сам видел, что сюда!..»
Мефистофель повернул голову, хотел, видно, откликнуться
товарищам, но вдруг вздрогнул, за'шатался: старуха, обхватив одной
рукой его ногу, а другой — хвост, кричала страшно:
— Караул, пымала! Караул, пымала!
На лице ее читался испуг, перемешанный с хозяйской
озабоченностью: словно поймала она не Мефистофеля, а бодливую, но
высокодоходную корову или одичавшего, но тоже
высокодоходного хряка.
500
Б. РИСКИНД
На границе
Это далеко от Москвы, поближе к Киеву и совсем близко к
границе... Революция рассекла надвое маленькое еврейское
местечко. В одной половине местечка есть исполком, сельсовет, Осоавиа-
хим, Заготзерно... В другой половине нет исполкома, нет
сельсовета, нет Заготзерна..
В одной половине местечка — просторная школа с большими
сверкающими окнами и дверью, обращенной к той стороне
местечка, где нет никакой школы. Дверь, правда, есть и на той
половине, и хедер за этой дверью, но так это криво, и низко, и
валко, что никто с точностью не может сказать, — дверь ли
поддерживает хедер или хедер поддерживает дверь.
Еврейские дети одной половины — они пионеры, авиомодели-
сты, планеристы, математики. На другой стороне нет авиомодели-
стов и нет пионеров. На другой стороне еврейские дети с утра
до ночи сидят в хедере, тесно прижавшись друг к другу.
Исчахшие детские лица, умные глаза на исчахших лицах и
вереница полуголодных дней перед этими глазами.
По каждому предмету учитель на одной половине, по сильному
и веселому человеку на каждый предмет, и один ребе по всем
предметам на второй половине, один больной старик, который так
же боится улыбки, как больные глаза его боятся солнца: солнце
«режет» ему глаза. И, наконец, наша армия на нашей половине —
красноармейцы и пограничники, друзья наших детей, друзья их
матерей и отцов, и другая армия на противоположной стороне —
немые солдаты, которых боятся и дети и родители.
И вот там, где нет школы, но есть хедер, — там справляли
одному человеку бар-мицве. Человеку этому исполнилось
тринадцать лет. Был бы у него стоящий костюм, были бы его родители
похожи на людей, может, и праздник был бы похож на
праздник...
Ну, а если отличие этого дня от всех предыдущих состояло
только в том, что мальчик надел отцовские брюки, и надел их не
потому, что они были новые, а потому, что они были другие?..
Все это, я думаю, не оставляет сомнений насчет того, какой
вид имели отец и сын на этом празднике. Остается мать... Но
сколько нужно матери, чтобы быть счастливой? Дня два — три, не
больше. Три счастливых дня — это то, чего им хватает на всю
жизнь. Первый день: она родит сына; второй день — бар-мицве,
сыну исполнилось тринадцать лет; и если дожить до того дня,
когда сын женится, — тут она считает себя с богом квиты, тут
она дает расписку в том, что весь паек счастья, который
причитался от бога, получен сполна.
501
И вот, полная гордости, смотрит она на своего сына с его
косыми глазами и короткими брюками. О матери! Как мало вам
нужно для счастья и как много счастья недобираете вы от своих
должников!..
Празднество справляли в хедере. Герой стоял на возвышении.
Стоять на этом возвышении было утомительно. Мало того, что
человек дожил до тринадцати лет — для гостей это оказалось
недостаточно,— нужно было еще и уметь что-нибудь: сказать
наизусть главу из библии или вывязать тфилин на левой руке,
словом, проделать то, что делают евреи каждое утро на этой земле.
Но вывязать тфилин на левой руке наш герой не сумел, пропеть
наизусть главу из святого писания он тоже не сумел.
— Не та голова, — сказал ребе, когда плоды его воспитания
сделались явными, и сам пробурчал все те молитвы, которые
должен был прочесть мальчик.
— Не та голова,— повторил он и стал бубнить еще яростнее,
забыв об ученике, засмотревшемся на единственную тарелку с
холодцом.
Смотрел он на холодец, как человек уже умерший, но не
успевший закрыть глаза, — с той разницей, правда, что человек после
смерти смотрит на холодец от нечего делать, а мальчик не сводил
глаз с холодца, потому что он был голоден.
— Спой хоть что-нибудь, могила!—сказал ребе, отколотив
языком целую главу из святого писания.
И стеклянные глаза мальчика как будто раскололись. Свет
блеснул в них. Мальчик начал петь: вот это он умел! Но что бы,
вы думали, запел он?
«По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперед...»
Дрожь потрясла гостей. Страх исказил их лица, когда дети
подхватили хором:
«Чтобы с боем взять Приморье —
Белой армии оплот!»
Только с пожара бегут люди так, как бежали из хедера;
убегая, они оглядывались по сторонам, как бы их кто-нибудь не
приметил.
Горбатый ребе, подскочив к виновнику торжества, так ударил
его кулаком по голове, что виновник торжества перестал не только
петь, но и дышать яа некоторое время.
— Откуда это горе, разбойники? Где вы взяли эту песню?
— Из их школы, — ответили дети, — мы слышим, как они
поют у себя в школе.
— Ложь! — сказал ребе. — Почему я не слышу, как они поют
у себя в школе?
— Вы не слышите, — ответили дети, — а мы слышим.
— Корень! — закричал тогда ребе. — Где он растет,
разбойники, корень нашей гибели?··
502
Теперь о другом — знаете ли вы Берчика?
При упоминании о Берчике люди вздыхают — и это не потому,
что им жалко его, они потому вздыхают, что Берчик никого не
жалеет.
Сделать так, чтобы люди плакали, вот чем занимается Берчик.
Милостыни он не просит, он ее зарабатывает. У него есть
скрипка; скрипка его кормит.
Берчик знает много грустных мелодий, но если нужно, он
сыграет вам польку, мазурку, вальс.
Ему двенадцать лет, но это бывает только тогда, когда он не
играет. И все растворяется, все пропадает, все уходит — и годы
его, и сам Берчик, и покорное его лицо, когда Берчик
прикладывает к щеке скрипку и закрывает глаза.
Песни с той стороны дети знают, потому что их знает
Берчик.
В камышах есть потайное место, — туда приходит Берчик,
туда прокрадываются дети из хедера. Берчик играет им песни,
перелетевшие с той стороны, играет тихонько, чуть слышно, но
с переходами, со всеми словами, с паузами, как будто и он был
там, на той стороне. Дети чуть слышно повторяют за ним, и, если
бы ребе знал, с какой быстротой запоминают они наизусть все
слова этих песен, обида старика была бы велика. Впрочем, она
и так (горела в нем не потухая. Горбатые старики упрямы. Ребе
искал до тех пор, пока не нашел в камышах потайное место, пока
не нашел виновника — Берчика. Но откуда Берчик знает эти
песни?
Ответить на этот вопрос мальчику пришлось не в хедере, а в
участке. Там, в участке, все сразу увидели, что на свете нет
мальчика послушнее Берчика.
Участковый, разжалобившись, дал ему поесть. Берчик поел.
Участковый попросил его сыграть на скрипке. Берчик сыграл —
сначала польку, потом мазурку, потом вальс.
— А если еще? — спросил участковый, и Берчик сыграл ему
еврейский «шер», еврейскую «гопку», еврейское «страдание».
— А если другое?.. — сказал участковый.
— Это все, — ответил Берчик.
— А «Каховка»?
— Это что за вальс — «Каховка»? — спросил Берчик.
— Это тот вальс, — ответил участковый, — за который людям
разбивают голову.
— Ясновельможный пан, человек же мучается, когда ему
разбивают голову...
— Ну, а если разбить скрипку? — спросил участковый.
— Тогда человек умирает, ясновельможный пан.
Смерти Берчика — нет, этого участковый не хотел.
Он не разбил мальчику голову. Он не сломал его скрипку. Он
ударил Берчика ногой в живот и начал все сызнова: он попросил
Берчика поесть, но Берчик не мог есть больше, он попросил
Берчика сыграть, но Берчик не мог играть больше.
503
Тогда мальчика выпустили или, вернее сказать, вынесли, и
ночевал Берчик там, где его бросили.
На рассвете он проснулся.
«Просыпаются только живые, — подумал Берчик, открыв
глаза, — скрипка цела, голова цела и нетронутое целое солнце над
головой...»
«Вальс, — усмехнулся Берчик, — дай тебе бог такую жизнь,
пани участковый, как этот вальс — «Каховка».
Он встал на ноги. Ноги его дрожали.
— Дитя мое, — сказал ребе, проходивший мимо, — допустим,
что ты не хочешь сказать этого мне, но почему тебе не сказать
богу, кто выучил тебя таким грешным песням?
— Бог знает все, — ответил Берчик, — зачем говорить богу о
том, о чем он сам знает?
— Выродок!—задохся ребе. — Вот я сломаю тебе руки и
ноги...
Но Берчик даже не двинулся с места.
— После ясновельможного пана, — сказал Берчик, — вы у
меня, ребе, небольшой разбойник...
— Ну что? — спросили у ребе в участке.
— Плохо! — ответил ребе, — совсем плохо... И то плохо, что
родители моих оборванцев тоже непрочь послушать эти песни,
оглохнуть бы им до того, как те начнут петь, а эти слушать...
— Позволь, — нахмурился участковый, — дети же целый день
в хедере...
— Целый день в хедере, — ответил ребе, — и целую ночь
дома. Человек — это, пани, такое животное, которое лучше всего
поет ночью...
И эту ночь местечко забудет не скоро, тихую и светлую ночь,
всю в шелковом шелесте.
Рядом с мальчиком стоит Стах — последний часовой польской
границы. Стаху ружье по пояс, мальчик по пояс ружью. Польский
солдат Стах рядом с Берчиком — все возможно в такую ночь...
— Сегодня праздник на той стороне, — шепчет Стах, — они
будут петь сегодня целую- ночь... Я уж их знаю, когда они
разгуляются...
— Я тоже их знаю, когда они разгуляются, — шепчет Берчик.
— Дети там, на той стороне, — говорит Стах, — кончают
сегодня свою школу. Завтра они разъедутся по своим городам, по
университетам, по академиям... Завтра они станут тем, кем они
захотят быть. Не так, как у нас, Берчик...
И в это мгновение на той стороне запели.
Они поют всю ночь напролет, когда они разгуляются, на той
стороне...
Хорошо за спиной у Стаха — рядом с его ружьем... Никто не
видит Берчика — и как ясно доносится песня с той стороны.
Глаза Берчика закрыты, скрипка прижата к щеке. Глаза его
закрыты, но он видит, как новая мелодия дрожа приближается
к скрипке, как начинает она летать над нею, слепая, как птица
504
ночью, слепая и дрожащая, как рождение нового существа. Он не
играет еще, Берчик, или, может быть, что что-то неслышно играет
в нем. Улыбка проступает на голубоватом узком его лице. И тогда
Стах понимает, что все идет как надо.
— В кармане, Берчик?
— В кармане, Стасик.
И первый звук отделяется от скрипки.
«Лежит под курганом,
Заросшим бурьяном,
Матрос партизан Железняк...»
— Есть, Берчик? — спрашивает Стах, дрожа от нетерпения.
— Есть, Стасик, — и, в такт качая головой, мальчик играет.
Тогда солдат не выдерживает. Он наклоняется, чтобы
погладить мальчика. Он наклоняется и замирает.
Когда на границе смотрят из кустов человеческие глаза, — это
смотрит смерть.
Стах выпрямился, чтобы загородить мальчика своим телом.
— Беги, Берчик... Беги в их школу.
— А ты, Стах?
Выстрел.
— В кармане... — сказал Стах, провожая глазами бегущего
Берчика.
Он стоял неподвижно, как подобает стоять солдату, даже
тогда, когда он подстрелен. Потом кровь вылилась у него из горла,
и он упал.
Умирать везли солдата через все местечко.
И глядя на носилки с раненым Стахом, еврейские женщины не
нашли ничего другого, как подступить к богу с вопросами.
— Ты можешь делать чудеса, господи, — был первый их
вопрос, — почему же ты не сделал так, чтобы граница прошла за
нами, а не впереди нас?
— И что бы ты доложил из своего капитала, если бы на
нашей стороне был такой же исполком, как и на той стороне?
И — третий вопрос — о чем могут спросить напоследок
еврейские женщины?..
— Почему те дети, на той стороне, заслужили у тебя больше
счастья, чем наши дети? — таков был третий вопрос.
...Далеко от Москвы, поближе к Киеву и совсем близко к
границе, есть еврейское местечко... На одной его стороне есть
исполком, на другой — нет исполкома... Но луна у них общая, когда
она есть...
505
ЛЕОНИД ЛЕНЧ
«Кукарача»
Новую няньку звали трудно — Олимпиада Панфиловна. А
мама так и велела ее называть полностью по имени и отчеству.
У Юрки Олимпиада превратилась в Лампаду, а Панфиловна — в
Филовну. Лампада Филовна!
Лампада Филовна Юрке не нравилась. Она была маленькая,
суетливая, с красными цепкими руками. Она вечно жаловалась на
Юрку матери. Мама только явится из консерватории, еще лальто
не успеет сиять, а Лампада уже рада стараться:
— Юрочка на дворе одну девчонку побил. Ейная мать теперь
хочет до нас притти обижаться.
Мама скажет:
— А вы куда глядели?
Лампада свое:
— Нешто за таким ребенком углядишь? Он ведь как воробей:
сейчас тут, а потом — фыр!
Однажды Лампада Филовна, гуляя, завела Юрку в какое-то
странное помещение. Большая, высокая комната. На стенах
развешаны картинки, перед картинками горят свечки. На картинках
нарисованы бородатые дяди босиком, в накинутых на плечи
простынках.
Юрка дернул няньку за рукав, спросил, показав пальцем на
одного такого дядю:
— Лампада Филовна, это ненормальные нарисованы?
Лампада зашипела, зафыркала, как кошка, сказала строго:
— Стой смирно!
Юрка замолчал, стал смотреть по сторонам. Древние старушки
вроде Лампады глядели на картинки, махали руками, трогая себя
за лоб и плечи. Юрка подумал и начал делать так же, как и они,
только, чтобы интереснее было, трогал себя за нос.
А потом вдруг громко запели дяди и тети, стоявшие впереди
на возвышении, и Юрка сразу все понял: это представляют.
Он страшно обрадовался:
— Эх, наверно, сейчас собак покажут дрессированных!
Собак, однако, почему-то не показали. Внезапно раскрылись
золоченые двери, и появилась тетя в серебряной юбке.
Приглядевшись, Юрка тихо ахнул: тетя была с бородой и лысая.
— Лампада Филовна, это клоун? — спросил Юрка от
удивления шопотом.
Нянька опять зашипела и зафыркала, как кошка:
— Тсс!.. Тише! Беса тешишь, прости господи! Это батюшка!
— Чей батюшка?,
506
— Тсс!.. Тише! Ничей. Тутошний.
Дяди и тети спели еще одну песню. t Она понравилась Юрке
меньше. Страх его прошел. Он искоса посмотрел на Лампаду:
нянька все кланялась и мотала руками. Юрка шмыгнул вперед и,
подойдя к батюшке в серебряной юбке, вежливо попросил:
— Спойте теперь, пожалуйста, «Кукарачу».
Лицо у батюшки сразу вытянулось, борода затряслась, сзади
заахали, зашелестели старушки. Не успел Юрка опомниться, как
очутился на улице.
— Что за ребенок, прости, господи! В божьем храме такие
слова.
— Какие, Лампада Филовна?
— Петушиные, вот какие! Бог услышит, — знаешь, что тебе
будет?
— А кто это бог?
— Отец всего сущего.
— А я тоже сущий?
— Сущий, сущий!
— А мой отец — не бог, а Александр Павлович Скрипицын.
Лампада Филовна даже присела:
— Ни стыда, ни совести у этих нынешних ребят. Да ты
знаешь, что бог с тобой может сделать, если ты петушиные слова в
церкви станешь говорить?
— Что?
— Пришлет ангела с огненным мечом да и заберет тебя.
— Куда, в милицию?
— Там узнаешь, куда. Идем-ка домой. Всю ты мне обедню
испортил.
...Весь день Юрка думал про ангела с огненным мечом. Кто
такой? Откуда у него огненный меч? И кто он: фашист или наш?
Решил: фашист. Но на всякий случай справился у матери:
— Мама, ангелы — фашисты?
— Какие ангелы? Ничего не понимаю.
— Которые с огненными мечами?
Мама рассмеялась:
— Откуда у тебя такие глупости в голове? Ложись-ка, брат,
спать.
Утром Юрка стал готовиться в поход. Зарядил свой револьвер
пробкой да две взял в запас. За пояс заткнул деревянную
«чапаевскую» саблю. Лампаде Филовне сказал кротко, с хитрецой:
— Лампада Филовна, пойдемте сегодня опять к батюшке.
— Опять будешь петушиные слова в церкви говорить?
— Честное слово не буду!
— Ну, смотри! Сегодня служба великопостная, благолепная·
Мамочке-то только не говори, куда мы с тобой ходим.
— Ладно!
...Снова кланялись и махали руками старушки, снова гнусавил
лысый батюшка. Юрка с бьющимся сердцем сжимал ручку своего
пугача, выжидал подходящего момента.
507
Вот батюшка куда-то ушел. Другой, помоложе, что-то
бормочет, читает вслух толстенную книжку. Пора?
Юрка сделал два шага вперед и вдруг громко, на всю церковь
запел:
«Кукарача, кукарача —
Это значит таракан!..»
Пропев это заклинание, Юрка крикнул:
— Эй, ангел, выходи, я тебя не боюсь!
И погрозил окаменевшему батюшке с книжкой револьвером,
заряженным пробкой...
На улице, когда Лампада Филовна откудахтала свое, Юрка
сказал с гордостью:
— Что, испугался ваш ангел?!
Χ^βίΧ
фольклор
i^*S^^i^ô.^i3^^fâS^S©^.
Ленинская правда
Народная сказка
Сорок лет тому назад приходит к царю самый главный
министр генерал Плеве и докладывает, что по всей стране народ
бунтуется, против бога и царя подымается, сознание у него
пробуждается.
Царь министра не слушает, в усы усмехается — «чепуха,
мол» — и приказывает зачинщиков изловить, смертью лютою
казнить и ему об исполнении донести.
Падает царский министр на колени, целует царский золотой
сапог и говорит, от страха цепенея:
— Прикажите лучше меня казнить, ваше царское величество,
а приказа исполнить не могу: нехватает у меня ни солдат, ни
полиции.
Рассердился царь, прогнал министра и собрал на совет
собрание попов. Спорили, спорили попы-архиереи, потели, пыхтели
долгогривые, наконец, передрались, а придумать ничего не могли: ума
у них нехватило. А народ уж в самом Петербурге волнуется.
Опечалился царь, испугался, уложил в чемоданы бриллианты
и решил к немецкому царю Вильгельму за помощью бежать.
«Немецкий царь, мол, придушит русский народ, тогда вернусь и по-
прежнему зацарствую».
Сел уж царь на корабль-броненосец, а ему тут докладывают:
так вот и так, мужик один обещает власть царскую спасти,
престол для вас сохранить и средство дает, как народ опять к рукам
прибрать.
Вернулся царь в Петербург, принял во дворце-хоромах того
мужика, а он оказался богатым кулаком^конокрадом Гришкой, за
жизнь свою грязную прозванный Распутиным. Целует Распутин
царский сапог и говорит ему:
— Царишка из тебя, конечно, хреновый, да не в тебе дело, а
во власти царской. Без нее нам, ворам-кулакам, пропадать
придется. Хоть умишком ты больно слаб, но старайся, вникай в мои
слова и их полностью исполняй.
Царь глазами моргает, головой качает: согласен, мол.
— Народ наш живет в большой нищете и обиде, — говорит
Распутин, — тяжело ему живется, но темен он и неграмотен —
511
правды ищет, где найти — не знает. Знает народную правду лишь
один человек — Владимир Ильич по фамилии Ульянов. Он народу
правду рассказывает, к счастливой жизни путь-дорогу указывает.
Вот поэтому народ и бунтуется. Прикажи его, Ульянова, найти,
задари, купи его, пусть от народа откажется, нам богатеям пусть
служит. А народ без головы останется, с властью нашей не
совладает и опять под кнут пойдет. Так-то.
Сто тысяч жандармов, сто тысяч урядников разослали по всей
стране, но не могли найти Ульянова — прятал его народ
трудовой. Тогда Гришка советует искать там, где народ самый
сознательный, организованный. Посмотрели на шпионские списки и
видят, что самый сознательный рабочий на Путиловском заводе.
Пошли туда, но рабочие Ильича не высказывают, от царских
жандармов охраняют. Пошли на завод Гришка и царский министр,
и подкупил Гришка молодого парнишку Левку Троцкого, он и
выдал Владимира Ильича шпионам.
Обрадовался царь, наградил Гришку миллионом рублей,
назначил главным над сенатом и самым святым в святейшем синоде,
а Владимира Ильича приказал доставить к нему.
Царь перед Ильичем лисой расстилается, тысячу имений
предлагает, богатства разные, и графом, мол, назначу, и царским
наместником, и полцарства не пожалею, только покинь народ
трудовой.
Ильич на царя и смотреть не стал, не то, что с ним
разговаривать. За это посадили его в самую страшную крепость и
послали к нему митрополита уговаривать. Стал митрополит Ильича
адскими муками запугивать.
Засмеялся Владимир Ильич и спрашивает митрополита:
— А вы, — говорит,—сами-то видали настоящий ад?
— Нет, — отвечает митрополит, — не видел, но, читая
священное писание, представляю его довольно ясно.
И пошел-пошел расписывать адские муки.
— Нет, — говорит Ильич, — не представляете вы ада.
Хотите, я вам его покажу, да не какой-нибудь там выдуманный, а
настоящий.
Согласился митрополит, договорился с царем и под большим
конвоем пустили Владимира Ильича с митрополитом по городу.
Показал Ильич митрополиту фабрики, заводы, рабочие землянки,
народное горе и нищету. Ужаснулся митрополит и говорит:
— Действительно, легче у чертей на сковородке жариться, чем
такие муки терпеть. А может, оно и к лучшему, что привыкают,
на том свете легче им будет.
— А можете ли вы — бог, царь и попы — уничтожить этот ад
на земле и вместо него оборудовать рай тоже здесь на земле?
— Нет, — говорит митрополит, — этого сделать никто не
может— ни бог, ни царь и ни герой. Это вещь невозможная.
— Почему невозможная? — говорит Ильич. — Сделать это
можно, и сделаем, а как — не скажу, в этом правда народная,
непобедимая.
512
Посадили Владимира Ильича опять в тюрьму и жестокими
муками стали пытать, требовали, чтобы отказался он разъяснять
правду народу. Но никакие муки, никакие пытки не могли
сломить Ильича. Ни слова не сказал он палачам.
Тогда сослали его в Сибирь, в самое отдаленное, холодное
место на земле, куда птица не залетает, зверь не забегает, голос
человеческий не доносится. Не дали ему ни книг, ни пера с бумагой,
чтобы не мог он передать народу правду.
Но и в далекой глухой Сибири не сдался Владимир Ильич. На
тонкой шкурке от березовой коры он своей кровью писал газету и
посылал в Россию. Там ее перепечатывал его ученик товарищ
Сталин.
Читали газету рабочие и крестьяне и начинали они понимать,
почему и откуда их жизнь каторжная. Стали понимать, что для'
того, чтобы устроить на земле жизнь хорошую, счастливую, надо
иметь свою партию.
Назвали рабочие свою газету «Правдой», а Владимиру Ильичу
дали новую фамилию — Ленин, за то, что на далекой, холодной
Лене он не сдавался и твердо боролся за трудовую правду.
Кровь Ленина, которой он писал газету, крепко опаяла газету,
крепко спаяла рабочих и крестьян в такую силу, что ее никто и
никогда не победит.
Сказка эта — обработка рассказов рабочих
сахарного завода имени К. Либкнехта в
Ивановском районе, Курской области. Она
свидетельствует о великой любви народа к Ленину и
Сталину. Записал сказку Юрий Солнышко.
Лиса-проповедница
Русская сказка
В зимнюю студеную ночь по занесенным снегом полям бродил
голодный-преголодный волк. Он обрыскал все кусточки и
ложбинки, но добычи нигде не нашел.
Подвело от голода волку живот, сел он на сугроб и завыл
протяжно и жалобно. На вой прибежала лиса любопытная.
И без слов поняла лисица волка и, хотя раньше часто с
волком они ссорились, пожалела его. Как-никак, а свой своему
поневоле брат.
— Не тужи, сватушка, не горюй. Помогу твоему горю, да и
сама в обиде не останусь. Приходи завтра на большую поляну,
где ель обгорелая. Уж попируем с тобой наславу!
Попрощалась лиса с волком и побежала по норам, по закутам,
всему зверью рассказывая:
— Знаете, вечером сочельник — Христос рождается. На земле,
значит, мир и благоволение. В сочельник никто не обижает
другого, ибо в святом писании сказано: сЛев мирно будет спать с
33-22 513
ягненком, а волк — с теленком». По случаю такого праздника в
лесу на большой поляне, где обгорелая ель, будет бал для всех
зверей. Приходите все на бал! Обязательно приходите! Придете?
Ну, хорошо, хорошо.
И вечером в сочельник на лесной поляне собрались и большие
звери и малые. Собрались со всего леса, и с полей, и с колхозных
ферм.
Сначала было заседание. Лиса доклад сделала про рождество,
про всеобщий мир, про всеобщую любовь и призвала простить
врагам все обиды.
Маленькие звери все в стороне жались, дрожали от страха, но,
когда волки и другие хищники на евангелии локлялись не обижать
слабых и впредь питаться травой да корешками, расхрабрились
даже зайцы.
Тут и начался бал.
После лиса затеяла игру в фанты. Выпало лисе быть
исповедником петуха с курицей. Отвела их за кусты исповедаться и там
петушка съела, а курицу, придушив, в кусты спрятала на черный
день.
В общем веселье никто и не заметил исчезновения петуха с
курицей. Волк, пошептавшись с лисой, пригласил овцу на фокстрот,
увлек за кусты и также прирезал.
Святые волк с лисой сели под ель и довольные наблюдали за
разгоревшимся весельем.
Вдруг на опушке громко залаяли собаки.
Лиса встревоженно распустила хвост и заспешила.
— Спасибо, сватушка, за компанию, а мне домой пора.
Догадался волк, почему лиса домой собралась, и говорит:
— Чего, сваха, напрасно волнуешься? Ведь собаки не тронут,
сама знаешь — сочельник сегодня.
— Что ты, сватушка, разве не слышишь, что собаки-то
поповские?
— Ну, что из того, ведь поповские лучше евангелие знают.
— В том-то и дело, что знают и ни одному проповеднику не
поверят. Вдосталь у попа нагляделись и знают: кто ходит с
крестом на словах — с ножом в руках. Так я лучше домой побегу,
да и ты не задерживайся.
Записал в Льговском районе,
Курской области, и обработал Ю.
Солнышко.
По священному писанию
Русская сказка
Сидел петух на дереве, а внизу лиса стояла и ему говорила:
— Послушай моего ученья, матери своей духовной. Помнишь
ли ты, чадо, как в святых книгах пишется: не долго спите, не
долго лежите, вставайте рано, молитесь богу, покаяние принимайте.
514
А ты ходишь по земле, как свинья в навозе валяешься в грехах
своих. Сойди ко мне на покаяние и прощен будешь во всех
грехах своих и войдешь в царство небесное.
Прослезился петух, спустился к лисе. Та схватила его когтями
и стала душить. Петух заорал:
— О мать моя лисица! Такое ли мне от тебя «праведное
покаяние?
— Злодей ты, бога не боишься, — отвечала лиса. — Закон ты
преступаешь! Помнишь ли, как в священном писании пишут
святые отцы: одну жену возьми по закону, другую для детей, а
третью кто возьмет, тот прелюбодей. А ты, лихой человек,
законопреступник, держишь по тридцати жен и больше.
— Послушай, помнишь ли, как в святых книгах писано: пло-
дитеся и родитеся и населяйте землю.
— Бога ты не боишься, петух! Закон преступаешь! Брата
своего ненавидишь, — где с ним сойдешься, там и дерешься.
Отвечал петух:
— Не одолей злобу злобой, одолей злобу благостыней,
вспомни, что царь Давид написал: блаженни милостивые!
— Не сули ты мне журавля в небе, дай синицу в руки!
Недосуг мне, голодной, слушать твои слова.
И съела петуха.
Опубликовано в газете
«Безбожник» M 35 от 27IX—1940 г.
Чудо
Русская сказка
Монахи — они ловкачи были. И вот однажды монах бабу в
плетенке в монастырь понес. Несет, кряхтит. Думает: «Только бы
донести».
Доходит до игумновой кельи. Глядь, у окна сам игумен сидит.
«Авось донесу», — надеется монах.
Понатужился, несет.
А постромка в плетенке против самого игумнова окна и
оборвись! Баба и вылети! А игумен во все глаза смотрит. Что тут
делать монаху? Не растерялся он, хлопнул себя руками по бокам
и говорит:
— Чудны дела твои, господи! Нес грибы, а очутилась дева!
Тем и оправдался.
Записала Н. Ко мое екая со слоо
В. С. Волкова в колхозе «Новая
жизнь», Арзамасского района, Горь-
ковской области.
515
Поп-обжора
Русская сказка
Был у нас жадный поп. По-поповски любил брюхо набить.
Бывало, куда придет, заорет:
— Бла-а-гослови бог! Хорош ли пирог?
Подойдет к столу:
— Православные, живите дру-ужно! А к киселю молоко
нужно!
Посмотрит на стол:
— Бойтеся греха и ад-a-al Покормить попа надо!
Да и насядет. Только скулы потрескивают. Нажрется так, что
пузо вздуется. Ряса торчком стоит.
— Мир дому сему, отныне и до век-а-а! Накормили человека!
Вот какой был обжора I
Из сборника «Сказки и предания
Северного края*, Издательство
«Академия», Î934 год.
Воры себя выдали
Русская сказка
У одной женщины пропала телка (а это поп поймал и
зарезал). Дьякон все видел и решил попа разоблачить. Вот приходит
окенщнна в церковь и начинает молиться. А дьякон увидел ее и
возглашает:
— Вдовица, вдовица, у попа твоя телица!
Поп это слышит и из алтаря голос подает:
— Молчи, дьякон, пред вдовицей, тебе половина телицы!
Псаломщик услышал все это и запевает на клиросе:
— И во веки веков, аминь. А мне?
Тогда поп говорит:
— А тебе кишки да сало!
Псаломщик в ответ:
— Мне этого мало!
Тогда уже дьякон видит — дело плохо, и возглашает опять:
— Тебя не боюся, своею частью делюся.
Так вдова и узнала, где ее телка.
Опубликовано в газете
«Социалистическое льноводство» от 12/V —
1940 г.
516
Лисица и петух
Русская сказка
Услыхал петух, что хозяева хотят его зарезать, и убежал в
лес. Там встретил лису и испугался. А лиса только-что съела двух
зайчат и еле брюхо волокла.
— Здравствуй, Петр Петрович!—говорит она петуху. — Куда
путь держишь?
Рассказал петух и просит лису пожалеть его, не губить, — ведь
он только-что от смерти ушел. Рассмеялась лиса и говорит:
— Чудак ты, Петр Петрович, зачем тебя губить? Мясом я
теперь не балуюсь. Ушла от грешного мира в монастырь, а он
строгий, не позволяет мяса ни есть, ни нюхать, и питаюсь я
теперь больше кореньями да святой молитвой. Так что не бойся
меня. Если хочешь, идем со мной, я тебя от злых зверей охранять
буду, в монастырь к нам устрою. А как у нас в святой обители
хорошо! Зерна всякого горы сыпучие.
Подумал петух и решил: «Пойду с лисой! Если захочет съесть,
все равно от нее не спасешься». Пошли. К вечеру проголодалась
лиса и схватила петуха за горло. Взмолился петух:
— Лисичка-сестричка, что ж ты делаешь? Какой грех на душу
берешь! Ведь ты дала обет не есть мясного.
— Ничего, — отвечает лиса, — за тебя бог сорок грехов
простит, ты ведь нехристь.
Видит петух, что пришел последний час, и просит лису вдвоем
помолиться перед его смертью. Лиса отвечает:
— Я перед обедом не молюсь, а молюсь уже поевши.
— Дай тогда мне перед смертью помолиться, — просит петух.
Лиса отпустила его, он взлетел на дерево и кричит ей:
— Не молись, лиса, ни перед едой, ни после! 4
Так и осталась лиса ни с чем.
Как пьяница s рай попал
Русская сказка
Умер один пьяница, и стала его душа стучаться в райские
врата. Подошел к вратам Петр-апостол и спрашивает:
— Кто стучится?
— Я, бражник, желаю с вами в раю жить. А ты кто?
— Я Петр-апостол, который имеет ключи от сего царствия
славы. Отойди отсюда, здесь бражники не водворяются, ибо им
уготована мука вечная.
— А помнишь ли ты, Петр, — когда Иисуса Христа на
судилище повели, ты трижды от него отрекся? И все-таки ты в раю,
4 Услышал Петр и отошел в смущении.
517
Пьяница снова стучится. Пришел к вратам пророк Давид и
опять говорит, что бражников сюда не пускают. А тот отвечает:
— Помнишь ли, Давид, как ты слугу своего, Урию, на войну
услал и там смерти предать повелел, а жену его к себе на
прелюбодеяние взял? И все-таки ты в раю.
Отошел и Давид в смущении.
Бражник же в третий раз стучится. Пришел Иоанн Богослов
и опять отгоняет.
— Иоанн Богослов! — закричал бражник. — Не сам ли ты
написал в евангелии: «любите друг друга»? А ныне меня
ненавидишь. Либо пусти меня, либо отрекись от того, что написал.
Отошел и Иоанн в сильном смущении.
А тут вокруг любопытные души столпились, ждут, чем
кончится. Иоанну неловко, советуется он с Петром и Давидом и
решают пустить бражника в рай, нето еще больше наговорит о них
правды.
Опубликовано в газете
«Безбожник» № 26 от 25IVIU—194Q г.
Поп и мясник
Русская сказка
Накануне праздника шоп наказывает работнику:
— Василий, мы своих свиней не поспеем резать. Сходи к
мяснику Давиду и попроси у него в долг фунтов десяток свининки·
А я пойду в праздник славить и отдам ему долг.
Чуть свет отправился поп в церковь, а работник отправился
к мяснику.
— Давид, дай свинины в долг, поп после праздника отдаст.
А Давид отвечает:
— Нет, не дам. Пусть прежний долг поп уплатит, а уж после
за новый берется.
Бежит работник в церковь попу ответ мясника передать. Стал
против алтаря и ждет, когда поп выйдет.
А поп, как вышел, хотел читать из псалма Давида и начал:
— Что сказал Давид?
А работник в ответ:
— Да такую ерунду завязал: сперва, говорит, долг уплати, а
после приходи мяса просить.
Так и ославил попа на всю деревню.
Опубликовано в газете
«Безбожник» Ni 17 от 11/VΊ—1940 г.
518
Поп в раю
Помер поп и думает: «Ну, теперь я прямо в рай пойду, жену
свою там уважу, сьша, дочку, отца с матерью, бабу дворовую, с
которой жил, девку Анну, Старостину дочку, с «которой тоже
погуливал,— господи ты, боже мой, сколько народу увижу!»
Восстал поп из гроба, отряхнул сор с одежды, сапоги
почистил, бороду пятерней расчесал, посошок свой взял и прямым
путем в рай направился. В раю тем часом вся полиция обедать
ушла, ворота без хозяев стояли.
Идет это поп садом райским, яблоки сбивает, дули рвет,
райских птиц слушает. Забрался поп в малину, присел на корточки
и давай без череду-очереди ягоду в рот кидать.
Воротилась тем часом полиция райская, прошла на дозор,
потому горазд сильно белую сливину трясли. Идет это полиция,
саблей машет, усы крутит, видит непорядок: поп в малине сидит,
ягоду в рот кидает. Спрашивает старший попа:
— Ты откелева?
— Я из села Заборина, тамошнего храма служитель,
преставился в позапрошлую пятницу, схоронили меня в воскресенье,
сегодня утречком к вам пожаловал. Где тут у вас святые девы
гуляют?
— Подозрительный ты человек, — отвечает попу старшой. —
Рановато ты воскресать вздумал. У нас есть, которые по два века
в гробах лежали, а ты сунулся! Поди отселева вон!
Испугался поп, полную горсть малины просыпал. Старшой
ругается:
'— У нас каждая ягодка на счету, а ты безобразишь. Пошел
вон! Сам господин митрополит еще в гробе лежит, а ты принесся!
Рассердился поп:
*— Да я лицо священное! Как вы смеете этак! Меня труба
воззвала, я, это, и восстал! Я ж поп! Вот и Никон с Аввакумом в
крыжовник пошли! Знакомые!
Старшой попу говорит:
— Ступай в контору своего уезда, там разберут! От тебя
третьевошним борщом еще пахнет, а ты — в рай! Поди вон!
Удивился поп.
— Как это, — говорит, — поди вон? Неужто мне во ад
спускаться надо?
— Мы этому не обучены, кому куда, — говорит старшой. —
А поди вон, не то саблю оголим.
Поскреб поп в затылке, сорвал дулину про запас, пошел
направо. Над поповой головой тучи идут, голубые малиновки поют,
и, не понять откуда, кофеем несет.
«Что за чорт! — думает поп. — Из рая выгнали! Это меня-то!
Какие тысячи мирян ко блаженной жизни приготовил, а самому
эка как тяжело приходится!»
Вышел поп на поляну, сидят на той поляне веселые пожилые
519
люди в бараньих шапках, курят, водку пьют. Спрашивает поп:
— Добрые люди, куда мне итти, куда мне себя девать
прикажете?
— А ты кто? — спрашивают попа пожилые люди.
— Я лицо священное, — отвечает поп, — я помер и из
мертвых восстал, в рай поднимался, а меня оттуда изгнали. Теперь я
боюсь заблудиться, места незнакомые, а документы я дома
оставил. Пособите, добрые люди!
— Это мы сейчас, — сказали пожилые люди попу. — У нас
такое правило—»пляши!
Стал поп отнекиваться, стал поп ругаться, гордости на себя
напустил, брюхо выпятил, однако делать нечего, поднял рясу и
плясать пошел. Умял зеленую травку, вспотел изрядно и водки
попросил. Дали ему пожилые люди стопку. Выпил поп и ждет,
что дале будет. А пожилые люди говорят ему:
— У нас такое правило — песни пой!
Стал поп ругаться, стал поп плеваться.
— Мужики, —кричит поп. — Да я вас, да вы у меня!
А ему спокойненько:
— Ты, поп, не расходись! Какие тебе тут мужики, тут
праведные и неправедные души гуляют. Пой песни! После бить
будем!
— За какие провинности? —спрашивает поп. — Куда я попал?
Однако стал песни петь. Споет одну — спрашивает:
— Еще петь?
А ему:
— Пой еще! Хорошо поешь!
Напелся поп до уварного пота, хрипеть начал. А ему
приказывают:
— Теперь вокруг поляны бегай, ну!
Бегал поп два часа сорок две минуты, упарился, что лошадь,
сАег на траву и второй раз помер. А когда душа его опять облик
приняла, крикнул поп на весь голос:
— Эй, миряне! В самом деле, оказалось, нету рая!
А миряне ему в ответ:
— Знаем!
— Паршивый сад один!—кричит поп. — А в том саду дуля-
бергамот и малина желтая! Какой это к лешему рай! Нету рая!
А миряне ему в ответ:
— Все чисто знаем! Не ори!
— Пособите! — просит поп. — Куда же мне теперь?
— А помирай!—ему советуют.
— Да я ж помер! Двое разов помер! — кричит поп.
— В третий помирай! — отвечают попу. — А ежели чего
хочешь своим передать, так думай скорей! Тут у нас еще мала
толика попов осталась! На ладан дыхание у них!
Тут поп в третий раз помер. Больше ему не восстать.
Сказка из сборника Леонида
Борисова «Начало истории».
Путаник
Русская сказка
Жили старик со старухой и были у них две дочери. Одну
выдали замуж. Ждут год, другой, а внучат не дождутся.
Старик старуху начал провожать к попу: закажи батюшке
молебен, — авось намолит внучат.
Собралась старуха, взяла яиц да курочку. Приходит.
— Ладно, — говорит поп, — бери рублевую свечку, ставь
Николе-угоднику, а я молебен отслужу.
Отслужил, а внучат все нет.
Прошел год. Старик опять гонит старуху к попу. Отнесла она
не одну, а пару кур, дала опять и яиц, и денег, ставила Николе
рублевую свечу. И опять молебен не помог.
Снова старик провожает старуху молиться. Приходит она к
попу, а тот ей свое: «Бери рублевую свечку, ставь Николе». Тут
старуха на него напустилась:
— Не стану ставить свечи этому путанику, и так уже два раза
ставила. Он и «амолил сыночка дочери, да только незамужней!
Записал в Курмышском районе
Горьковской области А. Барщсв·
ский.
Проповедь попа Сиволдая
Поп Сиволдай вздохнул сокрушенно. Народ думал — о грехах
кручинитса, а поп с утра объелса и вздохнул для облегчения, руки
на животе сложил и начал голосом умильным, протяжным,
которым за душу тянут:
Людие!
Многое есть неведомого. Есть такое, што ведомо только мне,
вам же неведомо.
Есть и такое, што ни вам, ни мне неведомо!
Сиволдай снова вздохнул сокрушенно.
Есть и такое, што ни вам, ни мне неведомо!
Поп погладил живот и зажурчал словами:
О, людие мои! У меня старый подрясник. Сие ведомо только
мне, вам же неведомо.
О, любезные мои други! Купите ли вы мне материи на новый
подрясник шерстяной коричневово цвету и шелковой материи
таковово же цвету на подкладку к подряснику — сие ведомо
только вам. Мне же сие неведомо.
О, возлюбленные мои братия!
А материя, которую вы купите мне на подрясник, и подкладка
к оному подряснику и с присовокупленною к ней материей тоже
шерстяной цвета семужьево, с бархатом для отделки подобающей—
понравитса ли моей попадьс Сиволдаихе — сие ни вам, ни мне
неведомо.
Яа скааок С. Писахова.
Как прихожанин попа перехитрил
Решил один поп сказать своим прихожанам проповедь на тему:
сУдарят по щеке, подставь другую». Долго он говорил,
распинался. Один из присутствующих решил поповскую теорию на
практике применить. Только спустился поп с амвона, а тот ему —
в ухо. Поп, не долго думая, заворотил рукав и дал сдачи.
Прихожанин —. тоже.
Народ рознял драчунов, стал их спрашивать. Прихожанин
говорит:
— Он же нас учил. А почему сам не подставил мне левое
ухо, (когда я ему въехал в правое?
Поп отвечает:
— Действую по божеским законам: «Какой мерой меряете, та*
кой и вам отмерится». А почему ты меня снова бил?
— Потому, батюшка, — говорит прихожанин, — что Христос
учил: «Мне — отмщение, и аз воздам».
Ну, попу и крыть нечем.
Записано от колхозника Г, И.
Смирнова. Газета «Псковский
колхозник» от 18/V—1940 и
Поп и вор
Пришел раз вор к попу исповедываться и спрашивает:
— Если (Грешник раскается и снова украдет, что ему будет?
Поп говорит:
— Тяжкий грех, чадо! Голову за этот грех надо рвать.
Пока поп отвечал, вор у него табакерку из рясы стащил и
снова опрашивает:
— А если ты мой грех узнаешь и другим расскажешь, тебе
что будет?
Поп говорит:
— Тяжкая провинность, чадо, за нее язык надо рвать.
Вор вышел из исповедальни и ждет в церкви. Стал поп
другого грешника исповедывать, полез в карман за табакеркой.
Смотрит: нет. Сразу подумал на вора, высунул голову из-за занавески
и показывает вору рукой на шею: мол, голову тебе надо рвать.
А вор тоже молча язык высунул и по языку пальцем пилит:
мол, расскажешь, так я тебе язык отрежу.
Так поп и промолчал, уступил табакерку.
Рассказал колхозник Г. И.
Смирнов. Газета «Псковский колхозник»
от 18IV—1940 ζ.
522
Поп и пономарь
Русская сказка
Повадился пономарь к попу на погреб за сметаной лазить.
Пост — не пост, а на погреб сметану не ставь: пономарь, что кот,
все сожрет. Поп однажды и говорит пономарю:
— Поймаю — изничтожу!
Пономарь решил оправдаться перед попом. Наступила пасха.
Залез пономарь в страстную пятницу в погреб, наелся доотвалу
сметаны и с собою ложку захватил. Пошел в церковь до обедни
и спасителю с Николаем-угодником по губам сметаной провел.
Собрался народ к ранней обедне. Начал поп службу.
Посмотрел на богов, а у спасителя с Николаем-угодником по усам сметана
течет. Разъярился поп, как шваркнет кадилом по зубам Николе»
да как заревет:
— Я вас, дармоедов, отучу сметану жрать!
Вечером похристосовался с пономарем и говорит:
— Прости, брат, а я на тебя думал.
Опубликовано в газете
«Социалистическое льноводство* от 12IV —
1940 г.
Хитрый мужик и жадный поп
Однажды поп заходит к мужичку, а тот на дворе копается,
делает грядки и что-то в них садит.
Поп спрашивает:
— Что, свет, делаешь?
— Да вот золотые сажаю, — отвечает мужик. — Приходи
поутру — посмотришь, сколько буду рвать.
У попа глаза разгорелись. Очень заинтересовался он и разза-
видовался. Ночью не спалось, а наутро прибежал проверять.
Мужичок покопался в грядках. Смотрит поп, и вправду —
вместо одного золотого вынимает пять.
Поп и говорит:
— Нельзя ли и мне это устроить?
Мужик отвечает:
— Давай тебе посажу.
Поп на это согласился. И «пошли они к попу на двор садить
золотые.
Наскоро сделали грядки, посадили. А через несколько дней
обещался мужик притти и выкопать золотые...
Приходит он в известное время, начинает землю рыть.
Действительно, где был золотой — вынимает пять, где был золотой —
вынимает пять.
523
У попа дыханье сперло, разгорелись глаза, не верит себе от
радости и говорит:
— Эх, жалко, мало посадили. Засеяли бы сто — сколько бы
уродилось?
Мужик отвечает:
— На один — по пяти, а при хорошем урожае — и по десяти.
Тысяча бы уродилась!
— Давай, свет, — говорит поп, — сделай такую милость,
посади сто золотых, я буду благодарить и поминать.
Вынес поп несколько пригоршней золотых — только сажай,
мол!
Посадил мужик золотые, а ночью пришел на огород, да все и
повырыл.
Поутру поп призывает проверять урожай. Приходит Иван,
начинает землю рыть — ни одного золотого!
Поп и говорит:
— Иван, что ж такое? Золота ведь нет!
— А ты чего же хочешь?—отвечает мужик. — Хлеб на хлеб
и то не сеют, дают земле отдыхать. А ты снял хороший урожай,
опять посеял и снова хочешь урожай получить? Вот земля-то и
не уродила!
Опубликовано в газете
«Социалистическое льноводство* от 24IV —-
1940 г.
Поминки
Русская сказка
Померла женщина в пост. Поминки справлять стали. Кинулись
туда-сюда, а рыбы-то нет. Что делать? Закололи поросенка,
поставили на стол. Под хреном поросенок. Пригласили попа.
— Батюшка, — говорят, — прости, ведь это поросеночек под
хреном.
— Ничего, свет, — говорит поп.
Подходит к поросенку и говорит:
— Претвори, господь, порося в карася!
Кушайте, светы, карась хорош.
Оттуда же,
524
Жадный non
Русская народная сказка
Ехал поп к благочинному, и застала его гроза. В поле — ни
деревца, спрятаться негде. Сел поп под шарабан, а батрака на
дожде оставил за лошадьми присматривать. Долго сидел поп,
крестясь при каждом ударе грома, и проголодался (а еды с собой
не захватил).
— Эх, — говорит, — родной бы жены не пожалел за черствый
кусок хлеба.
Только он это сказал, видит — на борозде под кустом лежит
сумка холщевая, чем-то битком набитая. «Верно нищий какой
забыл свою сумку с сухарями», — подумал поп и потянулся к сумке.
Только он схватился за нее, а с другой стороны уж батрак
держится. Тянули, тянули, никто не пускает и перетянуть друг друга
не могут. Вот и решил поп перехитрить.
— Давай, Ваня, — говорит он, — рассказывать небылицы. Кто
лучше расскажет, того и сума. Хорошо?
— Согласен, — отвечает батрак, — только такой уговор: кто
кого перебьет, хоть слово скажет, тот проиграл.
Согласился поп. Бросили жребий, кому первому начинать.
Выпал жребий на попа. Подумал он и начал плести чепуху.
— Есть, — рассказывает поп, — страны далекие, на самом
краю света божьего, и живут там люди о двух головах, а третью
в руках носят. Девки там с рыбьими хвостами, с волосами
зелеными, а бабы золотых ребят рожают, в серебряной воде купают.
Батрак молча сидит, головой кивает: «Верно, мол, всякое
бывает!»
Стал поп про чудеса плести, как святой чорта в бутылку
загнал, как мученица на сатане верхом каталась. А батрак сидит,
цыгарку покуривает да помалкивает. Рассердился поп:
— А нунка, попробуй сам лучше рассказать.
— Ты, батя, не сердись, печенка болеть будет. Все, что ты тут
врал, я с детства от дедов слыхал и сам на картинках видал.
Вот, послушай меня. Я в своей жизни батрацкой прошел сквозь
огонь и воду, медные трубы и чортовы зубы. Все видал, все
слыхал. Был я раз в одной стране за высокими горами, за широкими
долами. Там, на острове Буяне, стоит церковь, без крестов,
дверями на восток, и служит в ней безголовый поп.
Поп головой качает, соглашается, а сам думает: «Зачем попу^—
голова, — все в требнике написано, выдумывать нечего».
— Вместо свечей, — продолжает батрак, — горят смоляные
плошки, вместо ладана навоз курят.
Молчит поп, а сам думает: «Верно, поп жадный. Надо будет и
себе попробовать».
— А что меня больше всего удивило, — продолжает батрак, —
так — то, что народ попа любит: поп там очень хороший, ни
копейки за требы не берет...
525
— Ну, это врешь!—закричал поп. — Нет таких
попов-дураков, чтоб за требы не брали!
Так и проиграл поп суму. Развязал ее батрак, а в ней золота
кусок, не меньше сахарной головы. Увидал пап золото, от злости
закрутился и упал. Тут его паралич разбил.
Записал Ю. Солнышко в селе
Свобода Курской области.
Рассвятили
Русская сказка
Зашел поп к крестьянину освятить избу. Освятил. Выпил,
закусил, получил за требу и стал выходить, а тут ему навстречу
гладкий розовый поросенок.
Загорелись глаза у попа.
— Отдай, Михайло, мне порося, — говорит поп.
А мужик мнется и не отдает.
— Нет, батюшка, извините, держим яа племя, дать не могу.
Поп опять за свое.
— Я тебя крестил, я твоих мать и отца хоронил, я тебя
венчал, детей твоих крестил, а ты мне паршивое порося жалеешь?
— Ну, что ж, батюшка, и крестили, и хоронили, и меня
венчали, на том вам спасибо, но за это же вы я получили немало.
Опять поп за свое, а крестьянин отогнал поросенка и говорит:
— Ну, что ж теперь толковать? За все вы получили, хату
освятили тоже не даром, а поросенка все равно не дам, не рас-
святите же хату, раз освятили, а больше я к вам яе пойду, если
такое дело.
Поп опрашивает:
— Не рассвячу?
— Не рассвятите!
— Так не рассвячу?
— Не рассвятите!
— А ну-ка, облачайся, отец дьякон!
Натянули они ризы, взял поп кадило и начал:
— Не благословен бог наш!
А дьякон басом:
— Не аминь!
Посмотрел, посмотрел на них крестьянин да и выгнал обоих
из хаты.
Записала научный сотрудник
Центрального антирелигиозного музея
Крымской АССР Е. Стерина.
52а
Похороны козла
Русская народная сказка
Жили старик со старухою; не было у них ни одного детища,
только и было, что козел: тут все и животы! Старик никакого
мастерства не знал, плел одни лапти — только тем и питался.
Привык козел к старику: бывало, куда старик ни пойдет из дому,
козел бежит за ним из дому. Вот однажды случилось итти
старику в лес за лыками, и козел за ним побежал. Пришли в лес;
старик начал лыки драть, а козел бродит там и сям и травку
щиплет; щипал, щипал, да вдруг передними ногами и провалился
в рыхлую землю, зачал рыться и вырыл оттедова котелок с
золотом. Видит старик, что козел гребет землю, подошел к нему и
увидал золото; несказанно возрадовался, побросал свои лыки,
подобрал деньги — и домой. Рассказал обо всем старухе.
— Ну, старик! — говорит старуха, — это нам бог дал такой
клад на старость за то, что столько лет с тобой потрудились в
бедности. А теперь поживем в свое удовольствие.
— Нет, старуха!—отвечал ей старик, — эти деньги нашлись
не нашим счастием, а козловым; теперечи нам жалеть и беречь
козла пуще себя!
С тех пор зачали они жалеть и беречь козла пуще себя, зачали
за ним ухаживать, да и сами-то поправились — лучше быть,
нельзя. Старик позабыл, как и лапти-то плетут; живут
себе—поживают, никакого горя не знают. Вот через нгкоторое время козел
захворал и издох. Стал старик советоваться со старухою, что
делать:
— Коли выбросить козла собакам, так нам за это будет перед
богом и перед людьми грешно, потому что все счастье через козла
получили. А лучше пойду я к попу и попрошу похоронить козла
по-христиански, как и других покойников хоронят.
Собрался старик, пришел к попу и кланяется:
— Здравствуй, батюшка!
— Здорово, свет! Что скажешь?
— А вот, батюшка, пришел к твоей милости с просьбою, у
меня на дому случилось большое несчастье: козел помер.
Пришел звать тебя на похороны.
Как услышал поп такие речи, крепко рассердился, схватил
старика за бороду и ну таскать по избе.
— Ах ты, окаянный! Что выдумал! — вонючего козла
хоронить.
— Так ведь этот козел, батюшка, был совсем-таки
православный: он отказал тебе двести рублей.
— Послушай, старый хрен!—сказал поп, — я тебя не за то
бью, что зовешь козла хоронить, а зачем ты по сю пору не дал
мне знать о его кончине: может, он у тебя давно уж помер.
Взял поп с мужика двести рублей и говорит:
527
— Ну, ступай же скорее к отцу-дьякону, окажи, чтобы
приготовлялся; сейчас пойдем козла хоронить.
Приходит старик к дьякону и просит:
— Потрудись, отец-дьякон, приходи ко мне в дом на вынос.
— А кто у тебя помер?
— Да вы знавали моего козла, он-то и помер!
^Как зачал дьякон хлестать его с уха на ухо!
— Не бей меня, отец-дьякон! — говорит старик.—Ведь
козел-то был, почитай, совсем православный; как умирал, тебе сто
рублей отказал за погребение.
— Зка ты стар и глуп! — сказал дьякон, — что ж ты давно
не известил меня о его православной кончине; ступай скорее к
дьячку: пущай позвонит по козловой душе!
Прибегает старик к дьячку и просит:
— Ступай, прозвони по козловой душе.
И дьячок рассердился, начал старика за бороду трепать.
Старик кричит:
— Отпусти, пожалуй, ведь козел-то православный, он тебе за
похороны пятьдесят рублей отказал.
— Что ж ты до этих пор копаешься! Надобно было пораньше
сказать мне: следовало бы давно уж прозвонить!
Тотчас бросился дьячок на колокольню и начал валять во все
колокола. Пришли к старику поп и дьякон и начали похороны
отправлять; положили козла в гроб, отнесли на кладбище и
закопали в могилу.
Вот стали про то дело говорить промеж себя прихожане, и
дошло до архиерея, что-де поп козла похоронил по-христиански.
Потребовал архиерей к себе на расправу старика с попом.
— Как вы смели похоронить козла? Ах, вы, безбожники!
— Да ведь этот козел, — говорит старик, — совсем был не
такой, как другие козлы: он перед смертью отказал вашему
преосвященству тысячу рублей.
— Эка ты глупый старик! Я не за то сужу тебя, что козла
похоронили, а зачем ты его заживо маслом не соборовал!..
Взял тысячу и отпустил старика и попа по домам.
Из сборника *Поп и мужик»—под*
ред. акад. Ю. Соколова.
Как мужик в рай ходил
Русская сказка
В некотором царстве, в некотором государстве, в Олонецкой
а*убернии, Петрозаводского уезда, Толвуйской волости, раз
случилось такое дело. Пришел весенний Микола, а травы нет: не
выросла.
— Как же быть? — закричали мужики-крестьяне. — Мы всегда
надеялись на Миколу, он должен был с травой притти, а тут
нако-вось.
Вот собрались мужики на сход, судили, рядили и решили итти
к богу, жаловаться на Миколу. Стали заставлять попа прошение
писать к богу, а поп и говорит:
— Что вы, православные? Да разве подобает нам, грешным,
жаловаться на святого Николая-чудотворца?
Но крестьяне заставили попа написать прошение и направили
церковного старосту с прошением к самому богу Саваофу.
Шел, шел староста, думает: как подняться на небо? Видит,
журавли летят. Сел он на журавля и полетел на небо. Приходит
староста к канцелярии бога, видит, апостол Петр швейцаром у
ворот стоит. Расспросил апостол Петр старосту, открыл двери и
пропустил в канцелярию. Зашел староста в небесную канцелярию,
смотрит, сам Саваоф сидит за большим столом, такой угрюмый·
вроде как сердит или с похмелья: голову держит, задумался.
Кирилл да Мефодий писарями служат, сидят неподалеку. Мария
Магдалина машинисткой работает. Архангел Михаил у дверей
стоит, курьером служит. Перекрестился староста, поклонился
низко и не успел сказать «здравствуйте», как Мефодий к нему
подбежал и спрашивает:
— В чем дело, мужичок, что хорошего на земле есть?
— Да вот, — говорит староста, — послали меня толвуйские
мужики к богу с жалобой: Микола травы не дал, скота кормить
нечем.
Взял Мефодий жалобу, повертел, повертел в руках, да и
подал богу.
— Вот, — говорит Мефодий, — тут толвуйские мужики на
Миколу жалуются.
— А чего мне суешь? —говорит бог. — Ведь ты знаешь, что я
неграмотный. Ты азбуку издал, ты и читай.
Прочитал Мефодий прошение до точки. Как стукнет бог
кулаком по столу, ажио Мария Магдалина привскочила. Архангел
Михаил с испугу к столу подбежал, апостол Петр ворота открыл,
староста на пол сел.
— Позвать, — кричит бог, — Миколу-чудотвсрца!
Архангел Михаил побежал искать.
Вот приходит Микола-чудотворец и спрашивает:
— В чем дело?
— Как в чем дело! — горячится бог. — Вот толвуйские мужики
14-22 529
жалуются, что ты травы не дал, скота кормить нечем. Ведь ты
должен с травой быть, православные христиане на тебя надеются,
а ты их подвел, а этим веру в себя и в нас обостряешь. Мужики
и совсем нам верить не будут, и так попы жалуются: доходу мало.
— А мне что,—говорит Микола, — разве я виноват? Почему
Георгий-победоносец ручейков не пропустил? Откуда я траву
возьму, когда ручьев не было.
Повернулся и пошел к Варваре-великомученице пивко
допивать.
— Позвать мне Георгия-победоносца!—снова закричал бог.
Вот прискакал Георгий-победоносец па белом коне да прямо
в канцелярию и заехал.
— Что случилось, святой боже? — спрашивает Георгий.
А бог ему и говорит:
— Как же это случилось? Почему ты ручьев не пропустил в
свое время? Из-за тебя Микола не мог травы дать.
— А мне что?—говорит Георгий. — Разве я виноват? Ведь
ключами-то заведует Алексей, человек божий. Он не отомкнул
их, воды не дал, откуда же я ручейки возьму?
Еще пуще вскипел бог. Обоими кулаками по престолу стучит,
ажио другие столы затряслись. Мария Магдалина взамен
«Приказ по раю» напечатала «Проказ по раю».
— Где Алексей, человек божий? Сейчас подать его сюда!
Архангел Михаил чуть с крыльца не упал, побежал за
Алексеем да еле его нашел: Алексей вечером пьян был и ключи
потерял; ходит, ищет.
— Ступай скорее к богу! — крикнул ему архангел Михаил.
Вот приходит Алексей, человек божий, к богу, да взамен «в
чем дело» говорит: «есть-ли пивко?» Так все и рассмеялись, даже
бог улыбнулся, но своему человеку строго не сказал, а просто
спросил:
— Почему это ты воды не отомкнул?
— Я,—отвечает Алексей, — открывал воду, да неоткуда ей
течь было. Василий^капельник ни одной капли не капнул. А вода-
то от капельника должна начинаться...
Опять разгневался бог и потребовал Василия-капельника, даже
ногой топнул.
Приходит Василий-капельник, мамы выговорить не может: всю
ночь пьянствовал с Николаем-чудотворцем, с Алексеем, человеком
божии-м, у Варвары-великомученицы.
Заметил бог, что пьян он, да и говорит:
— Так ты что же это? Сам нализался, а людям даже воды
не капнул.
— Ä мне-то что? — отвечает Василий-капельник. — Разве я
виноват? Ты сам оплошал: к самому главному делу бабу
допустил. Авдотья-плющиха всему виновата, надо было ей плющить
гораже (т. е. сильнее), а она и совсем не плющила. Откуда же я
капать стал бы? Только зря канителите.
Тут еще пуще бог рассердился и потребовал Авдотью-плю-
530
щиху. Является Авдотья-плющиха. Бог обеими ногами на нее
затопал, кулаками застучал:
— Это что же ты, такая-сякая, делаешь! А-а-а! Вам только
компанию устраивать с Варварой-великомученицей. Все апостолы
и пророки свое дело забыли, к вам похаживают да пивко пьют.
Это ты все дело испортила!
А Авдотья — баба бойкая.
— Да ты что, — говорит, — на меня окрысился? Разве я
виновата?
Да как пошла писать — богу жарко стало.
— Сам, — говорит она, — порядков не знаешь, хоть и
устанавливал их. Дождем да снегом заведует Илья^пророк. Его и
спрашивай... И нечего упрекать нас с Варварой апостолами.
Нередко и сам заходишь. А у девы Марии и сплошь ночуешь. Так
что все одинаковы, а без дела меня никогда не тревожь: у меня
дети маленькие дома.
Посидел бог, подумал и послал за Ильей-Пророком. Слышит
староста, — гром загремел. Вот приходит Илья-пророк в
канцелярию.
— Сами вы виноваты, отче наш, — сказал Илья-пророк. — Ведь
лето по вашему распоряжению дождливое было. Где же мне на
осеннего Егорья снегу взять?
— А почему ты в сенокос дождь'лил?—спросил бог.
— Да как же, ведь ты сам сказал мне, что дождь лить надо,
когда косят.
— Дурак!—сказал бог. — Ведь я тебе говорил: когда просят,
а ты льешь, когда косят.
— Э-э-э, брат!—отвечает Илья. — А это и может быть.
Я, видишь ли, стар и глуховат стал, вот и перепутал.
Видит бог, что больше винить некого, а с Ильи что возьмешь?
Взял прошение в руки, повертел, повертел, да и говорит Мефо-
дию:
— Напиши резолюцию от моего имени: «Аставить без
последствия».
Написал Мефодий резолюцию, бог взамен расписки крест
поставил и подал обратно старосте.
Пошел староста обратно в Толвую. Приходит к толвуйским
мужикам и подает прошение обратно с резолюцией. Прочитали
мужики, покачали головой да с тех пор и не стали на Миколу
надеяться больше.
Сказитель М. Рябинин.
Про попа и немую девочку
Жили дедушка с бабушкой богато, и была у них дочь
красивая, да немая.
Что делать? Как дочь лечить?
И прослышали они, что в лесу живет лесник и лечит немых.
Поехали они в лес. Нашли избенку. Лесник один в ней жил.
Весь изрос, старый. И говорит он им:
— Вон там, на горе, растет лук. Три сорта его: свиной,
лошадиный и человечий. Сорвите человечий лук, сварите из него
суп и дайте вашей дочери.
А дедушка с бабушкой возьми да и сорви вместо
человечьего— свиного луку. Наелась свиного луку дочь и начала
хрюкать по-свиному:
— Хрю-хрю-хрю.
Все напугались.
Вот дедушка пошел опять рвать лук. Взял человечьего луку,
сварил суп и дал дочке. Она съела и уже больше не хрюкает.
А свиной суп остался стоять на плите.
Вдруг едет поп на Сивухе. Лошадь его так звали. Едет,
нюхает, как хорошо супом пахнет!
— Пойду, погляжу, что делается, — думает поп.
Подошел к плите, похлебал свиного супа, его никто и
остановить не успел. Едет, хочет крикнуть по-человечьему, а у него по-
свиному выходит.
— Хрю-хрю-хрю, Сивуха!
— Хрю-хрю-хрю, Сивуха!
Приехал домой, вошел в избу, хотел сказать «обед подавайте»,
а у него опять «хрю-хрю-хрю» «выходит.
Все дома испугались, пошли спрашивать, как лечить попа. Их
и послали к леснику.
Вот лесник и ему велел нарвать три сорта луку и варить
суп из человечьего, а те два оставить. А поп пожадничал, сварил
все три супа да и хлебнул лошадиного.
Вот едет он опять на Сивухе. Хочет крикнуть по-человечьему,
а у него выходит по-лошадиному:
— Но, Сивуха, го-го-го!
— Но, Сивуха, го-го-го!
Лошадь испугалась. Стала, не бежит. А он ее как хлестнет.
И опять кричит:
— Но, Сивуха, го-го-го!
А дело как-раз накануне праздника было. Подъезжает он к
церкви, сходит, начинает служить обедню. Хочет запеть «господи
помилуй», а выходит у него «го-го-го».
Все из церкви так и побежали.
И не стал никто с тех пор в церковь ходить.
Записала И. Козловская со слов
Нюры Шуягиной, 11 лет. Колхоз
«Новая жизнь», Медынцевского
сельсовета, Арзамасского района,
Горьковской области.
Золотая грамота
Украинская народная сказка
Целый год мужики копали у пана колодец, а воды все не
было, и на очень большой глубине в день святого Маркиана —
25 октября — выкопали они Золотую грамоту.
Немного было написано в той Золотой грамоте, солнцем сияли
буквы в той грамоте, а прочитать, что написано, мужики не
могут. Все они были неграмотные. Взяли мужики Золотую грамоту
и пошли с нею до своего пана, чтобы тот прочитал им, мужикам,
что там написано.
Приходят мужики в панское именье и видят — в панском
дворе панские управители кнутами избивают крестьян за то, что
крестьяне мало сделали дела своему пану. А тут — рядом, за
огромными столами сидит множество других панов, таких сытых,
роскошных, с довольными лицами.
Приходят мужики к своему пану, сняли шапки, низко
поклонились.
Взял пан из мужиковых рук Золотую грамоту, прочитал ее
сперва сам про себя, потихоньку, потом эту Золотую грамоту
отдал читать остальным панам — своим гостям. Те читают
Золотую грамоту, хохочут, за бока берутся, непонятным языком
что-то говорят между собой.
Долго паны смеялись с Золотой грамотой, и долго мужики
ждали ответа. Наконец, пан говорит мужикам.
— Слушайте, мужики. Эта Золотая грамота, действительно,
с неба. Слушайте же, что вам, мужикам, сам бог говорит.
В этой грамоте написано, как неодинаковы в небе звезды —
есть меньшие и большие, так на земле и люди неравны. Бог
всякому человеку дал свой талант. А талант божий мужичка —
это покорно работать на своего пана. Мужичковая работа на
своего пана самому богу приятна.
Долго еще говорил пан, но мужики видят, что он врет,
обманывает их — совсем не то написано в Золотой грамоте.
Засуетились мужики, зашумели и стали у пана требовать обратно
Золотую грамоту. Рассердился пан на мужиков, начал на них, что
есть силы, кричать и стучать ногами. Со всех сторон сбежались
панские слуги с нагайками и палками. Набросились они на
перепуганных мужиков. . ч
Разбежались мужики куда попало, а когда сошлись они
вместе, видят — снова у них Золотая грамота, а на ней солнцем
сияют непонятные им буквы. Идут мужики дальше и вспомнили,
что у них грамотный урядник, и, недолго думая, решили мужики
итти прямо к уряднику, чтобы тот прочитал Золотую грамоту.
Приходят мужики во двор урядника и видят — урядниковы
слуги кнутами избивают людей, которые чем-либо не. угодил?!
^своему начальству.
Вихрдит сам урядник, а с ним множество других урядников?
S33 ' "* " '"
таких сытых, с довольными лицами, на грудях у них кресты,
медали, а на боку висят сабли и револьверы.
Мужики сбросили свои шапки, поклонились уряднику в ноги.
Взял урядник из мужиковых рук Золотую грамоту, прочитал
<шерва ее сам про себя потихоньку, потом эту грамоту Золотую
отдал читать остальным урядникам — своим гостям. Те читают
Золотую грамоту, хохочут, за бока берутся, непонятно что-то
говорят между собою. Долго урядники смеялись с Золотой
грамотой, и долго мужики ждали ответа. Наконец, урядник говорит
мужикам:
— Слушайте, мужики. Эта Золотая грамота, действительно,
с неба. Слушайте, что вам, мужичкам, сам бог говорит: честно
и покорно повинуйтесь, мужички, своему начальству. Всякая
власть от бога дается. Кто власти не повинуется, тот самого бога
не слушается.
Долго еще говорил урядник, но мужики видят, что урядник
врет, обманывает — говорит совсем не то, что написано в
Золотой грамоте.
Засуетились мужики, зашумели.
Рассердился урядник на мужиков, начал на них, что есть
силы, кричать и стучать ногами. Со всех сторон сбежались уряд-
никовы слуги с нагайками, саблями и револьверами. Набросились
они на перепуганных мужиков и начали их беспощадно избивать.
Разбежались мужики куда попало, а когда сошлись они вместе,
снова у них в руках Золотая грамота, а на ней солнцем сияют
непонятные буквы. Идут мужики дальше и вспомнили, что у них
еще поп грамотный. К кому, как не к попу, итти за правдою·
И решили итти к попу.
Приходят мужики на попов двор и видят — в нем суетится
великое множество разного народа. Женщины ткут, прядут,
бабы возятся с куделью, дерут и перебирают перья на подушки
для поповых дочек. Мужчины воздвигают множество построек;
парни — возле скотины. Все работают, а над ними, с кнутами в
руках, присматривают поповы слуги. И видят мужики, как эти
поповы слуги работающим людям дают вместо хлеба камень,
вместо воды — огуречный рассол.
Люди стонали от зноя, голода и жажды, а работе ихней конца-
краю не было видно. Вот на крыльце показался сам поп, а вместе
с ним великое множество других попов. Все попы полные,
здоровые, лица у них веселые, рясы на попах бархатные, шелковые, а
на груди у каждого попа висит золотой крест... Подходят мужики
к крыльцу, сняли шапки, поклонились попам в пояс.
Взял поп из мужиковых рук Золотую грамоту, прочитал ее
сперва сам про себя потихоньку, потом эту Золотую грамоту от*
дал читать остальным попам — своим гостям. Те читают Золотую
грамоту, .хохочут, за бока берутся, непонятным языком что-то
говорят между собою. Долго попы смеялись дад Золотой
грамотой, и долго мужики ждали ответа, Наконец, поп говорит мужи«
кам:
534
— Слушайте, рабы божьи. Эта Золотая грамота,
действительно, с неба. Слушайте, что вам, рабы божьи, сам бог говорит:
те, которые на земле плачут, — на небе возрадуются. Человеку
надо покорно нести свой крест, любите врагов ваших,
"благословляйте тех, кто обижает вас. Если кто ударит тебя в одну щеку,
подставь ему другую, а тому, кто хочет взять у тебя кафтан,
отдай и свою рубаху.
Долго еще говорил поп, но мужики видят, что поп врет,
обманывает — говорит совсем не то, что написано в Золотой грамоте.
Засуетились мужики, зашумели — стали у попа требовать
обратно Золотую грамоту.
Рассердился поп на мужиков, начал на них, что есть силы,
кричать и стучать ногами, со всех сторон сбежались поповы слуги
с нагайками, палками, набросились они на перепуганных мужиков
и начали их беспощадно избивать. Разбежались мужики куда
попало, а когда сошлись они вместе, видят, снова у них Золотая
грамота, а на ней солнцем сияют непонятные им буквы.
Стоят мужики и не знают, куда им теперь итти с этой
Золотой грамотой и кто же им прочитает слова, сияющие солнцем
на этой Золотой грамоте.
Этой дорогой проходил Ленин. Мужики окружили Ленина и
просят прочитать.
Взял Ленин из рук мужиков Золотую грамоту, прочел ее,
усмехнулся и говорит:
— Друзья мои, я вам прочитаю эту Золотую книгу, но это
будет очень мало. Вам нужно уметь самим читать такие грамоты.
Кланяются мужики Ленину, благодарят его и просят его зайти
к ним в село и научить их грамоте.
Немного времени прожил в селе Ленин, мужики научились
читать, а когда прочли Золотую грамоту, начали волноваться,
шептаться между собой. Вскоре объединились они в свои
крестьянские комитеты, вооружились, кто чем мог, и вместе с
вооруженными людьми — работниками, уничтожили всех врагов своих: царя,
попа и пана-помещика, и начали жить так, как написано было в
Золотой грамоте.
А написано в Золотой грамоте было всего только одно слово:
коммунизм.
Эта сказка, записанная в гор.
Умани Киевской области, была
напечатана в 7937 г. в
«Ленинградской правде».
Как раввин обманул бога
Еврейская сказка
Ехал один раввин, который сам слыл чудотворцем. Ехал он
с кучером, на собственной лошади.
К вечеру поднялась буря. Дорогу занесло и все покрылось
мраком. Лошадь сбилась с пути.
Напрасно кучер искал дорогу. Раввина объял ужас при мысли,
что он замерзнет в поле и будет похоронен под снегом. Он
взмолился с горячими слезами: «Бог Авраама, Исаака и Иакова,
пожалей и спаси твоего раба, послушного и покорного! Если вернусь
домой благополучно, я продам свою лошадь и деньги раздам
беднякам».
Проезжавшие невдалеке крестьяне услышали крики и
поспешили на помощь. Они вытащили лошадь из сугроба н указали
путь.
Вернувшись благополучно домой, раввин велел кучеру продать
лошадь на базаре. При этом он дал ему петуха с наказом не
продавать лошади без петуха.
Когда опросили кучера, сколько стоит лошадь, он ответил, что
ему приказано не продавать лошадь без петуха; лошадь стоит
рубль, а петух сто рублей. Удивились люди, но откормленная
породистая лошадь стоила больше ста рублей, так что один купил
и петуха и лошадь.
Рубль, вырученный за лошадь, раввин отдал беднякам, как
обещал богу.
С раввином на паях
Еврейская сказка
Захворали у еврея корова и коза. Прибежал он к раввину за
советом. А раввин и говорит:
— Прими меня в долю, а уж я смерти прикажу, чтоб она
твоей коровы и козы не трогала.
Еврей так и сделал, принял раввина в компаньоны. Однако
корова и коза все же издохли.
Прибежал еврей к раввину и рассказывает. А раввин и
говорит:
— Что ж поделаешь! Смерть-то я, конечно, взбучу за то, что
меня не послушалась, а ты мне половину шкур все-таки давай, —
ведь мы ς тобой на паях...
Перевел М- Щамбадал.
536
Святые души
Еврейская сказка
Один хасид похвалился, что душа его ребе (раввина) покидает
святого спустя долгое время после вечерней молитвы.
Другой хасид сказал, что душа его ребе задерживается до
утра воскресенья.
— А у моего раввина, — сказал третий, — душа выходит на
прогулку во вторник ночью.
Я сам стоял под дверью раввина во вторник ночью и своими
собственными ушами слышал, как ребе просил:
— Ой, душенька, не уходи!
Как раввин выдал грамоту
Старинная еврейская сказка
Жил-был еврей-арендатор, невежественный я скулой. Бедных
он на порог к себе не пускал, раввинам ничего не дарил.
Пристыдили его друзья: у всех богачей есть грамоты, а он лишен этой
славы и будущего блаженства в раю.
Отправился арендатор ас «раввину и сказал:
— Равви, берите три рубля и дайте грамоту.
Раввин понял, что имеет дело со скупцом, и спросил:
— Знаешь ли ты библию и талмуд?
— Нет, — ответил арендатор.
— Невежественным грамоты не дают, — сказал раввин.
Рассказал арендатор об этом знакомым.
— За три рубля ты хочешь купить блаженство в раю,—
сказали друзья. — Иди, дай раввину побольше и получишь
грамоту.
Пришел арендатор и сказал раввину:
— Равви, берите сто рублей и дайте грамоту.
Получив ее, арендатор спросил:
— А как же будет, если я не знаю талмуда и библии?
— Уопокойся, сын мой, я прочел в одной древней книге, что
тот, кто помогает раввинам, будет вместе с ними в раю.
527
Для чорта находится
Еврейская сказка
Пришла к раввину женщина и стала жаловаться на свою
горькую судьбу и на бледность. Уплатив раввину рубль, женщина
стала просить его заступничества перед богом.
— Откуда же ты взяла рубль, который дала мне?—спросил
раввин.
— Чему вы удивляетесь, ребе?—Для чорта всегда находится...
Исповедь Шмереля Снитковера
Перед смертью Снитковера к нему пришел раввин и несколько
благочестивых богатых евреев с таким требованием:
— Так как горожане боятся, что приход на «тот свет» такого
безбожника, как ты, может принести много горя жителям нашего
местечка и могут пострадать ни в чем неповинные люди, — ты
должен сжалиться над остающимися в живых и покаяться в
своих грехах.
Раввин даст тебе отпущение грехов и произнесет заупокойную
молитву. Быть может бог внемлет этой молитве и простит
грешника.
Шмерель Снитковер подумал и сказал:
— Я согласен. Я покаюсь и расскажу о своих грехах.
Слушайте.
— В день великого поста Иом-Кипур я стоял в синагоге и
усердно молился.
Вдруг я почувствовал приближение дьявола, который стал
мне твердить:
— Шмерель! Ты человек слабого здоровья. Господа бога ты
своим постом не спасешь, а себе, глупец, навредишь. Упоминал
он, рабби, и вас и других богачей и говорил такое, что уста не
могут этого повторить.
Короче: я поддался искушению. Потихоньку я вышел из
синагоги и побежал на базар. Там я подошел к торговке Устинье,
которая продавала из огромного горшка пирожки.
— Что у тебя там, Устинья?— спросил я.
— Пирожки, хозяин, — отвечала она.
— С какой начинкой?
— С мясом, хозяин.
— С каким?
— Со свиным.
Плохо, думаю я, но так и быть возьму три штуки.
И что бы вы думали? Я хорошо закусил и почувствовал себя
превосходно.
538
Вернувшись в синагогу я стал молиться с таким усердием, с
каким давно уже не молился.
Так продолжалось до «Ун сане тойкеф». Перед началом этой
молитвы я снова почувствовал голод. Искуситель оказался тут
как тут. Он шептал мне:
— Шмерель, не будь дураком. Все равно ты уже нарушил
пост. Зачем же мучить себя? Что ты смотришь на дураков,
соблюдающих пост. Ведь ты же умница!
Дьявол снова меня уговорил. И опять я потихоньку вышел из
синагоги и поспешил на базар искать Устинью с вкусными
пирожками. Но ее уже не было. Меня разобрала досада.
Вдруг я заметил Палашку. (Знаете, ребе, Палашка
заслуживает того, чтобы на нее обратить внимание).
— Чем торгуешь, Палашка? —опросил я.
— Пирожками, хозяин.
— С какой начинкой?
— С творогом.
— Дай три штуки, дорогая Палашка.
Короче: этими пирожками я насытился до вечера.
И теперь, евреи, я признаюсь, что с момента, когда я ел
пирожки со свининой до употребления пирожков с творогом не
прошло и шести часов.
И еще в одном грехе покаюсь.
— Однажды в зимнюю ночь был сильный мороз и вьюга.
В такую погоду злой хозяин собаки на улицу не выпустит. А я
свою собаку выгнал, и она больше не вернулась.
Так, быть может, друзья, вы разрешите мне, я попрошу и у
нее перед смертью прощения?
Надуватсля надули
Еврейская сказка
Пришли два торговца к старому раввину, чтобы рассудил их.
Выслушал раввин обе стороны, погладил свою седую бороду и
стал рыться в религиозных книгах, искать в них решение.
Незаметно сунул ему в руку один торговец серебряный рубль.
Прищурился раввин и решил дело в пользу дающего. Второй после этого
сунул ему два рубля. Раввин стал рыться в других книгах и
решил дело в пользу второго.
Когда оба торговца ушли, раввин увидел, что рубли
фальшивые. Рассердился он, позвал жену и стал жаловаться:
— Смотри, какой нынешний мир стал безнравственный. Люди
благочестивые и на вид приличные бессовестно обманули своего
старого раввина: за честный труд подсунули ему фальшивые
деньги!
Записал Л. Хаитов.
Опубликовано β газете «Молодой ленинец* от
28/IV-1940 ».
Собачья доля
'Литовская сказка
Шел однажды бог по деревне, а собака на него лает. Бог и
говорит:
— Ты что на меня лаешь? Ведь я же тебя сотворил.
Собака ответила:
— Видно, без дела был, когда меня творил. Было бы гораздо
лучше, если бы меня не было: не терпела бы я холода, дождя и
непогоды.
Опубликовано в газете
«Безбожник* Л& 30 от 22/1Х—1940 г.
Двум-то помогло
Белорусская сказка
В старое время была одна бедная деревня на берегу ручья.
Еыли в ней церковь и корчма. Не имели от бедных крестьян
дохода ни поп, ни корчмарь. Вот однажды поп приходит к корчмарю
и говорит:
— Что делать?
Тот и придумал: взяли иконку, положили в ручей, а поп заявил
во все колокола: явилась-де икона, чудо!
Народ шел туда без конца, стали говорить, что вода в ручье
целебная.
Вот издалека пришел человек с сыном-калекой. Ночевать
пришлось ему в корчме. Он и спрашивает корчмаря:.
— Скажи, добрый человек, помогает ли это кому?
— Всем ли помогло, не знаю, — отвечает корчмарь, — но
двоим помогло, это мне доподлинно известно.
Опубликовано в газете
«Безбожник» Λδ 35 or 27IX—1940 ».
Хитрый поп
Белорусская сказка
Идет поп дорогой. А был как-раз пост великий. Поп взял
колбасу и грызет, как голодный. Увидел это крестьянин. Удивительно
ему: он голодает и в пост и в праздник,—это ему не новость, но
почему же этот поп поста не соблюдает? Вот он и спрашивает у
jiona: «Что это вы, батюшка, скоромное кушаете? Не грех ли
это?» А поп и говорит: «Темный ты мужик, плохо законы божьи
адаешь, в дороге попу поста нет».
Записана в Оршанском районе со
слов старогс крестьянина А* Маков*
ского.
«Святой дух»
Белорусская сказка
Жили, поживали в одном селе поп и дьяк. Людей дурманили
и себе карманы деньгами набивали. Но в последнее время им
стало мало дохода. Вот и стал пои думать, как бы ему заманить
в церковь больше народа. Поймал он голубя сизокрылого и
пустил по деревне слух, что в церковь снизошел святой дух. Опять
повалил народ в церковь и понес попу всякое добро.
Поп тогда и говорит дьяку: «Возьми голубя с собой, дьяче.
Как только я запою: «Святой дух, вознесись!», — ты пускай
голубя». Вот и пошли они в церковь. Поп важно идет, а за ним
вприпрыжку дьяк. Прыгал он, прыгал, да и споткнулся. Упал дьяк
на тот бок, где в кармане голубь был, и задавил его. Вот пришли
они в церковь. Поп начал говорить проповедь, людей за
непослушание богу ругать.
Говорил, говорил, а потом и запел «Святой дух, вознесись!».
Не подымается святой дух. Подождал еще, да и поет опять:
«Святой дух, вознесись!».
А дьяк ему в ответ: «Святой дух удавился, когда я
повалился».
Так и не удалось попу и дьяку одурманить людей, и с того
времени перестали люди верить в поповские чудеса.
Записана в колхозе им. Молотова,
Парычского района, со слов
колхозника Ю. Карпенко в /934 г.
Как дьяк пел
Белорусская сказка
В нашем селе дьяк не умел петь нисколько, а вид делал
большой.
Как-то раз он пел очень жалостно. Поет, а сам осматривается,
не разжалобит ли кого. Вдруг видит, стоит человек и плачет.
После шапочного разбора подходит дьяк к тому человеку и
спрашивает:
— А что ты, хороший человек, сегодня плакал?
— Ой, дьяче, как же мне не плакать? Ты сегодня как-раз
так пел, как моя козочка блеяла, когда ее волки резали.
Сообщил А. Калсчица.
541
Ленинская правда
Белорусская сказка
Жили в деревне два брата. Поле пахали, землю слезами
поливали, горбы себе наживали. Хлеб и скотину у них паны забирали,
а платили за это кулаками в спину.
Маялись братья не год и не два, а неизвестно сколько. И
другие мужики вокруг жили не лучше братьев.
Надоело братьям работать на чужое здоровье. Решили они
отправиться по России-матушке искать правду. Пошли. Идут месяц,
идут год. Видят: стоит большое село. Посреди села — панский дом
и рядом — церковь каменная.
«Дай, — думают братья, — зайдем сюда, спросим, где правда
живет».
Идут они по деревне, а навстречу им пан в коляске едет.
— Чьи вы, мужички, откуда идете и чего ищете? —
спрашивает их пан.
Отвечают ему братья:
— Жили мы в нищете, в горе, больше сил нехватает так
жить. Идем правду искать. Научи нас, пан, где ее найти.
— Хорошо, — говорит пан, — покажу я вам правду, если
пожелаете, только вы мне год поработайте за это.
Согласились братья.
Работали они, работали: поле пахали, землю слезами поливали.
Прошел год. Приходят они к пану и говорят:
— Научи же нас, пан, как нам правду найти.
— Ну, вот вам и правда, — отвечает им пан, — голь вы
немытая, работать вам всегда на нас, панов!
Плюнули братья и пошли дальше.
Идут месяц, идут год. В село пришли. Поп идет навстречу.
Братья к нему:
— Научи, отец, где правду найти.
— Хорошо, — говорит поп, — я вам правду у царя небесного
вымолю, а вы у меня год за это поработайте.
Согласились братья. Работали они, работали: пашню попу
пахали, слезами землю поливали. Прошел год. Пришли братья к
попу, а он им говорит:
— Работайте хорошо, бога не гневите, — вот ваша правда!
Плюнули братья, пошли дальше.
Приходят они к купцу. Вышел он, богатый, толстый, толще
пана и попа.
— Хорошо, — говорит купец,—научу я вас, где правду
найти, только поработайте вы год на меня.
Согласились братья. Стали они на купца работать, горбы
наживать. Учил их купец, как честной народ обманывать, бедноту
обмеривать. Не прошло еще и года, как младший брат и говорит:
— Не пойду я больше правду искать! Нет ее на свете —
правды мужицкой!
542
И вернулся он в свою деревню. А старший брат
настойчивый — не хотел без правды домой возвращаться. Пошел один к
фабриканту.
Фабрикант и пана, и попа, и купца богаче. Начал старший брат
работать у него. А на фабрике много людей работает.
Работали они много лет. Горбы наживали, а правды не
видали. Раз услышал брат тихую беседу:
— Есть только один человек, который правду знает. Зовут
этого человека Ленин, а живет он в Питере.
Запомнил брат имя и пошел искать этого человека.
Шел много дней, а может быть и месяцев. Пришел в Питер.
Видит: идет рабочий. Он его опросил тихонько:
— Где здесь Ленина найти?
А тот ему еще тише:
— Пойдем за мной, я тебя доведу.
Вот пришли о«и в обыкновенную комнату. Кругом разных
книг много. Вышел к ним человек, — одет небогато, но чисто.
Вышел и ласково говорит:
— Здравствуйте, товарищи, что скажете хорошего?
Рассказал ему брат, как он правду искал. Долго с ними
говорил Ленин о порядках на фабрике, о деревенской бедноте
расспрашивал, а потом сказал:
— Правильно ты сделал, что на фабрику пошел правду
искать, — там скорее узнаешь, где она есть. Вы ее в руках своих
держите.
И рассказал Ленин брату, как надо за рабочую правду
бороться, чтобы не служить ни панам, ни купцам, ни фабрикантам, и как
выгнать их вместе с царем.
Вернулся брат на фабрику и начал товарищам ленинскую
правду рассказывать. Один рассказывает — десять слушают, десять
рассказывают — сто слушают. И пошла ленинская правда по
всему свету.
Много лет ходила она по фабрикам и деревням. Поднимала
рабочих и крестьян на борьбу. А в октябре семнадцатого года
объявилась эта правда, заговорила громким голосом, на весь мир
загудела. Пошли рабочие и крестьяне войной на помещиков и
фабрикантов. А повел их сам Ленин со своим лучшим
помощником — Сталиным. И взяла верх ленинская правда.
С тех пор рабочие и крестьяне не работают больше на панов
И фабрикантов, горбов не наживают, землю слезами не
поливают, — сами хозяева своих фабрик, своей земли и жизни своей.
«Творчество народов СССР».
Издание редакции «Правды» 1938 г.
Смерть бога
Узбекская сказка
Это было тогда, когда еще царь Николай был, а всем, что
есть, владели богачи. Ходили тогда по всему царству Ленин и
Сталин и учили бедных, что без богачей можно жить лучше.
Испугались богачи и пошли к царю жаловаться на Ленина и
Сталина. А царь спал у себя на золотой кровати. Разбудили
богачи царя и говорят ему:
«Какой ты царь! Спишь и не знаешь, что по твоему царству
ходят Ленин и Сталин и учат всех бедных, как у нас отнять власть.
И народ им крепко верит и слушает их. Прикажи схватить их и
посадить в тюрьму».
Царь приказал. Схватили царские слуги Ленина и Сталина.
Посадили в тюрьму, а ноги приковали к стене толстыми
железными цепями. Сидят так Ленин и Сталин в тюрьме день, другой,
третий. Бедняки и весь народ удивляются: куда девались Ленин
и Сталин? Ходят всюду, спрашивают друг у друга, никто не
знает.
Узнали про это птицы и животные, тоже стали искать. Вот
однажды прилетели воробьи к окну тюрьмы, где сидели Ленин
и Сталин, увидели их и так обрадовались, что не стали даже
клевать крошек, которые набросали для них Ленин и Сталин.
Позвали воробьи мышей. Те быстро перегрызли толстые цепи.
Позвали воробьи сусликов, они быстро прокопали под землей
ход из тюрьмы на волю. Позвали воробьи орлов, те прилетели и
на своих спинах унесли Ленина и Сталина.
Бросились царские слуги в погоню. Вот уже стали догонять.
Тогда воробьи позвали на помощь тигров, волков и медведей.
Царские слуги испугались и вернулись ни с чем. Узнали царь
Николай и богачи об этом и стали просить бога, чтобы он им
помог снова схватить Ленина и Сталина. Бог согласился.
Летят Ленин и Сталин высоко над землей. Увидели чудесный
дворец в облаках. А то был дворец бога. Бог говорит Ленину и
Сталину:
«Заходите отдохнуть, а орлы пусть летят дальше».
Зашли во дворец Ленин и Сталин, но орлов с собой взяли.
Бог приказал своим слугам схватить Ленина и Сталина, чтобы
отдать их царю Николаю и богачам.
Тут орлы разогнали всех слуг бога, а самому богу выклевали
глаза. Стал бог слепой и ничего не видит. Рассердились Ленин и
Сталин на бога, столкнули его вниз. Бог упал на землю и
разбился.
Так и не стало бога. А Ленин и Сталин опустились на землю,
прогнали царя Николая и богачей и стали жить счастливо:
русские, узбеки, таджики, татары и другие народы.
Записано В. Афанасьевым и
С. Романовым в Старой Бухаре со
слов жителя кишлака Вабкено Ка-
рима Ачилева.
Как муллы гуся варили
Узбекская сказка
Давно когда-то, встарину, сидели двое мулл около мечети. Шел
мимо них охотник и нес с собой гуся.
— Как бы нам скушать у охотника этого гуся?—сказал один
мулла другому.
Они окликнули охотника, тот подошел. Муллы стали просить
у охотника гуся.
— Хорошо, берите, вместе будем есть, — сказал охотник и
отдал им свою добычу.
Муллы взяли гуся и начали варить. Когда гусь сварился,
муллы стали договариваться:
— Давайте ляжем спать. Кто увидит самый лучший сон, тот
и съест гуся.
Вот все трое легли спать. Когда муллы уснули, охотник встал
потихоньку и съел гуся с похлебкой. Муллы проснулись и
спрашивают друг друга:
— Ты что видел?
— А ты?
— Я видел, — говорит один -мулла, — будто бы я возношусь
на небо.
— А ты что видел?
— Я, — отвечает другой мулла, — заснул и вижу, будто бы я
еду по морю.
— Что же ты видел? —спросили тогда охотника.
Охотник и говорит:
— А я вижу: ты улетел на небо, а ты уплыл в море, думаю,
пока вы вернетесь, пропадет гусь понапрасну, взял да и съел.
Рассказал Курбанбай Ходжинияз-
оглы из кишлака Юкары Уйгур,
Дурменского сельсовета, Ургенчского
района, Узбекской ССР. Записал
Газы Алим. Напечатано в журнале
«Литературный Узбекистан» № 7
за 1936 г.
Паршивый баран
Азербайджанская сказка
Старый чабан Муслюм повстречал на дороге муллу Рагимбека.
— Ай, мулла, где конец твоему пути?—опросил чабан. —
Вижу я, устал ты в дороге, отдохнуть сядь.
Мулла сел, боязливо озираясь на собаку чабана. Муслюм
сделал знак, и собака отошла. Тогда мулла попросил курить.
— Ай, мулла, что с тобой? Ты же не курил раньше.
85-22 545
— Ничего, дай!
Когда закурили, мулла сказал:
— Спасибо тебе, старик. Видит аллах, добрый ты человек.
Мулла выкурил папиросу и говорит:
— Сделай мне, старик, еще одну услугу, аллах на тебя
надеется. Мне туда надо,—показал он в сторону границы. — Ты
эту местность хорошо знаешь... Только на тебя аллах и надеется.
— Слава аллаху, — произнес чабан, немного подумав.
Тогда повеселевший мулла предложил чабану деньги. Муслюм
пересчитал их и говорит:
— Мало!
— Еще столько на границе получишь.
Задумался чабан, а мулла глаз с него не сводит.
— Мало, мулла, мало: большое дело для аллаха делаем.
Вынул мулла вторую пачку, и тогда Муслюм сказал:
— Бери мой тулуп, выворачивай наизнанку и влезай в стадо
поглубже, со стадом и пойдем, только ползи на четвереньках, не
поднимайся.
Гонит стадо чабан и поет. Будто и граница рядом, а он все
гонит и гонит, прямо к заставе. Потом забежал вперед и зовет
начальника. Начальник заставы вышел, спрашивает, в чем дело.
— Есть в стаде баран паршивый, — ответил Муслюм, — не
удержать мне его одному.
И, обернувшись к овцам, закричал:
— Приказываю встать рыжему барану по имени Рагимбек.
. Овцы шарахнулись в стороны, когда поднялся с земли
вспотевший, запыленный мулла.
Муслюм передал начальнику заставы деньги, полученные от
муллы, рассказал, как мулла попал в стадо, и повернул овец на
свое пастбище.
Суд казия
Тюркская сказка
У одного молодого человека по имени Сабри не стало хлеба.
Семейство его голодало. Вот пошел он к одному богатому
человеку и взял у него под расписку 50 рублей под проценты на шесть
месяцев.
По истечении срока хозяин денег явился с требованием
уплатить долг. Сабри, за неимением денег, отговаривался. Наконец,
оба были принуждены отправиться на суд к казию.
Идя по дороге, Сабри заметил, что у одного человека завяз в
грязи осел и не может выбраться. Сабри взялся за хвост, а хо-*
зяин за уши осла, чтобы вытащить его. Случилось так, что хвост
оторвался и остался в руках у Сабри. Хозяин стал требовать от
Сабри осла с хвостом. Сабри пригласил и его на суд.
546
Дорогой Сабри хотел скрыться и, желая войти в первый
попавшийся двор, сильно толкнул ворота. Оказалось — за воротами
стояла беременная женщина; от сильного и неожиданного удара
она испугалась, упала и выкинула восьмимесячного ребенка. Муж
этой женщины тоже присоединился к ним, с целью жаловаться
казию. Видя, что дело плохо и что ему придется поплатиться
жизнью, Сабри думал как-нибудь отделаться от них. Впереди он
увидел стену и подумал: «Все равно, казий осудит меня на казнь.
Лучше побегу вперед, поднимусь на стену и спрыгну. Умру —
будет гораздо лучше и легче, чем смерть от руки палача».
Так и сделал Сабри и упал прямо на сонного человека,
лежавшего под стеной, которому распорол живот, отчего последний
сейчас же умер. Явился сын умершего и хотел убить Сабри, но
Сабри сказал ему:
— Молодой человек, пока не убивай меня; со мной идут к
казию три человека судиться, — пойдем вместе с нами. Без
сомнения, он прикажет меня казнить. Тогда я попрошу казия, чтобы
ты меня лишил жизни.
Вот все пять человек явились во двор казия. Оставив
противников во дворе, Сабри поспешил в комнаты казия, которого
застал за беззаконием. Тотчас Сабри вышел во двор и во весь
голос сказал противникам:
— Подождите немного, господа! Казий пока занят молитвами
о благоденствии народа.
Услышав это, казий поспешно оделся, вышел во двор и опросил:
— Кто из вас застал меня за молитвами?
— Я, — ответил Сабри, отделившись от прочих.
— В чем дело? Начните, — сказал грозно казий.
Хозяин денег начал:
— Сабри по расписке должен мне пятьдесят рублей, от уплаты
коих уклоняется. Вот расписка.
— Так как ты отдал деньги на проценты, — сказал, прочитав
расписку, казий, — что по шариату не разрешается, как большой
грех, то я приказываю Сабри не платить тебе твоих денег, а
самого тебя штрафую на тридцать рублей в пользу этого же Сабри,
чтобы после этого ты не посмел заниматься незаконным делом.
Муж выкинувшей женщины доложил казию суть своего дела.
В ответ ему казий начал:
— Когда жена у неосторожного Сабри будет на восьмом
месяце беременности, то и ты можешь по неосторожности поступить с
нею так же, как Сабри с твоей женой.
Наконец, сын убитого рассказал казию, каким образом Сабри
убил его отца.
Недолго думая, казий сказал:
— Пусть Сабри ляжет на том самом месте под стеной, где
спал твой отец, а ты поднимись на стену и оттуда прыгай прямо
на Сабри, чтобы последний умер.
— Я дарю жизнь моего отца Сабри, а прыгать с такой
высокой стены не стану, — сказал жалобщик.
*♦ 547
Казий оштрафовал и его деньгами в пользу Сабри за
ослушание.
Четвертый жалобщик, видя такой исход дела, сказал
дрожащим голосом:
— Господин казий, осел мой родился без хвоста. Я пришел
сюда только послушать твой беспримерный суд.
После этого все· разошлись ни с чем, а Сабри за свое
восклицание: «казий занят молитвами о благоденствии народа» получил
от казия денежное вознаграждение и сделался другом и
приятелем его.
Из цикла «Азербайджанские и
тюркские ска8ки*.
Не говори: «дай!»
Кабардинская сказка
Крестьянин увидел — тонет в реке мулла. Подбежал крестьянин
к берегу, протянул руку и закричал:
— Мулла, дай поскорее свою руку. Давай же!
Мулла был близок к берегу, легко мог бы достать протянутую
ему руку. Но только мулла услышал слова крестьянина, он стал
изо всех сил отталкиваться от берега.
Другой крестьянин видел все это. Он хорошо знал мулл и
потому закричал спасавшему:
— Э-эй, чудак! Не говори — «дай!»: мулла никому ничего не
дает, он только берет со всех. Скажи ему «на», а не то он из-за
своей жадности утонет.
Тут крестьянин, спасавший муллу, протянул опять руку, но
со словами:
— На, на, мулла, на, возьми.
Мулла, что было сил, бросился ас крестьянину и жадно
схватил обеими руками протянутую руку.
Так был спасен утопавший мулла.
Из сборника «Кабардинский фоль*
клор».
Святой осел
Казахская сказка
Пришел однажды в город старый-престарелый казах с мешком
костей за спиной. Он расспрашивал встречных, где находится
склад утильконторы. Добрался, наконец, он до склада и вывалил
на весы груду костей. Посмотрел на них весовщик и говорит:
548
— Забирай, старик, свой товар. Этим костям, должно быть,
уж не одна сотня лет, перегнили они и для нас не подходят.
Пригорюнился старик, но делать нечего — стал собирать
кости обратно в мешок, да и говорит:
— Дай рубль, дорогой начальник, а я расскажу тебе, чьи это
кости. Дай рубль, — не пожалеешь, .рассказом моим останешься
доволен.
Жаль стало весовщику старика, что зря тот тащил негодные
кости, и дал ему рубль серебряной монетой, хотя и не надеялся
услышать что-нибудь интересное.
А старик рассказал:
— Давным-давно у переправы через реку Чу -была могила
святого, к гробнице которого стекалось много богомольцев. Именем
святого лечил, гадал и предсказывал судьбу старый дервиш.
Подаяния были щедры, и дервишу и мне, его ученику, жилось
хорошо. Так прожил я у него несколько лет и решил совершить
путешествие в святую Мекку. И сказал я своему учителю:
— Учитель, благослови меня, хочу итти я в святые места.
Благословил меня дервиш, а чтобы не утомился я от пешего
хождения, подарил он мне своего единственного осла. Так я
отправился в свое путешествие.
На седьмой день пути, ровно в полдень, споткнулся мой осел,
упал да и сдох. Стар уж он был и не вынес изнурительного пути.
Сел я около него и стал плакать, так как страшили меня лишения
и тяготы длительного путешествия. Вдруг я заметил, что по
дороге в мою сторону едут всадники. Испугавшись, что меня могут
обвинить в том, что я безжалостным обращением довел своего
осла до смерти, я быстро оттащил его в сторону и набросал на него
груду камней.
Когда поравнялись всадники с ослиной могилой и увидали мой
дервишский костюм, они спросили меня о причине слез.
— Вдвоем с моим лучшим другом,—отвечал я им, — я
направлялся в город пророка. Друг мой умер вот здесь, и я теперь
горько плачу над его могилой.
-— Видно, праведной жизни был твой друг, если ты так
сильно горюешь, — и, бросив несколько золотых монет, всадники
уехали.
Не успел я как следует отдохнуть и собраться с мыслями, как
увидел, что ко мне приближается большая толпа. Это были
жители соседнего города. Оказывается, проехавшие мимо меня
всадники рассказали в городе о том, что поблизости умер и
похоронен святой. Вот жители и пришли просить меня остаться жить
на могиле своего друга, за что они меня щедро вознаградят. ÜKaj
зывается, в этом городе до сего времени не было ни одной святой
могилы.
Я подумал немного и решил, что прах старого осла мне может
пригодиться и что глупо было бы отказываться от счастья,
которое само лезло мне в руки. И я согласился.
Слава о моем святом быстро росла. Число паломников
увеличила
валось с каждым днем. Приношения были обильны и богаты.
Прошло несколько лет, как вдруг однажды утром ко мне
вошел мой старый учитель.
— Слава о твоем святом докатилась до меня, и я решил
поклониться его праху с просьбой, чтобы он замолил мои грехи
перед богом. Но скажи мне, кто твой святой и как ты очутился
здесь?
И я рассказал своему учителю всю правду. Я думал, что он
очень рассердится, но дервиш стал громко смеяться, похлопывая
меня по плечу.
Тут я решил задать ему ©опрос, чего никогда не осмеливался
раньше. Я спросил его:
— Скажи, учитель, а кто был тот святой, на могиле которого
живешь ты?
— Это была мать твоего святого, — отвечал мой учитель со
смехом.
Рассказано конюхом совхоза
«Пахта-Арал» Баймуратом Ну разовым.
РАССКАЗЫ О МУЛЛЕ НАСРЭДДИНЕ*
Насрэддин любил поесть на чужой счет. У него был один
знакомый, большой скупец. Однажды мулла попросился к нему
обедать. Скупой поставил перед муллой миску с горячей водой, в
которой плавало несколько чечевиц. Насрэддин выловил эти
чечевицы и начал раздеваться.
— Что ты делаешь? — спросил его скупой.
— Хочу нырнуть в воду, посмотреть, не осталось ли на дне
хоть одной чечевицы.
* * *
У Насрэддина околел осел. Мулла пришел в отчаяние от
такой потери, сел у порога своего дома и горько заплакал.
Собрались прихожане н стали его утешать.
— Аллах даст тебе осла лучше, — сказал один из прихожан.
— Как же, дожидайся! Я отлично знаю аллаха, меньше
десяти монет он не уступит самого плохого осла.
* # *
У муллы украли его верхнюю одежду. Он страшно
рассердился, вышел на базар и стал кричать, что если вор не возвратит
его одежды, то он, с помощью аллаха, сделает с ним худо. Вор
испугался и принес ему платье.
* Мулла Насрэддин — один ив популярнейших легендарных героев
бесчисленного количества восточных сказок, предании, басен и анекдотов.
550-
— А если бы я не принес тебе одежду, что бы ты сделал? —
поинтересовался вор.
— Что бы я сделал? Ничего! Пошел бы в лавку и купил
новое платье.
Путешествие в кавказскую Мекку
Мулла Насрэддин после долгих скитаний по горам Аварии
решил отправиться в кавказскую Мекку — в Дербент, город,
издавна славящийся своими древними мечетями.
Пришел мулла Насрэддин на двор Джума-мечети и удивился:
такая чистота вокруг, двор хорошо подметен, все стены мутаалим-
ских келий выбелены, святые надписи на дверях позолочены,
большой купол свеже выкрашен зеленой краокой. «Вот где люди
по-настоящему умеют чтить пророка и его святыни! —
возрадовался мулла Насрэддин, осматривая Джума-мечеть. — Даже такой
безбожник, как я, и тот проникнется святостью духа этого места.
Но только почему мулла не зовет верующих к молитве, когда
время для кады-кака уже настало?—подумал мулла Насрэддин,
взглянув на небо. — Верно, мулла заболел. Заменю-ка я его!»
Решив так, мулла Насрэддин быстро поднялся на крышу мечети.
— Алла!.. Алла!.. — начал было в голос звать мулла
Насрэддин, как тут же, откуда ни возьмись, появились люди,
стащили его с крыши и начали бить.
— Ты что, не знаешь, так в музей не созывают народ!
— Отпустите, добрые люди!—взмолился мулла Насрэддин·—
Впредь буду умнее.
Поплелся мулла Насрэддин дальше и вдруг слышит:
— Алла! Алла!
«Вот когда я могу расквитаться!» — подумал он, торопясь
первым подняться на минарет.
— Разве так созывают в музей?—обратился он к человеку,
который кричал, и принялся бить его вдвое сильнее, чем били его.
На крики избиваемого сбежались старики.
— Ты что не даешь созывать верующих на молитву? Вот мы
сейчас с тобой расправимся!—кричали они.
— Да это же никак мулла Насрэддин!—узнал его первый из
поднявшихся на минарет.
— Известный безбожник! Бейте его, правоверные!..
Стащили муллу Насрэддина с минарета и стали жестоко
избивать.
— Простите, добрые люди!—взмолился мулла Насрэддин.—
Буду славить аллаха всюду, где можно!
Старики сжалились над муллой Насрэддином и отпустили его.
Еле волоча ноги, мулла Насрэддин поплелся на другой конец
города. «Ну, теперь-то я буду осторожнее, — решил мулла
Насрэддин,— теперь, прежде чем призвать верующих на молитву, буду
сам заглядывать в мечеть...»
И когда увидел мечеть, так и сделал. Осторожно подошел к
Ä5/
ней и, прежде чем войти в нее, приложил ухо к двери. В мечети
было тихо, лишь одинокий хриплый голос еле слышно повторял: —
Алла! Алла! Не веря своим ушам, мулла Насрэддин приоткрыл
дверь внутрь. Мечеть пустовала. «Вер«о, мулла плохо созывал
верующих, что мечеть пуста, когда идет служба, — подумал он. —
Вот когда я смогу искупить свою вину перед аллахом и
верующими людьми!»
Радуясь своему счастью, он поторопился подняться на
минарет. «Здесь музея никак не может быть, — поднимаясь по
ступенькам лестницы, рассуждал он, — и не может один человек, без
джамаата, разговаривать сам с собой».
— Алла! Алла! — громко закричал мулла Насрэддин.
Тут же на его голос со всех сторон сбежались люди.
— Вай, что ты там кричишь?—закричали они ему снизу.—
Сходи сейчас же.
Голоса кричавших людей были так грозны, что мулла
Насрэддин не замедлил сойти вниз. Лишь только он очутился внизу,
как на него набросились и жестоко избили. Мулла Насрэддин уже
не решился спросить, за что его бьют, лишь умолял:
— Отпустите, добрые люди, больше «алла, алла» кричать не
буду и другим не позволю! /
— Ах так, хорошо, иди, — ответили ему люди.
— Ну, теперь, если услышу только «алла, алла», буду бить
сам, — решил мулла Насрэддин.
Не успел он сделать и нескольких шагов, как услышал крик с
балкона:
— Алла! Алла!
Не раздумывая, схватил мулла Насрэддин большой камень и
бросил его в ту сторону, откуда слышался голос. Опять
сбежались люди. На этот раз муллу Насрэддина повели в милицию,
Там один из приведших его людей, показывая на него рукой,
сказал:
— Вот этот гражданин, лишь только из моего репродуктора
послышалось: «алло, алло», схватил камень и бросил его прямо в
репродуктор.
— Ваша фамилия?—спросил начальник.
Мулла Насрэддин так перепугался, что забыл свое имя.
— Да это же мулла Насрэддин! — закричал стоявший в
толпе старик. — Известный чудак!
И его отпустили с миром.
О несчастии, окончившемся благополучно
Мулла Насрэддин, торопясь засветло попасть в аул,
оступился и упал в пропасть. Придя в себя, начал громко звать на
помощь:
— Спасите! Спасите, добрые люди!
Вверху по дороге проходил аульский мулла.
— Кто там кричит? — наклонясь над пропастью, спросил он,
552
— Это я, мулла Насрэддин!
— Аллах тебе поможет! — сказал мулла и пошел дальше.
Мулла Насрэддин принялся звать на помощь аллаха.
По дороге проходил колхозник. Услышав крик, он поторопился
оказать помощь. Когда мулла Насрэддин узнал, кто был его
спасителем, он воскликнул:
— Я же аллаха звал к себе на помощь!
— Ты бы его никогда не дождался, потому я и решил тебя
спасти, — ответил колхозник.
Вымогатели и ловкачи
Привлеченный репутацией Насрэддина, приехал в Ак-Шехир
один мулла, чтобы получить ответы на некоторые вопросы.
Дорогой мулла купил несколько гранат и положил их в карман.
После взаимных приветствий мулла объявил Насрэддину о
цели своего приезда. Тот сказал, что может ответить, но не
сделает этого даром. Тогда мулла вытащил из кармана гранаты и
передал их Насрэддину. Этот стал есть их одну за другой и в то
же время отвечать на вопросы. Лишь он доел последнюю гранату,
как остановился и перестал отвечать.
— Но у меня остался еще один вопрос, — заметил мулла.
— Это прекрасно, — ответил Насрэддин, — но у меня не
осталось более гранат.
— Хочешь, я тебя поведу к речке и приведу назад, не дав
тебе напиться? — спросил мулла соседа.
— Этого не может быть, — ответил тот.
— Давай спорить на одну монету.
Сосед согласился, и они направились к речке. По приходе туда
мулла начал с удивлением осматриваться и качал головой.
— Что с тобой? — спросил сосед.
— А свидетели?
— Какие свидетели?
— Как какие? Ты будешь говорить, что напился воды, а я,
что нет. У нас так ничего и не выйдет.
— Ну, тогда пойдем за свидетелями, — сказал сосед, и они
отправились обратно в город, в ближайшую чайную, где
надеялись достать свидетелей.
— Мы были у речки? — спросил мулла соседа по приходе в
чайную.
— Были, — ответил сосед.
— Ты пил воду?
— Нет. w
— Давай сюда монету.
Сосед признал себя побежденным и заплатил мулле деньги.
£53
Насрэддин у Сталина
Это было очень давно, когда нашей землей правил царь
Николай и баи, а муллы обманывали простой народ.
Умер Насрэддин. Собрались слуги аллаха и стали решать, что
делать с душой умершего. Один говорит:
— В рай нельзя пускать ее, потому что покойный аллаха не
признавал, над святыми насмехался, богатых не любил.
Другой говорит:
— И в ад тоже нельзя, потому что негодный ходжа своими
насмешками и безбожными рассказами еще сильней возмутит оби«
тателей преисподней.
И так плохо, и так нехорошо! Долго спорили и все же решили
пустить душу Насрэддина в рай, только настрого приказали ему
не показываться на глаза аллаху.
Прошло много лет. Живет в раю Насрэддин. Смеяться ему не
позволяют, петь запрещают, сказки рассказывать некому. И
затосковал он. Вот выбрал однажды время, пробрался во дворец к
аллаху и громко запел богохульную песню.
Услышал аллах безбожные слова песни, распалился гневом и
приказал привести к себе певца. Испугались слуги, однако
ослушаться приказа не посмели и пинками втолкнули Насрэддина в
аллаховы чертоги. Увидел аллах Насрэддина, узнал в нем
негодного ходжу, заступника за бедных, разгневался еще больше, стал
кричать:
— Как ты осмелился, негодный ходжа, в моем дворце
насмехаться надо мною и над моими слугами?!
Насрэддин стоит, улыбается и молчит.
Удивился аллах такой смелости. Захотелось ему узнать, правда
ли, что Насрэддин такой уж безбожник. Вот он и спрашивает его:
— Говорят, что при жизни ты мсйя не признавал, над
святыми моими насмехался, богатых не любил?
А Насрэддин попрежнему улыбается и молчит.
Снова спрашивает аллах:
— Говорят, что при жизни ты говорил простому народу, что
меня вовсе не существует, а все святые просто обманщики?
А Насрэддин, как в рот воды набрал, ни слова в ответ.
Измучился аллах и стал молить Насрэддина:
— Да скажи ты хоть слово! Почему ты не отвечаешь на мои
вопросы?
Тут только Насрэддин промолвил:
— Раз я думаю, что тебя не существует, значит, и вопросов
твоих не существует, значит, и отвечать мне некому.
Что было делать аллаху?! Разве такого переспоришь? И велел
он своим слугам прогнать Насрэддина из рая снова на землю,—
пусть живет, как хочет. А Насрэддину только это и нужно было.
Собрал он свои вещи и воротился в родной кишлак.
Воротился в родной кишлак Насрэддин и стал искать свой дом.
Подошел к тому месту, где он был, и ничего не узнает. На том
554
месте, где был его старый развалившийся дом, теперь высится
огромное красивое здание и на нем большая вывеска: «Колхозный
клуб имени Сталина». Удивился Насрэддин, ничего понять не
может. Пошел по улице. А улицы все широкие, гладко вымощенные,
дома у всех новые, каменные, окнами на улицу. У каждого дома
непременно сад, у арыка здоровые, веселые дети играют.
Остановил Насрэддин прохожего и спросил у него:
— Уважаемый господин! Кто это сотворил такое чудо —
превратил грязный кишлак в чудесный город?
Прохожий удивился такому вопросу, однако ответил:
— Стыдно не знать этого! Это сделал товарищ Сталин.
Идет дальше Насрэддин. Видит, идут по улице девушки, лица
у всех открытые, радостные, в руках — книги. Не поверил глазам
своим Насрэддин, подошел ближе, — все так. Остановил
Насрэддин девушек, спросил у них:
— Уважаемые госпожи! Как зовут того великого, который не
побоялся закона аллаха и разрешил вам открыть лица?
Девушки удивились такому вопросу, однако ответили:
— Стыдно не знать этого! Это нам разрешил товарищ
Сталин.
Потом отошли от Насрэддина и вошли в богатый каменный
дом, на котором была тоже вывеска: «Колхозная школа имени
Сталина».
Тогда решил Насрэддин пойти к мечети и спросить у стариков,
что за человек такой — Сталин. Подошел к дверям мечети, а над
ними опять вывеска: «Колхозная чайхана имени Сталина». Протер
себе глаза Насрэддин, еще раз прочел вывеску, все так. Отворил
дверь чайханы, вошел в нее, а в чайхане пусто, нет никого, только
самоварчи пересчитывает пятаки, полученные за чай. Спросил у
него Насрэддин:
— Где народ?
Самоварчи ответил:
— Теперь уборка хлопка, — все на работе.
Вышел Насрэддин из чайханы, пошел в поле. Идет он и все
удивляется: поле сплошь покрыто хлопком, работают на нем и
мужчины, и женщины. Тут же разные машины, ими управляют
простые дехкане. Лица у всех веселые, счастливые, точно труд
доставляет им радость. И каждый старается работать лучше
другого, побольше собрать хлопка.
Пошел к работающим Насрэддин и спрашивает у них:
— Какому баю принадлежит собираемый вами хлопок и кто
хозяин этого поля?
А ему со смехом отвечают дехкане:
— Мы сами себе хозяева, и хлопок и поле — все это наше —
колхозное.
— А кто вам машины дал?
Удивились такому вопросу дехкане, однако ответили:
— Стыдно не знать этого! Машины нам дал товарищ
Сталин.
555
— А кто вас научил любить свой труд?
Еще больше удивились дехкане, однако тоже ответили:
— Стыдно не знать этого! Любить свой труд нас научил
товарищ Сталин.
Выслушал все это Насрэддин, и захотелось ему увидеть
товарища Сталина. Расспросил он дехкан, как найти Сталина, и
пошел в большой город — Москву.
Сказали товарищу Сталину, что его хочет видеть Насрэддин,
Сталин обрадовался и велел тотчас привести его к себе. Привели
Насрэддина. Сталин накормил его, дал отдохнуть после долгого
путешествия, а потом решил испытать, правду ли люди
говорили об уме Насрэддина? Вот Сталин и говорит:
— Слышал я, что в старое время ты в аллаха и его святых
не верил, богатых не любил, за бедных заступался. В награду за
это теперь проси, что пожелаешь.
Задумался Насрэддин. Потом вдруг улыбнулся и говорит:
— Хочу, чтобы меня приняли в колхоз. Теперь колхозники —
самые счастливые люди.
И поверил тогда товарищ Сталин, что правду говорили люди
об уме Насрэддина.
Записано В. Афанасьевым и
С. Романовым в Старой Бухаре со
йлоа чайханщика Ахмат-Юсуф
Кадырова.
Возмутитель спокойствия *
(Отрывки)
На площади было гораздо тише и просторнее, чем утром, в
часы торговой горячки, когда все бежали, кричали, спешили, боясь
прозевать свою удачу. Близился полдень, и народ, спасаясь от
зноя, расходился по чайханам, чтобы спокойно подсчитать
прибыли и убытки. Солнце заливало площадь жарким светом, тени были
короткими, резкими, словно высеченными в жесткой земле. В
затененных местах всюду приютились нищие, а около них прыгали
с веселым чириканьем воробьи, подбирая крошки.
— Подай, добрый человек, во имя аллаха! — гнусавили нищие,
показывая ходже Насрэддину свои уродства и язвы.
Он отвечал сердито:
— Уберите свои руки, я ничуть не богаче вас и сам ищу, кто
бы подал мне четыреста таньга.
Нищие, принимая эти слова за насмешку, осыпали ходжу
Насрэддина руганью. Он не отвечал, погрузившись в раздумье.
В ряду чайхан он выбрал самую большую и людную, где не
Иэ романа Леонида Соловьева «Возмутитель спокойствия».
55Q
было ни дорогих ковров, ни шелковых подушек, вошел и втащил
за собой по ступенькам лестницы ишака, вместо того, чтобы
поставить у коновязи.
Ходжу Насрэддина встретили удивленным молчанием, но он
ничуть не смутился. Он достал из переметной сумки коран, что
подарил ему вчера на прощанье старик, и, раскрыв, положил перед
ишаком.
Все это он проделал неторопливо и спокойно, без улыбки на
лице, как будто так и полагалось.
Люди в чайхане начали переглядываться.
Ишак стукнул копытом в деревянный гулкий настил.
— Уже? — спросил ходжа Насрэддин и перевернул
страницу. — Ты делаешь заметные успехи.
Тогда встал со своего места пузатый добродушный чайханщик
и подошел к ходже Насрэддину.
— Послушай, добрый человек, разве здесь место для твоего
ишака? И зачем ты положил перед ним священную книгу?
— Я учу этого ишака богословию, — невозмутимо ответил
ходжа Насрэддин. — Мы уже заканчиваем коран и скоро
перейдем к шариату.
По чайхане пошел гул и шопот, многие встали, чтобы лучш«
видеть.
Глаза чайханщика округлились, рот приоткрылся. Еще никогда
в жизни ему не приходилось видеть такого чуда. В это время
ишак снова стукнул копытом.
— Хорошо, — похвалил ходжа Насрэддин, переворачивая
страницу. — Очень хорошо! Еще немного усилий, и ты сможешь
занять должность главного богослова в медрессе Мир-Араб. Вот
только страницы он не умеет перелистывать сам, приходится ему
помогать. Аллах снабдил его острым умом и замечательной
памятью, но позабыл снабдить его пальцами, — добавил ходжа
Насрэддин, обратившись к чайханщику.
Люди в чайхане побросали свои чайники, подошли ближе;
не прошло и минуты, как вокруг ходжи Насрэддина собралась
толпа.
— Этот ишак не простой ишак!—объяснял ходжа
Насрэддин. — Он принадлежит самому эмиру. Однажды эмир позвал
меня и спросил: «Можешь ли ты обучить моего любимого ишака
богословию, чтобы он знал столько же, сколько я сам?» Мне
показали ишака, я проверил его способности и ответил: «О пресвет-
лый эмир! Этот замечательный ишак не уступает остротой своего
ума ни одному из твоих визирей, ни даже тебе самому, я берусь
обучить его богословию, и он будет знать столько же, сколько
знаешь и ты, и даже больше, но для этого потребуется двадцать
лет». Эмир велел выдать мне из казны пять тысяч таньга золотом
и сказал: «Бери этого ишака и учи его, но клянусь аллахом, если
через двадцать лет он не будет знать богословия и читать
наизусть коран, я отрублю тебе голову!»
— Ну, значит, ты заранее можешь проститься со своей голо-
557
вой! — воскликнул чайханщик. — Да где же это видано, чтобы
ишаки учились богословию и наизусть читали коран!
— Таких ишаков немало и сейчас в Бухаре, — ответил ходжа
Насрэддин. — Скажу еще, что пять тысяч таньга золотом и
хороший ишак в хозяйстве — это человеку не каждый день дается.
А голову мою не оплакивай, потому что за двадцать лет
кто-нибудь из нас уж обязательно умрет — или я, или эмир, или этот
ишак. А тогда поди разбирайся, кто из нас троих лучше знал
богословие*
* * *
Ходжа Насрэддин увидел около базарной мечети большую
толпу. Люди теснились и лезли на плечи друг другу.
Приблизившись, ходжа Насрэддин услышал резкий пронзительный голос:
— Удостоверьтесь своими глазами, правоверные, — он разбит
параличем и лежит без движения уже десять лет. Члены его
холодны и безжизненны. Смотрите, он даже не открывает глаз. Он
прибыл издалека в наш город; добрые родственники и друзья
привезли его, чтобы испытать последнее средство. Через неделю,
в день празднования памяти святейшего и несравненнейшего
шейха Богаэддина, он будет положен на ступени гробницы. Слепые,
хромые и параличные уже не раз исцелялись таким способом:
помолимся же, о правоверные, чтобы святой шейх смилостивился
над этим несчастным и ниспослал ему исцеление!
Собравшиеся сотворили молитву; после этого опять
послышался резкий голос:
— Удостоверьтесь своими глазами, правоверные, он лежит без
движения уже десять лет!
Ходжа Насрэддин протискался в толпу, приподнялся на
цыпочках и увидел длинного костлявого муллу с маленькими злыми
глазами и реденькой бороденкой. Он кричал, тыча пальцем вниз,
себе под ноги, где на носилках лежал параличный:
— Смотрите, смотрите, мусульмане, как он жалок и несчастен,
но через неделю святой Богаэддин пошлет ему исцеление, и он
вернется к жизни, этот человек!
Параличный лежал с закрытыми глазами, сохраняя на лице
скорбное и жалостное выражение. Ходжа Насрэддин тихонько
ахнул от неожиданности: эту рябую рожу с плоским носом он
отличил бы из тысячи других, сомнения быть не могло! Слуга, по-
видимому, заболел параличем уже давно, ибо от долгого лежания
и безделья рожа его потолстела заметно.
С тех пор, сколько бы раз ни проходил ходжа Насрэддин
мимо этой мечети, всегда он видел там костлявого муллу и
параличного, что лежал с жалобным выражением на рябой роже,
которая толстела и наливалась жиром день ото дня.
Наступил праздник памяти святейшего шейха. Он умер, по
преданию, в мае, в ясный полдень, и хотя на небе не было ни
одной тучки, но солнце померкло в час его смерти, и земля
дрогнула, и многие дома, где жили грешники, подверглись разрушению,
558
а сами грешники погибли под развалинами. Так рассказывали
муллы в^мечетях, призывая мусульман обязательно посетить
гробницу шейха и поклониться его праху, дабы не прослыть
нечестивцами и не разделить участи упомянутых грешников.
Богомольцы двинулись на поклонение еще затемно, и когда
взошло солнце, то вся огромная площадь вокруг гробницы была
уже затоплена народом из конца в конец. Но потоки людей на
дорогах не истощались; все шли босиком, как требовал того
стародавний обычай; здесь среди прочих были люди, пришедшие из
отдаленных мест — особо благочестивые или же, наоборот,
сотворившие большой грех и надеявшиеся вымолить сегодня прощение.
Мужья вели сюда бесплодных жен, матери несли больных детей,
старики тащились кое-как на костылях, прокаженные собрались
поодаль и оттуда с надеждой смотрели на белый купол гробницы.
Богослужение не начиналось долго: ждали эмира. Под
палящим солнцем, в давке и тесноте люди стояли, плотно прижавшись
друг к другу и не осмеливаясь присесть. Глаза людей горели
жадным, неутолимым огнем: разуверившись в земном счастье, люди
ждали сегодня чуда и вздрагивали от каждого громкого слова.
Ожидание становилось уже непе|реносимым, уже два дервиша упали
в корчах на землю и с воплями начали грызть ее, источая серую
пену. Толпа всколыхнулась, заволновалась, во всех концах
заплакали, закричали женщины, и в это время прокатился
тысячеголосый рокот:
— Эмир! Эмир!
Дворцовая стража, усердно работая палками, расчищала дорогу
в толпе, и по этой широкой дороге шел на поклонение святому
праху эмир, босой, с опущенной головой, погруженный в
благочестивые размышления и недоступный мирским звукам. За ним по
пятам следовала в молчании свита, суетились слуги, свертывая
ковры и занося их вперед.
В толпе у многих выступили на глазах слезы умиления.
Эмир поднялся на земляное возвышение, примыкавшее
вплотную к стене гробницы. Ему подали молитвенный коврик, и он,
поддерживаемый с обеих сторон визирями, встал на колени.
Муллы в белых одеждах выстроились полукругом и запели, воздевая
руки к замутившемуся от зноя небу. Богослужение началось.
Оно продолжалось бесконечно, перемежаемое проповедями.
Ходжа Насрэддин незаметно выбрался из толпы и направился к
стоявшему в стороне небольшому сарайчику, где ждали своей
очереди слепые, хромые и параличные, которым сегодня было
обещано исцеление.
Двери сарайчика были раскрыты настежь. Любопытные
заглядывали внутрь и обменивались замечаниями. Муллы, дежурившие
здесь, держали в руках большие медные подносы для сбора
пожертвований. Старший мулла рассказывал:
— ...и с тех пор над священной Бухарой и над ее солнцепо-
добными эмирами вечно и нерушимо пребывает благословение
святейшего шейха Богаэддина. И каждый год в этот день святой
550
Богаэддин дает нам, смиренным служителям бога, силу творить
чудеса. Все эти слепые, хромые, бесноватые и параличные ждут
исцеления, и мы надеемся с помощью святого Богаэддина сегодня
избавить их от страданий.
Словно бы в ответ ему, в сарайчике заплакали, завыли,
застонали и заскрежетали зубами; возвысив голос, мулла
продолжал:
— Жертвуйте, правоверные, на украшение мечетей, и ваши
даяния зачтутся аллахом.
Ходжа Насрэддин заглянул в сарайчик. У самого выхода
лежал на своих носилках рябой толстомордый слуга; за ним в
полусумраке виднелось еще множество людей с костылями, на
носилках и в повязках. И вдруг от гробницы долетел голос самого
главного ишана, только-что закончившего проповедь:
— Слепого! Подведите ко мне слепого!
Муллы, оттолкнув ходжу Насрэддина, нырнули в душный
полусумрак сарайчика и через минуту вывели оттуда слепого в
жалком нищенском рубище. Он шел, ощупывая руками воздух и
спотыкаясь о камни.
Он подошел к главному ишану, упал ниц перед ним и коснулся
губами ступеней гробницы; ишан возложил руки на его голову —
и он исцелился мгновенно.
— Я вижу! Вижу!—закричал он высоким, дрожащим
голосом.— О святейший Богаэддин, я вижу, я вижу! О небывалое
исцеление, о великое чудо!
Толпа молящихся сгрудилась вокруг него, загудела; и многие
подлодили к нему и спрашивали: «Скажи, какую руку я поднял —
правую или левую?» Он отвечал без ошибки, все удостоверились,
что он действительно прозрел. И тогда в толпу двинулся целый
отряд мулл с медными подносами, взывая: «Правоверные, вы
своими глазами видели чудо; пожертвуйте на украшение мечетей!»
Эмир первый бросил на поднос горсть золотых монет, за ним
бросили по золотой монете все визири и сановники, а потом народ
начал щедро сыпать серебро и медь; подносы наполнились, и
муллам пришлось трижды менять их.
Когда поток пожертвований уменьшился, из сарайчика вывели
хромого, и он, коснувшись ступеней гробницы, исцелился так же
мгновенно и, отшвырнув свои костыли, начал плясать, высоко
подбрасывая ноги. И опять муллы с новыми подносами двинулись
в толпу, взывая: «Пожертвуйте, правоверные!»
Седобородый мулла подошел к ходже Насрэддину, который
сосредоточенно думал о чем-то, разглядывая стены сарайчика.
— О правоверный! Ты видел великое чудо. Пожертвуй, и
даяние твое зачтется аллахом.
Ходжа Насрэддин громко, чтобы слышали все окружающие,
ответил:
— Ты называешь это чудом и просишь у меня денег.
Во-первых, денег у меня нет, а во-вторых, известно ли тебе, мулла, что
я сам —великий святой я могу сотворить еще не такое чудо!
560
*— Ты богохульник! — закричал мулла в гневе. — Не слушайте
его, мусульмане, это сам шайтан говорит его устами!
Ходжа Насрэддин обратился к толпе:
— Мулла не верит, что я могу творить чудеса! Хорошо, я
сейчас докажу! В этом сарайчике собраны слепые, хромые,
немощные и параличные, и я берусь исцелить их всех разом и при этом
не буду прикасаться к ним. Я скажу только два слова — и они
все исцелятся и побегут врассыпную так быстро, что даже лучший
арабский конь не догонит их.
Стены сарайчика были тонкими, глина во многих местах дала
глубокие трещины. Ходжа Насрэддин выбрал в стене место, со
всех сторон обколотое трещинами, и сильно нажал на него плечом.
Глина поддалась с легким зловещим треском. Он поднажал еще,
огромный кусок стены рухнул с глухим шумом внутрь сарайчика;
из черного зияющего отверстия повалила густая пыль.
— Землетрясение! Спасайтесь!— диким голосом вскричал
ходжа Насрэддин и обрушил второй кусок глины.
В сарайчике на одно мгновение стало тихо, потом поднялась
суматоха: рябой параличный слуга первым бросился к выходу, но
застрял в дверях со своими носилками и загородил путь
остальным, — хромым, слепым и немощным, — которые клубились сзади
с криком и воем, а когда ходжа Насрэддин обрушил в сарайчик
третий пласт глины, они могучим напором вынесли рябого вместе
с дверью и косяками и, позабыв про свои увечья, кинулись кто
куда.
Толпа кричала, свистела, хохотала и улюлюкала; и, перекрывая
общий гул, звучал громкий голос ходжи Насрэддина:
— Вот видите, мусульмане, я был прав, говоря, что всех можно
исцелить одним словом!
И, не внимая больше проповедям, со всех сторон бежали
любопытные и, узнав, валились от смеха на землю, передавали
дальше рассказ о чудесном исцелении; тотчас же об этом узнали все
собравшиеся, и когда главный ишан поднял руку, призывая к
тишине, толпа ответила руганью, криком и свистом...
Муллы, осыпаемые бранью и насмешками, побросали свои
подносы и в страхе убежали из толпы.
ИЗБРАННЫЕ АНЕКДОТЫ О КЕМИНЭ
Меняю двух молл на одного дайханина
Кеминэ хорошо знал грамоту, и его называли Молла-Кеминэ.
Сыновья его тоже были грамотные и тоже звались моллами, или
муллами. Только — усердные ученики городских мулл — они
ничего не умели по хозяйству. Один раз, когда аул переселялся на
новое место, Кеминэ посмотрел, как сыновья неумело возятся
около верблюдов, и закричал с горечью:
— Эй, люди добрые, не нужны ли кому два хороших моллы?
Я охотно отдам их за одного хорошего дайханина.
Посмотрите на этого аллаха
В сумерки Кеминэ рубил дрова. Взмахнул топором, «
топорище отлетело в сторону. Кеминэ в темноте никак не мог его
найти.
— Хоть бы аллах помог отыскать это топорище, — проворчал
Кеминэ, — кажется, меры пшеницы не пожалею для него.
Он продолжал шарить и нащупал ручку черпака, каким
черпают пшеницу из миски.
—· Посмотрите на этого аллаха! — вскричал тогда Кеминэ. —
Как его просишь о чем-нибудь — его не найти. Обещаешь дать —*-
он уж тут-как-тут со своим черпаком.
Рай на осле
Кеминэ шел куда-то пешком, и многие встречные над ним
смеялись:
— Верно, райскую жизнь пошел искать! Не дойдешь, старик,
далек рай.
Один путник сжалился над старым шахиром и посадил его с
собой на осла: Кеминэ проехал некоторое расстояние и, облегченно
вздохнув, сказал:
— À говорили, рай далёко. Оказывается, рай всего на три
четверти повыше земли, — на спине осла.
Ты иди вперед, а мы за тобой
Ишан Эр-Али любил читать длинные проповеди. Один раз
после намаза он долго рассказывал верующим, как страшен ад и
как сладко будет житься всем в раю, где множество всяких ягод,
плодов, сытных яств и прелестных гурий. Чтобы попасть в рай,
нужно делать побольше добродетельных дел и не увлекаться
земной жизнью.
При этих словах Кеминэ прервал пира.
— Тагсыр, — сказал он, — если в раю так хорошо, то зачем
ты задерживаешься в этом заржавленном мире? Поспеши туда
первым, а мы уж пойдем за тобой.
562
Бесполезный ангел
Когда Кеминэ вернулся из поездки, пришла весть, что семья
его голодает. Три дня они не видели и крошки хлеба. Кеминэ
отправился к пиру.
— Учитель,—сказал он, — когда ваша помощь коснется меня?
— На том свете, на том свете каждому будет оказана
помощь, -т- ответил пир, — добрый ангел обо всех позаботится.
— Если ангел начинает заботиться о людях, когда наступает
конец света, — сказал Кеминэ, — так передайте ему, что в моей
кибитке уже три дня, как наступил конец света. Одолжите
немного хлеба.
Жадный пир не дал ничего.
Кеминэ поднялся и произнес с усмешкой:
— Правду говорят старые люди: лучше подружиться с
дьяволом, чем надеяться на ангела. Больше проку будет.
Он — ваш брат
Пир увидел жука-навозника, который катил по дороге ком
своей вонючей добычи. Желая посмеяться над Кеминэ, часто
сердившим пира своими насмешками, пир сказал:
— Молла-Кеминэ, смотри-ка, этот жук-навозник точь-в-точь
как текинский бедняк, который тащит домой мешок с корками, что
насобирал по дворам.
Кеминэ ударил жука прутом. Жук остановился и поднял
передние ножки. Кеминэ засмеялся:
— Мой пир, вы ошиблись. Это вовсе не текинский бедняк,
это ваш брат, ишан. Смотрите, поднял руки и читает молитву.
Давайте, послушаем его благословение.
Пир разозлился:
— Эх, Кеминэ-сопи. И язык у тебя во рту! От него ни одно
слово не укроется.
— Ах, тагсыр, — сказал Кеминэ, — вы правы, от меня слово
не укроется, а от вас ни один мешок с зерном, ни одна монета в
чужом кушаке не спасется.
И Кеминэ пропел пиру песню про навозного жука и про муллу
(«Нечто странное»).
Много баранов толкаться будут
Пир обратился один раз к собравшимся дайханам с такой
речью:
— О мусульмане, если хотите быть достойными райской
жизни, не скупитесь на добрые и благородные дела. Жертвуйте
побольше всякого добра своим наставникам и муллам. После смерти
вам надлежит пройти через мост, который тоньше волоска и
острее меча. А внизу под мостом — сакар, адская пропасть, пол-
«· 563
ная скорпионов и змей. Если вы станете жертвовать много
баранов, овец и коз, они вас живо перенесут через мост в рай.
Кеминэ слушал пира очень внимательно, но тут прервал его:
— Тагсыр, да пробовал ли ты гнать по мосту баранов? Если
один баран с моста сорвется, и другие за ним туда же попрыгают.
Если придется к раю по такому тонкому мосту итти, лучше уж
надеяться на свои ноги.
А ты не можешь подождать обеда
Пир Эр-Али держал своих учеников впроголодь, говоря им:
— Дождетесь райской жизни, там всего будет вдоволь — и
яблок, и инжира, и хурмы. А пока и подождать можно.
Кеминэ прожил у пира семь лет, вместе с другими учениками
перенося все тяготы ученья.
Один раз, когда ученики особенно были голодны, Кеминэ ска*
зал пиру:
— Если вы придете сегодня ко мне с учениками, я вас угощу
пельменями из жареного мяса, сдобрю их перцем и луком.
Пир был большой любитель поесть. Он с радостью согласился:
— Хорошо, придем.
В назначенный час они пришли к Кеминэ, но не увидели обеда,
Я даже не было никаких приготовлений к обеду.
Пир сперва ждал спокойно, наконец не вытерпел:
— Кеминэ, да будет ли конец этому? Ты нас совсем заморил.
Заставил слюнки глотать.
— Мой пир, в ожидании райского инжира и хурмы ты нас
семь лет заставляешь не только слюнки глотать, но еще таскать
для тебя воду и рубить дрова. Неужели так трудно один день
посидеть без обеда?
2^*^&
*&ί&&8ζ£<&&*&ϊ^^ t^^^so^ba^Ätsj^Ätö^/
Объяснение слов
А б з ы — дядя.
А г а й — богатей, кулак.
Адат — обычай, неписаный закон, который признается обязательным для
мусульман.
А е ρ — воздух, атмосфера.
Аид — в древнегреческой мифологии — подземный мир, царство мертвых.
Акын — певец.
Али — зять Магомета.
А л и φ — первая буква арабского алфавита.
Антиминс (от греч. «анти-менса» — вместо стола) — полотняный или
шелковый платок с изображением, положения сказочного Христа во
гроб с вшитыми частицами «мощей».
Α ρ ρ а б а — мера веса.
Арык — оросительный канал.
Асан — легендарный народный певец.
А χ у н (ахунд) — духовное лицо.
А ш у г — народный певец-поэт.
Бай — кулак, помещик, торговец
Б а й ρ а м — религиозный праздник.
Б а н ь д и — послушник.
Бар-мицве — по иудейскому религиозному учению — день наступления
религиозного совершеннолетия мальчиков (в 13 лет).
Бенефиция — духовная должность, связанная с владением земельной
собственностью.
Бешмет — национальная верхняя одежда.
Бош — так называли немцев во Франции во время мировой войны.
Брамс (1833—1897) — немецкий композитор.
Булла — послание римского папы верующим, посвященное разъяснению
какого-либо богословского вопроса. Иногда дипломатическое сообщение
римской церкви, а также решение об утверждении епископов, об отлу»
чении от церкви и т. д.
Б у ρ χ ан — бог.
Вассал — подчиненное, зависимое государство или лицо.
Венер а— у древних римлян богиня любви, красоты и брака.
Вестминсте ρ — часть Лондона, где расположены Вестминстерский
дворец, в котором помещается парламент, и Вестминстер-кое аббатство
с его многочисленными постройками.
Виги — английская политическая партия; опиралась на высшие финансовые
круги и на купеческий капитал. Партия вигов существовала на
протяжении XVIII — XIX вв.
Визирь — правительственный чиновник в султанской Турции.
Викарий — помощник католического священника; заместитель или
помощник епископа.
Галлы — римское название жителей Галлии (современной Франции,
Бельгии и Северной Италии).
Гациенда — поместье.
&5
Гипотеза — предположение.
Гомер — полулегендарный греческий поэт.
Готтентоты — негритянское племя. Живут в южной части Африки.
Г у τ у л ы — национальная монгольская обувь.
Дантов ад — великий итальянский поэт Данте в своей поэме
«Божественная комедия» яркими красками нарисовал ад, в который .поместил
своих политических врагов.
Дегенерат — человек с признаками вырождения.
« Д екамерон» Боккаччо (1313—1375) — сборник новелл,
представляющих обличительную сатиру на средневековые нравы и в особенности
на нравы церковников.
Дервиш — мусульманский странствующий монах.
Дехканин — крестьянин.
Джадиды — буржуазные националисты.
Джайхун — древнее название реки Аму-Дарьи.
Джамаат — собрание.
Джигит — лихой наездник.
Д ж у м а — большая " мечеть.
Диспут — спор.
Д о с τ а н — поэма.
Дукат — старинная золотая монета.
3 е к а τ или з я к а τ — десятая доля урожая, которую, по религиозным
законам, мусульманин должен отдавать мулле.
Зурна — национальный музыкальный инструмент.
И г н а ц и й — Игнатий Лойола — основатель иезуитского ордена (1491 —1556);
Имам — духовное лицо у мусульман. Заведует мечетью. Во время молитвы
стоит впереди молящихся, которые повторяют его действия и
движения.
Иом-кипур — иудейский религиозный праздник — «судный день».
И ш а н — глава общины верующих в исмаилитской секте ислама.
Кааба — главное святилище мусульман, находящееся в г. Мекке в Аравии.
К а з и й — духовный судья.
Капитул — общее собрание членов какого-либо ордена.
Капуцин — член католического монашеского ордена.
Катакомбы — подземелья в Риме.
Квота —·■ норма впуска эмигрантов в Америку.
К е д е й — бедняк.
Керженцы — старообрядцы, жившие по реке Керженец, имевшие свой
особый религиозный устав.
Кесарь — император.
К и с τ е ρ — причетник, дьячок в лютеранской церкви.
Кишлак — селение.
Клерк — мелкий служащий.
Кобра — очковая змея, укусы которой смертельны.
Кольчуга — защитная рубашка из металлических колец.
Конкордат — договор.
Коран — священная книга мусульман.
Кортеж — торжественный поезд, шествие.
К о τ а н — площадь в центре аула.
Коцит — приток реки Ахерона в Греции; в древнегреческой мифологии —
река в подземном мире.
Крейцер — мелкая монета.
Крона — австрийская монета.
Ксантуппа (Ксантиппа) — жена древнегреческого философа Сократа, имя
которой стало нарицательным; обозначает злую и сварливую женщину.
Кумирня — языческий храм.
Кумыс — кобылье молоко.
К у ρ б а ш — удар в спину.
Кури я — совокупность центральных учреждений папской власти.
Кутайба — арабский полководец, отличавшийся необычайной жестокостью.
Кюре — католический священник.
566
Л а л — драгоценный рубин.
Л а ндскнехт-— наемный солдат.
Ланжерон — комендант в Марселе. Вместе с Бельсусом оказывал помочь
народу во время эпидемии чумы.
Лассо — кожаный аркан для ловли животных.
Левиафан — огромная рыба, которой, по иудейскому вероучению, бог в
день страшного суда накормит праведников.
Легионы — полчища.
Лестовки — четки.
Лимбург — город в Люксембургском герцогстве.
Литания — молитва.
Лойола Игнатий (1491—1556) — основатель ордена иезуитов.
Локоть — мера длины.
Луара — река во Франции.
Малибран (1808—1836) — известная французская оперная певица.
M а н а π — помещик.
Марио (1808—1883)—: известный итальянский певец-тенор.
Медрессе — высшее религиозное училище у мусульман.
M е м б е ρ — кафедра в мечети, с которой произносятся проповеди.
M е с н е в и — двустишия.
Месса — католическая обедня.
Мильтон (1608—1679) — английский писатель.
Минарет — высокая башенка при мечети, с которой муэдзин призывает
мусульман к молитве.
Минорит — член монашеского ордена францисканцев.
Михраб — ниша в стене мечети, обращенная в сторону Мекки; в михрабе
молится мулла, ведущий службу.
Мицраим — название Египта в библии.
M и ш н а — иудейский религиозно-юридический сборник.
Молинист — последователь католической секты молинистов, названной по
имени монаха Молино.
Мурзаки — татарские помещики.
Мутаалимские кельи — кельи послушников.
M у φ τ и (муфтий) — ученый богослов, толкователь корана.
Мухаммед — по верованиям мусульман — основатель мусульманской ре*
лигии.
Муэдзин — низшее духовное лицо у мусульман, на обязанности которого
лежит призывать с минарета мусульман к молитве.
Мюнцер Томас (1490—1525) — немецкий революционер — организатор в
г. Мюльгаузене коммунистической общины. В 1525 г. войска немецких
князей уничтожили коммуну. Мюнцер был взят в плен и казнен.
Намаз — молитва магометан, совершаемая пять раз в день.
Овечка на ордене — эмблема рыцарского ордена «Золотое руно».
Омар — второй халиф ислама.
Паладин — храбрый рыцарь.
Панегирик — чрезмерное восхваление.
Папиновы котлы — паровые котлы, названные по имени их
изобретателя, служащие для нагревания воды выше 100°.
Паранджа — халат с ложными, закинутыми на спину рукавами, надевается
поверх чачвана.
Патлы — длинные волосы.
Π а τ м о с — главный остров в группе Спарадских островов в Эгейском
море.
Патрон — покровитель, защитник.
Пеон — в южных штатах Америки крестьянин, сельскохозяйственный
рабочий, находящийся в кабальной зависимости от помещика.
Пиарист — член монашеского ордена, основанного в XVII в. Пиаристь*
кроме монашеского обета брали на себя обязанность воспитания детей
в духе католической религии.
Плеве — царский министр.
567
Π ο τ я ρ —· церковный сосуд для вина, употребляемый при причащении.
Прометей — в греческой мифологии — сын бога. Согласно сказанию,
похитил с неба огонь и научил людей им пользоваться. В наказание был
прикован богом Зевсом к скале в горах Кавказа, где орел клевал ему
печень. Прометей рассматривался греками как основатель культуры
человечества.
Профос — в дореформенной России — военный или полицейский служи«
тель, полковой палач.
Π у ρ к и — ироническое название старших учеников мусульманской
религиозной школы.
Рабойныше-Лойлым — восклицание, обращение к богу (соотв. —
владыка мира).
Ρ а χ м е τ — спасибо.
Реал — старинная испанская серебряная монета.
Ребе — учитель еврейской религиозной школы.
Регент — временный правитель вместо монарха.
Регистр — приспособление в органе — музыкальном инструменте.
Рептилии — пресмыкающиеся животные. В переносном смысле
пресмыкающийся, заискивающий перед сильным, продажный человек.
Ρ у б и н и (1795—1854) — известный итальянский оперный певец.
Саз — струнный музыкальный инструмент.
Санта-Кроче — монастырь в честь «Святого креста господня».
Селям алейкум — приветствие.
Сераль — дворец и гарем при нем.
Софизм — утверждение, умозаключение, внешне, формально якобы
правильное, но по существу ложное.
Софисты — в античной Греции — преподаватели. Неотъемлемой частью их
преподавания было искусство красноречия и искусство спора.
Стихиры — песни, посвященные празднуемым церковью событиям.
Суннит — последователь одного из двух направлений в исламе,
признающего наравне с кораном предания (сунну) о Магомете, как допол*
нение к корану.
Сутана — верхняя одежда католического духовенства.
Тамбурини (1800—1876) — итальянский певец.
Τ а н ь г а — мелкая монета.
Τ а ρ г ы н — герой казахского народного творчества.
Τ а τ ы — горские евреи, населяющие часть южного Дагестана.
Таусфес-Ионтеф — комментарии к талмуду.
Темза — река в Англии.
Теологи — представители духовенства, стремившиеся привести в единую
систему представление о боге.
Терцины — форма стихосложения.
Тиара — головной убор римского папы, имеющий форму тройной короны.
Титан—И) в греческой мифологии — название гигантов, якобы вступивших
в борьбу с Зевсом за обладание небом; 2) гигант, исполин ума,
таланта и т. п.
Тонзура — выбритое на темени место у католического духовенства.
Тори — английская политическая партия; опиралась на крупных и средних
землевладельцев (см. Виги).
Тупей — старинная прическа» в виде взбитого пучка волос на голове,
Турнир — в средние века — состязание в боевой ловкости и силе, а также
во всякого рода искусствах.
Τ φ и л и н — коробочки с написанными на пергаменте библейскими текстами.
Тфилин надевается на лоб и на левую руку во время молитвы
(употребляется в иудейской религии).
SP» сане тойкеф — молитва.
У j*c у л и н к и — монахини католического монастыря, носящего имя «святой»
Урсулы.
У с к у τ — селение на берегу Крыма.
У τ е г с н — герой казахского народного эпоса.
568
Фантом — призрак, привидение.
Фарисеи — лицемеры, ханжи — по названию религиозной политической
секты в древней Иудее.
Φ ар саг — мера длины на Востоке; один фарсаг равен семи километрам.
Фельдкурат — полковой поп.
Фериште — ангел.
Флорин — старинная. флорентийская золотая монета.
Фома Аквинский (1225—1274) — католический богослов-схоласт,
составивший труд «Свод богословия»; объявлен церковью «святым»; враг
науки, величайший мракобес.
Фортуна — у древних римлян — богиня счастья.
Францисканцы — монашеский орден.
Фут — мера длины, равная 30,5 сантиметра.^
X а к а н — правитель, царь.
Хасид — последователь хасидизма — мистического движения, возникшего
среди евреев в Польше в XVIII в.
Хедер — еврейская религиозная школа.
Химера — несбыточная мечта.
Храмовники или тамплиеры — духовно-рыцарский орден, основанный
в 1118 г. Впоследствии орден был признан католической церковью
еретическим и упразднен в 1312 г.
Худат — бог.
X у ρ а л — орган верховной власти в Монгольской народной республике.
Уентавос — мелкая монета,
а й χ а н а — чайная.
Ч а ч в а н — черная сетка из конского волоса, которой закрывают лицо и
грудь мусульманские женщины.
Ч и м м а τ — сетка, закрывающая лицо.
Чурек — особо выпеченный хлеб.
Шайтан — злой дух, дьявол.
Шаман — колдун, знахарь.
Шариат — свод законов, основанных на коране.
Шейх — старейшина.
Шербет — прохладительный напиток из фруктового сока с сахаром.
Шииты — последователи одного из двух направлений ислама, признающие
только коран и отвергающие устные предания (сунну).
Этна — крупнейший вулкан на острове Сицилия.
Я д а и м — по-древнееврейски — руки.
Янсенист — последователь религиозного учения, возникшего во Франции
в XVII в. Основателем этого учения был голландский богослов
Янсений
Содержание
Поэзия
ВОЛЬТЕР. О фанатизме. Пер. И. Гриневской .... 7
На ковчежец с мощами , 8
Орлеанская девственница. Пер. Г. Иванова. 9
ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ Прометей. Пер. Д. НеВовича 13
ГЕТЕ. Легенда. Пер. Б. Ярхо ..." 13
Человеческое чувство. Пер. Г „ 14
Странствующий колокол. Пер. О. Румера . 14
Избранные звери. Пер. М. Кузьмина . . 15
ПЬЕР БЕРАНЖЕ. Добрый бог. Пер. Вс. Рождественского . . 15
Мощи. Пер. Вс. Рождественского .... 16
Миссионеры. Пер. И. Ф. Тхоржевского . . 18
Бог простых людей. Пер. И. Ф. Тхоржевского 19
Ключи от рая. Пер. Вс. Рождественского . 20
Пономарь. Пер. Т. Л. Щепкиной-Куперник. 21
Приходские певчие или конкордат 1817 года
/Тер. М. И. Травчетова 22
ДЖОРДЖ ГОРДОН Видение суда 23
БАЙРОН. Каин . 25
ГЕНРИХ ГЕЙНЕ. Диспут. Пер. Ал. Дейча ^ ....... 27
Вознесение. Пер. Ал. Дейча ...,"., 32
К Лазарю. Пер. М. Михайлова ..... 35
Приснилось мне, что я сам бог... Пер. Ал. Дейча 35
Германия. Пер, В. Левика 36
Я давно не верю в небо... Пер. Д. Д. Минаева 37
Христовы невесты. Пер. Л. Пенъковского. . 38
ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС. Брэйский викарий. (Пер. с английского).
Пер. с немецкого перевода Ф. Энгельса
сделан О. Румером 39
ВИКТОР ГЮГО. Работа пленных 41
ЭЖЕН ПОТЬЕ. Паутина 43
Святая троица. Пер. А. Гатова 43
Правящие классы. Пер. А. Коца .... 44
Носитель святой воды. Пер. А. Мушниковой 45
Парад империи. Пер. А. Мушниковой. . . 46
ШАРЛЬ БОДЛЕР. Отречение святого Петра 47
Каин и Авель 47
ГЕОРГ ВЕЕРТ. Только восемнадцать лет... Пер. М. Светлова 48
Виноделы. Пер. М. Светлова 50
АРНО ГОЛЬЦ. Философия религии. Пер. с немецкого П.
Антокольского 51
ИОГАНЕС Р. БЕХЕР. Лютер. Пер. с немецкого Бор. Пастернака . 52
РАФАЭЛЬ АЛЬБЕРТИ. Засуха. Пер. с испанского А. Гольд ... 57
570
У. X. ОДЭН. Вечерний час. Пер. с английского М. Мен-
оельсон 58
ПАБЛО НЕРУДА. Так было. Пер. с испанского Ф. Кельин . 60
CECAP М. АРКОНАДА. Поэма о стране счастья. Пер. с испанского
Ф. Кельин 62
ДЖО ХИЛЛ. Проповедник и раб 63
М. В. ЛОМОНОСОВ. Гимн бороде 64
В защиту «Гимна бороде» 66
О движении земли 66
А. П. СУМАРОКОВ. Болван 67
М. Д. ЧУЛКОВ. Стихи на семик 68
Д. И. ФОНВИЗИН. Послание к слугам моим: Шумилову,
Ваньке и Петрушке 69
П. А. ВЯЗЕМСКИЙ. Русский бог 72
К. Ф. РЫЛЕЕВ. Агитационные песни 72
А. А. ДЕЛЬВИГ." Подражание Беранже 74
A. С. ПУШКИН. Гавриилиада . 74
К Огаревой, которой митрополит прислал
плодов из своего саду 86
Вакхическая песня 87
Брадатый староста Авдей 87
Т. Г. ШЕВЧЕНКО Когда б вы знали, господа 88
Сон. 89
Кавказ 90
Свет мой ясный, свет мой тихий.... ... 91
Гимн черниц 91
Н. А. НЕКРАСОВ. Знахарка 92
Кому на Руси жить хорошо . . 93
М. МИХАЙЛОВ. Пятеро 97
Деспоту 98
Н. А. ДОБРОЛЮБОВ. Дума при гробе Оленина 99
ЕГОР НЕЧАЕВ. Язычница 102
П. В. ШУМАХЕР. Изображение российского царства .... 103
B. В. МАЯКОВСКИЙ. Надо бороться 104
Крестьяне, собственной выгоды ради
поймите— дело не в обряде 106
Крестить—это только попам рубли скрести 109
От поминок и панихид у одних попов
довольный вид 11Ζ
Ханжа 114
Шесть монахинь 116
От примет кроме вреда ничего нет . . · 118
Ни знахарь, «и бог, ни ангелы
бога—крестьянству не подмога 121
Прошения на имя бога — в засуху не
подмога 122
На горе бедненьким, богатейшим на
счастье—и исповедники и причастье .... 124
Поо Тита и Ваньку случай, показывающий,
что безбожнику много лучше .126
Η. Н. АСЕЕВ. 8-е марта 123
А. АРХАНГЕЛЬСКИЙ. В престольный день ......... 130
Кропило и пожарная кишка 130
Б. К. КОВЫНЕВ. Освобожденная Гайрам. ... г ... . 131
ДЖАМБУЛ. Советский Союз 136
Моя жизнь. 13а
571
Муллы 141
Слово о Сталинской Конституции .... 142
Думы о родине 143
Уходящей деревне. Пер. с белорусского
М. Исаковского 144
Из песен мужичьих 145
Море жизни . 146
Тянулась нить дней сумрачных, пустых... . 147
Наглядное пособие 147
На окраине города 148
ПОЭТЫ ОСВОБОЖДЕННОГО НАРОДА БЫВШЕЙ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ- Земля
Прикарпатья 149
О, не напрасно! 150
Возмездие 151
Моя отчизна. Пер. с украинского М.
Комиссарова 152
К зиме во-всю готовилась природа 153
Свеча 154
Рождество. . 155
ПИСЬМО СЧАСТЛИВОГО УЗБЕКСКОГО НАРОДА ВОЖДЮ НАРОДОВ ВЕЛИКОМУ
ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ. , 153
СУЛЕЙМАН
СТАЛЬСКИЙ.
ЯНКА КУПАЛА.
В. В. КУЙБЫШЕВ.
Вас. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ.
ВОЛОДИМИР
СОСЮРА.
МАКСИМ РЫЛЬСКИЙ.
ЛЕВ ДЛИГАЧ.
ИОСИФ УТКИН.
ЗУБИЛО (Ю. Олеша).
МАММЕД-ВЕЛИ
(Кеминэ).
СЕИД АЗИМ
ШИРВАНИ.
АЛЕКПЕР САБИР.
МАМЕД САЙД
ОРДУБАДЫ.
РУБЕН СЕВАК.
ГАБДУЛЛА ТУКАЙ.
ИРГАТ КАДЫР.
АШУГ МИРЗА
БАЙРАМОВ.
САМЕД ВУРГУН.
АШУГ ГУСЕЙН
БОЗАЛГАНЛЫ.
ДЖЕМАЛДИН
ЯНДИЕВ.
СОСЛАН ГАЗЗАЕВ.
И. А. КУРАТОВ.
НУРДИН МУЗАЕВ.
Познанье — дерево, и тень его — ислам.
Пер. с туркменского Арсения. Тарковского. 161
К мусульманам Кавказа. Пер. с азербайджаН'
ского П. Панченкс 162
Проповедник. Пер. с азербайджанского Б.
Лебедева и Л. Кацнельсона 164
Я не поверю. Пер. с азербайджанского
П. Панченко 165
Усни ты, курица... Пер. с азербайджанского
П. Панченко 165
Плач муллы. Пер. с азербайджанского
П. Панченко 166
Развалины храма. Пер. с тюркского Р.
Иванова ... 167
Колокола. Пер. с армянского А.
Антокольского 168
«ДАВИД САСУНСКИЙ». (Отрывок). Предательство игумена Матга-
ванка. Пер. с армянского 169
Религия. Пер. с татарского 171
Там, где сакля моя. Пер. с татарского
Б. Брика 172
Погребение арабского алфавита. Пер. с
азербайджанского Е. Долматовского 173
Слово о колхознице Басти. Пер. с
азербайджанского А. Адалис ......... 174
Наступил байрам... Пер. с азербайджанского
B. Луговского 176
Расскажи мне, родина. Пер. с ингушского
C. Липкина 177
Абхазским писателям. Пер. с осетинского . 178
Сны. Пер. с языка коми Ив. Молчанова . 179
Призыв к борьбе. Пер. с чеченского Б. Тур-
ганова 180
572
ДЖОВАННИ
БОККАЧЧО.
ПОДЖО БРАЧЧОЛИНИ
МАЗУЧЧО.
САН БЕРНАРДИНО.
МАТТЕО БАНДЕЛЛО.
ФРАНКО САККЕТИ.
ВОЛЬТЕР.
ВИКТОР ГЮГО.
МАРК ТВЭН.
АНАТОЛЬ ФРАНС.
ШАРЛЬ ДЕ КОСТЕР.
ГИ ДЕ МОПАССАН.
ДЖЕК ЛОНДОН.
ДЖОН СТЕЙНБЕК.
В. ТРАВЭН.
ГУСТАВ РЕГЛЕР.
Проза
Новелла. Некто уличает метким словом
злостное лицемерие монахов 183
Новелла. Брат Чиполла обещает некоторым
крестьянам показать им перо ангела, но,
найдя вместо него угли, говорит, что это
те, на которых изжарили св. Лаврентия . 184
О священнике, который не знал дня
вербного воскресенья , 190
О монахе, который произнес очень
короткую проповедь 190
О священнике, который похоронил собачку. 191
Об испанском епископе, который
полакомился куропатками, обратив их в рыбу , . 191
Об одном проповеднике 192
Новеллино. Один монашек ордена святого
Антония освященными жолудями спасает от
смерти двух кабанов. Хозяйка дарит ему
кусок холста. Приходит муж, сердится на
это и пускается в догонку за монашком,
чтобы отобрать у него холст. Тот, завидев
его издали, подпаливает холст и возвращает
его хозяину. Холст воспламеняется, все
присутствующие кричат о чуде, монашка ведут
в деревню, и он собирает там много добра. 192
Новеллино. Брат Николо да Нарни,
влюбленный в Агату, добивается исполнения
своего желания; является муж, и жена говорит
ему, что монах с помощью некоторых ре·
ликвий освободил ее от недуга; найдя шта*
ны у изголовья кровати, муж встревожен,
но жена говорит, что это — штаны
святого Гриффона; муж верит этому, и монах
с торжественной процессией относит штаны
домой 195
Мудрая проповедь 202
Куртизанка в монастыре 203
Один священник говорит Петруччио в Пе-
руджии, что распятие является его долж*
ником, Петруччио рубит распятие топором,
требуя, чтобы оно воздало ему сторицею,
и получает эти деньги в конце концов . . 205
Простак. (Отрывок) 20ό
Собор Парижской богоматери. (Отрывки) . 211
Святой источник 218
Любознательная Бесси. ........ 227
Крещение пингвинов. (Отрывки) 229
Паштет из языков 232
Взгляды аббата Жерома Куаньяра.
(Отрывок) 233
Тиль Уленшпигель. (Отрывки) 236
Мощи 245
Нормандец 249
Баронесса 253
Хранитель тайны. . 257
Святая Кэти, девственница 265
Странствование святого Антония 269
Посев. (Отрывок) 277
573
АНРИ БАРБЮС. В огне. (Отрывок) 279
Учитель 281
ЯРОСЛАВ ХАШЕК. Беседа на лужайке 284
Чудо св. Эвергарда 286
Как мы помогали обращению в
христианство африканских негров 290
Коза и всемогущий бог 293
Преследование первых христиан в Праге. . 296
Похождения бравого солдата Швейка.
(Отрывок) 297
А. УПИТ. Рассказ про пастора . . . 301
БЛАСКО ИБАНЬЕС. В дверях рая 308
П. ПЕЙВАРИНТА. Матти-Горемыка 31 ί
Μ. Ε. САЛТЫКОВ- Карась-идеалист 317
ЩЕДРИН. Деревенский пожар , . 325
Городничие-бессребренники 329
Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ. Духовная сила 331
«Святой» . . . ♦ 334
ЛЕВ ТОЛСТОЙ. Воскресение. (Отрывок) 336
О религии 338
Η С. ЛЕСКОВ. Маленькая ошибка 339
О безумии одного князя. (Отрывок) . · . 345
Стойкость, до конца выдержанная,
обезоруживает и спасает 346
О слабости чувств и о напряженности оных 347
Надлежит не осуждать проступков, не зная
руководивших им соображений 349
Н. Г. ПОМЯЛОВСКИЙ. Очерки бурсы. (Отрывки) 351
Д. Н. МАМИН- Седьмая труба. (Отрывок) 355
СИБИРЯК.
А. П. ЧЕХОВ. Тайна 359
Канитель 362
У предводительши 364
Певчие . 367
Без заглавия 370
М. ГОРЬКИЙ. Жизнь Клима Самгина. (Отрывок) . . . 373
Мать. (Отрывок) 379
Яшка 382
Об избытке и недостатках. (Отрывок) . . 384
Фома Гордеев. (Отрывок) 390
Праздник шиитов. (Отрывок) 393
И. ПЕРЕЦ. Благочестивый кот 397
A. С СЕРАФИМОВИЧ. Промысел божий ........... 400
Ежедневно творимое 402
Кукиш 404
С. ПОДЪЯЧЕВ« Умереть недолго. .......... 409
Богомольцы 411
Мы по-хорошему! . . . . . . . . . . 413
B. ВЕРЕСАЕВ. Фельдшер Кичунов 416
C. И. ГУСЕВ- Конфликт. (Отрывок) 419
ОРЕНБУРГСКИЙ.
А. И. КУПРИН. «Ханжушка» 422
А. Н. ТОЛСТОЙ. Петр I. (Отрывок) т. 425
574
А. С. НЕВЕРОВ. Молитва и уголек 427
Старый и новый стиль 427
Про червяка .... 429
A. С. НОВИКОВ- Капитан 1-го ранга. (Отрывок) 431
ПРИБОЙ.
Л. СЕИФУЛЛИНА. Виринея. (Отрывок) 433
М. ШОЛОХОВ. Поднятая целина. (Отрывок) 438
ВАНДА ВАСИЛЕВСКАЯ. «Не убий...» 441
КОНСТ. ФЕДИН. Анна Тимофеевна. (Отрывки) 446
ГЕННАДИЙ ФИШ. Ялгуба. '(Отрывок) 450
B. ИЛЬЕНКОВ. Цена человека 454
Емелька 457
А. РАКИТНИКОВ. Раввины. (Отрывок) 462
ДАВ. ХАИТ. Освобождение Берла Евелева 465
А. А. БОГДАНОВ. Из прошлого . ' 471
Г. РЫКЛИН. Продажа загробной жизни . . . . . . '. 475
Е. ЛЕВАКОВСКАЯ. Кумирня . 470
П. ЗАМОЙСКИЙ. Смутьян .482
ЛЕОНИД БОРИСОВ. Смольный. (Отрывок) 483
И. ИЛЬФ и Е. ПЕТРОВ. Одноэтажная Америка. (Отрывок) . . . 485
Призрак-любитель . . 490
M ЗОЩЕНКО* -Сторож .............. 492
Пасхальный случай .... 494
Шумел камыш 495
А. КОЛОСОВ. Разговор с чортом ... 498
Б. РИСКИНД. На границе 501
ЛЕОНИД ЛЕНЧ. Жукарача» 506
Фольклор
Ленинская правда. Лиса-проповедница. По священному писанию. Чудо. Поп-
обжора. Воры себя выдали. Лисица и петух. Как пьяница в рай попал. Поп и
мясник. Поп в раю. Путаник. Проповедь попа Сиволдая. Как прихожанин
попа перехитрил. Поп и вор. Поп и пономарь. Хитрый мужик и жадный поп.
Поминки. Жадный поп. Рассвятили. Похороны козла. Как мужик в рай ходил.
Про попа и немую девочку. Золотая грамота. Как раввин обманул бога.
С раввином на паях. Святые души. Как раввин выдал грамоту. Для чорта
находится. Исповедь Шмереля Снитковера. Надувателя надули. Собачья доля.
Двум-то помог. Хитрый поп. «Святой дух». Как дьяк пел. Ленинская
правда. Смерть бога. Как муллы гуся варили. Паршивый баран. Суд каэия.
Не говори: «дай!». Святой осел. Рассказы о мулле Насрэддине. Возмутитель
спокойствия. Избранные анекдоты о Кеминэ 511
ОБЪЯСНЕНИЕ СЛОВ 565
Редактор Л. Каширин
Издание первое.
Тираж 18.500.
Подписано к печати
30/V-1941 г.
Печ. л. 36. Авт. л. 39Д
Л-126603.
Цена книги в переплете 7 р.
17-я фабрика национальной книги Огиза РСФСР
треста „Полиграфкнига", Москва, Шлюзовая наб.,
д. 10. Заказ № 22.