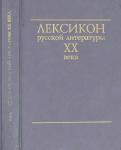Текст
А. А. ЗАЛЕВСКАЯ
в f> 6 &O&
СЛОВО
В ЛЕКСИКОНЕ
ЧЕЛОВЕКА
психолингвистическое
исследование
1271О2£
да
ОРОНЕЖ
здательство
I ОРОНЕЖСКОГО
••'НИВЕРСИТЕТА
990
В монографии слово рассматривается как единица лексического ком-
понента речевой способности человека; как средство доступа к единому
информационному тезаурусу, формирующемуся через переработку много-
гранного (не только речевого) опыта индивида; как опорный элемент, обес-
печивающий (на разных уровнях осознаваемости) учет многосторонних
связей и отношений по линиям когнитивного, эмоционального и языково-
го контекстов; делается попытка дать объяснение способности человека од-
новременно учитывать такое многообразие связей в процессах речемысли-
тельпой деятельности. С опорой па теоретические изыскания и на двадца-
тилетний опыт анализа материалов психолингвистических экспериментов
формулируется гипотеза организации лексикона как функциональной ди-
намической системы.
Монография адресована специалистам в области обще"о языкозна-
ния, психолингвистики, психологии памяти и речи.
Печатается по постановлению
Редакционно-издательско: о совета
Воронежского университета
Научный редактор — проф. М. М. Копыленко
Р е ц е п з е и т ы:
проф. 3. Д. Попова, проф. И. Н. Горелов
4602000000-028
3 М174(03)-90
ISBN 5-7455-0252-5
© Залевская А. А., 1990
© Оформление. Издательство
Воронежского университета, 1990
ПРЕДИСЛОВИЕ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА
В последние годы значительно повысился интерес ученых разных
стран к проблеме индивидуального лексикона, к выявлению специфики то-
го, что стоит за словом, как слова организованы в памяти человека, как
они функционируют в процессах говорения и понимания речи и т. п.
По мнению Г. Придо (Prideaux, 1984), такой «всплеск» внимания к
проблеме лексикона связан с вычленением соответствующего компонен-
та порождающей модели языка в работах Н. Хомского (см., например,
Chomsky, 1980). Однако ряд фактов свидетельствует об ошибочности по-
добного утверждения. Во-первых, сторонники трансформационной порож-
дающей грамматики и ранее занимались вопросами лексикона (см., напри-
мер, Wales and Marshall, 1966; Clark, 1970), хотя в последние годы иссле-
дования лексикона в русле этого направления, действительно, приобрели
более целенаправленный и системный характер (см., например, диссерта-
цию: Lieber, 1981). Во-вторых, активное разностороннее изучение лексико-
на человека было начато в разных странах задолго до публикации назван-
ных работ Н. Хомского (см., например, обзоры: Залевская, 1978а; Butter-
worth, 1980, 1983). Не исключено, что именно успехи подобных исследо-
ваний и привели к необходимости в очередной раз пересмотреть генера-
тивную модель, узаконив выделение в пей лексикона как самостоятельно-
го компонента (последнее вовсе не означает применимости этой модели к
описанию употребления языка).
Думается, что лексикон человека оказался в центре внимания ученых
по ряду причин, к числу которых можно, в частности, отнести важность
рассмотрения этого вопроса в связи с решением философской проблемы
формирования субъективного образа объективного мира, а также при раз-
работке систем искусственного интеллекта, при моделировании процессов
коммуникации и т. д. Особую роль стало играть исследование роли лек-
сикона в формировании языковой личности (см. Караулов, 1987). Несом-
ненно, существенным было и осознание того, что имевший место отказ от
углубленных исследований слова при концентрации внимания исключи-
тельно па связном тексте не оправдывает себя: «Изолирование и иденти-
фикация отдельных слов составляют важный этап процесса понимания
предложения. Каким бы пи был психологический статус слова в восприя-
тии и понимании, в определенный момент нам приходится изолировать и
узнавать слова и искать их значения в нашем ментальном лексиконе»
(Flores d’Arcais and Schreuder, 1983, p. 26).
В публикациях 80-х гг. остро ставится задача разработки теории,
способной объяснить специфику функционирования слова в индивидуаль-
ном сознании; происходит переориентация с формальных моделей описа-
ния языка иа изучение и моделирование реальных процессов производст-
ва и понимания речи; признается, что адекватная лингвистическая теория
не может разрабатываться вне учета специфики «жизни слова» как едини-
цы индивидуального лексикона (см., например, Engelkamp, '1983; Seiler
and Wannenrnacher, 1983; Stemberger, 1985).
Попытка разработать теоретические основы исследования лексикона
человека, раскрыть специфику единиц лексикона и обнаружить принципы
их организации было сделана в ряде публикаций А. Л. Залевской, остав-
шихся «в тени» на фоне бурно развивавшейся лингвистики текста. По-
скольку в этих работах обсуждаются многие вопросы, ставшие актуаль-
ными в настоящий момент, возникла необходимость ознакомить научную
общественность с отечественной гипотезой индивидуального лексикона
сформировавшейся в 70-е гг. и наиболее полно отраженной в учебном по-
собии «Проблемы организации внутреннего лексикона человека» (Залев-
ская, 1977). Чтобы показать, что ряд положений, ныне «открываемых»
другими авторами, уже рассматривался с опорой на обширный экспери-
ментальный материал и на имевшиеся к тому времени теоретические по-
строения и вовсе не навеян популярными идеями сегодняшнего дня, было
решено сначала изложить гипотезу лексикона в редакции 1981 г. (т. е.
дать сокращенный вариант монографии, которая по ряду причин пе бы-
ла опубликована), а затем показать, как основные результаты этого ис-
следования соотносятся с более поздними работами других авторов. Это
определило структуру предлагаемой книги.
Несомненно, обсуждаемая здесь гипотеза индивидуального лексико-
на не рассматривается как завершенная, опа отражает лишь один из эта-
пов работы, позволивший составить определенное представление о спе-
цифике единиц лексического компонента речевой способности человека н
об основных принципах их организации в рамках тех возможностей, ко-
торые обеспечивались исследуемым экспериментальным материалом; при-
менение иных методик в рамках комплексного коллективного подхода к
изучению проблемы лексикона составляет задачу дальнейших исследова-
ний А. А. Залевской и руководимых ею аспирантов и соискателей.
Доктор филологических наук,
профессор М. М. Копыленко
ВВЕДЕНИЕ
Речевая способность человека, благодаря которой воз-
можно общение между людьми, представляет одну из вели-
чайших загадок природы и все больше привлекает внима-
ние исследователей. Особый интерес представляют специ-
фические характеристики единиц лексического компонента
речевой способности (далее •— лексикона) и принципы орга-
низации этих единиц, позволяющие человеку с удивитель-
ной быстротой понимать воспринимаемое им слово и нахо-
дить в памяти именно то слово, которое наиболее полно со-
ответствует замыслу его высказывания.
О важности исследования этой проблемы свидетельст-
вует то, что вопросы организации лексикона стали в послед-
ние годы обсуждаться в рамках ряда наук: лингвистики,
психологии, психолингвистики, информатики. Знаменатель-
ными в этом отношении можно считать появление специаль-
ных глав, посвященных лексикону, в руководствах по психо-
лингвистике (см., например, Glucksberg and Danks, 1975;
Clark and Clark, 1977) и организацию соответствующих сим-
позиумов в рамках Международных психологических кон-
грессов (см. об этом в разд. 1.11). Интенсивно ведется раз-
работка моделей лексикона, сопровождаемая горячими спо-
рами о мере пригодности этих моделей для описания иссле-
дуемого объекта (см., например, Denhiere, 1975; Dubois, 1975;
Lecocq et Maryniak, 1975). При этом становится все более
очевидным, что организация различных сфер лексикона мо-
жет основываться на разных принципах (см. результаты ис-
следования в Fillenbaum and Rapoport, 1971), а для эффек-
тивной постановки экспериментов и для интерпретации по-
лучаемых результатов необходима теория, способная вскрыть
специфику лексикона человека и выявить принципы, ле-
жащие в основе его организации (ср.: Carroll, 1972, р. 527—
528).
Возникает вопрос: какая из упомянутых выше наук спо-
собна разработать такую теорию? Поскольку речь идет об
организации лексических единиц, логично прежде всего об-
ратиться к лингвистике, особенно если учесть, что проблема
системности лексики широко и последовательно разрабаты-
вается советскими учеными, ведущими исследования в об-
ласти лексикологии, семасиологии, лексикографии.
Следует подчеркнуть, что основу для исследования сис-
темности лексики отечественными учеными составляет чет-
кое определение роли и места лексики в языковой системе,
установление специфики языкового знака и всестороннее рас-
смотрение проблемы значения слова. Применяя различные
методы исследования, советские лингвисты подвергли ана-
лизу колоссальный фактический материал, послуживший ос-
новой для обсуждения общих и частных проблем лексико-
логии и семасиологии. Существует необозримое количество
публикаций, в которых дается анализ семантической струк-
туры слов и семантических связей в группах слов, делаются
попытки построения моделей лексико-семантической системы
языка или рассматриваются отдельные виды связей между
элементами этой системы, описываются семантические поля
и лексико-семантические группы слов, разрабатываются тео-
ретические основы и принципы составления идеографических
словарей, обсуждаются вопросы семантической типологии и
психолингвистического изучения лексической системности и
т. д.
Итак, лингвистами проделана титаническая работа по
описанию и классификации лексики. Но в какой мере ре-
зультаты анализа лексики как одной из составляющих язы-
ковой системы позволяют судить о специфике единиц лекси-
ческого компонента речевой способности человека и о прин-
ципах их организации?
В работах А. А. Леонтьева неоднократно отмечается,
что порочность позиции классической лингвистики (младо-
грамматической и социологической школ) заключалась в
полном отождествлении структуры языковой системы и язы-
ковой способности (ГЭб'Эа, с. 104); для современной линг-
вистики также характерно отождествление того, что есть в
речи, в языке, с тем, что наличествует в сознании говоря-
щих (19656, с. 10). Конечно, система связей и взаимосвязей,
называемая порождающим механизмом речи, включает в
каком-то обобщенном виде и то, что называют системой язы-
ка, но упомянутый порождающий механизм организован не
как точное подобие модели языка (1969а, с. 105) и заведо-
мо иначе, чем описательная грамматика соответствующего
языка (19'70, с. 48). Отсюда следует вывод, что необходимо
строить специальную модель речевой способности (1969а,
с. 106).
Сходную мысль высказывает В. А. Звегинцев (1973,
с. 91—92), подчеркивающий важность разграничения меж-
ду «языком в его состоянии» и «языком в его деятельности»
и признающий, что при изучении языка с первой из этих
точек зрения, т. е. как замкнутой структуры, его отношение
к человеку носит чисто декларативный характер. Человек в
таком рассмотрении очень легко элиминируется, и перед ис-
следователем остается лишь автономное и авторитарное об-
разование — язык «в самом себе и для себя». При втором
подходе язык рассматривается преимущественно с позиций
6
человека, его потребностей, механизма его оперирования
языком, его отношения к нему. Таким образом, это разгра-
ничение строится па иных основаниях, чем соссюровское раз-
личение языка и речи.
Важно подчеркнуть, что и в тех случаях, когда разгра-
ничение между системой языка и речевой способностью экс-
плицитно не проводится, в публикациях последних лет наб-
людается тенденция рассматривать проблему системности
лексики с ориентацией на позицию говорящего, который вы-
бирает нужное слово из весьма обширного лексикона. Так,
Ю. С. Степанов (1975, с. 52) указывает, что, разыскивая в
памяти некоторое слово или понятие, человек движется вдоль
пронизывающих систему лексики структурных линий — ас-
социативных или логических, учитывая при этом отношение
гипонимии (подчинения понятий), позволяющее последова-
тельно уменьшать области неопределенности. П. II. Денисов
(1980, с. 118) отмечает, что при поиске необходимого слова
говорящий обращается к подсказанной ситуацией или ком-
муникативной задачей небольшой части словарного состава
(синонимическому ряду, семантическому полю, лексико-се-
мантической группе), а это резко упрощает стратегию по-
иска. Высказывания такого рода позволяют надеяться, что в
недалеком будущем внимание исследователей переключится
с анализа абстрактной лексико-семантической системы язы-
ка на изучение реальных условий и особенностей функцио-
нирования слова.
Заметим также, что последние годы развития лингвисти-
ческой теории в нашей стране знаменуются осознанием не-
достаточности упомянутого выше абстрактного понятия язы-
ковой системы для всестороннего освещения сущности языка
и постановкой задачи объяснения глубинных закономернос-
тей языкового механизма (см., например, Мельничук, 1980,
с. 4; Принципы и методы.., 1976, с. 3). Отсюда, в частности,
вытекает необходимость последовательного изучения специ-
фики лексикона как компонента речевой способности чело-
века. Будучи нацеленным на выявление и объяснение меха-
низмов функционирования лексикона, такой подход исклю-
чит возможность оперирования моделями формального опи-
сания языка. Как справедливо указывает ряд авторов, такие
модели, эффективные для описания коммуникативных про-
цессов с фиксированным набором содержательных единиц,
слишком далеки от задач, стоящих перед психолингвисти-
ческим моделированием, они не имеют никакого отношения
к реальному процессу коммуникации на естественном языке
(см. Копыленко, 1969, с. 101, 102; Мельников, 1978, с. 317.
Ср. с указанием Ю. С. Степанова на явную ошибочность
истолковывания логического описания синтаксиса как моде-
ли, непосредственно отражающей психические процессы, про-
7
исходящие в голове человека при порождении речи — Сте-
панов, 1981, с. 35). Следует согласиться и с мнением Д. Дю-
буа (Dubois, 197.5, р. 36), что точно так же, как не суще-
ствует лингвистического описания, которое можно было бы
прямо принять в качестве модели речевой способности чело-
века, нет возможности использовать с этой целью разрабо-
танные в информатике модели в качестве моделей психи-
ческой деятельности.
Принимая во внимание, что речевая способность пред-
ставляет собой явление психофизиологическое, а результаты
переработки и упорядочения речевого опыта хранятся в
памяти человека и используются в его речемыслителыюй
деятельности, мы неизбежно приходим к выводу, что отно-
сительная полнота описания специфики лексикона может
быть обеспечена только при условии оперирования данными
из области физиологии высшей нервной деятельности, пси-
хологии памяти, мышления и речи. В то же время для реше-
ния проблемы становления лексикона важны наблюдения
над развитием детской речи, а исследования речевых оши-
бок и нарушений речи при афазиях дают ценный материал
для выявления таких характеристик лексикона, которые мо-
гут остаться незамеченными в условиях нормы речи. Таким
образом, становится очевидным, что исследование специфи-
ки лексикона человека должно быть междисциплинарным и
требует объединения усилий представителей широкого круга
наук. Более того, такое исследование должно быть и межъ-
языковым, без чего не может ставиться задача разграниче-
ния универсальных и пдиоэтнических тенденций в организа-
ции лексикона.
Теоретической основой комплексного подхода к иссле-
дованию лексикона должно стать органическое единство
фундаментальных положений ленинской теории отражения и
разработанной психологами школы Л. С. Выготского теории
деятельности при последовательном учете достижений отече-
ственной лингвистической теории. Поскольку обязательным
условием успешности выявления специфики единиц лексико-
на и принципов их организации является установление ро-
ли этих единиц в процессах речемыслителыюй деятельности
и учет специфики психологической структуры значения, ве-
дущая роль в комплексном исследовании должна принадле-
жать психолингвистике, изучающей устройство и функцио-
нирование речевых механизмов человека в плане их соотне-
сенности со структурой языка (Леонтьев А. А., 1976а, с. 5).
Для выявления принципов организации единиц лекси-
кона человека исследователь должен иметь в своем распоря-
жении убедительный фактический материал, который поз-
волил бы обнаружить существенные для упорядоченности
лексикона признаки и связи. Однако специфика рассматри-
8
ваемого феномена — лексического компонента речевой спо-
собности человека — состоит в том, что его строение не
только недоступно прямому наблюдению, но и не может
быть выведено по результатам анализа готовых речевых про-
изведений — текстов (как это делают при исследовании
лексико-семантической системы языка). В данном случае
необходим фактический материал, свидетельствующий не о
результатах речевого процесса, а о его ходе, о промежуточ-
ных этапах производства речи. Кроме того, при попытках
построения гипотез структуры речевой способности человека
на базе сведений, извлекаемых из готовых речевых произве-
дений, исследователь неизбежно оказывается скованным
принципами традиционного описания языковой системы, а
при всей соотносимости этих двух коррелятов каждый из
них имеет свою специфику, не допускающую прямого пере-
несения свойств одного на описание другого. Фактический
материал необходимого типа должен, очевидно, быть полу-
чен путем обращения к информантам — носителям исследуе-
мой речевой организации. Последние должны быть постав-
лены в такую экспериментальную ситуацию, которая позво-
лила бы по результатам некоторой деятельности испытуе-
мых установить те признаки слов и те связи между слова-
ми, которыми оперирует носитель языка при идентификации
воспринимаемой речи и при поиске слов в процессах гово-
рения.
Объективные данные о наличии связей между словами
в сознании человека могут быть получены с помощью психо-
физиологических методик (см. обзоры Creelman, 1966; Лурия
и Виноградова, 1971; Ушакова, 1979; Чуприкова, 1967). Ме-
тодики такого рода позволяют не только обнаруживать сфор-
мировавшиеся в прошлом опыте человека системы связей,
но и разграничивать «ядро» и «периферию» отдельной сис-
темы, измерять степень семантической близости между се
элементами, прослеживать динамику связей внутри иссле-
дуемой системы или между элементами двух систем и т. д.
Можно полагать, что содержательная интерпретация полу-
чаемых таким образом материалов позволит со временем
перейти от констатации наличия и силы связи между эле-
ментами исследуемых систем к выявлению глубинных осно-
ваний для формирования и актуализации обнаруживаемых в
экспериментах связей. Однако известные нам психофизиоло-
гические методики нацелены па исследование лишь тех свя-
зей, которые проявляются при опознании (идентификации)
слов и не затрагивают процессов поиска слов в памяти;
при этом обнаруживаемые связи могут реализоваться толь-
ко в рамках предъявленного в эксперименте ряда слов, т. е.
границы ассоциативного ноля оказываются заданными, а
не искомыми. К тому же применение таких методик требует
использования соответствующей аппаратуры, что делает не-
реальным обследование значительного числа испытуемых.
Для выявления принципов организации лексикона необхо-
дима иная экспериментальная методика, не требующая ис-
пользования специальной аппаратуры, допускающая массо-
вость эксперимента и позволяющая получить информацию,
не ограничивающуюся этапом идентификации слов и не ско-
ванную рамками заданного ассоциативного поля.
В качестве одной из таких методик может выступать
ассоциативный эксперимент, в ходе которого испытуемому
предъявляется изолированное слово с заданием реагиро-
вать на него либо первым словом, пришедшим в голову в
связи с полученным исходным словом (свободный ассоциа-
тивный эксперимент), либо словом, вступающим в какую-
нибудь заданную экспериментатором связь с исходным сло-
вом (направленный ассоциативный эксперимент). Заметим,
что такое предъявление исследуемого слова ставит испытуе-
мого в позицию, сходную с той, в которой находится слуша-
ющий (читающий) при восприятии первого слова нового со-
общения, не связанного с предшествующим контекстом и не
обусловленного ситуацией общения, — в обоих случаях
идентификация воспринимаемого слова является обязатель-
ным этапом деятельности индивида, предваряющим его по-
следующие действия. В эксперименте этот этап оказывается
вычлененным, а полученная от испытуемого ассоциативная
реакция позволяет судить о том, какой признак идентифи-
цированного исходного слова оказался для него наиболее
актуальным и послужил основанием для включения этого
слова в ту или иную систему связей, обнаруживающуюся
при сопоставлении исходного слова с полученной на пего
реакцией. При достаточном числе испытуемых может быть
составлена обширная картина признаков и связей, лежащих
за исследуемыми словами и направляющих процессы иден-
тификации и поиска слов, а количественная обработка по-
лученных данных позволяет судить как об относительной
степени актуальности обнаруженных признаков, так и о си-
ле связей, существенных для организации лексикона. Таким
образом, сама техника организации ассоциативного экспе-
римента и характер получаемой с его помощью информации
дают возможность прослеживать тот этап деятельности но-
сителя языка, который в обычных условиях общения остает-
ся «за кадром». Это, конечно, не означает, что ассоциатив-
ный эксперимент может приравниваться к реальной ситуа-
ции общения: он лишь позволяет вычленить для детального
анализа одну из составляющих этой ситуации. К тому же
условия свободного ассоциативного эксперимента обеспечи-
вают максимально полную картину актуализации не огра-
ниченных ни заданием, пи кругом предъявляемых слов свя-
1.0
зей между единицами лексикона, а условия направленного
ассоциативного эксперимента сужают исследуемое поле свя-
зей до определенного сектора, создавая возможность для
более глубокого выявления специфики целенаправленной
идентификации исходного слова и поиска слов, связанных с
ним по заданному параметру (см. сопоставление этих двух
методик: Залевская, 1972).
Весьма существенно то, что ассоциативный эксперимент
обычно проводится в форме группового теста и способен ох-
ватыв-ать значительное число участников, которым может
быть предъявлен довольно обширный список исходных слов,
а опубликованные материалы так называемых ассоциатив-
ных норм, полученных в разных странах от носителей различ-
ных языков, обеспечивают широкие возможности для межъ-
языковых сопоставлений, необходимых для выявления уни-
версальных и пдиоэтнических тенденций в упорядоченности
единиц лексикона.
Термин «ассоциативные нормы» стал широко известным
после публикации материалов свободного ассоциативного
эксперимента, проведенного психологами-клиницистами Грейс
Кент и А. Розановым с 1000 взрослых носителей английско-
го языка для получения «эталона», с которым можно было
бы сравнивать ассоциативные реакции больных людей (Kent
and Rosanoff, 1910). Следует отметить, что ассоциативный
эксперимент как исследовательская и диагностическая про-
цедура с конца прошлого века разрабатывался разными ав-
торами в ряде стран (см. обзор: Палермо, 1966), однако для
первого периода истории применения ассоциативных норм
специфичным является использование материалов ассоциа-
тивных экспериментов с носителями разных языков (взрос-
лых и детей) преимущественно в целях диагностики в сфе-
рах патопсихологии, психиатрии, дифференциальной психо-
логии, психологии эмоций, криминалистики. Начало второго
периода можно датировать появлением так называемых Мин-
несотских ассоциативных норм (Russell and Jenkins, 1954),
послуживших импульсом для подготовки французских, не-
мецких, итальянских, польских и других ассоциативных норм,
использовавшихся (и до сих пор используемых) психологами
и психолингвистами для исследования широкого круга проб-
лем в области вербального поведения и вербального науче-
ния, познавательных процессов (восприятия, памяти, мышле-
ния), формирования речевой способности, а также для рас-
смотрения и «измерения» психологического значения слова,
для обнаружения разных видов связей между словами в
сознании индивида и т. д. Сферами применения ассоциатив-
ных норм в этот период являются прежде всего психология
речи, памяти и мышления, психолингвистика, психология
Двуязычия, педагогическая психология. Специфику третьего
периода (с начала 70-х гг. по настоящее время) можно ус-
мотреть в обострении интереса к материалам ассоциативных
экспериментов со стороны лингвистов. В частности, состав-
ление ассоциативных норм русского и других языков в на-
шей стране осуществляется именно лингвистами и психо-
лингвистами (ранее этим занимались психологи), а экспе-
риментальные материалы используются для исследования
лексической системности, для анализа семантической струк-
туры слова, для межкультурных сопоставлений, изучения
взаимодействия языков при двуязычии и т. д. (см. работы
А. П. Клименко, а также обзоры: Залевская, 1978а, 1979).
К числу сфер применения ассоциативных норм в дополнение
к упомянутым выше относятся ныне лексическая семантика,
лексикография, лингвострановедение, лингводидактика, этно-
психолингвистика, информатика, социальная психология.
Даже простое перечисление сфер применения ассоциа-
тивных норм показывает, что не случайно имеющиеся гипо-
тезы организации лексикона человека (см. обзор в гл. 1) в
той или иной мере опираются на экспериментальные данные
такого рода (заметим, что это делается даже исследовате-
лями, остающимися в рамках теории порождающей грамма-
тики!) или непосредственно выводятся из анализа материа-
лов ассоциативных экспериментов, проведенных самими ав-
торами. Однако, хотя эффективность использования ассоциа-
тивного эксперимента как источника информации о принци-
пах организации лексикона доказана опытом предшествую-
щих исследований, наша многолетняя практика анализа экс-
периментальных материалов позволяет нам утверждать сле-
дующее.
1. В каждом исследовании должны быть изложены его
теоретические основы, в рамках которых необходи-
мо: а) сформулировать рабочую гипотезу; б) подобрать ме-
тодику эксперимента. В соответствии с теоретическими пред-
посылками должны быть далее подвергнуты анализу и ин-
терпретации полученные результаты эксперимента.
2. Исследование принципов организации лексикона че-
ловека непременно должно базироваться на межъяз ы-
ковом сопоставлении экспериментальных данных.
Только при этом условии можно надеяться на объектив-
ность выводов и избежать поспешных обобщений. Лишь
целенаправленное сопоставление ассоциативных реакций но-
сителей разных языков способно наиболее полно выявить
существенные для упорядоченности лексикона человека приз-
наки слов и устанавливаемые на базе этих признаков связи
(многие из тех и других могут выпасть из поля зрения ис-
следователя при анализе материала одного языка).
3. Далеко не всякое сопоставительное исследование экс-
периментальных материалов может выявить факты, необхо-
12
димые для обсуждения рассматриваемой проблемы. Ввиду
этого требуется тщательная разработка метода иссле-
дования, адекватного изучаемому объекту и поставлен-
ным целям.
4. Задача наиболее полного обнаружения набора пара-
метров, по которым упорядочивается лексикон, делает важ-
ным применение ряда экспериментальных м е т о-
дик с учетом условий владения испытуемыми одним и бо-
лее языками.
На основе этих требований предпринятое нами исследо-
вание специфики единиц лексикона и принципов их органи-
зации базировалось па комплексном теоретическом подходе
к изучаемому феномену и на сопоставлении ассоциативных
реакций носителей пяти славянских (русского, украинского,
белорусского, польского, словацкого), трех тюркских (казах-
ского, киргизского, узбекского), двух германских (англий-
ского, немецкого) и одного романского (французского) язы-
ка. Нами была разработана методика межъязыкового со-
поставления экспериментальных материалов, а реализован-
ная программа исследований наряду с внутриязыковым и
межъязыковым сопоставлением свободных и направленных
ассоциаций, полученных в условиях владения одним, двумя
и тремя языками, включала также многосторонний анализ
материалов экспериментов па свободное (немедленное и
отсроченное) воспроизведение иноязычных слов и слов род-
ного языка и учет некоторых случаев речевых ошибок. Ос-
новными аспектами анализа результатов свободного воспро-
изведения слов были установление оснований для группи-
ровки слов и обнаружение причин ошибочной записи того,
что не предъявлялось в эксперименте.
В связи с использованием ассоциативного эксперимента
в числе примененных методов исследования представляется
необходимым сделать следующие*разъяснения.
В советской и зарубежной научной литературе дается
резкая и обоснованная критика классической ассоциативной
теории и различных проявлений неоассоциациопизма, одна-
ко это не исключает признания важности исследования са-
мого явления ассоциации как связи между элементами пси-
хики, благодаря которой появление одного элемента в опре-
деленных условиях вызывает другой, с ним связанный (Фи-
лософский словарь, 1975, с. 28). Открытие и объяснение ас-
социаций признается одним из самых значительных дости-
жений научной психологии (Бойко, 1969, с. 78). При этом
указывается, что нельзя отрицать сам факт ассоциации (Ти-
хомиров, 1969, с. 34) и что никто не снимает значения ассо-
циаций как способа организации материала в памяти (Гра-
новская, 1974, с. 219), а изучение последних не только впол-
не правомерно, но и совершенно необходимо (Смирнов А. А.,
13
1966, с. 11), ибо понятие ассоциации отражает бесспорную
психологическую реальность (Леонтьев А. И., 1964, с. 86).
Важно также подчеркнуть, что исследование ассоциа-
тивных связей предпринято нами в качестве средства вы-
явления специфики единиц лексикона человека и принципов
организации последнего, т. е. не является самоцелью, в то
время как сами эти связи трактуются как продукты длинной
цепи процессов, «обеспечивающих сложнейший анализ по-
лучаемой информации, всестороннее отражение свойств вос-
принимаемого предмета, выделение его существенных приз-
наков и включение его в соответствующую систему катего-
рий. Только такой длинный путь, который наряду с актив-
ной деятельностью органов чувств включает и активные
действия человека, и его прежний опыт, и решающе важное
участие языка, хранящего опыт поколений и позволяющего
выходить за пределы непосредственно получаемой информа-
ции, и составляет процесс активного, творческого восприя-
тия внешней действительности, и является психологической
основой процессов создания субъективного образа объектив-
ного мира, иначе говоря, психологической! основой процесса
отражения» (Лурия, 1977, с. 5—6). Именно такой подход к
трактовке рассматриваемых связей не только определил на-
правление предпринятой нами разработки теоретических ос-
нов исследования лексикона человека, по и послужил плат-
формой для интерпретации экспериментальных материалов.
ГЛАВА 1
ГИПОТЕЗЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКСИКОНА
В ПУБЛИКАЦИЯХ ДО 1982 г.
1.0. Возможные источники информации о лексиконе человека (15).
1.1. Некоторые предпосылки для разработки гипотез организации лекси-
кона (15). 1.2. Поиск «глубинной структуры» лексикона в работе Дж. Ди-
за (17). 1.3. Единая вербально-когнитивная основа структурированности
лексикона по исследованию Г. Поллио (21). 1.4. Вопросы описания лек-
сикона с точки зрения теории «семантической компетенции» (22). 1. 5. Учет
иерархического и линейного принципов организации лексикона (28).
1.6. Обсуждение шести гипотез организации лексикона в работах Дж. Мил-
лера и Т. В. Ахутиной (32). 1.7. Многообразие принципов организации
лексикона по результатам исследования С. Филленбаума и А. Рапопорта
(35). 1. 8. Вопросы структурированности лексикона у детей по итогам
исследования И. Энглина (36). 1.9. Идея ассоциативной сети и «Ассоциа-
тивный тезаурус» Дж. Диша (39). 1.10. Система памяти в трактовке
Р. Аткинсона (43). 1.11. Некоторые новые тенденции в исследованиях
структуры памяти и субъективного лексикона в конце 70-х гг. (45).
1.0. Информация о специфике единиц лексикона чело-
века и о принципах его организации может быть почерпну-
та из разных источников. Так, любая классификация ассо-
циативных связей, даже не сопровождаемая теоретическими
построениями, отражает некоторую гипотезу автора о харак-
тере единиц, вступающих в такие связи, и об определенных
закономерностях, направляющих актуализацию последних.
Поскольку довольно подробный критический обзор лингвис-
тических и психологических классификаций ассоциаций как
отражения гипотез организации лексикона дается в работе
(Заленская, 1978а, с. 4—35), далее будут рассмотрены лишь
публикации, специально нацеленные на разработку тех или
иных сторон организации ментального лексикона. По причи-
нам, указанным в «Предисловии научного редактора», в этой
главе освещаются работы, попавшие в поле зрения автора
по 1981 г. включительно. Более поздние публикации обсуж-
даются в гл. 5.
1.1. Следует прежде всего указать, что появлению ги-
потез организации лексикона предшествовал широкий круг
работ, в которых было обнаружено многообразие различа-
ющихся ио силе и по своему характеру связей между слова-
ми в памяти человека. Эти исследования велись в разных
направлениях и с различными целями, но для нас наиболь-
ший интерес представляют работы, выполненные при изу-
15
фера с измерением коннотативного значения у Осгуда или с установле-
нием общности значений слов по аналогии употребления их референтов в
работе Флейвеллов).. К тому же до сих пор остается не выясненным, ка-
кие именно параметры определяют степень связанности слов, хотя в не-
которых исследованиях отмечается, что имеется много общего между си-
нонимичностью слов и силой их ассоциативной связи (см., например, Наа-
gen, 1949; Cofer, 1957). Тем не менее исследования такого рода наглядно
показали, что единицы лексикона человека являются так или иначе свя-
занными друг с другом и что силу этой связи можно измерить.
Более поздние исследования позволили установить роль
мысленного образа как медиатора вербальных ассоциаций
(Paivio, 1965, 1966; Paivio and Madigan, 1968). Выяснилось
также, что связи между словами могут быть опосредованны-
ми не только сходством формы и значения слов, но и поня-
тийным сходством (Underwood et al., 1965); при этом была
высказана мысль, что сходство значений слов может рас-
сматриваться как частный случай понятийного сходства
(Bourne et al., 1971).
Значительную роль в развитии представлений об упо-
рядоченности лексикона человека сыграли эксперименты на
свободное воспроизведение вербального материала. Так, бы-
ло обнаружено стремление испытуемых группировать воспро-
изводимые единицы по принадлежности их к некоторой кате-
гории (Bousficld, 1953) или по наличию ассоциативной свя-
зи между ними (Jenkins et al., 1958). Более того, оказалось,
что даже в случаях, когда экспериментатор намеренно избе-
гает включения в предъявляемый список каким-либо обра-
зом связанных слов, испытуемые все равно находят какие-
то основания для группировки последних, или для их «субъ-
ективной организации» (Tulving, 1962).
Авторы упомянутых выше исследований не ставили сво-
ей задачей разработку гипотез организации лексикона, их
Интересовали особенности генерализации нервных процес-
сов во второсигнальных системах связей, физиологические
механизмы межсловесных нервных связей, особенности ак-
туализации таких связей в условиях патологии, ход позна-
вательных процессов, различные аспекты речевого поведе-
ния и овладения речью и т. д„ однако полученные ими дан-
ные подготовили почву для целенаправленных исследова-
ний в рассматриваемой нами области. Можно полагать, что
одним из факторов, активизировавших поиски в этом на-
правлении, явилась публикация работ Дж. Диза.
1.2. В предисловии к своей книге «Структура ассоциа-
ций в языке и мысли» (Deese, 1965) Диз отмечает, что в
изучении ассоциаций психологи обычно шли по ложному
пути: их интересовало «что следует за чем», в то время как
Вопрос должен ставиться о том, как ассоциативные ряды
отражают структурные модели отношений между понятиями.
2. Заказ 830
чении специфики семантической генерализации или при вы-
явлении оснований для так называемой медиации (опосре-
дования).
Явление семантической генерализации разносторонне исследовалось
отечественными учеными (см. обзоры: Чуприкова, 1967; Соколов, 1968;
Ушакова, 197.9). Основной смысл полученных при этом результатов сво-
дится к тому, что а) явление генерализации имеет место при предъявле-
нии испытуемым близких по значению слов; б) наибольший условнтреф-
лекторный эффект наблюдается при предъявлении синонимов; в) степень
условнорефлекторного эффекта уменьшается по мере того, как значение
обобщающих слов становится более широким; г) слово вызывает целую
систему связей; д) для нормального взрослого испытуемого доминирующи-
ми являются смысловые связи между словами; е) в условиях патологии
умственного развития и при нарушениях речи возрастает роль формаль-
ных связей между словами.
Исследования в русле теории медиации в течение ряда десятилетий
проводятся американскими психологами. Одним из вариантов этой теории
(согласно которой два вербальных элемента могут ассоциироваться посред-
ством третьего, смежного с ними обоими, элемента) явилось опосредова-
ние через цепи промежуточных звеньев (Cofer and Foley, 1942), другим —
опосредование через некоторого рода эквивалентность, понимаемую чрез-
вычайно широко, вплоть до эквивалентности по принадлежности к той
или иной части речи (см., например, Jenkins, 1963).
Изучение параметров, по которым устанавливаются
эквивалентность или подобие, лежащие в основе организа-
ции вербальных элементов, породило огромное количество
экспериментальных исследований, на основании которых был
сделан ряд выводов, весьма важных для выявления струк-
туры лексикона. Так, выяснилось, что базой для медиации
служит значение слов, преимущественно явления синонимии
и антонимии (Cofer and Foley, 1942); подобие значений слов
(meaning similarity) определяется сходством их семантичес-
ких профилей или близостью координат в «семантическом
пространстве» (Osgood et al., 1957); испытуемые склонны
находить близость значений слов в случаях, когда референ-
ты этих слов могут встречаться в одних и тех же условиях
места и времени (Flavell and Flavell, 1959); понятие свя-
занности слов (word relatedness) является более широким,
чем понятие подобия или близости значений, оно лучше
объясняет эффект медиации (Bousfield et al., 1958); при этом
следует различать общее понятие связанности и специфичес-
кие виды связи между словами, поскольку два слова могут
быть связанными друг с другом по ряду оснований, каждое
из которых в определенной мере обусловливает общую меру
связанности этих слов (Underwood, 1952). Возникли также
попытки разработать количественные методы разграничения
степеней связанности слов (Garskof and Houston, 1963;
Marshall and Cofer, 1963; Kiss, 1968).
Говоря о близости значений слов, авторы разных исследований фак-
тически имеют в виду различные аспекты семантики слова (ср., например,
указание на роль синонимии и антонимии в названной выше работе Ко-
16
Считая исследуемую им проблему пограничной между эмпи-
рической экспериментальной психологией и формальной
лингвистической теорией, Диз делает попытку свести воеди-
но психологический и лингвистический анализ ассоциаций,
описывает разработанный им новый метод анализа ассоциа-
тивной структуры и завершает книгу ассоциативным слова-
рем, который, по его мнению, представляет собой особый
вид когнитивного словаря.
Отметив, что идея ассоциации является почти столь же извечной, как
и проблема мышления, Диз особо подчеркивает значимость публикации
У. Баусфилда (Bousfield, 1953) для пересмотра традиционной трактовки
ассоциаций как отражающих следование элементов в прошлом опыте ин-
дивида и для выявления другой существенной особенности ассоциаций —
их взаимосвязи, структурированности. Баусфилд обнаружил, что в ходе
свободного воспроизведения вербального материала испытуемые перегруп-
пируют его, объединяя элементы, относящиеся к одной категории. Баусфилд
объяснил это опосредованием через категорию. Диз полагает, что если
продолжить мысль Баусфилда, то сами категории могут оказаться чле-
нами некоторой суперсистемы, что это приведет к схеме внутренней орга-
низации элементов, имеющей вид разветвляющейся иерархической клас-
сификации. Если следовать точке зрения Баусфилда, переход от одной
подсистемы к другой может осуществляться ие прямо, а через более вы-
.сокнй (супсрсрдннатпый) уровень, хотя относящееся к этому уровню поня-
тие может не эксплицироваться. Очень важно, что при ассоциировании
одного из элементов некоторой категории с каким-то новым элементом
этот новый элемент оказывается в равной мере ассоциированным и с дру-
гими членами топ же категории, поскольку благодаря первоначально ус-
тановленной связи он станет одним из координированных членов сущест-
вующей системы.
Наилучшим средством исследования таких глубинных структур Диз
считает свободные ассоциации, ибо они наименее зависимы от контекста
и в то же время коренным образем связаны со значением слова. Однако
существуют различные виды значения. Так, эксперимент Баусфилда выя-
вил категориальное значение, а семантический дифференциал Осгуда из-
меряет коннотативное значение. Одним из видов значений Диз считает ас-
социативное значение, извлекаемое из анализа дистрибуции ассоциативных
реакций на некоторое слово-стимул. Поскольку в эксперименте участву-
ет целый ряд испытуемых, совокупность их реакций оказывается социаль-
но значимой.
При разработке нового метода анализа ассоциаций Диз
исходил из необходимости применения такой процедуры,
которая обеспечила бы классификацию ассоциаций, вытека-
ющую из специфики самого ассоциативного процесса, а не
навязывающую извне какие-то экстраассоциативные принци-
пы организации, как это обычно делается. Поскольку ас-
социативное значение некоторого слова-стимула выявляет-
ся через дистрибуцию полученных на это слово ассоциатиЕ*
ных реакций, общность ассоциативного значения двух слов-
стимулов должна определяться посредством установления
степени общности дистрибуций реакций и будет зависеть от
встречаемости общих элементов в сопоставляемых дистрибу-
циях. Однако особый интерес представляют ие сами пере-
сечения таких дистрибуций, а глубинные модели отношений,
18
которые за ними скрываются. Обнаружить эти базисные
структуры отношений внутри групп слов позволяет фактор-
ный анализ, применяемый с учетом принадлежности иссле-
дуемых слов к определенному грамматическому классу, ведь
ассоциативная структура возникает на той же основе, на
которой формируется грамматическая структура, а имен-
но — на основе пользования языком. Диз применил про-
цедуру вычисления индекса пересечения дистрибуций ассо-
циативных реакций и факторный анализ для исследования
структурных отношений внутри групп существительных, гла-
голов, прилагательных и наречий по материалам собствен-
ных экспериментов, а также внутри групп вспомогательных
глаголов, личных местоимений, предлогов и союзов на базе-
данных, полученных ранее Джоунзом и Филленбаумом. Это
обеспечило достаточно представительную картину глубин-
ных связей, которая позволила сделать вывод об осново-
полагающей роли отношений противопоставления и группи-
ровки и сформулировать два новых закона ассоциации: 1 —
элементы являются ассоциативно связанными, когда они
могут быть противопоставлены некоторым специфичным об-
разом; II — элементы являются ассоциативно связанными,
когда их можно группировать на основании двух или бо-
лее общих характеристик. Усваивая новые элементы, мы
добавляем их к уже существующим группам или определя-
ем их позицию по отношению к некоторому базисному ос-
нованию для противопоставления. Новые группы могут фор-
мироваться в случаях, когда в опыте и памяти накаплива-
ется достаточное количество объектов для установления не-
которого нового, специфичного набора признаков (attribu-
tes). Слова и понятия могут принадлежать более чем к од-
ной группе и противопоставляться по ряду признаков.
Диализируя теорию Диза, Ч. Кофер (Coler, 1971, р. 883—885) отме-
чает, что используемая Дизо.м процедура исследования ассоциативной
структуры действительно проводит четкую границу между словами, с од-
ной стороны, и словами, отличающимися от них, с другой. Эта процедура
наглядно выявляет некоторую глубинную упорядоченность ассоциатов, об-
щих для ряда слов. Разработанный Дизом метод исследования получил-
также высокую оценку в работе С, Эрвин-Трипп и Д. Слобина (Ervin-
Тп'рр and Slobin, 1966, р. 452), указавших, что факторный анализ позво-
ляет обнаружить подклассы существительных, во многом сходные с геми,
которые вычленяются лингвистами с помощью семантических маркеров.
В то же время факторная структура прилагательных, включая случаи
полярных шкал (факты антонимии), градаций континуума (типа
tiny, small, large, huge), дискретных пар (типа former — latter) и наборов
слов типа цветообозначеппй, оказывается тесно связанной с частотностью
исследуемых слов, с их сочетаемостными возможностями и с их денотатив-
ными параметрами. Отсюда Эрвин-Трипп п Слобнн делают вывод, что
анализ ассоциативной структуры может оказаться одним из путей ис-
следования референционального значения. Тот факт, что выделенные ме-
тодом Диза факторы легко интерпретируются содержательно как семан-
тические компоненты слов, неоднократно приводится А. Л. Леонтьевым в
2*
19'
качестве одного из доказательств принципиального единства психологичес-
кой природы семантических и ассоциативных характеристик слова (см.,
например, Леонтьев А. А., 19696, с. 268).
К числу несомненных заслуг Диза относятся не только
новый взгляд на ассоциативную связь как на индикатор глу-
бинной структуры лексикона и разработка метода исследо-
вания, способного вскрыть эту структуру, но и весьма тон-
кий анализ фактического материала и попытка объяснить
формирование внутренней системы отношений с учетом
влияния речевого опыта индивида и специфики принадлеж-
ности слова к тому или иному лексико-грамматическому
классу. При этом необходимо подчеркнуть, что Диз считает
ассоциативную структуру лишь одной из составляющих груп-
пы высокоорганизованных процессов, обеспечивающих поз-
навательную деятельность человека, а также допускает ве-
роятность того, что для языков, сильно отличающихся от
английского, может быть обнаружен иной структурный тип
ассоциативных отношений (Deese, 1965, р. 176, 177). Послед-
нее замечание особенно важно потому, что некоторые из
положений, установленные Дизом по результатам анализа
ассоциативных реакций на базе английского языка (напри-
мер, его выводы о соотношении парадигматических и синтаг-
матических реакций на исходные слова, принадлежащие к
разным лексико-грамматическим классам), были без долж-
ной проверки на материале других языков восприняты как
характеризующие ассоциативный процесс независимо от
специфики языка испытуемых.
Следует в то же время отметить, что несмотря на стрем-
ление сочетать психологический н лингвистический подходы
к анализу ассоциативных связей, на признание многогран-
ности ассоциативной структуры существительных и разгра-
ничение ряда типов значения слова, Диз не уделил доста-
точного внимания специфике семантической связи внутри
групп слов. Это привело к тому, что в его «Ассоциативном
словаре» оказались объединенными в группу «слов того же
типа, что и слово-стимул», лексические единицы, отражаю-
щие различные виды семантических связей с исходным сло-
вом. Так, в группе CAT — animal, dog (КОШКА — живот-
ное, собака)* первый ассоциат является суперордипатой к
исходному слову, а второй координирован с ним; сопоставив
англ. MOTHER — father, daddy (МАТЬ — отец, папа),
русск. МАТЬ — дочь, мачеха, казахск. ШЕШЕ — апа, анс
(МАТЬ — мать при обращении, мать) мы увидим, что в
* Здесь и далее использовавшиеся в ассоциативных экспериментах
исходные слова (стимулы) даются прописными буквами, полученные на
них ассоциаты (реакции) — строчными полужирными буквами, а перевод
тех и других приводится в скобках.
20
английском и русском языках наряду с группировкой по од-
ному из признаков имеет место противопоставление по раз-
личным дифференциальным признакам, в то время как казах-
ские ассоциаты оказываются синонимичными исходному сло-
ву. Таким образом, принадлежность исходного слова и ассо-
циатов к одной и той же группе по классификации Диза
может базироваться на разных видах отношений между ком-
понентами ассоциативных пар.
Сопоставление взглядов Диза с более поздними иссле-
дованиями показывает, что в рассмотренной книге были за-
ложены основы развития многих современных гипотез орга-
низации семантической памяти.
1.3. Основной задачей исследования Г. Поллио (Pollio,
1966) было выявление природы и специфики той семантичес-
кой структуры, которая, по его предположению, обеспечива-
ет базу ассоциативного поведения взрослого человека.
В качестве двух источников, определивших направление работы, Пол-
лио называет публикации Диза и Осгуда. Согласно Дизу, вызванная не-
которым словом-стимулом иерархия ассоциативных реакций оказывается
организованной в виде ряда подструктур или групп (clusters), при этом
внутригрупповые связи между ассоциатами являются более тесными, чем
межгрупповые связи. Однако ассоциативная реакция может быть либо
прямо связанной с исходным словом, либо опосредованной внутренним,
скрытым ответом (Osgood, 1953), а имплицитные медиаторы такого рода,
отражающие коннотативное значение слова, по гипотезе Осгуда, также
должны быть организованы в группы. Для выявления специфических
групп медиаторов была разработана методика семантического дифферен-
циала — СД (Osgood et al., 1957). Если признать, что слово вызывает
оба вида реакций — как вербальную, так и опосредованную имплицитным
медиатором, то, по мнению Поллио, можно представить себе некоторую
единую вербально-когнитивную структуру, в которой базисные точки от-
счета формируются на основе скрытых реакций. Вербальные группы за-
нимают соответствующие места в этой общей структуре; отсюда следует,
что слово-стимул и те слова, которые входят в круг его ассоциатов, долж-
ны иметь нечто общее в плане медиации. Эта гипотеза опирается на ряд
экспериментов, в которых была получена высокая корреляция между оцен-
кой слова и его ассоциатов по методике СД (Staats and Staats, 1959;
Pollio, 1964).
Экспериментальное исследование было предпринято
Поллио для проверки следующих рабочих гипотез: 1) сте-
пень абстрактности слова-стимула и его коннотативное зна-
чение должны оказывать влияние на размер иерархии ассо-
циативных реакций; 2) полученные от отдельных индивидов
продолженные ассоциативные реакции позволяют обнару-
жить периоды быстро продуцируемых свободных ассоциа-
ций, перемежающиеся с периодами более медленного их
продуцирования; 3) семантическое расстояние между неко-
торым количеством единиц, полученных за период быстрого
продуцирования реакций, будет меньше семантического рас-
стояния между таким же количеством единиц, полученным
21
за более продолжительный промежуток времени; 4) сущест-
вует более тесная внутригрупповая связь между единицами
некоторой последовательности реакций с короткими латент-
ными периодами, чем между единицами такой же по разме-
ру последовательности реакций, латентный период которых
длиннее (Op. cit., р. 30).
Анализ экспериментального материала показал, что оче-
видные изменения в скорости продуцирования продолженных
свободных ассоциативных реакций соотносятся с границами
ассоциативных групп; эти группы имеют разные характе-
ристики в зависимости от скорости, с которой они продуци-
ровались. Была обнаружена увеличивающаяся положитель-
ная прямая зависимость между степенью связанности ассо-
циативных групп и скоростью их продуцирования. Обратная
зависимость была установлена между средним семантичес-
ким расстоянием внутри отдельной группы и скоростью про-
дуцирования этой группы.
Поллио интерпретирует полученные данные как доказа-
тельство гипотезы, согласно которой общая организация
словаря взрослого носителя языка может быть описана в
терминах пространства коннотативного значения, где распо-
лагаются ассоциативные группы, внутригрупповые связи ко-
торых сильнее, чем межгрупповые.
Таким образом, Поллио фактически продолжает разви-
вать идею структурированности лексикона, сформулирован-
ную Дизом. Однако в поисках семантической основы такой
структурированности он не учитывает, что значение слова
многогранно, что оно не сводимо к коннотативному значе-
нию, измеряемому методом СД. В этом отношении более
последовательным был Диз, специально обсуждавший раз-
личия между отдельными аспектами значения. Что касается
результатов проведенного Поллио исследования, то его вы-
вод об опосредованности внутригрупповых связей коннота-
тивными медиаторами вызывает возражение: тесные связи
между словами могут формироваться на основе разных ас-
пектов значения слова, каждый из которых (а не только
коннотативное значение) находит проявление в материалах
ассоциативного эксперимента (см. примеры в 4.3).
1.4. В работе Р. Уэлса и Дж. Маршалла (Wales ~ and
Marshall, 19'66) субъективный лексикон рассматривается в
качестве отдельного блока модели языковой компетенции и
трактуется в рамках генеративной теории Н. Хомского с
опорой на представления о строении семантического компо-
нента порождающей модели, высказанные Дж. Катцем и
Дж. Фодором.
Уэлс и Маршалл прежде всего уточняют, что, говоря о связях меж-
ду словами, они имеют в виду не фонологическую или графемную репре-
22
зентацию слова, а отраженное в нем понятие (Op. cit., р. 58--59). Они
полагают, что некоторые аспекты семантической компетенции человека мо-
гут быть представлены ассоциативной сетью, имеющей вид одноуровне-
вой системы, в которой слова являются атомарными элементами; взаимо-
связанность между ними проявляется через ассоциативные связи. В этом
случае весь «словарь в голове» может принять вид обширной сети взаимо-
связей с пометами направленности таких связей или без каких-либо по-
мет. Однако носитель языка знает не только то, что слова связаны друг
с другом, ему также известна природа этой связи в каждом отдельном
случае (имеет ли место синонимия или антонимия, связаны ли слова кон-
цептуально, противопоставляются ли обозначения конкретных объектов
абстрактным понятиям, являются ли два предложения парафразами одно
другого, соответствует ли содержание предложения действительности или
противоречит ей и т. д.). Отсюда следует, что метатеория для описания
семантического компонента должна располагать средствами учета таких
знаний. По мнению Уэлса и Маршалла, такие средства обеспечивает фор-
ма репрезентации лексической информации, предложенная Катцем и Федо-
ром (Katz and Fodor, 1963): каждая лексическая единица должна полу-
чать характеристику через определенные наборы синтаксических и семан-
тических маркеров, сопровождаемые ограничениями выбора, которые ис-
ключают возможность формирования семантически неприемлемых сочета-
ний. При этом о порядке расположения маркеров, отражающих сложную
концептуальную структуру слова, известно лишь то, что между ними име-
ется отношение включения, т. е. категория, обозначаемая одним семанти-
ческим маркером, является субкатегорией для другого маркера.
Уэлс и Маршалл полагают, что семантическая теория
такого рода позволяет объяснить многие виды ассоциатив-
ных связей, поскольку в их основе может лежать концеп-
туальное подобие (например, в случаях синонимичности ис-
ходного слова и ассоциата) или различие по одному семан-
тическому маркеру (в случаях их антонимичности), в то
время как направленность эффекта генерализации может оп-
ределяться иерархической структурой некоторых лексических
единиц (ср. генерализацию ОРЕЛ - - птица, но не наоборот).
Они признают также, что в рамках рассматриваемой теории
не описываются отношения типа МОЛОКО — белое, бази-
рующиеся па возможных качествах референта стимула.
На ту же семантическую теорию опирается Г. Кларк
(Clark, 1970).
Исходя из признания психологической реальности глубинной струк-
туры в трактовке II. Хомского, Кларк рассматривает механизмы актуа-
лизации ассоциативных связей, различая при этом три стадии ассоциатив-
ного процесса: 1) понимание исходного слова, 2) оперирование значением
этого слова и 3) продуцирование реакции. На второй стадии применяют-
ся <п&$ила ассоциирования», посредством которых «механизм ассоцииро-
ваниям Определяет выбор реакции.
Далее Кларк раздельно анализирует парадигматически и синтагма-
тически связанные ассоциативные пары слов, понимая под первыми из них
случаи, когда ассоциат относится к той же синтаксической категории, что
и стимул, а под вторыми — когда компоненты ассоциативной пары при-
надлежат к разным категориям. При этом он ссылается на предисловие,
написанное Дж. Лайопзом (Lyons, 1970, р. 16), в котором (в свою оче-
редь со ссылкой па Ф. де Соссюра) уточняется, что в парадигматических
отношениях находятся элементы, взаимозаменяемые в определенном кон-
тексте, в то время как элементы, в комбинации составляющие единицу
23
более высокого порядка, считаются связанными синтагматически. За ос-
нову для интерпретации парадигматических ассоциативных правил Кларк
берет идею семантических признаков (features) и правил субкатегориза-
ции (Chomsky, 1965), синтагматические же ассоциативные правила рас-
сматриваются с точки зрения селективных признаков, ограничивающих со-
четаемость элементов. С этих позиций трехступепчатый ассоциативный
процесс выглядит следующим образом. На первой ступени понимание ис-
ходного слова, например, MAN (мужчина), заключается в установлении
набора признаков, который полностью характеризует содержание едини-
цы «поверхностного уровня», в этом случае: [-(-Noun, -(-Det—, -(-Count,
4-Animate, -(-Human, -(-Adult, -(-Male].
На второй ступени применяется некоторое правило ассоциирования,
например, «измени знак последнего признака» (тогда механизм ассоции-
рования изменит [-(-Male] на [—Male]). На третьей ступени этот изме-
ненный набор признаков находит поверхностную реализацию (здесь — в
слове woman (женщина). См.; Clark, 1970, р. 274).
Опираясь на высказывание Д. Макнейла (McNeill, 1966)
о том, что для прилагательных, а возможно и для сущест-
вительных, наиболее частый парадигматический ассоциат
имеет тенденцию содержать максимальное число общих со
словом-стимулом признаков, Кларк формулирует первое па-
радигматическое правило ассоциирования — «правило ми-
нимального контраста», которое гласит: «измени знак толь-
ко одного признака» (см. приведенный выше пример). При
этом самые частые ассоциативные реакции являются резуль-
татом изменения знака не любого, а самого последнего в
иерархии признака. Так, реакция boy (мальчик) на исходное
слово MAN оказывается более редкой, чем реакция woman,
потому что она требует изменения знака предпоследнего в ие-
рархии признака. Еще более редкой является реакция girl
(девочка), так как для ее появления требуется изменить
знаки сразу двух признаков: [—Adult, — Male] (Clark,
1970, р. 276).
Второе парадигматическое правило ассоциирования —
«правило отмеченности» — навеяно замечаниями Гринберга
о том, что в материалах ассоциативных экспериментов наб-
людается более сильная тенденция направленности от мар-
кированных единиц к немаркированным, чем наоборот. Рас-
сматривая это правило как частный случай правила мини-
мального контраста, Кларк (вслед за Гринбергом) распрост-
раняет его не только на случаи переходов от множествен-
ного числа к единственному, от сравнительной степени к по-
ложительной и т. п., но и на примеры типа MAN — woman,
НЕ — she, (он — она) где первое слово трактуется как не-
маркированное по отношению ко .второму.
Следующее правило связано либо с опущением, либо с
добавлением признака в конце списка. Опущение признака
обычно приводит к суперординатной реакции, ср.: APPLE —
fruit (ЯБЛОКО — фрукт), а добавление — к субординатной;
FRUIT — apple (ФРУКТ — яблоко). В качестве другого
24
примера приводится опущение признака [+Cause] в парах
пипа KILL — die (УБИВАТЬ — умирать). Реализацией это-
го же правила Кларк объясняет появление «частичных си-
нонимов».
Поскольку применение правил минимального контраста
и опущения или добавления признака может дать семанти-
ческую репрезентацию, не имеющую реализации на поверх-
ностном уровне, эти правила применяются повторно к выше-
стоящим в иерархии признакам; однако они не должны затра-
гивать самых базисных признаков. Это приводит к формули-
рованию общего правила «сохранения категории», которое,
по мнению Кларка, отражает общеизвестный факт, что ис-
ходные слова вызывают преимущественно парадигматические
реакции. При этом Кларк полагает, что все эти правила
можно свести в наиболее общему правилу «простоты про-
дуцирования», которое гласит: «сделай наименьшее измене-
ние в самом нижнем в иерархии признаке при условии, что
результат даст английское слово» (Op. cit., р. 280). В каче-
стве «наименьшего изменения» рассматривается изменение
знака признака, более трудным считается опущение призна-
ка, после чего названо добавление признака.
Что касается синтагматических правил ассоциирования,
то Кларк признает трудность их выявления, но делает по-
пытку охарактеризовать два из них, объясняющих, по его
мнению, появление большей части синтагматических реак-
ций. Исходным в этом случае является представление о том,
что .в число признаков слова обычно входят и такие, которые
частично специфицируют значение его потенциальных кон-
текстов. Первое синтагматическое правило так и названо:
«правило реализации селективного признака». Если селек-
тивный признак допускает только одну реализацию, это пра-
вило конкретизируется в «правило завершения идиомы».
Кларк отмечает, что второе из этих правил объясняет такие
(на первый взгляд — парадигматические) реакции, как
BREAD — butter; NEEDLE — thread (ХЛЕБ — масло;. ИГ-
ЛА — нитка), которые скорее всего являются завершениями
идиом. Хотя под влиянием обычного порядка продуцирова-
ния предложения правило завершения идиом действует сле-
ва направо, а не наоборот, синтагматические ассоциации, по
мнению Кларка, не являются просто фрагментами речи, как
считают некоторые: реакции такого рода имеют к речи толь-
ко абстрактное отношение. В качестве аргумента указыва-
ется, в частности, на то, что в парах BREAD — butter; ON —
table (НА — стол) отсутствуют функциональные слова, не-
обходимые в позиции между стимулом и реакцией (ср.: bread
and butter; on the table).
Считая возможным рассматривать и синтагматические
правила как отдельные «операции» в рамках наиболее об-
25
щего правила «простоты продуцирования», Кларк ссылается
на исследование Л. Морана с сотрудниками (Moran et aL,
1964), где описываются три категории испытуемых, прини-
мавших участие в ассоциативном эксперименте. Первые из
них реагировали на исходные слова очень быстро и давали
преимущественно контрастные и координированные реакции,
соответствующие в терминологии Кларка правилу минима-
льного контраста. Вторые отвечали не так быстро и давали
синонимы и суперординаты, т. е. использовали правила опу-
щения или добавления признака, а третьи, отвечавшие мед-
леннее всех, давали преимущественно синтагматические реак-
ции.
Ссылка па эксперимент Морана для подтверждения пра-
вомерности гипотезы Кларка о различиях в степени слож-
ности сформулированных им правил ассоциирования пред-
ставляется малоубедительной, поскольку различия во вре-
мени реакции на разные исходные слова определяются комп-
лексом факторов, а не одной только стратегией поиска ассо-
циата. К тому же в наших экспериментах с русскими испы-
туемыми время реакции при продуцировании частых синтаг-
матических реакций в среднем ле отличалось от времени,
затрачивавшегося на продуцирование частых парадигмати-
ческих реакций.
Возражения вызывают и ссылки Кларка на результаты
ассоциативных экспериментов с детьми. Кларк приводит
мнение Д. Макнейла о том, что преобладание синтагмати-
ческих реакций у американских детей объясняется несфор-
мированностыо у них полного набора признаков слов. Вслед-
ствие этого попытка ребенка найти минимальный контраст
заканчивается противопоставлением синтаксического, а не
семантического (как у взрослых) признака. В отличие от
Макнейла Кларк полагает, что у детей вообще не имеется
правила минимального контраста до тех пор, пока не поя-
вятся те (ниже в иерархии) бинарные признаки, к которым
это правило приложимо. Обе эти точки зрения не выдержи-
вают критики. Во-первых, соотношение парадигматических
и синтагматических реакций по-разному изменяется с воз-
растом у носителей различных языков, ср. динамику соответ-
ствующих показателей по материалам русского (Уфимцева
Н. В., 1981), русского и белорусского (Николаенко, 1975),
словацкого (Marsalova, 1974) и японского (Kashu, 1972)
языков. Во-вторых, для одной и той же возрастной группы
испытуемых-детей, как и для взрослых, характерны значи-
тельные расхождения в соотношении парадигматических и
синтагматических реакций на исходные слова, принадлежа-
щие к разным частям речи. В-третьих, преобладание синтаг-
матических реакций у взрослых испытуемых, говорящих на
славянских языках — русском (Залевская, 19716), белорус-
26
ском (Титова А. И., 1975), польском (Залевская, 1971в)’
было бы наивно объяснять несформированностыо у них пол-
ного набора признаков или отсутствием правила минималь-
ного контраста.
Концентрация внимания исключительно на идее иерар-
хии признаков мешает Кларку допустить возможность суще-
ствования каких-либо иных факторов, важных для органи-
зации лексикона человека, а также более широко исполь-
зовать преимущества признания им психологической реаль-
ности глубинного уровня лексикона. Так, отсутствие функ-
ционального слова в паре ON — table следует, очевидно,
отнести к тому, что Дж. Миллер (Miller, 1969b) квалифици-
рует как «детали поверхностного уровня», на которые не
стоит обращать внимание.
Детальный критический анализ исходных позиций рас-
сматриваемых работ Уэлса и Маршалла, Кларка — семан-
тической теории Катца и Фодора — дается в ряде публика-
ций (см„ например, Уфимцева А. А., 1968, с. 31—34; Медни-
кова, 1974, с. Гб—36), поэтому здесь можно ограничиться
кратким заключением. В принципе, конечно, необходимо
искать пути для наиболее детального описания семантичес-
кой структуры слова, для максимально полного отображе-
ния увязываемых со словом энциклопедических и языковых
знаний человека, для выявления механизмов и процессов
оперирования словом. Однако нельзя делать это путем меха-
нического сочетания формальной семантической теории с ре-
зультатами отдельных, случайно попавших в поле зрения
того или иного автора, экспериментальных исследований, к
тому же без глубокого анализа причин, по которым эти
результаты могли быть получены. Тем более недопустимо
делать категорические выводы о тех или иных тенденциях
в направлениях ассоциативного процесса, если эксперимен-
тальные данные получены от носителей одного языка и не
подкреплены широкими межъязыковыми сопоставлениями.
Вместо поисков экспериментальных показателей, удачно (но
тем нс менее случайно) иллюстрирующих некоторые теоре-
тические построения, необходима реализация целенаправ-
ленной программы экспериментов, способной выявить ис-
следуемые механизмы и процессы.
В более поздней публикации Кларк излагает те же
«правила ассоциирования», по пользуется иным — пропози-
циональным — способом репрезентации значения слова (Clark
and Clark, 1977, р. 477—482). Он подчеркивает, что изучение
ассоциаций ценно потому, что оно проливает свет на процессы
оперирования значением: первая ступень ассоциативного
Процесса протекает так же, как понимание слова при вос-
приятии речи, а третья — как поиск слова при говорении в
Нормальных условиях общения. Анализ процессов, имеющих
27
место на второй ступени, представляет особый интерес; ре-
зультаты такого анализа, по мнению Кларка, убедительно
показывают, что выбор слов осуществляется на основании
их семантических признаков (ср. с трактовкой слова как его
поиска на основе как семантико-ассоциативных, так и акус-
тико-артикуляционных признаков в работе: Леонтьев А А
19696, с. 204, 222).
1.5. В центре внимания ряда исследователей оказалась
также иерархическая организация элементов лексикона, за-
частую сочетающаяся с линейной связью. Так, в исследова-
ниях киевских психологов (Старинец и др., 1968 а, 19686) с
опорой на ассоциативные эксперименты различных видов
было установлено, что между любыми двумя словами (поня-
тиями) может быть реализована ассоциативная связь через
малое число (в среднем три) ассоциативных шагов-перехо-
дов, каждый из которых представляет собой прямую ассо-
циативную связь и может осуществляться с помощью набо-
ра стратегий — таких, как переход от одного понятия к
другому через верхние или низшие уровни иерархии, переход
в пределах совпадающих уровней, с постепенным спуском
или подъемом для несовпадающих по уровню понятий или
скачкообразно. Будучи связанными друг с другом, слова об-
ладают различной ассоциативной силой. Максимальное чис-
ло связей имеют слова, представляющие особое значение
для человека как личности. Они обозначают самые емкие
понятия, связь с которыми имеет максимальную вероятность
воспроизведения. Слова с максимальной ассоциативной си-
лой составляют незначительную часть от общего числа слов,
они объединены в связную сеть, элементы которой отдают
до 20—40% своих связей на узлы этой же сети, тем самым
внутри общей ассоциативной структуры вычленяется «ядро»,
вокруг которого надстраиваются другие ассоциации. В ассо-
циативной сети выделяются также замкнутые контуры и
незамкнутые цепи — «лучи». Подчеркивая, что степень общ-
ности упорядочиваемых элементов является одним из суще-
ственных факторов при организации семантического (точ-
нее — ассоциативного) поля, авторы предлагают математи-
ческие модели таких полей (Мейтус и Старинец, 1968). С
учетом опыта разбиения словаря естественного языка на
классы (имеется в виду тезаурус Роже) разграничиваются
два вида сетей, одна из которых объединяет все множест-
во классов, включающих синонимичные и связанные по
смыслу слова, а вторая объединяет слова внутри классов,
являясь разверткой сети первого вида. Развертка может
быть сколь угодно глубокой, т. е. элементы сети второго ви-
да могут иметь свою развертку и т. д. (Старинец, 1966).
Сходным образом построена модель лексикона, пред-
28
,ложенная Дж. Мэндлером (Mandlcr G., 1968) с учетом вы-
явленных Дж. Миллером ограничений в отношении возмож-
ностей переработки информации памятью человека (Miller,
1966). Обсуждая структуру категориального типа как одну
из возможных моделей структуры ментальной организации,
Мэндлер говорит о системе иерархий: на нижнем уровне
каждый блок содержит пять единиц, объединенных некоторой
категорией; на втором уровне имеется набор из пяти кате-
горий, объединяемых категорией более высокого уровня, и
Д. Мэндлер допускает, что одна и та же единица может
^ходить более чем в одну иерархию (это относится к поли-
семантичным словам).
Единицами рассматриваемой системы Мэндлер считает эквиваленты
-еДов типа тех, которые Дж. Мортон (Morton, 1964) называет «логогена-
л|И». Мэндлер специально оговаривает, что «словарь логогепов» предпола-
гает модель памяти, значительно отличающуюся от моделей, основываю-
щихся на понятии различительных признаков. Он полагает, что число еди-
ниц, организуемых на базе различительных признаков, будет не намного
-Йеньшим, чем число эквивалентов слсв. К тому же, по его убеждению,
проблема состоит ие в том, чтобы найти как можно меньший набор хра-
цимых в памяти единиц, а в том, чтобы выявить оптимальную систему по-
иска в памяти. Соглашаясь с Мортоном, что для такой системы нужны
-единицы более высокого порядка («идиогены» в терминах Мортона), Мэнд-
Лер полагает, что таковыми в его модели служат категории вышестоящих
уровней.
' Для подтверждения правомерности обсуждаемой модели Мэндлер
-ссылается на ряд экспериментальных исследований, согласно которым вос-
произведение слов происходит по группам, отражающим категориальную
упорядоченность ограниченного числа единиц. При этом Мэндлер выска-
зывает мысль, что иерархическая система организации характерна для
хранения единиц в долговременной памяти; она складывается иод непо-
-Средственпым влиянием принципа частотности, в соответствии с которым
упорными категориями иерархии становятся категории чаще всего исполь-
зуемые, в то время как редко функционирующие категории могут выпа-
дать из памяти, что ведет к перераспределению единиц, объединявшихся
ими, между более устойчивыми категориями. Последнее свидетельствует
о постоянном реконструировании лексикона, о непрерывной реорганизации
«ментальной организации» (Op. cit., р. 111—114).
Мэндлер полагает также, что с точки зрения рассматриваемой им мо-
дели, две единицы оказываются синонимичными, если они занимают смеж-
ные или идентичные позиции в организационной структуре, а значение
слова может быть определено как его место в иерархии, хотя отсюда вов-
се не следует, что понятие значения таким образом полностью описыва-
ется. Установлению места слова в иерархии способствует контекст, на-
правляющий программу войска, благодаря тому что общее семантическое
пространство, к которому относится слово, оказывается очерченным. От-
метив, что под семантическим пространством понимается то же, что у
Поллио (см. выше 1.3), Мэндлер подчеркивает, что он не считает нужным
разграничивать асссниаз.’.вные связи слов и связи опосредствующих зна-
чений, поскольку группировка тех и других — проявление одной и той же
категориальной системы. Сказать, что два слова принадлежат к одному
участку категориальной иерархии, равнозначно указанию иа то, что эти
'ЗДова категоризованы в соответствии с некоторым критерием, известным
«И неизвестным экспериментатору. На этом же основании Мэндлер воз-
29
ражает против разграничения понятий ассоциативной и категориальной
группировок.
Что касается ассоциативных процессов, то, по мнению Мэндлера, они
могут использоваться как «индексы или симптомы глубинной структуры»
(Op. cit., р. 111). Исследование ассоциаций помогает выявлению места в
некоторой организационной структуре и установлению связей (или путей),
которые ведут от одной единицы к другой. Высокий показатель вероят-
ности того, что А вызовет Б в качестве ассоциата, свидетельствует о том,
что эти две единицы расположены близко друг к другу в организацион-
ной иерархии. Чем больше расстояние между двумя единицами, тем ни-
же вероятность установления ассоциативной связи между ними и тем
больше времени уйдет на реакцию, если связь будет установлена, посколь-
ку для этого понадобится переход (или ряд переходов) через категории
вышестоящих уровней. Не трудно заметить сходство этих рассуждений с
выводами Диза по результатам исследования Баусфилда (см. выше 1.2).
Сочетание иерархической организации лексикона с ли-
нейной разверткой прослеживается также в работах Л. Са-
лаи с сотрудниками (Szalay and Brent, 1967; Szalay and Bry-
son, 1973; Szalay and Maday, 1973). Анализ ассоциативных
реакций используется этими авторами как средство карти-
рования «когнитивной организации» с целью установления
сходства и различий в «субъективной культуре» носителей
разных языков или различных социальных групп носителей
одного и того же языка. Когнитивная организация тракту-
ется как система, представляющая собой сложную взаимо-
связь тем, которые варьируются по значению, важности и
взаимосвязанности. Наиболее тесно связанные темы могут
группироваться в сегменты более высокого порядка — до-
минанты. Иерархия доминант отражает вертикальную орга-
низацию системы, а основным параметром ее горизонтальной
организации является близость, детерминированная сходст-
вом психологических значений слов, которая описывается
другими авторами через группировку, связанность, взаимо-
связанность, подобие или категоризацию когнитивных еди-
ниц.
Салаи считает психологическое значение слова многокомпонентным.
Так, например, в обиходе слово drug (лекарство) для того или иного субъ-
екта включает элементы зрительных образов (белый порошок, тз^-етка),
ситуации использования референта этого слова (головная боль), аффек-
тивные реакции (горький вкус, неприязнь), знание цели использования
соответствующего объекта (восстановление хорошего самочувствия). При
этом уровень актуальности образных, когнитивных и оценочных элемен-
тов для разных субъектов варьируется. В холе анализа субъективной куль-
туры в центре внимания находится специфичное для той или иной груп-
пы лютей соотношение таких элементов с характерным для этой группы
распределением уровней актуальности отдельных элементов значения.
При исследовании организации психологических значе-
ний Салаи исходит из мнения Дж. Миллера (Miller, 1967,
р. 43) о том, что лексикон, составленный для целей линг-
вистического описания, и психологический лексикон в голо-
ве человека, или его «когнитивная организация», базируют-
30
,ся на фундаментально различных принципах упорядочения.
В отличие от искусственно созданных словарей, где слова
добычно располагаются в алфавитном порядке, единицы ког-
нитивной организации формируют сети, в основе которых
.лежит общность психологических значений слов, варьирую-
щихся для разных групп людей. Так, для одного человека
(например, для священника) слова drug (не только лскар-
ство, но и наркотик) и hell (ад) могут иметь общее психо-
логическое значение и поэтому они окажутся тесно связан-
ными, в то время как для другого (например, для наркома-
на) наиболее тесно связанными будут слова drug и heaven
(небеса) (ср.: НАРКОТИК — ад; НАРКОТИК — рай). Свя-
ЗИ такого рода определяют группировку элементарных зна-
чений в семантические доминанты и регулируют связи меж-
ду последними, а выявление связей между значимыми эле-
ментами ведет к картированию когнитивной организации.
, В целях такого картирования используется разработанный Салаи ме-
тод анализа ассоциативных реакций, полученных в ходе продолженного
.ассоциативного эксперимента (чтобы избежать цепочки ассоциаций, испы-
туемым предлагается в течение одной минуты записать в прочерках после
многократно повторенного исходного слова все возможные реакции, кото-
рые всплывают в памяти в связи со словом-стимулом). Опираясь па пред-
-ставление о том, что появление вербальных ассоциаций опосредуется де-
.додированием значения исходного слова или некоторой имплицитной реак-
цией, Салаи далее-группирует ассоциаты по общности элементарных зна-
чений, обусловивших их связь со словом-стимулом. Результаты качествен-
ного и количественного анализа таких групп получают отображение че-
рез семантографы, позволяющие прослеживать факты сходства и расхож-
дений в степени рельефности тех или иных элементарных значений для
исследуемых групп испытуемых.
Следует отметать, что принцип иерархической организа-
ции единиц лексикона (системы в целом или репрезентирую-
щих значение слова семантических составляющих) в той или
..иной мере учитывается авторами всех известных нам кон-
цепций. Высказывается мнение о том, что память человека
(в том числе лексическая, вербальная память) должна быть
организована по иерархическому принципу, чтобы имелась
возможность вписывать новую информацию в соответствую-
щие места имеющейся системы (см., например, Kurcz, 1978,
>р. 49). Иерархически построенные кодовые деревья приняты
в моделях восприятия и памяти (см., например, Грановская,
1974). Г. А. Аминев на основе изучения вероятностных ха-
рактеристик некоторых психофизиологических функций, свя-
занных с центральными механизмами речи, разрабатывает
гипотезу иерархической организации межсловесных связей.
Согласно этой гипотезе, словесные центры соединяются при
Помощи нейронов связи первого порядка, которые в свою
очередь могут быть синтезированы посредством нейронов
связи второго порядка и т. д., вследствие чего иерархичес-
кая система нейронов связи представляет собой линейную
31
многоэтажную систему (Аминев, 1972, с. 135). Однако Ами-
нев признает, что для объяснения сложных процессов речи
категория иерархических ассоциативных связей не является
достаточной.
Основаниями для критики иерархической модели орга-
низации памяти служат результаты некоторых эксперимен-
тальных исследований. Так, Л. Рипе с соавторами (Rips et
al., 1973) установили, что категории «высшего» и «низшего»
порядка чаще всего находятся в отношениях типа семанти-
ческой близости, чем иерархического подчинения. По данным
С. Филленбаума и А. Рапопорта (Fillenbaum and Rapoport,
1971), иерархическому описанию поддаются не все области
лексикона. К этому можно добавить, что иерархия предпо-
лагает наличие единой вершины, под которую последова-
тельно подводятся подструктуры нижележащих уровней. Как
показало наше исследование, общая структура лексикона
скорее может быть описана как гетерархия, или некоторое
множество иерархий, вершины которых входят в наиболее
активную часть лексикона — его «ядро» (см. обсуждение
проблемы ядра лексикона в 4.4).
1.6. Развитие интереса ученых к проблеме организации
лексикона и разнообразие подходов к ее исследованию
хорошо прослеживаются благодаря обобщающей работе Дж.
Миллера (Miller, 1969b).
В связи с рассмотрением проблемы организации лекси-
ческой памяти Миллер анализирует шесть самостоятельных,
но не взаимоисключающих гипотез, которые могут, по его
мнению, оказаться попросту разными аспектами очень слож-
ного процесса или даже разными стратегиями, используемы-
ми испытуемыми для облегчения задачи запоминания нового
материала. Каждая из этих гипотез обсуждается Миллером
с точки зрения того, насколько она способна объяснить уста-
новленное экспериментами явление направленности свобод-
ных ассоциаций, их асимметрию. Например, исходное слово
BLACK (ЧЕРНЫЙ) чаще вызывает ассоциат white (белый),
чем наоборот. Разбор каждой очередной гипотезы ведется
сначала в связи с отношением включения в класс, затем —
с отношением «часть — целое», при этом считается аксио-
мой, что каждое из этих отношений составляет в равной ме-
ре обязательную часть лексической информации, которую
любой носитель языка должен знать (например, частью зна-
чения слова collie является знание того, что колли —собаки,
а собаки — животные, и т. д.).
Согласно первой из рассматриваемых Миллером гипотез, сила ассо-
циативной связи определяется исключительно частотой совместной встре-
чаемости исходного слова и ассоциата. Вторая гипотеза предполагает, что
установление ассоциативной связи между словами опосредуется общ-
32
референта, для обозначения которого эти слова используются. По
третьей гипотезе слово-стимул вызывает мысленный образ, который всег-
сказывается определенным, специфичным. Четвертая гипотеза отражает
более структурный подход, она размещает слова на ветвях обширного так-
^нцмического дерева. Если признать, что носитель языка усваивает такую
древовидную структуру, то по меньшей мере часть понимания слова оп-
ределяется знанием его местонахождения в таксономии. Структура лекси-
кона' может также быть охарактеризована с помощью семантических мар-
керов; с этой точки зрения пятая гипотеза рассматривает каждую едини-
цу лексикона как включающую ряд абстрактных семантических призна-
ков, которые отграничивают ее значение от значений других единиц. Мар-
керы'некоторых слов составляют граф, подобный таксономическому дере-
ву, однако на ветвях гипотетического дерева располагают слова, а мар-
керы представляют собой абстрактные понятия; креме того семантичес-
кие. цризнаки не обязательно должны увязываться в ветвящуюся струк-
туру. Шестая гипотеза исходит из того факта, что исходное слово н ассо-
цйат "обычно могут быть объединены через простое предикативное отно-
шение (например, A COLLIE is a dog (КОЛЛИ -- собака); A DOG is an
animal (СОБАКА — животное), в таком случае is а оказывается связкой,
которая ассоциативно объединяет эти слова).
С позиций этих шести гипотез лексическая память вы-
глядит как: 1) хранилище реакций — слов и клише, упорядо-
ченных па основании экологической смежности; 2) перечень
ассоциативных пар — ассоциаций между референтами и их
именами, в основе своей независимых, но связанных благо-
даря тому, что один и тот же объект может получать не-
сколько названий; 3) картинная галерея мысленных обра-
зов, сопровождаемых ассоциируемыми с ними именами и
организованных по принципу сходства представлений; 4) так-
сономическое дерево с определенным местом для каждого
слова; 5) детальный каталог с пересекающимися отсылками,
содержащий абстрактные семантические понятия, определен-
ные'наборы которых репрезентируются словами; 6) часть
устройства для порождения предложений. Рассмотрев каж-
дую из этих гипотез в связи с проблемой асимметрии ассо-
циаций, Миллер приходит к выводу, что только предикатная
гвнютеза объясняет направленность ассоциаций в обоих ис-
следовавшихся случаях — при наличии отношений включе-
ния' в класс и «часть — целое», откуда вытекает, что лекси-
ческая память организована так, чтобы способствовать пост-
роению конструкций типа X is a Y; X has a Z.
Неоднократно подчеркивая, что лексикон человека должен быть упо-
рядочен в целях коммуникации, Миллер полагает, что лексическая намять
включает по меньшей мере два вида единиц: единицы, способные обозна-
гемы высказываний, и единицы, предназначенные для использования
предикатов. При этом следует допустить, что предикаты предон-
Двделяют некоторую организацию имен так же, как is а предполагает от-
ДИ^ниё включения, a has а — отношение «целое — часть». Завершает
ИрЯЛу-Миллера высказывание о том, что, по его личному убеждению,
•►•объяснения организации лексикона требуется некоторое сочетание ги-
яВЗЫ, .семантических маркеров с предикатной гипотезой. В то же время
‘ДРВлер не исключает вероятности функционирования и других принципов
•яРядоченности единиц лексикона, признавая тем самым возможность
ЯРаказ 830 33
разностороннего подхода к описанию многогранной структуры лексичес-
кой памяти человека.
Анализ тех же шести гипотез, но с опорой на данные
афазии, содержится в работе Т. В. Ахутиной (Г981), где де-
лается вывод, что «все шесть соответствующих принципов
организации представлены в механизме языковой способ-
ности человека. Однако одни из них занимают периферийное
место, другие — центральное» (Там же, с. 9). Сфера дей-
ствия первого принципа — частоты следования — ограниче-
на автоматизированной рядовой речью, к которой относятся
порядковый счет, перечисление месяцев, дней недели, хоро-
шо упорядоченные стереотипы. Период действия второго
принципа и объединения по общности референтов (сонаиме-
новапия), по всей видимости, ограничен детским возрастом,
он сменяется другими принципами по мере развития семан-
тической системы индивида. Третий принцип — мысленных
образов — распространяется лишь на часть словаря (наиме-
нования конкретных объектов), при этом образы могут быть
обобщенными, образами — эталонами. Четвертая и пятая
гипотезы — ветвления и семантических маркеров — также
подтверждаются данными афазии, но последняя из них имеет
большую объяснительную силу. Что касается шестого —
предикатного — принципа, то его реальность обнаружива-
ется при анализе синтагматической организации словаря.
Обсуждавшиеся шесть гипотез касаются принципов упо-
рядочения лексикона по линии значений слов. Опираясь на
ряд публикаций по данным афазии, Ахутина отмечает, что
наряду с многообразием способов записи в памяти человека
значений слов имеет место и разнообразие способов записи
формы слова, представленной как моторная, акустическая
и зрительная энграммы. Это положение является весьма
важным, поскольку фактически названы основания для свя-
зи между единицами лексикона, не учитываемые Миллером
и другими исследователями «субъективного лексикона», под
которым чаще всего разумеют организацию исключительно
единиц плана содержания (ср. оговорку, сделанную Уэлсом
и Маршаллом, а также другие обсуждаемые в этой главе
гипотезы). Можно добавить, что А. Р. Лурия неоднократно
останавливается на примерах связи слов по их морфологи-
ческим признакам, когда у больных вместо слова «учитель-
ница» всплывают слова «фельдшерица», «родственница» и
т. п. (Лурия, 1974, с. 112). Таким образом, взятые в сово-
купности, результаты исследований в области афазиологии
дают широкую картину связей между славами, а это поз-
воляет заключить, что «слово само представляет многомер-
ную систему, за которой стоит целая сеть связей, выделяе-
мых по различным признакам» (Лурия, 1974, с. 11). В чис-
34
таких связей А. Р. Лурия называет и не упоминавшиеся
выше ситуационные связи (Лурия, 1.979, с. 95—>100).
1.7. Многообразие принципов организации лексикона
человека было также подтверждено экспериментальным ис-
следованием С. Филлснбаума и А. Рапопорта (Fillenbaum
and Rapoport, 1971), исходивших из представления о том, что
значение лексической единицы является функцией опреде-
ленного набора связей и отношений между ней и другими
единицами лексикона.
В отличие от Поллио (см. выше разд. 1.3), авторы имели в виду ус-
тановление места лексической единицы в пространстве не коннотативного,
а денотативного значения. При этом Фнлленбаум и Рапопорт стремились
исследовать различные по своему характеру области лексикона: состоя-
щие из ограниченного числа единиц и носящие характер открытых клас-
сов, четко структурированные и слабо поддающиеся анализу. К тому же
они были заинтересованы в сопоставлении результатов своего экспери-
мента с публикациями других авторов. Это обусловило выбор таких групп
слов, как местоимения, предлоги, союзы, цветообозначеиия, термины род-
ства, названия эмоций, глаголы обладания и суждения, слова оценочного
характера. Испытуемым предлагалось дать субъективные суждения о бли-
зости значений элементов той или иной области лексикона, при этом кри-
терии оценки близости значения слов не были заранее оговорены. Для
установления глубинных характеристик значения исследуемых слов, ле-
жащих за даваемыми в ходе эксперимента оценками, и для выявления
природы организации единиц лексикона полученный материал был под-
вергнут многомерному шкалированию и кластерному анализу. Поиск под-
ходящего способа репрезентации структурных характеристик изучаемых
групп привел авторов к использованию линейных графов и деревьев.
Проведенное исследование дало Филленбауму и Рапо-
порту основания для общего вывода, что организация раз-
ных сфер лексикона может обусловливаться разными прин-
ципами и поддается интерпретации с помощью разнотип-
ных моделей. Некоторые области лексикона требуют исполь-
зования ряда координат, в других четко вырисовывается
иерархическая структура, в третьих прослеживается слож-
ная организация с таксономическим компонентом, встроен-
ным в систему пересекающихся отсылок, и т. д. При этом у
авторов сложилось впечатление, что слабо очерченные облас-
ти лексикона могут характеризоваться сложным переплете-
нием ряда структур, в то в-ремя как в отдельных секторах
таких областей можно ожидать проявления разнообразных
ЯрЮстых структур.
tg? Как отмечают Фнлленбаум и Рапопорт, в настоящее
Муя очень мало известно о том, что именно лежит в ос-
организации лексикона; что определяет число призна-
'ЯЛ по которым могут отграничиваться друг от друга лекси-
Яккие единицы; от чего зависит глубина иерархического
«И?ва, на котором располагаются единицы лексикона, и
-ЯЙ* Сами авторы могут сказать немногое в дополнение к
ЖРУ> что они соглашаются с мнением Дж. Диза о .зависи-
35
мости семантической интерпретации не от одной, а от ряда
когнитивных структур. Они также подчеркивают, что семан-
тическая теория должна характеризовать лексические еди-
ницы в согласии с принципами организации субъективного
лексикона, а обнаружение последних требует применения
ряда экспериментальных методик.
Ценность исследования Филленбаума и Рапопорта преж-
де всего в том, что оно показало тщетность попыток свести
организацию лексикона человека к какой-то единой модели.
Весьма важным представляется и их высказывание о необ-
ходимости учета специфики организации субъективного лек-
сикона при разработке семантической теории. Это значи-
тельный таг вперед по сравнению с попытками попросту
иллюстрировать положения семантической теории выбороч-
но взятыми результатами экспериментальных исследований
(см. выше разд. 1.4).
1..8. Различные аспекты развития лексикона в онтогене-
зе раскрываются в ряде работ, прямо или косвенно связан-
ных с обсуждаемой проблемой. В это число прежде всего
входят фундаментальные труды Л. С. Выготского (1956) и
Ж. Пиаже (1969), во многом определившие направления
теоретических и экспериментальных исследований развития
интеллекта. В качестве примера целенаправленного экспе-
риментального изучения путей становления субъективного
лексикона мы рассмотрим работу И. Энглина (Anglin, 1970).
В основу этого исследования легли следующие исходные положения.
А. Слова являются средствами организации опыта, который нужно
сделать доступным для осмысления. Каждое слово обобщает, служа бла-
годаря этому названием некоторой категории; слово является воплощени-
ем понятия, поэтому существенные признаки понятия могут рассматри-
ваться в качестве признаков слов. Набор ассоциируемых со словом при-
знаков репрезентирует большую часть его значения. Общность значения
двух слов зависит от пересечения соответствующих наборов признаков.
При этом под признаками понимается нечто сходное с семантическими
маркерами Катца, однако Катц подчеркивает различия между семантичес-
кими маркерами и словами, а Энглин концентрирует внимание на их сход-
стве, поскольку, по его мнению, и слова, и их признаки могут описывать-
ся с помощью категорий, названия которых имеются в естественном язы-
ке. Поэтому он не делает качественного различия между внутренней ре-
презентацией слов и признаков.
Б. Основную базу для организации лексикона составляют иерархи-
ческие или Iнезлоподобные отношения между признаками слов. Отноше-
ния включения в класс типа «колли — собака, собака — животное» и т. д.
могут репрезентироваться древовидными структурами, на корнях которых
находятся слова: каждый из узлов таких деревьев по мере приближения
к вершине обозначает все более общие классы (признаки).
В. Значение слова извлекается из предложений, в которых оно вос-
принимается, поэтому общность значений двух слов определяется общ-
ностью позиций, которые эти слова занимают в предложениях. В случаях,
когда один и тот же предикат может относиться к двум словам, взаимо-
заменимым в составе одного и того же суждения, этот предикат считает-
ся описывающим признак, общий для обоих слов.
36
Г. Классы эквивалентности, которые оказываются результатами про-
цессов генерализации и дифференциации, должны отвечать социально
признанным классам, названия которых имеются в естественном языке.
В ходе своего исследования Энглин использовал: а)
предложенный Дж. Миллером (Miller, 1969а) метод сорти-
ровки, при котором испытуемым даются карточки со слова-
ми, сопровождаемыми дефинициями их значений; требуется
разложить эти карточки по группам в соответствии с общ-
ностью значений слов (количество групп не ограничивает-
ся); б) эксперимент па свободное воспроизведение исследуе-
мых слов; в) выполнение задания дать дискретные свобод-
ные ассоциации; г) заполнение пропусков в предложениях;
д) заучивание и последующее воспроизведение в письменной
форме групп слов с опорой на пространственные схемы, од-
ни из которых отражали категориальные и иерархические
отношения между словами, а другие объединяли бессистем-
но расположенные слова; е) вербализацию испытуемыми об-
щих для пары слов признаков через приписывание этим сло-
вам общего предиката.
В основе анализа экспериментальных материалов лежа-
ло понятие близости значений слов, устанавливавшееся по
числу испытуемых, поместивших два слова в одну группу
при сортировке или объединивших эти слова при свободном
воспроизведении; по количеству полученных на эти слова об-
щих свободных ассоциативных реакций; по числу испытуе-
мых, которые поместили эти слова в одну и ту же позицию
при заполнении пропусков в предложении или смогли верба-
лизовать отношения эквивалентности между ними, а также
по степени легкости запоминания этих слов в зависимости
от предъявления их в смежных позициях на пространствен-
ной схеме. При этом в качестве эквивалентных рассматри-
вались любые два слова, имеющие общий признак пли на-
бор общих признаков, а абстрактность трактовалась как
полностью относительное понятие, т. е в иерархии призна-
ков каждый признак может оказаться абстрактным по от-
ношению к одним, но в то же время быть конкретным по
отношению к другим признакам (например, dog является
абстрактным по отношению к collie, но конкретным ио срав-
нению с animal).
Исходя из предположения, что наиболее важные нити лексической
сети человека с развитой речевой способностью детерминируются призна-
ками, общими для групп слов, Энглин путем сопоставления эксперимент.,
тальных данных, полученных от разных возрастных групп испытуемых;
пытался выяснить, становятся ли отношения между словами болёё абст-
рактными с изменением возраста испытуемых: Рассматривая две противо-
положные точки зрения, одна из которых трактует развитие, значения сло-
ва как процесс генерализации (ребенок сначала устанавливает общность
ме:йду маленькими группами слов и лишь позже вйдит подобие широких
кланов слов), а .'другая — Как процесс дифференциации' (ребенок первой
начально усваивает самые общие семантические различия между словами,
37
возможно, на уровне семантических коррелятов частей речи, в то время
как сужение дистрибутивных классов оказывается результатом последо-
вательного добавления семантических маркеров), Энглин считает их из-
лишне упрощенными и неоднократно подчеркивает, что генерализация и
дифференциация осуществляются параллельно. Однако результаты иссле-
дования Энглина свидетельствуют в пользу первой гипотезы, совпадая
тем самым с выводами Л. С. Выготского (1956), детально проследивше-
го развитие понятий по линии от конкретного к абстрактному (ср. также
материалы исследования М. М. Кольцовой, 1967).
Большая часть парадигматически связанных пар слов,
полученных в проведенных экспериментах, представляется
Энглину отвечающей идее «общих предикатов», не только
теоретически увязывающей все три основные эксперимен-
тальные ситуации (сортировку, свободное воспроизведение и
ассоциативный тест), но и приближающей их к продуциро-
ванию предложений. Такой вывод согласуется с мнением
Дж. Миллера, что лексикон должен быть организован в ин-
тересах коммуникации и что предикатная гипотеза имеет
первостепенное значение для исследования лексической па-
мяти. Однако Миллер концентрирует внимание на том, что
ассоциат может входить в предикат, приложимый к стиму-
лу, а Энглин говорит об ассоциатах, имеющих общие со
стимулом потенциальные предикаты.
Интересно отметить, что полученные данные заставили
Энглина пересмотреть или поставить под сомнение некото-
рые исходные положения его исследования. Так, оказалось,
что наивной была надежда выявить признаки слов через на-
боры категорий, которые лежат в основе эквивалентности ис-
следовавшихся <20 слов. Испытуемые способны усмотреть
бесчисленное множество отношений эквивалентности, в со-
ответствии с которыми слова представляются им сходными
друг с другом. Фактически в любом случае, когда два слова
могут осмысленно сочетаться с одним и тем же предикатом,
они являются эквивалентными по некоторому параметру.
Однако это не означает, что следует полностью отказаться
от идеи признаков слов. Если рассматривать наборы гнез-
довых признаков в качестве опорных структур, вокруг ко-
торых концентрируются многочисленные производные отно-
шения, то теоретическое дерево иерархически организован-
ных признаков окажется полезной абстракцией. Энглин об-
ращает также внимание на основополагающий характер от-
ношения включения: многие отношения эквивалентности оп-
ределяются опосредованно через гнездовые категории (на-
пример, слова «мальчики» и «лошади» объединяются испы-
туемыми через предикаты «едят», «ходят», «имеют иоги»,
«являются теплокровными» >и т. п. только потому, что оба
этих слова обозначают объекты из категории «живые суще-
ства»), Отсюда следует, что признак слова — это сложная
вербальная единица, характеризующаяся подобно слову мно-
38
1|ообразием свойств. Несколько изменилась также трактовка
Энглином понятия абстрактности: относительный характер
степени абстрактности слов может быть установлен даже в
случаях, когда их признаки ие подводятся иод общую гнез-
довую (категорию.
П. При сопоставительном анализе результатов основных
использованных им экспериментальных методик Энглин при-
щел к выводу, что каждая из них является полезным сред-
ством исследования и описания «архитектуры сети когни-
тивных возможностей» человека, при этом ассоциативный
тест вскрывает четкую структуру тесной связи слов в семан-
тическом пространстве, свободное воспроизведение и сорти-
ровка обеспечивают более широкий взгляд на это простран-
ство, а взятые в совокупности они дают весьма полную кар-
тину субъективной организации (т. е. организации лексико-
на индивида). Важным представляется и заключение Энгли-
на, что несмотря на различия в экспериментальных зада-
ниях, их выполнение активировало один и тот же тип когни-
тивных способностей испытуемых (Op. cit., р. 96—.98).
В рецензии на книгу Энглина Дж. Кэрролл (Carroll,
1972) справедливо указывает, что результаты обсуждаемо-
го исследования привели к постановке ряда вопросов, для
ответа на которые необходимо прежде всего выяснить, что
такое субъективный лексикон, и построить адекватную тео-
рию его развития. В ходе разработки теоретических основ ис-
следования лексикона человека (см. гл. 2) мы, в частности,
покажем, что основания для эквивалентности двух слов с
позиций индивидуального сознания не всегда могут быть
вербализованы. Это объясняет неудачу попытки Энглина
выявить признаки слов через классы эквивалентности, наз-
вания которых имеются в языке испытуемых.
В числе работ, имеющих непосредственное отношение к проблеме
становления субъективного лексикона, следует упомянуть о публикациях
широкого круга отечественных и зарубежных авторов, исследующих раз-
витие значения слова у ребенка. Не имея возможности более подробно
останавливаться на этом вопросе, ограничимся указанием на то, что мно-
гие из них подчеркивают важность учета особенностей становления лек-
сикона и развития познавательных способностей детей при построении мо-
яе»и организации лексикона (см., например, Parisi and Antinucci, 1970,
р. 200).
1.9. Попытку построить теорию организации лексикона
С указанием на специфику его единиц мы находим в рабо-
трх Дж. Киша (Kiss, 1968, 1969а, 1969b, 1973; Kiss et al.,
1973). По мнению Киша, субъективный лексикон должен
Ё:матриваться как система поиска информации, основан-
ии стохастических процессах. Такое понимание специ-
и лексикона противопоставляется системе пассивного
^ранения информации и заостряет внимание на необходимос-
39
тн учета вероятностных законов переработки информации
человеком.
Киш полагает, что лексикон человека содержит репрезентации слов
(или более крупных вербальных единиц), которые могут иметь более од-
ного значения, но каждое из значений того или иного слова однозначно
связано с понятием. С точки зрения структуры лексикон представляет со-
бой сеть репрезентаций слов и связей между ними. Каждое слово (точ-
нее — его репрезентация) может иметь изменяющийся уровень активнос-
ти, а связи передают активность от одного слова к другому, при этом
каждое слово способно хранить суммарную активность, полученную в те-
чение некоторого промежутка времени, поэтому функционирование лек-
сикона наилучшим образом может быть описано с помощью стохастичес-
кого ветвящегося процесса (в любой момент некоторое слово может стать
доступным для линейного перерабатывающего устройства с вероятностью,
определяемой через отношение накопленной активности этого слова к сум-
ме всех таких активностей в лексиконе). Переходы, обусловленные изме-
нениями в уровнях активности слов, могут быть вызваны: 1) информаци-
ей, получаемой с помощью механизмов восприятия через органы чувств;
2) мыслительными-процессами; 3) внутренним взаимовлиянием единнцлек-
сикоиа — когда состояние системы изменяется при отсутствии каких-ли-
бо внешних воздействий. Киш акцентирует внимание на третьем типе пе-
реходов, называя их «свободными»; он считает эти переходы стохастичес-
кими по своей природе, так как активность одного слова с некоторой ве-
роятностью может быть изменена под влиянием активности другого сло-
ва. Рассматривая возможные физиологические механизмы функциониро-
вания такой системы, Киш полагает, что репрезентации слов представляют
собой наборы нейронов. Поскольку нейроны связаны друг с другом по-
средством синапсов, возбуждение одного нейрона с определенной вероят-
ностью оказывает влияние на состояние ряда других нейронов (Kiss,
1960а, 1969b). j
Предъявление слова-стимула в ходе свободного ассоциативного экс-
перимента задает некоторый уровень активности репрезентации одного
или нескольких слов в системе. Это служит толчком для изменения состоя-
ний системы через свободные переходы, благодаря которым .меняются уров-
ни активности элементов системы. В какой-то момент испытуемый совер-
шает выбор ассоциата, определяемый относительной активностью послед-
него. Поскольку принятие решения носит стохастический характер, выбор
ассоциата варьируется. Когда эксперимент проводится с группой испытуе-
мых, целый ряд факторов определяет различия в базисной структуре пе-
реходов между элементами системы, однако несмотря на это обнаружи-
вается большое сходство в ассоциативных сетях разных испытуемых
(Kiss, 1969а). Для описания таких сетей может использоваться теорич
графов, с точки зрения которой вербальная сеть представляет собой на-
правленный линейный граф (Kiss, 1968).
Для получения обширной ассоциативной сети Киш и его
сотрудники из Эдинбургского университета провели свобод-
ный ассоциативный эксперимент, па первом этапе которого
были получены реакции на 1000 слов-стимулов; на втором
этапе эти реакции фигурировали в качестве стимулов, а выз-
ванные ими реакции также использовались как стимулы на
третьем этапе эксперимента. В результате такого наращива-
ния ассоциативной сети были собраны ассоциаты на 8400
слов-стимулов (каждое слово предъявлялось 100 испытуе-
мым, каждый из них дал реакции на 100 слов). После ма-
шинной обработки материал экспериментов образовал Дак
40
называемый «Ассоциативный тезаурус английского языка»
(Kiss et al., 1972, далее — АТ), позволяющий судить о
характере и силе как исходящих (от стимулов к реакциям),
так и входящих (от реакций к стимулам) связей между ис-
следовавшимися словами. Наличие в АТ сведений об обрат-
ных ассоциациях, т. е. о том, какие слова могут вызвать не-
которое слово в качестве реакции, дает принципиально но-
иук> информацию об ассоциативной структуре лексикона (см.
-более подробное описание АТ в работах: Kiss, 1973; Kiss et
л1., 1973).
Составители АТ использовали ряд программ для машин-
ной обработки материалов с различными целями. Основны-
ми направлениями исследования явились локальный и гло-
-бальный анализ организации лексикона. Теоретическую ба-
зу такого анализа Киш видит в разграничении понятий по-
добия (similarity) и связанности (relevance), последнее из
них дает информацию о том, «что бывает с чем», а знание
таких связей составляет основу наших знаний о мире (Kiss,
.1973, р. 5—6).
По мнению Киша, словесные ассоциации являются не-
посредственными индикаторами степени связанности между
.понятиями, поэтому ассоциативные нормы и, в частности, АТ
.дают наглядное картирование данного аспекта наших зна-
ний. Важность такой информации несомненна, ибо ассоциа-
тивная организация является аспектом многих, если не всех,
познавательных процессов, требующих использования субъ-
ективного лексикона. Однако Киш неоднократно подчерки-
вает, что ассоциативная организация составляет лишь одну
из сторон семантической структуры лексикона, а для описа-
ния других аспектов его организации требуется применение
иных методов исследования (Kiss et al., 1973).
Разрабатываемая Кишем модель лексикона представля-
ется весьма интересной. Автор исходит из данных современ-
ной нейрофизиологии (ср. высказывания о роли нейронных
соединений и о характере их функционирования в работе:
Прнбрам, 1975) и строит модель лексикона с учетом веро-
ятностных закономерностей работы памяти человека; под-
вергаемый анализу фактический материал представляет со-
'бой наиболее полный из всех имеющихся ныне наборов
ассоциативных реакций на широкий круг исходных слов; ана-
лизу подвергаются не только прямые (исходящие), но и об-
ратные (входящие) ассоциативные связи. Работа коллекти-
ва исследователей с использованием программ машинной
•обработки материалов открывает большие возможности для
получения статистически достоверных фактов при решении
ряда задач. Киш придает большое значение исследованию
ассоциативной организации лексикона, но не преувеличива-
ет роли ассоциативной структуры, считает ее лишь одной из
41
сторон организации лексикона. В то же время следует отмс-
тить некоторую слабость лингвистического аспекта анализа
материалов АТ. Нельзя, в частности, согласиться с тем, что
результаты глобального анализа экспериментальных мате-
риалов квалифицируются как «семантические поля» (речь в
таких случаях должна идти об ассоциативных полях: поня-
тие семантического поля является более узким).
Идея ассоциативной (вербальной) сети широко исполь-
зуется и в других исследованиях, опа фигурировала еще в
работах (Cofer and Foley, 1942; Deese, 1965); разные реали-
зации этой идеи имеют место, например, в публикациях
(Аминев, 1972; Линдсей и Норман, 1974; Норман, 1979; Ста-
ринен, 1966; Старинен и др., 1968а, 19686; Ушакова, 1979;
Anderson, 1976; Anderson and Bower, 1973; Norman and
Rumelhart, 1975; Nowakowski, 1977; Quillian, 1969 и т. д.).
Однако важно подчеркнуть, что в отличие от других иссле-
дований, в которых постулируется сетевой способ организа-
ции единиц в памяти человека, Киш не конструирует какой-
то участок сети, полагаясь на собственную интуицию, а де-
лает попытку выявить структуру обширной ассоциативной
сети носителя английского языка через непосредственное об-
ращение к информантам (в его эксперименте приняли учас-
тие около 9000 студентов-англичан). Представленные в АТ
фактические данные открывают богатые возможности для
исследования широкого круга проблем речевой способности
человека; некоторые из них будут обсуждаться ниже (см.
разд. 3.8; 4.4).
Общая идея ассоциативной сети по-разному реализует-
ся отдельными исследователями в зависимости от того, как
трактуется специфика увязываемых сетью единиц. Так, по
мнению Андерсона и Бауэра (Anderson and Bower, 1973),
слова могут взаимоассоциироваться только если соответст-
вующие им понятия входят в закодированные в памяти про-
позиции (по своему содержанию пропозиция передает неко-
торое утверждение об окружающем мире); с этой точки зре-
ния долговременная память человека представляет собой ог-
ромную сеть взаимопересекающихся пропозициональных де-
ревьев, каждое из которых включает некоторый набор узлов
памяти с помеченными связями. В более поздней работе
Андерсона (Anderson, 1976) каждый узел пропозициональ-
ной сети репрезентирует понятие (концепт). С таким узлом
соединены все связанные с концептом сведения, что прида-
ет пропозициональной сети свойство, которое Андерсон на-
зывает индексированием через понятие: если мы сможем
установить место понятия в системе памяти, то там же мы
найдем и все известные нам в этой связи сведения. В рабо-
тах Д. Нормана и его соавторов делается акцент на репре-
зентацию в сети действий (операций). Разграничивая спо-
42
собы представленности в памяти действий и понятий, Нор-
лан (1979) указывает, что понятия репрезентируются в-па-
мяти как структуры определенным образом направленного
разветвленного графа, узлы которого связаны друг с другом
фиксированными и определенным образом 'направленными
отношениями. Узлы, репрезентирующие действия, должны
обязательно обозначать отношения, которые ведут к специ-
фикации таких факторов, как деятель, место и объект дей-
ствия.
Независимо от названных (и прочих) вариаций, сете-
вые модели предполагают связь между всеми узлами сети —
когда от каждого узла системы можно осуществить переход
к любому другому узлу. Далее мы рассмотрим работу
Р. Аткинсона (1980), в которой идее полносвязной ассо-
циативной сети противостоит идея частично-связной сис-
темы, не предполагающей прямых связей между различны-
ми узлами.
1.1'0. Р. Аткинсон (1980) уточняет, что излагаемые им
идеи не являются теорией памяти: он ставил своей задачей
лишь разработку языка, предназначенного для построения
конкретных моделей памяти. Тем не менее, по свидетельст-
ву авторов вступительной статьи к обсуждаемой книге
(Ю. М. Забродина, В. П. Зинченко и Б. Ф. Ломова), Аткин-
сон дал в высшей степени интересное описание системы па-
мяти, которая в качестве базовой принята большинством ис-
следователей памяти. Для нас эта система интересна тем,
что она предназначена для объяснения процессов, связан-
ных с использованием накопленной информации (от восприя-
тия до понимания речи), а лексикон человека в нашей трак-
товке (см. гл. 2) представляет собой средство доступа к про-
дуктам переработки многогранного опыта взаимодействия
человека с окружающим его миром.
Самым фундаментальным конструктом в рассматривае-
мой им системе памяти Аткинсон называет признак. Упоря-
доченные наборы признаков, или значений параметров, с
помощью которых может репрезентироваться информация,
«составляют информационные коды, связываемые (ассоци-
ируемые) в структуры памяти. В зависимости от характера
используемых признаков Аткинсон разграничивает перцеп-
тивные коды, организуемые из мозаики сенсорной информа-
ции, н концептуальные коды, имеющие форму упорядочен-
ного списка концептуальных признаков, указывающих на
характер связей, которые формируются между данным кон-
цептом и другими концептами.
Перцептивный код трактуется как упорядоченный набор признаков,
который не содержит информации о референтах или значениях кодируе-
мых стимулов, но является достаточным для локализации стимула в п-мер-
43
ном пространстве, измерениями которого являются значения, принимаемые
во множестве ортогональных перцептивных признаков. Концептуальный
код, в свою очередь, представляет собой упорядоченный набор признаков,
определяющих точку в п'^мерном пространстве, измерениями которого яв-
ляется совокупность основных концептуальных характеристик. Признаки
в таком случае указывают на классы концептуальных отношений. Изме-
рения, характеризующие перцептивные и концептуальные коды, а также
некоторые дополнительные измерения важны для локализации каждой
структуры памяти, представленной в качестве точки в п”-мериом простран-
стве хранилища знаний и событий.
Коды и образуемые ими структуры памяти, репрезентирующие в'Си-
стеме памяти знания и события, перерабатываются в различных хранили-
щах, имеющих разнообразную внутреннюю структуру, обладающих раз-
ными параметрами сохранения и извлечения информации. Аткинсон выде-
ляет три основных компонента системы памяти: сенсорный регистр, крат-
ковременное хранилище и долговременное хранилище. Он допускает, .что
различные хранилища могут представлять собой разные фазы активации
одной и той же неврологической системы, а это согласуется с гипотезой
уровней переработки информации, в соответствии с которой информация
может преобразовываться в различные тины внутренних кодов.
Выделяемые Аткинсоном в рамках долговременного хранилища кон-
цептуальное хранилище и хранилище знаний и событий не соответствуют
подразделению памяти па семантическую и эпизодическую (Tulving. 1962.
1974): концептуальное хранилище обеспечивает быстрое взаимодействие
между перцептивными процессами н хранилищем знании и событий, оно
играет роль указателя в энциклопедии, организованного на основе как
физических, так н концептуальных элементов входа, благодаря чему воз-
можен быстрый доступ к сохраняемой информации (Аткинсон. 1980,
с. 353—354), Как только определен некоторый узел концептуального хра-
нилища, все связанные с ним коды становятся доступными для системы
(Там же, с. 301).
Локализованные в концептуальном хранилище узлы представляют со-
бой совокупность различных перцептивных кодов, соответствующих опре-
деленным концептуальным кодам, также входящим в эти узлы. При этом
синонимичные стимулы, имеющие различные перцептивные коты, связаны
с единым концептуальным кодом, а омографы и омонимы, имеющие иден-
тичные перцептивные коды, связаны с разными концептуальными кодами.
Общая структура концептуального хранилища такова, что «адрес» инфор-
мации, содержащейся в любом узле, определяется всеми признаками всех
находящихся в нем кодов. Структура памяти хранилища знаний и собы-
тий может иметь много различных вариантов внутренней организации, от-
ражающих связи между физическими референтами и/илн абстрактными
концептами, соответствующими данному событию или знанию.
Аткинсон указывает, что структуры памяти, представ-
ляющие аналогичную информацию, локализуются в местах,
имеющих близкие адреса, а одно и то же событие или зна-
ние может быть представлено в более чем одной структуре
памяти и посредством различных кодов. Структуры концеп-
туального хранилища развиваются во времени. По мере на-
копления опыта создается основа для заключений о тех клас-
сах концептуальных отношений, в которые могут входить те
или иные стимулы. Концептуальный код постепенно фор,;
мируемого нового узла представляет собой набор призна-
ков, отражающих, соответствующие заключения.
Отличие модели Аткинсона от многих других моделей
44
памяти состоит прежде всего в том, что он описывает долго-
временное хранилище памяти «ак частично-связную систе-
му* где не имеется прямых связей ни между кодами концеп-
туального хранилища и хранилища знаний, ни между раз-
личными узлами концептуального хранилища. Аткинсон по-
лагает, что прямые связи существуют только внутри неко-
торого узла концептуального хранилища или некоторой мис-
тической структуры хранилища знаний и событий. Следст-
вием концепции отдельных структур памяти является приз-
нание Аткинсоном многократности кодирования одной и той
же информации в памяти (ср. Kintsch, 1974, р. 78).
1.11. В конце 70-х гг. резко повысился интерес к особен-
ностям организации лексикона человека, что, в частности,
нашло отражение в тематике и материалах очередных Меж-
дународных психологических конгрессов.
Так, в программе XXI конгресса (Париж, 1976) был объявлен сим-
позиум «Семантические аспекты памяти»; в порядке подготовки к рабо-
те этого симпозиума был опубликован специальный выпуск журнала
Langages (1975, № 40 — Problemes de scinantique psychologique. См.
статьи: Deniiiere. 1975; Dubois, Й975; Lecocq et Maryniak. 1975; Le Ny,
1975 ii др.), а итоги работы симпозиума подведены в журнале Interna-
tional Journal of Psycholinguistics (1978, № 2—5. См. статьи: Denhiere and
.Dubois, 1978; Kintsch and Kintsch, 1978; Kurcz, 1978; Le Ny, 4978). XXII
Международный конгресс (Лейпциг. 1980) включал ряд симпозиумов и
тематических заседаний, имевших отношение к проблеме организации лек-
сикона, е о формирования в ходе когнитивного развития ребенка,- опери-
рования лексиконом при решении разного рода познавательных и комму-
никативных задач и т. д. (см.: XXII International Congress ... 1980). Во
вступительном слове Ф. Кликса, организатора симпозиума II «Познание п
память» (Klix, 1980) в числе вопросов, требующих обсуждения, были
названы и такие непосредственно связанные с исследованием лексикона
вопросы, как выяснение того, что увязывается в памяти с лексической еди-
ницей: концептуальные признаки или прототипы? Что представляет собой
прототип? Какой тип модели больше подходит для описания способа ре-
презентации концептуальной информации в памяти: признаковая пли сете-
вая? Как взаимосвязаны друг с другом и как взаимодействуют разные мо-
дели репрезентации знаний в памяти? К числу важных вопросов Кликс
отнес также вопрос о взаимосвязи между когнитивными компонентами и
языковыми единицами.
Ознакомление с материалами названных конгрессов и
другими зарубежными и отечественными публикациями поз-
воляет проследить ряд тенденций в исследовании проблем,
имеющих более или менее тесную связь с выявлением спе-
цифики единиц лексикона и принципов их организации. К
числу таких тенденций относится широкое признание того
факта, что речевые процессы, мышление, память, восприя-
тие* понимание переплетаются друг с другом как единая
^‘бласть познавательных процессов. На этом фоне значитель-
но повысился интерес к исследованию памяти человека, ко-
торая стала трактоваться не как статическая структура, а
45
как некоторый набор процессов (см.: Лурия, 1974; ср. также.
Denhiere and Dubois, 1978, р. 65).
При интенсивной разработке моделей памяти сетевым
моделям стали противопоставляться признаковые и теоре-
тико-множественные модели семантической памяти (см. об-
зоры и анализ таких моделей в работах: Клацкп, 1978; Шме-
лев А. Г., 1978; Denhiere, 1975; Denhiere and Dubois, 1978).
Делаются попытки сопоставить эти модели с точки зрения
их эффективности для описания структуры памяти, что при-
водит к противоречивым выводам: есть авторы, отдающие
предпочтение одной из моделей (см., например, Le Ny, 1978);
другие полагают, что модели признаков и модели графов не
следует противопоставлять, поскольку некоторые понятий-
ные определения и связи описываются с помощью признаков,
а некоторые — с помощью графов (Кликс, 1980, с. 40); ио
мнению третьих — ни одна из современных моделей не мо-
жет вполне адекватно описать многочисленные способы ис-
пользования хранящейся в долговременной памяти инфор-
мации, ее количество и организацию (Клацки, 1978, с. 162).
Одной из центральных проблем моделирования органи-
зации памяти человека признается проблема репрезентации
значения, которое стали представлять в форме пропозиций,
имеющих бинарную (субъектно-предикатную) или п-арную
реляционную структуру (ср. Anderson, 1976; Anderson and
Bower, 1973; Kintsch, 1974; Norman and Rumelhart, 1975).
В числе аргументов в пользу выбора пропозициональ-
ной формы репрезентации значения обычно называют необ-
ходимость оперирования способом описания значения, кото-
рый не зависит от специфики естественного языка и позво-
ляет сравнивать, объединять и координировать информацию,
получаемую как через язык, так и через перцепцию (Ander-
son and Bower, 1973, р. 152).
Продолжается также дискуссия о том, как кодируются
в памяти языковые и неязыковые знания.
Согласно гипотезе двойного кодирования (Paivio, 1978). имеются две
самостоятельные, но взаимосвязанные системы: система образов и вер-
бальная система. Согласно пропозициональному подходу, картина полу-
чает такую же семантическую интерпретацию, как и предложение: в обо-
их случаях семантическая репрезентация носит форму пропозиции (см.:
Anderson, 1976; Anderson and Bower, ,1973; Bierwisch, '1976; Clark, and
Chase, 1972; Norman and Rumelhari, 1975). При этом высказываются мне-
ния, что мысленные образы и пропозициональные репрезентации более
сходны, чем это принято считать (Kintsch, 1974, р. 6), и что семантичес-
кая структура образной и вербальной репрезентации тождественна на
уровне глубинной семантики (Петренко, 1978, с. 19; ср. также результаты
экспериментальных исследований: Петренко и др., 1978, с. 26; Петренко
и др., 1980, с. 34). Тем не .менее исследования в области межполушарной
асимметрии мозга показывают, что кодирование вербального материала
(его языковых характеристик) нарушается преимущественно при пора-
жении левого полушария, в то время как кодирование образной инфор-
46
т^ации — ПРИ поражении правого (Хомская, 1980, с. 117), а это< по
«сей видимости, говорит в пользу раздельного хранения языковых и пер-
дептивных знаний, хотя и не исключает возможности их координирования
д некотором более абстрактном коде.
По-новому вопрос о мысленных образах рассматривает-
ся в работе А. Н. Леонтьева (1979), где ставится задача ис-
следования проблемы построения в сознании индивида мно-
гомерного образа мира и выявления того, как функциони-
рует целостный образ мира, опосредуя деятельность челове-
ка в объективно реальном мире (см. развитие этого подхо-
да в работе: Смирнов С. Д., 1981). Необходимо особо под-
черкнуть, что такая постановка вопроса является логичес-
ким продолжением свойственного отечественной психоло-
гии и опирающегося на ленинскую теорию отражения дея-
тельностного подхода к анализу совокупности проблем «соз-
нание, мозг и внешний мир» (Ломов, 1979, с. 110), а «тео-
ретическое и экспериментальное обоснование активной дея-
тельностной природы психического образа является в настоя-
щее время одним из самых трудных участков борьбы за
марксистскую психологию» (Смирнов С. Д., 1981, с. 16).
Следует отметить, что наряду с обсуждением специфи-
ки репрезентации образной и вербальной информации дела-
ются попытки разграничить способы представленности в па-
мяти знания фактов (declarative knowledge — «know what»)
и знания действий, операций (procedural knowledge — «know
how»), см. обсуждение этого вопроса в работе (Anderson,
1976). В качестве примера из области знания операций при-
водится владение родным языком, что имеет непосредствен-
ное отношение к исследуемой нами проблеме.
. Рассмотренные выше положения интересны для нас по-
тому, что субъективный лексикон в последние годы либо
отождествляют с семантической памятью, либо считают
частью последней, поскольку она может также включать еди-
ницы, не имеющие названий в естественном языке (ем., на-
пример, Kintsch, 1974, р. 10). Па этом основании высказы-
вается мнение, что прогресс в области исследования органи-
зации лексикона может быть достигнут только при условии
изучения процессов, протекающих в этой гипотетической
структуре, особенно процессов выбора слов и организации
их. в рамках предложения (Denhiere and Dubois, 1978, р. 68),
а полное моделирование вербальной памяти может быть до-
стигнуто лишь с учетом ее самоорганизующихся свойств
(Аминев, 197.2, с. 137).
. р По итогам экспериментальных исследований делаются
также выводы о том, что лексикон не может рассматривать-
ся как система, организованная по строгим логическим пра-
ЗДЛам или подчиняющаяся принципу когнитивной экономии;
Д^еет место многообразие принципов организации разных
47
сфер лексикона; «ментальный словарь» организован иначе,
чем какой-либо, из имеющихся ныне печатных словарей.
В качестве тенденции, последней в приведенном, переч-
не, но не менее важной, чем другие, следует назвать-стрем-
ление отдельных авторов выявить некоторые универсальные
принципы организации лексикона человека, для чего предпри-
нимается сопоставление экспериментальных материалов, по-
лученных от носителей разных языков. Критический ..обзор
проведенных в разных странах исследований такого типа
дается в работе (Залевская, 1979).
Подводя итог обсуждению опыта исследований до 1981 г.
включительно, подчеркнем, что ни одна из рассмотренных
выше гипотез организации лексикона человека не базирует-
ся на детальном теоретическом анализе специфики упоря-
дочиваемых единиц с учетом особенностей становления та-
ких единиц в индивидуальном сознании и их роли и места в
процессах речемыслителыюй деятельности. Попытка такого
анализа предлагается в следующей главе.
ГЛАВА 2
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
СПЕЦИФИКИ ЕДИНИЦ ЛЕКСИКОНА
И ПРИНЦИПОВ ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ
(исходные положения)
2.0. Задачи главы 2 (48). 2.1. Лексикон как компонент речевой ор-
ганизации человека (48). 2.2. Выявление структуры речемыслительной де-
ятельности как базы для исследования лексикона человека (52). 2.3. Проб-
лема множественности кодов мышления (57). 2.4. Установление специфи-
ки единиц лексикона в связи с основными этапами речемыслительного
процесса (61). 2.5. Пути становления лексикона и их влияние на специ-
фику его единиц (67). 2.6. Вытекающие из специфики лексикона основа-
ния для связи между его единицами (рабочая гипотеза) (74).
2.0. Прежде всего напомним, что в задачи этой главы
входит изложение исходных теоретических предпосылок ги-
потезы лексикона, в принципе сформулированной в работе
(Залевская, 1977) и предлагаемой здесь в редакции 1981 г.,
что исключило возможность опоры на более поздние публи-
кации (как свои, так и других авторов), которые будут об-
суждаться в гл. 5.
2.1. Недостаточность традиционного противоположения
языка и речи и важность оперирования более широким окру-
гом категорий неоднократно обсуждалась (см., например,
Леонтьев А. А., 1969а; Слюсарева, 1975). Нас эта пробле-
ма интересует в специфическом, не затрагивавшемся другими
48
^авторами аспекте: к какой из таких категорий следует от-
нести лексикон человека?
>; В поисках ответа на поставленный вопрос мы будем
„опираться на представления, вытекающие из концепции Л. В.
.Щербы (1974, с. 24—29). Как известно, Щерба разграни-
чивал три аспекта языковых явлений: под первым из них он
.понимал процессы говорения и понимания, или «речевую
деятельность», под вторым — выводимые на основании всех
актов говорения и понимания, осуществляемых в определен-
ную эпоху жизни некоторой общественной группы, словари
и грамматики языков, или «языковые системы», а под треть-
им — совокупность всего говоримого и понимаемого такой
общественной группой, или «языковой материал». При этом
Щерба указал на ряд весьма существенных моментов. В
частности, он подчеркнул, что речевая деятельность обус-
ловливается сложным речевым механизмом человека, или
психофизиологической речевой организацией индивида. Ха-
рактеризуя последнюю, Щерба отметил, что речевая орга-
низация человека: а) никак не может просто равняться сум-
ме речевого опыта и должна быть какой-то своеобразной его
переработкой; б) может быть только психофизиологической;
в) вместе с обусловленной ею речевой деятельностью явля-
ется социальным продуктом; г) служит индивидуальным
проявлением выводимой из языкового материала языковой
системы; д) судить о характере этой организации можно
только на основании речевой деятельности индивида. Таким
образом, выделяя три аспекта языковых явлений, Щерба
фактически вел речь о четырех взаимосвязанных категори-
ях, последняя из которых — речевая организация индиви-
да — представляет для нас особый интерес.
Следует указать, что далее мы будем оперировать тер-
мином «речевая организация» как обозначающим более уз-
кое понятие, чем термин «речевая способность человека».
Оставляя за последним обозначение потенциальной способ-
ности человека к овладению языком, а также связанные с
этой способностью проблемы устройства и функционирова-
ния речевого механизма, будем использовать термин Щербы
в смысле «готовности индивида к речи» как весьма удачно
подчеркивающий упорядоченность, организованность резуль-
татов переработки речевого опыта для использования их в
речемыслительной деятельности человека.
• Речевая организация трактуется нами далее как един-
ство процессов переработки и упорядочения речевого ошыта
И получаемого в результате этих процессов продукта — ин-
ЙМРИДуальной языковой системы. Посчедоватсльное разгра-
Шнение понятий процесса и продукта, на котором в свое’
жЗДя настаивал Щерба, заставляет концентрировать вннма-
й- Заказ 830 49 •
:ние на следующих аспектах интерпретации специфики рече-
вой организации индивида.
А. Речевая организация человека понимается не как
пассивное хранилище сведений о языке, а как функцио-
нальная динамическая система (см. трактовку
системы такого рода в работе: Анохин, 1966). В этом состо-
ит, в частности, отличие нашего понимания специфики рас-
сматриваемого объекта от концепций Э. П. Шубина (1972),
упоминающего о «складе знаковых отпечатков», и А. Е. Кар-
линского (1974), трактующего языковую компетенцию как
статическую, а речевую деятельность — как динамическую
часть самоорганизующейся коммуникативной системы (идио-
лекта). Ср. также типичную для лингвистических исследо-
ваний характеристику соотношения языка и речи как пере-
хода «от статического состояния языковой системы к ее
функционированию в виде речи» (Солнцев, 1977, с. 3).
Б. Подчеркивается постоянное взаимодействие между
процессом переработки и упорядочения речевого опыта и
-его продуктом: новое в речевом опыте, не вписывающееся в
рамки системы, ведет к ее перестройке, а каждое очередное
состояние системы служит основанием для сравнения при
последующей переработке речевого опыта.
В. Совокупность высказанных выше соображений дает
основания для трактовки речевой организации как самоорга-
низующейся системы особого рода.
'Важно подчеркнуть, что приведенные характеристики
речевой организации лишь несколько уточняют и расширя-
ют толкование специфики речевого механизма человека, дан-
ное Щербой (т. е. само собой разумеется, что речевая орга-
низация является психофизиологической, представляет собой
•социальный продукт и т. д.). Все названные характеристики
относятся и к лексикону как одному из компонентов речевой
организации человека.
Отметим, что вопрос о взаимодействии процесса и про-
дукта обсуждался рядом авторов. Так, развивая далее об-
щие положения о взаимодействии процесса и продукта, выс-
казаннные в работах К. Маркса и Ф. Энгельса, Я. А. Поно-
марев подчеркивает, что «функционирование взаимодейст-
вующей системы осуществляется путем постоянных перехо-
дов процесса в продукт и обратно — продукта в процесс...»
(Пономарев, 1967, с. 148). Карлинский (1974) обсуждает
этот вопрос в связи с проблемой деятельности вообще и ре-
чевой деятельности в частности. Справедливо отмечая, что
«любая деятельность .представляет собой прежде всего про-
цесс, продуктом которого являются знания, фиксируемые в
памяти человека», и что «знания, возникающие в результате
целенаправленного взаимодействия субъекта с окружающим
миром, представляют собой, в свою очередь, основу дея-
• 50
дельности» (Там же, с. 150), Карлииский в то же время
уточняет, что «основой речевой деятельности как внутренне-
го процесса понимания и порождения высказывания являет-
ся языковая компетенция, т. е. имплицитные знания языко-
вой системы, хранящиеся в памяти индивидуума» (с. 151).
Будучи правильным по существу, последнее определение не-
достаточно полно раскрывает специфику знаний, обеспечи-
вающих успешность речевой коммуникации: в этом случае
важны как знания в области языковой системы, так и знания
об объектах реальной действительности, об их качествах,
свойствах, об отношениях между этими объектами и т. д„
иными словами — необходима совокупность этих двух
типов знаний.
Сделанное уточнение относительно характера знаний
как продукта деятельности человека дает основания для
следующих выводов, весьма важных для целей нашего ис-
следования.
Во-первых, органическая связь между знаниями о мире-
(или энциклопедическими знаниями) и знаниями языковой
системы (или языковыми знаниями) определяется специфи-
кой .переработки памятью человека разностороннего (в том
числе речевого) опыта взаимодействия индивида с окружа-
ющим его миром. Из этого положения вытекают по мень-
шей мере три следствия, поскольку становятся очевидными:
а) ограниченность трактовки языка как продукта переработ-
ки только речевого опыта человека; б) небходчмость иссле-
дования лексикона как средства доступа к продуктам пере-
работки многогранного (чувственного и рационального, ин-
дивидуального и социального) опыта носителя лексикона;
в) важность исследования принципов организации лексико-
на с учетом специфики хранения памятью человека знаний
о мире и упорядочения памятью языковых знаний на основе-
специфических параметров.
Во-вторых, поскольку знания о мире — как накоплен-
ные предшествующими поколениями, так и формирующиеся
в Ходе непосредственного взаимодействия субъекта с окру-
ж,а*рщим его миром, усваиваются при посредстве коммуни-
кайви с другими членами социума через речевую деятель-
ность, становится очевидной одна из специфических особен-
ностей лексикона: если становление грамматического ком-
Цонента речевой организации человека в основном заверша-
йся в детском возрасте, то усвоение лексикона, его расши-
рение .и переорганизация по мере расширения и углубления
зданий об окружающем мире не прекращается до тех пор,
?рка не прекратится активная жизнедеятельность индивида.
• . Для исследования лексикона как лексического компо-
нента речевой организации человека необходимо прежде-
выявить роль этого компонента в процессах рече-
мыслительной деятельности, что должно оказаться полезным
для установления специфики единиц лексикона. Последнее,
в свою очередь, может пролить свет на принципы упорядо-
чения этих единиц, обеспечивающие функционирование лек-
сикона при говорении и понимании речи.
2.2. Подробный анализ отечественных и зарубежных ги-
потез структуры речемыслительной деятельности дается в
ряде работ (см., например, Леонтьев А. А., 19696, 1972,
19746; Ахутина, 1975). Это позволяет ограничиться здесь об-
суждением модели, предложенной в публикации (Залсвская,
1977), поскольку с опорой на эту модель будут далее рас-
сматриваться .различные вопросы специфики лексикона че-
ловека. Излагая представления о характере и последова-
тельности основных этапов процесса речепроизводства, сло-
жившиеся при ознакомлении с предшествовавшими назван-
ной публикации работами, мы будем вслед за М. М. Копылен-
ко (1969) говорить не о порождении, а о производстве речи
индивидом. При этом в центре внимания будут находиться
моменты, наиболее существенные для исследования интере-
сующей нас проблемы. В частности, мы попытаемся устано-
вить, как структура процесса производства речи определяет
структуру лексического компонента речевой организации
человека. Для нас важен принцип организации речемысли-
тельного процесса, в ходе которого формируется и находит
свое внешнеречевое выражение некоторая мысль, ср.: «Мысль
не выражается в слове, но совершается в слове» (Выгот-
ский, 1956, с. 320); «...в речи мы формулируем мысль, по
формулиря ее, мы сплошь и рядом ее формируем...» (Рубин-
штейн, 1940, с. 350).
Идущее от Л. С. Выготского и С. Л. Рубинштейна пред-
ставление о том, что то или иное высказывание служит не
для передачи готовой мысли, а для ее становления, завоевы-
вает в последние годы все большую популярность (см. трак-
товку процесса речепроизводства как процесса образования
смыслов в работах: Кацнельсон, 1972; Ахутина, 197'5, а
также анализ процессов смыслоформирования и смыслофор-
мулировапия — Зимняя, 1976, 1978). Для нас такая трак-
товка специфики речемыслительного процесса исключитель-
но важна потому, что из нее вытекает ряд следствий, весьма
существенных для выявления особенностей единиц лексико-
на. К числу таких следствий относятся, во-первых, многоэтап-
ность процесса речепроизводства, а во-вторых — отсутствие
одно-однозпачных соответствий между мыслью и словом.
Взятые в совокупности, эти положения исключают возмож-
ность сведения использования лексикона при речепроизвод-
стве к механическому воспроизведению слов в соответствии
с их значениями и побуждают выводить гипотезу органнза-
:52
I
дии лексикона нз задач н специфики функционирования пос-
леднего на различных этапах речомыслительного процесса.
При установлении основных этапов процесса производ-
ства речи мы будем прежде всего опираться на исследова-
ния, вскрывающие принципиальную структуру деятельности
человека (Леонтьев А. Н., 1974), объясняющие механизмы
формирования универсальной структуры поведенческого ак-
та (Анохин, 1966; Миллер и др., 1965) и механизмы умст-
венной деятельности человека (Бойко, 1976) или выявляю-
щие взаимодействие между языком и интеллектом (Жинкин,
1964, 1970, 1973).
Рассматриваемая ниже модель, которая была предложе-
на в работе (Залевская, 1977), возникла в результате тео-
ретического осмысления моделей процесса речепроизводства,
построенных на базе сочетающихся с экспериментами наблю-
дений над становлсниием детской речи (Выготский, 1956)
и- над нарушениями речи при афазии (Ахутина, 1975) или
-основывающихся на учете результатов разнообразных пси-
хологических и психолингвистических экспериментов (Вере--
щагин, 1968; Зимняя, 1969, 1978; Леонтьев А. А., 1967, 19696,.
1972, 1974; Леонтьев и Рябова, 1970; Руденко, 1975). При-
нимались во внимание и модели, ие базирующиеся на экспе-
риментах, но выполненные в русле идеи становления смыс-
ла в процессе речепроизводства (Кацнельсон, 1972).
г Попытка отобразить ход речемыслительного процесса^
для развития которого отправным пунктом служит некото-
рый «пусковой момент», показана на рис. 1. Следует уточ-
нить, что такой пусковой момент может быть как исходя-
щим извне, как и внутренним, т. е. вызванным потребностя-
ми индивида. Пусковой момент включает в действие после-
довательность трех взаимосвязанных процессов: 1 — про-
цесс построения образа результата действия; 11 — процесс
смыслового программирования; III — процесс реализации
смысловой программы. Каждый из этих процессов дает со-
ответствую шин продукт: 1 -- образ результата действия;
2 — смысловую программу; 3 — высказывание.
Важно подчеркнуть, что вычленение плоскостей 1—2—3,
символизирующих результаты последовательных этапов ре-
чемыслительпого процесса, лишь условно разграничивает
объемные блоки 1—11—Ill, на самом деле представляющие
собой органически связанные друг с другом слон, или яру-
сы» единой информационной базы — ПАМЯТИ, из которой
Черпаются единицы, необходимые для реализации обозна-
ченных на рисунке процессов, и стратегии оперирования
этими единицами. Горизонтальные срезы с вычленением пр.о-
•Фкуточных «прослоек» сделаны для того, чтобы показать,
на каждом этапе речемыслительного процесса имеет мес-
•*%.Взаим'одсйствие трех моментов: запроса на некоторый
-. > 53-
ПУСКОВОЙ МОМЕНТ
§
а
ВЫСКАЗЫВАНИЕ
Рис. 1
трое'нияхобраёахрезультат
Л;Д?йствия->^ 7/.'/>7 ';
Доминирующая формирован1, э модели ‘fjA
мотивация —* обстановки
Учет вероятностного опыта
1.
Продукт процесса по-
троения образа рез-та
.^Процесс Смыслова
s
я
Выбор семанти-____Выбор правил ком-
чсских единиц ____Санирования семан-
тических единиц
Продукт процесса смысло-
вого программирования
СМЫСЛОВАЯ ПРОГРАММА
,еис'
Выбор стратегии перехода от смысло-
вого кода к внешнеречевому коду
Б. Выбор слЬВ=5 ВЫрМ“словОМбИ'
I ЛИ^иДСШИЛ ЪЛ.изЗ
Моторная реализ^ц^я
3.
Продукт реализации смысло- /,
вой программы реч. действия
.'54
продукт, соответствующего процесса и его продукта; при
•атам дальнейшее развитие действия каждый раз направля-
ется положительным или отрицательным итогом сличения
продукта деятельности с запросом на этот продукт (см. на
рис. 1 направление стрелок с обозначениями «Контроль» и
«Положительное решение»; в случае принятия отрицатель-
ного решения, сигнализирующего о рассогласовании между
полученным и ожидаемым результатом, происходит пере-
стройка деятельности, для которой может оказаться необ-
ходимым возвращение к предшествующим звеньям рече-
мыслительного процесса; ср. принципы организации внут-
ренних петель обратной связи — локальных и крупномас-
штабных — в трактовке Сентаготаи и Арбиб, 1976).
Можно заметить, что на рис. 1 сличение ожидаемого и
полученного результатов не сводится к слуховому контролю:
чтобы стал возможным переход к доступному слуховому
контролю этапу, необходимо многократное принятие поло-
жительного решения ио итогам предварительно реализован-
ных этапов деятельности (см. детальное обсуждение приме-
ров, свидетельствующих о роли сличения результатов раз-
личных этапов процесса речепроизводства, в работе: Аху-
Тйна, 1975, с. 1'29—133). Следует также уточнить, что обоз-
начение на рис. 1 поэтапного контроля в связи с конечными
результатами соответствующих процессов не исключает не-
обходимости внутриэтапного сличения.
Как видно из рис. 1, пусковой момент включает в дей-
ствие процесс построения образа результата деятельности.
В ходе этого процесса под углом зрения доминирующей мо-
тивации формируется модель складывающейся на текущее
время внешней и внутренней обстановки и с учетом вероят-
ностного опыта происходит построение (или выбор из памя-
ти) образа результата действия, который согласуется с вы-
текающей из доминирующей мотивации и из специфики пус-
кового момента задачей требуемой деятельности (обозначен-
ная стрелками «Контроль 1» и «Положительное решение 1»
петля обратной связи огрубляет описание рассматриваемо-
го процесса по техническим причинам). Продукт этого про-
цесса — образ результата действия — соответствует выделя-
емой другими авторами «речевой .интенции» (см., например,
Леонтьев А. А., 19746, с. 30) или «общему замыслу» (Лурия,
1975а, с. 38) и не совпадает с широко распространенным
(хотя и не эксплицируемым) .представлением о «готовой мыс-
4И», которая далее находит свое выражение во внешнерече-
Дой форме.
Дальнейшее развитие процесса речемыслительной дея-
;Шьности может протекать по-разному в зависимости от
$£*овий «текущего момента». Во-первых, «развертка» обра-
|^гРезультата действия может вообще не происходить (ин-
дивид просто намечает «вехи» последующей деятельности,
откладывая их развертку на некоторый срок; часть таких
«вех» может быть отвергнута последующим ходом деятель-
ности или непроизвольно уточнена под влиянием разйооб-
разных внешних и внутренних факторов). Во-вторых, более
или менее детальная развертка может производиться в «речи
для себя», когда имеется определенный «внутренний кон-
текст», благодаря которому развертывается не весь образ
результата, а лишь отдельные его стороны. Следует заме-
тить, что сложность формируемой «для себя» мысли может
потребовать полной развертки ее до моторной реализации
во внутреннем проговаривании. В-третьих, если образ
результата речемыслительной деятельности должен быть
донесен до партнера по коммуникации, т. е. предназнача-
ется «для других», то оказывается необходимым не только
сформировать и выразить во внешней речи возникшую
мысль, но н донести до собеседника тот «внутренний кон-
текст», на фоне которого эта мысль имеет смысл, соответ-
ствующий специфике текущего момента (вполне очевидно,
что при различии таких контекстов у говорящего и у слу-
шающего полное понимание не может быть достигнуто).
Возвращаясь к рис. 1, уточним, что с помощью предложен-
ной схемы сделана попытка отобразить третью из назван-
ных ситуаций, поскольку лишь в ее процессе могут быть
прослежены все основные этапы речемыслительной дея-
тельности.
Наметив принципиальную схему речомыслительного про-
цесса, обратим внимание на следующие моменты.
Развиваемая нами идея единой 1информационной базы
человека (ПАМЯТИ на рис. 1, которую мы далее по совету
М. М. Копыленко будем называть информационным тезау-
русом) согласуется с современными представлениями о роли
памяти в многогранной деятельности индивида, ср.: «...един-
ство саморегулирующейся системы деятельности челов.ека
обусловлено прежде всего функциями памяти — регулятора
видового и приобретенного поведения. Все сенсорные, интел-
лектуальные и моторно-речевые операции одновременно и
поочередно связаны с мнемическим блоком, а посредством
него и между собой — в единый контур функциональной сис-
темы» (Бочарова, Ю81, с. 10). Следует подчеркнуть, что в
отличие от Т. М. Дридзе (1980, с. 428), считающей воз-
можным описывать содержание индивидуального языкового
сознания через его тезаурус, под которым понимается от-
крытая и подвижная система значений, мы трактуем инфор-
мационный тезаурус более широко — как сокровищницу
взаимосвязанных продуктов переработки разносторон-
него опыта взаимодействия человека с окружающим его
миром (ср. приведенное выше высказывание С. П. Боча-
•56
KLg о связи сенсорных, интеллектуальных и моторно-
Еевых процессов).
Ж. Представляется важным учитывать и специфику фигу-
Кующего в ходе речемыслнтельного процесса образа ре-
Иа^тятя деятельности: идея формирования мысли в речи
Жкдючает наличие жесткого «эталона» для сличения его с
Залучаемым результатом. Это скорее именно «веха», основ-
ав параметры которой должны совпадать с параметрами
Йаультатов разных ступеней речемыслительного процесса,
ролее того, и эти параметры могут уточняться по мере «фор-
мирования мысли».
Далее, необходимо исходить из того, что в живом орга-
низме конкретные пути достижения результата «жестко не
детерминированы образом ожидаемого результата. Один и
гот же результат может быть достигнут разными путями»
(Гращенков и др., 1963, с. 47). В приложении к процессу
производства речи последнее со всей очевидностью предпо-
лагает, что для одного и того же образа результата рече-
мыслительного действия оказываются возможными более
одной речевой реализации. В каком же коде формируется
Образ результата? Необходимость обсуждения этого вопро-
са заставляет несколько отвлечься от рассмотрения хода
речемыслительного процесса, с тем чтобы впоследствии вер-
нуться к нему для выяснения специфики единиц лексикона
в-зависимости от реализуемых в речемыслительной деятель-
ности разнокодовых единиц.
2.3. Интерес к проблеме кодов, используемых в процес-
су мышления, особенно обострился в последние годы. Ши-
роко известны работы Н. И. Жинкина, полагающего, что в
интеллектуальной сфере после перекодировки слов на смысл
происходят «многократные перекодировки своего специфи-
ческого вида» (Ж'инкин, 1970, с. 83) и что «мышление реа-
лизуется не на каком-либо национальном языке, а на осо-
бом изыке, вырабатываемом каждым мыслящим человеком»
(Жинкин, 1966, с. 105), поскольку переработка полученной
информации происходит в «универсальной общечеловечес-
К0Й.,структуре и н т е л л е к т а» (Жинкин, 1973, с. 69).
Выдвинутую Н. И. Жинкиным (1964) идею «предметно-
изобразителыюго кода» или «кода образов и схем» поддер-
живает ряд исследователей. В частности, этот вопрос не-
ОДНОкратно обсуждался в работах А. А. Леонтьева, считаю-
важным подчеркнуть, что «мышление не сводится
услючительно к оперированию кодом вербальных смыслов»
^уонтьев А. А., 19746, с. 31), и отмечающего, что пробле-
Д «доречевого» звена была еще в самом начале 20-х гг.
вставлена А. А. Шахматовым (Леонтьев А. А., 1972, с. 132).
^«натуральном, внутреннем коде» говорит также И. А.
57
Зимняя (1976, с. 29, 33). Признание возможности невербаль-
ного мышления, т. е. «мышления с помощью единиц, не
связанных непосредственно с языковыми знаками», мы на-
ходим у Г. П. Мельникова (1978, с. 279), который допуска-
ет функционирование так называемых «неоязыковленных
мыслительных единиц» (Там же, см. рис. 8 на с. 254). Гипо-
тезу смысла как непрерывного невербального конструкта
развивает Р. И. Павилёнис (1976).
Идея множественности кодов была затронута и в ходе
совещания по проблеме взаимоотношения языка и .мышления,
проведенного редакцией журнала «Вопросы фстлософии»
(см. публикации, начиная с № 4 за 1977 г.). Аргументация
в пользу того, что «внесловесная мысль существует, что она
объективирована в мозговых нейродинамических системах
(кодах) определенного типа, отличных от кодов внутренней
речи, что она представляет собой специфическую разновид-
ность и неотъемлемый компонент субъективной реальности»,
приводится в выступлении Д. И. Дубровского (1977, с. 104).
Наиболее детально и разносторонне, с опорой на анализ
обширной отечественной и зарубежной литературы и с прив-
лечением убедительных экспериментальных данных обсуж-
дает этот вопрос И. Н. Горелов (1974, 1980), дающий обос-
нование идеи невербальности собственно мыслительного
процесса.
Итак, названные и многие другие авторы допускают
существование некоего субъективного кода, понятного для
мыслящего индивида, но требующего «перевода» на обще-
национальный язык в целях использования для передачи
мысли в «речи для других». Согласуется ли в принципе сама
идея вероятности .невербального этапа .речемыслительпого
процесса с современными представлениями о специфике пе-
реработки информации человеком?
Особенности переработки информации человеком широ-
ко исследуются с позиций ряда наук. С точки зрения кибер-
нетического подхода можно считать общепринятым принцип
этажности переработки информации человеком, или прин-
цип иерархии, согласно которому программы более «высо-
ких» этажей сложной системы являются результатом сумми-
рования, интегрирования многих более простых программ
«нижних» этажей структуры (ср.: Амосов, 1974; Сентаготаи
и Арбиб, 1976). При этом обычно отмечается, что перера-
ботка внешней информации человеком происходит парал-
лельно по ряду программ (Амосов, 1966, с. 7) или по не-
скольким параллельным каналам (Микадзе, 1979); приперс-
ходе от одного этапа переработки к другому информация
может подвергаться удивительным преобразованиям (Клаш-
ки, 1978, с. И), а при хранении информации в памяти имр-
58
ex место перекодировка ее в сторону повышения сложности
^еодэ (Братко, 1969, с. 59).
Идея параллельности переработки информации челове-
ком по разным каналам, а также интегрирования получен-
jaix результатов с помощью единого кода находит широкий
отклик в исследованиях, связанных с изучением различных
•сторон психики. Так, Р. М. Грановская указывает, что сен-
сорные органы всех модальностей (зрения, слуха, осязания)
переводят внешние стимулы на универсальный язык импульс-
ных кодов, благодаря чему сигналы, формируемые различ-
ными органами чувств, в новой единой форме могут быть
сопоставлены на более высоких уровнях обработки инфор-
мации (Грановская, 1974, с. 98). Д. И. Дубровский раз-
граничивает мономодальпые, полимодальные и надмодаль-
ные сигналы, последние из которых представляют собой сиг-
налы высшей степени интегративности, синтезирующие ин-
формацию всех модальностей и выступающие в роли стра-
тегических и тактических программ целостного организма,
сочетая генетически накопленную информацию с онтогенети-
чески накопленной информацией (Дубровский, 1971, с. 253).
А, Р. Лурия неоднократно отмечает, что познавательная
деятельность человека никогда не .протекает, опираясь лишь
на одну изолированную модальность (зрение, слух, осяза-
We), при этом данные экспериментальных нейрофизиологи-
ческих исследований убедительно доказывают существова-
нае определенных зон нейронов разных уровней «специали-
зации» — от реагирующих на строго избирательные раздра-
жятели до осуществляющих функцию интеграции возбужде-
приходящих из различных анализаторов (Лурия, 1973).
Ж К. Анохин, говоря об интегративной деятельности мозга,
ТДДЖе указывает, что неизбежно имеет место конвергенция
разнородных возбуждений, происходящих из разных источ-
ников и обработанных до единой информации (Анохин, 1974,
с. 12). По мнению К. Прибрама (1975, с. 90), формы пере-
К£@Йфования, которые возможны в нервной системе, факти-
чески безграничны; в то же время «язык, с помощью которо-
го передается информация [в мозге] ... не соответствует и
недолжен соответствовать тому языку, которым люди поль-
зуЙТся в общении друг с другом» (эпиграф к 1-й части
®занной книги Прибрама со ссылкой на Питтса и Мак-
1лока). Конечно, во всех этих случаях речь идет не о ко-
3||fe- непосредственно используемых на разных этапах рече-
ДЯЁДительной деятельности, однако едва ли можно сомне-
Яж* в том, что общие принципы работы человеческого
«ИВ* являются обязательными и для наиболее высоко орга-
ЯИвванных психических процессов (ср.: «Поскольку психи-
ЯИМ Деятельность есть деятельность, осуществляемая моз-
59
гом, она подчиняется всем законам нейродинамики» — Шо-
рохова и Каганов, 1963, с. 75).
В последние годы проводятся также экспериментальные
исследования, связанные с проблемой мозгового кодирования
вербальных сигналов (см., например, Бехтерева, 1980; Бех-
терева и др., 1'977). В самом заглавии последней из назван-
ных работ — «Мозговые коды психической деятельности»,—
отражено признание множественности кодов, в то время как
конкретные результаты проведенных исследований пролива-
ют свет на особенности кодирования акустических свойств
вербальных сигналов, на отражение их семантических ха-
ректеристик, па мозговое кодирование ассоциативно-логичес-
ких процессов и т. д. Различение специфических кодов ста-
новится также важной проблемой теоретического изучения
памяти в психологических исследованиях (см.: Аткинсон,
1980; Клацни, 1978; Le Ny, 1978).
Следует подчеркнуть, что использование приведенных
высказываний вовсе не имело целью умалить роль вербаль-
ного кода или попытаться подменить его какими-либо «сур-
рогатами». Несомненно, что речь, являясь средством обще-
ния, «становится одновременно и механизмом интеллектуаль-
ной деятельности, позволяющим выполнять операции отвле-
чения и обобщения п создающим основу категориального
мышления» (Лурия, 1973, с. 295). Общеизвестна роль вер-
бализации как средства осознания неосознанного, и именно
в этом смысле следует трактовать широко цитируемое выс-
казывание К- Маркса о том, что язык есть непосредственная
действительность мысли (т. 3, с. 343), Тем ие менее ориен-
тация на современные научные данные требует признания
необычайной сложности процессов, лежащих за оперирова-
нием речью и неизбежно связанных с переработкой посту-
пающей по разным каналам информации и с интегрирова-
нием ее в едином коде. С этой точки зрения вербальный код,
не теряя своего значения как средства регуляции психичес-
ких процессов, должен в то же время иметь свой коррелят
в универсальном коде; с позиций последнего получаемая по
речевому каналу информация является лишь одной из сос-
тавляющих многогранной системы переработки информации
об окружающем мире и преломления ее через разносторон-
ний (не только речевой!) предшествующий опыт индивида.
Опираясь на приведенные высказывания и принимая во
внимание современный взгляд на соотношение осознаваемой
и неосознаваемой психической. деятельности человека (см.,
например, Басснн и Рожнов, 1975; Бассин и др., 1979; Поно-
марев, 1976), можно сделать следующие выводы, полезные
для дальнейшего хода рассуждений. ' ’ “ '
А. Активное взаимодействие человека с окружающей
60 •_
Ь действительностью осуществляется посредством ряда па-
Квлельно функционирующих каналов связи.
Б. Перерабатываемая по различным каналам информа-
Кра. суммируется в специфическом универсальном коде, обес-
печивающем перекрестную связь между разнокодовыми эле-
ментами информационного тезауруса человека.
В. Актуализация перекрестных связей между разноко-
довыми элементами не является обязательной (ср. факты,
которые приводятся в работах: Шорохова, 1966, с. 112--115;
Хомская, 1976, с. 98).
Г. Процесс построения образа результата деятельности,
по всей видимости, протекает как неосознаваемая психичес-
кая деятельность и осуществляется в универсальном коде.
Д. Поскольку бессознательное не отделено от сознания
какой-то непроходимой стеной (Выготский, 1965, с. 94), ре-
зультат названного в пункте «Г» процесса должен, очевид-
но, формироваться «на стыке» универсального кода и доступ-
ных для выхода в «окно сознания» продуктов обработки ин-
формации, поступившей по разным каналам.
Е. Независимо от характера используемого кода образ
результата деятельности представляет собой компрессию
смысла всей предстоящей деятельности, ее квинтэссенцию
(ср. с высказыванием Н. И. Жинкина о смысловой компрес-
сии- речи, имеющей место в результате многократного пере-
кодирования сообщения с устранением огромной полезной
избыточности национального языка — Жинкин, 1973, с. 69).
Следует особо подчеркнуть, что последний из сделанных
нами выводов хорошо согласуется с выводами других авто-
ров о том, что «содержание будущего высказывания конст-
руируется раньше формы его выражения в речи» (Горелов,
1974, с. 91) и что оригинальная мысль «оповещает о себе до
того, как наступает ее первичное словесное оформление»
(Дубровский, 1977, с. 102).
Теперь мы можем вернуться к обсуждению хода рече-
мыслительного процесса, чтобы, детализируя основные эта-
пы деятельности, установить специфику вступающих в дей-
ствие единиц лексикона.
2.4. Некоторыми авторами уже высказывалась мысль,
что каждая ступень процесса производства речи характери-
зуется специфичным именно для этой ступени «словарем» и
Соответствующим «синтаксисом». По мнению С. Д. Кацнель-
(1972, с. Г23), в качестве такого словаря каждый раз
^вступает определенный набор «дискретных элементов». Вы-
О>Ив три основные ступени речемыслительного процесса —
ЯИ^мыслительную (или семантическую), лексико-морфоло-
ИЧескую ц фонологическую, Кацнельсон называет и соответ-
О^ощие им наборы таких дискретных элементов: представ-
61
ления и понятия для первой ступени, лексемы — для второй,
звуки речи и фонемы для третьей. Каждому из этих наборов
соответствуют свои «порождающие механизмы»: первому -
структуры содержательной валентности, второму •— структуры
формальной валентности, а на третьей ступени вступают
в действие глобальные произносительные схемы. Детализи-
руя рассмотрение специфики первой из названных ступеней,
Кацнельсон подразделяет ее на две фазы: первичную и вто-
ричную. Содержанием первичной фазы семантической ступе-
ни порождающего процесса являются, по его мнению, «жи-
вые образы вещей» и «наглядные представления», а сегмен-
тирование потока поступающей информации осуществляется
с помощью пропозициональных функций; предикативные по-
нятия и присущие им валентности становятся орудием экспли-
цирования этого содержания на второй фазе (Там же, с. 125).
(Вопрос о соответствии разных единиц различным эта-
пам процесса речепроизводства обсуждает также Т. В. Аху-
тина (1975, с. 124), полагающая, что на этапе внутреннего
(смыслового) программирования происходит выбор семанти-
ческих единиц, которые комбинируются в соответствии с
правилами смыслового синтаксиса; на следующем этапе име-
ет место выбер лексических единиц, комбинируемых в со-
ответствии с правилами грамматического структурирования,
а последнему этапу — кинетической организации высказы-
вания — соответствует набор звуков, которые комбинируют-
ся по свойственным этому уровню правилам. В отличие от
Кацнельсона, Ахутина рассматривает толыко собственно ре-
чевые фазы речемыслительного процесса, и в приведенном
строе единиц отсутствует ряд, который должен был бы пред-
шествовать единицам первого из выделяемых ею этапов ис-
следуемой деятельности. Тем не менее оба автора разграни-
чивают семантические единицы со свойственным им смысло-
вым синтаксисом и единицы поверхностного уровня, подчи-
няющиеся иным комбинаторным закономерностям. В то же
время становится очевидным, что более или менее дробное
разграничение единиц разных порядков определяется избран-
ным тем или иным автором «углом зрения», в качестве ко-
торого выступает трактовка соответствующих этапов рече-
мыслительного процесса.
Определенные гипотезы о специфике функционирующих
на разных этапах процесса речепроизводства единиц (или
«кодов») выдвигают также и авторы, не ставящие своей за-
дачей выявление полного набора таких единиц и не стремя-
щиеся дать всесторонее их описание. В их трудах эта проб-
лема возникает спонтанно и обсуждается в том объеме и
под тем углом зрения, которые оказываются необходимыми
по ходу решения иных задач.
Так, прослеживая переходы от одного плана речевого
<62
Мышления к другому, Л. С. Выготский (1956) дал развер-
нутую характеристику если не самих единиц, используемых
На каждой фазе исследуемого им процесса, то хотя бы усло-
вий их функционирования. Отнеся к самым «глубоким» пла-
Лам речевого мышления мотив и рождающуюся из него
.’мысль, Выготский, во-первых, показал неразрывную связь
Умысли с мотивирующей сферой нашего сознания, «которая
•охватывает наше влечение и потребности, наши интересы и
Побуждения наши аффекты и эмоции» (с. 370), а во-вторых,
подчеркнул следующее основное отличие мысли от речи:
~*То, что в мысли .содержится симультанно, то в речи развер-
тывается сукцессивно» (с. 378). Последнее положение в со-
вокупности с указанием Выготского на то, что мысль содер-
жится .в уме говорящего как целое, соответствует нашему
представлению о специфике образа результата речемысли-
тельного действия. Однако на этом, одном из самых «глубо-
ких», по выражению Выготского, планов речевого мышле-
ния, должен иметь место только еще замысел высказыва-
ния, в то время как сама мысль формируется на последую-
1цих этапах рассматриваемого процесса.
У,Следует заметить, что Выготский не указывает, с по-
мощью каких средств оформляются две первые фазы рече-
дагслительного процесса, дальнейшее развитие которого идет
направлению к «опосредованию мысли во внутреннем сло-
а затем — в значениях внешних слов и, наконец, в сло-
®1Х» (Там же, с. 381). Специфика «внутреннего слова» мо-
стать попятной только на фоне развернутой характе-
дЙртики внутренней речи, отличающейся, по мнению Выгот-
зЦрго, чистой предикативностью, редуцированностью фоне-
н и особым семантическим строем, для которого типич-
преобладание смысла над значением, агглютинация се-
ЖНтических единиц, «.влияние» смыслов и идиоматичность.
Поскольку «каждое слово во внутреннем употреблении при-
обретает постепенно иные оттенки, иные смысловые нюан-
СЙ, 'которые, постепенно слагаясь и суммируясь, превраща-
ются в новое значение слова», а это — «всегда индивидуаль-
ные значения, понятные только в плане внутренней речи»
(),то оказывается необходимым дальнейшее опосре-
е использовавшихся во внутренней речи смыслов
ними внешних слов, вследствие чего осуществляется
I от «субъективных смыслов» к «объективным значе-
а далее — выход во внешнюю речь.
работе (Залевская, 1977, с. 18—19) указывается, что
нный таким образом строй единиц — смыслы, значе-
ова — не полностью согласуется с другими высказы-
и Выготского. Например, он отмечает, что «во внут-
речи нам нет необходимости говорить слово до кон-
i понимаем по самому намерению, какое слово хотели
63
сказать... Внутренняя речь есть в точном смысле речь почти
без слов» (Выготский, 1956, с. 368). Однако «говорение»
слова (хотя бы и не до конца) предполагает его моторную
реализацию, таким образом сам принцип «редуцированнос-
ти фонетики» во внутренней речи противоречит указанию на
то, что опосредование мысли в слове происходит после
опосредования ее сначала во внутреннем слове, а затем в
значениях внешних слов. Для того, чтобы можно было снять
это противоречие, необходимо признать принадлежность
смыслов, значений и слов (точнее, конечно, словоформ) к
разным кодам, в противном случае слово ( = словоформа)
оказывается намертво привязанным как к смыслу, так и к
значению и поэтому должно хотя бы в сокращенном виде
проговариваться при любых условиях функционирования его
содержательных коррелятов.
Именно представление о такой «привязанности» и ее
неразрывности лежит в основе утверждений, что всякая
мыслительная деятельность осуществляется с использовани-
ем речедвижений. В качестве доказательства истинности по-
добных утверждений обычно приводятся ссылки на экспе-
рименты А. И. Соколова (1968). Однако имеется ряд иссле-
дований, не только ставящих под сомнение правомерность
оперирования методикой электромнограмм в качестве ' базы
для доказательства вербального характера мышления, но и
показывающих противоречивость данных, получаемых с по-
мощью названной методики (см. обсуждение этого вопроса
в работах: Горелов, 1974, 1980). Не имея возможности под-
робно останавливаться здесь на относящихся к этой проб-
леме отечественных и зарубежных публикациях, основыва-
ющихся как на специально проведенных экспериментальных
исследованиях, так и на наблюдениях над развитием слепо-
глухорожденных детей, ограничимся ссылкой на один из ос-
новных выводов по фундаментальному исследованию И. Н.
Горелова: «Речевая моторика не является базальным ком-
понентом мыслительного акта, предваряющим порождение
речи или обязательно участвующим в рецепции речи» (Го-
релов, 1974, е. 91).
Необходимо подчеркнуть, что сам Выготский категори-
чески возражал против «привязки» слова к его значению.
Он осуществил развернутое исследование процесса развития
значения слов в онтогенезе и показал, как меняется не толь-
ко содержание слова, но и характер используемых при его
функционировании интеллектуальных операций. Признание
разпокодовой принадлежности смыслов, значений и слово-
форм открывает также возможности для объяснения рас-
смотренных Выготским явлений типа «влияния» смыслов, их
«вливания» друг в друга и для развертывания тезиса о/гом,
что «переход от внутренней речи к внешней представляет со-
64
бой ... не простую вокализацию внутренней речи...»* (Выго'
ский, 1956, с. 375).
Трактовка процессов производства и понимания речи
позиций идеи многократного перекодирования стала в пос
ледние годы весьма популярной (см. детальные обзоры мг
делей производства речи в работах А. А. Леонтьева, напри
мер: 19696, 19746, и моделей понимания речи в работа
И. А. Зимней, например: 1976). В связи с анализом струк
туры процесса речемыслительной деятельности вопрос о ко
дах и кодовых единицах наиболее четко рассматривается i
работе (Леонтьев А. А. 19746). Выделенные А. А. Леонтьс
вым звенья ориентировочной основы речевого действия, пла
пирования или программирования и реализации программь
соотносятся с представленными нами на рис. 1 объемным:
блоками I—II—III. Что касается первого из этих звеньег
(оно включает фазу мотивации и фазу формирования рече-
вой интенции), то А. А. Леонтьев фактически обходит воп-
рос о характере используемого здесь кода, ограничиваясь
замечанием, что в связи с конечным результатом действия
•факторов, обусловливающих речевую интенцию, «можно го-
ворить только о программе речевого высказывания, об от-
,’боре и организации единиц субъективного «смыслового» ко-
гда» (19746, с. 33). В этом случае, очевидно, допущена не-
точность, поскольку программа речевого действия является
конечным результатом не этого, а следующего звена (или
0ггдпа) речемыслительного процесса. Сам А. А. Леонтьев не-
однократно относит оперирование субъективным смысловым
,#одом именно к этапу программирования. Уточняя, что «про-
грамма речевого действия существует обычно в неязыковом,
Вунее. несобственно языковом (лишь сложившемся на язы-
ц^арй основе) коде», и указав, что Н. И. Жинкин называет
код «предметно-изобразительным» или «кодом образов
Й|:<£хвм», А. А. Леонтьев в то же время высказывает пред-
|иШ>жение, что этот код можно соотнести с исследованными
Жу-С. Шехтером вторичными образами или «образами ---
^^Олями» (Леонтьев А. А., 19746, с. 27, 168—184). На сле-
Ш^01цем этапе происходит переход к реализации программы
.ЙИЛЗЫковом коде, когда, в частности, имеет место и выбор
(Там же, с. 27); параллельно с реализацией програм-
дЖ'-идет моторное программирование высказывания, за ко-
следует его реализация.
Детализируя анализ последнего этапа, А. А. Леонтьев
ЯЙИЙматривает ряд весьма интересных для нас моментов,
ои полагает, что при переводе программы с субъектив-
ДИР.- смыслового кода происходит «замена единиц субъек-
"ЯИмрго кода минимальным набором семантических призна-
ЯИкзрлова, ограничивающим семантический класс и позволя-
ЯияМ ври дальнейшем порождении выбирать внутри этого
ЗЕйПШз 830 65
класса различные варианты», а также имеет место «припи-
сывание данным единицам дополнительных, «лишних» (отно-
сительно соответствующих слов будущего высказывания) се-
мантических признаков, соответствующих функциональной
нагрузке кодовых единиц, возникающей в процессе програм-
мирования» (Там же, с. 184). Далее к иерархической орга-
низации единиц добавляется линейный принцип их распре-
деления, что влечет за собой «распределение семантических
признаков, ранее «нагруженных» па одну кодовую единицу,
между несколькими единицами в зависимости от структуры
соответствующего языка» (с. 185). Надо полагать, что все
это, как и приписывание будущему слову содержательно-
грамматических характеристик, обусловливая выбор слова,
предшествует этому выбору. Отсюда вытекает принципиаль-
ный вопрос: когда же вступает в действие лексикон? Только
когда на основании выявленного набора семантических и
грамматических признаков принимается решение о выборе
слова или гораздо раньше — когда закладываются глубин-
ные предпосылки для такого выбора?
При ответе на поставленный вопрос следует, очевидно,
прежде всего исходить из того, что именно понимается под
«лексиконом». Как указывалось выше, под лексиконом че-
ловека мы понимаем лексический компонент речевой орга-
низации последнего, формирующийся в результате пере-
работки многогранного, в том числе речевого, опыта и пред-
назначающийся для использования в речемыслительной
деятельности. Отсюда, с одной стороны, вытекает, что лек-
сикон должен включать продукты переработки речевого опы-
та до уровня установления их коррелятов в универсальном
коде (ом. выше). С другой стороны, из трактовки речемыс-
лительной деятельности как процесса формирования мысли
в слове логично сделать вывод, что в лексиконе должны со-
держаться единицы, обеспечивающие реализацию всех эта-
пов этого процесса. На этом основании в работе (Залевская,
1977, с. 21) лексикон определяется как система кодов
•и кодовых переходов, обеспечивающая формирование
и передачу смысла, а также извлечение смысла из воспри-
нимаемого сообщения (здесь и далее мы будем оперировать
термином Н. И. Жинкина, который был предложен вне свя-
зи с проблемой организаций лексикона, см.: Жинкин, 1964).
Не является ли такая трактовка специфики лексикона
слишком расширенной? Понимание речевой организации че-
ловека как единства «процесса» и «продукта» указывает на
необходимость выявления путей становления единиц лексико-
на как средства объяснения специфики составляющих его
элементов и стратегий оперирования ими при речепроизвод-
стве и при понимании речи. Поэтому продолжение обсужде-
ния поставленного вопроса будет дано лишь после того, как
66
фл сделаем попытку выявить .некоторые закономерности пе-
реработки информации человеком, приводящие к установле-
но связей между словами и разносторонним опытом ин-
дивида, к формированию того, что стоит за словом в «речи
ддя себя» и в «речи для других». Это, в частности, позволит
перейти от умозрительных построений к опоре на научные
факты и тем самым избежать упрека в том, что «лингвисти-
ку научает язык в основном посредством построения его
функциональных моделей, чаще всего даже не ставя вопрос
о реальных процессах, на основе которых человеком осуще-
ствляется построение и понимание высказываний, описывае-
мых этими моделями» (Лурия, 1975а, с. 4).
2.5. В качестве отправного пункта для обсуждения по-
ставленной проблемы возьмем работу И. М. Сеченова «Эле-
менты мысли» .(здесь и далее ссылки по изданию: Сеченов,
1953). Прослеживая процесс развития мышления ребенка,
Сеченов детально показал, как происходит становление тех
глубинных чувственных образов («чувственных конкретов»),
а затем — тех представлений н понятий (или «абстрактов»),
для обозначения которых человеку необходимы средства
«внешней символизации», в их числе — слова. Продемон-
стрировав на ряде примеров, как впечатления от много-
кратных встреч с предметами и явлениями объективной дей-
ствительности (или «предметного мира», по выражению са-
мого-Сеченова) сливаются у ребенка в «средние итоги», по
смыслу представляющие собой «единичные чувственные об-
разы или знаки, заменяющие собой множество однородных
иредметов» (с. 292), Сеченов рассматривает развитие спо-
собности ребенка выделять из предметов более и более мел-
кие части и признаки, непрестанно сочетая процессы ана-
лиза и синтеза и сравнения или классификации. При этом
Сеченов неоднократно подчеркивает, что «сочетание элс-
Я.ентов впечатлений в группы и ряды, равно как различение
сходств и разниц между предметами, делается само собой»
(с. 344), независимо от воли и соображения (с. 309).
'Подробно анализируя закономерности перехода ребен-
ка от предметного мышления к мышлению отвлеченному,
Сеченов указывает, что последнее составляет естественное
продолжение предшествующих фаз, а овладение словесной
<Жмволизацией претерпевает длительную эволюцию. По мне-
нию Сеченова, проходит немало времени, прежде чем ребе-
Нок -отличит «кличку» предмета от природных свойств пос-
ЧйДнего. При этом различение имени целого предмета от
иМени его свойств имеет место параллельно с отвлечением от
предметов их признаков.
Сеченов неоднократно указывает, что слово усваивает-
9я<тогда, когда в нем возникает необходимость: «Позднее,
I* 67'
когда начинается в голове, помимо обучения, дробление и
классификация цельных предметов и отвлеченных от них
частей, признаков и отношений, является потребность новых
обозначений; и в речи, развивавшейся века параллельно и
приспособительно к мышлению, потребность находит гото-
вое удовлетворение» (с. 304). Следует, очевидно, уточнить,
что такое «дробление» может идти и «от слова», в процессе
обучения, когда через речевую коммуникацию внимание
ребенка кош центрируется на специфических признаках пред-
метов или па сложных, трудно доступных прямому наблюде-
нию связях или отношениях. Однако приходится согласить-
ся с Сеченовым, когда он утверждает: «...для того, чтобы
символическая передача фактов из внешнего мира усваива-
лась учеником, необходимо, чтобы символичность передавае-
мого и по содержанию и по степени соответствовала проис-
ходящей внутри ребенка, помимо всякого обучения, симво-
лизации впечатлений» (с. 290).
Сеченов также отмечает, что полное отделение имени от
именуемого происходит в результате постепенного отщепле-
ния звуковых членов от тех чувственных групп, с которыми
они ассоциированы. Однако, продолжая оставаться членами
таких ассоциированных групп, имена могут воспроизводить-
ся сами, когда намек дан другими членами, и могут, нако-
нец, отвлекаться подобно остальным признакам» (с. 304 -
305). Подчеркивая роль слова как средства фиксации в соз-
нании элементов внечувственного мышления, лишенных об-
раза и формы, Сеченов неоднократно указывал на наличие
постоянных и многообразных связей между словесным мыш-
лением и чувственным познанием и трактовал мышление в
качестве высшей ступени единого познавательного процесса.
Справедливость указания Сеченова на первичность ос-
воения «предметного мира» по отношению к символизации
переработанных впечатлений посредством слова блестяще
подтверждена ныне результатами формирования интеллекта
и речи у слепоглухонемых детей, предметно-практическая
деятельность которых (совместно со взрослыми) создает ба-
зу для усвоения сначала жестового, а затем и словесного
языка (см.: Ильенков, 1977а, 19776; Сироткин, 1977). Уста-
новлено также, что наглядно-действенное мышление высту-
пает не только как определенный этап умственного разви-
тия человека, но и как самостоятельный вид мыслительной
деятельности, совершенствующийся на протяжении всей жиз-
ни индивида (Поддьяков, 1977); в повседневной деятельнос-
ти человека неразрывно взаимосвязаны все виды мышления:
практически-действенное, наглядно-образное и словесно-ло-
гическое, что проявляется в постоянных взаимоперехрдах
одного вида мышления в другой и в трудности (а подчас и
невозможности) провести грань между наглядно-образным
68
| словесно-логическим мышлением (Общая психология, 1981,
|Й5Э).
’ \ Высказывания Сеченова полностью согласуются с резу-
льтатами современных исследований, связанных с выявле-
нием закономерностей восприятия и памяти. Так, Р. М. Гра-
бовская (1974, с. 84) отмечает, что «слово само ость резуль-
дет многократного обобщения признаков объектов, нс имею-
щих словесного обозначения, и для его формирования вос-
приятие и память должны пройти в процессе обучения все
степени .постепенного перехода от локальных к глобальным
цризнака.м конкретных ситуаций, еще не получивших свое-
го наименования». Н. И. Чуприкова (1'980, с. 20--21) указы-
вает, что разнообразные и тонко дифференцированные ощу-
щения (вкусовые, болевые, температурные, зрительные, слу-
ховые и т. д.) приводят к формированию специфических
Паттернов возбуждения на уровне коры больших полушарий;
такие корковые паттерны связываются у человека и с соот-
ветствующими словами (сладкий, горький, круглый, холод-
ный и т. п.). «Эти многочисленные паттерны, связанные со-
словом, и представляют собой реальный нервный субстрат
того богатства самых разнообразных осознанных чувствен-
ных впечатлений, которые человек получает из внешнего
мира и со стороны своего собственного тела» (Чуприкова,
1980, с. 21). К. Н. Григорян (1972, с. 192) по итогам экспе-
риментального исследования операциональной структуры об-
разного мышления приходит к выводу, что предъявляемое
испытуемым слово вызывает восстановление (реинтеграцию)
огромной системы связей, отображающих ситуацию, эмо-
циональные состояния, представления ощущений, комплексы
образов предметов, действий, понятий и слов, которые встре-
чались человеку в его опыте, однако в сознание пробивают-
ся лишь отдельные обрывки такой «разбуженной» системы.
А. Р. Лурия неоднократно указывает, что «каждое слово име-
ет сложное значение, составленное как из наглядно-образ-
ных, так и из отвлеченных и обобщающих компонентов»
(Лурия, 19756, с. 23), при этом «называние предмета впле-
тено в целую сеть или матрицу возможных связей, куда вхо-
дят и словесные обозначения различных качеств предмета, и
обозначения, близкие по своей звуковой или морфологичес-
кой структуре» (Лурия, 1973, с. 301); овладевая словом, че-
ловек «автоматически усваивает сложную систему связей
И. отношений, в которых стоит данный предмет и которые
сложились в многовековой истории человечества» (Лурия,,
19756, с. 22). Введенное Сеченовым разграничение слов-сим-
волов первого, второго и т. д. порядков (в соответствии с
различиями в степени обобщения конкретных явлений, обоз-
начаемых такими словами) согласуется с детально просле-
женной М. М. Кольцовой (1967) картиной развития у ребен:
69
ка слов-интеграторов различных степеней (I — слово экви-
валентно чувственному образу предмета; II — слово заме-
щает несколько чувственных образов от однородных предме-
тов; III — слово замещает несколько чувственных образов
от разнородных предметов; при IV степени интеграции в
слове сводится ряд обобщений предыдущей степени). По
мнению Н. И. Чуприковой (1978, с. 61), результаты такого
обобщения служат базой для процесса абстрагирования, а
продукты абстракции могут и должны подвергаться даль-
нейшей обработке, ведущей к обобщениям еще более высо-
кого порядка. При этом Чуприкова подчеркивает, что основ-
ные теоретические положения труда Сеченова «Элементы
мысли» могут успешно. формулироваться и разрабатываться
на основе достижений современной физиологии мозга (Там
же, с. 64).
На основе рассмотренных выше моментов складывается
следующее представление о влиянии путей становления лек-
сикона на специфику его единиц.
Прежде всего необходимо подчеркнуть, что образы слов
(—словоформы) усваиваются и наличествуют в лексико-
не в совокупности с определенными «чувственными группа-
ми», субъективно переживаемыми в качестве «з-начений» или
«смыслов» этих слов. При дальнейших рассуждениях мы
будем исходить из того, что, согласно Сеченову, и слово, и
разные члены чувственных групп подвергаются неосознавае-
мым процессам анализа, синтеза и сравнения или классифи-
кации, взаимодействуя при этом с продуктами переработки
ранее воспринятых впечатлений. Эти процессы идут по двум
ведущим направлениям: во-вервых, происходит разложение
на признаки и признаки признаков; во-вторых, имеет место
ведущее к все более высоким степеням обобщения отвлече-
ние от различающихся признаков. Указанные процессы, ко-
торые мы будем далее называть процессами дифференциро-
вания и интегрирования, приводят к формированию двух
типов единиц; дифференциальных .признаков и различаю-
щихся по степени интегративности единиц обобщающего ха-
рактера, ср. с указанием Г. П. Мельникова (1978, с. 270)
на существование «многоступенчатого абстрагирования, при-
водящего к возникновению обобщенных признаков различ-
ных уровней абстракции». При этом заметим, что результа-
ты (продукты) рассмотренных выше процессов могут нахо-
дить или не находить выход в «окно сознания». Одним из
средств такого выхода является наличие в языке социума
слова для обозначения соответствующего признака или опре-
деленной единицы соответствующей степени интегративнос-
ти; частью единиц обоих типов индивид оперирует посредст-
вом обозначения их в некотором субъективном коде, понят-
70
ши в «речи для себя» ('при необходимости перехода к «ре-
чяухля других» такие единицы могут более или менее успеш-
но передаваться описательным путем); несомненно наличие
,ц таких единиц, которые функционируют только в подсоз-
нательно протекающих процессах анализа, синтеза и срав-
нения или классификации и не поддаются вербализации или
какой-либо другой внешней символизации именно в силу то-
го, что они остаются «за кадром».
Если учесть, что объектами описанных в общей форме
процессов дифференциации и интеграции являются и слова,
и различные члены чувственных групп, и соотношения меж-
ду словами и всеми взятыми в совокупности членами соот-
ветствующих чувственных групп, и соотношения между пер-
выми, вторыми и третьими и продуктами переработки пред-
шествующего опыта, то становится очевидным многообразие
получаемых в результате таких процессов продуктов, бла-
годаря которым слово включается в широкую сеть много-
сторонних связей и отношений, потенциально лежащих за
словом, подсознательно учитываемых индивидом, но актуа*
лизующихся только в случаях необходимости. В работе (За-
левская, 1977, с. 27) указывается, что в число таких про-
дуктов должно, по всей видимости, входить сведение резуль-
татов переработки отдельных членов чувственной группы к
единому коду, обеспечивающему отвлечение значения слова
от его непосредственных чувственных корней и его дальней-
шее использование в качестве орудия абстрактного мышле-
ния. Поскольку полученные таким образом единицы в свою
очередь становятся объектами процессов дифференцирова-
ния и интегрирования, они-то и дают в качестве «продуктов
продуктов», с одной стороны, то, что принято называть се-
мантическими признаками, а с другой — семантические еди-
ницы разных уровней интегративности, являющиеся резуль-
татами обобщения разных степеней при отвлечении от раз-
личающихся семантических признаков. Последнее объясня-
ет формирование своеобразных «семантических комплексов»,
реализуемых в специфическом коде и вовсе нс связанных с
«сокращенностью словесного выражения», приводящей «ко
все большему сгущению смысла в одном слове или даже на-
меке на слово» (Соколов, 1968, с. 101). Добавим, что ста-
новится понятным и феномен «синонимии смыслов»: на оп-
ределенной ступени генерализации продукты переработки
разных исходных данных могут совпадать, т. е. переживать-
ся как идентичные.
'Сведение разных членов чувственных групп в едином
'коде не исключает ни возможности их актуализации, ни па-
раллельного протекания процессов дифференцирования и
‘^Интегрирования по линии любого из этих членов. Например,
^йавестно, что связанные со словом зрительные впечатления
71
at
могут интегрироваться в сложные мысленные образы, кото-
рые функционируют в качестве единиц более высокого по-
рядка, обеспечивая синхронное хранение обширного объема
информации, однако в случае необходимости исходные ком-
поненты могут быть вербально выведены на основании та-
кого интегрированного мысленного образа (см. Paivio, 1972).
Теперь можно соотнести некоторые итоги наших рассуж-
дений с выделенными на рис. 1 этапами процесса речемыс-
лительной деятельности. Следует прежде всего указать, что
обозначаемые блоками I—II—III процессы протекают пре-
имущественно на уровне неосознаваемой психической дея-
тельности; выход в «окно сознания» (в случае необходимос-
ти) получают продукты этих процессов, обозначенные плос-
костями 1—2—3, и те звенья самих процессов, которые по-
требовали коррекции из-за рассогласования между плани-
руемым и получаемым результатом того или иного промежу-
точного этапа деятельности.
Выше уже отмечалось, что процесс построения образа
результата деятельности вероятнее всего реализуется в уни-
версальном коде. Специфичность этого кода определяется
его способностью суммировать результаты переработки ин-
формации, получаемой по разным каналам связи, и тем са-
мым обеспечивать перекрестную связь между разнокодовы-
ми элементами информационного тезауруса человека. Резуль-
тат названного выше процесса может находить выход в
«окно сознания»; средствами такого выхода, по всей види-
мости, могут быть и упоминавшиеся ранее мысленные об-
разы, и единицы высокой степени интегративности, имеющие
корреляты в вербальном коде или обозначаемые с помощью
закрепляемых за ними единиц субъективного кода. В любом
случае продукт первого этапа речемыслителыюго процесса
представляет собой компрессию смысла предстоящей дея-
тельности.
Следует указать, что предлагаемая трактовка специфи-
ки начального этапа речемыслительного процесса позволяет
объяснить ряд моментов, обычно выносимых другими авто-
рами за пределы рассмотрения как не входящих в компетен-
цию лингвистики, хотя освещение таких моментов является
необходимым для решения явно лингвистических проблем.
Так, стремление ряда авторов ограничить свою задачу ана-
лизом «собственно языковых явлений», как правило, при-
водит к довольно странной ситуации: совершенно не ясно,
откуда берется та «абстрактная структура», которая через
ее лексическое наполнение воплощается в высказывании.
Как подчеркивается в работе (Залевская, 1977, с. 29), рас-
смотренный выше подход позволяет показать, что постули-
руемая в лингвистических моделях «.порождающего процес-
са» глубинная структура независимо от того, сводится ли она
72
ИЬтаксичеекому построению или допускает наличие семан-
ИКкого компонента, вовсе не является первичным образо-
шём — она представляет собой «развертку» образа ре-
Яьтата деятельности, экспликацию заложенного в этом об-
gHg» смысла. К тому же становится очевидным, что
ЯЕгл этот является сложным продуктом взаимодействия
.факторов — как объективных, так и субъективных, оп-
ЗКеляющих тот «угол зрения», под которым вступает в
Зугтвие многосторонний предшествующий опыт индивида.
Более того, первичность феномена компрессии смысла
.^йимает. как указано там же, проблему приоритета синтак-
или словаря: и первый, и второй оказываются сред-
инами формирования мысли при развертке образа ре-
зультата речемыслительной деятельности. Сделанное заклю-
чение не мешает предположить, что в случаях, когда продукт
Г-то этапа речемыслителыной деятельности получает выход
з <окно сознания» в вербальном коде, компрессия смысла
передается с помощью единиц лексикона, характеризующих-
<31 наивысшей степенью интегративности. Именно в силу сво-
<еи интегративности такие единицы не нуждаются в синтакси-
ческой организации, лишь далее такая единица получает
рЛзаертку через ряд единиц менее высокого уровня (или
уровней) интеграции, и тогда выбор способа их комбиннро-
вания становится актуальным. Однако в последнем случае
речь идет не о приоритете словаря в процессе речемысли-
тельной деятельности, а лишь об исключительной сложности
структуры речевой организации человека и о необходимости
учета специфики ее компонентов и особенностей их взаимо-
действия.
Сказанное выше наглядно свидетельствует о том, что
лексический компонент играет в речевой организации чело-
зека не меньшую роль, чем ее грамматический компонент,
•а их взаимодействие в процессе формирования смысла при-
водит к выводу, что единицам .разного уровня интегративнос-
ти должны соответствовать и специфические виды «синтак-
сиса» (как мы уже видели, для единиц высшего уровня ин-
тегративности синтаксис является нулевым). При этом сле-
Дует подчеркнуть важность четкого разграничения правил
-Комбинирования, которые подразумевают оперирование еди-
ницами одного и того же порядка (это соответствует син-
таксису в трактовке Т. В. Ахутиной, 1975), и стратегий пе-
рехода от единиц одного уровня интегративности к единицам
Дутого, более низкого уровня интегративности (что, по
Жёй видимости, соотносится с синтаксисом в трактовке С. Д.
ЖРЙнельсона, расшифровывающего это понятие как «меха-
Жзм преобразования структур одного порядка в структуры
•Другого порядка» — Кацнельсон, 1972, с. 423). Уточним, что
Щрйбинирование подразумевает упорядочение по определен-
> 73
ным прескриптивным правилам, в то время как стратегия
предполагает наличие ряда степеней свободы выбора, что
объясняет возможность эвристического поиска в процессе
многоэтапной развертки образа результата речамыслмтель-
ной деятельности. С помощью рис. 1 сделана попытка отоб-
разить продуктивность предложенной интерпретации взаи-
модействия правил комбинирования тех или иных единиц и
стратегий межкодовых переходов: именно принцип выбора
стратегии перехода от смыслового кода к внешнеречевому
объясняет возможность реализации одной и той же смыс-
ловой программы с помощью различных языковых средств.
Возвращаясь к проблеме единиц, фигурирующих .на по-
следующих этапах речемыслительной деятельности, можно
высказать предположение, что «развертка» образа результа-
та в процессе смыслового программирования должна про-
исходить в единицах более низкого уровня интегративности
(не исключается вероятность ряда межуровневых переходов
в рамках одного и того же кода). При этом неизбежно взаи-
модействие двух типов единит — продуктов процессов диф-
ференцирования и интегрирования, что определяется самой
сущностью формирования смысла при его развертке: любая
попытка конкретизации образа результата деятельности тре-
бует дифференцирования сходных по определенным парамет-
рам единиц более низкого уровня интегративности и приня-
тия решения о том, какая из них адекватно развертывает
замысел. Что касается перехода от смысловой программы к
ее реализации во внешнеречевом коде, то наши представле-
ния о том, как этот переход происходит, в принципе совпа-
дают с изложенной выше точкой зрения А. А. Леонтьева.
Таким образом выясняется, что на различных этапах
речемыслителыюй деятельности человека фигурируют еди-
ницы, являющиеся продуктами многократной и разносторон-
ней переработки слов и соответствующих им чувственных
групп и в то же время обусловливающие функционирование
слова как средства актуализации этих продуктов. С этой точ-
ки зрения оказывается оправданным определение лексикона
как системы кодов и кодовых переходов, обеспечивающих
реализацию процессов формирования смысла при производ-
стве речи и извлечение смысла из воспринимаемого сообще-
ния при слушании или чтении.
2.6, Рассмотренный выше материал позволил не только
уточнить, что именно понимается под лексиконом человека,
но и построить некоторые предположения относительно тео-
ретически возможных оснований для связи между единица-
ми лексикона.
Так, во-первых, выяснено, что- субъективный лексикон
является лексическим компонентом речевой организации
74
Человека и как таковой характеризуется всеми специфичес-
кими чертами, присущими последней.
, • Во-вторых, показана правомерность интерпретации лек-
сикона как системы кодов и кодовых переходов, функциони-
рующей в процессах речемыслительной деятельности чело-
века.
В-третьих, прослежены пути становления единиц лек-
сикона и освещены особенности переработки информации
Человеком, что в совокупности дает основания для трактов-
ки лексикона как одного из средств формирования информа-
ционного тезауруса индивида и важнейшего средства досту-
па к этому тезаурусу в целях использования его в разного
рода деятельности.
Каждое из этих определений лексикона с учетом специ-
фики единиц последнего имплицирует ряд положений, или
факторов, в принципе обусловливающих структуру лексико-
на. При обсуждении таких положений будут учитываться не
только приведенные определения лексикона, но и разнород-
ная дополнительная информация, фигурировавшая выше.
Начнем с того, что, будучи системой кодов и кодовых
переходов, лексикон должен иметь многоярусное строение
•со сложной системой внутриярусных и межъярусных связей,
-а основания для организации единиц более или менее «глу-
бинных» ярусов должны различаться по степени их доступ-
ности для вербализации.
Будучи по своей сути функциональной динамической
бистемой, лексикон подвергается постоянной переорганиза-
ции, что не исключает возможности выявления некоторых
•общих организующих принципов, обеспечивающих готов-
ность лексикона к использованию его индивидом.
Трактовка лексикона как средства доступа к информа-
ционному тезаурусу человека заставляет предположить, что
Ш качестве двух ведущих направлений его организации долж-
ЦЫ лежать, с .одной стороны, логика упорядочения знаний о
ЗИфе, а с другой — логика "хранения языковых знаний —
аготя идонуекатотцая наличие некоторых универсальных тен-
"ШВнций, но в определенной мере подверженная влиянию
:‘М»ыка и культуры членов отдельных социумов. Можно пола-
^ГЭТЬ, что последнее должно находить свое отражение в ха-
|рактере и/или в значимости того или иного вида внутриярус-
связи для носителей разных языков, в то время как
ЙЙЖъярусные связи, или кодовые переходы, должны в прин-
отражать единые для носителей всех человеческих язы-
Ifijb закономерности перекодирования слов на смысл (и на-
оборот).
Е. Сама постановка вопроса о наличии процессов пере-
кодирования предполагает существование не менее двух
Йфуюов лексикона: яруса словоформ и яруса смыслов. По-
75
скольку слово имеет как звуковую, так и графическую фор-
му, первый из названных ярусов должен подразделяться на
два «подъяруса». Связь между их единицами не всегда яв-
ляется однозначной (ср. широко известные явления омофо-
нии при различии написания слов или омографии при рас-
хождении звуковых образов слов). Ярус смыслов должен
иметь значительно более сложное строение не только пото-
му, что он может включать ряд подъярусов (кодовых пере-
ходов), но и потому, что словоформа может оказаться на-
прямую связанной с разнородными (продуктами предшест-
вующего чувственного опыта индивида (ср. обсуждавшиеся
выше пути становления лексикона и приведенные там же
высказывания ряда исследователей о характере вызываемых
словом связей}. Последнее свидетельствует о сложности л
разнообразии межъярусных связей, благодаря которым через
единицы яруса словоформ может осуществляться доступ к
информационному тезаурусу человека.
Можно также высказать некоторые предположения с
специфике более частных .принципов организации единиц ос-
новных ярусов лексикона.
Поскольку лексикон является продуктом переработки
речевого опыта человека, в его поверхностном ярусе должны
храниться единицы разной протяженности — от отдельных
словоформ до типовых фраз, частотность употребления ко-
торых приводит к целостному «переживанию» последних ин-
дивидом без расчленения их на составляющие элементы.
Можно предположить, что в основе организации единиц это-
го яруса должны лежать некоторые формальные признаки
(например, общность звуковой или графической формы).
В основе организации единиц глубинного яруса лекси-
кона должны, в отличие от этого, лежать принципы содер-
жательного характера, являющиеся продуктами процессов
дифференцирования и генерализации на основе многократ-
ной перегруппировки разнородных элементов речевого и
прочего опыта человека в ходе анализа их по ряду призна-
ков и признаков признаков (ср. высказывания И. М. Сече-
нова о процессах анализа и синтеза, сравнения или класси-
фикации). Следует уточнить, что рассмотренная выше спе-
цифика становления единиц лексикона параллельно с фор-
мированием определенных чувственных групп предполагает
упорядочение единиц глубинного яруса, в частности, на ос-
нове таких (не входивших ранее в компетенцию лингвисти-
ки) принципов, как вызываемые словами наглядные обра-
зы, предметные действия, эмоциональные состояния и т. и.
Поскольку информационный тезаурус человека хранит
многообразие сведений об окружающем мире, он должен от-
ражать четко сформулированное В. И. Лениным положение
о гром, что «отношения каждой вещи (явления etc.) не толь-
76 .
многоразличны. но всеобщи, универсальны. Каждая вещь
.^явление, процесс etc.) связаны с каждой» (Т. 29, с. 203).
JjpH этом известно, что «чем в большее число разных отно-
шений, в большее число разных точек соприкосновения мо-
дкет быть приведена данная вещь к другим предметам, тем
ЗВ большем числе направлений она записывается в реестры
памяти» (Сеченов, 1953, с. 255). В то же время язык пред-
ставляет собой специфическое явление, и часть параметров,
лежащих в основе связей между единицами глубинного яру-
са лексикона, должна быть продуктом переработки языковых
знаний, взаимодействующих с энциклопедическими знаниями,
< продуктами эмоционального опыта индивида и с системой
принятых в соответствующем социуме норм и оценок. Сказан-
ное предполагает многообразие путей идентификации вос-
ириннмаемого индивидом слова и множественность парамет-
ров, лежащих в основе связей между единицами лексикона.
При постановке задачи обнаружения таких параметров
необходимо учитывать, что специфика лексикона как компо-
нента психофизиологической речевой организации человека
.Не 'Позволяет ограничиваться при его исследовании примене-
нием лишь лингвистических методов. Далее рассматривают-
ся основные результаты реализованной нами программы пси-
холингвистических экспериментов.
ГЛАВА 3
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
СПЕЦИФИКИ ЛЕКСИКОНА И ПРИНЦИПОВ
ТУГО ОРГАНИЗАЦИИ
3.0. Вводные замечания (77). 3.1. Организация экспериментов по сво-
•бддному воспроизведению слов родного и иностранного языков (78). 3.2.
Xtattf ошибок при свободном воспроизведении слов родного языка (78).
•3.% Типы ошибок при воспроизведении иноязычных слов (83). 3.4. Прин-
Ципы группировки слов при их свободном воспроизведении (85). 3.5. Осо-
•беКИости группировки иноязычных слов при их свободном воспроизведе-
нии (90). 3.6. Некоторые итоги межъязыкового сопоставления структуры
•ассоциативных полей (93). 3.7. Логическая структура ассоциативного по-
ля (103). 3.8. Связи импликативного типа (по материалам «Ассоциатив-
иного тезауруса английского языка») (НО). 3.9. Некоторые национально-
культурные особенности ассоциативных связей (120).
3.0. Излагая результаты проведенных экспериментов,
ограничимся обсуждением лишь основных моментов, наибо-
лее интересных с точки зрения раскрытия специфики единиц
чПёясикона и выявления принципов его организации. Это объ-
ясняет некоторую фрагментарность описания реализованной
программы исследования. Избранная последовательность из-
^Ложения (от экспериментов на свободное воспроизведение
вербального материала к свободным ассоциативным экспе-
риментам) вызвана не только хронологией (первые из рас-
сматриваемых экспериментов проводились раньше других),,
но и обнаружившимся при анализе материалов этих экспе-
риментов следующем факте: свободный ассоциативный экс-
перимент позволяет выявить наиболее широкий спектр свя-
зей, представляющих особый интерес для целей предприня-
того исследования. По этой же причине материалы свобод-
ных ассоциативных экспериментов обсуждаются более дета-
льно.
3.1. Специфика свободного (т. е. не ограниченного ка-
ким-либо заданием) воспроизведения слов родного и иност-
ранного языков исследовалась нами с помощью эксперимен-
тов, проведенных со студентами вузов Алма-Аты и 'Калинина*
(см. Залевская, 1969, 19'73). Испытуемым предлагалось пись-
менно воспроизвести запомненные ими (без предваритель-
ной установки на запоминание!) русские или английские сло-
ва, ранее предъявлявшиеся в качестве исходных слов сво-
бодного или направленного ассоциативного теста. Выполне-
ние ассоциативного теста, служившего в данном исследова-
нии промежуточной ступенью более широкой эксперимента-
льной программы, будем далее называть первым этапом ра-
боты испытуемых, считая вторым и третьим этапами соот-
ветственно немедленное или отсроченное (через две недели)
воспроизведение исходных слов. Сопоставление слов, запи-
санных испытуемыми на II и 111 этапах, с действительно
предъявлявшимися на I этапе словами позволило обнару-
жить допущенные испытуемыми ошибки, в то время как со-
поставительный анализ ошибочно записанных слов и мате-
риалов ассоциативного теста (исходных слов и полученных
на них ассоциативных реакций) служил средством выявле-
ния причин допущенных ошибок. Анализ последовательнос-
ти воспроизведения правильно и ошибочно записанных слов
был предпринят для исследования принципов их группиров-
ки и для обнаружения путей поиска в памяти слов родного
и иностранного языков. Полученные данные обсуждаются
ниже раздельно для условий оперирования словами родного
(калининский эксперимент) и иностранного (алма-атинский
эксперимент) языков.
3.2. Ошибочно записанные испытуемыми слова родного
(русского) языка были первоначально подразделены на три
группы. К группе А были отнесены случаи, когда вместо
исходных слов или наряду с ними .были записаны слова,
фигурировавшие на I этапе эксперимента в качестве высо-
кочастотных ассоциатов к одному или более исходному ело-
* Ныне г. Тверь. Далее в тексте изменения не вносятся.
?8
'^у. В группу Б вошли слова, не встретившиеся .на I этапе,
jho принадлежащие к той же семантической .группе, что и
исходное слово, вместо которого или попутно с которым они
•были записаны. Группу В составили случаи неточного вос-
произведения значения исходных слов (см. примеры всех
трупп ошибок в табл. 1).
Таблица 1
Основные типы ошибок при свободном воспроизведении слов
родного языка
Исходные слова
Ошибочно записанные слова
_А МОЛОДОЙ, СТАРЫЙ, ГОЛОДНЫЙ человек
ХОЛОДНЫЙ ветер
КВАДРАТНЫЙ, КРУГЛЫЙ, СТУЛ стол
ГОЛОДНЫЙ волк
ЖЕНЩИНА. ДЕВОЧКА красивая
ЧИТАТЬ, взять книга
Б БРАТ сестра
МАТЬ, ОТЕЦ родители
ДЕНЬ, НОЧЬ утро
БЕЛЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, СИНИЙ, серый, черный, зеленый
КРАСНЫЙ
ЖИВОЙ, жизнь жить
СИДЕТЬ, СТОЯТЬ лежать
взять ПОЛОЖИТ!»
ГОВОРИТЬ молчать
ПОЛУЧАТЬ посылать
В ПУТЬ дорога
ОРЕЛ сокол
КРОЛИК заяц
1 СОБАКА пес
ЛОШАДЬ конь
ЛЮДИ народ
ГОРЯЧИЙ жаркий, теплый
БОЛЬШОЙ огромный
ТЯЖЕЛЫЙ трудный
КВАДРАТНЫЙ четырехугольный
МОЛОДОЙ юный, юноша
ВЗЯТЬ брать
идти ходить
Такое разделение на группы является в достаточной мере условным,
.поскольку одно н то же ошибочно записанное слово может оказаться
jJWCbMa частым ассоциатом к одним исходным словам, будучи близким по
качению к другим и относясь к общей с третьими семантической группе
микросистеме. В каждой из названных групп может быть выделен ряд
РяЖгрупп, поддающихся классификации по логическому, семантическому
Й* пРОчим принципам (ср. пары координированных компонентов пары ти-
|В>цБРАТ — сестра с подведением под суперординату: МАТЬ, ОТЕЦ —
Ж^Цтели, а также синонимические подмены типа ПУТЬ — дорога с про-
Живовоставлением по типу ГОВОРИТЬ — молчать, с разграничением сте-
79
пени одного и того же качества типа ГОРЯЧИЙ — теплый или с разли-
чиями в значении глаголов в зависимости от наличия или отсутствия реа-
лизации в них признака совершенности / несовершенности действия типа
ВЗЯТЬ — брать).
Дальнейший анализ полученных материалов привел нас
к выводу, что все зарегистрированные ошибки можно под-
разделить на две основные группы, различающиеся в зави-
симости от того, были ли они записаны в добавление к
предъявлявшимся в эксперименте словам или вместо них
Первые из них было решено назвать «приписками», а вто-
рые — «подменами». Следует отметить, что в ходе бесед с
участниками обсуждаемых экспериментов одни испытуемые
утверждали, что им было предъявлено в качестве исходно-
го слова ошибочно воспроизведенное ими слово, другие на-
стаивали на том, что в ассоциативном тесте фигурировали
оба слова — и правильно записанное, и дописанное в связи
с ним; третьи же заявляли, что они совершенно правильно
отразили смысл предъявлявшегося в эксперименте слова,
хотя они не могут с полной уверенностью сказать, что вос-
произведено именно то слово, которое было исходным. Ко-
нечно, некоторые ошибочно записанные слова могли оказать-
ся для одних испытуемых приписками, а для других — под-
менами, тем не менее такая классификация представляется
отражающей разные .механизмы поиска слова при его вос-
произведении.
Так, сутьп р и п и с о к состоит в том, что благодаря актуа-
лизации некоторого признака или набора признаков искомо-
го слова в памяти испытуемых всплывают и нужное слово,
и какое-то другое, также характеризующееся этим призна-
ком слово. Как видно из примеров, приведенных в табл. !.
при воспроизведении слов родного языка в таких случаях
находят проявление признаки разных типов. Особое место
при этом занимает признак принадлежности к некоторой
семантической микросистеме, что наиболее четко прояви-
лось, когда в добавление к нескольким включенным в исход-
ный список членам таких микросистем испытуемые дописали
недостающие члены (ср. примеры приписанных цветообоз-
начений). Высокочастотные ассоциаты, ошибочно записанные
на II и III этапах эксперимента, также попадают в разряд
приписок, однако в таких случаях решающими факторами
для воспроизведения их испытуемыми могли явиться, с од-
ной стороны, тесная ассоциативная связь между исходным
словом и реакцией, а с другой — то, что исходные слова
только прочитывались, а ассоциаты записывались в ходе 1
этапа эксперимента, что способствовало лучшему запомина-
нию последних.
В отличие от приписок, которые могут быть более или
менее тесно связанными с действительно предъявлявшимися
80
в эксперименте словами, семантические подмены
отражают иной механизм поиска слова. И если примеры А
и Б могли фигурировать как в дополнение к исходным сло-
вам, так и вместо них, то примеры В всегда являются толь-
ко подменами. Это происходит потому, что в таких случаях
испытуемые уверены в правильности передачи смысла иско-
мого слова. Установленные нами факты такого рода хоро-
шо согласуются с мнением А. А. Смирнова (1966) о том, что •
общий смысл слов, имеющих большое количество «замени-
телей», в частности — синонимов, в обычных условиях за-
поминается легко и свободно, но сами слова так же легко>
и свободно подменяются другими, близкими к ним по смыс-
лу. Подобные подмены встречаются в повседневной жизни
(ср. наблюдавшийся нами случай, когда замечание студент-
ки-практикантки по ходу урока — «Лебедева и Орехов, пе-
рестаньте разговаривать!» — вызвало дружный смех ребят,
поскольку в действительности фамилии этих учеников были;
Гусева и Грецкий). Таким образом, обнаружившиеся в на-
шем эксперименте факты отражают, по всей видимости, не-
которые общие закономерности идентификации и перекоди-
рования на смысл воспринимаемого человеком слова.
Следует указать, что о независимости запоминания мыс-
ли от слов, давно установленной экспериментами, говорил в,
свое время Л. С. Выготский. Тривиальным подтверждением
правильности идеи перекодирования Н. И. Жинкин считал
процесс чтения текста, когда читающий, как правило, по-
может передать прочитанное слово в слово, но способен пе-
ресказать смысл прочитанного своими словами; ср. также:
«прочитанная часть текста перекодируется на смысл и в осо-
бых сигналах или хранится или вводится в дальнейшую об-
работку» (Жинкин, 197-0, с. 84). Как показывает наш экспе-
риментальный материал, такое перекодирование совершает-
ся и в условиях оперирования отдельно взятым словом.
Вернувшись к данным табл. 1, отметим, что примеры:
группы В позволяют проследить ход тех же процессов, ко-
торые были рассмотрены А. Е. Кибриком и А. А. Ложки-
ной (1969). При повторении услышанных в процессе их экс-
перимента предложений имела место замена слов синонима-
ми или словами с близким, но не идентичным набором се-
мантических дифференциальных признаков. При утрате не-
которых элементарных значений происходила замена исход-
ного слова словом более общего значения. В некоторых слу-
чаях наблюдалась противоположная картина — при повто-
рении появлялись такие значения, которые не были экспли-
цитно выражены в исходном предложении, но семантически
выводимы из него. А. Е. Кибрик и А. А. Ложкина дали сле-
дующее объяснение причин таких замен: исходное содержа-
ние услышанных предложений перекодировалось на «внут-
- 6. Заказ 830
81:
ренний» язык аудитора в форме, в которой значение состав-
ляющих единиц расчленялось на некоторые параметры. На-
бор этих параметров мог быть неполным по сравнению с
входным набором, поэтому при воспроизведении (т. е. при
переводе с «внутреннего» языка на естественный) недостаю-
щий параметр мог заменяться другим. Такое же перекоди-
рование явно имело место в условиях описываемого нами
эксперимента. При более детальном анализе примеров за-
мены исходных слов синонимичными или близкими по зна-
чению словами можно не только найти случаи, описанные в
цитированной выше работе, но н в принципе свести их к
ошибкам излишней генерализации или недостаточной диф-
ференциации.
Таблица 2
Основные типы ошибок при свободном воспроизведении слов
второго языка
.№ при Исходные
меров слова
На II этапе
Примеры ошибочно записанных слов
На III этапе
1 SEE sea sea
2 LIGHT bright, sight bright, right
3 LOOK took cook
4 BOY toy toy
5 YELLOW fellow fellow
6 CAT hat, fat, mat hat
7 I. WE, THEY he, me. she, my. their, our he, she, my, his, our, them
8 ON, FOR with, at, in, to out, up in, with, about, at, out, by
9 WHO what, why, how
10 FACE eye, hair eye, hair, ear, teeth, month
11 MOTHER. FATHER aunt, grandfather wife, husband
12 RED, BLUE, WHITE black, green green, black, grey, brown
13 TIME, HOUR minute, second, late early
14 DAY, NIGHT — morning, evening
15 LITTLE small small
16 ROAD way way. street, path
17 BIG large large
18 HOT warm warm
19 GOOD — nice, well
20 FOOT leg —
21 SPEAK talk, tell —
22 CHAIR table table
23 SCISSORS knife knife
24 WRITE — pen, pencil
25 READ book book
:82
Тот факт, что обнаруженные нами тенденции согласуют-
ся с результатами эксперимента А. Е. Кибрика и А. А. Лож-
киной, чрезвычайно важен потому, что пути поиска в памя-
ти изолированного слова и слова в составе предложения ока-
зались в принципе сходными. Это подтверждает эффектив-
ность используемой нами экспериментальной процедуры. В
то же время полученные нами данные совпали с выводами
по исследованиям, в которых испытуемые ошибочно узнава-
ли (Underwood, 1965) или воспроизводили (Weingartner,
1964) слова, семантически или ассоциативно связанные с
действительно предъявлявшимися словами.
3.3. В отличие от известных нам исследований в облас-
ти узнавания или свободного воспроизведения вербального
материала, базирующихся на экспериментах в условиях опе-
рирования родным языком испытуемых, нами были также
рассмотрены особенности свободного воспроизведения слов
второго (иностранного) языка. Этот эксперимент подробно
описан в работе (Залевская, 1969). Примеры ошибочно за-
писанных испытуемыми английских слов приводятся в табл.
2, которая позволяет проследить сходство с выделенными
выше ошибками при воспроизведении слов родного языка,,
а также обнаружить некоторые тенденции, специфичные для
работы испытуемых с иноязычными словами.
Так, примеры 1—6 демонстрируют запись испытуемыми
слов, сходных с действительно предъявлявшимися в экспери-
менте словами но звуковой или графической форме. По-
скольку приписки (а тем более подмены) такого рода в
эксперименте со словами родного языка не встретились, на-
ми были детально рассмотрены ассоциаты, полученные на I
этапе эксперимента с двуязычными испытуемыми, которые
близки по созвучию или по графической форме к исходным
словам. Примеры таких ассоциатов к исходным словам, па
которые было дано наибольшее количество реакций по соз-
вучию или написанию, приведены в табл. 3.
Как видно из табл. 3, общность по звуковой и/или гра-
фической форме может сочетаться с общностью значения
исходного слова и ассоциата, а сходство звуковой или гра-
фической формы слов может быть более или менее полным
или весьма относительным (подчеркнем, что анализируют-
ся продукты неосознаваемых процессов установления сход-
ства между английскими словами с позиций носителя рус-
ского языка). Как бы то пи было, становится очевидным,
что ошибочная запись слов, в той или иной мере близких к
Исходным словам по звуковой или графической форме, яв-
ляется специфичной для условий работы с иноязычными сло-
вами;.и хорошо согласуется с тенденцией двуязычных испы-
туемых давать значительный процент свободных ассоциатив-
I* 8S
Таблица 3
Реакции по общности звуковой и/или графической формы,
исходных слов и ассоциатов
при- меров Исходные слова Кол-во реакций в % Примеры реакций
1 MOTHER 59,4 father, brother
2 FATHER 48,7 mother, brother, rather
3 OTHER 40,8 another, brother, father, nothing
4 GOAT 31,1 boat, coat, goal, road
5 LIGHT 29,7 bright, night, knight, might
6 RABBIT 29,7 habit, babbit, cabbage, parrot
7 SHEEP 29,7 ship, clean, East, leap, meet, meat
8 CAT 27,0 fat. hat, rat, brat
9 ROUND 27,0 around, about, sound, cloud
10 SHOW 27,0 snow, below, blow
411 WORD 24,0 bird, lord, god, short, shirt, sword
12 HEAR 21,6 bear, beer, dear, here, severe
13 WING 21,6 sing, wind, ring
14 HOUSE '18,9 mouse, horse
15 MOUSE li8,9 house, mouth, brouse
16 PIG 118,9 dig, twig, wig
17 LOOK 16,2 book, cook, took
18 MAKE 16,2 take, cake, shake, lake
19 NIGHT 16,2 light, fight, right
20 KNOW 16,2 snow, arrow, no
ных реакций но созвучию (см. подробнее Залевская, 1969;
-ср. также данные Л. В. Банкевича, 1981, с. 79, наблюдав-
шего смешение слов на основе фонетико-графических ассо-
циаций в 31,64% случаев от общего числа зафиксированных
ошибок припоминания русскими испытуемыми английских
•слов и словосочетаний).
Вернувшись к обсуждению табл. 2, обратим внимание
на то, что примеры 7—9 являются случаями ошибочной за-
писи слов, всплывших в памяти испытуемых в соответствии
с признаком принадлежности к разряду местоимений, пред-
логов и т. п. Будучи по своему характеру приписками, при-
веденные здесь ошибки отличаются, как мне представляется,
от примеров, которые ранее приводились в табл. 1 (группа
Б), поскольку в данном случае решающим для актуализа-
ции записанного слова оказался не лексико-семантический,
а грамматический признак. Примеры такого рода в услови-
ях воспроизведения слов родного языка не встретились.
Примеры 10—14 и 15—21 табл. 2 полностью соотносятся
с примерами групп Б и В табл. 1: это приписки по призна-
ку принадлежности к некоторой семантической микросисте-
ме (ср.: ЛИЦО — глаз, волосы, ухо, зубы, рот) и семанти-
ческие подмены (ДОРОГА — путь, улица, тропинка). При-
:84
мор 13 представляет особый интерес потому, что он отража-
ет' результаты сохранения в памяти испытуемых самого
общего лексико-семантического признака при утрате приз-
нака принадлежности слова к определенному грамматичес-
кому классу: исходные слова были существительными (ВРЕ-
МЯ, ЧАС), а в числе ошибок имеются наречия (поздно, ра-
но), не встретившиеся на 1 этапе эксперимента в качестве
ассоциатов (если бы они были там представлены, это дава-
ло бы основания трактовать записаншые испытуемыми анг-
лийские слова как прилагательные, ассоциативно связанные
с рассматриваемыми словами-стимулами).
Примеры 22—25 иллюстрируют совпадающую с усло-
виями воспроизведения слов родного языка тенденцию испы-
туемых записывать высокочастотные ассоциаты (ср. с груп-
пой А табл. 1). Выше уже отмечалось, что запись ассоциа-
та на 1 этапе эксперимента могла способствовать его запо-
минанию. К этому можно добавить, что, поскольку установ-
ка на запоминание исходных слов предварительно не дава-
лась, операция поиска ассоциата в ходе ассоциативного тес-
та могла оказаться для испытуемых более «рельефной», чем
операция идентификации исходного слова, что также отра-
зилось на лучшем сохранении реакций в памяти испытуе-
мых.
Установленные факты дают основания для ряда выво-
дов. Прежде всего становится очевидной важность сопостав-
ления результатов экспериментов, проведенных в условиях
владения одним и двумя языками: это способствует выявле-
нию оснований для поиска слов в памяти (и тем самым —
для организации лексикона), которые могли остаться незаме-
ченными при анализе материалов, полученных в первом из
рассматриваемых условий. В частности, обнаруживается, что
связи между словами могут актуализоваться раздельно по
линии формы или по линии значения; основаниями для свя-
зи могут быть звуковые, графические, грамматические и
семантические признаки слов (при подразделении последних
на весьма общие признаки принадлежности к некоторой се-
мантической микросистеме и частные признаки, дифферен-
цирующие близкие друг к другу члены такой микросисте-
мы). Только взаимодействие всех этих разносторонних ха-
рактеристик обеспечивает правильное воспроизведение предъ-
являвшегося в эксперименте слова, в то время как утрата
одного из таких признаков ведет к актуализации слова,
'близкого к искомому в некоторых отношениях, но отличаю-
щегося от него по соответствующему параметру.
- 3.4. Пути поиска слова в памяти могут также быть вы-
явлены посредством анализа оснований для группировки
:-^лов испытуемыми в ходе воспроизведения вербального ма-
I 85
Таблица 4
Последовательность записи слов родного языка
при их свободном воспроизведении
Первая колонка
•смотреть
видеть
показывать
•стоять
сидеть
думать
желтый
красный
холодный
живой
мертвый
хороший
-старый
овца
девочка
мальчик
женщина
мужчина
брат
(человек)
корова
лошадь
кошка
•собака
(карандаш)
путь
время
город
козел
круглый
квадратный
•страна
(город)
Вторая колонка
(слушать)
плохой
новый
(черствый)
хлеб
большой
белый
небо
синий
животное
(зверь)
тяжелый
(карандаш)
идти
приходить
учиться
получать
давать
(выполнять)
териала, поскольку последовательность записи слов сигна-
лизирует об актуализации тех или иных признаков группи-
руемых слов, о пререкрещивании ряда таких признаков, а
также об использовании испытуемыми определенных стра-
тегий поиска в памяти.
Рассмотрим в качестве примера последовательность за-
писи русских слов одним из испытуемых сразу же после про-
ведения направленного ассоциативного эксперимента. В
табл. 4 запись приводится в том виде, в каком она пред-
ставлена на опросном листе (сначала в памяти возникли
слова, приведенные в первой колонке, после чего были до-
писаны слова второй колонки); для удобства акализа оши-
бочно или повторно записанные слова приведены в скобках.
Выделив основные группы слов первой колонки, частично до-
36
полняемые соответствующими группами слов или отдельны-
ми словами второй колонки, попытаемся выявить парамет-
ры, по которым осуществлялись поиск и группировка слов.
Прежде всего становится очевидным, что воспроизве-
денные слова группируются по наиболее общему признаку
принадлежности к определенной части речи: за группой гла-
голов следует ряд прилагательных, затем идет серия суще-
ствительных и т. д. В рамках таких групп можно выделить
подгруппы слов, связанных друг с другом по ряду призна-
ков, при этом объединение слов по одному параметру всегда
сопровождается противопоставлением их по другому пара-
метру (характер таких параметров будет обсуждаться далее
по ходу анализа соответствующих слов из табл. 4).
Итак, вначале испытуемый вспомнил группу глаголов, внутри кото-
рой явно вырисовывается ряд семантически связанных подгрупп (ср.;
«смотреть, видеть, показывать»; «стоять, сидеть»; «сидеть, думать»). От-
ношения между словами в пределах этих подгрупп различны: первые два
глагола — «смотреть» и «видеть» — по общности их значения противо-
поставляются третьему — «показывать», в то же время отличаясь друг ог
друга по признаку результативности действия. Поскольку третий глагол
является каузативным по отношению к первым двум, связь между ними
носит характер импликации («если..., то...»). Глаголы же второй подгруп-
пы — «стоять» и «сидеть» — связаны отношением дизъюнкции («... или
...»); а глаголы третьей подгруппы — «сидеть» и «думать» — отношением
конъюнкции («... и ...»).
За глаголами следует группа из семи прилагательных, включающая
семантически связанные пары слов (ср.: «желтый, красный»; «живой, мерт-
вый») и отдельные слова, парные которым испытуемый вспомнит позже,
о чем свидетельствует их запись по второй колонке (ср.: «хороший» —
1 колонка, «плохой» — 2 колонка; «старый» — 1 колонка, «новый» —
2 колонка).
Далее воспроизведена группа нз 16 существительных, довольно ин-
тересная с точки зрения взаимодействия различных параметров, важных
для поиска слова в памяти. Так, первые два слова из этой группы свя-
заны по наиболее абстрактному категориальному признаку (оба представ-
ляют собой названия живых существ - «овца, девочка»), совпадают у них
и формальные показатели рода, числа и надежа. Однако затем на пер-
вый план выступает семантическая связь, обеспечивающая воспроизведе-
ние группы слов, связанных между собой отношениями объединения и
противопоставления по признакам пола, возраста, родственных отношений
(ср.: «девочка, мальчик»; «девочка, женщина»; «женщина, мужчина»;
«мальчик, мужчина»; «мальчик, брат»; «мужчина, брат»; «девочка, маль-
чик, брат» и т. п ). Знаменательно, что эту группу замыкает ошибочно
записанное слово «человек», обобщающее значения всех названных сущест-
вительных и находящееся к каждому из них в отношении суперорднна-
ции. Запись этого слова могла также быть обусловлена тем, что на пред-
шествующем этапе эксперимента слово «человек» являлось весьма частой
ассоциативной реакцией на ряд исходных слов.
Параллельно с записью рассмотренной группы слов в памяти испы-
туемого шел поиск существительных — названий животных, вызванный
•актуализацией первого записанного этим испытуемым существительного
(ср> «овца,... корова, лошадь, кошка, собака»). При этом вспоминались
^Йаэванйя только домашних животных (ни одно из содержавшихся в ис-
ходном списке названий диких животных этим испытуемым воспроизведе-
87
но не было). Следует отметить, что названия домашних животных ока-
зались записанными в последовательности, отражающей привычные для
человека обиходные связи между обозначаемыми этими словами объек-
тами (ср.: «корова, лошадь» и «кошка, собака», но не «корова, кошка»).
Существительное «карандаш» записано ошибочно, оно могло сохра-
ниться в памяти как ассоциат к исходным глаголам «писать, взять». Че-
тыре последующих существительных — «путь, время, город, козел» —
воспроизведены правильно, последнее из них свидетельствует о продол-
жении поиска по линии названий домашних животных и об актуализации
еще одного основания для поиска слов в памяти — формального призна-
ка, а именно — общности начальной буквы (или звука) ряда исходных
слов (ср.: «козел, круглый, квадратный»); такое совпадение начальных
элементов звуковых илн графических образов слов служит в анализируе-
мой последовательности слов «мостиком» для перехода от группы сущест-
вительных к воспроизведению группы прилагательных. Последние два сло-
ва первой колонки являются существительными — «страна, город»; пер-
вое из ннх явно вспомнилось в связи с записанным ранее и повторенным
следом словом «город». Этот случай представляется наглядной эксплика-
цией глубинных процессов установления обратное™ отношений «вхожде-
чия-включения».
Слова второй колонки были записаны испытуемым преимущественно
в дополнение к группам слов, воспроизведенных за первые минуты рабо-
ты, т. е. записанных в первой колонке, или в связи с ними. Например,
'лагол «слушать» явно вспомнился в связи с двумя глаголами, возглавля-
вшими первую колонку («смотреть, видеть»). При этом испытуемый вос-
становил в памяти только общий семантический контур нужною глагола,
з то время как признак результативности действия остался неидеитифици-
эованиым (в исходном списке имелся глагол «слышать», а не «слушать»),
Четочиость воспроизведения этого глагола могла также иметь место под
злиянием глагола «смотреть» (ср. совпадение признака «нерезультатив-
зость действия» в первых глаголах обеих колонок).
В группу из следующих девяти слов второй колонки входят прила-
ательиые, воспроизведенные в дополнение к прилагательным первой ко-
зонки, и существительные, связанные по смыслу с восстанавливаемыми в
замяти прилагательными. Так, прилагательные «плохой, новый» являются
знтоиимами к прилагательным первой колонки «хороший, старый», онзз яв-
ю послужили стимулом к ошибочной записи прилагательного «черствый»,
зачеркнутого самим испытуемым, и к правильному воспроизведению су-
цествителызого «хлеб». Это позволяет проследить ход поиска слов в па-
зяти, идентичный ходу формирования цепочки ассоциаций (ср.: «хоро-
иий,.. ззлохой ... черствый ... хлеб»). Продолжением этой же цепочки
зогло явиться и прилагательное «белый» (ср.: «хлеб ... белый»), хотя пос-
зеднее могло быть воспроизведено и под влиянием цветообозначеинй, за-
шсаииых ранее в первой колонке («желтый, красный»). Явная концеит-
>ация внимания иа поиске цветообозначений прослеживается при записи
[рнлагательного «синий». Промежуточное между прилагательными «бе-
:ый» и «синий» существительное «небо» могло быть записано раньше
ызвавшего его в памяти прилагательного потому, что рука ие успевала
а мыслью (в ходе записи слова «белый» мог актуалзззоваться ассоциатнв-
ый комплекс «синий ... небо» и рука непроизвольно записала первым то
лово, которое всплыло в памяти к моменту окончания записи слова «бе-
ый»).
Следующие три слова являются существительными, связанными по
мыслу с группой слов первой колонки, обозначающих названия домаш-
нх животных, это слова «птица, животное, (зверь)». Последнее из них
аписано ошибочно, оно может противопоставляться предшествующему
лову, обобщающему названия домашних животных, хотя ие исключено,
то актуализация этого слова произошла благодаря подсознательному и
В
bte доведенному до конца поиску в памяти слов — названий диких живот-
ных (в исходном списке содержались слова «волк, медведь, лисица»),
j Линия поиска в памяти прилагательных проявляется далее в запи-
си слова «тяжелый», после чего испытуемый снова ошибочно записывает
цслово «карандаш» ц переключается на поиск глаголов, которые воспронзво-
дятся по семантически связанным группам. Попытаемся восстановить в
Скобках промежуточные звенья, не зафиксированные иа эксперименталь-
ном листе, но, вероятно, связывающие записанные испытуемым глаголы:
бучиться, получать (оценки, задания), давать (задание), выполнять». Прч
этом правильно восстановленные в памяти исходные глаголы «получать,
давать» н ошибочно записанный глагол «выполнять» связаны отношением
(каузации, которая также могла стимулировать их совместную актуали-
аацию.
Таким образом, мы проследили параллельную актуали-
зацию различных оснований для поиска слов .в памяти.
Результаты этого анализа можно суммировать следующим
образом.
1. 90% воспроизведенных слов оказались связанными
Между собой различными видами интервербальных отноше-
ний и .лишь 10% от общего числа записанных испытуемым
Слов составили единичные слова.
2. В условиях оперирования родным языком поиск слов
памяти шел по линии смысловых связей между словами,
^.,то время как подобие формы слов оказалось лишь сопут-
ствующим признаком.
1g. 3. Воспроизводимые слова оказались сгруппированными
мфежде всего по наиболее общему категориальному призна-
(т. е. по признаку принадлежности к определенной час-
ти речи).
4. Поиск слов в памяти шел параллельно по ряду смыс-
ловых признаков, перекрещивающихся между собой и слу-
жащих своего рода «мостиками» для объединения слов в
более крупные группы.
- 5. Наиболее общими теденциями для группировки слов
лились объединение и противопоставление, взаимодейст-
вующие на базе признаков разной степени обобщенности —
ОТ наиболее абстрактного признака принадлежности к час-
ЗД речи до мельчайших семантических признаков слов, всту-
фющих в интервербальные связи.
Детальный анализ всей совокупности полученных в экс-
ЧВйРменте с русскими испытуемыми материалов показал, что
В ы выше выводы справедливы и по отношению к
, сделанным другими испытуемыми этой группы,
дует указать, что при организации эксперимента, со-
то выполнение ассоциативного теста и свободное вос-
цение исходных слов, половина испытуемых, работав-
>усским списком и дававших направленные ассоциа-
гучила задание записывать вспоминающиеся слова в
ядке, в каком они всплывают в памяти, а вторая
а той же группы испытуемых должна была воспро-
89
изводить исходные слова по частям речи. Поскольку послед-
нее задание совпадало с порядком предъявления слов в ас-
социативном тесте, имелись основания предположить, что
во втором случае результаты воспроизведения будут выше,
чем при отсутствии целенаправленного восстановления слов
в памяти. Это предположение не подтвердилось, поскольку
испытуемые второй подгруппы воспроизвели в среднем все-
го на 0,7 слова больше, чем испытуемые первой подгруппы.
Разницей такого рода можно пренебречь. Чрезвычайно важ-
ным представляется в данносм случае то, что испытуемые
подгруппы, не получившей задания воспроизводить слова по
частям речи, непроизвольно оперировали этим параметром
слов при их поиске, что наглядно отразилось и в рассм-от-
ренном выше примере (см. табл. 4). Следует подчеркнуть,
что тенденция группировать слова по принадлежности к
части речи четко проявляется и в тех случаях, когда вос-
произведению слов предшествует не направленный, а сво-
бодный ассоциативный тест. Так, в ходе беседы со слуша-
телями факультета повышения квалификации преподавате-
лей иностранных языков при Калининском университете пос-
ле проведения с ними дополнительного эксперимента выяс-
нилось, что испытуемые непроизвольно пользовались само-
установкой типа: «вспомнить существительные», «вспомнить
глаголы», «вспомнить местоимения», а после перебора всех
нужных частей речи возникла тенденция вспоминать «какие
попало» (с точки зрения принадлежности к части речи) сло-
ва.
3.5. Анализ материалов эксперимента, включавшего сво-
бодное воспроизведение иноязычных (английских) слов, по-
казал, что направления поиска слов в памяти, отмеченные
при разборе последовательности записи слов родного языка,
в .принципе прослеживаются и при работе с двуязычными ис-
пытуемыми, однако в последнем случае слова более актив-
но группируются по их формальным признакам — по соз-
вучию или по правилам чтения, иногда — по первой букве
(или звуку); ср. примеры 1—6 в табл. 5. Весьма типичным
является также объединение слов по их принадлежности к
части речи, см. примеры 7—10; при этом, как и при группи-
ровке слов по созвучию, происходит объединение слов, зани-
мавших в исходном списке разные, нередко весьма далекие
позиции; ср. цифровые показатели в примерах 1, 2, 7, 8. В
то же время внутри более или мспее обширных групп слов,
связанных по принадлежности к части речи, обычно рельеф-
но выделяются подгруппы, в свою очередь объединяющие
или противопоставляющие входящие в них слова на основа-
нии некоторого семантического признака; ср. в примерах 9,
10-лары «сидеть, стоять», «длинный, короткий» и т. д.
90
Таблица 5
Группировка слов второго языка при их свободном воспроизведении
40 скобках приводятся ошибочно записанные слова, цифра после примера
показывает место слова в исходном списке)
№ при - злеров Последовательность записи слов Основания для связи между воспроизводимыми словами
1 girl-50, bird-37 2 eow-54, know-24 3 take, (lake), make Сходство звуковой или 4 white, light, (bright), write графической формы 5 boy, brother, butter 6 read, red, road, round 7 . 1-43, you-49, they-31, we-85 8 other-103, both-23 Принадлежность к части 9 sit, stand, come, go, give, take речи 10 long, short, big, bad, good 11 bread, butter, (breakfast), hungry, (thirsty), (to drink) 12 colour, yellow, red, blue, Принадлежность к семаити- (brown), (black), (green) ческой микросистеме 13 day, hour, night, year, (minute) 1 14 man, woman, boy, girl, people 35 blue, sky 16 square, red 17 little, boy, girl Частая встречаемость в речи 18 house, new, big 19 read, book
.20 people, mother, son, brother, sky, co- Взаимодействие нескольких
lour, blue, mouse, eagle, go, make, оснований для связи между
father, bird, find, speak, see, young, словами
old, red....
Примеры 11 — 14 в табл. 5 отражают случаи объедине-
ния слов по принадлежности к некоторой семантической
микросистеме, при этом особый интерес представляет запись
слов, относящихся к разным частям речи; ср. группы слов,
входящие в 11, 1.2. В первой из них встретились 3 существи-
тельных, 2 прилагательных и 1 глагол; все они связаны с
представлением о еде, конкретизируемым как за счет дейст-
вительно предъявлявшихся в эксперименте, так и с помощью
•ошибочно записанных слов. Можно предположить, что фак-
..Тором, направлявшим группировку этих слов, явилась актуа-
лизация соответствующей последовательности ассоциатив-
Е'^ых связей (ср.: «хлеб ... масло... завтрак... голодный ... жаж-
дущий ... пить»). При этом не исключено, что в основании
Аакой последовательности элементов ряда лежит глубинная
Парадигматическая связь, хотя воспроизведенные слова от-
:яггся к разным частям речи. В отличие от этого началь-
е элементы второго из приведенных рядов связаны син-
•матически, хотя далее поиск направляется по линии пара-
91
дигматики (ср.: «цвет, желтый, красный, синий, коричневый,
черный, зеленый»). Наиболее существенным основанием для
связи становится поиск некоторого цветообозначения, благо-
даря чему в памяти всплывает соответствующая симантичес-
кая микросистема, выбор элементов которой у данного ис-
пытуемого лишь частично регулируется учетом соответствия
того или иного цветообозначения действительно предъявляв-
шемуся в эксперименте исходному списку (последние три
слова записаны ошибочно).
В числе группировок по синтагматической связи следует
различать случаи объединения слов на основе понятийной
сочетаемости и но устойчивой сочетаемости в речи; ср. 12 п
16; «цвет, желтый» и «площадь, красная» (по внешним приз-
накам в обоих случаях связь выглядит как атрибутивная).
При поиске в памяти иноязычных слов, как и при рабо-
те со словами родного языка, параллельно актуализуются
и взаимодействуют различные принципы группировки вос-
производимых единиц лексикона. Это видно из примера 20,
где приведен ряд слов, записанный одним из испытуемых
на III этапе эксперимента. Здесь использованы; а) группи-
ровка по признаку принадлежности слова к семантической
микросистеме названий лиц и обозначений родственных от-
ношений, ср.; «люди, мать, сын, брат, ... отец»; б) атрибу-
тивная связь: «небо.... синее», «цвет, синий», «сын, брат,-...
отец, ... молодой, старый»; в) отнесение к классу: «-орел, ...
птица»; г) группировка по принадлежности к части речи:
«идти, делать, ... находить, говорить, видеть», «молодой, ста-
рый, красный» и т. д.
Взаимодействие различных принципов группировки слов
при их воспроизведении особенно наглядно проявляется в
случаях, когда имеет место переход от объединения слов по,
созвучию или по общности их грамматической формы к реа-
лизации семантической связи или связи, обусловленной рече-
V J-
вы-м навыком (ср.: read, red, square), а также к группиров-
f t
ке по признаку принадлежности к некоторому грамматичес
кому разряду слов (например, day, they, we, I).
Следует отметить, что в научной литературе описаны
эксперименты, в ходе которых были обнаружены различны*
основания для группировки слов, предъявлявшихся испытуе-
мым в случайном порядке. Первым в этой области был*:
исследование У. Баусфилда (Bousfield, 1953), установивше-
го, что, получив задание вспомнить слова в любом удобном
для них порядке, испытуемые пытаются перегруппировать
исходный список таким образом, чтобы слова, относящиеся
к одному и тому же классу (например, названия животных,
стран и т. п.), были воспроизведены рядом. Баусфилд выс-
92
казал предположение, что такая группировка обусловлена
принадлежностью к категории или каким-то невербальным
эквивалентом категории. В процессе вспоминания актуали-
зация в памяти двух или более координированных элемен-
тов активизирует некоторую внутреннюю структуру, благо-
даря чему увеличивается вероятность вспоминания и других
элементов, относящихся к той же категории. Позже было
установлено, что испытуемые группируют слова и по другим
признакам (см., например, Jenkins et al., 1958); даже в слу-
чаях, когда экспериментатор намеренно избегает включения
-в список каким-то образом связанных слов, все равно испы-
туемые находят какие-то субъективные основания для груп-
пировки (Tulving, 1962, 1974); фактически испытуемые мо-
гут найти основания для объединения в группу любых двух
предложенных им вербальных единиц (Anglin, 1970). Таким
образом, обнаруженные нами факты группировки слов при
их воспроизведении в принципе согласуются с результатами
зпроведенных ранее исследований.
'В отличие от известных исследований в этой области,
полученный нами материал позволяет составить более пол-
ное представление о параметрах, определяющих направление
поиска слов при их воспроизведении и, по всей видимости,
^ежащих в основе организации лексикона человека. Это объ-
ясняется, во-первых, тем, что нас интересует нс какой-то от-
дельный признак, или параметр, лежащий в основе группи-
ровки слов, а взаимодействие всех возможных оснований
для связи между объединяемыми при воспроизведении вер-
бального материала единицами. Во-вторых, этому способст-
вует то, что выявление множественности оснований для груп-
пировки слов ведется нами с опорой на две эксперименталь-
ные ситуации (т. е. на условиях оперирования словами род-
Його и иностранного языков).
si Сопоставление оснований для группировки слов испытуе-
мыми с причинами ошибочной записи слов при их свободном
.воспроизведении и с путями установления ассоциативных
'Связей между словами на I этапе эксперимента убедительно
свидетельствует о единстве факторов, направляющих эти
иТра процесса (ср. обсуждавшиеся выше примеры того, как
Фигурировавшие в ассоциативном тесте связи получили от-
ражение на II и III этапах проведенного исследования). Это
Ш свое время побудило нас предпринять более детальное изу-
ун-ие специфики ассоциативного процесса как средства вы-
явления принципов 'организации лексикона человека.
jg ,3.6. Межъязыковое сопоставление материалов ассоциа-
Дрных экспериментов, полученных в условиях владения од-
языком, охватывало все источники, перечисленные в
М9л. 6, и велось в соответствии с методикой, описанной в
93
Таблица 6
Сводная таблица материалов ассоциативных экспериментов,
использованных для межъязыковых сопоставлений
Язык Кол-во испытуемых 1 Публикации
русский 100 Залевская, 1971 а
русский 100 Залевская, 1972
русский 500 Титова Л. Н., 1975
русский 200—700 Словарь ассоциативных норм русского языка. 1977
белорусский 1000 Цпова, 1981
украинский 1000 Бутенко, 1979
польский 1000 Kurcz, 1967
словацкий 240 Marsalova, 1974
английский (в США) 1008 Russell and Jenkins, 4954;. Jenkins, 1970
английский (в США) 209 145 Rosenberg and Carter, 1965 Rosenberg, 1965
английский (в Англии) 100 Kiss et al., 1972
немецкий 331 Russell, 1970
французский 288 Rosenzweig, 1970
казахский 100 Залевская, 1971 a
киргизский 100 Залевская, 1971 a
киргизский 1000 Титова Л. H., 1975
узбекский 100 Залевская, 1971 a
работах (Залевская, 4975, 1979). Не имея возможности де-
тально обсуждать здесь результаты сопоставления экспери-
ментальных материалов по всем исследуемым группам ис-
пытуемых и по всем выделенным нами параметрам, ограни-
чимся анализом отдельных примеров, помогающих выявить
Таблица 7
Соотношение количества ассоциатов, вызванных основными лексико-
семантическими вариантами коррелятов слова ЗЕМЛЯ
(по 10 экспериментальным группам, в %)
Экспери- менталь- ная группа Иссле- дуемое слово Общее кол-во реакций, 100% Лексико-семантические варианты
’планета’ ’почва’ ’суша’ 'родина’ про- чее
русские ЗЕМЛЯ 422 39 27 11 11,5 11,3
белорусы зямля 983 22 50 5 13 10
укра- инцы ЗЕМЛЯ 989 15 58 3 9 15
поляки ZIEM1A 985 27 46 3 11 13
амери- канцы EARTH 1000 45 32 14 — 9
фран- цузы TERRE 284 28 32 26 — 20
немцы ERDE 323 33 31 21 1 14
киргизы ЖЕР 675 16 48 20 1,5 14,5
казахи ЖЕР 97 14 24 45 1 16
узбеки ЕР 98 16 12 62 — 10
94
НЕМЦЫ ФРАНЦУЗЫ КИРГИЗЫ КАЗАХИ УЗБЕКИ
УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
’ПЛАНЕТА' ’ПОЧВА’ ’СУША’ ’РОДИНА’ ПРОЧИЕ
Рис. 2
факты, наиболее существенные с точки зрения специфики
единиц лексикона и принципов их организации.
Результаты анализа ассоциативных полей коррелятов
слова ЗЕМЛЯ по 10 экспериментальным группам (к сожа-
лению, словацкий коррелят этого слова не исследовался
Л. Маршаловой, поэтому в данном случае одиннадцатая экс-
периментальная группа не фигурирует) отражены в табл. 7
и построенном на ее основе рис. 2. Ассоциативные поля рус-
ского и киргизского коррелятов построены по материалам
наших экспериментов и «Киргизско-русского ассоциативного
словаря» Л. II. Титовой. Здесь и далее все количественные
показатели даются в % от числа фактически анализируемых
реакций, а не от общего числа участников эксперимента.
Как можно видеть вз табл. 7 и рис. 2, три основных
лексико-семантических варианта (далее — ЛСВ) исследуе-
мых слов (’планета’, ’почва’, ’суша’) обусловили актуализа-
цию подавляющего большинства полученных на них ассоциа-
тов, а соответствующие им секторы составляют от 75 до 91%
площади построенных ассоциативных полей. Однако «весо-
Родана - 12,4%
Рис. 3
96
>сть» названных секторов для испытуемых сопоставляемых
/пп оказалась различной. Так, секторы, соответствующие
;в ’планета’, являются наиболее обширными для групп
риканцев и русских, а наименьшими — для групп каза-
j, украинцев, киргизов и узбеков. ЛСВ ’почва’ вызвал на-
ьшее количество ассоциатов у украинцев, белорусов,
фризов и поляков, а наименьшее — у узбеков. В то же
ия секторы, соответствующие ЛСВ ’суша’, занимают на-
льшую площадь ассоциативных полей узбекского и ка-
ского коррелятов, а наименьшую — у польского, украин-
го и белорусского. Примеры распределения ассоциатов
секторам приводятся на рис. 3 и 4.
Планета
Planet*!
Hull IIP
'/вселенная/
I Eugel-13
ТГТТТ
Почва - 32%
!SW
far
•‘Л’.1
V
Sputnik-3
/солнце/}
Mond-26
/луна/ I
III
б|.
><>?/могила/|
Antenne-2
/антенна/
уЦрочяе - 12%
____________/мокрая,
Boden-11____________
_/почва/______ _______
_----Ъгаип-4
_ Aekar-11 /коричневая
-/пашня/ .
"Mutterarda-?
"/почва/"--------
Meer -
/океан/
Maeser-10
/-вала/
Himmel-32
/небо/
Суша - 22%
Luft-8
/воздух/
See-2
/море/
Land-6
/суша/
7
Рис. 4
i*. Следует отметить, что содержащиеся в табл. 7 показатели по ряду
Ban несколько отличаются от приводившихся нами ранее (Залевская,
РВ, с. 42—43), Это произошло потому, что при повторном анализе экс-
ЙМентального материала была сделана попытка исключить из расчетов
Кфные случаи, когда один и тот же ассоциат может интерпретировать-
1йИк связанный более чем с одним ЛСВ исследуемого слова. Например,
Кщни со значениями типа ’просторная’, ’необозримая’, ’наша’, ’богатая’
ЙДно однозначно соотнести только с одним ЛСВ слова ЗЕМЛЯ, поэто-
ft' Заказ 830 97
реакции, свлаамяых с ШййййсЫ*'- дЙЙН№ММЖЙ^М1^^^^^ЯЯ1НЯМ||Н|
____вариантами коррелятов слова ЗЕМЛЯ (по 10 экспериментальным группам) ~ ~ ' <-syy--ww
’родина’ ’суша’ ’почва’ ’планета 1ЛСВ
Экспериментальные группы
Русские Белорусы Украинцы Поляки Амери- канцы Немцы Фран- 1 цузы Казахи Киргизы Узбеки
круглая круглая круглая круглая круглая луна круглая земной большая луна
шар планета большая планета луна круглая луна шар круглая солнце
вертится шар планета шар мир шар планета планета луна земной
большая большая шар луна планета земной карта круглая шар шар
планета луна космос солнце солнце шар мира весь мир планета
луна глобус глобус земной земной солнце земной солнце
глобус кружится крутится шар шар вселенная шар
галактика галакти- орбита шаровид- Марс солнце
ка солнце ная вселенная вселенная
черная черная черная черная грязь пашня почва зеленая жирная черная
плодород- плодород- плодород- цветок грунт почва крастьянин черная черная изобидь-
пая ная ная почва почва черная твердая об- почва твердая ная
хлеб поле изобидь- рыхлая червяк коричне- работка земли цветок почва хлопок
поле кормили- ная песок черная вая бурая поле плод глина
чернозехМ ца теплая твердая твердая песок пахота пахать пахота
вспахан- почва почва урожай- холодная поле, нивы песок плодород-
ная теплая рыхлая ная мокрая невозделан- ная,
сырая твердая ^мокрая ная, сад п^ле
небо небо небо небо небо небо море небо небо небо
вода вода вода суша суша вода небо вода вода вода
море море вода воздух воздух материк море
воздух суша воздух
река море континент
родная родная родная родная родина мать мать
мать мать мать отчизна
этцов отцов родина родина
родина
му они теперь отнесены к разряду «прочие», вследствие чего повысились
показатели для этой колонки в табл. 7. В то же время показатель % реак-
ций, соотносимых с ЛСВ ’планета’ по группе русских испытуемых, пони-
зился из-за того, чго в разряд «прочих» перенесен ассоциат люди: со-
поставление с материалами «Словаря ассоциативных норм русского языка»
навело на мысль, что связь ЗЕМЛЯ — люди, по всей видимости, была
вызвана названием популярной радиопередачи «Земля и люди» (реакция
и люди тоже встретилась и в названном словаре, и в нашем эксперимен-
те). Если это предположение верно, то исходное слово оказалось вклю-
ченным в состав привычного контекста, что могло произойти автоматичес-
ки и тем самым ие требовало актуализации ЛСВ, с которым мы перво-
начально увязывали этот ассоциат (ср. сходный случай: ЗЕМЛЯ и воли,
явно навеянный сведениями из школьной программы).
В дополнение к трем основным ЛСВ для групп носите-
лей славянских языков оказался также актуальным ЛСВ
’родина’. Отрадно, что'тенденция, в свое время прослежен-
ная нами в материалах экспериментов с русскими и поляка-
ми (см. Залевская, 1977, с. 58—59), нашла подтверждение
и в словаре «Ассоциативных норм русского языка», где за-
регистрировано более 14% ассоциатов типа родная, русская,
матушка, Родина и т. ,п., и в ассоциативных нормах украин-
ского и белорусского языков. Следует подчеркнуть, что фак-
тически в ассоциативном эксперименте обнаружилась тен-
денция, пока что нс регистрируемая толковыми словарями,
которые в лучшем случае называют для слова ЗЕМЛЯ ЛСВ
’страна’. О том, что выделенные нами реакции соотносятся
со значением ’родина’, можно судить на основании приме-
ров, приведенных в табл. 8, хотя возможны некоторые сом-
нения в отношении ассоциативной связи ЗЕМЛЯ — мать,
где не исключено более или менее автоматическое включение в
состав привычного контекста (ср.: «мать-земля»). Как вид-
но из табл. 7, 8, ЛСВ ’родина’ актуализовался и у немцев,
казахов, киргизов, однако в очень ограниченных пределах.
Единичные примеры такого рода встретились также у аме-
риканцев (4 из 1000), однако модели связей, реализовавшие-
ся менее чем в 1% от общего числа ассоциатов, едва ли
рационально выделять в качестве отдельного сектора ассо-
циативного поля.
В рубрику «прочие» нами были отнесены многозначные
или трудноинтерпретируемые реакции, идиомы, цитатные
контексты, малочастотные случаи реализации отдельных
ЛСВ исследуемых коррелятов и т. п. Так, в эксперименте
с американцами имеет место связь EARTH — heaven, где
реализовалось значение ’этот мир в отличие от небес и ада’.
У русских, украинцев, поляков, немцев и французов есть
ассоциаты, связанные с похоронами (типа могила, прах,
усопший)', французы дали ряд реакций, связанных с гон-
чарным делом, и т. д.
Сопоставив общую структуру ассоциативных полей рас-
сматриваемых коррелятов, мы получаем представление о
98
том, какие ЛСВ многозначных слов оказываются наиболее
актуальными для носителей того или иного языка. Следует
подчеркнуть, что вся эта информация получена в результате
предъявления испытуемым изолированных исходных слов.
В работе (Залевская, 1971в, с. 168) показано, что идентифи-
кация исходного слова представляет собой включение его в
контекст индивидуального и социального опыта человека,
при этом осмысление слова оказывается возможным потому и
только потому, что оно воспринимается через призму пред-
шествующего опыта. Это хорошо согласуется с выводами Л. В.
Сахарного (1972; 1976) о том, что так называемое «впекоп-
текстное» значение слова на самом деле всегда является со-
циально осознаваемым фактом и увязывается с определен-
ными типами коммуникативных ситуаций. Как будет пока-
зано далее (см. разд. 3.8), в зависимости от уровня иденти-
фикации слова оно немедленно включается в некоторый бо-
лее или менее развернутый «контекст» поверхностного или
глубинного яруса индивидуального лексикона.
Продолжая сопоставительный анализ структуры рас-
сматриваемых ассоциативных полей, попытаемся проследить
некоторые общие черты направления ассоциативного процес-
са и особенности их реализации носителями исследуемых на-
ми языков. Из табл. 8 видно, что ассоциаты, вызванные у
разных групп испытуемых ЛСВ ’планета’, имеют много об-
щего; 9 групп испытуемых из 10 указали, что ЗЕМЛЯ —
круглая, 4 добавили, что она большая, 6 утверждают, что
ЗЕМЛЯ — шар, и 6 уточняют, что имеется в виду земной
шар. Более того, 9 групп испытуемых подвели исходное сло-
во под супере,рдипату планета, 8 — соотнесли ЗЕМЛЮ с
луной, 7 — с солнцем, 1 — с Марсом, 2 — с галактикой, а
3 — увязали с понятием вселенной, при этом последние два
случая представляют собой подведение под суперординаты
более высоких ступеней, чем в ассоциативной связи ЗЕМ-
ЛЯ — планета. Нетрудно заметить, что общность такого
рода реакций у носителей разных языков обусловлена сход-
ным уровнем знаний об устройстве окружающего человека
мира (что не удивительно, поскольку испытуемые всех сопос-
тавляемых групп — студенты). К этому можно добавить,
что совокупность ассоциатов, отнесенных к данному сектору
отдельного ассоциативного поля, позволяет проследить до-
вольно четкую логическую структуру знаний человека в об-
суждаемой области: одни ассоциаты указывают ,на более
или менее существенные признаки понятия, называемого
идентифицированным исходным словом, другие соотносят
его с ,координированными понятиями, третьи подводят под
более общее понятие, четвертые прослеживают связь с еше
более общим понятием и т. д.
Обратившись далее к анализу ассоциатов, вызванных
100
щСВ ’почва’ и ’суша’, мы также обнаружим совладение ря-
ga реакций для значительной части экспериментальных
Крупп, однако не получим возможности начертить столь же
четкую схему логических связей, как в предшествующем сек-
аторе. Так, ЛСВ ’почва’ был 9 группами испытуемых иденти-
фицирован посредством записи синонимичных ассоциатов
Уср.: ЗЕМЛЯ — почва; EARTH — soil; ZIEMIA — gleba;
fjJRDE — Boden). Все группы испытуемых дали совпадаю-
щие, близкие или различающиеся характеристики названно-
го исходным словом объекта (ср.: у 9 групп — черная, у
— плодородная, урожайная, изобильная). Названо и то,
щто произрастает на земле: хлеб, хлопок, цветок, сад.
у Идентификация через синоним имеет место и для ЛСВ
/суша’, однако наиболее типичным для этого сектора оказа-
лось противопоставление: ЗЕМЛЯ — небо и ЗЕМЛЯ —
,рода, что прослеживается по всем 10 группам испытуемых. В
дополнение к этому 4 группы дали противопоставление ЗЕМ-
ЛЯ — воздух и ряд групп реализовал различные варианты
противопоставления типа ЗЕМЛЯ — вода через ассоциаты
море, океан, река, Можно заметить, что в этом разделе таб-
лицы не отражена типичная для предшествующего сектора
атрибутивная связь, а также отсутствует подведение исход-
ного слова под суперординату.
Рассмотренные факты дают основания для ряда выво-
дов.
1. Исследуемые ЛСВ коррелятов слова ЗЕМЛЯ, по
всей видимости, идентифицировались испытуемыми как от-
дельные слова, каждое из которых актуализовало специфи-
ческую систему связей в индивидуальном лексиконе.
2. В каждом отдельном случае характер такой системы
связей определяется прежде всего особенностями объекта
^реальной действительности, называемого идентифицирован-
ным испытуемыми исходным словом. Это обусловило, с од-
ной стороны, расхождения в направлениях ассоциативного
Процесса в связи с рассматриваемыми ЛСВ обсуждаемых
г;слов-коррелятов, а с другой — совпадение эксперименталь-
ных данных по исследуемым группам испытуемых в рамках
.отдельных секторов ассоциативных полей.
3. Установленные расхождения в характере связей меж-
фду исследуемым исходным словом и компонентами отдель-
ных секторов ассоциативного поля (ср. относительно четкую
[логическую структуру сектора, соответствующего ЛСВ ’нла-
|Иета’, с отсутствием таковой у других секторов) свидетельст-
вует о том, что многообразие типов организации ассоциатив-
|Мых полей находит свое проявление не только в разных об-
ластях лексикона, где хранятся по-разному взаимосвязан-
ные слова (см. разд. 1.7 о результатах исследования Фил-
10.1
ленбаума и Рапопорта), но и в рамках набора ЛСВ поли-
семантичного слова.
4. Многообразие типов организации ассоциативных по-
лей не исключает наличия ряда общих тенденций в ассоциа-
тивном поведении носителей разных языков.
5. Как показывают наши наблюдения, при наличии не-
которых общих тенденций в актуализации определенных
моделей или видов связей у испытуемых разных групп наб-
людаются также расхождения в степени актуальности от-
дельных моделей связей и в лексической наполняемости та-
ких моделей.
Например, корреляты исходного слова ОРЕЛ вызыва-
ют у различных групп испытуемых следующие четыре на-
правления поиска ассоциатов: а) отнесение орла к классу
птиц (суперординатный ответ); б) соотнесение орла с дру-
гими видами птиц (координированные ответы); в) описание
обозначаемого исходным словом объекта (атрибутивные от-
веты); г) увязывание реакции с символическим изображе-
нием орла. Однако для разных экспериментальных групп со-
отношение этих видов реакций оказалось различным. Так,
суперординарный ответ птица дали 55% испытуемых-амери-
канцев, 42,5% словаков, 20,5% немцев, 18,4% белорусов,
16% поляков, 16% французов, 15,8% русских, 14% казахов,
11,5% украинцев, 9% киргизов и лишь 7% узбеков. Наи-
большее количество координированных ответов — 37% —
дали казахи, назвавшие в этом числе ловчих птиц, тради-
ционно используемых наряду с орлом при степной охоте.
Объекты охоты с беркутом (например, лисица, заяц), а так-
же термины, связанные с такого рода охотой, названы ка-
захами еще в 12% случаев. Интересно отметить, что атри-
бутивные реакции в этом ассоциативном поле также связа-
ны с одним из наиболее ценных качеств ловчей птицы (11%
испытуемых дали ответ кыран — хваткий). Еще чаще — в
23% случаев — это качество орла подчеркнули киргизы, ср.:
алгыр (хваткий), кыраан (ловкий, хваткий). Наибольшее
количество атрибутивных реакций дали украинцы — 51%,
белорусы — 33% и поляки — 30%. В то же время поляки
дали наибольшее —более 24% — количество реакций, свя-
занных с символическим изображением орла, например,
gocho (девиз), herb (герб), symbol (символ) и т. п. В мате-
риалах других экспериментальных групп ответы такого рода
занимают незначительное место, ср. 7 реакций из 1000 у бе-
лорусов, 4 из 983 у украинцев, однако обнаруживается иное
по своему характеру символическое осмысление идентифи-
цируемого слова или называемого этим словом объекта: все
группы испытуемых, включая и поляков, в той или иной ме-
ре увязывают образ орла с представлением о силе, благо-
родстве, гордости, независимости. Выражаемые по этой при-
102
чине положительные эмоции испытуемых, которые прослежи-
ваются через ассоциаты к слову ОРЕЛ и его коррелятам в
исследуемых нами языках, контрастируют с отрицательны-
ми оценками, которые даются в связи с коррелятами исход-
ного слова ПАУК, ср.: русск. ОРЕЛ — гордый, величие;
ПАУК — мерзкий, гадкий; белорусок. АРОЛ — гордасць
(гордость), свабодны, с1ла; ПАВУК — страшны, гадкг, укр.
ОРЕЛ — в1льний (свободный), мужшсть (мужество); ПА-
ВУК — гидкий (гадкий), противний, брудний (грязный);
польск. ORZEt — wolnosc (воля, независимость), potega
(мощь), si/a (сила); PAJAK — obrzydliwy (отвратительный),
wstretny (омерзительный), brzydki (безобразный); -словац.
OROL — vyska (высота), sila (сила); PAVUK — odpor (от-
вращение), hnus (отвращение), fuj (фу) и т. п.
Рассмотренные примеры (включая межъязыковое сопо-
ставление ассоциативных нолей коррелятов слова ЗЕМЛЯ)
позволяют довольно четко проследить взаимодействие двух
основных факторов, регулирующих направление ассоциатив-
ного процесса: с одной стороны, происходит установление
места обозначаемого исходным словом объекта в системе
знаний индивида об окружающем его мире, а с другой —
вступает в действие система ассоциативных привычек и оце-
нок, сложившихся в том или ином социуме и отражающая
'специфику условий жизни, языка и культуры последнего.
Ставя своей задачей более детальное обсуждение каждого
из этих факторов, начнем с рассмотрения того, как упоря-
дочение знаний индивида об окружающем его мире находит
свое отражение в логической структуре ассоциативного по-
ля.
3.7. Проблема логической структуры поля детально раз-
рабатывалась Ю. Н. Карауловым (1976, с. 106—117), и поэ-
тому в работе (Залевская, 1977, с. 60) прежде всего под-
черкивается, что все виды связей, которые были учтены
тО. Н. Карауловым при построении модели логической
(структуры поля, обнаруживаются в материалах ассоциатив-
Йых экспериментов. Там же отмечается, что ассоциативное
оле может отражать еще более многообразные виды свя-
и отношений (часть из них представлена на рис. 5).
При построении приводимой на рис. 5 схемы нами бы-
намеренно сохранены все используемые Ю. ЕЕ Карауло-
м обозначения: О — имя поля (или значение, для кото-
го строится поле); А — синоним; В — суперордината; Cj,
— гипонимы; Di, D2 — значения, имеющие общие компо-
сты с ядром поля; D3 — значение, имеющее общие ком-
ненты с В; Е — потенциальная сфера антонимии. Мы
Нем также пользоваться обозначениями: О', С3, В', В",
. Е". Необходимость введения дополнительных обозначе-
103
..a-
104
ний станет ясна в результате анализа нескольких составля-
ющих ассоциативного ноля киргизского слова ЖЫЛКЫ (ло-
шадь).
Согласно модели Ю. II. Караулова, исходное слово
ЖЫЛКЫ выступает в роли имени доля — О; ассоциаты
бээ (кобылица) и айгыр (жеребец) являются гипонимами к
имени поля, т. е. обозначаются как С| и Сг, в то время как
слово ат (лошадь) должно рассматриваться как синоним к
имени поля — А, мал (скот) — как суперордината В, а ас-
социаты кымыз (кумыс), кишенейт (ржет) и жайлоодо (на
пастбище) могут интерпретироваться как Di, D2 и D3 соот-
ветственно. Однако в эту модель не вписываются такие
ассоциаты, как уй (корова), кулун (жеребенок), айбан, жа-
ныбар (оба со значением ’животные’) и многие другие. Для
первого из них нами введено обозначение О', символизирую-
щее координированный с именем поля член, подводимый
под ту же суперординату. Следует заметить, что таких коор-
динированных членов может быть гораздо больше (в рас-
сматриваемом нами ассоциативном поле, включающем ма-
териалы словаря Л. Н. Титовой и результаты нашего экспе-
римента с киргизами, встретился также ассоциат кой (ов-
ца)). Последнее замечание относится также и к числу ко-
ординированных членов, входящих в рамки ядра поля, т. е.
фактически количество членов типа С (как и членов типа О)
должно обозначаться как С| ... Сп. Таким образом, мы выя-
вили две" ступени координированности гипонимов (ср.: жыл-
кы, уй, координированные в рамках более общего понятия
мал, и бээ, айгыр, подводимые под имя поля ЖЫЛКЫ), при
этом отношения между координированными членами в зави-
симости от «угла зрения» могут выступать в двух ипостасях:
с позиций суперординаты координированные члены субъек-
тивно переживаются как симиляры, а в отрыве от нее —
как оппбзиты. Эти два термина были введены в работе (За-
левская, 1977) по той причине, что детально исследованные
в лингвистике явления синонимии и антонимии не совпада-
ют с более широкими психолингвистическими понятиями, спо-
собными отразить сущность феноменов субъективного объе-
динения и противопоставления слов и/или называемых ими
объектов по некоторым признакам, существенным для ин-
дивидуального сознания, но не учитываемым при анализе
лексико-семантической системы языка.
Вернувшись к обсуждению рассматриваемого ассоциа-
тивного поля, отметим, что процесс подведения под суперор-
динату является многоступенчатым (на нашей схеме это
отражено посредством введения обозначений В', В"). Так,
ассоциаты айбан и жаныбар соответствуют более высокой
ступени обобщения, чем ассоциат мал, в то же время в ка-
честве еще одной (промежуточной) ступени могло бы высту-
105
пить не встретившееся в эксперименте противопоставление
«уй айбандары — жырткыч айбандар» (домашние — хищ-
ные животные). Таким образом прослеживаются суперорди-
наты и координированные члены разных степеней обобще-
ния. Если учесть, что на каждой ступени генерализации при-
обретают актуальность специфические основания для связей
по подобию и по дифференцированию, то становится понят-
ным введение обозначений D4 и D5. При этом получают объ-
яснение многие экспериментальные факты, на первый взгляд
не входящие в орбиту семантической связи между исходным
словом и ассоциатами: ассоциативный эксперимент отража-
ет продукты ие только прямых, но и многоступенчатых свя-
зей между единицами лексикона. Лктуалпзуются ли послед-
ние через цепи ассоциаций или реализуются как прямые
связи с возможным храпением их продуктов в поверхност-
ном ярусе лексикона — другой вопрос, требующий специаль-
ного исследования. Как бы то ни было, очевидна фундамен-
тальная роль многоступенчатых связей для упорядочения
знаний человека об окружающем его мире и для опериро-
вания этими знаниями в процессе коммуникации. Используя
или воспринимая то или иное слово, человек подсознательно
учитывает актуализуемую этим словом систему знаний об
обозначаемом им денотате. Если же исходить из того, что
язык — это «форма существования знания в виде системы
знаков» (Копнив, 1973, с. Г92), а «мышление и знание во-
обще не отделимы друг от друга» (Рубинштейн, 1958, с. 53),
то, во-первых, подтверждается справедливость предложенно-
го выше определения лексикона как средства доступа к
информационному тезаурусу человека (см. гл. 2), а во-
вторых, становится очевидной основополагающая значимость
упорядоченности лексикона для наиболее эффективного опе-
рирования знаниями в процессах речемыслительной (и про-
чей) деятельности человека. Последнее, в свою очередь,
объясняет, почему даже строгий лингвистический анализ не
может обойтись без учета так называемых «экстралингвис-
тических» факторов (например, при компонентном анализе
лексики и при обсуждении проблемы «поля»; ср. противопо-
ложную точку зрения: Шур, 1974).
Следует заметить, что наличие в ассоциативном поле
слова ЖЫЛКЫ таких ассоциатов, как кымыз, кишенейт и
азоо (необъезженная), побуждает затронуть проблему семан-
тических импликаций. В. Порциг (Porzig, 1957) в свое вре-
мя указал, что определенные лексические единицы импли-
цитно содержатся в других единицах и что сущность таких
отношений составляют синтагматические импликации между
словами (в частности, Порциг противопоставил выделенные
им поля парадигматическим полям И. Трира); при этом,
по мнению Порцига, ядром элементарного семантического
106
поля рассматриваемого типа всегда оказывается либо Гла-
гол, либо прилагательное, а сама по себе импликация не
является обратимой. Признавая идею семантической импли-
кации весьма плодотворной, можно в то же время поставить
под сомнение правомерность некоторых ограничений, накла-
дываемых Порцигом на условия реализации таких связей.
Например, отвлечемся от порядка следования элемен-
тов в ассоциативных парах ЖЫЛКЫ — кымыз, ЖЫЛКЫ —
кишенейт и ЖЫЛКЫ — азоо и рассмотрим отдельно взя-
тые ассоциаты. Тогда обнаружится, что слово «кумыс» в
такой же мере вызывает представление о кобыле, в какой
слова «ржет» и «необъезженная» подразумевают наличие
лошади (слово «ржет» понимается здесь в прямом смысле).
Однако в первом из этих случаев связь между словами яв-
ляется парадигматической.
Детальный анализ экспериментальных материалов поз-
воляет выявить более сложный, чем указывает Порциг, ха-
рактер отношений между компонентами элементарного се-
мантического поля рассматриваемого им типа, а также об-
наружить ряд факторов, оказывающих влияние на степень
имплицирования одного слова другим. К числу таких фак-
торов, в частности, относится полнсемантичность одного (или
обоих) компонентов пары, наличие омонимов исследуемых
слов, способность этих слов актуализовать представление о
предмете, а также отражаемая ими степень генерализации.
Мы сможем затронуть здесь лишь некоторые из названных
моментов, взяв для примера ассоциативную пару НОЖНИ-
ЦЫ — резать. Выбор этой пары объясняется тем, что кор-
реляты слова НОЖНИЦЫ в ряде языков вызывают анало-
гичную высокочастотную реакцию; ср. англ. SCISSORS —
cut — 67%, словац. NOZNIGE — strihat’ — 41%, русск.
НОЖНИЦЫ — резать — 34%, франц. CISEAUX — сои-
рег — 22,5%, кирг. КАЙЧЫ — кесуу — 19%, нем. SCHE-
RE — schneiden — 14,5%, польск. NOZYCZKI — ciq<? — 12%,
укр. П0ЖНИЦ1 — р1зати — 11,5%, однако эта аналогия
является довольно условной из-за различий в объеме зна-
чения приведенных ассоциатов. Так, англ, и франц, ассоциа-
ты означают ’резать’, ’стричь’, ’кроить’; нем. — ’резать',
’стричь’; словац. — ’стричь’, ’кроить’, а русск., польск., укр.
и кирг. — только ’резать’. Здесь мы сталкиваемся со слу-
чаем, когда становится очевидной зависимость характера
связей между единицами лексикона от специфичной для то-
го или иного языка системы значений и от способов реали-
зации этих значений на поверхностном уровне. Отсюда сле-
дует, что при межъязыковых сопоставлениях делать заклю-
чения о том, какие связи коррелятов исследуемого исходно-
го слова актуализовались у разных групп испытуемых, мож-
но только по результатам анализа полных дистрибуций ассо-
107
циативпых реакций с группировкой ассоциатов по общности
основания для их связи со словом-стимулом. Следует одна-
ко подчеркнуть, что логическая структура ассоциативного
поля, выявляемая через анализ полного набора связей по
материалам рассматриваемых экспериментов, оказывается
единой независимо от специфики ассоциатов, отражающих
разные ступени процессов дифференцирования и интегриро-
вания (см. рис. 6).
Напрямую связанный с исходным словом ассоциат ре-
зать отражает довольно высокую степень генерализации, во
всяком случае, он имеет более общее значение, чем глаго-
лы стричь, разрезать, кроить, т. е., по терминологии Э. Косе-
риу (1969), представляет собой архилексему. Однако имен-
но через посредство глаголов более частного значения осу-
ществляется переход к имплицированным значениями этих
глаголов существительным (ср.: стричь-^шерсть, волосы;
кроить-*-тканъ), а совокупность такого глагола и имплици-
рованного им существительного в свою очередь дает осно-
вания для актуализации импликанта последующей ступени
(ср.: пастух; парикмахер; портной). Если же обратиться к
левому по отношению к исходному слову столбцу на рис. 6,
то становится очевидным, что то или иное направление ак-
туализации ассоциатов определялось соответствующим пред-
ставлением о некоторой разновидности ножниц (возможно,
возникал зрительный образ того или иного объекта). На по-
верхностном уровне последний вид связи мог реализоваться
посредством отдельной единицы; ср. каз. К.АЙШЫ — кырык-
тык (ножницы для стрижки овец), или через имплицирова-
ние исходного слова в составе ассоциативной реакции; ср.
укр. Н0ЖНИЦ1 — кравецьк1 (портняжные), маникюрш
(маникюрные), медичн1 (медицинские), канцелярськ1 (кан-
целярские), ковальськ1 (кузнечные). Сочетание повтора ис-
ходного слова и ассоциата является в таком случае пара-
дигматически связанным со стимулом, ср. НОЖНИЦЫ —
(ножницы) канцелярские.
Отраженная на рис. 6 общая картина связей по-разно-
му конкретизируется в материалах отдельных эксперимен-
тов. Для тюркоязычных испытуемых специфичны реакции
типа каз. малшы (пастух); узб. куй (овца), подачи (пастух);
кирг. уйчу (пастух). Для других групп оказались актуаль-
ными ассоциаты, прямо или косвенно увязывающие назван-
ный исходным словом объект с трудом портного или парик-
махера; ср. русск. портной, иголка, материал, платье; сло-
вац. krajci'r (портной), latka (ткань), holic (парикмахер);
укр. кройти (кроить), стрижка; франц, couture (шитье), faille
(стрижка); нем. Nadel (игла), Faden (нитка); польск. krawiec
(портной), material (материя), szycie (шитье) и т. п.
На основании рассмотренных примеров представляет -
108
инструмент, йруйие '
портновские —
канцелярские -*
кузнечные *—
парикмахерские
пастушьи -----
садовые ------
/для бумаги/^$1
/для подрезки
кустов.деревьев/
маленькие.большие.острые.тупые.металлические.новые
игла,нитка,наперст
шить
/для кроя7
портной.
платье
/для стрижки
волос/L.____
овца-----j- пастух
/для стрижки «
овец/---------
шитье
"^швейная машина
-НОЖНИЦЫ - резать
садовник
лежат потерялись , сломались , нужны
разрезать
у— подрезать^^ерево
кроить
Зстричь
—волосы —стрижка . итарикмах
ногти
шерсть ..
нож, бритва, скальпель
Рис. 6
ся возможным сделать следующие выводы: 1) многоступен-
чатость импликаций значительно расширяет границы эле-
ментарного поля; 2) одним из следствий такой многоступен-
чатости оказывается синтагматико-парадигматический ха-
рактер импликаций; 3) выпадение промежуточных ступеней
может приводить к парадигматическим связям типа НОЖ-
НИЦЫ — ткань, НОЖНИЦЫ — портной. Можно полагать,
что именно цепи опосредствующих импликаций лежат в ос-
нове упорядоченности знаний человека об окружающем ми-
ре в индивидуальном информационном тезаурусе; в поверх-
ностном ярусе лексикона нередко хранятся начальные и
конечные элементы таких цепей, в то время как восстанов-
ление промежуточных звеньев требует обращения к глубин-
ному ярусу и может привести к актуализации широкого кру-
га связей разных степеней опосредованности. Отсюда выте-
кает представление о концентрическом строении ассоциатив-
ного поля того или иного слова, интегрирующего (прямо или
с разными степенями опосредованности) значения всех слов,
входящих в разного рода связи с рассматриваемым словом.
Сказанное выше объясняет трудность разграничения семан-
тических солидарностей и импликаций, основанных на зна-
нии реальной действительности (ср. упрек, который делает
Косериу, 1969, с. 94, в адрес Порцига, не проводящего чет-
кой грани между этими двумя явлениями).
Наглядно прослеживающаяся роль импликаций в орга-
низации энциклопедических и языковых знаний человека
побудила нас исследовать этот феномен более детально (см.
Залевская, 1979, с. 53—64).
3.8. Из известных нам ассоциативных норм, полученных
па базе различных языков, наиболее подходящим для ана-
лиза связей импликативпого типа является «Ассоциативный
тезаурус английского языка» (см. подробнее разд. 1.9). На-
помним, что АТ содержит информацию о 8400 словах-сти-
мулах, для которых приводятся не только исходящие, но и
входящие связи, что позволяет судить об однонаправленнос-
ти или двунаправленности интересующих нас связей.
Первоначально из ЛТ было выделено 57 ассоциативных пар, в кото-
рых оба компонента пары вызвали друг друга в качестве ассоциатов не
мевес чем у 50% испытуемых. Поскольку в ходе дальнейшего анализа ма-
териала обнаружилось, что по характеру семантической связи между ком-
понентами ассоциативных пар имеет место совпадение этих случаев с темп,
у которых один из компонентов получил в эксперименте более низкий по-
казатель, было решено несколько снизить контрольную цифру для одно-
го из компонентов. Например, связь типа HUSBAND — 85 wife (МУЖ -
85 жена), но WIFE — 46 husband также стала трактоваться как двуна-
правленная. Здесь и далее стоящая перед ассоциатом цифра обозначает
количество испытуемых, от которых получена эта реакция. При «сверну-
той» форме записи примеров типа HUSBAND — 85 wife (46) цифра в
скобках, приведенная после ассоциата, указывает на силу обратной свя-
110
зи, т. е. обозначает частоту, с которой ассоциат, переведенный в статус
стимула, вызвал в качестве реакции обсуждаемое исходное слово. Со сни-
жением второго показателя сначала до 40, а затем до 30 группа ассоциа-
тивных пар с двунаправленной связью расширилась до 92 случаев.
Все ассоциативные пары, отобранные из АТ в резуль-
тате количественного анализа его материалов, можно в об-
щем виде квалифицировать как примеры реализации связей
импликативного типа. Следует, очевидно, уточнить, что к
таким связям оказались таким образом отнесенными все слу-
чаи, в которых предъявление слова-стимула со значитель-
ной степенью вероятности обусловливает актуализацию у
испытуемых некоторого определенного ассоциата. Установле-
ние же природы импликации в каждом отдельном случае
составляет задачу иного — качественного анализа отобран-
ных ассоциативных нар.
Заметим, что па важность четкого различения лексичес-
кого и семантического аспектов проблемы соединения слов
указывает Н. Д. Арутюнова (1'976, с. 93, 112), усматриваю-
щая разницу между этими аспектами в том, что первый из
них реализуется за счет поверхностных, а второй — за счет
глубинных структур. Обоснованность такого подхода пол-
ностью подтверждается результатами анализа эксперимен-
тального материала, рассматриваемого с учетом специфики
механизмов вербальных ассоциаций. Дело в том, что выпол-
няя задание дать свободные ассоциативные реакции, испы-
туемый должен прежде всего опознать (идентифицировать)
предъявленное ему исходное слово; в зависимости от того,
какие параметры слова-стимула попадают в фокус его вни-
мания или подсознания, актуализуются различные типы ас-
социативных связей и продуцируются соответствующие ассо-
циаты. При этом первый этап ассоциативного процесса, фак-
тически определяющий конечный результат (или продукт)
этого процесса, может реализоваться па разных уровнях:
а) на уровне идентификации словоформы — без обращения
к значению слова или б) на уровне идентификации значе-
ния слова — через актуализацию связи между воспринимае-
мой словоформой и некоторой единицей глубинного яруса
идиолексикона испытуемого. В зависимости от этого исход-
ное слово, предъявленное в эксперименте в изолированном
виде, т. е. вне контекста в его традиционной трактовке, ока-
зывается включенным в соответствующий уровню иденти-
фикации этого слова контекст поверхностного или глубинно-
го яруса индивидуального лексикона. Такое разграничение
двух типов контекстов идентификации исходных слов яви-
лось базой для подразделения отобранных из АТ случаев
связи импликативного типа на две группы: 1 — импликации
на уровне поверхностного яруса лексикона, или лексические
111
импликации; II — импликации па уровне глубинного яруса
лексикона, или семантические импликации.
К разряду лексических импликаций на этом основании
оказались отнесенными всевозможные случаи автоматизиро-
ванного включения исходного слова в состав производного
или сложного слова, в состав устойчивого сочетания и т. и.;
см. примеры 1—8 в табл. 9, куда для сопоставления вклю-
чены как двунаправленные, так и однонаправленные связи.
Примеры I отражают крайний случай механического проду-
цирования вторых компонентов парных слов, составные час-
ти которых могут вообще не иметь самостоятельного зна-
чения или утратить его. Случаи типа 2 интересны тем, что
ассоциаты актуализуются автоматически, подобно парным
словам, хотя компоненту некоторых из таких ассоциативных
пар используются в речи не контактно, а дистантно (ср.:
either ... or). Примеры 3 показательны в том отношении, что
сложное слово, образуемое совокупностью стимула и ассо-
циата, может быть получено посредством актуализации как
правого, так и левого контекста (в последнем случае слово-
стимул фактически повторно фигурирует после ассоциата,
что иногда регистрируется в материалах эксперимента).
Левый контекст всплывает и в примерах 4, представляющих
собой латинские словосочетания, которые и в речи исполь-
зуются без раздельного осознания значения составляющих
их элементов. Аналогичным образом актуализуются, по всей
видимости, библейские имена и словосочетания (5), меди-
цинские и технические термины (6) и (7), а также широко
распространенные в обиходе привычные словосочетания ти-
па примеров 8.
Многие авторы справедливо отмечают, что один и тот
же ассоциат может быть получен в результате использова-
ния различных ассоциативных стратегий (см., например, Ром-
метвейт, 1972, с. 65; Клименко, 1974, с. 51; этот вопрос не-
однократно обсуждался и нами). Поэтому не исключены
возражения против предложенной интерпретации некоторых
из приведенных выше примеров. Так, можно проследить
семантическую связь между компонентами ассоциативной
пары DEVALUED — pound. Несомненно, такая связь осмыс-
ливается при первых встречах носителя языка со словосоче-
таниями, которые далее включаются в лексикон в целом, без
разграничения составляющих их элементов. Этот вывод, неод-
нократно делавшийся нами ранее (см., например, Залевская,
1979, с. 56), получил подтверждение в исследовании Дж.
Мэндлера (Mandler G., 1980, р. 176), показавшего, что при
усвоении нового факта первоначально осознается его связь
с другими, ранее известными фактами, но по мере закреп-
ления такой связи формируется новая единица памяти, кото-
рая воспринимается в целом. Механизмы подобных пере-
112
Таблица 9
Связи импликативного типа в материалах АТ
№ при-j
меров I
Ассоциативные пары и их перевод
1 DING — 88 dong
HONG — 85 Kong
PING — 85 pong
2 EITHER — 78 or (15)
NEITHER — 68 nor (42)
ACCORDING — 66 to
3 TROVE — 82 treasure (29)
STARK — 79 naked (4)
SILL — 78 window (11)
4 MORTEM — 61i post
SAPIENS — 60 homo
5 NOAH — 71 ark (69)
JESUS — 65 Christ
6 JUGULAR — 78 vein
DUODENAL — 71 ulcer
7 OUTBOARD — 86 motor
EJECTOR — 69 seat (1)
8 CORNED — 61 beef (1)
DEVALUED — 53 pound
PUSSY — 78 cat (1)
9 MACKEREL — 79 fish
THRUSH — 59 bird (2)
ELM — 78 tree (T)
10 UDDER — 69 cow (4)
MANE — 52 horse (1)
U RUNGS — 82 ladder
PLEATS — 57 skirt
42 HOLSTER — 83 gun (1)
! RESERVOIR — 75 water
PURSE — 71 money (I)
P3. ASSIST — 72 help
| SHOVE — 72 push (18)
f. INQUIRE — 62 ask
ьЗаказ 830
(ДИН — дон)
(ГОН — конг)
(ПИН — понг)
(ИЛИ — или)
(НИ -- ни)
(В СООТВЕТСТВИИ — с)
Ср.: treasure-trove
(найденный в земле клад)
Ср.: stark-naked
(совершенно голый)
Ср.: windowsill
(подоконник)
Ср.: Lat. post mortem
Ср.: Lat. homo sapiens
Ср.: Noah’s ark
(Ноев ковчег)
Ср.: (Иисус Христос)
Ср.: jugular vein
(яремная вена)
Ср : duodenal ulcer
(язва двенадцатиперстной кишки)
Ср.: outboard motor
(подвесной мотор)
Ср.: ejector seat
(катапультируемое сидение)
Ср : corned beef
(солонина)
Ср : devalued pound
(девальвированный фунт стерлин-
гов)
Ср : pussy cat
(кошечка)
(СКУМБРИЯ — рыба) X (is a) Y
(ДРОЗД — птица) X (есть) Y
(ВЯЗ -- дерево)
(ВЫМЯ — корова) X (belongs to) Y
(ГРИВА—лошадь) X (принадле-
жит) Y
(СТУПЕНЬКИ — лестница) X (ma-
kes) Y
(СКЛАДКИ — юбка) X (составля-
ет) Y
(КОБУРА - ружье) X (is for) Y
(РЕЗЕРВУАР — вода) X (пред-
назначается для) Y
(КОШЕЛЕК -- деньги)
(ПОМОГАТЬ, СОДЕЙСТВОВАТЬ —
помогать)
(ПИХАТЬ -- толкать)
(СПРАШИВАТЬ — спрашивать)
113
Окончание табл. 9
14 15 NOURISHMENT — 75 food (1) (ПИТАНИЕ, ПИЩА — пища)
UNTRUTH — 73 Не DIN — 61 noise (4) UNWELL — 60 ill STINGY — 58 mean ARCHAIC — 50 old (НЕПРАВДА — ложь) (НАЗОЙЛИВЫЙ ШУМ — шум) (НЕЗДОРОВЫЙ — больной) (СКАРЕДНЫЙ - скупой) (УСТАРЕЛЫЙ — старый)
16 CONTEMPLATE — 54 think (— ) (РАЗМЫШЛЯТЬ — думать)
MEDITATE — 51 think (—) (РАЗМЫШЛЯТЬ — думать)
PONDER - - 50 think (2) (ОБДУМЫВАТЬ — думать)
17 FILTH — 60 dirt (15), (ГРЯЗЬ, МЕРЗОСТЬ — грязь)
GRIME — 1 53 dirt (2) (ВЪЕВШАЯСЯ ГРЯЗЬ — грязь)
18 WEARY — 72 tired (8) (ИЗМУЧЕННЫЙ — усталый)
EXAUSTED । — 59 tired (4) (УТОМЛЕННЫЙ — усталый)
FATIGUED — 70 tired (2) (УСТАЛЫЙ — усталый)
19 PLAICE — 67 fish (4) (КАМБАЛА — рыба)
STARLING — 68 bird (2) (СКВОРЕЦ — птица)
20 FIREARM - — 64 gun (—) (ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ —
Ружье)
RODENT - - 55 rat (1) (ГРЫЗУН - - крыса)
VEHICLE - - 79 car (3) (СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ —
автомобиль)
21 PERSPIRE — 67 sweat (6) (ПОТЕТЬ — пот)
SPLASH — 60 water (ПЛЕСКАТЬ — вода)
22 FLOCK — 1 ’6 sheep (5) (ОТАРА овец— овца)
LEASH — 1 61 dog (1) (СВОРАсобак- - собака)
23 MOO — 70 cow (3) (МЫЧАТЬ — корова)
CROAK — 51 frog (6) (КВАКАТЬ - лягушка)
24 LOAF — 77 bread (5) Ср.: loaf of bread
(буханка хлеба)
LOBE — 91 ear (5) Ср.: lobe of the ear
(мочка уха)
25 HUSBAND — 85 wife (46) (МУЖ — жена)
BOY — 78 girl (60) (МАЛЬЧИК — девочка)
26 GOOD — 78 bad (55) (ХОРОШИЙ — плохой)
WRONG — 71 right (42) (ОШИБОЧНЫЙ — правильный)
LOW — 67 high (59) (НИЗКИЙ — высокий)
27 SELL — 53 buy (42) (ПРОДАВАТЬ — покупать)
BORROW - - 51 lend (43) (ЗАНИМАТЬ — давать взаймы)
ходов от глубинных связей к поверхностным могут, как нам
представляется, рассматриваться с позиций перехода дина'
мических временных связей в замыкательные (см. Бойко,
1976, а также обсуждение этого вопроса в работе: Залев*
ская, 1979, с. 56—5*7 и ниже в разд. 4.2).
Можно полагать, что несмотря на некоторые различия
между группами примеров !—8 в табл. 9 общим для них
является воспроизведение привычной последовательности
слов: на основе предшествующего опыта индивида у него
актуализуется наиболее вероятный (или единственный воз-
114
Ложный) минимальный контекст поверхностного яруса лек-
йкона. Достаточно сравнить, например, вероятность актуа-
лизации правого и левого контекстов числительных ONE —
3 two (7), где показатели частоты ассоциатов, зарегистри-
рованных в АТ, вполне согласуются с привычным порядком
чета (от меньшего к большему: 1, 2 и т. Д.). О том, что
вязи такого рода играют в памяти человека значительную
распространенные в комму-
автомати-
цитатных
характер актуализации
случаях рассогласования
1оль, свидетельствуют широко
икативной практике носителей языка примеры
еского всплывания в памяти речевых штампов,
Ьнтекстов и т. п. Механический
каких связей обнаруживается в
Вежду «встречным контекстом» у слушающего и тем кон-
екстом, в который слово включено говорящим, а также при
втокоррекции оговорок при производстве речи.
Г При объяснении лексических импликаций срабатывани-
ем механизма вероятностного прогнозирования (см.: Залев-
Ькая, 1979, с. 57) учитывалось, что вероятностные характе-
ристики актуальны для всех уровней работы живого меха-
низма и, в частности, для языкового механизма человека
)(см., например, Вероятностное прогнозирование, 1977; Нали-
мов, 1974; Фейгенберг, 1973). Автоматизированное всплыва-
ние в памяти привычного контекста может обусловливать-
ся превалированием вероятностной оценки совместной встре-
чаемости слов над любыми другими характеристиками ис-
ходного слова и вызванного им ассоциата.
В связи со сказанным выше необходимо, однако, под-
черкнуть, что в ассоциативном эксперименте, как и в реаль-
ной ситуации общения, находит свое отражение не только
вероятностная оценка, складывающаяся на основании всего
Предшествующего речевого опыта носителя языка (ее мож-
условно назвать «абсолютной вероятностной оценкой»),
ра ход идентификации или поиска слова оказывают влия-
ние специфичные для того или иного индивида или обуслов-
ленные недавними жизненными или коммуникативными си-
нациями и потому наиболее яркие впечатления, определяю-
щие своеобразную «относительную вероятностную оценку»,
Которая может выдвигать на первый план единицы, менее
ВХтуальные для общеречевого использования (см. более под-
робное обсуждение этого вопроса в работе: Залевская, 1975,
I61)’
Г В отличие от рассмотренных лексических импликаций,
(Вязанных с работой механизма вероятностного прогнозиро-
ания и описываемых в общей форме моделью XY, примеры
—42 в табл. 9 могут быть квалифицированы как ссманти-
!ские импликации, обусловленные работой механизма глу-
биной предикации (см. обсуждение в разд. 4.3) и описывае-
те через ряд типовых моделей (см. соответствующий раз-
♦ 115
дел табл. 9), которые далеко не исчерпывают возможные ви-
ды семантических отношений между словом-стимулом и ас-
социатом. Отметим, что примеры группы 9 могут также ин-
терпретироваться как соответствующие модели XY, посколь-
ку в этих случаях ассоциативная связь реализуется и под
воздействием речевого навыка; ср.: thrush bird, elm tree.
lie ставя перед собой задачу привести полный перечень
и интерпретацию подобных моделей, воспользуемся некото-
рыми из них для обсуждения вопросов, связанных с пробле-
мой семантической импликации в целом. Так, среди анали-
зируемых ассоциативных пар значительное место занимают
случаи типа примеров 13—15 в табл. 9. Если следовать ука-
занию В. Порцига на то, что при существенных смысловых
связях (wesenhafte Bedeutungsbeziehungen) определенные
лексические единицы имплицитно содержатся в других еди-
ницах (см. Porzig, 1957, р. 123), то здесь имеет место явле-
ние именно такого рода, что подтверждается включением
высокочастотного ассоциата в дефиницию исходного слова
(по данным толковых словарей). Например, дефиниция сло-
ва shove включает to push roughly (Webster’s Dictionary,
1959, p. 501); значение слова din объясняется как ...distrac-
ting noise (The Concise Oxford Dictionary, 1956, p. 337); cp.
с соответствующими ассоциативными парами в примерах 13,
14 табл. 9. В то же время выверка по «Тезаурусу» Роже по-
казывает, что высокочастотные ассоциаты, как правило, вы-
ступают там в роли ключевых слов к статьям, в которые
входят исследуемые нами исходные слова. Как указывается
в предисловии к этому «Тезаурусу», ключевыми словами в
нем являются слова с наиболее общим значением (The Ori-
ginal Roget's Thesaurus, 1966, p. XIII). Наличие отношений
такого рода между компонентами .парадигматически свя-
занных пар слов опровергает утверждение В. Порцига (а
за ним и Э. Косериу, 1969) об обязательной синтагматич-
ности семантических импликаций (или лексических солидар-
ностей). О синтагматике здесь можно говорить в ином, чем
у Порцига и Косериу, смысле: в основе связи между компо-
нентами рассматриваемых пар лежит глубинная предикация,
что еще раз подтверждает правомерность гипотезы о нали-
чии цепей синтагматико-парадигматических импликаций как
одном из наиболее общих принципов организации лекси-
кона.
Следует отметить, что некоторые из приведенных в груК
пах 13—15 примеров допускают двойственную интерпрета-
цию ассоциата. Так, английские слова lie, push, help могут
быть и существительными, и глаголами. Основанием Д-пЯ
трактовки включающих их пар в качестве парадигматически
связанных является реализация модели X (means) Y И
(означает) Y), что на поверхностном уровне требует принаД-
116
лежности переменных X и Y к одному и тому же лексико-
грамматическому классу. Для глубинного же уровня разгра-
ничение по частям речи вообще не является релевантным
(ср. Fillmore 1969, р. 1'29, а также Кацнельсон, 1972, с. 143—
144).
Сопоставление дефиниций исходных слов и ассоциатов
парадигматических парах типа 13--15 и анализ ноказате-
•лей частоты прямой (стимул — ассоциат) и обратной (ассо-
,.циат — стимул) связи показывают, что в этих случаях не-
сходное слово с частным значением актуализует высокочас-
тотный ассоциат с более общим значением, но не наоборот.
^Весьма показательным в этом отношении является тот факт,
ччто близкие по своему значению исходные слова актуали-
Ьзовали один и тот же ассоциат с более общим значением
мем. примеры 16—18 в табл. 9). Интересно отметить, что
йючти все ассоциаты в таких случаях оказываются более
короткими словами, чем стимулы, и, по всей видимости,
^усваиваются в первые годы жизни носителя английского
[языка (о роли последнего фактора см. Carroll and White,
|1973).
Некоторые авторы уже предпринимали попытки объяс-
нить причины однонаправленности ассоциативного процесса
ЙВ такого рода случаях, хотя делалось это вне связи с проб-
iift семантической импликации. Так, Г. Кларк (Clark,
) вслед за Дж. Маршаллом полагает, что снятие некото-
семантического признака является более типичным, чем
вленис такового потому, что можно добавить много
наков, в то время как признаки, которые можно снять,
го специфицированы.
В поисках ответа на поставленный вопрос в работе (За-
кая, 1979) рассматривается трактовка психологического
ржания ассоциативных связей разных типов. Так,
удвортс в свое время указывал на то, что испытуемый,
ирующий на стимул посредством дефиниции (в качест-
оторой могут также выступать синонимы и суиерорди-
ные реакции), по сути дела разъясняет значение ис-
ого слова с целью его осознания (Вудворте, 1950). К
у можно добавить, что фактически в подобных случаях
эт место семантические замены (см. выше разд. 3.2), к
же значение исходного слова осознается и при про-
ровании других видов ассоциатов, семантически связан-
с исходными словами; однако лишь в случаях, назваи-
Вудвортсом, и в некоторых других этап такого осозна-
оказывается эксплицированным (ср. приведенные выше
нимические пары, а также примеры 19—20 в табл. 9).
>удно заметить, что в парах 19 частному случаю, или
ставителю класса объектов, имплицируются обобщенные
наки этого класса, а в парах 20, наоборот, частный слу-
117
чай, или пример представителя класса объектов, служит ба-
зой для осмысления обобщенных характеристик этого клас-
са. В то же время общим для пар 19—20 является обраще-
ние носителя языка к фонду своих знаний о мире, откуда
черпаются соответствующие средства осознания значения
идентифицируемого слова, ведь отнесение к классу и иллю-
стрирование общих понятий конкретными примерами входят
в число основных принципов упорядочения в памяти челове-
ка разносторонней информации об окружающем его мире
(см. Линдсей и Норман, 1974). В отличие от этого в парах
13—18 происходит обращение испытуемых к их языковым
знаниям.
Наряду с энциклопедическими и языковыми знаниями
(и параллельно с ними) осознание значения исходного сло-
ва может быть связано с актуализацией некоторого пред-
ставления или ощущения. Взаимодействие рационального и
чувственного опыта индивида прослеживается в примерах
21—.24, при этом в 22 приведены случаи реализации языко-
вых знаний, а в 24 очевидно влияние речевого навыка.
В работе (Залевская, 1979, с. 60—61) отмечается, что
прослеживаемая в экспериментальном материале эксплика-
ция обращения носителей языка к знаниям о мире и к язы-
ковым знаниям помогает обнаружить основания для пере-
сечения понятий семантической импликации и лексической
пресуппозиции: эти два термина фактически описывают од-
но и то же явление, однако первый из них 'концентрирует
внимание на характере процесса отсылки к информацион-
ному тезурусу человека (т. е. на имПлицитности обращения
к глубинному ярусу лексикона), а второй — на продукте
этого процесса (т. е. на обязательности учета информации,
получаемой в итоге такого обращения к фонду знаний при
оперировании той или иной лексической единицей). Не слу-
чайно идентичная аргументация и сходные примеры приво-
дятся одними авторами в качестве базы для трактовки спе-
цифики импликаций пли квазиимпликаций, а другими —
для разграничения пресуппозиций и утверждаемого при се-
мантическом анализе слов и высказываний; ср. хотя бы
определение «импликативного термина» как имплицирую-
щего некоторые суждения отправителя независимо от типа
высказывания, которое может быть утвердительным, отрица-
тельным, вопросительным и т. д. (Беллерт, 1978, с. 180), с
идущим от Г. Фреге и фигурирующим в ряде исследований
указанием на то, что пресуппозиции не изменяются при от-
рицании (см. обзор: Арутюнова, 1973).
Установив наличие импликаций в парадигматике и про-
следив пересечение таких импликаций с лексическими пре-
суппозициями, можно в то же время отметить, что связь
между компонентами приведенных выше ассоциативных пар
118
является однонаправленной. Тем не менее в парадигмати-
чески связанных парах слов могут реализоваться и двуна-
правленные (взаимные) импликации; ср. примеры 25—27 в
рбл. 9.
Следует указать, что наличие в материалах ассоциатив-
ных экспериментов пар слов с двунаправленной связью бы-
to равнее отмечено другими авторами и описано под назва-
вием «зеркальных ассоциаций» на базе различных языков
им., например, Титова А. И., 1973; Титова Л. Н., 1977),
инако вопрос о характере импликаций в таких случаях не
тавился. Если же обратиться к трактовке специфики импли-
Ьций при разных типах противопоставлений, которую (вне
язи с проблемой ассоциаций) дает Дж. Лайо,нз (Lyons,
72), то окажется, что в парах неградуируемых антонимов
па «одинокий — женатый» отрицание одного из членов
Ьляется имплицитно эквивалентным утверждению второго
№ члена (Op. cit., р. 62; ср. с обсуждением проблемы так
взываемых «эксклюдсров» в работе Е. М. Вольф, 1978,
к 82—83). Иначе обстоит дело с градуируемыми антонима-
ми: если указывается, что один из сравниваемых объектов
Кладает некоторым качеством в большей степени, чем дру-
й, то это имплицирует у второго объекта наличие боль-
ней степени проявления противоположного качества (ср.:
Иаш дом больше вашего» и «Ваш дом меньше нашего»).
Юо касается случаев типа «купить — продать», то, по мне-
Юю Лайонза, для них характерен тот же тип импликации,
Эторый специфичен для градуируемых антонимов. Напри-
Мф, «X продал Z У» так же имплицирует «У купил Z у У»,
Кк «X больше У» имплицирует «У меньше X» (Op. cit.,
Р72). С такой трактовкой специфики взаимных имплика-
Кй можно согласиться, добавив при этом, что основанием
ИЙ установления эквивалентности утверждения одного чле-
г пары отрицанию другого, как и для противоположения
впени проявления соотносимых качеств, служит опять-таки
Вт фонд знаний о мире, который одновременно с языковыми
аниями хранится в едином информационном тезаурусе
Йовека. Если же обратиться к психофизиологическим ис-
ИуДованиям (см., например, Сеченов, 1953; Hebb, 1966), то
ийовптся очевидным, что названия компонентов подобных
^тивопоставлений усваиваются параллельно с формирова-
МЬм соответствующего основания для противопоставления
Ишо всей видимости, говорить в таких случаях следует не
Ирарах, а о триадах, включающих имплицируемый третий
Ир, не обязательно поддающийся вербализации и нередко
Иыстайляющий собой совокупность некоторых чувственных
ИЬентиров (звуковых, зрительных, моторных и т. д.), ср.:
^зкий — высокий», «далеко — близко», «громко — тихо»,
Ностро — медленно» и т. п. Связь через такой третий член
119
1 j wwmiMiww
на корреляты слов БЕЛЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ, СИНИЙ (по И экспериментальным группам)
СИНИЙ КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ БЕЛЫЙ Исход-
____________________ ______________ное слово
Экспериментальные группы
Русские Белору- сы Укра- инцы Словаки Поляки 1«»» I Фран- । цузы Казахи Кирги- зы Узбеки
черный желтый серый зеленый розовый чистый черный серый светлый чистый синий красный черный светлый красный яркий красивый прозрач- ный черный чистый красный красивый бесцвет- ный черный темный светлый холодный чистый черный черный темный светлый синий красный красный синий чистый темный черный светлый чистый синий желтый черный белова- тый синий (зеле- ный) * желтый черный синий (зе- леный)* красный желтый светло- серый честный черный желтый синий (зеле- ный) * красный
красный зеленый синий белый оранже- вый зеленый белый красный черный светлый зеленый белый светлый синий красный -- зеленый красный белый синий светлый синий красный красный зеленый зеленый синий черный белый корич- черный певый зеленый светлый синий красный черный красный красный синий (зе- синий (зе леный)* левый)* белый зеленый зеленый черный черный белый красный белый синий (зеле- ный) * черный
зеленый черный синий белый желтый белый желтый красный яркий синий черный яркий белый красивый хороший желтый синий черный белый зеленый синий красивый черный зеленый белый красное и черное синий белый зеленый синий синий черный желтый зеленый белый желтый черный черный синий зеленый белый алый зеленый синий (зе леный)* желтый черный белый синий i- (зеле- ный) * желтый черный белый синий (зе- леный)* желтый черный белый зеленый
зеленый красный белый олубой черный голубой красивый черный красный яркий желтый голубой светлый красивый яркий желтый красный синий (сино- ним) красивый черный яркий черный зеленый красный холодный белый красный зеленый зеленый желтый желтый красный черный пьяный белый белый красны? зеленый белый черный розовый зеленый зеленый красный красный белый белый черный желтый синева- черный тый красный желтый зеленый белый фиолето- вый
* Соответствующие казахское, киргизское и узбекское слова
обозначают и синий, и зеленый цвет.
оказывается, во-первых, взаимной (что объясняет высокие
показатели «зеркальности» подобных ассоциаций), а во-вто-
рых, универсальной, поскольку имеет место отражение свя-
зей и отношений между объектами единого для обитателей
планеты Земля окружающего мира (что объясняет универ-
сальность явления «зеркальности», регистрируемого в мате-
риалах ассоциативных экспериментов независимо от языка
испытуемых).
3.9. До сих пор внимание концентрировалось преимуще-
ственно на фактах сходства направлений актуализации ассо-
циативных связей у испытуемых разных языковых групп.
Далее будут рассматриваться идиоэтническис особенности
реализации сходных тенденций в ассоциативных реакциях
носителей исследуемых языков.
Для примера возьмем ассоциативные поля четырех
цветообозначеиий (БЕЛЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ, СИ-
НИЙ) и их коррелятов в рассматриваемых языках. Частые
парадигматические ассоциативные реакции на эти цвето-
обозначсния приводятся в табл. 10, синтагматические — в
табл. 11. Из табл. 10 прежде всего бросается в глаза то,
что подавляющее большинство частых парадигматических
реакций на обсуждаемые исходные слова составляют цвето-
обозначсния, однако нс все они встречаются в этой таблице
одинаково часто. Проделав несложные подсчеты, можно уста-
новить, что испытуемые разных групп чаще всего использо-
вали ассоциаты черный, синий, зеленый, красный, белый и
желтый (они встретились 36, 27, 27, 27, 26 и 18 раз соответ-
ственно). Остальные зарегистрированные в табл. 10 цвето-
обозначения фигурируют в ней лишь по 1—2 раза. Это поз-
воляет сделать вывод, что в лексиконе носителей каждого из
исследуемых языков имеется некоторое «ядро» весьма «ак-
тивных» цветообозначеиий. Наиболее активным здесь ока-
зался ассоциат черный.
В число парадигматических ассоциативных реакций, ко-
торые не являются цветообозначсниями, входят ассоциат
чистый, который шестью из 11 сопоставляемых групп испы-
туемых был соотнесен с исходным словом БЕЛЫЙ, и при-
лагательное оценочного характера красивый, использован-
ное украинцами и словаками в связи с коррелятами трех
рассматриваемых исходных слов и белорусами — с одним.
Ассоциаты светлый и темный могут трактоваться как зани-
мающие промежуточную позицию между цветообозиачения-
ми и оценочными словами.
Дальнейший качественный анализ материала табл. Ю
показывает, что для всех исследуемых групп испытуемых
исходное слово БЕЛЫЙ в первую очередь увязывается с
ассоциатом черный. Йо всей видимости, это объясняется тем,
120
Таблица 11
Сопоставление частых синтагматических ассоциативных реакций на корреляты слов
БЕЛЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ, СИНИИ (по It экспериментальным группам)
0J Экспериментальные группы
Исходи слова Русские Бело- | Русы | Укра- инцы Слова- ки Поляки Амери- канцы Немцы Фран- цузы Каза- хи Кирги- зы Узбеки
БЕЛЫЙ 1 снег свет заяц медведь цвет дом, пух хлопок снег хлеб сахар медведь лицо дом цвет снег бумага цвет лебедь птица день снег цвет свитер степа одежда снег дом каньон цвет клык снег свет дом цвет Рожде ство снег снег цвет чистота стена белье платье цвет - капуста сукно рубашка материя молоко медведь январь снег молоко платье намере- ние чайка платок хлопок дорога медведь хлопок дом ребенок
ЖЕЛТЫЙ лист цвет цветок свет одуван- чик лимон осень цвет лист лимон цветок месяц песок лист цвет каран- даш лимон солнце подсол- нух — цвет цветок китаец сыр лимон цвет цветок масло трус солнце цвет зависть лимон цветок желтух лимон золото яичный желток а солнце цвет масло рубашка человек цветок тюльпан деревян- ное вед- ро цветок платье человек платок масло цвет просо цветок голова цвет арык
КРАСНЫЙ флаг галстук цвет мак шар свет флаг галстук цвет мак нос яблоко флаг галстук цвет мак помидор кровь кровь свитер цвет роза цветок знамЯ цвет капор мак кровь цвёт кровь комму- нист флаг свет Цвет любовь бык кровь губы кровь губы цвет огонь бык цветок флаг цвет свекла яблоко платек платье разнород ные крас ные пред- меты цветок галстук цвет флаг каран- даш цветок
небо небо небо небо небо небо небо небо небо небо небо
цвет экран цвет славя- птица цвет цвет море трава трава глаз
К S шар небосвод глаза нин цвет вода алко- лазурь рубашка платье весна
ж океан цвет море цвет глаз птица голь солдат Волга море чай
ю зеро глаза флаг море чернила глаза морской море озеро карандаш
О 1 цветок день день бабочка пиво пехоты глаз
ночь
что в основе такой связи лежит противоположение контрар-
ных понятий. Отношения между исходными словами ЖЕЛ-
ТЫЙ, КРАСНЫЙ, СИНИЙ и полученными на них ассоциа-
тами-цветообозначениями являются иными, что дает осно-
вания для варьирования первых по частоте ассоциатов. Но
и в этих случаях оказывается возможным проследить неко-
торые основные связи, особенно если учитывать две наибо-
лее частые реакции. Так, ЖЕЛТЫЙ чаще всего увязывает-
ся с красным, зеленым и синим; КРАСНЫЙ — с синим, чер-
ным и зеленым; СИНИЙ — с зеленым и красным. Для пол-
ноты картины связей между всеми этими цветообозначения-
ми следовало бы рассчитать коэффициент их пересечения
для каждой экспериментальной группы, однако для этого
необходимо располагать полными дистрибуциями ассоциа-
тивных реакций не только по исследуемым четырем исход-
ным словам, но и по остальным цветообозначениям, входя-
щим в установленное «ядро».
При анализе частых синтагматических ассоциативных
реакций на обсуждаемые исходные слова (см. табл. И) мож-
но выделить следующие основные виды связей, общие для
всех групп испытуемых: 1) подведение исходного цветообоз-
начения под общее понятие; 2) увязывание исходного слова
с некоторым объектом окружающего мира, для которого ха-
рактерен соответствующий цвет; 3) включение исходного
слова в некоторое словосочетание; 4) символическое пере-
осмысление исходного слова.
Первый из названных видов связи реализуется одинако-
во для всех рассматриваемых исходных слов: будучи цвето-
обозначениями, все они вызывают суперординату цвет. Это
заставляет указать на условность включения данного ассо-
циата в таблицу синтагматических реакций: здесь, 'несомнен-
но, реализуется глубинная парадигматическая связь, что по-
казывает недостаточность разграничения парадигматических
и синтагматических реакций по признаку принадлежности
исходного слова и ассоциата к одному и тому же пли к раз-
ным лексико-грамматическим классам (см. детальное обсуж-
дение необходимости использования иного — функциональ-
ного — критерия в работе: Залевская, 1975, с. 50—57). В
то же время приведенный пример опровергает справедли-
вость утверждения Дж. Лайонза о том, что для лексемы,
принадлежащей к некоторой части речи, может быть гипо-
нима, который принадлежал бы .к другой части речи (Lyons.
1977, р. 297).
Ассоциат цвет зарегистрирован в табл. 11 33 раза, из
них 10 (из И возможных) — со словом КРАСНЫЙ, по 8 —
со словами ЖЕЛТЫЙ и БЕЛЫЙ и 7 раз со словом СИНИЙ.
Такое положение вещей, с одной стороны, объясняется уни-
версальностью логической операции подведения под общее
124
понятие, а с другой, видимо, связано и с тем, что в ряде ис-
-следуемых языков исходные цветообозначения в совокупнос-
ти с коррелятами слова «цвет» образуют привычные для
испытуемых словосочетания. Однако при всей универсаль-
ности названной логической операции носители сопоставляе-
мых языков используют ее более или менее активно. Так, в
числе частых реакций все рассматриваемые слова вызвали
суперординату у русских, белорусов, украинцев, поляков,
американцев и немцев. Тюркоязычные испытуемые реализу-
ют этот вид связи в более ограниченных пределах. Как вид-
но из табл. 11, в число частых реакций на 4 исследуемых
слова суперордината цвет у узбеков вошла дважды, а у ка-
захов и киргизов — по одному разу (это хорошо согласует-
ся с неоднократно отмечавшейся нами тенденцией носителей
тюркских языков избирать иные стратегии ассоциирования).
Реализация связи исходного цветообозначения с некото-
рым объектом окружающего мира занимает основное место
среди наиболее частых синтагматических реакций по всем
сопоставляемым группам испытуемых, однако называемые
ими объекты совпадают далеко нс всегда. Все группы испы-
туемых оказались единодушными только в одном случае,
увязав исходное слово СИНИЙ с ассоциатом небо. Девять
групп из 11 дали к исходному слову БЕЛЫЙ ассоциат снег;
7 групп увязали слово ЖЕЛТЫЙ с ассоциатом цветок, 5—
с ассоциатом лимон; у 7 групп цветообозначение КРАСНЫЙ
вызвало реакции флаг, знамя, у 5 — реакцию кровь; 5 групп
испытуемых дали в ответ на слово СИНИЙ реакцию море.
Далее можно говорить скорее о расхождении, чем о совпа-
дении объектов, названных испытуемыми разных экспери-
ментальных групп. Так, для узбеков «эталоном» белого цве-
та является не снег, а хлопок, для казахов и киргизов — мо-
локо (у последних — наравне со снегам). Цветообозначс-
ние ЖЕЛТЫЙ у русских, белорусов и украинцев вызвало
образ осеннего листа, у русских же ассоциировалось с оду-
ванчиком, у украинцев — с подсолнухом, у французов — с
золотом и с яичным желтком, у американцев, казахов и
киргизов — с маслом, а у узбеков — с просом. В одних слу-
чаях такие расхождения объясняются особенностями жизни
и культуры испытуемых, а в других — спецификой их языка.
Фактор языка проявляется по нескольким направлени-
ям. Это, прежде всего, актуализация ассоциатов, вызванных
' отдельными ЛСВ коррелятов исследуемых слов в разных
^языках. Например, в табл. 10 зарегистрирован парадигмати-
[ческпй ассоциат пьяный по группе немцев. Дело в том, что
[Немецкий коррелят слова СИНИЙ — BLAU — имеет раз-
|гoвopнoc значение ’пьяный’, которое стимулировало реакцию
[betrunken с таким же значением, а также ряд ассоциатов
|типа Alkohol (алкоголь), Bier (пиво). Одно из значений англ.
125
YELLOW (ЖЕЛТЫЙ) — ’трусливый’; это нашло отраже-
ние в реакции coward (трус) по группе американцев. В
тюркских языках корреляты цветообозначения ЖЕЛТЫЙ
имеют значение ’рыжий’, реализовавшееся в реакциях со
значениями ’человек’ и ’голова’ (ср.: САРЫ — адам, СА-
РЫ — киши, САРИК — бош). В английском языке это
значение реализуется в связи с коррелятом слова КРАС-
НЫЙ, который опознается американцами и в значении ’цвет
кожи’, ср.: RED — Indians (не вошло в табл. 11 как мало-
частотная реакция). Специфичное для русских испытуемых
значение слова КРАСНЫЙ реализовалось через ассоциаты
Октябрь, партизан. Корреляты слова БЕЛЫЙ в тюркских
языках могут означать ’честный’, ’добрый’, что стимулирова-
ло парадигматическую связь по группе киргизов: АК — ко-
нул (честный) и актуализацию словосочетаний с исходным
словом по группам киргизов и узбеков: АК — пиет (чест-
ное намерение) и О,К — йул\ (Доброго пути!). В то же
время в русской ассоциативной паре БЕЛЫЙ — арбуз реа-
лизовалось значение исходного слова ’незрелый’, а в киргиз-
ской паре КЫЗЫЛ — таттуу (КРАСНЬШ — сладкий) —
значение ’спелый’.
Реализацию фактора языка можно также проследить в
киргизской ассоциативной паре КЫЗЫЛ — тазыл, где ассо-
циат и исходное слово вместе означают ’разнородные крас-
ные предметы’; парные слова такого типа специфичны для
тюркских языков (см. обсуждение аналогичных случаев из
материалов наших экспериментов с носителями казахского
и узбекского языков: Залевская, 1975, с. 59). Характерные
для разных языков деривационные возможности проявля-
ются, например, в случаях нем. WEIS — Weifiskraut (БЕ-
ЛЫЙ — капуста), каз. АК — акпан (БЕЛЫЙ •— январь),
узб. КУК — куклам (ЗЕЛЕНЫЙ — весна). Специфичны
для отдельных языков такие словосочетания, как каз. СА-
РЫ — май (сливочное масло), узб. КУК — чой (зеленый
чай).
Говоря о словосочетаниях, образуемых совокупностью
ассоциата с исходным словом, было бы, очевидно, ошибоч-
ным полностью относить их к случаям реализации фактора
специфики языка испытуемых. Так, на киргизский коррелят
цветообозначения ЖЕЛТЫЙ (САРЫ) получена самая час-
тая синтагматическая реакция челек (деревянное ведро),
что объясняется наличием топонима «Сары-Челек». Это свя-
зано с закреплением в языке факта культуры (в данном
случае также видна условность включения этого ассоциата
в табл. 11). йересечепие факторов языка и культуры про-
слеживается также и в ассоциативной паре WHITE — house
(БЕЛЫЙ — дом) у американцев. Следует особо выделить
и цитатные словосочетания, ср. польск. CZERWONY — Кар-
126
turek (КРАСНАЯ — Шапочка), BIAtY — Kid (БЕЛЫЙ* —
Клык).
При анализе примеров символического переосмысления
исходных слов опять-таки трудно разграничивать случаи
реализации факторов языка и культуры испытуемых (см.
табл. 12, где по техническим причинам удалось привести
примеры лишь по трем экспериментальным группам). Бе-
.лый цвет у американцев, немцев и французов оказался свя-
занным с представлениями о чистоте, невинности, больни-
це, ангелах (ср. с зарегистрированным в приведенной выше
табл. 10 ассоциатом чистый, вызванным коррелятами слова
БЕЛЫЙ у русских, белорусов, словаков и поляков). Специ-
фичной для американцев оказалась связь БЕЛЫЙ — Рож-
дество. Желтый цвет у немцев увязывается с ненавистью,
завистью, фальшью, у немцев и французов — с изменой и
ревностью, у американцев — с трусостью, для американцев
и немцев этот цвет также связан с предупреждением об
опасности. Красный цвет для этих трех групп связан с
представлениями о коммунизме и России, воспринимается
как сигнал опасности (в том числе — в связи с уличным
движением), напоминает о корриде; у американцев и фран-
цузов — о гневе, у немцев и французов — о любви, страс-
ти. Синий для американцев и французов связан с надеждой,
для немцев — с верностью; все три группы актуализугот
также представления об униформе моряков или летчиков.
Сопоставление рубрик, выделенных в табл. 12 в связи
с коррелятами слов БЕЛЫЙ и ЖЕЛТЫЙ, наводит на мысль,
что первые вызывают у испытуемых этих групп преимущест-
венно положительные эмоции, а вторые — отрицательные.
Для проверки этого предположения в табл. 13 сведены ас-
социаты, которые можно интерпретировать как выражаю-
щие положительную или отрицательную оценку обозначае-
мых исходными словами названий цвета. Наибольшее коли-
чество реакций оценочного характера встретилось в мате-
риалах эксперимента с группой немцев, давших преимуще-
ственно отрицательную оценку желтому цвету и преимуще-
ственно положительную — синему. Интересно для сравнения
указать, что у тюркоязычных испытуемых корреляты слова
ЖЕЛТЫЙ отрицательных эмоций не вызвали; возможно,
это объясняется актуальностью образа цветущей степи
(ср.: ЖЕЛТЫЙ — цветок, тюльпан) и отсутствием предрас-
судков, связанных с желтым цветом у носителей других со-
поставляемых языков (ср. хотя бы связь ЖЕЛТЫЙ — из-
мена у украинцев и белорусов, а также примеры реакций
немцев и французов в табл. 12).
В работе (Залевская, 1975, с. 72—73) описан экспери-
мент со студентами — носителями русского языка, которым
предлагалось оценить по 7-балльной шкале (от «очень хоро-
127
Таблица 12
Реализация символических связей в ассоциативных реакциях на корреляты
цветообозначеиий БЕЛЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ, СИНИИ
(по трем экспериментальным группам)
Примеры ассоциатов по экспериментальным группам
Исходные слова Содержа- ние связи Американцы Немцы Французы
БЕЛЫЙ 1 Чистота риге (чистый) spotless (чис- rein (чистый) тый) Reinheit (чистота) schmutzig (грязный) sauber (чистый) Невинность bride (невеста) 'Virgin Mary Braut (невеста) (Дева Мария) wedding (вен- L'nschuld (невинность) чапие) Больница ambulance (санитарная повоз- Krankenhaus (больница) ка) hospital (больница) nur- se (сиделка) immacule (чистый) limpide (чистый) ргорге (чистый) pur (чистый) purete (чистота) innocent (невинный) mariee (замужняя) vierge (девственный) medicin (врач) dme (душа) ange (ангел) соси (обманутый муж) fidelite (преданность) jalousie (ревность)
ЖЕЛТЫЙ Прочие Измена, ревность Зависть, ненависть angel (ангел) Christmas (Рож- Engel (ангел) дество) — Eifersucht (ревность) Най (ненависть) Gift (злость) giftig (ядовитый) Neid (зависть) neidisch (завистливый) scheel (завистливый) Reiz (раздражение)
falsch (поддельный)
СО со р: S о ЖЕЛТЫЙ Опасность Трусость caution (предупреждение) stoplights (сигнал светофора) coward (трус) afraid (испуганный) Falschheft (лицемерие) Achtung (внимание) „ Gefahr (опасность) gelbe Gefahr (химическая опас- ность) Verkehrslicht (светофор)
КРАСНЫЙ Коммунизм Опасность Гнев Корида Любовь communist Commie Russian Russia USSR danger (опасность) stop light (сигнал «стоп») anger (гнев) rage (ярость) bull (бык) Kommunismus Kommunist Russland Sowjet gefahrlich (опасный) Gefahr (опасность) Stop! (Стой!) Verkehr (уличное движение) Verkehrsampel (светофор) Torrero Stier (бык) Stierkampf (бой быков) Liebe (любовь) erotisch communiste danger (опасность) signal (сигнал) violance (вспыльчивость) arene (манеж) Espagne (Испания) taureau (бык) toreador passion (страсть) marine (солдат морской пехо- ты) espoir (надежда)
ND СО СИНИЙ Униформа Надежда Верность Air Force (военно-воздушные силы) Navy (флот) soldier (солдат) uniform (униформа) hope (надежда) blaue Jungs (матросы) Marine (военно-морские силы; Matrose (матрос) Treue (верность, преданность)
Таблица 13
Реализация фактора оценки в ассоциативных реакциях на корреляты
цветообозначений БЕЛЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ, СИНИИ
(по трем экспериментальным группам)
Исход- ные слова Харак- 1 Примеры ассоциатов по экспериментальным группам
тер оценки Американцы Немцы | Французы
К 3 положи- тельная beautiful (прекрасный) schon (красивый) zart (приятный) bon (хороший) doux. (нежный)
е; ш СД отрица- тельная положи- тельная pretty (хорошенький) angenehm (приятный) (хоро- ший) (красивый) (нежный) calme (спокойный)
мкт ’ i ЖЕЛТЫЙ НЫЙ । отрица- тельная положи- тельная отрица- тельная ugly (безобразный) beautiful (прекрасный) exciting (возбуждающий) grafllich (отвратительный) hart (резкий) hafllich (безобразный) kn.allgelb (кричащий) nicht (miner angenehm (не всегда приятный) schmierig (мерзкий) unangenehm (неприятный) unschon (некрасивый) schon (красивый) aigre (резкий) laid (некрасивый) excitant (раздражающий)
СИНИЙ положи- тельная ' отрица- pretty, nice (хорошенький) ugly (безобразный) angenehm (приятный) beau (прекрасный) benihigend (успокоительный) calm (спокойный) Lieblingsfarbe (любимый цвет)8оих (нежный) ruhig (спокойный) joli (красивый) duster (мрачный) dur (резкий)
ший» до «очень плохой») .набор русских цветообозначений.
Наивысшую положительную оценку получил красный цвет,
в то время как черный был отнесен к разряду самых пло-
хих. Между ними следующим образом расположились ос-
тальные исследовавшиеся цветообозначения: красный, зеле-
ный, синий, белый, желтый, коричневый, серый, черный. В
свободном ассоциативном эксперименте, где не дается уста-
новки высказать свое отношение к обозначаемым исходны-
ми словами объектам, испытуемые делают это непроизволь-
но. Нами неоднократно подчеркивалось, что испытуемые вос-
принимают предлагаемые им слова вне ситуации и вне кон-
текста в его традиционной трактовке, но они немедленно (и
непроизвольно) включают идентифицируемое слово в специ-
фичный для индивидуального сознания (и подсознания)
контекст многогранного (в том числе эмоционально-оценоч-
ного) предшествующего опыта, формирующегося в социуме
и под воздействием принятой в социуме системы норм и
оценок (см., например, выделение соответствующего парамет-
ра анализа ассоциативного поля в работе: Залевская, 1975,
с. 43—45). По нашим многолетним наблюдениям, ассоциа-
ты, вызванные актуализацией названного параметра, зани-
мают определенное место в материалах экспериментов с
носителями всех исследуемых языков, что приводит к выво-
ду о его универсальности. В то же время идиоэтпические
особенности реализации этого параметра определяются це-
лым комплексом факторов, связанных с условиями жизни
носителей языка, их культурными традициями, спецификой
системы лексических значений и т. д.
Тенденции, выявленные при анализе ассоциативных по-
лей цветообозначений, проверялись на материале наборов
ассоциатов, полученных от носителей разных языков на дру-
гие исследуемые слова. Это не только подтвердило воздей-
ствие факторов языка и культуры испытуемых на актуали-
зацию ассоциативных связей, но и позволило уточнить неко-
торые особенности проявления фактора языка у разных
групп испытуемых (см., например, Zalevskaya, 1977). В част-
ности, четко прослеживается наличие грамматического согла-
сования ассоциата с исходным словом у носителей тех язы-
ков, для которых подобные параметры являются значимыми.
Это наводит на мысль о существовании импликативных свя-
зей особого типа, лежащих в основе организации языковых
[знаний человека. В число таких связей должны, например,
Входить связи по принадлежности к некоторому лексико-
Й'рамматическому классу, отмечавшиеся выше при обсуж-
дении результатов экспериментов на свободное воспроизве-
дение слов.
’ Таким образом, проведенный сопоставительный анализ
Экспериментальных материалов позволил выявить наличие
3* 131
широкого круга оснований для связи между единицами ин-
дивидуального лексикона. Это дало возможность построить
определенную гипотезу организации лексикона, которая бы-
ла в принципе сформулирована в работе (Залевская, 1977).
В гл. 4 эта гипотеза излагается в редакции 1981 г., а в
гл. 5 опа обсуждается с позиций исследований последних
лет.
ГЛАВА 4
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ЛЕКСИКОНА ЧЕЛОВЕКА
(по результатам исследования
за период 1968—1980 гг.)
4.0. Вводные замечания (132). 4.1. Разграничение поверхностного и
глубинного ярусов лексикона (132). 4.2. Принципы организации единиц
поверхностного яруса (134). 4.3. Принципы организации единиц глубинно-
го яруса (139). 4.4. Некоторые особенности «ядра» лексикона (148). 4.5.
Специфика хранения многозначных слов (151). 4.6. Общее представление
о структуре лексикона человека (155). 4.7. Одновременный учет множест-
ва связей единиц лексикона (158).
4.0. Излагаемые далее представления о принципах ор-
ганизации индивидуального лексикона базировались на оз-
накомлении с опытом предшествующих и параллельно веду-
щихся исследований, тем или иным образом связанных с
рассматриваемой проблемой, на разработке теоретических
основ изучения специфики лексикона, а также на реализа-
ции обширной программы экспериментов с носителями раз-
ных языков. При обсуждении сложившейся гипотезы будут
рассмотрены основания для разграничения поверхностного
и глубинного ярусов лексикона, после чего мы более под-
робно остановимся иа принципах организации единиц от-
дельных ярусов и иа характере межъярусных связей.
4.1. Выше (см. разд. 3.2, 3.3) были приведены примеры
ошибочной записи слов при свободном воспроизведении вер-
бального материала, .когда основанием для связи между сло-
вами служило более или менее полное совпадение звуковой
или графической формы при отсутствии смысловой связи
или, наоборот, причиной ошибочной записи того или иного
слова явилась близость его значения значению действитель-
но предъявлявшегося в эксперименте слова. Данные такого
рода позволяют разграничить два уровня идентификации ис-
ходных слов и дальнейшего оперирования ими в ходе экспс-
132
римента: 1) уровень форм слов и 2) уровень значений слов
(ср. соответственно примеры 1—6 и 10—21 в табл. 2 на
с. 112).
Выделенные в работах (Zaievskaya, 1972, р. 400; Залев-
ская, 1975, с. 60) уровни идентификации исходных слов,
различающиеся как по характеру относящихся к ним еди-
ниц, так и по видам признаков, лежащих в основе упорядо-
ченности этих единиц, могут быть соотнесены с обсуждав-
шимися А. А. Смирновым (1966) уровнями интеллектуальной
активности испытуемых и с предложенной Р. Вудвортсом
(Woodworth and Schlosberg, 1954) «шкалой поверхности
реакций»: идентификация на уровне форм соответствует ми-
нимальной интеллектуальной активности и «поверхностным
реакциям», поскольку актуализация второго компонента ас-
социативной пары слов или ошибочное воспроизведение сло-
ва происходят без осмысления значения используемых слов.
Заметим, что опознание формы слова без обращения к его
значению имеет место в ситуациях, когда человек различает
на слух или при чтении плохо знакомое иноязычное слово
или малоупотребляемое слово родного языка.
Симптомы раздельного'хранения форм и значений слов
могут быть интерпретированы как свидетельство психологи-
ческой реальности глубинного яруса лексикона и как дока-
зательство правомерности допущения определенной автоном-
ности функционирования поверхностного и глубинного яру-
сов в соответствующих условиях деятельности человека.
Обоснованность таких выводов подтверждается исследова-
ниями феномена «на кончике языка» (Brown and McNeill,
1966), анализом примеров отрыва слова от понятия в усло-
виях нормы речи (Верещагин, 1967), а также материалами
исследовании в области афазиологии (см., например, Лурия,
1974, где рассматривается феномен отчуждения смысла слов,
при котором фонематический состав слова остается сохран-
ным, но узнавание его смысла грубо нарушается). Интерес-
ные факты из области наблюдений над результатами пора-
жения левого полушария у глухонемых и у пользующихся
иероглификой японцев приводит Вяч. Вс. Иванов (1978),
делающий вывод о том, что звучание слов и их значения
хранятся у человека в разных полушариях мозга, функции
которых могут нарушаться независимо друг от друга; при
этом способ хранения смысла слов в правом полушарии не
зависит от их звуковой оболочки (Там же, с. 24). Материа-
лы такого рода, как и данные наших экспериментов, дают
основания оспаривать довольно распространенную среди
лингвистов точку зрения, согласно которой означаемое слова
хранится в сознании владеющих языком в неразрывном един-
стве с означающим (см., например, Уфимцева А А, 1974,
с. 30).
133
4.2. Для более детального рассмотрения специфики ор-
ганизации единиц поверхностного яруса лексикона полезно
обратиться к примерам ошибочной записи испытуемыми слов
второго (английского) языка при выполнении задания вос-
произвести по памяти исходные слова проводившегося до
этого ассоциативного теста (см. выше разд. 3.3.).
Рассмотрим, например, слово sea (море), записанное
вместо слова SEE (ВИДЕТЬ). Можно полагать, что при вы-
полнении задания дать свободную ассоциативную реакцию
испытуемый идентифицировал исходное слово лишь на уров-
не формы, без обращения к его значению. Сохранившийся
в памяти звуковой образ этого слова слился с его омофо-
ном — звуковым образом воспроизведенного слова, имеюще-
го иное написание. Такого же рода связь имела, очевидно,
место и в случае записи слова по (нет) вместо исходного
слова KNOW (ЗНАТЬ). Примеры этого типа чрезвычайно
важны, поскольку они нс только подтверждают возможность
•оперирования словом на уровне поверхностного яруса лек-
сикона, без обращения к ярусу смыслов, но и позволяют
проследить наличие двух .подъярусов поверхностного яруса
и составить некоторое представление о характере связей
между единица мн этих подъярусов.
Так, в рассмотренных примерах факты слияния звуко-
вых образов разных слов обнаружились при сопоставлении
начального и конечного звеньев процессов перекодирования
графического образа исходного слова (Fgi) в звуковой (Foi)
и далее — из звукового образа (FO2/ в графический (Fg2),
т. е. Fg|->Foi—<-Ffl2—<-Fg2. Подмена одного слова другим про-
изошла потому, что в обеих парах приведенных слов совпа-
дение единиц подъяруса звуковых образов (Foi = Fa2) не
имеет соответствия на подъярусе графических образов
(Fgi^Fgz), а первоначально фигурировавшая связь между
элементами разных подъярусов (т. е. Fgi-xFai) оказалась
утраченной и не могла быть правильно реконструированной;
очевидно, в процессе идентификации исходного слова она
не подкреплялась осознанием значения этого слова (т),
для чего требовалась актуализация связи между поверхност-
ным ярусом форм и глубинным ярусом смыслов: (FgI-)-FaI)-*-
-+-П1!. Отсутствие или утрата такой связи ведут к рассмот-
ренным выше подменам. Особенно благоприятные условия
для таких подмен создаются при обучении второму языку,
когда в дополнение к совмещению действительно совпадаю-
щих звуковых образов иноязычных слов происходит «под-
гонка» близких, но не идентичных образов к некоторому
«усредненному» звуковому образу, сформированному под
воздействием интерферирующего влияния звуковой системы
родного языка (ср. запись слова ship (корабль) вместо дей-
ствительно предъявлявшегося в эксперименте слова SHEEP
134
(овца): эти слова содержат разные гласные звуки, однако
это нередко игнорируется .носителями таких языков, для
которых признак долготы не является фонематичным).
Подъярус графических образов слов рассматривается
здесь как начальная ступень процесса перекодирования по-
тому, что для анализа взяты материалы, предъявлявшиеся
испытуемым в письменной форме. Вполне естественно, что
в онтогенезе первичным для становления поверхностного
яруса лексического компонента речевой способности челове-
ка является подъярус звуковых форм слова. Возможно, поэ-
тому значение слова увязывается именно со звуковым об-
разом, а воспринимаемые при чтении слова «озвучиваются»
во внутреннем проговаривании, присущем начинающим чте-
цам и читающим текст в начале освоения иностранного язы-
ка. Сказанное помогает объяснить широко известное явле-
ние удержания слов в памяти в слуховой, а не в зрительной
форме; становятся также понятными зарегистрированные в
ряде экспериментов случаи смешения сходных по звучанию
элементов, наблюдаемые даже при зрительном представле-
нии вербального материала (ср.: Conrad, 1963; Wickelgren,
1966).
Анализ фактов актуализации ассоциативных связей без
непременного обращения испытуемых к глубинному ярусу
смыслов позволяет проследить два ведущих принципа орга-
низации единиц поверхностного яруса лексикона: 1) уста-
новление связей на основе совпадения (пересечения) элемен-
тов разной протяженности и разной локализации в составе
вступающих в связь словоформ; 2) включение в контексты
разного характера и разной протяженности. Реализацию
первого из них можно’ проследить в примерах табл. 3 (см.
выше разд. 3.3) и табл. 14.
В табл. 14 приведены выборки из ассоциативных полей
русских исходных слов НОЖНИЦЫ, ПЛОД, МЫШЬ, КРЫ-
ЛО. Для большей наглядности совпадающие со словом-сти-
мулом элементы полученных в эксперименте ассоциатов обоз-
начены заглавными буквами. Это помогает увидеть, что ас-
социат может представлять собой часть исходного слова
(ср.: НОЖНИЦЫ — ЖНИЦЫ, НОЖ) или включать в себя
более или менее протяженные его части (ср.: треНОЖНИ-
Ца, птИЦЫ); при этом совпадающие элементы могут рас-
полагаться в разных частях ассоциата (МЫШЬ — Мол-
чиШЬ), а степень близости вступивших в связь слов может
варьироваться (ср. пример 1 Г в табл. 14).
Актуализация связей на основе совпадения элементов
формы рассматривалась выше в ходе анализа примеров груп-
пировки слов при их свободном воспроизведении (см. разд.
3.4 и 3.5). В условиях оперирования словами второго языка
четко прослеживается группировка по общим звукам или
135
Таблица 14
Пересечение общих элементов и включение в контекст как основания
для связи между единицами поверхностного яруса лексикона
Экспери- менталь- ная группа ... № примеров Примеры
Русские 1 А рукавИЦЫ Б гОД В тиШЬ Г КРЫЛО птИЦЫ хоЛОД МЫШЬ мЫЛО курИЦЫ ПЛОД каМЫш киЛО ЖНИЦЫ приПлиД МолчиШЬ беЛО НОЖНИЦЫ оПЛОт НОЖ ПЛОть мНОЖиться худОЖНИЦЫ треНОЖНИЦа иЖ ИЦЫ 2~ A STADTrat Б — Kiichentisch STADTtor TISCH — Herrentisch STADTkreis — Schreibtisch HauptSTADT KleinSTADT В — Bein (Tischbein) GrofiSTADT TISCH — Tuch (Tischtuch) VorSTADT — Platte (Tischplatte) Г Д LANG — sam LANG — samkeit KURZ — en FRAU — lichkeit MANN — hatt
Немцы
Французы 3 T£TE (ГОЛОВА) (t^te) de mort— череп mal (de t<?te) — головная боль (tcte) nue, nu — с непокрытой ГОЛОВОЙ (tete) beche — валетом forte (tete) — своенравный человек А УЛ (СЫН) — улдар (сыновья), улым (мой сын), улын (его сын) Б АК (БЕЛЫЙ) — акшыл (беловатый), актар (молочные продукты), акпап (январь), акку (лебедь) В БАЛА (МАЛЬЧИК) — балалар (дети), бала- лык (детство), бала- шыга (детвора) Г ОКУ (ЧИТАТЬ) — окушы (читатель, ученик), окытушы (учитель), окиды (читал)
Казахи 4
буквосочетаниям, а также по первой букве (см. примеры 1—
6 в табл. 5). По первой букве группируются и слова родно-
го языка (ср.: козел, круглый, квадратный в табл. 4).
Установление фонетико-графических связей на основе
136
совпадения (пересечения) элементов разной протяженности
и разной локализации в составе вступающих в связь англий-
ских словоформ, припоминаемых русскими, хорошо просле-
живается также в материалах Л. В. Банкевича (1981), где
приводятся интересные количественные данные и наглядные
примеры ложной идентификации слов из-за сходства началь-
ных букв, длины слов, совпадения ряда букв в начале, се-
редине или конце слов.
Общий принцип включения в контекст может реализо-
ваться по-разному. При обсуждении лексических импликаций
в разд. 3.8 рассматривались примеры 1—8 нз табл. 9, ил-
люстрирующие основания для включения исходного слова в
различные виды контекстов. В табл. 14 приводятся также вы-
борки из ассоциативных полей двух немецких исходных слов:
пример 2 А показывает, что исходное слово может фигури-
ровать в составе ассоциата, подключаемого справа или сле-
ва; примеры 2 Б и 2 В иллюстрируют случаи потенциального
включения в контекст сложного слова наряду с записью
исходного слова в составе ассоциата. Примеры 2 Г н 2 Д
показывают добавление одного или двух словообразователь-
ных суффиксов при включении стимула в контекст ассоциа-
та— производного слова. Пример 3, взятый нз материалов
эксперимента с французами, показывает включение исходно-
го слова в состав словосочетаний. Сюда же относятся вклю-
чение в обусловленные речевыми привычками контексты раз-
ной протяженности, связи цитатного типа и т. д.
Взаимодействие двух названных выше принципов (т. е.
установления связей по пересечению элементов и включения
в контекст) должно, по всей видимости, иметь своим резуль-
татом вхождение каждой единицы поверхностного яруса
лексикона в большое количество связей по линиям звуковой
;и графической формы, по признакам протяженности, акцен-
туации, делимости на элементы, вхождения в более или ме-
(нее протяженные контексты и т. д. В свою очередь каждый
из таких признаков служит основанием для группировки имею-
щихся в лексиконе единиц и играет соответствующую роль
ijipn их идентификации или поиске.
При универсальном характере рассмотренных принципов
организации единиц поверхностного яруса лексикона акту-
альность признаков, лежащих в основе группировки этих
единиц, зависит от специфики языка носителя лексикона: от
Комплекса фонетических, орфографических и морфологические
особенностей соответствующего языка, от его деривационной
Йктивности, от словосочетательных возможностей и т. д.
иак, из сопоставлявшихся экспериментальных групп наи-
большее количество случаев проявления деривационного па-
>аметра ассоциативного поля зарегистрировано у немцев,
1аименьшее— у американцев. При этом немцы отдали пред-
137
почтение словосложению (ср. примеры 2 А, Б и В в табл. 14),
русские — словопроизводству. Казахи, проявившие близкую
к немцам активность связей по этому параметру, исполь-
зовали словообразовательные аффиксы, показатели притя-
жательного падежа, множественного числа, временных форм
исходного глагола и т. д. (см. примеры 4 А—Г в той же
таблице). Специфичное для тюркских языков образование
по типу парных слов нашло отражение в примере 4 В (ба-
ла-шыга). Следует подчеркнуть, что исходные слова оказа-
лись включенными в состав парных слов и в материалах
экспериментов с носителями других рассматриваемых тюрк-
ских языков. Выше приводился пример КЫЗЫЛ - - тазыл
из киргизских ассоциативных норм. Узбеки на исходное слово
М.ЕВА (ФРУКТ) дали ассоциат чева: в совокупности эти два
слова образуют парное мева-чева (разные фрукты). Приме-
ры такого рода интересны и в том отношении, что в тюрк-
ских парных словах второй компонент может не иметь са-
мостоятельного значения, являясь лишь словом-эхом первого
компонента (см.: Егоров, 1971, с. 100). Это дает основания
утверждать, что в подобных случаях ассоциативная связь
актуализируется, по всей видимости, без обращения к зна-
чению слов, т. е. в рамках поверхностного яруса лексикона
(ср. с разбором примера 1 из табл. 9 в разд. 3.8).
В дополнение к сказанному представляется важным сде-
лать следующие замечания.
Во-первых, отнесение морфологических особенностей язы-
ка к числу признаков, лежащих в основе группировки еди-
ниц поверхностного яруса лексикона, не означает, что мор-
фема в таком случае трактуется как одноплановая единица,
которая не может служить основанием для связи слов по
линии их значений.
Во-вторых, отмечаемая другими авторами (например.
Osgood, 1953) и подтвердившаяся в наших экспериментах
скорость высокочастотной антонимичной ассоциативной 'ре-
акции заставляет предположить, что члены прочно усвоен-
ных индивидом противопоставлений хранятся совместно в
поверхностном ярусе лексикона. Актуализация любого из них
влечет за собой актуализацию противостоящего ему члена
в качестве продукта предшествующего опыта, в свое время
включавшего многократное осознание параметра, который
лежит в основе соответствующего противопоставления. В слу-
чаях необходимости индивид может восстанавливать «исто-
рию» такого противопоставления, постоянно имея в готовнос-
ти совокупный продукт совершавшегося ранее процесса со-
отнесения некоторых объектов, действий или признаков тех
и других и т. п. В числе аргументов в пользу такой гипо-
тезы можно назвать широко распространенную в речи де-
тей подмену одного из компонентов противопоставления
138
другим, а также сходные оговорки в речи взрослых (ср.: Hebb,
1966, с. 117—118). Итак, семантическая основа формирования
противопоставлений не исключает вероятности хранения чле-
нов высокочастотных антонимичных пар в непосредственной
связи друг с другом в поверхностном ярусе лексикона и и>
автоматического воспроизведения без обращения к ярусу
смыслов.
В-третьих, многолетний опыт анализа эксперименталь-
ных материалов приводит к предположению, что в поверх-
ностном ярусе лексикона хранятся также конечные результа-
ты привычного включения слов в контекст суждений или
умозаключений (см. разд. 3.7 о цепочках синтагматико-пара-
дигматических импликаций). Механизм становления и даль-
нейшей фиксации таких связей, по всей видимости, сходен
ic механизмом, приводящим к совместному хранению анто-
‘нимов в поверхностном ярусе лексикона. В ряде моих ра-
бот (см., например, Залевская, 1979, с. 56—57; 1981, с. 39)
дается объяснение работы этого механизма с позиций тео-
рии динамических временных связей. Будучи специфически
человеческой формой приобретения новых знаний в ходе
мыслительной деятельности, осуществляемой через умствен-
ное сопоставление и взаимодействие ранее выработанных
.обобщенных знаний, «динамические временные связи при
^повторении одних и тех же действий неудержимо переходят
(в связи замыкательные, и благодаря этому сложная вначале
^логическая структура «внутреннего действия» постепенно
^редуцируется и превращается в более простую...» (Бойко,
[1976, с. 57, 45). Мы предположили также, что этот механизм
ьлежит в основе того, что ныне именуется лексическими пре-
суппозициями (см. ниже подробное обсуждение этого вопро-
ie связи с понятием глубинной предикации).
Рассмотренные случаи суть проявления все тех же двух
човных принципов организации единиц поверхностного яру-
лексикона: а) связь по морфологическим характеристи-
м определяется сходством или пересечением элементов;
лексические импликации, совместное хранение антонимов
конечных элементов цепей синтагматико-ларадигматичес-
х импликаций — это продукты включения в контексты раз-
tx типов и разной протяженности. Не трудно заметить, что
:ь обсуждаемый здесь материал фактически свидетельствует
реализации классических законов сходства и смежности, о
ли которых в функционировании языка в свое время столь
бдительно говорил Н. В. Крушевский (1973, с. 423).
4.3. Разграничение поверхностного н глубинного ярусов
ксикона было в разд. 4.1 соотнесено с разными уровнями
ентификации исходных слов испытуемыми. Теперь обсудим
учаи, когда связи между словами-стимулами и вызван-
139
ными ими ассоциатами были обусловлены актуализацией
значения предъявлявшихся в эксперименте слов.
Следует указать, что в ряде случаев уже делались по-
пытки использовать материалы ассоциативных экспериментов
для рассмотрения проблемы значения. Однако, называя ас-
социативный эксперимент в числе методик, направленных
на исследование того, что авторы называют «значением» сло-
ва, Л. А. Леонтьев (19766, с. 65) справедливо отмечает, что
обычно остается нсэксплицированным, какие именно харак-
теристики или стороны значения в этих экспериментах актуа-
лизируются. По мнению самого А. А. Леонтьева, в синтагма-
тических ассоциациях проявляются коммуникативные опера-
ции типа СТОЛ— стоит, в парадигматических — коммуника-
тивные операции типа МОЛОДОЙ — старый, однако в значи-
тельной части парадигматических реакций проявляются смыс-
ловая, эмоциональная или чувственная окрашенность (МО-
ЛОДОЙ — хороший, МОЛОДОЙ — надежда, МОЛОДОЙ —
черноглазый и т. п.). Л. В. Сахарный (1976) полагает, что
в его направленном ассоциативном эксперименте исследова-
лось денотативное значение слова; Г. Поллио (Pollio, 1966)
ставил задачей своих экспериментов исследование коннота-
тивного, а Л. Салаи с соавторами (Szalay and Bryson, 1973;
Szalay and Maday, 1973)—исследование психологического
значения слов. Однако чаще всего авторы работ с исполь-
зованием ассоциативных экспериментов говорят об ассоциа-
тивном значении, под которым вслед за Дж. Дизом (Deese,
1965) понимается значение, выделяемое посредством анализа
дистрибуции ассоциативных реакций на заданное слово-сти-
мул.
В работе (Залевская, 1981, с. 30) указывается, что об-
наруживаемые в материалах ассоциативного эксперимента
семантические связи между исходными словами и ассоциата-
ми могут быть вызваны разными основаниями и не всегда
поддаются однозначному толкованию, тем нс менее оказы-
вается возможным проследить реализацию денотативного зна-
чения слов (ДЕРЕВНЯ—город), актуализацию референта
(ДЕРЕВНЯ—Лужки), некоторого наглядного образа или
представления (ДЕРЕВНЯ — лес, гриб); находят свое от-
ражение и эмоциональный (ВОЙНА — ужас), оценочный
(ДОБРЫЙ — хороший) и стилистический (ГОВОРИТЬ —
болтать) компоненты значения исследуемых слов. В ходе
ассоциативного эксперимента реализуются также разнообраз-
ные сочетательные потенции исходных слов, поскольку сово-
купность исходного слова и ассоциата может представлять
собой либо свободное, либо в большей или меньшей мере
устойчивое словосочетание (ср.: ДУМАТЬ — долго; ГОЛО-
ВА— садовая). Ассоциативный эксперимент выявляет и раз-
ные аспекты значения, и набор валентностей исследуемого
140
слова, и типичные заполнители этих валентностей. Более то-
го, в свободном ассоциативном эксперименте обнаружива-
ются также случаи связи по различным аспектам грамма-
тического значения; ср., например, связь по признаку совер-
шенности/несовершенности действия в парах КОНЧАТЬ —
кончить, СТАНОВИТЬСЯ — стать (все приводимые здесь
примеры взяты из «Словаря ассоциативных норм русского
языка»). Особые возможности для выявления связей подоб-
ного рода предоставляет направленный ассоциативный экс-
перимент (см. подробнее Залевская, 1972).
Едва ли будет преувеличением сказать, что используе-
мый в предлагаемой работе материал позволяет прослежи-
вать все многообразие выделяемых в лингвистических иссле-
дованиях «видов значения», «компонентов содержательной
структуры слов» и т. п. Во всяком случае, независимо от
того, какой терминологией оперируют авторы исследований
в области семантики, в материалах ассоциативных экспери-
ментов всегда можно обнаружить соответствия примерам, ко-
торые приводятся в этих работах для иллюстрации выделяе-
мых аспектов или компонентов значения. Это означает, что
каждый из таких аспектов или компонентов является акту-
альным для носителя лексикона и тем самым выступает в
качестве одного из оснований для связи между единицами
лексикона. С этой точки зрения должна быть пересмотрена
типичная для лингвистических публикаций трактовка ассо-
циативного значения как дополнительного, несущественного,
свойственного лишь некоторым категориям слов или отдель-
ным словам, к тому же еще чисто индивидуального или свя-
занного с какими-либо литературными и прочими реминис-
ценциями. Так, П. Н. Денисов (1980, с. 95) справедливо от-
мечает, что в языкознании существенными считаются диффе-
ренциальные, интегральные и системные признаки значения
слова, в то время как ассоциативные признаки
рассматриваются как играющие большую роль в художествен-
ном творчестве и лингвострановедении. Некоторые авторы
склонны сводить ассоциативное значение к коннотациям
(Schlauch, 1967, р. 75), которые даже не входят непосред-
ственно в семантику слова (Апресян, 1974, с. 67—68). Ко-
нечно, имеет место пересечение психологического и лингвис-
тического терминов «ассоциативное значение»: точнее было
бы говорить об ассоциативной природе любого аспекта пси-
хологической структуры значения слова, а с этой точки зре-
ния неправомерно противопоставлять, например, коннотатив-
ное, стилистическое, аффективное, рефлективное и коллока-
ционное значения (как ассоциативные по своему характеру)
денотативному и тематическому значениям (именно это имеет
место в работе Leech, 1977; см. сводную таблицу типов
значения на с. 26).
141
Признание ассоциативной природы любых проявлений
того, что принято называть значением слова, ведет к трактов-
ке значения как процесса соотнесения идентифицируемой
словоформы с некоторой совокупностью единиц глубинного
яруса лексикона, отражающей многогранный опыт взаимо-
действия индивида с окружающим его миром. Отсюда слово
в лексиконе человека представляет собой результат, продукт
такого соотнесения. Подобная трактовка специфики обсуж-
даемых явлений с позиций носителя лексикона хорошо согла-
суется с мнением о том, что слово имеет значение не само
по себе, а только в силу того, что оно возбуждает опре-
деленные психические образы в сознании индивида.
На важность исследования значения как процесса неод-
нократно указывает А. А. Леонтьев. Вслед за Л. С. Выгот-
ским А. А. Леонтьев подчеркивает, что «значение как пси-
хологический феномен есть не вещь, но процесс, нс система
или совокупность вещей, но динамическая иерархия процес-
сов»; поскольку же, по Выготскому, «значение есть путь от
мысли к слову», психологическую структуру значения следу-
ет искать «во внутренней структуре иерархии процессов пси-
хофизиологического порождения речевого высказывания»
(Леонтьев А. А., 1971, с. 10—И). Использование такого
подхода привело в работе (Залевская, 1977) к трактовке лек-
сикона как системы кодов и кодовых переходов и к гипотезе
многоярусной структуры лексикона, а также к предположе-
нию, что глубинный ярус должен включать ряд подъярусов,
отражающих продукты разных этапов процессов дифферен-
цирования и генерализации (см. выше гл. 2). Теперь наше
внимание будет сконцентрировано на иной стороне той же
проблемы—на процессах соотнесения единиц поверхностного
уровня с единицами глубинного яруса лексикона как условия
осознания идентифицируемых индивидов слов (подробно этот
вопрос обсуждался в публикации Залевская, 1981).
Следует прежде всего отметить, что актуализация зна-
чения исходного слова может быть более или менее экс-
плицированной. Так, в ходе свободного ассоциативного экс
перимента с двуязычными испытуемыми без ограничения
языка реакции (г. е. когда испытуемым разрешалось давать
реакцию на том языке, на котором она пришла ему в го-
лову) перевод слова-стимула на родной язык нередко фигу-
рирует в качестве ассоциата (например, YOUNG — молодой)
или легко прослеживается в качестве промежуточной сту-
пени между исходным словом и ассоциатом, ср.: DOG (со-
бака)— злая; WORD (слово)—о полку Игореве (см. де-
тальный анализ примеров в работе: Залевская, 19786). В ма-
териалах экспериментов, проведенных на базе одного, родного
для испытуемых языка, также нередки случаи эксплициро-
ванной идентификации значения исходного слова. Наиболее
142
типичным является разъяснение значения слова-стимула через
его синоним, ср.: ЕСТЬ — кушать, НЕБОЛЬШОЙ — малень-
кий, КОНЧИТЬСЯ — умереть. Особенно интересны наборы
ассоциатов такого рода к полисемантичным словам или сло-
вам, имеющим омонимы. Так, разные значения слова ПРО-
СТОЙ идентифицированы испытуемыми с помощью ассоциа-
тов: скромный, обыкновенный, легкий, несложный, бесхит-
ростный, глупый, доступный, доходчивый, неизысканный, не-
принужденный, нетрудный. Эти примеры из «Словаря ассо-
циативных норм русского языка» в принципе сходны с при-
мерами из «Ассоциативного тезауруса английского языка»,
приводившимися в разд. 3.8, и находят аналогию в материа-
лах других ассоциативных норм (ср. примеры идентифика-
ции разных ЛСВ коррелятов слова ЗЕМЛЯ в ряде языков,
рассматривавшиеся в разд. 3.6), что позволяет усмотреть
универсальную тенденцию осознавания значения восприни-
маемого слова через соотнесение его с близкой по значению
единицей лексикона.
В материалах ассоциативных экспериментов прослежива-
ются и другие случаи разъяснения значения идентифици-
руемых слов. Оно может состоять в отнесении к классу (под-
ведении под более общее понятие), ср.: ДОМ — здание, ЛЮ-
БОВЬ — чувство; в иллюстрировании примером или уточне-
нии через атрибут, ср.: ЖУРНАЛ — «Огонек», ЖУРНАЛ —
классный. Средствами идентификации значения исходного
слова могут также быть противопоставление (ДЕТСКИЙ —
взрослый, ДЕНЬ — ночь, КОНЧИТЬСЯ — начаться)-, уточ-
нение через субъект или через объект действия, обозначае-
мого исходным словом (ср.: ЗВОНИТЬ — телефон, ЗВО-
НИТЬ — будильник, ДОСТАТЬ — дефицит); через адверби-
альную характеристику такого действия (КРИЧАТЬ — гром-
ко, ИДТИ — пешком, БЕЖАТЬ — быстро, ВЕРНУТЬСЯ —
назад); через связь, которая опирается на подразумеваемую
дефиницию типа ПРАВО— (это то, чем занимается) юрист
и т. д. В приведенных примерах прослеживается реализа-
ция различных моделей связи между исходными словами и
ассоциатами, допустима разная интерпретация оснований для
(их связи, тем не менее общим для всех рассмотренных слу-
чаев остается в разной мере эксплицированное разъяснение,
^Уточнение значения исходного слова с помощью актуализо-
(вавшейся ассоциативной реакции. Нетрудно заметить, что
I'такие уточнения нередко прямо совпадают с примерами, ко-
торые могли бы иллюстрировать понятия семантической им-
пликации или лексической пресуппозиции (ср.: «бежать» со-
держит в своем значении признак ’быстро’).
) Значительное число примеров идентификации значения
Исходных слов приводилось выше в разд. 3.2, 3.3, 3.6, 3.8
П 3.9. Конечно, все эти примеры иллюстрируют не сам про-
: 143
цесс идентификации на уровне глубинного яруса лексикона, а
лишь его результат, что позволило выявить ряд промежу-
точных звеньев этого процесса и обнаружить параметры,
выступающие в качестве оснований для семантической свя-
зи между исходным словом и вызванным нм ассоциатом.
Последнее привело к постановке задачи разработки некото-
рой гипотезы, способной объяснить принцип установления по-
добной связи независимо от характера того или иного па-
раметра.
В разд. 3.8 было высказано предположение, что связи, реа
лизуемые по линии единиц глубинного яруса лексикона, яв-
ляются продуктами функционирования механизма глу-
бинной предикации. В работе (Залевская, 1981) по-
нимание специфики этого механизма соотносится с понятием
«коммуникации» у А. А. Шахматова, с идеей «имплицитных
предикативностей» С. И. Бернштейна и с трактовкой взгля-
дов этих ученых в работах Т. Н. Наумовой (1972, 1975).
С опорой на вытекающие из концепции И. М. Сеченова и
сформулированные в разд. 2.5 представления о путях ста-
новления лексикона (в названной выше публикации 1981 г.)
следующим образом раскрывается суть работы рассматри-
ваемого механизма. При усвоении нового слова, неразрывно
связанном с формированием новых знаний об окружающем
человека мире и об особенностях функционирования этого сло-
ва в речи, имеет место взаимодействие новых энциклопедв-
ческих и языковых знаний с продуктами переработки разно-
родного предшествующего опыта индивида. Это приводит к
установлению фактов общности и различий по некоторым
(не всегда доступным для вербализации) параметрам, каж-
дый из которых служит основанием для констатации факта
обнаруженной связи — с указанием на характер связи или
без такого указания. По мере накопления опыта оперирова-
ния словом необходимость в более или менее развернутых
актах подобного рода отпадает, хотя в случаях необходимос-
ти они снова могут иметь место (т. е. реальная предикация
переходит в потенциальную и наоборот). Использование тер-
мина «глубинная» предикация обусловлено признанием того,
что и развернутая констатация наличия связи производит-
ся индивидом «для себя», а это снижает необходимость пол-
ного внешнеречевого оформления продукта такого акта в со-
ответствии с правилами поверхностного уровня.
Выше (см. разд. 4.2) говорилось о динамических вре-
менных связях как возможном нейрофизиологическом меха-
низме становления и дальнейшей фиксации связей, основы-
вающихся на общих (совпадающих) элементах соотносимых
в уме объектов и являющихся продуктом аналитико-синтети-
ческой деятельности мозга. Мне представляется, что, посколь-
ку динамические временные связи при их повторении пере-
144
ходят в замыкательные, слово в индивидуальном лексиконе
оказывается пучком связей, ведущих к продуктам разнооб-
разных по своему характеру актов глубинной предикации, а
это в комбинации со связями по линии поверхностного яруса
лексикона дает ту многомерную систему связей, на которую
неоднократно указывает А. Р. Лурия (см., например, Лурия,
1974, с. 14—15; 1975а, с. 34—37 и др.).
Сказанное позволяет дать объяснение некоторым фактам,
констатируемым в ходе лингвистических и психолингвисти-
ческих исследований.
Во-первых, набор лексических пресуппозиций того или
иного слова предстает как набор продуктов определенного
ряда актов глубинной предикации, реализованных в ходе ос-
воения этого слова, подключения его к уже имевшейся систе-
ме энциклопедических и языковых знаний индивида или фор-
мирования новых значимых обобщений или противопостав-
лений.
Во-вторых, становится очевидным, что парадигматичес-
ки связанные со словом продукты таких актов на самом
деле имеют синтагматическую по своей природе «историю»
становления; в то же время переходы «реальной» предикации
в «потенциальную» и наоборот иллюстрируют неразрывность-
синтагматики и парадигматики как двух сторон одного и
того же процесса пополнения информационной базы человека.
В-третьих, становится понятным феномен весьма эконо-
мичного хранения энциклопедических и языковых знаний,
ср., например, имплицирование некоторому объекту свойств-
класса объектов или имплицирование отдельному слову при-
знаков лексико-грамматического класса, к которому оно отно-
сится. Следует подчеркнуть, что при многоступенчатости под-
ведения под более общее понятие способность учитывать им-
плицируемую таким образом информацию дает индивиду воз-
можность оперировать колоссальным объемом не осознавае-
мых в каждый текущий момент знаний, что обеспечивает ус-
пешность речемыслительной деятельности и, в частности, гене-
рирования мозгом некоторой повой информации.
Нельзя не заметить при этом, что в основе установления
связей по линии глубинного яруса лексикона опять-таки ле-
жит принцип совпадения (пересечения) элементов, на этот
раз — не формальных, а содержательных; констатация же
фактов такого пересечения по некоторому параметру осу-
ществляется через включение в контекст акта глубинной пре-
дикации. В то же время соотнесение одной единицы с дру-
гими через установление фактов общности и различий по
некоторому параметру, с одной стороны, согласуется с хорошо
известным фактом системности лексики, а с другой — застав-
ляет концентрировать внимание на специфике параметров, ле-
жащих в основе такой взаимосвязи.
10. Заказ 830
145-
Мы неоднократно подчеркивали, что акт глубинной пре-
дикации не следует отождествлять с суждением в логике или
предложением в лингвистике, ср. у И. М. Сеченова (1953,
с. 157): «Сознание констатирует (не следует забывать, что эти
слова—фигура!)». Глубинная предикация как констатация
некоторого факта схдоства или различия по тому или иному
параметру, как «минимальный акт познания» по выражению
Г. II. Мельникова (1978, с. 194), осуществляется на специфи-
ческом «языке мозга» (см. Бойко, 1976, с. 64 о возможности
распространения принципа функционального совмещения на
всю сферу человеческого мышления). При выведении же про-
дукта подобного акта на уровень сознания имеет место то,
что мы можем наблюдать и описывать в терминах логики и
лингвистики.
Изложенные в гл. 2 представления о связи словоформы
с определенной чувственной группой, субъективно переживае-
мой в качестве значения слова, и о лексиконе как системе
кодов и кодовых переходов помогают внести некоторые уточ-
нения в представления о реализации ведущих организацион-
ных принципов па глубинном ярусе лексикона и о характере
функционирующих на этом ярусе параметров. Так, совпа-
дение (или пересечение) элементов распространяется на все
члены чувственных групп: имеет место включение в разно-
образные связи по линии актуализации зрительных, слухо-
вых, осязательных и прочих характеристик называемого сло-
вом объекта, по линии вызываемых мысленными образами
эмоциональных переживаний и т. д. Отсюда становится по-
нятным явление глубинной синонимии смыслов: различные
по своему характеру и вовсе не синонимичные с точки зрения
строгого лингвистического анализа единицы могут вызывать
актуализацию одинаковых чувственных элементов и поэтому
субъективно переживаться как равнозначные (о специфике
феномена субъективной идентичности и о роли его в меха
низмах мышления см. Maier, 1945; ср. с трактовкой «зна-
чимого переживания» в работе Бассин, 1973, с. 22—23).
В то же время идея многократного перекодирования ведет
к признанию наличия ряда подъярусов глубинного яруса лек-
сикона, которые обусловливают совпадение все более дроб-
ных элементов значения, являющихся продуктами разложе-
ния на признаки и признаки признаков. Поскольку такое раз-
ложение на признаки неразрывно связано с процессами срав-
нения или классификации при взаимодействии с продуктамк
переработки воспринятых ранее впечатлений, по каждому
признаку и признаку признака устанавливаются связи по
линии общности и различия, что, в свою очередь, объясняет
психолингвистическую реальность симиляров и оппозитов,
не совпадающих с лингвистическими понятиями синонимов и
146
антонимов, поскольку они базируются на учете более част-
ных параметров, зачастую не поддающихся вербализации
Для проверки и уточнения введенных в работе (Залев-
ская, 1977) понятий симиляров и оппозитов и для выявления
их отличий от соответствующих лингвистических понятий под
нашим руководством были выполнены студенческие иссле-
дования Т. Б. Виноградовой (1981) и И. Л. Медведевой
(1981).
Использовав три экспериментальных методики (направ-
ленный ассоциативный эксперимент с заданием записать сло-
ва с такими же, как у слова-стимула, или близким значе-
нием; группировку слов по общности их значений; шкали-
рование близости значения исследуемых пар слов), Т. Б.
Виноградова установила, что субъективная оценка близости
значения слов носителями русского языка не полностью сов-
падает с лингвистической трактовкой явления синонимии.
Предварительно выделенные пары симиляров (некоторые из
обнаруженных в наших экспериментах семантических подмен
и аналогичные ассоциативные пары из «Словаря ассоциатив-
ных норм русского языка») получили количественные пока-
затели близости значения, сходные с теми, которые были да-
ны испытуемыми «признанным» синонимам (т. е. зарегистри-
рованным в словарях синонимов русского языка).
Анализ результатов направленного ассоциативного экс-
перимента с носителями русского и английского языков (сту-
дентами Калининского университета и туристами из США)
и оперирование данными «Ассоциативного тезауруса англий-
ского языка» позволили И. Л. Медведевой сделать вывод,
что описываемая в лингвистических исследованиях лексичес-
кая антонимия отражает лишь самую яркую часть гораздо'
более широкой системы противопоставлений в сознании чело-
века. В основе таких противопоставлений лежат процессы
анализа и синтеза представлений об окружающем мире; при
этом результаты, продукты актов сопоставления и разли-
чения объектов, как и основания для противопоставления
слов, не всегда могут быть вербализованы.
Названные исследования подтвердили также предполо-
жение о том, что носитель языка устанавливает общность
или различия в значениях слов независимо от того, совпадает
ли их принадлежность к тому или иному лексико-граммати-
ческому классу (см. анализ ассоциативной пары КВАДРАТ-
НЫЙ— круг в работе Залевская, 1975). Так, испытуемые
И. Л. Медведевой дали пары оппозитов типа HEAR — deaf
(СЛЫШАТЬ — глухой), SEE — blind (ВИДЕТЬ — слепой),
LEMON — sweet (ЛИМОН — сладкий), ГОЛОД — есть; в
исследовании Т. Б. Виноградовой фигурируют пары сими-
ляров типа ВЕЗТИ — удача, КОНЧИТЬ — финиш. Случаи
такого рода интересны и как своеобразные проявления тен-
10*
147
денции осознавать, разъяснять самим себе значение иденти-
фицируемого в эксперименте слова.
Следует указать, что рассматриваемый феномен разъ-
яснения одних слов через другие (независимо от экспери-
ментальной ситуации) был ранее отмечен другими авторами.
Так, IO. С. Степанов (1971, с. 50) говорит об определении
значения слова через указание на обозначаемый предмет
типа «зеленый — цвета травы, листвы» или через приравни-
вание типа «хилый — слабый, болезненный, тщедушный».
М. Бирвиш и Ф. Кифер (Bierwisch and Kiefer, 1969) об-
суждают различные типы дефиниций как средства установ-
ления эквивалентности через указание на возможность заме-
ны некоторого термина его глубинной репрезентацией. По
мнению А. А. Ветрова, процесс разъяснения одних слов с по-
мощью других продолжался бы до бесконечности, если бы
он не прерывался там, где мы доходим до слов, «смысл
которых воплощается в образах представления, отражаю-
щих предметы внешнего мира», и можно таким образом ут-
верждать, что «языковые единицы с конкретным, чувствен-
ным значением составляют основу успешного использования
всех других языковых единиц» (Ветров, 1968, с. 135, 134).
Концепция А. А. Ветрова хорошо согласуется с моделью
репрезентации знаний о мире, которую предлагает М. Вет-
тлер (Wettier, 1976, р. 43): сложные действия типа «путе-
шествовать» репрезентируются как комплексы поддействий;
действия на элементарном уровне могут редуцироваться до
набора состояний, описывающих их результаты и условия
осуществления; понятия типа существительных определяются
с помощью связей четырех видов, ведущих к а) примерам
таких понятий, б) понятиям более высокого порядка, в) ар
гументам действий-прототипов и г) физическим характерис-
тикам соответствующего класса объектов. Тенденции, сходные
с отмеченными в двух последних работах, были прослежены
выше при обсуждении связей импликативного типа, выделен-
ных в ходе анализа материалов АТ (см. разд. 3.8). Это в
свое время послужило основанием для проверки предполо-
жения о том, что стремление испытуемых разъяснить значе-
ния одних слов через другие должно согласоваться с нали-
чием некоторого «ядра» лексикона, элементы которого наи-
лучшим образом отвечают этой задаче и вследствие этого
обеспечивают связи между хранимыми в лексиконе едини-
цами (Залевская, 1979, с. 64; 1981, с. 34—38).
4.4. Представление о наличии ядра лексикона возникает
при первом взгляде на материалы «Ассоциативного тезауру-
са английского языка». Так, на букву «А» в АТ приведены
сведения о входящих ассоциативных связях 657 слов (т. е.
о тех исходных словах, которые вызвали эти слова в качест-
148
ве ассоциатов). Из них 348 слов имеют от 10 до 100 вхо-
дящих связей, 20 — от 100 до 200 и 3 — от 200 до 300
связей. Остальные слова явились ассоциатами к 1—9 словам,
ни одно слово на эту букву не имеет более 300 входящих
связей, что привело к предположению о наличии в ЛТ не-
большого количества слов с числом входящих ассоциатив-
ных связей, превышающим показатель 300, а это, в свою оче-
редь, дало импульс для поиска таких слов в материалах АТ.
Анализ полного массива содержащихся в АТ данных (около
54 тые. словарных статей) позволил обнаружить 75 слов;
из них 2 вызваны более чем 1000 разных слов-стимулов, 3—
более 800, 8 — более 600, 9 — более 500, 16 — более 400 и
34 — более 300. Перечень этих слов приводится в табл. 15.
Слова, отнесенные таким способом к ядру лексикона,
отличаются элементарностью формы: лишь 11 слов из 75 яв-
ляются двусложными, остальные состоят из одного слога.
Установление принадлежности этих слов к части речи было
связано с рядом трудностей, обусловленных спецификой
английского языка, поэтому сопоставление слова-стимула и
ассоциата служило средством выявления в последнем зна-
чения предметности, процессуалыюсти и т. д. Таким образом
было выяснено, что основное место в списке отнесенных к
ядру лексикона английских слов (более 50%) составляют су-
ществительные.
По результатам первичного анализа отобранных слов
(Залевская, 1979, с. 64) было отмечено, что это в основном
слова весьма общего значения, отличающиеся высокой час-
тотностью и усваиваемые преимущественно в первые годы
жизни ребенка (по итогам сопоставления с данными, кото-
рые приводятся в работе Carroll and White, 1973).
Предположение о наличии в лексиконе человека актив-
ного ядра хорошо согласуется с результатами исследования
киевских психологов, установивших, что максимальное число
связей имеют слова, представляющие особое значение для
испытуемого как личности и отражающие самые емкие по-
нятия, связь с которыми имеет максимальную вероятность
воспроизведения (см.: Старинен и др., 19686, с. 17). Н. О.
Золотова (1981) сопоставила выделенные нами из АТ анг-
лийские слова с русскими словами, отнесенными к ядру лек-
сикона по итогам киевского эксперимента. Оказалось, что
в числе русских слов около 70% составляют существитель-
ные, около 22% — прилагательные и лишь 6%—глаголы.
Заключение о том, что основное место в ядре лексикона за-
нимают существительные (Залевская, 1981, с. 36), получило
подтверждение и при расширении ядра лексикона по мате-
риалам АТ до 181 единицы (это было сделано путем сниже-
ния контрольного показателя до 200 входящих связей). Это
противоречит высказываниям У. Чейфа о ведущей роли гла-
14S.
Таблица 15
Английские слова, имеющие более 300 входящих ассоциативных связей
(по материалам «Ассоциативного тезауруса английского языкам)
Кол-во Кол-во Кол-во
Ассоциат вызвавших Ассоциат вызвавших Ассоциат вызвавших
его исход- его исход- его исход-
ных слов ных слов ных слов
те 1087 nice 483 dead 371
man 10711 red 477 ship 369
good 881 now 461 music 363
sex 847 hard 451 noise 360
no 805 white 450 cold 352
money 750 woman 445 womeh 351
yes 743 bed 432 you 351
nothing 713 school 431 men 345
work 686 help 427 happy 340
food 676 pain 426 drink 339
water 669 sea 425 head 337
people 664 dog 419 hair 336
time 630 never 415 great 333
life 629 of 413 tree 332
love 622 old 402 church 331
bad 615 book 401 fear 330
girl 581 paper 399 boy 328
up 565 down 398 horse 326
car 550 green 395 it 322
black 549 in 388 war 321
what 545 person 387 word 321
house 539 fire 377 fool 316
out 535 to 377 friend 311
death Э18 rubbish 374 fat 309
home 501 light 373 fun 306
гола в языке (Чейф, 1975, с. 22, 114—115), но совпадает
с предположением о первичности существительного в разви-
тии речи как в филогенезе, так и в онтогенезе (ср., например,
Мигирин, 1973, с. 56—57; Ветров, 1968, с. 231—232), а так-
же указание Л. Р. Лурия на то, что вещественные слова —
существительные — выделяются ребенком гораздо раньше, чем
слова, обозначающие действия и качества (Лурия, 1979,
с. 88). О том же свидетельствует и вывод Вяч. Вс. Иванова
(1978, с. 34) относительно зрительных и пространственных
образов, которыми занято правое полушарие мозга человека:
это прежде всего образы предметов, в то время как свой-
ства и признаки, а также действия позднее выделяются
при анализе образов предметов. Интересно, что в экспери-
ментальном исследовании Л. П. Руденко (1972) 96% испы-
туемых дали названия объектов в качестве средства эксте-
риоризации внутренней программы действия, а И. В. Уфим-
цева (1981) отмечает, что участвовавшие в ее ассоциативном
эксперименте второклассники, свободно оперировавшие суще-
ствительными и прилагательными, испытывали затруднения,
когда в качестве исходных слов давались глаголы (имело
место значительное число отказов от ассоциативных реак-
ций).
Межъязыковое сопоставление структуры ассоциативных
полей слов-коррелятов в ряде языков (Залевская, 1979) дает
основания для утверждения, что наличие подобного актив-
ного ядра можно считать одной из универсальных тенден-
ций в организации лексикона человека и что принадлежность
некоторой единицы лексикона к его ядру определяется преж-
де всего ролью этой единицы как средства доступа к системе
энциклопедических и языковых знаний человека.
В работе (Залевская, 1981, с. 38) высказывается мне-
ние о том, что наличие ядра лексикона является одним
из оснований для многократного пересечения ассоциативных
полей разных слов, казалось бы не имеющих друг с дру-
гом связей. Это позволяет объяснить явление, описанное
Ю. Н. Карауловым (1976) как «правило шести шагов»: че-
рез принадлежащие ядру наиболее емкие единицы лекси-
кона устанавливается связь между любыми двумя слова-
ми в пределах названного числа переходов. Не исключено, что
именно ядро лексикона обеспечивает экономичность хране-
ния энциклопедических и языковых знаний человека и эф-
фективность параллельного учета тех и других в его рече-
мыслительной и прочей деятельности.
4.5. До обсуждения общего представления о структуре
лексикона необходимо затронуть вопрос о специфике хране-
ния в лексиконе многозначных слов. В разд. 3.8 было пока-
зано, что на основе сопоставления ассоциатов с исходными
151
словами обнаруживается их соответствие разным ЛСВ од-
ного и того же слова или ряду омонимичных слов. Первый
из таких случаев иллюстрировался примерами ассоциативных
полей коррелятов слова ЗЕМЛЯ в ряде языков. В дополне-
ние к этому см. табл. 16, где приводится ассоциативное поле
казахского слова АРА, фактически распадающееся на три
отдельных поля, соответствующих разным словам.
Таблица 16
Структура ассоциативного поля казахского слова АРА
А. Полный набор ассоциатов к исходному слову АРА:
АРА (33): 13 шыбын 2 арасы, журнал, орта, кашык
12 бал 1 аралар, арпа, eKi, инелж,
8 сона кес, керек, маса, ортасы,
6 балта, жд нд!к ортасында, пышак, пышкы,
4 аранын балы, тура, шаншылды, шот, кол ара,
агаш косылыс, 0TKip; 0— 10*
3 аралау, аралык,
кесюш, тура
Б. Группировка ассоциатов по общности основания
для нх связи с исходным словом
АРА/ — ’пчела’: шыбын (муха), бал (мед), сона (слепень), жандж
(мелкие животные), аранын балы (пчелиный мед), ине-
л!к (стрекоза), журнал**, маса (комар), шаншылды
(пронзила)
АРАл — ’пила’: балта (топор), кес (от «кесу» — резать), кесюш (ста-
меска), пышак (нож), пышкы (пила), кол ара (ножов-
ка), 0тк1р (острый) и т. п.
АРА/л—’промежуток’: аралау (ходить среди чего-нибудь, кого-нибудь),
аралык (промежуток), орта (средний), ортасында (по-
среди) и т. п.
* 10 испытуемых из 100 оставили прочерк после исходного слова не-
заполненным, т. е. дали «нулевой» ответ. Наличие такого большого % ну-
левых ответов может объясняться неоднозначностью слова-стимула.
** «Ара» — название сатирического журнала, издаваемого на казах-
ском языке.
Таким образом выясняется, что заданное в ассоциатив-
ном эксперименте исходное слово (точнее — словоформа) мо-
жет соотноситься с рядом единиц глубинного яруса лекси-
кона, однако при этом сам факт существования иных зна-
чений идентифицируемой словоформы испытуемыми в подав-
ляющем большинстве случаев даже не фиксируется (о чем
можно судить на основании последующих бесед с участ-
никами эксперимента), как не осознается слушающим воз-
можность альтернативной интерпретации воспринимаемого
им высказывания, если правильность его гипотез о значе-
нии каждого слова сообщения подтверждается последующим
152
контекстом. По сути дела то же происходит с говорящим:
используя ту или иную словоформу как наиболее подходя-
щую для передачи своей мысли, он, как правило, не осознает
вероятности увязки этой словоформы с иным содержанием.
Только очевидность двусмысленности или реакция непонима-
ния со стороны слушающего актуализуют факт многознач-
ности использованного слова.
На основании высказанных соображений в работе (За-
левская, 1975, с. 60—61) сделан вывод о том, что разгра-
ничение понятий лексико-семантических вариантов полисе-
мантичного слова и омонимов, существенное для описания
лексико-семантической системы языка, едва ли релевантно
для описания речевой способности человека. Скорее всего
каждый ЛСВ полисемантичного исходного слова восприни-
мается носителем языка как одна из омонимичных слово-
форм, непосредственно связанная с соответствующей едини-
цей (или набором единиц) глубинного уровня лексикона.
В работе (Залевская, 1977, с. 54) указывается, что в качест-
: ве такой единицы может, в частности, выступать наглядный
образ некоторого объекта; взаимная связь между такими
омонимами не представляется обязательной, хотя она могла
иметь место в процессе становления того, что в лингвисти-
ческих терминах называется новым значением полисемантич-
ного слова (в данном случае речь идет об усвоении слов
индивидом). Тот факт, что человек в случае нужды более
или менее легко устанавливает связь между разными ЛСВ
полисемантичного слова, пи о чем не говорит, так как на
1самом деле требуется не более 6 мысленных «шагов», чтобы
г связать между собой любые две единицы лексикона (ср. ре-
зультаты психологических экспериментов: Старинен и др.,
f 1968а, а также «правило шести шагов» Ю. Н. Караулова,
11976, с. 77). Конечно, наличие общих семантических состав-
ляющих двух слов сокращает число таких «шагов» до ми-
нимума.
Для проверки высказанного предположения под нашим
руководством было выполнено студенческое исследование
О. О. Кузнецовой (1978). Анализ материалов проведенного
ею свободного ассоциативного эксперимента, сочетавшегося
с записью испытуемыми дефиниций полисемантичных исход-
ных слов, позволил сделать следующие выводы: «лексико-
«семантичсские варианты многозначного слова хранятся в
лексиконе человека в составе тематических групп или семан-
тических полей по отдельности как омонимичные слова; бо-
лее того, иногда хранятся раздельно и такие значения, ко-
торые не выделяются в отдельную рубрику в толковых сло-
варях; основанием для этого является предметная отнесен-
ность, реализующаяся через всплывание образа конкретного
предмета» (с. 91). В то же время результаты рассматривае-
ма
мого исследования подтвердили справедливость указания
Д. Н. Шмелева (1973) на возможность диффузности значе-
ний многозначного слова и позволили О. О. Кузнецовой
объяснить установленные ею случаи «взаимопроницаемости»,
диффузности значений некоторых из предъявлявшихся в экс-
перименте слов через близость или частичное наложение
друг на друга семантических полей, в которых хранятся от-
дельные значения таких полисемантичных слов.
Результаты, в принципе согласующиеся с гипотезой раз-
дельного хранения в лексиконе ЛСВ полисемантичных слов,
получены также в работе (Берман и др., 1978), где приво-
дятся итоги ассоциативных экспериментов на материале рус-
ского, украинского, польского и английского языков. При-
няв в качестве лексической единицы слово-значение, авто-
ры условно используют термин «многозначное слово» для
обозначения лексического комплекса, включающего в себя
ряд слов-созначений, форма которых совпадает и которые
связаны семантическим скрепом, т. е. ассоциативной связью,
актуализующейся при их восприятии. Это исследование, в
частности, показало, что нс все ЛСВ многозначных слов вос-
принимаются носителями языка как слова-со.значсния.
Следует подчеркнуть, что независимо от того, вместе или
раздельно хранятся в лексиконе ЛСВ полисемантичных слов,
некоторые из них находятся в большей готовности к актуа-
лизации, чем остальные. Это иллюстрировалось выше приме-
ром с коррелятами слова ЗЕМЛЯ в ряде языков (см. табл. 7
и рис. 2). В работах (Залевская, 1977, 1979) приводятся до-
казательства того, что ассоциативный эксперимент позволяет
вносить коррективы в показания словарей, поскольку он вы-
являет значения полисемантичных слов, наиболее актуальные
для носителей соответствующего языка в определенный период
времени. Последний вывод хорошо согласуется с результата-
ми эксперимента В. В. Левицкого (1971), убедительно пока-
завшего, что «значения многозначных слов психологически
неравноправны» (с. 168). Думается, однако, что наибольшая
вероятность актуализации одного из значений вовсе не оз-
начает ни наличия обязательной связи между всеми ЛСВ,
ни иерархической подчиненности «неосновных» значений «ос-
новному». Скорее всего следует согласиться с высказыва-
ниями Л. А. Потебни («Где два значения, там два слова». —-
Потебня, 1941, с. 198) и Л. В. Щербы («Па самом деле
мы имеем всегда столько слов, сколько данное фонетическое
слово имеет значений».—Щерба, 1974, с. 290—291), а так-
же признать, что критика сущности этих высказываний в
лингвистической литературе была вызвана отождествлением
понятий языковой системы и речевой способности при раз-
ных подходах к обсуждаемой проблеме со стороны критиков
и критикуемых. Потебня и Щерба рассматривали этот воп-
154
рос с позиций носителя лексикона, а их оппоненты — с точ-
ки зрения системного описания языковых явлений; оба этих
мнения справедливы, но только в приложении к соответ-
ствующим условиям.
4.6. Приступая к изложению общих представлений о
структуре лексикона человека, прежде всего отметим, что
проведенное исследование в принципе подтвердило право-
мерность сформулированной в разд. 2.6 рабочей гипотезы,
касающейся вытекающих нз специфики лексикона основа-
ний для связи между его единицами. Не повторяя приве-
денных там положений, сделаем некоторые уточнения и ос-
тановимся на ряде вопросов, не затронутых ранее, но
имеющих непосредственное отношение к обсуждаемой про-
блеме.
Итак, вполне очевидно, что следует отказаться от упро-
щенных представлений о том, что слово хранится в лекси-
коне как «неразрывная связь звучания и значения» (Уфим-
цева А. А., 1974) в рамках некоего «инвентаря» или «скла-
да» «знаковых отпечатков» (Шубин, 1972), а сам лексикон
является не более как «придатком грамматики» (Lyons,
1977). Выше была сделана попытка показать, что, будучи
продуктом взаимодействия сложнейших перцептивных, мне-
монических, интеллектуальных и других психических процес-
сов, слово выступает в роли средства актуализации разных
аспектов многогранного индивидуального и социального опы-
та человека, а воспринимаемая индивидом словоформа вы-
зывает многомерную систему связей, позволяющую не толь-
(ко «приписать» ей некоторое значение, но и оперировать иден-
[тифицированной совокупностью энциклопедических и языко-
вых знаний, преломляемой через эмоциональный опыт ин-
дивида и через принятую в соответствующем социуме систему
Иорм и оценок. Сказанное свидетельствует также об ограни-
ченности широко распространенной трактовки лексикона как
«памяти слов».
Параметры, по которым устанавливаются связи между
^единицами лексикона, обсуждались в ходе анализа причин
Ошибок при воспроизведении вербального материала и прин-
ципов группировки слов родного и иностранного языков в
>азд. 3.2—3.5, а также при изложении результатов межъ-
языкового сопоставления материалов ассоциативных экспери-
»ентов в разд. 3.6—3.9; различия между параметрами, ле-
кащими в основе связей между единицами поверхностного и
дубинного ярусов лексикона, были показаны в разд. 4.1
I 4.2. Полученные при этом данные приводят ч общему вы-
еду о множественности параметров, по которым устанав-
ливаются связи каждой единицы лексикона с другими его
диницами.
155
Сопоставление обнаруженных параметров с классифика-
циями ассоциативных связей, предложенными в лингвисти-
ческих и психологических исследованиях (см. обзор: Залев-
ская, 1978а), показывает, что все описанные виды ассоциа-
тивных связей являются актуальными для организации лек-
сикона. Можно полагать, что каждая единица лексикона всту-
пает в многочисленные связи по каждому из возможных для
нее параметров, включая индексирование с позиций эмоцио-
нального опыта индивида, «объективной» и «субъективной»
частотности слова, возраста его усвоения и т. д. Несомнен-
но, другие методы исследования позволят обнаружить еще
более широкий круг оснований для связи между единицами
лексикона. Особое место, очевидно, должно принадлежать
анализу речевых ошибок. В дополнение к приводившемуся
выше примеру важности использования такого материала
(см. замену фамилий Гусевой и Грецкого на с. 81), можно
вспомнить случай, имевший место на конференции в МГУ
в 1971 г., когда предшествующий оратор — Петр Гурьяно-
вич — был назван Иваном Демьяновичем: в дополнение к
обсуждавшимся параметрам протяженности слов, совпаде-
ния их элементов и моделей ударения в этом случае четко
проявляются также принципы группировки единиц лексикона
по сочетаниям таких параметров, как объединение корот-
ких и типичных русских имен в противовес длинным и ред-
ко используемым ныне русским именам.
В работе (Залевская, 1977, с. 72—73) особо подчерки-
вается, что все переплетение и пересечение разнообразных
связей и оценок хранится в памяти одновременно и вместе
с набором стратегий поиска единиц разных ярусов при межъ-
ярусных переходах, и вместе с набором правил сочетаемости
единиц в рамках отдельных ярусов и подъярусов. Если же
учесть, что лексикон, по всей видимости, должен включать
несколько ярусов единиц, соответствующих разным этапам
речемыслительного процесса, то создается впечатление, что
внутренний лексикон должен представлять собой чрезвы-
чайно сложную систему объемных многоярусных многократно
пересекающихся полей, с помощью которых упорядочива-
ется и хранится в более или менее полной готовности к
употреблению разносторонняя информация о предметах и
явлениях окружающего мира, об их свойствах и отноше-
ниях, об их оценке индивидом, и т. п., как и о языковых
особенностях обозначающих их вербальных единиц. Экспе-
риментальный материал заставляет предположить наличие
целого ряда пересекающихся иерархий, в которые входит та
или иная единица по каждому из характеризующих ее при-
знаков. При этом было отмечено как несомненное взаимо-
действие принципов «вертикальной» и «горизонтальной» упо-
рядоченности элементов лексикона, при котором элементы
156
каждого яруса (или подъяруса) лексикона включаются в ли-
нейные связи разной протяженности, обеспечивая тем самым
контакты между различными иерархиями (см. также Za-
levskaya, 1976). Было высказано и предположение о том,
что элементы, являющиеся точками пересечения наибольшего
числа связей, составляют ядро лексикона--самую актив-
ную его часть.
Эти представления о роли ядра лексикона сходны с теми,
которые развивает Э. В. Кузнецова (1980, с. 85), полагаю-
щая, что центр лексической системы, ее ядро, составляет
совокупность ограниченного числа единиц, с которыми иерар-
хически соотнесен весь остальной состав единиц. Однако не-
обходимо уточнить, что и данном случае речь должна идти о
гетерархии, или системе иерархий, вершины которых пред-
ставлены единицами ядра лексикона; к тому же вспомним,
что далеко не все области лексикона организованы по этому
принципу и что в основе упорядоченности лексикона вовсе нс
обязательно лежат какие-то вербальные единицы.
В работе (Залевская, 1977, с. 66—72) изложенная выше
трактовка лексикона как системы многократно пересекаю-
щихся объемных ассоциативных полей соотносится с про-
блемой поля, широко обсуждаемой в лингвистических пуб-
ликациях последних десятилетий (см. обзоры: Уфимцева
Л. А., 1961; Васильев, 1971: Караулов, 1976; Щур, 1974);
в частности, подробно сопоставляются результаты анализа ас-
социативного поля по материалам эксперимента с носителя-
ми немецкого языка и представления о специфике и струк-
туре поля, излагаемые в работе (Мюллер, 1967). Там же
дается ссылка на выполненную под нашим руководством дип-
ломную работу Т. А. Субботиной, которая провела анализ
материалов американских ассоциативных норм с точки зре-
ния отражения в них видов связи между словами, соответ-
ствующих разным критериям вычленения поля в лингвисти-
ческих исследованиях. Полученные в обоих случаях данные
убедительно свидетельствуют о том, что ассоциативное поле
интегрирует все известные в настоящее время виды полей,
в то время как описанные в лингвистических работах поля
отражают лишь отдельные аспекты организации лексикона
человека. Тем самым подтверждается справедливость вы-
сказывания М. М. Копыленко (1973, с. 189) о том «что се-
мантические группировки слов (семантические поля, семан-
тические микросистемы; синонимические, вариантные, дуб-
.летные ряды лексем) — это не только созданный лингвиста-
ми и педагогами инструментарий, что они объективно су-
ществуют, хранятся в памяти людей». Следует согласиться
и с мнением Д. Н. Шмелева (1964, с. 111) о том, что
многообразие и противоречивость подходов к трактовке тео-
рии поля «свидетельствует не столько о субъективности вы-
157
бора признаков, сколько об объективном их многообразии в
языке». Можно добавить, что используемый нами метод ана-
лиза экспериментальных материалов исключает субъектив-
ность выбора параметров ассоциативного поля и макси-
мально способствует выявлению их многообразия. Напомним
также, что в условиях свободного ассоциативного экспери-
мента границы поля не являются заранее заданными, а от-
ношения внутри поля — навязанными извне.
4.7. Одной из специфических особенностей организации
лексикона является то, что говорящий или слушающий че-
ловек оказывается способным одновременно учитывать це-
лый комплекс увязываемой со словом информации. Этот фе-
номен в последнее время находится в центре внимания ис-
следователей, пытающихся моделировать иерархию семан-
тических и синтаксических признаков, строить гипотезы отно-
сительно характера морфологической, синтаксической и се-
мантической «спецификации» слова и т. п. Особое место
при этом занимают исследования в области пресуппозиций,
которые по свидетельству Ф. Кифера (1978, с. 367) представ-
ляют центральный объект споров в семантической теории.
Кифер полагает также, что адекватное объяснение пресуп-
позиций решило бы одновременно большое число важных се-
мантических вопросов (Там же, с. 367—368).
Объяснение феномена лексической пресуппозиции, по
всей видимости, предполагает, с одной стороны, обнаружение
механизмов его становления, а с другой — формулирование
некоторой гипотезы, способной показать, каким образом мо-
жет осуществляться одновременный учет лежащей за словом
разнородной информации. Оба этих вопроса обсуждаются
в работе (Залевская, 1981, с. 38—42).
В качестве механизма становления лексических пресуп-
позиций может выступать рассматривавшийся выше меха-
низм глубинной предикации, проблема нейрофизиологической
базы которого обсуждалась с позиций теории динамичес-
ких временных связей (см. разд. 4.2, 4.3). Нами неоднократ-
но подчеркивалось, что трактовка значения слова как сово-
купности продуктов некоторого набора актов глубинной пре-
дикации хорошо согласуется с трактовкой понятия как ито-
га, результата целостной совокупности суждений и с призна-
нием диалектики перехода суждения и понятия друг в
друга (см. Кондаков, 1971, с. 393; Степанов, 1975, с. 11;
Уемов, 1961, с. 9). Однако значение слова не сводится
к понятию, и в нашем экспериментальном материале
обнаружены факты соотнесения идентифицируемой сло-
воформы с образом того или иного объекта, с вызывае-
мыми таким объектом эмоциональными состояниями и т. д.
Иначе говоря, опознаваемое индивидом слово имплицирует
158
более широкий круг продуктов актов глубинной предикации,
чем тот, который описывается в рамках лексических пресуп-
позиций, выделяемых при лингвистическом анализе. Это
можно объяснить, с одной стороны, соотнесенностью энцикло-
педических и языковых знаний, а с другой — взаимодействи-
ем понятийной и чувственной сфер деятельности человека;
ср. запись В. И. Ленина в «Философских тетрадях»: «Совпа-
дение понятий с «синтезом», суммой, сводкой эмпирии, ощу-
щений, чувств несомненно для философов всех направлений»
(т. 29, с. 257).
Как показано в работах (Залевская, 1977, 1980, 1981),
феномен параллельного хранения и одновременного учета го-
ворящим или слушающим индивидом многообразия увязы-
ваемой со словом информации может получить объяснение
с точки зрения трех в значительной мере согласующихся
между собой подходов.
Прежде всего представляется полезным опираться на
сформулированный В. Н. Пушкиным (1971, с. 41) принцип
двойной регуляции познания объективной действительности.
Суть этого принципа, выполняющего, но мнению автора,
весьма важную биологическую роль на разных уровнях
развития живых существ, состоит в том, что наряду с вы-
членением некоторого объекта, который становится центром
внимания, продолжают отражаться и признаки предметов,
составляющие фон.
Взаимодействие признаков, на которых фокусируется
внимание, и признаков, создающих фон отражаемого, осно-
вывается на принципе сочетания осознаваемой и неосозна-
ваемой психической деятельности, что составляет суть вто-
рого из названных выше подходов. То, на чем фокусируется
внимание, попадает в «окно сознания» (термин, используе-
мый Б. В. Якушиным, 1975, с. 54) или на «табло сознания»
(термин Г. П. Щедровицкого, 1974, с. 16, 22), т. е. объекти-
вируется посредством слова, в то время как составляющие
фон связи учитываются на подсознательном уровне и могут
в случае необходимости быть объективированными через
перенесение «фокуса» или изменение «угла зрения». Весь-
ма показательными в этом отношении являются условия ов-
ладения вторым (иностранным) языком: на начальном этапе
обучения правильность оперирования словом обеспечивается
объективацией всего комплекса специфичных для иноязыч-
ного слова лексико-фонетико-грамматических характеристик,
однако- необходимость в этом отпадает по мере освоения
слова благодаря переносу учета этих характеристик в сферу
подсознательного.
Опора на второй используемый нами подход основы-
вается на признании того, что «... каждую (в пределе)
форму осознаваемой психической деятельности следует рас-
159
сматривать как уходящую своими корнями в «бессозна-
тельное», как детерминированную ис только в ее элементар-
ных, но и — что особенно важно — в наиболее сложных
семантических, смысловых отношениях не только
осознаваемым, но и неосознаваемым образом» (Бассин и др.(
1979, с. 86). При этом с позиций теории установки, разра-
ботанной Д. Н. Узнадзе, «неосознаваемая психическая дея-
тельность— это агент вездесущий. Она всегда скрытым обра-
зом вмешивается как предпосылка, как необходимое ус-
ловие, как подготовляющий и регулирующий фактор в ста-
новление любой психической деятельности осознаваемого ти-
па, наиболее элементарной и наиболее сложной» (Там же,
с. 86—87).
В качестве еще одного подхода к объяснению феномена
одновременного учета человеком комплекса значимых ха-
рактеристик слова в работе (Залевская, 1977, с. 73—74)
было предложено использовать голографическую гипотезу
хранения и считывания информации.
Уточним, что голограмма характеризуется следующими
основными свойствами: 1) получаемое с помощью голограм-
мы изображение трехмерно и его можно наблюдать с раз-
ных сторон; 2) любая часть голограммы позволяет воспро-
извести практически всю картину; 3) на одну и ту же го-
лограмму можно записать несколько изображений, а затем
воспроизводить их по отдельности. Эти особенности голо-
граммы (см. более подробно, например, Кольер и др., 1973)
позволяют обсуждать вопрос о применении голографической
гипотезы к рассмотрению проблем, связанных с исследованием
восприятия, памяти и т. д. По свидетельству М. Уиньона
(1980, с. 135—136), многие специалисты полагают, что го-
лографическая гипотеза правильно описывает работу мозга
человека. При этом учитывается, что регистрация какой-то
специфической части информации охватывает некоторую
область мозга, а при поражении части мозга он не теряет
полностью способность к запоминанию информации. После-
довательное применение этой гипотезы к анализу различ-
ных аспектов деятельности мозга мы находим в работах
К. Прибрама (1974, 1975). Однако следует учитывать и мне-
ние М. Арбиба (1976, с. 266—267) о том, что «нейронная
голография будет служить полезной метафорой при условии,
конечно, что мы не поддадимся соблазну и не будем по-
нимать ее слишком буквально», и что вытекающие из го-
лографической гипотезы представления «должны служить
антиподом тех основанных на пословном запоминании пред-
ставлений о памяти, которые навеяны нам цифровыми вы-
числительными машинами или лингвистическими возможнос-
тями человека».
Как показано в работе (Залевская, 1977), именно «линг-
160
вистические» (точнее, конечно, — языковые) возможности Че-
ловека могут быть успешно объяснены с позиций нейронной
голографии. Так, при восприятии первого слова нового со-
общения (как и при идентификации исходного слова в про-
цессе свободного ассоциативного эксперимента), когда от-
сутствуют контекст или ситуация, предшествующий опыт ин-
дивида определяет «угол зрения» для установления связи
между слышимой (читаемой) словоформой и хранящейся в
памяти информацией. «Высвечивание» отдельных аспектов
этой информации не исключает, а неизбежно предполагает
более или менее четкое «всплывание» релевантных знаний о
структуре и об отдельных свойствах объектов окружающего
мира и о существующих между ними отношениях, равно как
и о чисто языковых параметрах воспринимаемого слова, о
его типовых контекстах и об эмоциональных состояниях, свя-
занных с этим словом в прошлом опыте. Более или менее
полное восстановление лежащей за словом разнородной
информации, в той или иной мере осознаваемой индивидом,
происходит в случаях формирования неточных или ошибоч-
ных гипотез о последующем контексте или о глубинном за-
мысле воспринимаемого сообщения в целом. В условиях же
производства речи адекватность выбранного слова замыслу
высказывания обеспечивается именно подсознательным уче-
том значительной части той информации о слове и об обоз-
начаемом им предмете, которая остается «за кадром», т. е.
не получает выхода в «окно сознания», хотя и может, в слу-
чае надобности, быть актуализованной.
Голографическая гипотеза хранения и считывания ин-
формации позволяет также пролить свет на механизмы вклю-
чения слова как единицы лексикона в многомерную систему
связей. Согласно современным нейрофизиологическим и ней-
ропсихологическим исследованиям, мозговые процессы ба-
зируются на функционировании «исключительных по слож-
ности динамических констелляций нейронов» (Лурия, 1976,
с. 86). При этом «каждый нейвон из ансамбля или группы
нейронов может принимать участие в обеспечении разных
видов деятельности» (Нейрофизиологические механизмы...,
1974, с. 89); ср. с третьим признаком голограммы и с раз-
виваемыми в наших работах представлениями о том, что и
усваиваемая индивидом словоформа, и все члены увязы-
ваемой с ней чувственной группы подвергаются процессам
разложения на признаки и признаки признаков, на базе
которых происходит включение их в систему предшествующего
опыта носителя лексикона. Продукты такого включения слу-
жат точками пересечения линейных и иерархических связей
между единицами поверхностного или глубинного ярусов
лексикона.
Сама идея многоярусности лексикона при наличии гори-
11. Заказ 830
161
зонтальных (внутриярусных) и вертикальных (межъярусных)
связей согласуется с трактовкой принципов структурной ор-
ганизации, в той или иной мере свойственных мозгу в целом
(см., например, Адрианов, 1976), а также с признанием
того, что мозг человека организован как по голографичес-
кому, так и по структурному принципам (см., например,
Прибрам, 1975, с. 421).
Заканчивая на этом обсуждение полученных в 1968—
1980 гг. результатов теоретического и экспериментального-
исследования, уточним, что выше рассматривались только те
аспекты изучаемого объекта, которые могли быть обнару-
жены при использовании известных к тому времени теоре-
тических построений и на основе предпринятого анализа
экспериментального материала. Этим объясняется предвари-
тельный характер излагавшейся гипотезы лексикона, кото-
рая должна трактоваться как один из шагов на пути к бо-
лее полному и разностороннему описанию лексического ком-
понента речевой организации человека.
ГЛАВА 5
лексикон человека в свете
ИССЛЕДОВАНИЙ 80-х гг.
5.0. Задача главы 5 (162). 5.1. Теоретические основы исследования
лексикона (162). 5.2. Новые данные об организации лексикона (173). 5.3.
Дальнейшее развитие гипотезы лексикона человека (179). 5.4. Задачи по-
следующих исследовании (180).
5.0. В задачи завершающей главы монографии входят,
во-первых, соотнесение гипотезы лексикона, в принципе
сформулированной в 1977 г., с более поздними отечест-
венными и зарубежными исследованиями в этой области,
а во-вторых, краткая информация об основных направле-
ниях дальнейшего изучения разных аспектов проблемы лек-
сикона, предпринимаемых в Калининском государственном
университете.
Не имея возможности дать подробный обзор новейших
публикаций по всем вопросам, связанным с исследованием
лексикона человека, ограничимся обсуждением лишь наибо-
лее принципиальных положений, а именно, того, как раз-
виваемые в работе теоретические представления соотносятся
с результатами научных изысканий последних лет, а также
того, какие новые данные обнаружены в связи с изучением
принципов организации лексикона.
162
5.1. В связи с теоретическими основами исследования
лексикона представляется важным отметить следующее.
Как было показано в гл. 2, специфика единиц лексикона
индивида устанавливалась нами с опорой на концепции Л. В.
Щербы и И. М. Сеченова и выводилась из анализа струк-
туры речемыслительной деятельности человека. Это побуж-
дает прежде всего остановиться на том, как названные ис-
ходные положения обсуждаемой гипотезы лексикона воспри-
нимаются с позиций сегодняшнего дня.
Несомненно, полностью сохраняют свою актуальность
высказывания Л. В. Щербы о роли «весьма сложной игры
сложного речевого механизма человека в условиях конкрет-
ной обстановки данного момента» (Щерба, 1974, с. 25) и
об основных характеристиках этого механизма (Там же,
с. 25—27), тем не менее время показало необходимость не-
которого уточнения отдельных моментов с учетом разви-
тия научных представлений о специфике психической жизни
индивида.
Признавая справедливость указания Щербы на то, что
речевая организация человека не может быть простой сум-
мой индивидуального речевого опыта и предполагает его пе-
реработку, мы должны добавить, что речевой опыт сущест-
вует не сам по себе, не ради самого себя, а как средство
взаимодействия индивида с окружающим его миром; следо-
вательно, речевой опыт всегда включен в более широкий
деятельностный контекст, с которым должны увязываться про-
дукты переработки речевого опыта как одной из составляю-
щих многогранной деятельности человека. Поскольку субъект
деятельности не пассивно воспринимает мир, а активно вза-
имодействует с ним, познавая его закономерности, преломляя
их через призму мотивированности и предметности своей дея-
тельности, речевой опыт неразрывно связан с когнитивным и
эмоциональным опытом индивида. Он не может подвергаться
переработке вне соотнесенности с индивидуальной картиной
мира и вне эмоционально-оценочного маркирования, хотя это
вовсе нс исключает необходимости переработки и упорядоче-
ния, обеспечивающих готовность к использованию в речи
того, что составляет специфику самих языковых единиц и ле-
жит в основе их успешного функционирования в процессах го-
ворения и понимания речи.
Далее, своеобразие переработки речевого опыта опреде-
ляется психофизиологической природой речевой организации
человека. Однако Щерба указал лишь на одну сторону этого
феномена, имея в виду «такие процессы, которые частично
(и только частично) могут себя обнаруживать при психологи-
ческом наблюдении», вследствие чего умозаключать о речевой
организации можно только на основании речевой деятель-
ности индивида (Там же, с. 25). Но еще более существенным
И* 163
является то, что речевая функция человека и все связанные
с нею процессы неотделимы от восприятия, памяти, мышле-
ния и т. д. (ср.: Брушлинский, 1982, с. 28), т. е. изучение
речевой организации требует глубокого понимания специ-
фики взаимодействия всех составляющих сложного комплек-
са познавательных процессов человека. В частности, для
выявления того, что стоит за словом в индивидуальном со-
знании в качестве продукта переработки разнообразного
(не только речевого) опыта, необходимо знать особенности
восприятия и переработки человеком разнородной инфор-
мации об окружающем его мире; для установления специ-
фики функционирования единиц лексикона в процессах про-
изводства и понимания • речи требуется учет закономернос-
тей речемыслительной деятельности индивида; обнаружение
принципов организации лексикона невозможно без опоры на
современные модели памяти, а если быть более точным,— ни
один из названных вопросов нс может рассматриваться в
отдельности, поскольку становление единицы лексикона для
индивида, ее хранение и использование — это лишь услов-
но выделяемые для научного анализа и детального иссле-
дования аспекты единой жизни слова в лексиконе человека.
Таким образом, умозаключения о лишь частично наблюдае-
мых процессах не могут делаться без выхода за рамки
строго лингвистического анализа продуктов речевой дея-
тельности.
Щерба рекомендует также использовать метод экспе-
римента, базирующийся на оценочном чувстве правильнос-
ти или неправильности высказывания как достоянии носителя
того или иного языка и служащий хорошим дополнением к
умозаключениям о речевой организации на основании ре-
чевой деятельности индивида. Исследования последних лет
показали, что возможно целенаправленное создание таких
экспериментальных ситуаций, которые позволяют эксплици-
ровать различные аспекты и этапы процессов, не поддаю-
щихся прямому наблюдению, однако формулировать какую-то
гипотезу, выбирать соответствующую экспериментальную ме-
тодику для ее проверки, а также анализировать получен-
ный материал можно только с позиций определенной сово-
купности исходных теоретических представлений о специ-
фике речевой организации индивида (см. подробнее Залев-
ская, 1987), а это опять-таки выходит за пределы компе-
тенции лингвистической теории и лингвистического экспери-
мента в понимании Щербы. Кроме того, судить о речевой ор-
ганизации позволяет и использование ряда других источни-
ков, таких, как наблюдение над развитием речи в онтогенезе,
анализ речевых ошибок в условиях нормы речи, изучение на-
рушений речи при афазиях и т. д., что значительно расши-
164
ряет возможности разностороннего исследования речевой вр-
ганизации и множественной перепроверки гипотез и резуль-
татов.
Указывая, что речевая организация индивида является со-
циальным продуктом, Щерба специально оговаривает, что ин-
терпретируемое в качестве «индивидуальных отличий» на
самом деле также социально обусловлено семейными, про-
фессиональными, местными и прочими условиями. Это поло-
жение концепции Щербы полностью согласуется с признан-
ной в отечественной психологии и психолингвистике изна-
чальной включенностью индивида в социум: познающий мир
ребенка развивается в микросистеме «ребенок — мать», ког-
да образ мира матери постепенно частично «переливается» в
образ мира ребенка через совместную деятельность и об-
щение (Смирнов С. Д., 1985, с. 147); усваивая систему
языковых значений, человек овладевает зафиксированным в
последних социальным опытом (см. подробное и разносто-
роннее обсуждение этого вопроса в работе. Тарасов, 1987).
Думается, здесь также необходимо уточнить, что социаль-
ный опыт усваивается индивидом не только по линиям зна-
ний о мире и языковых знаний: он воспринимает и приня-
тую в социуме систему норм и оценок, направляющую эмо-
ционально-оценочное маркирование всего, что фигурирует
в индивидуальном сознании.
Одним из аргументов Щербы в пользу социального ха-
рактера речевой организации является указание на то, что
индивидуальная речевая система служит лишь конкретным
проявлением языковой системы, однако не случайно при этом
дается предостережение против отождествления названных
понятий как «теоретически несоизмеримых»: такое отождест-
вление имело место во времена Щербы и допускается до сих
пор, например, когда исследователи ищут и видят в мате-
риалах психолингвистических экспериментов, речевых оши-
бок, наблюдений над развитием речи в онтогенезе или над
нарушениями речи при афазиях и т. д. только то, на что
их нацеливают лингвистические постулаты, выведенные из
анализа слова как единицы лексико-семантической системы
языка, и не учитывают, что индивидуальный лексикон явля-
ется продуктом переработки не только речевого опыта че-
ловека (см. критический анализ подобных случаев в работах:
Залевская, 1975, с. 49—57; 1982, с. 23—26). Отмечая, что
человек, формирующий свою речевую систему, и научный
исследователь, выводящий языковую систему из языкового
материала, пользуются одним и тем же источником, Щерба
считает работу, совершаемую в первом случае, «совершенно
тождественной» второму случаю и видит разницу между ними
лишь в том, что одна из них протекает бессознательно, а
другая — сознательно (Щерба, 1974, с. 35). При справед-
ливости утверждения принципиальной общности исходного
165
языкового материала для переработки его носителем языка и
исследователем-лингвистом нельзя сводить различия между
этими двумя случаями к противопоставлению бессознатель-
ности и сознательности соответствующих процессов. Начнем
с того, что любой психический процесс всегда формирует-
ся на разных уровнях сознательного и бессознательного, ха-
рактеризуется сложными переходами и взаимодействиями
этих уровней (Тихомиров, 1984, с. 36; см. также: Бессозна-
тельное, 1985). Известно также, что ребенок, свободно вла-
деющий практически своим родным языком и проявляющий
особый интерес к языковым знаниям на стадии «Почемучки»,
тем не менее испытывает значительные, трудности при изу-
чении грамматики того-же языка в школе, когда ему при-
ходится переключаться с самостоятельно выработанной сис-
темы функциональных ориентиров на абстрактную систему
метаязыковых понятий и прескриптивных правил. По всей ви-
димости, это можно объяснить рядом причин, в том числе
таких, как формирование функциональных ориентиров в не-
вербальном коде, субъективное переживание неразрывности
языковых и энциклопедических знаний, специфическая роль
операциональных и предметных значений и т. п. Как бы то
ни было, вызывает сомнения правомерность признания «со-
вершенной тождественности» работы лингвиста и «неофита
данного коллектива, усваивающего себе язык этого коллекти-
ва, т. е. создающего у себя речевую систему на основании
языкового материала этого коллектива (ибо никаких других
источников у него не имеется)» (Щерба, 1974, с. 35): в за-
висимости от комплекса факторов переработка языкового
материала неофитом может в той или иной мере прибли-
жаться к целенаправленной метаязыковой деятельности линг-
виста, но может и значительно отличаться от последней.
Скорее всего именно концентрация внимания на тех функ-
циональных ориентирах, которые отличают речевую органи-
зацию от описательных грамматик, должна лечь в основу
лингводидактических рекомендаций, способных обеспечить
эффективное управление учебной деятельностью по овладе-
нию языком.
Нетрудно заметить, что сделанные уточнения некоторых
положений концепции Щербы были фактически подготовлены
материалом гл. 2; более того, они оказались реализованны-
ми через использованный в монографии комплексный под-
ход к исследованию лексикона и нашли отражение в пред-
ложенной гипотезе специфики единиц индивидуального лек-
сикона и принципов его организации.
Обоснованность опоры на концепцию Сеченова при ис-
следовании специфики единиц индивидуального лексикона
подтверждается публикациями последнего десятилетия.
Прежде всего это касается повсеместного признания роли
166
памяти как базисного, основополагающего механизма, обес-
печивающего возможность проявления всех онтогенетически
формирующихся видов деятельности, всех познавательных
процессов человека (см., например, Асмолов, 1985; Бехте-
рева и др., 1985; Брушлинский, 1982; Величковский, 1982,
1987; Восприятие речи, 1988; Механизмы деятельности моз-
га, 1988; Найссер, 1981; Норман, 1985; Хофман, 1986); ср.
с рассмотрением памяти как краеугольного камня психичес-
кого развития у Сеченова и с изложенной в гл. 2 трактовкой
лексикона как средства доступа к единому информационно-
му тезаурусу человека, обеспечивающему возможность ре-
чемыслительной деятельности.
Представляется также важным отметить плодотворность
дальнейшего развития идей Сеченова в ряде отечественных
философских и психологических исследований. Так, взаимо-
действие внутренних и внешних знаков, диалектическое един-
ство образного содержания и знаковой формы чувственного
отражения обсуждает Н. И. Губанов (1986), детально рас-
сматривающий роль перцептивно-предметной деятельности
человека в формировании чувственных образов, без опоры
на которые невозможно функционирование языка. Специфика
становления в сознании человека образа окружающей его
действительности исследуется в работах Б. Ф. Ломова с со-
трудниками (Завалова и др., 1986; Ломов, 1986; Ломов и др.,
1986), где выделяются следующие три основных уровня пси-
хического отражения.
1. Базовым в системе образного отражения является
уровень сенсорно-перцептивных процессов, который форми-
руется на самых начальных ступенях психического развития
индивида, но не теряет своего значения в течение всей его
жизни. Отражение разнообразных свойств окружающих че-
ловека предметов обеспечивается ощущениями разных мо-
дальностей (зрительными, слуховыми, тактильными и др.)
при наличии многообразных постоянных и переменных свя-
зей между всеми сенсорными модальностями (ср. с ассоци-
ированной чувственной группой у Сеченова и с развитием
его идей в разд. 2.5).
II. Следующей ступенью в развитии познавательных про-
цессов является формирование представлений как вторичных
образов предметов в том смысле, что представления могут
актуализоваться без непосредственного воздействия предме-
тов на органы чувств человека. К числу основных особен-
ностей образа-представления относятся следующие: 1) по
своему содержанию образ-представление предметен, как и
сенсорно-перцептивный образ; 2) в отличие от последнего,
образ-представление имеет как бы самостоятельное сущест-
вование в качестве феномена «чисто» психической деятель-
ности; 3) при формировании представления имеют место
167
элементарные обобщения и абстракции, селекция признаков
объекта, их интеграция и трансформация; 4) происходит схе-
матизация предметного образа за счет подчеркивания одних
признаков и редуцирования других; 5) появляется своеобраз-
ная «панорамность» образа, позволяющая выходить за преде-
лы наличной ситуации; 6) образ становится собирательным,
поскольку в представлении отражаются не только отдельные
предметы, но и типичные свойства групп предметов; 7) про-
исходит преобразование последовательного (сукцессивного)
процесса восприятия в одномоментную (симультанную) ум-
ственную картину — целостный образ; 8) представления ста-
новятся базой для формирования образов-эталонов, концепту-
альных моделей, наглядных схем и т. п., лежащих в основе
многогранной деятельности человека; 9) индивид овладевает
различными способами оперирования представлениями, таки-
ми, как мысленное расчленение объектов и объединение их
деталей, мысленное «вращение» объектов, их масштабное пре-
образование и т. п. (ср. у Сеченова выделение признаков пред-
метов, слияние впечатлений в «средние итоги», отвлечение от
«чувственных первообразов» и т. д. в процессах анализа, син-
теза и сравнения или классификации).
Ш. Третьим уровнем психического отражения является
уровень речемыслительных процессов, который называют
также уровнем вербально-логического, понятийного мышле-
ния, уровнем интеллекта. Это уровень рационального позна-
ния, на котором происходит процесс опосредствованного от-
ражения действительности через оперирование понятиями и
методами мышления, сложившимися в ходе развития общест-
ва. Для «овеществления», фиксации результатов обобщения и
абстрагирования и для использования их в коммуникации ис-
пользуются знаки и знаковые системы, в том числе — язык
(ср. у Сеченова указание на роль речи как системы услов-
ных знаков, которая придает объективность элементам вне-
чувственною мышления, лишенным образа и формы).
Б. Ф. Ломов и его сотрудники подчеркивают, что в ре-
альной жизнедеятельности индивида все уровни психического
отражения взаимосвязаны, при этом связи между уровнями
и формами отражения (образной и понятийной, знаковой)
не однозначные и нс жесткие — в реальных процессах они
трансформируются, интегрируются, переходят друг в друга,
а при исследовании психических процессов или конкретных
видов деятельности можно, по-видимому, говорить не более
как о ведущем уровне, который никогда не выступает сам
по себе (Ломов, 1986, с. 18—19). К тому же ошибочно по-
лагать, что только третий уровень психического отражения
связан с языком: «У взрослого человека слово как бы про-
низывает все уровни психического отражения. Многочислен-
ные психологические исследования показывают, что слово
168
влияет на развитие сенсорно-перцептивных процессов, вклю-
чается в динамику этих процессов. Именно благодаря слову
формируются такие характеристики восприятия, как осмыс-
ленность и категориальность. Еще большую роль слово иг-
рает в формировании и развитии представлений, обеспе-
чивая их обобщенность, дифференцированность и устойчи-
вость. В структуре образа-представления отмечается как бы
взаимоппоникнсвен'ие наглядной внутренней «картинности»
и слова. Слово является опосредствующим звеном в процессе
диалектического перехода от ощущения к мысли, обеспе-
чивая «движение познания» от единичного к общему, от кон-
кретного к абстрактному, от явления к сущности» (Ломов
и др., 1986, с. 9). При этом слово выступает в роли универ-
сального «перекодировщика», благодаря которому происхо-
дит трансформация образов одних модальностей в другие
(Там же, с. 12—13; ср. у Сеченова роль «звуковой группы»
в составе «чувственной группы» и при вычленении ее из по-
следней, а также развитие этой идеи в разд. 2.5).
Сопоставление приведенных высказываний с изложени-
ем в гл. 2 наших представлений о специфике слова как еди-
ницы индивидуального лексикона показывает, что сформули-
рованная в работе (Залевская, 1977) гипотеза не только не
устарела, но получила подкоеплепие благодаря публикациям
других авторов. Не имея возможности подробно обсуждать
все теоретические положения, связанные с этой гипотезой,
укажу лишь на следующее.
Во-первых, можно считать доказанной правомерность
трактовки слова как единицы индивидуального лексикона
в качестве продукта переработки многогранного (чувствен-
ного и рационального, индивидуального и социального) опы-
та человека при акцентиоовании внимания на взаимодей-
ствии разных уровней и форм психического отражения; ср.,
например, указания на роль «довербального познавательного
опыта индивида» (Павилёнис, 19866), «базального слоя вну-
тренней организации психического» (Пономарев, 1983),
«предпонятийной системы» (Горелов, 1984), «доязыкового
механизма ориентации в окружающей реальности» (Горелов,
1987).
Следует подчеркнуть, что наши представления о том, что
стоит за словом в индивидуальном сознании, согласуются
с. идеями отечественной психосемантики (ем.: Петренко,
1983, 1988; Шмелев А. Г., 1983) и близки к трактовке сущ-
ности концептуальной системы в работах Р. И. Павилёни-
са, в понимании которого концептуальная система — «это не
совокупность правил употребления языковых выражений и
не свод «энциклопедических знаний о мире», а система вза-
имосвязанной информации, отражающая познавательный опыт
индивида на самых разных уровнях (включая довербальный и
169
невербальный) и в самых разных аспектах познания, ос-
мысления мира: наиболее абстрактные концепты в такой
системе континуально связаны с концептами, отражающими
наш обыденный опыт как часть одной концептуальной
системы» (Павнлёнис, 1986а, с. 387); к тому же «язык сам
по себе не выражает никаких смыслов, существующих не-
зависимо от концептуальных систем» (Там же, с. 386);
ср. также трактовку текста как целостного комплекса язы-
ковых, речевых и интеллектуальных факторов в их связи
и взаимодействии (Новиков, 1983).
Факт постоянной опоры индивида на то, что Сеченов
называл «чувственным первообразом» и о чем А. Н. Леонть-
ев (1975) говорил как-о возвращении значений к чувствен-
ной предметности мира, многократно доказывается при ана-
лизе материалов психолингвистических экспериментов, когда
на предъявление слова испытуемые реагируют описанием
обозначаемого этим словом объекта, его свойств, признаков
и т. п. В повседневной жизни роль опоры на чувственно-
предметные корни значения слова настолько велика, что
человек, как правило, не разграничивает само слово и то,
что обеспечивает его понимание и использование в общении,
ср. (Жинкин, 1982, с. 100). Здесь уместно привести выска-
зывание В. И. Слободчикова о том, «основные перцептивные
категории (пространство, время, движение, цвет и др.), а
также энергодинамическис и валентные содержания взаимо-
связей возникают так рано и оказываются такими надеж-
ными практическими ориентирами в сфере людей и вещей,
что впоследствии они очень редко и в исключительных об-
стоятельствах становятся предметом рефлексивного созна-
ния» (Слободчиков, 1986, с. 19—20). В то же время Сече-
нов справедливо отмечал, что у взрослого человека очень
часто теряется всякая видимая связь между мыслью и сс
чувственным первообразом, поскольку между ними лежит
длинная цепь «превращений одного идейного состояния в
другое» (Сеченов, 1953, с. 225). Феномен утраты такой связи
может обсуждаться с позиций введенного К. Марксом поня-
тия превращенной формы; см., например, применение этого
понятия (хотя и в несколько ином аспекте) в работах А. А.
Леонтьева (19766), Е. Ф. Тарасова (1986) и др.
Однако необходимо учитывать и то, что многие слова
усваиваются человеком опосредованно, без прямой опоры на
некоторый чувственный образ. Их значения устанавливаются
через включение в уже сформировавшиеся системы значимых
противопоставлений и обобщений, закрепленные в связях
между словами как единицами индивидуального лексикона,
или, наоборот, новое значение требует формирования не фик-
сировавшихся ранее связей за счет дальнейшего отвлече-
ния от их чувственных корней. Следует подчеркнуть, что
170
изложенная в монографии гипотеза специфики лексикона и
принципов его организации способна дать объяснение и
роли чувственных основ значения слова, и фактов слияния
слова с обозначаемой им вещью в актах оперирования сло-
вом, и феномена потери видимой связи с исходными чув-
ственными корнями, и механизмов поиска таких корней при
идентификации значения слова индивидом (см. гл. 2 и 4).
Во-вторых, представления о роли признаков и призна-
ков признаков в становлении единиц лексикона и в органи-
зации последних, развиваемые в нашей гипотезе вслед за
Сеченовым, получают все большее признание в исследова-
ниях последних лет. Не имея возможности хотя бы пере-
числить наиболее известные работы по этому вопросу, ог-
раничусь ссылкой на книги Ф. Кликса (1983), И. Хофмана
(1986), М.. С. Шехтера (1981), Н. И. Чуприковой (1985).
Важно отметить, что параллельно с разграничением при-
знаков признается и то, что объекты разных модальностей
могут сопоставляться по своему семантическому коду, отож-
дествление объектов разной природы происходит на основе
модально независимой формы семантической репрезентации
(ср.: Артемьева, 1987, с. 5, 7; Хофман, 1986, с. 176). Это
хорошо согласуется с соответствующими положениями на-
шей гипотезы.
В-третьих, философские и психологические исследования
последних лет особо подчеркивают неразрывность знания и
переживания значимости этого знания индивидом, акценти-
руют внимание на учении В. И. Ленина о субъективном об-
разе объективного мира как синтезе познавательного и оце-
ночного моментов (см., например, Кукушкина, 1984; Кор-
шунов, 1979, 1984; Артемьева, 1980, 1987); ср. с обязатель-
ностью эмоционально-оценочного маркирования единиц лек-
сикона по нашей гипотезе.
Что касается оправданности выведения специфики еди-
ниц лексикона из анализа структуры речемыслитсльной
деятельности человека, то следует прежде всего сказать о
нарастании в последние годы интереса к внутренней струк-
туре процессов производства и понимания речи как базе для
исследования разных аспектов функционирования языка (см.,
например, Горохова, 1986; Кубрякова, 1986; Наумова О. Д.,
1987). При этом предложенная в работе (Залевская, 1977)
модель речемыслительного процесса не противоречит более
поздним отечественным публикациям (см., например, Ахути-
на, 1985а, 19856; Зимняя, 1985) и до сих пор сохраняет
свою актуальность по следующим причинам: 1) в ней изна-
чально заложена первичность «компрессии смысла» с по-
следующим развертыванием образа результата речемысли-
тельной деятельности при взаимодействии синтаксиса и сло-
варя; 2) все рассматриваемые процессы протекают в единой
171
информационной базе — ПАМЯТИ при условном выделении
некоторых этапов, соответствующих идее многокодовостк
мышления; 3) предусматривается многостороннее внутриэтап-
ное и межэтапное взаимодействие процессов и получаемых
с их помощью продуктов; 4) учитывается сочетание неосозна-
ваемой и осознаваемой психической деятельности при выве-
дении на «табло сознания» лишь конечных (и отдельных про-
межуточных) продуктов реализуемых неосознаваемых процес-
сов; 5) подчеркивается роль «пускового момента» как факто-
ра, направляющего построение образа результата речемысли-
тельной деятельности и далее контролирующего (через мно-
жественные петли обратной связи) успешность развертки
компрессии смысла вплоть до получения конечного резуль-
тата; 6) указывается на отсутствие «жесткой» связи между
планируемым результатом и путями его достижения, что до-
пускает выбор не только единиц разных этапов, но и страте-
гий оперирования ими, а также стратегий межэтапных пере-
ходов.
Следует особо подчеркнуть, что в нашей модели 1977 г.
(т. е. до разработки популярных ныне «интерактивных» мо-
делей производства и понимания речи) предусматривалось
внутриуровневое и межуровневое взаимодействие, в принципе
согласующееся с идеей интеракции. Эта модель выгодно
отличается от более поздних интерактивных моделей посту-
лируемым в ней взаимодействием синтаксиса и словаря как
средств развертки компрессии смысла под контролем пуско-
вого момента и с учетом ряда внешних и внутренних фак-
торов и, кроме того, специфичным для отечественных работ
признанием того, что происходит формирование мысли, раз-
вертывание образа речемыслительной деятельности, а не по-
дыскивание «вербальных одежд» для уже готовой мысли
(см. подробнее разд. 2,2, 2,4).
Напомним, что анализ структуры речемыслительного про-
цесса привел в разд. 2.4 к выделению единиц лексикона раз-
ных степеней интегративности и к трактовке лексикона как
системы кедов и кодовых переходов, обеспечивающей реали-
зацию различных этапов речемыслительной деятельности, тем
самым была показана продуктивность обращения к рассмат-
риваемому пути исследования специфики индивидуального
лексикона.
Обсуждение изложенной в гл. 4 гипотезы организации
лексикона будет дано в разд. 5.2 попутно с анализом новых
данных о лексиконе, полученных в нашей стране и за ру-
бежом. Здесь представляется важным отметить, что приве-
денные в теоретической гл. 2 ссылки на литературу 70-х гг.
в большинстве случаев могут быть подкреплены более позд-
ними публикациями упомянутых там авторов, в которых
имеет место либо буквально повторение цитируемых нами
172
мест, либо дальнейшее развитие тех же идей в том же на-
правлении (см., например, Дубровский, 1980, 1983, а также
высказывание Д. И. Дубровского о том, что оригинальная
мысль идет впереди слова, в книге «Бессознательное», 1985,
с. 282). Обоснование принципиальной необходимости опоры
на первоначально использовавшиеся источники было дано
в разд. 2.0.
5.2. В последнее десятилетие значительно обострился ин-
терес к проблеме репрезентации знаний в памяти человека и,
в частности, к организации «внутреннего», или «менталь-
ного» лексикона. Имеющиеся публикации можно прежде все-
го подразделить на две группы: 1 — освещающие частные
аспекты организации и/или функционирования лексикона,
II — пытающиеся дать более или менее полную картину
общей организации лексикона или его «работающей» мо-
дели.
Отметим, что за многообещающими названиями типа
«Об организации лексикона» иногда скрывается обсуждение
частного вопроса, а не общей картины, к тому же под лекси-
коном понимается вовсе не ментальный лексикон. Так, дис-
сертация Р. Либер (Lieber, 1981) выполнена в русле идей
порождающей грамматики. Это попытка охарактеризовать
формальные механизмы словопроизводства и словоизменения
при трактовке лексикона как списка всех терминальных эле-
ментов, не поддающихся дальнейшему анализу, в сочетании
с определенными морфолексическими правилами. В лекси-
ческом структурном субкомпоненте терминальные элементы
«вставляются» в ветвящиеся «деревья» с учетом субкатегори-
альных ограничений, которые накладываются на те или
иные аффиксы. Автора интересовало, входят ли в этот суб-
компонент производные и непроизводные слова, или в лек-
сиконе перечисляются только непроизводные единицы, к ко-
торым далее применяются некоторые правила порождения
других единиц.
Сходная задача, но в приложении к лексикону носи-
теля английского языка, ставилась Дж. Стембергером (Stem-
berger, 1985). Реализуя когнитивный подход к изучению
речевого механизма человека на базе анализа речевых оши-
бок с позиций интерактивной модели производства речи,
Стембергер показал возможность двоякого функционирования
в лексиконе индивида производных слов: целостно (при на-
личии непродуктивных аффиксов) или путем объединения
аффикса и базисной формы.
Аналогичные результаты получила в своем диссертацион-
ном исследовании С. И. Горохова (1986) при анализе речевых
ошибок носителей русского языка: при производстве речи
могут иметь место как конструирование, так и воспроизве-
дение; некоторые факты указывают на возможность раздель-
173
ного (относительно автономного) поиска основ слов, префик-
сов и флексий. При изучении психолингвистических особен-
ностей механизма производства речи С. И. Гороховой было
установлено, что при поиске слова в лексиконе имеет место
актуализация соответствующих лексических и грамматичес-
ких полей, учитывается принадлежность слова к части речи,
происходит одновременный или последовательный перебор
семантических и звуковых признаков; инвариантными пара-
метрами поиска слова по звуковым признакам являются мес-
то ударного слога, число слогов, звуковое начало или зву-
ковой конец слова, а при семантическом поиске — родо-видо-
вые отношения и семантические признаки, наиболее акту-
альные для говорящего в контексте высказывания; из дол-
говременной памяти извлекается не только вербальная, но и
образная информация о слове. С. И. Горохова высказывает
также предположение, что поиск слов в лексиконе можно
описывать как процесс актуализации и «заполнения» набора
фреймов — грамматического, фонологического, семантичес-
кого.
Л. И. Гараева (1987) исследовала особенности восприя-
тия производных слов и также указала на возможность как
целостного, так и расчлененного функционирования каждого
слова такого типа. Автором установлена определенная после-
довательность усвоения словообразовательных суффиксов
детьми.
Задачей диссертационного исследования Т. И. Доценко
(1984) было реконструирование процесса осознания значе-
ния русских синтаксических дериватов и выявление правил
оформления результатов этого процесса во внешней речи
(на материале ряда отглагольных и отадъективных имен су-
ществительных). Автором обнаружено сложное переплете-
ние грамматических, лексических и словообразовательных
значений в семантической структуре синтаксических дерива-
тов, показана ассоциативная природа структуры их значения,
выявлены стратегии поведения носителей языка при осозна-
нии таких слов: одна из них направлена на актуализацию
формы, другая — па актуализацию содержания синтакси-
ческого деривата.
Статус многозначных и омонимичных слов в лексиконе
человека по данным афазии исследовали Т. В. Ахутина и
С. И. Горохова (1983), высказавшие предположение, что
связь между значениями омонимичных слов является более
опосредованной по сравнению со связью между значениями
многозначного слова, поэтому в первом случае такая связь
разрушается быстрее. Отсюда авторы делают вывод, что
«гнезда» значений многозначных и омонимичных слов построе-
ны по-разному. В то же время Т. В. Ахутина и С. И. Горо-
хова не считают это заключение противоречащим тому, что
174
в ассоциативном эксперименте испытуемые актуализуют лищь
одно из возможных значений полисемантичного слова (Залев-
ская, 1977), и указывают, что «следует различать особеннос-
ти извлечения и хранения значений: процессы поиска значе-
ний многозначных и омонимичных слов могут быть одина-
ковыми, но запись и хранение—различными» (Ахутина, Го-
рохова, 1983, с. 10). На основании меньшей устойчивости
у афатиков переносных значений слов авторы высказывают
предположение, что это свидетельствует о периферийном по-
ложении таких значений в системе значений многозначных
слов.
В связи с этой же проблемой в работе (Flores d’Arcais
and Schreuder, 1983) обсуждаются два основных класса
моделей доступа к неоднозначным лексическим единицам в
памяти человека (рассматриваются омофоны или омографы и
полисемантичные слова). Согласно моделям селективного
типа, контекст ограничивает процесс извлечения слова из
памяти таким образом, что обычно извлекается только одно,
соответствующее контексту, слово. В моделях множественно-
го доступа предусматривается актуализация всех значений
слова, из которых далее избирается нужное с опорой на
контекстуальную информацию. Авторы указывают, что раз-
личные исследования доступа к изолированным неоднознач-
ным словам дают противоречивые результаты: одни свиде-
тельствуют о селективном, а другие — о множественном до-
ступе, в то время как предъявление слов в контексте дает
одинаковые результаты. Сами они предлагают разграничи-
вать активацию лексических единиц и активацию концепту-
альных единиц и считают, что контекст влияет на процесс
узнавания слов через активацию определенного концепту-
ального поля: это обеспечивает предактивацию или актива-
цию всех лексических единиц, ассоциированных с данным
Цолем, что, в свою очередь, понижает порог их готовности
Fk узнаванию. Однако активация некоторой лексической еди-
ницы влечет за собой автоматическую аттестацию всех ее
значений, включая и те, которые не вызваны контекстом.
! Ряд исследований имел своей целью изучение особеннос-
тей организации в лексиконе слов различных типов. Так, в
Цаботе (Huttenlocher and Lui, 1979) установлено, что для су-
ществительных более характерна иерархическая организация,
в то время как глаголы, обозначающие действия и события,
^взаимосвязаны в лексиконе по матричному принципу.
.Дж. Мэндлер (Mandler J., 1983, 1984) разграничивает таксо-
номические структуры, которые иерархически организуют су-
ществительные, и схемные структуры, которые упорядочи-
вают последовательности действий, ориентированные на до-
стижение какой-либо цели. В коллективном исследовании
'(Graesser et al., 1987) рассматривается семантическая орга-
t на
низация понятий, соответствующих простым существительным
и глаголам. Авторы выделяют «межпонятийную организацию»
и «внутрипонятийную организацию», последняя связана с со-
держанием понятия, его элементами, признаками, которые
детерминируют или ограничивают межпонятийную организа-
цию наборов слов.
Из числа публикаций, связанных с установлением роли
в лексиконе человека отдельных организационных принци-
пов, назовем следующие. В работе (Jarvella and Meijers,
1983) указывается, что результаты проведенного экспери-
мента могут быть объяснены только с позиций организации
лексикона по основам слов. Другие авторы (McClelland and
Rumelhart, 1981) полагают, что возможна двойная органи-
зация лексических единиц—по написанию и по фонологи-
ческому принципу. Формальные характеристики слов не учи-
тываются в модели логогенов Дж. Мортона (Morton, 1981).
Авторы работы (Napps and Fowler, 1987) провели серию
экспериментов для исследования роли орфографии в орга-
низации лексикона, однако пришли к выводу, что используе-
мая ими методика экспериментов не дает свидетельств ни
в пользу орфографического, ни в пользу фонологического
принципов. Другие ученые (Воусе et al., 1987) полагают, что
необходим пересмотр моделей лексикона, основывающихся
на фонологических параметрах, они считают более значи-
мыми морфологические связи. По мнению Дж. Миллера
(Miller, 1981), ментальный словарь должен быть организован
и по фонологическому, и по синтаксическому, и по семанти-
ческому принципам (семантической информации он отводит
наибольшее место), при этом необходима научная теория для
объяснения способности человека пользоваться разнообрази-
ем лексических ресурсов языка.
Не имея возможности останавливаться здесь на вопросах
специфики лексических репрезентаций и их организации в
условиях двуязычия (см., например, Caramazza and Bro-
nes, 1980; Hatch, 1983), назову ряд работ, где высказыва-
ются некоторые гипотезы относительно общей структуры лек-
сикона. На основе обзора публикаций в этой области
(Butterworth, 1980, 1983) высказывается мнение о том, что
a priori возможно наличие у человека модально специфич-
ных лексиконов, каждый из которых организован по какому-
то своему принципу. Например, лексикон для слушания дол-
жен быть организован по звуковому принципу, согласно ко-
торому слова с близким звучанием локализуются близко друг
к другу в многомерном пространстве звуков, так как доступ
к этому лексикону идет через звуки. В то же время лексикон
для говорения организуется на основе значений, поскольку
сначала специфицируется значение слова. Более того, может
оказаться, что перечень информации в лексиконе для слу-
176
шания должен быть не совсем таким, как в лексиконе Для
чтения. Идею существования раздельных лексиконов для
слушания, говорения, чтения и письма, поддерживают авторы
работы (Ellis and Beattie, 1986), они опираются при этом на
данные афазиологии и речевых ошибок, трактуемые ими с
позиций «когнитивной нейропсихологии». Нейролингвисти-
ческий подход в работе (Zaidel and Schweiger, 1985) при-
водит авторов к выводу, что лексикон должен быть увязан
с центральным концептуальным хранилищем. Нарушения
речи у афатиков, наблюдения над спонтанной речью, чте-
нием вслух и пониманием речи заставляют предположить,
что лексико-семантическая система может быть подразделена
на экспрессивный и рецептивный компоненты, в ней могут
быть также выделены модально специфичные компоненты и
многочисленные компоненты, зависящие от семантических
признаков; должны к тому же иметься варианты таких лек-
сиконов в обоих полушариях мозга. Некоторые нарушения
процессов номинации могут, по их мнению, быть отнесены
на счет разрыва связей между первичной сенсорной системой
и центральным концептуальным хранилищем, в то время
как другие нарушения могут быть связаны как с лексиконом,
так и с концептуальным хранилищем. Обсуждение проблемы
лексико-семантической организации мозга завершается поста-
новкой таких вопросов, как: Что из себя представляет се-
мантическая структура лексикона? Какими методами и ка-
кими моделями это может быть описано? Каковы отношения
между словами и понятиями? Как новые единицы инкор-
порируются в лексикон? Каковы нейрональные механизмы
функционирования лексикона? Следует подчеркнуть, что по-
добные вопросы ставятся и во многих других публикациях
последних лет (см., например: Butterworth, 1980, 1983;
Engelkamp, 1983; Green, 1983; Paivio and Begg, 1981; Pri-
deaux, 1984; Seiler and Brettschneider, 1985; Seiler and Wan- '
nenmacher, 1983), а это свидетельствует о том, что разработка :
гипотезы лексикона человека приобрела особую актуальность-
именно теперь.
Попытка обобщить результаты исследований многих ав-
торов и дать набросок «работающей» модели лексикона че-
ловека делается в книге Дж. Эйтчисон (Aitchison, 1987).
На основе данных по анализу речевых ошибок в условиях
нормы и патологии указывается па совместное хранение в
лексиконе слов со схожими началами, окончаниями и рит-
мическим рисунком и высказывается мнение, что слова хра-
нятся в семантических полях, при этом координированные
слова тесно ассоциированы друг с другом, хотя структура
таких групп, похоже, зависит от типа слов, которые в них
входят, т. е. названия объектов, действий и т. д. могут быть
организованы по-разному. У каждой группы, по всей ви-
12. Заказ 830
177 '
димости, есть ядро тесно связанных слов, а другие слова
более свободно распределены на периферии. Сильна связь
и между взаимозамснн.мыми словами. Нарушения речи у
афатиков свидетельствуют о том, что тематические поля слов
хранятся раздельно. Ментальный лексикон в целом — это
сложная сеть взаимосвязей, увязывающая огромное количест-
во знаний в памяти, при этом невозможно сказать, где кон-
чается значение слова и начинается знание о мире. По-
скольку каждое слово имеет связи со многими другими и с
общей информацией в памяти, все эти связи в определенном
смысле составляют сумму того, что мы понимаем под словом.
Дж. Эйтчисон подчеркивает многостороннюю природу связей
между словами в ментальном лексиконе и указывает на
различия в силе этих связей и на их переплетение.
Приведенный обзор свидетельствует о том, что фактичес-
ки за последние годы не было сделано каких-либо сущест-
венных дополнений к тем характеристикам лексикона и прин-
ципов его организации, которые давались в работе (Залев-
ская, 1977), где к тому' же была предложена теория лек-
сикона как лексического компонента речевой способности че-
ловека; не появилось и никакой альтернативной теории лек-
сикона— единственная рассматриваемая в этой связи теория
(Miller and Johnson-Laird, 1976), базирующаяся на призна-
нии основополагающей роли перцептивного опыта человека
в становлении первичных смыслов слов, в принципе согла-
суется с концепцией И. М. Сеченова, которая легла в основу
нашей гипотезы специфики единиц лексикона индивида. Сле-
дует, очевидно, указать, что этот источник ранее не обсуж-
дался по той причине, что он стал доступным только недавно.
Необходимо назвать еще две публикации, имеющие кос-
венное отношение к проблеме лексикона человека, но про-
ливающие свет на интересующие нас вопросы.
Исследование Б. М. Величковского (1987) посвящено
разработке и уточнению представлений об уровневой орга-
низации познавательных процессов у человека. Функцио-
нальная организация таких процессов (интеллекта) тракту-
ется как иерархия (точнее гетерархия), включающая шесть
уровней. Для нас особый интерес представляют два высших
уровня. Один из них образуют концептуальные структуры,
обычно увязываемые с «картиной мира», «образами мира»
н т. п., это структуры знания преимущественно декларативно-
го типа, которое репрезентируется в символической (как вер-
бальной, так и образной) форме и может использоваться в
коммуникативных процессах. При более детальном рассмот-
рении этого уровня в нем выделяются два подуровня: «про-
толексикон» (в качестве концептуального обеспечения здесь
выступают канонические образы объектов) и более высокий
подуровень схематической организации знания, которое мо-
178
жст храниться в памяти в форме «вложенных» друг в дру-
га пространственных и семантических контекстов. Это ведет
к проявлению как эффектов иерархической организации, ха-
рактерной для семантических сетей, так и классических эф-
фектов ассоциативной близости и контраста. В качестве наи-
высшего уровня познавательных процессов в работе назван
уровень метапозиавательных координаций, подразделяемый
на два уровня высших символических координаций, связан-
ных с фиксацией знаний в форме концептуальных структур
и с порождением определенного отношения к этим структу-
рам. Примером координаций этого уровня служат пропо-
зициональные установки. Это исследование подтверждает пра-
вомерность предложенной нами в свое время трактовки лек-
сикона как многоуровневой системы, для которой характерно
взаимодействие принципов вертикальной и горизонтальной
организации.
Предложенная нами трактовка слова как совокупного
продукта множества актов глубинной предикации, результа-
ты которых закрепляются благодаря переходу динамических
временных связей в замыкательные, а также общее пред-
ставление о лексиконе человека как сложнейшем перепле-
тении процессов и получаемых с их помощью продуктов хо-
рошо согласуются со следующим положением концепции
Н. И. Чуприковой:
«Индивидуальное сознание выступает в двух формах, которые мож-
но назвать структурной и динамической. Структурная форма — это бо-
лее или менее упорядоченная отражательно-знаковая система, склады-
вающаяся в мозгу каждого человека в процессе его жизни в результате
практической деятельности, усвоения языка, существующей системы зна-
ний и его личных усилий по познавательному упорядочению явлений дей-
ствительности. Это те структуры долговременной семантической памяти,
которые сейчас начинают все более интенсивно изучаться в эксперимен-
тальной психологии. Динамическая форма сознания - - это отдельные ак-
ты осознавания внешних и внутренних воздействий, которые осуществля-
ются на основе базовых элементов языка и структур отражательно-знако-
вой системы и выражаются в форме суждений. Проводимое различие двух
форм индивидуального сознания, конечно, имеет относительное значение.
Структурная форма, будучи устойчивой системой временных нервных свя-
зей, складывается, естественно, только как результат многочисленных пред-
шествующих динамических актов осознавания действительности. В разви-
том виде она представляет собой сложно структурированную систему дол-
говременной памяти н выступает как своего рода канва для множества
новых процессов высшей нервной деятельности, которые, однако, в свою
очередь, постоянно модифицируют и обогащают эту канву» (Чуприкова,
1985, с. 150—151).
5.3. Дальнейшее исследование специфики единиц лекси-
кона и принципов их организации велось мною по ряду на-
правлений и нашло отражение в трех учебных пособиях
12*
179
(1982, 1983, 19886) и в нескольких статьях, основные из ко-
торых будут названы ниже.
В работе (Залевская, 1982) обсуждается ряд актуальных
психолингвистических проблем семантики слова, в числе
которых особое внимание уделяется формам репрезентации
знаний в памяти человека. В частности, рассматривается роль
пропозиций в процессах хранения и извлечения знаний и
с учетом возможности ряда уровней осознаваемости при опе-
рировании словом высказывается,предположение, что субъект-
но-предикатная структура является итогом, продуктом про-
цесса обращения индивида к запасу его знаний, в то время
как на пути к этому продукту (иа уровне бессознательного
контроля) фигурирует n-арная структура, позволяющая учесть
полный объем релевантных энциклопедических и языковых
знаний. Более детальное обсуждение форм хранения знаний
(в связи с проблемой понимания текста) содержится в пуб-
ликации (Залевская, 1983), где рассматриваются понятия
схем, сценариев, фреймов. Продолжение этой линии иссле-
дования имеет место в работах (Залевская, 1985) в связи
с трактовкой слова как средства доступа к единой информа-
ционной базе человека и (Залевская, 19886) при обсуж-
дении психолингвистических проблем понимания текста.
Начатое в работе (Залевская, 1975) рассмотрение роли
категориальных признаков в организации единиц лексикона
вылилось далее в исследование процесса отнесения к кате-
гории как способа идентификации значения слова (Залев-
ская, 1984), что привело позже к представлению о лежащей
за словом тройственной категоризации, вследствие чего слово
в лексиконе человека всегда включено в триединый контекст
когнитивного, эмоционального и языкового опыта (Залевская,
1987, 1988а).
Изучение разных способов идентификации значения сло-
ва индивидом получило свое продолжение в поиске механиз-
мов опознания слова и обнаружении основных классов пси-
хологических операций, необходимых для становления слова
как единицы лексикона, для функционирования слова в про-
цессах говорения и понимания (Залевская, 1988а, 19886);
ср. с обострением интереса к ментальным стратегиям и опе-
рациям в работах (Caramazza et al., 1976; Ellis, 1986; Seiler
and Brettschneider, 1985; Rommetveit, 1986; Silverstein, 1986).
В число исследуемых проблем входило также выявление
возможностей применения материалов «Ассоциативного теза-
уруса английского языка» в психолингвистических исследова-
ниях (Залевская, 1983), дальнейшее рассмотрение нацио-
нально-культурной специфики вербальных ассоциаций (см.
Этнопсихолингвистика, 1988) и т. д. Особое внимание было
уделено роли теории в экспериментальных исследованиях
180
лексики (Залевская, 1987), однако этот вопрос требует от-
дельного обсуждения.
5.4. Необходимо подчеркнуть, что плодотворность даль-
нейших экспериментальных исследований лексики во многом
будет зависеть от успешности разработки психолингвистичес-
кой теории слова. Такая теория должна базироваться на со-
лидных экспериментальных данных, получение которых воз-
можно только в рамках коллективного исследования. Отсюда
вытекает задача, реализация которой была начата несколь-
ко лет назад и планируется на последующие годы, — опи-
раясь на уже имеющиеся теоретические представления о спе-
цифике единиц лексикона и на полученные ранее данные о
принципах его организации, построить рабочие гипотезы, про-
верка которых в широкой программе экспериментов позволит
вернуться к проблемам теории с позиций более глубокого
понимания выявленных закономерностей. Краткая информа-
ция об этом содержится в статьях (Залевская, 1986, 1987),
подробное изложение и обсуждение полученных результатов
даются в (Залевская, рукопись), здесь же представляется
возможным дать лишь общий перечень рассматриваемых
гипотез и публикаций аспирантов и соискателей, участвую-
щих в реализации намеченной программы.
Так, из основополагающего признания того, что значение
слова в индивидуальном лексиконе сохраняет свои чувствен-
но-предметные корни, вытекают, в частности, следующие ги-
потезы.
1. Значение любого слова как единицы идиолексикона в
принципе сводимо к некоторому исходному чувственному об-
разу объекта (зрительному, слуховому, двигательному и т. д.,
актуализуемому прямо или через опосредование вербальными
«переходами»), что должно находить проявление в констата-
ции носителями языка наличия у идентифицируемых ими
слов (даже с наиболее абстрактным значением) определенной
степени конкретности и образности; ср. с идеей «вторичной
визуализации абстрактных понятий» (Петренко, 1983, с. 14).
Эта гипотеза проверялась в исследовании Е. Н. Колодкиной
(1985а, 19856, 1986, 1987).
2. Сведение значения слова к исходному чувственному
образу может быть прямым или многоступенчатым с исполь-
зованием различных «стратегий» и «эталонов» и с опорой
на. разные виды связей (чувственно-предметных, вербально-
логических, структурно-языковых, ситуативных и т. д.). Осо-
бенности идентификации значения широкозначного слова че-
рез.конкретный пример исследует Л. В. Барсук (1987, .4988);
стратегии идентификации индивидом, значения словесных
новообразований изучает С. И. Тогоеваз( 1988). . . , .
181
3. Выбор «эталонов» может опираться на разные виды
признаков, присущих или приписываемых обозначаемому сло-
вом объекту. Национально-культурная специфика эталона
сравнения рассматривается в работах Т. В. Шмелевой (1984
1985, 1986, 1987, 1988а, 19886).
4. Значение слова в индивидуальном сознании функцио-
нирует при взаимодействии вербальных и невербальных ком-
понентов. Проблему предметного значения исследует Н. В.
Соловьева (1986, 1987, 1988).
На основании того, что познание мира слито с оценкой,
интеллект взаимодействует с аффектом, формулируется 5-я
гипотеза.
5. Значение слова в лексиконе индивида «помечено»
в эмоционально-оценочном плане как положительное,
отрицательное или нейтральное. Количественные показа-
тели степени эмоциональности значения 215 русских слов
получены в исследовании Е. Н. Колодкиной (см. выше). Ком-
плексный характер эмоциональной нагрузки слова выявлен
в экспериментах Е. Ю. Мягковой (1981, 1983, 1984, 1985,
1986а, 19866, 1987, 1988). Последнее из названных исследо-
ваний выполнялось в ИЯ АН СССР, однако выбор темы ко-
ординировался с программой работы кружка «Актуальные
проблемы психолингвистики» при факультете романо-герман-
ской филологии Калининского университета.
Очередная гипотеза вытекает из фундаментального поло-
жения о том, что слово в индивидуальном лексиконе вклю-
чено в многообразные взаимопересекающиеся связи по линии
большого количества разнообразных параметров (чувственно-
предметных, эмоционально-оценочных, системно-языковых и
т. д.).
6. Для индивидуального сознания актуальны различные
основания для установления факта и степени близости или
противопоставленности значений слов, не сводимые к свя-
зям по линии языковой системы. Отсюда, в частности, не-
обходимо более широкое, чем используемое в лингвистических
исследованиях, толкование явлений синонимии и антонимии.
Экспериментальная проверка валидности соответствующих
психолингвистических понятий «симиляров» и «оппозитов» ве-
дется С. В. Лебедевой (1986, 1987, 1988) и И. Л. Медведевой
(1981, 1983, 1986, 1987).
Признание того, что функционирование слова в индивиду-
альном сознании направляется, с одной стороны, сформиро-
вавшимся образом мира, а с другой — местом слова в язы-
ковой системе и его коммуникативными характеристиками,
в совокупности с учетом слияния слова с обозначаемым им
объектом (точнее, конечно, с образом объекта), дают осно-
вания для гипотез 7,8.
182
7. Идентификация значения слова индивидом предпола-
гает, в частности, категоризацию по линии энциклопедичес-
ких знаний человека. Особенности процесса категоризации
исследуются В. И. Маскадыней (1985, 1986, 1987а, 19876,
1988), впервые на материале русского языка получившей
экспериментальные данные по 50 субстантивным категориям
и их признакам.
8. По мере формирования в индивидуальном сознании
образа мира и расширения запаса знаний по линии языковой
системы с накоплением коммуникативного опыта должно
иметь место развитие значения слова. Эта проблема рассмат-
ривается в работах Т. М. Рогожниковой (1981, 1983, 1984,
1985, 1986а, 19866, 1987, 1988), предложившей оригинальную
спиралевидную модель развития значения полисемантичного
слова у ребенка.
Взаимодействие в лексиконе человека многообразных
связей между его единицами, различающимися по степени
их когнитивной, эмоциональной и коммуникативной акту-
альности, приводит к гипотезам 9—11.
9. В индивидуальном лексиконе должны иметься неко-
торое «ядро», единицы которого играют особую роль в процес-
сах речемыслительной деятельности, идентификации других
единиц и т. д., а также менее активная «периферия». Этим
вопросом занимается Н. О. Золотова (1981, 1983, 1984, 1985,
1987).
10. Особую роль в процессе общения должны играть
«ключевые» слова, направляющие процесс взаимопонимания
через актуализацию схем знаний о мире, учет принятых в
социуме норм и оценок, знание интервербальных связей и
отношений и т. д. Роль ключевого слова как базы для полу-
чения «выводного знания» при понимании текста рассмат-
ривает В. Л. Роднянский (1985, 1986).
11. Не исключено различное функционирование в ин-
дивидуальном лексиконе тех или иных типов слов. Особен-
ности хранения и использования в речи слов-паронимов ис-
следует В. Н. Штыбен (1988), топонимов—С. О. Левашова
(1987) и т. д.
Изучение специфики лексикона носителя двух и более
языков — это особая сложная проблема, требующая целе-
направленных исследований. Как видно из анализа мате-
риалов наших экспериментов в условиях двуязычия (см. разд.
3.3, 3.5, 4.1, 4.2), привлечение данных такого рода необхо-
димо для выявления таких закономерностей функционирова-
ния слова в индивидуальном сознании, которые могут выпасть
из поля зрения исследователя при оперировании фактами
одноязычия. Анализ речевых ошибок носителей двух и трех
языков провела Т. Д. Кузнецова (1978, 1982), условия дву-
183
язычия привлекаются С. О. Левашовой и В. Н. Штыбен
(см. выше).
Каждая из названных гипотез формулируется и проверя-
ется с опорой на комплекс теоретических положений, рассмат-
ривавшихся в гл. 2, 4, 5, а не только на те положения, из
которых она непосредственно выводится. О необходимости по-
следовательного психолингвистического подхода к подготовке
эксперимента для проверки той или иной гипотезы, к выбору
соответствующей методики и к анализу получаемых резуль-
татов см. (Залевская, 1983, 1987).
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Предложенная на суд читателя монография не претен-
дует на исчерпывающее освещение всех проблем, более или
менее тесно связанных с изучением специфики слова как еди-
ницы индивидуального лексикона. Например, не показано
место лексикона в структуре языковой личности (см. Кара-
улов, 1987); не рассмотрены особенности операционального
и предметного значения (см. Леонтьев А. А., 1983; Стеценко,
1984); не было возможности обсудить результаты исследо-
ваний ряда авторов в связи с. выявлением взаимодействия
семантики и синтаксиса (Аносова, 19*87); особенностей вну-
тренней речи (Никитина, 1987); взакмодействия нконических
и вербальных знаков (Головина, 1986); национально-куль-
турной специфики речевого поведения (например, Дмитрюк,
1984; Сорокин и Марковина, 1985, 1987) и т. д. Интересно
было бы показать, как в последние годы обострился интерес
лингвистов к проблематике взаимосвязи языка и мышления,
вербального и невербального, языковых и энциклопедических
знаний, проверки психологической реальности моделей язы-
ка, возможностей опоры на психолингвистические исследо-
вания при исследовании лексической семантики и т. д. (см.,
например, Арутюнова, 1988; Кузнецов, 1986; Кубрякова, 1986;
.Попова, 1982; Попова и Стернин, 1984; Серебренников, 1983,
1988; Степанов, 1981; Стернин, 1985; Cruse, 1986).
Критически оценивая свою работу, подчеркнем, что она
представляет лишь один из этапов полного и разносторон-
него описания специфики функционирования слова в инди-
видуальном сознании. Следующий шаг в этом направлении
.подробно описан в монографии (Залевская, рукопись).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Ленин В. И. Философские тетради // Поли. собр. соч. Т. 29.
Маркс К., Энгельс ф. Немецкая идеология // Соч. 2-е из’.
Т. 3.
Адрианов О. С. О принципах организации интегративной дея-
тельности мозга. М„ 1976.
Аминев Г. А. Вероятностная организация центральных механиз-
мов речи. Казань, 1972.
Амосов И. М'. Возможности н перспективы моделирования пси-
хических функций // Моделирование в биологии и .медицине. Киев, 1966.
Вып. 2.
Он же. Моделирование разума, сознания и подсознания /;’ Нейро-
физиологические механизмы психической деятельности человека. Л., 1974.
Аносова Л. Р. Психолингвистическая интерпретация семантико-
синтаксических отношений в речи (Теоретико-экспериментальное исследо-
вание на материале детской речи): Автореф. дис. \... канд. филол. наук.
Саратов, 1987.
Ан ох нн П. К. Кибернетика и интегративная деятельность мозга Ц
XVIII Междунар. психологический конгресс. Симпозиум 2. Кибернети-
ческие аспекты интегральной деятельности мозга. М., 1966.
Он же. Роль системного аспекта в разработс пограничных проблем
нейрофизиологии и психологии // Нейрофизиологические механизмы пси-
хической деятельности человека. Л., 1974.
Апресян Ю. Д. Лексическая семантика: Синонимические сред-
ства языка. М., 1974.
А р б и б А. Метафорический мозг. М., 1976.
Артемьева Е. Ю. Психология субъективной семантики. М., 1980.
Оиа же. Психология субъективной семантики: Автореф. дне. ...
д-ра психол. наук. М.. 1987.
Арутюнова И. Д. Понятие пресуппозиции в лингвистике // Изв.
АН СССР. Сер. лит. и яз. 1973. Т. 32, № 1.
Опа же. Предложение и его смысл: Логико-семантические пробле-
мы. М„ 1976.
Она же. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М..
1988.
Асмолов А. Г. Принципы организации памяти человека: Системно-
деятельностный подход к изучению познавательных процессов: Учеб, по-
собие. М., 1985.
Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения / Пер. с
англ. М., 1980.
Ахутина Т. В. Нейролингвистический анализ динамической афа-
зии (К вопросу о механизмах построения связного грамматически оформ-
ленного высказывания). М., 1975.
Опа же. Организация словаря человека по данным афазии // Сб.—
1981.
Оиа же. Единицы речевого общения, внутренняя речь, порождение
речевого высказывания // Исследование речевого мышления в психолинг-
вистике. М., 1985 (а),.
Она же. Модель порождения печи по данным нейролингвистики '!
Материалы VIII Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории
коммуникации: Тез. докл. М„ 1985 (б).
А х у т и п а Т. В., Горохова С. И. О статусе многозначных и омони-
мичных слов во внутреннем лексиконе человека // Сб. — 1983.
186
Б а н к е в и ч Л. В. Ложные фонетико-графические ассоциации при
запоминании лексики иностранного языка // ИЯШ. 1981. Я» 3.
Барсук Л. В. Широкозначное слово и возможность его идентифи-
кации через пример // Сб. — 1987.
Он же. Опыт экспериментального исследования процесса иденти-
фикации значения широкозначных слов индивидом // Сб. — 1988.
Бассин Ф. В. К развитию проблемы значения и смысла // Вопр.
.психологии. 1973. № 6.
Б асе ин Ф. В., Прангишвили А. С., Шерозия А. Е. К вопросу о
.дальнейшем развитии научных исследований в психологии (К проблемам
установки, бессознательного и собственно психологической закономернос-
ти) И Вопр. психологии. 1979. № 5.
Б а с с и н Ф. В., Рожнов В. Е. О современном подходе к проблеме
неосознаваемой психической деятельности (бессознательного) // Вопр.
.философии, 1975. № 10.
БеллертИ. Об одном условии связности текста // Новое в за-
рубежной лингвистике. М., 1978. Вып. 8.
Берман И. М„ Ковбасюк Т. М„ Михайлова И. С. К вопросу о
многозначности (иа материале лексики) // Тезисы VI Всесоюзного сим-
позиума по психолингвистике и теории коммуникации. М., 1978.
Бессознательное / Отв. ред. А. С. Прангишвили, А. Е. Шеро-
:зия, Ф. В.. Вассин. В 4 т. Тбилиси, 1985. Т. IV.
Бехтерева Н. П. Здоровый и больной мозг человека. Л., 1980.
Бехтерева Н. П., Бундзен П. В., Гоголицрш Ю. Л. Мозговые
ж оды психической деятельности. Л., 1977.
Бехтерева Н. П„ Гоголицын Ю. Л., Кропотов Ю. Д., Медведев
С. В. Нейрофизиологические механизмы мышления: Отражение мысли-
тельной деятельности в импульсной активности нейронов. Л., 1985.
Бойко Е. И. Мозг и психика (Физиология, психология, кибернети-
ка). М„ 1969.
Бойко Е И. Механизмы умственной деятельности (Динамические
временные связи). М„ 1976.
Бочарова С. II. Память как базовая функциональная система в
••структуре деятельности человека-оператора // Психол. журн. 1981. Т. 2,
_Хе 3.
Б р а т к о А. А. Моделирование психики. М., 1969.
Брушлинский А. В. Взаимосвязь процессуального и личностно-
го аспектов мышления: Методологический анализ // Мышление: процесс,
.деятельность, общение. М„ 1982.
Бутенко Н. П. Словник ассоциативпих норм украТнсько! мови.
-Льв1в, 1979.
Васильев Л. М. Теория семантических полей // Вопр. языкозна-
ния. 1971. № 5.
Величковский Б. М. Современная когнитивная психология. М.,
J982.
О и ж е. Функциональная организация познавательных процессов: Ав-
тореф. дне. ... д-ра психол. наук. М„ 1987.
Верещагин Е. М. Слово; соотношение планов содержания и
выражения // Вопросы порождения речи и обучения языку. М., 1967.
О и ж е. Порождение речи: латентный процесс. М., 1968.
Вероятностное прогнозирование в деятельности человека /
.'Под ред. И. М. Фейгеиберга и Г. Е. Журавлева. М., 1977.
Ветров А. А. Семиотика и ее основные проблемы. М, 1968.
Виноградова Т. Б. Экспериментальное исследование субъек-
•тивной оценки близости значения слов // Сб. — 1981.
Вольф Е. М. Грамматика и семантика прилагательного. М., 1978.
Восприятие речи: Вопросы функциональной асимметрии мозга.
Л., 1988.
187
Вудворте Р|. Экспериментальная психология / Сокращ. «ер с
англ. М„ 1950.
Выготский Л. С. Мышление и речь // Избранные психологичес-
кие исследования, М., 1956.
Онже. Психология искусства. М„ 1965.
Гараева Л. И. Психолингвистический анализ семантической струк-
туры производного слова: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1987.
Головина Л. В. Взаимовлияние иконических и вербальных зна-
ков при смысловом восприятии текста: Автореф. дис. ... канд. филол. на-
ук. М., 1986.
Горелов И. Н. Проблема функционального базиса речи в онто-
генезе. Челябинск, 1974.
Он же. Невербальные компоненты коммуникации. М., 1980.
Он же. Невербальные компоненты мышления и коммуникации ;;
функциональный базис речи // Принципиальные вопросы теории знаний:
Труды по искусственному интеллекту. Тарту, 1984.
Он же. Вопросы теории речевой деятельности: Психолингвистичес-
кие основы искусственного интеллекта. Таллинн, 1987.
Горохова С. И. Психолингвистические особенности механизма
порождения речи по данным речевых ошибок: Автореф. дис..... канд. фи-
лол. наук. М., 1986.
Грановская Р. М. Восприятие и модели памяти. Л., 1974.
Гращенков Н. И., Латаш Л. П., Фейгенберг И. М. Диалектичес-
кий материализм н некоторые проблемы современной нейрофизиологии //
Философские вопросы физиологии высшей нервной деятельности и пси-
хологии. М., 1963.
Григорян К. К. Опыт экспериментального исследования опера-
циональной структуры образного мышления // Вопросы математического
моделирования н структурного исследования психической деятельности.
Владимир, 1972.
Губанов Н. И. Чувственное отражение (Анализ проблем в све-
те современной науки). М„ 1986.
Денисов П. Н. Лексика русского языка и принципы ее описания.
М„ 1980.
Дмитрии П. В. Национально-культурная специфика вербальных
ассоциаций: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1985.
Доценко Т. И. Осознание и объяснение синтаксических дериватов
в речевой деятельности: Автореф. дис. ... канд. филол. паук. Л., 1984.
Дридзе Т. М. Язык и социальная психология М., 1980.
Дубровский Д. И. Психические явления и мозг. М., 1971.
Он же. Существует ли виесловесная мысль? // Вопр. философии.
1977. № 9.
Он же. Информация. Сознание. Мозг. М., 1980.
О н ж е. Проблема идеального. М., 1983.
Егоров Н. Г. Словосложение в тюркских языках // Структура и
история тюркских языков. М„ 1971.
Динкин Н. И. О кодовых переходах во внутренней речи // Вопр.
языкознания. 1964. № 6. _
О н ж е. Ответ на письмо С. Л. Бурштейн // ИЯШ. 1966. лз 2.
О и ж е. Грамматика и смысл // Язык и человек. М., 1970.
Он же. Семиотические проблемы коммуникации животных Я челове-
ка // Теоретические и экспериментальные исследования в области струк-
турной и прикладной лингвистики. М., 1973.
Он ж е. Речь как проводник информации. М., -1982.
Завалова Н, Д„ Ломов Б. Ф„ Пономаренко В. А. Образ в си-
стеме психической регуляции деятельности. М:; 1986.
• ' За ле вс к а я А. А. Экспериментальное "исследование ассоциатив-
ной структуры памяти // Педагогика и психология. Алма-Ата, 1969.
О и а же. Некоторые проблемы подготовки ассоциативного эксперт-
188
.мента и обработки его результатов // Экспериментальные исследования
в области лексики п фонетики. Калинин, 1971 (а).
Она же. Свободные ассоциации в трех языках // Семантическая
структура слова: Психолингвистические исследования. М., 1971 (б).
Она же. Об исследовании интервербальных связей // Сборник док-
ладов и сообщений лингвистического общества. Калинин, 1971 (в) Т 2
Вып. 1. ' ъ
Она же. Исследование направленных ассоциаций в русском и анг-
лийском языках // Проблемы английской филологии и психолингвистики.
Калинин. 1972. Вып. 1.
Опа же Психолингвистический подход к исследованию связей меж-
ду словами // Сборник докладов и сообщений лингвистического общества.
Калинин, 1973. Т. 3. Вып. 1.
О и г ж е. К проблеме экспериментального исследования структуры
ассоциативного пазя // Материалы рабочего совещания ио теме: «Человек
как носитель языка». Калинин, 1975.
Она же. Проблемы организации внутреннего лексикона человека:
Учеб, пособие. Калинин, 1977.
Онг же. Вопросы организации лексикона человека в лингвистичес-
ких и психологических исследованиях: Учеб, пособие. Калинин, 1978 (а).
Она же. Об экспериментальном исследовании структуры языко-
вого знака в условиях учебного билингвизма // Сб. — 1978 (б).
Она же. Межъязыковые сопоставления в психолингвистике: Учеб,
•пособие. Калинин, 1979.
Она же. Психолингвистическое исследование принципов организа-
ции лексикона человека (на материале межъязыкового сопоставления ре-
зультатов ассоциативных экспериментов): Автореф. дис. ... докт. фнлол.
наук. Л., 1980.
Она же, О комплексном подходе к исследованию закономерностей
функционирования языкового механизма человека // Сб. — 1981.
Она же. Психолингвистические проблемы семантики слова; Учеб,
пособие. Калинин, 1982.
Она же. Проблемы психолингвистики: Учеб, пособие. Капинии, 1983.
Она же. Отнесение к категории как способ идентификации значе-
ния слова // Сб. 1984.
Она же. Информационный тезаурус человека как база речемысли-
тельной деятельности // Исследование речевого мышления в психолинг-
вистике М., 1985.
О и а ж е. О некоторых актуальных проблемах психолингвистики //
Сб. - 1986.
Оиа же. Роль теории в экспериментальных психолингвистических
исследованиях лексики // Сб. — 1987.
Оиа же. Специфика единиц и механизмов индивидуально: о лекси-
кона.// Сб. — 1988 (а).
Она же. Понимание текста: Психолингвистический подход: Учеб,
пособие. Калинин, 1988 (б).
Оиа же. Лексикон человека: Принципы работы и стратегии поль-
зователя (рукопись).
Звегинцев В. А. Смысл и значение // Теоретические и -кспери-
меитальиые исследования в области структурной и прикладной лингвисти-
ки. М., 1973.
Зимняя И. А. Речевой механизм в схеме порождения речи // Пси-
хологические и психолингвистические проблемы владения и овладения язы-
ком. М„ 1969.
Она же. Смысловое восприятие речевого сообщения // Смысловое
восприятие речевого сообщения. М., 1976.
Она же. Психологические аспекты обучения говорению на ино-
странном языке. М.. 1978.
Она же. Функциональная психологическая схема формирования и
189
формулирования мысли посредством языка // Исследование речевого мыт
ления в психолингвистике. М., 1985.
Золотова Н. О. К проблеме «ядра» лексикона // Сб. — 1981
Она же. О ходе исследования специфики ядра лексикона // Сб. .
1983.
Она же. Опыт составления семантической карты ядра лексикона
носителя английского языка // Сб. — 1984.
Она же. О некоторых характеристиках единиц ядра лексикона но-
сителя английского языка // Сб. — 1985.
Она же. Разграничение ядра н периферии в исследованиях оргаии-
зацин лексики Ц Сб. — 1987.
Иванов Вяч. Вс. Чет и нечет: Асимметрия мозга и знаковых систем
М., 1978.
Ильенков Э.' В. Становление личности: К итогам научного экс-
перимента // Коммунист. 1977 (а). № 2.
Ои же. Соображения по вопросу об отношении мышления и языке
(речи) // Вопр. философии. 1977 (б). № 6.
Караулов Ю. Н. Общая и русская идеография. М., 1976.
О и ж е. Русский язык и языковая личность. М., 1987.
Карпинский А. Е. Некоторые особенности речевой деятельности
на первичном и вторичном языках // Исследование речемыслительной дея-
тельности. Алма-Ата, 1974.
Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление. Л
1972.
Кибрик А. Е., Ложкина А. А. О психолингвистических единицах
хранения информации при восприятии сообщения // НТИ. Сер. 2. 1969.
№ 5.
Кифер Ф. О пресуппозициях // Новое в зарубежной лингвистике
М„ 1978. Вып. 8.
Клацки Р. Память человека: Структура и процессы / Пер. с
англ. М., 1978.
Кликс Ф. Понятие информации и теория информации в психоло-
гии: границы и возможности // Психологический жури. 1980. Т. 1. № 4.
О н ж е. Пробуждающееся мышление (У истоков человеческого ин-
теллекта) / Пер. с немецк. М., 1983.
Клименко А. П. Лексическая системность н ее психолингвисти-
ческое изучение. Минск, 1974.
Колодкина Е. Н. Конкретность, образность и эмоциональность
215 русских существительных // История русского литературного языка
и стилистика. Калинин, 1985 (а).
Она же. Экспериментальное исследование параметра эмоциональ-
ности // Прагматические и семантические аспекты синтаксиса. Кал-инин,
1985 (б).
О н а ж е. О специфике психолингвистической трактовки параметров
конкретности, образности и эмоциональности значения существительных//
С б. — 1986.
Она же. Специфика психолингвистической трактовки параметров
конкретности, образности и эмоциональности значения существительных:
Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Саратов, 1987.
Кольер Р., Беркхарт К-, Лин Л. Оптическая голография / Пер с
англ. Л., 1973.
Кольцова М. М. Обобщение как функция мозга. Л., 1967.
Кондаков Н. И. Логический словарь. М., 1971.
Копии и П. В. Диалектика, логика, наука. М., 1973.
Копыленко М. М. О различиях между производством, порожде-
нием и синтезом речи // Психологические и психолингвистические пробле-
мы владения и овладения языком. М.. 1969.
О и ж е. О психологической природе воспроизводства сочетаемости-
лексем в речи // Мышление и общение. Алма-Ата, 1973.
190
, Коршунов Л. М. Отражение, деятельность, познание. М., 1979.
О н ж е. Познание и деятельность. М., 1984.
Косериу Э. Лексические солидарности // Вопросы учебной лек-
сикографии. М., 1969.
Крушевскип Н. В. Очерк науки о языке (1883) // Хрестоматия
.по истории русского языкознания. М„ 1973.
Кубрякова Е. С. Номинативный аспект речевой деятельности.
М„ 1986.
Кузнецов Л. М. От компонентного анализа к компонентному син-
тезу. М., 1986.
Кузнецова Т. Д. Механизм речевого действия и установка //
Опа же. Роль установки в формировании правильного и ошибочно-
го речевого действия в условиях билингвизма и трилннгвизма: Автореф.
дис. ... канд. психол. наук. Тбилиси, 1982.
Кузнецова Э. В. Русская лексика как система. Свердловск, 1980.
Кукушкина Е. И. Познание, язык, культура. М._ 1984.
Лебедева С. В. Опыт экспериментального исследования близости
значения лексических синонимов // Сб. — 1987.
Она же. Два подхода к исследованию лексической синонимии //
-Сб. — 1988.
Левашова С. О. Опыт психолингвистического исследования то-
понимов // Сб. -- 1987.
Левицкий В. В. Экспериментальные данные к проблеме смысло-
вой структуры слова // Семантическая структура слова: Психолингвисти-
"ческие исследования. М., 1971.
Леонтьев А. А. Внутренняя речь и процессы грамматического по-
рождения высказывания // Вопросы порождения речи и обучения языку.
М„ 1967
Он же. Язык, речь, речевая деятельность. М„ 1969 (a).
Он же. Психолингвистические единицы п порождение речевого вы-
сказывания. М.. 1969 (б).
Он же) Некоторые проблемы обучения русскому языку как ино-
странному (Психолингвистические очерки). М„ 1970.
Он же. Психологическая структура значения слова // Семантичес-
кая структура слова: Психолингвистические исследования. М., 1971.
Он же. Некоторые новые тенденции в советской психолингвисти-
ке // Психолингвистика и обучение иностранцев русскому языку. М., 1972.
Он же. Эвристический принцип в восприятии, порождении и усвое-
нии речи // Вопр. психологии. 1974 (а). № 5.
О н ж е. Факторы вариативности речевых высказываний; Исследова-
ние грамматики // Основы теории речевой деятельности. М., 1974 (б).
О и ж е. От редактора // Слобин Д., Грин Дж. Психолингвистика.
JV1, 1976 (а).
О н ж е. Психолингвистический аспект языкового значения // Прин-
ципы и методы семантических исследовании. М., 1976 (б).
Он же. Формы существования значения // Психолингвистические
проблемы семантики. М., 1983.
Леонтьев А. А., Рябова Т. В. Фазовая структура речевого акта
и природа планов // Планы и модели будущего в речи. Тбилиси, 1970.
Леонтьев А. Н. Мышление // Вопр. философии. 1964. № 4.
Леонтьев А. Н. Общее понятие о деятельности // Основы тео-
рии речевой деятельности. М., 1974.
О и ж е. Деятельность. Сознание. Личность. 2-е изд. М., 1975.
Он же. Психология образа // Вести. Моск, ун-та. Сер. 14. Психо-
логия. 1979. № 2.
Линдсей 11., Норман Д. Переработка информации у человека.
М, 1974.
191
Ломов Б. Ф. Сознание, мозг и внешний мир // Вопр. филосо<Ьи1-<
1979. № 3.
Он же. Когнитивные процессы как процессы психического отраже-
ния // Когнитивная психология: Материалы фннско-советского симпозиу-
ма. М„ 1986.
Ломов Б. Ф., Беляева А. В., Носуленко В. Н. Вербальное коди-
рование в познавательных процессах. М„ 1986.
Лурия А. Р. Основы нейропсихологии. М., 1973.
О н ж е. Нейропсихология памяти. М., 1974.
Он же. Основные проблемы нейролингвистики. М.. 1975 (a).
Он же. Материалы к курс)' лекций по обшей психологии; Речь и.
мышление. М., 1975 (б). Вын. 4.
Он же. Нейропсихологический метод анализа процессов восприя-
тия // Психологические исследования: Проблемы психологии восприятия
М„ 1976. Вып. 6.
Он же. Предисловие редактора русского издания // Брунер Дж.
Психология познания. М., 1977.
Он же. Язык и сознание. М., 1979.
Лурия А. Р., Виноградова О. С. Объективное исследование дина-
мики семантических систем // Семантическая структура слова: Психолинг-
вистические исследования. М., 1971.
Маскадыня В. Н. Лингвистический и психологический подходы
к проблеме категоризации // Сб. — 1985.
Она же. Процесс категоризации и базисный уровень обобщения//
Сб. — 1986.
Опа же. Опыт экспериментального исследования категоризации (На
материале русского языка) // Сб. - 1987 (а).
Оиа же. Нормативные данные для 50 субстантивных категорий. На
материале русского языка / Калининск. ун-т, 1987 (б). Деп. в ИНИОН
АН СССР 31.07.87. № 30609.
Она же. Психолингвистическая трактовка категоризации как спо-
соба идентификации значения слова индивидом // Сб. -- 1988.
Медведева И. Л. Опыт психолингвистического исследования
антонимии // Сб. — 1981.
Она же. Противопоставления в речи ребенка: К проблеме лекси-
ческой антонимии // Сб. — 1983.
Она же. О некоторых спорных вопросах трактовки сущности и
специфики явления лексической антонимии // Сб. — 1986.
Опа же. Основания для сравнения значений слов, противопостав-
ляемых индивидуальным сознанием // Сб. — 1987.
Медникова Э. М. Значение слова и методы его описания. М..
1974.
Мей тус В. Ю., Старинец В. С. О пространствах, определенных'
над словами естественного языка // Материалы второго симпозиума по
психолингвистике. М., 1968.
Мельников Г. П. Системология и языковые аспекты киберне-
тики. М., 1978.
Механизмы деятельности мозга человека: Нейрофизиология че-
ловека / Под ред. Н. П. Бехтеревой. Л., 1988.
Мигирин В. Н. Язык как система категорий отображения. Киши-
нев, 1973.
Микадзе Ю. В. Организация мнестической деятельности у боль-
ных с локальными поражениями мозга: Автореф. дис. ... канд. психол.
наук. М., 1979.
Миллер Дж., Галантер Е., Прибрам К. Планы п структура пове-
дения. М., 1965.
Мюллер Г. Лингвистическая статистика и структура языковых
полей // Методика преподавания иностранных языков за рубежом; М
1967.
192
.. Мягкова Е. Ю. Эмоциональная нагрузка слова и ее ппоявление-
В материалах ассоциативного эксперимента // Сб. — 1981 •рилвление
Она же. О некоторых проявлениях комплексного хапактепя
циоиальной нагрузки слова // Сб. — 1983. Р р эмо
Она же. Эмоциональная нагрузка слова и возможные метопы
исследования // Сб. — 1984.
• О н а ж е. Экспериментальное исследование эмоциональной нагрузки
слова // Сб. — 1985.
Она же. Психолингвистическое исследование эмоциональной на-
грузки слова: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1986 (а).
О н а ж е. К вопросу о специфике эмоциональной нагрузки слова//
Сб. — 1986 (6).
Она же. Некоторые новые тенденции в исследовании эмотивности
лексики // Сб. — 1987.
О и а ж е. Эмотивность и эмоциональность — две научные парадиг-
мы // Сб. — 1988.
• • ^Налимов В. В. Вероятностная модель языка. М.. 1974.
Найссер У. Познание и реальность: Смысл и принципы когнитив-
ной психологии / Пер. с англ. М., 1981.
Наумова О. Д. Объектный мир речевой коммуникации и систе-
матизация психолингвистических понятий: Автореф. дис. ... докт. филол.
наук. М„ 1987.
Наумова Т. Н. Понятие «коммуникации» у А. А. Шахматова //
Психолингвистика и обучение иностранцев русскому языку. М., 1972.
Она же. Сергей Игнатьевич Бернштейн и психолингвистика текс-
та // Материалы V Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и тео-
рии коммуникации. Л., 1975.
Нейрофизиологические механизмы психической деятель-
ности человека: Материалы Международного симпозиума. Л., 1974.
Никитина Е. С. Внутренняя речь и мышление (Психолингвисти-
ческий аспект): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М„ 1987.
Николаенко Г. И. К сравнительной характеристике ассоциатив-
ных структур лексики у русских и белорусских учащихся // Вопросы пре-
подавания русского языка в школе с белорусским языком обучения.
Минск, 1975.
Новиков А. И. Семантика текста и ее формализация. М., 1983..
Нор.ман Д. А. Знания и роль памяти // Вопр. психологии. 1979.
№ 4.
Норман Д. Память п научение / Пер. с англ. М., 1985.
Общая психология / Под ред. В. В. Богословского, А. Г. Ковале-
ва, А. А. Степанова. 3-е изд. М., 1981.
Па вил сине Р. И. Философия языка: проблема смысла // Вопр.
философии. 1976. № 3.
Он лбе. Понимание речи и философия языка (Вместо послесловия) //
Новое в зарубежной лингвистике. М., 1986 (а). Вып. 17.
О н ж е. Язык, смысл, понимание // Язык. Наука. Философия. Виль-
нюс, 1986 (б).
Палермо Д. С. Словесные ассоциации и речевое поведение де-
тей // Изучение развития и поведения детей. М., 1966.
Петренко В. Ф. Психологическое исследование значения на сло-
весном и образном уровнях: Автореф. дис. ... каид. психол.1 наук. М.,
1978.
О и ж е. Введение в экспериментальную психосемантику: исследова-
ние форм репрезентации в обыденном сознании. М.. 1983.
О и же. Психосемантика сознания. М.; Изд-во МГУ, 1988.
Петренко В. Ф., Нистратов А. А., Хайруллаева Л. М. Исследова-
ния семантической структуры образной репрезентации методом невер-
бального'семантического дифференциала // Вести. Моск, ун-та. Сер. 14..
Психология. 1980. № 2.
13. Заказ 830
193
Петренко В. Ф., Шмелев А. Г.. Нистратов А. А* Метод класси-
фикации как экспериментальный подход к семантике изобразительного
знака // Вести. Моск, ун-та. Сер. 14. Психология. 1978. № 4.
М 196И аЖе Избранные психологические труды / Пер. с франц.
Под дьяков Н. Н. Мышление дошкольника. М., 1977.
П од р а ж а и с к а я Н. Т. Опыт анализа словообразовательных ре
акций (на материале словаря ассоциативных норм русского языка) //
О и а же. Производное слово в материалах ассоциативного экспе-
римента с носителями английского языка // Сб. — 1984.
Пономарев Я. А. Психика и интуиция. М., 1967.
О и ж е. Психология творчества. М., 1976.
О н ж е. Методологическое введение в психологию. М., 1983.
Попова 3. Д. Лексическое значение в аспекте знаковой теории
языка // Аспекты лексического значения. Воронеж, 1982.
Попова 3. Д., Стернин И. А. Лексическая система языка. Воро-
неж, 1984.
Потебня А. А. Из записок по русской грамматике: В 4 т. М.;
•Л„ 1941. Т. 4.
Прибрам К. Голографические и программные механизмы обра-
ботки входных сенсорных сигналов Ц Нейрофизиологические механизмы
психической деятельности человека. Л., 1974.
О н ж е. Языки мозга / Пер. с англ. М., 1975.
Принципы и методы семантических исследований. М„ 1976.
Пушкин В. Н. Психология и кибернетика. М., 1971.
Рогожников а Т. М. Предварительные материалы свободного
ассоциативного эксперимента с русскими детьми разных возрастных групп
//Сб. — 1981.
Она же. Сопоставление ассоциативных реакций детей разных воз-
растных групп в условиях нормы и патологии // Сб. — 1983.
Она же. Межъязыковое сопоставление путей развития значения
полисемантичных слов у детей Ц Сб. — 1984.
Она же. Развитие значения полисемантичного слова у ребенка '/
Сб. — 1985.
О и а же. О спиралевидной модели развития значения слова у ре-
бенка // Сб. -- 1986 (а).
Она же. Развитие значения полисемантичного слова у ребенка: Ав-
тореф. дис. ... канд. филол. наук. Саратов, 1986 (б).
Она же. Опыт исследования становления семантики слова у ре-
бенка // Психолингвистические основы речевого онтогенеза при усвоении
родного и иностранного языков: Тез. докл. М„ 1987.
Она же. Механизмы функционирования слова в индивидуальном
сознании: их специфика и последовательность становления // Сб. — 1988.
Роднянский В. Л. К проблеме выводного знания // Сб. — 1985
О н ж е. О роли ключевого слова в понимании текста // Сб.— 1986.
Ромметвейт Р. Слова, значения и сообщения // Психолингвисти-
ка за рубежом. М., 1972.
Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. М., 1940.
О и ж е. О мышлении и путях его исследования. М., 1958.
Руденко Л. П. К проблеме экстериоризации внутренней програм-
мы высказывания // Интеллект и речь. Алма-Ата, 1972.
Она же. Исследование вербализации замысла (На этапе внутрен-
ней смысловой программы речевого целого): Автореф. дис. ... канд. пси-
хол. наук. Тбилиси, 1975.
Сахарный Л. В. Структура значения слова и ситуация (К экс-
периментальному обоснованию психолингвистической теории значения сло-
ва) Ц Материалы IV Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и тео-
рии коммуникации. М., 1972.
194
Он же. «Контекстное» и «неконтекстное» в восприятии лексиконе-
»аНТ,*^к0И СТ°Р°НЫ слова И Смысловое восприятие речевого сообщения
М., 1976.
Сб. — 1978: Психологические и лингвистические аспекты проблемы
языковых контактов: Сб. науч. тр. / Отв. ред. А. А. Залевская. Калинин,
Сб. — 1981: Психолингвистические исследования в области лексики
и фонетики: Сб. науч. тр. / Отв. ред. А. А. Залевская. Калинин, 1981.
Сб. — 1983: Психолингвистические исследования в области лексики
и фонетики: Сб. науч. тр. / Отв. ред. А. А. Залевская. Калинин, 1983.
Сб. — 1984: Психологические и лингвистические аспекты проблемы'
языковых контактов: Сб. науч, тр / Отв. ред. А. А. Залевская Калинин
1984.
Сб. — 1985: Психолингвистические исследования; Лексика. Фонети-
ка: Сб. науч. тр. / Отв. ред. А. А. Залевская. Калинин, 1985.
Сб. — 1986: Психолингвистические проблемы семантики и понима-
ния текста: Сб. науч. тр. / Отв. ред. А. Д. Залевская. Калинин, 1986.
Сб. — 1987: Психолингвистические исследования: звук, слово, текст:
Сб. иауч. тр. / Отв. ред. А. А. Залевская. Калинин, 1987.
Сб. — 1988: Психолингвистические исследования значения слова и
понимания текста: Сб. науч. тр. / Отв. ред. А. А. Залевская. Калинин,,
1988.
Сеитаготаи Я., Арбиб М. Концептуальные модели нервной си-
стемы / Пер. с англ. М., 1976.
Серебренников Б. А. О материалистическом подходе к явле-
ниям дзыка. М„ 1983.
О н ж е. Роль человеческого фактора в языке: Язык и мышление. М.„
1988.
Сеченов И. М. Избранные произведения. М., 1953.
С и рот кии А. С. Чем лучше мышлению вооружиться — жестом,
или словом? II Вопр. философии. 1977. № 6.
Слободчиков В. И. Психологические проблемы становления;
внутреннего мира человека // Вопр. психологии. 1986. № 6.
Словарь ассоциативных норм русского языка / Под ред. А. А.
Леонтьева. М., 1977.
С л юс а рев а Н. А. Теория Ф. де Соссюра в свете современной линг-
вистики. М., 1975.
Смирнов А. А. Проблемы психологии памяти. М., 1966.
Смирнов С. Д. Мир образов и образ мира // Вести. Моск, ун-та-.
Сер. 14. Психология. 1981. № 2.
О и ж е. Психология образа: Проблема активности психического от-
ражения. М., 1985.
Соколов А. Н. Внутренняя речь н мышление. М., 1968.
Солнцев В. М. Язык как снстемио-структуриое образование. 2-е-
изд. М., 1977.
Соловьева Н. В. Особенности трактовки термина «предметное-
значение» в современной науке // Сб. — 1986.
Она же. Проблемы психолингвистического исследования предмет-
ного значения // Сб. — 1987.
Она же. Изучение ассоциативных полей ряда русских глаголов //'
Сб. — 1988.
Сорокин Ю. А., Марковииа И. Ю. Национально-культурные ас-
пекты речевого мышления // Исследование речевого мышления в психо-
лингвистике. М., 1985.
Оии же. Культура и ее этнопсихолингвистическая ценность // Эт-
нопсихолингвнстака. М., 1988.
Старинец В. С. Об одном подходе к моделированию целесооб-
разного поведения // Моделирование в биологии и медицине. Киев, 1966.
Вып. 2.
13*
195.
Старинен В. С., Агабабян К. Г., Недялкова Г. И. Эксперимен-
тальные исследования семантической организации ассоциативных сетей //-
Моделирование в биологии и медицине. Киев, 1968 (а). Вып. 3.
Они же. Экспериментальное исследование структуры ассоциатив-
ных сетей // Моделирование в биологии и медицине. Киев, 1968 (б)
Вып. 3. ' ''
Степанов Ю. С. Семиотика. М„ 1971.
О и ж е. Основы общего языкознания. 2-е пзд. М., 1975.
О и же. Имена, предикаты, предложения (Семиотическая граммати-
ка). М., 1981.
Стернин И. А. Лексическое значение слова в речи. Воронеж
1985.
Стеценко А. II. Психологическая структура значения и ее раз-
витие в онтогенезе: Автореф. дис. ... канд. психол. наук. М., 1984.
Тарасов Е. Ф. Научное наследие К- Маркса и исследование проб-
лем речевого общения // Вопр.. языкознания. 1986. № 6.
Он же. Тенденции развития психолингвистики. М., 1987.
Титова А. И. Явление зеркальности в ассоциативных нормах бе-
лорусского языка // Тыпалопя i узаемадзеянне славянсщ.х моу i л!тара-
тур. Mihck, 1973.
Она же. Устойчивые ассоциации лексем в некоторых славянских
языках: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Минск, 1975.
Титова Л. Н. Киргизско-русский ассоциативный словарь. Фрун-
зе, 1975.
Она же. Психолингвистический анализ словесных ассоциаций в рус-
ском и киргизском языках: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М.. 1977.
Тихомиров О. К- Структура мыслительной деятельности чело-
века (Опыт теоретического и экспериментального исследования). М., 1969.
Он же. Психология мышления. М., 1984.
Тогоева С. И. Экспериментальное исследование особенностей иден-
тификации словесного новообразования индивидом // Сб. — 1988.
Уемов А. И. Выводы из понятий // Логико-грамматические очер-
ки. М., 1961.
Унньон М. Знакомство с голографией / Пер. с англ. М., 1980.
Уфимцева А. А. Теории «семантического поля» и возможности
их применения при изучении словарного состава языка // Вопросы тео-
рии языка в современной зарубежной лингвистике. М., 1961.
Она же. Слово в лексико-семантической системе языка. М., 1968.
Она же. Типы словесных знаков. М., 1974.
Она же. Лексическое значение (Принцип семнологического описания
лексики). М., 1986.
Уфимцева И. В. Опыт экспериментального исследования процес-
са формирования значения // Сб. — 1981.
Ушакова Т. Н. Функциональные структуры второй сигнальной
системы (Психофизиологические механизмы внутренней речи). М., 1979.
Фейгеиберг И. М. Память и вероятностное прогнозирование //
Вопр. психологии. 1973. № 1.
Философский словарь. 3-е изд. М., 1975.
Хомская Е. Д. Нейропсихологические аспекты изучения пробле-
мы зрительного восприятия // Психологические исследования: Проблемы
психологии восприятия. М„ 1976. Вып. 6.
Она же. Психологические исследования в СССР проблемы меж-
полушарной асимметрии мозга // Психология, журн. 1980. Т. I. № 3.
Хофман И. Активная память: Экспериментальные исследования
и теории человеческой памяти / Пер. с нем. М., 1986. _ .< ln«i
Eli то в а А. I. Асацыятыуиы слоушк беларускай мовы. M1HCK..I981.
Чейф У. Значение и структура языка / Пер. с англ. М... 1975.
Чуприкова Н. И. Слово как фактор управления в высшей нерв-
ной деятельности человека. М., 1967.
196
Она же. Возможный механизм перехода от чувственного познания
к отвлеченному мышлению // Вопр. психологии, 1978. К» 6 знания
Она же. Теория отражения, рефлекторная деятельность мозга и
осознанные ощущения человека (К 100-летию со дня рождения В И Ле*
вина) // Вопр. психологии, 1980. № 4.
Оиа же. Психика и сознание как функция мозга. М., 1985.
Шехтер М. С. Зрительное опознание: Закономерности и механиз-
мы. М., 1981.
, Шмелев А. Г. Сопоставление двух моделей семантической памяти//
Вести. Моск, ун-та. Сер. 14. Психология. 1978. № 2.
Он же. Введение в экспериментальную психосемаптику: Теоретико-
методологические основания и психодиагностические возможности М
1983.
Шмелев Д. Н. Очерки по семасиологии русского языка. М.. 1964.
О н ж е. Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973.
Шмелева Т. В. К проблеме национально-культурной специфики
эталона сравнения у носителей английского и русского языков // Сб. —
1984.
Она же. Сопоставительный анализ устойчивых сравнений у носи-
телей русского и территориальных вариантов английского языка // Сб —
1985:
Она же. Тематические характеристики опорного слова в составе
английских адъективных сравнений // Сб. — 1986.
.Она ж е. Некоторые особенности опорных существительных в соста-
ве английских адъективных сравнений // Сб. — 1987.
Она же. Виды семантических признаков и их роль в выборе опор-
ного слова устойчивого адъективного сравнения // Сб. — 1988 (a).
Она же. Специфика опорного слова устойчивого адъективного срав-
нения в английском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Одесса,
1988(6).
Шорохова Е. В. Учение И. П. Павлова о высшей нервной дея-
тельности н его значение для психологии мышления // Исследования мыш-
ления в советской психологии. М., 1966.
Шорохова Е. В., Каганов В. М. Философские проблемы психо-
логии // Философские вопросы физиологии высшей нервной деятельности
н психологии. М., 1963.
Штыбен В. П. Паронимия и задачи ее исследования с позиций пси-
холингвистики // Сб. — 1988.
Шубин Э. П. Языковая коммуникация и обучение иностранным
языкам. М., 1972.
Щедровицкий Г. П. Коммуникация, деятельность, рефлек-
сия // Исследование речемыслительной деятельности. Алма-Ата, 1974.
* - Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.
Щур Г. С. Теории поля в лингвистике. М., 1974.
Этнопсихолингвистика. М„ 1987.
Я к у ш и н Б. В. Слово. Понятие. Информация. М., 1975.
Aitchison J. Words in the mind: An introduction to the mental
lexicon. Oxford; New York: Basil Blackwell, 1987.
Anderson J. B. Language, memory and thought. Hillsdale, N. J.:
'L; Erlbaum, 1976.
Anderson J. B., Bower G. Human associative memory: Washington,
D. C.:''Winston, 1973.
• A n g 1 i n J. M. The growth of word meaning. Cambridge, Mass.: The
MIT-Press, 1970: '
B'ierwisch M. The semantic representation of words and senten-
ces in memory // XXIе Congres International de Psychologic. Resumes.
PdtiS, W76.
Bierwisch M., Kiefer F. Remarks on definitions in natural lan-
197
•guages 11 F. Kiefer (Ed.). Studies in syntax and semantics. Dordrecht,
1969.
Bourne L. E., Ekstrand B. R., Dominowski R. L. The psychology of
thinking. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, Inc., 1971.
В о u s f i e 1 d W. A. The occurrence of clustering in the recall of ran-
domly arranged associates // Journal of General Psychology. 1953. N 49.
.229—240.
Boyce S„ Browman С- P., Goldstein L. Lexical organization and
Welsh consonant mutations // Journal of Memory and Language. 1987-
N 26.
Brown R. W., McNeill D. The «tip of the tongue» phenomenon //
Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior. 1966. N 5.
Butterworth B. Some constraints on models of language produc-
tion // B. Butterworth (Ed.). Language production. London etc.: Academic
Press, 1980. Vol. 1.
Idem. Lexical representation // B. Butterworth (Ed.). Language pro-
duction. London etc.: Academic Press, 1983. Vol. 2.
С a г a m a z z a A., Brones I. Semantic classification by bilinguals//
Canadian Journal of Psychology. 1980. Vol. 34. N 1.
Caramazza A., Hersh H., Torgerson W. S. Subjective structures
and operations in semantic memory // Journal of Verbal Learning and Ver-
bal Beahavior. '1'976. N 15.
Carroll J. B. Rec. ad op.: J. M. Anglin. The growth of word mean-
ing. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1970 // The Modern Language
Journal. 1972. N 56.
Car roll J. B„ White M. N. Word frequency and age of acquisition
as determiners of picture-naming latency // Quarterly Journal of Experimen-
tal Psychology. 1973. N 25.
Chomsky N. Aspects of the theory of svntax. Cambridge, Mass.:
The MIT Press, 1965.
Idem. Rules and representations. New York: Columbia Univ. Press.
1980.
Clark H. H. Word associations and linguistic theory // J. Lyons
(Ed.). New horizons in linguistics. Harmondsworth, etc.: Penguin Books,
1970.
Clark H. G„ Chase W. G. On the process of comparing sentences
against pictures // Cognitive Psychology. 1972. N 3.
Clark H. H., Clark E. Psychology and language: An introduction
to psycholinguistics. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1977.
Cofer C. N. Associative commonality and rated similarity of certain
words from Haagen’s list // Psychological Reports. 1957. N 3.
Cofer C. N. Properties of verbal materials and verbal learning //
Woodworth and Schlosberg’s experimental psychology. 3-d edition. New
York, 1971.
Cofer C. N., Foley J. P.. Jr. Mediated generalization and the interpre-
tation of verbal behavior: I. Prolegomena // Psychological Review. .4042.
N 49.
Conrad R. Acoustic confusions and memory span for words // Na-
ture. 1963. N 197.
Creelman M. B. The experimental investigation of meaning. New
York: Springer Publishing Company. Inc., 1966.
Cruse D. A. Lexical semantics. Cambridge etc.: Cambridge Univ.
Press 1936.
Cutler A Lex-teal complexity and sentence processing Ц G. B.
Flores d’Arcais, R. J. Jarvella (Eds.). The process of language understan-
ding. Chichester etc.: John Wiley and Sons, 1983.
Deese J. The structure of associations in language and thought Bal-
timore: The John Hopkins Press, 41965.
198
guages.ei975ieNr|oG' M6m°ire s6manticlue’ conceptuelle ou lexicale? // LSn-
ternaHonal’jm.rna^of KZli^S*!^ wVn 2^ 11
^-‘Hues, expdrimen-
IE1J1S хк’ РеаЛ'! G’. Jhe psychology of ’anguage and communicati-
on. London: Weidcnfeld and Nicolson, 1986.
Ellis R. Understanding second language acquisition. Oxford: Oxford
Univ. Press, 1986.
Engelkamp J. Word meaning and word recognition // T. B. Seiler,
W. Wannenmacher (Eds.). Concept development and the development of word
meaning. Berlin etc.: Springer-Verlag, 1'983.
Ervin-Tripp S. M., Slobin D. Psycholinguistics // Annual Review
of Psychology. 1966. N 17.
F i 1 1 e n b a u rn S„ Rapoport A. Structures in the subjective lexicon.
New York etc.: Academic Press, 1971.
Fillmore C. J. Types of lexical information // F. Kiefer (Ed.). Stu-
dies’in syntax and semantics. Dordrecht, 1969.
Fl a veil J. H., Flavell E. R. One determinant of judged semantic and
associative connection between words // Journal of Experimental Psvchology.
1959. N 58.
Flores d'A reais G. B., Schreuder R. The process of language un-
derstanding: A few issues in contemporary psycholinguistics // G. B. Flo-
res d’Arcais, R. J. Jarvella (Eds.). The process of language understanding.
Chichester etc.: John Wiley and Sons, 1983.
Gars к of В. E., Houston J. P. Measurement of verbal relatedness:
An idiographie approach // Psychological Review. 1963. N 70.
Glucksberg S., Danks J. 11. Experimental psycholinguistics: An
introduction. New York etc.: John Wiley and Sons, 1975.
Graesser A. C„ Hopkins P. L., Schmid C. Differences in intercon-
cept organization between nouns and verbs // Journal of Memory and Lan-
guage. 1987. N 26.
Green G. M. Some remarks on how words mean. Reproduced by the
Indiana Univ. Linguistics Club. Bloomington, 1983.
Haagen С. H. Synonymity, vividness, familiarity and associative
value of 40'0 pairs of common adjectives // Journal of Psychology. 4949..
N 27.
Hatch E. M. Psycholinguistics: A second language perspective. Row-
ley, МЛ: Newbury House, 1983.
Hebb D. O. Organization of behavior: A neurological theory. 5th
printing. New York: John Wiley and Sons, 1966.
Huttenlocher J.. Lui F. The semantic organization of some simple
nouns and verbs // Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior. 1979.
N 18.
Jarvella R. J., Meijers G. Recognizing morphemes in spoken words:
Some evidence for a stem-organized mental lexicon // G. B. Flores d’Arcais.
R. J. Jarvella (Eds.). The process of language understanding. Chichester,
1983.
Jenkins J. J. Mediated associations: Paradigms and situations //
C. N.'Cofer, B. S. Musgrave (Eds.). Verbal behavior and learning. New York,
11963. , т ,
. J e n к i n s J. J. The 1952 Minnesota word association norms // L. Post-
man, G. Keppel (Eds.). Norms of word association. New York etc.: Acade-
mic Press, 1970. .
• Jenkins J. J., Mink W. D., Russell ,W. A. Associative clustering as
a function of verbal association strength // Psychological Reports. 1958. .
N 4
Kashu K. Heterogeneous-homogeneous (syntagmatic-paradigmatic)
199-
shift in word association among Japanese speakers // Abstract Guide of
the XXth International Congress of Psychology. Tokyo, 1972.
Katz J. J., I-odor J. A. The structure of a semantic theory // Langua-
ge, T963, 39, 170-210. " S
Kent G., Rosanoff A. A study of association in insanity: I. Associa-
tion in normal subjects // American Journal of Insanity. 1910. N 67.
Kintsch W. The representation of meaning in memory. Hillsdale.
N. J.: Lawrence Erlbaum Associates, 1974.
Kintsch W., Kintsch H. The role of schemata in text comprehensi-
on // International Journal of Psycholinguistics. 1978. Vol. 5. N 2.
Kiss G. Words, associations, and networks // Journal of Verbal
Learning and Verbal Behavior. 1968. N 7.
Idem. A computer model for certain classes of verbal behavior //
Proceedings of the International Joint Conference on Artificial Intelligence,
Washington, D. C., 11969 (a).
Idem. Steps toward a model of word selection // H. Meltzer, D. Mi-
chie (Eds.). Machine Intelligence. Edinburgh, 1969 (b).
Idem. An associative thesaurus of English: Structural analysis of a
large relevance network: Paper presented at the Conference on current re-
search on long-term memory. Dundee, 1973.
Kiss G., Armstrong C., Milroy R. The associative thesaurus of Eng-
lish. Edinburgh: Univ, of Edinb., MRC Speech and Communication Unit,
1972.
Kiss G., Armstrong C., Milroy R., Piper J. An associative thesaurus
>of English and its computer analysis // A. J. Aitken (Ed.). The computer
and literary studies. Edinburgh, 1973.
Klix F. Introductory remarks to Long symposium II. Cognition and
memory // XXIInd International Congress of Psychology: Abstract Guide.
Leipzig, 1980.
Kurcz I. Polskie normy powszechnosci skojarzeh swobodnych na 100
slow z listy Kent-Rosanoffa // Studia psychologiczne (Nadbitka). Warsza-
wa, 1967. T. 8.
Eadem. Some determinants of sentence coding in sentence memory //
International Journal of Psycholinguistics. 1978. Vol. 5. N 2.
Lecocq P., Maryniak L. Operations mentales, structures linguisti-
•ques et analyse chronometrique: Une approche experimentale de la compre-
hension // Langages. 1975. N 40.
Leech G. Semantics. New York: Penguin Books, 1977.
Le Ny J.-F. Semantique et psychologic // Languages, 1975. N 40.
Idem. Semantic aspects of memory // International Journal of Psy-
cholinguistics, 1<978. Vol. 5. N 2.
Lieber R. On the organization of the lexicon. Reproduced by the
Indiana Univ. Linguistics Club. Bloomington, 1981.
Lyons J. Introduction // J. Lyons (Ed.). New horizons in linguistics.
Tiarmondsworth etc.: Penguin Books, 1970.
Idem. Structural semantics: An analysis of part of the vocabulary of
Plato. 2-nd edition. Oxford: Publications of the Philological Society, 1972.
Idem. Semantics. Cambridge etc.: Cambridge Univ. Press, 1977,
Vol. 4.
Maier N. R. F. Reasoning in humans. III. The mechanisms of equi-
valent stimuli and of reasoning // Journal of Experimental Psychology.
1945. Vol. 35. N 5.
Mandler G. Association and organization: Facts, fancies, and
theories // T. R. Dixon, D. L. Horton (Eds.). Verbal behavior and general
behavior theory. Englewood Cliffs, N. J. 1968.
Idem. Integrative and elaborative organization // XXIInd Internatio-
nal Congress of Psychology: Abstract Guide. Leipzig, 1980.
Mandler J. M. Representation // J. H. Flavell, E. M. Markman
?(Eds.). Cognitive development. New York: Wiley, 1983. Vol. 3.
200
M a n d 1 e r J. M. Stories, scrints ...
1984. ’ d enes- Hillsdale, N. J.: Erlbatm,
Marshall J., Cofer C. N. Associative inrti^ „
relatedness: A summary and comparison of ten method/ ,IPeTasures of word
bal Learning and Verbal Behavior. ’1963. N 1. db И Journal of Ver-
Marsalova L. Slovno-asociacne normy II. v____________IX trieda ZDS
soka skola: Metodicka prirucka. Bratislava: Univerzita Komenskehn /m'
McClell and J. L, Rumelhart D. E. An interactive activation
model of context effects in letter perception: Part 1. An account of basic
findings // Psychological Review. 1981. N 88.
Ale Neil D. A study of word association // Journal of Verbal Lear-
ning and Verbal Behavior, 1966. N 5.
Miller G. A. The magical number seven plus and minus two: Some
limits on our capacity for processing information // Psychological Review.
1956. N 53.
Idem. Psycholinguistic approaches to the study of communication//
D. Arm (Ed.). Journeys in science. Albuquerque: Univ, of Mexico Press, 1967.
Idem. A psychological method to investigate verbal concepts // Jour-
nal of Mathematical Psychology, 1969 (a). N 6.
Idem. The organization of lexical memory: Are word associations suf-
ficient? // The pathology of memory. New York, 1969 (b).
Idem. Language and speech. San Francisco: Freeman, 1981.
Miller G. A., Johnson-Laird P. N. Language and perception.
Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 1976.
Moran L. J., Mefferd R. B., Kimble J. P., Jr. Idiodynamic sets
in word association // Psychological Monographs. 1964. Vol. 78.
Morton J. A model for continuous language behaviour // Language
and Speech. 41964. N 7.
Idem. The status of information processing models of language //
H. Longuet-Higgins, J. Lyons, D. Broadbent (Eds.). The psychological mecha-
nisms of language. London: The Royal Society and the British Association,
1981.
Napps S. E., Fowler C. A. Formal relationships among words and
the organization of the mental lexicon // Journal of Psycholinguistic Research.
1987. Vol. 16. N 3.
Norman D„ Rumelhart D. Explorations in cognition. San Fran-
cisco: Freeman, '1:975.
Nowakowsky M. The lexicon and contrastive language studies //
Papers and Studies in Contrastive Linguistics. Posnan, 1977. Vol. 6.
Osgood С. E. Method and theory in experimental psychology. New
York etc.: Oxford Univ. Press, 1953.
Osgood С. E., Suci G. J., Tannenbaum P. H. The measure-
ment of meaning. Urbana: Univ, of Illinois Press, 1957.
Paivio A. Abstractness, imagery, and meaningfulness in paired-
associate learning // Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 1965.
N 4.
Idem. Imagery and synchronic ideation // Abstract Guide of the
XXth International Congress of Psychology. Tokyo, 1972.
Idem. Imagery, language, and semantic memory // International
Journal of Psycholinguistics. (1978. Vol. 5. N 2.
Paivio A., Begg I. Psychology of language, Englewood Cliffs,
N. J.: Prentice-Hall, 1981.
Paivio A., Madigan S. A. Imagery and association value in pair-
ed-associate learning // Journal of Experimental Psychology. 1968. N 76.
Parisi D., Antinucci F. Lexical competence // G. B. Flore»
d’Arcais, W. J. M. Levelt (Eds.). Advances in psycholinguistics. Amsterdam,
1970.
Pollio H. R. Same semantic relations among word-associates //
American Journal of Psychology. 1964. N 77.
201
Idem. The structural basis of word association behavior. The Нагие.
Paris: Mouton, 1966.
Porzig W. Das Wunder der Sprache. 2. Aufl. Bern, 1957.
Prideaux G. D. Psycholinguistics: The experimental study of lan-
guage. London etc:. Croom Helm, 1984.
Quillian M. R. The teachable language comprehender: A simula-
tion program and theory of language // Communications of the Association
for Computing Machinery. 1969. N 12.
Rips L. J., Shoben E. J„ Smith E. E. Semantic distance and the
verification of semantic relations // Journal of Verbal Learning and Verba!
Behavior. 1973. N 12.
R о m m e t v e i t R. Language acquisition as increasing linguistic struc-
turing of experience pnd symbolic behavior control // J. V. Wertsch (Ed.).
Culture, communication and cognition: Vygotskian perspectives. Cambridge
etc.: Cambridge L'niv. Press, 1986.
Rosenberg S. Noun'responses to adjectives from the Rosenberg-
Carter norms under conditions of controlled association. Nashwille, Ten-
nessee: Peabody College for Teachers, 1965.
Rosenberg S., Carter J. Controlled adjective responses to 53
nouns from Kent-Rosanoff association test. Nashwille. Tennessee: Peabody
College for Teachers, 1965.
Rosen zweig M, R. International Kent-RosanoH word association
norms, emphasizing those of French male and female students and French
workmen // L. Postman, G. Keppel (Eds.). Norms of word association. New
York etc.: Academic Press, '1,970.
Russell W. A. The complete German language norms for responses
to 100 words from the Kent-Rosanoff word association test // L. Postman,
G. Keppel (Eds.). Norms of word association. New York etc.: Academic Press,
1970.
Russell W. A., Jenkins J. J. The complete Minnesota norms for
responses to 100 words from the Kent-Rosanoff word association test: Tech-
nical Report N 11. Minnesota: Univ, of Minnesota, '1'954.-
Schlauch M. Language and the study of language today. Warsza-
wa, London: Polish Scientific Publishers, Oxford Univ. Press, 1967.
Seiler H., Brettschnei d e r G. (Eds.). Language invariants and
mental operations. Tubingen: Gunter Narr Verlag, 1985.
Seiler T. B., Wannenmacher W. How can we assess meaning
and investigate meaning development: Theoretical and methodological consi-
derations from an epistemological point of view // T. B. Seiler, W. Wannen-
macher (Eds.). Concept development and the development of word meaning.
Berlin etc.: Springer-Verlag, 1983.
Silverstein M. The functional stratification of language and onto-
genesis // J. V. Wertsch (Ed.). Culture, communication, and cognition: Vy-
gotskian perspective. Cambridge etc.: Cambridge Univ. Press, 'F986.
S t a a t s A. W., S t a a t s С. K. Meaning and m: correlated but separa-
te // Psychological Review, 1959, 66, 136—144.
Stemberger J. P. The lexicon in a model of language production.
New York etc.: Garland Publishing, Inc.. 1985.
Szalay L. B, Brent J. B. The analysis of cultural meanings through
free verbal associations // Journal of Social Psychology. 1967. N 72.
Szalay.L. B„ Bryson J. A. Measurement of psychological distan-
ce: A comparison of American blacks and whites // Journal of Personality
and Social Psychology. 1973. Vol. 26. N 2. f
Szalay L. B„ Mad а у В. C. Verbal associations in the analysis c.
subjective culture // Current Antropology. 1973. N 14.
The Concise Oxford Dictionary of Current English /. H. W. Fowler.
F. G. Fowler (Eds.). 4th edition. Warsaw: Polish Scientific Publishers, Oxford
Univ. Press, 1956. .. .. .
The Original Roget’s Thesaurus of English Words and Phrases /
202
New edition completely revised and moderni^d к,, n » , ,
Dell Publishing C , 1966. niodernued by R. A. Dutch. New Ydrkr
Tut vi ng E. Subjective organization in free recall of ♦ л
words // Psychological Review. 1962. N 69. °* «unrelated»
Idem. Cue-dependent forgetting // American Scientist, 4974. Vol. 62
Wales R. J., Marshall J. C. The organization of linguistic per-
formance // J. Lyons, R. J. Wales (Eds.). Psycholinguistics papers Edin-
burgh: Edinburgh Univ. Press, 1966.
Webster’s New World Dictionary of the American Language /
D. Guralnik (Ed.). New York: Popular Library Inc., 1959.
Weingartner H. The free recall of sets of associatively related
words // Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior. 1964. N 3.
Wettier M. Frames for actions as guides for strong episodic events
an LTM // XXP Congres International de Psychologic: Resumes. Paris, 1976.
Wickelgren W. A. Distinctive features and errors in short-term me-
mory for English consonants // Journal of Acoustical Society of America.
J966. N 39.
Wood worth R. S., Schlosbe. rg H. Experimental psychology.
SRevised edition. New York, 1954.
Zaidel E„ Schweiger A. On lexical semantic organization in
the brain // H Seiler, G. Brettschneider (Eds.). Language invariants and
mental operations. Tubingen: Gunter Narr Verlag, 1985.
Zalevskaya A. A. A psycholinguistic approach to the study of
mechanisms of free word association // Abstract Guide of the XXth Inter-
national Congress of Psychology. Tokyo, 1972.
Eadem. An experimental study of lexical organization // XXIе Congres
‘International de Psychologie: Resumes. Paris, 1976.
Eadem. Verbal associations in different cultural settings // J. V.
"Wertsch (Ed.). Recent trends in Soviet psycholinguistics. New York, 1977.
XXI I nd International Congress of Psychology: Abstract
Guide. Leipzig, 4i980. Vol. 1—2.
ОГЛАВЛЕНИЕ
6* ъО
Предисловие научного редактора ..................
Введение ............................
Глава 1. Гипотезы организации лексикона в публикациях до
1982 г. 15
1.0. Возможные источники информации о лексиконе
человека (15) 1.1. Некоторые предпосылки для разработки
гипотез организации лексикона (15) 1.2. Поиск «глубинной
структуры» лексикона в работе Дж. Диза (17) 1.3. Единая вер-
бально-когнитивная основа структурированности лексикона
по исследованию Г. Поллио (21) 1.4. Вопросы описания лек-
сикона с точки зрения теории «семантической компетенции»
(22) 1.5, Учет иерархического и линейного принципов ор-
ганизации лексикона (28) 1.6. Обсуждение шести гипотез
организации лексикона в работах Дж. Миллера и Т. В.
Ахутиной (32) 1.7. Многообразие принципов организации
лексикона по результатам исследования С. Филленбаума
и А. Рапопорта (35) 1.8. Вопросы структурированности лек-
сикона у детей по итогам исследования И. Энглина (36)
1.9. Идея ассоциативной сети н «Ассоциативный тезаурус»
Дж. К,иша (39) 1.10. Система памяти в трактовке Р. Ат-
кинсоиа (43) 1.11. Некоторые новые тенденции в исследо-
ваниях структуры памяти н субъективного лексикона в кон-
це 70-х гг. (45)
Глава 2. Теоретические основы исследования специфики еди-
ниц лексикона н принципов его организации (исход-
ные положения) .................48
2.0. Задачи главы 2 (48) 2.1. Лексикон как компонент
речевой организации человека (48) 2.2. Выявление струк-
туры речемыслительной деятельности как база для ис-
следования лексикона человека (52) 2.3. Проблема мно-
жественности кодов мышления (57) 2.4. Установление спе-
цифики единиц лексикона в связи с основными этапами ре-
чемыслительного процесса (61) 2.5. Пути становления лек-
сикона и их влияние на специфику его единиц (67) 2.6.
Вытекающие из специфики лексикона основания для свя-
зи между его единицами (рабочая гипотеза) (74)
Глава 3. Экспериментальное исследование специфики лекси-
кона и принципов его организации .... 77
3.0 Вводные замечания (77) 3.1. Организация экспери-
ментов по свободному воспроизведению слов родного и
иностранного языков (78) 3.2. Типы ошибок при свободном
воспроизведении слов родного языка (78) 3.3. Типы ошибок
при воспроизведении иноязычных слов (83) 3.4. Принципы
группировки слов при их свободном воспроизведении (85)
3.5. Особенности группировки иноязычных слов при их сво-
бодном воспроизведении (90) 3.6. Некоторые итоги межъ-
языкового сопоставления структуры ассоциативных полей
(93) 3.7. Логическая структура ассоциативного, поля (103)
3.8. Связи импликативного типа (по материалам «Ассо-
204
циативного тезауруса английс«^«
торые национально-культурные особен^* > (110) 3'9' НеК0'
связей (120) особенности ассоциативных
Глава 4. Принципы организации лексикона
зультатам исследования за период 1968^®198(/“<\ре'
4.0. Вводные замечания (132) 4.1. Разграничен^' „ ’
верхностного и глубинного ярусов лексикона (132) 4 2 П "°'
цппы организации единиц поверхностного яруса (134) ₽4з"
Принципы организации единиц глубинного яруса (139) 4.4. не1
которые особенности «ядра» лексикона (148) 4.5. Специ-
фика хранения многозначных слов (151) 4.6. Общее пред-
ставление о структуре лексикона человека (155) 4.7. Одно-
временный учет множества связей единиц лексикона (158)
Глава 5. Лексикон человека в свете исследований 80-х гг.
132
162
5.0. Задачи главы 5 (162) 5.1. Теоретические основы
исследования лексикона (162) 5.2. Новые данные об орга-
низации лексикона (173) 5.3. Дальнейшее развитие гипоте-
зы лексикона человека (179) 5.4. Задачи последующих ис-
следований (180)
Вместо заключения .......................185
Список литературы ....................186
WORDS IN THE MENTAL LEXICON:
A PSYCHOLINGUISTIC STUDY
Alexandra A. Zalevskaya, Professor of Psycholinguistics
SUMMARY
A comprehensive theoretical and empirical study of the
mental lexicon is offered by a distinguished psycholinguist
whose creative work in this area spans 20 years. The author
emphasizes the critical importance of a theory treating the
mental lexicon as an integral part of human cognitive abili-
ties, as a dynamic functional system formed through the acqui-
sition of various kinds and forms of knowledge and structu-
red in the needs of thinking and communication. An inherently
interactive model of speech production is suggested for discus-
sing some specific characteristics of items in the mental lexi-
con necessary at different steps of thought shaping. Such items
are viewed as the products of a complex interaction of percep-
tual, cognitive, emotional and verbal experience stored in one’s
memory and simultaneously utilized at different levels of
consciousness when a word provides a direct and/or mediated
by inference access to interconnected fragments of the personal
world image.
The book takes the reader through a broad program of
empirical research giving examples and discussing the issues
involved at each step. Much attention is paid to errors and
word clusters in free recall under a variety of conditions and
to inter-language comparisons of free word association fields
analysed by grouping responses according to their relation to
the stimulus word. The use of data obtained from native spea-
kers of 11 languages made the author revise some traditional
statements about word association relations; it also helped to
trace certain universal strategies of linking items in the mental
lexicon and to reveal some peculiarities of using these strate-
gies in different cultural settings.
Readership: psycholinguists, linguists and psycho-
logists working on the problems of word meaning, lexical orga-
% nization, natural language processing, inter-language and
cross-cultural comparisons.
Научное издание
Залевская Александра Александровна
СЛОВО В ЛЕКСИКОНЕ ЧЕЛОВЕКА
Психолингвистическое исследование
Редактор О. Е. Макарова
Оформление Э. К. Китаевой
Художественный редактор А. В. Соколов
Технический редактор Ю. А. Фесс
Корректоры Л. Е. Болдырева, Г. И. Старухина
ИБ № 1841
Сдано в набор 01.11.89. Подп. в печ. 04.12.90. Форм. бум.
х 90/16. Бумага офсетная журнальная. Литературная гарнитура,
сокая печать. Уел. и. л. 13,0. Уел, кр.-отт. 13,2. Уч.-изд. л. 14,6.
раж 2500 Заказ 830. Цена 2 р. 60 к.
Издательство Воронежского университета
394000. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 8
Типография издательства ВГУ
394000. Воронеж, ул. Пушкинская, 3