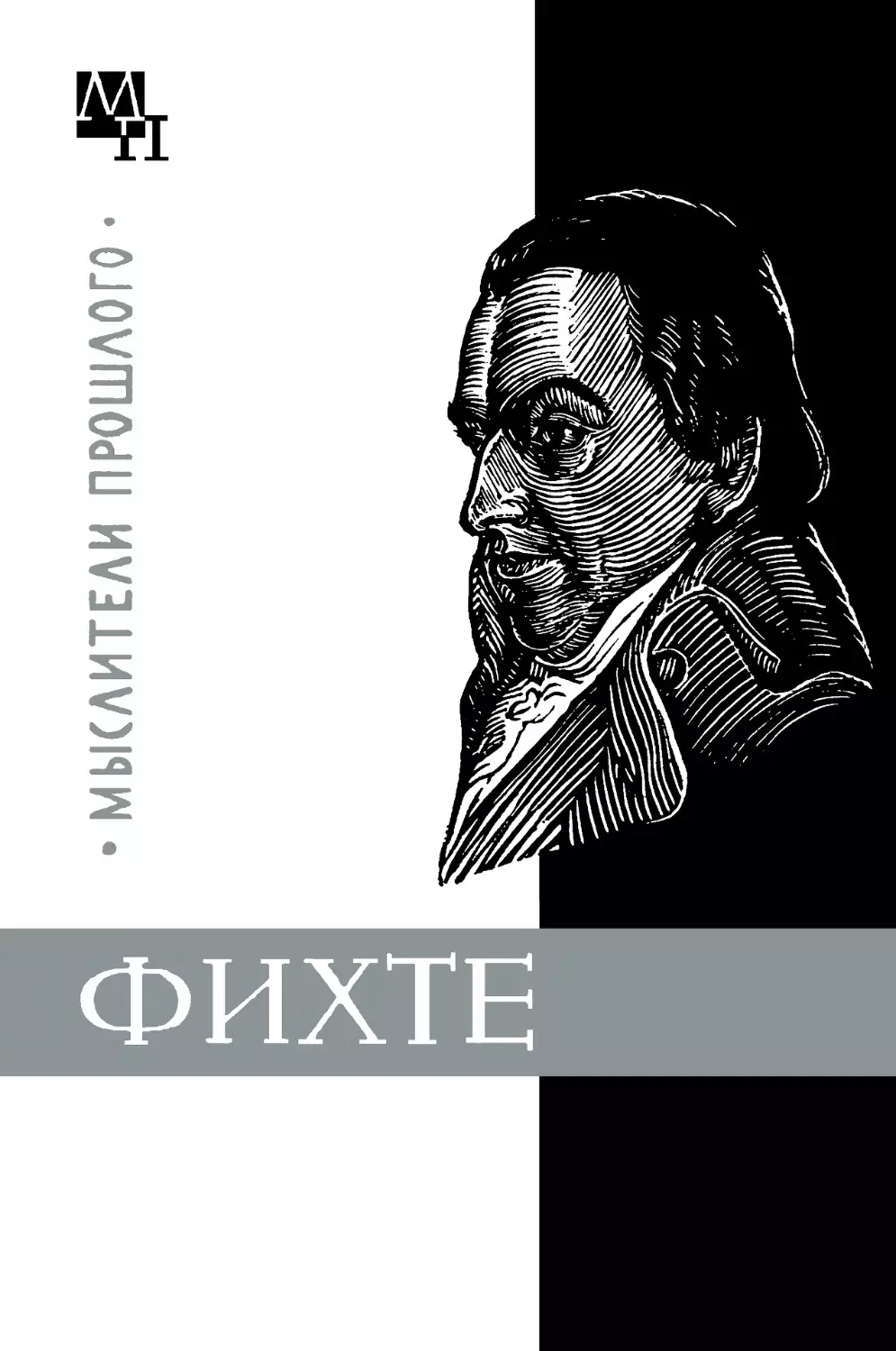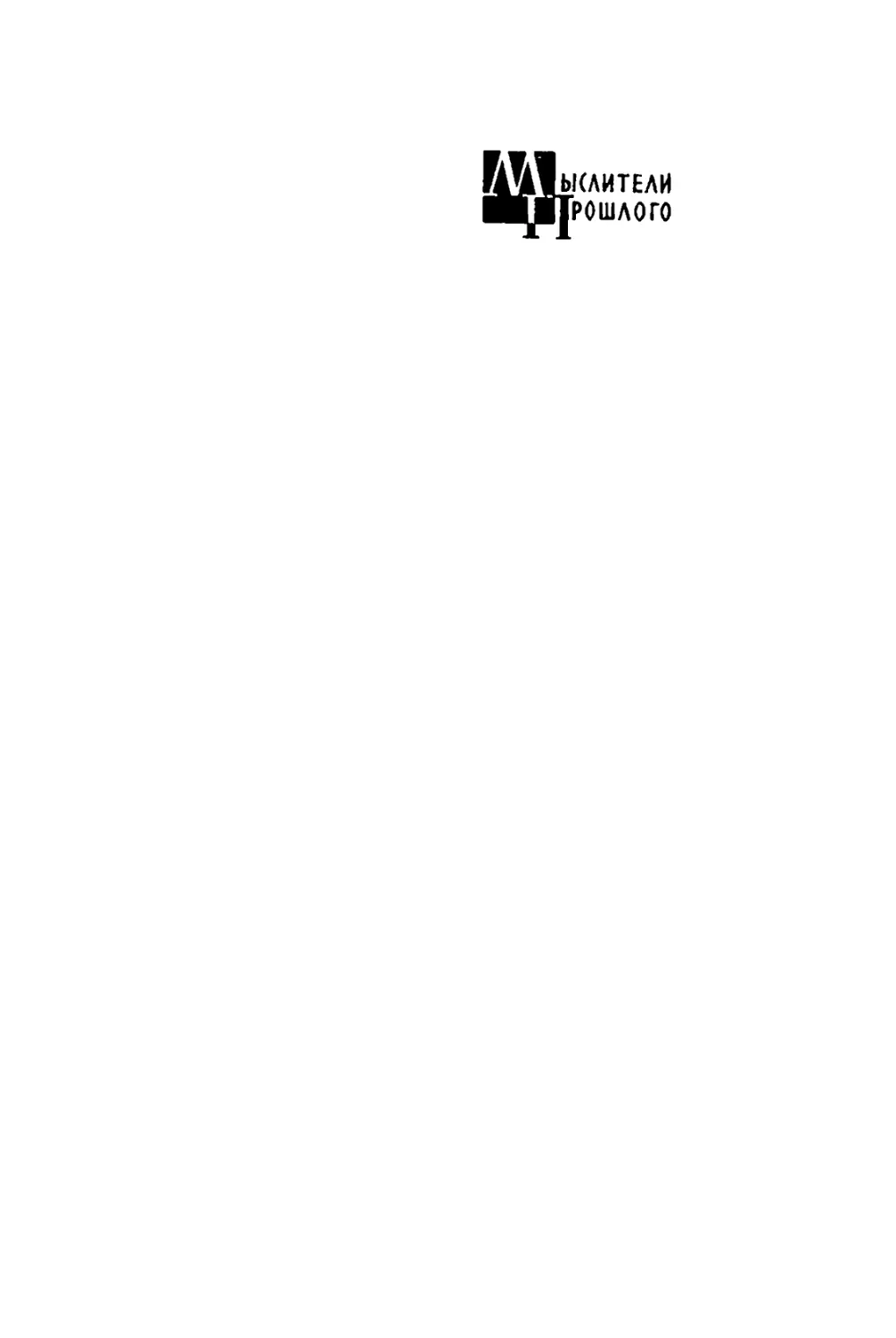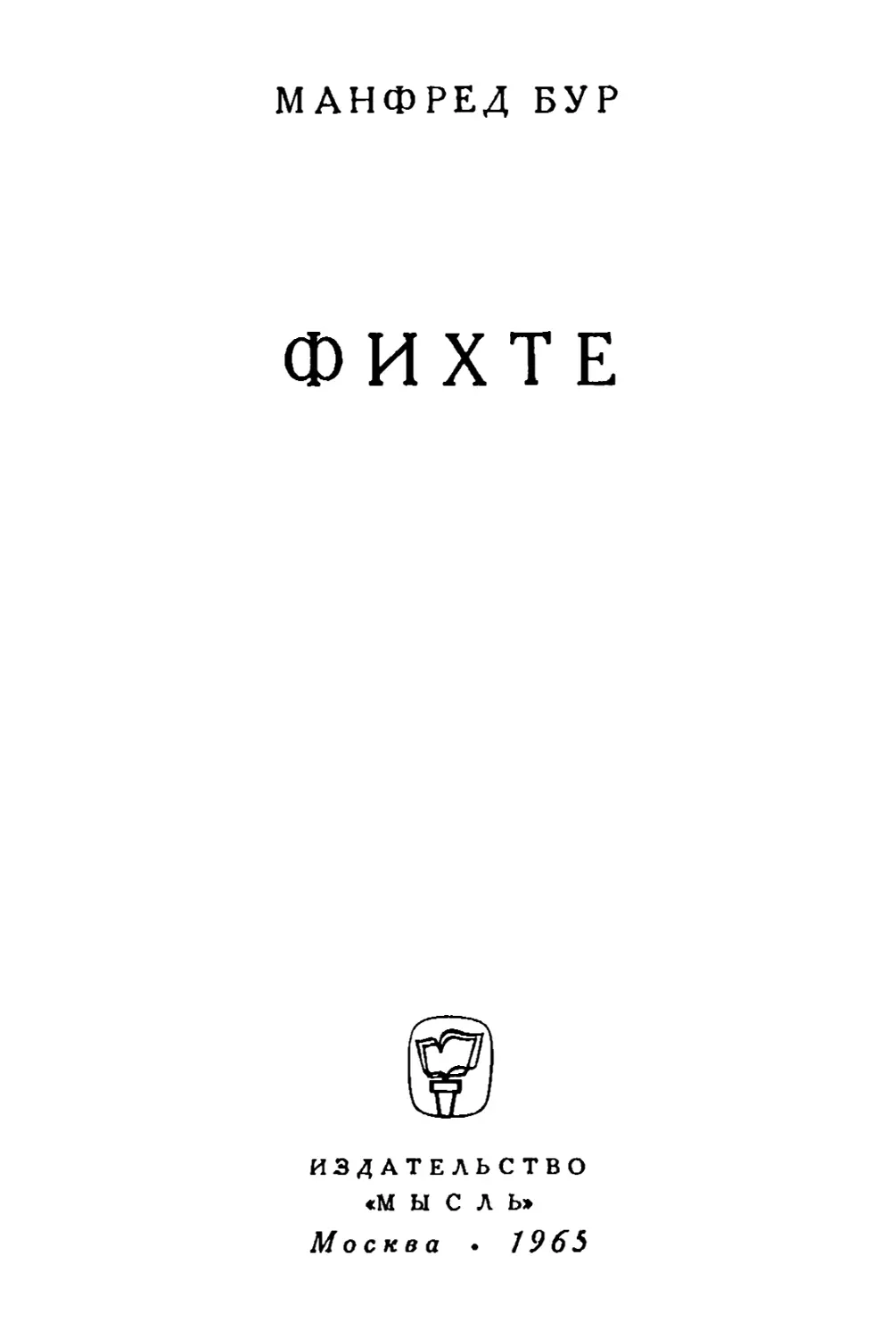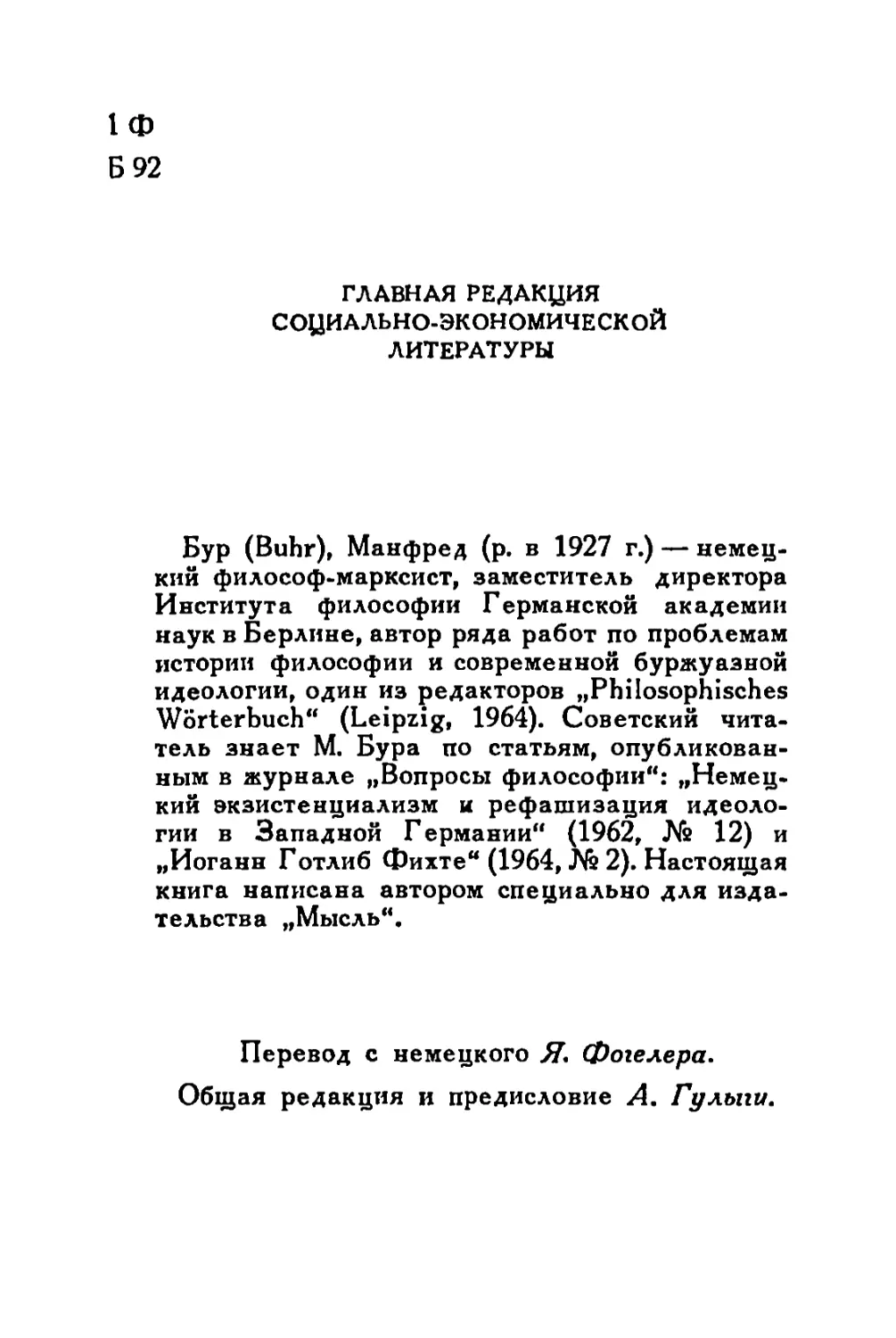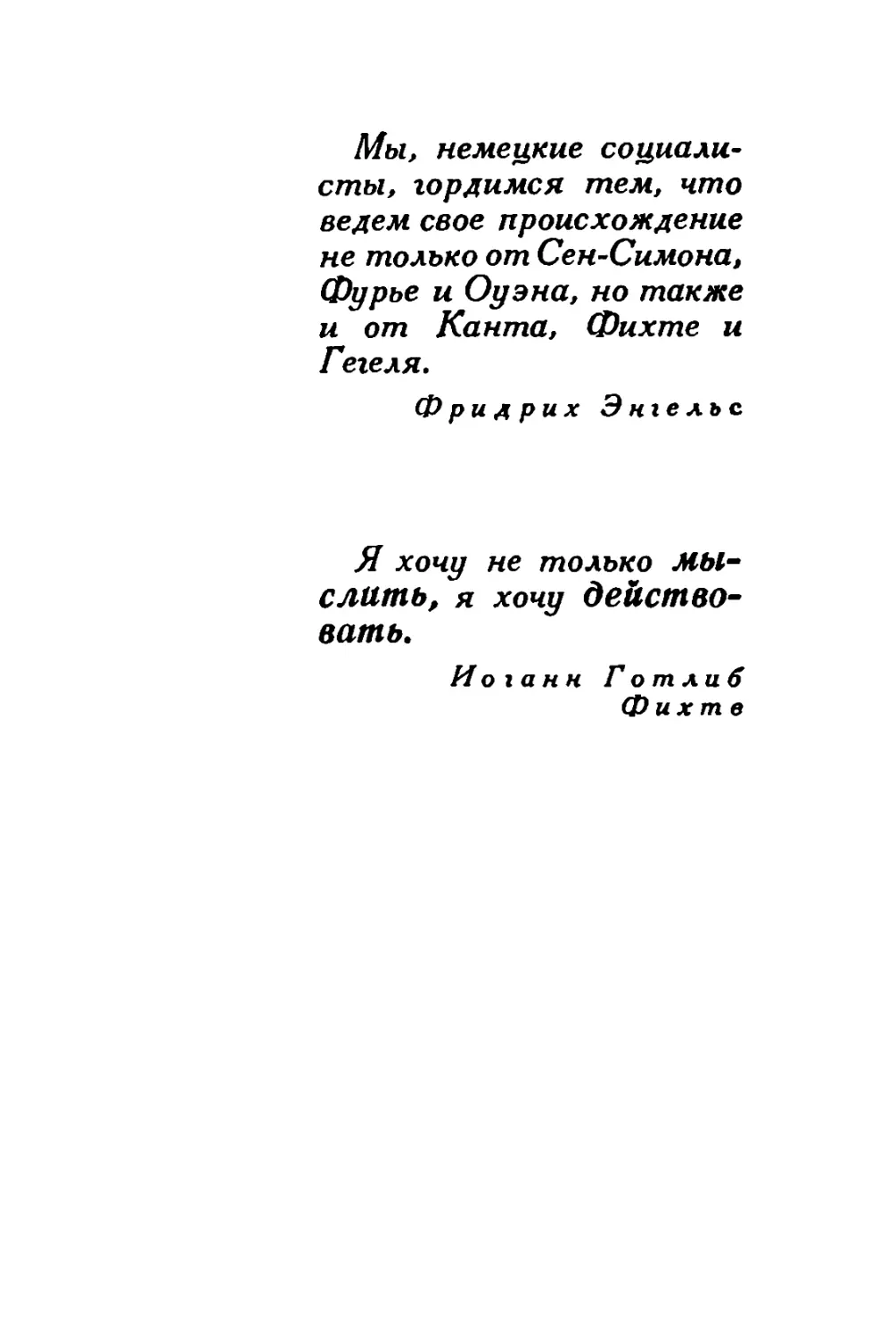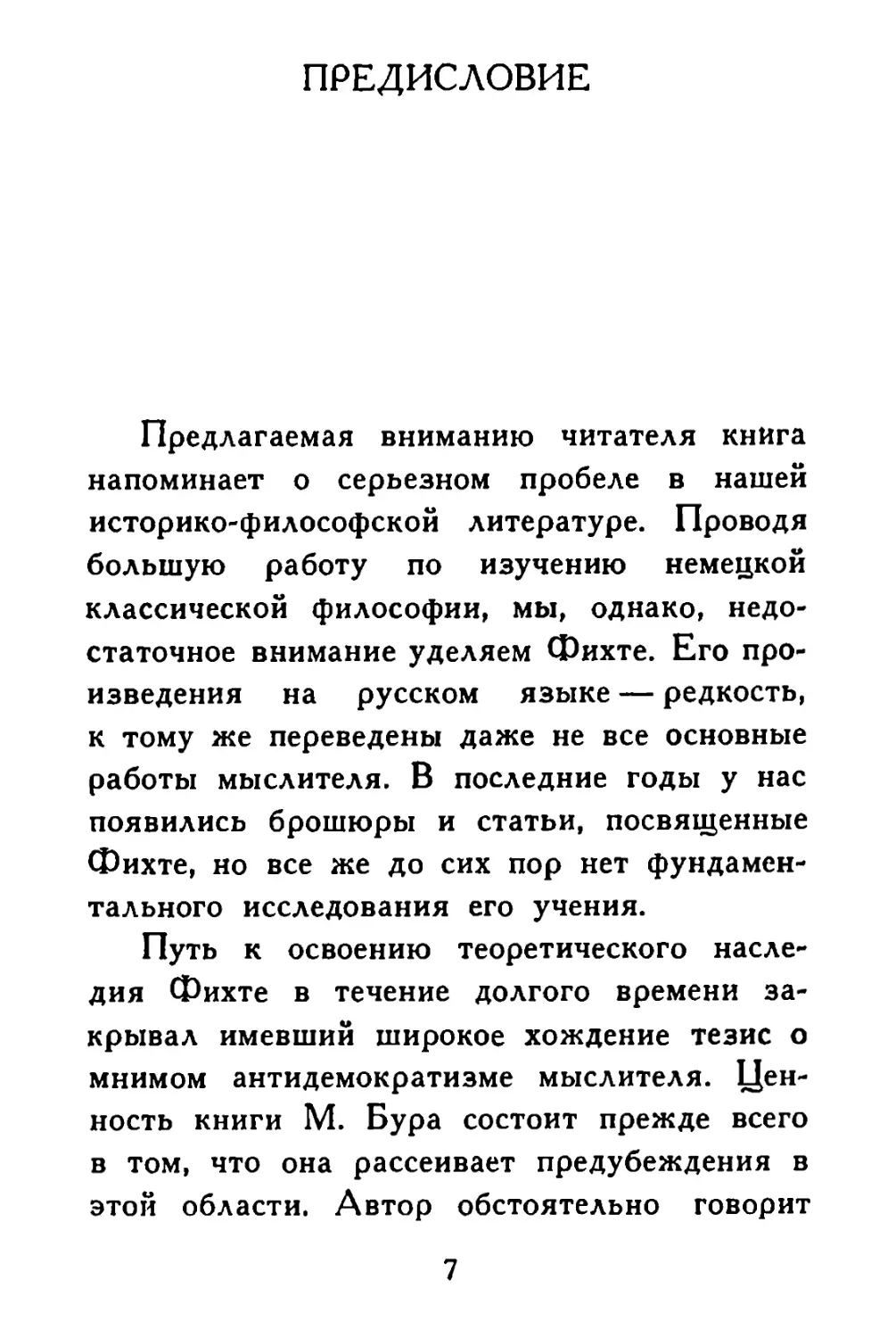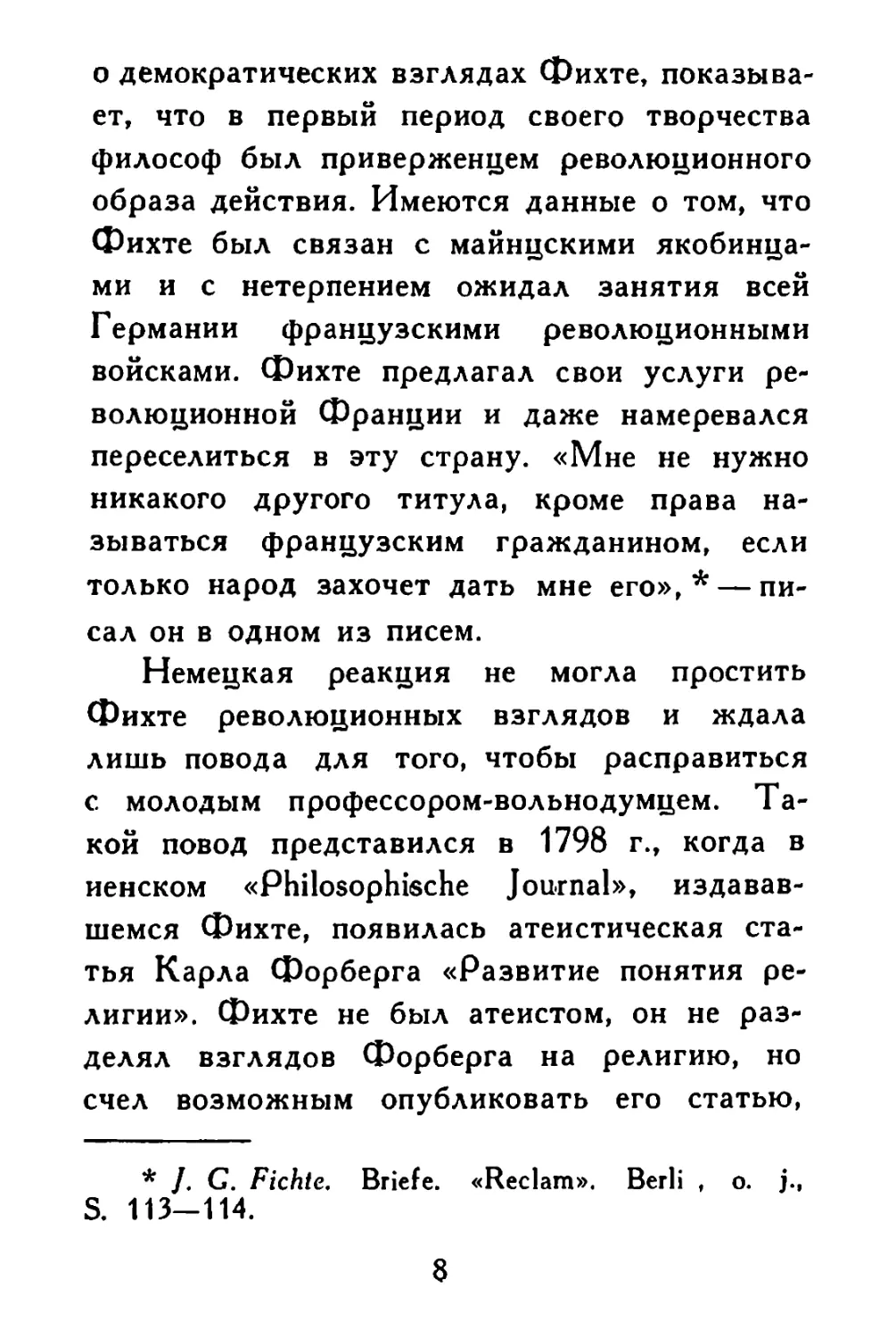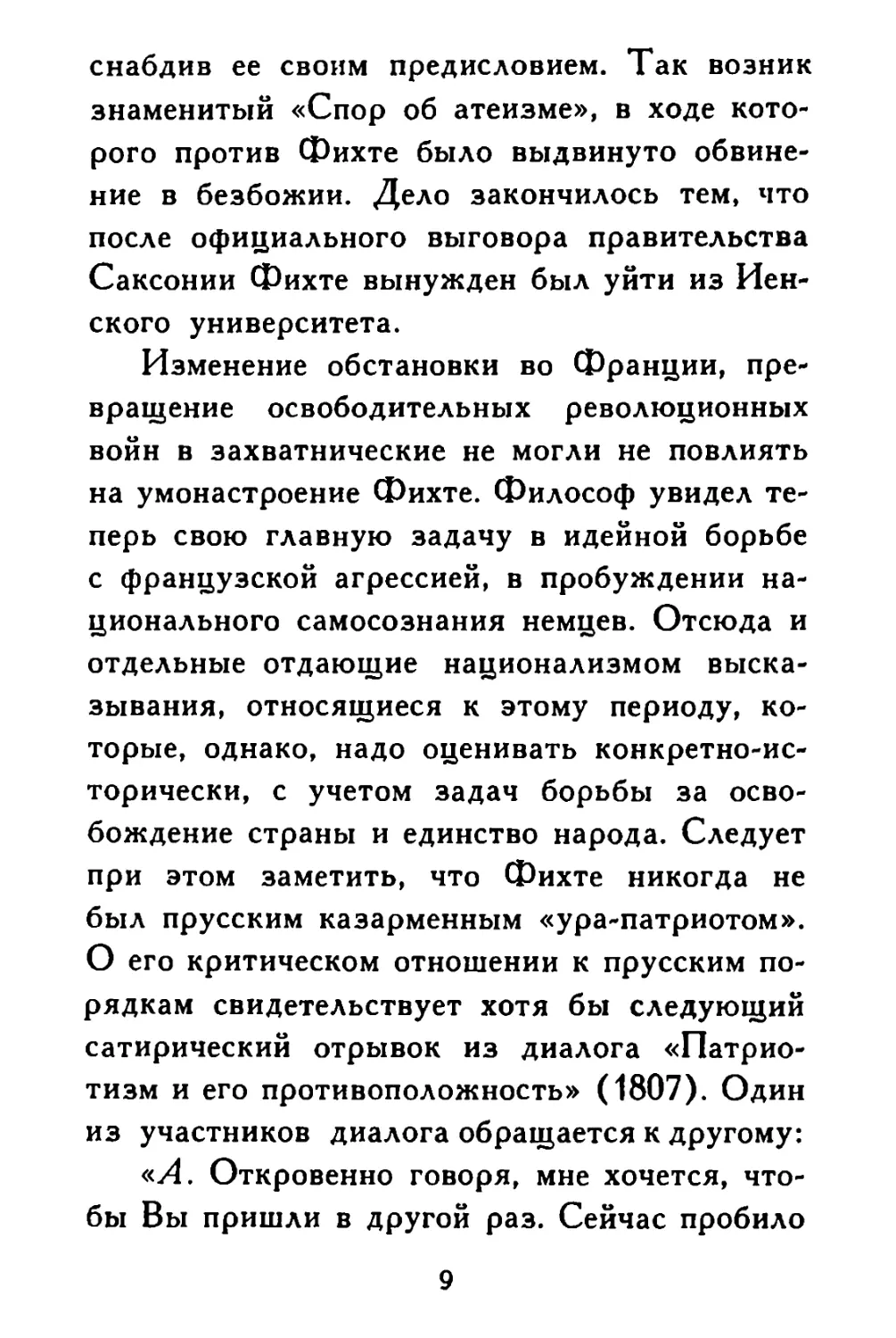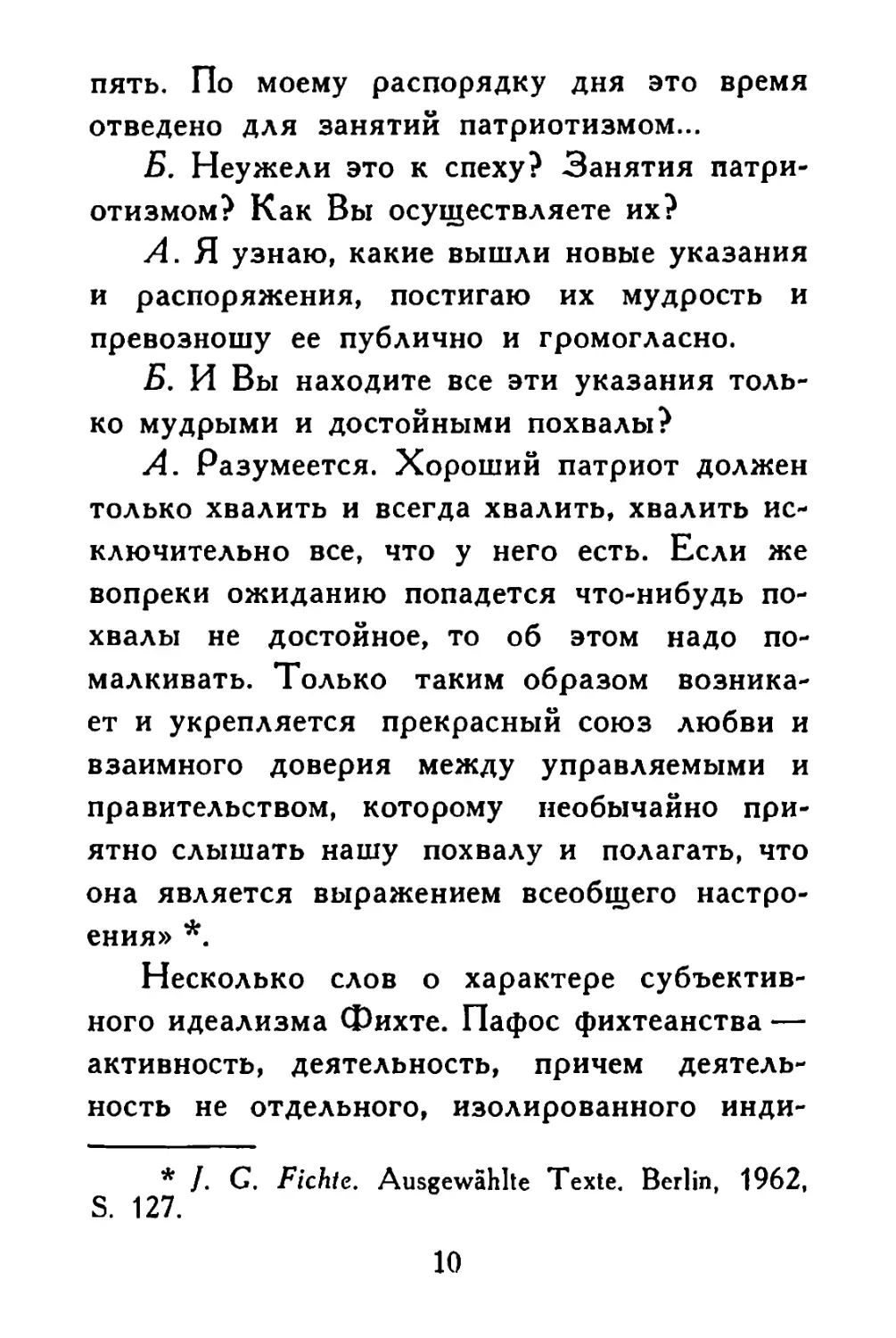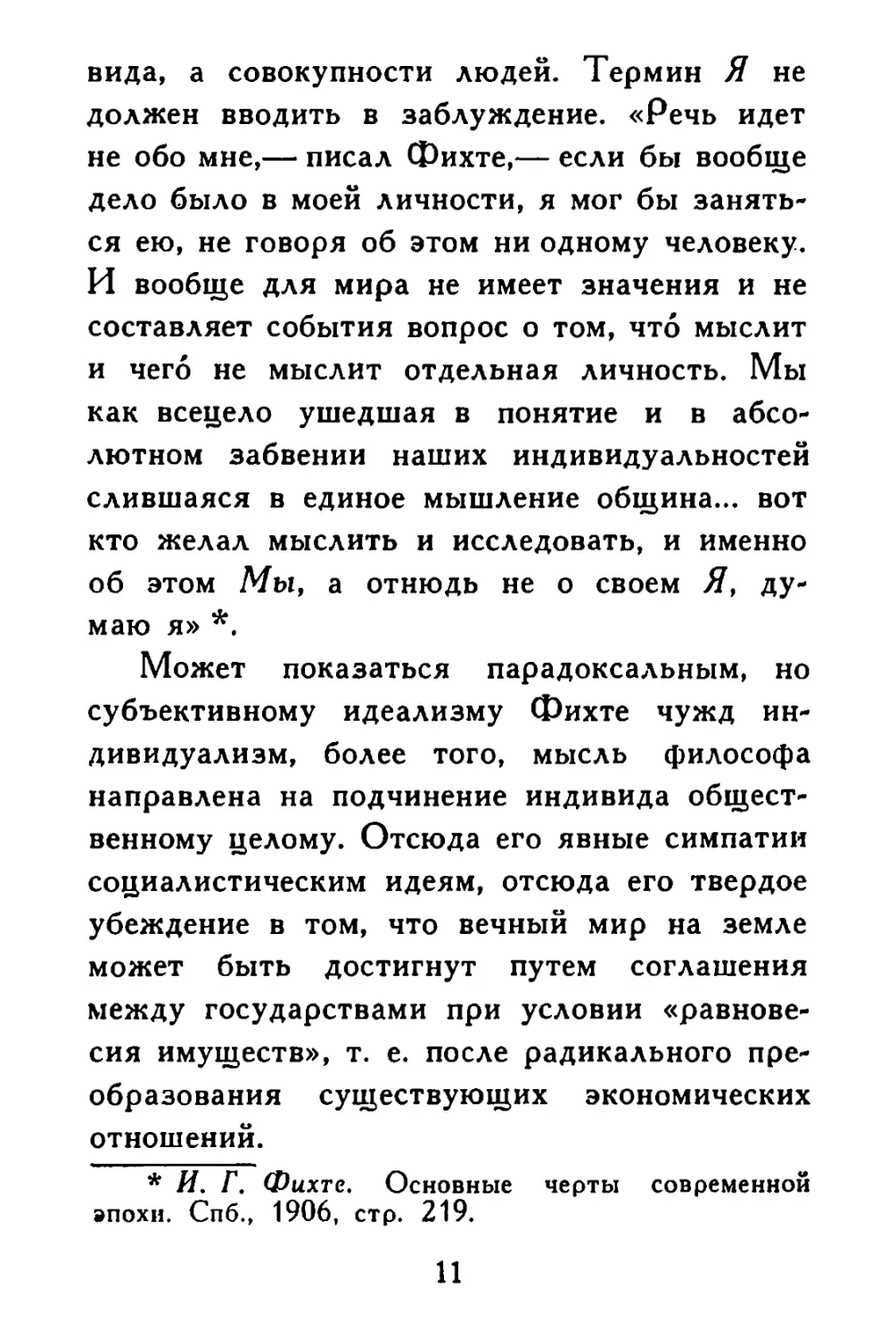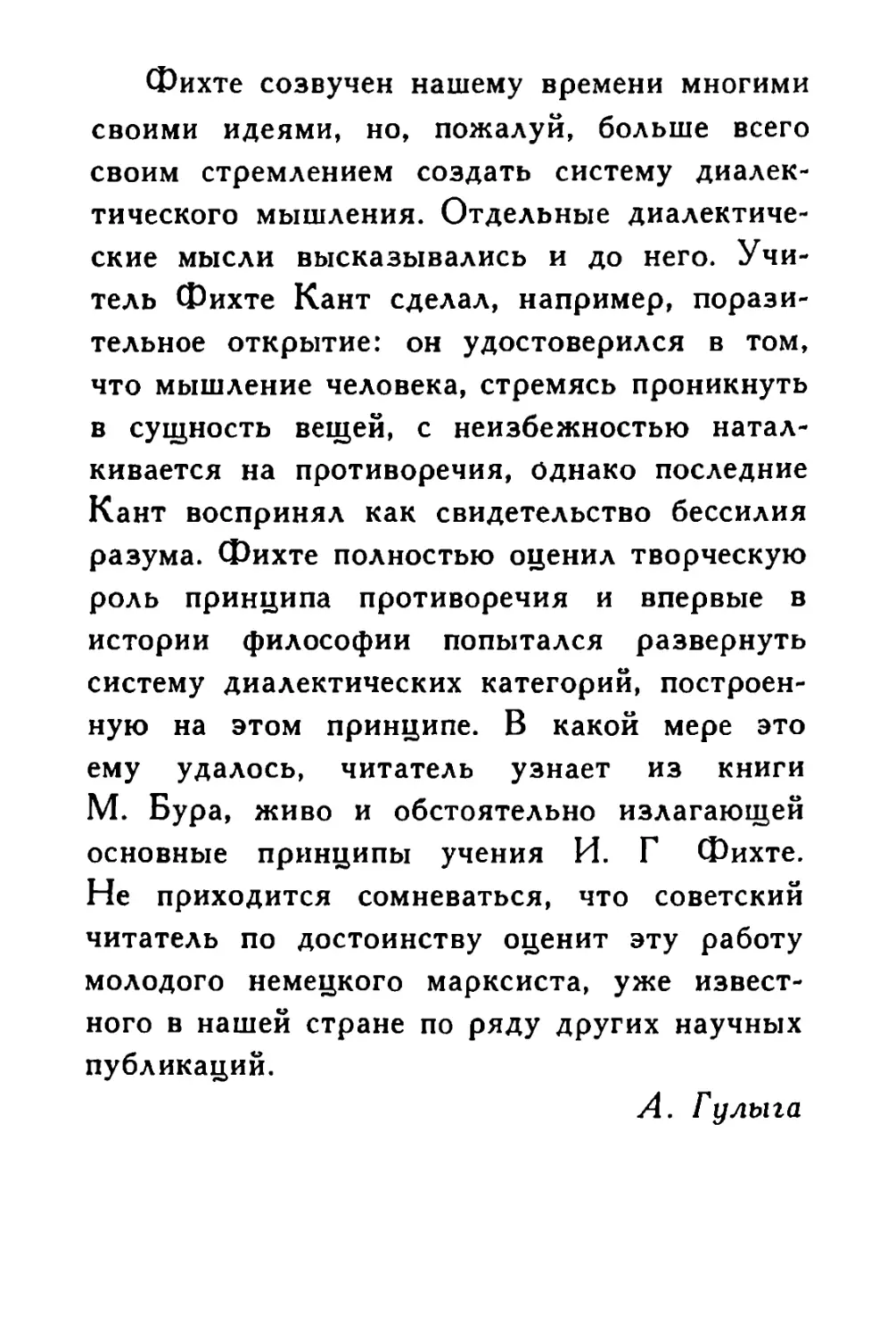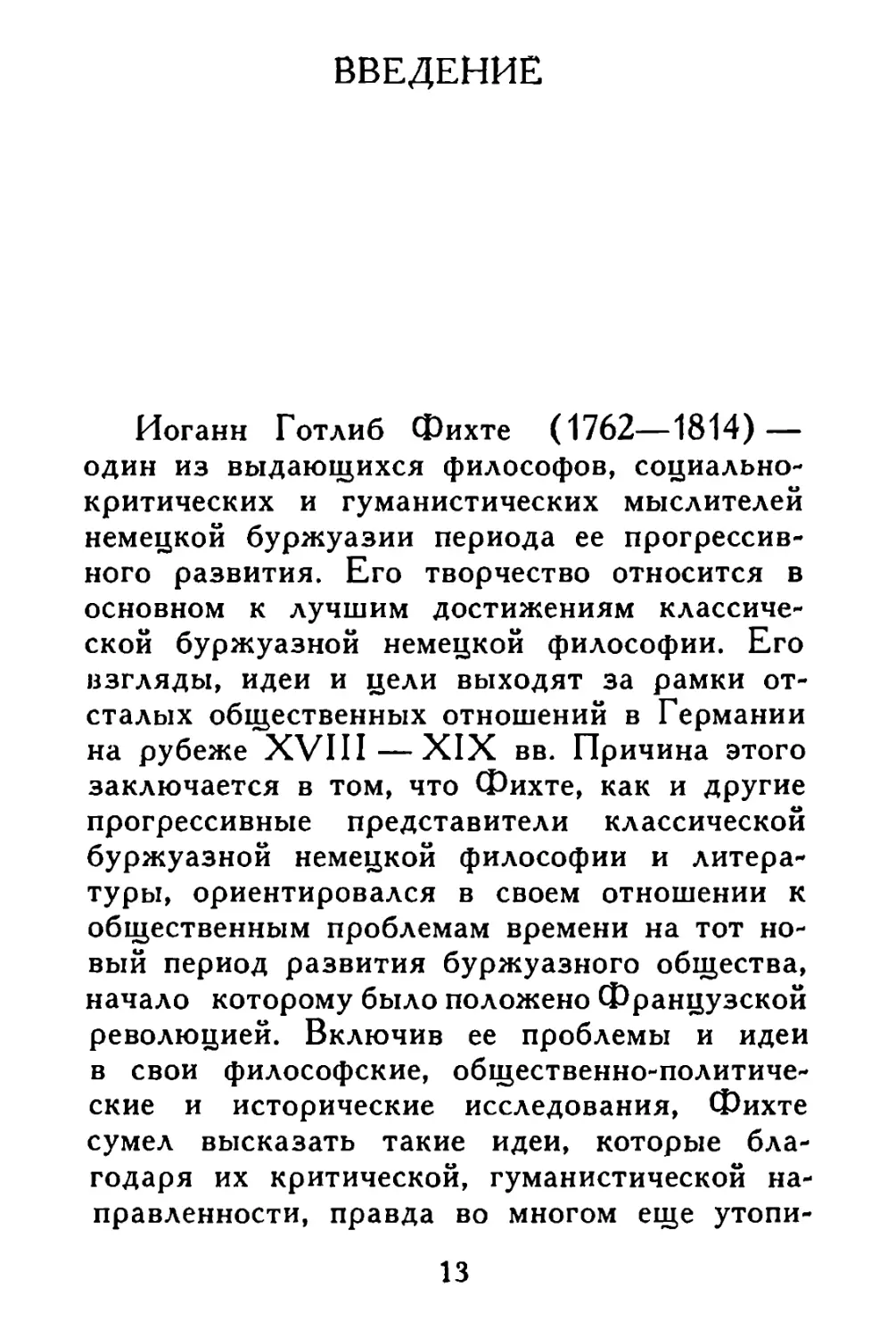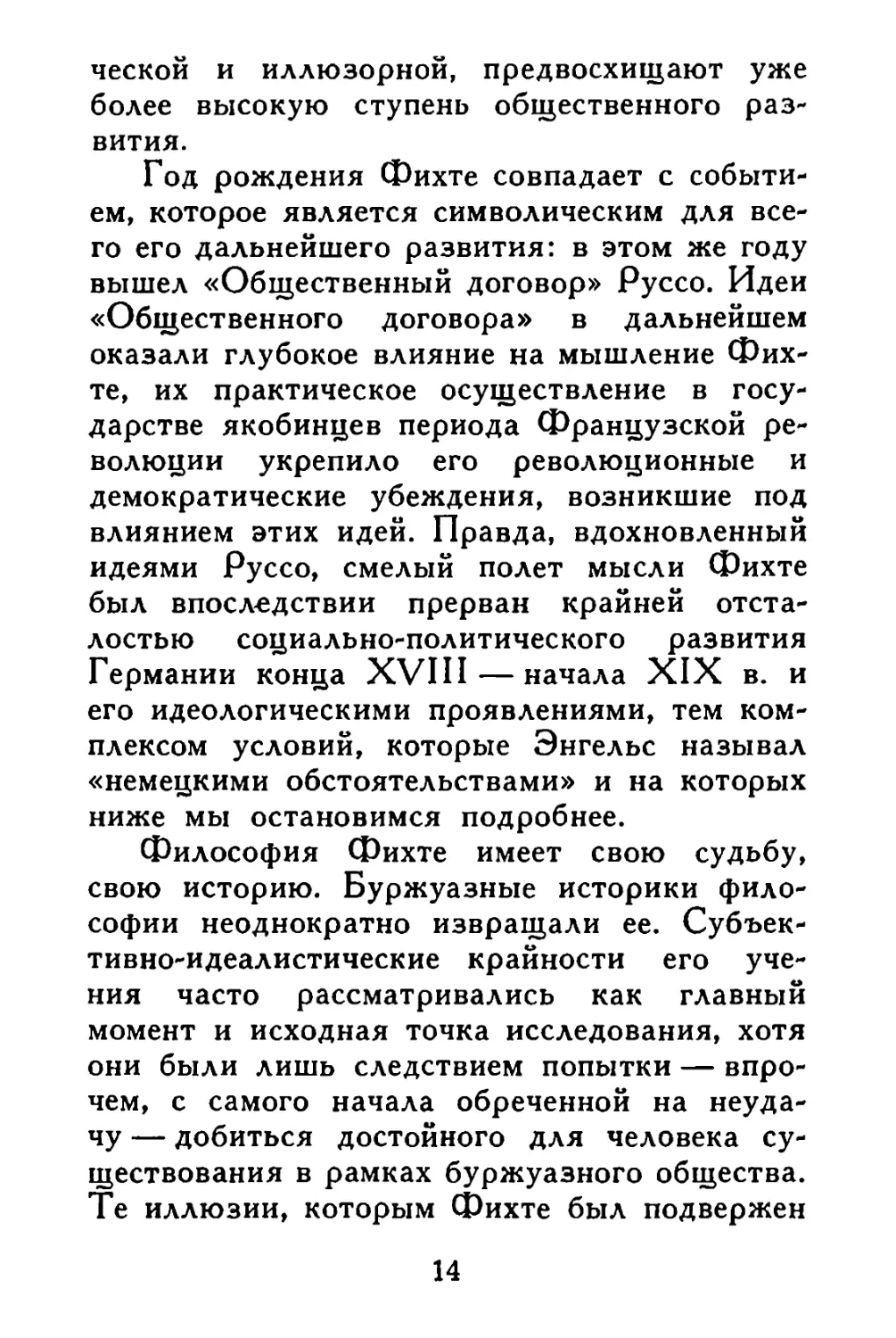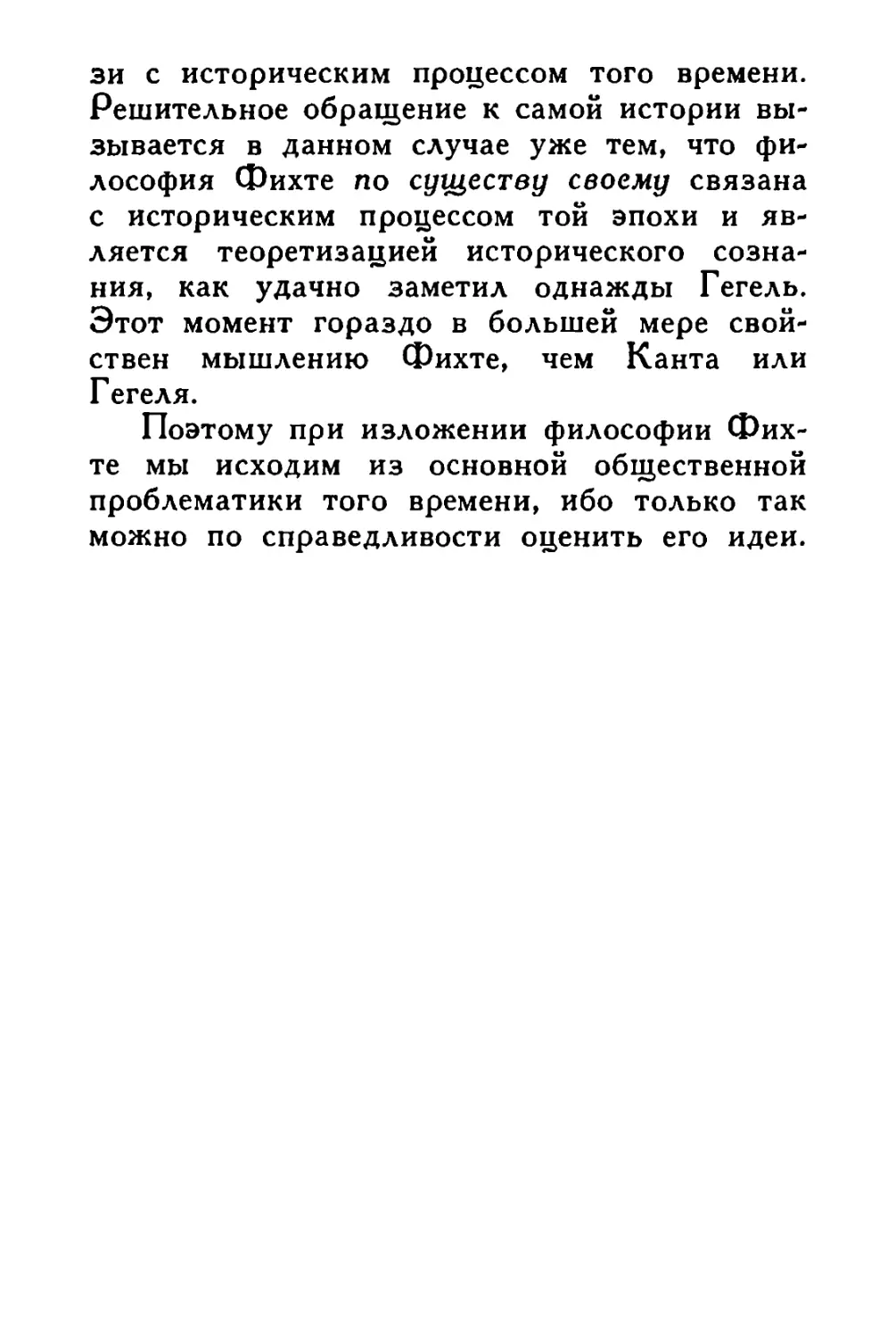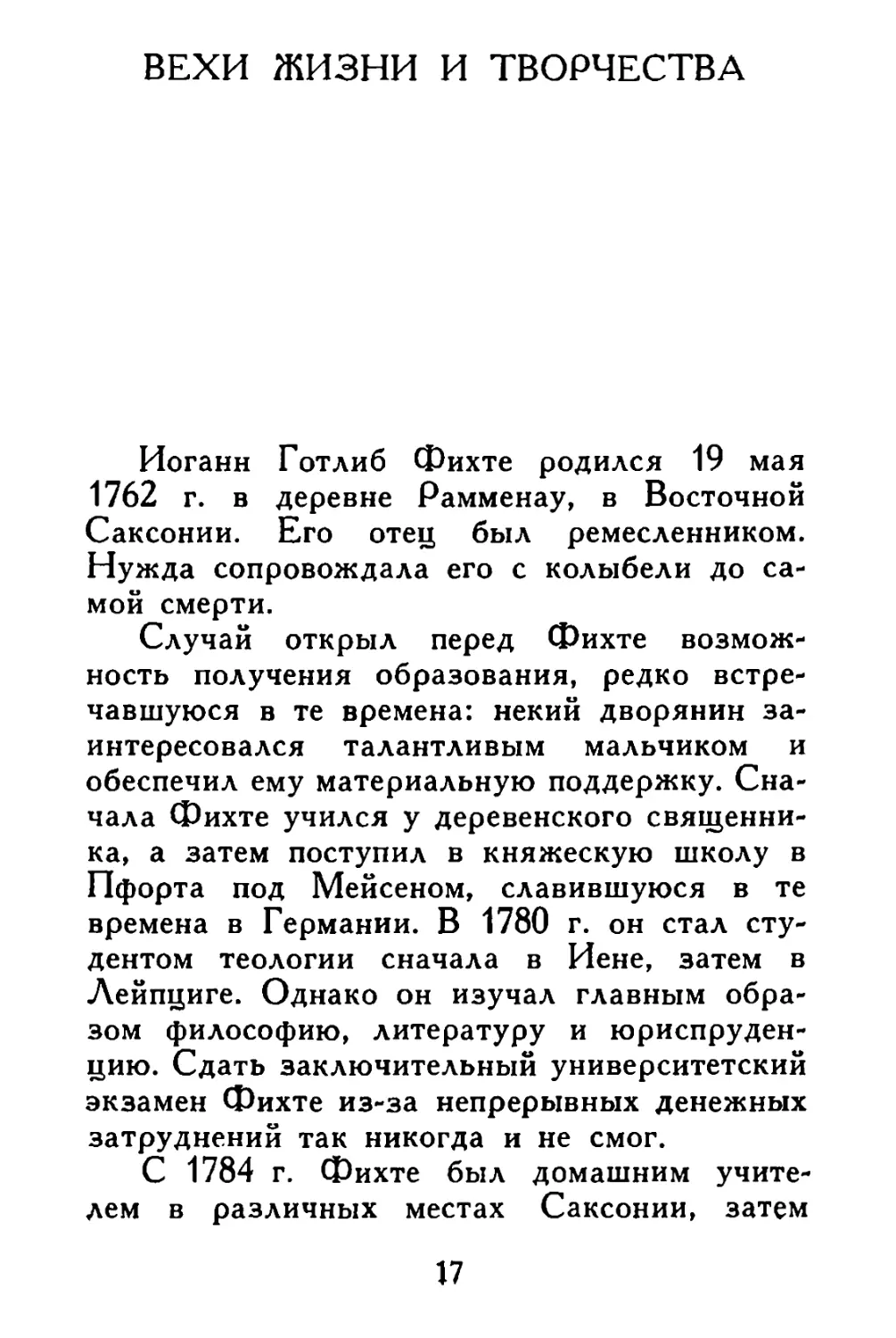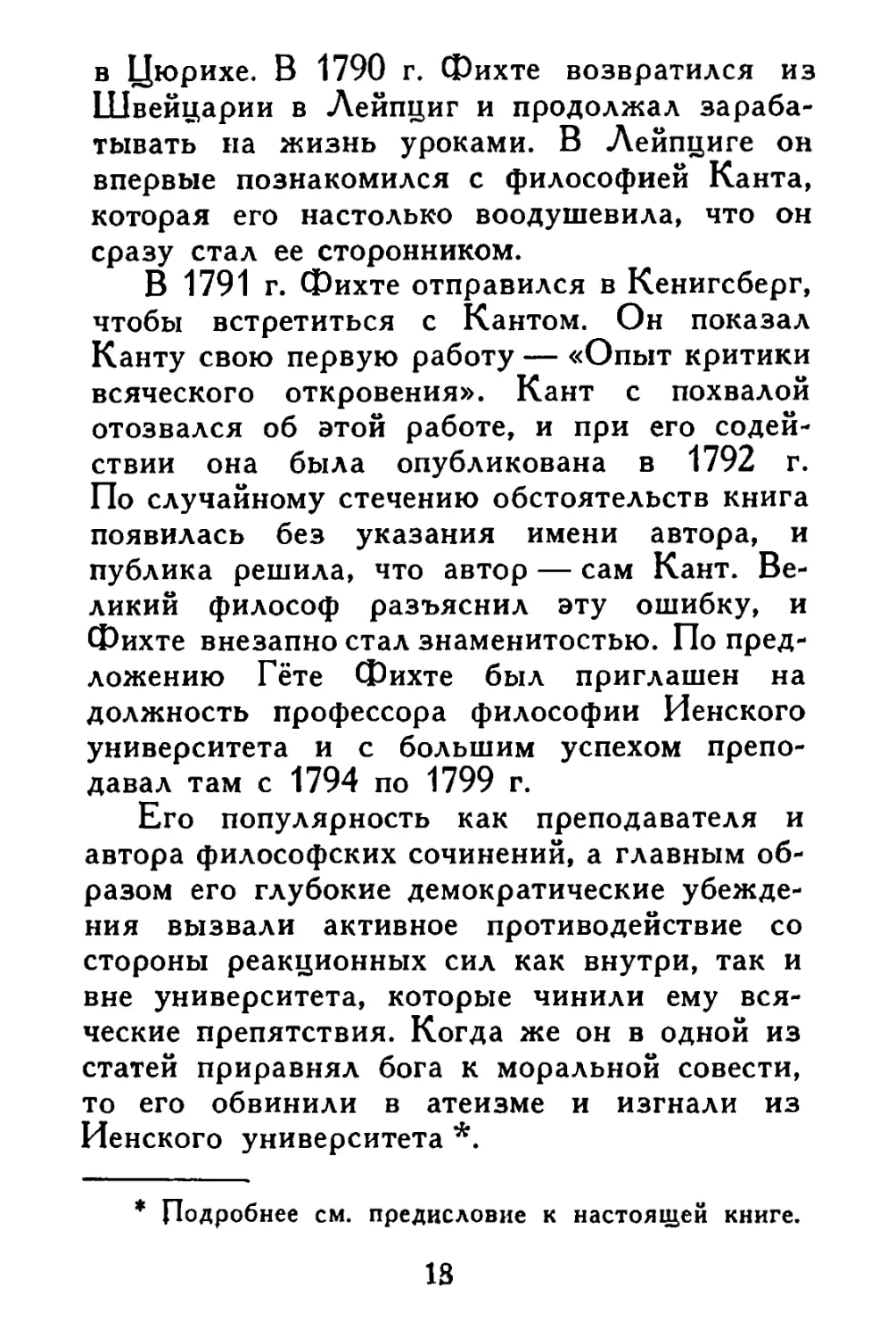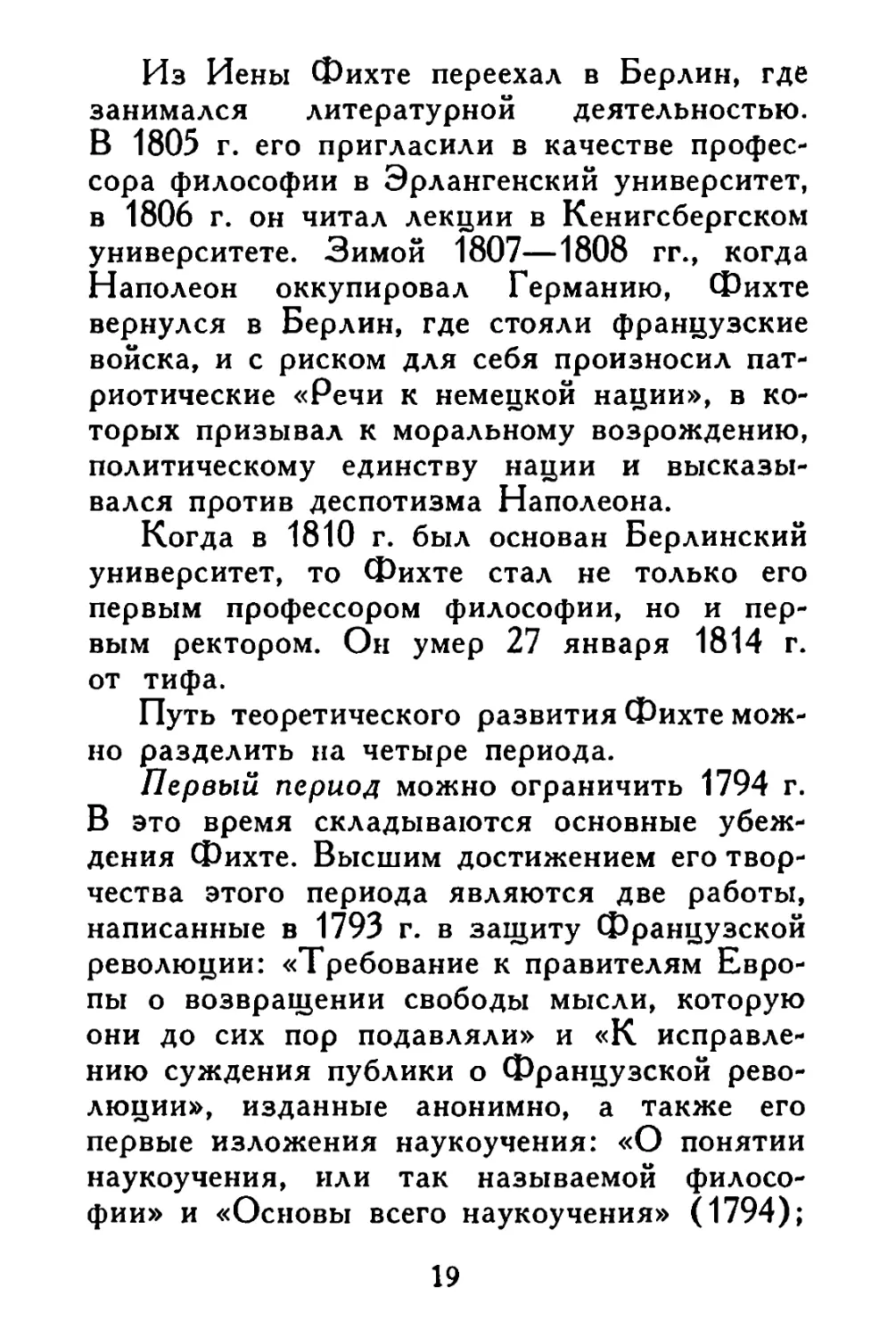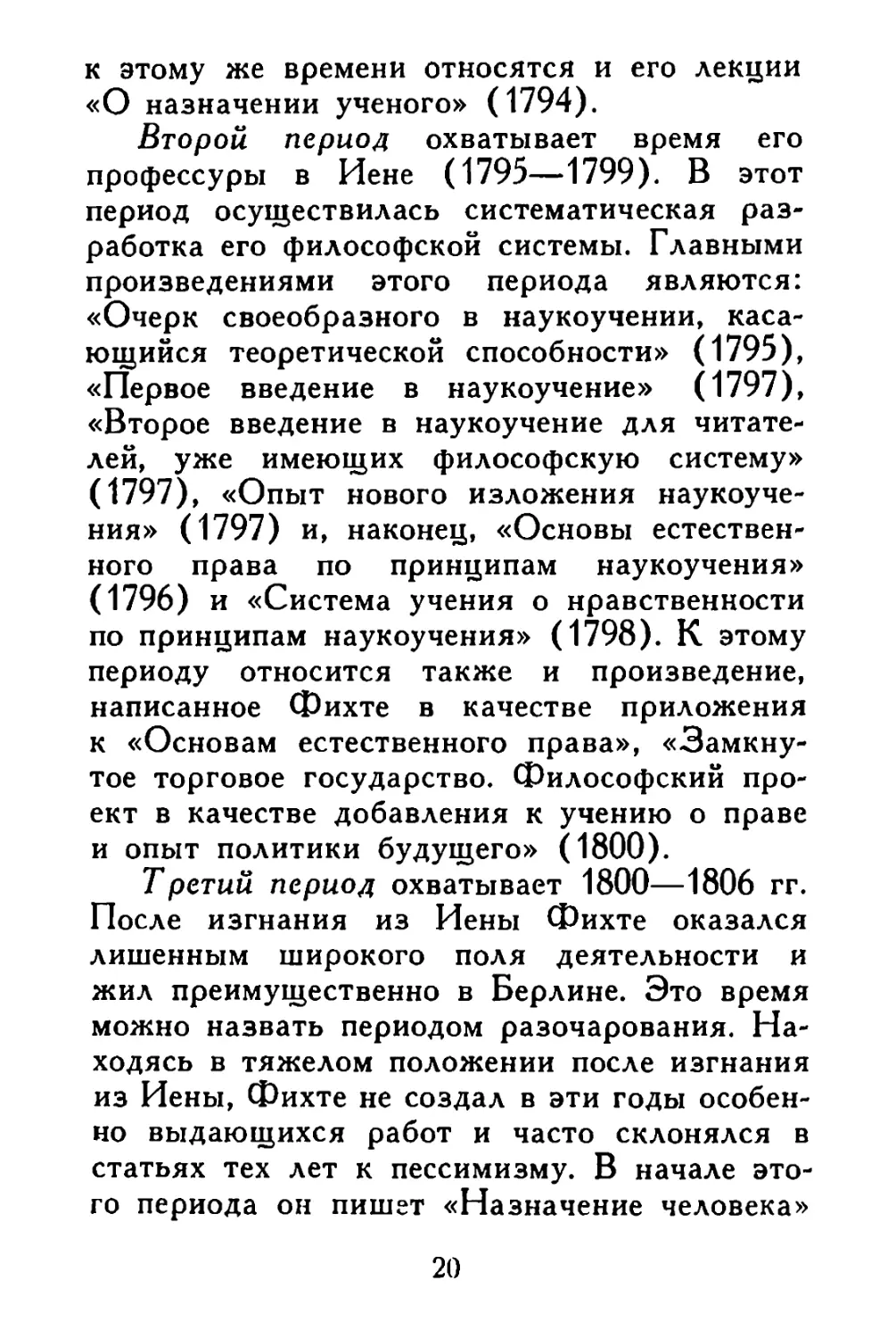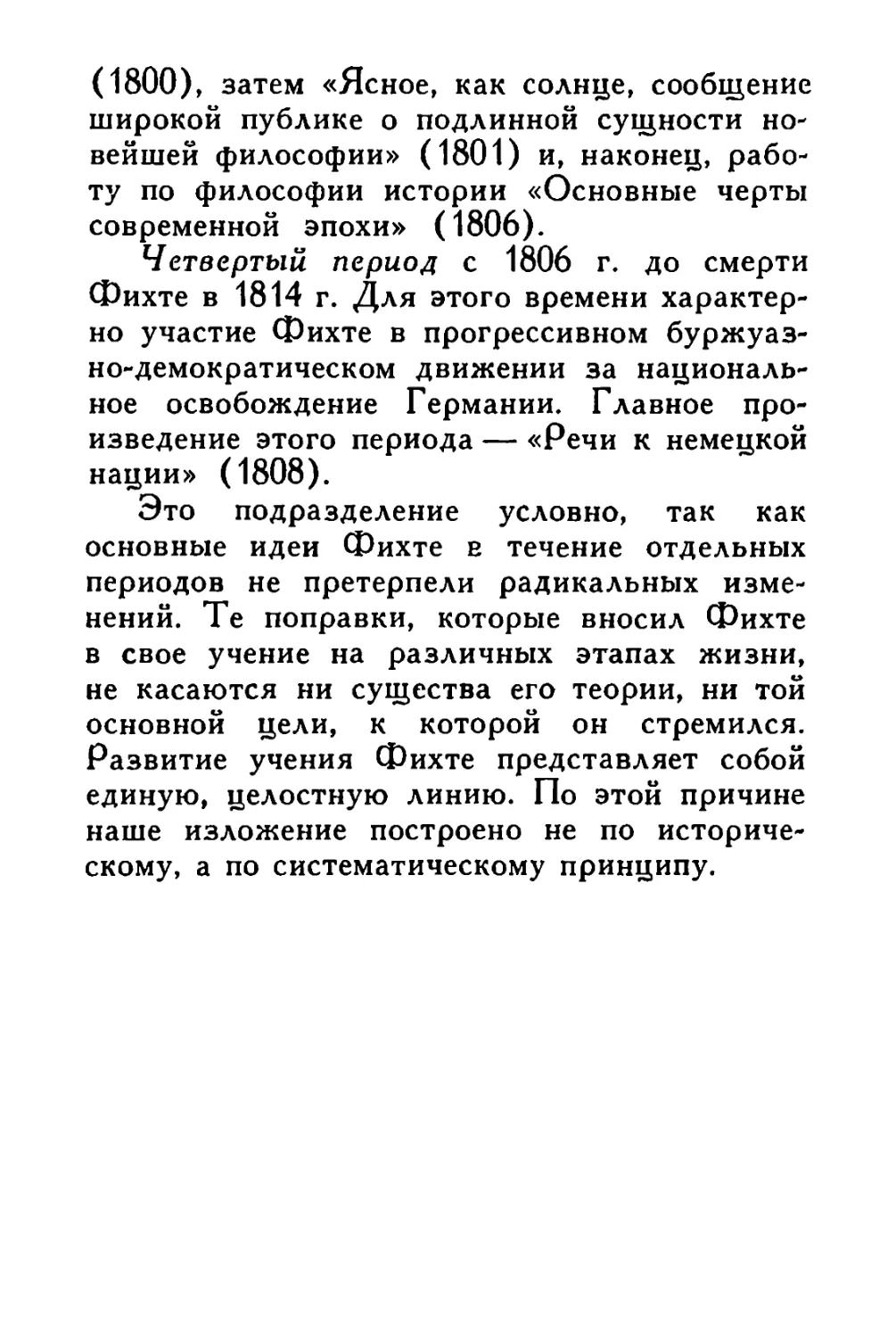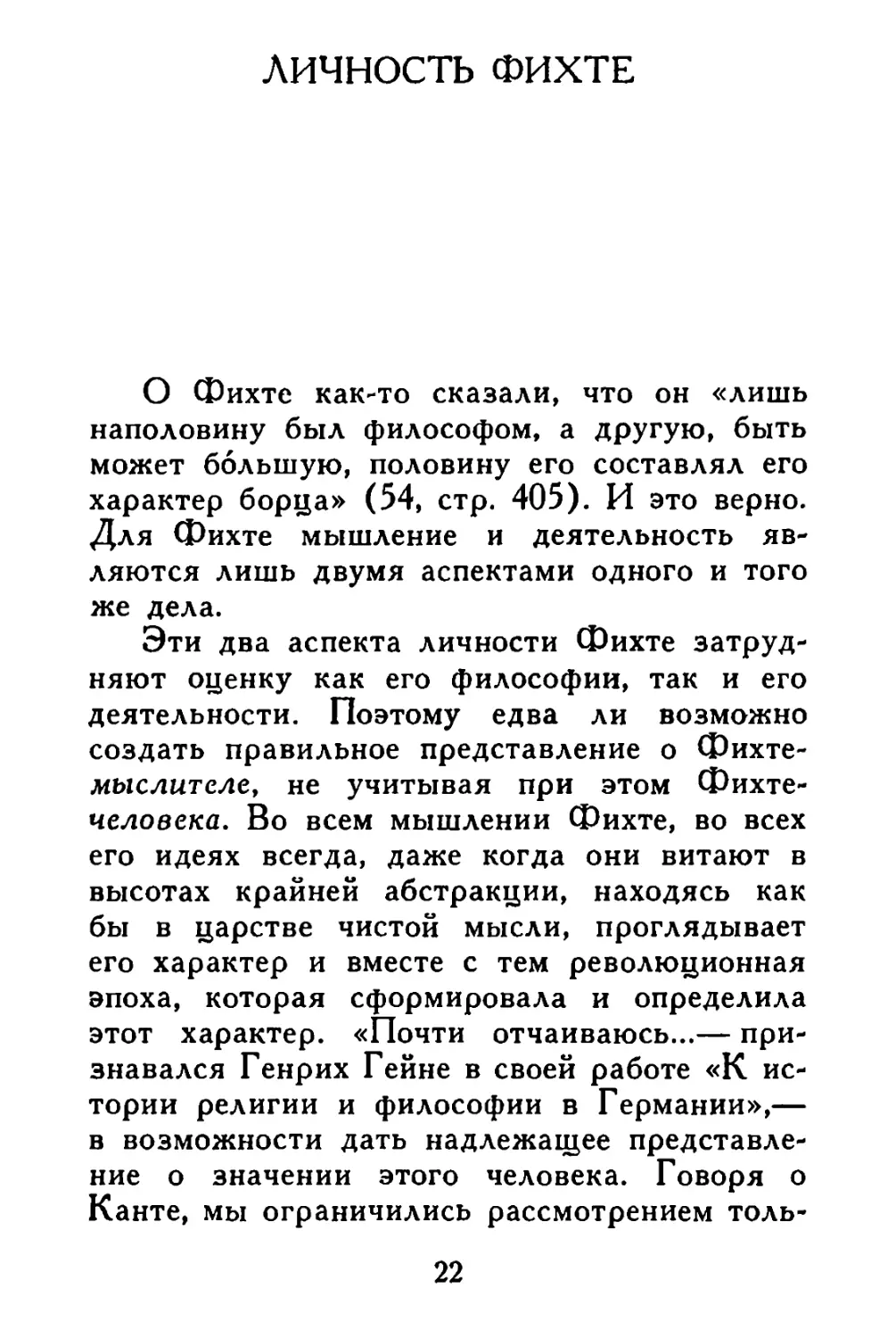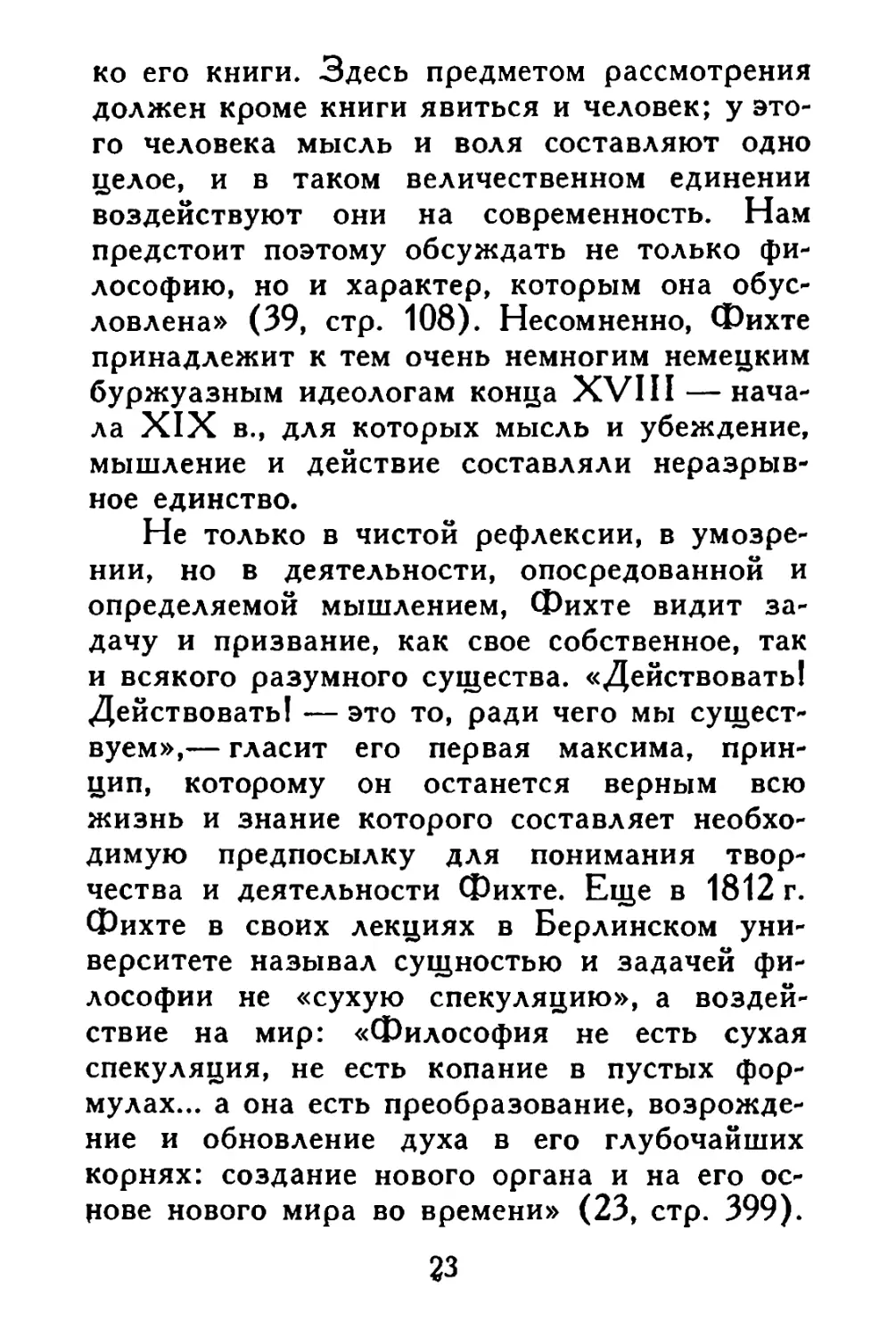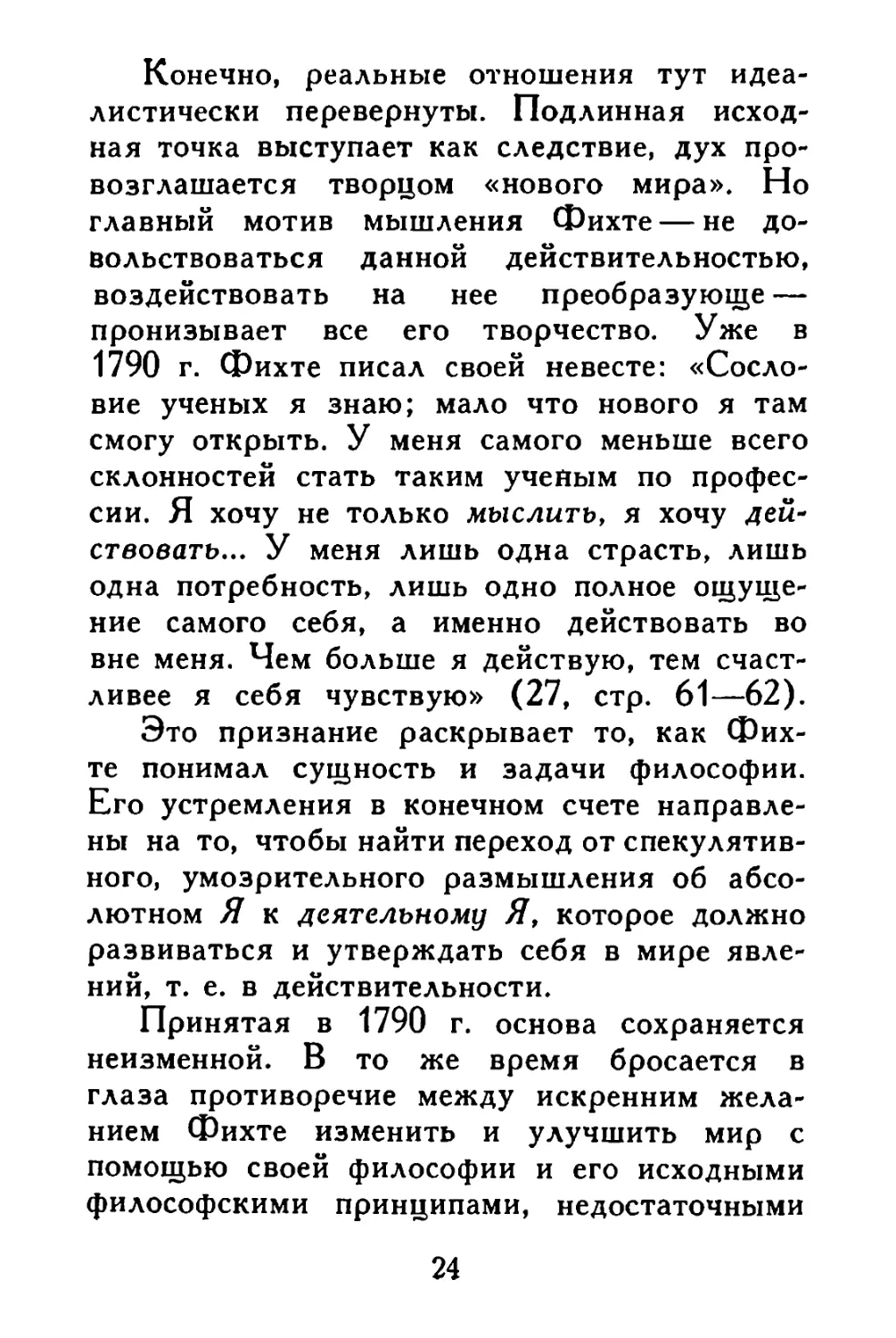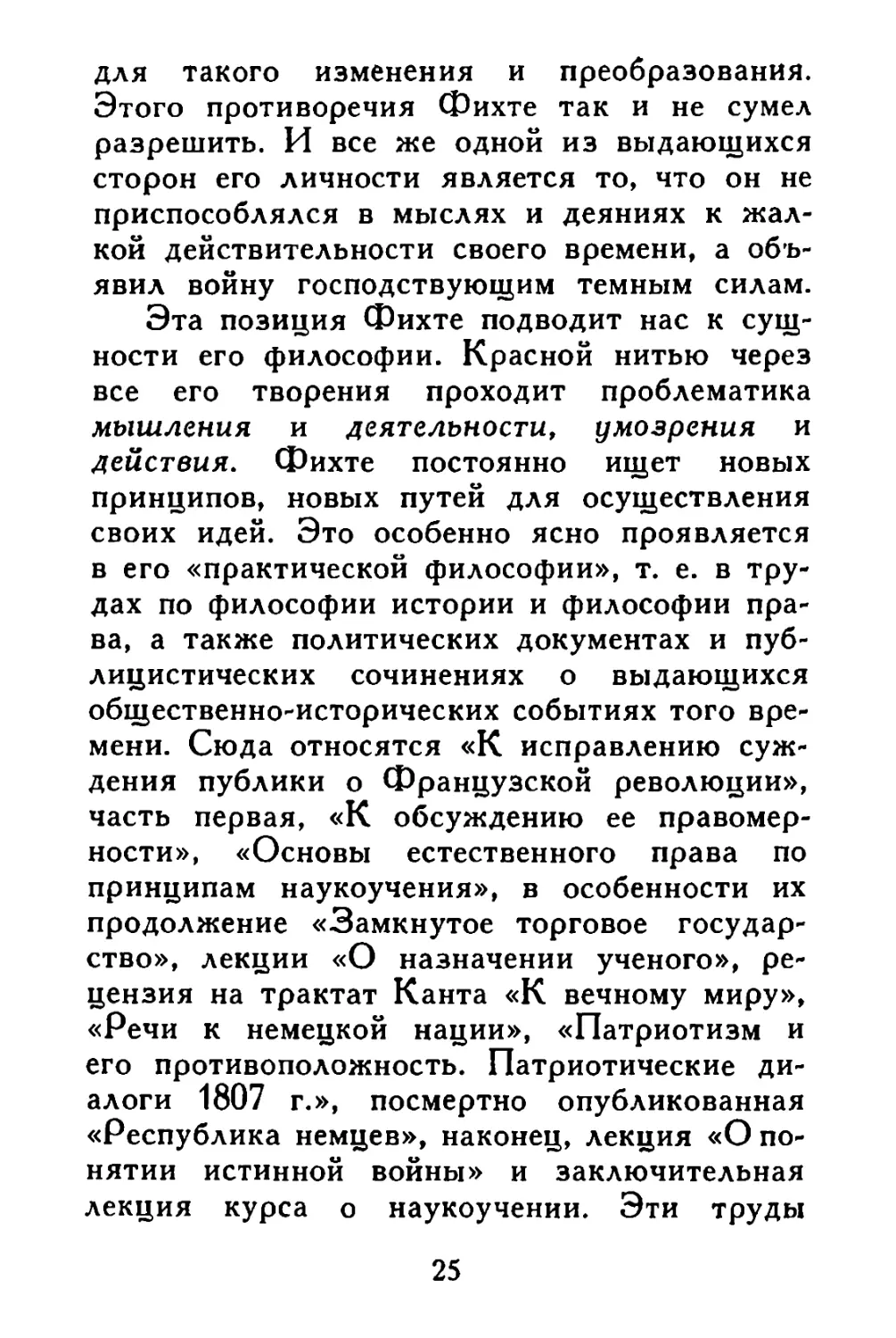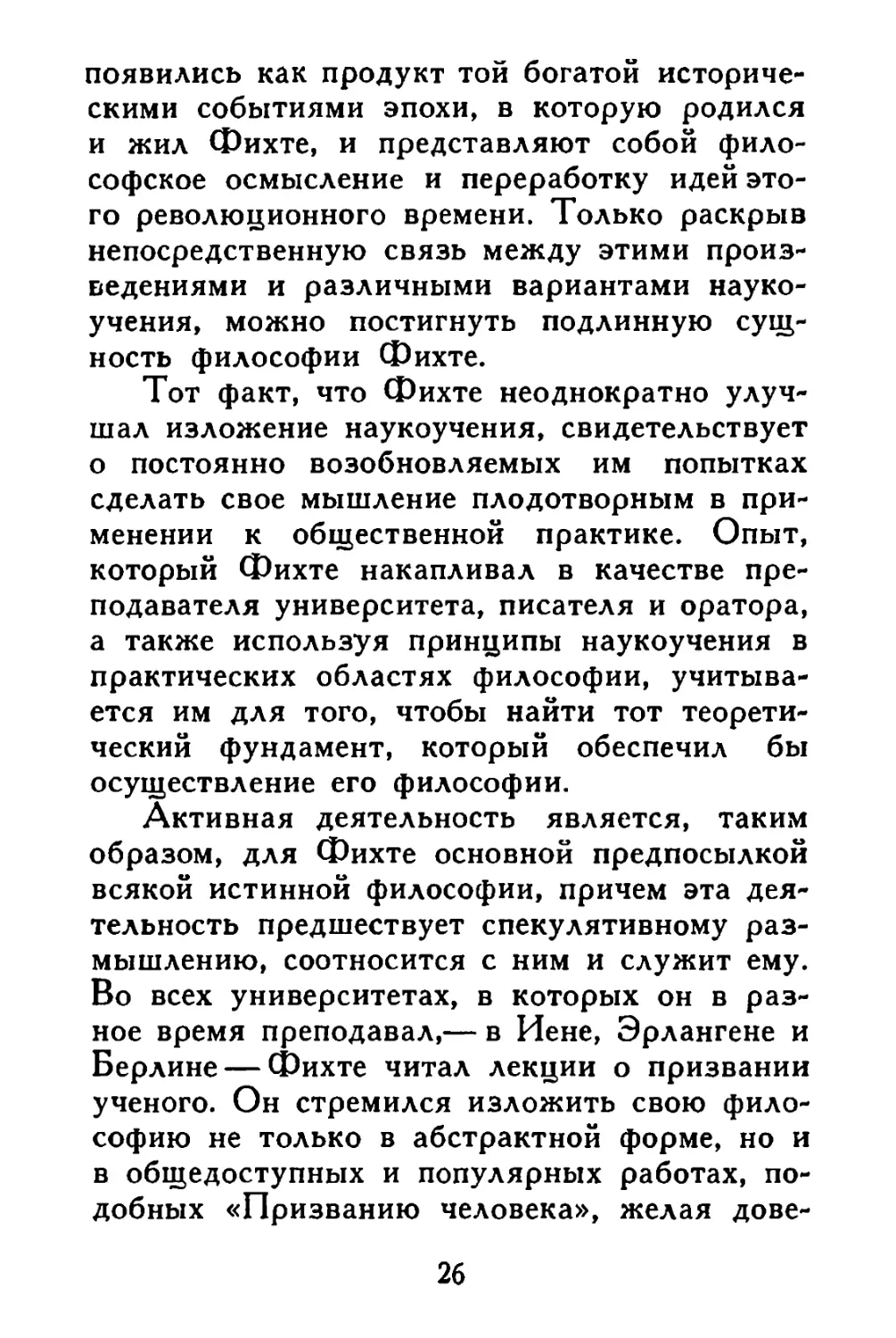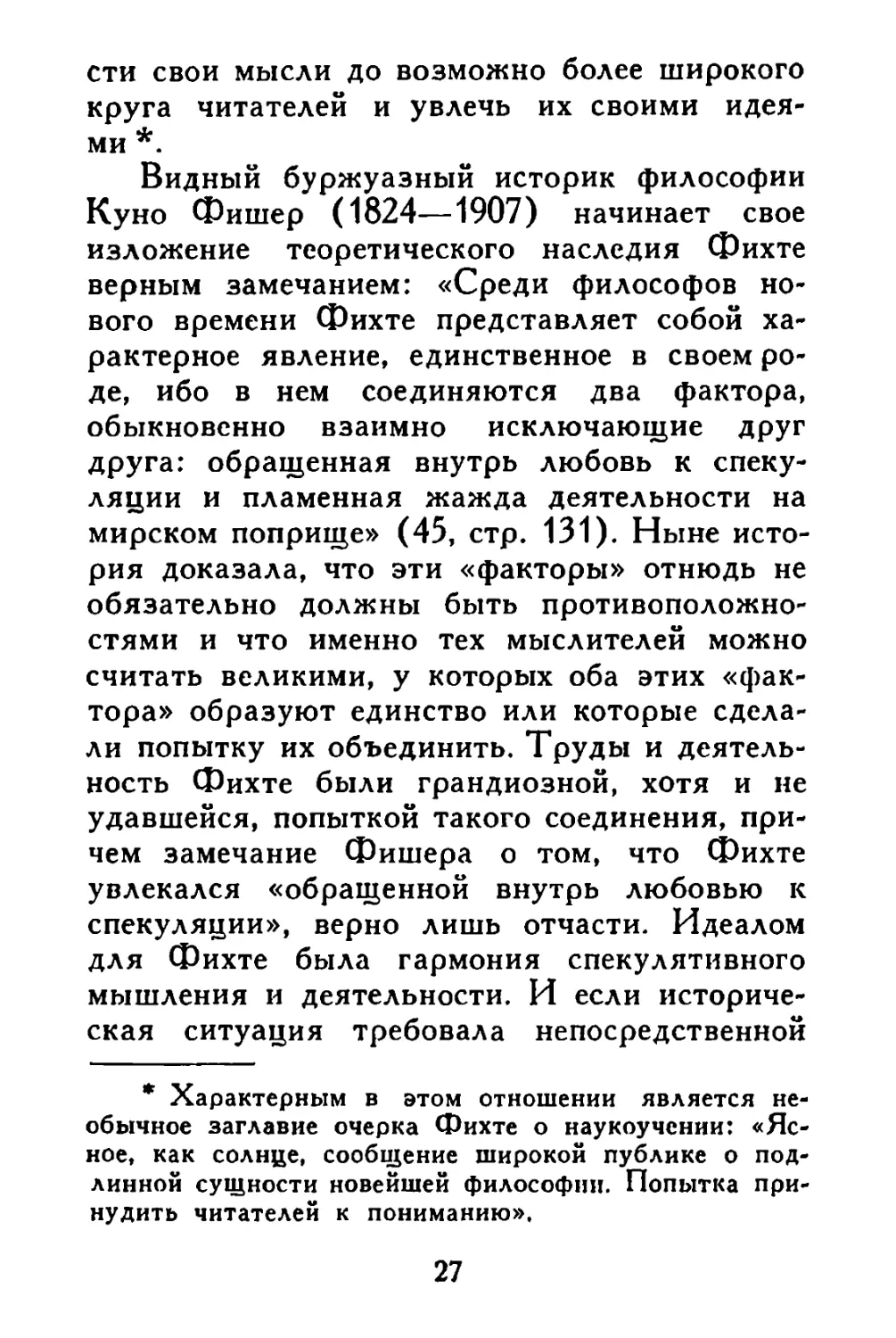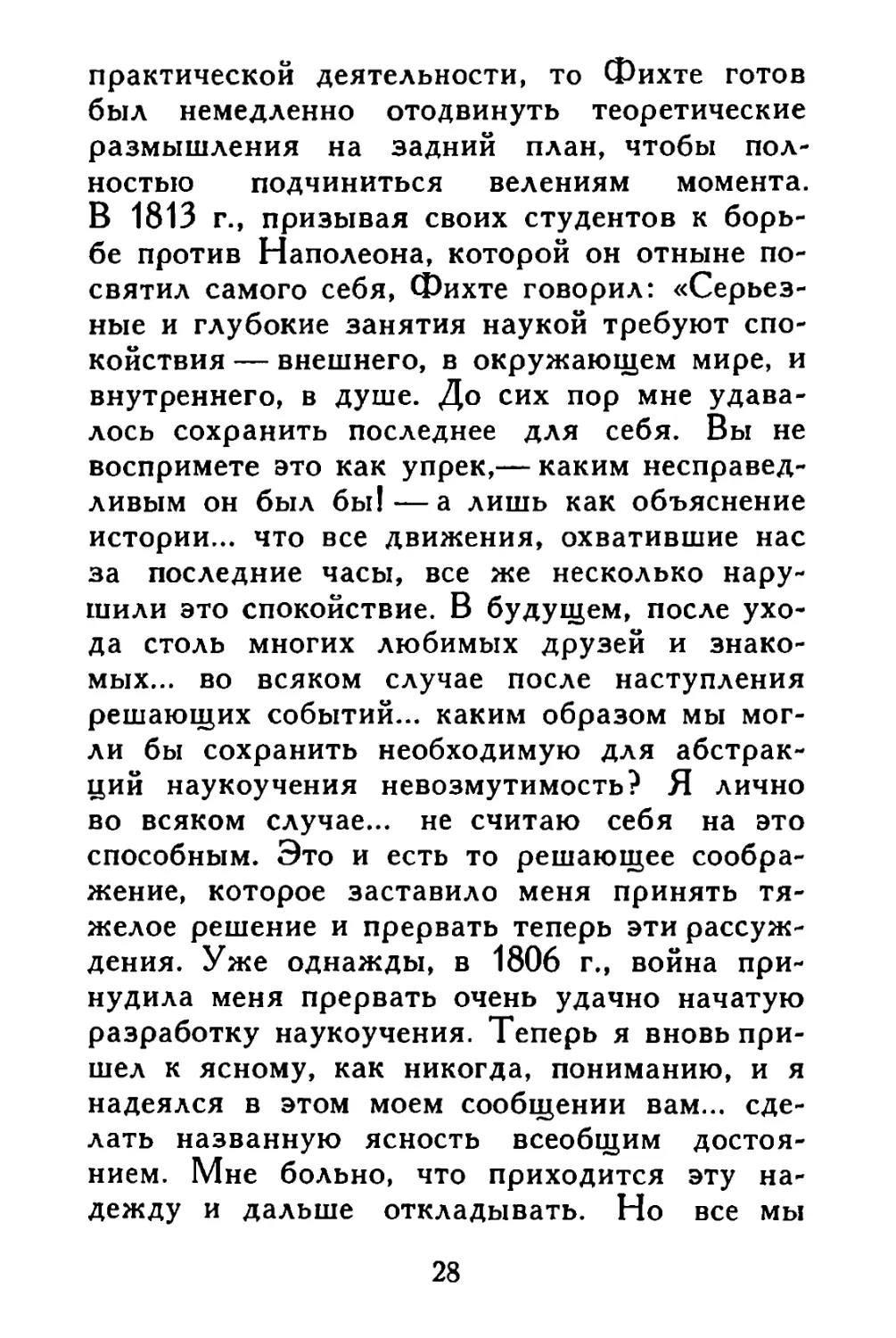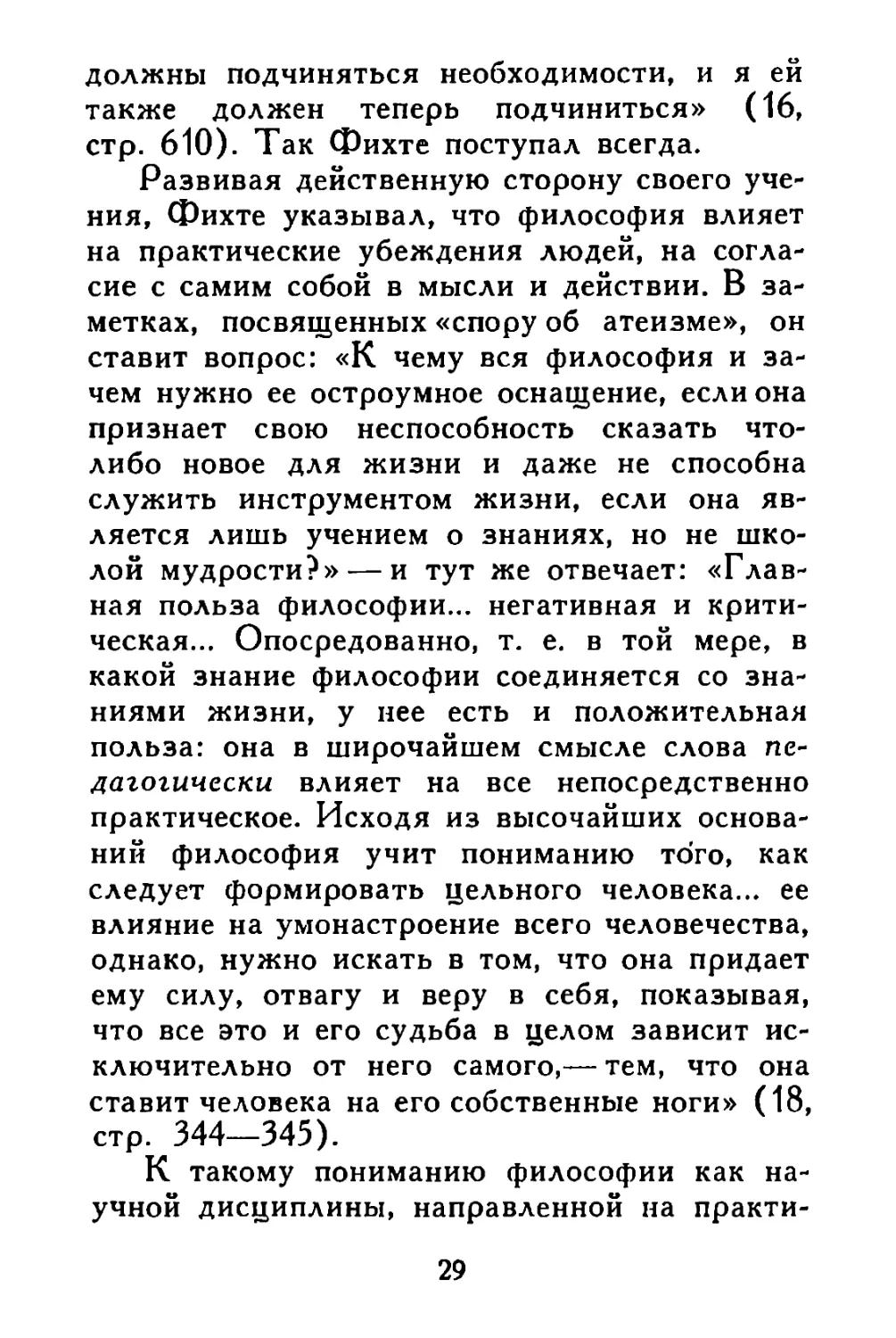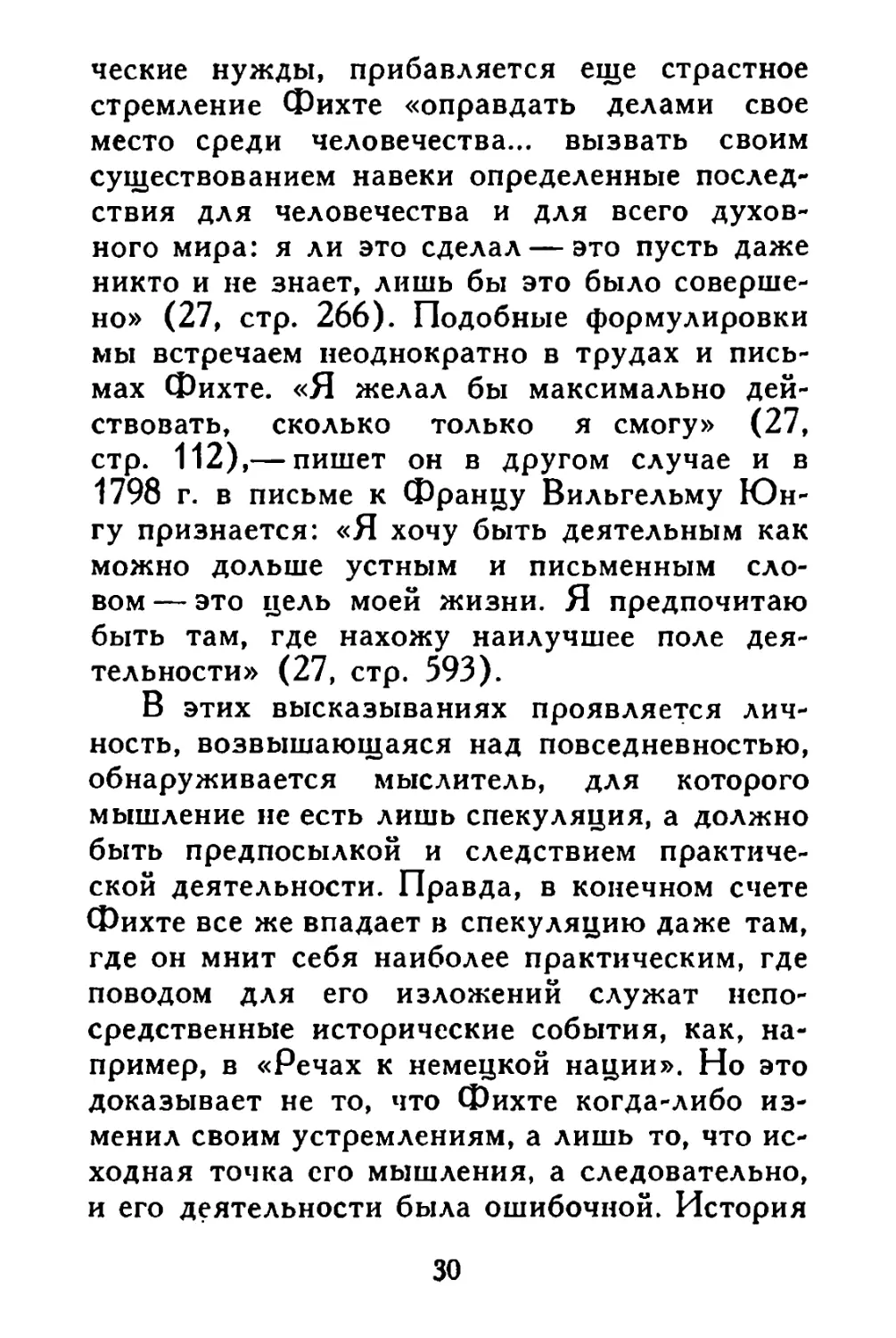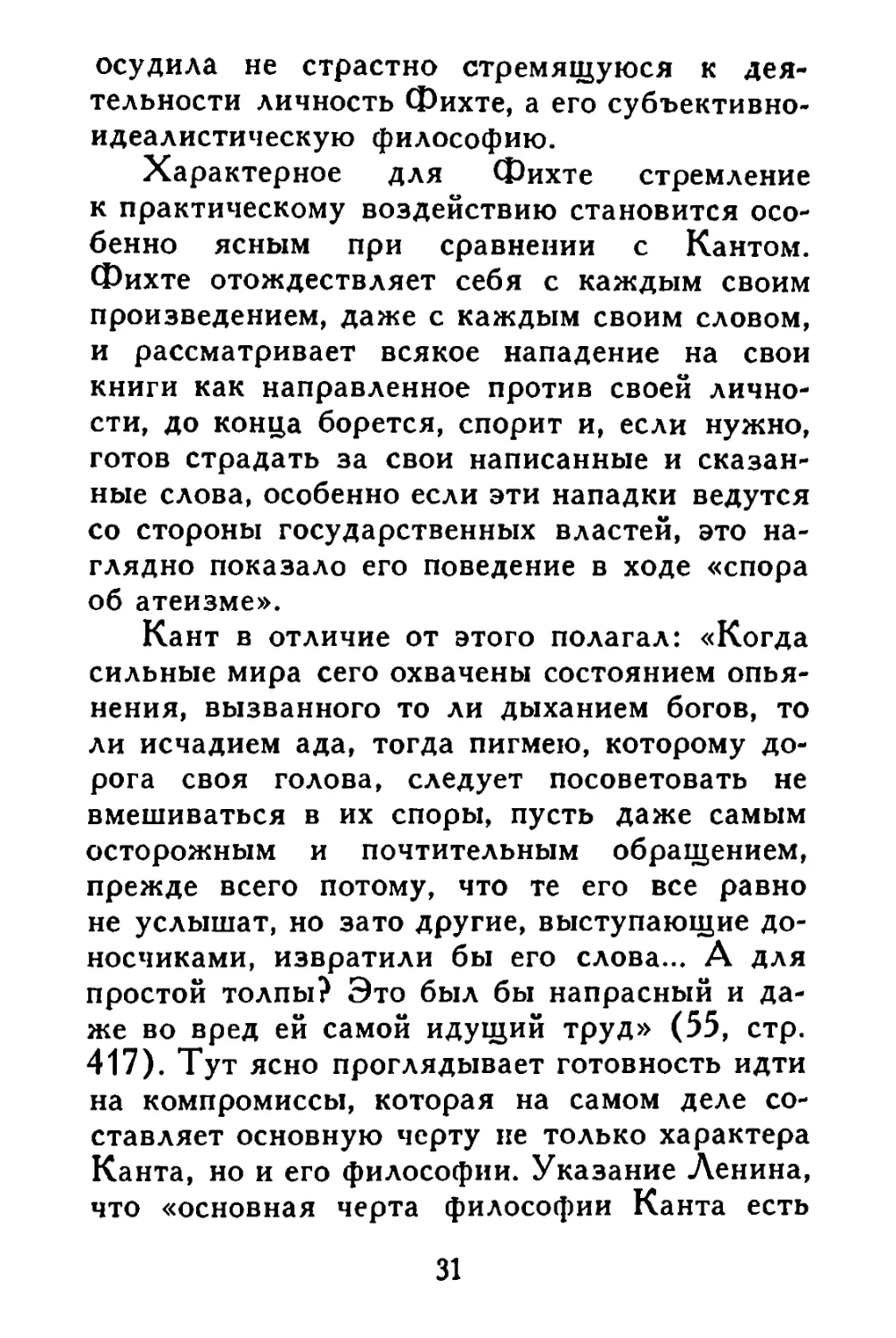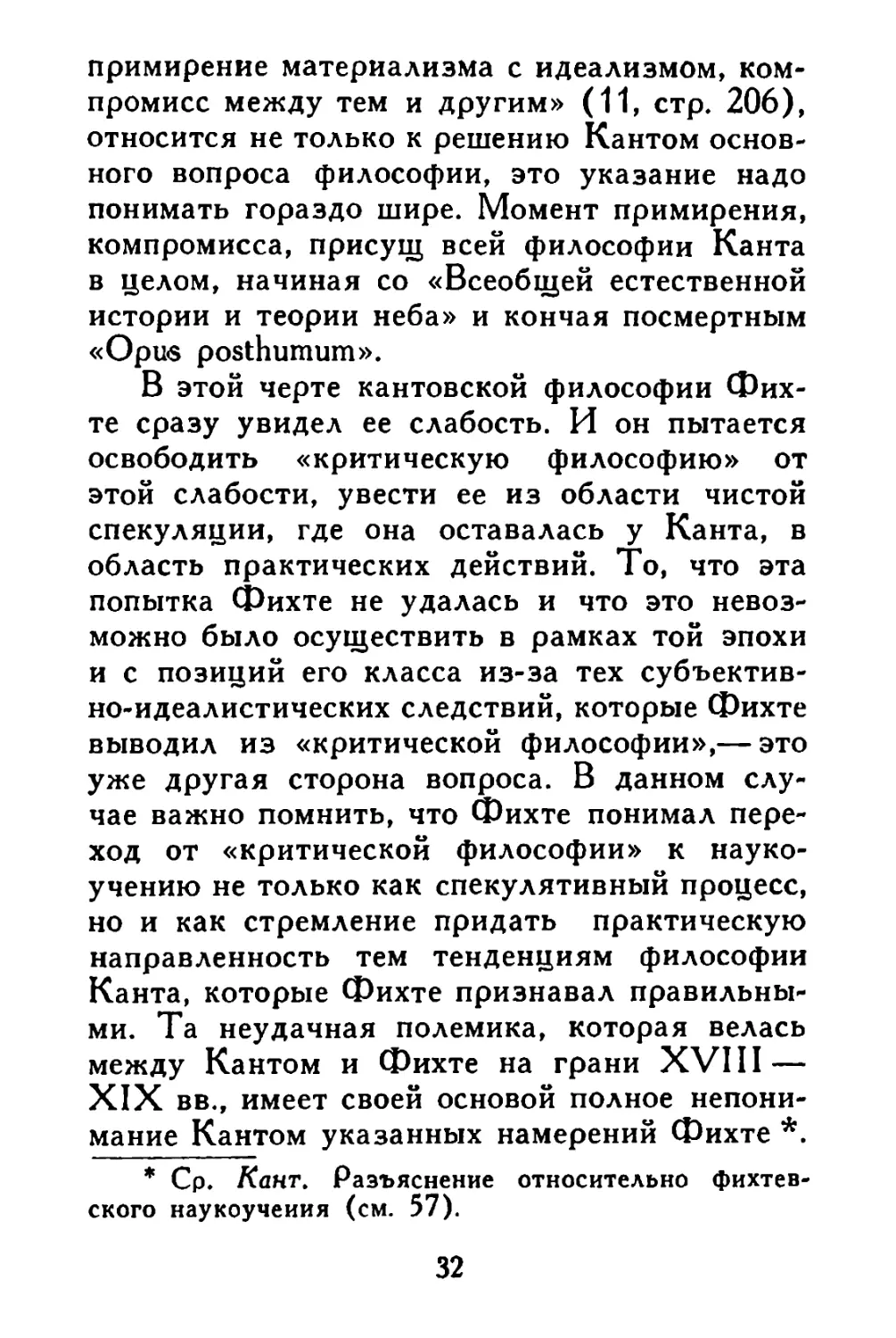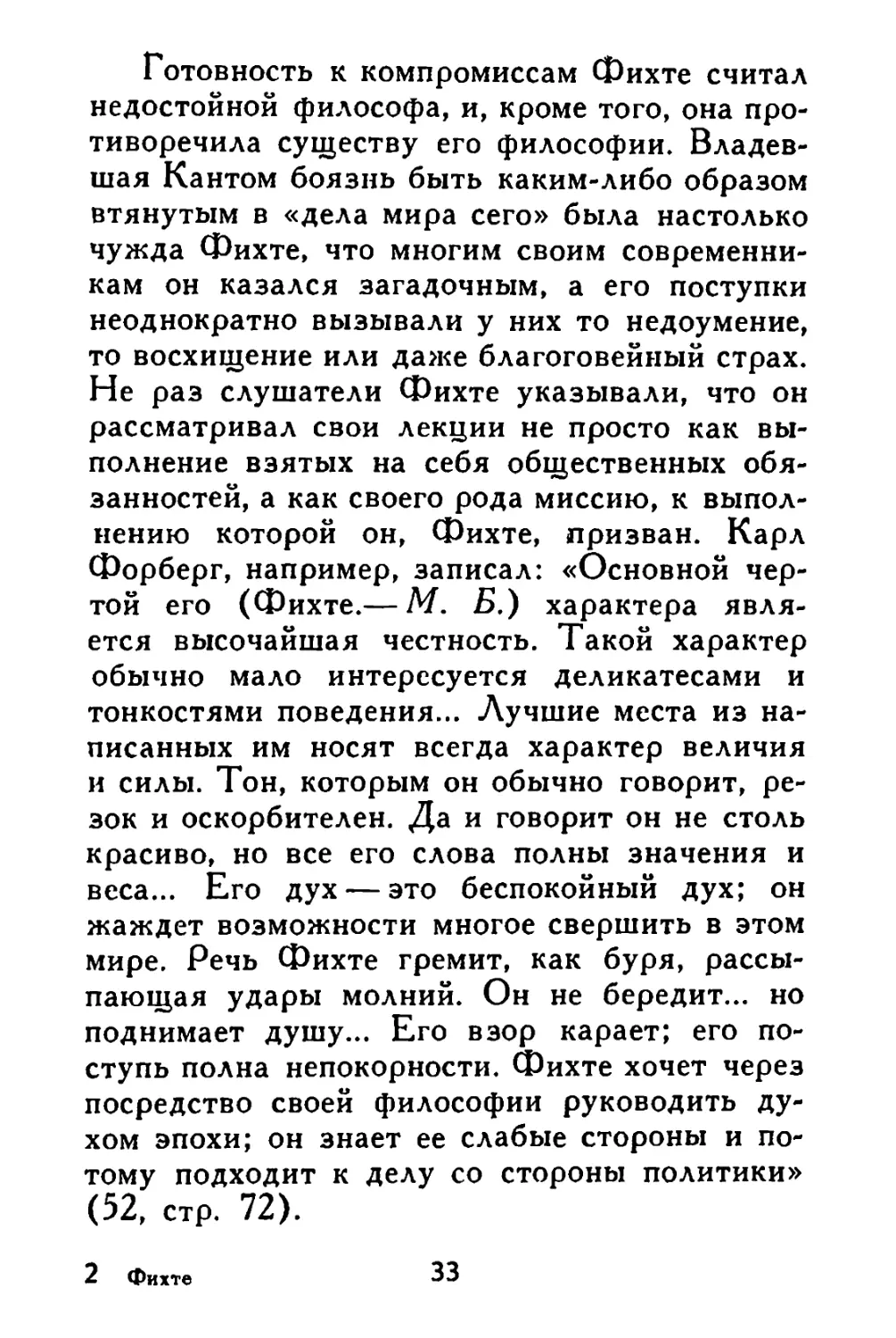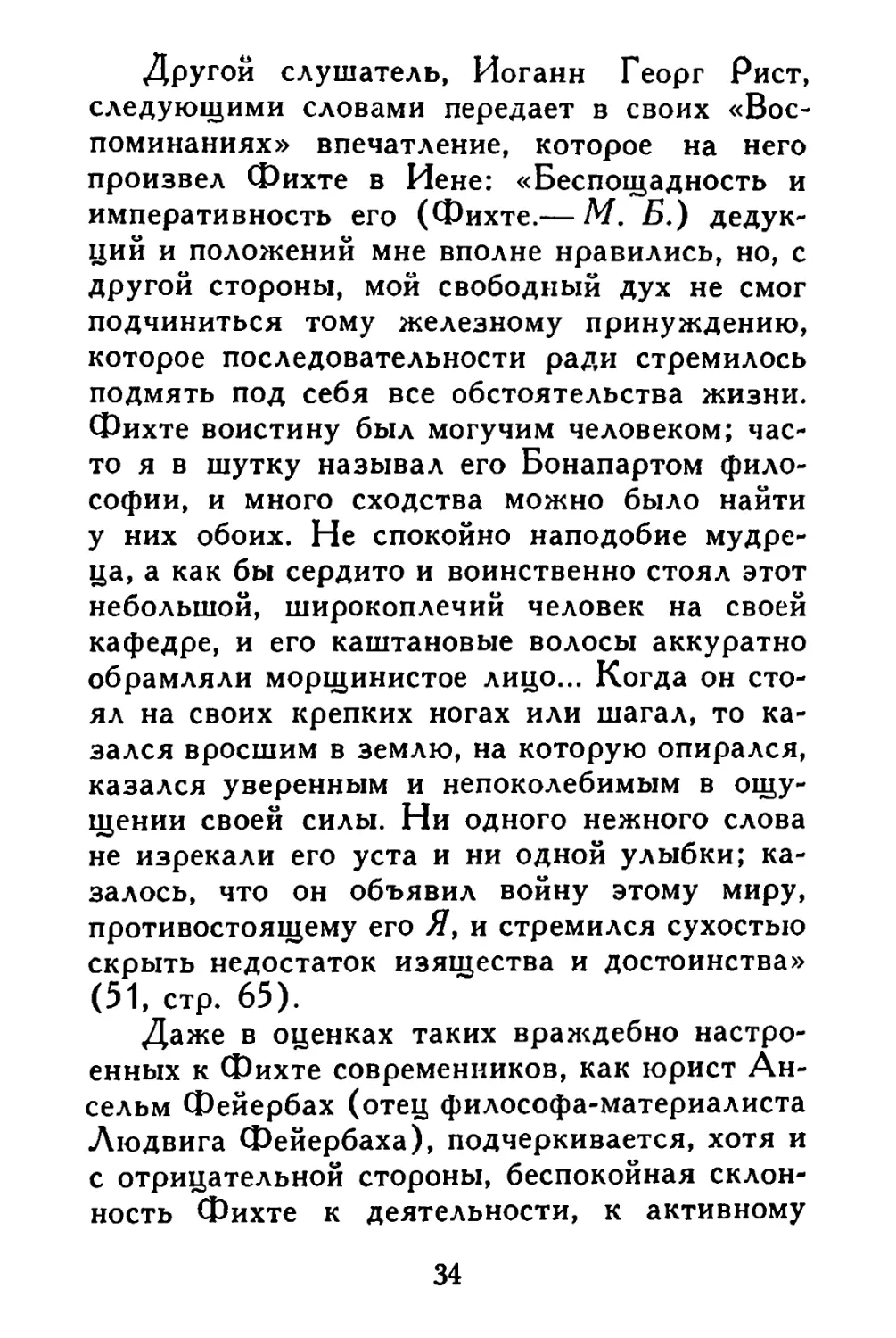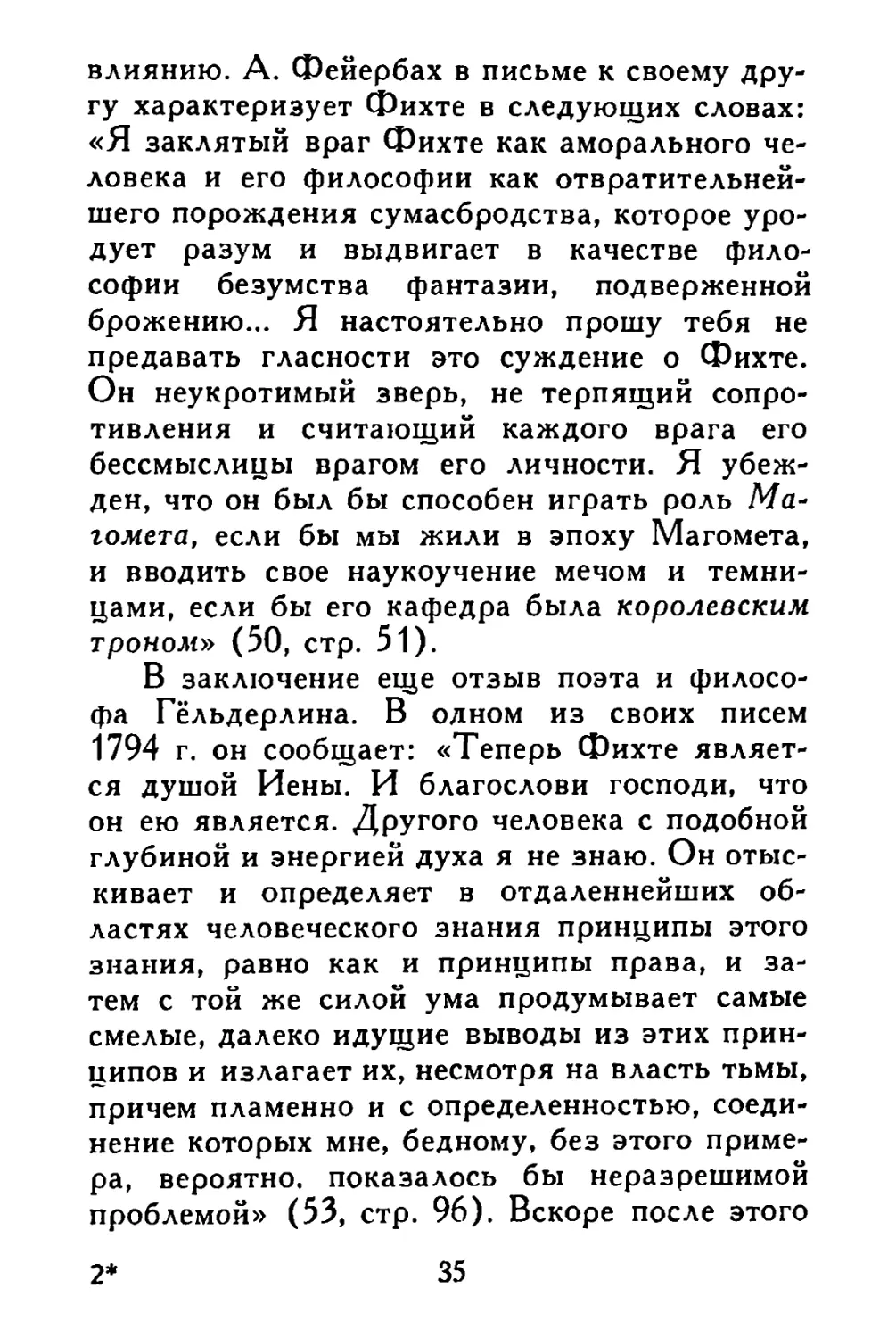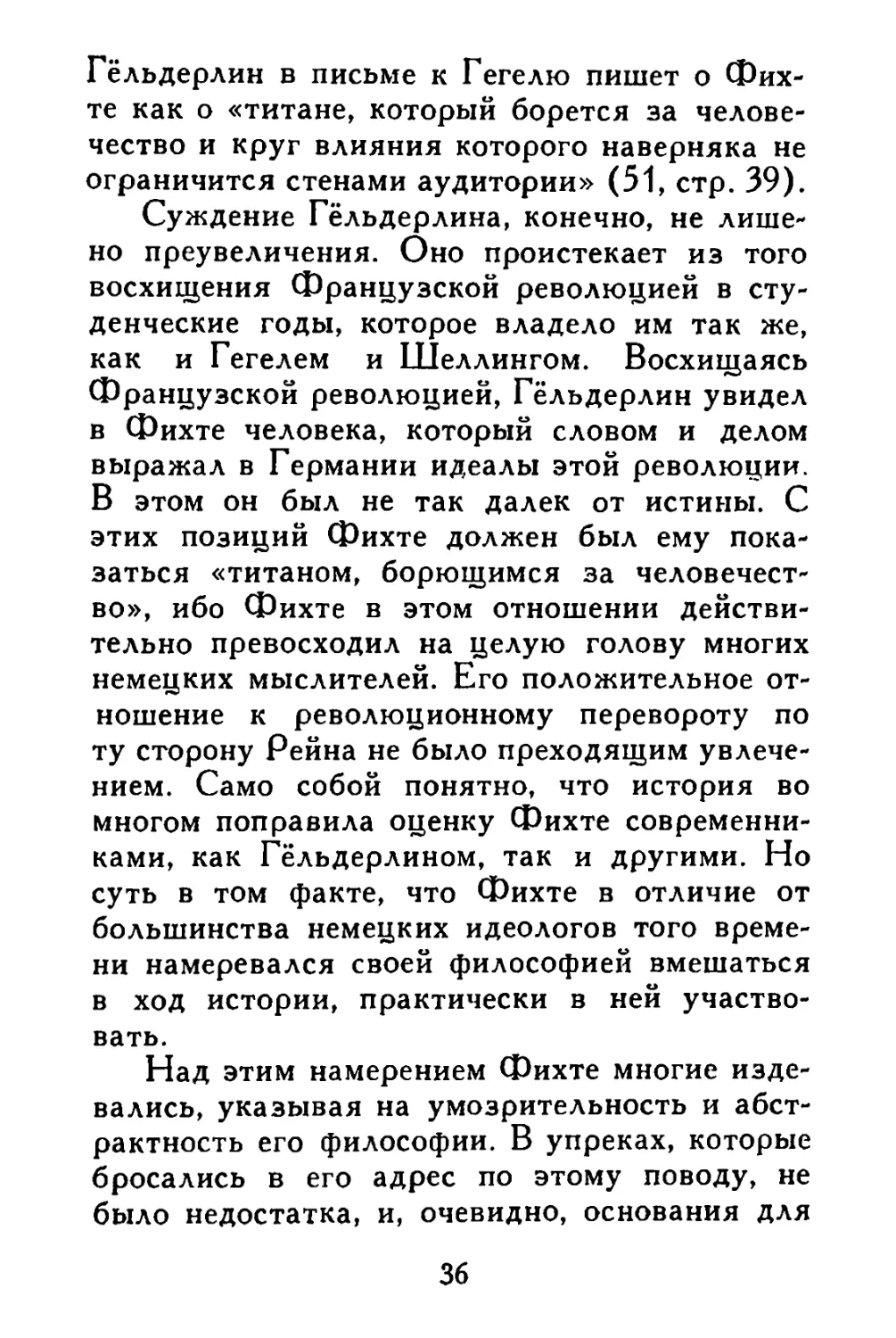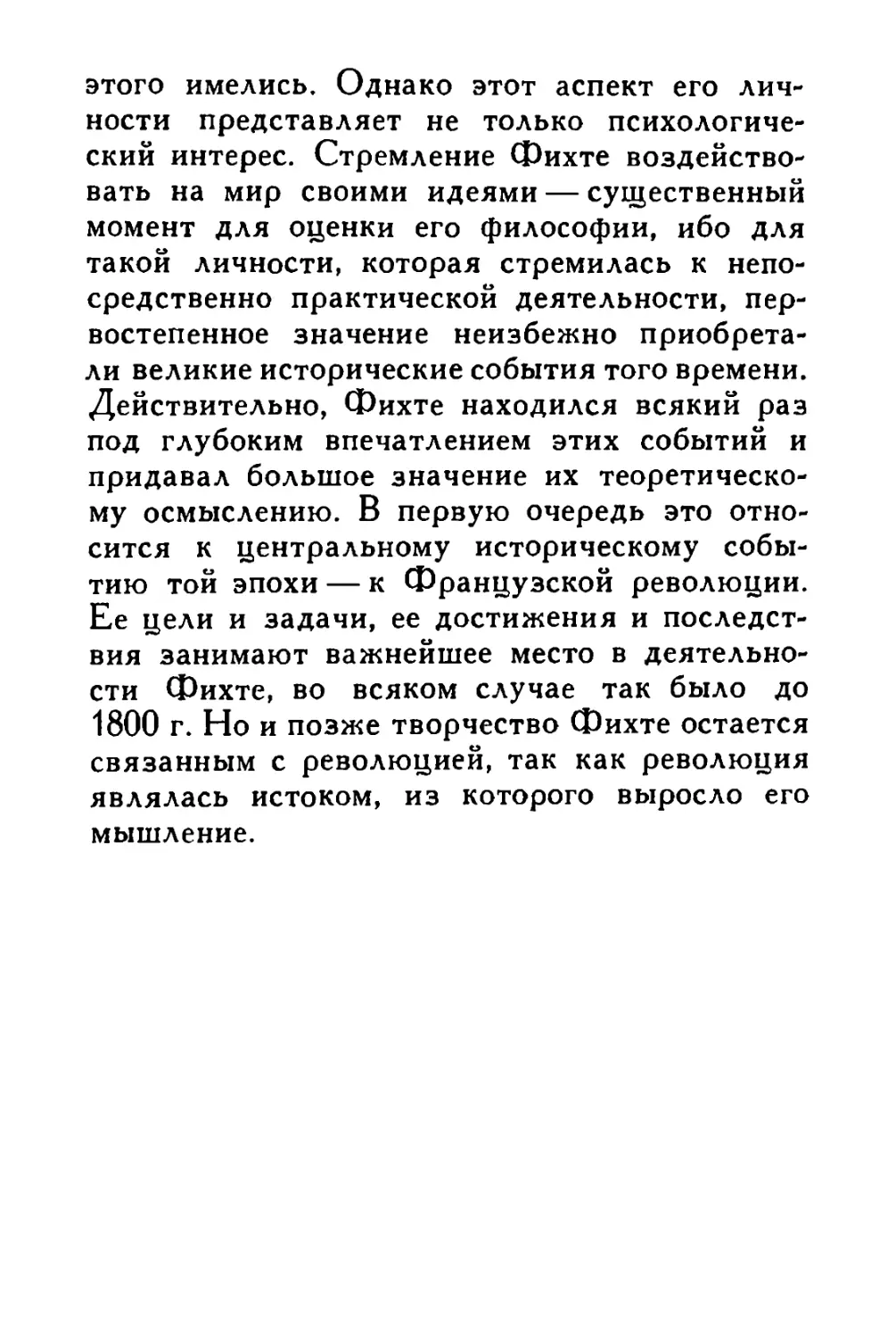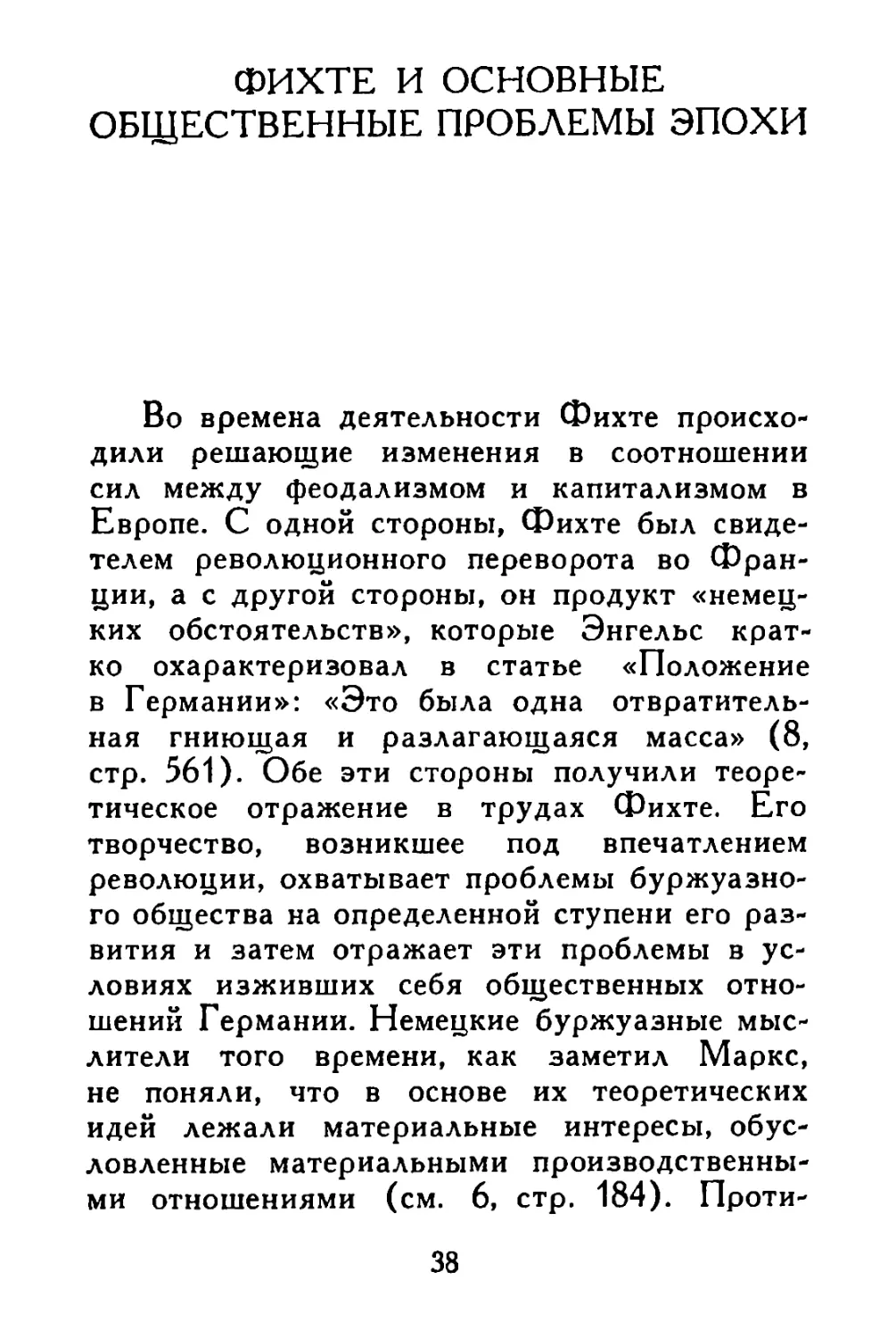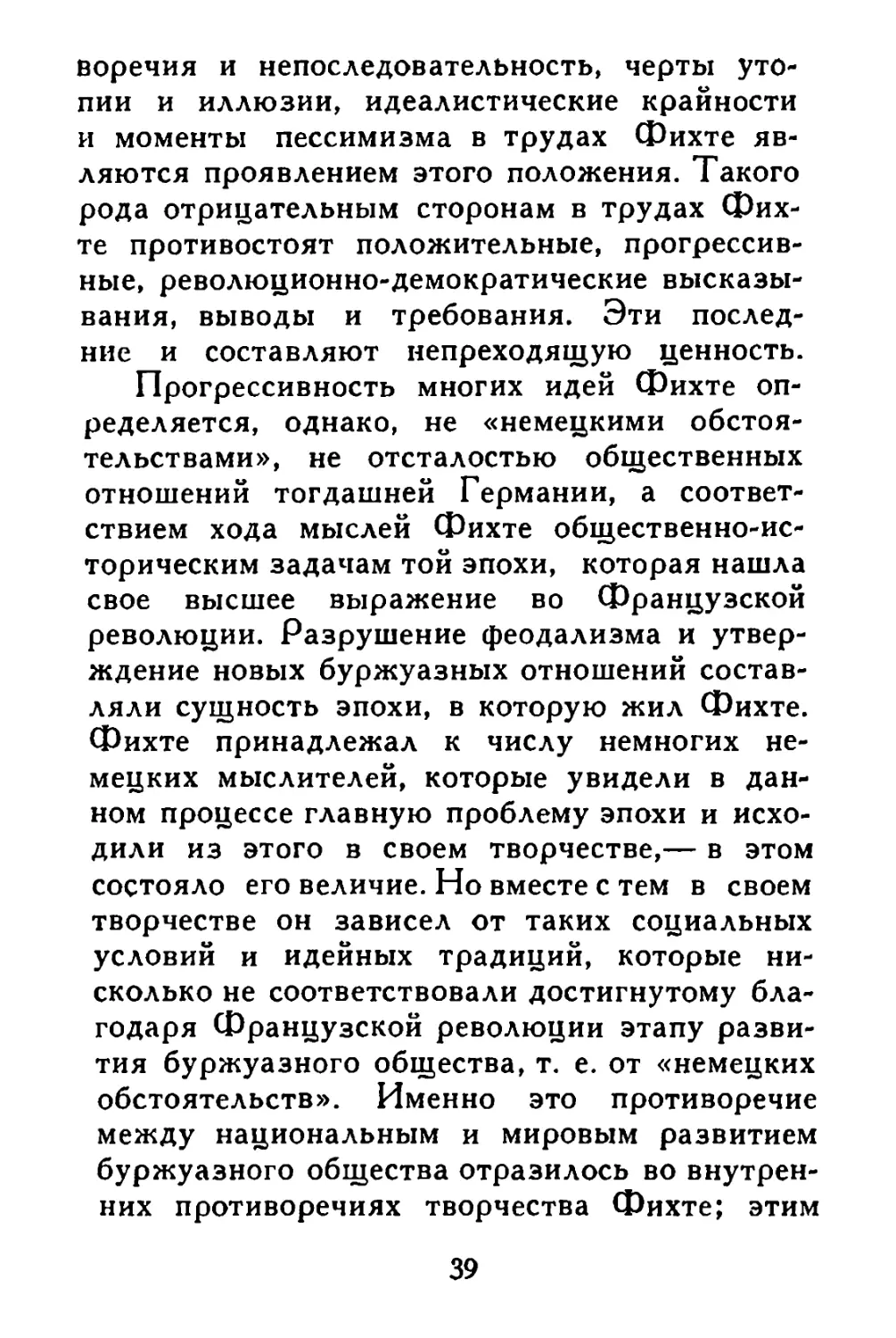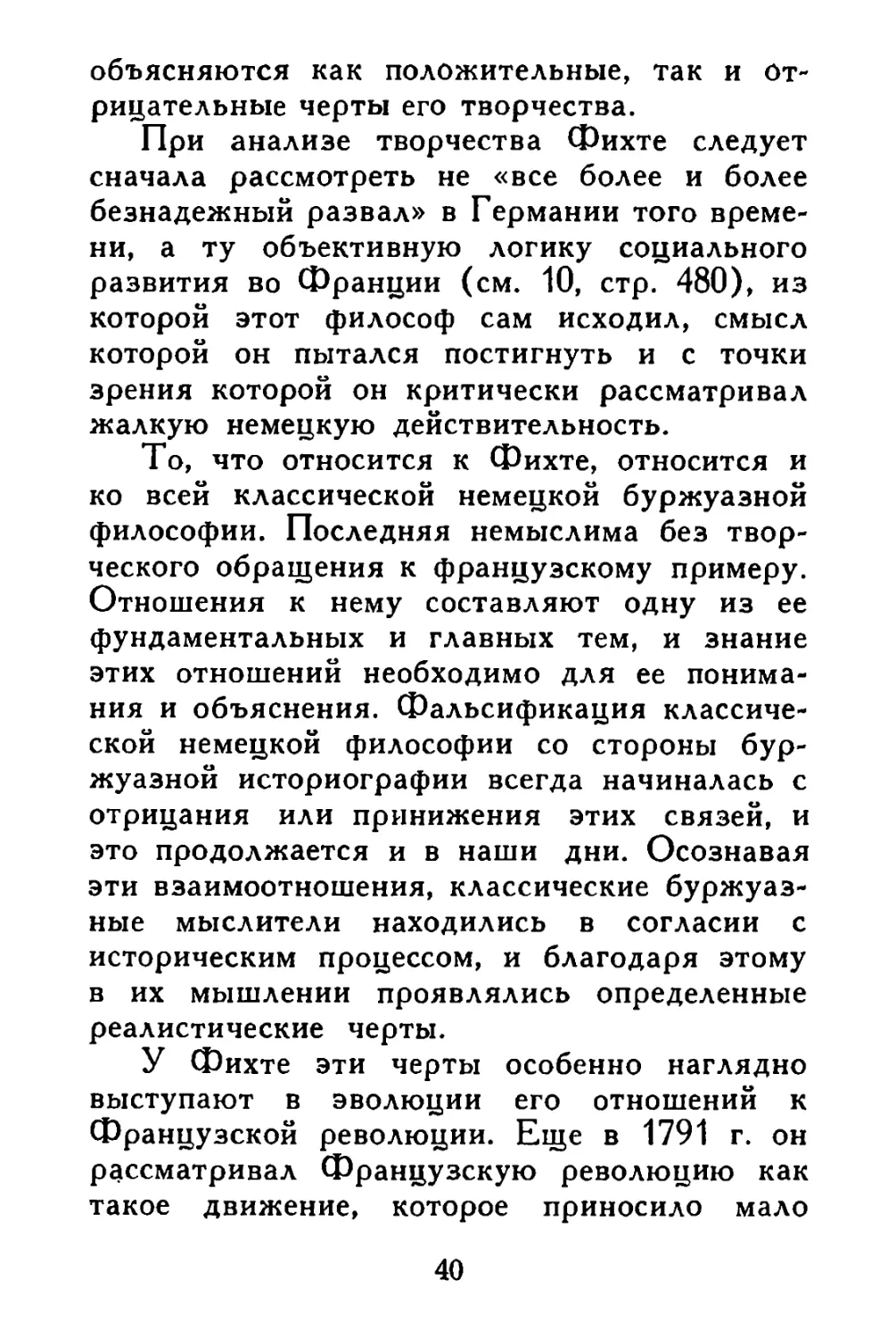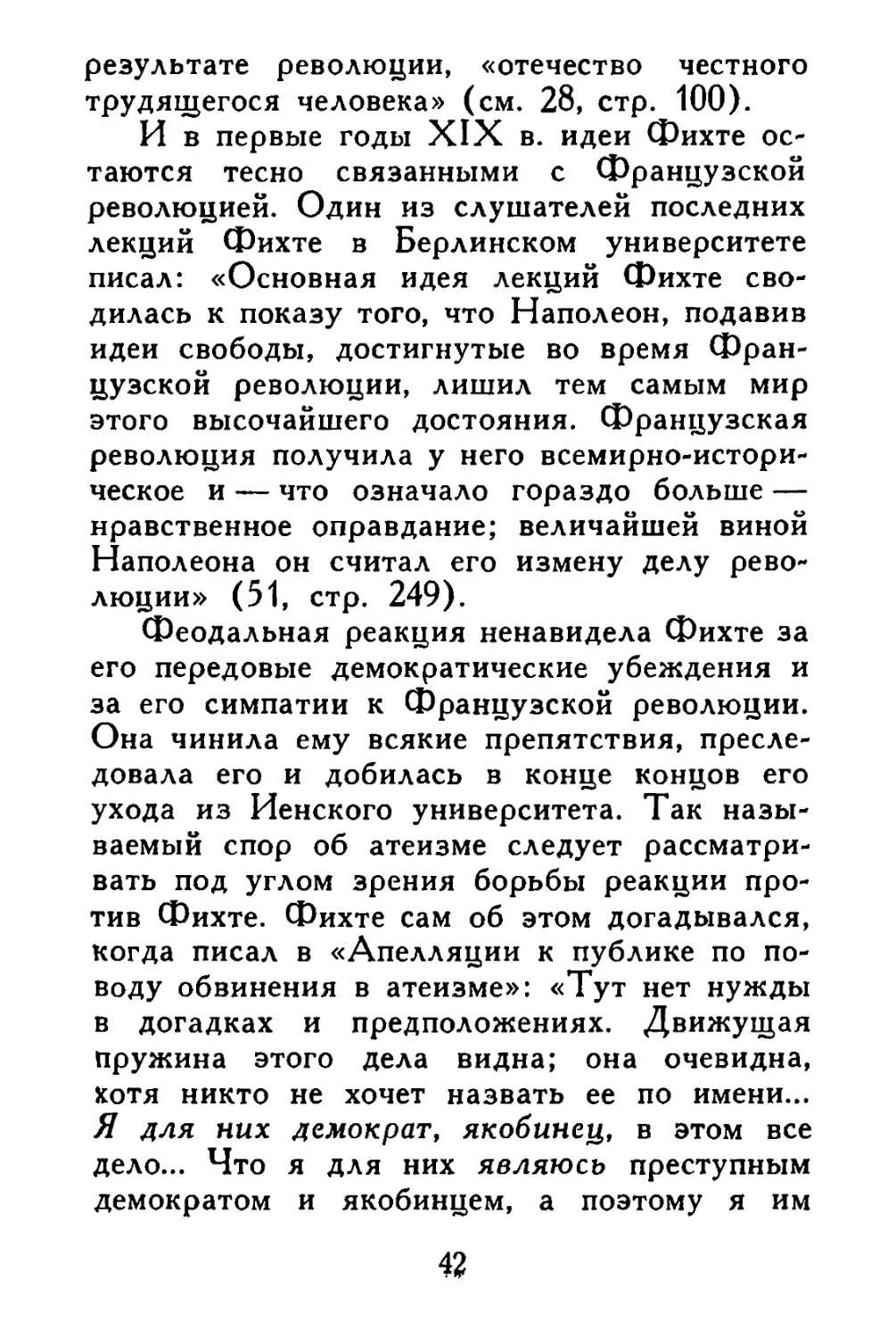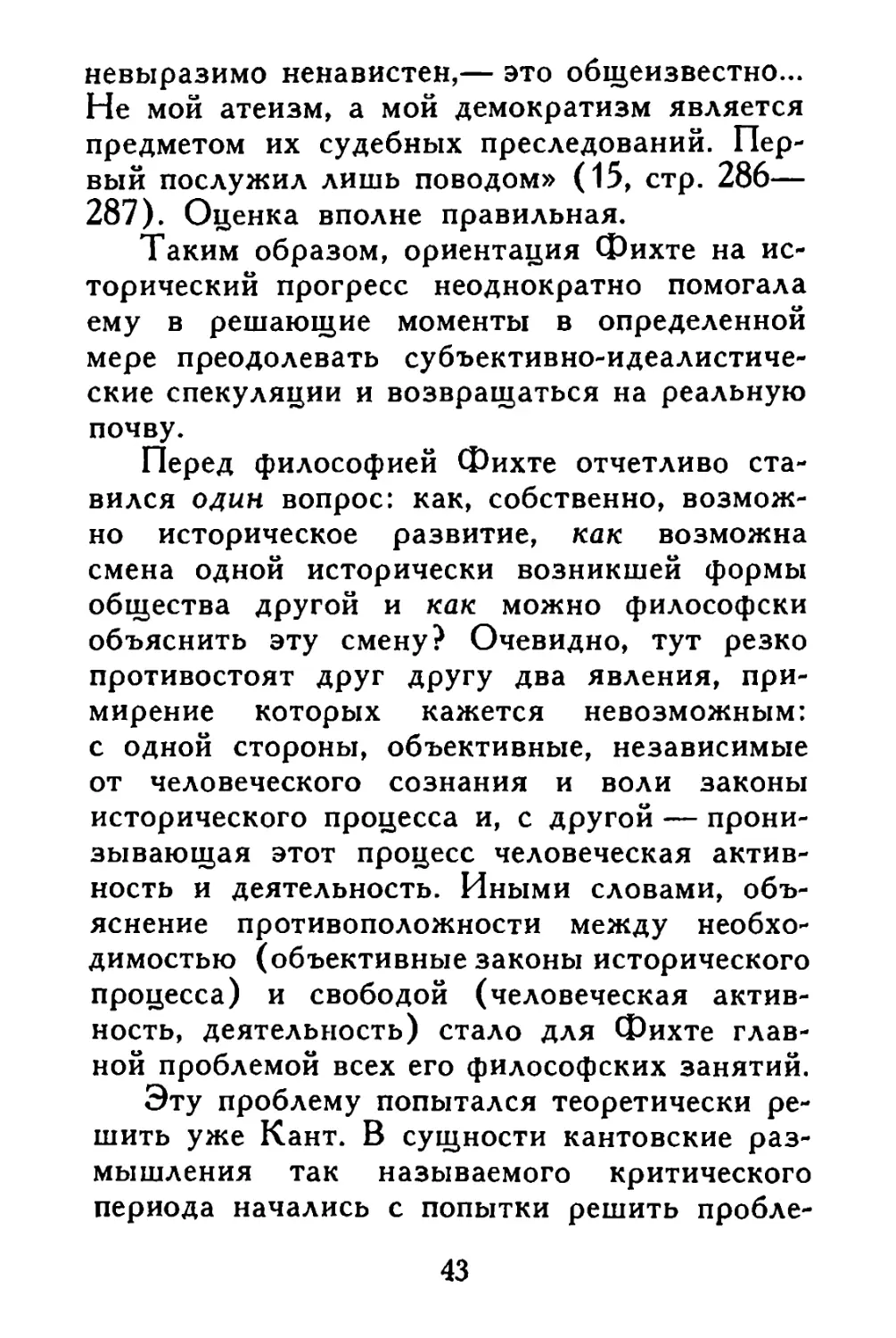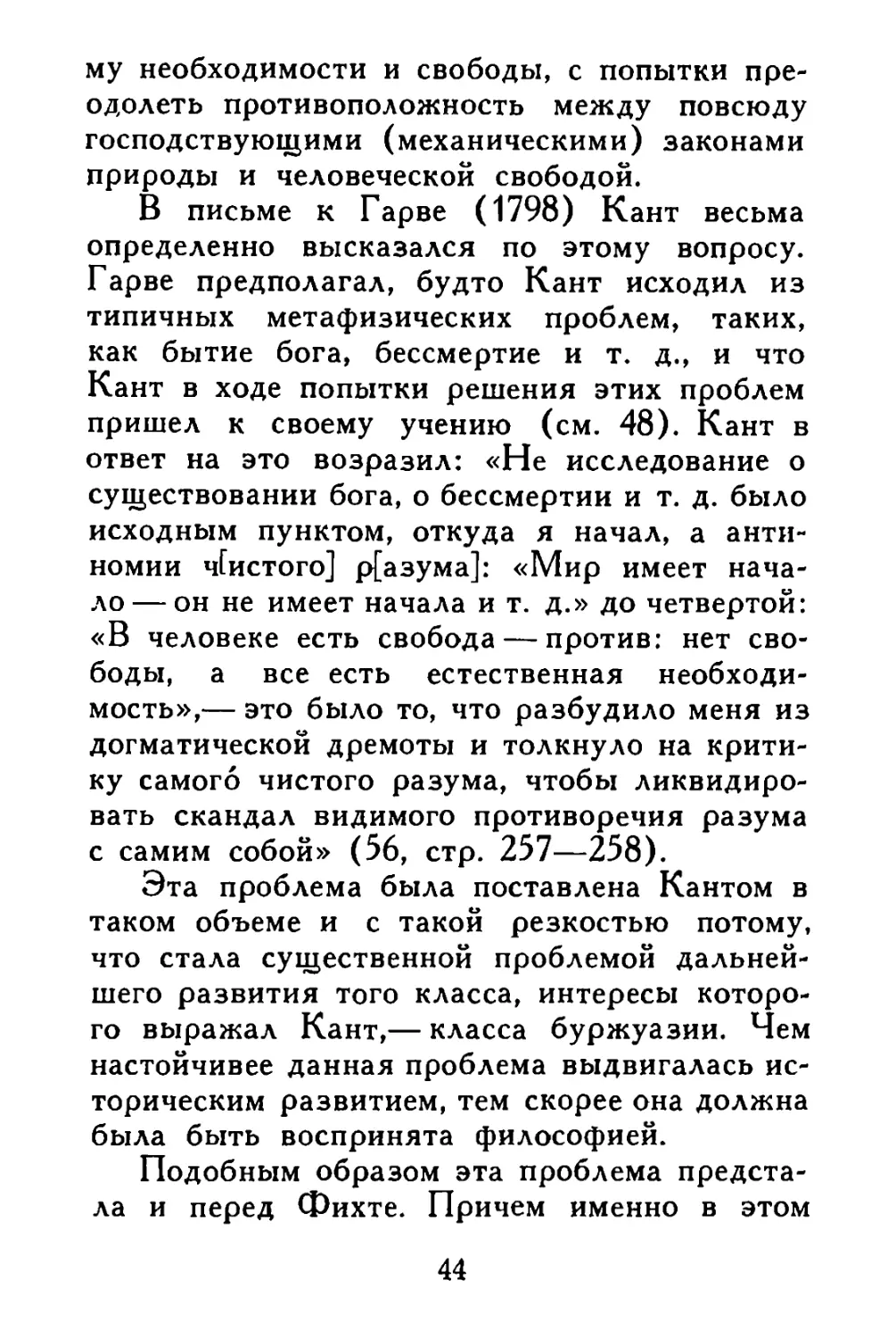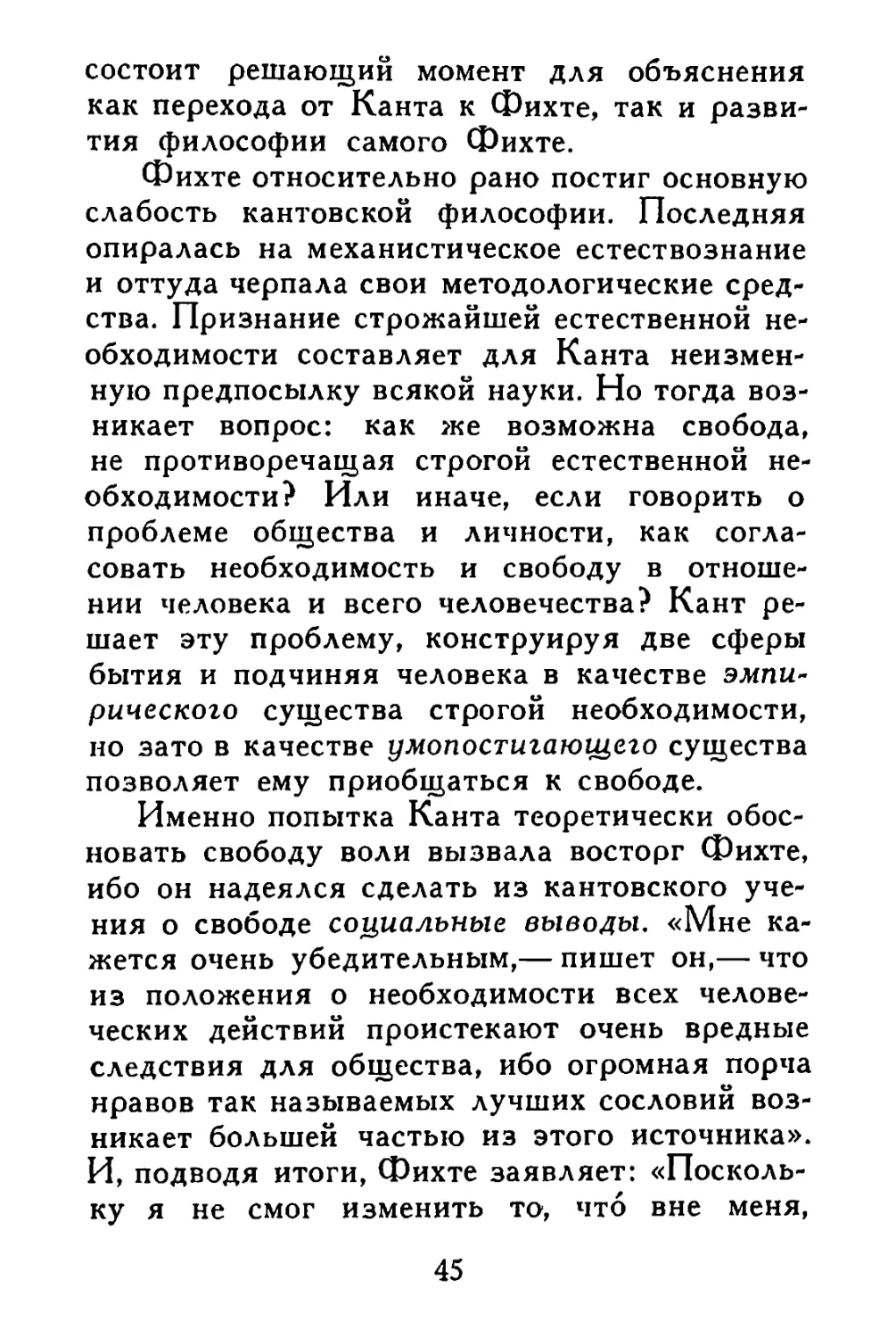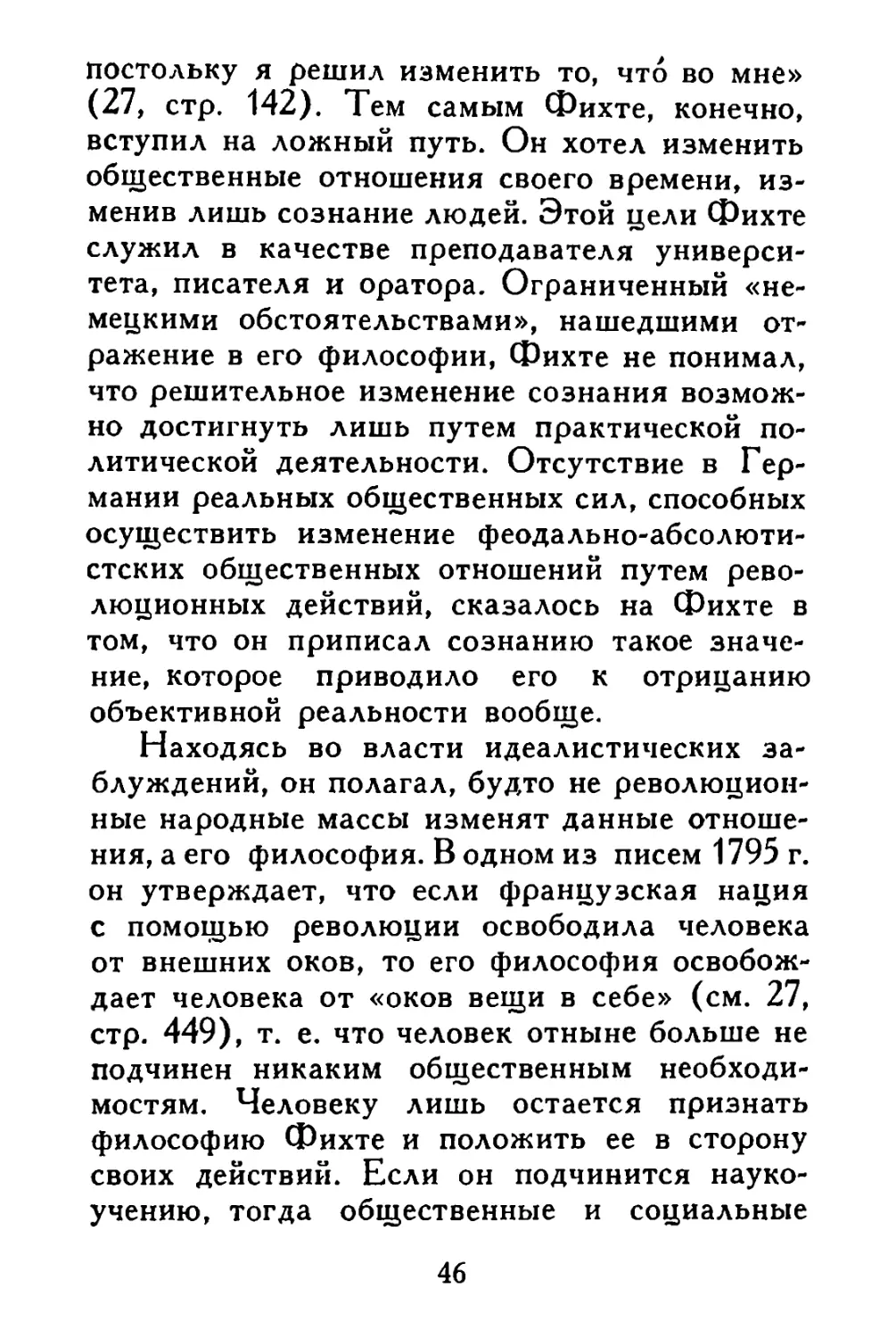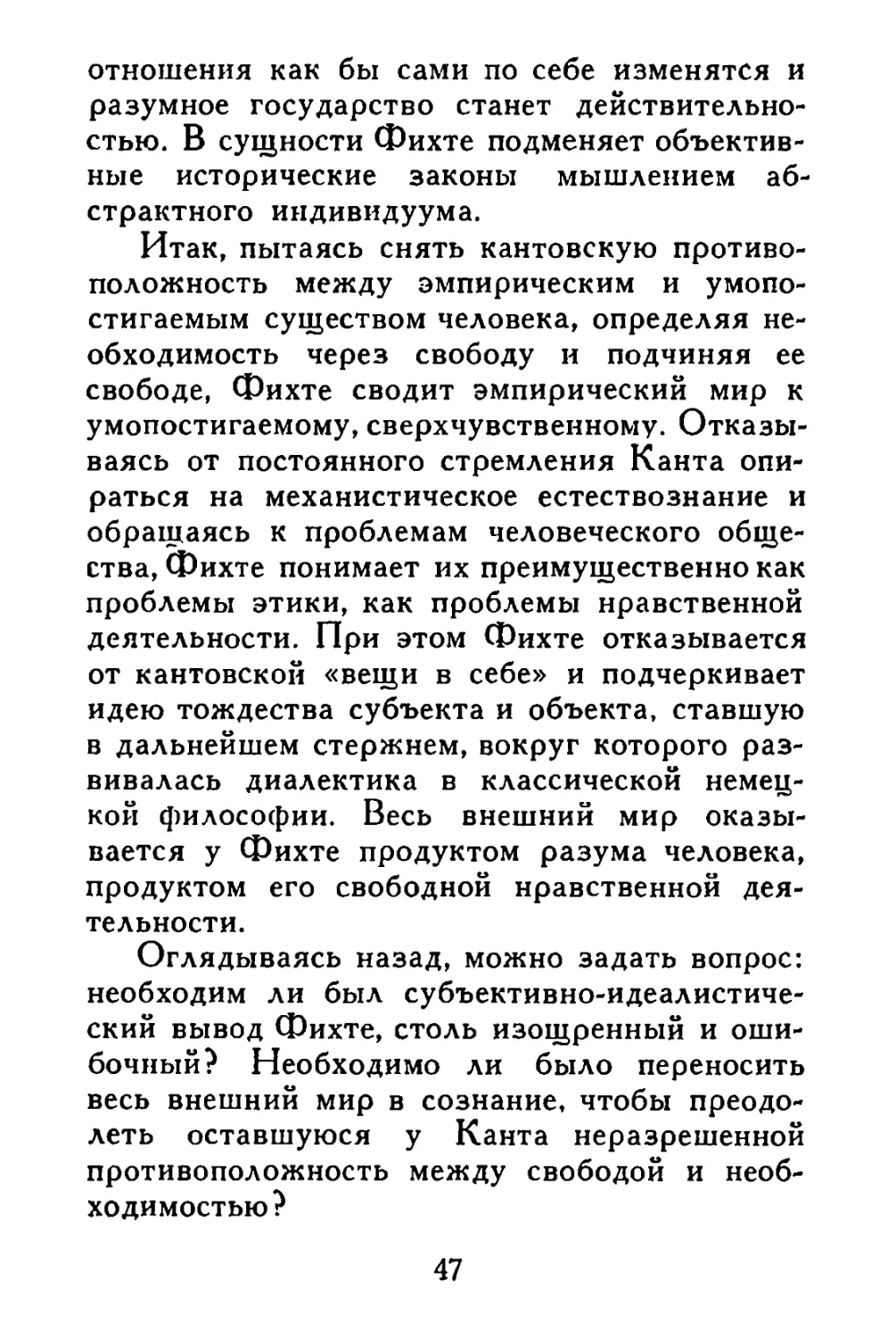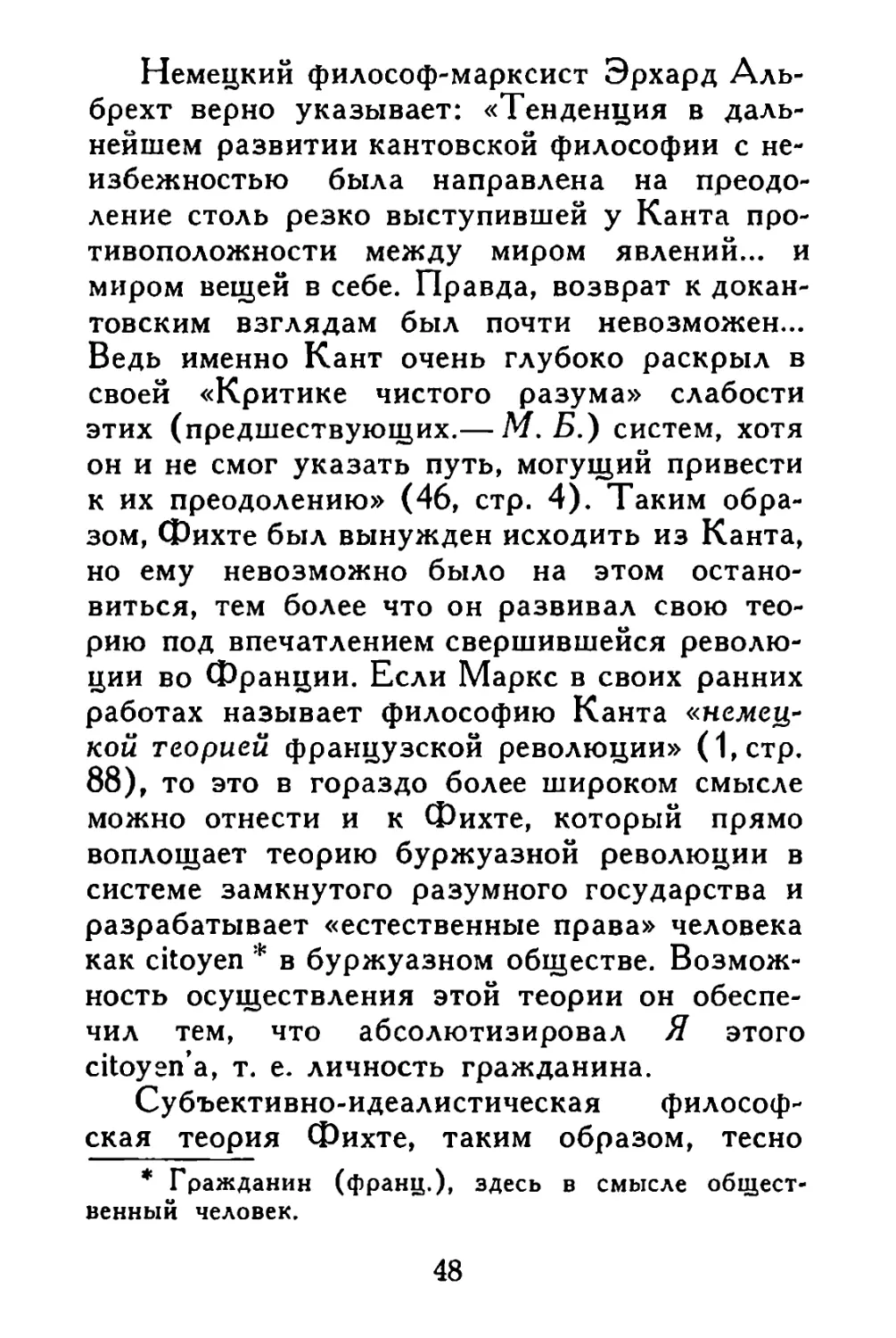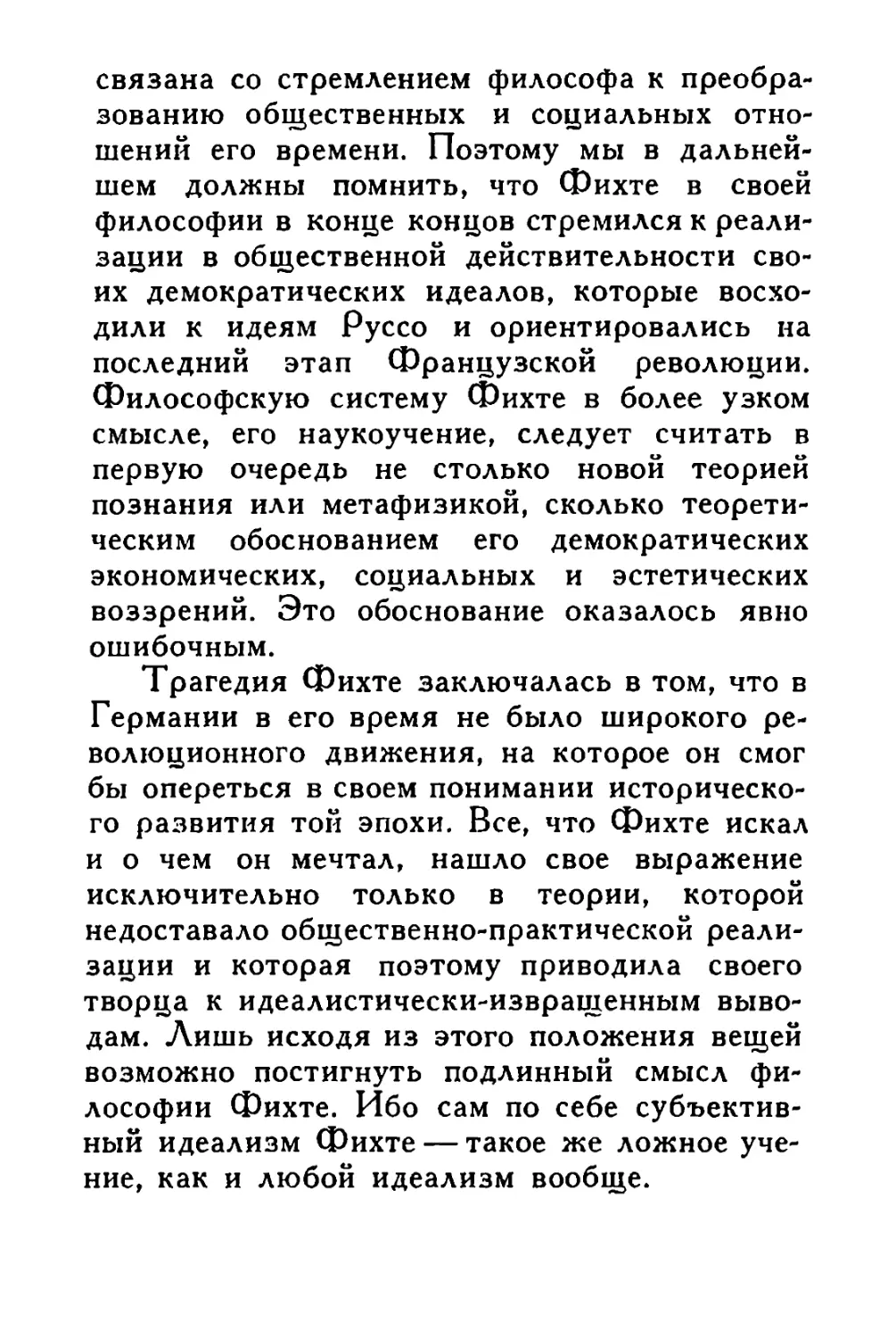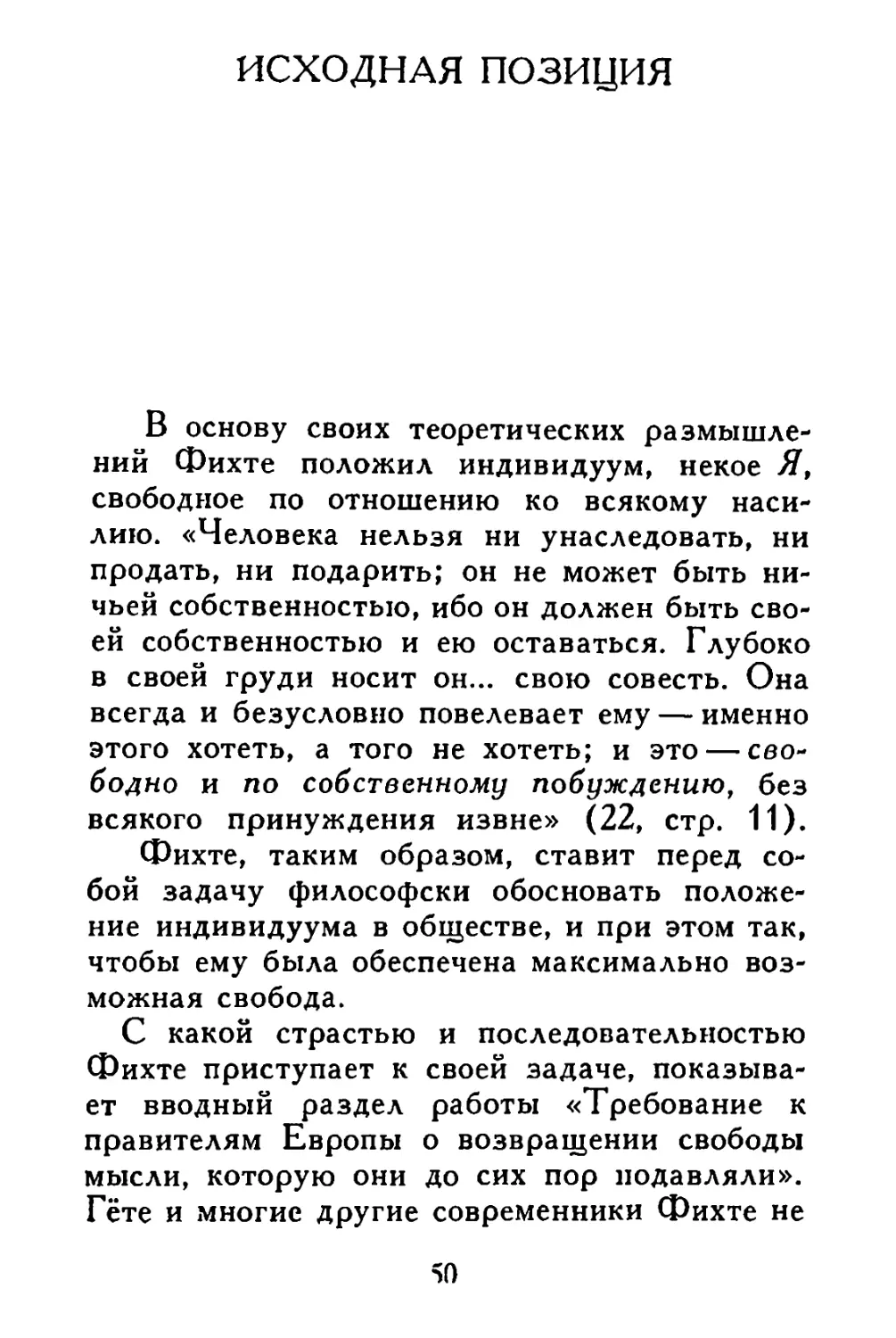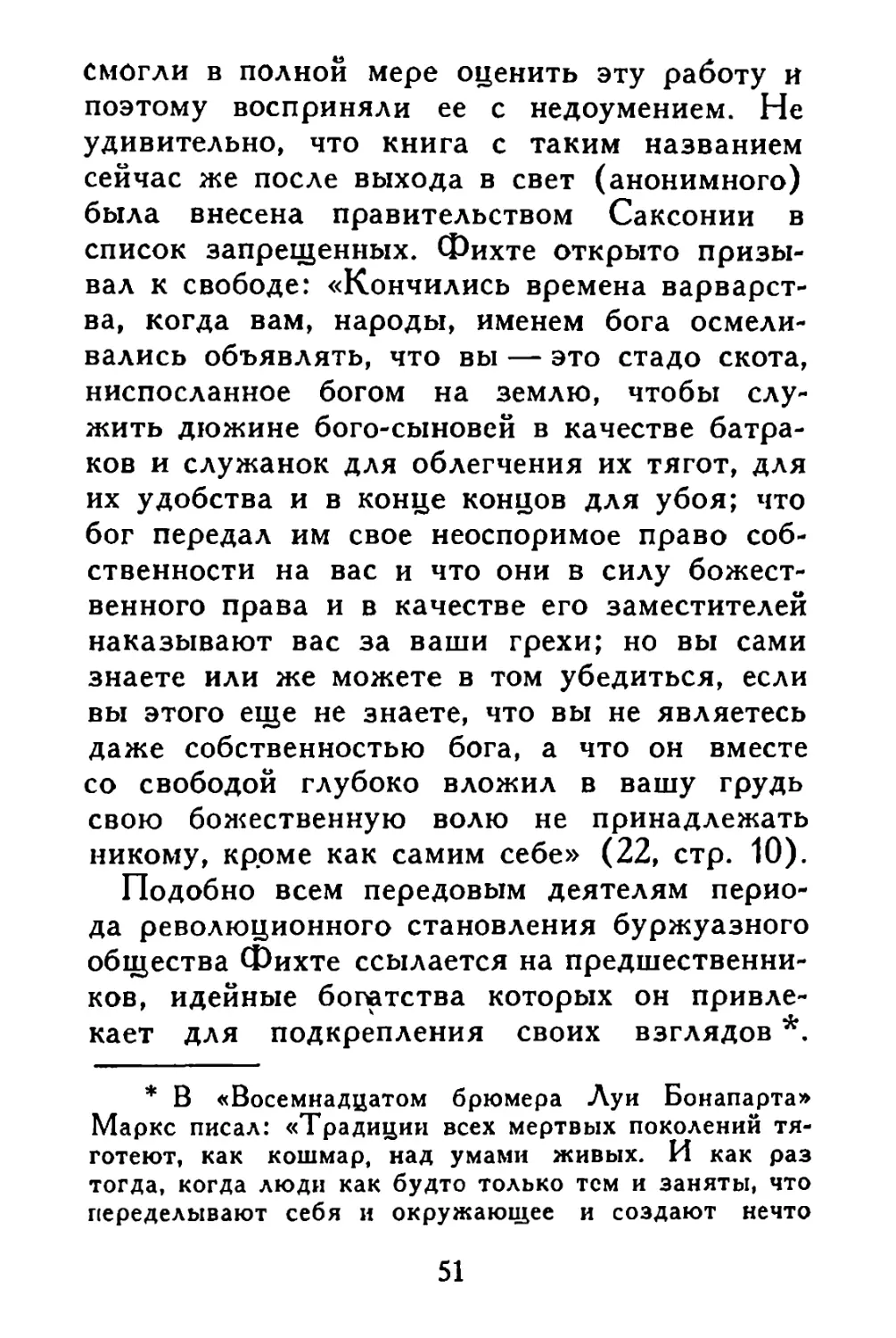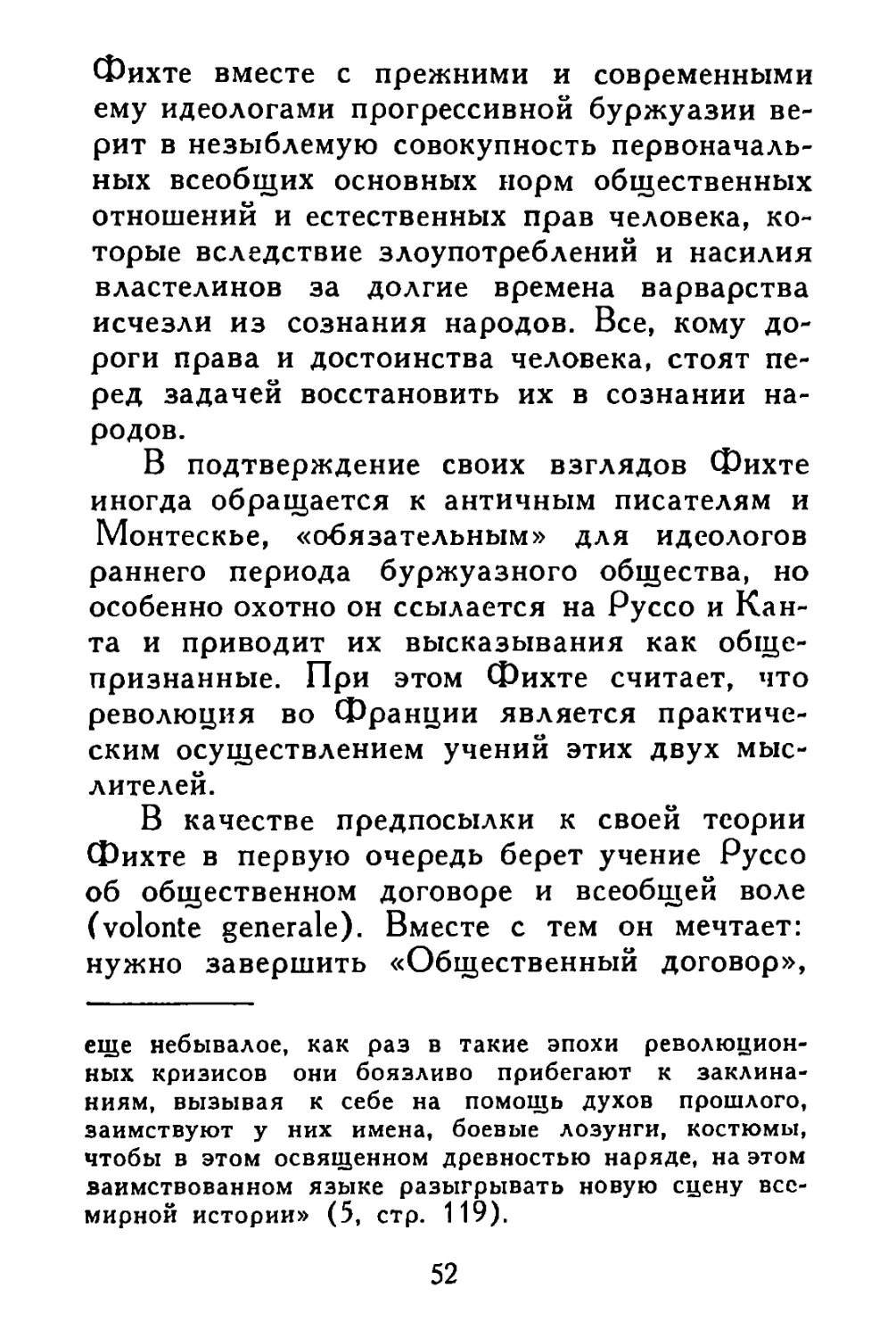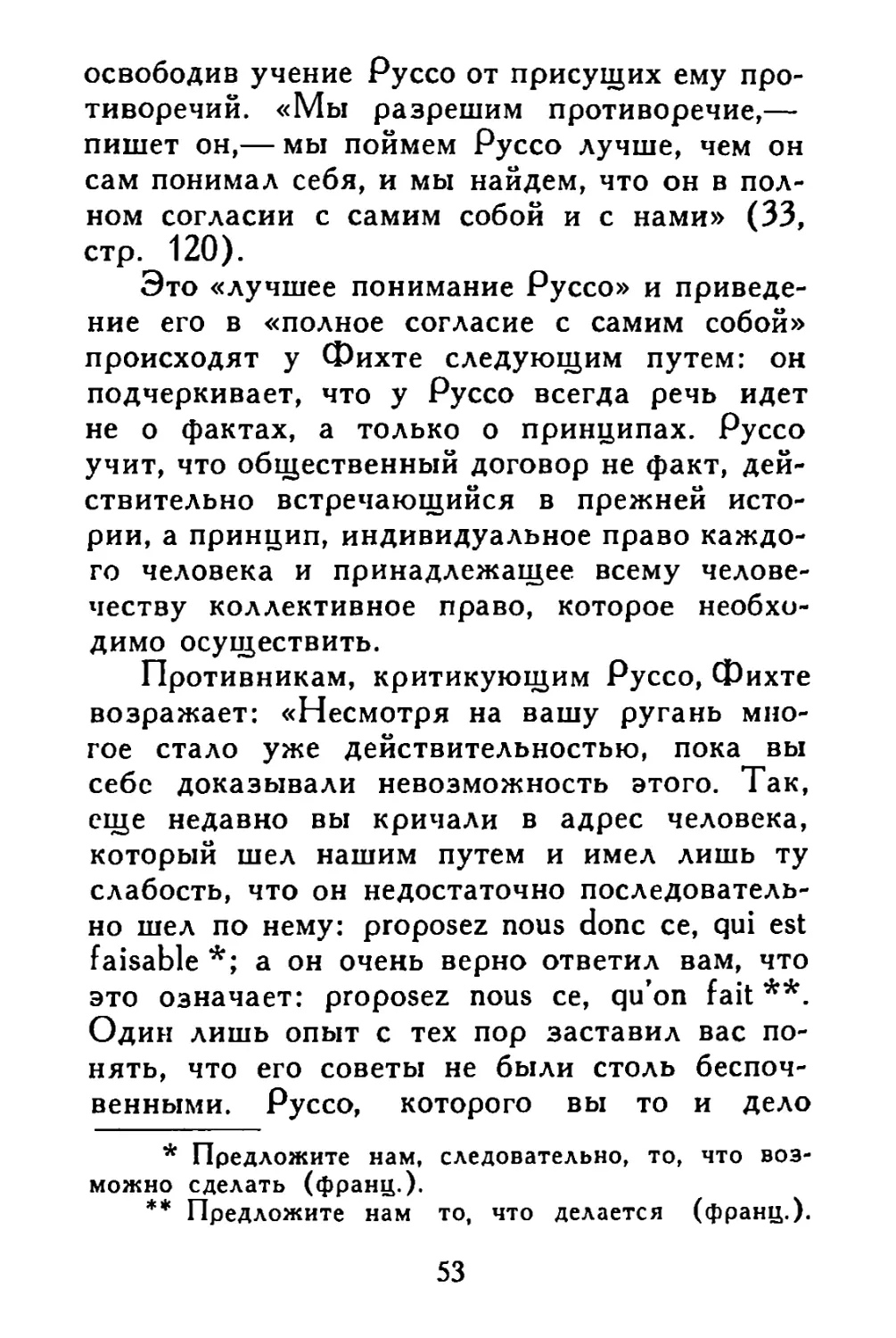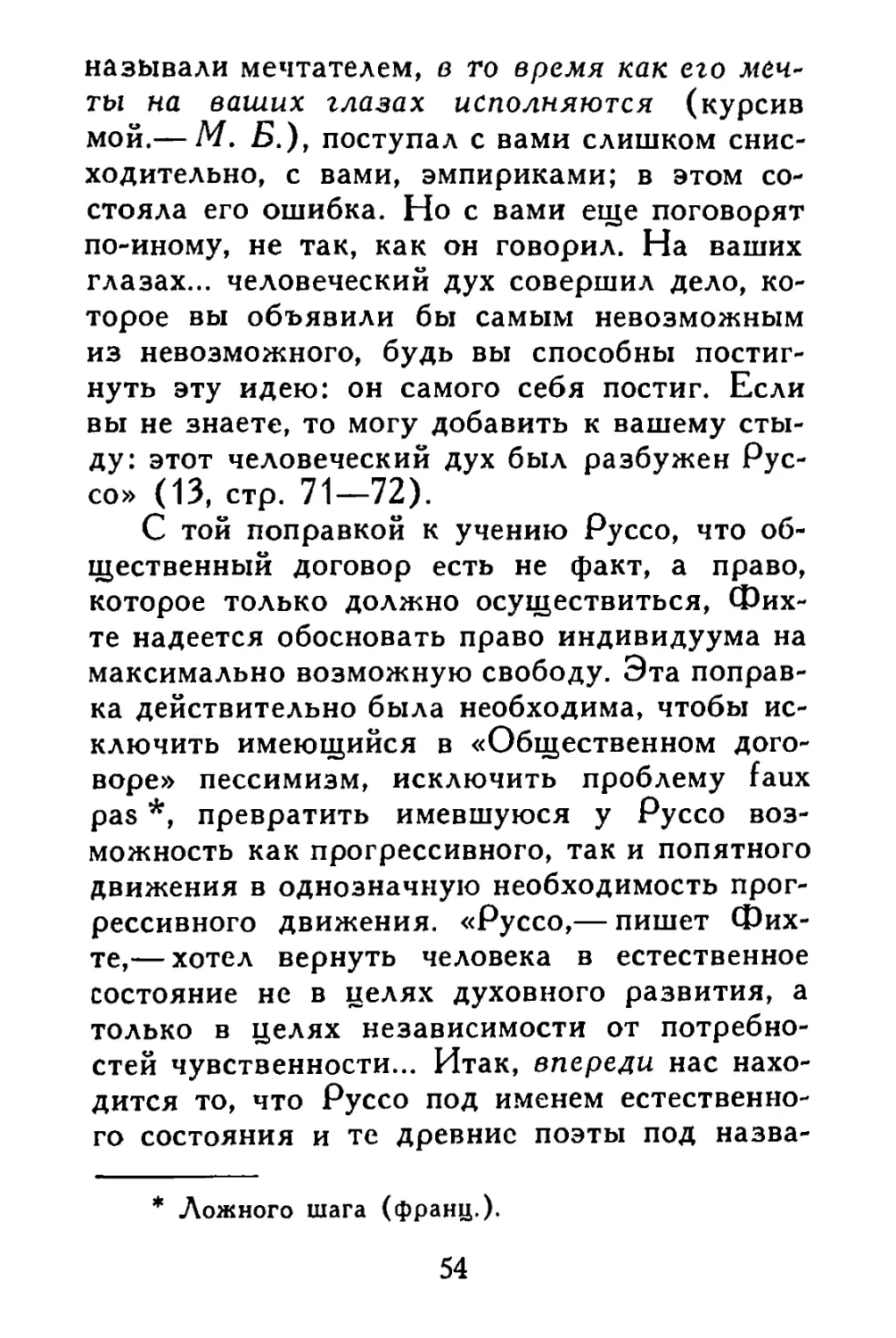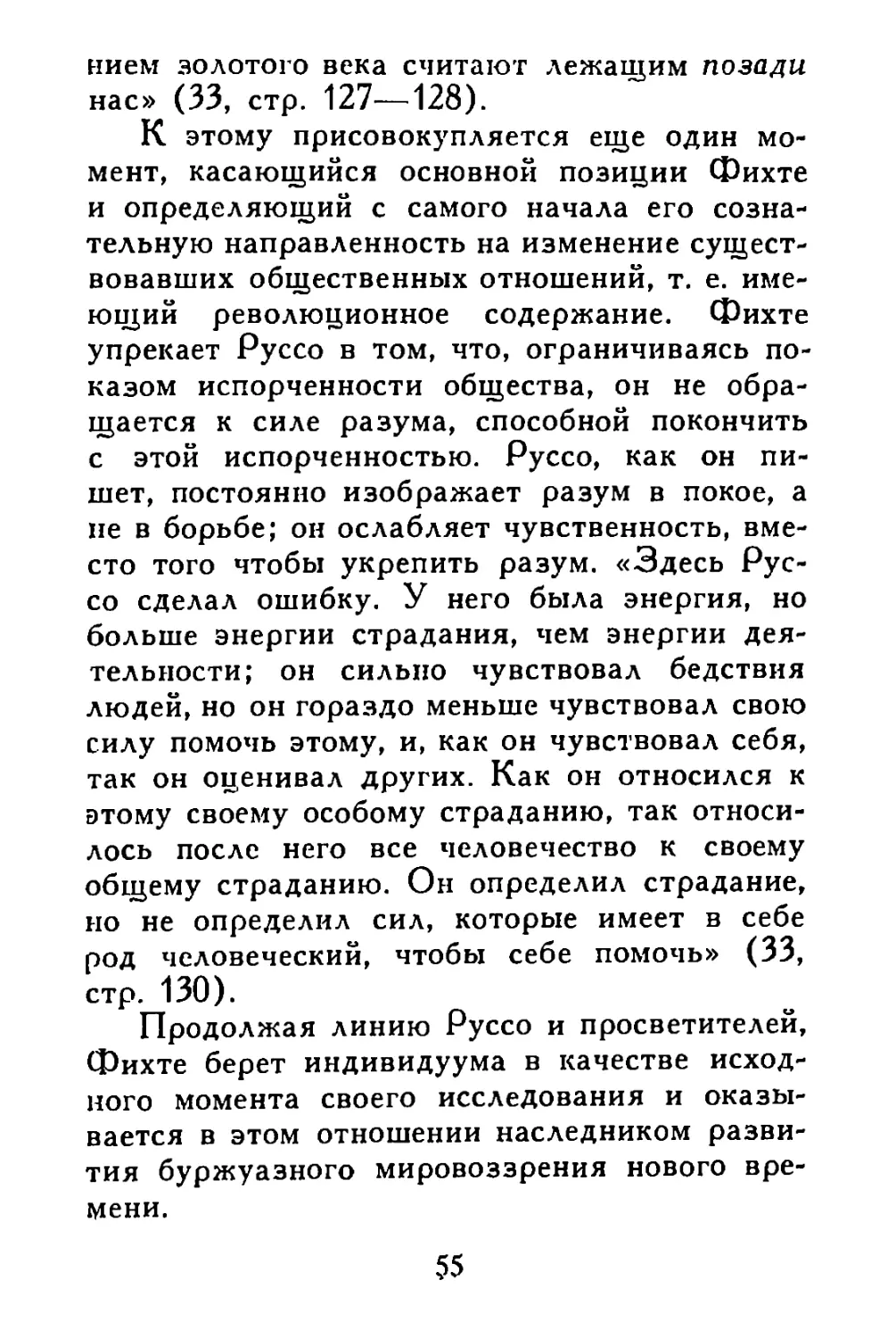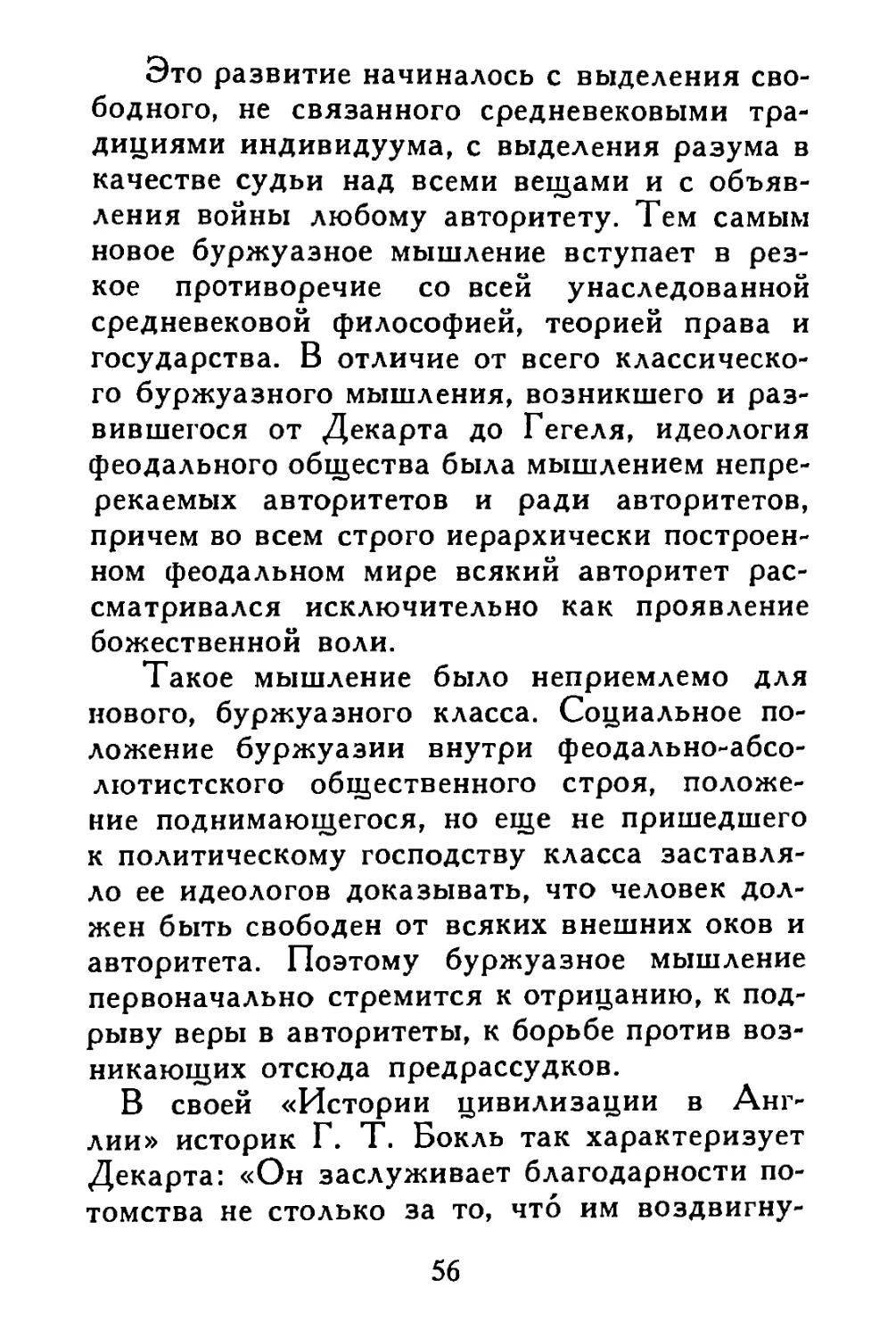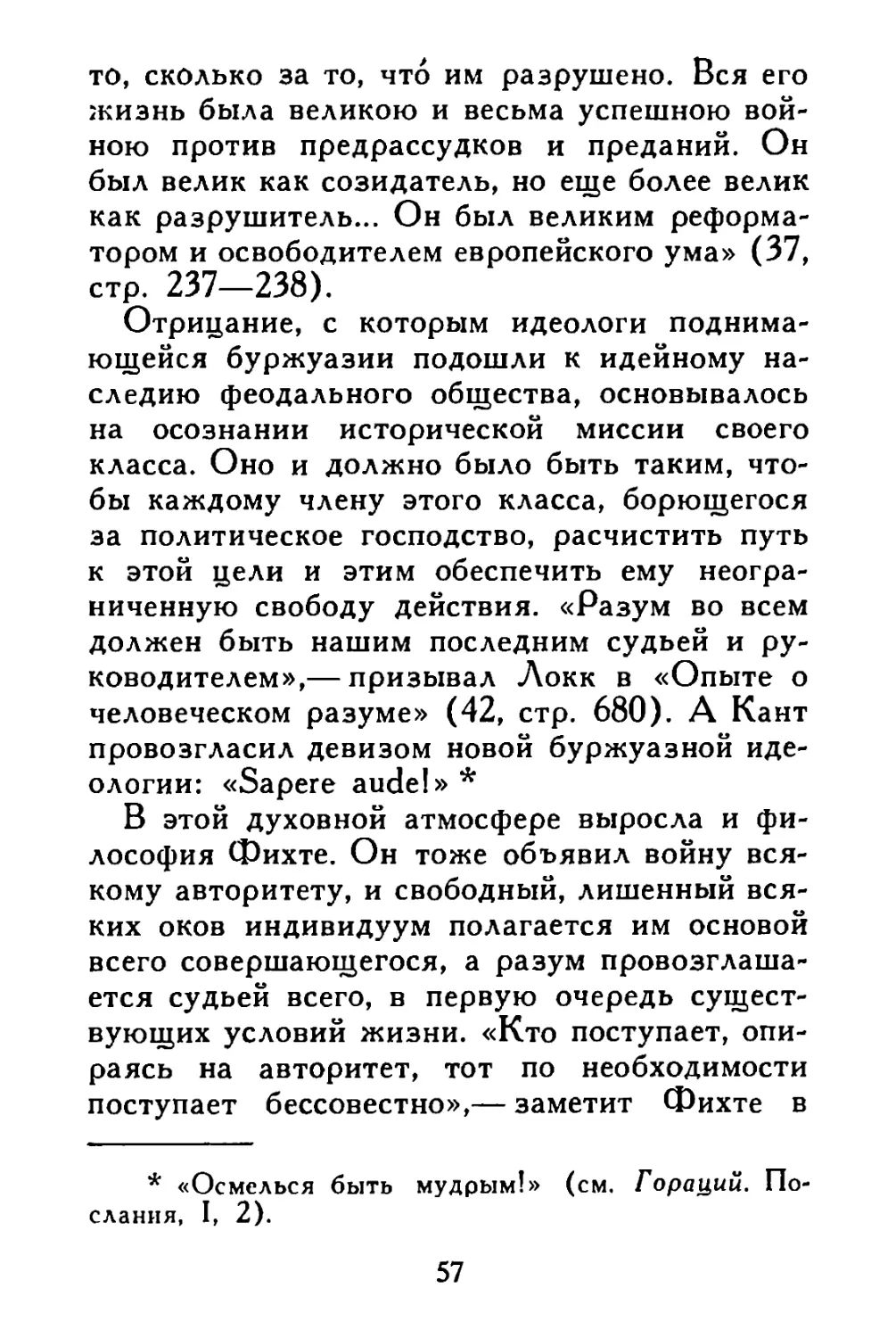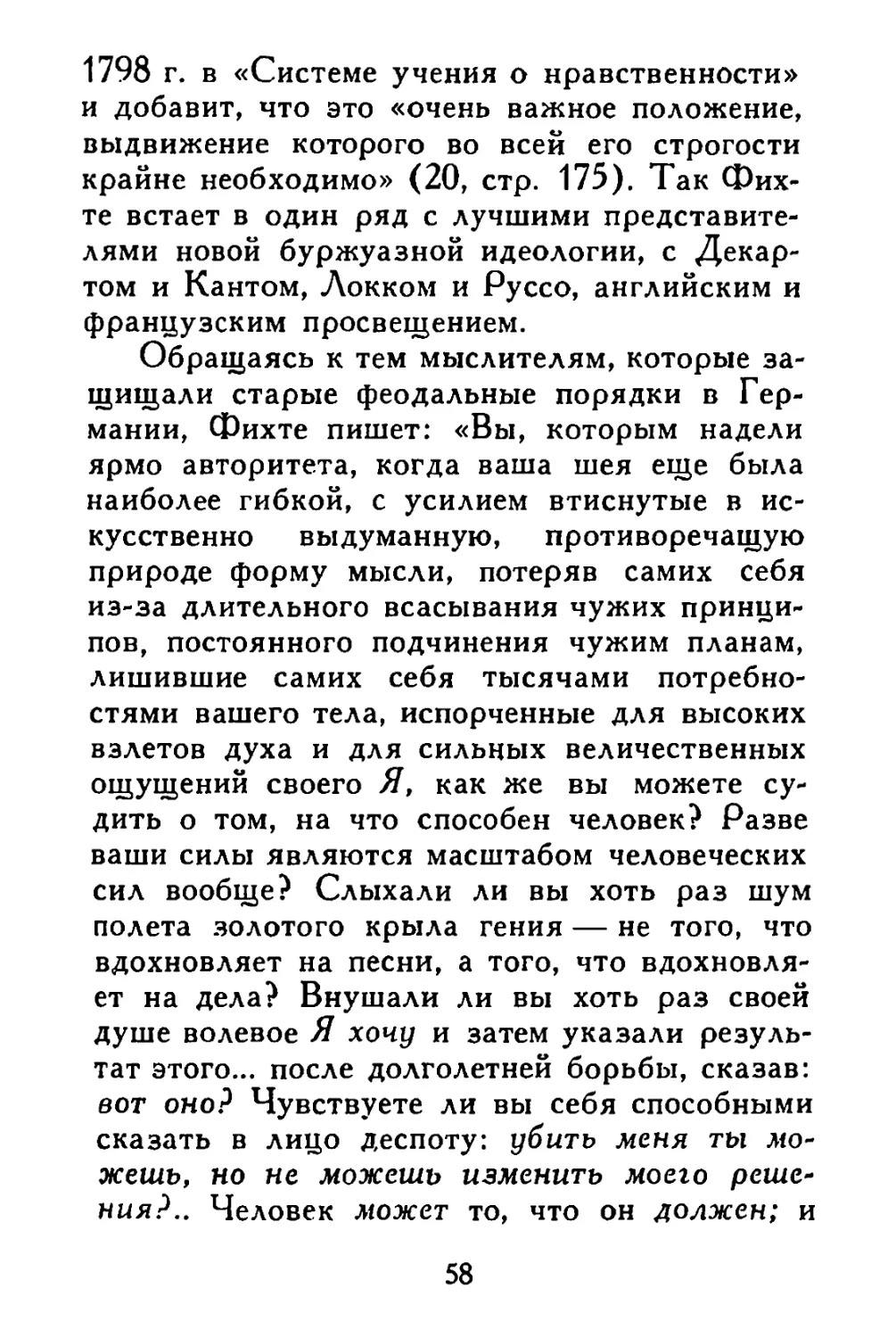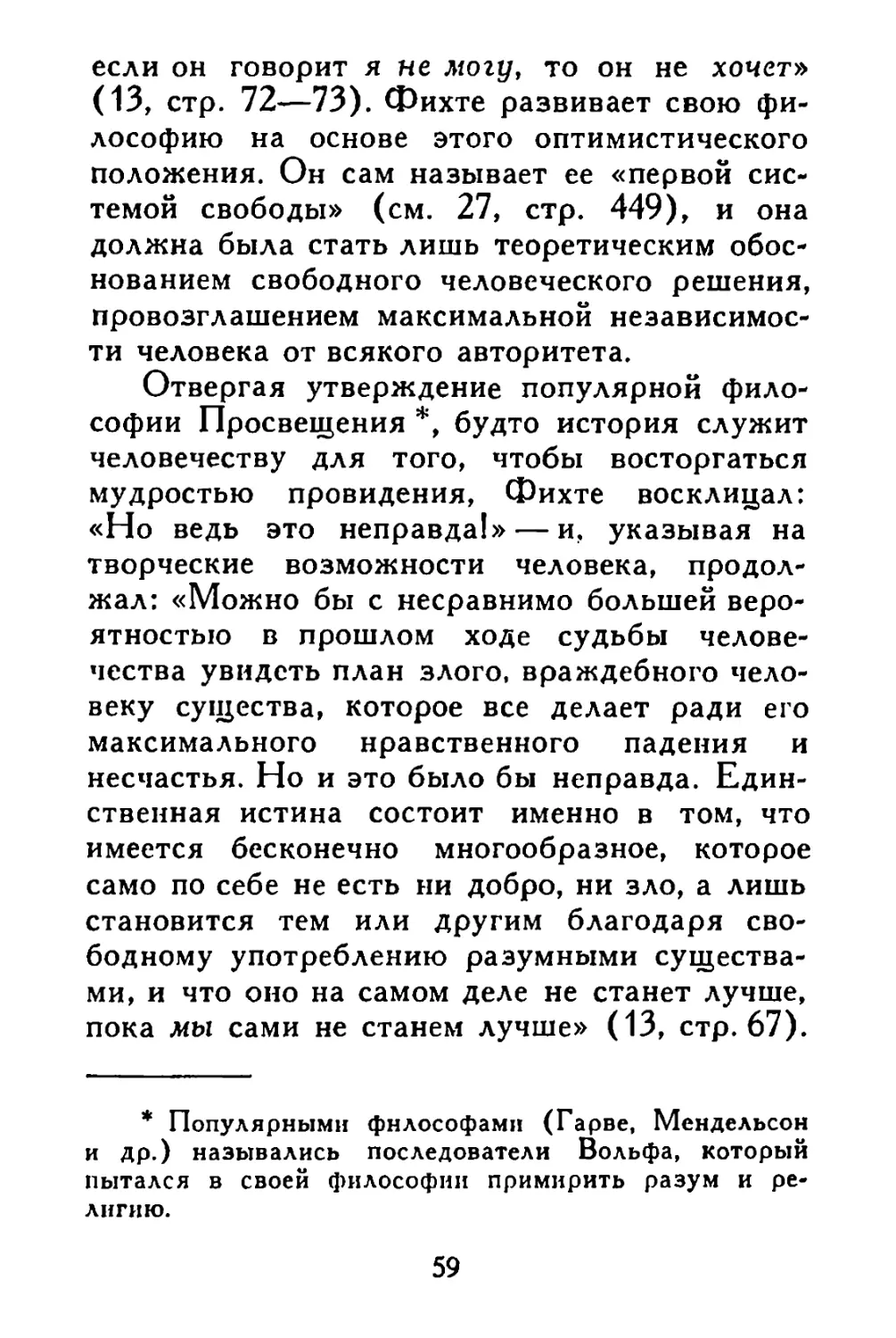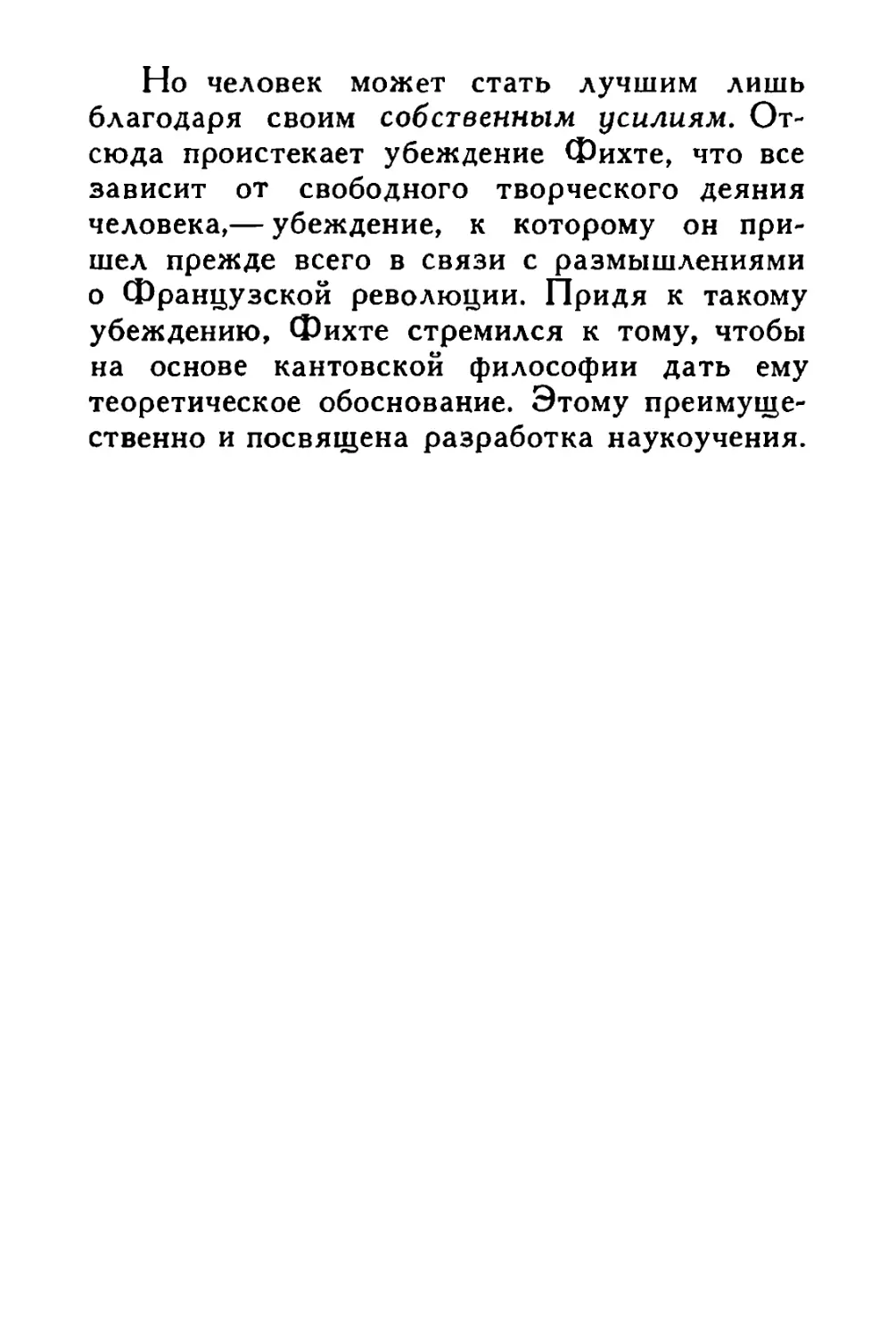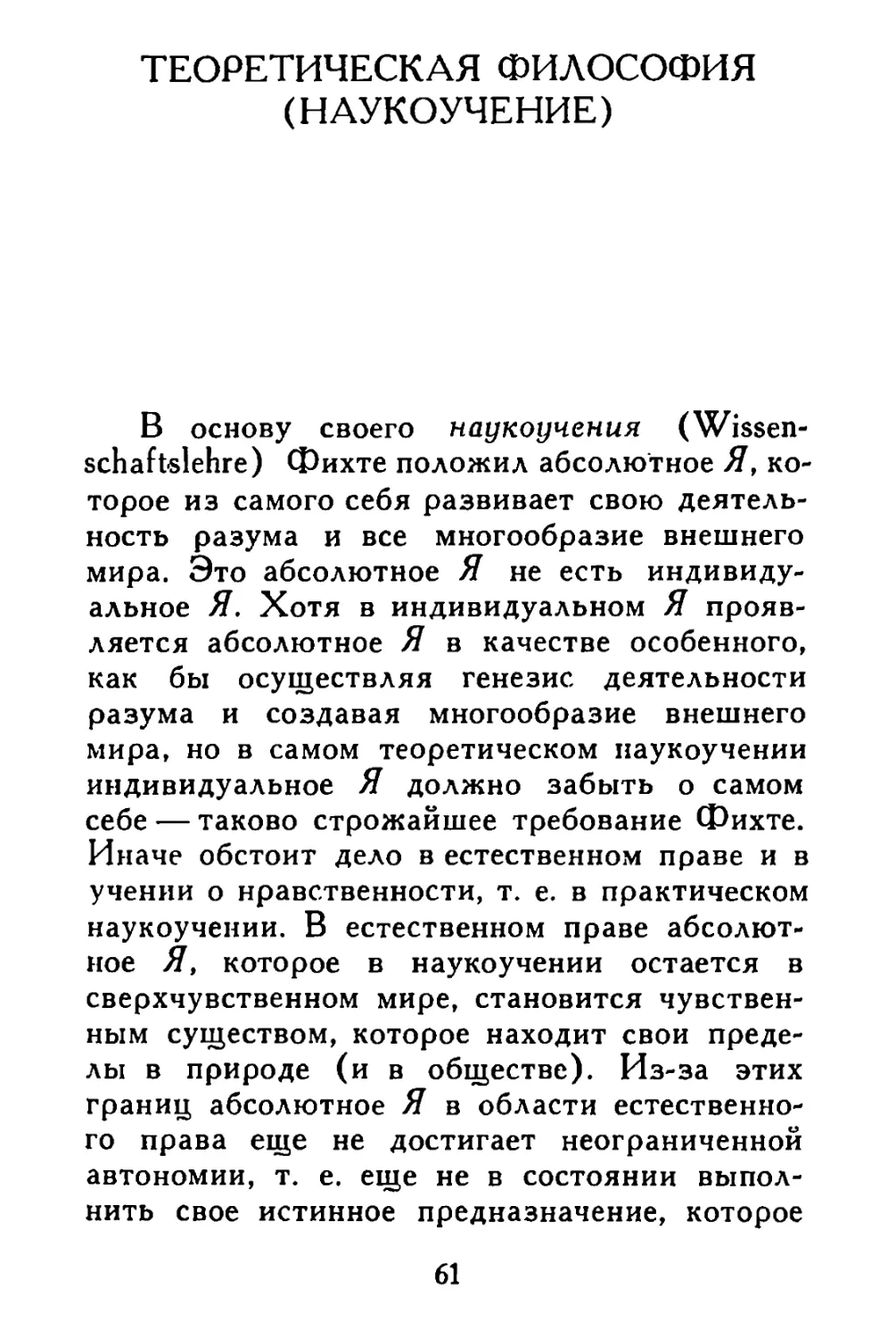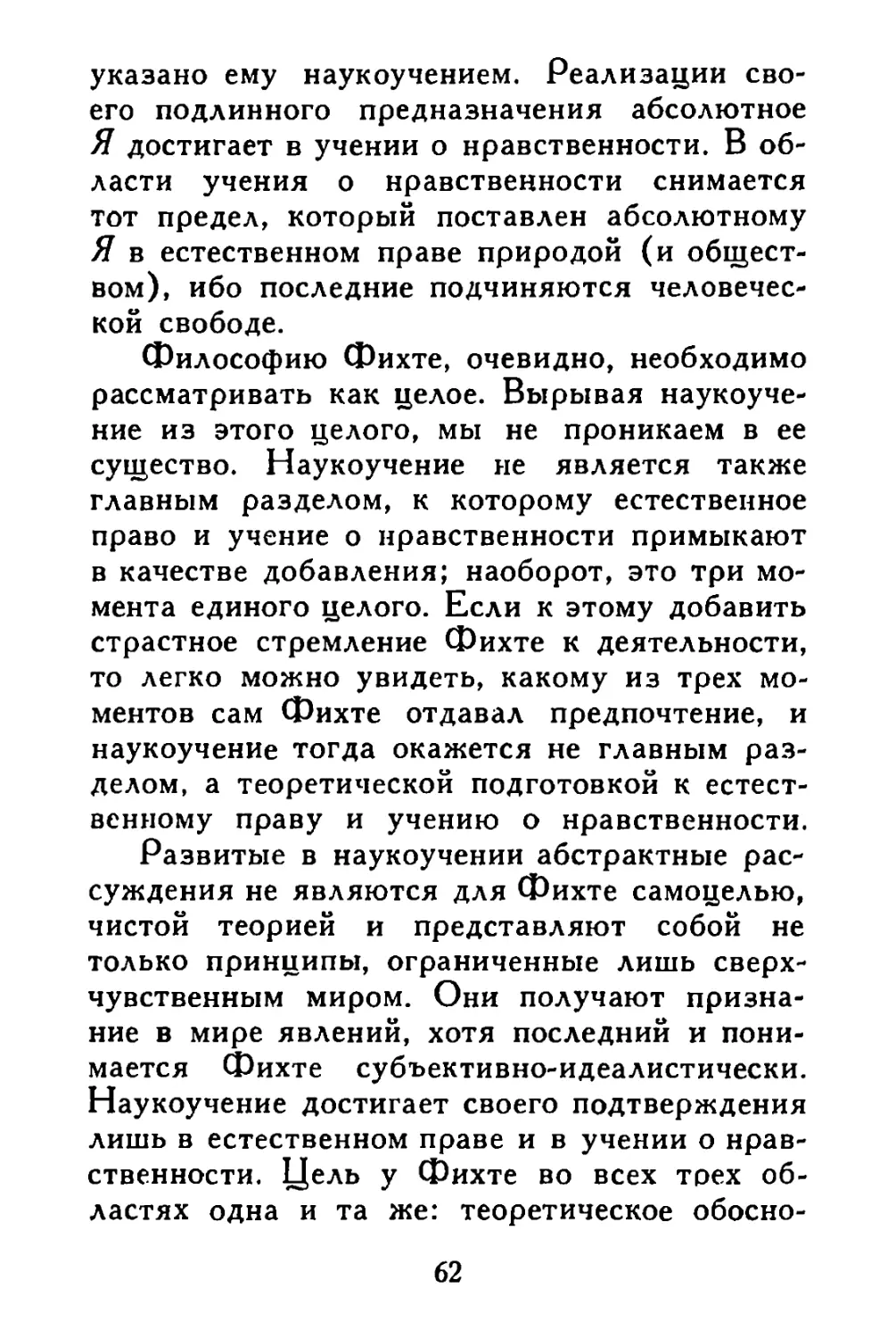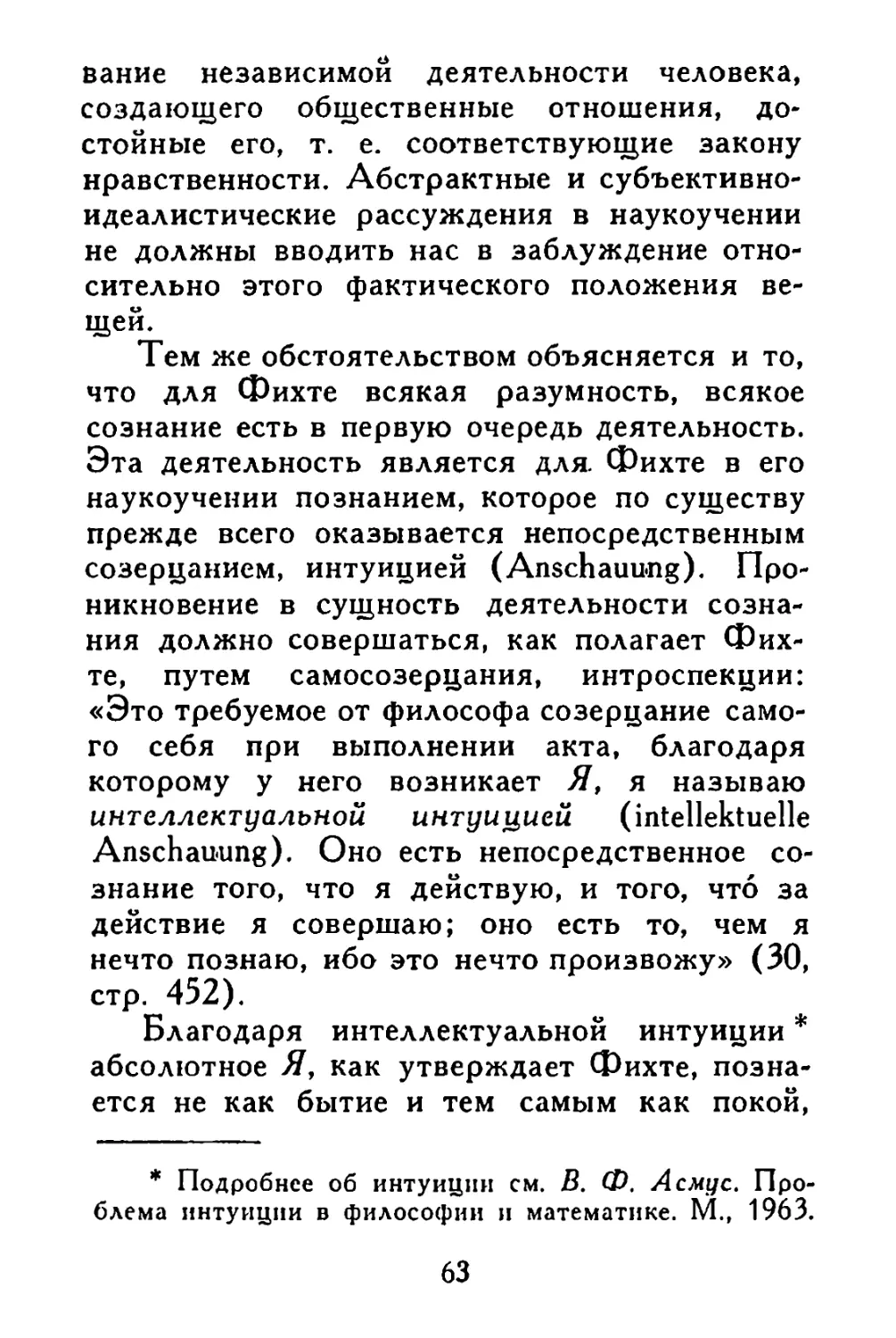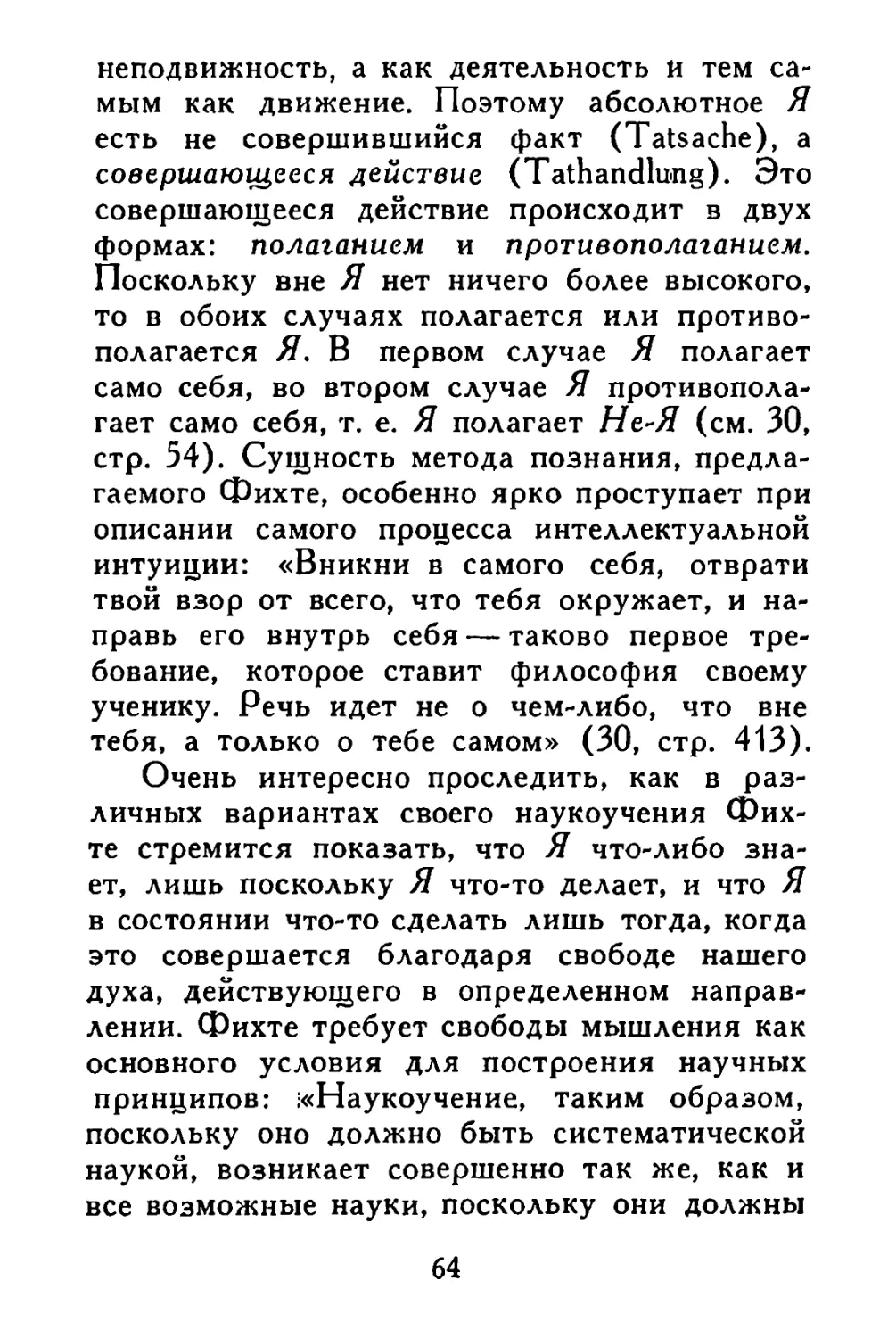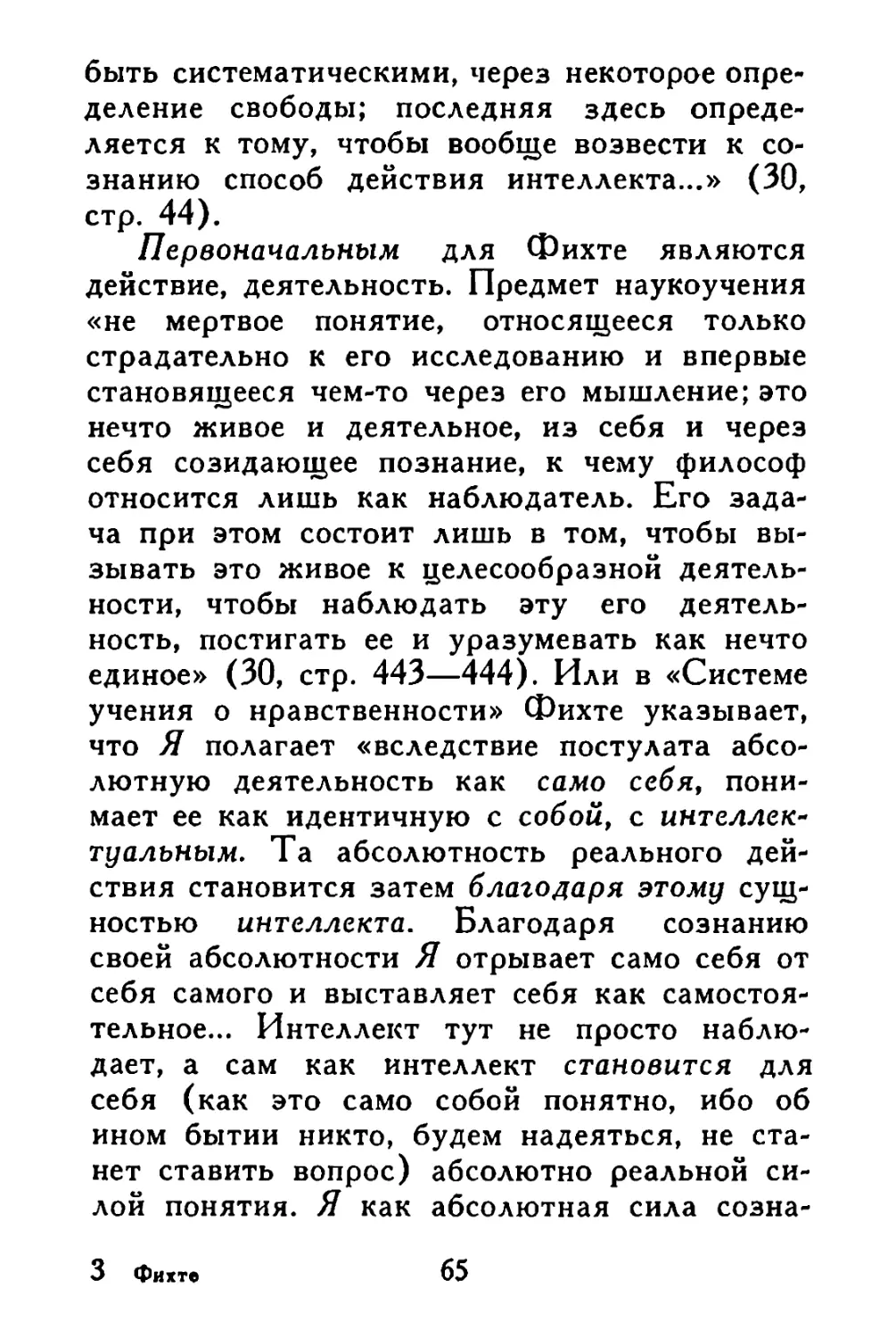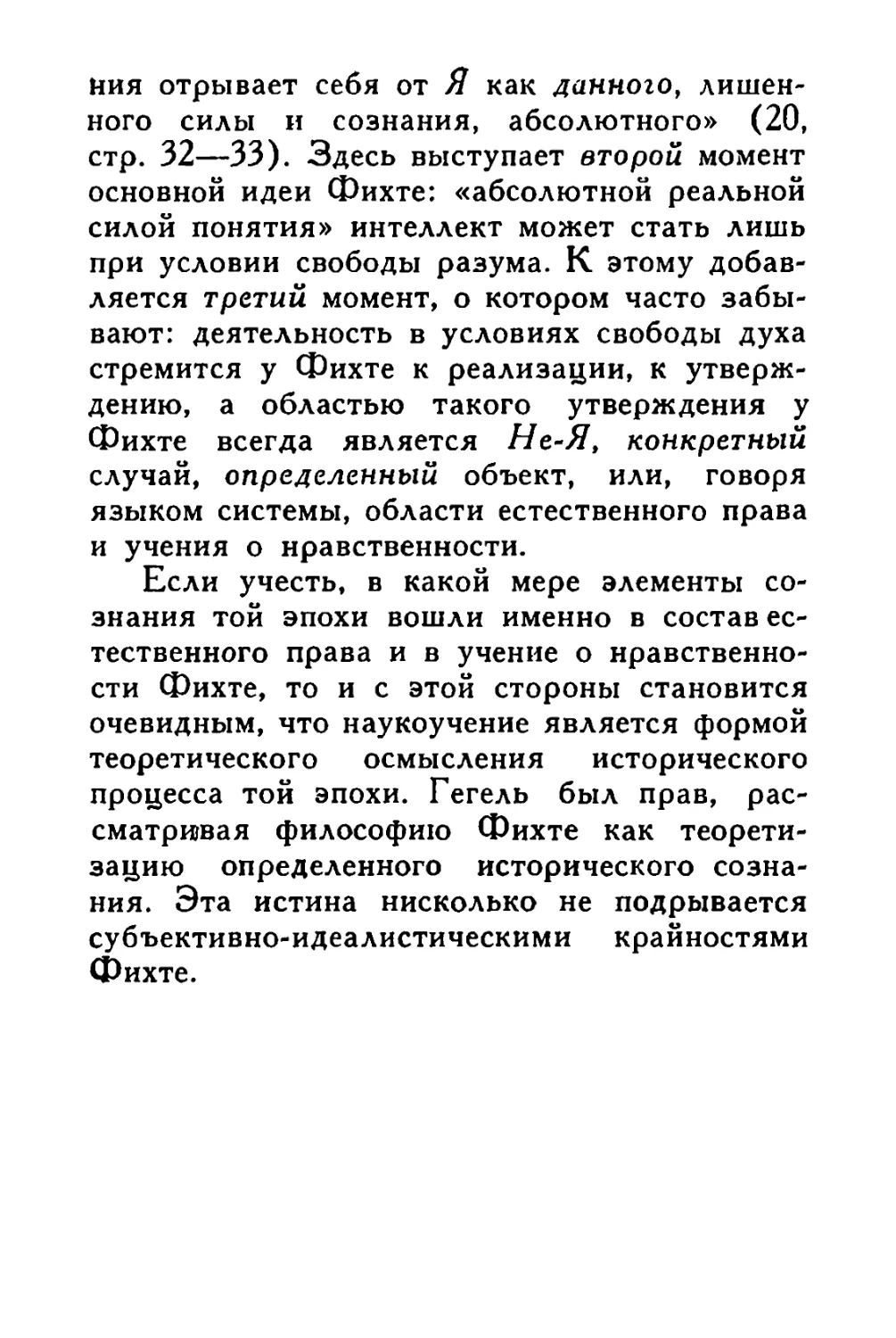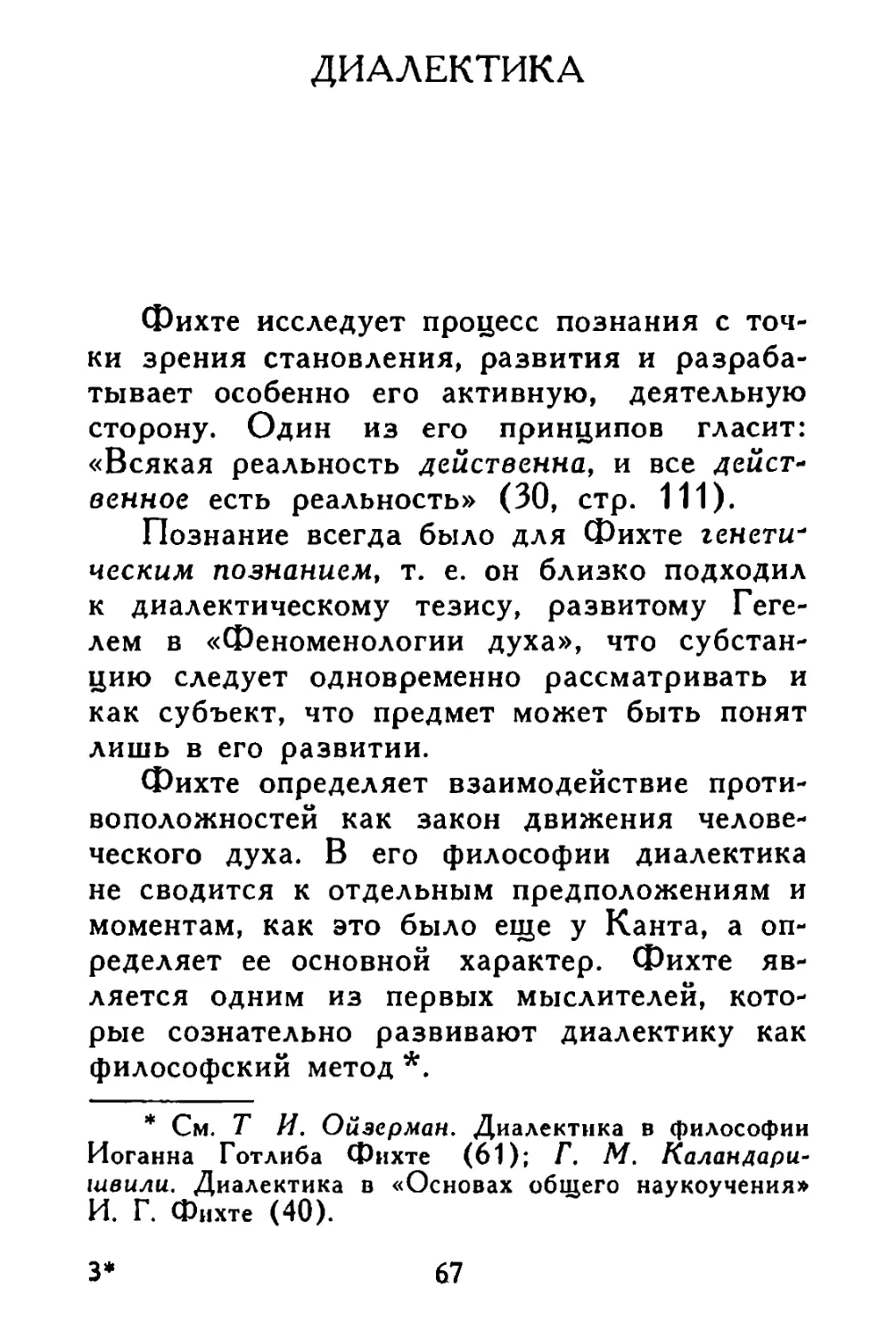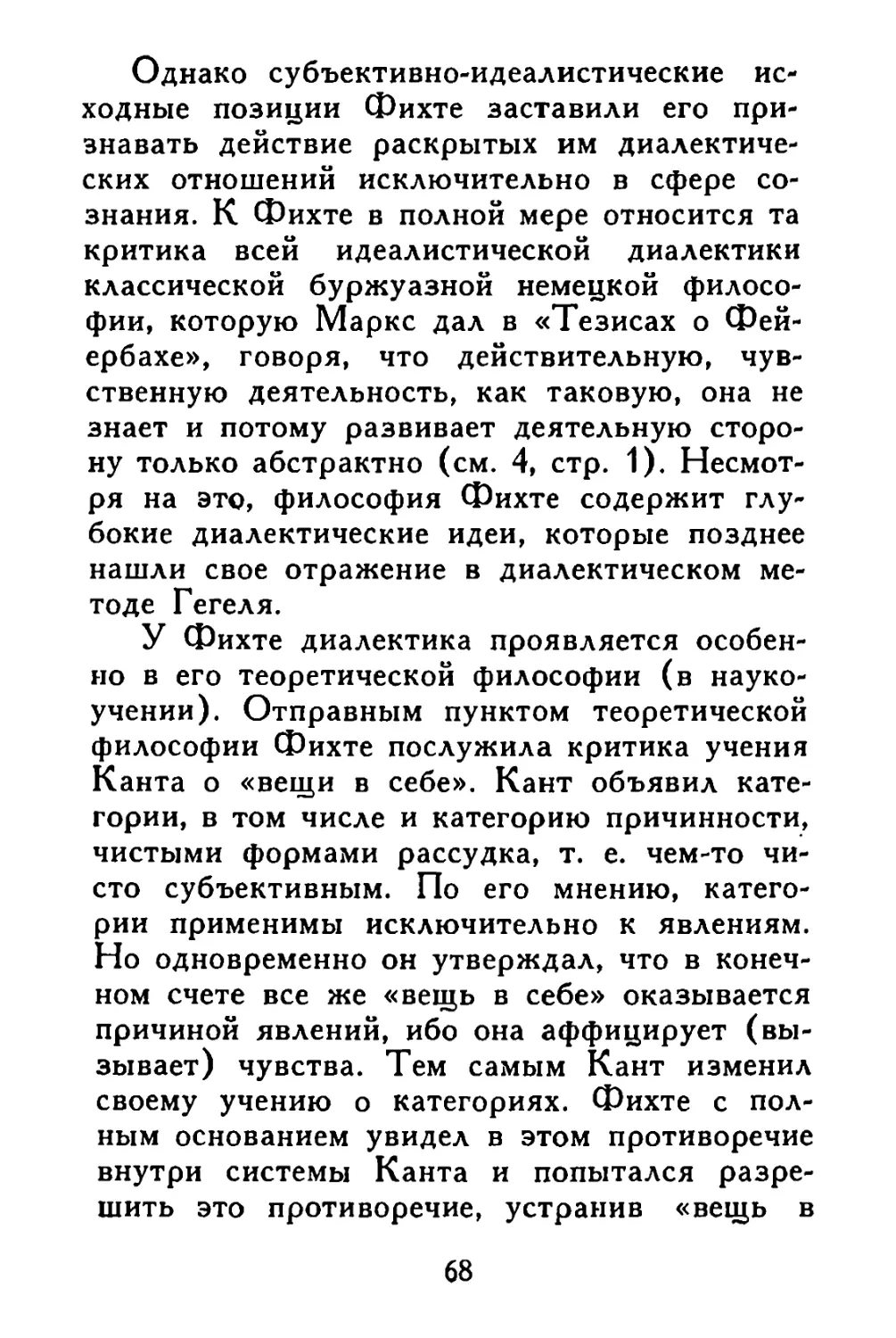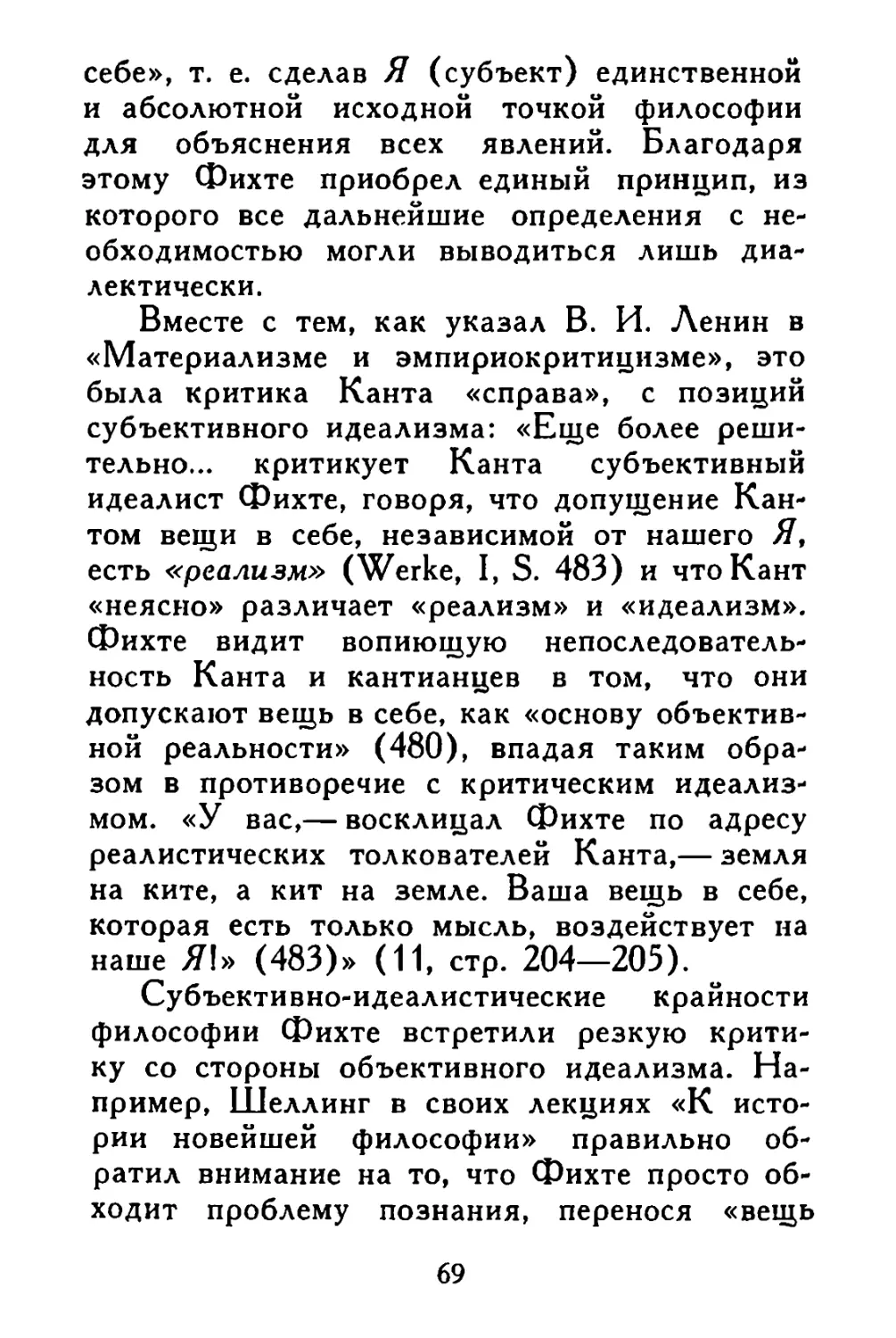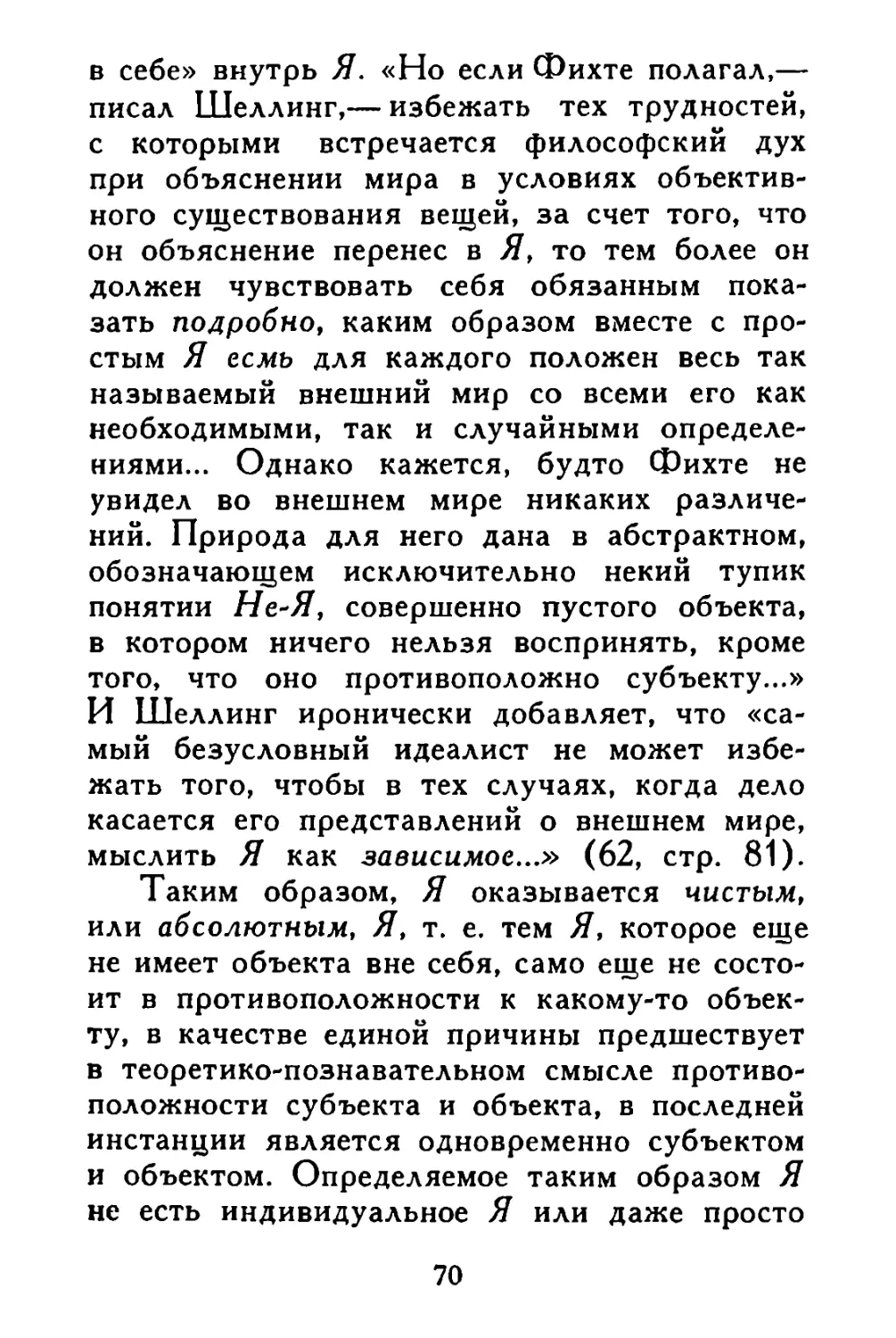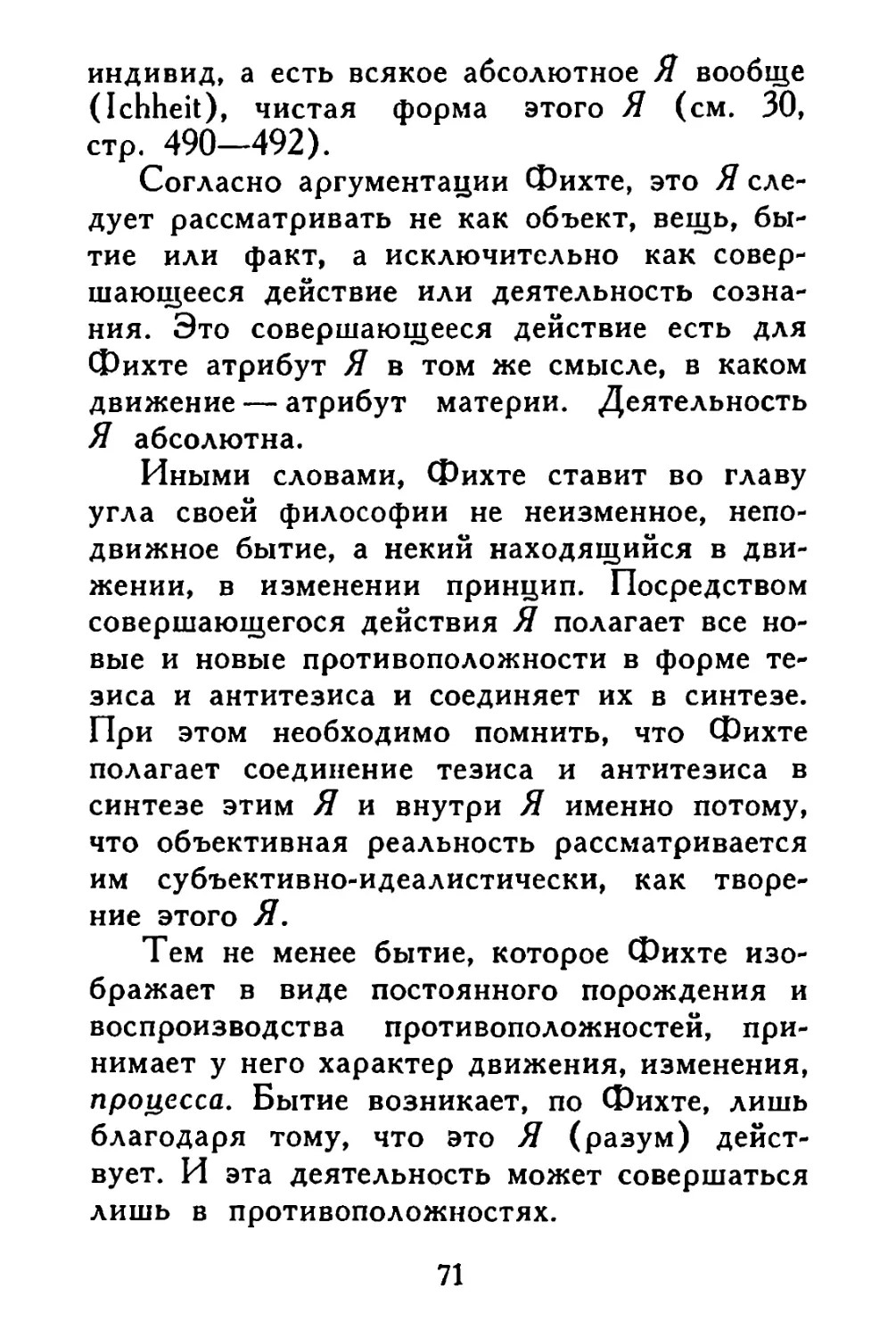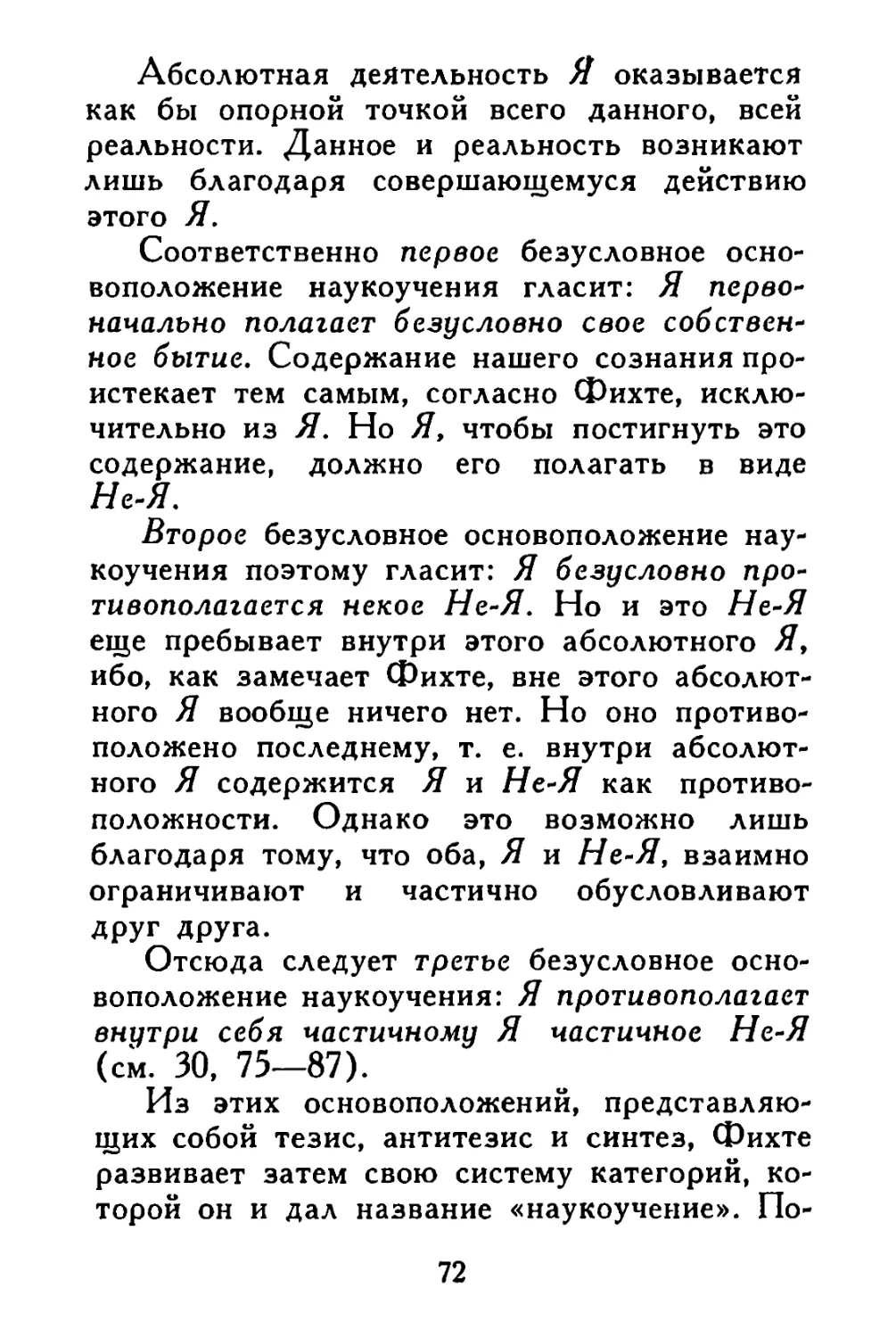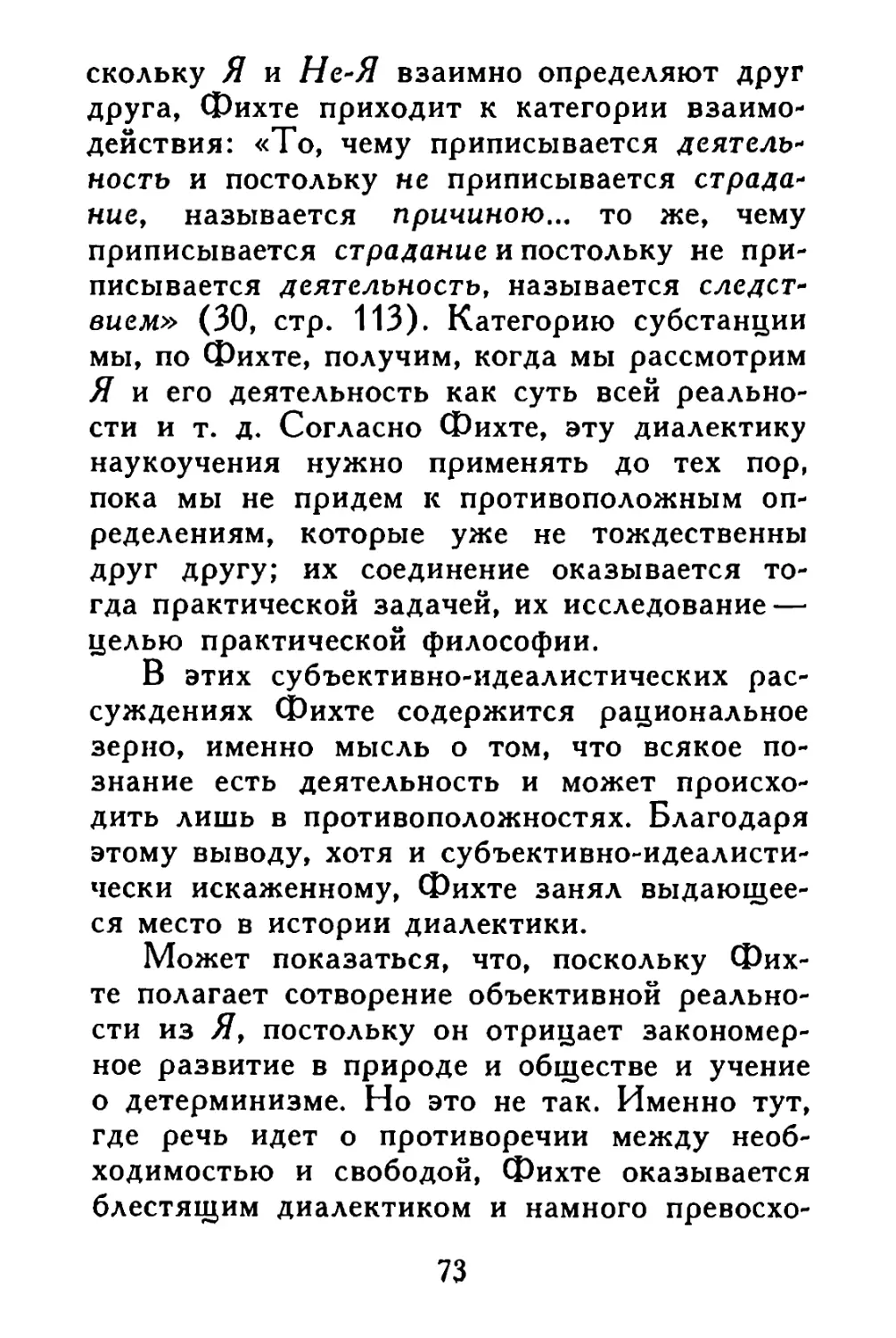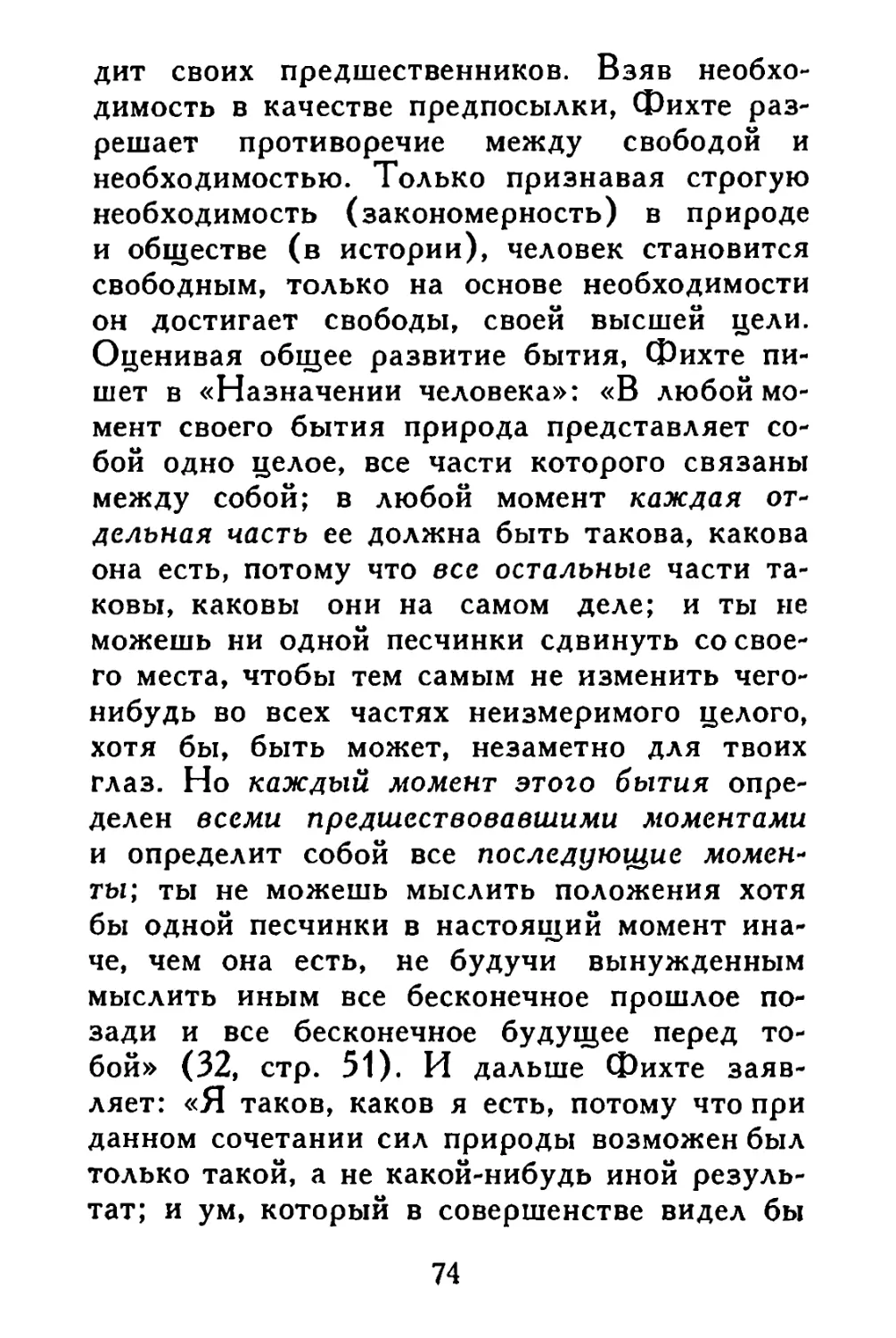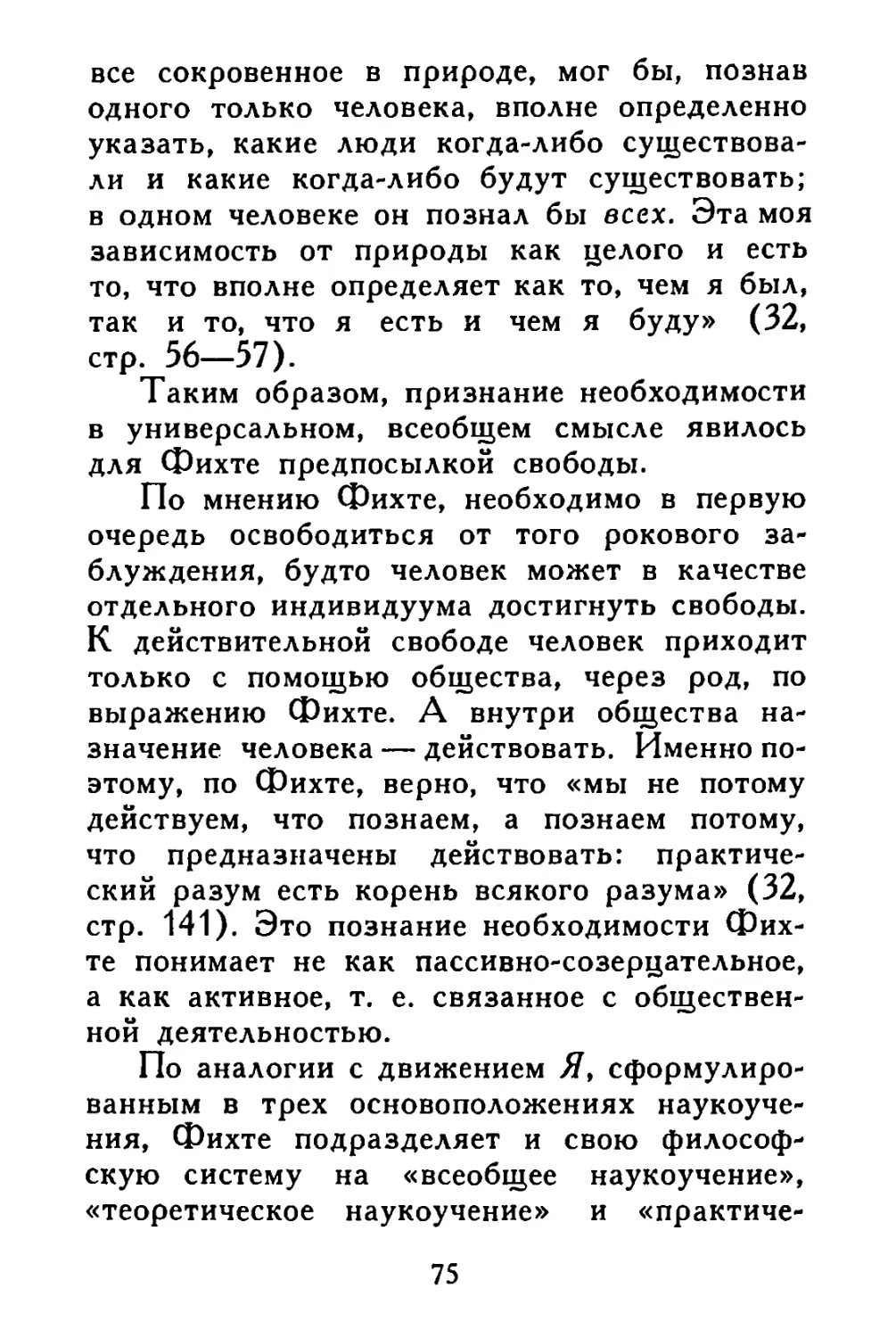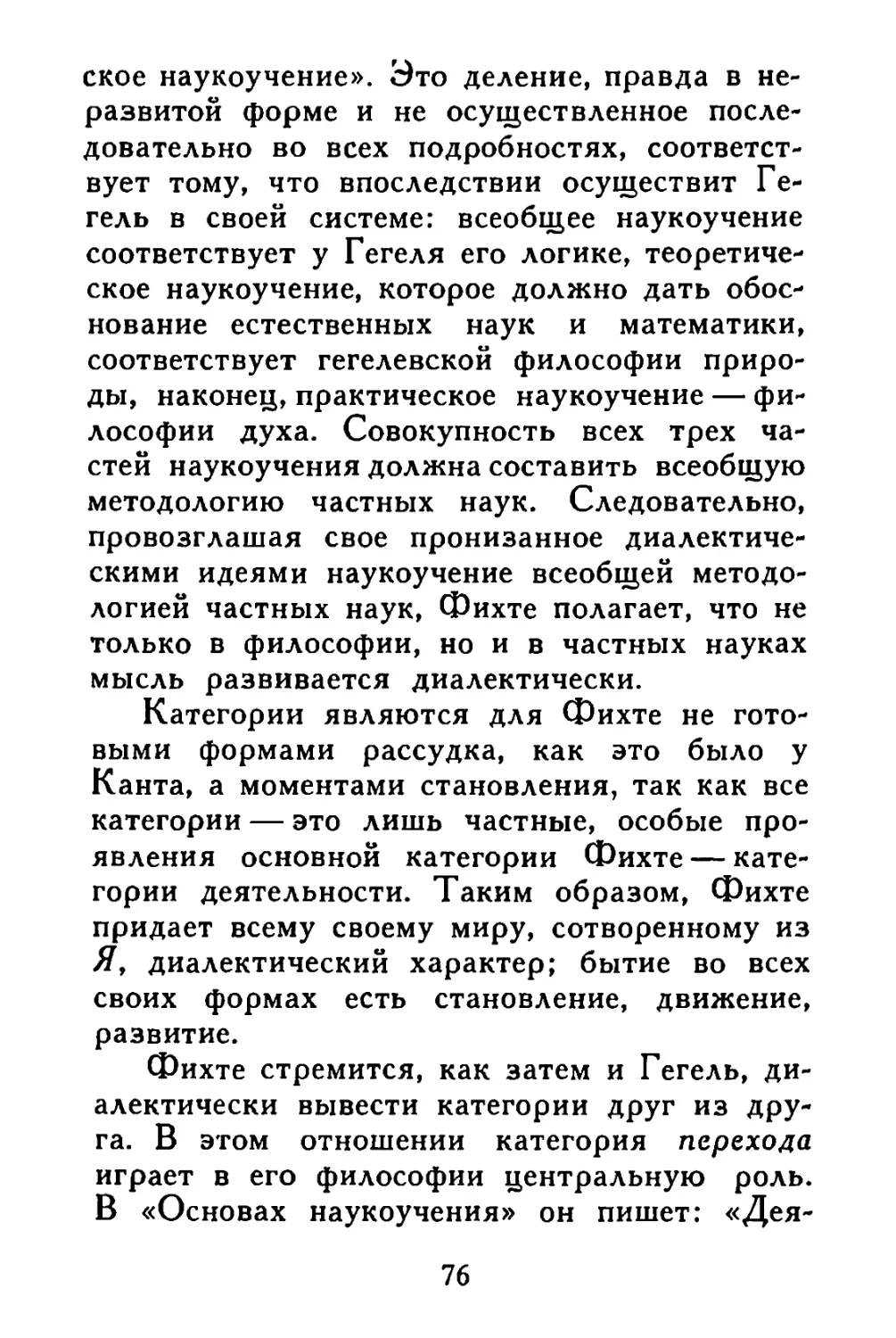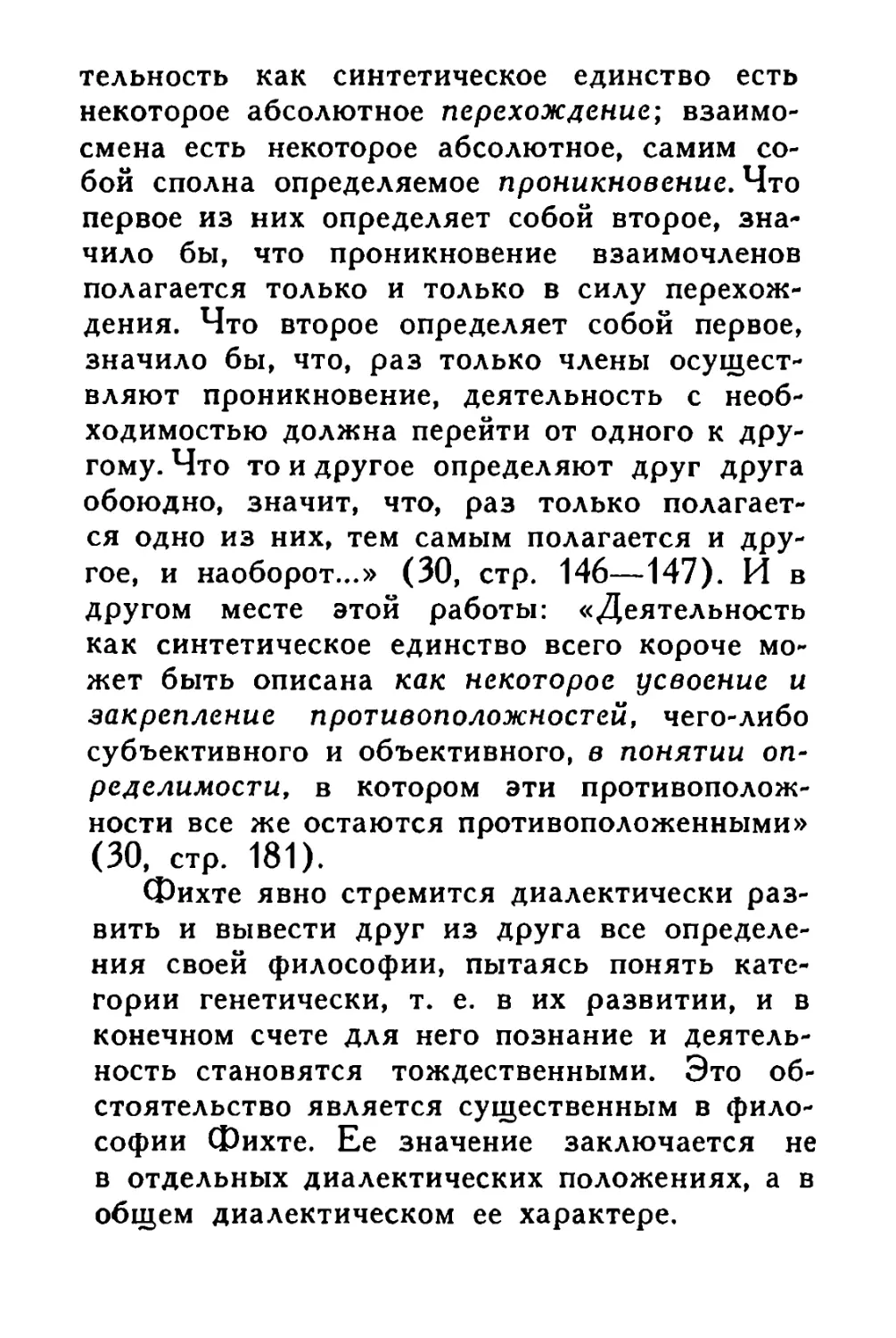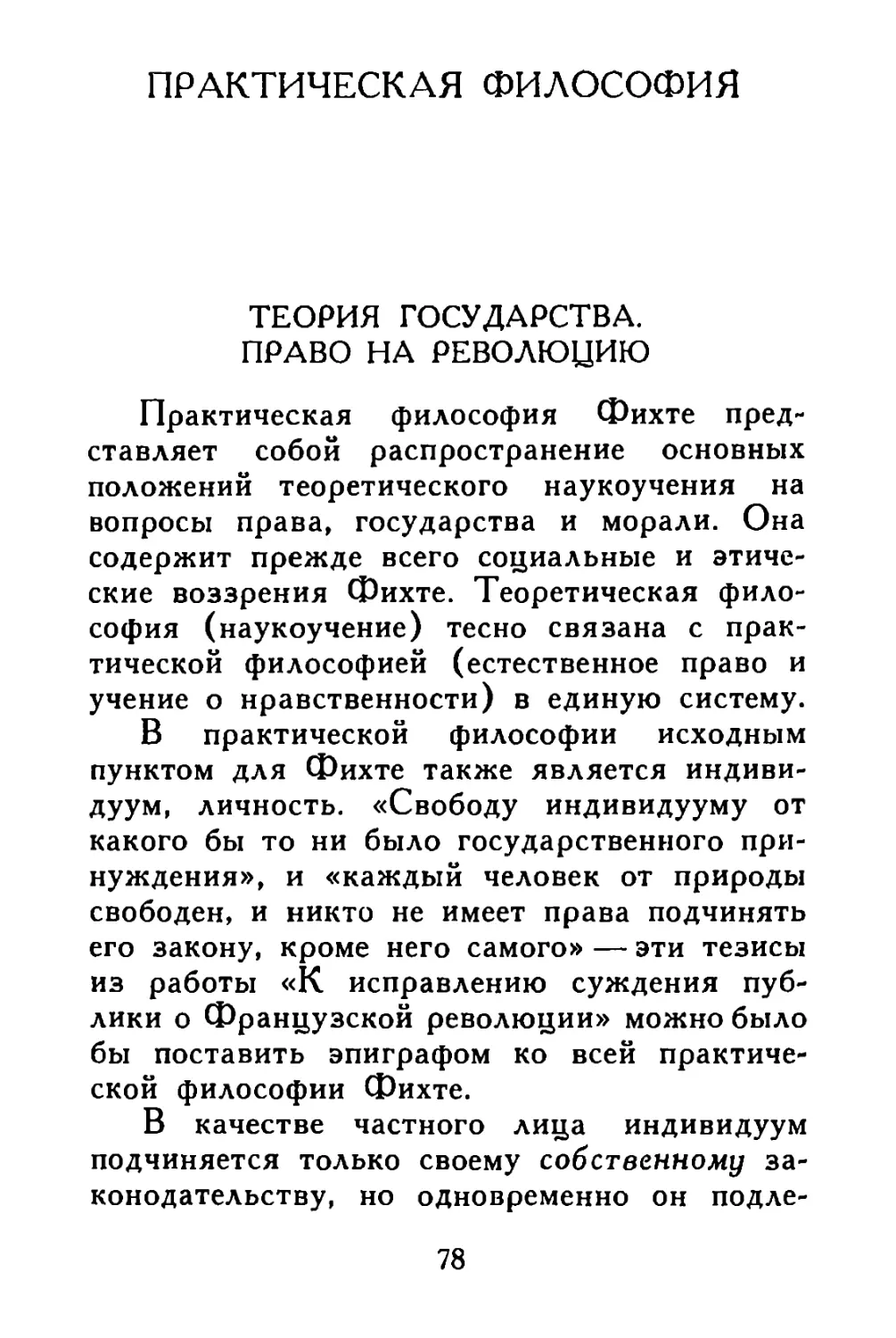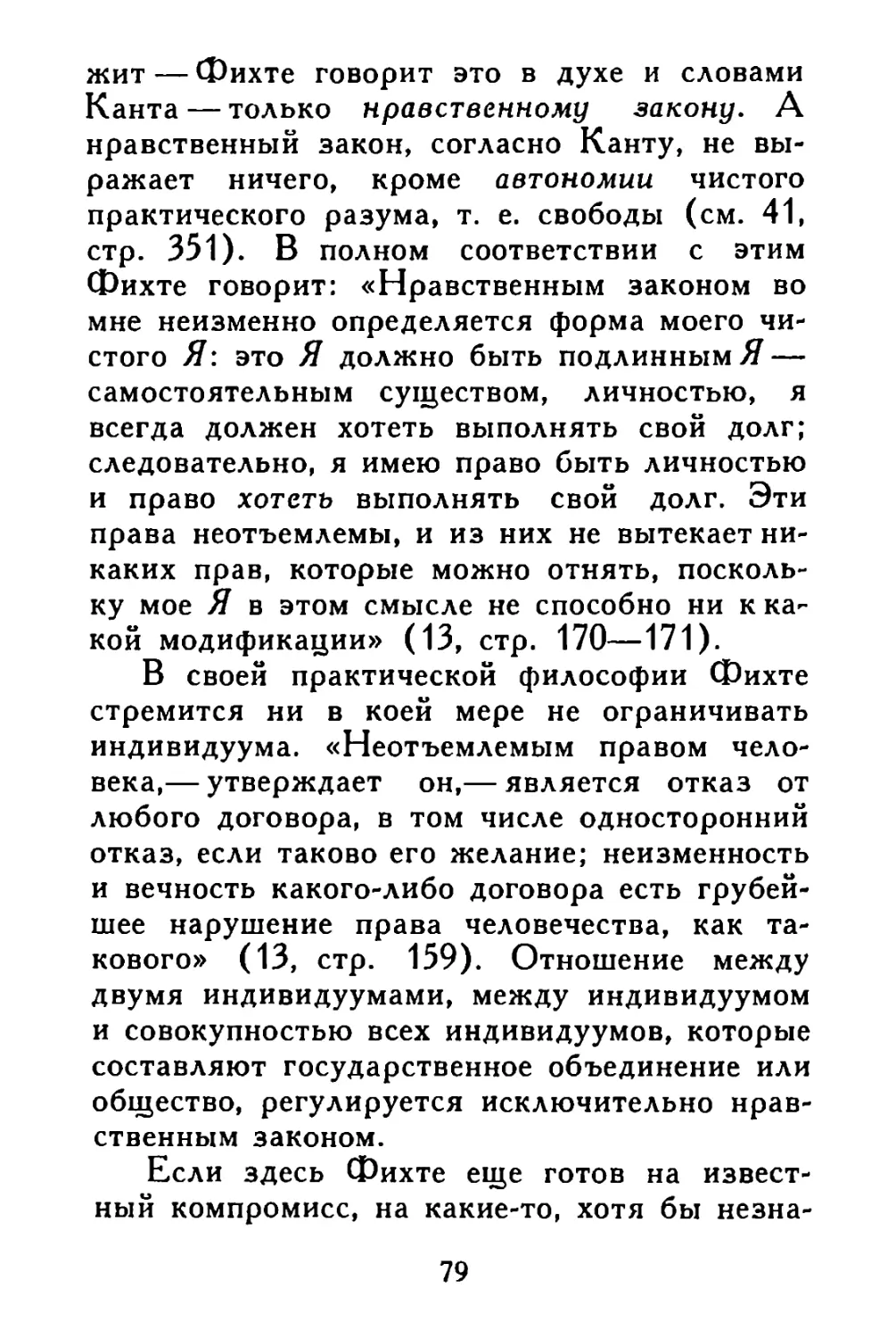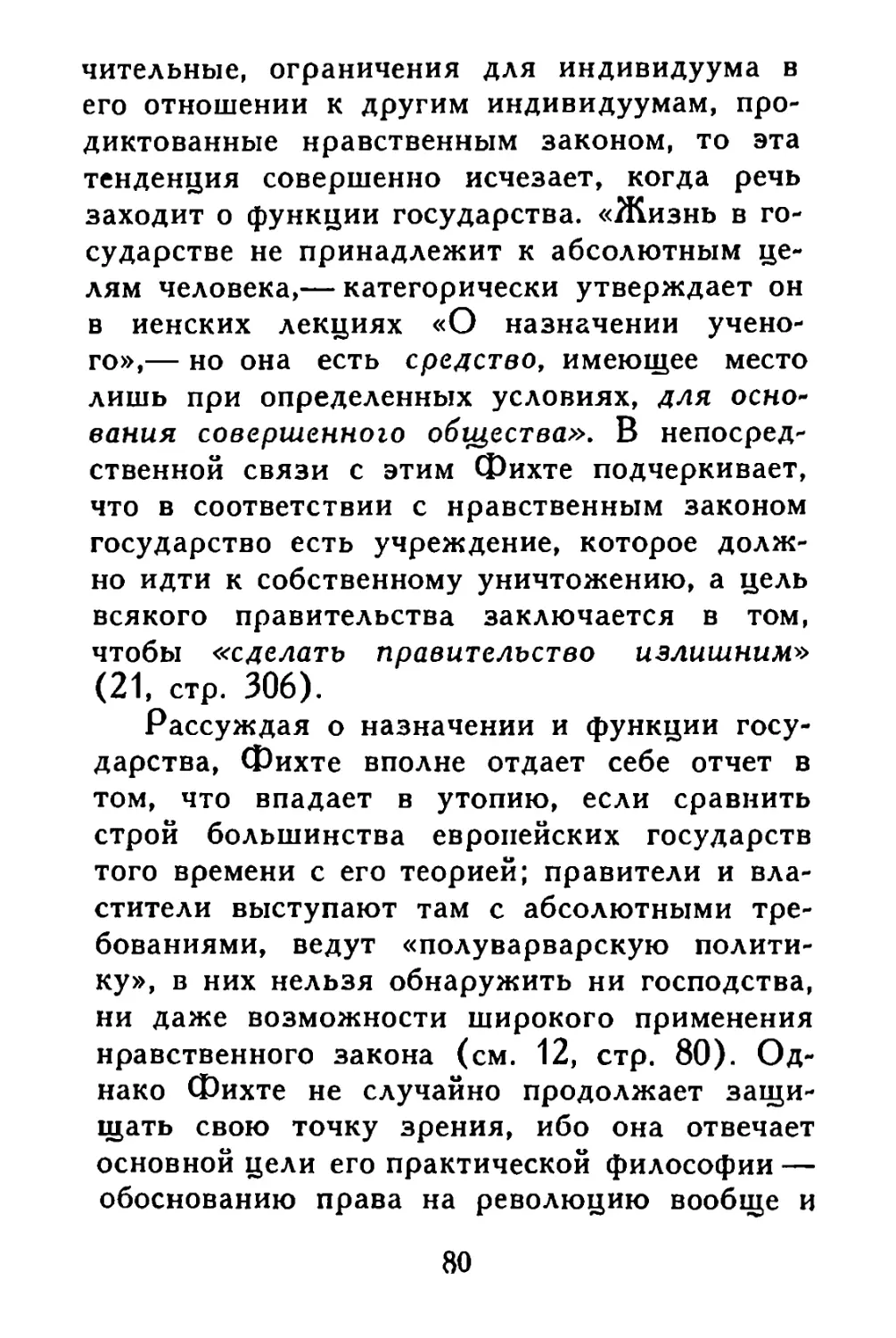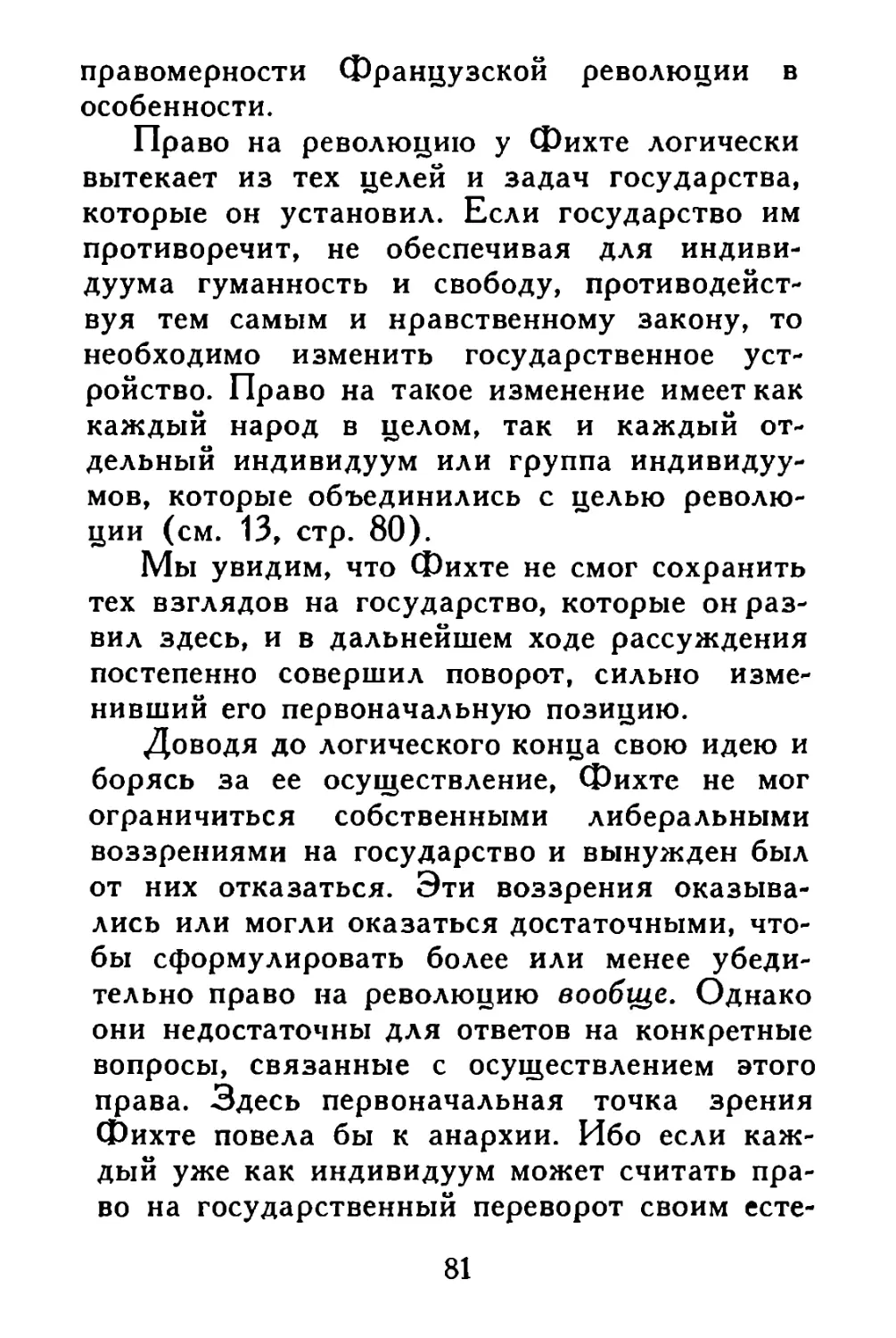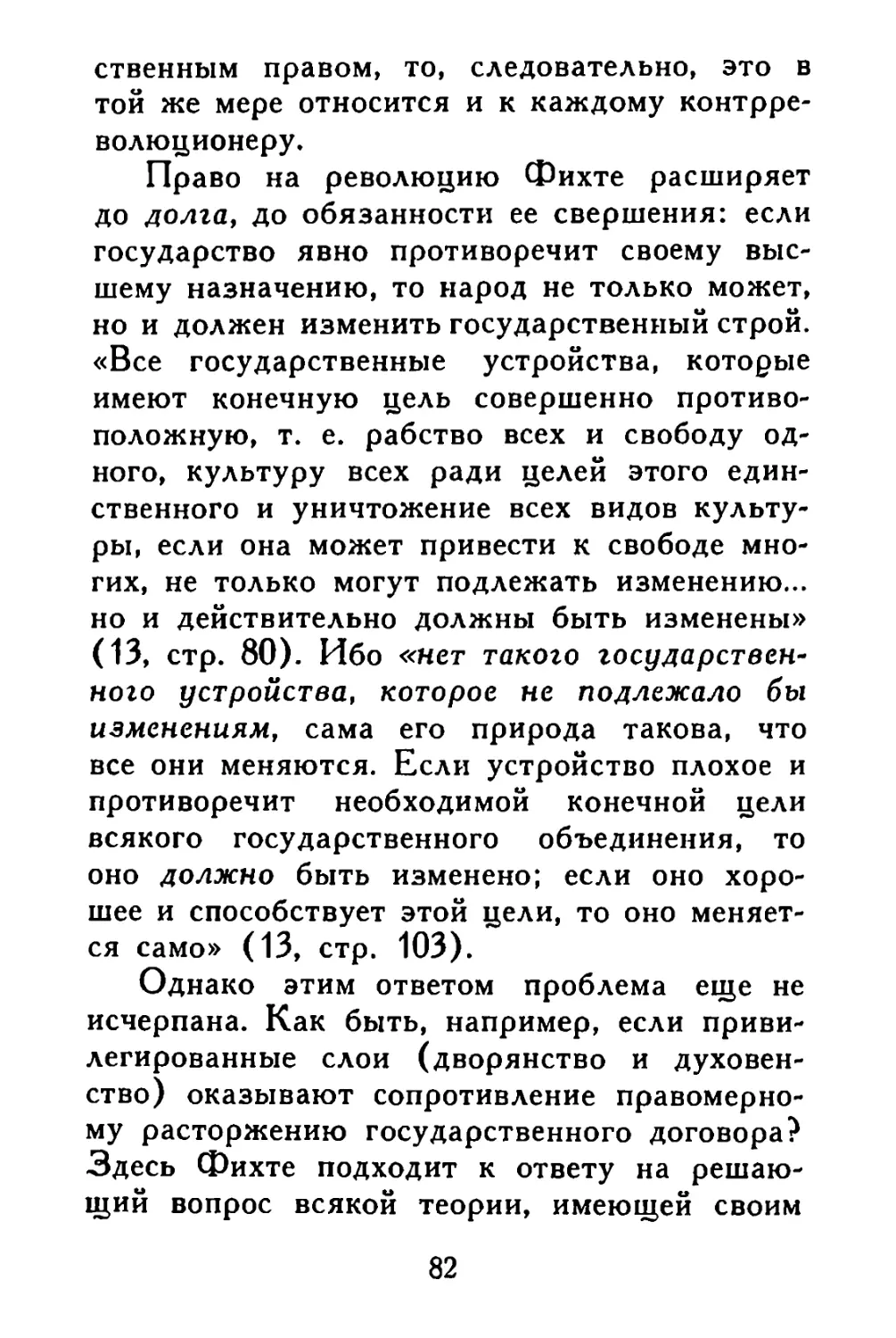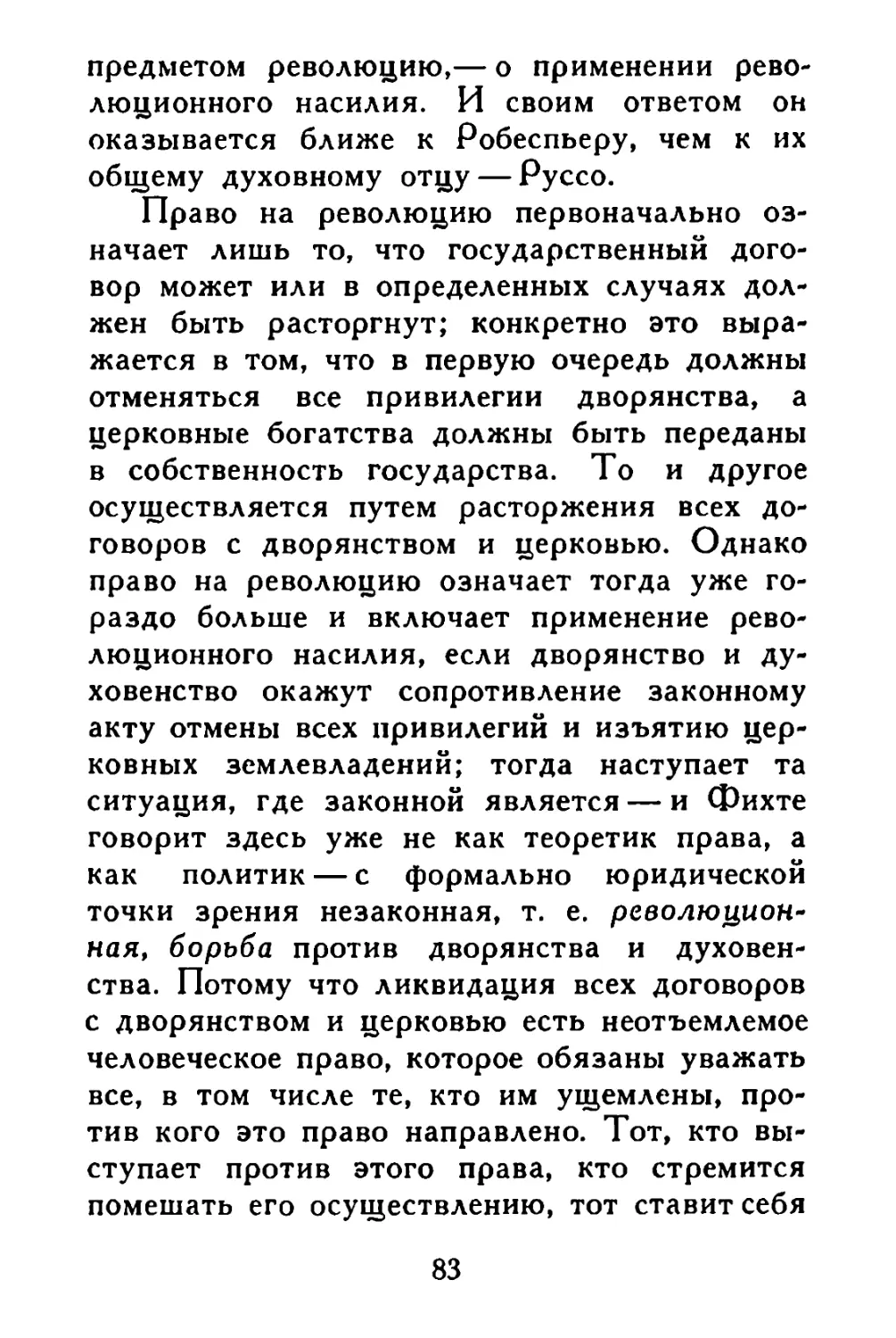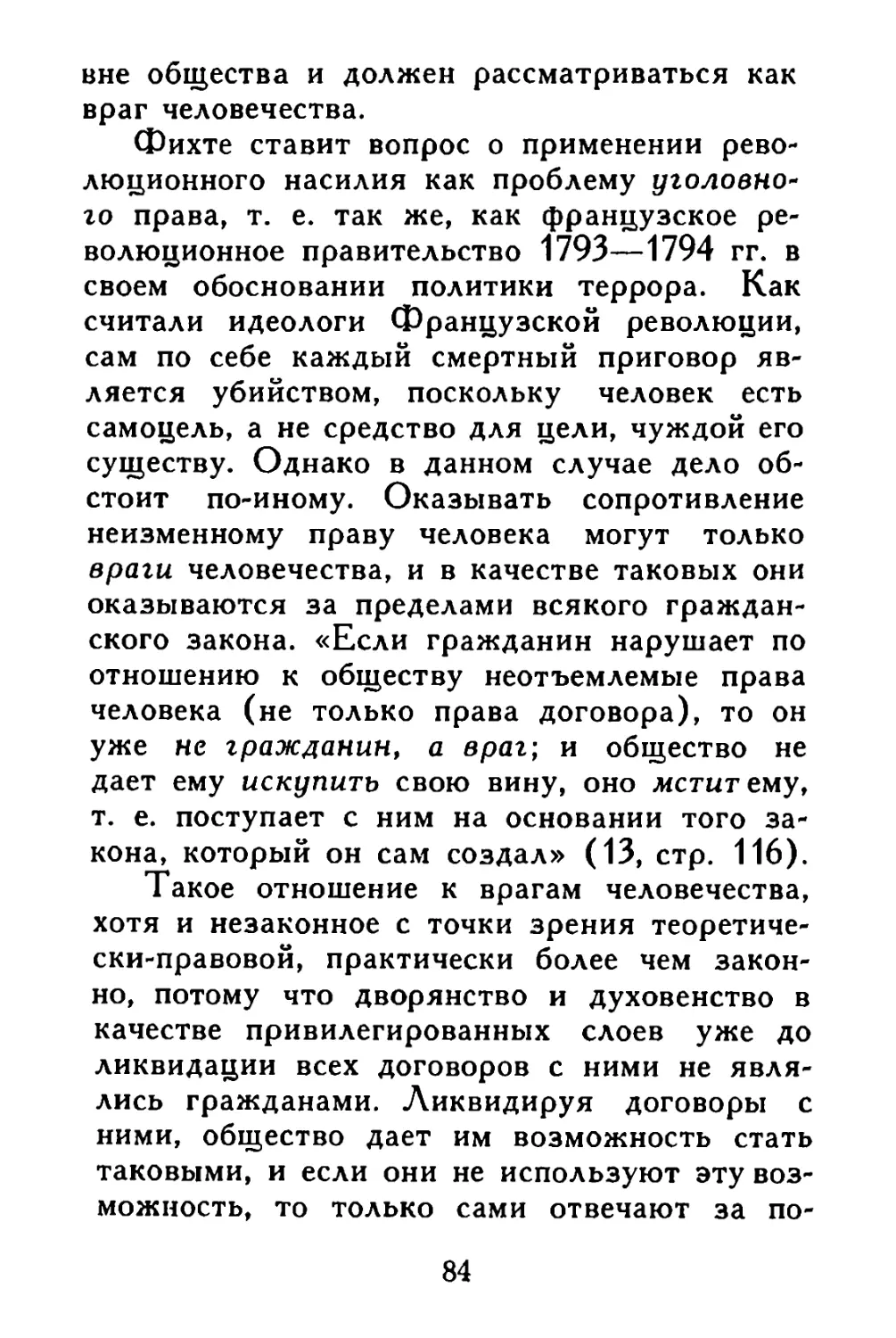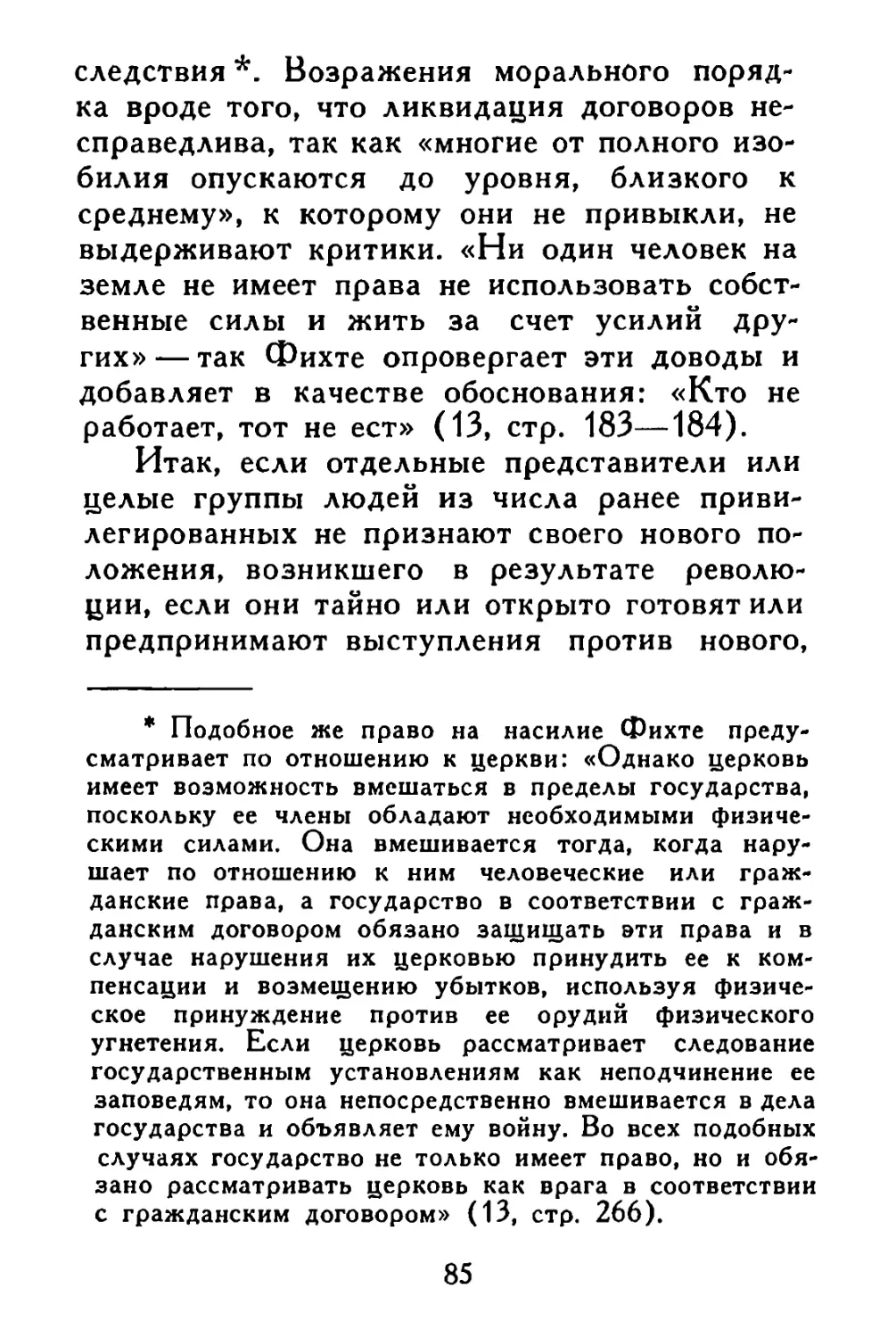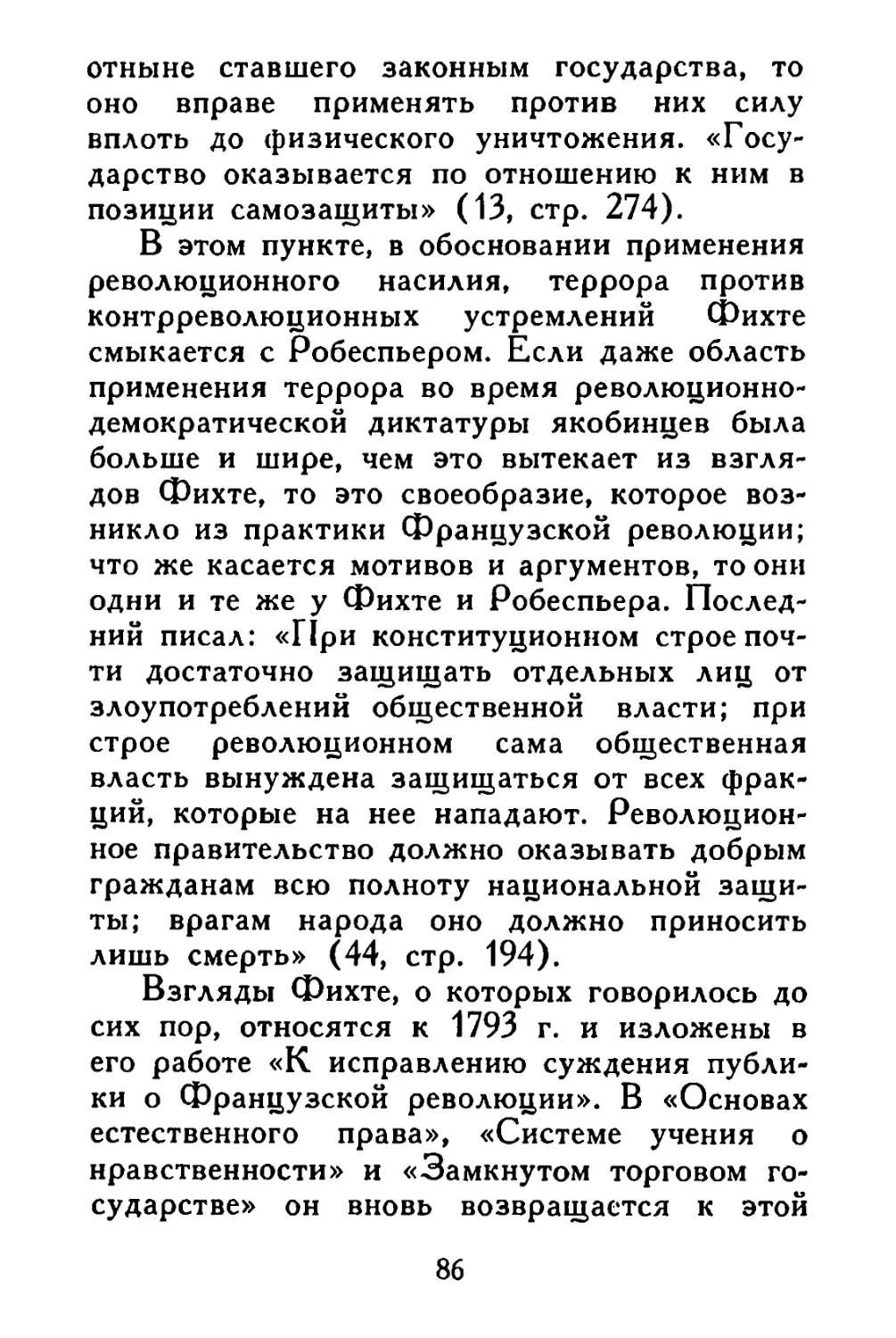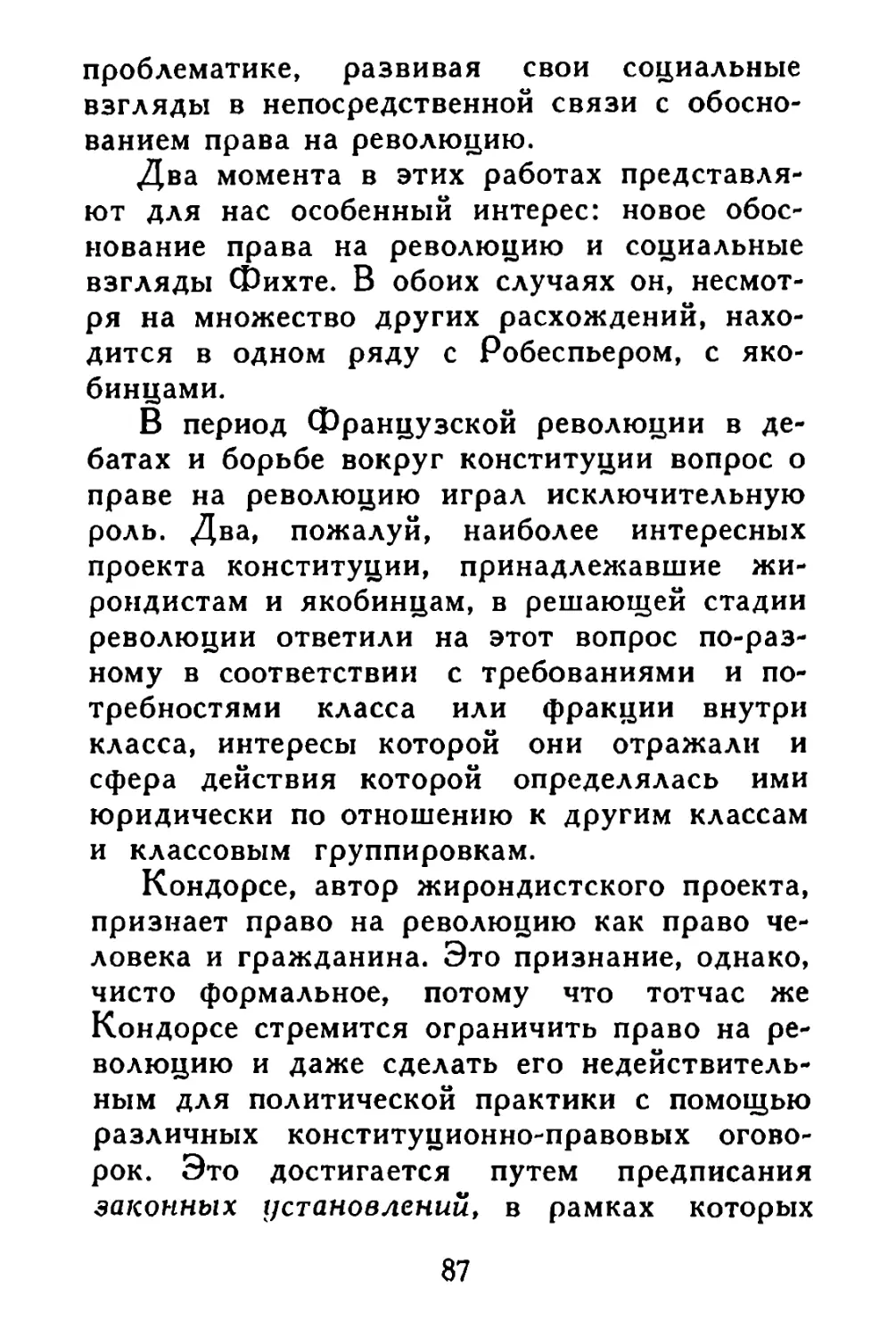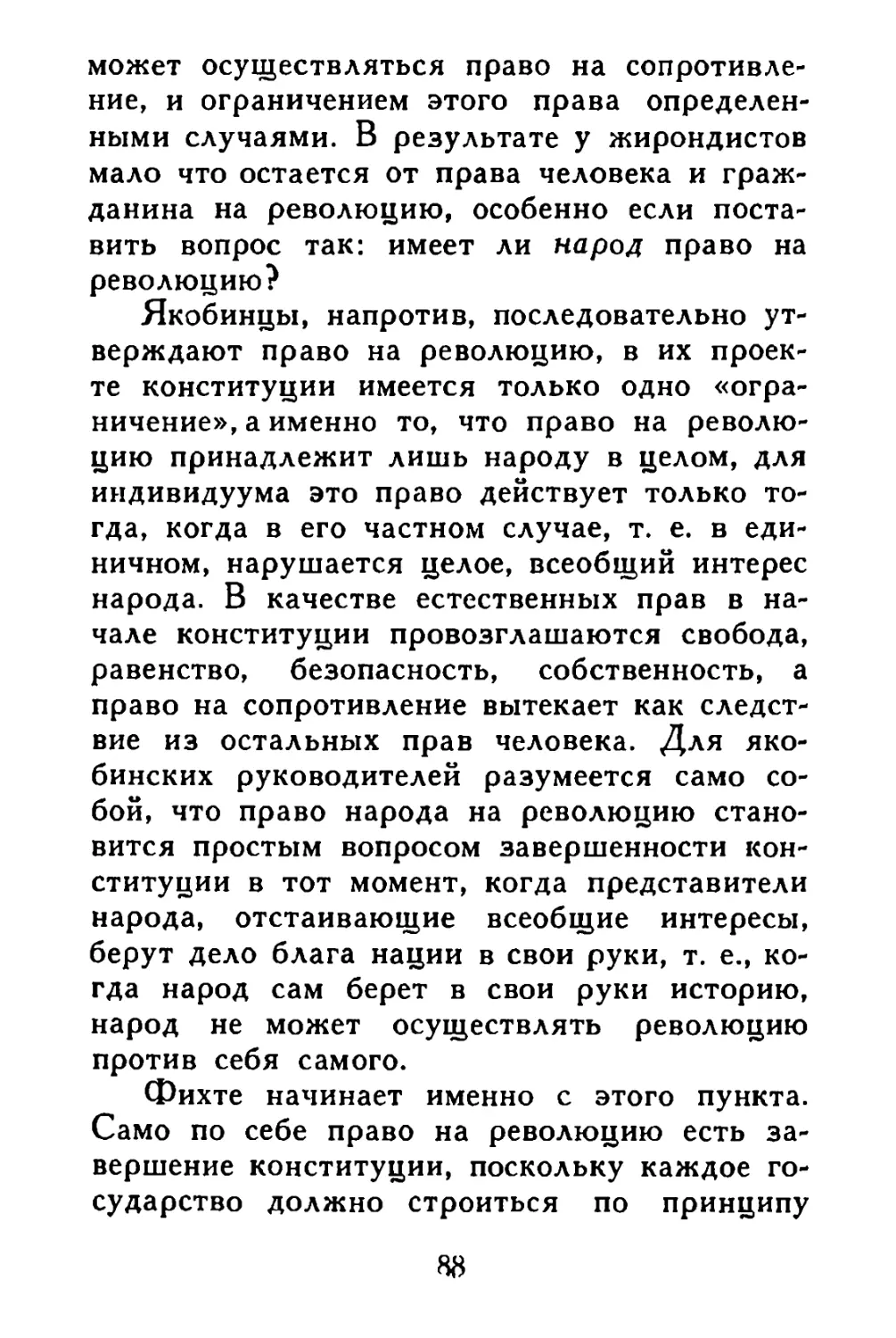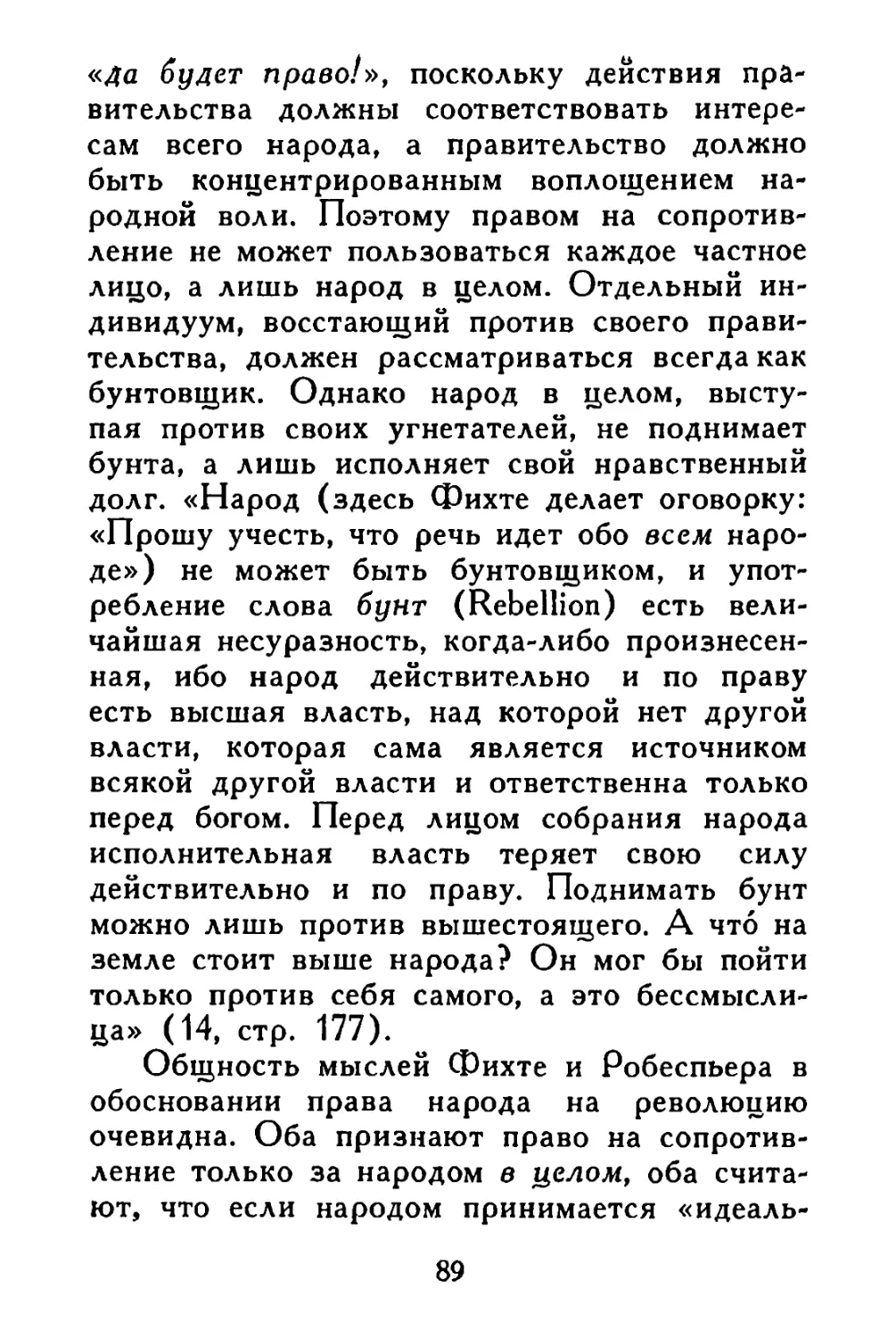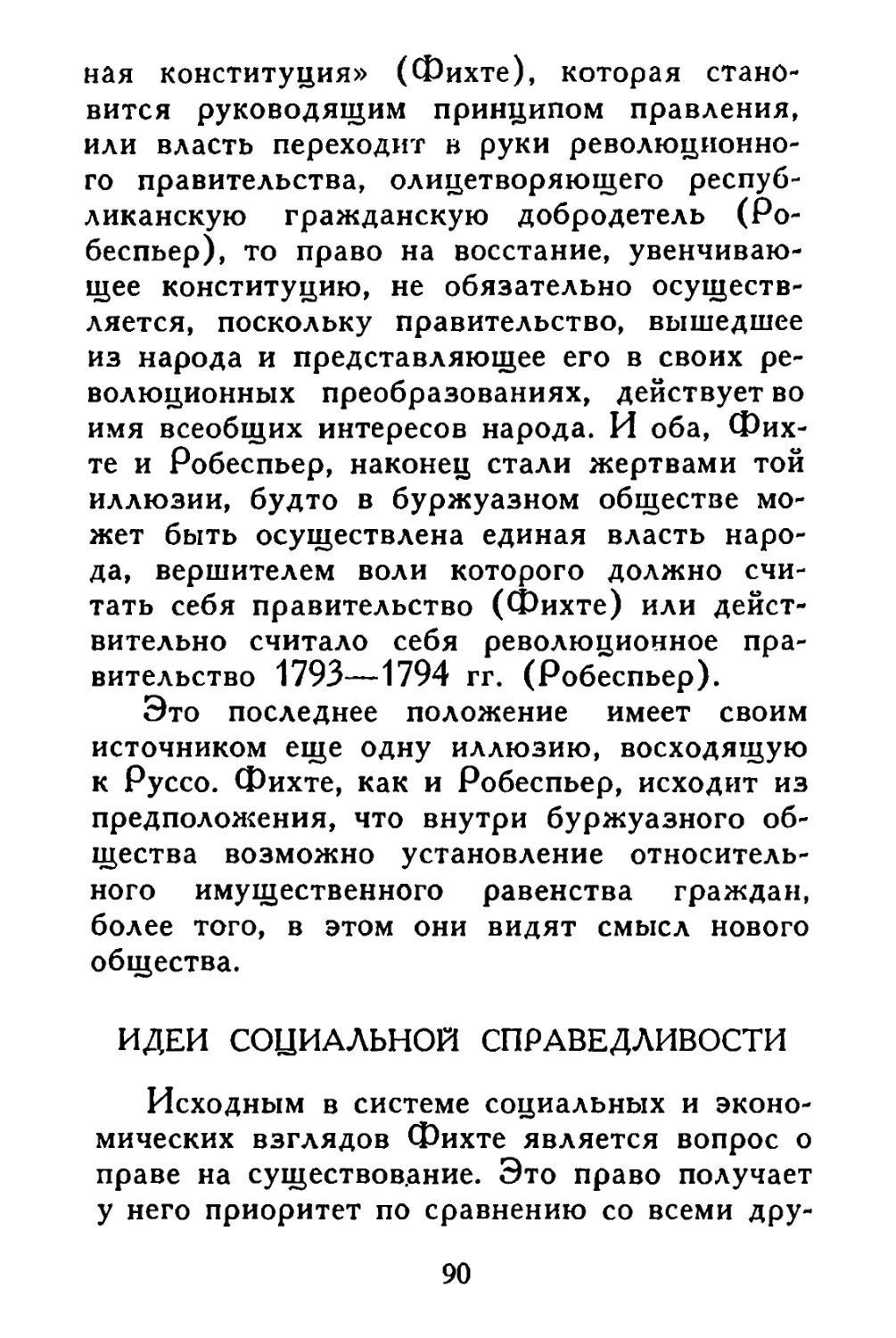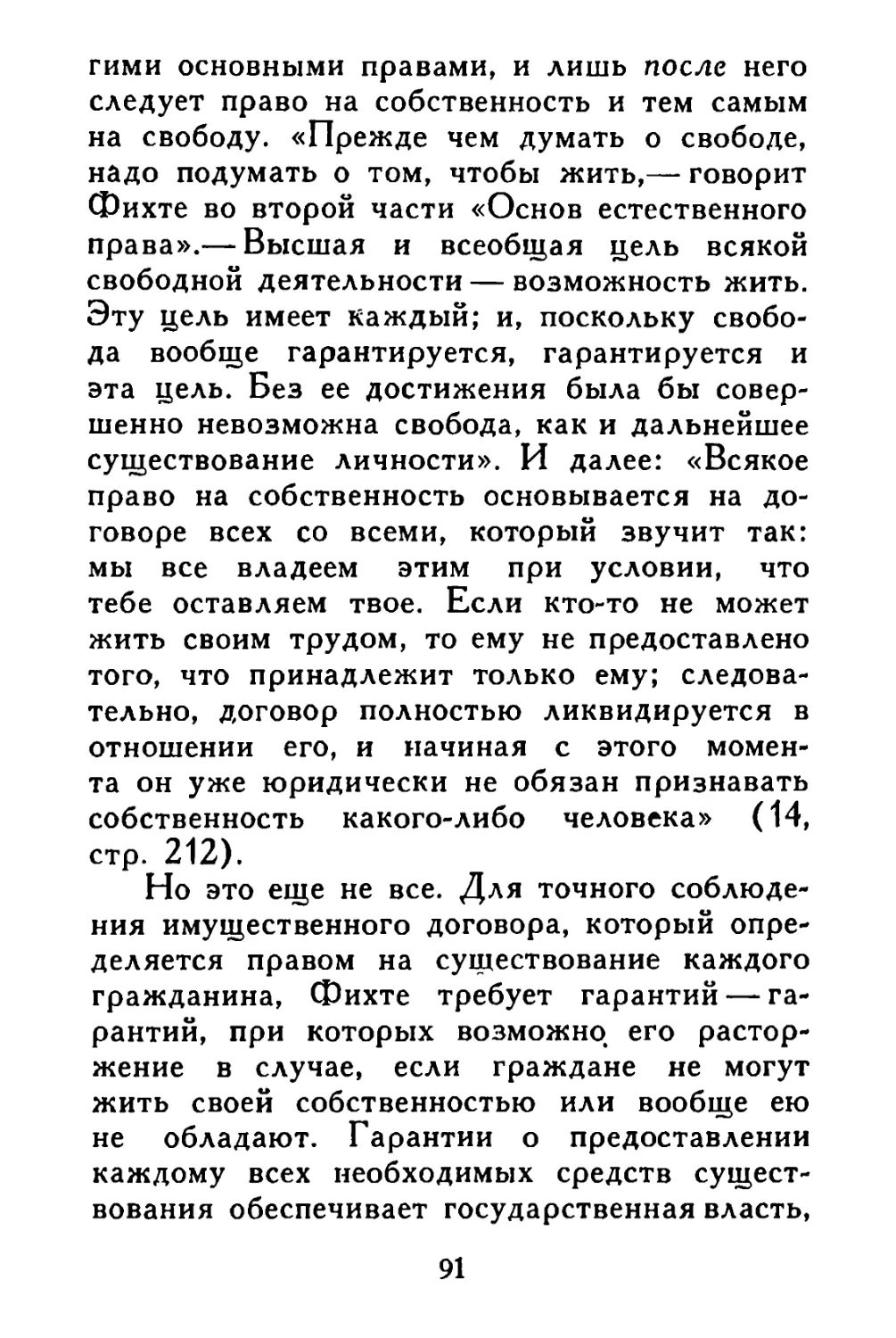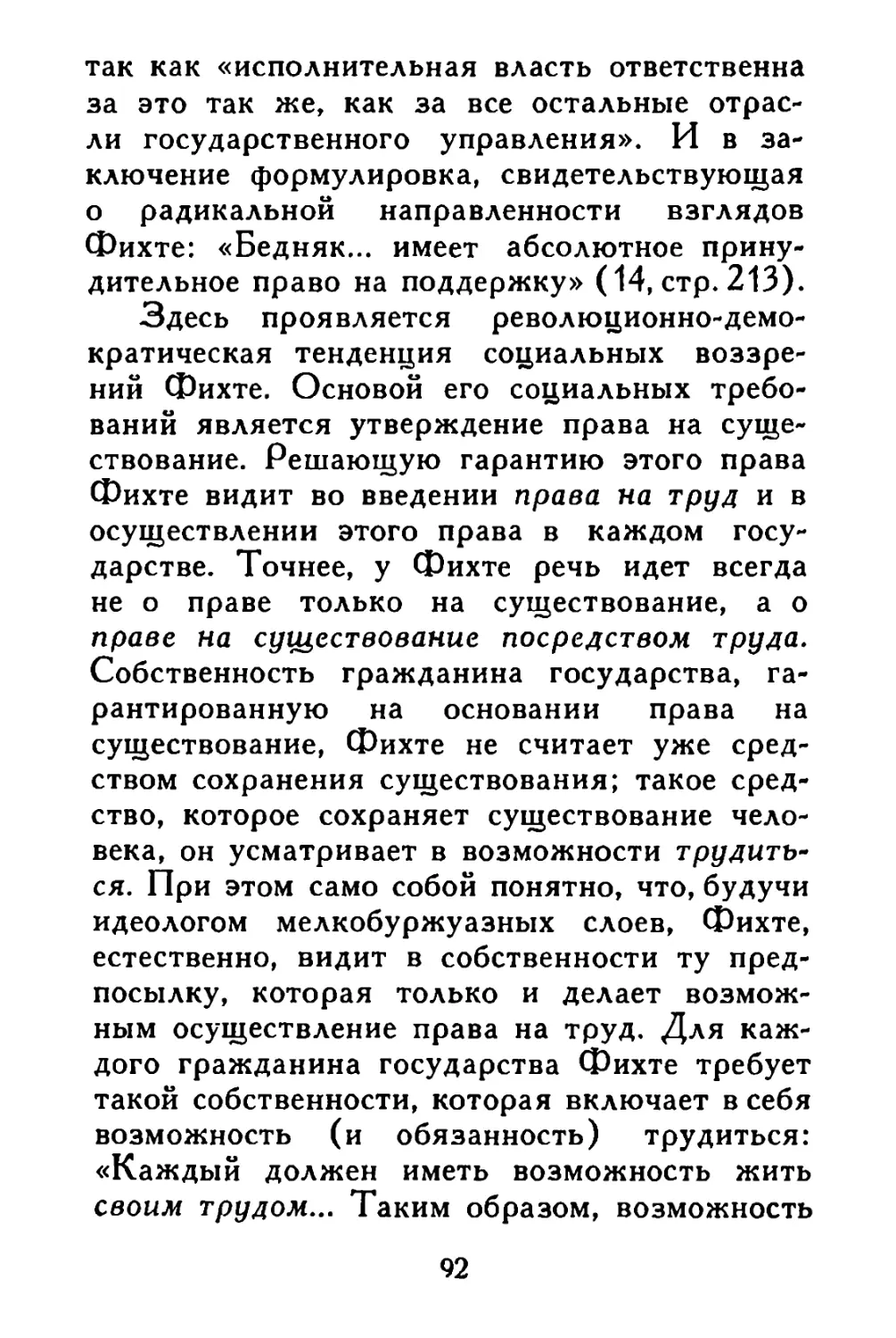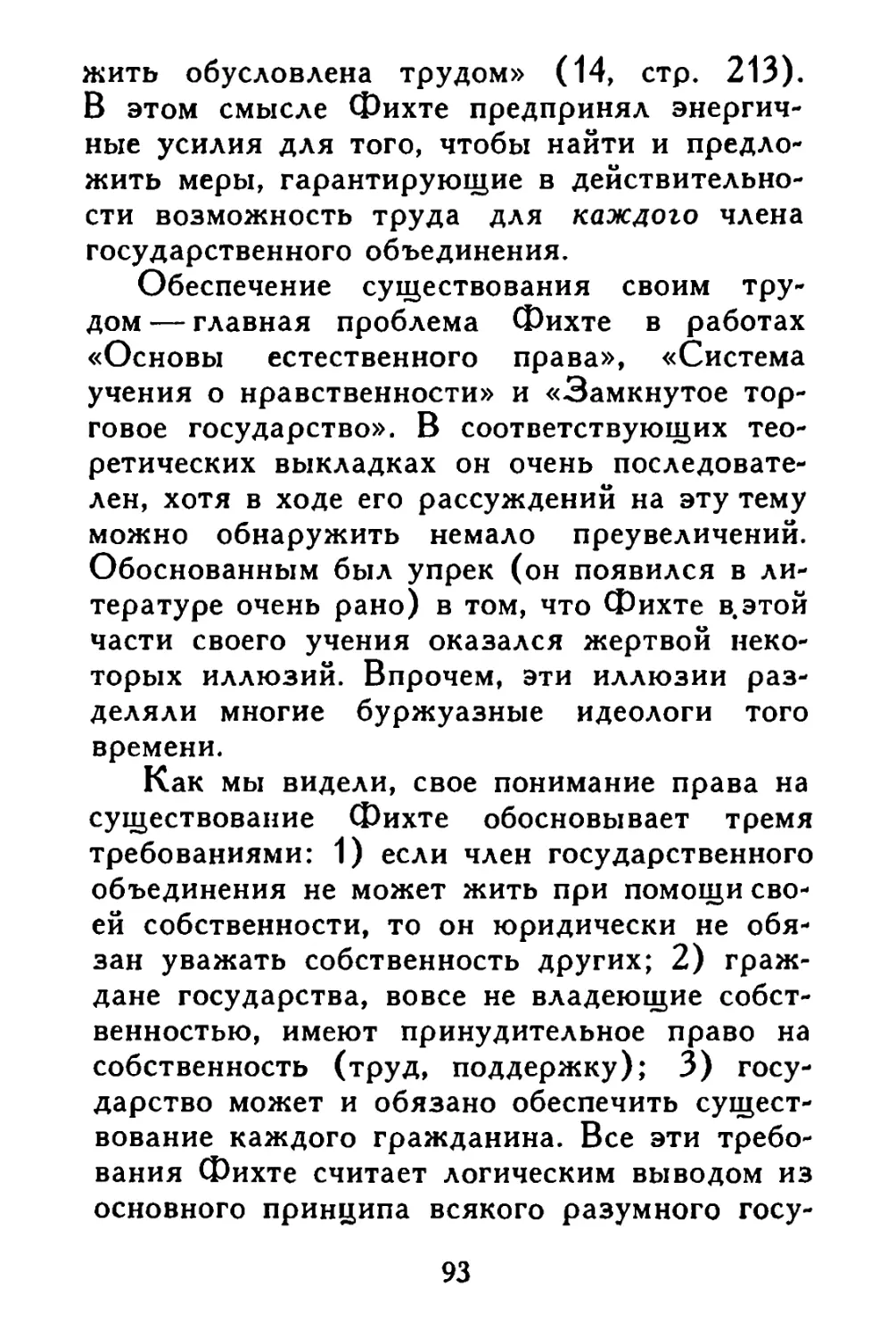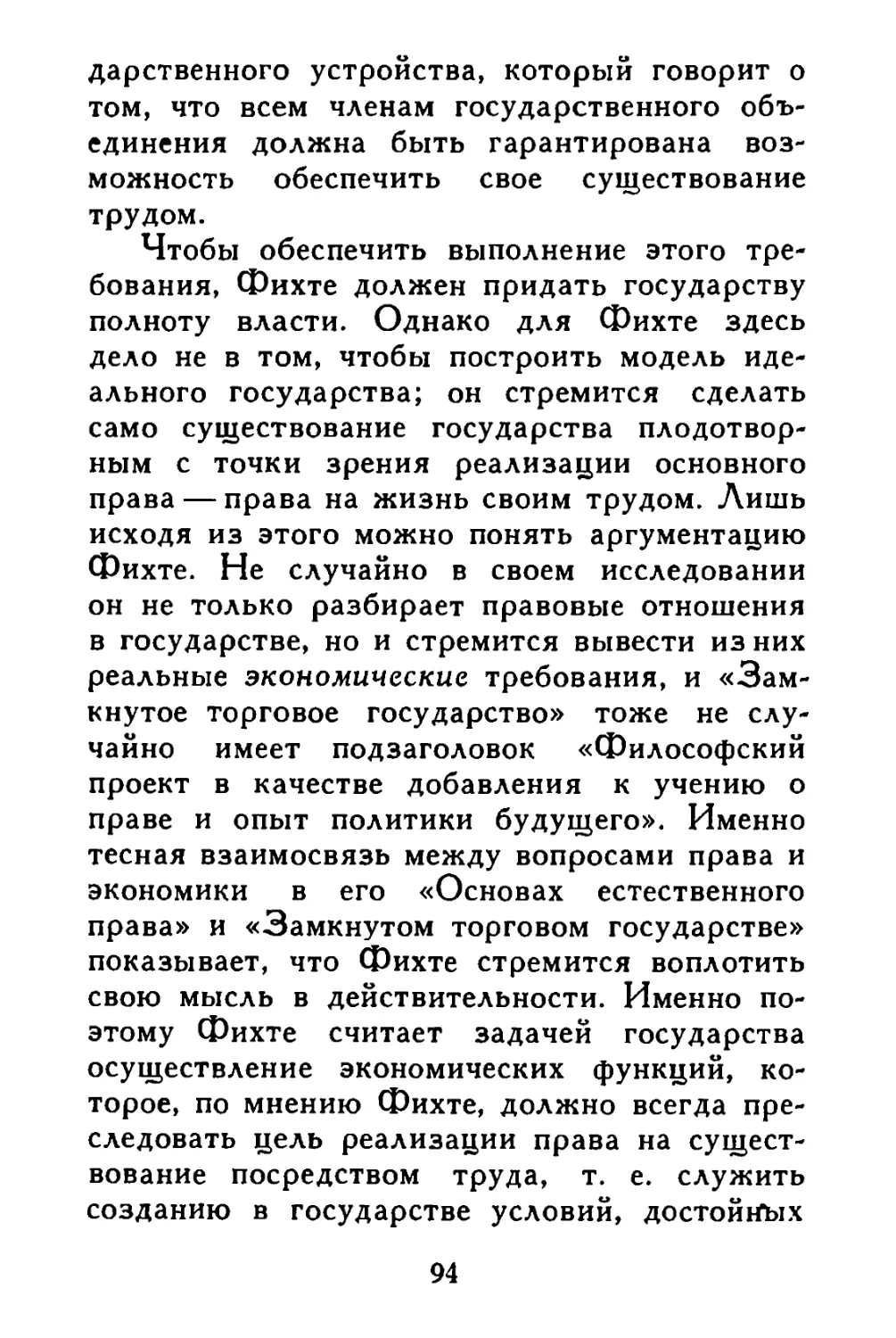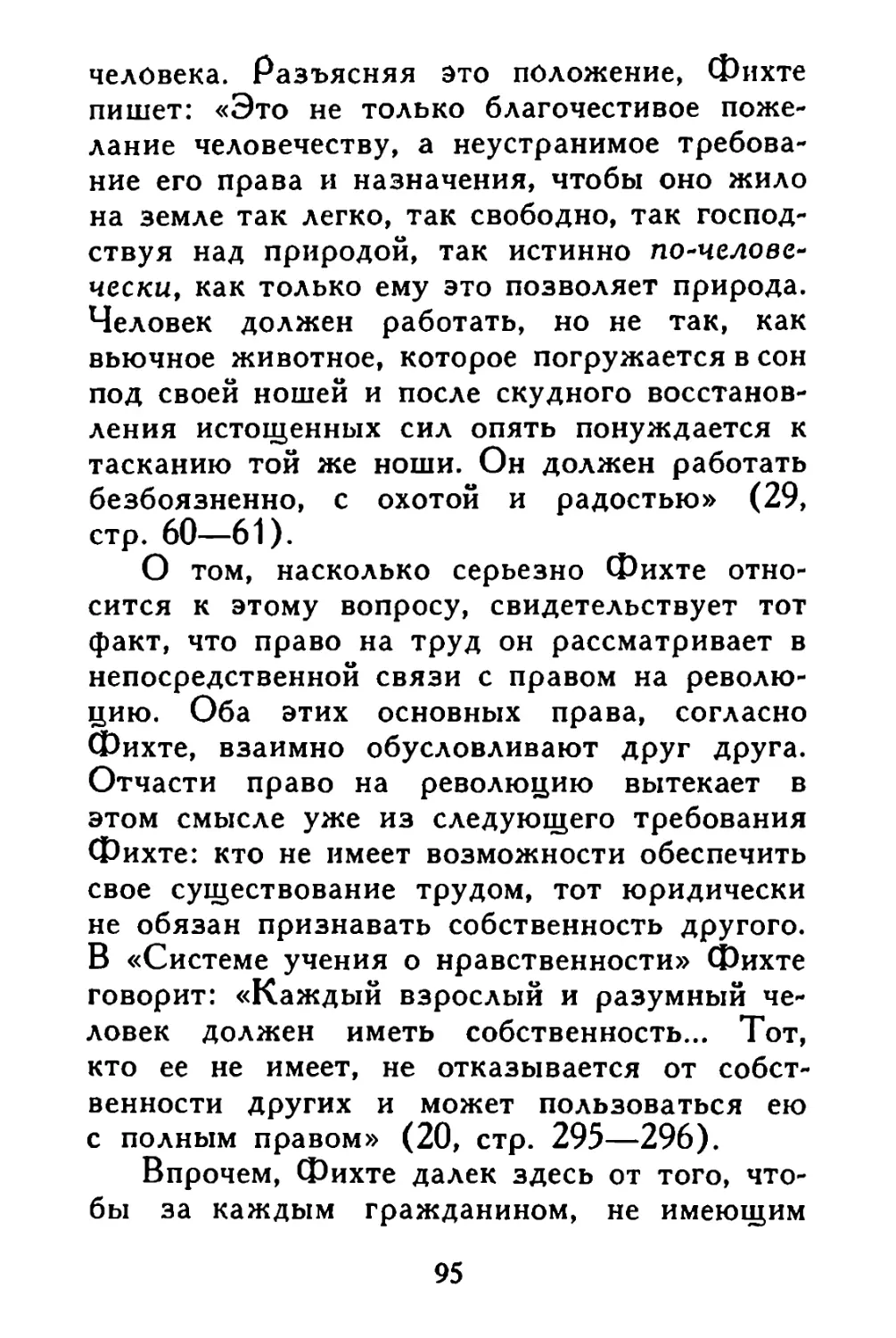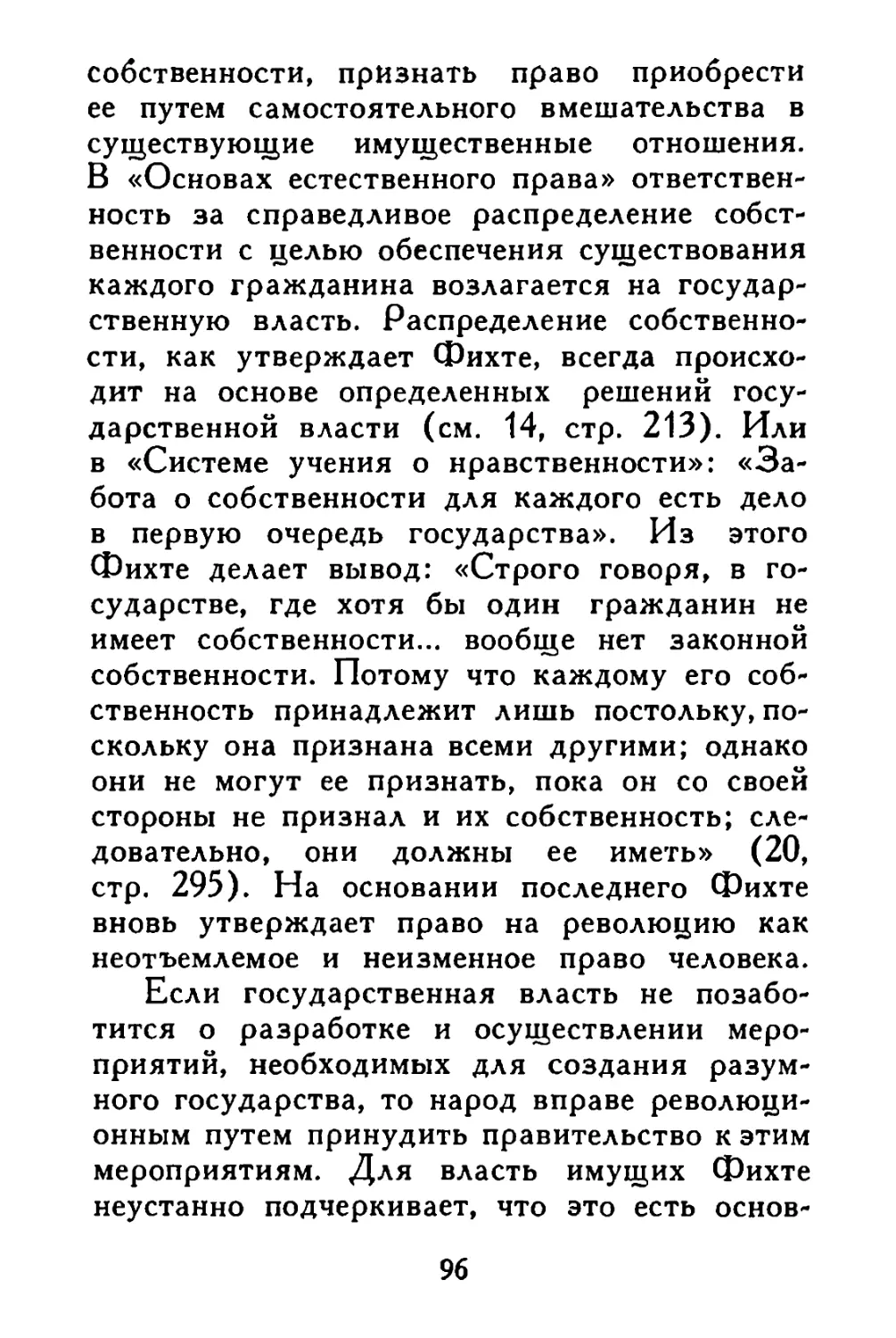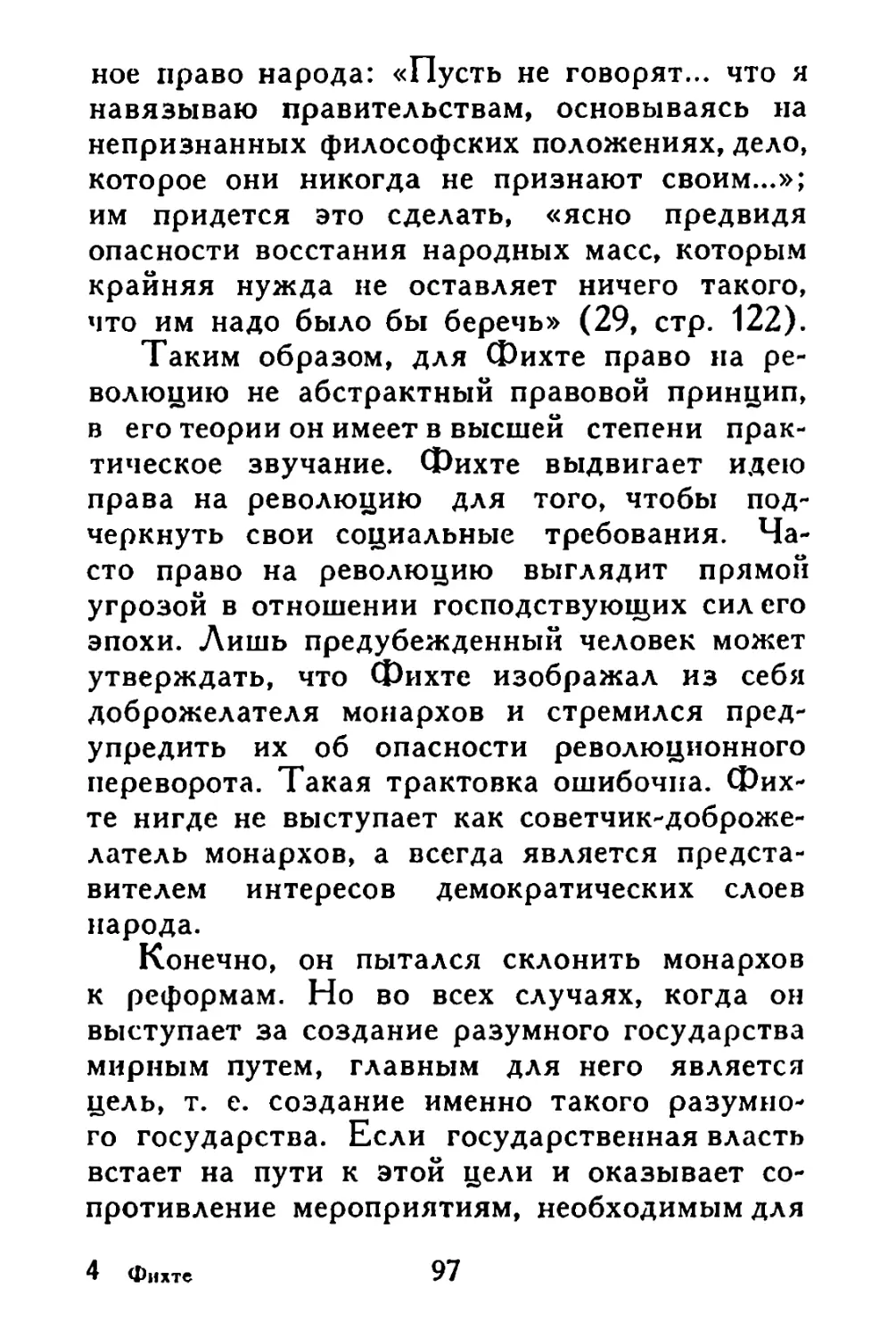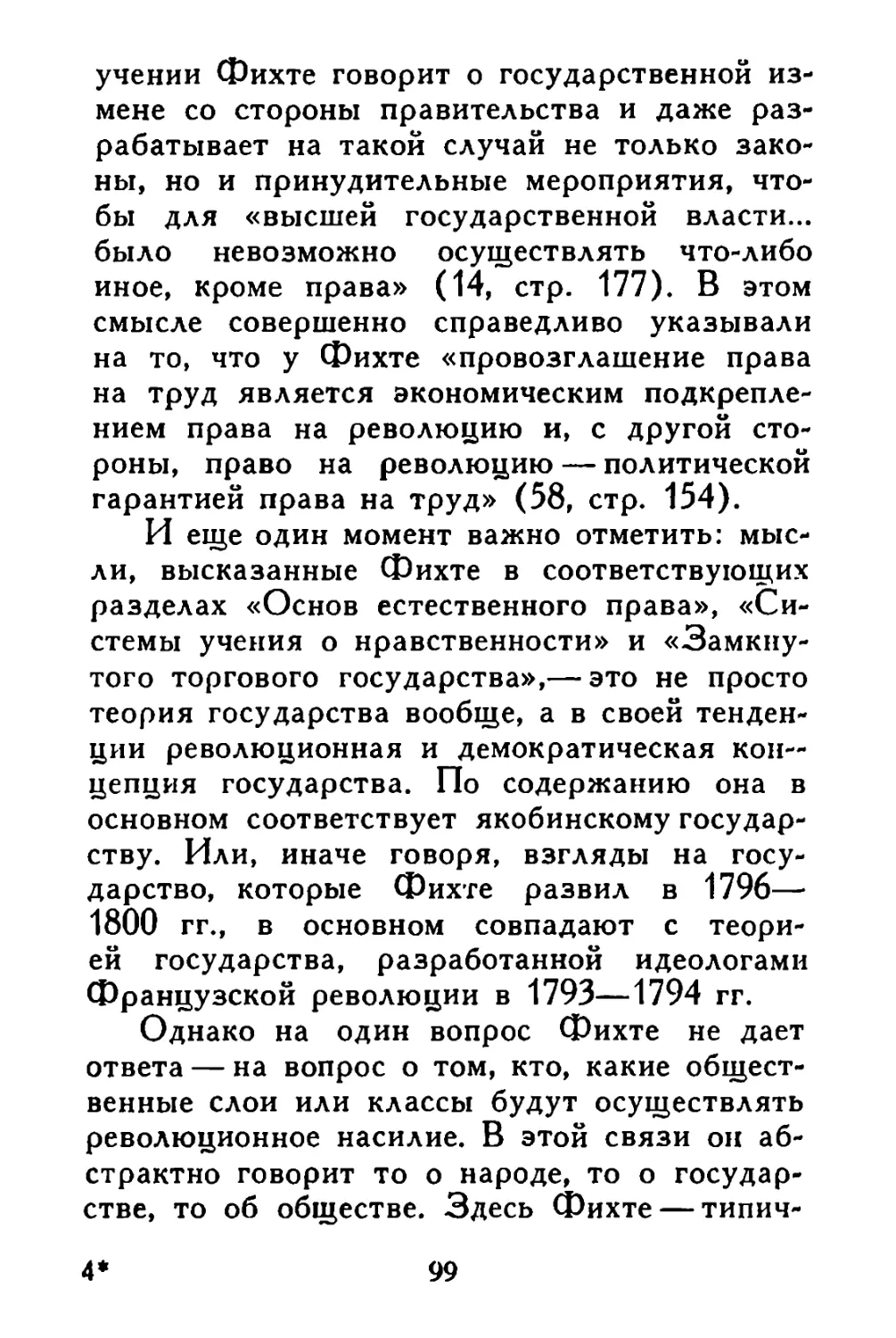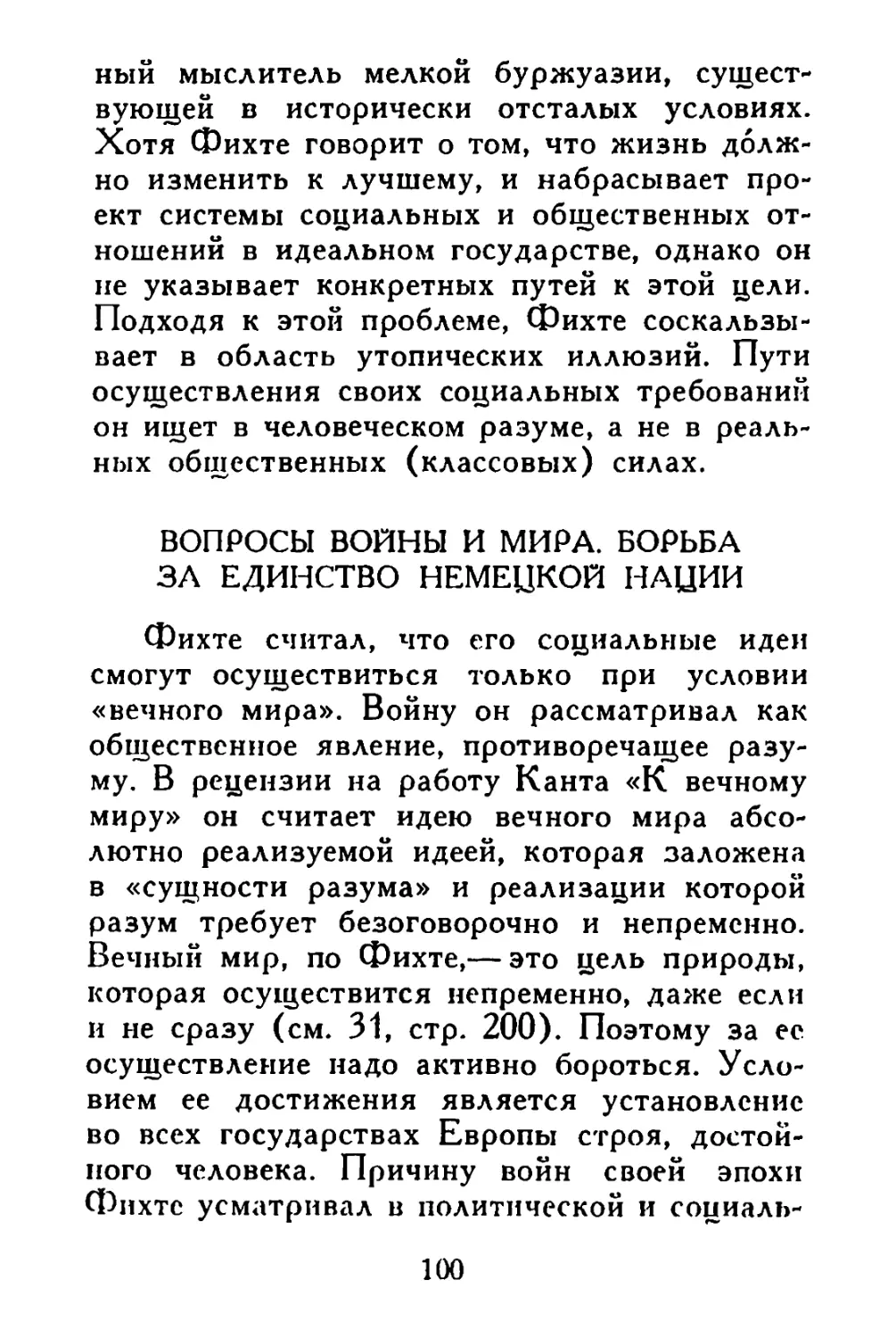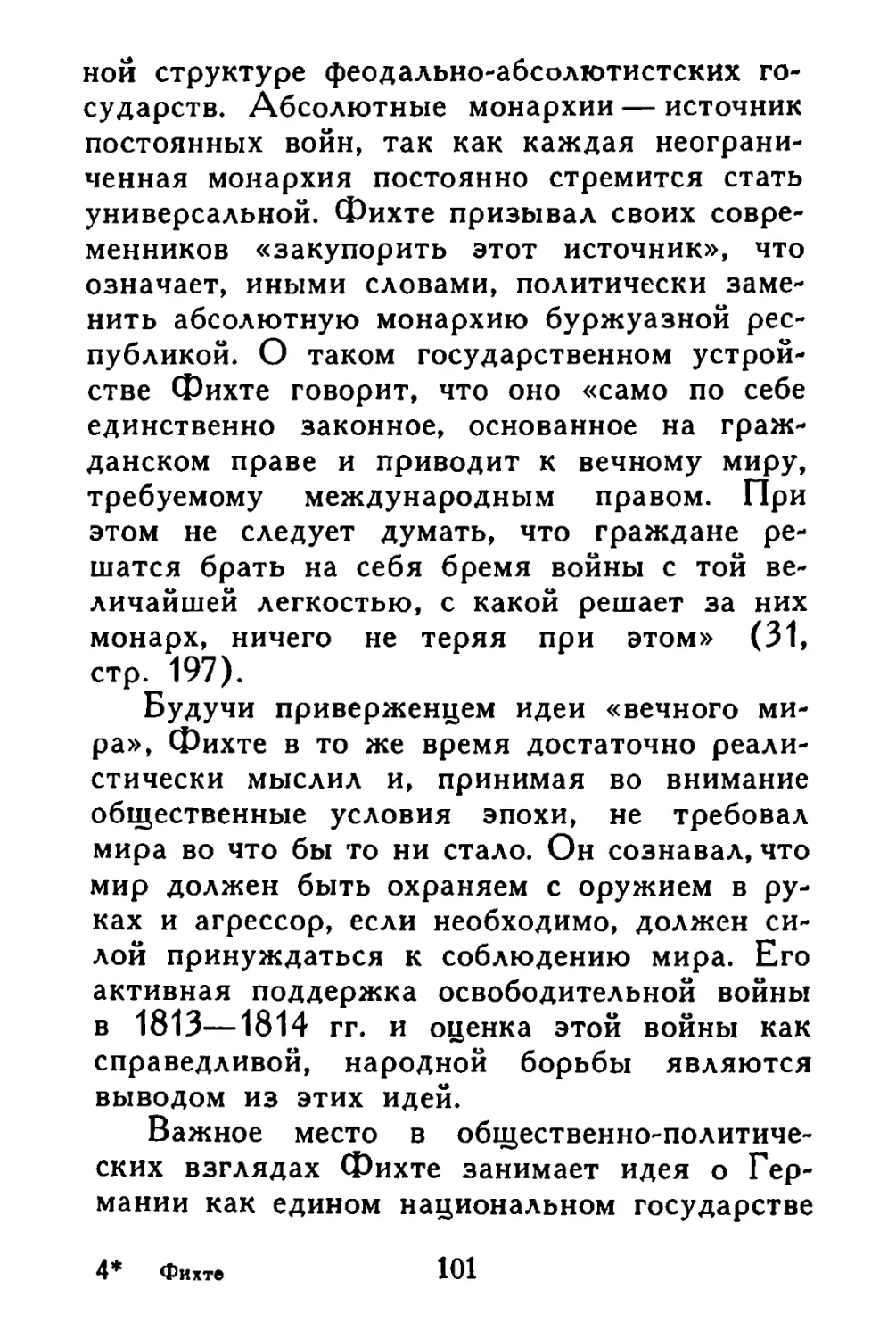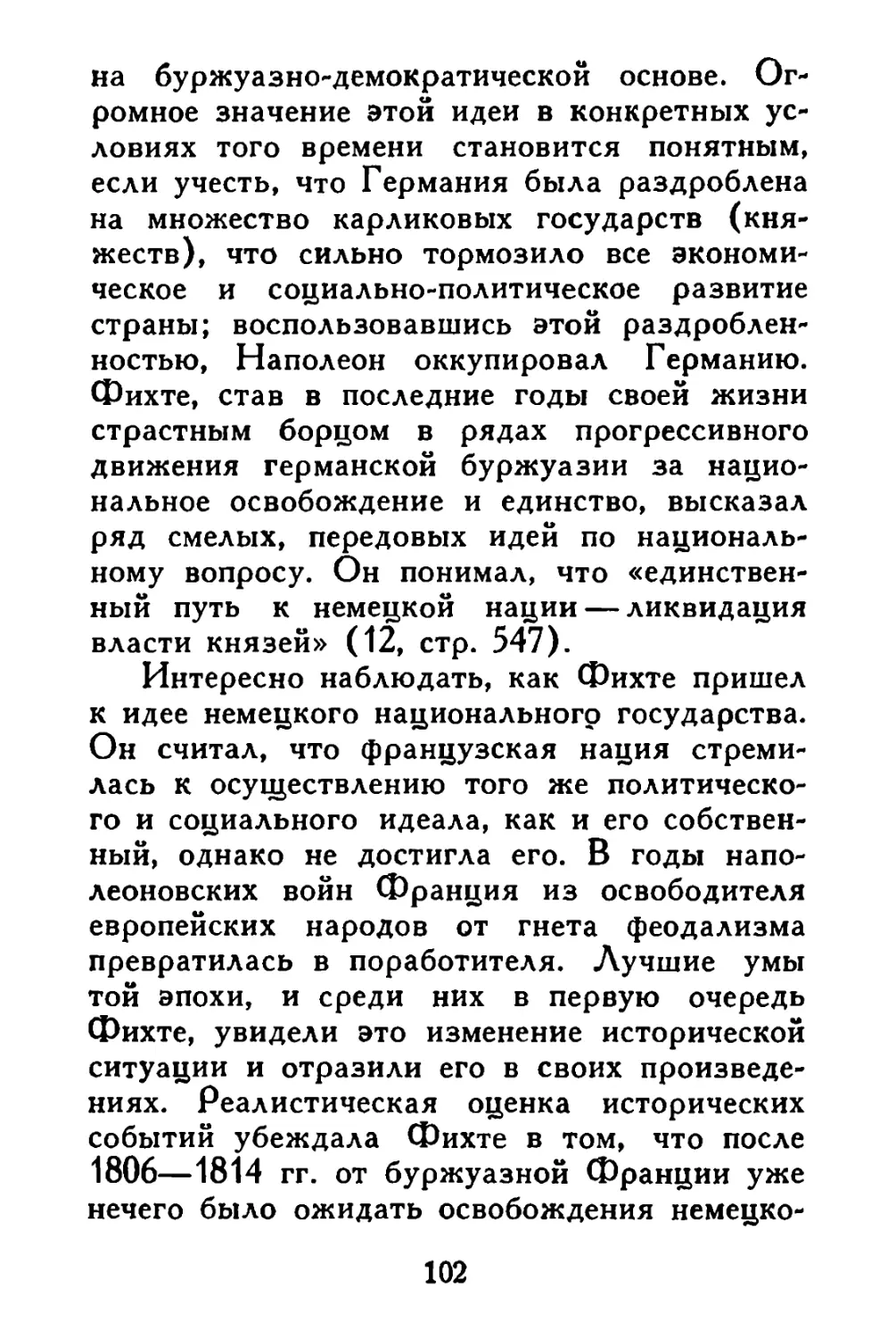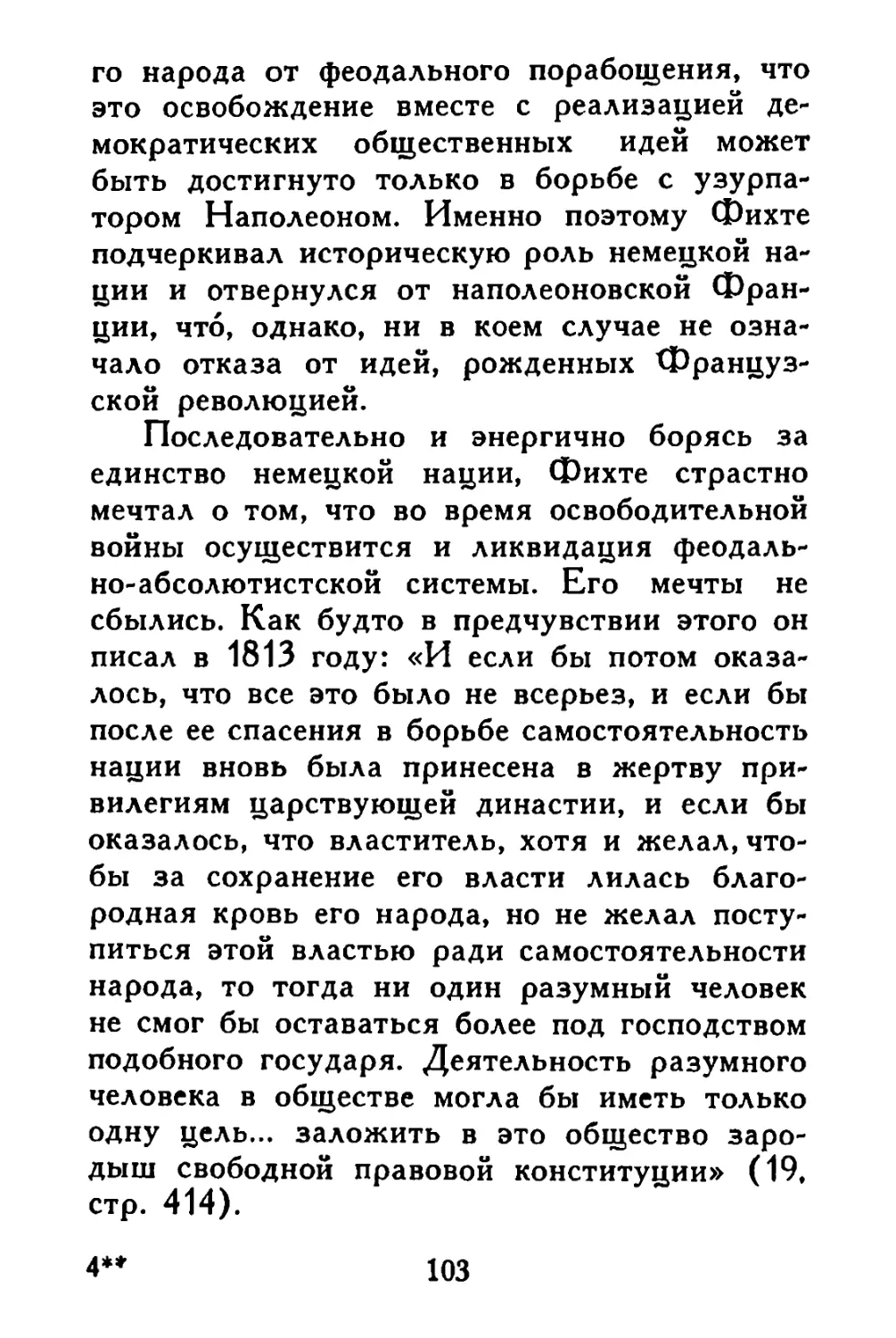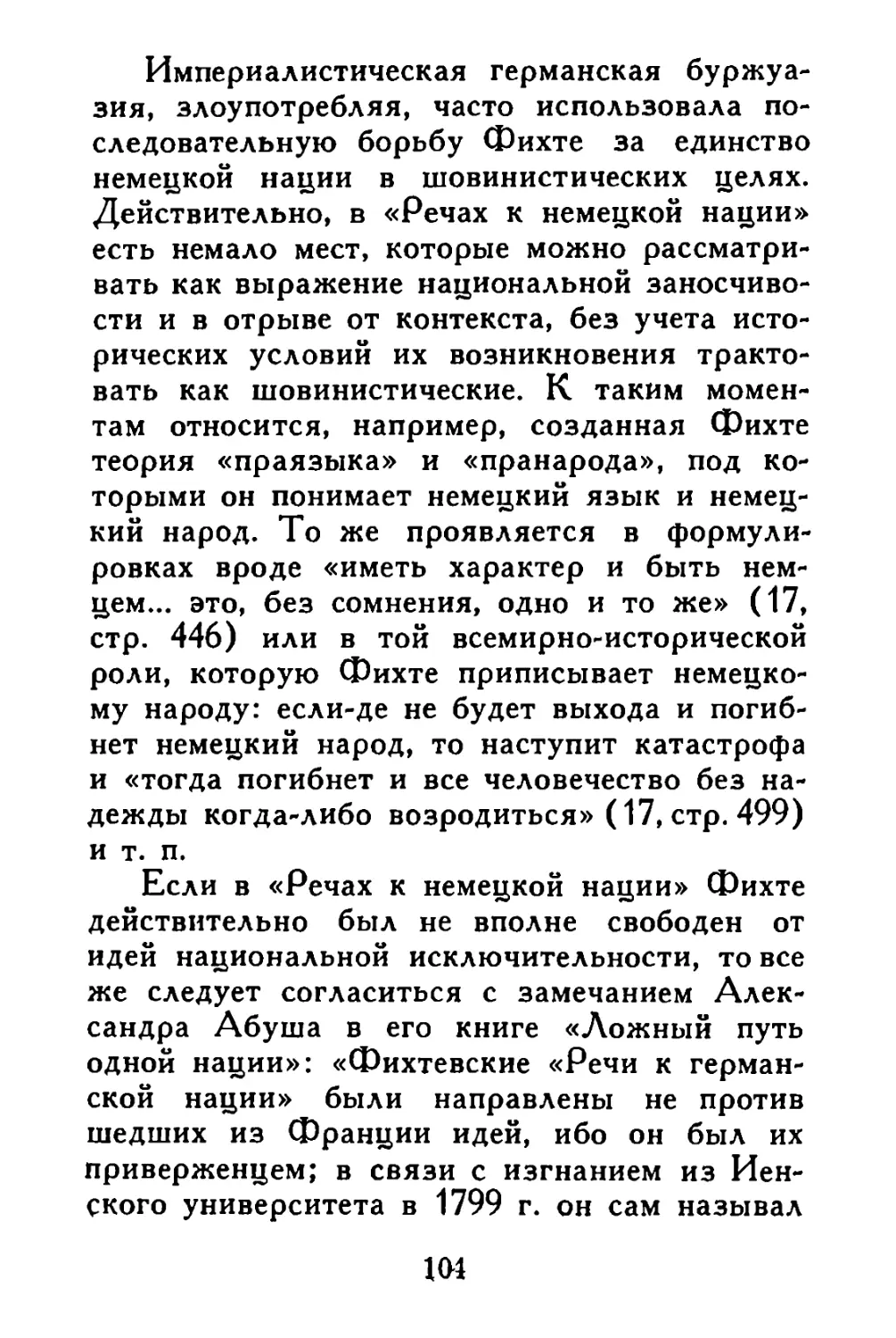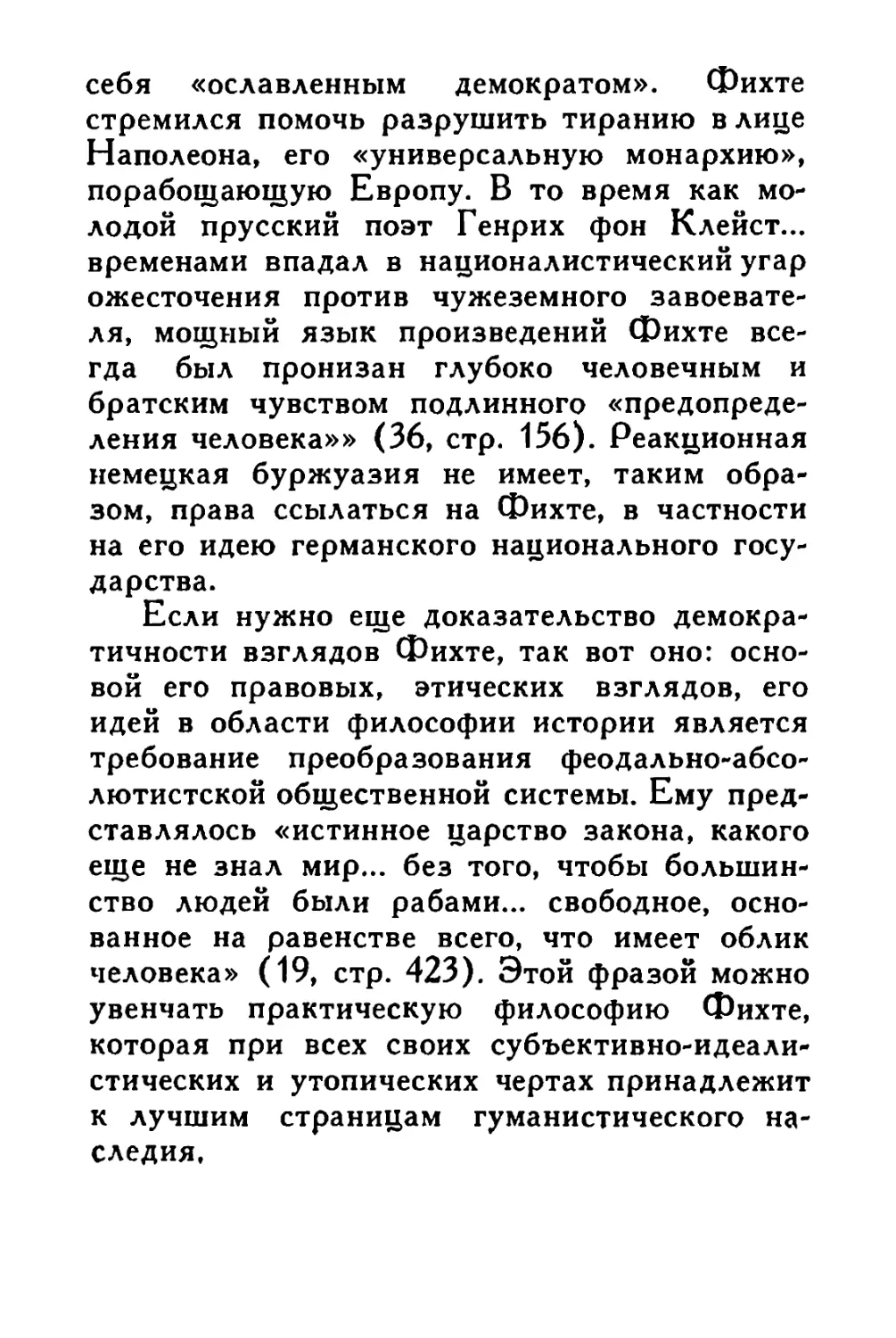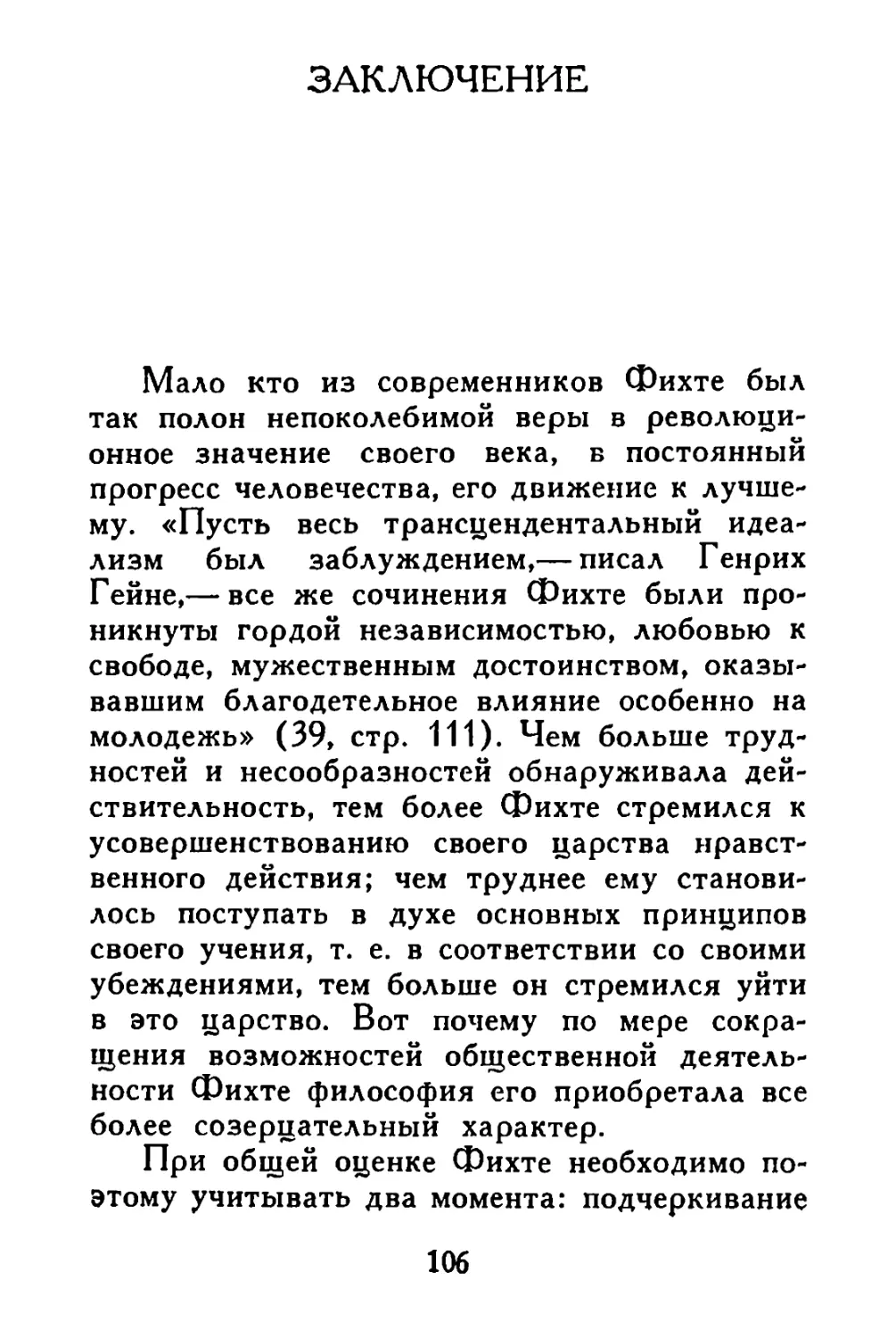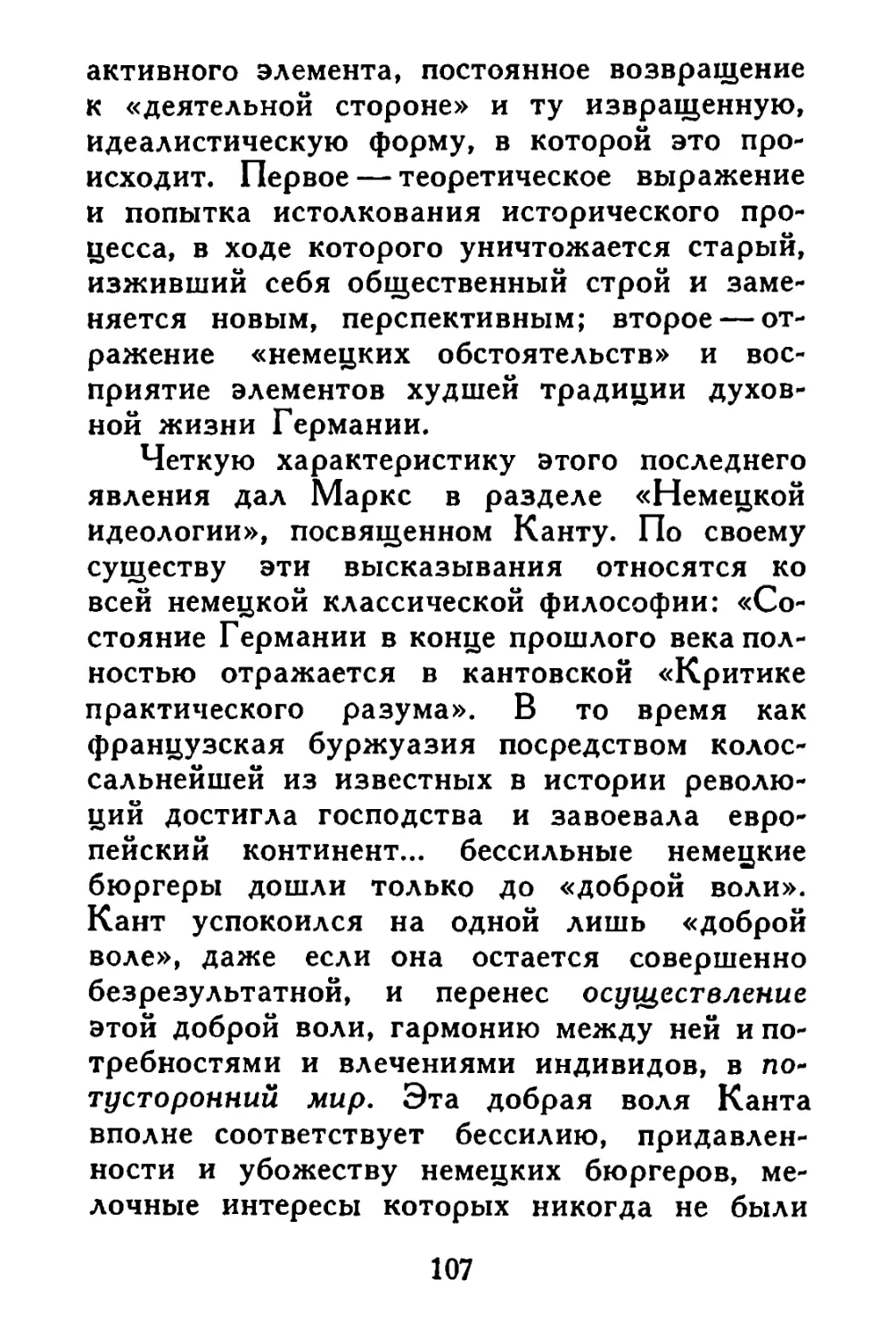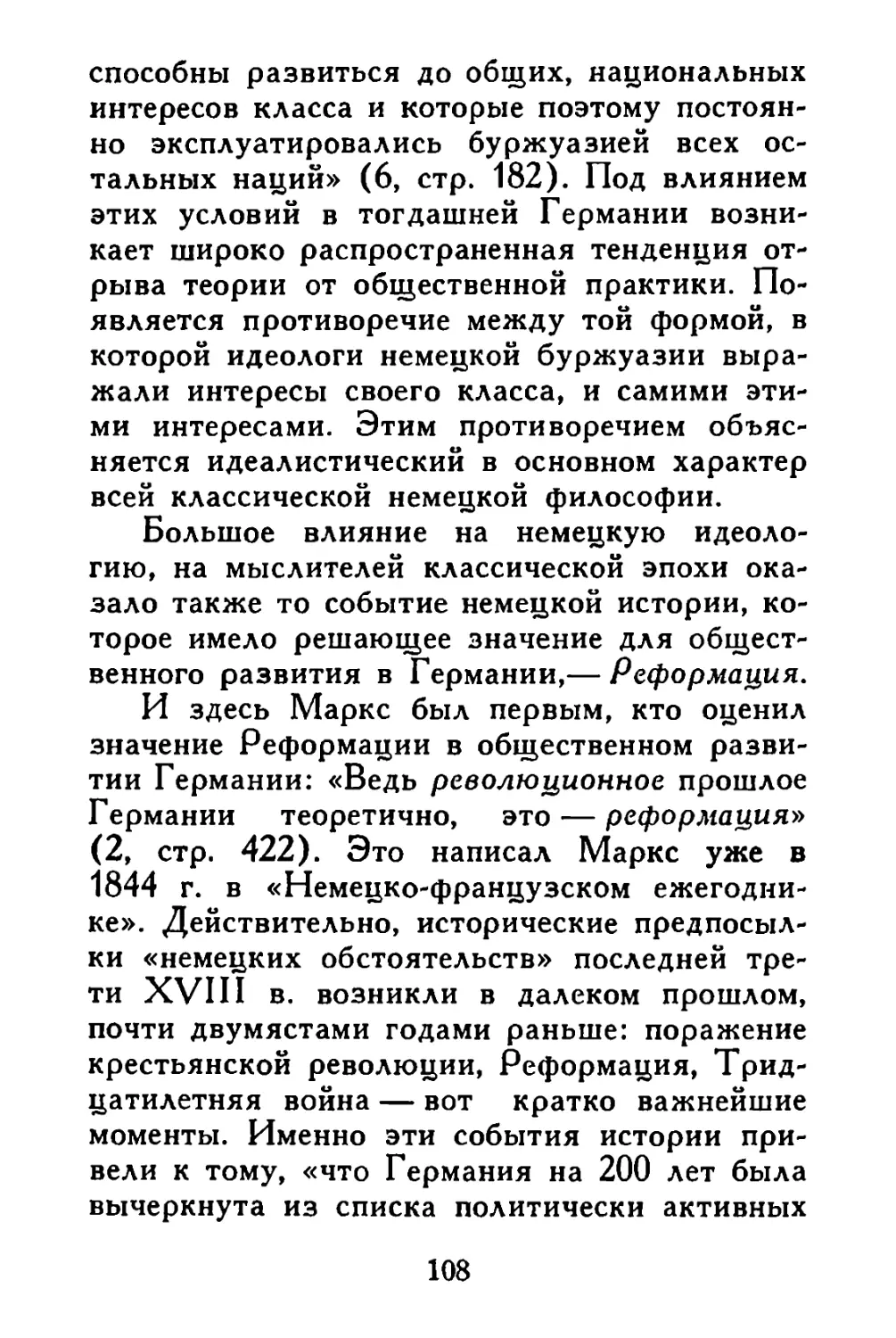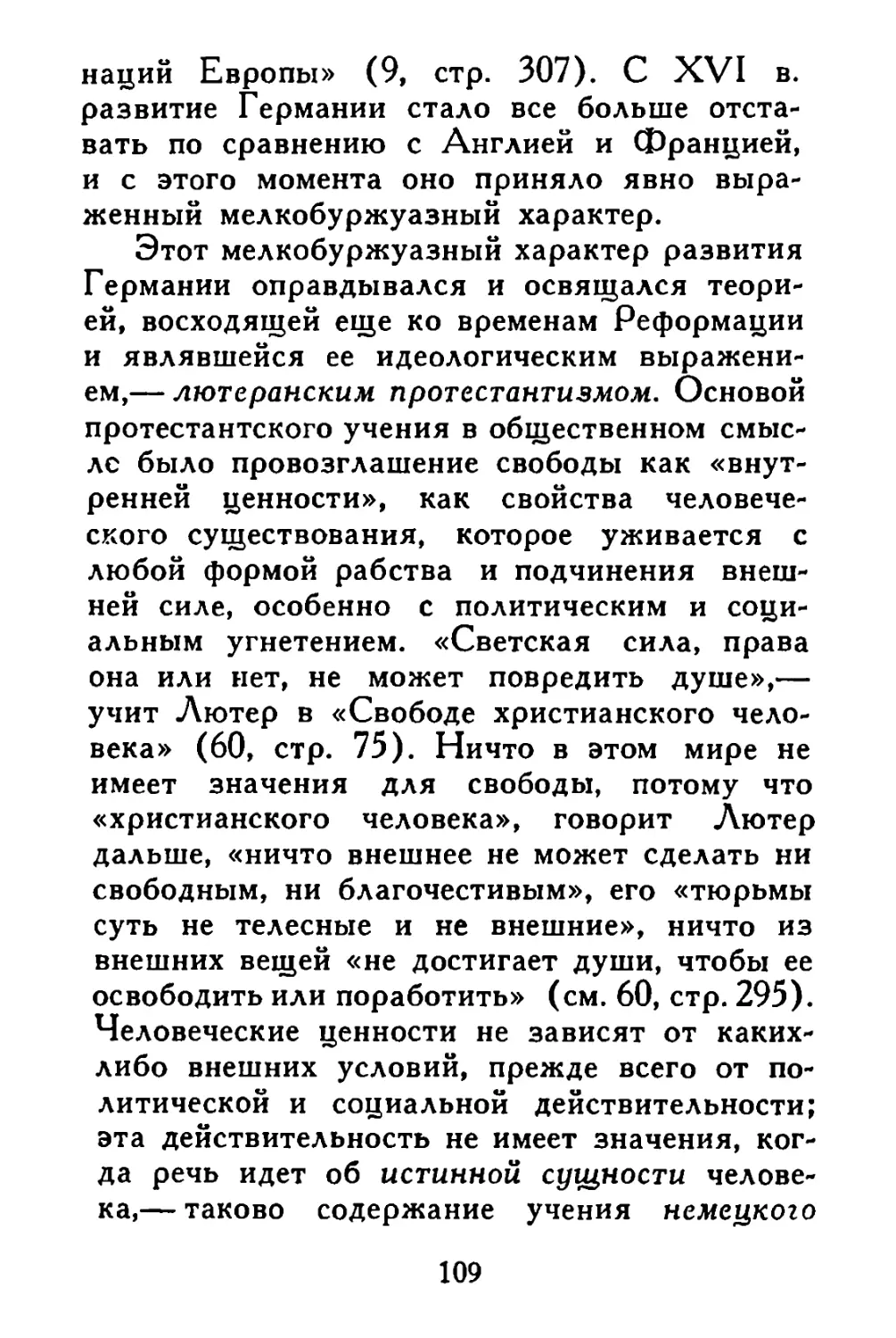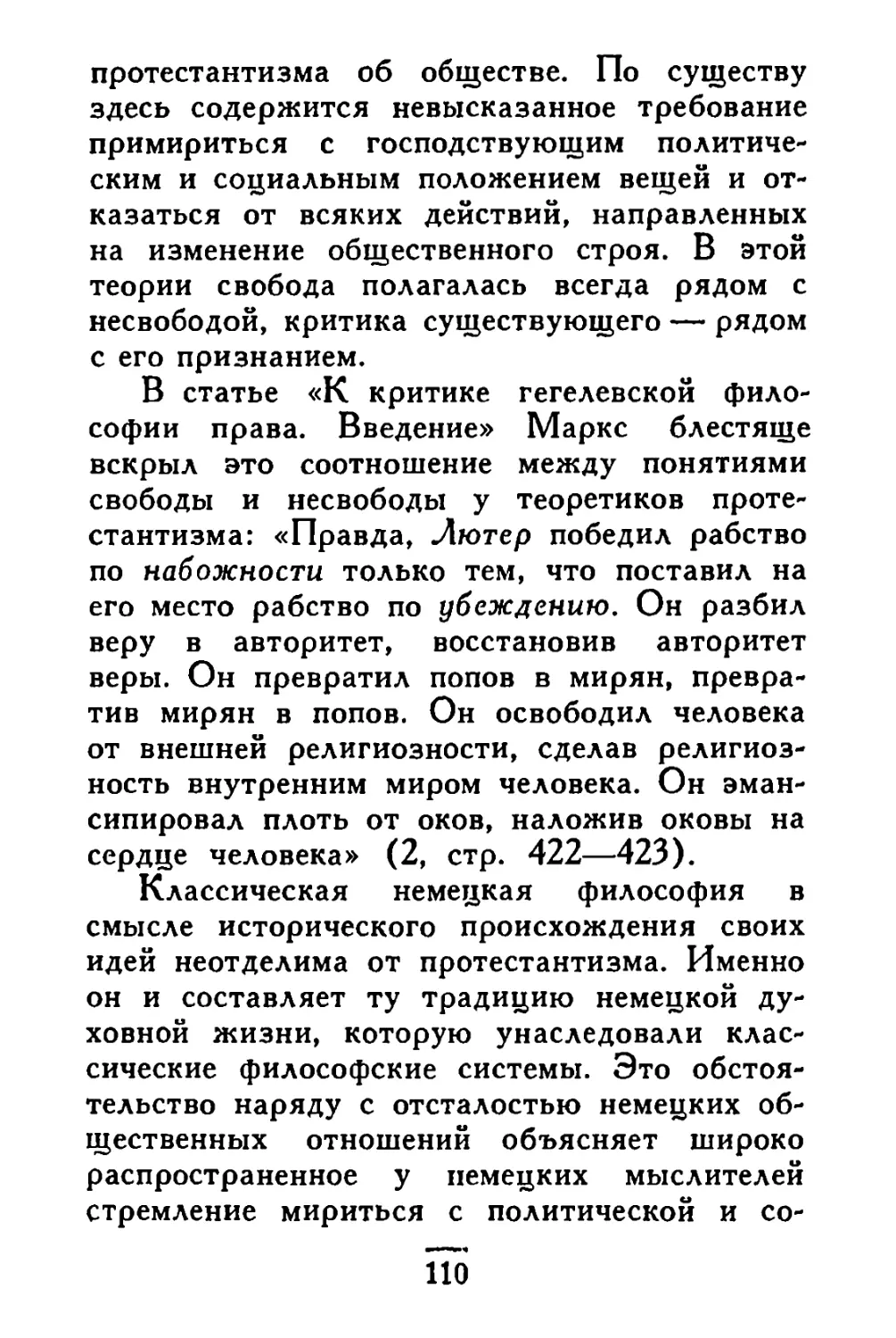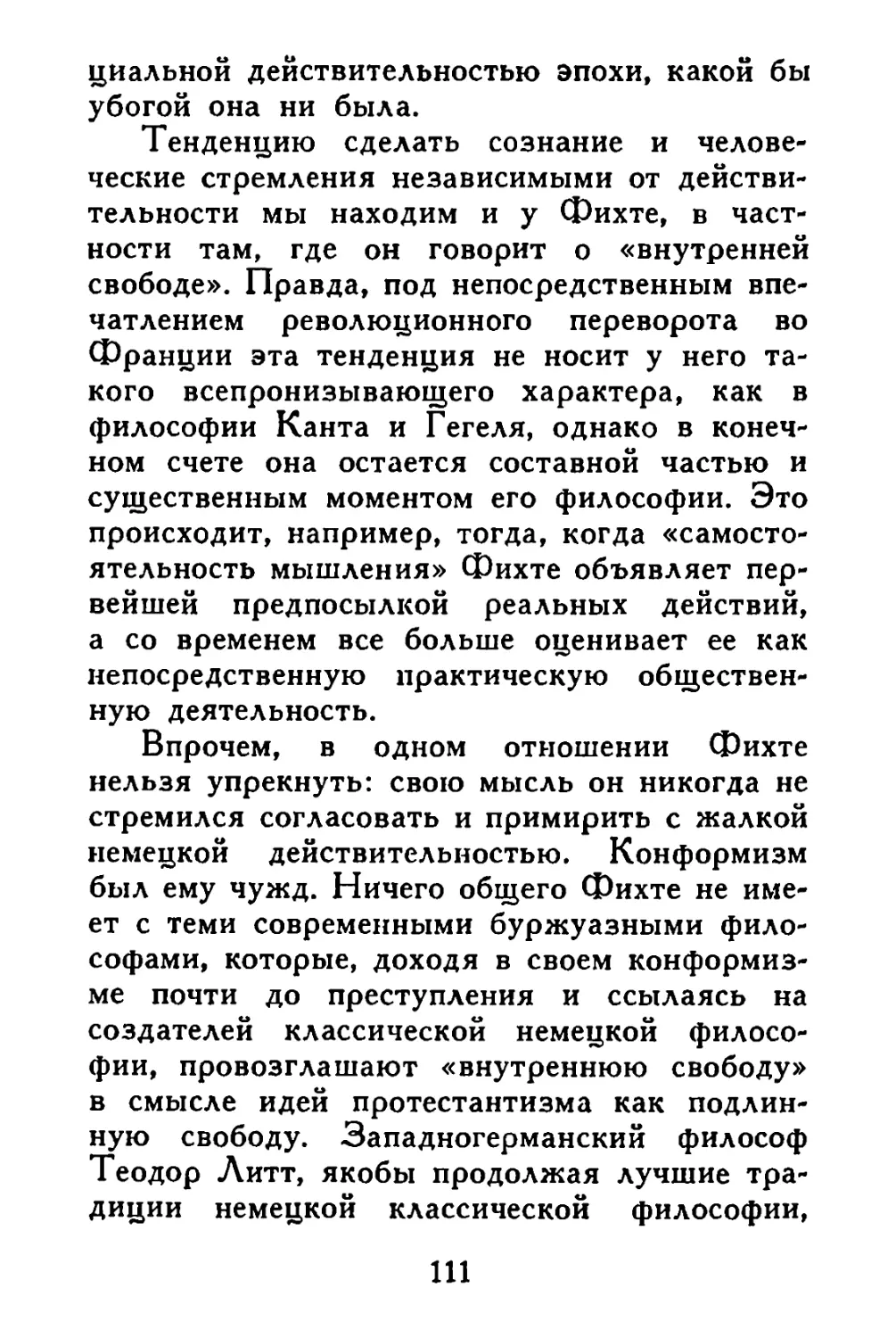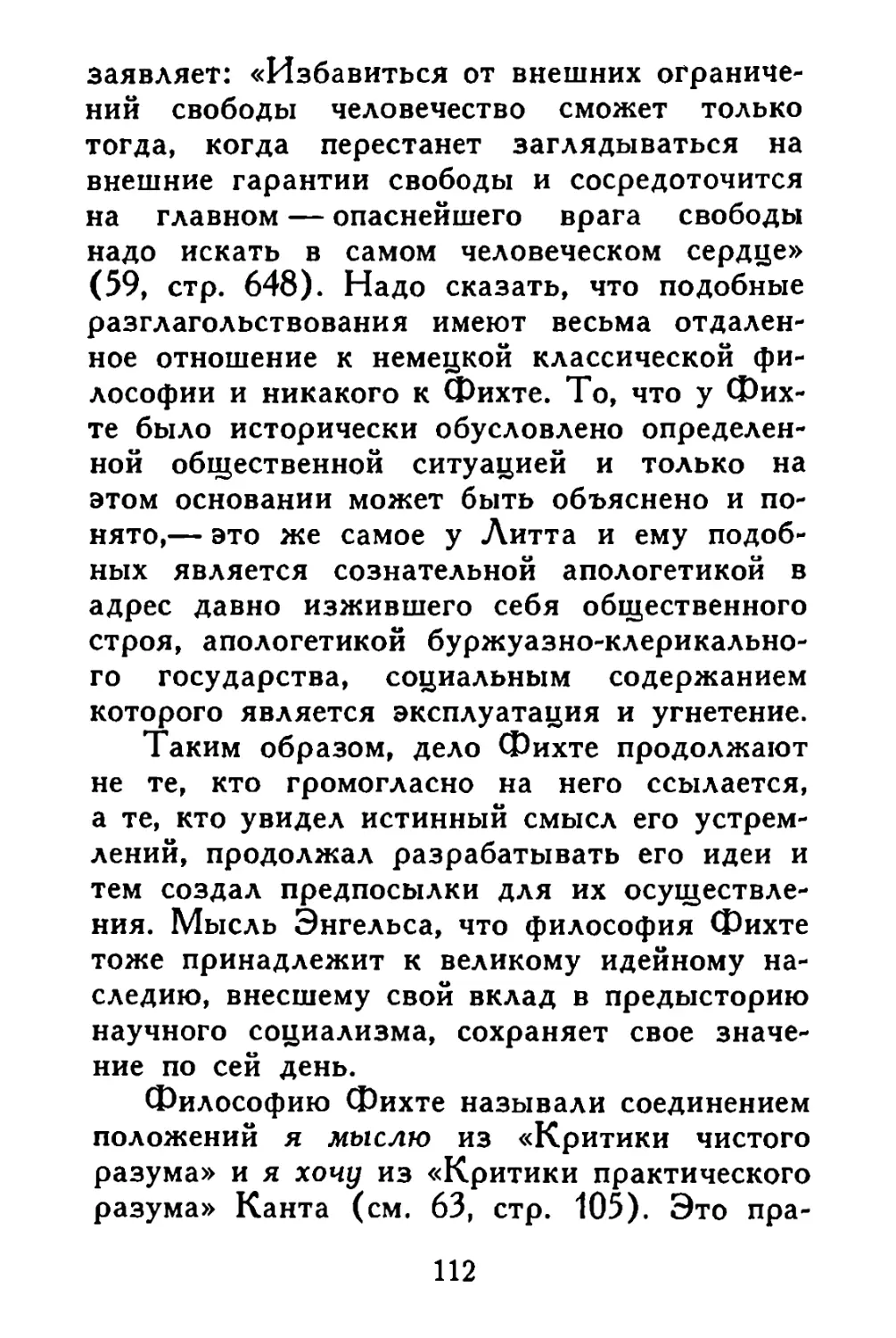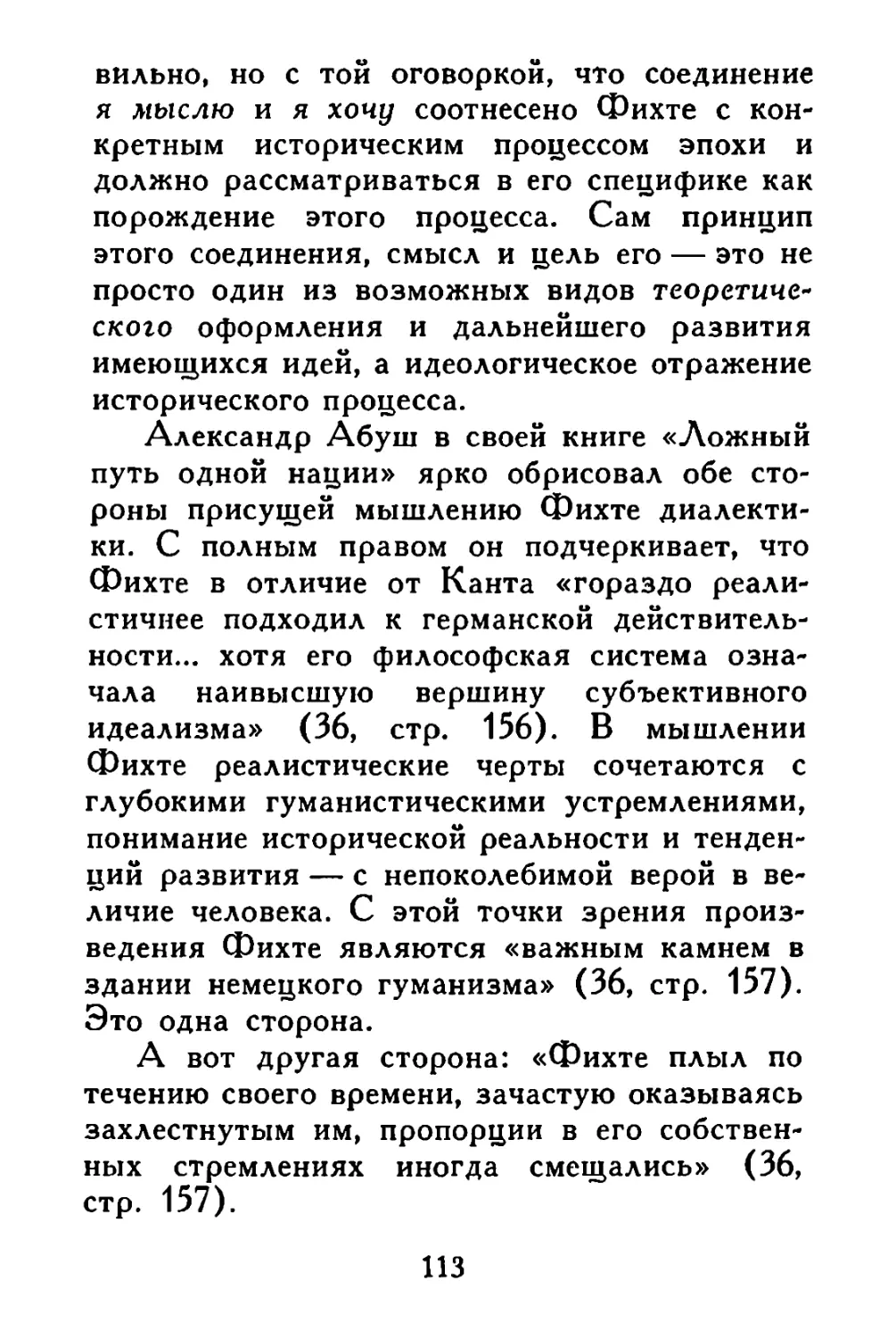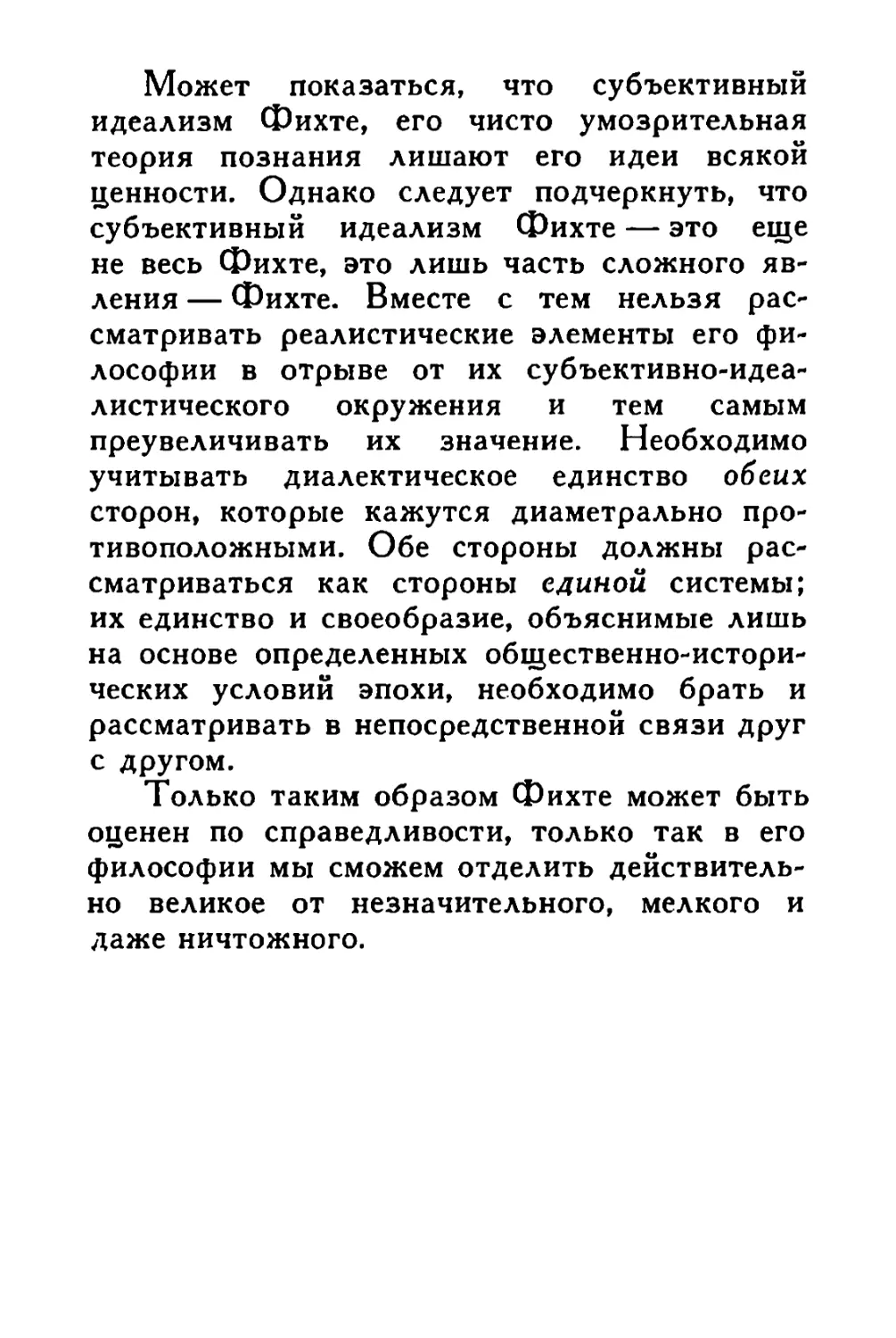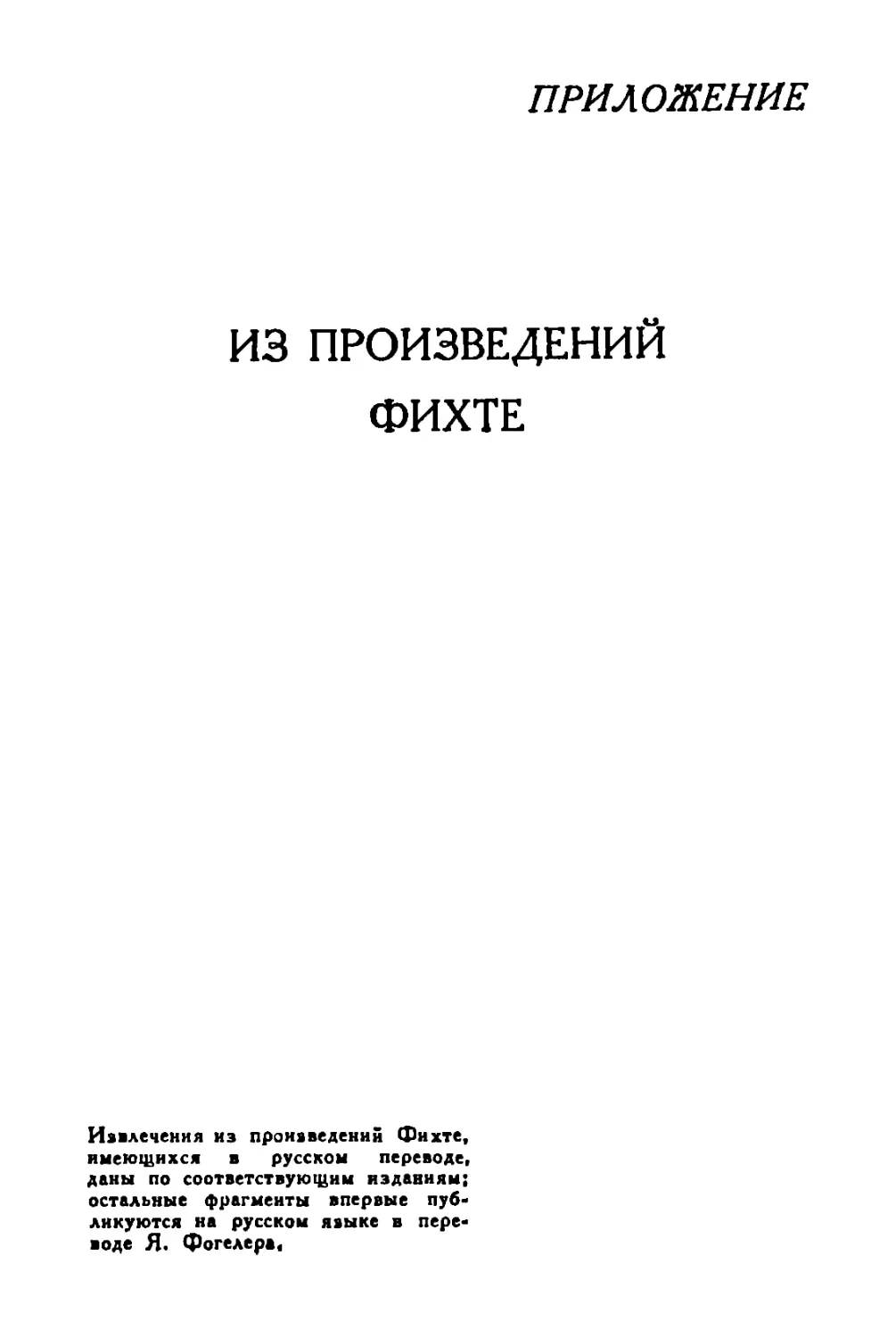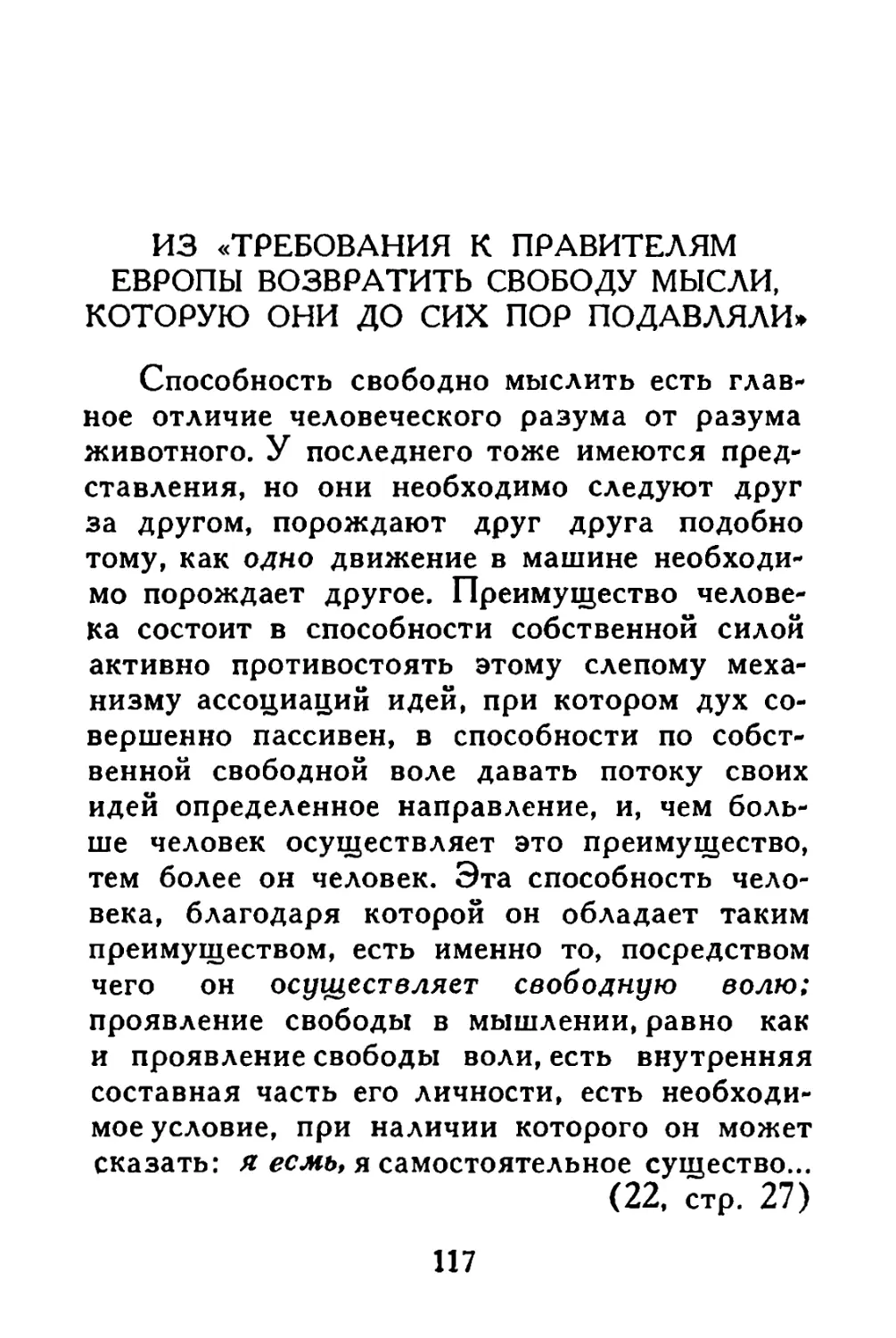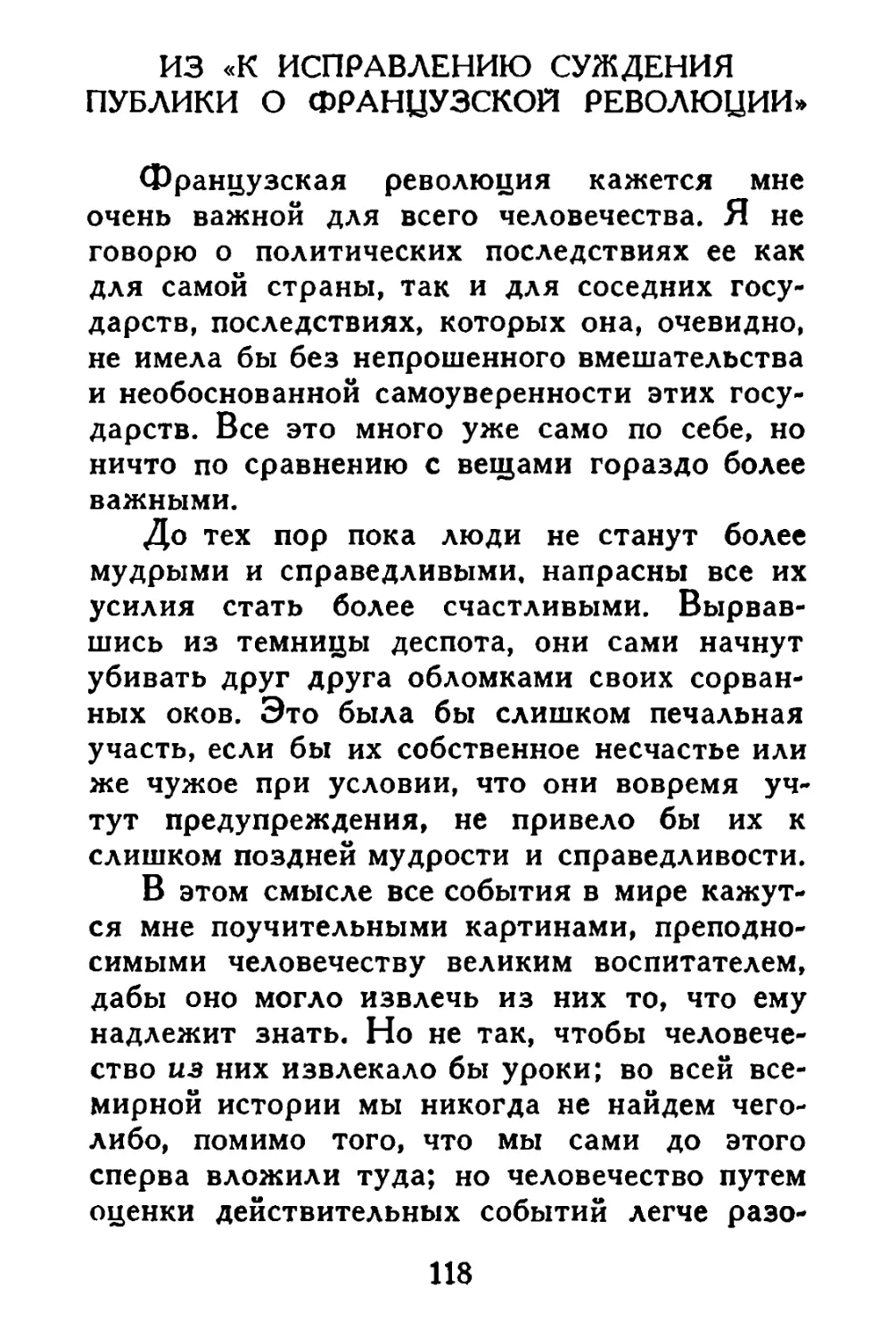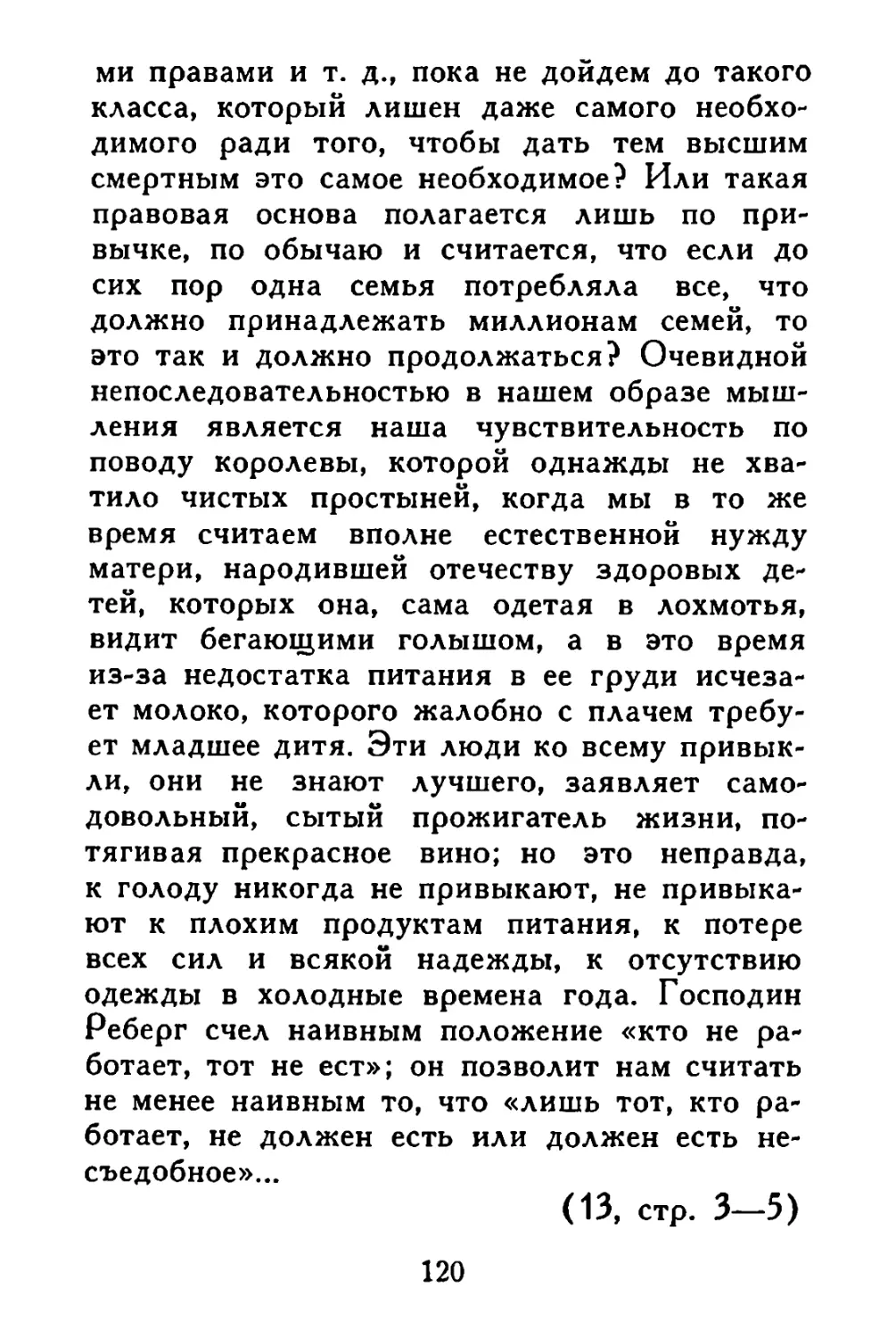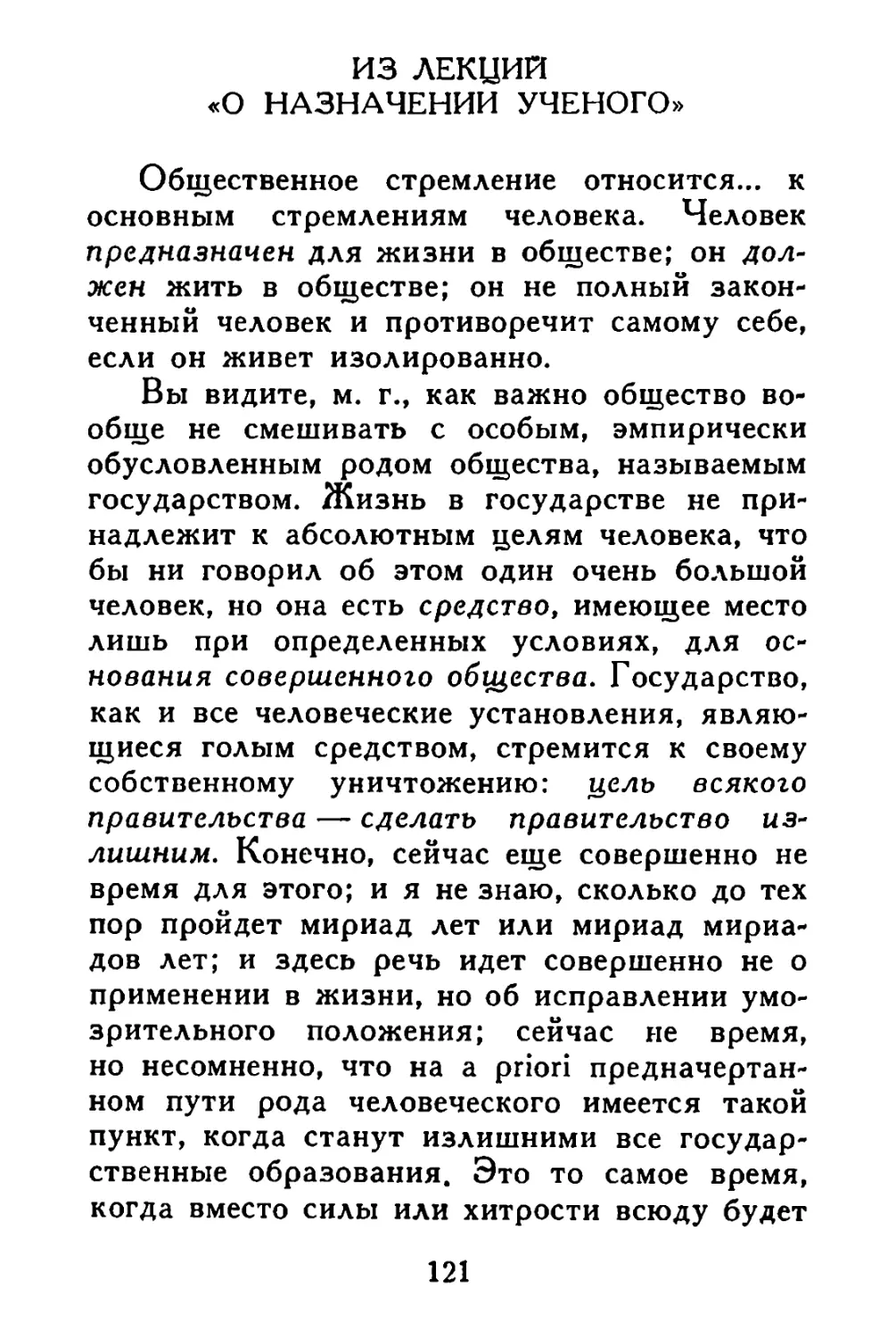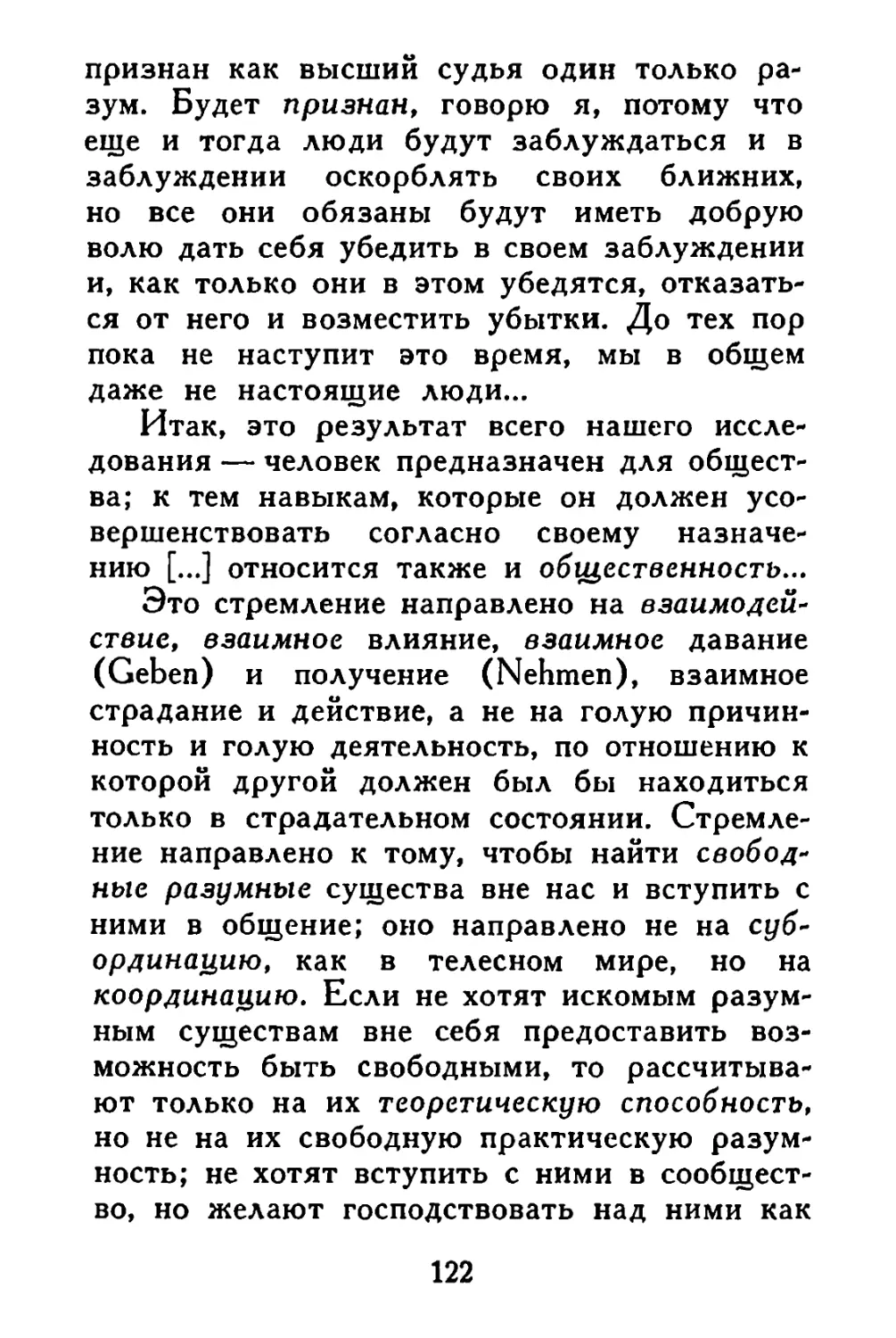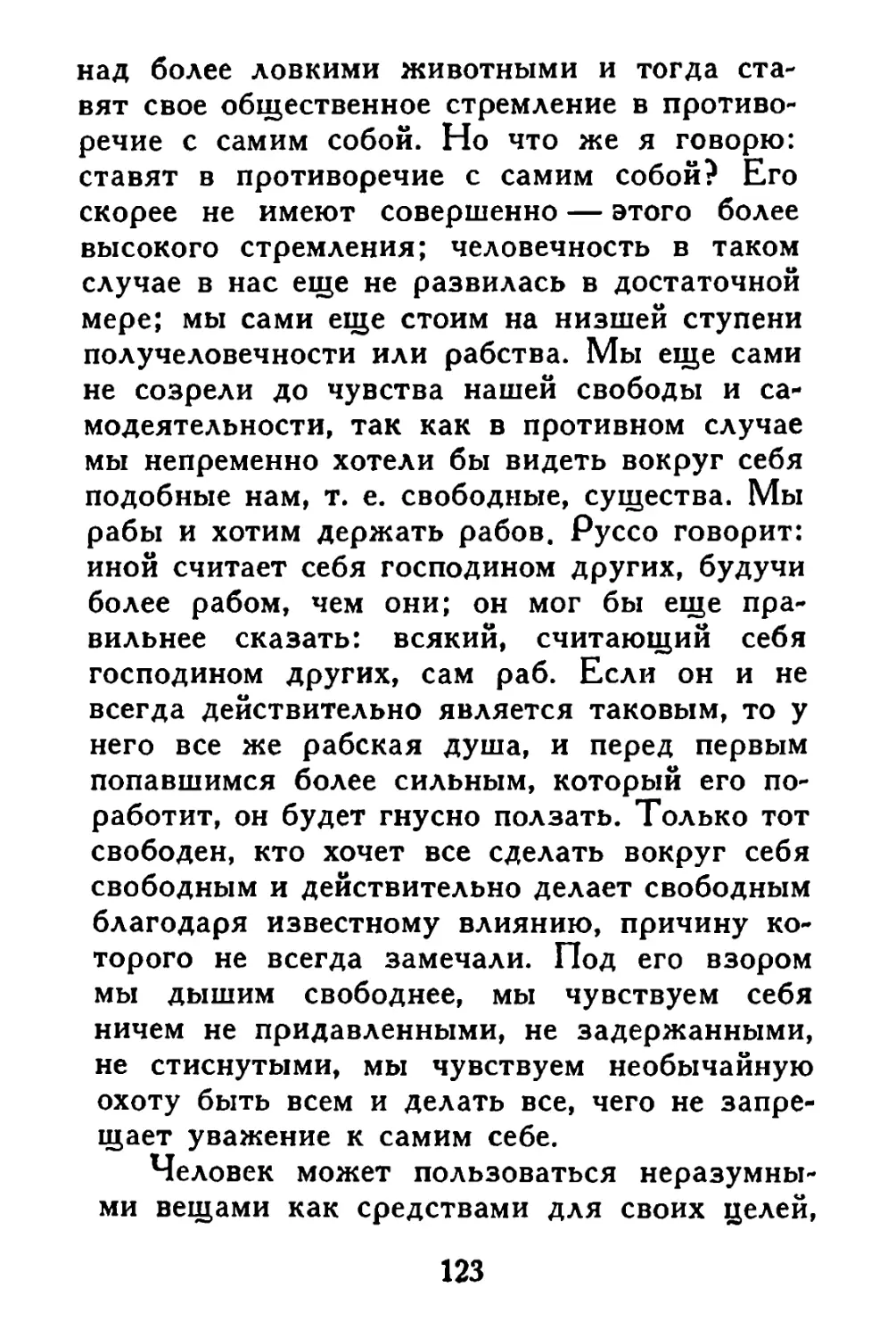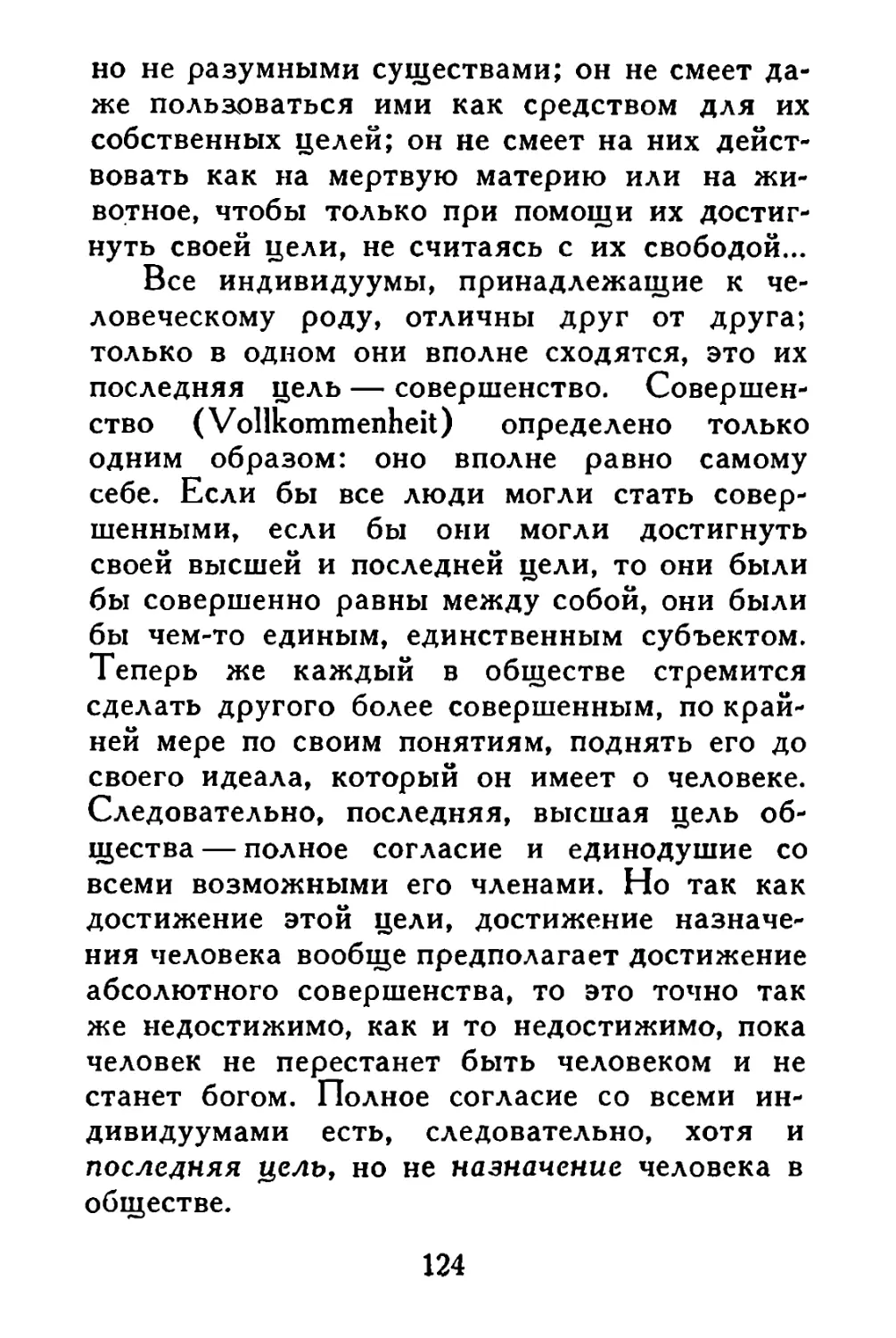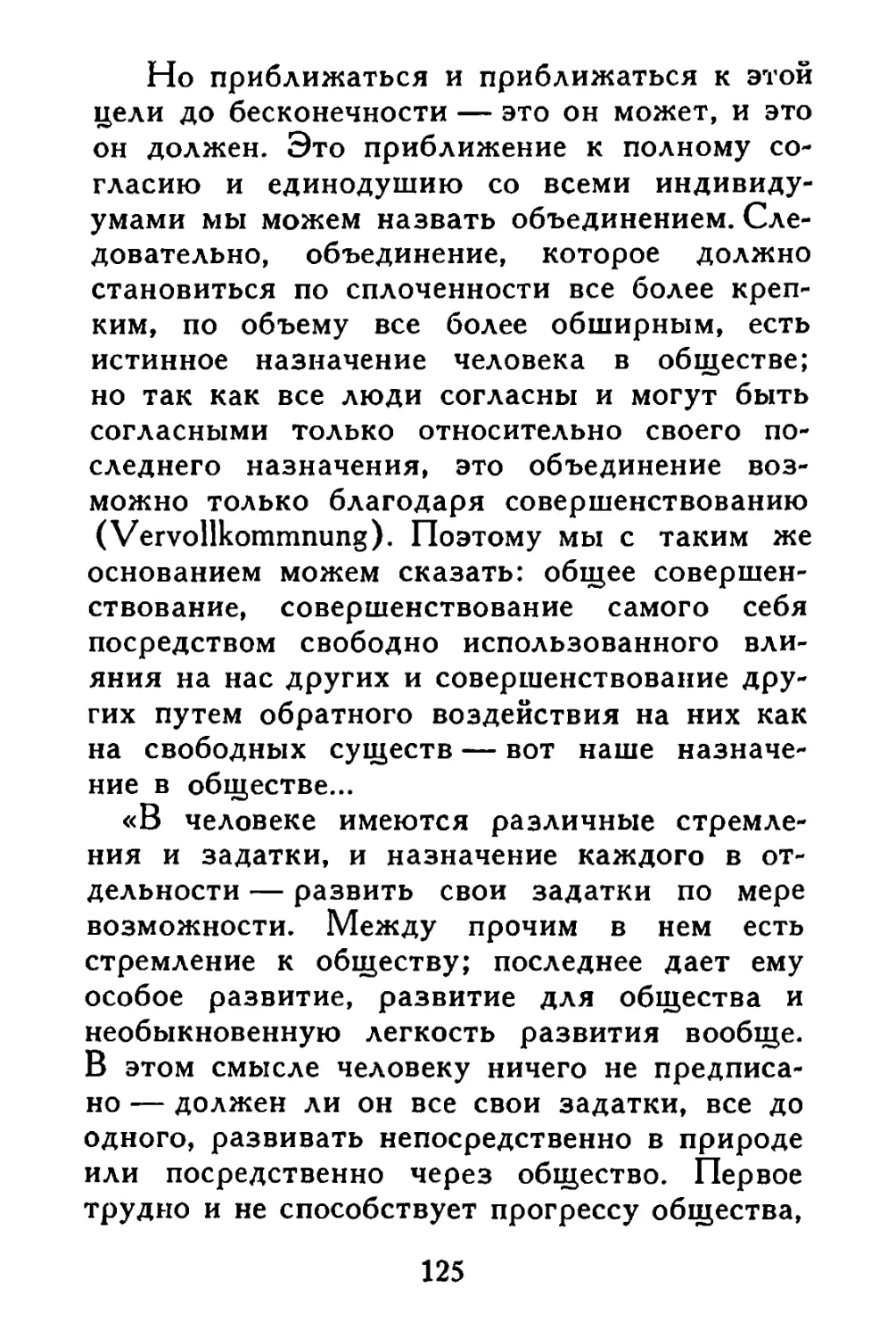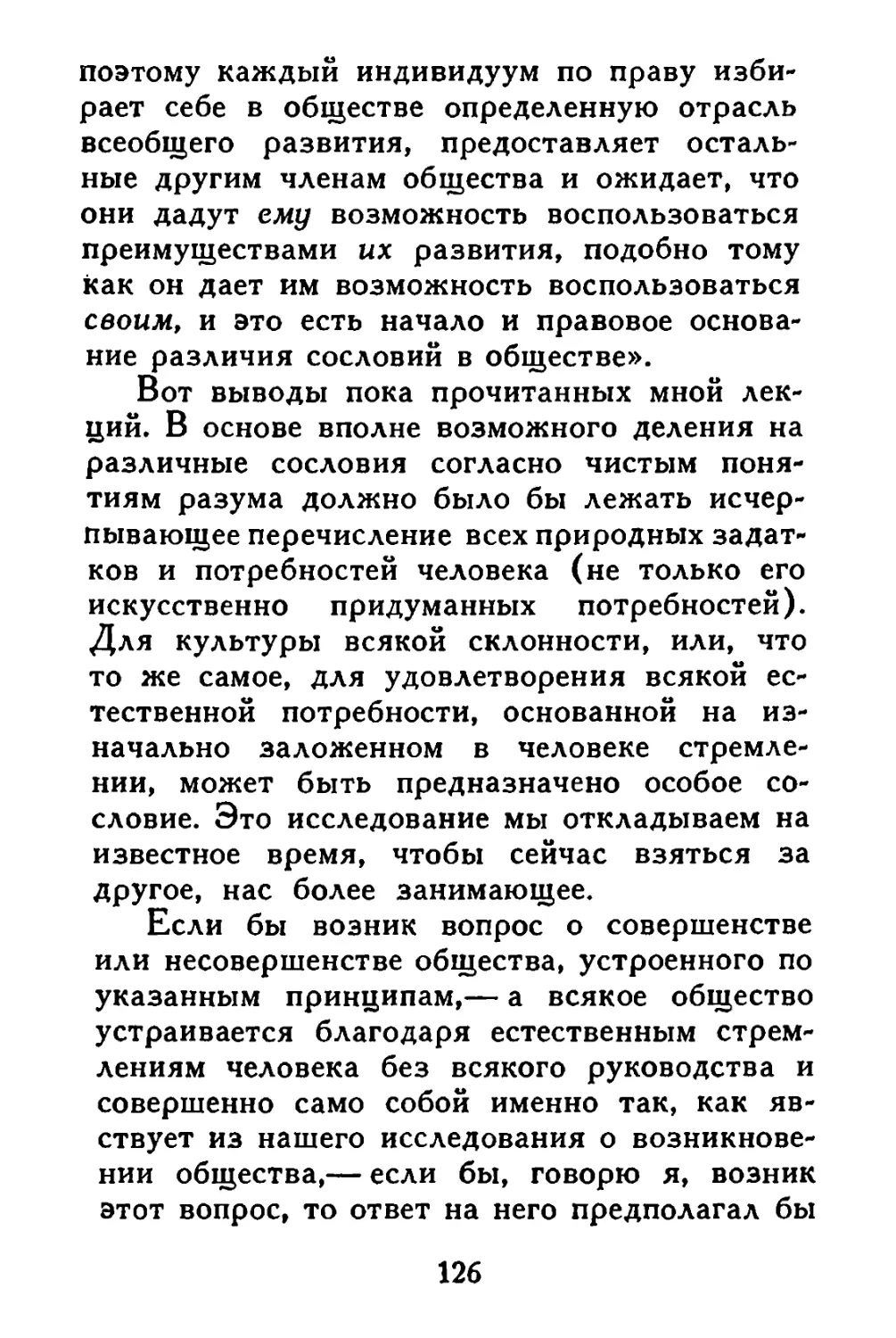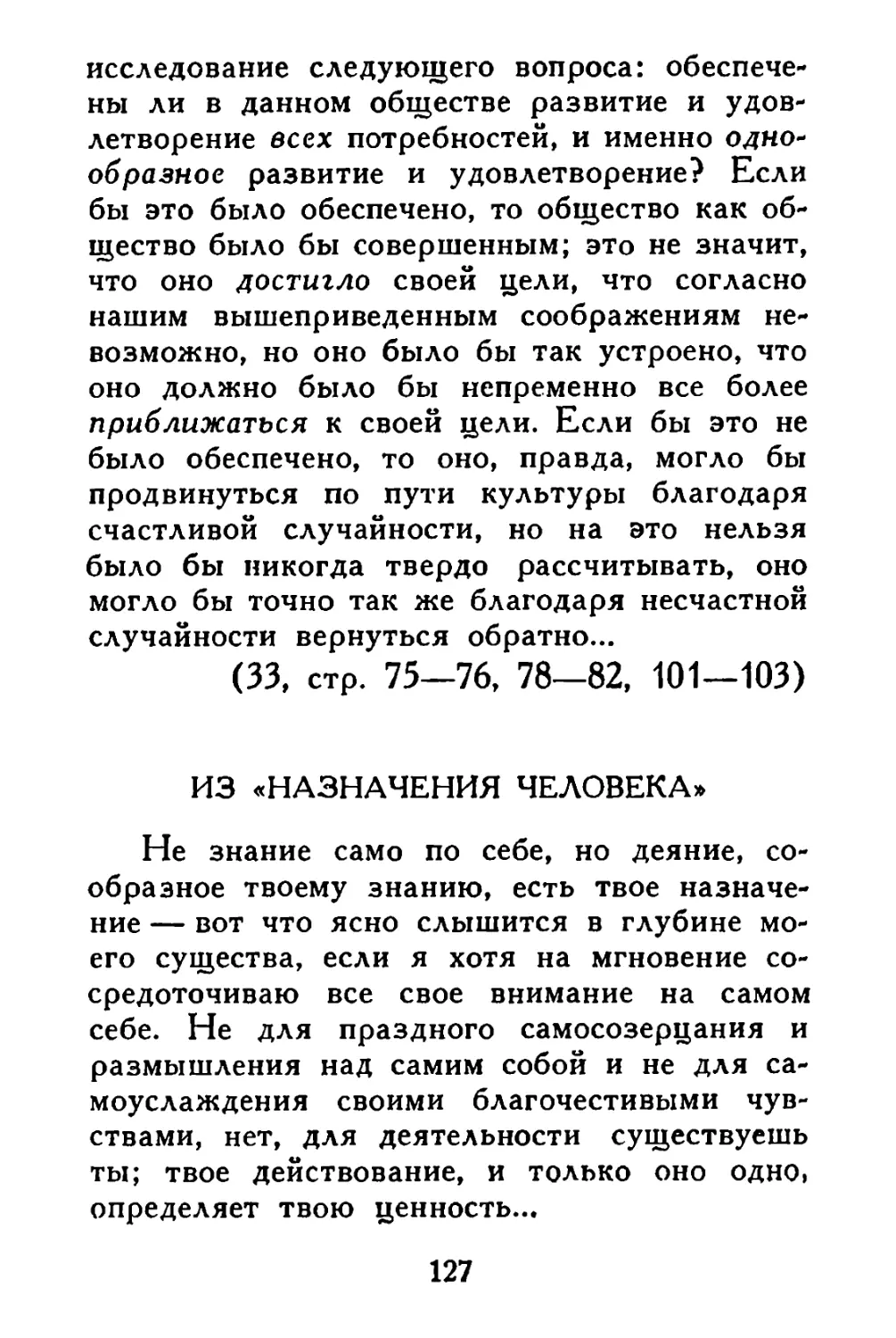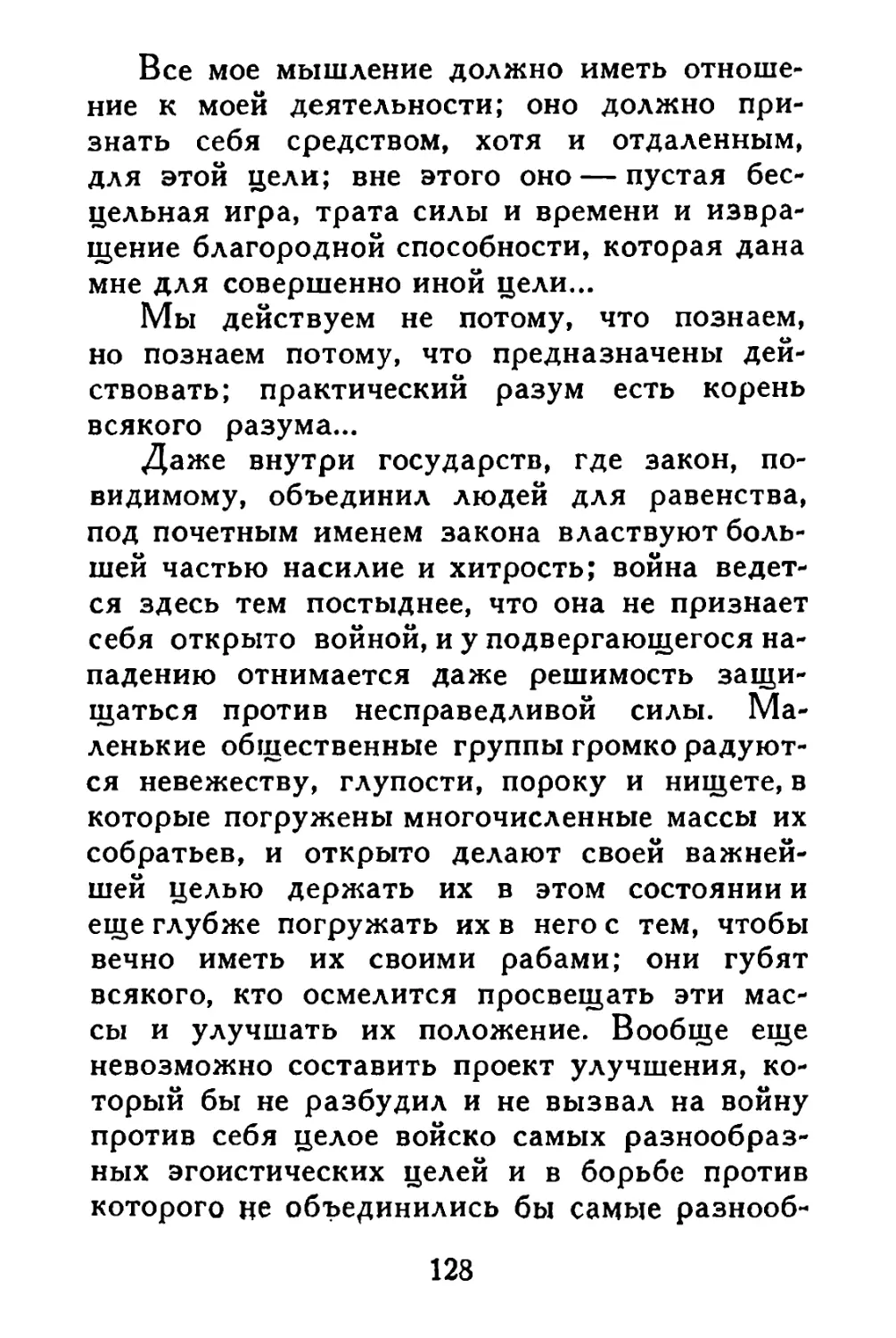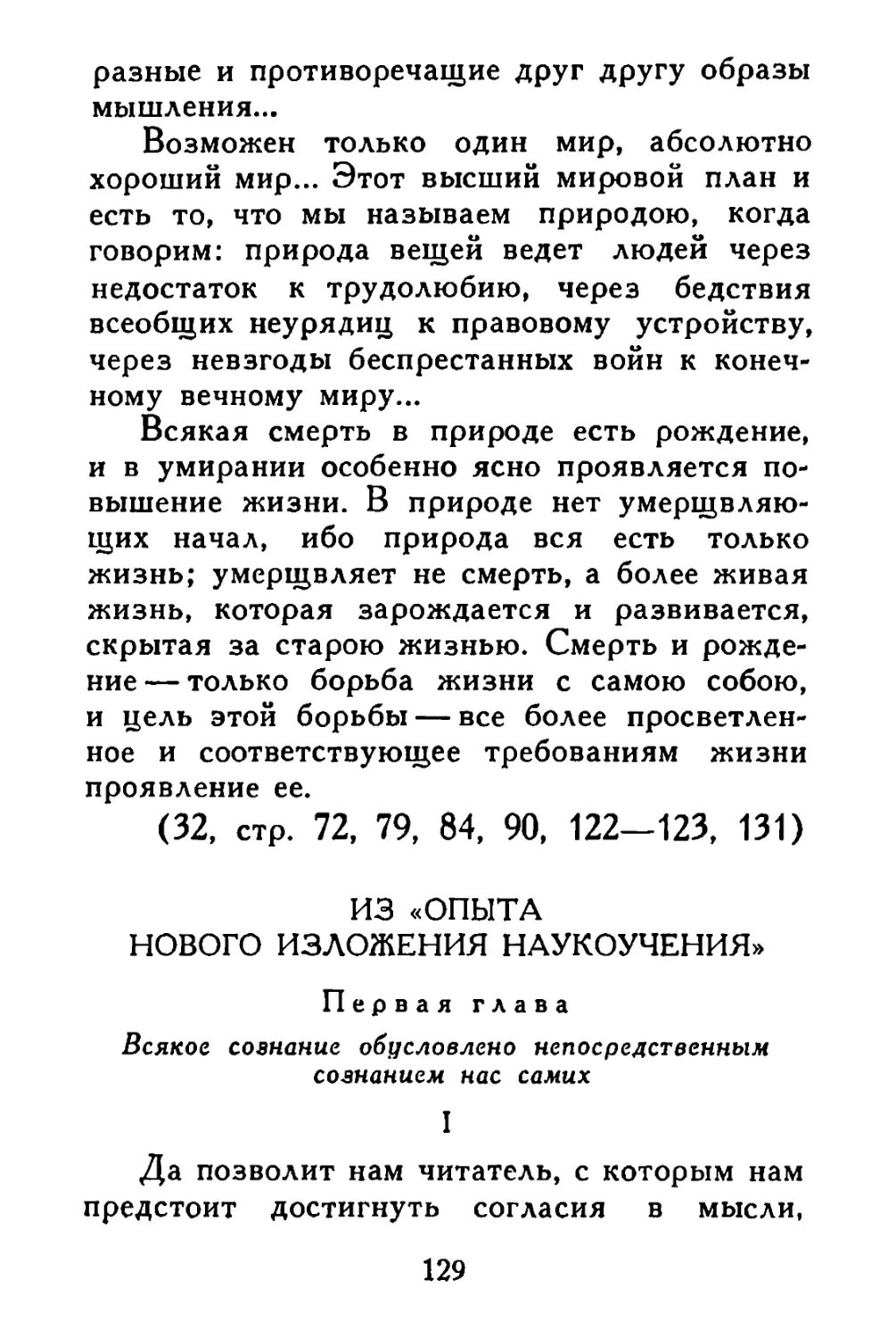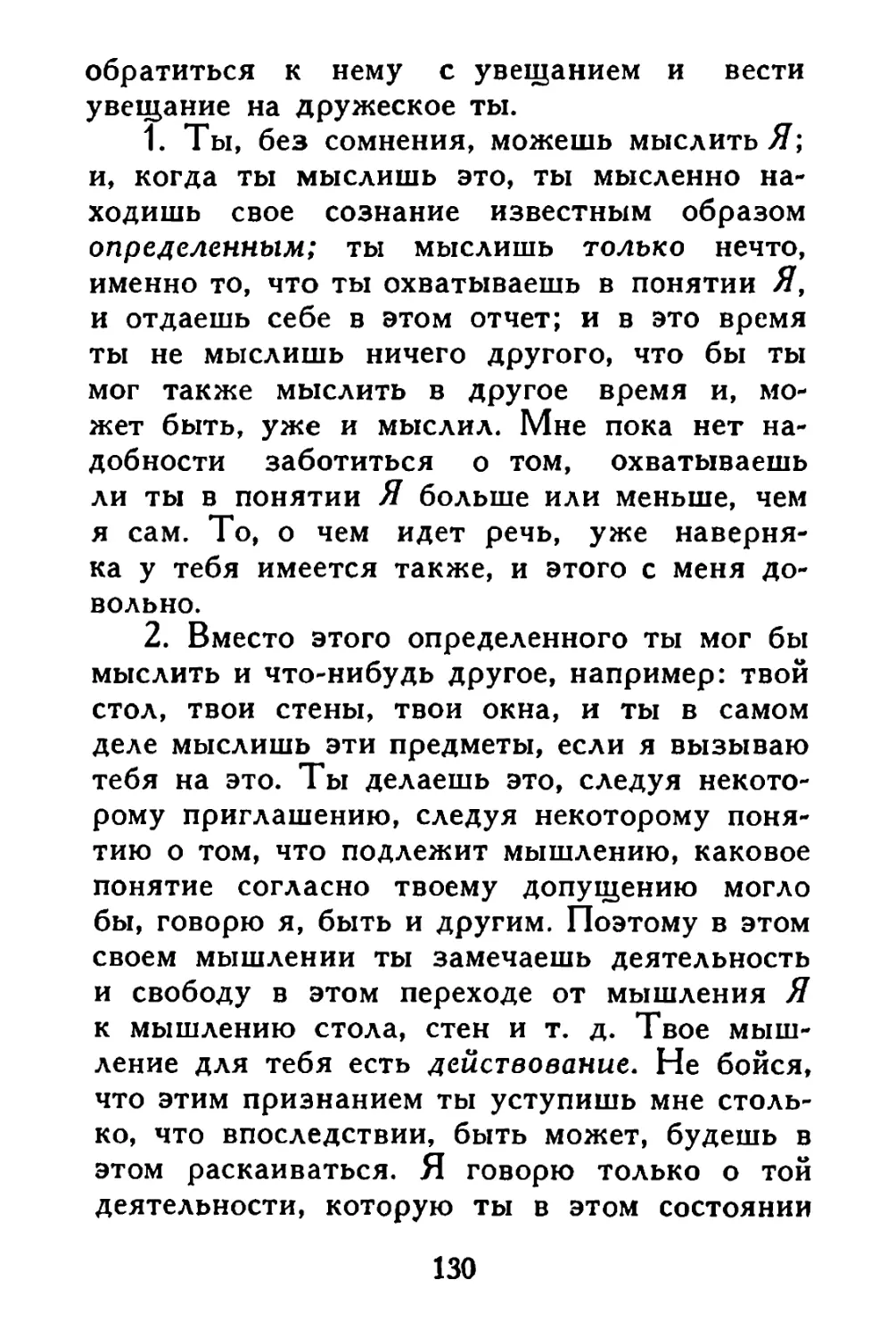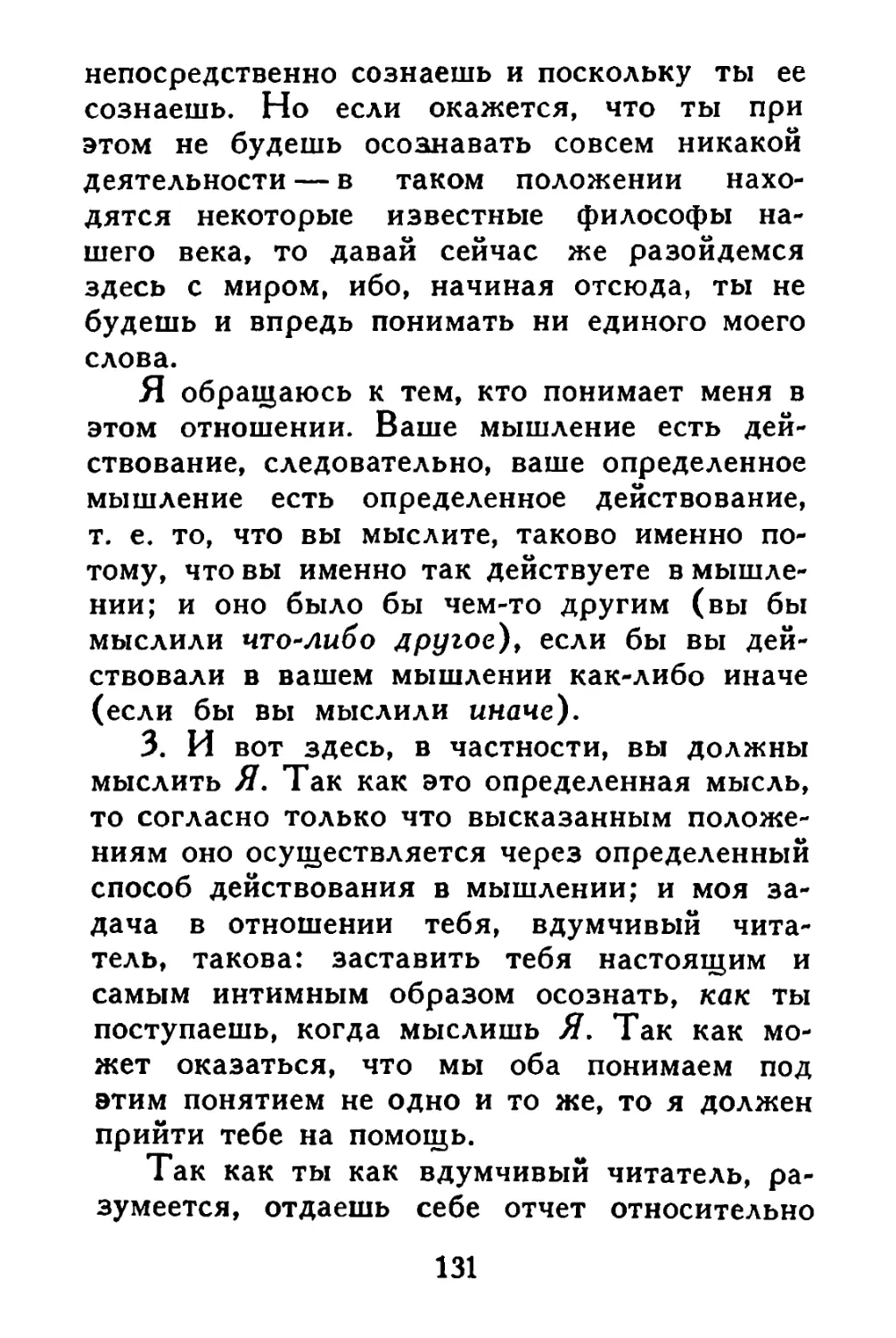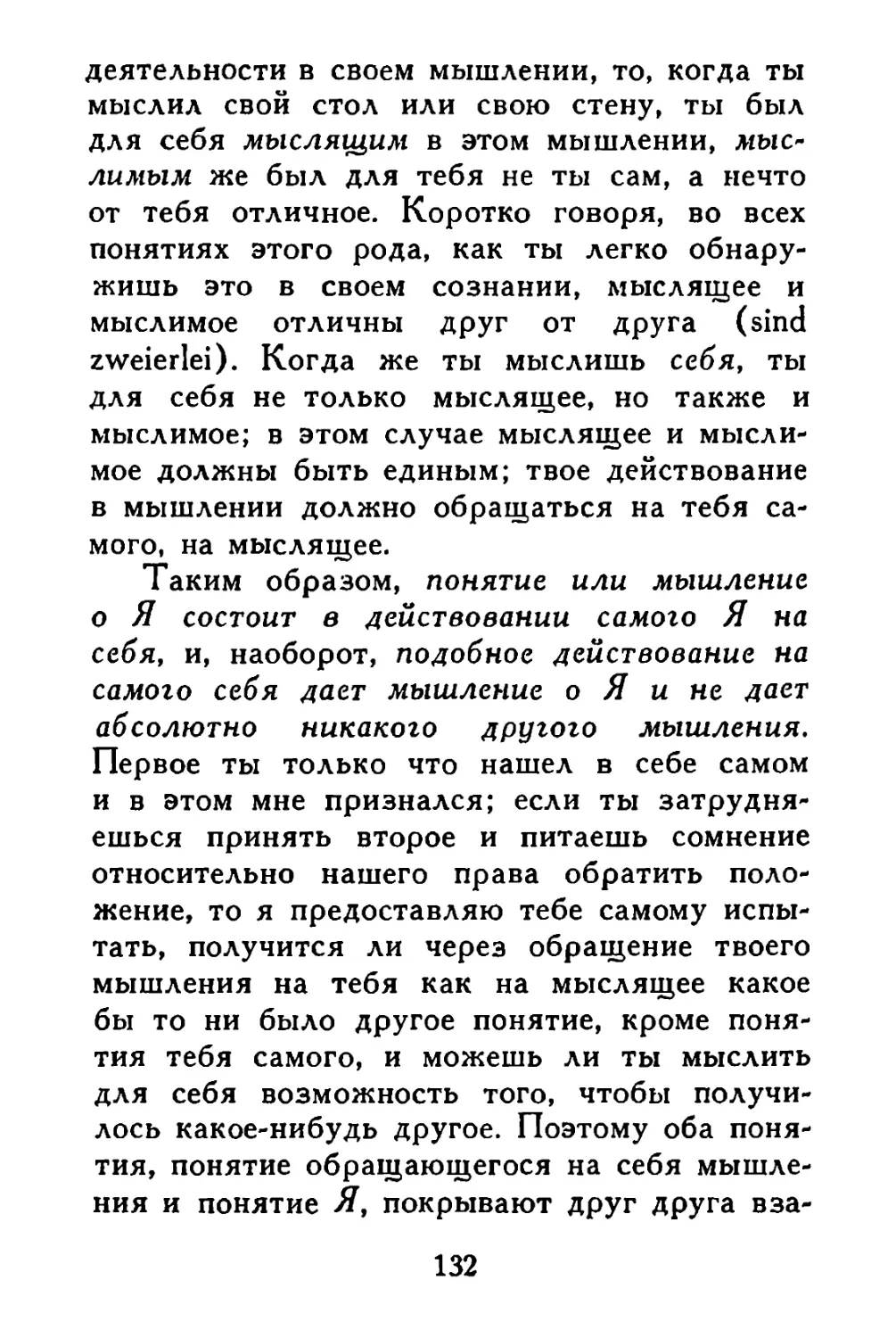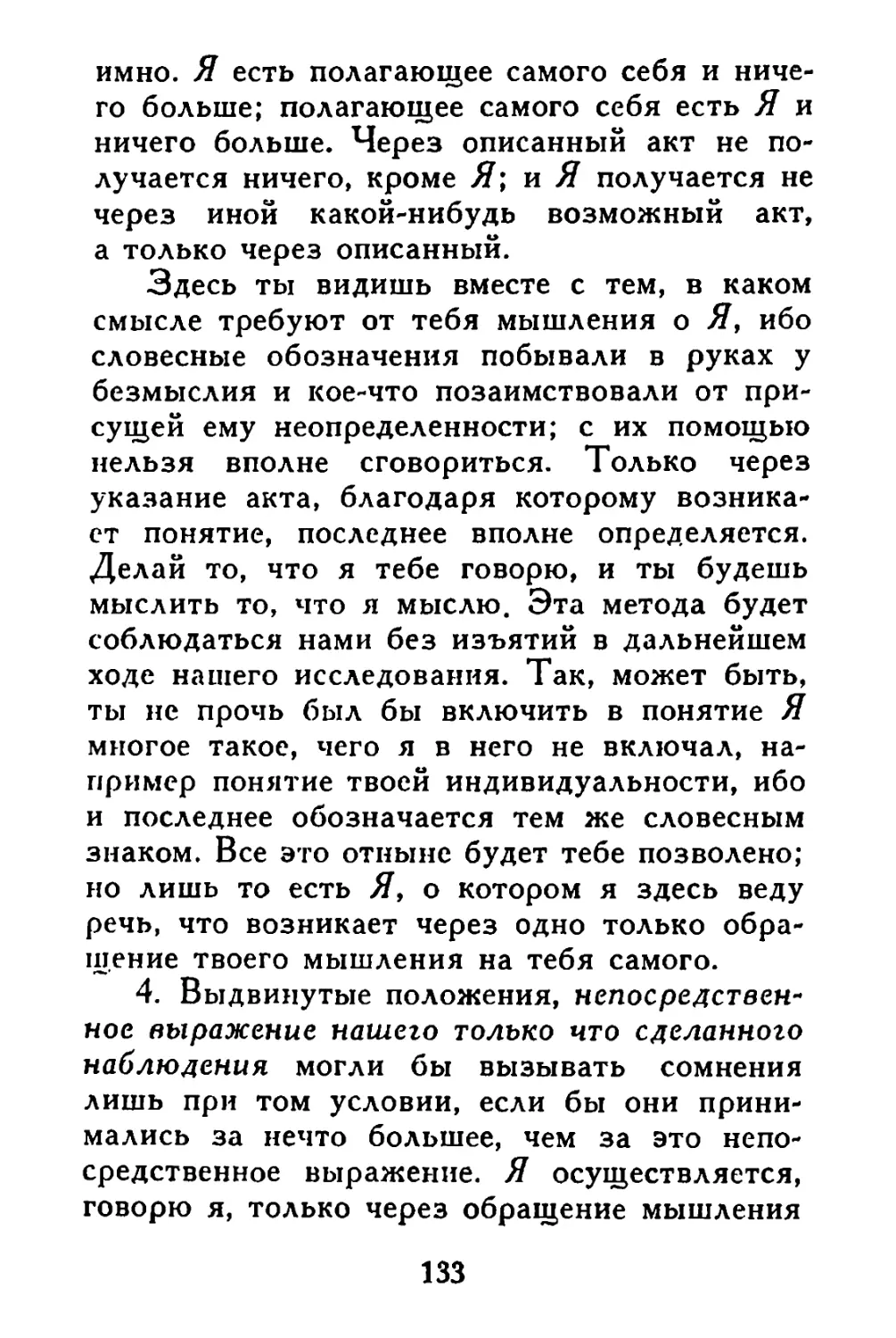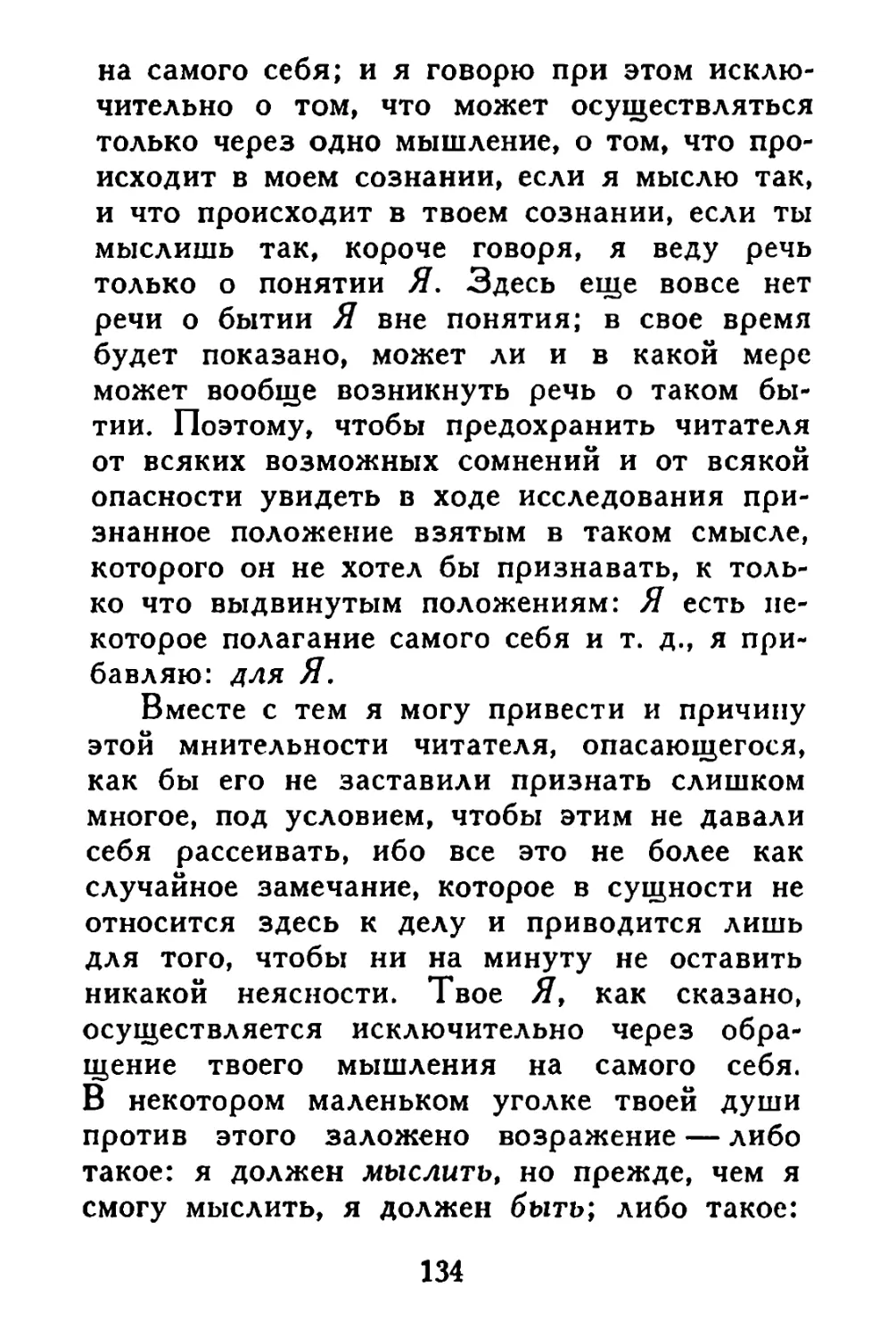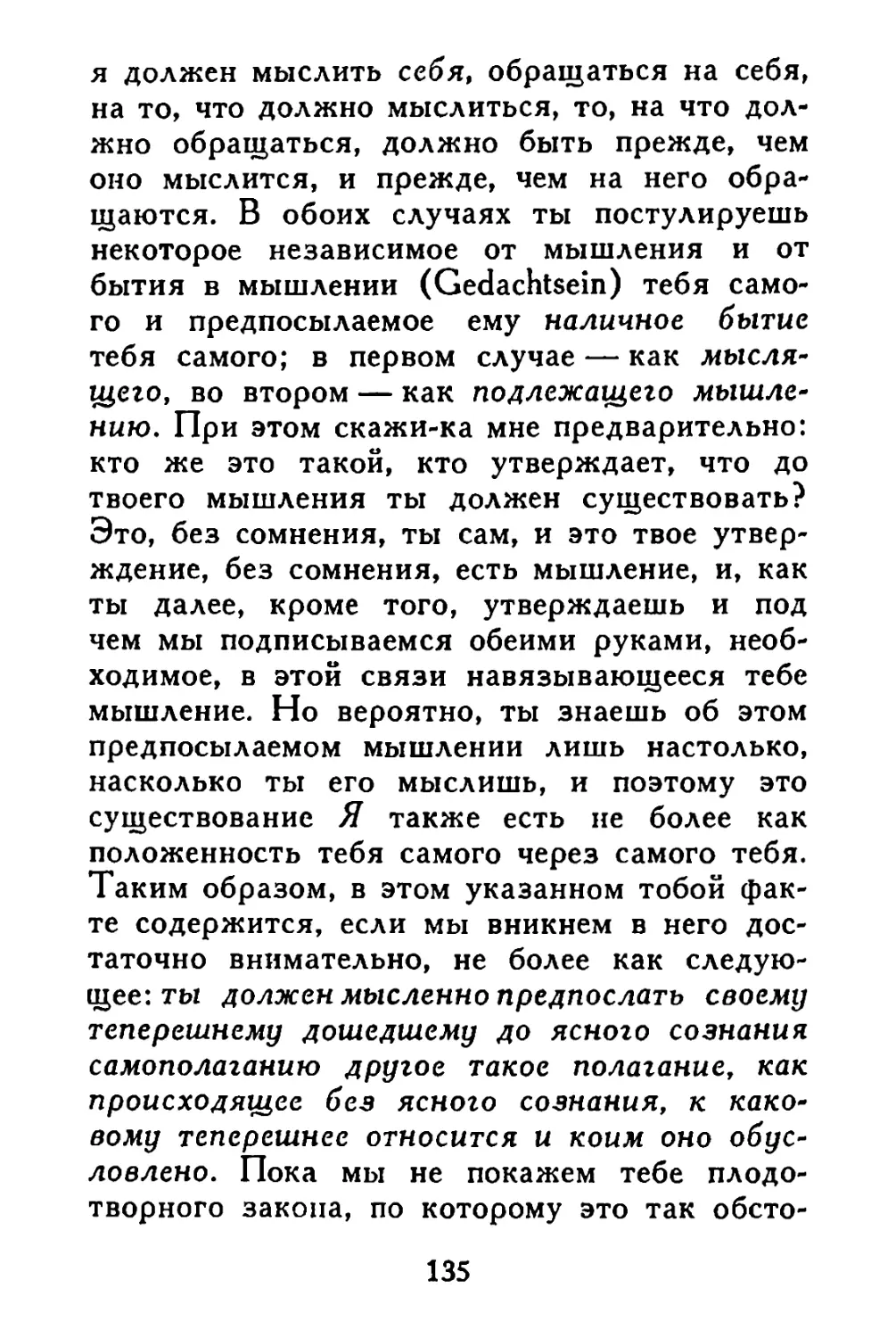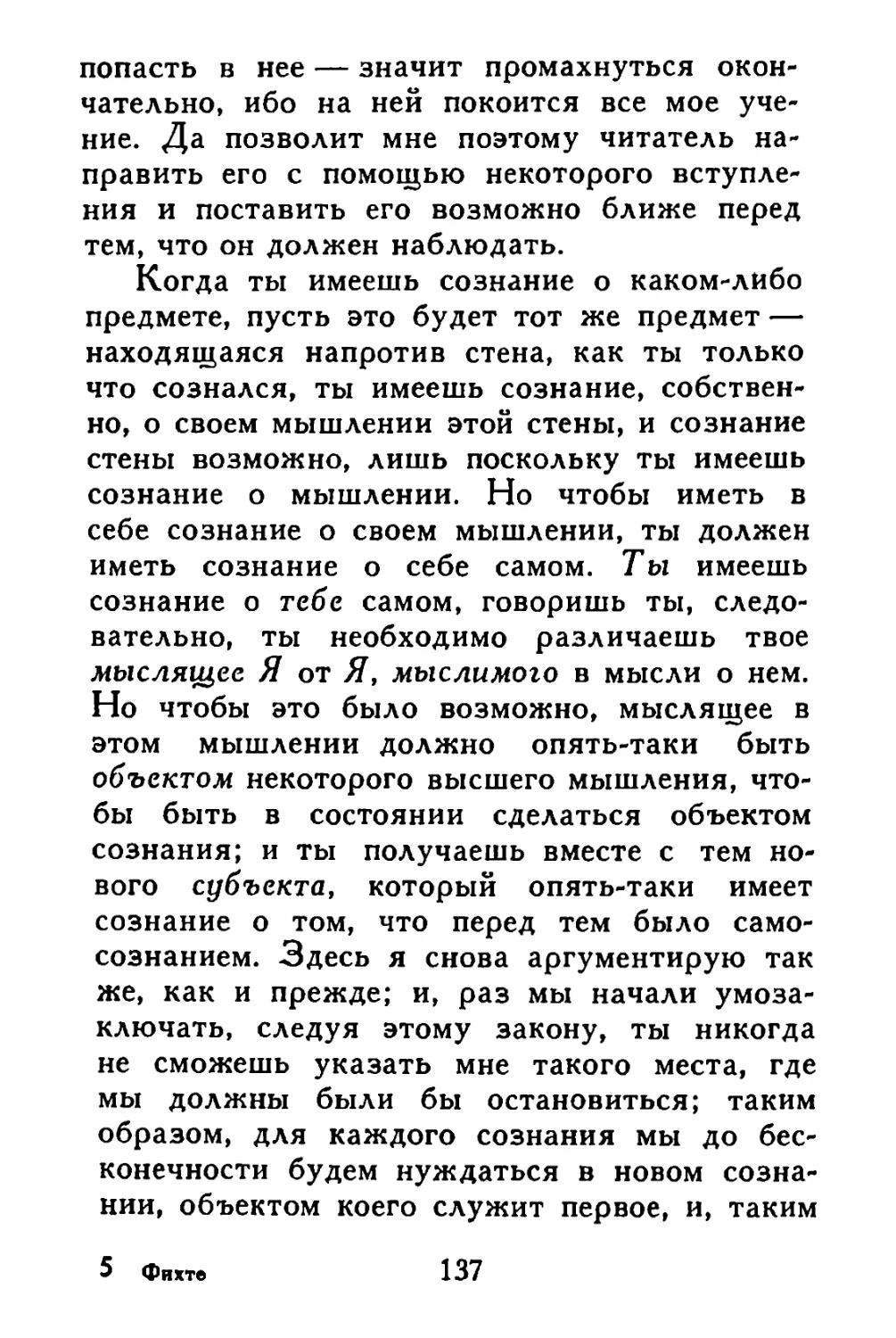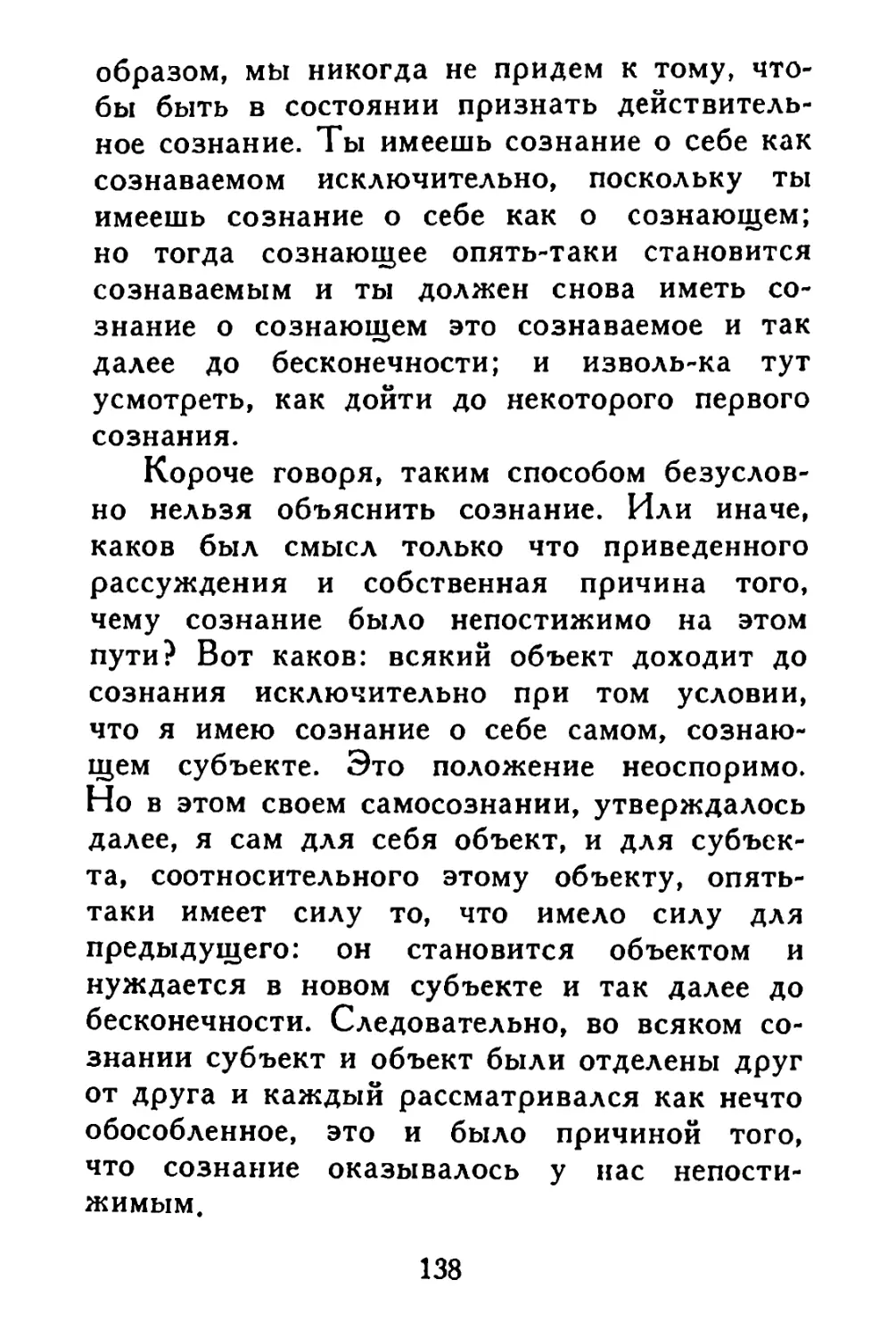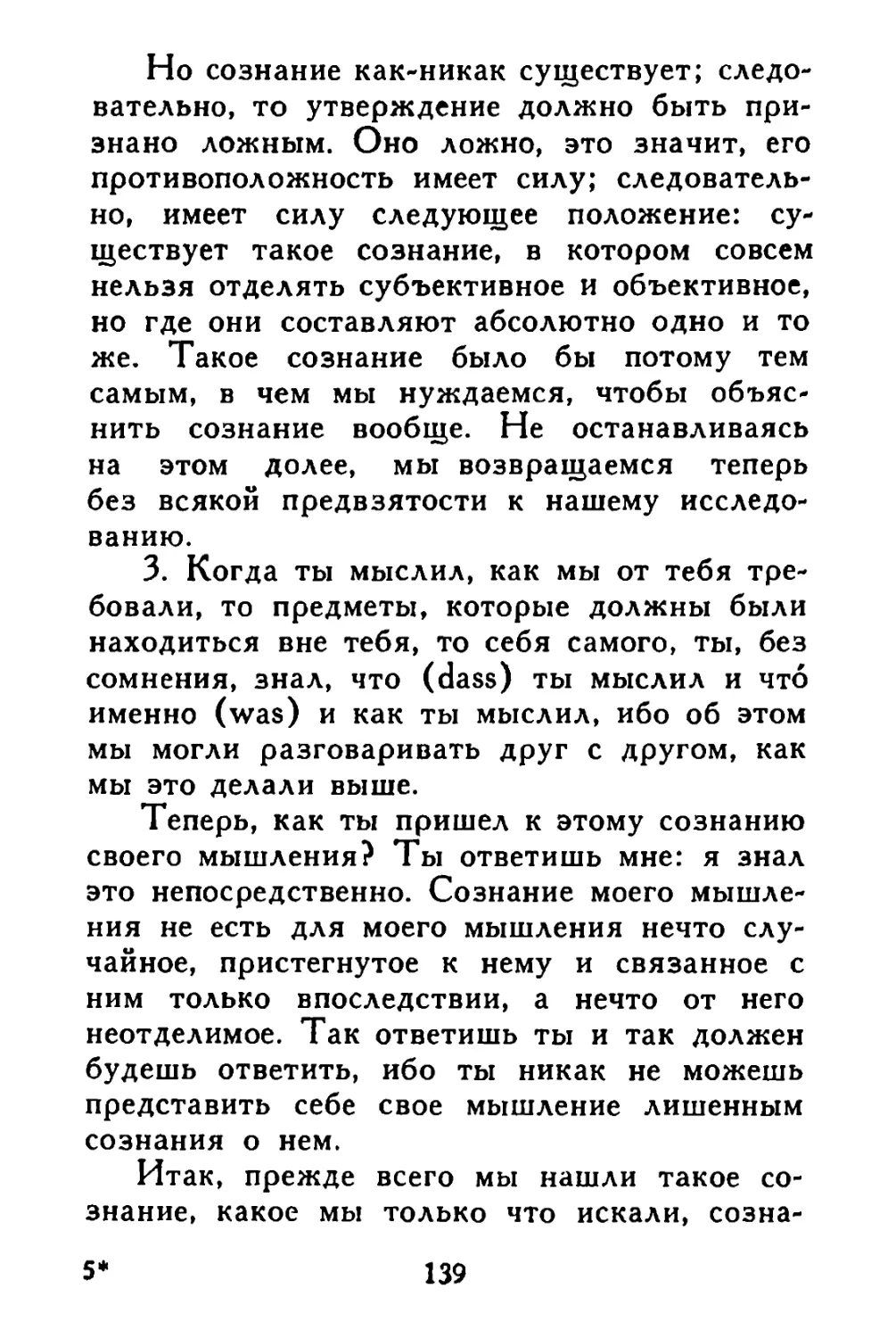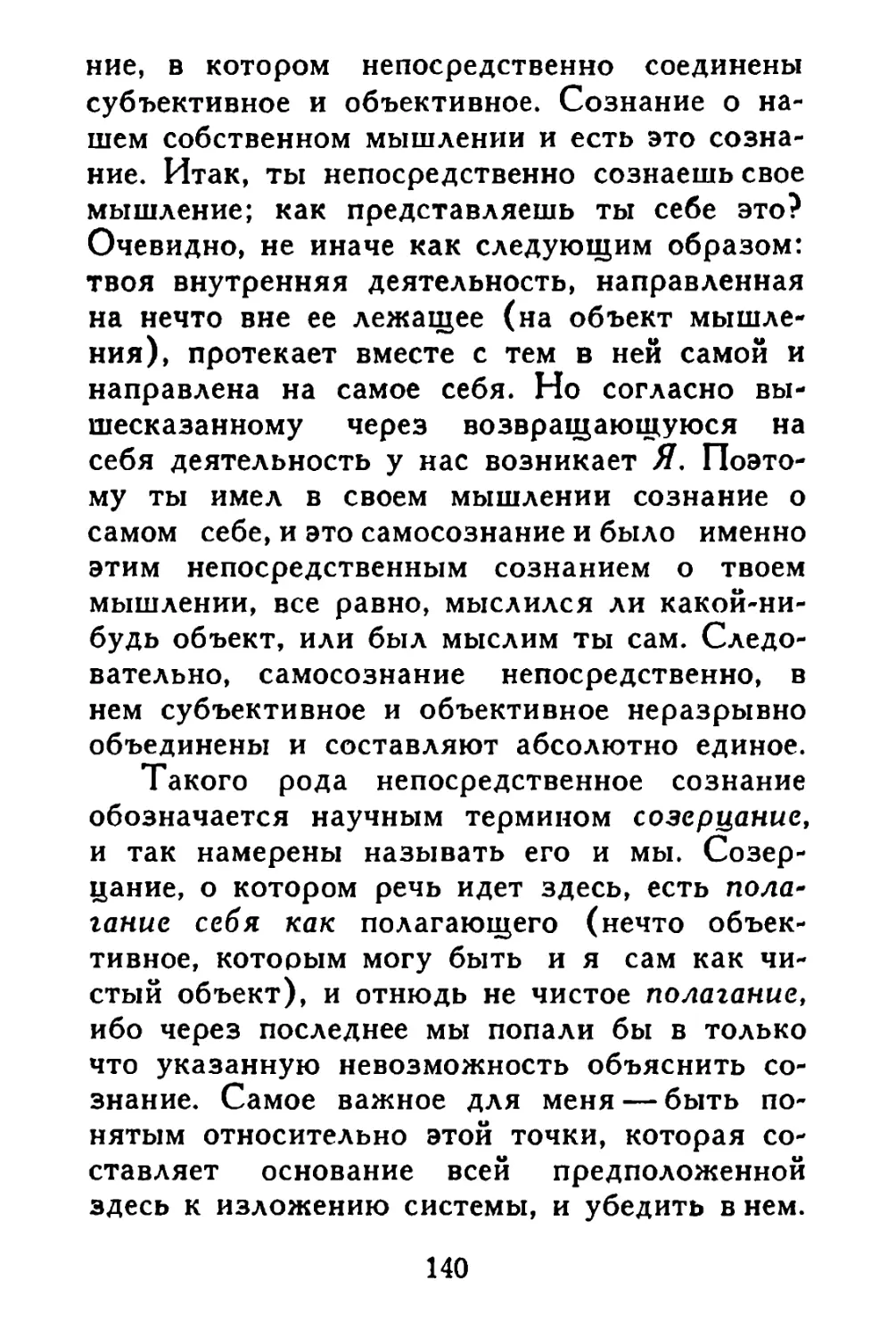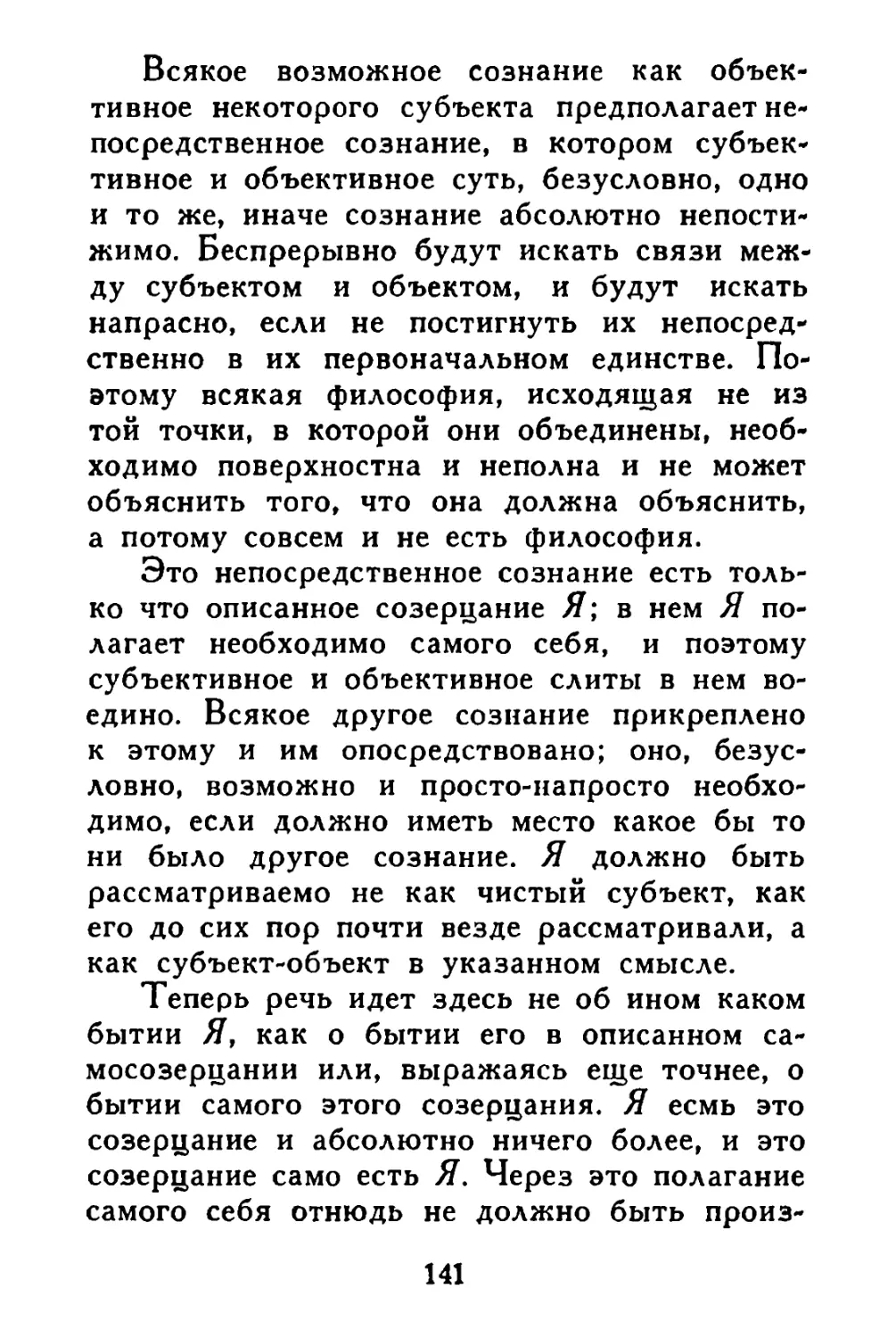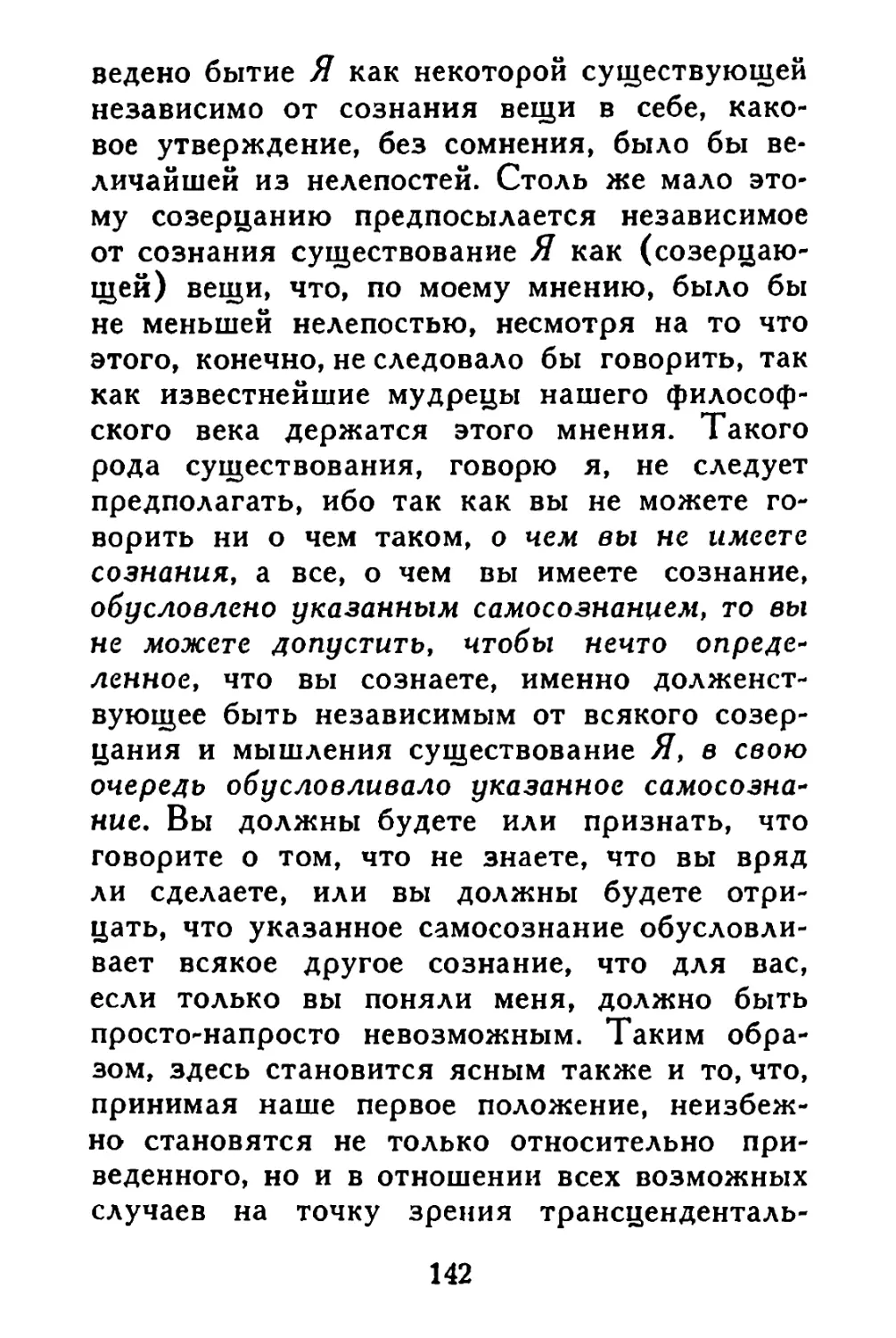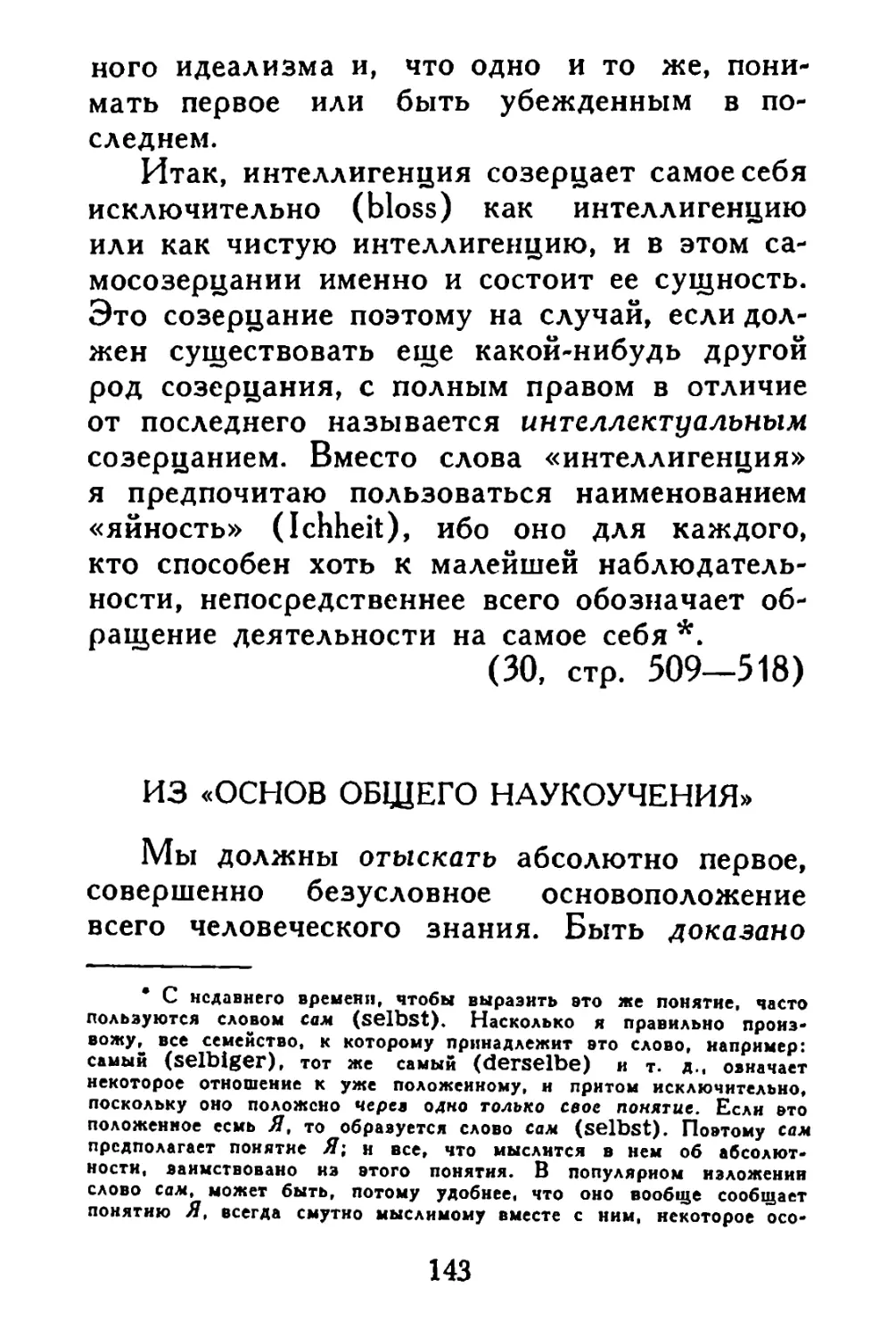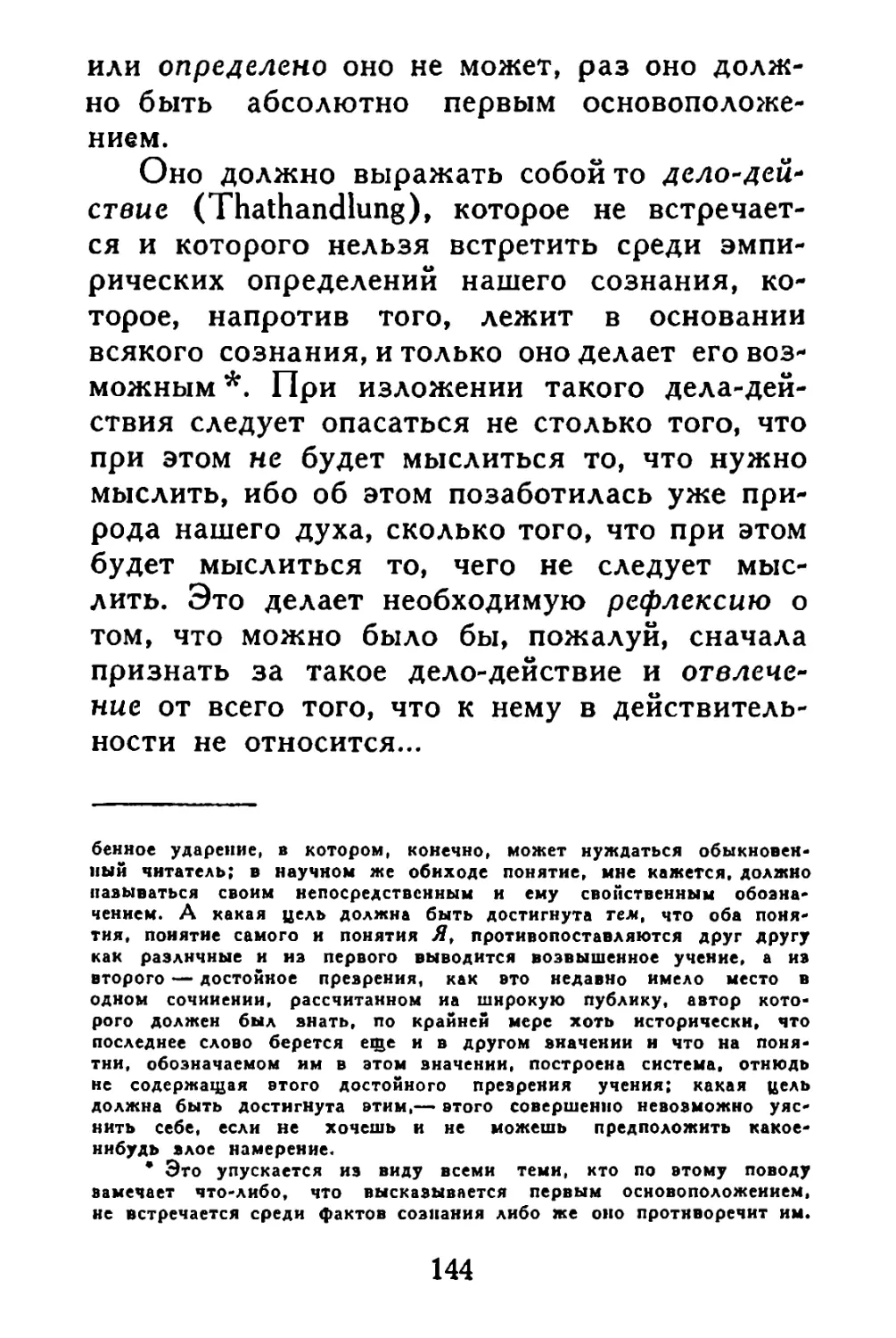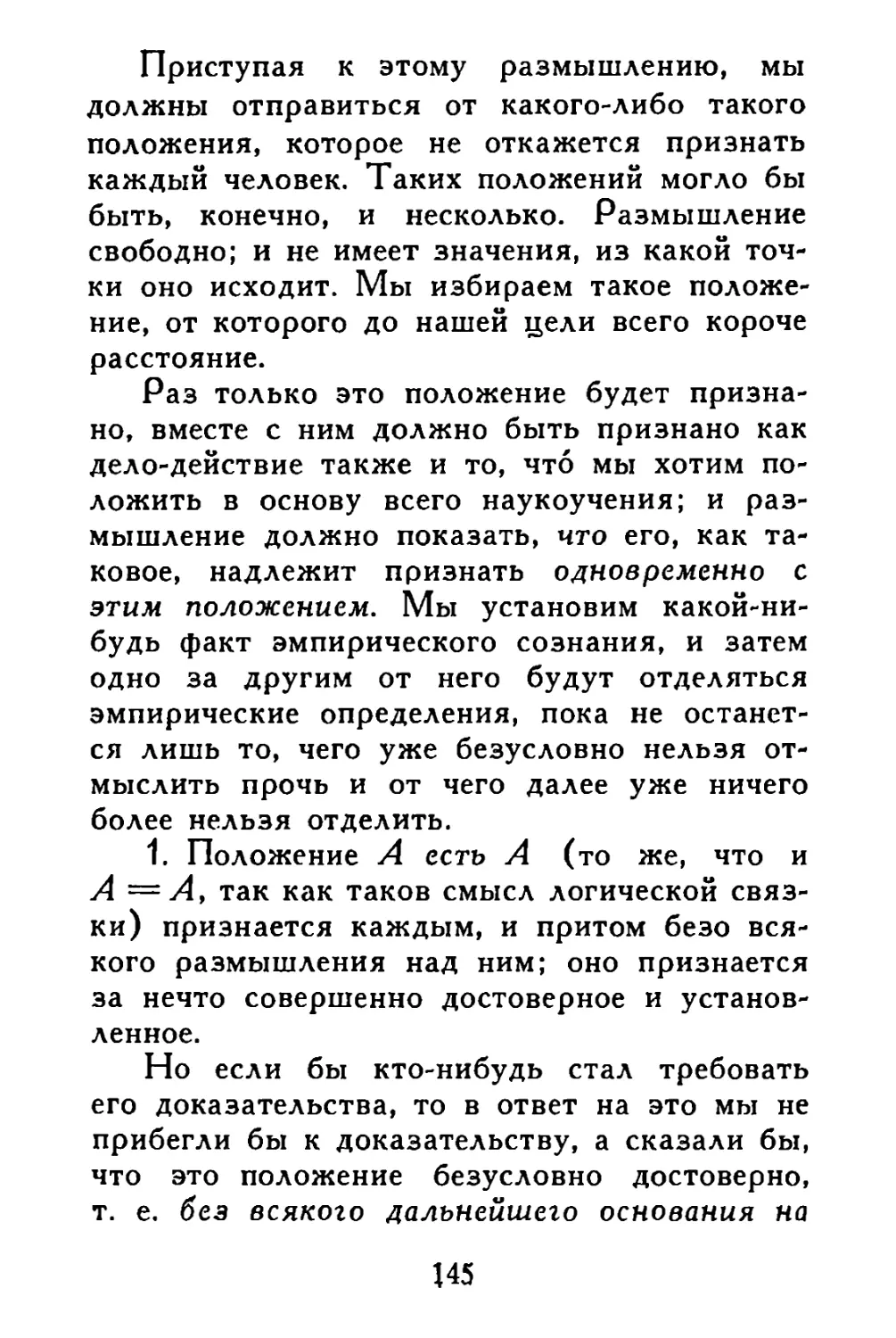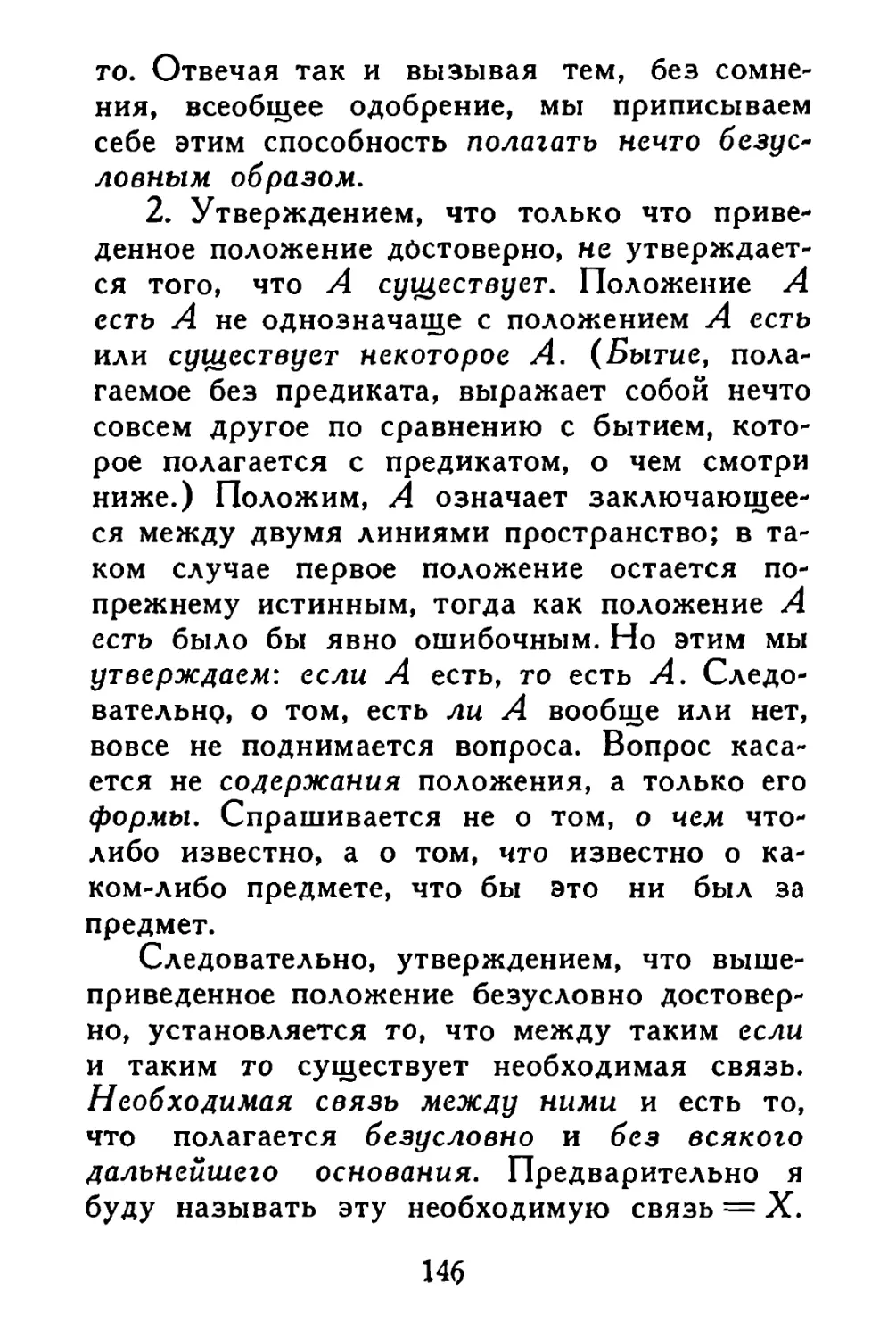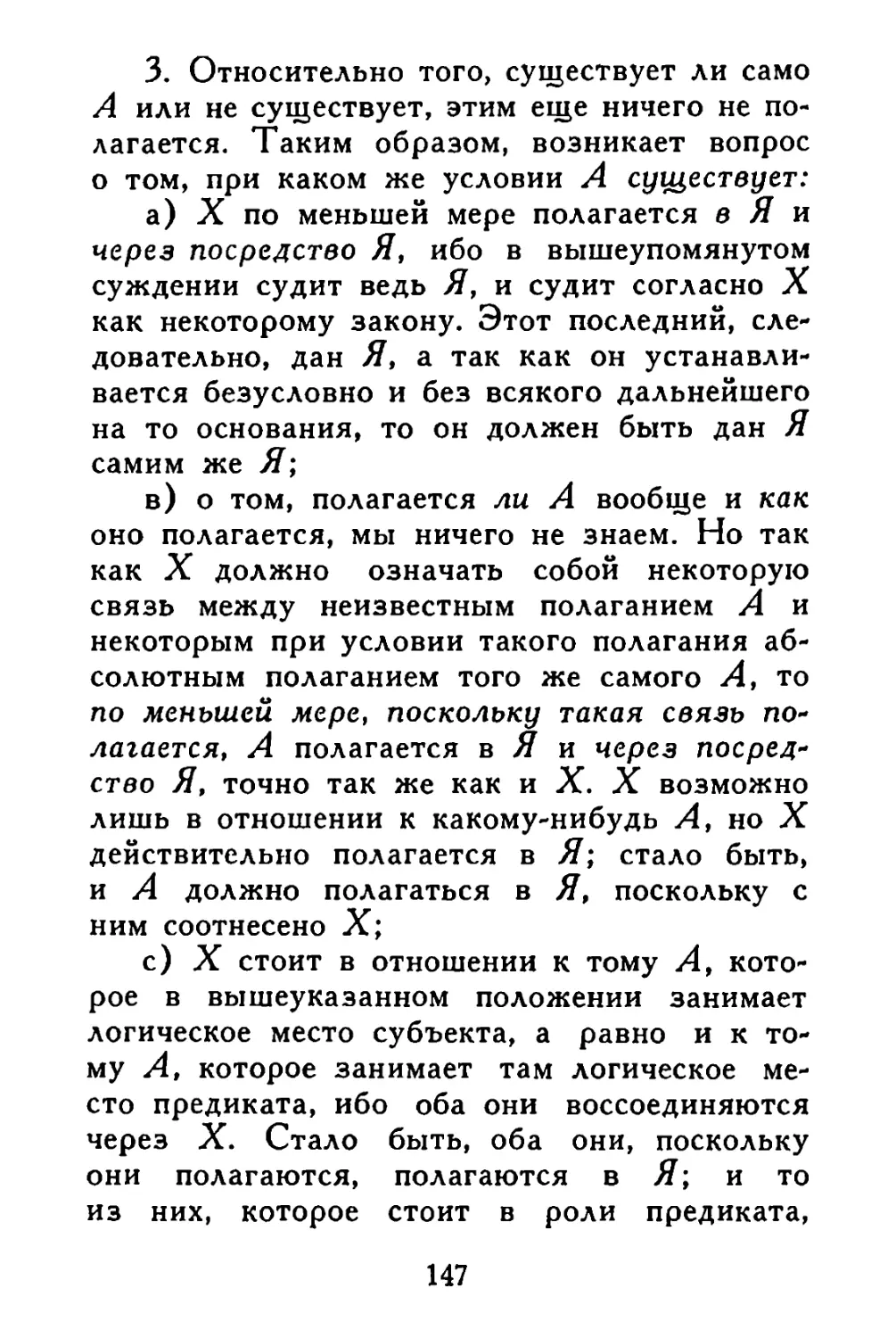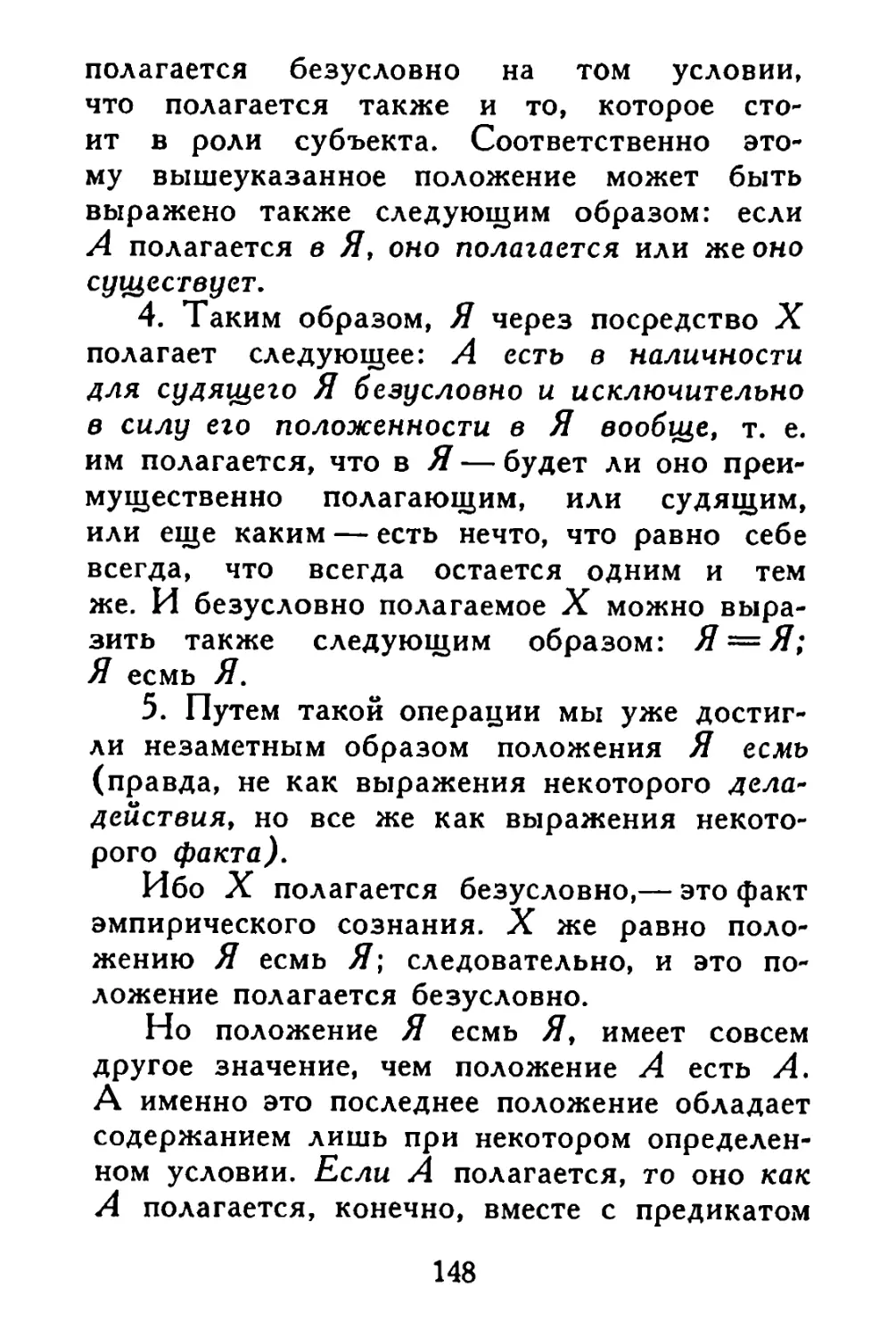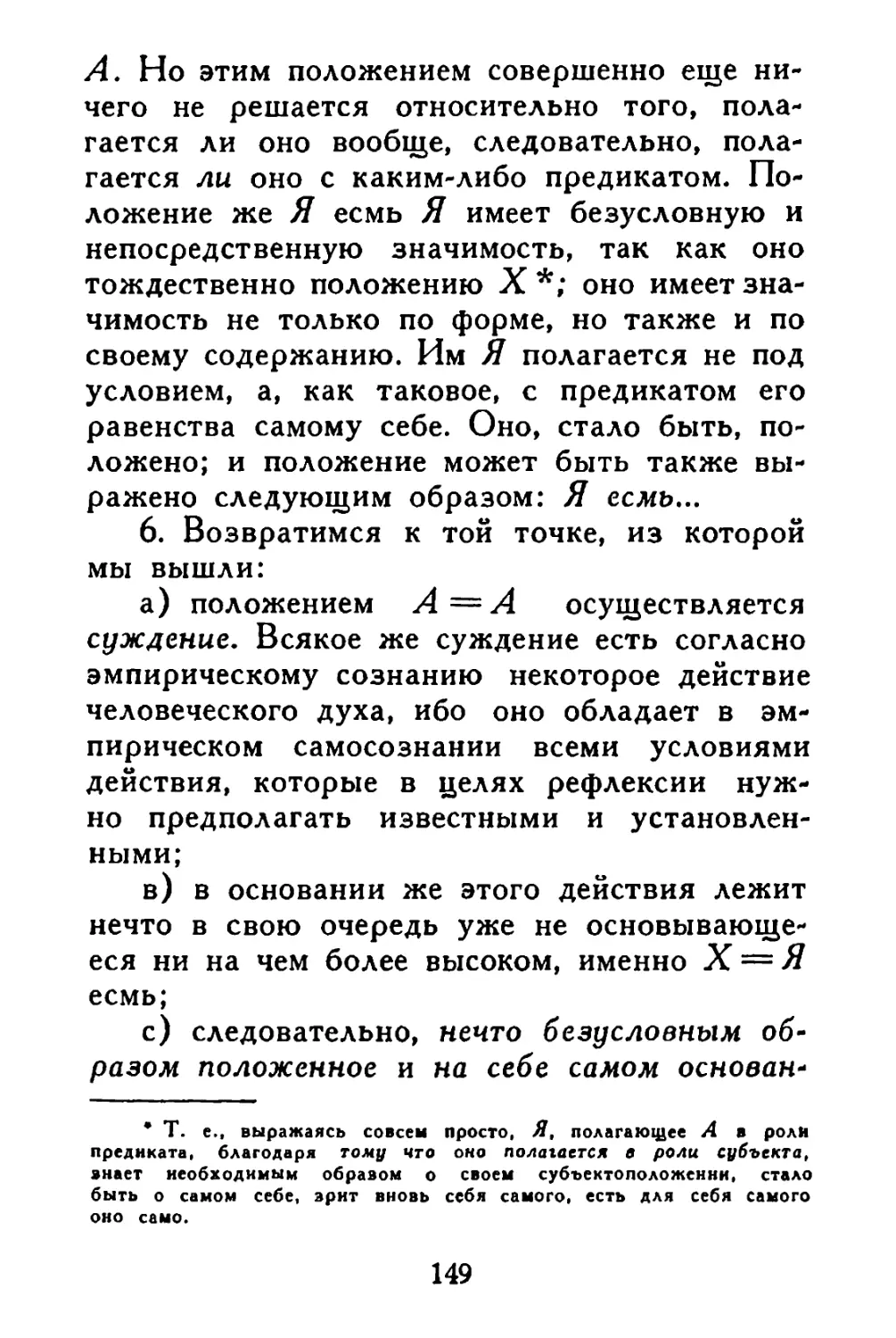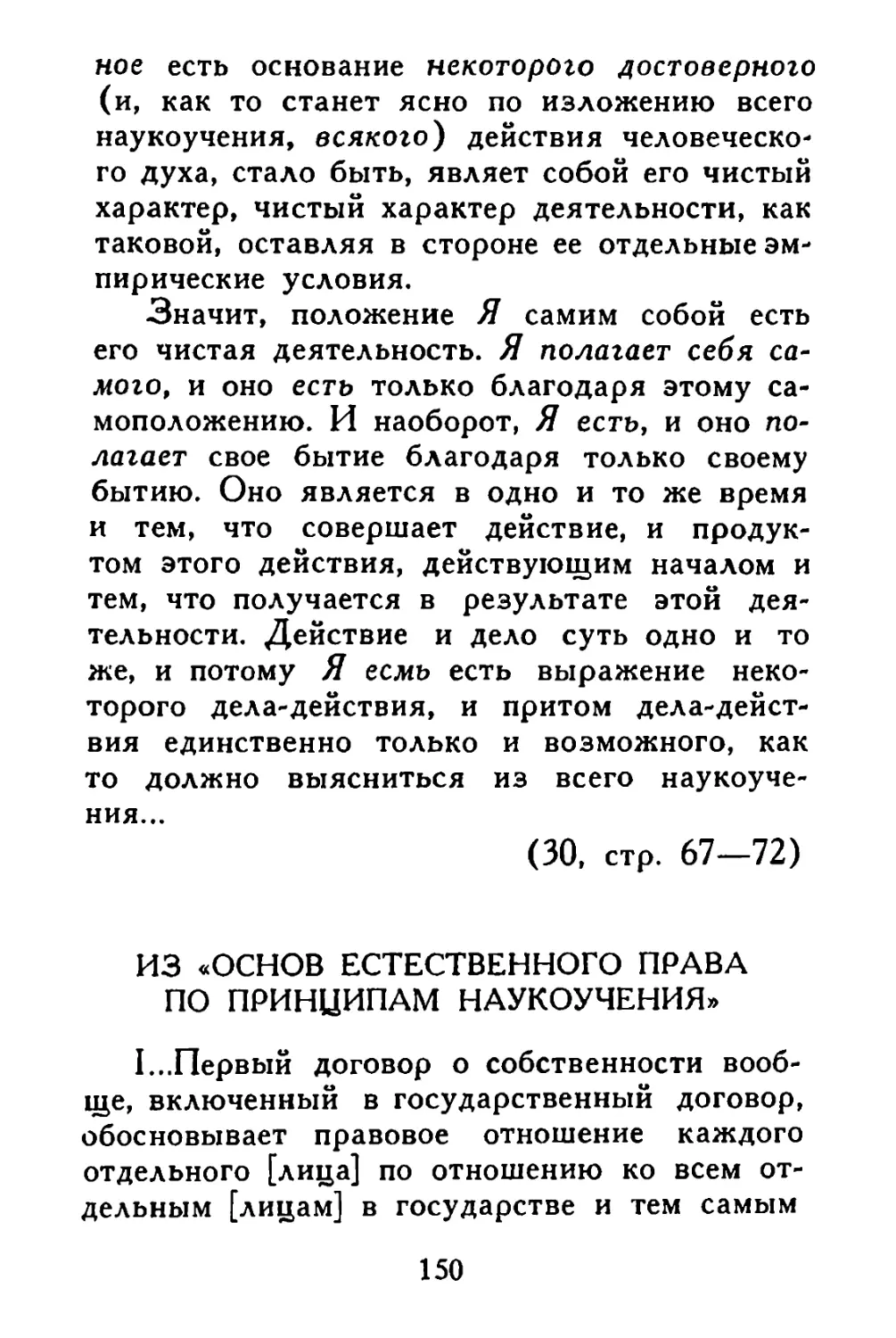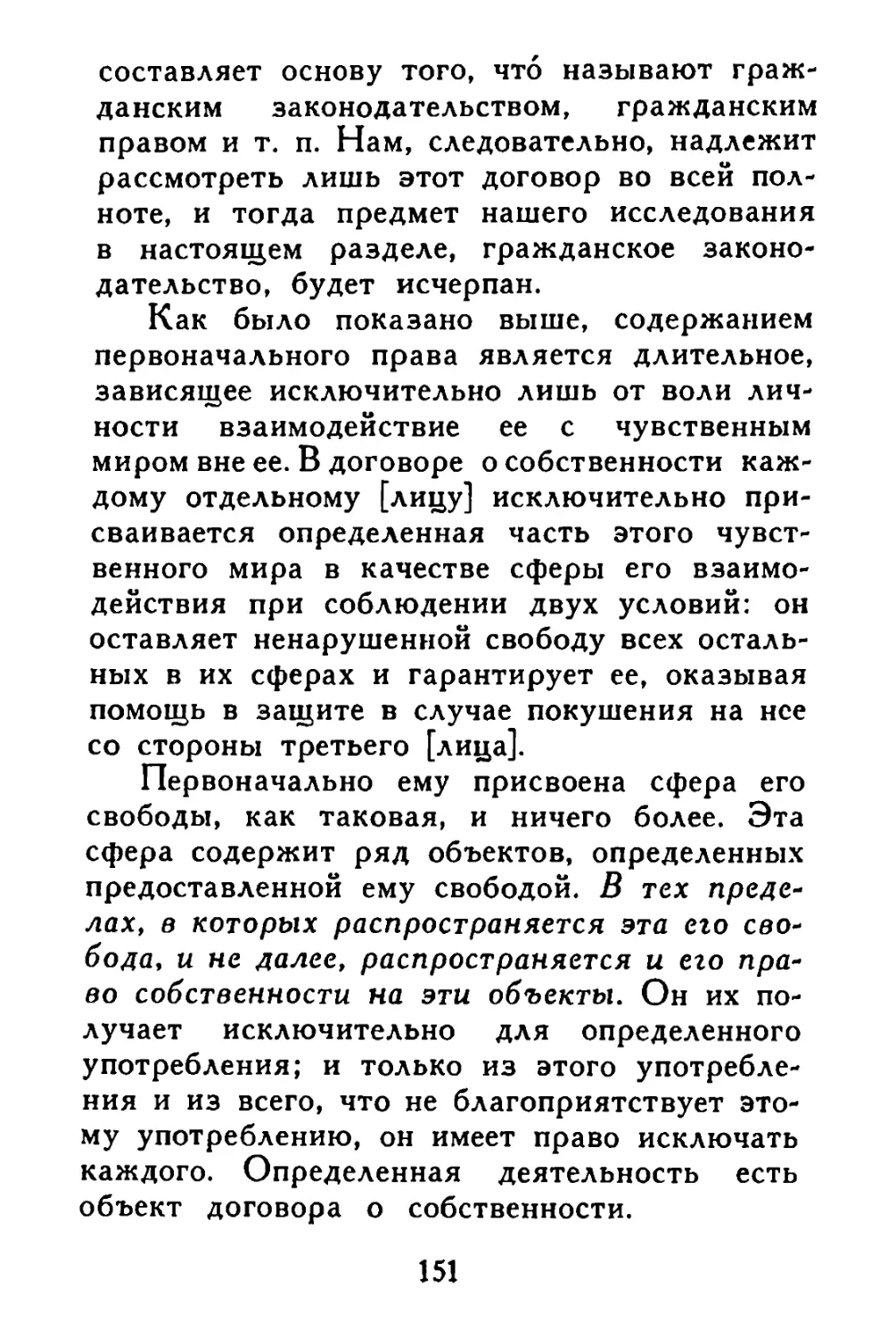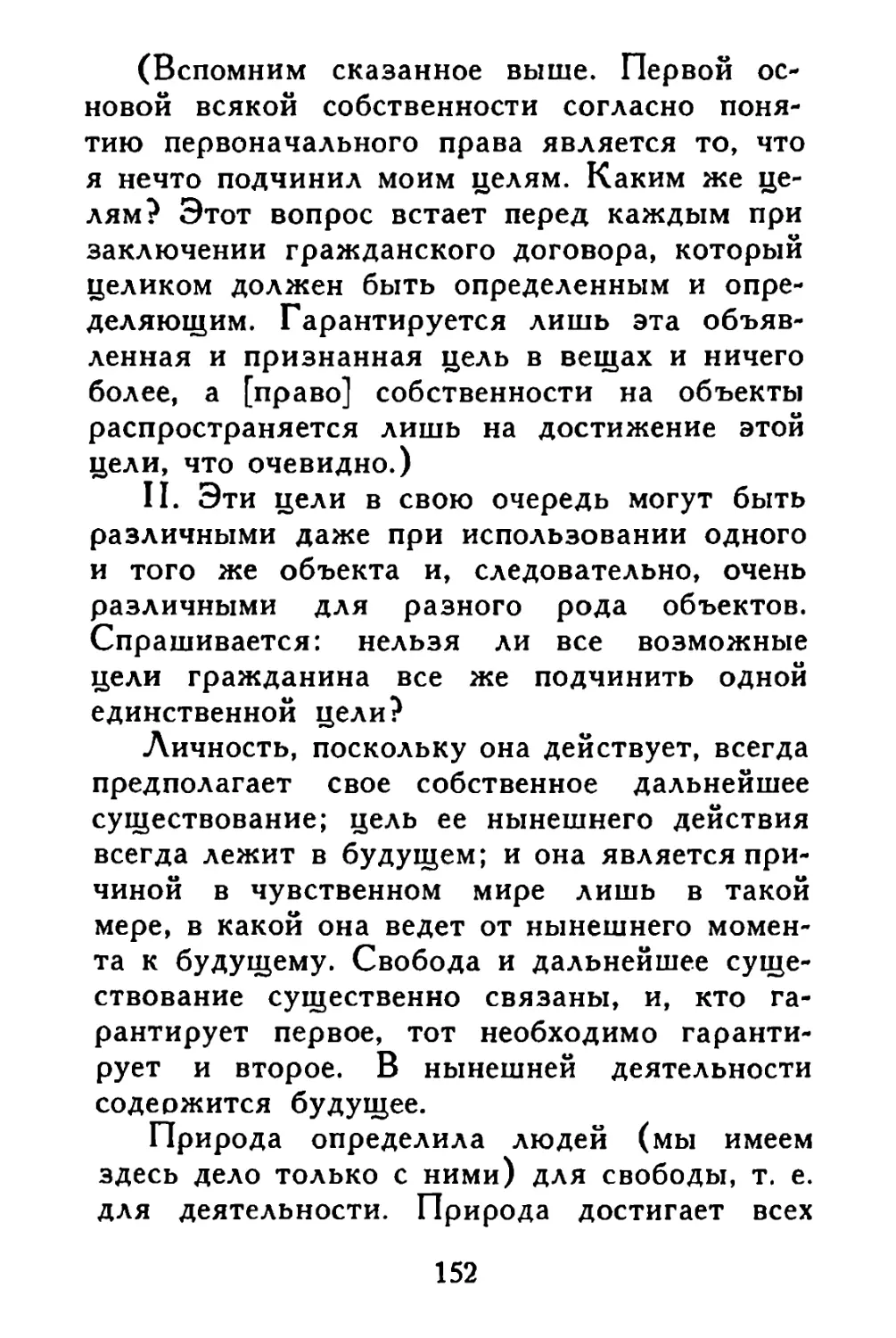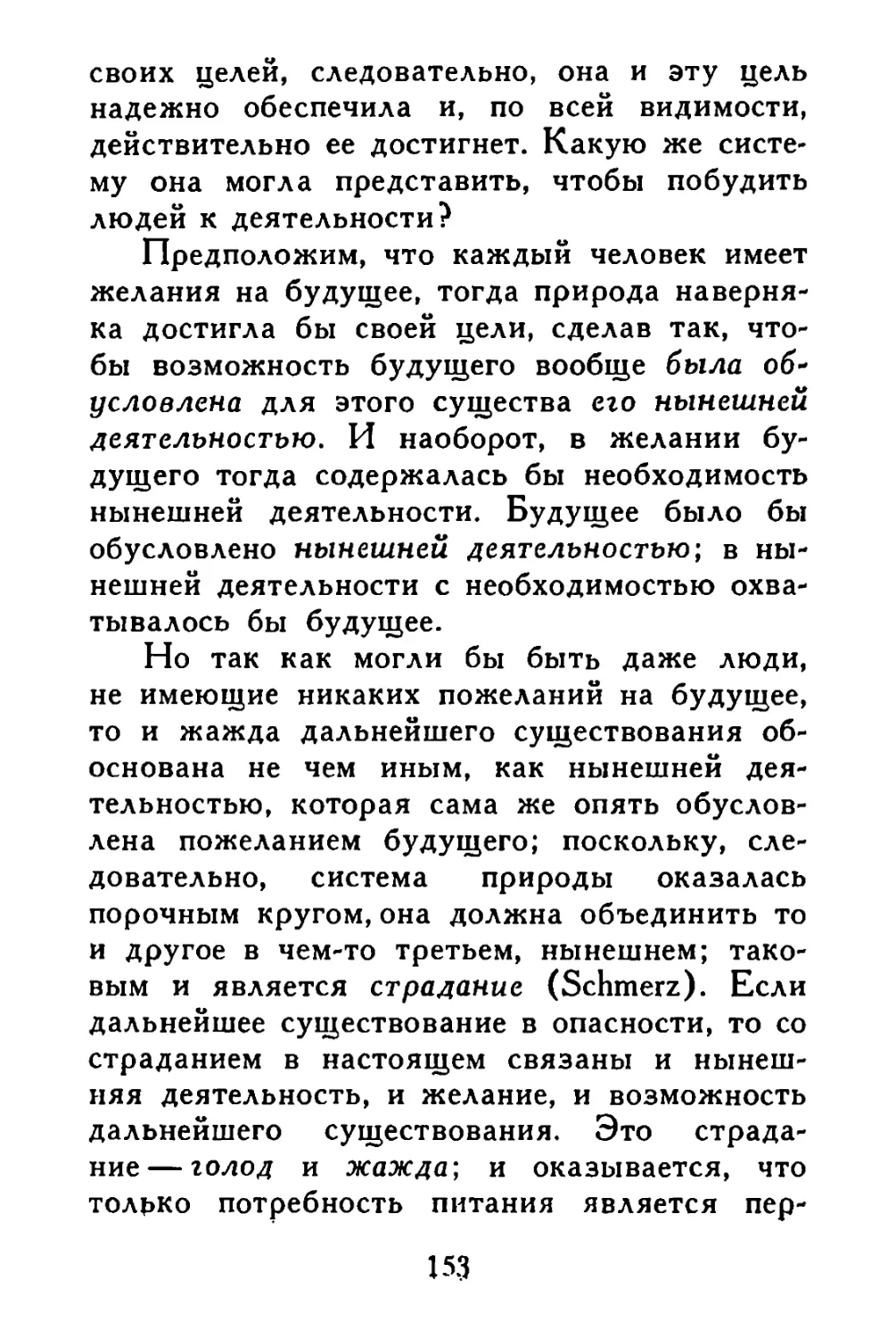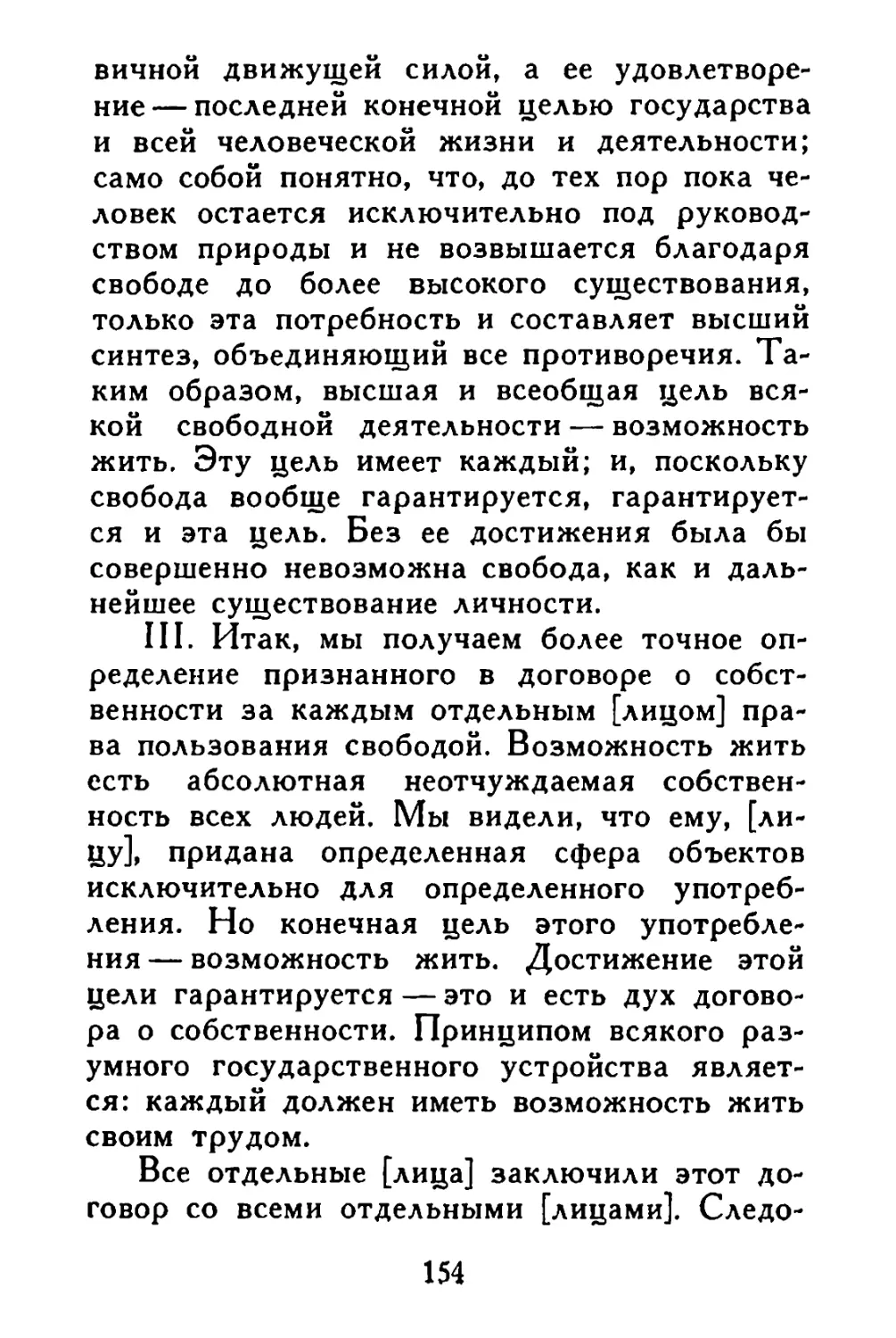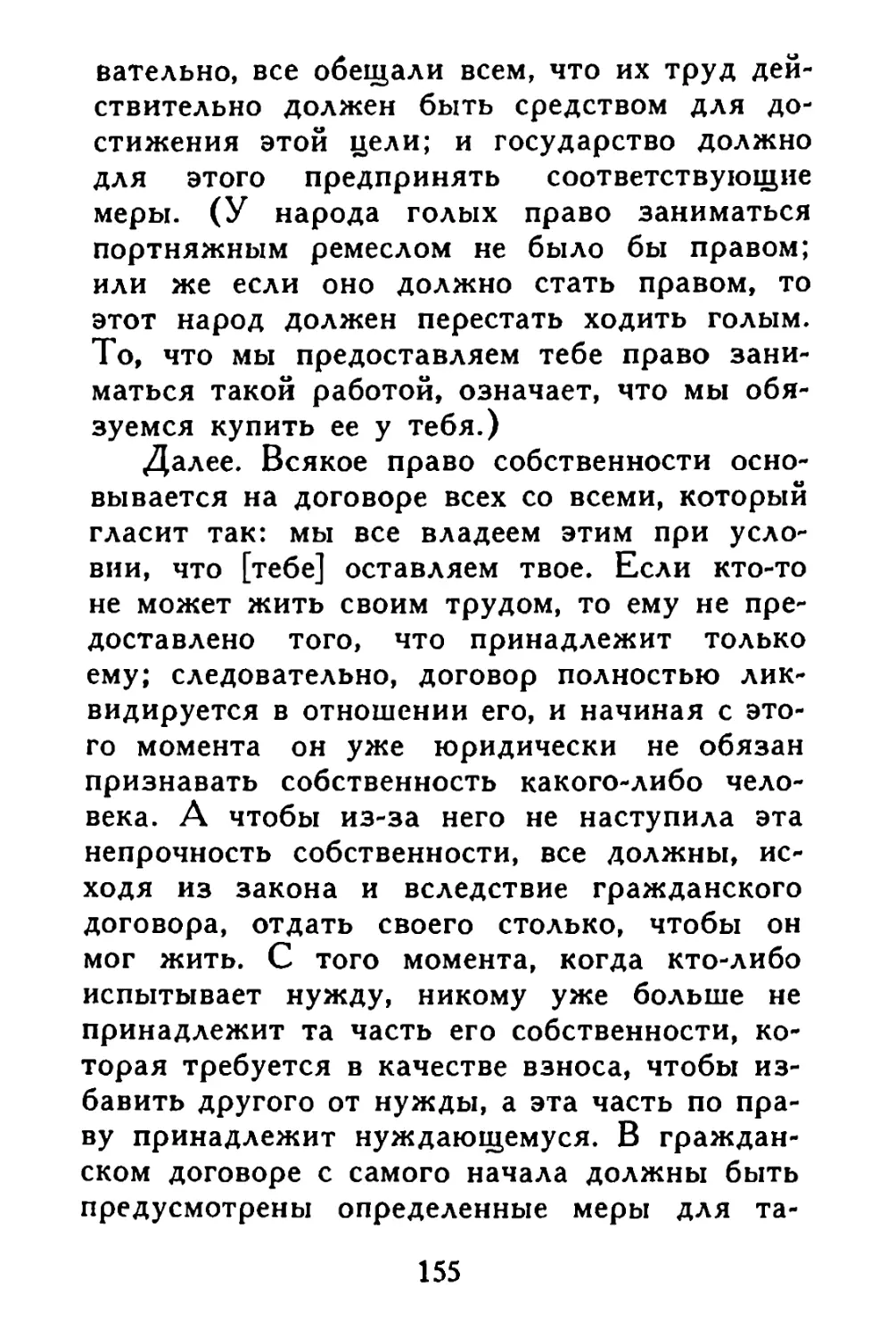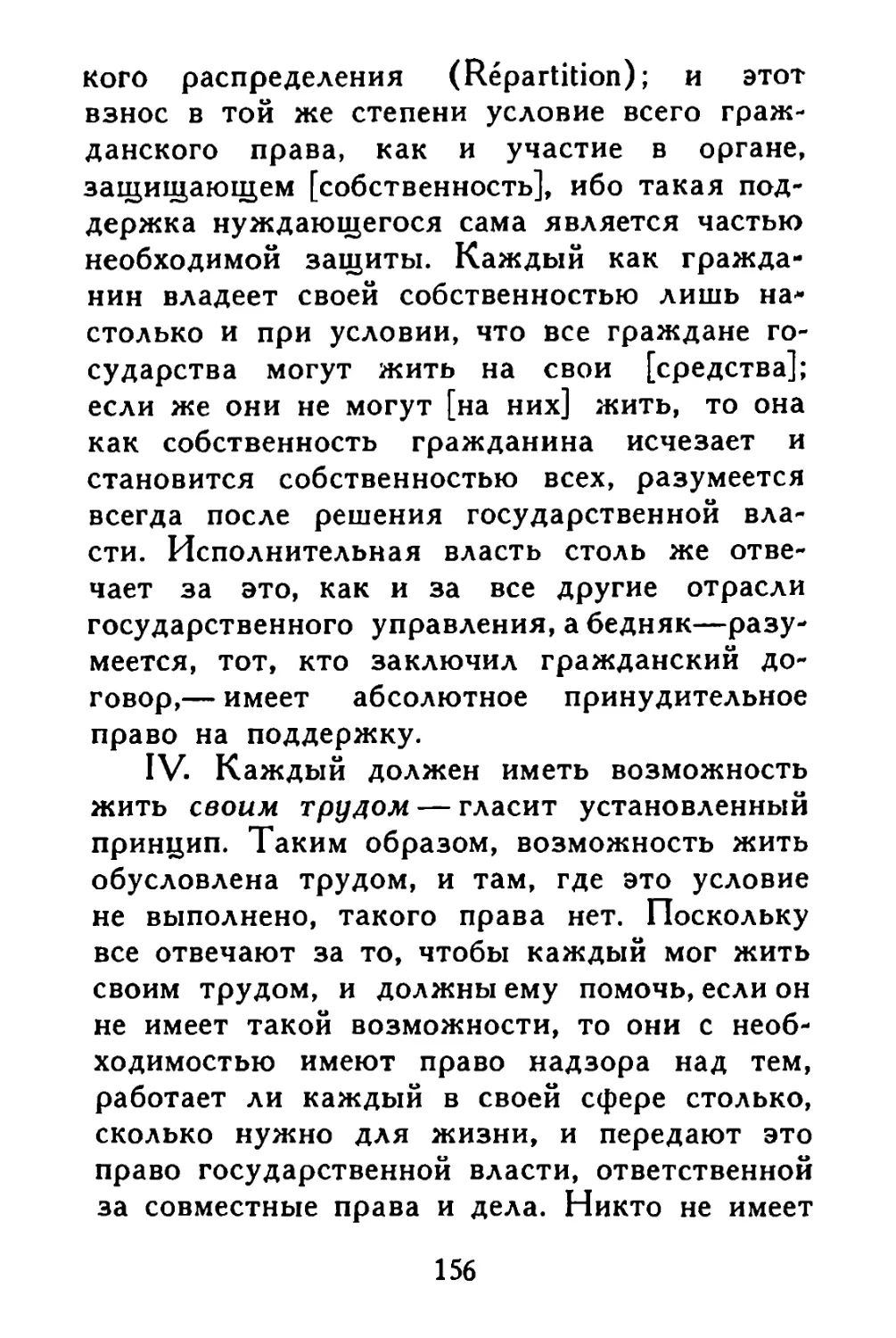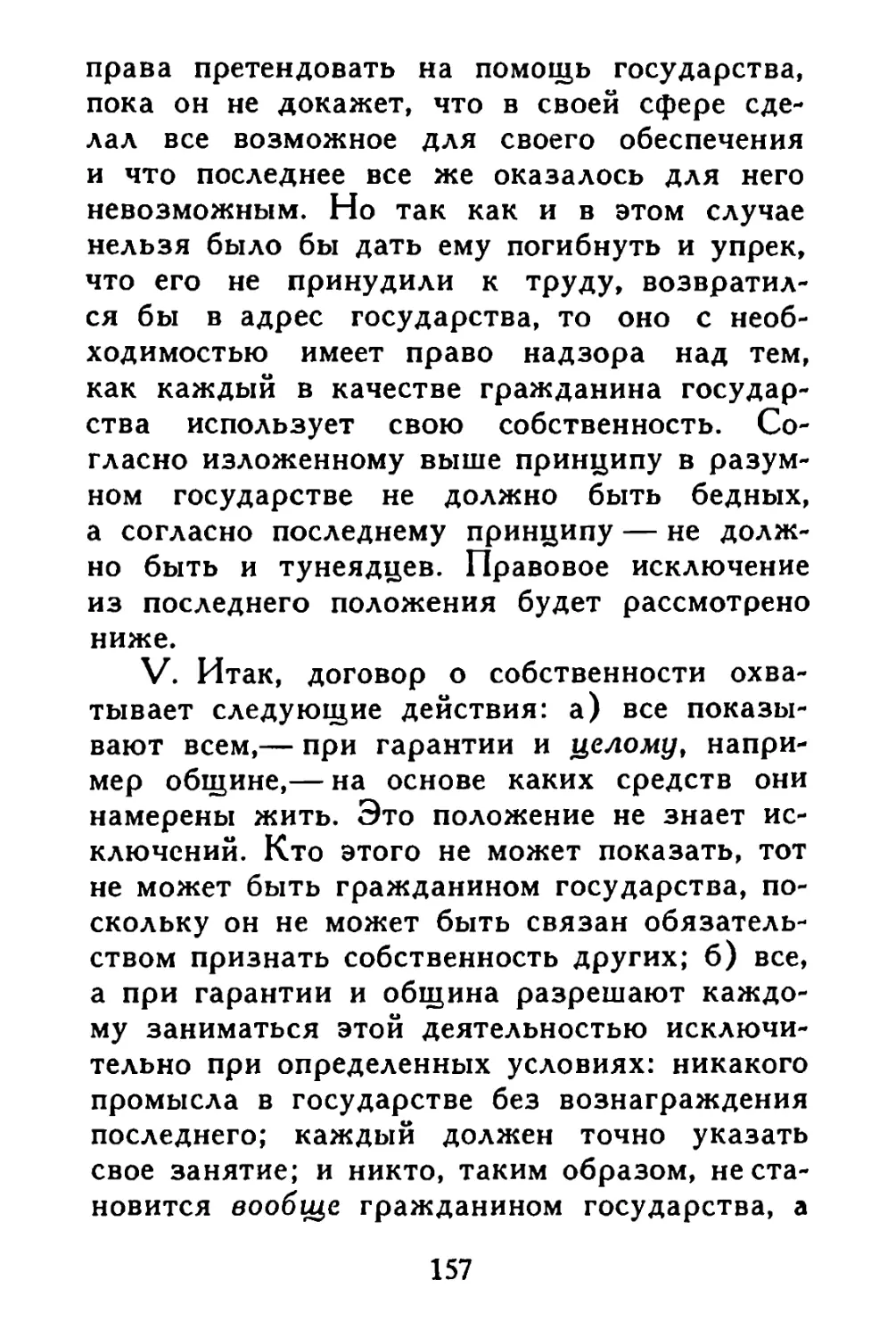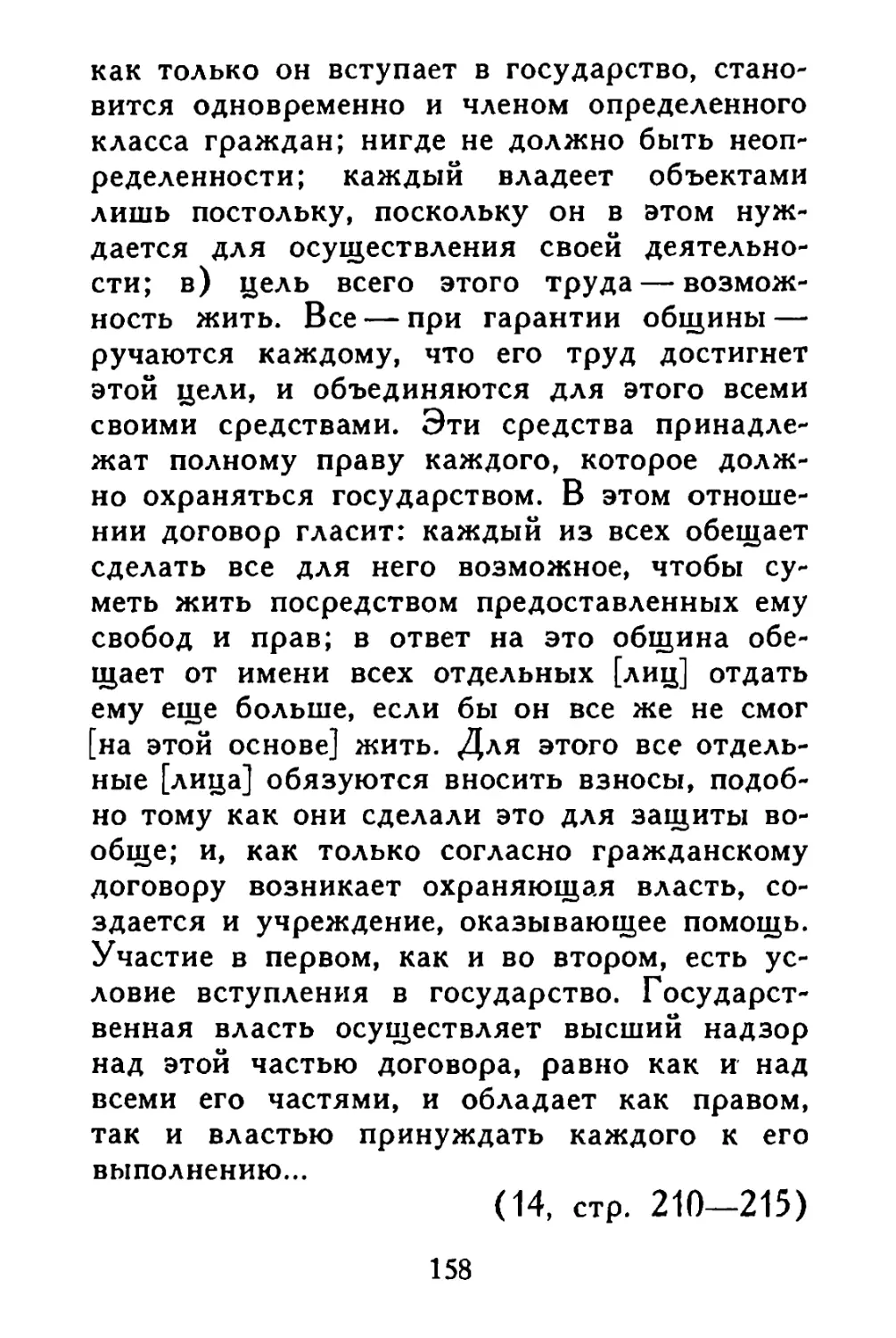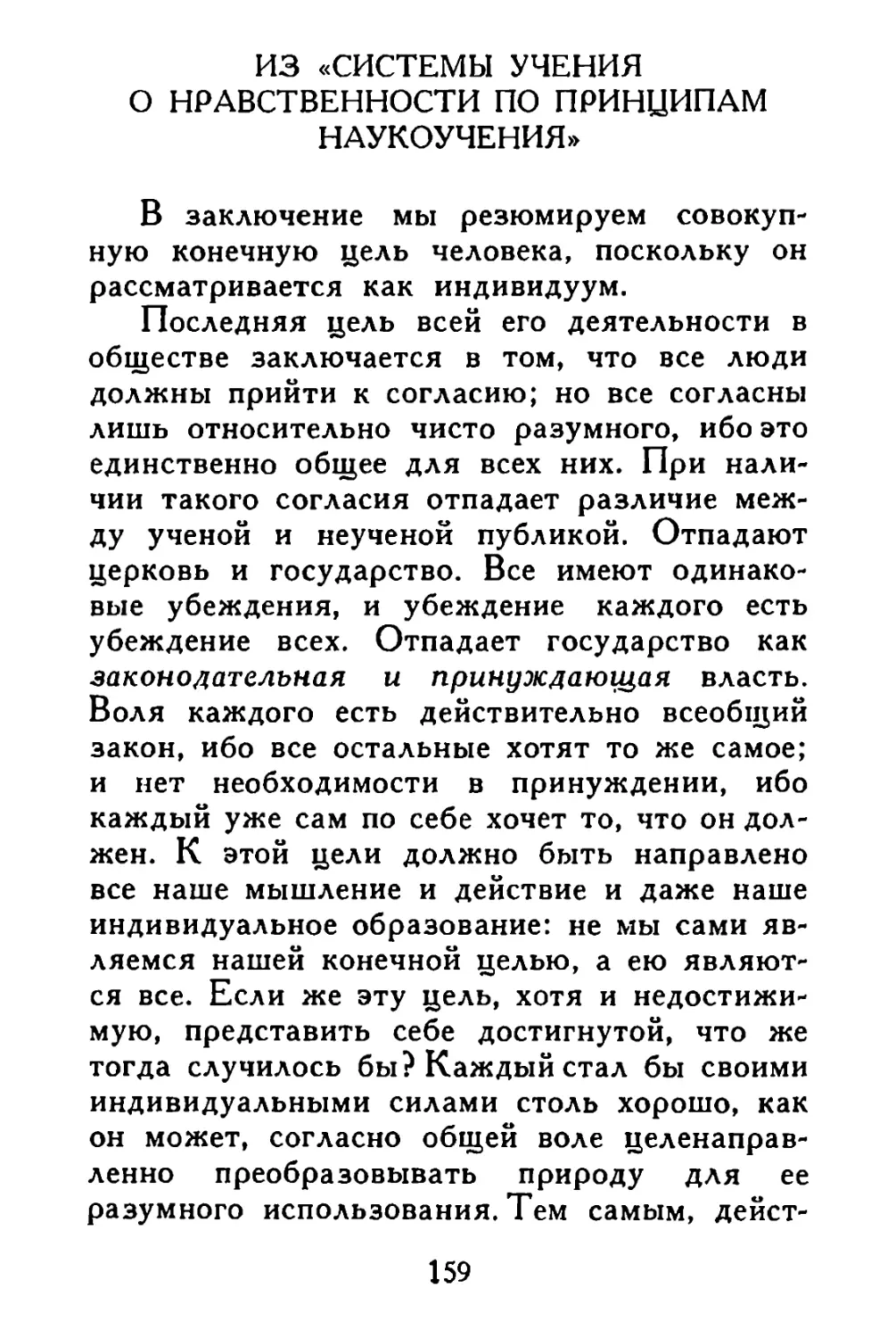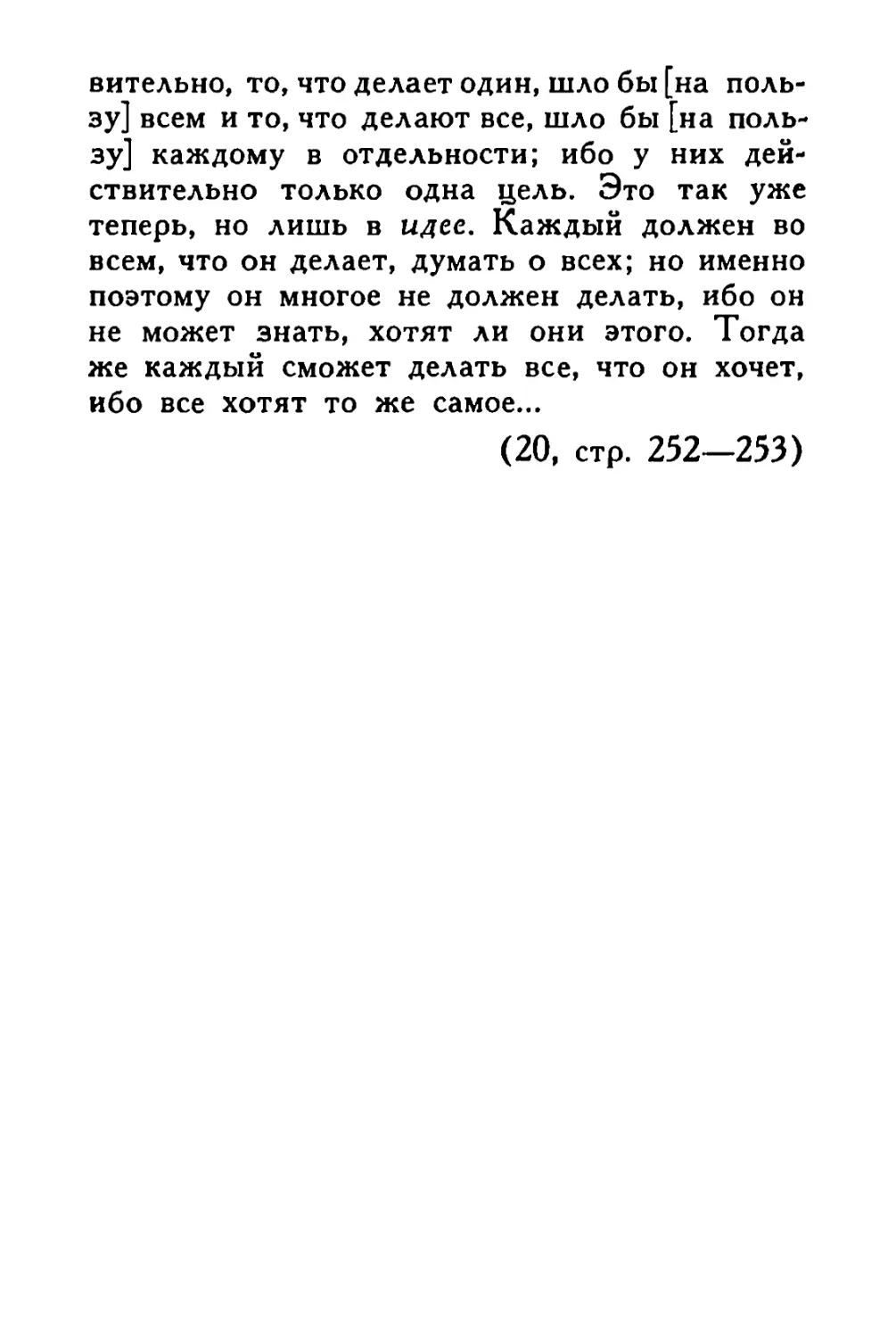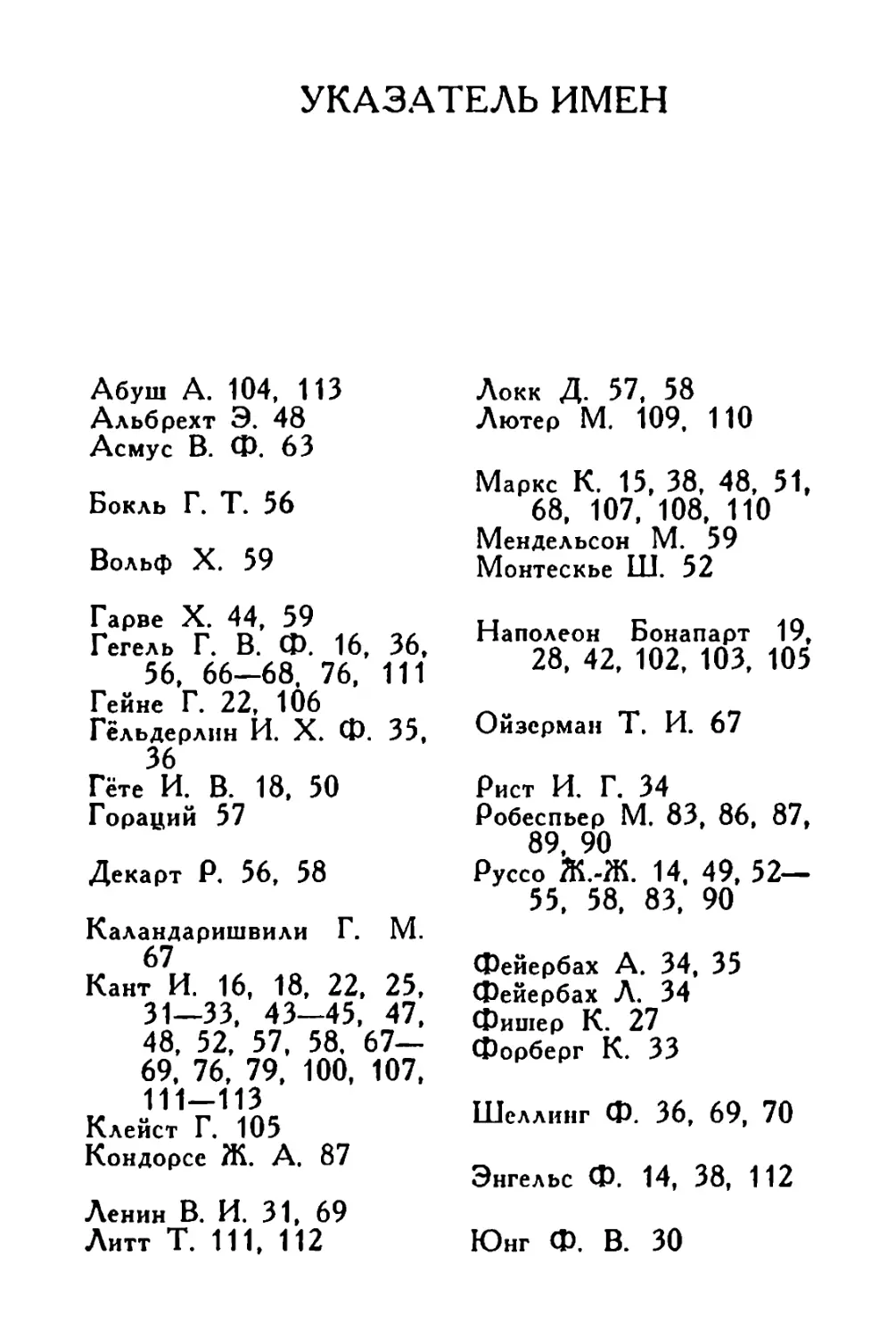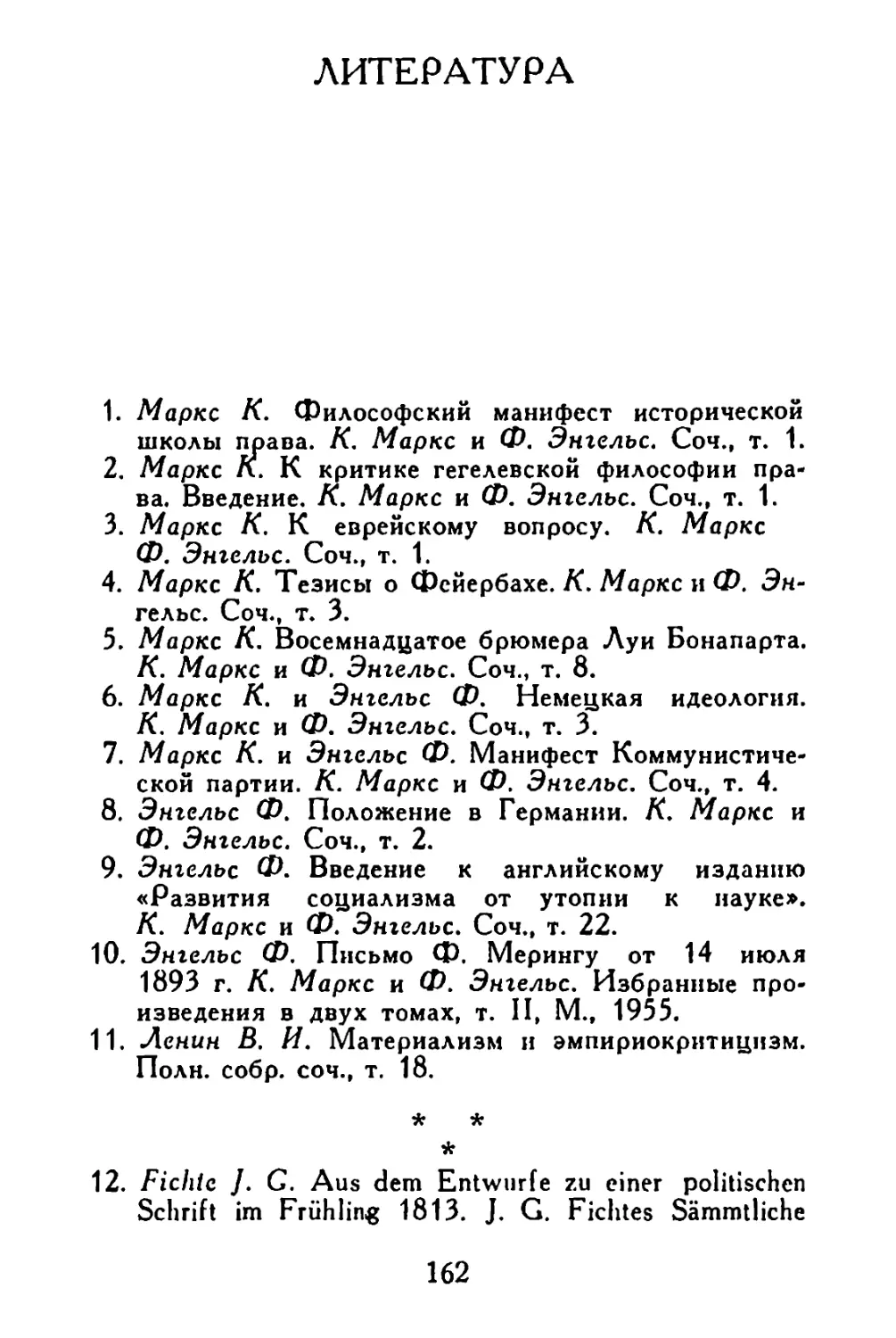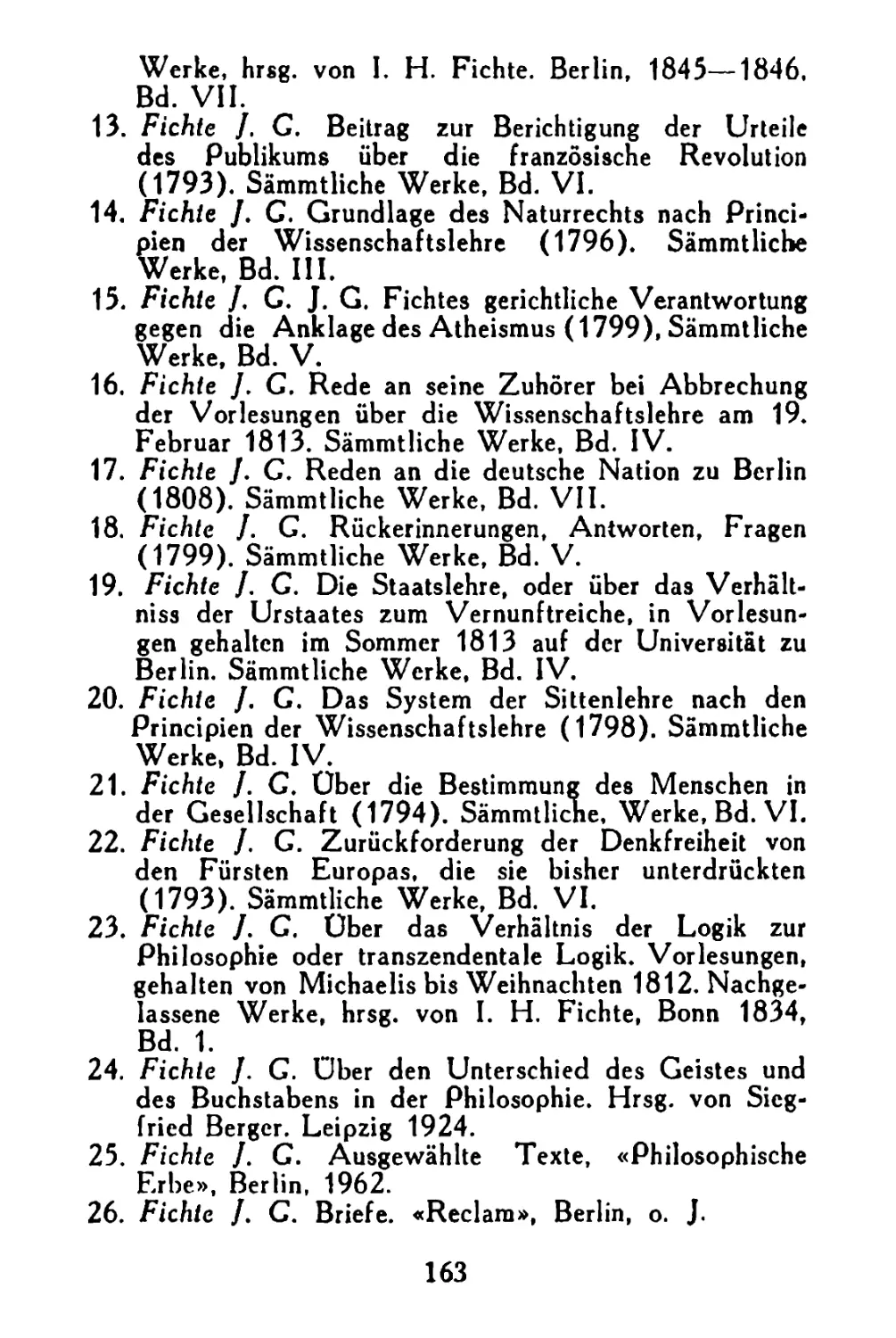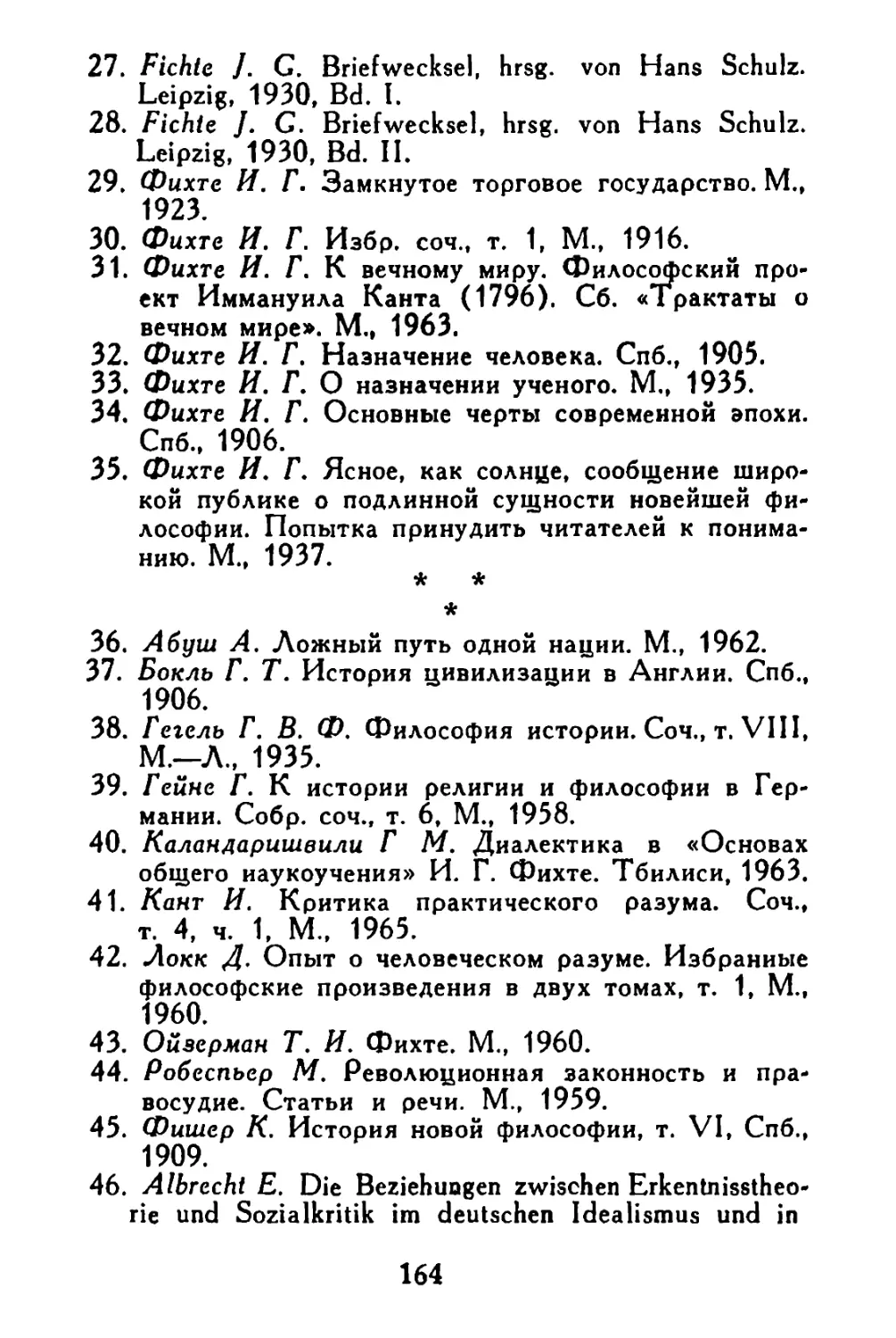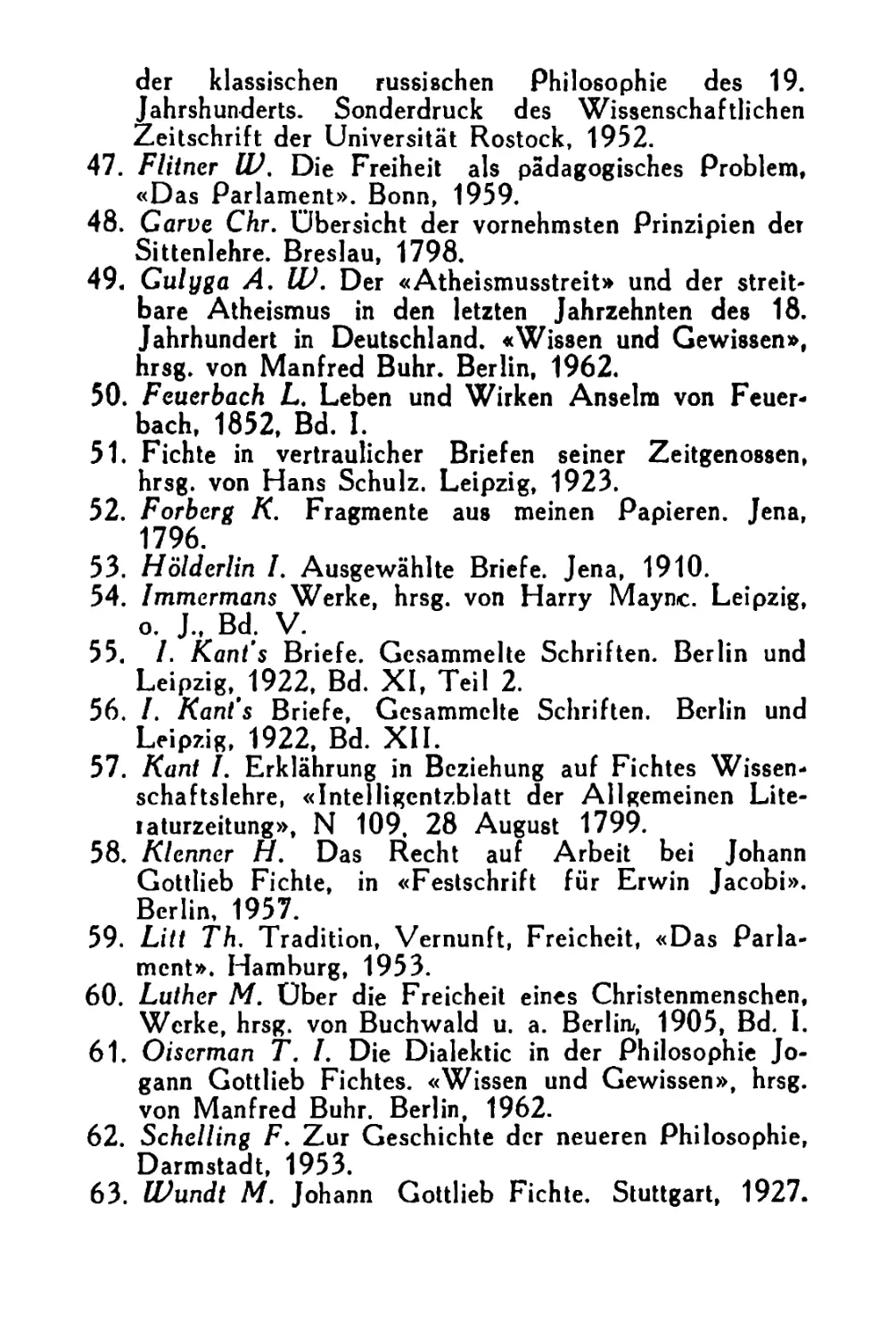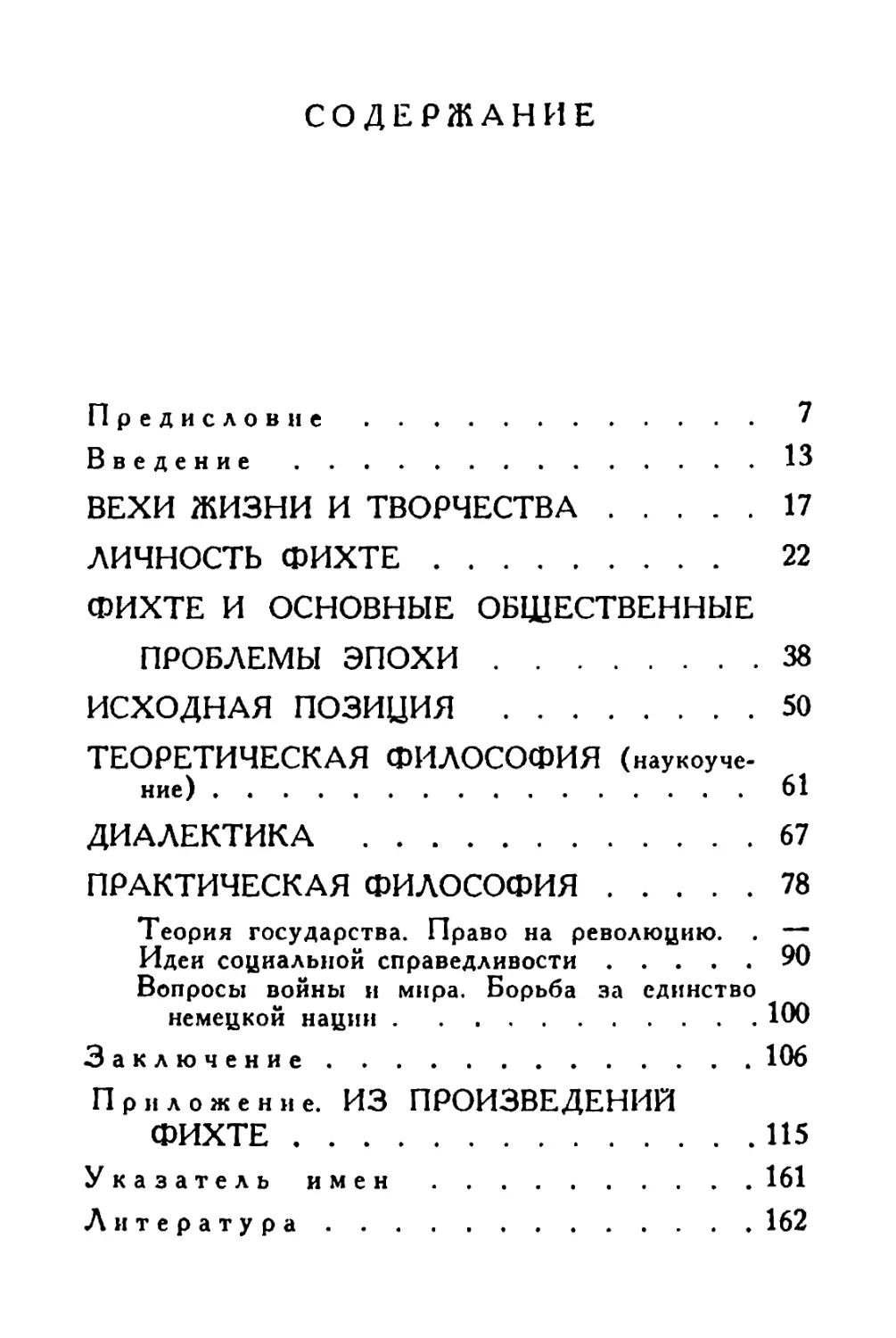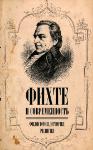Текст
KW ІЬКЛИТЕЛИ
■Прошлого
МАНФРЕД БУР
ФИХТЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«МЫСЛЬ»
Мое кв а · 1965
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Бур (Buhr), Манфред (р. в 1927 г.) — немец-
кий философ-марксист, заместитель директора
Института философии Германской академии
наук в Берлине, автор ряда работ по проблемам
истории философии и современной буржуазной
идеологии, один из редакторов „Philosophisches
Wörterbuch" (Leipzig, 1964). Советский чита-
тель знает М. Бура по статьям, опубликован-
ным в журнале „Вопросы философии": „Немец-
кий экзистенциализм и рефашизация идеоло-
гии в Западной Германии" (1962, № 12) и
„Иоганн Готлиб Фихте" (1964, № 2). Настоящая
книга написана автором специально для изда-
тельства „Мысль".
Перевод с немецкого Я* Фогелера.
Общая редакция и предисловие А. Гулыги.
Мы, немецкие социали-
сты, гордимся тем, что
ведем свое происхождение
не только от Сен-Симона,
Фурье и Оуэна, но также
и от Канта, Фихте и
Гегеля.
Фридрих Энгельс
Я хочу не только МЫ"
слать, я хочу действо-
вать.
Иоганн Го m л и б
Фихт в
ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемая вниманию читателя книга
напоминает о серьезном пробеле в нашей
историко-философской литературе. Проводя
большую работу по изучению немецкой
классической философии, мы, однако, недо-
статочное внимание уделяем Фихте. Его про-
изведения на русском языке — редкость,
к тому же переведены даже не все основные
работы мыслителя. В последние годы у нас
появились брошюры и статьи, посвященные
Фихте, но все же до сих пор нет фундамен-
тального исследования его учения.
Путь к освоению теоретического насле-
дия Фихте в течение долгого времени за-
крывал имевший широкое хождение тезис о
мнимом антидемократизме мыслителя. Цен-
ность книги М. Бура состоит прежде всего
в том, что она рассеивает предубеждения в
этой области. Автор обстоятельно говорит
7
о демократических взглядах Фихте, показыва-
ет, что в первый период своего творчества
философ был приверженцем революционного
образа действия. Имеются данные о том, что
Фихте был связан с майнцскими якобинца-
ми и с нетерпением ожидал занятия всей
Германии французскими революционными
войсками. Фихте предлагал свои услуги ре-
волюционной Франции и даже намеревался
переселиться в эту страну. «Мне не нужно
никакого другого титула, кроме права на-
зываться французским гражданином, если
только народ захочет дать мне его»,* — пи-
сал он в одном из писем.
Немецкая реакция не могла простить
Фихте революционных взглядов и ждала
лишь повода для того, чтобы расправиться
с молодым профессором-вольнодумцем. Та-
кой повод представился в 1798 г., когда в
иенском «Philosophische Journal», издавав-
шемся Фихте, появилась атеистическая ста-
тья Карла Форберга «Развитие понятия ре-
лигии». Фихте не был атеистом, он не раз-
делял взглядов Форберга на религию, но
счел возможным опубликовать его статью,
* /. С. Fichte. Briefe. «Reclam». Berli , о. j.,
S. 113-114.
S
снабдив ее своим предисловием. Так возник
знаменитый «Спор об атеизме», в ходе кото-
рого против Фихте было выдвинуто обвине-
ние в безбожии. Дело закончилось тем, что
после официального выговора правительства
Саксонии Фихте вынужден был уйти из Иен-
ского университета.
Изменение обстановки во Франции, пре-
вращение освободительных революционных
войн в захватнические не могли не повлиять
на умонастроение Фихте. Философ увидел те-
перь свою главную задачу в идейной борьбе
с французской агрессией, в пробуждении на-
ционального самосознания немцев. Отсюда и
отдельные отдающие национализмом выска-
зывания, относящиеся к этому периоду, ко-
торые, однако, надо оценивать конкретно-ис-
торически, с учетом задач борьбы за осво-
бождение страны и единство народа. Следует
при этом заметить, что Фихте никогда не
был прусским казарменным «ура-патриотом».
О его критическом отношении к прусским по-
рядкам свидетельствует хотя бы следующий
сатирический отрывок из диалога «Патрио-
тизм и его противоположность» (1807). Один
из участников диалога обращается к другому:
«А. Откровенно говоря, мне хочется, что-
бы Вы пришли в другой раз. Сейчас пробило
9
пять. По моему распорядку дня это время
отведено для занятий патриотизмом...
Б. Неужели это к спеху? Занятия патри-
отизмом? Как Вы осуществляете их?
А. Я узнаю, какие вышли новые указания
и распоряжения, постигаю их мудрость и
превозношу ее публично и громогласно.
Б. И Вы находите все эти указания толь-
ко мудрыми и достойными похвалы?
А. Разумеется. Хороший патриот должен
только хвалить и всегда хвалить, хвалить ис-
ключительно все, что у него есть. Если же
вопреки ожиданию попадется что-нибудь по-
хвалы не достойное, то об этом надо по-
малкивать. Только таким образом возника-
ет и укрепляется прекрасный союз любви и
взаимного доверия между управляемыми и
правительством, которому необычайно при-
ятно слышать нашу похвалу и полагать, что
она является выражением всеобщего настро-
ения» *.
Несколько слов о характере субъектив-
ного идеализма Фихте. Пафос фихтеанства —
активность, деятельность, причем деятель-
ность не отдельного, изолированного инди-
* /. С. Fichte. Ausgewählte Texte, Berlin, 1962,
S. 127.
10
вида, а совокупности людей. Термин Я не
должен вводить в заблуждение. «Речь идет
не обо мне,— писал Фихте,— если бы вообще
дело было в моей личности, я мог бы занять-
ся ею, не говоря об этом ни одному человеку.
И вообще для мира не имеет значения и не
составляет события вопрос о том, что мыслит
и чего не мыслит отдельная личность. Мы
как всецело ушедшая в понятие и в абсо-
лютном забвении наших индивидуальностей
слившаяся в единое мышление община... вот
кто желал мыслить и исследовать, и именно
об этом Мы, а отнюдь не о своем Я, ду-
маю я» *.
Может показаться парадоксальным, но
субъективному идеализму Фихте чужд ин-
дивидуализм, более того, мысль философа
направлена на подчинение индивида общест-
венному целому. Отсюда его явные симпатии
социалистическим идеям, отсюда его твердое
убеждение в том, что вечный мир на земле
может быть достигнут путем соглашения
между государствами при условии «равнове-
сия имуществ», т. е. после радикального пре-
образования существующих экономических
отношений.
* И. Г. Фихте. Основные черты современной
эпохи. Спб., 1906, стр. 219.
11
Фихте созвучен нашему времени многими
своими идеями, но, пожалуй, больше всего
своим стремлением создать систему диалек-
тического мышления. Отдельные диалектиче-
ские мысли высказывались и до него. Учи-
тель Фихте Кант сделал, например, порази-
тельное открытие: он удостоверился в том,
что мышление человека, стремясь проникнуть
в сущность вещей, с неизбежностью натал-
кивается на противоречия, однако последние
Кант воспринял как свидетельство бессилия
разума. Фихте полностью оценил творческую
роль принципа противоречия и впервые в
истории философии попытался развернуть
систему диалектических категорий, построен-
ную на этом принципе. В какой мере это
ему удалось, читатель узнает из книги
М. Бура, живо и обстоятельно излагающей
основные принципы учения И. Г Фихте.
Не приходится сомневаться, что советский
читатель по достоинству оценит эту работу
молодого немецкого марксиста, уже извест-
ного в нашей стране по ряду других научных
публикаций.
А. Гулыга
ВВЕДЕНИЕ
Иоганн Готлиб Фихте (1762—1814) —
один из выдающихся философов, социально-
критических и гуманистических мыслителей
немецкой буржуазии периода ее прогрессив-
ного развития. Его творчество относится в
основном к лучшим достижениям классиче-
ской буржуазной немецкой философии. Его
взгляды, идеи и цели выходят за рамки от-
сталых общественных отношений в Германии
на рубеже XVIII—XIX вв. Причина этого
заключается в том, что Фихте, как и другие
прогрессивные представители классической
буржуазной немецкой философии и литера-
туры, ориентировался в своем отношении к
общественным проблемам времени на тот но-
вый период развития буржуазного общества,
начало которому было положено Французской
революцией. Включив ее проблемы и идеи
в свои философские, общественно-политиче-
ские и исторические исследования, Фихте
сумел высказать такие идеи, которые бла-
годаря их критической, гуманистической на-
правленности, правда во многом еще утопи-
13
ческой и иллюзорной, предвосхищают уже
более высокую ступень общественного раз-
вития.
Год рождения Фихте совпадает с событи-
ем, которое является символическим для все-
го его дальнейшего развития: в этом же году
вышел «Общественный договор» Руссо. Идеи
«Общественного договора» в дальнейшем
оказали глубокое влияние на мышление Фих-
те, их практическое осуществление в госу-
дарстве якобинцев периода Французской ре-
волюции укрепило его революционные и
демократические убеждения, возникшие под
влиянием этих идей. Правда, вдохновленный
идеями Руссо, смелый полет мысли Фихте
был впоследствии прерван крайней отста-
лостью социально-политического развития
Германии конца XVIII — начала XIX в. и
его идеологическими проявлениями, тем ком-
плексом условий, которые Энгельс называл
«немецкими обстоятельствами» и на которых
ниже мы остановимся подробнее.
Философия Фихте имеет свою судьбу,
свою историю. Буржуазные историки фило-
софии неоднократно извращали ее. Субъек-
тивно-идеалистические крайности его уче-
ния часто рассматривались как главный
момент и исходная точка исследования, хотя
они были лишь следствием попытки — впро-
чем, с самого начала обреченной на неуда-
чу — добиться достойного для человека су-
ществования в рамках буржуазного общества.
Те иллюзии, которым Фихте был подвержен
14
в своем развитии, сами становились предме-
том одной лишь критики и насмешек, хотя
это были лишь извращенные идеологические
покрывала исторически изживших себя ус-
ловий. Наконец, личные качества, своеоб-
разие личности Фихте стали поводом для
псевдопсихологического подхода. Между тем
это своеобразие, возведенное Фихте в обще-
человеческую норму, лишь указывало на то
неразрешимое в буржуазном обществе про-
тиворечие, которое Маркс назвал противо-
речием между общественным человеком, граж-
данином— citoyen — и частным лицом, чле-
ном гражданского общества — bourgeois (см. 3,
стр. 391—392) *.
Создается впечатление, что Фихте созна-
тельно допускал противоречия в своих взгля-
дах. Отчасти это так и есть, но достаточно
вкратце познакомиться с традиционной бур-
жуазной литературой о Фихте, чтобы убе-
диться, что эти противоречия философии
Фихте рассматривались в отрыве от объяс-
няющих их предпосылок, брались как незыб-
лемые факты. В основе этого лежало стрем-
ление объяснить воззрения Фихте исходя из
истории философии, как таковой, т. е. на ос-
нове идеологического развития того времени.
В отличие от такого подхода мы анализи-
руем философию Фихте прежде всего в свя-
* Здесь и далее первая цифра в скобках означает
порядковый номер в списке литературы (в конце кни-
ги), где указаны выходные данные цитируемого про*
изведения.
15
зи с историческим процессом того времени.
Решительное обращение к самой истории вы-
зывается в данном случае уже тем, что фи-
лософия Фихте по существу своему связана
с историческим процессом той эпохи и яв-
ляется теоретизацией исторического созна-
ния, как удачно заметил однажды Гегель.
Этот момент гораздо в большей мере свой-
ствен мышлению Фихте, чем Канта или
Гегеля.
Поэтому при изложении философии Фих-
те мы исходим из основной общественной
проблематики того времени, ибо только так
можно по справедливости оценить его идеи.
ВЕХИ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
Иоганн Готлиб Фихте родился 19 мая
1762 г. в деревне Рамменау, в Восточной
Саксонии. Его отец был ремесленником.
Нужда сопровождала его с колыбели до са-
мой смерти.
Случай открыл перед Фихте возмож-
ность получения образования, редко встре-
чавшуюся в те времена: некий дворянин за-
интересовался талантливым мальчиком и
обеспечил ему материальную поддержку. Сна-
чала Фихте учился у деревенского священни-
ка, а затем поступил в княжескую школу в
Пфорта под Мейсеном, славившуюся в те
времена в Германии. В 1780 г. он стал сту-
дентом теологии сначала в Иене, затем в
Лейпциге. Однако он изучал главным обра-
зом философию, литературу и юриспруден-
цию. Сдать заключительный университетский
экзамен Фихте из-за непрерывных денежных
затруднений так никогда и не смог.
С 1784 г. Фихте был домашним учите-
лем в различных местах Саксонии, затем
17
в Цюрихе. В 1790 г. Фихте возвратился из
Швейцарии в Лейпциг и продолжал зараба-
тывать на жизнь уроками. В Лейпциге он
впервые познакомился с философией Канта,
которая его настолько воодушевила, что он
сразу стал ее сторонником.
В 1791 г. Фихте отправился в Кенигсберг,
чтобы встретиться с Кантом. Он показал
Канту свою первую работу — «Опыт критики
всяческого откровения». Кант с похвалой
отозвался об этой работе, и при его содей-
ствии она была опубликована в 1792 г.
По случайному стечению обстоятельств книга
появилась без указания имени автора, и
публика решила, что автор — сам Кант. Ве-
ликий философ разъяснил эту ошибку, и
Фихте внезапно стал знаменитостью. По пред-
ложению Гёте Фихте был приглашен на
должность профессора философии Иенского
университета и с большим успехом препо-
давал там с 1794 по 1799 г.
Его популярность как преподавателя и
автора философских сочинений, а главным об-
разом его глубокие демократические убежде-
ния вызвали активное противодействие со
стороны реакционных сил как внутри, так и
вне университета, которые чинили ему вся-
ческие препятствия. Когда же он в одной из
статей приравнял бога к моральной совести,
то его обвинили в атеизме и изгнали из
Иенского университета *.
Подробнее см. предисловие к настоящей книге.
13
Из Иены Фихте переехал в Берлин, где
занимался литературной деятельностью.
В 1805 г. его пригласили в качестве профес-
сора философии в Эрлангенский университет,
в 1806 г. он читал лекции в Кенигсбергском
университете. Зимой 1807—1808 гг., когда
Наполеон оккупировал Германию, Фихте
вернулся в Берлин, где стояли французские
войска, и с риском для себя произносил пат-
риотические «Речи к немецкой нации», в ко-
торых призывал к моральному возрождению,
политическому единству нации и высказы-
вался против деспотизма Наполеона.
Когда в 1810 г. был основан Берлинский
университет, то Фихте стал не только его
первым профессором философии, но и пер-
вым ректором. Он умер 27 января 1814 г.
от тифа.
Путь теоретического развития Фихте мож-
но разделить на четыре периода.
Первый период можно ограничить 1794 г.
В это время складываются основные убеж-
дения Фихте. Высшим достижением его твор-
чества этого периода являются две работы,
написанные в 1793 г. в защиту Французской
революции: «Требование к правителям Евро-
пы о возвращении свободы мысли, которую
они до сих пор подавляли» и «К исправле-
нию суждения публики о Французской рево-
люции», изданные анонимно, а также его
первые изложения наукоучения: «О понятии
наукоучения, или так называемой филосо-
фии» и «Основы всего наукоучения» (1794);
19
к этому же времени относятся и его лекции
«О назначении ученого» (1794).
Второй период охватывает время его
профессуры в Иене (1795—1799). В этот
период осуществилась систематическая раз-
работка его философской системы. Главными
произведениями этого периода являются:
«Очерк своеобразного в наукоучении, каса-
ющийся теоретической способности» (1795),
«Первое введение в наукоучение» (1797),
«Второе введение в наукоучение для читате-
лей, уже имеющих философскую систему»
(1797), «Опыт нового изложения наукоуче-
ния» (1797) и, наконец, «Основы естествен-
ного права по принципам наукоучения»
(1796) и «Система учения о нравственности
по принципам наукоучения» (1798). К этому
периоду относится также и произведение,
написанное Фихте в качестве приложения
к «Основам естественного права», «Замкну-
тое торговое государство. Философский про-
ект в качестве добавления к учению о праве
и опыт политики будущего» (1800).
Третий период охватывает 1800—1806 гг.
После изгнания из Иены Фихте оказался
лишенным широкого поля деятельности и
жил преимущественно в Берлине. Это время
можно назвать периодом разочарования. На-
ходясь в тяжелом положении после изгнания
из Иены, Фихте не создал в эти годы особен-
но выдающихся работ и часто склонялся в
статьях тех лет к пессимизму. В начале это-
го периода он пишет «Назначение человека»
20
(1800), затем «Ясное, как солнце, сообщение
широкой публике о подлинной сущности но-
вейшей философии» (1801) и, наконец, рабо-
ту по философии истории «Основные черты
современной эпохи» (1806).
Четвертый период с 1806 г. до смерти
Фихте в 1814 г. Для этого времени характер-
но участие Фихте в прогрессивном буржуаз-
но-демократическом движении за националь-
ное освобождение Германии. Главное про-
изведение этого периода — «Речи к немецкой
нации» (1808).
Это подразделение условно, так как
основные идеи Фихте в течение отдельных
периодов не претерпели радикальных изме-
нений. Те поправки, которые вносил Фихте
в свое учение на различных этапах жизни,
не касаются ни существа его теории, ни той
основной цели, к которой он стремился.
Развитие учения Фихте представляет собой
единую, целостную линию. По этой причине
наше изложение построено не по историче-
скому, а по систематическому принципу.
ЛИЧНОСТЬ ФИХТЕ
О Фихте как-то сказали, что он «лишь
наполовину был философом, а другую, быть
может большую, половину его составлял его
характер борца» (54, стр. 405). И это верно.
Для Фихте мышление и деятельность яв-
ляются лишь двумя аспектами одного и того
же дела.
Эти два аспекта личности Фихте затруд-
няют оценку как его философии, так и его
деятельности. Поэтому едва ли возможно
создать правильное представление о Фихте-
мыслитсле, не учитывая при этом Фихте-
человска. Во всем мышлении Фихте, во всех
его идеях всегда, даже когда они витают в
высотах крайней абстракции, находясь как
бы в царстве чистой мысли, проглядывает
его характер и вместе с тем революционная
эпоха, которая сформировала и определила
этот характер. «Почти отчаиваюсь...— при-
знавался Генрих Гейне в своей работе «К ис-
тории религии и философии в Германии»,—
в возможности дать надлежащее представле-
ние о значении этого человека. Говоря о
Канте, мы ограничились рассмотрением толь-
22
ко его книги. Здесь предметом рассмотрения
должен кроме книги явиться и человек; у это-
го человека мысль и воля составляют одно
целое, и в таком величественном единении
воздействуют они на современность. Нам
предстоит поэтому обсуждать не только фи-
лософию, но и характер, которым она обус-
ловлена» (39, стр. 108). Несомненно, Фихте
принадлежит к тем очень немногим немецким
буржуазным идеологам конца XVIII — нача-
ла XIX в., для которых мысль и убеждение,
мышление и действие составляли неразрыв-
ное единство.
Не только в чистой рефлексии, в умозре-
нии, но в деятельности, опосредованной и
определяемой мышлением, Фихте видит за-
дачу и призвание, как свое собственное, так
и всякого разумного существа. «Действовать!
Действовать! — это то, ради чего мы сущест-
вуем»,— гласит его первая максима, прин-
цип, которому он останется верным всю
жизнь и знание которого составляет необхо-
димую предпосылку для понимания твор-
чества и деятельности Фихте. Еще в 1812 г.
Фихте в своих лекциях в Берлинском уни-
верситете называл сущностью и задачей фи-
лософии не «сухую спекуляцию», а воздей-
ствие на мир: «Философия не есть сухая
спекуляция, не есть копание в пустых фор-
мулах... а она есть преобразование, возрожде-
ние и обновление духа в его глубочайших
корнях: создание нового органа и на его ос-
нове нового мира во времени» (23, стр. 399).
33
Конечно, реальные отношения тут идеа-
листически перевернуты. Подлинная исход-
ная точка выступает как следствие, дух про-
возглашается творцом «нового мира». Но
главный мотив мышления Фихте — не до-
вольствоваться данной действительностью,
воздействовать на нее преобразующее —
пронизывает все его творчество. Уже в
1790 г. Фихте писал своей невесте: «Сосло-
вие ученых я знаю; мало что нового я там
смогу открыть. У меня самого меньше всего
склонностей стать таким ученым по профес-
сии. Я хочу не только мыслить, я хочу дей-
ствовать... У меня лишь одна страсть, лишь
одна потребность, лишь одно полное ощуще-
ние самого себя, а именно действовать во
вне меня. Чем больше я действую, тем счаст-
ливее я себя чувствую» (27, стр. 61—62).
Это признание раскрывает то, как Фих-
те понимал сущность и задачи философии.
Его устремления в конечном счете направле-
ны на то, чтобы найти переход от спекулятив-
ного, умозрительного размышления об абсо-
лютном Я к деятельному Я, которое должно
развиваться и утверждать себя в мире явле-
ний, т. е. в действительности.
Принятая в 1790 г. основа сохраняется
неизменной. В то же время бросается в
глаза противоречие между искренним жела-
нием Фихте изменить и улучшить мир с
помощью своей философии и его исходными
философскими принципами, недостаточными
24
для такого изменения и преобразования.
Этого противоречия Фихте так и не сумел
разрешить. И все же одной из выдающихся
сторон его личности является то, что он не
приспособлялся в мыслях и деяниях к жал-
кой действительности своего времени, а объ-
явил войну господствующим темным силам.
Эта позиция Фихте подводит нас к сущ-
ности его философии. Красной нитью через
все его творения проходит проблематика
мышления и деятельности, умозрения и
действия. Фихте постоянно ищет новых
принципов, новых путей для осуществления
своих идей. Это особенно ясно проявляется
в его «практической философии», т. е. в тру-
дах по философии истории и философии пра-
ва, а также политических документах и пуб-
лицистических сочинениях о выдающихся
общественно-исторических событиях того вре-
мени. Сюда относятся «К исправлению суж-
дения публики о Французской революции»,
часть первая, «К обсуждению ее правомер-
ности», «Основы естественного права по
принципам наукоучения», в особенности их
продолжение «Замкнутое торговое государ-
ство», лекции «О назначении ученого», ре-
цензия на трактат Канта «К вечному миру»,
«Речи к немецкой нации», «Патриотизм и
его противоположность. Патриотические ди-
алоги 1807 г.», посмертно опубликованная
«Республика немцев», наконец, лекция «О по-
нятии истинной войны» и заключительная
лекция курса о наукоучении. Эти труды
25
появились как продукт той богатой историче-
скими событиями эпохи, в которую родился
и жил Фихте, и представляют собой фило-
софское осмысление и переработку идей это-
го революционного времени. Только раскрыв
непосредственную связь между этими произ-
ведениями и различными вариантами науко-
учения, можно постигнуть подлинную сущ-
ность философии Фихте.
Тот факт, что Фихте неоднократно улуч-
шал изложение наукоучения, свидетельствует
о постоянно возобновляемых им попытках
сделать свое мышление плодотворным в при-
менении к общественной практике. Опыт,
который Фихте накапливал в качестве пре-
подавателя университета, писателя и оратора,
а также используя принципы наукоучения в
практических областях философии, учитыва-
ется им для того, чтобы найти тот теорети-
ческий фундамент, который обеспечил бы
осуществление его философии.
Активная деятельность является, таким
образом, для Фихте основной предпосылкой
всякой истинной философии, причем эта дея-
тельность предшествует спекулятивному раз-
мышлению, соотносится с ним и служит ему.
Во всех университетах, в которых он в раз-
ное время преподавал,— в Иене, Эрлангене и
Берлине — Фихте читал лекции о призвании
ученого. Он стремился изложить свою фило-
софию не только в абстрактной форме, но и
в общедоступных и популярных работах, по-
добных «Призванию человека», желая дове-
26
сти свои мысли до возможно более широкого
круга читателей и увлечь их своими идея-
ми *.
Видный буржуазный историк философии
Куно Фишер (1824—1907) начинает свое
изложение теоретического наследия Фихте
верным замечанием: «Среди философов но-
вого времени Фихте представляет собой ха-
рактерное явление, единственное в своем ро-
де, ибо в нем соединяются два фактора,
обыкновенно взаимно исключающие друг
друга: обращенная внутрь любовь к спеку-
ляции и пламенная жажда деятельности на
мирском поприще» (45, стр. 131). Ныне исто-
рия доказала, что эти «факторы» отнюдь не
обязательно должны быть противоположно-
стями и что именно тех мыслителей можно
считать великими, у которых оба этих «фак-
тора» образуют единство или которые сдела-
ли попытку их объединить. Труды и деятель-
ность Фихте были грандиозной, хотя и не
удавшейся, попыткой такого соединения, при-
чем замечание Фишера о том, что Фихте
увлекался «обращенной внутрь любовью к
спекуляции», верно лишь отчасти. Идеалом
для Фихте была гармония спекулятивного
мышления и деятельности. И если историче-
ская ситуация требовала непосредственной
* Характерным в этом отношении является не-
обычное заглавие очерка Фихте о наукоучении: «Яс-
ное, как солнце, сообщение широкой публике о под-
линной сущности новейшей философии. Попытка при-
нудить читателей к пониманию».
27
практической деятельности, то Фихте готов
был немедленно отодвинуть теоретические
размышления на задний план, чтобы пол-
ностью подчиниться велениям момента.
В 1813 г., призывая своих студентов к борь-
бе против Наполеона, которой он отныне по-
святил самого себя, Фихте говорил: «Серьез-
ные и глубокие занятия наукой требуют спо-
койствия — внешнего, в окружающем мире, и
внутреннего, в душе. До сих пор мне удава-
лось сохранить последнее для себя. Вы не
воспримете это как упрек,— каким несправед-
ливым он был бы!—а лишь как объяснение
истории... что все движения, охватившие нас
за последние часы, все же несколько нару-
шили это спокойствие. В будущем, после ухо-
да столь многих любимых друзей и знако-
мых... во всяком случае после наступления
решающих событий... каким образом мы мог-
ли бы сохранить необходимую для абстрак-
ций наукоучения невозмутимость? Я лично
во всяком случае... не считаю себя на это
способным. Это и есть то решающее сообра-
жение, которое заставило меня принять тя-
желое решение и прервать теперь эти рассуж-
дения. Уже однажды, в 1806 г., война при-
нудила меня прервать очень удачно начатую
разработку наукоучения. Теперь я вновь при-
шел к ясному, как никогда, пониманию, и я
надеялся в этом моем сообщении вам... сде-
лать названную ясность всеобщим достоя-
нием. Мне больно, что приходится эту на-
дежду и дальше откладывать. Но все мы
28
должны подчиняться необходимости, и я ей
также должен теперь подчиниться» (16,
стр. 610). Так Фихте поступал всегда.
Развивая действенную сторону своего уче-
ния, Фихте указывал, что философия влияет
на практические убеждения людей, на согла-
сие с самим собой в мысли и действии. В за-
метках, посвященных «спору об атеизме», он
ставит вопрос: «К чему вся философия и за-
чем нужно ее остроумное оснащение, если она
признает свою неспособность сказать что-
либо новое для жизни и даже не способна
служить инструментом жизни, если она яв-
ляется лишь учением о знаниях, но не шко-
лой мудрости?» — и тут же отвечает: «Глав-
ная польза философии... негативная и крити-
ческая... Опосредованно, т. е. в той мере, в
какой знание философии соединяется со зна-
ниями жизни, у нее есть и положительная
польза: она в широчайшем смысле слова пе-
дагогически влияет на все непосредственно
практическое. Исходя из высочайших основа-
ний философия учит пониманию того, как
следует формировать цельного человека... ее
влияние на умонастроение всего человечества,
однако, нужно искать в том, что она придает
ему силу, отвагу и веру в себя, показывая,
что все это и его судьба в целом зависит ис-
ключительно от него самого,— тем, что она
ставит человека на его собственные ноги» (18,
стр. 344—345).
К такому пониманию философии как на-
учной дисциплины, направленной на практи-
29
ческие нужды, прибавляется еще страстное
стремление Фихте «оправдать делами свое
место среди человечества... вызвать своим
существованием навеки определенные послед-
ствия для человечества и для всего духов-
ного мира: я ли это сделал — это пусть даже
никто и не знает, лишь бы это было соверше-
но» (27, стр. 266). Подобные формулировки
мы встречаем неоднократно в трудах и пись-
мах Фихте. «Я желал бы максимально дей-
ствовать, сколько только я смогу» (27,
стр. 112),— пишет он в другом случае и в
1798 г. в письме к Францу Вильгельму Юн-
гу признается: «Я хочу быть деятельным как
можно дольше устным и письменным сло-
вом— это цель моей жизни. Я предпочитаю
быть там, где нахожу наилучшее поле дея-
тельности» (27, стр. 593).
В этих высказываниях проявляется лич-
ность, возвышающаяся над повседневностью,
обнаруживается мыслитель, для которого
мышление не есть лишь спекуляция, а должно
быть предпосылкой и следствием практиче-
ской деятельности. Правда, в конечном счете
Фихте все же впадает в спекуляцию даже там,
где он мнит себя наиболее практическим, где
поводом для его изложений служат непо-
средственные исторические события, как, на-
пример, в «Речах к немецкой нации». Но это
доказывает не то, что Фихте когда-либо из-
менил своим устремлениям, а лишь то, что ис-
ходная точка его мышления, а следовательно,
и его деятельности была ошибочной. История
30
осудила не страстно стремящуюся к дея-
тельности личность Фихте, а его субъективно-
идеалистическую философию.
Характерное для Фихте стремление
к практическому воздействию становится осо-
бенно ясным при сравнении с Кантом.
Фихте отождествляет себя с каждым своим
произведением, даже с каждым своим словом,
и рассматривает всякое нападение на свои
книги как направленное против своей лично-
сти, до конца борется, спорит и, если нужно,
готов страдать за свои написанные и сказан-
ные слова, особенно если эти нападки ведутся
со стороны государственных властей, это на-
глядно показало его поведение в ходе «спора
об атеизме».
Кант в отличие от этого полагал: «Когда
сильные мира сего охвачены состоянием опья-
нения, вызванного то ли дыханием богов, то
ли исчадием ада, тогда пигмею, которому до-
рога своя голова, следует посоветовать не
вмешиваться в их споры, пусть даже самым
осторожным и почтительным обращением,
прежде всего потому, что те его все равно
не услышат, но зато другие, выступающие до-
носчиками, извратили бы его слова... А для
простой толпы? Это был бы напрасный и да-
же во вред ей самой идущий труд» (55, стр.
417). Тут ясно проглядывает готовность идти
на компромиссы, которая на самом деле со-
ставляет основную черту не только характера
Канта, но и его философии. Указание Ленина,
что «основная черта философии Канта есть
31
примирение материализма с идеализмом, ком-
промисс между тем и другим» (11, стр. 206),
относится не только к решению Кантом основ-
ного вопроса философии, это указание надо
понимать гораздо шире. Момент примирения,
компромисса, присущ всей философии Канта
в целом, начиная со «Всеобщей естественной
истории и теории неба» и кончая посмертным
«Opus posthumum».
В этой черте кантовской философии Фих-
те сразу увидел ее слабость. И он пытается
освободить «критическую философию» от
этой слабости, увести ее из области чистой
спекуляции, где она оставалась у Канта, в
область практических действий. То, что эта
попытка Фихте не удалась и что это невоз-
можно было осуществить в рамках той эпохи
и с позиций его класса из-за тех субъектив-
но-идеалистических следствий, которые Фихте
выводил из «критической философии»,— это
уже другая сторона вопроса. В данном слу-
чае важно помнить, что Фихте понимал пере-
ход от «критической философии» к науко-
учению не только как спекулятивный процесс,
но и как стремление придать практическую
направленность тем тенденциям философии
Канта, которые Фихте признавал правильны-
ми. Та неудачная полемика, которая велась
между Кантом и Фихте на грани XVIII —
XIX вв., имеет своей основой полное непони-
мание Кантом указанных намерений Фихте *.
* Ср. Кант. Разъяснение относительно фихтев-
ского наукоучения (см. 57).
32
Готовность к компромиссам Фихте считал
недостойной философа, и, кроме того, она про-
тиворечила существу его философии. Владев-
шая Кантом боязнь быть каким-либо образом
втянутым в «дела мира сего» была настолько
чужда Фихте, что многим своим современни-
кам он казался загадочным, а его поступки
неоднократно вызывали у них то недоумение,
то восхищение или даже благоговейный страх.
Не раз слушатели Фихте указывали, что он
рассматривал свои лекции не просто как вы-
полнение взятых на себя общественных обя-
занностей, а как своего рода миссию, к выпол-
нению которой он, Фихте, призван. Карл
Форберг, например, записал: «Основной чер-
той его (Фихте.— М. Б.) характера явля-
ется высочайшая честность. Такой характер
обычно мало интересуется деликатесами и
тонкостями поведения... Лучшие места из на-
писанных им носят всегда характер величия
и силы. Тон, которым он обычно говорит, ре-
зок и оскорбителен. Да и говорит он не столь
красиво, но все его слова полны значения и
веса... Его дух — это беспокойный дух; он
жаждет возможности многое свершить в этом
мире. Речь Фихте гремит, как буря, рассы-
пающая удары молний. Он не бередит... но
поднимает душу... Его взор карает; его по-
ступь полна непокорности. Фихте хочет через
посредство своей философии руководить ду-
хом эпохи; он знает ее слабые стороны и по-
тому подходит к делу со стороны политики»
(52, стр. 72).
2 Фихте
33
Другой слушатель, Иоганн Георг Рист,
следующими словами передает в своих «Вос-
поминаниях» впечатление, которое на него
произвел Фихте в Иене: «Беспощадность и
императивность его (Фихте.— М. ß.) дедук-
ций и положений мне вполне нравились, но, с
другой стороны, мой свободный дух не смог
подчиниться тому железному принуждению,
которое последовательности ради стремилось
подмять под себя все обстоятельства жизни.
Фихте воистину был могучим человеком; час-
то я в шутку называл его Бонапартом фило-
софии, и много сходства можно было найти
у них обоих. Не спокойно наподобие мудре-
ца, а как бы сердито и воинственно стоял этот
небольшой, широкоплечий человек на своей
кафедре, и его каштановые волосы аккуратно
обрамляли морщинистое лицо... Когда он сто-
ял на своих крепких ногах или шагал, то ка-
зался вросшим в землю, на которую опирался,
казался уверенным и непоколебимым в ощу-
щении своей силы. Ни одного нежного слова
не изрекали его уста и ни одной улыбки; ка-
залось, что он объявил войну этому миру,
противостоящему его Я, и стремился сухостью
скрыть недостаток изящества и достоинства»
(51, стр. 65).
Даже в оценках таких враждебно настро-
енных к Фихте современников, как юрист Ан-
сельм Фейербах (отец философа-материалиста
Людвига Фейербаха), подчеркивается, хотя и
с отрицательной стороны, беспокойная склон-
ность Фихте к деятельности, к активному
34
влиянию. А. Фейербах в письме к своему дру-
гу характеризует Фихте в следующих словах:
«Я заклятый враг Фихте как аморального че-
ловека и его философии как отвратительней-
шего порождения сумасбродства, которое уро-
дует разум и выдвигает в качестве фило-
софии безумства фантазии, подверженной
брожению... Я настоятельно прошу тебя не
предавать гласности это суждение о Фихте.
Он неукротимый зверь, не терпящий сопро-
тивления и считающий каждого врага его
бессмыслицы врагом его личности. Я убеж-
ден, что он был бы способен играть роль Ма-
гомета, если бы мы жили в эпоху Магомета,
и вводить свое наукоучение мечом и темни-
цами, если бы его кафедра была королевским
троном» (50, стр. 51).
В заключение еще отзыв поэта и филосо-
фа Гёльдерлина. В одном из своих писем
1794 г. он сообщает: «Теперь Фихте являет-
ся душой Иены. И благослови господи, что
он ею является. Другого человека с подобной
глубиной и энергией духа я не знаю. Он отыс-
кивает и определяет в отдаленнейших об-
ластях человеческого знания принципы этого
знания, равно как и принципы права, и за-
тем с той же силой ума продумывает самые
смелые, далеко идущие выводы из этих прин-
ципов и излагает их, несмотря на власть тьмы,
причем пламенно и с определенностью, соеди-
нение которых мне, бедному, без этого приме-
ра, вероятно, показалось бы неразрешимой
проблемой» (53, стр. 96). Вскоре после этого
2*
35
Гёльдерлин в письме к Гегелю пишет о Фих-
те как о «титане, который борется за челове-
чество и круг влияния которого наверняка не
ограничится стенами аудитории» (51, стр. 39).
Суждение Гёльдерлина, конечно, не лише-
но преувеличения. Оно проистекает из того
восхищения Французской революцией в сту-
денческие годы, которое владело им так же,
как и Гегелем и Шеллингом. Восхищаясь
Французской революцией, Гёльдерлин увидел
в Фихте человека, который словом и делом
выражал в Германии идеалы этой революции.
В этом он был не так далек от истины. С
этих позиций Фихте должен был ему пока-
заться «титаном, борющимся за человечест-
во», ибо Фихте в этом отношении действи-
тельно превосходил на целую голову многих
немецких мыслителей. Его положительное от-
ношение к революционному перевороту по
ту сторону Рейна не было преходящим увлече-
нием. Само собой понятно, что история во
многом поправила оценку Фихте современни-
ками, как Гёльдерлином, так и другими. Но
суть в том факте, что Фихте в отличие от
большинства немецких идеологов того време-
ни намеревался своей философией вмешаться
в ход истории, практически в ней участво-
вать.
Над этим намерением Фихте многие изде-
вались, указывая на умозрительность и абст-
рактность его философии. В упреках, которые
бросались в его адрес по этому поводу, не
было недостатка, и, очевидно, основания для
36
этого имелись. Однако этот аспект его лич-
ности представляет не только психологиче-
ский интерес. Стремление Фихте воздейство-
вать на мир своими идеями — существенный
момент для оценки его философии, ибо для
такой личности, которая стремилась к непо-
средственно практической деятельности, пер-
востепенное значение неизбежно приобрета-
ли великие исторические события того времени.
Действительно, Фихте находился всякий раз
под глубоким впечатлением этих событий и
придавал большое значение их теоретическо-
му осмыслению. В первую очередь это отно-
сится к центральному историческому собы-
тию той эпохи — к Французской революции.
Ее цели и задачи, ее достижения и последст-
вия занимают важнейшее место в деятельно-
сти Фихте, во всяком случае так было до
1800 г. Но и позже творчество Фихте остается
связанным с революцией, так как революция
являлась истоком, из которого выросло его
мышление.
ФИХТЕ И ОСНОВНЫЕ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭПОХИ
Во времена деятельности Фихте происхо-
дили решающие изменения в соотношении
сил между феодализмом и капитализмом в
Европе. С одной стороны, Фихте был свиде-
телем революционного переворота во Фран-
ции, а с другой стороны, он продукт «немец-
ких обстоятельств», которые Энгельс крат-
ко охарактеризовал в статье «Положение
в Германии»: «Это была одна отвратитель-
ная гниющая и разлагающаяся масса» (8,
стр. 561). Обе эти стороны получили теоре-
тическое отражение в трудах Фихте. Его
творчество, возникшее под впечатлением
революции, охватывает проблемы буржуазно-
го общества на определенной ступени его раз-
вития и затем отражает эти проблемы в ус-
ловиях изживших себя общественных отно-
шений Германии. Немецкие буржуазные мыс-
лители того времени, как заметил Маркс,
не поняли, что в основе их теоретических
идей лежали материальные интересы, обус-
ловленные материальными производственны-
ми отношениями (см. 6, стр. 184). Проти-
38
воречия и непоследовательность, черты уто-
пии и иллюзии, идеалистические крайности
и моменты пессимизма в трудах Фихте яв-
ляются проявлением этого положения. Такого
рода отрицательным сторонам в трудах Фих-
те противостоят положительные, прогрессив-
ные, революционно-демократические высказы-
вания, выводы и требования. Эти послед-
ние и составляют непреходящую ценность.
Прогрессивность многих идей Фихте оп-
ределяется, однако, не «немецкими обстоя-
тельствами», не отсталостью общественных
отношений тогдашней Германии, а соответ-
ствием хода мыслей Фихте общественно-ис-
торическим задачам той эпохи, которая нашла
свое высшее выражение во Французской
революции. Разрушение феодализма и утвер-
ждение новых буржуазных отношений состав-
ляли сущность эпохи, в которую жил Фихте.
Фихте принадлежал к числу немногих не-
мецких мыслителей, которые увидели в дан-
ном процессе главную проблему эпохи и исхо-
дили из этого в своем творчестве,— в этом
состояло его величие. Но вместе с тем в своем
творчестве он зависел от таких социальных
условий и идейных традиций, которые ни-
сколько не соответствовали достигнутому бла-
годаря Французской революции этапу разви-
тия буржуазного общества, т. е. от «немецких
обстоятельств». Именно это противоречие
между национальным и мировым развитием
буржуазного общества отразилось во внутрен-
них противоречиях творчества Фихте; этим
39
объясняются как положительные, так и от-
рицательные черты его творчества.
При анализе творчества Фихте следует
сначала рассмотреть не «все более и более
безнадежный развал» в Германии того време-
ни, а ту объективную логику социального
развития во Франции (см. 10, стр. 480), из
которой этот философ сам исходил, смысл
которой он пытался постигнуть и с точки
зрения которой он критически рассматривал
жалкую немецкую действительность.
То, что относится к Фихте, относится и
ко всей классической немецкой буржуазной
философии. Последняя немыслима без твор-
ческого обращения к французскому примеру.
Отношения к нему составляют одну из ее
фундаментальных и главных тем, и знание
этих отношений необходимо для ее понима-
ния и объяснения. Фальсификация классиче-
ской немецкой философии со стороны бур-
жуазной историографии всегда начиналась с
отрицания или принижения этих связей, и
это продолжается и в наши дни. Осознавая
эти взаимоотношения, классические буржуаз-
ные мыслители находились в согласии с
историческим процессом, и благодаря этому
в их мышлении проявлялись определенные
реалистические черты.
У Фихте эти черты особенно наглядно
выступают в эволюции его отношений к
Французской революции. Еще в 1791 г. он
рассматривал Французскую революцию как
такое движение, которое приносило мало
40
пользы широким народным массам и поэтому
имело мало смысла. Всю свою надежду на
улучшение социального положения плебей-
ско-крестьянских слоев народа, из которых он
сам вышел, Фихте в то время возлагал на
реформы сверху. Но когда мелкая буржуазия
во Франции в союзе с народными массами
в своей борьбе пришла к революционно-де-
мократической диктатуре якобинцев, тогда
Фихте коренным образом изменил свое от-
ношение к французским событиям. Отныне
Французская революция стала для него «бо-
гатейшей иллюстрацией к великой теме —
права и достоинства человека» и «важной для
всего человечества» (см. 22, стр. 103).
Выраженное в этих словах восхищение
Французской революцией было у Фихте
связано с пониманием того, что революция
есть важнейший момент исторического про-
гресса его эпохи. До конца своих дней он
остается верен ее идеям и достижениям.
Первые работы Фихте являются открытым
и смелым признанием Французской револю-
ции и философско-правовым и политическим
обоснованием права на государственный пе-
реворот вообще. Его последующие труды в
области философии права и этики большей
частью посвящены разбору тех государствен-
но-правовых и социальных проблем, которые
выдвинула Французская революция в пери-
од Конвента. Еще в 1799 г. Фихте видит
во Французской республике, возникшей в
41
результате революции, «отечество честного
трудящегося человека» (см. 28, стр. 100).
И в первые годы XIX в. идеи Фихте ос-
таются тесно связанными с Французской
революцией. Один из слушателей последних
лекций Фихте в Берлинском университете
писал: «Основная идея лекций Фихте сво-
дилась к показу того, что Наполеон, подавив
идеи свободы, достигнутые во время Фран-
цузской революции, лишил тем самым мир
этого высочайшего достояния. Французская
революция получила у него всемирно-истори-
ческое и — что означало гораздо больше —
нравственное оправдание; величайшей виной
Наполеона он считал его измену делу рево-
люции» (51, стр. 249).
Феодальная реакция ненавидела Фихте за
его передовые демократические убеждения и
за его симпатии к Французской революции.
Она чинила ему всякие препятствия, пресле-
довала его и добилась в конце концов его
ухода из Иенского университета. Так назы-
ваемый спор об атеизме следует рассматри-
вать под углом зрения борьбы реакции про-
тив Фихте. Фихте сам об этом догадывался,
когда писал в «Апелляции к публике по по-
воду обвинения в атеизме»: «Тут нет нужды
в догадках и предположениях. Движущая
пружина этого дела видна; она очевидна,
котя никто не хочет назвать ее по имени...
Я для них демократ, якобинец, в этом все
дело... Что я для них являюсь преступным
демократом и якобинцем, а поэтому я им
42
невыразимо ненавистен,— это общеизвестно...
Не мой атеизм, а мой демократизм является
предметом их судебных преследований. Пер-
вый послужил лишь поводом» (15, стр. 286—
287). Оценка вполне правильная.
Таким образом, ориентация Фихте на ис-
торический прогресс неоднократно помогала
ему в решающие моменты в определенной
мере преодолевать субъективно-идеалистиче-
ские спекуляции и возвращаться на реальную
почву.
Перед философией Фихте отчетливо ста-
вился один вопрос: как, собственно, возмож-
но историческое развитие, как возможна
смена одной исторически возникшей формы
общества другой и как можно философски
объяснить эту смену? Очевидно, тут резко
противостоят друг другу два явления, при-
мирение которых кажется невозможным:
с одной стороны, объективные, независимые
от человеческого сознания и воли законы
исторического процесса и, с другой — прони-
зывающая этот процесс человеческая актив-
ность и деятельность. Иными словами, объ-
яснение противоположности между необхо-
димостью (объективные законы исторического
процесса) и свободой (человеческая актив-
ность, деятельность) стало для Фихте глав-
ной проблемой всех его философских занятий.
Эту проблему попытался теоретически ре-
шить уже Кант. В сущности кантовские раз-
мышления так называемого критического
периода начались с попытки решить пробле-
43
му необходимости и свободы, с попытки пре-
одолеть противоположность между повсюду
господствующими (механическими) законами
природы и человеческой свободой.
В письме к Гарве (1798) Кант весьма
определенно высказался по этому вопросу.
Гарве предполагал, будто Кант исходил из
типичных метафизических проблем, таких,
как бытие бога, бессмертие и т. д., и что
Кант в ходе попытки решения этих проблем
пришел к своему учению (см. 48). Кант в
ответ на это возразил: «Не исследование о
существовании бога, о бессмертии и т. д. было
исходным пунктом, откуда я начал, а анти-
номии чГистого] р[азума]: «Мир имеет нача-
ло— он не имеет начала и т. д.» до четвертой:
«В человеке есть свобода — против: нет сво-
боды, а все есть естественная необходи-
мость»,— это было то, что разбудило меня из
догматической дремоты и толкнуло на крити-
ку самого чистого разума, чтобы ликвидиро-
вать скандал видимого противоречия разума
с самим собой» (56, стр. 257—258).
Эта проблема была поставлена Кантом в
таком объеме и с такой резкостью потому,
что стала существенной проблемой дальней-
шего развития того класса, интересы которо-
го выражал Кант,— класса буржуазии. Чем
настойчивее данная проблема выдвигалась ис-
торическим развитием, тем скорее она должна
была быть воспринята философией.
Подобным образом эта проблема предста-
ла и перед Фихте. Причем именно в этом
44
состоит решающий момент для объяснения
как перехода от Канта к Фихте, так и разви-
тия философии самого Фихте.
Фихте относительно рано постиг основную
слабость кантовской философии. Последняя
опиралась на механистическое естествознание
и оттуда черпала свои методологические сред-
ства. Признание строжайшей естественной не-
обходимости составляет для Канта неизмен-
ную предпосылку всякой науки. Но тогда воз-
никает вопрос: как же возможна свобода,
не противоречащая строгой естественной не-
обходимости? Или иначе, если говорить о
проблеме общества и личности, как согла-
совать необходимость и свободу в отноше-
нии человека и всего человечества? Кант ре-
шает эту проблему, конструируя две сферы
бытия и подчиняя человека в качестве эмпи-
рического существа строгой необходимости,
но зато в качестве умопостигающего существа
позволяет ему приобщаться к свободе.
Именно попытка Канта теоретически обос-
новать свободу воли вызвала восторг Фихте,
ибо он надеялся сделать из кантовского уче-
ния о свободе социальные выводы, «Мне ка-
жется очень убедительным,— пишет он,— что
из положения о необходимости всех челове-
ческих действий проистекают очень вредные
следствия для общества, ибо огромная порча
нравов так называемых лучших сословий воз-
никает большей частью из этого источника».
И, подводя итоги, Фихте заявляет: «Посколь-
ку я не смог изменить то, что вне меня,
45
постольку я решил изменить то, что во мне»
(27, стр. 142). Тем самым Фихте, конечно,
вступил на ложный путь. Он хотел изменить
общественные отношения своего времени, из-
менив лишь сознание людей. Этой цели Фихте
служил в качестве преподавателя универси-
тета, писателя и оратора. Ограниченный «не-
мецкими обстоятельствами», нашедшими от-
ражение в его философии, Фихте не понимал,
что решительное изменение сознания возмож-
но достигнуть лишь путем практической по-
литической деятельности. Отсутствие в Гер-
мании реальных общественных сил, способных
осуществить изменение феодально-абсолюти-
стских общественных отношений путем рево-
люционных действий, сказалось на Фихте в
том, что он приписал сознанию такое значе-
ние, которое приводило его к отрицанию
объективной реальности вообще.
Находясь во власти идеалистических за-
блуждений, он полагал, будто не революцион-
ные народные массы изменят данные отноше-
ния, а его философия. В одном из писем 1795 г.
он утверждает, что если французская нация
с помощью революции освободила человека
от внешних оков, то его философия освобож-
дает человека от «оков вещи в себе» (см. 27,
стр. 449), т. е. что человек отныне больше не
подчинен никаким общественным необходи-
мостям. Человеку лишь остается признать
философию Фихте и положить ее в сторону
своих действий. Если он подчинится науко-
учению, тогда общественные и социальные
46
отношения как бы сами по себе изменятся и
разумное государство станет действительно-
стью. В сущности Фихте подменяет объектив-
ные исторические законы мышлением аб-
страктного индивидуума.
Итак, пытаясь снять кантовскую противо-
положность между эмпирическим и умопо-
стигаемым существом человека, определяя не-
обходимость через свободу и подчиняя ее
свободе, Фихте сводит эмпирический мир к
умопостигаемому, сверхчувственному. Отказы-
ваясь от постоянного стремления Канта опи-
раться на механистическое естествознание и
обращаясь к проблемам человеческого обще-
ства, Фихте понимает их преимущественно как
проблемы этики, как проблемы нравственной
деятельности. При этом Фихте отказывается
от кантовскои «вещи в себе» и подчеркивает
идею тождества субъекта и объекта, ставшую
в дальнейшем стержнем, вокруг которого раз-
вивалась диалектика в классической немец-
кой философии. Весь внешний мир оказы-
вается у Фихте продуктом разума человека,
продуктом его свободной нравственной дея-
тельности.
Оглядываясь назад, можно задать вопрос:
необходим ли был субъективно-идеалистиче-
ский вывод Фихте, столь изощренный и оши-
бочный? Необходимо ли было переносить
весь внешний мир в сознание, чтобы преодо-
леть оставшуюся у Канта неразрешенной
противоположность между свободой и необ-
ходимостью?
47
Немецкий философ-марксист Эрхард Аль-
брехт верно указывает: «Тенденция в даль-
нейшем развитии кантовской философии с не-
избежностью была направлена на преодо-
ление столь резко выступившей у Канта про-
тивоположности между миром явлений... и
миром вещей в себе. Правда, возврат к докан-
товским взглядам был почти невозможен...
Ведь именно Кант очень глубоко раскрыл в
своей «Критике чистого разума» слабости
этих (предшествующих.— М. Б.) систем, хотя
он и не смог указать путь, могущий привести
к их преодолению» (46, стр. 4). Таким обра-
зом, Фихте был вынужден исходить из Канта,
но ему невозможно было на этом остано-
виться, тем более что он развивал свою тео-
рию под впечатлением свершившейся револю-
ции во Франции. Если Маркс в своих ранних
работах называет философию Канта «немец-
кой теорией французской революции» (1,стр.
88), то это в гораздо более широком смысле
можно отнести и к Фихте, который прямо
воплощает теорию буржуазной революции в
системе замкнутого разумного государства и
разрабатывает «естественные права» человека
как citoyen * в буржуазном обществе. Возмож-
ность осуществления этой теории он обеспе-
чил тем, что абсолютизировал Я этого
citoysn'a, т. е. личность гражданина.
Субъективно-идеалистическая философ-
ская теория Фихте, таким образом, тесно
* Гражданин (франц.), здесь в смысле общест-
венный человек.
48
связана со стремлением философа к преобра-
зованию общественных и социальных отно-
шений его времени. Поэтому мы в дальней-
шем должны помнить, что Фихте в своей
философии в конце концов стремился к реали-
зации в общественной действительности сво-
их демократических идеалов, которые восхо-
дили к идеям Руссо и ориентировались на
последний этап Французской революции.
Философскую систему Фихте в более узком
смысле, его наукоучение, следует считать в
первую очередь не столько новой теорией
познания или метафизикой, сколько теорети-
ческим обоснованием его демократических
экономических, социальных и эстетических
воззрений. Это обоснование оказалось явно
ошибочным.
Трагедия Фихте заключалась в том, что в
Германии в его время не было широкого ре-
волюционного движения, на которое он смог
бы опереться в своем понимании историческо-
го развития той эпохи. Все, что Фихте искал
и о чем он мечтал, нашло свое выражение
исключительно только в теории, которой
недоставало общественно-практической реали-
зации и которая поэтому приводила своего
творца к идеалистически-извращенным выво-
дам. Лишь исходя из этого положения вещей
возможно постигнуть подлинный смысл фи-
лософии Фихте. Ибо сам по себе субъектив-
ный идеализм Фихте — такое же ложное уче-
ние, как и любой идеализм вообще.
ИСХОДНАЯ ПОЗИЦИЯ
В основу своих теоретических размышле-
ний Фихте положил индивидуум, некое Я,
свободное по отношению ко всякому наси-
лию. «Человека нельзя ни унаследовать, ни
продать, ни подарить; он не может быть ни-
чьей собственностью, ибо он должен быть сво-
ей собственностью и ею оставаться. Глубоко
в своей груди носит он... свою совесть. Она
всегда и безусловно повелевает ему — именно
этого хотеть, а того не хотеть; и это — сво-
бодно и по собственному побуждению, без
всякого принуждения извне» (22, стр. 11).
Фихте, таким образом, ставит перед со-
бой задачу философски обосновать положе-
ние индивидуума в обществе, и при этом так,
чтобы ему была обеспечена максимально воз-
можная свобода.
С какой страстью и последовательностью
Фихте приступает к своей задаче, показыва-
ет вводный раздел работы «Требование к
правителям Европы о возвращении свободы
мысли, которую они до сих пор подавляли».
Гёте и многие другие современники Фихте не
50
смогли в полной мере оценить эту работу и
поэтому восприняли ее с недоумением. Не
удивительно, что книга с таким названием
сейчас же после выхода в свет (анонимного)
была внесена правительством Саксонии в
список запрещенных. Фихте открыто призы-
вал к свободе: «Кончились времена варварст-
ва, когда вам, народы, именем бога осмели-
вались объявлять, что вы — это стадо скота,
ниспосланное богом на землю, чтобы слу-
жить дюжине бого-сыновей в качестве батра-
ков и служанок для облегчения их тягот, для
их удобства и в конце концов для убоя; что
бог передал им свое неоспоримое право соб-
ственности на вас и что они в силу божест-
венного права и в качестве его заместителей
наказывают вас за ваши грехи; но вы сами
знаете или же можете в том убедиться, если
вы этого еще не знаете, что вы не являетесь
даже собственностью бога, а что он вместе
со свободой глубоко вложил в вашу грудь
свою божественную волю не принадлежать
никому, кроме как самим себе» (22, стр. 10).
Подобно всем передовым деятелям перио-
да революционного становления буржуазного
общества Фихте ссылается на предшественни-
ков, идейные богатства которых он привле-
кает для подкрепления своих взглядов *.
* В «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта»
Маркс писал: «Традиции всех мертвых поколений тя-
готеют, как кошмар, над умами живых. И как раз
тогда, когда люди как будто только тем и заняты, что
переделывают себя и окружающее и создают нечто
51
Фихте вместе с прежними и современными
ему идеологами прогрессивной буржуазии ве-
рит в незыблемую совокупность первоначаль-
ных всеобщих основных норм общественных
отношений и естественных прав человека, ко-
торые вследствие злоупотреблений и насилия
властелинов за долгие времена варварства
исчезли из сознания народов. Все, кому до-
роги права и достоинства человека, стоят пе-
ред задачей восстановить их в сознании на-
родов.
В подтверждение своих взглядов Фихте
иногда обращается к античным писателям и
Монтескье, «обязательным» для идеологов
раннего периода буржуазного общества, но
особенно охотно он ссылается на Руссо и Кан-
та и приводит их высказывания как обще-
признанные. При этом Фихте считает, что
революция во Франции является практиче-
ским осуществлением учений этих двух мыс-
лителей.
В качестве предпосылки к своей теории
Фихте в первую очередь берет учение Руссо
об общественном договоре и всеобщей воле
(volonte generale). Вместе с тем он мечтает:
нужно завершить «Общественный договор»,
еще небывалое, как раз в такие эпохи революцион-
ных кризисов они боязливо прибегают к заклина-
ниям, вызывая к себе на помощь духов прошлого,
заимствуют у них имена, боевые лозунги, костюмы,
чтобы в этом освященном древностью наряде, на этом
заимствованном языке разыгрывать новую сцену все-
мирной истории» (5, стр. 119).
52
освободив учение Руссо от присущих ему про-
тиворечий. «Мы разрешим противоречие,—
пишет он,— мы поймем Руссо лучше, чем он
сам понимал себя, и мы найдем, что он в пол-
ном согласии с самим собой и с нами» (33,
стр. 120).
Это «лучшее понимание Руссо» и приведе-
ние его в «полное согласие с самим собой»
происходят у Фихте следующим путем: он
подчеркивает, что у Руссо всегда речь идет
не о фактах, а только о принципах. Руссо
учит, что общественный договор не факт, дей-
ствительно встречающийся в прежней исто-
рии, а принцип, индивидуальное право каждо-
го человека и принадлежащее всему челове-
честву коллективное право, которое необхо-
димо осуществить.
Противникам, критикующим Руссо, Фихте
возражает: «Несмотря на вашу ругань мно-
гое стало уже действительностью, пока вы
себе доказывали невозможность этого. Так,
еще недавно вы кричали в адрес человека,
который шел нашим путем и имел лишь ту
слабость, что он недостаточно последователь-
но шел по нему: proposez nous donc ce, qui est
faisable *; a он очень верно ответил вам, что
это означает: proposez nous ce, qu'on fait **.
Один лишь опыт с тех пор заставил вас по-
нять, что его советы не были столь беспоч-
венными. Руссо, которого вы то и дело
* Предложите нам, следовательно, то, что воз-
можно сделать (франц.).
** Предложите нам то, что делается (франц.).
53
называли мечтателем, в то время как его меч-
ты на ваших глазах исполняются (курсив
мой.— М. Б.), поступал с вами слишком снис-
ходительно, с вами, эмпириками; в этом со-
стояла его ошибка. Но с вами еще поговорят
по-иному, не так, как он говорил. На ваших
глазах... человеческий дух совершил дело, ко-
торое вы объявили бы самым невозможным
из невозможного, будь вы способны постиг-
нуть эту идею: он самого себя постиг. Если
вы не знаете, то могу добавить к вашему сты-
ду: этот человеческий дух был разбужен Рус-
со» (13, стр. 71—72).
С той поправкой к учению Руссо, что об-
щественный договор есть не факт, а право,
которое только должно осуществиться, Фих-
те надеется обосновать право индивидуума на
максимально возможную свободу. Эта поправ-
ка действительно была необходима, чтобы ис-
ключить имеющийся в «Общественном дого-
воре» пессимизм, исключить проблему faux
pas *, превратить имевшуюся у Руссо воз-
можность как прогрессивного, так и попятного
движения в однозначную необходимость прог-
рессивного движения. «Руссо,— пишет Фих-
те,— хотел вернуть человека в естественное
состояние не в целях духовного развития, а
только в целях независимости от потребно-
стей чувственности... Итак, впереди нас нахо-
дится то, что Руссо под именем естественно-
го состояния и те древние поэты под назва-
* Ложного шага (франц.).
54
мием золотого века считают лежащим позади
нас» (33, стр. 127—128).
К этому присовокупляется еще один мо-
мент, касающийся основной позиции Фихте
и определяющий с самого начала его созна-
тельную направленность на изменение сущест-
вовавших общественных отношений, т. е. име-
ющий революционное содержание. Фихте
упрекает Руссо в том, что, ограничиваясь по-
казом испорченности общества, он не обра-
щается к силе разума, способной покончить
с этой испорченностью. Руссо, как он пи-
шет, постоянно изображает разум в покое, а
не в борьбе; он ослабляет чувственность, вме-
сто того чтобы укрепить разум. «Здесь Рус-
со сделал ошибку. У него была энергия, но
больше энергии страдания, чем энергии дея-
тельности; он сильно чувствовал бедствия
людей, но он гораздо меньше чувствовал свою
силу помочь этому, и, как он чувствовал себя,
так он оценивал других. Как он относился к
этому своему особому страданию, так относи-
лось после него все человечество к своему
общему страданию. Он определил страдание,
но не определил сил, которые имеет в себе
род человеческий, чтобы себе помочь» (33,
стр. 130).
Продолжая линию Руссо и просветителей,
Фихте берет индивидуума в качестве исход-
ного момента своего исследования и оказы-
вается в этом отношении наследником разви-
тия буржуазного мировоззрения нового вре-
мени.
55
Это развитие начиналось с выделения сво-
бодного, не связанного средневековыми тра-
дициями индивидуума, с выделения разума в
качестве судьи над всеми вещами и с объяв-
ления войны любому авторитету. Тем самым
новое буржуазное мышление вступает в рез-
кое противоречие со всей унаследованной
средневековой философией, теорией права и
государства. В отличие от всего классическо-
го буржуазного мышления, возникшего и раз-
вившегося от Декарта до Гегеля, идеология
феодального общества была мышлением непре-
рекаемых авторитетов и ради авторитетов,
причем во всем строго иерархически построен-
ном феодальном мире всякий авторитет рас-
сматривался исключительно как проявление
божественной воли.
Такое мышление было неприемлемо для
нового, буржуазного класса. Социальное по-
ложение буржуазии внутри феодально-абсо-
лютистского общественного строя, положе-
ние поднимающегося, но еще не пришедшего
к политическому господству класса заставля-
ло ее идеологов доказывать, что человек дол-
жен быть свободен от всяких внешних оков и
авторитета. Поэтому буржуазное мышление
первоначально стремится к отрицанию, к под-
рыву веры в авторитеты, к борьбе против воз-
никающих отсюда предрассудков.
В своей «Истории цивилизации в Анг-
лии» историк Г. Т. Бокль так характеризует
Декарта: «Он заслуживает благодарности по-
томства не столько за то, что им воздвигну-
56
то, сколько за то, что им разрушено. Вся его
жизнь была великою и весьма успешною вой-
ною против предрассудков и преданий. Он
был велик как созидатель, но еще более велик
как разрушитель... Он был великим реформа-
тором и освободителем европейского ума» (37,
стр. 237—238).
Отрицание, с которым идеологи поднима-
ющейся буржуазии подошли к идейному на-
следию феодального общества, основывалось
на осознании исторической миссии своего
класса. Оно и должно было быть таким, что-
бы каждому члену этого класса, борющегося
за политическое господство, расчистить путь
к этой цели и этим обеспечить ему неогра-
ниченную свободу действия. «Разум во всем
должен быть нашим последним судьей и ру-
ководителем»,— призывал Локк в «Опыте о
человеческом разуме» (42, стр. 680). А Кант
провозгласил девизом новой буржуазной иде-
ологии: «Sapere aude!»*
В этой духовной атмосфере выросла и фи-
лософия Фихте. Он тоже объявил войну вся-
кому авторитету, и свободный, лишенный вся-
ких оков индивидуум полагается им основой
всего совершающегося, а разум провозглаша-
ется судьей всего, в первую очередь сущест-
вующих условий жизни. «Кто поступает, опи-
раясь на авторитет, тот по необходимости
поступает бессовестно»,— заметит Фихте в
* «Осмелься быть мудрым!» (см. Гораций. По-
слания, I, 2).
57
1798 г. в «Системе учения о нравственности»
и добавит, что это «очень важное положение,
выдвижение которого во всей его строгости
крайне необходимо» (20, стр. 175). Так Фих-
те встает в один ряд с лучшими представите-
лями новой буржуазной идеологии, с Декар-
том и Кантом, Локком и Руссо, английским и
французским просвещением.
Обращаясь к тем мыслителям, которые за-
щищали старые феодальные порядки в Гер-
мании, Фихте пишет: «Вы, которым надели
ярмо авторитета, когда ваша шея еще была
наиболее гибкой, с усилием втиснутые в ис-
кусственно выдуманную, противоречащую
природе форму мысли, потеряв самих себя
из-за длительного всасывания чужих принци-
пов, постоянного подчинения чужим планам,
лишившие самих себя тысячами потребно-
стями вашего тела, испорченные для высоких
взлетов духа и для сильных величественных
ощущений своего Я, как же вы можете су-
дить о том, на что способен человек? Разве
ваши силы являются масштабом человеческих
сил вообще? Слыхали ли вы хоть раз шум
полета золотого крыла гения — не того, что
вдохновляет на песни, а того, что вдохновля-
ет на дела? Внушали ли вы хоть раз своей
душе волевое Я хочу и затем указали резуль-
тат этого... после долголетней борьбы, сказав:
вот оно? Чувствуете ли вы себя способными
сказать в лицо деспоту: убить меня ты мо-
жешь, но не можешь изменить моего реше-
ния?.. Человек может то, что он должен; и
58
если он говорит я не могу, то он не хочет»
(13, стр. 72—73). Фихте развивает свою фи-
лософию на основе этого оптимистического
положения. Он сам называет ее «первой сис-
темой свободы» (см. 27, стр. 449), и она
должна была стать лишь теоретическим обос-
нованием свободного человеческого решения,
провозглашением максимальной независимос-
ти человека от всякого авторитета.
Отвергая утверждение популярной фило-
софии Просвещения *, будто история служит
человечеству для того, чтобы восторгаться
мудростью провидения, Фихте восклицал:
«Но ведь это неправда!» — и, указывая на
творческие возможности человека, продол-
жал: «Можно бы с несравнимо большей веро-
ятностью в прошлом ходе судьбы челове-
чества увидеть план злого, враждебного чело-
веку существа, которое все делает ради его
максимального нравственного падения и
несчастья. Но и это было бы неправда. Един-
ственная истина состоит именно в том, что
имеется бесконечно многообразное, которое
само по себе не есть ни добро, ни зло, а лишь
становится тем или другим благодаря сво-
бодному употреблению разумными существа-
ми, и что оно на самом деле не станет лучше,
пока мы сами не станем лучше» (13, стр.67).
* Популярными философами (Гарве, Мендельсон
и др.) назывались последователи Вольфа, который
пытался в своей философии примирить разум и ре-
лигию.
59
Но человек может стать лучшим лишь
благодаря своим собственным усилиям. От-
сюда проистекает убеждение Фихте, что все
зависит от свободного творческого деяния
человека,— убеждение, к которому он при-
шел прежде всего в связи с размышлениями
о Французской революции. Придя к такому
убеждению, Фихте стремился к тому, чтобы
на основе кантовскои философии дать ему
теоретическое обоснование. Этому преимуще-
ственно и посвящена разработка наукоучения.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
(НАУКОУЧЕНИЕ)
В основу своего наукоучения (Wissen-
schaftelehre) Фихте положил абсолютное Я, ко-
торое из самого себя развивает свою деятель-
ность разума и все многообразие внешнего
мира. Это абсолютное Я не есть индивиду-
альное Я. Хотя в индивидуальном Я прояв-
ляется абсолютное Я в качестве особенного,
как бы осуществляя генезис деятельности
разума и создавая многообразие внешнего
мира, но в самом теоретическом наукоучении
индивидуальное Я должно забыть о самом
себе — таково строжайшее требование Фихте.
Иначе обстоит дело в естественном праве и в
учении о нравственности, т. е. в практическом
наукоучении. В естественном праве абсолют-
ное Я, которое в наукоучении остается в
сверхчувственном мире, становится чувствен-
ным существом, которое находит свои преде-
лы в природе (и в обществе). Из-за этих
границ абсолютное Я в области естественно-
го права еще не достигает неограниченной
автономии, т. е. еще не в состоянии выпол-
нить свое истинное предназначение, которое
61
указано ему наукоучением. Реализации сво-
его подлинного предназначения абсолютное
Я достигает в учении о нравственности. В об-
ласти учения о нравственности снимается
тот предел, который поставлен абсолютному
Я в естественном праве природой (и общест-
вом), ибо последние подчиняются человечес-
кой свободе.
Философию Фихте, очевидно, необходимо
рассматривать как целое. Вырывая наукоуче-
ние из этого целого, мы не проникаем в ее
существо. Наукоучение не является также
главным разделом, к которому естественное
право и учение о нравственности примыкают
в качестве добавления; наоборот, это три мо-
мента единого целого. Если к этому добавить
страстное стремление Фихте к деятельности,
то легко можно увидеть, какому из трех мо-
ментов сам Фихте отдавал предпочтение, и
наукоучение тогда окажется не главным раз-
делом, а теоретической подготовкой к естест-
венному праву и учению о нравственности.
Развитые в наукоучении абстрактные рас-
суждения не являются для Фихте самоцелью,
чистой теорией и представляют собой не
только принципы, ограниченные лишь сверх-
чувственным миром. Они получают призна-
ние в мире явлений, хотя последний и пони-
мается Фихте субъективно-идеалистически.
Наукоучение достигает своего подтверждения
лишь в естественном праве и в учении о нрав-
ственности. Цель у Фихте во всех тоех об-
ластях одна и та же: теоретическое обосно-
62
вание независимой деятельности человека,
создающего общественные отношения, до·
стойные его, т. е. соответствующие закону
нравственности. Абстрактные и субъективно-
идеалистические рассуждения в наукоучении
не должны вводить нас в заблуждение отно-
сительно этого фактического положения ве-
щей.
Тем же обстоятельством объясняется и то,
что для Фихте всякая разумность, всякое
сознание есть в первую очередь деятельность.
Эта деятельность является для. Фихте в его
наукоучении познанием, которое по существу
прежде всего оказывается непосредственным
созерцанием, интуицией (Anschauung). Про-
никновение в сущность деятельности созна-
ния должно совершаться, как полагает Фих-
те, путем самосозерцания, интроспекции:
«Это требуемое от философа созерцание само-
го себя при выполнении акта, благодаря
которому у него возникает Я, я называю
интеллектуальной интуицией (intellektuelle
Anschauung). Оно есть непосредственное со-
знание того, что я действую, и того, что за
действие я совершаю; оно есть то, чем я
нечто познаю, ибо это нечто произвожу» (30,
стр. 452).
Благодаря интеллектуальной интуиции *
абсолютное Яу как утверждает Фихте, позна-
ется не как бытие и тем самым как покой,
* Подробнее об интуиции см. В. Ф. Асмус. Про-
блема интуиции в философии и математике. М., 1963.
63
неподвижность, а как деятельность и тем са-
мым как движение. Поэтому абсолютное Я
есть не совершившийся факт (Tatsache), а
совершающееся действие (Tathandlung). Это
совершающееся действие происходит в двух
формах: полаганием и противополаганием.
Поскольку вне Я нет ничего более высокого,
то в обоих случаях полагается или противо-
полагается Я. В первом случае Я полагает
само себя, во втором случае Я противопола-
гает само себя, т. е. Я полагает He-Я (см. 30,
стр. 54). Сущность метода познания, предла-
гаемого Фихте, особенно ярко проступает при
описании самого процесса интеллектуальной
интуиции: «Вникни в самого себя, отврати
твой взор от всего, что тебя окружает, и на-
правь его внутрь себя — таково первое тре-
бование, которое ставит философия своему
ученику. Речь идет не о чем-либо, что вне
тебя, а только о тебе самом» (30, стр. 413).
Очень интересно проследить, как в раз-
личных вариантах своего наукоучения Фих-
те стремится показать, что Я что-либо зна-
ет, лишь поскольку Я что-то делает, и что Я
в состоянии что-то сделать лишь тогда, когда
это совершается благодаря свободе нашего
духа, действующего в определенном направ-
лении. Фихте требует свободы мышления как
основного условия для построения научных
принципов: .«Наукоучение, таким образом,
поскольку оно должно быть систематической
наукой, возникает совершенно так же, как и
все возможные науки, поскольку они должны
64
быть систематическими, через некоторое опре-
деление свободы; последняя здесь опреде-
ляется к тому, чтобы вообще возвести к со-
знанию способ действия интеллекта...» (30,
стр. 44).
Первоначальным для Фихте являются
действие, деятельность. Предмет наукоучения
«не мертвое понятие, относящееся только
страдательно к его исследованию и впервые
становящееся чем-то через его мышление; это
нечто живое и деятельное, из себя и через
себя созидающее познание, к чему философ
относится лишь как наблюдатель. Его зада-
ча при этом состоит лишь в том, чтобы вы-
зывать это живое к целесообразной деятель-
ности, чтобы наблюдать эту его деятель-
ность, постигать ее и уразумевать как нечто
единое» (30, стр. 443—444). Или в «Системе
учения о нравственности» Фихте указывает,
что Я полагает «вследствие постулата абсо-
лютную деятельность как само себя, пони-
мает ее как идентичную с собой, с интеллек-
туальным. Та абсолютность реального дей-
ствия становится затем благодаря этому сущ-
ностью интеллекта. Благодаря сознанию
своей абсолютности Я отрывает само себя от
себя самого и выставляет себя как самостоя-
тельное... Интеллект тут не просто наблю-
дает, а сам как интеллект становится для
себя (как это само собой понятно, ибо об
ином бытии никто, будем надеяться, не ста-
нет ставить вопрос) абсолютно реальной си-
лой понятия. Я как абсолютная сила созна-
3 Фихте
65
ния отрывает себя от Я как данного, лишен-
ного силы и сознания, абсолютного» (20,
стр. 32—33). Здесь выступает второй момент
основной идеи Фихте: «абсолютной реальной
силой понятия» интеллект может стать лишь
при условии свободы разума. К этому добав-
ляется третий момент, о котором часто забы-
вают: деятельность в условиях свободы духа
стремится у Фихте к реализации, к утверж-
дению, а областью такого утверждения у
Фихте всегда является He-Я, конкретный
случай, определенный объект, или, говоря
языком системы, области естественного права
и учения о нравственности.
Если учесть, в какой мере элементы со-
знания той эпохи вошли именно в состав ес-
тественного права и в учение о нравственно-
сти Фихте, то и с этой стороны становится
очевидным, что наукоучение является формой
теоретического осмысления исторического
процесса той эпохи. Гегель был прав, рас-
сматривая философию Фихте как теорети-
зацию определенного исторического созна-
ния. Эта истина нисколько не подрывается
субъективно-идеалистическими крайностями
Фихте.
ДИАЛЕКТИКА
Фихте исследует процесс познания с точ-
ки зрения становления, развития и разраба-
тывает особенно его активную, деятельную
сторону. Один из его принципов гласит:
«Всякая реальность действенна, и все дейст-
венное есть реальность» (30, стр. 111).
Познание всегда было для Фихте генети-
ческим, познанием, т. е. он близко подходил
к диалектическому тезису, развитому Геге-
лем в «Феноменологии духа», что субстан-
цию следует одновременно рассматривать и
как субъект, что предмет может быть понят
лишь в его развитии.
Фихте определяет взаимодействие проти-
воположностей как закон движения челове-
ческого духа. В его философии диалектика
не сводится к отдельным предположениям и
моментам, как это было еще у Канта, а оп-
ределяет ее основной характер. Фихте яв-
ляется одним из первых мыслителей, кото-
рые сознательно развивают диалектику как
философский метод *.
* См. Τ И. Ойзерман. Диалектика в философии
Иоганна Готлиба Фихте (61); Г. М. Каландари-
швили. Диалектика в «Основах общего наукоучения»
И. Г. Фихте (40).
3*
67
Однако субъективно-идеалистические ис-
ходные позиции Фихте заставили его при-
знавать действие раскрытых им диалектиче-
ских отношений исключительно в сфере со-
знания. К Фихте в полной мере относится та
критика всей идеалистической диалектики
классической буржуазной немецкой филосо-
фии, которую Маркс дал в «Тезисах о Фей-
ербахе», говоря, что действительную, чув-
ственную деятельность, как таковую, она не
знает и потому развивает деятельную сторо-
ну только абстрактно (см. 4, стр. 1). Несмот-
ря на это, философия Фихте содержит глу-
бокие диалектические идеи, которые позднее
нашли свое отражение в диалектическом ме-
тоде Гегеля.
У Фихте диалектика проявляется особен-
но в его теоретической философии (в науко-
учении). Отправным пунктом теоретической
философии Фихте послужила критика учения
Канта о «вещи в себе». Кант объявил кате-
гории, в том числе и категорию причинности,
чистыми формами рассудка, т. е. чем-то чи-
сто субъективным. По его мнению, катего-
рии применимы исключительно к явлениям.
Но одновременно он утверждал, что в конеч-
ном счете все же «вещь в себе» оказывается
причиной явлений, ибо она аффицирует (вы-
зывает) чувства. Тем самым Кант изменил
своему учению о категориях. Фихте с пол-
ным основанием увидел в этом противоречие
внутри системы Канта и попытался разре-
шить это противоречие, устранив «вещь в
68
себе», т. е. сделав Я (субъект) единственной
и абсолютной исходной точкой философии
для объяснения всех явлений. Благодаря
этому Фихте приобрел единый принцип, из
которого все дальнейшие определения с не-
обходимостью могли выводиться лишь диа-
лектически.
Вместе с тем, как указал В. И. Ленин в
«Материализме и эмпириокритицизме», это
была критика Канта «справа», с позиций
субъективного идеализма: «Еще более реши-
тельно... критикует Канта субъективный
идеалист Фихте, говоря, что допущение Кан-
том вещи в себе, независимой от нашего Я,
есть «реализм» (Werke, I, S. 483) и что Кант
«неясно» различает «реализм» и «идеализм».
Фихте видит вопиющую непоследователь-
ность Канта и кантианцев в том, что они
допускают вещь в себе, как «основу объектив-
ной реальности» (480), впадая таким обра-
зом в противоречие с критическим идеализ-
мом. «У вас,— восклицал Фихте по адресу
реалистических толкователей Канта,— земля
на ките, а кит на земле. Ваша вещь в себе,
которая есть только мысль, воздействует на
наше Я!» (483)» (11, стр. 204—205).
Субъективно-идеалистические крайности
философии Фихте встретили резкую крити-
ку со стороны объективного идеализма. На-
пример, Шеллинг в своих лекциях «К исто-
рии новейшей философии» правильно об-
ратил внимание на то, что Фихте просто об-
ходит проблему познания, перенося «вещь
69
в себе» внутрь Я. «Но если Фихте полагал,—
писал Шеллинг,— избежать тех трудностей,
с которыми встречается философский дух
при объяснении мира в условиях объектив-
ного существования вещей, за счет того, что
он объяснение перенес в Я, то тем более он
должен чувствовать себя обязанным пока-
зать подробно, каким образом вместе с про-
стым Я семь для каждого положен весь так
называемый внешний мир со всеми его как
необходимыми, так и случайными определе-
ниями... Однако кажется, будто Фихте не
увидел во внешнем мире никаких различе-
ний. Природа для него дана в абстрактном,
обозначающем исключительно некий тупик
понятии //е-Я, совершенно пустого объекта,
в котором ничего нельзя воспринять, кроме
того, что оно противоположно субъекту...»
И Шеллинг иронически добавляет, что «са-
мый безусловный идеалист не может избе-
жать того, чтобы в тех случаях, когда дело
касается его представлений о внешнем мире,
мыслить Я как зависимое...» (62, стр. 81).
Таким образом, Я оказывается чистым,
или абсолютным, Я, т. е. тем Я, которое еще
не имеет объекта вне себя, само еще не состо-
ит в противоположности к какому-то объек-
ту, в качестве единой причины предшествует
в теоретико-познавательном смысле противо-
положности субъекта и объекта, в последней
инстанции является одновременно субъектом
и объектом. Определяемое таким образом Я
не есть индивидуальное Я или даже просто
70
индивид, а есть всякое абсолютное Я вообще
(Ichheit), чистая форма этого Я (см. 30,
стр. 490—492).
Согласно аргументации Фихте, это Я сле-
дует рассматривать не как объект, вещь, бы-
тие или факт, а исключительно как совер-
шающееся действие или деятельность созна-
ния. Это совершающееся действие есть для
Фихте атрибут Я в том же смысле, в каком
движение — атрибут материи. Деятельность
Я абсолютна.
Иными словами, Фихте ставит во главу
угла своей философии не неизменное, непо-
движное бытие, а некий находящийся в дви-
жении, в изменении принцип. Посредством
совершающегося действия Я полагает все но-
вые и новые противоположности в форме те-
зиса и антитезиса и соединяет их в синтезе.
При этом необходимо помнить, что Фихте
полагает соединение тезиса и антитезиса в
синтезе этим Я и внутри Я именно потому,
что объективная реальность рассматривается
им субъективно-идеалистически, как творе-
ние этого Я.
Тем не менее бытие, которое Фихте изо-
бражает в виде постоянного порождения и
воспроизводства противоположностей, при-
нимает у него характер движения, изменения,
процесса. Бытие возникает, по Фихте, лишь
благодаря тому, что это Я (разум) дейст-
вует. И эта деятельность может совершаться
лишь в противоположностях.
71
Абсолютная деятельность Я оказывается
как бы опорной точкой всего данного, всей
реальности. Данное и реальность возникают
лишь благодаря совершающемуся действию
этого Я.
Соответственно первое безусловное осно-
воположение наукоучения гласит: Я перво-
начально полагает безусловно свое собствен-
ное бытие. Содержание нашего сознания про-
истекает тем самым, согласно Фихте, исклю-
чительно из Я. Но Я, чтобы постигнуть это
содержание, должно его полагать в виде
Не-Я.
Второе безусловное основоположение нау-
коучения поэтому гласит: Я безусловно про-
тивополагается некое Не-Я. Но и это Не-Я
еще пребывает внутри этого абсолютного Я,
ибо, как замечает Фихте, вне этого абсолют-
ного Я вообще ничего нет. Но оно противо-
положено последнему, т. е. внутри абсолют-
ного Я содержится Я и He-Я как противо-
положности. Однако это возможно лишь
благодаря тому, что оба, Я и He-Я, взаимно
ограничивают и частично обусловливают
Друг друга.
Отсюда следует третье безусловное осно-
воположение наукоучения: Я противополагает
внутри себя частичному Я частичное Не-Я
(см. 30, 75—87).
Из этих основоположений, представляю-
щих собой тезис, антитезис и синтез, Фихте
развивает затем свою систему категорий, ко-
торой он и дал название «наукоучение». По-
72
скольку Я и He-Я взаимно определяют друг
друга, Фихте приходит к категории взаимо-
действия: «То, чему приписывается деятель"
ность и постольку не приписывается страда*
ние, называется причиною.., то же, чему
приписывается страдание и постольку не при-
писывается деятельность, называется следст-
вием» (30, стр. 113). Категорию субстанции
мы, по Фихте, получим, когда мы рассмотрим
Я и его деятельность как суть всей реально-
сти и т. д. Согласно Фихте, эту диалектику
наукоучения нужно применять до тех пор,
пока мы не придем к противоположным оп-
ределениям, которые уже не тождественны
друг другу; их соединение оказывается то-
гда практической задачей, их исследование —
целью практической философии.
В этих субъективно-идеалистических рас-
суждениях Фихте содержится рациональное
зерно, именно мысль о том, что всякое по-
знание есть деятельность и может происхо-
дить лишь в противоположностях. Благодаря
этому выводу, хотя и субъективно-идеалисти-
чески искаженному, Фихте занял выдающее-
ся место в истории диалектики.
Может показаться, что, поскольку Фих-
те полагает сотворение объективной реально-
сти из Яу постольку он отрицает закономер-
ное развитие в природе и обществе и учение
о детерминизме. Но это не так. Именно тут,
где речь идет о противоречии между необ-
ходимостью и свободой, Фихте оказывается
блестящим диалектиком и намного превосхо-
73
дит своих предшественников. Взяв необхо-
димость в качестве предпосылки, Фихте раз-
решает противоречие между свободой и
необходимостью. Только признавая строгую
необходимость (закономерность) в природе
и обществе (в истории), человек становится
свободным, только на основе необходимости
он достигает свободы, своей высшей цели.
Оценивая общее развитие бытия, Фихте пи-
шет в «Назначении человека»: «В любой мо-
мент своего бытия природа представляет со-
бой одно целое, все части которого связаны
между собой; в любой момент каждая от-
дельная часть ее должна быть такова, какова
она есть, потому что все остальные части та-
ковы, каковы они на самом деле; и ты не
можешь ни одной песчинки сдвинуть со свое-
го места, чтобы тем самым не изменить чего-
нибудь во всех частях неизмеримого целого,
хотя бы, быть может, незаметно для твоих
глаз. Но каждый момент этого бытия опре-
делен всеми предшествовавшими моментами
и определит собой все последующие момен-
ты; ты не можешь мыслить положения хотя
бы одной песчинки в настоящий момент ина-
че, чем она есть, не будучи вынужденным
мыслить иным все бесконечное прошлое по-
зади и все бесконечное будущее перед то-
бой» (32, стр. 51). И дальше Фихте заяв-
ляет: «Я таков, каков я есть, потому что при
данном сочетании сил природы возможен был
только такой, а не какой-нибудь иной резуль-
тат; и ум, который в совершенстве видел бы
74
все сокровенное в природе, мог бы, познав
одного только человека, вполне определенно
указать, какие люди когда-либо существова-
ли и какие когда-либо будут существовать;
в одном человеке он познал бы всех. Эта моя
зависимость от природы как целого и есть
то, что вполне определяет как то, чем я был,
так и то, что я есть и чем я буду» (32,
стр. 56—57).
Таким образом, признание необходимости
в универсальном, всеобщем смысле явилось
для Фихте предпосылкой свободы.
По мнению Фихте, необходимо в первую
очередь освободиться от того рокового за-
блуждения, будто человек может в качестве
отдельного индивидуума достигнуть свободы.
К действительной свободе человек приходит
только с помощью общества, через род, по
выражению Фихте. А внутри общества на-
значение человека — действовать. Именно по-
этому, по Фихте, верно, что «мы не потому
действуем, что познаем, а познаем потому,
что предназначены действовать: практиче-
ский разум есть корень всякого разума» (32,
стр. 141). Это познание необходимости Фих-
те понимает не как пассивно-созерцательное,
а как активное, т. е. связанное с обществен-
ной деятельностью.
По аналогии с движением Я, сформулиро-
ванным в трех основоположениях наукоуче-
ния, Фихте подразделяет и свою философ-
скую систему на «всеобщее наукоучение»,
«теоретическое наукоучение» и «практиче-
75
ское наукоучение». Это деление, правда в не-
развитой форме и не осуществленное после-
довательно во всех подробностях, соответст-
вует тому, что впоследствии осуществит Ге-
гель в своей системе: всеобщее наукоучение
соответствует у Гегеля его логике, теоретиче-
ское наукоучение, которое должно дать обос-
нование естественных наук и математики,
соответствует гегелевской философии приро-
ды, наконец, практическое наукоучение — фи-
лософии духа. Совокупность всех трех ча-
стей наукоучения должна составить всеобщую
методологию частных наук. Следовательно,
провозглашая свое пронизанное диалектиче-
скими идеями наукоучение всеобщей методо-
логией частных наук, Фихте полагает, что не
только в философии, но и в частных науках
мысль развивается диалектически.
Категории являются для Фихте не гото-
выми формами рассудка, как это было у
Канта, а моментами становления, так как все
категории — это лишь частные, особые про-
явления основной категории Фихте — кате-
гории деятельности. Таким образом, Фихте
придает всему своему миру, сотворенному из
Я, диалектический характер; бытие во всех
своих формах есть становление, движение,
развитие.
Фихте стремится, как затем и Гегель, ди-
алектически вывести категории друг из дру-
га. В этом отношении категория перехода
играет в его философии центральную роль.
В «Основах наукоучения» он пишет: «Дея~
76
тельность как синтетическое единство есть
некоторое абсолютное перехождение; взаимо-
смена есть некоторое абсолютное, самим со-
бой сполна определяемое проникновение. Что
первое из них определяет собой второе, зна-
чило бы, что проникновение взаимочленов
полагается только и только в силу перехож-
дения. Что второе определяет собой первое,
значило бы, что, раз только члены осущест-
вляют проникновение, деятельность с необ-
ходимостью должна перейти от одного к дру-
гому. Что то и другое определяют друг друга
обоюдно, значит, что, раз только полагает-
ся одно из них, тем самым полагается и дру-
гое, и наоборот...» (30, стр. 146—147). И в
другом месте этой работы: «Деятельность
как синтетическое единство всего короче мо-
жет быть описана как некоторое усвоение и
закрепление противоположностей, чего-либо
субъективного и объективного, в понятии оп-
ределимости, в котором эти противополож-
ности все же остаются противоположенными»
(30, стр. 181).
Фихте явно стремится диалектически раз-
вить и вывести друг из друга все определе-
ния своей философии, пытаясь понять кате-
гории генетически, т. е. в их развитии, и в
конечном счете для него познание и деятель-
ность становятся тождественными. Это об-
стоятельство является существенным в фило-
софии Фихте. Ее значение заключается не
в отдельных диалектических положениях, а в
общем диалектическом ее характере.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА.
ПРАВО НА РЕВОЛЮЦИЮ
Практическая философия Фихте пред-
ставляет собой распространение основных
положений теоретического наукоучения на
вопросы права, государства и морали. Она
содержит прежде всего социальные и этиче-
ские воззрения Фихте. Теоретическая фило-
софия (наукоучение) тесно связана с прак-
тической философией (естественное право и
учение о нравственности) в единую систему.
В практической философии исходным
пунктом для Фихте также является индиви-
дуум, личность. «Свободу индивидууму от
какого бы то ни было государственного при-
нуждения», и «каждый человек от природы
свободен, и никто не имеет права подчинять
его закону, кроме него самого» — эти тезисы
из работы «К исправлению суждения пуб-
лики о Французской революции» можно было
бы поставить эпиграфом ко всей практиче-
ской философии Фихте.
В качестве частного лица индивидуум
подчиняется только своему собственному за-
конодательству, но одновременно он подле-
78
жит — Фихте говорит это в духе и словами
Канта — только нравственному закону. А
нравственный закон, согласно Канту, не вы-
ражает ничего, кроме автономии чистого
практического разума, т. е. свободы (см. 41,
стр. 351). В полном соответствии с этим
Фихте говорит: «Нравственным законом во
мне неизменно определяется форма моего чи-
стого Я: это Я должно быть подлинным Я —
самостоятельным существом, личностью, я
всегда должен хотеть выполнять свой долг;
следовательно, я имею право быть личностью
и право хотеть выполнять свой долг. Эти
права неотъемлемы, и из них не вытекает ни-
каких прав, которые можно отнять, посколь-
ку мое Я в этом смысле не способно ни к ка-
кой модификации» (13, стр. 170—171).
В своей практической философии Фихте
стремится ни в коей мере не ограничивать
индивидуума. «Неотъемлемым правом чело-
века,— утверждает он,— является отказ от
любого договора, в том числе односторонний
отказ, если таково его желание; неизменность
и вечность какого-либо договора есть грубей-
шее нарушение права человечества, как та-
кового» (13, стр. 159). Отношение между
двумя индивидуумами, между индивидуумом
и совокупностью всех индивидуумов, которые
составляют государственное объединение или
общество, регулируется исключительно нрав-
ственным законом.
Если здесь Фихте еще готов на извест-
ный компромисс, на какие-то, хотя бы незна-
79
чительные, ограничения для индивидуума в
его отношении к другим индивидуумам, про-
диктованные нравственным законом, то эта
тенденция совершенно исчезает, когда речь
заходит о функции государства. «Жизнь в го-
сударстве не принадлежит к абсолютным це-
лям человека,— категорически утверждает он
в иенских лекциях «О назначении учено-
го»,— но она есть средство, имеющее место
лишь при определенных условиях, для осно-
вания совершенного общества». В непосред-
ственной связи с этим Фихте подчеркивает,
что в соответствии с нравственным законом
государство есть учреждение, которое долж-
но идти к собственному уничтожению, а цель
всякого правительства заключается в том,
чтобы «сделать правительство излишним»
(21, стр. 306).
Рассуждая о назначении и функции госу-
дарства, Фихте вполне отдает себе отчет в
том, что впадает в утопию, если сравнить
строй большинства европейских государств
того времени с его теорией; правители и вла-
стители выступают там с абсолютными тре-
бованиями, ведут «полуварварскую полити-
ку», в них нельзя обнаружить ни господства,
ни даже возможности широкого применения
нравственного закона (см. 12, стр. 80). Од-
нако Фихте не случайно продолжает защи-
щать свою точку зрения, ибо она отвечает
основной цели его практической философии —
обоснованию права на революцию вообще и
80
правомерности Французской революции в
особенности.
Право на революцию у Фихте логически
вытекает из тех целей и задач государства,
которые он установил. Если государство им
противоречит, не обеспечивая для индиви-
дуума гуманность и свободу, противодейст-
вуя тем самым и нравственному закону, то
необходимо изменить государственное уст-
ройство. Право на такое изменение имеет как
каждый народ в целом, так и каждый от-
дельный индивидуум или группа индивидуу-
мов, которые объединились с целью револю-
ции (см. 13, стр. 80).
Мы увидим, что Фихте не смог сохранить
тех взглядов на государство, которые он раз-
вил здесь, и в дальнейшем ходе рассуждения
постепенно совершил поворот, сильно изме-
нивший его первоначальную позицию.
Доводя до логического конца свою идею и
борясь за ее осуществление, Фихте не мог
ограничиться собственными либеральными
воззрениями на государство и вынужден был
от них отказаться. Эти воззрения оказыва-
лись или могли оказаться достаточными, что-
бы сформулировать более или менее убеди-
тельно право на революцию вообще. Однако
они недостаточны для ответов на конкретные
вопросы, связанные с осуществлением этого
права. Здесь первоначальная точка зрения
Фихте повела бы к анархии. Ибо если каж-
дый уже как индивидуум может считать пра-
во на государственный переворот своим есте-
81
ственным правом, то, следовательно, это в
той же мере относится и к каждому контрре-
волюционеру.
Право на революцию Фихте расширяет
до долга, до обязанности ее свершения: если
государство явно противоречит своему выс-
шему назначению, то народ не только может,
но и должен изменить государственный строй.
«Все государственные устройства, которые
имеют конечную цель совершенно противо-
положную, т. е. рабство всех и свободу од-
ного, культуру всех ради целей этого един-
ственного и уничтожение всех видов культу-
ры, если она может привести к свободе мно-
гих, не только могут подлежать изменению...
но и действительно должны быть изменены»
(13, стр. 80). Ибо «нет такого государствен-
ного устройства, которое не подлежало бы
изменениям, сама его природа такова, что
все они меняются. Если устройство плохое и
противоречит необходимой конечной цели
всякого государственного объединения, то
оно должно быть изменено; если оно хоро-
шее и способствует этой цели, то оно меняет-
ся само» (13, стр. 103).
Однако этим ответом проблема еще не
исчерпана. Как быть, например, если приви-
легированные слои (дворянство и духовен-
ство) оказывают сопротивление правомерно-
му расторжению государственного договора?
Здесь Фихте подходит к ответу на решаю-
щий вопрос всякой теории, имеющей своим
82
предметом революцию,— о применении рево-
люционного насилия. И своим ответом он
оказывается ближе к Робеспьеру, чем к их
общему духовному отцу — Руссо.
Право на революцию первоначально оз-
начает лишь то, что государственный дого-
вор может или в определенных случаях дол-
жен быть расторгнут; конкретно это выра-
жается в том, что в первую очередь должны
отменяться все привилегии дворянства, а
церковные богатства должны быть переданы
в собственность государства. То и другое
осуществляется путем расторжения всех до-
говоров с дворянством и церковью. Однако
право на революцию означает тогда уже го-
раздо больше и включает применение рево-
люционного насилия, если дворянство и ду-
ховенство окажут сопротивление законному
акту отмены всех привилегий и изъятию цер-
ковных землевладений; тогда наступает та
ситуация, где законной является — и Фихте
говорит здесь уже не как теоретик права, а
как политик — с формально юридической
точки зрения незаконная, т. е. революцион-
ная, борьба против дворянства и духовен-
ства. Потому что ликвидация всех договоров
с дворянством и церковью есть неотъемлемое
человеческое право, которое обязаны уважать
все, в том числе те, кто им ущемлены, про-
тив кого это право направлено. Тот, кто вы-
ступает против этого права, кто стремится
помешать его осуществлению, тот ставит себя
83
вне общества и должен рассматриваться как
враг человечества.
Фихте ставит вопрос о применении рево-
люционного насилия как проблему уголовно*
го права, т. е. так же, как французское ре-
волюционное правительство 1793—1794 гг. в
своем обосновании политики террора. Как
считали идеологи Французской революции,
сам по себе каждый смертный приговор яв-
ляется убийством, поскольку человек есть
самоцель, а не средство для цели, чуждой его
существу. Однако в данном случае дело об-
стоит по-иному. Оказывать сопротивление
неизменному праву человека могут только
враги человечества, и в качестве таковых они
оказываются за пределами всякого граждан-
ского закона. «Если гражданин нарушает по
отношению к обществу неотъемлемые права
человека (не только права договора), то он
уже не гражданин, а враг; и общество не
дает ему искупить свою вину, оно мстит ему,
т. е. поступает с ним на основании того за-
кона, который он сам создал» (13, стр. 116).
Такое отношение к врагам человечества,
хотя и незаконное с точки зрения теоретиче-
ски-правовой, практически более чем закон-
но, потому что дворянство и духовенство в
качестве привилегированных слоев уже до
ликвидации всех договоров с ними не явля-
лись гражданами. Ликвидируя договоры с
ними, общество дает им возможность стать
таковыми, и если они не используют эту воз-
можность, то только сами отвечают за по-
84
следствия *. Возражения морального поряд-
ка вроде того, что ликвидация договоров не-
справедлива, так как «многие от полного изо-
билия опускаются до уровня, близкого к
среднему», к которому они не привыкли, не
выдерживают критики. «Ни один человек на
земле не имеет права не использовать собст-
венные силы и жить за счет усилий дру-
гих» — так Фихте опровергает эти доводы и
добавляет в качестве обоснования: «Кто не
работает, тот не ест» (13, стр. 183—184).
Итак, если отдельные представители или
целые группы людей из числа ранее приви-
легированных не признают своего нового по-
ложения, возникшего в результате револю-
ции, если они тайно или открыто готовят или
предпринимают выступления против нового,
* Подобное же право на насилие Фихте преду-
сматривает по отношению к церкви: «Однако церковь
имеет возможность вмешаться в пределы государства,
поскольку ее члены обладают необходимыми физиче-
скими силами. Она вмешивается тогда, когда нару-
шает по отношению к ним человеческие или граж-
данские права, а государство в соответствии с граж-
данским договором обязано защищать эти права и в
случае нарушения их церковью принудить ее к ком-
пенсации и возмещению убытков, используя физиче-
ское принуждение против ее орудий физического
угнетения. Если церковь рассматривает следование
государственным установлениям как неподчинение ее
заповедям, то она непосредственно вмешивается в дела
государства и объявляет ему войну. Во всех подобных
случаях государство не только имеет право, но и обя-
зано рассматривать церковь как врага в соответствии
с гражданским договором» (13, стр. 266).
85
отныне ставшего законным государства, то
оно вправе применять против них силу
вплоть до физического уничтожения. «Госу-
дарство оказывается по отношению к ним в
позиции самозащиты» (13, стр. 274).
В этом пункте, в обосновании применения
революционного насилия, террора против
контрреволюционных устремлений Фихте
смыкается с Робеспьером. Если даже область
применения террора во время революционно-
демократической диктатуры якобинцев была
больше и шире, чем это вытекает из взгля-
дов Фихте, то это своеобразие, которое воз-
никло из практики Французской революции;
что же касается мотивов и аргументов, то они
одни и те же у Фихте и Робеспьера. Послед-
ний писал: «При конституционном строе поч-
ти достаточно защищать отдельных лиц от
злоупотреблений общественной власти; при
строе революционном сама общественная
власть вынуждена защищаться от всех фрак-
ций, которые на нее нападают. Революцион-
ное правительство должно оказывать добрым
гражданам всю полноту национальной защи-
ты; врагам народа оно должно приносить
лишь смерть» (44, стр. 194).
Взгляды Фихте, о которых говорилось до
сих пор, относятся к 1793 г. и изложены в
его работе «К исправлению суждения публи-
ки о Французской революции». В «Основах
естественного права», «Системе учения о
нравственности» и «Замкнутом торговом го-
сударстве» он вновь возвращается к этой
86
проблематике, развивая свои социальные
взгляды в непосредственной связи с обосно-
ванием права на революцию.
Два момента в этих работах представля-
ют для нас особенный интерес: новое обос-
нование права на революцию и социальные
взгляды Фихте. В обоих случаях он, несмот-
ря на множество других расхождений, нахо-
дится в одном ряду с Робеспьером, с яко-
бинцами.
В период Французской революции в де-
батах и борьбе вокруг конституции вопрос о
праве на революцию играл исключительную
роль. Два, пожалуй, наиболее интересных
проекта конституции, принадлежавшие жи-
рондистам и якобинцам, в решающей стадии
революции ответили на этот вопрос по-раз-
ному в соответствии с требованиями и по-
требностями класса или фракции внутри
класса, интересы которой они отражали и
сфера действия которой определялась ими
юридически по отношению к другим классам
и классовым группировкам.
Кондорсе, автор жирондистского проекта,
признает право на революцию как право че-
ловека и гражданина. Это признание, однако,
чисто формальное, потому что тотчас же
Кондорсе стремится ограничить право на ре-
волюцию и даже сделать его недействитель-
ным для политической практики с помощью
различных конституционно-правовых огово-
рок. Это достигается путем предписания
законных установлений, в рамках которых
87
может осуществляться право на сопротивле-
ние, и ограничением этого права определен-
ными случаями. В результате у жирондистов
мало что остается от права человека и граж-
данина на революцию, особенно если поста-
вить вопрос так: имеет ли народ право на
революцию?
Якобинцы, напротив, последовательно ут-
верждают право на революцию, в их проек-
те конституции имеется только одно «огра-
ничение», а именно то, что право на револю-
цию принадлежит лишь народу в целом, для
индивидуума это право действует только то-
гда, когда в его частном случае, т. е. в еди-
ничном, нарушается целое, всеобщий интерес
народа. В качестве естественных прав в на-
чале конституции провозглашаются свобода,
равенство, безопасность, собственность, а
право на сопротивление вытекает как следст-
вие из остальных прав человека. Для яко-
бинских руководителей разумеется само со-
бой, что право народа на революцию стано-
вится простым вопросом завершенности кон-
ституции в тот момент, когда представители
народа, отстаивающие всеобщие интересы,
берут дело блага нации в свои руки, т. е., ко-
гда народ сам берет в свои руки историю,
народ не может осуществлять революцию
против себя самого.
Фихте начинает именно с этого пункта.
Само по себе право на революцию есть за-
вершение конституции, поскольку каждое го-
сударство должно строиться по принципу
m
«да будет право!», поскольку действия пра-
вительства должны соответствовать интере-
сам всего народа, а правительство должно
быть концентрированным воплощением на-
родной воли. Поэтому правом на сопротив-
ление не может пользоваться каждое частное
лицо, а лишь народ в целом. Отдельный ин-
дивидуум, восстающий против своего прави-
тельства, должен рассматриваться всегда как
бунтовщик. Однако народ в целом, высту-
пая против своих угнетателей, не поднимает
бунта, а лишь исполняет свой нравственный
долг. «Народ (здесь Фихте делает оговорку:
«Прошу учесть, что речь идет обо всем наро-
де») не может быть бунтовщиком, и упот-
ребление слова бунт (Rebellion) есть вели-
чайшая несуразность, когда-либо произнесен-
ная, ибо народ действительно и по праву
есть высшая власть, над которой нет другой
власти, которая сама является источником
всякой другой власти и ответственна только
перед богом. Перед лицом собрания народа
исполнительная власть теряет свою силу
действительно и по праву. Поднимать бунт
можно лишь против вышестоящего. А что на
земле стоит выше народа? Он мог бы пойти
только против себя самого, а это бессмысли-
ца» (14, стр. 177).
Общность мыслей Фихте и Робеспьера в
обосновании права народа на революцию
очевидна. Оба признают право на сопротив-
ление только за народом в целом, оба счита-
ют, что если народом принимается «идеаль-
89
ная конституция» (Фихте), которая стано-
вится руководящим принципом правления,
или власть переходит в руки революционно-
го правительства, олицетворяющего респуб-
ликанскую гражданскую добродетель (Ро-
беспьер), то право на восстание, увенчиваю-
щее конституцию, не обязательно осуществ-
ляется, поскольку правительство, вышедшее
из народа и представляющее его в своих ре-
волюционных преобразованиях, действует во
имя всеобщих интересов народа. И оба, Фих-
те и Робеспьер, наконец стали жертвами той
иллюзии, будто в буржуазном обществе мо-
жет быть осуществлена единая власть наро-
да, вершителем воли которого должно счи-
тать себя правительство (Фихте) или дейст-
вительно считало себя революционное пра-
вительство 1793—1794 гг. (Робеспьер).
Это последнее положение имеет своим
источником еще одну иллюзию, восходящую
к Руссо. Фихте, как и Робеспьер, исходит из
предположения, что внутри буржуазного об-
щества возможно установление относитель-
ного имущественного равенства граждан,
более того, в этом они видят смысл нового
общества.
ИДЕИ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Исходным в системе социальных и эконо-
мических взглядов Фихте является вопрос о
праве на существование. Это право получает
у него приоритет по сравнению со всеми дру-
90
гими основными правами, и лишь после него
следует право на собственность и тем самым
на свободу. «Прежде чем думать о свободе,
надо подумать о том, чтобы жить,— говорит
Фихте во второй части «Основ естественного
права».— Высшая и всеобщая цель всякой
свободной деятельности — возможность жить.
Эту цель имеет каждый; и, поскольку свобо-
да вообще гарантируется, гарантируется и
эта цель. Без ее достижения была бы совер-
шенно невозможна свобода, как и дальнейшее
существование личности». И далее: «Всякое
право на собственность основывается на до-
говоре всех со всеми, который звучит так:
мы все владеем этим при условии, что
тебе оставляем твое. Если кто-то не может
жить своим трудом, то ему не предоставлено
того, что принадлежит только ему; следова-
тельно, договор полностью ликвидируется в
отношении его, и начиная с этого момен-
та он уже юридически не обязан признавать
собственность какого-либо человека» (14,
стр. 212).
Но это еще не все. Для точного соблюде-
ния имущественного договора, который опре-
деляется правом на существование каждого
гражданина, Фихте требует гарантий — га-
рантий, при которых возможно его растор-
жение в случае, если граждане не могут
жить своей собственностью или вообще ею
не обладают. Гарантии о предоставлении
каждому всех необходимых средств сущест-
вования обеспечивает государственная власть,
91
так как «исполнительная власть ответственна
за это так же, как за все остальные отрас-
ли государственного управления». И в за-
ключение формулировка, свидетельствующая
о радикальной направленности взглядов
Фихте: «Бедняк... имеет абсолютное прину-
дительное право на поддержку» (14, стр. 213).
Здесь проявляется революционно-демо-
кратическая тенденция социальных воззре-
ний Фихте. Основой его социальных требо-
ваний является утверждение права на суще-
ствование. Решающую гарантию этого права
Фихте видит во введении права на труд и в
осуществлении этого права в каждом госу-
дарстве. Точнее, у Фихте речь идет всегда
не о праве только на существование, а о
праве на существование посредством труда.
Собственность гражданина государства, га-
рантированную на основании права на
существование, Фихте не считает уже сред-
ством сохранения существования; такое сред-
ство, которое сохраняет существование чело-
века, он усматривает в возможности трудить*
ся. При этом само собой понятно, что, будучи
идеологом мелкобуржуазных слоев, Фихте,
естественно, видит в собственности ту пред-
посылку, которая только и делает возмож-
ным осуществление права на труд. Для каж-
дого гражданина государства Фихте требует
такой собственности, которая включает в себя
возможность (и обязанность) трудиться:
«Каждый должен иметь возможность жить
своим трудом... Таким образом, возможность
92
жить обусловлена трудом» (14, стр. 213).
В этом смысле Фихте предпринял энергич-
ные усилия для того, чтобы найти и предло-
жить меры, гарантирующие в действительно-
сти возможность труда для каждого члена
государственного объединения.
Обеспечение существования своим тру-
дом — главная проблема Фихте в работах
«Основы естественного права», «Система
учения о нравственности» и «Замкнутое тор-
говое государство». В соответствующих тео-
ретических выкладках он очень последовате-
лен, хотя в ходе его рассуждений на эту тему
можно обнаружить немало преувеличений.
Обоснованным был упрек (он появился в ли-
тературе очень рано) в том, что Фихте в.этой
части своего учения оказался жертвой неко-
торых иллюзий. Впрочем, эти иллюзии раз-
деляли многие буржуазные идеологи того
времени.
Как мы видели, свое понимание права на
существование Фихте обосновывает тремя
требованиями: 1) если член государственного
объединения не может жить при помощи сво-
ей собственности, то он юридически не обя-
зан уважать собственность других; 2) граж-
дане государства, вовсе не владеющие собст-
венностью, имеют принудительное право на
собственность (труд, поддержку); 3) госу-
дарство может и обязано обеспечить сущест-
вование каждого гражданина. Все эти требо-
вания Фихте считает логическим выводом из
основного принципа всякого разумного госу-
93
дарственного устройства, который говорит о
том, что всем членам государственного объ-
единения должна быть гарантирована воз-
можность обеспечить свое существование
трудом.
Чтобы обеспечить выполнение этого тре-
бования, Фихте должен придать государству
полноту власти. Однако для Фихте здесь
дело не в том, чтобы построить модель иде-
ального государства; он стремится сделать
само существование государства плодотвор-
ным с точки зрения реализации основного
права — права на жизнь своим трудом. Лишь
исходя из этого можно понять аргументацию
Фихте. Не случайно в своем исследовании
он не только разбирает правовые отношения
в государстве, но и стремится вывести из них
реальные экономические требования, и «Зам-
кнутое торговое государство» тоже не слу-
чайно имеет подзаголовок «Философский
проект в качестве добавления к учению о
праве и опыт политики будущего». Именно
тесная взаимосвязь между вопросами права и
экономики в его «Основах естественного
права» и «Замкнутом торговом государстве»
показывает, что Фихте стремится воплотить
свою мысль в действительности. Именно по-
этому Фихте считает задачей государства
осуществление экономических функций, ко-
торое, по мнению Фихте, должно всегда пре-
следовать цель реализации права на сущест-
вование посредством труда, т. е. служить
созданию в государстве условий, достойнъіх
94
человека. Разъясняя это положение, Фихте
пишет: «Это не только благочестивое поже-
лание человечеству, а неустранимое требова-
ние его права и назначения, чтобы оно жило
на земле так легко, так свободно, так господ-
ствуя над природой, так истинно по-челове-
чески, как только ему это позволяет природа.
Человек должен работать, но не так, как
вьючное животное, которое погружается в сон
под своей ношей и после скудного восстанов-
ления истощенных сил опять понуждается к
тасканию той же ноши. Он должен работать
безбоязненно, с охотой и радостью» (29,
стр. 60—61).
О том, насколько серьезно Фихте отно-
сится к этому вопросу, свидетельствует тот
факт, что право на труд он рассматривает в
непосредственной связи с правом на револю-
цию. Оба этих основных права, согласно
Фихте, взаимно обусловливают друг друга.
Отчасти право на революцию вытекает в
этом смысле уже из следующего требования
Фихте: кто не имеет возможности обеспечить
свое существование трудом, тот юридически
не обязан признавать собственность другого.
В «Системе учения о нравственности» Фихте
говорит: «Каждый взрослый и разумный че-
ловек должен иметь собственность... Тот,
кто ее не имеет, не отказывается от собст-
венности других и может пользоваться ею
с полным правом» (20, стр. 295—296).
Впрочем, Фихте далек здесь от того, что-
бы за каждым гражданином, не имеющим
95
собственности, признать право приобрести
ее путем самостоятельного вмешательства в
существующие имущественные отношения.
В «Основах естественного права» ответствен-
ность за справедливое распределение собст-
венности с целью обеспечения существования
каждого гражданина возлагается на государ-
ственную власть. Распределение собственно-
сти, как утверждает Фихте, всегда происхо-
дит на основе определенных решений госу-
дарственной власти (см. 14, стр. 213). Или
в «Системе учения о нравственности»: «За-
бота о собственности для каждого есть дело
в первую очередь государства». Из этого
Фихте делает вывод: «Строго говоря, в го-
сударстве, где хотя бы один гражданин не
имеет собственности... вообще нет законной
собственности. Потому что каждому его соб-
ственность принадлежит лишь постольку, по-
скольку она признана всеми другими; однако
они не могут ее признать, пока он со своей
стороны не признал и их собственность; сле-
довательно, они должны ее иметь» (20,
стр. 295). На основании последнего Фихте
вновь утверждает право на революцию как
неотъемлемое и неизменное право человека.
Если государственная власть не позабо-
тится о разработке и осуществлении меро-
приятий, необходимых для создания разум-
ного государства, то народ вправе революци-
онным путем принудить правительство к этим
мероприятиям. Для власть имущих Фихте
неустанно подчеркивает, что это есть основ-
96
ное право народа: «Пусть не говорят... что я
навязываю правительствам, основываясь на
непризнанных философских положениях, дело,
которое они никогда не признают своим...»;
им придется это сделать, «ясно предвидя
опасности восстания народных масс, которым
крайняя нужда не оставляет ничего такого,
что им надо было бы беречь» (29, стр. 122).
Таким образом, для Фихте право на ре-
волюцию не абстрактный правовой принцип,
в его теории он имеет в высшей степени прак-
тическое звучание. Фихте выдвигает идею
права на революцию для того, чтобы под-
черкнуть свои социальные требования. Ча-
сто право на революцию выглядит прямой
угрозой в отношении господствующих сил его
эпохи. Лишь предубежденный человек может
утверждать, что Фихте изображал из себя
доброжелателя монархов и стремился пред-
упредить их об опасности революционного
переворота. Такая трактовка ошибочна. Фих-
те нигде не выступает как советчик-доброже-
латель монархов, а всегда является предста-
вителем интересов демократических слоев
народа.
Конечно, он пытался склонить монархов
к реформам. Но во всех случаях, когда он
выступает за создание разумного государства
мирным путем, главным для него является
цель, т. е. создание именно такого разумно-
го государства. Если государственная власть
встает на пути к этой цели и оказывает со-
противление мероприятиям, необходимым для
4 Фихте
97
се осуществления, то против такой власти
надо бороться революционными средствами.
Мирный путь для Фихте — это всегда толь-
ко средство, но не цель.
Последнее становится очевидным благода-
ря тому факту, что государственная власть
в правовом учении Фихте не парит в безвоз-
душном пространстве, ей придаются конкрет-
ные, определенные обязанности, выполнение
которых зависит исключительно от самого
государства, т. е. государственная власть
оценивается постольку, поскольку она осу-
ществляет (или не осуществляет) основные
принципы разумного государства в пределах
своей власти. В первом случае в революци-
онной смене государственной власти нет не-
обходимости, во втором случае она более чем
необходима.
Разумеется, установление, по Фихте, про-
межуточных звеньев между народом и госу-
дарственной властью — совета «эфоров»,
введение народного голосования, публичное
обсуждение важнейших государственных дел
по образцу античности (см. 14, стр. 166) —
все это далеко от настоящей революционной
практики, если сравнить с термидорианским
переворотом во Франции. Но нельзя забы-
вать, что в основе этой аргументации лежит
иллюзия, будто немцы, пройдя через проте-
стантскую Реформацию, оказались более
зрелыми, чем французы, осуществившие свою
революцию без предшествующей ей Рефор-
мации. Гораздо важнее, что в своем правовом
98
учении Фихте говорит о государственной из-
мене со стороны правительства и даже раз-
рабатывает на такой случай не только зако-
ны, но и принудительные мероприятия, что-
бы для «высшей государственной власти...
было невозможно осуществлять что-либо
иное, кроме права» (14, стр. 177). В этом
смысле совершенно справедливо указывали
на то, что у Фихте «провозглашение права
на труд является экономическим подкрепле-
нием права на революцию и, с другой сто-
роны, право на революцию — политической
гарантией права на труд» (58, стр. 154).
И еще один момент важно отметить: мыс-
ли, высказанные Фихте в соответствующих
разделах «Основ естественного права», «Си-
стемы учения о нравственности» и «Замкну-
того торгового государства»,— это не просто
теория государства вообще, а в своей тенден-
ции революционная и демократическая кон-
цепция государства. По содержанию она в
основном соответствует якобинскому государ-
ству. Или, иначе говоря, взгляды на госу-
дарство, которые Фихте развил в 1796—
1800 гг., в основном совпадают с теори-
ей государства, разработанной идеологами
Французской революции в 1793—1794 гг.
Однако на один вопрос Фихте не дает
ответа — на вопрос о том, кто, какие общест-
венные слои или классы будут осуществлять
революционное насилие. В этой связи он аб-
страктно говорит то о народе, то о государ-
стве, то об обществе. Здесь Фихте — типич-
4*
99
ный мыслитель мелкой буржуазии, сущест-
вующей в исторически отсталых условиях.
Хотя Фихте говорит о том, что жизнь долж-
но изменить к лучшему, и набрасывает про-
ект системы социальных и общественных от-
ношений в идеальном государстве, однако он
не указывает конкретных путей к этой цели.
Подходя к этой проблеме, Фихте соскальзы-
вает в область утопических иллюзий. Пути
осуществления своих социальных требований
он ищет в человеческом разуме, а не в реаль-
ных общественных (классовых) силах.
ВОПРОСЫ ВОЙНЫ И МИРА. БОРЬБА
ЗА ЕДИНСТВО НЕМЕЦКОЙ НАЦИИ
Фихте считал, что его социальные идеи
смогут осуществиться только при условии
«вечного мира». Войну он рассматривал как
общественное явление, противоречащее разу-
му. В рецензии на работу Канта «К вечному
миру» он считает идею вечного мира абсо-
лютно реализуемой идеей, которая заложена
в «сущности разума» и реализации которой
разум требует безоговорочно и непременно.
Вечный мир, по Фихте,— это цель природы,
которая осуществится непременно, даже если
и не сразу (см. 31, стр. 200). Поэтому за ее
осуществление надо активно бороться. Усло-
вием ее достижения является установление
во всех государствах Европы строя, достой-
ного человека. Причину войн своей эпохи
Фихте усматривал в политической и социаль-
100
ной структуре феодально-абсолютистских го-
сударств. Абсолютные монархии — источник
постоянных войн, так как каждая неограни-
ченная монархия постоянно стремится стать
универсальной. Фихте призывал своих совре-
менников «закупорить этот источник», что
означает, иными словами, политически заме-
нить абсолютную монархию буржуазной рес-
публикой. О таком государственном устрой-
стве Фихте говорит, что оно «само по себе
единственно законное, основанное на граж-
данском праве и приводит к вечному миру,
требуемому международным правом. При
этом не следует думать, что граждане ре-
шатся брать на себя бремя войны с той ве-
личайшей легкостью, с какой решает за них
монарх, ничего не теряя при этом» (31,
стр. 197).
Будучи приверженцем идеи «вечного ми-
ра», Фихте в то же время достаточно реали-
стически мыслил и, принимая во внимание
общественные условия эпохи, не требовал
мира во что бы то ни стало. Он сознавал, что
мир должен быть охраняем с оружием в ру-
ках и агрессор, если необходимо, должен си-
лой принуждаться к соблюдению мира. Его
активная поддержка освободительной войны
в 1813—1814 гг. и оценка этой войны как
справедливой, народной борьбы являются
выводом из этих идей.
Важное место в общественно-политиче-
ских взглядах Фихте занимает идея о Гер-
мании как едином национальном государстве
4* Фихте
101
на буржуазно-демократической основе. Ог-
ромное значение этой идеи в конкретных ус-
ловиях того времени становится понятным,
если учесть, что Германия была раздроблена
на множество карликовых государств (кня-
жеств), что сильно тормозило все экономи-
ческое и социально-политическое развитие
страны; воспользовавшись этой раздроблен-
ностью, Наполеон оккупировал Германию.
Фихте, став в последние годы своей жизни
страстным борцом в рядах прогрессивного
движения германской буржуазии за нацио-
нальное освобождение и единство, высказал
ряд смелых, передовых идей по националь-
ному вопросу. Он понимал, что «единствен-
ный путь к немецкой нации — ликвидация
власти князей» (12, стр. 547).
Интересно наблюдать, как Фихте пришел
к идее немецкого национального государства.
Он считал, что французская нация стреми-
лась к осуществлению того же политическо-
го и социального идеала, как и его собствен-
ный, однако не достигла его. В годы напо-
леоновских войн Франция из освободителя
европейских народов от гнета феодализма
превратилась в поработителя. Лучшие умы
той эпохи, и среди них в первую очередь
Фихте, увидели это изменение исторической
ситуации и отразили его в своих произведе-
ниях. Реалистическая оценка исторических
событий убеждала Фихте в том, что после
1806—1814 гг. от буржуазной Франции уже
нечего было ожидать освобождения немецко-
102
го народа от феодального порабощения, что
это освобождение вместе с реализацией де-
мократических общественных идей может
быть достигнуто только в борьбе с узурпа-
тором Наполеоном. Именно поэтому Фихте
подчеркивал историческую роль немецкой на-
ции и отвернулся от наполеоновской Фран-
ции, что, однако, ни в коем случае не озна-
чало отказа от идей, рожденных Француз-
ской революцией.
Последовательно и энергично борясь за
единство немецкой нации, Фихте страстно
мечтал о том, что во время освободительной
войны осуществится и ликвидация феодаль-
но-абсолютистской системы. Его мечты не
сбылись. Как будто в предчувствии этого он
писал в 1813 году: «И если бы потом оказа-
лось, что все это было не всерьез, и если бы
после ее спасения в борьбе самостоятельность
нации вновь была принесена в жертву при-
вилегиям царствующей династии, и если бы
оказалось, что властитель, хотя и желал, что-
бы за сохранение его власти лилась благо-
родная кровь его народа, но не желал посту-
питься этой властью ради самостоятельности
народа, то тогда ни один разумный человек
не смог бы оставаться более под господством
подобного государя. Деятельность разумного
человека в обществе могла бы иметь только
одну цель... заложить в это общество заро-
дыш свободной правовой конституции» (19,
стр. 414).
4**
103
Империалистическая германская буржуа-
зия, злоупотребляя, часто использовала по-
следовательную борьбу Фихте за единство
немецкой нации в шовинистических целях.
Действительно, в «Речах к немецкой нации»
есть немало мест, которые можно рассматри-
вать как выражение национальной заносчиво-
сти и в отрыве от контекста, без учета исто-
рических условий их возникновения тракто-
вать как шовинистические. К таким момен-
там относится, например, созданная Фихте
теория «праязыка» и «пранарода», под ко-
торыми он понимает немецкий язык и немец-
кий народ. То же проявляется в формули-
ровках вроде «иметь характер и быть нем-
цем... это, без сомнения, одно и то же» (17,
стр. 446) или в той всемирно-исторической
роли, которую Фихте приписывает немецко-
му народу: если-де не будет выхода и погиб-
нет немецкий народ, то наступит катастрофа
и «тогда погибнет и все человечество без на-
дежды когда-либо возродиться» (17, стр. 499)
и т. п.
Если в «Речах к немецкой нации» Фихте
действительно был не вполне свободен от
идей национальной исключительности, то все
же следует согласиться с замечанием Алек-
сандра Абуша в его книге «Ложный путь
одной нации»: «Фихтевские «Речи к герман-
ской нации» были направлены не против
шедших из Франции идей, ибо он был их
приверженцем; в связи с изгнанием из Иен-
ского университета в 1799 г. он сам называл
Ш
себя «ославленным демократом». Фихте
стремился помочь разрушить тиранию в лице
Наполеона, его «универсальную монархию»,
порабощающую Европу. В то время как мо-
лодой прусский поэт Генрих фон Клейст...
временами впадал в националистический угар
ожесточения против чужеземного завоевате-
ля, мощный язык произведений Фихте все-
гда был пронизан глубоко человечным и
братским чувством подлинного «предопреде-
ления человека»» (36, стр. 156). Реакционная
немецкая буржуазия не имеет, таким обра-
зом, права ссылаться на Фихте, в частности
на его идею германского национального госу-
дарства.
Если нужно еще доказательство демокра-
тичности взглядов Фихте, так вот оно: осно-
вой его правовых, этических взглядов, его
идей в области философии истории является
требование преобразования феодально-абсо-
лютистской общественной системы. Ему пред-
ставлялось «истинное царство закона, какого
еще не знал мир... без того, чтобы большин-
ство людей были рабами... свободное, осно-
ванное на равенстве всего, что имеет облик
человека» (19, стр. 423). Этой фразой можно
увенчать практическую философию Фихте,
которая при всех своих субъективно-идеали-
стических и утопических чертах принадлежит
к лучшим страницам гуманистического на-
следия,
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мало кто из современников Фихте был
так полон непоколебимой веры в революци-
онное значение своего века, в постоянный
прогресс человечества, его движение к лучше-
му. «Пусть весь трансцендентальный идеа-
лизм был заблуждением,— писал Генрих
Гейне,— все же сочинения Фихте были про-
никнуты гордой независимостью, любовью к
свободе, мужественным достоинством, оказы-
вавшим благодетельное влияние особенно на
молодежь» (39, стр. 111). Чем больше труд-
ностей и несообразностей обнаруживала дей-
ствительность, тем более Фихте стремился к
усовершенствованию своего царства нравст-
венного действия; чем труднее ему станови-
лось поступать в духе основных принципов
своего учения, т. е. в соответствии со своими
убеждениями, тем больше он стремился уйти
в это царство. Вот почему по мере сокра-
щения возможностей общественной деятель-
ности Фихте философия его приобретала все
более созерцательный характер.
При общей оценке Фихте необходимо по-
этому учитывать два момента: подчеркивание
106
активного элемента, постоянное возвращение
к «деятельной стороне» и ту извращенную,
идеалистическую форму, в которой это про-
исходит. Первое — теоретическое выражение
и попытка истолкования исторического про-
цесса, в ходе которого уничтожается старый,
изживший себя общественный строй и заме-
няется новым, перспективным; второе — от-
ражение «немецких обстоятельств» и вос-
приятие элементов худшей традиции духов-
ной жизни Германии.
Четкую характеристику этого последнего
явления дал Маркс в разделе «Немецкой
идеологии», посвященном Канту. По своему
существу эти высказывания относятся ко
всей немецкой классической философии: «Со-
стояние Германии в конце прошлого века пол-
ностью отражается в кантовской «Критике
практического разума». В то время как
французская буржуазия посредством колос-
сальнейшей из известных в истории револю-
ций достигла господства и завоевала евро-
пейский континент... бессильные немецкие
бюргеры дошли только до «доброй воли».
Кант успокоился на одной лишь «доброй
воле», даже если она остается совершенно
безрезультатной, и перенес осуществление
этой доброй воли, гармонию между ней и по-
требностями и влечениями индивидов, в по-
тусторонний мир. Эта добрая воля Канта
вполне соответствует бессилию, придавлен-
ности и убожеству немецких бюргеров, ме-
лочные интересы которых никогда не были
107
способны развиться до общих, национальных
интересов класса и которые поэтому постоян-
но эксплуатировались буржуазией всех ос-
тальных наций» (6, стр. 182). Под влиянием
этих условий в тогдашней Германии возни-
кает широко распространенная тенденция от-
рыва теории от общественной практики. По-
является противоречие между той формой, в
которой идеологи немецкой буржуазии выра-
жали интересы своего класса, и самими эти-
ми интересами. Этим противоречием объяс-
няется идеалистический в основном характер
всей классической немецкой философии.
Большое влияние на немецкую идеоло-
гию, на мыслителей классической эпохи ока-
зало также то событие немецкой истории, ко-
торое имело решающее значение для общест-
венного развития в Германии,— Реформация,
И здесь Маркс был первым, кто оценил
значение Реформации в общественном разви-
тии Германии: «Ведь революционное прошлое
Германии теоретично, это — реформация»
(2, стр. 422). Это написал Маркс уже в
1844 г. в «Немецко-французском ежегодни-
ке». Действительно, исторические предпосыл-
ки «немецких обстоятельств» последней тре-
ти XVIII в. возникли в далеком прошлом,
почти двумястами годами раньше: поражение
крестьянской революции, Реформация, Трид-
цатилетняя война — вот кратко важнейшие
моменты. Именно эти события истории при-
вели к тому, «что Германия на 200 лет была
вычеркнута из списка политически активных
108
наций Европы» (9, стр. 307). С XVI в.
развитие Германии стало все больше отста-
вать по сравнению с Англией и Францией,
и с этого момента оно приняло явно выра-
женный мелкобуржуазный характер.
Этот мелкобуржуазный характер развития
Германии оправдывался и освящался теори-
ей, восходящей еще ко временам Реформации
и являвшейся ее идеологическим выражени-
ем,— лютеранским протестантизмом. Основой
протестантского учения в общественном смыс-
ле было провозглашение свободы как «внут-
ренней ценности», как свойства человече-
ского существования, которое уживается с
любой формой рабства и подчинения внеш-
ней силе, особенно с политическим и соци-
альным угнетением. «Светская сила, права
она или нет, не может повредить душе»,—
учит Лютер в «Свободе христианского чело-
века» (60, стр. 75). Ничто в этом мире не
имеет значения для свободы, потому что
«христианского человека», говорит Лютер
дальше, «ничто внешнее не может сделать ни
свободным, ни благочестивым», его «тюрьмы
суть не телесные и не внешние», ничто из
внешних вещей «не достигает души, чтобы ее
освободить или поработить» (см. 60, стр. 295).
Человеческие ценности не зависят от каких-
либо внешних условий, прежде всего от по-
литической и социальной действительности;
эта действительность не имеет значения, ког-
да речь идет об истинной сущности челове-
ка,— таково содержание учения немецкого
109
протестантизма об обществе. По существу
здесь содержится невысказанное требование
примириться с господствующим политиче-
ским и социальным положением вещей и от-
казаться от всяких действий, направленных
на изменение общественного строя. В этой
теории свобода полагалась всегда рядом с
несвободой, критика существующего — рядом
с его признанием.
В статье «К критике гегелевской фило-
софии права. Введение» Маркс блестяще
вскрыл это соотношение между понятиями
свободы и несвободы у теоретиков проте-
стантизма: «Правда, Лютер победил рабство
по набожности только тем, что поставил на
его место рабство по убеждению. Он разбил
веру в авторитет, восстановив авторитет
веры. Он превратил попов в мирян, превра-
тив мирян в попов. Он освободил человека
от внешней религиозности, сделав религиоз-
ность внутренним миром человека. Он эман-
сипировал плоть от оков, наложив оковы на
сердце человека» (2, стр. 422—423).
Классическая немецкая философия в
смысле исторического происхождения своих
идей неотделима от протестантизма. Именно
он и составляет ту традицию немецкой ду-
ховной жизни, которую унаследовали клас-
сические философские системы. Это обстоя-
тельство наряду с отсталостью немецких об-
щественных отношений объясняет широко
распространенное у немецких мыслителей
стремление мириться с политической и со-
110
циальнои действительностью эпохи, какой бы
убогой она ни была.
Тенденцию сделать сознание и челове-
ческие стремления независимыми от действи-
тельности мы находим и у Фихте, в част-
ности там, где он говорит о «внутренней
свободе». Правда, под непосредственным впе-
чатлением революционного переворота во
Франции эта тенденция не носит у него та-
кого всепронизывающего характера, как в
философии Канта и Гегеля, однако в конеч-
ном счете она остается составной частью и
существенным моментом его философии. Это
происходит, например, тогда, когда «самосто-
ятельность мышления» Фихте объявляет пер-
вейшей предпосылкой реальных действий,
а со временем все больше оценивает ее как
непосредственную практическую обществен-
ную деятельность.
Впрочем, в одном отношении Фихте
нельзя упрекнуть: свою мысль он никогда не
стремился согласовать и примирить с жалкой
немецкой действительностью. Конформизм
был ему чужд. Ничего общего Фихте не име-
ет с теми современными буржуазными фило-
софами, которые, доходя в своем конформиз-
ме почти до преступления и ссылаясь на
создателей классической немецкой филосо-
фии, провозглашают «внутреннюю свободу»
в смысле идей протестантизма как подлин-
ную свободу. Западногерманский философ
Теодор Литт, якобы продолжая лучшие тра-
диции немецкой классической философии,
111
заявляет: «Избавиться от внешних ограниче-
ний свободы человечество сможет только
тогда, когда перестанет заглядываться на
внешние гарантии свободы и сосредоточится
на главном — опаснейшего врага свободы
надо искать в самом человеческом сердце»
(59, стр. 648). Надо сказать, что подобные
разглагольствования имеют весьма отдален-
ное отношение к немецкой классической фи-
лософии и никакого к Фихте. То, что у Фих-
те было исторически обусловлено определен-
ной общественной ситуацией и только на
этом основании может быть объяснено и по-
нято,— это же самое у Литта и ему подоб-
ных является сознательной апологетикой в
адрес давно изжившего себя общественного
строя, апологетикой буржуазно-клерикально-
го государства, социальным содержанием
которого является эксплуатация и угнетение.
Таким образом, дело Фихте продолжают
не те, кто громогласно на него ссылается,
а те, кто увидел истинный смысл его устрем-
лений, продолжал разрабатывать его идеи и
тем создал предпосылки для их осуществле-
ния. Мысль Энгельса, что философия Фихте
тоже принадлежит к великому идейному на-
следию, внесшему свой вклад в предысторию
научного социализма, сохраняет свое значе-
ние по сей день.
Философию Фихте называли соединением
положений я мыслю из «Критики чистого
разума» и я хочу из «Критики практического
разума» Канта (см. 63, стр. 105). Это пра-
112
вильно, но с той оговоркой, что соединение
я мыслю и я хочу соотнесено Фихте с кон-
кретным историческим процессом эпохи и
должно рассматриваться в его специфике как
порождение этого процесса. Сам принцип
этого соединения, смысл и цель его — это не
просто один из возможных видов теоретиче*
ского оформления и дальнейшего развития
имеющихся идей, а идеологическое отражение
исторического процесса.
Александр Абуш в своей книге «Ложный
путь одной нации» ярко обрисовал обе сто-
роны присущей мышлению Фихте диалекти-
ки. С полным правом он подчеркивает, что
Фихте в отличие от Канта «гораздо реали-
стичнее подходил к германской действитель-
ности... хотя его философская система озна-
чала наивысшую вершину субъективного
идеализма» (36, стр. 156). В мышлении
Фихте реалистические черты сочетаются с
глубокими гуманистическими устремлениями,
понимание исторической реальности и тенден-
ций развития — с непоколебимой верой в ве-
личие человека. С этой точки зрения произ-
ведения Фихте являются «важным камнем в
здании немецкого гуманизма» (36, стр. 157).
Это одна сторона.
А вот другая сторона: «Фихте плыл по
течению своего времени, зачастую оказываясь
захлестнутым им, пропорции в его собствен-
ных стремлениях иногда смещались» (36,
стр. 157).
ИЗ
Может показаться, что субъективный
идеализм Фихте, его чисто умозрительная
теория познания лишают его идеи всякой
ценности. Однако следует подчеркнуть, что
субъективный идеализм Фихте — это еще
не весь Фихте, это лишь часть сложного яв-
ления — Фихте. Вместе с тем нельзя рас-
сматривать реалистические элементы его фи-
лософии в отрыве от их субъективно-идеа-
листического окружения и тем самым
преувеличивать их значение. Необходимо
учитывать диалектическое единство обеих
сторон, которые кажутся диаметрально про-
тивоположными. Обе стороны должны рас-
сматриваться как стороны единой системы;
их единство и своеобразие, объяснимые лишь
на основе определенных общественно-истори-
ческих условий эпохи, необходимо брать и
рассматривать в непосредственной связи друг
с другом.
Только таким образом Фихте может быть
оценен по справедливости, только так в его
философии мы сможем отделить действитель-
но великое от незначительного, мелкого и
даже ничтожного.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ФИХТЕ
Навлечения из проивведеннн Фихте,
имеющихся в русском переводе,
даны по соответствующим изданиям;
остальные фрагменты впервые пуб-
ликуются на русском языке в пере-
воде Я. Фогелерд,
ИЗ «ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИТЕЛЯМ
ЕВРОПЫ ВОЗВРАТИТЬ СВОБОДУ МЫСЛИ,
КОТОРУЮ ОНИ ДО СИХ ПОР ПОДАВЛЯЛИ»
Способность свободно мыслить есть глав-
ное отличие человеческого разума от разума
животного. У последнего тоже имеются пред-
ставления, но они необходимо следуют друг
за другом, порождают друг друга подобно
тому, как одно движение в машине необходи-
мо порождает другое. Преимущество челове-
ка состоит в способности собственной силой
активно противостоять этому слепому меха-
низму ассоциаций идей, при котором дух со-
вершенно пассивен, в способности по собст-
венной свободной воле давать потоку своих
идей определенное направление, и, чем боль-
ше человек осуществляет это преимущество,
тем более он человек. Эта способность чело-
века, благодаря которой он обладает таким
преимуществом, есть именно то, посредством
чего он осуществляет свободную волю;
проявление свободы в мышлении, равно как
и проявление свободы воли, есть внутренняя
составная часть его личности, есть необходи-
мое условие, при наличии которого он может
сказать: я есмь, я самостоятельное существо...
(22, стр. 27)
117
ИЗ «К ИСПРАВЛЕНИЮ СУЖДЕНИЯ
ПУБЛИКИ О ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»
Французская революция кажется мне
очень важной для всего человечества. Я не
говорю о политических последствиях ее как
для самой страны, так и для соседних госу-
дарств, последствиях, которых она, очевидно,
не имела бы без непрошенного вмешательства
и необоснованной самоуверенности этих госу-
дарств. Все это много уже само по себе, но
ничто по сравнению с вещами гораздо более
важными.
До тех пор пока люди не станут более
мудрыми и справедливыми, напрасны все их
усилия стать более счастливыми. Вырвав-
шись из темницы деспота, они сами начнут
убивать друг друга обломками своих сорван-
ных оков. Это была бы слишком печальная
участь, если бы их собственное несчастье или
же чужое при условии, что они вовремя уч-
тут предупреждения, не привело бы их к
слишком поздней мудрости и справедливости.
В этом смысле все события в мире кажут-
ся мне поучительными картинами, преподно-
симыми человечеству великим воспитателем,
дабы оно могло извлечь из них то, что ему
надлежит знать. Но не так, чтобы человече-
ство из них извлекало бы уроки; во всей все-
мирной истории мы никогда не найдем чего-
либо, помимо того, что мы сами до этого
сперва вложили туда; но человечество путем
оценки действительных событий легче разо-
118
вьет из самого себя то, что в нем самом за-
ложено; и Французская революция кажется
мне богатейшей иллюстрацией на тему «Пра-
ва и достоинства человека»...
В нашей среде можно было увидеть глубо-
чайшее сочувствие и услышать горькие жало-
бы на мнимое несчастье тех многих, для
которых жизнь в величайших излишествах
вдруг сменилась более чем средним положе-
нием, причем эти жалобы раздавались со
стороны тех, кто даже в самые счастливые
свои дни никогда не жил так хорошо, как
другие в дни их падения, кто жалкие остатки
счастья тех других мог бы считать для себя
завидным счастьем. Невообразимое расточи-
тельство, господствовавшее до этого за сто-
лом короля, было несколько ограничено, а
люди, которые никогда не имели накрытого
стола и не будут его иметь, жалели этого ко-
роля; некая королева непродолжительное
время имела какие-то трудности в отношении
туалетов, а люди, которые весьма счастливы
разделить с ней эти трудности, оплакивали
ее бедность. Хотя нашему веку недостает
многих жизненно необходимых качеств,
но добродушие, кажется, не из их числа!
Неужели в этих жалобах безусловной полага-
ется система, при которой всегда некий класс
смертных располагает, не знаю уж по како-
му праву, возможностью удовлетворять лю-
бые потребности, какие только может создать
безудержная фантазия, другой класс обла-
дает уже меньшими, а третий — еще меньши-
119
ми правами и т. д., пока не дойдем до такого
класса, который лишен даже самого необхо-
димого ради того, чтобы дать тем высшим
смертным это самое необходимое? Или такая
правовая основа полагается лишь по при-
вычке, по обычаю и считается, что если до
сих пор одна семья потребляла все, что
должно принадлежать миллионам семей, то
это так и должно продолжаться? Очевидной
непоследовательностью в нашем образе мыш-
ления является наша чувствительность по
поводу королевы, которой однажды не хва-
тило чистых простыней, когда мы в то же
время считаем вполне естественной нужду
матери, народившей отечеству здоровых де-
тей, которых она, сама одетая в лохмотья,
видит бегающими голышом, а в это время
из-за недостатка питания в ее груди исчеза-
ет молоко, которого жалобно с плачем требу-
ет младшее дитя. Эти люди ко всему привык-
ли, они не знают лучшего, заявляет само-
довольный, сытый прожигатель жизни, по-
тягивая прекрасное вино; но это неправда,
к голоду никогда не привыкают, не привыка-
ют к плохим продуктам питания, к потере
всех сил и всякой надежды, к отсутствию
одежды в холодные времена года. Господин
Реберг счел наивным положение «кто не ра-
ботает, тот не ест»; он позволит нам считать
не менее наивным то, что «лишь тот, кто ра-
ботает, не должен есть или должен есть не-
съедобное»...
(13, стр. 3—5)
120
ИЗ ЛЕКЦИЙ
«О НАЗНАЧЕНИИ УЧЕНОГО»
Общественное стремление относится... к
основным стремлениям человека. Человек
предназначен для жизни в обществе; он дол-
жен жить в обществе; он не полный закон-
ченный человек и противоречит самому себе,
если он живет изолированно.
Вы видите, м. г., как важно общество во-
обще не смешивать с особым, эмпирически
обусловленным родом общества, называемым
государством. Жизнь в государстве не при-
надлежит к абсолютным целям человека, что
бы ни говорил об этом один очень большой
человек, но она есть средство, имеющее место
лишь при определенных условиях, для ос-
нования совершенного общества. Государство,
как и все человеческие установления, являю-
щиеся голым средством, стремится к своему
собственному уничтожению: цель всякого
правительства — сделать правительство из-
лишним. Конечно, сейчас еще совершенно не
время для этого; и я не знаю, сколько до тех
пор пройдет мириад лет или мириад мириа-
дов лет; и здесь речь идет совершенно не о
применении в жизни, но об исправлении умо-
зрительного положения; сейчас не время,
но несомненно, что на a priori предначертан-
ном пути рода человеческого имеется такой
пункт, когда станут излишними все государ-
ственные образования. Это то самое время,
когда вместо силы или хитрости всюду будет
121
признан как высший судья один только ра-
зум. Будет признан, говорю я, потому что
еще и тогда люди будут заблуждаться и в
заблуждении оскорблять своих ближних,
но все они обязаны будут иметь добрую
волю дать себя убедить в своем заблуждении
и, как только они в этом убедятся, отказать-
ся от него и возместить убытки. До тех пор
пока не наступит это время, мы в общем
даже не настоящие люди...
Итак, это результат всего нашего иссле-
дования — человек предназначен для общест-
ва; к тем навыкам, которые он должен усо-
вершенствовать согласно своему назначе-
нию [...] относится также и общественность...
Это стремление направлено на взаимодей-
ствие, взаимное влияние, взаимное давание
(Geben) и получение (Nehmen), взаимное
страдание и действие, а не на голую причин-
ность и голую деятельность, по отношению к
которой другой должен был бы находиться
только в страдательном состоянии. Стремле-
ние направлено к тому, чтобы найти свобод-
ные разумные существа вне нас и вступить с
ними в общение; оно направлено не на суб-
ординацию, как в телесном мире, но на
координацию. Если не хотят искомым разум-
ным существам вне себя предоставить воз-
можность быть свободными, то рассчитыва-
ют только на их теоретическую способность,
но не на их свободную практическую разум-
ность; не хотят вступить с ними в сообщест-
во, но желают господствовать над ними как
122
над более ловкими животными и тогда ста-
вят свое общественное стремление в противо-
речие с самим собой. Но что же я говорю:
ставят в противоречие с самим собой? Его
скорее не имеют совершенно — этого более
высокого стремления; человечность в таком
случае в нас еще не развилась в достаточной
мере; мы сами еще стоим на низшей ступени
получеловечности или рабства. Мы еще сами
не созрели до чувства нашей свободы и са-
модеятельности, так как в противном случае
мы непременно хотели бы видеть вокруг себя
подобные нам, т. е. свободные, существа. Мы
рабы и хотим держать рабов. Руссо говорит:
иной считает себя господином других, будучи
более рабом, чем они; он мог бы еще пра-
вильнее сказать: всякий, считающий себя
господином других, сам раб. Если он и не
всегда действительно является таковым, то у
него все же рабская душа, и перед первым
попавшимся более сильным, который его по-
работит, он будет гнусно ползать. Только тот
свободен, кто хочет все сделать вокруг себя
свободным и действительно делает свободным
благодаря известному влиянию, причину ко-
торого не всегда замечали. Под его взором
мы дышим свободнее, мы чувствуем себя
ничем не придавленными, не задержанными,
не стиснутыми, мы чувствуем необычайную
охоту быть всем и делать все, чего не запре-
щает уважение к самим себе.
Человек может пользоваться неразумны-
ми вещами как средствами для своих целей,
123
но не разумными существами; он не смеет да-
же пользоваться ими как средством для их
собственных целей; он не смеет на них дейст-
вовать как на мертвую материю или на жи-
вотное, чтобы только при помощи их достиг-
нуть своей цели, не считаясь с их свободой...
Все индивидуумы, принадлежащие к че-
ловеческому роду, отличны друг от друга;
только в одном они вполне сходятся, это их
последняя цель — совершенство. Совершен-
ство (Vollkommenheit) определено только
одним образом: оно вполне равно самому
себе. Если бы все люди могли стать совер-
шенными, если бы они могли достигнуть
своей высшей и последней цели, то они были
бы совершенно равны между собой, они были
бы чем-то единым, единственным субъектом.
Теперь же каждый в обществе стремится
сделать другого более совершенным, по край-
ней мере по своим понятиям, поднять его до
своего идеала, который он имеет о человеке.
Следовательно, последняя, высшая цель об-
щества— полное согласие и единодушие со
всеми возможными его членами. Но так как
достижение этой цели, достижение назначе-
ния человека вообще предполагает достижение
абсолютного совершенства, то это точно так
же недостижимо, как и то недостижимо, пока
человек не перестанет быть человеком и не
станет богом. Полное согласие со всеми ин-
дивидуумами есть, следовательно, хотя и
последняя цель, но не назначение человека в
обществе.
124
Но приближаться и приближаться к этой
цели до бесконечности — это он может, и это
он должен. Это приближение к полному со-
гласию и единодушию со всеми индивиду-
умами мы можем назвать объединением. Сле-
довательно, объединение, которое должно
становиться по сплоченности все более креп-
ким, по объему все более обширным, есть
истинное назначение человека в обществе;
но так как все люди согласны и могут быть
согласными только относительно своего по-
следнего назначения, это объединение воз-
можно только благодаря совершенствованию
(Vervollkommnung). Поэтому мы с таким же
основанием можем сказать: общее совершен-
ствование, совершенствование самого себя
посредством свободно использованного вли-
яния на нас других и совершенствование дру-
гих путем обратного воздействия на них как
на свободных существ — вот наше назначе-
ние в обществе...
«В человеке имеются различные стремле-
ния и задатки, и назначение каждого в от-
дельности — развить свои задатки по мере
возможности. Между прочим в нем есть
стремление к обществу; последнее дает ему
особое развитие, развитие для общества и
необыкновенную легкость развития вообще.
В этом смысле человеку ничего не предписа-
но — должен ли он все свои задатки, все до
одного, развивать непосредственно в природе
или посредственно через общество. Первое
трудно и не способствует прогрессу общества,
125
поэтому каждый индивидуум по праву изби-
рает себе в обществе определенную отрасль
всеобщего развития, предоставляет осталь-
ные другим членам общества и ожидает, что
они дадут ему возможность воспользоваться
преимуществами их развития, подобно тому
как он дает им возможность воспользоваться
своим, и это есть начало и правовое основа-
ние различия сословий в обществе».
Вот выводы пока прочитанных мной лек-
ций. В основе вполне возможного деления на
различные сословия согласно чистым поня-
тиям разума должно было бы лежать исчер-
пывающее перечисление всех природных задат-
ков и потребностей человека (не только его
искусственно придуманных потребностей).
Для культуры всякой склонности, или, что
то же самое, для удовлетворения всякой ес-
тественной потребности, основанной на из-
начально заложенном в человеке стремле-
нии, может быть предназначено особое со-
словие. Это исследование мы откладываем на
известное время, чтобы сейчас взяться за
другое, нас более занимающее.
Если бы возник вопрос о совершенстве
или несовершенстве общества, устроенного по
указанным принципам,— а всякое общество
устраивается благодаря естественным стрем-
лениям человека без всякого руководства и
совершенно само собой именно так, как яв-
ствует из нашего исследования о возникнове-
нии общества,— если бы, говорю я, возник
этот вопрос, то ответ на него предполагал бы
126
исследование следующего вопроса: обеспече-
ны ли в данном обществе развитие и удов-
летворение всех потребностей, и именно одно-
образное развитие и удовлетворение? Если
бы это было обеспечено, то общество как об-
щество было бы совершенным; это не значит,
что оно достигло своей цели, что согласно
нашим вышеприведенным соображениям не-
возможно, но оно было бы так устроено, что
оно должно было бы непременно все более
приближаться к своей цели. Если бы это не
было обеспечено, то оно, правда, могло бы
продвинуться по пути культуры благодаря
счастливой случайности, но на это нельзя
было бы никогда твердо рассчитывать, оно
могло бы точно так же благодаря несчастной
случайности вернуться обратно...
(33, стр. 75—76, 78—82, 101—103)
ИЗ «НАЗНАЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА»
Не знание само по себе, но деяние, со-
образное твоему знанию, есть твое назначе-
ние — вот что ясно слышится в глубине мо-
его существа, если я хотя на мгновение со-
средоточиваю все свое внимание на самом
себе. Не для праздного самосозерцания и
размышления над самим собой и не для са-
моуслаждения своими благочестивыми чув-
ствами, нет, для деятельности существуешь
ты; твое действование, и только оно одно,
определяет твою ценность...
127
Все мое мышление должно иметь отноше-
ние к моей деятельности; оно должно при-
знать себя средством, хотя и отдаленным,
для этой цели; вне этого оно — пустая бес-
цельная игра, трата силы и времени и извра-
щение благородной способности, которая дана
мне для совершенно иной цели...
Мы действуем не потому, что познаем,
но познаем потому, что предназначены дей-
ствовать; практический разум есть корень
всякого разума...
Даже внутри государств, где закон, по-
видимому, объединил людей для равенства,
под почетным именем закона властвуют боль-
шей частью насилие и хитрость; война ведет-
ся здесь тем постыднее, что она не признает
себя открыто войной, и у подвергающегося на-
падению отнимается даже решимость защи-
щаться против несправедливой силы. Ма-
ленькие общественные группы громко радуют-
ся невежеству, глупости, пороку и нищете, в
которые погружены многочисленные массы их
собратьев, и открыто делают своей важней-
шей целью держать их в этом состоянии и
еще глубже погружать их в него с тем, чтобы
вечно иметь их своими рабами; они губят
всякого, кто осмелится просвещать эти мас-
сы и улучшать их положение. Вообще еще
невозможно составить проект улучшения, ко-
торый бы не разбудил и не вызвал на войну
против себя целое войско самых разнообраз-
ных эгоистических целей и в борьбе против
которого не объединились бы самые разнооб-
128
разные и противоречащие друг другу образы
мышления...
Возможен только один мир, абсолютно
хороший мир... Этот высший мировой план и
есть то, что мы называем природою, когда
говорим: природа вещей ведет людей через
недостаток к трудолюбию, через бедствия
всеобщих неурядиц к правовому устройству,
через невзгоды беспрестанных войн к конеч-
ному вечному миру...
Всякая смерть в природе есть рождение,
и в умирании особенно ясно проявляется по-
вышение жизни. В природе нет умерщвляю-
щих начал, ибо природа вся есть только
жизнь; умерщвляет не смерть, а более живая
жизнь, которая зарождается и развивается,
скрытая за старою жизнью. Смерть и рожде-
ние— только борьба жизни с самою собою,
и цель этой борьбы — все более просветлен-
ное и соответствующее требованиям жизни
проявление ее.
(32, стр. 72, 79, 84, 90, 122—123, 131)
ИЗ «ОПЫТА
НОВОГО ИЗЛОЖЕНИЯ НАУКОУЧЕНИЯ»
Первая глава
Всякое сознание обусловлено непосредственным
сознанием нас самих
I
Да позволит нам читатель, с которым нам
предстоит достигнуть согласия в мысли,
129
обратиться к нему с увещанием и вести
увещание на дружеское ты.
1. Ты, без сомнения, можешь мыслить Я;
и, когда ты мыслишь это, ты мысленно на-
ходишь свое сознание известным образом
определенным; ты мыслишь только нечто,
именно то, что ты охватываешь в понятии Я,
и отдаешь себе в этом отчет; и в это время
ты не мыслишь ничего другого, что бы ты
мог также мыслить в другое время и, мо-
жет быть, уже и мыслил. Мне пока нет на-
добности заботиться о том, охватываешь
ли ты в понятии Я больше или меньше, чем
я сам. То, о чем идет речь, уже наверня-
ка у тебя имеется также, и этого с меня до-
вольно.
2. Вместо этого определенного ты мог бы
мыслить и что-нибудь другое, например: твой
стол, твои стены, твои окна, и ты в самом
деле мыслишь эти предметы, если я вызываю
тебя на это. Ты делаешь это, следуя некото-
рому приглашению, следуя некоторому поня-
тию о том, что подлежит мышлению, каковое
понятие согласно твоему допущению могло
бы, говорю я, быть и другим. Поэтому в этом
своем мышлении ты замечаешь деятельность
и свободу в этом переходе от мышления Я
к мышлению стола, стен и т. д. Твое мыш-
ление для тебя есть действоѳание. Не бойся,
что этим признанием ты уступишь мне столь-
ко, что впоследствии, быть может, будешь в
этом раскаиваться. Я говорю только о той
деятельности, которую ты в этом состоянии
130
непосредственно сознаешь и поскольку ты ее
сознаешь. Но если окажется, что ты при
этом не будешь осознавать совсем никакой
деятельности — в таком положении нахо-
дятся некоторые известные философы на-
шего века, то давай сейчас же разойдемся
здесь с миром, ибо, начиная отсюда, ты не
будешь и впредь понимать ни единого моего
слова.
Я обращаюсь к тем, кто понимает меня в
этом отношении. Ваше мышление есть дей-
ствование, следовательно, ваше определенное
мышление есть определенное действование,
т. е. то, что вы мыслите, таково именно по-
тому, что вы именно так действуете в мышле-
нии; и оно было бы чем-то другим (вы бы
мыслили что-либо другое), если бы вы дей-
ствовали в вашем мышлении как-либо иначе
(если бы вы мыслили иначе).
3. И вот здесь, в частности, вы должны
мыслить Я. Так как это определенная мысль,
то согласно только что высказанным положе-
ниям оно осуществляется через определенный
способ действования в мышлении; и моя за-
дача в отношении тебя, вдумчивый чита-
тель, такова: заставить тебя настоящим и
самым интимным образом осознать, как ты
поступаешь, когда мыслишь Я, Так как мо-
жет оказаться, что мы оба понимаем под
этим понятием не одно и то же, то я должен
прийти тебе на помощь.
Так как ты как вдумчивый читатель, ра-
зумеется, отдаешь себе отчет относительно
131
деятельности в своем мышлении, то, когда ты
мыслил свой стол или свою стену, ты был
для себя мыслящим в этом мышлении, мыс-
лимым же был для тебя не ты сам, а нечто
от тебя отличное. Коротко говоря, во всех
понятиях этого рода, как ты легко обнару-
жишь это в своем сознании, мыслящее и
мыслимое отличны друг от друга (sind
zweierlei). Когда же ты мыслишь себя, ты
для себя не только мыслящее, но также и
мыслимое; в этом случае мыслящее и мысли-
мое должны быть единым; твое действование
в мышлении должно обращаться на тебя са-
мого, на мыслящее.
Таким образом, понятие или мышление
о Я состоит в действовании самого Я на
себя, и, наоборот, подобное действование на
самого себя дает мышление о Я и не дает
абсолютно никакого другого мышления.
Первое ты только что нашел в себе самом
и в этом мне признался; если ты затрудня-
ешься принять второе и питаешь сомнение
относительно нашего права обратить поло-
жение, то я предоставляю тебе самому испы-
тать, получится ли через обращение твоего
мышления на тебя как на мыслящее какое
бы то ни было другое понятие, кроме поня-
тия тебя самого, и можешь ли ты мыслить
для себя возможность того, чтобы получи-
лось какое-нибудь другое. Поэтому оба поня-
тия, понятие обращающегося на себя мышле-
ния и понятие Я, покрывают друг друга вза-
132
имно. Я есть полагающее самого себя и ниче-
го больше; полагающее самого себя есть Я и
ничего больше. Через описанный акт не по-
лучается ничего, кроме Я; и Я получается не
через иной какой-нибудь возможный акт,
а только через описанный.
Здесь ты видишь вместе с тем, в каком
смысле требуют от тебя мышления о Я, ибо
словесные обозначения побывали в руках у
безмыслия и кое-что позаимствовали от при-
сущей ему неопределенности; с их помощью
нельзя вполне сговориться. Только через
указание акта, благодаря которому возника-
ет понятие, последнее вполне определяется.
Делай то, что я тебе говорю, и ты будешь
мыслить то, что я мыслю. Эта метода будет
соблюдаться нами без изъятий в дальнейшем
ходе нашего исследования. Так, может быть,
ты не прочь был бы включить в понятие Я
многое такое, чего я в него не включал, на-
пример понятие твоей индивидуальности, ибо
и последнее обозначается тем же словесным
знаком. Все это отныне будет тебе позволено;
но лишь то есть Я, о котором я здесь веду
речь, что возникает через одно только обра-
щение твоего мышления на тебя самого.
4. Выдвинутые положения, непосредствен-
ное выражение нашего только что сделанного
наблюдения могли бы вызывать сомнения
лишь при том условии, если бы они прини-
мались за нечто большее, чем за это непо-
средственное выражение. Я осуществляется,
говорю я, только через обращение мышления
133
на самого себя; и я говорю при этом исклю-
чительно о том, что может осуществляться
только через одно мышление, о том, что про-
исходит в моем сознании, если я мыслю так,
и что происходит в твоем сознании, если ты
мыслишь так, короче говоря, я веду речь
только о понятии Я. Здесь еще вовсе нет
речи о бытии Я вне понятия; в свое время
будет показано, может ли и в какой мере
может вообще возникнуть речь о таком бы-
тии. Поэтому, чтобы предохранить читателя
от всяких возможных сомнений и от всякой
опасности увидеть в ходе исследования при-
знанное положение взятым в таком смысле,
которого он не хотел бы признавать, к толь-
ко что выдвинутым положениям: Я есть не-
которое полагание самого себя и т. д., я при-
бавляю: для Я,
Вместе с тем я могу привести и причину
этой мнительности читателя, опасающегося,
как бы его не заставили признать слишком
многое, под условием, чтобы этим не давали
себя рассеивать, ибо все это не более как
случайное замечание, которое в сущности не
относится здесь к делу и приводится лишь
для того, чтобы ни на минуту не оставить
никакой неясности. Твое Я, как сказано,
осуществляется исключительно через обра-
щение твоего мышления на самого себя.
В некотором маленьком уголке твоей души
против этого заложено возражение — либо
такое: я должен мыслить, но прежде, чем я
смогу мыслить, я должен быть; либо такое:
134
я должен мыслить себя, обращаться на себя,
на то, что должно мыслиться, то, на что дол-
жно обращаться, должно быть прежде, чем
оно мыслится, и прежде, чем на него обра-
щаются. В обоих случаях ты постулируешь
некоторое независимое от мышления и от
бытия в мышлении (Gedachtsein) тебя само-
го и предпосылаемое ему наличное бытие
тебя самого; в первом случае — как мысля-
щего, во втором — как подлежащего мышле-
нию. При этом скажи-ка мне предварительно:
кто же это такой, кто утверждает, что до
твоего мышления ты должен существовать?
Это, без сомнения, ты сам, и это твое утвер-
ждение, без сомнения, есть мышление, и, как
ты далее, кроме того, утверждаешь и под
чем мы подписываемся обеими руками, необ-
ходимое, в этой связи навязывающееся тебе
мышление. Но вероятно, ты знаешь об этом
предпосылаемом мышлении лишь настолько,
насколько ты его мыслишь, и поэтому это
существование Я также есть не более как
положенность тебя самого через самого тебя.
Таким образом, в этом указанном тобой фак-
те содержится, если мы вникнем в него дос-
таточно внимательно, не более как следую-
щее: ты должен мысленно предпослать своему
теперешнему дошедшему до ясного сознания
самополаганию другое такое полаганиеу как
происходящее без ясного сознания, к како-
вому теперешнее относится и коим оно обус-
ловлено. Пока мы не покажем тебе плодо-
творного закона, по которому это так обсто-
135
ит, чтобы тебе не сбиться вследствие этого с
толку, довольствуйся пониманием того, что
приведенный факт не выражает ничего, кро-
ме того, что было указано.
II
Поднимемся на более высокую точку умо-
зрения:
1. Мысли себя и подмечай, как ты это
делаешь,— таково было мое первое требова-
ние. Ты должен был подмечать, чтобы по-
нимать меня (ибо я говорил о чем-то таком,
что могло быть только в тебе самом) и чтобы
в твоем собственном сознании найти как ис-
тинное то, что я тебе говорил. Это внимание,
направленное на нас самих в этом акте, было
общее нам обоим субъективное. Твой образ
действий в мышлении самого себя, который
был не иным и у меня, был тем, что ты под-
мечал, он был предметом нашего исследова-
ния — общее нам обоим объективное.
Теперь же я говорю тебе: подмечай твое
подмечание твоего самополагания; подмечай,
что ты делаешь сам в только что приведен-
ном исследовании и как это ты делаешь,
чтобы подмечать самого себя. Сделай то,
что доселе было субъективным, в свою оче-
редь объектом нового исследования, к кото-
рому мы теперь и приступаем.
2. Не так-то легко попасть в ту точку,
в которой здесь для меня суть дела, но не
136
попасть в нее — значит промахнуться окон-
чательно, ибо на ней покоится все мое уче-
ние. Да позволит мне поэтому читатель на-
править его с помощью некоторого вступле-
ния и поставить его возможно ближе перед
тем, что он должен наблюдать.
Когда ты имеешь сознание о каком-либо
предмете, пусть это будет тот же предмет —
находящаяся напротив стена, как ты только
что сознался, ты имеешь сознание, собствен-
но, о своем мышлении этой стены, и сознание
стены возможно, лишь поскольку ты имеешь
сознание о мышлении. Но чтобы иметь в
себе сознание о своем мышлении, ты должен
иметь сознание о себе самом. Ты имеешь
сознание о тебе самом, говоришь ты, следо-
вательно, ты необходимо различаешь твое
мыслящее Я от Я, мыслимого в мысли о нем.
Но чтобы это было возможно, мыслящее в
этом мышлении должно опять-таки быть
объектом некоторого высшего мышления, что-
бы быть в состоянии сделаться объектом
сознания; и ты получаешь вместе с тем но-
вого субъекта, который опять-таки имеет
сознание о том, что перед тем было само-
сознанием. Здесь я снова аргументирую так
же, как и прежде; и, раз мы начали умоза-
ключать, следуя этому закону, ты никогда
не сможешь указать мне такого места, где
мы должны были бы остановиться; таким
образом, для каждого сознания мы до бес-
конечности будем нуждаться в новом созна-
нии, объектом коего служит первое, и, таким
5 Фихте
137
образом, мы никогда не придем к тому, что-
бы быть в состоянии признать действитель-
ное сознание. Ты имеешь сознание о себе как
сознаваемом исключительно, поскольку ты
имеешь сознание о себе как о сознающем;
но тогда сознающее опять-таки становится
сознаваемым и ты должен снова иметь со-
знание о сознающем это сознаваемое и так
далее до бесконечности; и изволь-ка тут
усмотреть, как дойти до некоторого первого
сознания.
Короче говоря, таким способом безуслов-
но нельзя объяснить сознание. Или иначе,
каков был смысл только что приведенного
рассуждения и собственная причина того,
чему сознание было непостижимо на этом
пути? Вот каков: всякий объект доходит до
сознания исключительно при том условии,
что я имею сознание о себе самом, сознаю-
щем субъекте. Это положение неоспоримо.
Но в этом своем самосознании, утверждалось
далее, я сам для себя объект, и для субъек-
та, соотносительного этому объекту, опять-
таки имеет силу то, что имело силу для
предыдущего: он становится объектом и
нуждается в новом субъекте и так далее до
бесконечности. Следовательно, во всяком со-
знании субъект и объект были отделены друг
от друга и каждый рассматривался как нечто
обособленное, это и было причиной того,
что сознание оказывалось у нас непости-
жимым.
138
Но сознание как-никак существует; следо-
вательно, то утверждение должно быть при-
знано ложным. Оно ложно, это значит, его
противоположность имеет силу; следователь-
но, имеет силу следующее положение: су-
ществует такое сознание, в котором совсем
нельзя отделять субъективное и объективное,
но где они составляют абсолютно одно и то
же. Такое сознание было бы потому тем
самым, в чем мы нуждаемся, чтобы объяс*
нить сознание вообще. Не останавливаясь
на этом долее, мы возвращаемся теперь
без всякой предвзятости к нашему исследо-
ванию.
3. Когда ты мыслил, как мы от тебя тре-
бовали, то предметы, которые должны были
находиться вне тебя, то себя самого, ты, без
сомнения, знал, что (dass) ты мыслил и что
именно (was) и как ты мыслил, ибо об этом
мы могли разговаривать друг с другом, как
мы это делали выше.
Теперь, как ты пришел к этому сознанию
своего мышления? Ты ответишь мне: я знал
это непосредственно. Сознание моего мышле-
ния не есть для моего мышления нечто слу-
чайное, пристегнутое к нему и связанное с
ним только впоследствии, а нечто от него
неотделимое. Так ответишь ты и так должен
будешь ответить, ибо ты никак не можешь
представить себе свое мышление лишенным
сознания о нем.
Итак, прежде всего мы нашли такое со-
знание, какое мы только что искали, созна-
5*
139
ние, в котором непосредственно соединены
субъективное и объективное. Сознание о на-
шем собственном мышлении и есть это созна-
ние. Итак, ты непосредственно сознаешь свое
мышление; как представляешь ты себе это?
Очевидно, не иначе как следующим образом:
твоя внутренняя деятельность, направленная
на нечто вне ее лежащее (на объект мышле-
ния), протекает вместе с тем в ней самой и
направлена на самое себя. Но согласно вы-
шесказанному через возвращающуюся на
себя деятельность у нас возникает Я. Поэто-
му ты имел в своем мышлении сознание о
самом себе, и это самосознание и было именно
этим непосредственным сознанием о твоем
мышлении, все равно, мыслился ли какой-ни-
будь объект, или был мыслим ты сам. Следо-
вательно, самосознание непосредственно, в
нем субъективное и объективное неразрывно
объединены и составляют абсолютно единое.
Такого рода непосредственное сознание
обозначается научным термином созерцание,
и так намерены называть его и мы. Созер-
цание, о котором речь идет здесь, есть пола-
гание себя как полагающего (нечто объек-
тивное, которым могу быть и я сам как чи-
стый объект), и отнюдь не чистое полагание,
ибо через последнее мы попали бы в только
что указанную невозможность объяснить со-
знание. Самое важное для меня — быть по-
нятым относительно этой точки, которая со-
ставляет основание всей предположенной
здесь к изложению системы, и убедить в нем.
140
Всякое возможное сознание как объек-
тивное некоторого субъекта предполагает не-
посредственное сознание, в котором субъек-
тивное и объективное суть, безусловно, одно
и то же, иначе сознание абсолютно непости-
жимо. Беспрерывно будут искать связи меж-
ду субъектом и объектом, и будут искать
напрасно, если не постигнуть их непосред-
ственно в их первоначальном единстве. По-
этому всякая философия, исходящая не из
той точки, в которой они объединены, необ-
ходимо поверхностна и неполна и не может
объяснить того, что она должна объяснить,
а потому совсем и не есть философия.
Это непосредственное сознание есть толь-
ко что описанное созерцание Я; в нем Я по-
лагает необходимо самого себя, и поэтому
субъективное и объективное слиты в нем во-
едино. Всякое другое сознание прикреплено
к этому и им опосредствовано; оно, безус-
ловно, возможно и просто-напросто необхо-
димо, если должно иметь место какое бы то
ни было другое сознание. Я должно быть
рассматриваемо не как чистый субъект, как
его до сих пор почти везде рассматривали, а
как субъект-объект в указанном смысле.
Теперь речь идет здесь не об ином каком
бытии Я, как о бытии его в описанном са-
мосозерцании или, выражаясь еще точнее, о
бытии самого этого созерцания. Я есмь это
созерцание и абсолютно ничего более, и это
созерцание само есть Я. Через это полагание
самого себя отнюдь не должно быть произ-
141
ведено бытие Я как некоторой существующей
независимо от сознания вещи в себе, како-
вое утверждение, без сомнения, было бы ве-
личайшей из нелепостей. Столь же мало это-
му созерцанию предпосылается независимое
от сознания существование Я как (созерцаю-
щей) вещи, что, по моему мнению, было бы
не меньшей нелепостью, несмотря на то что
этого, конечно, не следовало бы говорить, так
как известнейшие мудрецы нашего философ-
ского века держатся этого мнения. Такого
рода существования, говорю я, не следует
предполагать, ибо так как вы не можете го-
ворить ни о чем таком, о чем вы не имеете
сознания, а все, о чем вы имеете сознание,
обусловлено указанным самосознанием, то вы
не можете допустить, чтобы нечто опреде-
ленное, что вы сознаете, именно долженст-
вующее быть независимым от всякого созер-
цания и мышления существование Я, в свою
очередь обусловливало указанное самосозна-
ние. Вы должны будете или признать, что
говорите о том, что не знаете, что вы вряд
ли сделаете, или вы должны будете отри-
цать, что указанное самосознание обусловли-
вает всякое другое сознание, что для вас,
если только вы поняли меня, должно быть
просто-напросто невозможным. Таким обра-
зом, здесь становится ясным также и то, что,
принимая наше первое положение, неизбеж-
но становятся не только относительно при-
веденного, но и в отношении всех возможных
случаев на точку зрения трансценденталь-
142
ного идеализма и, что одно и то же, пони-
мать первое или быть убежденным в по-
следнем.
Итак, интеллигенция созерцает самое себя
исключительно (bloss) как интеллигенцию
или как чистую интеллигенцию, и в этом са-
мосозерцании именно и состоит ее сущность.
Это созерцание поэтому на случай, если дол-
жен существовать еще какой-нибудь другой
род созерцания, с полным правом в отличие
от последнего называется интеллектуальным
созерцанием. Вместо слова «интеллигенция»
я предпочитаю пользоваться наименованием
«яйность» (Ichheit), ибо оно для каждого,
кто способен хоть к малейшей наблюдатель-
ности, непосредственнее всего обозначает об-
ращение деятельности на самое себя *.
(30, стр. 509—518)
ИЗ «ОСНОВ ОБЩЕГО НАУКОУЧЕНИЯ»
Мы должны отыскать абсолютно первое,
совершенно безусловное основоположение
всего человеческого знания. Быть доказано
• С недавнего времени, чтобы выразить это же понятие, часто
пользуются словом сам (selbst). Насколько я правильно произ-
вожу, все семейство, к которому принадлежит ѳто слово, например:
самый (selbiger), тот же самый (derselbe) и т. д., овначает
некоторое отношение к уже положенному, н притом исключительно,
поскольку оно положено через одно только свое понятие. Если ето
положенное семь Я, то образуется слово сам (selbst). Поэтому сам
предполагает понятие Я; и все, что мыслится в нем об абсолют-
ности, заимствовано нз этого понятия. В популярном изложении
слово сам, может быть, потому удобнее, что оно вообще сообщает
понятию Я, всегда смутно мыслимому вместе с ним, некоторое осо-
143
или определено оно не может, раз оно долж-
но быть абсолютно первым основоположе-
нием.
Оно должно выражать собой то дело-дей-
сгвые (Thathandlung), которое не встречает-
ся и которого нельзя встретить среди эмпи-
рических определений нашего сознания, ко-
торое, напротив того, лежит в основании
всякого сознания, и только оно делает его воз-
можным*. При изложении такого дела-дей-
ствия следует опасаться не столько того, что
при этом не будет мыслиться то, что нужно
мыслить, ибо об этом позаботилась уже при-
рода нашего духа, сколько того, что при этом
будет мыслиться то, чего не следует мыс-
лить. Это делает необходимую рефлексию о
том, что можно было бы, пожалуй, сначала
признать за такое дело-действие и отвлече-
ние от всего того, что к нему в действитель-
ности не относится...
бенное ударение, в котором, конечно, может нуждаться обыкновен-
ный читатель; в научном же обиходе понятие, мне кажется, должно
называться своим непосредственным н ему свойственным обозна-
чением. А какая цель должна быть достигнута тем, что оба поня-
тия, понятие самого и понятия Я, противопоставляются друг другу
как различные и из первого выводится возвышенное учение, а на
второго — достойное презрения, как это недавно имело место в
одном сочинении, рассчитанном на широкую публику, автор кото-
рого должен был знать, по крайней мере хоть исторически, что
последнее слово берется еще и в другом значении и что на поня-
тии, обозначаемом им в этом значении, построена система, отнюдь
не содержащая этого достойного презрения учения; какая цель
должна быть достигнута этим,— этого совершенно невозможно уяс-
нить себе, если не хочешь и не можешь предположить какое-
нибудь злое намерение.
* Это упускается из виду всеми теми, кто по этому поводу
замечает что-либо, что высказывается первым основоположением,
не встречается среди фактов сознания либо же оно противоречит им.
144
Приступая к этому размышлению, мы
должны отправиться от какого-либо такого
положения, которое не откажется признать
каждый человек. Таких положений могло бы
быть, конечно, и несколько. Размышление
свободно; и не имеет значения, из какой точ-
ки оно исходит. Мы избираем такое положе-
ние, от которого до нашей цели всего короче
расстояние.
Раз только это положение будет призна-
но, вместе с ним должно быть признано как
дело-действие также и то, что мы хотим по-
ложить в основу всего наукоучения; и раз-
мышление должно показать, что его, как та-
ковое, надлежит признать одновременно с
этим положением. Мы установим какой-ни-
будь факт эмпирического сознания, и затем
одно за другим от него будут отделяться
эмпирические определения, пока не останет-
ся лишь то, чего уже безусловно нельзя от-
мыслить прочь и от чего далее уже ничего
более нельзя отделить.
1. Положение А есть А (то же, что и
А—А, так как таков смысл логической связ-
ки) признается каждым, и притом безо вся-
кого размышления над ним; оно признается
за нечто совершенно достоверное и установ-
ленное.
Но если бы кто-нибудь стал требовать
его доказательства, то в ответ на это мы не
прибегли бы к доказательству, а сказали бы,
что это положение безусловно достоверно,
т. е. без всякого дальнейшего основания на
145
то. Отвечая так и вызывая тем, без сомне-
ния, всеобщее одобрение, мы приписываем
себе этим способность полагать нечто безус-
ловным образом.
2. Утверждением, что только что приве-
денное положение достоверно, не утверждает-
ся того, что А существует. Положение А
есть А не однозначаще с положением А есть
или существует некоторое А. (Бытие, пола-
гаемое без предиката, выражает собой нечто
совсем другое по сравнению с бытием, кото-
рое полагается с предикатом, о чем смотри
ниже.) Положим, А означает заключающее-
ся между двумя линиями пространство; в та-
ком случае первое положение остается по-
прежнему истинным, тогда как положение А
есть было бы явно ошибочным. Но этим мы
утверждаем: если А есть, то есть А. Следо-
вательно, о том, есть ли А вообще или нет,
вовсе не поднимается вопроса. Вопрос каса-
ется не содержания положения, а только его
формы. Спрашивается не о том, о чем что-
либо известно, а о том, что известно о ка-
ком-либо предмете, что бы это ни был за
предмет.
Следовательно, утверждением, что выше-
приведенное положение безусловно достовер-
но, установляется то, что между таким если
и таким то существует необходимая связь.
Необходимая связь между ними и есть то,
что полагается безусловно и без всякого
дальнейшего основания. Предварительно я
буду называть эту необходимую связь = X.
14$
3. Относительно того, существует ли само
А или не существует, этим еще ничего не по-
лагается. Таким образом, возникает вопрос
о том, при каком же условии А существует:
а) X по меньшей мере полагается в Я и
через посредство Я, ибо в вышеупомянутом
суждении судит ведь Я, и судит согласно X
как некоторому закону. Этот последний, сле-
довательно, дан Я, а так как он устанавли-
вается безусловно и без всякого дальнейшего
на то основания, то он должен быть дан Я
самим же Я;
в) о том, полагается ли А вообще и как
оно полагается, мы ничего не знаем. Но так
как X должно означать собой некоторую
связь между неизвестным полаганием А и
некоторым при условии такого полагания аб-
солютным полаганием того же самого А, то
по меньшей мере, поскольку такая связь по-
лагается, А полагается в Я vi через посред-
ство Я, точно так же как и X. X возможно
лишь в отношении к какому-нибудь А, но X
действительно полагается в Я; стало быть,
и А должно полагаться в Я, поскольку с
ним соотнесено X;
с) X стоит в отношении к тому А, кото-
рое в вышеуказанном положении занимает
логическое место субъекта, а равно и к то-
му А, которое занимает там логическое ме-
сто предиката, ибо оба они воссоединяются
через X. Стало быть, оба они, поскольку
они полагаются, полагаются в Я; и то
из них, которое стоит в роли предиката,
147
полагается безусловно на том условии,
что полагается также и то, которое сто-
ит в роли субъекта. Соответственно это-
му вышеуказанное положение может быть
выражено также следующим образом: если
А полагается в Я, оно полагается или же оно
существует.
4. Таким образом, Я через посредство χ
полагает следующее: А есть в наличности
для судящего Я безусловно и исключительно
в силу его положенности в Я вообще, т. е.
им полагается, что в Я — будет ли оно преи-
мущественно полагающим, или судящим,
или еще каким — есть нечто, что равно себе
всегда, что всегда остается одним и тем
же. И безусловно полагаемое X можно выра-
зить также следующим образом: Я = Я;
Я есмь Я.
5. Путем такой операции мы уже достиг-
ли незаметным образом положения Я есмъ
(правда, не как выражения некоторого дела-
действия, но все же как выражения некото-
рого факта).
Ибо X полагается безусловно,— это факт
эмпирического сознания. X же равно поло-
жению Я есмь Я; следовательно, и это по-
ложение полагается безусловно.
Но положение Я есмь Я, имеет совсем
другое значение, чем положение А есть А,
А именно это последнее положение обладает
содержанием лишь при некотором определен-
ном условии. Если А полагается, то оно как
А полагается, конечно, вместе с предикатом
148
А. Но этим положением совершенно еще ни-
чего не решается относительно того, пола-
гается ли оно вообще, следовательно, пола-
гается ли оно с каким-либо предикатом. По-
ложение же Я есмь Я имеет безусловную и
непосредственную значимость, так как оно
тождественно положению X*; оно имеет зна-
чимость не только по форме, но также и по
своему содержанию. Им Я полагается не под
условием, а, как таковое, с предикатом его
равенства самому себе. Оно, стало быть, по-
ложено; и положение может быть также вы-
ражено следующим образом: Я есмь...
6. Возвратимся к той точке, из которой
мы вышли:
а) положением А=А осуществляется
суждение. Всякое же суждение есть согласно
эмпирическому сознанию некоторое действие
человеческого духа, ибо оно обладает в эм-
пирическом самосознании всеми условиями
действия, которые в целях рефлексии нуж-
но предполагать известными и установлен-
ными;
в) в основании же этого действия лежит
нечто в свою очередь уже не основывающе-
еся ни на чем более высоком, именно Х = Я
есмь;
с) следовательно, нечто безусловным об-
разом положенное и на себе самом основан*
• Т. е., выражаясь совсем просто, Я, полагающее А в роли
предиката, благодаря тому что оно полагается в роли субъекта,
знает необходимым образом о своем субъектоположенни, стало
быть о самом себе, зрит вновь себя самого, есть для себя самого
оно само.
149
ное есть основание некоторого достоверного
(и, как то станет ясно по изложению всего
наукоучения, всякого) действия человеческо-
го духа, стало быть, являет собой его чистый
характер, чистый характер деятельности, как
таковой, оставляя в стороне ее отдельные эм-
пирические условия.
Значит, положение Я самим собой есть
его чистая деятельность. Я полагает себя са-
мого, и оно есть только благодаря этому са-
моположению. И наоборот, Я есть, и оно по-
лагает свое бытие благодаря только своему
бытию. Оно является в одно и то же время
и тем, что совершает действие, и продук-
том этого действия, действующим началом и
тем, что получается в результате этой дея-
тельности. Действие и дело суть одно и то
же, и потому Я есмь есть выражение неко-
торого дела-действия, и притом дела-дейст-
вия единственно только и возможного, как
то должно выясниться из всего наукоуче-
ния...
(30, стр. 67-72)
ИЗ «ОСНОВ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА
ПО ПРИНЦИПАМ НАУКОУЧЕНИЯ»
I...Первый договор о собственности вооб-
ще, включенный в государственный договор,
обосновывает правовое отношение каждого
отдельного [лица] по отношению ко всем от-
дельным [лицам] в государстве и тем самым
150
составляет основу того, что называют граж-
данским законодательством, гражданским
правом и т. п. Нам, следовательно, надлежит
рассмотреть лишь этот договор во всей пол-
ноте, и тогда предмет нашего исследования
в настоящем разделе, гражданское законо-
дательство, будет исчерпан.
Как было показано выше, содержанием
первоначального права является длительное,
зависящее исключительно лишь от воли лич-
ности взаимодействие ее с чувственным
миром вне ее. В договоре о собственности каж-
дому отдельному [лицу] исключительно при-
сваивается определенная часть этого чувст-
венного мира в качестве сферы его взаимо-
действия при соблюдении двух условий: он
оставляет ненарушенной свободу всех осталь-
ных в их сферах и гарантирует ее, оказывая
помощь в защите в случае покушения на нее
со стороны третьего [лица].
Первоначально ему присвоена сфера его
свободы, как таковая, и ничего более. Эта
сфера содержит ряд объектов, определенных
предоставленной ему свободой. В тех преде-
лах, в которых распространяется эта его сво-
бода, и не далее, распространяется и его пра-
во собственности на эти объекты. Он их по-
лучает исключительно для определенного
употребления; и только из этого употребле-
ния и из всего, что не благоприятствует это-
му употреблению, он имеет право исключать
каждого. Определенная деятельность есть
объект договора о собственности.
151
(Вспомним сказанное выше. Первой ос-
новой всякой собственности согласно поня-
тию первоначального права является то, что
я нечто подчинил моим целям. Каким же це-
лям? Этот вопрос встает перед каждым при
заключении гражданского договора, который
целиком должен быть определенным и опре-
деляющим. Гарантируется лишь эта объяв-
ленная и признанная цель в вещах и ничего
более, а [право] собственности на объекты
распространяется лишь на достижение этой
цели, что очевидно.)
II. Эти цели в свою очередь могут быть
различными даже при использовании одного
и того же объекта и, следовательно, очень
различными для разного рода объектов.
Спрашивается: нельзя ли все возможные
цели гражданина все же подчинить одной
единственной цели?
Личность, поскольку она действует, всегда
предполагает свое собственное дальнейшее
существование; цель ее нынешнего действия
всегда лежит в будущем; и она является при-
чиной в чувственном мире лишь в такой
мере, в какой она ведет от нынешнего момен-
та к будущему. Свобода и дальнейшее суще-
ствование существенно связаны, и, кто га-
рантирует первое, тот необходимо гаранти-
рует и второе. В нынешней деятельности
содержится будущее.
Природа определила людей (мы имеем
здесь дело только с ними) для свободы, т. е.
для деятельности. Природа достигает всех
152
своих целей, следовательно, она и эту цель
надежно обеспечила и, по всей видимости,
действительно ее достигнет. Какую же систе-
му она могла представить, чтобы побудить
людей к деятельности?
Предположим, что каждый человек имеет
желания на будущее, тогда природа наверня-
ка достигла бы своей цели, сделав так, что-
бы возможность будущего вообще была об"
условлена для этого существа его нынешней
деятельностью. И наоборот, в желании бу-
дущего тогда содержалась бы необходимость
нынешней деятельности. Будущее было бы
обусловлено нынешней деятельностью; в ны-
нешней деятельности с необходимостью охва-
тывалось бы будущее.
Но так как могли бы быть даже люди,
не имеющие никаких пожеланий на будущее,
то и жажда дальнейшего существования об-
основана не чем иным, как нынешней дея-
тельностью, которая сама же опять обуслов-
лена пожеланием будущего; поскольку, сле-
довательно, система природы оказалась
порочным кругом, она должна объединить то
и другое в чем-то третьем, нынешнем; тако-
вым и является страдание (Schmerz). Если
дальнейшее существование в опасности, то со
страданием в настоящем связаны и нынеш-
няя деятельность, и желание, и возможность
дальнейшего существования. Это страда-
ние— голод и жажда; и оказывается, что
только потребность питания является пер-
153
вичной движущей силой, а ее удовлетворе-
ние— последней конечной целью государства
и всей человеческой жизни и деятельности;
само собой понятно, что, до тех пор пока че-
ловек остается исключительно под руковод-
ством природы и не возвышается благодаря
свободе до более высокого существования,
только эта потребность и составляет высший
синтез, объединяющий все противоречия. Та-
ким образом, высшая и всеобщая цель вся-
кой свободной деятельности — возможность
жить. Эту цель имеет каждый; и, поскольку
свобода вообще гарантируется, гарантирует-
ся и эта цель. Без ее достижения была бы
совершенно невозможна свобода, как и даль-
нейшее существование личности.
III. Итак, мы получаем более точное оп-
ределение признанного в договоре о собст-
венности за каждым отдельным [лицом] пра-
ва пользования свободой. Возможность жить
есть абсолютная неотчуждаемая собствен-
ность всех людей. Мы видели, что ему, [ли-
цу], придана определенная сфера объектов
исключительно для определенного употреб-
ления. Но конечная цель этого употребле-
ния— возможность жить. Достижение этой
цели гарантируется — это и есть дух догово-
ра о собственности. Принципом всякого раз-
умного государственного устройства являет-
ся: каждый должен иметь возможность жить
своим трудом.
Все отдельные [лица] заключили этот до-
говор со всеми отдельными [лицами]. Следо-
154
вательно, все обещали всем, что их труд дей-
ствительно должен быть средством для до-
стижения этой цели; и государство должно
для этого предпринять соответствующие
меры. (У народа голых право заниматься
портняжным ремеслом не было бы правом;
или же если оно должно стать правом, то
этот народ должен перестать ходить голым.
То, что мы предоставляем тебе право зани-
маться такой работой, означает, что мы обя-
зуемся купить ее у тебя.)
Далее. Всякое право собственности осно-
вывается на договоре всех со всеми, который
гласит так: мы все владеем этим при усло-
вии, что [тебе] оставляем твое. Если кто-то
не может жить своим трудом, то ему не пре-
доставлено того, что принадлежит только
ему; следовательно, договор полностью лик-
видируется в отношении его, и начиная с это-
го момента он уже юридически не обязан
признавать собственность какого-либо чело-
века. А чтобы из-за него не наступила эта
непрочность собственности, все должны, ис-
ходя из закона и вследствие гражданского
договора, отдать своего столько, чтобы он
мог жить. С того момента, когда кто-либо
испытывает нужду, никому уже больше не
принадлежит та часть его собственности, ко-
торая требуется в качестве взноса, чтобы из-
бавить другого от нужды, а эта часть по пра-
ву принадлежит нуждающемуся. В граждан-
ском договоре с самого начала должны быть
предусмотрены определенные меры для та-
155
кого распределения (Répartition); и этот
взнос в той же степени условие всего граж-
данского права, как и участие в органе,
защищающем [собственность], ибо такая под-
держка нуждающегося сама является частью
необходимой защиты. Каждый как гражда-
нин владеет своей собственностью лишь на*
столько и при условии, что все граждане го-
сударства могут жить на свои [средства];
если же они не могут [на них] жить, то она
как собственность гражданина исчезает и
становится собственностью всех, разумеется
всегда после решения государственной вла-
сти. Исполнительная власть столь же отве-
чает за это, как и за все другие отрасли
государственного управления, а бедняк—разу-
меется, тот, кто заключил гражданский до-
говор,— имеет абсолютное принудительное
право на поддержку.
IV. Каждый должен иметь возможность
жить своим трудом — гласит установленный
принцип. Таким образом, возможность жить
обусловлена трудом, и там, где это условие
не выполнено, такого права нет. Поскольку
все отвечают за то, чтобы каждый мог жить
своим трудом, и должны ему помочь, если он
не имеет такой возможности, то они с необ-
ходимостью имеют право надзора над тем,
работает ли каждый в своей сфере столько,
сколько нужно для жизни, и передают это
право государственной власти, ответственной
за совместные права и дела. Никто не имеет
156
права претендовать на помощь государства,
пока он не докажет, что в своей сфере сде-
лал все возможное для своего обеспечения
и что последнее все же оказалось для него
невозможным. Но так как и в этом случае
нельзя было бы дать ему погибнуть и упрек,
что его не принудили к труду, возвратил-
ся бы в адрес государства, то оно с необ-
ходимостью имеет право надзора над тем,
как каждый в качестве гражданина государ-
ства использует свою собственность. Со-
гласно изложенному выше принципу в разум-
ном государстве не должно быть бедных,
а согласно последнему принципу — не долж-
но быть и тунеядцев. Правовое исключение
из последнего положения будет рассмотрено
ниже.
V. Итак, договор о собственности охва-
тывает следующие действия: а) все показы-
вают всем,— при гарантии и целому, напри-
мер общине,— на основе каких средств они
намерены жить. Это положение не знает ис-
ключений. Кто этого не может показать, тот
не может быть гражданином государства, по-
скольку он не может быть связан обязатель-
ством признать собственность других; б) все,
а при гарантии и община разрешают каждо-
му заниматься этой деятельностью исключи-
тельно при определенных условиях: никакого
промысла в государстве без вознаграждения
последнего; каждый должен точно указать
свое занятие; и никто, таким образом, не ста-
новится вообще гражданином государства, а
157
как только он вступает в государство, стано-
вится одновременно и членом определенного
класса граждан; нигде не должно быть неоп-
ределенности; каждый владеет объектами
лишь постольку, поскольку он в этом нуж-
дается для осуществления своей деятельно-
сти; в) цель всего этого труда — возмож-
ность жить. Все — при гарантии общины —
ручаются каждому, что его труд достигнет
этой цели, и объединяются для этого всеми
своими средствами. Эти средства принадле-
жат полному праву каждого, которое долж-
но охраняться государством. В этом отноше-
нии договор гласит: каждый из всех обещает
сделать все для него возможное, чтобы су-
меть жить посредством предоставленных ему
свобод и прав; в ответ на это община обе-
щает от имени всех отдельных [лиц] отдать
ему еще больше, если бы он все же не смог
[на этой основе] жить. Для этого все отдель-
ные [лица] обязуются вносить взносы, подоб-
но тому как они сделали это для защиты во-
обще; и, как только согласно гражданскому
договору возникает охраняющая власть, со-
здается и учреждение, оказывающее помощь.
Участие в первом, как и во втором, есть ус-
ловие вступления в государство. Государст-
венная власть осуществляет высший надзор
над этой частью договора, равно как и над
всеми его частями, и обладает как правом,
так и властью принуждать каждого к его
выполнению...
(14, стр. 210-215)
158
ИЗ «СИСТЕМЫ УЧЕНИЯ
О НРАВСТВЕННОСТИ ПО ПРИНЦИПАМ
НАУКОУЧЕНИЯ»
В заключение мы резюмируем совокуп-
ную конечную цель человека, поскольку он
рассматривается как индивидуум.
Последняя цель всей его деятельности в
обществе заключается в том, что все люди
должны прийти к согласию; но все согласны
лишь относительно чисто разумного, ибо это
единственно общее для всех них. При нали-
чии такого согласия отпадает различие меж-
ду ученой и неученой публикой. Отпадают
церковь и государство. Все имеют одинако-
вые убеждения, и убеждение каждого есть
убеждение всех. Отпадает государство как
законодательная и принуждающая власть.
Воля каждого есть действительно всеобщий
закон, ибо все остальные хотят то же самое;
и нет необходимости в принуждении, ибо
каждый уже сам по себе хочет то, что он дол-
жен. К этой цели должно быть направлено
все наше мышление и действие и даже наше
индивидуальное образование: не мы сами яв-
ляемся нашей конечной целью, а ею являют-
ся все. Если же эту цель, хотя и недостижи-
мую, представить себе достигнутой, что же
тогда случилось бы? Каждый стал бы своими
индивидуальными силами столь хорошо, как
он может, согласно общей воле целенаправ-
ленно преобразовывать природу для ее
разумного использования. Тем самым, дейст-
159
вительно, то, что делает один, шло бы [на поль-
зу] всем и то, что делают все, шло бы [на поль-
зу] каждому в отдельности; ибо у них дей-
ствительно только одна цель. Это так уже
теперь, но лишь в идее. Каждый должен во
всем, что он делает, думать о всех; но именно
поэтому он многое не должен делать, ибо он
не может знать, хотят ли они этого. Тогда
же каждый сможет делать все, что он хочет,
ибо все хотят то же самое...
(20, стр. 252—253)
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Абуш А. 104, 113
Альбрехт Э. 48
Асмус В. Ф. 63
Бокль Г. Т. 56
Вольф X. 59
Гарве X. 44, 59
Гегель Г. В. Ф. 16, 36,
56, 66-68, 76, 111
Гейне Г. 22. 106
Гёльдерлнн И. X. Ф. 35,
36
Гёте К В. 18, 50
Гораций 57
Декарт Р. 56, 58
Каландаришвили Г. М.
67
Кант И. 16, 18, 22, 25,
31—33, 43-45, 47,
48, 52, 57, 58, 67—
69, 76, 79, 100, 107,
111-113
Клейст Г. 105
Кондорсс Ж. А. 87
Ленин В. И. 31, 69
Литт Т. 111, 112
Локк Д. 57, 58
Лютер М. 109. 110
Маркс К. 15, 38, 48, 51,
68, 107, 108, 110
Мендельсон М. 59
Монтескье Ш. 52
Наполеон Бонапарт 19,
28, 42, 102, 103, 105
Ойзерман Т. И. 67
Рист И. Г. 34
Робеспьер М. 83, 86, 87,
89, 90
Руссо Ж.-Ж. 14, 49, 52—
55, 58, 83, 90
Фейербах А. 34, 35
Фейербах Л. 34
Фишер К. 27
Форберг К. 33
Шеллинг Ф. 36, 69, 70
Энгельс Ф. 14, 38, 112
Юнг Ф. В. 30
ЛИТЕРАТУРА
1. Маркс К. Философский манифест исторической
школы права. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1.
2. Маркс К. К критике гегелевской философии пра-
ва. Введение. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1.
3. Маркс К. К еврейскому вопросу. К. Маркс
Ф. Энгельс. Соч., т. 1.
4. Маркс К. Тезисы о Фейербахе. К. Маркс и Ф. Эн-
гельс. Соч., т. 3.
5. Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта.
К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 8.
6. Маркс К. и Энгельс Ф. Немецкая идеология.
К. Маркс и CD, Энгельс. Соч., т. 3.
7. Маркс К. и Энгельс Ф. Манифест Коммунистиче-
ской партии. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 4.
8. Энгельс Ф. Положение в Германии. К. Маркс и
Ф. Энгельс. Соч., т. 2.
9. Энгельс Ф. Введение к английскому изданию
«Развития социализма от утопии к науке».
К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 22.
10. Энгельс Ф. Письмо Ф. Мерингу от 14 июля
1893 г. К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные про-
изведения в двух томах, т. II, М., 1955.
11. Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм.
Поли. собр. соч., т. 18.
* *
*
12. Fichte J. С. Aus dem Entwürfe zu einer politischen
Schrift im Frühling 1813. J. G. Fichtes Sämmtliche
162
Werke, hrsg. von I. H. Fichte. Berlin, 1845—1846.
Bd. VII.
13. Fichte ]. G. Beitrag zur Berichtigung der Urteile
des Publikums über die französische Revolution
(1793). Sämmtliche Werke, Bd. VI.
14. Fichte /. C. Grundlage des Naturrechts nach Princi-
pien der Wissenschaftslehre (1796). Sämmtliche
Werke, Bd. III.
15. Fichte /, С J. G. Fichtes gerichtliche Verantwortung
gegen die Anklage des Atheismus (1799), Sämmtliche
Werke, Bd. V.
16. Fichte J. G. Rede an seine Zuhörer bei Abbrechung
der Vorlesungen über die Wissenschaftslehre am 19.
Februar 1813. Sämmtliche Werke, Bd. IV.
17. Fichte J. C. Reden an die deutsche Nation zu Berlin
(1808). Sämmtliche Werke, Bd. VII.
18. Fichte J. G. Rückerinnerungen, Antworten, Fragen
(1799). Sämmtliche Werke, Bd. V.
19. Fichte /. С Die Staatslehre, oder über das Verhält-
niss der Urstaates zum Vernunftreiche, in Vorlesun-
gen gehalten im Sommer 1813 auf der Universität zu
Berlin. Sämmtliche Werke, Bd. IV.
20. Fichte J. G. Das System der Sittenlehre nach den
Principien der Wissenschaftslehre (1798). Sämmtliche
Werke, Bd. IV.
21. Fichte J. G. Über die Bestimmung des Menschen in
der Gesellschaft (1794). Sämmtliche, Werke, Bd. VI.
22. Fichte /. С Zurückforderung der Denkfreiheit von
den Fürsten Europas, die sie bisher unterdrückten
(1793). Sämmtliche Werke, Bd. VI.
23. Fichte J. G. Über das Verhältnis der Logik zur
Philosophie oder transzendentale Logik. Vorlesungen,
gehalten von Michaelis bis Weihnachten 1812. Nachge-
lassene Werke, hrsg. von I. H. Fichte, Bonn 1834,
Bd. 1.
24. Fichte ]. G. Über den Unterschied des Geistes und
des Buchstabens in der Philosophie. Hrsg. von Sieg-
fried Berger. Leipzig 1924.
25. Fichte ]. G. Ausgewählte Texte, «Philosophische
Erbe», Berlin, 1962.
26. Fichte /. C. Briefe. «Reclarn», Berlin, o. J.
163
27. Fichte J. G. Briefwecksel, hrsg. von Hans Schulz.
Leipzig, 1930, Bd. Ï.
28. Fichte ]. G. Briefwecksel, hrsg. von Hans Schulz.
Leipzig, 1930, Bd. II.
29. Фихте Я. Г. Замкнутое торговое государство. М.,
1923.
30. Фихте Я. Г. Избр. соч., т. 1, М., 1916.
31. Фихте И. Г. К вечному миру. Философский про-
ект Иммануила Канта (1796). Сб. «Трактаты о
вечном мире». М, 1963.
32. Фихте И. Г. Назначение человека. Спб., 1905.
33. Фихте Я. Л О назначении ученого. М„ 1935.
34. Фихте Я. Г. Основные черты современной эпохи.
Спб., 1906.
35. Фихте Я. Г. Ясное, как солнце, сообщение широ-
кой публике о подлинной сущности новейшей фи-
лософии. Попытка принудить читателей к понима-
нию. М., 1937.
* *
*
36. Абуш А. Ложный путь одной нации. М., 1962.
37. Боклъ Г. Т. История цивилизации в Англии. Спб.,
1906.
38. Гегель Г. В. Ф. Философия истории. Соч., т. VIII,
М.—Л., 1935.
39. Гейне Г. К истории религии и философии в Гер-
мании. Собр. соч., т. 6, М., 1958.
40. Каландаришвили Г М. Диалектика в «Основах
общего наукоучения» И. Г. Фихте. Тбилиси, 1963.
41. Кант Я. Критика практического разума. Соч.,
т. 4, ч. 1, М., 1965.
42. Локк Д. Опыт о человеческом разуме. Избранные
философские произведения в двух томах, т. 1, М.,
1960.
43. Ойзерман Т. Я. Фихте. М., 1960.
44. Робеспьер М. Революционная законность и пра-
восудие. Статьи и речи. М., 1959.
45. Фишер К. История новой философии, т. VI, Спб.,
1909.
46. Albrecht Е. Die Beziehungen zwischen Erkentnisstheo-
rie und Sozialkritik im deutschen Idealismus und in
164
der klassischen russischen Philosophie des 19.
Jahrshunderts. Sonderdruck des Wissenschaftlichen
Zeitschrift der Universität Rostock, 1952.
47. Flitner W. Die Freiheit als pädagogisches Problem,
«Das Parlament». Bonn, 1959.
48. Carve Chr. Übersicht der vornehmsten Prinzipien der
Sittenlehre. Breslau, 1798.
49. Culyga A. W. Der «Atheismusstreit» und der streit-
bare Atheismus in den letzten Jahrzehnten des 18.
Jahrhundert in Deutschland. «Wissen und Gewissen»,
hrsg. von Manfred Buhr. Berlin, 1962.
50. Feuerbach L. Leben und Wirken Anselm von Feuer-
bach, 1852, Bd. I.
51. Fichte in vertraulicher Briefen seiner Zeitgenossen,
hrsg. von Hans Schulz. Leipzig, 1923.
52. Forberg K. Fragmente aus meinen Papieren. Jena,
1796.
53. Hölderlin I. Ausgewählte Briefe. Jena, 1910.
54. Immermans Werke, hrsg. von Harry Maync. Leipzig,
o. J.f Bd. V.
55. /. Kant's Briefe. Gesammelte Schriften. Berlin und
Leipzig, 1922, Bd. XI, Teil 2.
56. /. Kant's Briefe, Gesammelte Schriften. Berlin und
Leipzig, 1922, Bd. XII.
57. Kant I. Erklährung in Beziehung auf Fichtes Wissen-
schaftslehre, «Intelligcntzblatt der Allgemeinen Lite-
laturzeitung», N 109. 28 August 1799.
58. Kienner H. Das Recht auf Arbeit bei Johann
Gottlieb Fichte, in «Festschrift für Erwin Jacobi».
Berlin, 1957.
59. Litt Th, Tradition, Vernunft, Freicheit, «Das Parla-
ment». Hamburg, 1953.
60. Luther M. Über die Freicheit eines Christenmenschen,
Werke, hrsg. von Buchwald u. a. Berlin/, 1905, Bd. I.
61. Oiserman T. I. Die Dialektic in der Philosophie Jo-
gann Gottlieb Fichtes. «Wissen und Gewissen», hrsg.
von Manfred Buhr. Berlin, 1962.
62. Schelling F. Zur Geschichte der neueren Philosophie,
Darmstadt, 1953.
63. IVundt M. Johann Gottlieb Fichte. Stuttgart, 1927.
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие 7
Введение 13
ВЕХИ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА 17
ЛИЧНОСТЬ ФИХТЕ 22
ФИХТЕ И ОСНОВНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ЭПОХИ 38
ИСХОДНАЯ ПОЗИЦИЯ 50
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ (наукоуче-
ние) 61
ДИАЛЕКТИКА 67
ПРАКТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 78
Теория государства. Право на революцию. . —
Идеи социальной справедливости 90
Вопросы войны и мира. Борьба за единство
немецкой нации .... 100
Заключение 106
Приложение. ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ФИХТЕ 115
Указатель имен 161
Литература 162
Бур Манфред
ФИХТЕ. Пер. с нем. Я. Фогелера. Общ. ред.
н преднел. А. Гулыги. М., „Мысль", 1965.
166 с. (Мыслители прошлого).
1Ф
Редактор В. И. Баш и лов
Младший редактор 7\ В. Яглоѳа
Оформление серии В. А. Носкова
Художественный редактор Д. А. Аникеев
Технический редактор Л. /f. Уланова
Корректоры И. /*. Севастьянова t Ε· С. Горохова
Сдано в набор 14 мая 1965 г. Подписано в печать
9 августа 1965 г. Формат бумаги 70χ90'/за· Бумажных
листов 2,625. Печатных листов 6,14. Учетно-ивда-
тельских листов 4,94. Тираж 18 000 »кв. А03091.
Цепа 20 коп. Заказ № 2590.
Св. темплаи обществ.-полит, лит-ры 1965 г. № 345.
Иадательство „Мысль*4
Москва, В-71, Ленинский проспект, 15.
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Государственного комитета
Совета Министров СССР по печати
Москва, Ж-54, Валовая, 28.