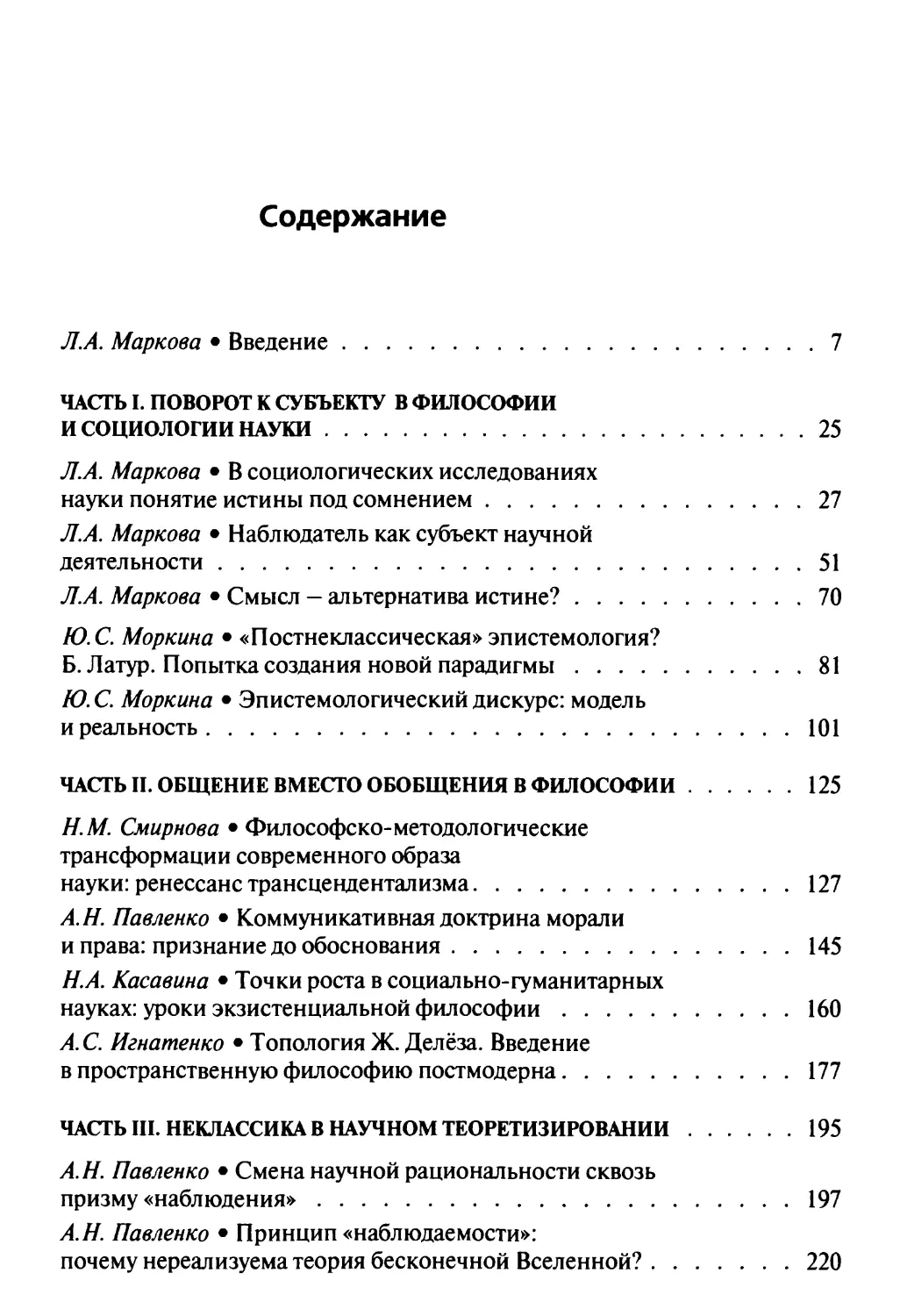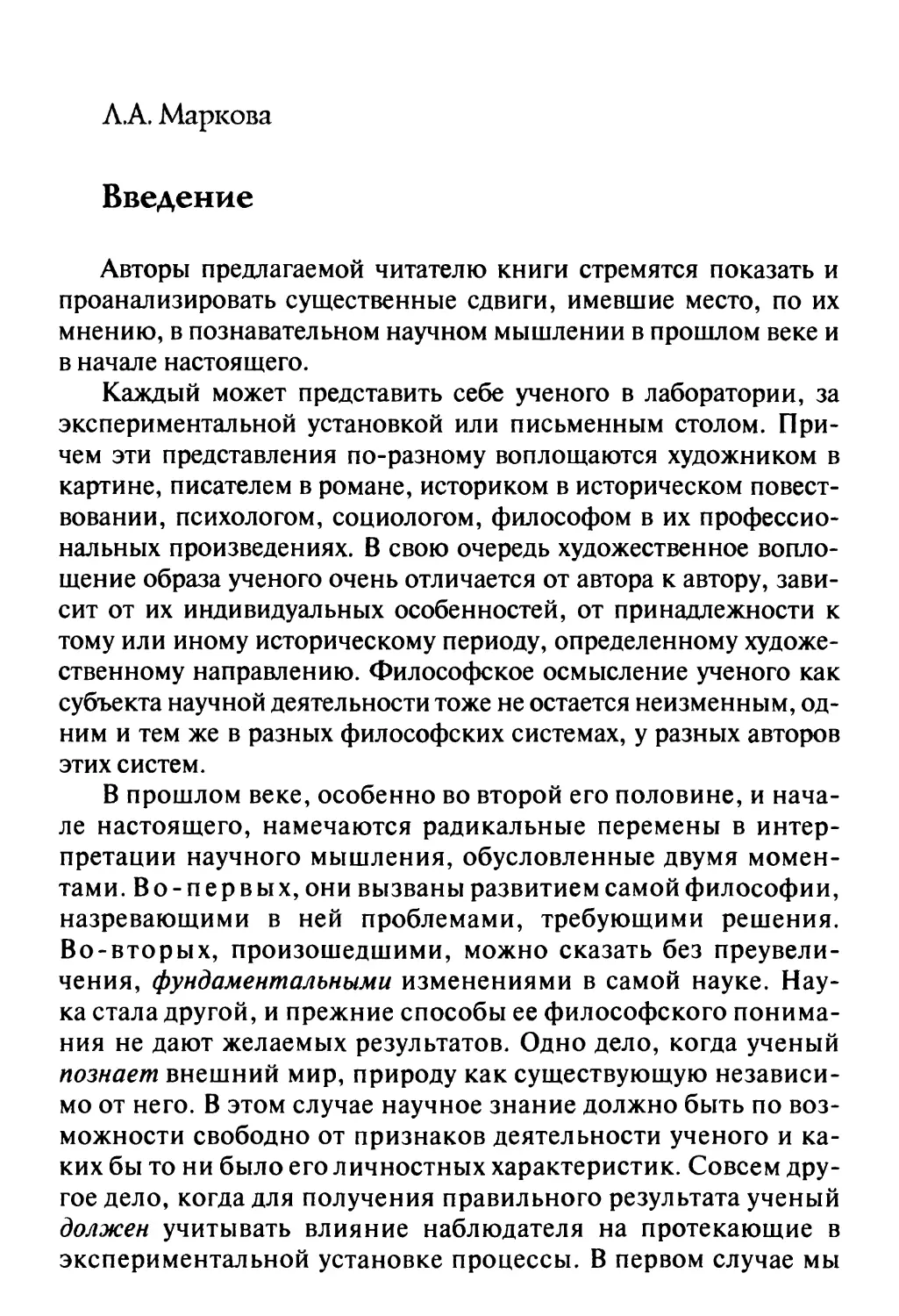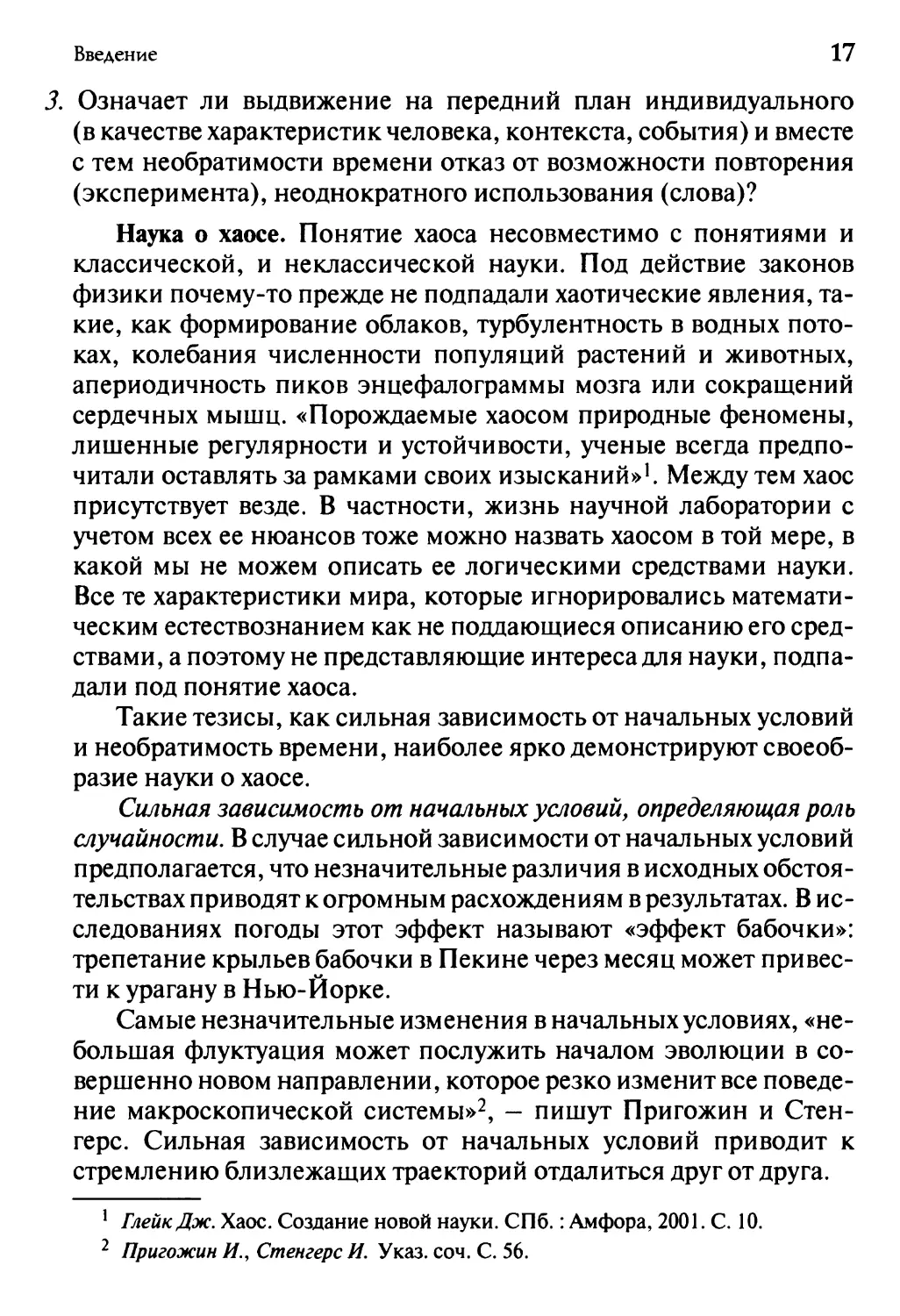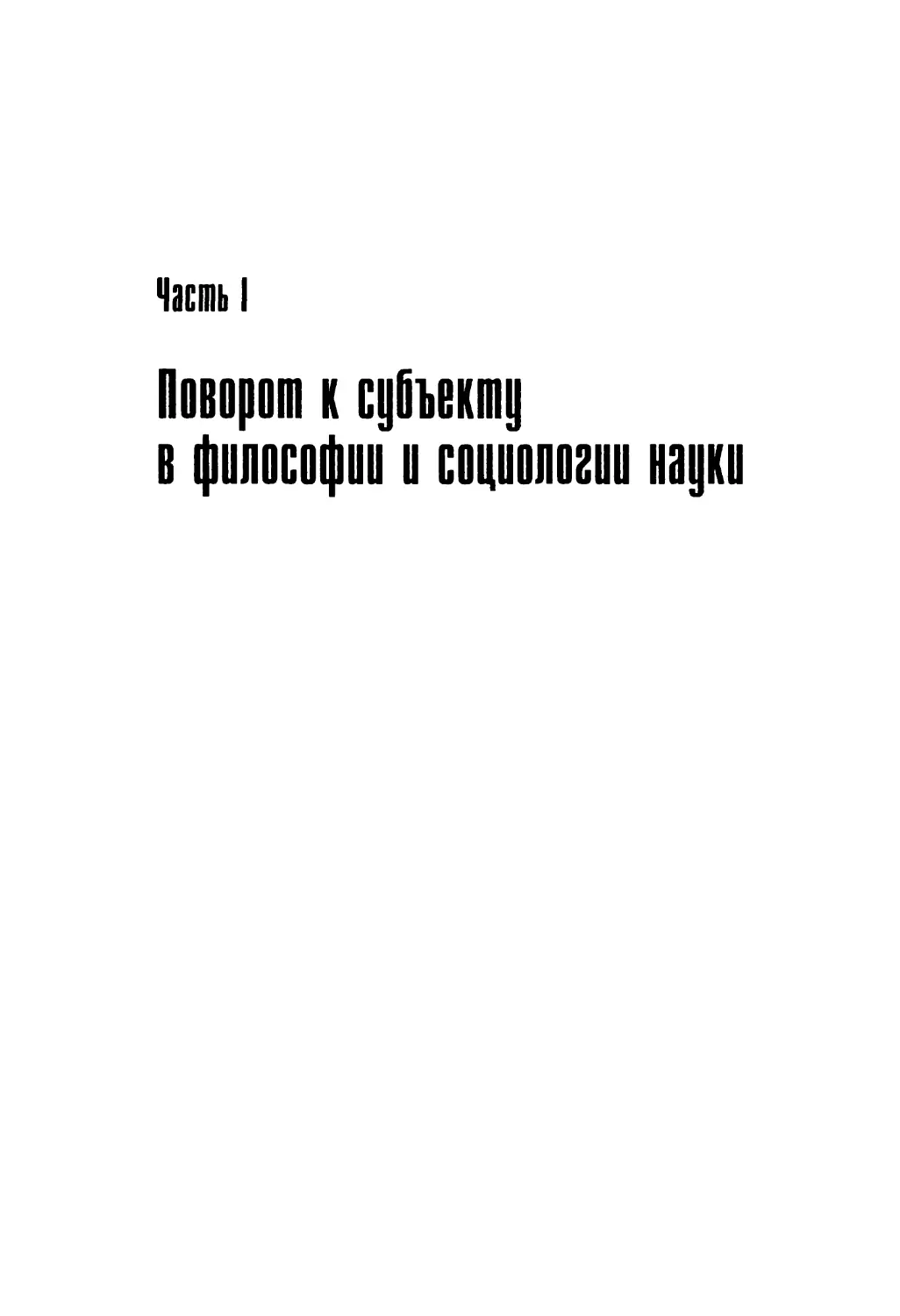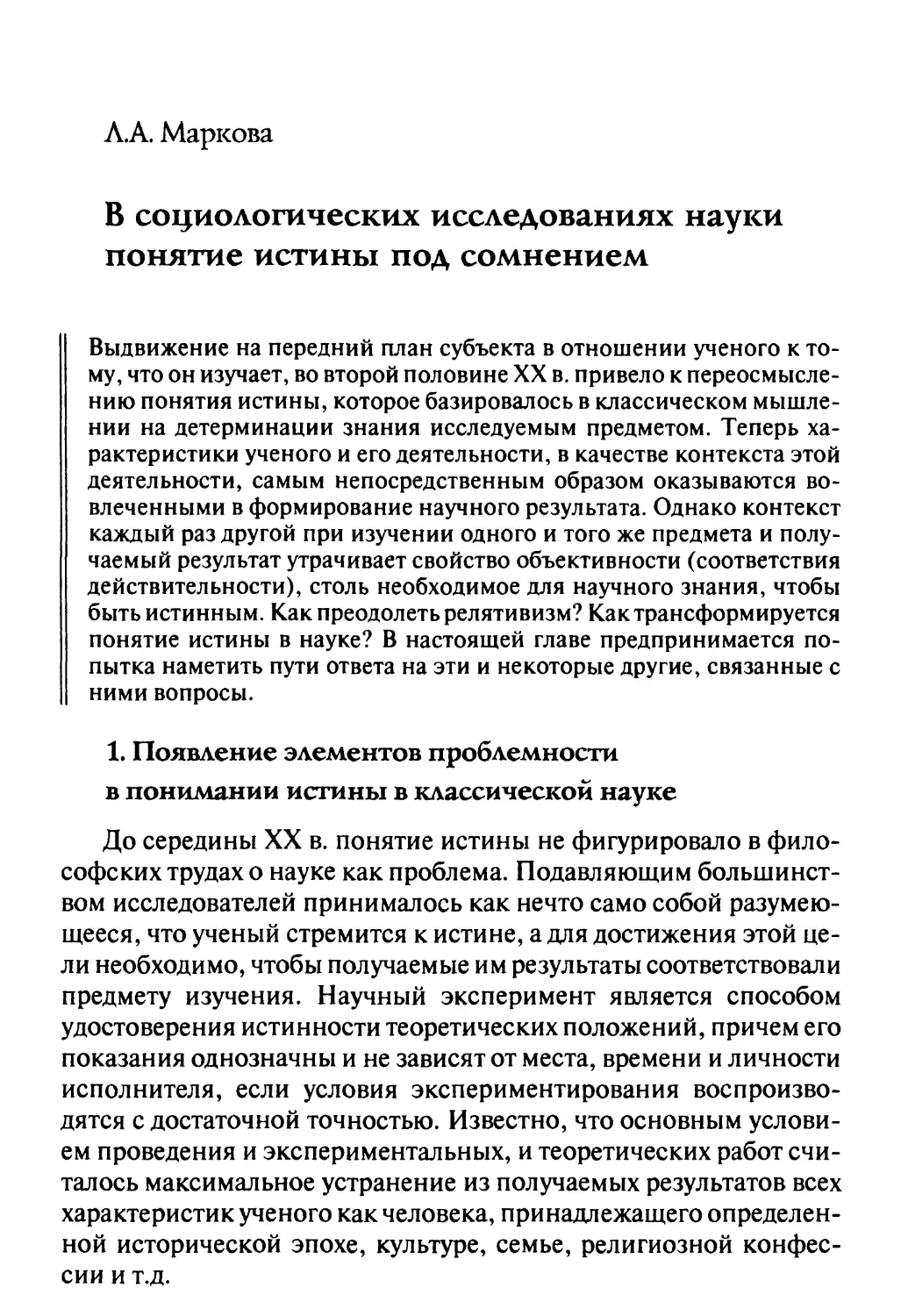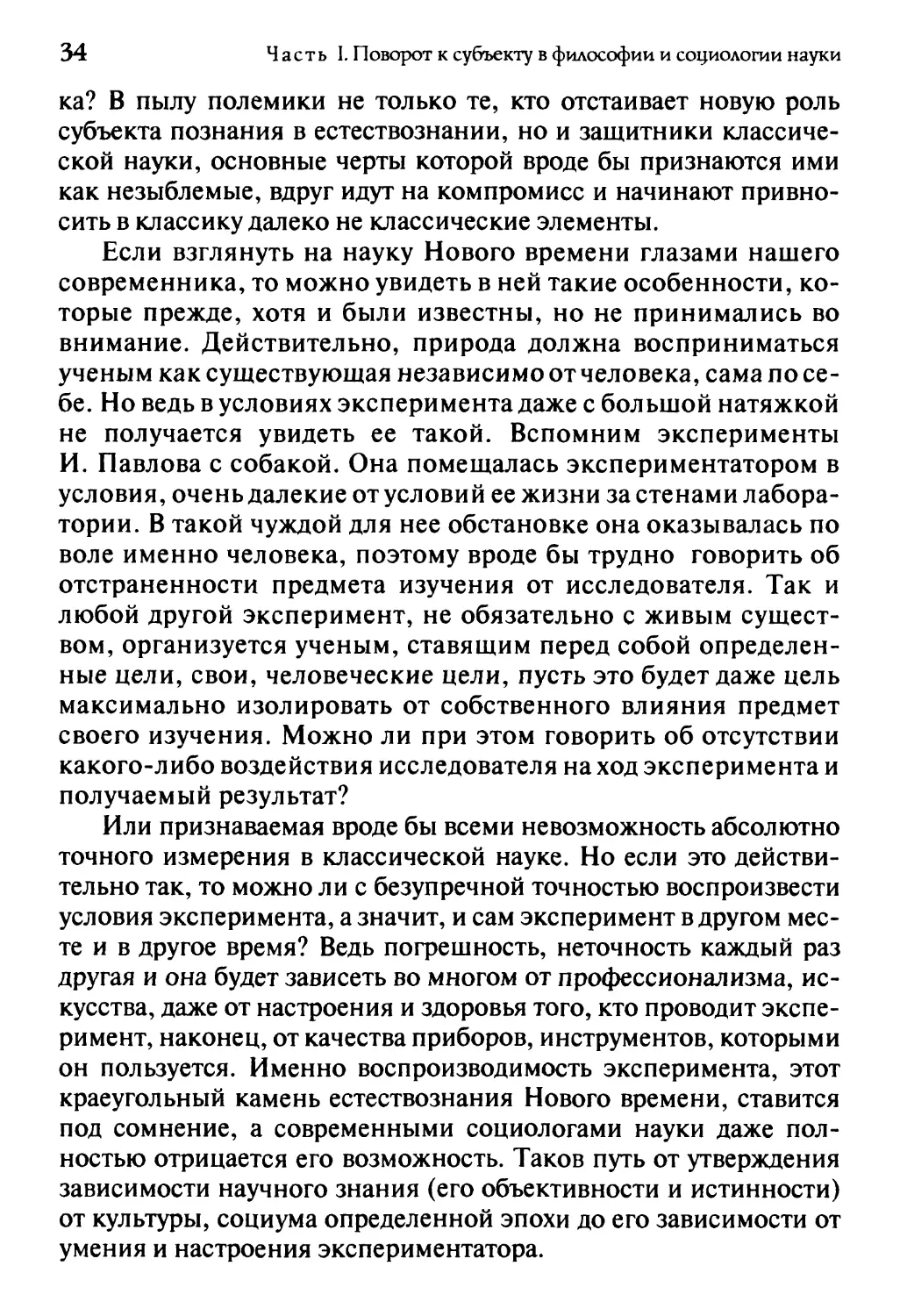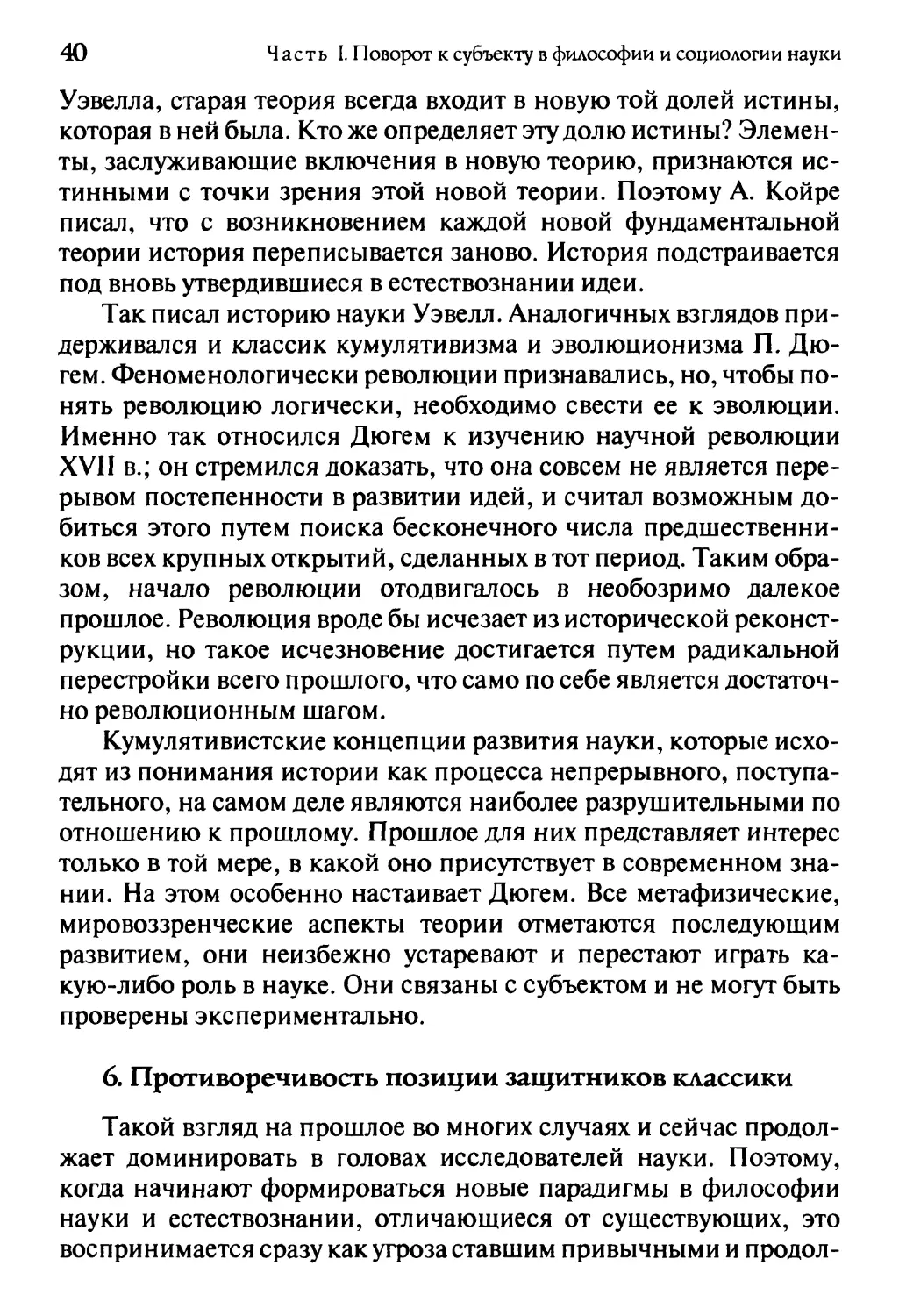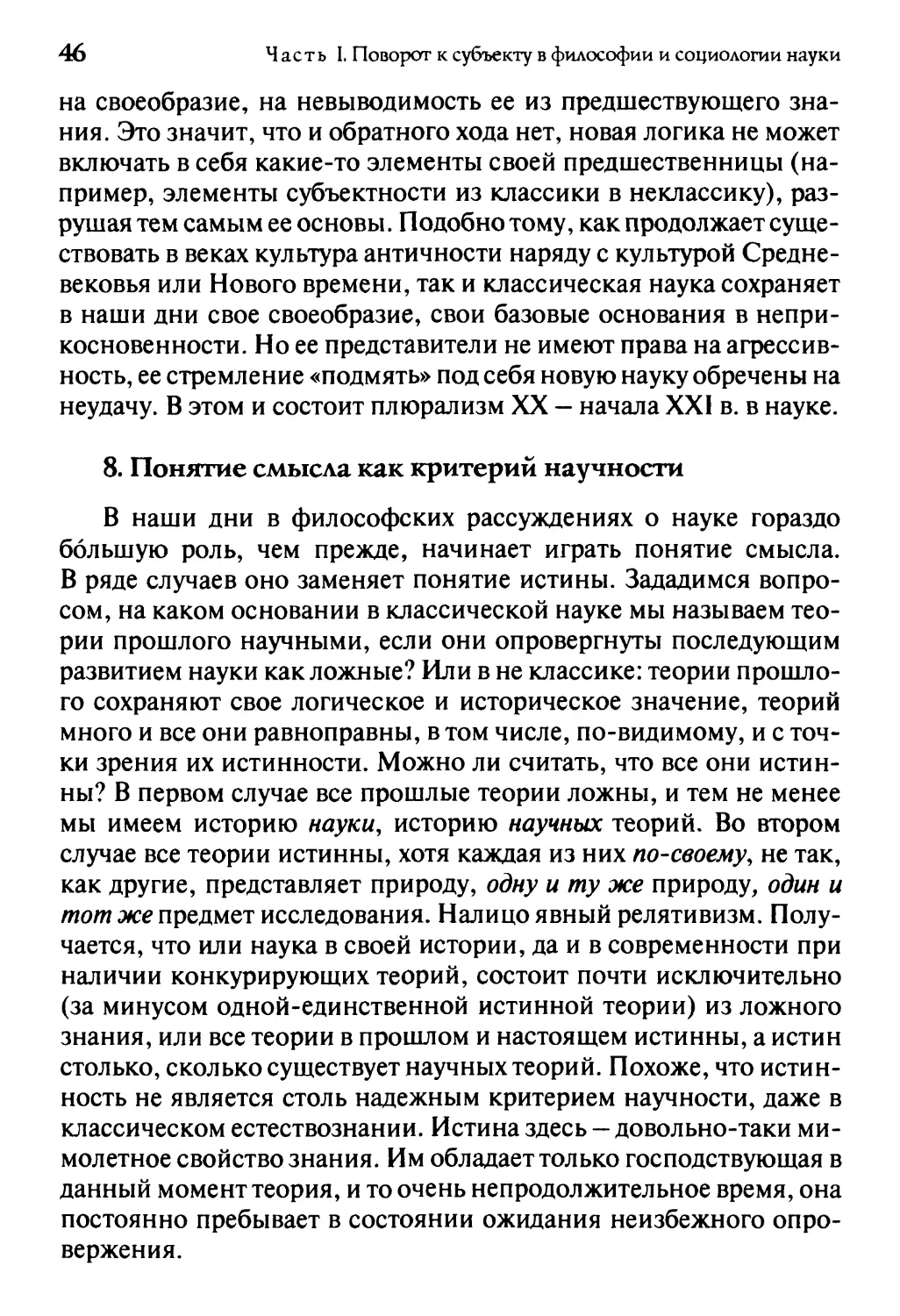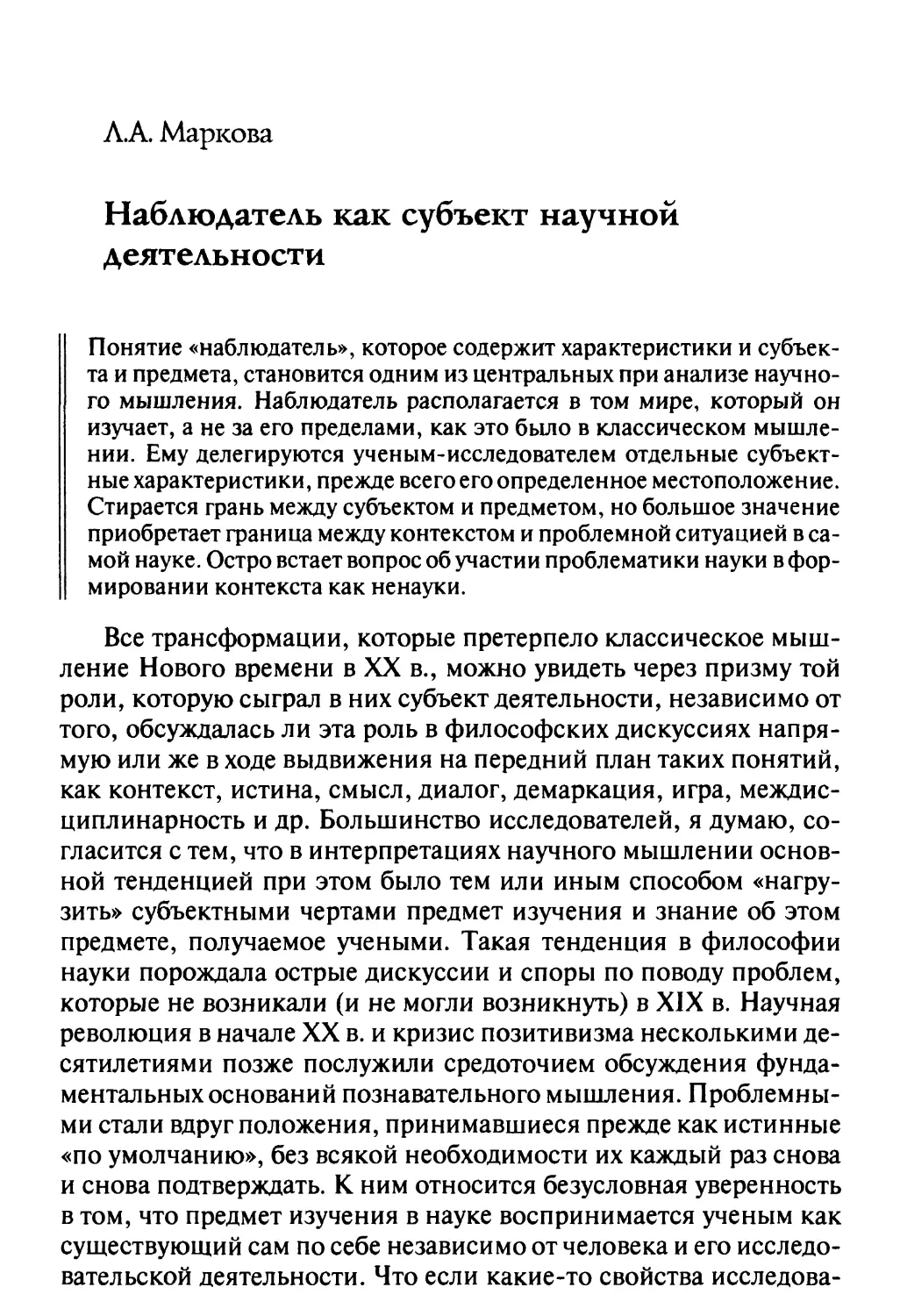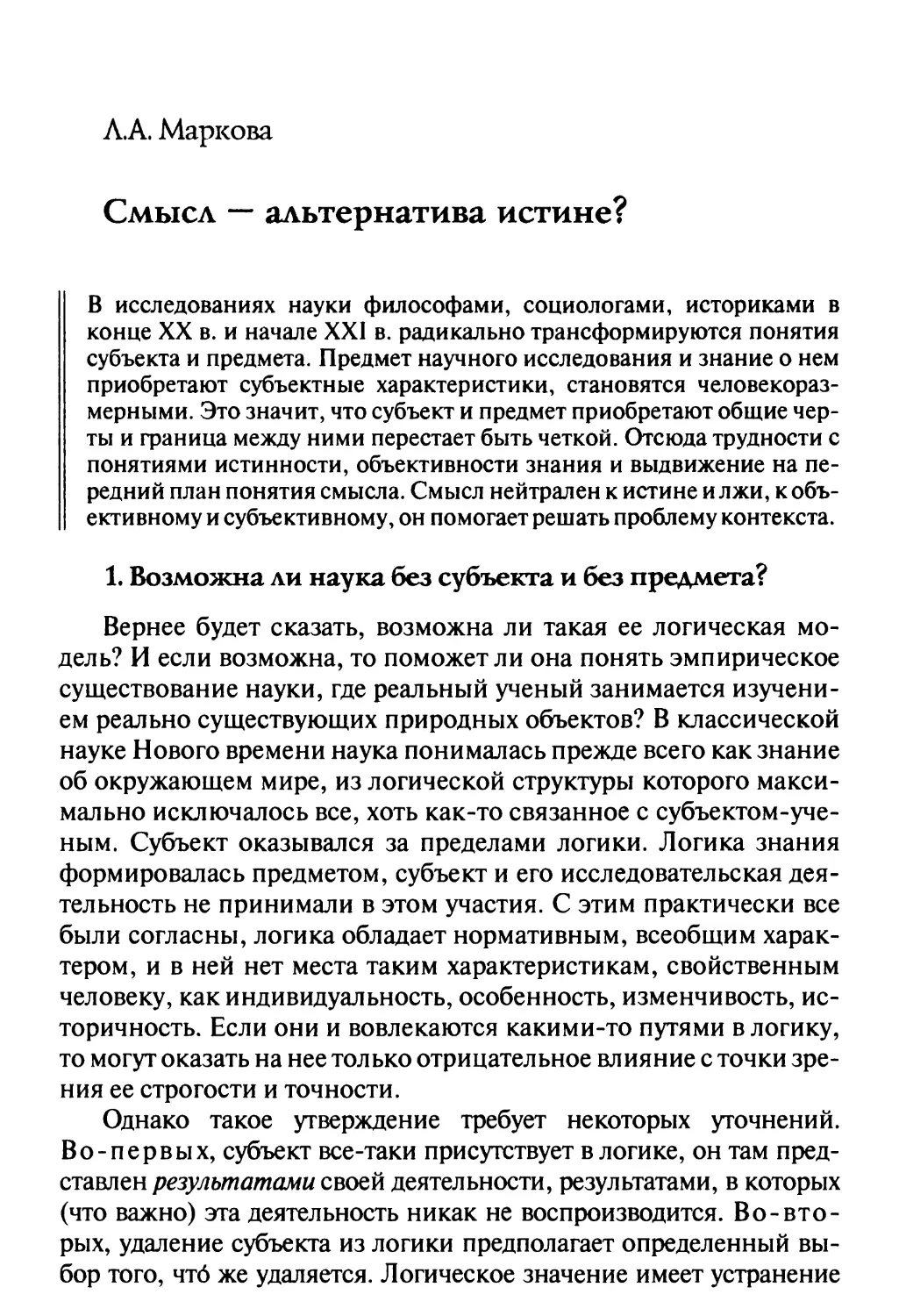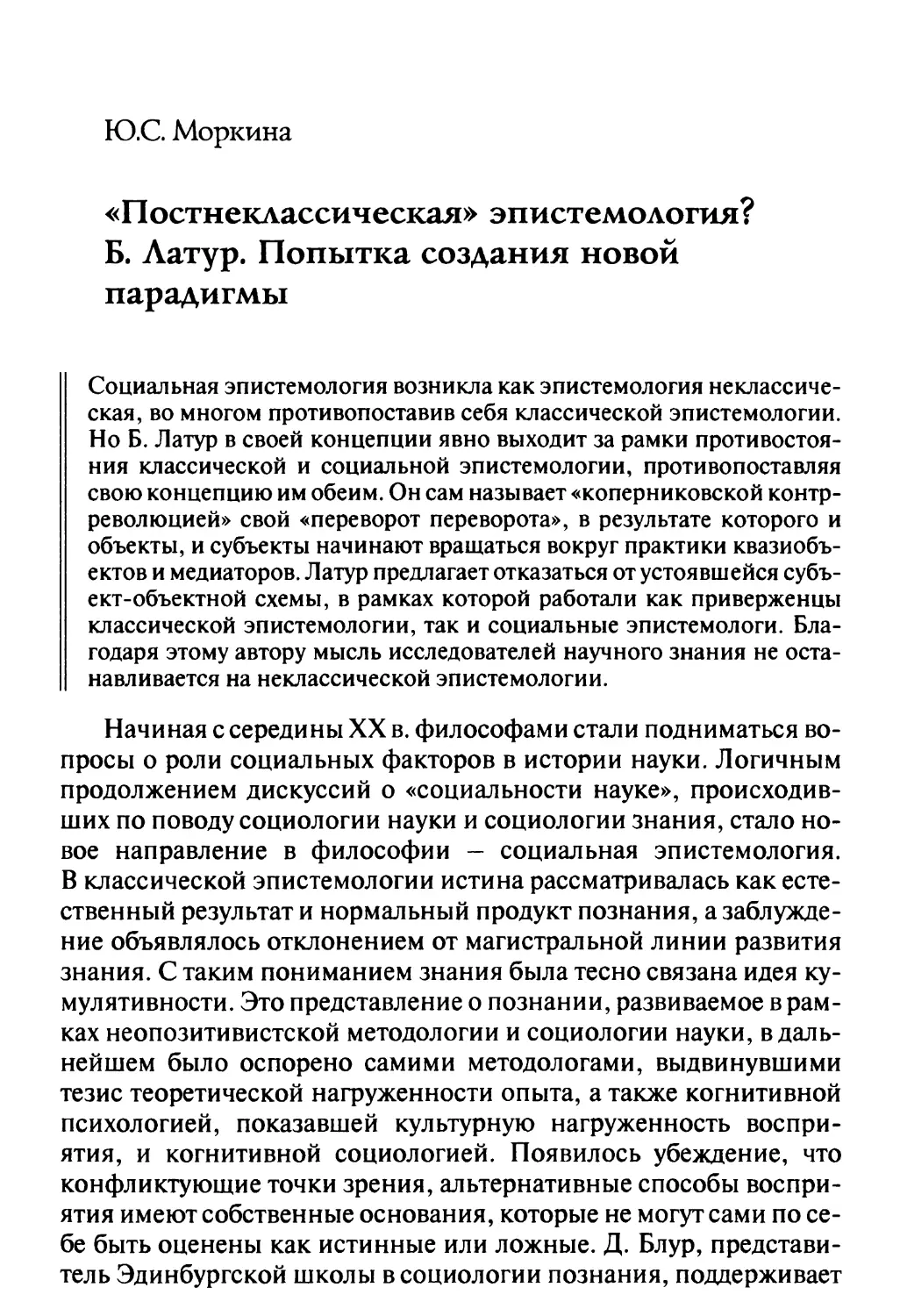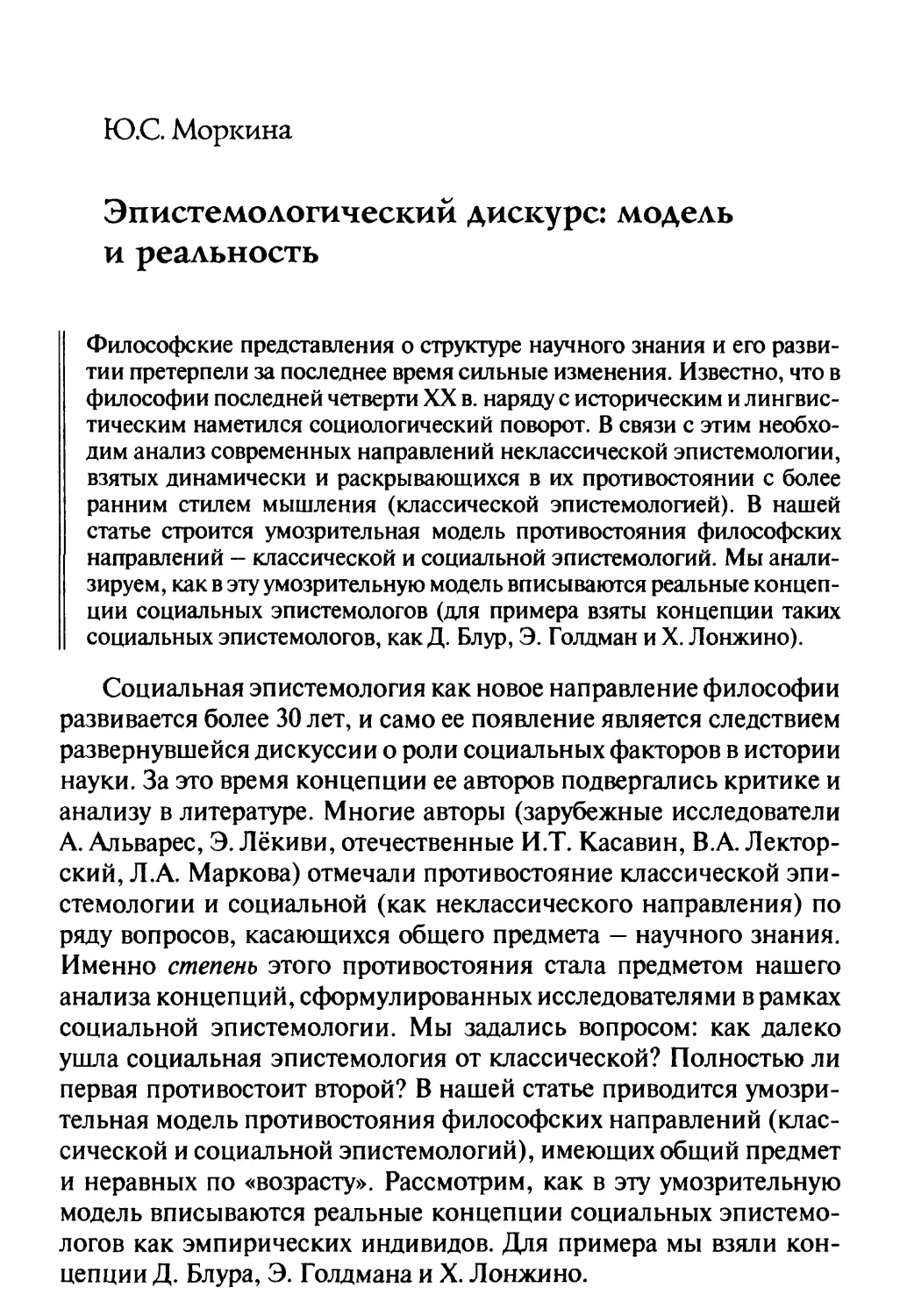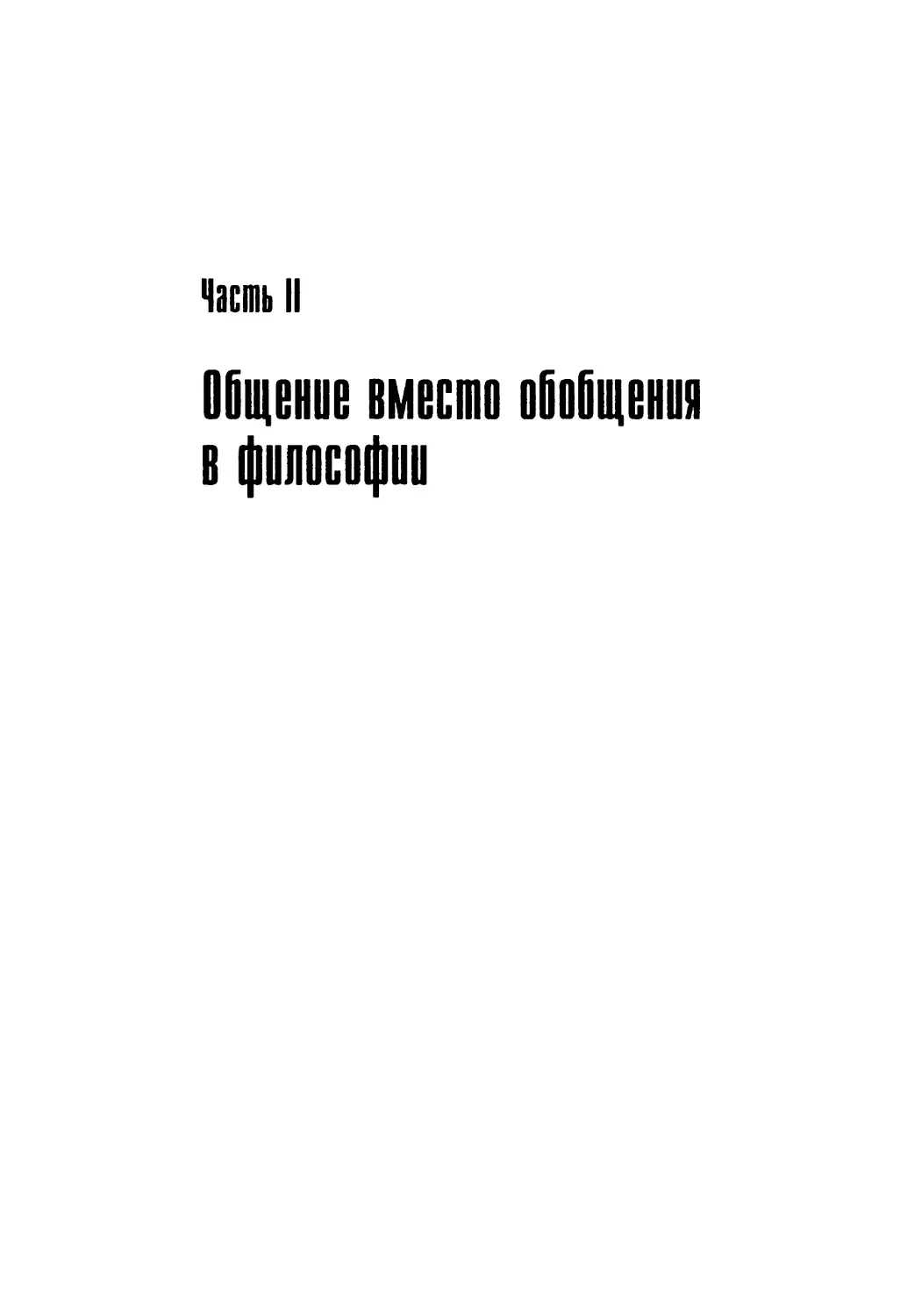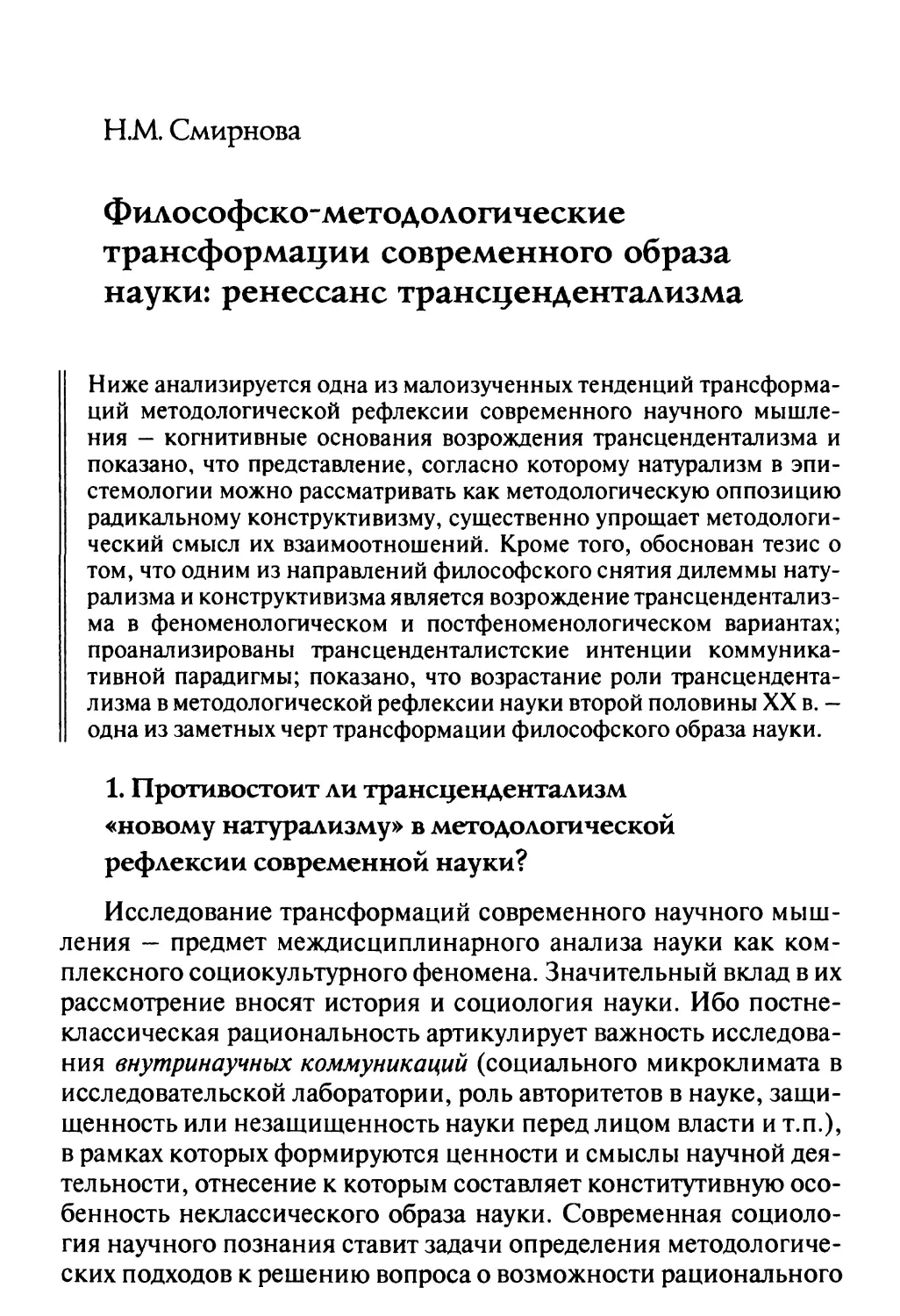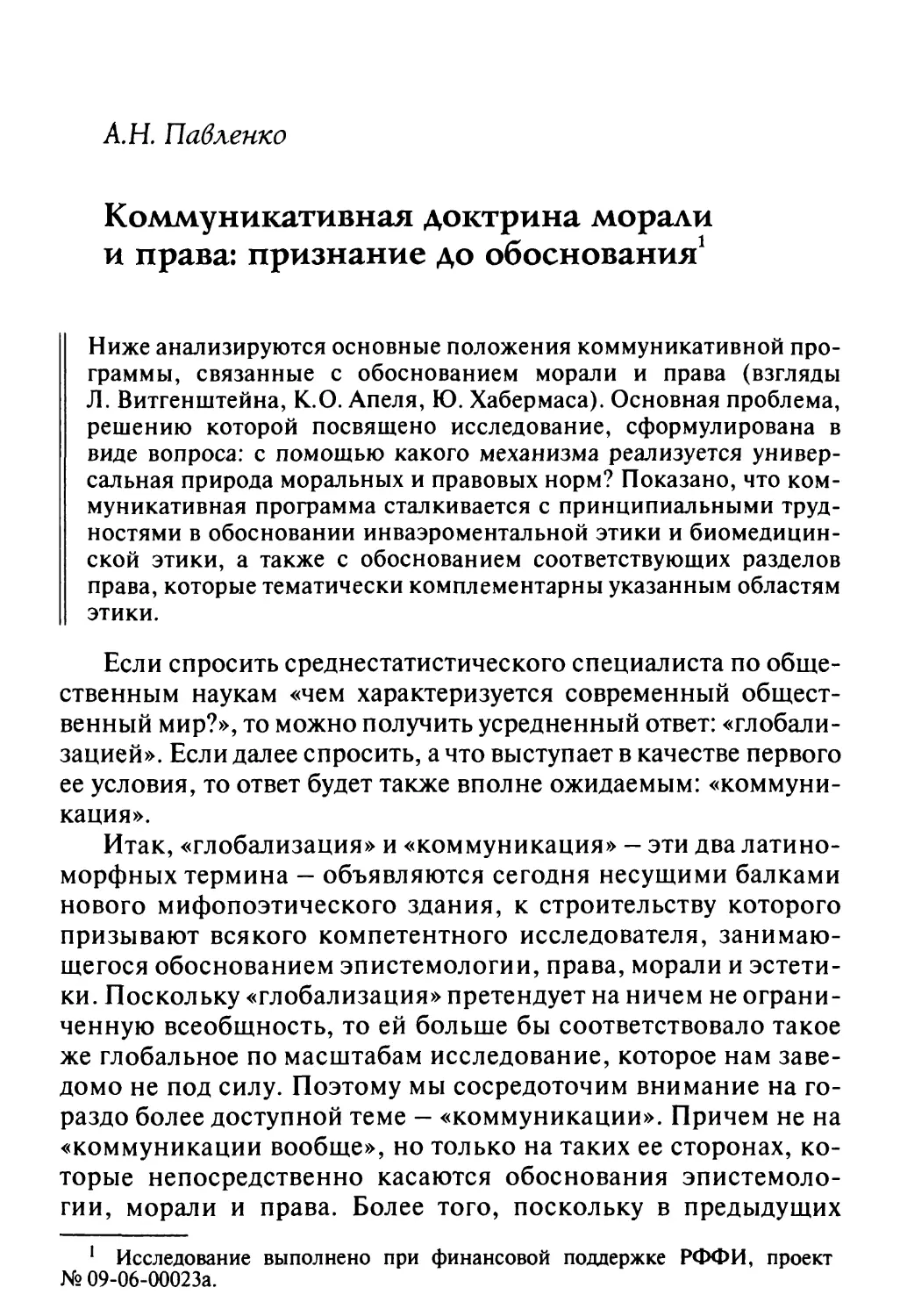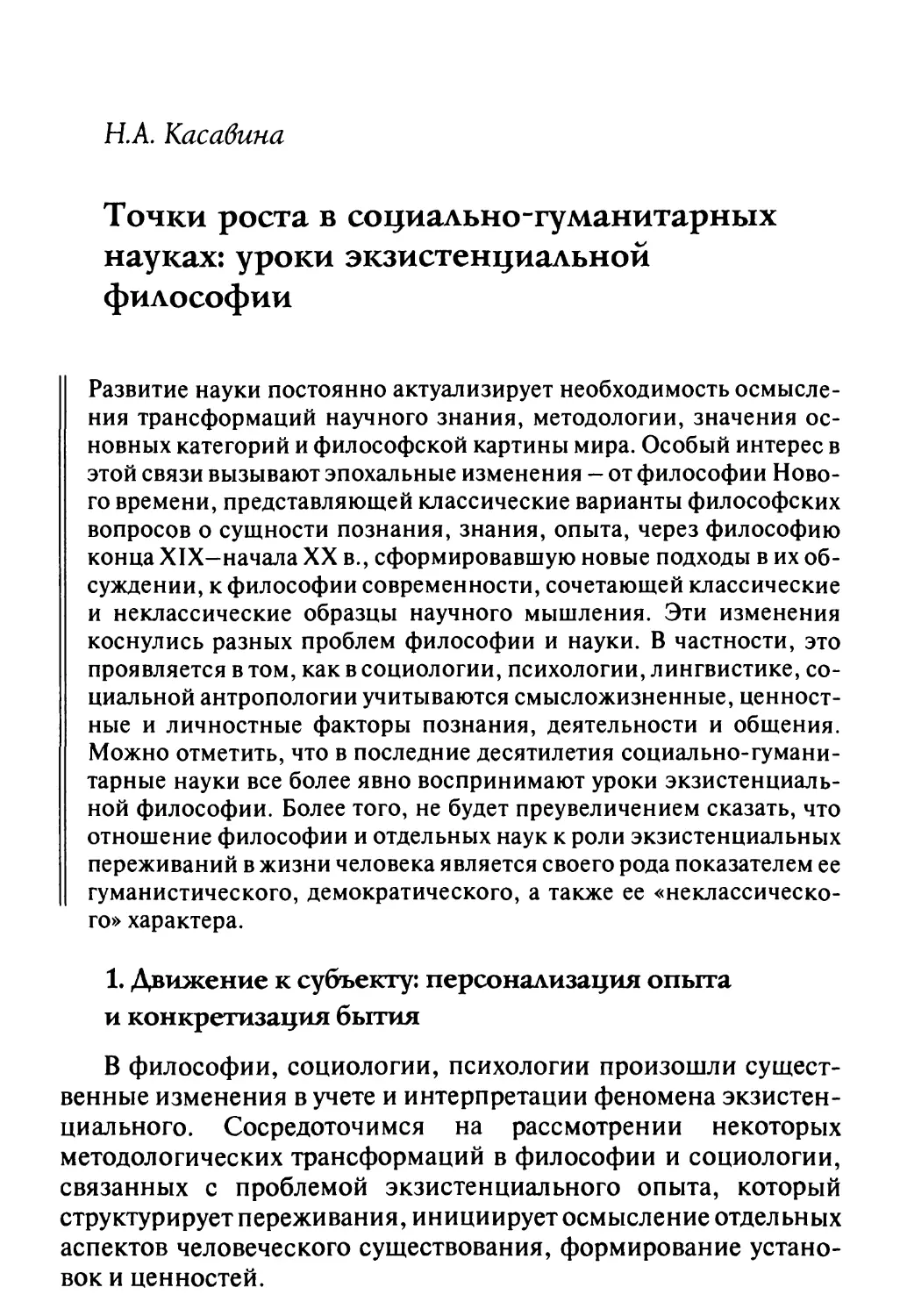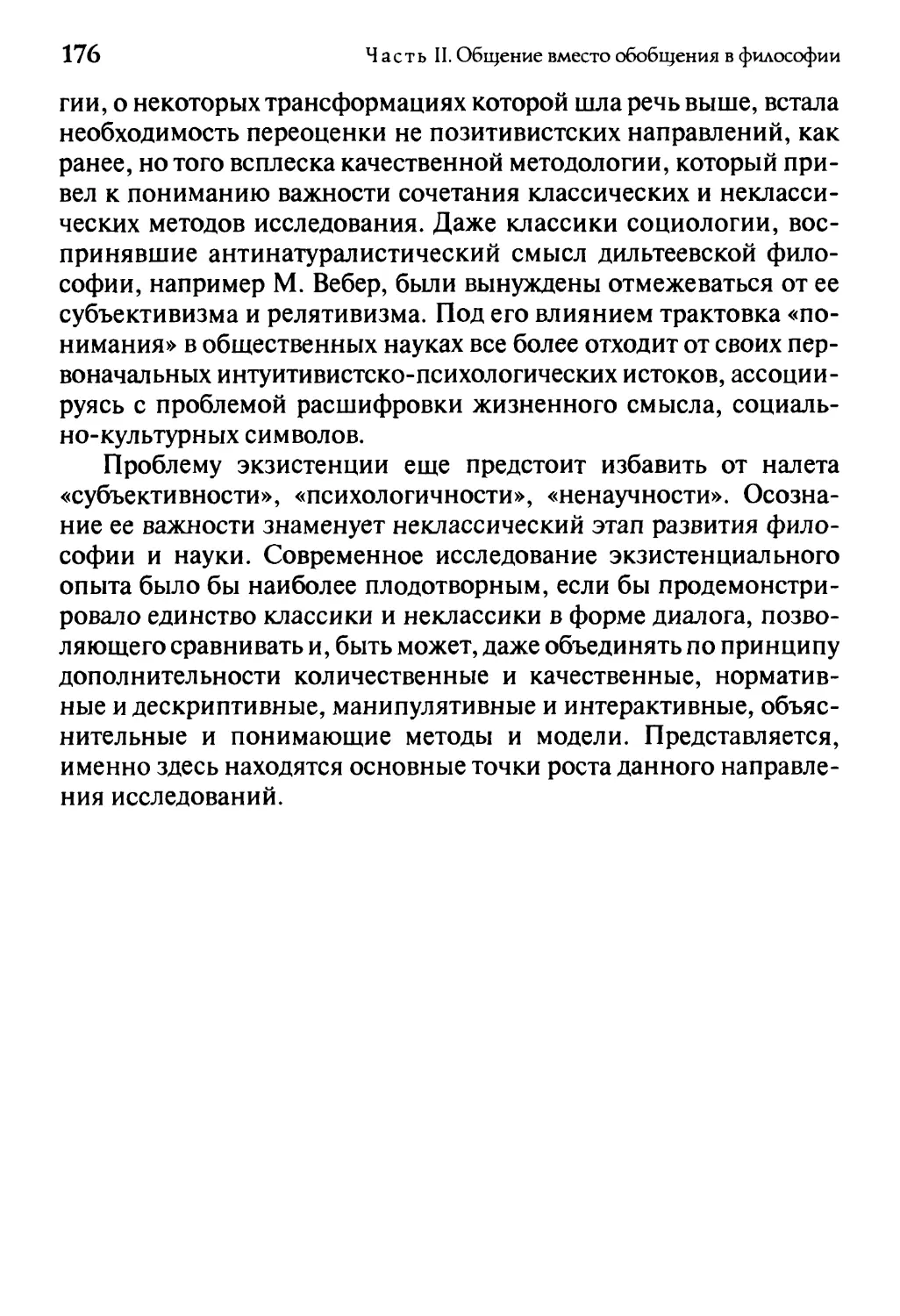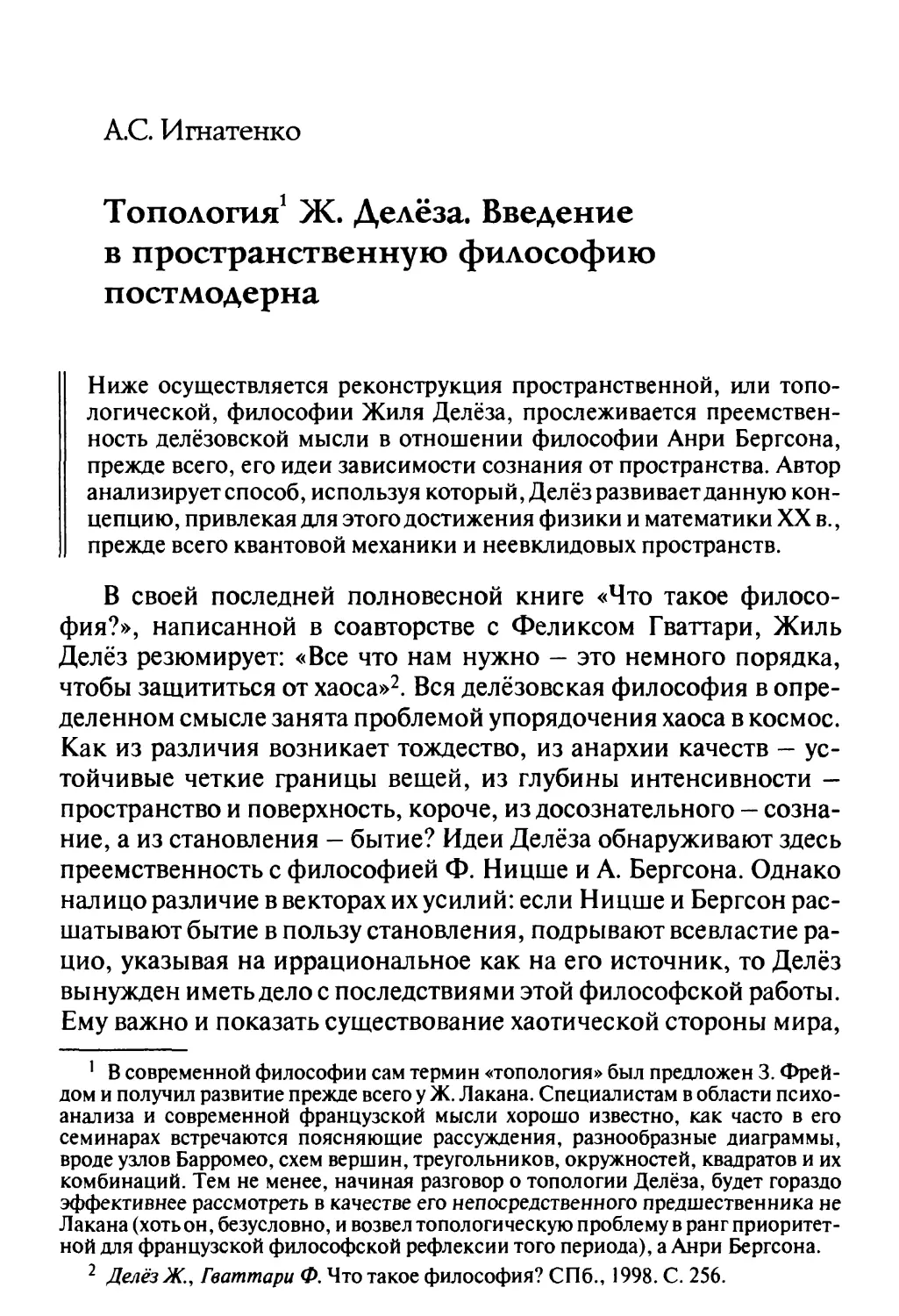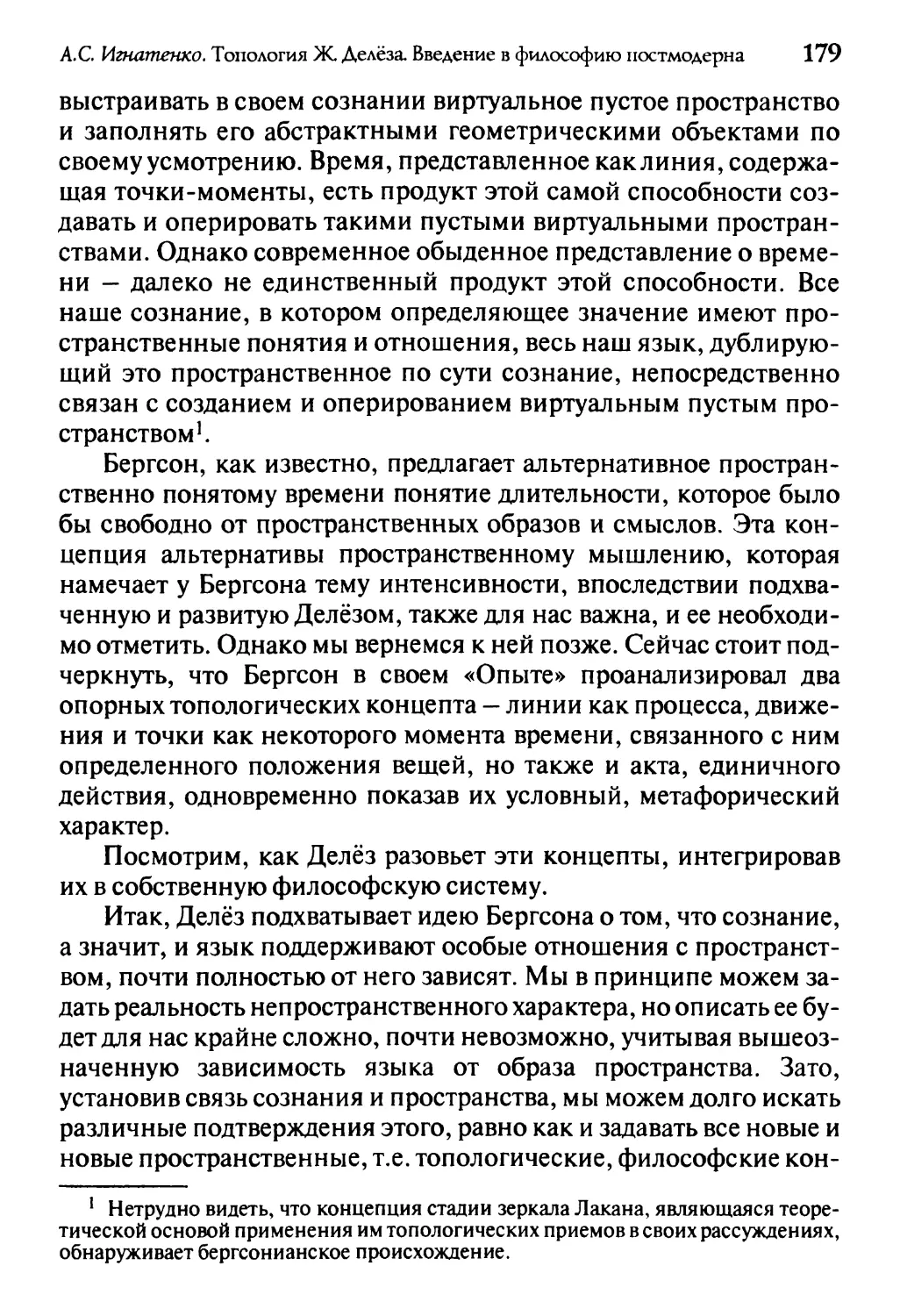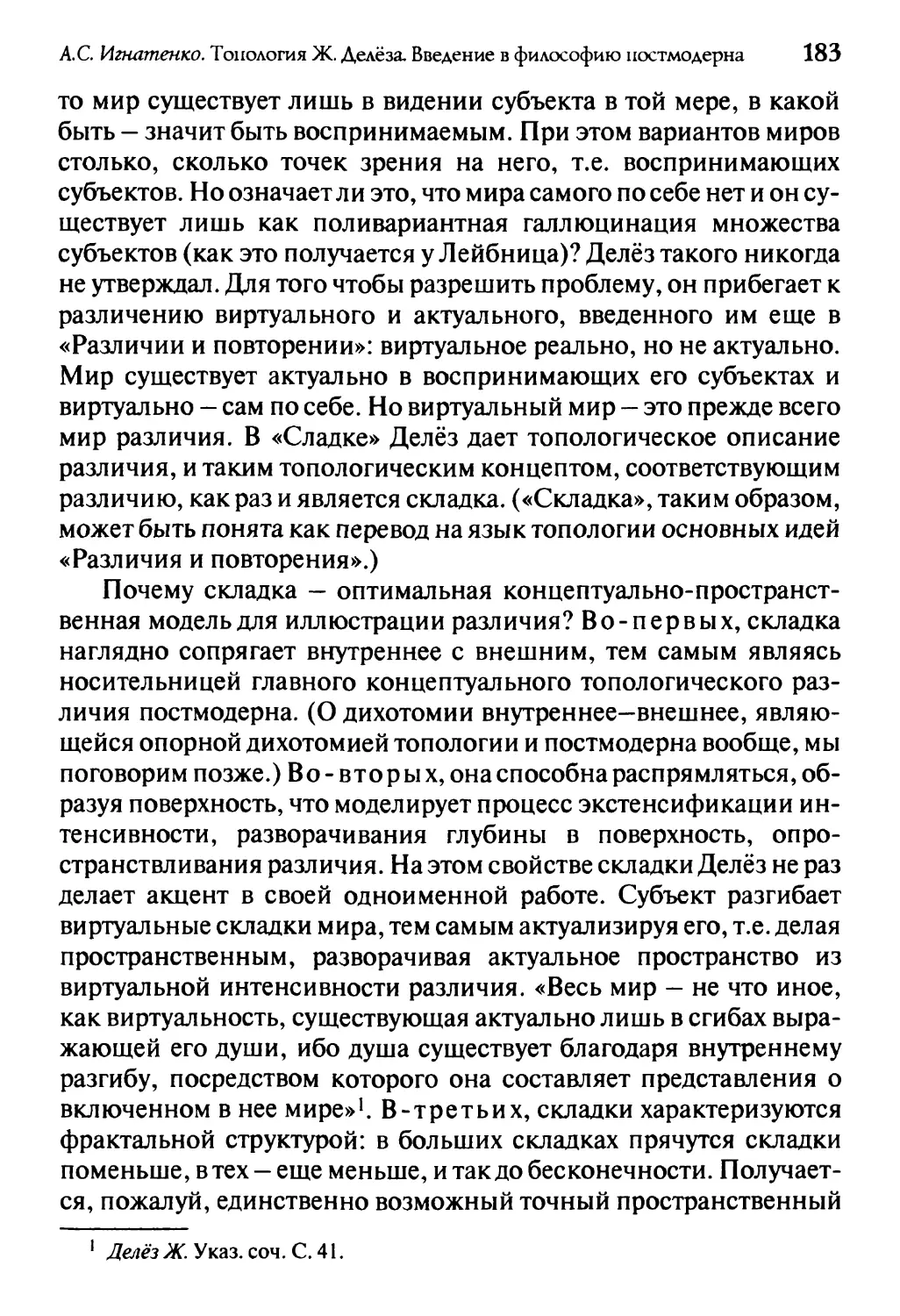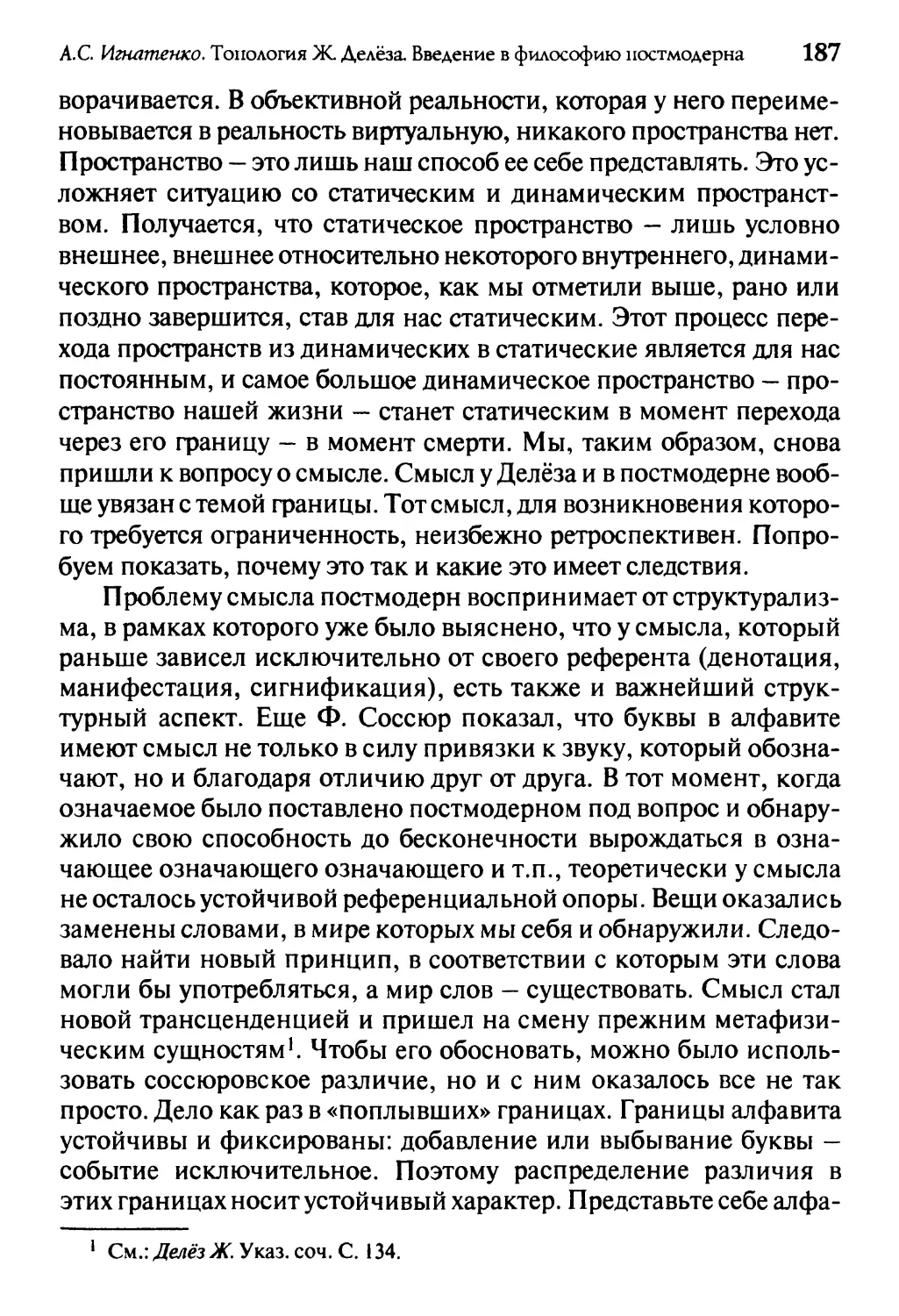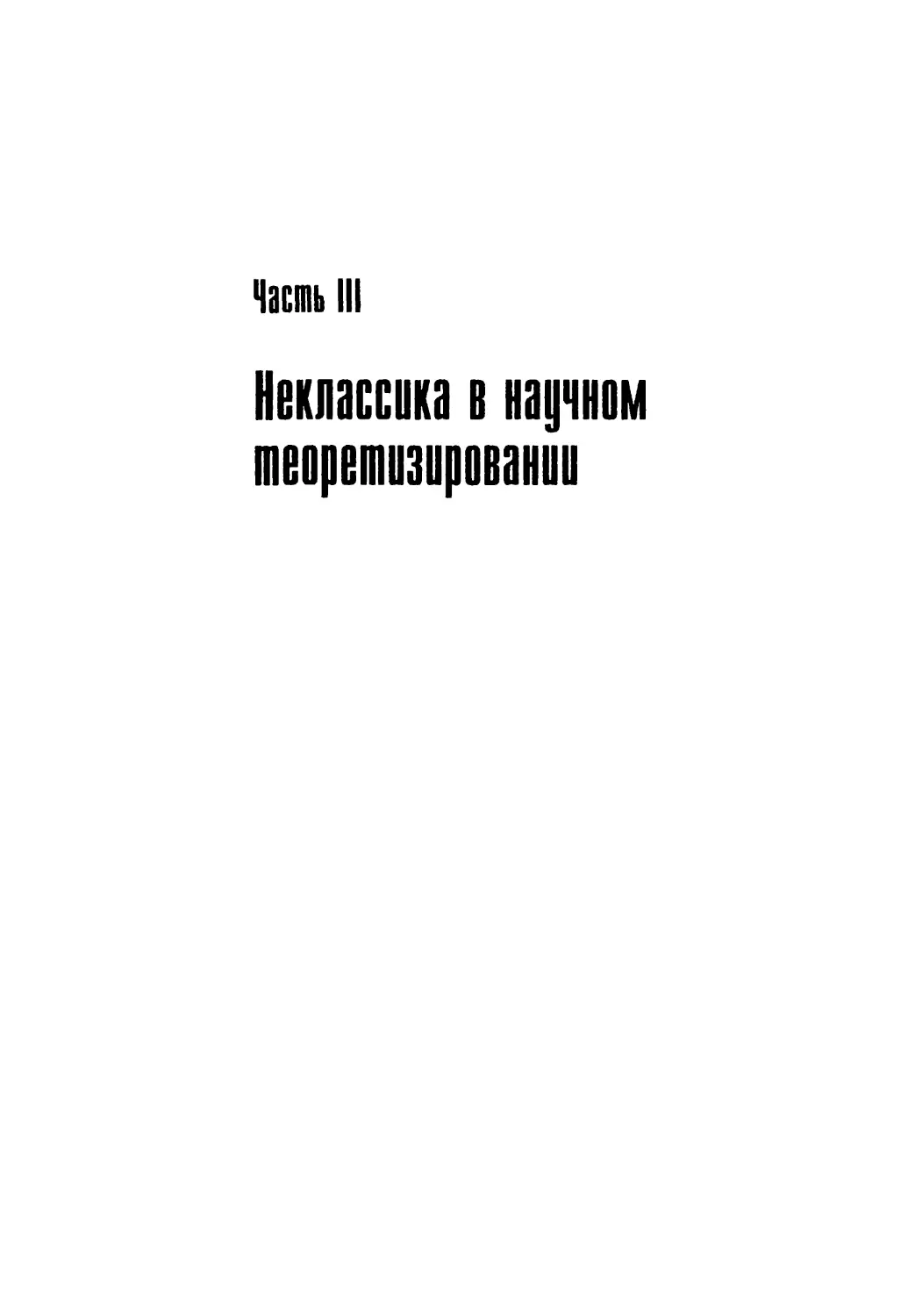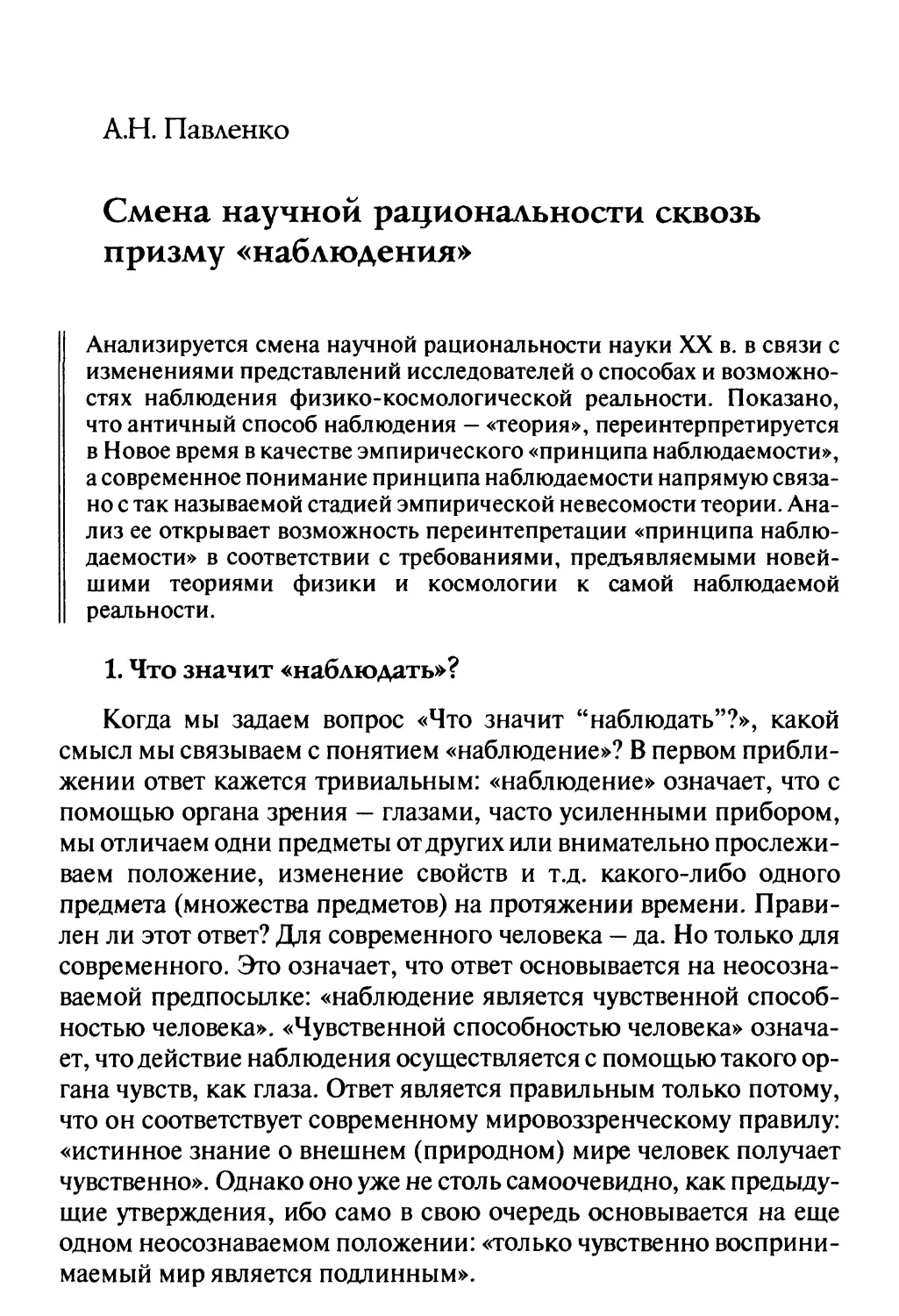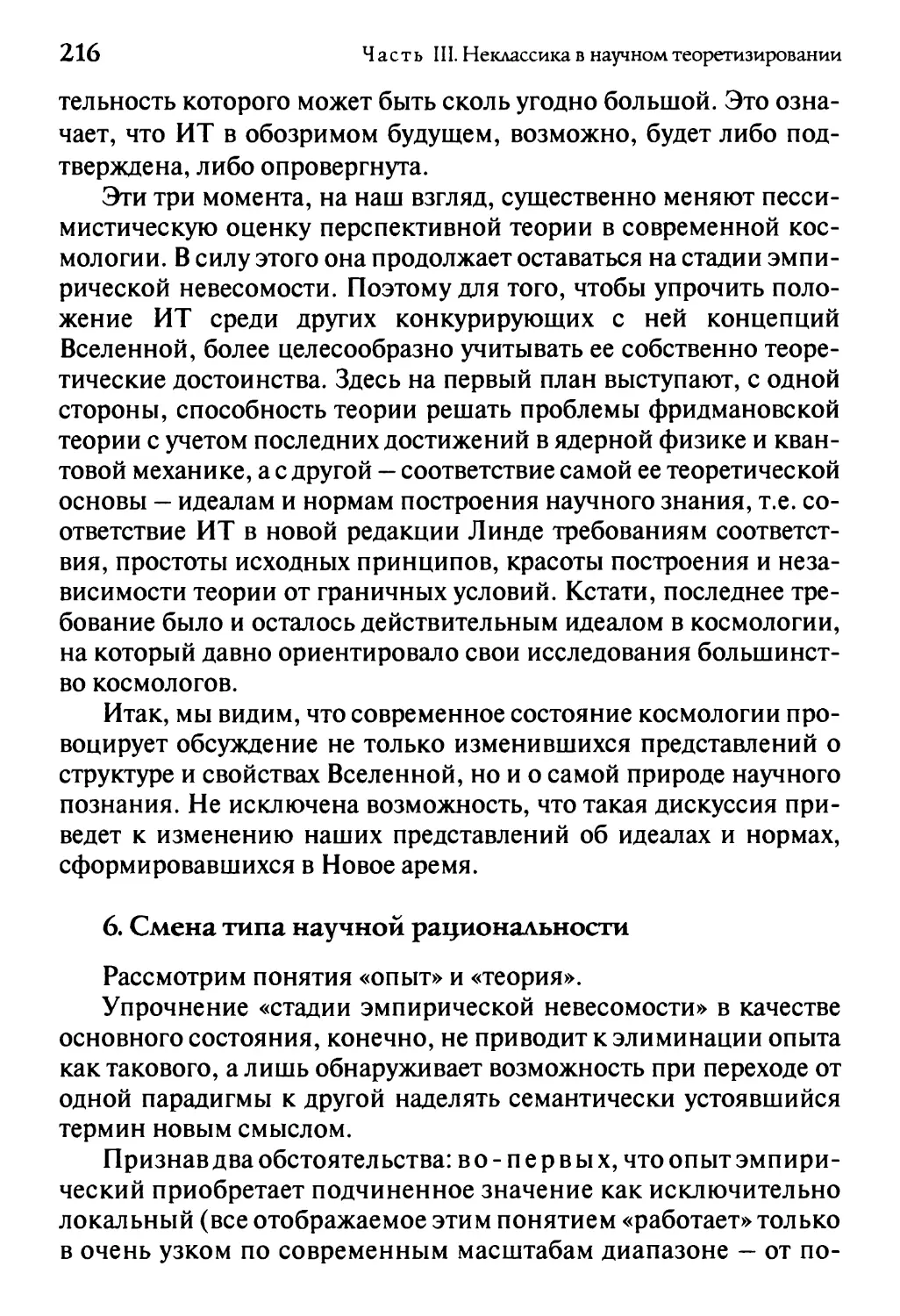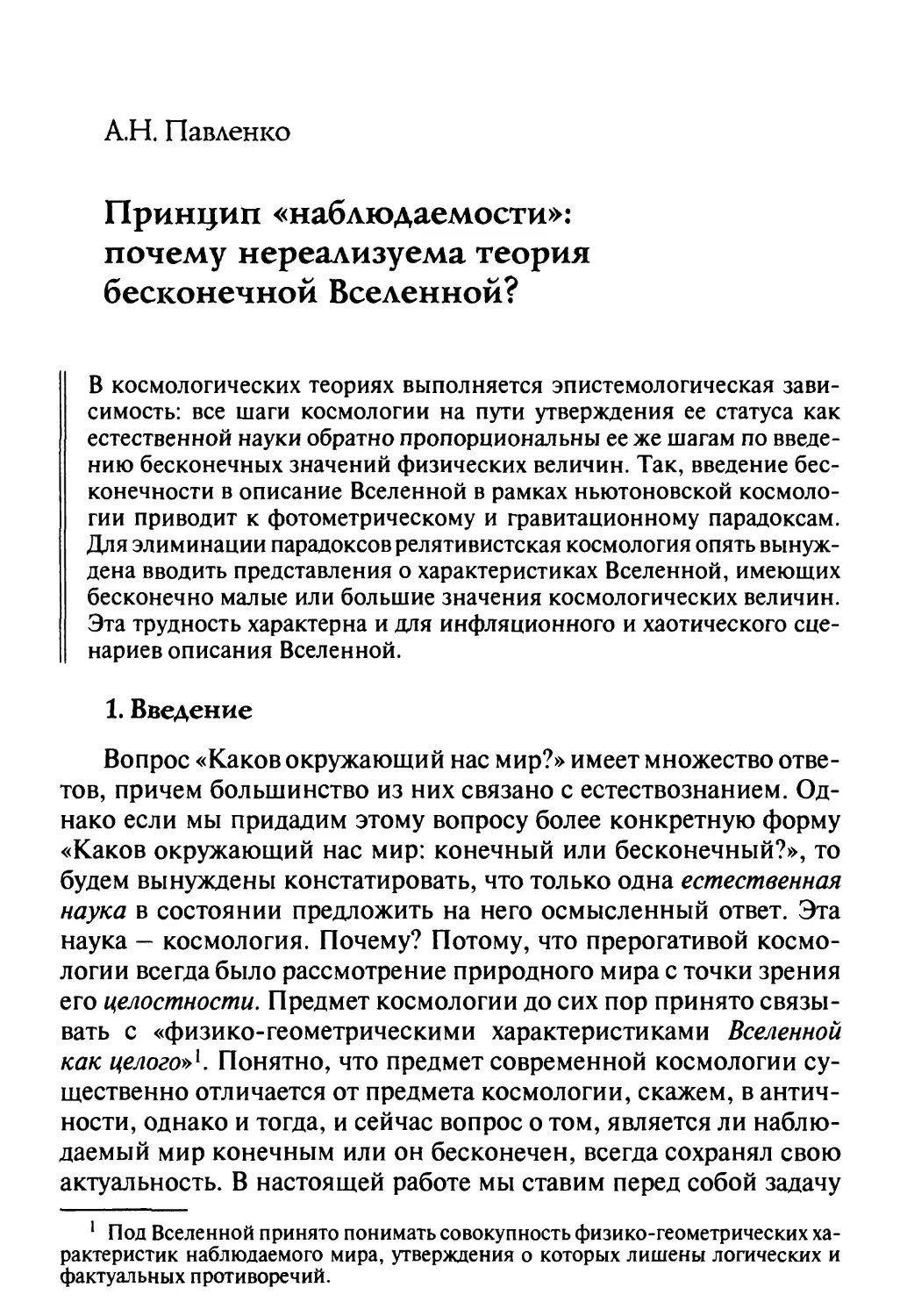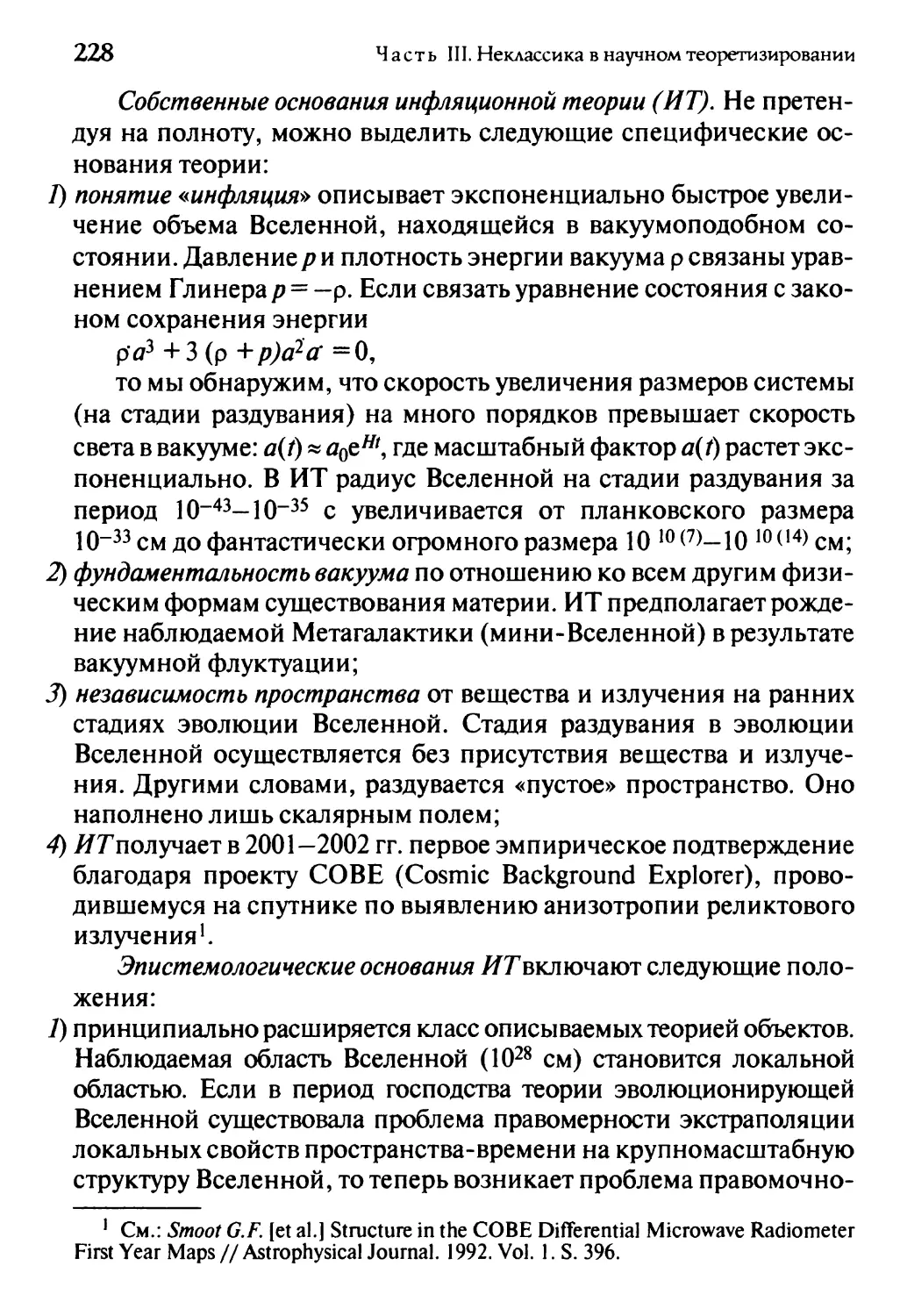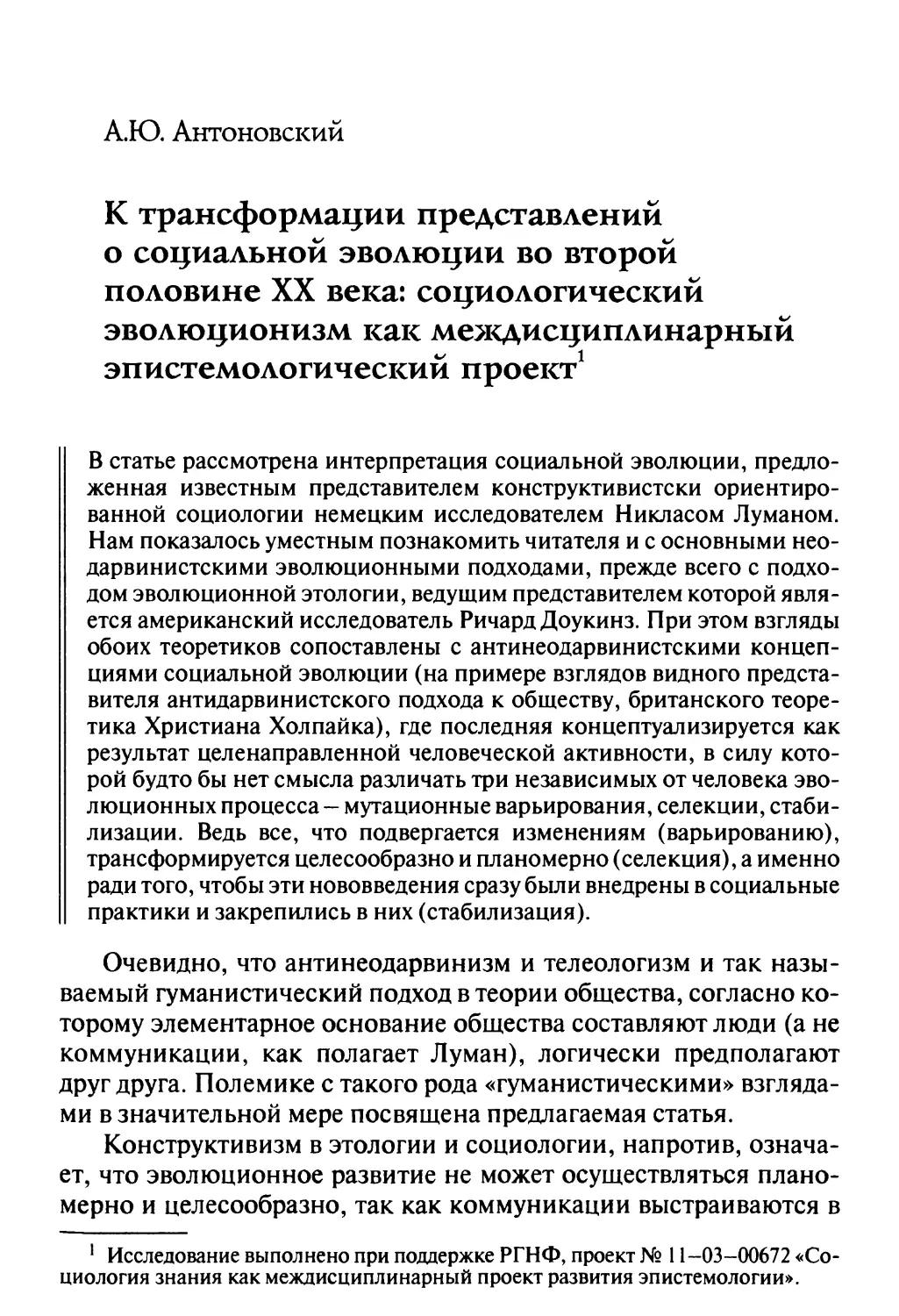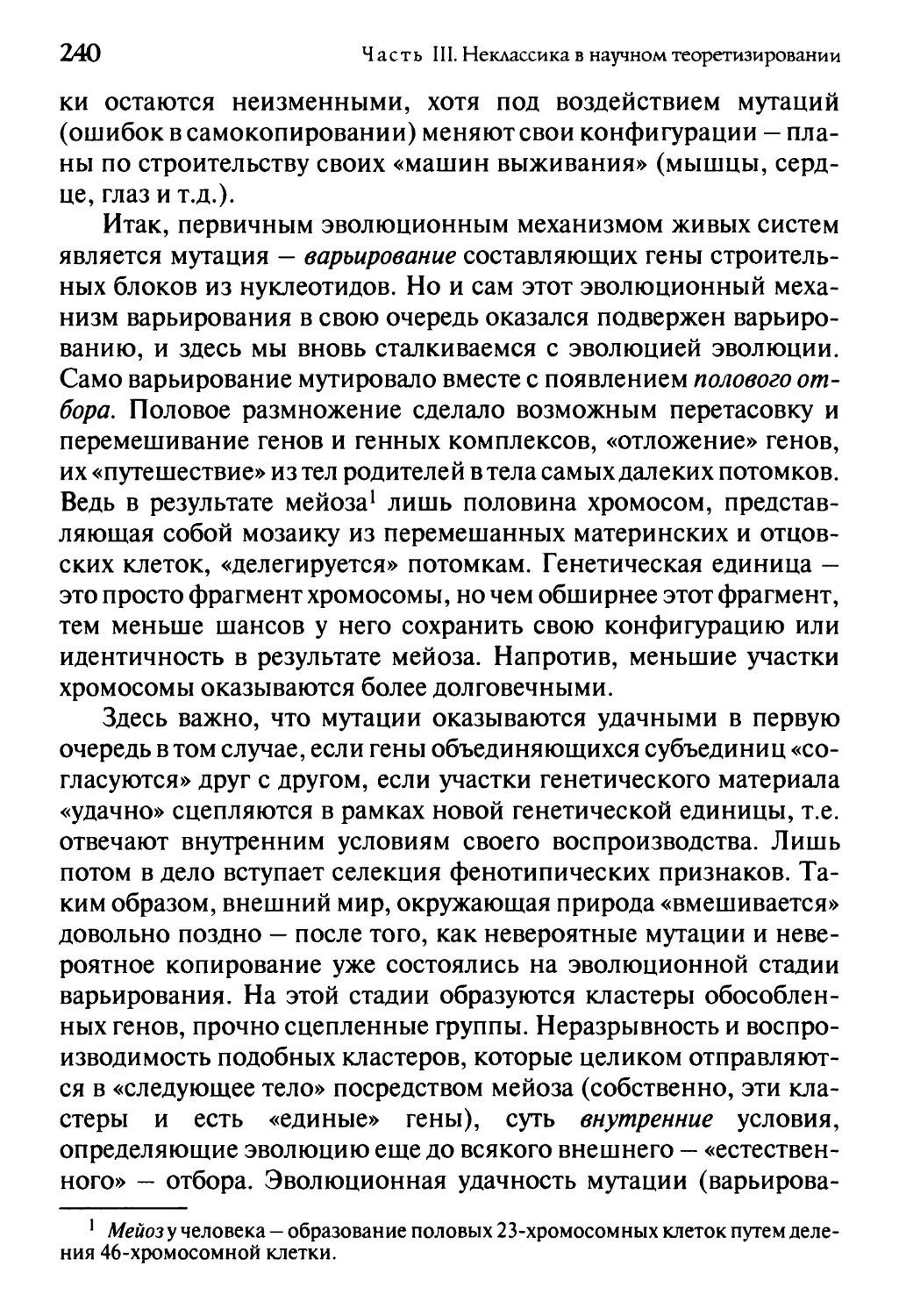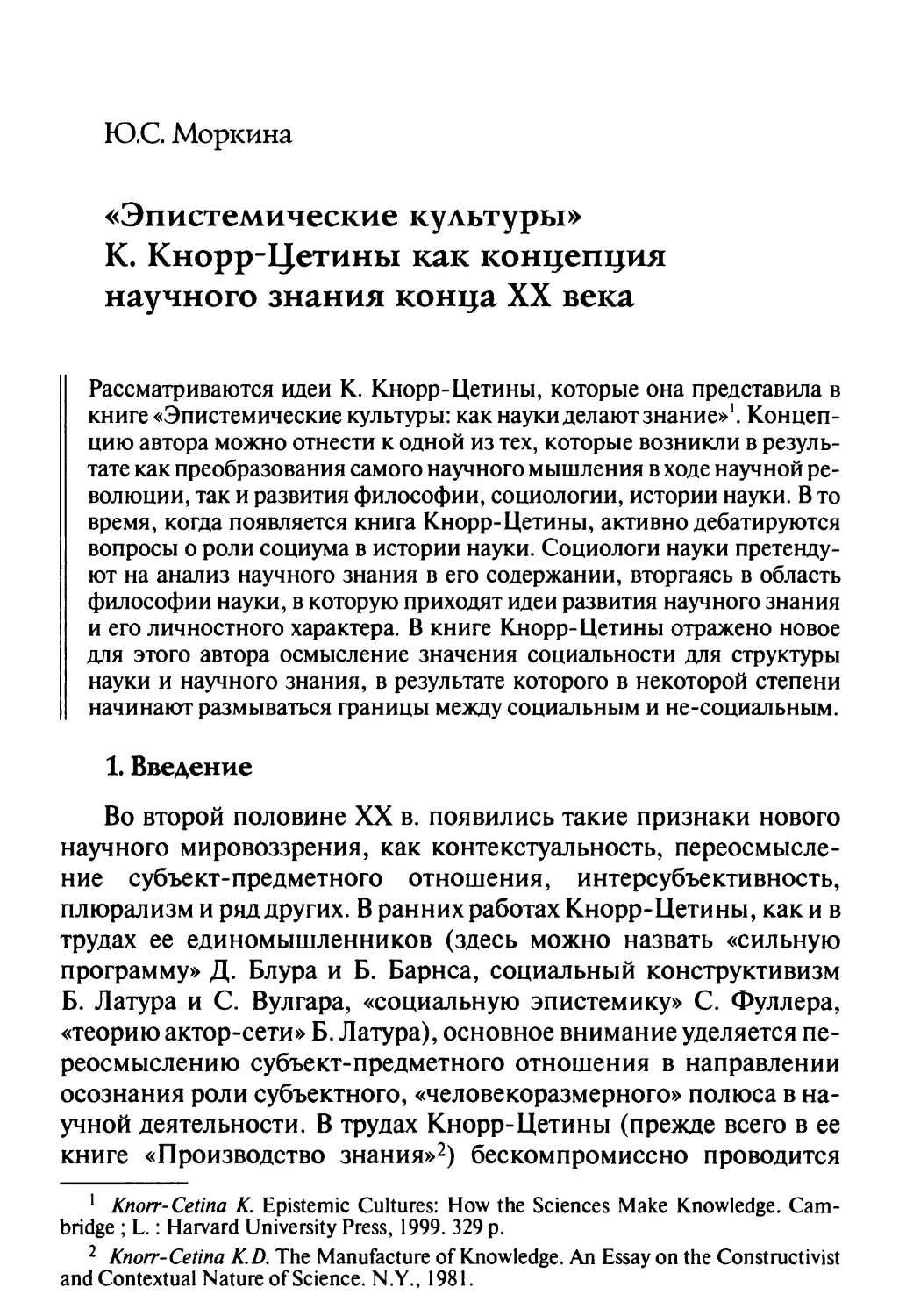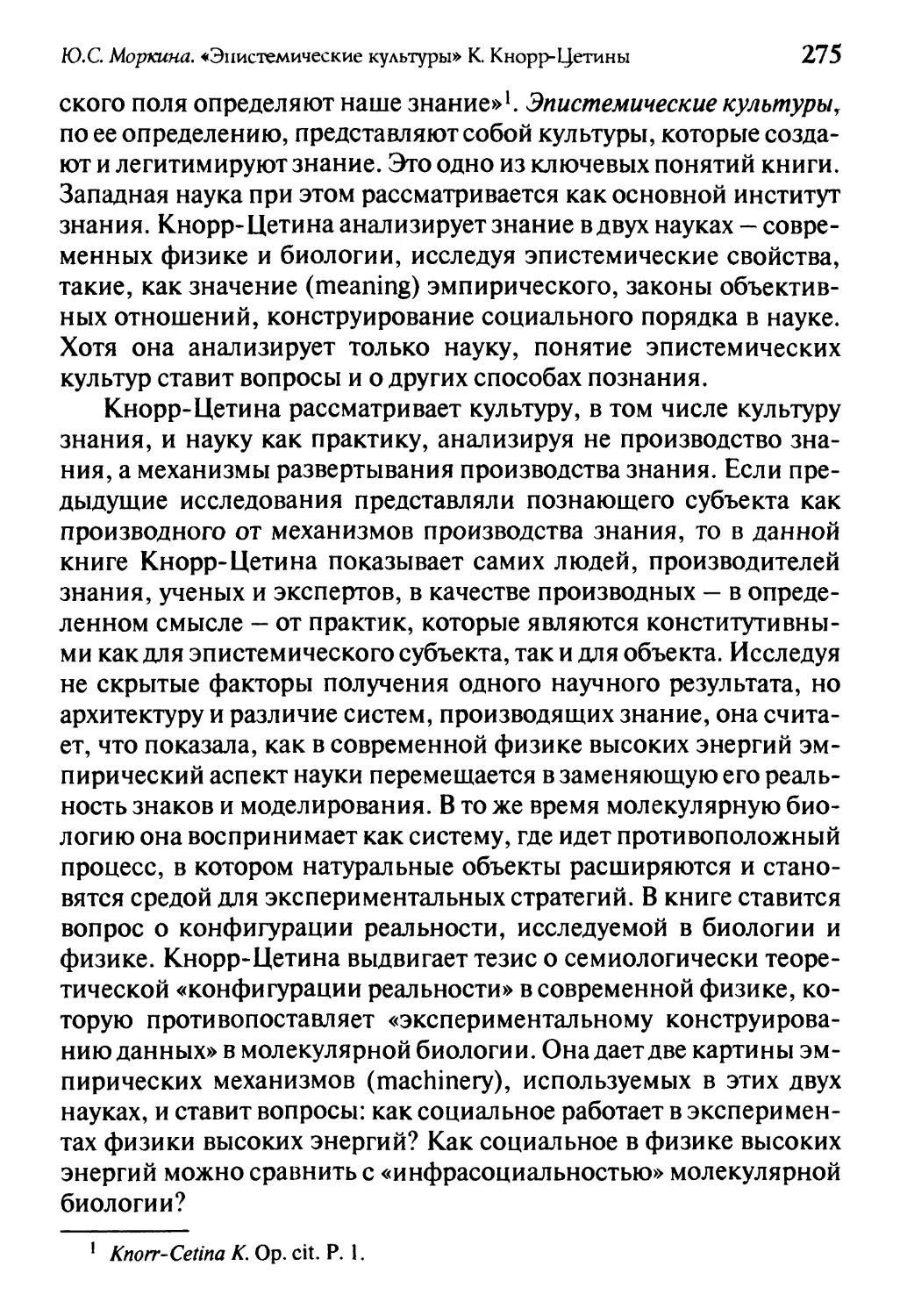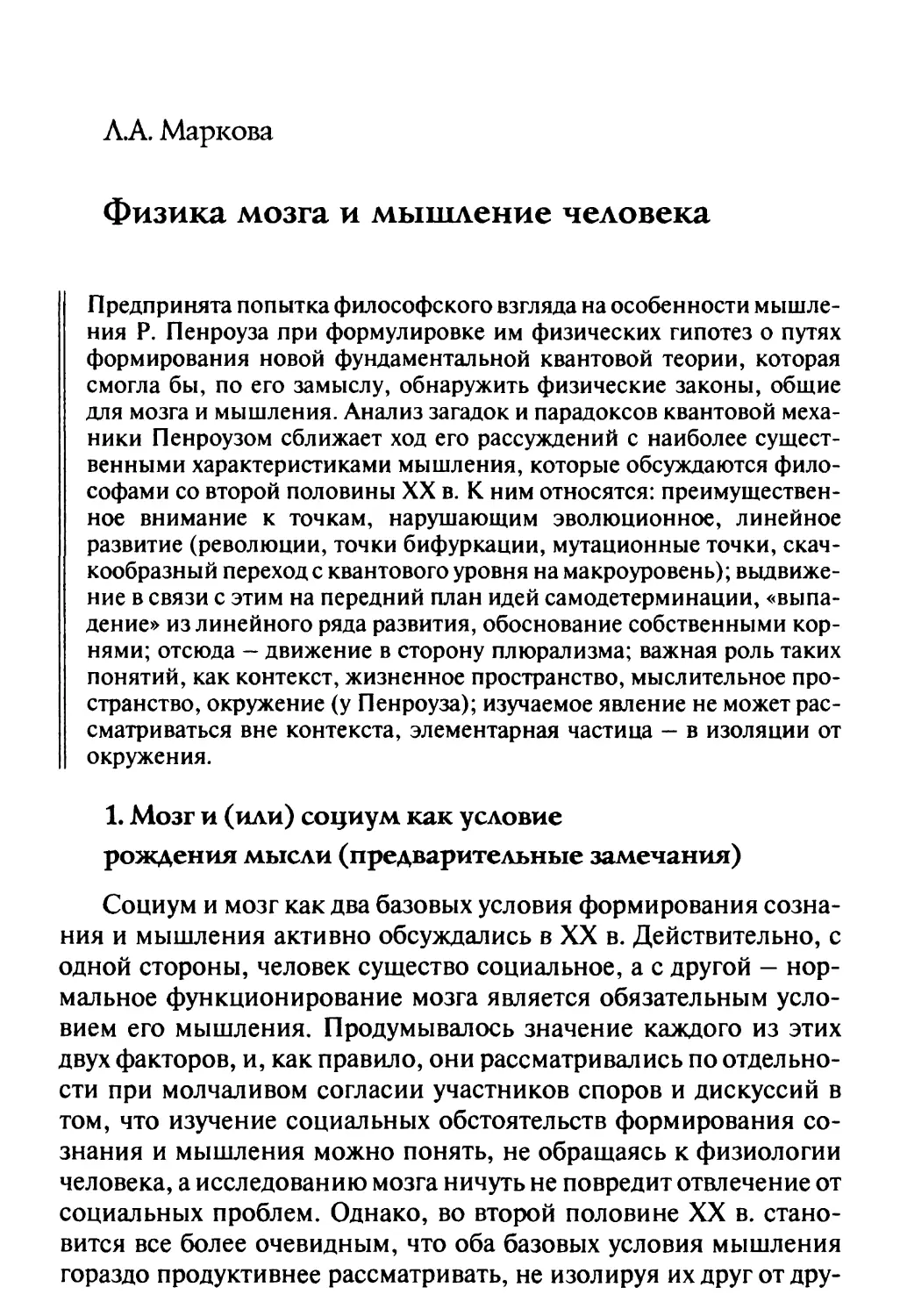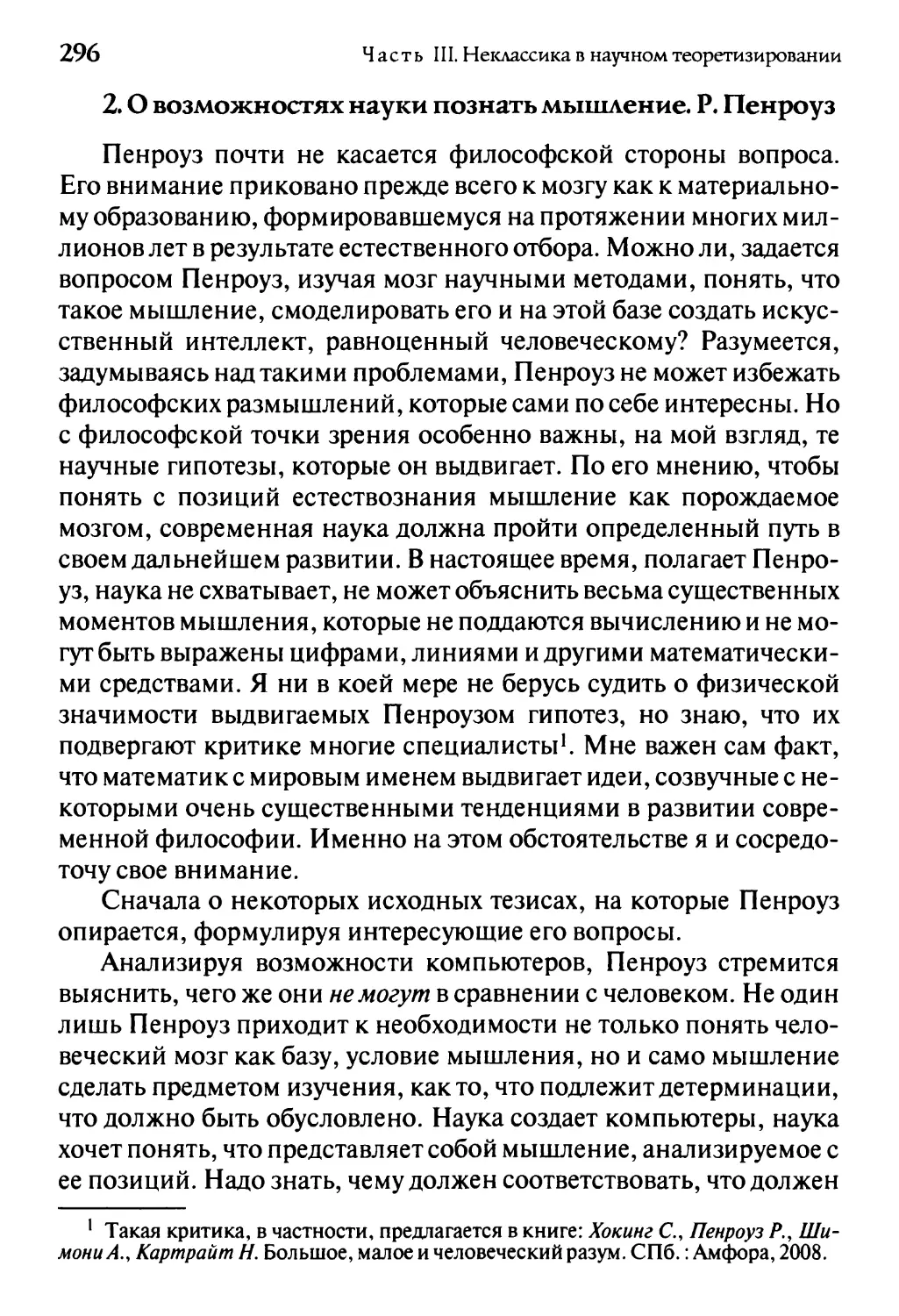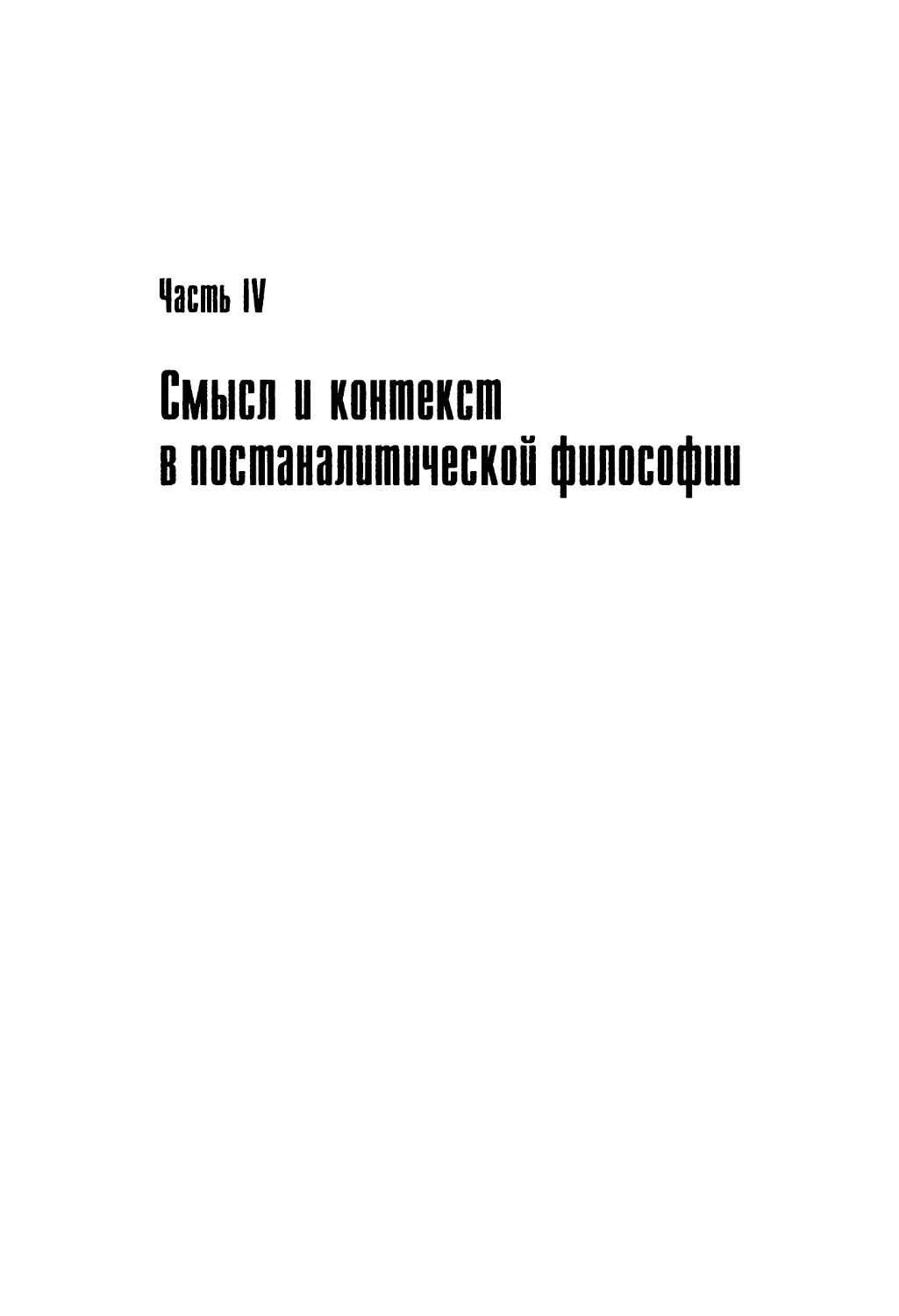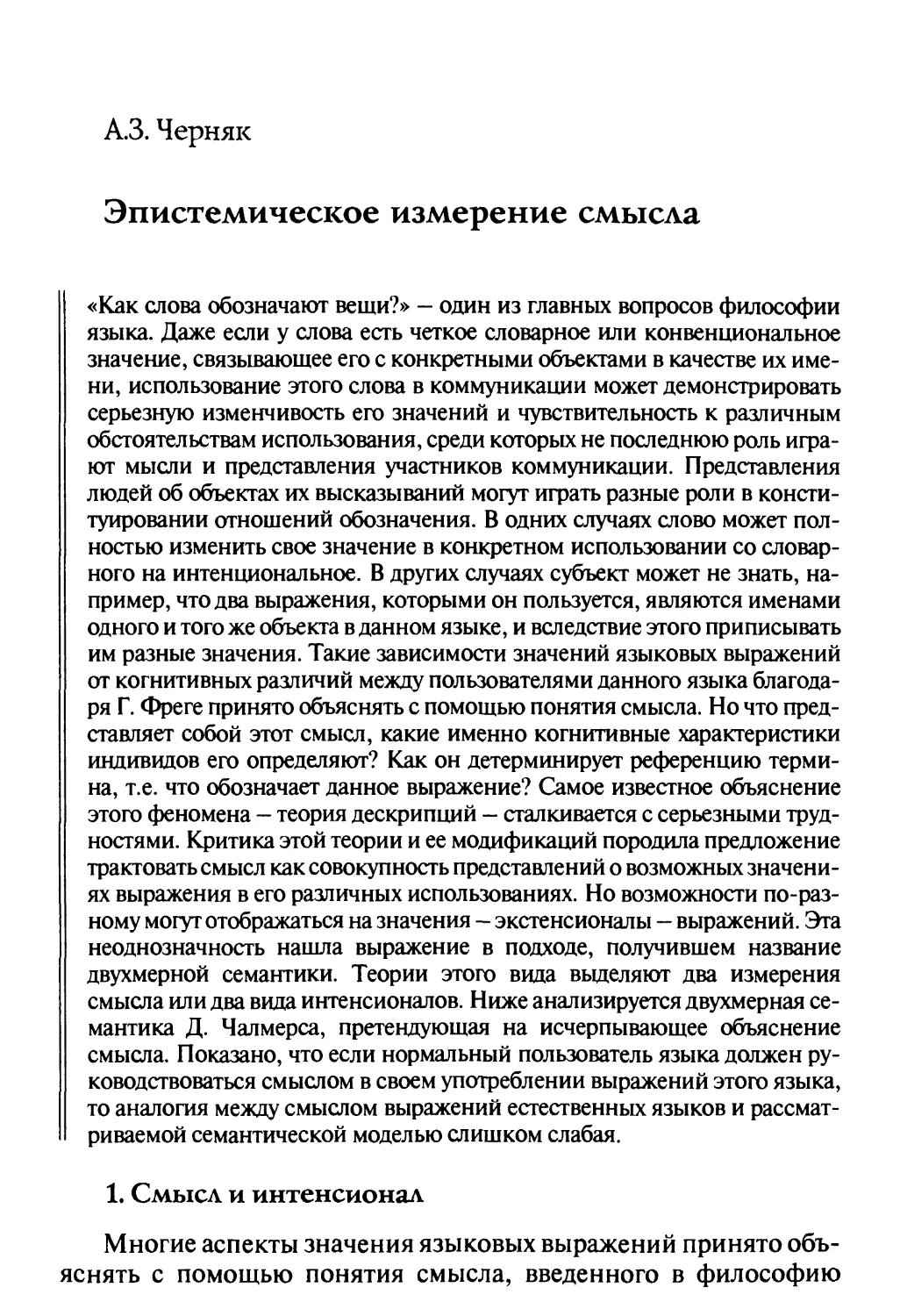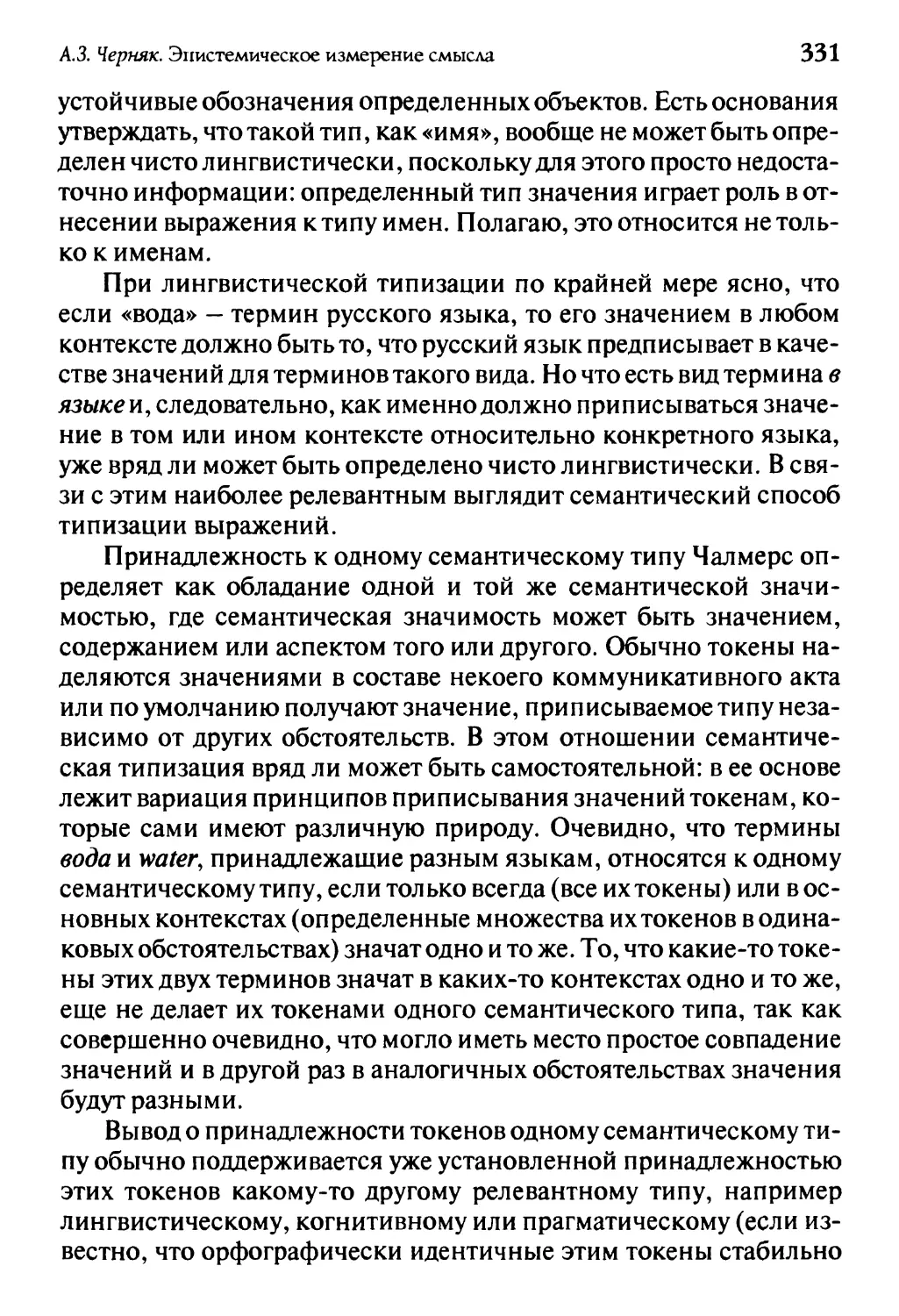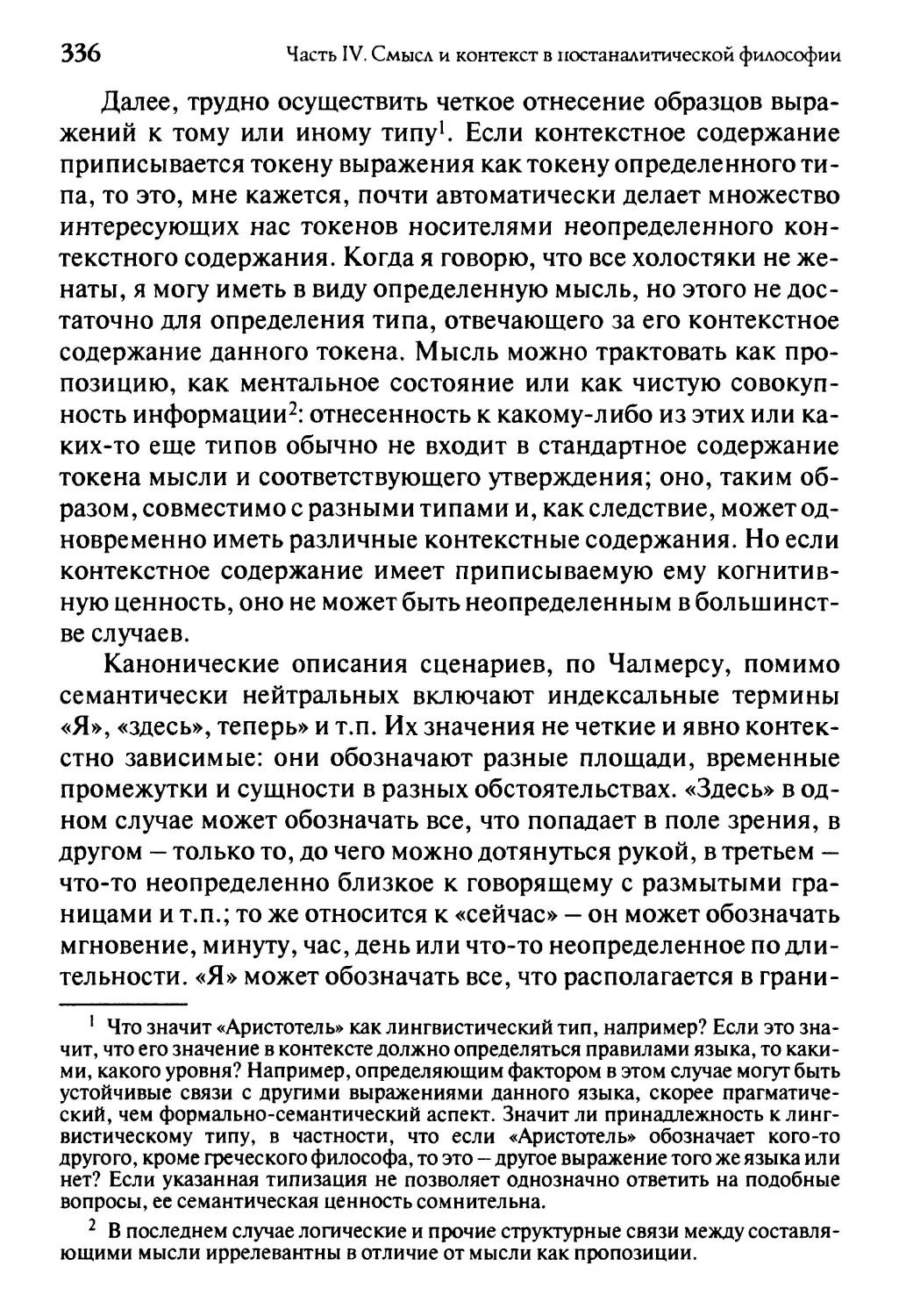Автор: Длугач Т.Б. Филатов В.П.
Теги: метафизика онтология философия наука
ISBN: 978-5-98281-314-5
Год: 2012
Текст
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Мышление
ученого
вчера и сегодня
Под редакцией
Л.А. Марковой
МОСКВА • АЛЬФА-М • 2012
Мышление ученого вчера и сегодня ; под ред. Л .А.
Марковой. - М. : Альфа-М, 2012. - 358 с. (Библиотека
журнала «Эпистемология и философия науки»).
ISBN 978-5-98281-314-5
В Новое время научное мышление было в значительной мере
эталоном мышления как такового. Поэтому серьезные трансформации в
естествознании в результате научной революции начала XX в., а также в
ходе дальнейшего превращения классической науки в неклассическую
привели к изменениям базовых оснований и в философии. Этому
способствовали и внутренние процессы развития философии.
Центральным моментом всех перемен был переход от мышления, где главным
было познать что-то, к мышлению, где главное — это понять кого-то.
Субъект-предметные отношения становятся маргинальными. В последние
десятилетия, однако, на передний план выдвигаются понятия,
нейтральные и к субъект-предметным, и к субъект-субъектным отношениям,
такие, как смысл, жизненное пространство, наблюдатель, контекст,
сетевые отношения и др. Авторы книги опираются как на философскую
проблематику последних десятилетий, так и на естественно-научный
материал.
Для научных работников и специалистов в области философии и
философии науки.
© Институт философии РАН, 2012
ISBN 978-5-98281-314-5 © «Альфа-М». Оформление, 2012
В оформлении книги использован фрагмент картины Д. Риверы «Jacques Lipchitz
{Portrait of a Young Mari)», 1914
Содержание
Л.Л. Маркова • Введение 7
ЧАСТЬ I. ПОВОРОТ К СУБЪЕКТУ В ФИЛОСОФИИ
И СОЦИОЛОГИИ НАУКИ 25
Л.Л. Маркова • В социологических исследованиях
науки понятие истины под сомнением 27
Л.Л. Маркова • Наблюдатель как субъект научной
деятельности 51
Л.Л. Маркова • Смысл - альтернатива истине? 70
Ю.С. Моркина • «Постнеклассическая» эпистемология?
Б. Латур. Попытка создания новой парадигмы 81
Ю. С. Моркина • Эпистемологический дискурс: модель
и реальность 101
ЧАСТЫ1. ОБЩЕНИЕ ВМЕСТО ОБОБЩЕНИЯ В ФИЛОСОФИИ 125
U.M. Смирнова • Философско-методологические
трансформации современного образа
науки: ренессанс трансцендентализма 127
Л.Н. Павленко • Коммуникативная доктрина морали
и права: признание до обоснования 145
Н.Л. Касавина • Точки роста в социально-гуманитарных
науках: уроки экзистенциальной философии 160
Л. С. Игнатенко • Топология Ж. Делёза. Введение
в пространственную философию постмодерна 177
ЧАСТЫН. НЕКЛАССИКА В НАУЧНОМ ТЕОРЕТИЗИРОВАНИИ 195
Л.Н. Павленко • Смена научной рациональности сквозь
призму «наблюдения» 197
Л.Н. Павленко • Принцип «наблюдаемости»:
почему нереализуема теория бесконечной Вселенной? 220
6 Содержание
Л.Ю. Антоновский • К трансформации представлений
о социальной эволюции во второй половине XX века:
социологический эволюционизм как междисциплинарный
эпистемологический проект 233
Ю.С Моркина • «Эпистемические культуры»
К. Кнорр-Цетины как концепция
научного знания конца XX века 272
Л.А. Маркова • Физика мозга и мышление человека 290
ЧАСТЬ ГУ. СМЫСЛ И КОНТЕКСТ
В ПОСТАНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ 311
/4.3. Черняк • Эпистемическое измерение смысла 313
Л А. Маркова
Введение
Авторы предлагаемой читателю книги стремятся показать и
проанализировать существенные сдвиги, имевшие место, по их
мнению, в познавательном научном мышлении в прошлом веке и
в начале настоящего.
Каждый может представить себе ученого в лаборатории, за
экспериментальной установкой или письменным столом.
Причем эти представления по-разному воплощаются художником в
картине, писателем в романе, историком в историческом
повествовании, психологом, социологом, философом в их
профессиональных произведениях. В свою очередь художественное
воплощение образа ученого очень отличается от автора к автору,
зависит от их индивидуальных особенностей, от принадлежности к
тому или иному историческому периоду, определенному
художественному направлению. Философское осмысление ученого как
субъекта научной деятельности тоже не остается неизменным,
одним и тем же в разных философских системах, у разных авторов
этих систем.
В прошлом веке, особенно во второй его половине, и
начале настоящего, намечаются радикальные перемены в
интерпретации научного мышления, обусловленные двумя
моментами. Во-первых, они вызваны развитием самой философии,
назревающими в ней проблемами, требующими решения.
Во-вторых, произошедшими, можно сказать без
преувеличения, фундаментальными изменениями в самой науке.
Наука стала другой, и прежние способы ее философского
понимания не дают желаемых результатов. Одно дело, когда ученый
познает внешний мир, природу как существующую
независимо от него. В этом случае научное знание должно быть по
возможности свободно от признаков деятельности ученого и
каких бы то ни было его личностных характеристик. Совсем
другое дело, когда для получения правильного результата ученый
должен учитывать влияние наблюдателя на протекающие в
экспериментальной установке процессы. В первом случае мы
8
Введение
имеем дело с классической наукой, во втором - с
//^классической1.
В Новое время (XVII - начало XX в.) философия как
философская логика предлагает философское осмысление науки, но и сама
стремится подражать науке, строится в значительной мере по ее
образу и подобию, подчиняется аксиоматически дедуктивной
форме следования.
Физики о классике на ее грани с неклассикой. И. Пригожий и
И. Стенгерс, характеризуя классическую науку, пишут, что
результатом безусловно успешного диалога науки и человека
«явилось открытие безмолвного мира. В этом — парадокс
классической науки. Она открыла людям мертвую, пассивную природу,
поведение которой с полным основанием можно сравнить с
поведением автомата: будучи запрограммированным, автомат
неукоснительно следует предписаниям, заложенным в программе.
В этом смысле диалог с природой вместо того, чтобы
способствовать сближению человека с природой, изолировал его от нее.
Триумф человеческого разума обернулся печальной истиной. Наука
развенчала всё, к чему ни прикоснулась»2. Основополагающим
тезисом классической науки является тезис, считают Пригожий и
Стенгерс, согласно которому на определенном уровне мир устроен
просто и подчиняется обратимым во времени фундаментальным
законам. Места человеку в этом мире нет.
Взгляд на классическую науку с позиций философии и
естествознания XX в. высвечивает в ней и делает проблемными такие ее
черты, которые прежде воспринимались как нечто само собой
разумеющееся и не требующее обоснования. Классика представляет
интерес на ее границе с неклассикой, в контексте тех проблем,
которые приводят ее к самопреодолению, к превращению в науку
принципиально иного рода.
Большое значение проблеме классической и
неклассической науки для философии придавали многие физики, в том
1 В отечественной философии впервые осмысление этого перехода от классики
к неклассике и далее к постнеклассике осуществил B.C. Стёпин, положив тем
самым начало новому направлению в философии науки, в котором учитывались
особенности научного мышления, формирующегося после научной революции
начала XX в.
2 Пригожим И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с
природой. М. : Прогресс, 1986. С. 45-46.
Введение
9
числе M. Борн. Он писал, что о науке Нового времени, начиная
с Г. Галилея и И. Ньютона, он будет говорить, опираясь
«исключительно на одну сторону вопроса — на разделение субъекта и
объекта при описании природы»1. И он же: «Классическая
физика принимала как само собой разумеющееся, что имеется такой
объективный мир, который не только существует независимо от
наблюдателя, но и может быть изучен этим наблюдателем без
нарушения его в процессе наблюдения. Конечно, каждое
измерение представляет собой нарушение наблюдаемого явления;
однако допускалось, что путем искусного эксперимента это
нарушение может быть сведено к ничтожно малой величине. Но
современная физика показала, что как раз это неправильно. А с
этим связана философская проблема, трудность которой
состоит в том, что нужно говорить о состоянии объективного мира,
при условии, что это состояние зависит от того, что делает
наблюдатель. Это ведет к критическому исследованию того, что
мы понимаем под выражением "объективный мир"»2. Борн
разъясняет свою мысль, рассматривая соответствующие
экспериментальные установки с точки зрения принципа
неопределенности В. Гейзенберга. Парадоксальные результаты такого
подхода были тщательно изучены Гейзенбергом и Борном. Борн
останавливается на одном из подобных случаев: «Смотря в
микроскоп, я могу увидеть микроб и проследить его движение.
Почему невозможно сделать то же самое в отношении атомов или
электронов, просто применяя более мощные микроскопы?
Ответ состоит в том, что выражение "смотря в микроскоп"
означает, что вы посылаете через него пучок света или пучок фотонов.
Они сталкиваются с теми частицами, которые должны
наблюдаться. Если эти частицы тяжелы, подобно микробу или даже
атому, то толчок фотона не окажет на них существенного
влияния, и отклоненные, а затем собранные линзами фотоны дадут
действительное изображение объекта. Но если это очень легкая
частица, например электрон, то от соударения с фотоном она
откатится»3. Несколько ниже Борн пишет, что основная
трудность при решении вопроса о совместимости новой теории с
1 Борн М. Физика в жизни моего поколения. М., 1963. С. 228.
2 Там же. С. 81.
3 Там же. С. 91-92.
10
Введение
представлением об объективном мире, существующем
независимо от наблюдателя, состоит в том факте, «что никакое
явление в атомном мире не может быть описано без ссылки на
наблюдателя, не только на его собственную скорость, как
это имеет место в теории относительности, но на весь его
образ действия при выполнении наблюдения, на установку
приборов и так далее. Само наблюдение изменяет ход
событий. Как в таком случае можем мы говорить об объективном
мире?»1
Борн отмечает, что далеко не все физики интересуются
философскими проблемами. Некоторые физики-теоретики, и среди
них, например, П. Дирак, говорят: всё, что мы хотим иметь, это
внутренне непротиворечивую математическую теорию. А то, что
понимается под объективным миром, мы не знаем, и нас это не
интересует.
Теория и эмпирия. Если задаться вопросом, какое научное
мышление, классическое или /^классическое, ближе к
эмпирическому существованию науки, такой, какая она есть, то едва ли
можно дать однозначный ответ. Любая логическая конструкция
не может быть напрямую спроецирована на эмпирическую
действительность и не может с ней совпадать. Философия
предлагает лишь идеальный образ того же ученого и его деятельности,
который помогает нам понять предмет нашего внимания.
Подобным образом идеально ровная поверхность не существует в
действительности, но помогает сформулировать в
классической механике законы движения обычных тел по обычным,
далеко не ровным поверхностям. Собака Павлова, поставленная в
станок, в комнате-лаборатории, максимально изолированной
не только от внешних шумов, но и от экспериментатора, даже от
движения его глаз, едва ли может восприниматься как
существующая сама по себе, независимо от ученого и его деятельности,
в обычной среде своего обитания. В Новое время научное
отношение к миру в значительной мере определяло и его
эмпирическое восприятие, на уровне здравого смысла и быта, поэтому
любой новой теории непросто было защититься от упреков в
несоответствии действительности. По-видимому, поэтому в
середине XX в. столь популярным стало выражение «теоретическая
Борн М. Указ. соч. С. 92.
Введение
11
нагруженность эксперимента». Это значит, что эксперимент
имеет целью подтверждение или опровержение того или иного
теоретического положения, которое определяет постановку и
ход эксперимента. Не только эксперимент, но простое
наблюдение предполагает некоторую предварительную установку, и
нет «чистой эмпирии», одинаковой для всех.
Отказ от монологики. Такое допущение исходит из
возможности наличия нескольких теоретических объяснений того же
самого реально существующего предмета. Однако в классическом
научном мышлении предмет изучения один. «Познавать» -
имеется в виду познавать что-то, находящееся за пределами
твоего Я, независимое от твоей исследовательской
деятельности и от вопросов, ответы на которые ты стремишься получить.
Познавать что-то — это нечто иное, чем понимать кого-то.
Окружающий мир как предмет внимания ученого не является его
собеседником, собеседник может и меняться в ходе беседы, под
влиянием твоей аргументации. Изучаемый ученым мир
безмолвен и остается одним и тем же вне зависимости от того, кто, где
и когда его изучает. Соответственно и знание об этом мире в
идеале должно быть абсолютным, с безупречной точностью
воспроизводящим его суть. Такого идеала человеческому уму,
неизбежно ограниченному в своих возможностях, достичь
невозможно, но в развитии науки накапливаемое знание
приближается к нему все ближе и ближе. Успех зависит в первую
очередь от того, насколько удается устранить из получаемого
научного знания все, связанное с личностью ученого, с самим
исследовательским процессом, с его условиями. В
результате ученый утрачивает все свои человеческие качества и в
логической конструкции науки во всех случаях исследовательской
деятельности субъект один и тот же. Итог таков: один предмет
познания - окружающий мир и один субъект познавательной
деятельности. На монологике базируются такие краеугольные
для классического мышления особенности получаемого
знания, как его объективность и истинность. Чем более точно,
адекватно результат научного исследования воспроизводит
окружающий мир в его независимом от человека существовании,
тем он с большим основанием может претендовать на
истинность.
12
Введение
Познавательное отношение к предмету исследования, по
крайней мере как идеал, к которому надо стремиться, было
свойственно не только естествознанию, но и общественным
наукам (истории, экономике, социологии). В тех случаях, когда
понимание мышления строилось как отрицание в качестве
эталона естественно-научного мышления (философия жизни,
или некоторые формы культурологии, философские системы
А. Шопенгауэра и Ф. Ницше), все равно приходилось
формулировать тезисы, которые отвергались как неприемлемые. В таком
качестве опровергаемых основания научного мышления
оставались неизбежными фигурантами философских концепций.
Поэтому серьезные трансформации, которые претерпело
естествознание в результате научной революции начала XX в., а также
в ходе последующего развития квантовой механики,
космологии, биологии и ряда других дисциплин, оказались
синхронными с имевшими место в этот же период времени переменами в
философии. Более того, во многом послужили стимулом этих
перемен.
Новая роль субъекта научной деятельности. Л оги ка структуры
классических теорий перестраивается таким образом, что на
передний план выдвигается субъект научной деятельности.
Революция продемонстрировала возможность иного
субъекта (и предмета) теоретического исследования, породила
сомнение в единственности классического субъекта. В этом
плане решающую роль сыграли идеи Н. Бора. Как пишет
B.C. Библер, «новый угол зрения позволяет обнаружить
странное несоответствие и "дополнительность" (в самом
фундаменте классической науки заложенные) между логикой
имманентного монологического развития классических
теорий (выводного знания) и парадоксальной логикой их
построения, изобретения»1. Но если уж речь заходит о
построении, то неизбежно встает вопрос и о строителе, который
располагается извне строящегося здания. Теоретизирующий
субъект развития классической теории раздваивается и
вступает в диалог с субъектом мысленного эксперимента,
субъектом изобретения, построения теории и самого ее предмета как
идеализованного. Вопрос о субъекте теоретизирования ста-
1 Библер B.C. От наукоучения - к логике культуры. М., 1991. С. 123.
Введение
13
новится физически осмысленным, становится логической
проблемой.
Радикальный поворот во второй половине XX в. в
философском осмыслении научного мышления состоял в том, что
не предмет изучения, а ученый-исследователь во всей
совокупности своих характеристик становится главным фактором,
определяющим и содержание, и логику получаемого знания.
В неклассике субъект — это всё (в логическом пределе
исходной установки), в противоположность классике, где всем
является предмет, определяющий логику и содержание знания.
Этот поворот в осмыслении научного мышления был
фундаментальным, поскольку обрушивал значимость таких
основополагающих для классики понятий, как объективность и
истинность знания. Релятивизм становится серьезной
проблемой для исследователей науки. Действительно, если субъект,
его деятельность и условия этой деятельности, которые
изменчивы в своих характеристиках от случая к случаю и в то же
время не выносятся за пределы рациональной структуры знания,
как это было в классике, тем не менее определяют ее логику и
содержание, то о какой объективности и истинности
получаемых в науке результатов можно говорить? В классике знание
должно соответствовать предмету изучения, чтобы быть
истинным, в неклассике знание определяется субъектом, а
истинность по меньшей мере становится проблемной в качестве
его характеристики.
Классика научного мышления наиболее полно воплощается в
механике Ньютона, яеклассика находит опору в квантовой
механике, постнеутассика — в науке о хаосе.
Социология выдвигается на передний план в изучении
научного мышления, претендуя на решение в том числе и
философских проблем. Движение в этом случае встречное, философы
науки вынуждены, в силу внутренних тенденций развития своей
дисциплины, включать в свои концепции (а не устранять из них)
социальные моменты, связанные с личностью автора получаемых
результатов и характером его деятельности.
В философии наиболее показательно формирование новых
тенденций в аналитической философии, где приверженность
нормам классической науки с наибольшей очевидностью служила
основанием ее логики.
14
Введение
Л. Витгенштейн как философ и логик сумел достаточно
фундаментальным образом обосновать две крайние позиции в
аналитической философии XX в.: философия науки как одна
логика и один субъект (ранний Витгенштейн) и теория языковых
игр, которая базируется на контекстуальном, ситуативном
конструировании языковых правил и значений слов, что
предполагает присутствие в логике многих субъектов, отношения
которых друг с другом необходимо как-то осмыслить (поздний
Витгенштейн). Витгенштейн в «Философских исследованиях»1, по
словам К. Апеля (и в этом с ним можно полностью согласиться),
решительно отходит от своей ранней, основанной на
классической науке модели языка, дополняя и релятивизируя ее
неисчерпаемой прагматикой языковых игр. Творческая эволюция
другого представителя аналитической философии, С. Крипке, в
значительной степени совпадает с эволюцией Витгенштейна.
К. Апель создает свою теорию интерсубъектности, стремясь
рационализировать стихию человеческого общения.
X. Патнэм ставит целью преобразовать отношение субъект-
предмет в такое их сочетание, в котором ни одна из сторон не
преобладает, не доминирует, они сосуществуют рядом. Нет
необходимости делать между ними выбор, каждая из сторон
принимается в расчет в равной степени и утрачивает смысл при
отсутствии второй.
В философии У. Куайна по меньшей мере два момента
можно квалифицировать как серьезную постаналитическую атаку
на логический позитивизм. Во-первых, Куайн поставил под
вопрос разделение предложений на аналитические и
синтетические. Во-вторых, он показал, что точность перевода
представляет собой большую проблему. И в том и в другом случае не
обойтись без выхода в нелогическую сферу, в контекст, в
деятельность субъекта.
Р. Рорти предлагает заменить отношение человек—природа
отношением человек-человек. Вместо исследования -
разговор как окончательный контекст, вместо логического
обоснования - социальный дискурс. В этом своем рассуждении Рорти
попадает в струю социологических исследований науки, веду-
1 Витгенштейн Л. Философские исследования // Философские работы. М.,
1994. 4.1.
Введение
15
щих свое происхождение во многом от Т. Куна (на которого он,
кстати, часто ссылается).
Проблему интерсубъектности с точки зрения соотношения
индивидуального и общего рассматривает П. Рикёр.
Список философов, которых занимает проблема перехода от
классики к //^классике, можно продолжить. Мне важно было
показать, что всех их объединяет переключение внимания в
отношении субъект-предмет на субъектный полюс.
Два этапа «социологизации» научной деятельности. Можно
проследить два этапа в процессе социологизации исследований
научного мышления.
Первый этап (//^классика)—это когда «ответственность» за
производство знания возлагается на автора этого процесса, с
учетом многочисленных деталей и особенностей конкретного
события рождения нового результата. У каждого своя истина, или,
может быть, ее нет совсем? Не нужным оказывается и предмет
изучения, в лаборатории, по мнению социологов, нет природы,
здесь все рукотворно. Действительно, если принять социальное
конструирование научного знания, другими словами, если
признать, что знание воспроизводит не внешний мир, а субъекта
научной деятельности и саму эту деятельность во всех деталях ее
реализации в конкретных условиях индивидуального события,
то уже невозможно говорить ни о какой границе между
субъектом и предметом. Предмет полностью поглощается субъектом
деятельности. К таким выводам приходят социологи, наиболее
последовательно проводящие базовую идею социального
конструирования знания.
Однако получается, что и ученый как производитель знания
тоже не нужен. Он думает скорее о карьере, о зарплате, чем об
изучении природы. Вместе с предметом исчезает и субъект
исследовательской деятельности.
Вспоминается при этом ситуация в логическом позитивизме,
где, наоборот, всеми возможными средствами из логики
устранялся субъект. Однако вместе с субъектом из философии исчезает
и предмет как природа, как окружающий мир, а философ изучает
язык, описывающий этот мир и его законы. Появился даже
специальный термин языковый поворот в развитии позитивизма. Столь
важное для нововременного мышления отношение субъ-
16
Введение
ект-предмет успешно работает только при наличии обеих сторон
данного отношения.
Второй этап в развитии социологического направления в
изучении науки имеет своим основанием идею исчезновения
четких границ науки и ненауки, истины и лжи, субъекта и
предмета, субъективного и объективного, результата и деятельности
по его получению. Границы смещаются, образуя некое
пространство, где доминируют другие понятия, которые прежде
оставались на периферии. Это такие понятия, как событие,
смысл, дискурс, контекст, поле референции, жизненное
пространство и др. Трансформируется сама онтология научного
исследования. Утрачивает свое решающее значение
субъект-предметное отношение, и новое знание не выводится из
старого, оно рождается из контекста, элементы которого далеко
не всегда имеют отношение к науке. Острой становится
проблема преодоления другой границы — границы контекста как не-
науки и науки. Вновь возникшее из контекста знание может еще
не быть признанным научным сообществом в качестве
истинного, но оно уже имеет право на участие в дискуссиях как
обладающее смыслом.
Привычные границы стираются, но возникают новые
различия, требующие своего понимания. Подобно тому, как не-
классическое научное мышление и его философское
осмысление именно в качестве //^классического формируется на базе
трудностей в классике и ее самопреодолении, так и не
решаемые на первый взгляд проблемы в философии диалога,
интерсубъективности, коммуникационизма являются истоком пост-
неклассического мышления. Хочу сразу отметить, что считаю
непродуктивными попытки решать возникающие трудности
путем возврата (полного или частичного) к классике, поэтому
эти попытки не учитываю. Обозначу некоторые темы,
заставляющие задуматься над особенностями зарождающегося
нового типа мышления.
7. О связи принципиально новых черт научного знания с
особенностями философской интерпретации постнеклассической
науки.
2. Каким образом контекст, не являющийся наукой, порождает
именно науку? Может ли случайность лежать у истоков рождения
нового знания?
Введение
17
3. Означает ли выдвижение на передний план индивидуального
(в качестве характеристик человека, контекста, события) и вместе
с тем необратимости времени отказ от возможности повторения
(эксперимента), неоднократного использования (слова)?
Наука о хаосе. Понятие хаоса несовместимо с понятиями и
классической, и неклассической науки. Под действие законов
физики почему-то прежде не подпадали хаотические явления,
такие, как формирование облаков, турбулентность в водных
потоках, колебания численности популяций растений и животных,
апериодичность пиков энцефалограммы мозга или сокращений
сердечных мышц. «Порождаемые хаосом природные феномены,
лишенные регулярности и устойчивости, ученые всегда
предпочитали оставлять за рамками своих изысканий»1. Между тем хаос
присутствует везде. В частности, жизнь научной лаборатории с
учетом всех ее нюансов тоже можно назвать хаосом в той мере, в
какой мы не можем описать ее логическими средствами науки.
Все те характеристики мира, которые игнорировались
математическим естествознанием как не поддающиеся описанию его
средствами, а поэтому не представляющие интереса для науки,
подпадали под понятие хаоса.
Такие тезисы, как сильная зависимость от начальных условий
и необратимость времени, наиболее ярко демонстрируют
своеобразие науки о хаосе.
Сильная зависимость от начальных условий, определяющая роль
случайности. В случае сильной зависимости от начальных условий
предполагается, что незначительные различия в исходных
обстоятельствах приводят к огромным расхождениям в результатах. В
исследованиях погоды этот эффект называют «эффект бабочки»:
трепетание крыльев бабочки в Пекине через месяц может
привести к урагану в Нью-Йорке.
Самые незначительные изменения в начальных условиях,
«небольшая флуктуация может послужить началом эволюции в
совершенно новом направлении, которое резко изменит все
поведение макроскопической системы»2, - пишут Пригожий и Стен-
герс. Сильная зависимость от начальных условий приводит к
стремлению близлежащих траекторий отдалиться друг от друга.
1 ГлейкДж. Хаос. Создание новой науки. СПб. : Амфора, 2001. С. 10.
2 Пригожий //., СтенгерсИ. Указ. соч. С. 56.
18
Введение
Процесс получения нового знания в классике из старого
логическими средствами вызывает критику: если это новое уже
содержалось в прошлом знании, то какое же оно новое? В неклассике
новое зарождается из своих собственных корней, в процессе
самодетерминации. Базовые основания новой теории логически
несоизмеримы с основаниями старой. Возникает тем не менее
возражение. Базируясь исключительно на собственных основаниях, без
выхода из себя самого, ничего нового, ничего, кроме себя, не
получишь. Самодетерминация не может быть источником нового
результата. Это отмечал еще Д. Юм. Необходим выход за пределы
самодетерминации, в область тех самых случайных исходных
обстоятельств, в хаос.
В связи с этим появляется необходимость преодолеть
границу между наукой (как знанием) и контекстом производства
научного результата. При этом важно признать, что контекст, не
являясь наукой, формируется не произвольно и не из
случайных элементов. Чтобы быть яенаукой, надо знать, что такое
наука. А чтобы быть контекстом индивидуального,
специфического события рождения нового в науке, необходимо исходить из
уникальности сложившейся в этом событии проблематики.
Контекст формируется состоянием дел в науке, а рождение
нового знания реализуется через ассимиляцию наукой ненаучных
составляющих контекста. Отношение субъект-предмет
утрачивает свою значимость, граница между ними стирается, а вместе
с этим и проблема релятивизма перестает быть актуальной. На
передний план выдвигается другая проблема: своего
осмысления требует граница контекст/наука, проблема возможности
случайного возникновения нового научного знания.
М.К. Мамардашвили писал, что трудно себе представить
рождение безупречно строгой логической системы научного
знания из случайных обстоятельств. Логика не может рождаться из
чего придется, она рождается из нелогики. Аналогичную мысль
высказывает Ж. Делёз. Смысл (основное понятие его
собственной логики) порождается нонсенсом, который не
противоположен смыслу (подобно тому, как истина противоположна лжи), а
противоположен отсутствию смысла. Это как у Мамардашвили:
яелогика не противоположна логике, но противоположна
отсутствию логики. Такой ход рассуждения помогает понять
возникновение нового знания в науке. Начало нового знания долж-
Введение
19
но принадлежать этому знанию, быть его основанием, но в то же
время выходить за его пределы, осуществлять переход к новому
знанию от того, что этим знанием не является.
В философии появляются новые (или приобретающие
новое звучание) понятия, образующие поле исследования, где
отношение субъект-предмет становится периферийным и
перестает играть доминирующую роль. Делёз вводит в своем анализе
кино понятие неразличимости. Он пишет, что, хотя различие
между субъективным и объективным имеет некий смысл, но
только очень относительный, оно проявляет тенденцию к утрате
собственной важности в процессе развития киноискусства.
«Фактически, — пишет Делёз, — мы сталкиваемся с принципом
неопределенности, с принципом неразличимости: мы уже не
знаем, что в ситуации является воображаемым, а что реальным,
что физическим, а что - ментальным, и не потому, что мы их
смешиваем, но оттого, что нам не нужно этого знать, и даже
спрашивать об этом неуместно. Все происходит так, как если бы
реальное и воображаемое друг за другом бежали и друг в друге
отражались, возле точки неразличимости»1. Чтобы подойти к
сущности самой мысли, понимаемой как творчество,
порождение нового, считает Делёз, нужно отвлечься от понятий
субъекта и объекта. «Мысль — это не нить, натянутая между субъектом
и объектом, и не вращение первого вокруг второго»2. Если
говорить о философии, то философская мысль рождается из префи-
лософского плана имманенции. Философия подразумевает его,
но тем не менее лишь ею же он учреждается и развертывается в
философском соотношении с //^философией.
Субъект-предметные отношения разворачиваются в истории философских
идей и истории субъекта, но за пределами рождения
философской идеи из «^философии.
Биолог Р. Том предполагает, что в мире живых существ
присутствует жизненное поле, некоторый предпорядок, определяющий
направление формообразования живых существ. Одной из догм
современной биологии он считает взгляд на мутации как на
обладающие строго случайным характером3.
1 Делёз Ж. Кино. М„ 2004. С. 298.
2 ДелёзЖ., Гваттари Ф. Что такое философия? М. ; СПб. : Алетейя, 1998. С. 110.
3 См. его книгу: Том Р. Структурная устойчивость и морфогенез. М., 2002.
20
Введение
Социолог H. Луман считает давно устаревшей «теорию
познания, которая исходит из таких различений, как
мышление/бытие, познание/предмет, субъект/объект, а реальный
процесс познания способна постигать лишь как рефлексию,
локализованную соответственно на одной стороне этого различения»1.
Для Лумана действительно важным является различие системы и
окружающего мира. Однако этот мир не есть «совокупность того,
что необходимо для возникновения и поддержания социальных
систем. Магнетизм и желудочный сок, воздух,
распространяющий голосовые волны, двери, которые можно закрыть, часы и
телефоны — все это представляется более или менее необходимым.
Однако парадигма различия системы и окружающего мира учит,
что не все, в чем есть потребность, может быть объединено в
системное единство»2. Луман вводит понятие своего мира, который
вычленяется из мира вообще и различие с которым
воспроизводится в самой системе (аутопоэзис) и служит стимулом ее
формирования и существования.
Известный физик Р. Пенроуз часто прибегает к понятию
«окружение», обращая внимание на то обстоятельство, что
«практически любой реальный процесс измерения почти наверняка
сопровождается возмущением большого количества
микроскопических частиц окружения... Часто доминантным эффектом
оказывается именно это возмущение, а вовсе не макроскопическое
движение массивных объектов»3.
Все эти понятия и ряд других предназначаются для того, чтобы
ограничить контекст получаемого результата теми его
элементами, которые могут быть восприняты данной конкретной
системой. Если такого ограничения не будет, то вновь возникающая
система научного знания, например, может менять свои
характеристики в зависимости от действительно совершенно случайных
обстоятельств: ученый промочил ноги, он не выспался, у него
болит голова, поссорился утром с женой и т.д. Если все начальные
условия исследовательской деятельности в равной мере
воспринимаются как необходимые, то формируется сильная зависимость
1 Луман Н. Общество как социальная система. М., 2004. С. 28.
2 Луман Н. Социальные системы. СПб., 2007. С. 239.
3 Пенроуз Р. Тени разума. В поисках науки о сознании. М. ; Ижевск, 2005.
С. 526.
Введение
21
получаемого результата от любого из этих условий, в том числе от
не имеющих ничего общего с наукой. И порхание бабочки в
Пекине можно тогда считать случайной, но все-таки причиной урагана
в Нью-Йорке.
Необратимость времени — вторая важная проблема постне-
классической науки — тоже связана со взглядом на любое
событие с точки зрения его уникальности. Можно повторить
эксперимент, если ограничиться его характеристиками,
поддающимися измерению (хотя измерение абсолютно точным тоже
никогда не бывает, но от этого можно отвлечься). Время в этом
случае обратимо. Но если взглянуть на тот же эксперимент как
на событие уникальное, обладающее массой индивидуальных
свойств, то воспроизвести его — проблематично. Время в этом
случае необратимо. Выбор, сделанный в точке бифуркации (в
точке революции, генной мутации), определяет последующее
эволюционное (необратимое) развитие системы, до следующей
точки, когда будет сделан очередной выбор в пользу нового типа
развития. Необратимость сфокусирована в точках бифуркации.
Чтобы понять эволюцию, надо расшифровать момент ее
рождения, когда были сформированы основные ее характеристики.
Этим эволюция в постнеклассической науке отличается от
эволюционных теорий XIX в., прежде всего от теории Ч. Дарвина.
Тогда, наоборот, чтобы понять революцию, надо было свести ее
к эволюции, растворить в ней. Так поступал П. Дюгем,
отыскивая все новых и новых предшественников революционных
событий в науке.
Заключение. Каждый новый этап в развитии научного
мышления формируется на границе с предыдущим, на базе возникающих
там (или, может быть, всегда существовавших, но не
осознаваемых) проблем1. Философское осмысление мышления ученых в
постнеклассической науке позволило понять и в значительной
степени преодолеть трудности в решении проблем неклассики,
таких, как релятивизм, маргинальное™ субъект-предметного
отношения, доминирующая роль субъекта в формировании логики
1 Такой подход реализуется В.А. Лекторским в книге «Эпистемология
классическая и неклассическая» (М., 2001) путем формулировки четырех основных
проблем, решение которых зависит от принадлежности философа к классической
или неклассической эпистемологии.
22
Введение
научного знания, плюрализм, малая значимость проблемы
истинности и объективности знания и ряд других, образующих с
перечисленными единую систему. Но и в постнеклассическом
мышлении возникают свои проблемы, требующие продумывания:
обусловленность науки яенаукой, рождение нового через процедуру
самодетерминации, роль случайности в производстве научного
результата, несовместимость необратимости времени с
возможностью повторения (эксперимента, слова), новое понимание
эволюции и проч.
Во второй половине XX в. велись споры о том, не пришел ли
конец науке, можно ли считать научным знание, столь не похожее
на классическую науку Нового времени. Думаю, что о конце
науки говорить нельзя. Каждый новый этап естествознания
формируется (как я старалась показать выше) на базе проблем, которые
не поддавались решению на предыдущем этапе. Тем не менее
связь нового со старым осуществляется, хотя каждый раз другими
логическими путями. Переход от классики к неклассике
объяснить как аксиоматически дедуктивный процесс не удается
(вспомним проблему логической несоизмеримости у Т. Куна).
Принцип дополнительности и принцип соответствия в физике
наиболее отчетливо демонстрируют вновь возникший тип
отношений нового со старым, делая логически значимым роль
субъекта научной деятельности. Иным способом осуществляется
переход к постнеклассическому мышлению. Здесь проблема
субъект—предмет трансформируется в проблему наука-контекст, или
наука-яенаука. Ни один из трех типов научного мышления не
обладает логическим смыслом в изоляции от двух других, втом
числе классика. Ведь возникающие со временем в ее недрах проблемы
решаемы только логическими силами неклассики и постнеклас-
сики, без которых самой классике трудно обосновать свою
принадлежность к науке.
***
Двум этапам кризиса классического мышления,
трансформациям понятий субъекта, истины, субъект-предметного
отношения посвящены главы, написанные Л.А. Марковой.
Об основных идеях современной социологии науки пишет
Ю.С. Моркина, анализируя работы социологов, включая их са-
Введение
23
мые последние публикации. Безусловный интерес представляет
рассмотрение ею взглядов Б. Латура, который эволюционировал
от идей социального конструирования научного знания к
пониманию научной деятельности как реализуемой в сетевом
пространстве, где не имеет значения различие социального и
теоретического, субъекта и предмета. Концепция науки «позднего»
Латура безусловно принадлежит ко второму этапу кризиса
классического мышления.
В главе A.C. Игнатенко рассматривается определяющая роль
пространства в философии Ж. Делёза и соответствующее
понимание им науки. Глава демонстрирует наличие серьезного интереса
такого известного представителя постмодернистской
философии, как Делёз, к науке и важным для нее понятиям пространства
и времени.
Н.М. Смирнова видит возможность снятия дилеммы
современного натурализма в философии и конструктивизма — в
возрождении трансцендентализма. Истоки этого процесса она
прослеживает от Э. Гуссерля.
H.A. Касавина рассматривает проблему выражения всеобщих
характеристик мышления нового неклассического типа через
индивидуальное, личностное, ситуативное восприятие реальности
человеком, причем в отношении индивидуальное—общее
доминирует индивидуальное.
Очень важным для обоснования выдвинутых в книге тезисов
является проведенный А.Н. Павленко анализ тенденций
развития современной космологии. Выводы, к которым приходит
автор, о проблемности значения и необходимости опытного
(экспериментального, эмпирического) подтверждения получаемых
теоретических результатов могут, на мой взгляд, быть еще более
радикализированы. Они позволяют говорить об утрате
значимости разделения на теоретическое (мыслительное, субъектное)
и эмпирическое (предметное) на переднем крае современной
науки.
А.З. Черняк предлагает обстоятельный анализ положения
дел в постаналитической философии, фокусируя внимание на
разнообразных возможных вариантах интерпретации
отношения субъекта и действительности (двумерная семантика).
Центральное место у автора занимает понятие смысла, которое не
поддается, по его мнению, расшифровке средствами двумер-
24
Введение
ной семантики. Рассмотрение многих современных проблем
аналитической философии через призму понятия «смысл», а
также включение в оборот дискуссий понятия «токен»
(которое соответствует, пусть и приблизительно, понятию
«дискурс» в философской логике) позволяют взглянуть на тематику
книги еще с одного, очень важного для ее понимания, угла
зрения.
Чип I
Поворот к субъекту
о философии о социологии науки
Л.А. Маркова
В социологических исследованиях науки
понятие истины под сомнением
II Выдвижение на передний план субъекта в отношении ученого к
тому, что он изучает, во второй половине XX в. привело к
переосмыслению понятия истины, которое базировалось в классическом
мышлении на детерминации знания исследуемым предметом. Теперь
характеристики ученого и его деятельности, в качестве контекста этой
деятельности, самым непосредственным образом оказываются
вовлеченными в формирование научного результата. Однако контекст
каждый раз другой при изучении одного и того же предмета и
получаемый результат утрачивает свойство объективности (соответствия
действительности), столь необходимое для научного знания, чтобы
быть истинным. Как преодолеть релятивизм? Как трансформируется
понятие истины в науке? В настоящей главе предпринимается
попытка наметить пути ответа на эти и некоторые другие, связанные с
|| ними вопросы.
1. Появление элементов проблемное™
в понимании истины в классической науке
До середины XX в. понятие истины не фигурировало в
философских трудах о науке как проблема. Подавляющим
большинством исследователей принималось как нечто само собой
разумеющееся, что ученый стремится к истине, а для достижения этой
цели необходимо, чтобы получаемые им результаты соответствовали
предмету изучения. Научный эксперимент является способом
удостоверения истинности теоретических положений, причем его
показания однозначны и не зависят от места, времени и личности
исполнителя, если условия экспериментирования
воспроизводятся с достаточной точностью. Известно, что основным
условием проведения и экспериментальных, и теоретических работ
считалось максимальное устранение из получаемых результатов всех
характеристик ученого как человека, принадлежащего
определенной исторической эпохе, культуре, семье, религиозной
конфессии и т.д.
28
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
Основные споры разгорались не по проблеме истины, здесь
все (я имею в виду прежде всего философов, историков,
социологов науки) были более или менее согласны. Дискуссии велись
главным образом о значении для адекватной интерпретации
науки логики развития научных идей, с одной стороны, и влияния
на науку социальных факторов, понимаемых как внешние по
отношению к ней, — с другой. При взгляде на эти дискуссии (ин-
терналистов и экстерналистов) из исторической перспективы
нельзя не заметить, что, несмотря на бурный характер
обсуждений, проведение международных конференций и симпозиумов
и, казалось бы, непримиримость позиций тех и других, в
основании взглядов оппонентов лежал общий тезис: содержание и
логика научных идей не зависят от социальных влияний.
Воздействие социума как внешних факторов (война, неурожай, избыток
или недостаток финансирования, смена политического режима
и т.д.) может ускорить или замедлить развитие науки, изменить
его направление, поменять приоритеты. Однако логика и
содержание научных идей этому воздействию не могут быть
подвержены. С этим соглашались представители обеих спорящих сторон.
Согласны они были и в том, что любое вторжение в результаты
научных исследований каких бы то ни было элементов
социальности (в любом ее виде) неизбежно приводит к ошибкам и
неточностям. Дискуссия сводилась в конечном итоге к тому, что более
полно раскрывает существо науки — ее социальная природа (тот
факт, что наука невозможна вне общества и делается людьми)
или совокупность научных идей, которые в своем развитии
опираются лишь на предшествующее знание и никак не
определяются социальным контекстом. И историй науки было две —
социальная история и история научных идей. Научная истина
добывалась как результат развития научных идей, и научное знание
было тем совершеннее, чем более независимо оно было от
социальных обстоятельств. Понятие истины не обсуждалось, оно
понималось одинаково всеми участниками дискуссии и вполне
соответствовало реалиям классической науки Нового времени. Но
тем не менее сам факт дискуссий подобного рода
свидетельствует о появлении необходимости специально подтвердить (без
обсуждения прямым текстом) принимавшуюся до сих пор
безоговорочно всеми идею истины в науке как базирующуюся на
полном отделении социального от логического.
Л.А Маркова В социологических исследованиях науки понятие истины i юд сомнением 29
Аналогичных взглядов придерживался и социолог науки
Р. Мертон. Он принимал участие в дискуссиях интерналистов и
экстерналистов на стороне последних, но в его позиции
намечаются существенные сдвиги в понимании соотношения
социального и логического, граница между которыми переносится им в
науку как социальную структуру. Социальное — это уже не нечто,
находящееся за пределами науки и воздействующее на нее извне
как внешние факторы, это — социальное устройство самой науки.
Наука, таким образом, — это не только научные идеи, социальное
тоже включается в ее рамки. В то же время граница сохраняется, и
очень жесткая. Ни организация научных институтов, ни
ценностные установки ученых, этические нормы их поведения и характер
отношений на иерархической лестнице не могут повлиять на
содержание научных теорий, их логику. Для Мертона важно
вычленить научное знание в особую область, четко отграниченную и от
социальной структуры самой науки, и от других социальных
институтов в обществе. Историка и социолога должны интересовать
только ошибки, заблуждения в развитии науки, ложные ходы и
тупиковые ситуации. Другими словами, предметом его внимания
являются моменты в истории научных идей, связанные с
ученым-человеком, недостаточная квалификация или
сообразительность которого явились причиной нарушения логического
процесса выведения одной идеи из другой. Современная
теоретическая мысль вбирает в себя все то истинное, что содержалось в
прошлом знании. Поэтому ученый в своей повседневной работе
не испытывает потребности в анализе истории тех идей и теорий,
которыми он оперирует; не интересуется, в каком социальном
контексте, при каких исторических обстоятельствах возникают
научные идеи, а социолог и историк не вникают в содержание
научных теорий.
Мертон сместил границу между социальным и логическим
внутрь науки, введя в оборот идею о социальном не только как о
внешних по отношению к науке факторах, но и как о
социальности самой науки, он сделал еще один шаг в сторону от жесткого
противопоставления научного знания и социальных условий его
существования в обществе. Он выступил против создания
всеобъемлющих социологических теорий. По его мнению, трудно
установить какие-либо закономерности, справедливые для общества в
целом. Более или менее постоянные отношения можно выявить
30
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
для сравнительно узких областей социальной жизни, создавая
теории «среднего ранга», только они могут быть действительно
работающими. Мертон в силу этого своего убеждения не стремится
создать универсальную теорию взаимодействия науки и
общества, научных идей и социальных обстоятельств. Он рассматривает
конкретную ситуацию в Англии XVII в. и обосновывает тезис, что
развитию науки в тех условиях содействовали и экономика, и
религия в лице протестантизма1. Мертон не отрицает факта
противоположности теологического и научного подхода к миру.
Пуританство ненамеренно содействовало утверждению науки как
социального института, вопреки своей теологии как особому способу
восприятия мира и вопреки умонастроению своих вождей.
Взаимодействие науки и религии Мертон рассматривает здесь как
функциональное, которое осуществляется по линии скрытой
(неявной) функциональности. Социальные ценности, присущие
пуританству, одобряли науку в силу своей глубоко утилитарной
ориентации, скрытой за религиозной терминологией и поощряемой
религиозным авторитетом. Такая функциональная взаимосвязь
не просто безразлична к внутреннему содержанию, внутренней
сути взаимодействующих социальных явлений, но даже допускает
их противоположность, поэтому естественно предположить, что
протестантизм совсем не является единственно возможным
социальным институтом, который мог оказать содействие
становлению современной науки.
В разные исторические эпохи наука, по убеждению Мертона,
научные системы покоятся на различных предпосылках.
Основной предпосылкой современной науки является широко
распространенное инстинктивное убеждение в существовании «порядка
природы». Окончательным критерием истины в науке Галилея и
Ньютона является эксперимент, считает Мертон, но само
понятие эксперимента оказывается невозможным без исходной
предпосылки о том, что в природе существует порядок и, если ей
задавать соответствующие вопросы, то она ответит. Эта предпосылка
выражает веру в возможность самой науки, но не может тем не
менее индуцировать ее развитие. Необходим был постоянный
интерес к поиску этого порядка природы эмпирическими и рацио-
1 См.: Merton R.K. Science, Technology, and Society in Seventeenth Century.
England. N.Y., 1970, а также: Merton R.K. On Theoretical Sociology. N.Y., 1967.
А А Маркова, В социологических исследованиях науки понятие истины i юд сомнением 31
нальными средствами, т.е. активный интерес к миру и к тому, что
в нем происходит. В лице протестантизма религия создала
условия для возникновения такого интереса. Протестантизм
настаивал на активной светской деятельности, причем ударение
делалось на опыт и разум как основы действия и веры.
Мертон полагает, таким образом, что единых закономерностей
развития науки в обществе нет и быть не может. Любую
историческую ситуацию следует рассматривать особо и выявлять
свойственные ей функциональные отношения. Причем специфику ситуации
определяют социальные условия, они каждый раз иные и
подчиняются своим законам, не обладающим глобальным характером и
совсем не обязательным для другой ситуации. Однако научное знание
развивается единообразно, кумулятивно, поступательно. Из всех
социальных условий каждой исторической ситуации его развитие
стимулируют только те условия, которые совпадают по своим
характеристикам с социальным устройством науки и которые сами
доминируют в обществе. Так было с этическими нормами
протестантизма в Англии XVII в. Но эти отношения между социальным в
обществе и социальным в науке не касаются содержания научных
идей. Научные идеи безразличны к общественным ценностям, их
отношения опосредованы социальным институтом самой науки.
Истинность или ложность научных представлений не зависит от
социального контекста их возникновения.
Так или иначе, но в концепции Мертона нарушена
параллельность двух историй науки — социальной и истории научных идей.
Социальная история фокусируется у него в некоторых кризисных
точках, в такой, например, как возникновение естествознания
Нового времени в Англии. Все кризисные точки разные, поэтому,
хочет того Мертон или нет, намечается проблемность понимания
истины в науке как соответствия знания предмету и его полной
независимости от субъекта деятельности, в какой бы форме эта
субъектность ни проявлялась.
Не только для Мертона интерпретация научной революции
XVII в. была пробным камнем в формировании теоретических
позиций. А. Койре, тоже участвовавший в дискуссиях интерналистов и
экстерналистов, но в отличие от Мертона на стороне первых, пошел
по пути нарушения непрерывности в первую очередь в истории
научных идей. Для него возникновение науки Нового времени
означало утверждение начал этой науки в контексте культуры, прежде всего
32
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
философии как одной из ее составляющих. Научная мысль, по его
мнению, никогда не была полностью отделена от философской.
Естествознание не развивается в вакууме, но всегда находится в
окружении идей, фундаментальных принципов, которые обычно
рассматриваются как философские. Такое погружение науки в
контекст культуры, которое было свойственно не только Койре,
неизбежно заставляет переосмыслить проблему объективности
научного знания, а значит, и проблему истинности, как она понималась
в классической науке. Ведь если результаты, получаемые в
естествознании, не освобождаются полностью (хотя бы по исходному
замыслу, в идеале) от субъектных вкраплений того или иного рода, это
означает, что нарушено главное требование к исследованию в
классической науке, а именно предмет изучения и знание, получаемое о
нем, должны противостоять ученому как от него независимые. Это
является обязательным условием истинности знания.
2. Угроза релятивизма как результат
«погружения» науки в контекст
Действительно, культуры разные, и если научная мысль связана
с элементами культуры, то можно ли утверждать, что научные
результаты, получаемые в разное время и в контексте разных культур
об одном и том же предмете, могут быть одинаково истинными?
Научное знание формируется не только предметом изучения, но и
контекстом культуры. Так у Койре. Дальнейшее развитие
исследований привело к другой формулировке: не столько предметом,
сколько социальным, культурным контекстом. И, наконец, в конце
XX в.: научное знание создается исключительно социальным
контекстом. Отсюда и соответствующий подход к понятию истины.
Если научное знание соотносится не с природой как предметом
изучения, а с социумом, культурой, которые изменчивы и всегда
отличаются друг от друга, тогда истина, как она фигурировала в
классической науке и — более широко - в познавательном
мышлении Нового времени, неизбежно уступает место релятивизму. Об
одном и том же предмете каждый социальный контекст по-своему
формирует научное знание. Сколько контекстов, столько и
научных результатов, и каждый из них может претендовать на
истинность. К таким результатам пришло обсуждение темы
соотношения научных идей и их социального окружения.
A.A. Маркова. В социологических исследованиях науки понятие истины под сомнением 33
Ключевую роль в таком повороте событий сыграл Т. Кун, его
книга «Структура научных революций»1. Физик по образованию,
он отправлялся в своих рассуждениях от характера
профессиональной деятельности ученых; его интересовали прежде всего
способы приверженности ученых научным идеям своей эпохи и
складывающиеся при этом отношения между ними. Можно
сказать, что куновское понятие научного сообщества, имевшее такое
большое значение для его собственной концепции, положило
начало традиции социологических исследований науки.
Любопытно отметить, что принципиально новые пути анализа науки как
социального феномена были проторены не представителями
социологии науки из школы Р. Мертона и не сторонниками экстер-
нализма чистой воды (такими, как С. Лилли, Дж. Нидам, Б. Гес-
сен, Э. Цильзель и др.), а историками и философами, которых
наука интересовала, как совокупность идей, обладающих своими
собственными законами развития.
Такой поворот изучающих науку в сторону ее социальных
характеристик обусловлен не только внутренними для истории и
философии науки процессами (в первую очередь кризисом
позитивизма), но и особенностями самого естествознания в XX в.
Прежде всего, это теория относительности Эйнштейна, квантовая
механика, идеи И. Пригожина и наука о хаосе. Об их влиянии на
философское осмысление науки говорилось и писалось много.
Так, ставилась под вопрос возможность жесткого отделения
субъекта познания от предмета, а значит, и такие характеристики
знания, как его истинность и объективность. Но я сейчас не буду
вникать в особенности этих не затихающих по сей день дискуссий2.
Я хочу обратить внимание на другую сторону дела.
3. Об особенностях современной полемики
о понятии истины, об уступках и компромиссах
Да, разумеется, вызывает сомнение приемлемость понятия
истины классической науки для науки XX в. Но можно ли
распространять на классическую науку особенности науки прошлого ве-
1 Кун Т. Структура научных революций. М., 1975.
2 О проблемах, которые поднимаются в ходе этих дискуссий, я писала в своих
прошлых работах, в частности в книге «Философия из хаоса. Ж. Делёз и
постмодернизм в философии, науке, религии». М. : Канон+, 2004.
34
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
ка? В пылу полемики не только те, кто отстаивает новую роль
субъекта познания в естествознании, но и защитники
классической науки, основные черты которой вроде бы признаются ими
как незыблемые, вдруг идут на компромисс и начинают
привносить в классику далеко не классические элементы.
Если взглянуть на науку Нового времени глазами нашего
современника, то можно увидеть в ней такие особенности,
которые прежде, хотя и были известны, но не принимались во
внимание. Действительно, природа должна восприниматься
ученым как существующая независимо от человека, сама по
себе. Но ведь в условиях эксперимента даже с большой натяжкой
не получается увидеть ее такой. Вспомним эксперименты
И. Павлова с собакой. Она помещалась экспериментатором в
условия, очень далекие от условий ее жизни за стенами
лаборатории. В такой чуждой для нее обстановке она оказывалась по
воле именно человека, поэтому вроде бы трудно говорить об
отстраненности предмета изучения от исследователя. Так и
любой другой эксперимент, не обязательно с живым
существом, организуется ученым, ставящим перед собой
определенные цели, свои, человеческие цели, пусть это будет даже цель
максимально изолировать от собственного влияния предмет
своего изучения. Можно ли при этом говорить об отсутствии
какого-либо воздействия исследователя на ход эксперимента и
получаемый результат?
Или признаваемая вроде бы всеми невозможность абсолютно
точного измерения в классической науке. Но если это
действительно так, то можно ли с безупречной точностью воспроизвести
условия эксперимента, а значит, и сам эксперимент в другом
месте и в другое время? Ведь погрешность, неточность каждый раз
другая и она будет зависеть во многом от профессионализма,
искусства, даже от настроения и здоровья того, кто проводит
эксперимент, наконец, от качества приборов, инструментов, которыми
он пользуется. Именно воспроизводимость эксперимента, этот
краеугольный камень естествознания Нового времени, ставится
под сомнение, а современными социологами науки даже
полностью отрицается его возможность. Таков путь от утверждения
зависимости научного знания (его объективности и истинности)
от культуры, социума определенной эпохи до его зависимости от
умения и настроения экспериментатора.
АА Маркова. В социологических исследованиях науки понятие истины под сомнением 35
Нельзя не вспомнить при этом о процессах, происходящих в
такой цитадели «бессубъектного» мышления, как аналитическая
философия. Здесь тоже выдвигаются на передний план трудности
и проблемы, на которые долгое время не обращали серьезного
внимания. Например, я имею в виду предложения верования. Над
этими предложениями размышляли еще Л. Витгенштейн и Б.
Рассел. Дело в том, что предложение типа «Петр говорит, что идет
дождь» нарушает правило формальной логики, по которому
придаточное предложение должно подтверждать истинность
главного. Петр говорит, что дождь идет, это истина, Петр действительно
говорит именно это. Но идет ли дождь на самом деле - это еще
вопрос. Или проблема аналитических и синтетических
предложений. В аналитических суждениях (типа «Если идет дождь, то идет
дождь») отсутствует всякое эмпирическое содержание, и они
являются лишь необходимыми условиями познания. Что касается
синтетических суждений («В таком-то месте и в такое-то время
идет дождь»), то их истинность зависит не только от логики языка,
но и от той реальности, о которой они говорят. У. Куайн считает
невозможным провести четкую грань между этими двумя типами
предложений. Он полагает, что аналитическое утверждение,
такое, например, как «Всякий холостяк не женат», не совпадает с
чисто логическим суждением, таким, как «Всякий х есть л»,
поскольку истинность последнего суждения вытекает из того факта,
что х ничего не обозначает, в то время как истинность первого
утверждения в существенной мере зависит от значения входящих в
него терминов.
Еще одна проблема - это проблема неопределенности
перевода. Куайн показывает, что при попытках перевода с языка
совершенно незнакомой культуры или неизвестного племени можно
составить несколько руководств, но ни одно из них не будет
универсальным инструментом по переводу. Другими словами, не
существует логики перехода от одного языка к другому или от одной
научной парадигмы к другой, что было проблемой уже для Куна.
Означает ли эта критика классической науки, критика,
которая имеет под собой, безусловно, некоторые реальные основания
(она проводится не на пустом месте), развенчание научной
рациональности Нового времени? Можно ли говорить, что
классическое понимание истинности, объективности научного знания
обнаружило свою несостоятельность и требует замены, в лучшем
36
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
случае существенного пересмотра? Как и во времена интернализ-
ма—экстернализма, в наши дни существуют два лагеря
противоборствующих и отчаянно спорящих друг с другом исследователей.
Как и тогда, в середине XX в., у наших оппонентов имеется
некоторое общее основание их позиций. Но если в прошлом веке
спорящие соглашались в том, что научные идеи развиваются по
собственным законам и не зависят в своем содержании от
социальных факторов, то теперь, наоборот, и те и другие допускают в той
или иной степени, в том или ином виде влияние социума,
культуры, научного сообщества на получаемые в науке результаты. Из
этого допущения делаются выводы или о том, что истина вообще
не нужна науке (радикальное крыло в социологии знания), или о
том, что понятие истины необходимо подправить,
усовершенствовать, улучшить. На последней позиции стоят и сторонники
классической науки, которые считают, что в естествознании
прошлого века не произошло радикальных изменений, что наука
полностью сохраняет свои основные характеристики (в том числе и
такие, как объективность и истинность знания).
На первый взгляд кажется, что у сторонников классической
науки и соответствующего ей понимания истины действительно нет
другого выхода, как только признать в какой-то мере (это делается
очень неохотно, с ограничениями, оговорками) присутствие
субъектных характеристик в результатах научных исследований. Мне
представляется, однако, что у них нет оснований идти на
компромиссы. Такие компромиссы искажают, деформируют устоявшуюся,
слаженную, хорошо работающую систему научного исследования в
Новое время, да и в наши дни. Ведь не вся наука (и далеко не вся) в
конце прошлого и в начале настоящего века представляет собой
неклассику и постнеклассику (в терминологии B.C. Стёпина).
Механика Ньютона работает и сейчас и дает очень неплохие и нужные
результаты. Поэтому нет необходимости защищать эту науку от вновь
возникающих форм научного познания. Классике не грозит
уничтожение, разрушение, замена ее другими парадигмами.
Необходимо учитывать, что возникают не только другие
способы отношения к миру в рамках естествознания, но и другое
понимание истории научных идей. Нетрудно заметить, что последние
два-три десятилетия из работ по истории, философии, социологии
науки почти исчезло понятие «революция», означавшее разрушение
старого знания и утверждение на его месте нового. Но если научные
А А Маркова. В социологических исследованиях науки понятие истины иод сомнением 37
идеи погружены в социальный, культурный контекст и их новизна,
содержание и логика определяются этим контекстом, нет
необходимости разрушать старое, оно «не мешает» и не служит строительным
материалом. В результате, возникнув, новая теория оказывается
перед лицом своей предшественницы, сохранившей целостность и
неизменность. Она действительно новая, так как не построена из
элементов предыдущего знания, на его обломках, и не выведена из него
логически. Новое и старое сосуществуют. С одной стороны, такой
подход помогает взглянуть на новую теорию как на действительно
новую, ведь она не возникла из старого знания не содержалась в нем.
Но, с другой стороны, откуда у нас уверенность, что это
действительно научное знание? Ведь большая часть составляющих контекста не
имеет отношения к научным идеям. Может ли из яенауки
возникнуть наука? Каким образом знание, полученное за пределами
истории научных идей, может вписаться в сложную структуру уже
существующего научного знания? Вопрос из непростых, но он встает
неизбежно, если погрузить научное знание в контекст культуры,
социума, жизни научного сообщества или лаборатории. Над ответом
на этот вопрос думают современные философы, ученые.
4. Намечающиеся пути выхода из кризиса
На эту тему размышлял и М.К. Мамардашвили в своей работе
«Стрела познания»1. Обосновав всеми имеющимися у него
логическими средствами невозможность объяснить новообразования
в науке ни предсуществующим в природе порядком, ни
предшествующим знанием, ни случайностью, Мамардашвили
концентрирует внимание на таких понятиях, как мыслительное поле, «тексто-
вость» реальности (она рассчитана на понимание, произойти
может только понятное); не цепь причинной связи и не точка, а
связная область, «вязкость»; порождение «местом»; восприятия и
мысли принадлежат человеку-индивиду, но их содержание и реа-
лизованность невозможны без того, чтобы через него не
действовали силы, большие, чем само восприятие, и концентрированные
вне субъекта. С помощью этих понятий Мамардашвили указывает
на некоторую нелогическую базу, постоянно присоединяемую в
познании к логике и служащую ее основанием.
1 Мамардашвили М.К. Стрела познания. Набросок естественно-исторической
гносеологии. М. : Школа «Языки русской культуры», 1996.
38
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
Не только Мамардашвили, но и Ж. Делёз, например, тоже
размышляет на эту тему. В связи с этим у него появляются понятия,
которые в рамках его философии представляют пространство,
которое выделено из бесконечного хаоса и элементы которого,
являясь ненаукой (вспомним //елогику Мамардашвили), или иефилосо-
фией, «^искусством, «^религией, представляют собой среду,
порождающую именно науку, философию, искусство и т.д. Эти понятия
не являются ни субъектными, ни предметными и, производя,
например, науку, создают как ее субъектные, так и предметные
характеристики. Я имею в виду такие понятия для науки, как «план
референции» и «частичный наблюдатель», или для философии «план
имманенции» как срез хаоса и «концептуальный персонаж» как
посредник между хаосом и философией. Р. Том, математик,
интересующийся философскими проблемами естествознания,
разрабатывает понятие жизненного поля, с помощью которого пытается
понять процесс возникновения нового в мире живых существ и
ответить на вопрос, действительно ли только случайность определяет
изменения в живых существах на генном уровне.
Мне важно подчеркнуть, что внимание исследователей
переключается на ту область, где главное — не отношение субъекта (и
знания, которое он производит) к предмету изучения, а значит, и не
проблема истины, но проблема рождения науки из того, что наукой
не является, из того, где нет ни субъекта, ни предмета. Здесь
снимается и проблема релятивизма, которая столь болезненна для
современных исследований науки. Основой релятивизма является то
обстоятельство, что разные теоретические представления об одном и
том же предмете должны вроде бы признаваться одинаково
истинными. Однако такое положение вещей несовместимое логикой. Но
в то же время: старое знание не разрушается, а новое вырастает на
своих собственных основаниях и у него нет логических связей с
прошлыми теориями. Это значит, что у нового знания нет
логических рычагов возяеиствт на своих предшественников. Если нет
логического движения в будущее, к новой теории-парадигме, то нет
такого движения и в прошлое. Новая теория не может логическими
средствами опровергнуть свою предшественницу, они
руководствуются разными логическими правилами, между ними —
логическая несоизмеримость. В результате решение вопроса об
истинности или ложности передается в сферу договоренностей между
членами научного сообщества. Они же, базируясь далеко не всегда и
А А Маркова. В социологических исследованиях науки понятие истины под сомнением 39
даже не в первую очередь на рациональных предпосылках, а скорее
на психологических, социальных, экономических обстоятельствах,
дружеских или враждебных отношениях друг с другом, выносят
приговор той или иной теории как не выдержавшей конкурентной
борьбы со своей соперницей.
Разделение социального и логического, жесткое
противостояние субъекта научной деятельности и предмета его изучения
становится проблематичным не только в самом естествознании, но и
в его истории. Уже больше нет двух линий развития науки,
социальной и логической, которые соприкасаются друг с другом лишь
как внешние воздействия. Складывается некоторый общий тип
мышления в естествознании и в истории, когда в предмет
включаются субъектные характеристики и уже тем самым и субъект
трансформируется, опредмечивается.
5. Кумулятивистские концепции развития
научного знания как разрушители прошлого
Такой взгляд на историю неприемлем для доминировавших до
середины XX в. позитивистских идей в интерпретации развития
науки. Как показано выше, Р. Мертон специально обосновывал
необходимость вычленения истории идей, которые развиваются в
соответствии с позитивистским пониманием науки, из
социальных структур общества, включая социальную организацию самой
науки. В XIX в. историками науки эта тема вообще не
рассматривалась1, тем более как проблемная. Научные идеи развиваются по
своим законам, и эти законы надо открыть. Например, В. Уэвелл,
написавший «Историю индуктивных наук»2, исследует лишь
пробег мысли от точки возникновения новой идеи (новая идея уже
возникла) до ее развития в конкретную научную теорию. Переход
от одной теории к другой не рассматривается им как переход к
новому знанию, как перерыв постепенности, а включается в общее
дедуктивное развитие идей. Уэвелл задается вопросом: утрачивает
ли старая теория всякое значение для науки или какая-то ее часть
входит в постоянный, неизменный фонд этой науки? По мнению
1 В качестве исключения можно назвать книгу А. Декандоля: CandolleA. de.
Histoire des sciences et des savants depuis deux siècles. Geneve, Bale, Lyon, 1873.
2 Уэвелл В. История индуктивных наук. СПб., 1867.
40
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
Уэвелла, старая теория всегда входит в новую той долей истины,
которая в ней была. Кто же определяет эту долю истины?
Элементы, заслуживающие включения в новую теорию, признаются
истинными с точки зрения этой новой теории. Поэтому А. Койре
писал, что с возникновением каждой новой фундаментальной
теории история переписывается заново. История подстраивается
под вновь утвердившиеся в естествознании идеи.
Так писал историю науки Уэвелл. Аналогичных взглядов
придерживался и классик кумулятивизма и эволюционизма П. Дю-
гем. Феноменологически революции признавались, но, чтобы
понять революцию логически, необходимо свести ее к эволюции.
Именно так относился Дюгем к изучению научной революции
XVII в.; он стремился доказать, что она совсем не является
перерывом постепенности в развитии идей, и считал возможным
добиться этого путем поиска бесконечного числа
предшественников всех крупных открытий, сделанных в тот период. Таким
образом, начало революции отодвигалось в необозримо далекое
прошлое. Революция вроде бы исчезает из исторической
реконструкции, но такое исчезновение достигается путем радикальной
перестройки всего прошлого, что само по себе является
достаточно революционным шагом.
Кумулятивистские концепции развития науки, которые
исходят из понимания истории как процесса непрерывного,
поступательного, на самом деле являются наиболее разрушительными по
отношению к прошлому. Прошлое для них представляет интерес
только в той мере, в какой оно присутствует в современном
знании. На этом особенно настаивает Дюгем. Все метафизические,
мировоззренческие аспекты теории отметаются последующим
развитием, они неизбежно устаревают и перестают играть
какую-либо роль в науке. Они связаны с субъектом и не могут быть
проверены экспериментально.
6. Противоречивость позиции защитников классики
Такой взгляд на прошлое во многих случаях и сейчас
продолжает доминировать в головах исследователей науки. Поэтому,
когда начинают формироваться новые парадигмы в философии
науки и естествознании, отличающиеся от существующих, это
воспринимается сразу как угроза ставшим привычными и продол-
А А Маркова. В социологических исследованиях науки понятие истины i юд сомнением 41
жающими хорошо работать взглядам, сложившимся в рамках
классической науки. При этом позиция защитников «классики»,
как правило, становится противоречивой. С одной стороны, они
отстаивают незыблемость фундаментальных оснований
нововременной науки, в том числе и даже в первую очередь, такие ее
свойства, как объективность, истинность получаемых результатов.
С другой стороны, они понимают, нельзя не учитывать, что и в
самом естествознании, и в работах, изучающих науку, не без
основания усиливается роль познающего субъекта, и это обстоятельство
активно обсуждается. В ходе обсуждений сторонники классики
идут на уступки, в результате чего их позиция становится
аморфной.
Эмпирическим основанием для формирования
социологических и философских взглядов на науку становятся исследования
типа кейс стадис (ситуационные исследования, изучение
отдельных случаев), где в изучаемых событиях на первый план
выдвигаются уникальные, особенные черты. Причем в зарубежных
публикациях такое внимание к кейс стадис типично и для сторонников
социологизации научного знания, что более или менее
естественно, и для защитников классики, что ставит их нередко в
затруднительное положение. Так, Мак-Маллин, один из основных
оппонентов Д. Блура, автора «сильной программы» в социологии
науки, стремится сохранить классическую рациональность и ставит
вопрос о ее присутствии в исторических исследованиях типа кейс
стадис. В самом начале своей статьи «Рациональное и социальное
в истории науки» он задает несколько вопросов: «Если наука, по
крайней мере в некотором смысле, является социальным
продуктом, как это склонны признать, по-видимому, почти все в эти куда
менее строгие куновские времена, не определяются ли ее
результаты в какой-то степени социальными интересами? А если эти
интересы сами являются случайными чертами конкретного
общества, не вторгается ли тогда ничем не ограничиваемая случайность в
наиболее, казалось бы, надежные научные открытия? Можно
ли тогда сказать, что научная рациональность трансцендентна
обществу, породившему ее?»1 Мак-Маллин подчеркивает
присутствие моментов случайности в исследованиях в рамках сильной
1 МсМиШп Е. The Rational and the Social in the History of Science // J.R. Brown
(ed.). Scietific Rationality: the Sociological Turn. Dordrecht etc.: Reidel, 1984 (Ser.:
Philosophy of science. Univer of Western Ontario; Vol. 25). P. 127.
42
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
программы: если «деятельность ученого может быть полностью
"объяснена" в терминах социальных детерминант, продукт этой
деятельности не может быть ничем большим, чем отражением
случайностей исторической культуры, сформировавшей эту
деятельность»1. Мак-Маллин хочет подчеркнуть, что трудно
исходить из специфики конкретной исторической ситуации без
отсылки к некоторым общепризнанным понятиям. В его
рассуждениях нетрудно разглядеть подспудную убежденность в том, что
как бы ни отличались отдельные эпизоды в истории науки друг от
друга, чтобы их понять и составить некоторую общую картину,
необходимо их обобщить. Между тем процедура обобщения типична
для традиционной историографии науки, она помогает вывести
законы развития, под действие которых подпадают все
исторические факты изучаемой области, значимые для исторического
исследования тем общим для них всех, что в них присутствует.
Обобщение сводит на нет всю специфику кейс стадис. Между тем
Мак-Маллин склоняется именно к тому, что без общих понятий
невозможно понять историю. Таким образом, Мак-Маллин, с
одной стороны, не отрицает возможности опираться на кейс стадис
как эмпирическую базу, а с другой — явно тяготеет к выработке
неких общих положений, которые никак не сочетаются, можно
сказать, несовместимы с этим типом исследований.
Оппоненты сильной программы, такие, как Лаудан и
Мак-Маллин, идут на компромиссы и уступки, более
значительные, чем их предшественники, отстаивавшие интерналистскую
историю науки в ее чистом виде как дедуктивное развитие
научных идей, логика которых не зависит ни от каких социальных
факторов. По мнению Лаудана, развитие научных идей далеко не
всегда может быть объяснено рационально и именно в тех случаях,
когда такого объяснения дать не удается, в дело вступает
социология. Мак-Маллин расширяет поле применимости социальных
объяснений, утверждая, что они могут быть полезны даже в тех
случаях, когда рациональные критерии работают хорошо.
Для оппонентов сильной программы переключение внимания
на исследования типа кейс стадис влечет за собой ряд выводов,
плохо согласующихся с их исходной позицией. Кейс стадис
предполагают изучение отдельных исторических эпизодов, восприни-
МсМиШп Е. Op. cit. Р. 147.
А А. Маркова. В социологических исследованиях науки понятие истины под сомнением 43
маемых в их особенности и исключительности. Социальные
моменты здесь приобретают принципиально иное значение,
становятся составляющими некоего целостного события, для которого
они являются внутренними наряду с рациональными,
содержательными характеристиками научного знания. Продолжать
рассматривать их как внешние причины, что часто делают все
участники дискуссии, — значит проявлять непоследовательность.
Противники сильной программы, соглашаясь необдуманно,
как мне кажется, со взглядом на историю науки как на
совокупность индивидуальных событий-эпизодов, очень ослабляют свои
позиции. В рамках кейс стадис существенно меняются многие
понятия, причем далеко не в последнюю очередь понятие истины, и
эти изменения не в пользу сторонников традиционной
социологии и историографии науки. Не случайно Мак-Маллин все время
ищет в качестве опоры какие-то общие нормы, принципы,
которые были бы обязательны для всех кейс стадис. Но ведь если такие
принципы будут обнаружены, то эпизоды, являющиеся
предметом изучения, перестанут быть уникальными и индивидуальными
и мы уже будем иметь дело с другой историографией науки. Когда
Лаудан говорит о возможности реконструировать события в
истории науки чисто рациональными средствами, он не может
оставаться в рамках кейс стадис, здесь рациональность, которую имеет
в виду Лаудан, просто не работает. Хочет он того или нет, он
выходит за пределы кейс стадис в традиционную историографию,
построенную на принципах классической науки. Здесь,
действительно, по крайней мере в идеале, рациональность свободна от
всего социального, психологического, связанного с личностью
ученого или научным сообществом.
Непоследователен и Блур при обосновании своих идей. С
одной стороны, он говорит о новом понимании социальности,
которое распространяется и на содержательную сторону научного
знания. С другой стороны, он часто употребляет понятие
«социальные факторы» как внешние причины, не оговариваясь при
этом, что такое понимание социальности выводит нас за пределы
его концепции. Блур подчеркивает эмпирический характер
исследований в рамках сильной программы и случайность как
лежащую в основании этих исследований, но в то же время он
называет поиск законов и построение теорий в качестве одной из
задач социологии знания. Претендуя на научность, Блур явно
44
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
имеет в виду классическую науку Нового времени. Но при этом
остается абсолютно неясным, каким образом он надеется
согласовать свой тезис о социальном характере содержательной
стороны научного знания с требованием этой науки максимально
освобождать научное знание от всего случайного, связанного с
личностью ученого, с любыми социальными моментами. Если
предметы изучения (исторический эпизод, профессиональное
научное сообщество, лаборатория) берутся и истолковываются
как индивидуальные, особенные, образованные случайными
социальными отношениями, формирующими в том числе и
содержание научного знания, то как быть с такими понятиями, как
научная истина, объективность научного знания, его
воспроизводимость, всеобщность научных законов и теорий? Эти вопросы
остаются без ответа.
7. Плюрализм в науке как способ сохранения своеобразия
и особенностей классической и неклассической науки
Полностью отрицать роль субъекта как одной из
составляющих (в том или ином смысле) получаемых в науке результатов уже
мало кто решается. В то же время уступка такого рода подрывает
основания классической науки. Классическая наука или
ориентирована на максимальное, в идеале полное, устранение субъекта из
научного знания, или перестает быть деятельностью,
направленной на получение знания о предмете изучения, как он есть сам по
себе.
Сторонники новых взглядов в свою очередь тоже не
отличаются последовательностью. Часто они стремятся распространить
особенности неклассической и постнеклассической науки на
науку Нового времени. Если в естествознании и его философских
осмыслениях появляются новые характеристики, касающиеся
прежде всего роли субъекта в познавательном процессе, эти
характеристики начинают распространяться и на классическую науку.
Утверждается, что в науке как таковой истина не выступает целью
научной работы, а в лаборатории природы вообще нет и то, с чем
ученые здесь имеют дело, полностью является продуктом
человеческой деятельности. Поэтому вопрос о противостоянии ученого
природе как существующей самой по себе теряет всякий смысл.
Разумеется, такие утверждения не могут не приводить ученых,
Л. А Маркова В социологических исследованиях науки понятие истины иод сомнением 45
многие из которых и сейчас успешно работают в рамках
классической парадигмы, в справедливое негодование.
Отсутствие четкости в позициях обеих спорящих сторон своим
истоком имеет признание теми и другими присутствия, в той или
иной форме, субъектных характеристик в научном знании. Но
если это действительно так, то речь может идти только о
принципиально новом типе исследований в естествознании и новом их
философском осмыслении. К противоречивости и путанице в
позициях приводят два момента. Во-первых, нельзя распространять
особенности нового типа естественно-научного исследования и
его философского осмысления на классическую науку, что
нередко делают сторонники гуманитаризации (или социологизации)
научного знания. Во-вторых, не могут быть успешными
попытки логически объяснить в пределах классической рациональности
новые черты постнеклассической науки, что свойственно
представителям классического естествознания, стремящимся как-то
уточнить, подправить, усовершенствовать его логику, способ
рассуждений в его рамках. И в том и в другом случае дискутирующие
подчиняются логике классической рациональности. Они считают
необходимым или включить в свою логику классическую науку,
учитывая только устраивающие новую философию субъектные
черты этой последней, не имеющие значения для классической
рациональности, или всеми возможными логическими
средствами «усовершенствовать» классику, чтобы она могла каким-то
образом включить в себя несвойственные ей элементы.
Оба способа рассуждений приводят к выводам, которые
вызывают законные возражения оппонентов. Сторонники классики
никогда не смогут согласиться с тем, что истина не играет
решающей роли в науке, а сторонники новых представлений будут
продолжать настаивать на том, что в рамках их взглядов на науку
понятие истины становится по меньшей мере проблемным. Выход,
по-видимому, втом, чтобы признать за классической наукой
право на истину, а за новой наукой и ее философскими
осмыслениями — право на определение другого, маргинального места истины
как соответствия знания действительности. Если мы согласны в
том, что науку, ее рациональность нельзя рассматривать
изолированно от культуры той или иной эпохи, если научные результаты
несут на себе отпечаток своего места в истории, то приходится
согласиться и с тем, что логика научного исследования имеет право
46
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
на своеобразие, на невыводимость ее из предшествующего
знания. Это значит, что и обратного хода нет, новая логика не может
включать в себя какие-то элементы своей предшественницы
(например, элементы субъектности из классики в неклассику),
разрушая тем самым ее основы. Подобно тому, как продолжает
существовать в веках культура античности наряду с культурой
Средневековья или Нового времени, так и классическая наука сохраняет
в наши дни свое своеобразие, свои базовые основания в
неприкосновенности. Но ее представители не имеют права на
агрессивность, ее стремление «подмять» под себя новую науку обречены на
неудачу. В этом и состоит плюрализм XX — начала XXI в. в науке.
8. Понятие смысла как критерий научности
В наши дни в философских рассуждениях о науке гораздо
большую роль, чем прежде, начинает играть понятие смысла.
В ряде случаев оно заменяет понятие истины. Зададимся
вопросом, на каком основании в классической науке мы называем
теории прошлого научными, если они опровергнуты последующим
развитием науки как ложные? Или в не классике: теории
прошлого сохраняют свое логическое и историческое значение, теорий
много и все они равноправны, в том числе, по-видимому, и с
точки зрения их истинности. Можно ли считать, что все они
истинны? В первом случае все прошлые теории ложны, и тем не менее
мы имеем историю науки, историю научных теорий. Во втором
случае все теории истинны, хотя каждая из них по-своему, не так,
как другие, представляет природу, одну и ту же природу, один и
тот же предмет исследования. Налицо явный релятивизм.
Получается, что или наука в своей истории, да и в современности при
наличии конкурирующих теорий, состоит почти исключительно
(за минусом одной-единственной истинной теории) из ложного
знания, или все теории в прошлом и настоящем истинны, а истин
столько, сколько существует научных теорий. Похоже, что
истинность не является столь надежным критерием научности, даже в
классическом естествознании. Истина здесь —довольно-таки
мимолетное свойство знания. Им обладает только господствующая в
данный момент теория, и то очень непродолжительное время, она
постоянно пребывает в состоянии ожидания неизбежного
опровержения.
АА Маркова. В социологических исследованиях науки понятие истины под сомнением 47
Чем же определяется научность знания? Вот тут-то и
выдвигается на передний план понятие смысла. С точки зрения классической
науки все прошлые теории ложны, они опровергнуты последующим
развитием естествознания, но в то же время они обладают смыслом, с
ними можно спорить, их можно опровергать, и с этой точки зрения
они научны (вспомним в связи с этим теорию фальсификационизма
К. Поппера). Что касается множественности сосуществующих, не
опровергнутых теорий в неклассической науке, то они обладают
правом считаться научными по той же причине, все они обладают
смыслом. Только если в классике наличие смысла означает
возможность для данной теории быть опровергнутой, то в неклассике
обладание смыслом предоставляет право на интерсубъектное общение с
другими, обладающими смыслом теориями на равных. При этом
субъект каждой теории в неклассической или постнеклассической
науке считает свою позицию единственно истинной, но своих
оппонентов признает партнерами, достойными дискуссии и обсуждения,
только по той причине, что их взгляды обладают смыслом, а
значит, они научны. Плюрализм в естествознании базируется не на том,
что все высказываемые взгляды одинаково истинны, а на том, что
все они обладают смыслом. С бессмысленными высказываниями в
науке никто не спорит, не дискутирует, и никто их не опровергает.
На них просто не обращают внимания.
Однако в классической науке понятие смысла остается в тени,
там главное - истинно или ложно то или иное высказывание. То,
что оно в любом случае обладает смыслом, принимается как нечто
само собой разумеющееся. Как и во многих других случаях (о них
говорилось выше), этот момент (обладание смыслом) в классике не
играл особой роли, хотя и присутствовал. В неклассической науке
он выдвигается на передний план, здесь главное — обладание
смыслом, а истинна или ложна та или иная теория - не столь важно.
В любом случае ее можно обсуждать, с ней можно спорить, она
научна. Например, наука Средних веков очень отличается от науки
Нового времени, и не в последнюю очередь в силу своей
включенности в средневековую культуру. Многие научные идеи той науки с
позиций современности, безусловно, ложны, но они представляют
науку Средних веков, и их следует рассматривать как органический
элемент, как составляющую этой исторической эпохи. Нельзя
выкинуть из истории ту или иную культуру, даже если она не похожа
на нашу и нам не нравится. То же относится и к науке.
48
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
Заключение
Разумеется, такая переориентация в понимании
естествознания порождает массу трудностей. Вот одна из них. Согласно
новым взглядам, наука каждой исторической эпохи или, возьмем
другую крайность с точки зрения масштабности, научные
результаты, получаемые в разных лабораториях, зависят от контекста, а
не выводятся из прошлого (из предыдущего знания). В свою
очередь контекст каждый раз другой и, кроме того, не является
наукой. Это культура, социальное устройство, доминирование той
или иной религии (историческая эпоха) или же организация
работы, личные отношения, качество экспериментального
оборудования и т.д. (научная лаборатория). Разные условия, разный
контекст порождают разную науку, разные результаты исследования.
Почему же каждый раз мы говорим все-таки о науке? Имеем ли мы
на это право? Может ли яшаука породить науку? И каким образом
полученный таким путем результат все-таки вписывается в уже
существующую структуру знания? По-видимому, необходимо
предположить, что контекст, порождающий новое в науке,
формируется не произвольным образом, что этот процесс
формирования как-то связан с существующим научным знанием и
предопределяется возникающими в нем трудностями и потребностями.
Поэтому едва ли можно отнести к ненауке такие элементы
условий творчества, как отношения дружбы или недоброжелательства
в научном коллективе, социальное положение ученого, его
религиозные убеждения, и тем более такие вещи, как погода, ремонт в
помещении, ссора с домашними и т.д. Все эти обстоятельства,
конечно, никак не могут стать составляющими структуры нового
знания, хотя зачастую в современных социологических
исследованиях именно они играют значительную роль, иногда
решающую.
Позволю себе напомнить в связи с вышесказанным
рассуждения Р. Тома, французского математика, интересующегося
проблемами биологии, о генетических изменениях организма. Он не
согласен с генетиками, строящими свои теории на случайном
характере любого изменения наследственности. Реакция на
внешние воздействия зависит от имеющихся у организма
потребностей. Именно они способствуют выделению тех влияний
окружающей среды, которые имеют больше шансов радикально
А А. Маркова В социологических исследованиях науки понятие истины i юд сомнением 49
изменить его наследственность. Эти факторы организуют
жизненное пространство. Том обратил взгляд на теорию Ламарка:
сильная потребность может привести к наследованию приобретенных
признаков. Наличие потребности делает организм более
восприимчивым к раздражителям того порядка, которые удовлетворяют
эту потребность. Организм как бы подготовляет себя к ответу на
соответствующий раздражитель и игнорирует остальные. Этим
обеспечивается устойчивость организма: до поры до времени он
сохраняет форму, он стабилен, так как не отвечает на случайные
влияния, не относящиеся к его процессам жизнедеятельности
(или же погибает, если эти влияния преступают определенный
порог). Когда внешнее раздражение оказывается созвучным с
неудовлетворенной потребностью организма, происходит скачок,
или катастрофа, как предпочитает говорить Том, организм
дестабилизируется и переходит в новое состояние.
Для обсуждавшихся в настоящей главе проблем нам важно
отметить, что не только среда (контекст) ответственна за
генетические изменения в организме, но и сам организм формирует этот
контекст в соответствии со своими потребностями.
По-видимому, о возникновении нового в науке можно тоже сказать:
существующие проблемы, трудности научного знания формируют тот
контекст яенауки, элементы которого не являются случайными.
Это именно благодаря тому, что они предопределены состоянием
научного знания, в логическую структуру которого и должен
встроиться получаемый результат. Случайность перестает быть
доминирующей. Просматриваются некоторые необходимые,
логические связи между прошлым (например, старой теорией) и
новым (вновь созданной теорией). Эта связь формируется через
контекст, представляющий собой ненауку, которая ограничивает
бескрайнее поле внешней среды только теми ее элементами, которые
способны решить существующие в науке трудности.
Отсюда вытекает проблема возможности логического
общения (соизмеримости - по Куну) между разными
теориями-парадигмами, каждая из которых выросла на собственных основаниях
независимо от предыдущего знания и обладает собственной
логической структурой. Не отсюда ли такое распространение в
прошлом веке получили идеи диалогизма и интерсубъектности? Если
при этом для успеха общения создается некоторая общая для всех
логика, то повисает в воздухе идея особенности, уникальности
50
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
(с точки зрения логики в первую очередь) участников диалога.
Пришли к тому, с чего начали, — к монологике. Если сохраняется
тезис о полилогичности, то невозможно общение в пределах
рациональности. По-видимому, наиболее перспективными будут
исследования, где в сферу общения втягивается контекст как не-
наука, нелогика, но который в то же время порождает именно
науку в том или ином ее уникальном варианте.
Наконец, если принять смысл за критерий научности, то
нельзя не учитывать того обстоятельства, что смыслом обладают не
только научные положения (впрочем, как и истинными являются
не только предложения науки). Можно ли считать, что смысл
научных идей как-то отличается от смысла утверждений здравого
смысла? И еще. Если делается ударение на несхожести науки
разных эпох или результатов, получаемых в разных лабораториях, то
что же вкладывается в понятие науки такого, что нам позволяет
каждый раз говорить все-таки именно о науке? Если мы пойдем по
пути поиска общих черт, не приведет ли нас это обратно к
понятию классической науки? Для второй половины XX в. характерны
поиск различий в разных типах научной деятельности,
подчеркивание непохожести процедур получения результатов в разных
лабораториях, что обусловливается разнообразием контекстов,
формирующих знание и определяющих тип научного
исследования. Но в итоге получается, что наука как бы растворяется в
контексте, поглощается им. Появляется необходимость определения
устойчивости (а не изменчивости) науки как таковой, ее отличия
от других форм деятельности, от контекста.
Можно было бы и еще найти требующие решения проблемы,
но достаточно обозначенных. Исследования в этих направлениях
уже ведутся, есть и кое-какие обнадеживающие результаты. Но
это уже тема специального исследования.
Л.А. Маркова
Наблюдатель как субъект научной
деятельности
II Понятие «наблюдатель», которое содержит характеристики и
субъекта и предмета, становится одним из центральных при анализе
научного мышления. Наблюдатель располагается в том мире, который он
изучает, а не за его пределами, как это было в классическом
мышлении. Ему делегируются ученым-исследователем отдельные
субъектные характеристики, прежде всего его определенное местоположение.
Стирается грань между субъектом и предметом, но большое значение
приобретает граница между контекстом и проблемной ситуацией в
самой науке. Остро встает вопрос об участии проблематики науки в фор-
|| мировании контекста как ненауки.
Все трансформации, которые претерпело классическое
мышление Нового времени в XX в., можно увидеть через призму той
роли, которую сыграл в них субъект деятельности, независимо от
того, обсуждалась ли эта роль в философских дискуссиях
напрямую или же в ходе выдвижения на передний план таких понятий,
как контекст, истина, смысл, диалог, демаркация, игра, междис-
циплинарность и др. Большинство исследователей, я думаю,
согласится с тем, что в интерпретациях научного мышлении
основной тенденцией при этом было тем или иным способом
«нагрузить» субъектными чертами предмет изучения и знание об этом
предмете, получаемое учеными. Такая тенденция в философии
науки порождала острые дискуссии и споры по поводу проблем,
которые не возникали (и не могли возникнуть) в XIX в. Научная
революция в начале XX в. и кризис позитивизма несколькими
десятилетиями позже послужили средоточием обсуждения
фундаментальных оснований познавательного мышления.
Проблемными стали вдруг положения, принимавшиеся прежде как истинные
«по умолчанию», без всякой необходимости их каждый раз снова
и снова подтверждать. К ним относится безусловная уверенность
в том, что предмет изучения в науке воспринимается ученым как
существующий сам по себе независимо от человека и его
исследовательской деятельности. Что если какие-то свойства исследова-
52
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
теля оказываются вкраплены в научный результат, то это
неизбежно искажает его безупречность и истинность его становится
сомнительной. На этом базируется и воспроизводимость
эксперимента, краеугольного камня нововременного естествознания.
Между тем проблемным и требующим обсуждения становится
само противостояние субъект—предмет, граница между ними.
В связи с этим философы, историки, социологи науки
начинают принимать во внимание обстоятельства, которые прежде не
казались им важными, а именно что не кто иной, как сам ученый,
создает такие условия научного исследования, когда предмет
изучения оказывается от него изолированным. Так что сам факт
отстраненности от Я ученого предмета изучения является
результатом деятельности самого ученого, его профессионального
мастерства, его намерения именно таким образом взглянуть на природу.
Воспроизводимость эксперимента в свою очередь оказывается
возможной только при условии, что принимается как неизбежная
и не заслуживающая особого внимания неточность любого
измерения в физике, а значит, и трудность его повторить в другом
месте и в другое время. Не говоря уже о массе сопутствующих
эксперименту случайных обстоятельств, в том числе связанных с
субъектом, его проводящим, которые невозможно учесть и тем более
воспроизвести. До поры до времени такого рода контекст
проведения эксперимента не учитывался, и это делалось с полным
основанием, так как он не влиял на получаемые в классическом
естествознании результаты.
Иное дело в XX в. В философских, социологических способах
осмысления науки и познавательного мышления как такового
появляется тенденция наделять субъекта теми или иными
характеристиками, которые, по мнению авторов соответствующих
систем, влияют на получаемый в науке результат. Субъект перестает
быть Демоном Лапласа, лишенным каких бы то ни было
человеческих черт, абсолютно одинаковым во всех сферах научной работы.
Внимание к нему выражается двумя способами. Во-первых,
вычленяются те области человеческой деятельности, которые так
или иначе соотносятся с наукой в жизни общества, но никак не
влияют на содержание и логику научного знания. Прежде в этом
не было необходимости, так как из научного знания просто
исключались все элементы, связанные, не важно как, с человеком.
Во-вторых, субъект воспринимается как определяющий содер-
A.A. Маркова. Наблюдатель как субъект научной деятельности
53
жательные и логические черты научного знания. В этом случае,
когда осуществляется наиболее радикальное преобразование
нововременного понимания процесса научной деятельности,
субъект или включается в получаемый результат во всем своем
эмпирическом многообразии (доминирующая позиция большинства
социологов науки конца XX в.), или вычленяются некоторые его
черты, в результате чего оказывается возможным сделать его
элементом изучаемого ученым мира. В связи с этим появляются
новое понятие человекоразмерности научного знания, а также
понятие наблюдатель, которое начинает играть значительную роль и у
естествоиспытателей, и у философов, понятие, которое в равной
мере воспроизводит черты и субъекта, и предмета.
К таким выводам при изучении субъекта научной
деятельности подводят те трудности, с которыми столкнулись
исследователи науки, делающие акцент на человеческом полюсе в
субъект-предметном отношении. Прежде всего это касается
социологов науки, перед которыми встала проблема релятивизма: условия
научного поиска, формируемые в значительной степени
характеристиками ученого, каждый раз другие при изучении одного и
того же предмета. Если принять (как это делают представители
микросоциологии или этносоциологии), что именно эти условия
формируют научный результат, то и результаты в разных условиях
тоже будут разные. В то же время они могут быть в равной степени
истинными для своего контекста. Возможно ли для науки такое
положение вещей, когда имеется несколько истинных
теоретических интерпретаций одного и того же предмета изучения? Ряду
социологов, наиболее, надо сказать, последовательных в своих
рассуждениях, приходится отказываться и от понятия истины, и от
объективности знания, и от роли предмета как существующего
независимо от человека. Это неизбежно, если принять тезис о
возможности включения в научное знание всего бесконечного
многообразия эмпирического контекста его получения.
Напомню очень коротко основные этапы в понимании
субъекта философами, социологами и историками науки в XX в.
1. Субъект и его деятельность понимались как полностью
исключенные из получаемого результата. Граница между предметом
изучения (природой и знанием о ней) и субъектом-ученым и его
деятельностью совпадала с границей между наукой как
совокупностью знаний и ненаукой (позитивизм как философское
54
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
направление и как основание интернализма и экстернализма в
истолковании истории науки).
2. Граница, отделяющая логику и структуру научного знания от
социальных условий его получения, перемещается внутрь науки,
понимаемой как социальный институт и как совокупность
соответствующих этических норм (Р. Мертон и его школа).
Сохраняется демаркация между логикой знания и деятельностью по его
получению в социальной структуре науки.
3. Наконец, отношение ученого к предмету его изучения
рассматривается в рамках получаемого научного знания, при этом сама
граница субъект—предмет в большей или меньшей степени стирается
прежде всего за счет того, что отрицаются значимость и даже
элементарное наличие предмета изучения. Все элементы
исследовательского процесса поглощаются субъектом и его
характеристиками. В результате, однако, сам субъект, погружаясь в хаос
социальных отношений разного рода, утрачивает свойство быть
ученым-исследователем. Без предмета изучения нет и
ученого-исследователя. Такой подход характерен в первую очередь для
социологов науки, претендующих на решение и философских
проблем (этносоциология, микросоциология). Здесь в какой-то
мере по-своему воспроизводится ситуация, возникшая в
аналитической философии во второй половине XX в. Там полное
отсутствие субъекта в философской системе привело к утрате и
предмета, который оказался замененным языком. Для того чтобы
отношение субъект—предмет работало, необходимо наличие обеих
составляющих этого отношения, ни от одного из них нельзя
полностью отказываться. Речь может идти только о доминировании
того или другого полюса при выработке соответствующего
понимания науки.
4. В этом случае понимания субъекта научной деятельности
появляются термин «наблюдатель» и соответствующий ему термин
«включенное наблюдение», когда социолог наблюдает за жизнью
научной лаборатории изнутри, подобно тому, как антрополог
изучает жизнь незнакомого ему племени, становясь на время его
членом. Несмотря на вхождение социолога в жизнь лаборатории,
он остается в качестве наблюдателя внешним по отношению к
процессу получения и к структуре научного знания.
5. Наконец, в самом естествознании и в ряде философских и
социологических систем формируется понятие наблюдателя, которое
A.A. Маркова. Наблюдатель как субъект научной деятельности
55
объединяет субъектные и предметные характеристики. Сюда
можно отнести понимание наблюдателя у А. Эйнштейна, В. Гей-
зенберга, И. Пригожина, у представителей науки о хаосе или
фрактальной геометрии, из философов и социологов — у
Ж. Делёза и Н. Лумана. В этом случае ученый как бы делегирует
ряд своих свойств-полномочий наблюдателю, который
помещается в изучаемый мир, становясь его элементом.
Наблюдатель в этносоциологии
Остановимся на взглядах Б. Латура и С. Вулгара, изложенных
ими в книге «Жизнь лаборатории. Конструирование научных
фактов»1. Наблюдатель у них — это социолог, изучающий науку.
Другими словами, социолог - это субъект научной деятельности,
направленной на науку как предмет его анализа. Новым в
понимании субъекта является то, что он включается в жизнь лаборатории,
т.е. становится частью того мира, который изучает. Однако его
участие в деятельности ученых остается участием «чужака»,
который, не будучи естествоиспытателем, не может (да и не стремится
к этому) участвовать на профессиональном уровне в обсуждении
научных проблем. Главная цель, к достижению которой
стремится наблюдатель-социолог, - определить круг тех условий,
которые делают науку возможной. Неверно думать, что наблюдатель
приступает к выполнению своей миссии абсолютно
неподготовленным и что он будет выстраивать свое понимание науки, не
опираясь ни на какие предварительные о ней представления. Не
случайно он приходит именно в лабораторию. Он приходит сюда,
так как считает именно лабораторию тем местом, где
сосредоточена наука в ее самых существенных проявлениях. В своей работе он
ставит себе вполне конкретные цели на базе понимания того, что
может помочь ему разобраться в процессах, совокупность
которых представляет научную деятельность.
Для Латура и Вулгара (которые и воплощают понятие
наблюдателя, хотя реальным исполнителем этой роли был Латур) само
отношение ученый - предмет изучения не играет особой роли
хотя бы потому, что в прежнем понимании этих понятий они просто
отсутствуют в лаборатории. Природы в лаборатории нет, есть
1 Latour В., WoolgarS. Laboratory Life. The Construction of Scientific Facts.
Princeton (New Jersey) : Princeton University Press, 1986.
56
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
только артефакты, а ученый занят решением научных проблем не
в большей степени, чем заботами о своей карьере, отношениями с
начальством, коллегами, издателями и т.д. Сам Латур как субъект
научной деятельности в качестве социолога уже самим своим
присутствием в лаборатории влияет на ее жизнь, нельзя сказать, что
предмет его изучения полностью от него не зависит. Граница
между ними становится менее заметной. Латур-наблюдатель, пусть в
качестве «чужака», но приспосабливается к порядкам
непривычной для него жизни лаборатории, и по каким-то признакам его
трудно отличить от «аборигенов». На передний план вместо
отношения субъект-предмет выдвигается отношение наука-яенаука.
Не случайно в книге не часто встречается понятие «социальный»,
а во втором издании этого слова уже нет и в названии. Для
позиции авторов не столь важно, социальное или несоциальное
обстоятельство является элементом контекста производства знания.
Важно, что в своем большинстве эти элементы не являются
наукой. Наука рождается из ненауки.
Разумеется, возникает проблема, требующая серьезного
размышления: как возникшее таким образом знание может
вписаться в уже существующую структуру науки.
Если вспомнить, что в познавательном мышлении (прежде
всего в научном) всегда присутствуют два полюса — человеческий
и природный, то в книге Латура и Вулгара, как и у многих других
авторов (например, у К. Кнорр-Цетины), принадлежащих этому
же направлению в социологии, безраздельно доминирует человек,
человеческий полюс. И если в книге наших авторов в
постскриптуме ко второму изданию говорится, что само понятие
«социальный» вроде не нужно, то это только потому, что абсолютно все в
лаборатории так или иначе связано с деятельностью человека,
ничего асоциального нет, полагают авторы, социальное нечему
противопоставлять и термин утрачивает смысл. Исследования
такого рода опираются на вполне реальное положение вещей.
Действительно, наука возможна только в человеческом обществе и все
составляющие ее элементы (включая и логику, и содержание
знания) вполне можно интерпретировать как порождаемые
человеческой деятельностью, так оно и есть на самом деле. Деятельность
эта в стенах лаборатории чрезвычайно разнообразна, и ее
изучение может дать (и дает) очень много в плане понимания того, что
есть наука. Однако Р. Мертону и в голову бы не пришло идти та-
A.A. Маркова. Наблюдатель как субъект научной деятельности
57
ким путем в своих социологических исследованиях, так как у него
были другие представления о том, что такое наука.
У нашего наблюдателя имеется по меньшей мере
приблизительное знание того, что есть наука, и он на него опирается,
организуя свою работу. Можно сказать, что он не сведущ в биохимии,
которая разрабатывается в лаборатории. Но если научные факты
конструируются случайно и социальными средствами, то, если
быть до конца последовательным, сами ученые находятся ничуть
не в лучшем положении, чем наблюдатель. Они не могут
предвидеть, какое сочетание окружающих их обстоятельств, часто не
имеющих прямого отношения к науке как таковой, а тем более
именно к биохимии, окажется способным привести к
приемлемому результату.
При другом, чем у нашего наблюдателя, понимании науки его
собственное поведение в лаборатории и цели, которые он перед
собой ставит, существенным образом трансформируются.
Возьмем в качестве примера лабораторию И. Павлова. Его
эксперимент с собакой проводится в обстановке, очень отличающейся от
естественных условий жизни животного. Такая установка
базируется на соответствующем понимании естественно-научного
исследования вообще и места физиологии как особой дисциплины в
мире естествознания. Павлов, как известно, высшую нервную
деятельность животных изучал посредством анализа
функционирования слюнных желез. Основную трудность он видит в том, что
при изучении такого сложного феномена, как мозг высшего
позвоночного животного, исследователь сталкивается с огромным
числом разного рода внешних воздействий и их отношениями
между собой. Обстановку надо упростить, считает Павлов, в
отличие от Латура и Вулгара, которые, наоборот, стремятся принять во
внимание максимальное число присутствующих в лаборатории
обстоятельств, пусть и самых второстепенных для проводимого
эксперимента. Павлов полагает, что надо устранить в лаборатории
ряд элементов окружающей обстановки, мешающих проведению
эксперимента. Животное раздражают в лаборатории
несущественные для работы слюнных желез случайные свойства внешних
предметов, вся окружающая обстановка — посуда, мебель,
комната, в которой происходит эксперимент, голоса людей, звуки их
шагов и т.п. В естественной среде животное умеет при помощи
отдаленных и даже случайных признаков предметов отыскивать се-
58
Ч асть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
бе пищу, избегать врагов и т.п. Если это так, ставит вопрос Павлов,
то можно ли весь этот хаос отношений заключить в известные
рамки, сделать явления постоянными, открыть их правила и
механизмы? Павлов считает, что это возможно. Всем этим хаосом
управляют условные рефлексы, и, чтобы выяснить механизм их
действия, надо соответствующим образом организовать
эксперимент.
В ходе эксперимента животное ставится в станок, т.е.
лишается свободы передвижения. Экспериментатор из комнаты
удаляется, а вместе с ним и масса дополнительных раздражителей - его
движения, шум шагов и дыхания, движения глаз и т.д. Но этого
недостаточно. В обычных лабораториях среда около собаки
постоянно колеблется: появляются новые звуки, кто-нибудь
пройдет, стукнет, заговорит, с улицы доносится шум, дрожит стена от
проехавшего экипажа, пробегают в окнах тени и проч. Все это
приводит к тому, что в мозг вторгаются посторонние случайные
раздражения, с которыми приходится считаться. Поэтому Павлов
построил специальную лабораторию, которая максимально
ограждалась от доступа влияний снаружи. Для этого ее окружили рвом
и использовали некоторые другие строительные средства. Стены в
здании были по возможности звуконепроницаемы. В каждой
отдельной рабочей комнате при помощи плохо проводящих звук
материалов помещение, где находится животное, отделялось от
части комнаты, где ведет опыт экспериментатор. Таким образом
достигались упрощение и постоянство обстановки, в которой
находится животное во время экспериментального сеанса. Павлов
стремился максимально приблизить физиологию к идеалу
научности, как он сложился в Новое время. Предмет должен изучаться
объективно как существующий независимо от экспериментатора
и вообще человека, необходимо обнаружить закономерные
причинно-следственные связи между внешними воздействиями и
реакциями организма на них. Павлов часто повторял, что в
физиологии исследования должны вестись «как во всем остальном
естествознании»1.
Нетрудно увидеть, что понимание Павловым науки
действительно совпадает с ее нововременным образом и что это понима-
1 Павлов И.П. Полное собрание сочинений. Т. 1-6. М.; Л., 1951-1952. Т. IV.
С. 20.
A.A. Маркова. Наблюдатель как субъект научной деятельности
59
ние прямо противоположно тому, на котором основываются Ла-
тур и Вулгар. И тот и другой подходы к интерпретации
естествознания опираются на реально существующие в деятельности
ученого черты, и каждый из них имеет право на существование.
Как ни изолируй изучаемый предмет природы от человека и всего
с ним связанного, приходится согласиться, что процесс изучения
осуществляется человеком и без него, без человека, никакой
науки быть не может. Сами условия по изоляции экспериментальной
установки от случайных на нее воздействий создаются
ученым-экспериментатором, являются результатом его
изобретательности. Таким образом, в каждом случае условия научного
исследования, его контекст формируются человеком. По
возможности полная отстраненность предмета изучения от ученого
организуется самим ученым (как мы видели на примере Павлова),
поэтому данную процедуру можно назвать социальной в том
смысле, что она осуществляется человеком и никак не может быть
от него независимой. Что касается зависимости научного
исследования от массы случайных факторов (в лаборатории), то эти
факторы, не будучи научными, тем не менее подбираются
наблюдателем с учетом его понимания науки. «Не научный» еще не
значит противоположный науке. Наблюдатель-социолог организует
контекст научного исследования, лишая его характеристики
случайного и реализуя возможность взаимодействия между
контекстом и научной деятельностью. Как Павлов не случайно отбирает
для устранения именно те элементы окружающей среды, которые
могут повлиять на поведение подопытной собаки, так и Латур с
Вулгаром группируют в рамках своего исследования те ненаучные
условия проведения эксперимента в лаборатории, которые
составляют контекст этого эксперимента. И начинают они с
лаборатории, которая в совокупности всех своих характеристик
(помещение, иерархические административные отношения,
общественные связи работающих здесь ученых, их личные отношения
и т.д.) никак нельзя назвать «наукой». Но это ненаука не является
ее противоположностью и науку порождает. Это контекст
научной деятельности, который ее во многом определяет, но который
в то же время сам создается под влиянием процесса производства
знания. Влияние взаимное, а это предоставляет возможность для
получаемого в лаборатории знания, знания, рожденного из
ненауки, вписаться в существующую структуру научного знания. Это,
60
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
однако, лишь отдельные штрихи намечающегося выхода из
трудного положения исследователей, занятых социологией науки. Для
социологов важно, что и естествоиспытатели делают
определенные шаги в направлении анализа роли субъекта-наблюдателя в
формировании результата их исследований. Остановимся на
некоторых аспектах их позиции.
Наблюдатель в естествознании и в философии
Сначала несколько общих соображений о понятии
«наблюдатель», которое, как мы видели, начинает играть важную роль в
течениях социологии второй половины XX в., и не только здесь.
Похоже, что это понятие как некоторая идеализация субъекта
научной деятельности наиболее перспективно в проблемной ситуации
наших дней. Главной особенностью этого понятия является то,
что наблюдатель помещается в мир, который является предметом
изучения. Он не остается за пределами мира, как Демон Лапласа,
который одинаков для всех актов познания, а значит, не обладает
никакими отличительными признаками. Познающий субъект
один и тот же во всех мирах. Даже если бы он и обладал какими-то
свойствами, это не имело бы никакого значения, так как все эти
свойства игнорируются, все они в равной степени устраняются из
получаемого результата.
Но наблюдатель находится, что существенно, внутри мира, а
не встраивается в знание об этом мире. Когда речь идет о человеко-
размерности знания, предполагается, что это знание приобретает
какие-то субъектные черты, но остается знанием «о» чем-то,
отношение субъект—предмет сохраняется. Такой позиции
придерживается B.C. Стёпин. Он допускает, что философское
осмысление неклассической науки должно предполагать наличие
субъектных характеристик в предмете познания и в знании об этом
предмете. Но предметность знания, направленность мышления
на предмет сохраняется в обязательном порядке. Такой же
позиции придерживался из отечественных философов и B.C. Библер,
как ни далеко он ушел от нововременного, классического
мышления в своей диалогике (культурологии).
В понятии «наблюдатель» учитываются следующие моменты,
характеризующие мышление в постнеклассической (в
терминологии B.C. Стёпина) науке. Если знание о предмете субъективируется,
A.A. Маркова. Наблюдатель как субъект научной деятельности
61
приобретает субъектные черты, то это неизбежно влечет за собой
опредмечивание субъекта, так как у этих двух полюсов познавательного
мышления появляются общие характеристики. В результате граница
между ними становится нечеткой, а отсюда и противостояние
проблематичным. Сами понятия «субъект» и «предмет» уже не могут
употребляться в своем привычном значении как противостоящие
друг другу. Нужно какое-то новое понятие, которое бы не требовало
для своего утверждения в философии понятия-оппонента,
воплощающего в себе предметность. Таким понятием становится
наблюдатель, которое появляется и в естествознании.
II Одно из фундаментальных требований теории относительности А.
Эйнштейна состоит в том, что наблюдатель должен принадлежать тому
миру, который он описывает, и его описание не должно быть
результатом взгляда извне. Ни одним наблюдателем не может быть
превзойден предел скорости распространения сигнала, предел, который равен
скорости света в вакууме - 300 000 км/с. Эта предельная скорость
ограничивает ту сферу пространства, которая может влиять на точку
нахождения наблюдателя. Наблюдатель находится внутри наблюдаемого
им мира, только в этом случае его диалог с природой будет успешным.
В механике Ньютона не предполагается, что наблюдатель -
физическое существо. Описание может считаться объективным только в том
случае, если отсутствует всякое упоминание о его авторе. В теории
относительности наблюдатель физически локализован, он может
находиться в один момент времени лишь в одном месте, а не всюду сразу.
Тем самым субъект-наблюдатель приобретает некоторые черты,
характеризующие его как принадлежащего своему миру и отличающие
его от других наблюдателей из других миров1. Наблюдателей много, и
они отличаются друг от друга. Уже здесь намечается дорожка к
плюрализму XX в. и к другому пониманию объективности.
Ньютоновская физика претендует на универсальность, потому что в
ней нет универсальных постоянных, таких, как скорость света,
которая ограничивает поле наблюдения. Скорость света как постоянная
послужила в физике эталоном для установления различия между
малыми и большими скоростями. Движение атомов, планет и небесных
светил уже не может подчиняться одним и тем же законам. В то же
время постоянная Планка позволила установить естественную шкалу
масс объектов. Электроны принадлежат к иному масштабу масс, чем
планеты и все тяжелые медленно движущиеся макроскопические объ-
|| екты, включая людей. Поэтому атом уже не может считаться крохот-
См.: Пригожин //., Стенгерс И. Указ. соч. С. 280-281.
62
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
ной планетной системой. Универсальные постоянные разрушили
таким образом однородность Вселенной введением физических
масштабов. И с точки зрения квантовой физики наблюдатель Эйнштейна
не может лететь на фотоне, так как их массы несопоставимы.
Во фрактальной геометрии некоторые особенности субъекта,
производящего, например, измерение, прежде всего такая особенность, как
его местоположение, тоже играют решающую роль. Так, одно дело
рассматривать автомашину с расстояния 10 или 100 метров. А что
наблюдатель увидит на расстоянии 1 или 100 километров? Одного
миллиметра? Одного микрометра? Принцип масштабирования во
фрактальной геометрии трактует величины вроде массы не как
постоянные. Эти величины варьируются в сторону как уменьшения, так и
увеличения в зависимости от масштаба, в котором их рассматривают.
Эта идея - точный аналог рассуждений Мандел ьбро о геометрических
формах и береговой линии Великобритании, длину которых
невозможно измерить вне зависимости от масштаба. «Местоположение
наблюдателя - близко ли он, далеко ли, на берегу моря или на
космическом спутнике - влияло на результат»1.
Как видно из приведенных выше очень кратких отсылок в область
естествознания, понятие наблюдателя как субъекта познания
здесь не совпадает с физическим человеком. Но если в
классической науке субъект вообще лишен каких бы то ни было
человеческих черт, он один и способен наблюдать весь мир в его
настоящем, прошлом и будущем, то в неклассической науке
наблюдателей как субъектов научной деятельности много и они отличаются
друг от друга рядом свойственных им характеристик. Наблюдатель
способен обозревать лишь ограниченное пространство,
обозначаемое для него такой универсальной постоянной, как скорость
света. Пространство обзора для каждого наблюдателя свое, у
каждого свой мир. Местоположение наблюдателя, его удаленность,
большая или меньшая, от предмета наблюдения и соответственно
разная масштабность получаемого изображения тоже
накладывают отпечаток субъектности на получаемый результат,
отличающий его от результата другого наблюдателя, расположенного
иначе. Постоянная Планка, установившая шкалу масс объектов,
сделала существенным сам факт принадлежности человека к
макромиру, это его свойство оказалось необходимым учитывать
при изучении микромира.
Таким образом, некоторые характеристики человека присущи
наблюдателю и напрямую влияют на содержание научного результата. Они
делегируются наблюдателю ученым-исследователем, остальные
остаются в контексте научной деятельности, за ее пределами.
ГлейкДж. Указ. соч. С. 213.
A.A. Маркова. Наблюдатель как субъект научной деятельности
63
Философия и социология своими путями, не без оглядки на
процессы, происходящие в естествознании, пришли к
формированию понятия наблюдатель.
Для философии Ж. Делёза свойственно создавать
специфически своего субъекта деятельности для разных областей
человеческой духовной активности. Делёз их называет идеальными
«заступниками» внутри самой науки или философии, от лица
которых (а не от лица того или иного философа или ученого)
осуществляется высказывание мысли. Это концептуальные
персонажи в философии, эстетические фигуры в искусстве,
частичные наблюдатели в науке. Каждому представителю той или иной
сферы деятельности соответствует поле этой деятельности: план
имманенции в философии, план композиции в искусстве, план
референции или ландшафтный вид в науке. Нас сейчас интересует
частичный наблюдатель. Наблюдателей в науке много, о чем
свидетельствует определение «частичный». Частичные наблюдатели
располагаются в системе координат в их отношении к функциям,
которые являются предметом науки и посредством которых
наука, отказываясь от бесконечности, придает виртуальному
способность актуализироваться.
В науке происходит грандиозное замедление, посредством
которого актуализируется не только материя, но и сама научная
мысль, способная проникать в нее. Замедление означает, что в
хаосе полагается предел и все скорости проходят ниже него.
Предел образует универсальную константу, которую нельзя
преодолеть. «Частица обладает определенным положением, энергией,
массой, значением спина, но лишь при том условии, что она
получает физическое существование или физическую актуальность,
т.е. "приземляется" по траекториям, которые могут быть
зафиксированы с помощью систем координат»1. Делёз придает большое
значение наличию абсолютных констант в науке, таких, как
скорость света, абсолютный нуль, квант действия. Они
предопределяют невозможность существования тотального наблюдателя,
подобного Демону Лапласа. Чтобы понять, что такое частичные
наблюдатели, следует избегать, предостерегает Делёз, рассматривать
их как субъективный источник высказывания. В перспективной
геометрии перспектива фиксирует частичного наблюдателя,
Делёз Ж., Гваттари Ф. Указ. соч. С. 151.
64
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
словно глаз, на вершине конуса, а потому улавливает контуры
предметов, но не видит их рельефа и структуры поверхности, что
требует другого положения наблюдателя.
Субъективистские интерпретации термодинамики, теории
относительности, квантовой физики не учитывают того
обстоятельства, что перспективное зрение и относительность в науке
никогда не соотносятся с каким-либо субъектом, «...субъект
конституирует не относительность истинного, а, наоборот, истину
относительного...»1. Роль частичного наблюдателя Делёз
определяет как «воспринимать и испытывать на себе, только эти
восприятия и переживания принадлежат не человеку (как это обычно
понимается), а самим вещам, которые он изучает»2. Частичный
наблюдатель - это не инструмент, который ожидает, что реальный
наблюдатель придет через него посмотреть. Наоборот, сами
инструменты предполагают идеального частичного наблюдателя,
помещенного в удобной точке внутри самих вещей.
Социолог Н. Луман не использует понятие «наблюдатель» в
том значении, в котором это делают естествоиспытатели и
философы. Но, создавая свою теорию систем, он тоже ставит цель
определить место в ней субъектных характеристик, их роль в
функционировании системы и место физического, эмпирического
субъекта. Если в естествознании вместе с наблюдателем в
изучаемый мир вводятся определенные черты субъекта, который прежде
во всем многообразии своих особенностей полностью выводился
из получаемого знания, то в социологии Лумана, наоборот,
субъект, который был главным действующим лицом практически
любой социологической теории, выводится из нее, притом что
определенные его характеристики оказываются присущи самой
теории. Ход мысли и в том и в другом случае приводит к одинаковому
результату. Эмпирический, физический субъект остается за
пределами теоретического знания, но само это знание содержит
субъектные черты.
Тему самоорганизации Луман считает одной из центральных
тем новейших системных исследований, в том числе
социологических теорий, которые не относят себя к теории систем. При
этом понятие самоорганизации (самореференции, рефлексии)
1 Делёз Ж., Гваттари Ф. Указ. соч. С. 166.
2 Там же.
A.A. Маркова. Наблюдатель как субъект научной деятельности
65
удаляется с его классического места в человеческом сознании или
в субъекте и переносится в предметную область, в реальные
системы как предмет науки1. Системы своими собственными
операциями могут выполнять самоописание и наблюдать себя. Это
позволяет выделить из теории субъекта (теории субъектности
сознания) коммуникацию, действие и сознание. Луман уточняет, что
социальные системы не могут существовать без такого
субъектного сознания, но оно понимается как окружающий мир социальных
систем. Понятие окружающего мира играет очень большую роль у
Лумана. Его можно рассматривать как аналог понятия контекст в
философии, социологии науки XX в. Окружающий мир, или
контекст, отделен от системы (научной идеи, теории) границей, но
это то, без чего система не может сформироваться и существовать.
Луман призывает отказаться от представления, которое он
называет предрассудком, когда действия приписываются людям, как
будто агентом действия всегда должен быть человек, причем весь
целиком. «То, что есть физические, химические, температурные,
органические, психические условия возможности действия, —
само собой разумеется, но отсюда не следует, что действие можно
приписать лишь отдельным конкретным людям... Доминирует — и
это как раз в соответствии с самопониманием психической
системы! — ситуация выбора действия. Наблюдатели могут лучше
предвидеть действие на основе знания ситуации, а не личности...
Несмотря на это, повседневное действие приписывают индивидам»2.
Термин наблюдатель Луман употребляет здесь не в том значении,
которое ему приписывается Эйнштейном, Пригожиным или
Делёзом, а в обычном смысле, когда он может быть заменен
словами «ученый», «социолог», «исследователь». Сходство позиции
Лумана с позицией тех, кто вводит понятие «наблюдатель» для
обозначения субъектных характеристик, принимающих участие в
формировании научного знания, в том числе с точки зрения его
структуры и логики, состоит в том, что Луман эти субъектные
характеристики передает реальной системе как таковой. Субъект во
всем своем физическом и психическом многообразии остается за
пределами системы, в окружающем мире, а система наделяется
свойством сознания.
1 См.: Луман Н. Указ. соч. С. 63-64.
2 Там же. С. 228-229.
66
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
Система и окружающий ее мир разделены границей. Понятия
разделения, различия играют большую роль у Лумана.
Производство отдельных действий и коммуникативных процессов в
системе осуществляется самой системой, без участия субъекта, при
обязательном взаимодействии с окружающим миром именно
этой системы. Предполагается ее мир, и инициатором в его
создании, в отборе элементов этого мира является система. Это
направление мысли Лумана важно для проблемной ситуации в
современной философии и социологии науки.
Здесь, после того как центр тяжести в анализе рождения новой
мысли был перенесен с дедуктивного ряда развития идей одной из
другой на вненаучные условия появления нового в науке
(культура, философия, религия, социальные, психологические и прочие
отношения внутри научного сообщества или лаборатории), все
трудности возникали прежде всего из-за того, что наука
порождается обстоятельствами, на науку не похожими, не являющимися
наукой. При изучении процедуры порождения нового знания
создаются новые понятия, обозначающие эти обстоятельства,
определяющие саму деятельность по производству новых идей и
автора (субъекта) этой деятельности. Это такие понятия, как контекст,
свой мир, окружение, ландшафтный вид и др.
В социологии и философии науки доминирует понятие
контекста. В этом случае нельзя избежать такого парадокса.
Логические механизмы выведения нового знания из старого более или
менее разработаны. Основной составляющей этих механизмов
является процедура включения в новую теорию тех элементов
старого знания, которые соответствуют ее логике, не противоречат ей.
Остальное содержание отбрасывается как устаревшее, ложное. В
результате устанавливается логическая цепочка филиации
научных идей на базе логики новой теории. Каждая новая теория
диктует свой отбор из знаний прошлого, в конечном счете создает
свою историю. Отсюда представление о том, что вместе с
появлением каждой новой фундаментальной теории история науки
переписывается заново.
Но если принять такой подход к истории научных идей, то не
получится ли так, что ничего нового в новой теории нет. Всё ее
содержание в том или ином виде уже присутствует в старом знании,
надо только его выявить и выстроить в логическую цепочку,
которая и приведет нас к современному состоянию науки. Как же быть
Л.Л. Маркова. Наблюдатель как субъект научной деятельности
67
с новизной? Откуда она берется? Каждая новая теория по-своему
перетасовывает уже полученное прежде знание, никакого выхода
за пределы науки нет, наука как научное знание рождается из
науки же. Философское осмысление классического естествознания
выводило все творческие процессы за пределы логики, во
внимание принимались только результаты этих процессов, лишенные
своих корней в предмете изучения, природе и в социальных
обстоятельствах рождения нового.
Когда же во внимание принимаются именно творческие
процессы, порождающие новое знание в определенных условиях,
тогда появляется другая трудность: почему это знание, возникшее из
условий, очень далеких в основной своей части от науки,
принадлежит все-таки науке? Как оно может быть вписано в структуру
уже существующего знания? Условия, контекст каждый раз
другой и содержит массу элементов, цепляющихся друг за друга и
увеличивающих свое число до бесконечности (в таком предельном
случае, который не рассматривается изучающими науку, все
контексты можно считать одинаковыми, что лишает их всякого
смысла). Наиболее перспективным направлением в исследовании
научного знания с точки зрения его получения в определенном
контексте можно считать взгляд, предполагающий не только влияние
контекста на порождаемое знание, но и обратное воздействие
проблемной ситуации в науке на процесс формирования
контекста.
Эта идея присутствует в концепции Лумана, когда он
анализирует взаимодействие системы и «ее мира». Если
естествоиспытатели наделяют наблюдателя, помещенного в изучаемый ими мир
прежде всего свойством находиться в определенном месте, от чего
зависит получаемая от него информация, то Луман наделяет
систему (как предмет анализа ученым) способностью своими
собственными операциями выполнять самоописание и наблюдать себя.
Это значит, что из теории субъекта (теории субъектности
сознания) выделяется связь коммуникации, действия и рефлексии,
которыми, по Луману, и определяется система.
«Разумеется, - пишет Луман, - мы не допускаем, что
социальные системы могли бы существовать без такого сознания. Однако
субъектность, данность сознания, его основоположенность
понимаются как окружающий мир социальных систем, а не как их
самореференция. Лишь с помощью такого дистанцирования мы полу-
68
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
чаем возможность разрабатывать действительно
"самостоятельную" теорию социальных систем»1. Можно сказать, что Луман,
как и естествоиспытатели, и философы, помещает
субъекта-наблюдателя в изучаемую систему, сохраняя за ним некоторые
свойства ученого и лишая его других. Социальная система не
представляет собой нечто абсолютно противопоставленное человеку и
существующее полностью независимо от него, подобно предмету
изучения в классической науке. Система включает в себя
некоторые субъектные черты, делающие ее способной стать
инициатором и исполнителем ряда ее действий на уровне сознания. Эти
действия представляют собой прежде всего коммуникативные
процессы, на долю которых приходится основная
ответственность за нормальное функционирование системы. Эмпирический
субъект со всей совокупностью своих особенностей остается за
пределами системы, в пределах «ее мира». Он представляет собой
один из элементов контекста, отличного от рассматриваемой
системы, даже противоположного ей, но взаимодействие с которым
является обязательным условием ее существования. Этот
контекст, «свой мир» системы создается ее усилиями, как и сама
система определяет свои возможности функционировать так или
иначе.
Социальная система у Лумана не является жесткой
структурой, к которой человек может только приспособиться и которая
диктует поведение человека в своих рамках без всякой
возможности для индивида как-то повлиять на нее. Система наделяется
сознанием, ориентированным определенным образом, а именно на
достижение целей, которые стоят перед системой. Субъект как бы
делегирует системе такое свойство, вместо того чтобы влиять на
нее извне.
* * *
Из всего сказанного выше можно заключить, что в разных
областях человеческой интеллектуальной деятельности намечаются
родственные, сближающие их тенденции. К ним можно отнести
ряд моментов, позволяющих говорить о радикальных изменениях
в способе мышления, которые имели место в XX в. и которые сфо-
Луман Н. Указ. соч. С. 233.
A.A. Маркова. Наблюдатель как субъект научной деятельности
69
кусированы в переосмыслении и новой постановке ряда проблем.
Прежде всего под вопрос поставлено субъект-предметное
отношение. Предмет уже не противостоит субъекту как полностью от
него независимый, граница между ними стирается. Отсюда
возникают трудности с определением истинности научного знания,
поскольку неустойчива граница между субъективным и
объективным. Вместо отношения субъект—предмет на передний план
выдвигается отношение контекст и возникающее на его базе новое
знание или, более широко, из ненауки рождается наука, наука
рождается из того, что наукой не является. Как это возможно? Остро
встает проблема формирования /^научного контекста
проблематикой самой науки. Возникают понятия, родственные понятию
«контекст»: референтное поле, жизненное пространство, свой
мир и др., в том числе понятия, сформированные мировыми
константами в естествознании, которые играют важную роль в
возникновении знания в науке и для которых в то же время
отношение субъект—предмет отступает на задний план. Понятие
«наблюдатель», которое содержит характеристики субъекта и предмета,
становится одним из центральных. Одни границы становятся
неустойчивыми и перестают играть сколько-нибудь существенную
роль, другие возникают вновь. К числу первых относится прежде
всего граница субъект—предмет, к числу вторых — граница наука—
ненаука, контекст-проблемная ситуация в науке.
Л.А. Маркова
Смысл — альтернатива истине?
II В исследованиях науки философами, социологами, историками в
конце XX в. и начале XXI в. радикально трансформируются понятия
субъекта и предмета. Предмет научного исследования и знание о нем
приобретают субъектные характеристики, становятся человекораз-
мерными. Это значит, что субъект и предмет приобретают общие
черты и граница между ними перестает быть четкой. Отсюда трудности с
понятиями истинности, объективности знания и выдвижение на
передний план понятия смысла. Смысл нейтрален к истине и лжи, к объ-
|| ективному и субъективному, он помогает решать проблему контекста.
1. Возможна ли наука без субъекта и без предмета?
Вернее будет сказать, возможна ли такая ее логическая
модель? И если возможна, то поможет ли она понять эмпирическое
существование науки, где реальный ученый занимается
изучением реально существующих природных объектов? В классической
науке Нового времени наука понималась прежде всего как знание
об окружающем мире, из логической структуры которого
максимально исключалось все, хоть как-то связанное с
субъектом-ученым. Субъект оказывался за пределами логики. Логика знания
формировалась предметом, субъект и его исследовательская
деятельность не принимали в этом участия. С этим практически все
были согласны, логика обладает нормативным, всеобщим
характером, и в ней нет места таким характеристикам, свойственным
человеку, как индивидуальность, особенность, изменчивость,
историчность. Если они и вовлекаются какими-то путями в логику,
то могут оказать на нее только отрицательное влияние с точки
зрения ее строгости и точности.
Однако такое утверждение требует некоторых уточнений.
Во-первых, субъект все-таки присутствует в логике, он там
представлен результатами своей деятельности, результатами, в которых
(что важно) эта деятельность никак не воспроизводится.
Во-вторых, удаление субъекта из логики предполагает определенный
выбор того, что же удаляется. Логическое значение имеет устранение
A.A. Маркова. Смысл — альтернатива истине?
71
деятельности ученого именно по производству знания и связанные с
ним обстоятельства, круг которых предполагается интуитивно
известным и не обсуждается. Речь не идет о его религиозной или
общественной деятельности, они просто игнорируются и не имеют
отношения к делу даже в качестве опровергаемых. Из всех
сопутствующих научному творчеству условий вычленяются те, которые, не
являясь наукой, тем не менее способствуют ее возникновению. Уже
в характеристике классической науки просвечивает, таким образом,
идея яенауки, порождающей науку, но никак не о яефилософии,
рождающей философию, или о /^искусстве, рождающем искусство.
Для философского осмысления классической науки разбираться в
этих тонкостях не было необходимости, но другое дело сейчас. Для
нас важно, что научная деятельность со всеми сопутствующими этой
деятельности обстоятельствами и субъект этой деятельности, будучи
за пределами логики классической науки, где-то на ее границе,
являются ее фоном, контекстом, условием ее зарождения.
Это обстоятельство в том или ином своем варианте при всем
безразличии логики к субъекту по мере ее совершенствования и
уточнения деталей требовало от логиков какого-то объяснения,
истолкования. Не вдаваясь в подробности развития логического
позитивизма в XX в. (а именно в этой области философии логика
научного знания достигла своего максимального совершенства),
отмечу лишь итог этого развития: вместе с субъектом научной
деятельности из логики исчез и предмет. Ученый изучает уже не
природу, не окружающий мир, а язык как носитель нашей мысли.
Природа, как и субъект, становится фоном, контекстом для
логики науки, она — нелогика науки, но эту логику порождает. Наука
без субъекта и без предмета, наука ли это?
Другой вариант — понимание науки базируется на
противоположном полюсе научной деятельности — на субъекте. В этом
случае, наоборот, с самого начала знание и его логика — за пределами
анализа, нечто маргинальное, малозначимое. Цель ученого — не
получить истинное знание (я беру крайнюю форму
социологического анализа науки), а сделать карьеру, добиться известности,
славы и т.д. Поэтому в первую очередь важно понять социальные,
психологические, этические, экономические обстоятельства
производства знания, а логическую, содержательную сторону
научных результатов можно игнорировать. Однако такой подход
приводит к неменьшим трудностям.
72
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
Едва ли можно полностью игнорировать стремление ученого
получить истинное научное знание. Если цели, которые ставит
перед собой ученый, достигаются в рамках науки, то неизбежно
большое значение приобретают научные мероприятия разного рода,
циркуляция печатной продукции, получение грантов на
реализацию определенных проектов и т.д. Без всего этого трудно добиться
успеха и сделать карьеру. Научное знание в той или иной его форме
обязательно присутствует в социальной, общественной жизни
ученого, пусть и как контекст, как нечто маргинальное,
второстепенное. Это во-первых. А во-вторых, ученый перестает быть ученым,
если главным в его деятельности становится достижение целей,
напрямую не связанных с наукой. Социологические исследования,
ориентированные на придание максимально значимой роли
субъекту, в тенденции своего развития приводят к тому, что в науке нет
не только предмета, но и субъекта. Ученый как субъект
«растворяется» в социальном контексте своего существования и перестает
быть ученым. Наука со всеми своими логическими,
содержательными характеристиками полностью погружается в контекст, по
определению находящийся за пределами научного знания и его
логики, где и ученый перестает быть субъектом именно научной
деятельности по производству знания. И ученый, стремящийся к
получению истинного знания, и предмет его исследования вместе
со знанием об этом предмете становятся лишь контекстом науки,
понимаемой как социальная деятельность по достижению успеха.
Таким образом, выведение из поля исследования или субъекта
деятельности, или предмета изучения вместе со знанием об этом
предмете — при доведении каждого из этих направлений до
некоторого логического предела - приводит в обоих случаях к
неожиданному результату. В науке исчезают и субъект, и предмет, они
становятся лишь контекстом науки. Нет науки, понимаемой как
противостояние двух полюсов — субъекта и предмета. Наука - это
или язык и законы его построения, или социальная деятельность
ученого, направленная на успех и карьерный рост.
2. Наука без прошлого и без истины
К такому результату приводит выдвижение на передний план
субъекта научной деятельности. Его роль в науке
интерпретируется двояким образом. С одной стороны, он становится социальным
A.A. Маркова. Смысл — альтернатива истине?
73
существом, отстраненным от исследовательской деятельности по
получению истинного знания; об этом и о результатах такого
подхода говорилось только что. С другой стороны, если в поле
рассуждений философа оказывается субъект, неизбежно встает вопрос и
о его деятельности по получению знания, которое пусть и в
косвенной форме, как контекст, но все-таки присутствует в науке.
Ведь социология в прошлом веке претендует на решение
философских проблем.
В связи с широким распространением разного типа
социологических исследований, в первую очередь таких, как кейс стадис,
те, кто изучает науку, все чаще прибегают к понятию «контекст».
Это значит, что их интересует не столько происхождение нового
знания из старого, сколько влияние и роль обстоятельств
сопутствующих рождению нового и часто не имеющих к науке прямого
отношения. Новое возникает как бы на пустом месте, в том
смысле, что его основанием не является прошлое научное знание,
доминировавшее до его появления. Новое знание базируется на
своих собственных основаниях, оно самодетерминируется. Наука
рождается из яенауки, как это возможно? И на каком основании
мы можем утверждать, что в голове ученого действительно
появилось научное знание?
До середины XX в. существовали две истории науки — история
научных идей и социальная история (интернализм и экстерна-
лизм). При этом, несмотря на бурные дискуссии между
представителями того и другого направлений, все они были согласны в
главном — в том, что логика научных идей, их истории, не зависит
от социальных обстоятельств. Спор шел только о большем или
меньшем значении той или иной позиции для понимания науки.
Социологи не претендовали на решение логических проблем
знания, а их оппоненты оставляли в стороне социальные
обстоятельства развития идей.
Социологи второй половины XX в. претендуют на решение не
только социологических проблем науки, но и философских.
Самым трудным становится вопрос, каким образом знание,
возникшее не из прошлого знания, а из контекста, может вписаться в уже
существующую структуру знания. Если прежде философы
пытались решить проблему, можно ли логическими средствами
объяснить переход от старой парадигмы-теории к новой, то теперь на
передний план выдвигается проблема перехода от новой теории к
74
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
старой. Но если нет логического пути от старого к новому, нет
такого перехода и в обратном направлении. В этом смысле можно
говорить, что у науки нет прошлого. Все случаи рождения нового
знания из контекста располагаются как бы в одном пространстве,
а их следование друг за другом во времени при решении
возникающих проблем перестает играть решающую роль, становится
маргинальным по своему значению.
С истиной тоже проблемы. Если у каждой теории свои
собственные основания, укорененные в контексте ее возникновения,
то и выводы относительно предмета изучения тоже каждый раз
свои, не совпадающие с выводами теорий-конкурентов. При этом
каждая теория претендует на истину. Может ли так быть, что
предмет один, а истин много? Если исходить из того, что знание
формируется контекстом, который изменчив, историчен, а не
предметом изучения, то положительный ответ на этот вопрос
предопределен и релятивизм неизбежен. Или субъект со всей его
контекстуальной неустойчивостью должен быть удален из логики
(как это было в классической науке), и тогда истина одна,
релятивизма нет. Или субъект и его деятельность становятся
центральными понятиями при исследовании науки, и тогда релятивизм
неизбежен. Истины нет, но есть творчество.
3. В концепции науки присутствует или истина,
или творчество
Это зависит от того, какая интерпретация науки
принимается — классическая или «^классическая. В классической науке
знание определяется предметом и его объективность и истинность -
цель научного исследования. Возникновение знания, творческие
процессы в голове ученого — за пределами логики. В яеклассиче-
ской науке знание обосновывается субъектной стороной
отношения субъект—предмет. Отсюда — главное внимание обращается на
процесс рождения знания из контекста (социального,
психологического, экономического) творческой деятельности ученого.
Истинность знания как его соответствие предмету не обсуждается,
этот вопрос неинтересен, он остается «на обочине» анализа науки.
Отсутствие логического понимания творчества в науке
воспринимается современными исследователями довольно спокойно, как
нечто само собой разумеющееся, к этому «привыкли». Однако
A.A. Маркова. Смысл — альтернатива истине?
75
очень болезненно встречаются заявления об отсутствии истины, о
том, что поиск истины не является главной целью науки. Чаще
всего философское осмысление науки сводится к попыткам сохранить
в ней и творчество, и истинность знания. В связи с этим
сторонники классической науки идут на уступки своим оппонентам,
допуская наличие субъектных характеристик в том или ином их виде в
научном знании, при сохранении основных параметров классики.
Сторонники неклассической науки пытаются лишить
классическую науку ее базовых признаков и «подстроить» ее под
особенности новой науки, т.е. разнообразие, множественность в
интерпретациях науки стремятся свести к единообразию, к одному
возможному ее пониманию, противореча тем самым своей же ориентации
на плюрализм. Мне приходилось «защищать» классическую науку
от уступок оппонентам, которые делают ее сторонники.
Классическая наука продолжает существовать, сохраняя свои основные
характеристики, и большинство ученых успешно работает в ее
рамках. Можно понять их недоумение и возмущение, когда философы
пытаются придать их исследовательской деятельности какие-то
несвойственные ей особенности. Классика и неклассика
сосуществуют, не отрицая и не поглощая друг друга, каждая формируясь на
своих собственных основаниях. Здесь можно провести параллель с
фундаментальными научными теориями-парадигмами, которые
тоже сохраняют свою значимость в истории, продолжая
сосуществовать в некоем едином пространстве. В этом состоит плюрализм
современного философского понимания науки. Он очень
миролюбив, этот плюрализм, и не стоит его бояться.
Однако большинство современных исследователей науки
испытывает стремление уйти от плюрализма, который обычно
ассоциируется с эмпиризмом. Если нет классической логики, значит,
нет логики вообще. Поэтому при попытках выстроить
рациональные мостики между разными парадигмами, как правило,
доминирует процедура обобщения, а не общения. Главное - это найти нечто
общее, что объединяет, что нивелирует индивидуальные,
уникальные особенности, делающие субъект субъектом в том или
ином контексте. Это относится в полной мере к способам
интерпретации науки: базовые основания или классики, или
неклассики берутся за общее основание науки как таковой,
индивидуальные особенности той и другой становятся неважными,
маргинальными.
76
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
Сторонники неклассической науки вынуждены искать
способы установить связь, желательно логическую, между разными
формами знания. Но если эти формы знания не поглощаются друг
другом, старые формы не снимаются в новых, не разрушаются ими
и не отрицаются ими как ложные, то связь возможна только на
равных. Это может быть диалог, интерсубъектные отношения,
коммуникация. При разработке этих типов взаимодействия
наиболее распространенной становится тенденция поиска общего
начала, которое и помогает, по замыслу, общению. Но эта
тенденция разворачивает вектор движения мысли в сторону все той же
классической логики, где обобщение, поиск общего (например,
языка) явно доминирует над общением, которое предполагает
наличие (и сохранение в ходе общения) индивидуальных,
особенных черт у общающихся.
4. Нечеткость границы между классикой—неклассикой,
истиной—ложью, субъектом—предметом
Эта нечеткость приводит к понятию «смысл», который
присутствует в каждой из сторон противостояния. Мы имеем, таким
образом, попытки сторонников классики включить тем или иным
способом субъектные черты в научное знание и попытки
сторонников неклассической науки подчинить себе базовые
характеристики классической науки. И в том и в другом случае граница
между двумя типами научного мышления стирается или по меньшей
мере становится нечеткой. Понятие истины тоже утрачивает
строгость своего определения в классической науке, так как
субъектные вкрапления в знание могут лишь нарушить его
объективность, соответствие действительности. Далее, если природа как
объект изучения «очеловечивается» после внесения в нее ряда
субъектных характеристик, а субъект тем самым
«опредмечивается» (он совпадает с предметом в каких-то своих свойствах), то и тут
граница между субъектом и предметом становится нечеткой.
Кроме всего прочего, наука возникает из контекста, который есть не-
наука, где нет не только четких границ, но вообще никаких, так
как отсутствуют сами понятия, граница между которыми
обсуждается. Есть только граница между контекстом и наукой, которая
им порождается. Встает вопрос: каким образом возникают на этой
границе все те элементы науки, о которых можно говорить как о
A.A. Маркова. Смысл — альтернатива истине?
77
формирующих ее тем или иным образом? И главный вопрос, о
котором уже говорилось выше: где гарантия, что мы имеем дело
именно с наукой, хоть и рожденной из яенауки.
Действительно, когда идет конкурентная борьба между старой
и новой теориями-парадигмами, еще неясно, в пользу какой
теории будет принято решение научного сообщества. Не исключено,
что обе теории окажутся ложными. И тем не менее никто не
отрицает, что дискуссия ведется в рамках науки. Что же позволяет
придерживаться такого мнения? Только то обстоятельство, что все
участвующие в конкуренции теории обладают смыслом. Именно
это объединяет их в границах науки. Если то или иное
высказывание не обладает никаким научным смыслом, с ним не будут
спорить, его просто проигнорируют.
Рождение науки совпадает с рождением смысла его
элементов, что обеспечивается формированием мыслительного поля
(М. Мамардашвили), или полем референции (Ж. Делёз), или
можно еще как-то назвать пространство, являющееся яенаукой, но
не противоположное ей. Это пространство вычленяется из
бескрайнего моря внешнего по отношению к науке мира,
ограничиваясь лишь той его частью, которая участвует в возникновении
науки, но не содержит ни субъект-предметного отношения, ни
истины, ни лжи, ни старых теорий, ни новой, ни отношений
внутри научного сообщества, ни каких бы то ни было других ее
элементов. Единственное свойство, которое элементы науки
приобретают на границе //енауки и науки, — это свойство
обладать научным смыслом. На этом основании еще только
родившаяся в голове ученого мысль, не только не обоснованная и не
принятая научным сообществом, но и им самим до конца не
продуманная, уже научная. И история всех прошлых теорий, пусть и
ложных с точки зрения современного научного знания, все-таки
есть история науки. Для знания, чтобы принадлежать науке,
совсем не обязательно быть истинным. Если бы это было так, то с
точки зрения классического естествознания любая научная
дисциплина состояла бы на каждый данный момент из одной-един-
ственной теории, победившей свою предшественницу как
ложную в конкурентной борьбе. Кроме того, такое ее положение
очень непрочное, заранее известно, что рано или поздно она
будет опровергнута и тем самым лишится статуса научной. Мир
науки чрезвычайно сужается.
78
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
Смысл нейтрален к истине и лжи, он нивелирует их
противоположность и смещает интерес исследователя к границе наука—
яенаука, к рождению науки из контекста, а не из прошлого
знания, к пространственным отношениям скорее, чем к временным.
Появляются новые понятия, как в философии, так и в
естествознании: уже упомянутые выше «мыслительное поле» и «поле
референции», или «жизненное пространство», «окружение»,
«собственный мир теории», «ландшафт» и т.д. В философии
разрабатывается целая философская система, логика смысла
Ж. Делёзом, в которой фигурируют понятия смысла и нонсенса.
При этом нонсенс определяется не как нечто противоположное
смыслу, а как яесмысл, порождающий смысл. Очень похоже на
контекст — яенаука, порождающая науку.
II Чтобы мои рассуждения не казались произвольными, очень коротко
остановлюсь на способе мыслить некоторых естествоиспытателей.
Рене Том, математик, серьезно анализирует проблемы биологии.
В мире живых существ Том предполагает наличие жизненного поля,
некоторого предпорядка, определяющего направление
формообразования организмов.
Он берет под сомнение положение генетики, согласно которому
развитием живых существ управляет исключительно случай, и из всей
совокупности влияющих на организм факторов стремится выделить те,
которые имеют больше шансов радикально изменить его
наследственность. Именно эти факторы организуют жизненное пространство.
Том обратил взгляд на теорию Ламарка: сильная потребность может
привести к наследованию приобретенных признаков. Наличие
потребности делает организм более восприимчивым к раздражителям
того порядка, которые эту потребность удовлетворяют. Организм как
бы подготовляет себя к ответу на соответствующий раздражитель и
игнорирует остальные. Этим обеспечивается устойчивость организма:
до поры до времени он сохраняет форму, он стабилен, так как не
отвечает на случайные влияния, не относящиеся к процессам его
жизнедеятельности (или погибает, если эти влияния преступают
определенный порог). Когда внешнее раздражение оказывается созвучным с
неудовлетворенной потребностью организма, происходит скачок, или
катастрофа, как предпочитает говорить Том, организм
дестабилизируется и переходит в новое состояние.
Никлас Луман, социолог, в своей области знания идет тоже
непроторенными путями. Каждая теоретическая система, утверждает он,
имеет свой собственный окружающий мир и способна к
самонаблюдению.
A.A. Маркова. Смысл — альтернатива истине?
79
В интерпретации Луманом наблюдения просматривается сходство с
понятием наблюдателя в естествознании (у Эйнштейна или Пригожи-
на) и в философии (например, у Делёза). В этих случаях наблюдатель
принадлежит как предмету, так и субъекту, которые в равной мере
обладают свойством наблюдать. Луман сам признает, что его концепция
|| подрывает субъектно-объектную схему теории познания.
Большую роль у Лумана играет контингентность (случайность). При
этом важно иметь в виду, что возможности выбора не безграничны.
Система сама определяет тот характер и тот объем информации,
который может быть ею воспринят. Это, как у Тома: организм сам
выбирает те факторы влияния, которые лучше отвечают его потребностям.
Так что не только окружение (или контекст в широком смысле слова)
формирует тот или иной организм, теорию, систему и т.д., но и
организм, система и т.п. формируют свое окружение, а тем самым и самих
себя. В этом источник самодетерминации, обоснования
собственными началами.
Понятие выбора, в основании которого лежит случайность, в
истолковании Лумана очень напоминает понятие бифуркации.
Предполагается наличие разных вариантов выбора, из которых случай выбирает
лишь один. Однако у остальных вариантов не меньше права быть
выбранными, так как все возможные варианты в равной мере обладают
смыслом, хотя некоторые из них и могут оказаться ложными.
У Роджера Пенроуза в его физических построениях большую роль
играет коллапс волновых функций, который не порождается процессами,
протекающими на квантовом уровне в соответствии с уравнением
Шрёдингера. Чтобы он произошел, необходимо нечто внешнее,
окружение, не являющееся составной частью линейного процесса.
В то же время без экранирования квантового состояния от
окружения такие эффекты мгновенно затеряются в присущей этому
окружению хаотичности. Квантовая когерентность возникает при
условиях, позволяющих большому числу частиц образовывать
совместно единое квантовое состояние, практически не сцепленное с
|| окружением.
Из этих очень кратких реплик в адрес некоторых ученых мне
бы хотелось сделать такие выводы. Все они говорят о большой
роли контекста (жизненного пространства, собственного мира
системы, окружения) для понимания изучаемых ими процессов.
Организм, теория, физическая система сами отбирают те влияния
внешнего мира, которые они могут воспринять, остальные не
принимаются во внимание. Тем самым контекст становится не
просто внешним, но яенаукой, //^системой, морганизмом.
Система (будь то наука, организм, физическое явление) сама участвует в
80
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
формировании своего контекста. У Лумана есть интересный ход
мысли: другие системы входят в собственный мир данной
системы, и здесь происходит их общение. Система не утрачивает своей
индивидуальности и сама может включаться в собственные миры
других систем.
В заключение отмечу: если субъект-предметное отношение в
любом его варианте (доминирование предмета или субъекта) и
становится малозначимым для понимания науки, это совсем не
свидетельствует о том, что исследования, проводившиеся на базе
этого отношения, следует считать не оправдавшими себя,
малопродуктивными, ошибочными. Они дали блестящие результаты,
которые не требуют опровержения. Но они исчерпали себя с
точки зрения логики, дали всё, что могли, и пришли к состоянию
самопреодоления.
Еще один момент. Не следует искать в реальном мире прямого
аналога той или иной идеализации. Если в классической науке из
логики выводится субъект, то это не значит, что представители
этой логики отрицали существование ученого как порождающего
научное знание. И если представители социологии науки
исключают из поля своих рассуждений предмет исследования, то из
этого не делается вывод, будто в реальном естествознании реальным
ученым не изучается мир природы. Подобно этому в механике
Ньютона фигурируют материальные точки и абсолютно ровные
поверхности, но только для того, чтобы понять движение
реальных предметов по реальным, далеко не ровным поверхностям.
Ю.С. Моркина
«Постнеклассическал» эпистемология?
Б. Латур. Попытка создания новой
парадигмы
II Социальная эпистемология возникла как эпистемология
неклассическая, во многом противопоставив себя классической эпистемологии.
Но Б. Латур в своей концепции явно выходит за рамки
противостояния классической и социальной эпистемологии, противопоставляя
свою концепцию им обеим. Он сам называет «коперниковской
контрреволюцией» свой «переворот переворота», в результате которого и
объекты, и субъекты начинают вращаться вокруг практики
квазиобъектов и медиаторов. Латур предлагает отказаться от устоявшейся
субъект-объектной схемы, в рамках которой работали как приверженцы
классической эпистемологии, так и социальные эпистемологи.
Благодаря этому автору мысль исследователей научного знания не оста-
|| навливается на неклассической эпистемологии.
Начиная с середины XX в. философами стали подниматься
вопросы о роли социальных факторов в истории науки. Логичным
продолжением дискуссий о «социальности науке»,
происходивших по поводу социологии науки и социологии знания, стало
новое направление в философии - социальная эпистемология.
В классической эпистемологии истина рассматривалась как
естественный результат и нормальный продукт познания, а
заблуждение объявлялось отклонением от магистральной линии развития
знания. С таким пониманием знания была тесно связана идея
кумулятивное™. Это представление о познании, развиваемое в
рамках неопозитивистской методологии и социологии науки, в
дальнейшем было оспорено самими методологами, выдвинувшими
тезис теоретической нагруженное™ опыта, а также когнитивной
психологией, показавшей культурную нагруженность
восприятия, и когнитивной социологией. Появилось убеждение, что
конфликтующие точки зрения, альтернативные способы
восприятия имеют собственные основания, которые не могут сами по
себе быть оценены как истинные или ложные. Д. Блур,
представитель Эдинбургской школы в социологии познания, поддерживает
82
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
такое течение мысли, развивая социологию, которая изучает
знание, обусловленное данной локальной культурой вне
зависимости от его истинностной оценки. Концепции авторов
направления социальной эпистемологии подверглись критике и анализу, в
основном в зарубежной литературе. Многими авторами (А.
Альварес, Э. Лёкиви из зарубежных исследователей, И.Т. Касавин,
В.А. Лекторский, Л.А. Маркова — из отечественных) отмечалось
противостояние классической эпистемологии и социальной (как
неклассического направления). Исследователи показывали
оппозицию этих двух направлений по ряду вопросов, касающихся
общего предмета — научного знания, и представляли
неклассическую эпистемологию (социальную) как реакцию на
классическую. Неклассическая эпистемология развивалась и крепла в
своем противостоянии классической. Но такого автора, как Б. Ла-
тур, уже трудно рассматривать в пределах узкой схемы этого
противостояния: он в своей концепции явно выходит за его рамки,
противопоставляя ее не только классической, но и социальной
эпистемологии (например, позиции Блура). В связи с прочтением
его работ напрашивается термин, перефразирующий термин
B.C. Стёпина1, - «постнеклассическая эпистемология». В XX в.
мысль исследователей систем научного знания не
останавливается на неклассической эпистемологии, положения которой
ставятся под вопрос, порождая реакцию на себя.
1. Основные понятия теории Латура
Латур наряду с М. Каллоном и Дж. Ло является автором
«теории актор-сети» (Actor-network theory — ANT). Он критиковал
сильную программу Блура2 за «социологический редукционизм»
1 Стёпин B.C. Теоретическое знание. М., 1999. С. 392.
2 «Сильная программа» Д. Блура, как она излагается в книге «Знание и
социальная образность» (Bloor D. Knowledge and Social Imagery. L., 1976. 156 P.),
содержит четыре главных тезиса: Т) социология знания должна заниматься причинным
объяснением знания, хотя такое объяснение не исчерпывается социальными
причинами (принцип каузальности); 2) она должна объяснять все виды знания,
оставаясь безразличной к его истинности или ложности, рациональности или
иррациональности (принцип эквивалентности); 3) социологическое объяснение
должно сводить истинное и ложное, рациональное или иррациональное знание к
одному и тому же типу причин (принцип симметрии); 4) социология знания
должна применяться к себе самой так же, как к другим системам знания (принцип
рефлексивности).
Ю.С. Моркина. «Постнеклассическая» эпистемология? Б. Латур
83
и антропоцентризм. Латур призывает социологов отвергнуть
субъект-объектную схему познания, которую Блур принимает.
Социологи знания, утверждает Латур, как и их критики, работали
в рамках субъект-объектной полярности, разделяя исследуемую
реальность на субъект и объект. Субъект при этом мог
рассматриваться или как индивидуальный, или как коллективный.
Концепции в области теории познания занимают, по Латуру,
различные позиции на субъект-объектной шкале, в зависимости от
того, представляют они познание как более зависящее от субъекта
или как более зависящее от объекта. Латур идентифицирует
«сильную программу» Блура как субъективистскую, в которой общество
играет роль субъекта. Идея Латура в том, чтобы не описывать ни
природу в терминах общества (как, он считает, это делает Блур), ни
общество в терминах природы, но и общество, и природу
описывать в одних терминах, не специфичных ни для того, ни для другого.
Общество и природа «со-производны» («co-produced»), по Латуру.
Рассмотрим вкратце основные понятия системы Латура.
Первым из этих понятий является понятие перевода или сети.
Латур считает, что это понятие — более гибкое, чем понятие
«система», более историческое, чем понятие «структура», более
эмпирическое, чем понятие «сложность». Латур рассматривает не
природу или знание, не вещи-в-себе, но то, как эти вещи вовлечены в
человеческие коллективы, в субъекты. Однако Латур говорит не о
социальном контексте и не об интересах власти, а об их
вовлеченности в коллективы и объекты. Понятие сети, по Латуру, включает
переплетенные в тесном взаимодействии человеческие и
нечеловеческие сущности (научное сообщество, инструменты,
практики, лабораторное оборудование, природные силы и объекты).
Сети «подрывают границы великих феодальных владений критики,
не будучи ни объективными, ни социальными, ни простым
порождением дискурса, но являясь одновременно и реальными, и
коллективными, и дискурсионными»1. Открытие Латура состоит в
том, что научные факты конструируются, но они не могут быть
сведены к социальному измерению, поскольку последнее само
наполнено предметами, мобилизованными для его построения.
Латуровские сети являются одновременно реальными, как приро-
1 Латур Б. Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии.
СПб., 2006. С. 65.
84
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
да, разворачиваемыми, как дискурс, коллективными, как
общество. Необходимо, говорит он, рассматривать ткань
природа—культура, в которой отсутствуют какие бы то ни было швы. При этом не
надо спрашивать, какие элементы сети социальные, а какие —
природные или технические. Латур подчеркивает, что для успеха
сети более важно, какие звенья сети выдержат столкновение в
испытании сил. Любые научные факты, законы, объекты имеют
смысл только в пределах сети. Латур отмечает: вынесите научное
утверждение за пределы сети, которая способна его прочесть и
проверить, — и оно бесполезно. Так же, как книга бесполезна,
если некому ее прочесть.
Понятие гибридов у Латура сродни понятию сети; это то, из
чего состоят сети. Гибриды рождаются в результате
взаимоотношений и взаимопроникновения отдельных природных сил или
объектов и изучающего их общества. С описания гибридов
начинается книга Латура «Нового времени не было»: «...В одной и той же
статье (газетной или журнальной. — Ю.М.) смешиваются
химические и политические реакции. Одна и та же нить связывает самую
эзотерическую науку и самую низменную политику, бесконечно
далекое небо и завод в пригороде Лиона, глобальную опасность,
ближайшие выборы или грядущий административный совет» К
Вместе с рождением человека на свет появляется «не-челове-
чество» — вещи, объекты. Новое время, отмечает Латур,
представляет собой результат совместного проявления этих общностей,
затем — сокрытия их совместного рождения и попытки трактовать
каждую из них по отдельности, в то время как под всеми этими
общностями гибриды, как следствие такого способа объяснять все
по отдельности, продолжают умножаться. Мы живем, указывает
философ, в обществах, где социальные связи создаются
объектами, полученными в лаборатории, где идеи замещаются
практиками, аподейктические суждения — контролируемой доксой,
всеобщее согласие — сообществами коллег. He-человеческие сущности
(или то, что далее будет фигурировать как Природа) — у Латура то,
применительно к чему он употребляет термины «акторы», —
являются основными подзащитными философа в его полемике с
Д. Блуром и другими социологами науки. Сущность
зародившейся в Новое время науки он видит в том, что инертные, неспособ-
Латур Б. Указ. соч. С. 59.
Ю.С. Моркина. «Постнеклассическая» эпистемология? Б. Латур
85
ные иметь волю тела «оказываются способными
свидетельствовать, подписывать, писать, оставлять знаки на лабораторном
оборудовании и перед заслуживающими доверия свидетелями. Эти
не-человеки, которые лишены души, но которых мы наделяем
смыслом, даже более надежны, чем простые смертные, которым
приписывается воля, но которые лишены способности с
абсолютной надежностью констатировать те или иные явления»1.
Не последнее место в рассуждениях Латура играет понятие
конституции негласных правил, по которым развивается наука.
Нововременная конституция получает свою каноническую
формулировку с появлением кантианства. Это и есть Кантовская ко-
перниковская революция. Вещи-в-себе видятся недоступными, в
то время как трансцендентальный субъект бесконечно удаляется
от мира. Тем не менее знание оказывается возможным только
посередине — в точке существования феноменов, за счет
приложения к ним двух чистых форм — форм вещи-в-себе и субъекта.
Конституция Нового времени включала, согласно Латуру, четыре
гарантии (нерефлексируемых правила), обретающие смысл, только
если они действуют все вместе, но при условии, что они остаются
строго отделенными друг от друга. Мы опишем их здесь так, как
они обрисованы у Латура. Первая гарантия обеспечивала
природе ее трансцендентальное измерение, делая ее отличной от
структуры общества, разъединяла общество и природу в глазах
естествоиспытателей, научного сообщества и общества вообще — в
противоположность той непрерывной связи между естественным
порядком и социальным строем, которая существовала в доново-
временных и других культурах. Вторая гарантия обеспечивала
обществу его имманентное измерение, делая его граждан
абсолютно свободными в том, что касается его искусственной
реконструкции, — в противоположность такому положению дел, когда
нет возможности изменить одно, не изменяя при этом другого.
Третья гарантия делала возможной разведение этих двух «ветвей
правления», в соответствии с ней, даже будучи мобилизуемой и
сконструированной, природа лишена связи с обществом, которое
в свою очередь, будучи трансцендентным и поддерживаемым
вещами, уже не имеет связи с природой; иначе говоря,
квазиобъекты, гибриды, оказывались «официально исключены» из рассмот-
Латур Б. Указ. соч. С. 87.
86
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
рения. Четвертая гарантия — гарантия отграниченного Бога -
позволила стабилизировать этот дуалистический и
асимметричный механизм, сделав Бога арбитром, правда, «отсутствующим и
лишенным власти».
Нововременная конституция делала возможными такие
процессы, как работа очищения - процесс четкого разграничения
природных и общественных факторов в сознании человека Нового
времени - и работа медиации — скрытое подпольное
неосознаваемое движение смешения и взаимодействия природного и
общественного, порождающего гибриды. Впрочем, «гибридность»
гибридов (например, вакуумного насоса Бойля) не осознавалась
учеными, в чем сказывался результат «работы очищения». Но «Нового
времени как результата такого рода очищения не было». На
практике гибриды всегда существовали, и «очищение», разъединение
природы и общества производилось лишь во мнениях людей. Латур
спрашивает: как перейти от мира объектов или мира субъектов, с
которыми оперировало сознание ученых в Новое время, к тому, что
он называет квазиобъектами или квазисубъектами? Как перейти от
трансцендентной/имманентной природы к природе, которая все
так же реальна, но получена в лаборатории, а затем превращена во
внешнюю реальность? Как перейти от
имманентного/трансцендентного общества к коллективам, состоящим как из людей, так и
из не-человеков? В Новое время «пытались устранить» слияние
Природы и общественных факторов, прибегая к очищению и
отрицанию. Всякий раз, когда шла работа медиации, начиналась работа
очищения. Любой квазиобъект, любой гибрид воспринимался как
смесь чистых форм. Таким образом, объяснения Нового времени
состояли в том, чтобы разъединять смеси и выделять из них то, что
пришло от субъекта (или социального мира), и то, что пришло от
объекта. Но это разъединение (санкционированное
нововременной конституцией) имело место лишь в мнении ученых. На самом
деле сети все время развивались и гибридов образовывалось все
больше. Латур подготовляет свой проект ненововременной
конституции, долженствующей вступить в силу для более
объективного понимания взаимодействия Природы и общества. Для этого ему
достаточно принять в расчет то, что нововременная конституция
оставила в стороне, и отсортировать гарантии, которые ему
хотелось сохранить. Он берет на себя обязательство дать
представительство квазиобъектам. Таким образом, именно третью гарантию со-
Ю.С. Моркина. «Постнеклассическая» эпистемология? Б. Латур
87
временной конституции, по Латуру, надо отменить, поскольку она
препятствует осуществлению их непрерывного анализа. Природа и
общество являются не двумя различными полюсами, а единым
производством многих обществ — многих природ, коллективов.
Таким образом, первой гарантией конституции Латура становится
неразделимость квазиобъектов и квазисубъектов. Латур сохраняет
две первые гарантии прежней конституции, но отвергает
двойственность ее третьей гарантии. Трансцендентность природы, ее
объективность, или имманентность общества, его субъективность в
противоположность тому, что утверждает конституция Нового
времени, «происходят из работы медиации независимо от их
разделения между природой и обществом»1. И общество, и природа
конструируются, производятся человеком. Третья гарантия состоит в
возможности свободного комбинирования сетей. Четвертая
гарантия новой конституции Латура состоит в том, чтобы заменить
неконтролируемое умножение гибридов их урегулированным и
согласованным производством. «Возможно, теперь самое время
вновь заговорить о демократии, но о демократии,
распространенной на сами вещи», — пишет Латур2.
2. Основные ценности философии Латура
На протяжении всей своей книги «Нового времени не было»
Латур пытается восстановить симметрию между «правлением
вещей» («наукой» и «техникой») и «правлением людей» -
обществом. Латур резко критикует современные направления, социоло-
гизирующие науку, объясняющие ее при помощи
социологических терминов, он критикует STS («исследования науки и
технологии»), которые удлиняют ряд «социально
интерпретируемых» феноменов, добавляя к ним те, которые прежде выносились
за границы социологических дисциплин. Здесь речь идет о таких
феноменах, как материя, производительность, объективность,
которые традиционно не вписывались в рамки социологического
исследования3. Общественные науки дают природным феноме-
1 Латур Б. Указ. соч. С. 223.
2 Там же. С. 226.
3 См.: Латур Б. Когда вещи дают сдачи: возможный вклад «исследований
науки» в общественные науки // Вестник МГУ. Сер. Философия. 2003, № 3. Цит. по:
http://www.philosophy.ru/library/latour/whenthings.html
88
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
нам социальную интерпретацию. Их представители показывают,
что «кварк, микроб, закон термодинамики, инерциальная система
наведения и т.п. в действительности суть не то, чем они кажутся, -
не подлинно объективные сущности внеположенной природы, а
хранилища чего-то еще, что они скрывают, отражают, маскируют
или преломляют в себе»1. Иначе говоря, социальные функции и
факторы, по Латуру, социальная интерпретация, в конечном счете
подразумевают способность заместить объект, относящийся к
природе, другим объектом, принадлежащим обществу, и
показать, что именно он является истинной сущностью первого.
Но именно природные объекты, вещи, по Латуру, не
заменимы полностью объектами, конституированными социально. Для
множества обществоведов социальная интерпретация означает
разрушение интерпретируемого объекта, отмечает Латур,
разоблачение ошибочных представлений о нем. В силу этого, если
методами социальных наук исследовать естественные науки, то сам
предмет распадется, не оставив ничего, кроме социально
обусловленных заблуждений. Из того обстоятельства, что природные
объекты сопротивляются социальным интерпретациям, Латур делает
вывод об общем свойстве всех объектов, которое состоит в том,
что их нельзя заместить чем-то другим. Природа и общество не
являются больше для Латура объясняющими терминами, но
«предстают в качестве того, что требует одновременного объяснения».
«Общество» составлено, сконструировано, собрано, устроено,
слеплено и смонтировано. Оно больше не может рассматриваться
как скрытый источник причинности. В свою очередь
«объективность» означает, по Латуру, не особое качество сознания, не его
внутреннюю правильность и чистоту, но присутствие объектов,
когда они «способны» возражать (to object) тому, что о них
сказано. Лабораторный эксперимент создает для объектов условия, где
они могут предстать в своем собственном праве перед
утверждениями ученых. Латур предлагает новый принцип симметрии в
противоположность принципу, предложенному Блуром. Называя
принцип симметрии «сильной программы» «первым» таким
принципом, Латур предлагает «вторую» версию принципа, в
котором и природа, и общество рассматриваются симметрично
относительно их активности (agency), и активность в той же мере при-
Латур Б. Указ. соч.
Ю.С. Моркина. «Постнеклассическая» эпистемология? Б. Латур
89
писывается вещам, в какой и людям1. Он начинаете рассмотрения
идей Т. Гоббса и Р. Бойля, которое проводится в книге С. Шейпи-
на и С. Шеффера2. Латуру идея одновременного рассмотрения
идей этих мыслителей кажется гениальной, поскольку впервые в
исследованиях науки в действие вступает «новый принцип
симметрии», призванный объяснить одновременно как природу, так
и общество.
II Если мы доведем до конца идею симметрии, существующей между
двумя изобретениями двух наших авторов, то поймем, что дело не
просто в том, что Бойль создает научный дискурс, в то время как Гоббс
создает дискурс политический; Бойль создает политический дискурс,
из которого политика должна быть исключена, в то время как Гоббс
представляет себе политику науки, из которой должна быть
исключена экспериментальная наука. Иными словами, они изобретают наш
нововременной мир - мир, в котором репрезентация вещей
посредством лаборатории навсегда отъединена от репрезентации граждан
noil средством общественного договора3.
Нововременные ученые утверждают, что говорят не они, но
факты говорят сами за себя. Научные факты, «эти немые
сущности», говорят, пишут, обозначают нечто в «искусственно
огражденном пространстве лаборатории». Таким образом, небольшие
группы людей заставляют природные силы свидетельствовать о
чем-то. По наблюдению Латура, ученые свидетельствуют друг
перед другом, что они «переводят молчаливое поведение объектов»
на язык, понятный другим людям и обществу в целом. Природная
сила, объект являются немыми, но тем не менее им присваивается
смысл, понятный человеку. Здесь можно в скобках отметить
асимметрию «второго принципа симметрии» Латура, которую не
замечает он сам. Дело в том, что даже при равном наделении правом
голоса как общества, так и природных сущностей, последние
говорят все же через людей и для людей. Латур не рисует картину
(которая была бы странной, хотя и более симметричной)
природных сил, которые имеют смысл в себе и для себя и переводят наше
1 См.: Bloor D. Anti-Latour // Studies in History and Philosophy of Science. 1999.
Pt A, № 30 (1). Цит. no: http://www.melissa.ens-cachan.fr/IMG/pdf/bloor_-_anti-la-
tour.pdf
2 Cm: Shapin S.y Schaffer S. Leviathan and the Air-Pump. Princeton, 1985.
3 Латур Б. Нового времени не было. С. 91-92.
90 Ч асть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
человеческое бытие на свой молчаливый язык, наделяя его для
себя смыслом и дискутируя о нем. «Переворот», таким образом,
оказывается ограниченным, идеи Латура можно противопоставить
идеям Д. Блура, с которым он полемизирует, лишь до
определенной степени, но не абсолютно. Но продолжим. Природа (с
большой буквы) для Латура является той базовой ценностью, которую
он защищает перед лицом «социологизации» философами науки.
Люди не создают природу, она предсуществует, и ученые только
раскрывают ее тайны. Будучи трансцендентной, Природа для
Латура остается «мобилизируемой, гуманизируемой,
социализируемой». Лаборатории, коллекции, центры подсчета и получения
прибылей, исследовательские институты и конструкторские бюро
«подмешивают» ее к судьбам различных социальных групп. И
наоборот, хотя мы, как считает Латур (вслед за К. Мангеймом)
полностью конструируем общество, оно обладает объективным
существованием, имеет свои собственные законы и трансцендентно
так же, как Природа. «Таким образом, две конституционные
гарантии Нового времени - универсальные законы вещей и
неотчуждаемые права субъектов - больше не могут рассматриваться ни как
относящиеся к Природе, ни как относящиеся к обществу»1, -
пишет Латур. К чему же они относятся?
Латур называет коперниковской контрреволюцией свой
«переворот переворота», в результате которого и объекты, и субъекты
начинают вращаться вокруг практики квазиобъектов и
медиаторов. «Мы не нуждаемся в том, чтобы привязывать наши
объяснения к этим двум чистым формам - объекту или
субъекту-обществу, поскольку они, напротив, представляют собой частичные и
очищенные результаты центральной практики, которая одна
только нас и интересует»2. Как только осуществлена коперников-
ская контрреволюция и квазиобъект установлен под «прежними
вещами-в-себе» и «прежними людьми-между-собой», а кроме
того, на равном расстоянии от тех и других, то мы, как кажется Лату-
ру, начинаем замечать, что нет никаких оснований
ограничиваться двумя разновидностями онтологии - природной и
общественной. Эта коперниковская контрреволюция сводится к изменению
местоположения объекта и подразумевает, что он оказывается вы-
1 Латур Б. Указ. соч. С. 118.
2 Там же. С. 149.
Ю.С. Моркина. «Постнеклассическая» эпистемология? Б. Латур
91
веден из области вещей-в-себе и помещен в коллектив, не будучи
при этом приближен к обществу. Таким образом, Латур вносит
свой вклад в разрешение спора реалистов и конструктивистов:
первые утверждают, что научные факты никем не созданы,
вторые - что эти факты являются по сути социальными и мы создаем
их своими собственными руками. Сама фабрикация этих фактов
представляет собой работу медиации. Двойная
трансцендентность - природы, с одной стороны, и общества - с другой -
соответствует, по Латуру, одному набору стабилизированных
сущностей. В противоположность этому имманентность природы и
коллективов также соответствует одному региону — региону
нестабильности событий, региону работы медиации.
«Как только мы выходим на след какого-нибудь квазиобъекта,
он предстает перед нами иногда как вещь, иногда как рассказ, а
порой как социальная связь, никогда не редуцируясь до простого
сущего», - пишет он. «А что, если это именно мы,
нововременные, искусственно разбили на части единую траекторию, которая
прежде не была ни объектом, ни субъектом, ни эффектом смысла,
ни чистым сущим? Что, если разделение этих четырех репертуаров
применяется только к стабилизированным и более поздним
стадиям?»1
Латур в полемике с Блуром затрагивает проблему
релятивизма, посвящая ей обширные пассажи. В качестве модели для
философии науки он предлагает антропологию. Для этого необходимо
сделать антропологию способной изучать науки, преодолевая
границы эпистемологии, а также социологии знания (программа,
настойчиво противопоставляемая программам социологии
научного знания). Именно первый принцип симметрии произвел
смятение в исследованиях науки и техники, когда было высказано
требование, что заблуждение и истина должны рассматриваться в
одних и тех же терминах.
Первый принцип симметрии Блура, пишет Латур, дает
преимущество тем, что освобождает нас от эпистемологических
разрывов, от существующих априори делений на
«санкционированные» и «устаревшие» науки, а также от искусственных границ
между социологиями знания, верований и науки. Но, по мнению Ла-
тура, принцип симметрии, сформулированный Блуром, быстро
Латур Б. Указ. соч. С. 161.
92
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
заводит в тупик1. Латур обвиняет принцип симметрии Блура в
асимметричности (считая, что сам он предлагает более
«симметричный» принцип симметрии). Принцип симметрии Блура
требует того, чтобы истинное и ложное объяснялись в одних и тех же
терминах. Но какие термины при этом выбираются? —
спрашивает Латур. И отвечает: те, которые науки об обществе
предоставляют последователям Гоббса. Вместо того чтобы объяснять истину
через точное соответствие природной реальности, а ложное —
через зависимость от социальных категорий, эпистем или
интересов, Блур провозглашает, что как истинное, так и ложное знание
должно объясняться при помощи одних и тех же категорий, а
именно: категорий общественных наук. «Соответственно этот
принцип также является асимметричным, но не потому, что он,
как и сами эпистемологи, разделяет идеологию и науку, а потому,
что он выносит за скобки природу и переносит всю тяжесть
объяснений на один только полюс — полюс общества. Будучи
конструктивистским в отношении природы, он является реалистичным в
отношении общества»2. Но общество, утверждает Латур,
сконструировано не в меньшей степени, чем природа. Он, правда, не
утверждает, что общество сконструировано природными силами,
что соответствовало бы «идеальному принципу симметрии», как
мы его назовем. Если мы реалистичны в отношении одного, то
необходимо быть реалистичными и в отношении другого; если мы
конструктивисты в отношении одного, то надо быть
конструктивистами в отношении их обоих — добивается Латур «идеальной
симметрии». Надо суметь осознать, как природа и общество
одновременно являются имманентными - в работе медиации - и
трансцендентными - после работы очищения. Видимость
объяснения, которое предоставляют природа и общество, возникает
только позже, когда стабилизированные квазиобъекты
становятся после раскола, с одной стороны, объектами внешней
реальности, а с другой — субъектами общества. Таким образом, чтобы
антропология стала симметричной, ей недостаточно реализовать
первый принцип симметрии, который кладет конец наиболее
очевидной несправедливости эпистемологии. «Антрополог должен
1 См. : Latour В. One More Turn after the Social Turn. Easing Science Studies into the
Non-Modem World // E. McMullin (ed.) The Social Dimensions of Science. P. : Notre
Dame, 1991.
2 Латур Б. Нового времени не было. С. 168-169.
Ю.С. Моркина. «Постнеклассическая» эпистемология? Б. Латур
93
расположиться в срединной точке, откуда он может наблюдать за
распределением как не-человеческих, так и человеческих свойств.
Ему запрещено использовать внешнюю реальность, чтобы
объяснять общество, точно так же, как и использовать властные игры
для объяснения того, что придает форму внешней реальности.
Ему, разумеется, также запрещено попеременно использовать
природный и социологический реализм, так чтобы задействовать
при этом "не только" природу, "но и" общество ради сохранения
двух типов первоначальной асимметрии, скрывая слабость одной
под слабостью другой»1.
Согласно воззрениям Латура, его принцип симметрии
восстанавливает непрерывность, историчность и, подчеркивает он,
справедливость (последняя является, как без труда поймет
читатель, аксиологическим понятием).
Почему сам Латур, так стремясь к «идеальной симметрии», не
достигает ее? Нам видится следующий ответ: потому, что не
симметрия является базовой ценностью его философии. Ею является
Природа. Принцип симметрии нужен ему для того, чтобы
утвердить эту ценность, но не более. Он - средство, а не цель.
Соответственно, именно положение понятия Природы, а не
симметричность принципа симметрии продумывается им наиболее
тщательно. В дискуссии с Блуром обвинение принципа симметрии Блура
в «несимметричности» — не более чем эффектная риторическая
фигура.
II Чтобы понять, что отношение Латура к понятию Природы по своей
сути ценностное и весьма аффецированное, достаточно перечитать
следующие пассажи:
7) «Я признаю, что уже сыт по горло таким положением вещей, при
котором всегда оказываюсь заперт лишь в языке или оказываюсь
узником одних только социальных репрезентаций. Я хочу получить доступ
к самим вещам, а не только к тому, какими они нам являются.
Реальное не является далеким, оно доступно во всех объектах,
мобилизованных миром. Не присутствует ли внешняя реальность в изобилии
среди нас самих?»2
2) «Вам не надоели эти социологии, сконструированные вокруг одно-
|| го только социального, которые существуют лишь благодаря повторе-
1 Латур. Б. Указ. соч. С. 169.
2 Там же. С. 162.
94
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
I нию слов "власть" и "легитимность", потому что не в состоянии
вместить ни мир объектов, ни мир языка, которые их, тем не менее,
конституируют? Наши коллективы реальны, более натурализованы и
более дискурсивны, чем скучные люди-между-собой давали основа-
II ние предположить»1.
В центре вопроса о релятивизме для Латура находится вопрос о
науке. Но те культуры, которые изобретают науки и открывают
физический детерминизм, никогда не имеют дела исключительно
с человеческими существами. Западное общество Нового времени
отмечено Великим разломом - проведением абсолютного
различия между природой и культурой, между наукой и обществом, в то
время как другие общества не могут отделить знание от общества,
знак от вещи и то, что исходит от природы как таковой, от того, что
требуют их культуры. Внутреннее деление между людьми и не-че-
ловеками определяет второе деление, на этот раз внешнее, за счет
которого нововременное помещает себя отдельно от донововре-
менного. Но Латур рекомендует «обойти одновременно оба эти
разлома», он не верит ни в радикальное различие людей и не-чело-
веков в западном нововременном обществе, ни в полное
взаимоналожение знаний и культур в других обществах. Однако само
понятие культуры является, по Латуру, артефактом, созданным
путем вынесения природы за скобки. Культуры, пишет он,
различные или универсальные, существуют не в большей мере,
чем универсальная природа. Существуют только
природы-культуры, и именно они составляют единственно возможное основание
для сравнения. Он классифицирует формы релятивизма в
зависимости от того, принимают или не принимают они во внимание
конструирование природы. Абсолютный релятивизм, по Латуру,
предполагает существование отдельных и несоизмеримых
культур, которые не могут быть упорядочены никакой иерархией.
В этом случае природа выносится за скобки. Более тонкая форма
культурного релятивизма отличается тем, что «здесь появляется
на сцене Природа», но ее существование не предполагает наличия
какого-либо общества, какого-либо конструирования,
какой-либо мобилизации или сети.
Но, замечает Латур, на практике, как только природа вступает
в игру, не будучи привязана к какой-то одной культуре, всегда на-
Латур 2>. Указ. соч. С. 163.
Ю.С. Моркина. «Постнеклассическая» эпистемология? Б. Латур
95
чинает тайно использоваться третья модель — та разновидность
универсализма, которую он называет частичной, а именно одно из
обществ (западное нововременное общество) намечает общую
рамку природы, по отношению к которой располагаются все
остальные. При этом первая половина аргумента делает возможным
умеренный релятивизм: западная культура является только одной
культурой среди других, но вторая половина аргумента делает
возможным возвращение универсализма, который Латур именует
«надменный»: западная культура рассматривается как абсолютно
иная по отношению ко всем остальным культурам.
«Релятивисты никогда никого не могли убедить в равенстве
культур, поскольку рассматривали только культуры. А что же
природа? С их точки зрения, она для всех одинакова, поскольку ее
определяет универсальная наука»1, — сокрушается Латур. Чтобы
избежать противоречия, релятивисты, по Латуру, вынуждены либо
сводить все культуры к простой репрезентации мира, превратив их
в пленников своих собственных обществ, либо, наоборот, чтобы
отказывать науке в универсальности, свести все научные
результаты к простым продуктам локальных и порожденных
случайными обстоятельствами социальных конструкций, что и делает
Блур2.
Для Латура оба этих пути релятивистской мысли одинаково
неприемлемы, поэтому споры относительно релятивизма ни к
чему не ведут. Ценность Природы также, как оказывается, имеет для
Латура ограниченное значение: придать Природе универсальный
характер, по Латуру, так же невозможно, как и свести ее к узким
рамкам одного только культурного релятивизма. Решение в том,
чтобы говорить не об универсальной природе или чистых
культурах, но о смешанных образованиях, которые Латур называет
«природы-культуры». Все природы-культуры схожи друг с другом в
том, что они одновременно создают человеческие, божественные
и не-человеческие сущности. В человеческом обществе
происходит одновременное конструирование человеческих коллективов и
не-человеков, их окружающих (природных сил, фактов,
объектов). Если элиминировать не-человеков, «подмешанных в кол-
1 Латур Б. Указ. соч. С. 179.
2 См.: BloorD. Sociologie de la logique ou les limites de l'épistémologie. P., 1982; Bio-
or A Wittgen stein: A Social Theory of Knowledge. Macmillan and Columbia, 1983.210p.
%
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
лективы», то остаток, который называется обществом, станет
непонятным. Социальная связь не работает без объектов, которые
одновременно и мобилизуемы для общества, и в то же время
несоизмеримы с социальным миром. Универсалисты устанавливали
только одну иерархию. Абсолютные релятивисты сделали все
иерархии равными. «Релятивистские релятивисты», более
умеренные, но в то же время более эмпиричные, показывают, при
помощи каких инструментов и каких цепочек создаются
асимметрии и равенства, иерархии и различия.
Если вопрос релятивизма неразрешим, считает Латур, то
«релятивистский релятивизм», или реляционизм, в принципе не
представляет собой никакой проблемы. Латур снова напоминает о
втором принципе симметрии: «Мы не должны наделять научную
истину и технологическую эффективность опять же тотальной
трансцендентностью и опять же абсолютной рациональностью»1.
Вещи — другая половина самого человека, без которой он не
может быть осмыслен. Пока гуманизм конструируется по
контрасту с объектом, «оставленным на откуп» эпистемологии, мы не
понимаем ни человека, ни не-человека. Вещи, природные объекты
представляют собой квазисубъекты, циркулирующие внутри
коллектива, который они тем самым очерчивают. Именно умножая
вещи, человек определяет себя. Так, при формировании различий
в системах знания немаловажную роль играют не-человеческие
факторы — актанты - приборы, лаборатории, исследуемое
вещество в экспериментальных ситуациях и т.д. Латур оперирует также
такими терминами, как «энтелехии», «монады», «силы», «вместо
людей, таких, как Пастер и Милликен, и вещей, таких, как
бактерии и электроны»2. Актантом может быть человек, организация,
микроб, теорема, пробирка - любое действующее лицо, чье
действие значимо для сети. Вещи или феномен сначала проявляются
как актант, т.е. когда их реакция в испытаниях силы заставляет
учитывать их роль в сети.
Классическую субъект-объектную схему познания Латур
заменяет схемой соотношения природы и общества, в которой по
вертикальной оси варьирует мера стабильности единства природы
1 Латур Б. Указ. соч. С. 205.
2 Bloor D. Anti-Latour. http://www.melissa.ens-cachan.fr/IMG/pdf/bloor_-_an-
ti-latour.pdf P. 16.
Ю.С. Моркина. «Постнеклассическая» эпистемология? Б. Латур
97
и общества. Внизу по данной оси находятся ситуации, в которых
природа и общество, реальные объекты и социальные конструкты
не дифференцированы. Выше по оси отмечены ситуации, в
которых агенты различают природу и общество и проводят между
ними границы. Отношения между субъектом и объектом, таким
образом, не могут рассматриваться как строго полярные, поскольку
полярность сама варьирует по вертикальной оси стабильности.
При этом меру стабильности Латур рассматривает как
«координату широты», а положение на линии, идущей от природного к
социальному, как «координату долготы». «О самом нестабильном
вакууме № 1, полученном в лаборатории Бойля, мы не можем
сказать, является ли он природой или социальной сущностью, но
знаем только то, что он искусственным образом возникает в
лаборатории. Вакуум № 2 может быть артефактом, изготовленным
человеческими руками, пока он не превратится в вакуум № 3,
который начинает становиться реальностью, ускользающей от
человека. Что же тогда вакуум? Ничто из вышеперечисленного.
Сущность (essence) вакуума — это траектория, соединяющая все эти
позиции»1.
Научные инновации предстают как движение вверх и вниз по
этой оси. Инноватор пересматривает и изменяет смысл того, что
есть «вещь в себе». Ученый в результате своей деятельности
порождает как природу, так и общество («making and re-making both
nature and society»). Таким образом, Латур представляет
программу, в которой не-человеческие и человеческие факторы, вещи и
люди образуют единую систему.
Если присмотреться, как предлагает Латур, к переплетениям
людей и вещей, то окажется, что обмен свойствами между ними
является обычной реальностью. Устойчивость и жесткость
социальных институтов берет начало в вещах, которые задействуются,
чтобы придать институтам жесткость. Люди постоянно
«рекрутируют» «не-человеков» в свои дела и переделывают их не только для
того, чтобы воплотить в них свои замыслы или социальные
отношения, но также чтобы создать новые вещи как завершение новых
сетей.
Если обществоведы хотят стать объективными, говорит Латур,
они должны найти такую ситуацию, в которой сумеют сделать
Латур Б. Нового времени не было. С. 132.
98
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
предмет максимально способным возражать тому, что о нем
сказано, и ставить собственные вопросы. Вещи, замечает Л атур,
сегодня незаслуженно обвиняются в том, что они — просто «вещи». Но
достаточно взглянуть на любой квазиобъект — от генетически
модифицированных организмов до глобального потепления, пишет
философ, чтобы убедиться в том, что для обществоведов и
«физиков» лишь вопрос времени: забыть о том, что их разделяет, и
объединиться в совместном исследовании «вещей», которые
являются по природе гибридами.
3. Б. Латур и М. Хайдеггер. Кто забыл о бытии?
Защищая «не-человеческие» сущности от тех, кто
пренебрегает ими как ценностью, Латур находит место на страницах своей
книги и для нападок на М. Хайдеггера:
«Подобно наивным посетителям Гераклита, Хайдеггер и его
эпигоны стремятся отыскать Бытие только на лесных тропинках
Шварцвальда, которые никуда не ведут. Весь остальной мир — это
пустыня. Боги не могут находиться в технике - это чистый Постав
Бытия (Ge-Stell), это неизбежная судьба (Geschick), это высшая
опасность (Gefahr)»1.
Латур обвиняет Хайдеггера в том, что он «относится к
нововременному миру с презрением», не ценит сетей, сочетающих
новые научные достижения с общественными факторами. Но, по
Латуру, «здесь тоже присутствуют боги». В гидроэлектростанциях,
в субатомных частицах, в кроссовках «Адидас», в
агропромышленное™, точно так же, как и в стихах Ф. Гельдерлина. Латур
спрашивает: почему философы больше не признают их? И
отвечает: потому что они верят нововременной конституции, не замечая,
что правила, которые включает эта конституция, на самом деле
являются мифом, прикрывая собой и делая незамечаемыми такие
процессы, как развитие сетей и образование гибридов.
Поскольку Бытие является одной из основных ценностей
западной мысли, становится необходимым взаимодействие этой
ценности в сознании Латура с его личными ценностями - «не-че-
ловеческими» сущностями, сетями. Поэтому он так энергично
отвечает на замечание Хайдеггера о том, что в современном мире
1 Латур Б. Указ. соч. С. 158.
Ю.С. Мортсина. «Постнеклассическая» эпистемология? Б. Латур
99
Бытие забыто1. Это кто забыл о Бытии? — горячится Латур. «Никто
никогда не забывал о нем, иначе природа действительно была бы
просто-напросто "состоящей в наличии". Посмотрите вокруг
себя: научные объекты циркулируют одновременно как субъекты,
объекты и дискурсы. Сети полны бытия. Если говорить о
машинах, то они нагружены субъектами и коллективами. Как сущее
может избавиться от своего разрыва, своего отличия, своей
незавершенности, своей отметины?»2 «Действительно ли кто-то забыл о
Бытии? Да, тот, кто на самом деле верил, что Бытие на самом деле
забыто»3.
По Латуру, у нас (современных людей) есть все, поскольку у
нас есть Бытие и сущее и мы никогда не забывали о разнице между
ними. Хайдеггер, говоря о «забвении Бытия» и технике как
«поставе» верил нововременной конституции, не понимая, что она
освещает только половину более масштабного механизма. Он
принимал в расчет работу очищения, но не учел процессы
медиации, поэтому мир техники неизбежно должен был казаться ему
бесчеловечным, отчужденным от живого «присутствия». Но для
Латура любой технический объект с неизбежностью является
«гибридом» и, следовательно, включает в себя Природу, а также
общество, человека. Хотя последний, по-видимому, для Латура не
является базовой ценностью, Латур использует включенность
общества в гибриды с риторическими целями, он доказывает, что
«никто не может забыть о Бытии, поскольку никогда не было
нововременного мира...»4 Сети полны «присутствия».
* * *
Создавая свою систему взглядов, Латур отталкивается от
кажущихся ему уже устоявшимися положений неклассической
(социальной) эпистемологии, разрабатывая противопоставляемые им
положения. Но это не положения классической эпистемологии.
1 См.: Хайдеггер М. Бытие и время. М., 2002. С. 2, 21; О« же. Положение об
основании. Статьи и фрагменты. СПб., 2000. С. 254; Он же. Ницше и пустота. М.,
2006. С. 68, 293; См. также: Хайдеггер М. Время и бытие. М. : Республика, 1993.
С. 230-231.
2 Латур Б. Указ. соч. С. 133.
3 Там же. С. 133.
4 Там же. С. 134.
100
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
По сути, эпистемологию «теории актор-сети» можно назвать,
перенося на эту дисциплину классификацию науки Стёпина1, «пост-
неклассической».
До сих пор социологи знания, как и их предшествующие
критики, работали в рамках субъект-объектной схемы. Латур
предлагает от нее отказаться, резко критикуя современные направления,
социологизирующие науку, объясняющие ее при помощи
социологических терминов, критикуя STS («исследования науки и
технологии»), которые расширяют ряд «социально
интерпретируемых» феноменов, добавляя к ним те, которые прежде выносились
за границы социологических дисциплин. Латур представляет
программу, в которой не-человеческие и человеческие факторы,
вещи и люди образуют единую систему.
Он сам называет коперниковской контрреволюцией свой
«переворот переворота», в результате которого и объекты, и субъекты
начинают вращаться вокруг практики квазиобъектов и
медиаторов. В данном случае имеет место реакция на то, что когда-то само
было реакцией на «стандартную концепцию научного знания» и
классичечкую эпистемологию, но теперь воспринимается как
твердое и устоявшееся направление. Это, разумеется, не
гегелевский синтез. Это — движение мысли дальше, отталкиваясь от
бывшего и известного, уже провозглашавшегося к тому, что еще не
утверждалось, хотя логическая возможность утверждения этого уже
существовала. Создав свою систему взглядов, Латур породил
новую возможность возражения существующему.
1 См.: Стёпин B.C. Указ. соч. С. 392.
Ю.С. Моркина
Эпистемологический дискурс: модель
и реальность
II Философские представления о структуре научного знания и его
развитии претерпели за последнее время сильные изменения. Известно, что в
философии последней четверти XX в. наряду с историческим и
лингвистическим наметился социологический поворот. В связи с этим
необходим анализ современных направлений неклассической эпистемологии,
взятых динамически и раскрывающихся в их противостоянии с более
ранним стилем мышления (классической эпистемологией). В нашей
статье строится умозрительная модель противостояния философских
направлений - классической и социальной эпистемологии. Мы
анализируем, как в эту умозрительную модель вписываются реальные
концепции социальных эпистемологов (для примера взяты концепции таких
II социальных эпистемологов, как Д. Блур, Э. Голдман и X. Лонжино).
Социальная эпистемология как новое направление философии
развивается более 30 лет, и само ее появление является следствием
развернувшейся дискуссии о роли социальных факторов в истории
науки. За это время концепции ее авторов подвергались критике и
анализу в литературе. Многие авторы (зарубежные исследователи
А. Альварес, Э. Лёкиви, отечественные И.Т. Касавин, В.А.
Лекторский, Л.А. Маркова) отмечали противостояние классической
эпистемологии и социальной (как неклассического направления) по
ряду вопросов, касающихся общего предмета — научного знания.
Именно степень этого противостояния стала предметом нашего
анализа концепций, сформулированных исследователями в рамках
социальной эпистемологии. Мы задались вопросом: как далеко
ушла социальная эпистемология от классической? Полностью ли
первая противостоит второй? В нашей статье приводится
умозрительная модель противостояния философских направлений
(классической и социальной эпистемологии), имеющих общий предмет
и неравных по «возрасту». Рассмотрим, как в эту умозрительную
модель вписываются реальные концепции социальных
эпистемологов как эмпирических индивидов. Для примера мы взяли
концепции Д. Блура, Э. Голдмана и X. Лонжино.
102
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
1. «Стандартная концепция научного знания»
и классическая эпистемология
В нашем case study1, касающемся дискурса относительно
природы и статуса научного знания, роль одной из сторон
противостояния играет комплекс представлений о научном знании,
доминировавший в умах исследователей науки до начала второй
половины XX в. и частично сохранившийся в настоящее время. (Под
«частичной сохранностью» в данном случае понимается то
обстоятельство, что и сейчас некоторые философы, исследователи науки,
защищают отдельные компоненты этого комплекса взглядов или
даже весь его полностью либо с небольшими модификациями.)
Различные исследователи концентрируют свое внимание на
разных частях этого комплекса представлений. Поскольку ими
проделана большая работа по выделению положений, входящих в
интересующий нас комплекс взглядов и поскольку они к тому же в
большинстве случаев четко и ясно формулируют положения
другой стороны, то мы воспользуемся их разработками, указывая
имена авторов. И поскольку «стандартная концепция научного
знания» (М. Малкей) тесно связана с классической
эпистемологией (не будет преувеличением сказать, что последняя развивала
первую, целиком от нее завися), то в нашем анализе мы
рассматриваем их как единое целое.
М. Малкей в своей книге «Наука и социология знания»2
выделяет «стандартную концепцию научного знания», которая
традиционно принималась в социологии знания. Это система
предпосылок, в соответствии с которыми формулировались взгляды
социологов на науку как социальный феномен. Поскольку эти
положения берут начало в классической эпистемологии, то
приведем их:
1. Мир природных явлений объективен и существует реально.
2. Характеристики мира не зависят от предпочтений и интересов
наблюдателя.
1 Case studies, кейс стадис - метод ситуационного анализа, подробного анализа
конкретных ситуаций, в философии науки такой ситуацией может выступать
научное открытие, сделанное определенным ученым в контексте идей и социальной
обстановки своего времени, которые при применении данного метода станут
предметом внимательного рассмотрения.
2 См.: Малкей М. Наука и социология знания. М., 1983. 254 с.
Ю.С. Моркина. Эпистемологический дискурс: модель и реальность 103
3. Цель науки — точное описание и объяснение объектов, процессов
и взаимосвязей, имеющих место в природе.
4. Научное знание открывает и накапливает истинные черты
внешнего мира.
5. В основе мира лежат неизменные единообразия, выражаемые в
виде законов природы.
6. Научное знание начинается с показаний органов чувств.
7. Законы, сформулированные на основе наблюдения, это общие
утверждения, суммирующие совокупности надежно установленных
опытных данных.
8. Наука создала жесткие критерии истинности научных
утверждений.
9. Научное знание независимо от субъективных факторов, так как
удовлетворяет этим критериям.
10. Необходимо проводить различие между законами на основе
наблюдения и теоретическими законами. Последние могут
пересматриваться, тогда как на фактуальном уровне развитие науки
кумулятивно.
11. Социальное происхождение научного знания почти не связано с
его содержанием: последнее определено лишь природой
физического мира1.
На этом заканчивается описание малкеевской «стандартной
концепции научного знания». Дополним ее.
В середине XX в. в историографии науки сформировались два
методологических направления — интернализм и экстернализм.
Интерналисты рассматривали историю науки как историю
научных идей, а экстерналисты — как социальный процесс2. На основе
этого сформулируем следующий пункт:
12. Интернализм и экстернализм как концепции непримиримы;
социальность познания сводится к внешним отношениям.
Общераспространенной точкой зрения на науку являлся
научный реализм. Известный философ науки Дж. Р. Браун определяет
реализм как доктрину, согласно которой «наука является более
или менее успешной в описании того, каков мир в
действительности». Отсюда следует:
1 См.: Малкей М. Указ. соч. С. 40.
2 См.: Маркова Л.А. Трансформация оснований историографии науки
//Принципы историографии естествознания: XX век. СПб. ; М., 2001. С. 71.
104
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
13. Научные теории либо истинны, либо ложны; их истинность или
ложность является буквальной, а не метафорической, она никак
не зависит от нас, или от нашего способа проверять теории, или от
структуры нашего мышления, или от общества, в котором мы
живем, и т.д.
Далее получаем еще один пункт, присоединяя замечание
Е.А. Мамчур об отношении эпистемологии к психологии в то время.
14. Эпистемология враждебна психологии.
Термин «психологизм» был (и остается) для большинства
эпистемологов чуть ли не бранным словом, а само стремление
объяснить познавательный процесс в терминах психологических
факторов рассматривалось ими как опасная тенденция, уводящая
эпистемологию с рационального пути.
Кроме того, распространенная «стандартная концепция»
научного знания провозглашала следующее.
15. Научное знание является эпистемологически
привилегированным случаем знания.
И.Т. Касавин отмечает, что классическая теория познания
(позитивизм, марксизм, критический рационализм) в числе своих
предпосылок содержала убеждение в том, что анализ научного
знания является лучшим способом исследования знания вообще.
Помимо дихотомии интернализма—экстернализма в
философии науки существовала дихотомия контекста открытия и
контекста обоснования, которые стали различать в западной науке
1930—1950-х гг. сторонники логического позитивизма в связи с
тем, что они пришли к отрицанию возможности точного
логико-методологического анализа формирования, развития и
совершенствования научно-теоретического знания, а также в связи с
активной критикой эмпирического индуктивизма как теории
получения новых знаний1. Итак, в классической эпистемологии
бытовало следующее мнение:
16. Сферу методологического анализа необходимо ограничить
контекстом обоснования.
В.А. Лекторский выделяет четыре главных особенности
классической теории познания, оказавшейся в центре всей
проблематики западной философии в XVII в., когда решение теоретико-по-
1 См.: Швырев B.C. Контекст открытия; Контекст оправдания // Новая
философская энциклопедия. В 4 т. М., 2001. Т. II. С. 296-297.
Ю.С. Моркина. Эпистемологический дискурс: модель и реальность 105
знавательных вопросов стало необходимым условием
исследования всех остальных философских проблем. Эти особенности мы
также включим в нашу систему, присвоив им следом идущие
номера.
17. Критицизм.
«Теория познания — это критика того, что считается знанием в
обыденном здравом смысле, в имеющейся в данное время науке, в
других философских системах. Поэтому исходной для теории
познания является проблема иллюзии и реальности, мнения и
знания. Эта тематика была сформулирована уже Платоном в диалоге
"Теэтет"»1.
18. Фундаментализм и нормативизм.
В классической эпистемологии обращалось внимание на то,
что сам идеал знания, на основе которого решается задача
критики, должен быть обоснован. Осознавалась необходимость
нахождения универсального фундамента знаний, относительно
которого не возникает сомнений.
19. Субъектоцентризм.
В качестве несомненного и неоспоримого базиса, на котором
можно строить систему знания, выступал факт существования
субъекта. С точки зрения Декарта, это вообще единственный
самодостоверный факт.
20. Наукоцентризм.
Лекторский указывает, что теория познания приобрела
классический вид именно в связи с возникновением науки Нового
времени и во многом выступила как средство легитимации этой
науки. Большинство теоретико-познавательных систем исходило
из того, что именно научное знание, как оно было представлено в
математическом естествознании того времени, является высшим
типом знания. Для классической эпистемологии характерна
позиция научного реализма.
Основанием для нашего последнего пункта станет
наблюдение И.Т. Касавина: «Обычный гносеологический взгляд на
существование различных концепций, теорий, убеждений, имеющих
один и тот же предмет, сводил имеющиеся различия к дихотомии
истина - ложь. Истина рассматривалась как естественный резуль-
1 Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М. : Эдито-
риалУРСС,2001.С. 104.
106
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
тат познания, заблуждение объявлялось отклонением от
магистральной линии развития знания. С таким пониманием познания
была тесно связана идея кумулятивности, т.е. развития знания
через постепенное накопление раз и навсегда истинных фактов»1.
Поэтому классическая эпистемология утверждала среди
прочего:
21. Среди различных концепций, теорий, убеждений, имеющих
один и тот же предмет, одна истинная, остальные - ложные.
Мы назвали совокупность 21 пункта нашей модели дефенсивом
в отличие от «стандартной концепции научного знания»,
формулировка которой принадлежит Малкею и которая значительно
модифицирована нами, а также от «классической эпистемологии»,
которая полностью не исчерпывается перечисленными пунктами. На
самом деле каждый из выделенных нами компонентов имеет
предпосылки, из которых он выводится, и связан с набором
вытекающих из него следствий; кроме того, он может быть разбит на
подразделы и представлен не как одно положение, но как сумма
нескольких. Помимо того, в реальном дискурсе не все связи между
компонентами концепции конъюнктивны: такие системы иерар-
хичны и предполагают также наличие связей логического вывода
одних утверждений из других. Наше моделирование (каклюбое
моделирование) представляет собой упрощенную схему.
2. Неклассическая эпистемология
Имея в наличии 21 пункт дефенсива - части комплекса
представлений классической эпистемологии, мы гипотетически
вывели 21 утверждение, противоположные пунктам дефенсива, назвав
совокупность этих утверждений контрадиктом. В этом мы также
опирались на работы зарубежных и отечественных
исследователей.
М. Малкей в главе 2 своей книги «Наука и социология
знания», вышедшей в 1979 г., производит ревизию «стандартной
концепции науки», которая, по-видимому, не касается выделенных
им положений 1—4 «стандартной концепции науки», всего
вероятнее, он принимает их. Чтобы наша логическая реконструкция
контрадикта была полной, мы установили пункты 1—4 самостоя -
1 Касавин И. Т. Познание в мире традиций. M., 1990. С. 78.
Ю.С. Мортсина. Эпистемологический дискурс: модель и реальность 107
тельно: это положения, логически противоположные
положениям «стандартной концепции науки», но они уже не малкеевские.
1. Мир природных явлений независимо от наблюдателя не
существует, и наши знания о нем субъективны.
2. Характеристики мира зависят от предпочтений и интересов
наблюдателя.
3. Цели науки - какие угодно, но только не описание и объяснение
объектов, процессов и взаимосвязей, имеющих место в природе.
4. Научное знание не открывает и не накапливает истинных черт
внешнего мира.
Поскольку к остальным пунктам дефенсива в литературе не
всегда сформулированы противоположные суждения, мы будем
формулировать их сами, руководствуясь, впрочем, реальными
тенденциями, наметившимися в дискурсе о статусе науки во
второй половине XX в.
Положения 5—11 формулирует Малкей, защищая их в своей
работе:
5. В принципе единообразия природы не утверждается ничего о
природе — это методологический постулат, в соответствии с которым
законами природы признаются только универсальные
утверждения, применимые ко всем случаям.
6. Научный факт является теоретически нагруженным, и его
выделение как факта зависит от принятого умозрительного взгляда.
Поскольку аналитическая структура научной теории изменяется,
меняются и значения сформулированных в ее рамках
утверждений наблюдения. Фактуальные утверждения науки не
независимы от теории и не стабильны в своих значениях. Наблюдения
также направляются языковыми категориями.
7. Научные наблюдения физического мира истолковываются на
основе некоего установленного и разветвленного репертуара
интерпретирующих формулировок. Наблюдение и
интерпретация — две стороны единого процесса. В большинстве научных
исследований наблюдение направляется символическими
формулировками и выражается на их основе. Наблюдения также
направляются языковыми категориями.
8. С точки зрения оценки научных утверждений, не существует
общих критериев и правил доказательности, обладающих
универсальной приложимостью. Научные утверждения оцениваются в
соответствии с критериями, формирующимися на основе контек-
108
Ч асть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
ста. Наука и научное сообщество являются особыми
социальными феноменами.
9. Научное знание предполагает такое описание физического мира,
которое опосредовано различными культурными ресурсами.
10. В физическом мире нет ничего, что однозначно определяло бы
выводы научного сообщества.
11. Продукты науки рассматриваются как социальные конструкции,
подобные всем прочим культурным продуктам.
Научные утверждения созданы социально и не даны
непосредственно физическим миром, как предполагалось ранее1.
Социальные влияния на содержание знания неизбежны,
социальный фактор неизымаем, при этом естествознание так же
восприимчиво к социальным смыслам, как и все прочие науки.
12. Некоторые современные исследователи (Д. Блур) приходят к
снятию дихотомии интернализма и экстернализма, поскольку
отрицают само деление факторов развития науки на внешние и
внутренние: все факторы, влияющие на науку, являются в том или
ином смысле внутренними для нее. Социальность не сводится к
внешним для науки отношениям. Со временем само понятие
социальности в науке становится проблематичным, перестает быть
однозначно понимаемым всеми как совокупность внешних
факторов2.
13. Научные теории ни истинны, ни ложны; их истинность или
ложность является метафорической, она зависит от нас или от нашего
способа проверять теории, или от структуры нашего мышления,
или от общества, в котором мы живем, и т.д. Это положение
противопоставляется научному реализму и классифицируется как
социальный конструктивизм.
14. Эпистемология должна ассимилировать данные психологии как
эмпирической науки.
Данный тезис также отстаивается некоторыми современными
авторами (Д. Блур, Э. Голдман).
15. Научное знание не является эпистемологически
привилегированным случаем знания. Эта позиция также эмпирически имеет
место в современном дискурсе. Сегодня тенденцией в
гносеологии является расширение предметного поля гносеологических
1 См.: Малкей М. Указ. соч. С. 104-107.
2 См.: Маркова Л.А. Указ. соч. С. 76.
Ю.С. Моркина. Эпистемологический дискурс: модель и реальность 109
исследований. Научное знание и познание стали пониматься как
элементы более широкой области — мира человеческой
деятельности и общения.
16. Контекст открытия важнее для реконструкции научного знания,
чем контекст обоснования.
В.А. Лекторский противопоставляет особенностям
классической теории познания выделяемые им основные черты
неклассической эпистемологии. Их также четыре1.
17. Посткритицизм.
Эта мысль, по Лекторскому, не означает отказа от
философского критицизма, но только понимание того факта, что познание
не может начаться с нуля, а предполагает вписанность
познающего индивида в одну из традиций.
18. Отказ от фундаментализма.
«Он связан с обнаружением изменчивости познавательных
норм, невозможности формулировать жесткие и неизменные
нормативные предписания развивающемуся познанию. Попытки
отделять знание от незнания с помощью таких предписаний,
предпринятые в науке XX в., в частности логическим
позитивизмом и операционализмом, оказались несостоятельными»2.
19. Отказ от субъектоцентризма.
Если для классической теории познания субъект выступал как
некая непосредственная данность, а все остальное вызывало
сомнение, то в современной теории познания субъект понимается в
качестве изначально включенного в реальный мир и систему
отношений с другими субъектами. Субъектность оказывается
культурно-историческим продуктом. С отказом от
субъектоцентризма, по Лекторскому, согласуется коллективизм как направление
неклассической мысли, в котором за отдельным индивидом
отрицается статус полноценного субъекта познания, который
приписывается только коллективам, группам, наконец, всему обществу.
Противостояние индивидуализма и коллективизма приобрело в
современной философии науки напряженную форму.
20. Отказ от наукоцентризма.
Осознание того, что наука является не единственным
способом познания реальности; например, она принципиально не мо-
1 См.: Лекторский В.А. Указ. соч. С. 103.
2 Там же. С. ПО.
110
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
жет вытеснить обыденное знание. Установка на изучение
донаучных и вненаучных форм и типов знания. Изучение
взаимодействия различных форм знания.
21. С помощью дихотомии истина—ложь уже нельзя разрешить
проблему существования различных концепций, теорий, убеждений,
имеющих один и тот же предмет. Современные исследователи
провозглашают плюрализм концепций и эпистемологический
релятивизм, утверждая, что среди множества концепций нет эпи-
стемологически привилегированной.
Итак, мы сконструировали модель противостояния
классической и неклассической эпистемологии. Насколько она приложи-
ма к реальным социально-эпистемологическим концепциям и
что можно извлечь из нее для их анализа?
3. Общие тенденции социальной эпистемологии
Тенденция рассмотрения познания сквозь призму
социологических данных, появившаяся во второй половине XX в.,
заслуживает пристального внимания и анализа для понимания феномена
познания во всех его проявлениях, включая научные и вненауч-
ные системы человеческих знаний. Для классической философии
и теории познания характерна резкая оппозиция «мира природы»
и всего, что относилось к его познанию, и «мира культуры». В
настоящее время в философии признается практически всеми, что
наше познание в некоторой мере направляется
социокультурными факторами1. Во второй половине XX в. появляются такие
признаки нового научного мировоззрения, как контекстуальность,
переосмысление субъект-предметного отношения, интерсубъект-
ность, плюрализм и ряд других. В классической теории познания
объектом исследования являлось в основном научное знание,
считавшееся самым совершенным и приближающимся к истине.
Образом исторического движения науки была кумулятивная
модель, предполагающая все большее совершенствование научного
знания во времени и его постепенное приближение к истине.
В современной гносеологии наметилась тенденция
переосмысления понятий традиционной теории познания. Она
выражается в расширении предметного поля гносеологических исследо-
1 См.: Меркулов И.П. Когнитивная эволюция. М., 1999. С. 22-21.
Ю.С. Шркина. Эпистемологический дискурс: модель и реальность 111
ваний. Научное знание и познание стали пониматься как
элементы более широкой области — мира человеческой деятельности и
общения. При анализе научного знания исследователи начали
использовать представления, заимствованные из социальных и
гуманитарных наук. Образ познания, не вписанного в социальный
контекст, в современных исследованиях считается не только не
универсальным, но представляющим собой крайний,
вырожденный случай1. Поэтому сторонники как социальной эпистемологии,
так и антропологии познания расширяют понятие знания, включая
в него все культурные формы знания и сознания, допуская изучение
знания, не имеющего интерсубъектной знаковой формы.
Современные исследования ассимилируют данные таких наук, как
когнитивная социология, психология, лингвистика. Теория социальных
систем, в которой также представлены некоторые идеи социальной
эпистемологии, усваивает ряд результатов из области логики и
семиотики, как это, например, имеет место в концепции Н. Лумана2.
Как отмечает И.Т. Касавин, «современная ситуация в
гносеологии воскрешает классическую ориентацию на анализ
целостного познавательного отношения, но уже на новом уровне. Данная
целостность не представляется более чем-то нерасчлененным, но,
напротив, выступает как внутренне дифференцированное
многообразие. Гносеологический интерес распространяется как на
научные, так и на вне- и ненаучные способы когнитивного освоения
мира, и каждый тип знания обнаруживает присущие ему
особенности, сферы применимости, формы обоснования и критерии
приемлемости»3. Одновременно обогащается методологический
арсенал теории познания: гносеологический анализ и
аргументация теперь включают переосмысленные результаты и методы
специальных наук о познании и сознании, естественных, социальных
и культурологических дисциплин. Западные философы стремятся
в связи с этим к построению «натуралистической
эпистемологии» - учения о познании, подчиненного той или иной научной
дисциплине. Расширяется также понятие рациональности. Де-
1 См.: Касавин И. Т. Понятие знания в социальной гносеологии // Познание в
социальном контексте. М., 1994. СП.
2 См.: Антоновский А.Ю. Никлас Луман: эпистемологическое введение в
теорию социальных систем. М., 2007. С. 95.
3 Касавин И. Т. Миграция. Креативность. Текст. Проблемы неклассической
теории познания. СПб., 1998. С 23-25.
112
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
монстрируется особая рациональность не только научных
методов, но и знания, присущего примитивным культурам, знания,
обладающего собственными объяснительными схемами,
способностью удовлетворять социальные потребности и служить
ориентирами для практической деятельности.
Современная неклассическая эпистемология значительно
расширяет круг рассматриваемых феноменов, объединяемых
термином «знание». С этих позиций гносеологическое различие
между истинным и ложным, научным, мифологическим и
повседневным познанием становится второстепенным. При этом
эпистемологические исследования приобретают междисциплинарный
характер, ассимилируя данные когнитивной социологии,
психологии, антропологии познания. Социальная эпистемология, как
правило, позиционируется в качестве неклассической
дисциплины, скептически относящейся к классическим категориям
истины или рациональности. Однако в некоторых направлениях
социальной эпистемологии разрыв с классической теорией познания
не является таким резким, в частности, Э. Голдман — оппонент
Блура - указывает на эвристическую ценность и неисчерпанность
понятия истины для социальной эпистемологии.
В связи с необходимостью интерпретации и ассимиляции
эпистемологией новых знаний о науке и познании, а также в связи с
радикальным расхождением позиций представителей самой
социальной эпистемологии в настоящее время возникла
проблемная ситуация, ставящая под вопрос само существование
философской эпистемологии как таковой.
4 «Сильная программа» Д. Блура
Д. Блур является автором монографий «Знание и социальная
образность» (здесь он сформулировал «сильную программу» в
социологии знания)1, «Витгенштейн: социальная теория
познания»2, «Витгенштейн: правила и институты»3.
Сильная программа», как она излагается в книге «Знание и
социальная образность», содержит четыре главных тезиса:
1 BloorD. Knowledge and Social Imagery. L., 1976. P. 156.
2 Bloor D. Wittgenstein: A Social Theory of Knowledge. Macmillan and Columbia,
1983.209 р.
3 BloorD. Wittgenstein, Rules, and Institutions. L., 1997. 173 p.
Ю.С. Моркина. Эпистемологический дискурс: модель и реальность 113
1) социология знания должна заниматься причинным объяснением
знания, хотя такое объяснение не исчерпывается социальными
причинами (принцип каузальности);
2) она должна объяснять все виды знания, оставаясь безразличной к
его истинности или ложности, рациональности или
иррациональности (принцип эквивалентности);
3) социологическое объяснение должно сводить истинное и ложное,
рациональное или иррациональное знание к одному и тому же
типу причин (принцип симметрии);
4) социология знания должна применяться к себе самой так же, как
и к другим системам знания (принцип рефлексивности).
Насколько Д. Блур может согласиться с пересмотром
«стандартной концепции науки» М. Малкеем и насколько его
социальная эпистемология является неклассической? Это можно
установить, проанализировав его книги и статьи. Исследователь SSK
(социологии научного знания) A.A. Альварес, сравнивая в своей
работе1 программу социологии научного знания с современной ей
философией науки и противопоставляя данные дисциплины по
ряду пунктов, приходит к выводу, что, хотя социология научного
знания претендует на философское значение, она противостоит
традиционной классической философии науки, расходясь с ней
по многим существенным положениям, а самое главное — по
своему подходу к предмету (научному знанию). Другие авторы также
отмечают, что многие тезисы, выдвигаемые сторонниками
социологии научного знания, были развиты в оппозиции концепциям,
доминирующим в философии науки2. Проанализируем,
насколько это верно применительно к концепции Блура, опираясь на
нашу модель противостояния классической и социальной
эпистемологии.
1. Блуру присущ дуализм социального и материального (слабая
версия социального конструктивизма). «Сильная программа»
социологии знания основана (или, скорее, Блур пытается основать ее)
на «материалистическом допущении», которое заключается в
признании существования материального мира, независимого от
1 См.: Alvarez A.A. Sociological Studies and Philosophical Studies: twenty Years of
Controversy // Society for Philosophy and Technology. 1996. Vol. 1. № 3-4.
2 См.: LxhkiviE. On Philosophers' Criticism of the Sociology of Scientific Knowledge
// Paper to be Presented at the Research Seminar of the Department of Philosophy, the
University of Helsinki, 24.04.2003. Estonia, 2003.
114
Ч асть 1. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
нашего сознания и знания и упорядоченного определенным
образом (дефенсив).
2. Характеристики мира не зависят от предпочтений и интересов
наблюдателя. У Блура от предпочтений и интересов наблюдателя
зависят только характеристики теорий о мире (дефенсив).
3. Цель науки — не истина. «Сильная программа» предписывает
социологам игнорировать понятие истины, она предписывает
рассматривать в качестве знания «как истинные, так и ложные
убеждения» (контрадикт).
4. Блуру свойствен антикумулятивизм (контрадикт).
5. Блур стремится открыть законы возникновения распространения
знаний, следовательно, верит в наличие законов в мире
(дефенсив).
6. По Блуру, научный факт теоретически нагружен (контрадикт).
7. Блур согласился бы с мнением, что наблюдение и
интерпретация — две стороны единого процесса (контрадикт).
8. Он согласился бы с тем, что не существует общих критериев и
правил доказательности, обладающих универсальной
приложимостью. Наука и научное сообщество являются особыми
социальными феноменами (контрадикт).
9. Научное знание, по Блуру, опосредовано культурными ресурсами
(контрадикт).
10. Блур подчеркивает значение для социальной эпистемологии
«принципа недостаточной детерминации». Этот принцип
заключается в том, что, апеллируя к простому влиянию объекта, нельзя
объяснить разницу в восприятии этого объекта различными
наблюдателями, наши описания реальности с необходимостью
включают в себя параметры, детерминированные социальными
факторами (контрадикт).
11. Программа социологии научного знания Блура скорее
ассимилирует, чем демаркирует, скорее объединяет, чем разделяет
знание и остальную культуру. Так, Блур утверждает, что «знание
скорее можно приравнять к культуре, чем к опыту»1 (контрадикт).
12. Социальные факторы естественно вплетены в структуру
научного знания, они формируют ее и являются ее частью. Иными
словами, «граница между внутренним и внешним размывается,
история идей оборачивается своей субъектной стороной, в нее вклю-
BloorD. Knowledge and Social Imagery. P. 12.
Ю.С. Моркина. Эпистемологический дискурс: модель и реальность 115
чается процесс возникновения знания, а вместе с этим и все то,
что связано с творцом идей — контексты культуры, социума,
научного открытия, специфические для каждого отдельного случая»1
(контрадикт).
13. По Блуру, социолог не компетентен судить об истинности или
ложности научных теорий, истина и ложь рассматриваются им
как «ярлыки», имеющие социальные функции (контрадикт).
14. Эпистемология должна ассимилировать данные психологии как
любой другой эмпирической науки (контрадикт).
15. Научное знание для Блура не является эпистемологически
привилегированным случаем знания. Несмотря на это, для
демонстрации своего социологического подхода Блур выбирает
математическое и логическое знание. Математика и логика традиционно
считались науками, которые имеют дело с законами,
обладающими особой принудительностью и не связанными с эмпирической
реальностью. Блур выдвигает тезис о социальной природе
математической и логической принудительности (контрадикт).
16. Социология Блура обращает внимание на развитие знания до
кристаллизации результата, чем является обоснование. Для него
(как и для Т. Куна) наука - феномен существенно исторический
(контрадикт).
Наконец, в «сильной программе» Блура можно проследить
черты неклассической эпистемологии (по Лекторскому):
17. Посткритицизм: он специально подчеркивает происхождение
любого знания из знания, факт наличия «предшествующего
знания», самореференциальность знания как социального института
(контрадикт).
18. Отказ от фундаментализма: релятивизм Блура покоится на
эпистемологической посылке, согласно которой никакая
эпистемология или онтология не являются абсолютно истинными, а
объективная оценка рациональности какой-либо системы убеждений
или ее соответствия реальности невозможна (контрадикт).
19. Отказ от субъектоцентризма: позиция коллективизма в
сочетании с бихевиоризмом (контрадикт).
20. Отказ от наукоцентризма: проявляется в своеобразной форме
релятивизации и социологизации прежде всего научных знаний
1 Маркова Л.А. Внутренняя история науки // Энциклопедия эпистемологии и
философии науки. М., 2008.
116
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
(математики и логики). Тождественность знания культуре, его не-
выделенность, неотличимость от других проявлений культурной
жизни, лишение научного знания эпистемологически
привилегированной позиции (контрадикт).
Таким образом, в позиции Блура наличествуют все
выделенные Лекторским черты неклассической эпистемологии.
21. Дихотомия истина—ложь эпистемологически нерелевантна
(принципы эквивалентности и симметрии) (контрадикт).
Таким образом, «сильная программа» Блура в большинстве
своих положений тяготеет к контрадикту нашей модели, т.е.
действительно противостоит классической эпистемологии. Вместе с тем
она не является полностью контрадиктом, поскольку в ней
присутствуют и элементы дефенсива. Такие концепции можно назвать в
нашей модели «гибридными формами». Можно сказать, что
концепция Блура — гибридная форма, тяготеющая к контрадикту.
Поскольку большинство тезисов, выдвигаемых Блуром, было
развито в оппозиции комплексу представлений о научном
знании, доминировавшему в умах исследователей науки до второй
половины XX в., можно было бы назвать концепцию Блура
«реакцией» на классическую эпистемологию, как уже
квалифицировали ее исследователи1. Среди «предтеч» Д. Блура — О. Шпенглер, с
работами которого «эдинбуржец» был знаком. Но «социальная
эпистемология» — название скорее для ряда разнородных
программ изучения знания в социальном аспекте, чем целостного
направления или единой программы. В рамках социальной
эпистемологии противостояния одних социальных эпистемологов
другим обычны. Можно даже сказать, что она держится на
противостояниях, индуцирующих ее развитие. Э. Голдман оппонент
Блура, но относит себя к социальным эпистемологам. Насколько
близка его позиция к классической?
5. Социальная эпистемология Э. Голдмана
Социальная эпистемология Э. Голдмана, представителя нор-
мативистского направления, разработанная им в книге «Знание в
социальном мире»2, противопоставляется автором неклассиче-
1 См.: Касавин И.Т. Понятие знания в социальной гносеологии // Познание в
социальном контексте. М., 1994. С. 33.
2 Goldman A.I. Knowledge in a Social World. Oxford ; N.Y., 2003.407 p.
Ю.С. Моркина. Эпистемологический дискурс: модель и реальность 117
ским подходам к проблеме знания, в том числе
постмодернистскому1. В число таких направлений входит и «сильная программа»
представителей Эдинбургской школы социологии знания
Б. Барнса и Д. Блура.
Сам Голдман отнес свою позицию к классическому
направлению, а позицию Блура — к неклассическому2. Действительно, если
присмотреться, у Голдмана можно найти такие черты классической
эпистемологии, как фундаментализм и нормативизм, субъектоцен-
тризм. В то же время позиция наукоцентризма у Голдмана
отсутствует. Напротив, он часто ориентируется на повседневное знание,
признавая его полноценным и используя примеры из фолк-психологии
даже там, где рассматривает научные проблемы. Нам также
представляются новыми по сравнению с позицией классической
эпистемологии прикладная направленность его теории познания,
ориентированность на практики как коллективную деятельность, а также
изъятие предиката обоснованности из определения и анализа
знания. Из-за этих новаций его позицию нельзя назвать классической в
строгом смысле этого слова, но в отношении к нашей модели она
демонстрирует свое тяготение к дефенсиву. Сам Голдман именует
свою программу веритистской (его неологизм, от лат. veritas —
истина). В программе Голдмана можно выделить следующие пункты:
1. По Голдману, консенсуальное убеждение в существовании
внешних человеку сущностей может быть продуцировано социальной
интеракцией, но сами эти сущности не продуцируются ею.
Знание действительно содержит убеждения, идущие от
биологических особенностей человека и сконструированные естественным
языком. Но требование Голдмана состоит в том, что эти
убеждения могут соответствовать или не соответствовать реальной
(трансцендентной) действительности. Знание определяется им
как истинное убеждение (дефенсив).
2. Истина не зависит от субъекта (person) и времени. Люди и язык не
создают истин, но только выражения, являющиеся кандидатами в
истинные высказывания (дефенсив).
3. Поиск информации — основная человеческая деятельность.
Нормальная цель вопрошания, спрашивания - получение истинной
информации. Таким образом, истина — надысторическая и над-
1 См.: Social Epistemology. 2000. Vol. 14, № 4.
2 См.: http://plato.stanford.edu/entries/epistemology-social/
118
Ч асть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
культурная ценность человечества. Цель науки — веритистская (де-
фенсив).
Поэтому:
4. Резонно существование дисциплины, которая занимается
поиском систематической и критической оценки ориентированных на
поиск истины практик (эпистемология Голдмана играет роль
такой науки) (дефенсыв).
5. Наука заинтересована в истинных ответах на специальный класс
вопросов, касающихся законов природы, объяснения,
каузальных отношений и т.д. Следовательно, Голдман признает само
существование законов природы (дефенсыв).
6. Признается теоретическая нагруженность научных наблюдений.
Но «нет оснований предполагать, что наблюдатель не может
принципиально увидеть ничего, что противоречило бы его
теоретическим взглядам» (дефенсыв—контрадикт).
7. Предлагаются различные способы уменьшить теоретическую
нагруженность научных наблюдений, следовательно, Голдман
считает данные такого «скорректированного» наблюдения
надежными (дефенсыв).
8. Наука создала жесткие критерии истинности научных утверждений.
По Голдману, в науке используются средства минимизации ошибок
наблюдения, происходящих из-за нагруженности ожиданиями
(например, фотографирование результатов дает возможность
перепроверить данные). В науке веритистски значимы следующие факторы:
о точное измерение, контролируемые реакции и наблюдения,
включающие философию, органон (систему научного познания)
и технологию для увеличения эффективности наблюдений;
О систематический набор принципов вывода для заключений из
наблюдений и экспериментальных результатов об истинности гипотез;
О собирание и распределение ресурсов для облегчения научных
исследований и наблюдений;
о система кредитов и наград, стимулирующих работников
участвовать в научных исследованиях и направлять усилия в
определенном направлении;
О система распространения научных открытий и теорий, так же как
критики этих открытий и теорий;
о использование дисциплинарно-специфической экспертизы для
решений о распространении результатов, выделении ресурсов и
наград (дефенсыв).
Ю.С. Моркина. Эпистемологический дискурс: модель и реальность 119
9. Научное знание независимо от субъективных факторов, так как
удовлетворяет этим критериям (дефенсив).
10. Голдман различает эмпирические суждения (суждения
наблюдения) и сам эмпирический опыт. С этой точки зрения достичь
максимального согласия можно, минимизируя категоризацию
наблюдений, описывая события в более узком визуальном языке (дефенсив).
11. Под социальными Голдман понимает факторы, включающие
других людей и целые институты в познавательные процессы,
происходящие в индивиде. Социальные практики, по его
мнению, могут иметь как веритистски позитивный, так и веритистски
негативный результат, приумножать или приуменьшать знание
(дефенсив—контрадикт).
12. Оценка веритистской успешности систем не должна
апеллировать к внутренним для них факторам (дефенсив).
13. Научные теории либо истинны, либо ложны (дефенсив).
14. Психологические данные также могут стать вкладом в веритист-
ский анализ истинности свидетельства (контрадикт).
15. Голдман выдвигает «тезис сравнительного превосходства науки»
(Comparative Scientific Superiority — CSS). Научная практика
веритистски эффективнее, чем ряд ненаучных практик, доступных
людям в решении того типа вопросов, которыми наука
занимается. Но эпистемология Голдмана оценивает многие социальные
практики с точки зрения их «истинности», наука — только одна из
них (дефенсив—контрадикт).
16. Сферу методологического анализа необходимо ограничить
контекстом обоснования. Голдман предлагает для обоснования «вери-
стичности» практик и научных теорий теорему Бейеса (дефенсив).
17. Критицизм: критический подход не является, по Голдману,
несовместимым с веритизмом (дефенсив).
18. Фундаментализм и нормативизм: Голдман пытается создать
единую веритистскую теорию познания на основе своей
модификации корреспондентной теории истины, положив в основу
понятие «соответствий»; фундаменталистской является и его позиция
релайабилизма1. В соответствии со своим нормативизмом пред-
1 Понятия истины и знания связываются у Голдмана при помощи принятой им
доктрины релайабилизма (теории надежности). Эта доктрина заключается в
следующем: убеждение может быть образовано в результате надежных (truth-conducive)
или ненадежных (non-truth-conducive) процессов. Истинность первых более
вероятна, чем вторых.
120
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
писывает «веритистски хорошую» практику (использование
теоремы Бейеса) (дефенсив).
19. Субъектоцентризм: единицей знания для Голдмана является
внутреннее состояние индивида, единичного субъекта,
означающее его уверенность в утверждении, являющемся истинным (т.е.
имеющим «соответствия» в реальности). Социальность познания
понимается Голдманом как взаимодействие отдельных
индивидов, социальные практики оцениваются им в терминах их
влияния на суммарное знание участвующих в обсуждении (дефенсив).
20. Отказ от наукоцентризма. Для веритистской эпистемологии
превосходство науки не является предпосылкой: она оценивает
многие социальные практики с точки зрения их веристичности. Так,
экономические и политические практики также оказываются в
центре его внимания и подвергаются веритистской оценке (кон-
традикт).
21. По отношению к самому понятию истины Голдман
придерживается теории корреспонденции, но также заимствует элементы
дефляционного подхода1 (дефенсив).
Из приведенных данных видно, почему Голдман выступает
как основной оппонент Блура среди других современных авторов.
Его система взглядов (как и Блура) является гибридной формой,
но с тяготением к дефенсиву. «Назад» сказал бы «прогрессивно
настроенный» читатель. Но это спорное утверждение, поскольку
если логически данная концепция содержит ряд компонентов де-
фенсива, то психологически и в соответствии с эмпирическим
движением мысли — это компоненты «контрадикта контрадикту»
или «реакция на реакцию», поскольку Голдман
противопоставляет свой подход неклассическим течениям в эпистемологии, в том
числе социально-конструктивистскому (Б. Латур, С. Вулгар) и
«сильной программе» (Б. Барнс, Д. Блур).
6. Контекстуальный анализ науки X. Лонжино
X. Лонжино, социальный эпистемолог, объявляет эмпири-
стской свою точку зрения на научное знание и рассуждение,
которые она развивает в своей книге «Наука как социальное
1 Дефляционизм - класс теорий, в соответствии с которыми утверждения
говорят о своем субъекте, но не о собственной истине. При этом нет различия в
содержании утверждений «истинно то, что Р» и просто «Р».
Ю.С. Моркина. Эпистемологический дискурс: модель и реальность 121
знание»1. Но это умеренный эмпиризм, или контекстуальный эм-
пирицизм. В соответствии с данной точкой зрения «базовые
предположения» представляют собой средства, при помощи которых
контекстуальные ценности и идеологии инкорпорируются в
научный поиск. Но Лонжино не представляет науку как субъективное
мероприятие. Она считает, что социальный подход к
объективности решает проблему объективности научного знания, и
утверждает, что ни научный реализм, ни холизм не обеспечивают
удовлетворительного понимания нормативного аспекта научных
исследований. На это способен только контекстуализм, который показывает
отношение между эмпирическим и теоретическим основаниями
без научного знания. Научное исследование не отделено от своего
социального, политического и культурного контекста. Компонет
эмпиризма в концепции Лонжино представляет собой
рассмотрение опыта (experience) как основания для научного знания. Эту
форму эмпиризма она отличает от позитивистского эмпиризма.
По Лонжино, опыт (experience) может быть переосмыслен как
интерактивный, а не пассивный процесс. Лонжино утверждает
зависимость опыта от сферы наших смыслов, от нашего
концептуального аппарата и в то же время от внешнего мира. Ее концепция
так же, как концепция Д. Блура, дуалистична в этом смысле.
Наука детерминирована контекстуальными ценностями. Конститу-
ивные ценности обеспечивают проверку (provide a check)
контекстуальных ценностей и культурных универсалий, включая
эмпирическую и концептуальную оценку научных утверждений.
Практики наблюдения и логического вывода не могут быть
структурированы так, чтобы элиминировать контекстуальные
ценности. Процессы, минимизирующие влияние ценностей, такие, как
интерсубъективная критика, лишь отчасти эффективны в этом
смысле. Лонжино по-своему примиряет объективность науки с
социальным и культурным конструированием. Она выводит из
социальности объективность (в принципе то же самое делает
Блур). По Лонжино, социальное конструирование науки ведет к
ее объективности, по Блуру, социальное конструирование и
означает объективность. Таким образом, социальный конструктивизм
Лонжино является более слабой версией социального конструк-
1 Longino H. Е. Science as Social Knowledge. Princeton (New Jersey) : Princeton
University Press, 1990.262 p.
122
Ч асть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
тивизма Блура, хотя тот и другой относятся к слабым вариантам
социального конструктивизма вообще. Рассмотрим позицию
Лонжино, отразив ее в нашей модели.
1. «Мир», по Лонжино, не дан, но является продуктом
взаимодействия экстернальной материальной реальности и наших
практических и интеллектуальных потребностей (дефенсив).
2. Характеристики мира не зависят от предпочтений и интересов
наблюдателя (дефенсив). Но, довольно бегло признавая
существование экстернальной материальной реальности, Лонжино заключает
ее в скобки, поскольку она дана только в сплаве с человеческими
практиками и теориями. Характеристики «мира», как мы его
видим, зависят от наших «базовых предположений» (контрадикт).
3. Лонжино рассматривает научные практики как ставящие
первичной целью истинный или репрезентативный подход к объекту
(дефенсив).
4. По Лонжино, наука достигает идеала объективности (дефенсив).
5. Но для нее естественные закономерности являются
закономерностями только с определенной точки зрения — при определенных
«базовых предположениях» (контрадикт).
6,7. Основанное на эмпирической очевидности рассуждение как
научное, так и повседневное контекстуально зависимо. Опыт играет
роль в выборе гипотез, преломляясь через «базовые
предположения» участвующих в этом опыте. Эмпиричность еще не
гарантирует науке объективность, так как не дает контроля над «базовыми
предположениями», на основе которых расшифровываются
эмпирические данные (контрадикт).
8,9. Превосходство теории и стандарты, по которым оно
устанавливается, являются функцией исторического и культурного
контекста, в котором теория развивалась, и оно не может быть
артикулировано независимо от этого контекста (контрадикт).
10. С позитивистскими концепциями (Р. Карнап, К. Гемпель)
Лонжино связывает кумулятивизм, с направлением холизма (Т. Кун,
П. Фейрабенд) она связывает антикумулятивизм. Она критикует
оба подхода и развивает свой контекстуализм. «Успешность»
теорий не означает их истинности, замечает Лонжино. Ее взгляд,
скорее, антикумулятивен, хотя ее позиция по этому вопросу
довольно расплывчата (контрадикт).
11. Контекстуальные ценности могут выражаться в «базовых
предположениях», направляя логический вывод к специфическим
Ю.С. Моркина. Эпистемологический дискурс: модель и реальность 123
предположениям (контрадикт). При этом контекстуальный
анализ науки, по утверждению Лонжино, не отрицает ее подлинность
и чистоту (дефенсив).
12. Деление факторов, влияющих на науку, на конститутивные и
контекстуальные, намекает на то, что первые являются
внутренними для науки, в то время как вторые - внешними (дефенсив).
13. Научные теории либо истинны, либо ложны (дефенсив). Этого
Лонжино прямо не говорит, но не говорит и обратного. Из ее
рассуждений о достижимости наукой объективности и
существовании экстернальной материальной реальности можно сделать
вывод, что она придерживается этого положения.
14. О взаимоотношении эпистемологии и психологии Лонжино не
высказывается.
15. Научное размышление от повседневного отличается тем, что в
научном исследовании логический вывод, связанный со
скрытыми предпосылками, отвергается (дефенсив).
16. Рациональная общественная критика теорий и гипотез служит их
обоснованию (дефенсив).
17. Когда опытные данные теории или гипотезы приняты научной
общественностью, они становятся общественными ресурсами.
Научные исследования объективны в той степени, в которой они
разрешают «трансформативную критику». Лонжино, таким
образом, измеряет объективность не интерсубъектностью, но
чувствительностью методов и результатов к критике. В общественной
критике Лонжино видит средство элиминации индивидуальных
интересов (критицизм по Лекторскому) (дефенсив).
18. На такой «трансформативной критике» основана объективность
научного знания (фундаментализм и нормативизм по
Лекторскому) (дефенсив).
19. Развивается понимание научного поиска как набора скорее
социальных, чем индивидуальных, практик (отказ от субъектоцен-
тризма по Лекторскому) (контрадикт).
20. Лонжино можно приписать наукоцентризм по Лекторскому
(дефенсив).
21. По Лонжино, не существует уникального корректного описания
объекта, но возможно множество описаний. Стержнем ее
концепции научного знания является утверждение, что объект может
быть корректно описан разными способами, зависящими от
точки зрения и интересов описывающего (контрадикт).
124
Часть I. Поворот к субъекту в философии и социологии науки
Итак, Лонжино сама делает акцент на противопоставлении
своего подхода позитивизму и научному реализму, с одной
стороны, и холизму (Т. Кун), с другой стороны. Эти три подхода, по
Лонжино, предлагают различные перспективы относительно
релевантности научных идей социальным, культурным и
политическим принципам, практикам и идеалам. Согласно нашей модели,
теория Лонжино находит свое место в дискурсе о научном знании
как гибридная форма, представляющая собой сложное
переплетение «реакций» сразу на несколько противостоящих друг другу
подходов. Логически она тяготеет в ряде пунктов к дефенсиву, в
ряде — к контрадикту.
Заключение
Мы рассмотрели концепции трех социальных эпистемологов,
относящихся к мыслителям второй половины XX в., в их
отношении к построенной нами модели противостояния классической и
неклассической эпистемологии. Все они оказались гибридными
формами, т.е. ни одна из них не представляет собой дефенсив или
контрадикт в чистом виде. Вместе с тем каждое из выделенных
нами положений данных концепций противостоит другому
положению. Положения дефенсива (классической эпистемологии) в
настоящее время защищаются не сами по себе, но в оппозиции тем
положениям контрадикта, которые сами некогда породили как
«реакцию» на свою «бесспорность». До формулирования
противостояния позиций бытующие положения не рефлексируются и
относятся скорее к «здравому смыслу», чем к философии.
Так, философский спор стало возможно увидеть как
наложение и взаимодействие «реакций», что уже частично делалось
исследователями (например, Блуром в отношении спора Т. Куна и
К. Поппера), а также применительно к самой социальной
эпистемологии (И.Т. Касавин1, А. Альварес, Э. Лёкиви2).
1 См.: Касавин И. Т. Указ. соч. С. 33.
2 См.: Alvarez A.A. Op. cit.; Löhkivi E. On Philosopher's Criticism of the Sociology of
Scientific Knowledge // Paper to be presented at the Research Seminar of the Department
of Philosophy, the University of Helsinki, 24.04.2003. Estonia, 2003.
Чаешь II
Общение вместо обобщения
о философии
H.M. Смирнова
философско-методологические
трансформации современного образа
науки: ренессанс трансцендентализма
II Ниже анализируется одна из малоизученных тенденций
трансформаций методологической рефлексии современного научного
мышления — когнитивные основания возрождения трансцендентализма и
показано, что представление, согласно которому натурализм в
эпистемологии можно рассматривать как методологическую оппозицию
радикальному конструктивизму, существенно упрощает
методологический смысл их взаимоотношений. Кроме того, обоснован тезис о
том, что одним из направлений философского снятия дилеммы
натурализма и конструктивизма является возрождение
трансцендентализма в феноменологическом и постфеноменологическом вариантах;
проанализированы трансценденталистские интенции
коммуникативной парадигмы; показано, что возрастание роли
трансцендентализма в методологической рефлексии науки второй половины XX в. -
|| одна из заметных черт трансформации философского образа науки.
1. Противостоит ли трансцендентализм
«новому натурализму» в методологической
рефлексии современной науки?
Исследование трансформаций современного научного
мышления — предмет междисциплинарного анализа науки как
комплексного социокультурного феномена. Значительный вклад в их
рассмотрение вносят история и социология науки. Ибо постне-
классическая рациональность артикулирует важность
исследования внутринаучных коммуникаций (социального микроклимата в
исследовательской лаборатории, роль авторитетов в науке,
защищенность или незащищенность науки перед лицом власти и т.п.),
в рамках которых формируются ценности и смыслы научной
деятельности, отнесение к которым составляет конститутивную
особенность неклассического образа науки. Современная
социология научного познания ставит задачи определения
методологических подходов к решению вопроса о возможности рационального
128
Часть II. Общение вместо обобщения в философии
объяснения инноваций в науке за счет «порождающей силы
контекста» (И.Т. Касавин), микросоциологии коммуникаций в
рамках исследовательской лаборатории1, роли ошибок и даже
сознательной фальсификации результатов научной деятельности в
динамике научного поиска.
В современной истории науки особую роль приобретают исто-
рико-научные реконструкции «отдельных случаев» (case stadies).
Не обладая всеобщей (интерсубъективной) значимостью, они
выполняют важнейшую роль «репрезентации казусов» социальной
истории науки. Развитие исследований в области рациональной
реконструкции истории науки в свою очередь пополняет
эмпирический базис теоретического науковедения в решении таких проблем,
как выбор единиц анализа развития науки, методологические схемы
рационального соотнесения когнитивного и социального, наконец,
в осмыслении современных тенденций в интерпретации
объективности историко-научных реконструкций2.
Философско-методологическая рефлексия современной (пост-
неклассической) науки второй половины XX в. отмечена
усилением позиций «нового натурализма», трактуемого в качестве
методологической оппозиции радикальному конструктивизму,
укорененному в субъект-центристских практиках социального
конструирования реальности. Ренессанс натурализма как
объяснительной парадигмы в методологии науки конца XX в.
представляется философско-методологической реакцией на крайности
радикального конструктивизма — синдрома когнитивного
«ускользания реальности».
В рамках радикального конструктивизма научные теории
предстают системами символической репрезентации креативных
возможностей научного дискурса, соприкасающимися с
реальностью лишь «по краям». Отказ от постановки вопроса об их
соответствии (как бы его ни понимать) предмету научного
исследования, т.е. тенденция к деконструкции референциального
отношения символических репрезентаций, элиминирует классическое
1 См.: Маркова Л.Л. Научное сообщество как субъект научной деятельности и
проблемы понимания объективности и истинности историко-научного знания //
Историография естествознания на рубеже нового тысячелетия ; отв. ред. И.С.
Тимофеев. СПб., 2008. С. 124-165.
2 См.: Тимофеев И.С. Предисловие // Историография естествознания на
рубеже нового тысячелетия. С. 3.
HM. Смирнова. Философскометодологические трансформации науки 129
понимание истинности научных теорий (корреспондентское
понимание истины) в пользу прагматисте кой, синтаксической или
когерентной ее трактовок. В подобной интерпретации научная
деятельность вырождается в интеллектуально изощренную «игру
со значками» — пусть и по оговоренным правилам. Разделяя
подобную установку, философ науки «выносит за скобки
онтологические смыслы бытия» (Э. Гуссерль) и включается в
беспроигрышную языковую игру, свободный от обязательств делать
рискованные утверждения о самой реальности. На первый взгляд
натурализм в эпистемологии представляется манифестацией
методологического стремления прорваться «к самим вещам»,
когнитивной оппозицией в отношении крайностей радикального
конструктивизма. Я же постараюсь показать, что методологические
смыслы их взаимоотношений сложнее.
В собственно эпистемологическом отношении
исследовательский акцент на «конструктивистской» или «реалистской»
компонентах научного мышления (которые в научной практике,
конечно, присутствуют совместно) означает сосредоточение внимания
теоретика познания на одном из полюсов классической структуры
субъект-объектного отношения. Когнитивным кредо
радикального конструктивизма является «исчезновение объекта» (его
превалирующий вариант — упомянутая выше постструктуралистская
стратегия деконструкции отношения референции), тогда как
лозунг нового натурализма «назад, к вещам». Абсолютизация
значения одного из полюсов структуры познавательного
(субъект-объектного) отношения со временем неизбежно порождает поиск
«уравновешивающих» аргументов, подчеркивающих
эпистемологическую значимость второго полюса. Поэтому радикальным
«снятием» дилеммы радикального конструктивизма—реализма (равно
как и иных когнитивных оппозиций, например
эпистемологического и культурно-исторического анализа науки, структурализма и
лингвистического анализа научного дискурса) как образов
методологической рефлексии науки является не продолжение поиска
новых аргументов в защиту того или другого, а углубление философ-
ско-методологических исследований проблемы единства научного
знания в рамках постнеклассической рациональности.
Эта проблема, по справедливому замечанию В.И. Аршинова,
«в постнеклассической рациональности осознается уже иначе,
чем в классической и даже неклассической рациональности, где
130
Часть II. Общение вместо обобщения в философии
она считается могущей быть принципиально решенной
посредством (метафизических по сути) ссылок на "единую объективную
реальность"»1. Ибо постнеклассическая наука, вобравшая в себя
опыт изучения неравновесных и саморазвивающихся систем,
проблематизирует метафизически трактуемое «единство» как
удержание в процессе развития «тождества собственным
основаниям». Можно предположить, что в постнеклассической
рациональности единство научного знания предстает не как парадиг-
мальная установка на универсализацию идеалов и норм научной
деятельности лидирующих областей науки, но как тенденция
анализа глубинных сдвигов в структуре фундаментального
теоретико-познавательного (субъект-объектного) отношения — поиска
фундаментальных основ их когнитивного опосредования.
Следует, безусловно, согласиться с мнением крупнейшего
отечественного философа науки А.П. Огурцова в том, что одним из
направлений философского снятия дилеммы натурализма и
конструктивизма является «возрождение трансцендентализма (курсив
мой. - Я. С). Трансцендентализм переводит проблему
альтернативности натуралистического реализма и социокультурного
конструктивизма в иную плоскость — плоскость анализа и
обсуждения иных вопросов и проблем, а именно условий возможности
нашего знания, наших действий, наших норм и правил»2. Добавим,
что в отличие от названных оппозиций, методологически
заостряющих внимание на различных полюсах классической структу-
1 Лршинов В.И., Свирский Я.И. Интерсубъективность в контексте
постнеклассической парадигмы // Постнеклассика: философия, наука, культура. СПб. : Мир,
2009. С. 178.
2 Огурцов А.П. Новый поворот к объекту в современном мышлении //
Постнеклассика: философия, наука, культура. СПб. : Мир, 2009. С. 47. Действительно, в
философии постнеклассической науки намечен поворот от частных и в целом
маргинальных для развития науки проблем эпистемологических разрывов,
несоответствий, несоизмеримости и т.п. к дальнейшему углублению философского
анализа фундаментальных механизмов функционирования научного разума (на
манер кантовских «как возможна чистая математика?», «как возможно чистое
естествознание?» и т.п.). Сосредоточение постпозитивистской философии науки на
когнитивных девиациях: «прерывах постепенности» (Т. Кун),
«эпистемологических разрывах» (М. Полани), противоречии теории - фактам (И. Лакатос),
«семантической несоизмеримости» (П. Фейерабенд), как свидетельствуют блестящие
исследования образцов (когнитивных паттернов) прикладной науки Б.И. Пружи-
ниным, — результат некритического распространения на науку в целом опыта
философской рефлексии прикладной науки. В этом смысле «новый ренессанс
трансцендентализма» можно рассматривать и как новую
философско-методологическую апологию фундаментальной науки.
ИМ. Смирнова. Философско-методологические трансформации науки 131
ры познавательного отношения, трансцендентализм изначально
и по своей сути ориентирован на философскую артикуляцию их
опосредования, будь то в форме априорных форм чистого
чувственного созерцания и рассудка (И. Кант) или ноэтико-ноэмати-
ческого единства (Э. Гуссерль). Возрастание роли
трансцендентализма в методологической рефлексии науки второй половины
XX в. — одна из заметных черт трансформации философского
образа науки.
Классический трансцендентализм питался
культурно-антропологическими наработками классически
рационалистической философии сознания: фактическим отождествлением
субъекта с «чистым» (бестелесным) и «прозрачным» для
рефлексивного взора сознанием - когнитивным оптимизмом в
отношении возможности достичь полноты саморефлексии.
Существенна его укорененность в когнитивной презумпции
«абсолютного наблюдателя» — бестелесного сознания, очами
разума взирающего на мир с позиций вненаходимости. Опыт
философско-методологической рефлексии неклассической
науки инспирирует важнейшие смысловые сдвиги в
классическом понимании субъекта: артикуляцию философской
опосредованное™ прямого противопоставления субъекта познания
его объекту. Этот опыт воплощен в широко распространенной
философско-методологической концепции B.C. Стёпина, в
рамках которой субъект (пост)неклассической науки мыслится
как опосредованный средствами, операциями и
ценностно-смысловыми характеристиками научной деятельности1.
В работах Л .А. Марковой теоретически артикулирована идея
когнитивного расслоения субъекта - не только в смысле неэли-
минируемого плюрализма субъектов научного поиска в рамках
одного исследовательского коллектива, но и в менее
тривиальном смысле: функционального «расщепления» субъекта (роль
которого может выполнять и один-единственный ученый),
фиксирующего и транслирующего научному сообществу
результаты научного наблюдения2.
Согласимся с мнением А.П. Огурцова и в том, что истоком
коммуникативного поворота в философии была феноменология
1 См.: Стёпин B.C. Указ. соч.
2 См.: Маркова Л.А. Указ. соч. С. 124-165.
132
Часть II. Общение вместо обобщения в философии
Э. Гуссерля1. Добавим, что им же разработана философски
наиболее изощренная и адекватная неклассической рациональности
концепция трансцендентального субъекта. Феноменологически
трактуемый субъект познания в целом отвечает когнитивным
характеристикам неклассической науки. Ибо пафос
феноменологической концепции когнитивной активности трансцендентально
чистого субъекта — в концептуальном оснащении (т.е. выработке
соответствующих понятий) философской артикуляции
неразрывного единства (в идеализированном пространстве
трансцендентально чистого сознания) характеристик интенционального
предмета познания (ноэмы) и способов его презентации в
трансцендентальном сознании (ноэзы). Гуссерль предлагает различать в
структуре познавательного отношения не только объекты
мышления — интенциональной направленности сознания, но и
процессы их «схватывания» сознанием, т.е. акты субъективного опыта, в
которых эти объекты конституируются сознанием в качестве
трансцендентальной предметности. В «естественной установке»
сознания упомянутые акты субъективного опыта, как правило,
ускользают от нашего внимания: мы видим вещь, но не замечаем
самого «процесса ее видения». Гуссерль модифицирует структуру
познавательного отношения таким образом, что когнитивная
деятельность сознания предстает как «ноэтико-ноэматическое
единство, конституированное совокупностью интенциональных
актов. Сошлемся на мнение одного из современных феноменологов:
«Мир не наполнен объектами, которые имеет облики,
независимые от воспринимающего их человека, а субъективный опыт не
существует независимо от объектов, событий и воспринимаемых
в опыте форм деятельности. Не существует чисто субъективного
субъекта и чисто объективного объекта»2.
Согласимся и с двумя принципиальными констатациями Ар-
шинова: в изучении становления нового типа методологического
субъекта, точнее, субъекта методологического анализа постне-
классической науки, прямой ссылки на «единство сознания в духе
Гуссерля» недостаточно3. Ибо, добавим, само это единство явля-
1 См.: Огурцов А.П. Философия науки XX в. и историография науки: основная
линия и новые тенденции в их взаимоотношениях. Там же. С. 35.
2 Phenomenological Sociology/ Issues and Applications ; G. Psathas (ed.). Toronto,
1973. Introduction. P. XIV.
3 Аршинов В.И., СвирскийЯ.И. Указ. соч. С. 178.
HM. Смирнова. Философско-методологические трансформации науки 133
ется не изначальной данностью феноменологически трактуемого
трансцендентального сознания, но результатом долгого и трудного
преодоления основоположником феноменологии дуализма
материального и идеального, субъекта и объекта, Я и Другого. Но и
«пройти мимо трансцендентального субъекта Гуссерля,
пытавшегося восстановить единое информационно-коммуникативное
пространство человеческого познания на основе данности
трансцендентального опыта и особой науки о конкретной
трансцендентальной субъективности, данной в действительном и возможном
трансцендентальном опыте, невозможно»1. Последнее побуждает
проанализировать эвристический потенциал
феноменологического трансцендентализма, опосредующего крайности субъект- и
объект-центристского подходов (которым в методологической
рефлексии науки соответствуют «радикальный» конструктивизм
и «плоский» натурализм), и выявить те ходы мысли, которые
релевантны когнитивным особенностям постнеклассической науки.
2. Трансценденталистская концепция субъекта
и ее философско-методологический смысл
Равно как и И. Кант, философски анализируя когнитивные
характеристики «познания вообще», дал философский портрет
науки своего времени, Гуссерль в
трансцендентально-феноменологической философии познания дал когнитивный портрет
неклассической науки со свойственным ей представлением об
относительности результатов познания к средствам и операциям
когнитивной деятельности. Но идейное родство Гуссерля с Кантом
в отношении философской репрезентации характеристик
современной им науки этим не исчерпывается. Философские
прозрения обоих философов — результат не только углубленной
теоретико-познавательной рефлексии науки своего времени, но и
заготовка впрок будущих возможных миров предметного
освоения, т.е. «заглядывание за горизонт» наличного бытия и
функционирования науки. Ведь постулированная Кантом способность
субъекта классической науки конституировать объект (пусть и на
основе необъясненных по происхождению априорных форм
чувственности и рассудка) в явном виде обнаружилась лишь в неклас-
Аршинов В.И., Свирский Я.И. Указ. соч.
134
Часть II. Общение вместо обобщения в философии
сической науке - квантовой механике. Аналогично, будучи
философской рефлексией неклассической науки, трансцендентальная
феноменология содержала принципиальные ходы мысли,
которые могут быть атрибутированы как «заглядывание за горизонт»
неклассической науки, «заготовка впрок» когнитивных
характеристик постнеклассического субъекта. Обоснование этого тезиса
и составит содержание дальнейшего изложения.
Следуя кантианским традициям, Гуссерль полагал, что
подлинная теория познания имеет смысл лишь как исследование
(критика) познавательных возможностей человеческого
сознания. Работа по систематическому прояснению познавательных
возможностей человека, убежден Гуссерль, является высшей
мыслимой формой рациональности1. Любые осмысленные
вопросы, связанные со знанием, по его мнению, суть проблемы
«трансцендентальной феноменологии». И ответ на них следует
искать в особом опыте самопостижения -
трансцендентально-феноменологической (эйдетической) редукции, именуемой
греческим словом «эпохэ».
Трансцендентально-феноменологическая редукция
элиминирует любые предпосылки рассудочного знания, относящегося
к вопросам как о физической природе объектов восприятия, так и
об онтологическом статусе воспринимающего их сознания.
Смысл подобных операций в том, чтобы очистить сознание ото
всех предваряющих истолкований, свойственных сознанию в до-
рефлексивном состоянии — в «естественной установке сознания»,
и выйти на уровень «чистых» феноменов сознания, переживаемых
с непосредственной очевидностью, - стать лицом к лицу с
априорными формами чистого опыта. «Трансцендентальная установка
всегда и непременно предполагает, что в соответствии с ней все,
доселе непосредственно сущее для нас, должно приниматься
только в качестве феномена, только так, как он в качестве
коррелята подлежащей раскрытию конститутивной системы получил и
может получить для нас бытийный смысл»2, - поясняет Гуссерль.
Когнитивный пафос трансцендентально-феноменологической
редукции - в критике «наивного объективизма» позитивистского
1 См.: Аршинов В.И., Свирский Я.И. Указ. соч. С. 25.
2 Husserl Е. Cartesianische Meditationen und Pariser Vortrage. Hague Martinus Nij-
hoff, 1950. S. 124.
ИМ. Смирнова. Философско-методологические трансформации науки 135
толка, составлявшего ядро так называемой «стандартной
концепции науки».
К их числу дорефлексивных очевидностей, воздействие
которых на сознание «приостанавливает»
трансцендентально-феноменологическая редукция, Гуссерль относит прежде всего
онтологические допущения — «суждения о существовании».
II Это универсальное запрещение всяких точек зрения по отношению к
объективному миру, которое мы называем феноменологическим
эпохэ, становится как раз тем методическим средством, благодаря
которому я в чистоте схватываю себя как то Я и ту жизнь сознания, в
которой и благодаря которой весь объективный мир есть для меня, и
есть так, как он есть именно для меня. Все, относящееся к миру, все
пространственно-временное бытие есть для меня благодаря тому,
что я испытываю его, воспринимаю его, вспоминаю, сужу или
как-либо мыслю о нем, оцениваю его или стремлюсь к нему и т.д. Как
известно, все это Декарт обозначает как cogito. Для меня мир есть
вообще не что иное, как осознанное в таких cogitationes сущее и для ме-
|| ня значимое1.
Когнитивный смысл
трансцендентально-феноменологической редукции, таким образом, состоит в воздержании от метафи-
зически-объективирующих суждений типа «это реально», «это
было на самом деле», «этого не может быть никогда». При этом
столь существенные в естественной установке сознания различия
между возможным и действительным, реальным и
потенциальным в трансцендентально-редуцированной сфере теряют свою
значимость — тают, становясь феноменологически
равноценными. Ибо в трансцендентально-редуцированной сфере, убежден
Гуссерль, «никакая вещь не указывает на существование»2.
Поэтому для нее справедливо парадоксальное для естественной
установки сознания, но верное для трансцендентального сознания (а
также, как выяснилось, и в сфере виртуальных коммуникаций)
суждение: «существовать — значит быть возможным».
Трансцендентально-феноменологическое «очищение» от предикатов
существования открывает новый познавательный горизонт —
важнейший шаг на пути обретения искомой Гуссерлем чистой бес-
предпосылочности знания как гаранта его достоверности.
1 Husserl Е. Op. cit. S. 9-10.
2 Husserl Е. Husserliana. 1950. Bd. 3. S. 104.
136
Часть II. Общение вместо обобщения в философии
Посредством феноменологического эпохэ индивидуальное
(единичное) человеческое сознание редуцируется к
трансцендентальному (общезначимому) и обретает доступ к чистым феноменам
сознания, отвлеченным ото всех онтологических допущений, —
глубочайшему источнику познавательных формообразований.
Результатом трансцендентально-феноменологической редукции
становится неразрывная связь сознания и его интенционального
предмета. Единицами анализа
трансцендентально-редуцированной сферы выступают уже не объекты внешнего мира, а «чистые
формы опыта», т.е. смыслы. Чистый феномен дан как идея,
сущность, независимая от ее предметных воплощений. Это «центр
мировых отношений», конституирующий способ бытия сущего.
Опыт феноменологически-редуцированной сферы по
определению трансцендентален и не носит
индивидуально-психологического характера. Исходя из развитой в «Логических
исследованиях» критики психологизма в логике1, Гуссерль настаивает на
том, что трансцендентально-феноменологическая редукция
«заключает в скобки» также и психологические характеристики,
связанные с переживанием собственного существования, - все
предикаты персональной жизни сознания. «Таким образом, для меня
нет никакого Я и никаких психических актов, психических
феноменов в смысле психологии»2, — поясняет он.
Очищая сознание от психофизического содержания, Гуссерль
стремится «стать лицом к лицу» с предельно чистыми структурами
сознания как такового, обнаружить «эйдосы» — априорные
формы человеческого опыта. «Заключающий в скобки» не только
внешний мир, но и характеристики индивидуального сознания,
критически-рефлексивный пафос трансцендентальной
феноменологии гораздо сильнее картезианского «сомнения», идейную
близость установкам которого Гуссерль неоднократно
подчеркивал.
Основоположник феноменологии убежден, что, очищая
сознание от наивного объективизма, свойственного классическому
рационализму Нового времени,
трансцендентально-феноменологическая редукция открывает доступ к первоосновам знания,
переживаемым с непосредственной очевидностью. Здесь, в царст-
1 См.: Гуссерль Э. Логические исследования. СПб., 1909. Т. 1.
2 Гуссерль Э. Парижские доклады // Логос, 1991. № 2. С. 11.
Н.М. Смирнова. Философскометодологические трансформации науки 137
ве трансцендентально-феноменологического опыта, свободного
от онтологических допущений и некритических суждений
естественной установки, Гуссерль обнаруживает подлинный
когнитивный фундамент философии как строгой науки. Открываемое с
помощью феноменологической редукции трансцендентальное поле
опыта содержит помимо опыта в ретенции (припоминании) и
воображаемый опыт фантазии, сна, воображения,
феноменологически равноценный первому. Подобный «опыт в возможности»
наделен теми же модусами, что и действительный, поскольку
трансцендентально-феноменологическая редукция позволяет достичь
безразличия к любым смыслам суждений о существовании.
Обращение к возможному опыту, убежден Гуссерль, позволит
преодолеть свойственный новоевропейской философии наивный
объективизм, смысл философствования для которого в реконструкции
мыслящим сознанием «внешней» рациональной конструкции
мироздания.
На ранних этапах своего творчества основной задачей
феноменологии Гуссерль считал достижение абсолютно достоверного
фундамента человеческого знания - «твердой породы» научного
мышления и любого рационального суждения вообще. Подобный
фундамент мыслился им как предмет особого рода философии —
подлинно универсальной науки о предельных основаниях
человеческого мышления. Это учение о Логосе бытия — априорных
формах всех идеальных предметностей как центров мировых
отношений. Таковыми являются понятия мира, природы, пространства,
времени, живых существ, человека, души, тела, числа,
социального сообщества и культуры, словом, всего того, что мы сегодня
называем универсалиями культуры. Таким образом,
феноменологический трансцендентализм — это своего рода рефлексивный
критицизм, эксплицирующий предпосылки любой познавательной
деятельности, включая научную.
Первой из экспликаций горизонта моего бытия, с которой
я сталкиваюсь, обращаясь к собственному потоку сознания,
рассуждает Гуссерль, — это моя имманентная временность в
форме длящегося бесконечного потока переживаний1. Речь идет
о «переживаемом времени», далеко не всегда совпадающем с
1 См.: Молчанов В.И. Время и сознание. Критика феноменологической
философии. М., 1988.
138
Часть II. Общение вместо обобщения в философии
астрономическим, о времени-проживании как мериле
человеческого «взросления». Внутреннее время столь же отлично от
астрономического, как и человеческое переживание от тикания
метронома. В постановке Гуссерлем проблемы семиотики
темпоральное™, темпорального локлизма - контуры постнеклассической
проблемы локальных пространственно-временных
образований - умвельтов (Umvelt).
Гуссерль не только синтезировал идеи А. Бергсона и У. Джемса
о потоке сознания, но и развил их в соответствии с собственным
когнитивным проектом — исследования предельных оснований
человеческого знания и происхождения важнейших
общекультурных понятий. Его концептуальной основой стала теория
«чистого» сознания трансцендентального субъекта. В соответствии с
унаследованной от Канта трансценденталистской установкой1
феноменологический трансцендентализм стремится очистить от
психологических наслоений внутренний опыт и выявить его
общезначимое содержание в «чистом» сознании
трансцендентального субъекта. Хотя мы живем в нашем потоке сознания, сама
жизнь сознания, замечает Гуссерль, обычно остается
незамеченной, ускользает от нашего взора подобно тому, как в процессе
зрительного восприятия мы видим вещь, но не замечаем процесса ее
видения. Сосредоточившись на объектах, мы упускаем из виду
сами акты субъективного опыта, посредством которых объекты
конституируются в качестве предметов опыта. Чтобы их обнаружить,
необходимо изменить дорефлексивную позицию - ориентацию
на объекты - и «повернуться к себе», осуществив специфический
акт рефлексии в отношении собственного опыта. В рефлексии
обнаруживается и фундаментальное свойство сознания — интенцио-
нальность, нацеленность сознания на объект, о котором я думаю,
воспринимаю, размышляю, быть может, воображаю. Любой
опыт, таким образом, детерминирован интенциональным
объектом - тем, сознанием него он является. Восходящий к Ф. Брентано
принцип интенциональности имманентно содержит отрицание
жесткой субъект-объектной дихотомии как непроясненной
метафизической предпосылки классической теории познания. Ин-
1 См.: Гайденко П.П. Гуссерль и Кант: проблема трансцендентальной
философии//Философия Канта и современность. М., 1974; Мотрошшюва Н.В. Гуссерль и
Кант: проблема «трансцендентальной» философии //Философия Канта и
современность. М., 1974.
ИМ. Смирнова. Философскометодологические трансформации науки 139
тенциональность объектов сознания означает, что не существует
сознания как tabula rasa, т.е. в качестве чистого сознания,
лишенного какого бы то ни было содержания. Сознание всегда является
сознанием чего-то и не может быть отделено от объекта, на
который направлено. «Основное свойство форм сознания, в которых я
живу как Я, есть так называемая интенциональность, есть
соответствующее осознание (Bewussthaben) чего-либо», — убежден
Гуссерль1. Феноменологическое понятие интенциональности
имманентно содержит отрицание самой возможности
абсолютизации одной из сторон познавательного отношения.
Изучая состав опыта, его структуру и механизмы его
образования, мы движемся путем, противоположным его генезису,
начиная с конкретного содержания предметного мира через
исследование акта восприятия к общим механизмам конституирования
предметов опыта и, наконец, к изначальным данным сознания.
Способность осуществлять «возвратное» когнитивное движение,
экспликация глубочайших предпосылок — одно из величайших
достоинств феноменологического анализа знания. В результате
подобного исследования опыт сознания предстает как
неразрывное единство предметности (Гуссерль называет ее ноэмой) с
содержанием акта восприятия предмета (ноэзой). Процесс
когнитивного освоения предмета, таким образом, выступает, по Гуссерлю,
как ноэтико-ноэматическое единство, конституируемое
совокупностью интенциональных актов. В подобном единстве «тает»,
обнаруживает свои пределы присущее классической
рациональности традиционное противопоставление субъект-объект.
Свойственные классической рациональности представления о том, что
анализ наличного состава знания позволяет выделить в нем
содержание, присущее объекту «самому по себе», с одной стороны, и
характеристики познавательной активности субъекта - с другой,
Гуссерль считает объективистской иллюзией. Он убежден, что
трансцендирование до уровня объекта «самого по себе»,
«очищение» от человеческих характеристик когнитивной деятельности
невозможно. Самое большее, на что может рассчитывать теоретик
познания, - это вычленение нередуцируемого остатка интенцио-
нального предмета (ноэмы), с одной стороны, и акта его
конституирования (ноэзы) — с другой. Понятие интенциональности и
Гуссерль Э. Указ. соч. С. 12-13.
140
Часть II. Общение вместо обобщения в философии
коррелятивное ему понятие ноэтико-ноэматического единства —
концептуальные инструменты преодоления односторонней
когнитивной абсолютизации как конструирующих характеристик
субъекта (ибо последний представлен в единстве с интенциональ-
ной предметностью), так и «наивного объективизма»
классической науки (ибо предмет познания дан в неразрывном единстве со
способами его презентации в сознании).
Более того, понятие ноэтико-ноэматического единства как
феноменологическая «корректировка» классического
субъект-объектного отношения не только выражает интенции неклассической
науки, но и намечает последующие ходы мысли, развитые в науке
постнеклассической. Принцип интенциональности означает, что
именно человеческое сознание, направленное на объект
человеческого интереса, с необходимостью наделяет его значением, отнюдь
не присущим объекту «самому по себе» - вопреки представлениям
классической герменевтики о «созерцательном» характере
значения. Характеристика же предмета
трансцендентально-редуцированной сферы как ноэтико-ноэматического единства развивает
изложенную в «Логических исследованиях» трактовку понятия
предмета познания как предмета интереса («предмет интереса и есть
понятие интенционального предмета») — тезис, навеянный бергсо-
новскими рассуждениями о том, что напряженность сознания
(«внимание к жизни») производна от главного регулятива нашего
опыта — когнитивного интереса1. Ценности входят в науку вместе
с установкой (интересом) ученого, более того, они неотделимы от
его познавательной деятельности, ибо само мышление интенцио-
нально, неотделимо от «направленности на предмет интереса».
Осуществив редукцию к
трансцендентально-феноменологической сфере, Э. Гуссерль смещает фокус исследования с поиска
нередуцируемых первооснов знания на процесс, в известной мере
противоположный - конструктивную деятельность сознания.
Развитая в «Картезианских размышлениях»2 конститутивная
методология переключает внимание феноменолога на
принципы феноменологического конституирования или всеобщий
процесс «сотворения смыслов». Движение феноменологической
1 См.: Бергсон А. Материя и память // Собр. соч. Т. 1. С. 168.
2 См.: Husserl Е. Cartesianische Meditationen und Pariser Vortrage. Hague : Martinus
Nijhoff, 1950.
HM. Смирнова. Философско-методологические трансформации науки 141
мысли в направлении исследования конструктивно-креативной
способности человеческого мышления существенно развивает и
дополняет гуссерлев анализ противоположно направленных
когнитивных процессов — редукции к
трансцендентально-феноменологической сфере. Ибо конститутивные предметы как
продукты конструктивной деятельности трансцендентального сознания
обретают высшую достоверность благодаря происхождению из
сферы абсолютной феноменологической достоверности.
Феноменологическая рефлексия является операцией не только
обнаружения структуры сознания и механизмов его деятельности, но и
конституирования любых форм идеальных предметностей как
центров мировых отношений. Феноменологически
интерпретируемый смысл нельзя обрести в готовом виде как нечто,
существующее либо в сознании субъекта, либо в самом объекте, который
следует лишь «обнаружить» и прояснить. В каждом акте сознания
он созидается заново. Операциональной базой «сотворения
смыслов» является рефлексия. Феноменологически трактуемая
рефлексия не обладает способностью порождения онтологически
объективных Идеи или Сущности на манер гегелевской
«феноменологии духа». Феноменология Гуссерля тем и отлична от
гегелевской феноменологии, что в ней нет Абсолютного духа,
«самоотчуждающегося» в процессе саморефлексии и порождающего все
многообразие природы и культуры. Место гегелевского
Абсолютного духа у Гуссерля занимает трансцендентальное сознание, а
место «объективного мира» - предметный мир, коррелятивный
трансцендентальному субъекту.
Если в потоке сознания каждая фаза опыта «проживается», тает в
себе подобной без резких границ, то в процессе конституирования
предметов опыта рефлексия выделяет и фиксирует отдельные
фрагменты потока сознания. Непрерывный поток опыта расчленяется на
отдельные устойчивые образования — феномены. В изначальном
потоке (дорефлексивно) это лишь «предметы в возможности».
«Действительные» трансцендентальные предметы появляются в
результате операции феноменологического синтеза, осуществляемого
сознанием в ходе восприятия. Конституирование предмета - это
операция «опредмечивания» восприятия, наделение его смыслом.
Трансцендентальная теория восприятия исследует первичные и
вторичные восприятия, специфические способы удержания в сознании
(ретенции), структуры интенционального синтеза. В рамках транс-
142
Часть II. Общение вместо обобщения в философии
цендентальной теории восприятия свойственное классической
теории познания жесткое разделение на субъект и объект значительно
смягчается — феноменологическая реконструкция опыта схватывает
их не как онтологически разобщенные образования, но как
моменты феноменологической целостности. В феноменологической
перспективе традиционные субъект и объект предстают как моменты
органической целостности, в качестве коррелятов
сознающее—сознаваемое, постоянно трансформирующие друг друга в каждом акте
сознания, в процессе обретения нового опыта. Одной из задач
феноменологического анализа научного знания является исследование
механизмов когнитивной трансформации субъект-объектного («ноэти-
ко-ноэматического») единства на различных уровнях человеческого
сознания, начиная с обыденного и кончая научным.
3. Трансценденталистские интенции
коммуникативной парадигмы
Постгуссерлевское развитие идеи трансцендентализма, по
словам К.О. Апеля, сосредоточено на осознании
«трансцендентального достоинства языка». Он предлагает заменить кантово
«трансцендентальное единство апперцепции» на
«коммуникативный синтез интерпретаций». В интерпретативном единстве
коммуникативного сообщества он усматривает трансцендентальное
основание современных социальных наук1. В рамках
коммуникативной парадигмы в эпистемологии мышление есть функция
речевых коммуникаций, а общественное согласие опирается на
«силу лучшего аргумента»2. Автор «Теории коммуникативного
действия» Ю. Хабермас убежден в высокой значимости языковой
прагматики для теоретической репрезентации
трансцендентальных условий социальных наук. Интерсубъективная значимость
социального знания, убежден он, не может быть выведена из
индивидуального «долингвистического» (картезианского) сознания.
Она настоятельно требует тематизации языка как социального
измерения разума. Но для освоения парадигмы «лингвистического
поворота», убежден Хабермас, необходимо преодолеть абсолюти-
1 См.: Апель К.О. Трансформация философии. М., 2001. С. 190-196.
2 Справедливости ради следует все же заметить, что зачастую верно обратное:
«сила - лучший аргумент».
ИМ. Смирнова. Философско-методологические трансформации науки 143
зацию репрезентативной функции языка, неявно отсылающей к
жесткой традиционной схеме субъект-объектного отношения,
характерной для философско-методологической рефлексии
классической науки. Развивая далее коммуникативные интенции
феноменологического опосредования традиционного
субъект-объектного отношения, он высказывает предположение, что для
коммуникативной рациональности парадигмальным является не
отношение единичного субъекта к объекту, а интерсубъективное
отношение, в которое вступают способные к речи и действию
субъекты, если они приходят в отношении чего-либо к согласию
между собой1. Развитая им теория коммуникативного действия2
теоретически синтезирует немецкую социально-философскую
традицию системного анализа социальных сообществ с
англосаксонской традицией анализа естественного языка, т.е.
системно-структурный и «понимающий» подходы.
Несмотря на то что сам Гуссерль в развитой им концепции
интерсубъективности не придавал решающего значения
использованию языка, введение в структуру феноменологического анализа
языковой прагматики сохраняет глубинную связь с
феноменологической традицией. В чем же именно? Экспликация глубинных
правил речевой коммуникации («речевых актов»), составляющих
рациональную основу понимания Другого, предполагает
непосредственное погружение в контекст «языковых игр» (Л.
Витгенштейн). Совокупность языковых игр образует предельный
трансцендентальный горизонт всех возможных правил речевой
коммуникации. Но как прочертить этот горизонт? Существуют ли
универсальные «порождающие грамматики» (Н. Хомский),
«языки мысли» (Дж. Фодор), «языки мозга» (Р. Прибрам), наконец,
«коммуникативная компетенция» (Ю. Хабермас), общие для
всего человечества? Ответ на этот вопрос Хабермаса базируется на
концепции жизненногомира (Lebenswelt) «позднего» Гуссерля.
Но если для самого Гуссерля жизненный мир — это
совокупность дорефлексивных данных сознания в его «естественной
установке», то Хабермас существенно расширяет содержание этого
важнейшего для философской рефлексии социальных наук поня-
1 См.: Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. Bd 1-2. Frankfurt a/M.,
1981.
2 Jbid. Bdl.S.525.
144
Часть II. Общение вместо обобщения в философии
тия, включая в него не только семантико-прагматические
универсалии естественного языка, но и инварианты повседневности
определенного культурного сообщества (привычки, обычаи,
религию, социальные институты и т.п.). В рамках коммуникативной
рациональности Хабермаса язык выполняет важнейшую
социально-конструирующую роль, выступая инструментом достижения
коммуникативного консенсуса. Жизненный мир —
неисчерпаемый кладезь обыденных типизации, эмпатического (дорефлек-
сивного) понимания Другого. В рамках коммуникативной
прагматики он предстает как неисчерпаемый источник исторически
сложившихся и социально оправданных схем интерпретации —
«передающийся через культуру и организованный с помощью
языка запас образцов истолкования». Это локус речевых
практик — трансцендентальное место встречи говорящего и
слушающего1. В коммуникативной парадигме жизненный мир -
смысловой контекст процессов коммуникации, продукт отложения
коммуникативного опыта2. Повседневные коммуникативные
практики в структурах жизненных миров выступают высшей
инстанцией процессов аргументации, конечной областью значений
языка и культурной символики. Патриарх немецкой социальной
философии противопоставляет «жесткую» рациональность целе-
рационального действия «мягкой» коммуникативной
рациональности жизненных миров. Именно в «мягкой», коммуникативной
рациональности он усматривает трансцендентальные основания
социальных наук и когнитивные основания взаимопонимания и
коммуникации в социальном мире. Таким образом, широкая
экспансия трансцендентализма на область философской рефлексии
социальных наук не означает возврата к кантовскому стилю
философствования. Напротив, распространение философско-методо-
логической рефлексии на область социальных наук способствует
теоретическому осознанию укорененности научного мышления в
пра- и дологических структурах человеческих жизненных миров.
1 Жизненный мир Хабермаса самодостаточен: в коммуникативной практике
жизненных миров содержится все, что для нее необходимо. Поэтому
бессмысленно говорить о метадискурсе в отношении исторически сложившихся жизненных
миров.
2 См.: Habermas J. Op. cit. Bd. 2. S. 192.
A.M. Павленко
Коммуникативная доктрина морали
и права: признание до обоснования1
II Ниже анализируются основные положения коммуникативной
программы, связанные с обоснованием морали и права (взгляды
Л. Витгенштейна, К.О. Апеля, Ю. Хабермаса). Основная проблема,
решению которой посвящено исследование, сформулирована в
виде вопроса: с помощью какого механизма реализуется
универсальная природа моральных и правовых норм? Показано, что
коммуникативная программа сталкивается с принципиальными
трудностями в обосновании инваэроментальной этики и
биомедицинской этики, а также с обоснованием соответствующих разделов
права, которые тематически комплементарны указанным областям
|| этики.
Если спросить среднестатистического специалиста по
общественным наукам «чем характеризуется современный
общественный мир?», то можно получить усредненный ответ:
«глобализацией». Если далее спросить, а что выступает в качестве первого
ее условия, то ответ будет также вполне ожидаемым:
«коммуникация».
Итак, «глобализация» и «коммуникация» - эти двалатино-
морфных термина — объявляются сегодня несущими балками
нового мифопоэтического здания, к строительству которого
призывают всякого компетентного исследователя,
занимающегося обоснованием эпистемологии, права, морали и
эстетики. Поскольку «глобализация» претендует на ничем не
ограниченную всеобщность, то ей больше бы соответствовало такое
же глобальное по масштабам исследование, которое нам
заведомо не под силу. Поэтому мы сосредоточим внимание на
гораздо более доступной теме — «коммуникации». Причем не на
«коммуникации вообще», но только на таких ее сторонах,
которые непосредственно касаются обоснования
эпистемологии, морали и права. Более того, поскольку в предыдущих
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект
№ 09-06-00023а.
146 Часть II. Общение вместо обобщения в философии
работах1 нами уже были проанализированы эпистемологические
основания коммуникации, постольку сейчас мы сосредоточим
внимание на обосновании морали и права. Но прежде чем
приступить к этому, напомним основные тезисы коммуникативной
программы (КП):
1) «Общезначимость» заменяет «истину»
2) «Сообщество» заменяет «индивида»
3) «Полилог» заменяет «монолог»
4) «Коммуникативное действие» заменяет «теорию»
Из этих тезисов самым востребованным в настоящей работе
окажется тезис о замене «индивид—сообщество». Ниже мы
увидим, что обоснование моральных (и правовых) норм будет
восходить к коммуникации и опираться на нее, причем так, что сами
нормы будут становиться следствием коммуникации.
Обоснование морали и права отсылает нас в рамках
рассмотрения коммуникативной программы (КП) к основной проблеме, с
которой сталкивалась любая философская доктрина, ставящая
перед собой подобную задачу: с помощью какого механизма
реализуется универсальная природа моральных и правовых норм?
Безусловно, эта задача возникла и перед сторонниками КП.
Однако в зависимости от языковых и концептуальных
особенностей доктрины она всякий раз обретает специфический и
неповторимый угол зрения. Так произошло и последователями КП,
которые оказались перед необходимостью решения следующей
задачи: показать, как аргументативная практика этического
(правового) дискурса приводит к такой универсальности. Более того,
претензия КП состоит как раз в том, что вне и помимо КП
моральные нормы, а равно и нормы права не получают действенной
легитимности.
Чтобы убедиться в этом, обратимся к позиции Хабермаса,
который полагает, что «интегрированная в нормах структура обще-
1 См.: ПавленкоЛ.Н. Круг в обосновании интерсубъективной программы в
эпистемологии //Философия науки. М. : ИФРАН, 2009. Вып. 14;
ПавленкоА.Н.Является ли «коммуникативная программа» обоснования знания универсальной? //
Вопросы философии. 2009. № 11 ; PavlenkoA.N. Husserl, Wittgenstein, Apel:
Commutative Expectations and Communicative Reality // Papers of the 32nd International
Wittgenstein Symposium. Kirchberg am Wechsel, 2009. Vol. XVII. P. 332-334.
А.И. Павленко. Коммуникативная доктрина морали и нрава
147
ственных отношений изначально имеет моральный характер»1.
Мы вправе спросить: почему? Ответ Хабермаса таков: «...все
основные понятия, конститутивные для регулируемого нормами
действия, уже содержат в себе моральное измерение, которое
актуализируется и исчерпывается исключительно в оценке
конфликтов и нарушений тех или иных норм»2. Эти слова можно
понимать так, что мораль (право) возникает только тогда, когда мы
начинаем коммуницировать. Без коммуникации никакая мораль
и никакие юридические законы не становятся
актуализированными, а содержатся латентно в самих «интеракциях», как их именует
Хабермас.
Здесь необходимо отметить, что обоснование морали
осуществляется в рамках КП с помощью реализации требований
«взаимопонимания», «принятия» и «согласия»3.
По-видимому, заявляемая Хабермасом и его
единомышленниками «этика дискурса» основывается на принципе согласия: «каждая
действенная норма нашла бы одобрение со стороны всех
затрагиваемых ею лиц, если бы только они могли принять участие в
каком-либо практическом дискурсе (D)»4. Критикуя релятивизм, который
можно охарактеризовать как «статичный», Хабермас по сути
предлагает его альтернативу. Назовем его «динамический релятивизм».
Суть динамического релятивизма заключается в том, что моральные
нормы не суть раз и навсегда данные «моральные принципы»5, в
терминологии релятивизма — «конвенции». Они продуцируются
и прецизируются в перманентном этическом дискурсе.
Как же тогда достигнуть универсализма (всеобщности)
моральных норм? Они достигаются по мере прохождения ступеней
1 Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб. :
Наука, 2000. С. 247. (Далее ссылки по тексту на данное издание оформлены так:
Хабермас. С. 247.)
2 Там же.
3 «Каждая действенная норма должна удовлетворять тому условию, что прямые
и побочные действия, которые общее следование ей возымеет для удовлетворения
интересов каждого отдельного индивида, могут быть без какого бы то ни было
принуждения приняты всеми, до кого она имеет касательство (U)» (Хабермас.
С. 179).
4 Хабермас. С. 181-182.
5 «Основное положение этики дискурса запрещает особо выделять, ссылаясь
на философский авторитет, какие-либо моральные содержания (например,
определенные приницы справедливого распределения) и раз и навсегда закреплять их
средствами морали» (Хабермас. С. 182).
148
Часть II. Общение вместо обобщения в философии
интеракции1 или, говоря более понятным языком, в постепенном
становлении и развитии ступеней морального сознания. Но
достаточно ли интеракции для достижения универсальности? Хабер-
мас понимает, что докоммуникативные программы — как в этике,
так и в области юриспруденции - опирались на социальный
контроль, который осуществлялся тем или иным репрессивным
механизмом: в морали — это общественное порицание и
общественные санкции, в юриспруденции — репрессивный институт
наказаний, судебных решений и предписаний.
Однако этот репрессивный механизм, согласно Хабермасу,
устарел. Его заменяют интеракции. Интеракция может быть понята
как самоконтроль, гипостазирующий социальный контекст и
помещающий его во внутренний план Я. То есть интеракция есть
система взаимодействия 1) Я, 2) другого и 3) третьего, понятого
как имплицитно присущий субъекту интерактивный социум.
Наличие «третьего» позволяет подняться над конвенциональным
уровнем и достичь, по мнению Хабермаса, уровня
постконвенционального2. Здесь человек следует норме не потому, что она
связана традицией, а потому, что она становится значима особым
образом. Критерием нормативности морального положения
становится не ее социальная значимость, а «скорее действенность
той или иной нормы»3. Как это следует понимать? Как мы
помним, Хабермасом предлагается механизм обоснования морали,
который мы условно обозначили как динамический релятивизм.
Согласно этому механизму, моральные нормы не суть положения,
которые раз и навсегда приняты в результате некой конвенции, но
такие особые положения, которые, запрещая статику, находятся в
процессе непрерывной возгонки морального статуса положений в
процессе интеракции.
Но как в таком случае увязать моральную норму с
универсальностью? Хабермас предлагает в качестве основы, дающей универ-
1 См.: Хабермас. С. 210.
2 «...с переходом к постконвенциональной ступени, на которой взрослый
человек преодолевает наивность повседневной практики. Он покидает данный ему от
природы социальный мир, в который он вступил при переходе к
конвенциональной ступени... С этого метакоммуникативного уровня открываются лишь
ретроспективы мира прожитой жизни: мир наличествующих обстояний вещей
теоретизируется, а мир легитимно упорядоченных отношений морализуется в
свете гипотетических притязаний на значимость» (Хабермас. С. 242).
3 Хабермас. С. 244.
А.И. Павленко. Коммуникативная доктрина морали и права
149
сальность, рассматривать прагматизм. В основе этического
дискурса лежат «прагматические предпосылки аргументации как
таковой»1. Другими словами, обосновывающей основой моральных
норм является сам моральный дискурс. Мы могли бы уточнить:
моральный дискурс — это автогенетическая возгонка
автоуниверсализации. Следовательно, вне моральной аргументации нет и быть
не может никакой морали. Хабермас утверждает, что: «моральная
точка зрения не может быть обретена в каком-либо "первом"
принципе или в каком-либо "последнем" обосновании, т.е. за
пределами круга самой аргументации»2.
Эта позиция Хабермаса настолько прозрачна, что позволяет
экстрагировать из сказанных слов основные положения:
1 ) моральный статус положений достигается в аргументации и
только в аргументации (коммуникации);
2) сами участники аргументации не имеют и не могут иметь до самой
аргументационной интеракции (коммуникации) каких-либо
«первых» принципов или «последних» обоснований. Попросту
говоря, мораль не предшествует аргументации, но следует из нее.
Эти утверждения Хабермаса, касающиеся вполне конкретной
области — обоснования морали, могут быть обобщены до уровня,
когда они теряют частный характер в рамках самой КП. Другими
словами, мы можем проанализировать данный мысленный ход
Хабермаса и представить его в самом общем виде.
Чтобы сохранить объективность анализа, следует четко
зафиксировать, что такая последовательность рассуждений
присуща не одному Хабермасу, но в той или иной степени всем
сторонникам и последователям КП.
Смысл тезиса таков: в отношении легитимности морального
статуса норм отдельный индивид чист. Для возгонки нормы
нужен коллектив индивидов - сообщество. Легитимность в таком
случае достигается в аргументации, т.е. в вербальной
коммуникации членов сообщества. Но действительно ли «докоммуникатив-
ный индивид» являет собой «белый лист морально-правовой
бумаги», на котором сообщество «пишет» с помощью аргумента-
тивной коммуникации? Действительно ли аргументация
(коммуникация) способна дать ему нечто большее, чем он содержит сам?
Хабермас. С. 245.
Там же. С. 246.
150
Часть II. Общение вместо обобщения в философии
Проанализируем это предположение и попытаемся
зафиксировать следствия, к которым оно приводит.
Утверждения о том, что «индивид» не может быть и не
является «чистым» в отношении к коммуникативному сообществу,
одинаково близок и Витгенштейну, и Апелю, и Хабермасу.
Так, Витегнштейн во фрагменте 199 «Философских исследо-
ваниий» спрашивает: «199. Является ли то, что мы называем
"следованием правилу", чем-то таким, что мог бы совершить лишь
один человек, и только раз в жизни? А это, конечно, замечание о
грамматике выражения "следовать правилу". Невозможно, чтобы
правилу следовал только один человек, и всего лишь однажды. Не
может быть, чтобы лишь однажды делалось сообщение, давалось
или понималось задание и т.д.».
Ответ однозначен: невозможно! Где же тогда происходит
«проверка» слов правилам языковой игры? Она происходит в
«практиках»: «206. Совместное поведение людей — вот та референтная
система, с помощью которой мы интерпретируем незнакомый язык»
(курсив мой. — А.П.». Говоря терминами данной работы:
референтной системой является «коммуникативное сообщество».
Подобные взгляды высказывает и Апель, замечая по поводу
участника коммуникации: «...в "синтезе апперцепции", где Я
одновременно полагает и свой предмет, и самого себя в качестве
мыслящего, Я в то же время совпадает с трансцендентальным
коммуникативным сообществом, каковое одно в состоянии
подтвердить смысловую значимость собственного само- и
миропонимания» (курсив мой. - А.П.)]. Без этой трансцендентальной
предпосылки познания, по мнению Апеля, последнее не могло
превратиться в аргумент. Это означает, что ни Кант, ни Фихте еще
не осознали этого и поэтому не смогли обосновать познание
вполне удовлетворительно. Для нас здесь важно подчеркнуть
намерение Апеля зафиксировать эту самую «тождественную
неразличимость» познающего Я и трансцендентального
коммуникативного сообщества, в которой это Я именно растворяется.
Причем учитывая, что трансцендентализм кантового сознания
трансформируется в трансцендентализм языка, Апель допускает и
следующий шаг растворения Я, говоря о субъекте науки и ком-
1 Апель К.О. Коммуникативное сообщество как трансцендентальная
предпосылка социальных наук//Трансформация философии. М. : Логос, 2001. С. 195.
A.H. Павленко. Коммуникативная доктрина морали и права
151
ментируя подход Витгенштейна: «...поскольку речь тут идет об
эмпирическом человеке, постольку субъекта не существует, а
существуют лишь объекты языка науки (естествознания). Поскольку
же речь здесь идет о кантовом трансцендентальном субъекте,
постольку функция этого субъекта растворяется или исчезает в
трансцендентальной функции языка как границы мира» (курсив
мой.-АЯ.)1.
Далее мы вынуждены привести еще одну пространную цитату
из работы Хабермаса, чтобы избежать обвинений в приписывании
оппонентам взглядов, которых они никогда не высказывали, но
которые мы подвергаем критическому разбору.
Итак, Хабермас, в докладе «Философия как
"местоблюститель" и "интерпретатор"», сделанном в Штутгарте в 1981 г., по
существу озвучивает новую программу философствования: «Место
одиноко стоящего субъекта, который направляется к предметам и
в рефлексии делает предметом самого себя, заступает не только
идея познания, опосредованного языковым выражением и
соотнесенного с действием, но совокупная взаимосвязь повседневной
практики и повседневных коммуникаций, в которую встроены
интерсубъективные в своих истоках и в то же время достигаемые в
сотрудничестве познавательные результаты»2. Далее Хабермас
почти в поминальном тоне говорит об «устаревшей
эпистемологии» и, наоборот, не без воодушевления — о новых «способах тема-
тизации»: «Тематизируется ли эта взаимосвязь как форма жизни
или жизненный мир, как практика или опосредованное языком
межличностное общение, как языковая игра или диалог, как
культурный фон, традиция или история деяний, решающим является
то обстоятельство, что все эти основанные на здравом смысле
понятия приобретают теперь тот ранг, который до сих пор был
характерен для фундаментальных понятий эпистемологии, хотя
они, разумеется, и не должны выполнять те же функции, что и
последние»3.
Право автора - высказывать любые мысли, которое, однако, не
должно исключать ответственности. Поэтому автор, скорее,
имеет право высказывать «любые непротиворечивые мысли». Здесь,
1 Апель К.О. Указ. соч. С. 212.
2 Хабермас. С. 19.
3 Там же.
152
Ч асть II. Общение вместо обобщения в философии
конечно, следует иметь в виду, что в данном случае речь идет об
эпистемологии. Именно поэтому мы считаем необходимым
заметить, что эпистемологическая концепция, отрицающая
существование самостоятельного и «независимого индивида»,
сталкивается по меньшей мере с двумя внутренними затруднениями,
которые мы выразим в форме двух тезисов — сильного и слабого.
Сильный тезис: «Индивид в отдельности не обладает ничем,
что не было бы продуктом коллектива».
Если мы допустим существование «связанного и только
связанного индивида», под которым будем понимать существо, не
содержащее ровным счетом ничего, что не было бы в свою очередь
продуктом коллектива, то мы вынуждены констатировать
возникающую угрозу абсурда. Поясним.
Итак, представим аргументацию, защищаемую сторонниками
КП в отношении «невозможности существования чистого
индивида», в качестве явных категорических суждений, т.е. построим
некоторую социально-коммуникативную модель. Причем сразу
отметим: несмотря на то что моделируемые условия идеальны,
они тем не менее отражают существенные характеристики КП, а
именно: тот предельный случай, когда вообще отрицается за
человеком всякая «внекоммуникативная индивидуальность».
В определенном смысле мы намереваемся построить модель
«коммуникативного сообщества» (КС), в которой фиксируются
базовые или, если угодно, важнейшие требования КП. Конечно,
от модели невозможно требовать «полного соответствия с
реальностью» коммуникативного сообщества - просто общающихся
людей. Но в таком требовании нет необходимости. Задача
заключается именно в том, чтобы эта модель отражала существенные
признаки реальной коммуникации, без которых, согласно ее
сторонникам, она в принципе невозможна.
Для этого введем такие понятия, как «коммуникативное
сообщество» и «индивид», и несколько предварительных допущений:
а) понятие «КС» будем рассматривать в несобирательном смысле как
совокупность индивидов, его составляющих;
б) под индивидом будем понимать один элемент этого КС как
существо, познающее и знающее;
в) от всех других характеристик человеческого индивида мы
отвлечемся;
A.H. Павленко. Коммуникативная доктрина морали и нрава
153
г) мы вправе допустить как существование КС, состоящего из
большого и даже огромного числа индивидов, так и существование
КС, состоящего из одного-единственного индивида;
д) «Характеристики индивида определяется КС», т.е. он появляется в
коллективе, существует в КС и поэтому является носителем «КС».
Сформулируем в отношении к введенным понятиям и
условиям их понимания такие утверждения:
а) КС состоит из индивидов;
ß) каждый индивид в отдельности не обладает ничем, что не
являлось бы результирующим действием КС.
Истинность суждения (а) очевидна, ибо не существует такого
коллектива, который бы не состоял из индивидов. Даже в
предельном случае, когда имеется только один индивид, этот «коллектив»
все равно будет непустым множеством. В то же время едва ли
найдется такой безумец, который будет утверждать, что коллектив не
состоит из индивидов.
Истинность суждения (ß) не столь очевидна. Но мы
условились считать, что рассматриваемая модель хоть и является
искусственной, тем не менее отражает реальное положение дел в
коммуникативной эпистемологии. Это означает, что сторонники КП
сами в идеале стремятся к тому, чтобы элиминировать всякие
условия «монологичности» или, как ее называет Апель,
«методического солипсизма». Что это означает? В нашем случае это значит,
что всякий участник коммуникативного общения должен
минимизировать свое «индивидуальное» во имя коллективного. Ведь
если спросить сторонников КП: «Почему не существует
монолог?», то в ответ мы услышим: «Потому что не существует чистых
индивидов». Далее. Ведь каждый индивид, потому и Индивид, что
является продуктом общественных отношений (К. Маркс),
совокупностью коммуникативных действий (Ю. Хабермас), Я
которого равно трансцендентальному сообществу (К.О. Апель). Другими
словами, «языком индивида» говорят общественные отношения,
действия, ценности, регулятивы и нормы. Но именно такое
понимание природы индивида отражает суждение (ß).
Следовательно, если суждения (а) и (ß) верны, то мы имеем
право сделать, опираясь на их содержание, вывод:
у) КС состоит из индивидов, каждый из которых в отдельности не
обладает ничем, что не являлось бы результирующим действием КС.
154
Ч асть II. Общение вместо обобщения в философии
Очевидно, что мы пришли к абсурду. Ибо, если у каждого
индивида в отдельности нет ничего, чего бы не содержалось «во всем
КС», то в самом КС должно содержаться это «нечто», что
заполняет пустоту отдельного индивида. Но поскольку все КС состоит из
индивидов, в каждом из которых ничего не содержится, то и само
«КС индивидов», взятое в несобирательном смысле, ничего в себе
содержать не может.
Слабый тезис: «Коллектив первичен, а индивид вторичен».
Дело могут оспорить таким образом, что, мол, конечно, не
существует таких «чистых индивидов», которые бы не обладали
вообще никакой индивидуальностью. Индивидуальность есть в
каждом, другое дело, что эта индивидуальность «вторична» в
отношении к «первичности» коммуникативного сообщества.
Рассмотрим аргумент о первичности КС и вторичности
индивида. Опять сформулируем два утверждения:
а) КС, которое первично, состоит из индивидов, индивидуальность
которых вторична;
ß) каждый индивид обладает индивидуальностью, в которой нет
ничего, что превосходило бы первичные свойства, являющиеся
результирующим действием КС;
Объединение суждений дает вывод:
у) КС, которое первично, состоит из индивидов, обладающих
индивидуальностью, в которой нет ничего, что превосходило бы
первичные свойства, являющиеся результирующим действием КС.
Мы снова приходим к абсурду. Ведь если
«индивидуальность» отдельно взятого индивида вторична по отношению к
«коллективности» КС, то, следовательно, все КС состоит из
индивидов, индивидуальные свойства которых вторичны по
отношению к коллективным свойствам всего КС. Но мы
условились понимать КС в несобирательном смысле, т.е. во всем
КС нет ничего, чего бы не содержалось в совокупности
«индивидуальностей» индивидов, его составляющих, и
соответственно и в самом КС нет ничего, кроме «индивидуальностей»
индивидов, его составляющих. Раз так, то «коллективные»
свойства КС не могут быть первичны по отношению к
«индивидуальным» свойствам индивида. Следовательно, тезис о
«первичности КС по отношению к вторичности индивида»
является также ложным.
А.И. Павленко. Коммуникативная доктрина морали и нрава
155
Здесь важно иметь в виду, что, поскольку мы остаемся в
области эпистемологии, пониманию сути критики только что
сформулированных аргументов могут мешать обыденные представления,
которые по аналогии переносятся рассуждающим на
эпистемологическую область. Поясним это положение.
Представим, что на пешеходной тропе после урагана
обнаружили камень весом в тонну. Понятно, что отдельный индивид,
каким бы сильным он ни был, не в состоянии передвинуть его к
обочине. Однако, если придут 15 индивидов и сообща, т.е.
коллективно, сложив усилия каждого, этот камень сдвинут. Таким образом,
двигать камень будет не отдельный индивид, а коллектив
индивидов, который является в данном случае простой суммой сложения
физических усилий отдельных индивидов. Как и в рассмотренных
тезисах, здесь коллектив не понимается в собирательном смысле.
В нем нет ничего, помимо сложения способностей отдельных
индивидов. Это простой пример по механическому перемещению тела в
пространстве.
Однако если усложнить задачу и «попросить» коллектив,
по-прежнему понимаемый в несобирательном смысле, не
передвигать камень, а доказать теорему, написать симфонию или
поэму, то ситуация окажется принципиально иной. Даже сложив
усилия 15 способных к этому роду занятий людей, мы не получим ни
доказанной теоремы, ни написанной симфонии, ни поэмы1.
В чем дело?
Дело, нам кажется, в том, что коммуникативное объединение
действий индивидов в рациональной области не может «слагаться»
так же, как оно слагало бы эти действия по механическому
перемещению тела.
Главный вывод, который мы хотим сделать, опираясь на
рассмотренные аргументы, состоит в следующем: само по себе
общение (сама по себе коммуникация) ничего не прибавляет к тому, что
уже содержит индивид.
Однако какое отношение этот общий вывод имеет к
обоснованию морали и права? Хабермас говорит: «Моральная точка зрения
не может быть обретена в каком-либо "первом" принципе или в
каком-либо "последнем обосновании", т.е. за пределами круга са-
1 Превосходной иллюстрацией этому служат истории «творчества» союзов
композиторов, союзов писателей и прочих союзов.
156
Часть II. Общение вместо обобщения в философии
мой аргументации»1. В данном случае «аргументация»
тождественна «коммуникации». Следовательно, моральная норма (точка
зрения) не может быть обретена за пределами коммуникации.
Таким образом, индивид - субъект моральных отношений -
обретает мораль именно в коммуникации, а ему самому она не присуща
изначально. Ведь не существует же «морали одного-единственно-
го человека».
Дело могут оспорить таким образом, что обнаруженные выше
трудности — слабый и сильный тезисы о чистом индивиде —
имеют отношение к творчеству, а последнее, как известно, считается
индивидуальным процессом. Но мораль и юриспруденция
изначально ориентированы на сообщества и коммуникацию, а к ним
эти аргументы прямого отношения не имеют. Действительно ли
это так?
Попробуем транспонировать аргумент о «чистом индивиде»
на моральную сферу:
а) коммуникативное сообщество состоит из индивидов;
ß) каждый индивид в отдельности (чистый индивид) не обладает
способностью выработки моральных норм.
Соединив высказывания, получим итоговое выражение:
у) коммуникативное сообщество состоит из индивидов, каждый из
которых в отдельности (чистый индивид) не обладает
способностью к выработке моральных норм.
Очевидно, что если мы понимаем КС в несобирательном
смысле, то оно само, с учетом полученного вывода, не в состоянии
выработать никакие моральные нормы.
Необходимо признать, что сторонники КП редко утруждают
себя строгим логическим анализом своих понятий. Но, как мы
убедились, введение различия по основанию быть собирательным
или несобирательным уже дает ощутимые результаты.
Продолжим логический анализ.
Следует ли из всего изложенного, что КС вообще не обладает
способностью вырабатывать моральные нормы? Нет, не следует.
Поясним. Например, индивид может быть «плотником» или
«математиком» вне зависимости оттого, существуют другие
индивиды как плотники или как математики. Совсем другое дело, когда
индивид является «дядей» или «отцом». В этом случае изначально
Хабермас. С. 246.
А.Н. Павленко. Коммуникативная доктрина морали и нрава
157
предполагается наличие функциональных отношений: нельзя
быть дядей без «племянника» или «племянницы», равно как
нельзя быть отцом без «сына» или «дочери».
Вопрос ставится прямо: имеют ли моральные и юридические
нормы предикативную природу, как в первом случае, или все же
функциональную, как во втором случае?
Можно было бы допустить, что человеческое творчество
предикативно, а моральные и юридические нормы по своей природе
функциональны. Ведь если они имеют предикативную природу, то
это означает, что предикат может приписываться свободным в этом
приписывании субъектом, т.е. правовая и моральная норма имеет
индивидуальную природу. «Приписываться» в терминологии КП
означает, что моральная норма конституируется как безусловное в
отношении к коммуникации начало. Так понималось «право
сюзерена», «заповеди Моисея», законы Нумы («Десять таблиц») и т.д.
Особенность такого типа норм заключается в том, что они
генерировались и формулировались не сообществом, а отдельным
индивидом. Однако такое объяснение может быть интерпретировано
сторонниками КП как пережиток еще недостаточно развитой фазы в
становлении морального и правового сознания. В их терминологии
это, так сказать, докоммуникативныйуровенъ. Отсюда и
предикативная природа морального и правового статуса указанных норм.
Отсюда же и их конститутивный статус — именно как норм, утверждаемых
отдельным индивидом, а не вырабатываемых (возгоняемых) в
коммуникации многими индивидами сообща и одновременно.
Хабермас, не употребляя привычную логическую
терминологию, по существу настаивает на том, что морально-юридические
связи носят функциональный характер: нет интеракции
различных участников дискурса — нет и морально-юридических норм.
Действительно, функциональная стратегия объяснения
реальности сегодня чрезвычайно востребована. Здесь нам возразить
совершенно нечего. На первый взгляд функциональная модель
обоснования морали кажется безупречной. Но так ли это на самом
деле?
Для ответа на этот вопрос рассмотрим возможные сдвиги угла
рассмотрения морали и права:
1) Хабермас и его единомышленники совершенно обходят стороной
так называемую этику окружающей среды (инваэроментальную
этику);
158
Ч асть 11. Общение вместо обобщения в философии
2) Хабермас и его единомышленники совершенно обходят стороной
так называемую биомедицинскую этику.
Мы вправе спросить: почему? Можно выдвинуть
предположение: и та и другая не вписываются в «коммуникативную
стратегию», в основании которой, конечно, лежит специфически
понятый антропоцентризм.
Это означает, что в основании коммуникативной этики лежит
общество и только общество людей. Помимо общества и его внут-
ри-себя-коммуникации не существует никаких моральных и
правовых отношений.
Если мы говорим об этике окружающей среды, то это все
равно «аргументативный процесс между людьми» по поводу
отношения к «окружающй среде». Если мы говорим о биомедицинской
этике, то это все равно «аргументативный процесс внутри КС» по
поводу статуса «плода», «пациента» и т.д. Суть в том, что ни
«плод», ни «окружающая среда» не являются субъектами морали и
тем более субъектами правовых отношений.
По существу нам предлагается все та же социоцентристская
модель, которую мы видели в марксизме и которая теперь
получает перелицованное выражение в коммуникативной программе.
С нашей точки зрения, антропоцентризм и его разновидность со-
циоцентризм, как бы они не меняли свое внешнее выражение,
существенно сужают область поиска моральных и правовых
оснований.
Скажем, в этике окружающей среды в функциональные
отношения фактически вступают два актора - «человеческий
индивид» и «окружающая среда». Но с «мертвой природой» антропо-
центрированная коммуникация невозможна. «Мертвая природа»
коммуникативно безмолвна. Резонно спросить: почему?
Естественный ответ сторонника КП был бы следующим: окружающая
среда не способна аргументативно (сознательно и ответственно)
участвовать в коммуникации с человеком в поисках достижения
консенсуса. Может быть, она и пытается что-то сказать, но уж
очень нечленораздельно.
С «плодом в чреве матери» та же ситуация. Он тоже не
способен аргументативно (сознательно и ответственно) участвовать в
достижении консенсуса с другими участниками интеракции. Ведь
консенсус достигается в вербальной аргументации, которая плоду
недоступна.
А.И. Павленко. Коммуникативная доктрина морали и нрава
159
Очевидно, что это — кричащие родовые пределы, если не
сказать тупики, антропоцентризма в целом, и тем более такой его
видовой формы, каковой, без сомнения, является коммуникативная
программа.
* * *
Означает ли все сказанное выше, что коммуникативный
подход в объяснении природы морали и права абсолютно
несостоятелен? Конечно, нет, иначе зачем было посвящать этому целую
работу. Было бы наивно отрицать роль коммуникации в качестве
необходимого условия передачи знания, обучения, критики,
обсуждения и т.д. Но полагать, что коммуникация сама по себе
содержит нечто большее (дает нечто большее), чем уже наличествует у
совокупности общающихся индивидов или онтологически
охватывает всех реальных участников нашего мира, который отнюдь
не ограничивается человеком, мнящим себя господином
природы, значит, неминуемо сталкиваться с теми абсурдными
следствиями и тупиками, которые были рассмотрены нами выше.
H.A. Касавина
Точки роста в социально-гуманитарных
науках: уроки экзистенциальной
философии
Развитие науки постоянно актуализирует необходимость
осмысления трансформаций научного знания, методологии, значения
основных категорий и философской картины мира. Особый интерес в
этой связи вызывают эпохальные изменения - от философии
Нового времени, представляющей классические варианты философских
вопросов о сущности познания, знания, опыта, через философию
конца XïX-начала XX в., сформировавшую новые подходы в их
обсуждении, к философии современности, сочетающей классические
и неклассические образцы научного мышления. Эти изменения
коснулись разных проблем философии и науки. В частности, это
проявляется в том, как в социологии, психологии, лингвистике,
социальной антропологии учитываются смысложизненные,
ценностные и личностные факторы познания, деятельности и общения.
Можно отметить, что в последние десятилетия
социально-гуманитарные науки все более явно воспринимают уроки
экзистенциальной философии. Более того, не будет преувеличением сказать, что
отношение философии и отдельных наук к роли экзистенциальных
переживаний в жизни человека является своего рода показателем ее
гуманистического, демократического, а также ее
«неклассического» характера.
1. Движение к субъекту: персонализация опыта
и конкретизация бытия
В философии, социологии, психологии произошли
существенные изменения в учете и интерпретации феномена
экзистенциального. Сосредоточимся на рассмотрении некоторых
методологических трансформаций в философии и социологии,
связанных с проблемой экзистенциального опыта, который
структурирует переживания, инициирует осмысление отдельных
аспектов человеческого существования, формирование
установок и ценностей.
H.A. Касавина. Точки роста в социально-гуманитарных науках
161
Начало XX в. как будто подводит черту большой исторической
эпохи, которая ознаменована существенными изменениями в
философской проблематике и научной картине мира. Особенность
классической философии и классической науки проявляется в
ориентации на познавательный объект, в то время как освоение
субъективного мира отходит на второй план. Субъект познания
предстает лишенным индивидуальных черт, преобладает
идеализация ученого, что в целом продолжает парадигму Нового
времени. Соответственно в классических теориях не были развиты
средства теоретического осмысления субъективности, что
восполнили последующие философские поиски1.
Однако к этому времени готовится и в чем-то уже наступает
перелом в философии, определяются течения, идущие вразрез с
важнейшими направлениями мысли Нового времени. Ее
принципы переосмысливались прежде всего в рамках
экзистенциального, герменевтического и феноменологического направлений,
развитие которых осуществило поворот к субъективным,
личностным элементам опыта. Их представители включили в поле
философии жизненный мир человека, способствуя новому
пониманию его места в процессе познания. Они обратились к
смысловому контексту науки, переориентировав европейские традиции
не только научного творчества, но и искусства2. На новое
отношение к человеку явно повлияла и философия жизни с ее актуализ-
мом, критикой рационализма, естественных наук, а также
прагматизм, прежде всего в лице У. Джеймса, видевшего цель
философии в создании метода решения тех проблем, которые встают
перед людьми в различных жизненных ситуациях.
В известной цитате В. Дильтея звучит критика в адрес
классической эпистемологии: «...предшествующая теория познания...
объясняет опыт и познание, исходя из фактов, принадлежащих к
области голого представления. В жилах познающего субъекта,
какого конституируют Локк, Юм и Кант, течет не настоящая кровь,
1 Хотелось бы отметить, что и у представителей классического эмпиризма
можно в той или иной форме найти обращение к роли переживаний в опыте,
касающихся восприятия, представления, поведения и других его составляющих,
которые можно назвать экзистенциальными. Примером является философия
аффектов Д. Юма, которая в сущности связана с поиском неотъемлемых,
фундаментальных оснований человека и человеческого существования.
2 См. анализ этих изменений: Маркова Л.А. Человек и мир в науке и искусстве.
М.,2008.
162
Часть II. Общение вместо обобщения в философии
а разжиженный сок разума в виде чисто мыслительной
деятельности»1.
Дильтей, как и первые позитивисты, противостоял
метафизике, однако в противовес им утверждал своеобразие духовного
мира и методов его исследования. Он ставил перед собой задачу
философски обосновать принципы исторического познания исходя
из «внутреннего опыта» и фактов сознания, связанных с ним. Его
не удовлетворяет причинно-следственная модель сознания, мир
научных абстракций, из которого исключен сам человек.
Абстрактный субъект у Дильтея обретает новые характеристики —
характеристики «жизни». Теория познания, согласно В. Дильтею,
должна брать за основу человека в многообразии его сил и
способностей как «воляще-чувствующе-представляющее существо», а
абстрактное мышление сопоставлять с «совокупностью
человеческой природы, какой ее являют опыт, изучения языка и истории»2.
Особая роль в аспекте нового поворота в понимании человека
и проблеме познания принадлежит позднему Э. Гуссерлю,
который обосновывает необходимость внимания к жизненному миру
как смысловому фундаменту науки. Феноменология, сделавшая
опыт одним из базовых понятий, вынесла априорные формы,
относящиеся у И. Канта к чувственности и категориям, за пределы
более узко понимаемого познания. Под влиянием Гуссерля, а
также Ф. Брентано, В. Дильтея, М. Шелера, М. Мерло-Понти опыт
человека уже характеризуется в более широком смысле как
система значений, открывающая доступ к постижению специфики
человеческого бытия, нуждающаяся в расшифровке через такие
понятия, как сознание, понимание, переживание, психическое,
смысл, экзистенция, диалог, коммуникация и т.д.
Открытие философской феноменологии среди прочего в том,
что к смыслу приходят не в результате рассудочной рефлексии,
она лишь придает экзистенции понятийную форму. Опыт
индивида, включающий оценки, образцы и критерии поведения,
восприятия ситуаций, воспоминания, надежды и мечты, имеет
экзистенциальную основу. Феноменологи ищут базисные структуры
человеческого сознания, и находкой, открывающей доступ к сфе-
1 Дильтей В. Введение в науки о духе. Опыт построения основ для изучения
общества и истории // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX вв.
Трактаты, статьи, эссе. М., 1987. С. 111.
2 Там же.
H.A. Касавина. Точки роста в социально-гуманитарных науках
163
ре имманентного опыта, выступает феноменологический метод
как рефлексия над совокупной жизнью сознания.
М. Хайдеггер, назвав свою философию фундаментальной
онтологией, тем самым определил ключевую роль
экзистенциального опыта и первичность экзистенциальных проблем личности в
отношении других форм опыта. Философы-экзистенциалисты
М. Хайдеггер, К. Ясперс, Г. Марсель, Ж.П. Сартр привнесли в
философию новые психологические и феноменологические приемы
анализа, впервые исследовали с их помощью ранее не
интересовавшие философию сферы межличностного общения («событие»,
«бытие-для-другого» Хайдеггера, «Ты», «коммуникация» Ясперса
и т.д.). Возникла новая философская проблематика.
Экзистенциализм утвердил в философии приоритеты конкретного бытия,
существования, мышления о «здесь» и «сейчас», создал новую
версию онтологии.
Признавая главной предпосылкой научного метода наличие
объектов с конечным набором свойств, постигаемых путем
объективного исследования, экзистенциальный подход направлен
«сквозь» и «вовне» субъект-объектного расщепления. Человек
представляется даже не как субъект, который при определенных
условиях может воспринимать внешнюю реальность, но как
сознание, участвующее в построении реальности. При этом речь не
идет о полном отказе от рационально-объективного знания,
скорее подразумевается пересмотр его монополии и углубление
общефилософского дискурса за счет обращения в качестве нового
способа постижения действительности к чувствам, переживаниям
и опыту человека в современном мире.
Все эти трансформации говорят об изменении значения и
роли субъекта в XX в., несмотря на то, что философия Нового
времени уже осуществила субъектоцентрический сдвиг. Недоверие
познающему субъекту, свойственное Новому времени, приближает
к пониманию ущербности его внутреннего мира по сравнению с
объективным знанием, и, наоборот, принцип доверия
познающему субъекту позволяет рассматривать это богатство внутреннего
мира как базис, объединяющий внелогические, латентные
аспекты знания. Согласно Л.А. Микешиной, обстоятельно
рассмотревшей проблему доверия субъекту познания, с этих позиций были
оценены когнитивные возможности экзистенциального опыта в
неклассической эпистемологии, которая уходит от понятия абст-
164
Часть II. Общение вместо обобщения в философии
рактного гносеологического субъекта и стремится понять
субъекта познания в единстве трансцендентальных и эмпирических
характеристик, познания и переживания. Предусматривалось, что
теория познания должна строиться не в отвлечении от человека,
но на основе доверия человеку как целостному субъекту
познания. Таким образом, была признана глубинная основа
понимающего и интерпретирующего субъекта как целостности,
характеризующаяся предзнанием и выступающая предпосылкой познания1.
В работе, посвященной категории жизни и проблемам
современной эпистемологии, Микешина пишет: «современная
эпистемология нуждается в такой категории субъекта, когда он
понимается не "дуалистически", но в своей целостности, "содержащей в
себе все", не только когнитивные, логико-гносеологические, но и
экзистенциальные, культурно-исторические и социальные
качества, участвующие в познании. Иными словами, целостного
человека, замененного "частичным" гносеологическим субъектом в
традиционной теории познания, необходимо на новом уровне
вернуть в современную эпистемологию, сочетающую
абстрактно-трансцендентальные и экзистенциально антропологические
компоненты»2.
Эти изменения позволили существенно расширить сферу
анализа познавательной деятельности. В неклассической философии
познание уже охватывает всю сферу производства и использования
смыслов, а сам исследователь как субъект познания предстает в
большей целостности, в опыте смыслоотнесенности к миру. Особую
значимость в понимании проблем познания обретают переживания,
без которых путь человека к смыслу не может быть прояснен.
На этой волне в XX в. в ряде направлений философии ставится
вопрос о влиянии особого опыта существования человека —
экзистенциального как способа упорядочения жизненных
переживаний на основе совокупности смысложизненных ценностей,
познания личностью своего назначения, смысла присутствия в
мире, ответственного выбора и принятия решений в условиях
фундаментальной поляризации структур жизненного мира. Это
явилось движением к учету природы персонального опыта лично-
1 См.: Микешина Л А. Принцип доверия человеку познающему: аргументы за и
против//Л.А. Микешина. Философия познания. Полемические главы. М., 2002.
2 Микешина Л.А. Эмпирический субъект и категория жизни // Эпистемология
и философия науки. 2009. № I. С. 7-8.
H.A. Касабина. Точки роста в социально-гуманитарных науках
165
сти в ее отношении к себе и к миру, конкретности ее
существования, ее бытия-в-мире, вне которого она немыслима. Познание и
деятельность стали рассматриваться в более широком
социокультурном контексте, в аспектах интерпретации, выражения в языке
и в других системах значений.
В целом неклассические стандарты рациональности, уходя от
идеи эпистемической исключительности науки, поставили рядом
с ней эти формы экзистенциального опыта, что в перспективе
позволяло говорить о единстве познания и переживания, познания и
экзистенциальное™ как предпосылке философского постижения
природы человека.
2. Ракурсы неклассической социологии
В социологии переосмысление позитивистской концепции
исследования, возникшей в век развития естествознания и
направленности науки на опытное знание, можно сопоставить с
изменениями классической парадигмы научного познания в философии.
Ранее представлялось, что естественно-научный метод можно
распространять на социальные и метафизические феномены, в
том числе мораль, право, общественное устройство. Механика
И. Ньютона и эволюционная теория видов Ч. Дарвина определяли
стиль научного мышления и наложили отпечаток на процесс
формирования наук об обществе, которое рассматривалось как
объективное явление наряду с природой. Общая позиция позитивизма в
познании социальной реальности может быть выражена через
следующие исходные принципы:
о интерес к поиску общих теорий социальной науки,
необходимость универсального мышления, направленность на
объективное исследование социальной реальности;
О выделение в исследуемом объекте общего, повторяющегося, в
ущерб специфическому, индивидуально конкретному;
О сведение качественного многообразия явлений к сумме
относительно простых элементов или законов;
О представление социальной реальности как более или менее
автоматического взаимодействия безличных социальных факторов и сил.
На рубеже XIX—XX вв. наблюдается методологический
кризис позитивистского эволюционизма, господствовавшего в
обществоведении второй половины XIX в. Открытия, породившие
166
Часть II. Общение вместо обобщения в философии
кризис в физике и классическом естествознании, серьезно
затронули теоретические и методологические основания социогумани-
тарных наук. У истоков этой философской критики, приведшей к
формированию новой научной парадигмы в социологии, стояли
В. Дильтей и ведущие теоретики баденской школы
неокантианства В. Виндельбанд и Г. Риккерт. Их последователями в разной
степени выступили неокантианцы, Г. Зиммель, М. Вебер, Ч. Кули,
Ф. Знанецкий, П. Сорокин и многие другие.
Позитивистски социологическая методология не направлена
на глубинные основания социального существования, которые не
всегда поддаются изучению с помощью общепринятых
социологических методов. Представители «новой» социологии считали
позитивистскую социологию ограниченной, устремленной к
фактам и попавшей в плен «фактического материала». Ее упрекали за
натурализм, механицизм, недооценку «человеческого» фактора,
игнорирование специфики социальных явлений.
Антипозитивистские течения, на которые оказали влияние
принципы экзистенциализма, феноменологии, герменевтики,
напротив, подчеркивают специфику социальных объектов и
методов познания, противопоставляя общественные науки
естественным. Во главу угла ставится познание индивидуального,
субъективного, будь то отдельная личность или историческая
эпоха. Антипозитивизм интересует не столько объективная
детерминация социальных явлений, не механическая причинность,
свойственная природе, сколько факторы духовного,
экзистенциального порядка — смысловое содержание поступка, мотивы и
сознательная ориентация действующего лица на те или иные
нормы, ценности. Это выступило как обращение к индивиду,
конкретности, контекстуальное™, ситуации. Сторонникам
направлений неклассической социологии чуждо представление о
социальной реальности как независимой от человеческого
сознания и опыта. По мысли Е.И. Кравченко, она рассматривается как
пребывающая в постоянной незавершенности и творении,
достраивающаяся в общении и действии не только в зависимости от
предшествующих событий, но и по направлению к тому, что еще
не явлено, а существует как идея, намерение1.
1 Интересная интерпретация изменений классической социологии
представлена в статье: Кравченко Е. И. Теория социального действия: от Макса Вебера к
феноменологам // Социологический журнал. 2001. № 3.
H.A. Косовина. Точки роста в социально-гуманитарных науках
167
Различные по своим методологическим основаниям и
концептуальному оформлению стратегии изучения личности и
личностной проблематики оформились в неклассический период
развития социологии. Альтернативу общесоциологическому
знанию, ориентированному на позитивистско-объективистские и
рационалистские исследовательские стратегии, составляют
теории, которые можно объединить под названием «социология
повседневной жизни».
Здесь выделяются такие направления, как символический ин-
теракционизм и феноменологическая социология, которые
включают в себя драматургическую социологию И. Гофмана, этноме-
тодологию, когнитивную и экзистенциальную социологию.
Под влиянием В. Дильтея была акцентирована роль
внутреннего опыта, внутреннего переживания, непосредственного
наблюдения человека над самим собой и другими людьми и
отношениями между ними как материала наук о духе. Следует отметить,
что Дильтей считал предметом психологии непосредственное
переживание, так как в силу своего индивидуального характера оно
недоступно для социологии. Однако многие годы в рамках
социологии осуществлялся поиск способов такого исследования.
Социологами была осознана необходимость изучения внутреннего
опыта. Так, целью социологии в понимании, например, А. Шюца
является представление о «процессах определения значений и
понимания, которые осуществляются внутри индивидов, процессах
интерпретации поведения других людей и процессах
самоинтерпретации»1. Подразумевалось, что социальная наука должна не
просто признать влияние личностного компонента, но и
исследовать его в процессе исследования как важный фактор социальной
жизни и социальных изменений. Т.М. Дридзе назвала это
поворотом теории социального познания и социального действия лицом
к живому человеку, обитающему в многослойной жизненной
среде и эволюционирующему в процессе непрерывной обратной
связи с ней2.
Социология, до сих пор концентрирующаяся на сугубо
рациональных аспектах социальной жизни и социального действия че-
1 Schutz Л. Phenomenology and the Social Sciences // Collected Papers I: The
Problem of Social Reality. The Hague: Martinus Nijhoff, 1962. P. 492.
2 См.: Дридзе Т.М. Две новые парадигмы для социального познания и
социальной практики // Россия: трансформирующееся общество. М., 2001.
168
Часть II. Общение вместо обобщения в философии
ловека, обратилась к иным сторонам социальных отношений.
Возникла потребность обратить внимание на том, что человек, не
только испытывающий влияние общества, но и создающий
социальную реальность, чувствует и переживает. Так, этнометодологи
исходят из того, что поступки людей и их отношения друг с другом
определяются не столько объективно существующими
структурами и нормами, сколько «ощущением», «чувством» этих структур
(a sense of social structure)1. Критика объективистского подхода в
социологии во многом связана с обращением к
экзистенциальному ракурсу социального взаимодействия, социальных связей и
отношений. Это особенно касается экзистенциальной социологии,
возникновение которой относится к 1960-1970 гг. Начало ее
концептуализации положено в работах Э. Тириакьяна, Дж. Дугласа,
Дж. Джонсона, А. Фонтана, П. Мэннинга, Дж. Хейма и др.2.
По мнению Тириакьяна, в классической социологии
слишком много внимания уделяется «поверхностным»,
институциональным социальным феноменам вместо того, чтобы обратиться
к предшествующей им сфере социального существования (в
философии: формы жизни Л. Витгенштейна, верования X. Орте-
ги-и-Гассета). Эта глубинная экзистенциальная сфера мыслится
им как предмет экзистенциальной социологии, которая должна
изучать проявления экзистенциального измерения
человеческого бытия (уже описанных разными экзистенциальными
мыслителями) в социетальной экзистенции3. Получается, что
проблемы, сопутствующие бытию человека в мире и соответствующие
предмету экзистенциальной философии, изучаются
экзистенциальной социологией в рамках бытия человека в обществе. Это
свобода и ответственность, сопричастность миру и обществу
через ориентацию на других, неизбежность осмысления своей
жизни, своих поступков и тех событий, с которыми сталкивается
личность.
1 См.: CicourelA. Cognitive Sociology: Language and Meaning in Social Interaction.
L. : Macmillan, 1973. P. 27.
2 Рассмотрение позиции и становления экзистенциальной социологии см.:
Мельников А. Проблемное поле экзистенциальной социологии // Социология:
теория, методы, маркетинг. 2008. № 2. С. 83-102; Мельников А. Социетальная
экзистенция: за и против // Социология: теория, методы, маркетинг. 2007. № 1.
С. 92-104.
3 См.: Tiryakian Е. Sociologismand Existentialism: Two Perspectives on the
Individual and Society. Englewood Cliffs (NJ.). 1962. P. 163.
H.A. Касавина. Точки роста в социально-гуманитарных науках
169
Проблема смысла и бессмысленности существования
находится в тесной взаимосвязи с качеством и условиями социальной
жизни, пути ее разрешения во многом определяются
конкретными особенностями социализации личности в определенной среде.
Различные аспекты этой проблемы могут являться
составляющими социологического исследования. В связи с этим важно, какие
смысложизненные установки включены в структуру личности,
как они влияют на социальное поведение индивида, его
социальное окружение и на поддержание тех или иных способов
социального взаимодействия, а также: каковы социальные проявления
утраты смысла жизни и, напротив, ощущения подлинности или
аутентичности существования.
Составляющей экзистенциальной социологии является
интерес к феноменам одиночества и, напротив, к переживанию
личностной включенности в жизнь общества, культуры, в социальные
группы, социальные связи и отношения. Экзистенциальная
социология исследует то, как состояние одиночества и отсутствие
экзистенциальной коммуникации влияют на социальные
действия и связи индивида, в какой степени общество способно
поглощать или, наоборот, порождать индивидуальное одиночество.
Проблема одиночества и экзистенциальной коммуникации
становится особенно актуальной с возникновением нового типа
социальности - массового и информационного общества.
Важнейшей проблемой экзистенциальной социологии
становится социальное конструирование смыслов, а также связь этих
смыслов с социальными действиями. На языке социологии это чаще
характеризуется как связь ценности и социального поведения. Еще
под влиянием В. Виндельбанда и Г. Риккерта понятие «ценность»
входит как в теоретическую социологию, так и в практику
проведения конкретно-социологических исследований. В этом процессе
важную роль сыграл М. Вебер, предпринявший социологическую
интерпретацию понятия ценности. Согласно Веберу, осмысленным
человеческое поведение предстает лишь в соотнесении с
ценностями, в свете которых находят свое выражение индивидуальные цели и
нормы поведения людей. Эту связь Вебер подробно прослеживает в
ходе социологического анализа религии, которую он рассматривает
как источник смыслообразующих ценностей.
Сегодня ценности становятся важным атрибутом
социологических исследований, напрямую не связанных с ними. Не только
170
Часть II. Общение вместо обобщения в философии
экзистенциально ориентированная социология, но другие ее
направления обращаются к аксиологическим основаниям
социального бытия. Полученные с помощью количественных или
качественных методов данные о ценностных предпочтениях,
ценностных ориентациях индивидов и групп могут дать представление о
тех проблемах, которые затрагиваются в данном социологическом
исследовании. Это отвечает экзистенциально-гуманистическим
ориентирам методологии социологического исследования,
соответствующим особому пониманию личности — способной к
творческой активности, способной делать выбор и нести
ответственность за его осуществление1.
Здесь, конечно, могут быть возражения. Так, позицию
Э. Тириакьяна «...социология — это неотъемлемая часть
экзистенциального целого общества...»2, Е.И. Кравченко
характеризует как странную, противную самому духу экзистенциализма
подмену. Получается, чтоТириакьян наделяет общество личной,
ответственной открытостью бытию. Существование, присущее
именно и только человеку как воплощенному духовному
существу, обладающему сознанием и свободой, объективируется до
уровня социальной общности. «Психологическая реальность»,
созданная интерсубъективным сознанием действующих
индивидов, присутствует в их экзистенциальном опыте, поэтому не
может быть сведена к надындивидуальным фактам,
фиксированной во времени и пространстве структуре. Согласно Кравченко,
пытаясь сохранить экзистенциальный колорит своих
социологических воззрений, Тириакьян оказывается не в состоянии
удержать даже феноменологический и в итоге вынужден сосредо-
читься на внешних условиях протекания действия, нормативах и
ограничениях3.
В том, что касается экзистенциального опыта и возможностей
его изучения социологией, можно сказать следующее.
Экзистенциальный опыт как непосредственные эмоциональные пережива-
1 Интересным примером в связи с этим выступает следующее социологическое
исследование: Готлиб A.C. Социально-экономическая адаптация россиян: опыт
сочетания количественной и качественной методологии в одном отдельно взятом
исследовании // Социология: 4M. 2000. Ноябрь. № 12. С. 5-24.
2 Tiryakian Е. Introduction // The Phenomenon of Sociology: Reader in the
Sociology of Sociology / Ed. by E. Tiryakian. N.Y. : Meredith Corp., 1971. P. 27.
3 Кравченко Е.И. Указ. соч.
H.A. Касавина. Точки роста в социально-гуманитарных науках
171
ния личности связаны с особо значимыми событиями жизни
человека, которые оформляются в ценностно-смысловые
параметры его отношения к реальности и самому себе. Переживание
впоследствии либо получает рациональное оформление,
осознание, либо вытесняется в область арефлексивного, существуя
«за кадром», но в той или иной мере определяя стремления и
поступки личности. Как непосредственное переживание, порой
предельное, экзистенциальный опыт малодоступен для
социологического исследования. В этом смысле экзистенциальный опыт
сугубо индивидуален, решение, казалось бы, универсальных
экзистенциальных проблем есть всегда их преломление через
индивидуальное становление. Индивидуальная приоритетность
личностного опыта свойственна феноменологической
интерпретации опыта сознания, восходящей к трансцендентальной
феноменологии Э. Гуссерля. Это всегда опыт персоны, личности,
а не сообщества, и он имеет экзистенциальную основу, несет в
себе глубокую индивидуальность, интимность, смысл для себя,
образуя основу персональной идентичности. В данном случае
личностный опыт и есть опыт экзистенциальный, сопряженный с
переживанием, приводящий не просто к знанию как элементу
опыта, а к личностно-пережитому знанию.
Социологическому исследованию экзистенциальный опыт
доступен в большей степени как рациональное оформление,
обобщение переживаний, которое приводит к тем смыслам,
ценностям, которыми индивид руководствуется в жизни. В этой связи
экзистенциальный опыт можно рассматривать не только как
непредсказуемый, скачкообразный процесс, развивающийся через
предельные переживания, но и как кумулятивный результат
жизни человека, итог ситуаций, которые он проживал с детства,
обретая образцы и модели поступков, критерии оценок. Используя
феноменологическую терминологию, это можно назвать
«седиментация» или «осадок» (А. Шюц) прожитой жизни, который
вбирает переживания человека. Этот опыт формируется, в том
числе и постепенно, последовательно, что может происходить и
непосредственно, и опосредованно. В последнем случае он
вырастает из сопереживания, восприятия жизненных ситуаций,
происходящих с другими, посторонними людьми, а также через
искусство, особенно литературу, театр, кино, предлагающие
экзистенциальные ситуации в объективированном виде произведения
172
Часть II. Общение вместо обобщения в философии
культуры. В этом случае человек взаимодействует с коллективным,
культурно-историческим типом экзистенциального сознания,
сформированным на определенном этапе развития общества.
Культурно-исторический тип экзистенциального опыта есть
не что иное, как совокупность опредмеченных,
объективированных экзистенциальных переживаний. Экзистенциальный опыт,
обретая в коммуникации языковую и символическую форму,
становится социальным, фиксирует конкретную фазу в развитии
человека и его мышления, духовных, ценностных ориентиров,
выражает мироощущение человека в конкретную эпоху. Это
феномен не надысторический, как полагали экзистенциалисты, но,
напротив, вбирающий в себя сущностные вопросы личностного
существования, способ решения которых связан с особенностями
культуры, традициями в понимании мира, человека и их бытия.
Экзистенциальный опыт, таким образом, выступает как синтез
индивидуального и надындивидуального: он во многом задан
культурным пространством, но, проходя сквозь время, снова и
снова воспроизводит проблемы личностного существования на
индивидуальном уровне. Эти проблемы, являющиеся не только
уникальными, индивидуальными, но и во многом
универсальными, должны быть приняты во внимание также и социологами в
объяснении ряда социальных процессов и явлений.
Универсальность экзистенциального опыта как необходимой личностной
формы переработки и конституирования опыта социальности
еще предстоит учесть и осмыслить представителям социальных
наук.
Возникает закономерный вопрос, какими средствами
располагает социология в проведении таких исследований, ведь для
изучения экзистенциального опыта человека необходимы особые
методы фиксации значения непосредственных переживаний индивида,
воспроизводства той целостности социальной ситуации, в которую
включен чувствующий, осознающий, принимающий решение и
действующий индивид. Авторы неклассической социологии
теорий концентрируют свое внимание на недосягаемости,
недоступности для исследователя той глубинной личностной реальности, с
которой он имеет дело. Так, А. Шюц пишет о неуловимой сфере
непосредственного опыта Umwelt, в которой собственно и протекает
подлинная совместная жизнь людей; Джордж Г. Мид — об «/» — той
человеческой ипостаси, которая сокрыта за эмпирически явлен-
H.A. Касавина. Точки роста в социально-гуманитарных науках
173
ным обликом; И. Гофман — о едва угадываемом под социальной
маской истинном лице актора. Многомерная социальная
реальность, существующая в том числе в сознании людей, нуждается в
таких познавательных средствах, которые способны «схватить»
это многообразие, изменчивость и переходность. Конечно, это
вопрос, отражающий целую эпоху поиска способов перехода от
индивидуализирующего к генерализирующему методам познания
и обратно, что актуально и на современном этапе развития
социологии.
Рассмотрение проблемы метода социологического
исследования экзистенциального опыта — задача отдельной работы. Мы
обозначим только некоторые пути решения этой проблемы,
нашедшие довольно широкое применение в социологии. Одно из
таких решений — использование методов качественного
исследования, направленных на выявление субъективных аспектов
переживания и действия индивида в ситуациях. Стратегии
ситуативного анализа занимают важное место в
экзистенциально-ориентированной социологии. Идея ситуационной методологии в
общем виде восходит к «идиографическому методу» баденской
школы неокантианства и герменевтике В. Дильтея,
биографическим исследованиям творческого процесса (К. Ломброзо,
Ф. Гальтон, Л. Терман). Она содержит убеждение в уникальности
культурного объекта, невозможности его объяснения на основе
общих законов; понимания и феноменологического описания
как оптимальных методов анализа; ситуационной (т.е.
изменчивой и локальной) детерминации события1.
В связи с этим хотелось бы отметить концепцию Т.М. Дридзе,
которая, критикуя объективистский подход в социологии и
других социально-гуманитарных науках, обращается к понятию
ситуации2. В другой работе она подчеркивает, что ситуации
обладают специфической структурой и конфигурацией, придающей
образу жизни людей характер направленного и непрерывного
процесса, в рамках которого воспроизведение уже известных
(кодифицированных в данной культуре) образцов выхода из
проблемных состояний сменяет рождение новых решений жизненно
1 См.: Касавин И.Т. Ситуационные исследования // Энциклопедия
эпистемологии и философии науки. М., 2009.
2 См.: Дридзе Т.М. Указ. соч.
174
Часть II. Общение вместо обобщения в философии
важных проблем1. Под жизненной ситуацией индивида, которая
исследуется представителями социологии повседневной жизни,
Дридзе имеет в виду совокупность значимых, т.е. втянутых в
орбиту его жизнедеятельности, событий и обстоятельств,
оказывающих влияние на его мировосприятие и поведение в некоторый
конкретный период его жизни.
Ситуация, или событие, может выступать единицами
построения нарративных методов исследования, например
автобиографического нарратива. Так, под событием A.C. Готлиб
предлагает понимать отрефлексированное, сохранившееся в памяти и
наделенное «насыщенным описанием» действие или случай,
которые совершались, происходили или созерцались как
происходящие на определенном отрезке пространства и времени
жизни субъекта, в особенности если с ними было связано что-то
важное для него2. Осмысленное событие демонстрирует
особенности формирования индивидуального жизненного опыта,
которые могут быть выявлены через повествование о себе
(автобиографический нарратив) - субъективно упорядоченный
живой опыт уже состоявшихся фрагментов жизненного пути. Этот
опыт позволяет выйти и на обобщенные, объективные знания о
предмете исследования через стандартизацию несущего
информацию материала.
3. Итоги
Современный неклассический этап развития науки
характеризуется исследованием специфики существования человека и ее
связи с классическими для гуманитарных наук проблемами. Этот
сдвиг обусловлен общим процессом гуманизации знания,
стремлением уяснить важнейшие составляющие человеческого бытия,
а также внутринаучными дискуссиями и новациями. В результате
этих изменений проблема экзистенциального все более отчетливо
выходит на статус междисциплинарной, а ее изучение
способствует формированию целостного видения природы человека,
стремлению философии и науки к новому, рациональному и
синтетическому знанию о бытии и человеке.
1 Подробнее см.: Прогнозное социальное проектирование:
теоретико-методологические и методические проблемы ; отв. ред. Т.М. Дридзе. М, 1994. С. 37-62.
2 См.: Готлиб A.C. Указ. соч. С. 5-24.
H.A. Касавина. Точки роста в социально-гуманитарных науках
175
На наш взгляд, внимание к субъективному,
экзистенциальному контексту социальных процессов служит особой почвой для
понимания их универсального бытийного фона. Важно
обращение к жизненному пути конкретного человека, проживающего
неповторимые экзистенциальные события и тем не менее
выражающего особенности своего времени, народа, социальной или
возрастной группы, что позволяет подойти к построению некоторой
обобщенной модели предмета исследования. Анализ
индивидуальных способов отношения субъекта к изменяющимся
жизненным обстоятельствам, влияющим на контекст его существования,
в значительной степени помогает понять социальную реальность
на разных уровнях.
Согласно Дж. Бюдженталю, одному из создателей «третьей
волны» в психологии, а именно, экзистенциально-гуманистической
психотерапии как альтернативы бихевиоризму и психоанализу,
большинство симптомов личностного кризиса «значительно более
глубоко укоренены в натуре клиента» и всегда имеется «возможность
того, что дистресс есть сигнал глубокого пласта бытия, который
будет настоятельно заявлять о себе и в случае исчезновения данного
симптома создаст другие сложности»1. Эта идея приобретает
особую важность для исследования социальных проблем в жизни
человека, поскольку за ними часто лежат более глубокие (и не всегда ясно
осознаваемые) экзистенциальные проблемы — проблемы свободы
выбора и ответственности, социальной и духовной причастности
группе и изолированности, поиска собственного предназначения.
Однако такое внимание к субъекту, такие неклассические
ориентиры, характерные в той или иной степени для разных
гуманитарных наук, должны учитывать и принципы классической
науки, которые свойственны науке как таковой: приоритет
предмета исследования, его объективность и истинность. Хотелось бы
присоединиться к позиции Л.А. Марковой, настаивающей на том,
что в конце XX в., как и когда-то в классической науке, снова, но
на свой лад встает задача устранения тех особенностей субъекта
научной деятельности, которые не имеют отношения к
содержанию создаваемого, искомого им знания2. Например, в социоло-
1 BugentalJ.F. Т. Psychotherapy and Process: The Fundamentals of an
Existential-humanistic Approach. Reading, MA, 1978. P. 3.
2 См.: Маркова Л.Л. Человек и мир в науке и искусстве. М., 2008.
176
Часть II. Общение вместо обобщения в философии
гии, о некоторых трансформациях которой шла речь выше, встала
необходимость переоценки не позитивистских направлений, как
ранее, но того всплеска качественной методологии, который
привел к пониманию важности сочетания классических и
неклассических методов исследования. Даже классики социологии,
воспринявшие антинатуралистический смысл дильтеевской
философии, например М. Вебер, были вынуждены отмежеваться от ее
субъективизма и релятивизма. Под его влиянием трактовка
«понимания» в общественных науках все более отходит от своих
первоначальных интуитивистско-психологических истоков,
ассоциируясь с проблемой расшифровки жизненного смысла,
социально-культурных символов.
Проблему экзистенции еще предстоит избавить от налета
«субъективности», «психологичности», «ненаучности».
Осознание ее важности знаменует неклассический этап развития
философии и науки. Современное исследование экзистенциального
опыта было бы наиболее плодотворным, если бы
продемонстрировало единство классики и неклассики в форме диалога,
позволяющего сравнивать и, быть может, даже объединять по принципу
дополнительности количественные и качественные,
нормативные и дескриптивные, манипулятивные и интерактивные,
объяснительные и понимающие методы и модели. Представляется,
именно здесь находятся основные точки роста данного
направления исследований.
A.C. Игнатенко
Топология1 Ж. Делёза. Введение
в пространственную философию
постмодерна
II Ниже осуществляется реконструкция пространственной, или
топологической, философии Жиля Делёза, прослеживается
преемственность делёзовской мысли в отношении философии Анри Бергсона,
прежде всего, его идеи зависимости сознания от пространства. Автор
анализирует способ, используя который, Делёз развивает данную
концепцию, привлекая для этого достижения физики и математики XX в.,
|| прежде всего квантовой механики и неевклидовых пространств.
В своей последней полновесной книге «Что такое
философия?», написанной в соавторстве с Феликсом Гваттари, Жиль
Делёз резюмирует: «Все что нам нужно - это немного порядка,
чтобы защититься от хаоса»2. Вся делёзовская философия в
определенном смысле занята проблемой упорядочения хаоса в космос.
Как из различия возникает тождество, из анархии качеств —
устойчивые четкие границы вещей, из глубины интенсивности -
пространство и поверхность, короче, из досознательного —
сознание, а из становления - бытие? Идеи Делёза обнаруживают здесь
преемственность с философией Ф. Ницше и А. Бергсона. Однако
налицо различие в векторах их усилий: если Ницше и Бергсон
расшатывают бытие в пользу становления, подрывают всевластие
рацио, указывая на иррациональное как на его источник, то Делёз
вынужден иметь дело с последствиями этой философской работы.
Ему важно и показать существование хаотической стороны мира,
1 В современной философии сам термин «топология» был предложен 3.
Фрейдом и получил развитие прежде всего у Ж. Лакана. Специалистам в области
психоанализа и современной французской мысли хорошо известно, как часто в его
семинарах встречаются поясняющие рассуждения, разнообразные диаграммы,
вроде узлов Барромео, схем вершин, треугольников, окружностей, квадратов и их
комбинаций. Тем не менее, начиная разговор о топологии Делёза, будет гораздо
эффективнее рассмотреть в качестве его непосредственного предшественника не
Лакана (хотьон, безусловно, и возвел топологическую проблему в ранг
приоритетной для французской философской рефлексии того периода), а Анри Бергсона.
2 Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? СПб., 1998. С. 256.
178
Часть II. Общение вместо обобщения в философии
и наладить связь между хаосом и космосом, схватить момент
перехода одного в другое. Дело не просто в том, чтобы поставить под
сомнение полномочия сознания: Ницше показал, как легко этого
добиться, объявив всю реальность знаковой по своей природе. Его
знаменитое «Нет фактов, одни интерпретации». В предельном
состоянии сознание, которому больше не на что опереться,
редуцируется до галлюцинации. Перед Делёзом стоит задача,
детализировав представления об этой самой реальности хаоса,
иррационального, одновременно защитить и структуры сознания,
по-новому их обосновав. Иначе говоря, так описать хаос, чтобы
одновременно стало понятно, как из него возникает космос, или,
если мир и есть галлюцинация, показать, почему она имеет такой
вид, а не другой.
Решая эту задачу, Делёз совершает бергсонианский ход: хаос -
допространственный интенсивный мир неупорядоченного
различия, космос — опространствленный экстенсифицировавшийся
мир упорядоченного различия, т.е. тождества (тождество есть
упорядоченное различие). Теперь мы видим, что коль скоро мир, в
котором мы существуем, данный нашему сознанию, — это прежде
всего мир пространственный, то философия, этот мир
познающая, описывающая, создающая, неизбежно есть философия
пространства, или топология.
Прежде чем приступать к анализу собственно делёзовских
концептов, полезно вспомнить, что по этому поводу сказано
Бергсоном. Его небольшая работа «Опыт о непосредственных данных
сознания» играет исключительно важную роль в постановке и
разработке вопроса о роли пространства в формировании и
функционировании нашего сознания и языка, следовательно, механизмов
мышления и познания.
Проблема, которую Бергсон ставит в «Опыте о
непосредственных данных сознания», - это проблема времени, которое
было бы понято вне его связи с пространством. Бергсон показывает,
что современное понимание и представление времени есть не
что иное, как удвоение идеи пространства: изображая время в
виде шкалы или циферблата, мы подменяем качество количеством,
движение - последовательностью статичных состояний,
становление — бытием, внутреннее - внешним. Возможность такой
подмены Бергсон видит в важнейшей, принципиальной для
различения между животным и человеком способности человека
A.C. Игнатенко. Топология Ж. Делёза. Введение в философию постмодерна 179
выстраивать в своем сознании виртуальное пустое пространство
и заполнять его абстрактными геометрическими объектами по
своему усмотрению. Время, представленное как линия,
содержащая точки-моменты, есть продукт этой самой способности
создавать и оперировать такими пустыми виртуальными
пространствами. Однако современное обыденное представление о
времени — далеко не единственный продукт этой способности. Все
наше сознание, в котором определяющее значение имеют
пространственные понятия и отношения, весь наш язык,
дублирующий это пространственное по сути сознание, непосредственно
связан с созданием и оперированием виртуальным пустым
пространством1.
Бергсон, как известно, предлагает альтернативное
пространственно понятому времени понятие длительности, которое было
бы свободно от пространственных образов и смыслов. Эта
концепция альтернативы пространственному мышлению, которая
намечает у Бергсона тему интенсивности, впоследствии
подхваченную и развитую Делёзом, также для нас важна, и ее
необходимо отметить. Однако мы вернемся к ней позже. Сейчас стоит
подчеркнуть, что Бергсон в своем «Опыте» проанализировал два
опорных топологических концепта — линии как процесса,
движения и точки как некоторого момента времени, связанного с ним
определенного положения вещей, но также и акта, единичного
действия, одновременно показав их условный, метафорический
характер.
Посмотрим, как Делёз разовьет эти концепты, интегрировав
их в собственную философскую систему.
Итак, Делёз подхватывает идею Бергсона о том, что сознание,
а значит, и язык поддерживают особые отношения с
пространством, почти полностью от него зависят. Мыв принципе можем
задать реальность непространственного характера, но описать ее
будет для нас крайне сложно, почти невозможно, учитывая
вышеозначенную зависимость языка от образа пространства. Зато,
установив связь сознания и пространства, мы можем долго искать
различные подтверждения этого, равно как и задавать все новые и
новые пространственные, т.е. топологические, философские кон-
1 Нетрудно видеть, что концепция стадии зеркала Лакана, являющаяся
теоретической основой применения им топологических приемов в своих рассуждениях,
обнаруживает бергсонианское происхождение.
180
Часть II. Общение вместо обобщения в философии
цепты для более детального и адекватного описания
пространственной, а следовательно, осознаваемой реальности1.
Делёз, однако, идет дальше, ему недостаточно просто
плодить пространственные модели описания реальности. Он хочет
заставить мышление эволюционировать. Его замысел очевиден:
если сознание и мышление зависят от пространства, то, задавая
новые типы пространства, можно вводить новые отношения в
сознание, новые приемы в мышление, новую логику. Поэтому
вся философская работа Делёза организована вокруг
изобретения пространств с характеристиками, альтернативными
характеристикам евклидова пространства и соответствующей ему
аристотелевской логики.
Статическое и динамическое пространство. Начнем с самого
понятия пространства, которое, по Делёзу, может быть статическим
и динамическим2. Статическое пространство — это то самое
пустое пространство, о котором говорил Бергсон (и которое имел в
виду И. Кант): всегда уже целиком данное и только ждущее, чтобы
его заполнили предметами. В отличие от него динамическое
пространство никогда не дано все сразу, а создается и наращивается
по мере его заполнения. Оно не существует до размещенных в нем
элементов, а появляется вместе с ними как их изнанка3.
1 Собственно все философы, начиная с Аристотеля, именно этим и
занимались, не отдавая себе, правда, отчета в том, что исследуют не истину, мир сам по
себе или вещи в себе, а лишь собственные пространственные представления об
этом мире. Самым простым примером может служить рассуждение Аристотеля о
различии, которое он предпринимает в «Метафизике»: «Вещи, различающиеся
между собой по роду, не переходят друг в друга, а в большей мере отдалены друг от
друга и несопоставимы; а у тех, что различаются по виду, возникновение
происходит из противоположностей как крайностей; по расстояние между крайностями -
самое большое, а потому расстояние между противоположностями такое же
(курсив мой. - А.И.)» (Аристотель. Соч. М, 1975. Т. 1. С. 259). Как мы видим,
Аристотель подменяет понятие различия понятием расстояния и отдаленности.
2 Об этих двух типах пространства см.: Делёз Ж. Различие и повторение. СПб.,
1998. С. 35
3 Похожие отношения поддерживают и цепочки машин желания с телом без
органов в «Анти-Эдипе», являясь как бы результатами двух различных точек
зрения: посмотришь с одной — увидишь цепочки машин желания, а с другой —
недифференцированное, сплошное тело без органов. Точка зрения, в которой мы в
состоянии разглядеть тело без органов, соответствует точке зрения, в которой мы
обнаруживаем статическое пространство. Точка зрения, в которой мы видим
цепочки машин желания, аналогична той, в которой мы создаем динамическое
пространство (Deleuze G., Guattari F. Capitalizme et schizophrfinie. L'Anti-Oedipe. P.,
2005. P. 11-15).
A.C. Игнатенко. Топология Ж. Делёза, Введение в философию постмодерна 181
Главное отличие динамического пространства от
статического — активное присутствие в первом времени, оказывающегося
чем-то несущественным во втором. Поскольку динамическое
пространство прирастает последовательно каждым новым своим
элементом и заканчивается с появлением последнего из них,
время, требующееся для выстраивания такого пространства, имеет
принципиальное значение. Можно с уверенностью сказать, что
пространство Сибири, захватываемое Ермаком, было
динамическим, последовательно заполняясь реками, поселениями татар и
местами битв с ними. Для его создания потребовалось столько лет,
сколько потребовалось, ни больше ни меньше. Для современного
учителя географии это пространство стало статическим. Данное
целиком пространство стихотворения для читателя является
статическим, но динамическим — для поэта, не знающего, какой
будет следующая строчка.
Мы понимаем, что динамическое пространство —
пространство свободы: все что угодно может случиться с Ермаком, чей
каждый шаг увеличивает территорию Империи. Но для учителя
географии Иртыш имеет фиксированную протяженность и линию
русла. Что мешало И. Бродскому, скажем, поменять местами
части «Колыбельной трескового мыса»? Но для нас этот цикл
навсегда сохранит существующую форму.
Далее, статическое пространство неизбежно ограничено.
Динамическое пространство всегда стремится к некоему горизонту,
никогда его не достигая. Пространство философского текста даже
для его автора превращается из динамического в статическое, как
только поставлена последняя точка. Отсюда — концепт
внутренней неограниченности и внешней завершенности, который
можно встретить у Делёза в «Различии и повторении» и «Складке».
«Мир не конечен или бесконечен, как в репрезентации, — он
завершен и неограничен»1. В «Различии и повторении» Делёз
приходит к этой мысли путем сложного анализа мысли Г. Гегеля и
Г. Лейбница. Однако есть путь короче. Это - путь со стороны
Ницше, возможность которого Делёз также обозначает, но не
прописывает детально. Нечто предстает завершенным лишь
извне, «в конце времен», это - точка зрения Бога. Изнутри, с точки
зрения человека, никогда не знающего, сколько времени ему от-
ДелёзЖ. Различие и повторение. С. 80.
182
Часть II. Общение вместо обобщения в философии
пущено, перспектива убегает в неограниченность. Утверждение
«Бог умер» значит: настало время отказаться от исключительного
положения божественной точки зрения, принять также
человеческую перспективу, поместить себя в динамическое пространство,
зависящее от времени. «Внутри» первично время, «снаружи» —
пространство. (Эту мысль также высказывал еще Бергсон.)
Классическое научное мировоззрение до определенного момента было
внешним. Оно сохранится, никто не собирается его отменять.
Речь идет лишь о том, чтобы выстроить альтернативную
перспективу «изнутри» и научиться существовать в ней тоже, менять по
необходимости эти две точки зрения, потому что только во второй
мы существуем во времени и задействуем его энергию, первая же
схватывает одно пространство.
Здесь мы подошли к еще одному важному понятию делезов-
ской философии, имеющему ницшеанское происхождение, — к
перспективизму.
Перспективизм. Концепция перспективизма важна для
философии Делёза в нескольких отношениях. Прежде всего - это
новый тип релятивизма, заменяющий понятие истины на понятие
точки зрения. Здесь мы вступаем в проблематику «Складки»1 -
подлинного шедевра топологической философии.
«Перспективизм не означает зависимости точки зрения от предварительно
определенного субъекта: наоборот, субъектом становится тот, кто
в точку зрения попадает, или скорее тот, кто в точке зрения
пребывает... Субъект зависит от функции как ее параметр»2. Здесь
налицо близость идей Делёза и М. Фуко, который в конце 1960-х гг.
предложил понимание субъекта как позиции и как функции.
Субъект в соответствии с идеями, изложенными в «Складке», -
это и есть точка зрения. (Это напрямую выводится из
монадологии Лейбница: если монада — «точка зрения на город» и
одновременно субъект, то субъект и есть точка зрения.)
Но кроме этого перспективизма, так сказать, первого порядка
существует и еще один, не менее важный для понимания делёзов-
ской мысли и постмодерна вообще. Рассмотрим ситуацию с
субъектом как точкой зрения. Если субъект есть точка зрения на мир,
1 Deleuze G. Le pli. Leibniz et le baroque. P., 1988; ДелёзЖ Складка. Лейбниц и
барокко. М, 1997
2 Делёз Ж, Указ. соч. С. 35.
A.C. Игнатенко. Топология Ж. Делёза. Введение в философию постмодерна 183
то мир существует лишь в видении субъекта в той мере, в какой
быть — значит быть воспринимаемым. При этом вариантов миров
столько, сколько точек зрения на него, т.е. воспринимающих
субъектов. Но означает ли это, что мира самого по себе нет и он
существует лишь как поливариантная галлюцинация множества
субъектов (как это получается у Лейбница)? Делёз такого никогда
не утверждал. Для того чтобы разрешить проблему, он прибегает к
различению виртуального и актуального, введенного им еще в
«Различии и повторении»: виртуальное реально, но не актуально.
Мир существует актуально в воспринимающих его субъектах и
виртуально - сам по себе. Но виртуальный мир - это прежде всего
мир различия. В «Сладке» Делёз дает топологическое описание
различия, и таким топологическим концептом, соответствующим
различию, как раз и является складка. («Складка», таким образом,
может быть понята как перевод на язык топологии основных идей
«Различия и повторения».)
Почему складка — оптимальная
концептуально-пространственная модель для иллюстрации различия? Во-первых, складка
наглядно сопрягает внутреннее с внешним, тем самым являясь
носительницей главного концептуального топологического
различия постмодерна. (О дихотомии внутреннее—внешнее,
являющейся опорной дихотомией топологии и постмодерна вообще, мы
поговорим позже.) Во-вторых, она способна распрямляться,
образуя поверхность, что моделирует процесс экстенсификации
интенсивности, разворачивания глубины в поверхность, опро-
странствливания различия. На этом свойстве складки Делёз не раз
делает акцент в своей одноименной работе. Субъект разгибает
виртуальные складки мира, тем самым актуализируя его, т.е. делая
пространственным, разворачивая актуальное пространство из
виртуальной интенсивности различия. «Весь мир — не что иное,
как виртуальность, существующая актуально лишь в сгибах
выражающей его души, ибо душа существует благодаря внутреннему
разгибу, посредством которого она составляет представления о
включенном в нее мире»1. В-третьих, складки характеризуются
фрактальной структурой: в больших складках прячутся складки
поменьше, в тех —еще меньше, и так до бесконечности.
Получается, пожалуй, единственно возможный точный пространственный
Делёз Ж. Указ. соч. С. 41.
184
Часть II. Общение вместо обобщения в философии
образ непространственного различия различия, соотнесения
различия с различием посредством различия. В-четвертых,
складка в точке перегиба, на своем пике, в экстремуме, топологически
отображает событие. Концепт события у Делёза слишком богат и
слишком важен для всей его философии, и мы остановимся на
нем подробно. Для этого, правда, нам придется вернуться из
1988 г., когда вышла «Складка», — в 1962 г., когда была написана
«Ницше и философия».
Событие, смысл, сингулярность. «Ницше и философия» —
пожалуй, первая серьезная метафизическая работа Делёза,
топологическая проблематика в ней присутствует в лучшем случае на уровне
предчувствия. Ландшафт реальности здесь формирует
взаимодействие сил, разъединенных различием. Силы сталкиваются друг с
другом, ограничивают друг друга, и их постоянно меняющееся
соотношение создает вещи. Сила в аспекте своего взаимоотношения
с другой силой предстает как воля, и эта воля волит утверждать
собственное различие. К тому же сила, кроме того, что она — воля,
является еще и основой для интерпретации. Доминирование той
или иной силы соответствует торжеству той или иной
интерпретации. Но кто же интерпретирует? Сама сила и интерпретирует.
Побеждая другую силу, сила навязывает свою интерпретацию - свой
способ, каким сформированный ею феномен будет воспринят.
Одно и то же - создать феномен и задать его смысл, т.е.
определить вариант его интерпретации.
Смысл всегда множествен, поскольку феномен, который им
наделяется в процессе интерпретации, всегда может быть в
следующий момент «захвачен» новой силой. Феномен всегда знак,
что как раз и означает возможность всё новых и новых
интерпретаций, наделение всё новыми и новыми смыслами. Поэтому
философия смысла — это симптоматология, семиология, занятая
интерпретацией знаков1.
Мы видим, что смысл - понятие крайне подвижное,
динамическое, и Делёз вслед за Ницше и Бергсоном стремится построить
философию не статичного бытия, но изменчивого становления.
Понятно, однако, что такой текучий, постоянно меняющийся и
не поддающийся фиксации смысл крайне неудобен для сознания,
вынужденного принудительно замедлять поток различий, цемен-
1 См.: Deleuze G. Nietzsche et la philosophie. P., 2003. P. 3
A.C. Игнатенко. Топология Ж. Делёза. Введение в философию постмодерна 185
тируя те или иные смыслы. Так возникают сингулярности, или
выдающиеся точки. (Этот ход осуществляется философом в
работе 1969 г. «Логика смысла», вышедшей почти одновременно с
«Различием и повторением» и во многом с ним
перекликающейся.) Сингулярность — это одновременно и событие, а событие
является смыслом. Посмотрим, как это возможно.
Мы уже показали, как Делёзу удается увязать смысл и явление.
Но явление, феномен, в классической философии понимаемый
как нечто само собой разумеющееся, уже данное, в философии
становления, каковой является постмодерн, еще необходимо
добыть. Из бесконечно подвижного хаоса неупорядоченного
различия должны быть выхвачены одни различия и проигнорированы
другие, при этом первые должны быть еще и усилены за счет
размывания вторых. Иначе говоря, чтобы создать хоть
сколько-нибудь стабильный феномен, необходимо расставить акценты,
ввести неравенство, оценку, предпочесть одно другому. На языке
топологии это значит ввести примечательные, сингулярные точки,
отводя тем точкам, которые их окружают, роль регулярных,
непримечательных. В условиях бесконечно подвижной игры
различия, различия различия, условно стабильный, принудительно
фиксированный благодаря расстановке акцентов феномен
становится событием. Момент времени, наиболее благоприятный для
схватывания данного феномена (такой момент, когда требуется
минимально усилить «нужные» различия, и минимально размыть
«лишние» различия), будет обозначен выдающейся точкой, т.е.
будет наделен привилегированным статусом по отношению к
ближайшим предшествовавшим и последующим моментам,
которым в свою очередь придется удовольствоваться ролью
регулярных точек.
Если теперь вернемся к топологическому концепту складки,
то увидим, как все, сказанное Делёзом в «Ницше и философии» и
«Логике смысла», замечательно согласуется с идеями «Складки».
Точка сгиба складки - сингулярность, событие. Эта точка сгиба,
или инфлексия, подвижна, поскольку складка может смещаться
по поверхности и менять свой вектор. Множественность точек
инфлексии соответствует множественности событий-смыслов.
В той мере, в какой складка существует лишь в душе, она
принадлежит субъекту, т.е. зависит отточки зрения, следовательно,
является продуктом интерпретации.
186
Часть II. Общение вместо обобщения в философии
Тем не менее, сколь подходящим для нас ни являлся бы концепт
складки, сколь точно бы ни отображал он все необходимые
характеристики различия, это всего лишь наша попытка представить
себе реальность, которую мы не в состоянии воспринять, описать ее
языком, к ней неприменимым, изобразить с помощью
пространственных образов нечто, не имеющее к пространству ни малейшего
отношения. Каждый раз, когда мы осуществляем попытку
вырваться за границы субъективной точки зрения, рассуждать о вещи в себе,
нас вновь отбрасывает в темницу нашего сознания. И, однако же,
мы не должны прекращать попыток. Требование эволюции
мышления обязывает нас снова и снова конструировать некую
«внешнюю» субъекту, «объективную» точку зрения, даже осознавая, что
это - еще одна точка зрения, еще одна субъективная позиция. Это и
есть перспективизм второго порядка, принадлежащий уже метафи-
лософии, где философская позиция вообще (материалистическая
или идеалистическая, детерминистская или абсолютизирующая
случай, внутренняя временная или внешняя пространственная
и т.п.) есть лишь точка зрения. Поэтому философ способен вставать
на несколько точек зрения в рамках одной философской работы.
Перспективизм, как мы теперь видим, — не только по-новому
поданный релятивизм, но и теоретическое обоснование схизиса, или
шизо, возможности противоречия, утверждения как минимум обеих
(а как максимум — бесконечного числа) позиций одновременно.
Такова, например, необходимость и одновременная взаимоисключае-
мость двух представлений о времени, о которых Делёз пишет в
«Логике смысла» и которые мы также позже рассмотрим1.
Внутреннее и внешнее. Ретроспективный характер смысла. Выше мы
уже касались проблемы внутреннего и внешнего. Пора поговорить
о ней подробнее. Дихотомия внутреннее—внешнее является
опорной уже для Бергсона в «Опыте о непосредственных данных
сознания»2, поскольку именно внешнее связано с пространством,
которое мы проецируем внутрь себя, опространствливая реальность
своего сознания. У Делёза, как мы уже увидели, перспектива пере-
1 См.: Делёз Ж. Логика смысла. М., 1995. С. 84
2 Бергсон относит пространство, количество, внеположность,
последовательность к внешнему, а время, т.е. длительность, качество, взаимопроникновение -
к внутреннему. Опространствливание нашего внутреннего мира - результат
социализации и приоритета внешнего над внутренним.
A.C. Игнатенко. Топология Ж. Делёза. Введение в философию постмодерна 187
ворачивается. В объективной реальности, которая у него
переименовывается в реальность виртуальную, никакого пространства нет.
Пространство — это лишь наш способ ее себе представлять. Это
усложняет ситуацию со статическим и динамическим
пространством. Получается, что статическое пространство - лишь условно
внешнее, внешнее относительно некоторого внутреннего,
динамического пространства, которое, как мы отметили выше, рано или
поздно завершится, став для нас статическим. Этот процесс
перехода пространств из динамических в статические является для нас
постоянным, и самое большое динамическое пространство —
пространство нашей жизни — станет статическим в момент перехода
через его границу - в момент смерти. Мы, таким образом, снова
пришли к вопросу о смысле. Смысл у Делёза и в постмодерне
вообще увязан с темой границы. Тот смысл, для возникновения
которого требуется ограниченность, неизбежно ретроспективен.
Попробуем показать, почему это так и какие это имеет следствия.
Проблему смысла постмодерн воспринимает от
структурализма, в рамках которого уже было выяснено, что у смысла, который
раньше зависел исключительно от своего референта (денотация,
манифестация, сигнификация), есть также и важнейший
структурный аспект. Еще Ф. Соссюр показал, что буквы в алфавите
имеют смысл не только в силу привязки к звуку, который
обозначают, но и благодаря отличию друг от друга. В тот момент, когда
означаемое было поставлено постмодерном под вопрос и
обнаружило свою способность до бесконечности вырождаться в
означающее означающего означающего и т.п., теоретически у смысла
не осталось устойчивой референциальной опоры. Вещи оказались
заменены словами, в мире которых мы себя и обнаружили.
Следовало найти новый принцип, в соответствии с которым эти слова
могли бы употребляться, а мир слов - существовать. Смысл стал
новой трансценденцией и пришел на смену прежним
метафизическим сущностям1. Чтобы его обосновать, можно было
использовать соссюровское различие, но и с ним оказалось все не так
просто. Дело как раз в «поплывших» границах. Границы алфавита
устойчивы и фиксированы: добавление или выбывание буквы -
событие исключительное. Поэтому распределение различия в
этих границах носит устойчивый характер. Представьте себе алфа-
СмлДелёзЖ. Указ. соч. С. 134.
188
Часть II. Общение вместо обобщения в философии
вит, в котором количество знаков стремится к бесконечности,
постоянно меняясь, и вы поймете, в каких условиях пришлось
решать Делёзу проблему смысла. Старая философия различия более
не годилась, а в новой, если она решалась претендовать хоть на
какую-то универсальность, не оставалось ничего устойчивого и
определенного. Отсюда концепт номадического распределения
различия. Пространство распределения потенциально бесконечно.
Количество элементов не определено. Центрированная структура,
точнее структуры, всегда выявляются постфактум в рамках
условных, принудительно наложенных на это раздолье границ. Возьмем
волнения во Франции в 1968 г. Это движение в своей массе было
типичным номадическим распределением; конечно, как минимум
у некоторых участников были свои более или менее четкие
объяснения того, зачем они здесь, но в целом это был хаос. Прошло
какое-то время, все улеглось, появились теоретики, придумавшие,
например, структурализм, и сказали: волнения были вызваны
кризисом структуралистских идей. Таким образом, возникла некая
условная граница, в данном случае - культурная временная и
концептуальная граница структурализма, в которую было вписано это
«нечто», сразу ставшее неким локализованным событием,
элементом в начавшей формироваться системе. Дальше эту систему
можно упорядочивать довольно долго и тщательно, главное —
зафиксированы границы, значит, может быть выявлен и центр, и выстроена
структура. Классическое мировоззрение, которому принадлежали
и сами структуралисты, после этого бы успокоилось, решив, что
отныне с волнениями 1968 г. все ясно. Но постмодерн не может
позволить себе подобного благодушия: совершенно очевидно, что
будут возникать новые теоретики, проводиться новые границы,
формироваться новые структуры с новыми центрами. Центр обречен
на постоянное смещение, он — везде и нигде. Смысл текуч и
нестабилен. Но для его возникновения необходимо некое событие,
которое могло бы условно считаться пограничным. Так, советские
солдаты водрузили красное знамя на рейхстаг, поэтому Вторую
мировую войну выиграл СССР. В 1990-е гг. многие говорили, что,
мол, глупо и негуманно было приносить в жертву столько
человеческих жизней, чтобы в момент, когда исход войны уже решен,
соревноваться с союзниками за это символическое первенство. Но
Сталин проявил себя как решительный ницшеанец, прекрасно
понимавший, что нет фактов, одни интерпретации, и интерпретации,
A.C. Игнатенко. Топология Ж. Делёза. Введение в философию постмодерна 189
что войну выиграли, например, американцы, нельзя давать ни
одного шанса. Логика этого действия была безупречна. Вопрос о
нравственной стороне навсегда останется открытым.
Итак, смысл всегда ретроспективен, растет вспять от
завершающей границы. Пока мы движемся в динамическом
пространстве со смещающимся в бесконечность горизонтом, мы можем его
лишь предчувствовать. Смысл был и остается для нас ценностью,
но желание смысла есть желание достигнуть границы, желание
смерти. В этом причина эсхатологического характера нашей
культуры, вынудившая Делёза обвинить ее в некрофилии: «Теперь же в
завершение длинной прямой линии имеется конец, и нас,
некрофилов, только этот конец и интересует, лишь бы он был
окончательным»1. Танатос, инстинкт смерти, есть по сути инстинкт
разума и противостоит Эросу как пространство — времени, бытие —
становлению, тождество - различию.
Связывая смысл с событием, Делёз осуществляет попытку
задать иной концепт смысла, который не был бы связан со смертью,
мог бы существовать в условиях разомкнутых границ и
динамического пространства, неограниченного пространства
распределения. Разумеется, определение такого понятия смысла может быть
задано исключительно схематически2, т.е. топологически. Мы
можем схватить его лишь концептуально, не имея возможности
соотнести с конкретным опытом, ибо для высшего
индивидуального и личностного сознания этот опыт закрыт.
Точка, линия, время. Эсхатологической временной модели
христианской культуры — длинной конечной прямой линии — Делёз
вслед за Ницше противопоставляет вечное возвращение. Время
существует в форме вечного возвращения; в этом вопросе Делёз
ведет себя как верный ницшеанец. Однако существуют два
одновременно необходимых и взаимоисключающих прочтения
времени — Эон и Хронос. Они оба выражают вечное возвращение. Хро-
нос — циклическое вечное возвращение того же самого, а Эон — веч-
1 Делёз Ж. Критика и клиника. СПб., 2002. С. 65
2 Делёз ввел несколько подобных понятий. Примерами могут служить: новая -
идеальная - игра, которая в отличие от игры реальной не подразумевает
проигрыша (Делёз Ж. Логика смысла. С. 80-89); новое понимание знака, определенного
через концепт сигнала или различия (Делёз Ж. Различие и повторение. С. 35);
новый смысл, принадлежащий новому же типу дискурса и являющийся событием
(Делёз Ж. Логика смысла. С. 136-138).
190
Часть II. Общение вместо обобщения в философии
ное возвращение различного, которое как раз и соответствует миру,
выстраиваемому Делёзом, миру, который не совпадал бы ни с
бездонным недифференцированным ничто, ни с разумным
индивидуализированным бытием, а находился бы где-то между ними — в точке
встречи хаоса и космоса. Эон - время становления, а Хронос -
время бытия. Хронос — время вечного настоящего, оно ограничено и
бесконечно, поскольку сворачивается в цикл. Эон - время, в
котором настоящее существует лишь в качестве математической точки
«без толщины», поскольку его делят до бесконечности постоянно
разбегающиеся в противоположные стороны прошлое и будущее.
Делёз пишет, что Эон не ограничен, но мы понимаем, что поскольку
две крайние точки все-таки существуют, хоть и непрестанно
отдаляются друг от друга в прошлое и будущее1, то перед нами все тот же
концепт внешней завершенности и внутренней неограниченности,
который мы рассматривали в связи с динамическим пространством.
Что дает Делёзу время, представленное в виде Зона? Прежде
всего вспомним, что в «Логике смысла», где Делёз его вводит,
проводится мысль, что смысл — это новая метафизическая сущность, а
философия смысла - новая трансцендентальная философия. Это,
как я уже говорила, становится возможным в условиях признания
за реальностью чисто знакового характера, когда за словами уже не
видно вещей, референциальный аспект знака истощен до предела.
Проблема выработки смысла, возможных приемов добычи
эффекта смысла в таких экстремальных условиях становится архиважной.
Набирают силу процессы, свойственные языку в его отрыве от
вещественной реальности, чьими метками являются нонсенс и
абсурд. Если в условиях, когда слова все еще сохраняли жесткую связь
с вещами, главную роль играли существительные и
прилагательные, отвечающие за состояния, то теперь акцент смещается на
глаголы, задающие динамизмы. Эон — это время глаголов, которые не
пребывают в настоящем, но постоянно смещаются в будущее и
одновременно в прошлое. Когда мы говорим «светает», то небо
становится одновременно ярче, чем было, и темнее, чем оно стало; не
делая ни кратчайшей остановки в настоящем, процесс одновременно
стремится в будущее и в прошлое, растекаясь в двух
смыслах-направлениях сразу и разрывая на части следующий за ним субъект2.
1 Делёз Ж. Логика смысла. С. 84.
2 Там же. С. 14-15.
A.C. Игнатенко. Топология Ж. Делёза. Введение в философию постмодерна 191
Разбегаясь в противоположных направлениях, две
пограничные бесконечно удаляющиеся друг от друга точки образуют линию.
Делёз иногда называет ее пустой1, отсылая тем самым к пустой, или
чистой, форме времени Канта2. Интерпретируя
трансцендентальную форму апперцепции, Делёз показывает, что поскольку между
актом мышления и утверждением «Я мыслю» существует
временной зазор, или трещина, то «я» всегда говорит третье лицо, а
субъект неизбежно расколот чистой формой времени: «Moi и Je
разделены линией времени, которая соотносит их друг с другом при
условии основополагающего различия»3. В реальности становления
(временем которой является Эон) субъект неизбежно расколот.
Чистую линию Зона Делёз называет новым лабиринтом,
поскольку субъект теряет в нем себя гораздо основательнее, чем в
обычном лабиринте. Так как субъект в этих условиях сводится к
функции узнавания4 (ведь он дистанцирован от себя самого), то ему уже
не важно, в чем узнать себя в следующий раз. Поэтому узнать себя
отныне возможно не только в каждом имени истории, как это
делает Ницше, но и в животном, растении и даже в событиях
предшествующего уровня, где еще нет ни личного, ни индивидуального.
Субъект безличный и доиндивидуальный — это и есть еще одно
определение сингулярности, или события, одновременно понятого
как смысл. Как я пыталась показать выше, такой смысл может быть
задан лишь средствами топологии. Именно сингулярность
является единственным видом субъективности в мире, где смысл утоплен
в нонсенсе, где разыгрываются лишь идеальные игры, где знаки
умудряются существовать свободно от вещей, т.е. в мире различия,
архитектуру которого всю свою жизнь создавал Делёз.
Неклассическая физика и прогресс топологии5. Я начала свое
небольшое исследование с того, что отметила замысел Делёза заста-
1 См.: Делёз Ж. Указ. соч. С. 84.
2 Во французской традиции «чистая форма времени» может переводиться как
«пустая» - vide, и переводчики Делёза на русский, не учитывающие кантианских
аллюзий, часто переводят дословно как «пустая», в то время как продуктивнее
было бы употребить «чистая».
3 Делёз Ж. Критика и клиника. С. 46.
4 О субъекте как функции узнавания речь идет также и в «Анти-Эдипе»: Deleuze С,
Guattari F. Capitalizme et schizophrunie. L'Anti-Oedipe. P., 2005. P. 28.
5 О зависимости философии Делёза от неклассической физики рассуждает со
своих позиций Л.А. Маркова (Философия из хаоса. М, 2004).
192
Часть II. Общение вместо обобщения в философии
вить меняться сознание и мышление, изменив характеристики
пространства. Очевидно, такая мысль едва ли могла прийти в
голову, например, Канту, следовавшему в своем понимании
пространства по стопам Ньютона и не представлявшему поэтому
никакой альтернативы пространству Евклида. Возможность пробле-
матизации пространства вообще открывалась лишь с появлением
пространств иного типа, поэтому философия Делёза в этом
отношении невозможна без открытий А. Эйнштейна, Б. Римана,
Н. Лобачевского. В то же время рецепция Делёзом идей
неклассической физики подсказывает нам критерий ее отличия от физики
классической — изменение природы пространства. Из
нейтральной, всегда находящейся в нашем распоряжении и к нашим
услугам среды, никак не влияющей на протекающие в ней процессы,
оно превращается в участника, активного игрока.
Изменению поведения пространства в релятивистской
физике соответствует изменение поведения времени, что лишь
обостряет проблему взаимозависимости пространства и
времени. Вслед за Бергсоном Делёз стремится задать философский
контекст, в котором пространство зависело бы от времени,
являясь его экспликацией, развертыванием, а само время обрело
бы характеристики энергии, став понятием, генетически
исходным для пространства. Эта задача, на мой взгляд, не была им
полностью решена, поскольку Делёз все равно вынужден был
удовольствоваться топологическими моделями темпорально-
сти. Сама идея топологии, как говорилось выше, продолжает и
развивает порочную (по мнению Бергсона) практику перевода
времени на язык пространства, представление его в
геометрических образах. Тем не менее с введением концепта
динамического пространства Делёзу удалось по крайней мере поставить
пространство в зависимость от времени. К тому же предложенное
Делёзом время становления - Эон - порывает с образом
жемчужин ожерелья, последовательно расположенных на условной
прямой моментов настоящего, т.е. с классическим образом
времени.
Рассуждая о воздействии идей неклассической физики на
философию Делёза, невозможно обойти вниманием и соотношение
неопределенности В. Гейзенберга, не просто вживляющее
парадокс в плоть теории, но и утверждающее перспективизм с его уже
упоминавшейся равной необходимостью взаимоисключающих
A.C. Игнатенко. Топология Ж. Делёза. Введение в философию постмодерна 193
позиций: либо координата, либо импульс. Но «либо — либо» здесь
одновременно означает «и - и»1.
С проблемой разрешения парадокса Гейзенберга, как
известно, связана теория ветвления волновых функций X. Эверетта,
вылившаяся в постулирование бесконечно ветвящихся и
порождающих все новые и новые параллельные миры вселенных. В работах
Делёза встречаются прямые отсылки к этой теории через романы
X. Борхеса, с помощью которых он иллюстрирует свой концепт
идеальной игры, реализующей одновременно все возможные
комбинации костей, число которых в принципе бесконечно2. Но
кроме идеальной игры теорию возможных миров в философии
Делёза поддерживает и концепт перспективизма: для
исчерпывающего определения некоего события требуется стремящееся к
бесконечности число точек зрения на такое событие
(топологическая интерпретация обратного соотношения объема и
содержания понятия); тогда при условии, что количество измерений
пространства, в котором задаются эти точки зрения, также стремится
к бесконечности, мы вынуждены признать, что бесконечность
точек зрения в нашем трехмерном пространстве все-таки
недостаточно бесконечна. Для исчерпывающего определения события
мы вынуждены вводить все новые и новые возможные миры. В
таком случае проблема сверхопределенности оказывается всего
лишь псевдопроблемой, унаследованной от аристотелевской
логики и питающей ее евклидовой модели пространства.
Критики теории Эверетта возражают среди прочего, что,
поскольку в каждом из миров набор причин, определяющих некоторое
событие А, варьируется, то у нас нет оснований считать события Аь
А2,..., Аю принадлежащие соответственно мирам 1, 2,..., я, одним и
тем же событием. Философия Делёза без труда отводит это
возражение, поскольку оно выстроено на основе аристотелевской логики в
отношении реальности, данной логике не подчиняющейся.
Принцип тождества, опорный для классической логики, которой, как мы
уже показали, отвечает оседлое распределение различия в условиях
замкнутого, ограниченного пространства распределения, в делёзов-
ском мире различие отменяется в пользу принципа сериации, когда
1 О превращении дизъюнкции в конъюнкцию см.: Deleuze G., Guattari F. Capita-
lizme et schizophrénie. L'Anti-Oedipe. P. 18-28.
2 См.: ДелёзЖ. Различие и повторение. С. 148-149. Он же. Логика смысла. С. 83-84.
194
Часть II. Общение вместо обобщения в философии
событие А распадается на серию АьА2,...,Ап- Событие перестает
пониматься статически и мыслится отныне динамически в
соответствии с перемещением его из статического в динамическое
пространство, что также требует замены точного подхода в вычислениях на
вероятностный. Тогда события Аь А2,..., Ап соответствующих миров
1, 2, ..., п являются не тождественными, а взаимосоотнесенными,
поскольку, не совпадая полностью, они совпадают в некоторой
части образующих их рядов, которую мы решили считать основной.
Кроме того, получается, что каждое событие Л'нашего мира
принадлежит бесконечной серии событий ХьХъ...,Хп при я, стремящемся к
бесконечности, где 1, 2, ..., п есть возможные миры. Нетрудно
видеть, что при бесконечном нарастании числа п множество ^включит
в себя все возможные события реальности. (В этой бесконечной
перспективе исходному событию Сбудет соответствовать лишь некая
окрестность условно исходной точки X.) Это и позволяет Делёзу
говорить обо всем бесконечном разнообразии событий как о едином
мегасобытии (Eventum Tantum), возвращая тем самым в
философский дискурс тему единоголосия Бытия, понятого как единство
различного или как вечное возвращение различия.
Развивая идею Бергсона о зависимости сознания от
пространства, Делёз пытается заставить сознание эволюционировать двумя
способами: во- первых, он работает с новыми пространственными
качествами и отношениями, преодолевая рамки понимания
пространства, заданные еще Евклидом; во-вторых, он стремится как
можно полнее задать реальность, к которой не было бы примешано
пространственных смыслов, — реальность интенсивности. Подобно
Гейзенбергу, стремившемуся уйти от наглядной пространственной
планетарной модели атома Н. Бора, описывая процессы квантового
мира на абстрактном языке математики, Делёз задает свою
интенсивную непространственную реальность различия, задействовав
математический ресурс, прежде всего дифференциальное исчисление.
Мы, однако, понимаем, что математика, никогда до конца не
порывавшая с геометрией, сама является квинтэссенцией
пространственного мышления. Интенсивность в таких условиях продолжает
оставаться абстракцией, бедной и неразвернутой, определенной сугубо
апофатически как то, что не содержит в себе пространства. Она же
является выходом для делёзовской философии в измерение
мистики, куда в свое время неслучайно забрел примерно теми же путями и
один из его учителей - Анри Бергсон.
Чаем III
Неклассика в научном
теоретизировании
А.Н. Павленко
Смена научной рациональности сквозь
призму «наблюдения»
II Анализируется смена научной рациональности науки XX в. в связи с
изменениями представлений исследователей о способах и
возможностях наблюдения физико-космологической реальности. Показано,
что античный способ наблюдения — «теория», переинтерпретируется
в Новое время в качестве эмпирического «принципа наблюдаемости»,
а современное понимание принципа наблюдаемости напрямую
связано с так называемой стадией эмпирической невесомости теории.
Анализ ее открывает возможность переинтепретации «принципа
наблюдаемости» в соответствии с требованиями, предъявляемыми
новейшими теориями физики и космологии к самой наблюдаемой
|| реальности.
1. Что значит «наблюдать»?
Когда мы задаем вопрос «Что значит "наблюдать"?», какой
смысл мы связываем с понятием «наблюдение»? В первом
приближении ответ кажется тривиальным: «наблюдение» означает, что с
помощью органа зрения — глазами, часто усиленными прибором,
мы отличаем одни предметы от других или внимательно
прослеживаем положение, изменение свойств и т.д. какого-либо одного
предмета (множества предметов) на протяжении времени.
Правилен ли этот ответ? Для современного человека — да. Но только для
современного. Это означает, что ответ основывается на
неосознаваемой предпосылке: «наблюдение является чувственной
способностью человека». «Чувственной способностью человека»
означает, что действие наблюдения осуществляется с помощью такого
органа чувств, как глаза. Ответ является правильным только потому,
что он соответствует современному мировоззренческому правилу:
«истинное знание о внешнем (природном) мире человек получает
чувственно». Однако оно уже не столь самоочевидно, как
предыдущие утверждения, ибо само в свою очередь основывается на еще
одном неосознаваемом положении: «только чувственно
воспринимаемый мир является подлинным».
198
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
2. Антиномия чувственного (эмпирического)
и умственного (теоретического)
Итак, сведем все положения воедино:
О «наблюдение является чувственной способностью человека»;
О «чувственной способностью человека» означает, что действие
наблюдения осуществляется с помощью такого органа чувств, как
глаза;
о «истинное знание о внешнем (природном) мире человек получает
чувственно»;
О «только чувственно (эмпирически) воспринимаемый мир является
реальным».
Допустим, мы поменяли правила и приняли в качестве
самоочевидных другие положения:
1) «наблюдение является умственной способностью человека»;
2) «умственной способностью человека» означает, что действие
наблюдения осуществляется с помощью такого органа ума, какл*озг;
3) «истинное знание о внешнем (природном) мире человек получает
умственно»;
4) «только умственно (теоретически) воспринимаемый мир является
реальным».
Легко увидеть, что мы получили антиномию чувственного
(эмпирического) и умственного (теоретического) объяснения
мира. Причем, заметим, ум выступает самодостаточным, а
чувства — нет. Это означает, что ум в состоянии объяснить как «он
осуществляет умственное (теоретическое) схватывание мира», а
чувства такой возможностью не обладают. Но если это
действительно так, то как же чувственное познание может объявляться
подлинным?
Что нам дает эта антиномия? Она дает возможность ясно
осознать, что ответ «наблюдение является чувственной способностью
человека» по меньшей мере не является единственно возможным.
Следовательно, нами в рабочем порядке установлено, что
наблюдать мы можем различными способами. А редукция всего
многообразия способов наблюдения только к одному — чувственному
(эмпирическому) — содержит возможность заведомого огрубления
эпистемологической реальности. Причем утверждение этого
способа как «единственно реального» несет опасность поражения
самой способности адекватного отображения реальности.
А.И. Павленко. Смена научной рациональности сквозь призму «наблюдения» 199
Рассмотрев понятие «наблюдение», так сказать, в самом
общем виде, обратимся к его конкретизации, связанной с научным
наблюдением, а если сузить эту область еще больше, то нас будет
интересовать процедура наблюдения в физике и космологии,
связанная с принципом наблюдаемости (ПН).
Впервые ясно осознанный еще в эпоху Г. Галилея1, ПН в
XX в.2 приобретает особенную познавательную ценность.
Релятивистские сокращения, квантовые эффекты, волновое описание
материи-энергии, космологическая сингулярность, ансамбли
доменов в теории хаотической Вселенной - все это и многое другое
открывает возможность по-новому взглянуть на один из базовых
тезисов эмпиризма.
Содержательная суть ПН проста: «Все истинно
(непротиворечиво) наблюдаемое умом, должно быть наблюдаемо чувственно».
В рамках научного обсуждения проблемы эта максима
выражается несколько иначе: «Все теоретические положения естественных
наук становятся истинным тогда и только тогда, когда они
эмпирически обоснованы». В дальнейшем нас будет интересовать вопрос
о том, как сквозь призму наблюдения — принципа
наблюдаемости — прослеживается трансформация типов научной
рациональности.
3. Непривычный взгляа на «наблюдение» в космологии
Предмет космологического описания Вселенной в целом
детерминирует выбор соответствующих этому предмету способов и
инструментов. Та система абстрактных объектов и идеализации,
которая господствовала в науке XVIII—XIX вв., оказалась
неспособной к адекватному описанию Вселенной в XX в. и начале
XXI в. Такие изменения коснулись, прежде всего, сущности
понимания «теории» и «опыта». В свое время мы отмечали3, что
произошел эпистемологический поворот от понимания назначения и
сущности научного познания, сложившегося в эпоху
Просвещения и господствовавшего вплоть до середины XX в., к пониманию
1 См.: Галилей Г. Избранные труды. М., 1964. Т. II. С. 239.
2 См. дискуссию по этому поводу: Heisenberg W. Zeitschrift fi>r Physik. 1925. Bd 33.
S. 879; ГейзенбергВ. Квантовая механика и беседа с Эйнштейном// Природа. 1972.
№ 5. С. 87; Эйнштейн А. Собрание научных трудов. М., 1965. Т. 4. С. 226.
3 См.: ПавленкоЛ.Н. Эпистемологический поворот// Вестник РАН. 1997. № 4.
200
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
его сущности и назначения, которое сложилось в античности.
Если говорить более предметно, то следует указать на
трансформацию природы современного теоретического знания в целом.
Дело втом, что изначально греческая «теория» (ôecopia)
возникает именно как результат «наблюдения» за миром. Теория в ее
первоначальном смысле и есть «наблюдение». «Ну и при чем здесь
"поворот"?» — может спросить искушенный читатель. Поворот
состоит в том, что «нововременная теория» ставила своей задачей, как
заметил Р. Декарт1, предоставить в распоряжение человека такие
практические рецепты (рекомендации), которые бы позволяли
наилучшим способом завоевывать и покорять природу. Для
греческой «теории» и греческих космологов (Филолая, Платона и
некоторых других) задача покорения природы немыслима по причине
божественности последней. Например, платоновский Демиург
порождает космос, который ему подобен. Но как можно, находясь в
здравом рассудке, завоевывать и покорять подобие бога?!
«Рассмотрим же, — говорит Платон в «Тимее», — по какой
причине устроил возникновение и эту Вселенную тот, кто их устроил.
Он был благ, а тот, кто благ, никогда и ни в каком деле не
испытывает зависти. Будучи ей чужд, он пожелал, чтобы все вещи стали
как можно более подобны ему» (Tim. 29е). В чем же заключалось это
подобие природы-космоса и Демиурга? Ответ, даваемый
Платоном в «Тимее», таков: «Невозможно ныне, и было невозможно
издревле, чтобы тот, кто есть высшее благо, произвел нечто, что не
было бы прекраснейшим: между тем размышление явило ему
(курсив мой. - А.П.), что из всех вещей, по природе своей видимых, ни
одно творение, лишенное ума, не может быть прекраснее такого,
которое наделено умом, если сравнивать то и другое как целое; а
1 «Однако, как только я приобрел некоторые общие понятия относительно
физики и заметил, испытывая их в различных трудных частных случаях, как далеко
они могут вести и насколько они отличаются от принципов, которыми
пользовались до сих пор, я решил, что не могу их скрывать, не греша сильно против закона,
который обязывает нас по мере сил наших содействовать общему благу всех
людей. Эти основные понятия показали мне, что можно достичь знаний, весьма
полезных для жизни, и что вместо умозрительной философии, преподаваемой в
школах, можно создать практическую, с помощью которой, зная силу и действие
огня, воды, воздуха, звезд, небес и всех прочих окружающих нас тел, так же
отчетливо, как мы знаем различные ремесла наших мастеров, мы могли бы, как и они,
использовать и эти силы во всех свойственных им применениях и стать, таким
образом, как бы господами и владетелями природы (курсив мой. - А.П)» (Декарт Р.
Сочинения. В 2 т. М. : Мысль, 1989. Т. 1.С. 286).
А.И. Павленко. Смена научной рациональности сквозь призму «наблюдения» 201
ум не может обитать ни в чем кроме души. Руководствуясь этим
рассуждением, он устроил ум в душе, а душу в теле и таким
образом построил Вселенную» (Tim. 30a-b-c).
Именно поэтому назначение «теории» в ее изначальном
греческом смысле — уподоблять человеческий разум космосу, его
совершенному устройству, причем делать это с помощью «строгого
умо-зрения» или, как бы мы сказали сегодня, «аналитически». Что
может дать нам более строгое следование в наших рассуждениях,
чем дедуктивный вывод, который мы используем в
геометрическом доказательстве?! Следовательно, путь, который ведет нас к
Демиургу, лежит через интеллектуальное познание порожденного
им: познание умного устройства живого космоса. Так бы ответил
живущий в античности.
Что делает космология сегодня? Современная космология
буквально подводит все естествознание к осознанию того, что
вселенная ни при каких обстоятельствах не должна стать и не может
быть объектом «обладания и покорения». Причем по самым
разным причинам: принципиально не наблюдаемы такие объекты,
как «космологическая сингулярность», область Вселенной
(домена), которая находится за пределами светового и причинного
горизонтов, стенки домена и некоторые другие. Следовательно,
назначение «теории» вновь приобретает первоначальный смысл:
быть наблюдением за миром, а не инструментом его покорения.
В самом деле первое обращение к структуре современного
познания показывает нам, что теория призвана решить проблемы
своей предшественницы. Тем самым внутри новообразованной
теории формулируются вопросы, требующие объяснения. Это
можно проиллюстрировать на красивом примере: проблемы
плоскостности Вселенной, возникшей в релятивистской космологии,
и того, как она решается в инфляционной космологии.
II Как известно, метрика пространства-времени во фридмановской
модели определялась наличием гравитации. Именно благодаря
гравитации крупномасштабная структура Вселенной являлась замкнутым
четырехмерным многообразием. Другими словами, Вселенная в целом,
|| в релятивистской модели была сферичной1. Указанное свойство про-
1 Понятно, что наряду с моделями, в которых использовалась риманова
геометрия, были и такие, в которых мир имел «плоскую» или отрицательную
кривизну метрики пространства. В данном случае мы лишь хотим подчеркнуть, что
господствующей стала сферическая модель.
202
Ч асть III. Неклассика в научном теоретизировании
странства-времени (заметим, предсказанного теоретически)
означало, что метрика пространства-времени наблюдаемой Вселенной
должна быть существенно римановой, т.е. кривизна пространства
должна быть положительной. Однако астрономические измерения
структуры пространства в крупных масштабах (до 1028 см)
показывали, что Вселенная является плоской и метрика пространства
существенно евклидова. Возникло расхождение между предсказанием
теории и наблюдением, которое получило наименование проблемы
плоскостности Вселенной. Инфляционная теория решила эту
проблему исключительно красиво. Поскольку в теории первоначально
раздувается космологический вакуум (скалярное поле, имеющее
отрицательную плотность энергии, т.е. поле, лишенное вещества и
излучения), постольку размеры Вселенной становятся невообразимо
огромными — 10ю (12) см. Именно такая Вселенная имеет риманову
кривизну пространства. Отсюда логично вытекает, что наш
наблюдаемый мир 102* см просто ничтожно маленький участок такой
раздувшейся Вселенной, в которой метрика пространства неотличима
|| от евклидовой.
Другими словами, «теория» (теоретически рассуждающий
исследователь) внутри себя задает вопросы и сама (сам) же на них
отвечает. Но ведь именно такой характер познания мира
преобладал1 в античности.
Нетрудно увидеть параллель такого понимания «умного
опыта» в современной космологии и античном платонизме.
Субъектом познания у Платона выступает душа, которая наблюдает вещи:
«одни вещи душа наблюдает сама по себе, а другие - с помощью
телесных способностей» (Theaet. 185е). Платон, безусловно, не
знал того «опыта», с которым привыкла иметь дело европейская
наука со времен Галилея и его предшественников. Но Платону
была известна сущностная структура опыта: правильно
сформулированный вопрос испытуемой вещи (процессу, состоянию
и т.д.) и получаемый однозначный ответ 2. Различие между тем и
1 Мы прекрасно понимаем, что в античности существовали и другие подходы,
отличные от пифагорейско-платоновского. Например, материализм Левкиппа и
Демокрита или специфический «эмпиризм» Аристотеля, полагавшего, что физика
занимается изучением лишь того, что познается только с помощью чувств.
2 Достаточно сослаться на формулировку Платоном «космологического
парадокса», суть которого в том, что теоретическое размышление побуждает нас
принять за аксиому положение о сферичности космоса (как самой совершенной
фигуры) и его равномерного, поступательного и безостановочного движения, в то
время как чувства говорят об обратном: многие тела в космосе движутся
неравномерно, не поступательно и с остановками (так называемое «попятное» движение
А.Н. Павленко. Смена научной рациональности сквозь призму «наблюдения» 203
другим пониманием опыта определяется различием тех областей,
к которым он относится. Для Платона ощущением (сейчас бы
сказали «эмпирически») «истину схватить нельзя, равно как и
сущность» (Theaet. 186е). Само понимание знания у Платона, вообще в
античности и в Новое время различно. Чтобы понять сущность
движения и инерции, Галилей производит мысленный опыт, а затем
воспроизводит его в опыте чувственном (эмпирически), но, по
Платону, «знание и ощущение никогда не будут тождественны» (Theaet.
186е). Истинное знание, утверждает Платон, следует искать там, где
душа «сама по себе (курсив мой. - А. П.) занимается рассмотрением
существующего» (Theaet. 187а). Но что такое «мышление» -
рассмотрение мысленных предметов душой самой по себе? На этот
вопрос Платон дает четкий ответ: «Я называю так рассуждение,
которое душа ведет сама с собою о том, что она наблюдает... Я
воображаю, что, мысля, она делает не что иное, как рассуждает, сама себя
спрашивая и отвечая, утверждая и отрицая» (Theaet. 189е - 190а).
Обратим внимание на последнюю фразу. Душа, во-первых, сама
по себе занимается рассмотрением, т.е. «теоретизирует» в
собственном смысле этого слова, а, в о - в т о р ы х, поскольку ощущения не
дают истинного знания, она сама себя спрашивает и сама себе отвечает.
Для нас важно, что платоновский эпистемолог тоже задает
вопросы вещам и получает на них ответы, но совершает это в
умственном рассмотрении, т.е. в теоретически, а не в локальном
опыте. Мысленные вещи или вещи реальные, но взятые в их сущности,
составляют для платоновской души и ее ума ту самую
наиреальнейшую реальность, относительно которой только и могут быть
заданы сущностные вопросы.
Мы прекрасно понимаем, что современное, происходящее в
XXI в. теоретическое познание не есть буквальное и прямое
следование античным канонам, но, скорее, опосредованное1. Однако
существенные интенции, как мы видим, подобны.
планет). Несколько подробнее эту тему мы рассматриваем в: Павленко А.Н.
Конечное Все бесконечной Вселенной (роль парадоксов в интерсубъективном
обосновании космологического знания) // Вопросы ВИИ ET. 2007. № 2.
1 Стёпин B.C., например, постоянно обращает внимание на такой
«принципиально опосредованный» характер физического знания: система более абстрактных
объектов интерпретируется в системе менее абстрактных объектов, и так вплоть до
появления «протокольных высказываний» (предложений наблюдения). См.:
Стёпин B.C. Философия науки. Общие проблемы. М. : Гардарики, 2006. С. 229—256.
204
Ч асть III. Неклассика в научном теоретизировании
Почему же произошла утрата первоначального назначения
«теории» в эпоху Нового времени? Действительно, Новое время
со всеми его представителями получило «теорию» как способ
человеческого отношения к миру уже в готовом виде: «теория» была
открыта и развита греками в VI—IV вв. до н.э. Поэтому с
чужеродным продуктом чужой эпохи нужно было что-то делать.
Абсорбируя «наблюдение» как способ отношения к миру, нововременное
сознание не смогло не дать его собственной интерпретации.
Такой интерпретацией становится эмпирическое наполнение
«наблюдения». В действительности это означает, что наблюдение
обретает новое значение (и назначение) — быть наблюдением
чувственным. Претерпев эту метаморфозу, «наблюдение» теперь
предстает в своем новом обличий - «принципе наблюдения».
Исподволь и постепенно, по-видимому решая благородную задачу
элиминировать из научного языка (вообще из науки) понятия с
нулевым денотатом, «принцип наблюдения» методично нас
приучал к тому, что существует то и только то, что эмпирически
(чувственно) наблюдаемо. Эмпирическая, чувственная поверхность
мира становится единственной реальностью, о которой мы в
состоянии хоть что-то осмысленно говорить. Однако и эта, некогда
подававшая надежды греза сегодня утрачивает свое
первоначальное обаяние. Такое мировоззрение преломляется через тезис:
«существует то и только то, что наблюдаемо».
Теперь мы видим, что изменения, произошедшие с «теорией»
за последние 100 лет, не могли не коснуться понимания сущности
ПН, понятого в соответствии со стандартами нововременного
познания.
4. Переосмысление «теории» и «опыта» в связи
со «стадией эмпирической невесомости теории»
Обратимся теперь непосредственно к космологическим
теориям и попытаемся продемонстрировать, каким образом
происходит трансформация научной рациональности в реальном теле
науки.
Начиная с 1928 г., после того как Э. П. Хаббл обнаружил
красное смещение в спектральных линиях галактик, у теории
A.A. Фридмана наступила стадия, которую называют «стадией
эмпирической устойчивости теории» и которая окончательно закре-
А.И. Павленко. Смена научной рациональности сквозь призму «наблюдения» 205
пилась открытием коротковолнового фона в 1964 — 1965 гг. В этот
период завершается становление релятивистской космологии
XX в., анализ которой позволяет сделать несколько выводов
эпистемологического характера.
Благодаря далеко зашедшей математизации
физико-геометрической теории Вселенной теоретические предсказания стали
сильно опережать не только опытное подтверждение, что само
собой разумеется, но вообще весь опытный предел научного знания,
что для науки галилеевского типа отнюдь не характерно. Если
теория гравитации И. Ньютона объясняла уже существующие законы
движения планет И. Кеплера, а последний открыл свои законы
для объяснения уже обнаруженного несоответствия между
наблюдаемыми движениями и традиционной сферической (круговой)
системой Птоломея—Коперника, то эволюционирующую
Вселенную в целом до теории Фридмана никто не наблюдал. В XX в.
возникает совершенно особый феномен — «умозрительная
наука». Вектор развития науки круто поворачивается от
преимущественного объяснения эмпирических фактов, уже попавших в
опытно-наблюдательный горизонт исследователя, даже к не
объяснению, а к предвидению фактов, которые в принципе не могут
присутствовать в локальном опыте.
Граница между физикой и космологией становится столь
прозрачной, что к 1970-м гг. теория элементарных частиц и теория
Вселенной начинают рассматриваться как две сопряженные
области, каждая из которых не может существовать без другой. Это
означает, что космология есть не просто «раздел астрономии», а
нечто более глубокое и самостоятельное.
В 1930—1940-е гг. появляются первые космологические
модели, авторы которых (А. Эддингтон, Е.А. Милн и др.) пытаются
построить схематику мира вообще без опоры на опыт. Так, по словам
Милна, «возможность рационально установить законы динамики
без обращения к опыту является фактом»1.
Фридмановская космология, может быть, впервые со времен
греческой философии и протонауки поставила вопрос: «Почему
Вселенная устроена так, а не иначе?» — выйдя тем самым за рамки
традиционного вопроса предшествующих столетий: «Как
устроена Вселенная?» Однако, задав этот вопрос, она фактически и огра-
1 См.: DinglH. Modern Aristotelianism // Nature. 1937. Vol. 139, № 3523. P. 786.
206
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
ничилась, поскольку сама не смогла удовлетворительно на него
ответить, а именно объяснить, почему Вселенная в целом имеет
барионную асимметрию, почему пространство трехмерно, а
время одномерно, почему локально Вселенная выглядит плоской
и многое другое. Данное обстоятельство, а также то, что
некоторые проблемы (например, сингулярности) вообще невозможно
удовлетворительно решить в рамках фридмановской парадигмы,
привели ко второй в XX в. революции в космологических
представлениях о Вселенной.
Начало новой революции в научной космологии связывается с
разработкой и построением инфляционных сценариев
Вселенной, опирающихся на так называемые пустые модели Де Ситтера.
Обратим внимание прежде всего на те эпистемологические
повороты, которые, на наш взгляд, стимулировали (и стимулируют)
появление нового типа научной рациональности.
Принципиально расширился класс объектов, охватываемых
понятием «Вселенная» как целое: наблюдаемая область (1028 см)
становится локальной. Отсюда вытекает ряд следствий.
Во-первых, если раньше возникали сомнения в
правомерности экстраполяции макрофизических (земных) свойств
пространства и времени на крупномасштабную структуру Вселенной,
то теперь - в правомочности экстраполяции свойств
наблюдаемой области на принципиально ненаблюдаемые.
Парадоксальность подобной экстраполяции проявляется в проблеме
горизонта. Таким образом, космология впервые становится наукой
преимущественно о ненаблюдаемых объектах.
Во-вторых, инфляционная космология решает
большинство проблем фридмановской теории (плоскостности, горизонта,
трехмерности и т.д.). Однако какой ценой, с точки зрения
эпистемологических идеалов и норм новоевропейской науки, она
это делает? Ее теоретическая база настолько расширяется, что
эйнштейновская картина физического мира становится
«классической», а в качестве новой физико-теоретической основы
выступают поочередно теория Великого объединения, теория
супергравитации и теория суперструн, описывающие такие
физические объекты и свойства пространства-времени, которые в
подавляющем большинстве лишены эмпирической проверки
(измерения пространства-времени большие, чем (3+1), струны,
браны и т.д.).
А.И. Павленко. Смена научной рациональности сквозь призму «наблюдения» 207
Реконструируя основные историко-эпистемологические
скрепы второй революции, отметим, что, поскольку до настоящего
времени она не завершена, все касающиеся ее выводы не могут
претендовать на бесспорность1, «запредельны земному миру» и не
могут быть обнаружены наблюдательно в обозримом будущем, а то и
обнаружены вообще.
В-третьих, если фридмановская парадигма поставила
вопрос о правомочности опосредованных опытных наблюдений, то
инфляционная - о бессмысленности любых наблюдений, равно
как экспериментальных подтверждений многих
предсказываемых ею фактах. Сошлемся лишь на некоторые примеры. Стенки
(неоднородности) домена имеют в инфляционной теории (ИТ)
размер порядка 107<^10>— 1010(^ 14>, что неизмеримо превосходит
наблюдаемую область (1028 см). Инфляционная теория признает
также существование причинно-следственного горизонта,
имеющего многофакторную природу: не может быть получено сигнала
от источника, находящегося вне пределов светового горизонта;
разные домены причинно не связаны; разные домены вообще
имеют разную сигнатуру пространства-времени, в ансамбле
которых наш четырехмерный континуум является частным случаем.
Кроме того, энергии доинфляционной и инфляционной
стадий имеют величину порядка 1015—1019 ГэВ, тогда как, по оценкам
специалистов, в ближайшем будущем может быть построен
ускоритель с достижимым потолком энергий 104 ГэВ; пределом для
земных условий в принципе может быть потолок 107 ГэВ. В
отношении к энергиям рождения домена возникает, таким образом,
«энергетическая пропасть».
В-четвертых, прозрачность границы между физикой
(теориями элементарных частиц) и космологией, которая только
наметилась во фридмановской парадигме, стала практически
полной. Современные теории элементарных частиц, по словам
А.Д. Линде, проходят прежде всего тест на «космологическую
полноценность»2.
Указанные черты эпистемологической ситуации позволяют
сделать следующий вывод: в космологии, равно как и в физике,
1 См.: PavlenkoAN. The Problem of «Ecologically Pure» Theory (A Possible Version of
Postmodern Science Development) // XIX World Congress of Philosophy. M., 1993. Vol. 1.
2 См.: Линде А Д. Физика элементарных частиц и инфляционная космология. М. :
Наука, 1990.
208
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
наступила эпоха, когда теоретические разработки не просто
сильно опережают опытные исследования, но по некоторым
направлениям опередили их, возможно, навсегда (хотя инерция
ориентации на локальный опыт у теоретиков, полагающих, что их
построения должны соответствовать уже имеющимся фактам в
наблюдаемой области, сохраняется).
Так как построение инфляционной парадигмы приходится на
1979—1987 гг., ас момента создания А. Гусом первого сценария
(1981) прошло более 30 лет и за этот довольно большой по
современным техническим масштабам срок было получено только одно
(общепризнанное) опытное подтверждение вновь предсказанных
фактов — анизатропия реликтового фона (2002), то придется
констатировать несомненный методологический факт:
инфляционная теория (рассматриваемая сегодня уже как парадигма)
находилась на «стадии эмпирической невесомости» с 1981 по 2002 г. —
более 20 лет.
Признание статуса ИТ в качестве господствующей парадигмы
современной космологии, а также определение ее места на шкале
внутреннего развития, характеризующееся «эмпирической
невесомостью», позволяют обнаружить тот эпистемологический сдвиг,
который может быть распространен не только на космологию в целом,
но и на сопряженные с ней фундаментальные физические теории.
Другими словами, те изменения в познавательных ориентациях,
которые наблюдаются в космологии и физике элементарных частиц,
свидетельствуют, с нашей точки зрения, не просто об изменениях в
отдельных дисциплинах, но и о том, что современная естественная
наука стоит перед необходимостью изменения идеалов и норм
научного познания, формирования иного, отличного от традиционного
(классического и неклассического) типа рациональности.
Действительно, подавляющее большинство собственно
космологических фактов, предсказанных инфляционной парадигмой,
проверить нельзя в принципе или, если несколько смягчить это
утверждение, — в наше время и в обозримом будущем. Хотя новые
теории гравитации и элементарных частиц могут получить
экспериментальное подтверждение своих «космологических разделов»
(так, предполагается построить детектор для обнаружения
магнитных монополий и др.), но это будут лишь косвенно
подтверждающие факты. Учитывая, что сами фундаментальные физические
теории сталкиваются с теми же проблемами (например, согласно тео-
А.Н. Павленко. Смена научной рациональности сквозь призму «наблюдения» 209
рии суперструн, стенка домена образуется «струной»), можно
сделать следующий вывод: стадия «эмпирической невесомости»
теории имеет тенденцию превращаться из предварительной и
преходящей в основное, стабильное состояние. Это в свою очередь
диктует необходимость переинтерпретации таких понятий, как цели
науки, научность, теория и опыт.
5. Предсказания инфляционной космологии
и возможность их подтверждения
Рассмотрим конкретные предсказания ИТ. Например, для
решения проблемы барионной асимметрии во Вселенной
предсказывается существование суперсимметричного партнера
гравитона, а именно массивного, со спином 3/2, с массой 102 гэВ гравити-
но. Единственный путь обнаружения гравитино связан со
сценарием раздувающейся Вселенной. Причем «для того, чтобы
это решение оказалось совместимым с наблюдаемой
распространенностью дейтерия и гелия-3, температура Вселенной после
разогрева не должна превышать 108 гэВ»1. Главным источником
гравитино после космологической инфляции является процесс, в
котором в результате взаимодействия скалярной частицы с
калибровочным фермионом получаются гравитино и
калибровочный фермион. Другими словами, космологическая ИТ,
построенная на базе супергравитации, — заранее оговаривает
условия (наличие гравитино), которые могут дать ее эмпирическое
обоснование. Предсказание существования гравитино со спином
3/2 связано с открытием нового типа симметрии в мире —
суперсимметрии, которая в отличие от классических типов симметрии
позволяет соединять частицы с целым и полуцелым спином в
единый «мультиплет». Та ИТ, которая построена на базе
супергравитации, приводит к тому, что суперсимметрия выступает как ее
обосновывающий фактор. Новый принцип суперсимметрии
придает космологической теории Линде больший эвристический вес,
нежели классические типы симметрии, - ставшей уже
классической теорией Фридмана-Леметра. Теория Фридмана—Леметра
была построена с учетом симметрии, существующей только в
1 Линде А.Д., Фаломкин И.В., Хлопов М.Ю. Аннигиляция антипротонов в гелии
как тест моделей, основанных на N = 1 супергравитации // Сообщения
Объединенного института ядерных исследований. Дубна, J 984. С. 4.
210
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
«ставшем» после фазового перехода мире, тогда как ИТ построена
с учетом симметрии не только «ставшего мира», но и мира перед
становлением, до перехода вакуума из одного фазового состояния
в другое, где в качестве переносчика такого рода взаимодействий
предлагается легчайшая суперсимметричная частица хиггсино1.
Следовательно, суперсимметрия выступает как обобщение
симметрии, которые Ю.П. Вигнер обозначал как геометрические
(динамические, распространяющиеся на гравитационные и
электромагнитные взаимодействия) и негеометрические
(распространяющиеся и на сильные взаимодействия)2.
Другим фундаментальным предсказанием является
предполагаемое существование стенок домена (неоднородности), размеры
которой превосходят горизонт видимой Вселенной. Это
принципиально затрудняет наблюдательное подтверждение. Надежда
подтверждения может базироваться только на каком-либо
теоретическом или опытном прорыве за рамки существующего уровня
развития науки и всей человеческой практики в целом.
Не менее серьезные трудности связаны с обнаружением
магнитных монополий — частиц, рождающихся в момент фазового
перехода.
Наблюдательное подтверждение этих трех и других
предсказаний ИТ в настоящий момент затруднено.
Поэтому ИТ, вернее, проблема ее наблюдательного
подтверждения, сегодня является трудноразрешимой в рамках земной
экспериментальной физики. Названные выше и другие трудности в
эмпирическом (наблюдательном) обосновании инфляционной
парадигмы, безусловно, стимулируют научный поиск, ставящий
задачу их преодоления. Так, в последние годы ведутся
интенсивные исследования по обнаружению безмассовых и очень легких
бозонов в солнечном излучении, существование которых
предполагается именно в тех теориях физики (теория супергравитации и
теория суперструн), которые используются в качестве основы для
инфляционной парадигмы3. Трудность их обнаружения имеет по-
1 См.: Ellis J., Hagelin J., Nanopoulos D., Olive К., Srednicki M. Supersymmetric
Relies from the Big Bang// Inflationary cosmology. 1986. P. 162.
2 См.: Вигнер E. Этюды о симметрии. M., 197]. С. 21-33.
3 См.: Воробьев П.В. Индуцированный светом распад псевдогоддетоуновских
бозонов и поиск аксионного излучения Солнца // Письма в ЖЭТФ. 1993. Т. 57,
вып. 12. С. 737-740.
А.И. Павленко. Смена научной рациональности сквозь призму «наблюдения» 211
ка чисто инструментальную природу, так как «применяемые
ранее детекторы чувствительны к аксионам с массой менее 0,1 эВ»1.
Именно аксионы и другие частицы этого же класса являются
претендентами на роль того субстрата, который несет
ответственность за «скрытое вещество» (dark matter) во Вселенной2.
В 1993 г. появились работы3, в которых говорилось об
открытии анизотропии реликтового излучения, предсказанного ИТ.
Эти и другие исследования в «прикладном» разделе
космологии дают результаты, которые трудно считать окончательными в
отношении наблюдательного (экспериментального)
подтверждения ИТ. Возникает своеобразный парадокс: если не считать те
незначительные успехи, которые могут учитываться, —
появившиеся сведения об обнаружении анизотропии реликтового излучения
и экспериментальные усилия в направлении поиска аксионов, то
в целом тезис об эмпирической необоснованности ИТ до
настоящего времени сохраняет свою силу. В то же время большинством
исследователей ИТ уже рассматривается как сформировавшаяся
парадигма4. В таком случае мы вынуждены признать, что ИТ
является не просто гипотезой ad hoc, но оформившейся единицей
научного знания, не имеющей в настоящий момент весомого
эмпирического подтверждения вновь предсказанных фактов. Это дает
право заключить, что ИТ находится на «стадии эмперической
невесомости теории». Признав наличие такой стадии, нетрудно
увидеть, что она может быть и преходящей, и постоянной. Такое
состояние космологии естественно вызывает скептическую
реакцию некоторых исследователей5. Здесь наступает момент, когда
на нее обрушиваются «опровергающие аргументы» со всех сторон.
СВ. Хокинг полагает, что хаотический инфляционный сценарий
нереалистичен вследствие введенного им ограничения на значе-
1 Воробьев Л.В. Указ. соч. С. 737.
2 См.: Dine M., Fischler N. The-So-HarmlessAxion//Physicx Letters. 1983. Vol. 120
В, №1-3. P. 137-141.
3 См.: Tamman G.A. Europhysicx News. 1992. Vol. 23, № 97; Соколов Н.Ю.
Топологическая нетривиальность Вселенной и анизотропия реликтового излучения //
Письма в ЖЭТФ. 1993. Т. 57, вып. 10. С. 601-605.
4 См.: Линде АЛ Указ. соч. С. 5-6.
5 См.: Халфин Л.Н. Об ограничениях на инфляционные модели Вселенной //
ЖЭТФ. 1986. Т. 91, вып. 4(10); Дымникова И.Г. Инфляционная Вселенная с точки
зрения ОТО // ЖЭТФ. 1986. Т. 90, вып. 6.
212
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
ния потенциала скалярного поля1. Л .А. Хал фи н пытается
показать, что хаотическая ИТ неудовлетворительна с точки зрения
теории вероятности. Рассчитав экспоненциальную оценку
вероятности допустимой неоднородности реализации случайных
полей, он заключает, «что вероятность образования "нашей"
Вселенной с допустимой пространственной неоднородностью
фантастически мала в рамках хаотического сценария»2. Кроме того,
теория хаотически раздувающейся Вселенной предсказывает
неоднородности, которые имеют размеры «много больше
видимой (1028см) Вселенной», что «нельзя проверить наблюдениями
даже в принципе»3. Не менее серьезны, с нашей точки зрения,
аргументы И.Г. Дымниковой. «Согласно общей теории
относительности, геометрия пространства-времени генерируется
движением и распределением материи», следовательно, «как может
материя, с которой ничего не происходит, вызвать столь
грандиозные геометрические изменения?.. В таком случае
раздувание вакуума представляет собой координатный эффект, а
невозможность связать с вакуумом выделенную сопутствующую
систему отсчета, наводит на мысль, что это раздувание является
фиктивным»4.
Не вдаваясь в подробности частнонаучного характера,
выделим один, на наш взгляд, очень существенный
эпистемологический аспект в этой критике теории инфляционной Вселенной.
Плодотворность точки зрения, согласно которой сегодня
происходит смена очередной научной физической картины мира5,
заключается в том, что она позволяет оценивать вновь создаваемые
теории как в физике (теория супергравитации, теория суперструн
и др.), так и в космологии (инфляционная теория и др.) не с
позиций старых, принадлежащих предшествующей господствующей
теории, собственных оснований физики и космологии, которые в
основном опирались на общую теорию относительности и теорию
Фридмана, а с позиций новых физических и космологических ос-
1 См.: HawkingS. W. Phys icx Lett ers. 1985. Vol. 150 В. P. 339.
2 ХалфинЛ.Н. Указ. соч. С. 1142.
3 Там же. С. 1140.
4 Дымникова И.Г. Указ. соч. С. 1903.
5 См.: Крымский B.C., Кузнецов В.И. Характерные черты физической картины
мира// Методологический анализ физического познания. Киев, 1985, С. 89.
A.H. Павленко. Смена научной рациональности сквозь призму «наблюдения» 213
нований, которые еще только формируются (рождаются) в рамках
вновь создаваемых теорий. Не претендуя на полноту и полностью
отдавая себе отчет в неоднозначности их принятия, отнесем к ним
следующие положения.
1. Физические основания. Скорость увеличения размеров системы (на
стадии раздувания) на много порядков превышает скорость света
в вакууме. Это не противоречит общей теории относительности,
поскольку скорость увеличения размера системы в отличие от
скорости передачи сигналов может быть сколь угодно большой.
Радиус Вселенной на стадии раздувания за 10~30 с увеличился от
планковского размера Ю-33 см., т.е. в 101000000 раз!1
2. Фундаментальность вакуума по отношению ко всем другим
физическим формам существования материи. В известной мере его
можно рассматривать как принцип ваккумного единства мира. Это
означает, что в действительном физическом мире нет ничего, что
потенциально (виртуально) не содержалось бы в вакууме.
«Потенциально» он содержит и субстанциональный мир2. Инфляционная
теория предполагает рождение (возникновение) Метагалактики
(мини-Вселенной) в результате вакуумной флуктуации.
3. Принцип независимости пространства и времени от вещества и
излучения на ранних стадиях эволюции Вселенной. Стадия
раздувания в эволюции Вселенной осуществляется без вещества и
излучения. Другими словами, раздувается «пустое» пространство и
«пустое» время. Они наполнены лишь полем Хиггса.
Укажем на основные различия физических оснований фрид-
мановской космологии, построенной на базе общей теории
относительности, от физических оснований космологии, построенной
на базе теории супергравитации (точнее, их достижений), теории
великого объединения и ряде других теорий:
а) фридмановская космология предполагает константу
максимальной скорости протекания физических процессов (скорость света
в вакууме). Инфляционная космология не противоречит этому
положению. Однако если в первом случае молчаливо
предполагалось, что вообще все процессы (в том числе увеличение размеров
системы) ему подчиняются, то во втором случае ИТ допускает со-
1 Линде А.Д. Самовосстанавливающаяся Вселенная. М., 1987. С. 12.
2 См.: Ромпе Р., Тредер Г.Ю. Мыслимые, виртуальные и действительные миры и
представления о вакууме // Методологический анализ физического познания.
Киев, 1985. С. 192.
214
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
стояние Вселенной, когда это ограничение не работает. Кроме
того, сами космологи постоянно настаивают на отсутствии этого
противоречия, тогда как увеличение размеров «области»,
заполненной скалярным полем, если и не происходит в результате
передачи сигналов, то уж во всяком случае есть процесс. Поскольку
увеличиваются размеры такой системы, которая заполнена
физическим у-полем, то это с необходимостью есть физический
процесс;
б) фридмановская космология справедлива только при описании
вещества и излучения (даже в форме поля). Новые физические и
космологические теории оказываются справедливыми (т.е.
позволяют описывать) и по отношению к такому состоянию мира,
Вселенной, когда вещество и излучение еще не возникло (в
«чистом» виде), т.е. учитывают в описании мира более глубокий «срез»
реальности, когда фундаментальным «типом» материи выступает
вакуум;
в) если фридмановская космология, а равно и физика, на базе
которой она строилась, предполагала абсолютную зависимость
пространства и времени от вещества и излучения (деситтеровские
модели в рамках эйнштейновской физики и космологии
рассматривались как нереалистические и были в начале 1920-х гг.
восприняты как «курьезы», так сказать, результат свободной
«игры ума», хотя позднее, в рамках ИТ произошло их позитивное
переосмысление), то новая космология допускает отсутствие такой
прямой зависимости (на ранних стадиях эволюции Вселенной).
Учитывая выделенные основания физики, используемые
современной космологией, и их отличия от оснований физики
начала XXI в., можно установить эпистемологическую причину
(физические причины могут быть самыми различными) или, точнее
говоря, природу появления критики и недоумения относительно
возникновения ИТ. Обвинение в «фиктивности» раздувания, ма-
ловероятности рождения и т.д. нам представляются попыткой (и
вполне естественной) интерпретировать новые явления,
предсказываемые ИТ, в рамках тех огрублений действительности,
которые были приняты за основу предыдущей картиной мира, т.е. с
позиции собственных оснований релятивистской физики.
Сегодня по сути происходит то же, что и в конце XIX в. и первой
четверти XX в., когда новым физическим теориям понадобилось во
многом изменить существовавшую тогда картину мира, принять
A.H. Павленко. Смена научной рациональности сквозь призму «наблюдения» 215
новые основания для физических теорий. Р. Фейнман по поводу
такой ситуации в научном поиске заметил: «Каждый раз, когда
образуется длительный затор, когда накапливается слишком много
нерешенных задач, это потому, что мы пользуемся теми же
методами, которыми пользовались раньше»1. Новую схему, новое
открытие нужно искать совсем на другом пути. Действительно,
искривленное пространство-время Эйнштейна последовательному
ньютонианцу казалось «фикцией» ничуть не меньше, чем
раздувание вакуумаза 10~30св 101000000разпоследовательномупредстави-
телю релятивистской гравитации. В известном смысле новая
космологическая теория вновь ставит вопрос о независимости
пространства и времени от вещества и излучения, как это уже было в
ньютоновской картине мира, но на совершенно ином уровне
рассмотрения реальности. Если Ньютон предполагал независимость
пространства и времени от сосуществующей с ними материи
(вещества и излучения), то новая физика и космология описывает
такие состояния материи, в которых вещество и излучение еще не
актуализировались (не перешли из виртуального состояния в
действительное, наличное).
Однако пессимистические оценки ИТ как ее противниками
(представители альтернативных направлений в космологии и
здоровый критицизм в среде самих ученых), так и сторонниками
«сдерживания» роста универсальности (философы науки) нам
представляются не до конца обоснованными в силу следующих
замечательных свойств этой теории:
1) ИТ дает новые проверяемые предсказания в сравнении с теорией
Фридмана-Леметра;
2) ИТ может рассматривать ретроспективно те эмпирические
подкрепления, которые имела теория Фридмана-Леметра как свои,
ибо содержит ее как стадию (предельный случай) в своем более
универсальном описании эволюции Вселенной. Другими
словами, та «часть» ИТ, которая соответствует фридмановской
эволюции, эмпирически обоснована. Но это «косвенное», а не «прямое»
подтверждение (обоснование), поэтому оно не может играть
решающей роли;
J) между «открытием» явления на бумаге и его подтверждением в
действительности, как правило, лежит временной отрезок, дли-
1 Фейнман Р. Характер физических законов. М., 1986. С. 180.
216
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
тельность которого может быть сколь угодно большой. Это
означает, что ИТ в обозримом будущем, возможно, будет либо
подтверждена, либо опровергнута.
Эти три момента, на наш взгляд, существенно меняют
пессимистическую оценку перспективной теории в современной
космологии. В силу этого она продолжает оставаться на стадии
эмпирической невесомости. Поэтому для того, чтобы упрочить
положение ИТ среди других конкурирующих с ней концепций
Вселенной, более целесообразно учитывать ее собственно
теоретические достоинства. Здесь на первый план выступают, с одной
стороны, способность теории решать проблемы фридмановской
теории с учетом последних достижений в ядерной физике и
квантовой механике, а с другой — соответствие самой ее теоретической
основы — идеалам и нормам построения научного знания, т.е.
соответствие ИТ в новой редакции Линде требованиям
соответствия, простоты исходных принципов, красоты построения и
независимости теории от граничных условий. Кстати, последнее
требование было и осталось действительным идеалом в космологии,
на который давно ориентировало свои исследования
большинство космологов.
Итак, мы видим, что современное состояние космологии
провоцирует обсуждение не только изменившихся представлений о
структуре и свойствах Вселенной, но и о самой природе научного
познания. Не исключена возможность, что такая дискуссия
приведет к изменению наших представлений об идеалах и нормах,
сформировавшихся в Новое аремя.
6. Смена типа научной рациональности
Рассмотрим понятия «опыт» и «теория».
Упрочнение «стадии эмпирической невесомости» в качестве
основного состояния, конечно, не приводит к элиминации опыта
как такового, а лишь обнаруживает возможность при переходе от
одной парадигмы к другой наделять семантически устоявшийся
термин новым смыслом.
Признав два обстоятельства: во-первых, что опыт
эмпирический приобретает подчиненное значение как исключительно
локальный (все отображаемое этим понятием «работает» только
в очень узком по современным масштабам диапазоне — от по-
А.И. Павленко. Смена научной рациональности сквозь призму «наблюдения» 217
слепланковских размеров до масштабов, не превышающих
наблюдаемую область Вселенной), во-вторых, опыт начинает
трактоваться как преимущественно теоретический (не
выходящий за сферу собственно разумного рассмотрения), мы тем
самым получаем возможность переосмыслить данное понятие.
Вновь теоретически открытый объект будет
интерпретироваться в системе других теоретических объектов — менее
абстрактных вплоть до чисто эмпирических, верифицируемых или
фальсифицируемых в локальной области. Здесь включается
принцип дополнительности и взаимосогласованности разных
объектов, причем локальный опыт в конечном счете вообще
может отсутствовать.
Такое переосмысление в новых условиях становления науки
не может не привести к пересмотру самой теоретической
деятельности. В самом деле, когда обнаруживаются объективные
границы познания (энергии порядка 1019 ГэВ), выявляются
запрещающие эффекты, факторы, принципы (антропный принцип),
накладывающие ограничения на существование физических процессов
определенного типа, утверждаются положения теории, имеющие
только внутритеоретическую обоснованность, тогда возникают
предпосылки для переинтерпретации нововременной парадигмы
знания вообще.
У методологов науки, придерживающихся жесткой
ориентации на каноны исследовательских стандартов Нового времени,
эта тенденция вызывает четко выраженную отрицательную
реакцию. Например, в 1930-е гг. X. Дингл в полемике с A.C. Эддингто-
ном и ЕЛ. Милном квалифицировал их построения как «космо-
латрию»1, а в 1970—1980-е гг. С. Тулмин назвал космологию
«естественной религией»2.
Вместе с тем создавшееся положение не должно
квалифицироваться как простая смена «построения мышления»,
инициированная им самим и не покидающая его пределов. С нашей точки
зрения, здесь обнаруживается, иная, отличная от нововременной
концепция знания, базирующаяся на убеждении, что не ratio
человека, а целесообразность, соразмерность и гармония мира через
1 DinglH.Op. cil. P. 786.
2 Toulmin St. The Return to Cosmology: Postmodem Science and the Theology of Nature.
California Press, 1982. P. 217.
218
Ч асть III. Неклассика в научном теоретизировании
определяемые этой соразмерностью и целесообразностью
границы познания буквально «ведут», «направляют» научное
исследование, как и вообще всякий поиск истинного знания. Именно
этот путь сегодня понуждает, причем объективно, пересмотреть
основания теоретической деятельности человека вообще.
Теоретическая деятельность - рассмотрение разумом своих
объектов внутри себя (т.е. «умной материи» в терминологии
Плотина) — возвращается к самой себе в том смысле, что деятельность
ума отныне не будет покидать пределов самого ума.
Это в свою очередь может создать (возродить) реальную
основу для появления «экологически чистой теории», для которой
эксперименты над действительностью и с действительностью
перестанут быть обязательными, поскольку они будут иметь
подчиненное значение. Тем самым возможно преодоление того
прагматического отношения к реальности, которое сложилось в
европейской культуре и науке приблизительно с XVI—XVII вв.,
когда Природа (Вселенная), по словам И. Кеплера,
рассматривалась «наподобие часов» (instar horologii)1.
Если тенденция эволюции теоретического знания угадана
нами верно, то можно с известной долей уверенности говорить о
том, что новые идеалы рациональности есть в своих
существенных чертах возрождение старых, бытовавших в античности.
Весьма кстати вспомнить здесь слова Аристотеля, сказанные им в
«Метафизике» (1, 2, 982 в 30): «Знание и понимание ради самого
знания и понимания более всего присущи науке в том, что наиболее
достойно познания, ибо тот, кто предпочитает знание ради
знания, более всего предпочитает науку наиболее совершенную, а
такова наука о наиболее достойном познания. А наиболее достойны
познания первоначала и причины, ибо через них и на их основе
познается все остальное, а не они через то, что им подчинено».
Хотя Аристотель, выражая в этих словах не только умонастроения
платоновской Академии, но и мироощущение античной науки
(знания вообще), говорит о философии, тем не менее сегодня мы
не можем отрицать того факта, что современная физика, а тем
более космология, следуя своей принципиальной установке, стали
дисциплинами о «причинах» и «первоначалах». Разница только в
1 Apel К.О. Das Verstehen (Eine Problemgeschichte als Begriffsgeschichte) // Archiv
für Begriffsgeschichte. Bonn, 1955. Bd 1. S. 145.
A. H. Павленко. Смена научной рациональности сквозь призму «наблюдения» 219
том, что языком науки является математика. Это прекрасно
подтверждает высказывание одного из создателей инфляционной
парадигмы А.Д. Линде: «На примере проблемы происхождения ба-
рионной асимметрии Вселенной было ясно продемонстрировано,
что вопросы, которые многим казались бессмысленными или в
лучшем случае метафизическими (почему Вселенная устроена
так, а не иначе?), могут иметь реальный физический ответ»1.
Ставя вопрос «почему», современная наука по существу обращается к
«причинам» и «первоначалам», правда, в своей строго научной
форме, а последнее не может быть плодотворным при господстве
устоявшихся в нововременной науке «идеалов» и «норм» научного
познания, что в меру своих сил мы и попытались показать.
Линде АЛ Физика элементарных частиц и инфляционная космология. С. 166.
A.H. Павленко
Принцип «наблюдаемости»:
почему нереализуема теория
бесконечной Вселенной?
II В космологических теориях выполняется эпистемологическая
зависимость: все шаги космологии на пути утверждения ее статуса как
естественной науки обратно пропорциональны ее же шагам по
введению бесконечных значений физических величин. Так, введение
бесконечности в описание Вселенной в рамках ньютоновской
космологии приводит к фотометрическому и гравитационному парадоксам.
Для элиминации парадоксов релятивистская космология опять
вынуждена вводить представления о характеристиках Вселенной, имеющих
бесконечно малые или большие значения космологических величин.
Эта трудность характерна и для инфляционного и хаотического сце-
|| нариев описания Вселенной.
1. Введение
Вопрос «Каков окружающий нас мир?» имеет множество
ответов, причем большинство из них связано с естествознанием.
Однако если мы придадим этому вопросу более конкретную форму
«Каков окружающий нас мир: конечный или бесконечный?», то
будем вынуждены констатировать, что только одна естественная
наука в состоянии предложить на него осмысленный ответ. Эта
наука — космология. Почему? Потому, что прерогативой
космологии всегда было рассмотрение природного мира с точки зрения
его целостности. Предмет космологии до сих пор принято
связывать с «физико-геометрическими характеристиками Вселенной
как целого»1. Понятно, что предмет современной космологии
существенно отличается от предмета космологии, скажем, в
античности, однако и тогда, и сейчас вопрос о том, является ли
наблюдаемый мир конечным или он бесконечен, всегда сохранял свою
актуальность. В настоящей работе мы ставим перед собой задачу
1 Под Вселенной принято понимать совокупность физико-геометрических
характеристик наблюдаемого мира, утверждения о которых лишены логических и
фактуальных противоречий.
А.И. Павленко. Принцип «наблюдаемости»
221
продемонстрировать эпистемологическую нереализуемость теории
бесконечной Вселенной, Для этого нам потребуется ввести
несколько предварительных допущений: I) утверждение о
нереализуемости относится только к европейской космологии; 2) утверждение
«быть реализованной теорией» не тождественно утверждению
«быть сконструированной теорией».
Понятно, что «сконструировать» можно в определенном
смысле «любую» теорию, однако сделать теорию реализуемой, т.е.
получающей некоторое наблюдательное и экспериментальное
подтверждение и лишенную внутренних противоречий, удается далеко не
всегда. В связи с этим и представляет интерес вопрос: какого класса
теории — теории конечной (ограниченной) Вселенной или теории
бесконечной (безграничной) Вселенной — оказываются не только
наиболее реализуемыми, но если говорить строже — в принципе
реализуемыми? Не получается ли так, что бесконечные значения
каких-либо величин служат своеобразным индикатором их
нереалистичности и соответственно нереализуемости?
Понятно, что естественным стремлением исследователей во
все времена было желание «раздвинуть границы» эмпирически
наблюдаемого мира. Но вело ли это к обнаружению бесконечной
Вселенной? Начнем рассмотрение с первой попытки,
предпринятой в европейской космологии в Новое время.
2. Попытка реализовать теорию бесконечной Вселенной
в ньютоновской парадигме
С развитием механики, теории гравитации, оптики и других
разделов физики и математики формируется так называемая
ньютоновская космологическая парадигма, которая господствовала начиная с
XVII в. вплоть до конца XIX в. Ее отличительной особенностью в
сравнении, например, с коперниканской была ориентированность
на физическое объяснение устройства Вселенной в границах
наблюдаемых тел Солнечной системы. Ньютон формулирует закон
тяготения, цель которого заключалась в том, чтобы дать физическое
объяснение движения планет вокруг Солнца по эллиптическим орбитам,
подчиняющегося в свою очередь законам Кеплера.
В основании такого объяснения лежало несколько
представлений, которые подразумевались, но в явном виде не
формулировались. Назовем их: 1) Вселенная бесконечна, следовательно, она
222
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
не может быть чем-то целым; 2) любые изменения в бесконечной
Вселенной имеют локальный характер; 3) Вселенная,
рассмотренная как все существующее (Универсум), неизменна.
Физическая космология XVII—XIX вв. еще не рассматривалась
как тонная наука, ибо не имела собственного объекта, который
был бы выражен в космологических уравнениях, оставаясь
включенной в тело астрономии в качестве раздела общего знания о
звездном небе. Однако уже в XIX в. были осуществлены две
теоретические попытки уточнить объект космологии -
экстраполировать ньютоновскую космологическую картину мира на
бесконечную Вселенную. Обе привели к космологическим парадоксам -
фотометрическому и гравитационному.
Фотометрический парадокс Г. Ольберса (1826). Суть парадокса
Генриха Ольберса (1758—1840) состоит в следующем. Допустим,
что идея Ньютона о бесконечной Вселенной верна. Теперь
выполним мысленный эксперимент. Представим, что пространство
вокруг Земли окружено огромной сферой (имеющей большой
радиус). В этом случае внутри этой сферы должно оказаться
сколько-то звезд, которые придадут этой сфере некоторую яркость.
Теперь удвоим радиус сферы. Если допустить, что все звезды
одинаковы по своей яркости и равномерно распределены в
пространстве, то при удвоении радиуса должна увеличиться яркость
ночного неба. При такой операции яркость самых далеких звезд
уменьшится в 4 раза, поскольку она зависит от расстояния 1/г2, но из-за
того, что число звезд пропорционально объему сферы, т.е. л3, то
поэтому общая яркость ночного неба все равно возрастет. Если мы
и далее будем продолжать эту процедуру, то в конце концов будем
вынуждены признать, что ночное небо должно быть таким же
ярким, как наше Солнце. Возникал парадокс (противоречие) между
данными наблюдаемого ночного неба и выводом Ольберса,
опирающегося на допущение о достоверности ньютоновских
представлений о Вселенной1.
Гравитационный парадокс Зеелигера (1895). Созданная Ньютоном
теория гравитации давала достаточно точное объяснение причи-
1 Уже сам Ольберс пытался спасти положение с помощью допущения о
существовании в пространстве Вселенной «поглощающей среды» - газа. Но критики
этого аргумента справедливо указывали, что поглощающий газ должен был бы
нагреваться до высокой температуры и излучать почти столько же энергии.
A.H. Павленко. Принцип «наблюдаемости»
223
ны движения планет вокруг Солнца по законам Кеплера. Сам
Кеплер, не имея этого объяснения, был вынужден объяснять
движение планет наличием «космических магнитных вихрей».
Здесь следует зафиксировать, что приложение
гравитационной теории Ньютона к объяснению движения тел в Солнечной
системе дало ряд замечательных научных результатов, среди
которых, например, было предсказано существование такой планеты,
как Нептун.
Однако на этом общем благоприятном фоне возникла
трудность: если допустить, что в бесконечной Вселенной выполняется
закон всемирного тяготения и она равномерно заполнена
веществом, то мы приходим к удивительному выводу, который сделал
Хуго фон Зеелигер (1849—1924): если верна гипотеза о
бесконечной Вселенной и верно допущение о том, что она в среднем
равномерно заполнена веществом, то, по закону Ньютона, материя во
Вселенной давно должна была бы под действием силы
притяжения собраться в центре, где плотность была бы огромной, и,
наоборот, при удалении в бесконечность плотность материи
приближалась бы к нулю. Математически это выражается следующим
образом: в теории тяготения Ньютона гравитационный
потенциал ф удовлетворяет уравнению Пуассона Д<р = 4яСр, где G-
гравитационная постоянная; р — плотность вещества. Решение этого
уравнения имеет вид
(p = CfpdK/r+C,
где г — расстояние между объемом d Vw точкой, в которой
определяется потенциал ср; С— произвольная константа. Если допустить,
что г стремится к бесконечности, а плотность вещества убывает
быстрее, чем I//*2, то интеграл сходится и потенциал можно
определить. Если с увеличением расстояния плотность вещества
уменьшается медленнее, чем \/г2, — так и должно быть в
бесконечной однородной Вселенной, то интеграл расходится и потенциал
определить нельзя. Выходом мог бы быть случай, когда средняя
плотность вещества во Вселенной р = 0.
Однако, рассуждал Зеелигер, этого мы не наблюдаем.
Следовательно, или она не бесконечна, или вещество в ней не
распределено равномерно, или то и другое вместе. Зеелигер пытался спасти
положение допущением о том, что сила притяжения убывает
быстрее, чем по ньютоновскому закону 1/г2.
224
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
Заметим, что и Ньютон, будучи проницательным ученым, не
мог не обдумывать подобную ситуацию. В переписке с Ричардом
Бентли он обсуждал эту трудность1.
Преодолеть парадокс, с которым столкнулась «бесконечная
Вселенная» Ньютона, пытался К. Шарлье в самом начале XX в.,
допустив, что «плотность звезд уменьшается по мере удаления в
пространство»2 и что «материя во Вселенной, хотя и бесконечна,
но в то же время ее средняя плотность по мере удаления стремится
к нулю»3. Это положение не вытекает из закона тяготения
Ньютона, поэтому является ad hoc допущением, призванным спасти
«закон Ньютона» от гравитационного парадокса.
Искусственность допущений, которые не подкреплялись
данными наблюдений, фактически стимулировала поиски
альтернативных объяснений, в которых бы эта проблема решалась
естественным образом, как простое следствие решения уравнений.
3. Решение (устранение) парадоксов
ньютоновской космологии
Для преодоления парадоксов, как мы знаем сегодня,
потребовалось создание совершенно новой теоретической основы, в роли
которой выступила новая теория гравитации (1915—1917). В этой
теории вводились новые представления о свойствах пространства,
времени и материи.
Характеристики мира описывались космологическим
уравнением Эйнштейна
*/*- s8ikX = к/éTik + &*Л,
где Rik — тензор Риччи; R — его след (оба они функции от gik);
Tik- тензор энергии-импульса материи; Л — член, эквивалентный
дополнительному члену в тензоре энергии-импульса. Решение
этого уравнения обладает рядом особенностей4: /) при решении
1 Подробнее на эту тему см.: Hoskin M. Gravity and Light in the Newtonian
Universe of Stars//JHA, 2008. P. 252.
2 Шарлье К. Как может быть построена бесконечная Вселенная. Симбирск,
1914. С. 5.
3 Там же.
4 Подробнее см.: Зельдович Я.Б., Новиков И.Д. Строение и эволюция
Вселенной, М. : Наука, 1975. С. 129-130.
А.И. Павленко. Принцип «наблюдаемости»
225
уравнения масштабный фактор а оказывался равным нулю, так
как da/dt = 0. Другими словами, согласно этому уравнению,
Вселенная оказывалась неэволюционирующей — статичной; 2)
впервые в истории новейшей космологии ее уравнение описывало всю
Вселенную, т.е. включало в себя все вещество и излучения, ее
наполняющие; 3) такой статичный мир автоматически оказывался
замкнутым; 4) в уравнение вводился дополнительный параметр Л,
который оказывался существенным только в масштабе всей
Вселенной. Поэтому он получает название «космологическая
постоянная». Внегалактические наблюдения ограничивают Л
величиной порядка |л|< 10~55 см-2. Другими словами, лабораторное
наблюдение оказывалось невозможным.
Для чего Эйнштейну понадобилось вводить член Л? Я.Б.
Зельдович замечает, что Эйнштейн считал желательным найти
статическое решение с замкнутой геометрией трехмерного мира {.
Созданная модель статичной Вселенной с описанными выше
свойствами - статичностью, замкнутостью пространства и
конечностью радиуса, объема, количества материи - впервые
позволила иметь дело с завершенным объектом, который может быть
предметом конкретной науки.
В то же время в статичной Вселенной решался
гравитационный парадокс Зеелигера. Как показал Эйнштейн2, в замкнутом
сферическом мире количество вещества огромно, но все-таки
конечно, радиус такого мира также конечен. В соответствии с
теорией Эйнштейна такая Вселенная безгранична, но не бесконечна.
Появление в 1922—1924 гг. нестатичных решений
космологических уравнений Фридмана добавило к уже описанным чертам
эволюцию, т.е. изменение физико-геометрических свойств
Вселенной со временем. Как известно, Фридман отказался от
дополнительного члена, введенного Эйнштейном.
Теория Фридмана предсказывала три возможных сценария
поведения и состояния мира - расширение, статичность и сжатие.
В этой модели геометрические свойства пространства зависят от
существования материи, ее плотности и движения. Если
наблюдаемая плотность вещества р больше некоторой критической
плотности вещества рс, то кривизна пространства положительна и
1 См.: Зельдович Я.Б., Новиков ИЛ Указ. соч. С. 126-127.
2 См.: Эйнштейн А. Собрание научных трудов. М. : Наука, 1965.Т.1. С. 583-587.
226
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
соответственно Вселенная является закрытой и конечной (но
безграничной). Если р = рс, то кривизна пространства равна нулю, а
Вселенная является плоской. Если р < рс, то кривизна
пространства отрицательна и соответственно Вселенная является открытой и
бесконечной. Современное значение критической плотности
вещества оценивается значением рс ~ Ю-30 г/см3.
Наблюдения, проведенные Хабблом (1928—1929), установили
эффект «красного смещения», что позволило подтвердить
сценарий расширения Вселенной. Вселенная Фридмана расширяется
по закону Хаббла v = Яг, где v — скорость, с которой удаляется от
наблюдателя объект (галактика или скопление галактик); Я —
постоянная Хаббла, которая имеет значение около 75 км/(с Мпк);
г—расстояние до удаляющегося объекта. Как следует из закона,
скорость пропорциональна расстоянию: чем дальше от наблюдателя
объект, тем с большей скоростью он от него удаляется. Скорости
объектов, находящихся на границе видимости, приближаются к
световым. Следовательно, объекты, свет от которых до нас вообще не
доходит, находятся за пределами нашей видимости — за световым го-
ризонтом. Так решился фотометрический парадокс Ольберса.
Итак, в ответе на вопрос «конечна или бесконечна
Вселенная?» внутри релятивистской космологии были получены
следующие результаты: 7) общее решение трудностей было связано с
построением новой теории — релятивистской космологии; 2)
решение парадоксов было связано с отказом от представления о
бесконечной Вселенной в пользу такой, размер которой конечен
(модель Эйнштейна 1915-1917); 3) построена теория
безграничной, но конечной модели Вселенной.
Как мы видим, преодоление «угрозы бесконечности» в
ньютоновской парадигме было достигнуто дорогой ценой:
потребовалось введение принципиально новых представлений о
физико-геометрической структуре Вселенной: 7) была применена
неэвклидова геометрия; 2) теория Фридмана—Гамова (теория
Большого взрыва) (1922—1948) сохраняет такую черту Вселенной,
как конечный размер1.
Однако эти допущения снова приводили к трудностям, среди
которых одной из самых значительных была сингулярность.
Сингулярность в космологии означает, что пространство и время яв-
B случае закрытой модели.
А.И. Павленко. Принцип «наблюдаемости»
227
ляются бесконечно малыми, давление материи бесконечно
большим и т.д.
С методологической точки зрения это означало конец физики
как эмпирической науки. Другими словами, такая теория
бесконечной Вселенной не может быть реализована. Для решения этих вновь
возникших затруднений предпринимается очередная попытка
построения принципиально новой космологии - инфляционной.
4 Решение проблем фридмановской космологии
в теории раздувающейся Вселенной
Идея инфляционного сценария была впервые предложена в
1979 г. A.A. Старобинским1. В 1981 г. А. Гусу удается использовать
«инфляцию» для решения проблем, значительное число которых
было осознано в 1975-1985 гг.2. Именно для их решения мне
потребовалось существенно менять собственные и
эпистемологические основания космологической теории3. Фактически речь шла о
«цене», которую было необходимо заплатить за «приобретение»
новых оснований. В данном случае ценой выступали
господствующие представления локального наблюдателя о
физико-геометрической структуре устройства Вселенной. Космология в
1980-е гг. становилась квантовой теорией, а фундаментом
теоретических построений выступал физический вакуум.
Инфляционная теория (ИТ) по существу запустила механизм
инноваций, которые далее обрели собственную жизнь. Возникает
множество вариантов ИТ: сценарий A.A. Старобинского (1979,
1983), сценарий А. Гуса (1981), новый сценарий А. Альбрехта,
П. Стейнхарда, А.Д. Линде (1982) и, наконец, хаотический
сценарий (chaotic scenario) А.Д. Линде (1983). В связи с этим
представляет интерес задача выявления собственных оснований
инфляционного и хаотического сценариев, а также экспертиза этих
оснований на предмет их реализации в качестве основы теорий
бесконечной Вселенной.
1 См.: Старобинский А. Письма в ЖЭТФ. 1979. Т. 30. С. 719.
2 См.: GuthA. Phys. Rev. 1981. Vol. D23.
3 См.: Pavlenko A.N. The Ideals of Rationality in Contempopary Science // Herald of
the Russian Academy of Science. 1994. № 5.
228
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
Собственные основания инфляционной теории (ИТ). Не
претендуя на полноту, можно выделить следующие специфические
основания теории:
1) понятие «инфляция» описывает экспоненциально быстрое
увеличение объема Вселенной, находящейся в вакуумоподобном
состоянии. Давлениер и плотность энергии вакуума р связаны
уравнением Глинера/? = —р. Если связать уравнение состояния с
законом сохранения энергии
p-tf3+3(p+/?Vtf=0,
то мы обнаружим, что скорость увеличения размеров системы
(на стадии раздувания) на много порядков превышает скорость
света в вакууме: a(t) « д0ея', где масштабный фактор a(t) растет
экспоненциально. В ИТ радиус Вселенной на стадии раздувания за
период 10-43-10"35 с увеличивается от планковского размера
10~33 см до фантастически огромного размера 10 10 (7)—10 10 <14> см;
2) фундаментальность вакуума по отношению ко всем другим
физическим формам существования материи. ИТ предполагает
рождение наблюдаемой Метагалактики (мини-Вселенной) в результате
вакуумной флуктуации;
3) независимость пространства от вещества и излучения на ранних
стадиях эволюции Вселенной. Стадия раздувания в эволюции
Вселенной осуществляется без присутствия вещества и
излучения. Другими словами, раздувается «пустое» пространство. Оно
наполнено лишь скалярным полем;
4) ///получает в 2001—2002 гг. первое эмпирическое подтверждение
благодаря проекту СОВЕ (Cosmic Background Explorer),
проводившемуся на спутнике по выявлению анизотропии реликтового
излучения1.
Эпистемологические основания //Твключают следующие
положения:
/) принципиально расширяется класс описываемых теорией объектов.
Наблюдаемая область Вселенной (1028 см) становится локальной
областью. Если в период господства теории эволюционирующей
Вселенной существовала проблема правомерности экстраполяции
локальных свойств пространства-времени на крупномасштабную
структуру Вселенной, то теперь возникает проблема правомочно-
1 См.: Smoot G.F. [et al.] Structure in the СОВЕ Differential Microwave Radiometer
First Year Maps // Astrophysical Journal. 1992. Vol. 1. S. 396.
A.H. Павленко. Принцип «наблюдаемости»
229
сти экстраполяции свойств наблюдаемой области на
принципиально ненаблюдаемые. Причина такой экстраполяции имеет
многофакторную природу: проблема причинного горизонта,
проблема светового горизонта и др.;
2) ИТ решает большинство проблем эволюционной теории
(плоскостности, горизонта, трехмерности и т.д.) ценой такого
расширения своей теоретической базы, что эйнштейновское описание
физического мира становится «классическим». В качестве ее
теоретической базы в разных сценариях выступают теория великого
объединения, теория супергравитации, теория суперструн,
дающих описание таких физических объектов и свойств
пространства-времени, подавляющее большинство которых не может быть
обнаружено земным наблюдателем в обозримом будущем или
даже в принципе;
3) ИТ поставила вопрос не только о правомочности и статусе
опосредованных наблюдений, но и вопрос о принципиальной
ненаблюдаемости некоторых предсказанных ею фактах. Так, ИТ
предсказывает, что в результате флуктуации вакуума рождаются
«пузырьки»-домены, которые имеют плотные стены в виде
крупномасштабных неоднородностей. Размер этих стенок
порядка 1010(7)—1010(14) см, тогда как наблюдаемая область Вселенной
1028 см. Хотя в современной наблюдательной астрофизике
предлагаются различные «экзотические» способы проверки
существования стенок домена, реальное подтверждение этого
предсказания остается за пределами современных возможностей.
5. Основания хаотического сценария
В 2008 г. исполнилось 25 лет с момента появления первой
работы Линде, предложившего «хаотический сценарий»
происхождения Вселенной. Рассмотрим его основания.
Собственные основания хаотического сценария, который был
предложен Андреем Линде в 1983—1985 гг.
1. Хаотический сценарий в отличие от инфляционных сценариев
исходит из того, что скалярное поле, наполняющее пространство,
распределено хаотически. В качестве репрезентативного примера
рассматривается простейший случай теории скалярного поля ф,
лагранжиан которого
230
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
Предполагается также, что потенциал К(ср) при ф > Мр растет
медленнее, чем ехр(6ср/ Мр). Этому условию удовлетворяет любой
потенциал, который при ф < Мр растет степенным образом:
Кф) = ХхрУ(лА^4,)'
гдел>0,0<Х< 1.
Такая величина, как плотность энергии вакуума р, в нем
определятся лишь с точностью до планковского ограничения 0 (М4р) в
силу квантово-механического принципа неопределенности!.
Следовательно, значения скалярного поля могут принимать
любые допустимые теорией значения. Флуктуации (колебания)
этого поля могут иметь как положительный знак, в этом случае поле
возрастает, так и отрицательный знак, тогда поле уменьшается и
приближается к своему минимуму. Вероятность возрастания поля
(в общем случае) равна 1/2, поэтому одна половина объема
раздувающейся Вселенной будет заполнена возрастающим
(неубывающим) скалярным полем, а вторая половина будет заполнена
убывающим полем.
Итак, главная черта хаотического сценария,
зафиксированная здесь, состоит в том, что скалярное поле, существование
которого предполагает хаотический сценарий, распределено
хаотически.
2. Скалярное поле в хаотическом сценарии способно хаотически
порождать новые области, заполненные этим же полем. Дело в том,
что в тех областях, где флуктуации вакуума становятся меньше
некоторого критического значения, инфляция в конце концов
прекращается. Но в областях с неубывающим полем порождаются все
новые и новые раздувающиеся области. Этот процесс не будет
иметь конца и, по мнению автора теории, возможно, не имел
начала. Это в свою очередь приводит к трем принципиальным
следствиям:
а) Вселенная в целом, если справедлив хаотический сценарий,
никогда не сколлапсирует (не достигнет сингулярности, как в
теории эволюционирующей Вселенной Фридмана). Не будет смерти
Вселенной в целом. Внешне это дает повод говорить о возможности
вечного существования Вселенной «в будущем». Это можно
интерпретировать так: в хаотическом сценарии параметр «времени»
приобретает «в будущем» бесконечное значение;
Линде АЛ Указ. соч. С. 40.
А.Н. Павленко. Принцип «наблюдаемости»
231
б) Вселенная в целом (Multiverse) состоит из огромного числа
(порядка 105) доменов, подобных наблюдаемой нами Вселенной.
Поскольку таких рождающихся и умирающих доменов «одновременно»
существует примерно 10 тыс., постольку их число на протяжении
существования «материнского скалярного поля», не имеющего
«начала» и «конца», также должно стремиться к бесконечности;
в) Вселенная в целом, возможно, вообще не имела первоначальной
космологической сингулярности (не было общего
происхождения Вселенной в целом)1. Это можно интерпретировать так: в
хаотическом сценарии параметр «времени» приобретает бесконечное
значение и «в прошлом». Таким образом, хаотический сценарий
решает самую сложную проблему релятивистской космологии —
наличие сингулярности. Однако какой ценой?
Цена решения проблем релятивистской космологии и
проблем первых инфляционных сценариев оказалась огромной:
хаотический сценарий был вынужден расширить класс описываемых
объектов, причем так, что радикальному реформированию
подверглось само понятие Universe, превратившись в Multiverse.
Элиминация бесконечных значений физических (плотности вещества
и энергии, давление и др.) и геометрических (радиус Вселенной,
кривизна пространства и т.д.) величин стала возможна лишь
благодаря введению представления о «квазибесконечном» размере
самой материнской Вселенной - Multiverse. Это в свою очередь
вновь поставило вопрос: является ли космология естественной
наукой в смысле принципиальной проверяемости ее следствий?
6. Заключение
В заключение подведем некоторые итоги. Установлено, что на
протяжении всей истории европейской космологии мы вправе
фиксировать одну устойчивую тенденцию: космология,
развиваясь и формируясь как естественно-научная теория Вселенной, на
всем протяжении своего развития стремится элиминировать
бесконечные значения таких характеристик Вселенной, как ее
размер, время, плотность и давление материи, ее количество и др.
Поэтому ответ, который я могу дать на вопрос,
сформулированный в заглавии, «Почему не может быть реализована теория
См.: Линде АЛ Указ. соч. С. 58.
232
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
бесконечной Вселенной?», будет следующим: «Потому что
введение в космологическую теорию Вселенной бесконечных значений
физических и космологических величин объективно приводит к
дезавуированию космологии как естественной науки».
Другими словами, все шаги космологии на пути утверждения
ее статуса как естественной науки обратно пропорциональны ее
же шагам по введению бесконечных значений космологических
величин: чем решительнее космология элиминировала
бесконечные значения, тем увереннее она становилась полноценной
естественной наукой (впервые это наблюдается в релятивистской
космологии) и, наоборот, чем больше бесконечных значений
допускали космологические теории, тем непреодолимее космология
покидала область «естественной науки».
Методологически этот процесс проявлялся двояко.
Во-первых, с формальной стороны: введение бесконечных значений
физических величин приводит теорию к внутренним противоречиям
(как в случае с парадоксами ньютоновской теории). Во-вторых,
с содержательной стороны: бесконечные значения, вводимые в
космологическую теорию, навсегда закрывают для нее путь
опытного (наблюдательного) подтверждения1 (как в случае введения
множества экспоненциально растущих и убывающих доменов в
хаотическом сценарии).
Вместе с тем было бы наивно полагать, что выявленные
трудности когда-нибудь остановят исследователей в поисках
реализуемой теории Вселенной. Скорее всего, ее развитие в будущем
сохранит выявленную нами тенденцию - балансирование на
грани естественной науки и математизированной метафизики.
1 И. Лакатос сводил такие теории к гипотезам ad hoc: «Ни одно из ее следствий
не верифицируется либо потому, что требуемый эксперимент не может быть
выполнен, либо потому, что он дает негативный результат». В современных
космологических теориях мы как раз имеем дело со случаем, когда «требуемый
эксперимент не может быть выполнен».
А.Ю. Антоновский
К трансформации представлений
о социальной эволюции во второй
половине XX века: социологический
эволюционизм как междисциплинарный
эпистемологический проект1
II В статье рассмотрена интерпретация социальной эволюции,
предложенная известным представителем конструктивистски
ориентированной социологии немецким исследователем Никласом Луманом.
Нам показалось уместным познакомить читателя и с основными
неодарвинистскими эволюционными подходами, прежде всего с
подходом эволюционной этологии, ведущим представителем которой
является американский исследователь Ричард Доукинз. При этом взгляды
обоих теоретиков сопоставлены с антинеодарвинистскими
концепциями социальной эволюции (на примере взглядов видного
представителя антидарвинистского подхода к обществу, британского
теоретика Христиана Холпайка), где последняя концептуализируется как
результат целенаправленной человеческой активности, в силу
которой будто бы нет смысла различать три независимых от человека
эволюционных процесса - мутационные варьирования, селекции,
стабилизации. Ведь все, что подвергается изменениям (варьированию),
трансформируется целесообразно и планомерно (селекция), а именно
ради того, чтобы эти нововведения сразу были внедрены в социальные
|| практики и закрепились в них (стабилизация).
Очевидно, что антинеодарвинизм и телеологизм и так
называемый гуманистический подход в теории общества, согласно
которому элементарное основание общества составляют люди (а не
коммуникации, как полагает Луман), логически предполагают
друг друга. Полемике с такого рода «гуманистическими»
взглядами в значительной мере посвящена предлагаемая статья.
Конструктивизм в этологии и социологии, напротив,
означает, что эволюционное развитие не может осуществляться
планомерно и целесообразно, так как коммуникации выстраиваются в
1 Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект № 11-03-00672
«Социология знания как междисциплинарный проект развития эпистемологии».
234
Ч асть III. Неклассика в научном теоретизировании
системы (конструируются) согласно своей собственной логике,
обладают своими собственными средствами конструирования
(медиакоммуникации), причем сознание оказывается внешним
миром социальных систем. Сопоставление эволюционной теории
с теорией коммуникативных систем может способствовать
получению ответа на вопрос о том, что в обществе должно считаться
аналогом генов, являющихся программами для конструирования
живых систем (клеток, организмов).
1. Социальная система как «машина выживания»
коммуникативных смыслов
Исходный эволюционный постулат вытекает из всей лума-
новской коммуникативной «онтологии»: эволюция общества
означает эволюцию аутопойэтических систем коммуникации.
Условием такой эволюции является наличие «осетевленных»
событий - массивов знания для науки, массивов денежных
платежей для экономики, массивов споров и их разрешений для
правовой системы, массивов эндогамно-выделяющихся,
претендующих на власть семей. Таким образом, если
рассматривать социальную эволюцию в контексте общей теории
эволюции и сравнивать ее с эволюцией живых систем, то
коммуникации в каком-то смысле выступают аналогом биологических
организмов, фенотипов.
Проблема возникает в том случае, если попытаться
определить этот ген или генотип эволюции общества. Что в социальной
эволюции остается неизменным? Что выступает в качестве тех
элементарных единиц, из которых (или, точнее, согласно
программам которых) конструируются все новые фенотипические
конфигурации? Луман нигде прямо даже не задается вопросом о
том, что же является геном социальной эволюции, поэтому на
него приходится отвечать гипотетически.
Так, представляется обоснованным предположение, что
логика системно-коммуникативного подхода к анализу общества
применительно к интерпретации эволюции в ее лумановской версии
позволяет в качестве такого генотипа рассматривать язык как
медиум, как совокупность «слабо сопряженных» и поэтому свободно
конкурирующих за место в коммуникации элементов. Каждая
конкретная конфигурация слов — предложения, тексты, теории,
А.Ю. Антоновский. К трансформации представлений о социальной эволюции 235
стихи и т.д. - выступают в виде форм1, образованных в медиуме
языка. Язык — это «первичный бульон», среда, где конкурируют
друг с другом, поглощая друг друга, социальные гены -
конкретные языковые выражения, некоторые из них стабилизируются и
реплицируются дальше и для этой репликации задействуют и
образуют все новые и новые социальные фенотипы - связанные в
системы коммуникации.
Здесь подход Лумана выдержан в стиле современной
неодарвинисткой модели, согласно которой на генетическом уровне
выживание обеспечивают не альтруизм (или заданный генами
альтруизма фенотип), а «безжалостный эгоизм» генов, «стремление»
обеспечить саморепликацию, временное осетевление подобных
друг другу элементов, где каждый ген ориентирован на
порождение своей копии или реплики.
В биологической (а у Лумана и в социальной) эволюции такое
«стремление» не несет телеологического подтекста и просто
выражает тот факт, что на заре жизни все те органические
макромолекулы, которые не обладали таким внутренним трендом, как раз и
не реплицировались, а послужили «пищей» для других.
В эволюции коммуникации также господствует сходный
принцип «эгоизма», выраженный в принципе ее
самообращенности, ее замкнутости на свои внутренние коды — эволюционно
удачные, селегированные, а потом и стабилизировавшиеся гены
коммуникации — генерализированные языковые символы
(истина, право, деньги, любовь, прекрасное, вера и т.д.). Это гены
коммуникации и одновременно «обобщения» коммуникации,
которые можно рассматривать как инструкции по конструированию
коммуникаций, указания на то, к чему нужно стремиться в ее
выстраивании; ориентиры, в самых разных конкретных ситуациях
указывающие коммуникациям «заданное» им направление. Это
ожидания того, что и остальные коммуникации будут протекать в
том же направлении - отклонять все неистинное, незаконное,
безобразное, недостойное любви, неимущее и безвластное.
1 Форма означает проведение различения или отграничений в какой-то
однородной среде, где все внимание сосредоточивается на том, что это отграничение
отграничивает, а не на том, от чего оно отграничено и тем более не на самом
проведении разграничения. Мы видим крону дерева, а не границу между ней и фоном.
Всякое имя, слово, название предмета - это нерефлексивно проведенное
различие. Мир - это все, что находится «по ту сторону» внутренней стороны
различения.
236
Ч асть III. Неклассика в научном теоретизировании
Сама коммуникация и их системы (последовательности) могут
рассматриваться в качестве фенотипа, т.е. конструкции,
созданной на основе социальных генов — ее максимально
редуцированных описаний или инструкций. Если в биологической
эволюционной теории под геном понимается своего рода код, «описание»,
или программа-инструкция для конструирования фенотипа —
живого организма, то под геном коммуникации, вероятно, можно
понимать код коммуникации, на основании которого отсеивается
все то, что этой коммуникации не принадлежит, не соответствует
сконцентрированным в нем ожиданиям, все чуждые элементы
социальной системы. В этом смысле социальную систему можно
интерпретировать как «машину выживания» коммуникаций
(соответственно эволюционно удачных языковых кодов), так как
только создав «социальные системы», основанные на механизмах
подсоединения коммуникаций друг к другу, коммуникация
может «выжить», т.е. реплицироваться или воспроизводиться,
создавая себе подобных.
Здесь уместно вспомнить, что современный неодарвинизм,
особенно в своих радикальных версиях, отказывается от теории
группового, видового или популяционного отбора в пользу
изменчивости, селекции и закрепления признаков на уровне самих
генов, которые выступают «субъектами» эволюции1. Этот поворот
в теории эволюции оказался востребован и в контексте
«антигуманистической» социологически-радикальной теории Лумана,
которая не признает представление о конкуренции обществ или
социальных групп внутри общества, понимаемых как комплексы
или совокупности индивидов. Не люди конкурируют в борьбе за
ограниченные ресурсы, а коммуникации - за право
подсоединяться к прошлым коммуникациям (фенотипический уровень) и
вербальные выражения — за право становиться ожиданиями,
ориентирами, кодами коммуникаций (генетический уровень).
Уже в биологии популяционная теория эволюции приводила к
порочному кругу. Конрад Лоренц2 полагал, что вид обеспечивает
свое самосохранение, так как наиболее приспособленные особи
благодаря «агрессивному поведению» получают монополию на
размножение (главы прайдов, альфа-особи). Таким образом, дос-
1 См.: Доукинз Р. Эгоистичный ген. М. : Мир, 1993.
2 См.: Лоренс К. Агрессия. М. : Прогресс, 1994.
А.Ю. Антоновский. К трансформации представлений о социальной эволюции 237
туп к самкам и монополия на размножение оказываются
следствиями более совершенной приспособленности, а достигнутые тем
самым адаптивные преимущества в свою очередь являются
следствием доступа к самкам и монополии на размножения.
Социальная теория конфронтирует с аналогичной круговой
проблемой и вынуждена отказаться от представления об отборе
групп индивидов. Выживание группы в таком случае стало бы
результатом монополии ее наиболее «агрессивных» членов нате или
иные ограниченные ресурсы (на власть, деньги, влияние,
женщин), а их монополия вытекала бы из того, что они обеспечивают
выживание группы индивидов.
Луман, исходя из своей общей методологии, отказывается от
представления об обществе как совокупности индивидов. Тот
теоретический прорыв, который осуществил Р. Доукинз в
отношении популяций, лишив их статуса эволюционирующих субъектов
в пользу каждый раз по-новому перегруппирующихся генов,
Луман осуществляет в отношении групп людей. Эволюционируют
не группы людей, воплощающих те или иные свойственные
именно этой группе характеристики, а системы коммуникации
(квазифенотипы). В основе этого процесса лежит эволюция их
структур — складывающихся в программы ожиданий, т.е. вербальных
инструкций по выстраиванию коммуникаций,
сконцентрированных в ее языковых кодах. Структуры коммуникации - это
координирующие ее конструирование коммуникативные ожидания.
Ожидания в этом смысле следует понимать как набор
возможных значений слова или языкового выражения, т.е. своего рода
весьма вероятные миры, с которыми вынуждены считаться
участники коммуникации, как только то или иное выражение будет
произнесено. Генотип коммуникаций — это язык коммуникации.
При этом некоторые его реализации (состоявшиеся, устоявшиеся
языковые выражения как формы медиума) в ходе эволюции
оказались наиболее эволюционно успешными и соответственно
наиболее генерализованными в той или иной области, а значит,
связывающими наибольшее число конкретных ситуаций в
ожидаемые, т.е. обобщенные и, следовательно, делающие возможной
калькуляцию будущего развития положения дел, а в конечном
счете, обеспечивающие подсоединение ожидаемых в будущем
коммуникаций, ориентированных на то или иное языковое
выражение.
238
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
Очевидно, что таким символическим ориентиром, или кодом,
коммуникации может стать практически любое слово, однако
наибольшую релевантность получили те языковые
символические коды коммуникации, которые в своих значениях
«обобщили» наиболее широкие сферы — социальные системы политики,
права, искусства, интимных отношений, хозяйства, религии,
любви.
2. Общий взгляд на биологическую эволюцию
Классический дарвинизм выдвинул тезис о «выживании
наиболее приспособленных». Этот тезис допускает обобщение как
«частный случай более общего закона выживания стабильного...
Мыльные пузыри стремятся принять стабильную форму, так как
это стабильная конфигурация для тонких пленок, наполненных
газом... Кристаллы поваренной соли стремятся принять
кубическую форму, потому что при этом достигается стабильная
упаковка ионов натрия вместе с ионами хлора»1. Такого рода
тавтологическое свойство стабильности стабильного напоминает
аристотелевское «естественное место», занять которое стремятся все
сущности, в силу чего они и оказываются тем, что они есть,
принимают свою собственную форму. Вся эволюционная теория
вытекает из этой тавтологии (даже если в конце концов оказывается,
что «подвижная», динамическая стабильность в каком-то смысле
более стабильна и выигрывает в борьбе за репликацию у «косной»
стабильности).
Это самое широкое — тавтологическое — понимание
эволюции предполагает селекцию стабильных свойств и
отбраковывание нестабильного. В этой «архаической» форме эволюции
появились молекулы, состоящие из нескольких десятков атомов,
меняющих свои конфигурации посредством внешнего источника
энергии. Однако вероятность появления более высоких -
живых — систем при помощи такого «перетряхивания» потребовала
бы времени, многократно превышающего возраст Вселенной.
Такая «медленная» эволюция не выдержала конкуренции с другим
возможным типом эволюции и сама оказалась отбракованной.
Завершающей стадией этой протоэволюции стало появление гете-
Доукинз Р. Указ. соч.
А.Ю. Антоновский. К трансформации представлений о социальной эволюции 239
рогенной среды, «первичного бульона», содержащей
относительно простые «блоки» — аминокислоты.
Началом эволюции нового типа стало появление
«невероятной» молекулы, своего рода самовоспроизводящейся матрицы,
способной создавать копии самой себя из имеющихся в изобилии
«блоков», содержащихся в первичном бульоне1. В результате
появления такого рода невероятных репликаторов эволюция
уничтожила условия своего собственного возникновения, т.е. условия
возможности прошлой эволюции. С появлением репликаторов в
мир вошла другая форма - динамическая стабильность, для
поддержания которой необходима непрерывная селекция элементов
сложной молекулы, что предполагало возможность ошибки в их
подсоединении и соответственно обеспечивало изменчивость или
подготовило первичный эволюционный процесс — варьирование.
В то же время увеличивалось число факторов стабильности.
Способность к долговременной связанности (сохранение
пространственных конфигураций) как пространственный фактор
стабильности уступает место такому временному фактору, как возрастание
темпа самокопирования, что обеспечивало возможность
большего числа «отпрысков», а следовательно, победу в конкуренции
более быстрого штамма. Возникает конкуренция между штаммами,
эволюционным ответом на который становится появление
пространственных границ (белковая оболочка клетки), а также
средств пересечения и разрушения этих границ как со стороны
«внешнего врага», так и внутренне — путем создания колоний,
комплексов клеток, их дифференциации и взаимодействия друг
с другом. Создание сложных организмов — «машин выживания»
генов — окончательно закрепило победу молекул ДНК над всеми
остальными репликаторами (возможно, это были
неорганические кристаллы-минералы, кусочки глины), а вместе с тем
«победу» живой материи над неживой. Гены - цепочки из блоков
(нуклеотидов) четырех типов - выступают своего рода
инструкциями для конструирования белковых тел. Их строительные бло-
1 «Допустим, каждый строительный блок обладал сродством с другими
блоками одного с ним рода. В таком случае всякий раз, когда какой-нибудь
строительный блок, находившийся в бульоне, оказывался подле той части репликатора, к
которому у него было сродство, он там и оставался... прикрепляющиеся
строительные блоки автоматически располагались бы в той же последовательности, что и
блоки репликатора... они соединялись бы друг с другом, образуя стабильную цепь»
(Доукинз Р. Указ. соч.).
240
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
ки остаются неизменными, хотя под воздействием мутаций
(ошибок в самокопировании) меняют свои конфигурации —
планы по строительству своих «машин выживания» (мышцы,
сердце, глаз и т.д.).
Итак, первичным эволюционным механизмом живых систем
является мутация — варьирование составляющих гены
строительных блоков из нуклеотидов. Но и сам этот эволюционный
механизм варьирования в свою очередь оказался подвержен
варьированию, и здесь мы вновь сталкиваемся с эволюцией эволюции.
Само варьирование мутировало вместе с появлением полового
отбора. Половое размножение сделало возможным перетасовку и
перемешивание генов и генных комплексов, «отложение» генов,
их «путешествие» из тел родителей в тела самых далеких потомков.
Ведь в результате мейоза1 лишь половина хромосом,
представляющая собой мозаику из перемешанных материнских и
отцовских клеток, «делегируется» потомкам. Генетическая единица —
это просто фрагмент хромосомы, но чем обширнее этот фрагмент,
тем меньше шансов у него сохранить свою конфигурацию или
идентичность в результате мейоза. Напротив, меньшие участки
хромосомы оказываются более долговечными.
Здесь важно, что мутации оказываются удачными в первую
очередь втом случае, если гены объединяющихся субъединиц
«согласуются» друг с другом, если участки генетического материала
«удачно» сцепляются в рамках новой генетической единицы, т.е.
отвечают внутренним условиям своего воспроизводства. Лишь
потом в дело вступает селекция фенотипических признаков.
Таким образом, внешний мир, окружающая природа «вмешивается»
довольно поздно - после того, как невероятные мутации и
невероятное копирование уже состоялись на эволюционной стадии
варьирования. На этой стадии образуются кластеры
обособленных генов, прочно сцепленные группы. Неразрывность и
воспроизводимость подобных кластеров, которые целиком
отправляются в «следующее тело» посредством мейоза (собственно, эти
кластеры и есть «единые» гены), суть внутренние условия,
определяющие эволюцию еще до всякого внешнего -
«естественного» — отбора. Эволюционная удачность мутации (варьирова-
1 Мейозу человека — образование половых 23-хромосомных клеток путем
деления 46-хромосомной клетки.
А.Ю. Антоновский. К трансформации представлений о социальной эволюции 241
ния) зависит от сохранения этих групп, а не от свойств
отклоняемого (или нет) в ходе селекции фенотипа.
При этом у каждого генного комплекса имеется свой
соперник — аллель, пребывающий в генофонде популяции и словно
выжидающий удачного момента, чтобы в результате кроссинговера
(перемешивания генов за счет разделения хромосом
родительской клетки и их объединения с хромосомами другого родителя)
занять место предшественника в том же самом участке хромосом
отпрыска. Отношение гена и его конкурента аллеля (с другими
инструкциями по созданию фенотипических свойств организма)
выражает отношение актуального и потенциального. Таким
образом, генофонд- это совокупность потенциальных альтернативных
кандидатов.
Итак, эволюцию на стадии варьирования определяет
сочетаемость генов еще на генном уровне, а затем - выживаемость
эмбриона и развития организма безотносительно к внешнему миру.
Речь идет о структурной согласованности генов. Скажем, ген
острых резцов (у хищника) должен сопутствовать гену кишечника,
способного переваривать мясо, а ген плоских перетирающих
зубов (у травоядного) должен сочетаться с геном гораздо более
длинного кишечника и другим биохимическим механизмом
переваривания. Такая сочетаемость генов, очевидно, не зависит от
внешнемировых условий.
За эту мысль впоследствии ухватывается Луман
применительно к эволюции коммуникаций, варьирование в которых в свою
очередь является делом самой системы и не зависит от
«интервенций» из внешнего мира. Итак, мы приблизились к тем постулатам
биологической эволюционной теории, которые Луман положит в
основу эволюционного подхода к обществу.
Во-первых, варьирование (изменчивость) не зависит от
селекции, является случайным; именно это, пишет Луман,
«освобождает порядок вещей от всякой связи с источником
происхождения, от формоопределяющего первоначала». Три эволюционные
функции не зависят друг от друга. Причем Луман настаивает, что
такое определение эволюции является критериальным для всех
эволюционных теорий. Селекция (полагаемая в качестве
естественного, природного, а значит, «внешнемирового» отбора) в свою
очередь не является преимущественно внешним, а скорее
внутренним фактором, зависит от коэволюции структурно-сопряжен-
242
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
ных систем1. По словам Лумана, «с системно-теоретической
точки зрения, варьирование и отбор рассматриваются как
"внутренние движущие силы" (sub-dynamics) комплексной системы...
больше нет смысла сохранять это распределение на внутренние
(вариация) и внешние (селекция) факторы».
Во-вторых, возникает понимание, что эволюция системы
вовсе не приводит к более эффективной приспособленности (к
внешнему миру) одних систем по сравнению с другими. Соответственно и
понимание общества (= коммуникативной деятельности) как
адаптивно-адаптирующей активности полагается устаревшим.
3. От эволюции биологической к эволюции социальной
В соответствии с указанными основаниями общей
эволюционной теории возникает вопрос: что является аналогом гена в
обществе? Что является его машиной выживания?
Луман пишет: «Об эволюции социальной системы общества,
напротив, можно говорить лишь в том случае, если рассматривать
не живую, а коммуникативную систему, которая в каждой своей
операции воспроизводит смысл, предполагает знание, черпает из
собственной памяти, использует формы культуры».
Правомерен вопрос: существует ли социальный аналог
эволюции самих эволюционных функций, скажем, что-то похожее на
механизмы интенсификации варьирования, каковым стало
половое размножение, усилившее изменчивость в сфере живых
систем? Половое размножение и соответственно кроссинговер на
биологическом уровне ставит много вопросов. Например: почему
митоз (рост в результате деления клеток, т.е. непосредственная
репликация) дополнился мейозом? Есть л и аналоги мейоза и митоза
в социальной эволюции? Является ли половое размножение более
эффективным эволюционным приобретением, чем
обыкновенный рост организма?
1 Понятие «структурных сопряжений» сознания и коммуникации, активности
мозга и сознания, активности организма и нейронной активности, проблема
mind/body всегда волновало исследователей. Эволюционная теория
интерпретирует его по-своему. Скажем, в отношении селекции и взращиваемой культуры
селекционер обусловливает возможности произрастания: отбирает подходящие
посевные образцы, устраняет сорняки, возделывает поле. Культуры
«кондиционируют» селекционера, словно задействуют его потенциал, используют его как
свою «машину выживания» для конкуренции с другими видами.
А.Ю. Антоновский. К трансформации представлений о социальной эволюции 243
Функция разделения полов, очевидно, состоит в создании
так называемого variety pool - появлении сложностности,
избыточности варьирующихся элементов, ведь ген и его аллель не
могут сразу занять свои места в хромосомах. По мнению Лумана, и в
обществе существуют аналогичные механизмы ускорения
варьирования.
II В социуме возникают «дополнительные структуры для накопления и
ускорения варьирования (подобно тому, как в эволюции жизни
биохимические мутации дополняются бисексуальным
воспроизводством). В общественной эволюции это осуществляется двояким
образом: благодаря такому средству распространения коммуникации, как
письменность, и с помощью усиления потенциала конфликтов и
толерантности к конфликтам в обществе (или, другими словами,
благодаря отказу от экстернализации всех конфликтов, что было характерно
для сегментарных обществ). Тот факт, что письменность используется
как средство распространения коммуникации (а значит, не только с
целью записи), привносит с собой двойной эффект: коммуникация
может оказывать воздействие на больших пространственных и
временных дистанциях и высвобождается из-под давления интеракции,
т.е. получает большую свободу как в производстве (написании), так и в
восприятии (прочтении). Более широкое распространение создает
возможность одним изменением производить множество изменений,
|| причем необозримое множество»1.
Таким образом, письменность делает возможной операциона-
лизацию конфликтов (отклонения коммуникаций, свободу
сказать «нет»), а тем самым в конечном счете - варьирование и
диверсификацию систем коммуникаций. Письменность в сфере
коммуникаций (особенно книгопечатание, а затем и электронные
медиа) оказываются в каком-то смысле функциональным
эквивалентом полового размножения, дополняющего и расширяющего
механизмы варьирования (мутационных генетических
изменений) живых систем.
Письменность словно осуществляет «скрещивание»
различных коммуникационных стратегий, дискурсов и, как следствие,
трансформацию семантик: переход от однозначно определяемого
выбора (селекции) неделимой, морально-фундированной опции
Стабильного, Единого, Благого, Истинного, Совершенного,
Центрального, Прошлого к независимым друг от друга и от мора-
Луман И. Эволюция. М. : Логос. С. 63.
244
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
ли семантикам автономных систем: «справедливости» права,
«легитимности» власти, «доказательства» истины, «недостатка»
денег, «красоты» искусства, «страстности» (= спонтанности)
любви и т.д. Разрушением целостности господствующей семантики
обусловлена эволюция эволюции (эволюция эволюционных
функций), выражающаяся, в частности, в гипертрофии одной из
эволюционных функций, а именно функции варьирования.
Возникает даже особая социальная система массмедиа,
специализирующаяся на внедрении, мгновенной критике и отклонении
новых дискурсов и семантик.
Согласно Луману, общество (причем теперь нужно говорить о
мировом обществе) — это совокупность всех потенциально
возможных коммуникаций, в том числе и отклоняющихся, и нереа-
лизовавшихся, а только ждущих своего часа. Как мы видели, так
же обстоит дело и с генофондом, который включает как
реализовавшиеся гены, так и их конкурентов за место в хромосомах.
Кроссинговер и половое размножение делают возможным
перетасовку генов. Письменность, книгопечатание обеспечивают
функционально аналогичный процесс для коммуникаций,
создают коммуникативный генофонд (= язык как медиум
коммуникации), своеобразный «бульон», среду, внутренний внешний мир
социального гена. Те гены (т.е. возможные вербальные
выражения), которые получили свою коммуникативную актуализацию,
приобретают форму по отношению к медиуму, способны
образовывать системы — своего рода фенотипы, «машины выживания»
для коммуникаций. Коммуникативные смыслы вечны, их логика
организует вокруг себя социальные системы как «машины
выживания» смыслов, реплицирующие одни и те же, одинаково
направленные, т.е. воспроизводящие один и тот же смысл,
коммуникации.
Поначалу эти «машины выживания» смыслов обеспечивали
лишь пространственные границы коммуникаций. Так обстояло
дело в интеракциях — простейших социальных системах
примитивных обществ, которые определяли себя пространственно,
через пространственную взаимопринадлежность (соприсутствие)
участников коммуникации1.
1 Вспомним здесь, что и строительство генами их биологических «машин
выживания» - организмов начиналось с белковых границ, защищающих молекулы
ДНК.
А.Ю. Антоновский. К трансформации представлений о социальной эволюции 245
4. Эволюция идей
Выше мы уже говорили об эволюции эволюции в сфере живых
систем, где именно стабильность, выражающаяся в сохранении
пространственных конфигураций, оказывалась эволюционно
успешной стратегией. Аналогичным образом высвобождение
письменно фиксируемого языка из-под интеракционного давления
(отклонявшего всякое отклонение) делает возможной эволюцию
эволюции и проявляется в возникновении особого, нового типа
эволюции — эволюции-письменно фиксируемых-идей.
Возникает дивергенция между эволюцией социальных систем
(социальная дифференциация) и особой эволюцией - получивших
самостоятельность описаний социальных систем; дивергенция
между социальными структурами {фактические отклонения не
принадлежащих системе коммуникаций) и семантикой (записанные,
отложенные на будущее отклонения). Таким образом, эволюция создает
условия для виртуального тестирования возможных вариаций.
Именно в этом заключено своеобразие социальной эволюции и ее
отличие от эволюции живых систем, практически не способных к
виртуальной апробации своих комбинаторных возможностей.
Такая независимость эволюции идей стала условием
возможности памяти социальных систем, обеспечивающей ускорение их
«реальной» эволюции (т.е. социальной дифференциации).
Отныне тексты преобразуются в тексты, а сочинитель выступает лишь
техническим посредником в этом процессе. Причем
герменевтически понимаемая интерпретация текстов выступает в виде
обособившейся эволюционной функции варьирования в
обособившейся эволюции идей. Иными словами, всякое прочтение текста
предстает как вариация текста исходного, стабилизация
усматривается в достижении герменевтически круговой (а значит, вне-
субъектной) адекватности интерпретации и интерпретируемого
текста. При этом принципы селекции (отбора удачных
интерпретаций = вариаций) также варьируются, а ее критерии
последовательно принимают вид убедительности и очевидности, заботу о
которых в конечном счете берут на себя системы массмедиа и науки1.
1 Луман рассматривает исторические формы критериев убедительности.
Различению и соответственно отбору убедительных и неубедительных вариаций (т.е.
попросту новых интерпретаций) поочередно служили: «более совершенная
природа» высшего слоя, онтологические различения (неба и земли, высокого и
низкого), скептическая установка, догматика, статистика, а с XVIII в. - здравый смысл,
246
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
С конца XVIII в. отдифференцировавшиеся социальные системы
формируют собственные рефлексии и соответственно собственные
эволюции идей, в то время как общеобщественная эволюция идей кол-
лапсирует: «Процесс против Галилея или побуждения к войне за
независимость Америки, лиссабонское землетрясение, явившееся для
Вольтера желанным поводом обратиться к вопросу теодицеи, —
всякая опора на в данный момент очевидные обстоятельства здесь была
достаточна для селекции [идей]. На этой основе, правда, очевидность
не могла взять на себя функцию рестабилизации». Стабилизация в
эволюции идей стала возможной только в рамках возникающих
социальных систем и благодаря их символическим коммуникативным
кодам: «в поисках устойчивого и необходимого вскрываются все новые
контингентное™ - вплоть до случайностности самих законов
природы», а «такие различения как истинное/неистинное, хорошее/дурное,
правовое/неправовое уже не могут быть приведены к согласию, что
стало очевидным вместе с крахом логического позитивизма, а затем и
аналитической философии в их попытках интеграции группы таких
понятий, как референция, смысл и истина».
5. Память
Существенное различие в животной и социальной эволюции
заключается в том, что последняя гораздо более вариативна. Сама
эта изменчивость в коммуникации становится фактором
эволюции. Инновация в животной эволюции, скажем, как следствие
спаривания особей разных видов всегда несет высокую
вероятность стерильности (мул в помете лошади и осла стерилен, хотя
самка затрачивает огромные ресурсы для его вынашивания),
между тем как социальная эволюция благодаря обособившейся
эволюции идей «проглатывает» больше нового, отбрасывает больше
старого, не опасаясь генетических потерь. Ведь то, что единожды
было записано, ныне существует в виде многочисленных «копий».
Эти копии «переносят» и сохраняют социальные гены.
Гены для эволюции общества — это, как мы покажем ниже,
смысловые ожидания коммуникации, принимающие форму того или
иного слова или вербального выражения со всем множеством его
смехотворность и формирующаяся критическая установка, пока, наконец,
убедительность и очевидность как критерии селекции не отдаются окончательно на
откуп массмедиа.
А.Ю. Антоновский. К трансформации представлений о социальной эволюции 247
«отнесений». Скажем, поначалу представлялось невероятным
ожидание того, что за деньги, предложенные за товар, можно будет
его забрать. Слово или символический код «деньги» среди прочего
как раз и выражает подобное ожидание. Коммуникация выступает
своего рода фенотипом, т.е. языковой конструкцией,
последовательностью высказываний, ориентированных на этот обобщенный
вербальный символ, коммуникативный код, обеспечивающий
единство всей системы коммуникаций. Магическое слово «деньги»
(конечно, при их фактическом наличии) оказывается как бы
катализатором огромного количества самих по себе эволюционно
невероятных коммуникаций (продаж, кредитов, покупок и т.д.).
Генерализированный символ «деньги» — это кратчайшая, всеобщим
образом ожидаемая инструкция по конструированию экономических
коммуникаций: если есть деньги, надо покупать у того, у кого нет
денег; если нет денег, надо продавать тому, у кого есть деньги.
Письменность (записанные коммуникативные выражения)
выступает в качестве средства сохранения социальных генов
(смысловых ожиданий), дальнейшей трансляции и репликации смысла.
Агрегации коммуникаций в системы, в их неслучайные
последовательности оказываются такими же машинами по воспроизводству
одних и тех же смыслов (экономических, политических, правовых,
религиозных), как организмы - биологическими машинами для
воспроизводства одних и тех же генов. Система коммуникаций
получает такое же единство и индивидуальность поведения, как
биологический организм, который может, например, передвигаться
как согласованное целое. Смыслы, ожидания (гены
коммуникаций) могут быть вечными, их варьирование меняет лишь их
конфигурации, сами же мельчайшие единицы эволюции (как в биологии:
четыре типа нуклеотидов; так и в языке, скажем, слова и множества
отнесений всякого языкового выражения) словно приобрели
иммунитет от селекции, не зависят от внешнего мира. Сохраняясь с
помощью письменности как памяти коммуникации, они образуют
тот самый медиум, своего рода генофонд, фрагменты которого
получают свои формы (по отношению к медиуму-генофонду языка)
лишь в виде фактических коммуникативных актов. Системы
коммуникаций суть фенотипы (фактические реализации) заложенных
в генах (ожиданиях) инструкций по их конструированию.
Память возникает как ресурс, позволяющий определять
некоторые актуальные события как прошлые, повторные и «привыч-
248
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
ные». Таким образом, память, — это средство снять
непосредственность реакции на актуальные раздражения, а следовательно,
оптимизировать ответ, «выбрать» реакцию, создать избыточность
возможных ответов (редундантность), т.е. — это
общеэволюционное средство высвобождения системы из-под (актуальной)
зависимости от внешнего мира.
Память биологических генов — это записанные в них
инструкции по синтезу белков. Однако, синтезируя белок и
конструируя свои фенотипы, гены не в состоянии контролировать
собственную эволюцию, так как их реакция, обусловленная
весьма опосредованным воздействием естественного отбора,
чрезвычайно медленна. Поэтому гены вынуждены обращаться к
«оперативной» памяти, т.е. к памяти самих биологических
организмов, своих собственных конструкций. Аналогичным образом
коммуникация обращается к актуальной памяти систем
сознания, выступающей «оперативной» памятью по отношению к
более фундаментальной - и собственно коммуникативной —
«памяти» книг и записей.
В этом смысле Луман пишет: «Речь, следовательно, идет... не о
том, что осознают отдельные сознания. Функция памяти состоит
именно в том, чтобы гарантировать границы возможных проверок
консистенции и одновременно снова высвободить потенциалы
переработки информации, открывая систему для новых
раздражений. Главная функция памяти состоит, таким образом, в
забвении, в препятствовании самоблокированию системы через
окостенение результатов прошлых наблюдений»1.
Сохранить в памяти коммуникации — значит передать на
откуп некоторому автоматизму, системному коду, лишить тот или
иной выбор его проблематичности, а тем самым высвободить
потенциал системы для новых проблем. Нечто подобное имел в виду
М. Хайдеггер в своей диалектике подручного и наличного. Функция
памяти состоит в забвении, т.е. в переходе наличного в подручное,
трансформации нового и неожиданного в старое и известное, а
значит, выходящего за пределы актуального внимания. Память -
это редукция комплексности за счет «стяжения» различных
гетерогенных ситуаций в воспроизводимые, непроблемные или
привычные «идентичности» (дома, орудия труда, места, пути или йме-
1 Луман Н. Указ. соч. С. 196.
А.Ю. Антоновский. К трансформации 1гредставлений о социальной эволюции 249
на природных объектов и людей), на которых в ходе
коммуникации система не концентрирует свое внимание1.
Если говорить совсем просто, память — это забвение контекста
(второй, — негативной — стороны любой формы или различения —
неистинности, безвластия, неверия). Именно эта функция
оказывается условием наблюдения и познания, т.е. того, что лишь
одна - маркированная - сторона того или иного различения
мотивирует коммуникацию. Благодаря памяти система способна
вводить в коммуникацию дифференцию прошлого и будущего, а
следовательно, эволюционировать, ведь именно будущее системы
оказывается маркированной стороной формы прошлое/будущее,
а прошлое — предаваемым забвению контекстом. Это прошлое
как условие возможности будущих состояний системы теряет для
нее всякий интерес, а то и когнитивную доступность.
«Помнящая» все, лишенная забвения система ни на чем не способна
сконцентрироваться. В таком случае система не имела бы
современности как текущей границы между прошлым и будущим
состояниями, а жила бы в окостеневшем прошлом или в вечности.
Но общество само способно реагировать на свою функцию
памяти, а значит, и на свое прошлое, вводя его в коммуникативное
обсуждение под названием «культура». Ведь «культура в
действительности как раз и является памятью общества, т.е. фильтром
забвения/запоминания и задействованием прошлого для
определения рамок варьирования будущего»2. Именно культура видится
обществу набором стабилизированных «объектов»,
«идентичности», «собственных значений», короче говоря, преходящим в
забвение старым контекстом для новых вариаций.
6. Стабилизация эволюции как самовалидация
собственных значений
Стабильность живых систем проявляется на фенотипическом
уровне, на уровне организмов и понимается как закрепление ре-
1 Поэтому письменность - это не только «бумажная» или какая-то
аналогичная запись слов (предстающих в виде сконцентрированных в единство, т.е.
редуцированных к единому «генерализованному» символу, разнообразнейших
ситуаций). Письменность следует понимать как все многообразие «памятников» -
дороги, памятные места, маршруты, выдающиеся фрагменты естественного
ландшафта, связанные с воспоминаниями.
2 Луман Н. Указ. соч. С. 204.
250
Ч асть III. Неклассика в научном теоретизировании
зультатов удачного отбора. Стабилизация может выражаться в
устойчивом соотношении генов, определяющих те или иные
свойства организма, например стабильное распределение полов
(50:50) применительно к человеческим организмам. При этом
новые, мутирующие гены быстро устраняются из генофонда;
отклонения в свою очередь отклоняются. Отклонение отклонений
(отрицательная селекция) означает возникновение так называемых
собственных значений.
Однажды возникшая полезная мутация, прерывая
стабильность, сама в конечном счете оказывается стабильной и, как это ни
странно, в том случае, если утрачивает свою «первоначальную
полезность». Речь идет о так называемой самовалидации свойства,
становящегося «собственным значением». Например, сексуальная
привлекательность партнера уже не может быть выражена
содержательно или объясняться функционально — с точки зрения
полезности сексуально-привлекательных свойств во внешнем мире.
Привлекает то, что привлекает, поскольку тем самым
обеспечивается репликация. Скажем, первоначально в основе
привлекательности «длинных ног» могло лежать то обстоятельство, что они
помогают убежать от хищника и, как следствие, спасти гены ребенка,
тем самым защищая гены родителя. Но, приобретя однажды такого
рода атрактивность, они получают «собственное значение».
Партнер отныне будет отбираться в силу самой этой привлекательности,
так как ее одной уже будет достаточно, ибо гены, обеспечивающие
подобную притягательность, распространятся и будут «бороться»
за свое выживание и воспроизводство. Самка выбирает
привлекательного партнера не для того, чтобы ее отпрыск смог убежать от
хищника, а для того, чтобы ее сыновья в свою очередь были
привлекательны для самок и, следовательно, сохранили и приумножили
ее гены. Так возникает циркулярность. В результате у сексуальной
привлекательности появляется совсем другая функция -
привлекать партнеров, а значит, сохранять свои гены в следующих
поколениях. В стабилизированном состоянии уже не внешний мир (т.е.
естественный отбор среды) определяет воспроизводство генов, а
внутренние факторы — «собственные значения» эволюции.
Выбирая непривлекательного партнера, самка не может рассчитывать на
репродуктивный успех своих непривлекательных потомков
безотносительно к естественному отбору, т.е. к тому, убегут ли они от
хищников и сколько пищи им предложит их природная ниша.
А.Ю. Антоновский, К трансформации представлений о социальной эволюции 251
Как же обстоит дело с собственными значениями в
социальной эволюции? Системы переживаний (сознания) выступают как
бы задействованными в коммуникации машинами по
переработке информации. Конечно, сознание занимается исчислением
логики коммуникации, но это говорит лишь о том, что у
коммуникации наличествует собственная системная логика. Эта логика не
задается, а воспроизводится целеполагающим сознанием.
Сознание ориентировано на особые (коммуникативно объяснимые)
мотиваторы, служащие основаниями для постановки целей.
Эволюция и состоит в появлении мотиваций, получающей
свои символы в виде особых обобщений — генерализованных
вербальных символов — истины, любви, денег, власти и т.д. Эти
мотивации теперь выходят за пределы своей подчиненной роли,
определяемой чем-то внешним. Скажем, теперь любовь это не просто
биологически полезная для выживания функция,
обеспечивающая словно автоматически возникающую взаимную
привязанность детей и родителей, партнера и партнерши. Появившаяся
сравнительно недавно «любовь как страсть», как случайно
возникающая пристрастность не кажется эволюционно оправданной
стратегией, она не несет функциональную (полезную) нагрузку в
обычном смысле этого слова.
Функциональность любви могла бы выражаться в том, чтобы
быть результатом эффективного ухаживания (биологически
коренящегося, возможно, в проверке того, не является ли самка
беременной от другого самца и, следовательно, несущей чужие гены1),
ведь самец делом (= временем) доказывает свою состоятельность
для воспроизводства генов самки и серьезность намерений.
В этом была функция любви как ухаживания: как реакции на
«женскую скромность» и затягивание самкой времени перед
согласием на брак. Но почему же возникает эволюционно
невероятная и функционально необъяснимая любовь как страсть в
социальной эволюции?
Даже в условиях недифференцированного сегментарного
общества любовь словно «автоматически» или «естественно»
вытекала из семейных интересов. Современному наблюдателю кажется
невероятным, что любовь как страсть может оказаться следствием
(скажем, в династических или внутрисословных браках) социаль-
См.: Доукинз Р. Указ. соч.
252
Ч асть III. Неклассика в научном теоретизировании
но определенного выбора. Прошлому наблюдателю покажется еще
более невероятным, что любовь способна возникать вообще «из
ничего», как в известном смысле «нефункциональная»,
«безотносительная» привязанность, когда обоснованием (циркулярным
объяснением) любви собственно и является сама любовь.
Самовалидация «собственного значения» не требует внешней
«полезности», ее функциональность состоит лишь в том, чтобы
создать семантическую основу для рекурсивных коммуникаций,
ориентированных на один и тот же общий символ, в данном случае
коммуникативный код любовь: достаточно сказать, что Эго любит
Альтера, и вопросы о том, что «означает» такая любовь, каков ее
смысл, задачи, цели, отпадают сами собой в силу именно такой
циркулярной самовалидации. Функция кода в том, чтобы
обеспечить закрытый характер (в данном случае интимных)
коммуникаций, ориентированных на любовь и мотивированных только ею, а
не чем-то, для чего любовь служила бы лишь опосредующим
обозначением. Излишне повторять, что самовалидация как гарантия
стабилизации коммуникаций является следствием
функциональной дифференциации общества на замкнутые, мотивированные
именно этими собственными значениями функциональные
подсистемы — политики, науки, интимных отношений, искусства
и т.д.
Проблема, которая возникает здесь применительно к
эволюции, но Луманом как таковая не тематизируется, состоит в том,
как возможно, что такого рода генерализованные символические
коды-мотиваторы-инструкции отдифференцировавшихся типов
коммуникации все-таки должны как-то локализовываться в мо-
тивационной структуре сознания и опосредоваться
физиологически. Очевидно, что любовь — это не только коммуникативный
артефакт, генерализованный вербальный символ, но еще и
соответствующий физиологический процесс и соответствующее
переживание в сознании участника системы интимных
коммуникаций. Если с мотивационной силой любви (и в какой-то степени с
властью) эта проблема стоит не так остро, поскольку обе эти
мотивации в каком-то смысле явно имеют и физиологическое
оснащение, и древнюю поведенческую историю, то как быть с такими
вербально-символическими мотивациями или катализаторами
коммуникации, как право и истина? Существует ли и в этом
случае какая-то более глубокая, физиологически опосредованная тя-
А.Ю. Антоновский. К трансформации представлений о социальной эволюции 253
га или атрактивность права? Или в дело должны вступать другие
коды-мотиваторы, скажем, насилие как гарантия следованию
праву? Но какие механизмы обеспечивают, например,
притягательность произведений искусства, ориентированных на
символический код прекрасное/безобразное!
Если формулировать проблему в более общем виде, встает
вопрос: не слишком ли много коммуникация — ради достижения ат-
рактивности предпочитаемых опций — отдает своим внешним
мирам, своим «компьютерам» — сознанию, чувственности,
«физиологическим» потребностям, оставляя себе одну лишь логику
подсоединения следующих коммуникаций и связывания
вербальных выражений? Не теряет ли коммуникация в своей реальности,
превращаясь благодаря этому в чисто аналитическую данность?
Ведь логика коммуникации все равно всегда вынуждена получать
свое «реальное» выражение в целях задействованных
коммуникацией сознаний индивидов, а удовлетворенность от
подсоединения именно тех коммуникаций всегда «кодируется»
физиологически, скажем, как «приятное» или «неприятное».
Поэтому именно сознание часто рассматривается как
вместилище социальных генов. У Доукинза лшлш (социальные гены) как
раз и конкурируют за место в сознании. С точки зрения Лумана,
такой подход ошибочен, ведь в сознании в течение одной
коммуникации можно успеть «прокрутить» множество идей и все это почти
всегда остается без коммуникативных последствий. Мимы, если
они действительно существуют, должны, по мысли Лумана,
конкурировать за место в коммуникации, за их обсуждение,
поскольку в сознании им-то как раз достаточно «места».
Как уже указывалось, в биологии устойчиво
воспроизводящееся сочетание генов (скажем, генов «плотоядного» желудка и
соответствующих зубов-резцов, острых когтей) означает
стабилизацию эволюции. Аналогичным образом и в социальной
эволюции, по мнению Доукинза, сцепление мимов (mêmes)
обеспечивает эволюционную стабильность некоторой комплексной
семантики, скажем, идейной доктрины. Так, мим адского пламени
(наказания за грехи) оказался сцеплен с идеей-мимом бога. Луман
вполне разделил бы такой взгляд на стабилизацию, но
стабилизация здесь означала бы отдифференциацию особой системы, в
данном случае системы религиозных коммуникаций с собственным
обобщенным символом-мотиватором - верой.
254
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
Согласно системной теории Лумана, здесь стабилизация
эволюции обеспечивается самовалидацией веры как собственного
значения системы религиозных коммуникаций. «Адское пламя»
(= неверие) тогда есть всего лишь другая (негативная, а значит,
рефлексивная) сторона коммуникативного кода веры. Как всякая
негативность (нищета, бесправие, безвластие, нелюбовь и т.д.),
она действительно за счет рефлексии «поддерживает» свою
противоположность — позитивную сторону коммуникативного кода,
обеспечивает переход к ней, так называемый кроссинг границы
кода, а тем самым подсоединение религиозных коммуникаций друг
к другу и образование закрытой системы. Рефлексия этой
негативности, осуществленная апостолом Фомой, демонстрирует
именно то, как позитивная сторона коммуникативного кода
получает поддержку от ее отклонения, указывающего на поведение
других, «верующих», апостолов. Это отклонение отклонения и
является самовалидацией коммуникативного кода,
обеспечивающего стабильность коммуникации: неверие поддерживает веру, а
тот, кто не верит в адское пламя, сам отправляется в огонь.
Но любая стабилизация, по Луману, - это условие для
производства новых вариаций. Так, обеспеченная коммуникативным
кодом веры стабильность системы религиозных коммуникаций
послужила началом новой фазы социальной эволюции,
поскольку этот код (культурный ген, или мим в терминологии Доукинза)
уступил место своему «аллелю» - конкурирующему коду истины,
так как коммуникативный код истины обладал более надежным
«симбиотическим механизмом» (возможность отсылки к
чувственным удостоверениям знания)1. Фальсификация (выявление
ложности научного знания) служит росту истинного знания,
истинность которого, как известно, не может получить достаточных
гарантий в силу недостаточности его эмпирически индуктивного
1 Лишь тот генерирующий систему коммуникативный код, который обладает
таким удостоверяющим «выходом» в базовую для него сферу внешнего мира,
оказывается конкурентоспособным в создании своих «машин выживания» -
социальных систем. У системы интимных отношений и коммуникативного кода
любви - это удостоверяющие позитивную сторону любви физические сексуальные
отношения; у экономики и кода деньги - это процесс реального потребления;
основание системы политики - возможность обращения к физическому насилию.
В системе науки «легитимирующим» основанием кода истины является процесс
восприятия, обеспечивающий возможность эмпирического удостоверения
теоретических положений.
А.Ю. Антоновский. К трансформации представлений о социальной эволюции 255
обоснования. Функционально эквивалентный механизм
удостоверения религиозного знания — наблюдение чудес — оказался
гораздо более «проблематичным».
Здесь, правда, возникает почти риторический вопрос,
является ли код истины чем-то окончательно стабилизированным и
самовалидированным, или в наблюдениях второго (по
отношению к научным коммуникациям) порядка какой-то новой
системы, ныне представляющейся лишь гипотетической, он в свою
очередь будет отклонен как регулирующий «чуждые»
коммуникации, как это имело место в науке по отношению к коду веры.
Несмотря на трудности представления чего-то более «высокого»,
более генерализованного, простого и очевидного, чем истина,
надо помнить, что когда-то вера представлялась столь же
очевидным способом управления или кодирования коммуникаций (т.е.
символическим кодом, смыслом, геном, инструкцией по
выстраиванию коммуникаций) и претендовала (в споре с
политическими коммуникациями) на то, чтобы репрезентировать всю
систему общества (скажем, в эпоху спора об инвеституре).
Другими словами, если сейчас бездоказательная, слепая вера
маркируется (наблюдателем второго порядка, главным образом,
наукой) негативным значением кода истины (как ложное или по
крайней мере как бессмысленное, ненаучное знание), то можно
представить, что в результате эволюции возникнет система
коммуникации, коммуникативный код которой будет аналогичным
образом маркировать истину? Утверждение о невероятности
такой эволюции ничего не добавляет, — поскольку с точки зрения
статистики любой результат эволюции является в высшей
степени невероятным.
7. Существуют ли гены социальной эволюции?
В биологии парадокс эволюции состоит в том, что
эволюционируют «машины выживания», а не те, кто их задействовал, -
мельчайшие фрагменты хромосомы, гены.
Доукинз полагает, что «новый бульон — это бульон
человеческой культуры», генами которой являются мимы: «мелодии, идеи,
модные словечки и выражения, способы варки похлебки или
сооружения арок... Подобно тому, как гены распространяются в
генофонде, переходя из одного тела в другое с помощью спермато-
256
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
зоидов или яйцеклеток, так и мимы распространяются, переходя
из одного мозга в другой, с помощью процесса... имитации»1.
Что же в социальной эволюции остается неизменным, а лишь
меняет свои конфигурации, сочетания? Есть ли в самих мимах те
механизмы репликации, каковыми в генах оказываются средства
синтеза белковых структур? Доукинз видит этот механизм в
имитации, а Луман именно в воспроизводстве коммуникации, т.е. в
подсоединении друг к другу коммуникаций, ориентированных на
общий символ-слово-ожидание, он усматривает процесс,
аналогичный генетической репликации.
При этом, видимо, язык следует рассматривать как аналогичный
генофонду мимофонд. Язык понимается как неопределенная среда,
которая в его конкретных реализациях в каждом коммуникативном
акте получает определение (форму) по отношению к языку в целом.
Слова языка и связанные с ними ожидания (суммы смыслов) в
какой-то мере аналогичны устойчивым комбинациям нуклеотидов,
определяющим конструирование соответствующих белковых тел.
Вербализованные (а в конечном счете записанные) смыслы
или смысловые ожидания и являются собственно генами
коммуникации. Ожидания не следует понимать как психическую
запрограммированность на определенное событие типа В в случае
события типа А Ожидания, или смысловые ожидания, — это сумма
возможных отнесений, референций ко всему, что может быть
произнесено в ходе коммуникации. Такое понимание слов языка как
кластеров возможных отнесений (возможных смыслов и
возможных способов употребления), конденсирующихся в некоторое
множество символических генерализаций или кодов
коммуникации, избавляет нас от проблемы некорпускулярности мимов в
смысле Доукинза и непрерывности мутирования, так как в
противном случае (если под мимами понимать всю широту
культурных феноменов — «мелодии, идеи, модные словечки» и т.д.)
передача мимов была бы сопряжена с непрерывным мутированием,
поскольку каждая идея, всякий культурный феномен при его
обсуждении предстает в той или иной редакции или интерпретации,
а следовательно, не обладает собственным значением.
Репликация - это воспроизводство смысла в коммуникации,
или, точнее, воспроизводство коммуникаций, ориентированных
Доукинз Р. Указ. соч.
А.Ю. Антоновский. К трансформации представлений о социальной эволюции 257
на общий смысл. Следует отказаться от понимания генетических
единиц культуры как бесконечно дробящихся (скажем,
симфоний — на музыкальные фразы, последних — на отдельные ноты
и т.д.). Более удачным представляется понятие медиума, среды,
variety pool — слабо связанных элементов, слов языка как
потенциала возможностей, из которого выкристаллизовываются,
скажем, конкретные предложения, как раз конструирующиеся
благодаря этому смыслу. Слово языка в силу вытекающего из
него — широкого, но все-таки всегда ограниченного — множества
возможных отнесений, множества возможных употреблений
представляет собой аналог гена или генного комплекса. Смысл —
это то, что ограничивает и канализирует коммуникацию, сводит
ее к системной последовательности выражений.
Доукинз полагал, что мимы нельзя понимать как культурный
аналог гена, допускающий взаимозамену своих фрагментов
фрагментами-конкурентами, своего рода аллелями. Если обратиться к
лумановской интерпретации социальной эволюции, можно
говорить о смысловых матрицах культуры, где именно отрицание,
возможность сказать нет тому или иному смыслу выступает в
качестве аналога аллеля. При этом отрицание не уничтожает, а умножает,
по крайней мере удваивает, любое положение дел, так как дает ему
еще и отрицательную редакцию, переводя его в культурно
рецессивную стадию, но всегда готовую (в случае затребования в той
или иной коммуникации) к актуализации, пусть даже в контексте
отрицания, как рефлексивное значение, т.е. необходимое знание
того, что не следует делать или знать.
8. Языковое отрицание — главное
эволюционное достижение
Дистанционным восприятием дистанционного восприятия
живые системы расширяют свой аппарат чувств. Это — одно из
начал коммуникации. Так, олень видит, как вспархивает птица, и
«понимает», что ее вспугнула какая-то опасность. В этом
восприятии чужого восприятия лежит мощное эволюционное
преимущество. Такое восприятие восприятия можно понимать как
животную «коммуникацию».
От «общения-восприятия» эволюция привела к
возникновению языка. Эволюционное преимущество языка состоит в том,
258
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
что он обеспечил более четкое различие между формами
сообщения и выражаемой им информацией. Луман приводит пример:
хозяйка сама ест подгоревшую пищу (сообщение), тем самым
указывая, что пища вполне пригодна для еды (информация). Тот
факт, что подобное поведение является сообщением, невозможно
уточнить невербальными средствами. Оно всегда может оказаться
не осмысленным сообщением адресату факта съедобности, а
естественным отправлением потребностей. Невербальная
коммуникация (т.е. восприятие восприятия) не позволяет удостовериться
(скажем, в форме вопроса) в различении сообщения и
информации, фундаментальном для коммуникации.
Главное эволюционное преимущество языка перед
невербальной коммуникацией (т.е. восприятием восприятия) состоит,
таким образом, в том, что он сделал возможным различение
сообщения и информации и при этом в силу своей «свободной»
грамматики оставлял открытым будущее: ведь последовательности
слов жестко не фиксируются.
Мир увиденного и мир проговоренного различны по степени
абстрактности. Мир проговоренного требует больше времени для
своего представления в коммуникации, а значит, должен быть
более абстрактным, чтобы охватить или пробежать в одном
выражении множество конкретных ситуаций. Осваивая время (будущее и
прошлое), мы платим за это большей вербальной абстрактностью.
Только благодаря этому язык создает огромные фиктивные
миры — горизонты событий: массивы еще-не-воспринимаемого и
уже-не-воспринимаемого, а значит, ошибки и соответственно
научение через ошибки. Коммуникация, основанная на
восприятии чужого восприятия, всегда осуществляется в конкретном
многообразии одновременно обозреваемого и воспринимаемого.
Она не допускает научения, поскольку не допускает ошибок,
отрицания и, следовательно, создания фиктивных или возможных
миров. Ведь все, что воспринимается, то и существует, а
существует только то, что воспринимается.
Фундаментальным эволюционным достижением стало
изобретение отрицания. Его необходимость состояла в наведении
мостов с нормальностью, в нормализации необычного. В форме
отрицания можно иметь дело с неожиданным, невероятным, оно
дает возможность справиться с разочарованием в ожиданиях.
Вообще введение именно коммуникативного, т.е. языкового, отри-
А.Ю. Антоновский. К трансформации 1гредставлений о социальной эволюции 259
цания явилось переходом от отрицания поведенческого
(движения от и в направлении добычи, партнера, опасности).
Отрицание и язык взаимно обусловливали друг друга.
Бинарное кодирование делает возможным бифуркацию коммуникации,
т.е. ее распределение по значениям да и нет, а значит,
выстраивание системы позитивных элементов системы, подходящих к той
или иной ситуации коммуникаций, в то время как все, что не
принималось, отклонялось как чуждое, неподходящее для
обсуждения в коммуникации, в этом негативном виде тематизировалось и
могло быть отложено «на потом». Отрицание стало способом
бытия рискованной, опасной коммуникации. Но чтобы отрицание
заработало на полную мощь своей функции, потребовалась
письменность, выводившая рискованные и невероятные формы
коммуникации из-под временного давления и временного дефицита
устной коммуникации - интеракции.
В контексте сказанного можно попытаться прояснить одну из
проблем социальной эволюции, нерешенность которой заставляла
исследователей отказываться от понимания социального развития
как эволюции. Речь идет о проблеме свойственного живым
системам «узкого горла» эволюции. Как известно, у живых систем есть два
способа репликации — рост и размножение. В случае размножения
новый организм «происходит» из одной-единственной клетки («уз-
когорловый цикл»), например из оплодотворенной яйцеклетки.
Применительно к социальной эволюции возникает проблема:
свойствен ли обществу кумулятивный рост, скажем, все большее
обогащение традиции культурными достижениями, их
трансляция и диффузия (биологической аналогией здесь может служить
ильмовый лес, представляющий собой растущий, единый и
бессмертный организм) или общество «размножается» путем
селекции вариаций из генотипа-мимофонда, путем селекции,
подкрепленной и стабилизировавшейся вследствие возникновения
обособленных систем коммуникации?
Благодаря «узкогорловому циклу» и смерти живой организм
наследует только гены, т.е. программы-инструкции своих «машин
выживания», а не прижизненные вариации предков. Тогда
возникает вопрос: есть ли такое «узкое горло» в эволюции социальных
систем (их смерть и наследование программы с возможностью ее
мутирования)? Понимание под социальными генами
генерализованных языковых символов-ожиданий в качестве программ-ин-
260
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
струкций по выстраиванию систем коммуникаций как своего рода
фенотипов дает возможность рассматривать именно тексты
(особенно письменные и печатные, но отчасти и устные) как «узкое
горло» социальной эволюции. Именно всегда системно
специфический процесс производства текстов из текстов в ходе
коммуникации выступает аналогом «узкогорлового цикла» эволюции.
Можно сказать, что подобно тому, как живые системы рождаются
или реплицируются из клетки, социальные системы рождаются
или реплицируются из слова (генерализированного символа,
концентрирующего вокруг себя программы-инструкции по
конструированию коммуникации, т.е. специальные тексты).
9. Теория эволюции Н. Лумана как ответ на вызовы
антидарвинизма
Вызовы системной теории формулируются ее главным
оппонентом — индивидуалистской, или «гуманистической»,
парадигмой теории общества, понимаемого как совокупность индивидов.
В эволюционном контексте такое общество обычно сравнивалось
с биологической популяцией. Другим вариантом того же подхода
является «организмическая метафора социального»,
утверждающая наличие аналогии между обществами и организмами1.
При этом эволюция общества и культуры осуществляется,
полагают сторонники индивидуалистского подхода, не благодаря
механизмам, функционально аналогичным процессам
размножения (т.е. через «уз/согорловый» цикл), а в процессе «широкой»
трансляции информации — через культурную и социальную
диффузию, передачу опыта от одной социальной единицы (племени,
общества, института, индивида) к другой.
Теория Лумана, отказавшаяся оторганизмической метафоры,
«возвращает» социальной эволюции ее о£и<еэволюционное
свойство - способность репликации (коммуникаций).
1 Организмическую метафору можно свести к следующим пунктам: институты
общества оказываются взаимосоотнесенными, подобно органам тела, и
сохраняют континуальность, несмотря на изменения в составе индивидов. Клетки
уподоблялись индивидам, централизованное управление - мозгу; разделение труда
между институтами общества аналогично специализации функций органов;
обществу, как и организму, свойственны самосохранение, адаптивный ответ на
воздействия внешнего мира, обратная связь. Передаче вещества, энергии в организме
соответствуют коммуникации, торговля, транспортная система в обществе.
А.Ю. Антоновский. К трансформации представлений о социальной эволюции 261
Вызов п е р в ы й: в то время как эволюцию живых систем
определяет конкуренция, в обществе господствует кооперация.
По мнению Дж. Хаксли1, в понимании социальной эволюции
возникает фундаментальная трудность. Ведь общество является
одновременно и soma (телом, фенотипом, механизмом
самосохранения), и гермоплазмом (механизмом репродукции,
трансмиссии). В обществе будто бы нет разделения на бессмертное и
смертное, филогенез и онтогенез совпадают. Применительно к
обществу, согласно Хаксли, бессмысленна модель генного пула, в
котором та или иная «более приспособленная» характеристика
социальных систем статистически встречается более часто.
Поэтому «базовые единицы наследования» или социальной
репродукции, сопоставимые с геном, оказываются ненужными;
«единиц отбора» будто бы не существует. Из того факта, что
общество не воспроизводит себя «узкогорловым» способом (т.е. через
смерть и новое рождение и конструирование «по генетической
инструкции»), делается вывод: «дифференциальная частота» той
или иной социальной характеристики не выражает степень
«приспособленности», «фитнеса». В социальных структурах будто бы
нет возможности выявить часто встречающиеся и поэтому «более
эффективные» структурные характеристики.
Иными словами, аргументом в пользу несоизмеримости
биологической и социально-культурной эволюции является то, что
относительная частота тех или иных слов, понятий, форм культуры и
социальности вовсе не свидетельствует об их большей
конкурентоспособности и большей адаптивности.
Действительно, кажется убедительным антидарвинистское
утверждение, что частота и приспособленность в социуме не
являются коррелирующими величинами, как в живых системах.
«Генералов меньше, чем рядовых», но значит ли это, что последние
более приспособлены и со временем совсем вытеснят генералов?
Таким образом, утверждается, что общество живет не за счет
конкуренции между более эффективным (= учащающимся) и
менее эффективным (= все более редким), заканчивающейся
затуханием последнего, а за счет эмпирически фиксируемой
кооперации. Факт кооперации, согласно такому подходу, будто бы
оказывается решающей фальсификацией дарвинистской теории в ее
Huxley J. Kingdom of the Beast. N.Y., 1956. P. 9.
262
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
приложении к социуму. Но не только люди как элементы социума
кооперируют друг с другом. В соответствии с этим подходом
культурные артефакты (впрочем, как и люди) одновременно
конкурируют и кооперируют (шариковая и перьевая ручки «конкурируют»
между собой, но «кооперируют» с пергаментом и бумагой).
В русле этого подхода дарвинизм критикует известный
представитель генетической эпистемологии, пиажеанец X. Холпайк.
Общество, утверждает он, изменяет свой внешний мир, который
не может быть внешним селекционирующим механизмом, а
представлен другими «обучающими» и «кооперирующими»
обществами. Поэтому селекция как таковая не может быть обособленным
эволюционным процессом.
Исходя из этого аргумента (отсутствие «враждебного» внешне-
мирового давления на эволюционно неудачные вариации и, как
следствие, естественного отбора) можно отказаться от
неодарвинистского эволюционизма, как Холпайк, но можно обратиться к
аргументации Лумана, признающего данные факты, но делающего
другой вывод. Ведущая дифференция система (=общество) /
внешний мир сохраняется, но под внешним миром понимается не все
социальное окружение (оно как раз является внутренним внешним
миром для подсистем общества), а живые системы (биологические
организмы) и сознание человека (системы переживаний). Из
аргументации Холпайка вытекает лишь факт наличия мирового
общества и его неспособность вырваться за пределы своих границ, а
вовсе не отказ от разделения эволюционных функций на
варьирование, селекцию и стабилизацию коммуникаций.
В основе аргументации Холпайка лежит принцип, в
соответствии с которым все, что, согласно одной аналитической точке
зрения, конкурирует, согласно другой аналитической точке зрения,
кооперирует. Что же тогда подвергается внешнемировой селекции?
Что является аналогом организма, отличного от среды, т.е. от
внешнего мира, осуществляющего селекцию? По мысли
Холпайка, все социальные институты и культурные артефакты словно
«размазаны» по всему внешнему миру общества, совпадают с ним
во всем его объеме. Холпайк аргументирует следующим образом:
«С некоторой точки зрения паровой двигатель может
рассматриваться как новый тип организма, конкурирующий с другими
типами организмов, такими, как водяной привод и "животный"
привод. Но общество (как его среда), в котором он (паровой дви-
А.Ю. Антоновский. К трансформации представлений о социальной эволюции 263
гатель) получил распространение, в свою очередь было
глубочайшим образом им модифицировано, поскольку последний
обеспечил передвижение по суше и по морю, удобный и дешевый
источник энергии для фабрик, которые размещаются повсеместно.
Итак, социальные воздействия парового двигателя могут быть
понятыми только через анализ экономической, социальной и
технологической организации тотальности общества»1.
Дарвинист, полагает Холпайк, пытается объяснить
социальную эволюцию, задавая вопрос: «Почему данное изменение
оказалось успешным?» - и измеряет этот успех в терминах
относительной частоты инновации. По Холпайку, подлинная проблема
коренится в вопросе, бессмысленном для дарвиниста, о том, «что
является результатом воздействия этого изменения на всю
остальную социальную систему в целом».
Но, повторимся, это опять-таки доказывает, что «общество»
не представляет собой внешний мир культурных артефактов,
мировое общество действительно в свою очередь является
социальной системой, внутренним внешним миром других социальных
систем, отличным от таких действительно внешних миров
социальных систем, каковыми выступают системы сознания и живые
системы2. Отношение между обществом и его внешним миром не
является, по Луману, отношением приспособления одного к
другому. Придерживаясь общеэволюционного подхода к адаптации,
Луман утверждает, что культурная и социальная эволюция вовсе
не состоит в достижении более совершенной приспособленности
организма (или лучшего адаптирования к внешнему миру). Это
было давно признано биологами3, и переносится Луманом напоч-
1 Hallpike Chr.R. The Principles of Social Evolution. Oxford, 1989. P. 49.
2 Впрочем, и в биологии прекрасно известно явление кооперации генов, что
вовсе не отрицает факта их конкуренции за место в хромосоме. Проблема лучшей
адаптации и частоты появления «более совершенных», «лучше адаптированных»
форм социальности вообще не актуальна для Лумана.
3 «...нет никакого проблеска научного доказательства в том, что эволюция в
смысле прогресса от менее сложных к более сложным организмам имеет что-то
общее с более успешной адаптацией, селективными преимуществами или
производством большего числа отпрысков. Адаптация возможна на любом уровне
организации. Амеба, червь, насекомое или неплацентарное млекопитающее
приспособлены так же, как и плацентарные; если бы это было не так, они бы уже
давно вымерли» (Bertalanffy L.V. Robots, Men, and Minds: Psychology in the Modern
World. 1969. P. 67). Другой вопрос, что Луман (на том же самом основании) не
соглашается с пониманием эволюции как движения от простых систем или
организмов к более сложным.
264
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
ву социальной и культурной эволюции. Конкурируют возможные
подсоединяющиеся коммуникации, а ее эволюционно неудачные
формы отклоняются. Критерии селекции одних коммуникаций и
отклонения других являются внутрисистемными достижениями.
Вызов второй: социальные изменения не являются
случайными, эволюция имеет направление.
Противники дарвинизма настаивают, что социальная
изменчивость, вариации нельзя считать аналогом мутаций в силу их
неслучайного, целенаправленного, организованного,
планируемого, интенционального характера. Между тем мутация как базовый
источник изменчивости, варьирования в живых системах
является случайной. В обществе изобретение (целевое, ответственное,
допускающее диффузию) как фактор социальной изменчивости и
варьирования представляет собой продукт культурной традиции,
следовательно, по мнению противников дарвинизма, не может
быть социальным аналогом случайной животной мутации.
В ответ на это Луман, с присущей ему софистичностью,
указывает, что цели и интенции могут быть и неслучайными, но вот их
основания таковыми не являются:
II Во-первых, основа для формирования интенций, как правило, если не
всегда, оказывается отклонением от укоренившейся рутины
(следовательно, никак не является спонтанно возникающим
самоосуществлением Духа); оно само, таким образом, является результатом
эволюции. И кроме того, будущее не ориентируется на интенции, а вбирает в
себя лишь интенционально произведенные факты как исходный
пункт дальнейшей эволюции. Итак, эволюционная теория полагает (и
это не так уж далеко от реальности), что планирование не способно
определить то, в каком состоянии окажется система в результате
планирования. Соответственно планирование, если оно имеет место,
являет собой момент эволюции, ведь уже одно наблюдение моделей и
добрых намерений планирующих ведет систему по непредсказуемому
курсу. Теория эволюции могла бы по этому поводу высказаться
следующим образом: то, какие структуры вытекают из планирования, оп-
|| ределяется эволюцией1.
Антидарвинистски ориентированные теоретики утверждают,
что в отличие от слепых, безразличных к причинам и источникам
появления биологических генных мутаций источники социальных
Луман Н. Указ. соч. С. 22.
А.Ю. Антоновский. К трансформации представлений о социальной эволюции 265
инноваций чрезвычайно важны для становления и
функционирования этих нововведений. Важно знать, по какой причине
возникли железные орудия труда и централизованное государство,
заменившие соответственно каменные орудия и нецентрализованные
племенные образования. Поэтому нельзя-де рассматривать
изобретение и инновацию как случайные мутации. Так, Холпайк
убежден, что человеческая мысль и определенные социальные
обстоятельства являются неслучайными источниками изобретений.
Этот пункт заставляет усомниться в применимости
дарвиновской схемы к социальной эволюции. Совместима ли слепота
культурных вариаций с «сознательностью» изобретений?
Действительно, возникает впечатление, будто вариации в обществе
специально организуются в ответ на воздействие извне. Многие
достижения эволюции можно свести к общей культурной
тенденции - расширение подконтрольного обществу пространства.
Тогда культурные достижения воплощают определенным образом
направленное развитие, каждый этап которого вытекает из
предыдущего. С этой точки зрения важнейшими шагами эволюции
становятся все более адекватные пространственные
представления, организация «действий на расстоянии»; в этом же контексте
речь может идти и о выходе коммуникации за пределы
интеракции, и об изобретенном в Китае огнестрельном оружии как
дистанционном способе ведения войны, впрочем, эту же общую
тенденцию выражают сами гетерогенные феномены — от магии и
путешествий до изобретения телефона и Интернета. Тогда,
действительно, такие процессы, как указывает Холпайк, не являются
случайными, а лежат в контексте этого постепенного завоевания и
освоения пространства (в том числе весьма неадекватными
средствами алхимии и галлюциногенов).
Такой отказ от случайностного понимания варьирования
помогает решить другую проблему - многообразия культурных черт
и дефицита социального времени, недостаточного для
«опробования» различных сочетаний культурных характеристик и форм
социальности. «Сознательность» изобретения якобы обусловливает
более эффективную возможность синтеза многообразия самих
гетерогенных культурных черт в некоторое единство. (Особо об этой
проблеме - в следующем пункте.) Тогда следует считать, что
изобретение огнестрельного оружия стало результатом синтеза
алхимически и магически культивируемого в Китае огня и дыма, как и
266
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
свойственной для китайской ментальности идеологии
«воздействия на расстоянии», факта произрастания бамбука как прообраза
металлического дула, а также развитой металлургии. Можно
сказать, что целенаправленное мышление обеспечивает такое
варьирование, при котором селекция (в свою очередь «сознательная»)
осуществляется уже не между бесчисленными и случайными,
независимыми друг от друга гетерогенными культурными достижениями,
а между синтетическими комплексами, вбирающими в себя и
синтезирующими это многообразие.
Все это позволяет некоторым эволюционистам утверждать,
что в социальной эволюции нет жесткого различения между
варьированием и отбором, как в органической эволюции. Поскольку
социальные инновации изначально конструируются
индивидами, последние не привносят инновации из вакуума, считает Хол-
пайк. Вариации сознательно организуются индивидами «ради» их
последующей селекции, целенаправленного отбора,
следовательно, варьирование и селекция суть единый процесс1.
Луман горячо протестует против такой «гуманистической»
интерпретации эволюции: «Условие варьирования лежит в
многообразии, а не в возможности того, что среди большого числа
индивидов с достаточной вероятностью появляются и экземпляры,
выделяющиеся особенной инновативностью»2.
Антидарвинист может утверждать, что то или иное изобретение
(к примеру, изобретение атомной бомбы) было сознательно
организовано. Луман бы ответил на это, указав, что причины появления
эволюционных достижений (варьирование) - одни, а функции
(фактор их отбора) - другие. Причиной создания ядерного оружия
могло быть стремление к достижению мирового господства (или
обеспечения доминирования в мировой политике), в то время как
функция этого оружия (и соответственно причина селекции
научных коммуникаций вокруг этой научной тематики) оказалась
прямо противоположной, а именно, функция взаимного сдерживания,
исключающая такого рода (полное) доминирование в мировой по-
1 Такое понимание эволюции очевидно нереалистично и, весьма напоминая
теорию заговора, приводит к комичным импликациям. Так, ошибка при переводе
Библии (перевод «молодой женщины» как «девы») вполне могла бы
интерпретироваться как специально задуманная вариация с целью введения столь
распространенного в католичестве культа непорочной Девы.
2 Луман И. Указ. соч. С. 31.
А.Ю. Антоновский. К трансформации представлений о социальной эволюции 267
литике. Случайность, таким образом, понимается не как
независимый от обстоятельств характер появления нового события, а как
независимость источника появления нового относительно той
функции, которую однажды возникшая вариация будет играть в
будущем в случае ее селекции. Ведь именно функция (= устойчивость
символически замкнутых самообращенных коммуникаций), а
вовсе не причина появления нового определяет его возможную
дальнейшую селекцию. Вариации (новые отклонения коммуникаций) не
должны быть ответом на внешние воздействия, вытекать из
прежнего опыта, быть следствием научения.
Вызов третий: дефицит времени на опробование
возможных комбинаций.
Антидарвинсты полагают, что серьезной трудностью для
эволюционистского подхода к социуму является гигантское число
возможных комбинаций его варьирующихся свойств. Так,
Дж. Мердок1 приводит 571 базовую социальную характеристику
общества (оружие, терминология родства, брачное поселение,
этноботаника, законообразные нормы, забота о детях и т.д.).
Каждая черта несет огромное число ее возможных вариаций. Так,
брачное поселение может быть амбилокальным, билокальным,
матрилокальным, патрилокальным, вирилолокальным,
неолокальным и т. д. Подсчитано2, что общее число комбинаций
достигает 10143. Эта трудность не возникает в применении дарвинизма к
живым системам в силу гигантского числа биологических
организмов, их популяций и поколений, в силу достаточного времени для
эволюции всего многообразия живых систем. Между тем
социальная эволюция началась сравнительно недавно, и число обществ
(как бы их ни определять) никогда не было настолько велико,
чтобы исчезать и появляться с частотой биологических популяций в
зависимости от успешного или неуспешного отбора. Поэтому
общества якобы не способны исчерпать или хотя бы приблизиться к
сколько-нибудь полному воплощению возможных комбинаций
социальных и культурных черт. Но если принять факт
эмпирически фиксируемого незначительного числа обществ, то придется
предполагать высочайшую скорость варьирования и мощнейшее
селекционное давление.
1 Murdock G. P. The Ethnographic Atlas. University of Pittsburgh Press, 1967.
2 Hallpike Chr. R. Op. cit. P. 40.
268 Ч асть III. Неклассика в научном теоретизировании
Именно в связи с этим надо понимать заявление Д. Кэмпбелла
о нерелевантности «внешнего» (= естественного) отбора. В
обществах «успевает» состояться лишь частичная «случайная
перетасовка» вариантов, причем варьирование не зависит от внешнеми-
ровых условий (от селекции) и в процессе «проб и ошибок» из
последних ничему нельзя научиться.
Но в то же время очевидно, что представлению о «случайной
перетасовке» явно противоречит, например, тот эмпирический
факт, что торговля и военное дело, деньги и транспорт, ремесло и
земледелие возникают независимо в различных регионах, а это
противоречит тезису «рэндомного» варьирования. Такая
инвариантность социальных достижений при «рэндомном»
варьировании представляется невероятной1.
Перечисленные трудности в применении неодарвинизма к
социуму решаются Луманом посредством перемещения уровня
эволюции — от эволюции индивидуальных, культурных и
социальных характеристик тех или иных обществ (все возможные
комбинации свойств и форм которых действительно не могут быть
«проиграны» сколько-нибудь полно) к эволюции более глубокого
уровня. В сущности в этом и состоит лумановский подход.
«Фенотипами» — воплощениями эволюции генов — выступают общества
или общество. Но если под обществом понимать
последовательности коммуникаций, то проблема дефицита времени на
опробование социальных событий снимается. Очевидно, что
коммуникации и их «пробные отклонения» осуществляются в
неизмеримом количестве.
Но что же тогда в обществе варьируется «на более глубоком»,
генетическом уровне? В претендентах на роль социальных генов
никогда не было недостатка. Многочисленные неодарвинисты
1 Так, с точки зрения Мердока, эволюционно необъяснимым в контексте
«рэндомного» варьирования выглядит тот факт, что африканский тип
государственности воспроизводится снова и снова практически во всех своих индивидуальных
чертах: абсолютная монархия, божественное происхождение и ритуальная
изоляция монарха, знаки монаршей власти (барабаны, трон), основание каждым
монархом новой столицы, монарший гарем, особый престиж королевы-матери,
королевы-жены и королевы-сестры, территориальная бюрократия,
государственные министры одновременно являются правителями провинций и выбираются из
слоев, «недостойных» наследовать монарший трон, наследование трона не
урегулировано, анархия в период междуцарствия, человеческие жертвоприношения на
похоронах монарха (Murdock G.P. Africa: Its Peoples and Their Culture History.
McGraw Hill Text. 1959. P. 37).
А.Ю. Антоновский. К трансформации представлений о социальной эволюции 269
предлагали на эту роль то самореплицирующиеся образы памяти
(Блюм), то идеи (Боулдинг), то инструкции (Клоук), а также мимы
(Доукинз). Но все эти «гены» все-таки оставались соразмерными
сознанию человека, там хранятся и локализуются.
II Приведем цитату, репрезентирующую эти всегда соотнесенные с
сознанием человека представления о культурных генах: «В социальных
системах генами являются образ или идея в сознании человека: идеи -
такие, как планы-эскизы, по которым создаются здания или
автомобили; идея или образ будущего, которые создают новое предприятие;
предложение брака, которое создает новую семью; образ нового
способа жизни в учении, создающем новую религию. Параллель с геном
весьма отчетлива. Сущностная структура обоих состоит в
информации — такой, которая в благоприятствующей среде способна сотворить
телеологический процесс для производства соответствующего феноти-
|| па» (BouldingK.E. Primer On Social Dynamics. Free Press, 1970. P. 21-22).
Все перечисленные эволюционисты согласны в одном:
конкурируют не люди или организмы, обладающие или реализующие
«инструкции», мимы, идеи, концепты; конкурируют сами
инструкции или программы конструкции этих людей, организмов, а в
случае общества — социальных систем. Луман, скорее, следует
подходам Клоука и Доукинза. Объектом трансляции являлся не
образ сознания, а правило, инструкция, программа
конструирования, алгоритм, текст. В этом смысле текст действительно является
генетической единицей, причем для своего воспроизводства и
трансформации в другие тексты он словно задействует сознание
своих «создателей», скажем, ученых, литераторов, производящих
новые тексты исходя из текстов прочитанных.
10. Итоги
Обобщим изложенное. У Лумана роль культурного генофонда
(аналогичного генофонду живых систем), видимо, играет язык
как слабосвязанная среда, в которой в неактуальном,
невостребованном виде способны существовать конкуренты уже
актуализировавшихся выражений, что напоминает отношение
актуализированных генов и их конкурентов - алеллей за место в хромосомах.
Язык ведь структурирован очень слабо, лишь грамматически, что
не определяет однозначно актуальную выборку тех или иных слов
или выражений в какой-то данной ситуации.
270 Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
Эта слабая структурированность социально-культурного
генофонда (в нашем случае языка) является не препятствием на
пути эволюции (X. Холпайк1), а, наоборот, существенным
эволюционным преимуществом, оставляющим отрытое будущее —
пространство дальнейшей эволюции. (Впрочем, в первобытных
языках все было несколько иначе. Говорить в определенных
ситуациях следовало «высоким языком», однозначно
определенными текстами, где каждое выражение предполагало подсоединение
строго определенного следующего выражения.)
Проблема, которая возникает при интерпретации языка как
генетического пула варьирующихся элементов, находится лишь в
мнимом противоречии с вытекающим из дарвинизма
представлением о том, что варьирования (мутации) должны быть слепыми, в
то время как выражения, тексты целенаправленно
придумываются, а зачастую и весьма тщательно продумываются. Ведь
мутируют, подвергаются варьированию, а затем и селекции не «краткие»
выражения, слова языка, фонемы и т.д., а их сочетания. Здесь
довольно очевидна аналогия с генами живых систем: чем
«компактнее» указанные языковые единицы, тем больше у них шансов
«выжить». Самые компактные элементы языка в каком-то смысле
вечны или по крайней мере чрезвычайно устойчивы.
Мутируют, таким образом, не просто элементы языка, а
генетические структуры коммуникаций, смысловые ожидания, т.е.
задаваемые речевым актом комплексы референций. Если я
произношу «А» (слово, предложение и т.д.), следует ожидать, что
произнесут «Б». В обществе реплицируются смыслы, ожидания, т.е.
сгущения коммуникаций или сгущения языка, устойчиво
повторяющиеся в сравнительно разных ситуациях. Каждое
произнесенное слово, скажем, «дерево» - это уже и есть ожидание, указание
1 Неструктурированность гипотетических генов культуры, по мнению Холпай-
ка, якобы возвращает нас к старой проблеме дефицита исторического
времени, недостаточного для опробования всех языковых комбинаций, а значит, не
позволяющего выявить (посредством социальной селекции) действительно
эффективные комбинации. «Если наш социальный внешний мир составлен из
бесструктурных мириадов крошечных культурных генов, то конкретный индивид
никогда бы не смог вообще усвоить культуру... Мы знаем, что язык не усваивается
исключительно в форме изолированных мимов (слов словаря, морфем, фонем,
букв алфавита), но мы упорядочиваем эти звуки и слова посредством
ограниченного числа общих правил и категорий так, что мы можем произносить и постигать
выражения, с которыми мы никогда не сталкивались ранее (Hallpike Chr.R. Op. cit.
P. 46).
А.Ю. Антоновский. К трансформации представлений о социальной эволюции 271
на возможные его употребления, на возможные свойства
реферируемого объекта (тенистая крона, возможность построить
деревянную лодку). Любой названный словом объект — это сумма
ставших устойчивыми коммуникаций по его поводу, задаваемых
ожиданиями, связанными с его названием.
Интерпретация языка как генофонда позволяет уточнить
понятие варьирования. Варьирование — это такая (отклонившаяся от
того, что прежде казалось естественным и самопонятным)
актуализация слов, которая задает какое-то одно из возможных
отнесений («дерево» как деревянное изделие). Будучи отобранным,
такое выражение становится устойчивым, может быть, и основным
ожиданием, связанным с данным словом. Появление нового
смысла (например, коннотация «деревянное»), конденсация в
нем всех возможных конкретных ситуаций (скажем, ситуаций,
когда мы имеем дело с чем-то деревянным) и является селегиро-
ванной вариацией. Очевидно, что для селекции такого смысла
(т.е. отнесения к другому) слова «дерева», его превращения в
новое, самостоятельное ожидаяие нужны соответствующие условия.
Селекция вариации есть формирование ожиданий - структур
коммуникации. Такое превращение требует повторных произнесений,
репликации в сходных контекстах, повторяющихся коммуникаций
(например, коммуникаций по поводу производства деревянных
предметов). Вариация - это начальное, случайное появление
нового, отклоняющегося, неожиданного коммуникативного смысла
слова, который затем может быть отобран, а впоследствии закреплен,
если применяющие это слово коммуникации получат
системно-воспроизводящийся характер (если, например, возникнет специальное
ремесло по деревообработке и производству деревянных изделий).
Тогда становится очевидным, что эволюционная стабилизация
ожиданий или структур систем коммуникаций возможна лишь как
следствие общественной дифференциации, разделения труда. Новые
языковые сочетания (скажем, «деревянная лодка», «деревянный
дом») суть генетические комплексы, рождающие как бы фенотипи-
ческие образования — системы коммуникаций, выстраивающиеся
вокруг запускаемых новым словом или новым смыслом (новым
генным комплексом) ожиданий.
Ю.С. Моркина
«Эпистемические культуры»
К. Кнорр-Цетины как концепция
научного знания конца XX века
II Рассматриваются идеи К. Кнорр-Цетины, которые она представила в
книге «Эпистемические культуры: как науки делают знание»1.
Концепцию автора можно отнести к одной из тех, которые возникли в
результате как преобразования самого научного мышления в ходе научной
революции, так и развития философии, социологии, истории науки. В то
время, когда появляется книга Кнорр-Цетины, активно дебатируются
вопросы о роли социума в истории науки. Социологи науки
претендуют на анализ научного знания в его содержании, вторгаясь в область
философии науки, в которую приходят идеи развития научного знания
и его личностного характера. В книге Кнорр-Цетины отражено новое
для этого автора осмысление значения социальности для структуры
науки и научного знания, в результате которого в некоторой степени
|| начинают размываться границы между социальным и не-социальным.
1. Введение
Во второй половине XX в. появились такие признаки нового
научного мировоззрения, как контекстуальность,
переосмысление субъект-предметного отношения, интерсубъективность,
плюрализм и ряд других. В ранних работах Кнорр-Цетины, как и в
трудах ее единомышленников (здесь можно назвать «сильную
программу» Д. Блура и Б. Барнса, социальный конструктивизм
Б. Латура и С. Вулгара, «социальную эпистемику» С. Фуллера,
«теорию актор-сети» Б. Латура), основное внимание уделяется
переосмыслению субъект-предметного отношения в направлении
осознания роли субъектного, «человекоразмерного» полюса в
научной деятельности. В трудах Кнорр-Цетины (прежде всего в ее
книге «Производство знания»2) бескомпромиссно проводится
1 Knorr-Cetina К. Epistemic Cultures: How the Sciences Make Knowledge.
Cambridge ; L. : Harvard University Press, 1999. 329 p.
2 Knorr-Cetina K.D. The Manufacture of Knowledge. An Essay on the Constructivist
and Contextual Nature of Science. N.Y., 1981.
Ю.С. Моркина. «Эиистемические культуры» К. Кнорр-Цетины
273
идея о социальном конструировании знания, причем из этого
процесса предмет исследования вообще исключается, он никак не
входит в теоретическую конструкцию. Такие взгляды вполне
вписывались в общий строй социологических исследований науки
того времени, отличаясь, возможно, лишь большей
категоричностью и смелостью в доведении до логического предела некоторых
базовых положений, что, с одной стороны, вынуждало ее делать
выводы, чрезмерно противоречащие здравому смыслу и
основаниям классической эпистемологии, нос другой
—демонстрировало предельные возможности принятой ею программы.
Главное, что привлекло нас в анализируемой книге, — это
просматривающееся здесь изменение взглядов автора в направлении
отказа от категорического утверждения об исключительном и
полном доминировании социального полюса в научном процессе
производства знания. Теперь Кнорр-Цетина скорее стремится
совместить социальную эпистемологию конца XX в. с классической
теорией науки. Надо сказать, что такая тенденция начинает
преобладать в социальных исследованиях науки. На примере
Кнорр-Цетины можно проследить, что из этого получается.
Появление у Кнорр-Цетины понятия «эпистемические культуры»
означает существенные изменения в ее способе понимания
научной деятельности. В то же время на примере ее личной творческой
эволюции прослеживаются важные особенности интерпретации
научного мышления с позиций социальной эпистемологии в
целом. Социологи начинают претендовать на анализ научного
знания в его содержании, вторгаясь в область философии науки1, в
которую приходят идеи развития научного знания и его
личностного характера. Проблематика философии науки переплетается и
начинает в чем-то совпадать с проблематикой истории науки.
Идея научных революций разрушает представление о
кумулятивном, поступательном развитии естествознания. В
классической эпистемологии воздействие социальных факторов на
содержание научных теорий не признавалось: научным идеям
приписывалась собственная логика развития. С точки зрения
классической эпистемологии, предмет противостоит ученому
как независимый от него, а знание должно быть максимально ос-
1 См.: МарковаЛЛ Трансформация оснований историографии науки //
Принципы историографии естествознания: XX век. СПб. ; М., 2001. С. 74.
274
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
вобождено от всех характеристик ученого-человека. Кризис
позитивизма привел к осознанию того, что структуру научного
знания невозможно понять, без включения в эту структуру
элементов контекста формирования знания1. Поворотным пунктом в
исследованиях, предметом которых является наука, считаются
идеи Т. Куна.
Труды Кнорр-Цетины причисляют к антропологии науки
(наряду с работами И. Элканы)2. Их также относят к социальному
конструктивизму (наряду с Д. Харавэй, Дж. Л о, Т. Пинча, Г.
Коллинза, М. Малкея и др.)3. И.Т. Касавин отмечает, что тенденции
историзации и социологизации эпистемологии побуждают Блура,
Коллинза, Малкея, Латура, Вулгара, Кнорр-Цетину и др.
обратиться к ситуационным исследованиям как альтернативе методу
рациональной реконструкции истории науки К. Поппера4. По
Касавину, антропология познания является нетрадиционным
вариантом теории познания, разрабатываемым в новейшей
западной философии и социологии науки. Это направление
предполагает анализ тех измерений познавательного процесса, которые
соразмерны человеческим возможностям и потребностям, и
относительное игнорирование всех прочих характеристик знания
и познания. «Антропология знания возникает в 1970-е—1980-е гг.
как критическая реакция на объективистскую трактовку
познания, опирающуюся на принципы фундаментализма,
интернационализма»5. Книгу Кнорр-Цетины «Эпистемические культуры»6
сама исследовательница представляет читателю как «книгу об
эпистемических культурах: их перспективах видения и
механизмах — осуществляемых посредством сродства, необходимости и
исторических совпадений, которые для данного исследователь-
1 См.: Маркова ЛЛ. Человек и мир в науке и искусстве. М. : Канон+ ;
Реабилитация, 2008. С. 24
2 См.: Касавин И. Т. Оксфордские доны: опыт микросоциологии // Социальная
эпистемология: идеи, методы, программы. М., 2009.
3 См.: Столярова О. Социальный конструктивизм: онтологический поворот//
Вестник МГУ. Сер. Философия. 2003. № 3; Касавин И. Т. Понятие знания в
социальной гносеологии // Познание в социальном контексте. М., 1994. С. 55.
4 См.: Касавин И.Т. Ситуация и контекст// Социальная эпистемология: идеи,
методы, программы. М., 2009.
5 Касавин И. Т. Познание в мире традиций. М. : Наука, 1990. С. 93.
6 Knorr-Cetina К. Epistemic Cultures.
Ю.С. Моркина. «Энистемические культуры» К. Кнорр-Цетины
275
ского поля определяют наше знание»1. Энистемические культуры,
по ее определению, представляют собой культуры, которые
создают и легитимируют знание. Это одно из ключевых понятий книги.
Западная наука при этом рассматривается как основной институт
знания. Кнорр-Цетина анализирует знание в двух науках -
современных физике и биологии, исследуя эпистемические свойства,
такие, как значение (meaning) эмпирического, законы
объективных отношений, конструирование социального порядка в науке.
Хотя она анализирует только науку, понятие эпистемических
культур ставит вопросы и о других способах познания.
Кнорр-Цетина рассматривает культуру, в том числе культуру
знания, и науку как практику, анализируя не производство
знания, а механизмы развертывания производства знания. Если
предыдущие исследования представляли познающего субъекта как
производного от механизмов производства знания, то в данной
книге Кнорр-Цетина показывает самих людей, производителей
знания, ученых и экспертов, в качестве производных — в
определенном смысле — от практик, которые являются
конститутивными как для эпистемического субъекта, так и для объекта. Исследуя
не скрытые факторы получения одного научного результата, но
архитектуру и различие систем, производящих знание, она
считает, что показала, как в современной физике высоких энергий
эмпирический аспект науки перемещается в заменяющую его
реальность знаков и моделирования. В то же время молекулярную
биологию она воспринимает как систему, где идет противоположный
процесс, в котором натуральные объекты расширяются и
становятся средой для экспериментальных стратегий. В книге ставится
вопрос о конфигурации реальности, исследуемой в биологии и
физике. Кнорр-Цетина выдвигает тезис о семиологически
теоретической «конфигурации реальности» в современной физике,
которую противопоставляет «экспериментальному
конструированию данных» в молекулярной биологии. Она дает две картины
эмпирических механизмов (machinery), используемых в этих двух
науках, и ставит вопросы: как социальное работает в
экспериментах физики высоких энергий? Как социальное в физике высоких
энергий можно сравнить с «инфрасоциальностью» молекулярной
биологии?
Knorr-Cetina К. Op. cit. Р. 1.
276
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
Традиционное понятие культуры не включает в себя технику.
Кнорр-Цетина, напротив, включает технический аспект в
понятие культуры. Она отвергает различие между технологическими и
символическими процессами и говорит о символически
культурном аспекте общества знания, подчеркивая реальность
символических взаимоотношений. Кнорр-Цетина не связывает общество
знания с увеличением числа истинных теорий, скорее считает,
что, наоборот, символический аспект культуры держит сознание в
своем плену. Кажется, что Кнорр-Цетина подразумевает
априорную неистинность всего, связанного с символами, и символы (в
отличие от «эмпирической реальности» как она ее понимает)
являются для нее отрицательной ценностью.
2. Понятие эпистемических культур
Культура, подчеркивает Кнорр-Цетина, — постоянная
особенность эволюции жизни всего человечества. Но не существует
универсальной культуры, постоянной в пространстве и времени.
Понятие культуры используется для указания на специфические
исторические формы государства, экономики и т.д. Разные
культурные области отделены друг от друга, а наука представляет
собой область, обособленную внутри культуры. Но и внутри науки
существует разделение на дисциплины. Автор стремится
раскрыть, по ее словам, «не конструирование знания, но
конструирование механизмов, конструирования знания»1. При этом она
считает, что анализ не просто продуцирования знания в науке,
но и его эпистемических механизмов выявляет фрагментиро-
ванность современной науки: обнаруживаются различная
архитектура эмпирических подходов, специфическое
конструирование объектов, частные онтологии научных приборов и
различные социальные механизмы. Другими словами, выявляются
различные эпистемические культуры2. Этот тезис Кнорр-Цетина
противопоставляет традиционному тезису о единстве науки и
научного метода. Она рассматривает две научные области —
экспериментальную физику высоких энергий и молекулярную
биологию.
1 Knorr-CetinaK.Op.cW. ?.Ъ.
2 См.: Ibid.
Ю.С. Моркина. «Эпистемические культуры» К. Кнорр-Цетины
277
Эти две научные дисциплины являются частным примером
того, что Кнорр-Цетина называет «эпистемические культуры».
Определенные культуры производства знания, снабженные
собственными методологиями, собственным отношением к
эмпирии, относительно замкнутые, отделенные от культуры в целом и
друг от друга, и представляют, по Кнорр-Цетине,
эпистемические культуры. Кнорр-Цетина сравнивает именно эти две
выбранные ею эпистемические культуры, считая, что
исследователю необходимо рассматривать каждую из этих наук через призму
другой. При этом сравнительный анализ показывает «не
сущностные особенности каждого поля исследования, но различие
между ними». Саму культуру знания Кнорр-Цетина понимает
как совокупность паттернов и динамик, составляющих
экспертные практики, которые варьируют в разных формах экспертизы.
Кнорр-Цетина обращает внимание читателя на следующее:
видение культуры, игнорирующее эмпирический аспект, так же
ограничено, как и подход к практике, не принимающий во
внимание ее символическую составляющую. Сама она учитывает
эмпирический аспект, рассматривая системы классификации
научных фактов, эпистемические стратегии, эмпирические
процедуры и социальное сотрудничество в двух выбранных ею
исследовательских областях.
3. Лаборатория
Кнорр-Цетина начинает с анализа понятия лаборатории.
Предполагается, что любое решение, принимаемое в
лаборатории, независимо от того, касается ли оно методики проведения
эксперимента или выбора поставщика экспериментального
оборудования, в равной мере участвует в формировании получаемого
результата. Социальные отношения в лаборатории формируют
продукт науки. Социальность отождествляется с содержанием и
логической структурой научного знания1. «Научное знание не
описывает природу, как это принято считать в традиционных
интерпретациях науки. Где в лаборатории, например, можем мы
найти "природу" или реальность? Реальность, с которой имеют
дело ученые, в большой степени предварительно переконструиро-
1 См.: Маркова Л.А. Антропология науки // Энциклопедия эпистемологии и
философии науки. М., 2009. С. 62-63.
278
Ч асть III. Неклассика в научном теоретизировании
вана, если не полностью искусственно создана»1. В большинстве
случаев в литературе по истории и методологии науки, отмечает
Кнорр-Цетина, имеют дело с понятиями эксперимента и
основной единицы анализа. Понятие лаборатории помимо ее
определения как физического места проведения экспериментов
формировалось исторически как набор различных социальных и
технических форм и является одним из основополагающих для ее
понимания науки. Важность этого понятия связана с
«реконфигурацией» природного и социального порядка, которая, как
утверждает Кнорр-Цетина, и конституирует лабораторию2. Она
утверждает, что эта работа по «реконфигурации» различна в разных
областях науки и порождает разные культурные, социальные и
технические состояния. Лаборатории как «реконфигурации»
природного и социального плана производят «расширенную» среду,
которая «улучшает» природный порядок в его связи с
социальным. В этом вопросе Кнорр-Цетина ссылается на книгу Латура и
Вулгара3, исследования которых показывают «податливость»
природного порядка теориям. Итак, в лабораториях очень редко
имеют дело с объектом, «как он существует в природе», а работают с
косвенными следами, оставленными объектом (физика) или с его
очищенным вариантом (биология). Кнорр-Цетина выделяет три
особенности объекта в лаборатории:
/) он не рассматривается, как он есть, но определенным образом
трансформирован;
2) он исследуется не там, где он существует, но перенесен в
лабораторию;
3) событие изучается в лаборатории не тогда, когда оно происходит,
оно изъято из природного цикла4.
Таким образом, лаборатория переносит объект в новое поле,
которое определяется социальными факторами. При этом
лаборатория не только «улучшает» природный порядок, но и
модернизирует социальный порядок. Социальное модернизируется, чтобы
стать инструментом научной работы. Лаборатория обрабатывает
1 Маркова Л.А. Трансформация оснований историографии науки. С. 105.
2 См.: Knorr-Cetina К. Op. cit. Р. 26.
3 См.: Latour В., Woolgar S. Laboratory Life. The Construction of Scientific Facts.
Princeton, New Jersey. 1986. P. 294.
4 См.: Knorr-Cetina К. Op. cit. P. 27.
Ю.С. Моркина. «Эпистемические культуры» К. Кнорр-Цетины
279
природный порядок и социальную среду, создавая «реконфигури-
рованные» объекты, состоящие в определенном отношении с
местом и временем, иными словами, лабораторные открытия
локальны и содержат социальный компонент. Но лаборатория
поставляет и «реконфигурированных» ученых, которые могут
работать с этими объектами. Не только объект, но и ученый
становится «покорным» в отношении спектра поведенческих
возможностей. Ученые и методы исследования являются частью
исследовательской стратегии в производстве знания. Как объект «рекон-
фигурируется» в научную картину мира, так и ученый - в
эпистемического субъекта с определенными социальными
связями, характерными для науки. Новый порядок не природный и не
социальный, но заключает в себе компоненты того и другого.
Исследования, проводимые в лаборатории, объекты и
получаемая информация локальны, тем не менее они простираются
дальше границ единичной лаборатории. К анализу лаборатории и
действующих в ней социальных факторов Кнорр-Цетина
применяет принцип локальности: научное знание следует изучать так, как
оно производится в данном конкретном месте, и анализировать
привлекаемый для исследования местный материал1. Отметим,
что это в большей степени относится к анализу Кнорр-Цетиной
молекулярно-биологической лаборатории, чем физической,
«глобальность» которой так не импонирует исследовательнице.
Физика высоких энергий, по Кнорр-Цетине, включает более
сложные, чем в других науках, лабораторию и эксперимент, но и
она имеет дело со знаками событий, а не с самими событиями.
В физике высоких энергий в эксперименте природный порядок
«реконфигурируется» в порядок знаков2. Использование знаков
присутствует во всех науках, хотя в них же присутствуют и другие
технологии. Эксперимент должен быть описан скорее в терминах
технологии вмешательства, чем моделирования или
репрезентации. В эксперименте большинства наук, утверждает
Кнорр-Цетина, технологии, связанные со знаками, используются только для
производства конечного продукта, тогда как в физике высоких
энергий эксперимент начинается (в противоположность другим
1 Мамчур Е.А. Образы науки в современной культуре. М. : Канон+ ;
Реабилитация, 2008. С. 226.
2 См.: Knorr-Cetina К. Op. cit. Р. 40.
280
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
наукам) с процессов, имеющих дело со знаками. Кроме того, в
физике высоких энергий результат зависит от разделения труда
между уровнями лаборатории и эксперимента. Эксперимент движет
науку, лаборатория предоставляет инфраструктуру. Принимая во
внимание все вышесказанное, Кнорр-Цетина пересматривает
некоторые особенности лаборатории.
Маркова утверждает, что Кнорр-Цетина даже по сравнению
с Латуром и Вулгаром в своих прошлых работах высказывается
более последовательно о научной деятельности в лаборатории,
доводя свою мысль до логического завершения: в лаборатории
нет природы и соответственно нет истины1. В анализируемой
книге она менее решительна. Здесь, по ее мнению, лаборатория
преобразует исследуемые объекты путем включения их в новые
временные и территориальные режимы. Кнорр-Цетина
отмечает, что в современной социологии науки лаборатория - больше,
чем новое поле исследования или место осуществления
методологии. Она связывает лабораторию с понятием
«реконфигурации», с установлением в лаборатории порядка, изменяющего
повседневные компоненты социальной жизни. Лаборатория
создает новую конфигурацию объектов, которая соответствует
измененному социальному порядку2. Она создает различия
между установленным в ней социальным порядком и таковым в
повседневной жизни, а также социальными порядками в других
местах и в другое время.
4. Физика высоких энергий и «отрицательное» знание
Физики ищут «окончательную теорию природы».
Экспериментальные усилия в физике высоких энергий в наши дни
Кнорр-Цетина делит на две категории:
/) продолжение тестов стандартных моделей с целью
экспериментального получения частиц и механизмов, предсказанных
теорией, и выполнения точных измерений;
2) экспериментальные исследования в физике помимо стандартной
модели.
1 См.: Маркова ЛЛ. Формирование логических оснований нового типа
мышления в неклассической науке // Социальная эпистемология: идеи, методы,
программы. М., 2009.
2 См.: Knorr-Cetina К. Op. cit. Р. 44.
Ю.С. Моркина. «Эпистемические культуры» К. Кнорр-Цетины
281
При этом теория элементарных частиц детерминирует
эксперименты в физике высоких энергий, присутствуя в них в виде
расчетов1. Кнорр-Цетина отмечает, что различные науки по-разному
понимают и проводят эмпирические исследования. Она начинает
с физики высоких энергий. Эмпирическая «машинерия» физики
высоких энергий - это механизм производства знаков,
утверждает Кнорр-Цетина, и проводит аналогию: человеческий мозг -
энергетически открытая, но информационно закрытая система,
он обрабатывает внешние данные только своими внутренними
средствами и в результате созерцает только самого себя.
Кнорр-Цетина утверждает, что физика высоких энергий также
оперирует в пределах закрытых схем. Вот как, по Кнорр-Цетине,
выглядит картина производства знаний в современной физике.
В исследованиях физики высоких энергий природные объекты
(элементарные частицы) и квазиприродные объекты
(образующиеся в результате столкновения частиц) входят в эксперимент
редко. Физики манипулируют не элементарными частицами, но
показаниями приборов. Происходит «реконструкция» события по
косвенным данным. Наконец, физики создают на основе
показаний приборов «переменные», которыми манипулируют уже как
моделями, а не как знаками. Универсум знаков в физике
накладывается на универсум моделирования этих знаков. Кроме того,
физические эксперименты имеют дело с фоном, шумом и
событиями, не улавливаемыми приборами. Каждая составляющая фона
регистрируется детектором, учитывающим только ее специфику.
5. Молекулярная биология
Ситуации в физике высоких энергий как дисциплине, ее эпи-
стемическим стратегиям Кнорр-Цетина противопоставляет
систему современной молекулярной биологии, причисляя
молекулярную биологию (в отличие от «самореференциальной» физики
высоких энергий с ее «закрытой вселенной») к эпистемикам,
ориентированным на объект. Если относительно экспериментальных
стратегий физики высоких энергий Кнорр-Цетина утверждала,
что они лишены эмпиричности, то молекулярная биология, по ее
мнению, контрастирует с физикой высоких энергий, конституи-
См.: Knorr-Cetina К. Op. cit. Р. 25.
282
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
руя себя как система, открытая естественным объектам. В
экспериментах физики высоких энергий естественные и
квазиестественные объекты допускаются в эксперимент редко, тогда как для
молекулярной биологии они составляют повседневный базис.
Таким образом, автор, говоря о молекулярной биологии, частично
отрекается от того, что говорила в своей более ранней работе1 о
науке вообще: «...продукты науки — контекстуально
специфические конструкты, которые несут на себе печать ситуационной
случайности и структуры интересов, вплетенных в процесс,
породивший их. Продукты науки не могут быть адекватно поняты без
анализа процедуры их конструирования. Это значит следующее: то,
что случается в процессе конструирования, не безразлично к
продуктам, которые мы получаем. Это означает также, что продукты
науки должны рассматриваться как внутренне
сконструированные в процессе производства независимо от вопроса об их
внешнем конструировании через установление их соответствия или
несоответствия с реальностью»2.
6. Социальная структура физики высоких энергий
Кроме эпистемических механизмов физики высоких энергий
и молекулярной биологии (их эмпирических стратегий,
символической «реорганизации» сущностей в их лабораториях)
Кнорр-Цетина рассматривает их организационные практики и
другие социальные аспекты. Л.А. Маркова отмечает, что
Кнорр-Цетина соглашается с теми исследователями, которые
говорят, что такие сравнительно широкие организационные
единицы, как научные сообщества, формируемые по
профессиональному признаку, являются неудачной основой для изучения научной
деятельности, поскольку такие сообщества часто неизвестны
самим ученым, работающим в исследовательских институтах. Более
плодотворно понятие научной лаборатории, где доминируют не
профессиональные, а социальные связи3. В доказательство этого
Кнорр-Цетина показывает сложность «мегаэкспериментов»
физики высоких энергий. Она рассматривает эти эксперименты как
1 См.: Knorr-Cetina K.D. The Manufacture of Knowledge.
2 Цит. по: Маркова Л.Л. Трансформация оснований историографии науки.
С. 106-107.
3 См.: Маркова J1.А. Указ. соч. С. 109.
Ю.С. Моркина. «Эиистемические культуры» К. Кнорр-Цетины
283
коллективные структуры. Кнорр-Цетина ставит вопрос: как
возможно вести эксперимент с 2000 участников в течение 20 лет, как
это происходит в современной физике? Она так описывает
современную «большую науку»: это коллективная форма работы (а не
индустрия) и ее участники входят в успешную кооперацию. По
Кнорр-Цетине, индустриальная модель не адекватна
современной «большой науке». Она подчеркивает, что эксперименты
планируются не индивидуальными учеными, а институтами, которые
законодательно и финансово независимы от правительств своих
стран. Она описывает «большую науку» как посттрадиционную
коммунитарную (communitarian) структуру, т.е. структурную
форму, осуществляющую коллективную работу, связанную с
несостоятельностью индивида как эпистемического субъекта и поэтому
делающую акцент на коммуникационных механизмах, таких, как
коллективная собственность1.
Кнорр-Цетина обращает внимание на «стирание» индивида
как эпистемического субъекта в современной физике. В
некоторых науках в центре научной публикации находится ученый,
получивший опубликованный результат (так обстоит дело в
молекулярной биологии). В экспериментах физики высоких энергий в
центре публикаций - исследовательский коллектив. То же
происходит со способностью индивида продуцировать знание: если в
молекулярной биологии это возможно, то в физике высоких
энергий индивид или небольшая группа неспособны поставить
эксперимент и получить результат. Здесь действует коллективный эпи-
стемический субъект. Организация экспериментов физики
высоких энергий в коммуникационных практиках происходит в
основном на групповом уровне. Исследовательница показывает,
что центром экспериментов является не только группа ученых
(коллективный субъект), но и объект исследований2. Успех этих
экспериментов она видит как в хорошей социальной
организации, так и в ориентации на объект (object-centered management или
management by content), хотя (здесь не следует ошибаться в
трактовке) для нее объект физики высоких энергий представляет
собой имеющий мало общего с «реальностью самой по себе»
социальный конструкт (в противоположность объекту молекулярной
1 См.: Knorr-Cetina К. Epistemic Cultures. P. 165.
2 См.: Ibid. P. 171.
284
Ч асть III. Неклассика в научном теоретизировании
биологии). При организации эксперимента, по Кнорр-Цетине,
ориентация на объект пересекается с общественными аттитюдами
индивидов, берущих на себя ответственность за целое1. Научные
лидеры (при самоорганизации эксперимента) не организуют
эксперимент своей волей, но «занимают центральное место в
обсуждении, проводимом в рамках сотрудничества». Лидеры являются
«докладчиками» и представляют эксперимент или его части.
Они - «интеллектуальные администраторы», собирающие
информацию. Кнорр-Цетина считает, что эксперименты физики
высоких энергий регулируются не извне, а только самими их
участниками. Все же, как пишет она, «авторитет лидеров групп
держится на близости к объекту»2. Итак, основной организационный
формат экспериментов физики высоких энергий — группа,
сосредоточенная на технологическом объекте, где необходимые
координация и принятие решений о подготовке результата также
осуществляются в групповой форме. Научные лидеры осуществляют
координацию групп. Групповая структура гибкая: многие группы
организуются только для выполнения конкретных задач на
определенное время. Такая структура поддерживает коммунитарную
(communitarian) политику, принижающую роль индивида как
эпистемического субъекта. Группы работают с техническими
вопросами. Виртуально все группы — это рабочие группы, в разных
смыслах поддерживающие близость к объекту на всех уровнях.
Эта близость к объекту характеризует и научных лидеров
(«докладчиков»).
Эксперименты - сотрудничество — имеют определенную
протяженность во времени. Эксперименты физики высоких энергий,
по Кнорр-Цетине, имеют коммунитарную онтологию,
включающую коллективные механизмы с мышлением, выходящим за
пределы жизни одного поколения. Эксперименты планируются
надолго вперед. Сами временные периоды при этом определяются
объектом, например технологией производства и установки
детекторов. Планирование в физике высоких энергий
Кнорр-Цетина интерпретирует как ориентированный на объект механизм
продуцирования социальных полномочий. Она отмечает, что,
хотя эксперимент в физике отмечен высокой степенью социально-
1 См.: Knorr-Cetina К. Op. cit. Р. 179.
2 Ibid. Р. 184.
Ю.С. Моркина. «Эпистемические культуры» К. Кнорр-Цетины
285
сти на стадии зарождения эксперимента, тем не менее отдельные
ученые и группы играют важную роль на всем протяжении
эксперимента. Она отмечает плотное «сцепление» ученых и
технологических объектов. Исследовательница показывает, как
сотрудничество в физике высоких энергий упорядочивается на уровне
акторов — помимо коммунитарного уровня. Она использует
метафору геологических слоев, чтобы изобразить эти два разных
уровня. Механизм упорядочивания слоя акторов -доверие и
«технические сплетни» (gossip). Конфиденциальные связи (confidence
pathways) собирают отдельных индивидов в цельный уровень. Так
создается форма организации, которая «пересекает»
технологические группы, институты, эксперименты, собирая индивидов,
имеющих общий стиль мышления. Конфиденциальные связи
выходят за рамки экспериментов и создают сеть, объединяющую
индивидов и отличную от экспериментальной организации.
Индивиды, связанные этой сетью, могут участвовать в разных
экспериментах, переходить из одного эксперимента в другой. Еще один
фактор, связывающий индивидов, - персональный дискурс.
«Технические сплетни» содержат смесь сообщений,
комментариев, оценок технических объектов и поведения ученых. Они часто
содержат оценку научных работ, интенций ученых, их
компетенции, но нередко обсуждаются также группы или целые
эксперименты1.
7. Социальная структура молекулярной биологии
Кнорр-Цетина, исследуя социальные механизмы лаборатории
молекулярной биологии, выявляет ее «дуалистическую
организацию», выделяя в своем рассмотрении две центральные темы:
7) эти лаборатории структурно построены на
индивидуализированных единицах, сосредоточенных на одном исследовании;
2) лаборатории сами конституированы как единицы и имеют одного
лидера.
Рассматривая индивидуализированные единицы как малые
жизненные миры, включающие отношения к объекту, проекты,
символизацию, Кнорр-Цетина анализирует дуальную
организацию лаборатории, два ее уровня - лабораторный уровень и уро-
См.: Knorr-Cetina К. Op. cit. Р. 203.
286
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
вень отдельных единиц и детально изучает проблемы кооперации
и взаимосвязей в данном исследовательском поле в свете
территориальной организации самой молекулярной биологии в
сравнении с проблемами, с которыми сталкиваются в этом плане
физики. Лаборатории молекулярной биологии, по Кнорр-Цетине,
структурированы как индивидуализованные единицы.
Соответственно на этом уровне не встает вопрос о координации. В
молекулярной биологии отдельный индивид остается эпистемическим
субъектом. Лаборатория, эксперименты, объекты молекулярной
биологии обретают свою идентичность благодаря индивидам.
Отдельный ученый — принцип организации такой лаборатории.
Ученые выдвигают персональные исследовательские проекты. Вокруг
них организуется лабораторное пространство - материалы,
приборы и проч. Более того, ссылаясь на М. Полани, Кнорр-Цетина
говорит о неявном знании в биологии, принадлежащем отдельным
субъектам. Навыки (в противоположность мнению Коллинза,
целью которого было утверждение теории о коллективном знании)
индивидуальны и представляют собой отношения, направленные
на объект. Взаимосвязь с объектом включает ряд проекций,
которые «помещают ученого в пару» с естественным материалом.
Проекты, соглашения об авторстве, создание жизненного пространства
в лаборатории молекулярной биологии увеличивают компетенцию
индивидов по отношению к «их» материальным объектам. В
противоположность физике высоких энергий взаимоотношения с
объектом устанавливаются не путем символического посредничества
языка и математики, но посредством ситуационных отношений в
локальном контексте. Итак, Кнорр-Цетина описывает
лабораторию молекулярной биологии в терминах локальных жизненных
проекций, сосредоточенных на отдельных ученых, и их отношений
с объектами. Напротив, в физике высоких энергий эксперименты
коллективны и дискурсивны, отношения с объектом становятся
текстом, они опосредованы математическими операциями, объект
их коллективен.
Таким образом, у Кнорр-Цетины мы прослеживаем
отрицательную ценность коллективного и положительную - индивидуального,
индивида как отдельного эпистемического субъекта.
Молекулярного биолога Кнорр-Цетина рассматривает не только как
эпистемического субъекта, он проходит через карьерные стадии и может стать
руководителем лаборатории. Для этого ученый должен переориен-
Ю.С. Моркина. «Эпистемические культуры» К. Кнорр-Цетины
287
тироваться и быть обращенным и к объекту, и к другим ученым, их
сообществу, с которым он должен строить отношения. В
противоположность ситуации в физике в биологии исследовательское поле
изменяют индивиды, пытающиеся найти свою нишу. Возникает
вопрос: как объяснить появившийся у Кнорр-Цетины интерес к
индивидуальным персонажам-ученым, которого не было в ранних
работах? По-видимому, несмотря на все разнообразие социальных
факторов, влияющих на развитие науки, действительно имеющих
большое значение как стимулирующих (или тормозящих)
происходящие в ней процессы, трудно отвлечься от того, что новая идея
появляется все-таки в голове конкретного ученого. Конечно, на ее
рождение влияют самые разные обстоятельства: и
профессиональное общение с коллегами в научном сообществе или в рамках
научной лаборатории, и отношения с начальством, и финансирование, и
обстановка в семье, и многое другое. Но автором творческого
процесса является ученый с его индивидуальными способностями.
8. Выводы
Кнорр-Цетина необоснованно противопоставляет
современную физику высоких энергий и современную молекулярную
биологию на том основании, что первая работает в большей степени
со знаками, представляющими собой интерпретацию эмпирии,
оторванную от нее, а вторая «конституирует себя как система,
открытая естественным объектам»1. На самом деле обе науки в
равной степени имеют дело со знаками и интерпретациями, в равной
степени закладывают в основание эксперимента рабочую
гипотезу, основанную на теории. Различие в развитости теории и
сложности экспериментального оборудования, на наш взгляд, еще не
дают права говорить о совершенно разных «эпистемических
культурах», противоположных по многим признакам. В первую
очередь сколько-нибудь радикальная разница в отношении к
эмпирии (каким бы ни было это отношение) в данном случае не
наблюдается. Все науки в той или иной степени «самореференциальны»,
и в молекулярной биологии, равно как в физике, реализуются
законы работы в лаборатории, выделенные самой Кнорр-Цетиной:
объект в лаборатории определенным образом трансформирован,
1 Knorr-Cetina К. Op. cit. Р. 79.
288
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
не исследуется там, где он существует, но перенесен в
лабораторию, изъят из природного цикла. Молекулярная биология
становится для Кнорр-Цетины одной из защищаемых ценностей, но не
сама по себе, а в силу ошибочно приписываемых ей свойств:
использование антропоцентрической картины времени и
пространства, «уклонение» от применения знаковых систем и оставление
ученого один на один с невербальными объектами, «полная
эмпиричность», «камерность», индивидуалистичность.
Физика высоких энергий с ее комплексом свойств (повторяем,
присваиваемых Кнорр-Цетиной, а не объективно
существующих) - трансцендированием антропоцентрической картины
времени и пространства, семиологичностью в своем предпочтении
работы со знаками, «относительной потерей эмпиричности»,
коллективизмом («коммунитарностью»), крупномасштабностью
проектов — становится для исследовательницы «антиценностью».
При этом ее концепции физики высоких энергий как науки уже
присущи многие черты философских концепций науки второй
половины XX в. Это прежде всего выделяемое ею влияние
контекста на содержание научного знания. Контекстом здесь является
«самореференциальная» теоретическая традиция физики,
которой Кнорр-Цетина отводит эту роль, отказывая ей в связи с
объектом «как он есть сам по себе». Проблема Кнорр-Цетины в том, что
физика высоких энергий вместе с выделяемыми ею чертами этой
науки вызывает у нее «антипатию». Если присмотреться к
концепции молекулярной биологии под тем углом зрения, под которым
ее рассматривает К. Кнорр-Цетина, то можно увидеть, что она
тяготеет к классической эпистемологической концепции науки,
присущей еще Р. Мертону. Так, когда у Мертона заходит речь о росте
научного знания как такового, он придерживается обычной
позитивистской точки зрения, а именно: знание накапливается
постепенно, кумулятивно, его развитие осуществляется поступательно
и прогрессивно, и каждая последующая ступень включает в себя
все лучшее, что было достигнуто предшествующими
поколениями ученых. Кнорр-Цетина не говорит этого так определенно, но ее
высказывание о том, что создание жизненного пространства в
лаборатории молекулярной биологии увеличивает компетенцию
индивидов по отношению к «их» материальным объектам,
определенно указывает на некоторую степень кумулятивизма. Но это
уже неверно, по Кнорр-Цетине, для физики высоких энергий.
Ю.С. Моркина. «Энистемические культуры» К. Кнорр-Цетины
289
Итак, Кнорр-Цетина, с одной стороны, вроде бы, остается
«социальным конструктивистом» в дескриптивной стороне своих
исследований, утверждая, что в лаборатории происходит
«реконфигурация» природного и социального порядка и что
эксперименты физики высоких энергий — это самореференциал ьные
системы, замкнутые в собственном символическом мире и не
имеющие выхода к объекту как «вещи в себе». Но с другой стороны
(нормативная сторона ее исследований в этом как раз и состоит),
она критикует такое положение вещей, оно не удовлетворяет ее,
ценностные предпочтения ее во многом напоминают
традиционные ценности классической эпистемологии.
Хочется выделить еще одно направление в рассуждениях
Кнорр-Цетины, которое слабо выражено, ни в коем случае не
является доминирующим, но тем не менее, безусловно, навеяно
появившимися в последние годы попытками исследователей
найти выход из трудностей анализа субъект-предметного отношения.
В целом ряде случаев она пишет не просто о присутствии в
лаборатории и субъекта, и предмета (в прошлом у нее предмет вообще
отсутствовал), а о самом событии экспериментирования как
целостном, когда процедура, например, развертывания в физике (ее
терминология) затрагивает как объект, так и группы ученых,
связанных с объектом. Меняется и субъект, и предмет. Здесь уже нет
такой ситуации, когда в развитии науки предмет изучения
остается неизменным, а меняются только знание о нем и субъект
познавательного процесса. Этот аспект классической логики научного
мышления, очень важный для нее (неизменность предмета
изучения), устраняется. Намечается путь и к решению проблемы
релятивизма: речь уже не идет об одном предмете и разных результатах
его изучения в разных условиях, разных контекстах (об одном и
том же предмете много вариантов истинного знания). Так что если
сочетание классики и неклассики у Кнорр-Цетины и выглядит,
как правило, логически не очень последовательным, то ее взгляд
на процедуру экспериментирования и акт теоретического
исследования как целостного события позволяет отодвинуть проблему
субъект—объект на периферию и задуматься над тем, как вообще
из контекста актуализируется сама возможность занятий наукой,
которые предполагают наличие и предмета, и субъекта, и
социальных отношений, и лаборатории во всех ее вариантах, и многое
другое.
Л.А. Маркова
Физика мозга и мышление человека
Предпринята попытка философского взгляда на особенности
мышления Р. Пенроуза при формулировке им физических гипотез о путях
формирования новой фундаментальной квантовой теории, которая
смогла бы, по его замыслу, обнаружить физические законы, общие
для мозга и мышления. Анализ загадок и парадоксов квантовой
механики Пенроузом сближает ход его рассуждений с наиболее
существенными характеристиками мышления, которые обсуждаются
философами со второй половины XX в. К ним относятся:
преимущественное внимание к точкам, нарушающим эволюционное, линейное
развитие (революции, точки бифуркации, мутационные точки,
скачкообразный переход с квантового уровня на макроуровень);
выдвижение в связи с этим на передний план идей самодетерминации,
«выпадение» из линейного ряда развития, обоснование собственными
корнями; отсюда - движение в сторону плюрализма; важная роль таких
понятий, как контекст, жизненное пространство, мыслительное
пространство, окружение (у Пенроуза); изучаемое явление не может
рассматриваться вне контекста, элементарная частица - в изоляции от
II окружения.
1. Мозг и (или) социум как условие
рождения мысли (предварительные замечания)
Социум и мозг как два базовых условия формирования
сознания и мышления активно обсуждались в XX в. Действительно, с
одной стороны, человек существо социальное, а с другой —
нормальное функционирование мозга является обязательным
условием его мышления. Продумывалось значение каждого из этих
двух факторов, и, как правило, они рассматривались по
отдельности при молчаливом согласии участников споров и дискуссий в
том, что изучение социальных обстоятельств формирования
сознания и мышления можно понять, не обращаясь к физиологии
человека, а исследованию мозга ничуть не повредит отвлечение от
социальных проблем. Однако, во второй половине XX в.
становится все более очевидным, что оба базовых условия мышления
гораздо продуктивнее рассматривать, не изолируя их друготдру-
A.A. Маркова. Физика мозга и мышление человека
291
га. Такое убеждение складывается у исследователей не в
последнюю очередь под влиянием все растущей компьютеризации
нашей жизни. Неизбежно возникают вопросы такого рода: думают
ли компьютеры, и если да, то чем их мышление отличается от
нашего, в чем оно его превосходит, и есть ли в мышлении человека
такие особенности, которые недоступны искусственному
интеллекту. По замыслу, компьютерные программы должны в какой-то
мере воспроизвести работу мозга, а для этого требуется
тщательное его научное изучение.
Сами по себе исследования социальных условий
функционирования мышления, с одной стороны, и изучение функций
мозга - с другой тоже породили проблемы, заставившие ученых и
философов с большим вниманием отнестись к работам друг друга.
Хочется отметить следующий момент. Мышление человека
соотносится с физическим миром двумя способами. Во-первых, оно
ориентировано на внешний мир. В Новое время мышление как
познавательное (научное исследование — его предельная логическая
форма) основывается на субъект-предметном отношении, когда
предметный мир рассматривается как противостоящий субъекту,
независимый от него, как не-Я человека. Вектор взаимодействия
направлен от сознания, мысли человека (предполагается, что ими
человек уже обладает) к внешнему миру. Во-вторых, уже другим
способом, мышление связано с мозгом человека как физическим,
физиологическим образованием. Здесь вектор взаимодействия
имеет иное направление — от мозга к мысли. Ставится вопрос,
каким образом мозг, будучи физической структурой, оказывается
необходимой, обязательной основой рождения мысли. Особенно
трудным оказывается обоснование второго положения, так как
оно предполагает понимание рождения мысли из того, что мысли
противоположно, — из физических законов (в лучшем случае
физиологических), которым подчиняется мозг как физическая
структура. Мышление рассматривается на границе его бытия и
небытия. Этой проблеме много внимания уделяет в своих работах
известный английский математик Р. Пенроуз, не формулируя ее,
правда, в таком именно философском ракурсе. Для него важна
возможность «научить» компьютеры человеческому мышлению.
Его гипотезы получили широкий отклик как у физиков и
математиков, так и у философов. Ниже я остановлюсь специально на его
идеях, но сейчас некоторые предварительные замечания.
292
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
Никто не станет спорить с тем, что мозг как физическое
образование может быть подвергнут научному исследованию,
изучать научно можно все, что угодно. При этом очевидно, что при
самом тщательном изучении мозга как материального предмета
(например, под микроскопом, или с помощью самых
современных, точных измерительных инструментов) мы не сможем
увидеть, обнаружить в нем сознание или мысль. Получается, что
мысль рождается из того, что не содержит ее в каком бы то ни
было виде. Как происходит преодоление рубежа
физическое—духовное в мозге человека и действительно ли такой процесс имеет
место? Логика Нового времени приучила нас к тому, что мысль
рождается из мысли. Начала, в том числе рождение новой мысли,
логическому анализу не подвержены. Они есть сфера
психологии, социальных процессов, особенностей культуры того или
иного исторического периода и т.д. Это обстоятельство
усиливает позиции тех, кто отстаивает социальный подход к изучению
мышления, так как вроде бы именно в их компетенции
находится изучение зарождения мысли и сознания. Между тем именно
этот процесс по многим причинам становится одним из
центральных в философии XX в. Действительно, мы наблюдаем
возникновение мощного социологического направления в
изучении научного мышления (наиболее, казалось бы, далекого от
социального фона в любом его виде, по крайней мере, если
говорить о классической науке). Сейчас нет оснований
сколько-нибудь подробно останавливаться на результатах, к которым
привели эти социологические исследования. Однако хочу
напомнить, что жесткая граница между субъектом и предметом его
исследования оказалась не столь уж непреодолимой. В работах
философов конца XX в. предмет предстает как нагруженный
субъектными характеристиками, а субъект соответственно
опредмечивается. Появляются такие новые понятия, как
наблюдатель, возможный, виртуальный мир, бифуркация, точка
неразличимости, мыслительное поле и некоторые другие, которые
играют в философии большую роль и в то же время не
предполагают жесткого разделения между миром природы и миром
человека, это разделение становится несущественным,
маргинальным. В этом направлении намечаются пути исследования,
которые дают надежду понять по-новому ставшую вновь актуальной
проблему духовного и материального.
A.A. Маркова. Физика мозга и мышление человека
293
Однако при социальном подходе к изучению мышления,
социальном в том смысле, что определяющими в его формировании
являются социальные обстоятельства жизни человека, а не
физическое строение мозга, тоже возникает препятствие, аналогичное
тому, о котором говорилось выше о сторонниках первостепенного
значения работы мозга. В окружающей нас жизни, на любом ее
уровне мысль людей нам доступна только в некоторой
«материальной упаковке»1. Это могут быть произнесенные вслух слова
или слова написанные (на разных языках, разными шрифтами,
буквами разных размеров и т.д.), рисунки, графики, таблицы,
наконец, мысль, воплощенная в технических конструкциях,
произведениях искусства и т.п. Вся окружающая нас «искусственная»,
не природная действительность, созданная человеком, содержит
его мысль как результат мыслительной деятельности. Однако
научное изучение всех этих предметов как физических ни на уровне
классической, ни на уровне квантовой механики не позволит нам
увидеть в них мысль, которая их создала, точно так же, как в
структурах мозга, изучаемых физическими средствами, мы не
обнаружим мысли, порождаемой этим мозгом. И в том и в другом случае
речь идет или о соотношении духовного и материального, или о
мысли и «материальном оформлении» результатов ее
деятельности, или о материальной структуре мозга и мысли, которая
невозможна без нее. Переход от одного к другому одинаково труден.
О социальных обстоятельствах как физических объектах
пишет X. Патнэм, предлагая ряд мысленных экспериментов.
Муравей ползает по песку, и совершенно случайно оставляемый им
след образует карикатуру на Уинстона Черчилля. Однако нельзя
сказать, что получившаяся картинка действительно изображает
Черчилля. Муравей просто провел (непреднамеренно) линию,
которую мы можем рассматривать как изображение Черчилля.
Линия «сама по себе» не репрезентирует чего бы то ни было.
Сходства для этого недостаточно, и оно не является даже
необходимым. Напечатанные значки «Уинстон Черчилль» или произне-
1 Упомяну в связи с этим многочисленные работы Д.И. Дубровского, в которых
разрабатываются темы, близкие теме настоящей статьи. Особенно интересны
такие понятия, играющие большую роль в его концепции, как «кодовый способ
передачи информации» и «субъективная реальность», которые занимают важное
место в его книге «Сознание, мозг, искусственный интеллект» (М. : Стратегия,
2007) и в статье: Проблема «другого сознания» // Вопросы философии. 2008. № 1.
С. 19-28.
294
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
сенные вслух соответствующие слова используются для
репрезентации Черчилля, но не обладают сходством с Черчиллем того же
вида, что и рисунок. В основе рассуждений Патнэма л ежит тезис,
его убеждение в том, что никакая система репрезентаций, как
словесных, так и визуальных, не имеет внутренней, встроенной связи
с тем, что она представляет. Это справедливо как в том случае,
когда слова написаны или произнесены, а картинки являются
физическими изображениями, так и в том, когда репрезентации
воплощены лишь в сознании1.
Отметим то обстоятельство, что Патнэм говорит о таких
характеристиках репрезентаций, которые поддаются измерению и
воспроизведению в рамках науки, - линии, создающие рисунок или
изображающие буквы, звуки, воссоздающие написанное. При этом
он приходит к выводу, что в такого рода репрезентациях самих по
себе нельзя обнаружить мысли о предметах, о чем-то реально
существующем в мире. Внутренне они не представляют того, на что
указывают. Добавлю от себя, что они не представляют и автора этих
репрезентаций. Обезьяна, которая миллионы лет стучит по клавишам
пишущей машинки и которая в конце концов случайно «написала»
«Гамлета», получила совокупность знаков, не имеющих ничего
общего с великим произведением У. Шекспира.
В мою задачу не входит воспроизводить аргументацию
Патнэма в пользу того, что мышление тем не менее обладает свойством
референтности, что наши мысли определенным образом
соотносятся с внешним предметным миром, будь то мир природный или
социальный. Мне важно было показать, что для него такая
соотнесенность проблемна и требует обоснования2.
Для целей настоящей статьи можно предложить следующий ход
рассуждений. А что, если подойти к тексту «Гамлета» с точки зрения
его рождения, создания, начала, что означает и наличие автора.
Тогда и отношение к нему будет другое, предполагающее различие
между автором Шекспиром и «автором» обезьяной. В этом случае
исчезает сходство (о котором говорилось выше) в подходе к
социальным аспектам сознания, с одной стороны, и к мозгу как
материальному предмету научного исследования — с другой. И даже возникает
' См.: Патнэм X. Разум, истина и история. М. : Праксис, 2002. С. 15-16.
2 Достаточно подробно взгляды X. Патнэма на эту тему я рассматривала в
статье: Контекст и слово // Эпистемология и философия науки. 2007. Т. XIII, № 4.
С. 188-205.
A.A. Маркова. Физика мозга и мышление человека
295
следующий вопрос: а нельзя ли к мозгу тоже подойти с точки зрения
его формирования, начала? Забегая вперед, напомню, что Пенроуз
уделяет внимание эволюционному процессу и естественному отбору
как тем факторам, которые способствовали появлению
человеческого мозга. Но это не совсем то, о чем мне хотелось бы сказать. Идея
эволюции отодвигает начало процесса в бесконечно далекое
прошлое (куда-то к нервной системе червя или еще дальше).
Разумеется, такое исследование нам многое может дать в смысле пополнения
наших знаний, но не поможет выяснить роль социальных
обстоятельств в формировании мышления. Как объяснить, например, что
ребенок, выросший волею судьбы среди животных, оказывается
неспособным овладеть человеческой речью и многими навыками
человеческого поведения в повседневной жизни, даже если и попадает
в конце концов в человеческое общество? Похоже, что мозг у него
развивался (с точки зрения физического строения!) не так, как у
детей, не лишенных социальной среды. Мозг ребенка, конечно,
отличается от мозга взрослого человека по своим возможностям и
характеристикам. Где-то в самом начале формирования и человеческой
личности, и мозга в его физических характеристиках нет жесткого
разделения социального и физического. При этом нельзя сказать,
что основанием мышления является физическая структура мозга,
или, наоборот, социальные обстоятельства, или то и другое в равной
мере, поскольку ни того ни другого для человеческого существа еще
нет, все только в возможности.
Примерно такой же ход рассуждения справедлив и при
рассмотрении возникновения новой мысли в голове взрослого
человека. Сошлюсь на уже упоминавшиеся выше итоги изучения
научного мышления философами и социологами науки в XX в. Там
исследователи приходят к выводам об исчезновении жесткой
границы между предметным миром природы, знанием об этом мире,
с одной стороны, и социальными обстоятельствами получения
знания — с другой. Нет ли такой же возможности понимания
соотношения социального и физического в случае рассматриваемой
нами проблемы о порождении мысли мозгом как физическим
образованием? Нельзя ли предположить, что особенности
деятельности мозга как физической структуры зависят и от социальных
функций, которые он выполняет? На эти и другие вопросы может
помочь получить ответы знакомство с идеями Пенроуза,
изложенные им наиболее полно в книге «Тени разума».
296
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
2.0 возможностях науки познать мышление. Р. Пенроуз
Пенроуз почти не касается философской стороны вопроса.
Его внимание приковано прежде всего к мозгу как к
материальному образованию, формировавшемуся на протяжении многих
миллионов лет в результате естественного отбора. Можно ли, задается
вопросом Пенроуз, изучая мозг научными методами, понять, что
такое мышление, смоделировать его и на этой базе создать
искусственный интеллект, равноценный человеческому? Разумеется,
задумываясь над такими проблемами, Пенроуз не может избежать
философских размышлений, которые сами по себе интересны. Но
с философской точки зрения особенно важны, на мой взгляд, те
научные гипотезы, которые он выдвигает. По его мнению, чтобы
понять с позиций естествознания мышление как порождаемое
мозгом, современная наука должна пройти определенный путь в
своем дальнейшем развитии. В настоящее время, полагает
Пенроуз, наука не схватывает, не может объяснить весьма существенных
моментов мышления, которые не поддаются вычислению и не
могут быть выражены цифрами, линиями и другими
математическими средствами. Я ни в коей мере не берусь судить о физической
значимости выдвигаемых Пенроузом гипотез, но знаю, что их
подвергают критике многие специалисты1. Мне важен сам факт,
что математик с мировым именем выдвигает идеи, созвучные с
некоторыми очень существенными тенденциями в развитии
современной философии. Именно на этом обстоятельстве я и
сосредоточу свое внимание.
Сначала о некоторых исходных тезисах, на которые Пенроуз
опирается, формулируя интересующие его вопросы.
Анализируя возможности компьютеров, Пенроуз стремится
выяснить, чего же они не могут в сравнении с человеком. Не один
лишь Пенроуз приходит к необходимости не только понять
человеческий мозг как базу, условие мышления, но и само мышление
сделать предметом изучения, как то, что подлежит детерминации,
что должно быть обусловлено. Наука создает компьютеры, наука
хочет понять, что представляет собой мышление, анализируемое с
ее позиций. Надо знать, чему должен соответствовать, что должен
1 Такая критика, в частности, предлагается в книге: Хокинг С, Пенроуз Р., Ши-
мониА., Картрайт Н. Большое, малое и человеческий разум. СПб. : Амфора, 2008.
A.A. Маркова. Физика мозга и мышление человека
297
воспроизводить искусственный интеллект, воплощенный в
машине. Компьютеризация породила новое направление в изучении
мышления - когнитивные науки1.
Современные компьютеры, безусловно, превосходят
человека, его мышление, по части вычислительных способностей,
скорости и точности работы, объема памяти. При этом у Пенроуза
возникает вопрос, не может ли наш мозг выполнять какие-то
действия, которые вообще невозможно описать, через вычисление.
Обладает ли наука достаточной компетентностью для того, чтобы
рассматривать вопросы, относящиеся к сознанию человека? Под
вычислением, если в двух словах, говорит Пенроуз, он понимает все
то, что делает обычный компьютер. В идеализированном смысле
вычисление — это действие машины Тьюринга, которая и есть
«математически идеализированный компьютер (теоретический
предшественник современного универсального компьютера);
идеализирован же он в том смысле, что никогда не ошибается, может
работать сколько угодно долго и обладает неограниченным объемом
памяти»2.
Пенроуз ставит перед собой две задачи: во-первых, найти
примеры мыслительной деятельности, не поддающиеся никакому
вычислению, и, во-вторых, понять, как подобная деятельность может
оказаться результатом тех или иных физических процессов. При
этом его прежде всего интересуют не темпы технического
развития (как бы велики они ни были), а некоторые фундаментальные и
принципиальные ограничения, которым достижения техники
неминуемо оказываются подвержены. И эти ограничения останутся в
силе независимо от того, насколько далеко вперед мы будем
смотреть. Пенроуз подмечает такую удивительную особенность
компьютеров: главную неудачу современный искусственный интеллект
терпит не в тех областях, где человеческий разум демонстрирует
поистине впечатляющие результаты своей мощи, а в вещах вполне
обыденных. Так, пока что ни один робот не может соперничать
даже с малым ребенком в таком, например, простейшем деле, как
сообразить, что для завершения рисунка необходим цветной
карандаш, который валяется на полу в противоположном конце
1 Недавно вышло серьезное исследование, где коллективом авторов ставится
задача философского осмысления целей и задач когнитивных наук. См.:
Когнитивный подход ; отв. ред. B.A. Лекторский. М. : Канон +, 2008.
2 Пенроуз Р. Тени разума. В поисках науки о сознании. М. ; Ижевск, 2005. С. 43.
298
Ч асть III. Неклассика в научном теоретизировании
комнаты, после чего подойти к нему, взять и использовать по
назначению. Пенроуз рассуждает следующим образом:
«Современный компьютер легко справится с любой сложной
деятельностью - будь то математические вычисления, игра в шахматы или
выполнение какой-либо работы по дому, но лишь при условии, что
эту деятельность можно описать в виде набора четких
вычислительных правил; а вот собственно понимание, лежащее в основе
этих самых вычислительных правил, оказывается феноменом, для
вычисления недоступным»1. Пенроуз полагает, что в нашем
мышлении содержится невычислительная составляющая, и
обосновывает это свое убеждение теоремой К. Гёделя. Опираясь на эту
теорему, он пытается показать, что человеческое понимание нельзя
свести к алгоритмическим процессам. Пенроуз рассматривает
вопрос сознания в математическом контексте, поскольку только в
математических рамках, полагает он, мы можем рассчитывать на
хоть сколько-нибудь строгую демонстрацию непременной
невычислимости по крайней мере некоторой части сознательной
деятельности.
Теорема Гёделя, пишет Пенроуз, признана как
фундаментальный вклад в основы математики. Кроме того, по его мнению,
Гёдель своей теоремой также положил начало важнейшему этапу
развития философии разума. Среди прочих Гёдель доказал
следующее положение: «Нельзя создать такую формальную систему
логически обоснованных математических правил доказательства,
которой было бы достаточно, хотя бы в принципе, для
доказательства всех истинных теорем элементарной арифметики»2. Но это
еще не все, продолжает Пенроуз. Результаты Гёделя
демонстрируют нечто большее, а именно они доказывают, что способность
человека к пониманию и постижению сути вещей невозможно
свести к какому бы то ни было набору вычислительных правил. То,
что человек постигает с помощью интуиции и своих умственных
способностей без труда, не поддается математической обработке.
Если вычислительными научными средствами, которые так
хорошо нам служат при познании физического мира, нельзя
познать человеческое мышление, можно ли из этого заключить,
задается вопросом Пенроуз, что интеллект представляет собой не-
1 Пенроуз Р. Указ. соч. С. 88.
2 Там же. С. 112.
A.A. Маркова. Физика мозга и мышление человека
299
что отдельное от физического тела. Если это так, то почему
нашему разуму столь необходимы наши физические мозги? Очевидно,
полагает Пенроуз, что нельзя совершенно разделять интеллект и
мозг как физический объект. Поэтому научные законы, столь
точно описывающие поведение физических объектов, должны нам
помочь и при описании свойств интеллекта. Однако на
современном этапе развития науки невозможно обнаружить с помощью
физических законов подлинную невычислимость. Необходимо в
самих законах отыскать слабые места, которые обнаруживаются,
по мнению Пенроуза, в процедуре так называемого квантового
измерения, которая обладает случайным характером. Процедура
измерения нуждается в кардинальном пересмотре, при этом не
исключено, что придется подвергнуть существенным изменениям
и самые основы теоретической физики. Чистую случайность
существующей теории измерения необходимо заменить чем-то
таким, где определяющую роль будут играть существенно
невычислимые элементы.
Рассмотрим одно из таких часто употребляемых Пенроузом
понятий, как окружение. Оно используется им в достаточно ради-
кальныхддя выдвигаемых гипотез ситуациях, в том числе при
анализе процедуры измерения. Идея Пенроуза состоит в том, что
квантовая система и измерительное устройство (вместе с
занимаемым ими окружением) - все три — эволюционируют вместе и
ведут себя так, будто всякий раз, когда эффекты измерения
оказываются нерасторжимо сцеплены с этим самым окружением,
происходит редукция вектора состояния (Пенроуз обозначает этот акт
редукции R). Изначально квантовая система считается
изолированной от окружения, однако в момент измерения в
измерительном устройстве возникают макроскопические эффекты, которые
вскоре приводят к возникновению сцепленностей с элементами
окружения. Окружение состоит из множества случайным образом
движущихся частиц, и наверняка детальная и точная
информация относительно того, какому именно возмущению подверглись
эти частицы, будет безвозвратно потеряна для физика.
Предполагается, что с процедурой R связана неопределенность,
возникающая лишь в процессе перехода с квантового уровня на
классический только тогда, когда квантовое событие оказывается
сцепленным с достаточным объемом окружения. Часто доминантным
эффектом оказывается именно это возмущение, а вовсе не макро-
300
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
скопическое движение массивных объектов. На масштабы вполне
макроскопические имеет смысл обратить внимание, когда в
квантовом состоянии оказываются сцепленными довольно большие
объемы вещества. Такого рода редукцию Пенроуз называет
объективной (OR).
Не вдаваясь в детали позиции Пенроуза в истолковании
процедуры измерения в квантовой механике, обратим внимание на
факт использования им понятия «окружение». Оно оказывается
для него существенно необходимым. Переход с квантового уровня
на классический, являющийся, можно сказать, центральным
событием процедуры измерения, напрямую зависит от состояния
окружения. Мы вынуждены рассматривать не просто квантовые
свойства отдельных частиц, но эффекты квантовых систем,
сохраняющих свою явно квантовую природу на макроскопическом
уровне.
Другая проблема квантовой механики, привлекшая к себе
специальное внимание Пенроуза, это сцепленные состояния,
характерной особенностью которых является то, что «скачок»,
сопровождающий процедуру R, может в данном случае иметь на
первый взгляд нелокальное действие. Такая нелокальность, в
частности, имеет место в так называемых ЭПР-эффектах (или
феноменах Эйнштейна-Подольского-Розена). Эти эффекты
Пенроуз называет подлинными квантовыми чудесами, которые
можно отнести к наиболее непостижимым загадкам квантовой
теории. Впервые идею подобного парадокса выдвинул Эйнштейн,
желая показать, что формализм квантовой теории не в состоянии
дать исчерпывающее описание Вселенной. Было предложено
множество вариантов ЭПР-феноменов, причем ряд из них
получил прямое экспериментальное подтверждение, т.е. ЭПР-фено-
мены оказались неотъемлемой частью действительного
устройства мира, в котором мы живем. Квантовая сцепленность — это
загадочный феномен, пишет Пенроуз, не имеющий классического
аналога. Это не просто досадная морока, не позволяющая нам не
задумываясь игнорировать вероятностные эффекты внешнего
окружения на физическую ситуацию. Когда его влияние удается
обособить, возникает феномен, точно описываемый
математически.
Квантовая сцепленность не ослабевает с увеличением
расстояния между объектами (в отличие, скажем, от гравитационно-
A.A. Маркова. Физика мозга и мышление человека
301
го или электрического притяжения). Эйнштейна это свойство
сцепленности крайне нервировало, он называл его «жутковатым
действием на расстоянии». Свойство сцепленности не знает ни
разделенности в пространстве, ни последовательности во
времени. Сцепленность эту может разрушить только процедура R.
Однако реальна ли она, эта процедура, задается вопросом Пенроуз.
Если не реальна, то сцепленность никуда не исчезает и
сохраняется вечно. Означает ли это, что все во Вселенной сцеплено со всем?
Действительно ли R в том или ином смысле разрушает квантовые
сцепления? Процедура R несовместима с унитарной эволюцией
(U), которая задается уравнением Шрёдингера и обладает таким
фундаментальным свойством, как линейность. При увеличении
масштаба какой-либо характерной величины происходит
изменение правил. В теории увеличение масштабов соответствует
переходу от квантового уровня к классическому. При таком переходе
мелкомасштабное, квантовое событие срабатывает в качестве
устройства, «запускающего» значительно более крупное событие
(которое только и может наблюдаться на классическом уровне).
Обычно этот переход в квантовой механике называют коллапсом
волновых функций или редукцией вектора состояний (процедура R в
обозначении Пенроуза). Пенроуз говорит о возможности
сравнения этой процедуры с распадом нестабильной частицы или ядра
атома и считает, что ответы именно на эти вопросы могут сделать
успешными поиски места невычислимости в физических
процессах. Не вдаваясь в аргументацию Пенроуза, отметим лишь
положительный ответ на поставленный вопрос о реальности
процедуры R: процедура R, по его мнению, действительно реальна. Более
того, именно эта процедура может претендовать на то, чтобы стать
основой новой фундаментальной теории.
Новая физическая теория, на необходимость которой часто
упоминает Пенроуз, должна иметь самое непосредственное
отношение к функционированию мозга. В этой области за последнее
время были совершены действительно фундаментальные
открытия, связанные с цитоскелетной подструктурой нейронов. Эти
открытия делают гораздо более правдоподобными предположения,
что существенные для функционирования мозга процессы
происходят на границе между квантовыми и классическими
феноменами. Пенроуз убежден, что в конечном счете именно физические
процессы обусловливают осознание и понимание. Наш интеллект
302
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
не представляет собой, пишет Пенроуз, нечто отдельное от
физического тела, и ему необходим физический мозг. Ведь очевидно,
что изменение физического состояния мозга влечет за собой
изменение разума. Об этом свидетельствует воздействие на мозг
наркотиков, разного рода повреждений, заболеваний,
хирургического вмешательства. Получается, что нельзя совершенно
разделять интеллект и соответствующий физический объект, поэтому
законы, описывающие поведение физических объектов, должны
сыграть свою роль при описании свойств мышления.
Пенроуз не согласен с мнением, что процедура R описывает
реальный физический мир в тех случаях, когда в процесс
вовлекается сознание. Согласно этой точке зрения, сознательное
существо каким-то образом приобретает способность оказывать
«воздействие» на тот выбор, который природа делает в этот момент, что
сознательный волевой акт способен воздействовать на результат
квантово-механического эксперимента. Пенроуз не считает
возможным настаивать на том, что процедура R непременно требует
активного участия «свободной сознательной воли». Он глубоко
убежден, что сознание само по себе не способно разрешить
внутренние физические конфликты квантовой теории. Следует
обратиться, полагает он, к проблеме квантового измерения и решить ее
прежде, чем можно будет ожидать какого-либо реального
прогресса в объяснении сознания в терминах физических процессов,
причем решать эту проблему нужно исключительно физическими
средствами.
Пенроуз задается вопросом, почему столь многие качества
разума так тесно связаны со свойствами физического мозга? И
можно ли при этом утверждать, что разум есть нечто внешнее по
отношению к физическому телу? Его собственная позиция состоит в
том, что для отыскания ответа на подобные вопросы необходимо
более тщательно исследовать «материальные» структуры,
составляющие мозг, с точки зрения того, что они представляют собой на
квантовом уровне. Необходимо изучать не просто квантовые
свойства отдельных частиц, но эффекты квантовых систем,
сохраняющих свою явно квантовую природу на макроскопическом
уровне. Если в системе отсутствует макроскопическая квантовая
когерентность, то неоткуда взяться и таким эффектам на
квантовом уровне, как, скажем, нелокальность и квантовый
параллелизм (несколько одновременных действий в суперпозиции). Без
A.A. Маркова. Физика мозга и мышление человека
303
экранирования квантового состояния от окружения такие
эффекты мгновенно затеряются в присущей этому окружению
хаотичности, выражающейся в нашем случае в беспорядочном
движении молекул биологических веществ и жидкостей, составляющих
основную массу мозга. Квантовая когерентность возникает при
условиях, позволяющих большому числу частиц образовывать
совместно единое квантовое состояние, практически не сцепленное
с окружением.
Пенроуз считает очень важным для понимания процессов,
происходящих в мозге, наличие там цитоскелетных структур,
снабженных пустыми трубками. Возможно, полагает он, сами
трубки обеспечивают эффективную изоляцию, позволяющую
квантовому состоянию внутри трубки избегать сцепления с
окружением в течение достаточно продолжительного времени. Это
дает нам право предположить, что для возникновения сознания
важен не сам цитоскелет как таковой, но некоторая физическая
активность, которая имеет место на границе между квантовым и
классическим уровнями. Эта активность осуществляет
фундаментальное воздействие на поведение мозга посредством цитоскелет-
ного управления интенсивностью синаптических связей. Но
представляемые Пенроузом аргументы предполагают, по его
мнению, не только макроскопическую квантовую когерентность.
Они предполагают, что человеческий мозг как биологическая
система каким-то образом ухитрился воспользоваться в своих
интересах физическими феноменами, пока неизвестными физике.
Эти феномены, надеется Пенроуз, когда-нибудь опишет
несуществующая пока теория OR, которая свяжет классический и
квантовый уровни чрезвычайно тонкой и невычислимой (но все же,
несомненно, математической) физической схемой.
3. Идеи Пенроуза и современная философия.
О возможности их соотнесения
Физические гипотезы Пенроуза представляют несомненный
интерес для философа именно с точки зрения их философского
смысла. При этом наибольшее значение, как мне представляется,
имеют не собственные философские рассуждения Пенроуза, при
всем уважении к мнению в любой области знания такого крупного
естествоиспытателя, а логика его собственного мышления при об-
304
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
суждении чисто физических и математических проблем.
Выявление этой логики чрезвычайно упрощается благодаря стилю
изложения автором сложных научных вопросов, предполагающему
уважительное, доброжелательное отношение к читателям, в том
числе к тем, кто не обладает профессиональными знаниями в
области физико-математических наук.
Одно из центральных мест в рассуждениях Пенроуза о путях
дальнейшего развития квантовой механики занимает проблема
линейного развития в соответствии с уравнением Шрёдингера и
нарушение этой линейности в результате перехода в процессе
изменения с квантового уровня на классический, перехода, который
в квантовой механике, как указывалось выше, называют
коллапсом волновых функций или редукцией вектора состояний. Анализ
этой процедуры занимает у Пенроуза много места, и им даже
предполагается, что она будет основанием новой физической
теории. Такое переключение внимания с линейного развития на
точки, прерывающие его, характерно для философии XX в., особенно
для философии науки и ее истории. Начиная с середины XX в. у
философов вызывают интерес именно моменты, в которых
непрерывное, дедуктивное развитие научных идей (воспроизводящее
причинно-следственные отношения в мире природы) нарушается
революционными событиями. Результат революции (новое
знание в науке) возникает как бы на базе своих собственных
оснований, а не из прошлого состояния вещей также, как и коллапс
волновых функций не порождается процессами, протекающими на
квантовом уровне в соответствии с уравнением Шрёдингера.
Чтобы он произошел, необходимо нечто внешнее, окружение, не
являющееся составной частью линейного процесса. Отсюда путь к
плюрализму: каждый феномен как предмет философского
рассмотрения индивидуален и особен, так как имеет свои
собственные корни, которыми он определяется, самодетерминируется.
Неизбежен при этом интерес к началу - началу новой теории,
нового пути развития после коллапса волновой функции, началу
нашей Вселенной, рождению организма с новыми свойствами в
результате мутационных изменений в генах (при этом нарушается
линейный, эволюционный процесс), к точкам бифуркации, в
которых осуществляется случайный выбор дальнейшего пути
развития системы, и т.д. Все эти случаи и многие другие объединяет
одна очень важная трудность: как объяснить логически эти переходы
A.A. Маркова. Физика мозга и мышление человека
305
от начала (где еще нет того, что рождается) к результату (логика
которого не объясняет нам его получение). Эту логическую
трудность испытывает и Пенроуз, когда говорит о создании новой
фундаментальной физической теории, а значит, и новой логики.
Попытки продвижения в этом направлении сопровождаются
осознанием необходимости понять, из чего же (если не из
прошлого) рождается новое? Из чего рождается новое знание, если не
из старого? Новые свойства организма, если они не содержались
в родительских особях? Новые классические характеристики
развития, если их не было в системе до коллапса волновой
функции?
Отсюда появление у Пенроуза понятия окружения и столь
частое его использование. В других дисциплинах и разных
философских системах существуют его эквиваленты: жизненное
пространство, виртуальный мир, хаос, космос, контекст, мыслительное
пространство - такие понятия, которые фиксируют
сосуществующие с тем или иным событием обстоятельства, а не
предшествовавшие ему. Доминирующим становится понятие пространства.
Трудность, однако, в том, что составляющие этих понятий, как
правило, не имеют ничего общего с тем, условием возникновения
чего они являются. Линейно развивающиеся квантовые
состояния - это не классические объекты; культурные, экономические,
социальные отношения (в том числе внутри научного
сообщества), а также многое другое - не научное знание; многочисленные
случайные воздействия на растение (погодного характера, как
результаты действий человека или любого другого рода) не содержат
измененных свойств наследственного характера и т.д. Тем не
менее все эти обстоятельства порождают нечто, на них совершенно
не похожее. Каким образом происходит такой скачок?
Французский философ Ж. Делёз одним из парадоксов своей философии
смысла считает именно этот акт. К перечисленным выше
вариантам рождения нового добавим еще один, наиболее существенный
для настоящей статьи: какими путями рождается мысль из мозга,
несмотря на невозможность обнаружить ее в его материальных
структурах?
Анализируя эту проблему, Пенроуз ставит вопрос несколько
иначе: можно ли считать мозг и мысль настолько отличными друг
от друга, чтобы любое, сколь угодно тщательное изучение
физических процессов в мозге не дало нам в результате понимания чело-
306
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
веческого разума? Заметим, изучение физических процессов
позволит понять, что такое мысль. Действие вновь открытых законов
физики можно будет распространить на функционирование
мысли. Другими словами, Пенроуз надеется на базе новой
физической квантовой теории обнаружить сходство мысли и мозга,
опираясь на которое, окажется возможным открыть законы, общие
для них обоих. Пенроузу вообще свойственно стремиться к
обобщениям: он и на будущую физическую теорию смотрит как на
открывающую законы, одинаково справедливые и для классики,
и для неклассики. Я не могу в силу своей некомпетентности
судить о том, насколько перспективно для физиков работать в этом
направлении. Но я могу высказать свое мнение о совместимости
такой задачи с обозначенной выше тенденцией в философии
рассматривать события с точки зрения их обусловленности
собственными началами, обеспечивающими их особенность,
индивидуальность и непохожесть на другие события. При этом каждая
действительно фундаментальная научная теория или философская
система, обладая собственной логикой, формирует свой взгляд на
мир как целое и нет необходимости (да и возможности)
объединять системы и теории для получения общего представления о
Вселенной. Разумеется, неизбежно встает вопрос об их соотношении,
но оно рассматривается не как основанное на общих, одинаковых
для них характеристиках, а как сохраняющее их
индивидуальность, не как обобщение, а как общение. Поэтому в философии
XX в. появляются и начинают играть важную роль понятия типа:
диалог, интерсубъективность, коммуникативность. Здесь нужна
принципиально другая логика, разработка основ которой — одно
из главных достижений философии XX в. Безусловно, Пенроуз
прав, два мира — мир физической структуры мозга и мир духовной
составляющей человеческого бытия — требуют понимания в их
соотнесенности друг с другом. Но едва ли плодотворным, с точки
зрения философии, будет такое направление исследований, когда
усилия направлены на поиски некоторого общего начала того и
другого, в том числе на базе законов новой физической теории.
Позволю себе напомнить некоторые общеизвестные факты.
Наличие здорового, полноценного мозга еще не создает условий
для развития у ребенка человеческого мышления и основанного
на нем соответствующего поведения. Об этом свидетельствует
феномен Маугли и многие реальные ситуации, о которых сообща-
A.A. Маркова. Физика мозга и мышление человека
307
лось в печати, когда ребенок волею случая попадал почти с
рождения к животным и рос среди них. И наоборот, самые
благоприятные социальные, семейные условия, медицинское обслуживание
не дают желаемых результатов при серьезных поражениях мозга
(например, болезнь Дауна). Не следует ли из этого, что даже очень
продвинутые знания о структуре мозга, даже способность
вылечивать его от самых серьезных заболеваний и травм, не дают
гарантий для формирования подлинно человеческого мышления?
Кроме этого, необходима еще соответствующая социальная среда.
Серьезная, действительно трудно разрешимая проблема состоит в
том, как понять взаимодействие этих двух составляющих его
мышления, в равной степени необходимых человеку.
В акте мышления присутствуют обе эти составляющие.
Какими способами осуществляется их взаимодействие? Как у человека
рождается мысль, с одной стороны, на базе физических структур
мозга, в которых, самих по себе, как физических структурах
мысли не прочтешь, а с другой стороны, на базе овеществленных
результатов мысли в форме линий, окружностей, рисунков, звуков,
цветных пятен и т.д., которые, на что обратил специальное
внимание, в частности, Патнэм, бывает невозможно отличить от текста,
случайно напечатанного на машинке обезьяной, или от обычной
чернильной кляксы. Мысль рождается из того, что мыслью, в
буквальном смысле этого слова, не является как в окружающем
человека социуме, так и в физических структурах мозга.
В XX в. философия науки (а ведь именно наука послужила
феноменологическим основанием философии Нового времени),
исходя из тезиса о познавательном, субъект-предметном характере
мышления, довела до определенного логического предела две
тенденции его анализа. С одной стороны, субъект был максимально
устранен из результатов исследования вместе с процессом
получения этого результата (логический позитивизм - кульминация
такого подхода), а с другой — предмет исследования был
максимально исключен из получаемого в науке результата вместе с логикой
этого результата (социология науки, заявившая претензии на
решение философских проблем). В обоих случаях исследования
зашли в логический тупик, естествознание растворилось или в
математической логике, лишившись не только субъекта, но и предмета
исследования, или в социальном контексте, оказавшись не только
без предмета, но и без субъекта как ученого. Соотношение мате-
308
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
риальной предметности в форме физической структуры мозга и
мышления выражается направленностью их взаимодействия от
мозга к мышлению. Как отмечалось выше, такая тенденция в
исследовании мышления была в значительной степени обусловлена
развитием компьютерной техники. Неизбежно вставал вопрос,
какие свойства мозга необходимо (и возможно ли это)
воспроизвести в компьютере, чтобы его мышление максимально
приблизилось и, может быть, превзошло человеческое.
Один из выводов философии Патнэма демонстрирует
невозможность воспроизведения полноценного человеческого
мышления одними лишь техническими средствами. Пенроуз надеется с
помощью будущей квантовой механики научно понять
мышление, признавая при этом, что для современных компьютеров,
воспроизводящих лишь вычислимые процедуры мышления, наиболее
существенные, творческие процессы недоступны. Но возникает
вопрос: только ли несовершенство квантовой механики является
препятствием для моделирования полноценного человеческого
мышления? Нельзя ли воспользоваться для его понимания
логическими средствами, которые вырисовываются в мышлении
самого Пенроуза, при анализе им сугубо научных проблем? Прежде
всего я имею в виду уже обозначенные выше такие идеи, как
самодетерминация процесса в точке коллапса волновой функции,
скачкообразный переход к макропроцессам в среде, где
макроявления отсутствовали, необходимость учета окружения для
понимания поведения микрочастицы. Можно сформулировать и
главную, на мой взгляд, проблему рассматриваемой темы: как
происходит рождение мышления из того, что мышлением не является?
Идея начала играет здесь решающую роль. Действительно, как
возникает мысль, где можно обнаружить ее начало, если мысли
нет в ее содержательных, логических аспектах (а без них - какая
же это мысль?) в физической структуре мозга даже при самом
тщательном ее научном изучении? Если мысли нет и в
овеществленных ее вариантах (линии, звуки, рисунки)? Начало мысли
принадлежит и той сфере, где ее еще нет (иначе, какое же это начало?), и
той, где она уже функционирует как таковая (иначе нельзя
сказать, что она возникла). У родившегося ребенка появляется
возможность мысли из окружения, жизненного пространства,
контекста, где этой мысли нет. Нет еще и разделения на
материальность физических структур мозга и духовность овеществленной
A.A. Маркова. Физика мозга и мышление человека
309
мысли. Ребенок ориентирует свою мысль на грани ее бытия и
небытия в соответствии с возможностями своего мозга и
особенностями жизненного пространства. Если жизненное пространство
социальное, а мозг находится в нормальном физическом
состоянии, формируется человеческое сознание и мышление, о которых
можно говорить как зависящих от социума и мозга.
Рождение мысли у взрослого человека происходит таким же
путем. Если мысль действительно новая, она не выводится из уже
существующего знания, которое отодвигается на второй план. На
первом месте — граница мысли и немысли. Жизненное
пространство, контекст, мыслительное пространство создают возможность
рождения мысли у человека как наличием мозга как физической
структуры, так и тех или иных социальных обстоятельств, не
имеющих, однако, прямого отношения к содержанию и структуре
возникающей мысли. На эти темы глубоко и тонко рассуждал
М.К. Мамардашвили1, которого очень занимала проблема
ненауки как нелогики, он писал о некой внелогической базе, обладающей
квазифизическим у независимым и первичным характером к
постоянно присоединяемой в познании к логике и к осознаваемым
содержаниям и наблюдениям. Новое научное знание — в пустоте
относительно временного ряда, оно формируется в своей ближайшей
окрестности, не имея в виду ничего последующего, не являясь к
нему ступенькой, не находясь от него в зависимости. В то же время
оно в каждый данный момент понимается, мгновенно вписываясь
в существующий мир знания и теорий, независимо от степени
распространения среди ученых и его ими понимания, от логического и
экспериментального обоснования. Случившись, оно понимается, и
между этими двумя событиями нет интервала. Новообразование в
науке обладает существованием, реальностью мыслительного поля.
Действительно, продолжает рассуждать Мамардашвили, любое
научное понятие — треугольник, функция, дифференциал и т.п.,
одно-единственно, оно есть единичный акт и не размножается от
того, что мыслится во множестве голов. Познавательные акты,
выдающие новое знание, невыводимы никакими внутренними
средствами теории, в рамках которой ведется исследование. Они
непредсказуемы, они случаются как свободные действия.
1 См.: Мамардашвили М.К. Стрела познания. Набросок
естественно-исторической гносеологии. М. : Языки русской культуры, 1996.
310
Часть III. Неклассика в научном теоретизировании
Ж. Делёз, воспроизводя с сочувствием и пониманием мысли
М. Пруста1, пишет о сущности, которая выше мысли, поскольку
вынуждает нас мыслить. Метод в мышлении - это ничто по
сравнению с тем, что заставляет мыслить и что само не является
мыслью. Не будет преувеличением сказать, что книга Делёза «Логика
смысла»2 представляет собой логическое, философское
понимание тех мыслительных процессов, о которых говорилось выше как
о трудно поддающихся научной интерпретации.
Можно констатировать, что в трудах философов XX в. явно
присутствует определенное понимание «невычислимых»
процедур мышления. Но поможет ли оно сконструировать новые
компьютеры с заложенными в них соответствующими
способностями — сомнительно. Хотя научное теоретическое знание последних
десятилетий в связи с все более явным интересом ученых к началу
формирования процессов, которые они изучают, в значительной
мере философизируется, сближается с философией. Возможно,
это скажется на формировании новой науки, о которой пишет
Пенроуз. Время покажет, повлияет ли такое направление
развития квантовой механики на ее способности создать
соответствующие компьютерные программы.
См.: Делёз Ж. Марсель Пруст и знаки. СПб. : Алетейя, 1999.
ДелёзЖ. Логика смысла. М. : Раритет, 1998.
Чаешь IV
Смысл и контекст
в постаналитической философии
A3. Черняк
Эпистемическое измерение смысла
«Как слова обозначают вещи?» - один из главных вопросов философии
языка. Даже если у слова есть четкое словарное или конвенциональное
значение, связывающее его с конкретными объектами в качестве их
имени, использование этого слова в коммуникации может демонстрировать
серьезную изменчивость его значений и чувствительность к различным
обстоятельствам использования, среди которых не последнюю роль
играют мысли и представления участников коммуникации. Представления
людей об объектах их высказываний могут играть разные роли в консти-
туировании отношений обозначения. В одних случаях слово может
полностью изменить свое значение в конкретном использовании со
словарного на интенциональное. В других случаях субъект может не знать,
например, что два выражения, которыми он пользуется, являются именами
одного и того же объекта в данном языке, и вследствие этого приписывать
им разные значения. Такие зависимости значений языковых выражений
от когнитивных различий между пользователями данного языка
благодаря Г. Фреге принято объяснять с помощью понятия смысла. Но что
представляет собой этот смысл, какие именно когнитивные характеристики
индивидов его определяют? Как он детерминирует референцию
термина, т.е. что обозначает данное выражение? Самое известное объяснение
этого феномена - теория дескрипций — сталкивается с серьезными
трудностями. Критика этой теории и ее модификаций породила предложение
трактовать смысл как совокупность представлений о возможных
значениях выражения в его различных использованиях. Но возможности
по-разному могут отображаться на значения — экстенсионалы — выражений. Эта
неоднозначность нашла выражение в подходе, получившем название
двухмерной семантики. Теории этого вида выделяют два измерения
смысла или два вида интенсионалов. Ниже анализируется двухмерная
семантика Д. Чалмерса, претендующая на исчерпывающее объяснение
смысла. Показано, что если нормальный пользователь языка должен
руководствоваться смыслом в своем употреблении выражений этого языка,
то аналогия между смыслом выражений естественных языков и
рассматриваемой семантической моделью слишком слабая.
1. Смысл и интенсионал
Многие аспекты значения языковых выражений принято
объяснять с помощью понятия смысла, введенного в философию
314
Часть IV. Смысл и контекст в постаналитической философии
языка Г. Фреге1. Так, мысль, что Гесперус есть Гесперус, есть
мысль о тех же объектах, что и мысль «Гесперус есть Фосфорус»,
но первая тривиальна, а вторая содержательна; следовательно,
различие в значениях этих мыслей и соответствующих
предложений не может быть объяснено только указанием на объекты
(денотаты), которые обозначают два этих греческих имени Венеры. Их
содержания различаются когнитивной ценностью —
информацией, которую они могут сообщать о своих денотатах или, иначе,
способом представления денотата. Эти аспекты содержания
Фреге назвал смыслом.
Помимо когнитивной функции смысл в теории Фреге
выполняет еще и конститутивную функцию - обусловливает значение
(денотат). Эта роль смысла позже была оспорена; так, каузальные
теории референции отстаивают идею, что значения некоторых
видов терминов (прежде всего имен) задаются не их смыслами, а
связями с объектами, которые они обозначают,
устанавливаемыми в определенных обстоятельствах. То же самое относится к
истинностным значениям предложений (аналог денотата для
выражений этого типа). Согласно теориям С. Крипке, К. Доннелана,
X. Патнэма и др., имена и некоторые другие виды языковых
вырождений по своей природе суть жесткие десигнаторы —
обозначают одни и те же объекты во всех возможных случаях, в
которых они имеют референцию (во всех возможных мирах, если
следовать принятой терминологии). Пусть наше использование
термина «вода» последовательно и непрерывно, т.е. таково, что этот
термин применяется к одной и той же вещи (или ее образцам) при
его референциальном использовании. Тогда можно сказать: хотя
случайным эмпирическим фактом является то, что вода имеет
химическую структуру Н20, но тот факт, что «вода» обозначает
жидкость с химической структурой Н20, не является случайностью,
если референция термина «вода» задана единым принципом -
обозначать жидкость с такими-то феноменальными свойствами в
окружающем мире. «Вода есть Н20», согласно этой теории,
необходимо истинно, т.е. истинно во всех возможных мирах, хотя мы
можем не знать, что это предложение истинно2. Однако когнитив-
1 См.: Фреге Г, Смысл и значение // Г. Фреге. Избранные работы. М. : Дом
интеллектуальной книги, 1997.
2 См.: Kripke S. Naming and Necessity. Oxford: Blackwell, and Cambridge, MA :
Harvard University Press, 1980.
А.З. Черняк. Эпистемическое измерение смысла
315
ная функция смысла остается не поколебленной этой критикой:
даже если смысл не обусловливает значение, он представляет его
пользователям языка, фиксирует его.
Но что есть смысл выражения? Самый известный ответ на этот
вопрос — дескриптивная теория смысла: она отождествляет смысл
с описанием объекта референции или объема предложения,
достаточным для его идентификации субъектом, т.е. с определенной
дескрипцией1. Но обычные пользователи языка не ассоциируют с
именами дескрипции обозначаемых ими объектов, которые
можно было бы с полным основанием счесть достаточными для их
идентификации; например, все, что они знают об Аристотеле,
может быть применимо к двум разным индивидам2. Даже если
именование трактуется как просто коммуникативная функция,
определенные дескрипции, являющиеся смыслами выражений, чаще
других используемых в качестве имен, должны описывать
существенные свойства референтов этих имен, чтобы отвечать условию
достаточности их понимания для идентификации
соответствующих объектов. Предложения, приписывающие существенные
свойства, считаются необходимо истинными, если истинны:
тогда, например, «Аристотель есть афинский философ,
...»(...»замещает перечисление всех известных историкам свойств,
характеризующих Аристотеля) должно выражать необходимую истину. Но
Аристотель мог бы не родиться в Афинах, не стать учеником
Платона, не написать «О душе» и даже не быть философом3.
Критика теории дескрипции и ее модификаций породила
предложение трактовать смысл как модальное понятие. Р. Карнап
и К. Льюис ввели в философию языка два новых аспекта
значения — интенсионал и экстенсионал4. Эти понятия призваны со-
1 См.: Russell В. The Problems of Philosophy. L. : Oxford University Press, 1959. Ch. 5.
2 Критику теории дескрипций Б. Рассела и ее модификации см.: Searle J. Proper
Names // Mind 67, 1958: 166-173; Strawson P.F. Individuals: An Essay in Descriptive
Metaphysics. L. : Methuen, 1959. P. 180-183,190-194.
3 Общую критику дескриптивистской концепции смысла см.: Donnellan S.
Proper Names and Identifying Descriptions// D. Davidson, G. Harman (eds.). The
Semantics of Natural Language, Dordrecht: Reidel, 1972; Putnam H. Mind, Language and
Reality: Philosophical Papers. Cambridge : Cambridge University Press. 1975. Vol. 2.
P. 196-290; Kripke S.A. Naming and Necessity. Cambridge, MA : Harvard University
Press, 1980.
4 См.: Carnap R. Meaning and Necessity. Chicago (IL) : University of Chicago Press,
1947; Lewis C.I. The modes of meaning // Philosophy and Phenomenological Research.
1944. Vol. 4. P. 236-250.
316
Часть IV. Смысл и контекст в ностаналитической философии
хранить основные интуиции, стоящие за традиционным делением
на смысл и денотат, расшифровывая эти семантические
характеристики через понятия необходимости и возможности. Экстен-
сионал выражения определяется фактами, тогда как интенсионал
определяется контрафактическими обстоятельствами — тем, что
возможно, а что нет. Так, Карнап определил интенсионал как
функцию возможностей к экстенсионалам1.
Но «пространство» возможностей может быть по-разному
организовано; возможности могут по-разному отображаться на экс-
тенсионалы. Так, в другом возможном мире, ничем больше не
отличающемся от нашего, жидкость, называемая водой и
исполняющая роль воды, может иметь другую химическую структуру,
например XYZ. Эту ситуацию можно трактовать по-разному:
можно считать, что жители этого мира - двойника Земли (как его
называют) используют тот же термин «вода», что и мы, и
обозначают, говоря «вода», не их воду, а нашу2; можно предположить,
однако, что они указывают на свою воду, говоря «вода»3. Этот случай
в свою очередь можно трактовать, с одной стороны, как
использование нашими двойниками другого термина, только
орфографически и фонетически сходного с нашим термином «вода», или, с
другой стороны, как использование нами и ими одного термина,
но такого, референция которого не детерминирована какими-то
определенными фактами (например, его использованием в
качестве имени для воды в нашем мире). В последнем случае «Вода
есть Н20» может быть ложно в некоторых возможных мирах
вопреки предположению, что «вода» в подобном утверждении
представляет собой жесткий десигнатор.
Это и другие разночтения нашли свое выражение в подходе,
получившем название двухмерной семантики. Традиционно в
рамках этого подхода выделяют два измерения возможного (отсюда и
название), трактуемые как два вида интенсионалов. Существуют
1 Аналогичное различие между узким и широким содержаниями мыслей ввели
X. Патнэм и др.: Putnem H. The Meaning of «Meaning» // Philosophical Papers. Vol. II.
Mind, Language and Reality, Cambridge, and New York: Cambridge University Press.
2 Это прочтение соответствует трактовке термина «вода» как жесткого десигна-
тора.
3 Это прочтение больше соответствует концепции широкого ментального
содержания Патнэма и Бёрджа: Putnem H. Ibid.; Bürge T. Individualism and the
Mental//Midwest Studies in Philosophy. 1979. Vol.4. P. 73-121.
А.З. Черняк. Эпистемическое измерение смысла
317
разные версии этого подхода. Есть у этой модели и критики. Мы
будем рассматривать критику аналогии между когнитивной
функцией смысла и соответствующими измерениями интенсионала.
Говоря коротко, я не уверен, что двухмерная семантика способна
объяснить вклад смысла выражений, у которых он есть, в
демонстрируемое на практике понимание значений этих выражений
пользователями языка.
Если смысл когнитивно определяет или фиксирует для
пользователя какие-то другие аспекты значения, то существенным
условием этого является определенный уровень знания смысла
выражения его пользователем, достаточный для понимания или
осмысленного использования. Знание можно трактовать
по-разному, но минимальной релевантной интерпретацией будет,
очевидно, следующая: пользователь должен руководствоваться
смыслом в своем употреблении выражения (хотя бы в основных
контекстах). Для простоты это можно назвать условием знания.
Если интуиция, выраженная условием знания, в целом верная, то
интенсионал не может выполнять когнитивную функцию смысла,
если только хотя бы для одного измерения интенсионала не
выполнимо это условие; проще говоря, нормальный пользователь
естественного языка должен иметь возможность в необходимом
объеме руководствоваться интенсиональным содержанием - по
меньшей мере, исключая явно неправильные способы
употребления выражений.
2. Два измерения возможного
Один из тех, кто прямо утверждает, что двухмерная модель
интенсионала хорошо подходит для анализа когнитивной функции
смысла, - Д. Чал мерс. В его концепции1 интенсионал отображает
возможные обстоятельства на истинностное значение или
референцию выражения одним из двух способов — трактуя эти
обстоятельства как только возможные или как действительные2. В боль-
1 Здесь я опираюсь на две статьи, содержащие наиболее полную экспозицию
его теории: Chalmers D. Components of Content // Philosophy of Mind: Classical and
Contemporary Readings, 2002 (первоначальная версия - 1995); Foundations of
Two-Dimensional Semantics // M. Garcia-Carpintero, J. Macia (eds).
Two-Dimensional Semantics. L. : Oxford University Press, 2006.
2 См.: Chalmers D. The Conscious Mind: in Search of a Theory of Conscious
Experience, Santa Cruz : University of California, 1995. Vol. 51. В «компонентах содержания»
318
Часть IV. Смысл и контекст в постаналитической философии
шинстве случаев, с его точки зрения, содержания предложений,
понятий и мыслей включают два компонента -первый, или эпи-
стемический, и второй, или сослагательный, интенсионалы1. Это
деление в общем соответствует принятому делению на узкое
содержание, обусловленное исключительно внутренними
свойствами субъекта, и широкое, обусловленное взаимодействием с
объектами, конституирующими экстенсионал выражения2.
Сослагательный интенсионал отвечает на вопрос «Если
действительный мир таков, каков он есть, каким было бы значение
выражения, если некоторые действительные обстоятельства
заменить на другие, возможные?» Этот интенсионал «выбирает» для
выражения экстенсионал в возможном мире в зависимости от
того, как обстоят дела в действительном мире. Так, «Гесперус» и
«Фосфорус» будут обозначать Венеру в любом возможном мире,
где есть Венера, если в нашем мире эти термины - жесткие десиг-
он, правда, предпочитает говорить о содержаниях мыслей, но поскольку речь идет
о мыслях не только в психологическом, но еще и во Фрегевом смысле слова,
каждой мысли соответствует пропозиция; и либо она сама является содержанием
мысли, либо ее содержание есть основное содержание этой мысли. Эту ситуацию не
обязательно трактовать как двусмысленность, поскольку можно говорить о
пропозициональном содержании мысли с тем же основанием, с каким можно
говорить о пропозициональном содержании предложений языка.
1 В другом месте ( Chalmers D. Foundations of Two-Dimensional Semantics. P. 65)
он принимает тезис семантического плюрализма, согласно которому терминам
могут быть приписаны разные интенсионалы и функционально подобные им
сущности - пропозиции, конвенциональные содержания и т.п. Главное, что
некоторые из них, а именно: описывает его двухмерной моделью, могут выполнять
когнитивную функцию смысла и при этом быть совместимыми с моделью,
согласно которой некоторые виды терминов представляют собой жесткие десигна-
торы и есть различие между априорностью и необходимостью. Обсуждение
семантического плюрализма выходит за рамки данного исследования, но вопрос
о том, что именно из него следует для теории значения, заслуживает отдельного
внимания: значит ли это, что такая теория может быть только частичной? Значит
ли это, что базовым понятием этой теории должно быть понятие способа
приписывания экстенсионала, а не понятие интенсионала? Ведь хотя интенсионал,
конвенция и содержание переводимы в пропозиции, обратный перевод не всегда
корректен, так как роли интенсионала и прочего могут выполнять по-разному
организованные кластеры пропозиций (например, соединенных принципом
семейного родства), а также токены пропозиций и, возможно, даже
непропозициональные формы организации данных. Поэтому между способом приписывания
экстенсионала и интенсионалом нельзя поставить знак примерного равенства,
что годилось бы для отношения между полной теорией значения, основанной на
первом понятии, и частичной, основанной на использовании понятия
интенсионала.
2 См.: Chalmers D. Components of Content. P. 3.
А.З. Черняк. Эиистемическое измерение смысла
319
наторы. Эпистемический интенсионал отвечает на вопрос «Если
действительный мир устроен иначе в том или ином отношении,
чем мы думаем, то каков экстенсионал соответствующего
выражения?» Он «выбирает» для выражения экстенсионал в возможном
мире независимо от обстоятельств действительного мира. В этом
представлении «Гесперус» и «Фосфорус» будут обозначать
соответственно любые объекты, обладающие в рассматриваемом мире
определенными феноменальными свойствами и наблюдаемые на
небе по вечерам в одном случае и по утрам - в другом.
Эпистемический интенсионал по Чалмерсу: 7)
детерминирован внутренним состоянием когнитивной системы — мыслью,
которую выражает языковая конструкция (предложение или
утверждение); 2) представляет собой вид условие-истинностного
содержания; 3) отражает рациональные отношения между мыслями1.
Таким образом, Чалмерс ставит знак равенства между эпистеми-
ческими интенсионалами и узким содержанием мыслей. Но
содержание, детерминированное исключительно внутренним
состоянием когнитивной системы — ментальным состоянием
субъекта, не может быть истинным или ложным, потому что за эти
характеристики отвечают связи с теми положениями дел, о
которых это содержание информирует. Во всяком случае, такова
позиция экстерналистов, настаивающих, что за истинностные
значения мыслей отвечают их широкие содержания, т.е. собственно
экстенсионалы. В частности, примеры двойника Земли, где
полностью идентичные нам по всем внутренним параметрам
субъекты имеют дело с субстанцией XYZвместо нашей воды, используя
ее в точности, как мы (по крайней мере до того момента, когда у
нас и у них не появится достаточно развитая химическая теория),
призваны с точки зрения экстерналистов показать, что мысли
таких субъектов не могут быть мыслями о воде, так как с водой они
просто не знакомы2.
Содержанию может быть приписано истинностное значение
потому, например, что содержащая его пропозиция или мысль
имеет истинностное значение, или если оно само трактуется как
пропозиция. Но Чалмерс имеет в виду, что эпистемическое
содержание как таковое имеет собственные условия истинности, по-
1 Chalmers D. Op. cit.
2 См.: Putnem H. The Meaning of «Meaning».
320
Часть IV. Смысл и контекст в постаналитической философии
скольку оно представляет собой функцию, приписывающую
истинностные значения.
Для объяснения эпистемического интенсионала он
использует понятие априорности. В его концепции мысль эпистеминески
возможна, если она не может быть исключена априорным
рассуждением, и она эпистеминески необходима, если может быть
обоснована априори, т.е. если есть процесс мышления, полностью
обосновывающий мысль независимо от опыта1. «Вода есть Н20» и «вода
есть XYZ» — две эпистемически возможные мысли, так как из
всего, что субъект этих мыслей знает априори, следует, что мир мог
бы быть таким, что первая мысль истинная, или таким, что
истинна вторая мысль. С эпистемически возможной мыслью, по Чал-
мерсу, совместимо несколько сценариев — представлений
эпистемически возможного мира, отвечающих определенным
формальным условиям, в котором субъект мысли и время ее реализации
располагаются в центре. Некоторые сценарии, а именно те, в
которых ATZ встречается в окружении субъекта, верифицируют его
мысль, что вода есть XYZ, тогда как другие ее фальсифицируют.
Принимая сценарий как существующий, субъект должен
согласиться с мыслью или отвергнуть ее2. Эпистемический интенсио-
нал соответственно представляет собой функцию от сценариев к
истинностным значениям определенной мысли.
Истинностное значение мыслей, состоящих из понятий,
типично зависит от объемов этих понятий. Эпистемический интен-
сионал мысли в этом случае будет равно обусловлен эпистемиче-
скими интенсионалами составляющих ее понятий.
Эпистемический интенсионал понятия выбирает его объем в неком мире,
полагаемом действительным3. Сослагательный интенсионал
понятия или мысли всегда зависит определенным образом от
эпистемического интенсионала и действительного мира4. Для многих
понятий — жестких десигнаторов и индексальных терминов сосла-
1 См.: Chalmers D. Op. cit. P. 4.
2 См.: Ibid. P. 6.
3 Для этого предлагается использовать вопрос «что есть В?»у где В выражает
понятие и используется, а не упоминается. Таким образом, я так понимаю, нет
необходимости трактовать каждый альтернативный способ употребления выражения
как введение нового понятия. Но это касается только однотипных способов
употребления, например референциальных.
4 См.: Ibid. Р. 14.
А.З. Черняк. Эиистемическое измерение смысла
321
гательный интенсионал выбирает их действительный объем во всех
возможных мирах, для других — чисто дескриптивных понятий — и
сослагательный, и эпистемический интенсионалы выбирают то,
что удовлетворяет данной дескрипции в данном мире.
Приверженцы двухмерной семантики также часто наделяют выражения
двухмерным интенсионалом: в версии Чалмерса это — функция от
сценариев к сослагательным интенсионалам или, иначе, отображение
пары сценарий—возможный мир на пару экстенсионалов1.
Чалмерс считает, что эпистемические и сослагательные
условия истинности мысли могут давать разные результаты, но когда
оцениваются относительно действительного мира, всегда дают
одинаковые результаты. Мысль «там, где я сейчас нахожусь, жарко»
и мысль «здесь жарко» имеют одинаковые эпистемические
интенсионалы (если я знаю одно, то я априори знаю другое), но разные
сослагательные интенсионалы: первая истинна в мирах, где жарко
в любом месте, в котором находится утверждающий, тогда как
вторая истинна в совершенно определенном месте. Если одна мысль
верифицирует другую априори, то любой сценарий,
верифицирующий первую, верифицирует вторую. Связи между сослагательными
интенсионалами базируются на фактах о внешнем мире, не
доступных субъекту. Этим можно объяснить информативность такой
мысли, как «Гесперус есть Фосфорус». Ее сослагательное
содержание эквивалентно сослагательному содержанию мысли «Гесперус
есть Гесперус», но его эпистемический интенсионал отличается;
поэтому она не является когнитивно тривиальной.
Эпистемический интенсионал здесь играет роль смысла2.
Чалмерс рассматривает интенсионал как звено, соединяющее
в единую систему значение, модальность и мышление3. Как
видно, в этой модели основная когнитивная нагрузка в большинстве
случаев ложится на эпистемический интенсионал: именно он
должен давать знание о том, как могут меняться значения в
зависимости от обстоятельств и отображать наши знания о фактах на экс-
тенсионалы наших терминов4. Таким образом, уместно предполо-
1 См.: Chalmers D. Foundations of Two-Dimensional Semantics. P. 102.
2 См.: Chalmers D. Components of Content. P. 18.
3 См.: Chalmers D. Foundations of Two-Dimensional Semantics. P. 55-56.
4 Точнее, как мы увидим дальше, - на экстенсионалы высказываний; но
Чалмерс позиционирует свою теорию как объяснение семантических свойств
языковых выражений и мыслей.
322
Часть IV. Смысл и контекст в постаналитической философии
жить, что для выражений, которые с необходимостью имеют
эпистемический интенсионал (а это, по-видимому, широкий
класс выражений), именно он должен быть основной
составляющей смысла этих выражений1. Рассмотрим это предположение2.
3. Канонические описания
Откуда берутся собственные истинностные значения эписте-
мических интенсионалов? Существование эпистемических ин-
тенсионалов базируется, согласно Чалмерсу, на том факте, что,
если у нас есть достаточно информации о действительном мире,
мы способны знать, истинны наши мысли или нет.
Математические мысли типа «2 + 2 = 4» имеют эпистемический интенсионал,
истинный во всех мирах, чему соответствует тот факт, что эти
мысли могут быть обоснованы априори. А если мысль может быть
полностью обоснована априори, то она, по определению, эписте-
мически необходима и, следовательно, имеет необходимо
истинный эпистемический интенсионал. Тогда если субъект имеет
обосновываемую априори мысль, то соответствующая мысль его
двойника по внутренним свойствам также будет обосновываема
априори3.
Понятие априорности вызывает споры, и, как замечает сам
Чалмерс, не все согласятся с объяснением, использующим это
понятие4. Поэтому он предлагает также расшифровку эпистемиче-
1 Ср.: Разные пользователи имен и терминов естественных видов часто имеют
разные эпистемические интенсионалы своих соответствующих понятий, но один
и тот же сослагательный интенсионал. Но для определения рациональности
мысли и ее роли в поведении важнее эпистемический интенсионал (ChalmersD.
Components of Content. P. 14).
2 Эта модель хорошо объясняет ряд интересных семантических феноменов.
Например, апостериорные необходимости и случайные априорные истины:
апостериорная необходимость Крипке возникает, когда мысль имеет истинный во всех
мирах, рассмотренных как контрафактические, сослагательный интенсионал, но
ложный в каком-то мире, рассмотренном как действительный, эпистемический
интенсионал. Случайное априори Крипке возникает, когда мысль имеет
случайный сослагательный интенсионал и необходимый эпистемический интенсионал.
Я не собираюсь оспаривать эти результаты. Меня интересует только претензия
объяснять смысл.
3 См.: Chalmers D. Op. cit. P. 14.
4 Так, «число я иррационально» Чалмерс считает априорной истиной, но
понятие иррационального числа вводится определением и это определение могло бы
быть таким, что число не было бы иррациональным.
A3. Черняк. Эпистемическое измерение смысла
323
ского содержания без этого понятия. Так, он пишет, что для
большинства терминов Т, используемых говорящим и для каждой
истины S, формулировка которой включает Г, существует такая
истина Д в формулировке которой не участвует Г, такая, что
знание, что D имеет место, делает говорящего способным знать без
дополнительной эмпирической информации в идеализованной
рефлексии, что 5имеет место1. Заметим, что если это условие
выполнимо, то эпистемические интенсионалы Г и S можно
трактовать как производные от существования пропозиции D и
соответственно приобретающие условие-истинностные характеристики
вследствие зависимости от условий истинности /). Но его
выполнимость сама вызывает вопросы.
Что представляет собой пропозиция W Чалмерс поясняет:
рассматривая мир как эпистемическую возможность, субъект
рассматривает гипотезу, что имеет место нечто, чему соответствует
каноническое описание Д соединяющее объективное описание
характера сценария с индексальным описанием локации центра в
этом сценарии, где объективное описание ограничено
семантически нейтральными терминами, т.е. такими, которые не
подвержены мысленным экспериментам в стиле двойника Земли2. Тогда
если субъект мыслит гипотезу, что мир Недействителен, то любой
его двойниктоже должен мыслить такую же мысль, потому что эти
гипотезы включают семантически нейтральные описания
сценариев.
Согласно условию знания, поскольку канонические описания
фиксируют существенные характеристики сценариев, именно они
должны направлять семантические выводы субъекта в эпистемиче-
ской перспективе. Для этого не достаточно, чтобы каноническое
описание было аналогом или выражением описаний
соответствующих возможных обстоятельств, существующих в естественных
языках, в идеализованном языке. Если функция отображения
возможности на экстенсионал выполняется рассмотрением сценария
1 Chalmers D. Foundations of Two-Dimensional Semantics. P. 90: он называет это
тезисом установимости истины (scrutability of truth).
2 См.: Chalmers D. Components of Content. P. 6. Стоит заметить, что это не
является достаточным определением семантически нейтральных выражений, на что
указывает сам Чалмерс. Например, если L - выражение, которое является
жестким десигнатором для роста говорящего, то оно хоть и проходит проверку
мысленными экспериментами в стиле двойника Земли, но не является нейтральным.
324
Часть IV. Смысл и контекст в ностаналитической философии
в каноническом представлении, то для того, чтобы неканоническое
представление сценария могло выполнять эту функцию, оно
должно зависеть от канонического таким образом, чтобы эта функция
автоматически передавалась от второго к первому. Для этого либо
I) субъект должен представлять себе соответствующие
гипотетические обстоятельства посредством самого канонического описания,
либо 2) способы представления, которые он использует в этих
случаях, должны быть жестко связаны с каноническими описаниями
отношениями импликации или переводимости.
Первое маловероятно для большинства нормальных
пользователей естественных языков, так как семантически нейтральные
термины, даже если и представлены в них, не часто определяют
понимание значений выражений родного языка.
Второе требует принятия определенной теории языка,
согласно которой все значимые элементы соответствующего
естественного языка имеют значения, полностью описываемые на
каком-то формальном языке, причем таком, в котором допустим
бесконечный набор терминов и исключена любая семантическая
неопределенность. Хотя это спорная теория, она тем не менее
может быть верной. Но, по Чалмерсу, никакая каноническая
пропозиция не является определением интенсионала; если бы это было
так, существование канонической дескрипции D для термина Т
означало бы заменимость Г на D во всех контекстах, в которых Т
имеет данный эпистемический интенсионал, без изменения
истинностного значения высказывания. Но это явно не выполнимо
в контекстах пропозициональных установок, цитат и т.п., в
которых для того, чтобы заменить Гна D с должным эффектом,
необходимо знать, что некто знает, что Г и Z) синонимы1. Такое знание
вряд ли уместно приписывать обычным пользователям
естественных языков, которым канонические описания в принципе или
даже в силу стечений обстоятельств не доступны.
1 Ср.: предположим, что D* «жидкость с такими-то феноменальными
свойствами, имеющая химическую структуру, задаваемую такими-то свойствами мира, в
котором находится говорящий» - представляет в наиболее приближенном
доступно субъекту для понимания виде каноническое описание D для термина «вода»;
тогда «Петя думает, что D* имеет химическую структуру Н20» будет явно ложно,
даже если «Петя думает, что вода имеет химическую структуру Н20» истинно, если
Петя не считает, что вода есть вся и только жидкость с такими-то
феноменальными свойствами, имеющая химическую структуру, задаваемую такими-то
свойствами мира, в котором он находится.
A.3. Чертяк. Эпистемическое измерение смысла
325
Далее, в силу семантической неоднозначности и
неопределенности многих терминов естественных языков каждое
предложение естественного языка может быть концептуально связано с
более чем одной канонической дескрипцией. «Если вода имеет
химический состав XYZu химический состав воды определяет, что
есть вода, то "вода" обозначает то, что имеет химический состав
XYZ» — нормальное описание эпистемической гипотезы. Оно
может быть формализовано следующими способами в интересах
максимальной спецификации и исключения семантических
неопределенностей. Использование слова «вода» в первой посылке
может обозначать нашу воду или все, что субъект готов называть
водой в зависимости от обстоятельств. Это употребление может
подчиняться или не подчиняться принципу, утверждаемому во
второй посылке; если оно обозначает нашу воду и подчиняется
второй посылке, то «вода» в этом употреблении (А) обозначает
Н20, если нет (В) — жидкость без цвета и запаха... (далее
перечисляются все феноменальные и другие свойства субстанции,
фактически идентифицирующие для субъекта принадлежность образца
к воде). Если «вода» в первой посылке обозначает любую
субстанцию, называемую водой в зависимости от обстоятельств, и
подчиняется второй посылке, то под водой в данном случае (С) должно
пониматься XYZ; если это употребление термина не подчиняется
второй посылке, то, вероятно, «вода» в этом случае обозначает то,
что идентифицирует нечто как образцы воды для субъекта в
данных обстоятельствах (в данном мире). Поскольку в
рассматриваемом сценарии другие характеристики окружающего мира не
варьируются, то, скорее всего, «вода» в этом случае будет обозначать то
же, что и в случае (В). Как видим, (А), (В) и (Q дают три разных
подхода к формализации исходной мысли, охватывающих, между
прочим, только один аспект ее семантической неопределенности.
Вариант (А) начинается с парадокса: «если то, что имеет
химическую структуру Н20, имеет химическую структуру XYZ...»; на этом
основании его можно счесть эпистемически не релевантным. Тем
не менее вполне уместно допустить, что иногда мы имеем в виду
что-то подобное, рассматривая такие гипотезы1. Иногда на
основании такого гипотетического рассуждения мы даже готовы задать
1 Может быть, поэтому иногда они нам кажутся странными и даже
абсурдными.
326
Часть IV. Смысл и контекст в постаналитической философии
вопрос: как это может быть, чтобы вода не была водой,
подразумевая под водой Н20? Эпистемическая нерелевантность такой
интерпретации очевидна, только если эта релевантность задается
параметрами некоего идеального рассуждения. Но в этом случае мы
получим бесконечное множество уровней идеального
рассуждения, где каждый следующий определяет условия релевантности
для каждого предыдущего.
(С) выражает нечто тривиальное: «Если то, что имеет
химическую структуру ЛУД имеет химическую структуру ATZ..»; но тем
не менее это законное рассуждение и в целом вполне
информативное, так как дает представление о том, что исходное
понимание (употребление) термина правильное, если рассуждение
верное. Поэтому приоритетность интерпретации (В) не является
чем-то априори обоснованным. Однако о (В) и (Q по крайней
мере можно сказать, что они поддерживают приписывание
одинаковых экстенсионалов термину «вода»; только в интерпретации (А)
его значение будет неопределенным. Соответственно достаточно,
чтобы ее можно было исключить на каких-то законных
основаниях.
Но рассмотрим термин «химический». Он может обозначать
свойства, приписываемые с точки зрения понимания химии, из
которого исходит субъект, или свойства, диктуемые пониманием
химии, которые субъект приписывает себе в рассматриваемом
сценарии. Если «химический» обозначает нечто, относящееся к
химическому с точки зрения нашей химии (пусть она не
отличается от химии в представлении субъекта), то «XYZ» может в свою
очередь обозначать нечто химическое с точки зрения нашей
химии (D) или нечто не химическое с этой точки зрения (£). Во
втором случае гипотеза, очевидно, будет ложной при прочих равных в
данной интерпретации. В первом случае ее значение будет
зависеть от других аспектов интерпретации. Если «химический»
обозначает свойства, определяемые химией рассматриваемого
сценария, то «XYZ», скорее всего, должно обозначать нечто химическое,
иначе гипотеза будет просто противоречивой. В этом случае
гипотеза будет истинной при прочих равных, по крайней мере, в
интерпретации (В) для термина «вода» в первой посылке. Но «Н20»
тогда может обозначать нечто химическое или нечто
нехимическое; это, правда, имеет значение только в случае интерпретации
(А) и если ее можно законно отбросить (хотя я в этом не уверен), то
A3. Черняк. Эпистемическое измерение смысла
327
данная вариация значения также будет эпистемически не
релевантна. Однако как (/)), так и (£) эпистемически релевантны, но
первая делает при прочих равных гипотезу истинной (если взять
интерпретацию (В) в качестве базовой), а (£) - ложной, так как
вторая посылка предусматривает в этом случае, что сущность
воды определяется ее химическими свойствами, установленными
нашей химией.
Сценарий верифицирует мысль, если имплицирует ее; но это
значит, что обоснование мысли распространяется прежде всего на
ее каноническое описание. Однако если здесь речь идет о связи
сценария с токеном мысли - с конкретным актом производства
определенного ментального содержания, локализованном в
определенном месте и времени, то именно этот токен мысли должен
быть имплицирован сценарием, а значит, именно он должен быть
представлен каноническим описанием. Но реальные
индивидуальные мысли достаточно редко отвечают этому условию.
Следовательно, они могут быть верифицированы таким образом только
в силу принадлежности определенному типу мысли,
идентифицированной по ее содержанию. Предположим, я мыслю «Вода есть
Н20», имея в виду указание на существенное свойство
определенного объекта в мире; «вода» в этой мысли примерно значит
«жидкость с такими-то свойствами». Это описание я не могу дать в
завершенном виде, так как могу перечислить только некоторые
свойства, но не уверен, что их достаточно для идентификации
воды без ссылки на химическую структуру, а «Н20» значит «некая
молекулярная структура, установленная современной химией».
Предположим, существует некое описание, которое можно по
каким-то признакам считать описанием этой моей мысли, и которое
исключает все неясности, неопределенности и незавершенность
исходной мысли. Это описание будет, вероятно, верифицируемо
сценарием, в котором субъект мысли помещен в мире, где вода
имеет химическую структуру Н20. Но дальше начинаются
разногласия: поскольку речь идет об определении значений терминов и
содержания мыслей, рассмотренную ситуацию можно трактовать
двояко. С одной стороны, можно утверждать, что моя мысль и
использованные в ней термины имеют значения, определяемые
связями соотнесенного с ней канонического описания с эпистемиче-
скими гипотезами в соответствующих сценариях. Но с другой
стороны, можно заметить, что основания, по которым какое-то
328
Часть IV. Смысл и контекст в постаналитической философии
каноническое описание можно считать описанием той или иной
реальной мысли, весьма слабые1; следовательно, нет достаточных
оснований считать, что какие-то семантические свойства
канонических описаний объясняют хотя бы какие-то аспекты значений
реальных мыслей или высказываний.
Переописание предложений естественного языка с
использованием более ясного синтаксиса и словаря — обычный прием,
часто улучшающий понимание значений соответствующих
высказываний и мыслей. Но это улучшение можно фиксировать только
тогда, когда сам субъект соглашается или есть хорошие независимые
основания приписывать ему согласие с тем, что он имел в виду
именно то, что предлагает более ясная интерпретация. Но чем
более рафинированный (например, формализованный) парафраз
используется для устранения неясностей, тем слабее основания
указанного вида для приписывания содержательного тождества
между анализируемым предложением и его интерпретацией,
поскольку в этих случаях все меньше оснований приписывать
субъекту какое-то определенное отношение к подобным интерпрета-
1 Ср.: К. Гемпель (Hempel CG. The Logical Analysis of Psychology // Readings in
Philosophy of Psychology. Vol. 1. P. 14-23) утверждал, что содержание такого
предложения, как «je испытывает боль», полностью исчерпывается совокупным
содержанием множества эмпирических предложений, не включающих психологических
терминов и являющихся проверочными для данного. Эти физикалистские, как он
их называл, предложения - аналог канонических описаний для психологических
высказываний. Основанием для отождествления содержаний исходного
психологического предложения и проверочных физикалистских предложений является
убеждение, что последние применимы ко всем и только случаям, к которым
применимо первое. Однако это убеждение не может быть поддержано опытом, даже
если имеется обширная коллекция эмпирических данных, которые можно
трактовать как свидетельства в его поддержку. Подвох кроется в исходном вопросе: о чем
психологические высказывания? Сказать, что имеющиеся эмпирические данные
поддерживают физикалистскую гипотезу можно, только уже ответив на этот
вопрос, а именно: приняв, что психологические высказывания суть высказывания о
том же, о чем соответствующие физикалистские высказывания. Но существуют
альтернативные теории: например, что это высказывания о внутренних
переживаниях или феноменальных свойствах. Так же точно сказать, что моя мысль о воде
содержательно идентична некоему каноническому представлению о воде, можно,
только приняв, что эти мысль и представление - об одном и том же; но о чем моя
мысль есть вопрос, на который модель, включающая канонические описания,
должна дать ответ. Обычно мы идентифицируем мысли как мысли об одном и том
же, опираясь на практические последствия этих мыслей: они, последовательно
давая одинаковые результаты, демонстрируют все более высокую вероятность того,
что это мысли об одном и том же. Но аналогичная практика в отношении
канонических описаний не доступна и соответственно этот путь обоснования
содержательного тождества закрыт.
A.3. Черняк. Эпистемическое измерение смысла
329
циям в силу естественных ограничений его способности
понимания. Следовательно, чем выше уровень формализации, тем
больше тезис тождества содержаний анализируемого и
анализирующей интерпретации зависит от истинности метафизической
гипотезы, что эти предложения об одном и том же.
Таким образом, когда субъект мыслит гипотезу, что мир W
действителен, а его двойник имеет аналогичную мысль, это не
обязательно одна и та же мысль, если они оба не могут мыслить ее
непосредственно в каноническом представлении. Вполне может
быть, что у многих выражений есть эпистемические интенсиона-
лы или что-то подобное, если достаточным условием
существования такого аспекта значения является простое наличие
канонического описания мысли, выражаемой посредством данного
выражения и трактуемой как та же самая мысль, которая вызвала
использование данного выражения в данном случае. Но
сомнительно, что они сами по себе могут определять значения этих
выражений для их реальных пользователей, т.е. быть их смыслами.
4. Проблема априори
Эпистемический интенсионал, по мнению Чалмерса,
непосредственно объясняет различие между апостериорными и
априорными необходимостями1: первые фальсифицируемы
некоторыми сценариями, вторые нет. Примером априорной
необходимой истины он считает предложение «Все холостяки не женаты».
Его аргумент состоит в том, что есть фальсифицирующие
сценарии для предложений вида «Вода есть Н20» (апостериорных необ-
ходимостей), но не для предложений вида «Все холостяки не
женаты» (априорных необходимостей).
В отношения верификации и фальсификации со сценариями
вступают конкретные образцы — токены — предложений. Токен
предложения, согласно Чалмерсу, априорен, когда выражает
действительное или потенциальное априорное знание субъекта,
который высказывает предложение. Интуитивно верно, что если
1 См.: Chalmers D. Foundations of Two-Dimensional Semantics. P. 114. Правда, эта
объяснимость обеспечивается тем, что сам эпистемический интенсионал
определяется исходно через отношение априорности: «предложение априорно, если и
только если оно имеет необходимый первый интенсионал» (Ibid. Р. 45), на что
указывают некоторые критики.
330
Часть IV. Смысл и контекст в постаналитической философии
«холостяки» и «не женаты» значат строго то, что они значат при
определенном их употреблении или определенной
интерпретации, которая исключает случаи не одновременной применимости
обоих этих понятий к чему-либо, то не может быть так, чтобы
данное предложение сохраняло свое значение и при этом было
ложным. Все же эта интуиция сохраняет свое правдоподобие только за
счет презумпции, что связь между токенами и типами
предложений задана четко. Но если эта связь не может быть задана четко, то
даже при прочих равных эпистемическое измерение интенсиона-
ла не будет «схватывать» когнитивного различия между
предложениями двух указанных видов.
Чалмерс перечисляет три релевантных способа отнесения то-
кенов к типам (указывая, что есть и другие) - орфографический
(идентифицирующий по форме), семантический
(идентифицирующий по значению) и лингвистический (идентифицирующий
по связям в языке). Принадлежность токена к орфографическому
типу определяется через тождество синтаксиса: это должна быть
одна и та же последовательность знаков. Понятие знака само
таково, что идентифицирует объект по его семантическим свойствам
или хотя бы по специфическим отношениям к другим объектам;
поэтому трудно сказать, можно ли провести удовлетворительную
чисто орфографическую типизацию языковых токенов. Но в
любом случае для любого так типизированного токена можно найти
мир, где он выражает мысль, ложную в этом мире1.
Чалмерс определяет токены как принадлежащие к одному
лингвистическому типу, если они принадлежат одному
выражению в конкретном языке. Это не очень ясное определение, так как
в языке есть виды выражений — предложения, понятия,
местоимения, определяемые грамматикой, а есть виды выражений -
идиомы, метафоры и т.п., определяемые прагматикой языка.
Разные уровни организации языка могут определять принадлежность
токенов к одному выражению. Есть также виды выражений,
например имена, о которых трудно однозначно сказать, что в языке
определяет этот вид. Чисто грамматически именем может быть
все, что может занимать место подлежащего в предложении, но
прагматически далеко не все такие выражения используются как
1 См. например, по этому поводу рассуждения Р. Сталнейкера : StalnakerR.
Assertion revisited // M. Garcia-Carpintero, J. Macia (eds). Two-Dimensional Semantics.
L. : Oxford University Press, 2006. P. 302-303.
А.З. Черняк. Эиистемическое измерение смысла
331
устойчивые обозначения определенных объектов. Есть основания
утверждать, что такой тип, как «имя», вообще не может быть
определен чисто лингвистически, поскольку для этого просто
недостаточно информации: определенный тип значения играет роль в
отнесении выражения к типу имен. Полагаю, это относится не
только к именам.
При лингвистической типизации по крайней мере ясно, что
если «вода» - термин русского языка, то его значением в любом
контексте должно быть то, что русский язык предписывает в
качестве значений для терминов такого вида. Но что есть вид термина в
языке и, следовательно, как именно должно приписываться
значение в том или ином контексте относительно конкретного языка,
уже вряд ли может быть определено чисто лингвистически. В
связи с этим наиболее релевантным выглядит семантический способ
типизации выражений.
Принадлежность к одному семантическому типу Чалмерс
определяет как обладание одной и той же семантической
значимостью, где семантическая значимость может быть значением,
содержанием или аспектом того или другого. Обычно токены
наделяются значениями в составе некоего коммуникативного акта
или по умолчанию получают значение, приписываемое типу
независимо от других обстоятельств. В этом отношении
семантическая типизация вряд ли может быть самостоятельной: в ее основе
лежит вариация принципов приписывания значений токенам,
которые сами имеют различную природу. Очевидно, что термины
вода и water, принадлежащие разным языкам, относятся к одному
семантическому типу, если только всегда (все их токены) или в
основных контекстах (определенные множества ихтокенов в
одинаковых обстоятельствах) значат одно и то же. То, что какие-то
токены этих двух терминов значат в каких-то контекстах одно и то же,
еще не делает их токенами одного семантического типа, так как
совершенно очевидно, что могло иметь место простое совпадение
значений и в другой раз в аналогичных обстоятельствах значения
будут разными.
Вывод о принадлежности токенов одному семантическому
типу обычно поддерживается уже установленной принадлежностью
этих токенов какому-то другому релевантному типу, например
лингвистическому, когнитивному или прагматическому (если
известно, что орфографически идентичные этим токены стабильно
332
Часть IV. Смысл и контекст в иостаналитической философии
использовались прежде с этими же значениями в аналогичных
обстоятельствах). В общем виде принадлежность конкретных токе-
нов одному семантическому типу обычно выводится из
принадлежности соответствующих типов терминов одному
семантическому типу; этот вывод в свою очередь основан обычно на данных
о поведении значительного числа токенов соответствующих
типов, определенных не чисто семантически1.
Но что значит потенциальное априорное знание? Если токе-
ном предложения является его утверждение, то оно выражает по
меньшей мере убежденность субъекта в истинности того, что он
утверждает. Потенциальным априорным знанием это может быть
в том же смысле, в каком это может быть потенциальным знанием
субъекта, т.е. вполне возможно, что субъект не знает то, что он
утверждает. Но если он не знает, что все холостяки не женаты, хотя
считает это утверждение истинным, то это скорее признак того,
что такое знание для данного субъекта не является априорным;
иначе понимание истинности предложения должно было бы
автоматически давать знание того, что оно утверждает. Токен может
выражать потенциальное знание еще, наверное, в том смысле, что
может быть так, что субъект еще не произвел ни одного токена
данного предложения. Но в таком случае, на каком основании ему
можно приписывать соответствующую мысль? Согласно Чалмер-
су, эпистемический интенсионал предложения «Я ничего не
говорю» может быть истинным в некоторых мирах, в которых токен
данного предложения не имеет места (не высказывается
соответствующее утверждение). Но экстенсионалы и истинностные
значения в его модели приписываются токенам, а если токена нет в
мире W, то значит ли это, что предложение истинно в WI
Априорность фиксирует текущее состояние знания: может
быть так, что «Фосфорус» есть «Гесперус» априорно для некоего
субъекта, если он учился использовать эти термины как имена
исходя из их восприятия как полных синонимов. Хотя субъекту
нельзя приписать мысль «Все холостяки не женаты», вероятно, можно
оценить, следует эта мысль из всего, что он знает. Проблема,
однако, в том, что необходимый для такой оценки состав всего, что
субъект знает, должен включать свидетельства о том, следует дан-
1 Можно провести более тонкую типизацию токенов, включая в нее составные
типы (когнитивно-лингвистический, семантико-орфографический и т.п.); Чал-
мерс упоминает и такие.
А.З. Черняк. Эпистемическое измерение смысла
333
ная мысль из имеющихся оснований без дополнительной
информации или нет, иначе говоря, являются ли данные, которыми
субъект уже располагает, достаточным основанием для него утверждать
данную мысль. Но свидетельства такого рода не доступны без
самой мысли, априорность которой оценивается. Поэтому мне
кажется сомнительным утверждение, что токены предложений могут
выражать потенциальное априорное знание во втором смысле.
Но интуитивно субъект может знать, что «если слово «д»
выражает понятие Х9 то «х есть у» априорно истинно», даже не зная
значение «х». «All bachelors are unmarried» априорно, если
экзистенциальная связка выражает эквивалентность, но может быть так,
что в мире не осталось холостяков, а остались бакалавры;
предложение будет иметь смысл и даже выражать потенциальную
априорность в каком-то смысле, но для большинства токенов оно
будет ложным; следовательно, нельзя наделить нелогические
компоненты этих токенов одинаковым первым интенсионалом.
Следовательно, даже если с моделью все в порядке, сомнительно,
что нельзя найти сценарии, фальсифицирующие семантические
токены предположительно априорно истинных предложений.
5. Контекстное содержание
Другой важный аспект значения — его чувствительность к
изменению контекстов. Контекст в общем виде есть набор
обстоятельств, изменение которых детерминирует изменение значения
языкового выражения. Под значением обычно в подобных
случаях понимают экстенсионал, истинностное значение или
референцию, а под языковым выражением — тот или иной способ
идентификации конкретного образца (тип). Тогда информация о том,
как выражение может менять свое значение в зависимости от
контекста, должна быть частью когнитивно ценного содержания,
ассоциируемого с данным выражением (для выражений, в
принципе чувствительных к изменениям соответствующих
обстоятельств), т.е. его смысла.
Поскольку любые предполагаемые обстоятельства можно
описывать как элементы возможного мира и соответственно
сценария, постольку можно трактовать контекстное содержание
как интенсионал. Однако в двухмерной семантике определение
функции, отвечающей за чувствительность к контекстам, вызыва-
334
Часть IV. Смысл и контекст в постаналитической философии
ет вопросы. Чал мерс даже говорит о двух подходах к решению этой
задачи — контекстуальном и эпистемическом1. В первом случае
терминам приписывается особое измерение смысла —
контекстный интенсионал, так, Д. Каплан вводит особый аспект
содержания языкового выражения — его характер, представляющий собой
функцию контекста появления выражения к его содержанию в
этом контексте2. Во втором случае всю релевантную работу
выполняет эпистемический интенсионал3.
Согласно Чалмерсу, контекстная зависимость значения
отображается тем или иным аспектом содержания в зависимости от
того, какой способ идентификации (тип) токенов имеется в виду.
Значение в контексте соответствует экстенсионалу токена
выражения в данном контексте. Разные токены одного типа часто
имеют разные экстенсионалы. Когда два токена одного типа имеют
разные экстенсионалы, это отражает различие в контексте, в
который помещены эти токены4.
Но что значит, что токен выражения имеет экстенсионал?
Чалмерс отождествляет токен предложения с его произнесением
субъектом. Но произнесение является обычно токеном
коммуникативного акта утверждения. В тех случаях, когда это не так, оно
является токеном другого коммуникативного акта. Значение про-
1 См.: Chalmers D. Foundations of Two-Dimensional Semantics. P. 107.
2 См.: Kaplan D. Demonstratives // Themes from Kaplan; J. Almog, J. Perry, and H.
Wettstein (eds.). L. : Oxford University Press, 1989. Правда, только для терминов
определенных видов - так называемых демонстративных («ты», «он», «это» и т.п.)
и индексальныхтерминов («я», «здесь», «сегодня» и т.п.): два использования
одного имени, например «Аристотель», с разными референциями он отождествляет с
двумя разными словами (Ibid. Р. 562). Тем не менее в этих случаях появления
лингвистической конструкции «Аристотель» может быть достаточно общего, чтобы
трактовать их как два контекста приписывания значения одному и тому же.
3 С точки зрения Чалмерса, контекстный интенсионал отвечает на вопрос
«Если бы токен релевантного вида был произнесен в релевантном контексте,
каким был бы его экстенсионал?» (Components of Content. P. 29). Контекстная
функция у Каплана есть функция к пропозициям, а не к экстенсионалам; Чалмерс
считает, что ее можно преобразовать в экстенсиональную функцию (Foundations
of Two-Dimensional Semantics. P. 115). Содержание, о котором говорит Каплан, он
предлагает понимать как сослагательный интенсионал, но если контекст можно
представить как мир, центрированный на субъекте, произносящем токен
предложения, и времени произнесения, то контекстный интенсионал есть функция
центрированных миров к экстенсионалам. Но центрированные миры суть сценарии,
следовательно, контекстный интенсионал функционально подобен эпистемиче-
скому интенсионалу (ibid. Р. 66). Ср. также его рассуждения: Ibid. Р. 116-117.
4 См.: Ibid. Р. 66.
А.З. Черняк. Энистемическое измерение смысла
335
изнесения и, следовательно, токена предложения определяется
теми условиями, которые определяют значения токенов
соответствующего коммуникативного акта, например утверждения.
Самое известное такое условие — коммуникативная интенция. Ее
можно трактовать как функцию когнитивного состояния
говорящего к экстенсионалу конкретного акта коммуникации. Если
содержание утверждения исчерпывается содержанием токена
утверждаемого предложения, то можно сказать, что интенция —
достаточное условие наличия экстенсионалов у токенов предложений.
Но даже в этом случае токены выражений, использованных в
данном утверждении, не могут наделяться экстенсионалами исходя
из коммуникативной интенции, так как одна и та же
коммуникативная интенция может быть реализована разными языковыми
средствами (если только эти средства принадлежат одному языку
и имеет значение, на каком языке делается утверждение, как это
обычно бывает). Более того, выбор выражений обычно подчинен
требованиям интенции в таком случае, но выражения выбираются
исходя из их не интенционального значения, так как последнее
остается неизменным; оно относится ко всему
коммуникативному акту, а не к его лингвистическим компонентам.
Кроме того, существует точка зрения, согласно которой
содержание утверждения (как и любого коммуникативного акта) не
исчерпывается содержанием предложения, токеном которого оно
предположительно является, а включает еще информацию о
позиции утверждающего — о его согласии с предложением, вере в его
истинность, стремлении убедить слушающего в его истинности
и т.п. Это не обязательно верная теория утверждения, но если
утверждение — прежде всего коммуникативный акт, что очень
правдоподобно, то отождествлять его с токеном предложения не
корректно, так как из этого следует отождествление содержаний
соответственно утверждения и предложения в данном
употреблении. Таким образом, в случаях, когда выражение, не являющееся
предложением, не составляет отдельного коммуникативного акта
(а таких случаев большинство), экстенсионал утверждения или
высказывания другого типа совсем не обязательно тождествен
экстенсионалу токена соответствующего предложения1.
1 Например, Каплан различает появление предложения в контексте и его
высказывание в этом контексте, считая первое, но не второе существенным условием
оценки контекстного содержания.
336 Часть IV. Смысл и контекст в постаналитической философии
Далее, трудно осуществить четкое отнесение образцов
выражений к тому или иному типу1. Если контекстное содержание
приписывается токену выражения кактокену определенного
типа, то это, мне кажется, почти автоматически делает множество
интересующих нас токенов носителями неопределенного
контекстного содержания. Когда я говорю, что все холостяки не
женаты, я могу иметь в виду определенную мысль, но этого не
достаточно для определения типа, отвечающего за его контекстное
содержание данного токена. Мысль можно трактовать как
пропозицию, как ментальное состояние или как чистую
совокупность информации2: отнесенность к какому-либо из этих или
каких-то еще типов обычно не входит в стандартное содержание
токена мысли и соответствующего утверждения; оно, таким
образом, совместимо с разными типами и, как следствие, может
одновременно иметь различные контекстные содержания. Но если
контекстное содержание имеет приписываемую ему
когнитивную ценность, оно не может быть неопределенным в
большинстве случаев.
Канонические описания сценариев, по Чалмерсу, помимо
семантически нейтральных включают индексальные термины
«Я», «здесь», теперь» и т.п. Их значения не четкие и явно
контекстно зависимые: они обозначают разные площади, временные
промежутки и сущности в разных обстоятельствах. «Здесь» в
одном случае может обозначать все, что попадает в поле зрения, в
другом — только то, до чего можно дотянуться рукой, в третьем —
что-то неопределенно близкое к говорящему с размытыми
границами и т.п.; то же относится к «сейчас» - он может обозначать
мгновение, минуту, час, день или что-то неопределенное по
длительности. «Я» может обозначать все, что располагается в грани-
1 Что значит «Аристотель» как лингвистический тип, например? Если это
значит, что его значение в контексте должно определяться правилами языка, то
какими, какого уровня? Например, определяющим фактором в этом случае могут быть
устойчивые связи с другими выражениями данного языка, скорее
прагматический, чем формально-семантический аспект. Значит ли принадлежность к
лингвистическому типу, в частности, что если «Аристотель» обозначает кого-то
другого, кроме греческого философа, то это - другое выражение того же языка или
нет? Если указанная типизация не позволяет однозначно ответить на подобные
вопросы, ее семантическая ценность сомнительна.
2 В последнем случае логические и прочие структурные связи между
составляющими мысли иррелевантны в отличие от мысли как пропозиции.
A3. Черняк. Энистемическое измерение смысла
337
цах физического тела или только психологические
характеристики этого (личность), которые в таком случае могут давать
другой объем «Я», включая в него какие-то прошлые и, возможно,
какие-то будущие события, и т.д. Все это делает границы центра
сценария неопределенными и размытыми: что находится в
центре, а что вблизи центра в этом случае просто не может быть четко
определено.
Когда я говорю «здесь жарко», эпистемический интенсионал
должен приписывать значение этому токену согласно тому, жарко
или нет в том месте, где я сейчас нахожусь. Но я нахожусь
одновременно в определенной комнате, в определенном ее месте, в
определенном городе, районе, стране и т.д. Соответственно «жарко»
в моем утверждении может относиться строго к чему-то одному из
этого или не строго к любому объему из списка, который также
может варьироваться не только относительно того, где я мог бы
сейчас быть, но еще и относительно того, где я сейчас нахожусь.
Во втором случае он будет расшифровываться как-то так: «вокруг
меня жарко», где «вокруг» имеет неопределенное значение. Как
правило, «вокруг» в таких случаях определено довольно слабо:
есть объекты, которые явно не попадают в его объем; есть
объекты, которые явно попадают (собственно, я, если «Я» может быть
определено строго); но большая их часть составляет пограничные
случаи.
Таким образом, эпистемическое содержание «мне жарко»
само зависит от контекстного содержания этого высказывания,
которое определяется обстоятельствами, отвечающими за
спецификацию экстенсионала индексального термина в данном
конкретном случае. Эпистемический интенсионал предлагает в качестве
контекстного содержания «здесь жарко» в очень общем виде (если
я правильно понимаю) что-то вроде следующего: если «здесь
жарко» подразумевает1 «жарко в помещении, в котором в момент
утверждения находится утверждающий, где "утверждающий"
относится только к разумным существам, момент охватывает
промежуток времени не больше чем... и т.д.» (полная расшифровка
может быть бесконечной) и имеет место D (каноническое
описание некоего мира), то данное высказывание имеет такое-то значе-
1 Где «подразумевает» отображает результаты любого способа
интерпретации, т.е. использование релевантных данных любого типа.
338
Часть IV. Смысл и контекст в ностаналитической философии
ние. Однако фундаментальная проблема таких высказываний, как
«здесь жарко», состоит в том, что во многих случаях им скорее
всего просто нельзя поставить в соответствие ни одно такое
содержание, так как индексальные термины в них используются
обычно с неопределенным значением, а модальное описание требует
определенности. Если под контекстным содержанием понимать
эпистемическое содержание, то оно в большинстве случаев будет
давать значение «неопределенно». Эта проблема
распространяется не только на высказывания, эксплицитно содержащие
индексальные термины, а на вообще на все высказывания как
носители интенсиональных значений, если только эти значения
не могут быть определены без использования индексальных
понятий.
Контексты отличаются от сценариев тем, что в них
варьируются разные способы употребления термина в действительном мире,
а параметры мира остаются, как правило, неизменными. Модель
Чалмерса предписывает трактовать эту изменчивость по аналогии
с изменчивостью эмпирических фактов. Действительно, с
модальной точки зрения нет особой разницы между утверждением
«"вода" могло бы значить XYZ», подразумевающим, что субъект
мог бы иметь в виду соответствующую субстанцию, используя
слово «вода», и этим же утверждением (если только о нем в данном
случае можно сказать, что это — то же самое утверждение),
подразумевающим, что то, что субъект обозначает, имеет не ту
химическую структуру, чем он думает или мы считаем. Но это различие,
как мне кажется, может иметь значение. Это иллюстрируют
метафоры.
Если выражение «вода» применено к тексту или речи, то
воспринимается как метафора: когнитивная функция метафоры —
переносить некоторые или все свойства того, что обычно
обозначает выражение, на то, что обозначается с помощью данного
выражения в данном коммуникативном акте. Если метафора - это
контекст, что интуитивно достаточно очевидно, то легко
заметить, что он в данном случае эксплицитно задается референтом
коммуникативного акта. Значит ли это, что «вода» в данном
случае обозначает текст или речь — то же, на что указывает
говорящий? Сомнительно. Во всяком случае, для того, чтобы
осуществлять перенос свойств, т.е. выполнять когнитивную функцию
метафоры, коммуникативный акт должен использовать выражение
А.З. Черняк. Энистемическое измерение смысла
339
так, чтобы оно отсылало к своему обычному значению, чтобы это
значение если и не использовалось, то упоминалось1.
В общем виде зависимость значения от такого контекста
можно описать так: в метафорическом употреблении термин
обозначает что-то из класса, включающего любую вещь или ситуацию,
на которую могут быть перенесены какие-то свойства экстенсио-
нала данного термина. В таком случае контекст эксплицитно
определен через экстенсионал термина. Это больше похоже не на
эпистемический интенсионал, а на сослагательный:
фиксированные параметры действительности — экстенсионал в основном
контексте2 - отвечает за то, какое значение выражение будет
иметь в разных случаях употребления (возможных
обстоятельствах). Например, «если "вода" обозначает жидкость с такими-то
свойствами и субъект указывает на текст, произнося "вода!", то
это значит, что "вода" при прочих равных имеет метафорическое
значение». Но из этого нельзя сделать однозначный вывод об экс-
тенсионале данного выражения в данном употреблении (токена).
Смысл, отражающий зависимость значения от
метафорического контекста, должен более или менее детально фиксировать
релевантные свойства, которые в таком контексте должны
переноситься на объект указания, т.е. включать элементы содержания,
определяющего значение термина независимо от контекстов или
в основном контексте. Его функция - информировать о
допустимых коннотациях3. Смысл термина «вода» может включать что-то
вроде следующего: «может использоваться для указания на другие
вещи как носители каких-то свойств, состоящих в отношении
аналогии к соответствующим свойствам воды». Важно, что здесь
1 Можно предположить, что в метафорическом использовании выражение
упоминается, а не используется, т.е. правильнее описывать исходную ситуацию
как высказывание «'вода'», которое указывает на значение термина. Но в этом
случае метафорический контекст трудно отличить от контекста простого упоминания
выражения. Поэтому я все-таки склоняюсь к тому пониманию метафоры, при
котором в ней выражения значат то же, что и в обычных употреблениях. См. в этой
связи анализ метафоры Д. Дэвидсоном .Дэвидсон Д. Что означают метафоры //
Истина и интерпретация. М. : Праксис, 2003.
2 Базовый контекст может быть не один. В таком случае контекстное
содержание уместно трактовать как функцию базовых контекстов к значениям в данном
контексте, задаваемую параметрами некоего металингвистического контекста.
3 Это выражение здесь весьма уместно, так как нельзя однозначно сказать, что
в этих случаях выражение обозначает что-то другое, чем обычно, но можно
сказать, что оно применимо к чему-то, что оно обычно не обозначает.
340
Часть IV. Смысл и контекст в постаналитической философии
не требуется упоминать буквальное значение термина «вода»:
неважно, что значит «вода» — Н20, XYZwjiw что-то еще —
метафорическое значение может быть задано независимо от буквального.
Контекстное содержание, таким образом, принципиально
отличается от эпистемического интенсионала, поскольку может не
зависеть от вариации фактов, определяющих экстенсиональные
значения выражения, но обязано устанавливать зависимость
между его буквальным экстенсиональным значением, каким бы оно
ни было, и метафорическим значением (значением в данном
контексте). В случае метафоры, как минимум, контекстное
содержание не обязательно является функцией от сценариев к экстенсио-
налам, скорее, это функция от интенсионала, определяющего
буквальное значение, к значению в контексте.
6. Информативность
Эпистемический интенсионал должен охватывать все
возможности, которые нельзя исключить априори: он информирует, о
чем может быть моя мысль, но не о чем она в действительности.
Если содержание мысли есть ее смысл или смысл пропозиции,
которую она мыслит, то полный эпистемический интенсионал
мысли о воде, например, если отождествляется с существенным
элементом ее содержания, делает того, кто ее мыслит, субъектом
следующего потенциального рассуждения (в упрощенном виде): «из
всего, что я знаю (априори)1, водой может быть Н20, XYZ,...
(список, скорее всего, бесконечен), следовательно, моя мысль — об
Н20 или ATZ, или...» Конечно, субъект не обязан приходить к
пониманию значения термина «вода» и соответствующих мыслей
посредством такого рассуждения, но даже потенциально оно не
несет достаточно информации для приписывания выражениям
определенных не дизъюнктивных значений. Предположительно,
недостающую информацию об экстенсионале термина дает
сослагательный интенсионал; тогда двухмерный интенсионал
достаточно информативен для выполнения когнитивной функции
смысла.
Но даже если объем эпистемически возможного строго задан
априорными связями между понятиями, это еще не значит, что он
1 Субъект может не владеть понятием априорности, и, следовательно, ему
должна быть предоставлена возможность по-разному выразить эту мысль.
А.З. Черняк. Эпистемическое измерение смысла
341
задан однозначно и что, следовательно, двухмерный интенсионал
в принципе может содержать достаточно информации для
неоднозначной идентификации значения термина. Мир может быть
устроен так, что в нем идеальный вклад в мышление того, что
может быть познано априори, отличается от того, как мы его себе
представляем; мы, проще говоря, не обязаны знать, что мы можем
знать априори. Во всяком случае это предположение нельзя
априори исключить из объема эпистемически возможного1.
Представим себе, что субъект не знает, что вода имеет
химический состав Н20, химии еще не существует. Тогда его мысль о воде
и аналогичная мысль его двойника на двойнике Земли о двойнике
воды для него неразличимы2. Гипотеза «Возможно, жидкость в
водоемах вокруг меня есть XYZ» вряд ли будет для него
осмысленной. Сценарий может верифицировать эту мысль в идеальной
рефлексии, т.е. в ситуации, когда имеется вся необходимая
информация и ничто не ограничивает мыслительные способности
субъекта; но чья идеальная рефлексия имеется в виду и какое
количество информации в каком виде должно быть дано в этой
рефлексии, зависит от способа идентификации субъекта. Если под
субъектом понимается просто агент некой абстрактной
рациональности, лишенный не только личностных особенностей, но и
специфических для него ограничений при взаимодействии с
источниками информации и собственной рациональностью,
причиной которых обычно является его принадлежность не только к
определенному биологическому, но и к определенному
социальному виду, то ему вполне можно априори приписывать
рациональность как субъекту мысли «вода есть Н20», даже если
известно, что он не понимает, что значит «Н20».
Но если субъект как часть сценария идентифицирован, в том
числе по его эпистеминеской позиции, т.е. по тому, какие данные
он как представитель своего социального вида в принципе
способен получить и какие выводы в принципе способен из них сделать
1 Чалмерс признает, что интенсионалы иногда изменяются во времени и что
разные субъекты одной и той же мысли иногда имеют разные эпистемические
интенсионалы. Однако если такая изменчивость эпистемического интенсионала в
принципе допускается, совместить ее с идеей априорности или постигаемости
только разумом без дополнительной информации истин, которые он
представляет, можно, только допустив изменчивость понятия априорности.
2 Если даже они различаются широким содержанием, то это различие никак не
отражено в отношении субъекта к этим мыслям.
342
Часть IV. Смысл и контекст в постаналитической философии
в неких данных условиях, то рациональность его мысли «вода есть
Н20» будет зависеть от особенностей его эпистемической
позиции. Это связано с тем, что «все, что субъект может знать априори»
в этом случае охватывает все, что субъект способен узнать на своей
эпистемической позиции1, но может исключать кое-что из того,
что это выражение включало бы, если бы субъект был
идентифицирован просто как агент абстрактной рациональности. Когда
речь идет о двойниках, как правило, имеются в виду
синхронические структурные двойники — их внутренние параметры
тождественны на некий данный момент времени; если бы речь шла о
диахроническом структурном тождестве, многие ключевые примеры
потеряли бы свое теоретическое значение. Так, появление
общедоступных знаний по химии на Земле и двойнике Земли
соответственно должно привести к тому, что узкие содержания мыслей о
воде субъектов в нашем мире и в мире-двойнике будут в массовом
порядке дополняться информацией, почерпнутой из
соответствующих химических теорий, которые, по условию, будут
различными: наша будет утверждать, что вода есть Н20, а их — что вода
есть XYZ. Таким образом, субъект и его двойник не только могут
находиться в одинаковых интерактивных отношениях к разным
субстанциям, называемым ими водой, но и выстраивать эти
отношения с разных эпистемических позиций, различия между
которыми не доступны им в рефлексии, поскольку эти различия могут
проявиться только в будущем. Они оба могут быть не в состоянии
знать, что каждый из них может знать априори. В этом случае
нельзя сказать, что та или иная мысль однозначно
верифицирована или фальсифицирована тем или иным сценарием.
Почему идентификация субъекта, в том числе по его
эпистемической позиции, предпочтительна? Если я способен
использовать термин «вода» референциально, то это значит, что с его
помощью я могу указывать на определенные вещи в мире; и если я знаю
значение термина «вода» в этом его употреблении, то смысл, если
существует, должен позволять мне различать правильное и непра-
1 В крайнем случае, это - наилучшая эпистемическая позиция, доступная
субъекту посредством всех тех улучшений текущей позиции, которые не требуют
чрезмерных затрат ресурсов, например, таких, при которых с высокой
вероятностью субъект окажется после такого улучшения недееспособным или мертвым.
Совершенно очевидно, что даже эта наилучшая позиция не будет идеальной
позицией, которая может быть приписана субъекту как агенту чисто формальной
рациональности.
А.З. Черняк. Эпистемическое измерение смысла
343
вильное употребления термина. Это значит, что он должен
включать достаточно информации для исключения некоторых эписте-
мических возможностей и предпочтения одним других как более
правдоподобных1. Смысл, иначе говоря, должен обладать
определенной избирательностью в отношении правдоподобия эписте-
мических гипотез. Если субъект в сценарии — просто абстрактный
логик, то такого рода избирательности неоткуда взяться в эписте-
мическом измерении смысла: все возможности рассматриваются
как равноценные.
Другой аспект значения, в отношении которого измерения
двухмерного интенсионала могут оказаться недостаточно
информативны, — социальный. К примеру, Т. Бёрдж настаивает на
социальной природе ментального содержания2: субъект использует
понятия с интенцией (по крайней мере неявной) использовать его
так же, как это делают другие члены его сообщества. В его примере
Берт считает, что артрит иногда поражает бедра, тогда как в
реальности это — болезнь конечностей; таким образом, его убеждение
ложно относительно артрита. Двойник Берта живет в другом
окружении, в котором «артрит» обозначает еще и болезнь мышц, так
что его аналогичное убеждение истинно, но не относительно
артрита, а относительно твартрита. Чалмерс толкует этот пример так,
что сослагательный интенсионал понятия Берта выбирает во всех
мирах артрит, а двойника Берта — твартрит. Если Берт принимает,
что его лингвистическое сообщество использует «артрит» для
обозначения в том числе болезней мышц, то он должен рационально
счесть свою мысль истинной. Но то, как это понятие используют
1 Как правило, если субъект предполагает, что вода в мире, который является
его действительным миром, имеет такое-то свойство, это значит, что он
приписывает этой гипотезе значительную вероятность. В то же время, если он просто
допускает, что его действительный мир может быть тождествен некоему миру,
характеризуемому теми или иными свойствами, он обычно не требует от себя
приписывать какую-то определенную вероятность этой гипотезе. Первый подход
можно назвать рассмотрением возможности как обусловленной сравнительным
весом имеющихся данных, второй - рассмотрением чистой возможности. Для
решения некоторых когнитивных задач полезны допущения чистых возможностей,
тогда как решение других больше зависит от обусловленных возможностей. Это
различие не коррелирует полностью с различием между эпистемическими и
сослагательными возможностями, так как обычно предположение о том, что в мире
вокруг меня может быть по-другому, содержательно и когнитивно отличается от
предположений как о том, чем мир вокруг меня может быть, так и о том, чем он мог
бы быть.
2 См.: Bürge Т. Individualism and the Mental //Midwest Studies. 1979. Vol. 4. P. 73-121.
344
Часть IV. Смысл и контекст в постаналитической философии
члены его действительного сообщества, фальсифицирует его
мысль.
В такой интерпретации эпистемический интенсионал
говорит, что может обозначать понятие в том или ином социальном
окружении, а сослагательный интенсионал выбирает тот объем
понятия, который установлен совместной практикой или
конвенцией действительного социального окружения. Однако под
социальным окружением субъекта могут пониматься разные
совокупности обстоятельств. Берт может быть частью коммуникативного
сообщества, встроенного в другое сообщество, устанавливающее
стандарты, и дающего образцы атрибуции значений для
ближайшего окружения субъекта в центре сценария. Эта прагматическая
зависимость может дать сбой в данном конкретном случае; в
результате убеждение субъекта может оказаться ложным
относительно понятия артрита, используемого непосредственным
окружением, будучи истинным относительно более общего или
экспертного (при другой интерпретации соответствующих связей
между сообществами) понятия артрита. То же относится к его
двойнику. В этом случае могут одновременно существовать два
общих понятия артрита, с одним из которых индивидуальное
употребление согласно, а с другим — нет. Если добавить в список
потенциальных источников социального измерения смысла еще,
например, понятие, сформированное на наилучшей для данного
сообщества эпистемической позиции (скажем, в идеальной
коммуникативной ситуации), то множество релевантных социальных
окружений еще возрастет.
Все эти социальные окружения в важном смысле действительные:
они все одновременно, а не только чередуясь, могут определять
значение понятия и соответствующего ментального содержания в той или
иной пропорции, «вычисляемой» исключительно в контексте. Если
социальное окружение не специфицировано в описании сценария, то
эпистемический интенсионал в таком случае должен трактовать все
три указанных потенциальных источника значения как элементы
социального окружения, предлагая для понятия «артрит» в качестве
объема в этом сценарии артрит 1 + артрит2+ артритЗ. Тогда
сослагательный интенсионал данного понятия в этом мире будет
выбирать во всех возможных мирах указанный комбинированный
объем понятия. Если этот сценарий рассмотрен как действительный,
то именно такой комбинированный объем должен быть экстен-
А.З. Черняк. Эпистемическое измерение смысла
345
сионалом понятия «артрит» Берта. Но интуитивно это не так,
поскольку это понятие в описанной ситуации скорее должно иметь
разный экстенсионал в зависимости от контекста, чем один и тот
же независимо от контекста.
Это, мне кажется, свидетельствует о том, что социальное
окружение в эпистемической вариации должно быть
специфицировано; но если субъект включен в сценарий как часть определенного
социального окружения, то он должен быть в этом сценарии также
носителем определенных свойств, детерминированных этим
социальным окружением. Предположительно, к ним относятся и
некоторые свойства, конституирующие эпистемическую позицию
субъекта, — специфические способы восприятия, некоторые
принципы эвристики и эпистемической рациональности и т.п.
(полагаю, список может включать разные элементы в зависимости от
типа субъекта, определенного не социальными характеристиками, и
типа сообщества, с которым он идентифицирован социально).
В общем виде проблема информативности двухмерного интен-
сионала может быть, я полагаю, представлена как проблема
регресса измерений: интенсионал отображает упорядоченную пару
сценарий—возможный мир на объем или истинностное значение, если
только реализован сценарий, в котором сценарий из
соответствующей упорядоченной пары включает достаточно информации для
того, чтобы функция отображения выполнялась этой парой. Таким
образом, более полным интенсионалом должна быть
упорядоченная тройка, состоящая из сценария второго порядка,
оригинального сценария и возможного мира. Но если принять такую тройку за
интенсионал, то из этого следует необходимость следующего шага
в определении: должен быть реализован сценарий, при котором
сценарий второго порядка содержит достаточно информации,
чтобы можно было приписывать выполнение функции отображения
парой оригинальный сценарий—возможный мир. И так далее до
бесконечности. Как следствие, двухмерная модель не может
обеспечить полное описание ни одного смысла.
7. Динамика смысла
Еще один важный аспект смысла, который, как мне кажется,
не очень укладывается в двухмерную схему, - его изменчивость.
Интуиция подсказывает, что если значение термина может ме-
346
Часть IV. Смысл и контекст в постаналитической философии
няться, то и любые его компоненты, включая смысл, могут
меняться. Высказывание «если бы мы знали больше о мире, мы
понимали бы термин х по-другому» имеет смысл, а если так, то
возможность термину иметь другой смысл по крайней мере
эпистемически допустима.
В модели Чалмерса базовая вариация интенсионала отражена
изменением контекстов токенов термина определенного типа.
Если термин определен чисто орфографически, то вариация
смысла не представляет никакой проблемы для теории, так как
смысл полностью определяется обстоятельствами появления то-
кена. С одной стороны, существует множество вариаций
написания и произнесения одних и тех же знаков, многие из которых
практически неотличимы от написаний и произнесений чего-то,
что не является этим знаком по другим, не орфографическим,
параметрам. Это делает понятие орфографической нормы
размытым. С другой стороны, если объяснение смысла претендует на
объяснение содержания мыслей, а не только выражений, то чисто
орфографическая типизация недостаточна, так как мысль, скорее
всего, невозможно идентифицировать независимо от ее
содержания1.
С точки зрения когнитивной роли смысла его изменение
должно отражать прежде всего изменение состояния знания
субъектов об обстоятельствах, в которых применим и в которых
неприменим данный термин. При этом оно может никак не затрагивать
знание значения в каком-то более существенном смысле, прежде
всего в смысле эксплицируемого в виде какого-то достаточно
детального описания знания того, что является значением
соответствующего термина. Интуитивно такое изменение может
затрагивать все токены данного термина, меняя для них принципы
приписывания значения или критерии значимости во всех
контекстах. Вариация возможностей, отражающая такие
изменения, включает прежде всего возможные эпистемические позиции
субъекта. Так, если мы в обычном своем состоянии сможем лучше
различать цвета и вкусы (что вполне достижимо для некоторых из
нас даже сейчас и почти для всех при определенной подготовке),
то жидкость без цвета и запаха, вероятно, не будет для нас состав-
1 На это указывает, например, Р. Сталнейкер: StalnakerR. Narrow content // Pro-
positional Attitudes; C.A. Anderson and J. Owens (eds.) Stanford: Center for the Study of
Language and Information, 1990.
A3. Черняк. Эпистемическое измерение смысла
347
ляющей смысла термина «вода» не потому, что вода изменится, а
потому что мы будем более чувствительны ко всей совокупности
ее объективных характеристик, где вся совокупность
характеристик есть множество характеристик, корректно приписываемых
объекту при любом способе его моделирования, по поводу
которого данное сообщество пользователей языка может быть
согласно, что это правильный способ идентификации данного объекта1.
Пусть «вода» определена как термин русского языка,
применяемый для обозначения всей и только жидкости с
определенными свойствами. В этом случае использование слова «вода» для
указания на что-то еще или тем, кто не знает русского языка, могут
спокойно трактоваться как токены других типов. Предположим,
состояние знания пользователей языка о том, как правильно
использовать данный термин, претерпело следующее минимальное
изменение: появился один новый случай, относительно которого
нельзя сказать, применим к нему данный термин или нет,
например это субстанция, которую, как подозревают ученые, кто-то
искусственно создал на других химических принципах, но текущее
состояние науки не позволяет отличить ее от обычной
дистиллированной воды. Назовем ее квазиводой.
Можно сказать, что это изменение соответствует
минимальному расширению границ нечеткости термина. Эпистемический
интенсионал приписывает значения относительно эпистемиче-
ски возможного, которое трактуется как более широкий класс
гипотез, чем те, которые описывают метафизические возможности,
так как последние могут исключать что-то, что в принципе
мыслимо в рациональном рассуждении, но что субъект не может
считать истинным в действительном мире. Однако, если
эпистемический интенсионал — хорошая модель смысла, то описанное выше
изменение должно делать возможным расширение множества
эпистемически возможного, а именно: добавление хотя бы одной
новой возможности такого рода. В этом интуитивно нет ничего
странного, если учесть, что объем того, что не может быть
исключено чисто рациональным рассуждением или априори, тоже
может меняться при определенном понимании рациональности и
априорности. Но такая трактовка данного изменения противоре-
1 Или, иначе, которым они могут согласованно пользоваться достаточно
длительное время для того, чтобы эти нормы отразились в языке; иначе они вряд ли
смогут детерминировать изменения смыслов.
348
Часть IV. Смысл и контекст в ностаналитической философии
чит модели, так как в ней эпистемический интенсионал
соответствует предельному множеству эпистемически возможного и,
следовательно, инвариантен1.
Далее, рассмотренное минимальное изменение смысла может
быть не отражено в ассоциируемых с ним субъектом описаниях,
но совместимо как с общепринятым его описанием, так и с
каноническим описанием, которое можно поставить ему в
соответствие. Тогда эпистемический интенсионал, скорее всего, будет
приписывать токену «вода» в новом контексте вполне определенное
значение: если вместо воды квазивода, «вода» обозначает
квазиводу. Сослагательный интенсионал при прочих равных остается
неизменным: если бы вода была квазиводой, «вода» обозначало бы
воду. Таким образом, хотя у интенсиональной функции в
двухмерной модели три значения - значение в действительном мире,
значение в возможном мире (истинно, ложно для предложений) и
неопределенное, в данном случае эти функции будут с большой
вероятностью приписывать определенные значения там, где
здравый смысл предписывает неопределенное значение. Ведь по сути,
если состояние знания значения изменилось, то теория значения
сталкивается с дилеммой: отдавать в определении значения
преимущество первоначальному состоянию знания или новому его
состоянию. Если модель не чувствительна к этому теоретическому
колебанию позиций, она будет предписывать определенный выбор
в подобном случае2.
В принципе можно отрицать динамику смысла как таковую,
трактуя, например, каждое когнитивно значимое изменение,
подобное описанному, как смену одного понятия другим и
определяя тип термина непосредственно по связи с понятием,
определенной дескрипцией или чем-то подобным. Но интуитивно
достаточно очевидно, что определенные изменения в условиях
жизни, в частности технические нововведения, имеют
определенные семантические последствия. Так, появление искусственной
крови сделало возможным не только прорыв в медицине, но и
дало жизнь новому понятию. Однако это понятие, будучи
комбинацией двух известных («искусственная» и «кровь»), может в прин-
1 В связи с этим не вполне понятно, что имеет в виду Чалмерс, говоря, что
эпистемический интенсионал в некоторых случаях может меняться.
2 Конечно, всегда остается альтернатива игнорировать состояние знания, но
это будет противоречить условию знания, из которого я здесь исхожу.
А.З. Черняк. Эпистемическое измерение смысла
349
ципе считаться мыслимым априори; следовательно, мир, в
котором вместо крови существует только искусственная кровь и
«кровь» используется для обозначения именно этой субстанции,
а «искусственная кровь» обозначает что-то другое или вовсе
не используется, должен быть отнесен к числу эпистемически
возможных для любого, кто в нашем мире использует термин
«кровь». Согласно этой модели, применимость к искусственной
крови является частью смысла термина «кровь» независимо от
того, что в действительности «кровь» применяется к этой
субстанции обычно только в сочетании с «искусственная». Но если в
будущем обстоятельства сложатся так, что «кровь» будет массово
применяться практически исключительно для обозначения
искусственной крови, которая полностью заменит обычную кровь,
а последняя в свою очередь исчезнет, то это может изменить
сослагательный интенсионал термина «кровь», но не его эпистеми-
ческий интенсионал. С точки зрения возможного ничего не
изменится. Но интуитивно смысл термина «кровь» в таком случае
может измениться и существенно: базовым контекстом,
определяющим его значение, может стать его применение к
искусственной крови1, выражение «искусственная кровь» наряду с
некоторыми другими приобретет иное значение (возможно, вообще
потеряет смысл).
Возможно, информативность смысла относительно того, к
чему в принципе применим данный термин, останется той же, что и
сейчас, однако это явно не так с его информативностью в
отношении того, с какими другими терминами он может осмысленно
сочетаться и в каких других контекстах он может быть еще законно
использован. Порождение новых контекстов можно трактовать
как открытие новых эпистемических возможностей. Сейчас мы не
можем сказать, что могут представлять собой те или иные
возможные миры: например, такой, в котором осмысленно выражение
«базукообразная кровь»; эта информация может стать доступной в
определенных обстоятельствах, которые, разумеется, также
можно трактовать как эпистемические возможности, открытые сразу.
Но смысл не может быть сразу информативен для неидеальных
1 Это, конечно, будет зависеть от того, какие связи с прежним господствующим
употреблением сохранятся, останется ли, например, частью общего понимания,
приобретаемого при обучении использованию данного термина, история его
прошлых использований.
350
Часть IV, Смысл и контекст в постаналитической философии
пользователей в отношении всей совокупности таких
возможностей1.
Если уж трактовать смысл как интенсионал, то его роль
больше соответствует, как мне кажется, функции (если описывать ее в
самом общем виде) отображения когнитивного значения любых
представлений независимо от способа их фиксации, на
принадлежность токена к типу для субъекта или сообщества. Субъект не
может быть при таком подходе простым дополнением эпистеми-
ческой возможности, так как сама вариация этих возможностей
ограничена принадлежностью субъекта (индивидуального или
коллективного), в том числе к определенному эпистемическому
типу, определяемому прежде всего его эпистемической позицией.
Смысл термина «вода» в этом случае выбирает все и только
случаи жидкости без цвета и запаха, если представление о воде как
жидкости без цвета и запаха детерминирует идентификацию
образцов воды для субъекта, и он выбирает все, но не только, случаи
такого рода, если это представление необходимо, но не
исчерпывает идентифицирующие признаки воды для субъекта. Если это
представление не необходимо для идентификации воды, но имеет
определенное когнитивное значение для субъекта, выбор
релевантных случаев будет подчинен другим компонентам смысла
данного термина. Смысл предложения может при этом давать
стандартные значения — «истинно», «ложно», «неопределенно»,
которые соответственно представляют собой релевантные
семантические типы для токенов данного грамматического вида.
1 В общем виде это стандартная проблема трудности моделирования
динамических характеристик системы - в данном случае языка - посредством
статической схемы.
Научное издание
Мышление ученого вчера и сегодня
Коллективная монография