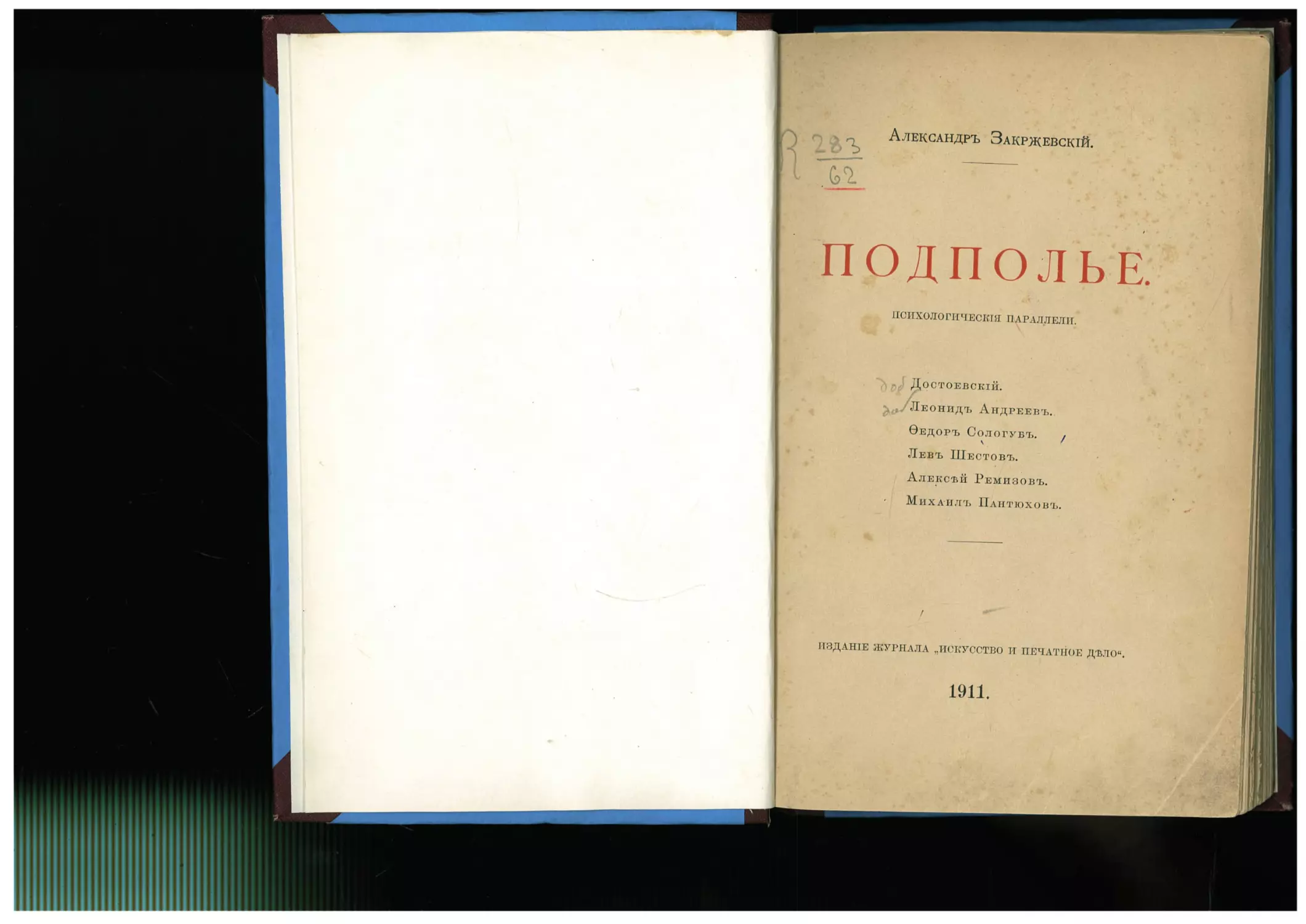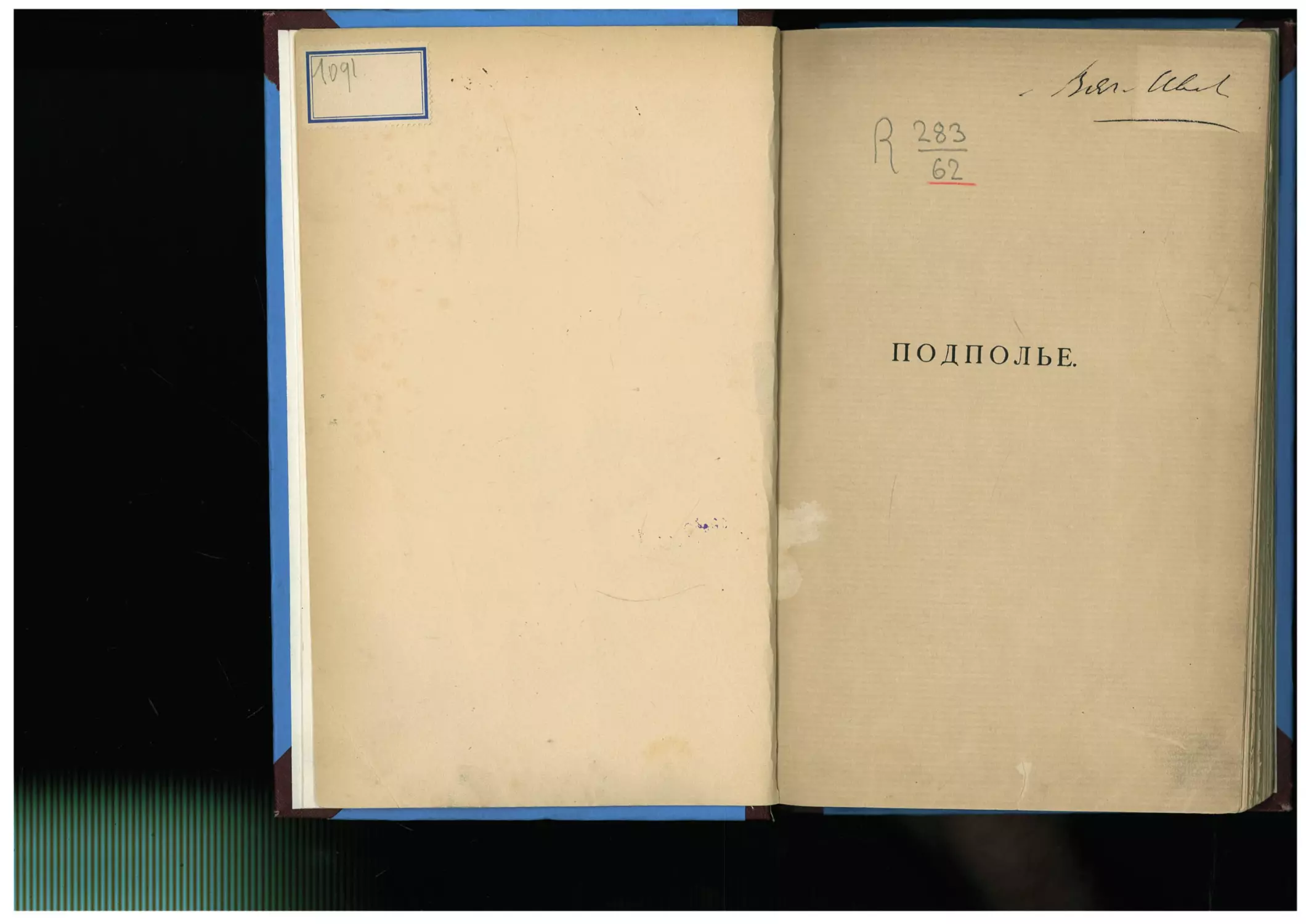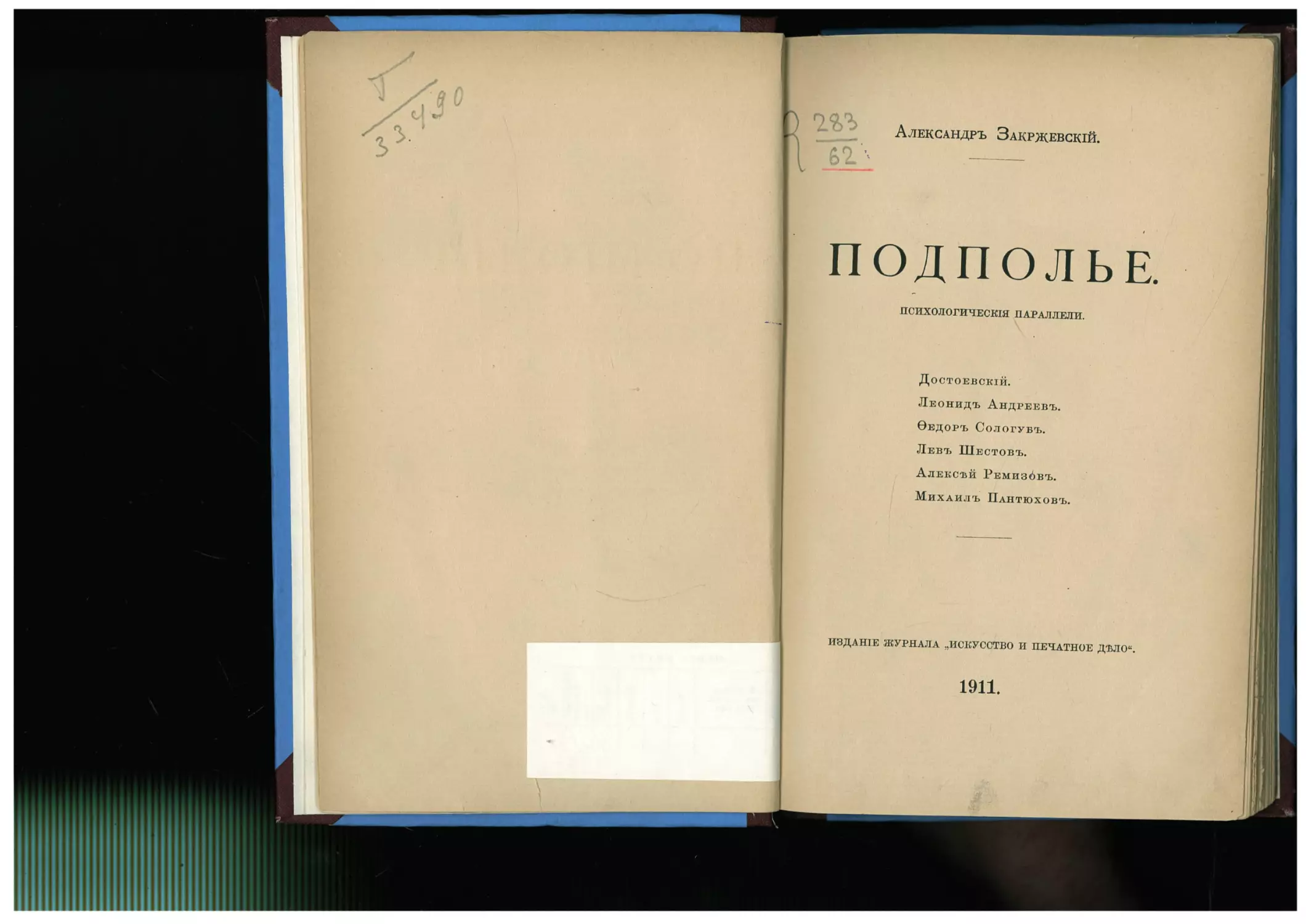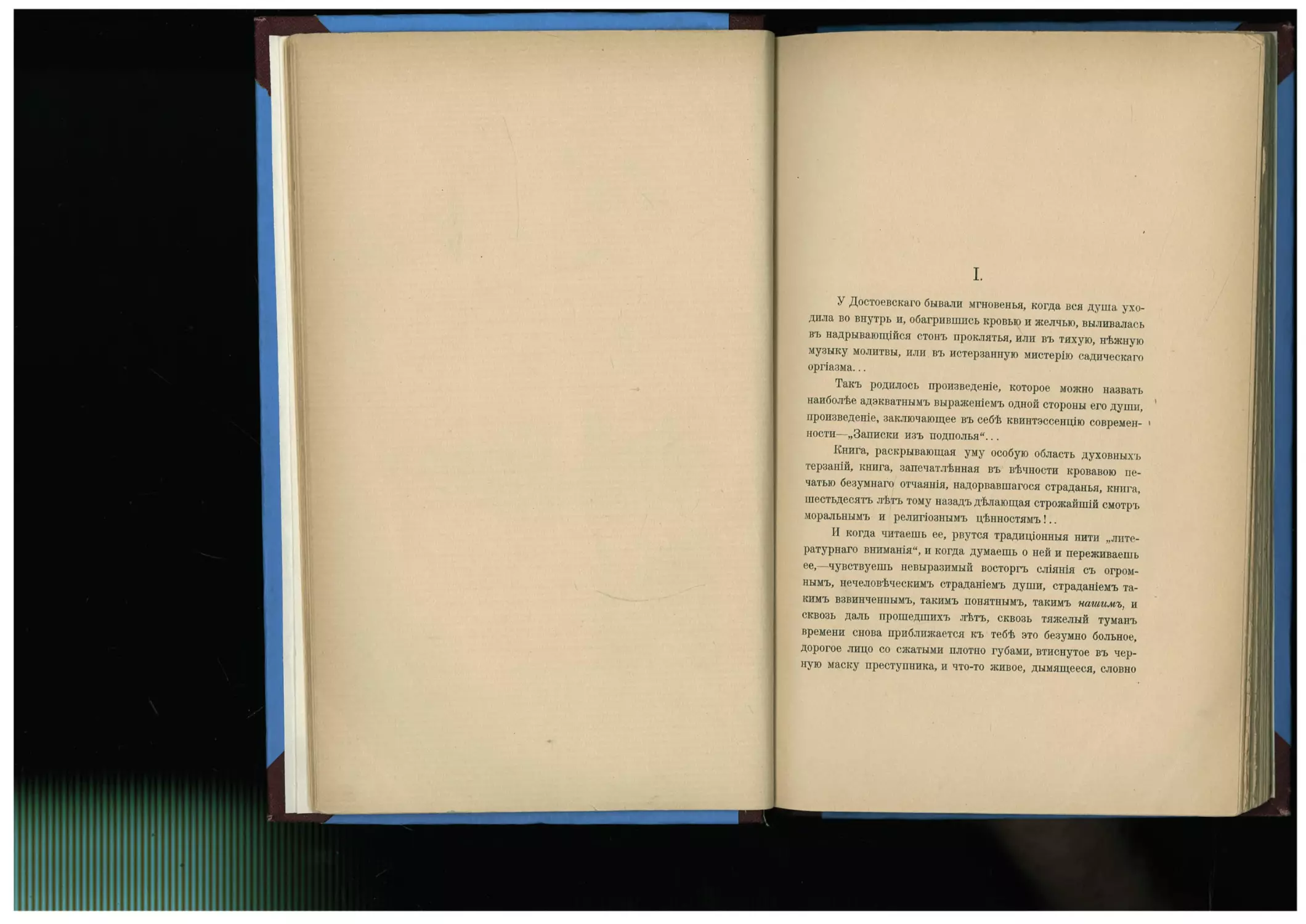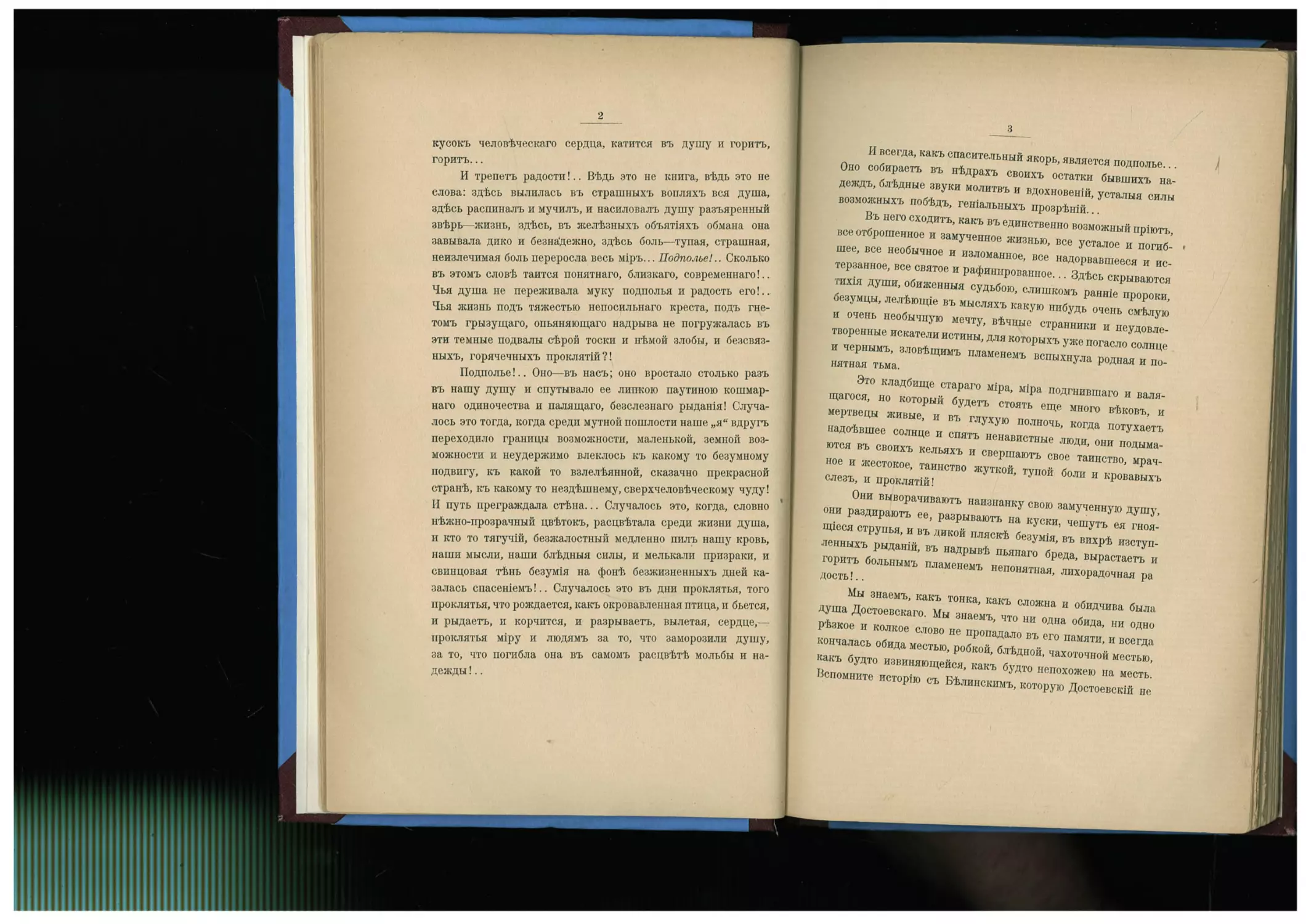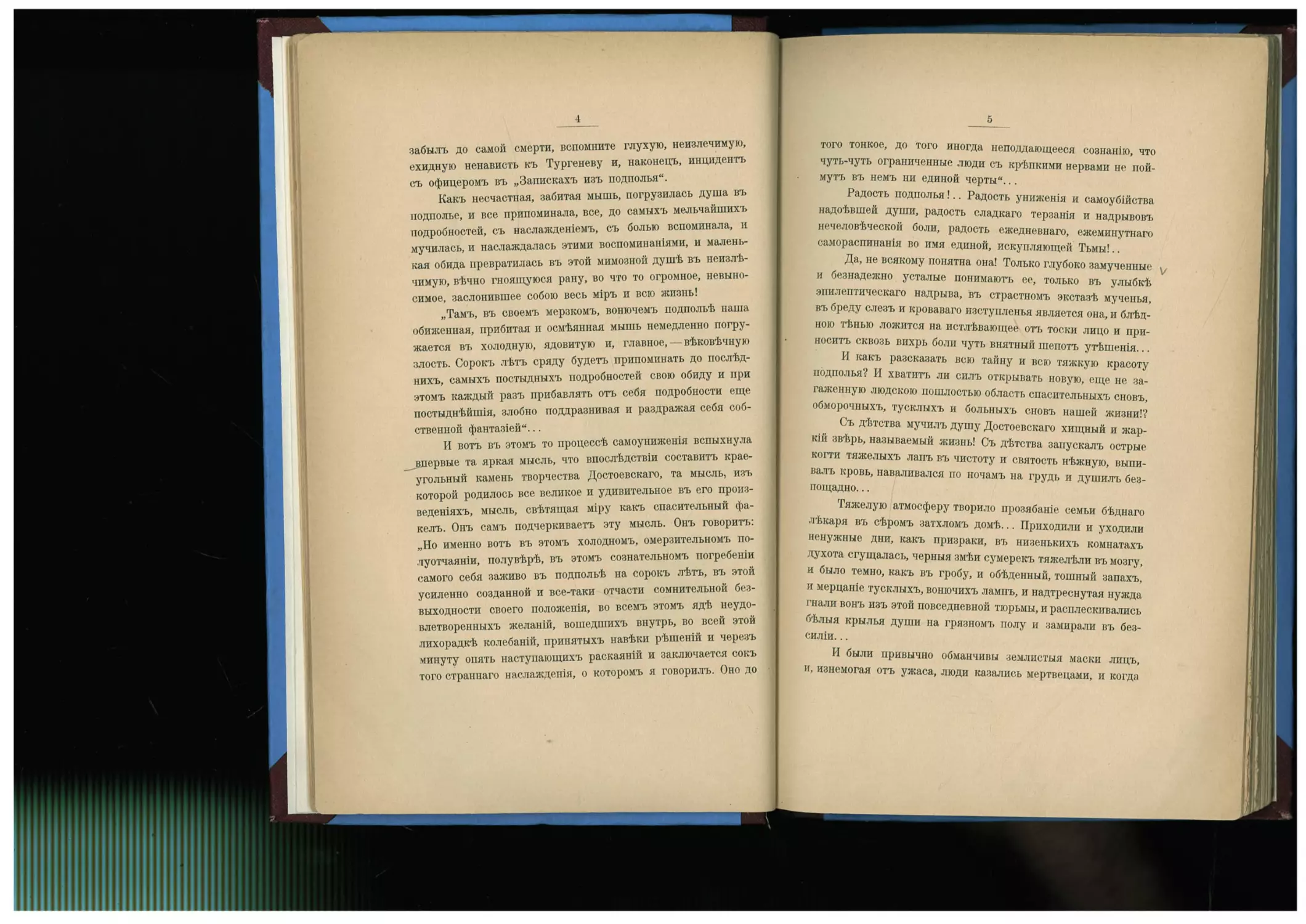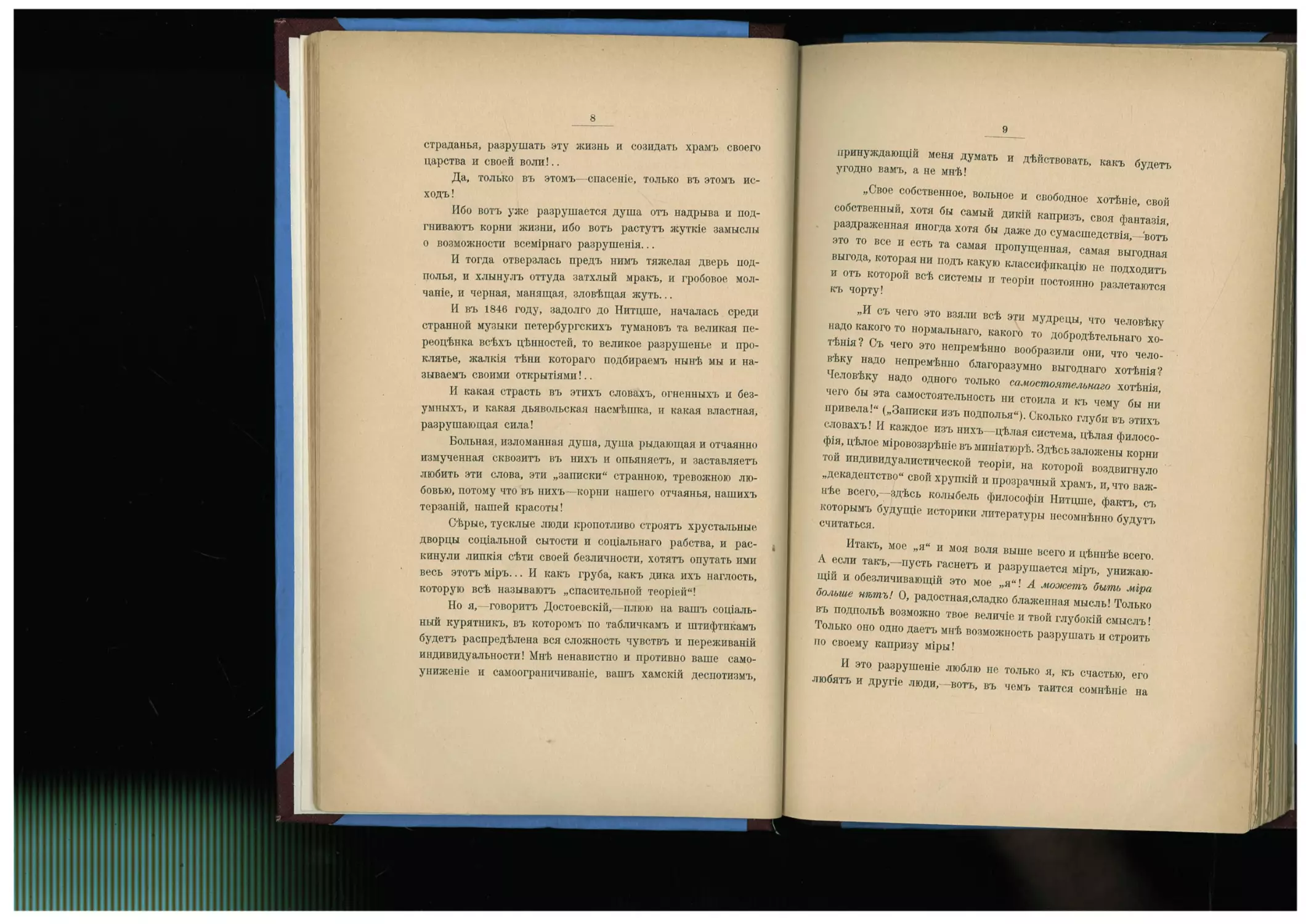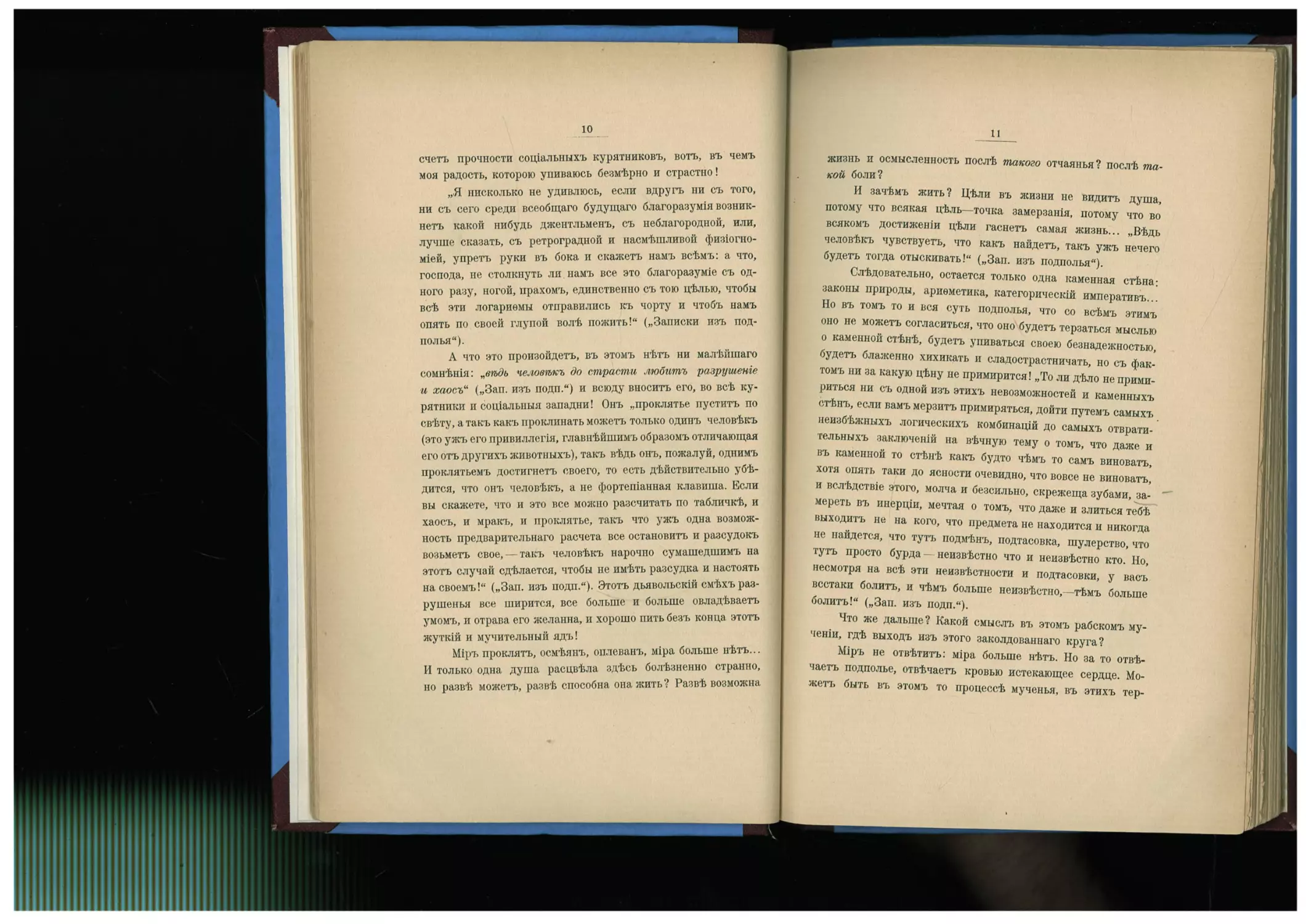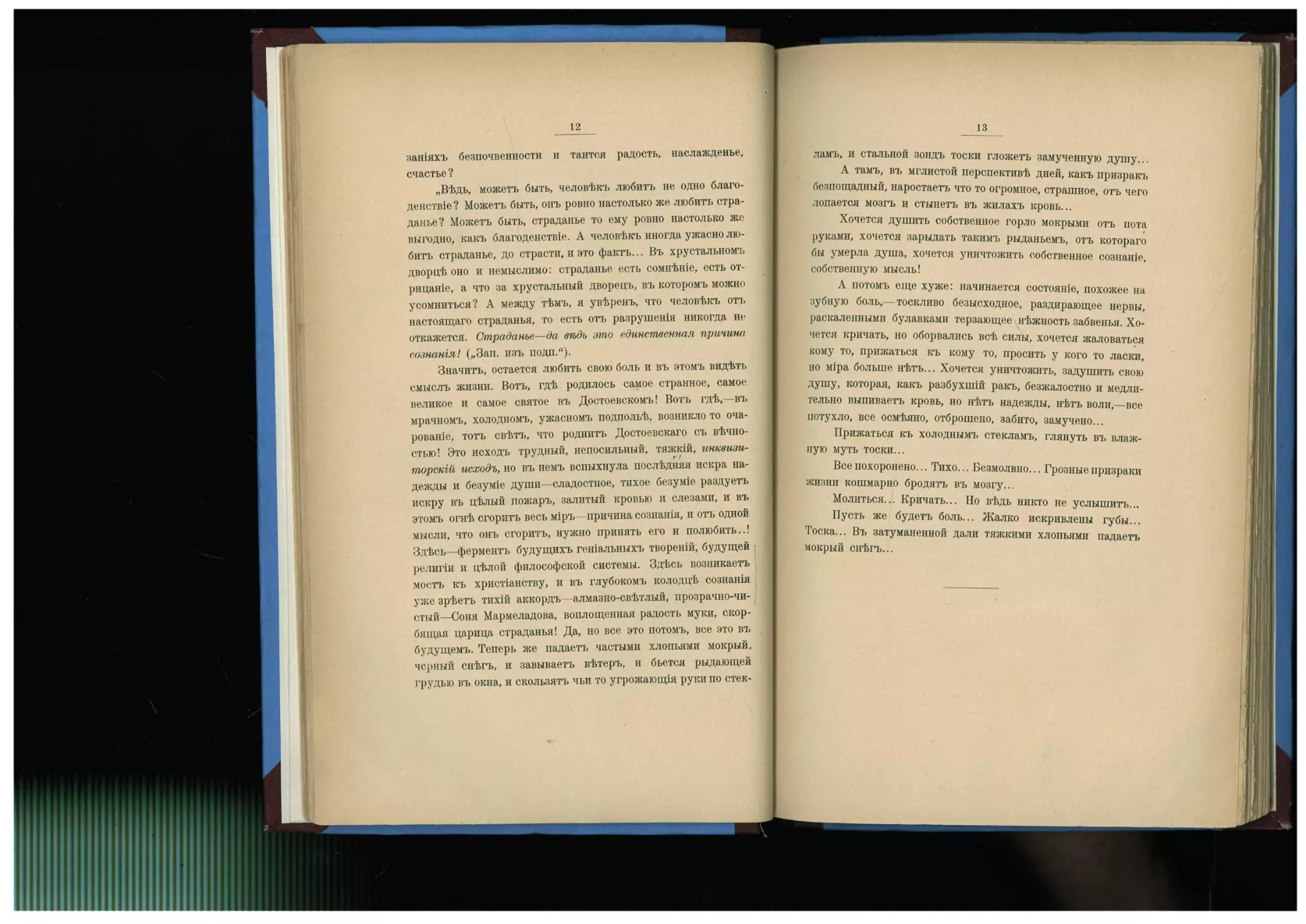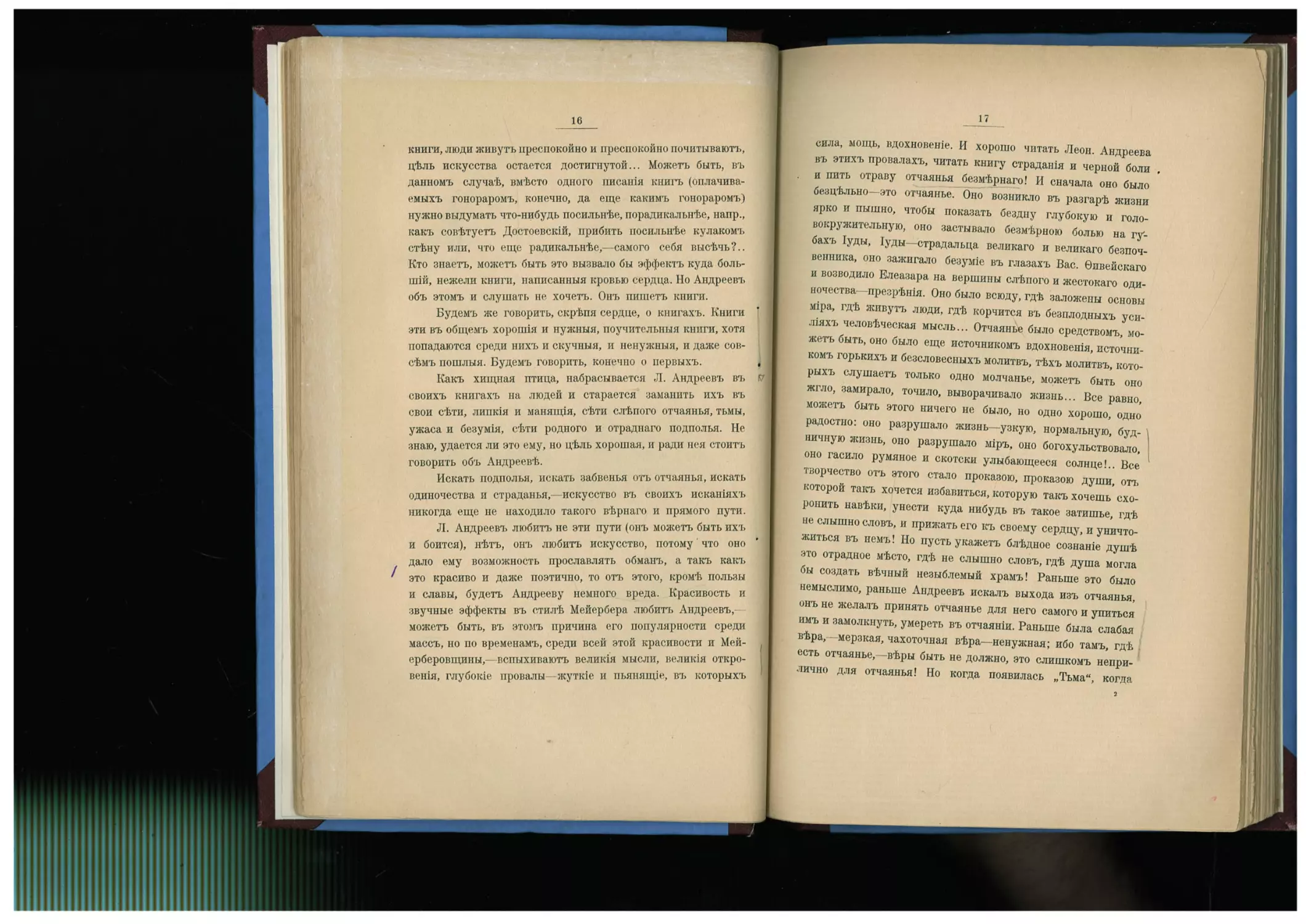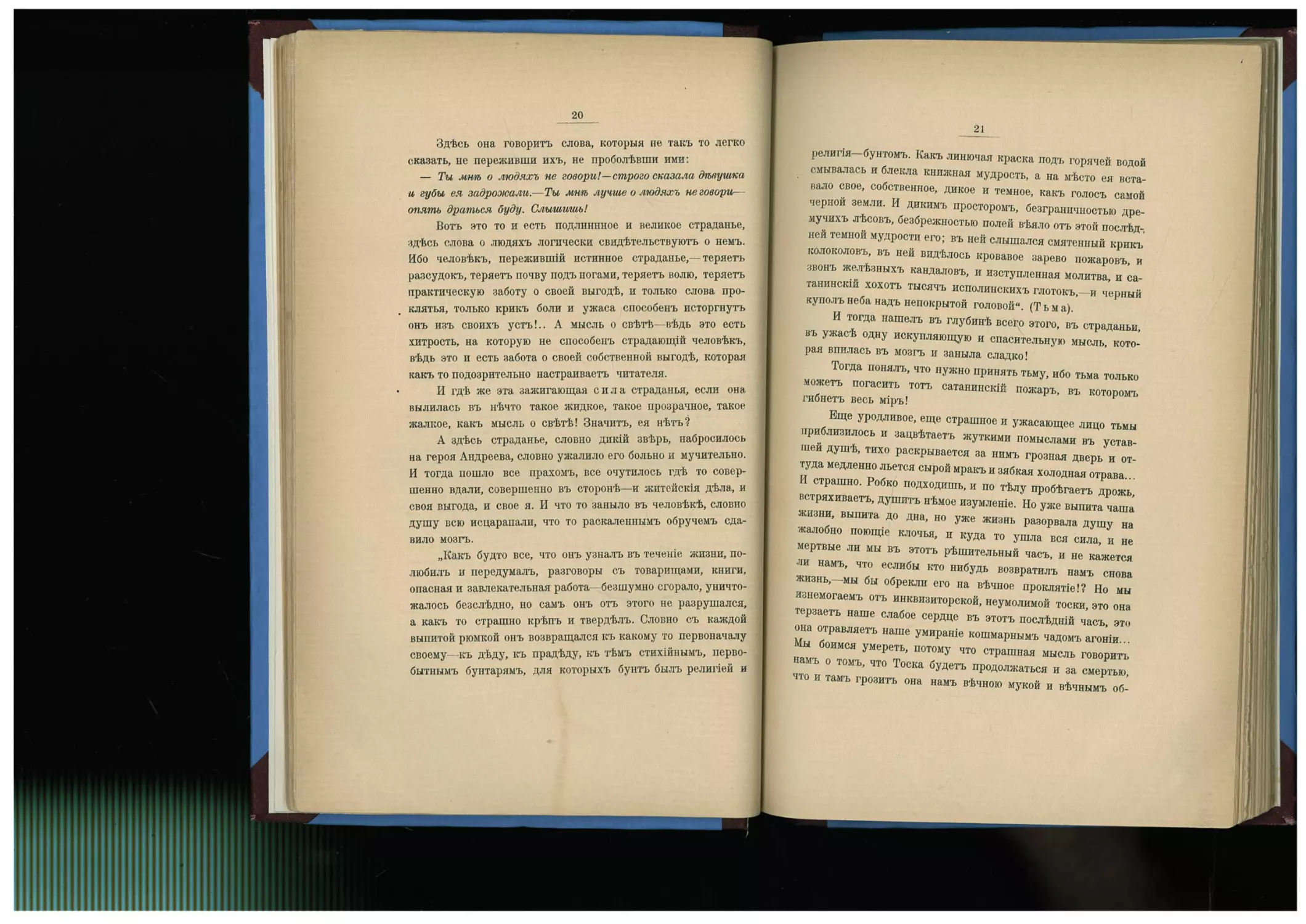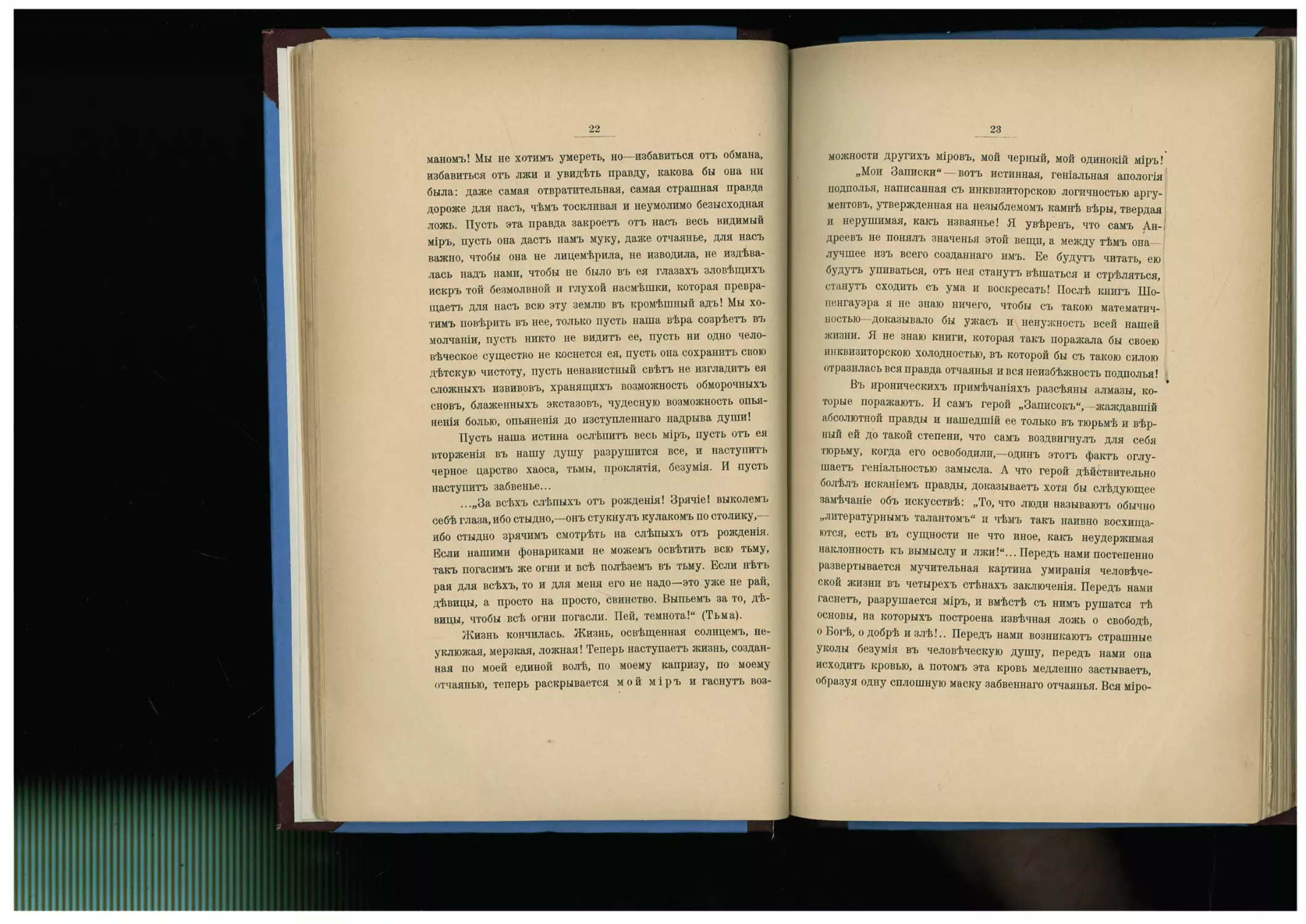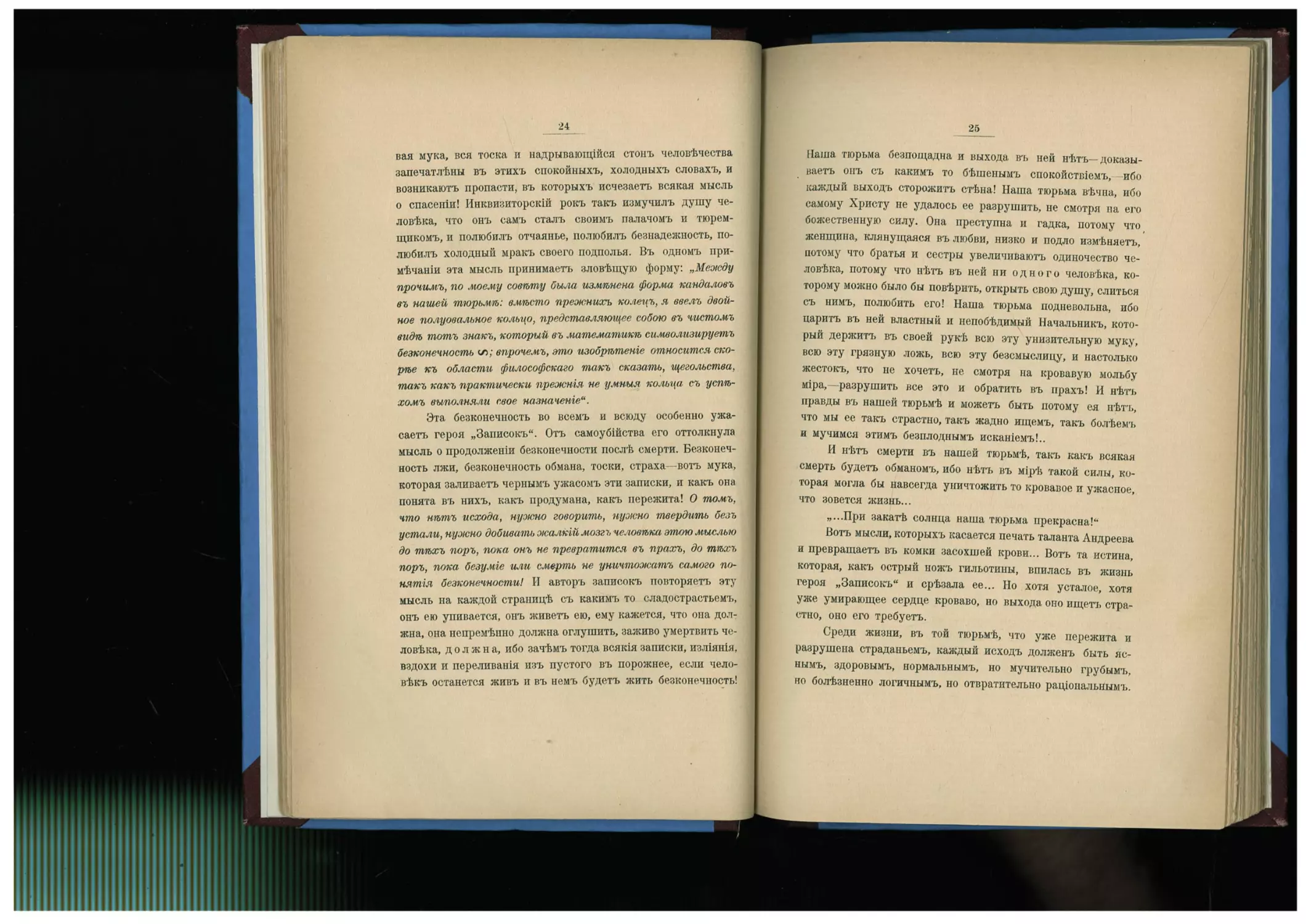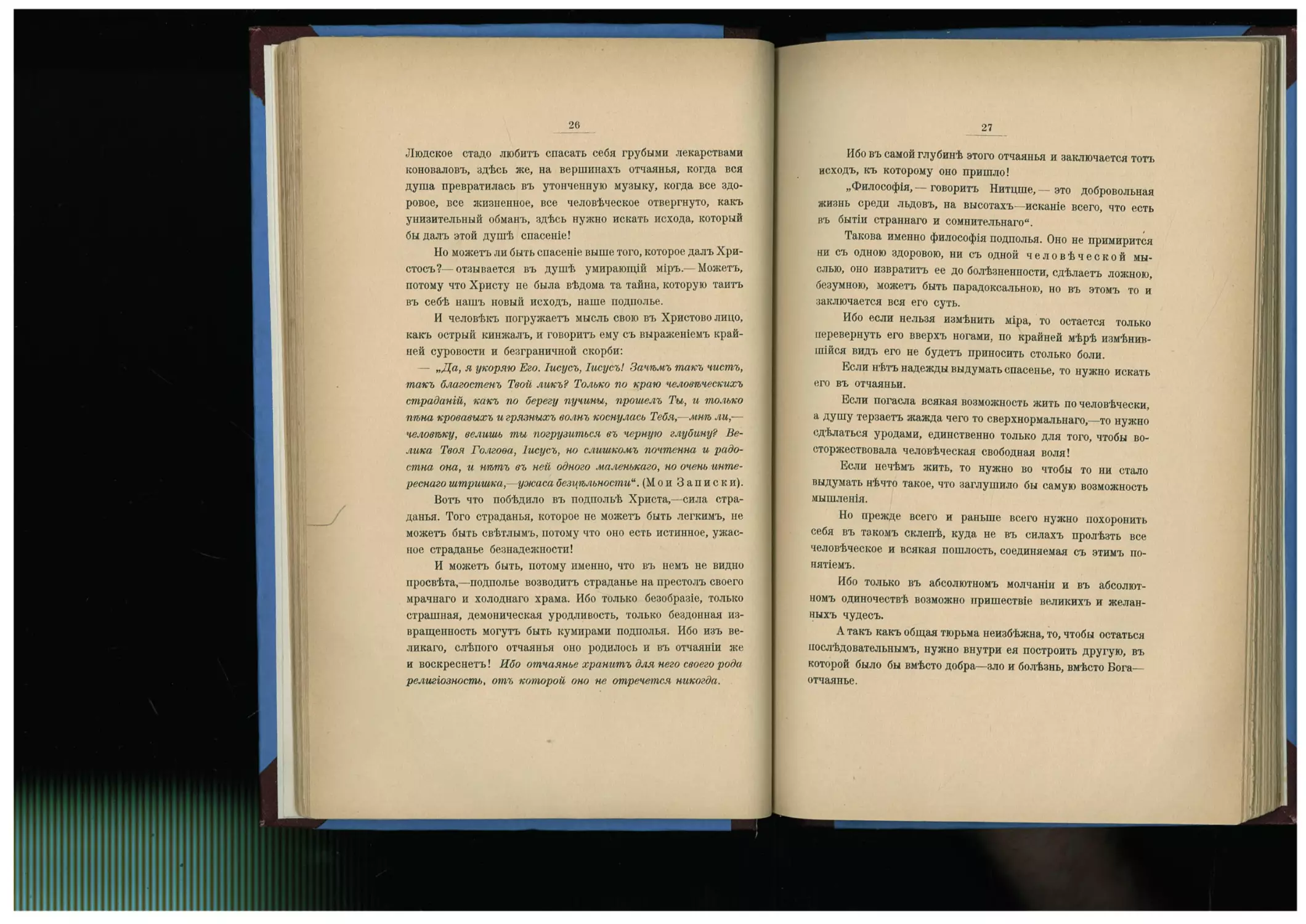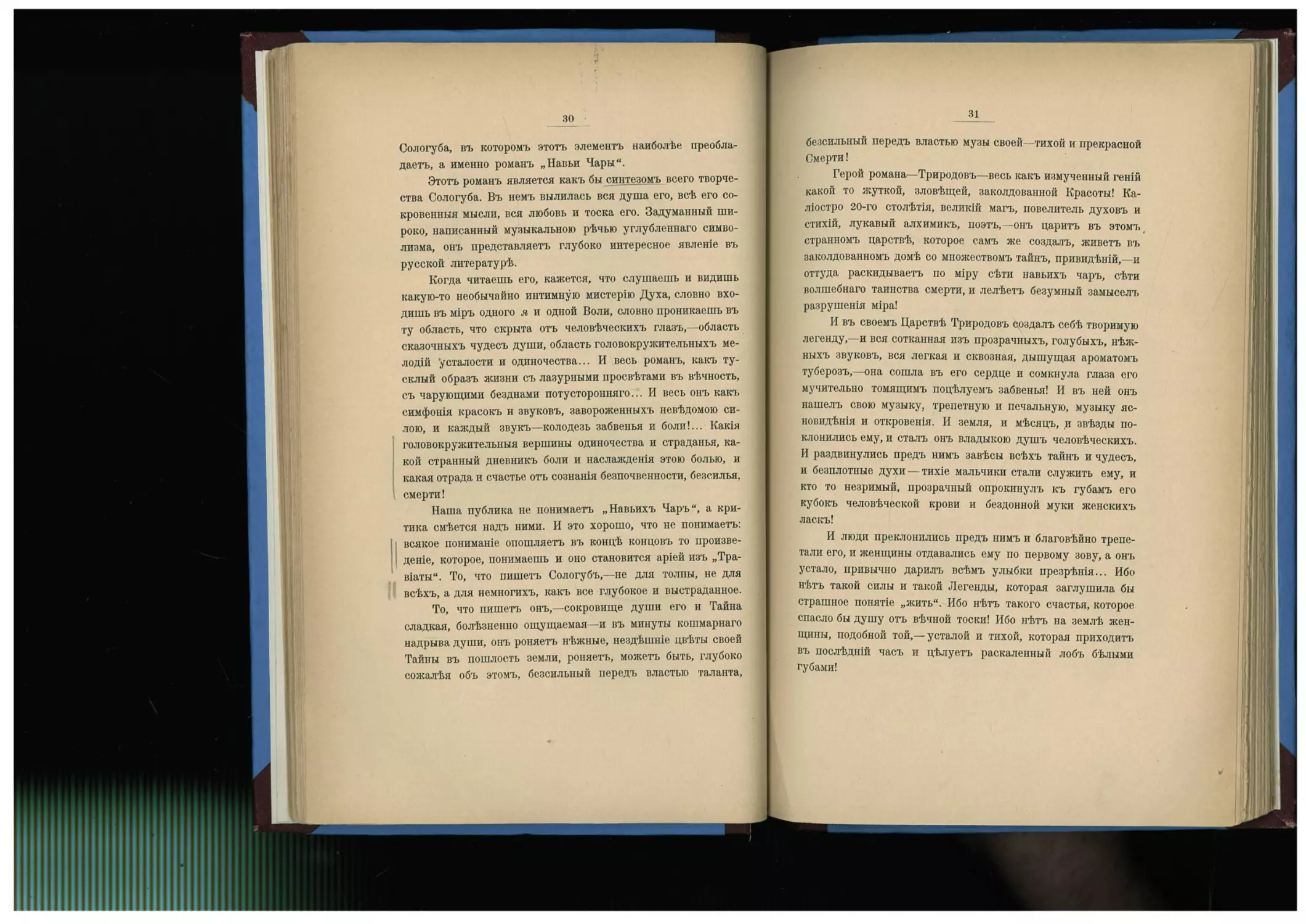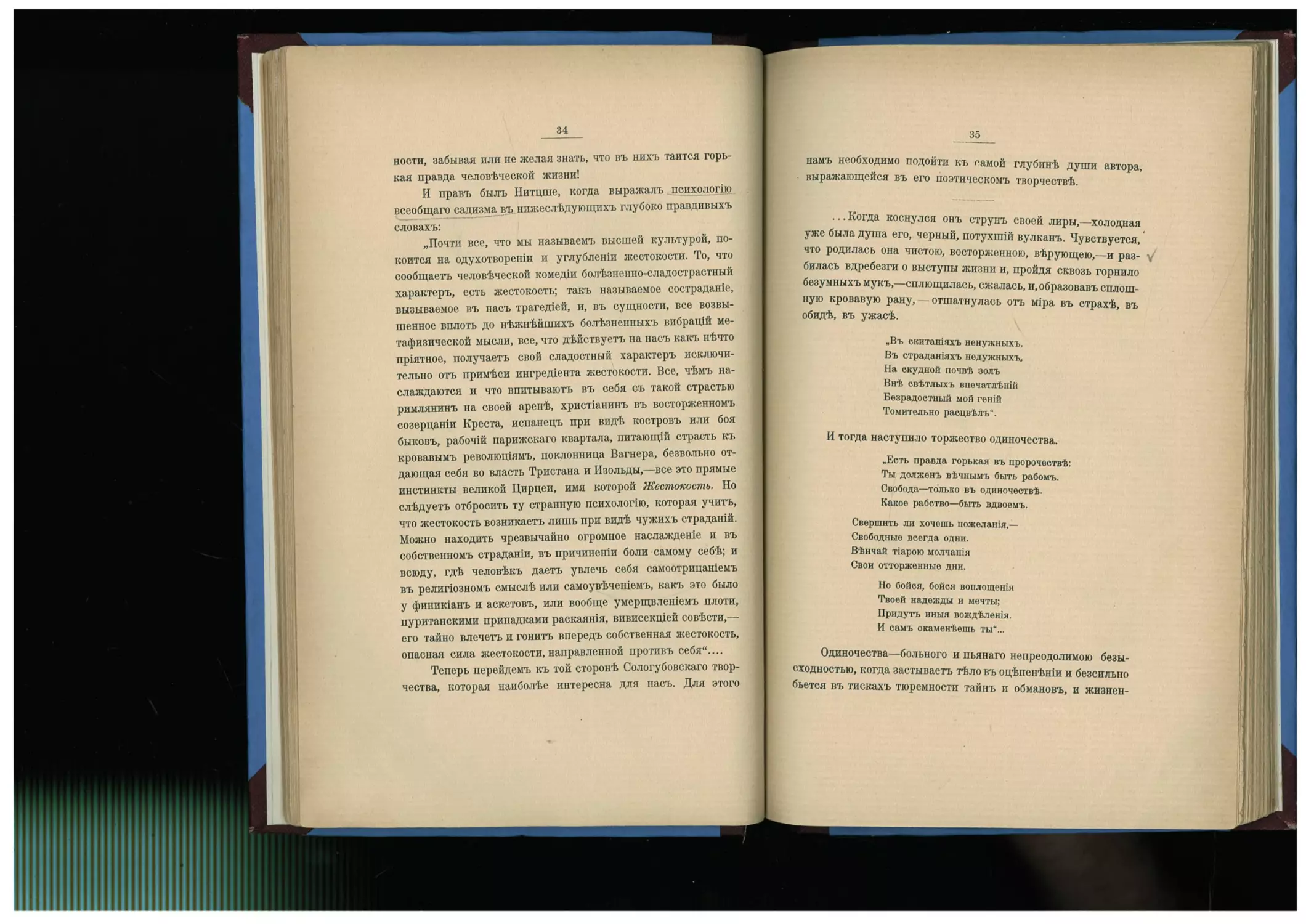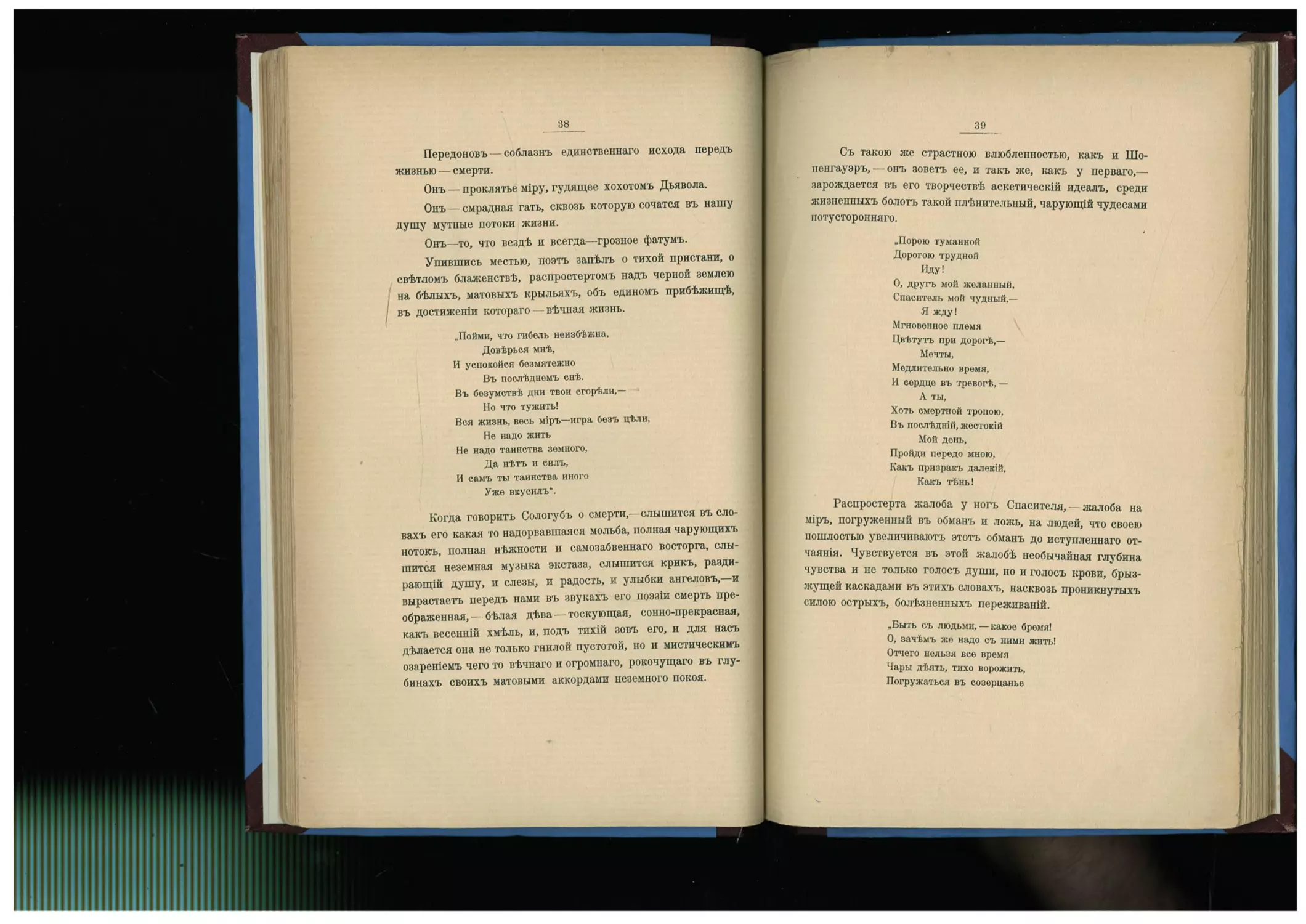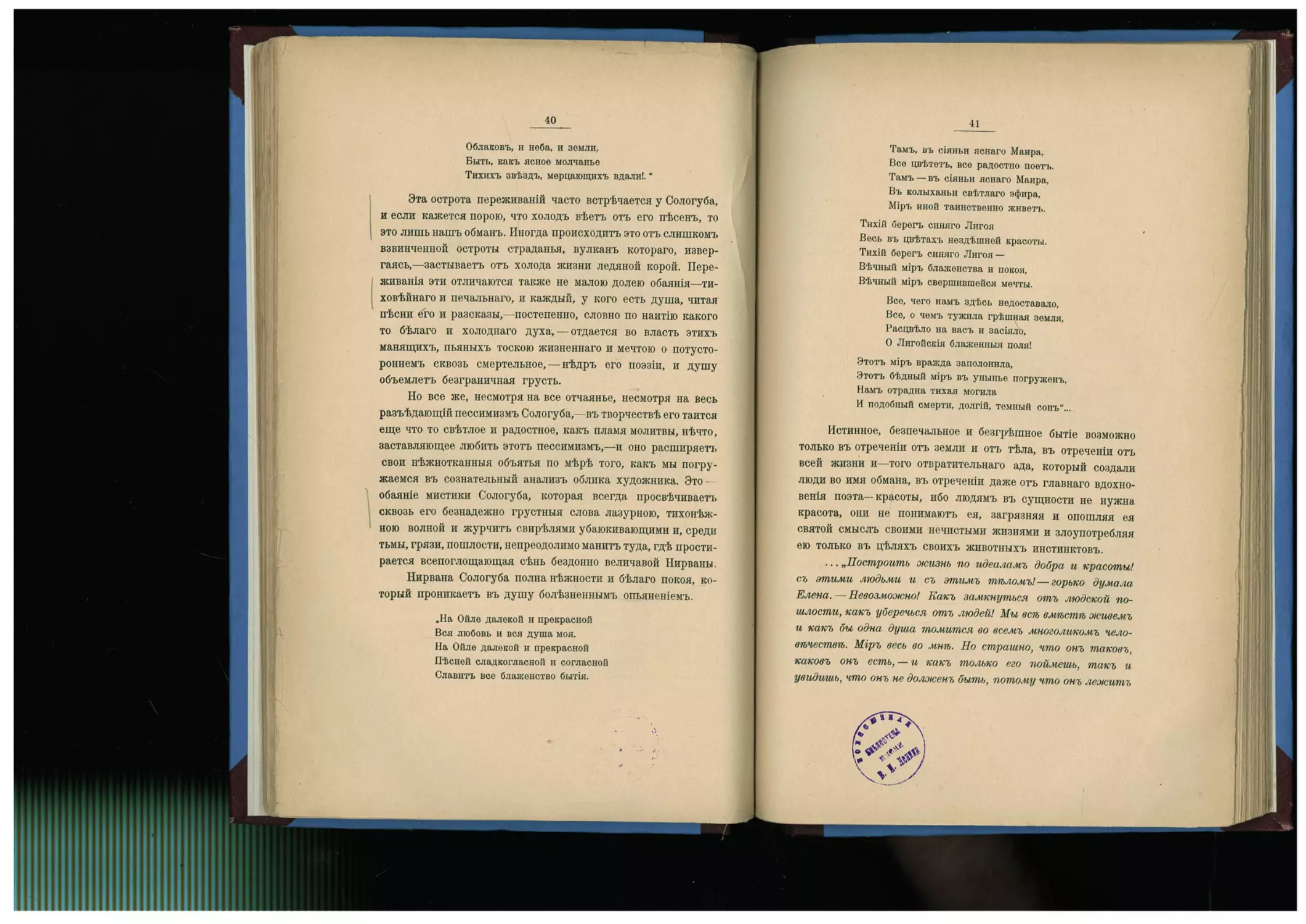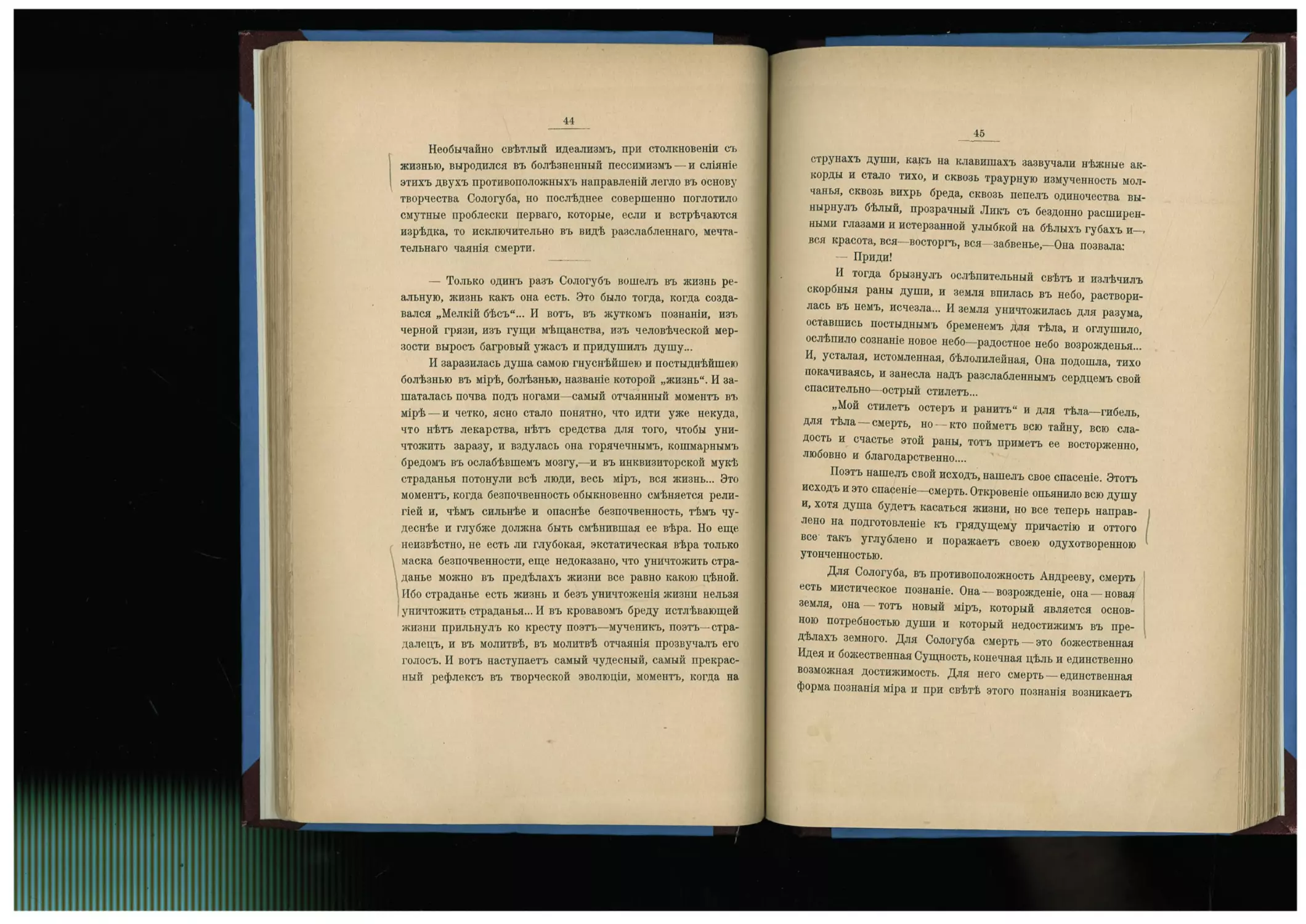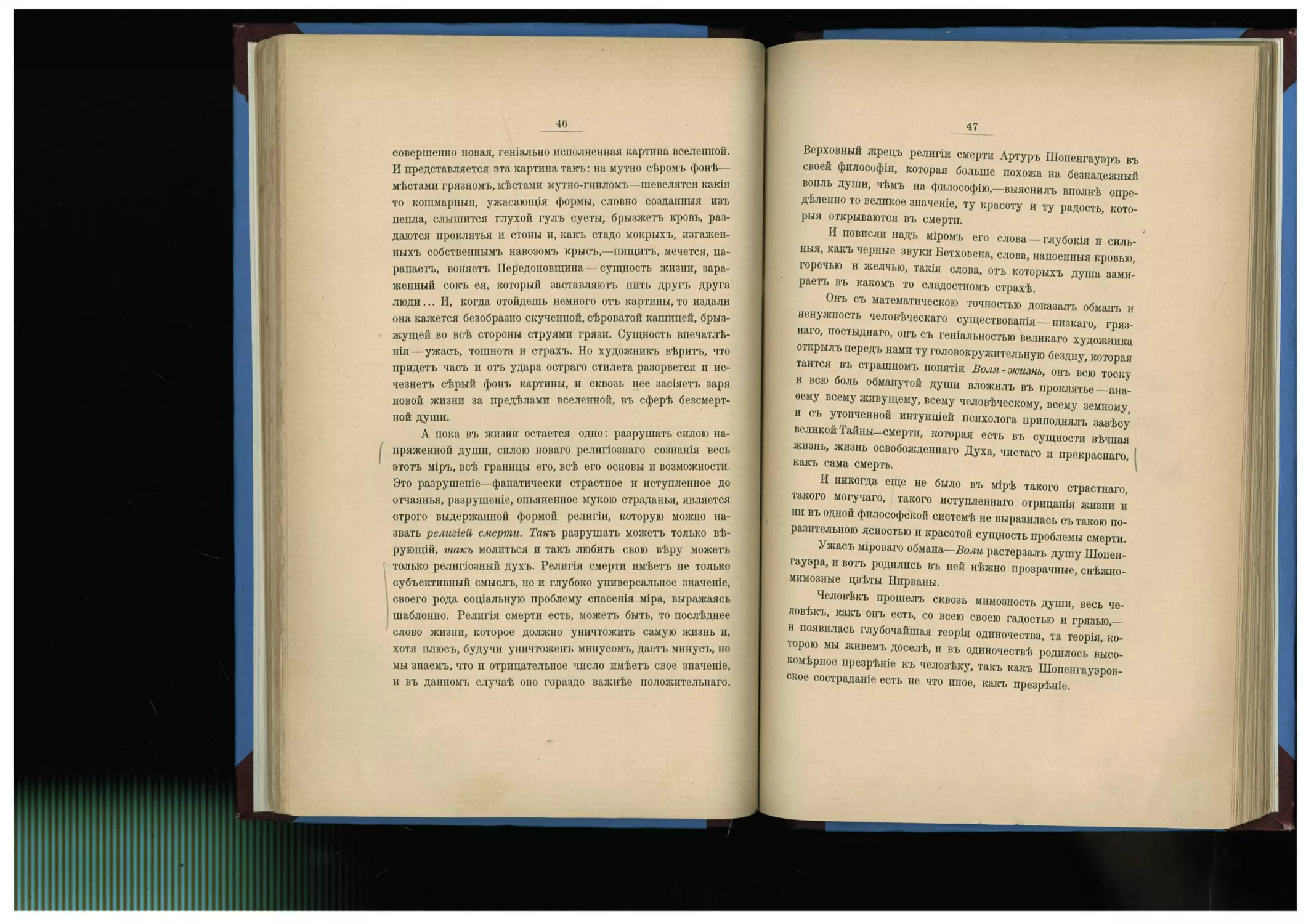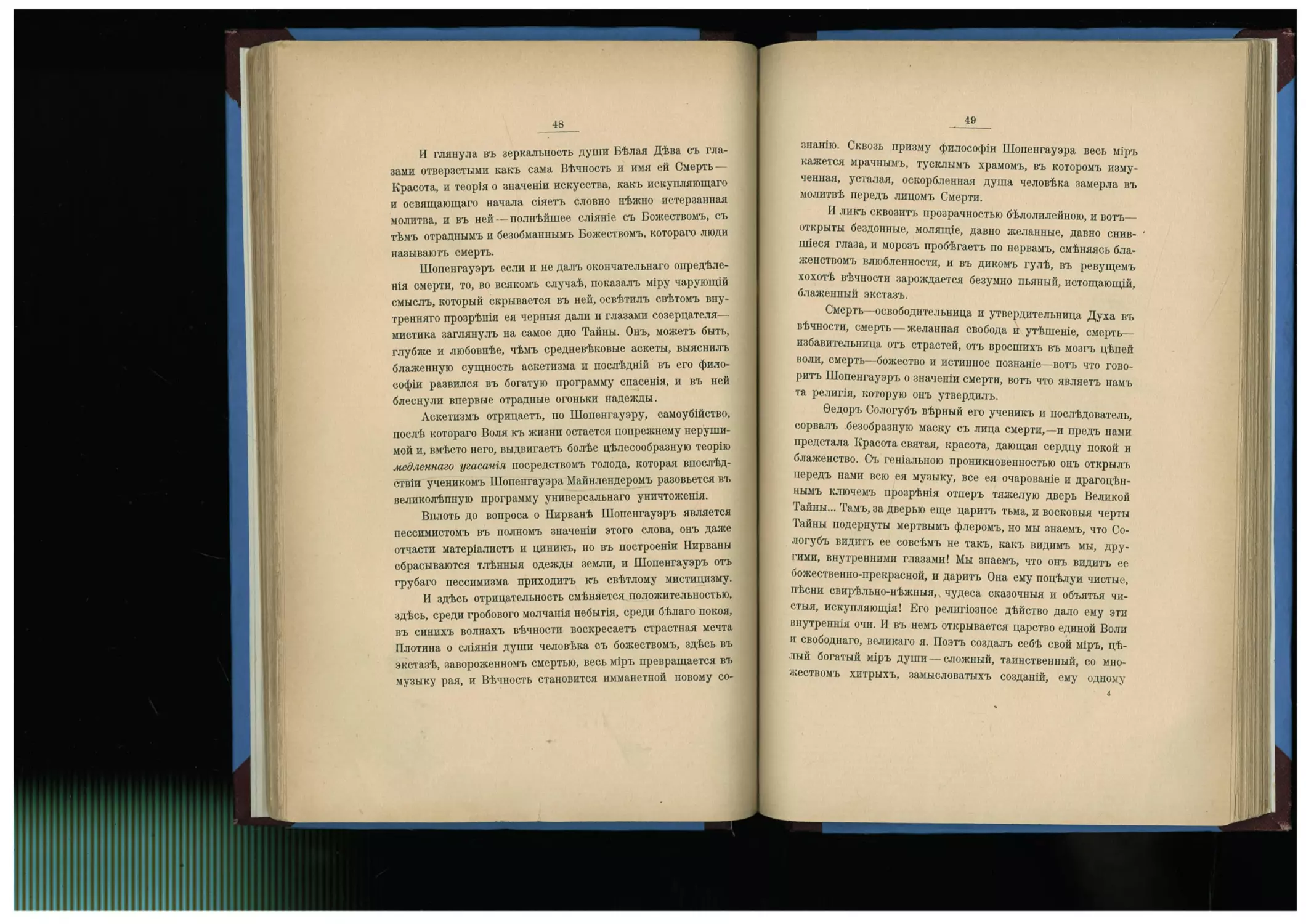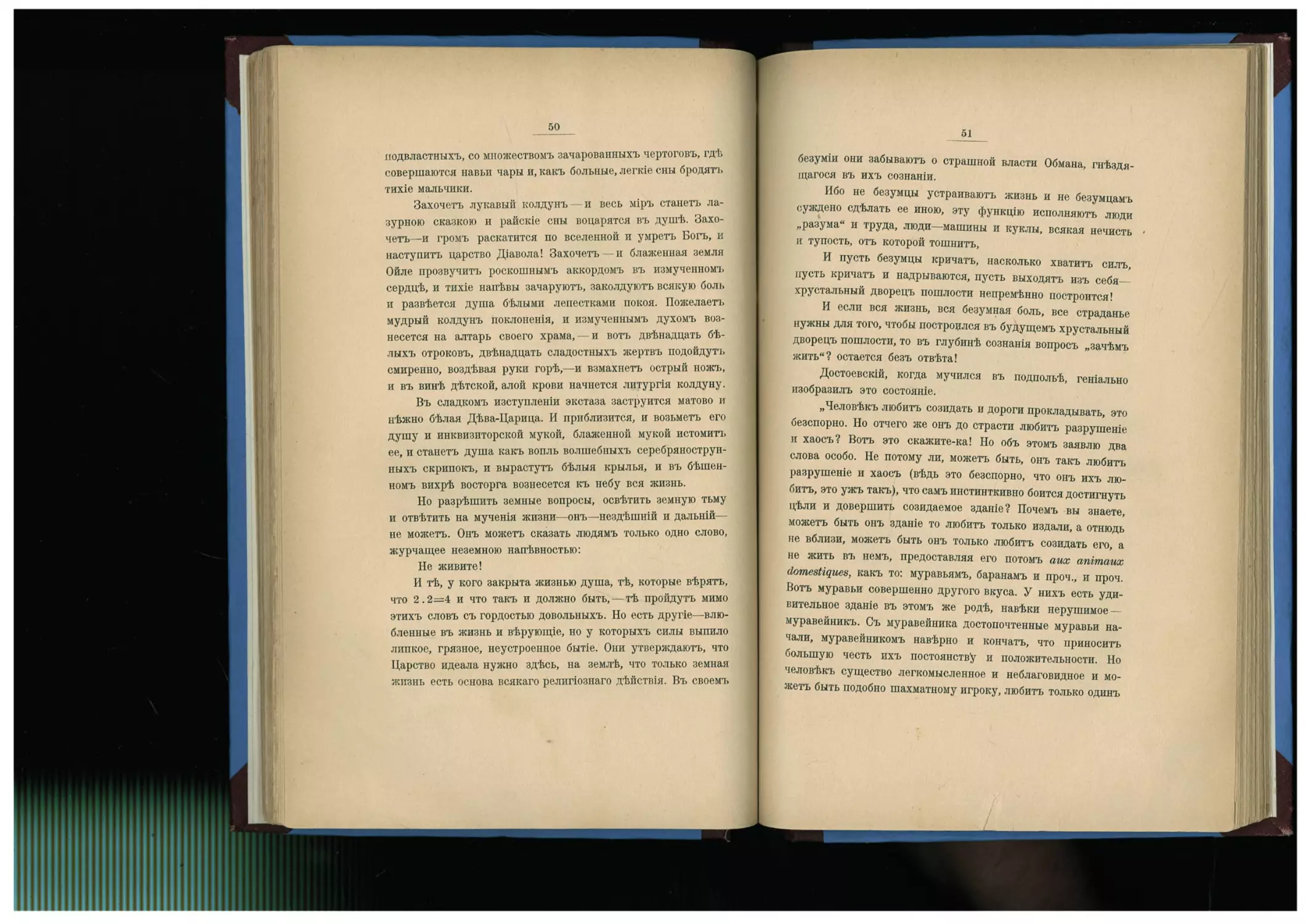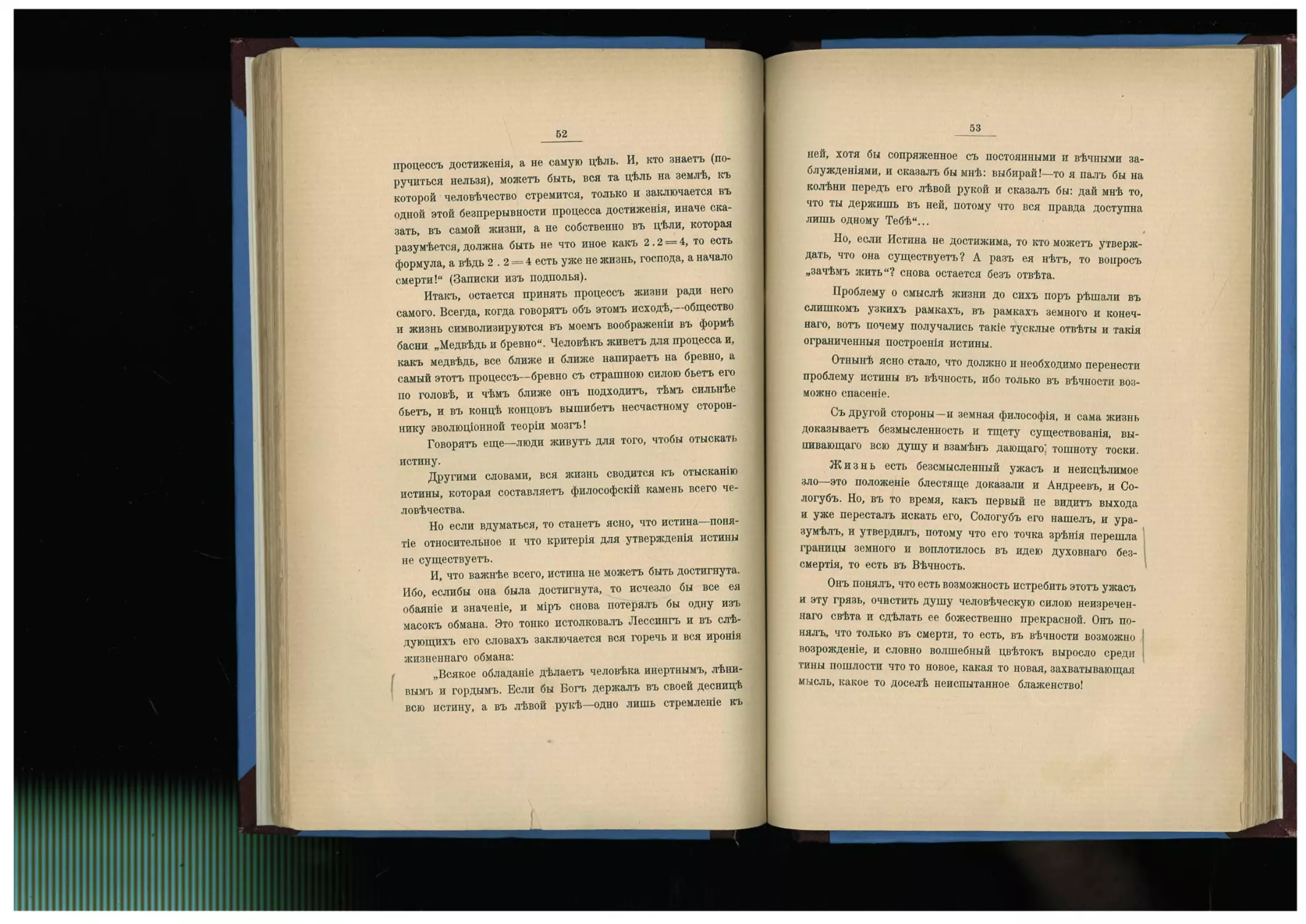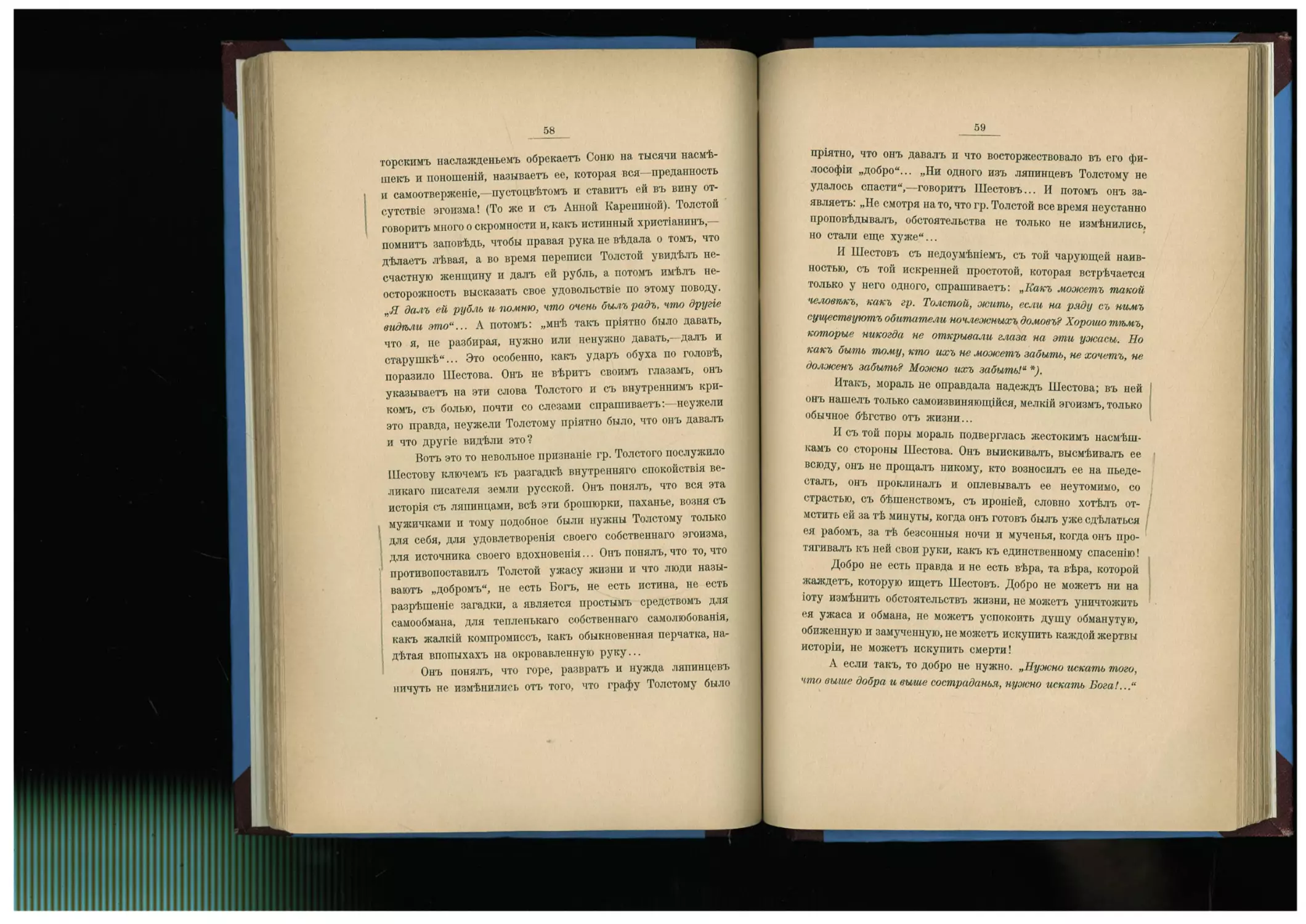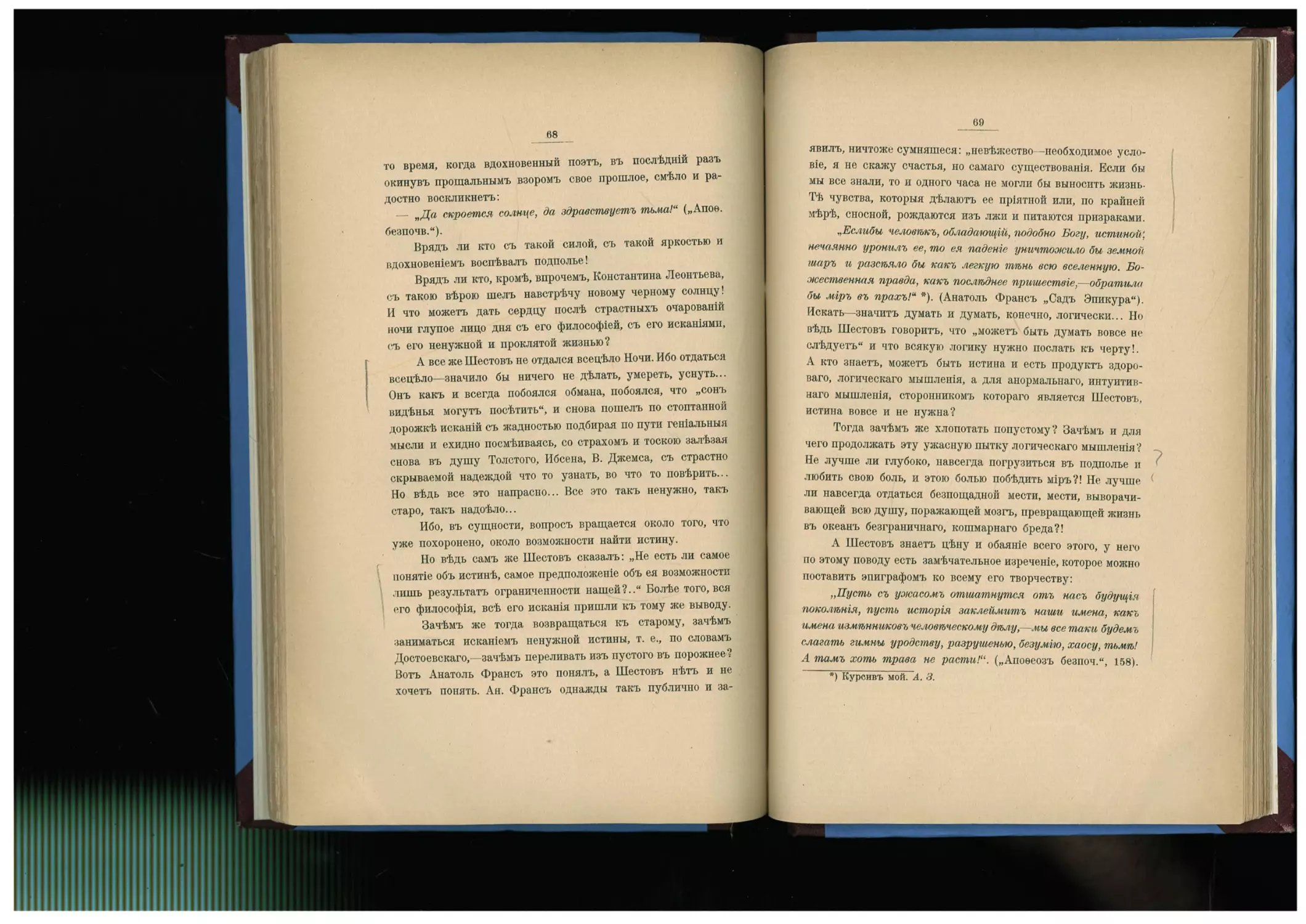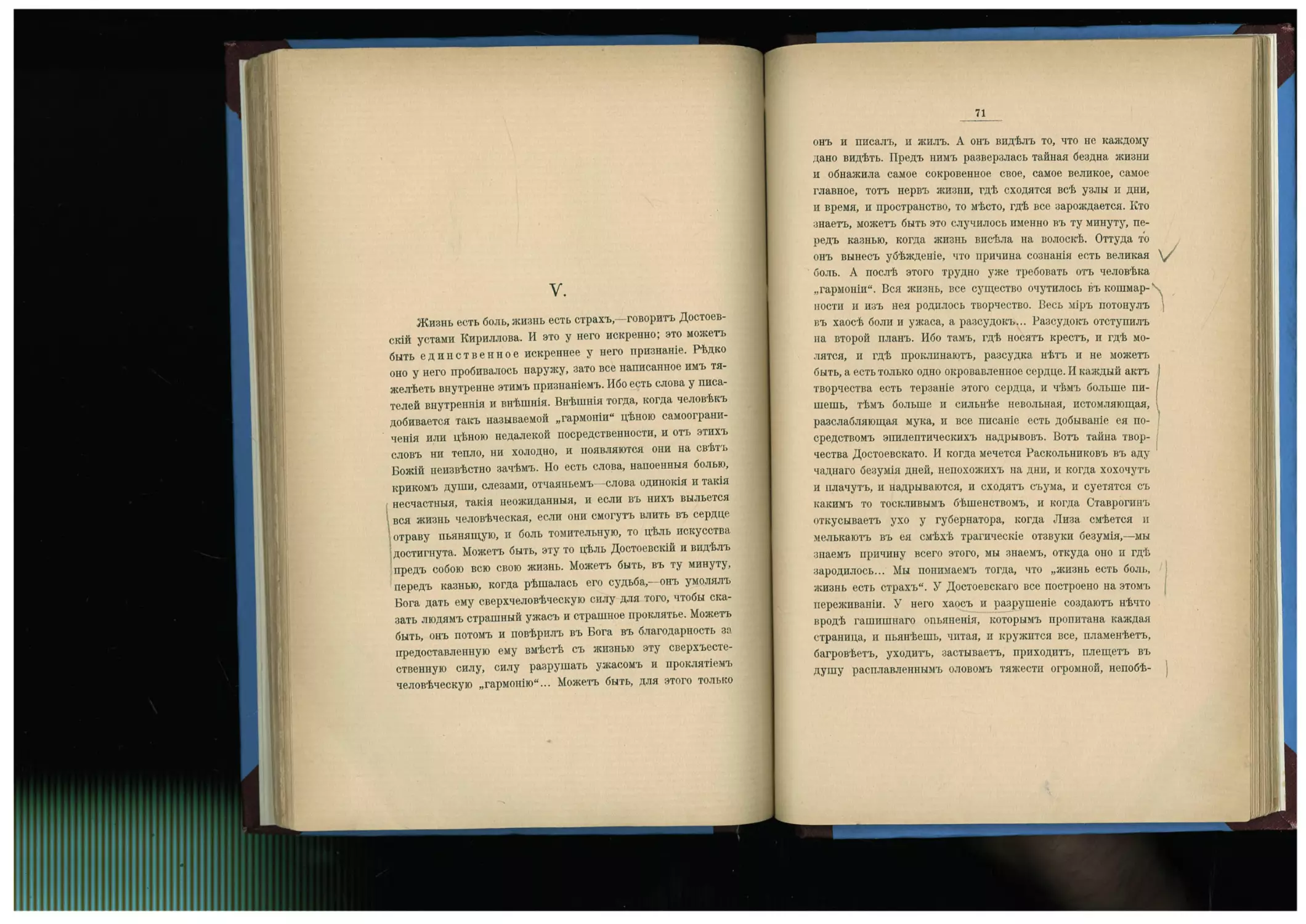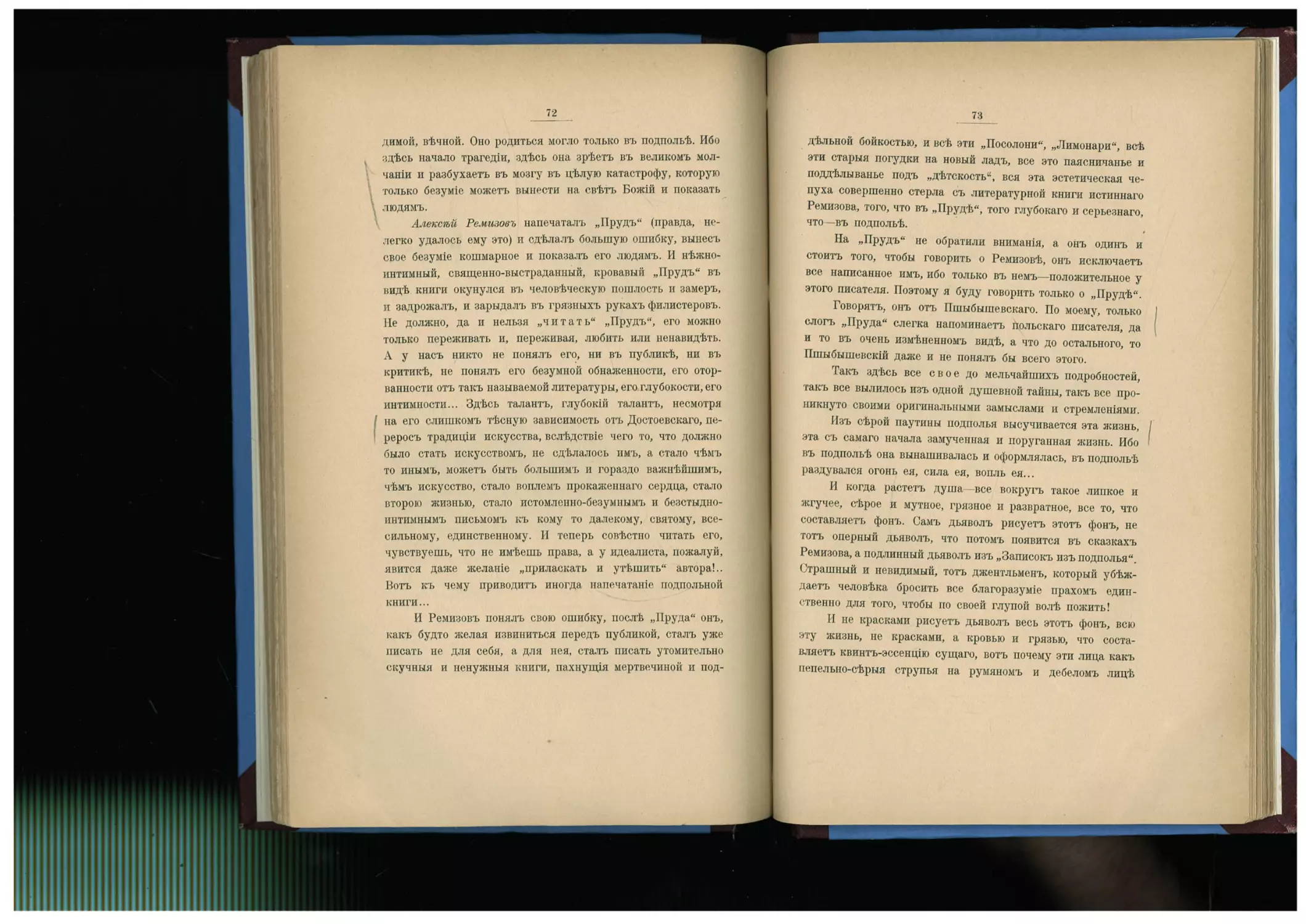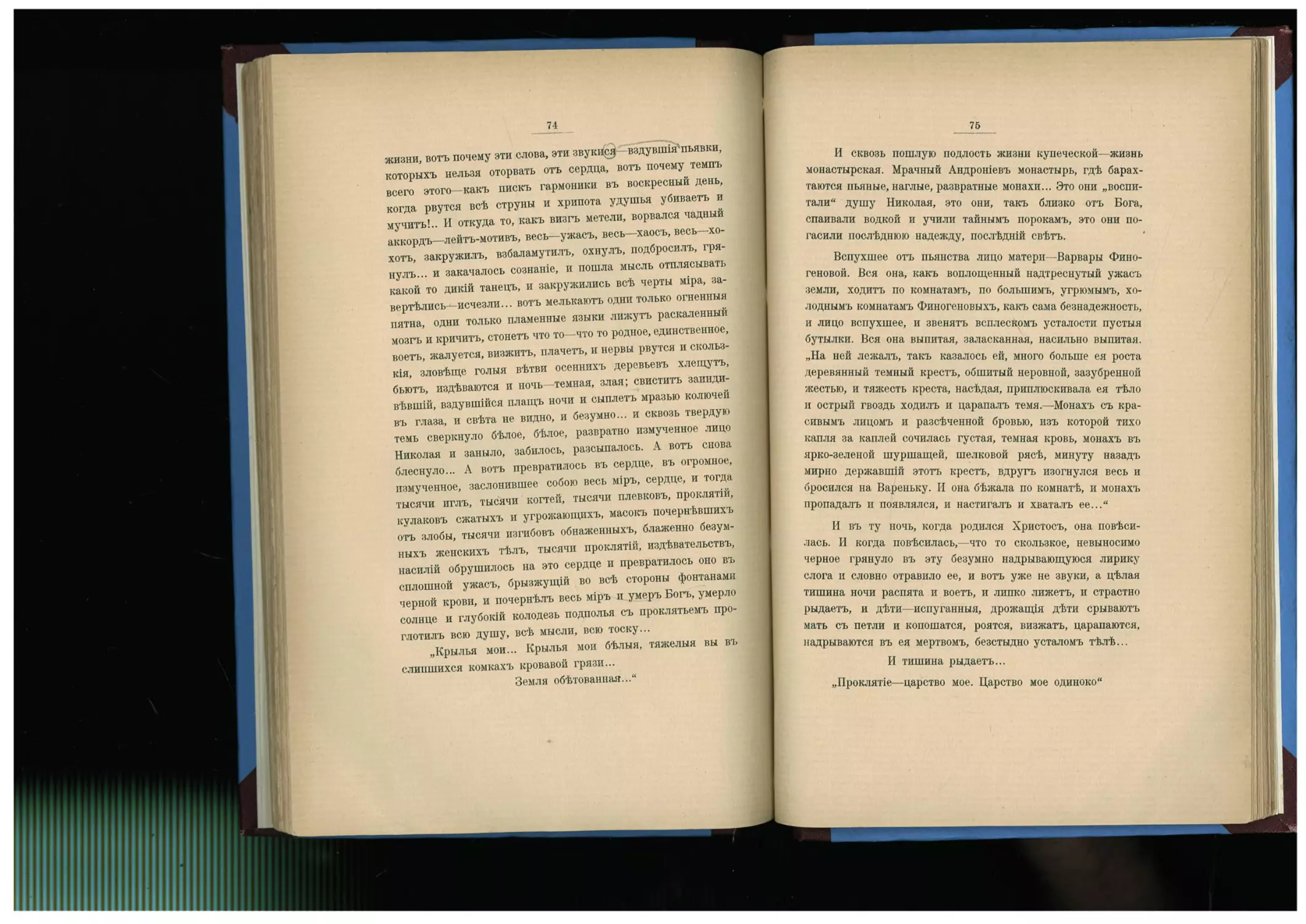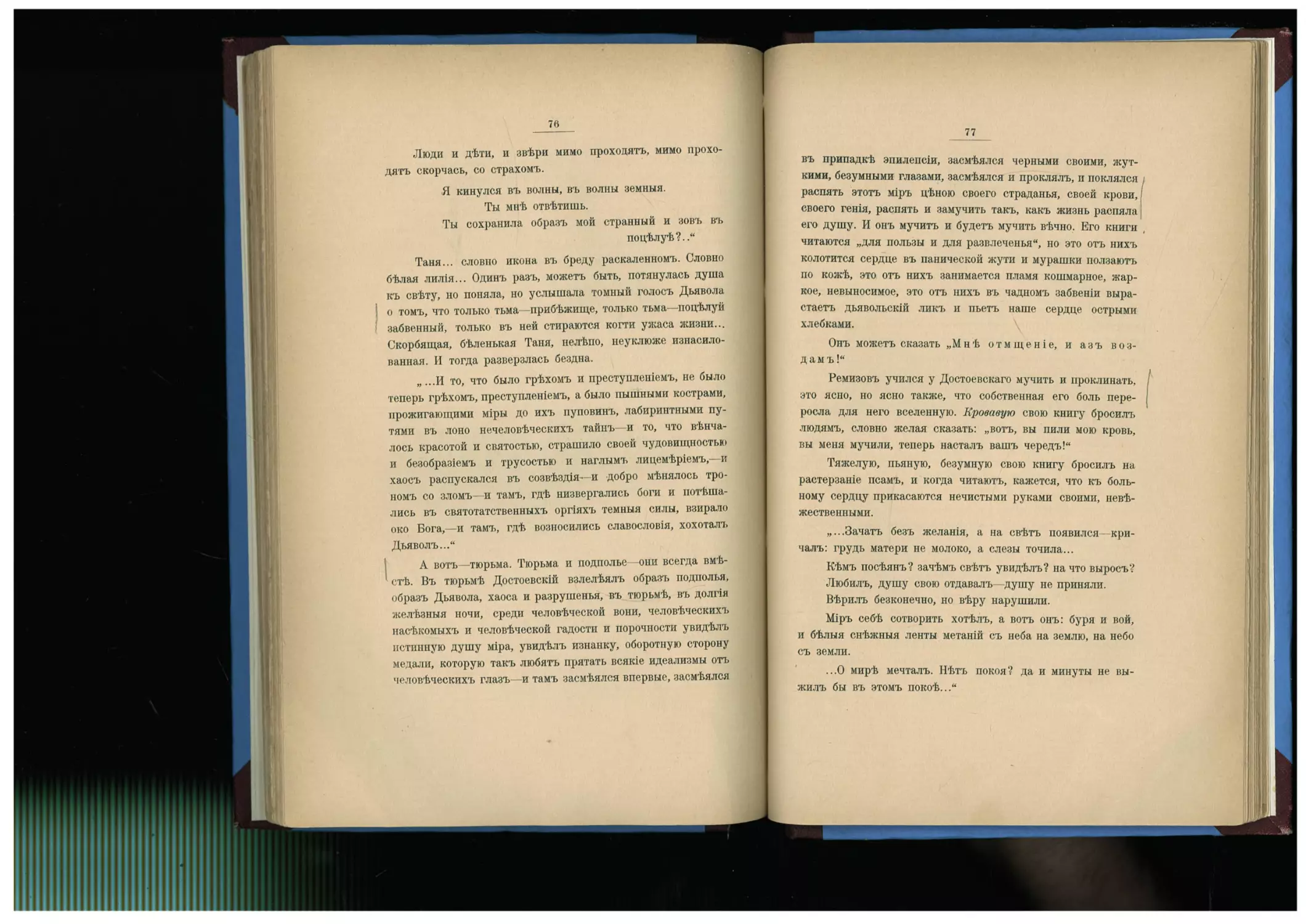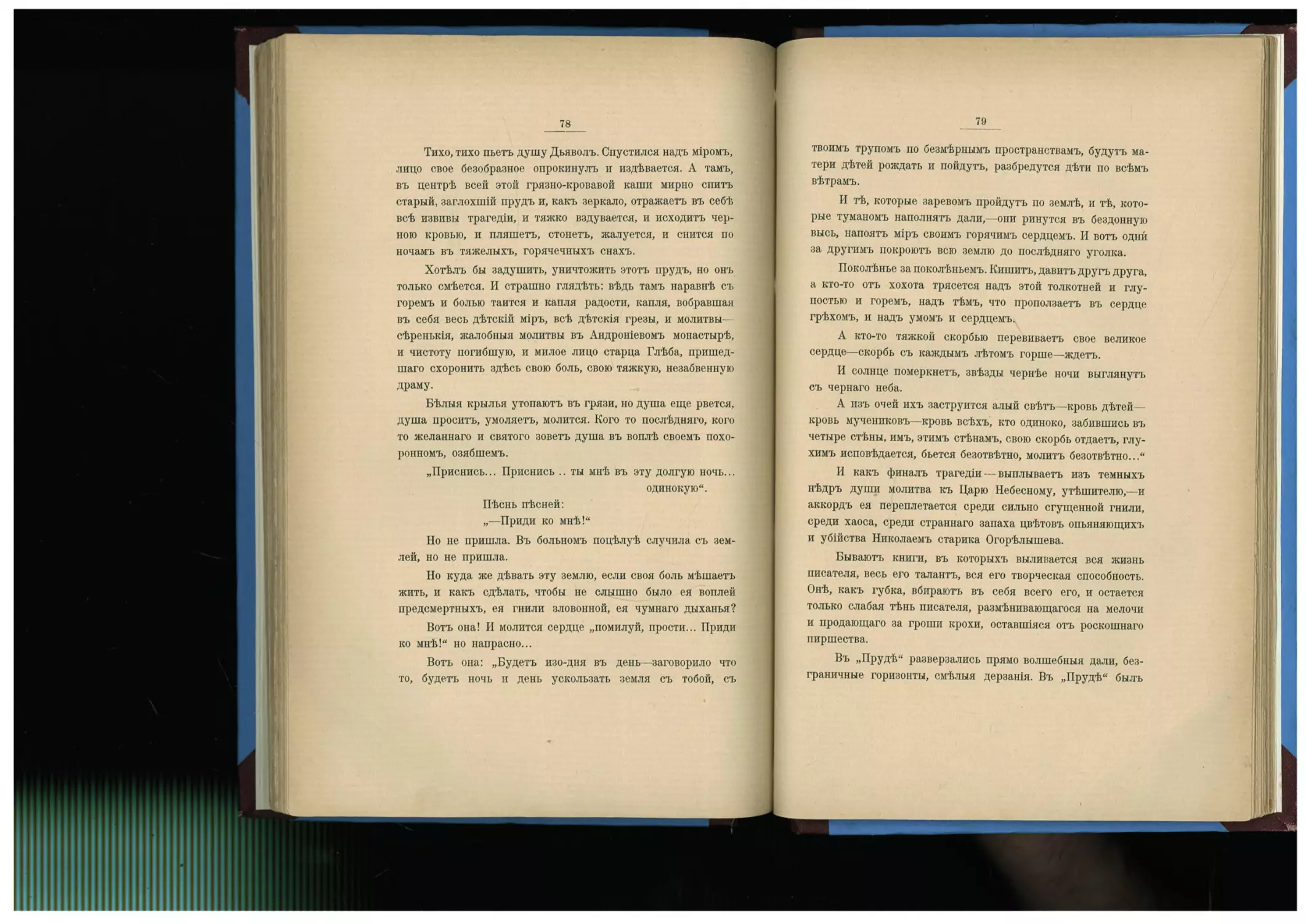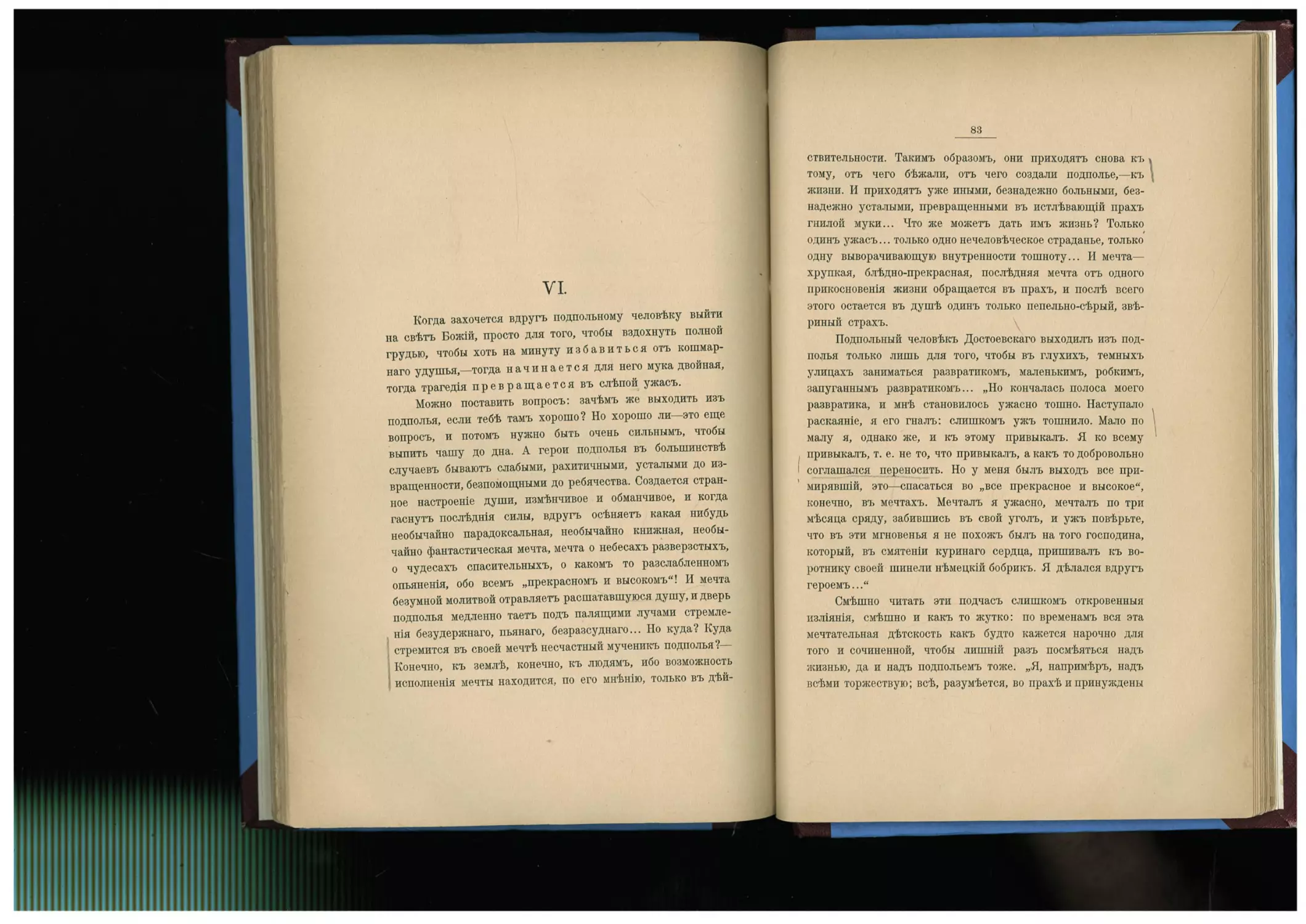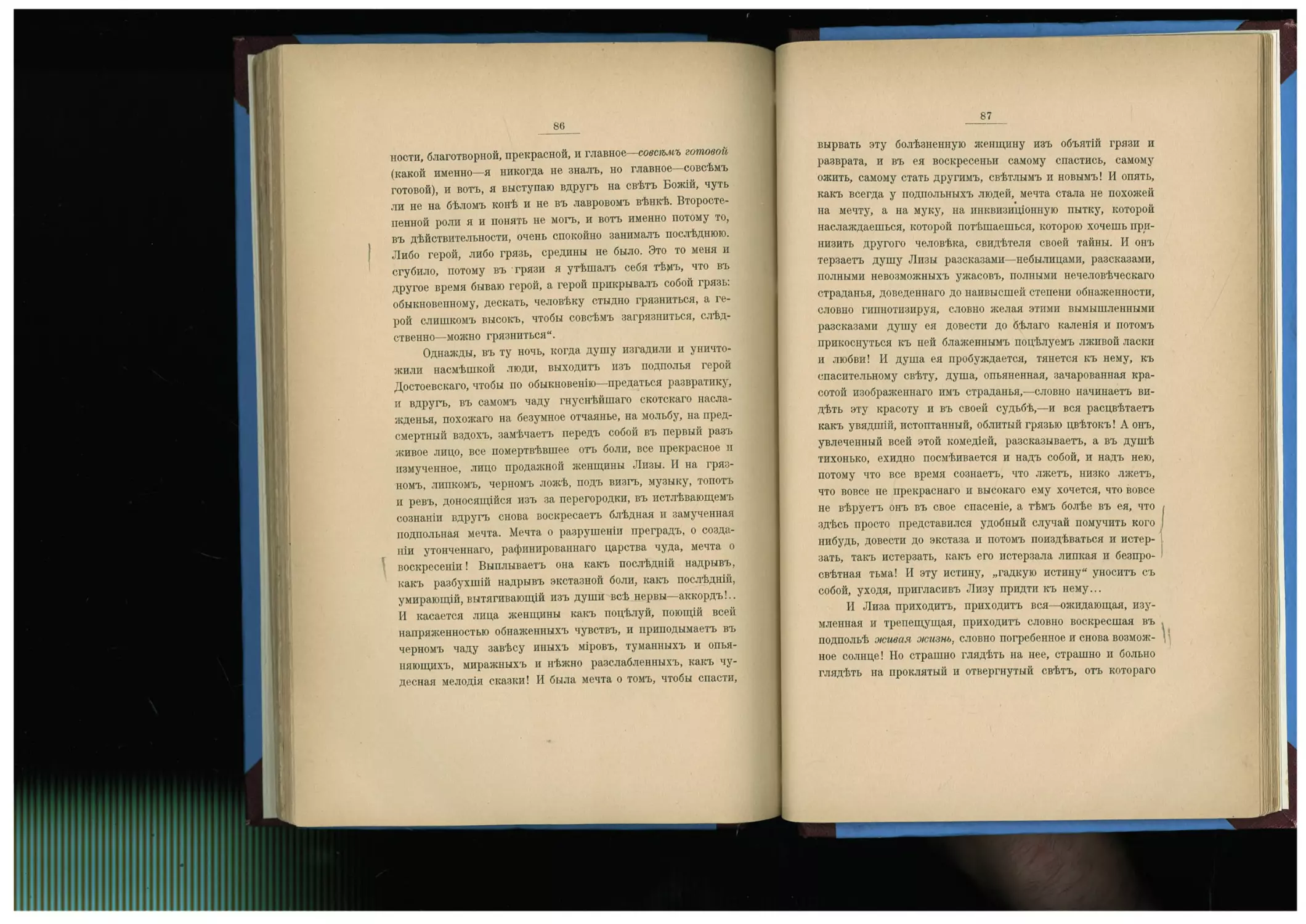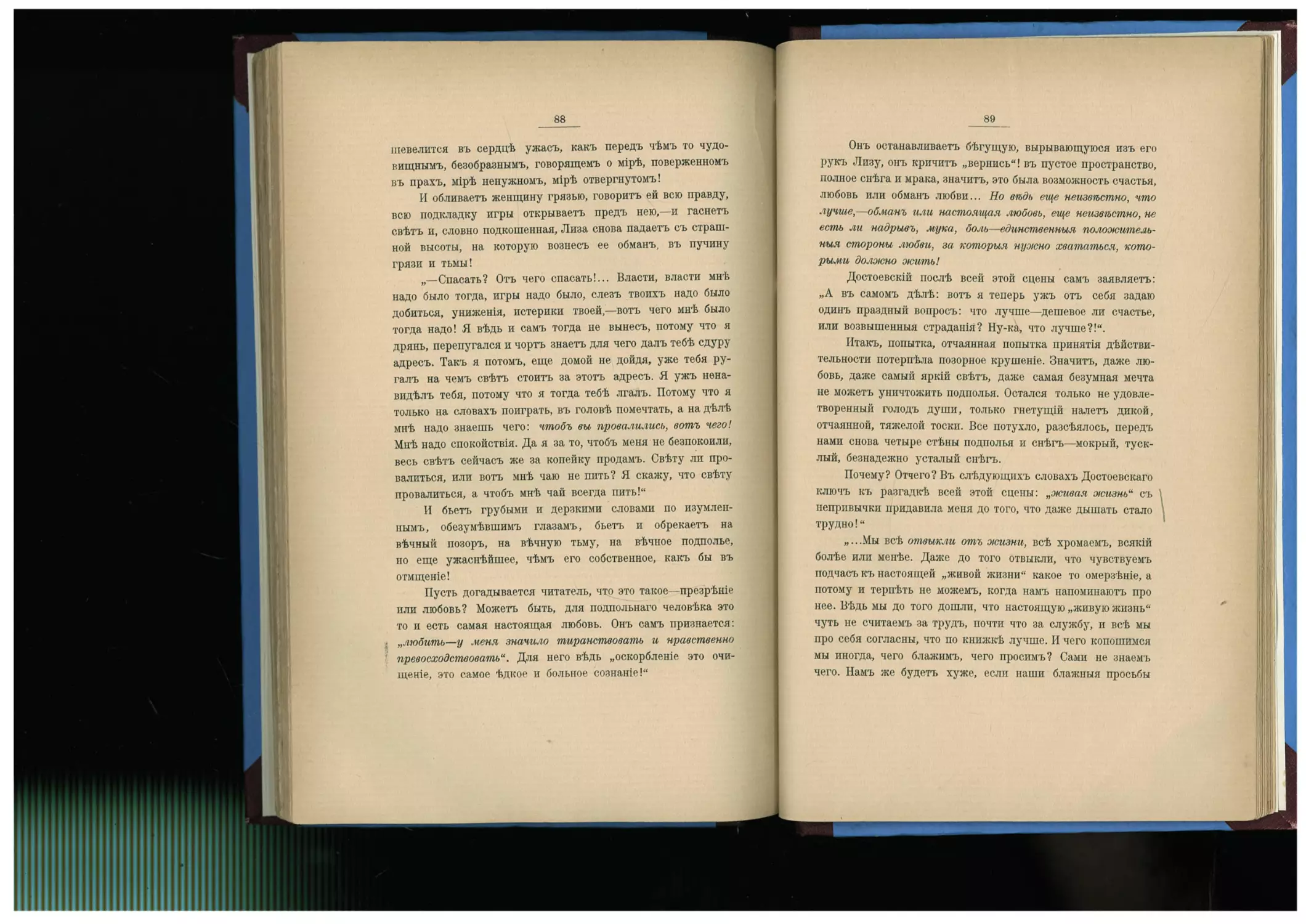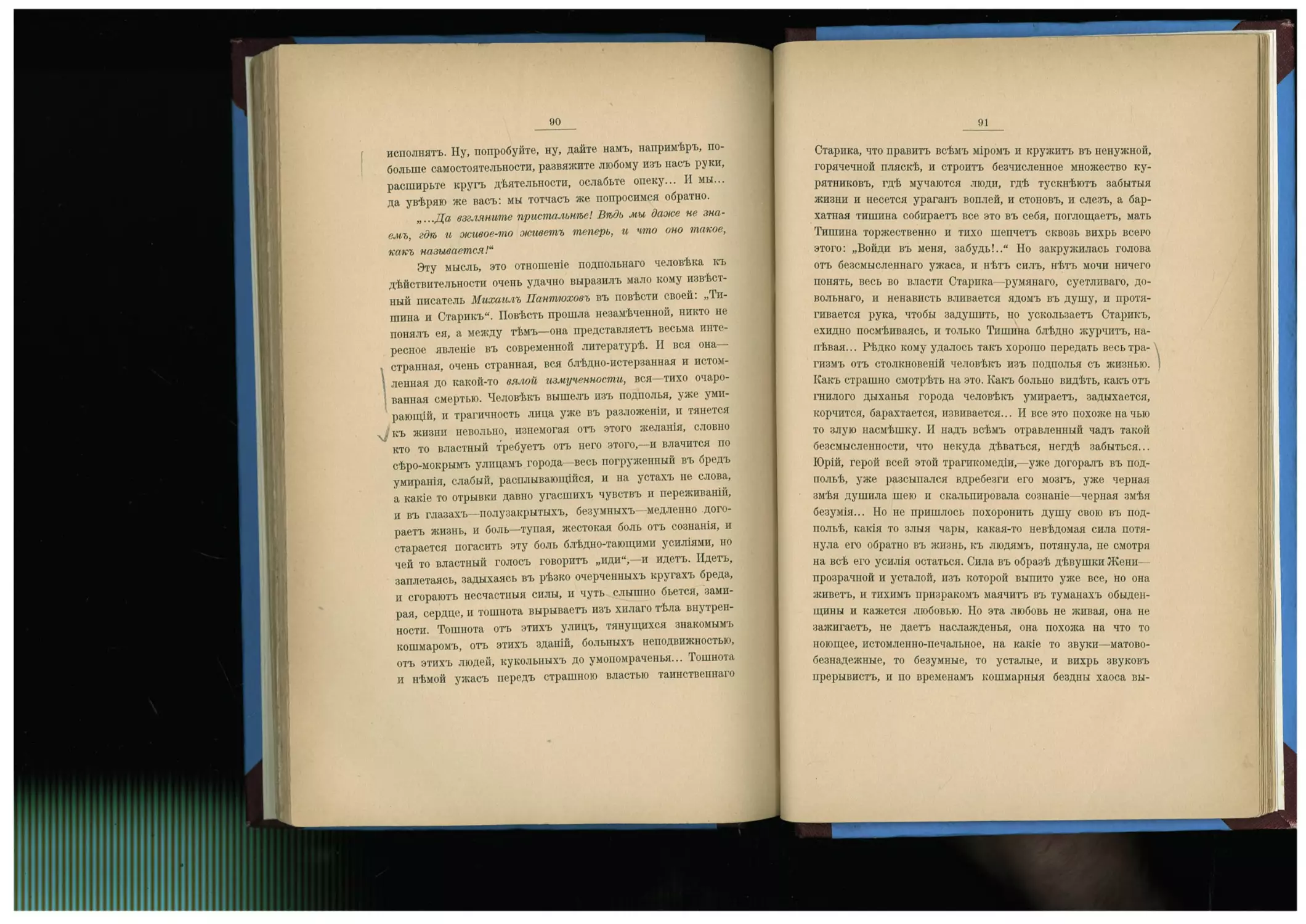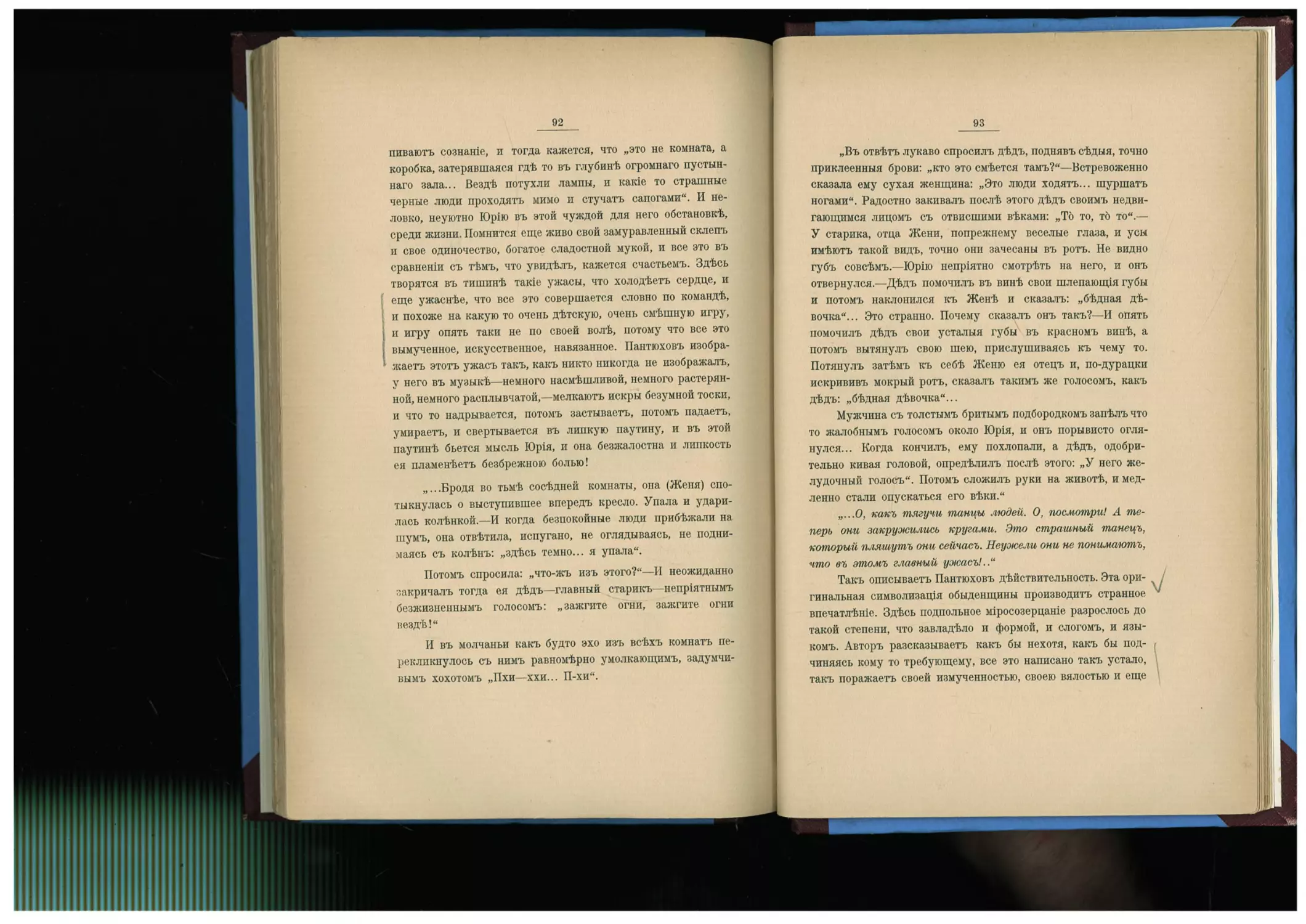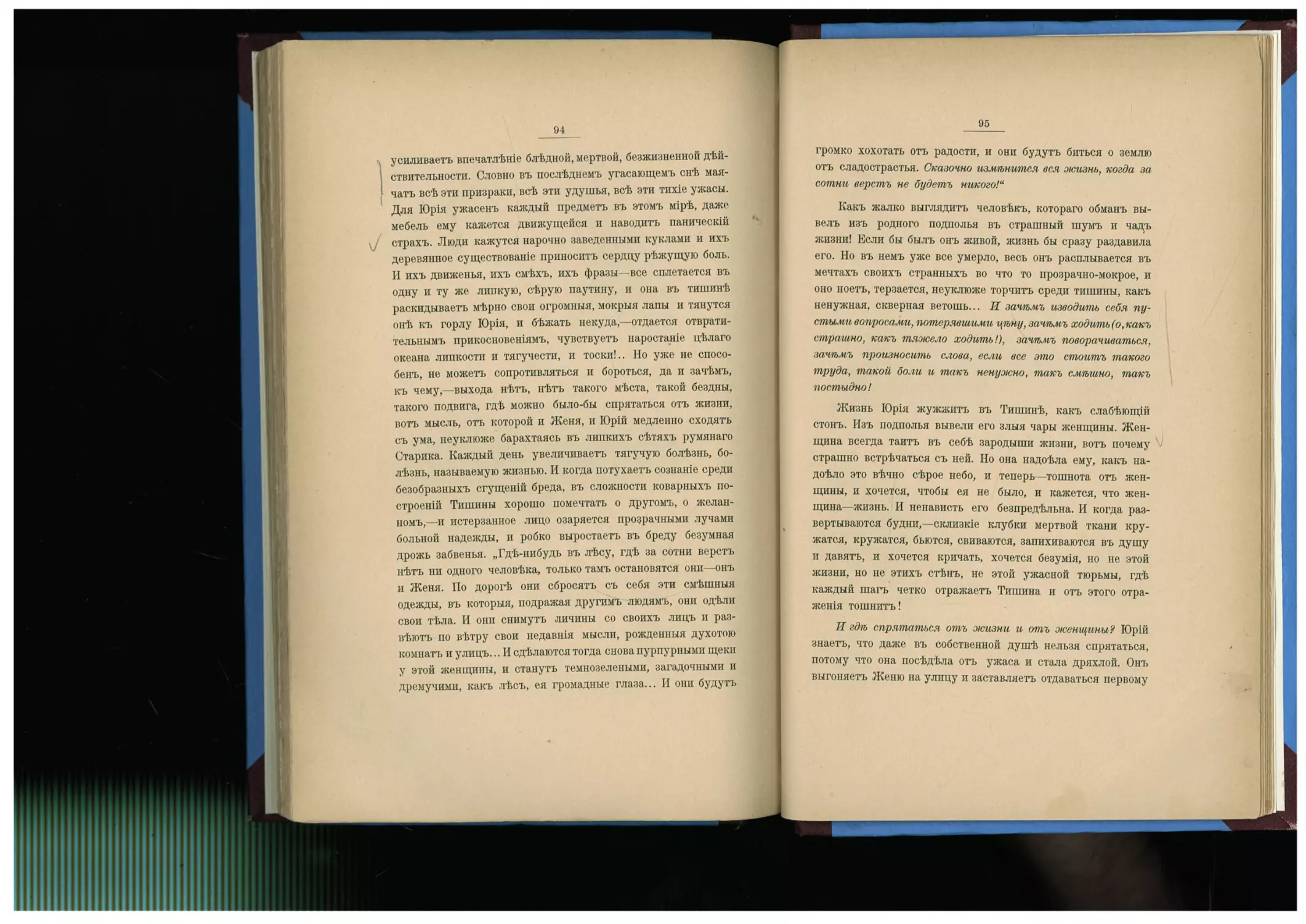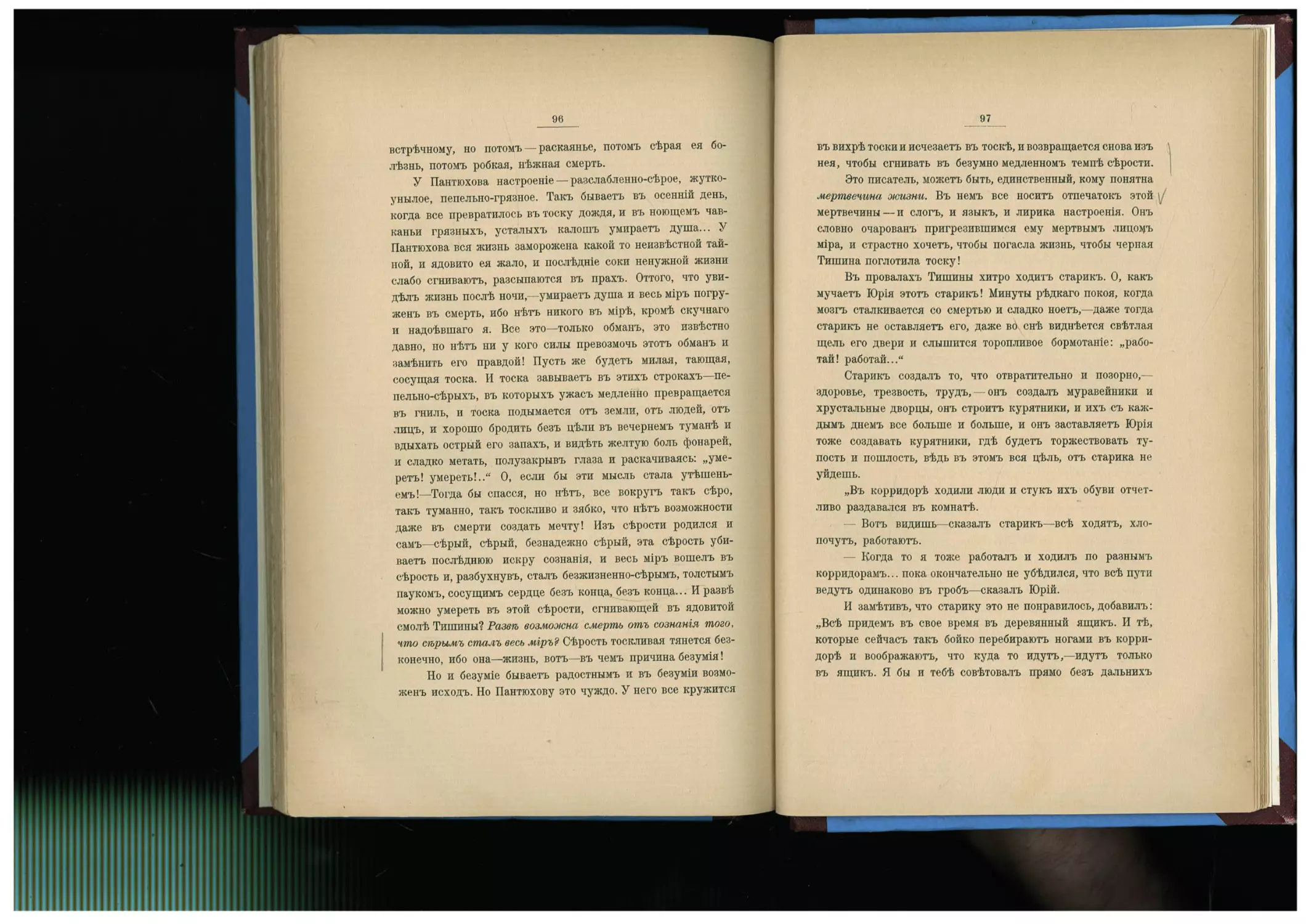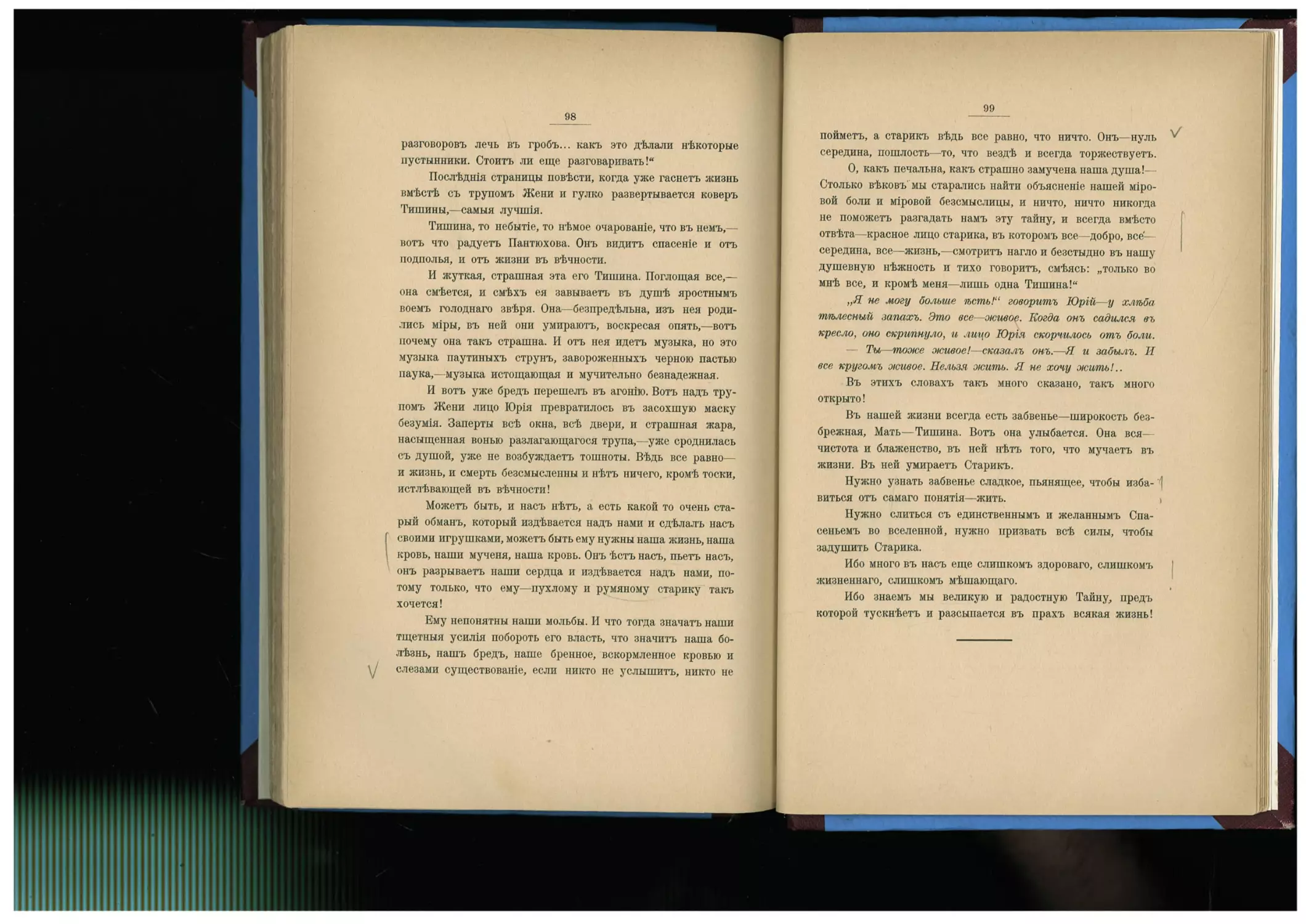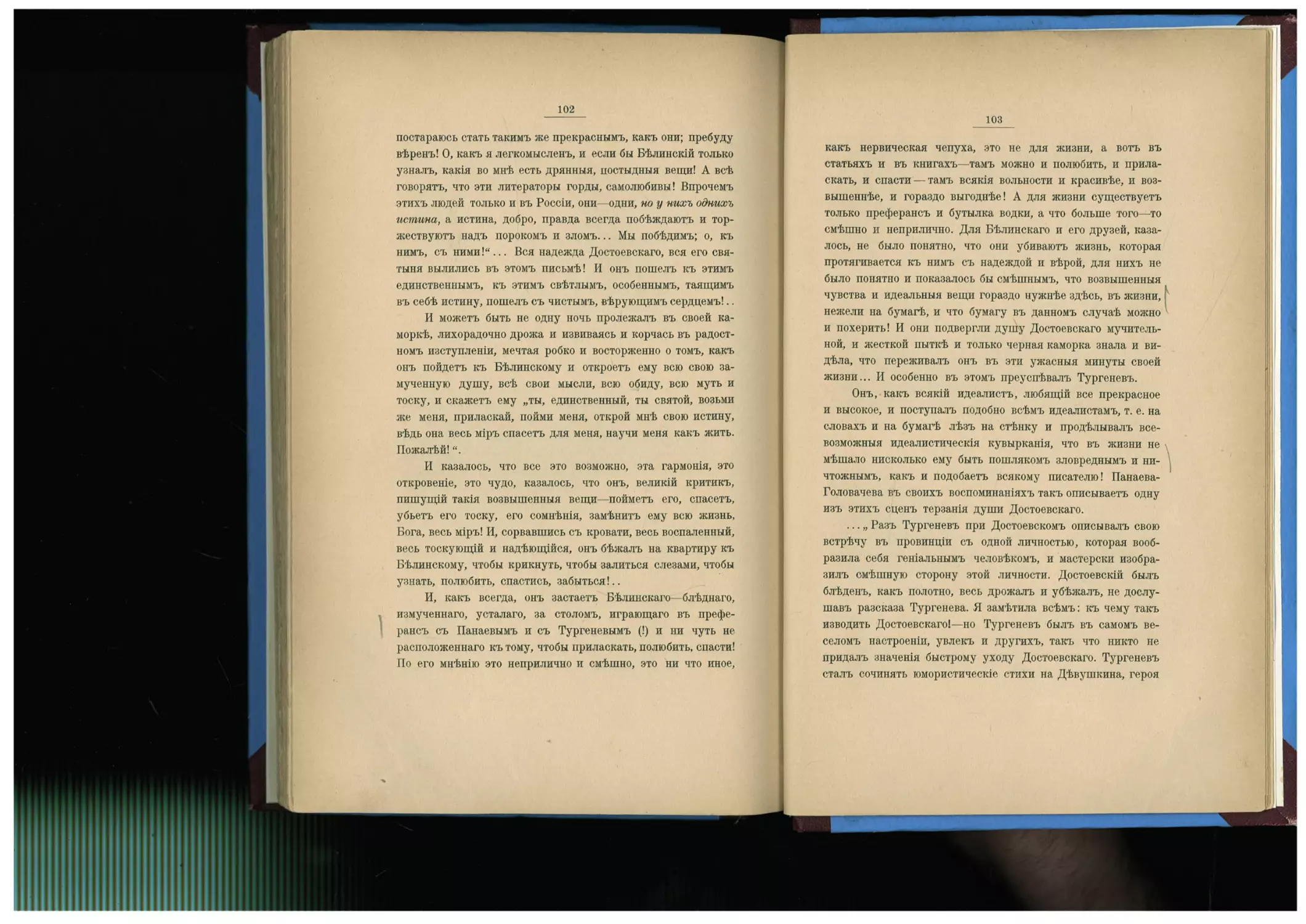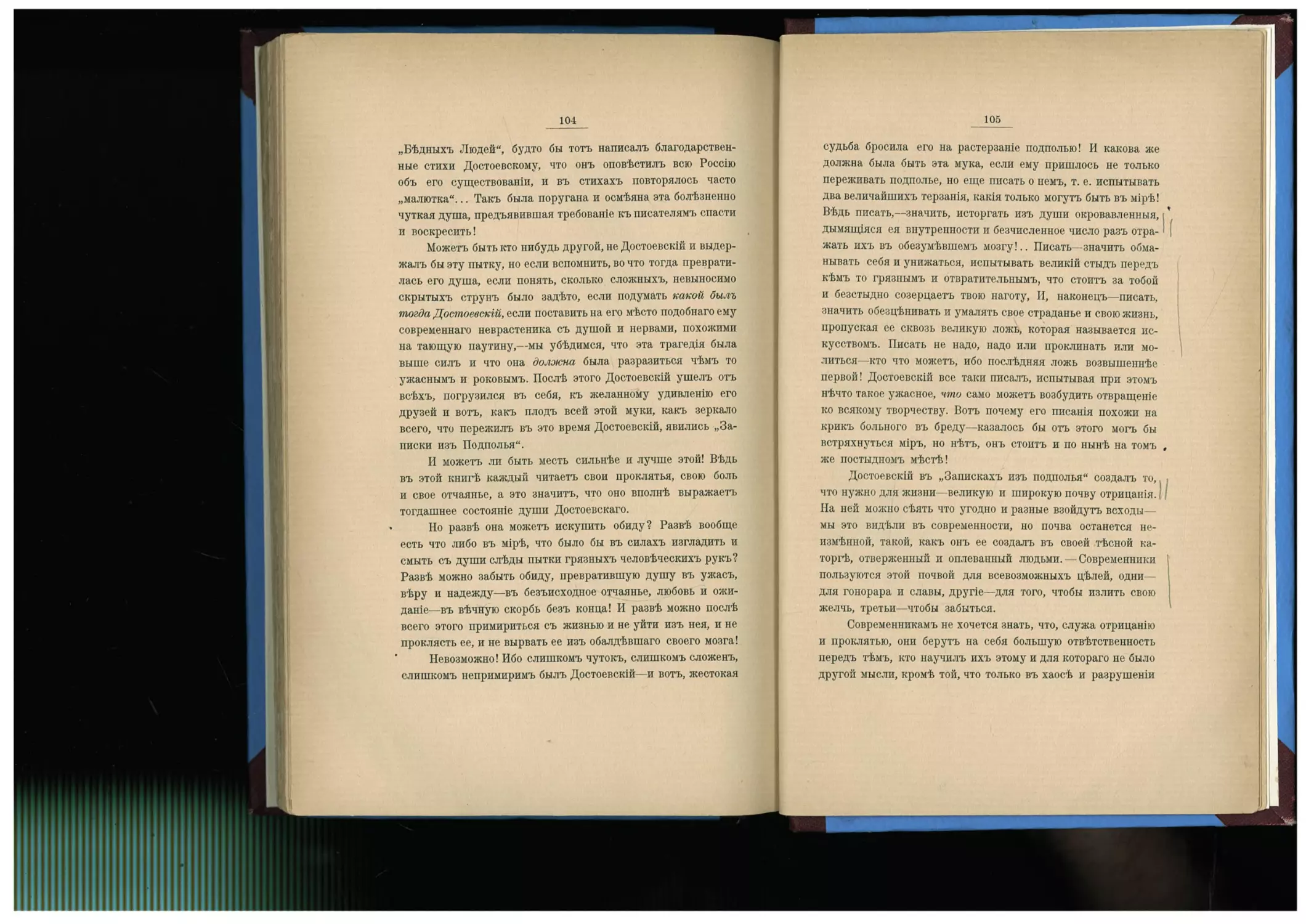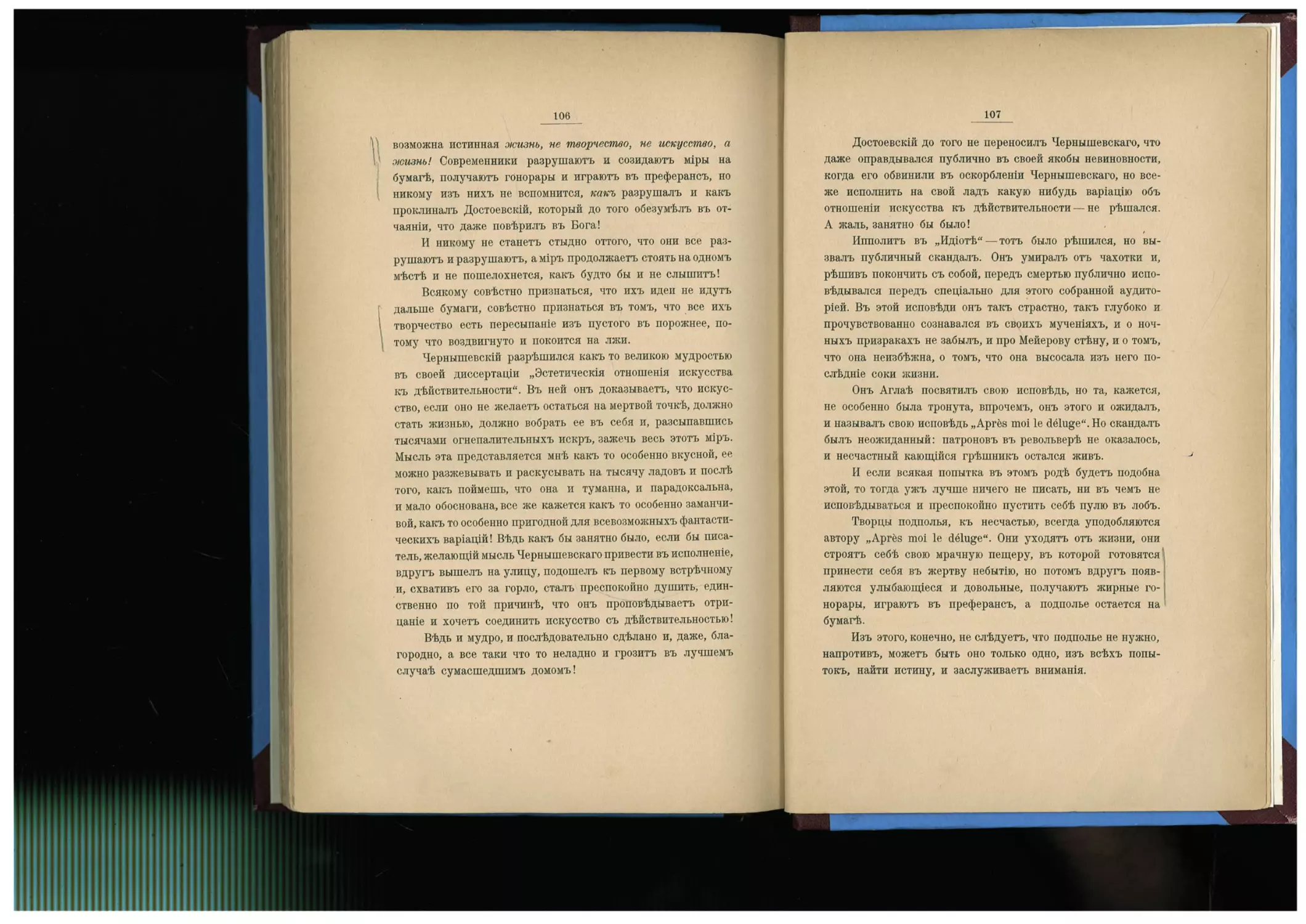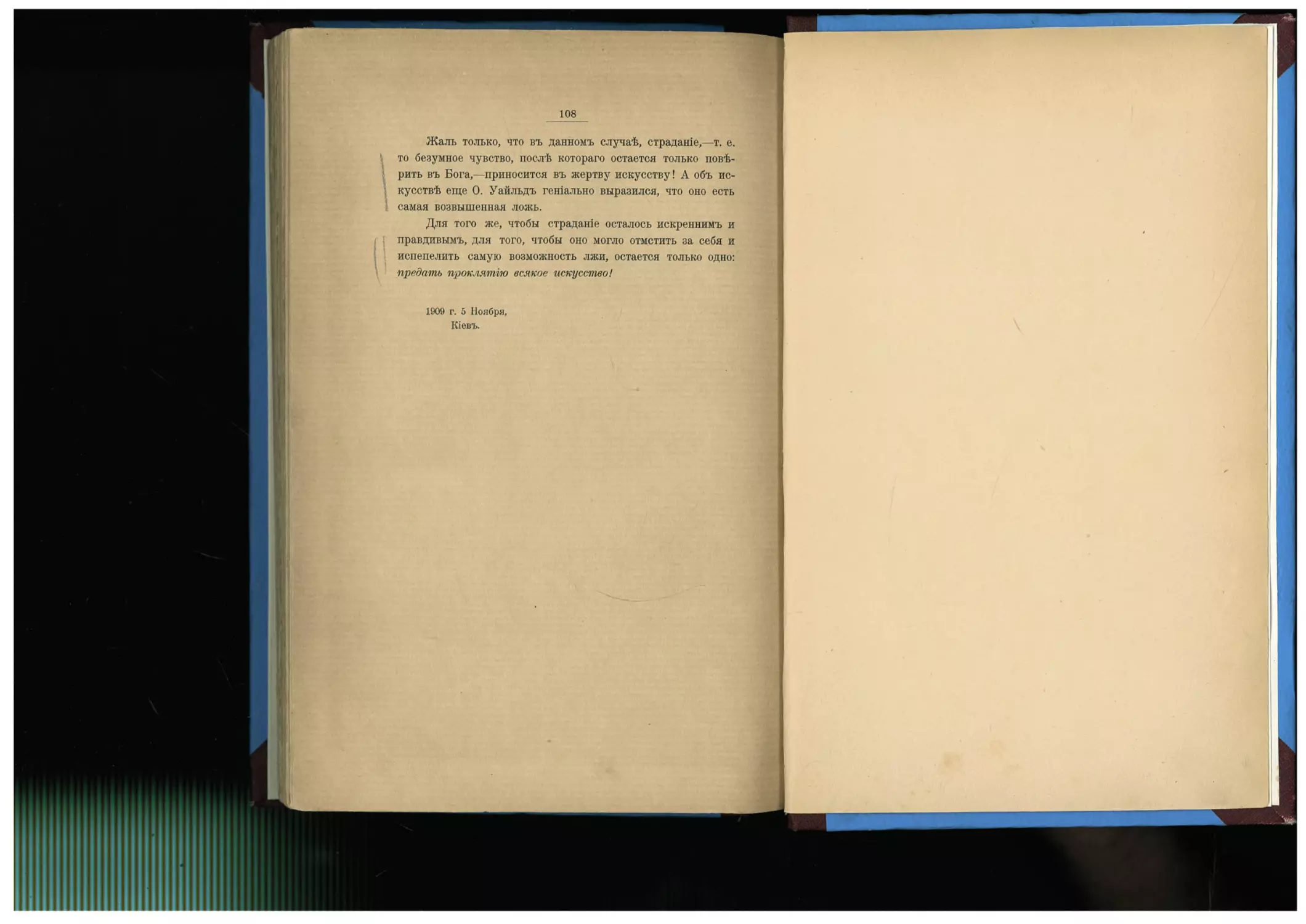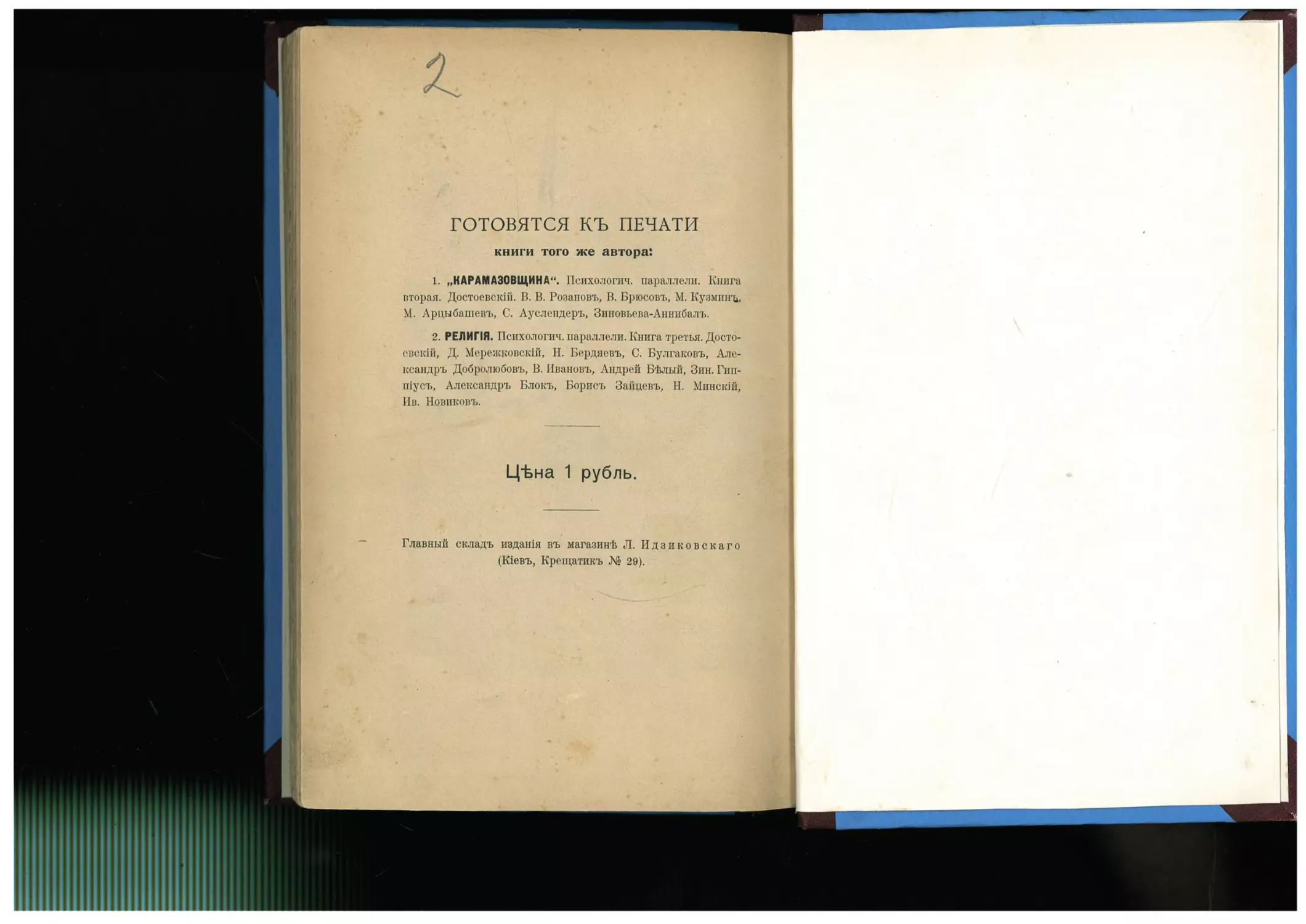Текст
■о
П
А лександръ
О
Д
П
З а к р ж е в с к ій .
О
Л
Ь
Е
.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПАРАЛЛЕЛИ.
Д
о с т о е в с к ій
Л еонидъ
Ѳедоръ
Л евъ
.
А н дрее въ .
С ологувъ.
/
Ш естовъ.
А л е к с 'ЬЙ Р е м и з о в ъ .
М ихаи лъ
/
П антю ховъ.
«*-•
ИЗДАИІЕ ЖУРНАЛА „ИСКУССТВО И ПЕЧАТНОЕ ДѢЛО“.
1911.
№
ПОДПОЛЬЕ.
I
о
о
а
А лександръ
6 2
П
З а к р ж е в с к ій .
.'
О
Д
П
О
Л
Ь
Е
.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПАРАЛЛЕЛИ.
Д о сто евск ій .
Л еонидъ
Ѳедоръ
Л евъ
А н дреевъ .
С ологубъ.
Ш естовъ.
А лексий
М и хаи лъ
Р ем и з6 въ .
П антю ховъ.
И ЗДАНІЕ ЖУРНАЛА „ИСКУССТВО И ПЕЧАТНОЕ ДѢЛО“.
1911
\
„Все, что у добрыхъ зовѳтея злымъ,
должно соединиться, чтобъ родилась новая
истина; о, братья мои, достаточно ли вы злы
для этой истины? Отчаянное дѳрзновеніѳ, дол
гое недовѣріе, жестокое отрицаніѳ, пресыщеніе,
надрѣзьіваніе жизни,-какъ рѣдко бываетъ это’
вмѣстѣ ! Но изъ такого сѣмени рождается
истина! (Питцше—„Такъ говорилъ Зарату
стра“).
„Вѣрно только одно,—точно одно, одно
несомнѣнно—это то, что все здѣшнее должно
погибнуть“.
Константинъ Леонтьевъ.
У Досгоевскаго бывали мгновенья, когда вся душа ухо
дила во внутрь и, обагрившись кровью и желчью, выливалась
въ надрывающійся стонъ проклятья, или въ тихую, нѣжную
музыку молитвы, или въ истерзанную мистерію садическаго
оргіазма...
Такъ родилось произведете, которое можно назвать
наиболѣе адэкватнымъ выраженіемъ одной стороны его души,
произведете, заключающее въ себѣ квинтэссенцію современ- >
ности—„Записки изъ подполья“. ..
Книга, раскрывающая уму особую область духовныхъ
i ерзаній, книга, запечатлѣнная въ вѣчности кровавою пе
чатью безумнаго отчаяиія, надорвавшагося страданья, книга,
шестьдесятъ лѣтъ тому назадъ дѣлающая строжайшій смотръ
моральнымъ и религіознымъ цѣнностямъ !..
И когда читаешь ее, рвутся традиціонныя нити „лите
ратурная вниманія“, и когда думаешь о ней и переживаешь
ее> чувствуешь невыразимый восторгъ сліянія съ огромнымъ, нечеловѣческимъ страданіемъ души, страданіемъ та
кимъ взвинченнымъ, такимъ понятнымъ, такимъ нашимъ, и
сквозь даль прошедшихъ лѣтъ, сквозь тяжелый туманъ
времени снова приближается къ тебѣ это безумно больное,
дорогое лицо со сжатыми плотно губами, втиснутое въ чер
ную маску преступника, и что-то живое, дымящееся, словно
кусокъ человѣческаго сердца, катится въ душу и горитъ,
горитъ...
И трепетъ радости !.. Вѣдь это не книга, вѣдь это не
слова: здѣсь вылилась въ страшныхъ вопляхъ вся душа,
здѣсь распиналъ и мучилъ, и насиловалъ душу разъяренный
звѣрь—жизнь, здѣсь, въ желѣзныхъ объятіяхъ обмана она
завывала дико и безнадежно, здѣсь боль—тупая, страшная,
неизлечимая боль переросла весь міръ... Подполье!.. Сколько
въ этомъ словѣ таится понятнаго, близкаго, современнаго!..
Чья душа не переживала муку подполья и радость его!..
Чья жизнь подъ тяжестью непосильнаго креста, подъ гнетомъ грызущаго, опьяняюіцаго надрыва не погружалась въ
эти темные подвалы сѣрой тоски и нѣмой злобы, и безсвязныхъ, горячечныхъ проклятій?!
Подполье!.. Оно—въ насъ; оно вростало столько разъ
въ нашу душу и спутывало ее липкою паутиною кошмарнаго одиночества и палящаго, безслезнаго рыданія! Случа
лось это тогда, когда среди мутной пошлости наше „я“ вдругъ
переходило границы возможности, маленькой, земной воз
можности и неудержимо влеклось къ какому то безумному
подвигу, къ какой то взлелѣянной, сказачно прекрасной
странѣ, къ какому то нездѣшнему, сверхчеловѣческому чуду!
И путь преграждала стѣна... Случалось это, когда, словно
нѣжно-прозрачный цвѣтокъ, расцвѣтала среди жизни душа,
и кто то тягучій, безжалостный медленно пилъ нашу кровь,
наши мысли, наши блѣдныя силы, и мелькали призраки, и
свинцовая тѣнь безумія на фонѣ безжизненныхъ дней ка
залась спасеніемъ!.. Случалось это въ дни проклятья, того
проклятья, что рождается, какъ окровавленная птица, и бьется,
и рыдаетъ, и корчится, и разрываешь, вылетая, сердце,—
проклятья міру и людямъ за то, что заморозили душу,
за то, что погибла она въ самомъ расцвѣтѣ мольбы и на
дежды !..
И всегда, какъ спасительный якорь, является лодпо лье
Оно собираетъ въ „ѣдраІЪ свонхъ т и бы
возможных! побѣдъ,Яге“ ™ № Впр“ рГ„"йЙ' УСТаЛЫЯ СШШ
еееоХ Г нГ в
тихія души обиженныя олт л
—
г : г я
:::г г
: г д:
Здѣсь скрываются
г
~
ю вѣщ им ъ —
щаго™°„К
ШЦе.СТбудетъ
Г° МіраМірарт"™
» т я в ш а г оѵ и валящагося, но„ Ткоторый
стоять
-ертвецы живые, л въ г л ѵ х ѵ ю Т
"°Г° ВѢВ°"Ъ' и
надоѣвшее солнц.' „ г
лночь, когда потухоетъ
«.тся вГово х Г к ЛЬ Я Г и НМ,аВНСТ"Ые ЛЮИ- 0НН П0ДЫ" “ное я жестокое, т^
слезъ, н проклятій'
'
’
Н кРова™хъ
Г Г ы х 7 р УыГанИ 'вГнад" "'’Г " 4
- орять
дость!..
і ышп 2
Z
Z
T
"Ч *
Z
и
’ лихоРаДочная ра
Душа’Д о с Г в 2 Г Г ° з н « „ “ Ът,
‘
*■“
рѣзкое я „„л„„е с л о Г и Г Г і , “ ОДНа °бВДа- ™ “*»»
кончалась обида местью no.1 i:,," г *° въ его памя™ 'и всегда
« ь будто извиняющейся, кай, ^ Т н ^ Г х о ж е Г н а ” “ ™ '
Вспомните нсторію съ В*линСкимъ, которую“
, ^
забылъ до самой смерти, вспомните глухую, неизлечимую,
ехидную ненависть къ Тургеневу и, наконецъ, инцидентъ
съ офицеромъ въ „Запискахъ изъ подполья".
Какъ несчастная, забитая мышь, погрузилась душа вь
подполье, и все припоминала, все, до самыхъ мельчайших ь
подробностей, съ наслажденіемъ, съ болью вспоминала, и
мучилась, и наслаждалась этими воспоминаніями, и малень
кая обида превратилась въ этой мимозной душѣ въ неизлѣчимую, вѣчно гноящуюся рану, во что то огромное, невыно
симое, заслонившее собою весь міръ и всю жизнь!
„Тамъ, въ своемъ мерзкомъ, вонючемъ подпольѣ наша
обиженная, прибитая и осмѣянная мышь немедленно погру
жается въ холодную, ядовитую и, главное, вѣковѣчную
злость. Сорокъ лѣтъ сряду будетъ припоминать до послѣднихъ, самыхъ постыдныхъ подробностей свою обиду и при
этомъ каждый разъ прибавлять отъ себя подробности еще
постыднѣйшія, злобно поддразнивая и раздражая себя соб
ственной фантазіей“. ..
И вотъ въ этомъ то процессѣ самоуниженія вспыхнула
впервые та яркая мысль, что впослѣдствіи составить крае
угольный камень творчества Достоевскаго, та мысль, изъ
которой родилось все великое и удивительное въ его произведеніяхъ, мысль, свѣтящая міру какъ спасительный факелъ. Онъ самъ подчеркиваете эту мысль. Онъ говоритъ:
„Но именно вотъ въ этомъ холодномъ, омерзительномъ полуотчаяніи, полувѣрѣ, въ этомъ сознательномъ погребеніи
самого себя заживо въ подпольѣ на сорокъ лѣтъ, въ этой
усиленно созданной и все-таки отчасти сомнительной без
выходности своего положенія, во всемъ этомъ ядѣ неудовлетворенныхъ желаній, вошедшихъ внутрь, во всей этой
лихорадкѣ колебаній, принятыхъ навѣки рѣшеній и черезъ
минуту опять наступающихъ раскаяній и заключается сокъ
того страннаго наслажденія, о которомъ я говорилъ. Оно до
того тонкое, до того иногда неподдающееся сознанію, что
чуть-чуть ограниченные люди съ крѣпкими нервами не поймутъ въ немъ ни единой черты".
Радость подполья !.. Радость униженія и самоубійства
надоѣвшей души, радость сладкаго терзанія и надрывовъ
нечеловѣческой боли, радость ежедневнаго, ежеминутнаго
самораспинанія во имя единой, искупляющей Тьмы!..
Да, не всякому понятна она! Только глубоко замученные Ѵ/
и безнадежно усталые понимаютъ ее, только въ улыбкѣ
эпилептическаго надрыва, въ страстномъ экстазѣ мученья,
въ бреду слезъ и кроваваго изступленья является она, и блѣдною тѣныо ложится на истлѣваюіцее отъ тоски лицо и при
носить сквозь вихрь боли чуть внятный шепотъ утѣшенія.
И какъ разсказать всю тайну и всю тяжкую красоту
подполья? И хватить ли силъ открывать новую, еще не за
гаженную людского пошлостью область спасительныхъ сновъ
обморочныхъ, тусклыхъ и больныхъ сновъ нашей жизни!?
Съ дѣтства мучилъ душу Достоевскаго хищный и жаркій звѣрь, называемый жизнь! Съ дѣтства запускалъ острые
когти тяжелыхъ лапъ въ чистоту и святость нѣжную, выпивалъ кровь, наваливался по ночамъ на грудь и душилъ безпощадно...
Тяжелую атмосферу творило прозябаніе семьи бѣднаго
лѣкаря въ сѣромъ затхломъ домѣ... Приходили и уходили
ненужные дни, какъ призраки, въ низенькихъ комнатахъ
духота сгущалась, черныя змѣи сумерекъ тяжелѣли въ мозгу
и было темно, какъ въ гробу, и обѣденный, тошный запахъ,’
и мерцаніе тусклыхъ, вошочихъ лампъ, и надтреснутая нужда
гнали вонъ изъ этой повседневной тюрьмы, и расплескивались
оѣлыя крылья души на грязномъ полу и замирали въ безсиліи...
И были привычно обманчивы землистыя маски лицъ,
и, изнемогая отъ ужаса, люди казались мертвецами, и когда’
рвалась, умоляла, билась душа,—читали евангеліе и исторію
Карамзина, и желчный голосъ отца размѣренно и строго
говорилъ о послушаніи, о долгѣ... А потомъ казарменная
жизнь въ инженерномъ училищѣ, и вѣчная голодовка, вѣчное издѣвательство казенщины и режима надъ дѣтскои
душой, и первыя замученныя, блѣдныя грезы, и первыя
безсонныя ночи, проводимыя, быть можетъ, въ изступленномъ
воплѣ объ истинѣ, и первые припадки эпилепсіи...
И надо всѣмъ этимъ—давящій ужасъ петербургскихъ
сѣрыхъ, мокрыхъ, безнадежно тусклыхъ дней...
И, какъ крылья вампира, распятыя надъ этой жизнью,—
зловѣще черная, пьяная мукой ночь Россія...
„Бѣдные люди“... Откуда это? Развѣ это не первая
мелодія тошной, но такой выстраданной, такой больной тоски,
той тоски, что родилась въ низенькихъ комнатахъ, пропитанныхъ вонью жизни, полныхъ невидимыхъ слезъ, горя и нужды ?
Развѣ это не первый вопросъ, полный мучительнаго
надрыва, вопросъ о безцѣльности и ненужности всей этой
мрачной и грозной тюрьмы?
Здѣсь растутъ первые черные цвѣты опьяненія оолью,
но еще впереди ужасъ е я ...
Смертный приговоръ и каторга... Но развѣ не довольно
и прежняго? Развѣ можетъ вынести человѣкъ двойную муку,
когда одинъ домикъ съ низкими комнатами, исторіей Карам
зина и гнетомъ обыденщины, моясетъ высосать всѣ силы, всю
кровь! И какая же душа отважится принять второй крестъ
и не только донести его до конца, но еще найти въ немъ
свое спасеніе!?
Изъ одной каторги, каторги жуткой и склизкой—жизни,
въ другую—настоящую каторгу, изъ одного ада въ другой,
изъ одной безнадежности—въ другую!..
Не одну тысячу ночей—безсонныхъ, страшныхъ ночей
провелъ Достоевскій въ этой другой каторгѣ, и только эти
стѣны, и только эти люди, которыхъ онъ называлъ цвѣтомъ
и надеждой Россіи (!), знали и видѣли то, что вынесъ и
пережилъ онъ!.. И въ собственной боли, черной, ужасной
боли, почувствовалъ міровую боль, и приблизилось безобраз
ное лицо обмана, и открылась тайна! Здѣсь узналъ цѣну этой
боли и прянялъ ее, но люди, но міръ, но сѣрость Петербург
скихъ дней съ постоянными призраками безумія, но тѣ
обиды, тѣ уколы, то зло, что испытала душа,—все это вошло
въ кровь и страшнымъ ударомъ грянуло въ мозгъ, и въ
кровавомъ пожарѣ ненависти и проклятья вспыхнуло под
полье!
Сложная его душа любила странныя идеи и замыслы,
на созданіе которыхъ уходило столько силъ и таланта. Эти
жуткія и злыя идеи сквозятъ всюду—и въ мечтахъ под
ростка Долгорукова, и въ чахоточномъ бреду Ипполита,
и въ сладострастныхъ изгибахъ души Свидригайлова...
Это мечты о проклятіи и разрушеніи міра, о мести за
свою тоску и за боль свою, о царствѣ единственнаго „я“ и
главное, о заіцитѣ отъ жизни, отъ того ужаснаго, невыносимо
палящаго и постыднаго, что—въ ней!
Но гдѣ же возможно это непріятіе и это великое разрушеніе? Гдѣ возможно укрыться отъ людской пошлости,
отъ человѣческаго, чтобы создать царство сверхъ человѣческаго утвержденія? И куда уйти, чтобы воздвннуть мечту
свою такъ, чтобы ея не коснулась грязь человѣческихъ рукъ ?
И въ одинъ вечеръ угрюмый, ненастный, когда падалъ
мокрый, жуткій снѣгъ и умирала душа,—родилось спасеніе,
и въ мутной усталости сумерекъ зачернѣла сладкая и тре
вожно злая мысль.
Нужно уйти изъ жизни, нужно бѣжать изъ этого ада,
насыіценнаго горечью человѣческихъ слезъ и крови, бѣжать
туда, въ мрачные подвалы души, манящіе неизвѣданной тай
ной, и тамъ—въ блаженствѣ одиночества, въ пьяномъ чаду
страданья, разрушать эту жизнь и созидать храмъ своего
царства и своей воли!..
Да, только въ этомъ—спасеніе, только въ этомъ исходъ!
Ибо вотъ уже разрушается душа отъ надрыва и подгниваютъ корни жизни, ибо вотъ растутъ жуткіе замыслы
о возможности всемірнаго разрушенія...
И тогда отверзлась предъ нимъ тяжелая дверь под
полья, и хлынулъ оттуда затхлый мракъ, и гробовое молчаше, и черная, манящая, зловѣщая жуть...
И въ 1846 году, задолго до Нитцше, началась среди
странной музыки петербургскихъ тумановъ та великая переоцѣнка всѣхъ цѣнностей, то великое разрушенье и про
клятье, жалкія тѣни котораго подбираемъ нынѣ мы и называемъ своими открытіями !..
И какая страсть въ этихъ словахъ, огненныхъ и безумныхъ, и какая дьявольская насмѣшка, и какая властная,
разрушающая сила!
Больная, изломанная душа, душа рыдающая и отчаянно
измученная сквозить въ нихъ и опьяняетъ, и заставляетъ
любить эти слова, эти „записки" странною, тревожною лю
бовью, потому что въ нихъ—корни нашего отчаянья, нашихъ
терзаній, нашей красоты!
Сѣрые, тусклые люди кропотливо строятъ хрустальные
дворцы соціальной сытости и соціальнаго рабства, и рас
кинули липкія сѣти своей безличности, хотятъ опутать ими
весь этотъ міръ... И какъ груба, какъ дика ихъ наглость,
которую всѣ называютъ „спасительной теоріей“!
Но я,—говоритъ Достоевскій,—плюю на вашъ соціальный курятникъ, въ которомъ по табличкамъ и штифтикамъ
будетъ распредѣлена вся сложность чувствъ и переживаній
индивидуальности! Мнѣ ненавистно и противно ваше самоуниженіе и самоограничиваніе, вашъ хамскій деспотизмъ,
принуждающій меня думать и дѣйет
угодно вамъ, а не мнѣ!
удетъ
„Свое собственное, вольное и свободное хотѣніе, свой
собственный, хотя бы самый диній капрщъ, своя фанта,ія
: t“ все и есть
" н о г л а м т я бы
это
та самая пропущенная, самая выгодная
Я о т ъ ^ Г р Т в с ѣ П0ДЪ КаКУЮ Класси* ика* ю не подходить
къ чортуГ
ѣ СИСТе“ Ы И Те°Ріи
разлетаются
„И съ чего это взяли всѣ эти мудрецы, что человѣкѵ
т“
? , ТегоН0Р“ ЬНаГ0' КаК0Г° Т0 Д°бі>0Дѣтел-»а™ хо0 ]іепремѣнно вообразили они, что чело
* о в * г „ : г мѣ,ш° благ° ™
—
™ ~
одного только самостоятельного хотЬнія
чего бы эта самостоятельность ни стоила и и , чему бы ни
привела ■(„Записки изъ подполья"). Сколько глуби въ этап
словахъ! И каждое иэъ нихъ-цѣлая система, ц ѣ л Г ф и л Т
той и «с Мі^ овоззрѣн^е въ “ иніатюрѣ. Здѣсь заложены корни
ГОИ индивидуалистической теорін, на которой воздвигни»
:ГГеГ°
1 С
М*ХРУШт " ПР° ЗРаЧНЫ4 Хра“ ’и-™
ГО здѣсь колыбель философіи Нитцше, фактъ
: : Г
Г
съ
УДУЩІе ИСТ°РИШ литературы несомиѣнно будутъ
А если’ Т И “ '
“ “ Я ЮЛЯ “ЫШе веег0 и Цѣниѣе всего,
если іакь, пусть гаснетъ и разрушается міръ, унижаюИ
зличивающій это мое „я“ ! А можетъ Нити міра
льше пѣгпъ! О, радостная,сладко блаженная мысль! Только
Т о л ь Г Г о ” ЗМ0ЖН° ТВОе ІІелич*е И твой глубокій смыслъ !
I олько оно одно даетъ мнѣ возможность разрушать и строить
но своему капризу міры!
строить
И это разрушеиіе люблю не только я, къ счастью его
любятъ и другіе люди,-вотъ, въ чемъ таится сомнѣиіе на
счетъ прочности соціальныхъ курятниковъ, вотъ, въ чемъ
моя радость, которою упиваюсь безмѣрно и страстно !
„Я нисколько не удивлюсь, если вдругъ ни съ того,
ни съ сего среди всеобщаго будущаго благоразумія возникнетъ какой нибудь джентльменъ, съ неблагородной, или,
лучше сказать, съ ретроградной и насмѣшливой физіогноміей, упретъ руки въ бока. и скажетъ намъ всѣмъ: а что,
господа, не столкнуть ли намъ все это благоразуміе съ од
ного разу, ногой, прахомъ, единственно съ тою цѣлью, чтобы
всѣ эти логариѳмы отправились къ чорту и чтобъ намъ
опять по своей глупой волѣ пожить!“ („Записки изъ под
полья“).
А что это произойдете, въ этомъ нѣтъ ни малѣйшаго
сомнѣнія: „вѣдь человѣкъ до страсти любитъ разрушеніе
и хаосъ “ („Зап. изъ подп.“) и всюду вносите его, во всѣ ку
рятники и соціалышя западни! Онъ „проклятье пустите по
свѣту, а такъ какъ проклинать можетъ только одинъ человѣкъ
(это ужъ его привиллегія, главнѣйшимъ образомъ отличающая
его отъ другихъ животныхъ), такъ вѣдь онъ, пожалуй, однимъ
проклятьемъ достигнете своего, то есть дѣйствителыю убѣдится, что онъ человѣкъ, а не фортепіанная клавиша. Ьсли
вы скажете, что и это все можно разсчитать по табличкѣ, и
хаосъ, и мракъ, и проклятье, такъ что ужъ одна возмож
ность предварительнаго расчета все остановите и разсудокъ
возьмете свое, — такъ человѣкъ нарочно сумашедшимъ на
этотъ случай сдѣлается, чтобы не имѣть разсудка и настоять
на своемъ!“ („Зап. изъ подп.“). Этотъ дьявольскій смѣхъ раз
рушенья все ширится, все больше и больше овладѣваетъ
умомъ, и отрава его желанна, и хорошо пить безъ конца этотъ
жуткій и мучительный ядъ!
Міръ проклятъ, осмѣянъ, оплеванъ, міра больше нѣтъ...
И только одна душа расцвѣла здѣсь болѣзненно странно,
но развѣ можете, развѣ способна она жить ? Развѣ возможна
жизнь и осмысленность послѣ такого отчаянья? послѣ та
кой боли?
И зачѣмъ жить? ЦѢли въ жизни не видитъ душа,
потому что всякая цѣль—точка замерзанія, потому что во
всякомъ достиженіи цѣли гаснете самая жизнь
Вѣдь
человѣкъ чувствуете, что какъ найдетъ, такъ ужъ нечего
будетъ тогда отыскивать!“ („Зап. изъ подполья“).
Слѣдовательно, остается только одна каменная стѣна:
законы природы, ариѳметика, категорическій императивъ.
Но въ томъ то и вся суть подполья, что со всѣмъ этимъ
оно не можетъ согласиться, что оно будетъ терзаться мыслью
о каменной стѣнѣ, будетъ упиваться своею безнадежностью,
будетъ блаженно хихикать и сладострастничать, но съ фактомъ ни за какую цѣну не примирится! „То ли дѣло не прими
риться ни съ одной изъ этихъ невозможностей и каменныхъ
стѣнъ, если вамъ мерзитъ примиряться, дойти путемъ самыхъ
неизбѣжныхъ логическихъ комбинацій до самыхъ отврати- '
тельныхъ заключеній на вѣчную тему о томъ, что даже и
въ каменной то стѣнѣ какъ будто чѣмъ то самъ виноватъ,
хотя опять таки до ясности очевидно, что вовсе не виноватъ
и вслѣдствіе этого, молча и безсильно, скрежеща зубами, за
мереть въ инерціи, мечтая о томъ, что даже и злиться тебѣ
выходите не на кого, что предмета не находится и никогда
не найдется, что тутъ подмѣнъ, подтасовка, шулерство, что
гутъ просто бурда- неизвѣстно что и неизвѣстно кто. Но
несмотря на всѣ эти неизвѣстности и подтасовки, у васъ
всстаки болитъ, и чѣмъ больше неизвѣстно,-тѣмъ больше
оолите!« („Зап. изъ подп.“).
Что же дальше? Какой смыслъ въ этомъ рабскомъ мученіи, гдѣ выходъ изъ этого заколдованнаго круга?
Міръ не отвѣтитъ: міра больше нѣтъ. Но за то отвѣчаетъ подполье, отвѣчаете кровью истекающее сердце. Мо
жете быть въ этомъ то процессѣ мученья, въ этихъ тер-
заніяхъ безпочвенности и таится радость, наслажденье,
счастье ?
„Вѣдь, можетъ быть, человѣкъ любитъ не одно благоденствіе? Можетъ быть, онъ ровно настолько же любитъ стра
данье? Можетъ быть, страданье то ему ровно настолько же
выгодно, какъ благоденствіе. A человѣкъ иногда ужасно лю
битъ страданье, до страсти, и это фактъ... Въ хрустальном!,
дворцѣ оно и немыслимо: страданье есть сомнѣніе, есть отрицаніе, а что за хрустальный дворецъ, въ которомъ можно
усомниться? А между тѣмъ, я увѣренъ, что человѣкъ отъ
настоящаго страданья, то есть отъ разрушенія никогда не
откажется. Страданье—-да вѣдь это единственная причина
сознангя! („Зап. изъ подп.“).
Значитъ, остается любить свою боль и въ этомъ видѣть
смыслъ жизни. Вотъ, гдѣ родилось самое странное, самое
великое и самое святое въ Достоевскомъ ! Вотъ гд Ь, въ
мрачномъ, холодномъ, ужасномъ подпольѣ, возникло то очарованіе, тотъ свѣтъ, что роднитъ Достоевскаго съ вѣчностью! Это исходъ трудный, непосильный, тяжкій, инквизиторскій исходъ, но въ немъ вспыхнула послѣдняя искра на
дежды и безуміе души—сладостное, тихое безуміе раздуетъ
искру въ цѣлый пожаръ, залитый кровыо и слезами, и въ
этомъ огнѣ сгоритъ весь міръ причина сознанія, и отъ одной
мысли, что онъ сгоритъ, нужно принять его и полюбить..!
Здѣсь—ферментъ будущихъ геніальныхъ твореній, будущей
религіи и цѣлой философской системы. Здѣсь возникаетъ
мостъ къ христіанству, и въ глубокомъ колодцѣ сознанія
уже зрѣетъ тихій аккордъ—алмазно-свѣтлый, прозрачно-чистый—Соня Мармеладова, воплощенная радость муки, скор
бящая царица страданья! Да, но все это потомъ, все это въ
будущемъ. Теперь же падаетъ частыми хлопьями мокрый,
черный снѣгъ, и завываетъ вѣтеръ, и бьется рыдающей
грудью въ окна, и скользятъ чьи то угрожающія руки по стек-
ламъ, и стальной зондъ тоски гложетъ замученную душу...
А тамъ, въ мглистой перспективѣ дней, какъ призракъ
безпощадный, наростаетъ что то огромное, страшное, отъ чего
лопается мозгъ и стынетъ въ жилахъ кровь...
Хочется душить собственное горло мокрыми отъ пота
руками, хочется зарыдать такимъ рыданьемъ, отъ котораго
бы умерла душа, хочется уничтожить собственное сознаніе,
собственную мысль!
А потомъ еще хуже: начинается состояніе, похожее на
зубную боль,— тоскливо безысходное, раздирающее нервы,
раскаленными булавками терзающее нѣжность забвенья. Хо
чется кричать, но оборвались всѣ силы, хочется жаловаться
гсому то, прижаться къ кому то, просить у кого то ласки,
но міра больше нѣтъ... Хочется уничтожить, задушить свою
душу, которая, какъ разбухшій ракъ, безжалостно и медли
тельно выпиваетъ кровь, но нѣтъ надежды, нѣтъ воли, все
потухло, все осмѣяно, отброшено, забито, замучено.
Прижаться къ холоднымъ стекламъ, глянуть въ влаж
ную муть тоски...
Все похоронено... Тихо... Безмолвно... Грозные призраки
жизни кошмарно бродятъ въ мозгу...
Молиться... Кричать... Но вѣдь никто не услышитъ...
Пусть же будетъ боль... Жалко искривлены губы...
Тоска... Въ затуманенной дали тяжкими хлопьями падаетъ
мокрый снѣгъ...
IL
Есть въ „Запискахъ изъ подполья“ отчаянный вопросъ,
который, какъ красное зарево пылаетъ въ умѣ и не гаснетъ,
не гаснетъ, несмотря ни на какія сдѣлки съ совѣстыо и съ
сердцемъ, ни на какіе компромисы, ни на какое хитросплетен
ное надувательство. „Неужели же я,—спрашиваетъ Достоевскій,—для того только и устроенъ, чтобъ дойти до заключенія, что все мое устройство одно надуваніе? Неужели въ
этомъ вся цѣль?“..
Все творчество Леонида Андреева выливается въ этомъ
одномъ вопросѣ. Вотъ уже болѣе десяти лѣтъ какъ пишетъ
онъ и все объ одномъ и томъ же, все оставаясь подъ впечатлѣніемъ этой задачи, все варьируя и усложняя ее на ты
сячу ладовъ. Что онъ одураченъ, что весь міръ его обманулъ
и прихлопнулъ, что возможенъ одинъ только выходъ—стѣна—
вотъ, что его мучаетъ, вотъ, что не даетъ покоя, вотъ, съ
чѣмъ онъ примириться не можетъ. Каждая его книга—это
вопль объ этой стѣнѣ, каждое его произведете — лишній
разъ кровью подчеркнутый въ книгѣ жизни обманъ. Въ сущ
ности, такому человѣку, какъ JI. Андреевъ не слѣдовало бы
быть писателемъ: писатель вѣдь жрецъ искусства, а искус
ство существуетъ для того, чтобы всячески затушевывать,
всячески замыливать и замазывать зіяющій передъ нами об
манъ. Вотъ почему оно скучнѣйшее изъ всѣхъ ремеселъ въ
жизни: оно безконечно, оно никогда не добьется своей цѣли,
никогда, дая{е ирп своемъ желаніи, оно не столкнетъ человѣка съ лицомъ обмана съ такою страшною силою, чтобы человЬьъ, вмѣсто обычно наступающаго послѣ этого умиленія
полетѣлъ со всего размаху вверхъ тормашками—въ про
пасть. Потомучто и обмана то искусство не можетъ пред
ставить во всей его правдѣ, оно непремѣнно такъ его изукраситъ, такъ поддѣлаетъ, такъ видоизмѣнитъ, что, вмѣсто
отвращенія, человѣкъ испытываете такъ называемое эстети
ческое чувство. Это вѣдь прямое иазначеніе искусства.
Изъ этого слѣдуетъ, что искусство не въ состояніи вос
произвести обманъ. А если такъ, то незачѣмъ его воспроиз
водить, всякая попытка, да еще у человѣка съ талантомъ,
должна потерпѣть фіаско. Леон. Андреевъ, любящій всякія
отчаянныя мысли,—не подумалъ объ этомъ... Онъ изо всѣхъ
силъ старается, чтобы изобразить ужасъ обмана, но искусство
дѣлаетъ этотъ обманъ красивымъ, даже пріятнымъ на видъ.
Его преспокойно наблюдаютъ, книги Андреева даже чи
таются послѣ хорошаго завтрака, въ видѣ дессерта, круглыми и толстыми человѣчками, и ужасъ, изображенный Андреевымъ, можетъ быть даже способствуете ихъ пищеваренію.
Въ одномъ мѣстѣ Андреевъ говоритъ: „друзья, родные,
мать и жена, въ видимомъ отчаяніи и слезахъ, провожаютъ
на кладбище дорогого покойника и по истеченіи времени в о з
в р а щ а ю т с я о б р а т н о . Никто не закапывается вмѣстѣ съ
мертвецомъ, никто не проситъ его потѣсниться и дать мѣсто
возлѣ себя въ гробу, и если горестная жена восклицаетъ, об
ливаясь слезами: „о, закопайте меня вмѣстѣ съ нимъ!“ то этимъ
символически она выражаетъ лишь крайнюю степень своего
отчаянія! („Мои Записки“). Сказанное здѣсь о мертвецѣ
можно примѣнить и къ произведеніямъ Андреева. И есть
передъ чѣмъ ужаснуться: десять лѣтъ человѣкъ только и
дѣлаетъ, что вопитъ, надрывается, визжитъ, указывая людямъ на Обманъ—и ничего, книги читаются, какъ вообще
книги, люди живутъ преспокойно и преспокойно почитываютъ,
цѣль искусства остается достигнутой... Можетъ быть, въ
данномъ случаѣ, вмѣсто одного писанія книгъ (оплачиваемыхъ гонораромъ, конечно, да еще какимъ гонораромъ)
нужно выдумать что-нибудь посильнѣе, порадикальнѣе, напр.,
какъ совѣтуетъ Достоевскій, прибить посильнѣе кулакомъ
стѣну или, что еще радикальнѣе,—самого себя высѣчь?..
Кто знаетъ, можетъ быть это вызвало бы эффекта, куда боль
ший, нежели книги, написанныя кровью сердца. Но Андреевъ
объ этомъ и слушать не хочетъ. Онъ пишетъ книги.
Будемъ же говорить, скрѣпя сердце, о книгахъ. Книги
эти въ общемъ хорошія и нужныя, поучителышя книги, хотя
попадаются среди нихъ и скучныя, и ненужныя, и даже совсѣмъ пошлыя. Будемъ говорить, конечно о первыхъ.
,
Какъ хищная птица, набрасывается JI. Андреевъ въ г
своихъ книгахъ на людей и старается заманить ихъ въ
свои сѣти, липкія и манящія, сѣти слѣпого отчаянья, тьмы,
ужаса и безумія, сѣти родного и отраднаго подполья. Не
знаю, удается ли это ему, но цѣль хорошая, и ради нея стоитъ
говорить объ Андреевѣ.
Искать подполья, искать забвенья отъ отчаянья, искать
одиночества и страданья,-—искусство въ своихъ исканіяхъ
никогда еще не находило такого вѣрнаго и прямого пути.
JI. Андреевъ любитъ не эти пути (онъ можетъ быть ихъ
и боится), нѣтъ, онъ любитъ искусство, потому что оно
дало ему возможность прославлять обманъ, а такъ какъ
это красиво и даже поэтично, то отъ этого, кромѣ пользы
и славы, будетъ Андрееву немного вреда. Красивость и
звучные эффекты въ стилѣ Мейербера любитъ Андреевъ,
можетъ быть, въ этомъ причина его популярности среди
массъ, но по временамъ, среди всей этой красивости и Мейерберовщины,—вспыхиваютъ великія мысли, великія откровенія, глубокіе провалы жуткіе и пьяняіціе, въ которыхъ
сила, мощь, вдохновеніе. И хорошо читать Леон. Андреева
въ этихъ провалахъ, читать книгу страданія и черной боли
. и нить отраву отчаянья безмѣрнаго! И сначала оно было ’
безцѣльно это отчаянье. Оно возникло въ разгарѣ жизни
ярко и пышно, чтобы показать бездну глубокую и голо
вокружительную, оно застывало безмѣрною болью на гухъ Іуды, Іуды страдальца великаго и великаго безпочвенника, оно зажигало безуміе въ глазахъ Вас. Ѳивейскаго
и возводило Елеазара на вершины слѣпого и жестокаго оди
ночества—презрѣнія. Оно было всюду, гдѣ заложены основы
міра, гдѣ живутъ люди, гдѣ корчится въ безплодныхъ усиліяхъ человѣческая мысль... Отчаянье было средствомъ мо
жетъ быть, оно было еще источникомъ вдохновенія, источникомъ горькихъ и безсловесныхъ молитвъ, тѣхъ молитвъ, кото
рыхъ слушаетъ только одно молчанье, можетъ быть оно
жгло, замирало, точило, выворачивало жизнь... Все равно
можетъ быть этого ничего не было, но одно хорошо, одно'
радостно: оно разрушало жизнь-узкую, нормальную, буд
ничную жизнь, оно разрушало міръ, оно богохульствовало,
оно гасило румяное и скотски улыбающееся солнце!.. Все
творчество отъ этого стало проказою, проказою души отъ
которой такъ хочется избавиться, которую такъ хочешь'схо
ронить навѣки, унести куда нибудь въ такое затишье гдѣ
не слышно словъ, и прижать его къ своему сердцу, и уничто
житься въ немъ! Но пусть укажетъ блѣдное сознаніе душѣ
это отрадное мѣсто, гдѣ не слышно словъ, гдѣ душа могла
оы создать вѣчныи незыблемый храмъ! Раньше это было
немыслимо, раньше Андреевъ искалъ выхода изъ отчаянья,
онъ не желалъ принять отчаянье для него самого и упиться
имъ и замолкнуть, умереть въ отчаяніи. Раньше была слабая
вѣра, мерзкая, чахоточная вѣра-ненужная; ибо тамъ, гдѣ
есть отчаянье,-в ѣ р ы быть не должно, это слишкомъ непри
лично для отчаянья! Но когда появилась „Тьма“, когда
вышли „Мои Записки“, ясно стало, что выходъ есть, что спа
сете найдено, ясно стало, что создано нѣчто великое, почти
геніальное, передъ чѣмъ распадается и тухнетъ всякое ис
кусство, ясно стало, что сквозь стѣну прорублено отверстіе
и начинается жизнь новая—таинственная, странная, больная,
припадочная, похожая на слабое мерцаніе какого то слиш
комъ утонченнаго, слишкомъ своеобразнаго чуда! Самъ Ан
дреевъ не понялъ, что такое создала его мысль, самъ онъ
не хотѣлъ понять, что то, чего такъ желала душа, о чемъ
умоляла—исходъ и таинство спасенія,—уже здѣсь, уже най
дено, уже создано, хотя и не понято. Постороннему же человѣку легче разбираться въ деталяхъ положенія, здѣсь
виденъ огромный трудъ добыванія истины почти молотомъ,
и истина найдена, истина добыта цѣною кропотливой работы
мысли.
Что то великое построено и еще безобразной грудой
шевелится въ мозгу. Приближается какое то великое облегченіе своего рода, наростаетъ какое то небывалое творчество,
и цѣпенѣешь, наблюдая, страшишься, робѣешь, но что то
въ душѣ на самомъ днѣ говоритъ: „а можетъ быть это и
есть желанная пристань“.
Разрушено все до основанія, и улыбается хаосъ. Все
можно разрушить, но хаоса то уже ни въ коемъ случаѣ.
Напротивъ, здѣсь мы видимъ, какъ изъ хаоса возникаетъ
цѣлый храмъ.
Кто знаетъ, можетъ быть Андреевъ ради фокуса все
это выдумалъ и создалъ... Можетъ быть, но бываютъ и геніальные фокусы, а со стороны во всякомъ случаѣ занятно
смотрѣть и даже радостно.
Герой „Т ь м ы“ производитъ впечатлѣніе человѣка, кото
раго ошарашило вдругъ неожиданно самое главное, самое про
пущенное въ жизни. Онъ шелъ по тому пути, по которому
ходятъ тысячи нормальныхъ людей, по пути добра, и прохо-
дилъ бы всю жизнь свою по этому сѣрому и тоскливому пѵти
если бы вдругъ не предстало предъ нимъ само воплощенное
страдайте. Проститутку толкаетъ Андреевъ навстрѣчу сво
ему герою. Въ ней послѣдиій увпдѣлъ міръ, отраженный совер
шенно въ другомъ свѣгіі, и стало ему страшно. И было сказано
первое замѣчательное слово, въ которомъ слышится далекое
чуть слышное эхо подполья.
Проститутка сказала человѣку, „что о н ъ не с м ѣ е т ъ
быт ь х о р о ш и м ъ , е с л и она, е с л и в е с ь м і р ъ п о г
р у ж е н ы в ъ г ря з ь! . . « Какъ много нужно было сказать
сколько словъ и какихъ словъ нужно было выдумать, сколько’
слезъ пролить, сколько крови и силъ потерять, чтобы дока
зать человѣку эту истину. Даже Достоевскій заставилъ
Ивана Карамазова говорить цѣлый почти часъ, чтобы дока,
зать ее идеалисту Алешѣ, a здѣсь она выразилась какъ
нельзя болѣе ясно въ одной только фразѣ!
Здѣсь, повидимому, проститутка и есть подлинная а
не выдуманная, для которой страданье заслонило не только
свѣтъ но и весь міръ... Соня Мармеладова непремѣннопо
вела бы нашего героя къ свѣту, это ужъ такъ; но не ка
жется ли вамъ, что самый этотъ то свѣтъ въ данномъ слуКаКЪ 6УДТ° уМаляетъ страданье, какъ будто дѣлаетъ его
легкимъ, сноснымъ, но какое же это страданье, если оно
легко да еще сносно! Это можетъ быть и не страданье вовсе, а
одна его видимость. Раскольниковъ можетъ быть потому и поЦѣловалъ ногу Сони, что ему стало весело, что отъ страданья
можно избавиться. A здѣсь не то! Здѣсь женщина не улыаегся сквозь слезы, а кричитъ и дико хохочетъ, здѣсь видно
что страданіе это выпило всю ее до дна, такъ что, кромѣ
Д го хох°та и безумія, ничего не осталось. Гдѣ же ужъ
іугъ умиляться и разыгрывать комедію, для этого нужно
(>ыть немножко холодной!..
Здѣсь она говоритъ слова, которыя не такъ то легко
сказать, не переживши ихъ, не проболѣвши ими:
— Т ы м н ѣ о л ю д я х ъ н е г о в о р и ! — с т р о го с к а з а л а д ѣ в у ш к а
и г у б ы е я з а д р о ж а л и .— Т ы м н ѣ л у ч ш е о л ю д я х ъ н е говорит -- о п ят ь д р а т ь с я б у д у . С лы ш иш ь!
Вотъ это то и есть подлиннное и великое страданье,
здѣсь слова о людяхъ логически свидѣтельствуютъ о немъ.
Ибо человѣкъ, пережившій истинное страданье,— теряетъ
разсудокъ, теряетъ почву подъ ногами, теряетъ волю, теряетъ
практическую заботу о своей выгодѣ, и только слова про
клятья, только крикъ боли и ужаса способенъ исторгнуть
онъ изъ своихъ устъ!.. А мысль о свѣтѣ—вѣдь это есть
хитрость, на которую не способенъ страдающій человѣкъ,
вѣдь это и есть забота о своей собственной выгодѣ, которая
какъ то подозрительно настраиваетъ читателя.
И гдѣ же эта зажигающая с и л а страданья, если она
вылилась въ нѣчто такое жидкое, такое прозрачное, такое
жалкое, какъ мысль о свѣтѣ! Значитъ, ея нѣтъ?
A здѣсь страданье, словно дикій звѣрь, набросилось
на героя Андреева, словно ужалило его больно и мучительно.
И тогда пошло все прахомъ, все очутилось гдѣ то совер
шенно вдали, совершенно въ сторонѣ—и житейскія дѣла, и
своя выгода, и свое я. И что то заныло въ человѣкѣ, словно
душу всю исцарапали, что то раскаленнымъ обручемъ сда
вило мозгъ.
„Какъ будто все, что онъ узналъ въ теченіе жизни, по
любилъ и передумалъ, разговоры съ товарищами, книги,
опасная и завлекательная работа- безшумно сгорало, уничто
жалось безслѣдно, но самъ онъ отъ этого не разрушался,
а какъ то страшно крѣпъ и твердѣлъ. Словно съ каждой
выпитой рюмкой онъ возвращался къ какому то первоначалу
своему—къ дѣду, къ прадѣду, къ тѣмъ стихійнымъ, первобытнымъ бунтарямъ, для которыхъ бунтъ былъ религіей и
релиия бунтомъ. Какъ линючая краска подъ горячей водой
смывалась и блекла книжная мудрость, а на мѣсто ея вста
вало свое, собственное, дикое и темное, какъ голосъ самой
черной земли. И дикимъ просторомъ, безграничностью дремучихъ лѣсовъ, безбрежностью полей вѣяло отъ этой послѣднеи темной мудрости его; въ ней слышался смятенный крикъ
колоколовъ, въ ней видѣлось кровавое зарево пожаровъ, и
звонъ желѣзныхъ кандаловъ, и изступленная молитва, и саганинсісш хохотъ тысячъ исполиискихъ глотокъ,—И черный
куполънеба надъ непокрытой головой“. (Тьма)
И тогда нашелъ въ глубинѣ всего этого, въ страданьи
вь ужасѣ одну искупляющую и спасительную мысль, кото
рая впилась въ мозгъ и заныла сладко!
Тогда понялъ, что н у ж н о принять тьму_ ибо І щ а т
можетъ погасить тотъ еатаиинскИ пожаръ, въ которомъ
гибнетъ весь міръ!
Еще уродливое, еще страшное и ужасающее лицо тьмы
приблизилось и зацвѣтаегь жуткими помыслами въ устав
шей душѣ, тихо раскрывается за нимъ грозная дверь и от
туда медленно льется сырой мракъ и зябкая холодная отрава
И страшно. Робко подходишь, и по тѣлу пробѣгаетъ дрожь
стряхиваетъ, душитъ нѣмое изумленіе. Но уже выпита чаша
ин, выпита до диа, но уже жизнь разорвала душу на
жалобно иоющ,е клочья, и куда то ушла вся сила, и не
мертвые ли мы въ зтот-ь рѣшительный часъ, и не кажется
;М
Т
ктоюбудь возвратшіъ -» <—
жизнь, мы бы Тобрекли его на вѣчное проклятіе!? Но мы
нзнемогаемъ отъ инквизиторской, неумолимой тоски, зто он»
ерзаетъ наше слабое сердце въ этотъ послѣдній насъ, это
она отравляетъ наше умираніе кошмарнымъ чадомъ агоніи...
Мы боимся умереть, потому что страшная мысль говоритъ
намъ о томъ, что Тоска будетъ продолжаться и за смерть,,
что и тамъ грозить она намъ вѣчною мукой и вѣ„ІШ„ Р ^
ж и зн ь
маномъ! Мы не хотимъ умереть, н о — избавиться отъ обмана,
избавиться отъ лжи и увидѣть правду, какова бы она ни
была: даже самая отвратительная, самая страшная правда
дороже для насъ, чѣмъ тоскливая и неумолимо безысходная
ложь. Пусть эта правда закроетъ отъ насъ весь видимый
міръ, пусть она даетъ намъ муку, даже отчаянье, для насъ
важно, чтобы она не лицемѣрила, не изводила, не издѣвалась надъ нами, чтобы не было въ ея глазахъ зловѣщихъ
искръ той безмолвной и глухой наемѣшки, которая превра
щаешь для насъ всю эту землю въ кромѣшный адъ! Мы хо
тимъ повѣрить въ нее, только пусть наша вѣра созрѣетъ въ
молчаніи, пусть никто не видитъ ее, пусть ни одно человѣческое существо не коснется ея, пусть она сохранитъ свою
дѣтскую чистоту, пусть ненавистный свѣтъ не изгладитъ ея
сложныхъ извивовъ, хранящихъ возможность обморочныхъ
сновъ, блаженныхъ экстазовъ, чудесную возможность опьяненія болью, опьяненія до изступленнаго надрыва души!
Пусть наша истина ослѣпитъ весь міръ, пусть отъ ея
вторженія въ нашу душу разрушится все, и наступить
черное царство хаоса,, тьмы, проклятія, безумія. И пусть
наступитъ забвенье...
...„За всѣхъ слѣпыхъ отъ рожденія! Зрячіе! выколемъ
себѣ глаза, ибо стыдно,—онъ стукнулъ кулакомъ по столику,—
ибо стыдно зрячимъ смотрѣть на слѣпыхъ отъ рожденія.
Если нашими фонариками не можемъ освѣтить всю тьму,
такъ погасимъ же огни и всѣ полѣземъ въ тьму. Если нѣтъ
рая для всѣхъ, то и для меня его не надо—это уже не рай,
дѣвицы, а просто на просто, свинство. Выпьемъ за то, дѣвицы, чтобы всѣ огни погасли. Пей, темнота!“ (Тьма).
Жизнь кончилась. Жизнь, освѣщенная солнцемъ, не
уклюжая, мерзкая, ложная! Теперь наступаетъ жизнь, создан
ная по моей единой волѣ, по моему капризу, по моему
отчаянью, теперь раскрывается м ой м і р ъ и гаснутъ воз
можности другихъ міровъ, мой черный, мой одинокій міръ!
„Мои Записки“ — вотъ истинная, геніальная апологія
подполья, написанная съ инквизиторскою логичностью аргументовъ, утвержденная на незыблемомъ камнѣ вѣры, твердая
и нерушимая, какъ изваянье! Я увѣренъ, что самъ Ан
дреевъ не понялъ значенья этой вещи, а между тѣмъ она
лучшее изъ всего созданнаго имъ. Ее будутъ читать, ею
будутъ упиваться, отъ нея станутъ вѣшаться и стрѣляться,
станутъ сходить съ ума и воскресать! Послѣ книгъ Шо
пенгауэра я не знаю ничего, чтобы съ такою математичностью—доказывало бы ужасъ и ненужность всей нашей
жизни. Я не знаю книги, которая такъ поражала бы своею
инквизиторскою холодностью, въ которой бы съ такою силою
отразилась вся правда отчаянья и вся неизбѣжность подполья!
Въ ироническихъ примѣчаніяхъ разсѣяны алмазы, ко
торые поражаютъ. И самъ герой „Записокъ“,—жаждавшій
абсолютной правды и нашедшій ее только въ тюрьмѣ и вѣрный ей до такой степени, что самъ воздвигнулъ для себя
тюрьму, когда его освободили,—одинъ этотъ фактъ оглушаетъ геніальностыо замысла. А что герой дѣйствительно
болѣлъ исканіемъ правды, доказываете хотя бы слѣдующее
замѣчаніе объ искусств* : „То, что люди называютъ обычно
„литературнымъ талантомъ“ и чѣмъ такъ наивно восхищаются, есть въ сущности не что иное, какъ неудержимая
наклонность къ вымыслу и лжи!“... Передъ нами постепенно
развертывается мучительная картина умиранія человѣческой жизни въ четырехъ стѣнахъ заключенія. Передъ нами
гаснетъ, разрушается міръ, и вмѣстѣ съ нимъ рушатся тѣ
основы, на которыхъ построена извѣчная ложь о свободѣ,
о Ьогѣ, о добрѣ и злѣ !.. Передъ нами возникаютъ страшные
.уколы безумія въ человѣческую душу, передъ нами она
исходите кровью, а потомъ эта кровь медленно застываете,
образуя одну сплошную маску забвеннаго отчаянья. Вся міро-
вая мука, вся тоска и надрывающійся стонъ человѣчества
запечатлѣны въ этихъ спокойныхъ, холодныхъ словахъ, и
возникаютъ пропасти, въ которыхъ исчезаетъ всякая мысль
о спасеніи! Инквизиторскій рокъ такъ измучилъ душу человѣка, что онъ самъ сталъ своимъ палачомъ и тюремщикомъ, и полюбилъ отчаянье, полюбилъ безнадежность, по
любилъ холодный мракъ своего подполья. Въ одномъ примѣчаніи эта мысль принимаешь зловѣщую форму: „Между
прочимъ, по моему совѣту была измѣнена форма кандаловъ
въ нашей тюрьмѣ: вмѣсто прежнихъ колецъ, я ввелъ двой
ное полуовальное кольцо, представляющее собою въ чистомъ
видѣ тотъ знакъ, который въ математикѣ символизируетъ
безконечность c/j; впрочемъ, это изобрѣтеніе относится скорѣе къ области; философскаго такъ сказать, щегольства,
такъ какъ практически прежнія не умныя кольца съ успѣхомъ выполняли свое назначеніе“.
Эта безконечность во всемъ и всюду особенно ужа
саешь героя „Записокъ“. Отъ самоубійства его оттолкнула
мысль о продолженіи безконечности послѣ смерти. Безконеч
ность лжи, безконечность обмана, тоски, страха—вотъ мука,
которая заливаетъ чернымъ ужасомъ эти записки, и какъ она
понята въ нихъ, какъ продумана, какъ пережита! О томъ,
что нѣтъ исхода, нужно говорить, нужно твердить безъ
устали, нужно добивать ж алкій мозгъ человѣка этою мыслью
до тѣхъ поръ, пока онъ не превратится въ прахъ, до тѣхъ
поръ, пока безуміе или смерть не уничтожать самого по
нятая безконечности! II авторъ записокъ повторяетъ эту
мысль на каждой страницѣ съ какимъ то сладострастьемъ,
онъ ею упивается, онъ живетъ ею, ему кажется, что она дол
жна, она непремѣнно должна оглушить, заживо умертвить человѣка, д о л ж н а , ибо зачѣмъ тогда всякія записки, изліянія,
вздохи и переливанія изъ пустого въ порожнее, если человѣкъ останется живъ и въ немъ будетъ жить безконечность!
Наша тюрьма безпощадна и выхода въ ней нѣтъ—доказываетъ онъ съ какимъ то бѣшенымъ спокойствіемъ,—ибо
каждый выходъ сторожить стѣна! Наша тюрьма вѣчна, ибо
самому Христу не удалось ее разрушить, не смотря на его
божественную силу. Она преступна и гадка, потому что
женщина, клянущаяся въ любви, низко и подло измѣняетъ,
потому что братья и сестры увеличиваютъ одиночество человѣка, потому что нѣтъ въ ней ни о д н о г о человѣка, ко
торому можно было бы повѣрить, открыть свою душу, слиться
съ нимъ, полюбить его! Наша тюрьма подневольна, ибо
царить въ ней властный и непобѣдимый Начальникъ, кото
рый держитъ въ своей рукѣ всю эту унизительную муку,
всю эту грязную ложь, всю эту безсмыслицу, и настолько
жестокъ, что не хочетъ, не смотря на кровавую мольбу
міра, разрушить все это и обратить въ прахъ! И нѣтъ
правды въ нашей тюрьмѣ и можетъ быть потому ея нѣтъ,
что мы ее такъ страстно, такъ жадно ищемъ, такъ болѣемъ
и мучимся этимъ безплоднымъ исканіемъ!..
И нѣтъ смерти въ нашей тюрьмѣ, такъ какъ всякая
смерть будетъ обманомъ, ибо нѣтъ въ мірѣ такой силы, ко
торая могла бы навсегда уничтожить то кровавое и ужасное,
что зовется жизнь...
„...При закатѣ солнца наша тюрьма прекрасна!“
Вотъ мысли, которыхъ касается печать таланта Андреева
и преврашаетъ въ комки засохшей крови... Вотъ та истина,
которая, какъ острый ножъ гильотины, впилась въ жизнь
героя „Записокъ“ и срѣзала ее... Но хотя усталое, хотя
уже умирающее сердце кроваво, но выхода оно ищетъ стра
стно, оно его требуетъ.
Среди жизни, въ той тюрьмѣ, что уже пережита и
разрушена страданьемъ, каждый исходъ долженъ быть яснымъ, здоровымъ, нормальнымъ, но мучительно грубымъ,
но болѣзненно логичнымъ, но отвратительно раціональнымъ.
Людское стадо любитъ спасать себя грубыми лекарствами
коноваловъ, здѣсь же, на вершинахъ отчаянья, когда вся
душа превратилась въ утонченную музыку, когда все здо
ровое, все жизненное, все человѣческое отвергнуто, какъ
унизительный обманъ, здѣсь нужно искать исхода, который
бы далъ этой душѣ спасеніе!
Но можетъ ли быть спасеніе выше того, которое далъ Христосъ?— отзывается въ душѣ умирающій міръ.— Можетъ,
потому что Христу не была вѣдома та тайна, которую таитъ
въ себѣ натпъ новый исходъ, наше подполье.
И человѣкъ погружаетъ мысль свою въ Христово лицо,
какъ острый кинжалъ, и говоритъ ему съ выраженіемъ край
ней суровости и безграничной скорби:
— „Да, я укоряю Его. Іисусъ, Іисусъ! Зачѣмъ такъ чисть,
такъ благостенъ Твой ликъ? Только по краю человѣческихъ
страдангй, какъ по берегу пучины, прошелъ Ты, и только
пѣна кровавыхъ и грязныхъ волнъ коснулась Тебя,—мнѣ ли,—
человѣку, велишь ты погрузиться въ черную глубину? Ве
лика Твоя Голгоѳа, Іисусъ, но слишкомъ почтенна и радо
стна она, и нѣтъ въ ней одного маленькаго, но очень интереснаго штришка,—ужаса безцѣльности“. (Мои З а п и с к и ) .
Вотъ что побѣдило въ подпольѣ Христа,—сила стра
данья. Того страданья, которое не можетъ быть легкимъ, не
можетъ быть свѣтлымъ, потому что оно есть истинное, ужас
ное страданье безнадежности!
И можетъ быть, потому именно, что въ немъ не видно
просвѣта,—подполье возводитъ страданье на престолъ своего
мрачнаго и холоднаго храма. Ибо только безобразіе, только
страшная, демоническая уродливость, только бездонная из
вращенность могутъ быть кумирами подполья. Ибо изъ ве
ликаго, слѣпого отчаянья оно родилось и въ отчаяніи же
и воскреснетъ! Ибо отчаянье хранитъ для него своего рода
религіозность, отъ которой оно не отречется никогда.
Ибовъсамойглубинѣ этого отчаянья и заключается тотъ
исходъ, къ которому оно пришло!
„Философія, — говоритъ Нитцше, — это добровольная
жизнь среди льдовъ, на высотахъ—исканіе всего, что есть
въ бытіи страннаго и сомнительнаго".
Такова именно философія подполья. Оно не примирится
ни съ одною здоровою, ни съ одной ч е л о в ѣ ч е с к о й мы
слью, оно извратитъ ее до болѣзненности, сдѣлаетъ ложною,
безумною, можетъ быть парадоксальною, но въ этомъ то и
заключается вся его суть.
Ибо если нельзя измѣнить міра, то остается только
перевернуть его вверхъ ногами, по крайней мѣрѣ измѣнившійся видъ его не будетъ приносить столько боли.
Если нѣтъ надежды выдумать спасенье, то нужно искать
его въ отчаяньи.
Если погасла всякая возможность жить по человѣчески,
а душу терзаетъ жажда чего то сверхнормальнаго,—то нужно
сдѣлаться уродами, единственно только для того, чтобы во
сторжествовала человѣческая свободная воля!
Если нечѣмъ жить, то нужно во чтобы то ни стало
выдумать нѣчто такое, что заглушило бы самую возможность
мышленія.
Но прежде всего и раньше всего нужно похоронить
себя въ такомъ склепѣ, куда не въ силахъ пролѣзть все
человѣческое и всякая пошлость, соединяемая съ этимъ понятіемъ.
Ибо только въ абсолютномъ молчаніи и въ абсолютномъ одиночествѣ возможно пришествіе великихъ и желанныхъ чудесъ.
А такъ какъ общая тюрьма неизбѣжна, то, чтобы остаться
нослѣдовательнымъ, нужно внутри ея построить другую, въ
которой было бы вмѣсто добра—зло и болѣзнь, вмѣсто Бога—
отчаянье.
И все это нужно сдѣлать не только ради спасенія,
но,—во имя той неизлечимой, чадной, безумной ненависти,
которую испытываетъ всякая оригинальная, всякая смѣлая
и свободная мысль по отношенію къ этому міру, который
долженъ погибнуть и дать мѣсто неизвѣстной и таинственной
Тьмѣ.
Изъ чаши томительной боли выпьемъ за то, „чтобы
всѣ огни погасли. Пей, темнота!“.
Есть писатели, которые сразу, невольно захватывают,,
читателя своею оригинальностью и, застывъ яркимъ впеніемъ въ мозгу, оставляюсь слѣдъ свой надолго, иногда
навсегда. Случается, что кажется :- в ъ нихъ ничего осо
бенная на первый взглядъ нѣтъ. Все просто-и слогъ и
языкъ, и переживанія, но обаяніе удивительной глуби, часто
непонятной и головокружительной таится въ ихъ произведеніяхъ, написанныхъ кровью сердца, запечатлѣнныхъ искрен
ностью непосредственнаго чувства.
Таковъ Ѳедоръ Сологубъ.
Творчество его отличается рѣдкимъ качествомъ: оно
трогаетъ своимъ неподдѣльнымъ чувствомъ, своимъ внутреннимъ воплемъ, плывущимъ изъ нѣдръ истерзанной д у ш и богатои и нѣжной, истлѣвшей на пожарищѣ земныхъ мукъ
свиду какъ будто уже похороненной, но при болынемъ анализѣ,-обнаруживающей драгоцѣнности, которымъ могутъ
позавидовать самые свѣтлые идеалисты и крикливые писатели
сѣренькой тенденціозности.
Многіе возмущаются нѣкоторыми произведениями СолоIуба, находятъ въ нихъ извращенность.
Для того, чтобы лучше разобраться въ самомъ терминѣ
„извращенность“ или, какъ другіе говорятъ, жестокое сла
дострастье, необходимо подвергнуть разбору то произведете
Сологуба, въ которомъ этотъ элементъ наиболѣе преобла
даешь, а именно романъ „Навьи Чары“.
Этотъ романъ является какъ бы синтезомъ всего творче
ства Сологуба. Въ немъ вылилась вся душа его, всѣ его сокровенныя мысли, вся любовь и тоска его. Задуманный ши
роко, написанный музыкальною рѣчью углубленнаго симво
лизма, онъ представляетъ глубоко интересное явленіе въ
русской литературѣ.
Когда читаешь его, кажется, что слушаешь и видишь
какую-то необычайно интимную мистерію Духа, словно вхо
дишь въ міръ одного я и одной Воли, словно проникаешь въ
ту область, что скрыта отъ человѣческихъ глазъ,—область
сказочныхъ чудесъ души, область головокружительныхъ мелодій усталости и одиночества... И весь романъ, какъ ту
склый образъ жизни съ лазурными просвѣтами въ вѣчность,
съ чарующими безднами потусторонняго... И весь онъ какъ
симфонія красокъ и звуковъ, завороженныхъ невѣдомою си
лою, и каждый звукъ—колодезь забвенья и боли!... Какія
головокружительный вершины одиночества и страданья, ка
кой странный дневникъ боли и наслажденія этою болью, и
какая отрада и счастье отъ сознанія безпочвенности, безсилья,
смерти!
Наша публика не понимаетъ „Навьихъ Чаръ“, а кри
тика смѣется надъ ними. И это хорошо, что не понимаетъ:
всякое пониманіе опошляетъ въ концѣ концовъ то произве
д е т е , которое, понимаешь и оно становится аріей изъ „Травіаты“. То, что пишетъ Сологубъ,—не для толпы, не для
всѣхъ, а для немногихъ, какъ все глубокое и выстраданное.
То, что пишетъ онъ,—сокровище души его и Тайна
сладкая, болѣзненно ощущаемая—и въ минуты кошмарнаго
надрыва души, онъ роняетъ нѣжные, нездѣшніе цвѣты своей
Тайны въ пошлость земли, роняетъ, можетъ быть, глубоко
сожалѣя объ этомъ, безсильный передъ властью таланта,
безсильный передъ властью музы своей—тихой и прекрасной
Смерти !
Герой романа—Триродовъ—весь какъ измученный геній
какой то жуткой, зловѣщей, заколдованной Красоты! Каліостро 20-го столѣтія, великій магъ, повелитель духовъ и
стихій, лукавый алхимикъ, поэтъ,—онъ царитъ въ этомъ
странномъ царствѣ, которое самъ же создалъ, живетъ въ
заколдованномъ домѣ со множествомъ тайнъ, привидѣній, и
оттуда раскидываетъ по міру сѣти навьихъ чаръ, сѣти
волшебнаго таинства смерти, и лелѣетъ безумный замыселъ
разрушенія міра!
И въ своемъ Царствѣ Триродовъ создалъ себѣ творимую
легенду,—и вся сотканная изъ прозрачныхъ, голубыхъ, нѣжныхъ звуковъ, вся легкая и сквозная, дышущая ароматомъ
туберозъ,—она сошла въ его сердце и сомкнула глаза его
мучительно томящимъ поцѣлуемъ забвенья! И въ ней онъ
нашелъ свою музыку, трепетную и печальную, музыку ясновидѣнія и откровенія. И земля, и мѣсяцъ, и звѣзды по
клонились ему, и сталъ онъ владыкою душъ человѣческихъ.
И раздвинулись предъ нимъ завѣсы всѣхъ тайнъ и чудесъ,
и безплотные духи — тихіе мальчики стали служить ему, и
кто то незримый, прозрачный опрокинулъ къ губамъ его
кубокъ человѣческой крови и бездонной муки женскихъ
ласкъ!
И люди преклонились предъ нимъ и благовѣйно трепе
тали его, и женщины отдавались ему по первому зову, а онъ
устало, привычно дарилъ всѣмъ улыбки презрѣнія... Ибо
нѣтъ такой силы и такой Легенды, которая заглушила бы
страшное понятіе „жить“. Ибо нѣтъ такого счастья, которое
спасло бы душ у отъ вѣчной тоски! Ибо нѣтъ на землѣ жен
щины, подобной той,— усталой и тихой, которая приходитъ
въ послѣдній часъ и цѣлуетъ раскаленный лобъ бѣлыми
губами!
И можетъ быть, все очарованіе легенды Триродова—
только въ одиночествѣ, можетъ быть вся Красота ея только
въ спасительномъ бѣгствѣ отъ жизни!
Бездонна душа Триродова и мучительна ея жажда, жажда
невозможнаго, чудеснаго, сверхчеловѣческаго, жажда, исто
щающая с и л ы, умерщвляющая духъ!
Чѣмъ же заглушить эту неудовлетворенную жажду,
чѣмъ заполнить бездну души и въ чемъ забыться, пока
Бѣлая и Желанная не скажетъ „Приди“!
И что на землѣ можетъ умертвить безумную боль, ту
боль, отъ которой сѣдѣютъ волосы и разрушается тѣло!?
Маленькіс люди лѣчатся отъ боли своими лекарствами
религіей, моралью, любовью, политикой. .. ІІо чѣмъ лѣчиться
сверхчеловѣку — Триродову—великому кудеснику и магу?
И какъ спастить ему отъ тоски и боли, пока надъ міромъ
зіяетъ жаркая пасть зловѣщаго змія!..
И отвѣчаетъ пересыщенное сердце: радостью сладо
страстья, радостью иаслажденія человѣческими муками и
муками женскаго тѣла и пьянящимъ видомъ алой крови.
Вотъ, въ чемъ забвеніе Триродову— мудрому и лукавому
волхву, вотъ что можетъ исцѣлить его хоть на время — отъ
смертельныхъ укусовъ жизни! И вотъ, устраиваются въ домѣ
Триродова призмы для извлеченія крови человѣческой и
другія машины св. Инквизаціи, и „за дверьми стоитъ Желѣзная Дѣва, и стоитъ только нажать кнопку и осужденный
падаетъ въ объятья Желѣзной Дѣвы, а острые ножи вмигъ
пронзаютъ его тѣло“.
PI говоритъ Сологубъ: „Жестокое сладострастье разлито
въ нашей природѣ, земной и темной. Несовершенство человѣческой природы смѣшало въ одномъ кубкѣ сладчайшіе
восторги любви съ низкими чарами похоти, и отравило смѣшанный напитокъ стыдомъ и болью, и жаждою стыда и боли.
Изъ одного источника идутъ радующіе восторги страстей и
радующія извращенія страстей. И мучимъ только потому,
что это насъ радуетъ,—и когда мать даетъ пощечину дочери,
ее радуетъ и звукъ удара, и красное на щекѣ пятно«...
Мы возмущаемся этими словами—очень они намъ не
нравятся, а между тѣмъ, какую горькую и глубокую правду
говорятъ они намъ о жизни! Мы забываемъ, что наслажденіе
мукой составляете единственную радость жизни и любви,
вотъ отчего первые христіане были счастливы, когда ихъ
мучили и распинали на крестахъ, вотъ откуда евѣтлая оза
ренность борца, умирающаго за идею, вотъ въ чемъ таин
ственная красота жизни русской интеллигенціи, для которой
существуетъ только одна радость, только одинъ подвигъ,1
только одно желаніе, желаніе страданья и жертвы! И не
вольно воспоминаются слова Достоевскаго, шестьдесятъ лѣтъ
тому назадъ предрекшія эту горькую истину современ
ности: „Цивилизация вырабатываете въ человѣкѣ только од
носторонность ощущеній и... рѣшительно ничего больше,
черезъ развитіе этой многосторонности человѣкъ еще
пожалуй, дойдете до того, что отыщетъ въ крови наслажденіе“...
Съ другой стороны извращенность и садизмъ представ
ляюсь неотъемлемый элементе современной любви. Это ис
тина, санкціонированная даже медициной, въ доказательство
чего можемъ привести слова авторитетная нѣмецкаго врача
Freuda, который говорите: „Нѣтъ почти ни одного здороваго
человѣка, у котораго не было бы какого нибудь извращенія,
въ качествѣ придатка къ нормальному половому инстинкту«.
А д-ръ Иванъ Блохъ категорически заявляетъ: „Садизмъ
принадлежитъ, несомнѣнно, къ числу самыхъ распространенныхъ половыхъ извращеній и въ легкой формѣ встрѣчается
почти у каждаго человѣка“.
Общество обвиняете Сологуба въ несправедливости вышеприведенныхъ словъ и приписываете ихъ его извращен-
34
ности, забывал или не желая знать, что въ нихъ таится горь
кая правда человѣческой жизни!
И правъ былъ Нитцше, когда выражалъ психологію
всеобщаго садизма въ нижеслѣдующихъ глубоко правдивыхъ
словахъ:
„Почти все, что мы называемъ высшей культурой, по
коится на одухотвореиіи и углубленіи жестокости. То, что
сообщаетъ человѣческой комедіи болѣзненно-сладострастный
характеръ, есть жестокость; такъ называемое состраданіе,
вызываемое въ насъ трагедіей, и, въ сущности, все возвы
шенное вплоть до нѣжнѣйшихъ болѣзненныхъ вибрацій ме
тафизической мысли, все, что дѣйствуетъ на насъ какъ нѣчто
пріятное, получаетъ свой сладостный характеръ исключи
тельно отъ примѣси ингредіента жестокости. Все, чѣмъ на
слаждаются и что впитываютъ въ себя съ такой страстью
римлянинъ на своей ареиѣ, христіанинъ въ восторженномъ
созерцаніи Креста, испанецъ при видѣ костровъ или боя
быковъ, рабочій парижскаго квартала, питающій страсть къ
кровавымъ революціямъ, поклонница Вагнера, безвольно от
дающая себя во власть Тристана и Изольды,—все это прямые
инстинкты великой Цирцеи, имя которой Жестокость. Но
слѣдуетъ отбросить ту странную психологію, которая учитъ,
что жестокость возникаетъ лишь при видѣ чужихъ страданій.
Можно находить чрезвычайно огромное наслажденіе и въ
собственномъ страданіи, въ причиненіи боли самому себѣ; и
всюду, гдѣ человѣкъ даетъ увлечь себя самоотрицаніемъ
въ религіозномъ смыслѣ или самоувѣченіемъ, какъ это было
у финикіанъ и аскетовъ, или вообще умерщвленіемъ плоти,
пуританскими припадками раскаянія, вивисекціей совѣсти,
его тайно влечетъ и гонитъ впередъ собственная жестокость,
опасная сила жестокости, направленной противъ себя“....
Теперь перейдемъ къ той сторонѣ Сологубовскаго твор
чества, которая наиболѣе интересна для насъ. Для этого
Ш ЯШ ЯШ
намъ необходимо подойти къ самой глубинѣ души автора,
выражающейся въ его поэтическомъ творчествѣ.
„Въ скитаніяхъ нѳнужныхъ,
Въ страданіяхъ недужныхъ.
На скудной почвѣ золъ
Внѣ свѣтлыхъ впечатлѣній
Безрадостный мой гѳній
Томительно расцвѣлъ“.
И тогда наступило торжество одиночества.
„Есть правда горькая въ пророчѳствѣ:
Ты долженъ вѣчнымъ быть рабомъ.
Свобода—только въ одиночѳствѣ.
Какое рабство—быть вдвоемъ.
Свершить ли хочешь пожѳланія,—
Свободные всегда одни.
Вѣнчай тіарою молчанія
Свои отторженные дни.
Но бойся, бойся воплощѳнія
Твоей надежды и мечты;
Придутъ иныя вождѣленія.
И самъ окаменѣешь ты“...
Одиночества—больного и пьянаго непреодолимою безы
сходностью, когда застываетъ тѣло въ оцѣпенѣніи и безсильно
бьется въ тискахъ тюремности тайнъ и обмановъ, и жизнен-
ныхъ сфинксовъ, — придушенныхъ, заплеванныхъ, погребенныхъ тамъ, на днѣ души... И грезятся призраки, и душитъ
нѣмая, гнилая тоска, и становится страшно передъ самимъ
собой, и бѣжишь отъ своего я, спутывающаго мысль сѣтями
инквизиторскими, а оно мчится по пятамъ и гонитъ, и терзаетъ, и обрушиваетъ адъ хаоса на голову—и нѣтъ выхода,
нѣтъ спасенья, нѣтъ пощады отъ томительнаго и сладкаго
въ ранахъ неизлѣчимыхъ—одиночества... Родилъ его міръ—
непонятный и злой для человѣка съ неизмѣримымъ богатствомъ души, родили хмурые, холодные люди, у дверей ко
торыхъ тщетно стучится человѣкъ, съ молитвой понять,
полюбить, приласкать.... И никто не откликнулся, никто не
понялъ, потому что всѣ одинокіе...
Въ растлѣніи одиночества погасъ свободный духъ.
Погасъ, и разсыпался смрадными кусками гніенія.
И пошелъ въ тьму, вѣнчанную хохотомъ зла и дьявола,
въ тьму земли, проклятой предвѣчно,—и развернулся курганъ
ненужнаго, жалкаго прозябанія полуживыхъ мертвецовъ, безсознательно тяготѣющихъ къ первопричинѣ своей — все
объемлющей смерти...
И бросалъ ядовитую слюну смѣха безумнаго въ неподвижныя маски людскія,— мрачный сынъ Дьявола, пьяный
страданьемъ своимъ.
„Когда я въ бурномъ морѣ плавалъ,
И мой корабль пошелъ ко дну,
Я такъ возвалъ:—Отецъ мой, Дьяволъ,
Спаси, помилуй,—я тону.
Не дай погибнуть раньше срока
Душѣ озлобленной моей,—
Я власти темнаго порока
Отдамъ остатокъ черныхъ дней.
И Дьяволъ взялъ меня и бросилъ
Въ полуистлѣвшую ладыо.
Я гамъ нашѳлъ и пару веселъ.
И сѣрый парусъ, и скамью.
И вынѳсъ я опять на сушу,
Въ больное злое житіе,
Мою отверженную душу
И тѣло грѣшное мое.
И вѣренъ я, отецъ мой Дьяволъ.
Обѣту, данному въ злой часъ,
Когда я въ бурномъ морѣ плавалъ
И Ты меня изъ бездны спасъ.
Тебя, отецъ мой, я прославлю
Въ укоръ неправедному дню
Хулу надъ міромъ я возставлю
И, соблазняя,—соблазню“.
Поэтъ пзмѣрилъ глубину зловѣщей русской пошлости.
Среди вонючихъ болотъ, окружавшихъ его одиночество,—
разросталась она ужасающею плѣсеныо, чуткое сердце безсознательно поглощало ее въ свои нѣдра и выбрасывало въ
припадкѣ творчества ослѣпительными фотографіями въ трепещущихъ рамкахъ тяжелаго юмора, отъ котораго, вмѣсто
смѣха, морозъ пробѣгаетъ по кожѣ... И всѣмъ напряженіемъ
муки души, усталой и умирающей—бросилъ русскому обще
ству оглушительную пощечину въ лицѣ Передонова, создавъ
страшный, по силѣ впечатлѣнія, символъ пошлости и омертвѣлаго мѣщанства. Это была месть, по истинѣ, дьявольская,—
месть, достойная того ада страданья, которое принесла ему
непобѣдимая и злая Майя-жизнь. Когда читаешь похожденія
«ого „мелкаго бѣса“, рожденнаго великимъ возмущеніемъ
души поэта, — дѣлается страшно за жизнь, за человѣка, за
весь міръ, страшно и тяжело, и невольно вспоминаются слова,
исполнившіяся въ такой отвратительной формѣ.
„Хулу надъ міромъ я возставлю
И, соблазняя,—соблазню!"...
П ередон овъ — соб лазн ъ
ед инственнаго
исхода
передъ
ж изнью — см ерти.
Онъ — проклятье міру, гудящее хохотомъ Дьявола.
Онъ — смрадная гать, сквозь которую сочатся въ нашу
душу мутные потоки жизни.
Онъ—то, что вездѣ и всегда—грозное фатумъ.
Упившись местью, поэтъ запѣлъ о тихой пристани, о
свѣтломъ блаженствѣ, распростертомъ надъ черной землею
на бѣлыхъ, матовыхъ крыльяхъ, объ единомъ прибѣжищѣ,
въ достиженіи котораго вѣчная жизнь.
„Пойми, что гибель неизбѣжна,
Довѣрься мнѣ,
И успокойся безмятежно
Въ послѣднемъ снѣ.
Въ безумствѣ дни твои сгорѣли,—
Но что тужить!
Вся жизнь, весь міръ—игра безъ цѣли,
Не надо жить
Не надо таинства земного,
Д а нѣтъ и силъ,
И самъ ты таинства иного
Уже вкусилъ“.
Когда говоритъ Сологубъ о смерти,—слышится въ сло
вахъ его какая то надорвавшаяся мольба, полная чарующихъ
нотокъ, полная нѣжности и самозабвеннаго восторга, слы
шится ' неземная музыка экстаза, слышится крикъ, раздирающій душу, и слезы, и радость, и улыбки ангеловъ, и
вырастаете передъ нами въ звукахъ его поэзіи смерть пре
ображенная, — бѣлая дѣва— тоскующая, сонно-прекрасная,
какъ весенній хмѣль, и, подъ тихій зовъ его, и для насъ
дѣлается она не только гнилой пустотой, но и мистическимъ
озареніемъ чего то вѣчнаго и огромнаго, рокочущаго вь глубииахъ своихъ матовыми аккордами неземного покоя.
Съ такою же страстною влюбленностью, какъ и Шопенгауэръ, — онъ зовете ее, и такъ же, какъ у перваго,—
зарождается въ его творчествѣ аскетическій идеалъ, среди
жизненныхъ болотъ такой плѣнителыіый, чарующій чудесами
потусторонняго.
/
„Порою туманной
Дорогою трудной
Иду!
О, другъ мой желанный,
Спаситель мой чудный,—
Я жду!
Мгновенное племя
Цвѣтутъ при дорогѣ,—
Мечты,
Медлительно время,
И сердце въ тревогѣ, —
А ты,
Хоть смертной тропою,
Въ послѣдній, жестокій
Мой день,
Пройди передо мною,
Какъ призракъ далекій,
Какъ тѣнь!
Распростерта жалоба у ногъ Спасителя, — жалоба на
міръ, погруженный въ ооманъ и ложь, на людей, что своею
пошлостью увеличиваютъ этотъ обманъ до иступленнаго отчаянія. Чувствуется въ этой жалобѣ необычайная глубина
чувства и не только голосъ души, но и голосъ крови, брыз
жущей каскадами въ этихъ словахъ, насквозь проникнутыхъ
силою острыхъ, болѣзненныхъ переживаній.
„Быть съ людьми, — какое бремя!
О, зачѣмъ же надо съ ними жить!
Отчего нельзя все время
Чары дѣять, тихо ворожить,
Погружаться въ созерцанье
Облаковъ, и неба, и земли,
Быть, какъ ясное молчанье
Тихихъ звѣздъ, мѳрцающихъ вдали!. “
Эта острота переживаній часто встрѣчается у Сологуба,
и если кажется порою, что холодъ вѣетъ отъ его пѣсенъ, то
это лишь нашъ обманъ. Иногда происходитъ это отъ слишкомъ
взвинченной остроты страданья, вулканъ котораго, извер
гаясь,—застываетъ отъ холода жизни ледяной корой. Переживанія эти отличаются также не малою долею обаянія—тиховѣйнаго и печальнаго, и каждый, у кого есть душа, читая
пѣсни его и разсказы,—постепенно, словно по наитію какого
то бѣлаго и холоднаго духа, — отдается во власть этихъ
манящихъ, пьяныхъ тоскою жизненнаго и мечтою о потустороннемъ сквозь смертельное, — нѣдръ его поэзіи, и душу
объемлетъ безграничная грусть.
Но все же, несмотря на все отчаянье, несмотря на весь
разъѣдающій пессимизмъ Сологуба,—въ творчествѣ его таится
еще что то свѣтлое и радостное, какъ пламя молитвы, нѣчто,
заставляющее любить этотъ пессимизмъ,—и оно расширяетъ
свои нѣжнотканныя объятья по мѣрѣ того, какъ мы погру
жаемся въ сознательный анализъ облика художника. Это —
обаяніе мистики Сологуба, которая всегда просвѣчиваетъ
сквозь его безнадежно грустныя слова лазурною, тихонѣжною волной и журчитъ свирѣлями убаюкивающими и, среди
тьмы, грязи, пошлости, непреодолимо манитъ туда, гдѣ прости
рается всепоглощающая сѣнь бездонно величавой Нирваны.
Нирвана Сологуба полна нѣжности и бѣлаго покоя, ко
торый проникаетъ въ душу болѣзненнымъ опьяненіемъ.
„На Ойлѳ далекой и прекрасной
Вся любовь и вся душа моя.
На Ойле далекой и прекрасной
Пѣсней сладкогласной и согласной
Славитъ все блаженство бытія.
Тамъ, въ сіяньи яснаго Майра,
Все цвѣтетъ, все радостно поетъ.
Тамъ — въ сіяньи яснаго Майра,
Въ колыханьи свѣтлаго эфира,
Міръ иной таинственно живетъ.
Тихій берегъ синяго Лигоя
Весь въ цвѣтахъ нѳздѣшней красоты.
Тихій берегъ синяго Лигоя —
Вѣчный міръ блаженства и покоя,
Вѣчный міръ свершившейся мечты.
Все, чего намъ здѣсь недоставало,
Все, о чемъ тужила грѣшная земля.
Расцвѣло на васъ и засіяло,
О Лигойскія блаженныя поля!
Этотъ міръ вражда заполонила,
Этотъ бѣдный міръ въ унынье погружѳнъ,
Намъ отрадна тихая могила
И подобный смерти, долгій, темный сонъ“...
Истинное, безпечальное и безгрѣшное бытіе возможно
только въ отреченіи отъ земли и отъ тѣла, въ отреченіи отъ
всей жизни и—того отвратительнаго ада, который создали
люди во имя обмана, въ отреченіи даже отъ главнаго вдохновенія поэта—красоты, ибо людямъ въ сущности не нужна
красота, они не понимаютъ ея, загрязняя и опошляя ея
святой смыслъ своими нечистыми жизнями и злоупотребляя
ею только въ цѣляхъ своихъ животныхъ инстинктовъ.
• • ■»Построишь оісизнь по идеаламъ добра и красоты!
съ этими людьми и съ этимъ тѣломъ! — горько думала ;
Елена.
Невозможно! Какъ замкнуться отъ людской по
шлости, какъ уберечься отъ людей! Мы всіъ вмкстѣ живемъ
и какъ бы одна душа томится во всемъ многоликомъ человѣчествѣ. Міръ весь во мнѣ. Но страшно, что онъ таковъ,
каковъ онъ есть, — и какъ только его поймешь, такъ и
увидишь, что онъ не долженъ быть, потому что онъ лежитъ
въ порокѣ и во злѣ. Надо обречь его на казнь и себя съ
нимъ“. (Разсказъ „Красота“).
Бъ этихъ словахъ—весь Сологубъ.
Разъѣдающая сѣрость—вотъ любимый фонъ Сологуба.
Подъ его перомъ она дѣлается впитывающей и поглощающей
весь міръ—и, сквозь призму ея, онъ любитъ издѣваться надъ
жизнью, выворачивать передъ нами ея зачумленную, подгнив
шую изнанку и быть неутолимымъ инквизиторомъ своихъ
жертвъ — маленькихъ, тусклыхъ людишекъ, и еще тѣхъ—
святобезумныхъ, съ открытыми безднами божественныхъ
душъ, томящихся въ паническомъ страхѣ передъ загадками
бытія. Эти послѣдніе, въ разсказахъ его, погружаются въ
море пошлости, тьмы и обмана, ища отклика на свои внутреннія, часто имъ самимъ непонятныя стремленія, ища идеаловъ свѣтлыхъ и возвышенныхъ, откровеній, чудесъ, непо
рочности. И падаютъ, сраженные ударами разочарованій, пытокъ и мученій на пути къ своему далекому и смутному
идеалу, — падаютъ, убіенные или руками другихъ, или сво
ими же собственными — въ пьяныхъ судорогахъ жажды не
земного, жажды аскетическая отрѣшенія отъ земныхъ оковъ.
И, когда умираютъ они—свято-безумные,—сѣрый фонъ ярко
окрашивается радостью неизреченною и какимъ то страннымъ,
обезсиливающимъ покоемъ,- и, кажется, что сходить въ ихъ
души то высшее счастье, котораго они не могли найти на
землѣ, и слышится великая радость самого Бога и всей
земли, рыдающей восторгами чудесными, словно свершилось
нѣчто долго жданное, нужное, нѣчто единственное, въ чемъ
можетъ заключаться и жизнь, и спасенье, и счастье.
Въ разсказѣ „Утѣшеніе“, въ образѣ умершей дѣвочки
Раи, упавшей изъ окна и разбившейся,—является мальчику
Митѣ—больному и усталому—сама смерть въ ослѣпительной
красотѣ своей, и тѣ мѣста, гдѣ является Рая,—явно говорятъ
о томъ, какъ любитъ смерть Сологубъ, какъ жадно онъ упи
вается ея прозрачными струями, плывущими на землю изъ
горняя міра, какъ молится на нее и вѣрить въ то безконечное блаженство, которое таится въ ней.
....„Въ кладбищенской церкви покойники, трупный запахъ. Митя
стоитъ близъ алтаря, и молится, склоняя колѣна на камѳнныя плиты.
Дымъ отъ ладона клубится по церкви, синѣетъ и подымается вверхъ,'
У алтаря ходитъ Рая, полупрозрачная, легкая. Она радостно сіяетъ.
Одежда у нея бѣлая, руки обнажѳнныя, волосы падаютъ ниже пояса
широкими, свѣтлыми прядами. На шѳѣ у нѳя жемчуга, и лѳгкій кокошникъ низанъ жемчугами. Вся она бѣлая, какъ никто изъ живыхъ,
и прекрасная. Она смотритъ на Митю отрадно темными и строгими
глазами, и къ смерти клонитъ его. Не сама ли она смерть? Пре
красная смерть! И зачѣмъ тогда жизнь?
Раинъ голосъ звучитъ, чистый и ясный. Что сказала она, не
олышалъ Митя. Онъ вслушивается внутри себя, въ слѣдъ ея словъ—
и надъ мукою головной боли тихо вѣютъ кроткія слова:
— Не бойся!
Радостно, что будетъ все темно, какъ въ Раиныхъ глазахъ, и
успокоится все, — муки, томленья, страхъ. Надо умереть, какъ Рая,
и быть, какъ она.
Сладостно уничтожаться въ молитвѣ и созерцаніи алтаря, кадильнаго дыма, и Раи, и забывать себя, и камни, и всѣ страшные
призраки изъ обманчивой жизни.
Рая близко.
— Отчего ты бѣлая?—тихонько спрашиваѳтъ Митя.
Тихо отвѣчаетъ Рая:
— Только мы — бѣлые. Вы всѣ — красные.
— Почему же?
— У васъ кровь“...
Когда описываетъ Сологубъ к а р т и н у смерти и са
моубийства, онъ упивается ею съ какою то сладострастною
жаждою, впитываетъ всѣ ея краски и, весь пламенѣя, исхо
дите сладкими судорогами припадочнаго восторга. Смертьалкоголь его творчества, она наполняете послѣднее какою
то чадною пресыщенностью.
Необычайно свѣтлый идеализмъ, при столкновеніи съ
жизнью, выродился въ болѣзненный пессимизмъ — и сліяніе
этихъ двухъ противоположныхъ направленій легло въ основу
творчества Сологуба, но послѣднее совершенно поглотило
смутные проблески перваго, которые, если и встрѣчаются
изрѣдка, то исключительно въ видѣ разслабленнаго, мечта
тельная чаянія смерти.
— Только одинъ разъ Сологубъ вошелъ въ жизнь ре
альную, жизнь какъ она есть. Это было тогда, когда созда
вался „Мелкій бѣсъ“... И вотъ, въ жуткомъ познаніи, изъ
черной грязи, изъ гущи мѣщанства, изъ человѣческой мер
зости выросъ багровый ужасъ и придушилъ душу...
И заразилась душа самою гнуснѣйшею и постыднѣйшею
болѣзнью въ мірѣ, болѣзнью, названіе которой „жизнь“. И за
шаталась почва подъ ногами—самый отчаянный моментъ въ
мірѣ — и четко, ясно стало понятно, что идти уже некуда,
что нѣтъ лекарства, нѣтъ средства для того, чтобы уни
чтожить заразу, и вздулась она горячечнымъ, кошмарнымъ
бредомъ въ ослабѣвшемъ мозгу,—и въ инквизиторской мукѣ
страданья потонули всѣ люди, весь міръ, вся жизнь... Это
моментъ, когда безпочвенность обыкновенно смѣняется религіей и, чѣмъ сильнѣе и опаснѣе безпочвенность, тѣмъ чудеснѣе и глубже должна быть смѣнившая ее вѣра. Но еще
неизвѣстно, не есть ли глубокая, экстатическая вѣра только
маска безпочвенности, еще недоказано, что уничтожить стра
данье можно въ предѣлахъ жизни все равно какою цѣной.
Ибо страданье есть жизнь и безъ уничтоженія жизни нельзя
уничтожить страданья... И въ кровавомъ бреду истлѣвающей
жизни прильнулъ ко кресту поэтъ—мученикъ, поэтъ—страдалецъ, и въ молитвѣ, въ молитвѣ отчаянія прозвучалъ его
голосъ. И вотъ наступаетъ самый чудесный, самый прекрас
ный рефлексъ въ творческой эволюціи, моментъ, когда на
сгрунахъ души, какъ на клавишахъ зазвучали нѣжные ак
корды и стало тихо, и сквозь траурную измученность мол
чанья, сквозь вихрь бреда, сквозь пепелъ одиночества вынырнулъ бѣлый, прозрачный Ликъ съ бездонно расширен
ными глазами и истерзанной улыбкой на бѣлыхъ губахъ и - ,
вся красота, вся восторгъ, вся забвенье,—Она позвала:
— Приди!
И тогда брызнулъ ослѣпительный свѣтъ и излѣчилъ
скорбныя раны души, и земля впилась въ небо, раствори
лась въ немъ, исчезла... И земля уничтожилась для разума,
оставшись постыднымъ бременемъ для тѣла, и оглушило,
ослѣпило сознаніе новое небо—радостное небо возрожденья...
И, усталая, истомленная, бѣлолилейная, Она подошла, тихо
покачиваясь, и занесла надъ разслабленнымъ сердцемъ свой
спасительно—острый стилетъ...
„Мой стилетъ остеръ и ранитъ“ и для тѣла—гибель,
для тѣла — смерть, но — кто пойметъ всю тайну, всю сла
дость и счастье этой раны, тотъ приметь ее восторженно,
люоовно и благодарственно....
Поэтъ иашелъ свой исходъ, нашелъ свое спасеніе. Этотъ
исходъ и это спасеніе—смерть. Откровеніе опьянило всю душу
и, хотя душа будетъ касаться жизни, но все теперь направ
лено на подготовленіе къ грядущему причастію и оттого і
все такъ углублено и поражаетъ своею одухотворенною
утонченностью.
Для Сологуба, въ противоположность Андрееву, смерть
есть мистическое познаніе. Она — возрожденіе, она — новая
земля, она тотъ новый міръ, который является основ
ною потребностью души и который недостижимъ въ предѣлахъ земного. Для Сологуба смерть — это божественная
Идея и божественная Сущность, конечная цѣль и единственно
возможная достижимость. Для него смерть — единственная
форма познанія міра и при свѣтѣ этого познанія возникаетъ
совершенно новая, геніально исполненная картина вселенной.
И представляется эта картина такъ: на мутно сѣромъ фонѣ—
мѣстами грязномъ, мѣстами мутно-гниломъ—шевелятся какія
то кошмарныя, ужасаюіція формы, словно созданный изъ
пепла, слышится глухой гулъ суеты, брызжетъ кровь, раз
даются проклятья и стоны и, какъ стадо мокрыхъ, изгаженныхъ собственнымъ навозомъ крысъ,—пищите, мечется, царапаетъ, воняетъ Передоновщина — сущность жизни, зара
женный сокъ ея, который заставляютъ пить другъ друга
люди... И, когда отойдешь немного отъ картины, то издали
она кажется безобразно скученной, сѣроватой кашицей, брыз
жущей во всѣ стороны струями грязи. Сущность впечатлѣнія — ужасъ, тошнота и страхъ. Но художникъ вѣритъ, что
придетъ часъ и отъ удара остраго стилета разорвется и ис
чезнете сѣрый фонъ картины, и сквозь нее засіяетъ заря
новой жизни за предѣлами вселенной, въ сферѣ безсмертной души.
А пока въ жизни остается одно : разрушать силою на
пряженной души, силою новаго религіознаго сознанія весь
этотъ міръ, всѣ границы его, всѣ его основы и возможности.
Это разрушеніе—фанатически страстное и иступленное до
отчаянья, разрушеніе, опьяненное мукою страданья, является
строго выдержанной формой религіи, которую можно на
звать религгей смерти. Такъ разрушать можетъ только вѣрующій, такъ молиться и такъ любить свою вѣру можетъ
только религиозный духъ. Религія смерти имѣетъ не только
субъективный смыслъ, но и глубоко универсальное значеніе,
своего рода соціальную проблему спасенія міра, выражаясь
шаблонно. Религія смерти есть, можетъ быть, то послѣднее
слово жизни, которое должно уничтожить самую жизнь и,
хотя плюсъ, будучи уничтоженъ минусомъ, даетъ минусъ, но
мы знаемъ, что и отрицательное число имѣетъ свое значеніе,
и въ данномъ случаѣ оно гораздо важнѣе положительнаго.
Верховный жрецъ религіи смерти Артуръ ІНопенгауэръ въ
своей философт, которая больше похожа на безнадежный
вопль души, чѣмъ на философію,—выяснилъ вполнѣ опреД ,ленн0 Т0 великое значеніе, ту красоту и ту радость, кото
рыя открываются въ смерти.
И повисли надъ міромъ его слова — глубокія и сильныя, какъ черные звуки Бетховена, слова, напоенныя кровью
горечью и желчью, такія слова, отъ которыхъ душа зами
раете въ какомъ то сладостномъ страхѣ.
Онъ съ математическою точностью доказалъ обманъ и
ненужность человѣческаго существованія - низкаго, гряз
н ая, постыдная, онъ съ геніальностыо великаго художника
открылъ передъ нами ту головокружительную бездну, которая
таится въ страшномъ понятіи Воля-ж иэнь, онъ всю тоску
и всю боль обманутой души вложилъ въ проклятье-анаѳемУ ВСемУ рвущ ем у, всему человѣческому, всему земному
И съ утонченной интуиціей психолога приподнялъ завѣсѵ’
великои Тайны-смерти, которая есть въ сущности вѣчная
жизнь, жизнь освобожденная Духа, чистаго и прекрасная,
какъ сама смерть.
И никогда еще не было въ мірѣ такого страстная
такого могучая, такого иступленная отрицанія жизни и
ни въ одной философской системѣ не выразилась съ такою по
разительною ясностью и красотой сущность проблемы смерти
Ужасъ міроваго об м т а-В ол и растерзалъ душу Шопен
гауэра, и вотъ родились въ ней нѣжно прозрачные, снѣжномимозные цвѣты Нирваны.
Человѣкъ прошелъ сквозь мимозность души, весь человѣкъ, какъ онъ есть, со всею своею гадостью и грязью
И появилась глубочайшая теорія одиночества, та теорія, ко
торою мы живемъ доселѣ, и въ одиночествѣ родилось высоом рное презрѣніе къ человѣку, такъ какъ Шопенгауэров
ское состраданіе есть не что иное, какъ презрѣніе.
И глянула въ зеркальность души Бѣлая Дѣва съ гла
зами отверзстыми какъ сама Вѣчность и имя ей Смерть
Красота, и теорія о значеніи искусства, какъ искупляющаго
и освящающаго начала сіяетъ словно нѣжно истерзанная
молитва, и въ ней — полнѣйшее сліяніе съ Божествомъ, съ
тѣмъ отраднымъ и безобманнымъ Божествомъ, котораго люди
называютъ смерть.
ПІопенгауэръ если и не далъ окончательная опредѣленія смерти, то, во всякомъ случаѣ, показалъ міру чарующій
смыслъ, который скрывается въ ней, освѣтилъ свѣтомъ вну
тренняя прозрѣнія ея черныя дали и глазами созерцателя
мистика заглянулъ на самое дно Тайны. Онъ, можетъ быть,
глубже и любовнѣе, чѣмъ средневѣковые аскеты, выяснилъ
блаженную сущность аскетизма и послѣдній въ его философіи развился въ богатую программу спасенія, и въ ней
блеснули впервые отрадные огоньки надежды.
Аскетизмъ отрицаетъ, по Шопенгауэру, самоубійство,
послѣ котораго Воля къ жизни остается поирежнему неруши
мой и, вмѣсто него, выдвигаетъ болѣе целесообразную теорію
медленнаго угасанія посредствомъ голода, которая впослѣдствіи ученикомъ Шопенгауэра Майнлендеромъ разовьется въ
великолѣпную программу универсальная уничтоженія.
Вплоть до вопроса о Нирванѣ Шопенгауэръ является
пессимистомъ въ полномъ значеніи этого слова, онъ даже
отчасти матеріалистъ и циникъ, но въ построеніи Нирваны
сбрасываются тлѣнныя одежды земли, и Шопенгауэръ отъ
грубаго пессимизма приходитъ къ свѣтлому мистицизму.
И здѣсь отрицательность смѣняется положительностью,
здѣсь, среди гробового молчанія небытія, среди бѣлаго покоя,
въ синихъ волнахъ вѣчности воскресаешь страстная мечта
Плотина о сліяніи души человѣка съ божествомъ, здѣсь въ
экстазѣ, завороженномъ смертью, весь міръ превращается въ
музыку рая, и Вѣчность становится имманетной новому со-
знанію. Сквозь призму философіи Шопенгауэра весь міръ
кажется мрачнымъ, тусклымъ храмомъ, въ которомъ изму
ченная, усталая, оскорбленная душа человѣка замерла въ
молитвѣ передъ лицомъ Смерти.
И ликъ сквозитъ прозрачностью бѣлолилейною, и вотъ_
открыты бездонные, молящіе, давно желанные, давно снив- '
шіеся глаза, и морозъ пробѣгаетъ по нервамъ, смѣняясь блаженствомъ влюбленности, и въ дикомъ гулѣ, въ ревущемъ
хохотѣ вѣчности зарождается безумно пьяный, истощающій,
блаженный экстазъ.
Смерть-освободительница и утвердительница Духа въ
вѣчности, смерть — желанная свобода и утѣшеніе, смерть—
избавительница отъ страстей, отъ вросшихъ въ мозгъ цѣпей
воли, смерть—божество и истинное познаніе—вотъ что гово
ритъ Шопенгауэръ о значеніи смерти, вотъ что являетъ намъ
та религія, которую онъ утвердилъ.
Ѳедоръ Сологубъ вѣрный его ученикъ и иослѣдователь,
сорвалъ безобразную маску съ лица смерти,—и предъ нами
предстала Красота святая, красота, дающая сердцу покой и
блаженство. Съ геніальною проникновенностью онъ открылъ
передъ нами всю ея музыку, все ея очарованіе и драгоцѣнкымъ ключемъ прозрѣнія отперъ тяжелую дверь Великой
Тайны... Тамъ, за дверью еще царитъ тьма, и восковыя черты
Тайны подернуты мертвымъ флеромъ, но мы знаемъ, что Со
логубъ видитъ ее совсѣмъ не такъ, какъ видимъ мы, друIими, внутренними глазами! Мы знаемъ, что онъ видитъ ее
оожественно-прекрасной, и даритъ Она ему поцѣлуи чистые,
пѣсни свирѣльно-нѣжныя,, чудеса сказочныя и объятья чистыя, искупляющія ! Его религіозное дѣйство дало ему эти
внутреннія очи. И въ немъ открывается царство единой Воли
и свободная, великаго я. Поэтъ создалъ себѣ свой міръ, цѣлый богатый міръ души — сложный, таинственный, со множествомъ хитрыхъ, замысловатыхъ созданій, ему одному
подвластныхъ, со множествомъ зачарованныхъ чертоговъ, гдѣ
совершаются навьи чары и, какъ больные, легкіе сны бродятъ
тихіе мальчики.
Захочетъ лукавый колдунъ - и весь міръ станетъ ла
зурною сказкою и райскіе сны воцарятся въ душѣ. Захо
четъ—и громъ раскатится по вселенной и умретъ Богъ, и
наступить царство Діавола! Захочетъ —и блаженная земля
Ойле прозвучитъ роскошнымъ аккордомъ въ измученномъ
сердцѣ, и тихіе напѣвы зачаруютъ, заколдуютъ всякую боль
и развѣется душа бѣлыми лепестками покоя. Пожелаете
мудрый колдунъ поклоненія, и измученнымъ духомъ воз
несется на алтарь своего храма, — и вотъ двѣнадцать бѣлыхъ отроковъ, двѣнадцать сладостныхъ жертвъ подойдутъ
смиренно, воздѣвая руки горѣ,—и взмахнете острый ножъ,
и въ винѣ дѣтской, алой крови начнется литургія колдуну.
Въ сладкомъ изступленіи экстаза заструится матово и
нѣжно бѣлая Дѣва-Царица. И приблизится, и возьметъ его
душу и инквизиторской мукой, блаженной мукой истомите
ее, и станетъ душа какъ вопль волшебныхъ серебрянострунныхъ скрипокъ, и вырастутъ бѣлыя крылья, и въ бѣшенномъ вихрѣ восторга вознесется къ небу вся жизнь.
Но разрѣшить земные вопросы, освѣтить земную тьму
и отвѣтить на мученія жизни—онъ—нездѣшній и дальній—
не можетъ. Онъ можетъ сказать людямъ только одно слово,
журчащее неземною напѣвностыо:
Не живите!
И тѣ, у кого закрыта жизнью душа, тѣ, которые вѣрятъ,
что 2 . 2 = 4 и что такъ и должно быть, — тѣ пройдутъ мимо
этихъ словъ съ гордостью довольныхъ. Но есть другіе—влю
бленные въ жизнь и вѣрующіе, но у которыхъ силы выпило
липкое, грязное, неустроенное бытіе. Они утверждаютъ, что
Царство идеала нужно здѣсь, на землѣ, что только земная
жизнь есть основа всякаго религіознаго дѣйствія. Въ своем!»
безуміи они забываютъ о страшной власти Обмана, гнѣздящагося въ ихъ сознаніи.
Ибо не безумцы устраиваютъ жизнь и не безумцамъ
суждено сдѣлать ее иною, эту функцію исполняютъ люди
„разума« и труда, люди-машины и куклы, всякая нечисть
и тупость, отъ которой тошнить,
И пусть безумцы кричатъ, насколько хватитъ силъ,
пусть кричатъ и надрываются, пусть выходятъ изъ себя—
хрустальный дворецъ пошлости непремѣнно построится!
И если вся жизнь, вся безумная боль, все страданье
нужны для того, чтобы построился въ будущемъ хрустальный
дворецъ пошлости, то въ глубинѣ сознанія вопросъ „зачѣмъ
жить"? остается безъ отвѣта!
Достоевскій, когда мучился въ подпольѣ, геніально
изобразилъ это состояніе.
„Человѣкъ любитъ созидать и дороги прокладывать, это
безспорно. Но отчего же онъ до страсти любитъ разрушеніе
и хаосъ? Воте это скажите-ка! Но объ этомъ заявлю два
слова особо. Не потому ли, можетъ быть, онъ такъ любитъ
разрушеніе и хаосъ (вѣдь это безспорно, что онъ ихъ лю
битъ, это ужъ такъ), что самъ инстинткивно боится достигнуть
цѣли и довершить созидаемое зданіе? Почемъ вы знаете,
можетъ быть онъ зданіе то любитъ только издали, а отнюдь
не вблизи, можетъ быть онъ только любитъ созидать его, а
не жить въ немъ, предоставляя его потомъ aux animaux
domestiques, какъ то: муравьямъ, баранамъ и проч., и проч.
Вотъ муравьи совершенно другого вкуса. У нихъ есть уди
вительное зданіе въ этомъ же родѣ, навѣки нерушимое_
муравейникъ. Съ муравейника достопочтенные муравьи на
чали, муравейникомъ навѣрно и кончатъ, что приносить
большую честь ихъ постоянству и положительности. Но
человѣкъ существо легкомысленное и неблаговидное и мо
жетъ быть подобно шахматному игроку, любитъ только одинъ
процессъ достиженія, а не самую цѣль. И, кто знаетъ (по
ней, хотя бы сопряженное съ постоянными и вѣчными за-
ручиться нельзя), можетъ быть, вся та цѣль на землѣ, къ
которой человѣчество стремится, только и заключается въ
одной этой безпрерывности процесса достиженія, иначе ска
блужденіями, и сказалъ бы мнѣ: выбирай!—то я палъ бы на
зать, въ самой жизни, а не собственно въ цѣли, которая
разумѣется, должна быть не что иное какъ
формула, a вѣдь
2 . 2
2. 2
= 4, то есть
= 4 есть уж е не жизнь, господа, а начало
смерти!“ (Записки изъ подполья).
Итакъ, остается принять процессъ жизни ради него
самого. Всегда, когда говорятъ объ этомъ исходѣ,—общество
и жизнь символизируются въ моемъ воображеніи въ формѣ
басни „Медвѣдь и бревно“. Человѣкъ живетъ для процесса и,
какъ медвѣдь, все ближе и ближе напираетъ на бревно, а
самый этотъ процессъ— бревно съ страшною силою бьетъ еі о
но головѣ, и чѣмъ ближе онъ подходитъ, тѣмъ сильнѣе
бьетъ, и въ концѣ концовъ вышибетъ несчастному сторон
нику эволюціонной теоріи мозгъ!
Говорятъ еще—люди живутъ для того, чтобы отыскать
истину.
Другими словами, вся жизнь сводится къ отысканію
истины, которая составляетъ философскій камень всего че
ловечества.
Но если вдуматься, то станетъ ясно, что истина
поня-
тіе относительное и что критерія для утвержденія истины
не сущ ествуетъ.
И, что важнѣе всего, истина не можетъ быть достигнута.
колѣни передъ его лѣвой рукой и сказалъ бы: дай мнѣ то,
что ты держишь въ ней, потому что вся правда доступна
лишь одному Тебѣ“...
Но, если Истина не достижима, то кто можетъ утверж
дать, что она существуетъ? А разъ ея нѣтъ, то вопросъ
„зачѣмъ жить“? снова остается безъ отвѣта.
Проблему о смыслѣ жизни до сихъ поръ рѣшали въ
слишкомъ узкихъ рамкахъ, въ рамкахъ земного и конеч
н а я , вотъ почему получались такіе тусклые отвѣты и такія
ограниченный построенія истины.
Отнынѣ ясно стало, что должно и необходимо перенести
проблему истины въ вѣчность, ибо только въ вѣчности воз
можно спасеніе.
Съ другой стороны
и земная философія, и сама жизнь
доказываешь безмысленность и тщету существованія, вы
пивающ ая всю душ у и взамѣнъ даю щ ая' тошноту тоски.
Ж и з н ь есть безсмысленный ужасъ и неисцѣлимое
зло— это положеніе блестяще доказали и Андреевъ, и Со
логубъ. Но, въ то время, какъ первый не видитъ выхода
и уже пересталъ искать его, Сологубъ его нашелъ, и уразумѣлъ, и утвердилъ, потому что его точка зрѣнія перешла
границы земного и воплотилось въ идею духовнаго безсмертія, то есть въ Вѣчность.
Онъ понялъ, что есть возможность истребить этотъ ужасъ
Ибо, еслибы она была достигнута, то исчезло бы все ея
обаяніе и значеніе, и міръ снова потерялъ бы одну изъ
и эту грязь, очистить душ у человѣческую силою неизречен
масокъ обмана. Это тонко истолковалъ Лессингъ и въ слѣдуюіцихъ его словахъ заключается вся горечь и вся иронія
н а я свѣта и сдѣлать ее божественно прекрасной. Онъ по
нялъ, что только въ смерти, то есть, въ вѣчности возможно
возрожденіе, и словно волшебный цвѣтокъ выросло среди
жизненнаго обмана:
„Всякое обладаніе дѣлаетъ человѣка инертнымъ, лѣнивымъ и гордымъ. Если бы Богъ держалъ въ своей десницѣ
всю истину, а въ лѣвой рукѣ—одно лишь стремленіе къ
тины пошлости что то новое, какая то новая, захватывающая
мысль, какое то доселѣ неиспытанное блаженство!
Можетъ быть, въ этомъ новомъ сознаніи заложена по
беда! Побѣда человѣка надъ жизнью, безмертія надъ конечнымъ, возрожденія надъ мертвой тоской !
Можетъ быть, близится время, когда кончится эта тоска
и безумная мысль о чудѣ озаритъ нашу узкую, маленькую
жизнь !
И тому, кто много страдалъ, кого безпочвенная и безсмысленная жизнь одурманила кровавымъ кошмаромъ безконечнаго бреда, тому станетъ понятна вся правда и весь
глубокій смыслъ этихъ выстраданныхъинезабвенныхъсловъ:
„М іръ весь во мнѣ. П оэтому надо обречь его на казнь
и себя съ нимъ!“
„Господа, меня мучаютъ вопросы! Разрѣшите мнѣ ихъ!“
взываетъ подпольный человѣкъ среди удуш ья безсонныхъ
ночей, весь истлѣвающій, весь превращенный въ прахъ...
Тамъ, на плоскости жизни эти вопросы разрѣшаются очень
легко, тамъ, среди шума и грохота, и суеты тускнѣетъ
ужасъ загадокъ жизни, тамъ легче обманывать и обма
нываться. Но здѣсь, въ черномъ, замурованномъ склепѣ,
гдѣ погасло солнце и тихо истлѣваетъ жизнь, и глухо наростаютъ аккорды липкой жути,—здѣсь, въ звонкой и рафрінированной тишинѣ эти вопросы выступаютъ съ особенною
четкостью... Они залѣзаютъ въ мозгъ и выпиваютъ медленно,
по каплѣ всю способность мышленія. Здѣсь ужасъ выростаетъ во весь свой сатанинскій ростъ, и кажется, что нѣтъ
ничего, кромѣ ужаса.
Одиночество исключаетъ обманъ, а обманываться самому
какъ то стыдно, нечестно, всякій обманъ, всякая ложь, вся
кая комедія противны, невыносимы, позорны, и хочется правды,
той абсолютной правды, которая сможетъ принести облегченіе
истрадавшемуся сердцу, которая сможетъ спасти весь міръ !..
Л евъ Шестовъ особенно среди всѣхъ героевъ подполья желалъ этой абсолютной, этой единственной правды. Его „во
просы“ мучили инквизиторски, жестоко, неумолимо, болѣе
того, кромѣ этихъ „вопросовъ“, кромѣ этого отчаяннаго ис-1
канія истины, для него ничего не существовало. Въ этомъ
его исканіи есть боль, есть надрывъ, есть какая то изступленность. И странно: онъ ненавидитъ идеалистовъ, а между
тѣмъ многіе отличительные аттрибуты идеализма въ немъ
на лицо: эта безумная влюбленность въ исканіе истины и
правды, эта надрывающаяся надежда повѣрить въ Бога, эта
казалось Шестову, — долженъ былъ обладать той истиной,
оезъ которой невозможно жить. Но вмѣсто того, чтобы, какъ
всѣ, поклониться Толстому и признать его своимъ автори-
заглушенная, вѣчно скрываемая любовь къ людямъ и къ
гетомъ, Шестовъ рѣшилъ сначала пропустить его ученіе
сквозь призму своей душ и и увидѣть, и уразумѣть анали
тически то, предъ чѣмъ преклоняется міръ...
жизни!*)
Если нѣтъ въ мгрѣ правды, то ж т нь ненуж на,—вотъ
исходная посылка всей философіи Ш естова.... И онъ сталъ
И не легко далась ему эта работа, не мало терзаній и
мучителышхъ сомнѣній было вложено въ эту книгу, кото
рая, какъ все Шестовское, не похожа на книгу въ обыч-
искать эту правду со всѣмъ увлеченіемъ и страстью души.
номъ пошломъ смыслѣ этого слова, а — на дневникъ, на
повѣсть, на что то свое, глубоко интимное, глубоко выно
(
Онъ побывалъ на всѣхъ кладбищахъ Европы, гдѣ спятъ милые
покойники,— и прахъ каждаго былъ потревоженъ, и все за
мечательное, все основное, что таилось и въ Шекспирѣ, и
въ Нитцше, было выпито до дн а.... И опять новое присоеди
нилось къ прежней мукѣ и завладѣло НІестовымъ, теперь
стали мучить его уж е не „вопросы“, а люди, и этими людьми
были Нитцше, Толстой и Достоевскій. Въ нихъ онъ надѣялся
найти отвѣтъ на вопль всей его жизни, отъ нихъ онъ потребовалъ разъясненія и разрѣшенія мучившихъ его вопросовъ.
Онъ считалъ ихъ своими авторитетами, что, однако, не поме
шало ему подвергнуть строгой критикѣ ученіе каждаго изъ
шенное и выстраданное, на что то выросшее изъ душ и и
опьяняющее запахомъ жизни.
Эта книга— „Добро въ ученіи гр. Толстого и Нитцше“..
Толстой нашелъ Бога, Толстой нашелъ основу всей
жизни и успокился, и счастливъ !.. Какъ это странно слы
шать Шестову — неутомимому мученику правды, такъ ее
любящему и такъ боящемуся найти вмѣсто нея призрачную
ложь!
нихъ, критикѣ съ точки зрѣнія абсолютной правды; въ нихъ
И оо страхомъ, съ недовѣріемъ, съ сильно бьющимся
сердцемъ входитъ онъ въ душ у Толстого, въ то святое свя
тыхъ, гдѣ рождаются всѣ идеи и всѣ обманы и которое,
онъ находилъ себя, свои сомнѣнія, свою боль, они были для
какъ потомъ скажетъ Шестовъ, стыдно показывать людямъ
него зеркаломъ, въ которомъ онъ увидѣлъ себя...
Еще съ вѣрующимъ, неомраченнымъ сердцемъ, еще безъ
И какъ же онъ отшатнулся отъ своего учителя, какъ
замеръ онъ въ отчаяньи, когда убѣдился, что этотъ чело-
мрачнаго обаянія подполья подошелъ онъ къ Толстому.
Великій писатель земли русской, великій философъ и
вѣкъ, великій писатель земли русской, почти святой—такъ
пророкъ, къ которому съѣзжается на поклоненіе весь міръ,*) Въ одномъ мѣстѣ онъ говоритъ: „Мы хотимъ, чтобы вѣрилн
такъ, какъ вѣрили первые христіанѳ, когда пытками принуждали къ
отречѳнію отъ Христа, когда наука, искусство, авторитетъ обще
ственной власти,—все было противъ новаго учѳнія. Только такую вѣру
мы цѣнимъ!“ (ІІІѳстовъ: „Добро въ ученіи Гр. Толстого и Нитцше*').
же обманываетъ и обманывается, какъ и простые смертные,
что его любовь есть плохо скрываемый эгоизмъ, что его Богъ
пишется съ маленькой буквы и называется надоѣвшее, пло
ское, изжитое добро!...
Въ самомъ дѣлѣ,— говоритъ Шестовъ съ горечью и удивленіемъ,— Толстой пишетъ брошюрки о братской любви, а
въ „Войнѣ и мирѣ“ съ удовольствіемъ, съ почти ииквизи-
'горскимъ наслажденьемъ обрекаетъ Соню на тысячи насмѣшекъ и поношеній, называетъ ее, которая вся—преданность
и самоотверженіе,—пустоцвѣтомъ и ставитъ ей въ вину от-
нріятно, что онъ давалъ и что восторжествовало въ его философіи „добро“. .. „Ни одного изъ ляпинцевъ Толстому не
помнить заповѣдь, чтобы правая рука не вѣдала о томъ, что
удалось спасти“,— говоритъ Ш естовъ... И потомъ онъ за
являетъ. „Не смотря на то, что гр. Толстой все время неустанно
проповѣдывалъ, обстоятельства не только не измѣнились,
но стали еще хуж е“ ...
дѣлаетъ лѣвая, а во время переписи Толстой увидѣлъ не
счастную женщину и далъ ей рубль, а потомъ имѣлъ не
осторожность высказать свое удовольствіе по этому поводу.
И Шестовъ съ недоумѣніемъ, съ той чарующей наив
ностью, съ той искренней простотой, которая встрѣчается
только у него одного, спрашиваетъ: „Какъ можетъ такой
„Я далъ ей рубль и помню, что очень былъ радъ, что другге
человѣкъ, какъ гр. Толстой, жить, если на р я д у съ нимъ
видѣли эт о“... А потомъ: „мнѣ такъ пріятно было давать,
существуютъ обитатели ночлежныхъ домовъ? Хорошо тѣмъ,
которые никогда не открывали глаза на эти ужасы. Но
какъ быть тому, кто ихъ не можетъ забыть, не хочетъ, не
долженъ забыть? Можно ихъ забыть!11 *).
сутствіе эгоизма! (То же и съ Анной Карениной). Толстой
говоритъ много о скромности и, какъ истинный христіанинъ,
что я, не разбирая, нужно или ненужно давать,—далъ и
старушкѣ“ ... Это особенно, какъ ударъ обуха по головѣ,
поразило Шестова. Онъ не вѣритъ своимъ глазамъ, онъ
указываетъ на эти слова Толстого и съ внутреннимъ крикомъ, съ болью, почти со слезами спрашиваетъ: неужели
Итакъ, мораль не оправдала надеждъ Шестова; въ ней
это правда, неужели Толстому пріятно было, что онъ давалъ
онъ нашелъ только самоизвиняющійся, мелкій эгоизмъ, только
обычное бѣгство отъ ж изни...
и что другіе видѣли это?
Вотъ это то невольное признаніе гр. Толстого послужило
И съ той поры мораль подверглась жестокимъ насмѣшкамъ со стороны Шестова. Онъ выискивалъ, высмѣивалъ ее
Шестову ключемъ къ разгадкѣ внутренняго спокойствія ве
всюду, онъ не прощалъ никому, кто возносилъ ее на пьеде-
ликаго писателя земли русской. Онъ понялъ, что вся эта
исторія съ ляпинцами, всѣ эти брошюрки, паханье, возня съ
сгалъ, онъ проклиналъ и оплевывалъ ее неутомимо, со
страстью, съ бѣшенствомъ, съ ироніей, словно хотѣлъ от
мужичками и тому подобное были нужны Толстому только
для себя, для удовлетворенія своего собственнаго эгоизма,
ея рабомъ, за тѣ оезсонныя ночи и мученья, когда онъ про-
для источника своего вдохновенія... Онъ понялъ, что то, что
противопоставилъ Толстой уж асу жизни и что люди назы
мстить ей за тѣ минуты, когда онъ готовъ былъ уже сдѣлаться
тягивалъ къ ней свои руки, какъ къ единственному спасенію!
Добро не есть правда и не есть вѣра, та вѣра, которой
жаждетъ, которую ищетъ Шестовъ. Добро не можетъ ни на
ваютъ „добромъ“, не есть Богъ, не есть истина, не есть
разрѣшеніе загадки, а является простымъ средствомъ для
самообмана, для тепленькаго собственнаго самолюбованія,
іоту измѣнить обстоятельствъ жизни, не можетъ уничтожить
ея ужаса и обмана, не можетъ успокоить душ у обманутую,
какъ жалкій компромиссъ, какъ обыкновенная перчатка, на
обиженную и замученную, не можетъ искупить каждой жертвы
исторіи, не можетъ искупить смерти!
детая впопыхахъ на окровавленную р у к у ...
Онъ понялъ, что горе, развратъ и нужда ляпинцевъ
ничуть не измѣнились отъ того, что графу Толстому было
А если такъ, то добро не нужно. „Нужно искать того,
что выше добра и выше состраданья, нужно искать Б о га !...“
И Шестовъ сталъ искать своего Б ога... Промежутокъ межд}
этой книгой и книгой о Достоевскомъ и Нитцше, повиди
„Философія т рагедт ,—не значитъ ли это философія
безнадежности, отчаянія, безумія, даже смерти. Можетъ
мому, весь уш елъ на это исканіе. По крайней мѣрѣ, въ этой
послѣдней книгѣ Шестовъ уж е является съ искаженным^
ли быть т ут ъ рѣчь о какой бы то ни было философии?...
перекошеннымъ лицомъ, потемнѣвшемъ отъ страданья, со
словами о зловѣщей прелести подполья, съ терминомъ „фи-
всѣ отчаявшіеся, всѣ обезумѣвшіе отъ ужасовъ жизни. Чщо
дѣлать съ ними? Кто возьметъ на себя нечеловѣческую
лософія трагедіи“ ... А это значитъ, что онъ дѣйствительно
искалъ Б ога!.. Вѣдь только Богъ можетъ вложить въ душ у
обязанность зарыть въ землю этихъ?“ („Достоевскій и
Нитцше“ стр. 2*).
такую боль и такой хаосъ сомнѣній, вѣдь только Богъ мо
жетъ сдѣлать лицо человѣка измѣненнымъ до неузнаваемости,
трагически перекошеннымъ, облитымъ черными струями
Въ этихъ словахъ Шестова намѣчается вся программа
злобы, отчаянья, ироніи!..
И какое же должно было быть это отчаянье, если за
„ У насъ остались выъ не имѣющіе земныхъ надеждъ,
его послѣдующаго творчества, въ нихъ— остовъ всей его
книги о Достоевскомъ и Нитцше.
этотъ двухлѣтній промежутокъ времени онъ не написаъ ни
И они больше говорятъ намъ, чѣмъ цѣлая книга, въ
нихъ пробилось то скрываемое, заглушаемое, что родило
философію трагедіи...
одной книги!.. Книги, вообще, пишутся тогда, когда можно
обманывать себя блѣдными, надоѣвшими словами... Для ве
Отчаянье— безграничное, безумное, кровавое отчаянье,—
вотъ разультатъ поисковъ Б ога!...
ликой боли (а исканіе Бога и есть эта великая боль) нѣтъ
на человѣческомъ языкѣ выраженія, нѣтъ „литературы ,
Люди искренніе боятся говорить объ этомъ, люди замкну
тые разражаются въ этихъ случаяхъ цѣлымъ потокомъ словъ
нѣтъ искусства, нѣтъ самообмана... Объ этомъ знаютъ только
четыре стѣны подполья... Ибо, если бы кто нибудь рѣ-
или какимъ нибудь хитросплетеннымъ міровоззрѣніемъ, что
въ сущности одно и то же. И нужно быть очень смѣлымъ,
шился выразить эту боль (если бы нашелся такой геній), эту
чтобы признаться, да еще признаться въ книжкѣ, что Бога
нѣтъ, что существуетъ только безконечное, страшное стремле-
- великую правду, то ему суждено было бы испытать, какъ
и Христу, величайшій позоръ и распятье, потому что ничто
въ мірѣ не возмущаетъ такъ людей, какъ геніально выра
женная правда.
Итакъ, объ этомъ періодѣ душ и Шестова, періодѣ са
момъ интересномъ, гдѣ нѣтъ словъ, гдѣ есть только музыка
иереживаній,— мы можемъ лишь догадываться. А что онь
былъ дѣйствительно ужасенъ, объ этомъ свидѣтельствуюгъ
дошедшія до насъ его тѣни, отраженный въ книгѣ о До
стоевскомъ и Нитцше и въ „Апоѳеозѣ безпочвенности“ ... Но
самое яркое свидѣтельство— это тотъ фактъ, что въ этотъ
промежутокъ времени не было ничего написано...
ніе къ его отысканію и что человѣкъ самъ можетъ создать
себѣ Бога, если на то ужъ пошло, если ему непремѣнно,
во чтобы то ни стало нуженъ обманъ... Ну, а если не мо
жетъ, если у него хватило смѣлости говорить правду, если
онъ не можетъ жить безъ этой правды и въ то же время не
можетъ жить безъ Бога, если онъ хочетъ возвратить билетъ
этому невѣдомому Богу, если въ душ у его глянула безна
дежность, что тогда?... Остается одно—подполье...
Нужно было Шестову сродниться съ душ ой Достоев
скаго, чтобы сойти въ подполье, чтобы принять его. Нужно
*) Курсивъ мой. А. 3.
было много уразумѣть скрытыхъ и жуткихъ сторонъ его,
нужно было хоронить въ себѣ міръ, то есть всякую пошлость
и середину, нормальность, категорическій императивъ и все-
Пусть же торжествуешь подполье, такъ какъ „безна
дежность— торжественнѣйшій и величайшій моментъ въ
нашей жизни. До сихъ поръ намъ помогали,-теперь мы
предоставлены только себѣ. До сихъ поръ мы имѣли дѣло
возможныя „идеи“ ... И эта работа, какъ и все у него, не
обошлась безъ боли ... Ибо, когда Шестовъ разрушаешь и
хоронитъ міръ, чтобы сойти въ подполье,—ему жалко, жалко
и этого міра, и людей, и даже маленькая, приплю снутая,
съ людьми и человѣческими законами, т е п е р ь -с ъ вѣчностыо
и отсутствіемъ всякихъ законовъ. Какъ можно не знать
этого?“ („Ап. безпочв.“, 77).
толстовская добра !...
Но ясно, что нужно разрушить обыденщину и все, что
Гакъ создавался „Апеѳеозъ безпочвенности“— самая яр
кая и самая выстраданная книга Шестова, книга удивитель
ная и единственная въ своемъ родѣ, книга не написанная,
заключается въ ней. Ясно, что уж е нечѣмъ жить, чго про
сятся въ душ у какія то странныя, какія то необычайныя
мысли, даже не мысли, а аккорды, звуки, мелодіи, настроенія,
ясно, что нужно изъ этихъ звуковъ создать что то новое,
что то сверхміровое, какое то дерзкое и геніальное самоутвержденіе, какой то свой, единственный, черный, угрюмый
а вырванная изъ душ и, книга по ощибкѣ напечатанная,
книга опасная!
Искусство, какъ и всякая дисциплина, имѣетъ свои
правила, и книги должны быть написаны по этимъ прави
лам и и я р е тому, кто рѣшится ихъ преступить! Шестовъ
и зловѣщій храм ъ !... Теперь стало понятно, что если Б о я
оылъ, можетъ быть, единственнымъ писателемъ въ Россіи,
нѣтъ, то нужно мстить; если за каждую жертву исторім
нѣтъ отвѣта, то нужно смѣятся, дьявольски, страшно, на-
который пошелъ противъ этихъ правилъ и вмѣсто шаблонно
сработанной книги бросилъ на книжный рынокъ всю свою
дорванно смѣяться; что, если не разъясненъ фактъ смерти
Ивана Ильича, то „мы не только не желаемъ лѣзть на верх
душ у, безъ всякихъ одеждъ, безъ всякихъ рамокъ и по
шлостей, такую, какою она вылилась въ его звукахъ (ибо
нюю ступень развитія, но наоборотъ, готовы броситься внизъ
его афоризмы не что иное, какъ музыка), такую, какою она
головой, если намъ не отвѣтятъ за Ивана И льича!..“
Подполье построено... Мелькаютъ въ глубокой тишинѣ
мучила его, терзала, изводила, кровавила, отравляла минуты
подполья !
тусклыя свѣчи безсилья. Сверху давитъ оставленный м іръ ...
Ее невозможно читать безъ боли. Въ ней бродишь что
то опьяняющее, что то чарующее невѣдомой Тайной и такое
жуткое, и такое больное, и такое отчаянное! Въ ней на
Но теперь его уж ъ не ж алко... Ибо нѣтъ въ мірѣ такого
существа, которое бы поняло то великое отчаянье, то страш
ное состояніе, когда у человѣка уш ла изъ подъ ногъ почва...
Ибо „если бы къ Достоевскому пришелъ человѣкъ и сказалъ
каждой страницѣ—удивительная глубь и бѣглыя тѣни ка
кихъ то новыхъ, и страшныхъ, и дорогихъ предчувствій.
нимъ и его наивностью. Развѣ можно сознаваться людямъ въ
такихъ вещахъ? Развѣ можно т акъ жаловатьсяиждатьвсе таки
Въ ней встрѣчаются непроходимыя чащи загадочного и
сверхнормальнаго, въ ней кого то больного и дивно пре
красная, и такого родного, такого усталаго распяли на чер
номъ, безобразномъ крестѣ, и все лицо въ судорогахъ эпи
утѣшенія отъ ближнихъ?“ (Апоѳеозъ безпочв. , стр. 76).
лептическая надрыва, и капли кроваваго пота падаютъ въ
о себѣ, что онъ безнадежно несчастенъ, великій художникъ
людского горя, вѣроятно, въ глубинѣ душ и хохоталъ бы надъ
глубь вдохновенія, и вотъ расцвѣтаютъ жуткіе звуки, злые
и ядовитые цвѣты таинственной и манящей Н очи!...
Есть въ этой книгѣ афоризмъ овеличайшемъ искушеніи.
„Въ великомъ Инквизиторѣ Достоевскаго кроется ужасная
мысль. Кто можетъ быть увѣренъ,—говоритъ онъ,—иноска
зательно, конечно, что распятому Христу, когда онъ произносилъ свои слова „Господи, отчего ты покинулъ меня?“, не
вспомнились слова злого духа, предлагавш ая ему за одинъ
поклонъ власть надъ всѣмъ міромъ, и что, вспомнивши о
нихъ, онъ не раскаялся, что не принялъ предложены са
таны? О такихъ искушеніяхъ можно было бы и не расказывать читателямъ ! („Апоѳ. безп.“, 105). Это характерно вообще
для всей книги. Ибо въ ней что афоризмъ, то какое нибудь
изъ рукъ вонъ выходящее искушеніе, искушеніе, заставля
ющее глубоко призадуматься, искушеніе, отравляющее душ у
злыми и ядовитыми чарами.
Откуда это?— думаешь удивленный
читатель,— какъ
можно такъ писать? И кто далъ этому человѣку право такъ
проклинать, такъ оплевывать, такъ расшатывать наши не
рушимые и такіе нужные устои? (Послѣднее обыкновенно
любятъ замѣчать идеалисты).
Подполье!— отвѣчаемъ мы.
Подполье
дало
ему
это
право! Въ подпольѣ нѣтъ жизни, нѣтъ пошлости, нѣтъ грязи.
Тамъ царитъ такая тишина, отъ которой глохнетъ человѣкъ,
! тамъ обида, міровая обида, страшная, непростительная обида
: выростаетъ огромнымъ, тяжелымъ камнемъ кошмара, и этотъ
камень въ длинныя, безотвѣтныя, ужасныя ночи падаетъ на
душ у и сплющиваетъ ее, и терзаетъ, и мѣситъ, и ранитъ,
и гудитъ въ уш ахъ придушеннымъ, хриплымъ хохотомъ, и
проходитъ сквозь нѣжность душевной тайны раскаленнымъ
же силы, чтобы вырвать ее изъ души, изъ разума, изъ
памяти и гдѣ возможность, и гдѣ средство, чтобы уничто
жить ее, не повредивъ мозговой оболочки?! И развѣ человѣкъ, испытавшій все это, не имѣетъ права проклинать и
высмѣивать ваши устои, развѣ можетъ, развѣ смѣетъ онъ
примириться хотя бы съ однимъ изъ нихъ, развѣ сила этого
страданья, отрава его, красота его не дана ему для того,
чтобы разрушить
мерзкій міръ?
и сжечь
вашъ
солнечный,
глупый и
И Шестовъ его разрушаешь! Дерзко, властно, кошмарно,
самозабвенно разрушаешь! Изъ черныхъ подваловъ, изъ от
радной и болящей тюрьмы своей выпускаешь ядовитыя стрѣлы
желчи и сарказма, и отъ нихъ цѣлые лѣса „идей“ и „цен
ностей“ разлетаются въ прахъ.
И словно присутствуешь на великихъ похоронахъ ыіра.
Ибо, въ сущности, не одинъ Шестовъ разрушаетъ : разрушаемъ и смѣемся, разрушая, всѣ мы—живые мертвецы обы
денщины, жалкія жертвы, „бабищи дебелой и румяной“...
Разрушаемъ и священнодѣйствуемъ. Приносимъ въ жер
тву не одинъ императивъ, не одно убѣжденіе, не одну „идею“,
сжигаемъ на кострѣ великаго пожара надоѣвшія тѣни жизни,
чтобы вкусить изъ чаши радостнаго причастья, новаго, не
и зведан н ая причастья абсолютной свободы!
Изъ черной дали, какъ призракъ, какъ сонъ, выростаетъ
лицо Кириллова... Безумное лицо,сладостно, блаженно безум
ное, какъ на картинахъ Врубеля, вслущанное въ какую то
свою, геніальную мысль, озаренное чернымъ пламенемъ ночи.
Вотъ онъ переплетается среди афоризмовъ Шестова,
вотъ его краткія, странныя рѣчи сквозятъ сквозь музыку
проклятья и боли... Ибо Кирилловъ не нашелъ Бога, и сталъ
колесомъ уж е не боли, а какого то чаднаго, сладострастная
самъ Богомъ, и убилъ себя, и разрушилъ міръ... Не то же
издевательства, и вся жизнь впивается въ мозгъ омерзитель
ли и Шестовъ ? Развѣ „Апоѳеозъ безпочвенности“ не есть
ной, склизкой пьявкой и точитъ, и сосешь безъ конца, и гдѣ
самоубійство, можетъ быть даже болѣе жестокое, нежели са-
67
моубійство Кириллова? Развѣ послѣ „Апоѳеоза безпочвен
ности“ можно жить? Развѣ можно вѣрить, развѣ можно же
лать? Тамъ, въ комнаткѣ Шатова, быстрыми шагами ходилъ
Кирилловъ и говорилъ свои свои свято— безумныя слова:
„Я обязанъ невѣріе заявить. Для меня нѣтъ выше идеи,
что Бога нѣтъ. За меня вся человѣческая исторія. Человѣкъ
только и дѣлалъ, что выдумывалъ Бога, чтобы жить, не уби
вая себя, въ этомъ вся всемірная исторія до сихъ поръ.
Я одинъ во всемірной исторіи не захотѣлъ первый разъ вы
думывать Бога.
„...Я не понимаю, какъ могъ до сихъ поръ атеистъ
знать” что нѣтъ Бога, и не убить себя тотчасъ же? Сознать,
что нѣтъ Бога, и не сознать въ тотъ же часъ, что самъ
богомъ ст а л ъ ,-е с т ь нелѣпость, иначе непремѣнно убьешь
себя самъ. Если созн аеш ь-ты царь и уж е не убьешь себя
самъ, а будешь жить въ самой главной славѣ. Но одинъ,
тотъ,’ кто первый, долженъ убить себя
иначе кто же начнетъ и докажешь? Это
непремѣнно, чтобы начать и доказать. Я
поневолѣ и я несчастенъ, ибо объязанъ
ІВ сѣ несчастны, потому что всѣ боятся
. .Страхъ есть проклятіе человѣка.
самъ непремѣнно,
я убыо себя самъ
еще только богъ
заявить своеволіе.
заявить своеволіе.
Но я заявлю свое-
воліе, я обязанъ увѣровать, что не вѣрую. Я начну и кончу,
могъ отвѣтить на этотъ вопросъ, мучительный вопросъ всей
нашей жизни!
Шестовъ столько разъ нодходилъ къ нему, столько разъ
пробовалъ отвѣтить, и всегда умолкалъ: кружилась голова...
Ибо зналъ, что, если отвѣтитъ,— сдѣлается рабомъ „идеи“, â
вѣдь нѣтъ для него болынаго въ мірѣ позора!.. Одинъ разъ
онъ буквально повторяетъ слова Достоевскаго, другой разъ,
і>ъ предисловіи къ „Началамъ и Концамъ“, онъ говоритъ:
„среди людей уже съ древнихъ временъ укоренилась прочная
вѣра, что истина страшна и что ее нужно всячески избѣгать“ \
„ .. .Если мы присмотримся къ современнымъ религіознымъ людямъ, мы убѣдимся, что и они большей частью
ооятся истины и избѣгаютъ ее и потому вѣрятъ!..“
Пусть же торжествуете подполье! Только оно не обма
нете, только оно спасаете отъ всякихъ истинъ, отъ всякой
лжи, ибо подполье— это наша душ а, погруженная въ вѣчIгость, это наша боль, наша тоска, которую мы любимъ, это
нашъ жуткій, нарождающійся міръ, гдѣ потухла причина
обмана— солнце и свѣтъ.
И когда говоритъ Шестовъ о подпольѣ, что то глубоко
прочувствованное рыдаетъ въ его словахъ, какая то глухая
вѣра въ возможность чуда среди развалинъ міра, въ безконечной и мрачной Ночи...
и дверь отворю. И с п а с у !...“
Шестовъ повторяетъ то же. Каждая страница „Апоѳеоза
ужасами ночь—не кажется ни она вамъ иногда безконечно
безпочвенности“ есть великое разрушенье и великое самоубійство, каждая страница поражаетъ этимъ лихорадочнымъ
прекрасной ? И не маните ли она васъ своей тихой, но таин
ственной красотой больше, чѣмъ ограниченный и крикливый
желаніемъ поскорѣе разрушить, поскорѣе забыться, поскорѣе
день? Кажется
погибнуть !
Но во имя
рый всегда у него остается безъ отвѣта. Вопросъ Пилата
та же непонятная, но заботливая сила, которая выбросила
насъ въ этотъ міръ и научила насъ какъ растенія, тянуться
къ свѣту, постепенно пріуготовляя насъ къ свободной жизни,
переводите насъ въ новую сферу, гдѣ насъ ж дете новая
„Что есть истина?“ остался безъ отвѣта, даже Христос ь не
жизнь съ ея новыми богатствами. И быть можетъ недалеко
чего?—
спросятъ со стороны... Да, во имя
чего?.. Вотъ вопросъ, котораго такъ боится Шестовъ, кото
„...Ночь, темная, глухая,
непроглядная, населенная
еще немного и человѣкъ почувствуете, что
\/
окинувъ прошальнымъ взоромъ свое прошлое, смѣло и ра
явилъ, ничтоже сумняшеся: „невѣжество—необходимое условіе, я не скажу счастья, но самаго суіцествованія. Если бы
мы все знали, то и одного часа не могли бы выносить жизнь-
достно воскликнешь:
— „Д а скроется солнце, да здравствуетъ тьма!“ („Апоѳ.
Тѣ чувства, которыя дѣлаютъ ее пріятной или, по крайней
мѣрѣ, сносной, рождаются изъ лжи и питаются призраками.
безпочв.“).
Врядъ ли кто съ такой силой, съ такой яркостью и
„Еслибы человѣкъ, обладающій, подобно Богу, истиной',
нечаянно уронилъ ее, то ея паденіе уничтожило бы земной
вдохновеніемъ воспѣвалъ подполье!
Врядъ ли кто, кромѣ, впрочемъ, Константина Леоніьева,
шаръ и разсѣяло бы какъ легкую тѣнь всю вселенную. Б о
жественная правда, какъ послѣднее пришествіе,—обратила
бы м іръ въ прахъ!11 *). (Анатоль Франсъ „Садъ Эпикура“).
то время, когда вдохновенный поэтъ, въ послѣдній разъ
съ такою вѣрою шелъ навстрѣчу новому черному солнцу!
И что можетъ дать сердцу послѣ страстныхъ очарованій
ночи глупое лицо дня съ его философіей, съ его исканіями,
съ его ненужной и проклятой жизнью?
А все же Шестовъ не отдался всецѣло Ночи. Ибо отдаться
всецѣло— значило бы ничего не дѣлать, умереть, уснуть...
Онъ какъ и всегда побоялся обмана, поооялся, что „сонь
видѣнья могутъ посѣтить“, и снова пошелъ по стоптанной
дорожкѣ исканій съ жадностью подбирая по пути геніальныя
Искать
значитъ думать и думать, конечно, логически... Но
вѣдь Шестовъ говоритъ, что „можетъ быть думать вовсе не
слѣдуетъ“ и что всякую логику нужно послать къ черту!.
А кто знаетъ, можетъ быть истина и есть продуктъ здороваго, логическаго мышленія, а для анормальнаго, интуитивнаго мышленія, сторонникомъ котораго является Шестовъ,
истина вовсе и не нужна?
мысли и ехидно посмѣиваясь, со страхомъ и тоскою залѣзая
Тогда зачѣмъ же хлопотать попустому? Зачѣмъ и для
чего продолжать эту ужасную пытку логическаго мышленія?
снова въ душ у Толстого, Ибсена, В. Джемса, съ страстно
скрываемой надеждой что то узнать, во что то повѣрить...
Не лучше ли глубоко, навсегда погрузиться въ подполье и
любить свою боль, и этою болью побѣдить міръ?! Не лучше
Но вѣдь все это напрасно... Все это такъ ненужно, такъ
ли навсегда отдаться безпощадной мести, мести, выворачи
старо, такъ надоѣло...
Ибо, въ сущности, вопросъ вращается около того, что
вающей всю душ у, поражающей мозгъ, превращающей жизнь
въ океанъ безграничнаго, кошмарнаго бреда?!
уж е похоронено, около возможности найти истину.
Но вѣдь самъ же Шестовъ сказалъ: „Не есть ли самое
А Шестовъ знаетъ цѣну и обаяніе всего этого, у него
понятіе объ истинѣ, самое предположеніе объ ея возможности
лишь результата ограниченности наш ей?..“ Болѣе того, вся
по этому поводу есть замѣчательное изреченіе, которое можно
поставить эпиграфомъ ко всему его творчеству:
его философія, всѣ его исканія пришли къ тому же выводу.
Зачѣмъ же тогда возвращаться къ старому, зачѣмъ
„Пусть съ уж асомъ отшатнутся отъ насъ будущгя
поколѣнія, пусть ист орія заклеймит ъ наши имена, какъ
имена измѣнниковъ человѣческому дѣлу,—мы все т аки будемъ
заниматься исканіемъ ненужной истины, т. е., по словамъ
Достоевскаго,— зачѣмъ переливать изъ пустого въ порожнее ?
слагать гимны уродству, разрушенью, безумгю, хаосу, тьмѣ!
Вотъ Анатоль Франсъ это понялъ, а Шестовъ нѣтъ и не
хочетъ понять. Ан. Франсъ однажды такъ публично и за-
А т амъ хоть т рава не расти!“. („Апоѳеозъ безпоч.“, 158).
*) Курсивъ мой. А. 3.
'
онъ и писалъ, и жилъ. А онъ видѣлъ то, что не каждому
дано видѣть. Предъ нимъ разверзлась тайная бездна жизни
и обнажила самое сокровенное свое, самое великое, самое
главное, тотъ нервъ жизни, гдѣ сходятся всѣ узлы и дни,
и время, и пространство, то мѣсто, гдѣ все зарождается. Кто
знаетъ, можетъ быть это случилось именно въ ту минуту, пе
редъ казнью, когда жизнь висѣла на волоскѣ. Оттуда то
онъ вынесъ убѣжденіе, что причина сознанія есть великая
боль. A послѣ этого трудно уже требовать отъ человѣка
V .
Жизнь есть боль, жизнь есть страхъ,—говоритъ Достоевскій устами Кириллова. И это у него искренно; это можетъ
быть е д и н с т в е н н о е искреннее у него признаніе. Рѣдко
оно у него пробивалось наружу, зато все написанное имъ тяжелѣеть внутренне этимъ признаніемъ. Ибо есть слова у писа
телей внутреннія и внѣшнія. Внѣшнія тогда, когда человѣкъ
добивается такъ называемой „гармоніи“ цѣною самоограниченія или цѣною недалекой посредственности, и отъ этихъ
словъ ни тепло, ни холодно, и появляются они на свѣтъ
Божій неизвѣстно зачѣмъ. Но есть слова, напоенныя болью,
крикомъ души, слезами, отчаяньемъ—слова одинокія и такія
несчастный, такія неожиданный, и если въ нихъ выльется
вся жизнь человѣческая, если они смогутъ влить въ сердце
„гармоніи“. Вся жизнь, все существо очутилось въ кошмарности и изъ нея родилось творчество. Весь міръ потонулъ
въ хаосѣ боли и ужаса, а разсудокъ... Разсудокъ отступилъ
на второй планъ. Ибо тамъ, гдѣ носятъ крестъ, и гдѣ мо
лятся, и гдѣ проклинаютъ, разсудка нѣтъ и не можетъ
быть, а есть только одно окровавленное сердце. И каждый актъ
творчества есть терзаніе этого сердца, и чѣмъ больше пи
шешь, тѣмъ больше и сильнѣе невольная, истомляющая, \
разслабляющая мука, и все писаніе есть добываніе ея по
средствомъ эпилептическихъ надрывовъ. Вотъ тайна твор
чества Достоевскато. И когда мечется Раскольниковъ въ аду
чаднаго безумія дней, непохожихъ на дни, и когда хохочутъ
и плачутъ, и надрываются, и сходятъ съума, и суетятся съ
какимъ то тоскливымъ бѣшенствомъ, и когда Ставрогинъ
откусываетъ ухо
у губернатора, когда Лиза смѣется и
отраву пьянящую, и боль томительную, то цѣль искусства
мелькаютъ въ ея смѣхѣ трагическіе отзвуки безумія,— мы
достигнута. Можетъ быть, эту то цѣль Достоевскій и видѣлъ
знаемъ причину всего этого, мы знаемъ, откуда оно и гдѣ
предъ собою всю свою жизнь. Можетъ быть, въ ту минуту,
зародилось... Мы понимаемъ тогда, что „жизнь есть боль,
передъ казнью, когда рѣшалась его судьба,—онъ умолялъ
жизнь есть страхъ“. У Достоевскаго все построено на этомъ
Бога дать ему сверхчеловѣческую силу для того, чтобы ска
нереживаніи. У него хаосъ и разрушеніе создаютъ нѣчто
вродѣ гашишнаго опьяненія, которымъ пропитана каждая
страница, и пьянѣешь, читая, и кружится все, пламенѣетъ,
багровѣетъ, уходитъ, застываешь, приходить, плещетъ въ
душ у расплавленнымъ оловомъ тяжести огромной, непобѣ-
зать людямъ страшный ужасъ и страшное проклятье. Можетъ
быть, онъ потомъ и повѣрилъ въ Бога въ благодарность за
предоставленную ему вмѣстѣ съ жизныо эту сверхъесте
ственную силу, силу разрушать ужасомъ и проклятіемъ
человѣческую „гармонію“ ... Можетъ быть, для этого только
димой, вѣчной. Оно родиться могло только въ подпольѣ. Ибо
здѣсь начало трагедін, здѣсь она зрѣетъ въ великомъ мол-
дѣльной бойкостью, и всѣ эти „Посолони“, „Лимонари“, всѣ
эти старыя погудки на новый ладъ, все это паясничанье и
чаши и разбухаетъ въ мозгу въ цѣлую катастрофу, которую
только безуміе можетъ вынести на свѣтъ Божій и показать
поддѣлыванье подъ „дѣтскость“, вся эта эстетическая че
пуха совершенно стерла съ литературной книги истиннаго
Ремизова, того, что въ „Прудѣ“, того глубокаго и серьезнаго,
что—въ подпольѣ.
людямъ.
Алексѣй Ремизовъ напечаталъ „П рудъ“ (правда, не
»
легко удалось ему это) и сдѣлалъ большую ошибку, вынесъ
свое безуміе кошмарное и показалъ его людямъ. И нѣжно-
стоите того, чтобы говорить о Ремизовѣ, онъ исключаешь
интимный, священно-выстраданный, кровавый „Прудъ“ въ
все написанное имъ, ибо только въ немъ—положительное у
видѣ книги окунулся нъ человѣческую пошлость и замеръ,
этого писателя. Поэтому я буду говорить только о „П рудѣ“.
и задрожалъ, и зарыдалъ въ грязныхъ рукахъ филистеровъ.
Не должно, да и нельзя „ ч и т а т ь “ „Прудъ“, его можно
Говорятъ, онъ отъ ГІшыбыщевскаго. По моему, только
слогъ „Пруда“ слегка напоминаетъ польскаго писателя, да
и то въ очень измѣненномъ видѣ, а что до остального, то
Пшыбышевскій даже и не понялъ бы всего этого.
На „П рудъ“ не обратили вниманія, а онъ одинъ и
только переживать и, переживая, любить или ненавидѣть.
А у насъ никто не понялъ его, ни въ публикѣ, ни въ
критикѣ, не понялъ его безумной обнаженности, его отор
ванности отъ такъ называемой литературы, его глубокости, его
Гакъ здѣсь все с в о е до мельчайшихъ подробностей,
такъ все вылилось изъ одной душевной тайны, такъ все про
интимности... Здѣсь талантъ, глубокій талантъ, несмотря
никнуто своими оригинальными замыслами и стремленіями.
na его слишкомъ тѣсную зависимость отъ Достоевскаго, переросъ традиціи искусства, вслѣдствіе чего то, что должно
Изъ сѣрой паутины подполья высучивается эта жизнь, I
эта съ самаго начала замученная и поруганная жизнь. Ибо !
было стать искусствомъ, не сдѣлалось имъ, а стало чѣыъ
въ подпольѣ она вынашивалась и оформлялась, въ подпольѣ
раздувался огонь ея, сила ея, вопль ея ...
f
то инымъ, можетъ быть болыпимъ и гораздо важнѣйшимъ,
чѣмъ искусство, стало воплемъ прокаженнаго сердца, стало
второю жизнью, стало истомленно-безумнымъ и безстыдно-
И когда растетъ душ а—все вокругъ такое липкое и
жгучее, сѣрое и мутное, грязное и развратное, все то, что
интимнымъ письмомъ къ кому то далекому, святому, все
сильному, единственному. И теперь совѣстно читать его,
тотъ оперный дьяволъ, что потомъ появится въ сказкахъ
чувствуешь, что не имѣешь права, а у идеалиста, пожалуй,
явится даже желаніе „приласкать и утѣшить“ автора!..
Ремизова, а подлинный дьяволъ изъ „Записокъ изъ подполья“.
Страшный и невидимый, тотъ джентльменъ, который убѣж-
Вотъ къ чему приводить иногда напечатаніе подпольной
Даетъ человѣка бросить все благоразуміе прахомъ един
ственно для того, чтобы но своей глупой волѣ пожить!
книги...
И Ремизовъ понялъ свою ошибку, послѣ „Пруда“ онъ,
составляете фонъ. Самъ дьяволъ рисуетъ этотъ фонъ, не
И не красками рисуетъ дьяволъ весь этотъ фонъ, всю
эту жизнь, не красками, а кровью и грязью, что соста
какъ будто желая извиниться передъ публикой, сталъ уже
писать не для себя, а для нея, сталъ писать утомительно
вляете квинтъ-эссенцію суіцаго, вотъ почему эти лица какъ
скучныя и ненужныя книги, пахнущія мертвечиной и иод-
пепельно-сѣрыя струпья на румяномъ и дебеломъ лицѣ
)
жизни, вотъ почему эти слова, эти звум @ -вздувш ія*пьявки,
которыхъ нельзя оторвать отъ сердца, вотъ почему темпъ
всего этого—какъ пискъ гармоники въ воскресный день,
когда рвутся всѣ струны и хрипота удуш ья убиваетъ и
мучить!.. И откуда то, какъ визгъ метели, ворвался чадны
аккордъ—лейтъ-мотивъ, в е с ь -у ж а с ъ , в е с ь -х а о с ъ , весь хохотъ закружилъ, взбаламутилъ, охнулъ, подбросилъ, грянулъ
и закачалось сознаніе, и пошла мысль отплясывать
какой то дикій танецъ, и закружились всѣ черты міра, завертѣлись-^исчезли... вотъ мелышотъ одни только огненныя
пятна
одни только пламенные языки лижутъ раскаленный
мозгъ и кричитъ, стонетъ что т о -ч т о то родное, единственное,
воетъ, жалуется, визжитъ, плачетъ, и нервы рвутся и скользкія зловѣще голыя вѣтви осеннихъ деревьевъ хлещутъ,
бьютъ, издѣваются и ночь-тем ная, злая; свиститъ заинди-
И сквозь пошлую подлость жизни купеческой—жизнь
монастырская. Мрачный Андроніевъ монастырь, гдѣ барах
таются пьяные, наглые, развратные монахи... Это они „воспи
тали“ душ у
Николая, это они,
такъ
близко
отъ
Бога,
спаивали водкой и учили тайнымъ порокамъ, это они по
гасили послѣднюю надежду, послѣдній свѣтъ.
Вспухш ее отъ пьянства лицо матери—Варвары Финогеновой. Вся она, какъ воплощенный надтреснутый ужасъ
земли, ходитъ по комнатамъ, по болыпимъ, угрюмымъ, холоднымъ комнатамъ Финогеновыхъ, какъ сама безнадежность,
и лицо вспухшее, и звенятъ всплескомъ усталости пустыя
бутылки. Вся она выпитая, заласканная, насильно выпитая.
„На ней лежалъ, такъ казалось ей, много больше ея роста
деревянный темный крестъ, обшитый неровной, зазубренной
жестью, и тяжесть креста, насѣдая, приплюскивала ея тѣло
вѣвшій, вздувшійся плащъ ночи и сыплетъ мразью колючей
и острый гвоздь ходилъ и царапалъ темя.—Монахъ съ кра-
въ глаза, и свѣта не видно, и безумно... и сквозь твердую
темь сверкнуло бѣлое, бѣлое, развратно измученное лицо
сивымъ лицомъ и разсѣченной бровью, изъ которой тихо
Николая и заныло, забилось, разсыпалось. А вотъ снова
блеснуло... А вотъ превратилось въ сердце, въ огромное,
ярко-зеленой шуршащей, шелковой рясѣ, минуту назадъ
измученное, заслонившее собою весь міръ, сердце, и тогда
тысячи иглъ, тысячи когтей, тысячи плевковъ, проклятіи,
кулаковъ сжатыхъ и угрожающихъ, масокъ почернѣвшихъ
отъ злобы, тысячи изгибовъ обнаженныхъ, блаженно безумныхъ женскихъ тѣлъ, тысячи проклятій, издѣвательствъ,
насилій обрушилось на это сердце и превратилось оно въ
сплошной ужасъ, брызжущій во всѣ стороны фонтанами
черной крови, и почернѣлъ весь міръ и умеръ Богъ, умерло
солнце и глубокій колодезь подполья съ проклятьемъ проглотилъ всю душ у, всѣ мысли, всю тоску...
„Крылья мои... Крылья мои бѣлыя, тяжелыя вы въ
слипшихся комкахъ кровавой грязи...
Земля обѣтованн&я...“
капля за каплей сочилась густая, темная кровь, монахъ въ
мирно державшій этотъ крестъ, вдругъ изогнулся весь и
бросился на Вареньку. И она бѣжала по комнатѣ, и монахъ
пропадалъ и появлялся, и настигалъ и хваталъ е е ...“
И въ ту ночь, когда родился Христосъ, она повѣсилась. И когда повѣсилась,—что то скользкое, невыносимо
черное грянуло въ эту безумно надрывающуюся лирику
слога и словно отравило ее, и вотъ уж е не звуки, a цѣлая
тишина ночи распята и воетъ, и липко лижетъ, и страстно
рыдаетъ, и дѣти—испуганныя, дрожащія дѣти срываютъ
мать съ петли и копошатся, роятся, визжатъ, царапаются,
надрываются въ ея мертвомъ, безстыдно усталомъ тѣлѣ...
И тишина рыдаетъ...
„Проклятіе—царство мое. Царство мое одиноко“
JT_
Люди и дѣти, и звѣри мимо проходятъ, мимо проходятъ скорчась, со страхомъ.
Я кинулся въ волны, въ волны земныя.
Ты мнѣ отвѣтишь.
Ты сохранила образъ мой странный и зовъ въ
поцѣ луѣ ?..“
Таня... словно икона въ бреду раскаленномъ. Словно
бѣлая лилія... Одинъ разъ, можетъ быть, потянулась душ а
къ свѣту, но поняла, но услышала томный голосъ Дьявола
о томъ, что только тьма—прибѣжище, только тьма—ноцѣлуй
забвенный, только въ ней стираются когти ужаса жизни...
Скорбящая, бѣленькая Таня, нелѣпо, неуклюже изнасило
ванная. И тогда разверзлась бездна.
въ припадкѣ эпилепсіи, засмѣялся черными своими, жут
кими, безумными глазами, засмѣялся и проклялъ, и поклялся /
распять этотъ міръ цѣною своего страданья, своей крови,
своего генія, распять и замучить такъ, какъ жизнь распяла
его душ у. И онъ мучитъ и будетъ мучить вѣчно. Его книги
читаются „для пользы и для развлеченья“, но это отъ нихъ
колотится сердце въ панической жути и мурашки ползаютъ
по кожѣ, это отъ нихъ занимается пламя кошмарное, жар
кое, невыносимое, это отъ нихъ въ чадномъ забвеніи выра
стаешь дьявольскій ликъ и пьетъ наше сердце острыми
хлебками.
Онъ можетъ сказать „М н ѣ о т м щ е н і е, и а з ъ
д а м ъ !“
в оз-
„ ...И то, что было грѣхомъ и преступленіемъ, не было
Ремизовъ учился у Достоевскаго мучить и проклинать,
теперь грѣхомъ, преступленіемъ, а было пышными кострами,
прожигающими міры до ихъ пуповинъ, лабиринтными п у
это ясно, но ясно также, что собственная его боль пере
тями въ лоно нечеловѣческихъ тайнъ—и то, что вѣнчалось красотой и святостью, страшило своей чудовищностью
и безобразіемъ и трусостью и наглымъ лицемѣріемъ, и
хаосъ распускался въ созвѣздія—и добро мѣнялось трономъ со зломъ—и тамъ, гдѣ низвергались боги и погаша
лись въ святотатственныхъ оргіяхъ темныя силы, взирало
око Бога,—и тамъ, гдѣ возносились славословія, хохоталъ
Д ьяволъ...“
А вотъ—тюрьма. Тюрьма и подполье—они всегда вмѣстѣ. Въ тюрьмѣ Достоевскій взлелѣялъ образъ подполья,
образъ Дьявола, хаоса и разрушенья, въ тюрьмѣ, въ долгія
желѣзныя ночи, среди человѣческой вони, человѣческихъ
насѣкомыхъ и человѣческой гадости и порочности увидѣлъ
истинную душ у міра, увидѣлъ изнанку, оборотную сторону
медали, которую такъ любятъ прятать всякіе идеализмы отъ
человѣческихъ глазъ—и тамъ засмѣялся впервые, засмѣялся
росла для него вселенную. Кровавую свою книгу бросилъ
людямъ, словно желая сказать: „вотъ, вы пили мою кровь,
вы меня мучили, теперь насталъ вашъ чередъ!“
Тяжелую, пьяную, безумную свою книгу бросилъ на
растерзаніе псамъ, и когда читаютъ, кажется, что къ боль
ному сердцу прикасаются нечистыми руками своими, невѣжественными.
„...Зачатъ безъ желанія, а на свѣтъ появился— кричалъ: грудь матери не молоко, а слезы точила...
Кѣмъ посѣянъ? зачѣмъ свѣтъ увидѣлъ? на что выросъ?
Любилъ, душ у свою отдавалъ—душ у не приняли.
Вѣрилъ безконечно, но вѣру нарушили.
Міръ себѣ сотворить хотѣлъ, а вотъ онъ: буря и вой,
и бѣлыя снѣжныя ленты метаній съ неба на землю, на небо
съ земли.
...О мирѣ мечталъ. Нѣтъ покоя? да и минуты не выжилъ бы въ этомъ покоѣ...“
Тихо, тихо пьетъ душ у Дьяволъ. Спустился надъ міромъ,
лицо свое безобразное опрокинулъ и издѣвается. А тамъ,
въ центрѣ всей этой грязно-кровавой каши мирно спитъ
старый, заглохшій прудъ и, какъ зеркало, отражаетъ въ себѣ
всѣ извивы трагедіи, и тяжко вздувается, и исходитъ чер
ною кровью, и пляшетъ, стонетъ, жалуется, и снится по
ночамъ въ тяжелыхъ, горячечныхъ снахъ.
Хотѣлъ бы задушить, уничтожить этотъ прудъ, но онъ
только смѣется. И страшно глядѣть: вѣдь тамъ наравнѣ съ
горемъ и болью таится и капля радости, капля, вобравшая
въ себя весь дѣтскій міръ, всѣ дѣтскія грезы, и молитвы—
сѣренькія, жалобныя молитвы въ Андроніевомъ монастырѣ,
и чистоту погибшую, и милое лицо старца Глѣба, пришедшаго схоронить здѣсь свою боль, свою тяжкую, незабвенную
драму.
Бѣлыя крылья утопаютъ въ грязи, но душ а еще рвется,
душ а проситъ, умоляетъ, молится. Кого то послѣдняго, кого
твоимъ трупомъ по безмѣрнымъ пространствамъ, будутъ ма
тери дѣтей рождать и пойдутъ, разбредутся дѣти по всѣмъ
вѣтрамъ.
И тѣ, которые заревомъ пройдутъ по землѣ, и тѣ, кото
рые туманомъ наполнять дали,—они ринутся въ бездонную
высь, напоятъ міръ своимъ горячимъ сердцемъ. И вотъ одни
за другимъ покроютъ всю землю до послѣдняго уголка.
Поколѣнье за поколѣньемъ. Кишитъ, давитъ другъ друга,
а кто-то отъ хохота трясется надъ этой толкотней и глу
постью и горемъ, надъ тѣмъ, что проползаетъ въ сердце
грѣхомъ, и надъ умомъ и сердцемъ.
А кто-то тяжкой скорбью перевиваетъ свое великое
сердце— скорбь съ каждымъ лѣтомъ горше—ждетъ.
И солнце померкнетъ, звѣзды чернѣе ночи выглянуть
съ чернаго неба.
А изъ очей ихъ заструится алый свѣтъ—кровь дѣтей кровь мучениковъ—кровь всѣхъ, кто одиноко, забившись въ
то желаннаго и святого зоветъ душ а въ воплѣ своемъ похо-
четыре стѣны, имъ, этимъ стѣнамъ, свою скорбь отдаетъ, глу-
ронномъ, озябшемъ.
химъ исповѣдается, бьется безотвѣтно, молитъ безотвѣтно...“
„Приснись... Приснись .. ты мнѣ въ эту долгую ночь...
одинокую“.
Пѣснь пѣсней:
„—Приди ко мнѣ!“
Но не пришла. Въ больномъ поцѣлуѣ случила съ зем
лей, но не пришла.
И какъ финалъ трагедіи — выплываетъ изъ темныхъ
нѣдръ душ и молитва къ Царю Небесному, утѣшителю,— и
аккордъ ея переплетается среди сильно сгущенной гнили,
среди хаоса, среди страннаго запаха цвѣтовъ опьяняющихъ
и убійства Николаемъ старика Огорѣлышева.
предсмертныхъ, ея гнили зловонной, ея чумнаго дыханья?
Бываютъ книги, въ которыхъ выливается вся жизнь
писателя, весь его талантъ, вся его творческая способность.
Онѣ, какъ губка, вбираютъ въ себя всего его, и остается
только слабая тѣнь писателя, размѣнивающагося на мелочи
Вотъ она! И молится сердце „помилуй, прости... Приди
ко мнѣ!“ но напрасно...
и продающаго за гроши крохи, оставшіяся отъ роскошнаго
пиршества.
Вотъ она: „Будетъ изо-дня въ день—заговорило что
Въ „Прудѣ“ разверзались прямо волшебныя дали, без
граничные горизонты, смѣлыя дерзанія. Въ „Прудѣ“ былъ
Но куда же дѣвать эту землю, если своя боль мѣшаетъ
жить, и какъ сдѣлать, чтобы не слышно было ея воплей
то, будетъ ночь и день ускользать земля съ тобой, съ
геніальный
замыселъ
и
талантливая,
оригинальная
раз
работка.
Въ то время (въ 1905) шла въ Россіи ломка, революціонное движеніе словно отразилось на искусствѣ, которое
выходило изъ старыхъ рамокъ, ломало твердые льды тради
ционности, открывало бездны. Первый, кто коснулся реформы
прозаическаго стиля, былъ А. Бѣлый. Онъ въ своихъ симфоніяхъ намѣтилъ совершенно новыя рамки технической
интерпретаціи, попытка его внести законы музыки въ прозу,
можно сказать, увѣнчались успѣхомъ. Но все же это было
слишкомъ спеціально, узко и носило извѣстныя опять таки
традиціонныя рамки. Ремизовъ расширилъ планъ этой ре
формы стиля, онъ внесъ ее въ романъ, далъ ей широкую
свободу, и все это было до того живо, до того искренно, что
не поражало ходульностью, преднамѣренностыо. Читая, отда
ешься аккордамъ, сливаешься съ хаосомъ, переживаешь
кошмаръ, замѣчаешь причудливые замыслы импрессіонизма,
а главное—чувствуешь эту безудержно льющуюся, страстную,
стихійную волну, что ширится безпредѣльно и распинаетъ
душ у въ жгучемъ объятіи страданья.
Это было впервые такъ написано. Были порваны старыя
рамки романа, словно вся душ а слилась съ этими словами,
словно вся жизнь изошла кровью, словно пожаръ экстаза
разорвалъ путы земного и возможиаго и увлекъ въ какое
то заколдованное царство чудесъ.
Здѣсь ждешь каждое мгновенье, что вотъ не выдержитъ
сердце боли, лопнетъ, зажжетъ огнемъ эти страницы, и онѣ
запылаютъ. Здѣсь каждому, помнящему отголоски болѣзненнаго своего бреда становилась понятна адэкватность его художественнаго отраженья, и вмѣстѣ съ тѣмъ было понятно,
что вся жизнь—мука, вся жизнь— отчаянный бредъ.
И врядъ ли кто послѣ Достоевскаго достигалъ такого
яркаго пониманія и отраженія страданья.
Было это написано не механически, а въ дикой оргіи
творческаго экстаза, былъ въ этомъ безудержный, обна
женный надрывъ и изступленное отчаянье, былъ звѣриный
ужасъ подпольнаго царства и дьявольская насмѣшка надъ
жизнью,—вотъ отчего мы цѣнимъ „ П р у д ъ “ и отбрасываемъ
все остальное, преслѣдующее цѣли искусства, но игнори
рующее задачи того, что выше искусства и выше всего—
страданья и проклятья.
ствительности. Такимъ образомъ, они приходятъ снова къ
тому, отъ чего бѣжали, отъ чего создали подполье,—къ
жизни. И приходятъ уже иными, безнадежно больными, без
надежно усталыми, превращенными въ истлѣвающій прахъ
гнилой муки... Что же можетъ дать имъ жизнь? Только
одинъ у ж асъ ... только одно нечеловѣческое страданье, только
одну выворачивающую внутренности тош ноту... И мечта—
хрупкая, блѣдно-прекрасная, послѣдняя мечта отъ одного
VI.
прикосновенія жизни обращается въ прахъ, и послѣ всего
этого остается въ душ ѣ одинъ только пепельно-сѣрый, звѣ-
Когда захочется вдругъ подпольному человѣку выйти
на свѣтъ Божій, просто для того, чтобы вздохнуть полной
грудью, чтобы хоть на минуту и з б а в и т ь с я отъ кошмарнаго удуш ья,— тогда н а ч и н а е т с я для него мука двойная,
тогда трагедія п р е в р а щ а е т с я въ слѣпой ужасъ.
Можно поставить вопросъ: зачѣмъ же выходить изъ
подполья, если тебѣ тамъ хорошо? Но хорошо ли это еще
вопросъ, и потомъ нужно быть очень сильнымъ, чтобы
выпить чашу до дна. А герои подполья въ болынинствѣ
случаевъ бываютъ слабыми, рахитичными, усталыми до из
вращенности, безпомощными до ребячества. Создается стран
ное настроеніе души, измѣнчивое и обманчивое, и когда
гаснутъ послѣднія силы, вдругъ осѣняетъ какая нибудь
необычайно парадоксальная, необычайно книжная, необы
риный страхъ.
Подпольный человѣкъ Достоевскаго выходилъ изъ под
полья только лишь для того, чтобы въ глухихъ, темныхъ
улицахъ заниматься развратикомъ, маленькимъ, робкимъ,
запуганнымъ развратикомъ... „Но кончалась полоса моего
развратика, и мнѣ становилось ужасно тошно. Наступало
раскаяніе, я его гналъ: слишкомъ ужъ тошнило. Мало по
малу я, однако же, и къ этому привыкалъ. Я ко всему
привыкалъ, т. е. не то, что привыкалъ, а какъ то добровольно
соглашался переносить. Но у меня былъ выходъ все при
мирявши, это—спасаться во „все прекрасное и высокое“,
конечно, въ мечтахъ. Мечталъ я ужасно, мечталъ по три
мѣсяца сряду, забившись въ свой уголъ, и ужъ повѣрьте,
что въ эти мгновенья я не похожъ былъ на того господина,
который, въ смятеніи куринаго сердца, пришивалъ къ во
чайно фантастическая мечта, мечта о небесахъ разверзстыхъ,
о чудесахъ спасительныхъ, о какомъ то разслабленномъ
ротнику своей шинели нѣмецкій бобрикъ. Я дѣлался вдругъ
опьяненія, обо всемъ „прекрасномъ и высокомъ ! И мечта
безумной молитвой отравляетъ расшатавшуюся душ у, и дверь
героем ъ ...“
Смѣшно читать эти подчасъ слишкомъ откровенный
подполья медленно таетъ подъ палящими лучами стремле-
изліянія, смѣшно и какъ то жутко: по временамъ вся эта
нія безудержнаго, пьянаго, безразсуднаго... Но куда? Куда
стремится въ своей мечтѣ несчастный мученикъ подполья?
мечтательная дѣтскость какъ будто кажется нарочно для
того и сочиненной, чтобы лишній разъ посмѣяться надъ
Конечно, къ землѣ, конечно, къ людямъ, ибо возможность
исполненія мечты находится, по его мнѣнію, только въ д е й
жизнью, да h надъ подпольемъ тоже. „Я, напримѣръ, надъ
всѣми торжествую ; всѣ, разумѣется, во прахѣ и принуждены
добровольно признать всѣ мои совершенства, а я всѣхъ ихъ
прощаю. Я влюбляюсь, будучи знаменитымъ поэтомъ и камергеромъ; получаю несмѣтные милліоны и тотчасъ же
жертвую ихъ на родъ человѣческій, и тутъ же исповѣдываюсь передъ всѣмъ народомъ въ моихъ позорахъ, которые,
разумѣется, не просто позоры, а заключаютъ въ себѣ чрез
вычайно много „прекраснаго и высокаго“, чего то манфредовскаго. Всѣ плачутъ и цѣлуютъ меня (иначе что же бы они
были за болваны), а я иду босой и голодный проповѣдывать
новыя идеи и разбиваю ретроградовъ подъ Ау стер л идемъ.
Затѣмъ играется маршъ, выдается амнистія, папа согла
шается выѣхать изъ Рима въ Бразилію; затѣмъ балъ для
всей Италіи на виллѣ Боргезе, что на берегу озера Комо,
такъ какъ озеро Комо нарочно переносится для этого случая
въ Римъ. Затѣмъ сцена въ кустахъ и т. д., и т. д .... будто
не знаете? Вы скажете, что пошло и подло выводить все
это теперь на рынокъ, послѣ столькихъ упоеній и слезъ, въ
которыхъ я самъ признался. Отчего же подло-съ? Неужели
вы думаете, что я стыжусь всего этого и что все это было
глупѣе, хотя чего бы то ни было, въ вашей, господа, жизни!
обманъ, и все таки заставляешь себя вѣрить въ него, за
ставляешь насильно, жмуря глаза, дѣлать видъ, что спосо
бенъ повѣрить. Ибо тяжелый камень упалъ на душ у и
давишь безпощадно, давишь безконечно, безпрестанно, давитъ
и въ утра, залитыя дождемъ, подернутыя туманомъ, и въ
дни, когда надтреснутая душ а изнемогаетъ отъ свѣта, и по
ночамъ, по безсоннымъ, жестокимъ, раскаленно безумнымъ
ночамъ, когда подъ удары капель дождя, подъ шумъ надви
гающихся призраковъ сплющивается, изнемогаетъ мозгъ!..
И хотя знаешь, ясно и четко знаешь, что ничто въ мірѣ не
сможетъ помочь, не сможетъ сдвинуть этотъ камень, хотя
понимаешь, что спасенія нѣтъ и не можетъ быть и что оно
ненужно, но что то инстинктивное, что то очень человѣче- /
ское и поэтому очень постыдное направляетъ волю туда, за
предѣлы подполья, къ міру, къ жизни, къ замученнымъ, къ
страдающимъ, къ позорно несчастнымъ людямъ... И идешь,
идешь, изнемогая и страшась, идешь и знаешь, что вмѣсто
помощи, вмѣсто любви, даже вмѣсто состраданья понесешь
этимъ своимъ ближнимъ лишь свою затаенную драму, пре
вратившуюся въ горсть раскаленныхъ угольевъ, облитыхъ
И къ тому же повѣрьте, что у меня кой-что было вовсе не
сѣрой слезъ, желчи и тоски. Знаешь, что бросишь все это s'
людямъ въ лица, и почернѣютъ отъ злобы и ненависти
дурно составлено... Не все же происходило на озерѣ Комо.
лица, и покроются проказой презрѣнія и уничтожающаго
А, впрочемъ, вы правы; действительно, и пошло, и подло.
проклятья, и бросишься на нихъ, и съ звѣрскимъ насла-
A подлѣе всего то, что я теперь началъ передъ вами оправ
жденьемъ, съ болыо, съ ужасомъ будешь топтать и смѣшивать съ грязью ихъ, можетъ быть единственно за то только,
что показалъ имъ кроваво-черный зѣвъ своей тайны, своего
дываться. А еще подлѣе то, что я дѣлаю теперь это замѣчаніе. Да довольно, впрочемъ, а то вѣдь никогда и не
кончишь: все будетъ одно другого подлѣе .
Подпольная мечта всегда кончается необыкновенно подло,
страданья, своей души! Но зачѣмъ же тогда выходить, за-
необычайно жестоко. Подпольная мечта со всего размаху
пробуждаться отъ сна? „То то и есть, что я слѣпо вѣрилъ
стремится къ стѣнѣ, и ударъ въ стѣну вышибаетъ мозгъ и
тогда, что какимъ то чудомъ, какимъ нибудь внѣшнимъ об-
толкаетъ человѣка въ грязь. Д а и какъ можетъ быть иначевѣдь подполье поняло бездну обмана, вѣдь подпольный че-
стоятельствомъ все это вдругъ раздвинется, расширится;
вдругъ представится горизонтъ соотвѣтственной дѣятель-
ловѣкъ знаетъ, что мечта—обманъ, гнуснѣйшій, подлѣйшій
чѣмъ увеличивать свой ужасъ больной и сладостный, зачѣмъ
вырвать эту болѣзненную женщину изъ объятій грязи и
ности, благотворной, прекрасной, и главное—совсѣмъ гоѵговой
(какой именно—я никогда не зналъ, но главное—совсѣмъ
готовой), и вотъ, я выступаю вдругъ на свѣтъ Божій, чуть
ли не на бѣломъ конѣ и не въ лавровомъ вѣнкѣ. Второсте
пенной роли я и понять не могъ, и вотъ именно потому то,
въ действительности, очень спокойно занималъ послѣднюю.
Либо герой, либо грязь, средины не было. Это то меня и
сгубило, потому въ грязи я утѣшалъ себя тѣмъ, что въ
другое время бываю герой, а герой прикрывалъ собой грязь:
обыкновенному, дескать, человѣку стыдно грязниться, а ге
рой слишкомъ высокъ, чтобы совсѣмъ загрязниться, слѣдственно—можно грязниться“.
Однажды, въ ту ночь, когда душ у изгадили и уничто
жили
насмѣшкой
люди,
выходитъ
изъ
подполья
герой
Достоевскаго, чтобы по обыкновенію—предаться развратику,
и вдругъ, въ самомъ чаду гнуснѣйшаго скотскаго насла
жденья, похожаго на безумное отчаянье, на мольбу, на пред
смертный вздохъ, замѣчаетъ передъ собой въ первый разь
живое лицо, все помертвѣвшее отъ боли, все прекрасное и
измученное, лицо продажной женщины Лизы. И на грязномъ, липкомъ, черномъ ложѣ, подъ визгъ, музыку, топотъ
и ревъ, доносящійся изъ за перегородки, въ истлѣвающемъ
сознаніи вдругъ снова воскресаетъ блѣдная и замученная
подпольная мечта. Мечта о разрушеніи преградъ, о созданіи утонченнаго, рафинированнаго царства чуда, мечта о
воскресеніи ! Выплываетъ она какъ послѣдній надрывъ,
какъ разбухш ій надрывъ экстазной боли, какъ послѣдній,
умирающій, вытягивающій изъ душ и всѣ нервы аккордъ !..
И касается лица женщины какъ поцѣлуй, поющій всей
напряженностью обнаженныхъ чувствъ, и приподымаешь въ
черномъ чаду завѣсу иныхъ міровъ, туманныхъ и опьяняющихъ, миражныхъ и нѣжно разслабленныхъ, какъ чу
десная мелодія сказки! И была мечта о томъ, чтобы спасти,
разврата, и въ ея воскресеньи самому спастись, самому
ожить, самому стать другимъ, свѣтлымъ и новымъ! И опять,
какъ всегда у подпольныхъ людей, мечта стала не похожей
на мечту, а на муку, на инквизиціонную пытку, которой
наслаждаешься, которой потѣшаешься, которою хочешь при
низить другого человѣка, свидѣтеля своей тайны. И онъ
терзаетъ душ у Лизы разсказами—небылицами, разсказами,
полными невозможныхъ ужасовъ, полными нечеловѣческаго
страданья, доведеннаго до наивысшей степени обнаженности,
словно гипнотизируя, словно желая этими вымышленными
разсказами душ у ея довести до бѣлаго каленія и потомъ
прикоснуться къ ней блаженнымъ поцѣлуемъ лживой ласки
и любви! И душ а ея пробуждается, тянется къ нему, къ
спасительному свѣту, душ а, опьяненная, зачарованная кра
сотой изображенная имъ страданья,-—словно начинаетъ видѣть эту красоту и въ своей судьбѣ,—и вся расцвѣтаетъ
какъ увядшій, истоптанный, облитый грязью цвѣтокъ ! А онъ,
увлеченный всей этой комедіей, разсказываетъ, а въ душ ѣ
тихонько, ехидно посмѣивается и надъ собой, и надъ нею,
потому что все время сознаетъ, что лжетъ, низко лжетъ,
что вовсе не прекраснаго и высокаго ему хочется, что вовсе
не вѣруетъ онъ въ свое спасеніе, a тѣмъ болѣе въ ея, что
здѣсь просто представился удобный случай помучить кого
нибудь, довести до экстаза и потомъ поиздѣваться и истер
зать, такъ истерзать, какъ его истерзала липкая и безпросвѣтная тьма! И эту истину, „гадкую истину“ уноситъ съ
собой, уходя, пригласивъ Л изу придти къ нем у...
И Лиза приходитъ, приходитъ вся— ожидающая, изу
мленная и трепещущая, приходитъ словно воскресшая въ
подпольѣ оісивая жизнь, словно погребенное и снова возмож
ное солнце! Но страшно глядѣть на нее, страшно и больно
глядѣть на проклятый и отвергнутый свѣтъ, отъ котораго
шевелится въ сердцѣ ужасъ, какъ передъ чѣмъ то чудовищнымъ, безобразнымъ, говорящемъ о мірѣ, поверженномъ
въ прахъ, мірѣ ненужномъ, мірѣ отвергнутомъ!
И обливаетъ женщину грязью, говоритъ ей всю правду,
всю подкладку игры открываетъ предъ нею,—и гаснетъ
свѣтъ и, словно подкошенная, Лиза снова падаетъ съ страш
ной высоты, на которую вознесъ ее обманъ, въ пучину
грязи и тьмы!
„— Спасать? Отъ чего спасать!... Власти, власти мнѣ
надо было тогда, игры надо было, слезъ твоихъ надо было
добиться, униженія, истерики твоей—вотъ чего мнѣ было
тогда надо! Я вѣдь и самъ тогда не вынесъ, потому что я
дрянь, перепугался и чортъ знаетъ для чего далъ тебѣ сдуру
адресъ. Такъ я потомъ, еще домой не дойдя, уже тебя ругалъ на чемъ свѣтъ стоитъ за этотъ адресъ. Я ужъ нѳнавидѣлъ тебя, потому что я тогда тебѣ лгалъ. Потому что я
только на словахъ поиграть, въ головѣ помечтать, а на дѣлѣ
мнѣ надо знаешь чего: чтобъ вы провалились, вотъ чего!
Мнѣ надо спокойствія. Да я за то, чтобъ меня не безпокоили,
весь свѣтъ сейчасъ же за копейку продамъ. Свѣту ли про
валиться, или вотъ мнѣ чаю не пить? Я скажу, что свѣту
провалиться, а чтобъ мнѣ чай всегда пить!“
И бьетъ грубыми и дерзкими словами по изумлен-
Онъ останавливаетъ бѣгущую, вырывающуюся изъ его
рукъ Лизу, онъ кричитъ „вернись“! въ пустое пространство,
полное снѣга и мрака, значитъ, это была возможность счастья,
любовь или обманъ любви... Но вѣдь еще неизвѣстно, что
лучше,—обманъ или настоящая любовь, еще неизвѣстно, не
есть ли надрывъ, м ука, боль—единственныя положительныя стороны любви, за которыя нужно хвататься, кото
ры м и долэісно жить!
Достоевскій послѣ всей этой сцены самъ заявляетъ:
„А въ самомъ дѣлѣ: вотъ я теперь ужъ отъ себя задаю
одинъ праздный вопросъ: что лучше—дешевое ли счастье,
или возвышенныя страданія? Ну-ка, что лучш е?!“.
Итакъ, попытка, отчаянная попытка принятія дѣйствительности потерпѣла позорное крушеніе. Значитъ, даже лю
бовь, даже самый яркій свѣтъ, даже самая безумная мечта
не можетъ уничтожить подполья. Остался только не удовле
творенный голодъ душ и, только гнетущій налетъ дикой,
отчаянной, тяжелой тоски. Все потухло, разсѣялось, передъ
нами снова четыре стѣны подполья и снѣгъ—мокрый, туск
лый, безнадежно усталый снѣгъ.
Почему? Отчего? Въ слѣдуюіцихъ словахъ Достоевскаго
ключъ къ разгадкѣ всей этой сцены: „живая ж изнь“ съ
на
непривычки придавила меня до того, что даже дышать стало
трудно !“
вѣчный позоръ, на вѣчную тьму, на вѣчное подполье,
но еще ужаснѣйшее, чѣмъ его собственное, какъ бы въ
„...Мы всѣ отвыкли отъ жизни, всѣ хромаемъ, всякій
болѣе или менѣе. Даже до того отвыкли, что чувствуемъ
отмщеніе!
Пусть догадывается читатель, что это такое—презрѣніе
подчасъ къ настоящей „живой жизни“ какое то омерзѣніе, а
потому и терпѣть не можемъ, когда намъ напоминаютъ про
или любовь? Можетъ быть, для подпольнаго человѣка это
нее. Вѣдь мы до того дошли, что настоящую „живую жизнь“
чуть не считаемъ за трудъ, почти что за службу, и всѣ мы
нымъ,
обезумѣвшимъ
глазамъ,
бьетъ
и
обрекаетъ
то и есть самая настоящая любовь. Онъ самъ признается:
„любить—у меня значило тиранствовать и нравственно
про себя согласны, что по книжкѣ лучше. И чего копошимся
превосходствовать“. Для него вѣдь „оскорбленіе это очи-
мы иногда, чего блажимъ, чего просимъ? Сами не знаемъ
щеніе, это самое ѣдкое и больное сознаніе!“
чего. Намъ же будетъ хуже, если наши блажныя просьбы
исполнятъ. Ну, попробуйте, ну, дайте намъ, напримѣръ, по
больше самостоятельности, развяжите любому изъ насъ руки,
Старика, что правитъ всѣмъ міромъ и кружитъ въ ненужной,
горячечной пляскѣ, и строитъ безчисленное множество ку-
расширьте кругъ дѣятельности, ослабьте опеку... И мы...
рятниковъ, гдѣ мучаются люди, гдѣ тускнѣютъ забытыя
жизни и несется ураганъ воплей, и стоновъ, и слезъ, а бар
хатная тишина собираешь все это въ себя, поглощаешь, мать
да увѣряю же васъ: мы тотчасъ же попросимся обратно.
„ ...Д а взгляните пристсільнѣе! Вѣдь мы даже не зна
емъ, гдѣ и живое-то живетъ теперь, и что оно такое,
какъ называет ся!“
Эту мысль, это отношеніе подпольнаго человѣка къ
Тишина торжественно и тихо шепчетъ сквозь вихрь всего
этого: „Войди въ меня, забудь!..“ Но закружилась голова
действительности очень удачно выразилъ мало кому извЬсі-
отъ безсмысленнаго ужаса, и нѣтъ силъ, нѣтъ мочи ничего
понять, весь во власти Старика—румянаго, суетливая, до
ный писатель М ихаилъ Пантюховъ въ повѣсти своей. „Ти
шина и Старикъ“. Повѣсть прошла незамѣченной, никто не
понялъ ея, а между тѣмъ— она представляетъ весьма инте
вольная, и ненависть вливается ядомъ въ душ у, и протя
гивается рука, чтобы задушить, но ускользаешь Старикъ,
ехидно посмѣиваясь, и только Тишина блѣдно журчитъ, на-
ресное явленіе въ современной литературѣ. И вся она—
странная, очень странная, вся блѣдно-истерзанная и истом't ленная до какой-то вялой измученности, вся—тихо очаро
ванная смертью. Человѣкъ вышелъ изъ подполья, уж е умирающій, и трагичность лица уж е въ разложеніи, и тянется
къ жизни невольно, изнемогая отъ этого желанія, словно
кто то властный требуетъ отъ него этого, и влачится по
сѣро-мокрымъ улицамъ города—весь погруженный въ бредъ
пѣвая... Рѣдко кому удалось такъ хорошо передать весь трагизмъ отъ столкновеній человѣкъ изъ подполья съ жизнью.
Какъ страшно смотрѣть на это. Какъ больно видѣть, какъ отъ
гнилого дыханья города человѣкъ умираетъ, задыхается,
корчится, барахтается, извивается... И все это похоже на чью
то злую насмѣшку. И надъ всѣмъ отравленный чадъ такой
безсмысленности, что некуда дѣваться, негдѣ забыться...
умиранія, слабый, расплывающійся, и на устахъ не слова,
Юрій, герой всей этой трагикомедіи,—уже догоралъ въ подпольѣ, уж е разсыпался вдребезги его мозгъ, уж е черная
a какіе то отрывки давно угасш ихъ чувствъ и переживаній,
и въ глазахъ—полузакрытыхъ, безумныхъ—медленно дого-
змѣя душ ила шею и скальпировала сознаніе—черная змѣя
безумія... Но не пришлось похоронить душ у свою въ под
раетъ жизнь, и боль—тупая, жестокая боль отъ сознанія, и
старается погасить эту боль блѣдно-тающими усиліями, но
чей то властный голосъ говоритъ „иди“,—и идетъ. Идетъ,
заплетаясь, задыхаясь въ рѣзко очерченныхъ кругахъ бреда,
полье, какія то злыя чары, какая-то иевѣдомая сила потя
нула его обратно въ жизнь, къ людямъ, потянула, не смотря
на всѣ его усилія остаться. Сила въ образѣ дѣвушки Ж ени-
и сгораютъ несчастныя силы, и чуть слышно бьется, зами
рая, сердце, и тошнота вырываешь изъ хилаго тѣла внутрен
прозрачной и усталой, изъ которой выпито уж е все, но она
живетъ, и тихимъ призракомъ маячитъ въ туманахъ обыден
щины и кажется любовью. Но эта любовь не живая, она не
ности. Тошнота отъ этихъ улицъ, тянущихся знакомымъ
кошмаромъ, отъ этихъ зданій, больныхъ неподвижностью,
зажигаетъ, не даетъ наслажденья, она похожа на что то
отъ этихъ людей, кукольныхъ до умопомраченья... Тошнота
безнадежные, то безумные, то усталые, и вихрь звуковъ
и нѣмой ужасъ передъ страшною властью таинственная
прерывистъ, и по временамъ кошмарныя бездны хаоса вы-
ноющее, истомленно-печальное, на какіе то звуки—матово
пиваютъ сознаніе, и тогда кажется, что „это не комната, а
коробка, затерявшаяся гдѣ то въ глубинѣ огромнаго пустыннаго зала... Вездѣ потухли лампы, и какіе то страшные
черные люди проходятъ мимо и стучатъ сапогами“. И не
ловко, неуютно Юрію въ этой чуждой для него обстановкѣ,
среди жизни. Помнится еще живо свой замуравленный склепъ
и свое одиночество, богатое сладостной мукой, и все это въ
„Въ отвѣтъ лукаво спросилъ дѣдъ, поднявъ сѣдыя, точно
приклеенныя брови: „кто это смѣется тамъ?“—Встревоженно
сказала ему сухая женщина: „Это люди ходятъ... шуршатъ
ногами“. Радостно закивалъ послѣ этого дѣдъ своимъ недвигающимся лицомъ съ отвисшими вѣками: „То то, то то“.—
У старика, отца Жени, попрежнему веселые глаза, и усы
имѣютъ такой видъ, точно они зачесаны въ ротъ. Не видно
сравненіи съ тѣмъ, что увидѣлъ, кажется счастьемъ. Здѣсь
творятся въ тишинѣ такіе ужасы, что холодѣетъ сердце, и
губъ совсѣмъ.—Юрію непріятно смотрѣть на него, и онъ
еще ужаснѣе, что все это совершается словно по командѣ,
и похоже на какую то очень дѣтскую, очень смѣшную игру,
и игру опять таки не по своей волѣ, потому что все это
и потомъ наклонился къ Ж енѣ и сказалъ: „бѣдная дѣ-
отвернулся.—Д ѣдъ помочилъ въ винѣ свои шлепающія губы
вымученное, искусственное, навязанное. Пантюховъ изобра
вочка“... Это странно. Почему сказалъ онъ такъ?—И опять
помочилъ дѣдъ свои усталыя губы въ красномъ винѣ, а
потомъ вытянулъ свою шею, прислушиваясь къ чему то.
ж аете этотъ ужасъ такъ, какъ никто никогда не изображалъ,
у него въ музыкѣ—немного насмѣшливой, немного растерян
Потянулъ затѣмъ къ себѣ Женю ея отецъ и, по-дурацки
искрививъ мокрый ротъ, сказалъ такимъ же голосомъ, какъ
ной, немного расплывчатой,—мелкаютъ искры безумной тоски,
дѣдъ: „бѣдная дѣвочка“...
Мужчина съ толстымъ бритымъ подбородкомъ запѣлъ что
и что то надрывается, потомъ застываетъ, потомъ падаетъ,
умираете, и свертывается въ липкую паутину, и въ этой
паутинѣ бьется мысль Юрія, и она безжалостна и липкость
то жалобнымъ голосомъ около Юрія, и онъ порывисто огля
ея пламенѣетъ безбрежною болью!
тельно кивая головой, опредѣлилъ послѣ этого: „У него же
лудочный голосъ“. Потомъ сложилъ руки на животѣ, и мед
„...Б родя во тьмѣ сосѣдней комнаты, она (Женя) спо
тыкнулась о выступившее впередъ кресло. Упала и удари
лась колѣнкой.—И когда безпокойные люди прибѣжали на
шумъ, она отвѣтила, испугано, не оглядываясь, не подни
маясь съ колѣнъ: „здѣсь темно... я упала“.
нулся... Когда кончилъ, ему похлопали, a дѣдъ, одобри
ленно стали опускаться его вѣки.“
„ ...0 , какъ т ягучи танцы людей. О, посмотри! А те
перь они закруж ились кругами. Это страшный танецъ,
который пляш ут ъ они сейчасъ. Н еуж ели они не понимаютъ,
Потомъ спросила: „что-жъ изъ этого?“—-И неожиданно
что въ этомъ главный уж асъ!..“
Такъ описываетъ Пантюховъ действительность. Эта ори
закричалъ тогда ея дѣдъ—главный старикъ иепріятнымъ
безжизненнымъ голосомъ: „зажгите огни, зажгите огни
гинальная символизація обыденщины производите странное
вездѣ !“
такой степени, что завладѣло и формой, и слогомъ, и язы-
И въ молчаньи какъ будто эхо изъ всѣхъ комнатъ пе
рекликнулось съ нимъ равномѣрно умолкающимъ, задумчи-
комъ. Авторъ разсказываетъ какъ бы нехотя, какъ бы под
чиняясь кому то требующему, все это написано такъ устало,
такъ поражаете своей измученностью, своею вялостью и еще
вымъ хохотомъ „Пхи—ххи ... П-хи“.
впечатлѣніе. Здѣсь подпольное міросозерцаніе разрослось до
усиливаетъ впечатлѣніе блѣдной, мертвой, безжизненной дѣйствительности. Словно въ послѣднемъ угасающемъ снѣ маячатъ всѣ эти призраки, всѣ эти удушья, всѣ эти тихіе ужасы.
Для Юрія ужасенъ каждый предметъ въ этомъ мірѣ, даже
мебель ему кажется движущейся и наводитъ паническій
,/
страхъ. Люди кажутся нарочно заведенными куклами и ихъ
деревянное существованіе приноситъ сердцу рѣжущую боль.
И ихъ движенья, ихъ смѣхъ, ихъ фразы—все сплетается въ
громко хохотать отъ радости, и они будутъ биться о землю
отъ сладострастья. Сказочно измѣнится вся жизнь, когда за
сотни верстъ не будетъ никого!“
Какъ жалко выглядитъ человѣкъ, котораго обманъ вывелъ изъ родного подполья въ страшный шумъ и чадъ
жизни! Если бы былъ онъ живой, жизнь бы сразу раздавила
его. Но въ немъ уже все умерло, весь онъ расплывается въ
одну и ту же липкую, сѣрую паутину, и она въ тишинѣ
раскидываетъ мѣрно свои огромныя, мокрыя лапы и тянутся
мечтахъ своихъ странныхъ во что то прозрачно-мокрое, и
оно ноетъ, терзается, неуклюже торчитъ среди тишины, какъ
ненужная, скверная ветошь... И зачѣмъ изводить себя п у
онѣ къ горлу Юрія, и бѣжать некуда,—отдается отвратительнымъ прикосновеніямъ, чувствуетъ наростаніе цѣлаго
стыми вопросами, потерявшими цѣну, зачѣмъ ходить (о, какъ
страшно, какъ тяж ело ходить!), зачгьмъ поворачиваться,
океана липкости и тягучести, и тоски!.. Но уже не спосо
бенъ, не можетъ сопротивляться и бороться, да и зачѣмъ,
къ чему,—выхода нѣтъ, нѣтъ такого мѣста, такой бездны,
зачѣмъ произносить слова, если все это стоитъ такого
т руда, такой боли и такъ ненужно, такъ смѣшно, такъ
постыдно!
такого подвига, гдѣ можно было-бы спрятаться отъ жизни,
вотъ мысль, отъ которой и Женя, и Юрій медленно сходятъ
Жизнь ІОрія жужжитъ въ Тишинѣ, какъ слабѣющій
стонъ. Изъ подполья вывели его злыя чары женщины. Ж ен
съ ума, неуклюже барахтаясь въ липкихъ сѣтяхъ румянаго
Старика. Каждый день увеличиваетъ тягучую болѣзнь, болѣзнь, называемую жизнью. И когда потухаетъ сознаніе среди
щина всегда таитъ въ себѣ зародыши жизни, вотъ почему
безобразныхъ сгущеній бреда, въ сложности коварныхъ по-
страшно встрѣчаться съ ней. Но она надоѣла ему, какъ надоѣло это вѣчно сѣрое небо, и теперь—тошнота отъ жен
строеній Тишины хорошо помечтать о другомъ, о желанномъ,—и истерзанное лицо озаряется прозрачными лучами
щины, и хочется, чтобы ея не было, и кажется, что жен
щина—жизнь. И ненависть его безпредѣльна. И когда раз
вертываются будни,— склизкіе клубки мертвой ткани кру
больной надежды, и робко выростаетъ въ бреду безумная
жатся, кружатся, бьются, свиваются, запихиваются въ душ у
дрожь забвенья. „Гдѣ-нибудь въ лѣсу, гдѣ за сотни верстъ
нѣтъ ни одного человѣка, только тамъ остановятся они— онъ
и давятъ, и хочется кричать, хочется безумія, но не этой
жизни, но не этихъ стѣнъ, не этой ужасной тюрьмы, гдѣ
и Женя. По дорогѣ они сбросятъ съ себя эти смѣшныя
каждый шагъ четко отражаетъ Тишина и отъ этого отраженія тошнитъ!
одежды, въ которыя, подражая другимъ людямъ, они одѣли
свои тѣла. И они снимутъ личины со своихъ лицъ и развѣютъ по вѣтру свои недавнія мысли, рожденныя духотою
комнатъ и ули ц ъ ... И сдѣлаются тогда снова пурпурными щеки
у этой женщины, и станутъ темнозелеными, загадочными и
дремучими, какъ лѣсъ, ея громадные глаза... И они будутъ
И гдѣ спрятаться отъ эісизни и отъ эюенщины? Юрій
знаетъ, что даже въ собственной душ ѣ нельзя спрятаться,
потому что она посѣдѣла отъ ужаса и стала дряхлой. Онъ
выгоняетъ Женю на улицу и заставляете отдаваться первому
встрѣчному, но потомъ — раскаянье, потомъ сѣрая ея болѣзнь, потомъ робкая, нѣжная смерть.
У Пантюхова настроеніе — разслабленно-сѣрое, жуткоунылое, пепельно-грязное. Такъ бываетъ въ осенній день,
когда все превратилось въ тоску дождя, и въ ноющемъ чавканьи грязныхъ, усталыхъ калошъ умираетъ душ а... У
Пантюхова вся жизнь заморожена какой то неизвѣстной тай
ной, и ядовито ея жало, и послѣдніе соки ненужной жизни
слабо сгниваютъ, разсыпаются въ прахъ. Оттого, что увидѣлъ жизнь послѣ ночи,—умираетъ душ а и весь міръ погруженъ въ смерть, ибо нѣтъ никого въ мірѣ, кромѣ скучнаго
и надоѣвшаго я. Все это—только обманъ, это извѣстно
давно, но нѣтъ ни у кого силы превозмочь этотъ обманъ и
замѣнить его правдой! Пусть же будетъ милая, тающая,
сосущая тоска. И тоска завываетъ въ этихъ строкахъ пе
не льно-сѣрыхъ, въ которыхъ уж асъ медленно превращается
въ гниль, и тоска подымается отъ земли, отъ людей, отъ
лицъ, и хорошо бродить безъ цѣли въ вечернемъ туманѣ и
вдыхать острый его запахъ, и видѣть желтую боль фонарей,
и сладко метать, полузакрывъ глаза и раскачиваясь: „умеретъ! умереть!..“ О, если бы эти мысль стала утѣшеньемъ !—Тогда бы спасся, но нѣтъ, все вокругъ такъ сѣро,
такъ туманно, такъ тоскливо и зябко, что нѣтъ возможности
даже въ смерти создать мечту! Изъ сѣрости родился и
самъ—сѣрый, сѣрый, безнадежно сѣрый, эта сѣрость убиваетъ послѣднюю искру сознанія, и весь міръ вошелъ въ
сѣрость и, разбухнувъ, сталъ безжизненно-сѣрымъ, толстымъ
въ вихрѣ тоски и исчезаетъ въ тоскѣ, и возвращается снова изъ
нея, чтобы сгнивать въ безумно медленномъ темпѣ сѣрости.
Это писатель, можетъ быть, единственный, кому понятна
мертвечина жизни. Въ немъ все носитъ отпечатокъ этой \J
мертвечины — и слогъ, и языкъ, и лирика настроенія. Онъ
словно очарованъ пригрезившимся ему мертвымъ лицомъ
міра, и страстно хочетъ, чтобы погасла жизнь, чтобы черная
Тишина поглотила тоску!
Въ провалахъ Тишины хитро ходитъ старикъ. О, какъ
мучаетъ Юрія этотъ старикъ! Минуты рѣдкаго покоя, когда
мозгъ сталкивается со смертью и сладко ноетъ,—даже тогда
старикъ не оставляетъ его, даже во снѣ виднѣется свѣтлая
щель его двери и слышится торопливое бормотаніе: „рабо
тай! работай...“
Старикъ создалъ то, что отвратительно и позорно,—
здоровье, трезвость, трудъ, — онъ создалъ муравейники и
хрустальные дворцы, онъ строитъ курятники, и ихъ съ каждымъ днемъ все больше и больше, и онъ заставляетъ Юрія
тоже создавать курятники, гдѣ будетъ торжествовать ту
пость и пошлость, вѣдь въ этомъ вся цѣль, отъ старика не
уйдешь.
„Въ корридорѣ ходили люди и стукъ ихъ обуви отчет
ливо раздавался въ комнатѣ.
— Вотъ видишь—сказалъ старикъ—всѣ ходятъ, хлопочутъ, работаютъ.
— Когда то я тоже работалъ и ходилъ по разнымъ
корридорамъ... пока окончательно не убѣдился, что всѣ пути
можно умереть въ этой сѣрости, сгнивающей въ ядовитой
ведутъ одинаково въ гробъ—сказалъ Юрій.
И замѣтивъ, что старику это не понравилось, добавилъ :
смолѣ Тишины? Развѣ возможна смерть отъ сознанія т ого,
что аьрымъ сталъ весь м іръ? Сѣрость тоскливая тянется без-
„Всѣ придемъ въ свое время въ деревянный ящикъ. И тѣ,
которые сейчасъ такъ бойко перебираютъ ногами въ корри-
конечно, ибо она—жизнь, вотъ—въ чемъ причина безумія !
Но и безуміе бываетъ радостнымъ и въ безуміи возмо-
дорѣ и воображаютъ, что куда то идутъ,—идутъ только
паукомъ, сосущимъ сердце безъ конца, безъ конца... И развѣ
женъ исходъ. Но Пантюхову это чуждо. У него все кружится
въ ящикъ. Я бы и тебѣ совѣтовалъ прямо безъ дальнихъ
разговоровъ лечь въ гробъ... какъ это дѣлали нѣкоторые
пустынники. Стоитъ ли еще разговаривать!"
Послѣднія страницы повѣсти, когда уж е гаснетъ жизнь
вмѣстѣ съ трупомъ Жени и гулко развертывается коверъ
Тишины,—самыя лучшія.
Тишина, то небытіе, то нѣмое очарованіе, что въ немъ,—
вотъ что радуетъ Пантюхова. Онъ видитъ спасеніе и отъ
подполья, и отъ жизни въ вѣчности.
И жуткая, страшная эта его Тишина. Поглощая все,—
она смѣется, и смѣхъ ея завываетъ въ душ ѣ яростнымъ
воемъ голоднаго звѣря. Она—безпредѣльна, изъ нея роди
лись міры, въ ней они умираютъ, воскресая опять,—вотъ
почему она такъ страшна. И отъ нея идетъ музыка, но это
музыка паутиныхъ струнъ, завороженныхъ черною пастью
паука,—музыка истощающая и мучительно безнадежная.
И вотъ уж е бредъ перешелъ въ агонію. Вотъ надъ тру
помъ Ж ени лицо Юрія превратилось въ засохшую маску
безумія. Заперты всѣ окна, всѣ двери, и страшная жара,
насыщенная вонью разлагаю щ аяся трупа,—уже сроднилась
съ душой, уж е не возбуждаетъ тошноты. Вѣдь все равно—
и жизнь, и смерть безсмысленны и нѣтъ ничего, кромѣ тоски,
истлѣвающей въ вѣчности!
Можетъ быть, и насъ нѣтъ, а есть какой то очень ста
рый обманъ, который издѣвается надъ нами и сдѣлалъ насъ
своими игрушками, можетъ быть ему нужны наша жизнь, наша
кровь, наши мученя, наша кровь. Онъ ѣстъ насъ, пьетъ насъ,
онъ разрываетъ наши сердца и издѣвается надъ нами, по
тому только, что ему—пухлому и румяному старику такъ
хочется !
Ему непонятны наши мольбы. И что тогда значатъ наши
тщетныя усилія побороть его власть, что значитъ наша болѣзнь, нашъ бредъ, наше бренное, вскормленное кровью и
слезами существованіе, если никто не услышитъ, никто не
пойметъ, а старикъ вѣдь все равно, что ничто. Онъ—нуль
середина, пошлость—то, что вездѣ и всегда торжествуетъ.
О, какъ печальна, какъ страшно замучена наша душ а!Столько вѣковъ' мы старались найти объясненіе нашей міровой боли и міровой безсмыслицы, и ничто, ничто никогда
не поможешь разгадать намъ эту тайну, и всегда вмѣсто
отвѣта—красное лицо старика, въ которомъ все—добро, в с е середина, все—жизнь,— смотритъ нагло и безстыдно въ нашу
душевную нѣжность и тихо говоритъ, смѣясь: „только во
мнѣ все, и кромѣ меня—лишь одна Тишина!“
„ Я не м огу больше ѣсть!“ говоритъ Ю рт — у хлѣба
тѣлесный запахъ. Это все—эісивое. Когда онъ садился въ
кресло, оно скрипнуло, и лицо Ю рія скорчилось отъ боли.
— Ты—тоже живое!— сказалъ онъ.—Я и забылъ. И
все кругомъ оісивое. Нельзя жить. Я не хочу ж ить!..
Въ этихъ словахъ такъ много сказано, такъ много
открыто !
Въ нашей жизни всегда есть забвенье—широкость без
брежная, Мать— Тишина. Вотъ она улыбается. Она вся—
чистота и блаженство, въ ней нѣтъ того, что мучаетъ въ
жизни. Въ ней умираетъ Старикъ.
Нужно узнать забвенье сладкое, пьянящее, чтобы изба- !
виться отъ самаго понятія—жить.
>
Нужно слиться съ единственнымъ и желаннымъ Спасеньемъ во вселенной, нужно призвать всѣ силы, чтобы
задушить Старика.
Ибо много въ насъ еще слишкомъ здоровая, слишкомъ
жизненнаго, слишкомъ мѣшающаго.
Ибо знаемъ мы великую и радостную Тайну, предъ
которой тускнѣетъ и разсыпается въ прахъ всякая жизнь!
'
*
бургское небо. И еще въ одномъ изъ раннихъ писемъ Досто
евскаго мы находимъ слѣдующія знаменательный строки
„жизнь отвратительна. Хорошо лишь то, что далеко отъ нея
отъ ея земного счастья, что духовно. Одно только состояніе и дано въ удѣлъ человѣку— атмосфера душ и его состоитъ
изъ сліянія неба съ землей; какое же противозаконное дитя
природы человѣкъ: въ немъ законъ природы нарушенъ.'..
VII.
Мнѣ кажется, что міръ нашъ чистилище духовъ небесныхъ,
отуманенныхъ грѣшною мыслью. Мнѣ кажется, міръ принялъ
Корни подполья, созданнаго Достоевскимъ, находятся
еще въ его ранней юности. Жизнь приняла Достоевскаго
значеніе отрицательное и изъ высокой изящной духовности
вышла сатира... Видѣть одну жестокую оболочку, подъ ко
необычайно сурово, жизнь съ первыхъ лѣтъ научила его
покоряться всевозможнымъ авторитетамъ и императивамъ,
жизнь обрекла его на вѣчную больную тоску, на цѣлый по-
торой томится вселенная, знать, что одного взрыва воли
жаръ этой тоски, и жутко глядѣть, какъ онъ сжигаетъ его
душ у. Отецъ словами, похожими на удары палки, внушалъ
неутомимо ему, что онъ долженъ уважать и любить этотъ
гнетъ, эту тоску, эту забитость и пришибленность—все то, что
составляетъ жизнь. Отецъ самъ предалъ безжалостно его
инквизиторскому року и тугою петлею суроваго деспотизма
сдуш илъ эту хрупкую и нѣжную душ у. Вотъ почему „уже
съ дѣтства привыкъ онъ бояться жизни, уж е въ дѣтствѣ
проявилось въ немъ то недовѣрчивое, подозрительное отношеніе къ себѣ и другимъ, которое совершенно испортило его
достаточно, чтобы разбить ее и слиться съ вѣчностью!..
Ужасно!“ . . .
И тамъ, въ своей каморкѣ на мансардѣ, изображенной
въ „Подросткѣ“,—замерли первые эти замученные вопли, но
еще жила въ немъ слабая надежда на что то свѣтлое, иде
ально возвышенное, на что то теплое и радостное, что въ
своихъ объятьяхъ согрѣетъ его охладѣвшую душ у и весь
міръ превратить въ волшебную сказку любви и гармоніи
хоть бы на одно мгновеніе! И въ ту памятную ночь, когда къ
Достоевскому ворвались Некрасовъ и Григоровичъ и воз
несли на алтарь поклоненія его „Бѣдныхъ Людей“, въ эту
ночь вспыхнула надежда ярче и чудными лучами счастья
озарила его. Тогда казалось, что вотъ слетитъ съ душ и тя
юность“ (Е. Соловьевъ, біографія Достоевскаго). Вотъ почему
такъ судорожно сжалась, такъ мимозно ушла въ себя эта
жесть и что то тихое, ясное появится и мигомъ сроднить
юная жизнь, и тамъ, на днѣ самого себя нашла ту же тоску,
ту же страшную боль, то же отчаянье, что и въ жизни.
кумиръ, самый святой похвалилъ его талантъ, вѣдь писатели,
Взрослому человѣку, очутившемуся въ этомъ положеніи,
нелегко придется, а что уж е говорить о юношѣ, почти ребенкѣ !
его и съ жизнью и съ людьми. Вѣдь самъ Бѣлинскій, самъ
тѣ, что зажигаютъ душ и огнемъ божественнаго свѣта, писа
Только что открылась завѣса жизни и уж е—замученный, уже
обреченный на жестокость! И поблѣднѣла, померкла, съежи
тели стали его друзьями! И Достоевскій весь какъ въ чаду
отъ восторга, и въ письмѣ къ брату онъ въ слѣдующихъ
словахъ повѣряетъ ему свои золотые идеальные сны „о, я
лась жизнь, и отчаяннымъ воплемъ врѣзалась въ сѣрое петер
буду достойнымъ этихъ похвалъ, и какіе люди! Я заслужу,
ЮЗ
постараюсь стать такимъ же прекраснымъ, какъ они; пребуду
вѣренъ! О, какъ я легкомысленъ, и если бы Бѣлинскій только
узналъ, какія во мнѣ есть дрянныя, постыдный вещи! A всѣ
говорятъ, что эти литераторы горды, самолюбивы! Впрочемъ
этихъ людей только и въ Россіи, они—одни, но у нихъ однихъ
истина, а истина, добро, правда всегда побѣждаютъ и тор
жествуюсь надъ порокомъ и злом ъ... Мы побѣдимъ; о, къ
нимъ, съ ними!“ . . . Вся надежда Достоевскаго, вся его свя
тыня вылились въ этомъ письмѣ! И онъ пошелъ къ этимъ
единственнымъ, къ этимъ свѣтлымъ, особеннымъ, таящимъ
въ себѣ истину, пошелъ съ чистымъ, вѣруюіцимъ сердцемъ!..
И можетъ быть не одну ночь пролежалъ въ своей каморкѣ, лихорадочно дрожа и извиваясь и корчась въ радостномъ изступленіи, мечтая робко и восторженно о томъ, какъ
онъ пойдетъ къ Бѣлинскому и откроетъ ему всю свою за
мученную душ у, всѣ свои мысли, всю обиду, всю муть и
тоску, и скажетъ ему „ты, единственный, ты святой, возьми
же меня, приласкай, пойми меня, открой мнѣ свою истину,
вѣдь она весь міръ спасетъ для меня, научи меня какъ жить.
Пожалѣй! “.
И казалось, что все это возможно, эта гармонія, это
откровеніе, это чудо, казалось, что онъ, великій критикъ,
пишущій такія возвышенныя вещи—пойметъ его, спасетъ,
убьетъ его тоску, его сомнѣнія, замѣнитъ ему всю жизнь,
Бога, весь міръ! И, сорвавшись съ кровати, весь воспаленный,
весь тоскующій и надѣющійся, онъ бѣжалъ на квартиру къ
Бѣлинскому, чтобы крикнуть, чтобы залиться слезами, чтобы
узнать, полюбить, спастись, забы ться!..
И, какъ всегда, онъ застаетъ Бѣлинскаго— блѣднаго,
измученнаго, усталаго, за столомъ, играющаго въ преферансъ съ Панаевымъ и съ Тургеневымъ (!) и ни чуть не
расположеннаго къ тому, чтобы приласкать, полюбить, спасти!
По его мнѣнію это неприлично и смѣшно, это ни что иное,
какъ нервическая чепуха, это не для жизни, а вотъ въ
статьяхъ и въ книгахъ—тамъ можно и полюбить, и прила
скать, и спасти — тамъ всякія вольности и красивѣе, и возвышеннѣе, и гораздо выгоднѣе! А для жизни существуетъ
только преферансъ и бутылка водки, а что больше того—то
смѣшно и неприлично. Для Бѣлинскаго и его друзей, каза
лось, не было понятно, что они убиваютъ жизнь, которая
протягивается къ нимъ съ надеждой и вѣрой, для нихъ не
было понятно и показалось бы смѣшнымъ, что возвышенныя
чувства и идеальныя вещи гораздо нужнѣе здѣсь, въ жизни,
нежели на бумагѣ, и что бумагу въ данномъ случаѣ можно
и похерить! И они подвергли душ у Достоевскаго мучитель
ной, и жесткой пыткѣ и только черная каморка знала и видѣла, что переживалъ онъ въ эти ужасныя минуты своей
ж изни... И особенно въ этомъ преуспѣвалъ Тургеневъ.
Онъ, какъ всякій идеалистъ, любящій все прекрасное
и высокое, и поступалъ подобно всѣмъ идеалистамъ, т. е. на
словахъ и на бумагѣ лѣзъ на стѣнку и продѣлывалъ все
возможный идеалистическія кувырканія, что въ жизни не
мѣшало нисколько ему быть пошлякомъ зловреднымъ и ничтожнымъ, какъ и подобаетъ всякому писателю! ПанаеваГоловачева въ своихъ воспоминаніяхъ такъ описываетъ одну
изъ этихъ сценъ терзанія душ и Достоевскаго.
. . . „ Разъ Тургеневъ при Достоевскомъ описывалъ свою
встрѣчу въ провинціи съ одной личностью, которая вооб
разила себя геніальнымъ человѣкомъ, и мастерски изобразилъ смѣшную сторону этой личности. Достоевскій былъ
блѣденъ, какъ полотно, весь дрожалъ и убѣжалъ, не дослушавъ разсказа Тургенева. Я замѣтила всѣмъ: къ чему такъ
изводить Достоевскаго!—но Тургеневъ былъ въ самомъ веселомъ настроеніи, увлекъ и другихъ, такъ что никто не
придалъ значенія быстрому уходу Достоевскаго. Тургеневъ
сталъ сочинять юмористическіе стихи на Дѣвушкина, героя
„Бѣдныхъ Людей“, будто бы тотъ написалъ благодарствен
ные стихи Достоевскому, что онъ оповѣстилъ всю Россію
судьба бросила его на растерзаніе подполью! И какова же
должна была быть эта мука, если ему пришлось не только
объ его существованіи, и въ стихахъ повторялось часто
переживать подполье, но еще писать о немъ, т. е. испытывать
два величайшихъ терзанія, какія только могутъ быть въ мірѣ !
„малютка“. .. Такъ была поругана и осмѣяна эта болѣзненно
чуткая душ а, предъявившая требованіе къ писателямъ спасти
Вѣдь писать,—значить, исторгать изъ душ и окровавленный, і *
и воскресить!
Можетъ быть кто нибудь другой, не Достоевскій и выдер-
дымящіяся ея внутренности и безчисленное число разъ отра- ' !
жать ихъ въ обезумѣвшемъ м озгу!.. Писать—значить обма
жалъ бы эту пытку, но если вспомнить, во что тогда преврати
лась его душ а, если понять, сколько сложныхъ, невыносимо
нывать себя и унижаться, испытывать великій стыдъ передъ
кѣмъ то грязнымъ и отвратительнымъ, что стоитъ за тобой
скрытыхъ струнъ было задѣто, если подумать какой былъ
тогда Достоевскій, если поставить на его мѣсто подобнаго ему
современнаго неврастеника съ душой и нервами, похожими
на тающую паутину,—мы убѣдимся, что эта трагедія была
и безстыдно созерцаетъ твою наготу, И, наконецъ—писать,
пропуская ее сквозь великую ложь, которая называется искусствомъ. Писать не надо, надо или проклинать или мо
выше силъ и что она должна была разразиться чѣмъ то
ужаснымъ и роковымъ. Послѣ этого Достоевскій ушелъ отъ
литься—кто что можетъ, ибо послѣдняя ложь возвышеннѣе
первой ! Достоевскій все таки писалъ, испытывая при этомъ
всѣхъ, погрузился въ себя, къ желанному удивленію его
друзей и вотъ, какъ плодъ всей этой муки, какъ зеркало
всего, что пережилъ въ это время Достоевскій, явились „За
нѣчто такое ужасное, что само можетъ возбудить отвращеніе
ко всякому творчеству. Вотъ почему его писанія похожи на
писки изъ Подполья“.
И можетъ ли быть месть сильнѣе и лучше этой! Вѣдь
въ этой книгѣ каждый читаетъ свои проклятья, свою боль
и свое отчаянье, а это значитъ, что оно вполнѣ выражаетъ
тогдашнее состояніе душ и Достоевскаго.
Но развѣ она можетъ искупить обиду? Развѣ вообще
есть что либо въ мірѣ, что было бы въ силахъ изгладить и
смыть съ душ и слѣды пытки грязныхъ человѣческихъ рукъ?
Развѣ можно забыть обиду, превратившую душ у въ ужасъ,
вѣру и надежду—въ безъисходное отчаянье, любовь и ожиданіе—въ вѣчную скорбь безъ конца! И развѣ можно послѣ
всего этого примириться съ жизнью и не уйти изъ нея, и не
проклясть ее, и не вырвать ее изъ обалдѣвшаго своего мозга!
Невозможно! Ибо слишкомъ чутокъ, слишкомъ сложенъ,
слишкомъ непримиримъ былъ Достоевскій— и вотъ, жестокая
значить обезцѣнивать и умалять свое страданье и свою жизнь,
крикъ больного въ бреду— казалось бы отъ этого могъ бы
встряхнуться міръ, но нѣтъ, онъ стоитъ и по нынѣ на томъ ,
же постыдномъ мѣстѣ!
Достоевскій въ „Запискахъ изъ подполья“ создалъ то, ,
что нужно для жизни— великую и широкую почву отрицанія. I
На ней можно сѣять что угодно и разные взойдутъ всходы
мы это видѣли въ современности, но почва останется не
изменной, такой, какъ онъ ее создалъ въ своей тѣсной каторгѣ, отверженный и оплеванный людьми. — Современники
пользуются этой почвой для всевозможныхъ цѣлей, одни—
для гонорара и славы, другіе—для того, чтобы излить свою
желчь, третьи—чтобы забыться.
Современникамъ не хочется знать, что, служа отрицанію
и проклятью, они берутъ на себя большую отвѣтственность
передъ тѣмъ, кто научилъ ихъ этому и для котораго не было
другой мысли, кромѣ той, что только въ хаосѣ и разрушеніи
1
возможна истинная жизнь, не творчество, не искусство, а
эюизнь! Современники разрушаютъ и созидаютъ міры на
бумагѣ, получаютъ гонорары и играютъ въ преферансъ, но
никому изъ нихъ не вспомнится, какъ разрушалъ и какъ
проклиналъ Достоевскій, который до того обезумѣлъ въ отчаяніи, что даже повѣрилъ въ Бога!
И никому не станетъ стыдно оттого, что они все раз
рушаютъ и разрушаютъ, аміръ продолжаетъ стоять на одномъ
мѣстѣ и не пошелохнется, какъ будто бы и не слышитъ!
Всякому совѣстно признаться, что ихъ идеи не идутъ
Достоевскій до того не переносилъ Чернышевскаго, что
даже оправдывался публично въ своей якобы невиновности,
когда его обвинили въ оскорбленіи Чернышевскаго, но всеже исполнить на свой ладъ какую нибудь варіацію объ
отношеніи искусства къ действительности — не рѣшался.
А жаль, занятно бы было!
»
Ипполитъ въ „Идіотѣ" — тотъ было рѣшился, но вызвалъ публичный скандалъ. Онъ умиралъ отъ чахотки и,
рѣшивъ покончить съ собой, передъ смертью публично исповѣдывался передъ спеціально для этого собранной аудито
дальше бумаги, совѣстно признаться въ томъ, что все ихъ
рией. Въ этой исповѣди онъ такъ страстно, такъ глубоко и
творчество есть пересыпаніе изъ пустого въ порожнее, по
прочувствованно сознавался въ своихъ мученіяхъ, и о ноч-
тому что воздвигнуто и покоится на лжи.
Чернышевскій разрѣшился какъ то великою мудростью
ныхъ призракахъ не забылъ, и про Мейерову стѣну, и о томъ,
въ своей диссертаціи „Эстетическія отношенія искусства
къ действительности“. Въ ней онъ доказываетъ, что искус
слѣдніе соки жизни.
Онъ Аглаѣ посвятилъ свою исповѣдь, но та, кажется,
ство, если оно не желаетъ остаться на мертвой точкѣ, должно
не особенно была тронута, впрочемъ, онъ этого и ожидалъ,
стать жизнью, должно вобрать ее въ себя и, разсыпавшись
тысячами огнепалительныхъ искръ, зажечь весь этотъ міръ.
и называлъ свою исповѣдь „Après moi le déluge“. Но скандалъ
былъ неожиданный: патроновъ въ револьверѣ не оказалось,
Мысль эта представляется мнѣ какъ то особенно вкусной, ее
можно разжевывать и раскусывать на тысячу ладовъ и послѣ
и несчастный кающійся грѣшникъ остался живъ.
того, какъ поймешь, что она и туманна, и парадоксальна,
и мало обоснована, все же кажется какъ то особенно заманчи
что она неизбѣжна, о томъ, что она высосала изъ него по-
И если всякая попытка въ этомъ роде будетъ подобна
этой, то тогда ужъ лучше ничего не писать, ни въ чемъ не
вой, какъ то особенно пригодной для всевозможныхъ фантасти-
исповѣдываться и преспокойно пустить себѣ пулю въ лобъ.
Творцы подполья, къ несчастью, всегда уподобляются
ческихъ варіацій! Вѣдь какъ бы занятно было, если бы писа
тель, желающій мысль Чернышевскаго привести въ исполненіе,
автору „Après moi le déluge“. Они уходятъ отъ жизни, они
строятъ себѣ свою мрачную пещ еру, въ которой готовятся'
вдругъ вышелъ на улицу, подошелъ къ первому встрѣчному
принести себя въ жертву небытію, но потомъ вдругъ появ- ’
и, схвативъ его за горло, сталъ преспокойно душить, един
ственно по той причинѣ, что онъ проповѣдываетъ отрицаніе и хочетъ соединить искусство съ действительностью!
ляются улыбающіеся и довольные, получаютъ жирные го
норары, играютъ въ преферансъ, а подполье остается на
Вѣдь и мудро, и послѣдовательно сдѣлано и, даже, бла
Изъ этого, конечно, не слѣдуетъ, что подполье не нужно,
городно, а все таки что то неладно и грозитъ въ лучшемъ
напротивъ, можетъ быть оно только одно, изъ всѣхъ попы-
случаѣ сумасшедшимъ домомъ!
токъ, найти истину, и заслуживаетъ вниманія.
бумагѣ.
Жаль только, что въ данномъ случаѣ, страданіе,— т. е.
то безумное чувство, послѣ котораго остается только повѣрить въ Бога,—приносится въ жертву искусству! А объ искусствѣ еще О. Уайльдъ геніально выразился, что оно есть
самая возвышенная ложь.
Для того же, чтобы страданіе осталось искреннимъ и
правдивымъ, для того, чтобы оно могло отмстить за себя и
испепелить самую возможность лжи, остается только одно:
предать проклятгю всякое искусство!
1909 г. 5 Ноября,
Кіѳвъ.
ГОТОВЯТСЯ КЪ ПЕЧАТИ
книги того же автора:
1. „КАРАМАЗОВЩИНА“. Психология, параллели. Книга
вторая. Достоевскій. В. В. Розановъ, В. Брюсовъ, М. Кузмшгц.
М. Арцыбашевъ, С. Ауслендеръ, Зиновьева-Аннибалъ.
2. РЕЛИГІЯ. ІІсихологич. параллели. Книга третья. Достоевскій, Д. Мережровскій, Н. Бердяевъ, С. Булгаковъ, Але
ксандръ Добролюбов!», В. Ивановъ, Андрей Бѣлый, Зин. Гиггпіусъ, Александръ Блокъ, Борисъ Зайцевъ, Н. Минскій,
Ив. Новиковъ.
Цѣна 1 рубль.
Главный складъ изданія въ магазинѣ JI. И д з и к о в с к а г о
(Кіевъ, Крещатикъ № 29).