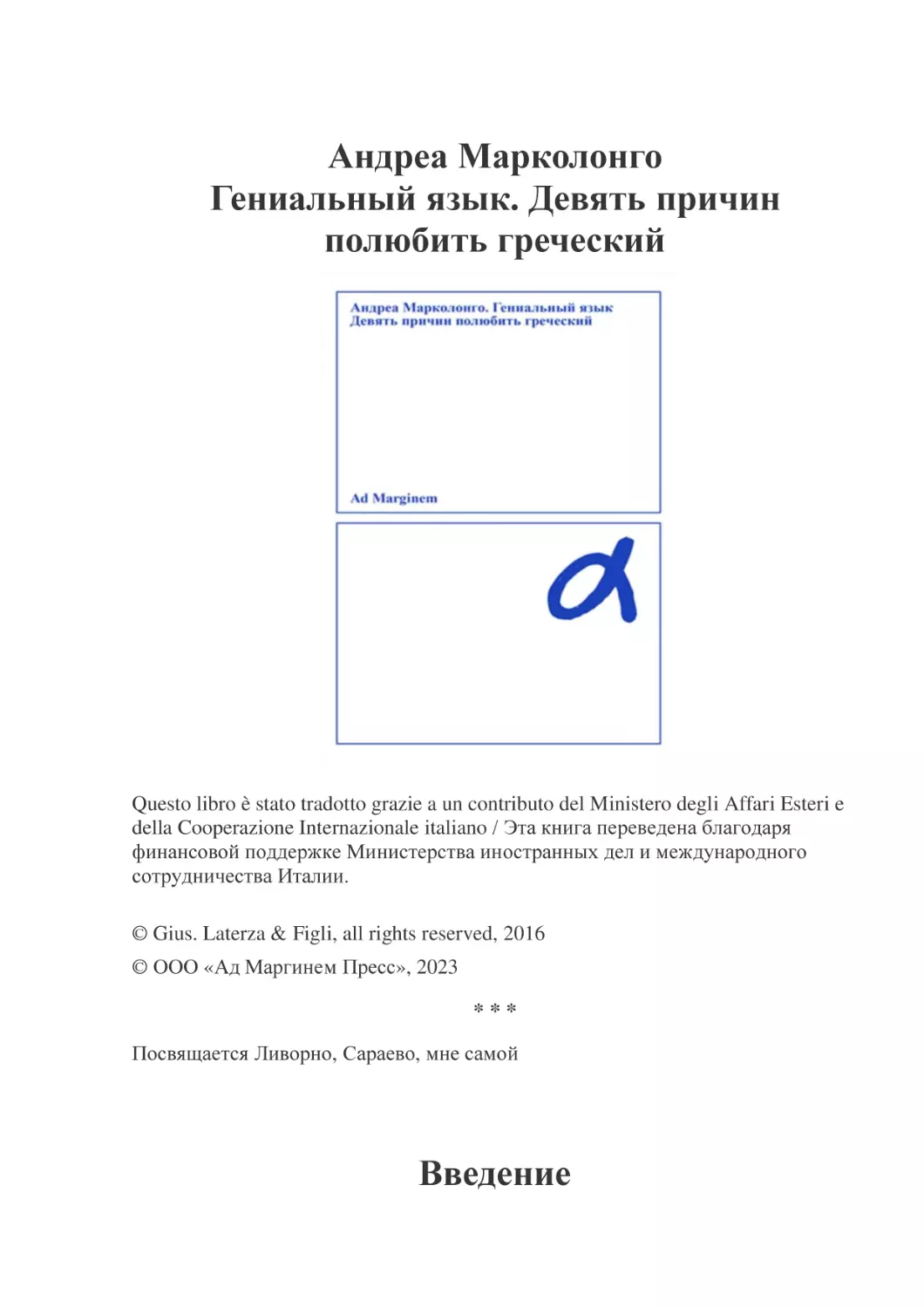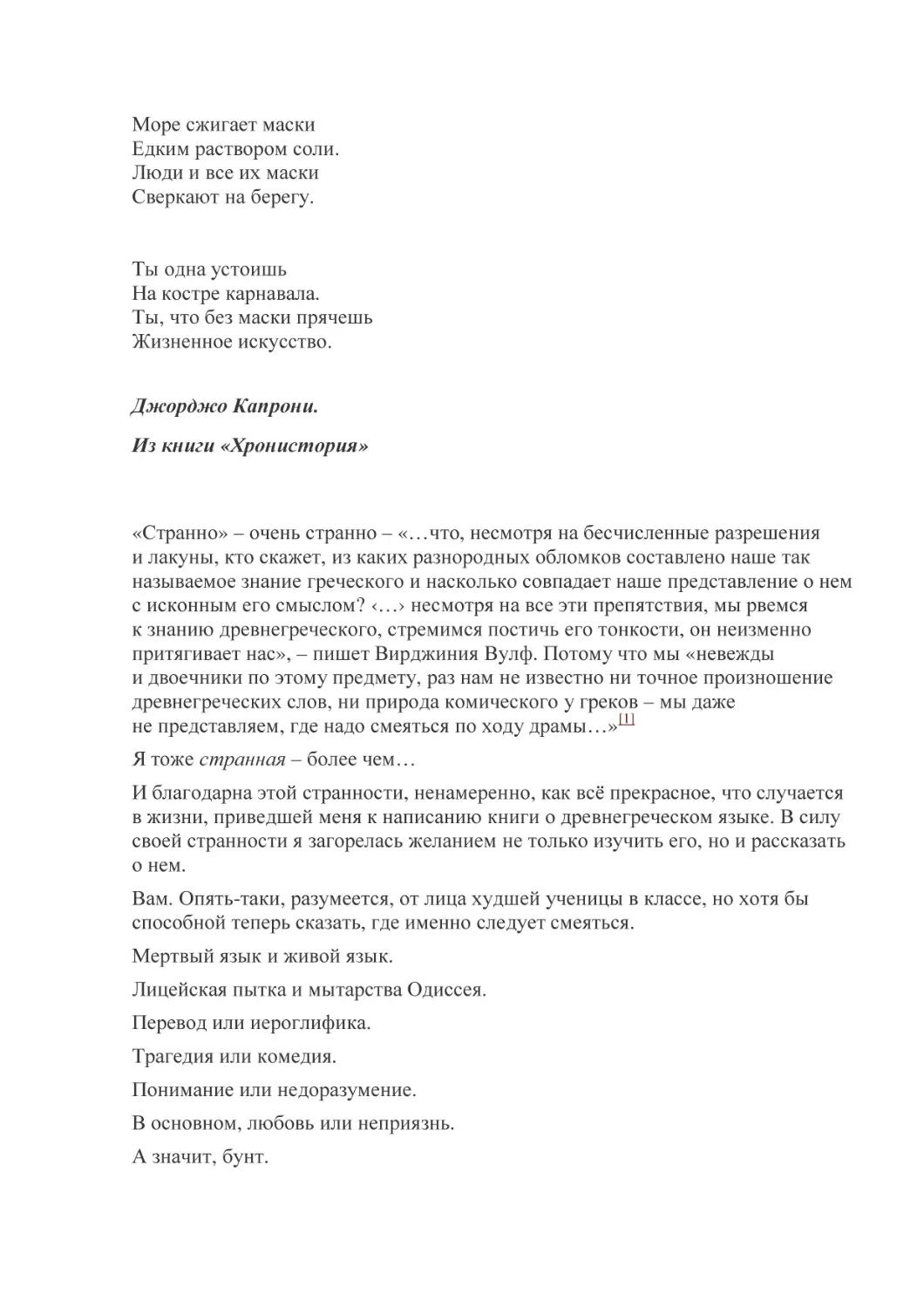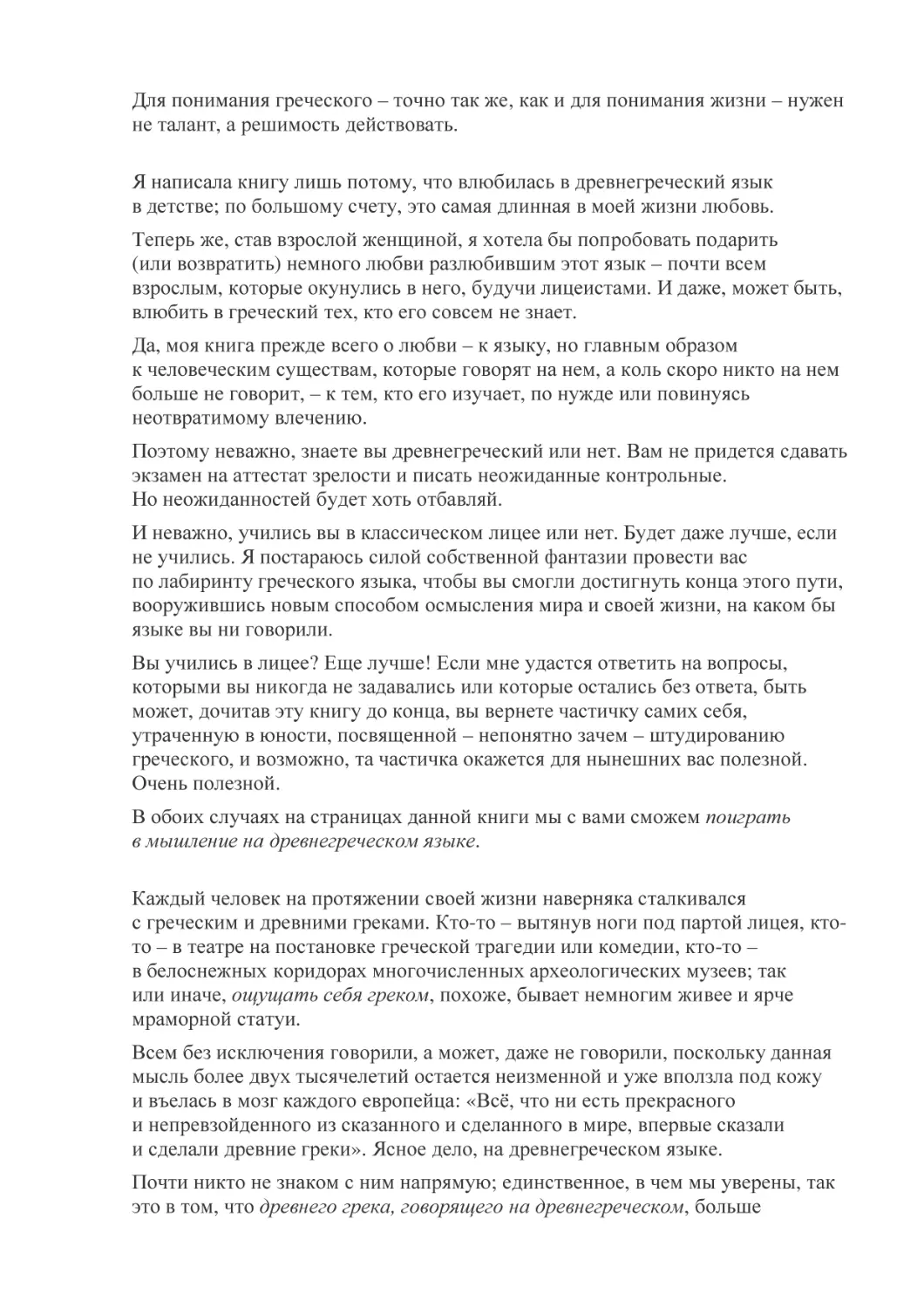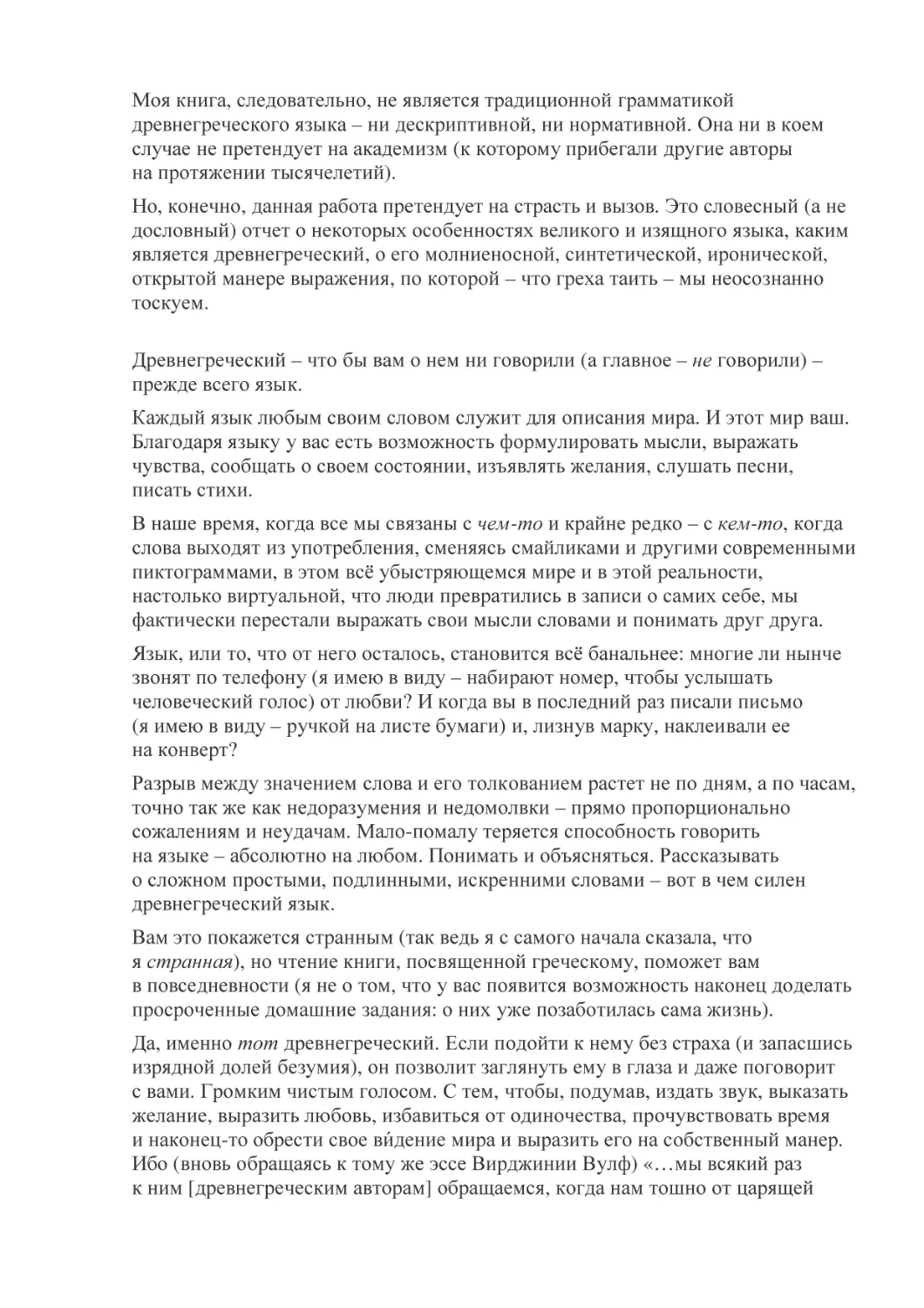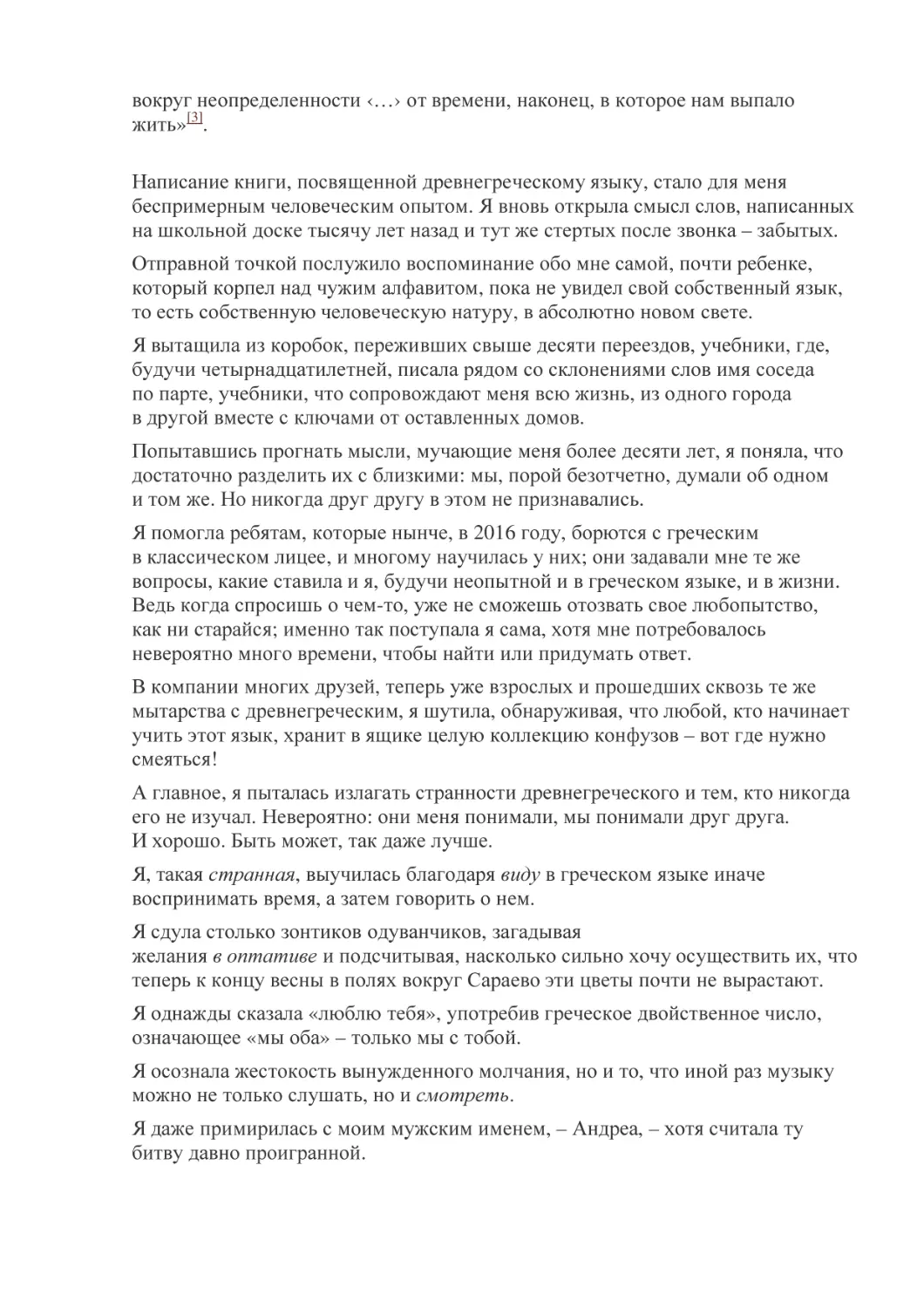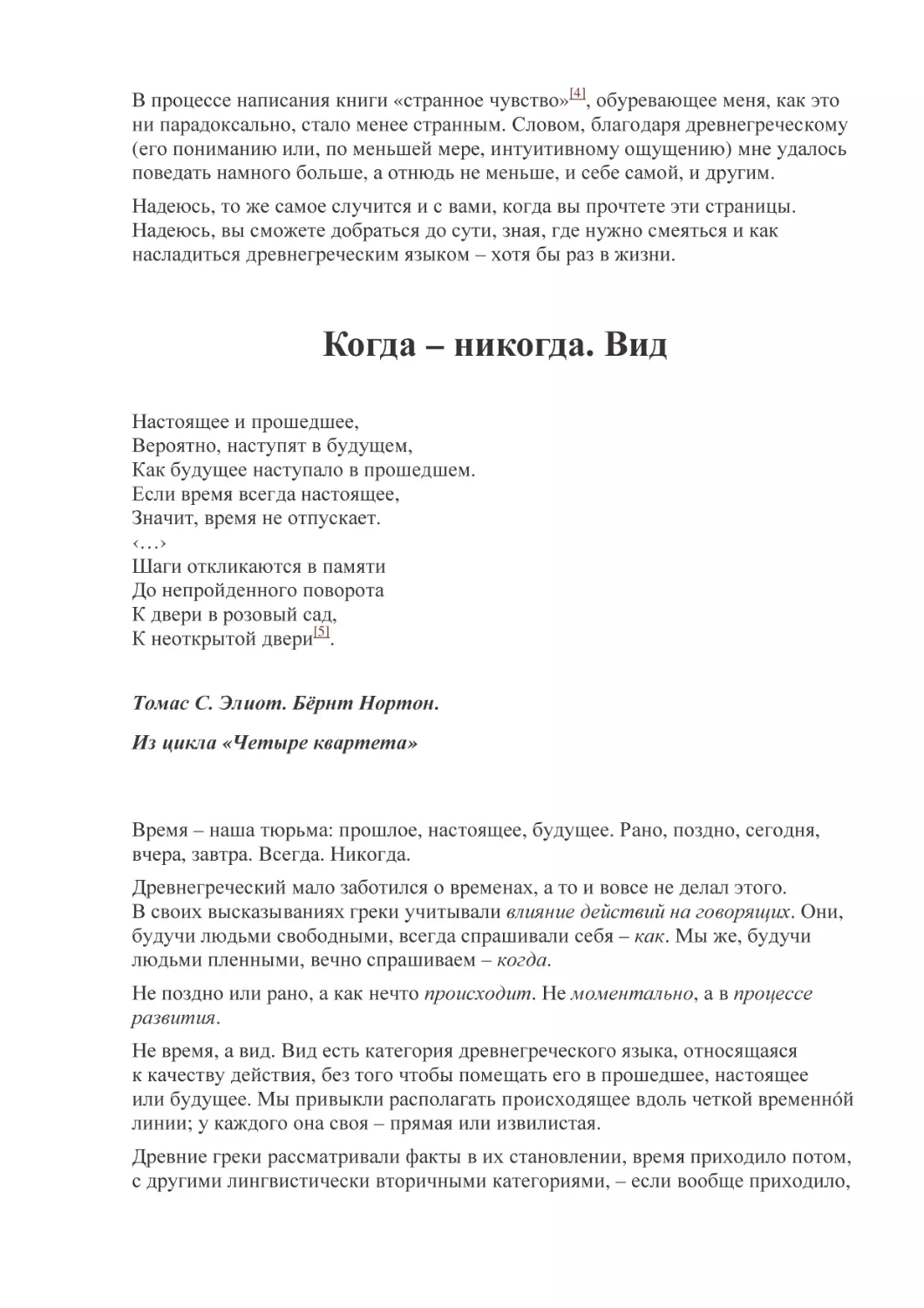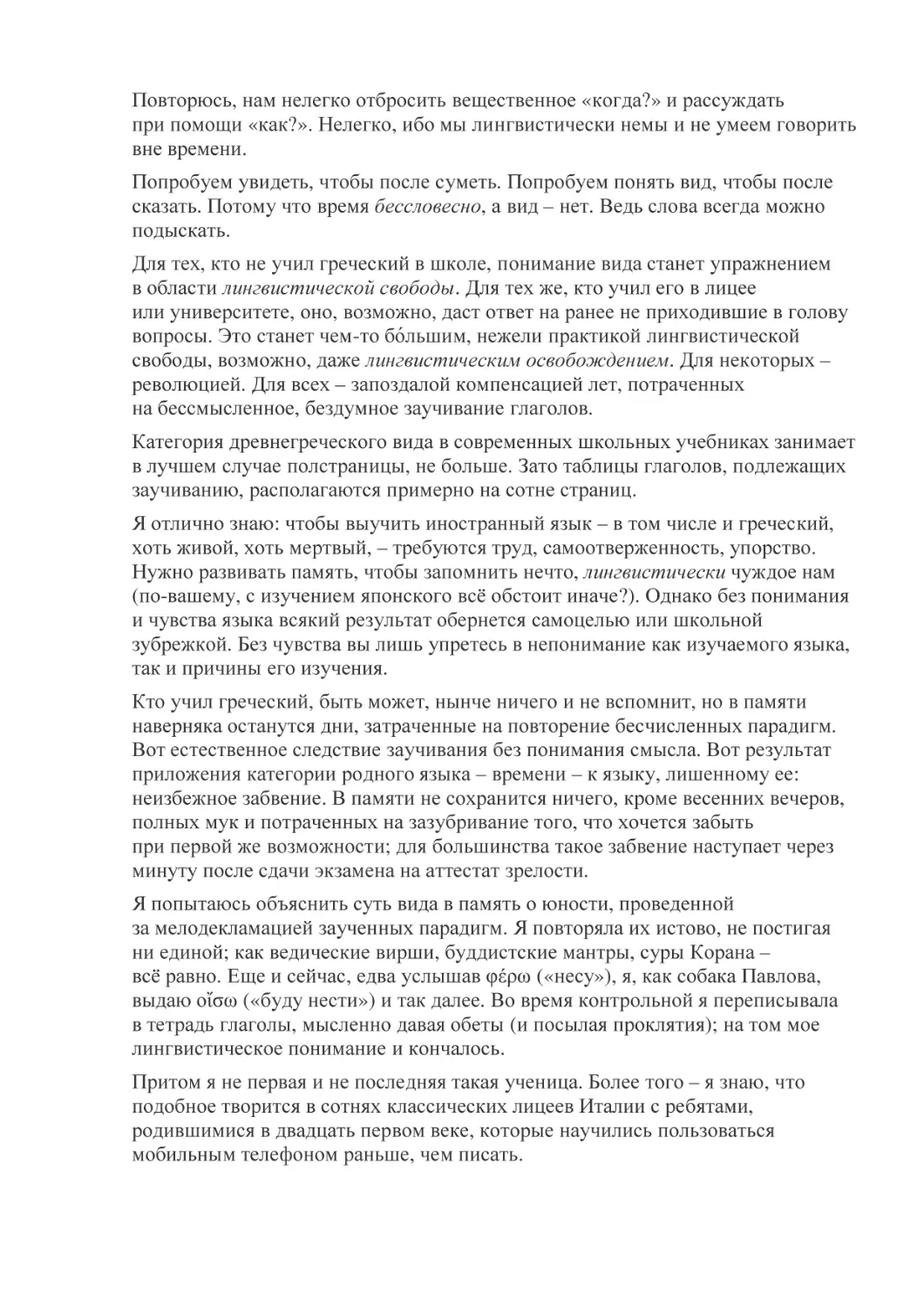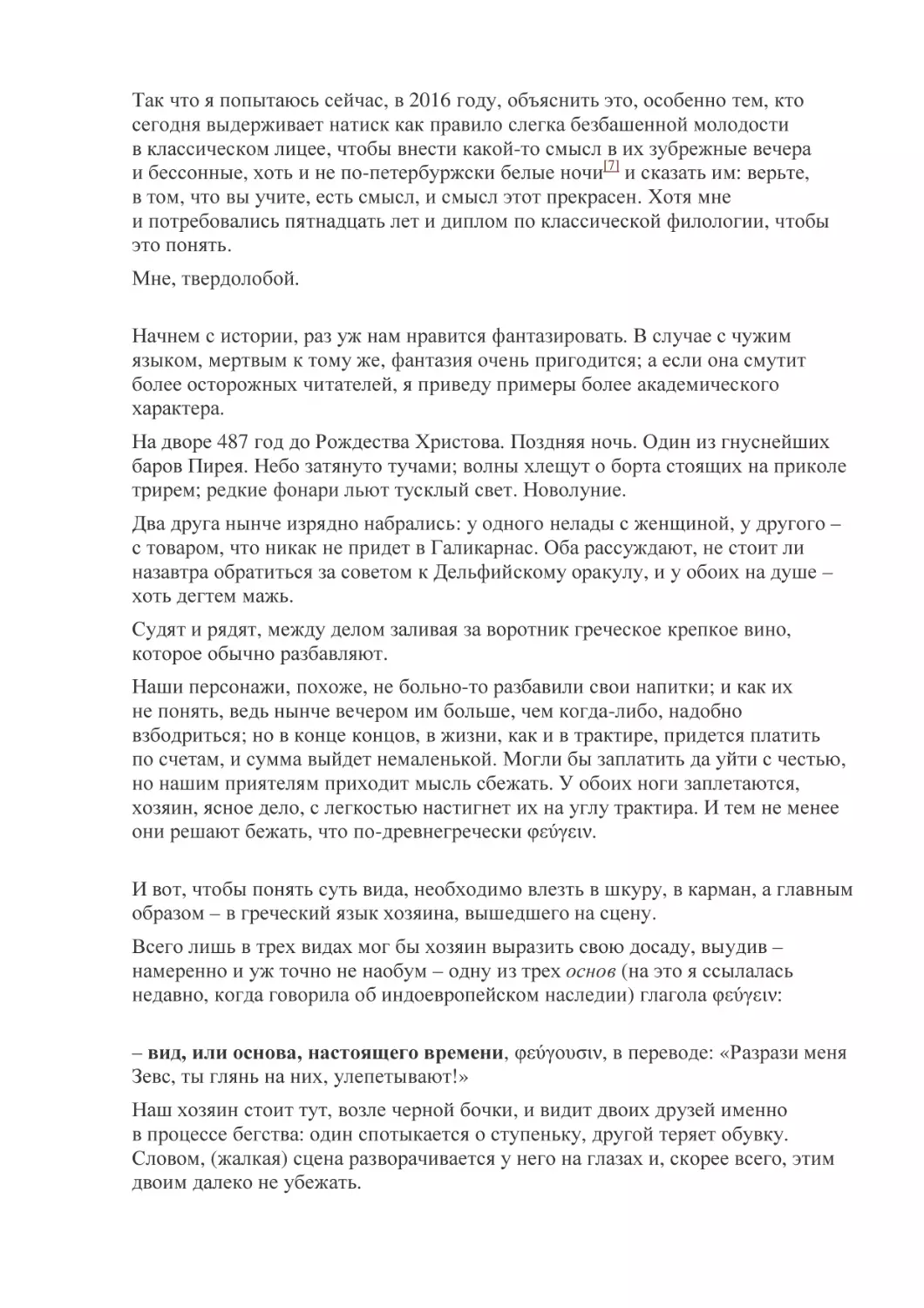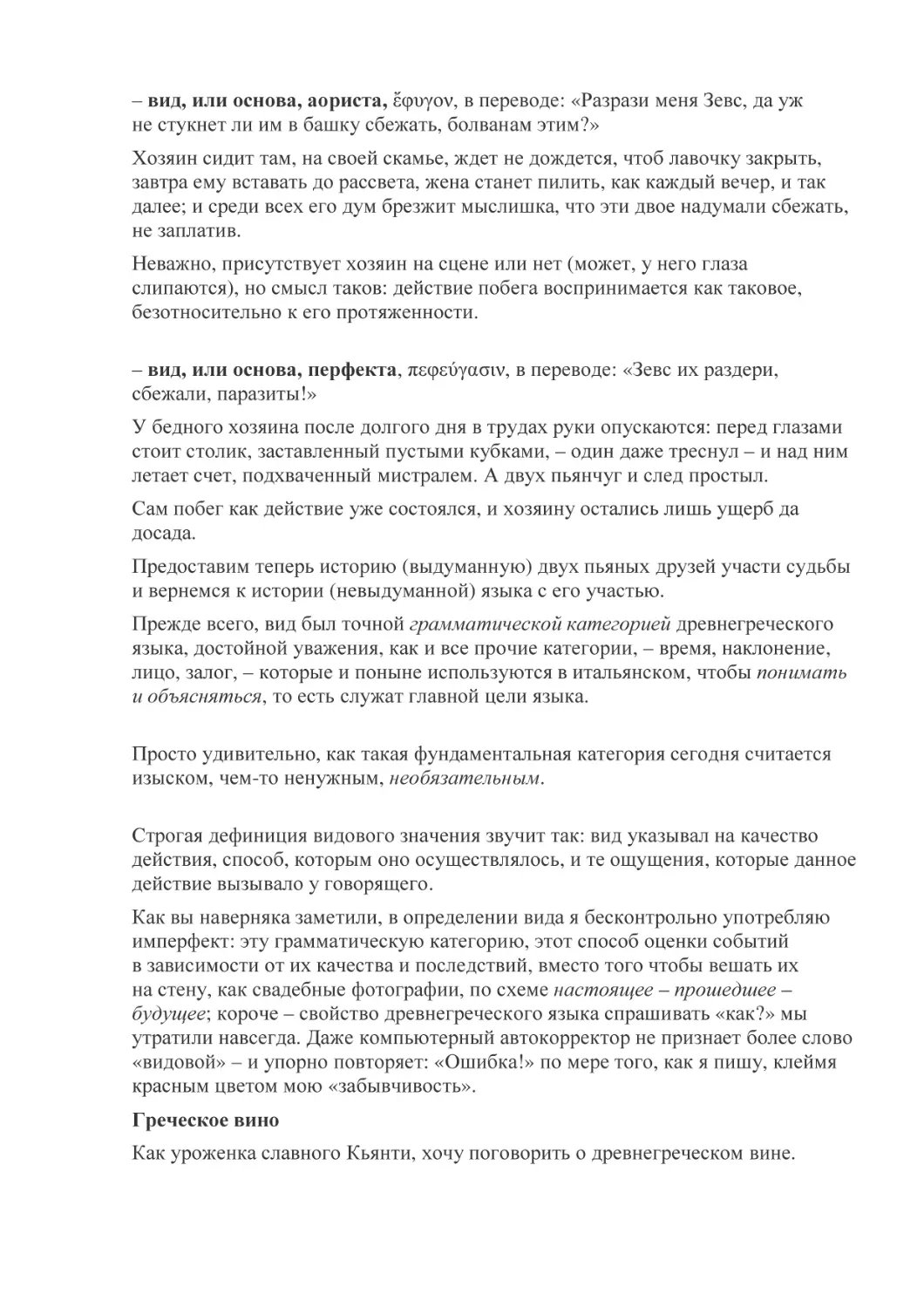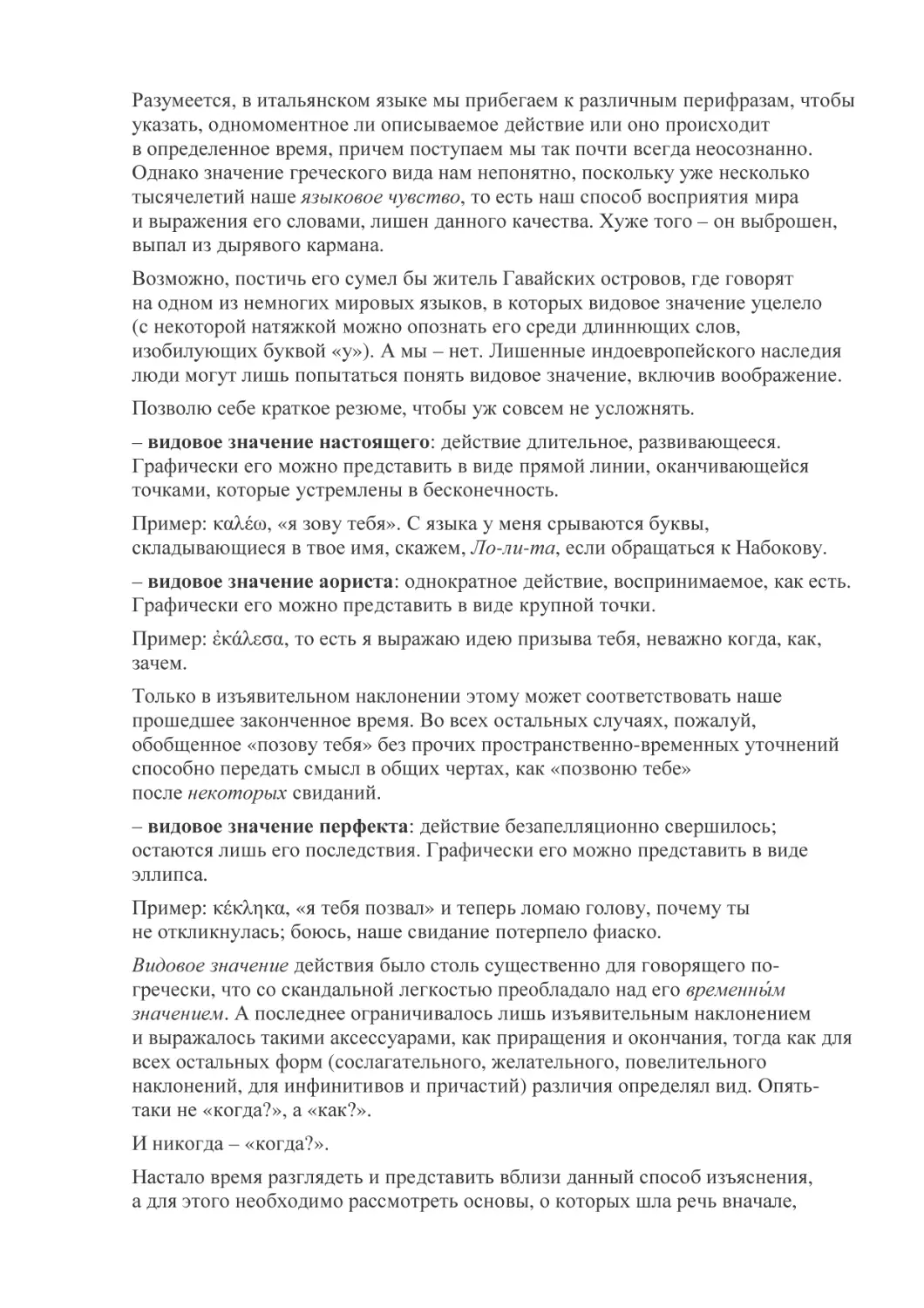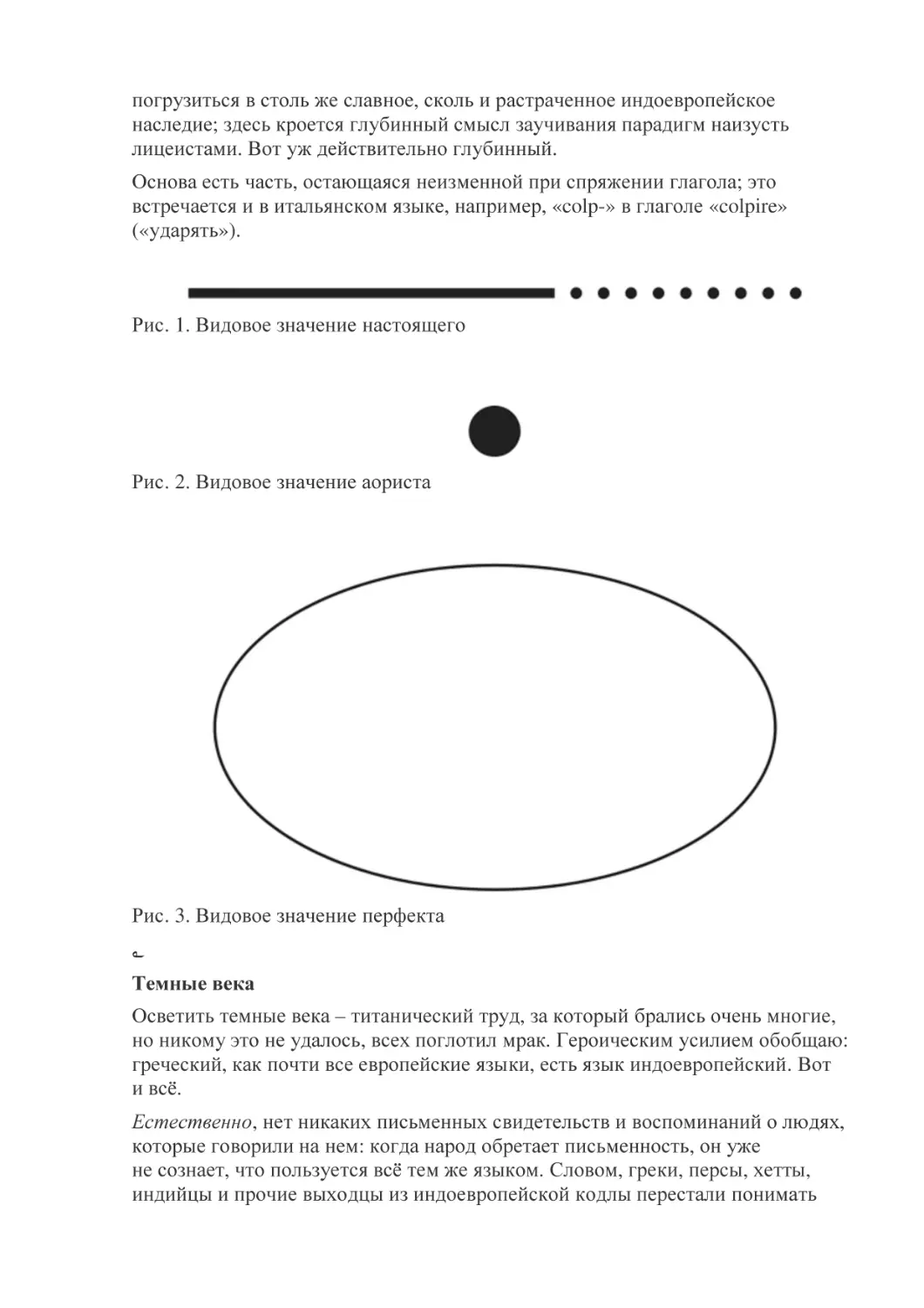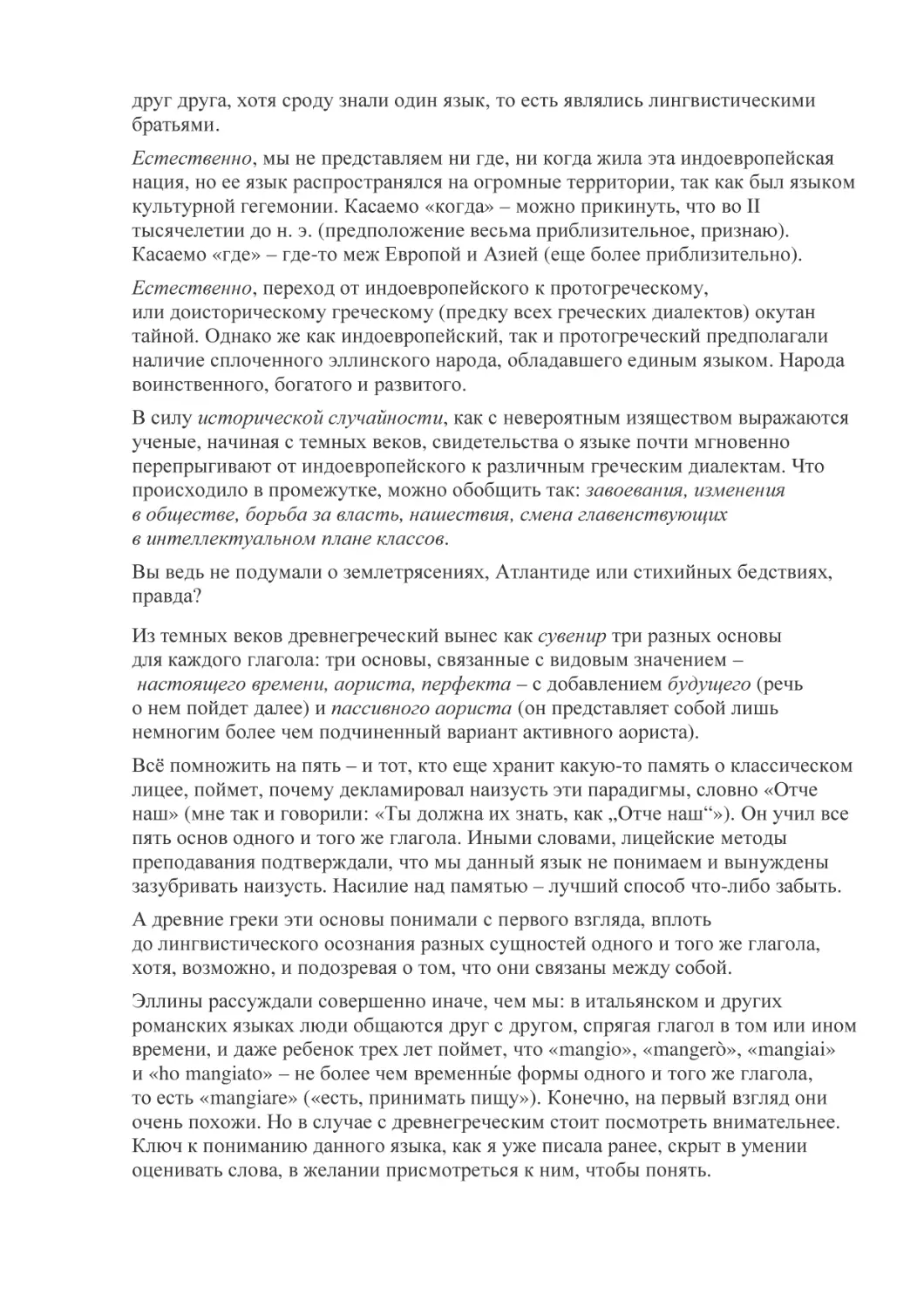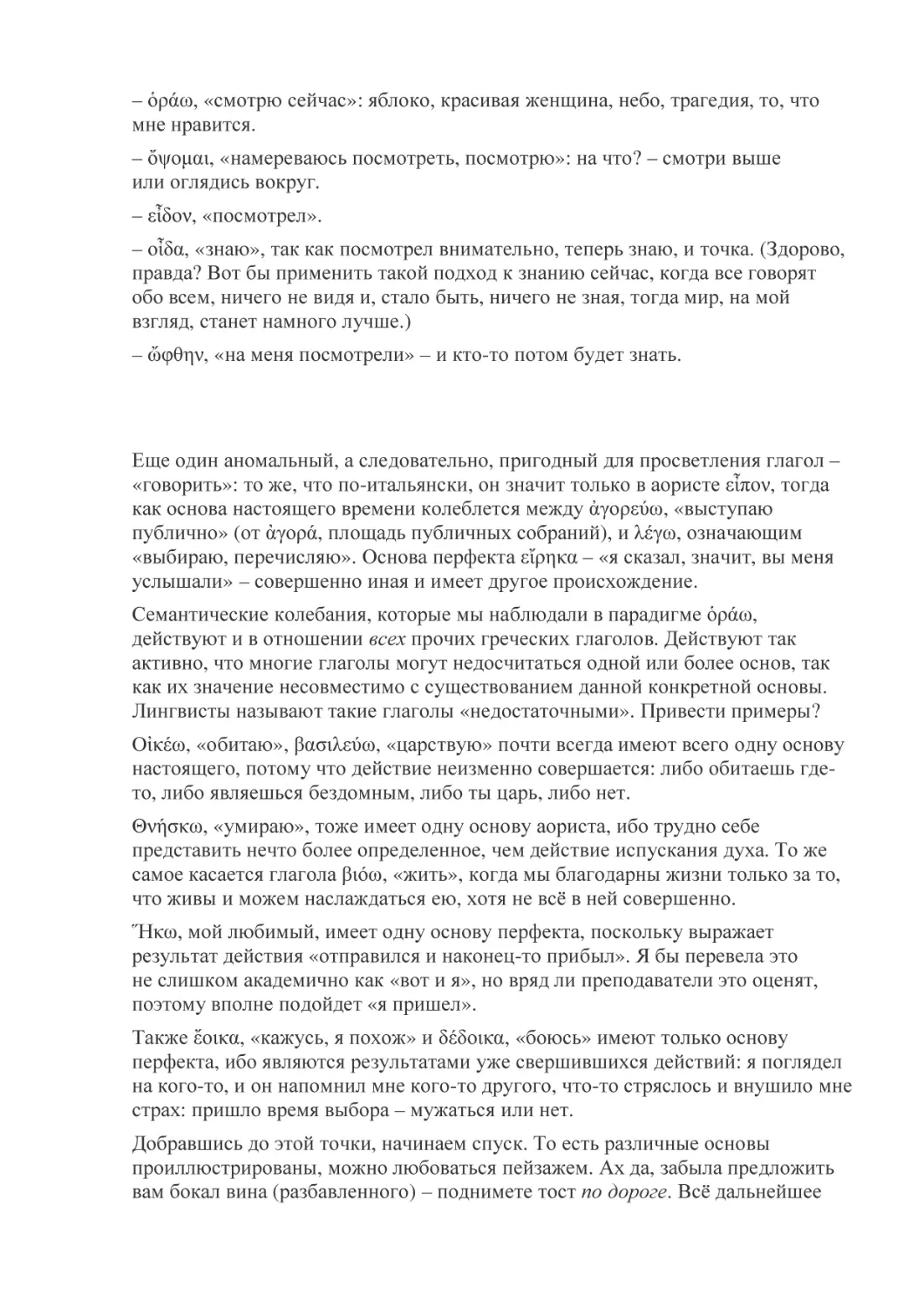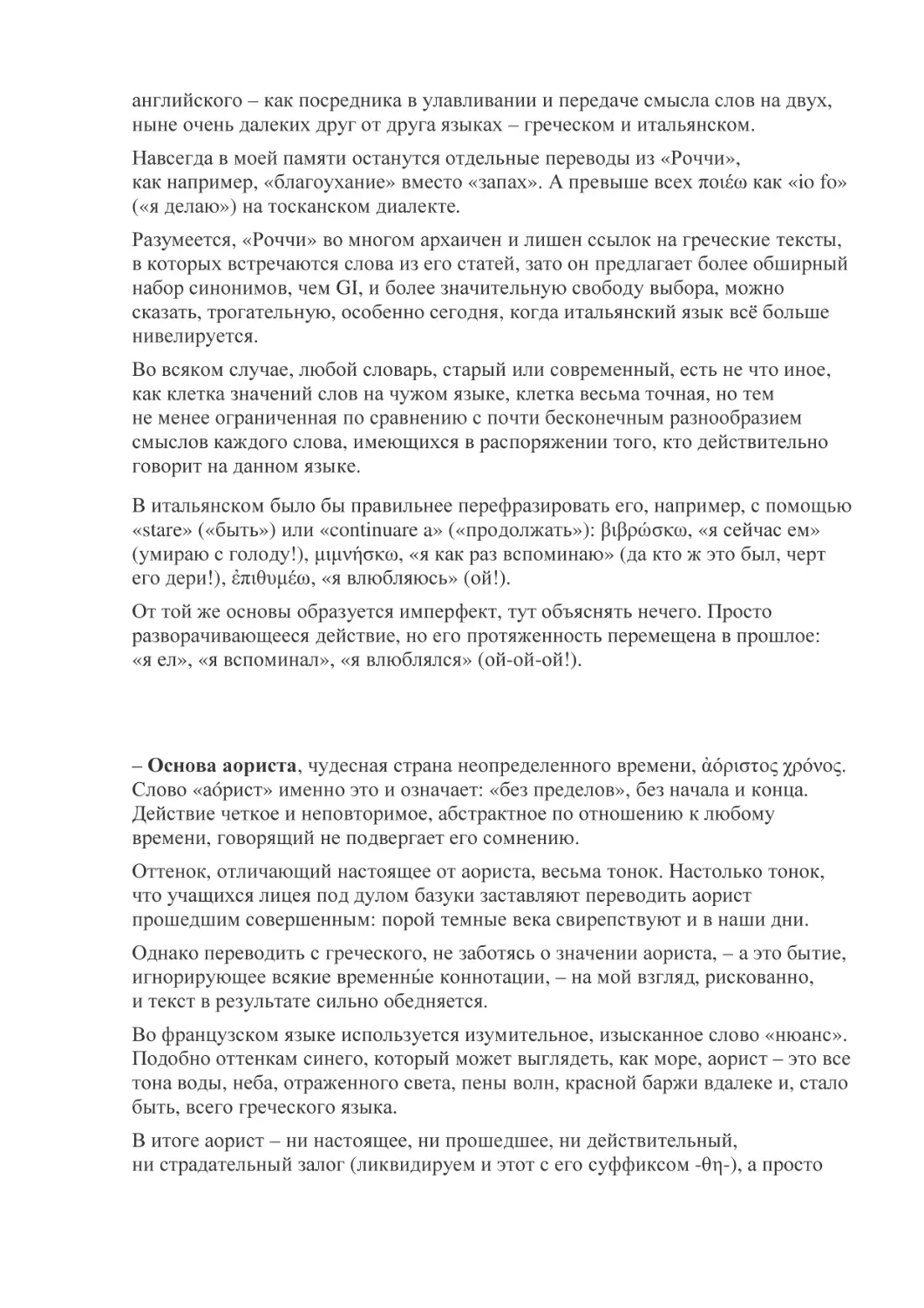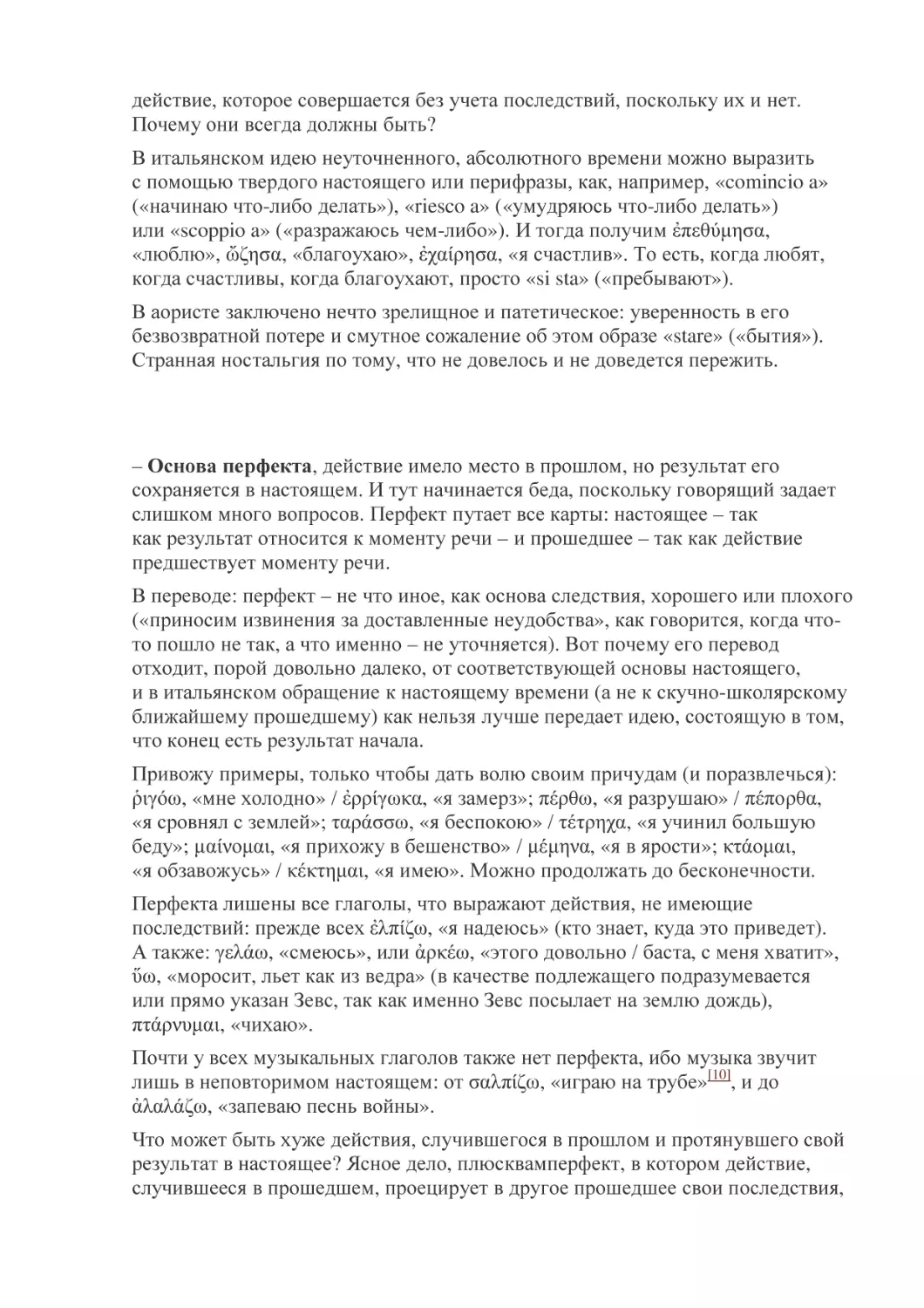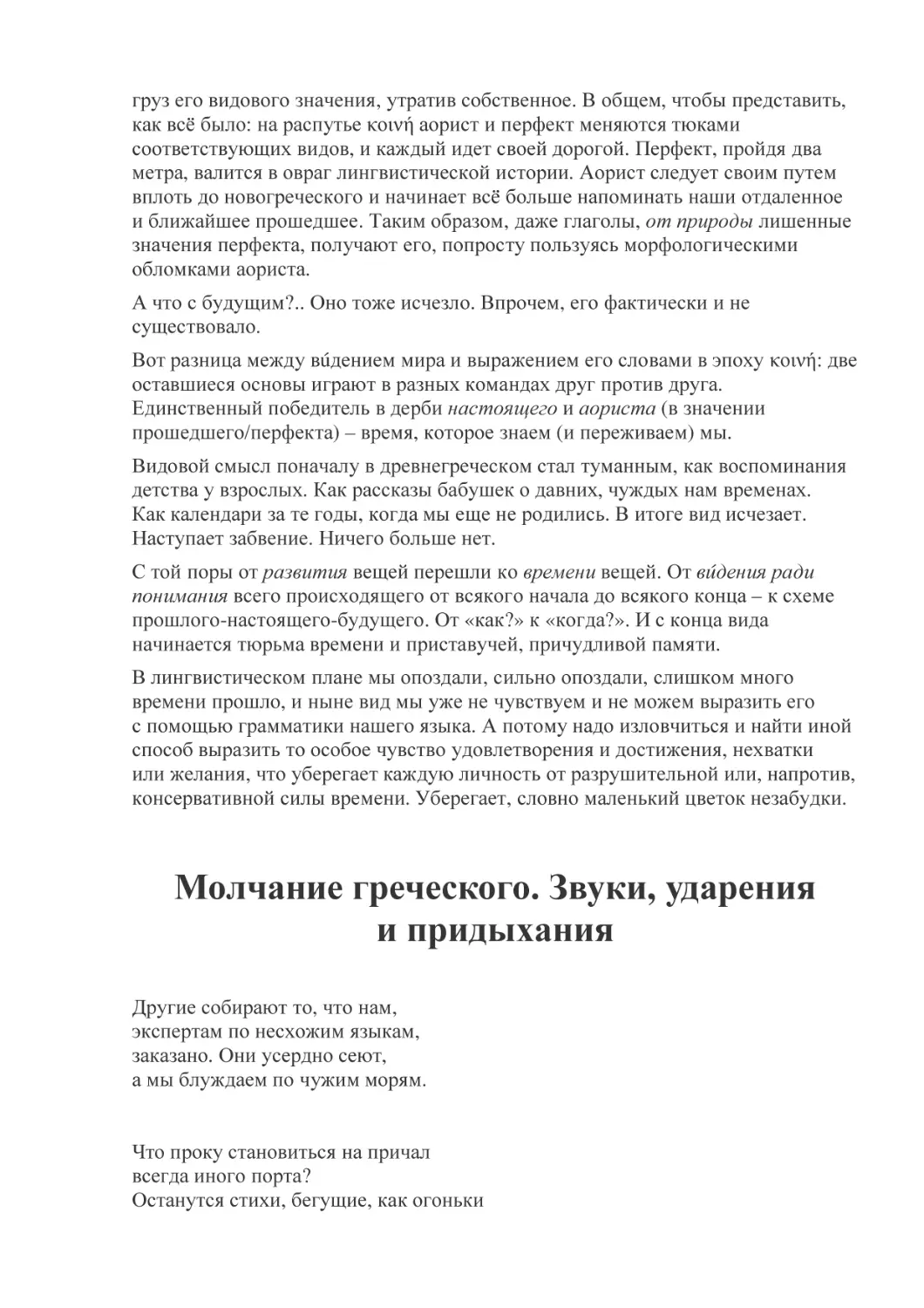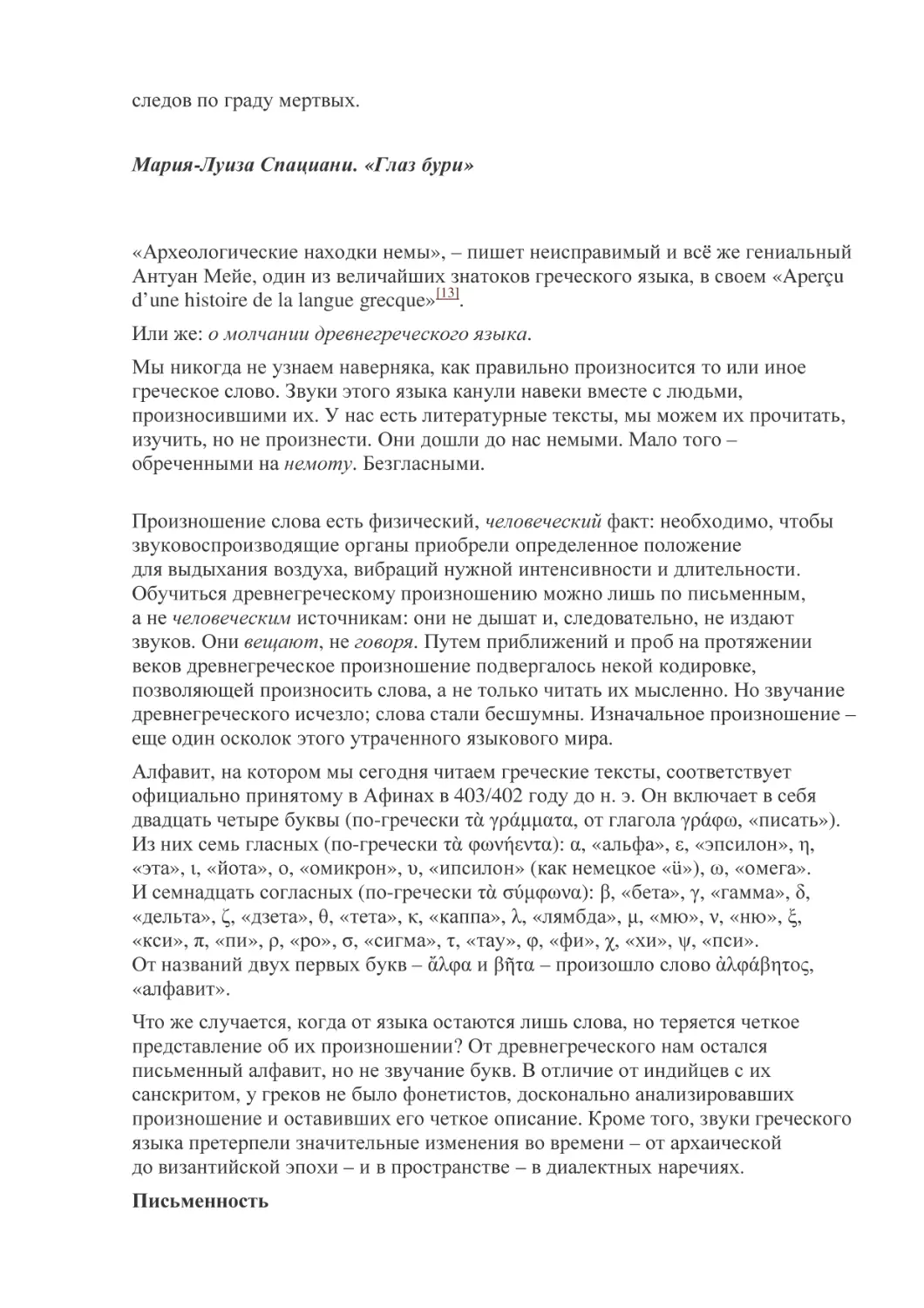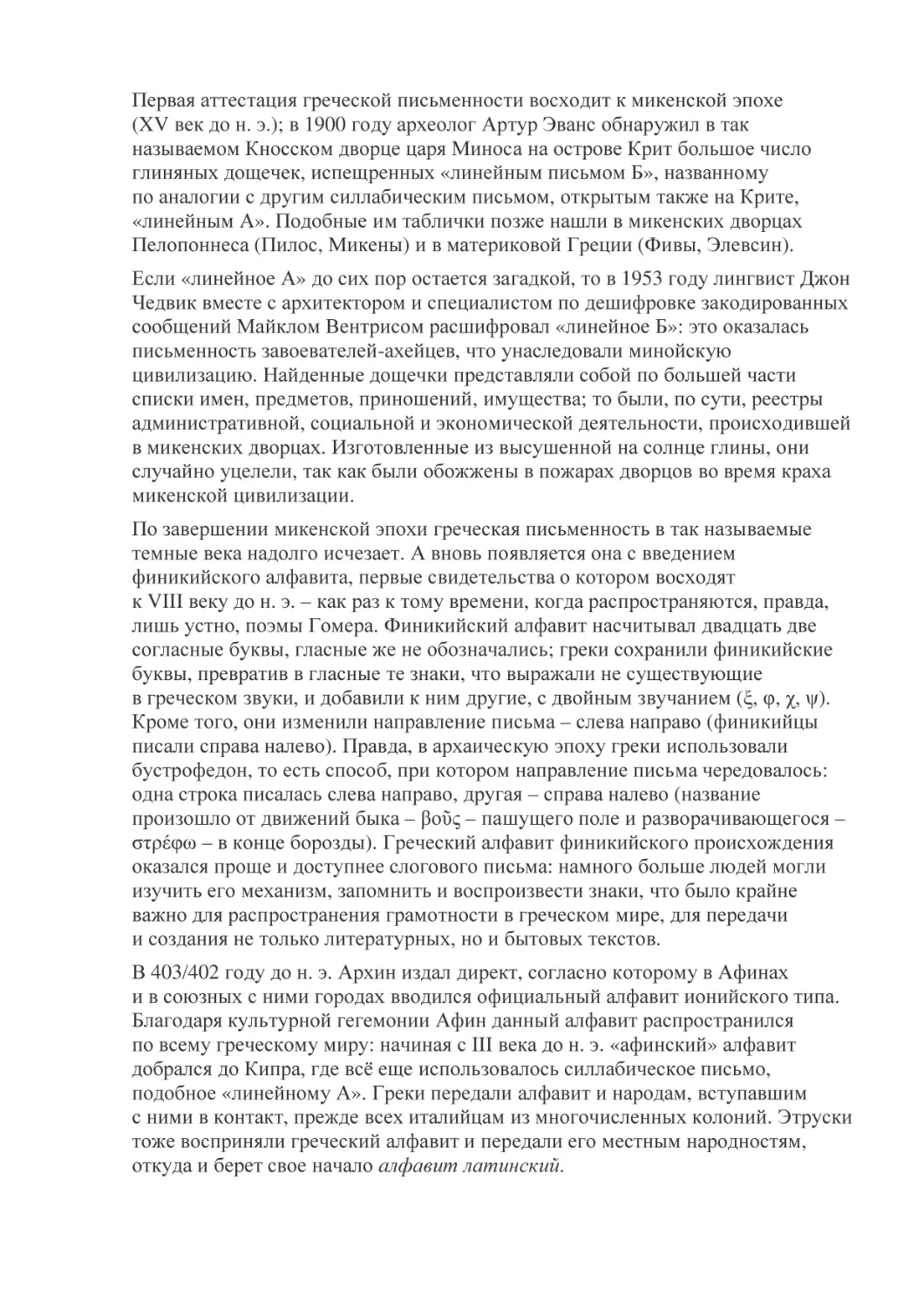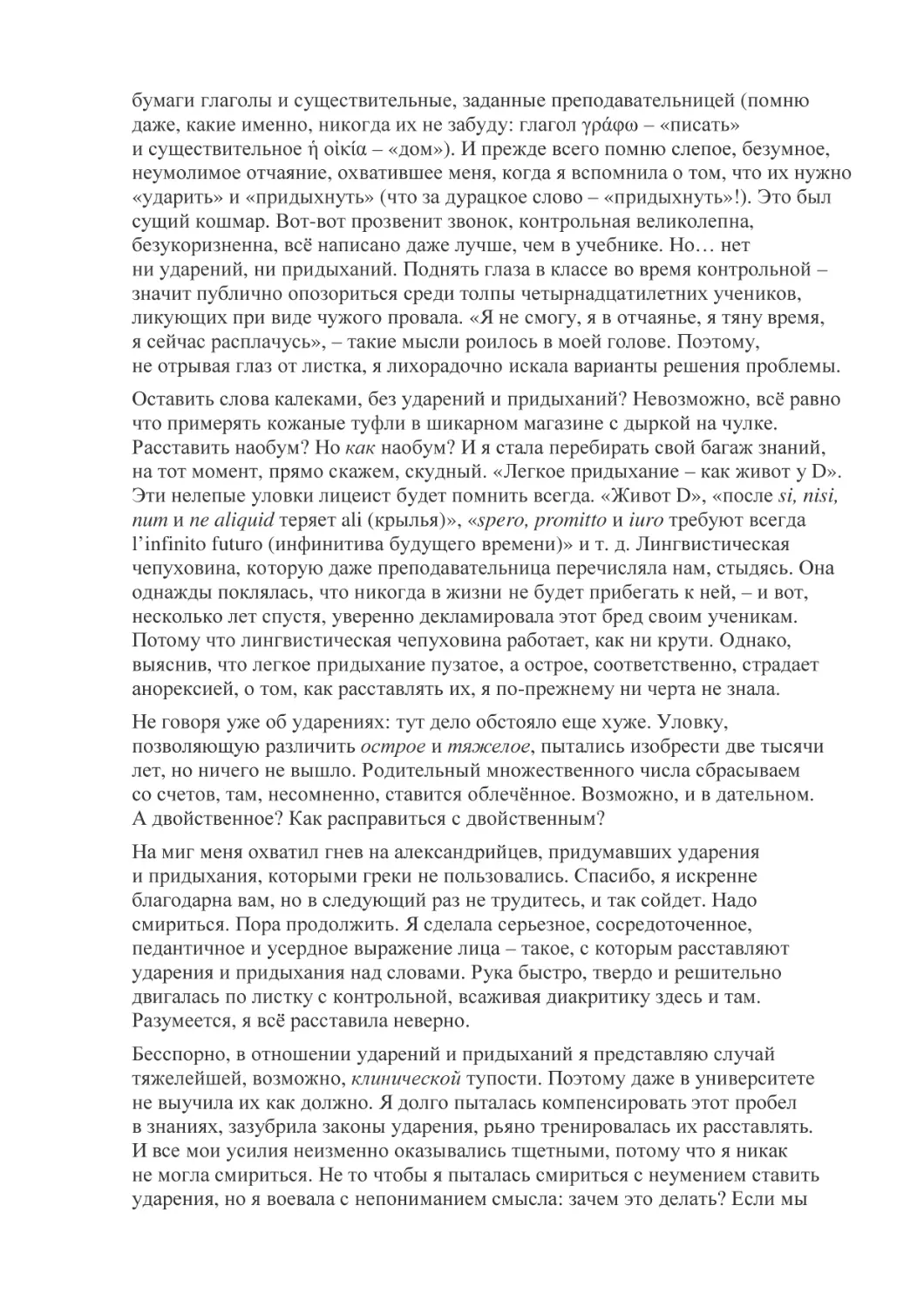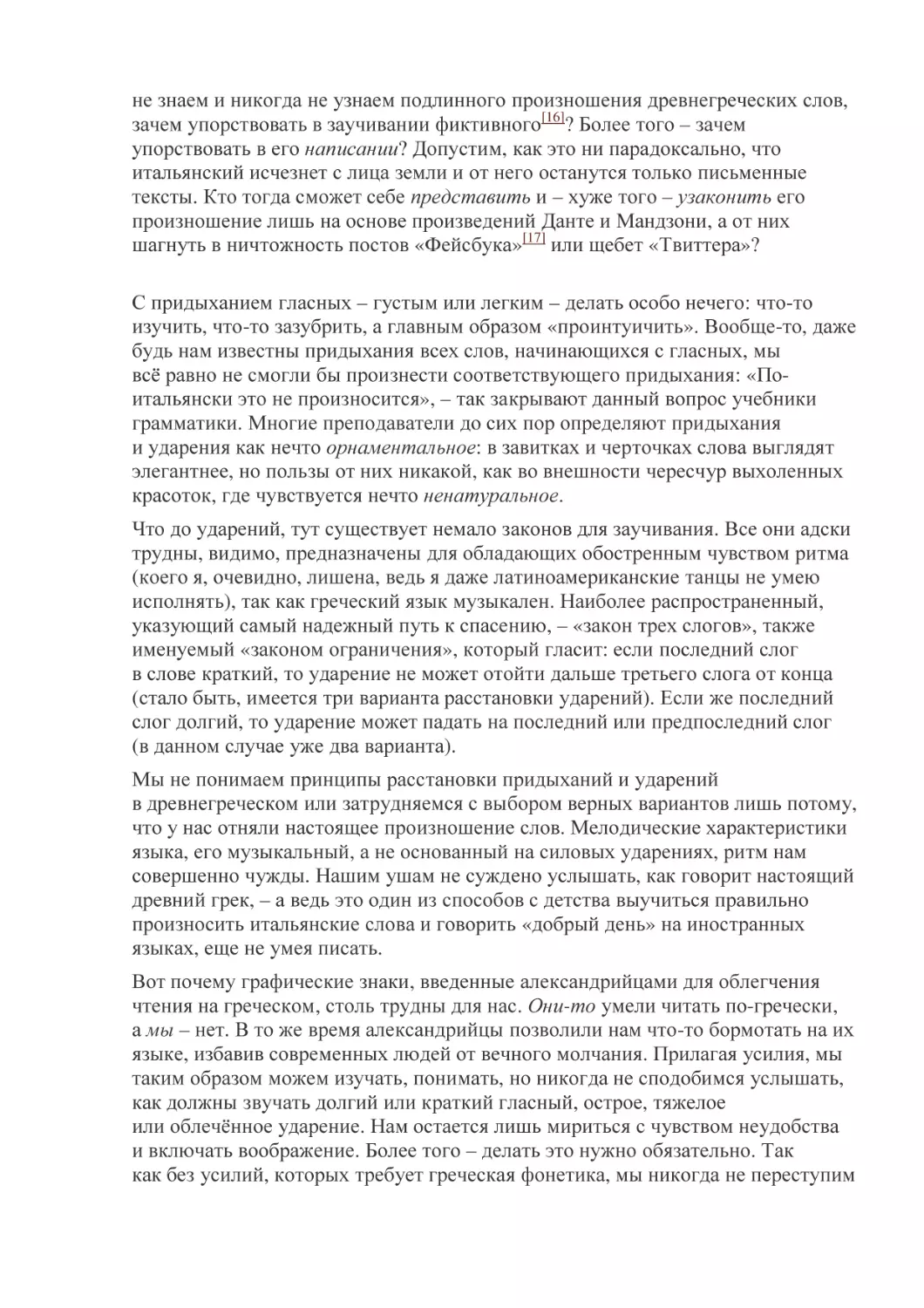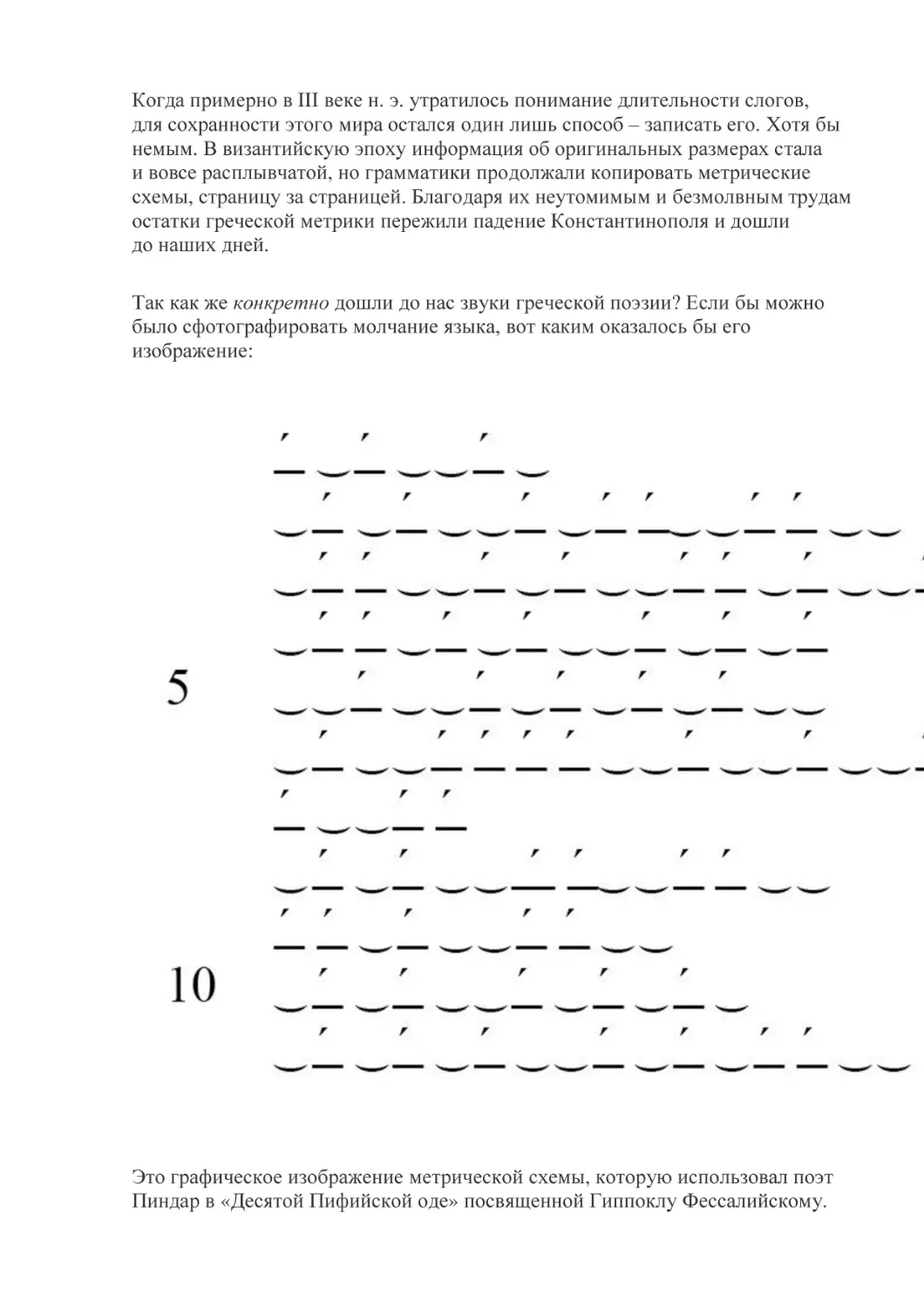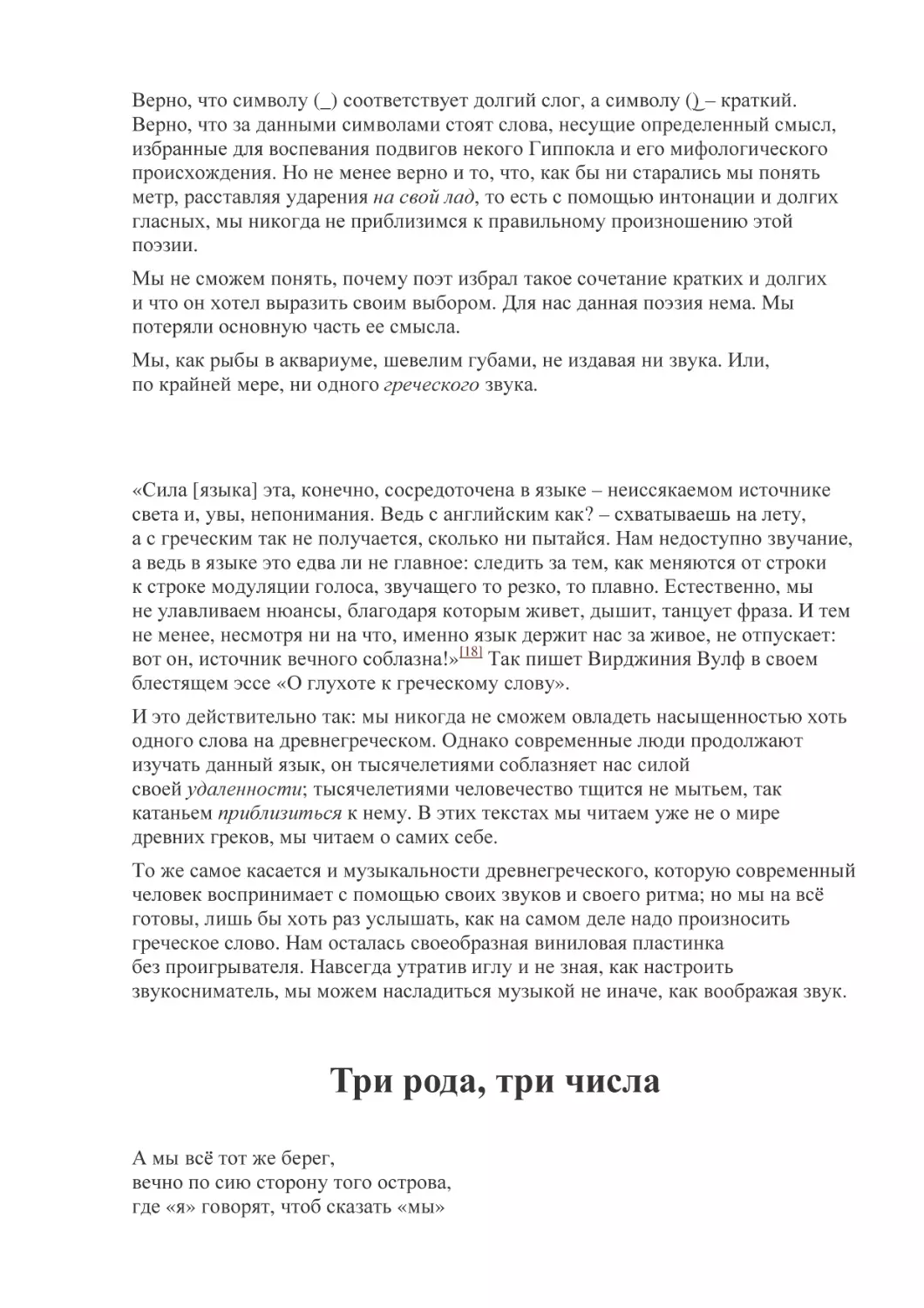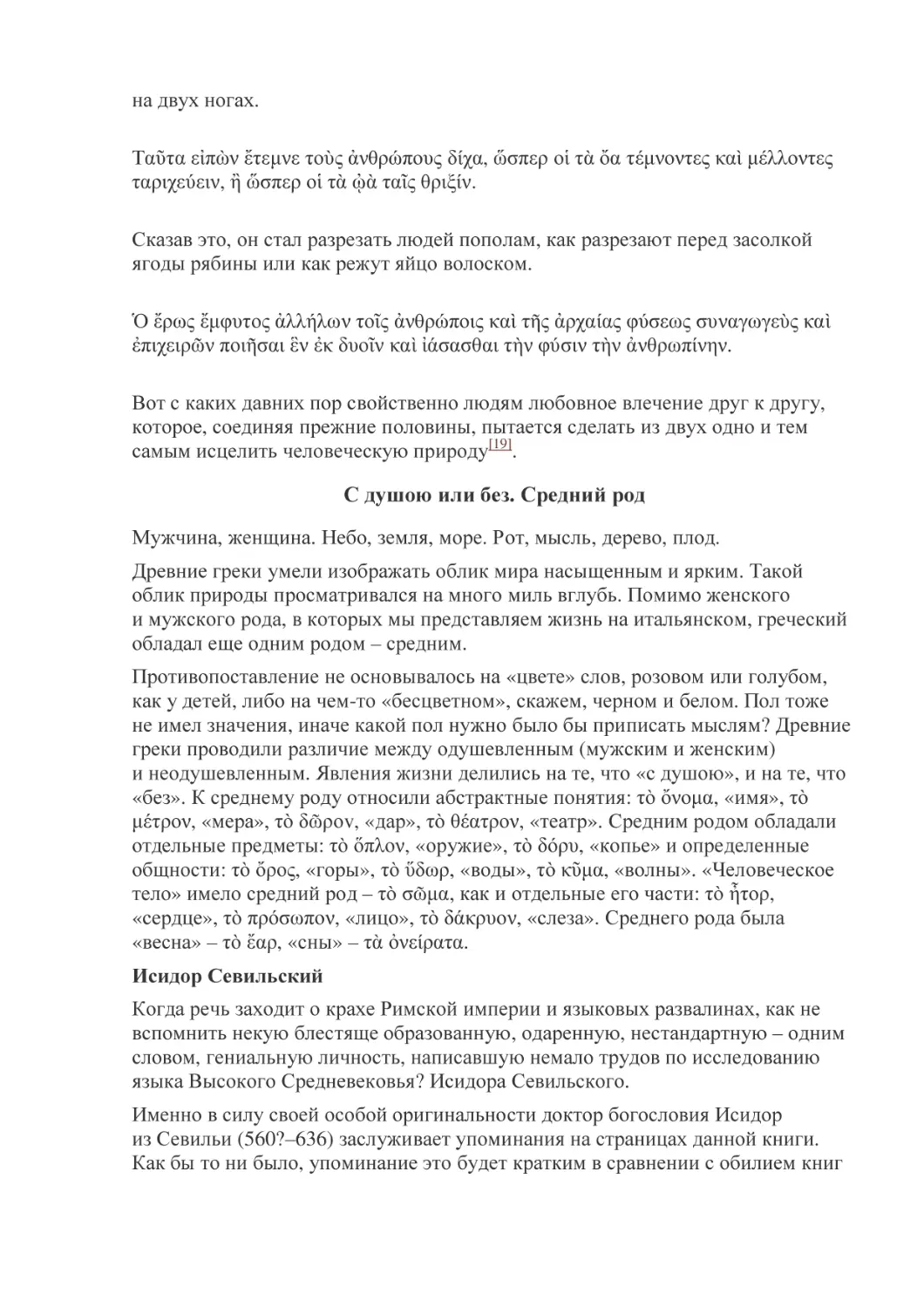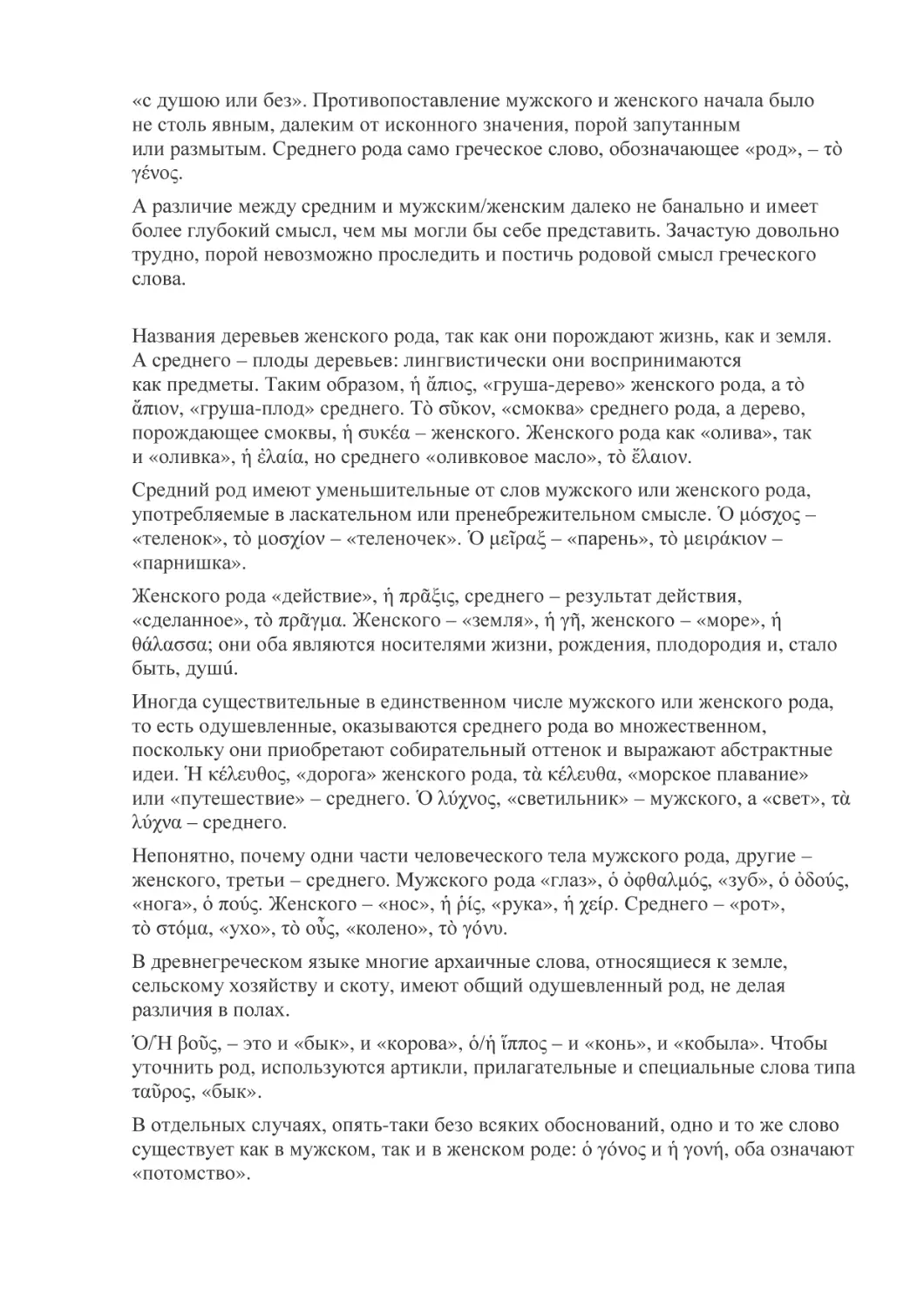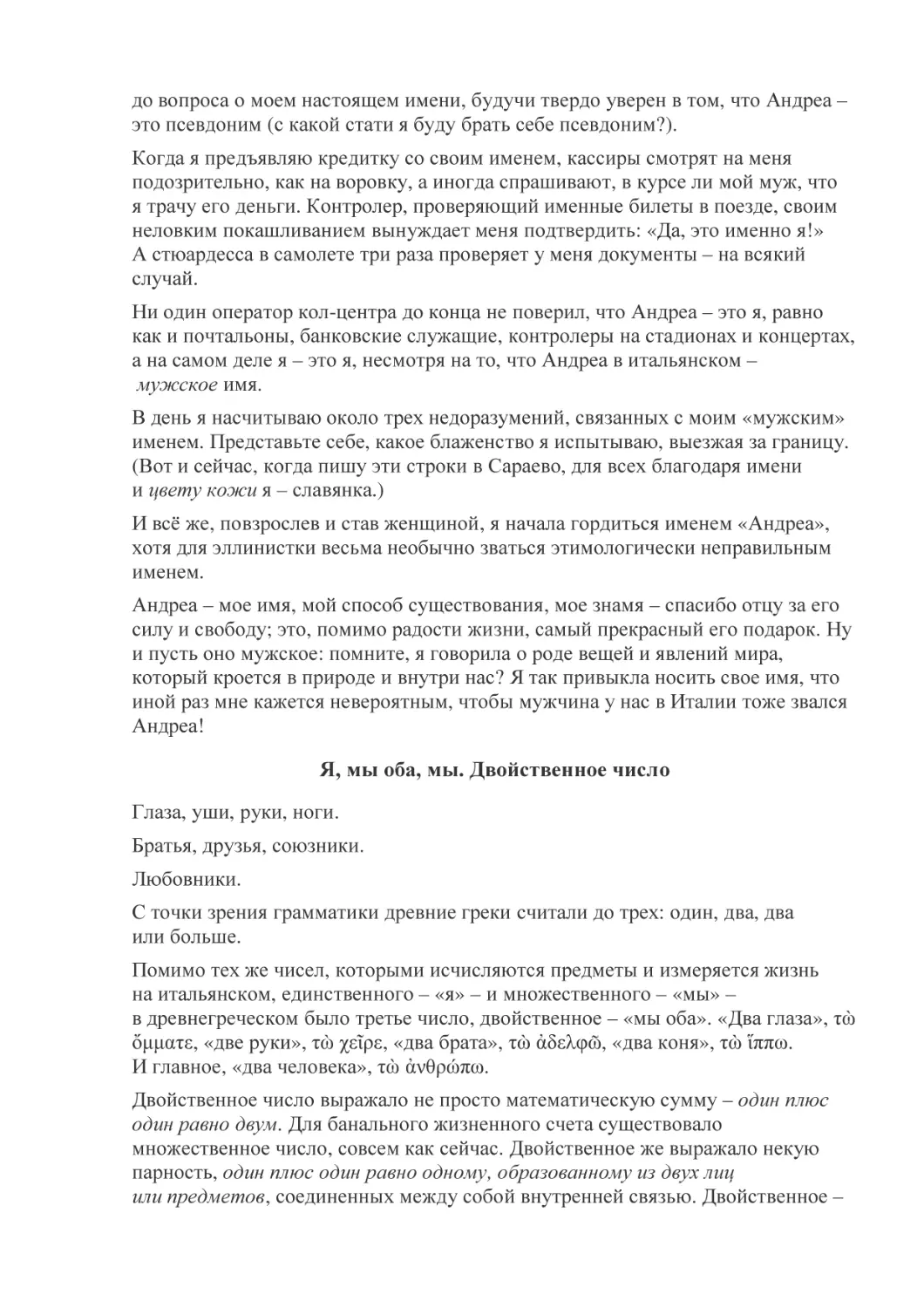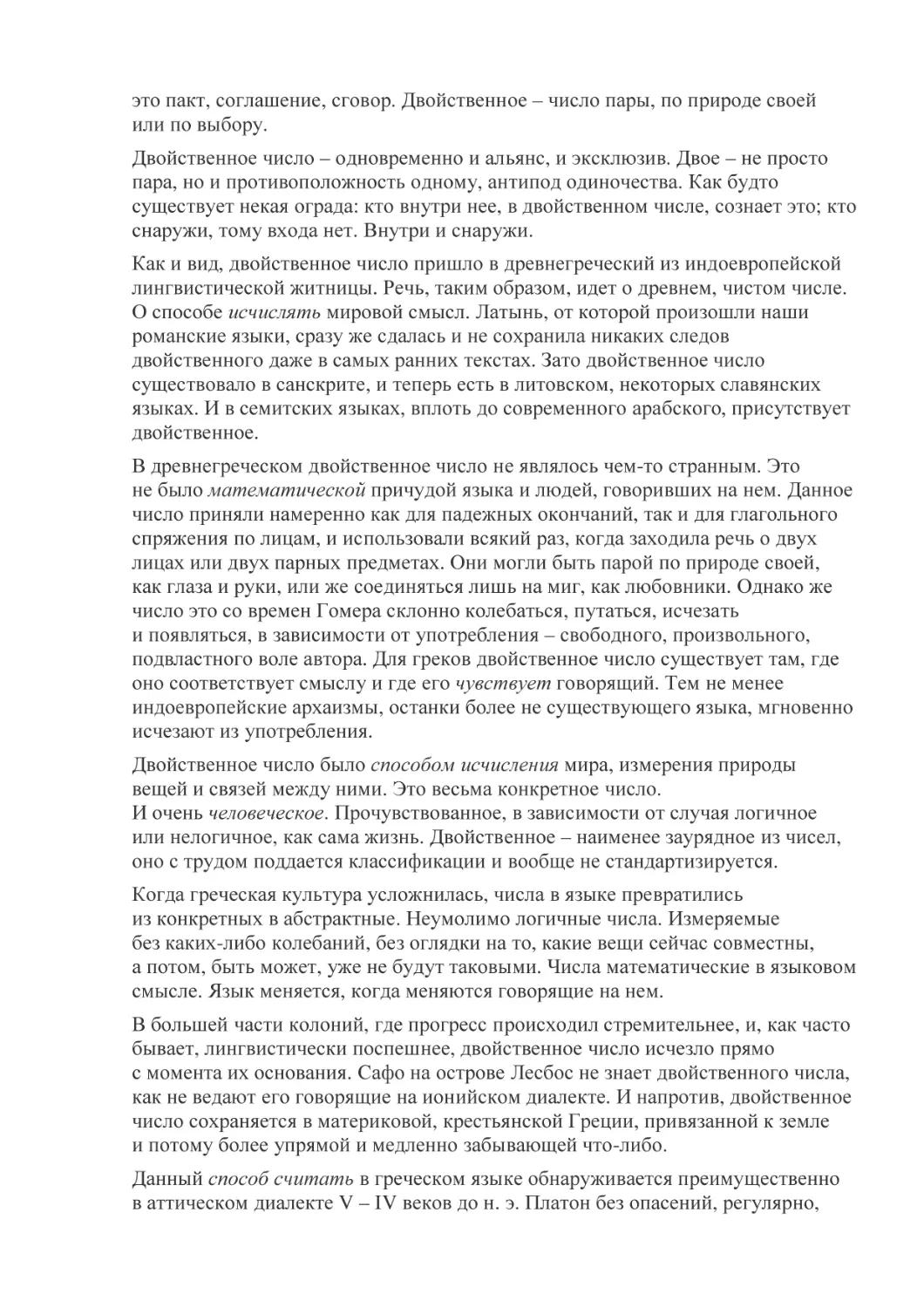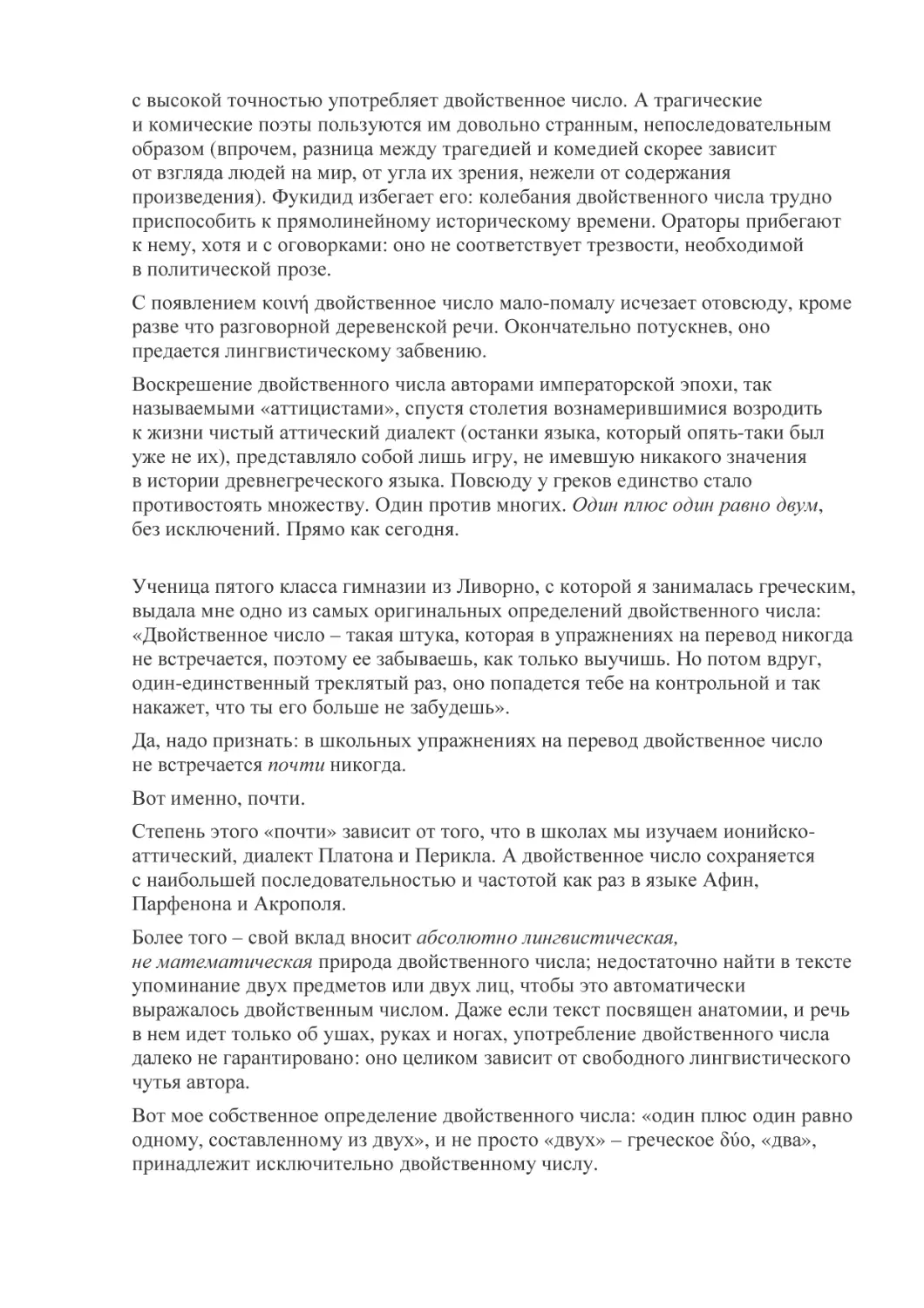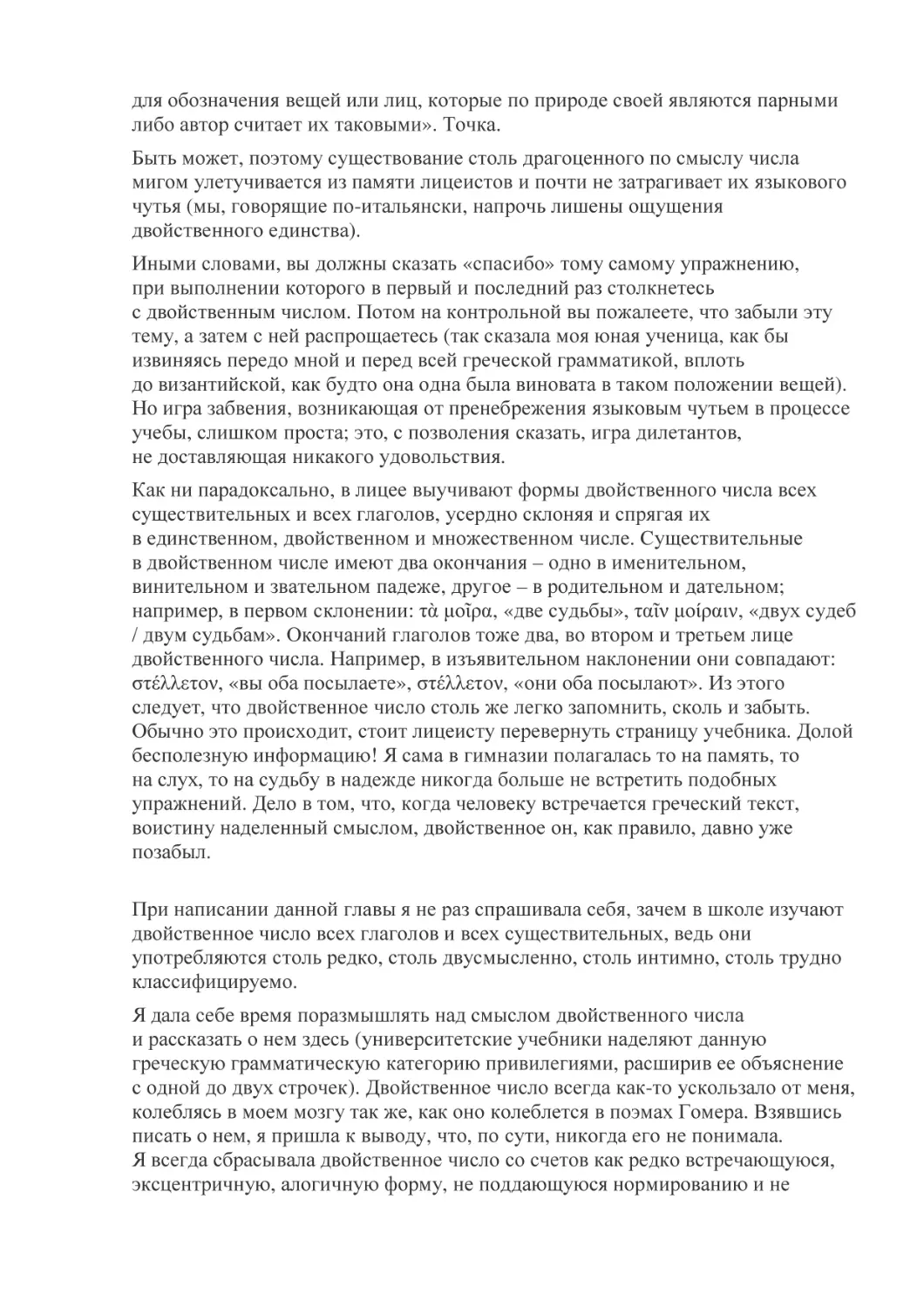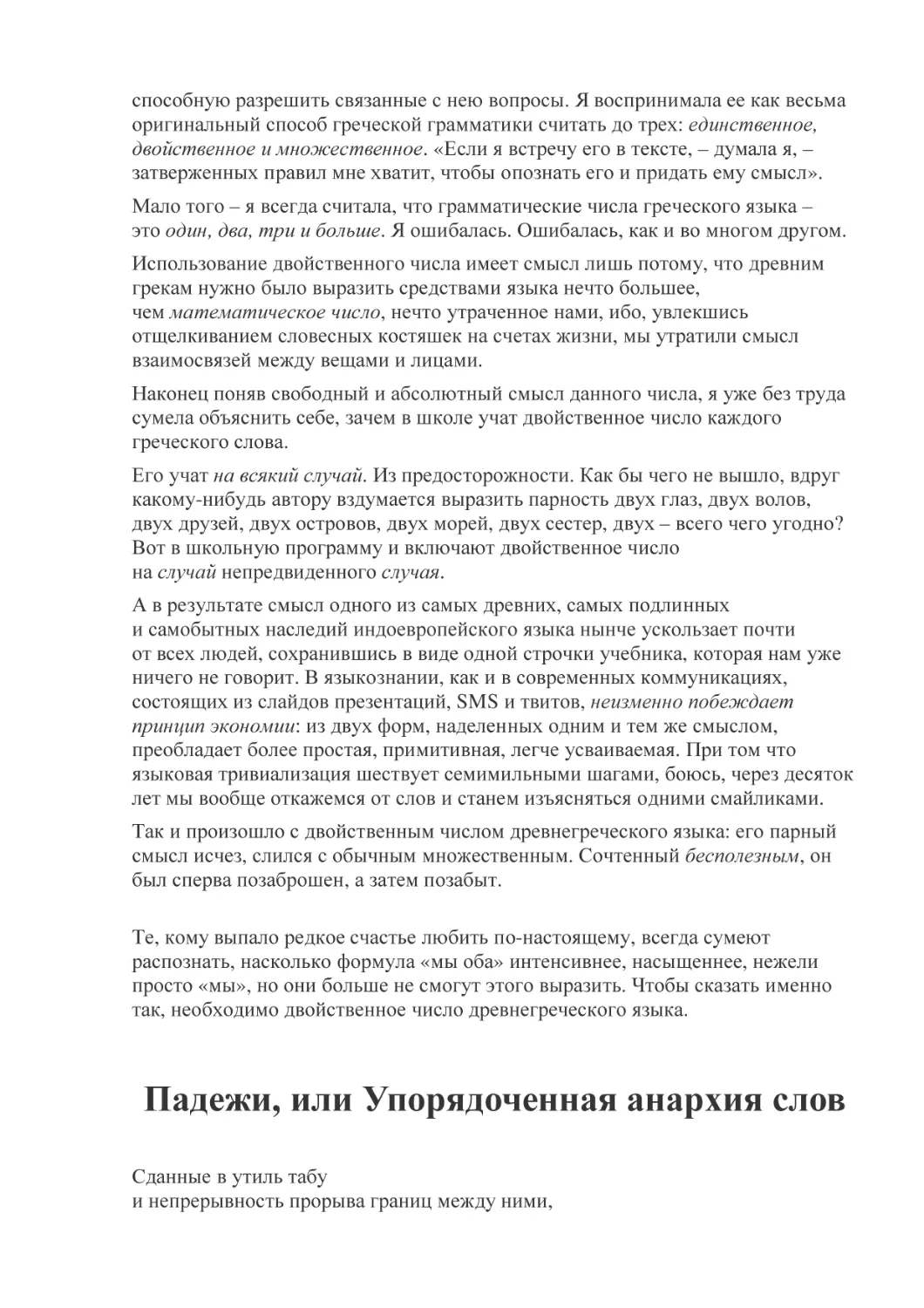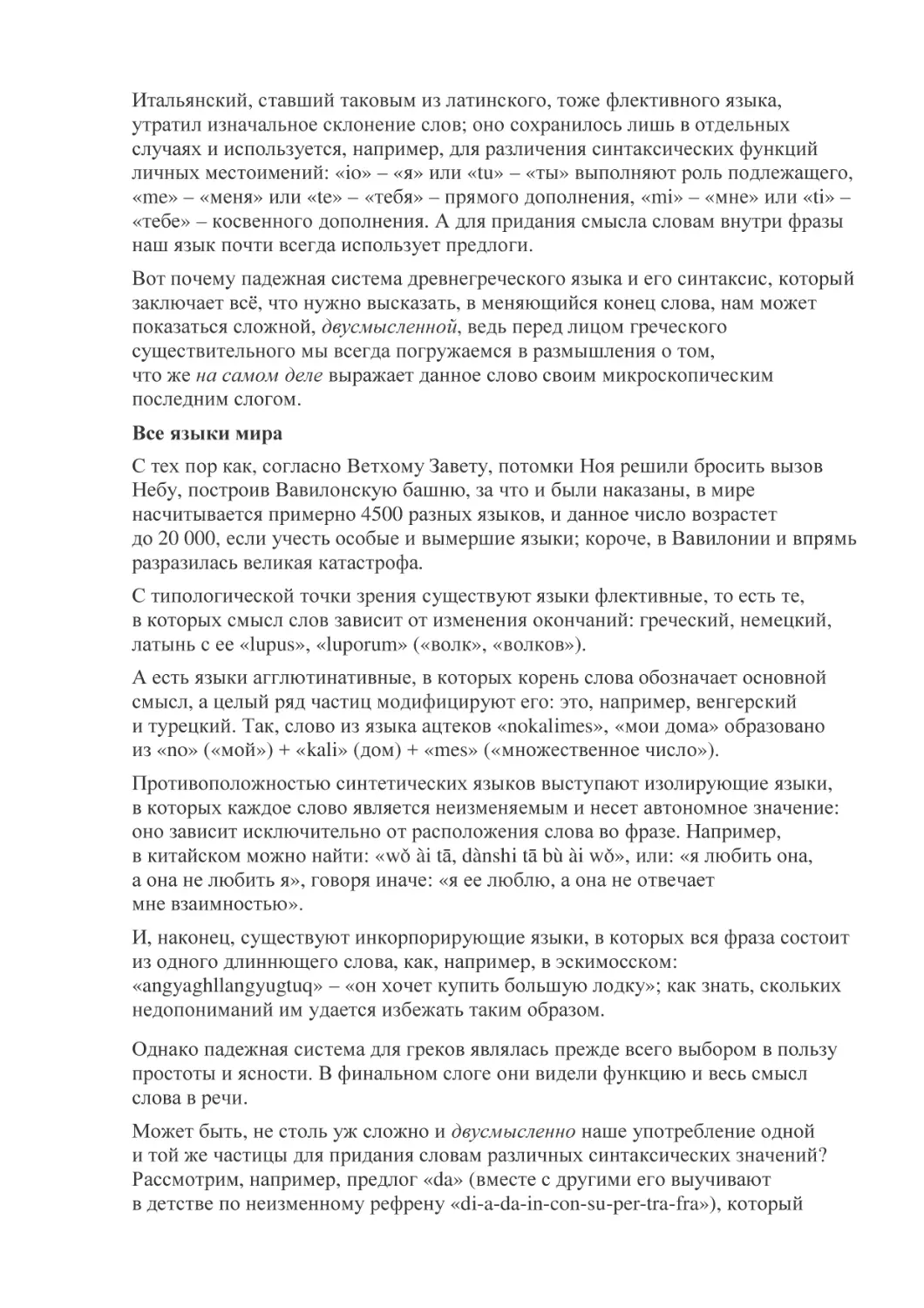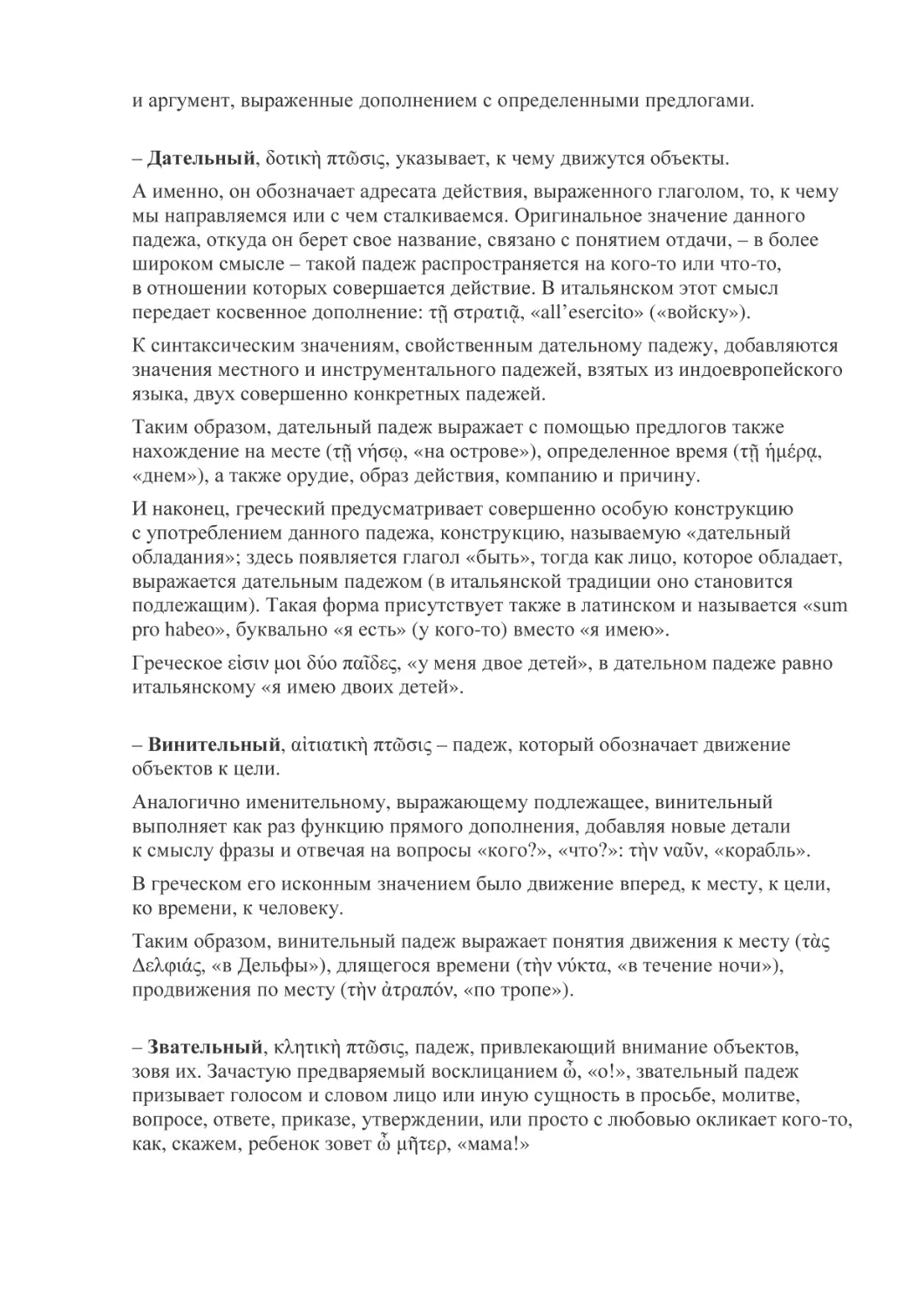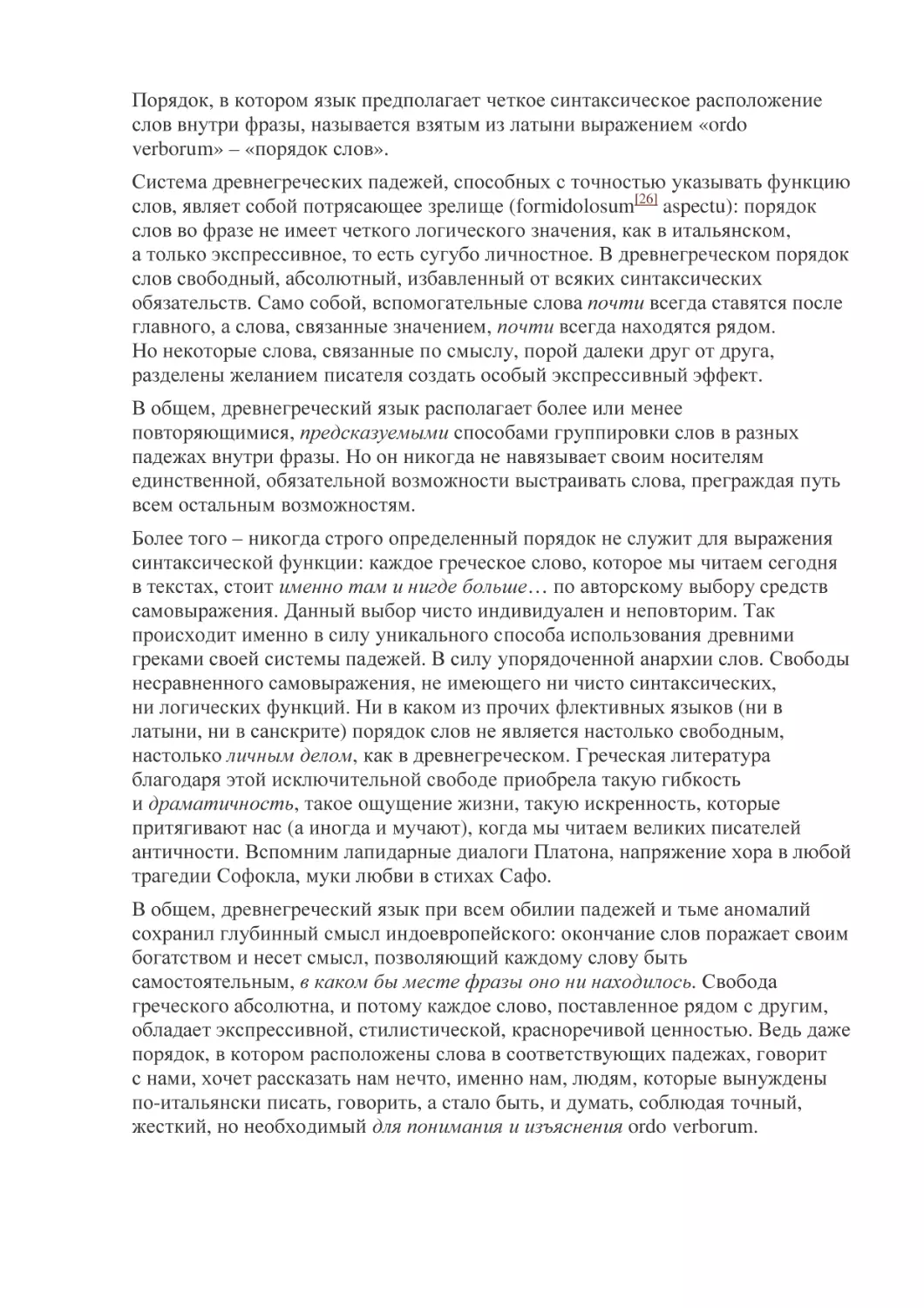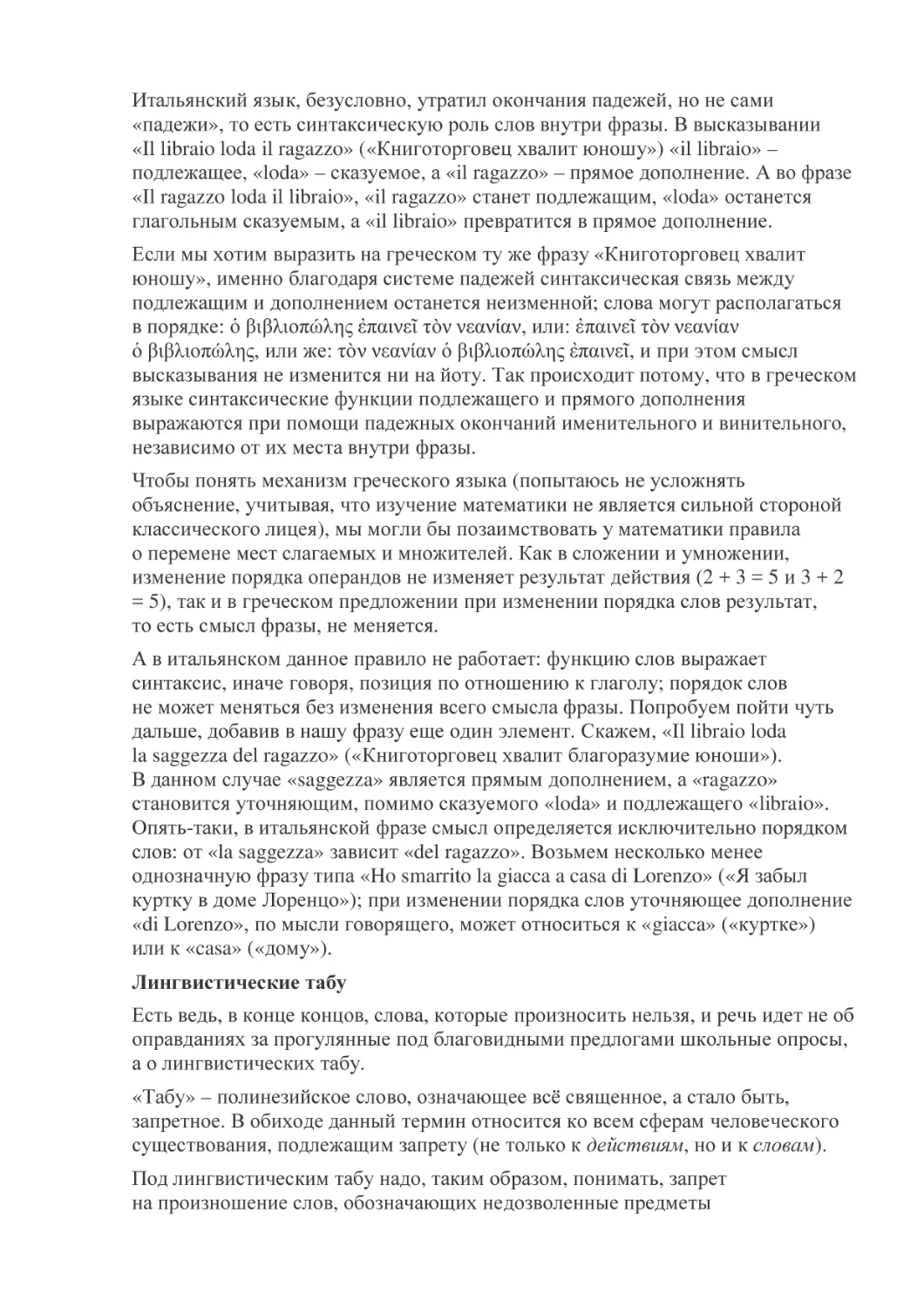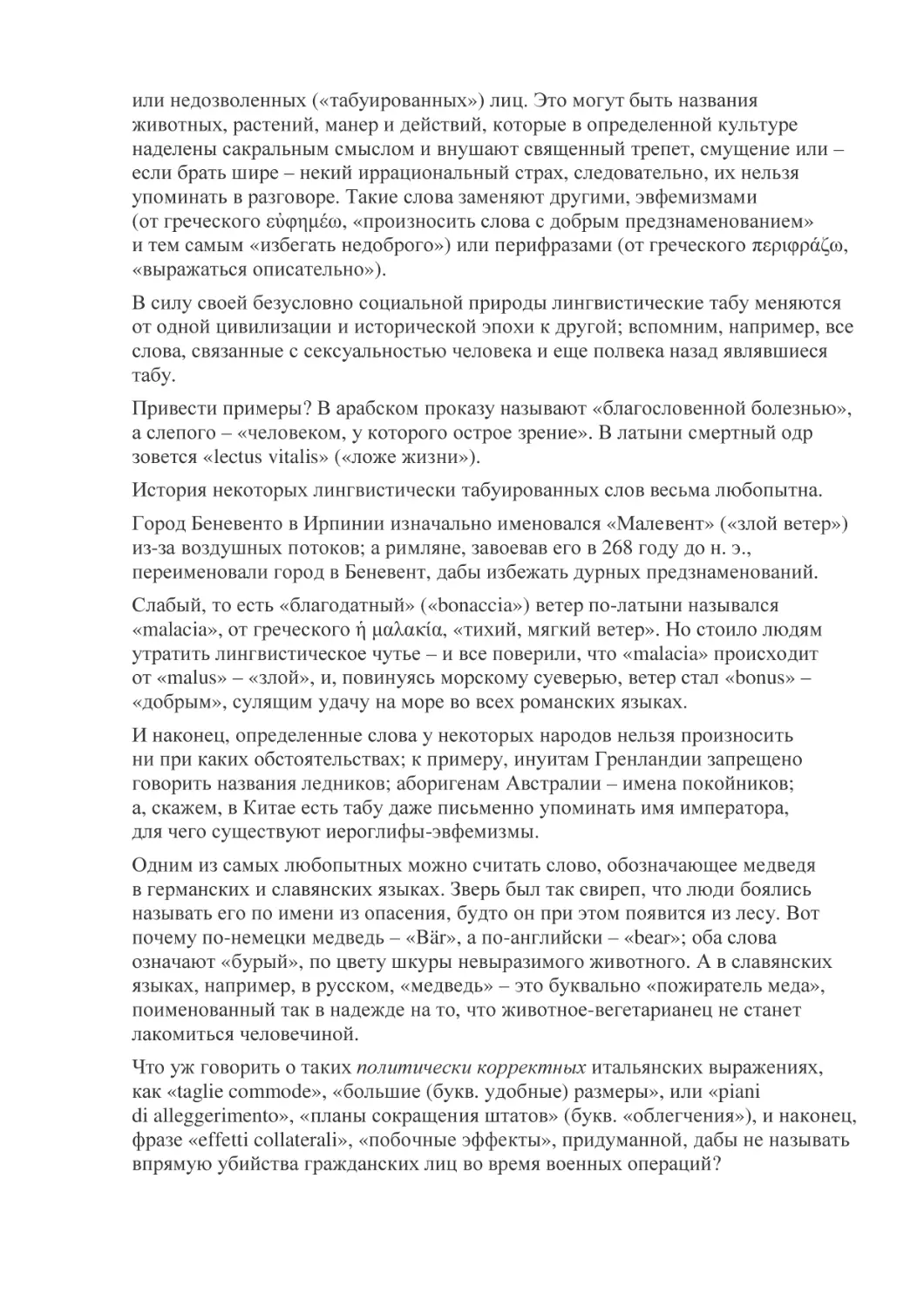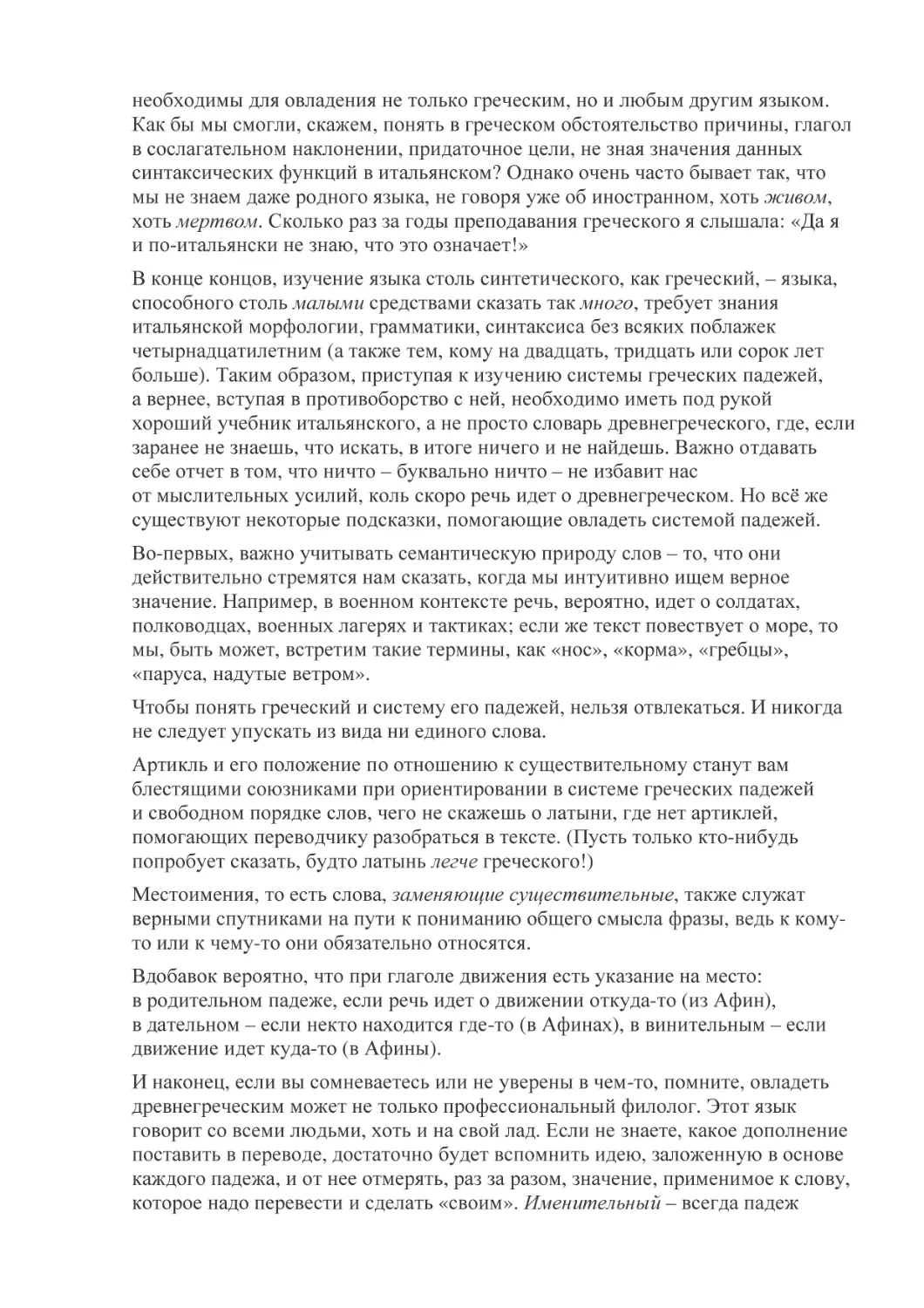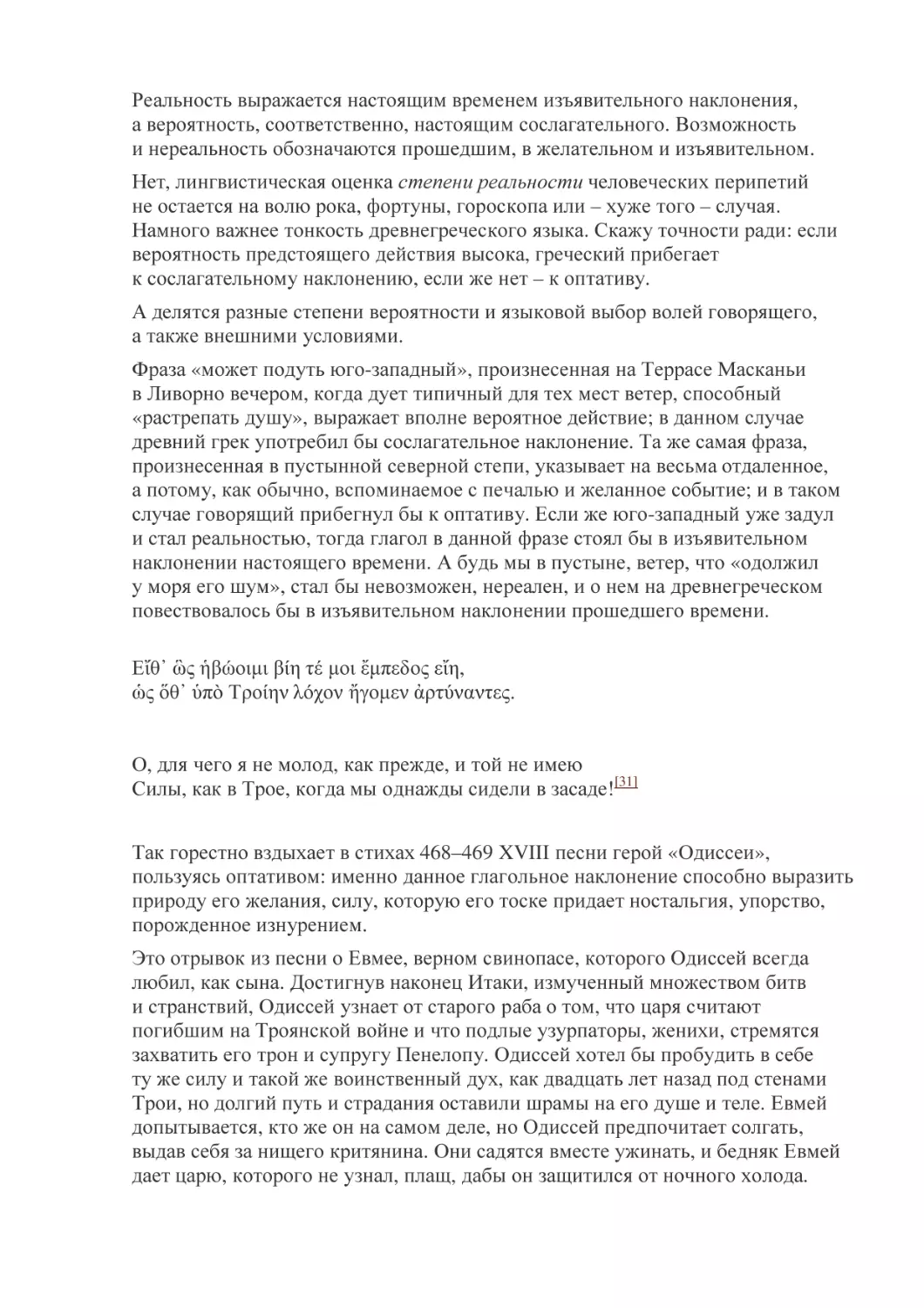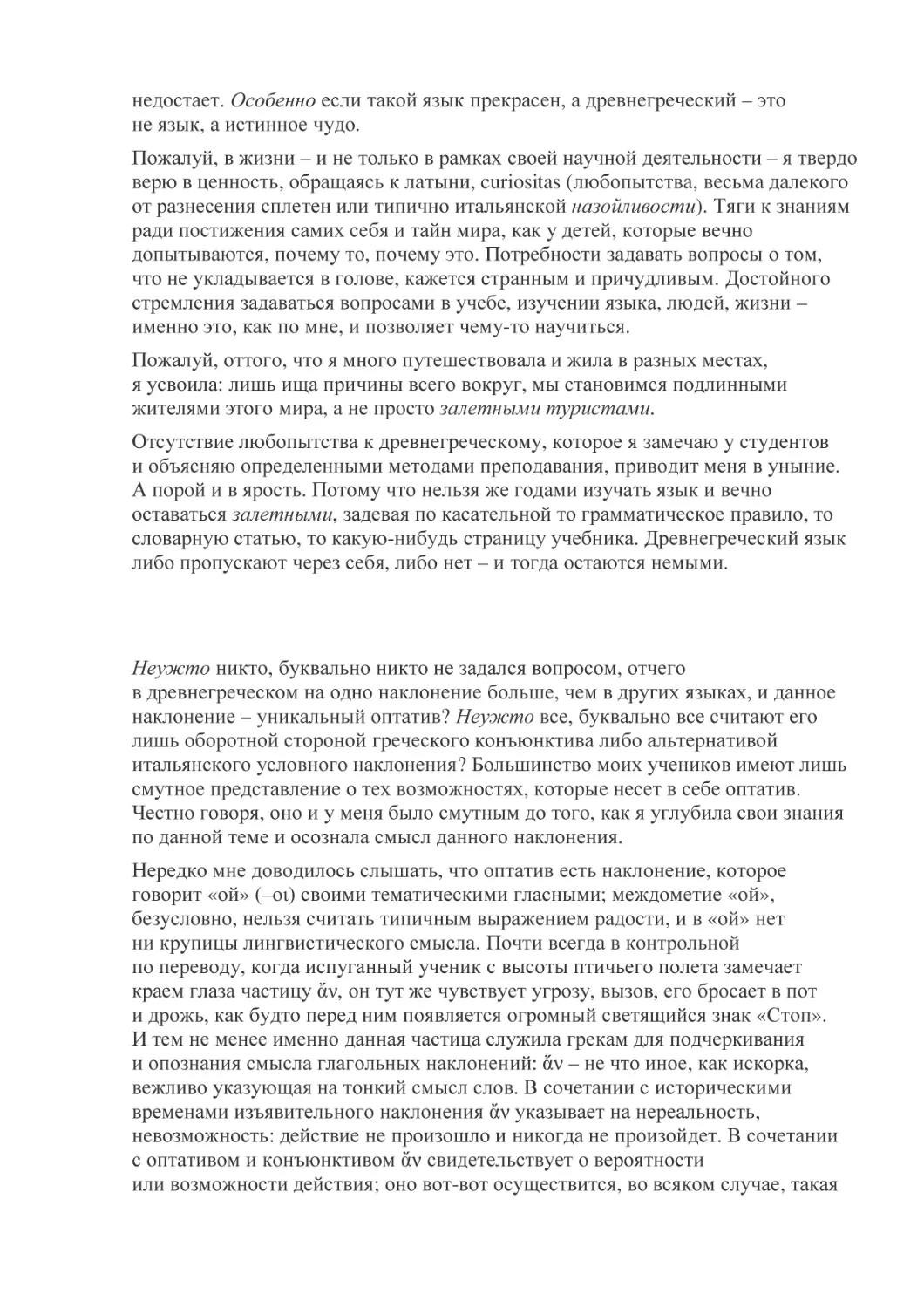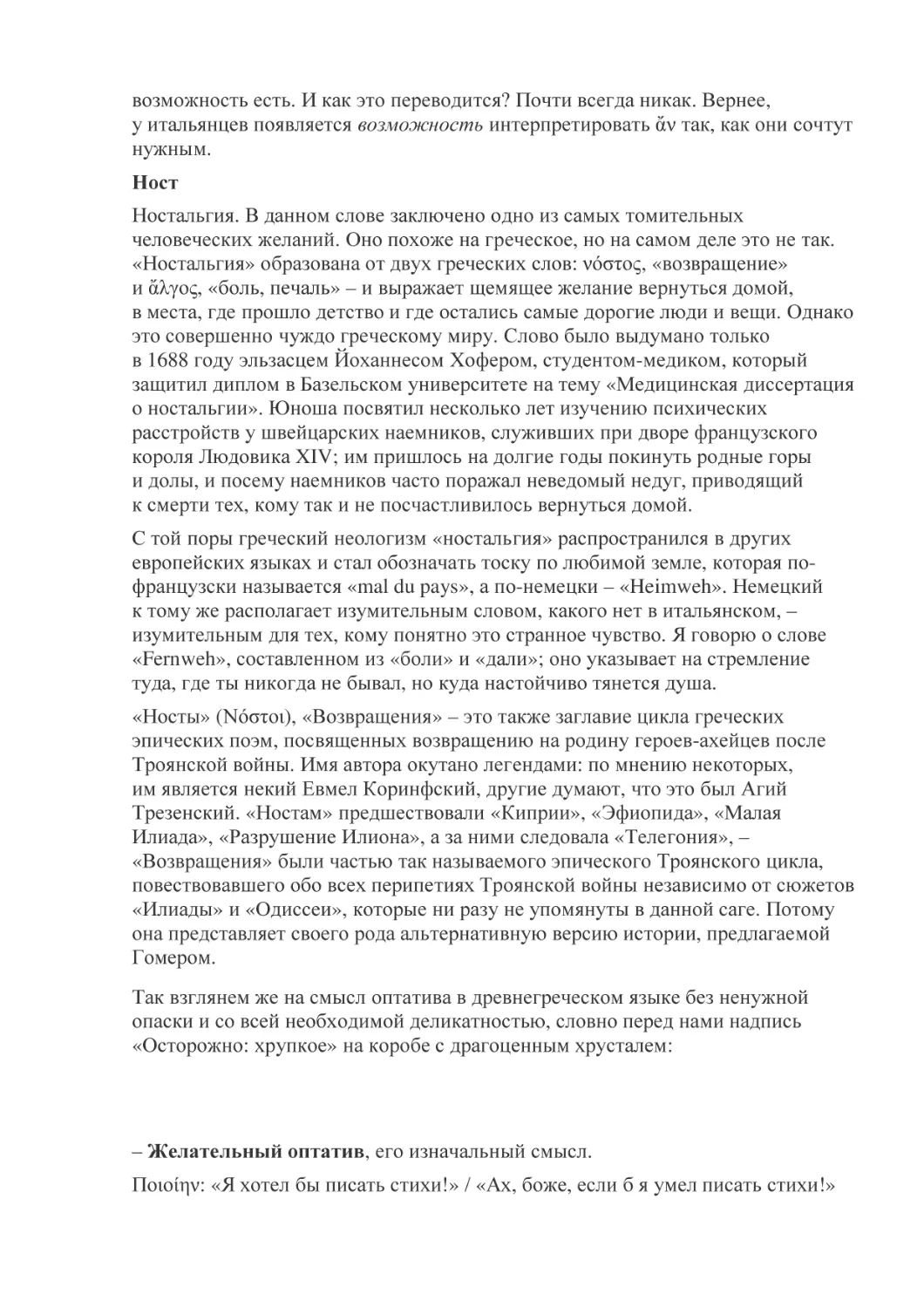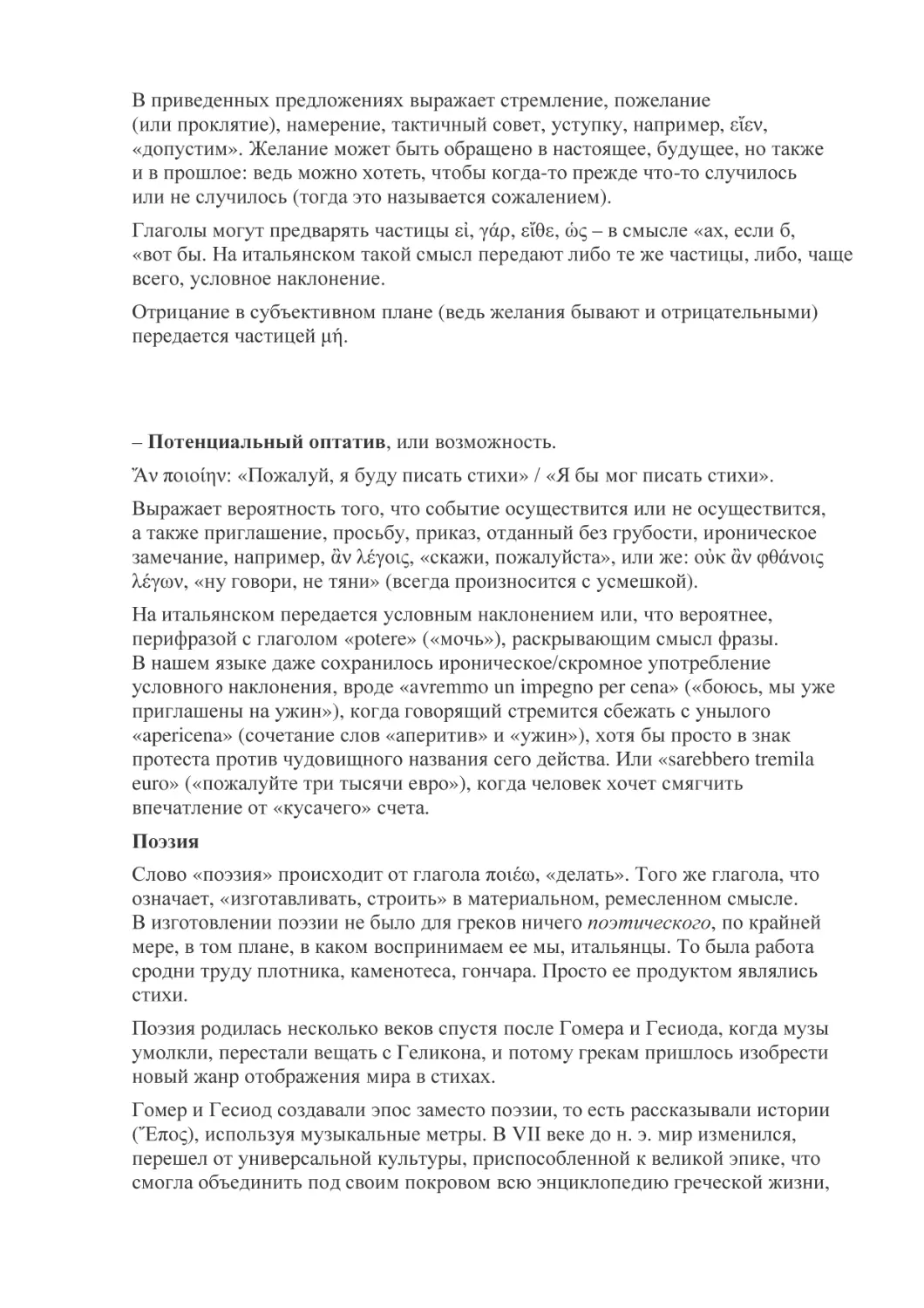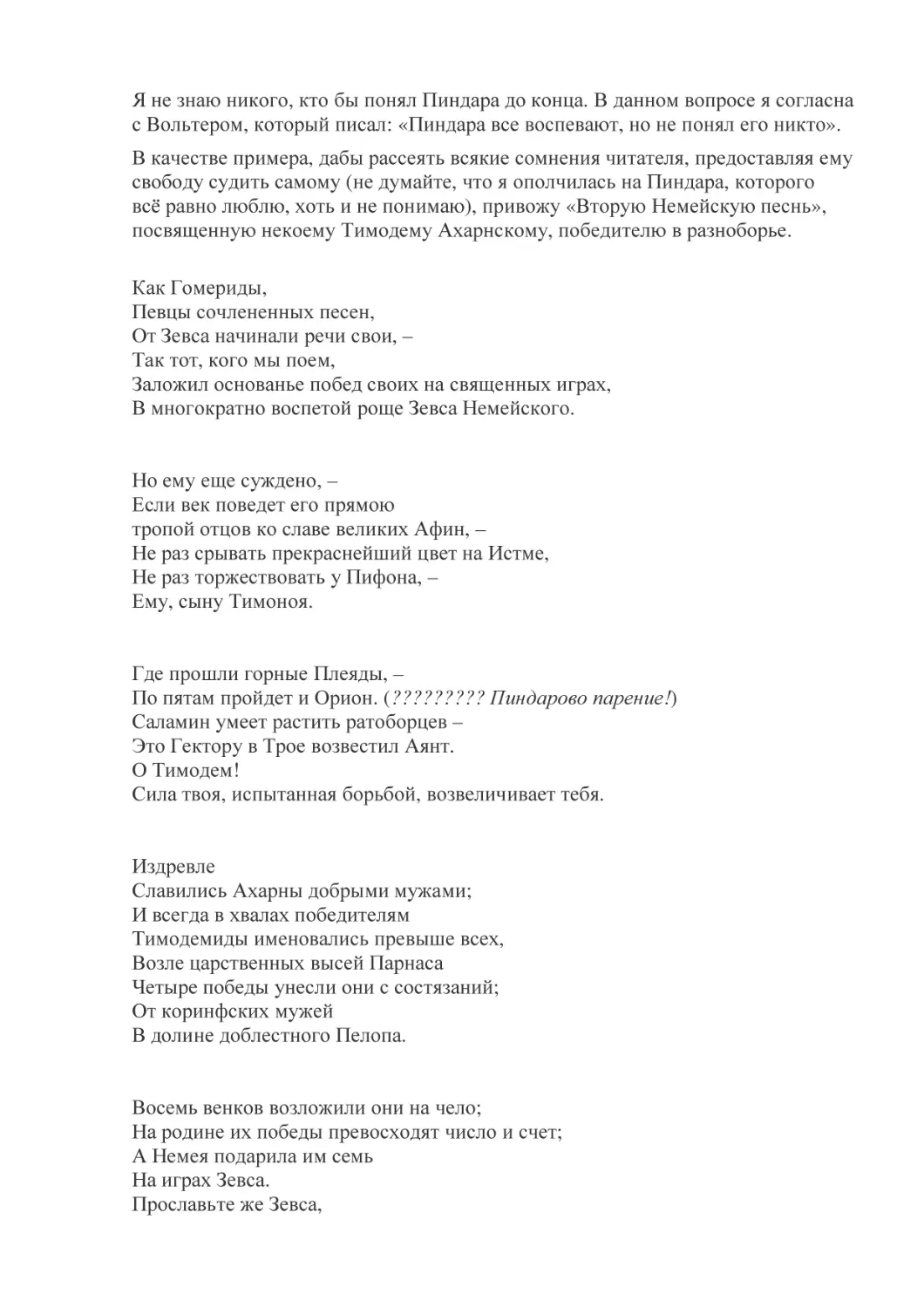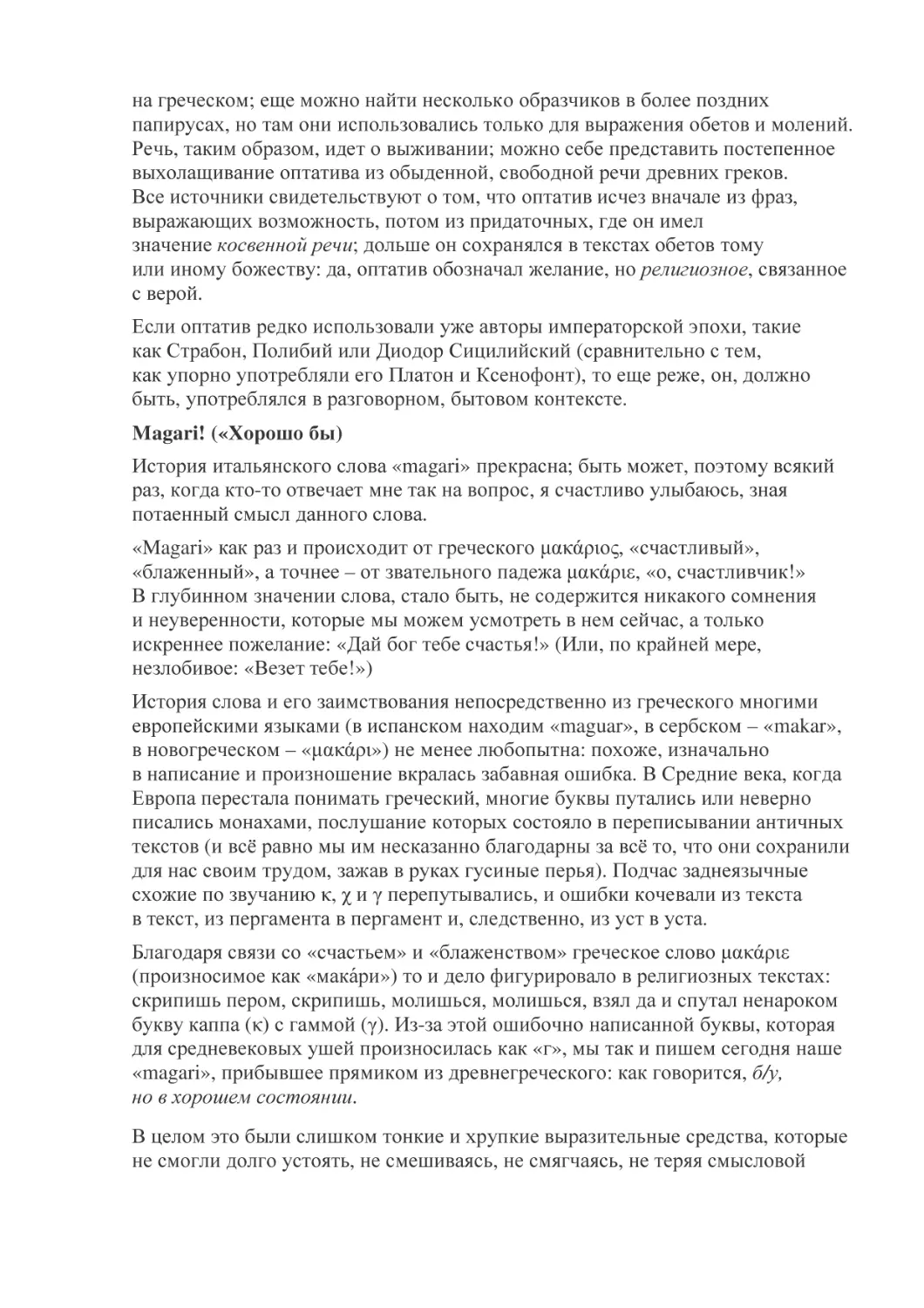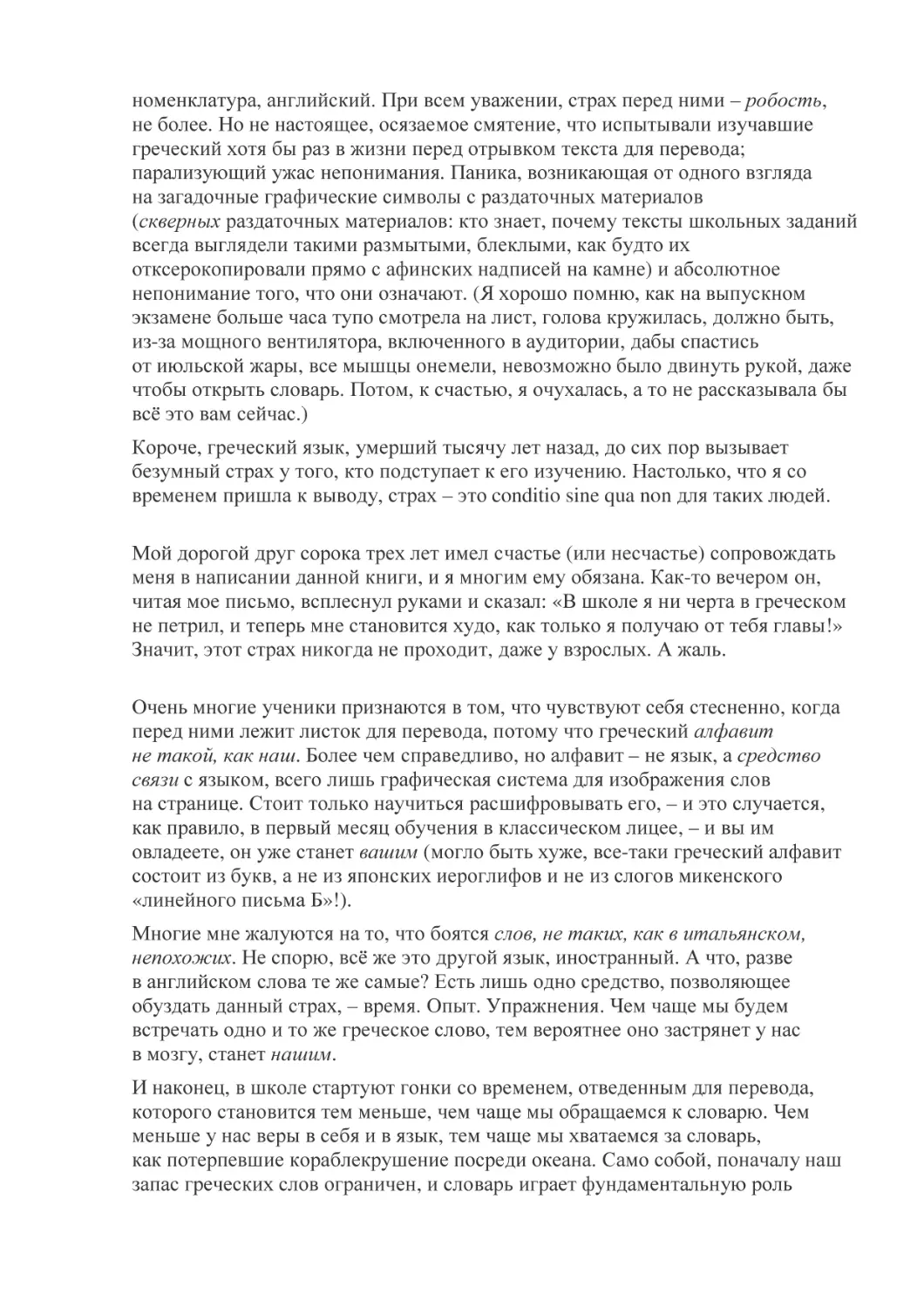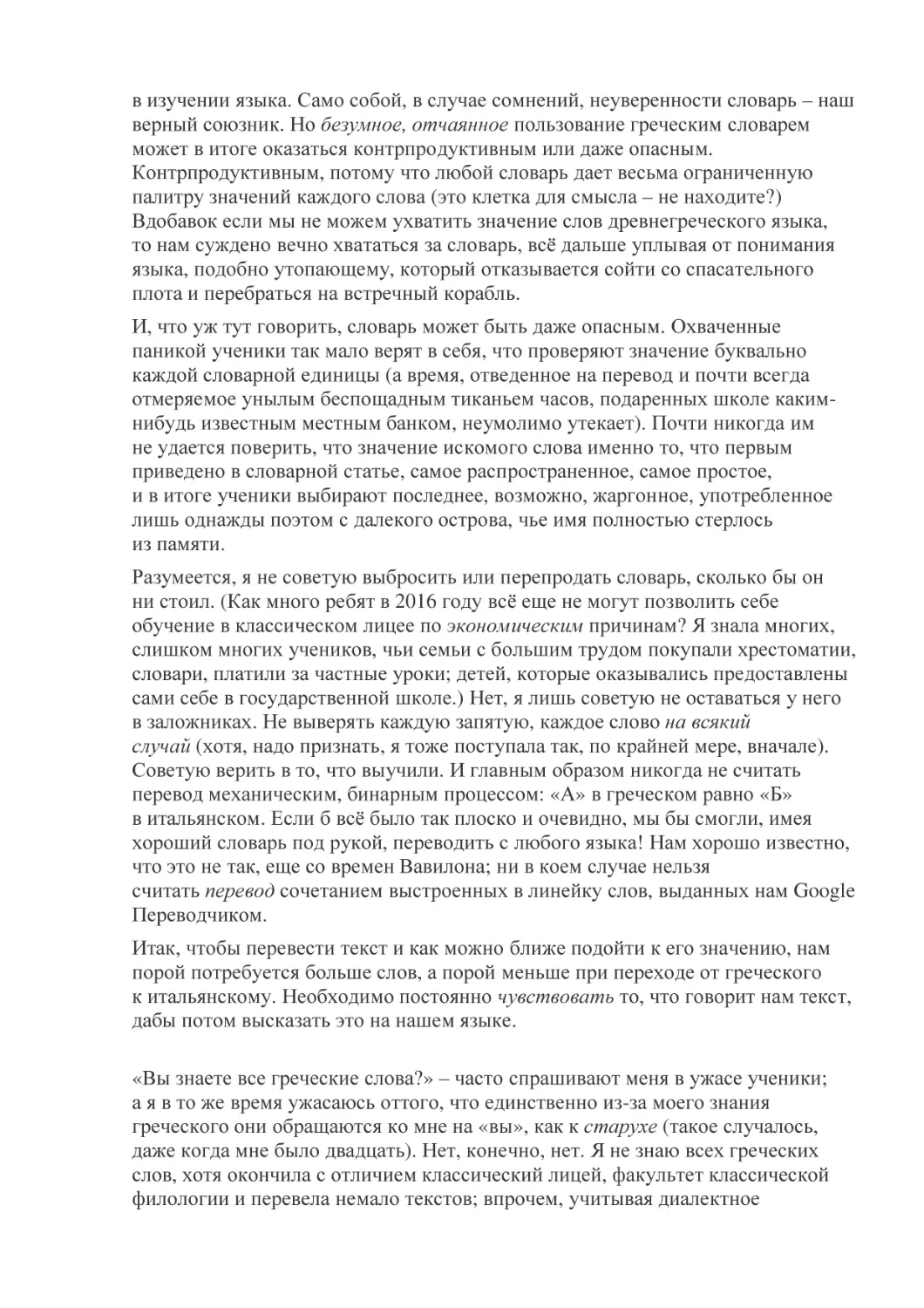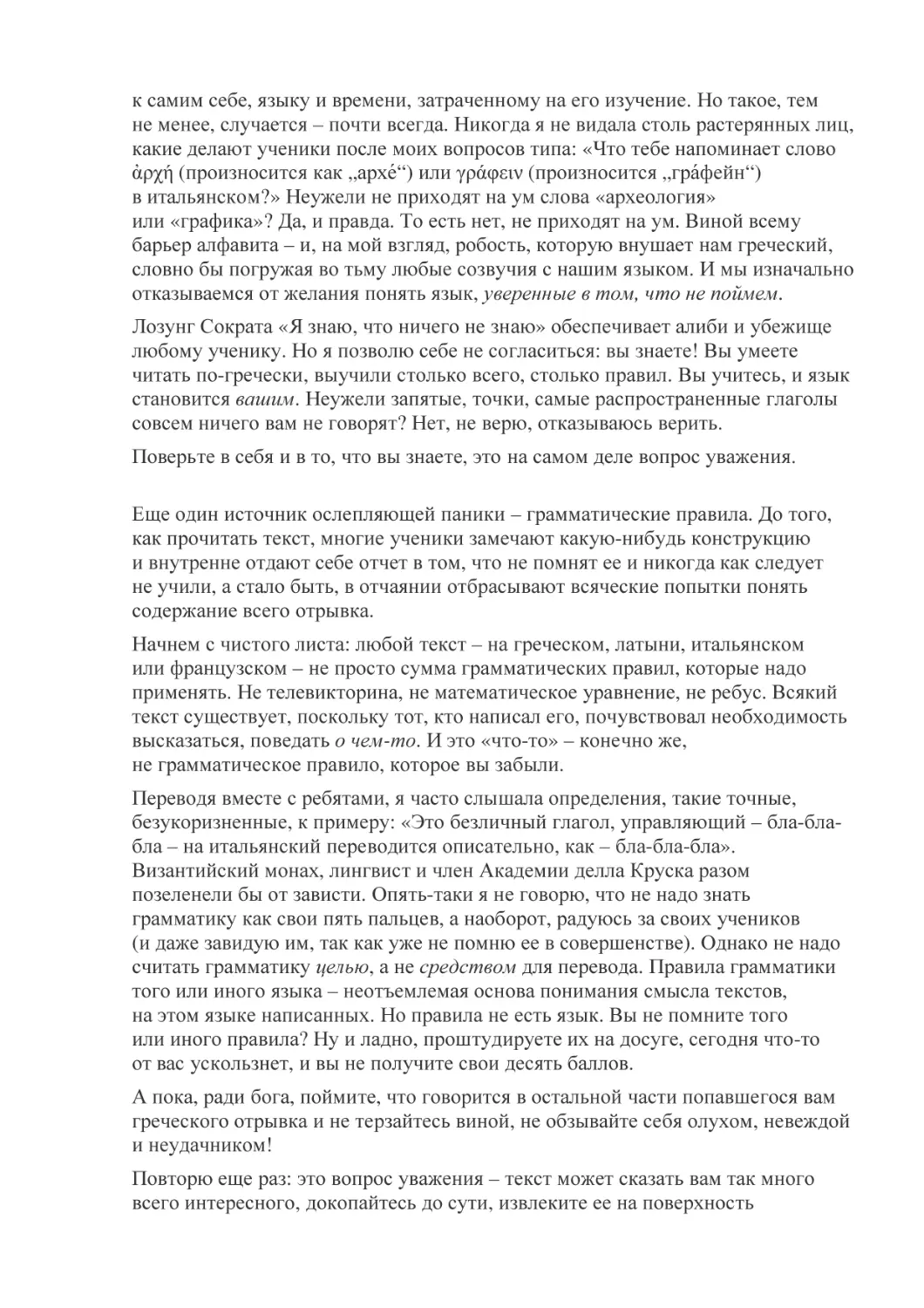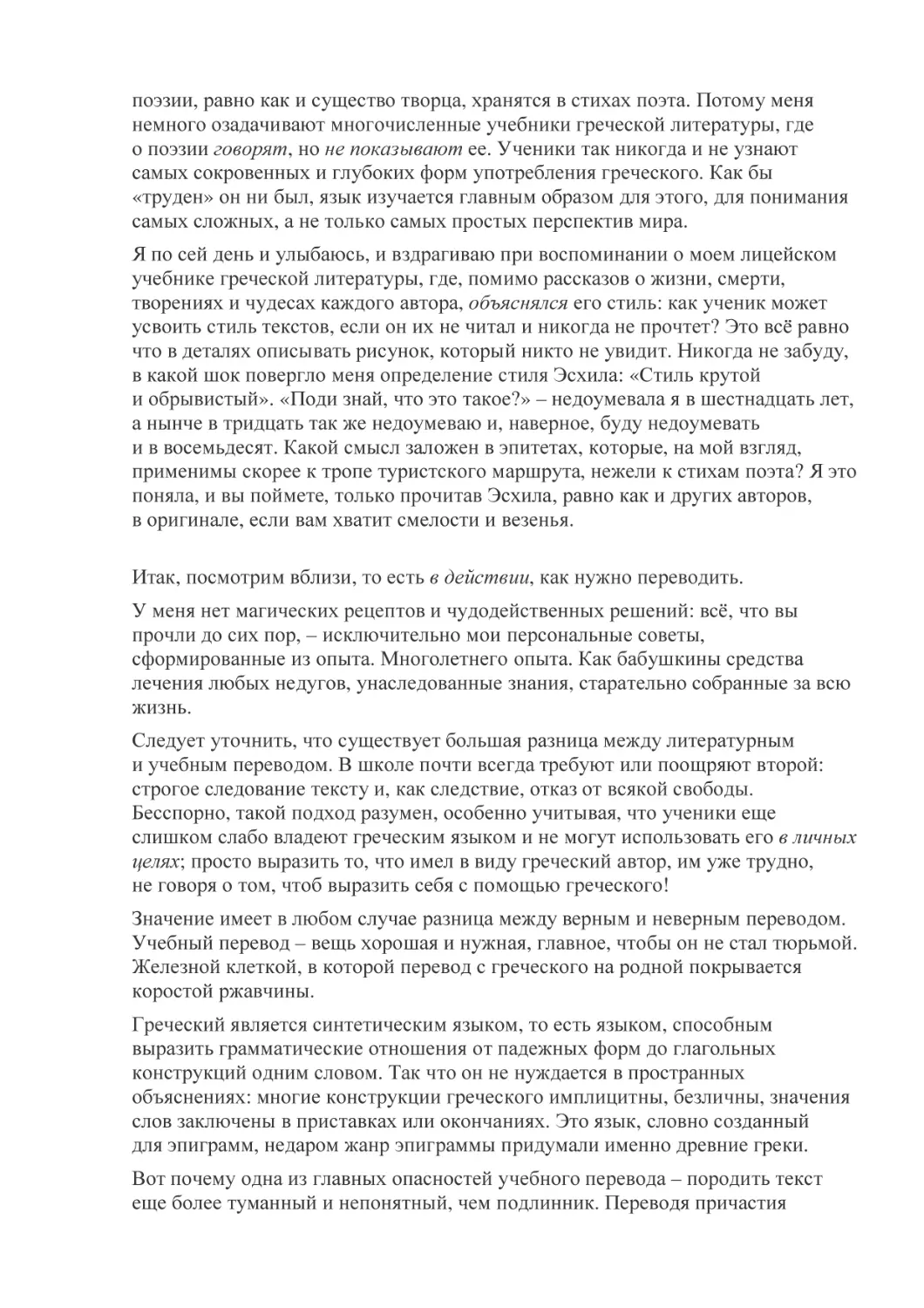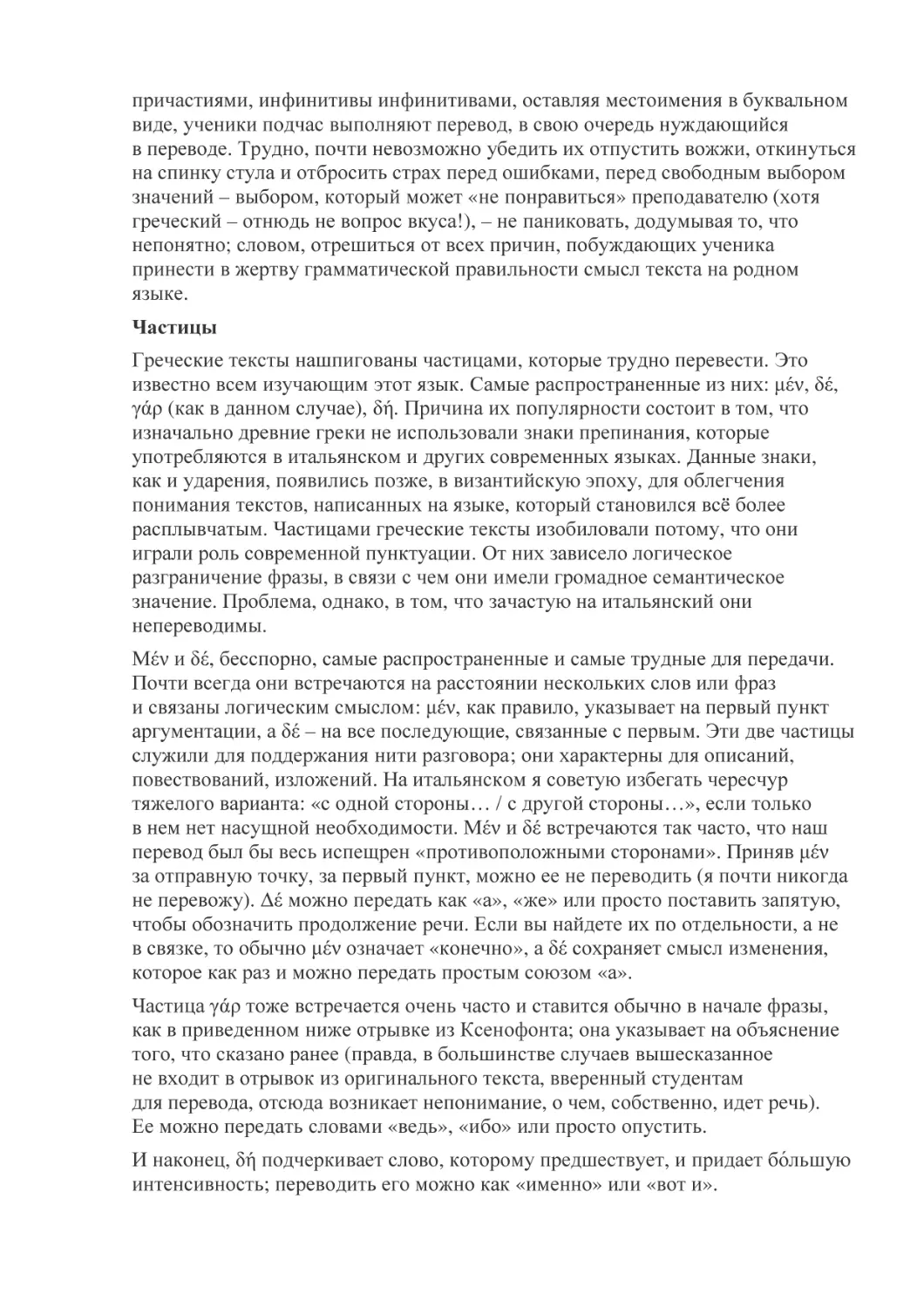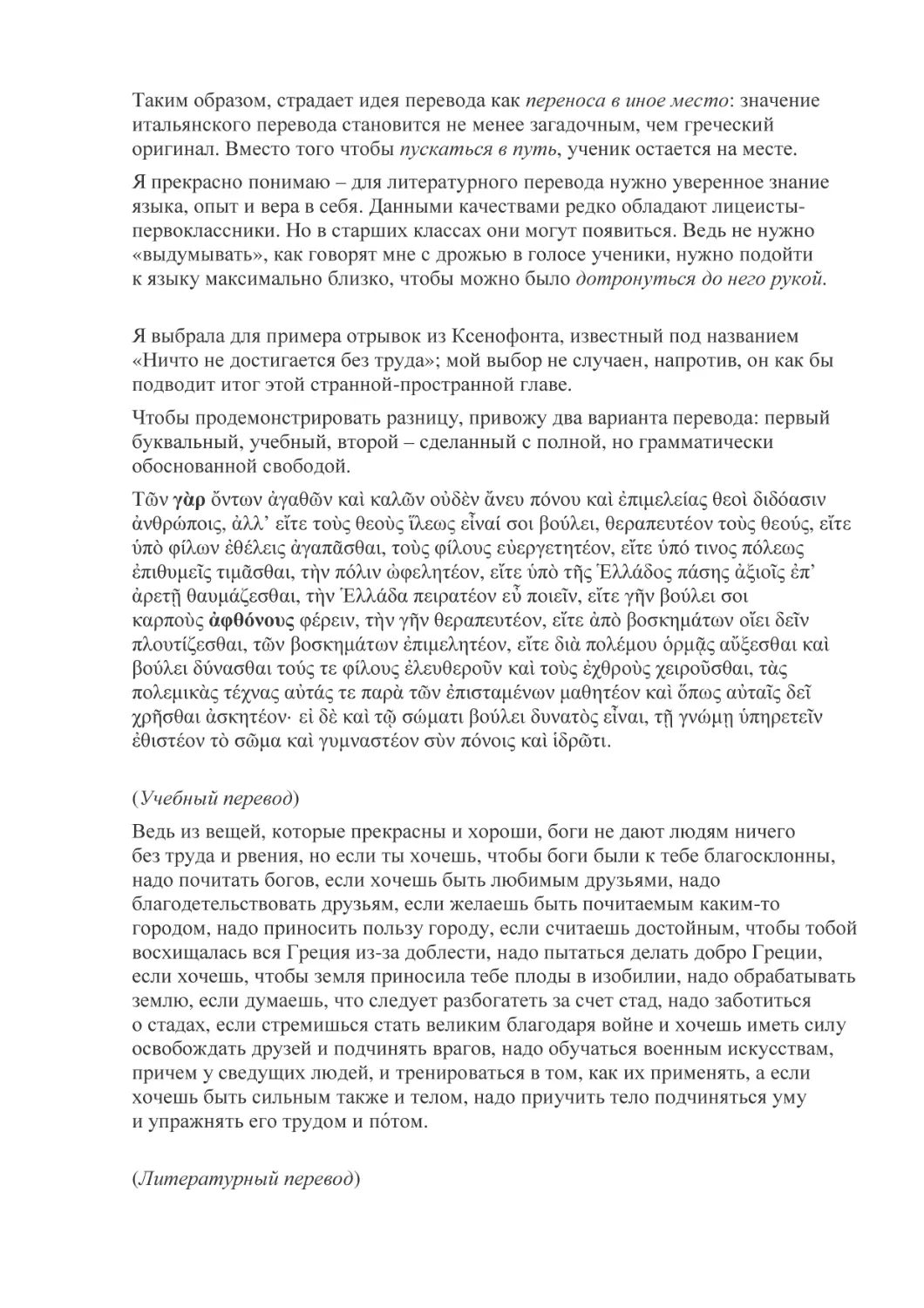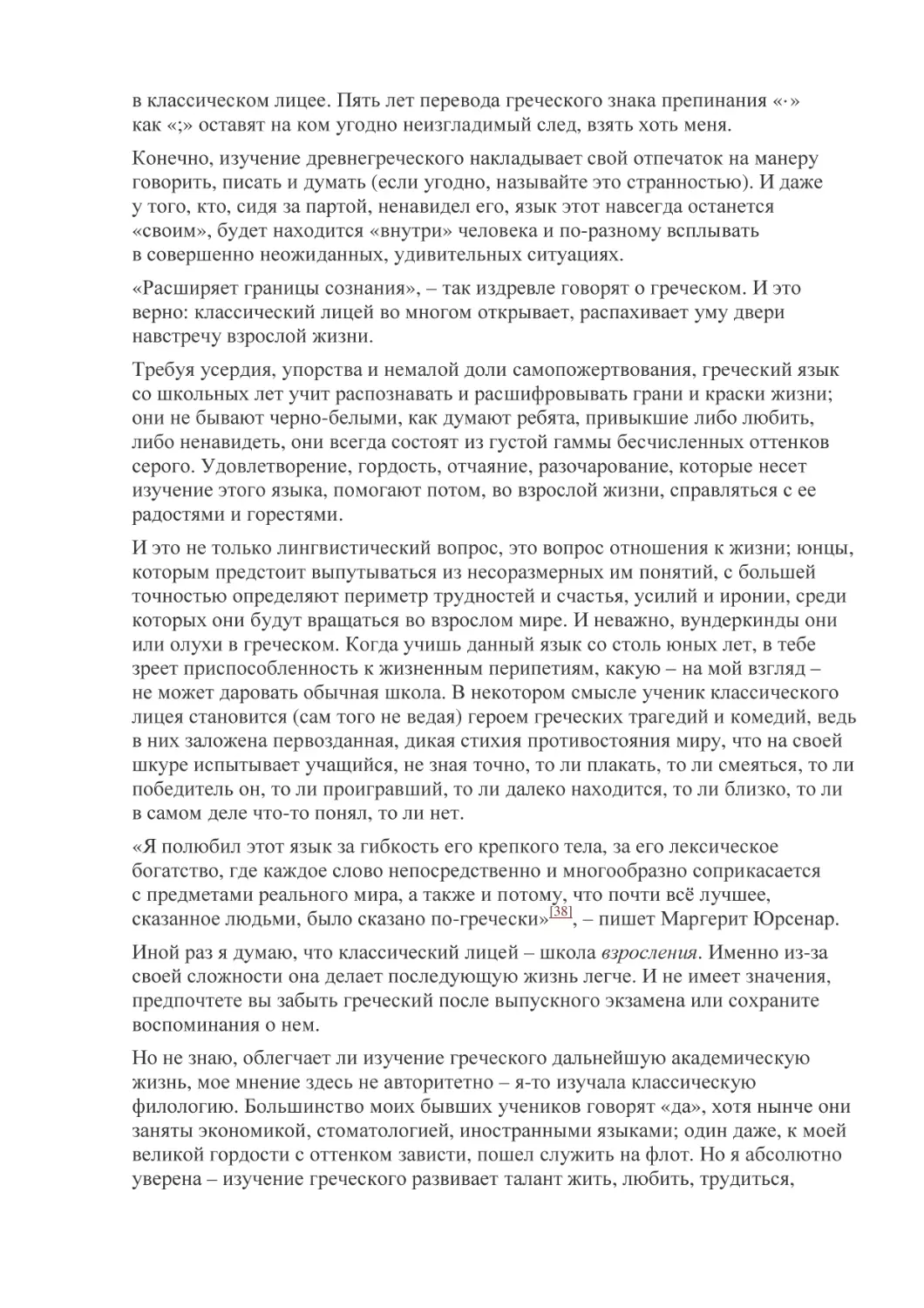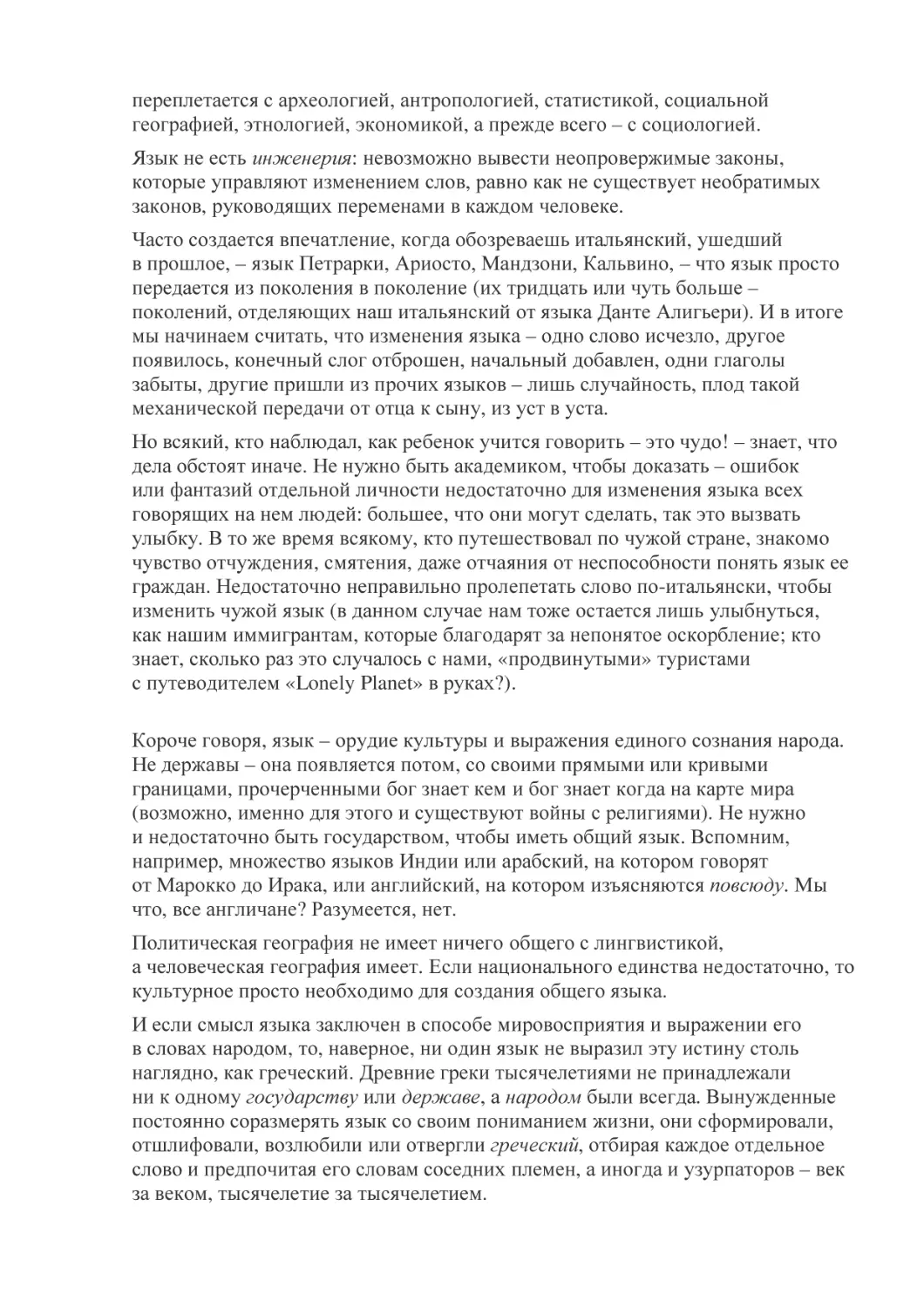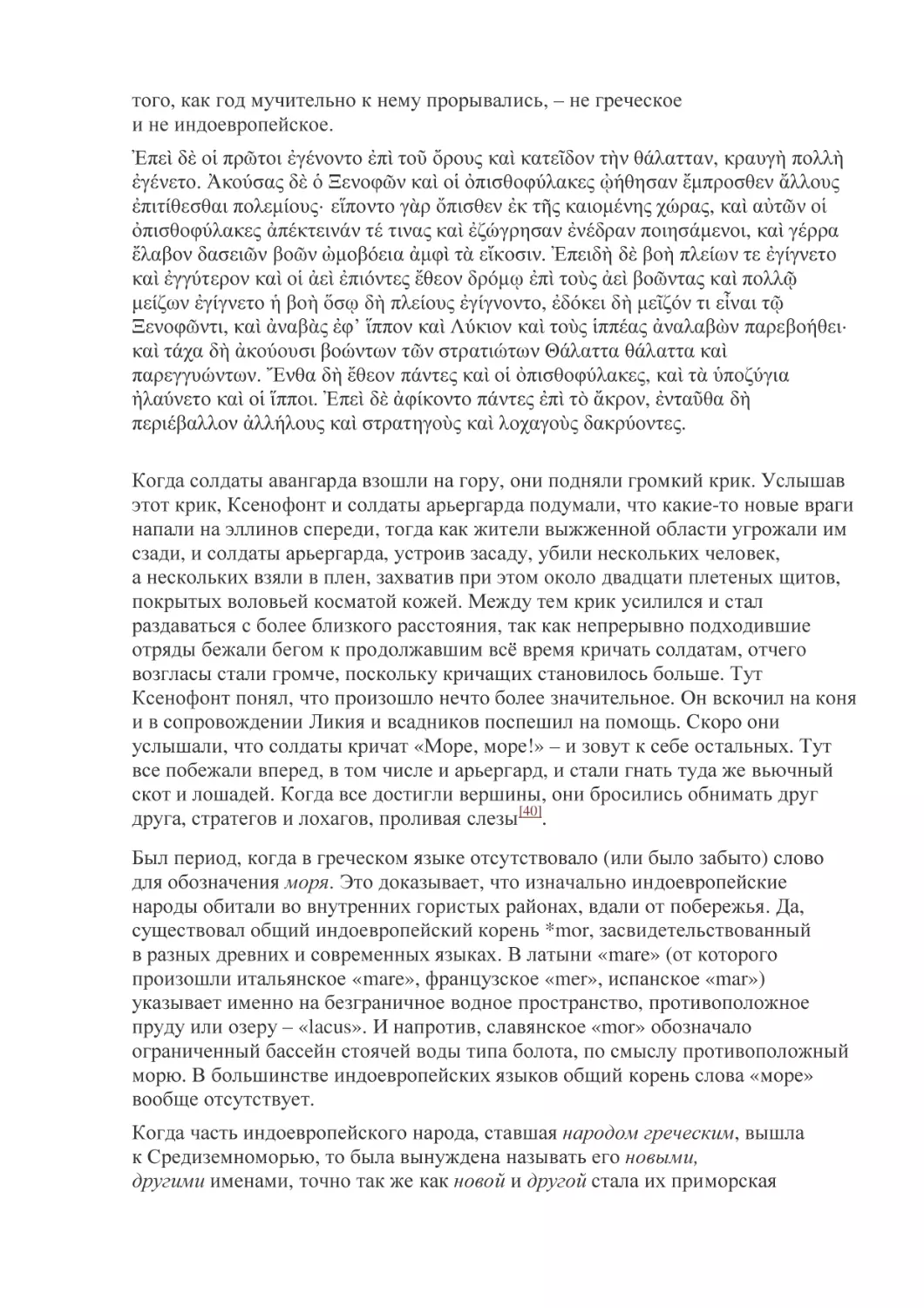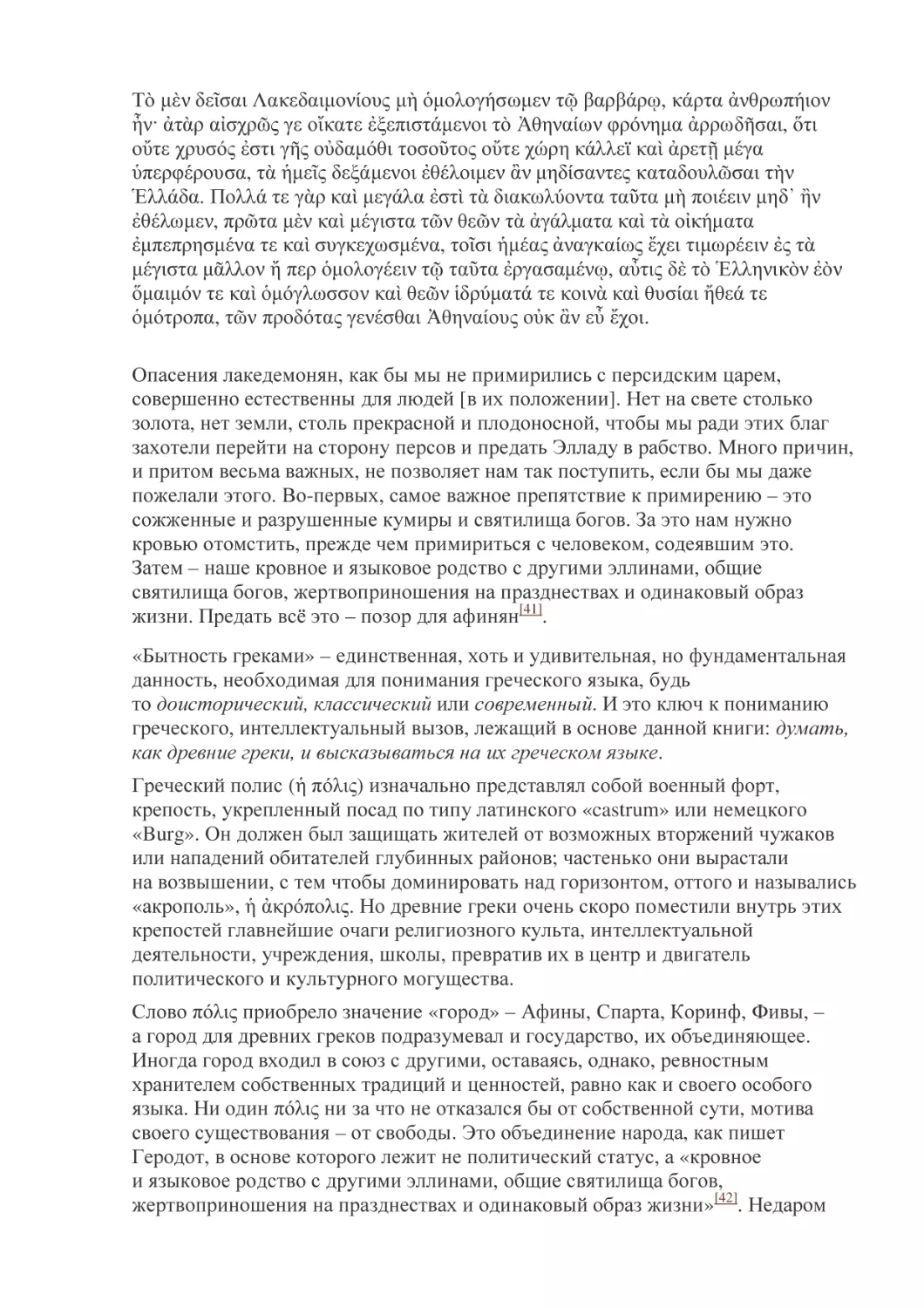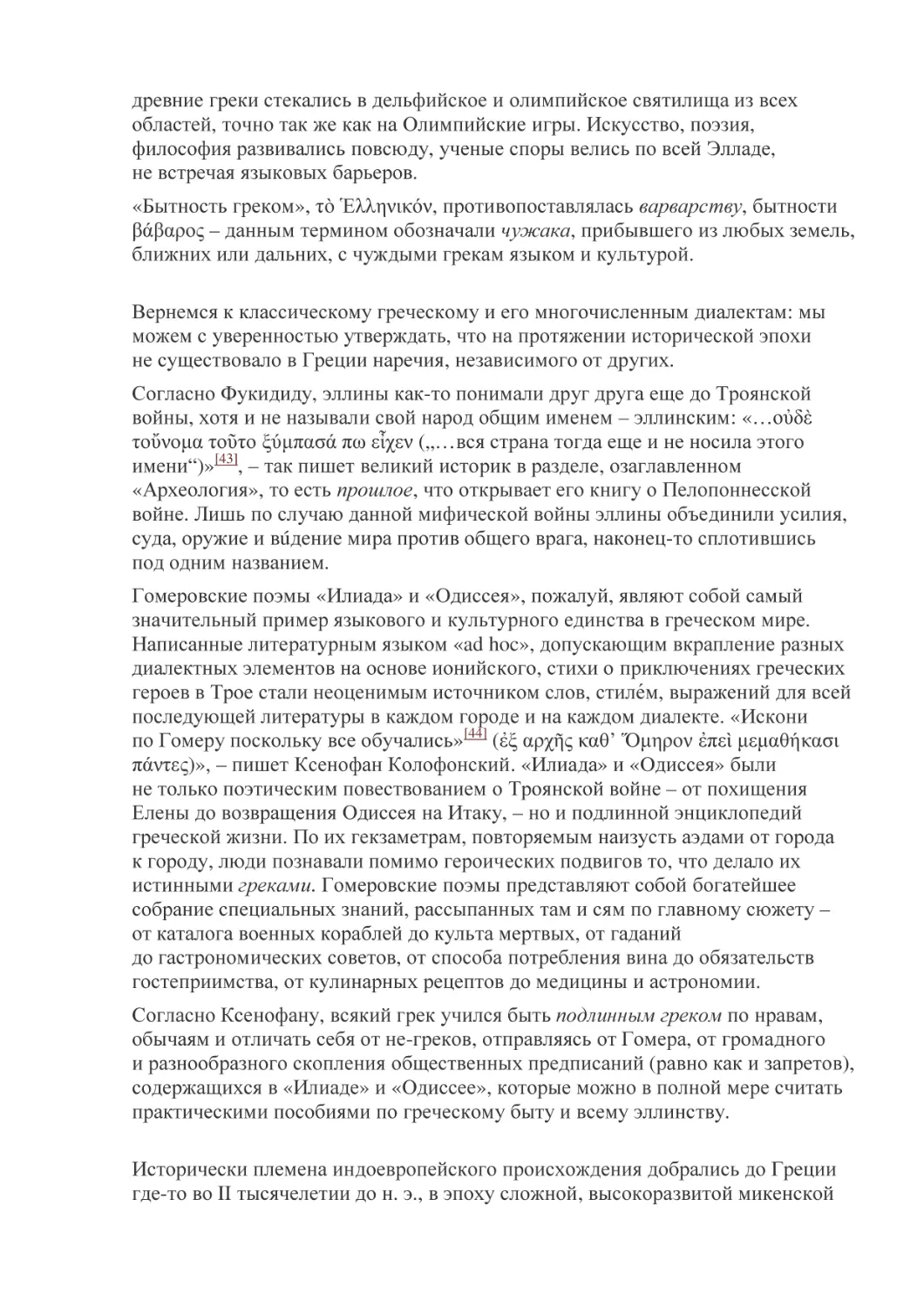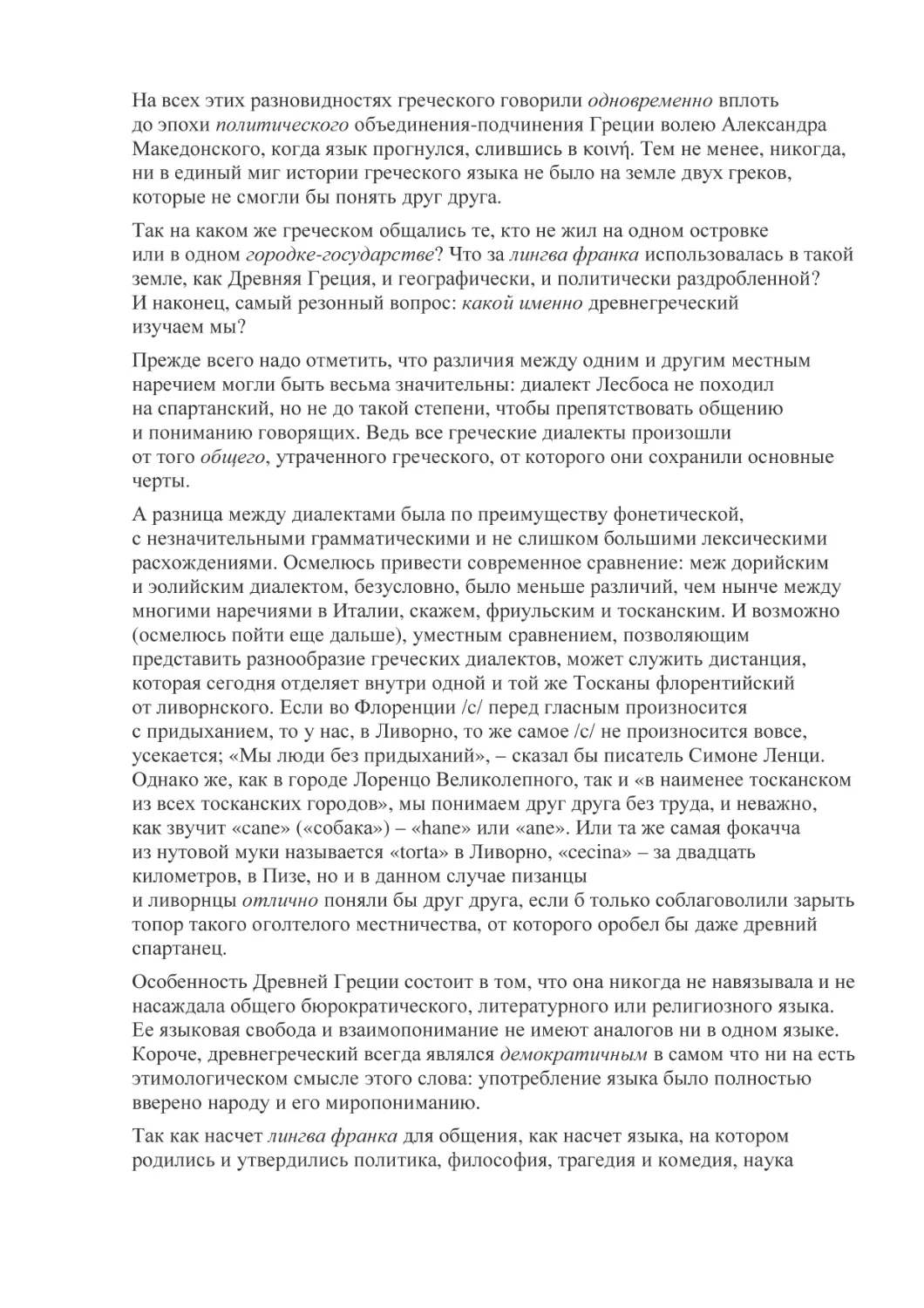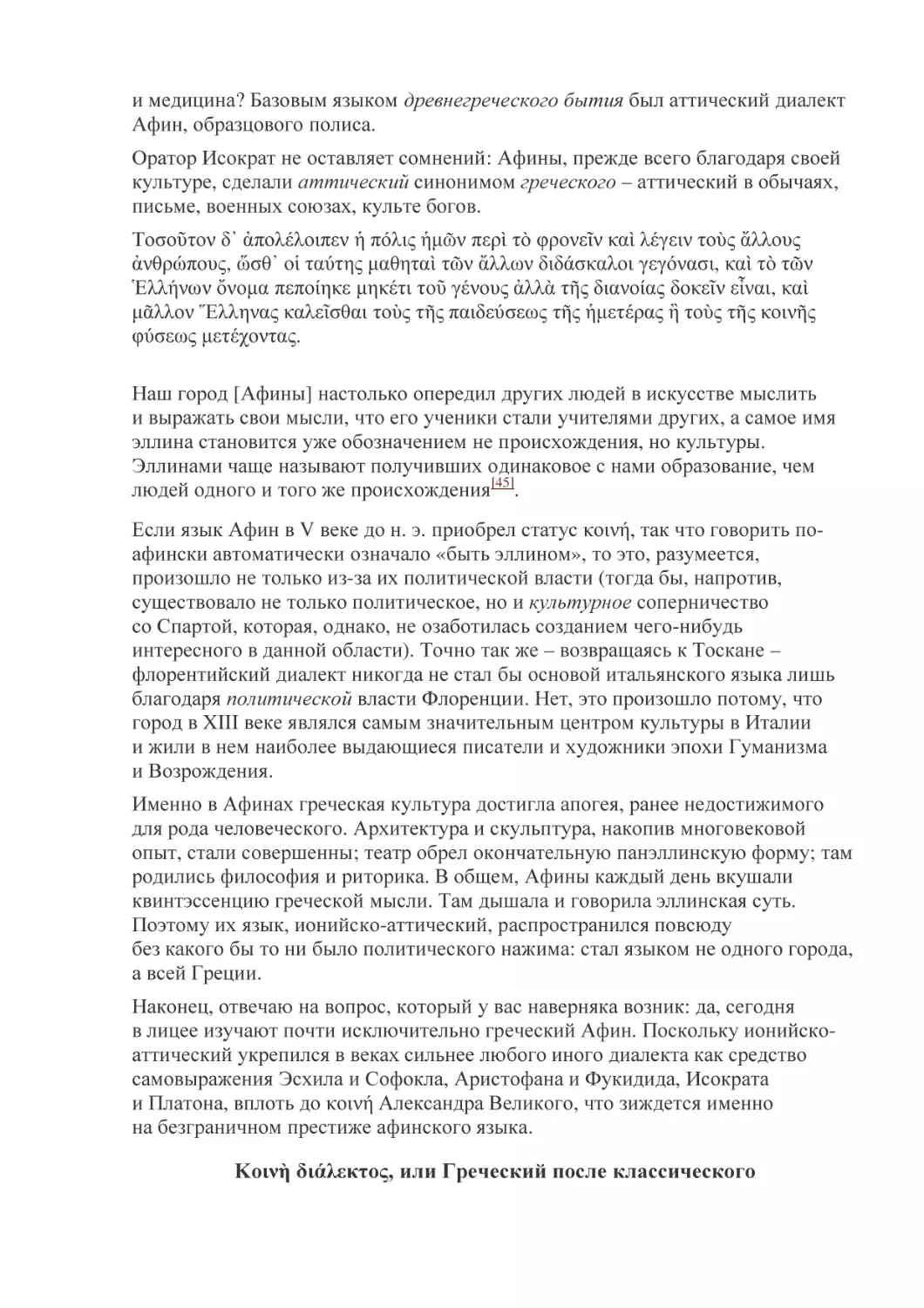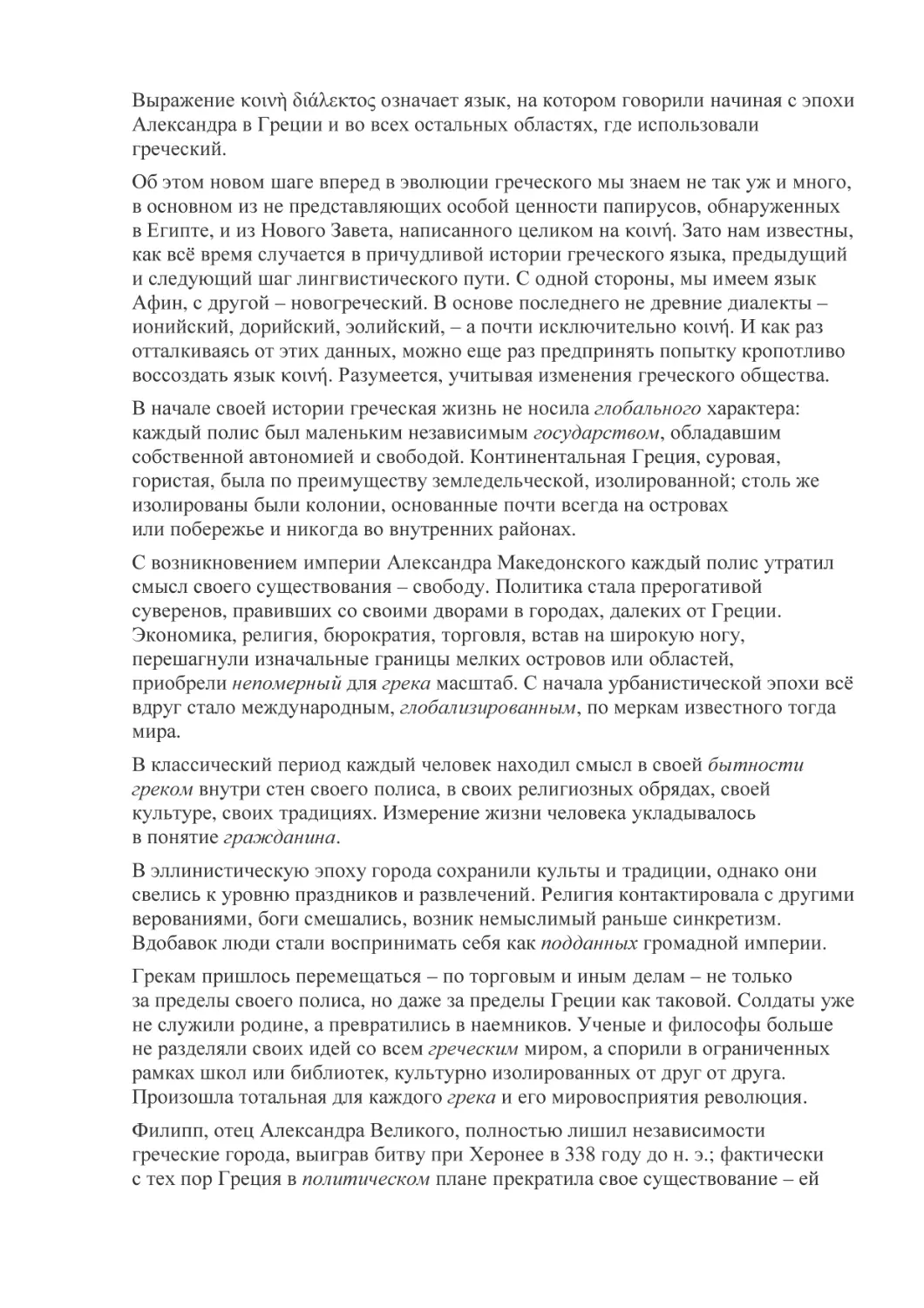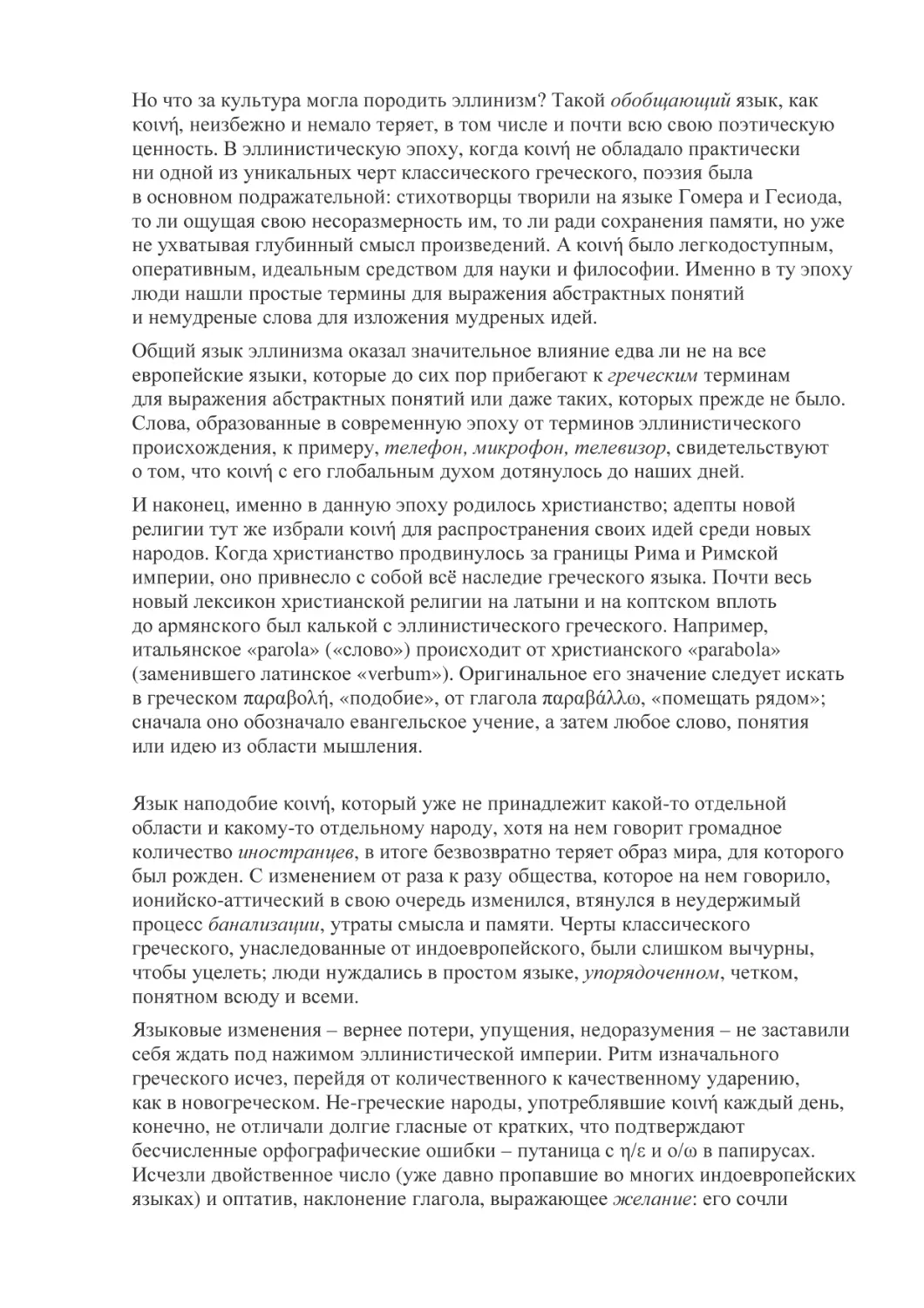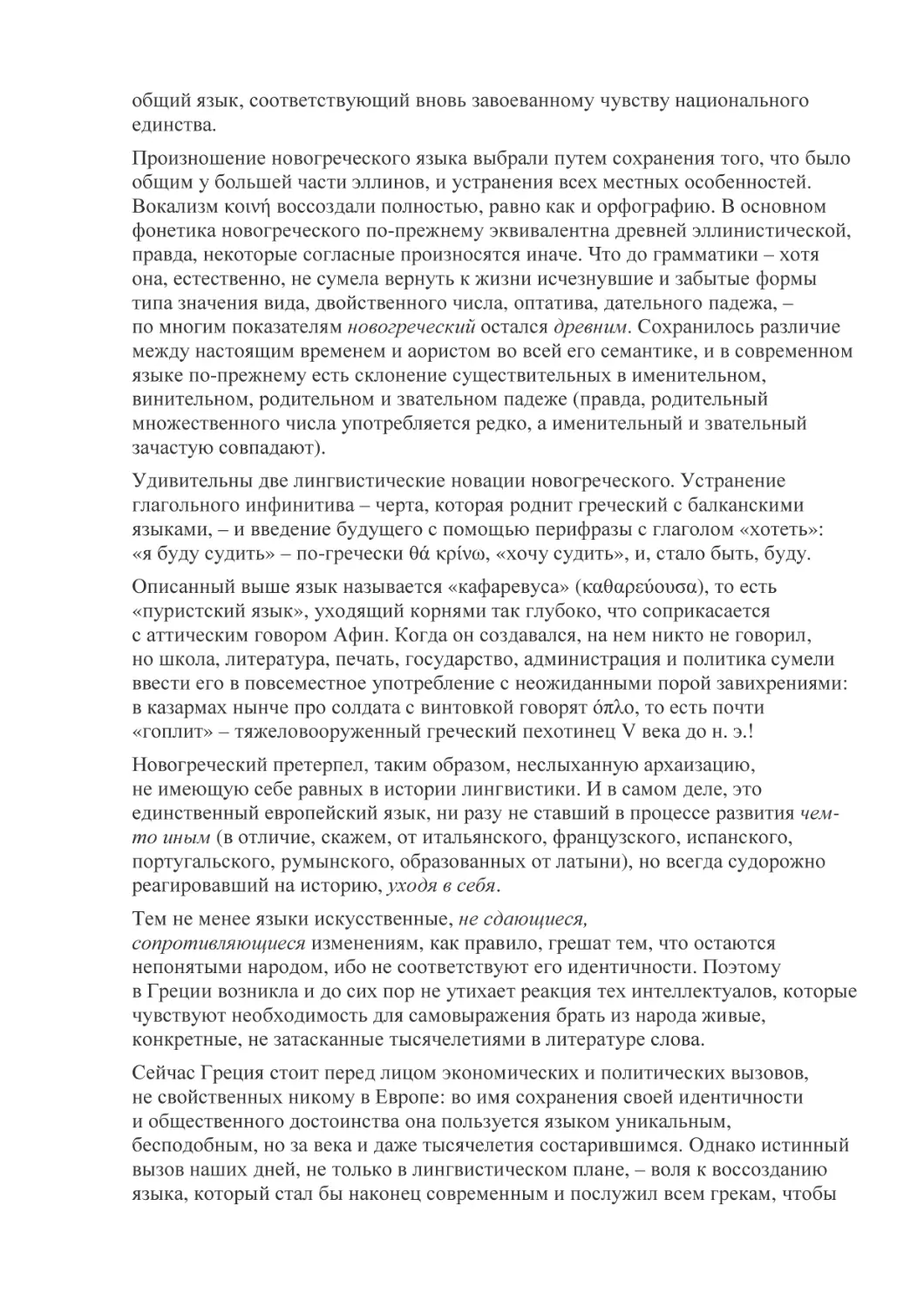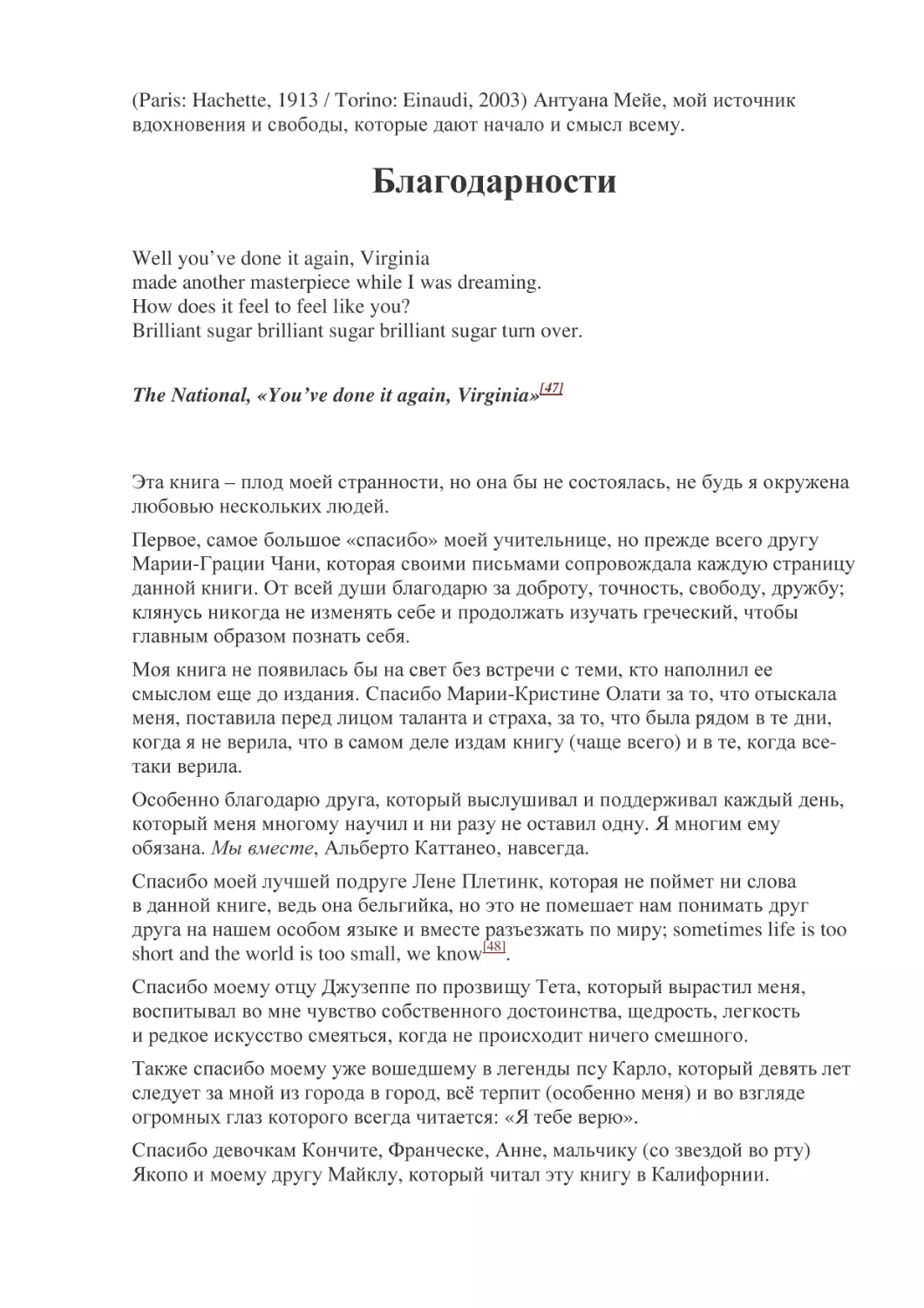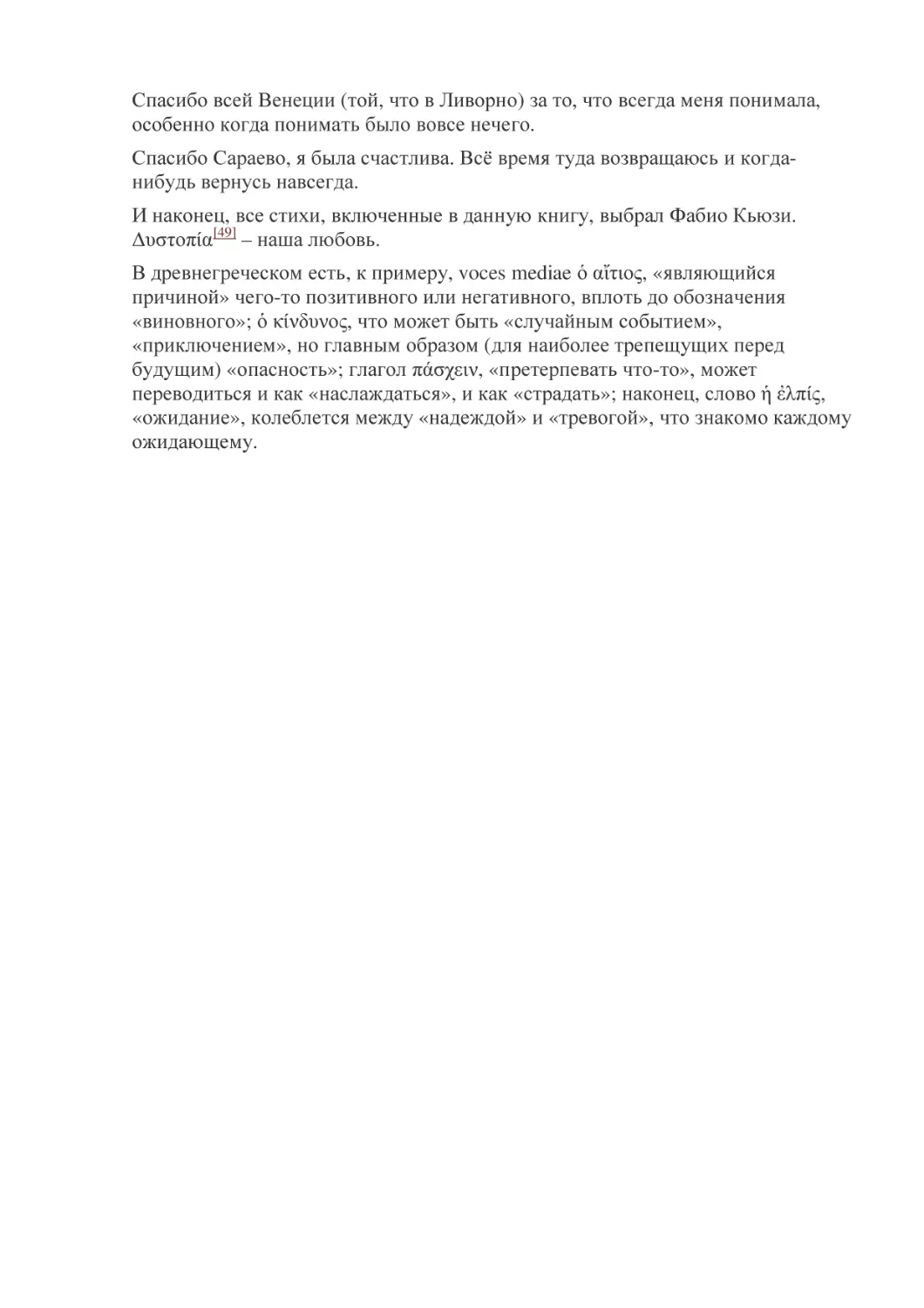Текст
Андреа Марколонго
Гениальный язык. Девять причин
полюбить греческий
Questo libro è stato tradotto grazie a un contributo del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale italiano / Эта книга переведена благодаря
финансовой поддержке Министерства иностранных дел и международного
сотрудничества Италии.
© Gius. Laterza & Figli, all rights reserved, 2016
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2023
***
Посвящается Ливорно, Сараево, мне самой
Введение
Море сжигает маски
Едким раствором соли.
Люди и все их маски
Сверкают на берегу.
Ты одна устоишь
На костре карнавала.
Ты, что без маски прячешь
Жизненное искусство.
Джорджо Капрони.
Из книги «Хронистория»
«Странно» – очень странно – «…что, несмотря на бесчисленные разрешения
и лакуны, кто скажет, из каких разнородных обломков составлено наше так
называемое знание греческого и насколько совпадает наше представление о нем
с исконным его смыслом? ‹…› несмотря на все эти препятствия, мы рвемся
к знанию древнегреческого, стремимся постичь его тонкости, он неизменно
притягивает нас», – пишет Вирджиния Вулф. Потому что мы «невежды
и двоечники по этому предмету, раз нам не известно ни точное произношение
древнегреческих слов, ни природа комического у греков – мы даже
не представляем, где надо смеяться по ходу драмы…»[1]
Я тоже странная – более чем…
И благодарна этой странности, ненамеренно, как всё прекрасное, что случается
в жизни, приведшей меня к написанию книги о древнегреческом языке. В силу
своей странности я загорелась желанием не только изучить его, но и рассказать
о нем.
Вам. Опять-таки, разумеется, от лица худшей ученицы в классе, но хотя бы
способной теперь сказать, где именно следует смеяться.
Мертвый язык и живой язык.
Лицейская пытка и мытарства Одиссея.
Перевод или иероглифика.
Трагедия или комедия.
Понимание или недоразумение.
В основном, любовь или неприязнь.
А значит, бунт.
Для понимания греческого – точно так же, как и для понимания жизни – нужен
не талант, а решимость действовать.
Я написала книгу лишь потому, что влюбилась в древнегреческий язык
в детстве; по большому счету, это самая длинная в моей жизни любовь.
Теперь же, став взрослой женщиной, я хотела бы попробовать подарить
(или возвратить) немного любви разлюбившим этот язык – почти всем
взрослым, которые окунулись в него, будучи лицеистами. И даже, может быть,
влюбить в греческий тех, кто его совсем не знает.
Да, моя книга прежде всего о любви – к языку, но главным образом
к человеческим существам, которые говорят на нем, а коль скоро никто на нем
больше не говорит, – к тем, кто его изучает, по нужде или повинуясь
неотвратимому влечению.
Поэтому неважно, знаете вы древнегреческий или нет. Вам не придется сдавать
экзамен на аттестат зрелости и писать неожиданные контрольные.
Но неожиданностей будет хоть отбавляй.
И неважно, учились вы в классическом лицее или нет. Будет даже лучше, если
не учились. Я постараюсь силой собственной фантазии провести вас
по лабиринту греческого языка, чтобы вы смогли достигнуть конца этого пути,
вооружившись новым способом осмысления мира и своей жизни, на каком бы
языке вы ни говорили.
Вы учились в лицее? Еще лучше! Если мне удастся ответить на вопросы,
которыми вы никогда не задавались или которые остались без ответа, быть
может, дочитав эту книгу до конца, вы вернете частичку самих себя,
утраченную в юности, посвященной – непонятно зачем – штудированию
греческого, и возможно, та частичка окажется для нынешних вас полезной.
Очень полезной.
В обоих случаях на страницах данной книги мы с вами сможем поиграть
в мышление на древнегреческом языке.
Каждый человек на протяжении своей жизни наверняка сталкивался
с греческим и древними греками. Кто-то – вытянув ноги под партой лицея, ктото – в театре на постановке греческой трагедии или комедии, кто-то –
в белоснежных коридорах многочисленных археологических музеев; так
или иначе, ощущать себя греком, похоже, бывает немногим живее и ярче
мраморной статуи.
Всем без исключения говорили, а может, даже не говорили, поскольку данная
мысль более двух тысячелетий остается неизменной и уже вползла под кожу
и въелась в мозг каждого европейца: «Всё, что ни есть прекрасного
и непревзойденного из сказанного и сделанного в мире, впервые сказали
и сделали древние греки». Ясное дело, на древнегреческом языке.
Почти никто не знаком с ним напрямую; единственное, в чем мы уверены, так
это в том, что древнего грека, говорящего на древнегреческом, больше
не существует. О нем лишь «слышали», а может, и не слышали, как уже было
сказано; это так – и точка. Уже много веков.
Предполагаемое греческое культурное наследие безвозмездно перешло нам
от древнего народа, с которым мы не знакомы, на языке, которого не понимаем.
Бесподобно!
Ужасно, когда тебе велят полюбить то, чего ты не понимаешь; такой приказ уже
вызывает ненависть!
Мы гордимся греками и древнегреческим языком, стоя перед мрамором
Парфенона или посещая театр Сиракуз, словно их сотворили наши предки,
наши далекие прапрадеды. Нам приятно представлять их под солнцем какогонибудь островка, погруженными в измышление философии или историографии;
сидящими в театре, что раскинулся на склоне холма, и созерцающими трагедии
и комедии; или же ночью, когда они глядят на небо, полное звезд, раскрывают
тайны мироздания и астрономии.
Но в глубине души мы всё же ощущаем неуверенность в себе, как на экзамене
по истории чужой страны: вдруг да и забудем что-нибудь о Древней Греции?
А греческий язык – как раз и есть это непонятное нам «что-нибудь».
«Греция – абсурдный и трагический миг человечества», – писал Никос Диму
в своем известном «Несчастье»[2].
Мы тем самым не просто приближаемся (как отлученные или отвлеченные)
к древнегреческому культурному наследию. Стоит нам ухватить хотя бы кроху
того, что древние греки оставили нам в дар, и мы становимся жертвами самых
ретроградных и ортодоксальных схоластических систем на свете (конечно, это
мое мнение – мнение всё той же худшей ученицы в классе, а после выхода книги,
вероятно, провалившей экзамен и исключенной из школы).
Классический лицей, в силу своей структуры, нацелен, по-видимому, лишь
на удержание древних греков и их языка на недосягаемой высоте, в немоте
и славе Олимпа, в пеленах робкого благоговения, нередко превращающегося
в священный ужас и поистине земное отчаяние.
Принятые методы обучения (если исключить немногих просвещенных
преподавателей) гарантированно внушают скорее ненависть, нежели любовь
тем, кто осмелится подступиться к изучению древнегреческого языка.
В результате мы капитулируем перед наследием, которое оказывается уже
совсем ненужным, поскольку, стоит только коснуться его, как мы в страхе
бежим прочь, стыдясь своего непонимания. Большинство людей сжигает внутри
себя греческие корабли, как только оканчивает школу.
Среди читателей данной книги окажется немало тех, кто вспомнит свой липкий
страх перед древнегреческим, изнурение, ярость, отчаяние и обнаружит в моей
истории описание всех этих чувств. И все-таки я пишу данные строки,
убежденная в том, что нет смысла изучать что-либо и потом благополучно это
забывать, особенно если вы трудились над чем-то в поте лица пять
или более лет.
Моя книга, следовательно, не является традиционной грамматикой
древнегреческого языка – ни дескриптивной, ни нормативной. Она ни в коем
случае не претендует на академизм (к которому прибегали другие авторы
на протяжении тысячелетий).
Но, конечно, данная работа претендует на страсть и вызов. Это словесный (а не
дословный) отчет о некоторых особенностях великого и изящного языка, каким
является древнегреческий, о его молниеносной, синтетической, иронической,
открытой манере выражения, по которой – что греха таить – мы неосознанно
тоскуем.
Древнегреческий – что бы вам о нем ни говорили (а главное – не говорили) –
прежде всего язык.
Каждый язык любым своим словом служит для описания мира. И этот мир ваш.
Благодаря языку у вас есть возможность формулировать мысли, выражать
чувства, сообщать о своем состоянии, изъявлять желания, слушать песни,
писать стихи.
В наше время, когда все мы связаны с чем-то и крайне редко – с кем-то, когда
слова выходят из употребления, сменяясь смайликами и другими современными
пиктограммами, в этом всё убыстряющемся мире и в этой реальности,
настолько виртуальной, что люди превратились в записи о самих себе, мы
фактически перестали выражать свои мысли словами и понимать друг друга.
Язык, или то, что от него осталось, становится всё банальнее: многие ли нынче
звонят по телефону (я имею в виду – набирают номер, чтобы услышать
человеческий голос) от любви? И когда вы в последний раз писали письмо
(я имею в виду – ручкой на листе бумаги) и, лизнув марку, наклеивали ее
на конверт?
Разрыв между значением слова и его толкованием растет не по дням, а по часам,
точно так же как недоразумения и недомолвки – прямо пропорционально
сожалениям и неудачам. Мало-помалу теряется способность говорить
на языке – абсолютно на любом. Понимать и объясняться. Рассказывать
о сложном простыми, подлинными, искренними словами – вот в чем силен
древнегреческий язык.
Вам это покажется странным (так ведь я с самого начала сказала, что
я странная), но чтение книги, посвященной греческому, поможет вам
в повседневности (я не о том, что у вас появится возможность наконец доделать
просроченные домашние задания: о них уже позаботилась сама жизнь).
Да, именно тот древнегреческий. Если подойти к нему без страха (и запасшись
изрядной долей безумия), он позволит заглянуть ему в глаза и даже поговорит
с вами. Громким чистым голосом. С тем, чтобы, подумав, издать звук, выказать
желание, выразить любовь, избавиться от одиночества, прочувствовать время
и наконец-то обрести свое ви́
дение мира и выразить его на собственный манер.
Ибо (вновь обращаясь к тому же эссе Вирджинии Вулф) «…мы всякий раз
к ним [древнегреческим авторам] обращаемся, когда нам тошно от царящей
вокруг неопределенности ‹…› от времени, наконец, в которое нам выпало
жить»[3].
Написание книги, посвященной древнегреческому языку, стало для меня
беспримерным человеческим опытом. Я вновь открыла смысл слов, написанных
на школьной доске тысячу лет назад и тут же стертых после звонка – забытых.
Отправной точкой послужило воспоминание обо мне самой, почти ребенке,
который корпел над чужим алфавитом, пока не увидел свой собственный язык,
то есть собственную человеческую натуру, в абсолютно новом свете.
Я вытащила из коробок, переживших свыше десяти переездов, учебники, где,
будучи четырнадцатилетней, писала рядом со склонениями слов имя соседа
по парте, учебники, что сопровождают меня всю жизнь, из одного города
в другой вместе с ключами от оставленных домов.
Попытавшись прогнать мысли, мучающие меня более десяти лет, я поняла, что
достаточно разделить их с близкими: мы, порой безотчетно, думали об одном
и том же. Но никогда друг другу в этом не признавались.
Я помогла ребятам, которые нынче, в 2016 году, борются с греческим
в классическом лицее, и многому научилась у них; они задавали мне те же
вопросы, какие ставила и я, будучи неопытной и в греческом языке, и в жизни.
Ведь когда спросишь о чем-то, уже не сможешь отозвать свое любопытство,
как ни старайся; именно так поступала я сама, хотя мне потребовалось
невероятно много времени, чтобы найти или придумать ответ.
В компании многих друзей, теперь уже взрослых и прошедших сквозь те же
мытарства с древнегреческим, я шутила, обнаруживая, что любой, кто начинает
учить этот язык, хранит в ящике целую коллекцию конфузов – вот где нужно
смеяться!
А главное, я пыталась излагать странности древнегреческого и тем, кто никогда
его не изучал. Невероятно: они меня понимали, мы понимали друг друга.
И хорошо. Быть может, так даже лучше.
Я, такая странная, выучилась благодаря виду в греческом языке иначе
воспринимать время, а затем говорить о нем.
Я сдула столько зонтиков одуванчиков, загадывая
желания в оптативе и подсчитывая, насколько сильно хочу осуществить их, что
теперь к концу весны в полях вокруг Сараево эти цветы почти не вырастают.
Я однажды сказала «люблю тебя», употребив греческое двойственное число,
означающее «мы оба» – только мы с тобой.
Я осознала жестокость вынужденного молчания, но и то, что иной раз музыку
можно не только слушать, но и смотреть.
Я даже примирилась с моим мужским именем, – Андреа, – хотя считала ту
битву давно проигранной.
В процессе написания книги «странное чувство»[4], обуревающее меня, как это
ни парадоксально, стало менее странным. Словом, благодаря древнегреческому
(его пониманию или, по меньшей мере, интуитивному ощущению) мне удалось
поведать намного больше, а отнюдь не меньше, и себе самой, и другим.
Надеюсь, то же самое случится и с вами, когда вы прочтете эти страницы.
Надеюсь, вы сможете добраться до сути, зная, где нужно смеяться и как
насладиться древнегреческим языком – хотя бы раз в жизни.
Когда – никогда. Вид
Настоящее и прошедшее,
Вероятно, наступят в будущем,
Как будущее наступало в прошедшем.
Если время всегда настоящее,
Значит, время не отпускает.
‹…›
Шаги откликаются в памяти
До непройденного поворота
К двери в розовый сад,
К неоткрытой двери[5].
Томас С. Элиот. Бёрнт Нортон.
Из цикла «Четыре квартета»
Время – наша тюрьма: прошлое, настоящее, будущее. Рано, поздно, сегодня,
вчера, завтра. Всегда. Никогда.
Древнегреческий мало заботился о временах, а то и вовсе не делал этого.
В своих высказываниях греки учитывали влияние действий на говорящих. Они,
будучи людьми свободными, всегда спрашивали себя – как. Мы же, будучи
людьми пленными, вечно спрашиваем – когда.
Не поздно или рано, а как нечто происходит. Не моментально, а в процессе
развития.
Не время, а вид. Вид есть категория древнегреческого языка, относящаяся
к качеству действия, без того чтобы помещать его в прошедшее, настоящее
или будущее. Мы привыкли располагать происходящее вдоль четкой временнóй
линии; у каждого она своя – прямая или извилистая.
Древние греки рассматривали факты в их становлении, время приходило потом,
с другими лингвистически вторичными категориями, – если вообще приходило,
ведь очень часто время фактов не наступало никогда.
Платон в «Тимее» (строки 37e–38c) касается времени, приводя все видовые
варианты глагола γίγνομαι – «возникать» и глагола εἰμί – «быть»:
Ἡμέρας γὰρ καὶ νύκτας καὶ μῆνας καὶ ἐνιαυτούς, οὐκ ὄντας [настоящее] πρὶν
οὐρανὸν γενέσθαι [аорист], τότε ἅμα ἐκείνῳ συνισταμένῳ τὴν γένεσιν αὐτῶν
μηχανᾶται· ταῦτα δὲ πάντα μέρη χρόνου, καὶ τό τ ̓ἦν [имперфект]
τό τ ̓ἔσται [будущее] χρόνου γεγονότα [перфект] εἴδη, ἃ δὴ φέροντες λανθάνομεν
ἐπὶ τὴν ἀίδιον οὐσίαν οὐκ ὀρθῶς. λέγομεν γὰρ δὴ
ὡς ἦν [имперфект] ἔστιν [настоящее] τε καὶ ἔσται [будущее], τῇ δὲ
τὸ ἔστιν [настоящее] μόνον κατὰ τὸν ἀληθῆ λόγον προσήκει, τὸ δὲ ἦν [имперфект]
τό τ ̓ἔσται [будущее] περὶ τὴν ἐν χρόνῳ γένεσιν ἰοῦσαν πρέπει λέγεσθαι.
Ведь не было ни дней, ни ночей, ни месяцев, ни годов, пока не было рождено
небо, но он уготовил для них возникновение лишь тогда, когда небо было
устроено. Всё это – части времени, а «было» и «будет» суть виды возникшего
времени, и, перенося их на вечную сущность, мы незаметно для себя делаем
ошибку. Ведь мы говорим об этой сущности, что она «была», «есть» и «будет»,
но, если рассудить правильно, ей подобает одно только «есть», между тем
как «было» и «будет» приложимы лишь к возникновению, становящемуся
во времени, ибо и то и другое суть движения[6].
Τό τε γεγονὸς [перфект] εἶναι γεγονὸς [перфект] καὶ τὸ γιγνόμενον [настоящее]
εἶναι γιγνόμενον [настоящее], ἔτι τε τὸ γενησόμενον εἶναι
[будущее] γενησόμενον [будущее] καὶ τὸ μὴ ὂν [настоящее]
μὴ ὂν [настоящее] εἶναι [настоящее], ὧν οὐδὲν ἀκριβὲς λέγομεν.
К тому же мы еще говорим, будто возникшее есть возникшее и возникающее
есть возникающее, а имеющее возникнуть есть имеющее возникнуть и небытие
есть небытие; во всем этом нет никакой точности. Но сейчас нам недосуг всё это
выяснять.
Вид был прежде всего способом мышления, делившим события мира и жизни
на «совершённые» и «несовершённые» – perfecta и infecta. Иначе говоря, начало
и конец. Всякий язык предполагает особый взгляд на действительность. Если
в древнегреческом время лишь вторично, стало быть, существуют начало
и конец вещей. Всего сущего.
Вид обозначал как раз протяженность от любого конца к любому началу.
Сколько длится действие и как. Как начинается, как развивается,
как завершается. Чем становится. Именно вид был нужен, чтобы
выразить, как и что рождается от каждого начала и каждого конца.
Что будет, если ты видел, и теперь, стало быть, знаешь, если доверился
и теперь, стало быть, веришь, если написал, и теперь некогда пустая страница
полна слов. Если отправился и прибыл – неважно, когда, – и теперь ты здесь.
Нелегко это понять нам, пришедшим в мир с мыслью о том, что между каждым
началом и каждым концом протекает определенное слишком большое
или слишком малое время, и что данное время – всё, что у нас есть. Нелегко это
расшифровать нам, говорящим и думающим на языке, в котором,
как в большинстве современных языков, всякое действие привязано
к определенному моменту – прошедшему, настоящему, будущему, – однако же
ничего ко времени привязать нельзя, ибо оно непременно перейдет во что-либо
иное. Мало того – уже перешло. Нелегко заметить происходящее нам, ибо мы
носим раны в ожидании, что они зарубцуются, доверяем целительной силе
времени. Нелегко думать вне времени, но ведь времени нет, есть конец всякого
начала и начало всякого конца. Крестьяне и моряки знают: надо сжать, чтобы
посеять и снова собрать урожай, надо причалить, чтобы сняться с якоря,
переплыть море и вновь причалить. Нелегко нам, вечно глядящим на часы,
в ежедневник, календарь, занятым материальным обеспечением жизни
во времени, увидеть, что всё меняется и при этом остается неизменным: слова
«остаюсь» и «жду» происходят от одного корня в греческих глаголах
μένω и μίμνω.
Нелегко нам, но не древнегреческому языку, в котором осознается не время,
а процесс, и с помощью вида глаголов выражается качество вещей, которое
словно постоянно ускользает от нас; мы то и дело спрашиваем себя «когда?»,
ни разу не почувствовав – «как?».
Вид греческого глагола – пожалуй, самое славное наследие индоевропейского,
одного из первых языков, на которых говорило человечество, исчезнувшего,
а посему ныне лишь гипотетического.
Языки, пришедшие потом, разве что рассыпали накопленное наследие
по научным и языковым индоевропейским амбарам ради экономии – именно
так, принципом экономии, именуется в лингвистике упрощение
и, следовательно, профанация языка.
Тысячелетиями одно за другим общество претерпевало изменения, народы
переселялись, из кочевников становились скотоводами, потом горожанами;
необходимо было выражаться быстрее, торопливее, чтобы изъясняться и быть
понятыми. Мир делался сложнее, и, как это ни парадоксально, ему нужен был
более простой язык – так всегда происходит, когда реальность становится
трудновыразимой; взять хотя бы нынешнее общение: смайлики – современные
пиктограммы. Никто уже не звонит по телефону, и умение разговаривать
забывается.
Структура индоевропейской глагольной системы была весьма оригинальной.
В ней отсутствовало привычное нам спряжение на основе времени, которое мы
учим в начальной школе: «Я ем, я ел, я съел, я поел». Вместо этого были
глагольные основы, не связанные между собой никакой зависимостью
от времени.
Древнегреческий язык, начиная с Гомера, сохранил индоевропейскую
оригинальность и старинный, чистейший способ ви́
дения мира вне времени.
Повторюсь, нам нелегко отбросить вещественное «когда?» и рассуждать
при помощи «как?». Нелегко, ибо мы лингвистически немы и не умеем говорить
вне времени.
Попробуем увидеть, чтобы после суметь. Попробуем понять вид, чтобы после
сказать. Потому что время бессловесно, а вид – нет. Ведь слова всегда можно
подыскать.
Для тех, кто не учил греческий в школе, понимание вида станет упражнением
в области лингвистической свободы. Для тех же, кто учил его в лицее
или университете, оно, возможно, даст ответ на ранее не приходившие в голову
вопросы. Это станет чем-то бо́
льшим, нежели практикой лингвистической
свободы, возможно, даже лингвистическим освобождением. Для некоторых –
революцией. Для всех – запоздалой компенсацией лет, потраченных
на бессмысленное, бездумное заучивание глаголов.
Категория древнегреческого вида в современных школьных учебниках занимает
в лучшем случае полстраницы, не больше. Зато таблицы глаголов, подлежащих
заучиванию, располагаются примерно на сотне страниц.
Я отлично знаю: чтобы выучить иностранный язык – в том числе и греческий,
хоть живой, хоть мертвый, – требуются труд, самоотверженность, упорство.
Нужно развивать память, чтобы запомнить нечто, лингвистически чуждое нам
(по-вашему, с изучением японского всё обстоит иначе?). Однако без понимания
и чувства языка всякий результат обернется самоцелью или школьной
зубрежкой. Без чувства вы лишь упретесь в непонимание как изучаемого языка,
так и причины его изучения.
Кто учил греческий, быть может, нынче ничего и не вспомнит, но в памяти
наверняка останутся дни, затраченные на повторение бесчисленных парадигм.
Вот естественное следствие заучивания без понимания смысла. Вот результат
приложения категории родного языка – времени – к языку, лишенному ее:
неизбежное забвение. В памяти не сохранится ничего, кроме весенних вечеров,
полных мук и потраченных на зазубривание того, что хочется забыть
при первой же возможности; для большинства такое забвение наступает через
минуту после сдачи экзамена на аттестат зрелости.
Я попытаюсь объяснить суть вида в память о юности, проведенной
за мелодекламацией заученных парадигм. Я повторяла их истово, не постигая
ни единой; как ведические вирши, буддистские мантры, суры Корана –
всё равно. Еще и сейчас, едва услышав φέρω («несу»), я, как собака Павлова,
выдаю οἴσω («буду нести») и так далее. Во время контрольной я переписывала
в тетрадь глаголы, мысленно давая обеты (и посылая проклятия); на том мое
лингвистическое понимание и кончалось.
Притом я не первая и не последняя такая ученица. Более того – я знаю, что
подобное творится в сотнях классических лицеев Италии с ребятами,
родившимися в двадцать первом веке, которые научились пользоваться
мобильным телефоном раньше, чем писать.
Так что я попытаюсь сейчас, в 2016 году, объяснить это, особенно тем, кто
сегодня выдерживает натиск как правило слегка безбашенной молодости
в классическом лицее, чтобы внести какой-то смысл в их зубрежные вечера
и бессонные, хоть и не по-петербуржски белые ночи[7] и сказать им: верьте,
в том, что вы учите, есть смысл, и смысл этот прекрасен. Хотя мне
и потребовались пятнадцать лет и диплом по классической филологии, чтобы
это понять.
Мне, твердолобой.
Начнем с истории, раз уж нам нравится фантазировать. В случае с чужим
языком, мертвым к тому же, фантазия очень пригодится; а если она смутит
более осторожных читателей, я приведу примеры более академического
характера.
На дворе 487 год до Рождества Христова. Поздняя ночь. Один из гнуснейших
баров Пирея. Небо затянуто тучами; волны хлещут о борта стоящих на приколе
трирем; редкие фонари льют тусклый свет. Новолуние.
Два друга нынче изрядно набрались: у одного нелады с женщиной, у другого –
с товаром, что никак не придет в Галикарнас. Оба рассуждают, не стоит ли
назавтра обратиться за советом к Дельфийскому оракулу, и у обоих на душе –
хоть дегтем мажь.
Судят и рядят, между делом заливая за воротник греческое крепкое вино,
которое обычно разбавляют.
Наши персонажи, похоже, не больно-то разбавили свои напитки; и как их
не понять, ведь нынче вечером им больше, чем когда-либо, надобно
взбодриться; но в конце концов, в жизни, как и в трактире, придется платить
по счетам, и сумма выйдет немаленькой. Могли бы заплатить да уйти с честью,
но нашим приятелям приходит мысль сбежать. У обоих ноги заплетаются,
хозяин, ясное дело, с легкостью настигнет их на углу трактира. И тем не менее
они решают бежать, что по-древнегречески φεύγειν.
И вот, чтобы понять суть вида, необходимо влезть в шкуру, в карман, а главным
образом – в греческий язык хозяина, вышедшего на сцену.
Всего лишь в трех видах мог бы хозяин выразить свою досаду, выудив –
намеренно и уж точно не наобум – одну из трех основ (на это я ссылалась
недавно, когда говорила об индоевропейском наследии) глагола φεύγειν:
– вид, или основа, настоящего времени, φεύγουσιν, в переводе: «Разрази меня
Зевс, ты глянь на них, улепетывают!»
Наш хозяин стоит тут, возле черной бочки, и видит двоих друзей именно
в процессе бегства: один спотыкается о ступеньку, другой теряет обувку.
Словом, (жалкая) сцена разворачивается у него на глазах и, скорее всего, этим
двоим далеко не убежать.
– вид, или основа, аориста, ἔφυγον, в переводе: «Разрази меня Зевс, да уж
не стукнет ли им в башку сбежать, болванам этим?»
Хозяин сидит там, на своей скамье, ждет не дождется, чтоб лавочку закрыть,
завтра ему вставать до рассвета, жена станет пилить, как каждый вечер, и так
далее; и среди всех его дум брезжит мыслишка, что эти двое надумали сбежать,
не заплатив.
Неважно, присутствует хозяин на сцене или нет (может, у него глаза
слипаются), но смысл таков: действие побега воспринимается как таковое,
безотносительно к его протяженности.
– вид, или основа, перфекта, πεφεύγασιν, в переводе: «Зевс их раздери,
сбежали, паразиты!»
У бедного хозяина после долгого дня в трудах руки опускаются: перед глазами
стоит столик, заставленный пустыми кубками, – один даже треснул – и над ним
летает счет, подхваченный мистралем. А двух пьянчуг и след простыл.
Сам побег как действие уже состоялся, и хозяину остались лишь ущерб да
досада.
Предоставим теперь историю (выдуманную) двух пьяных друзей участи судьбы
и вернемся к истории (невыдуманной) языка с его участью.
Прежде всего, вид был точной грамматической категорией древнегреческого
языка, достойной уважения, как и все прочие категории, – время, наклонение,
лицо, залог, – которые и поныне используются в итальянском, чтобы понимать
и объясняться, то есть служат главной цели языка.
Просто удивительно, как такая фундаментальная категория сегодня считается
изыском, чем-то ненужным, необязательным.
Строгая дефиниция видового значения звучит так: вид указывал на качество
действия, способ, которым оно осуществлялось, и те ощущения, которые данное
действие вызывало у говорящего.
Как вы наверняка заметили, в определении вида я бесконтрольно употребляю
имперфект: эту грамматическую категорию, этот способ оценки событий
в зависимости от их качества и последствий, вместо того чтобы вешать их
на стену, как свадебные фотографии, по схеме настоящее – прошедшее –
будущее; короче – свойство древнегреческого языка спрашивать «как?» мы
утратили навсегда. Даже компьютерный автокорректор не признает более слово
«видовой» – и упорно повторяет: «Ошибка!» по мере того, как я пишу, клеймя
красным цветом мою «забывчивость».
Греческое вино
Как уроженка славного Кьянти, хочу поговорить о древнегреческом вине.
Его называли «Нектаром богов», или «Кровью Диониса», или «Амброзией
Олимпа», а то, что градус алкоголя в нем был очень высок, само собой
разумеется: это обусловлено жгучим солнцем Греции плюс традицией позднего
сбора винограда, когда лоза уже теряла свои листья.
Потребление данного напитка восходит к микенской эпохе, примерно к концу II
тысячелетия до н. э. Об этом свидетельствуют найденные сосуды, внутри
которых благодаря химическому анализу установили содержание вина.
Виноградарство было распространено во всей Греции, и ойкисты, то есть люди,
посланные отчизной за море основывать новые колонии, рассеивая по всему
Средиземноморью греческие нравы и обычаи, брали с собой на борт, кроме
всего прочего, побеги лозы, дабы высадить их в новых землях. Так
виноградарство достигло побережий Испании, Африки, Средиземноморской
Франции и Италии, которую порой именовали «Энотрия», то есть «земля лозы»
именно за превосходное вино, что там производили.
Хотя пили его обыкновенно разбавленным – не только ради соблюдения
общественного порядка, но главным образом по соображениям идентичности:
эллины жили в страхе перед варварами, которые употребляли вино как есть,
чистым. К примеру, в песни ХI «Илиады» Нестор потчует врача Махаона
«вином прамнейским» (то есть доставленным с Икарии, и поэтому считавшимся
самым первым вином DOC, то есть контролируемым по месту происхождения,
в истории), смешанным с белой мукою и тертым козьим сыром. Деликатес,
иными словами: и впрямь герои Гомера лакомились такой смесью в трудные
моменты – либо понеся раны в боях, либо будучи обессиленными сражением.
Было у этого месива свое имя: его звали «кикеон» (κυκεών).
Симпозий (что значит «совместная попойка») был для греков основной
возможностью выпить вина, служил поводом не только для веселья, но и для
обмена политическими, интеллектуальными и культурными взглядами. В то
время как участники пили и ели, удобно возлежа на триклиниях, поэты и аэды
воспевали общую греческую историю, в первую очередь декламируя
гомеровские поэмы, и укрепляли чувство принадлежности к сообществу.
А симпозиарх, то есть глава симпозиума, устанавливал, сколько вина следует
употребить и как его разбавлять. Сосуды для подачи напитка имели различные
формы и наименования; главнейшим был «кратер», в котором смешивали вино
и воду.
Состояние опьянения имело религиозный, почти мистический смысл:
считалось, что опьянение позволяет людям избавиться от узды разума
и приблизиться к божеству. Отсюда появилось известное изречение поэта Алкея
«ἐν οἴνῳ ἀλήθεια – in vino veritas»*, по сию пору служащее для оправдания
далеко не столь возвышенного закладывания за воротник.
И наконец, вина подразделялись по цвету на белые, черные и цвета красного
дерева, а по запаху – с ароматом розы, фиалки, смолы – изумительный обычай.
* Истина в вине (древнегреч., лат.).
Разумеется, в итальянском языке мы прибегаем к различным перифразам, чтобы
указать, одномоментное ли описываемое действие или оно происходит
в определенное время, причем поступаем мы так почти всегда неосознанно.
Однако значение греческого вида нам непонятно, поскольку уже несколько
тысячелетий наше языковое чувство, то есть наш способ восприятия мира
и выражения его словами, лишен данного качества. Хуже того – он выброшен,
выпал из дырявого кармана.
Возможно, постичь его сумел бы житель Гавайских островов, где говорят
на одном из немногих мировых языков, в которых видовое значение уцелело
(с некоторой натяжкой можно опознать его среди длиннющих слов,
изобилующих буквой «у»). А мы – нет. Лишенные индоевропейского наследия
люди могут лишь попытаться понять видовое значение, включив воображение.
Позволю себе краткое резюме, чтобы уж совсем не усложнять.
– видовое значение настоящего: действие длительное, развивающееся.
Графически его можно представить в виде прямой линии, оканчивающейся
точками, которые устремлены в бесконечность.
Пример: καλέω, «я зову тебя». С языка у меня срываются буквы,
складывающиеся в твое имя, скажем, Ло-ли-та, если обращаться к Набокову.
– видовое значение аориста: однократное действие, воспринимаемое, как есть.
Графически его можно представить в виде крупной точки.
Пример: ἐκάλεσα, то есть я выражаю идею призыва тебя, неважно когда, как,
зачем.
Только в изъявительном наклонении этому может соответствовать наше
прошедшее законченное время. Во всех остальных случаях, пожалуй,
обобщенное «позову тебя» без прочих пространственно-временных уточнений
способно передать смысл в общих чертах, как «позвоню тебе»
после некоторых свиданий.
– видовое значение перфекта: действие безапелляционно свершилось;
остаются лишь его последствия. Графически его можно представить в виде
эллипса.
Пример: κέκληκα, «я тебя позвал» и теперь ломаю голову, почему ты
не откликнулась; боюсь, наше свидание потерпело фиаско.
Видовое значение действия было столь существенно для говорящего погречески, что со скандальной легкостью преобладало над его временны́м
значением. А последнее ограничивалось лишь изъявительным наклонением
и выражалось такими аксессуарами, как приращения и окончания, тогда как для
всех остальных форм (сослагательного, желательного, повелительного
наклонений, для инфинитивов и причастий) различия определял вид. Опятьтаки не «когда?», а «как?».
И никогда – «когда?».
Настало время разглядеть и представить вблизи данный способ изъяснения,
а для этого необходимо рассмотреть основы, о которых шла речь вначале,
погрузиться в столь же славное, сколь и растраченное индоевропейское
наследие; здесь кроется глубинный смысл заучивания парадигм наизусть
лицеистами. Вот уж действительно глубинный.
Основа есть часть, остающаяся неизменной при спряжении глагола; это
встречается и в итальянском языке, например, «colp-» в глаголе «colpire»
(«ударять»).
Рис. 1. Видовое значение настоящего
Рис. 2. Видовое значение аориста
Рис. 3. Видовое значение перфекта
Темные века
Осветить темные века – титанический труд, за который брались очень многие,
но никому это не удалось, всех поглотил мрак. Героическим усилием обобщаю:
греческий, как почти все европейские языки, есть язык индоевропейский. Вот
и всё.
Естественно, нет никаких письменных свидетельств и воспоминаний о людях,
которые говорили на нем: когда народ обретает письменность, он уже
не сознает, что пользуется всё тем же языком. Словом, греки, персы, хетты,
индийцы и прочие выходцы из индоевропейской кодлы перестали понимать
друг друга, хотя сроду знали один язык, то есть являлись лингвистическими
братьями.
Естественно, мы не представляем ни где, ни когда жила эта индоевропейская
нация, но ее язык распространялся на огромные территории, так как был языком
культурной гегемонии. Касаемо «когда» – можно прикинуть, что во II
тысячелетии до н. э. (предположение весьма приблизительное, признаю).
Касаемо «где» – где-то меж Европой и Азией (еще более приблизительно).
Естественно, переход от индоевропейского к протогреческому,
или доисторическому греческому (предку всех греческих диалектов) окутан
тайной. Однако же как индоевропейский, так и протогреческий предполагали
наличие сплоченного эллинского народа, обладавшего единым языком. Народа
воинственного, богатого и развитого.
В силу исторической случайности, как с невероятным изяществом выражаются
ученые, начиная с темных веков, свидетельства о языке почти мгновенно
перепрыгивают от индоевропейского к различным греческим диалектам. Что
происходило в промежутке, можно обобщить так: завоевания, изменения
в обществе, борьба за власть, нашествия, смена главенствующих
в интеллектуальном плане классов.
Вы ведь не подумали о землетрясениях, Атлантиде или стихийных бедствиях,
правда?
Из темных веков древнегреческий вынес как сувенир три разных основы
для каждого глагола: три основы, связанные с видовым значением –
настоящего времени, аориста, перфекта – с добавлением будущего (речь
о нем пойдет далее) и пассивного аориста (он представляет собой лишь
немногим более чем подчиненный вариант активного аориста).
Всё помножить на пять – и тот, кто еще хранит какую-то память о классическом
лицее, поймет, почему декламировал наизусть эти парадигмы, словно «Отче
наш» (мне так и говорили: «Ты должна их знать, как „Отче наш“»). Он учил все
пять основ одного и того же глагола. Иными словами, лицейские методы
преподавания подтверждали, что мы данный язык не понимаем и вынуждены
зазубривать наизусть. Насилие над памятью – лучший способ что-либо забыть.
А древние греки эти основы понимали с первого взгляда, вплоть
до лингвистического осознания разных сущностей одного и того же глагола,
хотя, возможно, и подозревая о том, что они связаны между собой.
Эллины рассуждали совершенно иначе, чем мы: в итальянском и других
романских языках люди общаются друг с другом, спрягая глагол в том или ином
времени, и даже ребенок трех лет поймет, что «mangio», «mangerò», «mangiai»
и «ho mangiato» – не более чем временны́е формы одного и того же глагола,
то есть «mangiare» («есть, принимать пищу»). Конечно, на первый взгляд они
очень похожи. Но в случае с древнегреческим стоит посмотреть внимательнее.
Ключ к пониманию данного языка, как я уже писала ранее, скрыт в умении
оценивать слова, в желании присмотреться к ним, чтобы понять.
Греки не задумывались над тем, что основы λειπ-, λιπ- и λοιπ- варианты одного
и того же глагола λείπω – «оставлять». Все эти основы заключали в себе
настолько различные видовые значения, что были практически независимы друг
от друга. Действительно – визуально они мало напоминали друг друга. Точно
так же в итальянском языке мало (и не только визуально) похожи момент,
в который «ti sto lasciando» – «я оставляю тебя» (однако же пока живу,
надеюсь), и момент, когда «ti ho lasciato» – «я тебя оставила» (перестань
надеяться, ты одинок как перст).
Быть может, некоторые говорящие по-гречески подозревали, а самые
внимательные и подмечали в глаголах один и тот же корень, но не потому, что
обладали лингвистическим сознанием, даже если оно у них и было.
К примеру, Гомер пользуется глаголами именно так – выбирая основу
и применяя ее, чтобы изобразить, как происходит действие, о котором он
желает поведать, – точнее, о котором ему поведала муза. На равных с хозяином
из нашего примера, Гомер, слепец с острова Хиос, – либо с одного из семи
других островов, оспаривающих место его рождения, если
он вообще существовал, – оценивает, например, отношение Елены к своему
похищению Парисом и войне, которая развязалась по этой причине
и растянулась на десять лет (а именно – негодует сверх меры).
Мало того, Гомер, похоже, был столь свободен в выборе основы, наиболее
привлекающей его для самовыражения, что мы, перелистывая «Илиаду»
и «Одиссею», понимаем – великий поэт не отдавал себе отчета в употреблении
видовых вариаций одного и того же глагола; мы замечаем это в комментариях
к эпическим поэмам, подлежащим изучению, и в серии парадигм, выстроенных,
словно фаланги, в наших учебниках (фаланги, с коими мы сражаемся так же
«благодушно», как грек у Фермопил).
Гомер и вообще все греки не видели связи между различными основами одного
глагола, а если и видели, не придавали ей значения. Лингвистически они ее
явно не ощущали. Выбор основы подчинялся необходимости быть понятым.
Нам он может показаться механическим, чересчур сложным, но греки понимали
друг друга превосходно, пожалуй, даже лучше, чем мы, слишком часто
не понимающие друг друга. Несомненно, они более точны и более искренни:
ничто у них не говорилось и не делалось просто так.
Коль скоро «Илиада» и «Одиссея» – самые, что
называется, мейнстримные эпические поэмы в истории и самый действенный
инструмент нарратива в обществе, это значит, что греки, к какому бы
социальному слою они ни принадлежали, понимали их отменно, даже не имея
ученой степени по филологии.
В противном случае, предназначайся Гомеров язык лишь для немногих
академических ушей, греки быстро выбрали бы себе другого национального
поэта, а работы Гомера выкинули в корзину – так же, как поступили бы и мы,
если финал футбольного Чемпионата мира (в котором Италия побеждает
по пенальти) комментировался языком Данте. Мы бы срочно переключили
канал, осыпая проклятьями Данте, Тоскану и, возможно, даже Маремму.
Прежде чем перейти к рассмотрению каждой основы, приведу пример,
от которого бросит в дрожь любого лицеиста, хоть нынешнего, хоть бывшего,
и упадет в обморок тот, кто греческого совсем не знает. Тем не менее, я считаю,
это самый быстрый способ понять проблему. Во всяком случае, самый смелый.
Возможно, до вас доходили слухи о существовании семи так называемых
«супплетивных» глаголов (изысканный эвфемизм для очумелых глаголов,
не подчиняющихся никаким правилам), глаголов, столь же логичных
для греков, сколь нелогичных для нас. Если нет, те, кто еще прикован (или был
прикован) к вечно тесной лицейской парте, верно, слышали хотя бы о трех.
Как нередко бывает в языке и особенно в жизни, чтобы высветить смысл, нужна
странность. Так вот, именно благодаря этим неправильным глаголам мы видим
с предельной ясностью, как говорится, своими глазами, важность видового
смысла, привязанного к каждой основе.
Потому выберем самый неправильный из всех – ὁράω – и ограничимся
на минуту просмотром его парадигмы, как будто она выстроена на странице
любого школьного учебника – настоящее, будущее, аорист, перфект, пассивный
аорист:
ὁράω, ὄψομαι, εἶδον, οἶδα, ὤφθην.
И вот неслучайная ирония: ὁράω как раз и значит «смотреть глазами». Так что
смотрите как следует.
Вы хорошо посмотрели? Вовсе необязательно уметь читать по-гречески.
Можете представить, что это японский. Видите хоть одно слово, немного
похожее на другое? Разумеется, нет. Хорошо. Даже превосходно.
Теперь попробуйте совершить скачок во времени – в подлинном, из большой
истории. Если вы окажетесь на афинской агоре и вам придет в голову
остановить первого встречного и спросить: «Будьте добры, ради Зевса,
объясните мне парадигму глагола ὁράω», – бьюсь об заклад, он покрутит
пальцем у виска или, хуже того, примет вас за варвара, и вы вмиг угодите
на каторгу или будете проданы в рабство на невольничьем рынке.
Каждой из этих основ соответствуют абсолютно разные значения,
и употребляются они совершенно независимо друг от друга. Никого не волнует,
что οἶδα восходит к ὁράω. Это важно для наших грамматик в той же мере,
в какой нам важно, что итальянские слова «pazienza» («терпение»), «pazzia»
(«безумие») и «passione» («страсть, страдание») происходят от одного корня.
Самым благожелательным откликом 99 % людей наверняка станет: «Ну и что?
Мне-то какое дело?»
Учитывая опять-таки цель языка – быть понятым – посмотрим,
что понимали греки под различными основами ὁράω:
– ὁράω, «смотрю сейчас»: яблоко, красивая женщина, небо, трагедия, то, что
мне нравится.
– ὄψομαι, «намереваюсь посмотреть, посмотрю»: на что? – смотри выше
или оглядись вокруг.
– εἶδον, «посмотрел».
– οἶδα, «знаю», так как посмотрел внимательно, теперь знаю, и точка. (Здорово,
правда? Вот бы применить такой подход к знанию сейчас, когда все говорят
обо всем, ничего не видя и, стало быть, ничего не зная, тогда мир, на мой
взгляд, станет намного лучше.)
– ὤφθην, «на меня посмотрели» – и кто-то потом будет знать.
Еще один аномальный, а следовательно, пригодный для просветления глагол –
«говорить»: то же, что по-итальянски, он значит только в аористе εἶπον, тогда
как основа настоящего времени колеблется между ἀγορεύω, «выступаю
публично» (от ἀγορά, площадь публичных собраний), и λέγω, означающим
«выбираю, перечисляю». Основа перфекта εἴρηκα – «я сказал, значит, вы меня
услышали» – совершенно иная и имеет другое происхождение.
Семантические колебания, которые мы наблюдали в парадигме ὁράω,
действуют и в отношении всех прочих греческих глаголов. Действуют так
активно, что многие глаголы могут недосчитаться одной или более основ, так
как их значение несовместимо с существованием данной конкретной основы.
Лингвисты называют такие глаголы «недостаточными». Привести примеры?
Οἰκέω, «обитаю», βασιλεύω, «царствую» почти всегда имеют всего одну основу
настоящего, потому что действие неизменно совершается: либо обитаешь гдето, либо являешься бездомным, либо ты царь, либо нет.
Θνήσκω, «умираю», тоже имеет одну основу аориста, ибо трудно себе
представить нечто более определенное, чем действие испускания духа. То же
самое касается глагола βιόω, «жить», когда мы благодарны жизни только за то,
что живы и можем наслаждаться ею, хотя не всё в ней совершенно.
Ἥκω, мой любимый, имеет одну основу перфекта, поскольку выражает
результат действия «отправился и наконец-то прибыл». Я бы перевела это
не слишком академично как «вот и я», но вряд ли преподаватели это оценят,
поэтому вполне подойдет «я пришел».
Также ἔοικα, «кажусь, я похож» и δέδοικα, «боюсь» имеют только основу
перфекта, ибо являются результатами уже свершившихся действий: я поглядел
на кого-то, и он напомнил мне кого-то другого, что-то стряслось и внушило мне
страх: пришло время выбора – мужаться или нет.
Добравшись до этой точки, начинаем спуск. То есть различные основы
проиллюстрированы, можно любоваться пейзажем. Ах да, забыла предложить
вам бокал вина (разбавленного) – поднимете тост по дороге. Всё дальнейшее
годится для любой формы изъявительного, сослагательного, желательного,
повелительного наклонения, причастия, инфинитива и даже для отглагольного
прилагательного – без комментариев, я знаю, что в школе их почти никогда
не проходят, они разве что встречаются в экзамене на аттестат зрелости.
– Основа настоящего времени, самая простая, та, к которой относится глагол
в словарной форме, указывает на действие еще не завершенное, а находящееся
в процессе свершения. Никакое следствие данного действия не затрагивает
говорящего, потому что он пока переживает его, нечто вроде carpe diem[8], если
прибегнуть к неустаревающей латыни.
Словарь
Мучительна ностальгия по легендарным переводам «Роччи», словаря
греческого языка, из-за которого итальянские школяры теряли зрение (а оптики
гребли деньги лопатой) почти восемьдесят лет.
В 1939 году монах-иезуит, отец Лоренцо Роччи, опубликовал в издательстве
«Данте Алигьери» одноименный словарь, который считался непревзойденной
энциклопедией древнегреческого языка вплоть до выпуска в 1995
издательством Loescher «GI Vocabolario della lingua greca» Франко Монтанари.
Его называют, словно по-дружески, просто «GI». Данный словарь навсегда
отметил рубеж поколений: с одной стороны, того, которое ослепло, как Гомер
на Хиосе, вперив взгляд в синего «Роччи» без выделения заглавных слов
полужирным шрифтом (из-за этого казалось, что во всем греческом языке есть
лишь одно слово, растолкованное на тысяче с лишним страниц). С другой –
привилегированные пользователи красного GI, по праву гордящегося
современным графическим оформлением (в новых изданиях вроде бы даже есть
CD-ROM).
В знающих кругах (а именно во внутренних двориках университетов или на
собраниях уцелевших классических лицеистов) поднимается почти что
политический вопрос, разделяющий две касты библиотечных крыс:
«Чем пользуешься – „Роччи“ или GI?» Я лично пользуюсь обоими,
руководствуясь тем, есть ли под рукой очки.
В отдельных итальянских университетах еще учатся по «Лидделл-СкоттДжонс», или попросту LSJ[9], словарю лексики греческого языка, вышедшему
в XIX веке и переизданному на данный момент девятнадцать раз. Первое
издание увидело свет в 1819 году в Oxford University Press, а затем часто
сокращалось или расширялось. Есть три варианта: «The Little Liddell»,
«The Middle Liddell» и «The Big Liddell», или «The Great Liddell».
Непревзойденным шедевром данный словарь сделала чисто британская
точность и тщательность, не говоря уж о титанических усилиях по сбору
значений каждого греческого слова и примеров его употребления в различных
контекстах. Нельзя, однако, отрицать трудность использования третьего языка –
английского – как посредника в улавливании и передаче смысла слов на двух,
ныне очень далеких друг от друга языках – греческом и итальянском.
Навсегда в моей памяти останутся отдельные переводы из «Роччи»,
как например, «благоухание» вместо «запах». А превыше всех ποιέω как «io fo»
(«я делаю») на тосканском диалекте.
Разумеется, «Роччи» во многом архаичен и лишен ссылок на греческие тексты,
в которых встречаются слова из его статей, зато он предлагает более обширный
набор синонимов, чем GI, и более значительную свободу выбора, можно
сказать, трогательную, особенно сегодня, когда итальянский язык всё больше
нивелируется.
Во всяком случае, любой словарь, старый или современный, есть не что иное,
как клетка значений слов на чужом языке, клетка весьма точная, но тем
не менее ограниченная по сравнению с почти бесконечным разнообразием
смыслов каждого слова, имеющихся в распоряжении того, кто действительно
говорит на данном языке.
В итальянском было бы правильнее перефразировать его, например, с помощью
«stare» («быть») или «continuare a» («продолжать»): βιβρώσκω, «я сейчас ем»
(умираю с голоду!), μιμνήσκω, «я как раз вспоминаю» (да кто ж это был, черт
его дери!), ἐπιθυμέω, «я влюбляюсь» (ой!).
От той же основы образуется имперфект, тут объяснять нечего. Просто
разворачивающееся действие, но его протяженность перемещена в прошлое:
«я ел», «я вспоминал», «я влюблялся» (ой-ой-ой!).
– Основа аориста, чудесная страна неопределенного времени, ἀόριστος χρόνος.
Слово «аóрист» именно это и означает: «без пределов», без начала и конца.
Действие четкое и неповторимое, абстрактное по отношению к любому
времени, говорящий не подвергает его сомнению.
Оттенок, отличающий настоящее от аориста, весьма тонок. Настолько тонок,
что учащихся лицея под дулом базуки заставляют переводить аорист
прошедшим совершенным: порой темные века свирепствуют и в наши дни.
Однако переводить с греческого, не заботясь о значении аориста, – а это бытие,
игнорирующее всякие временны́е коннотации, – на мой взгляд, рискованно,
и текст в результате сильно обедняется.
Во французском языке используется изумительное, изысканное слово «нюанс».
Подобно оттенкам синего, который может выглядеть, как море, аорист – это все
тона воды, неба, отраженного света, пены волн, красной баржи вдалеке и, стало
быть, всего греческого языка.
В итоге аорист – ни настоящее, ни прошедшее, ни действительный,
ни страдательный залог (ликвидируем и этот с его суффиксом -θη-), а просто
действие, которое совершается без учета последствий, поскольку их и нет.
Почему они всегда должны быть?
В итальянском идею неуточненного, абсолютного времени можно выразить
с помощью твердого настоящего или перифразы, как, например, «comincio a»
(«начинаю что-либо делать»), «riesco a» («умудряюсь что-либо делать»)
или «scoppio a» («разражаюсь чем-либо»). И тогда получим ἐπεθύμησα,
«люблю», ὤζησα, «благоухаю», ἐχαίρησα, «я счастлив». То есть, когда любят,
когда счастливы, когда благоухают, просто «si sta» («пребывают»).
В аористе заключено нечто зрелищное и патетическое: уверенность в его
безвозвратной потере и смутное сожаление об этом образе «stare» («бытия»).
Странная ностальгия по тому, что не довелось и не доведется пережить.
– Основа перфекта, действие имело место в прошлом, но результат его
сохраняется в настоящем. И тут начинается беда, поскольку говорящий задает
слишком много вопросов. Перфект путает все карты: настоящее – так
как результат относится к моменту речи – и прошедшее – так как действие
предшествует моменту речи.
В переводе: перфект – не что иное, как основа следствия, хорошего или плохого
(«приносим извинения за доставленные неудобства», как говорится, когда чтото пошло не так, а что именно – не уточняется). Вот почему его перевод
отходит, порой довольно далеко, от соответствующей основы настоящего,
и в итальянском обращение к настоящему времени (а не к скучно-школярскому
ближайшему прошедшему) как нельзя лучше передает идею, состоящую в том,
что конец есть результат начала.
Привожу примеры, только чтобы дать волю своим причудам (и поразвлечься):
ῥιγόω, «мне холодно» / ἐρρίγωκα, «я замерз»; πέρθω, «я разрушаю» / πέπορθα,
«я сровнял с землей»; ταράσσω, «я беспокою» / τέτρηχα, «я учинил большую
беду»; μαίνομαι, «я прихожу в бешенство» / μέμηνα, «я в ярости»; κτάομαι,
«я обзавожусь» / κέκτημαι, «я имею». Можно продолжать до бесконечности.
Перфекта лишены все глаголы, что выражают действия, не имеющие
последствий: прежде всех ἐλπίζω, «я надеюсь» (кто знает, куда это приведет).
А также: γελάω, «смеюсь», или ἀρκέω, «этого довольно / баста, с меня хватит»,
ὕω, «моросит, льет как из ведра» (в качестве подлежащего подразумевается
или прямо указан Зевс, так как именно Зевс посылает на землю дождь),
πτάρνυμαι, «чихаю».
Почти у всех музыкальных глаголов также нет перфекта, ибо музыка звучит
лишь в неповторимом настоящем: от σαλπίζω, «играю на трубе»[10], и до
ἀλαλάζω, «запеваю песнь войны».
Что может быть хуже действия, случившегося в прошлом и протянувшего свой
результат в настоящее? Ясное дело, плюсквамперфект, в котором действие,
случившееся в прошедшем, проецирует в другое прошедшее свои последствия,
еще не угасшие в настоящем. Плюсквамперфект есть не что иное,
как отягощенная версия перфекта, от основы которого он образуется.
Употребляется плюсквамперфект весьма редко, поскольку греки жили легко
и говорили искренно, так что не стоит заморачиваться (как обычно: если он вам
и попадется, то разве что на выпускном экзамене).
Еще более редко, крайне редко используется перфектное будущее (если оно
попалось вам на выпускном экзамене, значит, с вашей кармой что-то
не в порядке). Проецировать в будущее последствия настоящего греки
не любили, им и простое будущее казалось хлопотным.
Далее рассмотрим будущее в греческом.
– Основа будущего, коего не существует, и всё тут.
Будущее образуется от основы настоящего, и ничего с этим не поделаешь. Да,
будущее в древнегреческом не имеет видов и, более того, издревле сохраняет
желательный оттенок, хорошо узнаваемый в новогреческом. Оно фактически
происходило от конъюнктива, выражавшего мечту, стремление или пожелание,
как например, «пускай я буду счастлив», «хотел бы я стать счастливым».
Данная форма затем была приспособлена для выражения ожидания того, что
еще должно случиться, словом, чего-то подобного будущему, как понимаем его
мы (но с меньшей, намного меньшей степенью ожидания). К примеру, χαιρήσω,
будущее от χαίρω, «я счастлив», искони означало «я хочу быть счастливым».
Желательная природа будущего со всей ясностью возникает в новогреческом
языке: за неимением основы будущего, современному обществу пришлось его
выдумать. Оно было прямо-таки затребовано путем перифразы θα, глагола
«хотеть» с последующим инфинитивом. «Претензия на будущее» наглядно
объясняет всё несчастье быть греками (современными), говоря словами Никоса
Диму.
По большому счету древние греки, люди мужественные, и не думали
спрашивать «как?» о будущем. Никаких вопросов – нужно просто пережить его.
А пережив, обращались к настоящему, аористу и перфекту, повествуя о нем.
И прежде чем закончить данный раздел, приведу одно из самых красивых слов
древнегреческого – μέλλω, простая идея будущего, переводимого простым
настоящим: «собираюсь что-либо делать». И всё. «Собираюсь» в настоящем –
и точка. У μέλλω нет других основ, это настоящее и будущее одновременно.
«Собираться». Жить. Мужаться. А те, кто одержимы страхом, находятся в своем
«сейчас». Вот и всё.
И теперь, когда мы приблизились к пониманию того, как греки понимали друг
друга, не будучи пленниками времени, нам лишь осталось понять, почему мы их
уже не понимаем.
Что же сталось с языком, у которого было изысканное преимущество неизменно
спрашивать «как?», а не «когда?» о каком-либо событии? Что сталось с той
странноватой, но прекраснейшей системой основ и видов? И прежде всего –
как греки угодили в темницу времени?
Ответ уже две тысячи лет остается прежним: варвары[11]. Сознавая
общественный смысл языка и то, что язык этот меняется, когда меняются
коммуникативные требования тех, кто на нем говорит, мы можем проникнуть
в суть вещей и добавить: мутация цивилизации.
Конечно, виной тому не только Александр Великий: присоединение Греции
к необъятной Македонской империи было лишь двигателем – и отличным
оправданием – распространения на более широкий уровень уже начавшихся
лингвистических изменений. Невозможно представить, что греческий народ
за какое-нибудь десятилетие изменил язык, на котором выразил всю свою
политику, культуру, законы; язык, на котором десятки веков назад изобрели
философию, математику, астрономию и театр.
В следующей главе мы поговорим о «койнé» (κοινή), «лингва франка»,
об общем языке, возникшем, как феникс, из пепла аттического диалекта,
который был более или менее понятен всюду от эпохи Александра Великого
до 1453 года – года падения Византийской империи и условно принятой даты
рождения новогреческого языка.
Теперь мы понимаем судьбу древнегреческого глагола, его основ и видим
истоки нашего непоправимого непонимания. Говорящие на κοινή, судя
по всему, были того же мнения, что и лицеист при виде первой страницы
древнегреческой грамматики: глаголы слишком, неимоверно сложны. Не оченьто они их понимали. Вернее, понимали очень плохо.
Выходит, в точности как во времена Гомера, новый язык нивелировался
согласно потребностям общества, то есть целевой говорящей аудитории,
но только на сей раз он был несколько менее возвышенным, но гораздо более
распространенным – от Греции до Индии.
Сначала все глагольные аномалии подавили в попытке максимально упростить
спряжение глаголов. Таким образом, исчезли странности, коим мы так
признательны, ибо они позволяют нам нынче почувствовать то, чего
мы лингвистически осознать не способны.
Потерялся вид, вытесненный временем. Настоящее уцелело, но его предельно
обкорнали, полностью лишив былой незавершенности.
Супплетивные глаголы? Неправильные основы? В Египте, где письменность
базировалась на иероглифах? Не смешите меня! Упрощение. Урегулирование
стало единственным правилом.
Выстоял аорист, но его сопротивление есть лишь иная форма капитуляции.
Беспощадно стерт тряпкой с доски перфект[12], а аорист взвалил себе на плечи
груз его видового значения, утратив собственное. В общем, чтобы представить,
как всё было: на распутье κοινή аорист и перфект меняются тюками
соответствующих видов, и каждый идет своей дорогой. Перфект, пройдя два
метра, валится в овраг лингвистической истории. Аорист следует своим путем
вплоть до новогреческого и начинает всё больше напоминать наши отдаленное
и ближайшее прошедшее. Таким образом, даже глаголы, от природы лишенные
значения перфекта, получают его, попросту пользуясь морфологическими
обломками аориста.
А что с будущим?.. Оно тоже исчезло. Впрочем, его фактически и не
существовало.
Вот разница между вúдением мира и выражением его словами в эпоху κοινή: две
оставшиеся основы играют в разных командах друг против друга.
Единственный победитель в дерби настоящего и аориста (в значении
прошедшего/перфекта) – время, которое знаем (и переживаем) мы.
Видовой смысл поначалу в древнегреческом стал туманным, как воспоминания
детства у взрослых. Как рассказы бабушек о давних, чуждых нам временах.
Как календари за те годы, когда мы еще не родились. В итоге вид исчезает.
Наступает забвение. Ничего больше нет.
С той поры от развития вещей перешли ко времени вещей. От вúдения ради
понимания всего происходящего от всякого начала до всякого конца – к схеме
прошлого-настоящего-будущего. От «как?» к «когда?». И с конца вида
начинается тюрьма времени и приставучей, причудливой памяти.
В лингвистическом плане мы опоздали, сильно опоздали, слишком много
времени прошло, и ныне вид мы уже не чувствуем и не можем выразить его
с помощью грамматики нашего языка. А потому надо изловчиться и найти иной
способ выразить то особое чувство удовлетворения и достижения, нехватки
или желания, что уберегает каждую личность от разрушительной или, напротив,
консервативной силы времени. Уберегает, словно маленький цветок незабудки.
Молчание греческого. Звуки, ударения
и придыхания
Другие собирают то, что нам,
экспертам по несхожим языкам,
заказано. Они усердно сеют,
а мы блуждаем по чужим морям.
Что проку становиться на причал
всегда иного порта?
Останутся стихи, бегущие, как огоньки
следов по граду мертвых.
Мария-Луиза Спациани. «Глаз бури»
«Археологические находки немы», – пишет неисправимый и всё же гениальный
Антуан Мейе, один из величайших знатоков греческого языка, в своем «Aperçu
d’une histoire de la langue grecque»[13].
Или же: о молчании древнегреческого языка.
Мы никогда не узнаем наверняка, как правильно произносится то или иное
греческое слово. Звуки этого языка канули навеки вместе с людьми,
произносившими их. У нас есть литературные тексты, мы можем их прочитать,
изучить, но не произнести. Они дошли до нас немыми. Мало того –
обреченными на немоту. Безгласными.
Произношение слова есть физический, человеческий факт: необходимо, чтобы
звуковоспроизводящие органы приобрели определенное положение
для выдыхания воздуха, вибраций нужной интенсивности и длительности.
Обучиться древнегреческому произношению можно лишь по письменным,
а не человеческим источникам: они не дышат и, следовательно, не издают
звуков. Они вещают, не говоря. Путем приближений и проб на протяжении
веков древнегреческое произношение подвергалось некой кодировке,
позволяющей произносить слова, а не только читать их мысленно. Но звучание
древнегреческого исчезло; слова стали бесшумны. Изначальное произношение –
еще один осколок этого утраченного языкового мира.
Алфавит, на котором мы сегодня читаем греческие тексты, соответствует
официально принятому в Афинах в 403/402 году до н. э. Он включает в себя
двадцать четыре буквы (по-гречески τὰ γράμματα, от глагола γράφω, «писать»).
Из них семь гласных (по-гречески τὰ φωνήεντα): α, «альфа», ε, «эпсилон», η,
«эта», ι, «йота», ο, «омикрон», υ, «ипсилон» (как немецкое «ü»), ω, «омега».
И семнадцать согласных (по-гречески τὰ σύμφωνα): β, «бета», γ, «гамма», δ,
«дельта», ζ, «дзета», θ, «тета», κ, «каппа», λ, «лямбда», μ, «мю», ν, «ню», ξ,
«кси», π, «пи», ρ, «ро», σ, «сигма», τ, «тау», φ, «фи», χ, «хи», ψ, «пси».
От названий двух первых букв – ἄλφα и βῆτα – произошло слово ἀλφάβητος,
«алфавит».
Что же случается, когда от языка остаются лишь слова, но теряется четкое
представление об их произношении? От древнегреческого нам остался
письменный алфавит, но не звучание букв. В отличие от индийцев с их
санскритом, у греков не было фонетистов, досконально анализировавших
произношение и оставивших его четкое описание. Кроме того, звуки греческого
языка претерпели значительные изменения во времени – от архаической
до византийской эпохи – и в пространстве – в диалектных наречиях.
Письменность
Первая аттестация греческой письменности восходит к микенской эпохе
(XV век до н. э.); в 1900 году археолог Артур Эванс обнаружил в так
называемом Кносском дворце царя Миноса на острове Крит большое число
глиняных дощечек, испещренных «линейным письмом Б», названному
по аналогии с другим силлабическим письмом, открытым также на Крите,
«линейным А». Подобные им таблички позже нашли в микенских дворцах
Пелопоннеса (Пилос, Микены) и в материковой Греции (Фивы, Элевсин).
Если «линейное А» до сих пор остается загадкой, то в 1953 году лингвист Джон
Чедвик вместе с архитектором и специалистом по дешифровке закодированных
сообщений Майклом Вентрисом расшифровал «линейное Б»: это оказалась
письменность завоевателей-ахейцев, что унаследовали минойскую
цивилизацию. Найденные дощечки представляли собой по большей части
списки имен, предметов, приношений, имущества; то были, по сути, реестры
административной, социальной и экономической деятельности, происходившей
в микенских дворцах. Изготовленные из высушенной на солнце глины, они
случайно уцелели, так как были обожжены в пожарах дворцов во время краха
микенской цивилизации.
По завершении микенской эпохи греческая письменность в так называемые
темные века надолго исчезает. А вновь появляется она с введением
финикийского алфавита, первые свидетельства о котором восходят
к VIII веку до н. э. – как раз к тому времени, когда распространяются, правда,
лишь устно, поэмы Гомера. Финикийский алфавит насчитывал двадцать две
согласные буквы, гласные же не обозначались; греки сохранили финикийские
буквы, превратив в гласные те знаки, что выражали не существующие
в греческом звуки, и добавили к ним другие, с двойным звучанием (ξ, φ, χ, ψ).
Кроме того, они изменили направление письма – слева направо (финикийцы
писали справа налево). Правда, в архаическую эпоху греки использовали
бустрофедон, то есть способ, при котором направление письма чередовалось:
одна строка писалась слева направо, другая – справа налево (название
произошло от движений быка – βοῦς – пашущего поле и разворачивающегося –
στρέφω – в конце борозды). Греческий алфавит финикийского происхождения
оказался проще и доступнее слогового письма: намного больше людей могли
изучить его механизм, запомнить и воспроизвести знаки, что было крайне
важно для распространения грамотности в греческом мире, для передачи
и создания не только литературных, но и бытовых текстов.
В 403/402 году до н. э. Архин издал директ, согласно которому в Афинах
и в союзных с ними городах вводился официальный алфавит ионийского типа.
Благодаря культурной гегемонии Афин данный алфавит распространился
по всему греческому миру: начиная с III века до н. э. «афинский» алфавит
добрался до Кипра, где всё еще использовалось силлабическое письмо,
подобное «линейному А». Греки передали алфавит и народам, вступавшим
с ними в контакт, прежде всех италийцам из многочисленных колоний. Этруски
тоже восприняли греческий алфавит и передали его местным народностям,
откуда и берет свое начало алфавит латинский.
Многими столетиями позже, в 850 году н. э., византийский император поручил
двум братьям из Салоник, Кириллу и Мефодию, обратить в христианство
славянские народы; Кирилл был призван передать им греческий алфавит,
опиравшийся на курсивное греческое письмо. В последующую эпоху,
вдохновляясь греческими заглавными буквами, славянский мир принял
алфавит, использующийся и поныне. Его создание незаслуженно приписывают
святому Кириллу и потому именуют «кириллицей».
Представьте на минуту все ныне существующие диалектные варианты
итальянского. Если бы они вдруг исчезли, если бы остался всего один
говорящий на фриульском или апулийском диалекте и если бы никто
не сохранил о них точного письменного свидетельства, то как бы мы передали
потомкам звучание наших слов? Если бы, к примеру, в один прекрасный день
утратилась память о тосканском говоре, а остались лишь тексты на итальянском
языке, то как бы мы воссоздали типичное «c», которому свойственно так
называемое «тосканское придыхание»?
И если б не существовало более ни единого говорящего по-итальянски и ни
единого упоминания того, как же понять или представить себе, что слово
«канцона» во Флоренции произносится как «ханцона», в Ливорно – «анцона»,
без придыхания, а на несколько километров севернее или южнее говорят
совершенно иначе?
Тот же сценарий вполне приложим на протяжении веков и к древнегреческому.
Фактически мы не можем воспроизвести изначальное греческое произношение.
И не только потому, что не знаем его. Итальянский язык просто не обладает
многими фонетическими свойствами древнегреческого. Греческие слова нынче
немы, как мрамор Акрополя, который может поведать о некогда
существовавшем потрясающем мире, не размыкая уст. И даже если бы
греческие слова заговорили, даже если бы нам удалось услышать их звучание,
мы воспроизвели бы их с большим трудом и всё равно не поняли.
Древнегреческий язык очень музыкален: само слово, обозначающее изменение
ударения, – просодия – произошло от греческого πρός + ᾠδή, то есть «пение».
Равно как и на латыни, прародительнице итальянского, «accentus» (ударение)
происходит от «ad cantus» (для пения).
В отличие от итальянского и большей части европейских языков, греческое
ударение (ὁ τόνος) было не динамическим (силовым), а музыкальным (то же
самое наблюдается сегодня в китайском, японском и многих африканских
языках). Ударение сводилось не столько к громкости, сколько к тону
издаваемого звука, его интенсивности и вибрациям; то была музыкальная
интонация. Ударный гласный выделялся не усилением голоса, а его
повышением. Он звучал острее безударных, а ударение имело чисто
семантическую значимость: временами слова различались лишь местом
ударения, например, τόμος – «ломтик» и τομός – «острый».
В итальянском ударение динамическое: скажем, слово «com-pli-ci-tà»
(«соучастие») состоит из четырех слогов, последний произносится с большей
интенсивностью из-за ударной гласной. Итальянский язык также обладает
музыкальным тоном, но он заключен не в природе слов, а в вопросительной,
восклицательной или утвердительной интонации. Она меняется во фразах «c’è
complicità.» / «c’è complicità?» / «c’è complicità!» («это соучастие.» / «это
соучастие?» / «это соучастие!») Ударение же в слове «libertà» («свобода»)
не меняется, оставаясь на конечном ударном гласном.
Помимо своей музыкальности, древнегреческий невероятно ритмичен. Его
квантитативный ритм основан на чередовании долгих и кратких слогов, что
демонстрирует и греческая музыка – сокровище, которое для нас нынче
недоступно, невоспроизводимо, как в случае с гимнами, обнаруженными
в Дельфах и предназначенными для игры и пения. Каждый греческий гласный
может быть кратким (ῐ, ε, ᾰ, ο, ῠ) и долгим (ῑ, η, ᾱ, ω, ῡ). Кроме того, объединяясь
с ι и υ, гласные могут создавать дифтонги, то есть сочетания гласных,
образующих один слог (от греческого δίφθογγος, «двойной звук»). Слог
краток по природе, когда содержит краткий гласный, за которым не следует
группа согласных; слог по природе долог, когда имеет долгий гласный элемент
или за гласным следует группа согласных[14]. При определении ударения
учитываются только по природе долгие и краткие слоги,
то есть длительность их гласных.
В целом ритмическая и музыкальная система греческого, имевшая
индоевропейское происхождение, была прочной и продержалась десятки веков.
Вот почему, хотя греческое произношение нам сейчас недоступно, для эллинов
оно было четким и ясным: краткие или долгие, ударные или безударные – все
гласные звучали отчетливо, равно как и все слоги были определенными
и упорядоченными.
Звукоподражания
Столь же редки, сколь любопытны дошедшие до нас звукоподражания,
позволяющие донести идею о том, каким на самом деле было древнегреческое
произношение. Мы знаем, что в греческом овца говорила βῆ βῆ – «бе-бе»,
собака – βαύ βαύ – «бау-бау», так появился глагол βαΰζειν – «лаять»; а для
выражения боли или удивления люди вздыхали αἰαῖ – «ай-ай» или οἴ – «ой!».
Еще любопытнее наблюдать, как от греческого произошли звукоподражания
почти во всем европейском мире. Собака по-прежнему говорит «бау-бау»,
а овца – «бе-бе» в большинстве романских языков. Но по-английски маленькая
собачонка лает «arf-arf», а большая – «bow-wow», тогда как овца блеет «baa».
По-русски собака лает «гав-гав», по-японски овца блеет «ме-ме», и так далее.
Если во всем мире собака лает, а овца блеет одинаково, но звукоподражания,
представляющие крики животных, различны, это обусловлено лишь
присутствием или отсутствием определенных звуков в определенных языках.
Музыкальное ударение и ритм языка продержались до II века н. э., когда начало
утрачиваться понятие о количестве (долготе и краткости) гласных
и утверждаться динамическое ударение, как в новогреческом языке, где гласные
уже не долгие или краткие по природе своей, а становятся оными в ударной
или безударной позиции. Ударные гласные и поныне в греческом языке
произносятся с подъемом голоса, стало быть, «высотное» ударение не исчезло –
исчезло понятие длительности.
Уже начиная с III века н. э. в греческих надписях появляется путаница
с долготой гласных, отсюда и ошибки в выборе между ε и η или же между ο и ω.
Ритм языка изменился, но по письменности этого понять нельзя. Говорящие
также, по-видимому, не отдавали себе в этом отчета, как в случаях со всеми
необратимыми лингвистическими изменениями. Тогда-то греческий алфавит
и онемел для нас навсегда, хотя внешне и остался нетронутым на протяжении
тысячелетий.
Алфавит нам, таким образом, был передан властью времени в целости. Но раз
оригинальное произношение утратилось навсегда, не следует ожидать, что
на протяжении веков не менялся способ писать по-гречески. Греческий текст
и так-то труден, почти непроницаем для нас, несмотря на то что нынче мы
можем читать его напечатанным на бумаге, со знаками препинания, пробелами,
диакритическими знаками для ориентирования в словах. А трудности невелики,
учитывая, что первоисточники, благодаря которым мы располагаем греческими
текстами, – от папирусов до надписей на камне – являют совершенно иную
практику письма, недоступную и обескураживающую для большинства
современных людей (вот почему недостаточно диплома классического лицея
и даже диплома по классической филологии, чтобы читать надписи на мраморе
из Музея Акрополя, а нужно специально учиться археологии и эпиграфике).
До III века до н. э. в Греции использовалась scriptio continua, то есть способ
письма без пробелов между словами, только прописными буквами и без
диакритических знаков (от διακριτικός, то есть «различительный»), по которым
слова можно отличить друг от друга. Иначе говоря: наш современник, увидев
оригинальный греческий текст впервые, подумает, что перед ним одно
безмерное, непонятное и бесконечное слово, начертанное прописными буквами.
Веская причина прийти в отчаянье.
Когда начало распространяться употребление строчных букв – тех, что
печатаются нынче в книгах – древние греки почувствовали (закономерную)
необходимость сделать текст более разборчивым и добавили в него знаки
препинания. Именно ученые из библиотеки Александрии Египетской
в эллинистическую эпоху, последовавшую за эпохой Александра Великого,
кодифицировали дошедшие до нас графические значки: придыхания, ударения,
знаки препинания. Однако постоянным, нормальным их употребление стало
лишь несколько веков спустя.
За то, что сегодня мы можем беспрепятственно читать текст
на древнегреческом, благодарить нужно александрийцев; это им мы обязаны
наличием диакритики и пунктуации, которые так помогают нам
в понимании греческого.
Теперь обратимся к примерам.
– Придыхание, по-гречески πνεῦμα – «дыхание, дуновение», указывает
на отсутствие или присутствие придыхания при начальном гласном
или дифтонге слова. Оно может быть густым (῾) или легким (᾿). В первом случае
слово произносится с начальным придыханием, подобным немецкому /h/[15],
как, например, ὕπνος – «сон». Второй случай весьма оригинален, поскольку
греческий язык помечает даже то, чего нет: легкое придыхание указывает
на отсутствие придыхания, скажем, в слове εἰρήνη – «мир».
Придыхание, с веками ослабев, исчезло из κοινή и совершенно отсутствует
в новогреческом. Зато оно сохраняется в латыни, но только при транскрипции
греческих слов; римляне писали «Homerus» c /h/, поскольку имя Ὅμηρος –
«Гомер» в греческом произносилось с густым придыханием. В итальянском
придыхание из греческих слов совсем исчезло, как в произношении (да мы бы
и не сумели воспроизвести его), так и в обычной транслитерации.
– Ударение, как уже было сказано, имеет музыкальную природу, происходит
от слова «пение» и ставится над ударным гласным слова. Оно бывает трех
типов: острое (́
), тяжелое (ˋ) или облечённое (῀). Острое ударение, как о том
свидетельствует его символ, восходящий кверху, обозначает повышение тона
в слоге, на котором оно стоит. Тяжелое ударение, исходя из его символа,
обозначает нисхождение тона в данном слоге. Облечённое ударение состоит
из острого и следующего за ним тяжелого ударения, обозначает повышение
интонации и немедленное ее понижение. Иначе говоря, поскольку в нем
заложен двойной ритм, составленный из двух длительностей, облечённое
ударение ставится только на долгие гласные, в отличие от двух других, которые
можно видеть на любом гласном.
– Апостроф (’), по-гречески ἀποστροφή – «отклонение», или же ἔκθλιψις –
«вытеснение», указывает на элизию, то есть выпадение конечного гласного
из слова, когда следующее слово начинается с гласного. Например, пишется
οὐδ’ αὐτός вместо οὐδὲ αὐτός, и мы, так же как в итальянском, ставим апостроф
при написании «quell’uomo» вместо «quello uomo».
– Подписная йота – маленькая йота, которая пишется под долгими гласными ᾳ,
ῃ, ῳ. Она указывает на то, что в классическую эпоху существовал дифтонг,
второй гласный которого был ослаблен настолько, что совсем не произносился
и потому зачастую опускался на письме. В византийскую эпоху начали писать
недостающую йоту под первым гласным дифтонга, а не рядом с ним. Нынче же
подписной гласный ι при чтении не произносится.
– Знаки препинания включают запятую (,) и точку (.). Они употребляются,
как в итальянском. Греки не использовали прописную букву в начале каждого
предложения, а только в крупных отделах текста, таких как главы или отрывки.
Есть также колон – верхняя точка (·), занимающая промежуточное положение
между запятой и точкой. Он часто передается в итальянском точкой с запятой.
Напротив, точка с запятой (;) в греческом соответствует нашему
вопросительному знаку и завершает собой вопросы.
Современные издатели, чтобы облегчить чтение, нередко вводят в греческий
текст знаки, присущие итальянскому, например, кавычки, двоеточие,
восклицательный знак.
Мы сейчас, естественно, очень благодарны александрийцам, взявшим на себя
труд скрупулезно расставлять придыхания, ударения и знаки препинания,
которых не было в древнегреческом,
но которые облегчают нам понимание данного языка.
К сожалению, рука об руку с нашей бесконечной благодарностью идет столь же
бесконечная тупость: дабы воспользоваться помощью диакритических знаков,
нам прежде нужно их понять. Но часто, почти всегда, мы их вовсе не понимаем.
Так что, вместо того чтобы облегчать нам восприятие текста, данные знаки
превращаются в новое препятствие, в изначальное затруднение, в основу
непонимания, то есть в явную проблему. Положим, мы не настолько безмозглы,
чтобы запутаться в запятых, пробелах и апострофах, – до них мы все-таки
добираемся. Иное дело – сущий кошмар для тех, кто знает, о чем я толкую,
равно как и для тех, кто не знает, – придыхания и ударения. В лицее за неделюдругую мы первым делом заучиваем греческий алфавит. Представьте себе
гордость и счастье тех, кто вторично учится читать и писать! Сколь волнующе
накарябать как курица лапой первые робкие прописные и строчные греческие
буквы! Сколь приятно составить первые неуклюжие слоги
или транслитерировать свое имя на чужом языке и потом с неслыханным
самодовольством показать его друзьям и родным! С каким умилением
произносим мы вслух дрожащим голосом первое иностранное слово!
Кто бы знал, почему мы не можем потом вспомнить это первое слово,
выговоренное на чужом языке!
Гордость, волнение, удовлетворение, наслаждение и самодовольство длятся
до тех пор, пока мы не переворачиваем страницу учебника и начинаем читать
главу, открывающую всякую классическую греческую грамматику –
«Фонетику». Именно здесь мы делаем болезненное открытие, которое кладет
конец нашей детской радости. Чтобы писать и читать по-гречески, недостаточно
выучить алфавит. Надо изучать и знать законы, управляющие ударениями
и придыханиями.
Именно так они и называются – законы, – и потому налагают обязанности,
взамен которых мы получаем права; разве что они, эти права, то есть подспорье
в понимании, почти всегда оказываются бесполезны, ибо современные люди их
уже не понимают.
Я не видела ни одного ученика классического лицея, которого не смущали,
путали, ошарашивали и оболванивали законы ударения. Те самые, что, по идее,
должны нам помогать, если верить александрийцам, понимать текст. Я, во
всяком случае, была оболванена. И таковой остаюсь.
Помню свою первую контрольную, написанную в первый лицейский год.
Помню, как безупречно переписала, проспрягала и просклоняла на чистом листе
бумаги глаголы и существительные, заданные преподавательницей (помню
даже, какие именно, никогда их не забуду: глагол γράφω – «писать»
и существительное ἡ οἰκία – «дом»). И прежде всего помню слепое, безумное,
неумолимое отчаяние, охватившее меня, когда я вспомнила о том, что их нужно
«ударить» и «придыхнуть» (что за дурацкое слово – «придыхнуть»!). Это был
сущий кошмар. Вот-вот прозвенит звонок, контрольная великолепна,
безукоризненна, всё написано даже лучше, чем в учебнике. Но… нет
ни ударений, ни придыханий. Поднять глаза в классе во время контрольной –
значит публично опозориться среди толпы четырнадцатилетних учеников,
ликующих при виде чужого провала. «Я не смогу, я в отчаянье, я тяну время,
я сейчас расплачусь», – такие мысли роилось в моей голове. Поэтому,
не отрывая глаз от листка, я лихорадочно искала варианты решения проблемы.
Оставить слова калеками, без ударений и придыханий? Невозможно, всё равно
что примерять кожаные туфли в шикарном магазине с дыркой на чулке.
Расставить наобум? Но как наобум? И я стала перебирать свой багаж знаний,
на тот момент, прямо скажем, скудный. «Легкое придыхание – как живот у D».
Эти нелепые уловки лицеист будет помнить всегда. «Живот D», «после si, nisi,
num и ne aliquid теряет ali (крылья)», «spero, promitto и iuro требуют всегда
l’infinito futuro (инфинитива будущего времени)» и т. д. Лингвистическая
чепуховина, которую даже преподавательница перечисляла нам, стыдясь. Она
однажды поклялась, что никогда в жизни не будет прибегать к ней, – и вот,
несколько лет спустя, уверенно декламировала этот бред своим ученикам.
Потому что лингвистическая чепуховина работает, как ни крути. Однако,
выяснив, что легкое придыхание пузатое, а острое, соответственно, страдает
анорексией, о том, как расставлять их, я по-прежнему ни черта не знала.
Не говоря уже об ударениях: тут дело обстояло еще хуже. Уловку,
позволяющую различить острое и тяжелое, пытались изобрести две тысячи
лет, но ничего не вышло. Родительный множественного числа сбрасываем
со счетов, там, несомненно, ставится облечённое. Возможно, и в дательном.
А двойственное? Как расправиться с двойственным?
На миг меня охватил гнев на александрийцев, придумавших ударения
и придыхания, которыми греки не пользовались. Спасибо, я искренне
благодарна вам, но в следующий раз не трудитесь, и так сойдет. Надо
смириться. Пора продолжить. Я сделала серьезное, сосредоточенное,
педантичное и усердное выражение лица – такое, с которым расставляют
ударения и придыхания над словами. Рука быстро, твердо и решительно
двигалась по листку с контрольной, всаживая диакритику здесь и там.
Разумеется, я всё расставила неверно.
Бесспорно, в отношении ударений и придыханий я представляю случай
тяжелейшей, возможно, клинической тупости. Поэтому даже в университете
не выучила их как должно. Я долго пыталась компенсировать этот пробел
в знаниях, зазубрила законы ударения, рьяно тренировалась их расставлять.
И все мои усилия неизменно оказывались тщетными, потому что я никак
не могла смириться. Не то чтобы я пыталась смириться с неумением ставить
ударения, но я воевала с непониманием смысла: зачем это делать? Если мы
не знаем и никогда не узнаем подлинного произношения древнегреческих слов,
зачем упорствовать в заучивании фиктивного[16]? Более того – зачем
упорствовать в его написании? Допустим, как это ни парадоксально, что
итальянский исчезнет с лица земли и от него останутся только письменные
тексты. Кто тогда сможет себе представить и – хуже того – узаконить его
произношение лишь на основе произведений Данте и Мандзони, а от них
шагнуть в ничтожность постов «Фейсбука»[17] или щебет «Твиттера»?
С придыханием гласных – густым или легким – делать особо нечего: что-то
изучить, что-то зазубрить, а главным образом «проинтуичить». Вообще-то, даже
будь нам известны придыхания всех слов, начинающихся с гласных, мы
всё равно не смогли бы произнести соответствующего придыхания: «Поитальянски это не произносится», – так закрывают данный вопрос учебники
грамматики. Многие преподаватели до сих пор определяют придыхания
и ударения как нечто орнаментальное: в завитках и черточках слова выглядят
элегантнее, но пользы от них никакой, как во внешности чересчур выхоленных
красоток, где чувствуется нечто ненатуральное.
Что до ударений, тут существует немало законов для заучивания. Все они адски
трудны, видимо, предназначены для обладающих обостренным чувством ритма
(коего я, очевидно, лишена, ведь я даже латиноамериканские танцы не умею
исполнять), так как греческий язык музыкален. Наиболее распространенный,
указующий самый надежный путь к спасению, – «закон трех слогов», также
именуемый «законом ограничения», который гласит: если последний слог
в слове краткий, то ударение не может отойти дальше третьего слога от конца
(стало быть, имеется три варианта расстановки ударений). Если же последний
слог долгий, то ударение может падать на последний или предпоследний слог
(в данном случае уже два варианта).
Мы не понимаем принципы расстановки придыханий и ударений
в древнегреческом или затрудняемся с выбором верных вариантов лишь потому,
что у нас отняли настоящее произношение слов. Мелодические характеристики
языка, его музыкальный, а не основанный на силовых ударениях, ритм нам
совершенно чужды. Нашим ушам не суждено услышать, как говорит настоящий
древний грек, – а ведь это один из способов с детства выучиться правильно
произносить итальянские слова и говорить «добрый день» на иностранных
языках, еще не умея писать.
Вот почему графические знаки, введенные александрийцами для облегчения
чтения на греческом, столь трудны для нас. Они-то умели читать по-гречески,
а мы – нет. В то же время александрийцы позволили нам что-то бормотать на их
языке, избавив современных людей от вечного молчания. Прилагая усилия, мы
таким образом можем изучать, понимать, но никогда не сподобимся услышать,
как должны звучать долгий или краткий гласный, острое, тяжелое
или облечённое ударение. Нам остается лишь мириться с чувством неудобства
и включать воображение. Более того – делать это нужно обязательно. Так
как без усилий, которых требует греческая фонетика, мы никогда не переступим
порог одной из главных древнегреческих сокровищниц – поэзии.
Греческая поэзия – эпос, лирика, трагедия, комедия – вместила в себя всё, что
нужно знать о насыщенной людской жизни.
Но если в итальянской поэзии мы знаем терцины, сонеты, канцоны,
гендекасиллабы, септенарии и белый стих (ударения-то как-никак наши)
и умеем их читать, то как слагали стихи древние греки? И главное – как их
читать?
Ритм языка основывался на чередовании долгих и кратких слогов, а ударения
в словах отходили на второй план. Чтобы сочинить стих, древний грек должен
был определенным образом распределить долгие и краткие слоги. Таким
образом, поэты в стихосложении опирались не на тоны слов, как в итальянском,
а на их ритм, на долготу и краткость слогов. Начиная с архаической эпохи
и вплоть до христианской эры, никто никогда не пытался совместить
с ударением стихотворный ритм; поэты нимало не заботились о размещении
ударений.
Древние греки воспринимали обе данности – ударение и долготу слога
в избранном размере. Это мы, будучи неспособными воспринять и то, и другое,
сбрасываем со счетов ударение, когда читаем стихи. Они же считали, что
мелодика языка и его музыкальность – естественный способ самовыражения,
тщательно выверенная последовательность долгих и кратких слогов.
Вот почему, чью книгу ни возьми, – Гомера, Пиндара, Сафо, Софокла
или Аристофана – мы не можем утверждать, будто греческую поэзию
только декламировали: ее музыкальный компонент исключает устное чтение,
сравнимое с декламацией итальянской поэзии. В то же время нельзя сказать, что
греческая поэзия только пелась, хотя порой поэтам аккомпанировали на таких
струнных инструментах, как лира или кифара.
Мелодия греческой поэзии была связана с музыкальной природой языка,
с постоянным изменением и повышением голоса, с длительностью
произношения каждого слога. Эта музыкальность также прослеживается, хотя
и не столь явственно, в прозе.
Существовали четкие метрические схемы, или способы стихосложения,
основанные на разных ритмах, присущих поэтическим жанрам. К примеру,
в эпической поэзии использовался гекзаметр; в лирической – ямб, трохей
или эолийские стихи; в трагедии и комедии – ямбический триметр и эолийские
стихи для хора. Каждой из данных схем (безумно трудных для понимания
и воспроизведения современным человеком) соответствовала не какая-то одна
характеристика греческого языка. Поэт сам выбирал средства выражения. Так
возможность заменить долгий гласный двумя краткими предоставляла творцу
обширный круг слов для стихосложения. Метрика греческой поэзии была
не насилием над языком, а способом выразить с помощью голоса некую идею
мира – музыкального мира.
Когда примерно в III веке н. э. утратилось понимание длительности слогов,
для сохранности этого мира остался один лишь способ – записать его. Хотя бы
немым. В византийскую эпоху информация об оригинальных размерах стала
и вовсе расплывчатой, но грамматики продолжали копировать метрические
схемы, страницу за страницей. Благодаря их неутомимым и безмолвным трудам
остатки греческой метрики пережили падение Константинополя и дошли
до наших дней.
Так как же конкретно дошли до нас звуки греческой поэзии? Если бы можно
было сфотографировать молчание языка, вот каким оказалось бы его
изображение:
Это графическое изображение метрической схемы, которую использовал поэт
Пиндар в «Десятой Пифийской оде» посвященной Гиппоклу Фессалийскому.
Верно, что символу (_) соответствует долгий слог, а символу (͜
) – краткий.
Верно, что за данными символами стоят слова, несущие определенный смысл,
избранные для воспевания подвигов некого Гиппокла и его мифологического
происхождения. Но не менее верно и то, что, как бы ни старались мы понять
метр, расставляя ударения на свой лад, то есть с помощью интонации и долгих
гласных, мы никогда не приблизимся к правильному произношению этой
поэзии.
Мы не сможем понять, почему поэт избрал такое сочетание кратких и долгих
и что он хотел выразить своим выбором. Для нас данная поэзия нема. Мы
потеряли основную часть ее смысла.
Мы, как рыбы в аквариуме, шевелим губами, не издавая ни звука. Или,
по крайней мере, ни одного греческого звука.
«Сила [языка] эта, конечно, сосредоточена в языке – неиссякаемом источнике
света и, увы, непонимания. Ведь с английским как? – схватываешь на лету,
а с греческим так не получается, сколько ни пытайся. Нам недоступно звучание,
а ведь в языке это едва ли не главное: следить за тем, как меняются от строки
к строке модуляции голоса, звучащего то резко, то плавно. Естественно, мы
не улавливаем нюансы, благодаря которым живет, дышит, танцует фраза. И тем
не менее, несмотря ни на что, именно язык держит нас за живое, не отпускает:
вот он, источник вечного соблазна!»[18] Так пишет Вирджиния Вулф в своем
блестящем эссе «О глухоте к греческому слову».
И это действительно так: мы никогда не сможем овладеть насыщенностью хоть
одного слова на древнегреческом. Однако современные люди продолжают
изучать данный язык, он тысячелетиями соблазняет нас силой
своей удаленности; тысячелетиями человечество тщится не мытьем, так
катаньем приблизиться к нему. В этих текстах мы читаем уже не о мире
древних греков, мы читаем о самих себе.
То же самое касается и музыкальности древнегреческого, которую современный
человек воспринимает с помощью своих звуков и своего ритма; но мы на всё
готовы, лишь бы хоть раз услышать, как на самом деле надо произносить
греческое слово. Нам осталась своеобразная виниловая пластинка
без проигрывателя. Навсегда утратив иглу и не зная, как настроить
звукосниматель, мы можем насладиться музыкой не иначе, как воображая звук.
Три рода, три числа
А мы всё тот же берег,
вечно по сию сторону того острова,
где «я» говорят, чтоб сказать «мы»
и чтоб стать нами.
Пьерлуиджи Каппелло.
Из сборника «Элементарная лазурь»
В итальянском мы можем придать предметам обличье, цвет и природу только
в двух родах – мужском и женском. Древнегреческий язык имел еще
и средний род.
В итальянском мы можем сосчитать и измерить жизнь лишь в двух числах –
единственном и множественном. Древнегреческий имел еще и двойственное
число.
Я долго пыталась найти хоть одну страницу древнегреческого текста, которая
смогла бы приблизить читателя к тем утраченным родам и числам. Листала
сборники, различные версии книг, шерстила тексты, они изнуряли меня, но не
находилось ничего пригодного для того, чтобы снять покровы, дать понять
и почувствовать язык. С одной стороны, почти невозможно найти хоть строчку
древнегреческого текста, где не появился бы средний род: подобно яркому
свету он ослепляет того, кто пытается что-то понять. С другой – использование
двойственного числа столь своеобразно, что почти невозможно найти более
одной строчки, где оно употреблялось бы последовательно: недостаток света
ослепляет (в ином смысле) того, кто пытается что-то понять.
В конце концов я выбрала один из самых известных пассажей Платона – тот,
который обычно цитируют, говоря о родственной душе или о двух половинах
одного яблока (хотя кто читал этот текст в книге, а не на вкладках
в шоколадки?). Словом, я выбрала тот, где говорится о любви. Или об
одиночестве. Ведь в жизни каждого из нас рано или поздно появляется любовь,
а когда мы ее лишаемся – чувствуем одиночество.
Я отдаю себе отчет в том, что, хотя в данном тексте присутствуют и средний
род, и двойственное число, он не лучшим образом иллюстрирует специфику
древнегреческого языка, так как смысл его заключается совсем не в этом; он
именно в любви. А вы должны понимать, что читаете не учебник
древнегреческого языка, а нетрадиционный рассказ о древнегреческой
грамматике.
Итальянский глагол «tradurre» («переводить») происходит от латинского
«traduco», то есть переводить, перемещать с другой стороны. Я выбрала данный
отрывок, чтобы проводить вас – неважно, изучали вы греческий или нет –
к родам и числам, ныне утраченным. Приоткрыть завесу тайны, дать вам
вообразить и почувствовать язык, чтобы потом понять его.
Πρῶτον μὲν γὰρ τρία ἦν τὰ γένη τὰ τῶν ἀνθρώπων, οὐχ ὥσπερ νῦν δύο, ἄρρεν καὶ
θῆλυ, ἀλλὰ καὶ τρίτον προσῆν κοινὸν ὂν ἀμφοτέρων τούτων, οὗ νῦν ὄνομα λοιπόν,
αὐτὸ δὲ ἠφάνισται.
Прежде всего люди были трех полов, а не двух, как ныне, мужского и женского,
ибо существовал еще третий пол, который соединял в себе признаки этих обоих;
сам он исчез, и от него сохранилось только имя.
Ἔπειτα ὅλον ἦν ἑκάστου τοῦ ἀνθρώπου τὸ εἶδος στρογγύλον, νῶτον καὶ πλευρὰς
κύκλῳ ἔχον, χεῖρας δὲ τέτταρας εἶχε, καὶ σκέλη τὰ ἴσα ταῖς χερσίν, καὶ πρόσωπα δύ ̓
ἐπ ̓αὐχένικυκλοτερεῖ, ὅμοια πάντῃ.
Кроме того, тело у всех было округлое, спина не отличалась от груди, рук было
четыре, ног столько же, сколько рук, и у каждого на круглой шее два лица,
совершенно одинаковых.
Ἦν δὲ διὰ ταῦτα τρία τὰ γένη καὶ τοιαῦτα, ὅτι τὸ μὲν ἄρρεν ἦν τοῦ ἡλίου τὴν ἀρχὴν
ἔκγονον, τὸ δὲ θῆλυ τῆς γῆς, τὸ δὲ ἀμφοτέρων μετέχον τῆς σελήνης, ὅτι καὶ ἡ σελήνη
ἀμφοτέρων μετέχει.
А было этих полов три, и таковы они были потому, что мужской искони
происходит от Солнца, женский – от Земли, а совмещавший оба этих –
от Луны, поскольку и Луна совмещает оба начала.
Ἦν οὖν τὴν ἰσχὺν δεινὰ καὶ τὴν ῥώμην, καὶ τὰ φρονήματα μεγάλα εἶχον, ἐπεχείρησαν
δὲ τοῖς θεοῖς, καὶ ὃ λέγει Ὅμηρος περὶ Ἐφιάλτου τε καὶ Ὤτου, περὶ ἐκείνων λέγεται,
τὸ εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνάβασιν ἐπιχειρεῖν ποιεῖν, ὡς ἐπιθησομένων τοῖς θεοῖς. ὁ οὖν
Ζεὺς καὶ οἱ ἄλλοι θεοὶ ἐβουλεύοντο ὅτι χρὴ αὐτοὺς ποιῆσαι, καὶ ἠπόρουν.
Страшные своей силой и мощью, они питали великие замыслы и посягали даже
на власть богов, и то, что Гомер говорит об Эфиальте и Оте, относится к ним:
это они пытались совершить восхождение на небо, чтобы напасть на богов.
И вот Зевс и прочие боги стали совещаться, как поступить с ними, и не знали,
как быть.
Μόγις δὴ ὁ Ζεὺς ἐννοήσας λέγει ὅτι ‘δοκῶ μοι’, ἔφη, ‘ἔχειν μηχανήν, ὡς ἂν εἶέν τε
ἅνθρωποι καὶ παύσαιντο τῆς ἀκολασίας ἀσθενέστεροι γενόμενοι. Νῦν μὲν γὰρ
αὐτούς, ἔφη, διατεμῶ δίχα ἕκαστον, καὶ ἅμα μὲν ἀσθενέστεροι ἔσονται, ἅμα δὲ
χρησιμώτεροι ἡμῖν διὰ τὸ πλείους τὸν ἀριθμὸν γεγονέναι· καὶ βαδιοῦνται ὀρθοὶ ἐπὶ
δυοῖν σκελοῖν’.
Наконец Зевс, насилу кое-что придумав, говорит: «Кажется, я нашел способ
и сохранить людей, и положить конец их буйству, уменьшив их силу. Я разрежу
каждого из них пополам, и тогда они, во-первых, станут слабее, а во-вторых,
полезней для нас, потому что число их увеличится. И ходить они будут прямо,
на двух ногах.
Ταῦτα εἰπὼν ἔτεμνε τοὺς ἀνθρώπους δίχα, ὥσπερ οἱ τὰ ὄα τέμνοντες καὶ μέλλοντες
ταριχεύειν, ἢ ὥσπερ οἱ τὰ ᾠὰ ταῖς θριξίν.
Сказав это, он стал разрезать людей пополам, как разрезают перед засолкой
ягоды рябины или как режут яйцо волоском.
Ὁ ἔρως ἔμφυτος ἀλλήλων τοῖς ἀνθρώποις καὶ τῆς ἀρχαίας φύσεως συναγωγεὺς καὶ
ἐπιχειρῶν ποιῆσαι ἓν ἐκ δυοῖν καὶ ἰάσασθαι τὴν φύσιν τὴν ἀνθρωπίνην.
Вот с каких давних пор свойственно людям любовное влечение друг к другу,
которое, соединяя прежние половины, пытается сделать из двух одно и тем
самым исцелить человеческую природу[19].
С душою или без. Средний род
Мужчина, женщина. Небо, земля, море. Рот, мысль, дерево, плод.
Древние греки умели изображать облик мира насыщенным и ярким. Такой
облик природы просматривался на много миль вглубь. Помимо женского
и мужского рода, в которых мы представляем жизнь на итальянском, греческий
обладал еще одним родом – средним.
Противопоставление не основывалось на «цвете» слов, розовом или голубом,
как у детей, либо на чем-то «бесцветном», скажем, черном и белом. Пол тоже
не имел значения, иначе какой пол нужно было бы приписать мыслям? Древние
греки проводили различие между одушевленным (мужским и женским)
и неодушевленным. Явления жизни делились на те, что «с душою», и на те, что
«без». К среднему роду относили абстрактные понятия: τὸ ὄνομα, «имя», τὸ
μέτρον, «мера», τὸ δῶροv, «дар», τὸ θέατρον, «театр». Средним родом обладали
отдельные предметы: τὸ ὅπλον, «оружие», τὸ δόρυ, «копье» и определенные
общности: τὸ ὄρος, «горы», τὸ ὕδωρ, «воды», τὸ κῦμα, «волны». «Человеческое
тело» имело средний род – τὸ σῶμα, как и отдельные его части: τὸ ἦτορ,
«сердце», τὸ πρόσωπον, «лицо», τὸ δάκρυον, «слеза». Среднего рода была
«весна» – τὸ ἔαρ, «сны» – τὰ ὀνείρατα.
Исидор Севильский
Когда речь заходит о крахе Римской империи и языковых развалинах, как не
вспомнить некую блестяще образованную, одаренную, нестандартную – одним
словом, гениальную личность, написавшую немало трудов по исследованию
языка Высокого Средневековья? Исидора Севильского.
Именно в силу своей особой оригинальности доктор богословия Исидор
из Севильи (560?–636) заслуживает упоминания на страницах данной книги.
Как бы то ни было, упоминание это будет кратким в сравнении с обилием книг
и знаний, благодаря Исидору доставшихся жителям смутных Средних веков
и дошедших до нас.
Быть может, мне удастся воздать должное его безмерной отваге и столь же
безмерной фантазии, если я горячо порекомендую вам прочесть «Этимологии,
или Начала», компендиум всех ведомых в оную эпоху познаний человечества –
от медицины до лингвистики, от зоологии до географии, от искусств до права.
Фактически «Этимологии» Исидора стали первой в истории энциклопедией,
одним из останков греко-римской цивилизации, наиболее успешно
противостоявших окончательному ее крушению. Его труды читали,
преподавали и передавали из поколения в поколение на протяжении всего
Средневековья, невзирая на смену языков, народов, верований, законов
и государств, в то время как знание латыни становилось всё более
расплывчатым, а память о греческом на просторах Западной Европы и вовсе
уходила в небытие.
В книге IX, в первой главе, посвященной языкам народов, Исидор
с поразительной дальновидностью пишет: «На вопрос о том, каким языком
станут изъясняться в будущем человеки, невозможно найти ответ. Недаром учит
апостол: „и пророчества прекратятся, и языки умолкнут“[20]. Вот почему мы
толкуем прежде о языках, а уж на втором месте о народах, ибо народы
рождаются из языков, а не языки из народов».
Совершенно верно отметил Данте Алигьери, будто духи Исидора Севильского
наряду с духами Беды и Рикарда «пылают, продолжая круг»[21]: испанец не щадил себя,
прилагая титанические усилия, чтобы описать действительность лишь через
этимологии слов, повествующих о ней.
И труд его не пропал даром, если подумать о том, что на протяжении всего
Высокого Средневековья, в то время как сжигались библиотеки
и утрачивались древние письмена, бо́
льшая часть информации
об античности черпалась из его «Этимологий» народами, веками
объединенными одним языком, а ныне разделенными и ощутившими свою
потерянность, находясь на границе прошлого и настоящего.
Трудно отрицать, что многие из данных этимологий весьма странны,
причудливы, некоторые просто высосаны из пальца, и потому их так
любопытно читать сегодня. Любопытно читать, но без осуждения автора: это
нам сейчас доступны любые знания, а когда Исидор Севильский собрал всю
информацию о мире, которую только мог, империя, не только политическая,
но и главным образом культурная, рушилась у него под ногами. Так что слава
его силе и фантазии.
Что же касается рода, Исидор утверждает в седьмой главе книги первой,
посвященной грамматике, будто слова бывают мужского и женского рода.
Ради полноты картины, свойственной всем его трудам, он упоминает также
некоторые «особые» роды, продукты человеческого разума: средний –
«neutrum» (то есть «ne-utrum», «ни тот, ни другой»), общий, в котором
участвуют оба рода, как, например, «canis», обозначающий одновременно
кобеля и суку, а также некий очень странный эпицен, выражающий оба пола.
Касательно последнего Исидор углубляется в слишком уж дотошные
объяснения на примере слова «рыба», употребляющегося только в мужском
роде, ибо «пол этой особи трудноопределим, коль скоро она не имеет различий
ни в поведении, ни во внешности, его можно уловить, лишь коснувшись
опытной рукою». (По вопросам искусства пальпации рыб обращайтесь
к рыбакам Ливорно.)
И наконец, последнее замечание: в 2002 году папа Иоанн Павел II назначил
святого Исидора Севильского покровителем интернета, компьютера
и компьютерщиков; его «Этимологии», вобравшие в себя всё человеческое
знание, по идее, являются предтечей мировой паутины, а указатель
их содержания может считаться первой в истории базой данных.
Противопоставление двух разрядов – одушевленного (мужского или женского)
и неодушевленного (среднего) свойственно индоевропейскому языку и четко
сохранилось в греческом. Более того – индоевропейское окончание даже
не разграничивало значительную часть одушевленных существительных
на мужской и женский род, они являлись одним разрядом, одной и той же
перспективой мира, наделенного душой. Именно древние греки обновили
и зафиксировали их разграничение, введя артикли мужского и женского рода,
в точности как итальянцы.
Средний род явным образом противостоял двум другим родам; данное
противостояние существовало (если не считать некоторой путаницы
и исключений) на протяжении всей истории древнегреческого языка вплоть до
κοινή и добралось в целостном, осмысленном виде до новогреческого.
Таким образом, хоть какую-то из особенностей древнегреческого языка
не стерли с доски времени. Различие между одушевленным и неодушевленным,
свойственное индоевропейскому образу мысли, сохранило на протяжении
тысячелетий свою грамматическую и функциональную роль; вопреки войнам,
нашествиям великой истории средний род дошел до нас, до истории малой.
Или, вернее, его нам вручили нынешние греки, поскольку в итальянском
среднего рода уже нет, хотя он сохранился и в латыни.
В отличие от некоторых германских языков, средний род исчез из всех
произошедших от латыни романских вроде итальянского. В ходе языковой
эволюции, последовавшей за появлением новых народов, перед каждым нашим
словом поставили не подлежащий обжалованию выбор, каким ему следует
быть – мужским или женским. Под гнетом развалин Римской империи каждое
слово прекратило спрашивать, есть у него душа или нет. Мужчина и женщина
стали единственными лингвистическими разграничителями.
Мужского рода слово «жизнь» – ὁ βίος, мужского – слово «смерть» – ὁ θάνατος.
Среднего – слово, означающее «живущее», – τὸ ζῷον, «животное».
В целом система трех родов греческого базировалась на древнем различии
между словами, имеющими одушевленный или неодушевленный смысл –
«с душою или без». Противопоставление мужского и женского начала было
не столь явным, далеким от исконного значения, порой запутанным
или размытым. Среднего рода само греческое слово, обозначающее «род», – τὸ
γένος.
А различие между средним и мужским/женским далеко не банально и имеет
более глубокий смысл, чем мы могли бы себе представить. Зачастую довольно
трудно, порой невозможно проследить и постичь родовой смысл греческого
слова.
Названия деревьев женского рода, так как они порождают жизнь, как и земля.
А среднего – плоды деревьев: лингвистически они воспринимаются
как предметы. Таким образом, ἡ ἄπιος, «груша-дерево» женского рода, а τὸ
ἄπιον, «груша-плод» среднего. Τὸ σῦκον, «смоква» среднего рода, а дерево,
порождающее смоквы, ἡ συκέα – женского. Женского рода как «олива», так
и «оливка», ἡ ἐλαία, но среднего «оливковое масло», τὸ ἔλαιον.
Средний род имеют уменьшительные от слов мужского или женского рода,
употребляемые в ласкательном или пренебрежительном смысле. Ὁ μόσχος –
«теленок», τὸ μοσχίον – «теленочек». Ὁ μεῖραξ – «парень», τὸ μειράκιον –
«парнишка».
Женского рода «действие», ἡ πρᾶξις, среднего – результат действия,
«сделанное», τὸ πρᾶγμα. Женского – «земля», ἡ γῆ, женского – «море», ἡ
θάλασσα; они оба являются носителями жизни, рождения, плодородия и, стало
быть, душú.
Иногда существительные в единственном числе мужского или женского рода,
то есть одушевленные, оказываются среднего рода во множественном,
поскольку они приобретают собирательный оттенок и выражают абстрактные
идеи. Ἡ κέλευθος, «дорога» женского рода, τὰ κέλευθα, «морское плавание»
или «путешествие» – среднего. Ὁ λύχνος, «светильник» – мужского, а «свет», τὰ
λύχνα – среднего.
Непонятно, почему одни части человеческого тела мужского рода, другие –
женского, третьи – среднего. Мужского рода «глаз», ὁ ὀφθαλμός, «зуб», ὁ ὀδούς,
«нога», ὁ πούς. Женского – «нос», ἡ ῥίς, «рука», ἡ χείρ. Среднего – «рот»,
τὸ στόμα, «ухо», τὸ οὖς, «колено», τὸ γόνυ.
В древнегреческом языке многие архаичные слова, относящиеся к земле,
сельскому хозяйству и скоту, имеют общий одушевленный род, не делая
различия в полах.
Ὁ/Ἡ βοῦς, – это и «бык», и «корова», ὁ/ἡ ἵππος – и «конь», и «кобыла». Чтобы
уточнить род, используются артикли, прилагательные и специальные слова типа
ταῦρος, «бык».
В отдельных случаях, опять-таки безо всяких обоснований, одно и то же слово
существует как в мужском, так и в женском роде: ὁ γόνος и ἡ γονή, оба означают
«потомство».
Наряду с числом, род в греческом выявляет связи между словами внутри фразы.
Для языка, построенного на падежах, он играет очень важную роль
в синтаксисе, связывая относящиеся друг к другу слова.
Род и число помогают нам разобраться в греческом тексте, являя собой
некий смысловой компас. Это известно каждому ученику.
Как в школе обучают различать мужской, женский и средний род слов? Как их
запомнить?
В данном случае нам помогает не память (если, конечно, мы не столь безумны,
чтобы выучить наизусть весь словарь) и не совершенная методика обучения,
даже самая лингвистически прочувствованная и осознанная.
Принадлежность слова к мужскому, женскому или среднему роду во всех
языках мира есть нечто трудно распознаваемое и обоснованное. Дело в том, что
каждый язык, будь то живой или мертвый, абсолютно произвольно избирает род
слова. А носители языка накрепко усваивают его в процессе связывания слов
между собой, зачастую не отдавая себе в этом отчета.
Ни один итальянец не задумается о выборе мужского или женского рода
прилагательного при описании женщины, неба, книги, мечты; род приходит сам
собой. Изнутри, издалека, из языкового сознания. Никаких особых усилий
не требуется при выборе рода слов, когда мы говорим по телефону с другом,
пишем мейл начальнику, слушаем песню, смотрим фильм. Никто себя
не спрашивает (кроме проклятых зануд), почему данное слово мужского
или женского рода, – с какой стати нам это делать? Да и я сама, когда пишу,
не забочусь о грамматических связях слов. Еще до того, как научиться говорить,
я усвоила, что «собака» («il cane») мужского рода, а «корабль» («la nave») –
женского. Итальянский – мой родной язык, и род слов в нем очевиден. Это мой
язык, он внутри меня.
Но всё это не работает, когда дело касается неродных, то есть иностранных
языков. Греческий – иностранный, не наш язык, его носители свободно
избирали способ вúдения мира и род любого слова. Будучи чуждым нам
языком, он не закладывает внутрь нас род слов; более того – как у языка
мертвого, у него не осталось ни одного носителя, а лишь немые наследники.
Поэтому невозможно найти автоматический или механический алгоритм
понимания рода в древнегреческом. Каждое слово в нем имеет мужской,
женский или средний род, поскольку такими они ложились на ухо, а главное –
на ум людей, их произносивших.
Таким образом, род – эксклюзивная собственность языка, любого языка,
и с этим ничего нельзя поделать. Таков совершенно самобытный способ
изложения мира. К примеру, «море» мужского рода в итальянском – «il mare»,
и женского во французском – «la mer». Ни один носитель не задается вопросом,
почему так, и не считает это странным; в обоих случаях данная особенность
заложена в природе языка.
Напротив, любой говорящий зубрит, надрывается, из кожи вон лезет, когда ему
приходится учить чужой язык. В этом смысле усвоение родов древнегреческого
мало чем отличается от изучения родов любого другого языка. Языковое
чувство не слишком помогает; более того – прибегать к механическим
сопоставлениям с родным языком не стоит, ибо они – источник колоссальных
ошибок. Почти всё здесь непредсказуемо.
Следовательно, необходимо запастись терпением, усердием,
снисходительностью и самообладанием. Нужно время – сколько потребуется.
Чем больше нам попадается во время обучения греческого слов мужского,
женского и среднего рода, тем больше вероятность запомнить их род.
А в особенности необходима вера – в самих себя и в язык, такой, какой он есть,
уникальный по своей сути.
Примером для объяснения стихийности рода может служить мое имя. Андреа.
Этимологически оно происходит из греческого – ὁ ἀνήρ, «мужчина», что,
собственно, и свидетельствует о том, что оспорить такой расклад нельзя.
Но я волею случая родилась женщиной.
Я волею случая дочь того, кому неведомы уныние и страх, того, кто рад
каждому солнечному дню, кто прославляет жизнь во всей ее красоте, включая
нелогичную, но славную мысль назвать меня Андреа. («Андреа – и всё тут!» –
рявкнул отец, по рассказам очевидцев, на обескураженного паспортиста,
который пытался предложить ему более традиционное второе имя для дочери.)
Однако я женщина, чье детство прошло в Италии, и уверяю вас, что девочке
с мужским именем было не до шуток, вернее, это как раз и было постоянным
поводом для шуток и дразнилок от других детей. В Италии мое имя было
и остается мужским, тут не поспоришь. Меня нисколько не утешало то, что
говорила мама, когда я возвращалась домой, проглотив очередную порцию
унижений: например, что Андреа оканчивается на «а», значит, имя немножко
и женское. Мне хотелось иметь не «немножко», а полностью женское имя,
как у других девочек; какое-то время, с шести до семи лет, я врала всем, будто
меня зовут Сильвией, чем немало огорчала отца.
А прежде всего бесполезно было сто, тысячу раз повторять, что Андреа –
женское имя в Центральной Европе и в обеих Америках, Северной и Южной.
Не помогало даже то, что и с виду я явно была и остаюсь женщиной. Андреа
в Италии – мужское имя, это знают, чувствуют все итальянцы, и точка.
За границей нашей страны – нет, а здесь, у нас – да. И данным языковым
чувством итальянца объясняется неизменный вопрос, который задают мне
каждый день: «Ты иностранка?» (Светлые волосы, глаза и бледная кожа до сих
пор мешают, в барах ко мне нет-нет да и обратится кто-нибудь по-английски
или по-немецки.)
Вот и налоговая по ошибке присвоила мне мужской идентификационный номер,
так что в восемнадцать лет я получила военный билет.
При любом появлении в новой компании меня встречают озадаченным
молчанием, междометиями «а?» или «ах!», уточнениями вроде: «В самом деле
Андреа?», а в худшем случае плоскими остротами. Один раз собеседник дошел
до вопроса о моем настоящем имени, будучи твердо уверен в том, что Андреа –
это псевдоним (с какой стати я буду брать себе псевдоним?).
Когда я предъявляю кредитку со своим именем, кассиры смотрят на меня
подозрительно, как на воровку, а иногда спрашивают, в курсе ли мой муж, что
я трачу его деньги. Контролер, проверяющий именные билеты в поезде, своим
неловким покашливанием вынуждает меня подтвердить: «Да, это именно я!»
А стюардесса в самолете три раза проверяет у меня документы – на всякий
случай.
Ни один оператор кол-центра до конца не поверил, что Андреа – это я, равно
как и почтальоны, банковские служащие, контролеры на стадионах и концертах,
а на самом деле я – это я, несмотря на то, что Андреа в итальянском –
мужское имя.
В день я насчитываю около трех недоразумений, связанных с моим «мужским»
именем. Представьте себе, какое блаженство я испытываю, выезжая за границу.
(Вот и сейчас, когда пишу эти строки в Сараево, для всех благодаря имени
и цвету кожи я – славянка.)
И всё же, повзрослев и став женщиной, я начала гордиться именем «Андреа»,
хотя для эллинистки весьма необычно зваться этимологически неправильным
именем.
Андреа – мое имя, мой способ существования, мое знамя – спасибо отцу за его
силу и свободу; это, помимо радости жизни, самый прекрасный его подарок. Ну
и пусть оно мужское: помните, я говорила о роде вещей и явлений мира,
который кроется в природе и внутри нас? Я так привыкла носить свое имя, что
иной раз мне кажется невероятным, чтобы мужчина у нас в Италии тоже звался
Андреа!
Я, мы оба, мы. Двойственное число
Глаза, уши, руки, ноги.
Братья, друзья, союзники.
Любовники.
С точки зрения грамматики древние греки считали до трех: один, два, два
или больше.
Помимо тех же чисел, которыми исчисляются предметы и измеряется жизнь
на итальянском, единственного – «я» – и множественного – «мы» –
в древнегреческом было третье число, двойственное – «мы оба». «Два глаза», τὼ
ὄμματε, «две руки», τὼ χεῖρε, «два брата», τὼ ἀδελφῶ, «два коня», τὼ ἵππω.
И главное, «два человека», τὼ ἀνθρώπω.
Двойственное число выражало не просто математическую сумму – один плюс
один равно двум. Для банального жизненного счета существовало
множественное число, совсем как сейчас. Двойственное же выражало некую
парность, один плюс один равно одному, образованному из двух лиц
или предметов, соединенных между собой внутренней связью. Двойственное –
это пакт, соглашение, сговор. Двойственное – число пары, по природе своей
или по выбору.
Двойственное число – одновременно и альянс, и эксклюзив. Двое – не просто
пара, но и противоположность одному, антипод одиночества. Как будто
существует некая ограда: кто внутри нее, в двойственном числе, сознает это; кто
снаружи, тому входа нет. Внутри и снаружи.
Как и вид, двойственное число пришло в древнегреческий из индоевропейской
лингвистической житницы. Речь, таким образом, идет о древнем, чистом числе.
О способе исчислять мировой смысл. Латынь, от которой произошли наши
романские языки, сразу же сдалась и не сохранила никаких следов
двойственного даже в самых ранних текстах. Зато двойственное число
существовало в санскрите, и теперь есть в литовском, некоторых славянских
языках. И в семитских языках, вплоть до современного арабского, присутствует
двойственное.
В древнегреческом двойственное число не являлось чем-то странным. Это
не было математической причудой языка и людей, говоривших на нем. Данное
число приняли намеренно как для падежных окончаний, так и для глагольного
спряжения по лицам, и использовали всякий раз, когда заходила речь о двух
лицах или двух парных предметах. Они могли быть парой по природе своей,
как глаза и руки, или же соединяться лишь на миг, как любовники. Однако же
число это со времен Гомера склонно колебаться, путаться, исчезать
и появляться, в зависимости от употребления – свободного, произвольного,
подвластного воле автора. Для греков двойственное число существует там, где
оно соответствует смыслу и где его чувствует говорящий. Тем не менее
индоевропейские архаизмы, останки более не существующего языка, мгновенно
исчезают из употребления.
Двойственное число было способом исчисления мира, измерения природы
вещей и связей между ними. Это весьма конкретное число.
И очень человеческое. Прочувствованное, в зависимости от случая логичное
или нелогичное, как сама жизнь. Двойственное – наименее заурядное из чисел,
оно с трудом поддается классификации и вообще не стандартизируется.
Когда греческая культура усложнилась, числа в языке превратились
из конкретных в абстрактные. Неумолимо логичные числа. Измеряемые
без каких-либо колебаний, без оглядки на то, какие вещи сейчас совместны,
а потом, быть может, уже не будут таковыми. Числа математические в языковом
смысле. Язык меняется, когда меняются говорящие на нем.
В большей части колоний, где прогресс происходил стремительнее, и, как часто
бывает, лингвистически поспешнее, двойственное число исчезло прямо
с момента их основания. Сафо на острове Лесбос не знает двойственного числа,
как не ведают его говорящие на ионийском диалекте. И напротив, двойственное
число сохраняется в материковой, крестьянской Греции, привязанной к земле
и потому более упрямой и медленно забывающей что-либо.
Данный способ считать в греческом языке обнаруживается преимущественно
в аттическом диалекте V – IV веков до н. э. Платон без опасений, регулярно,
с высокой точностью употребляет двойственное число. А трагические
и комические поэты пользуются им довольно странным, непоследовательным
образом (впрочем, разница между трагедией и комедией скорее зависит
от взгляда людей на мир, от угла их зрения, нежели от содержания
произведения). Фукидид избегает его: колебания двойственного числа трудно
приспособить к прямолинейному историческому времени. Ораторы прибегают
к нему, хотя и с оговорками: оно не соответствует трезвости, необходимой
в политической прозе.
С появлением κοινή двойственное число мало-помалу исчезает отовсюду, кроме
разве что разговорной деревенской речи. Окончательно потускнев, оно
предается лингвистическому забвению.
Воскрешение двойственного числа авторами императорской эпохи, так
называемыми «аттицистами», спустя столетия вознамерившимися возродить
к жизни чистый аттический диалект (останки языка, который опять-таки был
уже не их), представляло собой лишь игру, не имевшую никакого значения
в истории древнегреческого языка. Повсюду у греков единство стало
противостоять множеству. Один против многих. Один плюс один равно двум,
без исключений. Прямо как сегодня.
Ученица пятого класса гимназии из Ливорно, с которой я занималась греческим,
выдала мне одно из самых оригинальных определений двойственного числа:
«Двойственное число – такая штука, которая в упражнениях на перевод никогда
не встречается, поэтому ее забываешь, как только выучишь. Но потом вдруг,
один-единственный треклятый раз, оно попадется тебе на контрольной и так
накажет, что ты его больше не забудешь».
Да, надо признать: в школьных упражнениях на перевод двойственное число
не встречается почти никогда.
Вот именно, почти.
Степень этого «почти» зависит от того, что в школах мы изучаем ионийскоаттический, диалект Платона и Перикла. А двойственное число сохраняется
с наибольшей последовательностью и частотой как раз в языке Афин,
Парфенона и Акрополя.
Более того – свой вклад вносит абсолютно лингвистическая,
не математическая природа двойственного числа; недостаточно найти в тексте
упоминание двух предметов или двух лиц, чтобы это автоматически
выражалось двойственным числом. Даже если текст посвящен анатомии, и речь
в нем идет только об ушах, руках и ногах, употребление двойственного числа
далеко не гарантировано: оно целиком зависит от свободного лингвистического
чутья автора.
Вот мое собственное определение двойственного числа: «один плюс один равно
одному, составленному из двух», и не просто «двух» – греческое δύο, «два»,
принадлежит исключительно двойственному числу.
Употребление данного числа, множество сомнений и колебаний,
сопровождавшие его в ходе истории языка и обрекшие на невозвратное
исчезновение, были обусловлены отношениями, которые автор усматривал
между двумя составляющими. Таким образом, в двойственном числе могли
употребляться части тела; корабли эскадры, бороздящие моря навстречу одному
врагу; пара коней, впряженных в боевую колесницу; братья-близнецы, супруги,
солдаты, заключившие союз, боги. А могли и не употребляться.
Употребление оного зависело от связи или взаимоотношений, которые носитель
языка усматривал (или не усматривал) в обоих составляющих конкретного
числа, иначе говоря, числа человеческого, а не математического. Числа,
призванного наполнить смыслом отношения вещей или людей, при наличии
этого смысла. Числа, не измеряемого, ни в коем случае
не налагаемого грамматическим законом древнегреческого языка, но всегда
свободно избираемого тем, кто на данном языке говорил и писал.
Что могут прочесть о двойственном числе и о таком способе наполнения
мира числовым смыслом в классическом лицее? Одну строчку. Во всех
школьных учебниках, к которым я обращалась и над которыми корпят – прямо
сейчас, пока я пишу свою книгу, а вы ее читаете – лицеисты двадцать первого
века, изучая язык двухтысячелетней давности, двойственному числу отведена
одна строка или полстроки, помещенные бог весть где среди десятков таблиц
парадигм склонения или спряжения для заучивания наизусть.
Учебник греческой грамматики
Определение двойственного числа, приведенное на следующей странице, взято
со страницы 42 «Γράμματα», грамматики, благодаря которой в гимназии
я делала первые неуверенные шаги в изучении греческого языка. Этим
учебником, выпущенном издательством «Edizioni Cremonese» в 1976 году,
до сих пор пользуются многие классические лицеи.
Так вот, мои первые шаги по страницам данного учебника легкой
прогулкой не назовешь. Я всё время шла в гору, о чем наглядно свидетельствует
реликтовый том, сопровождавший меня в Ливорно и последовавший за мной
сюда, в Сараево, переезд за переездом, диплом за дипломом, жизнь за жизнью;
изодранная будто ураганом обложка в результате запихивания сначала в ранцы,
потом в сумки, чудом уцелевшие страницы, испещренные разнообразными
пометками, которые сделаны разноцветными маркерами, подчеркиваниями,
отчаянными обводками, а вдобавок именами бывших ухажеров на полях какойнибудь парадигмы склонения, а главное – надрывными воплями: «Ненавижу
греческий!» рядом с неправильными формами перфекта (то была всего лишь
минута слабости, ça va sans dire*, раз уж в итоге я благополучно и сумасбродно
защитила диплом по классической филологии).
Так вот, «Γράμματα» прекрасной книгой не назовешь. Как и всякий учебник, он
выполняет свою задачу – учит лавировать. Держаться на плаву и не тонуть.
Оформление у него не то чтобы очень завлекательное – бесконечные чернобелые таблицы, правила и ни единого местечка не уделено чувству языка.
Не спорю, справочник вполне ясный, без отступлений и даже удобный в той
крайней схематичности, которую он навязывает изучающим древнегреческий
язык; я и сегодня обращаюсь к нему, когда чего-то не понимаю. Иными
словами, у меня нет сомнений: всё, что надо знать о грамматике, там есть.
И наконец, бумага в «Γράμματα» шершавая, нелощеная, превосходная, ныне
наполненная ароматом мыслей, передуманных сотни и тысячи раз.
Работая над этой книгой, я заглядывала в десяток других грамматик, которые
теперь чаще используются в современных классических лицеях. Названия
разные, почти все, слава Богу, в латинском, а не греческом написании, зачастую
с добавлением таких прилагательных, как «новая» или «новейшая»,
и приложением столь же инновационных, сколь загадочных «онлайнрасширений». Фактически ничего или почти ничего не изменилось в лицейской
дидактике со времен «Γράμματα». Разумеется, нельзя не заметить (и не оценить
очень и очень высоко) появление изрядного внимания к греческой культуре.
«Но вечно времени не хватает, с программой не успеваем», – то и дело
повторяют мои ученики. Макет у данных книг, бесспорно, более современный,
яркий, изящный. Но методика обучения изменилась мало или не изменилась
вовсе: это учебники, и стало быть, они должны требовать от учащегося
последовательности и выжимать из него все соки. Развитие лингвистического
чутья почти всегда вверено преподавателю либо откладывается на потом (куда
торопиться, в конце концов, древнегреческий язык давным-давно считается
мертвым).
Особого упоминания заслуживает «Athenaze» («В Афины»), изданный
в 2009 году Академией «Вивариум Новум» (при поддержке Итальянского
института филологических исследований) и предлагающий изучать греческий
«естественным способом», двигаясь мелкими шажками, как дети учат
английский в начальной школе с помощью сказочек и рассказиков,
оформленных рисунками и виньетками. Главы в нем разделены на параграфы,
которые представляют жизнь крестьянина Дикеополя и его семьи, далее
следуют простейшие упражнения и грамматические заметки. Таким образом,
греческий преподается как живой язык, без особой одержимости
грамматическими правилами. Согласно данной методике, усвоение языка
должно приходить само, со временем и опытом.
Методика «Athenaze» всегда вызывала у меня любопытство именно потому, что
древнегреческий язык, тысячелетиями считающийся мертвым, по ней
преподается как живой и здоровый. Мнения моих учеников, которые
вооружились данной методикой, не менее любопытны: у одних появился
энтузиазм, у других – растерянность. И, конечно, смена преподавателя в конце
учебного года (как нередко происходит в итальянских школах)
и, соответственно, переход к традиционной грамматике становятся для тех, кого
учили естественным методом,
обескураживающей, противоестественной трагедией.
* Само собой разумеется (франц.).
Упомянутая строчка почти всегда звучит так: «В греческом языке имеются три
числа. Единственное, двойственное и множественное. Двойственное служит
для обозначения вещей или лиц, которые по природе своей являются парными
либо автор считает их таковыми». Точка.
Быть может, поэтому существование столь драгоценного по смыслу числа
мигом улетучивается из памяти лицеистов и почти не затрагивает их языкового
чутья (мы, говорящие по-итальянски, напрочь лишены ощущения
двойственного единства).
Иными словами, вы должны сказать «спасибо» тому самому упражнению,
при выполнении которого в первый и последний раз столкнетесь
с двойственным числом. Потом на контрольной вы пожалеете, что забыли эту
тему, а затем с ней распрощаетесь (так сказала моя юная ученица, как бы
извиняясь передо мной и перед всей греческой грамматикой, вплоть
до византийской, как будто она одна была виновата в таком положении вещей).
Но игра забвения, возникающая от пренебрежения языковым чутьем в процессе
учебы, слишком проста; это, с позволения сказать, игра дилетантов,
не доставляющая никакого удовольствия.
Как ни парадоксально, в лицее выучивают формы двойственного числа всех
существительных и всех глаголов, усердно склоняя и спрягая их
в единственном, двойственном и множественном числе. Существительные
в двойственном числе имеют два окончания – одно в именительном,
винительном и звательном падеже, другое – в родительном и дательном;
например, в первом склонении: τὰ μοῖρα, «две судьбы», ταῖν μοίραιν, «двух судеб
/ двум судьбам». Окончаний глаголов тоже два, во втором и третьем лице
двойственного числа. Например, в изъявительном наклонении они совпадают:
στέλλετον, «вы оба посылаете», στέλλετον, «они оба посылают». Из этого
следует, что двойственное число столь же легко запомнить, сколь и забыть.
Обычно это происходит, стоит лицеисту перевернуть страницу учебника. Долой
бесполезную информацию! Я сама в гимназии полагалась то на память, то
на слух, то на судьбу в надежде никогда больше не встретить подобных
упражнений. Дело в том, что, когда человеку встречается греческий текст,
воистину наделенный смыслом, двойственное он, как правило, давно уже
позабыл.
При написании данной главы я не раз спрашивала себя, зачем в школе изучают
двойственное число всех глаголов и всех существительных, ведь они
употребляются столь редко, столь двусмысленно, столь интимно, столь трудно
классифицируемо.
Я дала себе время поразмышлять над смыслом двойственного числа
и рассказать о нем здесь (университетские учебники наделяют данную
греческую грамматическую категорию привилегиями, расширив ее объяснение
с одной до двух строчек). Двойственное число всегда как-то ускользало от меня,
колеблясь в моем мозгу так же, как оно колеблется в поэмах Гомера. Взявшись
писать о нем, я пришла к выводу, что, по сути, никогда его не понимала.
Я всегда сбрасывала двойственное число со счетов как редко встречающуюся,
эксцентричную, алогичную форму, не поддающуюся нормированию и не
способную разрешить связанные с нею вопросы. Я воспринимала ее как весьма
оригинальный способ греческой грамматики считать до трех: единственное,
двойственное и множественное. «Если я встречу его в тексте, – думала я, –
затверженных правил мне хватит, чтобы опознать его и придать ему смысл».
Мало того – я всегда считала, что грамматические числа греческого языка –
это один, два, три и больше. Я ошибалась. Ошибалась, как и во многом другом.
Использование двойственного числа имеет смысл лишь потому, что древним
грекам нужно было выразить средствами языка нечто большее,
чем математическое число, нечто утраченное нами, ибо, увлекшись
отщелкиванием словесных костяшек на счетах жизни, мы утратили смысл
взаимосвязей между вещами и лицами.
Наконец поняв свободный и абсолютный смысл данного числа, я уже без труда
сумела объяснить себе, зачем в школе учат двойственное число каждого
греческого слова.
Его учат на всякий случай. Из предосторожности. Как бы чего не вышло, вдруг
какому-нибудь автору вздумается выразить парность двух глаз, двух волов,
двух друзей, двух островов, двух морей, двух сестер, двух – всего чего угодно?
Вот в школьную программу и включают двойственное число
на случай непредвиденного случая.
А в результате смысл одного из самых древних, самых подлинных
и самобытных наследий индоевропейского языка нынче ускользает почти
от всех людей, сохранившись в виде одной строчки учебника, которая нам уже
ничего не говорит. В языкознании, как и в современных коммуникациях,
состоящих из слайдов презентаций, SMS и твитов, неизменно побеждает
принцип экономии: из двух форм, наделенных одним и тем же смыслом,
преобладает более простая, примитивная, легче усваиваемая. При том что
языковая тривиализация шествует семимильными шагами, боюсь, через десяток
лет мы вообще откажемся от слов и станем изъясняться одними смайликами.
Так и произошло с двойственным числом древнегреческого языка: его парный
смысл исчез, слился с обычным множественным. Сочтенный бесполезным, он
был сперва позаброшен, а затем позабыт.
Те, кому выпало редкое счастье любить по-настоящему, всегда сумеют
распознать, насколько формула «мы оба» интенсивнее, насыщеннее, нежели
просто «мы», но они больше не смогут этого выразить. Чтобы сказать именно
так, необходимо двойственное число древнегреческого языка.
Падежи, или Упорядоченная анархия слов
Сданные в утиль табу
и непрерывность прорыва границ между ними,
влажно-ненастны миры
в охоте за смыслами,
в бегстве от смыслов[22].
Пауль Целан. «Волокна солнц»
Слово «флексия» («окончание») – происходит от латинского «flectere» («гнуть»,
«отклонять»). Иными словами, «менять направление». Таков механизм слов
в древнегреческом, это флективный язык. Свободные слова, которые
с помощью окончаний постоянно меняют значения, постоянно развивают свой
смысл от одного к другому падежу склонения.
В падежах греческих слов нет ничего случайного[23]: это четкая синтаксическая
категория языка. Падежи – различные формы одного и того же
существительного, которые оно принимает для выражения различных функций
внутри фразы. Вот почему древнегреческий является флективным;
синтаксическая роль слов в нем зависит от изменения, склонения их последней
части – окончаний.
В Эзоповой басне пловцы радуются спасению от бури, не думая о том, что море
может уготовить им новые ненастья. Слово «буря», ὁ χειμών, появляется
в тексте в разных формах, то есть падежах, дабы выразить различные функции:
как прямое дополнение – τὸν χειμῶνα; в родительном падеже – τοῦ χειμῶνος,
в особой конструкции, называемой «независимым генитивом». Вот текст басни:
Ἐμβάντες τινὲς εἰς σκάφος ἔπλεον. Γενομένων δὲ αὐτῶν πελαγίων, συνέβη χειμῶνα
ἐξαίσιον γενέσθαι καὶ τὴν ναῦν μικροῦ καταδύεσθαι. Τῶν δὲ πλεόντων ἕτερος
περιῤῥηξάμενος τοὺς πατρῴους θεοὺς ἐπεκαλεῖτο μετ᾿ οἰμωγῆς καὶ στεναγμοῦ
χαριστήρια ἀποδώσειν ἐπαγγελλόμενος, ἐὰν περισωθῶσι. Παυσαμένου δὲ τοῦ
χειμῶνος καὶ πάλιν καινῆς γαληνῆς γενομένης, εἰς εὐωχίαν τραπέντες ὠρχοῦντό τε
καὶ ἐσκίρτων, ἅτε δὴ ἐξ ἀπροσδοκήτου διαπεφευγότες κινδύνου. Καὶ στεῤῥὸς
ὁ κυβερνήτης ὑπάρχων ἔφη πρὸς αὐτούς· Ἀλλ᾿, ὦ φίλοι, οὕτως ἡμᾶς γεγηθέναι δεῖ ὡς
πάλιν, ἐὰν τύχῃ, χειμῶνος γενησομένου. Ὁ λόγος διδάσκει μὴ σφόδρα ταῖς εὐτυχίαις
ἐπαίρεσθαι τῆς τύχης τὸ εὐμετάβλητον ἐννοουμένους.
Взошли люди на корабль и пустились в плавание. Когда они были уже далеко
в море, поднялась страшная буря, и корабль чуть не потонул. А один из пловцов
стал рвать на себе одежду и с плачем и стоном взывать к отеческим богам,
обещая им благодарственные жертвы, если корабль уцелеет.
Утихла буря, море снова успокоилось, и пловцы, неожиданно избежав
опасности, принялись пировать, плясать и прыгать. Но суровый кормчий
властно им сказал: «Нет, друзья, и в радости должны мы помнить, что снова
может разразиться буря!»
Басня учит не радоваться чрезмерно своим удачам, памятуя, как переменчива
судьба[24].
Итальянский, ставший таковым из латинского, тоже флективного языка,
утратил изначальное склонение слов; оно сохранилось лишь в отдельных
случаях и используется, например, для различения синтаксических функций
личных местоимений: «io» – «я» или «tu» – «ты» выполняют роль подлежащего,
«me» – «меня» или «te» – «тебя» – прямого дополнения, «mi» – «мне» или «ti» –
«тебе» – косвенного дополнения. А для придания смысла словам внутри фразы
наш язык почти всегда использует предлоги.
Вот почему падежная система древнегреческого языка и его синтаксис, который
заключает всё, что нужно высказать, в меняющийся конец слова, нам может
показаться сложной, двусмысленной, ведь перед лицом греческого
существительного мы всегда погружаемся в размышления о том,
что же на самом деле выражает данное слово своим микроскопическим
последним слогом.
Все языки мира
С тех пор как, согласно Ветхому Завету, потомки Ноя решили бросить вызов
Небу, построив Вавилонскую башню, за что и были наказаны, в мире
насчитывается примерно 4500 разных языков, и данное число возрастет
до 20 000, если учесть особые и вымершие языки; короче, в Вавилонии и впрямь
разразилась великая катастрофа.
С типологической точки зрения существуют языки флективные, то есть те,
в которых смысл слов зависит от изменения окончаний: греческий, немецкий,
латынь с ее «lupus», «luporum» («волк», «волков»).
А есть языки агглютинативные, в которых корень слова обозначает основной
смысл, а целый ряд частиц модифицируют его: это, например, венгерский
и турецкий. Так, слово из языка ацтеков «nokalimes», «мои дома» образовано
из «no» («мой») + «kali» (дом) + «mes» («множественное число»).
Противоположностью синтетических языков выступают изолирующие языки,
в которых каждое слово является неизменяемым и несет автономное значение:
оно зависит исключительно от расположения слова во фразе. Например,
в китайском можно найти: «wǒ ài tā, dànshi tā bù ài wǒ», или: «я любить она,
а она не любить я», говоря иначе: «я ее люблю, а она не отвечает
мне взаимностью».
И, наконец, существуют инкорпорирующие языки, в которых вся фраза состоит
из одного длиннющего слова, как, например, в эскимосском:
«angyaghllangyugtuq» – «он хочет купить большую лодку»; как знать, скольких
недопониманий им удается избежать таким образом.
Однако падежная система для греков являлась прежде всего выбором в пользу
простоты и ясности. В финальном слоге они видели функцию и весь смысл
слова в речи.
Может быть, не столь уж сложно и двусмысленно наше употребление одной
и той же частицы для придания словам различных синтаксических значений?
Рассмотрим, например, предлог «da» (вместе с другими его выучивают
в детстве по неизменному рефрену «di-a-da-in-con-su-per-tra-fra»), который
употребляется с одним и тем же глаголом, но в разных фразах:
– arrivo da Livorno (я из Ливорно),
– arrivo da Carlo (еду к Карло),
– arrivo da amica (еду с дружескими намерениями),
– arrivo da una settimana (faticosa) (еду целую [изнури – тельную] неделю),
– arrivo da sola (прибываю одна).
В данных фразах дополнение, сформированное словами с предлогом «da»,
может означать, что я родом из какого-то места (Ливорно); или то, что
я собираюсь побыть в чьей-то компании (моей собаки Карло); или то, что
я имею благие намерения, прихожу с миром, как друг; и то, что я пережила
трудные дни; и, наконец, то, что я одна, без эскорта.
Если система падежей в древнегреческом сложна, а значение слов – материя
тонкая, то разве наш способ общения не столь же сложен и не ведет порой
к недопониманию? В итоге всё зависит от языкового чутья тех, кто
пользуется своим языком для описания своего мира.
Греческий – язык синтетический: значение его слов (почти) всегда
сосредоточено в их конечной части, и падеж, в котором они предстают, вполне
ясен синтетическим грекам.
Итальянский же язык преимущественно аналитический: значение его слов
зависит от предлогов, наречий и вспомогательных глаголов; он вполне ясен
нам, аналитикам по природе и профессии (надеюсь, что это так).
Окончания слов и система падежей в греческом происходят
от индоевропейского, языка не только флективного и синтетического,
но и агглютинативного по своей природе. От латинского «ad» и «gluten»,
«клей», то есть «приклеивать», «присоединять», «связывать». Или же
«прикреплять одно к другому».
Индоевропейский был сложным синтетическим языком, обладающим полнотою
слов, насыщенностью смысла. Падежи исполняли не только синтаксическую
функцию, но и само словообразование происходило путем связывания
префиксов, суффиксов и других слов. Данную характеристику древнегреческий
сохраняет в употреблении перед словами предлогов, совпадающих
с префиксами, что порой значительно изменяет их смысл, например: ἀπό, «из»,
ἐν, «в», ἐπί, «на»/«к», πρό, «до»/«перед», περί, «вокруг».
В индоевропейском языке было целых восемь падежей, то есть восемь
различных форм одного слова для выражения различных функций:
именительный, звательный, винительный, родительный, дательный, местный,
инструментальный, аблатив. Бо́
льшая часть их имела логическое значение:
именительный указывал на подлежащее во фразе, родительный –
на уточняющее дополнение[25], дательный – на косвенное дополнение и т. д.
А у трех падежей смысл был чисто конкретный: местный указывал
на местопребывание, аблатив – на место происхождения, инструментальный –
на орудие, с помощью которого что-либо делается.
Все индоевропейские языки на протяжении своей истории сократили число
падежей. Однако ни один язык не ограничил и не синтезировал их так,
как греческий; более поздние языки, например, славянские, а также древний
и современный армянский, постарались их сохранить. Даже в латинском всё
еще насчитывается шесть падежей.
Феномен, в силу которого падеж исчезает, а его функции передаются какому-то
другому, называется синкретизмом. В греческом языке аблатив соединился
с родительным, тогда как местный и инструментальный влились в дательный.
Словом, ни один народ не был так привержен синтезу в определении
синтаксической функции слов, как греки: в древнегреческом было только пять
падежей. Вот они:
– Именительный, ὀνομαστικὴ πτῶσις, служит для называния. Само греческое
название указывает на то, что именительный – падеж «именования»,
обозначения. Он служит для идентификации абстрактных понятий
или конкретных предметов, лиц, слов: ἠ μοῖρα означает «судьба», ὀ καρπός –
«плод». Наиболее важная его функция – быть подлежащим во фразе, то есть
элементом, который совершает или испытывает на себе действие, выраженное
глаголом.
– Родительный, γενικὴ πτῶσις, служит для разграничения, уточнения, благодаря
которому проводятся грани или границы смысла. Следовательно, это падеж
обладания, ограничения, разделения. На итальянский он чаще всего переводится
уточняющим дополнением: τὸ θέατρον τῆς κώμης, «il teatro del villaggio» («театр
деревни»).
В греческом языке у родительного падежа есть также разделительное значение,
зачастую выражающее идею части чего-то более обширного и весомого, либо
более ограниченной сферы, чем та, что упомянута, отделяя и отбирая: πολλοὶ
τῶν ἡγεμόνων, «многие из военачальников».
Данный падеж также может выражать принадлежность (ἠ ἀγορὰ τῶν Ἀθηναίων,
«агора афинян»); касательство (ἐστι τοῦ πολίτου, «обязанность гражданина»);
качество или материю (ἠ κόμη χρυσοῦ, «волосы из золота»).
Кроме того, родительный падеж означает оценку, ценность, цену (ἡ ἀξία τῆς μιᾶϛ
δραχμῆς, «цена в одну драхму»); размеры (ἡ ὁδὸς τεττάρων σταδίων, «дорога
длиной в четыре стадия») и происхождение (ὁ ἄνθρωπος τῆς γηνῆς, «уроженец
племени»).
Ко всем перечисленным функциям собственно родительного падежа
добавляются унаследованные от индоевропейского аблатива –
понятие происхождения в целом. И тогда родительный падеж греческого языка
обозначает также движение из какого-либо места, действующее лицо
и аргумент, выраженные дополнением с определенными предлогами.
– Дательный, δοτικὴ πτῶσις, указывает, к чему движутся объекты.
А именно, он обозначает адресата действия, выраженного глаголом, то, к чему
мы направляемся или с чем сталкиваемся. Оригинальное значение данного
падежа, откуда он берет свое название, связано с понятием отдачи, – в более
широком смысле – такой падеж распространяется на кого-то или что-то,
в отношении которых совершается действие. В итальянском этот смысл
передает косвенное дополнение: τῇ στρατιᾷ, «all’esercito» («войску»).
К синтаксическим значениям, свойственным дательному падежу, добавляются
значения местного и инструментального падежей, взятых из индоевропейского
языка, двух совершенно конкретных падежей.
Таким образом, дательный падеж выражает с помощью предлогов также
нахождение на месте (τῇ νήσῳ, «на острове»), определенное время (τῇ ἡμέρᾳ,
«днем»), а также орудие, образ действия, компанию и причину.
И наконец, греческий предусматривает совершенно особую конструкцию
с употреблением данного падежа, конструкцию, называемую «дательный
обладания»; здесь появляется глагол «быть», тогда как лицо, которое обладает,
выражается дательным падежом (в итальянской традиции оно становится
подлежащим). Такая форма присутствует также в латинском и называется «sum
pro habeo», буквально «я есть» (у кого-то) вместо «я имею».
Греческое εἰσιν μοι δύο παῖδες, «у меня двое детей», в дательном падеже равно
итальянскому «я имею двоих детей».
– Винительный, αἰτιατικὴ πτῶσις – падеж, который обозначает движение
объектов к цели.
Аналогично именительному, выражающему подлежащее, винительный
выполняет как раз функцию прямого дополнения, добавляя новые детали
к смыслу фразы и отвечая на вопросы «кого?», «что?»: τὴν ναῦν, «корабль».
В греческом его исконным значением было движение вперед, к месту, к цели,
ко времени, к человеку.
Таким образом, винительный падеж выражает понятия движения к месту (τὰς
Δελφιάς, «в Дельфы»), длящегося времени (τὴν νύκτα, «в течение ночи»),
продвижения по месту (τὴν ἀτραπόν, «по тропе»).
– Звательный, κλητικὴ πτῶσις, падеж, привлекающий внимание объектов,
зовя их. Зачастую предваряемый восклицанием ὦ, «о!», звательный падеж
призывает голосом и словом лицо или иную сущность в просьбе, молитве,
вопросе, ответе, приказе, утверждении, или просто с любовью окликает кого-то,
как, скажем, ребенок зовет ὦ μῆτερ, «мама!»
Порядок, в котором язык предполагает четкое синтаксическое расположение
слов внутри фразы, называется взятым из латыни выражением «ordo
verborum» – «порядок слов».
Система древнегреческих падежей, способных с точностью указывать функцию
слов, являет собой потрясающее зрелище (formidolosum[26] aspectu): порядок
слов во фразе не имеет четкого логического значения, как в итальянском,
а только экспрессивное, то есть сугубо личностное. В древнегреческом порядок
слов свободный, абсолютный, избавленный от всяких синтаксических
обязательств. Само собой, вспомогательные слова почти всегда ставятся после
главного, а слова, связанные значением, почти всегда находятся рядом.
Но некоторые слова, связанные по смыслу, порой далеки друг от друга,
разделены желанием писателя создать особый экспрессивный эффект.
В общем, древнегреческий язык располагает более или менее
повторяющимися, предсказуемыми способами группировки слов в разных
падежах внутри фразы. Но он никогда не навязывает своим носителям
единственной, обязательной возможности выстраивать слова, преграждая путь
всем остальным возможностям.
Более того – никогда строго определенный порядок не служит для выражения
синтаксической функции: каждое греческое слово, которое мы читаем сегодня
в текстах, стоит именно там и нигде больше… по авторскому выбору средств
самовыражения. Данный выбор чисто индивидуален и неповторим. Так
происходит именно в силу уникального способа использования древними
греками своей системы падежей. В силу упорядоченной анархии слов. Свободы
несравненного самовыражения, не имеющего ни чисто синтаксических,
ни логических функций. Ни в каком из прочих флективных языков (ни в
латыни, ни в санскрите) порядок слов не является настолько свободным,
настолько личным делом, как в древнегреческом. Греческая литература
благодаря этой исключительной свободе приобрела такую гибкость
и драматичность, такое ощущение жизни, такую искренность, которые
притягивают нас (а иногда и мучают), когда мы читаем великих писателей
античности. Вспомним лапидарные диалоги Платона, напряжение хора в любой
трагедии Софокла, муки любви в стихах Сафо.
В общем, древнегреческий язык при всем обилии падежей и тьме аномалий
сохранил глубинный смысл индоевропейского: окончание слов поражает своим
богатством и несет смысл, позволяющий каждому слову быть
самостоятельным, в каком бы месте фразы оно ни находилось. Свобода
греческого абсолютна, и потому каждое слово, поставленное рядом с другим,
обладает экспрессивной, стилистической, красноречивой ценностью. Ведь даже
порядок, в котором расположены слова в соответствующих падежах, говорит
с нами, хочет рассказать нам нечто, именно нам, людям, которые вынуждены
по-итальянски писать, говорить, а стало быть, и думать, соблюдая точный,
жесткий, но необходимый для понимания и изъяснения ordo verborum.
Итальянский язык, безусловно, утратил окончания падежей, но не сами
«падежи», то есть синтаксическую роль слов внутри фразы. В высказывании
«Il libraio loda il ragazzo» («Книготорговец хвалит юношу») «il libraio» –
подлежащее, «loda» – сказуемое, а «il ragazzo» – прямое дополнение. А во фразе
«Il ragazzo loda il libraio», «il ragazzo» станет подлежащим, «loda» останется
глагольным сказуемым, а «il libraio» превратится в прямое дополнение.
Если мы хотим выразить на греческом ту же фразу «Книготорговец хвалит
юношу», именно благодаря системе падежей синтаксическая связь между
подлежащим и дополнением останется неизменной; слова могут располагаться
в порядке: ὁ βιβλιοπώλης ἐπαινεῖ τὸν νεανίαν, или: ἐπαινεῖ τὸν νεανίαν
ὁ βιβλιοπώλης, или же: τὸν νεανίαν ὁ βιβλιοπώλης ἐπαινεῖ, и при этом смысл
высказывания не изменится ни на йоту. Так происходит потому, что в греческом
языке синтаксические функции подлежащего и прямого дополнения
выражаются при помощи падежных окончаний именительного и винительного,
независимо от их места внутри фразы.
Чтобы понять механизм греческого языка (попытаюсь не усложнять
объяснение, учитывая, что изучение математики не является сильной стороной
классического лицея), мы могли бы позаимствовать у математики правила
о перемене мест слагаемых и множителей. Как в сложении и умножении,
изменение порядка операндов не изменяет результат действия (2 + 3 = 5 и 3 + 2
= 5), так и в греческом предложении при изменении порядка слов результат,
то есть смысл фразы, не меняется.
А в итальянском данное правило не работает: функцию слов выражает
синтаксис, иначе говоря, позиция по отношению к глаголу; порядок слов
не может меняться без изменения всего смысла фразы. Попробуем пойти чуть
дальше, добавив в нашу фразу еще один элемент. Скажем, «Il libraio loda
la saggezza del ragazzo» («Книготорговец хвалит благоразумие юноши»).
В данном случае «saggezza» является прямым дополнением, а «ragazzo»
становится уточняющим, помимо сказуемого «loda» и подлежащего «libraio».
Опять-таки, в итальянской фразе смысл определяется исключительно порядком
слов: от «la saggezza» зависит «del ragazzo». Возьмем несколько менее
однозначную фразу типа «Ho smarrito la giacca a casa di Lorenzo» («Я забыл
куртку в доме Лоренцо»); при изменении порядка слов уточняющее дополнение
«di Lorenzo», по мысли говорящего, может относиться к «giacca» («куртке»)
или к «casa» («дому»).
Лингвистические табу
Есть ведь, в конце концов, слова, которые произносить нельзя, и речь идет не об
оправданиях за прогулянные под благовидными предлогами школьные опросы,
а о лингвистических табу.
«Табу» – полинезийское слово, означающее всё священное, а стало быть,
запретное. В обиходе данный термин относится ко всем сферам человеческого
существования, подлежащим запрету (не только к действиям, но и к словам).
Под лингвистическим табу надо, таким образом, понимать, запрет
на произношение слов, обозначающих недозволенные предметы
или недозволенных («табуированных») лиц. Это могут быть названия
животных, растений, манер и действий, которые в определенной культуре
наделены сакральным смыслом и внушают священный трепет, смущение или –
если брать шире – некий иррациональный страх, следовательно, их нельзя
упоминать в разговоре. Такие слова заменяют другими, эвфемизмами
(от греческого εὐφημέω, «произносить слова с добрым предзнаменованием»
и тем самым «избегать недоброго») или перифразами (от греческого περιφράζω,
«выражаться описательно»).
В силу своей безусловно социальной природы лингвистические табу меняются
от одной цивилизации и исторической эпохи к другой; вспомним, например, все
слова, связанные с сексуальностью человека и еще полвека назад являвшиеся
табу.
Привести примеры? В арабском проказу называют «благословенной болезнью»,
а слепого – «человеком, у которого острое зрение». В латыни смертный одр
зовется «lectus vitalis» («ложе жизни»).
История некоторых лингвистически табуированных слов весьма любопытна.
Город Беневенто в Ирпинии изначально именовался «Малевент» («злой ветер»)
из-за воздушных потоков; а римляне, завоевав его в 268 году до н. э.,
переименовали город в Беневент, дабы избежать дурных предзнаменований.
Слабый, то есть «благодатный» («bonaccia») ветер по-латыни назывался
«malacia», от греческого ἡ μαλακία, «тихий, мягкий ветер». Но стоило людям
утратить лингвистическое чутье – и все поверили, что «malacia» происходит
от «malus» – «злой», и, повинуясь морскому суеверью, ветер стал «bonus» –
«добрым», сулящим удачу на море во всех романских языках.
И наконец, определенные слова у некоторых народов нельзя произносить
ни при каких обстоятельствах; к примеру, инуитам Гренландии запрещено
говорить названия ледников; аборигенам Австралии – имена покойников;
а, скажем, в Китае есть табу даже письменно упоминать имя императора,
для чего существуют иероглифы-эвфемизмы.
Одним из самых любопытных можно считать слово, обозначающее медведя
в германских и славянских языках. Зверь был так свиреп, что люди боялись
называть его по имени из опасения, будто он при этом появится из лесу. Вот
почему по-немецки медведь – «Bär», а по-английски – «bear»; оба слова
означают «бурый», по цвету шкуры невыразимого животного. А в славянских
языках, например, в русском, «медведь» – это буквально «пожиратель меда»,
поименованный так в надежде на то, что животное-вегетарианец не станет
лакомиться человечиной.
Что уж говорить о таких политически корректных итальянских выражениях,
как «taglie commode», «большие (букв. удобные) размеры», или «piani
di alleggerimento», «планы сокращения штатов» (букв. «облегчения»), и наконец,
фразе «effetti collaterali», «побочные эффекты», придуманной, дабы не называть
впрямую убийства гражданских лиц во время военных операций?
В итоге смысл итальянского высказывания полностью зависит от синтаксиса
и связи слов, поставленных рядом с тем или иным словом.
По-древнегречески «Книготорговец хвалит благоразумие юноши» можно
произвольно сказать одним из нескольких способов, например: ὁ βιβλιοπώλης
τὴν τοῦ νεανίου σωφροσύνην ἐπαινεῖ. Глагол находится в конце высказывания,
подлежащее – в начале, прямое дополнение – в центре, а уточняющее τοῦ
νεανίου, «юноши» – помещено внутрь объекта, к которому относится (τὴν
σωφροσύνην, «благоразумие»), между его артиклем и самим существительным.
Эту так называемую «мостовую конструкцию» из греческих слов очень полезно
держать в памяти для ориентации в переводе: то, что в середине, относится
к тому, что по бокам, создавая при помощи артиклей и окончаний внутреннюю
связь, подобную смысловому мосту.
Как-то зимним вечером, на пороге весны, сидела я в миланском баре с добрым
другом и учителем (не греческого – жизни). Обстановка была явно
благоприятная: мы чокались бокалами с шампанским и выпивали за свои
успехи. Когда я упомянула эту книгу, он побледнел. Едва услыхав слово
«греческий», мой друг сразу приуныл под давлением чувства вины
и неодолимой тяги признаться мне, что в лицее он прогулял опрос по третьему
склонению; это было тридцать лет назад, но в мозгу бывшего классициста
отпечаталось «будто вчера», как при болезненном нарушении суточного ритма
организма в связи с перелетом через несколько часовых поясов. Склонив
повинную голову, тоном военного дезертира он рассказал, как ему удалось
избежать устрашающей проверки знания падежей, притворяясь больным целый
год. В конце концов путем странных, но известных всякому классическому
лицеисту махинаций с обещаниями, увещаниями, обетами и клятвами он
вымолил у преподавателя перевод в следующий класс.
Я, разумеется, как могла, утешила друга, вытащив его из шкафа, полного
скелетов, – вернее, из лицейской парты, – и налив ему еще шампанского; на том
поток тягостных воспоминаний о пропущенном опросе и остановился. Но на
следующее утро, едва рассвело, я получила сообщение: «Андреа, мне всю ночь
снились кошмары. Дело в том, что эта история с греческими падежами так
и осталась для меня темным лесом».
Совершенно естественно ввиду невозможности установить автоматическое
соответствие того или иного падежа определенному значению, что система
греческих падежей любого чисто по-человечески может повергнуть
в растерянность и смущение: появляется неуверенность в правильном
понимании текста. Это естественно, поскольку греческий – не наш родной язык
и никогда им не станет. Мы, говорящие по-итальянски, ощущаем и описываем
окружающий мир не так, как греки, и потому всегда будем вынуждены
задумываться и озадачиваться, переходя с их языка на наш.
Во-первых, преподавая греческий, я осознала, насколько плохо, еще до начала
изучения нового языка, мы понимаем или помним родной итальянский. Твердое
знание итальянской грамматики и синтаксиса, умение мыслить логически
необходимы для овладения не только греческим, но и любым другим языком.
Как бы мы смогли, скажем, понять в греческом обстоятельство причины, глагол
в сослагательном наклонении, придаточное цели, не зная значения данных
синтаксических функций в итальянском? Однако очень часто бывает так, что
мы не знаем даже родного языка, не говоря уже об иностранном, хоть живом,
хоть мертвом. Сколько раз за годы преподавания греческого я слышала: «Да я
и по-итальянски не знаю, что это означает!»
В конце концов, изучение языка столь синтетического, как греческий, – языка,
способного столь малыми средствами сказать так много, требует знания
итальянской морфологии, грамматики, синтаксиса без всяких поблажек
четырнадцатилетним (а также тем, кому на двадцать, тридцать или сорок лет
больше). Таким образом, приступая к изучению системы греческих падежей,
а вернее, вступая в противоборство с ней, необходимо иметь под рукой
хороший учебник итальянского, а не просто словарь древнегреческого, где, если
заранее не знаешь, что искать, в итоге ничего и не найдешь. Важно отдавать
себе отчет в том, что ничто – буквально ничто – не избавит нас
от мыслительных усилий, коль скоро речь идет о древнегреческом. Но всё же
существуют некоторые подсказки, помогающие овладеть системой падежей.
Во-первых, важно учитывать семантическую природу слов – то, что они
действительно стремятся нам сказать, когда мы интуитивно ищем верное
значение. Например, в военном контексте речь, вероятно, идет о солдатах,
полководцах, военных лагерях и тактиках; если же текст повествует о море, то
мы, быть может, встретим такие термины, как «нос», «корма», «гребцы»,
«паруса, надутые ветром».
Чтобы понять греческий и систему его падежей, нельзя отвлекаться. И никогда
не следует упускать из вида ни единого слова.
Артикль и его положение по отношению к существительному станут вам
блестящими союзниками при ориентировании в системе греческих падежей
и свободном порядке слов, чего не скажешь о латыни, где нет артиклей,
помогающих переводчику разобраться в тексте. (Пусть только кто-нибудь
попробует сказать, будто латынь легче греческого!)
Местоимения, то есть слова, заменяющие существительные, также служат
верными спутниками на пути к пониманию общего смысла фразы, ведь к комуто или к чему-то они обязательно относятся.
Вдобавок вероятно, что при глаголе движения есть указание на место:
в родительном падеже, если речь идет о движении откуда-то (из Афин),
в дательном – если некто находится где-то (в Афинах), в винительным – если
движение идет куда-то (в Афины).
И наконец, если вы сомневаетесь или не уверены в чем-то, помните, овладеть
древнегреческим может не только профессиональный филолог. Этот язык
говорит со всеми людьми, хоть и на свой лад. Если не знаете, какое дополнение
поставить в переводе, достаточно будет вспомнить идею, заложенную в основе
каждого падежа, и от нее отмерять, раз за разом, значение, применимое к слову,
которое надо перевести и сделать «своим». Именительный – всегда падеж
подлежащего; родительный передает общую идею исходного пункта – «из»
или «от»; дательный выражает идею либо отдачи чего-то «кому-то», либо
нахождения «в»; винительный является перстом, указующим на объект,
о котором идет речь. Как сказала мне в шутку одна подруга, тоже эллинистка:
«Хочу, чтобы всё в мире было по преимуществу в дательном, а не винительном
падеже!»
Все индоевропейские языки, едва был утерян компас цивилизации,
определявшей его слова и голос, сократили падежную систему вплоть
до полного ее подавления.
Начиная с эпохи κοινή, греческая система окончаний также претерпела процесс
как упрощения, так и сокращения падежей говорящими (причем не только
греками, но и другими обитателями обширной эллинистической империи).
Многие слова в III веке до н. э. зазвучали странно, неудобоваримо, и аномалии
их падежей ощущались настолько сильно, что стали казаться ошибками.
И потому они подверглись поправкам, стали употребляться по более простому
стандартному образцу мужского рода λόγος. Таким образом появился
упрощенный именительный единственного числа γέροντας, «старик»,
производный от винительного γέροντα вместо классического, но уже
непонятного γέρων.
Вдобавок, повинуясь процессу, который прослеживается почти во всех языках,
вплоть до средневековой латыни, а от нее до итальянского, функцию падежей
медленно, но верно вытесняли предлоги. Если, например, в классическом
греческом за глаголом πείθομαι, «верить, доверять кому/чему» следовал
дательный падеж, впоследствии для облегчения понимания его всё чаще стал
заменять предлог ἐπί. А начиная со Средневековья дательный исчезает совсем.
Существование литературного языка и самой основательной культурной
традиции в известном тогда мире долгое время скрывало – или замедляло –
эволюцию письменного греческого, а следовательно, и речь его носителей.
Греки, видимо, не слишком сознавали в повседневном языке те изменения,
которые мы теперь с таким трудом воссоздаем или просто замечаем в зеркале
заднего обзора истории греческого языка.
Почти все индоевропейские языки с течением времени выказывают ослабевание
конечного слога, вплоть до полного его исчезновения во вновь образовавшихся
языках. К примеру, латинское число «unum», «один» превращается
во французском в «un», в итальянском и испанском в «uno», в португальском
в «um». А древнегреческий обладал, как мы уже убедились, очень своеобразным
ударением, которое не позволяло носителям усекать – расщеплять – слова.
В результате древнегреческая грамматика подверглась упрощению без какихлибо ощутимых следов, так как почти все конечные слоги сохранились.
Цвета древних греков
«Как иначе смотрели греки на свою природу, если их глаз не умел различать
голубого и зеленого; если они вместо „голубой“ говорили „темно-бурый“,
а вместо „зеленый“ – „желтый“; если они одним и тем же словом обозначали
цвет темных волос, цвет василька и цвет южного моря; и опять-таки одним
и тем же словом – цвет зеленого растения, цвет человеческой кожи, цвет меда
и смолы, так что их величайшие художники передавали свой мир только
черной, белой, красной и желтой красками. Как иначе и зато насколько ближе
к человеку должна была казаться им природа, если краски человека переходили
в их глазах в краски природы!»* – так Фридрих Ницше в 426-м афоризме
«Утренней зари» размышляет о хроматических странностях древних греков.
Так же и Гёте в своей «Теории цвета» подмечал, что у греков невероятная
цветовая лексика, существующая вне всяких норм и настолько отличная
от нашей, насколько отличен и сам язык. Цветовые ассоциации оказались
такими неслыханными, что подвигли некоторых ученых XVIII века
предположить, будто греки не различали цвета́
. Да различали они цвета́
, и еще
как, только выражали это иначе: несомненно, глаза всех людей одинаковы
и таковыми останутся.
Цвет для древних греков представлял прежде всего жизнь и свет, абсолютно
человеческое, а не физическое ощущение, не оптику, не имевшую ничего
общего с цветовым спектром, полученным Исааком Ньютоном при помощи
призмы.
Гомер в «Илиаде» и «Одиссее» называет всего четыре цвета: белый – молока,
пурпурно-красный – крови, черный – моря, желто-зеленый – меда и полей.
«Черный», μέλας, и «белый», λευκός, обозначали тьму и свет (римское слово
«lux», «свет», восходит к тому же корню, что греческое название цвета). Именно
из смешения света и теней, согласно грекам, рождались цвета.
Греческое ξανθός означает цвет, простирающийся от желтого до красного
и зеленого, пожалуй, можно назвать его «медно-зеленым». Такой оттенок схож
с теплым цветом спелого зерна, но также со светлыми волосами героев Гомера,
вплоть до красноватого отсвета жаркого огня, рассекающего ночь,
или оранжевого цвета, каким бывает круглое солнце на закате.
Прилагательное πορφύρεος означает «взволнованный», «находящийся
в постоянном движении», «кипучий» и используется вплоть до обозначения
пурпурного цвета, который от кроваво-красного сползает в синий; πορφυρεύς –
это «ловец пурпура», так как краски добывали из вытяжки определенных
моллюсков, а затем обрабатывали вручную искусные красильщики.
Цвет κυάνεος, «васильковый», настолько обобщенное название синего, что
может простираться от голубого до темно-красного и даже черного, как смерть.
Еще один любимый мною греческий цвет – γλαυκός, «зеленовато-голубой»,
прежде всего данное слово означает «блестящий», «светящийся», «изливающий
свет» и используется для характеристики моря, лучащегося светом. Глаза
«синеокой» Афины, светлые, как у совы, цвета неба, лазурные, серо-голубые.
Уильям Гладстон, знаменитый английский исследователь Гомера и политик,
один из первых настаивал на световом впечатлении от греческих цветов. А еще
раньше между представителями академических кругов, которые подмечали
лингвистические странности в дефиниции цветов у других народов и даже
в самой Библии, разгорелась жаркая дискуссия о том, что глаза древних людей,
возможно, физиологически – на уровне сетчатки – различали меньше цветов,
чем наши глаза; говорилось даже о слепоте греков.
Сперва теории Дарвина, потом исследования в физиологии и медицине
недвусмысленно продемонстрировали обратное: греки видели море, поля, небо,
пейзажи в том же цвете, в каком их видим мы сегодня, а может быть, даже
в более прекрасном, поскольку они чувствовали необходимость выразить это
по-другому, по-своему.
В итоге древние греки придавали всем цветам иные значения в плане яркости,
насыщенности, сияния. Они видели свет и расцвечивали его интенсивность:
так, небо у них бронзовое, необъятное, звездное, а не просто синее; а глаза
бездонно-синие, сверкающие, а не просто голубые или серые.
* Пер. В. Бакусева.
Стало быть, такое сопротивление языка зависело главным образом
от произношения. Древние греки упорно продолжали выговаривать слова
одинаково, не ослабляя конечную гласную. Так, в новогреческом языке попрежнему существуют слово φίλος, «друг», и ημέρα, «день» такими же, какими
они были в древнегреческом. Все буквы стоят на своих местах, ни одну
не добавили, не убрали. Французы, итальянцы, испанцы, начиная с Х века н. э.,
всё больше убеждались в одном: утратив конечные слоги латыни, слова
эволюционировали настолько, что стали представлять разные,
отдельные языки.
А греческая грамматика всегда развивалась плавно и потихоньку, изнутри,
без революционных взрывов и скачков. Даже в системе падежей. Новогреческий
язык, Νέα Ελληνικά, до сих пор имеет четыре падежа в склонении
существительных и прилагательных: ушел дательный, но остались
именительный, родительный (редко употребляющийся во множественном
числе), винительный и звательный. Именно из-за данной лингвистической
преемственности, сохранив сложную и уникальную в панораме современных
языков систему склонения, греки так и не осознали, что перешли
от древнегреческого к новогреческому, если вообще перешли.
В заключение скажу: благодаря своей системе падежей и свободному порядку
слов грек – древний или современный – думает, когда говорит, и думает, когда
пишет. Всегда.
Наклонение под названием «желание».
Оптатив
Пусть убедишь ты, что болото
Непроходимо. Я с охотой
В ответ скажу: «Не сомневаюсь,
Что перейду, коль попытаюсь»[27].
Марианна Мур. «Можно, возможно и должно»
Желание. По-французски «désir», по-испански «deseo», по-португальски
«desejo». Образовалось это слово от латинского «desiderium», производного
от «de» + «sidera», предлога, означающего отдаленность и «звезды». Вперить
взгляд в предмет или человека, которые притягивают вас, подобно тому, как по
ночам притягивают узоры созвездий.
Удаление, то есть отведение взгляда в другую сторону. Звезд уже не видно. Нам
их недостает. Тогда мы цепляемся мыслью за предмет или человека, коими
не обладаем, но которыми хотим обладать. Желаем, иначе говоря.
В древнегреческом всё это выражается в оптативе. Как, например, в данном
отрывке из Архилоха:
Εἰ γὰρ ὣς ἐμοὶ γένοιτο χεῖρα Νεοβούλης θιγεῖν
καὶ πεσεῖν δρήστην ἐπ᾿ ἀσκὸν κἀπὶ γαστρὶ γαστέρα
προσβαλεῖν μηρούς τε μηροῖς.
Если б всё же Необулы мог коснуться я рукой.
И упасть на… и прижаться животом
К животу, и бедра в бедра…[28]
Древнегреческий язык воспринимал и воспроизводил действительность
в лингвистическом аспекте совершенно не так, как итальянский, посредством
скрупулезнейшего выбора глагольных наклонений. В итальянском степень
осуществимости (а следственно, и желательности) действия ни в коей мере
не зависит от наклонения употребляемых глаголов и выражается с помощью
наречий и словосочетаний: так много слов, чтобы высказать или не высказать
то, что мы думаем, пожалуй, слишком много. А в древнегреческом всякое
действие человека оценивалось по степени реальности, и всякой степени
соответствовало наклонение глагола, избранное говорящим. Таким образом,
глагол, независимо от его синтаксической функции во фразе, всегда указывал
на объективность, если спрягался в изъявительном наклонении,
или желательность/возможность, если спрягался в сослагательном
или желательном наклонении. Ἀναβιῴην νυν πάλιν, «Чтоб мне вновь ожить!» –
говорится у Аристофана в «Лягушках» (стих 177)[29].
В древнегреческом лишь говорящий оценивает жизнь и назначает ей меру,
свободно выбирая наклонение, с тем чтобы представить ее себе и другим:
подлинную, конкретную, объективную жизнь – или случайную, субъективную,
происходящую на авось. Возможную или невозможную. Осуществимое
или неосуществимое желание.
Вот схема степеней реальности, через которую древний грек оценивал события
жизни; она позволяет понять, как в соответствии с ними он распределял
наклонения глагола. Чтобы это осознать, необходимо проникнуть вглубь
и вытащить на поверхность смысл по-итальянски: выбранный пример
неслучайно связан с морем. А мы в борьбе с древнегреческим призваны
стать водолазами смысла.
Противоположна и всё же тождественна реальности – нереальность. То, чего
никогда не было или никогда не будет, имеет ту же степень объективности
и беспристрастности, как и то, что было или будет.
Оба объективных восприятия говорящего древнегреческий выражал в точном
изъявительном наклонении, без обиняков. Первая и последняя фраза,
приведенные в схеме, «vorrei navigare per mare» («я хотел бы плыть по морю»),
выражают реальность и нереальность: у итальянцев нет никакой
лингвистической разницы в степени осуществимости этих двух действий,
отданных на суд говорящего. Слова, написанные или сказанные, одни и те же,
он точно так же отдает себе в глубине души беспристрастный отчет
и в лингвистическом плане, культивируя выбор – сняться с якоря или нет,
вследствие чего действие становится возможным или невозможным.
В итальянском языке нет средств, позволяющих отличить реальные факты
от нереальных. Когда мы выражаем желание в чистом виде, всё зависит от нас,
одиноко глядящих на себя утром в зеркало, и от честности наших слов (кто-то
поймет, что я имею в виду, а кто не поймет – уж извините).
Между реальностью и нереальностью в древнегреческом вклиниваются две
степени субъективности, тесно связанные с вúдением мира и выражением его
в словах носителем языка: вероятность и возможность.
Вероятность – конкретная возможность совершения действия;
в древнегреческом она выражается сослагательным наклонением.
В итальянском же реальная вероятность обозначается условным наклонением;
отсюда вытекает, обращаясь к латыни, conditio sine qua non (непременное
условие), являющееся отправным пунктом подлинного осуществления чеголибо. Поэтому в вышеприведенной схеме вторая фраза – «vorrei navigare per
mare» – указывает на то, что всё готово и существует конкретная вероятность
совершения действия, надо лишь дождаться попутного ветра, поставить паруса
и сняться с якоря.
А возможность – это проекция говорящего, его намерений, опасений и даже
любви. В греческом она выражается оптативом, самым личным, самым
интимным из глагольных наклонений. Перевести его на итальянский сложно, он
частенько ставит нас в тупик, вынуждая сообразоваться с чужими желаниями.
Третья фраза вышеприведенной схемы – «vorrei navigare per mare» – означает
желание говорящего, а его осуществимость не зависит ни от попутного ветра
и надувшего паруса, ни от товара в трюме. Она выражает вынужденные
рассуждения человека, увидевшего отражение своего желания в море, его
оценку своей отваги и сил, которую он производит, прежде чем сделать
свободный выбор: либо поднять якорь и отдаться на волю волн, либо струсить
и остаться.
Грань, отделяющая осуществимое желание от невозможного, крайне тонка,
хрупка и полностью лежит в зоне ответственности говорящего, обличающего
факты в слова. Оценка того факта, что в жизни и в греческом
языке желание либо становится из вероятности реальностью, либо навсегда
соскальзывает в нереальность, заложена в желательном наклонении.
Слово «оптатив» происходит от латинского глагола «optare», то есть «желать»,
«надеяться». Исходя из данной этимологии, это исключительно греческое
глагольное наклонение также называют «желательным».
Как и все обломки неповторимого изящества древнего языка, оптатив пришел
в греческий из индоевропейского. Но в отличие от остальных языков
индоевропейского происхождения, только греческий (наряду с индийскими
и персидскими) сохранил изъявительное, сослагательное, желательное
и повелительное наклонение, а также инфинитив.
Оптатив употреблялся для выражения как желания, так и сожаления уже
в гомеровском греческом (где, однако, не всегда различается осуществимость
и неосуществимость желания):
Εἴθε οἱ αὐτῷ
Ζεὺς ἀγαθὸν τελέσειεν, ὅ τι φρεσὶν ᾗσι μενοινᾷ.
Да поможет
Зевс помышлениям добрым его совершиться успешно[30].
Все классические авторы, от Платона до Фукидида, от Софокла до Аристофана,
без робости используют оптатив, чтобы выражать возможное желание, в то
время как исторические времена изъявительного наклонения изъявляют
желание невозможное.
В общем и целом, оптатив – глагольное наклонение, позволившее греческим
авторам выразить деликатнейшие точки зрения на различные вещи;
единственное в мире наклонение такого рода. Два полюса, два цвета греческого
языка: реальный и нереальный, белый и черный. А между ними – полный
цветовой спектр всего, взятого на вооружение человеком.
Оттенки желания от реального до нереального в греческом выражаются также
разными способами формулировки условных предложений. Это так называемый
«условный период» (сложноподчиненное предложение с условным
придаточным), в состав которого входит прóтасис (от греческого προτέινω,
«предпосылать»), то есть предпосылка, условие осуществления того, что
выражено в главном предложении, и апóдосис (от греческого ἀποδίδωμι,
«возвращать»).
Реальность выражается настоящим временем изъявительного наклонения,
а вероятность, соответственно, настоящим сослагательного. Возможность
и нереальность обозначаются прошедшим, в желательном и изъявительном.
Нет, лингвистическая оценка степени реальности человеческих перипетий
не остается на волю рока, фортуны, гороскопа или – хуже того – случая.
Намного важнее тонкость древнегреческого языка. Скажу точности ради: если
вероятность предстоящего действия высока, греческий прибегает
к сослагательному наклонению, если же нет – к оптативу.
А делятся разные степени вероятности и языковой выбор волей говорящего,
а также внешними условиями.
Фраза «может подуть юго-западный», произнесенная на Террасе Масканьи
в Ливорно вечером, когда дует типичный для тех мест ветер, способный
«растрепать душу», выражает вполне вероятное действие; в данном случае
древний грек употребил бы сослагательное наклонение. Та же самая фраза,
произнесенная в пустынной северной степи, указывает на весьма отдаленное,
а потому, как обычно, вспоминаемое с печалью и желанное событие; и в таком
случае говорящий прибегнул бы к оптативу. Если же юго-западный уже задул
и стал реальностью, тогда глагол в данной фразе стоял бы в изъявительном
наклонении настоящего времени. А будь мы в пустыне, ветер, что «одолжил
у моря его шум», стал бы невозможен, нереален, и о нем на древнегреческом
повествовалось бы в изъявительном наклонении прошедшего времени.
Εἴθ᾽ ὣς ἡβώοιμι βίη τέ μοι ἔμπεδος εἴη,
ὡς ὅθ᾽ ὑπὸ Τροίην λόχον ἤγομεν ἀρτύναντες.
О, для чего я не молод, как прежде, и той не имею
Силы, как в Трое, когда мы однажды сидели в засаде![31]
Так горестно вздыхает в стихах 468–469 XVIII песни герой «Одиссеи»,
пользуясь оптативом: именно данное глагольное наклонение способно выразить
природу его желания, силу, которую его тоске придает ностальгия, упорство,
порожденное изнурением.
Это отрывок из песни о Евмее, верном свинопасе, которого Одиссей всегда
любил, как сына. Достигнув наконец Итаки, измученный множеством битв
и странствий, Одиссей узнает от старого раба о том, что царя считают
погибшим на Троянской войне и что подлые узурпаторы, женихи, стремятся
захватить его трон и супругу Пенелопу. Одиссей хотел бы пробудить в себе
ту же силу и такой же воинственный дух, как двадцать лет назад под стенами
Трои, но долгий путь и страдания оставили шрамы на его душе и теле. Евмей
допытывается, кто же он на самом деле, но Одиссей предпочитает солгать,
выдав себя за нищего критянина. Они садятся вместе ужинать, и бедняк Евмей
дает царю, которого не узнал, плащ, дабы он защитился от ночного холода.
Если бы фраза находилась вне пределов нашего знания, мы никогда
не сумели бы истолковать ее глубинную суть: например, будь это любовное
послание, оставленное на стене какой-нибудь станции метро и выражающее
чувства, которые, возможно, давно угасли. Но мы знаем, чего желает Одиссей
и какая сила затребована богами на то, чтобы совершить долгое путешествие
из Трои домой (всё это мы понимаем лишь потому, что читали «Одиссею»).
Если б мы не знали о скитаньях Одиссея по Средиземному морю, одна лишь
фраза: «О, для чего я не молод, как прежде», ничего не сказала бы нам
о желании героя вернуть то, что принадлежит ему по праву, согнать
узурпаторов с трона Итаки. Такие слова вполне могли бы принадлежать
полному сожалений старцу, человеку, разочарованному в жизни, любому
ветерану Троянской войны.
Мы бы никак не поняли, что это желание равно возможности, которая вот-вот
станет реальностью. Одиссей, проведя десять лет в скитаниях и столько же
на войне, наконец возвращается на Итаку под личиной изгнанника, чтобы
вернуть себе и царство, и жену – вернуть свою прежнюю жизнь.
Толкование того, что говорит греческий язык, пользуясь лишь глагольными
наклонениями, полностью вверено чутью переводчика, отважно взявшего
на себя труд расшифровать чужие желания, к чему призывает его греческий
язык. Ему либо потребуется больше слов, чтобы переложить оптатив на свой
язык, либо меньше: разница касается лишь формы, но не содержания.
Оптатив во фразе может предстать в таких выражениях, как «О, как бы я хотел
быть молодым», «О, если б я был молод, как прежде, когда объявили мы войну
троянцам!» – и всех прочих, способных передать желание Одиссея завершить
обратный путь, свой νόστος, и вернуть трон Итаки, воссев на него рядом
с женою Пенелопой и сыном Телемахом.
Εὖ ἂν ἔχοι ‹…› εἰ τοιοῦτον εἴη ἡ σοφία ὥστ᾽ ἐκ τοῦ πληρεστέρου εἰς τὸ κενώτερον
ῥεῖν ἡμῶν, ἐὰν ἁπτώμεθα ἀλλήλων[32].
Хорошо было бы ‹…› если бы мудрость имела свойство перетекать, как только
мы прикоснемся друг к другу, из того, кто полон ею, к тому, кто пуст[33].
И хорошо было бы, если бы смысл оптатива был предельно ясен, добавлю я!
За изучение древних языков полагается небывалое возмездие: самое деликатное
глагольное наклонение в древнегреческом, предназначенное
для выражения желания, вызывает по большей части смятение у тех, кто
сталкивается с ним при переводе текстов. Я всегда обращала внимание на то,
что его хоть и преподают, но почти никогда не объясняют. Чтобы ухватить
смысл языка, недостаточно сказать, что в древнегреческом было четыре
наклонения личных глагольных форм: изъявительное, повелительное,
сослагательное и желательное, и проиллюстрировать данный тезис
таблицей. Особенно если язык оперирует образом мысли, коего мы
лишены. Особенно если он обладает чем-то бо́
льшим, чего нашему языку
недостает. Особенно если такой язык прекрасен, а древнегреческий – это
не язык, а истинное чудо.
Пожалуй, в жизни – и не только в рамках своей научной деятельности – я твердо
верю в ценность, обращаясь к латыни, curiositas (любопытства, весьма далекого
от разнесения сплетен или типично итальянской назойливости). Тяги к знаниям
ради постижения самих себя и тайн мира, как у детей, которые вечно
допытываются, почему то, почему это. Потребности задавать вопросы о том,
что не укладывается в голове, кажется странным и причудливым. Достойного
стремления задаваться вопросами в учебе, изучении языка, людей, жизни –
именно это, как по мне, и позволяет чему-то научиться.
Пожалуй, оттого, что я много путешествовала и жила в разных местах,
я усвоила: лишь ища причины всего вокруг, мы становимся подлинными
жителями этого мира, а не просто залетными туристами.
Отсутствие любопытства к древнегреческому, которое я замечаю у студентов
и объясняю определенными методами преподавания, приводит меня в уныние.
А порой и в ярость. Потому что нельзя же годами изучать язык и вечно
оставаться залетными, задевая по касательной то грамматическое правило, то
словарную статью, то какую-нибудь страницу учебника. Древнегреческий язык
либо пропускают через себя, либо нет – и тогда остаются немыми.
Неужто никто, буквально никто не задался вопросом, отчего
в древнегреческом на одно наклонение больше, чем в других языках, и данное
наклонение – уникальный оптатив? Неужто все, буквально все считают его
лишь оборотной стороной греческого конъюнктива либо альтернативой
итальянского условного наклонения? Большинство моих учеников имеют лишь
смутное представление о тех возможностях, которые несет в себе оптатив.
Честно говоря, оно и у меня было смутным до того, как я углубила свои знания
по данной теме и осознала смысл данного наклонения.
Нередко мне доводилось слышать, что оптатив есть наклонение, которое
говорит «ой» (–οι) своими тематическими гласными; междометие «ой»,
безусловно, нельзя считать типичным выражением радости, и в «ой» нет
ни крупицы лингвистического смысла. Почти всегда в контрольной
по переводу, когда испуганный ученик с высоты птичьего полета замечает
краем глаза частицу ἄν, он тут же чувствует угрозу, вызов, его бросает в пот
и дрожь, как будто перед ним появляется огромный светящийся знак «Стоп».
И тем не менее именно данная частица служила грекам для подчеркивания
и опознания смысла глагольных наклонений: ἄν – не что иное, как искорка,
вежливо указующая на тонкий смысл слов. В сочетании с историческими
временами изъявительного наклонения ἄν указывает на нереальность,
невозможность: действие не произошло и никогда не произойдет. В сочетании
с оптативом и конъюнктивом ἄν свидетельствует о вероятности
или возможности действия; оно вот-вот осуществится, во всяком случае, такая
возможность есть. И как это переводится? Почти всегда никак. Вернее,
у итальянцев появляется возможность интерпретировать ἄν так, как они сочтут
нужным.
Ност
Ностальгия. В данном слове заключено одно из самых томительных
человеческих желаний. Оно похоже на греческое, но на самом деле это не так.
«Ностальгия» образована от двух греческих слов: νόστος, «возвращение»
и ἄλγος, «боль, печаль» – и выражает щемящее желание вернуться домой,
в места, где прошло детство и где остались самые дорогие люди и вещи. Однако
это совершенно чуждо греческому миру. Слово было выдумано только
в 1688 году эльзасцем Йоханнесом Хофером, студентом-медиком, который
защитил диплом в Базельском университете на тему «Медицинская диссертация
о ностальгии». Юноша посвятил несколько лет изучению психических
расстройств у швейцарских наемников, служивших при дворе французского
короля Людовика XIV; им пришлось на долгие годы покинуть родные горы
и долы, и посему наемников часто поражал неведомый недуг, приводящий
к смерти тех, кому так и не посчастливилось вернуться домой.
С той поры греческий неологизм «ностальгия» распространился в других
европейских языках и стал обозначать тоску по любимой земле, которая пофранцузски называется «mal du pays», а по-немецки – «Heimweh». Немецкий
к тому же располагает изумительным словом, какого нет в итальянском, –
изумительным для тех, кому понятно это странное чувство. Я говорю о слове
«Fernweh», составленном из «боли» и «дали»; оно указывает на стремление
туда, где ты никогда не бывал, но куда настойчиво тянется душа.
«Носты» (Νόστοι), «Возвращения» – это также заглавие цикла греческих
эпических поэм, посвященных возвращению на родину героев-ахейцев после
Троянской войны. Имя автора окутано легендами: по мнению некоторых,
им является некий Евмел Коринфский, другие думают, что это был Агий
Трезенский. «Ностам» предшествовали «Киприи», «Эфиопида», «Малая
Илиада», «Разрушение Илиона», а за ними следовала «Телегония», –
«Возвращения» были частью так называемого эпического Троянского цикла,
повествовавшего обо всех перипетиях Троянской войны независимо от сюжетов
«Илиады» и «Одиссеи», которые ни разу не упомянуты в данной саге. Потому
она представляет своего рода альтернативную версию истории, предлагаемой
Гомером.
Так взглянем же на смысл оптатива в древнегреческом языке без ненужной
опаски и со всей необходимой деликатностью, словно перед нами надпись
«Осторожно: хрупкое» на коробе с драгоценным хрусталем:
– Желательный оптатив, его изначальный смысл.
Ποιοίην: «Я хотел бы писать стихи!» / «Ах, боже, если б я умел писать стихи!»
В приведенных предложениях выражает стремление, пожелание
(или проклятие), намерение, тактичный совет, уступку, например, εἴεν,
«допустим». Желание может быть обращено в настоящее, будущее, но также
и в прошлое: ведь можно хотеть, чтобы когда-то прежде что-то случилось
или не случилось (тогда это называется сожалением).
Глаголы могут предварять частицы εἰ, γάρ, εἴθε, ὡς – в смысле «ах, если б,
«вот бы. На итальянском такой смысл передают либо те же частицы, либо, чаще
всего, условное наклонение.
Отрицание в субъективном плане (ведь желания бывают и отрицательными)
передается частицей μή.
– Потенциальный оптатив, или возможность.
Ἄν ποιοίην: «Пожалуй, я буду писать стихи» / «Я бы мог писать стихи».
Выражает вероятность того, что событие осуществится или не осуществится,
а также приглашение, просьбу, приказ, отданный без грубости, ироническое
замечание, например, ἂν λέγοις, «скажи, пожалуйста», или же: οὐκ ἂν φθάνοις
λέγων, «ну говори, не тяни» (всегда произносится с усмешкой).
На итальянском передается условным наклонением или, что вероятнее,
перифразой с глаголом «potere» («мочь»), раскрывающим смысл фразы.
В нашем языке даже сохранилось ироническое/скромное употребление
условного наклонения, вроде «avremmo un impegno per cena» («боюсь, мы уже
приглашены на ужин»), когда говорящий стремится сбежать с унылого
«apericena» (сочетание слов «аперитив» и «ужин»), хотя бы просто в знак
протеста против чудовищного названия сего действа. Или «sarebbero tremila
euro» («пожалуйте три тысячи евро»), когда человек хочет смягчить
впечатление от «кусачего» счета.
Поэзия
Слово «поэзия» происходит от глагола ποιέω, «делать». Того же глагола, что
означает, «изготавливать, строить» в материальном, ремесленном смысле.
В изготовлении поэзии не было для греков ничего поэтического, по крайней
мере, в том плане, в каком воспринимаем ее мы, итальянцы. То была работа
сродни труду плотника, каменотеса, гончара. Просто ее продуктом являлись
стихи.
Поэзия родилась несколько веков спустя после Гомера и Гесиода, когда музы
умолкли, перестали вещать с Геликона, и потому грекам пришлось изобрести
новый жанр отображения мира в стихах.
Гомер и Гесиод создавали эпос заместо поэзии, то есть рассказывали истории
(Ἔπος), используя музыкальные метры. В VII веке до н. э. мир изменился,
перешел от универсальной культуры, приспособленной к великой эпике, что
смогла объединить под своим покровом всю энциклопедию греческой жизни,
иначе говоря, от «мы», к культуре индивидуальной, которая требовала
отображения чувств, страстей, горестей, состояний души отдельного «я».
Греческая поэзия делилась на два основных класса: монодическую (то есть
декламируемую одним поэтом) и хоровую (исполняемую хором). И были в ней
две основные темы: боги и люди.
Каждый вид имел собственный диалект: для хоровой лирики – дорийский,
для монодической – эолийский. Так проявилась греческая склонность
к упорядочиванию вещей по категориям: стоило поэту издать звук
на дорийском диалекте – и все уже понимали, чего ждать от его стихов,
неважно, рожден ли он в Спарте или на Лесбосе. Выбор диалекта как раз
и способствовал (поэтически, точнее, практически) пониманию.
Теперь поговорим о них, поэтах.
Александрийцы, те, кто выбирал, что нам читать (хотя никто их об этом
не просил), создавая канон, передали нам почти целиком произведения
девятерых поэтов: Сафо, Алкея, Анакреонта, Алкмана, Ибика, Стесихора,
Вакхилида, Симонида, Пиндара. От всех остальных дошли до нас лишь
фрагменты стихов, сухие листы, гонимые ветром, как сказал бы
душераздирающий Мимнерм.
А каково было экономическое положение греческих поэтов?
Как у ремесленников.
Ежели ты являешься выходцем из богатой семьи, делай по своему хотенью
столы и стулья, будь слегка свихнувшимся художником, как Архилох, который
говорит, что с радостью бросит щит, когда ему придется плохо на войне,
ибо предпочтет спасти свою шкуру. Или же, как Сафо, страдай от любовных
терзаний. Или же, словно Алкей, воспевай свой выдающийся алкоголизм.
А ежели ты беден, делай стулья по прихоти тех, кто тебе платит. Как, например,
Пиндар. Некоторые пели на свадьбах за деньги. Временами кто-то писал стихи
по заказу. Дель Корно, автор учебника греческой литературы, по которому мы
все учились, определяет Пиндара как автора «стихов на случай». Пиндар таким
и был, а также оказался самым прославленным, самым гениальным творцом
в данной области. Получив крупицу информации, зная имя и родной город
заказчика, он умел воспеть любого человека героем или полубогом, эксгумируя
его мифологические истоки вплоть до десятого колена. Словом, он
профессионально писал на заказ. И в заказах, разумеется, недостатка не было.
Чаще всего он чествовал победителей Панэллинских игр, самых древних
на свете спортивных состязаний (и это были не только славные Олимпийские,
но также Пифийские, Немейские, Истмийские игры).
Так отчего же Пиндар столь прославлен как пророк поэтической чистоты,
почему не учитывается заказная специфика его поэзии?
У меня есть на то сугубо личное мнение. Потому что никто ничего не понимал
в его писаниях, несмотря на неоспоримую красоту каждого используемого
слова. Что есть знаменитое Пиндарово парение, как не части своеобразных
произведений, в которых понятно еще меньше, чем в работах других поэтов?
Я не знаю никого, кто бы понял Пиндара до конца. В данном вопросе я согласна
с Вольтером, который писал: «Пиндара все воспевают, но не понял его никто».
В качестве примера, дабы рассеять всякие сомнения читателя, предоставляя ему
свободу судить самому (не думайте, что я ополчилась на Пиндара, которого
всё равно люблю, хоть и не понимаю), привожу «Вторую Немейскую песнь»,
посвященную некоему Тимодему Ахарнскому, победителю в разноборье.
Как Гомериды,
Певцы сочлененных песен,
От Зевса начинали речи свои, –
Так тот, кого мы поем,
Заложил основанье побед своих на священных играх,
В многократно воспетой роще Зевса Немейского.
Но ему еще суждено, –
Если век поведет его прямою
тропой отцов ко славе великих Афин, –
Не раз срывать прекраснейший цвет на Истме,
Не раз торжествовать у Пифона, –
Ему, сыну Тимоноя.
Где прошли горные Плеяды, –
По пятам пройдет и Орион. (????????? Пиндарово парение!)
Саламин умеет растить ратоборцев –
Это Гектору в Трое возвестил Аянт.
О Тимодем!
Сила твоя, испытанная борьбой, возвеличивает тебя.
Издревле
Славились Ахарны добрыми мужами;
И всегда в хвалах победителям
Тимодемиды именовались превыше всех,
Возле царственных высей Парнаса
Четыре победы унесли они с состязаний;
От коринфских мужей
В долине доблестного Пелопа.
Восемь венков возложили они на чело;
На родине их победы превосходят число и счет;
А Немея подарила им семь
На играх Зевса.
Прославьте же Зевса,
Вы, сопутники Тимодема
В славном его возвратном пути, –
И да будут ему сладостны громкие ваши голоса![34]
Отрицание (ведь многие возможности остаются нереализованными) передается
частицей οὐ.
– Косвенный оптатив, или стекла очков, сквозь которые говорящий глядит
на мир.
Ἔλεγεν ὅτι ποιοίη: «Он говорил, что пишет стихи».
Часто используемый в повествовании, оптатив косвенной речи встречается
во всех типах придаточных предложений (цели, причины, времени,
пояснительных и т. д.), если в главном стоит прошедшее время. В данном
случае оптатив теряет свое исходное значение и от возможности сохраняет
лишь смутный оттенок, указывая на то, что передает в непрямом (именно
в косвенном) виде субъективную мысль. В определенном смысле он
подчеркивает степень субъективной дистанции между говорящим и тем, о чем
тот повествует; это опять-таки вопрос вежливости, корректности, уважения.
Употребление косвенного оптатива ни в коей мере не является обязательным,
а зависит от свободы (и от искренности) того, кто рассказывает о чужих мыслях
и поступках. Вот бы это греческое наклонение использовалось в итальянской
журналистике (или том, что от нее осталось)!
Выживание оптатива в греческом, единственном из его стойких
индоевропейских защитников, объясняется уникальной и своеобычной
прочностью глагольной системы языка. В древнегреческом вовсе
не существительные, а глаголы играют главную роль. Греческие глаголы
с помощью категорий вида и наклонения обозначают понятия в процессе,
в развитии и в восприятии их говорящим. Они выражают не просто вещи,
но действия, определяющие появление и становление этих вещей.
Все греческие диалекты в историческую эпоху демонстрируют четкие
смысловые разграничения между конъюнктивом и оптативом, между
вероятностью и возможностью.
Но в I веке н. э. оптатив мало-помалу начинает исчезать. Данное глагольное
наклонение уже находится в упадке, его вытесняют более простые слова, такие
как «наверное» и «пожалуй». А всякий упадок (языковой и не только) всегда
усугубляется: оттенки смысла, который отражает оптатив, слишком тонки,
чтобы противостоять переплавке диалектов в единственный имперский язык –
κοινή. Например, данное наклонение очень редко встречается в Новом Завете
на греческом; еще можно найти несколько образчиков в более поздних
папирусах, но там они использовались только для выражения обетов и молений.
Речь, таким образом, идет о выживании; можно себе представить постепенное
выхолащивание оптатива из обыденной, свободной речи древних греков.
Все источники свидетельствуют о том, что оптатив исчез вначале из фраз,
выражающих возможность, потом из придаточных, где он имел
значение косвенной речи; дольше он сохранялся в текстах обетов тому
или иному божеству: да, оптатив обозначал желание, но религиозное, связанное
с верой.
Если оптатив редко использовали уже авторы императорской эпохи, такие
как Страбон, Полибий или Диодор Сицилийский (сравнительно с тем,
как упорно употребляли его Платон и Ксенофонт), то еще реже, он, должно
быть, употреблялся в разговорном, бытовом контексте.
Magari! («Хорошо бы)
История итальянского слова «magari» прекрасна; быть может, поэтому всякий
раз, когда кто-то отвечает мне так на вопрос, я счастливо улыбаюсь, зная
потаенный смысл данного слова.
«Magari» как раз и происходит от греческого μακάριος, «счастливый»,
«блаженный», а точнее – от звательного падежа μακάριε, «о, счастливчик!»
В глубинном значении слова, стало быть, не содержится никакого сомнения
и неуверенности, которые мы можем усмотреть в нем сейчас, а только
искреннее пожелание: «Дай бог тебе счастья!» (Или, по крайней мере,
незлобивое: «Везет тебе!»)
История слова и его заимствования непосредственно из греческого многими
европейскими языками (в испанском находим «maguar», в сербском – «makar»,
в новогреческом – «μακάρι») не менее любопытна: похоже, изначально
в написание и произношение вкралась забавная ошибка. В Средние века, когда
Европа перестала понимать греческий, многие буквы путались или неверно
писались монахами, послушание которых состояло в переписывании античных
текстов (и всё равно мы им несказанно благодарны за всё то, что они сохранили
для нас своим трудом, зажав в руках гусиные перья). Подчас заднеязычные
схожие по звучанию κ, χ и γ перепутывались, и ошибки кочевали из текста
в текст, из пергамента в пергамент и, следственно, из уст в уста.
Благодаря связи со «счастьем» и «блаженством» греческое слово μακάριε
(произносимое как «мака́
ри») то и дело фигурировало в религиозных текстах:
скрипишь пером, скрипишь, молишься, молишься, взял да и спутал ненароком
букву каппа (κ) с гаммой (γ). Из-за этой ошибочно написанной буквы, которая
для средневековых ушей произносилась как «г», мы так и пишем сегодня наше
«magari», прибывшее прямиком из древнегреческого: как говорится, б/у,
но в хорошем состоянии.
В целом это были слишком тонкие и хрупкие выразительные средства, которые
не смогли долго устоять, не смешиваясь, не смягчаясь, не теряя смысловой
силы. В новогреческом ныне существует лишь конъюнктив. Оптатив канул
навсегда.
От оптатива нынче следов не осталось ни в одном языке; уже и в латыни,
от которой берет начало итальянский, слышны лишь отголоски, сиротливые
останки смысла данного наклонения, скажем, формы сослагательного,
произошедшие от древнего желательного («sit» – «да будет», «velit» –
«хотел бы.
Из истории всех современных языков известно, что оптатив и конъюнктив
не уживались бок о бок долго – слишком тонка и в то же время слишком плотна
была грань меж ними. Таким образом, различие между конъюнктивом
и оптативом индоевропейские языки упразднили разными способами,
независимо друг от друга. И с самого начала было ясно, что рано или поздно
уступить придется оптативу. Конъюнктив сохранился, поскольку в латыни
и, следовательно, в итальянском или французском он необходим во многих
придаточных предложениях, тогда как в главных его употребление ограничено.
Оптатив же выражал оттенки смысла, но не был необходим
для понимания и изъяснения. Он представлял собой вежливый способ выразить
собственные желания и отдать себе отчет в перипетиях собственной жизни
(и своих словах), не навязывая собственной воли и не вторгаясь в жизнь
(и слова) других.
«Утрата оптатива свидетельствует об уменьшении тонкости в греческом языке:
это утрата аристократической элегантности», – так комментирует исчезновение
данного наклонения непревзойденный Антуан Мейе.
Впрочем, каждый язык демократичен. Здесь играет роль социальный фактор,
связанный со временем и мировосприятием носителей языка. Что бы
ни говорили сегодня, во времена «Твиттера» и WhatsApp, именно они
изменятся, прежде чем изменится язык, а не наоборот. Любое слово в любом
языке подвержено «демократии» при употреблении его говорящими; точно
так же, как скульптура подвержена «демократии» ветра, непрестанно
обтачивающего мрамор.
С сожалений кормилицы о том, что могло бы произойти, но не случилось, –
о желании уже несбыточном, – начинается одна из самых насыщенных
и волнующих трагедий Еврипида – «Медея». «Арго» снялся с якоря, и всё
пошло иначе.
Εἴθ᾽ ὤφελ᾽ Ἀργοῦς μὴ διαπτάσθαι σκάφος
Κόλχων ἐς αἶαν κυανέας Συμπληγάδας,
μηδ᾽ ἐν νάπαισι Πηλίου πεσεῖν ποτε
τμηθεῖσα πεύκη, μηδ᾽ ἐρετμῶσαι χέρας
ἀνδρῶν ἀριστέων οἳ τὸ πάγχρυσον δέρος
Πελίᾳ μετῆλθον. Οὐ γὰρ ἂν δέσποιν᾽ ἐμὴ
Μήδεια πύργους γῆς ἔπλευσ᾽ Ἰωλκίας
ἔρωτι θυμὸν ἐκπλαγεῖσ᾽ Ἰάσονος.
О, лучше бы отважным аргонавтам
В далекую Колхиду кораблей
Не направлять меж Симплегад лазурных!
О, лучше бы не падала сосна
Под топором в ущельях Пелиона –
На весла тем бестрепетным мужам,
Что некогда для славного Пелия
Отправились за золотым руном!
Тогда моя владычица Медея
Не приплыла б к Иолковым стенам,
Сраженная безумною любовью…[35]
Итак, греческий оптатив – совершенная мера дистанции, пролегающей между
усилиями, необходимыми для сведения счетов с желаньями, и силой,
потребной, чтобы выразить их прежде всего самим себе, будучи убежденными,
словно в любой ситуации изящество привносит тонкое, но явное преимущество,
особенно в языке.
Это мы – и наши желания.
Так как же переводить?
Я люблю приходить из молчанья
в разговор. Я готовлю слово
с заботой, чтоб достигло оно берегов,
неспешно скользя, словно лодка,
и чтобы кильватер мыслей изгибался широкой дугой.
Написанье – как безмятежная смерть:
мир, будто свет, расширяется
и его уголок навеки сжигает огонь.
Валерио Магрелли.
Из сборника «Диоптрия времени»
И все-таки: как же переводить с греческого на итальянский? Что это значит?
Как это делается? Такие вопросы я чаще всего слышала от ребят, которым
преподавала греческий. Те же самые вопросы, представьте себе, я сама задавала
преподавателю в ученические годы.
Данные вопросы, можно сказать, задавали веками, даже тысячелетиями, они
уходят корнями в тот самый миг, когда люди перестали понимать
и изъясняться на древнегреческом языке, а значит, единственным способом
понять его стал перевод, который непонятно почему обычно именуют
в классических лицеях непривычным термином «versione» («переложение»).
Быть может, это очередная констатация, энное свидетельство (как будто оно
кому-то нужно) смерти классических языков. Все иностранные
языки переводятся. Латынь и греческий толкуются.
«Versione» происходит от латинского глагола «verto», означающего
«переворачивать», «изменять», «трансформировать», а отсюда и «переводить».
«Verti etiam multa de Grecis» («Многое переводил с греческого сам»[36]), –
сообщает нам Цицерон в «Тускуланских беседах». «Tradurre» («переводить»)
происходит от латинского глагола «traduco», означающего «переносить»,
«раскрывать», «переправлять на тот свет». То есть вести в иное место.
Именно в последнем и заключается глубинная цель перевода (или толкования)
с любого языка: перевести обозначаемое через лингвистическую границу
обозначающего. Перевод никогда не станет оригинальным произведением, он
представляет собой лишь путь к подлинному смыслу. В результате
произойдет встреча, словно бы с другим, далеким человеком, и вдруг он
окажется для вас близким. Это относится и к древнегреческому, хотя никто уже
на нем не говорит.
Перевод – переход, шаг за шагом, позволяющий максимально приблизиться
к значению чужого языка, который заведомо не станет своим. Путь к языку,
особенности которого делают его уникальным, но мы их не чувствуем, потому
что лишены таких языковых возможностей. Поэтому люди
вынуждены переводить, отправляться в другое место, где говорят по-другому.
Чтобы достичь конца пути, который неизвестно куда нас приведет, необходимо
совершенное знание языка – это не подлежит обсуждению, а значит ваш удел –
ученье, труд, пот и упорство.
Но важно также в некоторой степени почувствовать, о чем нам говорит язык
прошлого, – да, очень отдаленного, но не рассеявшегося, иначе зачем его
изучать, если все смыслы старых текстов утрачены?
Необходимы знания, стойкость, вера в себя и в язык. Ведь текст говорит, надо
только вслушаться. (Нет, у меня не было ни галлюцинаций, ни мистических
видений, когда перед контрольной в классе, неизменно начинавшейся в восемь
утра, мне приходилось решать – победить греческий язык или сдаться на его
милость. Я тогда поняла, что единственный способ продвинуться вперед –
попытаться думать так, как думали древние греки. Это метод, которым
я пользуюсь последние пятнадцать лет, и мой первый, самый важный совет тем,
кто приступает к переводу или переложению, как его ни назови.)
Эмоции, которые испытывает лицеист, впервые увидев греческий текст, – страх,
ужас и паника. Пятьдесят оттенков тревоги. Каждому, кто учился
в классическом лицее, это знакомо. А кому не знакомо, тех, вероятно,
преследовали в школе другие кошмары: уравнения, чертежи, химическая
номенклатура, английский. При всем уважении, страх перед ними – робость,
не более. Но не настоящее, осязаемое смятение, что испытывали изучавшие
греческий хотя бы раз в жизни перед отрывком текста для перевода;
парализующий ужас непонимания. Паника, возникающая от одного взгляда
на загадочные графические символы с раздаточных материалов
(скверных раздаточных материалов: кто знает, почему тексты школьных заданий
всегда выглядели такими размытыми, блеклыми, как будто их
отксерокопировали прямо с афинских надписей на камне) и абсолютное
непонимание того, что они означают. (Я хорошо помню, как на выпускном
экзамене больше часа тупо смотрела на лист, голова кружилась, должно быть,
из-за мощного вентилятора, включенного в аудитории, дабы спастись
от июльской жары, все мышцы онемели, невозможно было двинуть рукой, даже
чтобы открыть словарь. Потом, к счастью, я очухалась, а то не рассказывала бы
всё это вам сейчас.)
Короче, греческий язык, умерший тысячу лет назад, до сих пор вызывает
безумный страх у того, кто подступает к его изучению. Настолько, что я со
временем пришла к выводу, страх – это conditio sine qua non для таких людей.
Мой дорогой друг сорока трех лет имел счастье (или несчастье) сопровождать
меня в написании данной книги, и я многим ему обязана. Как-то вечером он,
читая мое письмо, всплеснул руками и сказал: «В школе я ни черта в греческом
не петрил, и теперь мне становится худо, как только я получаю от тебя главы!»
Значит, этот страх никогда не проходит, даже у взрослых. А жаль.
Очень многие ученики признаются в том, что чувствуют себя стесненно, когда
перед ними лежит листок для перевода, потому что греческий алфавит
не такой, как наш. Более чем справедливо, но алфавит – не язык, а средство
связи с языком, всего лишь графическая система для изображения слов
на странице. Стоит только научиться расшифровывать его, – и это случается,
как правило, в первый месяц обучения в классическом лицее, – и вы им
овладеете, он уже станет вашим (могло быть хуже, все-таки греческий алфавит
состоит из букв, а не из японских иероглифов и не из слогов микенского
«линейного письма Б»!).
Многие мне жалуются на то, что боятся слов, не таких, как в итальянском,
непохожих. Не спорю, всё же это другой язык, иностранный. А что, разве
в английском слова те же самые? Есть лишь одно средство, позволяющее
обуздать данный страх, – время. Опыт. Упражнения. Чем чаще мы будем
встречать одно и то же греческое слово, тем вероятнее оно застрянет у нас
в мозгу, станет нашим.
И наконец, в школе стартуют гонки со временем, отведенным для перевода,
которого становится тем меньше, чем чаще мы обращаемся к словарю. Чем
меньше у нас веры в себя и в язык, тем чаще мы хватаемся за словарь,
как потерпевшие кораблекрушение посреди океана. Само собой, поначалу наш
запас греческих слов ограничен, и словарь играет фундаментальную роль
в изучении языка. Само собой, в случае сомнений, неуверенности словарь – наш
верный союзник. Но безумное, отчаянное пользование греческим словарем
может в итоге оказаться контрпродуктивным или даже опасным.
Контрпродуктивным, потому что любой словарь дает весьма ограниченную
палитру значений каждого слова (это клетка для смысла – не находите?)
Вдобавок если мы не можем ухватить значение слов древнегреческого языка,
то нам суждено вечно хвататься за словарь, всё дальше уплывая от понимания
языка, подобно утопающему, который отказывается сойти со спасательного
плота и перебраться на встречный корабль.
И, что уж тут говорить, словарь может быть даже опасным. Охваченные
паникой ученики так мало верят в себя, что проверяют значение буквально
каждой словарной единицы (а время, отведенное на перевод и почти всегда
отмеряемое унылым беспощадным тиканьем часов, подаренных школе какимнибудь известным местным банком, неумолимо утекает). Почти никогда им
не удается поверить, что значение искомого слова именно то, что первым
приведено в словарной статье, самое распространенное, самое простое,
и в итоге ученики выбирают последнее, возможно, жаргонное, употребленное
лишь однажды поэтом с далекого острова, чье имя полностью стерлось
из памяти.
Разумеется, я не советую выбросить или перепродать словарь, сколько бы он
ни стоил. (Как много ребят в 2016 году всё еще не могут позволить себе
обучение в классическом лицее по экономическим причинам? Я знала многих,
слишком многих учеников, чьи семьи с большим трудом покупали хрестоматии,
словари, платили за частные уроки; детей, которые оказывались предоставлены
сами себе в государственной школе.) Нет, я лишь советую не оставаться у него
в заложниках. Не выверять каждую запятую, каждое слово на всякий
случай (хотя, надо признать, я тоже поступала так, по крайней мере, вначале).
Советую верить в то, что выучили. И главным образом никогда не считать
перевод механическим, бинарным процессом: «А» в греческом равно «Б»
в итальянском. Если б всё было так плоско и очевидно, мы бы смогли, имея
хороший словарь под рукой, переводить с любого языка! Нам хорошо известно,
что это не так, еще со времен Вавилона; ни в коем случае нельзя
считать перевод сочетанием выстроенных в линейку слов, выданных нам Google
Переводчиком.
Итак, чтобы перевести текст и как можно ближе подойти к его значению, нам
порой потребуется больше слов, а порой меньше при переходе от греческого
к итальянскому. Необходимо постоянно чувствовать то, что говорит нам текст,
дабы потом высказать это на нашем языке.
«Вы знаете все греческие слова?» – часто спрашивают меня в ужасе ученики;
а я в то же время ужасаюсь оттого, что единственно из-за моего знания
греческого они обращаются ко мне на «вы», как к старухе (такое случалось,
даже когда мне было двадцать). Нет, конечно, нет. Я не знаю всех греческих
слов, хотя окончила с отличием классический лицей, факультет классической
филологии и перевела немало текстов; впрочем, учитывая диалектное
разнообразие, свойственное Древней Греции, едва ли даже грек знал все
греческие слова.
Потому я до сих пор пользуюсь словарем, и нередко. С полной откровенностью
официально заявляю, что не помню даже всех бесчисленных морфологических
и синтаксических особенностей языка, в силу чего часто заглядываю в учебники
без особого высокомерия (присущего некоторым так называемым
«академикам», которые неизвестно почему возненавидели свой труд, самих себя
и других).
В университете я сдавала экзамен, часть которого состояла в переводе с листа;
я обычно не рассказываю об этом моим ребятам, чтобы не наносить им удара
под дых. На экзамене требовалось перевести навскидку, то есть без помощи
словаря, вслух, за несколько секунд, отрывок, выбранный наугад
преподавателем. Повторяю: любой отрывок, выловленный из океана греческой
литературы. Я исключала возможность выучить наизусть всю греческую
литературу, а стало быть, у меня оставался единственный способ решить
данную проблему: отбросить зазубренное и призвать на помощь опыт и чутье.
Нет, я не могу сегодня сказать, что это было легко, но и не смертельно. Страх,
который я испытала, был явно меньше того, какой вызывал всякий перевод
в лицее. Потому что на тот момент я почти десять лет изучала греческий,
и данный язык уже стал хотя бы немножко моим.
Экзамен я сдала успешно, несмотря на то что не знала всех слов в тексте,
который положил передо мной преподаватель. Это был незабываемый отрывок
из Лукиана, описывающий путешествие человека на Луну. Просто-напросто
случилось то, что обычно происходит, когда говоришь на иностранном языке
и из памяти вылетает значение какого-то слова, хотя остальные тебе знакомы.
Смысл недостающего вычисляешь интуитивно, как можно ближе подходя
к оригиналу.
Стоит только ухватить смысл всей фразы, шаг, приближающий к смыслу
каждого слова, считай, уже сделан.
Проблемы начинаются, когда не понимаешь смысл текста. Мало того – когда
его даже не читаешь из страха перед чуждым алфавитом или думая
об утекающем времени. И вот кидаешься переводить первое слово, за ним все
последующие, по порядку, каким бы он ни был, чтобы потом сочетать их
на итальянском, как цвета кубика Рубика, и придать (или придумать) отрывку
смысл.
Я знаю, что каждый преподаватель советует читать отрывок, прежде чем
начинать перевод, и что никто из студентов этого не делает (в лицее
и я поступала так же: не хватало мне сейчас врать вам!). Когда я спрашивала
моих учеников, а заодно и себя, чем объясняется подобное поведение, ответ
почти всегда был один: «Да я всё равно ничего не пойму, мне этот текст
ни о чем не говорит, зачем время терять?»
Так вот, приступать к переводу языка, который изучаешь год, два, пять лет
в полном убеждении, будто ничего в нем не поймешь, что перед тобой
безмолвный текст, – неудачный отправной пункт. По-моему, это неуважение –
к самим себе, языку и времени, затраченному на его изучение. Но такое, тем
не менее, случается – почти всегда. Никогда я не видала столь растерянных лиц,
какие делают ученики после моих вопросов типа: «Что тебе напоминает слово
ἀρχή (произносится как „архе́
“) или γράφειν (произносится „гра́
фейн“)
в итальянском?» Неужели не приходят на ум слова «археология»
или «графика»? Да, и правда. То есть нет, не приходят на ум. Виной всему
барьер алфавита – и, на мой взгляд, робость, которую внушает нам греческий,
словно бы погружая во тьму любые созвучия с нашим языком. И мы изначально
отказываемся от желания понять язык, уверенные в том, что не поймем.
Лозунг Сократа «Я знаю, что ничего не знаю» обеспечивает алиби и убежище
любому ученику. Но я позволю себе не согласиться: вы знаете! Вы умеете
читать по-гречески, выучили столько всего, столько правил. Вы учитесь, и язык
становится вашим. Неужели запятые, точки, самые распространенные глаголы
совсем ничего вам не говорят? Нет, не верю, отказываюсь верить.
Поверьте в себя и в то, что вы знаете, это на самом деле вопрос уважения.
Еще один источник ослепляющей паники – грамматические правила. До того,
как прочитать текст, многие ученики замечают какую-нибудь конструкцию
и внутренне отдают себе отчет в том, что не помнят ее и никогда как следует
не учили, а стало быть, в отчаянии отбрасывают всяческие попытки понять
содержание всего отрывка.
Начнем с чистого листа: любой текст – на греческом, латыни, итальянском
или французском – не просто сумма грамматических правил, которые надо
применять. Не телевикторина, не математическое уравнение, не ребус. Всякий
текст существует, поскольку тот, кто написал его, почувствовал необходимость
высказаться, поведать о чем-то. И это «что-то» – конечно же,
не грамматическое правило, которое вы забыли.
Переводя вместе с ребятами, я часто слышала определения, такие точные,
безукоризненные, к примеру: «Это безличный глагол, управляющий – бла-блабла – на итальянский переводится описательно, как – бла-бла-бла».
Византийский монах, лингвист и член Академии делла Круска разом
позеленели бы от зависти. Опять-таки я не говорю, что не надо знать
грамматику как свои пять пальцев, а наоборот, радуюсь за своих учеников
(и даже завидую им, так как уже не помню ее в совершенстве). Однако не надо
считать грамматику целью, а не средством для перевода. Правила грамматики
того или иного языка – неотъемлемая основа понимания смысла текстов,
на этом языке написанных. Но правила не есть язык. Вы не помните того
или иного правила? Ну и ладно, проштудируете их на досуге, сегодня что-то
от вас ускользнет, и вы не получите свои десять баллов.
А пока, ради бога, поймите, что говорится в остальной части попавшегося вам
греческого отрывка и не терзайтесь виной, не обзывайте себя олухом, невеждой
и неудачником!
Повторю еще раз: это вопрос уважения – текст может сказать вам так много
всего интересного, докопайтесь до сути, извлеките ее на поверхность
и передайте своими словами.
Еще одна немаловажная проблема – знание истории, культуры, политики
Древней Греции в четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать лет.
Нам сейчас легко заглянуть в жизнь лицеистов (а еще легче – в собственное
лицейское прошлое), дать им какие-то советы, изречь сентенции, побудить
к большему усердию, а потом спокойно улечься на диван и читать наши книги,
наши газеты, слушать нашу музыку, смысл и язык которых ориентированы
на взрослых (вернее, должны быть ориентированы, коль скоро мы, похоже,
существуем в эпоху, когда зрелости не дождешься, и в сорок лет мы всё
еще дети, а в сорок один – уже старики).
Несмотря на все усилия, прилагаемые для лучшего понимания греческого мира
в целом, а не только греческого языка, составителями новых хрестоматий
и некоторыми просвещенными преподавателями, школьная программа
по истории идет не в ногу с программой перевода с греческого. И коль скоро
в лицее надо (надо бы) изучать всю историю человечества, на изучение Древней
Греции всегда отводится месяц, от силы два. То же самое относится
к литературе, истории искусства, философии и географии (если ее еще
изучают – не помню).
Вследствие этого познания о греческой античности у юнца пятнадцатишестнадцати лет весьма и весьма ограничены и совершенно недостаточны,
чтобы понять и не счесть странными, загадочными те переводы, в которых идет
речь о военной тактике, оракулах, религиозных обрядах, мифологии, политике.
С другой стороны, про многих взрослых едва ли можно сказать, что они
обладают такими познаниями, – да нет, я категорически исключаю это. Сколько
раз меня спрашивали: «Да о чем это?» – про тексты, в которых говорится
о вещах, банальных для меня, а для подростка, естественно, туманных.
Неужели в пятнадцать лет, вечером, в пабе, среди друзей молодежь фигуряет
выражением: «Ой, над моей головой Дамоклов меч!» – и знает, откуда пошло
данное высказывание? Нет, не думаю. Вот потому ученик, получив
для перевода текст о Дамокле, или о Дельфийском оракуле, или о том,
как Перикл повел себя во время солнечного затмения, совершенно не может
опереться на исторические ассоциации для понимания текста. Не говоря уже
об отрывках, посвященные войне, которые, согласно проведенному лично мной
зондированию, больше всего ненавидят ученики. Я тоже недолюбливала эти
десятки строк, вырванных из длиннющих (и прекраснейших) исторических книг
Ксенофонта и Фукидида. Почти всегда подлежащим в них выступает
таинственное «они» (кто – они? Афиняне? Греки? Персы? Варвары?),
а дополнением – столь же загадочное «их» (кого – их? См. выше). Десяток
строк, повествующих о военных лагерях, тактике, об оружии, осадах, стратегах,
жертвоприношениях, которые, даже если их идеально перевести, всё равно
оставляют неразрешенными вопросы: «О ком речь? Кто те „они“, победившие
и потерпевшие поражение?» Загадка.
Как видите, в текущей главе я часто обнажаю страхи моих учеников и друзей
и при этом, увы, чувствую моральную ответственность за рассказы о самой
себе.
Поневоле поведаю о главном позоре моих лицейских лет, о случае таком
постыдном, что я после него недели две заснуть не могла и решила никогда
и никому об этом не рассказывать, сделать вид, словно ничего не было. Но это
произошло, и сейчас я выложу всё начистоту, чтобы доказать, как важно
понимать античный мир в целом, а не только знать его язык, грамматику
и обладать кое-каким лингвистическим чутьем. Прошу вас, будьте
снисходительны! Не растравляйте еще больше юношескую травму, пережитую
мной в классическом лицее.
Итоговая контрольная (в данном случае речь идет о латыни, но то же самое
относится и к греческому) в первый лицейский год. На карту поставлено всё,
в том числе право на безмятежный летний отдых у Тирренского моря среди
песка и особенно медуз.
Заголовок написан жирным шрифтом по-итальянски – «Il ratto delle Sabine»
(«Похищение сабинянок»). Далее следует текст для перевода. Мне пятнадцать
лет, с латынью у меня всё хорошо, так что я, само собой, контролирую
ситуацию.
Проблема в том, что про этих сабинянок я ни разу в жизни не слыхала. Кто они
такие? Что у них стряслось? Зато я отлично знаю, что такое «ratto», у нас
в деревне полным-полно этих мерзких крыс с длинными хвостами и красными
глазами.
И я дерзко принялась переводить, но смысл текста ускользал от меня.
Абсолютно. Он казался нагромождением слов или каким-то дурацким
дадаистским экзерсисом. Что могло быть общего у сабинянок и крыс? Странно,
подумала я, очень странно. Когда время вышло, я сдала свой перевод,
продолжая терзаться сомнениями.
Несколько даней спустя я получила листок с жирным красным неудом, который
нанес бы мне пожизненную травму, не владей я искусством спасительной
иронии, с которой воспринимаю собственную вину (однако же, – осознаю
я сейчас – лишь спустя пятнадцать лет я успокоилась, поскольку момент
для «сглаживания вины с помощью иронии» настал только теперь).
Так что же произошло в тот позорный майский день? До меня не доходили
слухи о том, что Ромул основал Рим и обеспечил ему женское население
для продолжения рода, похитив женщин из соседних племен, в том числе
у сабинян. Мысль о похищении сабинянок не дошла даже до прихожей моего
мозга. Доверившись итальянскому заглавию (и моей трогательной наивности),
я и не подозревала, что «raptum» – по-латыни не «ratto» («крыса»),
а «похищение», то есть причастие, образованное от глагола «rapio».
И, осквернив их память, я смешала бедных женщин с крысами. Какой стыд!
Чтобы снять с себя часть вины, могу робко сказать в свое оправдание:
«Ну почему текст был озаглавлен по-итальянски „Il ratto delle Sabine“? Неужели
нельзя было написать „rapimento“ („похищение“), чтобы не сеять путаницу
в головах пятнадцатилетних ребят, мысленно уже купающихся в море? Сколько
итальянцев сегодня употребили бы в обиходе слово „ratto“, имея в виду
не крыс?»
Однако вина целиком и полностью была моя. Я вновь прошу прощения, даже
пощады за то, что почти ничего не знала об основании Рима: в пятнадцать лет
никто не излагал мне этого предания. Я была невежественной
в этимологическом смысле данного слова: не ведала. Поэтому вновь и вновь
приношу мои извинения, прежде всего сабинянкам, перед которыми буду
виновата всю жизнь.
И наконец, еще одно замечание.
В классическом лицее дают на перевод только прозаические тексты –
от Платона до Плутарха, от Эзопа до Ксенофонта, от Фукидида до Аристотеля.
Каждый из данных авторов, как и все мы, обладает своеобразным,
отличительным – собственным стилем. И опять-таки требуются время,
терпение и тренировка, чтобы научиться распознавать особенности
выразительных средств каждого автора, всё время, необходимое
для приобретения лингвистического чутья, чтобы услышать голос писателя
и наилучшим образом воссоздать его на родном языке. Я имею в виду
не «разные» формы греческого языка, а разные способы его употребления.
Платон изъясняется вполне свободно, совсем не похоже на Фукидида, именно
потому что это Платон. Точно так же Дэйв Эггерс пользуется американским
английским совсем не так, как его современник и соотечественник Джонатан
Франзен, а книгой Орхана Памука можно восхищаться и не считать ее жутко
занудной, только если воспринимать длинноту как образ жизни и письма турка.
Если в школе переводят, точнее, препарируют, только греческую прозу, значит,
поэзия полностью выпадает из этой орбиты. И под ней я понимаю не только
лирику Алкея, Сафо и Пиндара, но также всю эпику, комедию и трагедию –
неотъемлемые составляющие греческой бытности.
«Какое счастье!» – скажут ученики. «Какая жалость!» – говорю я. Они не знают,
что теряют, и почти наверняка никогда этого не узнают, ведь вероятность того,
что кто-то из них поступит в университет на отделение классической
филологии, минимальна. С греческой поэзией они соприкасаются, как с чем-то
эфирным, не замарав (или не раскрасив) рук. Конечно, для перевода она
в десять раз труднее прозы, однако в десять раз богаче по смыслу. Подчас
переводится целиком одна трагедия, стих за стихом, целый год, и то лишь
в последнем, пятом классе. Скажем, мне достался «Царь Эдип» Софокла. Это
был трудоемкий процесс, но такой изумительный, такой захватывающий, что
«Царь Эдип» – одна из трагедий, которые остались у меня не только в голове,
не только в языке, но и в сердце.
Есть огромная разница в том, чтобы читать автора и слушать, как о нем
рассказывают. Я могу быть уроженкой Ливорно и лучше всех на свете
пересказывать Капрони, но это всегда будет не более чем пересказ – красо́
ты
поэзии, равно как и существо творца, хранятся в стихах поэта. Потому меня
немного озадачивают многочисленные учебники греческой литературы, где
о поэзии говорят, но не показывают ее. Ученики так никогда и не узнают
самых сокровенных и глубоких форм употребления греческого. Как бы
«труден» он ни был, язык изучается главным образом для этого, для понимания
самых сложных, а не только самых простых перспектив мира.
Я по сей день и улыбаюсь, и вздрагиваю при воспоминании о моем лицейском
учебнике греческой литературы, где, помимо рассказов о жизни, смерти,
творениях и чудесах каждого автора, объяснялся его стиль: как ученик может
усвоить стиль текстов, если он их не читал и никогда не прочтет? Это всё равно
что в деталях описывать рисунок, который никто не увидит. Никогда не забуду,
в какой шок повергло меня определение стиля Эсхила: «Стиль крутой
и обрывистый». «Поди знай, что это такое?» – недоумевала я в шестнадцать лет,
а нынче в тридцать так же недоумеваю и, наверное, буду недоумевать
и в восемьдесят. Какой смысл заложен в эпитетах, которые, на мой взгляд,
применимы скорее к тропе туристского маршрута, нежели к стихам поэта? Я это
поняла, и вы поймете, только прочитав Эсхила, равно как и других авторов,
в оригинале, если вам хватит смелости и везенья.
Итак, посмотрим вблизи, то есть в действии, как нужно переводить.
У меня нет магических рецептов и чудодейственных решений: всё, что вы
прочли до сих пор, – исключительно мои персональные советы,
сформированные из опыта. Многолетнего опыта. Как бабушкины средства
лечения любых недугов, унаследованные знания, старательно собранные за всю
жизнь.
Следует уточнить, что существует большая разница между литературным
и учебным переводом. В школе почти всегда требуют или поощряют второй:
строгое следование тексту и, как следствие, отказ от всякой свободы.
Бесспорно, такой подход разумен, особенно учитывая, что ученики еще
слишком слабо владеют греческим языком и не могут использовать его в личных
целях; просто выразить то, что имел в виду греческий автор, им уже трудно,
не говоря о том, чтоб выразить себя с помощью греческого!
Значение имеет в любом случае разница между верным и неверным переводом.
Учебный перевод – вещь хорошая и нужная, главное, чтобы он не стал тюрьмой.
Железной клеткой, в которой перевод с греческого на родной покрывается
коростой ржавчины.
Греческий является синтетическим языком, то есть языком, способным
выразить грамматические отношения от падежных форм до глагольных
конструкций одним словом. Так что он не нуждается в пространных
объяснениях: многие конструкции греческого имплицитны, безличны, значения
слов заключены в приставках или окончаниях. Это язык, словно созданный
для эпиграмм, недаром жанр эпиграммы придумали именно древние греки.
Вот почему одна из главных опасностей учебного перевода – породить текст
еще более туманный и непонятный, чем подлинник. Переводя причастия
причастиями, инфинитивы инфинитивами, оставляя местоимения в буквальном
виде, ученики подчас выполняют перевод, в свою очередь нуждающийся
в переводе. Трудно, почти невозможно убедить их отпустить вожжи, откинуться
на спинку стула и отбросить страх перед ошибками, перед свободным выбором
значений – выбором, который может «не понравиться» преподавателю (хотя
греческий – отнюдь не вопрос вкуса!), – не паниковать, додумывая то, что
непонятно; словом, отрешиться от всех причин, побуждающих ученика
принести в жертву грамматической правильности смысл текста на родном
языке.
Частицы
Греческие тексты нашпигованы частицами, которые трудно перевести. Это
известно всем изучающим этот язык. Самые распространенные из них: μέν, δέ,
γάρ (как в данном случае), δή. Причина их популярности состоит в том, что
изначально древние греки не использовали знаки препинания, которые
употребляются в итальянском и других современных языках. Данные знаки,
как и ударения, появились позже, в византийскую эпоху, для облегчения
понимания текстов, написанных на языке, который становился всё более
расплывчатым. Частицами греческие тексты изобиловали потому, что они
играли роль современной пунктуации. От них зависело логическое
разграничение фразы, в связи с чем они имели громадное семантическое
значение. Проблема, однако, в том, что зачастую на итальянский они
непереводимы.
Μέν и δέ, бесспорно, самые распространенные и самые трудные для передачи.
Почти всегда они встречаются на расстоянии нескольких слов или фраз
и связаны логическим смыслом: μέν, как правило, указывает на первый пункт
аргументации, а δέ – на все последующие, связанные с первым. Эти две частицы
служили для поддержания нити разговора; они характерны для описаний,
повествований, изложений. На итальянском я советую избегать чересчур
тяжелого варианта: «с одной стороны… / с другой стороны…», если только
в нем нет насущной необходимости. Μέν и δέ встречаются так часто, что наш
перевод был бы весь испещрен «противоположными сторонами». Приняв μέν
за отправную точку, за первый пункт, можно ее не переводить (я почти никогда
не перевожу). Δέ можно передать как «а», «же» или просто поставить запятую,
чтобы обозначить продолжение речи. Если вы найдете их по отдельности, а не
в связке, то обычно μέν означает «конечно», а δέ сохраняет смысл изменения,
которое как раз и можно передать простым союзом «а».
Частица γάρ тоже встречается очень часто и ставится обычно в начале фразы,
как в приведенном ниже отрывке из Ксенофонта; она указывает на объяснение
того, что сказано ранее (правда, в большинстве случаев вышесказанное
не входит в отрывок из оригинального текста, вверенный студентам
для перевода, отсюда возникает непонимание, о чем, собственно, идет речь).
Ее можно передать словами «ведь», «ибо» или просто опустить.
И наконец, δή подчеркивает слово, которому предшествует, и придает бо́
льшую
интенсивность; переводить его можно как «именно» или «вот и».
Таким образом, страдает идея перевода как переноса в иное место: значение
итальянского перевода становится не менее загадочным, чем греческий
оригинал. Вместо того чтобы пускаться в путь, ученик остается на месте.
Я прекрасно понимаю – для литературного перевода нужно уверенное знание
языка, опыт и вера в себя. Данными качествами редко обладают лицеистыпервоклассники. Но в старших классах они могут появиться. Ведь не нужно
«выдумывать», как говорят мне с дрожью в голосе ученики, нужно подойти
к языку максимально близко, чтобы можно было дотронуться до него рукой.
Я выбрала для примера отрывок из Ксенофонта, известный под названием
«Ничто не достигается без труда»; мой выбор не случаен, напротив, он как бы
подводит итог этой странной-пространной главе.
Чтобы продемонстрировать разницу, привожу два варианта перевода: первый
буквальный, учебный, второй – сделанный с полной, но грамматически
обоснованной свободой.
Τῶν γὰρ ὄντων ἀγαθῶν καὶ καλῶν οὐδὲν ἄνευ πόνου καὶ ἐπιμελείας θεοὶ διδόασιν
ἀνθρώποις, ἀλλ’ εἴτε τοὺς θεοὺς ἵλεως εἶναί σοι βούλει, θεραπευτέον τοὺς θεούς, εἴτε
ὑπὸ φίλων ἐθέλεις ἀγαπᾶσθαι, τοὺς φίλους εὐεργετητέον, εἴτε ὑπό τινος πόλεως
ἐπιθυμεῖς τιμᾶσθαι, τὴν πόλιν ὠφελητέον, εἴτε ὑπὸ τῆς Ἑλλάδος πάσης ἀξιοῖς ἐπ’
ἀρετῇ θαυμάζεσθαι, τὴν Ἑλλάδα πειρατέον εὖ ποιεῖν, εἴτε γῆν βούλει σοι
καρποὺς ἀφθόνους φέρειν, τὴν γῆν θεραπευτέον, εἴτε ἀπὸ βοσκημάτων οἴει δεῖν
πλουτίζεσθαι, τῶν βοσκημάτων ἐπιμελητέον, εἴτε διὰ πολέμου ὁρμᾷς αὔξεσθαι καὶ
βούλει δύνασθαι τούς τε φίλους ἐλευθεροῦν καὶ τοὺς ἐχθροὺς χειροῦσθαι, τὰς
πολεμικὰς τέχνας αὐτάς τε παρὰ τῶν ἐπισταμένων μαθητέον καὶ ὅπως αὐταῖς δεῖ
χρῆσθαι ἀσκητέον· εἰ δὲ καὶ τῷ σώματι βούλει δυνατὸς εἶναι, τῇ γνώμῃ ὑπηρετεῖν
ἐθιστέον τὸ σῶμα καὶ γυμναστέον σὺν πόνοις καὶ ἱδρῶτι.
(Учебный перевод)
Ведь из вещей, которые прекрасны и хороши, боги не дают людям ничего
без труда и рвения, но если ты хочешь, чтобы боги были к тебе благосклонны,
надо почитать богов, если хочешь быть любимым друзьями, надо
благодетельствовать друзьям, если желаешь быть почитаемым каким-то
городом, надо приносить пользу городу, если считаешь достойным, чтобы тобой
восхищалась вся Греция из-за доблести, надо пытаться делать добро Греции,
если хочешь, чтобы земля приносила тебе плоды в изобилии, надо обрабатывать
землю, если думаешь, что следует разбогатеть за счет стад, надо заботиться
о стадах, если стремишься стать великим благодаря войне и хочешь иметь силу
освобождать друзей и подчинять врагов, надо обучаться военным искусствам,
причем у сведущих людей, и тренироваться в том, как их применять, а если
хочешь быть сильным также и телом, надо приучить тело подчиняться уму
и упражнять его трудом и по́
том.
(Литературный перевод)
Из того, что есть на свете полезного и славного, боги ничего не дают людям
без труда и заботы: хочешь, чтобы боги были к тебе милостивы, надо чтить
богов; хочешь быть любимым друзьями, надо делать добро друзьям; желаешь
пользоваться почетом в каком-нибудь городе, надо приносить пользу городу;
хочешь возбуждать восторг всей Эллады своими достоинствами, надо стараться
делать добро Элладе; хочешь, чтобы земля приносила тебе плоды в изобилии,
надо ухаживать за землей; думаешь богатеть от скотоводства, надо заботиться
о скоте; стремишься возвыситься через войну и хочешь иметь возможность
освобождать друзей и покорять врагов, надо учиться у знатоков военному
искусству и в нем упражняться; хочешь обладать и телесной силой, надо
приучать тело повиноваться рассудку и развивать его упражнениями, с трудами
и по́
том[37].
Довольно альфы, чтоб отринуть: отрицательная частица α
Буквально слово ἀφθόνους, встречающееся в отрывке из Ксенофонта, означает
«свободный от зависти», но в переносном смысле его вполне можно перевести
как «богатый», «изобильный». Прилагательное образовано частицей ἀ + φθόνος,
то есть «недоброжелательность», «зависть».
Перед нами наглядный пример одной из самых гениальных особенностей
древнегреческого языка: довольно одной буквы, альфы, α, чтобы убрать,
отринуть смысл и сменить его на противоположный. Это так называемая
«отрицательная α», «alpha privativum», от греческого στερητικόϛ и латинского
«privativum» – «лишающий, отрицательный». Ни один язык ни разу не применял
столь же простого, сколь определенного инструмента для замены значения
слова на противоположное.
Гласная альфа, предваряющая имя или глагол, отрицает, исключает полностью
их исходное значение, превращая в совершенно другое имя и другой глагол,
так же как вышеупомянутое прилагательное. Следовательно, благодаря данной
черте греческого языка любое слово могло превращаться в свою
противоположность всего лишь добавлением буквы α, и фактически словарный
запас, имеющийся в распоряжении говорящего, удваивался, накапливая
бесконечное число значений для выражения (или отрицания и преобразования)
действительности. Привативная альфа может в зависимости от обстоятельств
обозначать отсутствие – как ἀκέφαλος, «без головы», лишение – как ἄπολις,
«без родины», отрицание – как ἄβιος, «непригодный для жизни».
Употребление a-/an- перед словами для обозначения отрицания до сих пор
сохранилось почти во всех европейских языках; итальянский, например,
чередует а- греческого происхождения, например, в слове «amorale»
(«аморальный») с латинским in- латинского происхождения, как в слове
«incivile» («некультурный»). Так или иначе, сейчас в итальянском
отрицательные приставки почти всегда тесно связаны с конкретными словами,
у которых нет антонимов с положительным значением, как, например,
«analgesico» («анальгетик, обезболивающее»). Таким образом, изначальная сила
альфы как буквы, которая в одиночку могла изменить смысл едва ли не каждого
слова и удваивала их число в словаре, утрачено.
Последнее замечание: в германских языках, таких как немецкий и английский,
тоже часто встречаются отрицательные приставки. Достаточно вспомнить
английскую un-, скажем, «unfinished» («неоконченный») («Unfinished
Sympathy» – название превосходной песни группы «Massive Attack»).
Оба перевода грамматически правильны, спору нет. Ни один преподаватель
не придерется.
Но какой кажется ближе к вам, к нам?
Любопытно посмотреть на наследие пяти лет, проведенных в классическом
лицее за переводами с греческого, спустя десять, двадцать, тридцать лет после
получения аттестата. Я имею в виду не грамматическое наследие, а то, какой
неизгладимый отпечаток налагает изучение этого древнего языка на твой
родной итальянский.
Тех, кто учился в классическом лицее, часто можно с легкостью отличить
от остальных людей (не только по очкам, которые они носят почти всегда). Их
узнаёшь по манере речи и письма – явным признакам того, что греческий
укоренился внутри человека, наложил отпечаток на его мировосприятие
и способ изъясняться на итальянском; и от этого уже не отрешиться. Помимо
богатства словарного запаса, накапливающегося неизбежно, когда пять лет
учишь «слова, слова, слова», прекрасные слова, и некой склонности
к гипотаксису, то есть к усложненным высказываниям, состоящим из длинных
придаточных предложений, – некоторые способы выражения, взятые
из греческого, не просто выживают, но живут в тех, кто его изучал.
Во-первых, сопоставление. Благодаря переводу текстов, в которых понятия
логически противопоставляются (древние греки обожали противополагать ради
усиления логического смысла!), фразы тех, кто корпел над греческим, нередко
бинарны и насыщены выражениями типа: «с одной стороны, / с другой…»
или «не только, / но и…». Это явное наследие всех μέν… / δέ… и οὐ μόνον… /
ἀλλὰ καί…, сотни раз встречающихся в греческих текстах.
Во-вторых, стремление к логической последовательности. Крайне трудно
приходится тому, кто учился следить за нитью превосходных логических
рассуждений в диалогах Платона, когда ему подсовывают заказную газетную
статью, бессвязную речь политика, непрошеное мнение из «Фейсбука»
или противоречивые инструкции «ИКЕИ».
Одни подвержены пороку греческих этимологий; я, например, не могу
не видеть, что слово «география» имеет греческое происхождение и означает
«описание земли», а «телефон» – «звучание издалека».
Другие хранят воспоминания о войнах античности, фалангах, военной тактике,
триремах, лагерях войск, варварах, богах и героях; они, в свою очередь,
воображают себя героями, когда смотрят голливудские эпические саги, невзирая
на презрение друзей.
Наконец, у меня под рукой нет статистических данных, но я убеждена, что
в итальянском точку с запятой уберегли от вымирания именно те, кто учились
в классическом лицее. Пять лет перевода греческого знака препинания «·»
как «;» оставят на ком угодно неизгладимый след, взять хоть меня.
Конечно, изучение древнегреческого накладывает свой отпечаток на манеру
говорить, писать и думать (если угодно, называйте это странностью). И даже
у того, кто, сидя за партой, ненавидел его, язык этот навсегда останется
«своим», будет находится «внутри» человека и по-разному всплывать
в совершенно неожиданных, удивительных ситуациях.
«Расширяет границы сознания», – так издревле говорят о греческом. И это
верно: классический лицей во многом открывает, распахивает уму двери
навстречу взрослой жизни.
Требуя усердия, упорства и немалой доли самопожертвования, греческий язык
со школьных лет учит распознавать и расшифровывать грани и краски жизни;
они не бывают черно-белыми, как думают ребята, привыкшие либо любить,
либо ненавидеть, они всегда состоят из густой гаммы бесчисленных оттенков
серого. Удовлетворение, гордость, отчаяние, разочарование, которые несет
изучение этого языка, помогают потом, во взрослой жизни, справляться с ее
радостями и горестями.
И это не только лингвистический вопрос, это вопрос отношения к жизни; юнцы,
которым предстоит выпутываться из несоразмерных им понятий, с большей
точностью определяют периметр трудностей и счастья, усилий и иронии, среди
которых они будут вращаться во взрослом мире. И неважно, вундеркинды они
или олухи в греческом. Когда учишь данный язык со столь юных лет, в тебе
зреет приспособленность к жизненным перипетиям, какую – на мой взгляд –
не может даровать обычная школа. В некотором смысле ученик классического
лицея становится (сам того не ведая) героем греческих трагедий и комедий, ведь
в них заложена первозданная, дикая стихия противостояния миру, что на своей
шкуре испытывает учащийся, не зная точно, то ли плакать, то ли смеяться, то ли
победитель он, то ли проигравший, то ли далеко находится, то ли близко, то ли
в самом деле что-то понял, то ли нет.
«Я полюбил этот язык за гибкость его крепкого тела, за его лексическое
богатство, где каждое слово непосредственно и многообразно соприкасается
с предметами реального мира, а также и потому, что почти всё лучшее,
сказанное людьми, было сказано по-гречески»[38], – пишет Маргерит Юрсенар.
Иной раз я думаю, что классический лицей – школа взросления. Именно из-за
своей сложности она делает последующую жизнь легче. И не имеет значения,
предпочтете вы забыть греческий после выпускного экзамена или сохраните
воспоминания о нем.
Но не знаю, облегчает ли изучение греческого дальнейшую академическую
жизнь, мое мнение здесь не авторитетно – я-то изучала классическую
филологию. Большинство моих бывших учеников говорят «да», хотя нынче они
заняты экономикой, стоматологией, иностранными языками; один даже, к моей
великой гордости с оттенком зависти, пошел служить на флот. Но я абсолютно
уверена – изучение греческого развивает талант жить, любить, трудиться,
делать выбор, нести ответственность за успехи и промахи. И учит наслаждаться
жизнью, хотя далеко не всё в ней совершенно.
Мы и греческий, история
… с мостов
над рекою увижу места для ночлега
чаек, что проделали столь долгий
путь.
Вы не узнаете меня,
спешащие домой не глядя,
и не дано вам угадать, откуда
та юная изгнанница, что смело
идет вам всем наперерез и
так хохочет.
Джузеппе Конте. Из сборника «Стихи»
Предисловие: что такое язык
Язык – любой – человечен в каждом из своих слов. Жизнь языка заключена
не в действии души – в отдельных мыслях – и не в органах речи – в губах, горле
того, кто на нем говорит. Жизнь языка кроется в людях, которые пользуются им
для осмысления мира и для выражения его в словах; стало быть, жизнь языка
разворачивается в обществе.
Язык, как давно определили де Соссюр и Антуан Мейе, есть социальный
фактор, ибо он выражает некую неповторимую идею мира. Язык нужен людям,
которые совместно исповедуют эту мировую идею, с тем чтобы изъясняться
и быть понятыми. Язык не может существовать без мужчин и женщин, что
говорят и пишут на нем; если язык существует без людей, пользующихся им
для самовыражения, то такой язык называют мертвым.
В то же время язык имманентен вне зависимости от индивида; кто-то один
не может изменить слово, чтобы внезапно изменился язык у всех. Всякая
языковая перемена прежде всего социальна: если меняется общество, говорящее
на данном языке, с ним вместе изменится и сам язык.
Лингвистика – наука, изучающая языки и изменения в них. Это не точная,
математическая или естественная наука, это наука общественная. Коль скоро
смысл языка не является набором правил, современная лингвистика
переплетается с археологией, антропологией, статистикой, социальной
географией, этнологией, экономикой, а прежде всего – с социологией.
Язык не есть инженерия: невозможно вывести неопровержимые законы,
которые управляют изменением слов, равно как не существует необратимых
законов, руководящих переменами в каждом человеке.
Часто создается впечатление, когда обозреваешь итальянский, ушедший
в прошлое, – язык Петрарки, Ариосто, Мандзони, Кальвино, – что язык просто
передается из поколения в поколение (их тридцать или чуть больше –
поколений, отделяющих наш итальянский от языка Данте Алигьери). И в итоге
мы начинаем считать, что изменения языка – одно слово исчезло, другое
появилось, конечный слог отброшен, начальный добавлен, одни глаголы
забыты, другие пришли из прочих языков – лишь случайность, плод такой
механической передачи от отца к сыну, из уст в уста.
Но всякий, кто наблюдал, как ребенок учится говорить – это чудо! – знает, что
дела обстоят иначе. Не нужно быть академиком, чтобы доказать – ошибок
или фантазий отдельной личности недостаточно для изменения языка всех
говорящих на нем людей: большее, что они могут сделать, так это вызвать
улыбку. В то же время всякому, кто путешествовал по чужой стране, знакомо
чувство отчуждения, смятения, даже отчаяния от неспособности понять язык ее
граждан. Недостаточно неправильно пролепетать слово по-итальянски, чтобы
изменить чужой язык (в данном случае нам тоже остается лишь улыбнуться,
как нашим иммигрантам, которые благодарят за непонятое оскорбление; кто
знает, сколько раз это случалось с нами, «продвинутыми» туристами
с путеводителем «Lonely Planet» в руках?).
Короче говоря, язык – орудие культуры и выражения единого сознания народа.
Не державы – она появляется потом, со своими прямыми или кривыми
границами, прочерченными бог знает кем и бог знает когда на карте мира
(возможно, именно для этого и существуют войны с религиями). Не нужно
и недостаточно быть государством, чтобы иметь общий язык. Вспомним,
например, множество языков Индии или арабский, на котором говорят
от Марокко до Ирака, или английский, на котором изъясняются повсюду. Мы
что, все англичане? Разумеется, нет.
Политическая география не имеет ничего общего с лингвистикой,
а человеческая география имеет. Если национального единства недостаточно, то
культурное просто необходимо для создания общего языка.
И если смысл языка заключен в способе мировосприятия и выражении его
в словах народом, то, наверное, ни один язык не выразил эту истину столь
наглядно, как греческий. Древние греки тысячелетиями не принадлежали
ни к одному государству или державе, а народом были всегда. Вынужденные
постоянно соразмерять язык со своим пониманием жизни, они сформировали,
отшлифовали, возлюбили или отвергли греческий, отбирая каждое отдельное
слово и предпочитая его словам соседних племен, а иногда и узурпаторов – век
за веком, тысячелетие за тысячелетием.
Живой язык, мертвый язык; значение греческого заключено во взгляде, в его
истории и главным образом в образе мысли древних греков, присылающих нам
из дальней дали открытки, собранные в данной книге.
Индоевропейский
Наличие плюсквамперфекта в греческом свидетельствует о том, что это –
индоевропейский язык. И впрямь, мы постоянно говорим «индоевропейский»,
вероятно, чтобы объяснить – оправдать, извинить – совершенно особую
природу греческого.
Но что на самом деле означает «индоевропейский язык»? От данного языка
не осталось и следа, он никогда не был письменным: нет ни единого
свидетельства, а стало быть, и памяти о народе, который им пользовался.
Но соответствия между большинством языков Европы (можно даже сказать,
между всеми языками Европы, за исключением иберийского, баскского,
этрусского, финского, венгерского и турецкого) и между языками Азии
(армянским, иранским, наречиями Индии и санскритом) слишком очевидны
и неслучайны. Общность едва ли не всех языков, древних и современных,
на всем протяжении Европы и Азии показывает, что некогда происходила
эволюция более древнего, изначального языка – как раз индоевропейского.
Когда утрачена память, остается только реконструкция: сведения, которые мы
имеем сегодня об индоевропейском языке, являются плодом тщательного
изучения исторической лингвистики с целью восстановления фрагментов
и углубления знаний об одном из самых первых разговорных языков мира. Если
всякий язык – это трансформация более древнего языка, значит, существовали
люди, которые в определенный период произносили одни и те же слова,
пользовались одной и той же лексикой и грамматикой для описания мира,
для того, чтобы изъясняться и быть понятыми.
Однако никогда и нигде не найдется двух людей, которые бы говорили и писали
совершенно одинаково. И невозможно, чтобы язык в точности, безо всяких
изменений передавался из поколения в поколение. Разве мы говорим точно
так же, как наши бабушки? Разве пишем те же поздравительные письма –
то есть SMS? Попробуйте задуматься о том, как изменился наш мир, а с ним
и слова, его отображающие, всего за пятьдесят лет, от техники до науки,
от медицины до политики. Попробуйте прикинуть, сколько новых слов
потребовалось всего за полвека, чтобы назвать новые, небывалые предметы
и понятия, ранее не названные и немыслимые. И сколько исчезло слов,
обозначавших забытые, утерянные, устаревшие,
этимологически истрепанные и потускневшие предметы и понятия.
И наконец, даже средства связи способствуют изменению языка – от радио
до телевидения, от письма до мейла, вплоть до идеологии соцсетей со всем их
«многообразным устройством».
В случае с индоевропейским тот же язык, на котором говорил тот же народ,
менялся на протяжении веков, так происходит с любым языком.
Но если люди не поддерживают общественных и культурных связей, которые
их объединяли, когда у них был общий язык, то это уже не один, а разные
народы со своими лингвистическими новшествами, и в итоге языки у них
получаются разные. То есть речь идет о языках, произошедших
от одного (индоевропейского). Но в сознании говорящих эти языки разные,
именно потому что принадлежат они разным народам, которые используют их
для описания мира. Когда люди больше не считают, что говорят на одном
и том же языке, так как сознают свою принадлежность к разным народам,
лингвистические различия становятся всё значительнее, а языки всё
больше отдаляются, дистанцируются друг от друга.
Точно так же произошло с романскими языками: латынь быстро превратилась
во французский, итальянский, испанский, румынский, португальский,
каталанский и провансальский, в то время как образовались
новые народы и новые культуры вследствие падения Римской империи.
Кроме романских, или неолатинских языков, от индоевропейского произошли:
германская группа с английским, немецким, нидерландским, норвежским,
датским и исландским; кельтская группа с валлийским, бретонским,
ирландским; индоиранская группа с древним санскритом, ведийским,
персидским, урду, наречиями языковых меньшинств от Омана до Афганистана
и Пакистана, авестийским с зороастрийской письменностью; балто-славянская
группа со словенским, сербским, боснийским, болгарским, русским, польским,
белорусским, украинским.
«Исчезнут все образы»[39], – так начинается удивительная книга Анни Эрно
«Годы», посвященная индивидуальной памяти народа.
Сегодня мы вряд ли назовем братьями, по крайней мере в лингвистическом
смысле, народы, населяющие наш континент с Востока до Запада. Точно так же
греки в V веке до н. э. видели в персах лишь варваров и не могли понять, а тем
более признать свою тесную связь с языком и культурой персов или хеттов.
И всё же сегодня на итальянском мы говорим «padre», как на греческом говорят
πατήρ, на французском «père», на санскрите «pitar», на готском «fader», а также
«father» на английском и «Vater» на немецком. Все эти слова произошли
от одной общей формы – от индоевропейского «*pəter». Слова, обозначающие
привязанность, относящиеся к семье, видоизменяются, как воспоминания.
Точно так же мы с уверенностью узнаем индоевропейский корень «*məter»
в итальянском «madre», санскритском «matar», греческом μήτηρ, английском
«mother», французском «mère», славянском «mati».
Правда, корни слов мало что говорят о людях, которые выбрали их
для выражения своего глубоко личного понимания мира; мы не знаем
этого мира, мы навсегда исключены из него. Нам известно лишь то, что
существовал такой народ между V и II тысячелетием до н. э., что у него
был единый язык, а значит, и единое общество, и со временем они разделились
на разные языки и разные общества. Археология извлекла на свет в Европе
и Азии следы цивилизации бронзового века, что, судя по всему, принадлежали
так называемой «индоевропейской культуре». Но оружие, инструменты,
останки построек – всего лишь источники исторической гипотезы, жалкие
крохи, которые даже близко не воссоздают образа того гениального населения,
а тем более языка, которым оно пользовалось каждый день, продвигаясь
в будущее и не ведая, что обречено на забвение. Археология – очень ценная,
но немая наука.
Если индоевропейский язык распространился по такой обширной территории,
то единственно потому, что индоевропейцы принесли с собой цивилизацию
и единую, общую, особенную, главенствующую культуру (так английский
и после завоевания независимости остался языком Соединенных Штатов,
испанский и португальский – Южной Америки, французский – некоторых
регионов Африки).
Чтобы определить изначальное место жительства данного народа, его слова,
а следственно, способ выражать мир, в отдельных случаях оказывают
неоценимую помощь. Скажем, названия растений легко локализуются: это
ботаника, попросту природа. Предполагают, например, что в индоевропейском
языке существовало слово, обозначавшее березу, которое с тем же корнем есть
в санскрите, иранском, славянских, русском, литовском, шведском и немецком.
Береза – дерево, обычно растущее в горах, приспособленное к холодному
и влажному климату. Потому в Греции берез нет, и в греческом языке
не существует такого слова. Его намеренно отбросил народ, осевший
на территории, где оно было совершенно излишне. Подобные лингвистические
соображения, сопряженные с археологическими и этнографическими
изысканиями, позволяют предположить, что индоевропейцы жили в регионах
к северу от Каспийского и Черного морей. Оттуда начиная с IV тысячелетия
до н. э. начался длительный процесс миграции и расселения людей по Евразии.
Таким образом, во время того тысячелетнего похода на восток-запад и север-юг
развивались новые, различные общества, плоды контактов с другими народами
и освоения других территорий; и наряду с новыми, различными обществами
создавались новые, различные языки. Среди данных языков возник греческий,
который использовали индоевропейцы, проникшие на Балканский полуостров
и окрестные острова около 2000 года до н. э.
Греческий до греческого: общий греческий
Мы знаем об отдаленном прошлом греческого языка – то был общий,
или доисторический греческий, или же единый греческий язык, лежащий
в основе всех последующих диалектов и развившийся примерно во II
тысячелетии до н. э.
Ничего нельзя сказать о том, что происходило между индоевропейской эпохой
и предысторией греческого; у нас нет свидетельств, относящихся к промежутку
между этими этапами истории языка, растянувшемуся более чем
на тысячелетие. Есть лишь гипотезы, безмолвные археологические останки
и озарения, от которых можно отталкиваться.
Известно, что слово θάλαττα, «море», которое кричат воины у Ксенофонта
со слезами радости на глазах, завидев с вершин Трапезунда Черное море после
того, как год мучительно к нему прорывались, – не греческое
и не индоевропейское.
Ἐπεὶ δὲ οἱ πρῶτοι ἐγένοντο ἐπὶ τοῦ ὄρους καὶ κατεῖδον τὴν θάλατταν, κραυγὴ πολλὴ
ἐγένετο. Ἀκούσας δὲ ὁ Ξενοφῶν καὶ οἱ ὀπισθοφύλακες ᾠήθησαν ἔμπροσθεν ἄλλους
ἐπιτίθεσθαι πολεμίους· εἵποντο γὰρ ὄπισθεν ἐκ τῆς καιομένης χώρας, καὶ αὐτῶν οἱ
ὀπισθοφύλακες ἀπέκτεινάν τέ τινας καὶ ἐζώγρησαν ἐνέδραν ποιησάμενοι, καὶ γέρρα
ἔλαβον δασειῶν βοῶν ὠμοβόεια ἀμφὶ τὰ εἴκοσιν. Ἐπειδὴ δὲ βοὴ πλείων τε ἐγίγνετο
καὶ ἐγγύτερον καὶ οἱ ἀεὶ ἐπιόντες ἔθεον δρόμῳ ἐπὶ τοὺς ἀεὶ βοῶντας καὶ πολλῷ
μείζων ἐγίγνετο ἡ βοὴ ὅσῳ δὴ πλείους ἐγίγνοντο, ἐδόκει δὴ μεῖζόν τι εἶναι τῷ
Ξενοφῶντι, καὶ ἀναβὰς ἐφ’ ἵππον καὶ Λύκιον καὶ τοὺς ἱππέας ἀναλαβὼν παρεβοήθει·
καὶ τάχα δὴ ἀκούουσι βοώντων τῶν στρατιώτων Θάλαττα θάλαττα καὶ
παρεγγυώντων. Ἔνθα δὴ ἔθεον πάντες καὶ οἱ ὀπισθοφύλακες, καὶ τὰ ὑποζύγια
ἠλαύνετο καὶ οἱ ἵπποι. Ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο πάντες ἐπὶ τὸ ἄκρον, ἐνταῦθα δὴ
περιέβαλλον ἀλλήλους καὶ στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς δακρύοντες.
Когда солдаты авангарда взошли на гору, они подняли громкий крик. Услышав
этот крик, Ксенофонт и солдаты арьергарда подумали, что какие-то новые враги
напали на эллинов спереди, тогда как жители выжженной области угрожали им
сзади, и солдаты арьергарда, устроив засаду, убили нескольких человек,
а нескольких взяли в плен, захватив при этом около двадцати плетеных щитов,
покрытых воловьей косматой кожей. Между тем крик усилился и стал
раздаваться с более близкого расстояния, так как непрерывно подходившие
отряды бежали бегом к продолжавшим всё время кричать солдатам, отчего
возгласы стали громче, поскольку кричащих становилось больше. Тут
Ксенофонт понял, что произошло нечто более значительное. Он вскочил на коня
и в сопровождении Ликия и всадников поспешил на помощь. Скоро они
услышали, что солдаты кричат «Море, море!» – и зовут к себе остальных. Тут
все побежали вперед, в том числе и арьергард, и стали гнать туда же вьючный
скот и лошадей. Когда все достигли вершины, они бросились обнимать друг
друга, стратегов и лохагов, проливая слезы[40].
Был период, когда в греческом языке отсутствовало (или было забыто) слово
для обозначения моря. Это доказывает, что изначально индоевропейские
народы обитали во внутренних гористых районах, вдали от побережья. Да,
существовал общий индоевропейский корень *mor, засвидетельствованный
в разных древних и современных языках. В латыни «mare» (от которого
произошли итальянское «mare», французское «mer», испанское «mar»)
указывает именно на безграничное водное пространство, противоположное
пруду или озеру – «lacus». И напротив, славянское «mor» обозначало
ограниченный бассейн стоячей воды типа болота, по смыслу противоположный
морю. В большинстве индоевропейских языков общий корень слова «море»
вообще отсутствует.
Когда часть индоевропейского народа, ставшая народом греческим, вышла
к Средиземноморью, то была вынуждена называть его новыми,
другими именами, точно так же как новой и другой стала их приморская
цивилизация.
Греки тогда решили называть море ἡ ἅλς, «соленое пространство», в женском
роде, дабы отличать его от ὁ ἅλς, «соли», мужского рода. Ни в каком ином языке
слово «соль» не обозначает море, кроме древнегреческого, языка, испытавшего
практическую и человеческую необходимость дать имя чему-то невиданному,
чем, быть может, люди были так же растроганы, как солдаты Ксенофонта,
путешествовавшие домой, в Грецию.
Позже греческий обрел другие, разные, чарующие слова для обозначения моря:
ὁ πόντος, «переход», «тропа» в иное место, как судоходное море (этот смысл
прослеживается в латинском «pons» и итальянском «ponte», «мост»); ὁ πέλαγος,
«ровное пространство», «поверхность» неопределенной этимологии, однако
означающей как раз ровную и глубокую морскую гладь, наподобие равнины
или луга, только синего цвета (опять-таки в латыни находим «planus» –
«плоский», а в итальянском «pelago» – «открытое море»); и наконец, самое
распространенное греческое название моря, то самое θάλαττα, к которому
взывают герои у Ксенофонта, неясного происхождения, возможно
позаимствованное у какого-то неизвестного народа, уже ранее жившего
в Средиземноморье. Название без предшественников и последователей в какомлибо другом языке мира, кроме греческого.
Все греческие диалекты, которые мы знаем и на которых читаем, происходят
от языка, уже необратимо отличного от индоевропейского – общего,
или доисторического греческого.
Языки претерпевают особенно быструю трансформацию, когда
становятся имперскими, то есть представляют собой наречия завоевателей.
Следовательно, мы можем предположить, что общий греческий начал меняться,
когда стал языком греческого народа, способного на великие политические,
а главное – культурные завоевания. Но насчет данных событий можно лишь
строить гипотезы за неимением письменных свидетельств и исторических
данных. Нам опять-таки помогает взгляд «под поверхность слов».
Возьмем два одинаковых слова, отличающихся только ударением: ὁ νομός,
«пастбище» и ὁ νόμος, «закон». Оба происходят от общего корня νομ/νεμ,
означающего «распределять». Первое – ὁ νομός – обозначает «участок земли,
вверенный, пастуху (νομάς)», и отсылает нас к еще кочевому этапу пастбищного
хозяйства. Второе слово – ὁ νόμος, – напротив, относится к обществу, постоянно
привязанному к определенной территории, где хозяева пастбищ назначались
по праву, по закону: греческая цивилизация изменилась, а вместе с ней
изменился глубинный смысл слов.
От индоевропейского – доисторический греческий, а от него –
древнегреческий воспринял потрясающей значимости конструкции –
носительницы смысла и античного мировосприятия. Прежде всего, четкое
различие между именной и глагольной системой. Каждое имя имеет три рода –
мужской, женский и средний, – три числа – единственное, двойственное
и множественное – и изменяется по падежам. Глагол имеет залог – активный
и средний/пассивный, – три лица и три числа, а также наклонения
(изъявительное, сослагательное, желательное и повелительное) и неличные
формы (инфинитив и причастие).
Наконец, временна́
я категория маргинальна, подчинена видовому наполнению
действия; оно выражается точно так же, как, видимо, замышлялось
в индоевропейском, не на основе «когда?», а на основе «как?», на основе
последствий для говорящего. Три глагольные основы – настоящего, аориста
и перфекта – обозначали вид глагола, а не его время.
В силу странной и примечательной исторической случайности древнегреческий
язык появляется в I тысячелетии до н. э. уже сложившимся, сформированным,
уже взрослым, настоящим; в нем ничего не осталось от давнего
или отдаленного прошлого. Фактически ни один язык индоевропейского
происхождения не выходил на сцену документированной истории с таким
количеством инноваций, но без каких-либо следов предшествующей эволюции,
как древнегреческий. То был первый шаг греческого по обособленному пути,
уникальному сравнительно с другими индоевропейскими языками. Затем
данный путь станет уникальной магистралью, как явствует из последующей
истории греческого языка, единственного в Европе, что непрерывно
менялся изнутри, никогда не превращаясь во что-то иное.
Греческий язык всегда был одинок.
Столько разных диалектов и классический греческий. Да, но какой?
Формы, в каких греческий предстает в истории, – а стало быть, и в наших
глазах, и в наших книгах – различны. Более чем различны. Каждая область,
каждый город обладает собственной разновидностью языка, и мы наблюдаем
это в официальных документах и личных текстах. Кроме того, каждому
литературному жанру свойствен отдельный канонический язык, который,
в свою очередь, каждый писатель использует по-своему.
Во всяком случае, можно с уверенностью заявить, что в самую древнюю эпоху
греческого, между VI и V веками до н. э., форм греческого было столько,
сколько дошло до нас текстов на данном языке (или же столько, сколько было
носителей языка!). Эти разнообразные формы древнегреческого, сгруппированы
в лингвистические единицы, называемые диалектами.
Для понимания того, что означает «изъясняться и быть понятым» на греческом,
важно не забывать одну данность: древние греки никогда не были
единым государством. Единым, сплоченным, гордым народом они, правда,
были всегда, и, вероятно, останутся навечно.
Словом, Греция как политическое государство никогда не существовала
(по крайней мере, до 1832 года от Рождества Христова, если не считать
иностранного владычества). Но греческий народ, бытность греками, какую
описывает Геродот, τὸ Ἑλληνικόν, существовала всегда, от Гомера до наших
дней. Так ответили афиняне спартанцам, боявшимся их союза с персидским
царем:
Τὸ μὲν δεῖσαι Λακεδαιμονίους μὴ ὁμολογήσωμεν τῷ βαρβάρῳ, κάρτα ἀνθρωπήιον
ἦν· ἀτὰρ αἰσχρῶς γε οἴκατε ἐξεπιστάμενοι τὸ Ἀθηναίων φρόνημα ἀρρωδῆσαι, ὅτι
οὔτε χρυσός ἐστι γῆς οὐδαμόθι τοσοῦτος οὔτε χώρη κάλλεϊ καὶ ἀρετῇ μέγα
ὑπερφέρουσα, τὰ ἡμεῖς δεξάμενοι ἐθέλοιμεν ἂν μηδίσαντες καταδουλῶσαι τὴν
Ἑλλάδα. Πολλά τε γὰρ καὶ μεγάλα ἐστὶ τὰ διακωλύοντα ταῦτα μὴ ποιέειν μηδ᾽ ἢν
ἐθέλωμεν, πρῶτα μὲν καὶ μέγιστα τῶν θεῶν τὰ ἀγάλματα καὶ τὰ οἰκήματα
ἐμπεπρησμένα τε καὶ συγκεχωσμένα, τοῖσι ἡμέας ἀναγκαίως ἔχει τιμωρέειν ἐς τὰ
μέγιστα μᾶλλον ἤ περ ὁμολογέειν τῷ ταῦτα ἐργασαμένῳ, αὖτις δὲ τὸ Ἑλληνικὸν ἐὸν
ὅμαιμόν τε καὶ ὁμόγλωσσον καὶ θεῶν ἱδρύματά τε κοινὰ καὶ θυσίαι ἤθεά τε
ὁμότροπα, τῶν προδότας γενέσθαι Ἀθηναίους οὐκ ἂν εὖ ἔχοι.
Опасения лакедемонян, как бы мы не примирились с персидским царем,
совершенно естественны для людей [в их положении]. Нет на свете столько
золота, нет земли, столь прекрасной и плодоносной, чтобы мы ради этих благ
захотели перейти на сторону персов и предать Элладу в рабство. Много причин,
и притом весьма важных, не позволяет нам так поступить, если бы мы даже
пожелали этого. Во-первых, самое важное препятствие к примирению – это
сожженные и разрушенные кумиры и святилища богов. За это нам нужно
кровью отомстить, прежде чем примириться с человеком, содеявшим это.
Затем – наше кровное и языковое родство с другими эллинами, общие
святилища богов, жертвоприношения на празднествах и одинаковый образ
жизни. Предать всё это – позор для афинян[41].
«Бытность греками» – единственная, хоть и удивительная, но фундаментальная
данность, необходимая для понимания греческого языка, будь
то доисторический, классический или современный. И это ключ к пониманию
греческого, интеллектуальный вызов, лежащий в основе данной книги: думать,
как древние греки, и высказываться на их греческом языке.
Греческий полис (ἡ πόλις) изначально представлял собой военный форт,
крепость, укрепленный посад по типу латинского «castrum» или немецкого
«Burg». Он должен был защищать жителей от возможных вторжений чужаков
или нападений обитателей глубинных районов; частенько они вырастали
на возвышении, с тем чтобы доминировать над горизонтом, оттого и назывались
«акрополь», ἡ ἀκρόπολις. Но древние греки очень скоро поместили внутрь этих
крепостей главнейшие очаги религиозного культа, интеллектуальной
деятельности, учреждения, школы, превратив их в центр и двигатель
политического и культурного могущества.
Слово πόλις приобрело значение «город» – Афины, Спарта, Коринф, Фивы, –
а город для древних греков подразумевал и государство, их объединяющее.
Иногда город входил в союз с другими, оставаясь, однако, ревностным
хранителем собственных традиций и ценностей, равно как и своего особого
языка. Ни один πόλις ни за что не отказался бы от собственной сути, мотива
своего существования – от свободы. Это объединение народа, как пишет
Геродот, в основе которого лежит не политический статус, а «кровное
и языковое родство с другими эллинами, общие святилища богов,
жертвоприношения на празднествах и одинаковый образ жизни»[42]. Недаром
древние греки стекались в дельфийское и олимпийское святилища из всех
областей, точно так же как на Олимпийские игры. Искусство, поэзия,
философия развивались повсюду, ученые споры велись по всей Элладе,
не встречая языковых барьеров.
«Бытность греком», τὸ Ἑλληνικόν, противопоставлялась варварству, бытности
βάβαρος – данным термином обозначали чужака, прибывшего из любых земель,
ближних или дальних, с чуждыми грекам языком и культурой.
Вернемся к классическому греческому и его многочисленным диалектам: мы
можем с уверенностью утверждать, что на протяжении исторической эпохи
не существовало в Греции наречия, независимого от других.
Согласно Фукидиду, эллины как-то понимали друг друга еще до Троянской
войны, хотя и не называли свой народ общим именем – эллинским: «…οὐδὲ
τοὔνομα τοῦτο ξύμπασά πω εἶχεν („…вся страна тогда еще и не носила этого
имени“)»[43], – так пишет великий историк в разделе, озаглавленном
«Археология», то есть прошлое, что открывает его книгу о Пелопоннесской
войне. Лишь по случаю данной мифической войны эллины объединили усилия,
суда, оружие и вúдение мира против общего врага, наконец-то сплотившись
под одним названием.
Гомеровские поэмы «Илиада» и «Одиссея», пожалуй, являют собой самый
значительный пример языкового и культурного единства в греческом мире.
Написанные литературным языком «ad hoc», допускающим вкрапление разных
диалектных элементов на основе ионийского, стихи о приключениях греческих
героев в Трое стали неоценимым источником слов, стиле́
м, выражений для всей
последующей литературы в каждом городе и на каждом диалекте. «Искони
по Гомеру поскольку все обучались»[44] (ἐξ αρχῆς καθ’ Ὅμηρον ἐπεὶ μεμαθήκασι
πάντες)», – пишет Ксенофан Колофонский. «Илиада» и «Одиссея» были
не только поэтическим повествованием о Троянской войне – от похищения
Елены до возвращения Одиссея на Итаку, – но и подлинной энциклопедий
греческой жизни. По их гекзаметрам, повторяемым наизусть аэдами от города
к городу, люди познавали помимо героических подвигов то, что делало их
истинными греками. Гомеровские поэмы представляют собой богатейшее
собрание специальных знаний, рассыпанных там и сям по главному сюжету –
от каталога военных кораблей до культа мертвых, от гаданий
до гастрономических советов, от способа потребления вина до обязательств
гостеприимства, от кулинарных рецептов до медицины и астрономии.
Согласно Ксенофану, всякий грек учился быть подлинным греком по нравам,
обычаям и отличать себя от не-греков, отправляясь от Гомера, от громадного
и разнообразного скопления общественных предписаний (равно как и запретов),
содержащихся в «Илиаде» и «Одиссее», которые можно в полной мере считать
практическими пособиями по греческому быту и всему эллинству.
Исторически племена индоевропейского происхождения добрались до Греции
где-то во II тысячелетии до н. э., в эпоху сложной, высокоразвитой микенской
цивилизации. В 1953 году молодой англичанин Майкл Вентрис сумел
расшифровать надписи на глиняных табличках, обнаруженных археологами
в Кносском дворце на Крите, а также в царских дворцах Пилоса и Микен. На тех
табличках, которые случайно уцелели при пожарах, разрушивших данные
города в эпоху падения микенского общества, были главным образом высечены
бюрократические и административные списки, датируемые периодом с 1450
по 1110 год до н. э., на микенском диалекте, иначе называемом «линейное
письмо Б», в отличие от «линейного А», схожего с ним, но так и не
дешифрованного. Великое открытие приобрело еще бо́
льшую важность из-за
принятой в Микенах письменности, силлабической (а не алфавитной,
как в классическом греческом) и состоявшей из восьмидесяти восьми знаков. Ее
разгадка позволила распознать основные грамматические и лексические черты
самого древнего из дошедших до нас греческих диалектов.
Второй этап истории Греции отмечен новыми потоками мигрантов
и событиями, которые воссоздать непросто. Это так называемые «темные века»,
овеянные мрачными легендами о природных катастрофах, землетрясениях,
цунами, падении в бездну племен и островов. Письменность внезапно исчезает.
Когда она появилась снова, начиная с VIII века до н. э., пертурбации и движения
народов уже определили новую языковую и культурную
картину, греческую в полном смысле этого слова.
Классический греческий язык разделяется на пять диалектных групп:
дорийскую, эолийскую, ионийско-аттическую, северо-западную и аркадокипрскую. В каждой разновидности нашли отражение различия эллинских
народов, сформировавших Древнюю Грецию, память о которых
сконцентрирована в эпосе, поэзии и генеалогических преданиях.
Дорийцы пришли с северо-запада и заняли Пелопоннесский полуостров,
эолийцы достигли Фессалии, Беотии и острова Лесбос, а ионийцы расселились
от аттических Афин до Кикладских островов и Малой Азии. Два других
диалекта более трудны для реконструкции. Аркадо-кипрский объединил
в языковом плане два довольно далеких друг от друга края – Аркадию
на Пелопоннесе и Кипр в Южном Средиземноморье, близ Турции. Северозападные диалекты, распространенные в Дельфах, Эпире, Аргосе и Фивах,
во многом близки дорийскому.
К этой картине, уже и так многоцветной, экспрессионистской, добавляются
литературные языки: диалектальные варианты, свойственные всем
литературным жанрам, независимо от географического и лингвистического
происхождения автора, который пользуется ими с полной выразительной
и художественной свободой. Так, ионийский – язык гомеровских поэм, поэзии
и лирики, наряду с эолийским. Кроме того, на ионийском диалекте Малой Азии
делают первые шаги историография Гекатея Милетского и Геродота,
философия Гераклита, медицина Гиппократа. Однако же именно аттический
диалект, диалект образцового полиса – Афин – станет великим универсальным
языком прозы – от Фукидида до Платона – и театра.
На всех этих разновидностях греческого говорили одновременно вплоть
до эпохи политического объединения-подчинения Греции волею Александра
Македонского, когда язык прогнулся, слившись в κοινή. Тем не менее, никогда,
ни в единый миг истории греческого языка не было на земле двух греков,
которые не смогли бы понять друг друга.
Так на каком же греческом общались те, кто не жил на одном островке
или в одном городке-государстве? Что за лингва франка использовалась в такой
земле, как Древняя Греция, и географически, и политически раздробленной?
И наконец, самый резонный вопрос: какой именно древнегреческий
изучаем мы?
Прежде всего надо отметить, что различия между одним и другим местным
наречием могли быть весьма значительны: диалект Лесбоса не походил
на спартанский, но не до такой степени, чтобы препятствовать общению
и пониманию говорящих. Ведь все греческие диалекты произошли
от того общего, утраченного греческого, от которого они сохранили основные
черты.
А разница между диалектами была по преимуществу фонетической,
с незначительными грамматическими и не слишком большими лексическими
расхождениями. Осмелюсь привести современное сравнение: меж дорийским
и эолийским диалектом, безусловно, было меньше различий, чем нынче между
многими наречиями в Италии, скажем, фриульским и тосканским. И возможно
(осмелюсь пойти еще дальше), уместным сравнением, позволяющим
представить разнообразие греческих диалектов, может служить дистанция,
которая сегодня отделяет внутри одной и той же Тосканы флорентийский
от ливорнского. Если во Флоренции /c/ перед гласным произносится
с придыханием, то у нас, в Ливорно, то же самое /c/ не произносится вовсе,
усекается; «Мы люди без придыханий», – сказал бы писатель Симоне Ленци.
Однако же, как в городе Лоренцо Великолепного, так и «в наименее тосканском
из всех тосканских городов», мы понимаем друг друга без труда, и неважно,
как звучит «cane» («собака») – «hane» или «ane». Или та же самая фокачча
из нутовой муки называется «torta» в Ливорно, «cecina» – за двадцать
километров, в Пизе, но и в данном случае пизанцы
и ливорнцы отлично поняли бы друг друга, если б только соблаговолили зарыть
топор такого оголтелого местничества, от которого оробел бы даже древний
спартанец.
Особенность Древней Греции состоит в том, что она никогда не навязывала и не
насаждала общего бюрократического, литературного или религиозного языка.
Ее языковая свобода и взаимопонимание не имеют аналогов ни в одном языке.
Короче, древнегреческий всегда являлся демократичным в самом что ни на есть
этимологическом смысле этого слова: употребление языка было полностью
вверено народу и его миропониманию.
Так как насчет лингва франка для общения, как насчет языка, на котором
родились и утвердились политика, философия, трагедия и комедия, наука
и медицина? Базовым языком древнегреческого бытия был аттический диалект
Афин, образцового полиса.
Оратор Исократ не оставляет сомнений: Афины, прежде всего благодаря своей
культуре, сделали аттический синонимом греческого – аттический в обычаях,
письме, военных союзах, культе богов.
Τοσοῦτον δ᾽ ἀπολέλοιπεν ἡ πόλις ἡμῶν περὶ τὸ φρονεῖν καὶ λέγειν τοὺς ἄλλους
ἀνθρώπους, ὥσθ᾽ οἱ ταύτης μαθηταὶ τῶν ἄλλων διδάσκαλοι γεγόνασι, καὶ τὸ τῶν
Ἑλλήνων ὄνομα πεποίηκε μηκέτι τοῦ γένους ἀλλὰ τῆς διανοίας δοκεῖν εἶναι, καὶ
μᾶλλον Ἕλληνας καλεῖσθαι τοὺς τῆς παιδεύσεως τῆς ἡμετέρας ἢ τοὺς τῆς κοινῆς
φύσεως μετέχοντας.
Наш город [Афины] настолько опередил других людей в искусстве мыслить
и выражать свои мысли, что его ученики стали учителями других, а самое имя
эллина становится уже обозначением не происхождения, но культуры.
Эллинами чаще называют получивших одинаковое с нами образование, чем
людей одного и того же происхождения[45].
Если язык Афин в V веке до н. э. приобрел статус κοινή, так что говорить поафински автоматически означало «быть эллином», то это, разумеется,
произошло не только из-за их политической власти (тогда бы, напротив,
существовало не только политическое, но и культурное соперничество
со Спартой, которая, однако, не озаботилась созданием чего-нибудь
интересного в данной области). Точно так же – возвращаясь к Тоскане –
флорентийский диалект никогда не стал бы основой итальянского языка лишь
благодаря политической власти Флоренции. Нет, это произошло потому, что
город в XIII веке являлся самым значительным центром культуры в Италии
и жили в нем наиболее выдающиеся писатели и художники эпохи Гуманизма
и Возрождения.
Именно в Афинах греческая культура достигла апогея, ранее недостижимого
для рода человеческого. Архитектура и скульптура, накопив многовековой
опыт, стали совершенны; театр обрел окончательную панэллинскую форму; там
родились философия и риторика. В общем, Афины каждый день вкушали
квинтэссенцию греческой мысли. Там дышала и говорила эллинская суть.
Поэтому их язык, ионийско-аттический, распространился повсюду
без какого бы то ни было политического нажима: стал языком не одного города,
а всей Греции.
Наконец, отвечаю на вопрос, который у вас наверняка возник: да, сегодня
в лицее изучают почти исключительно греческий Афин. Поскольку ионийскоаттический укрепился в веках сильнее любого иного диалекта как средство
самовыражения Эсхила и Софокла, Аристофана и Фукидида, Исократа
и Платона, вплоть до κοινή Александра Великого, что зиждется именно
на безграничном престиже афинского языка.
Κοινὴ διάλεκτος, или Греческий после классического
Выражение κοινὴ διάλεκτος означает язык, на котором говорили начиная с эпохи
Александра в Греции и во всех остальных областях, где использовали
греческий.
Об этом новом шаге вперед в эволюции греческого мы знаем не так уж и много,
в основном из не представляющих особой ценности папирусов, обнаруженных
в Египте, и из Нового Завета, написанного целиком на κοινή. Зато нам известны,
как всё время случается в причудливой истории греческого языка, предыдущий
и следующий шаг лингвистического пути. С одной стороны, мы имеем язык
Афин, с другой – новогреческий. В основе последнего не древние диалекты –
ионийский, дорийский, эолийский, – а почти исключительно κοινή. И как раз
отталкиваясь от этих данных, можно еще раз предпринять попытку кропотливо
воссоздать язык κοινή. Разумеется, учитывая изменения греческого общества.
В начале своей истории греческая жизнь не носила глобального характера:
каждый полис был маленьким независимым государством, обладавшим
собственной автономией и свободой. Континентальная Греция, суровая,
гористая, была по преимуществу земледельческой, изолированной; столь же
изолированы были колонии, основанные почти всегда на островах
или побережье и никогда во внутренних районах.
С возникновением империи Александра Македонского каждый полис утратил
смысл своего существования – свободу. Политика стала прерогативой
суверенов, правивших со своими дворами в городах, далеких от Греции.
Экономика, религия, бюрократия, торговля, встав на широкую ногу,
перешагнули изначальные границы мелких островов или областей,
приобрели непомерный для грека масштаб. С начала урбанистической эпохи всё
вдруг стало международным, глобализированным, по меркам известного тогда
мира.
В классический период каждый человек находил смысл в своей бытности
греком внутри стен своего полиса, в своих религиозных обрядах, своей
культуре, своих традициях. Измерение жизни человека укладывалось
в понятие гражданина.
В эллинистическую эпоху города сохранили культы и традиции, однако они
свелись к уровню праздников и развлечений. Религия контактировала с другими
верованиями, боги смешались, возник немыслимый раньше синкретизм.
Вдобавок люди стали воспринимать себя как подданных громадной империи.
Грекам пришлось перемещаться – по торговым и иным делам – не только
за пределы своего полиса, но даже за пределы Греции как таковой. Солдаты уже
не служили родине, а превратились в наемников. Ученые и философы больше
не разделяли своих идей со всем греческим миром, а спорили в ограниченных
рамках школ или библиотек, культурно изолированных от друг от друга.
Произошла тотальная для каждого грека и его мировосприятия революция.
Филипп, отец Александра Великого, полностью лишил независимости
греческие города, выиграв битву при Херонее в 338 году до н. э.; фактически
с тех пор Греция в политическом плане прекратила свое существование – ей
пришлось ждать две тысячи лет, чтобы вновь значиться на карте мира
независимой.
Когда в 323 году до н. э. Александр умер, после того как расширил границы
своей империи до Индии, завоевав всю Малую Азию, Иран, Вавилонию
и Египет, – Афины и другие греческие города стали не более
чем задворками империи и жили отныне ностальгическими воспоминаниями
о прошлом. Другие центры культуры и власти создавались новой
интеллектуальной силой, порой вдали от побережья того самого Средиземного
моря, над которым была основана суть эллинства. Политики, художники,
ученые работали в Пергаме, Александрии Египетской, Антиохии. Но несмотря
на то, что культуру этой новой, взбаламученной вселенной отодвинули
к границам, она все-таки была эллинской.
В V веке до н. э. Греция была настолько «престижна», что македонские
владыки, которых греки с чисто интеллектуалистским презрением именовали
βάρβαροι, «варварами», сделали всё, чтобы «эллинизироваться», более того –
«аттикизироваться», ибо культура Афин являлась образцом для всего мира.
Александр I, за любовь свою к Элладе прозванный филэллином, утверждал, что
он потомок Геракла, его допустили на Олимпийские игры и даже удостоили
статуи в Дельфах. Поэт Еврипид и живописец Зевксис жили при дворе Архелая.
Вся македонская знать носила греческие имена, а Филипп свободно говорил
и писал на афинском. Наконец, наставником Александра был сам философ
Аристотель.
Вот почему до нас не дошло ни строчки на македонском, и ничего про данный
язык не известно. При дворе Македонии уже давно был
принят классический греческий. Словом, если политически Грецию завоевала
Македония в IV веке, то, по меньшей мере, веком ранее была завоевана
и сдалась на милость греческой культуре Македония.
Итак, κοινή, общий язык эллинизма, утвердился преимущественно на базе языка
Афин, того самого ионийско-аттического диалекта, который в свою очередь
являлся общим языком культуры всей Греции. Но язык, родившийся внутри
афинских стен для самовыражения общества маленькой Аттики, не смог
выдержать нажима при его распространении по территории, протянувшейся
от Индии до Египта.
Κοινή – язык империи, продукт войн и завоеваний. Однако же на протяжении
веков разные народы – египтяне, персы, греки, сирийцы, македоняне, арабы,
иранцы – пользовались греческим как языком международного общения, с тем
чтобы изъясняться и быть понятыми в делах, торговле, учреждениях, хотя и не
поступаясь собственным языком, выразителем их цивилизации, а также их
частного образа жизни.
И если κοινή – язык власти, то есть инструмент объединения, вопреки
претензиям на местную автономию, то он одновременно и язык культуры, язык
образовательной и литературной традиции, ведь именно на данном языке мы
сегодня читаем труды Полибия, Плутарха, греческие переводы Библии (иудеи
в ту эпоху нашли прибежище в Египте) и Евангелия.
Но что за культура могла породить эллинизм? Такой обобщающий язык, как
κοινή, неизбежно и немало теряет, в том числе и почти всю свою поэтическую
ценность. В эллинистическую эпоху, когда κοινή не обладало практически
ни одной из уникальных черт классического греческого, поэзия была
в основном подражательной: стихотворцы творили на языке Гомера и Гесиода,
то ли ощущая свою несоразмерность им, то ли ради сохранения памяти, но уже
не ухватывая глубинный смысл произведений. А κοινή было легкодоступным,
оперативным, идеальным средством для науки и философии. Именно в ту эпоху
люди нашли простые термины для выражения абстрактных понятий
и немудреные слова для изложения мудреных идей.
Общий язык эллинизма оказал значительное влияние едва ли не на все
европейские языки, которые до сих пор прибегают к греческим терминам
для выражения абстрактных понятий или даже таких, которых прежде не было.
Слова, образованные в современную эпоху от терминов эллинистического
происхождения, к примеру, телефон, микрофон, телевизор, свидетельствуют
о том, что κοινή с его глобальным духом дотянулось до наших дней.
И наконец, именно в данную эпоху родилось христианство; адепты новой
религии тут же избрали κοινή для распространения своих идей среди новых
народов. Когда христианство продвинулось за границы Рима и Римской
империи, оно привнесло с собой всё наследие греческого языка. Почти весь
новый лексикон христианской религии на латыни и на коптском вплоть
до армянского был калькой с эллинистического греческого. Например,
итальянское «parola» («слово») происходит от христианского «parabola»
(заменившего латинское «verbum»). Оригинальное его значение следует искать
в греческом παραβολή, «подобие», от глагола παραβάλλω, «помещать рядом»;
сначала оно обозначало евангельское учение, а затем любое слово, понятия
или идею из области мышления.
Язык наподобие κοινή, который уже не принадлежит какой-то отдельной
области и какому-то отдельному народу, хотя на нем говорит громадное
количество иностранцев, в итоге безвозвратно теряет образ мира, для которого
был рожден. С изменением от раза к разу общества, которое на нем говорило,
ионийско-аттический в свою очередь изменился, втянулся в неудержимый
процесс банализации, утраты смысла и памяти. Черты классического
греческого, унаследованные от индоевропейского, были слишком вычурны,
чтобы уцелеть; люди нуждались в простом языке, упорядоченном, четком,
понятном всюду и всеми.
Языковые изменения – вернее потери, упущения, недоразумения – не заставили
себя ждать под нажимом эллинистической империи. Ритм изначального
греческого исчез, перейдя от количественного к качественному ударению,
как в новогреческом. Не-греческие народы, употреблявшие κοινή каждый день,
конечно, не отличали долгие гласные от кратких, что подтверждают
бесчисленные орфографические ошибки – путаница с η/ε и ο/ω в папирусах.
Исчезли двойственное число (уже давно пропавшие во многих индоевропейских
языках) и оптатив, наклонение глагола, выражающее желание: его сочли
излишним, и оно влилось в сослагательное. Всяческие аномалии (иначе
именуемые «оригинальностью»), глагольные или именные, подавили,
нормализовали, сочли эксцентричными, а потому непонятными.
В такую смятенную и сложную эпоху скрылась жизненная ценность «как?»
под лихорадочным и неотступным вопросом «когда?». Стоило категории
времени приобрести первостепенную важность, категория вида потухла,
как пламя свечи, горевшей слишком долго.
В эпоху κοινή греческий, естественно, был живым языком; на нем всюду
говорили тысячи, если не миллионы людей. Однако он утратил многое, почти
весь изначальный смысл. Неспешно размышляя о значении языка, следует
задаться вопросом: что же осталось во II веке до н. э. от древнего греческого,
от языка Платона, Софокла, Еврипида, вплоть до Гомера, то есть того языка,
который мы изучаем нынче в школе? Что же, в сущности, отличает живой
язык от языка мертвого?
Если эллины две тысячи лет назад уже не понимали древнего греческого, как же
мы можем претендовать на его понимание?
Когда я писала эти строки, то вдруг поняла – разрыв меж нами и эллинами
коренится именно там, в эпохе эллинизма и κοινή, а вовсе не в аудиториях
современного классического лицея. Всё, что было забыто на том этапе истории
греческого, я, представьте, как раз и пыталась вспомнить, пока писала эту
книгу! Быть может, древний греческий как раз и умер, когда эллины перестали
мыслить, как древние греки. А может, тогда он только начал умирать, хотя –
подумать только! – греческий глагол θνήσκω, «умирать» допускает лишь один
вид, ибо ты либо жив, либо тебя нет.
Само собой разумеется, когда язык становится языком всех, он фактически
становится ничьим.
Новогреческий, то есть древнегреческий
Римская империя, несмотря на долгий срок своей власти, особо не влияла
на греческий язык, используемый жителями Средиземноморья. Эллины
и другие народы, принявшие греческий язык как свой способ существовать
и мыслить, слишком гордились собственным культурным превосходством,
чтобы сменять этот язык на латынь. К тому же и для римлян греческий являлся
языком престижа, и они упорно изучали его, надолго приезжая в Афины.
Подспудно латынь никогда не переставала завидовать греческому, подобно
ученикам технического лицея, которые всегда будут чувствовать, будто
им чего-то недостает.
Римская империя сумела навязать свой язык только народам, склонным
изменить собственную цивилизацию и населявшим Галлию, Дакию, Испанию,
северную Африку. Но такого никогда не происходило в Греции, где римляне
всегда чувствовали себя школярами, подмастерьями (ведь греки вовсе
не собирались менять свою цивилизацию и тем более язык). Правда, греческий
пропал на Сицилии и в Италии – исчез из той «Великой Греции» (Magna
Graecia), куда проник лишь на побережья, не обладая социальной силой
великого κοινή.
Если каждый язык при контакте с иностранными что-то заимствует (взять
хотя бы тысячи английских слов, вклинившихся в наш словарь), то ни один
язык не продемонстрировал свою непримиримость в данном плане больше
греческого, оказавшего стойкое, упорное сопротивление иностранным словам;
если он и принимал их, то лишь для того, чтобы подчеркнуть типично римские
понятия, практически транслитерируя благодаря ним нечто чуждое греческому
миру: скажем, κεντυρία, «центурия», или ταβέλλα, «римский
административный акт».
Но греческий язык был обречен утратить даже свою лингвистическую
гегемонию с дальнейшим продвижением христианства. Когда Римская империя
сперва дозволила исповедовать новую веру, а затем узаконила ее, латынь стала
официальным языком западной церкви. На востоке же народы, поначалу
избравшие греческое κοινή, постепенно переводили религиозные тексты на свои
языки, выражавшие их собственную культуру: готический, славянский,
армянский, коптский.
Согласно данному сценарию, в то время как латынь становилась языком
культуры и религии, вступавший на стезю Средневековья греческий оставался
ограничен собственной, всё менее обширной территорией. И вновь этот язык
в одиночестве двинулся самобытным, отдельным от других языков путем
и добрался через византийский греческий до новогреческого.
Во времена Римской империи греческие интеллектуалы отреагировали
на упадок своего настоящего тем, что избрали то же самое решение, которое
в итоге будет принято после войны за независимость (1821–1832), когда Греция
наконец-то, спустя тысячелетия, добьется политической автономии. Решение
весьма неоднозначное: непременный возврат к прошлому.
Уже с аттицизмом во II веке н. э. фактически обозначилась тенденция, которая
навсегда определит эволюцию – или же отсутствие оной – греческого языка.
Чтобы предотвратить потерю идентичности, греки решили сопротивляться:
запретить текущее вульгарное – то есть живое – использование языка в угоду
устаревшим, отжившим – то есть мертвым – формам, которые воспринимались
как истинные носители утраченного эллинского смысла. Греческие
интеллектуалы сделали всё, чтобы вспомнить свое прошлое, даже безвозвратно
забытое. И вот мы находим тексты, где рассеяны формы двойственного числа,
синтаксические и лексические красивости, употребленные наобум, порой
бессмысленно; глагольные аномалии, утраченные еще во времена Перикла,
долгие и краткие гласные, употребленные как бог на душу положит. Наблюдая
общественные изменения, эллины, по-видимому, не знали, как на них
реагировать. Они избрали для себя политическую и культурную изоляцию,
и единственной идентичностью, на основе которой решили сплотиться, стало
общее прошлое.
Ощущением растерянности, смешанной с ностальгией, проникнута вся
греческая история вплоть до современной эпохи, а с лингвистической точки
зрения это порождает тяготение к пуризму, то есть тщетные усилия
воспрепятствовать языковой эволюции, отдалению от славного прошлого,
может быть, ставшего неподъемной обузой.
В византийскую эпоху уже сформировалось единство письменного языка ценой
непоправимого отделения от разговорного, который, как всякий язык,
продолжали развивать люди, использующие его. Невозможно затормозить
изменения как в людях, так и в языках. Однако можно их игнорировать, что
и делало греческое общество на протяжении тысячи с лишним лет. Тот
греческий, уже ставший византийским, преподавали во всех школах, на нем
писали все книги и официальные акты; на нем говорили все культурные люди
в интеллектуальных кругах.
А местные наречия постепенно изгонялись и выживали только в сельской
местности, вдали от городов; многие диалектные отличия, существующие
сегодня в Греции, восходят именно к той эпохе.
Когда в XV веке мир попал под турецкое иго, единственным центром культуры
осталась Византия, где церковь стала хранительницей древнего κοινή, на нем
писался и читался язык христианства. Но восточная империя постепенно
ужималась под напором чужеземных вторжений.
Теперь вся Греция могла сплотиться лишь вокруг моря, той самой θάλαττα,
и своего древнего языка, единственной памяти о лежащей в руинах культуре;
данный язык эллины упорно стремились сохранять, а не развивать.
Самосознание греческой цивилизации смертельно ослабили падение
Византийской империи и турецкое владычество. После вхождения Византии
в Римскую империю само слово «эллин» для обозначения греческого народа
стали забывать: греки начали называть себя Ῥομαίοι, римлянами.
Когда в начале XIX века с падением турецкого владычества Греция сумела
вновь завоевать независимость, лингвистическая ситуация сложилась, мягко
говоря, парадоксальная. С одной стороны, существовал традиционный
письменный язык, в целом сохранивший верность древнегреческому – κοινή
на базе афинского, однако он был столь далек от обиходного разговорного, что
народ его даже не понимал. И не было политической, культурной
или социальной идентичности, которая превосходила бы прочие и могла
сделать свой язык выразителем жизни нового греческого общества.
Единственным центром, что веками хранил греческое бытие в лоне древнего
κοινή, оставалась церковь. Именно от нее возрождающийся эллинизм хотел
получить общий язык.
Когда завершилась война за независимость, потребовалось вновь обрести общее
мировосприятие. Эллины могли достичь этого, только шагнув назад на две
тысячи лет, и новорожденная современная Греция в самом деле стала искать
свою идентичность в общих корнях, в Афинах Перикла V века до н. э. Именно
письменный язык, произошедший от эллинистического κοινή, который в свою
очередь произошел от ионийско-аттического диалекта, обеспечил Греции
общий язык, соответствующий вновь завоеванному чувству национального
единства.
Произношение новогреческого языка выбрали путем сохранения того, что было
общим у большей части эллинов, и устранения всех местных особенностей.
Вокализм κοινή воссоздали полностью, равно как и орфографию. В основном
фонетика новогреческого по-прежнему эквивалентна древней эллинистической,
правда, некоторые согласные произносятся иначе. Что до грамматики – хотя
она, естественно, не сумела вернуть к жизни исчезнувшие и забытые формы
типа значения вида, двойственного числа, оптатива, дательного падежа, –
по многим показателям новогреческий остался древним. Сохранилось различие
между настоящим временем и аористом во всей его семантике, и в современном
языке по-прежнему есть склонение существительных в именительном,
винительном, родительном и звательном падеже (правда, родительный
множественного числа употребляется редко, а именительный и звательный
зачастую совпадают).
Удивительны две лингвистические новации новогреческого. Устранение
глагольного инфинитива – черта, которая роднит греческий с балканскими
языками, – и введение будущего с помощью перифразы с глаголом «хотеть»:
«я буду судить» – по-гречески θά κρίνω, «хочу судить», и, стало быть, буду.
Описанный выше язык называется «кафаревуса» (καθαρεύουσα), то есть
«пуристский язык», уходящий корнями так глубоко, что соприкасается
с аттическим говором Афин. Когда он создавался, на нем никто не говорил,
но школа, литература, печать, государство, администрация и политика сумели
ввести его в повсеместное употребление с неожиданными порой завихрениями:
в казармах нынче про солдата с винтовкой говорят όπλο, то есть почти
«гоплит» – тяжеловооруженный греческий пехотинец V века до н. э.!
Новогреческий претерпел, таким образом, неслыханную архаизацию,
не имеющую себе равных в истории лингвистики. И в самом деле, это
единственный европейский язык, ни разу не ставший в процессе развития чемто иным (в отличие, скажем, от итальянского, французского, испанского,
португальского, румынского, образованных от латыни), но всегда судорожно
реагировавший на историю, уходя в себя.
Тем не менее языки искусственные, не сдающиеся,
сопротивляющиеся изменениям, как правило, грешат тем, что остаются
непонятыми народом, ибо не соответствуют его идентичности. Поэтому
в Греции возникла и до сих пор не утихает реакция тех интеллектуалов, которые
чувствуют необходимость для самовыражения брать из народа живые,
конкретные, не затасканные тысячелетиями в литературе слова.
Сейчас Греция стоит перед лицом экономических и политических вызовов,
не свойственных никому в Европе: во имя сохранения своей идентичности
и общественного достоинства она пользуется языком уникальным,
бесподобным, но за века и даже тысячелетия состарившимся. Однако истинный
вызов наших дней, не только в лингвистическом плане, – воля к воссозданию
языка, который стал бы наконец современным и послужил всем грекам, чтобы
изъясняться и понимать друг друга в 2016 году на своей родной земле,
а главное – за пределами Греции.
«Любой народ, произошедший от древних греков, был бы автоматически
несчастен. Если б ему не удалось забыть или превзойти их», – так с горечью
написал Никос Диму в своем сборнике афоризмов о несчастье быть греками
(современными).
И впрямь, Греция нынче говорит на современном языке, взявшем бо́
льшую
часть своих элементов взаймы у древнего, дабы подтвердить миру целостность
народа, обладавшего самым значительным культурным прошлым во всем
западном мире. Народа, которому так и не удалось освободиться от этого
прошлого, находящемуся в постоянной борьбе за настоящее, до сих пор
заставляющее себя ждать, тогда как будущее он уже придумал себе несколько
столетий назад, использовав глагол «хотеть», быть может (надеюсь), в смысле
«претендовать».
Литература
Меланхолических раздумий часто
Был полон ум мой – о родных местах,
О доме и о том, что ждет меня
Впоследствии, но, более всего,
Каким-то странным чувством, ощущеньем,
Что в этом месте, в этот день и час
Я оказался о ошибке…[46]
Уильям Вордсворт. «Прелюдия»
Чтобы поведать на бумаге о моих предчувствиях, маниях, навязчивых идеях
относительно греческого языка (культивированных пятнадцать с лишним лет
на жарких дебатах конференций с самой собой), мне пришлось проштудировать
десятки пособий и академических трудов.
До сих пор, когда книга уже закончена, я не нашла ответов на свои вопросы.
Большинство авторов, над сочинениями которых я корпела, с превеликим
старанием и научной точностью повторяют более или менее то же самое, что
веками твердят в библиотеках и университетских аудиториях. Я, разумеется,
нашла подтверждения тому, что уже знала, но почти не отыскала чего-то
нового.
Быть может, виновата моя странность, некое шестое чувство в отношении
греческого; фактически я сегодня думаю и рассуждаю на древнегреческом.
Как внушила мне заслуженный преподаватель Мария-Грация Чани, я принимаю
на себя всю ответственность за то, о чем рассказала в этой книге. Если я где-то
ошиблась, что-то упустила, недопоняла, придумала – прошу прощения.
В большинстве текстов, поспособствовавших написанию данной книги, речь
идет отнюдь не о греческом языке, а о жизни. Это даже не всегда книги,
но музыка, места, картины, люди.
Что же касается специальных познаний, то их я черпала из следующего списка:
La lingua dei Greci / a cura di A. Aloni. Roma: Carocci, 2011.
Campanile E., Comrie B., Watkins C. Introduzione alla lingua e alla cultura degli
Indoeuropei. Bologna: il Mulino, 2010.
Chantraine P. Morphologie historique du grec. Paris: Klincksieck, 1947.
Dimou N. L’infelicità di essere greci. Roma: Castelvecchi, 2012.
Fanciullo F. Introduzione alla linguistica storica. Bologna: il Mulino, 2011.
Heilmann L. Grammatica storica della lingua greca. Torino: Sei, 1963.
Hoffmann O., Debrunner A., Scherer A. Storia della lingua greca. Napoli:
Macchiaroli, 1969.
Isidoro di Siviglia, Etimologie o Origini. Testo latino a fronte / a cura di A. Valastro
Canale. Torino: Utet, 2014.
Lehmann W. P. La linguistica indoeuropea. Storia, problemi e metodi. Bologna: il
Mulino, 1999.
Michelazzo F. Nuovi itinerari alla scoperta del greco antico. Le strutture fondamentali
della lingua greca: fonetica, morfologia, sintassi, semantica, pragmatica. Firenze:
Firenze University Press, 2007.
Palmer L. R. The Greek Language. London: Faber & Faber, 1980.
Pieraccioni D. Morfologia storica della lingua greca. Firenze: D’Anna, 1975.
Pierini R., Tosi R. Capire il greco. Bologna: Patron, 2014.
Pisani V. Storia della lingua greca. Torino: Sei, 1960.
Szemerényi O. Introduzione alla linguistica indoeuropea / a cura di G. Boccali, V.
Brugnatelli, M. Negri. Milano: Unicopli, 1985.
Villar F. Gli indoeuropei e le origini dell’Europa: lingua e storia. Bologna: il Mulino,
1997.
Woolf V. Del non sapere il greco, nella raccolta Voltando pagina. Milano: Il
Saggiatore, 2011.
Наконец, некоторые женщины путешествуют по миру с губной помадой
в сумке. Я помадой не пользуюсь, но более десяти лет вожу за собой из города
в город экземпляр несравненного «Aperçu d’une histoire de la langue grecque»
(Paris: Hachette, 1913 / Torino: Einaudi, 2003) Антуана Мейе, мой источник
вдохновения и свободы, которые дают начало и смысл всему.
Благодарности
Well you’ve done it again, Virginia
made another masterpiece while I was dreaming.
How does it feel to feel like you?
Brilliant sugar brilliant sugar brilliant sugar turn over.
The National, «You’ve done it again, Virginia»[47]
Эта книга – плод моей странности, но она бы не состоялась, не будь я окружена
любовью нескольких людей.
Первое, самое большое «спасибо» моей учительнице, но прежде всего другу
Марии-Грации Чани, которая своими письмами сопровождала каждую страницу
данной книги. От всей души благодарю за доброту, точность, свободу, дружбу;
клянусь никогда не изменять себе и продолжать изучать греческий, чтобы
главным образом познать себя.
Моя книга не появилась бы на свет без встречи с теми, кто наполнил ее
смыслом еще до издания. Спасибо Марии-Кристине Олати за то, что отыскала
меня, поставила перед лицом таланта и страха, за то, что была рядом в те дни,
когда я не верила, что в самом деле издам книгу (чаще всего) и в те, когда всетаки верила.
Особенно благодарю друга, который выслушивал и поддерживал каждый день,
который меня многому научил и ни разу не оставил одну. Я многим ему
обязана. Мы вместе, Альберто Каттанео, навсегда.
Спасибо моей лучшей подруге Лене Плетинк, которая не поймет ни слова
в данной книге, ведь она бельгийка, но это не помешает нам понимать друг
друга на нашем особом языке и вместе разъезжать по миру; sometimes life is too
short and the world is too small, we know[48].
Спасибо моему отцу Джузеппе по прозвищу Тета, который вырастил меня,
воспитывал во мне чувство собственного достоинства, щедрость, легкость
и редкое искусство смеяться, когда не происходит ничего смешного.
Также спасибо моему уже вошедшему в легенды псу Карло, который девять лет
следует за мной из города в город, всё терпит (особенно меня) и во взгляде
огромных глаз которого всегда читается: «Я тебе верю».
Спасибо девочкам Кончите, Франческе, Анне, мальчику (со звездой во рту)
Якопо и моему другу Майклу, который читал эту книгу в Калифорнии.
Спасибо всей Венеции (той, что в Ливорно) за то, что всегда меня понимала,
особенно когда понимать было вовсе нечего.
Спасибо Сараево, я была счастлива. Всё время туда возвращаюсь и когданибудь вернусь навсегда.
И наконец, все стихи, включенные в данную книгу, выбрал Фабио Кьюзи.
Δυστοπία[49] – наша любовь.
В древнегреческом есть, к примеру, voces mediae ὁ αἴτιος, «являющийся
причиной» чего-то позитивного или негативного, вплоть до обозначения
«виновного»; ὁ κίνδυνος, что может быть «случайным событием»,
«приключением», но главным образом (для наиболее трепещущих перед
будущим) «опасность»; глагол πάσχειν, «претерпевать что-то», может
переводиться и как «наслаждаться», и как «страдать»; наконец, слово ἡ ἐλπίς,
«ожидание», колеблется между «надеждой» и «тревогой», что знакомо каждому
ожидающему.