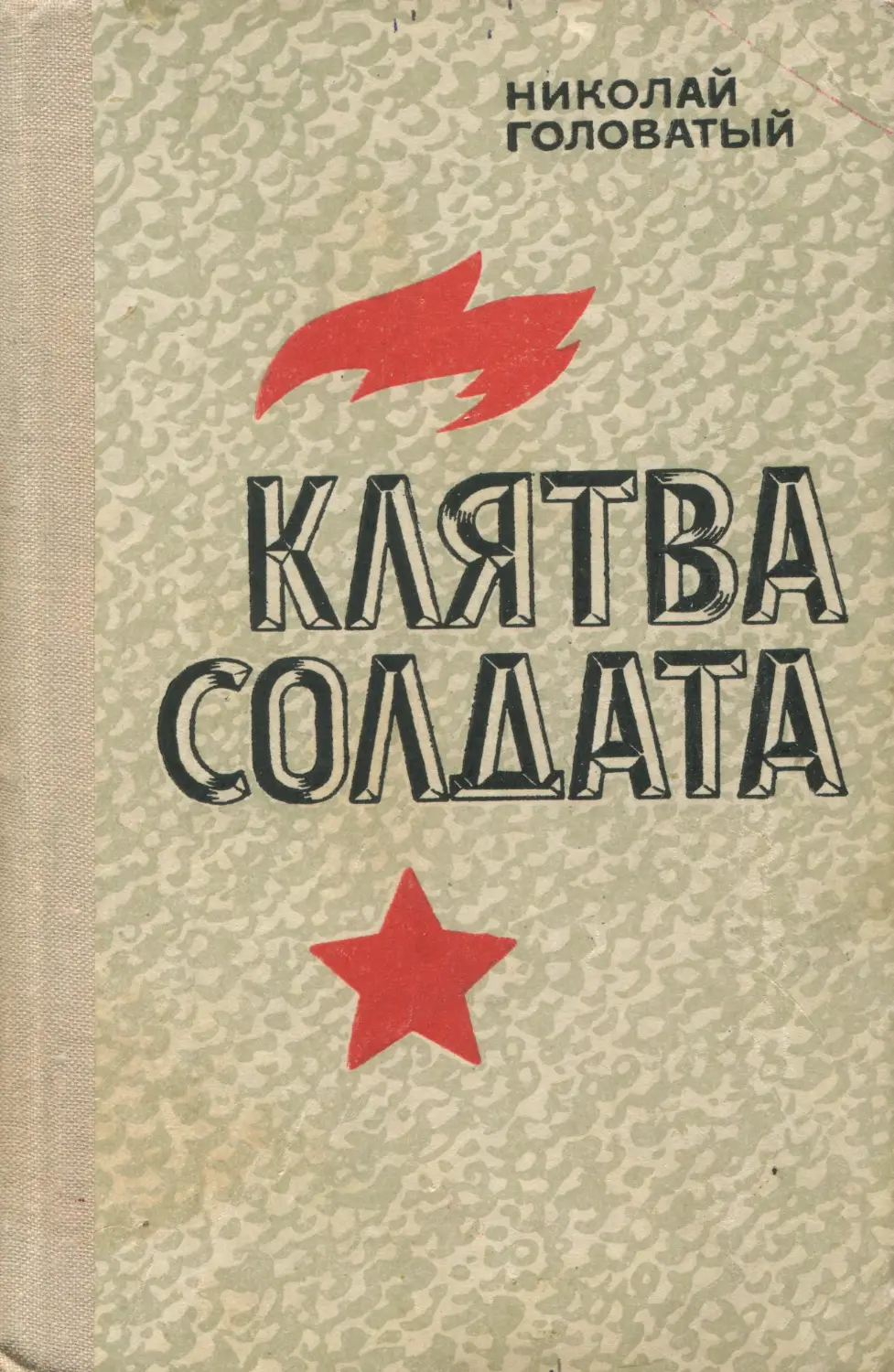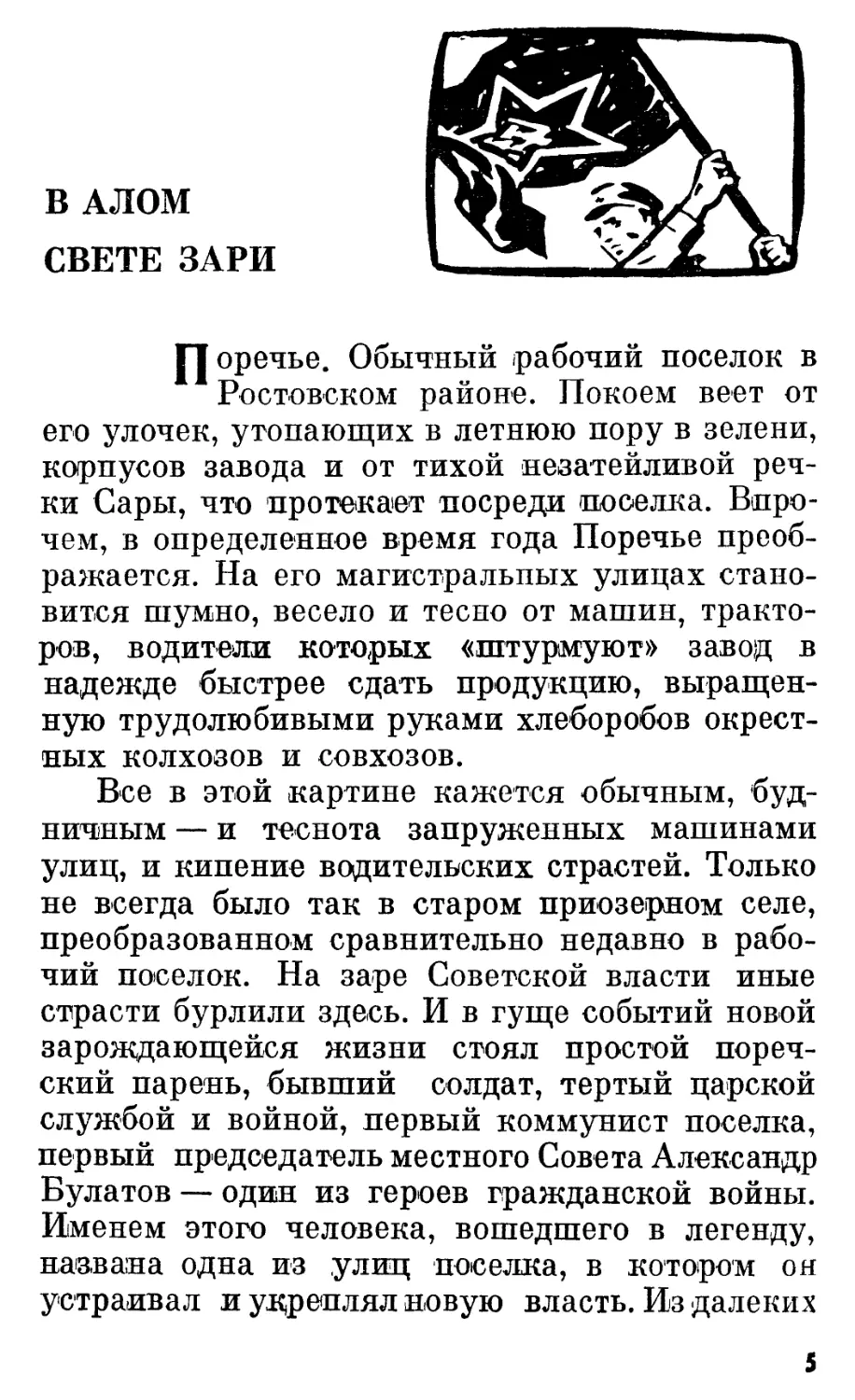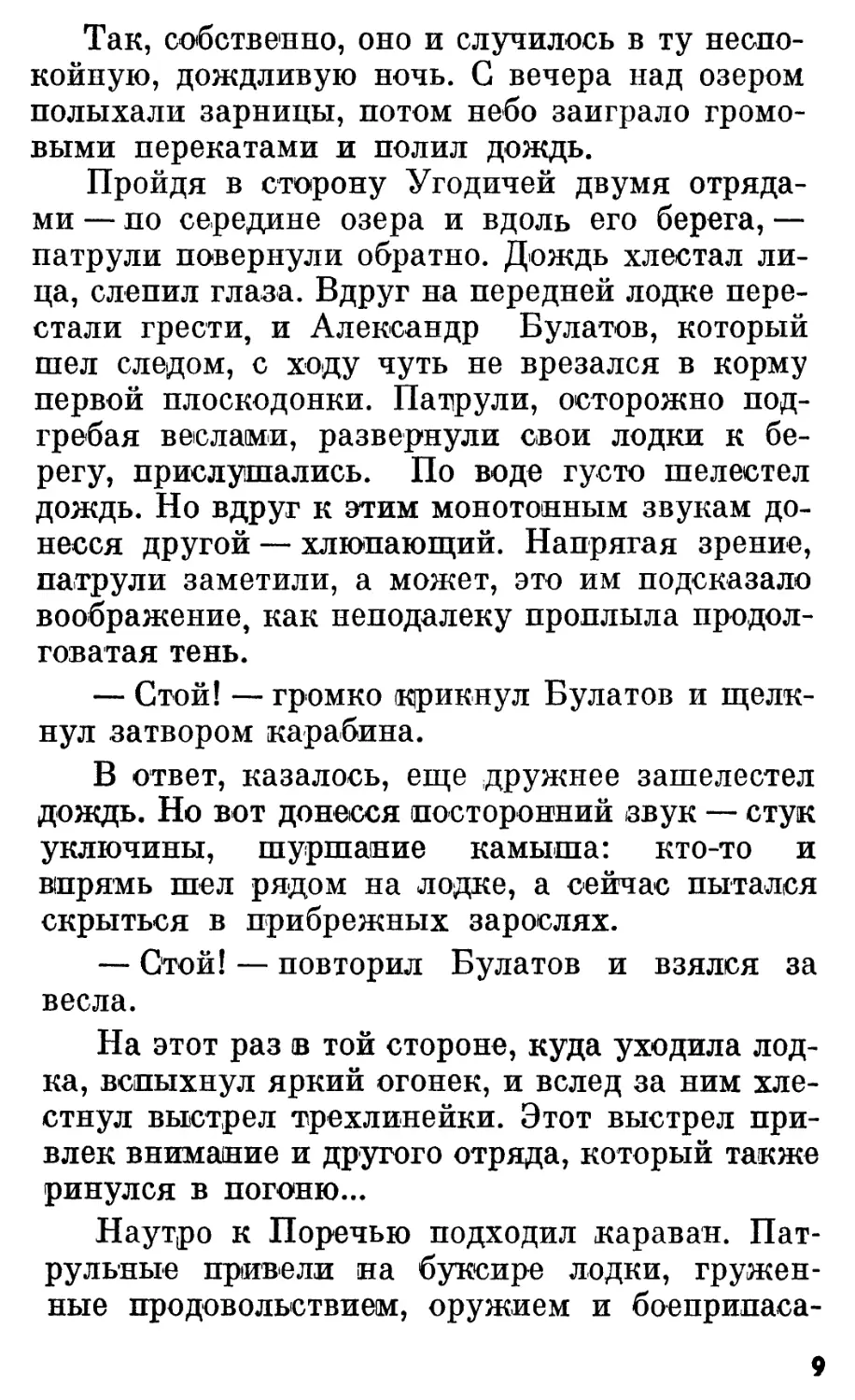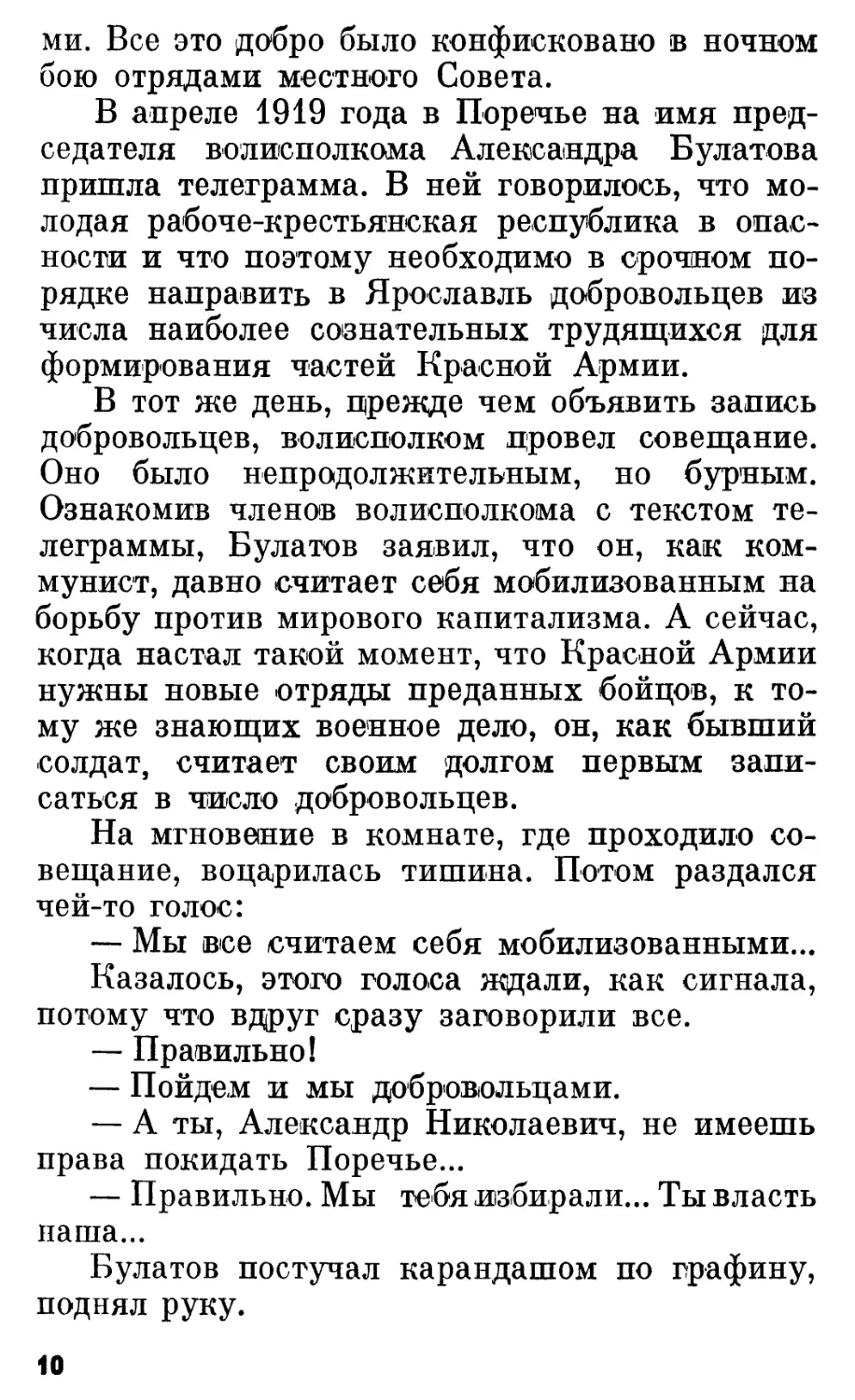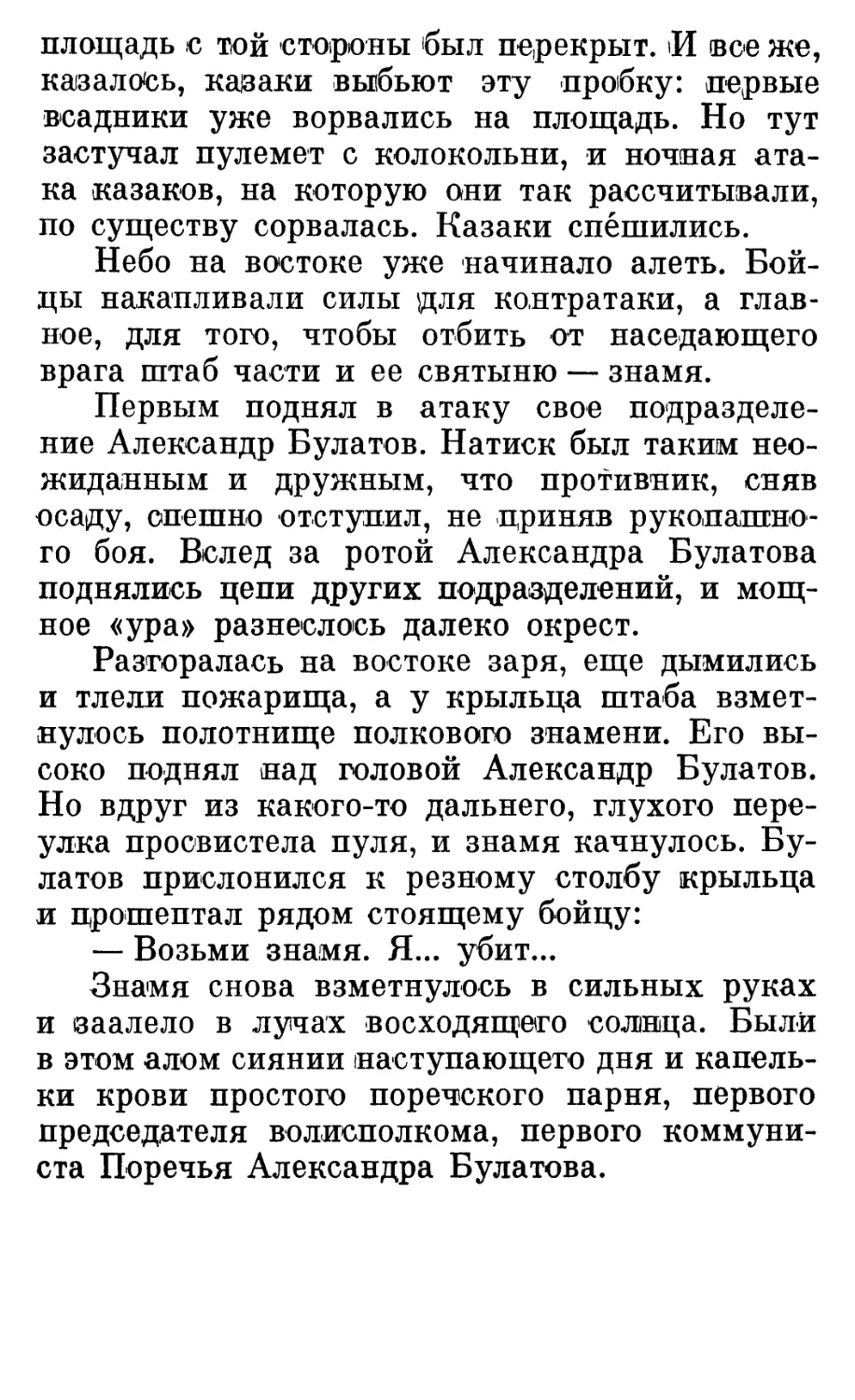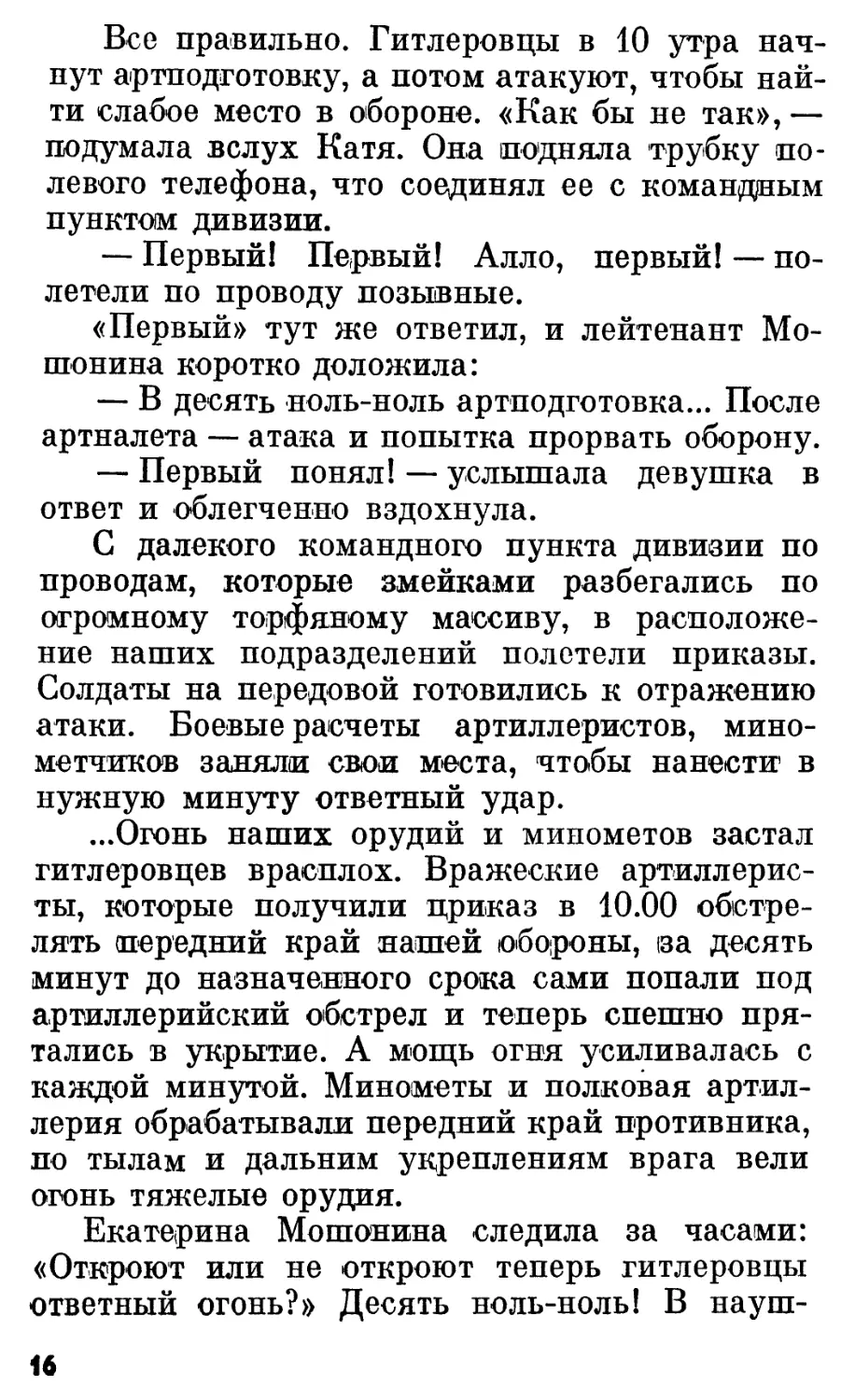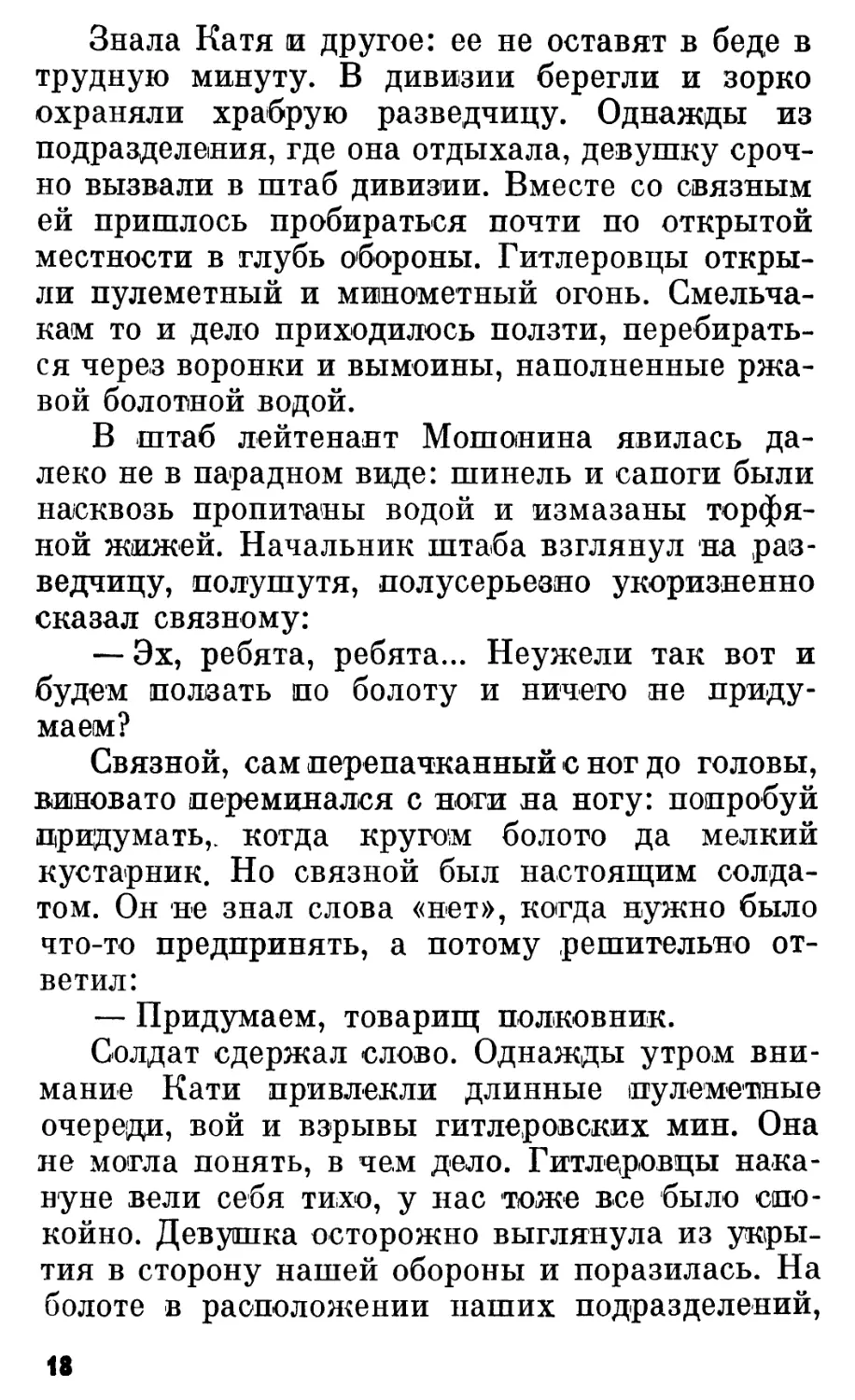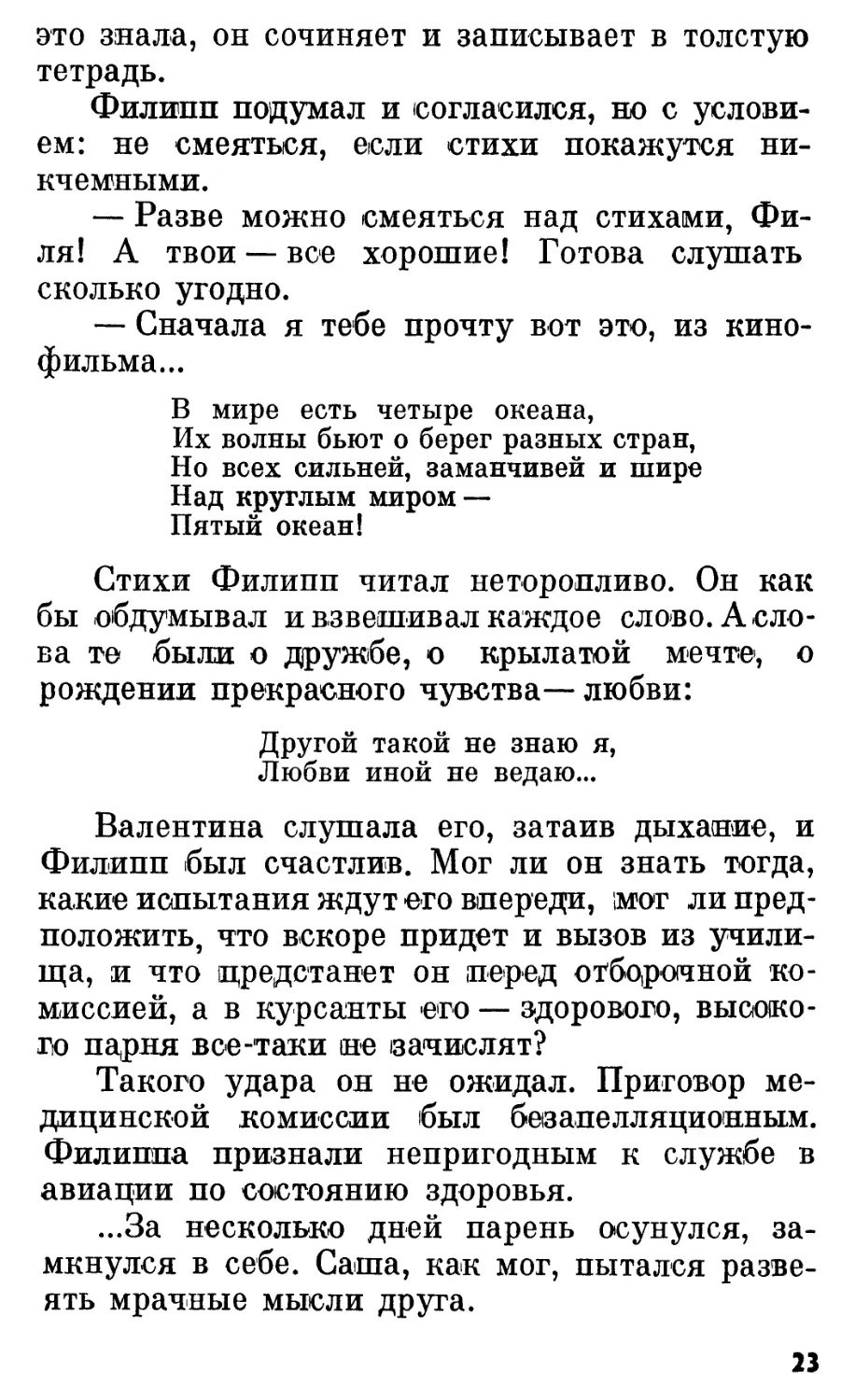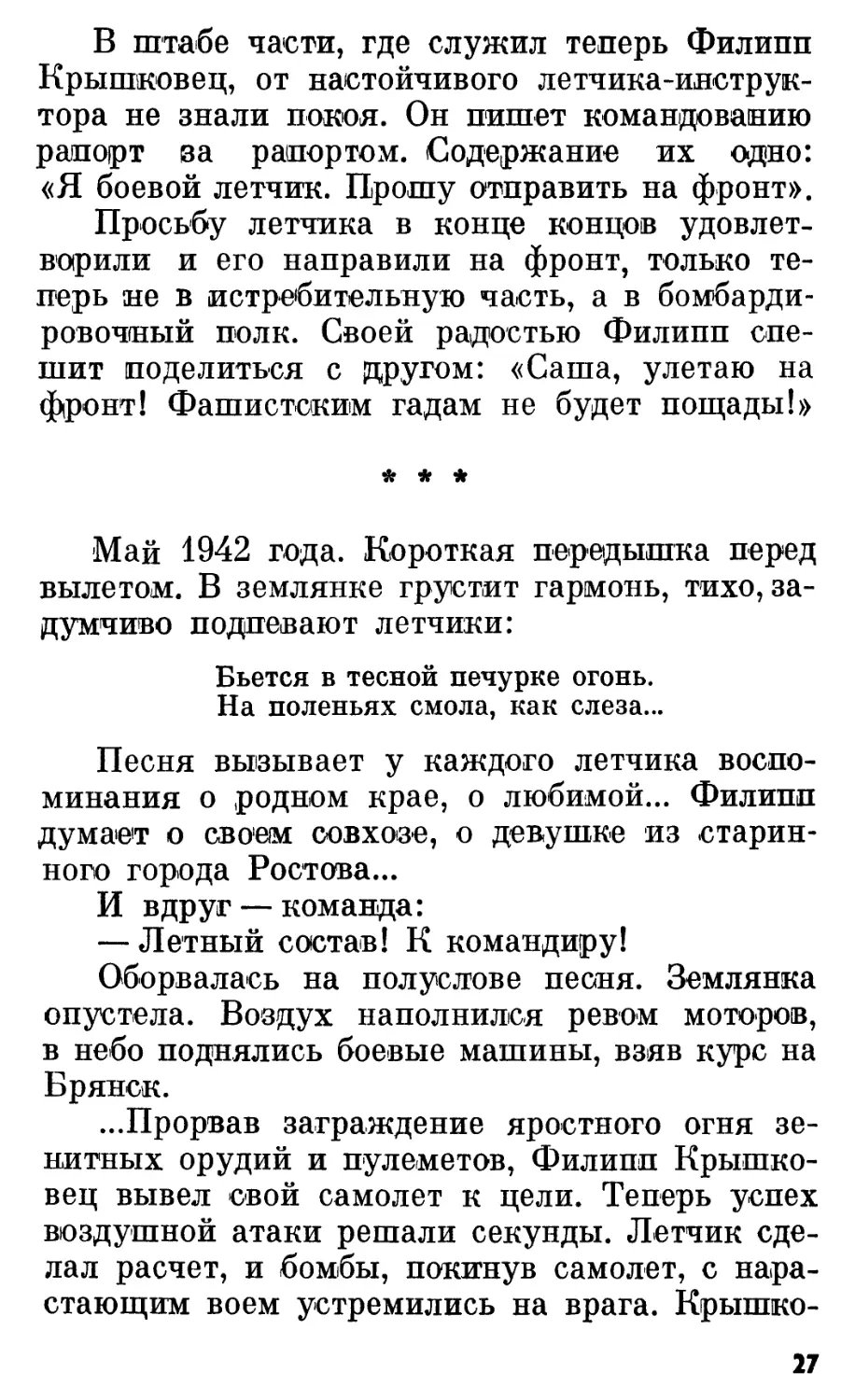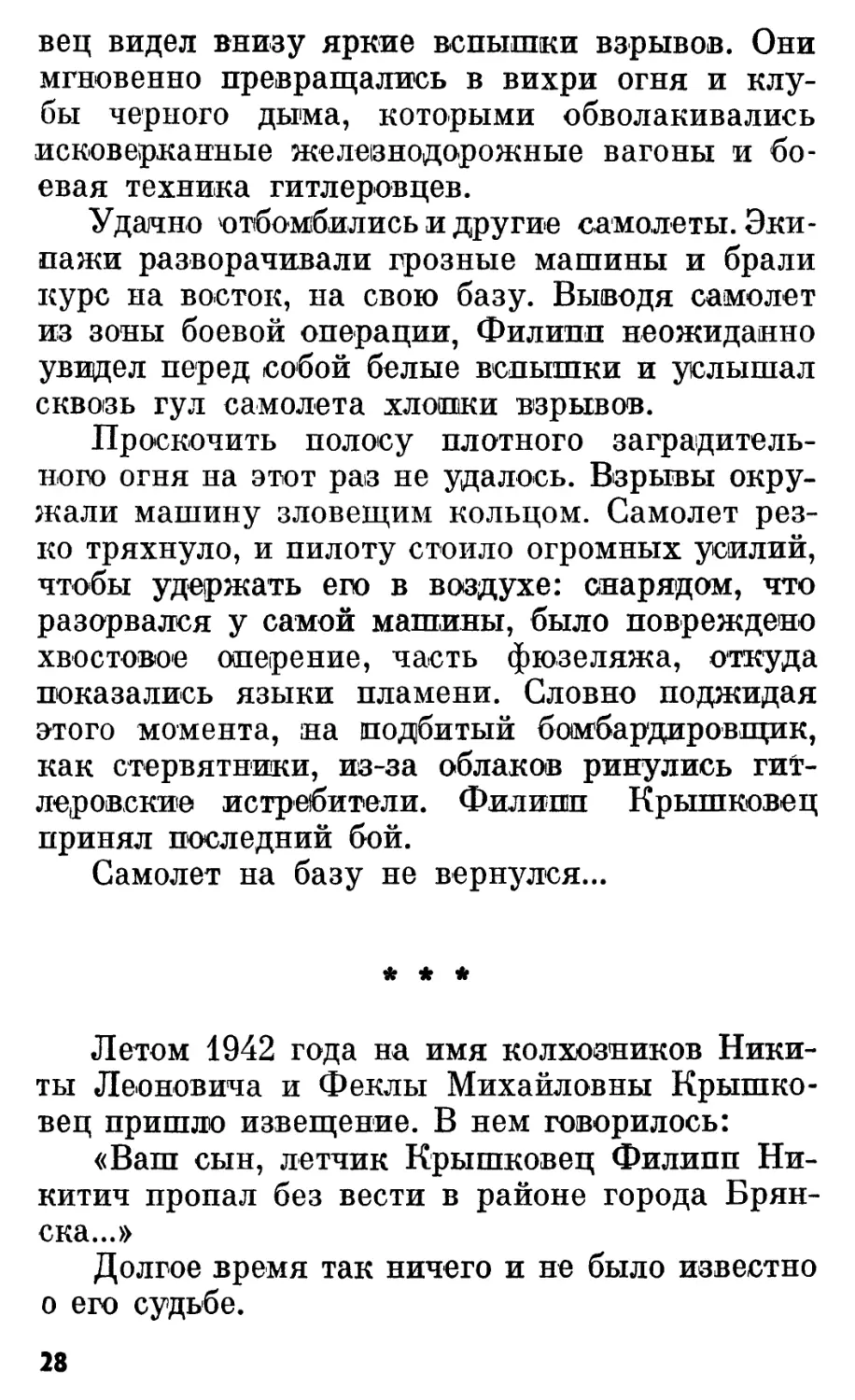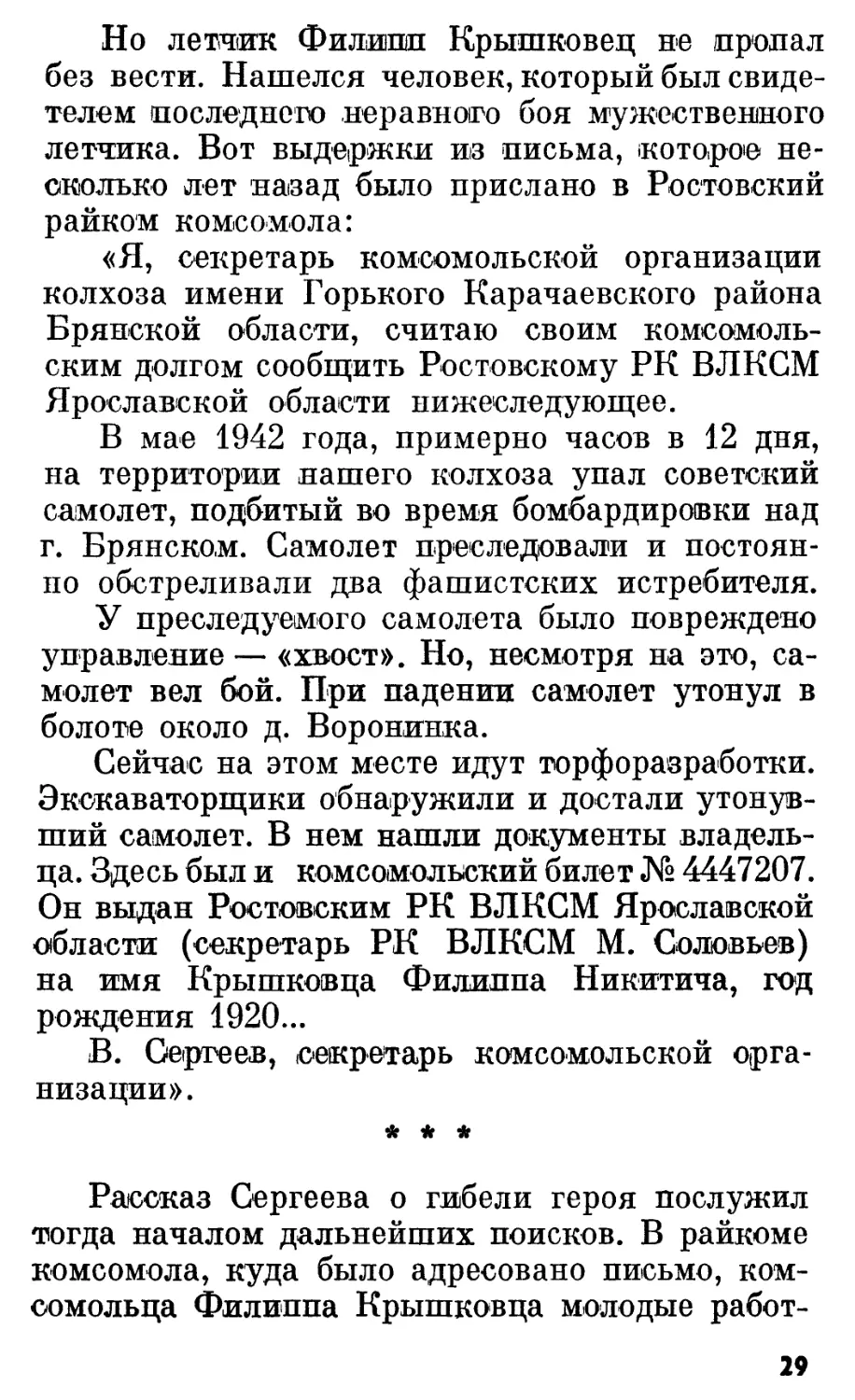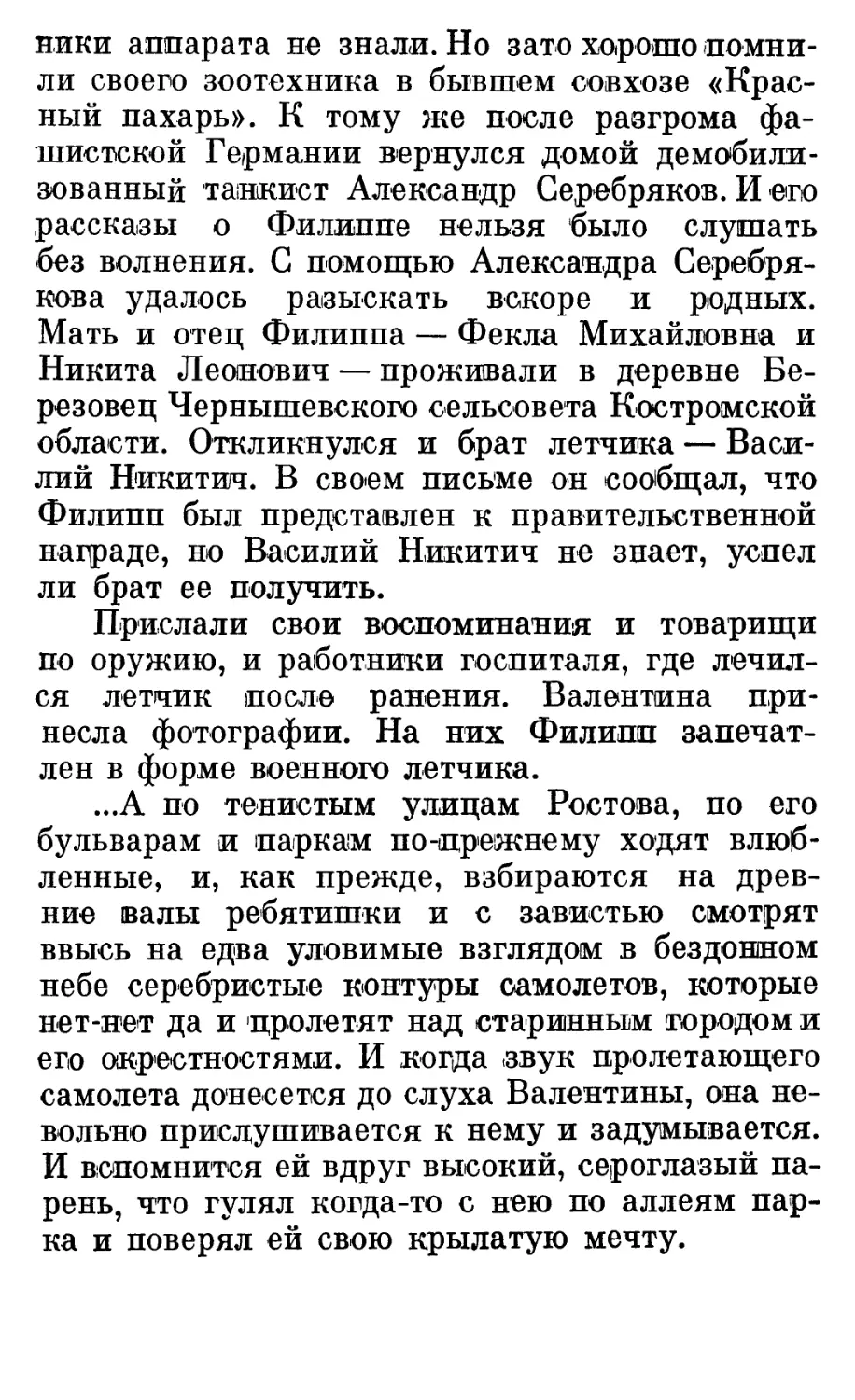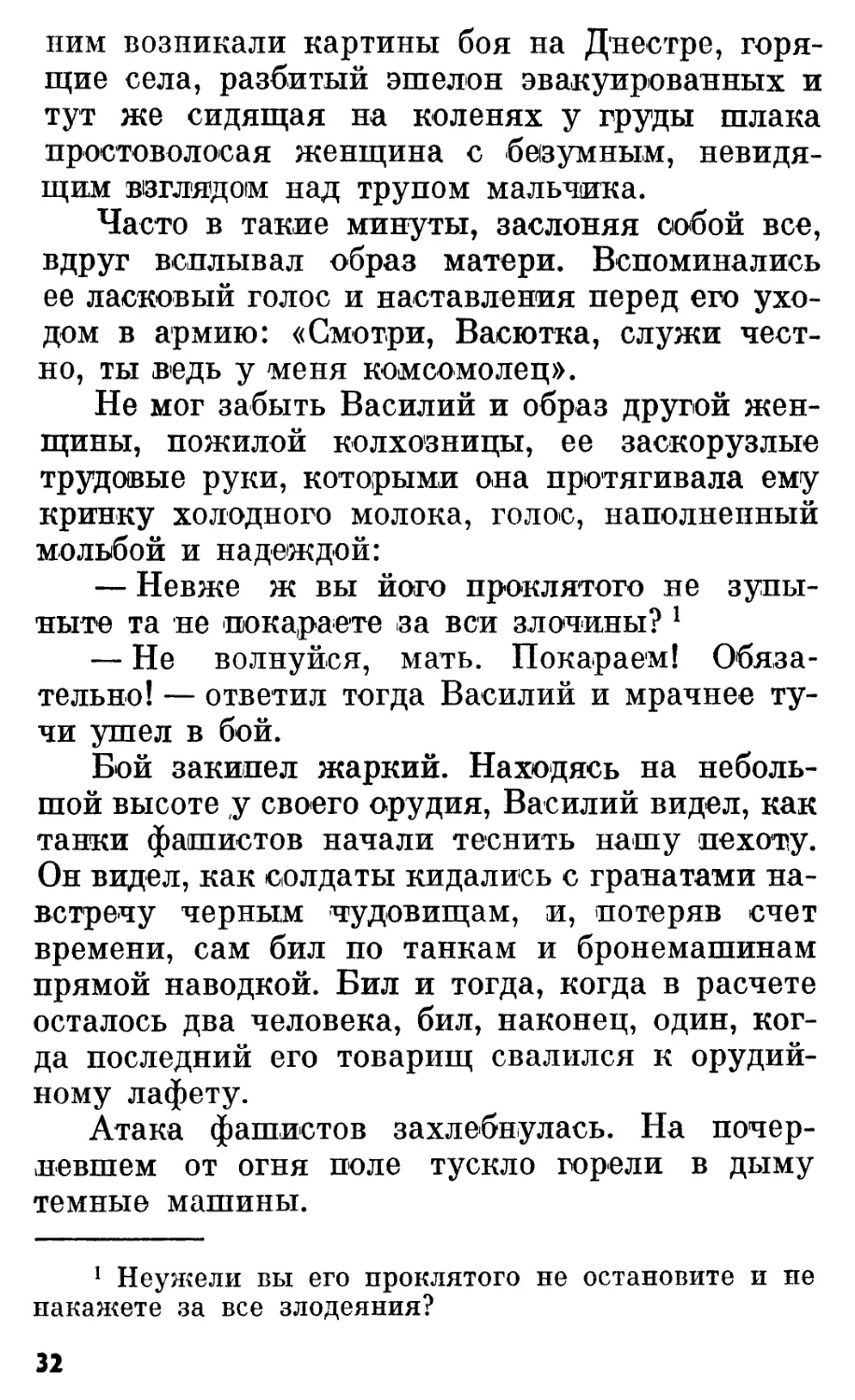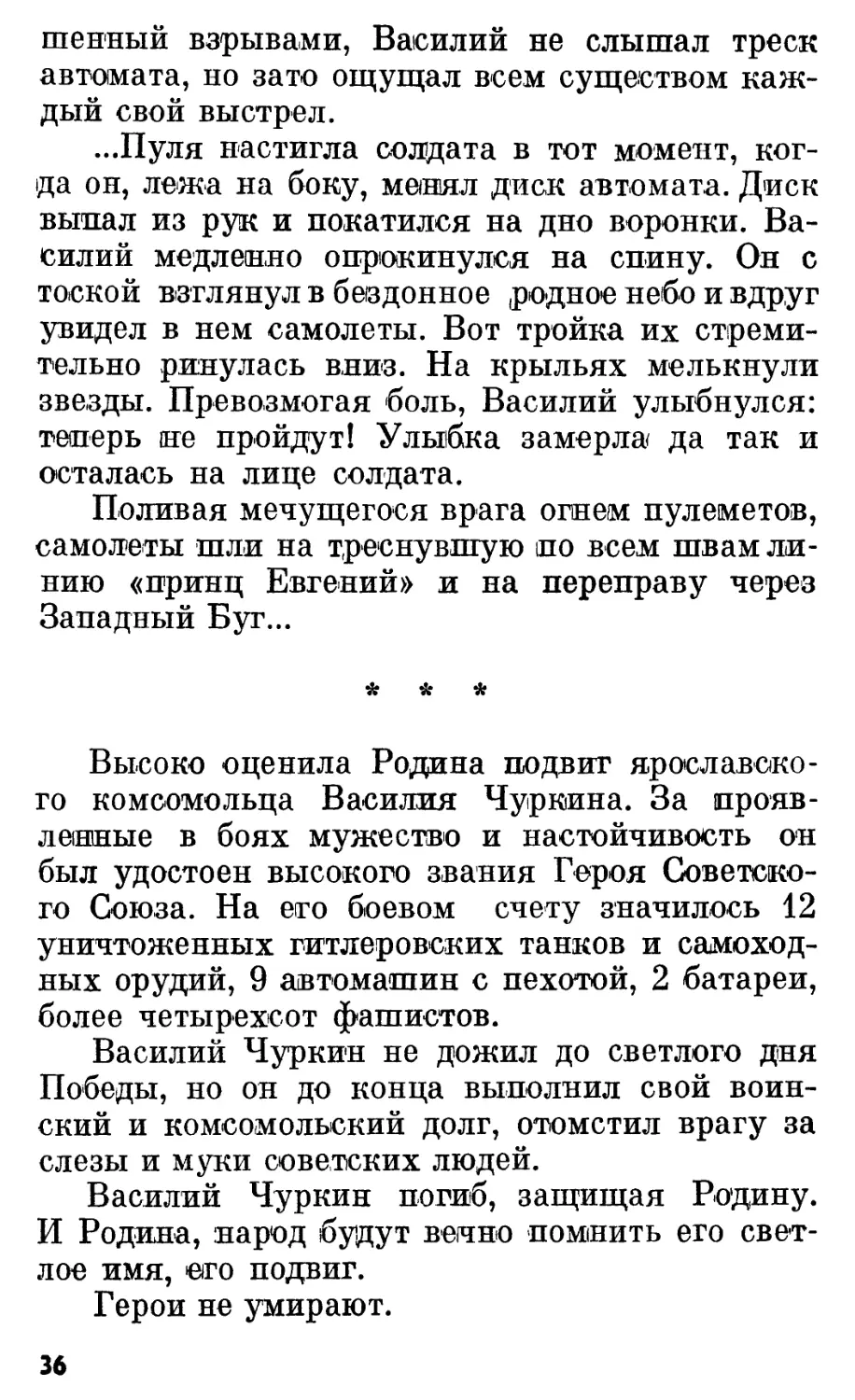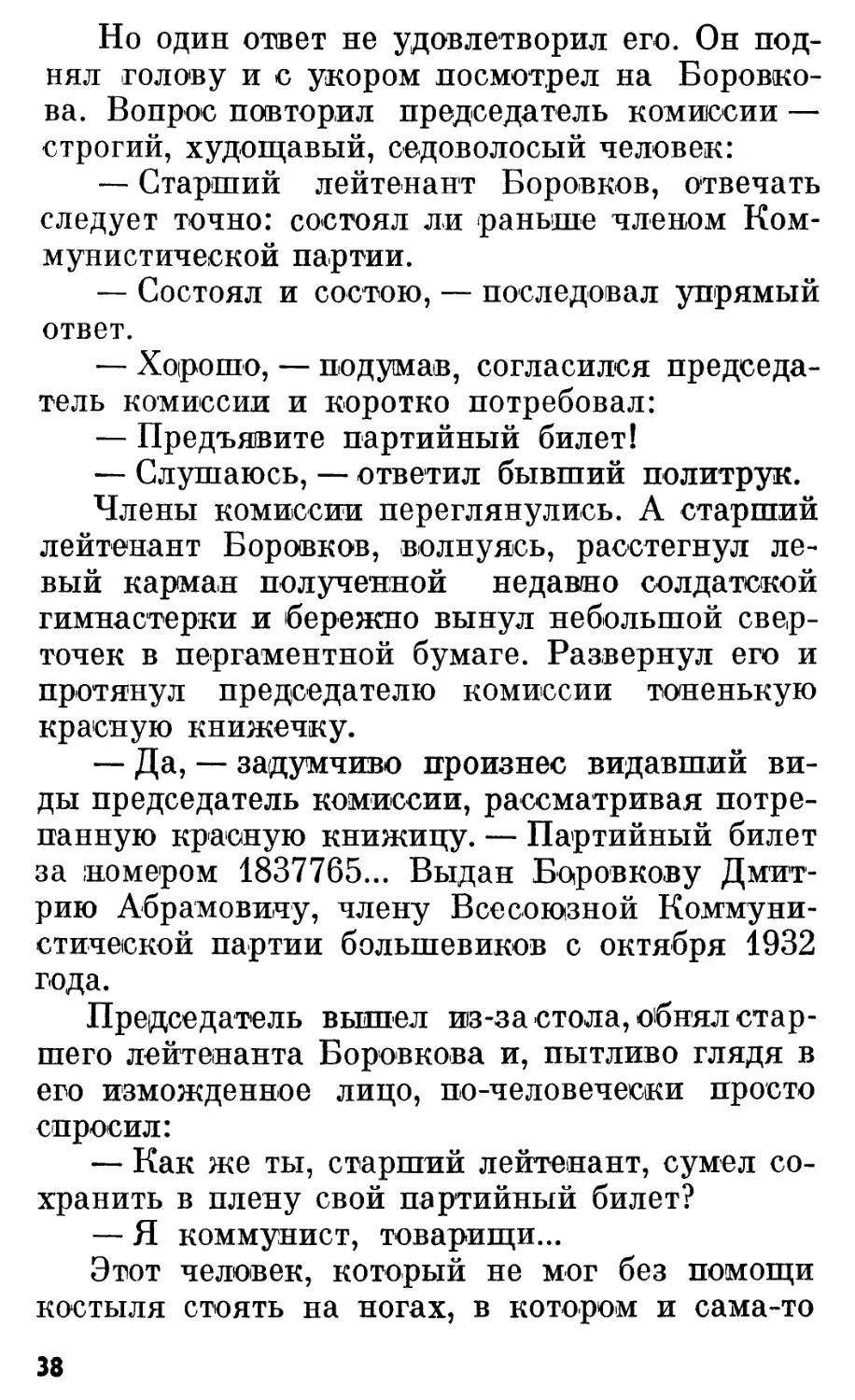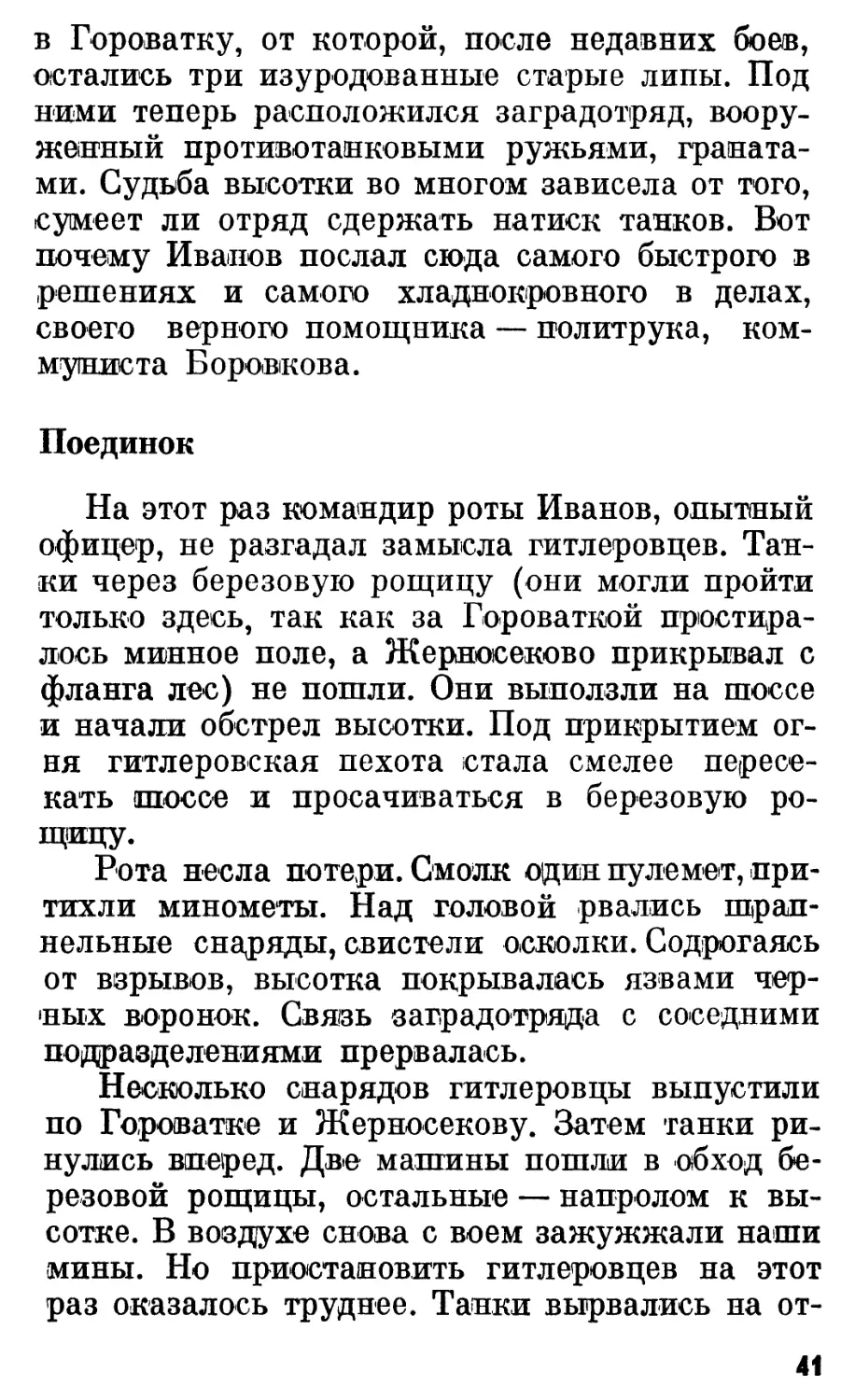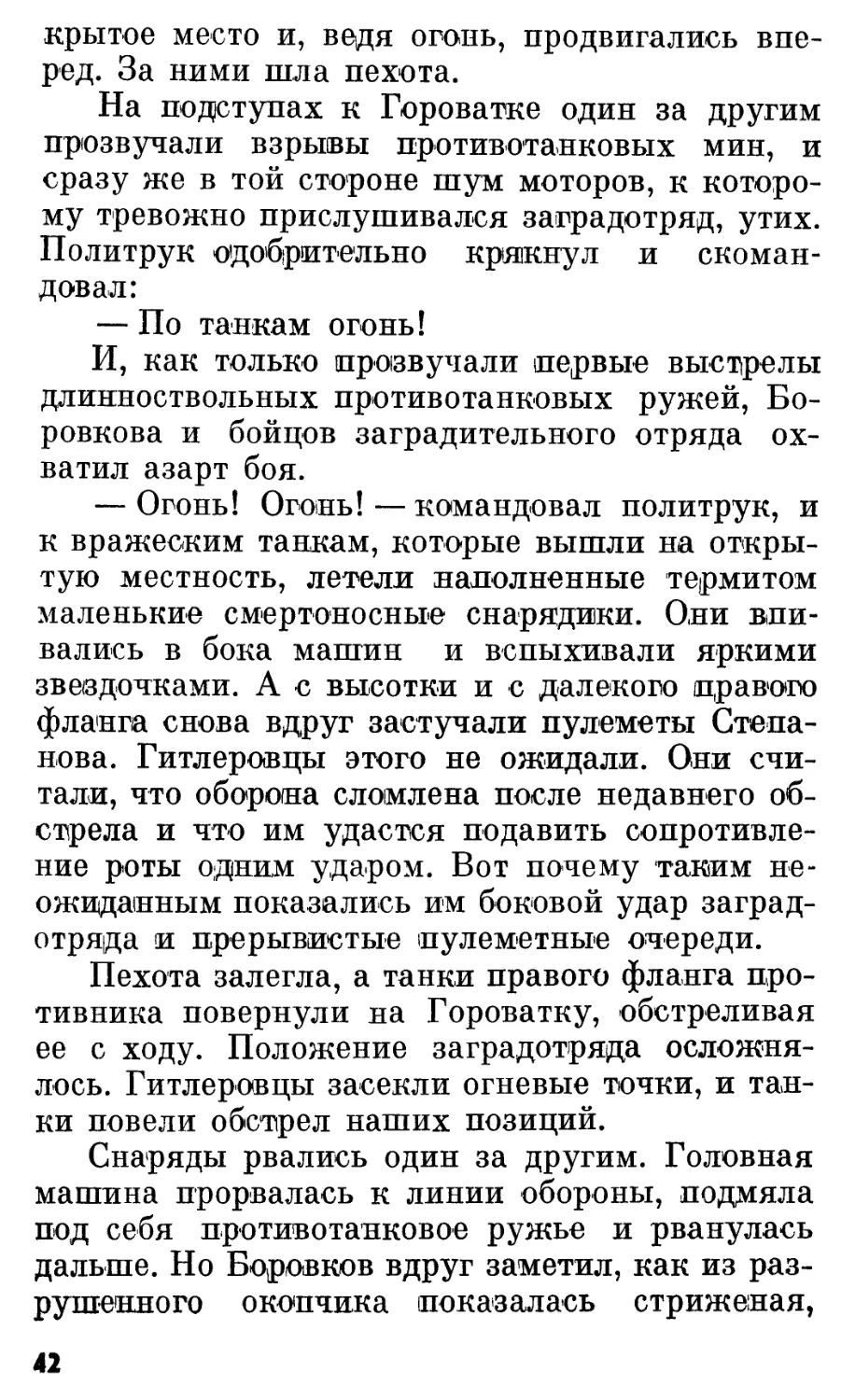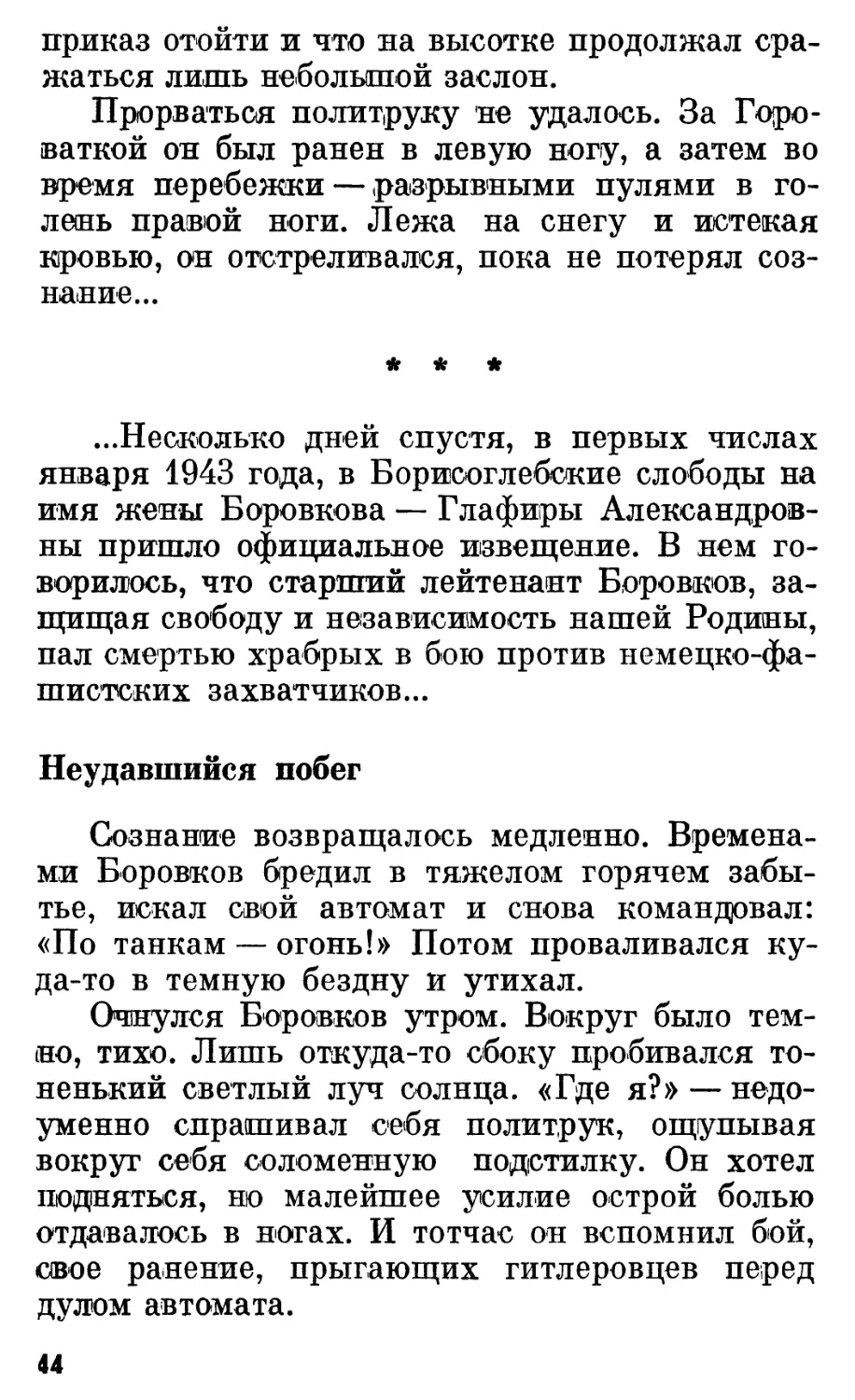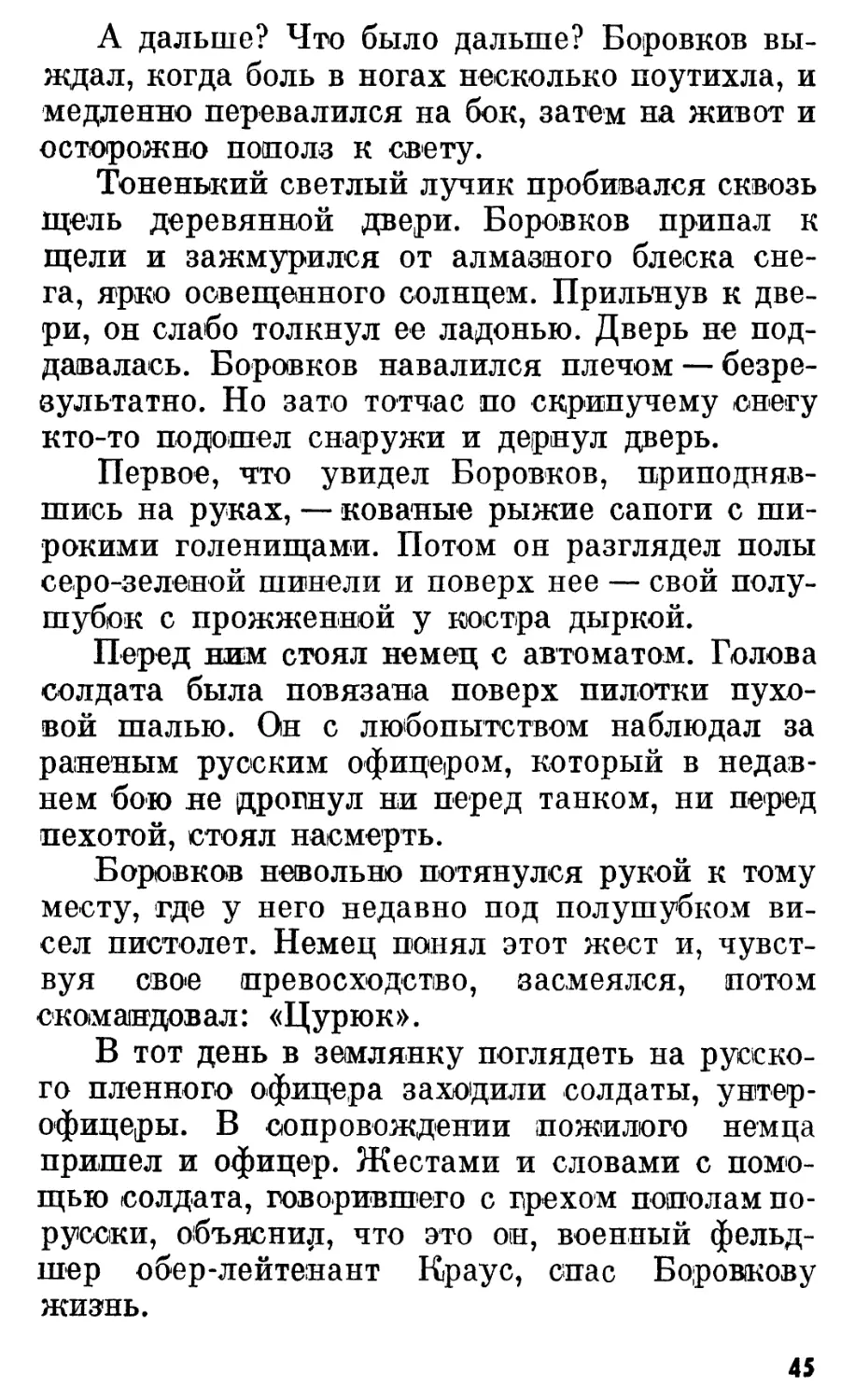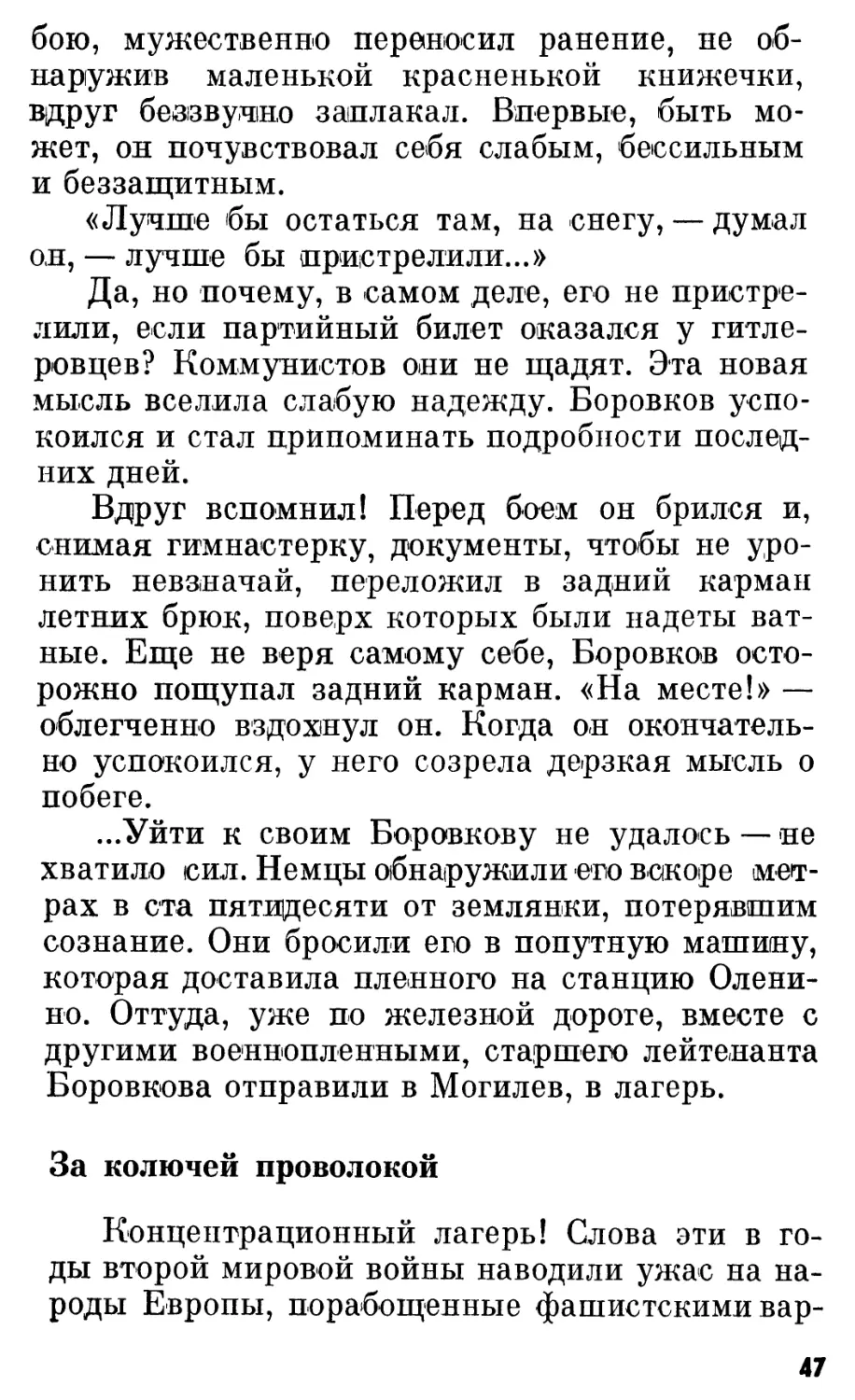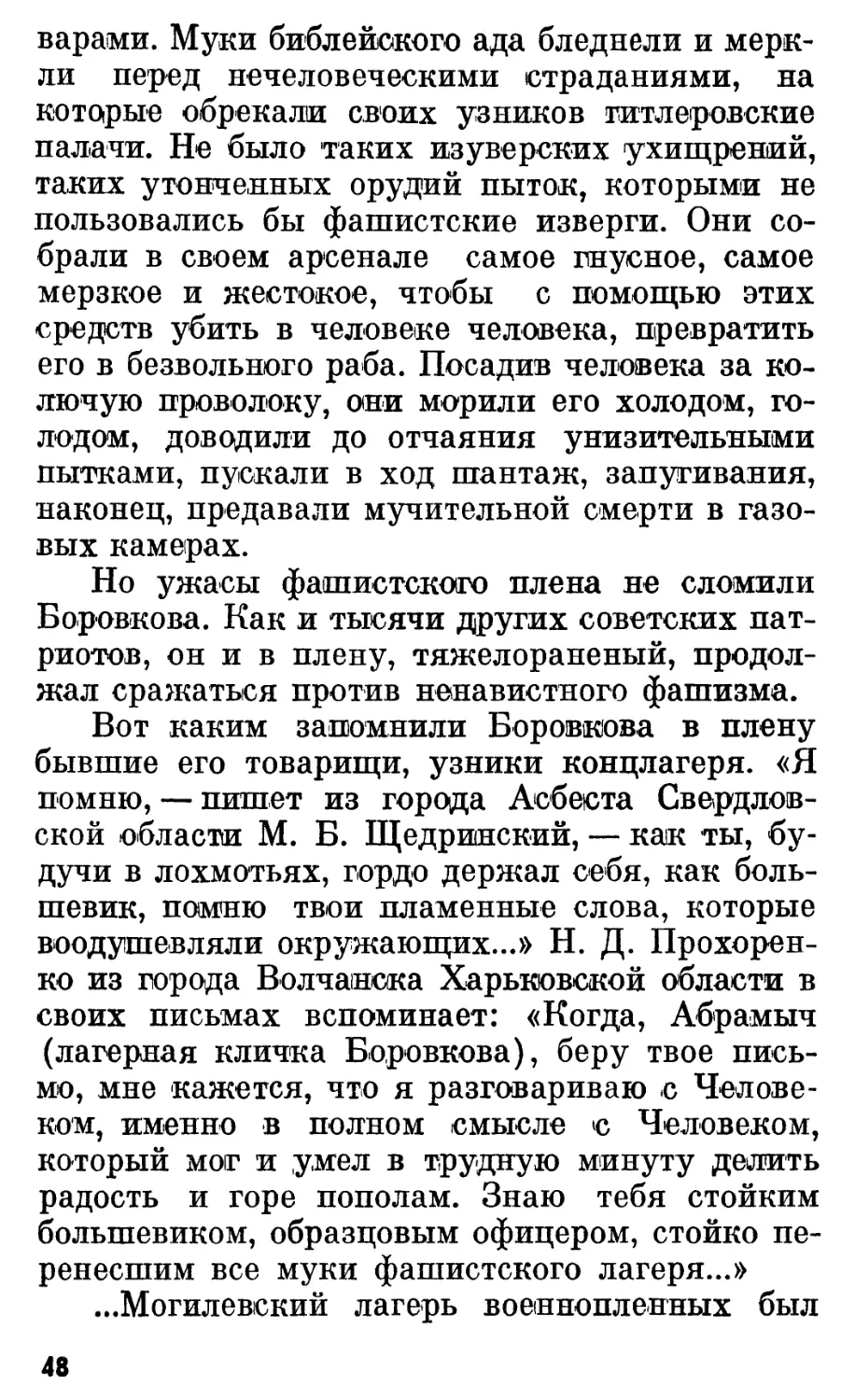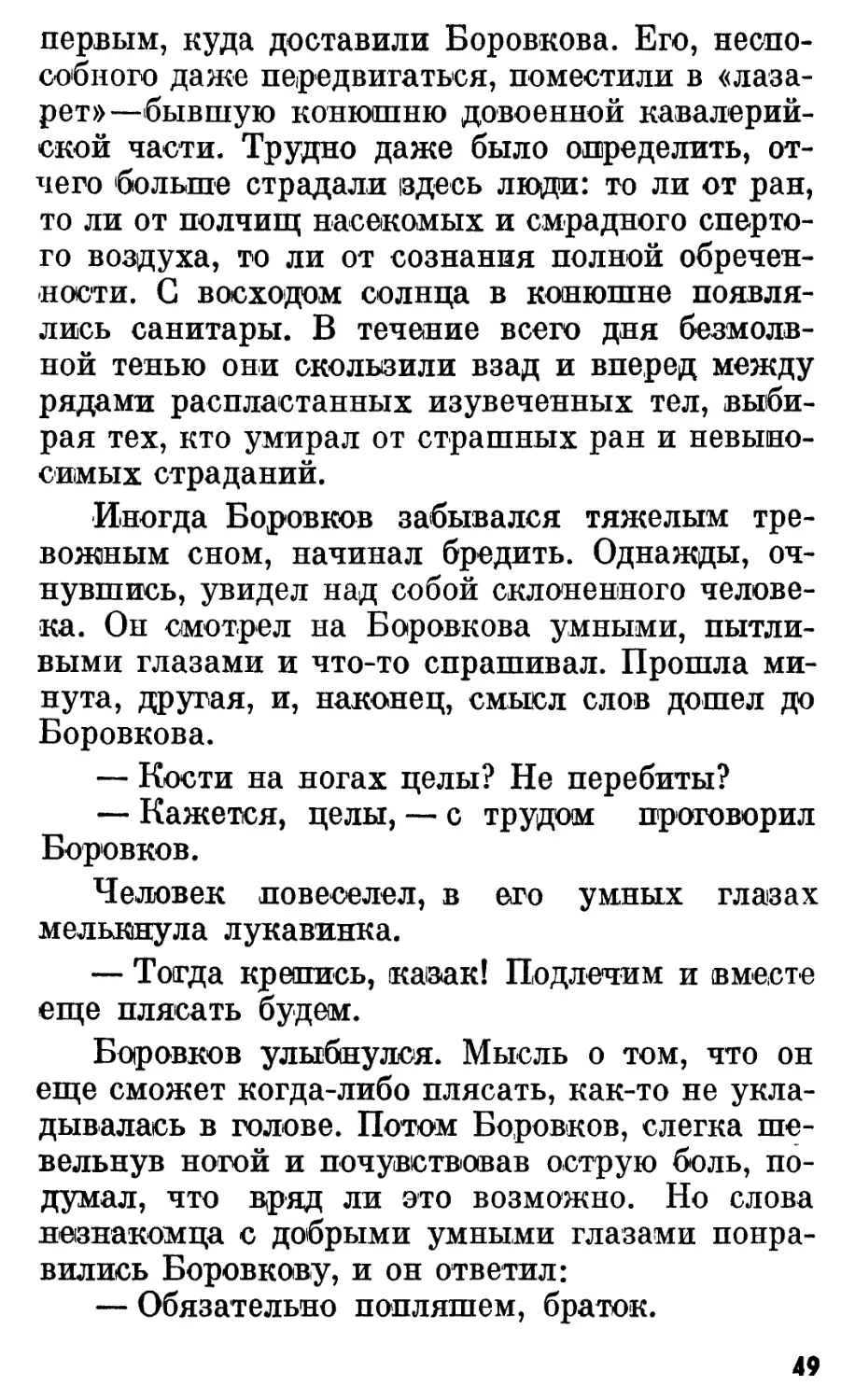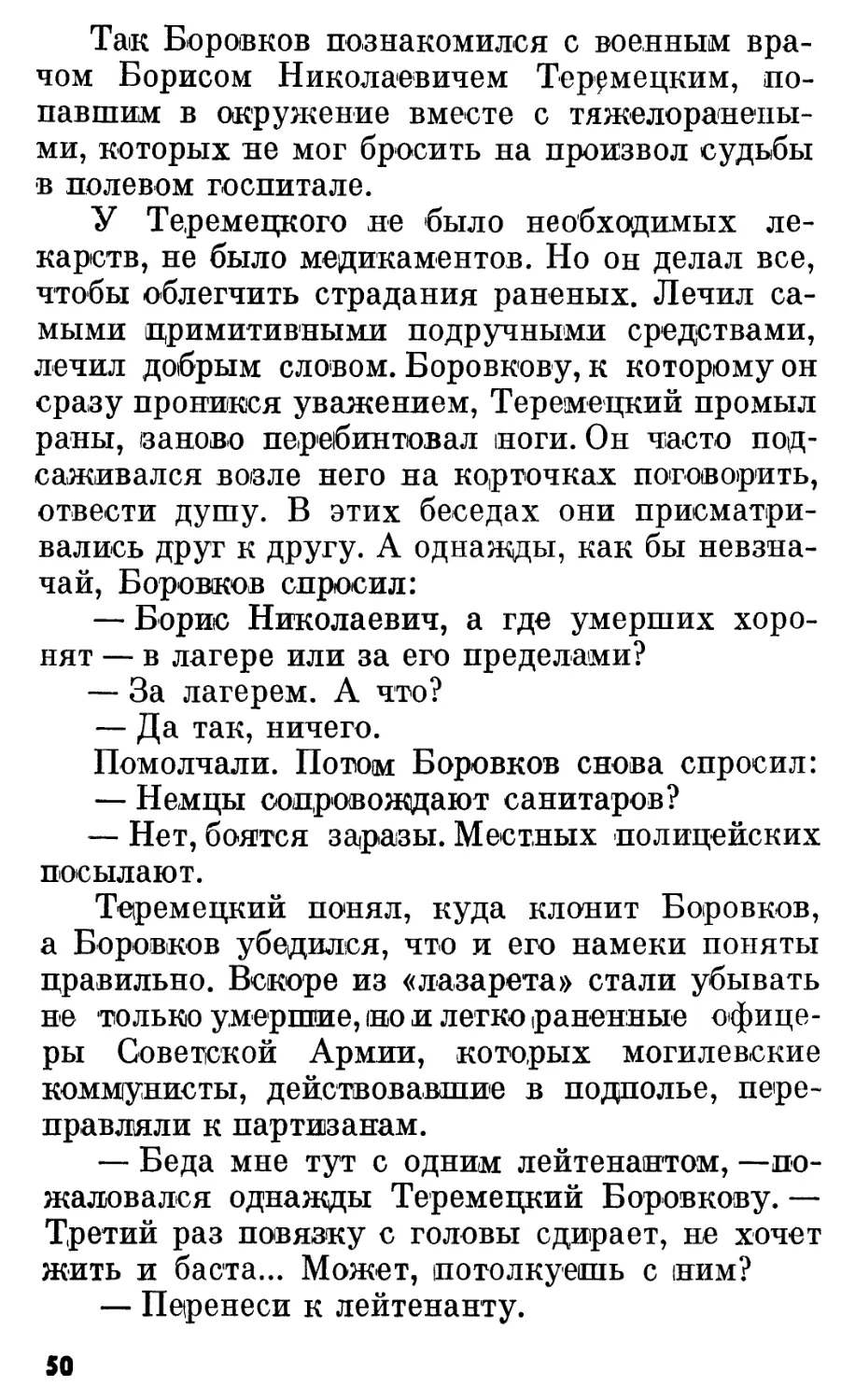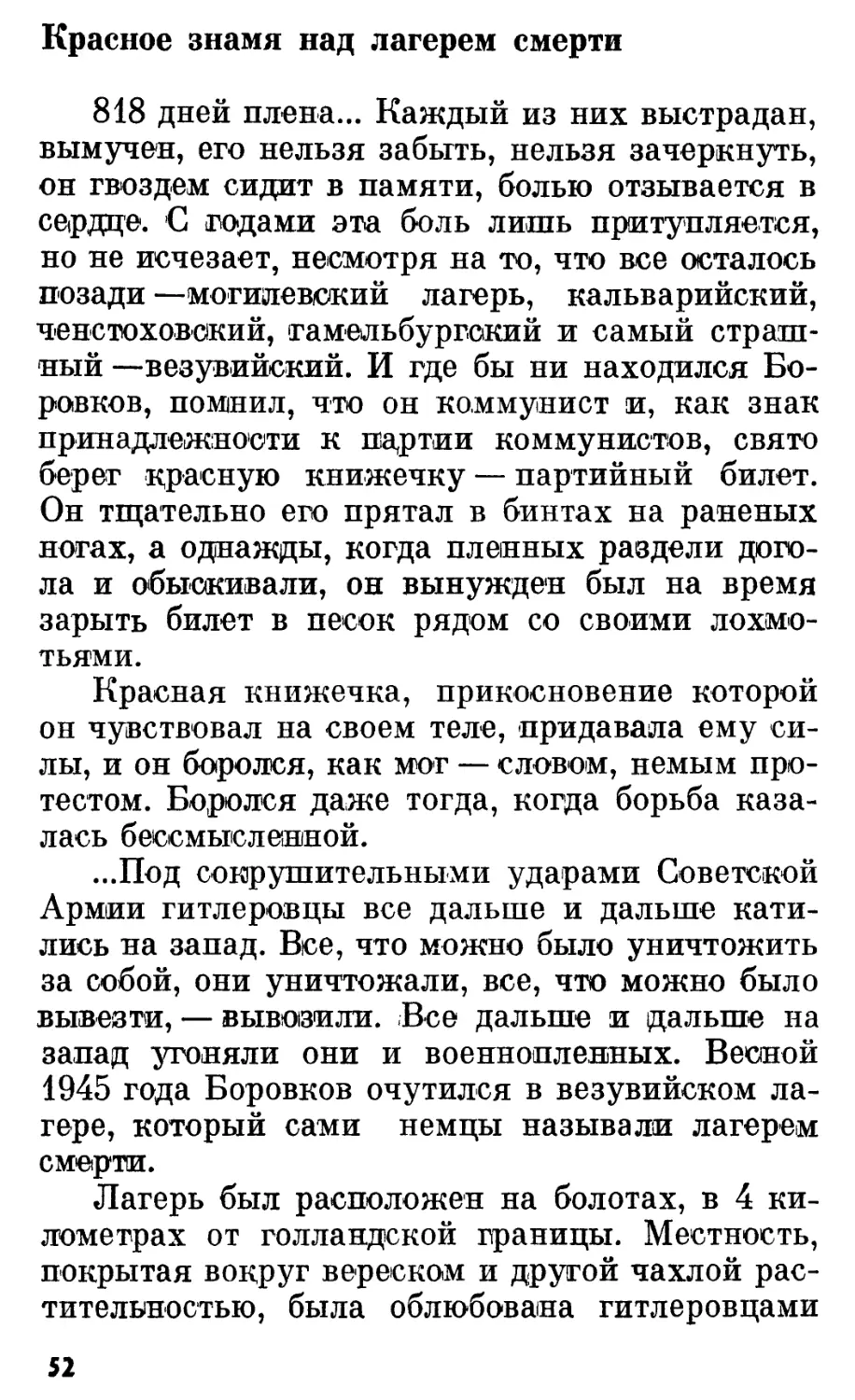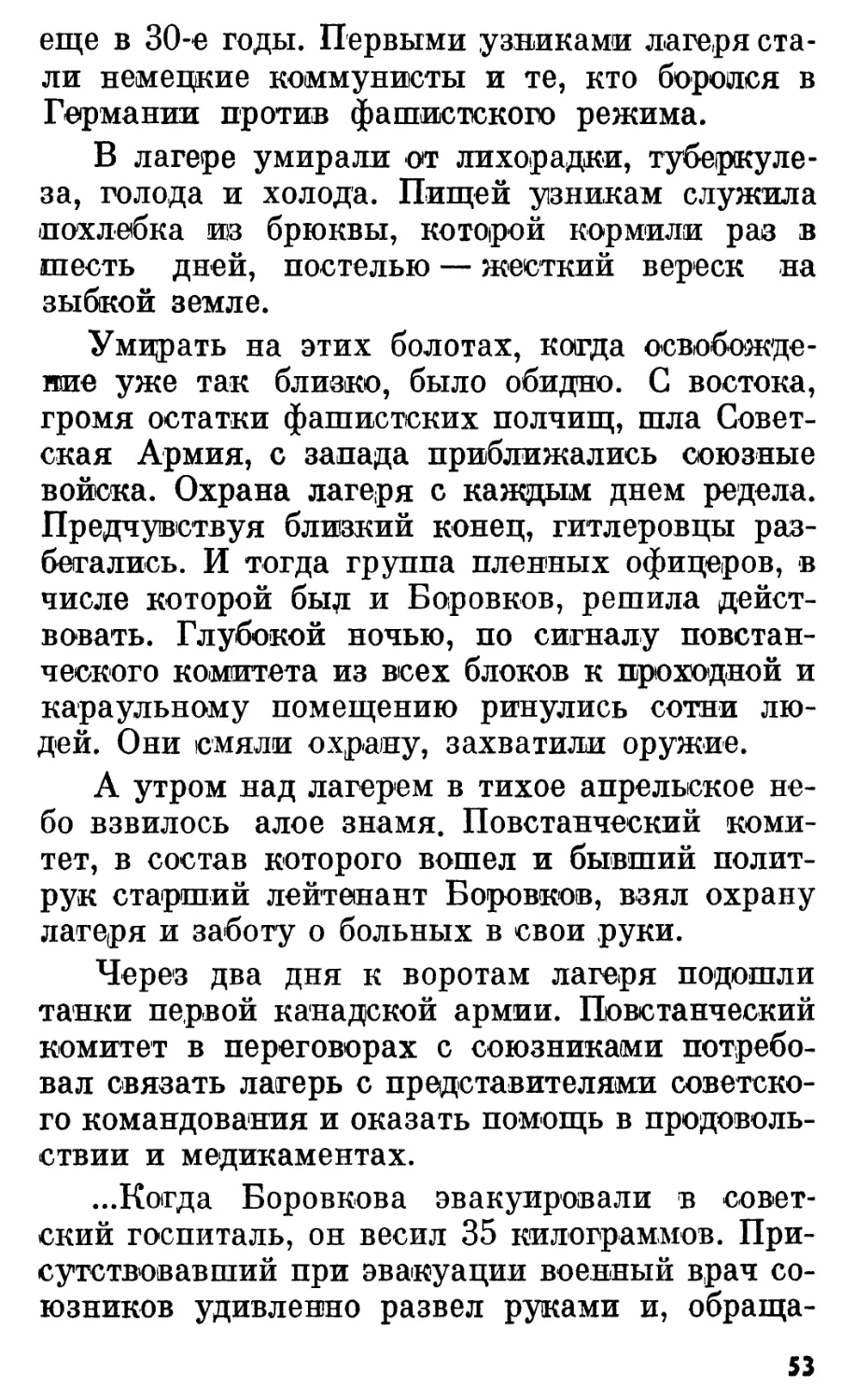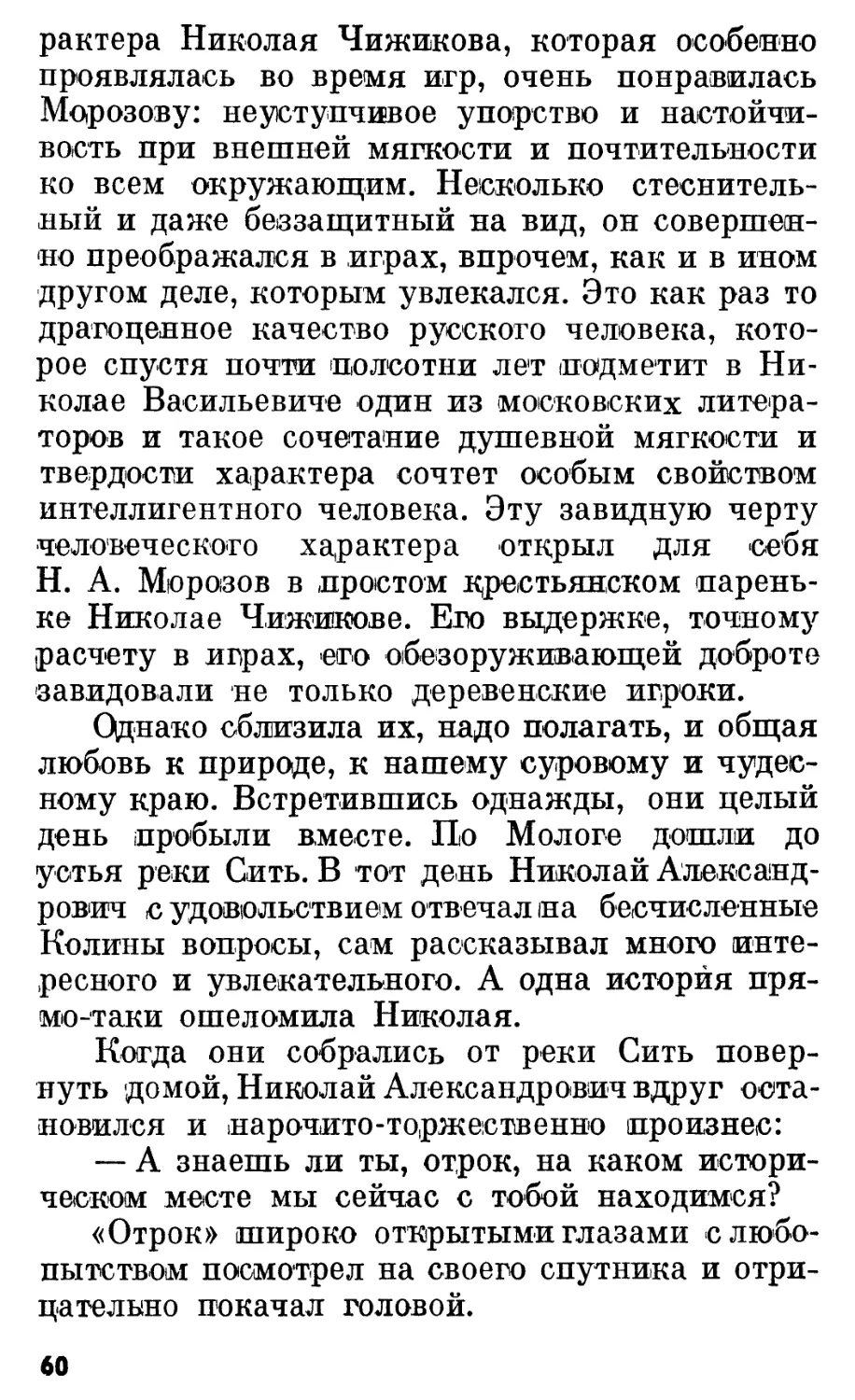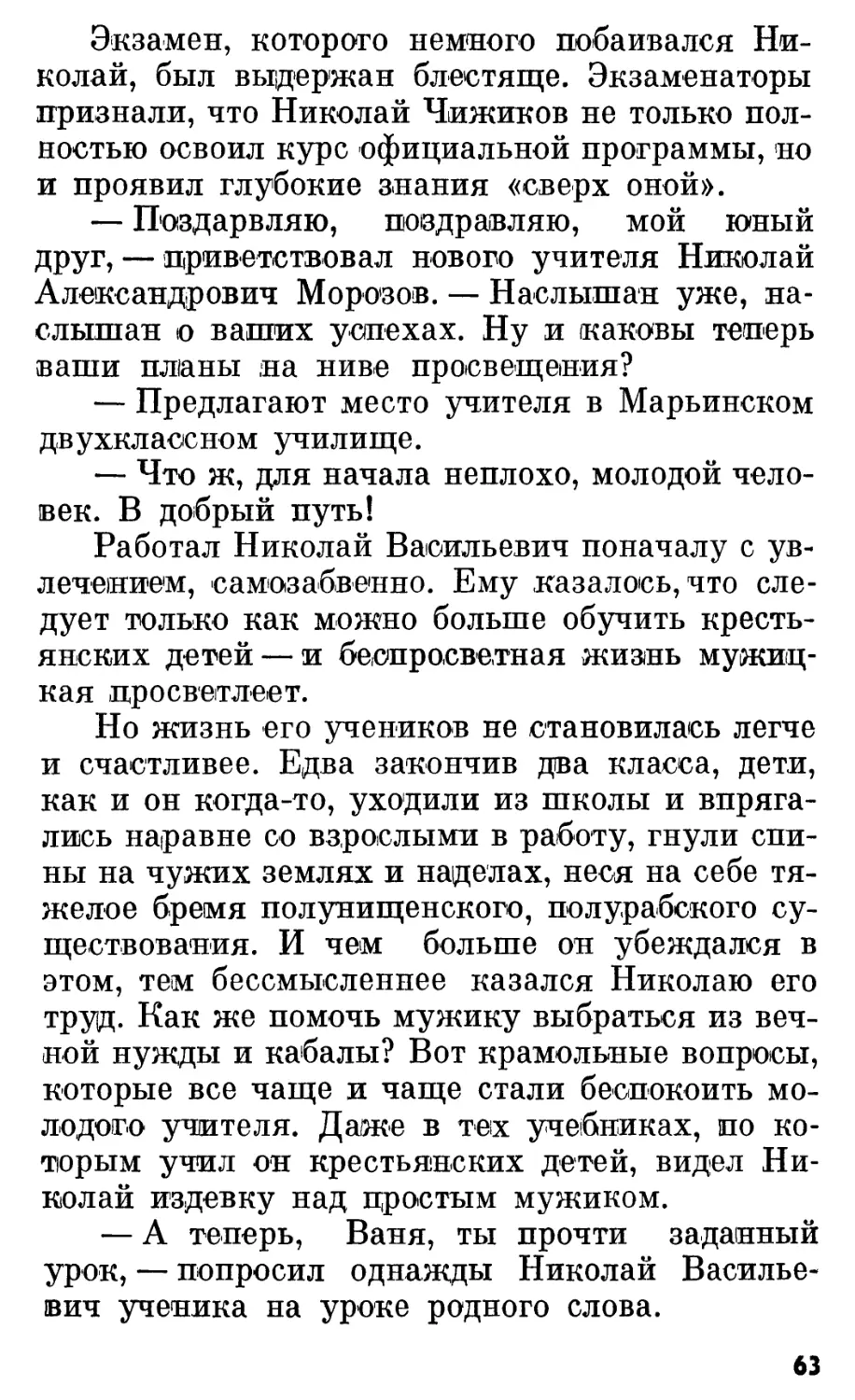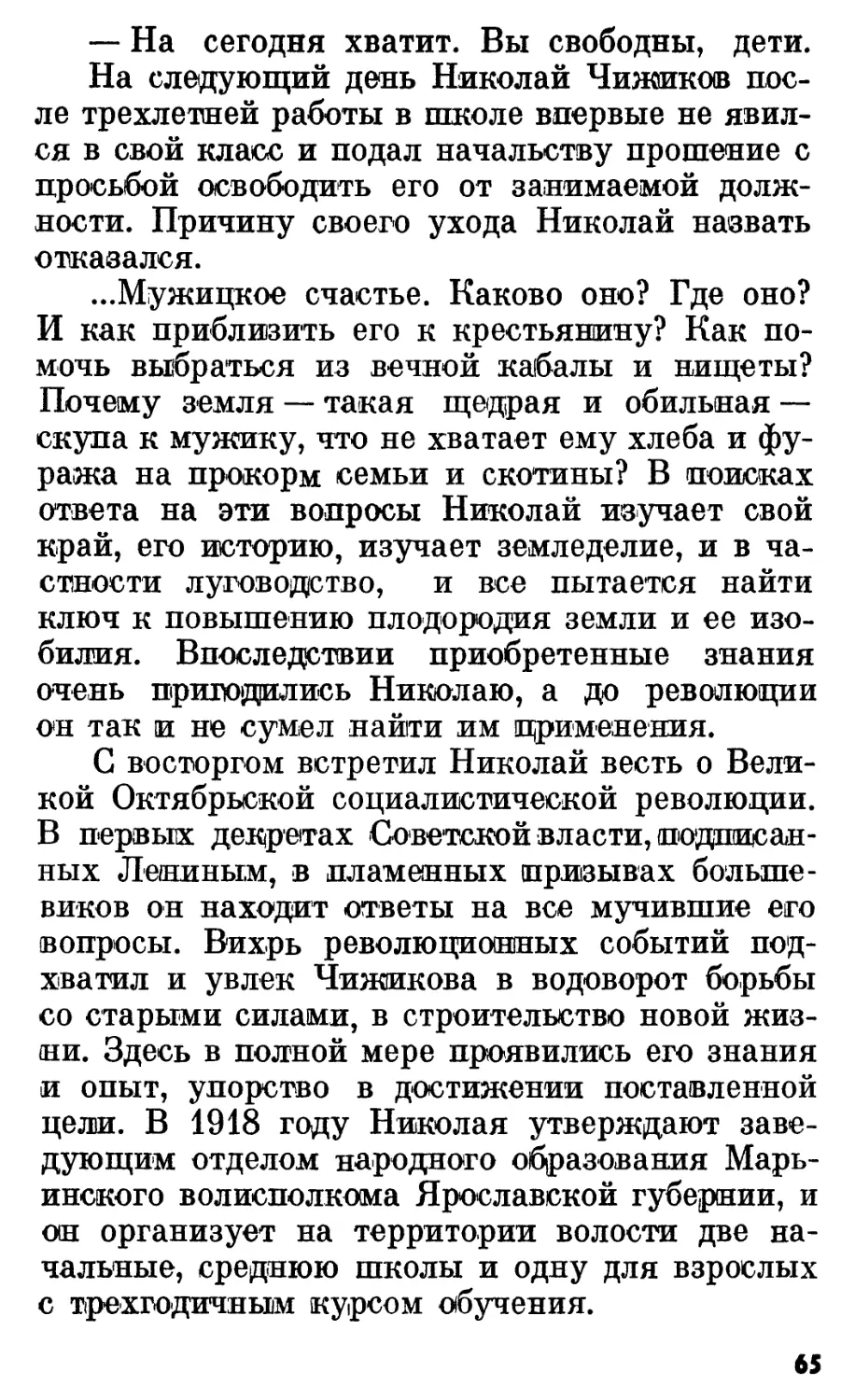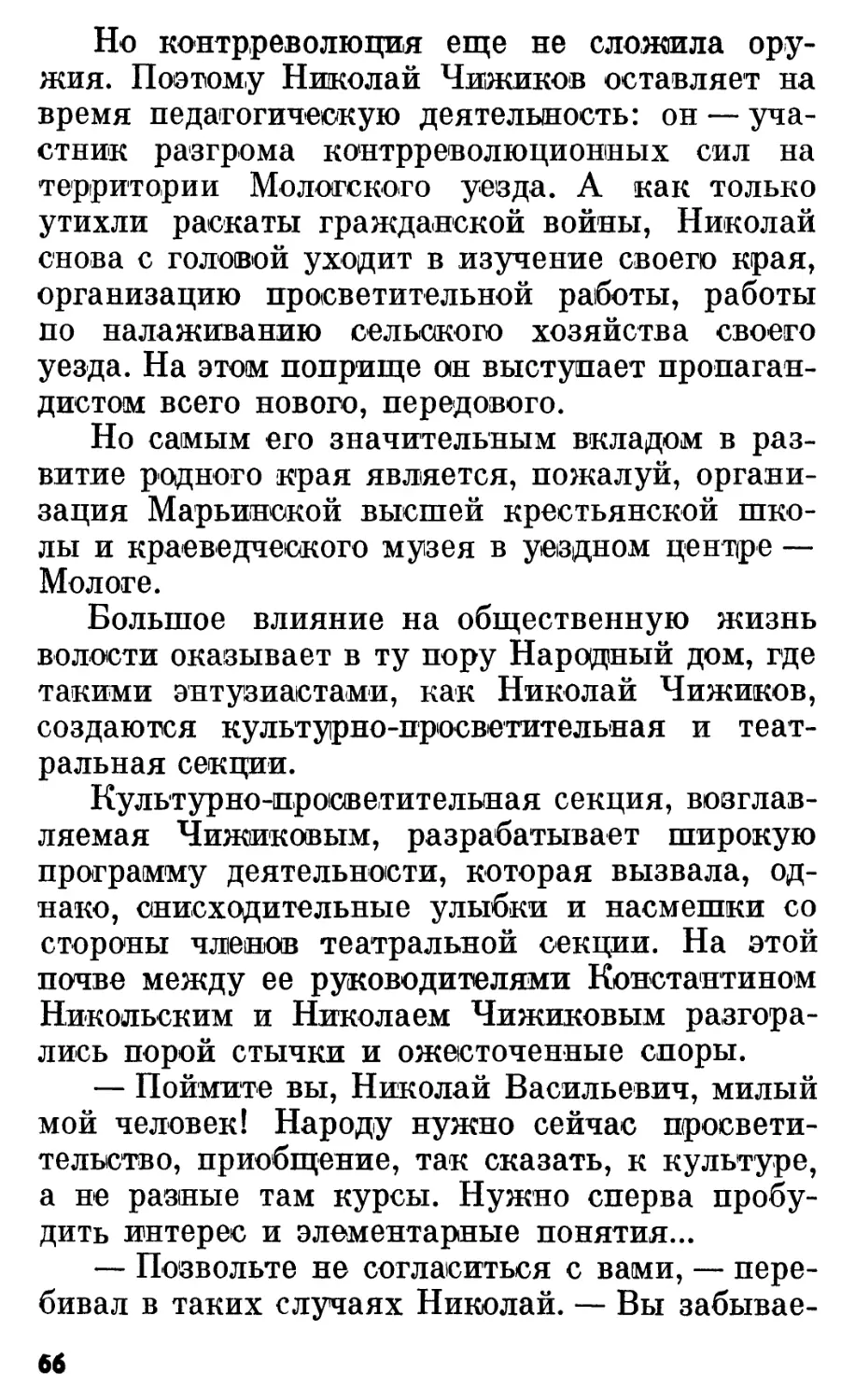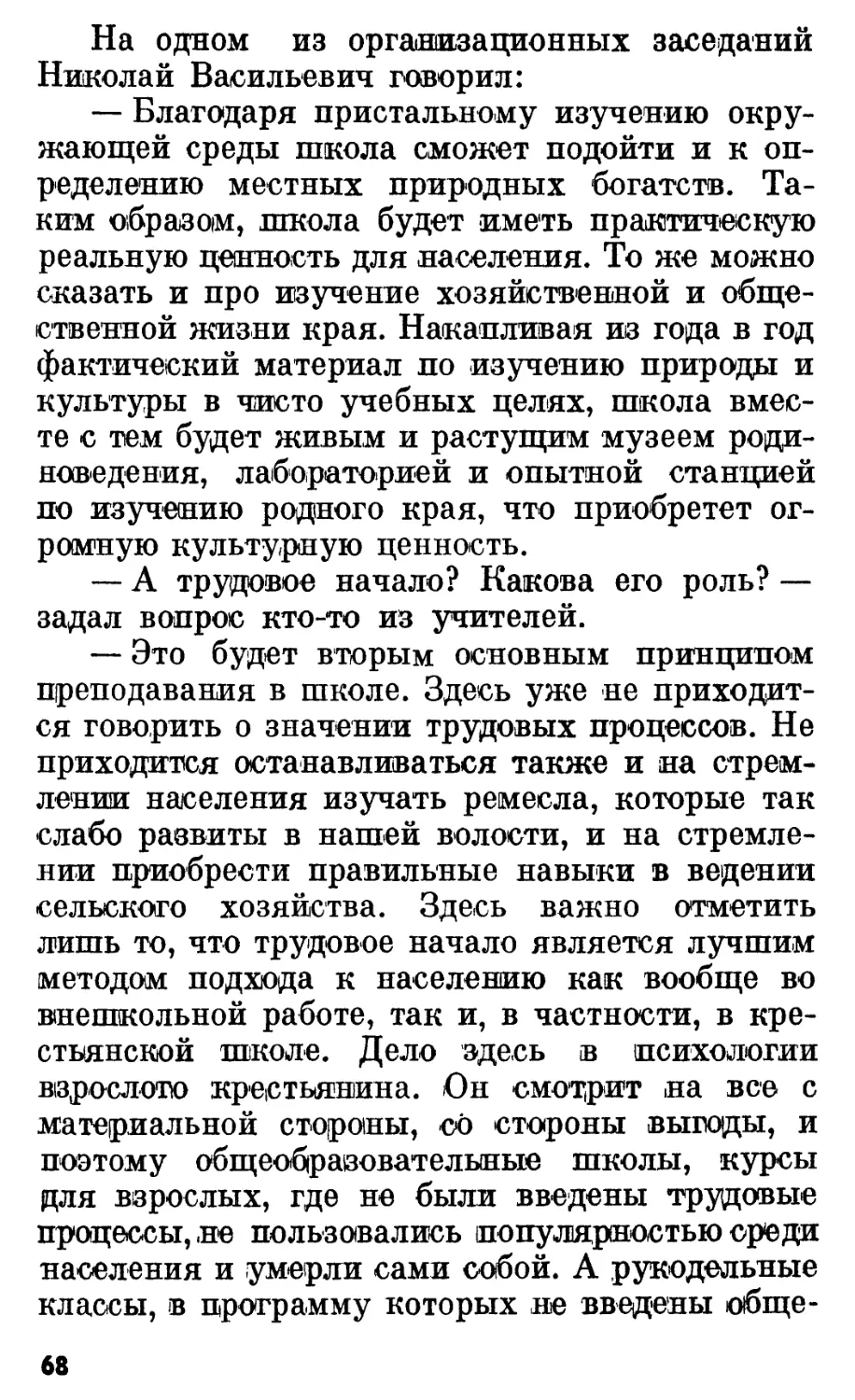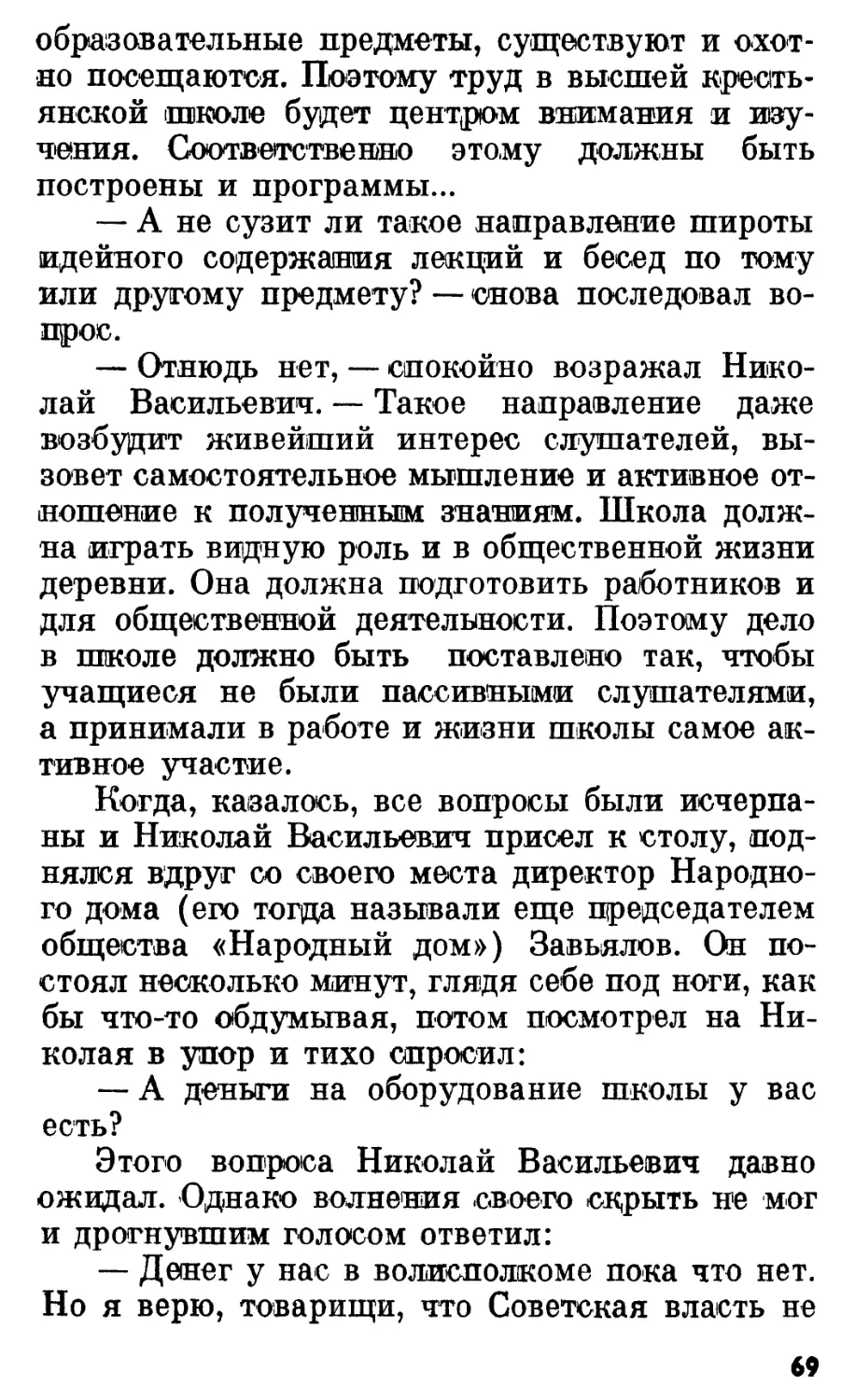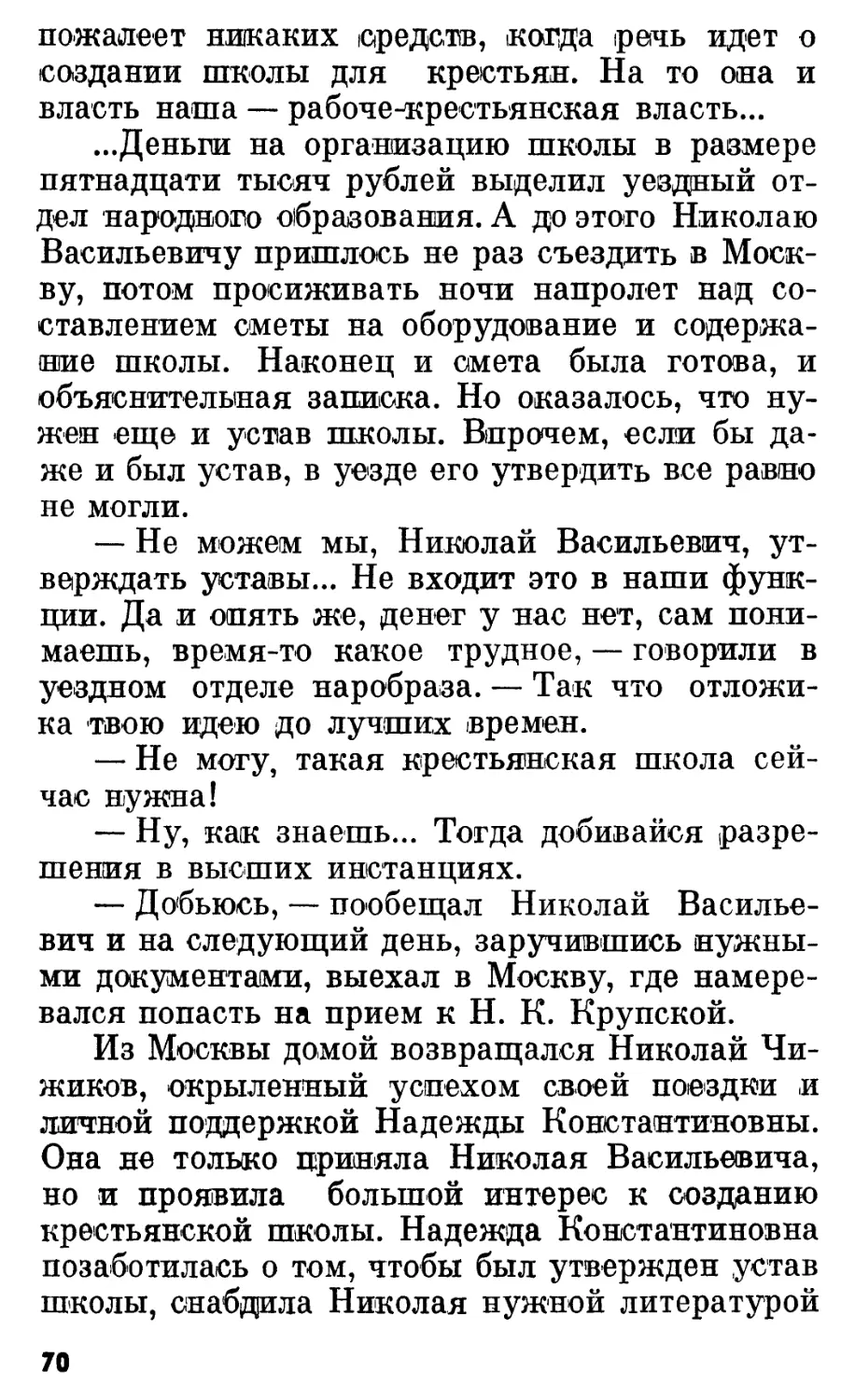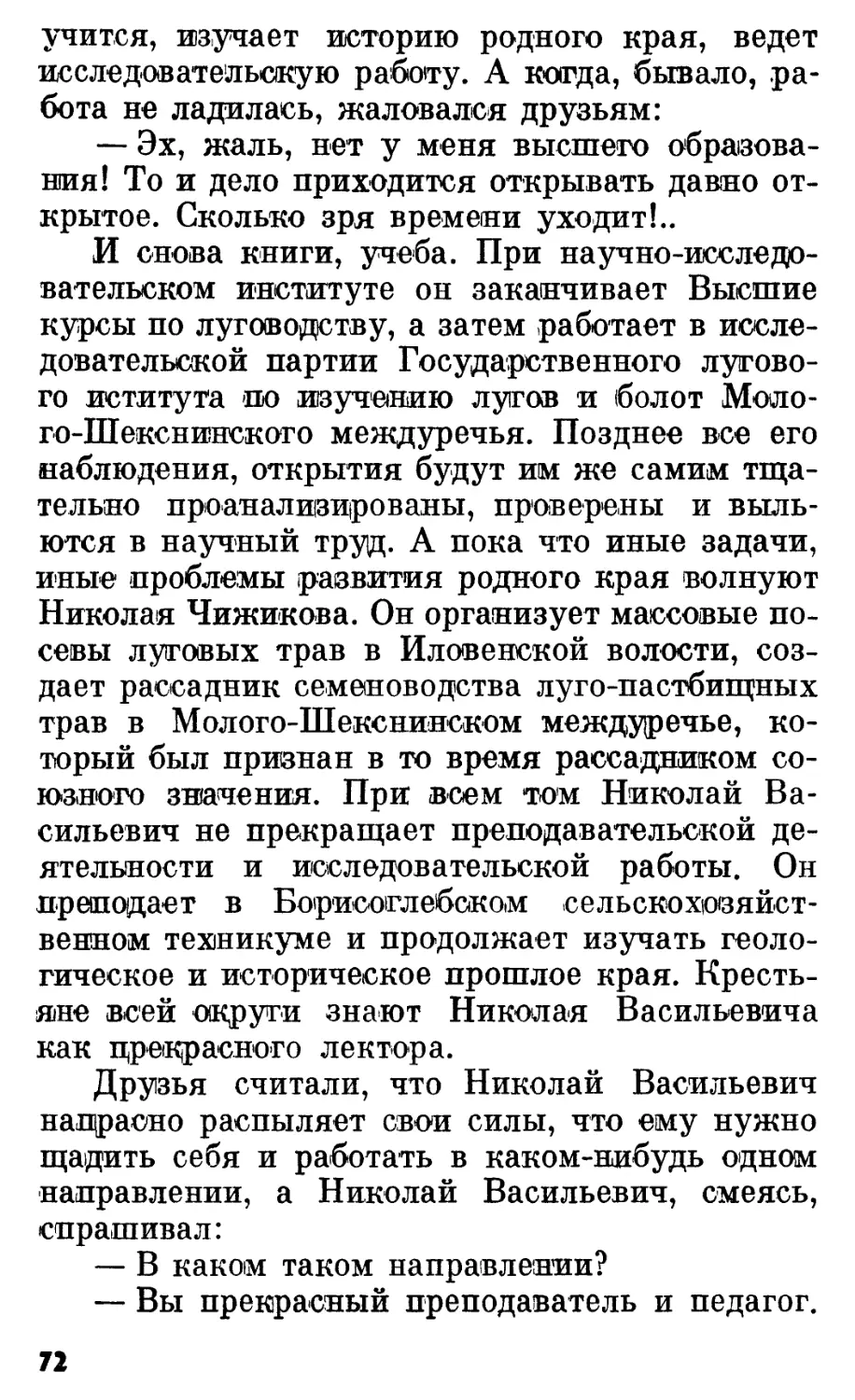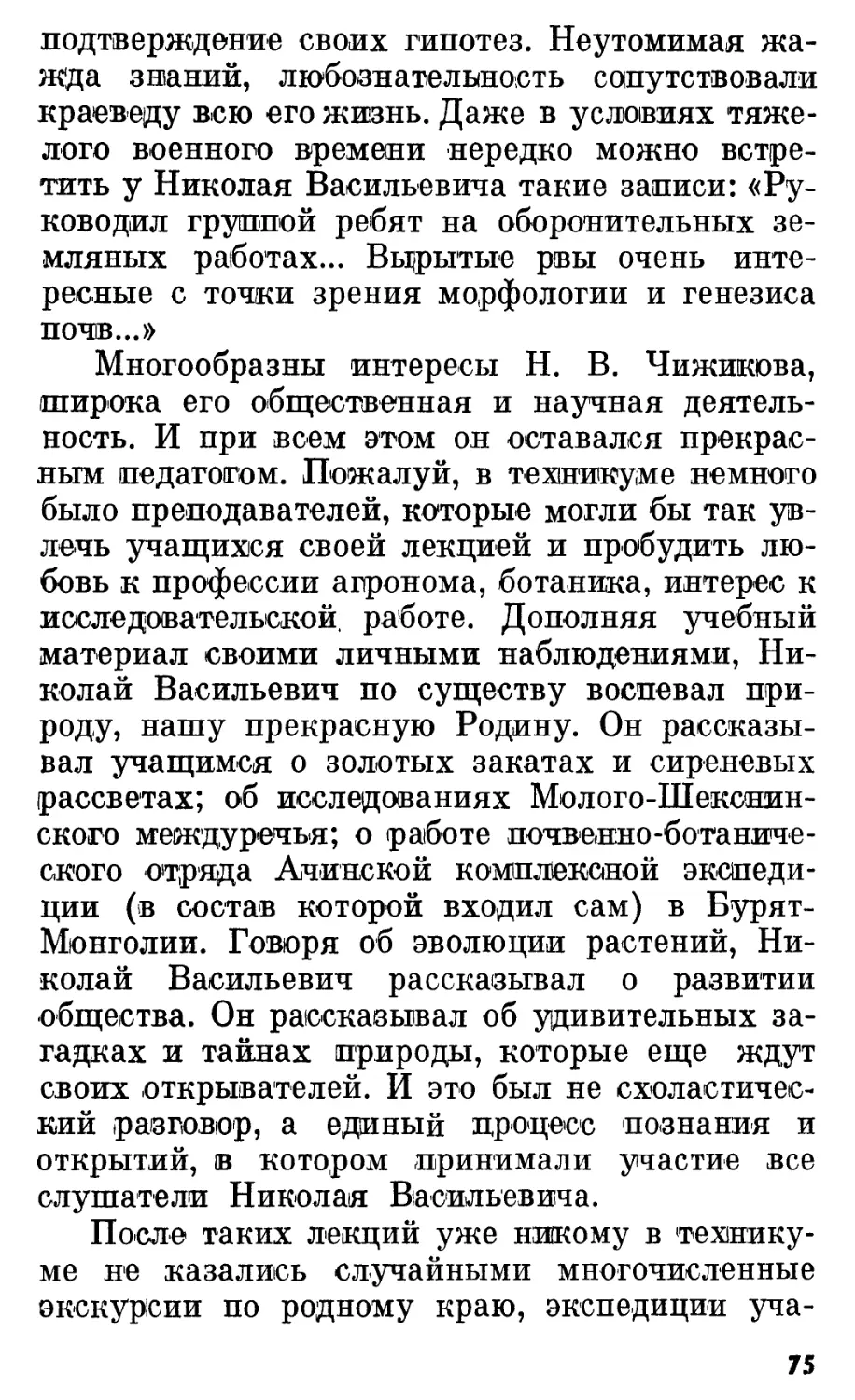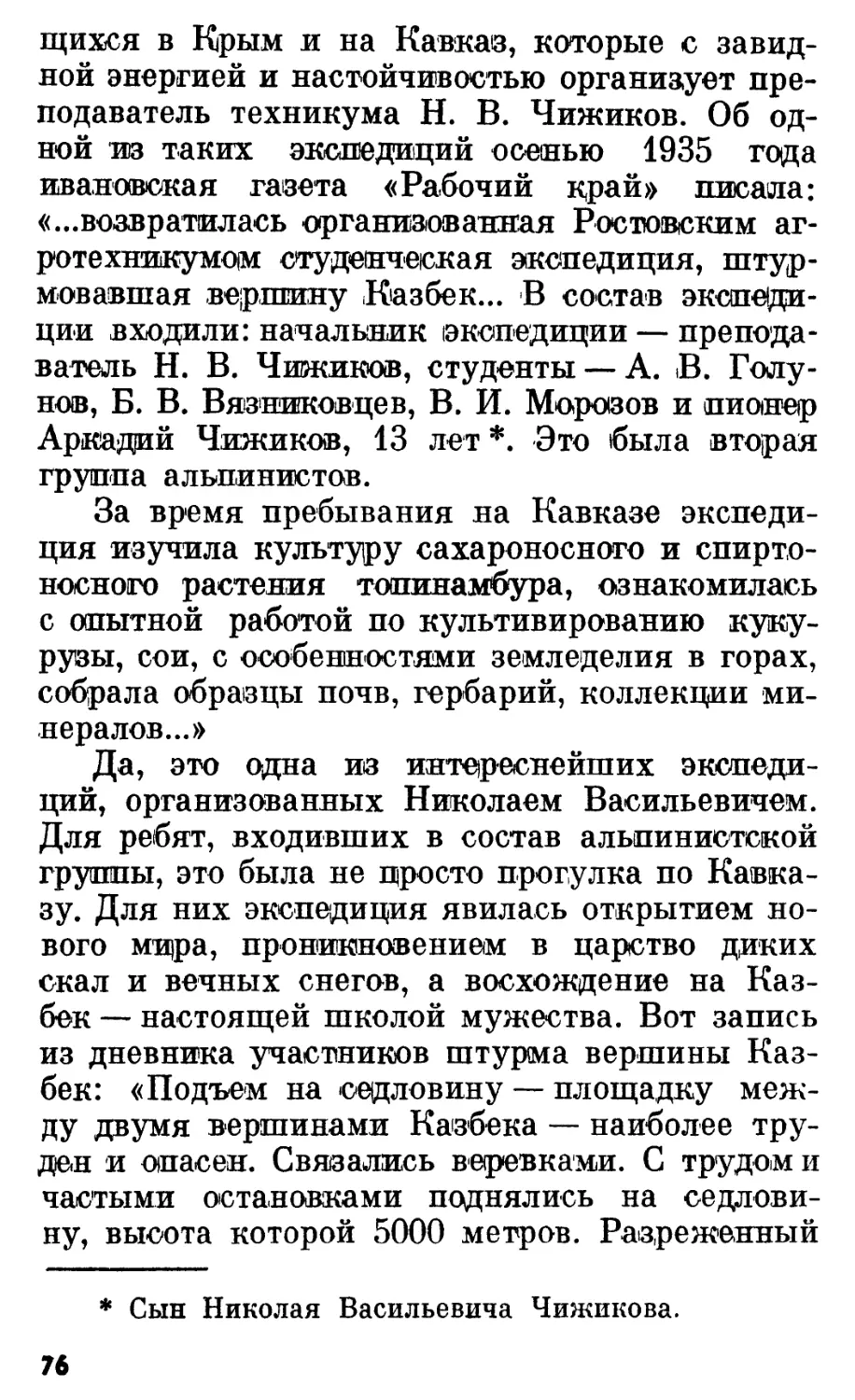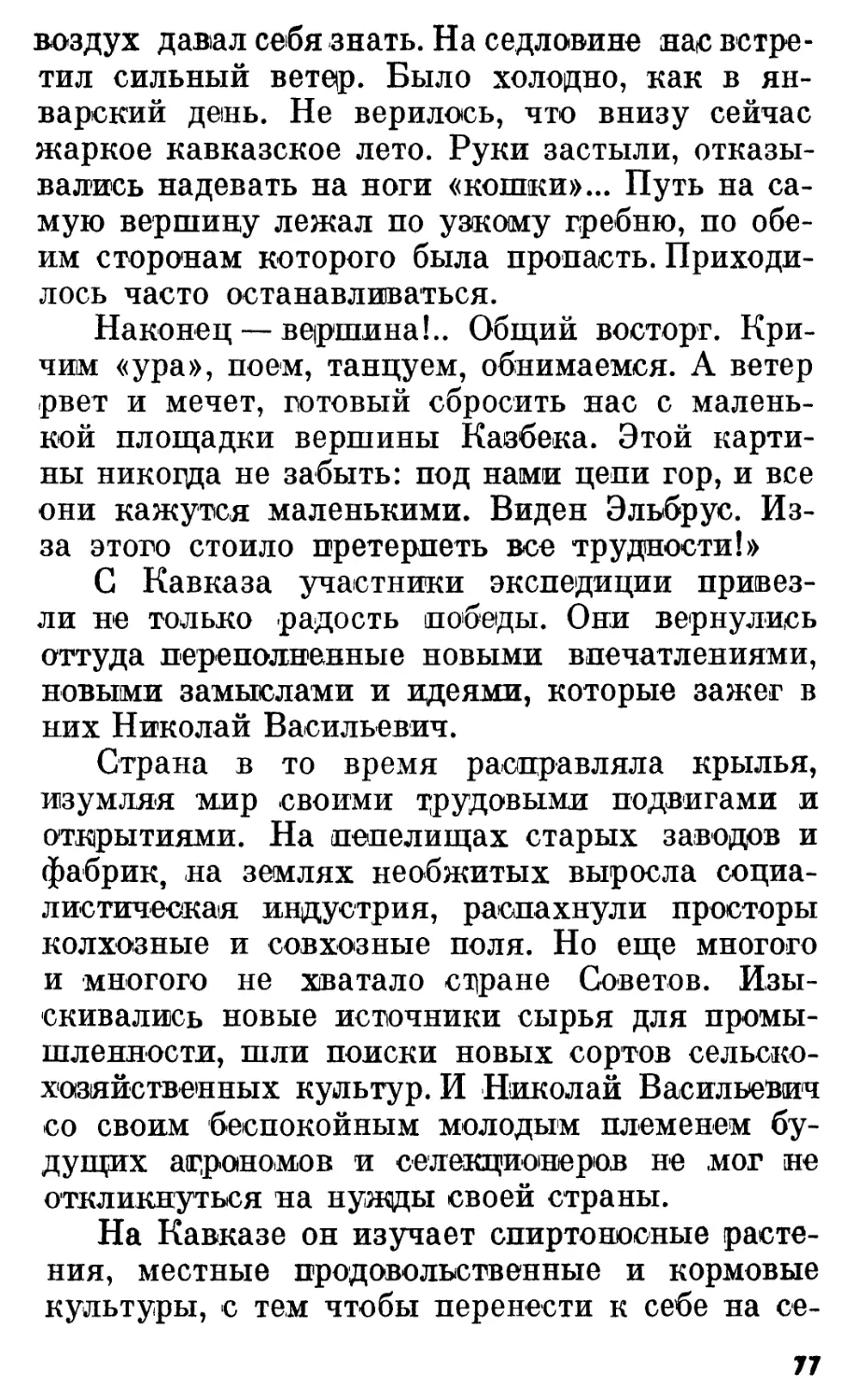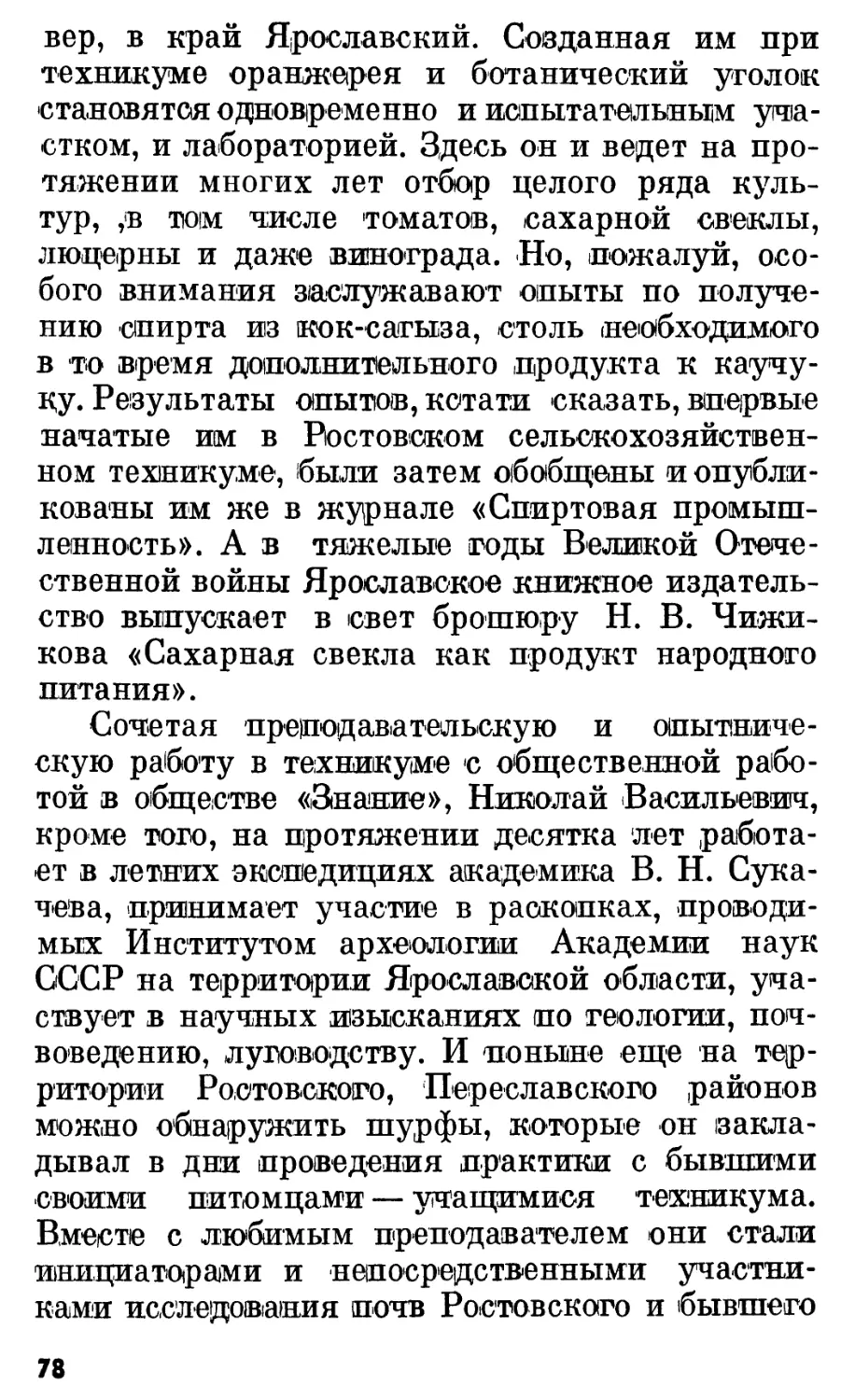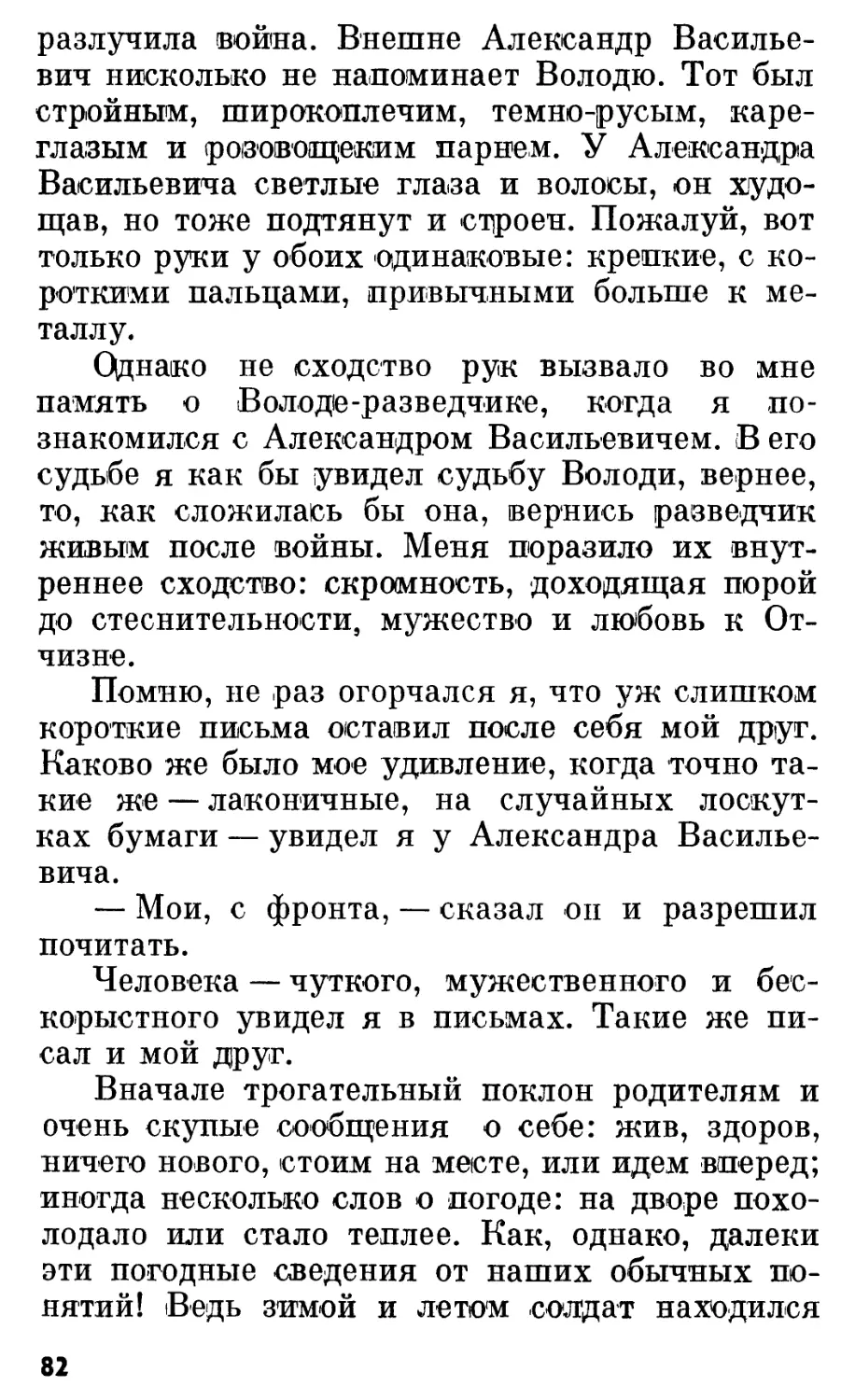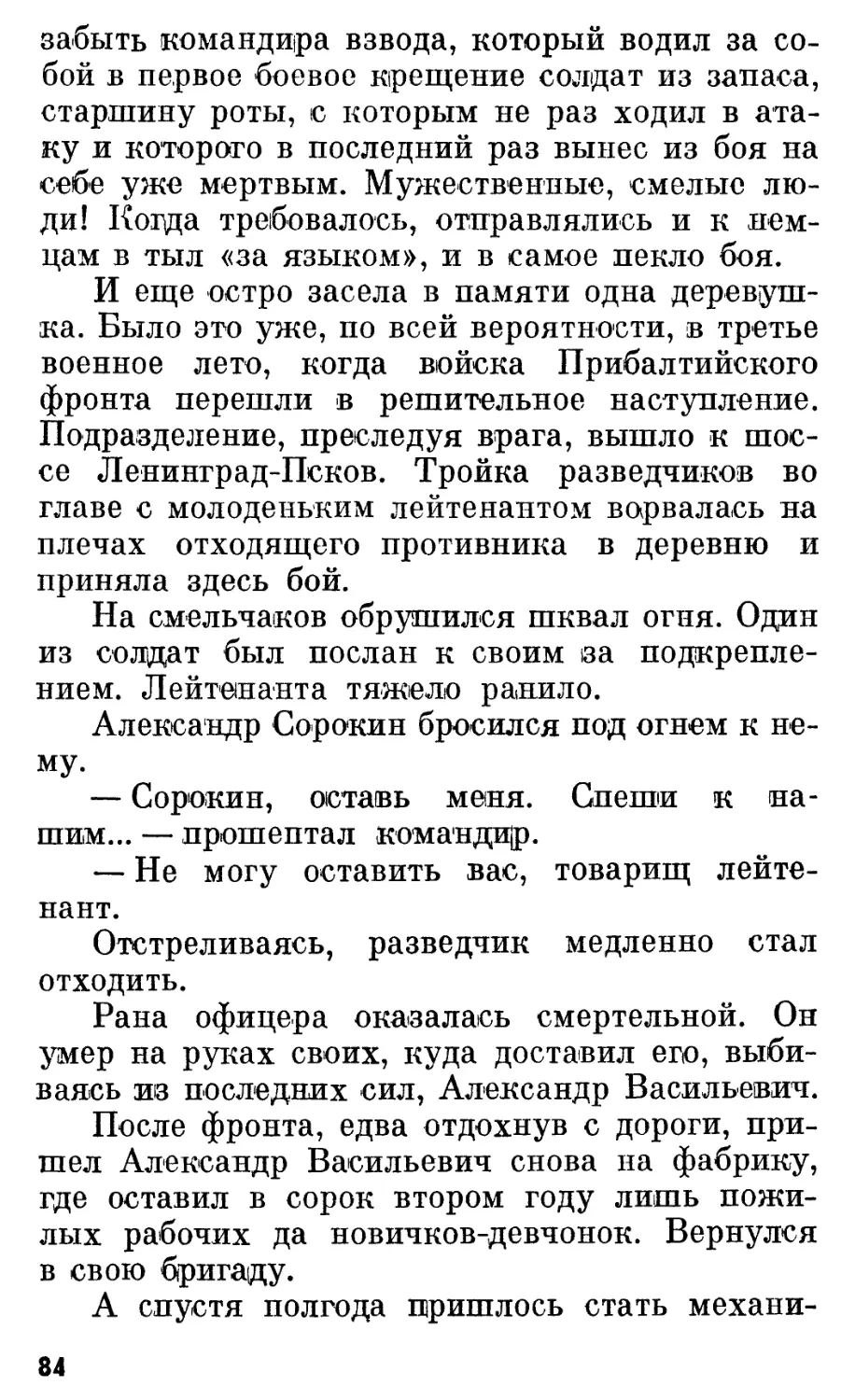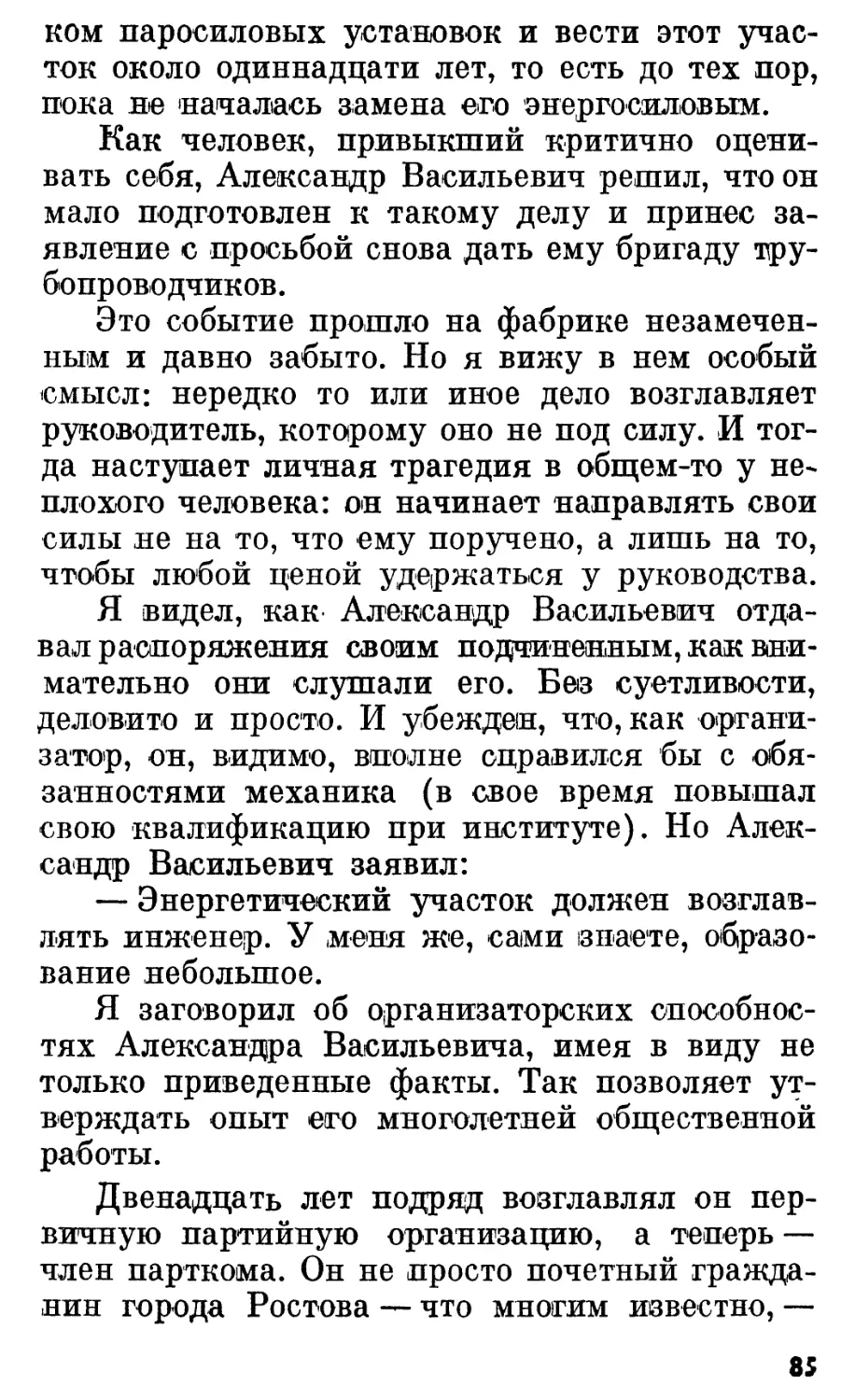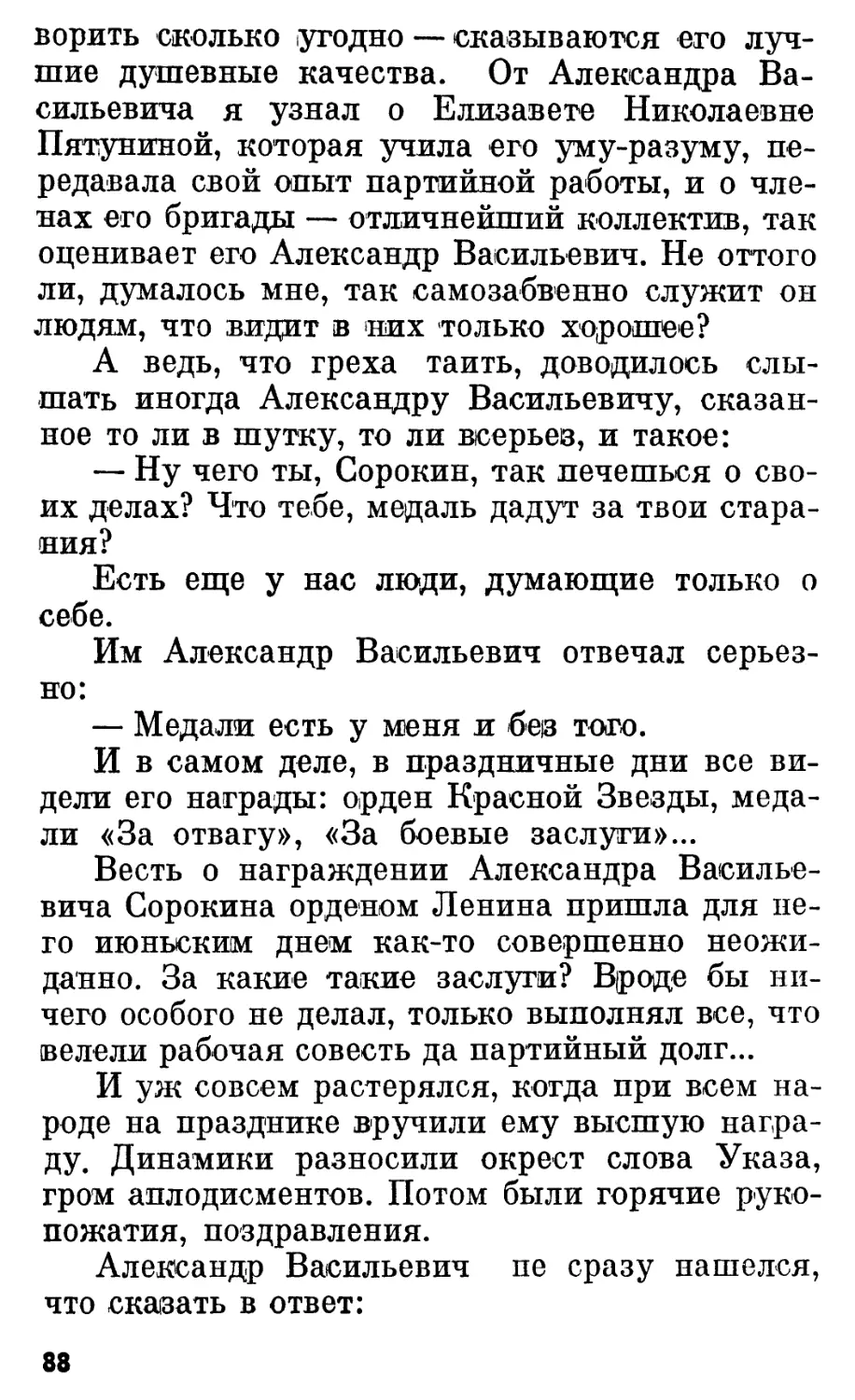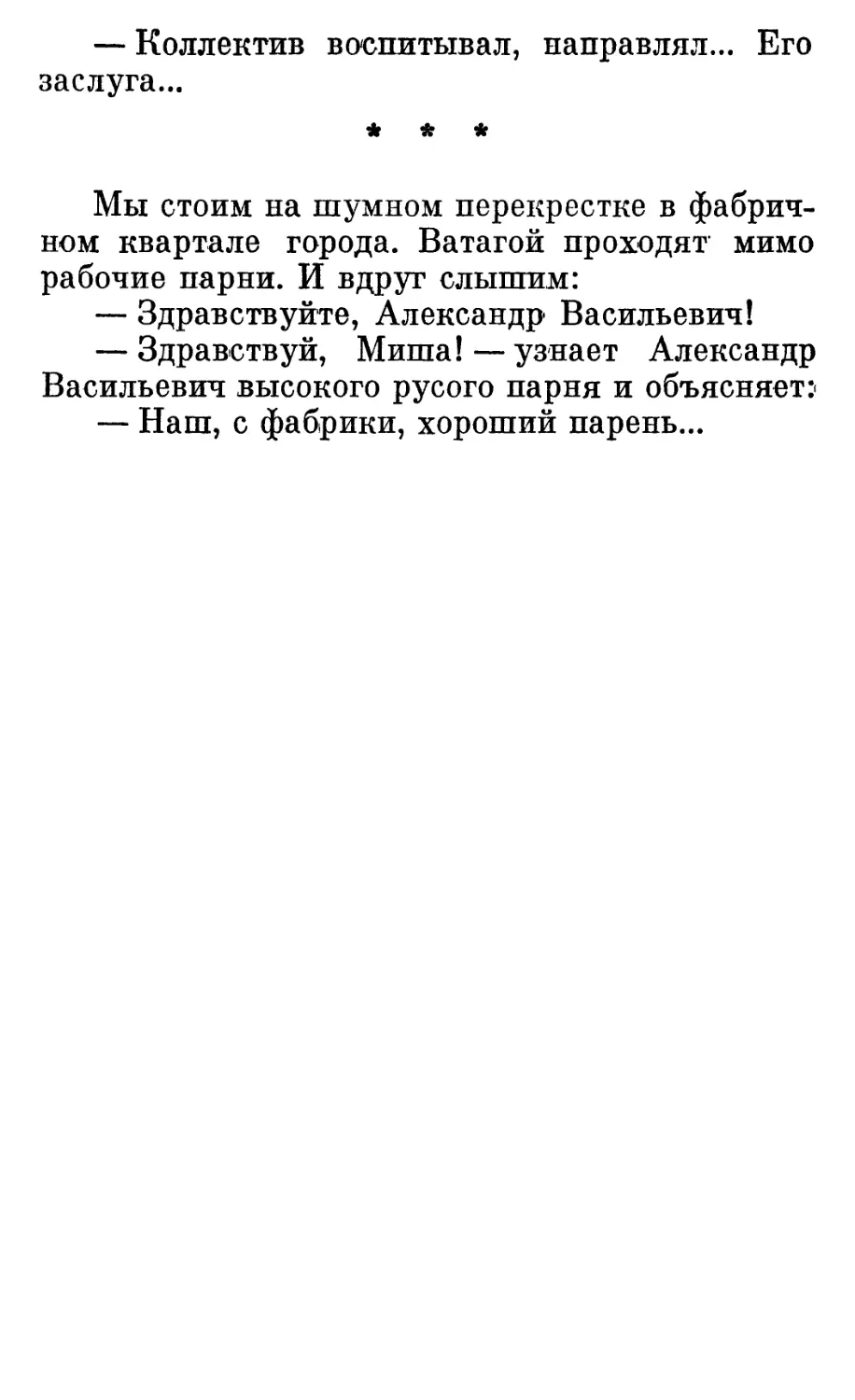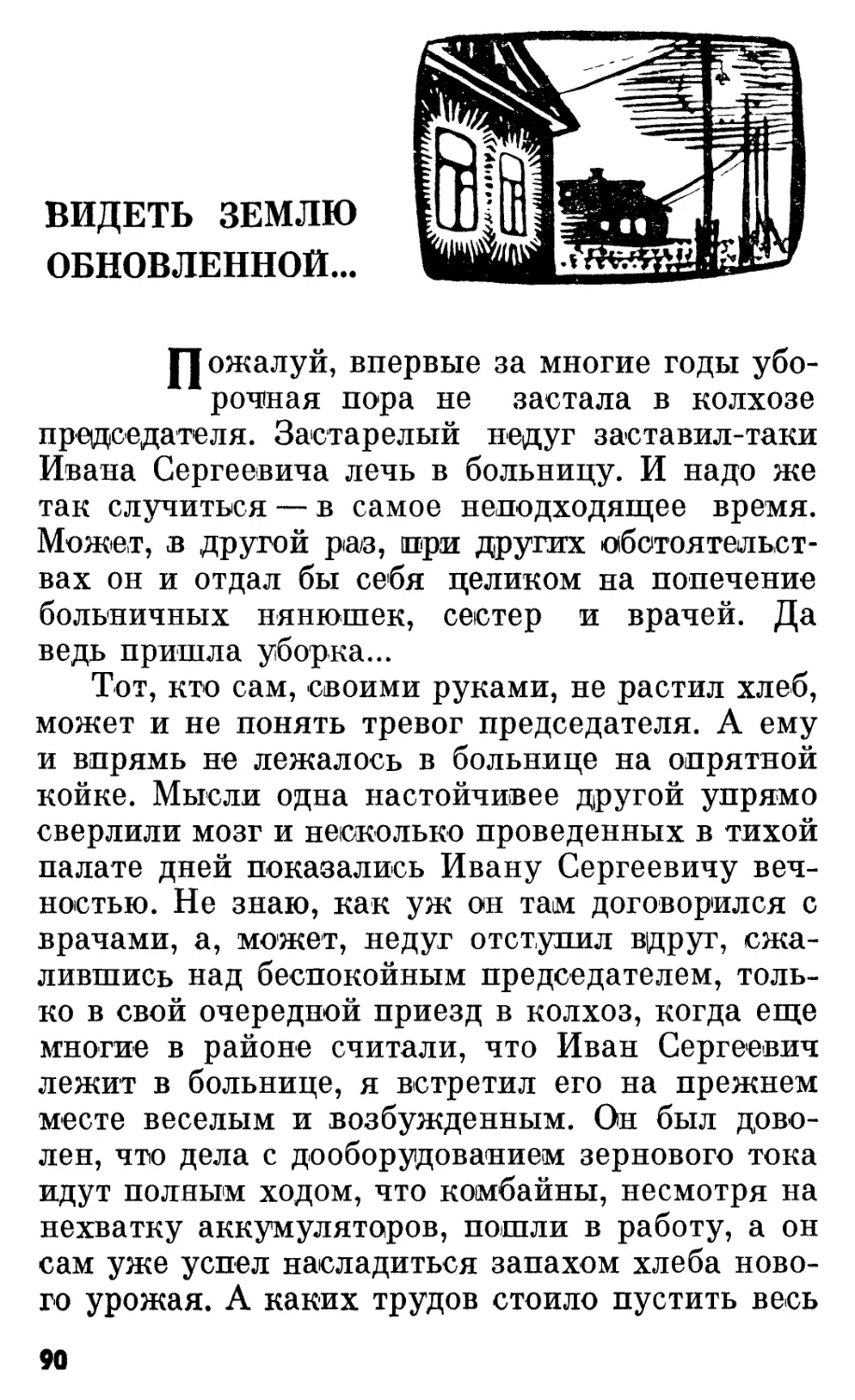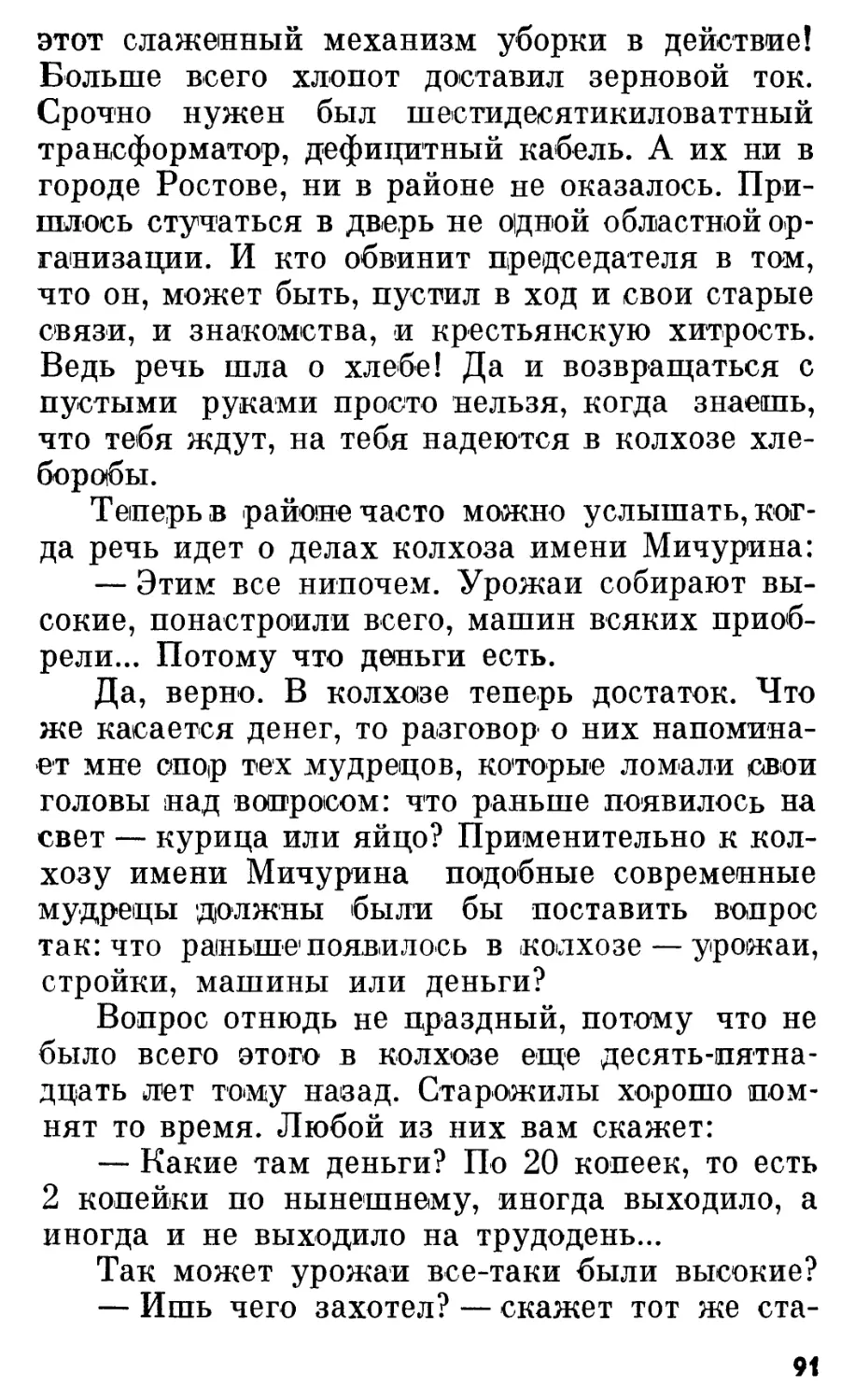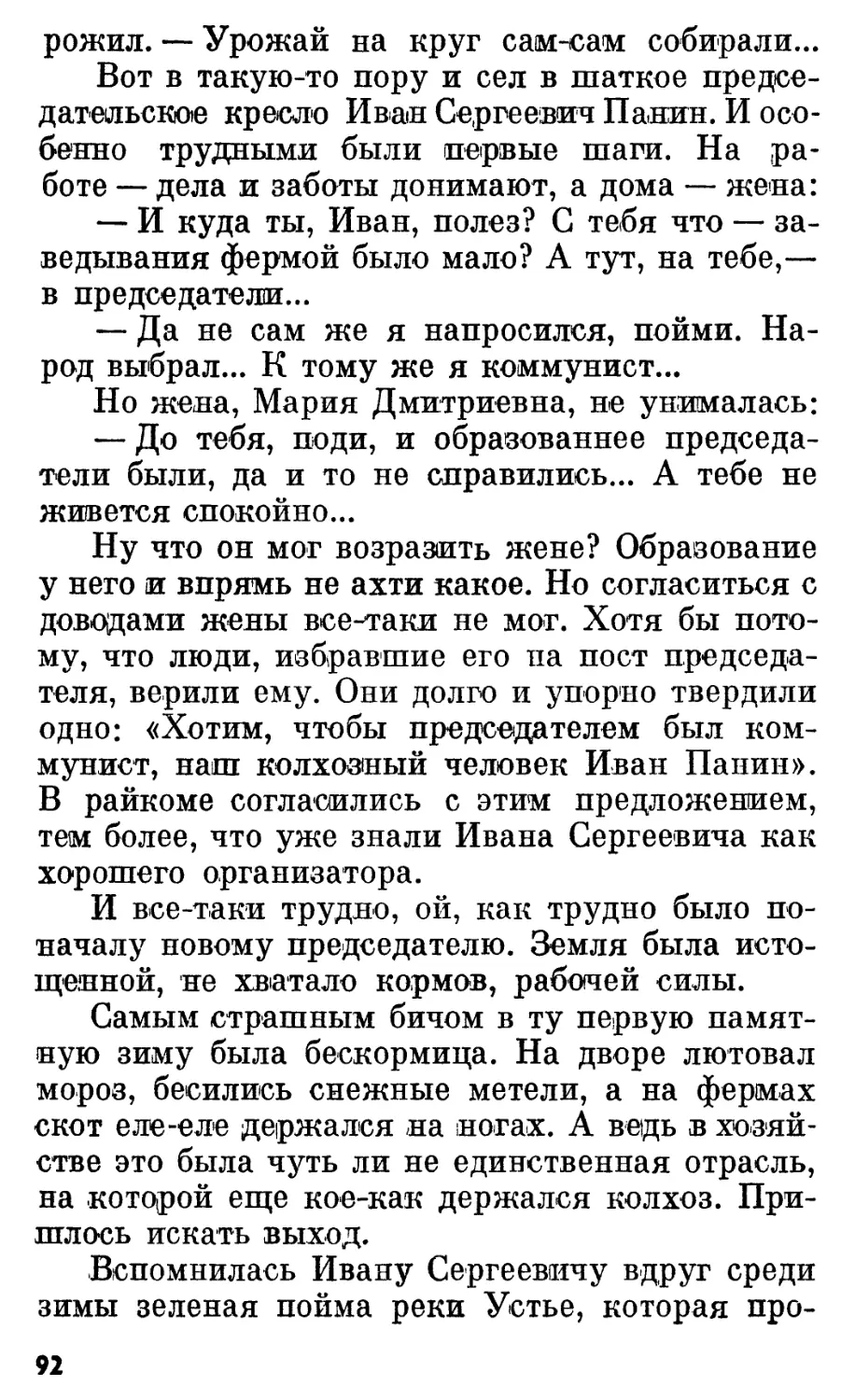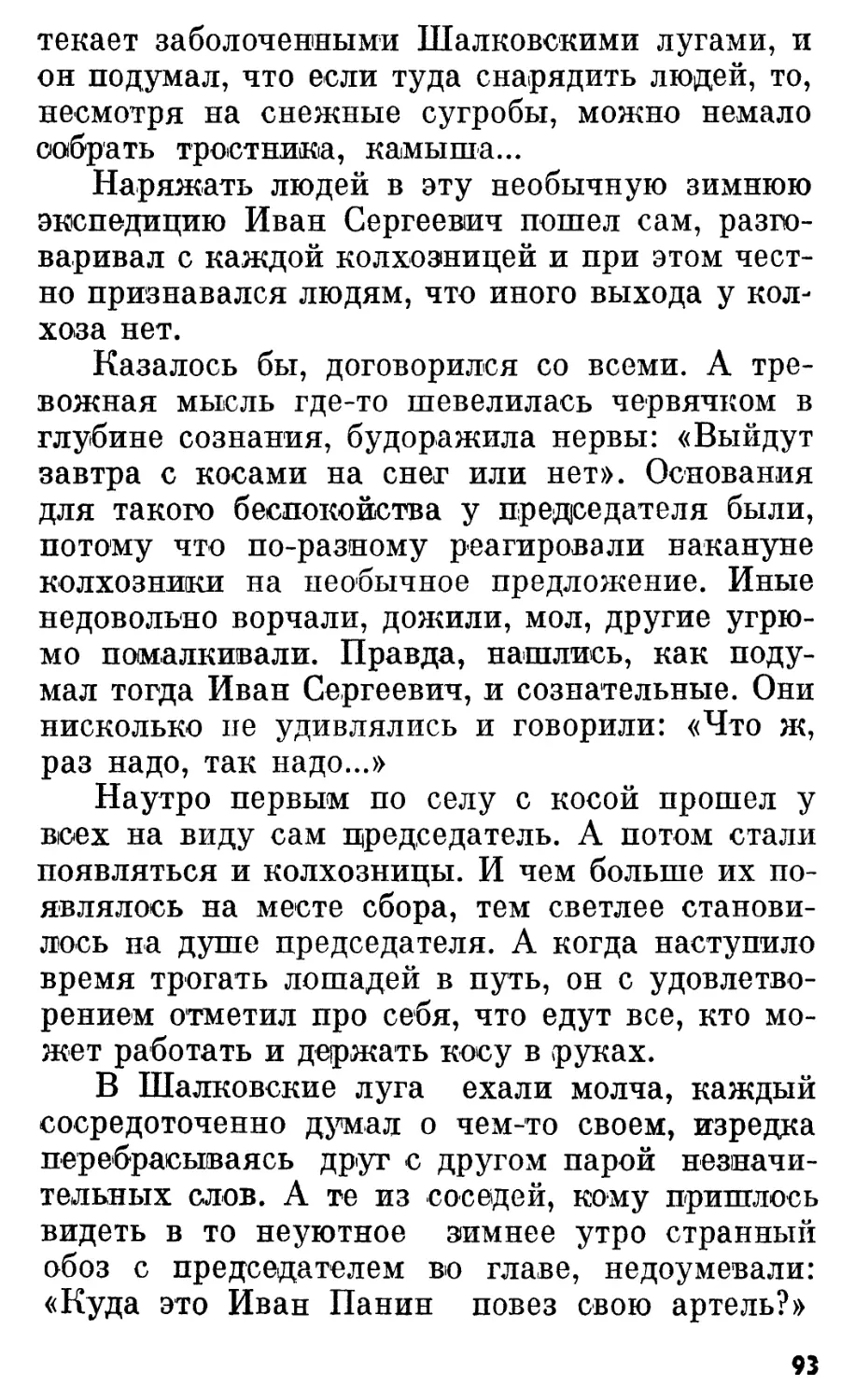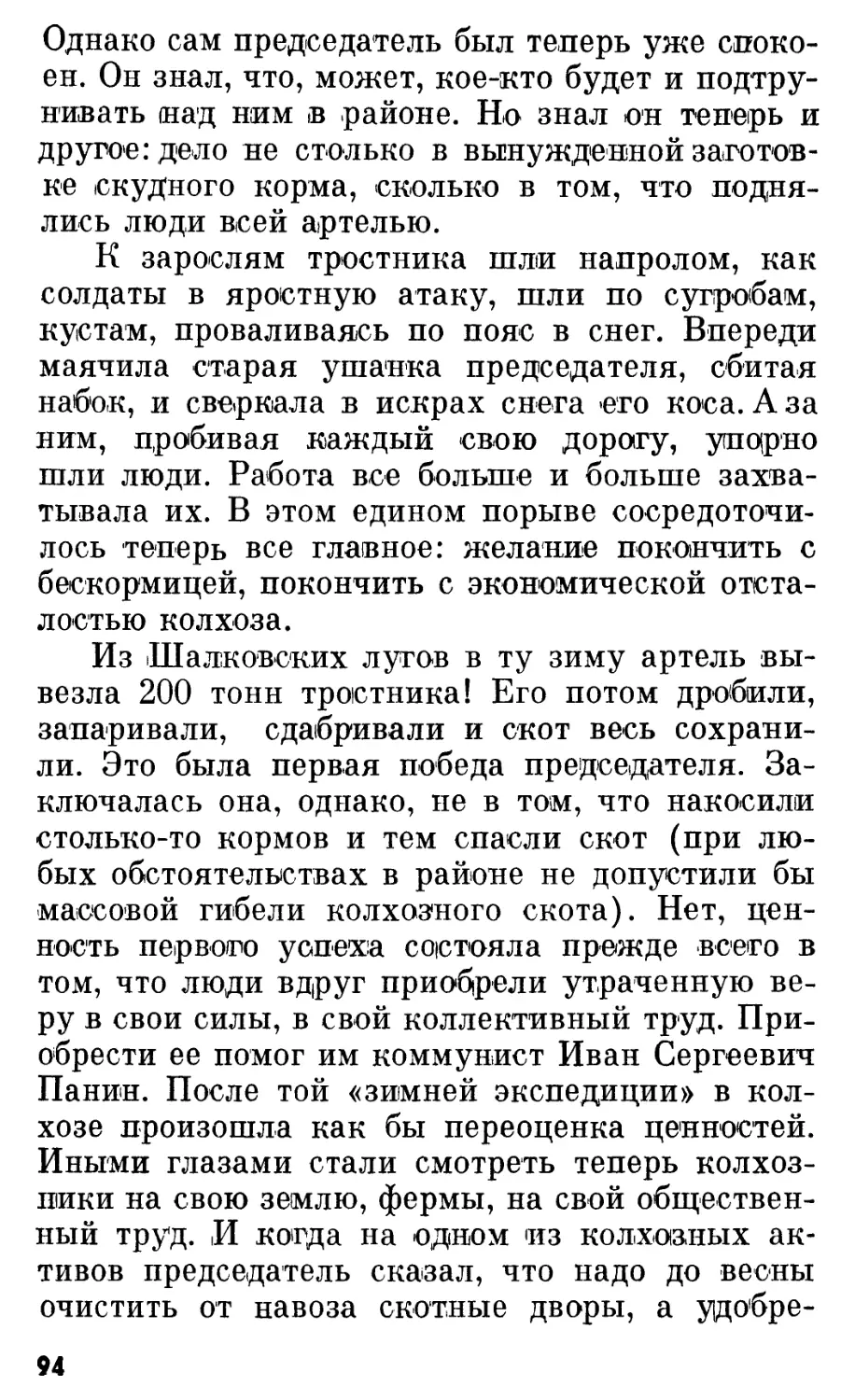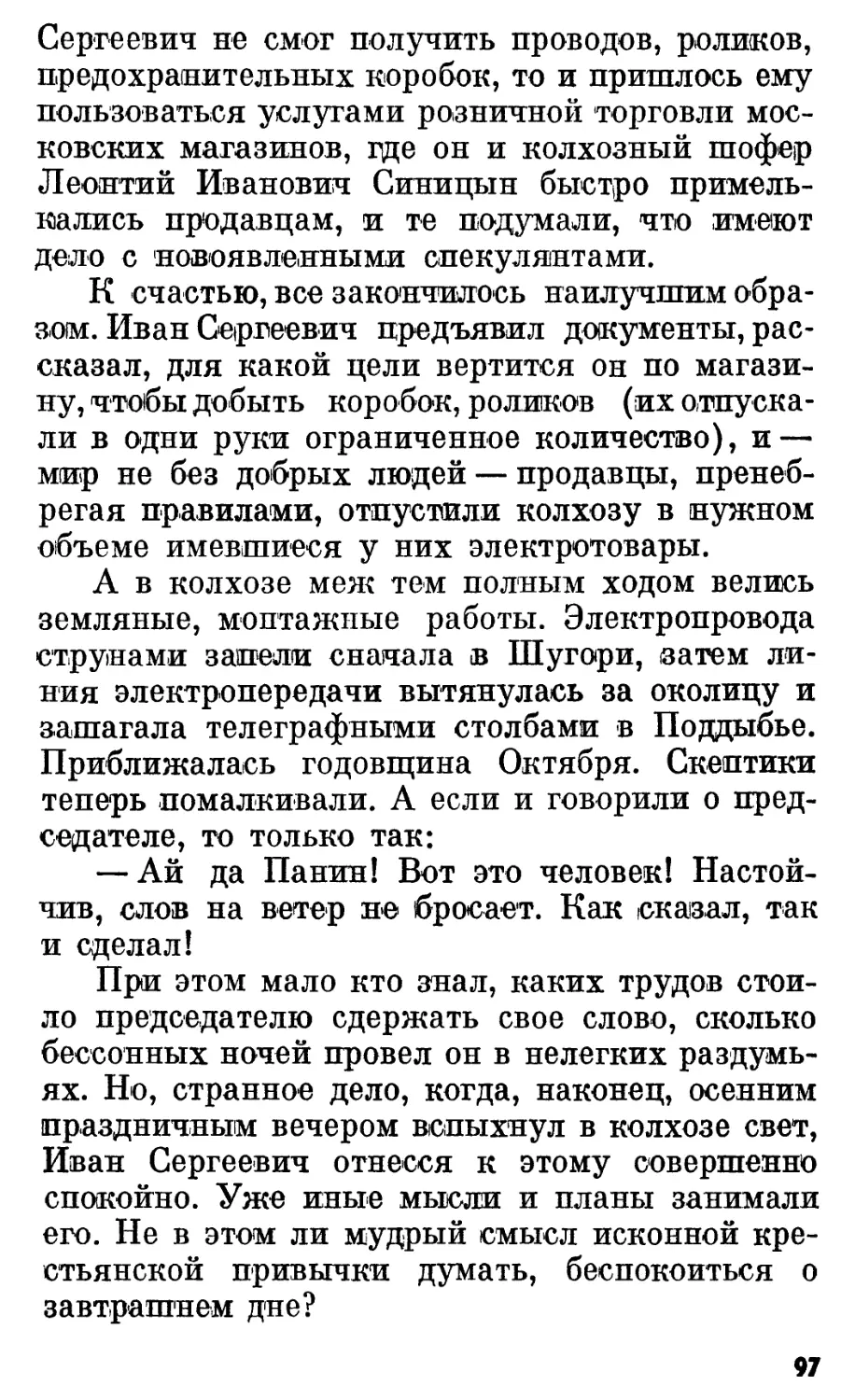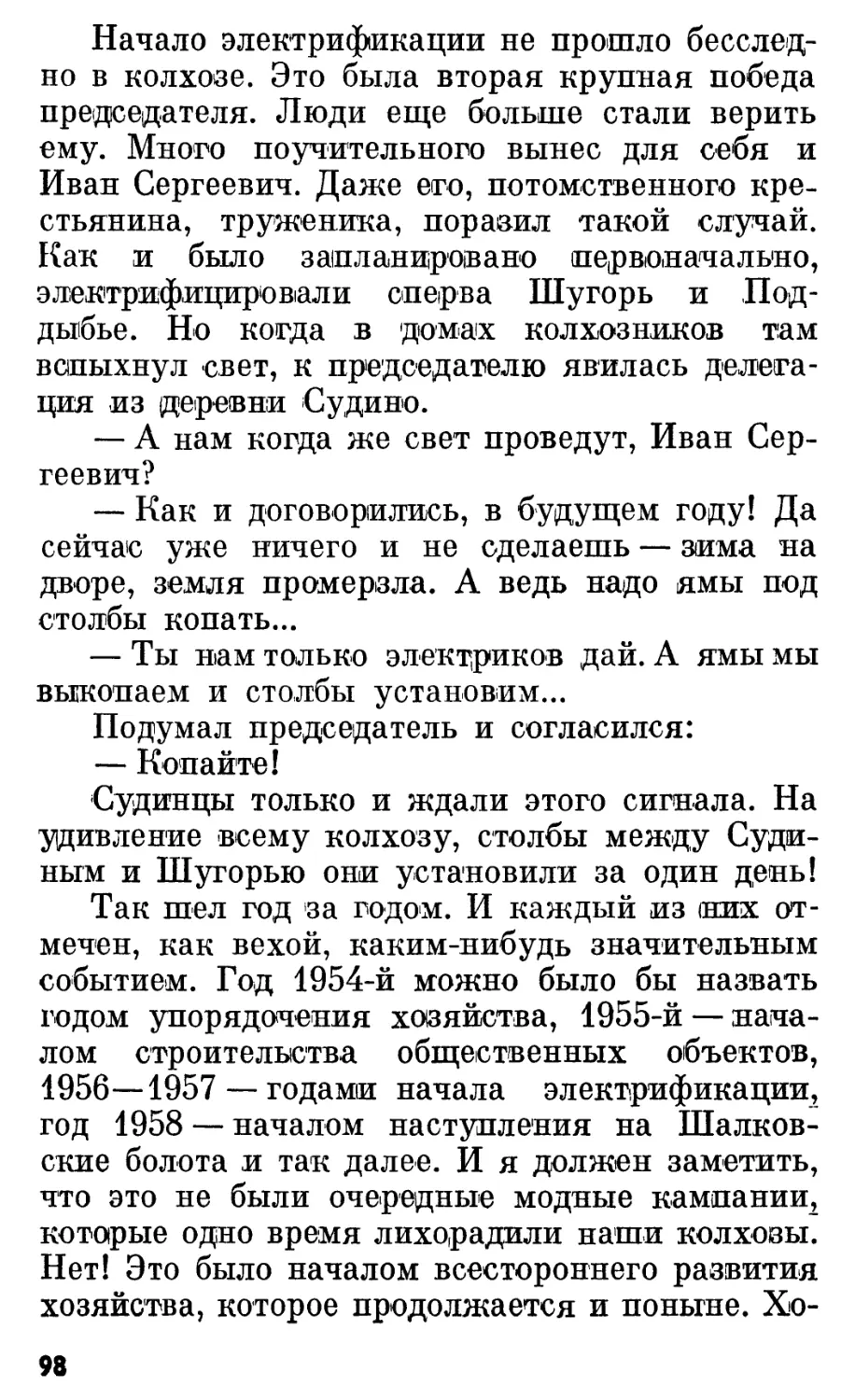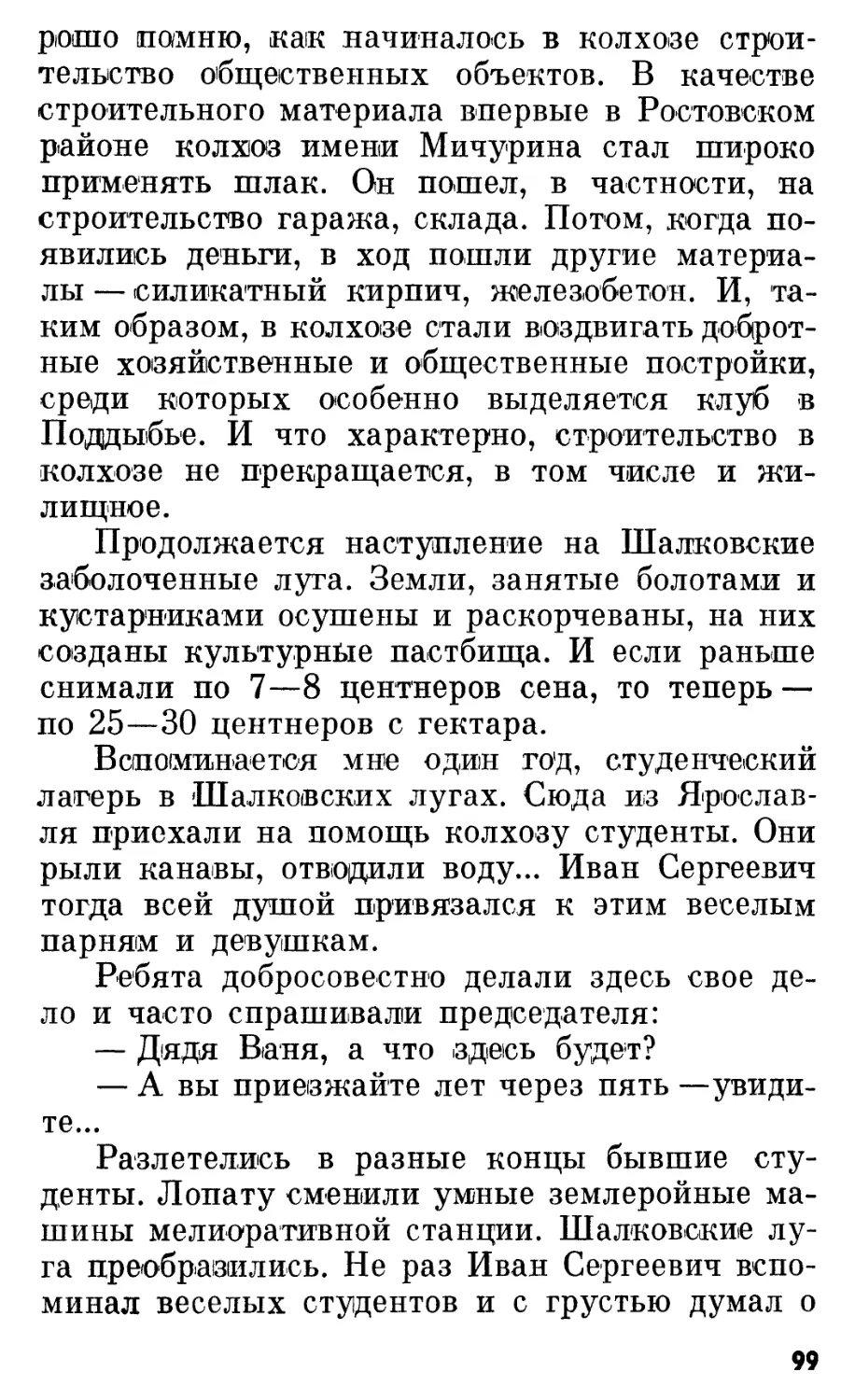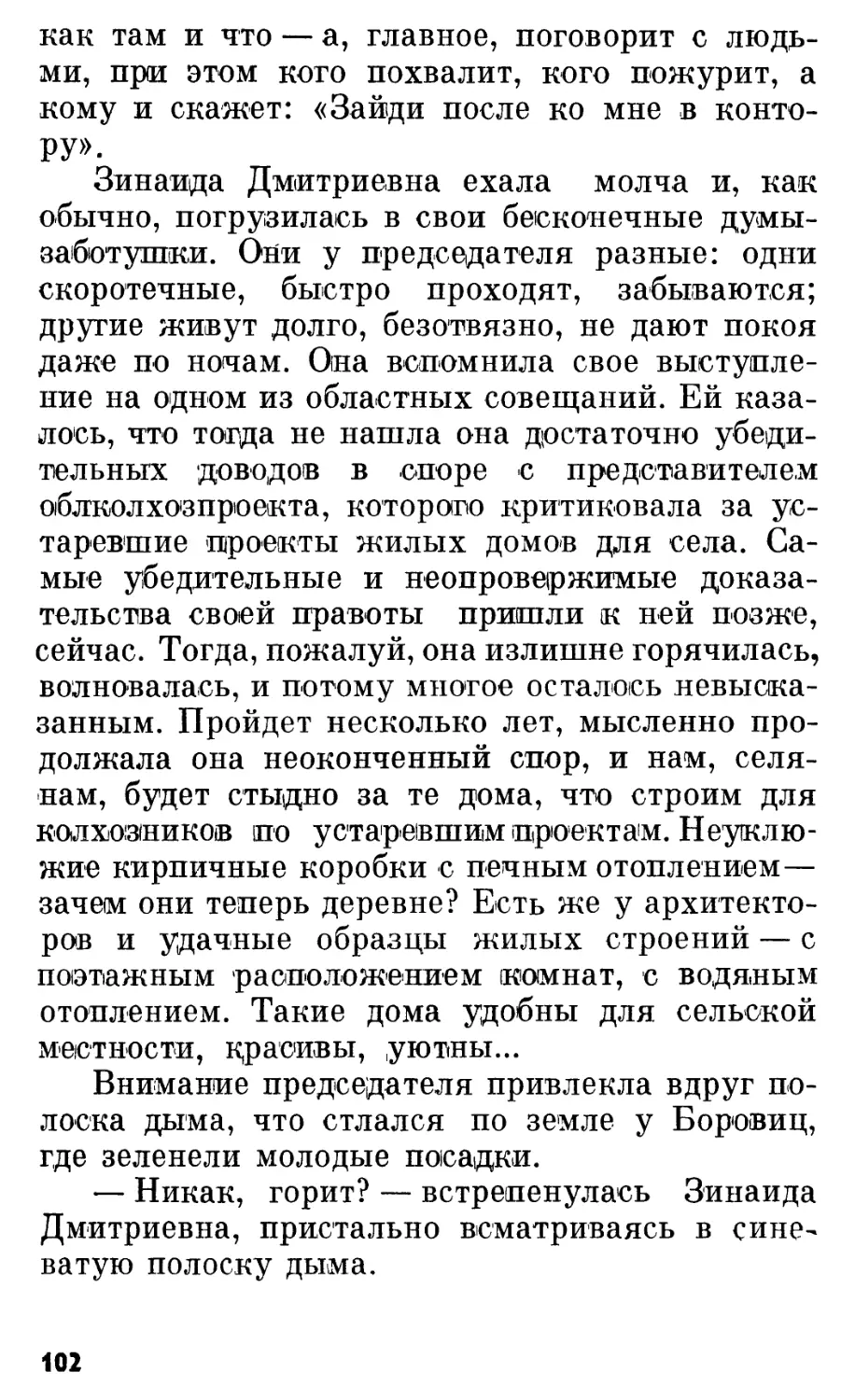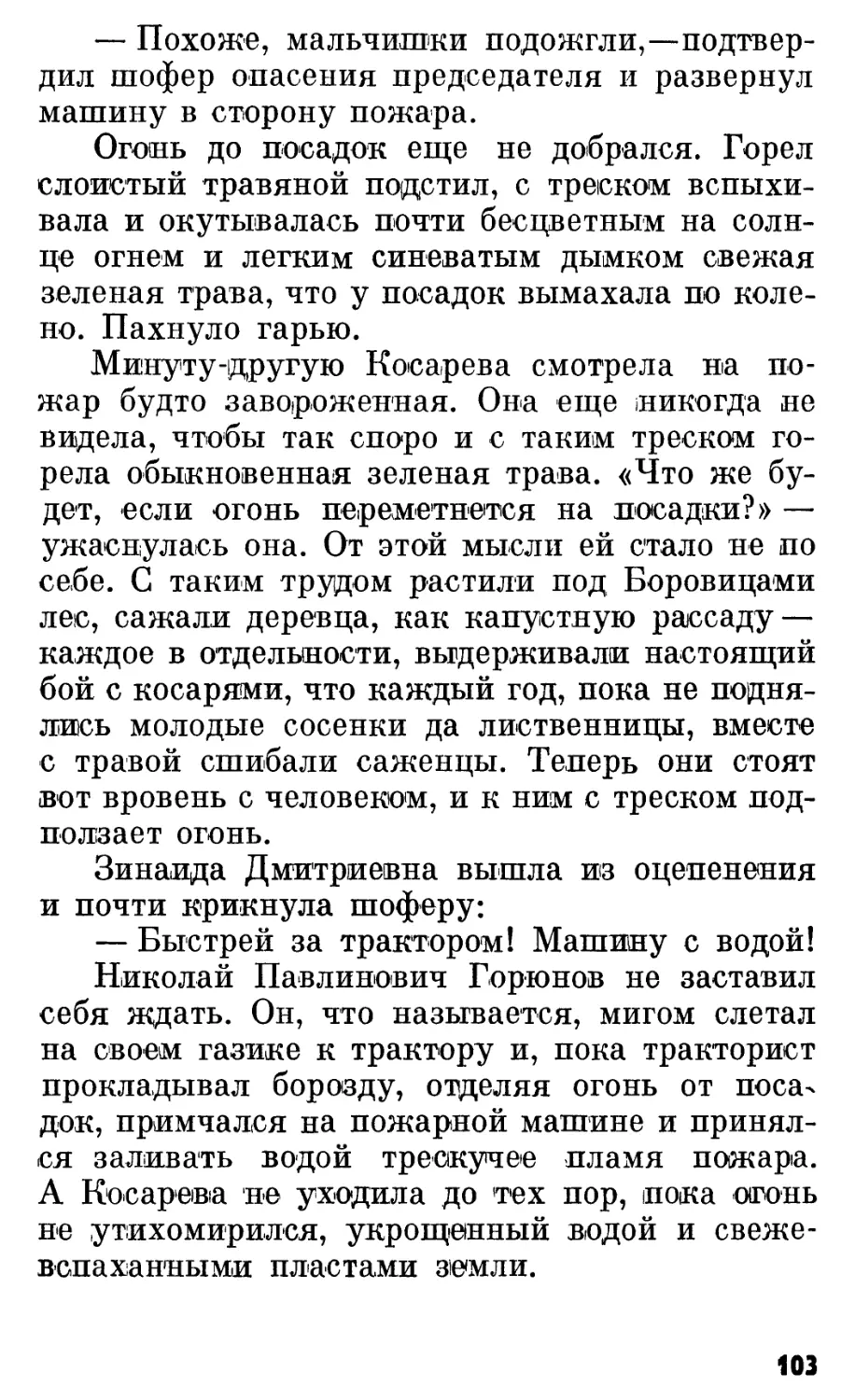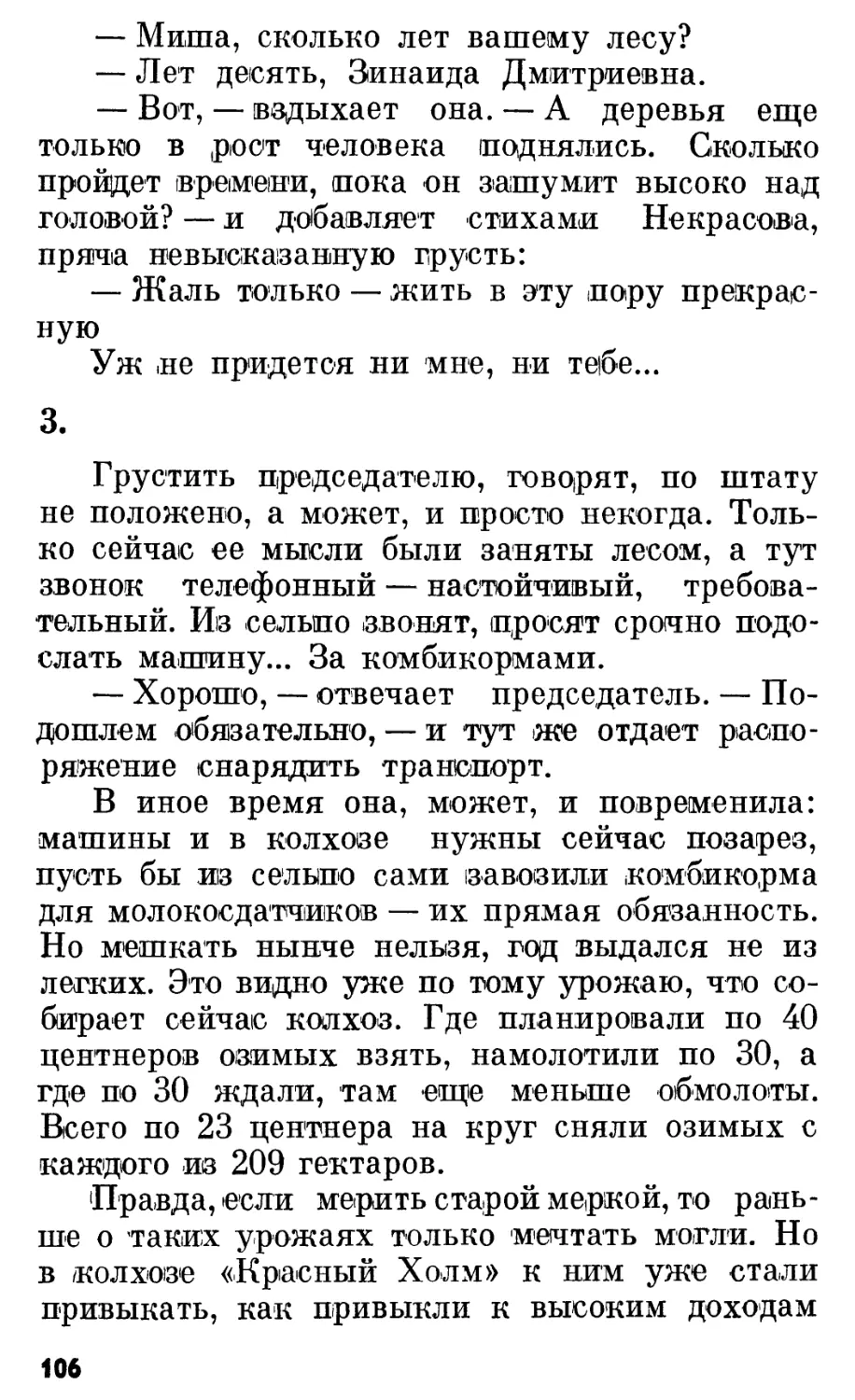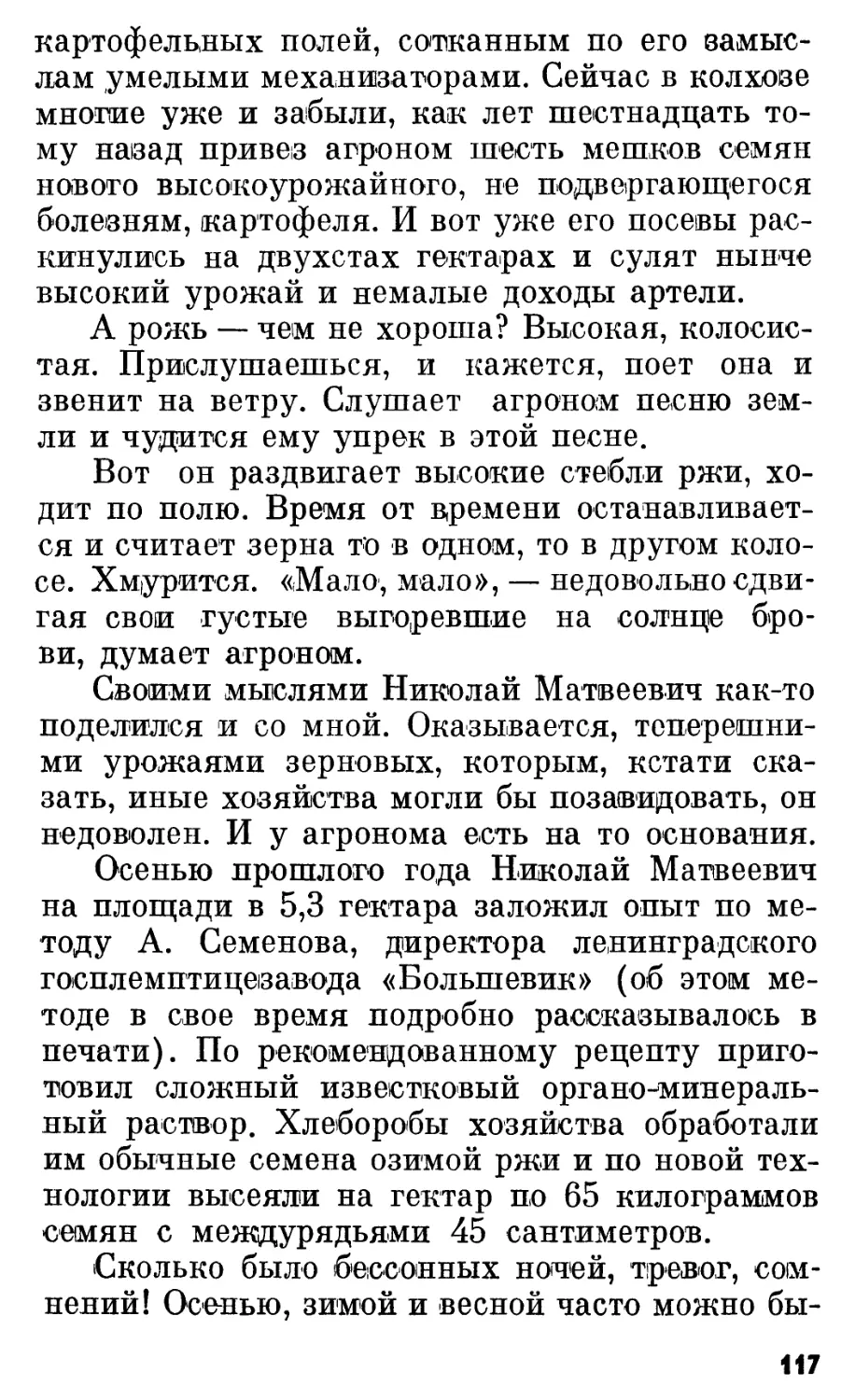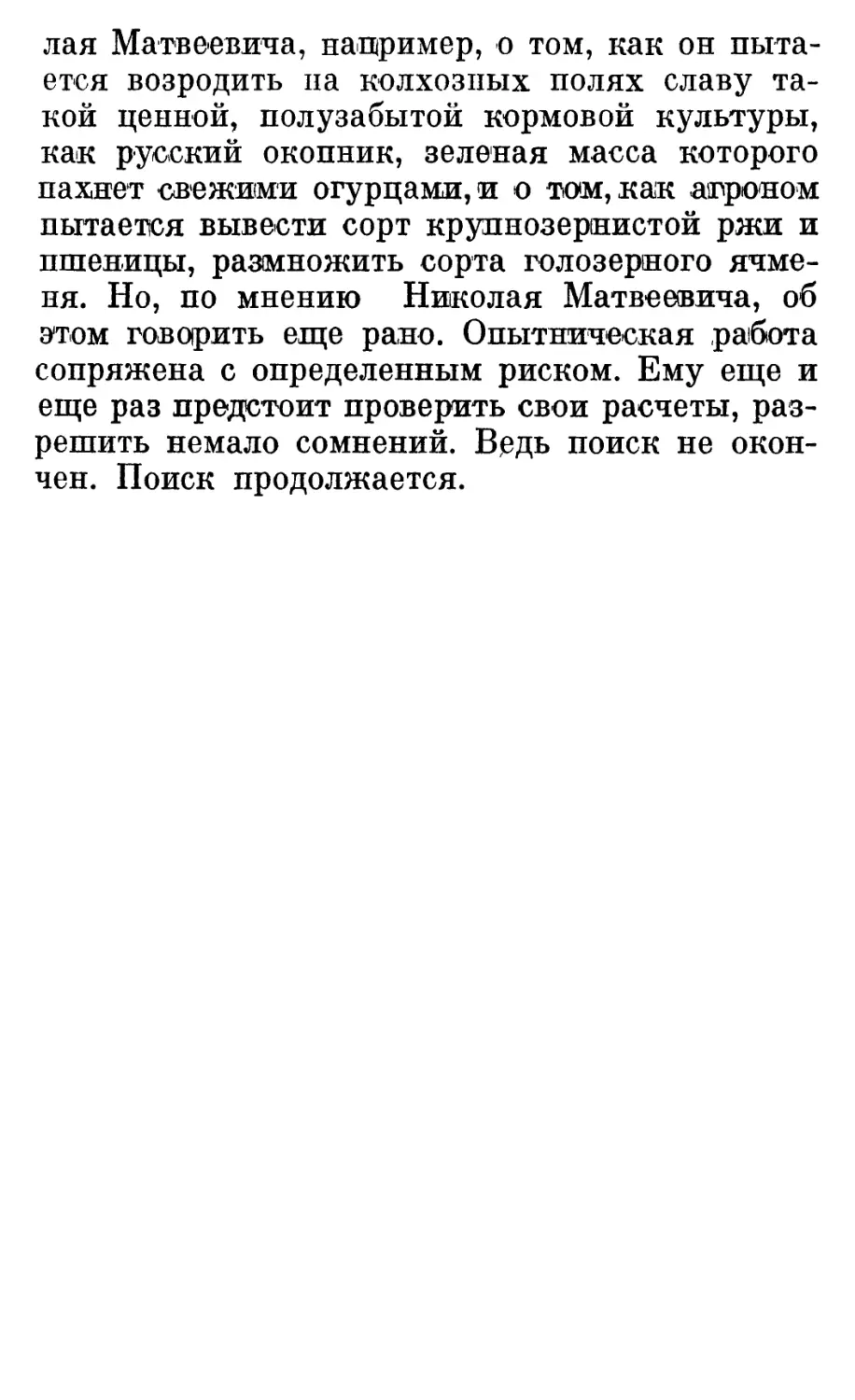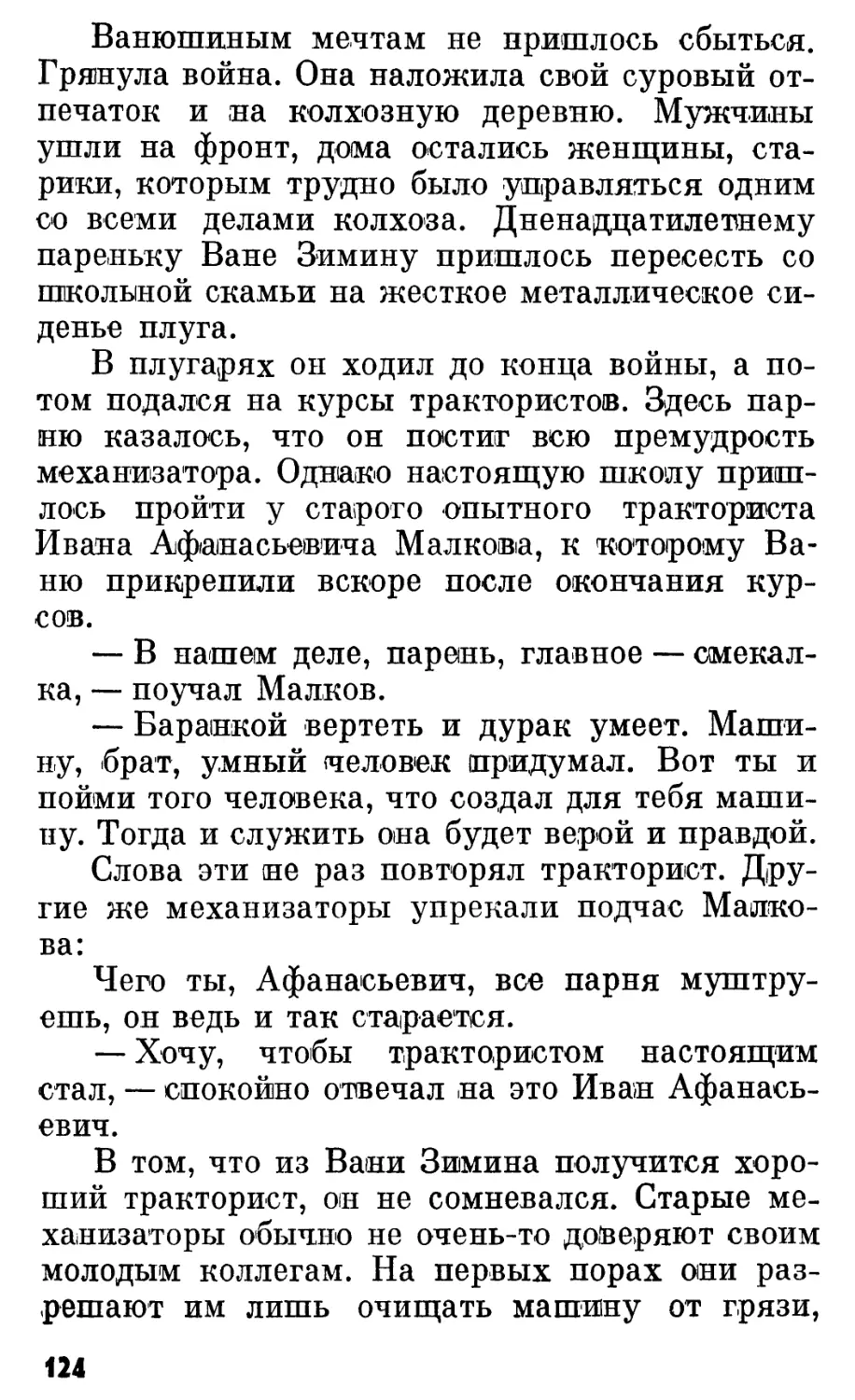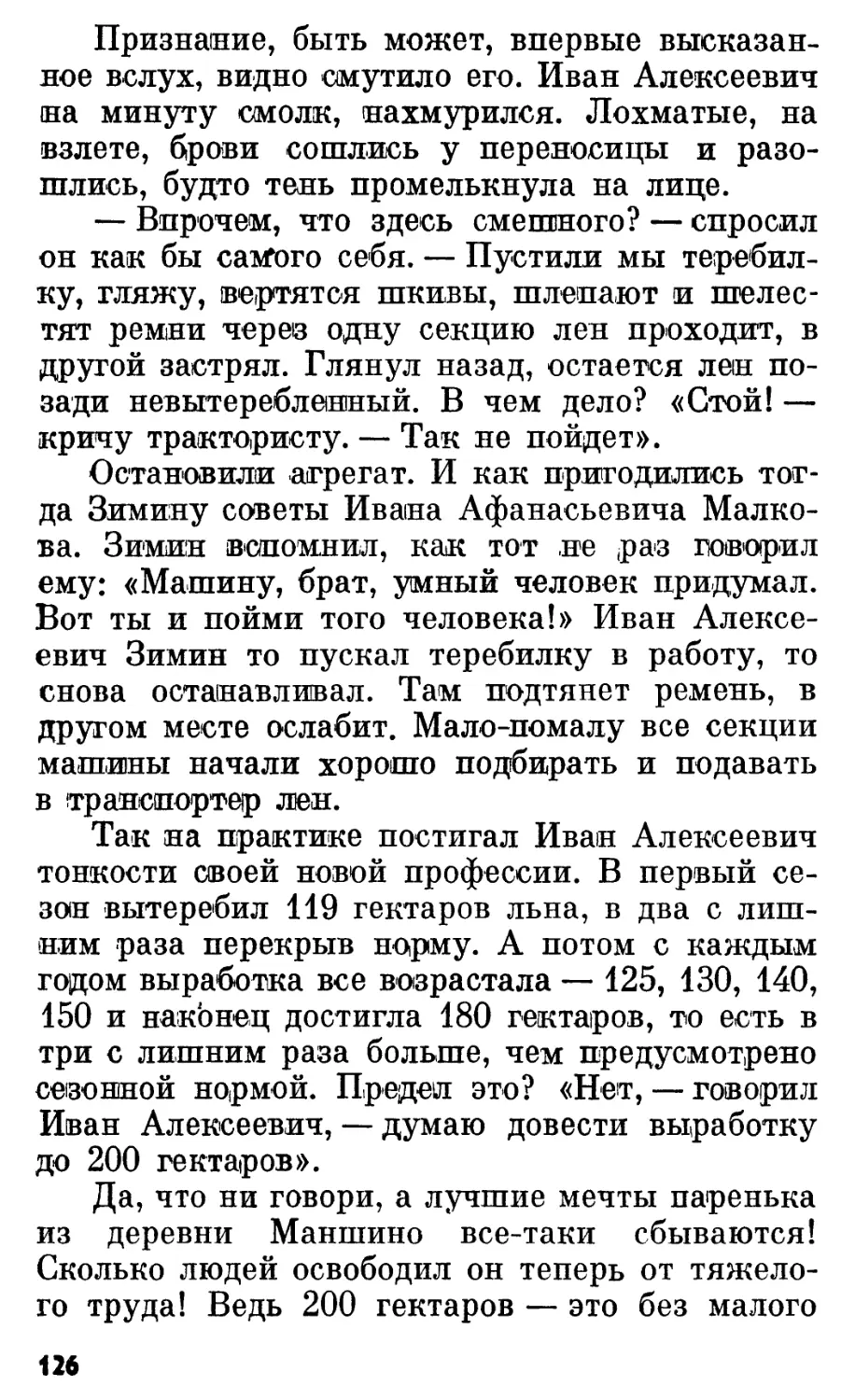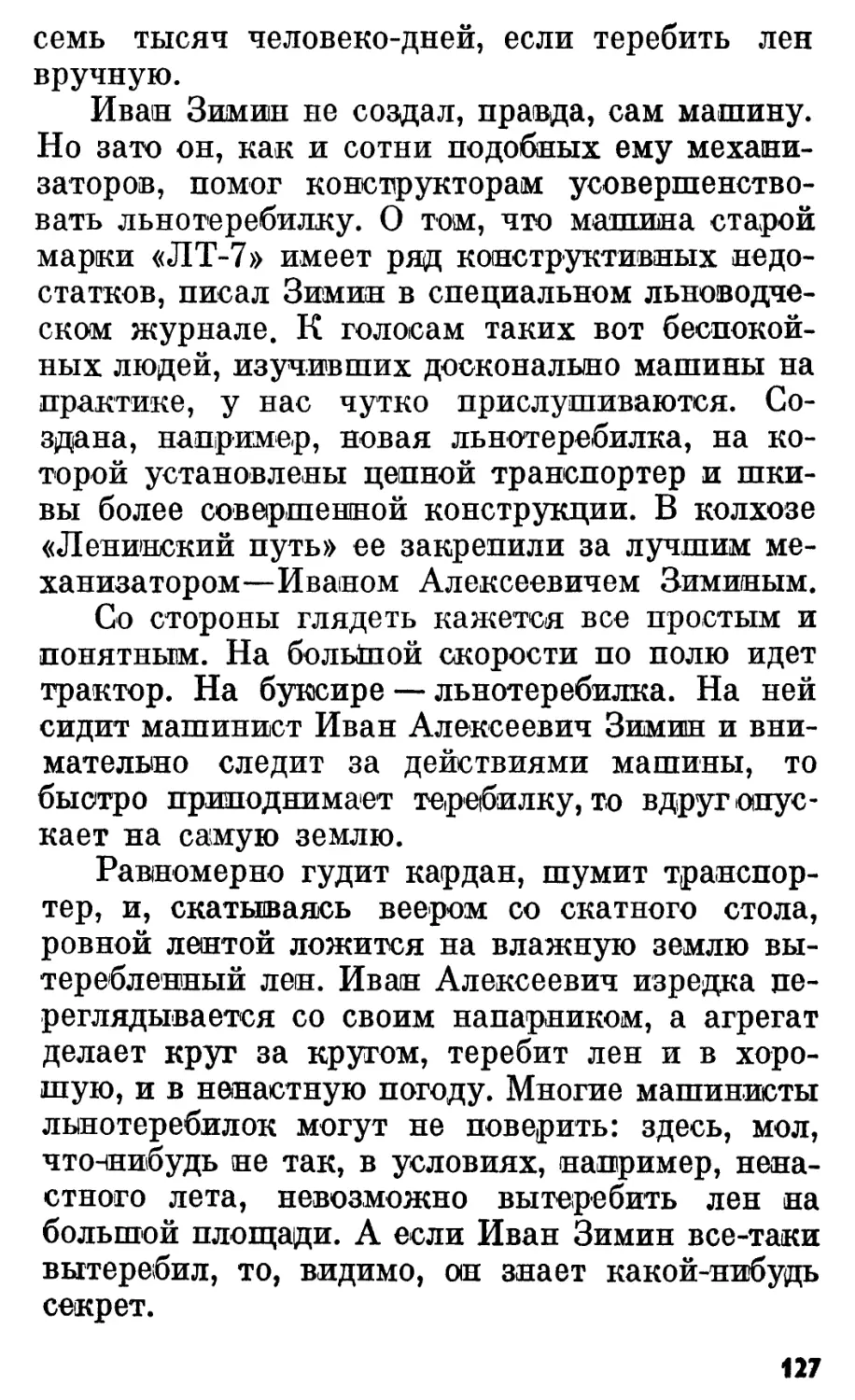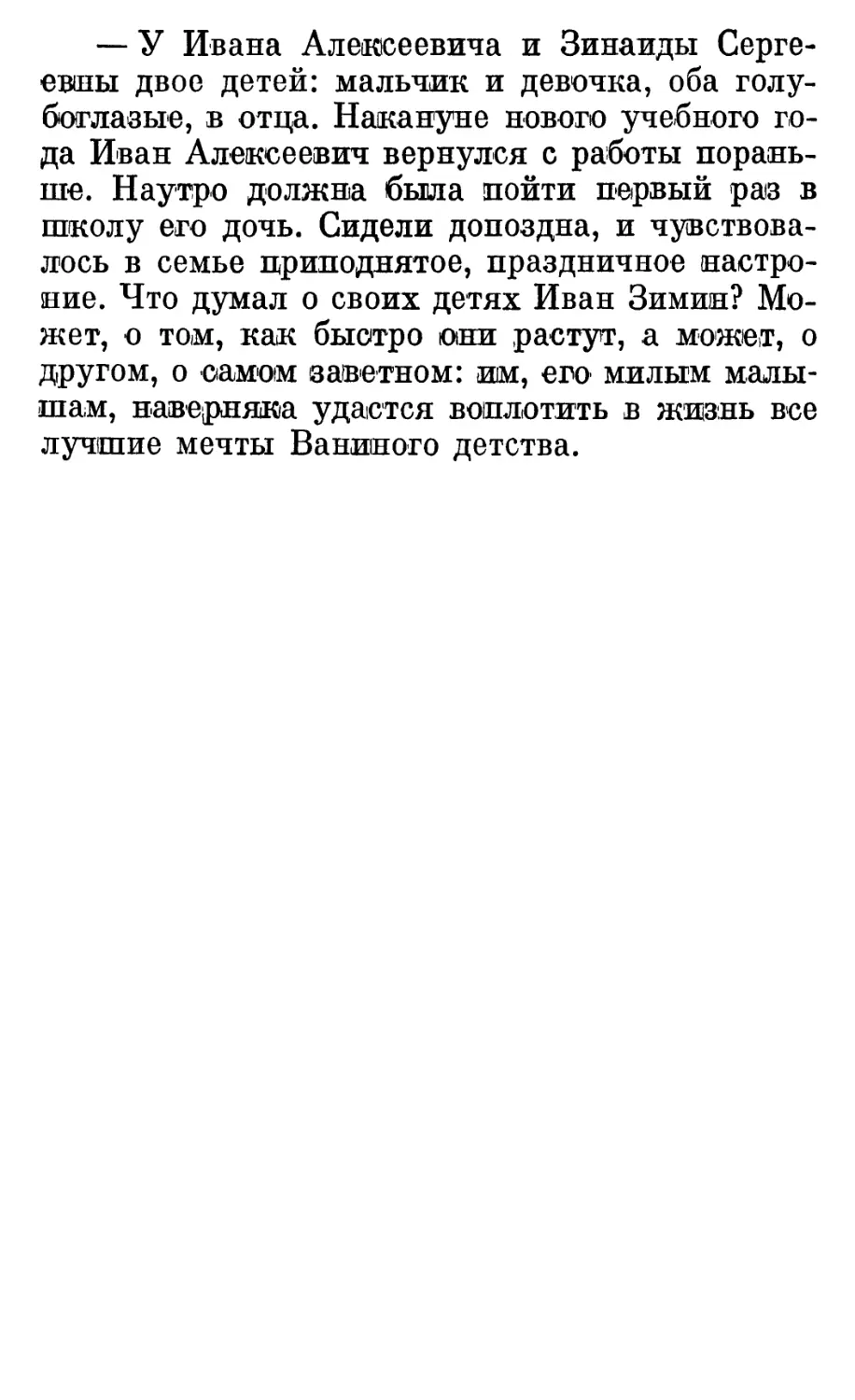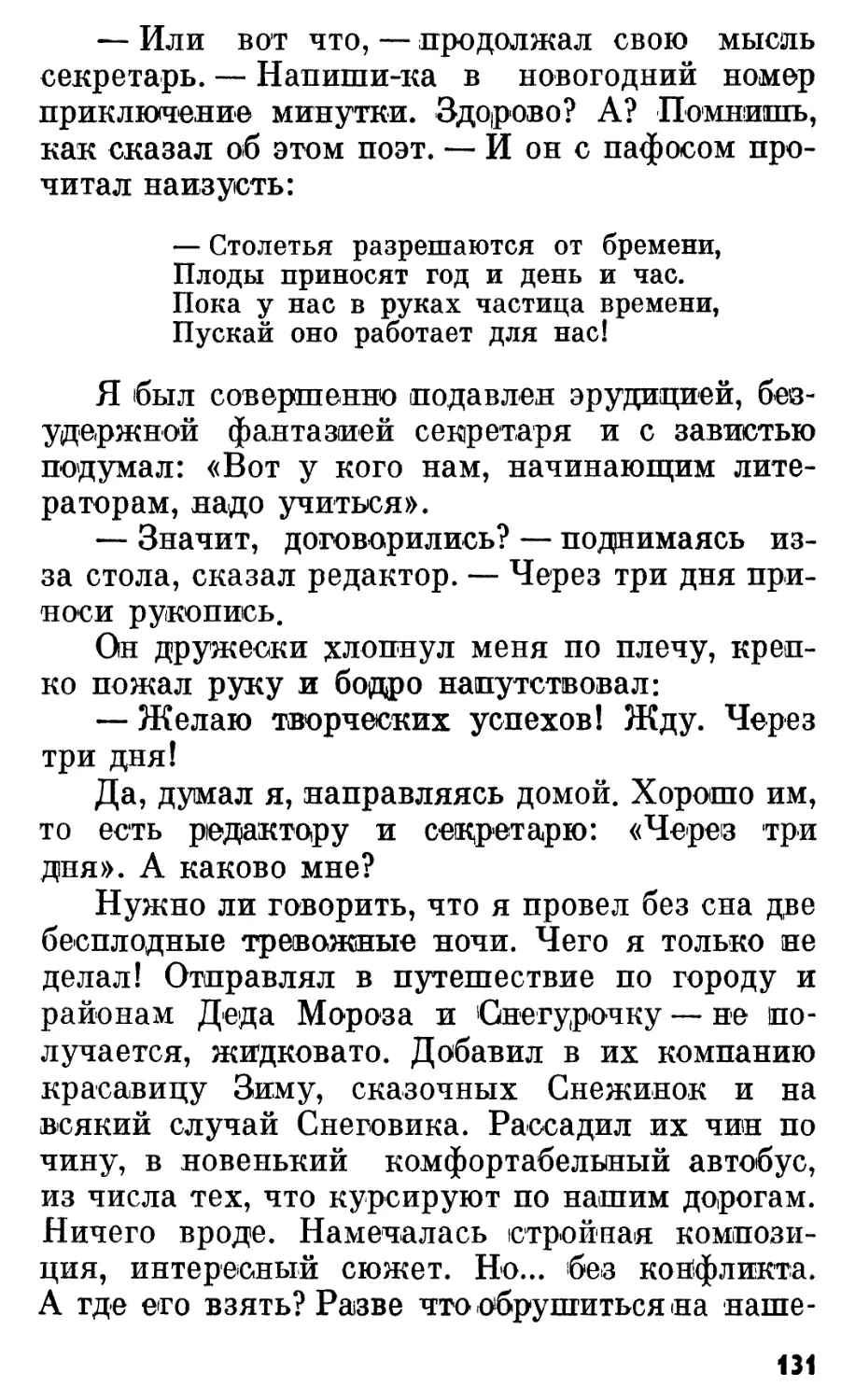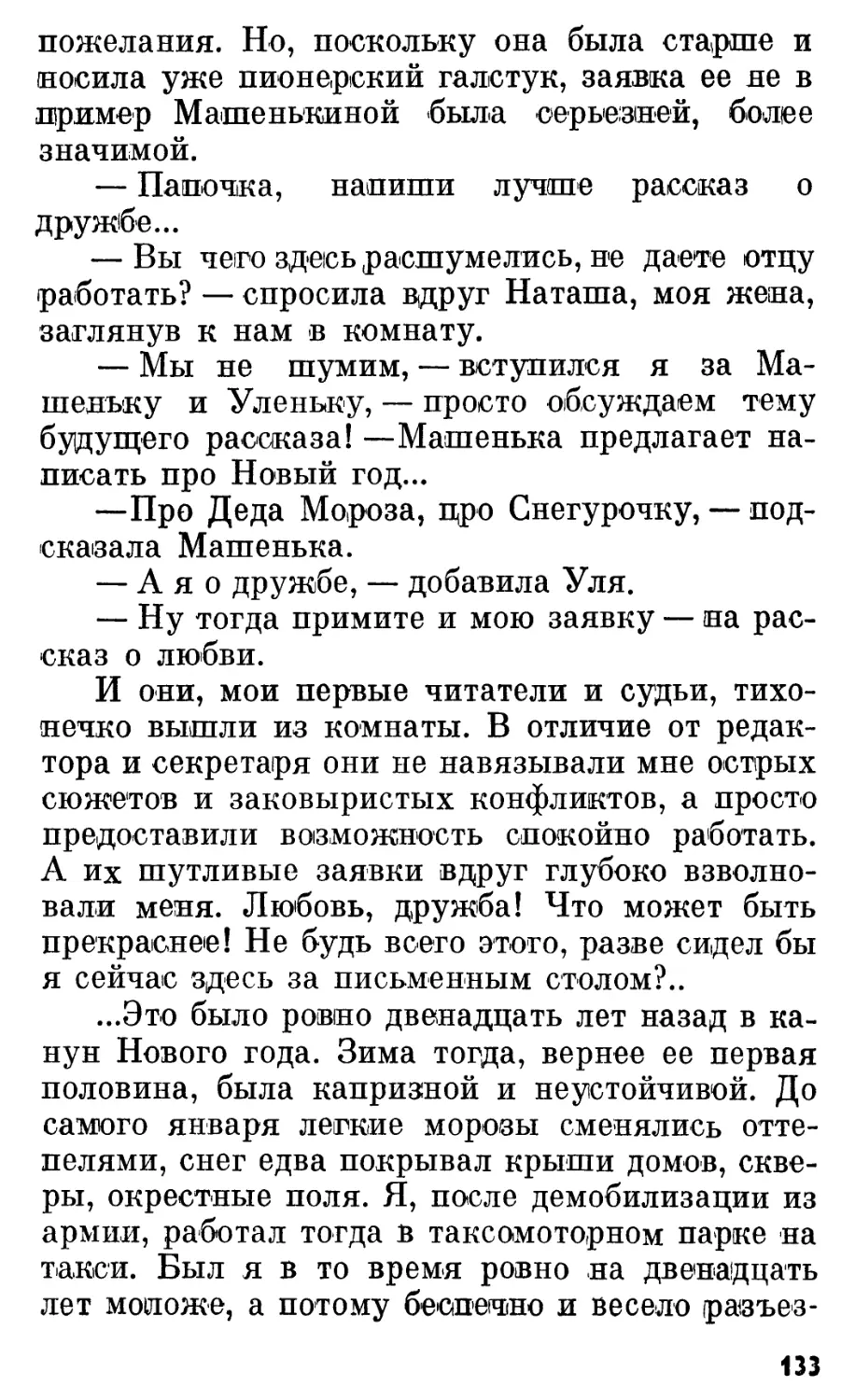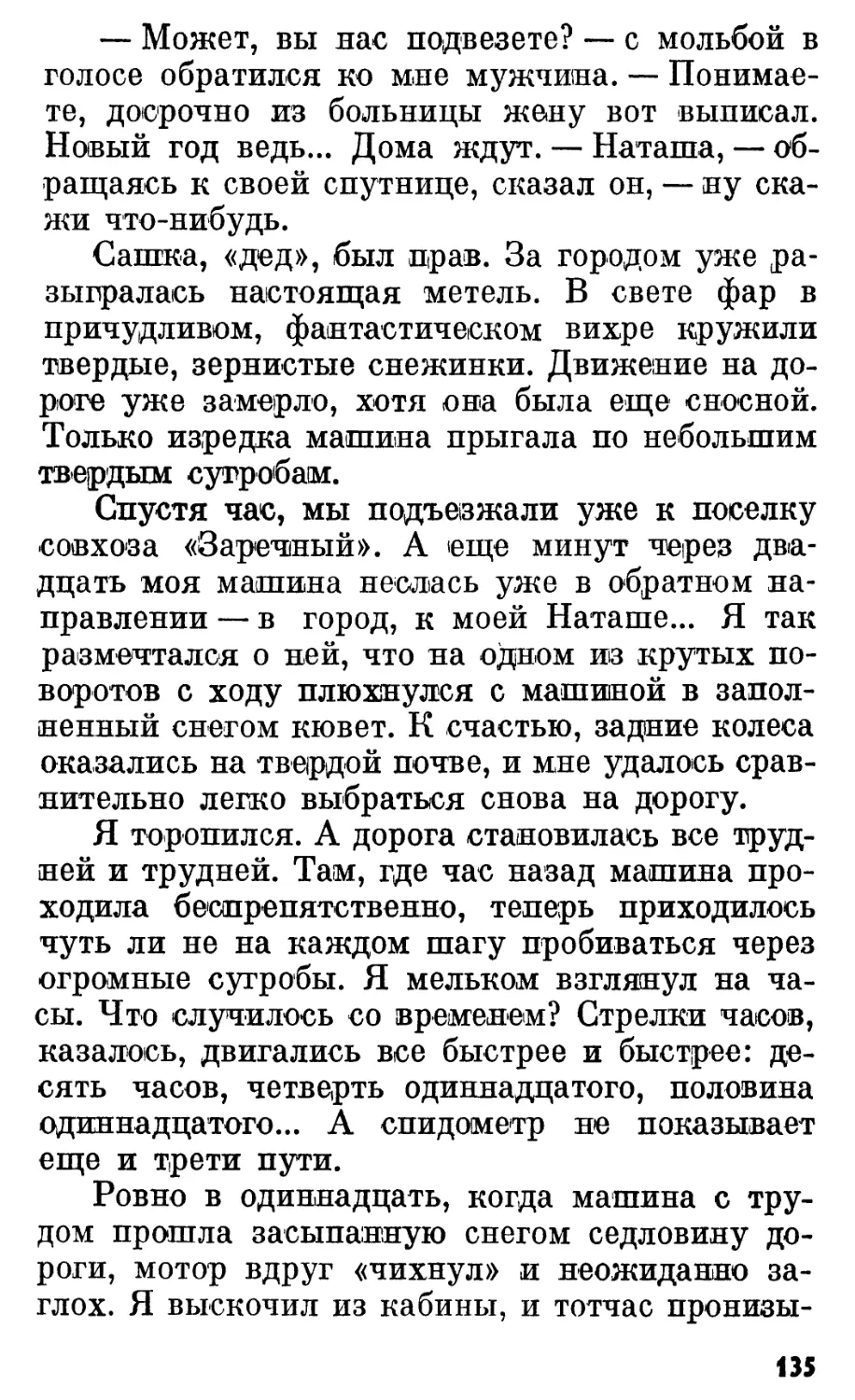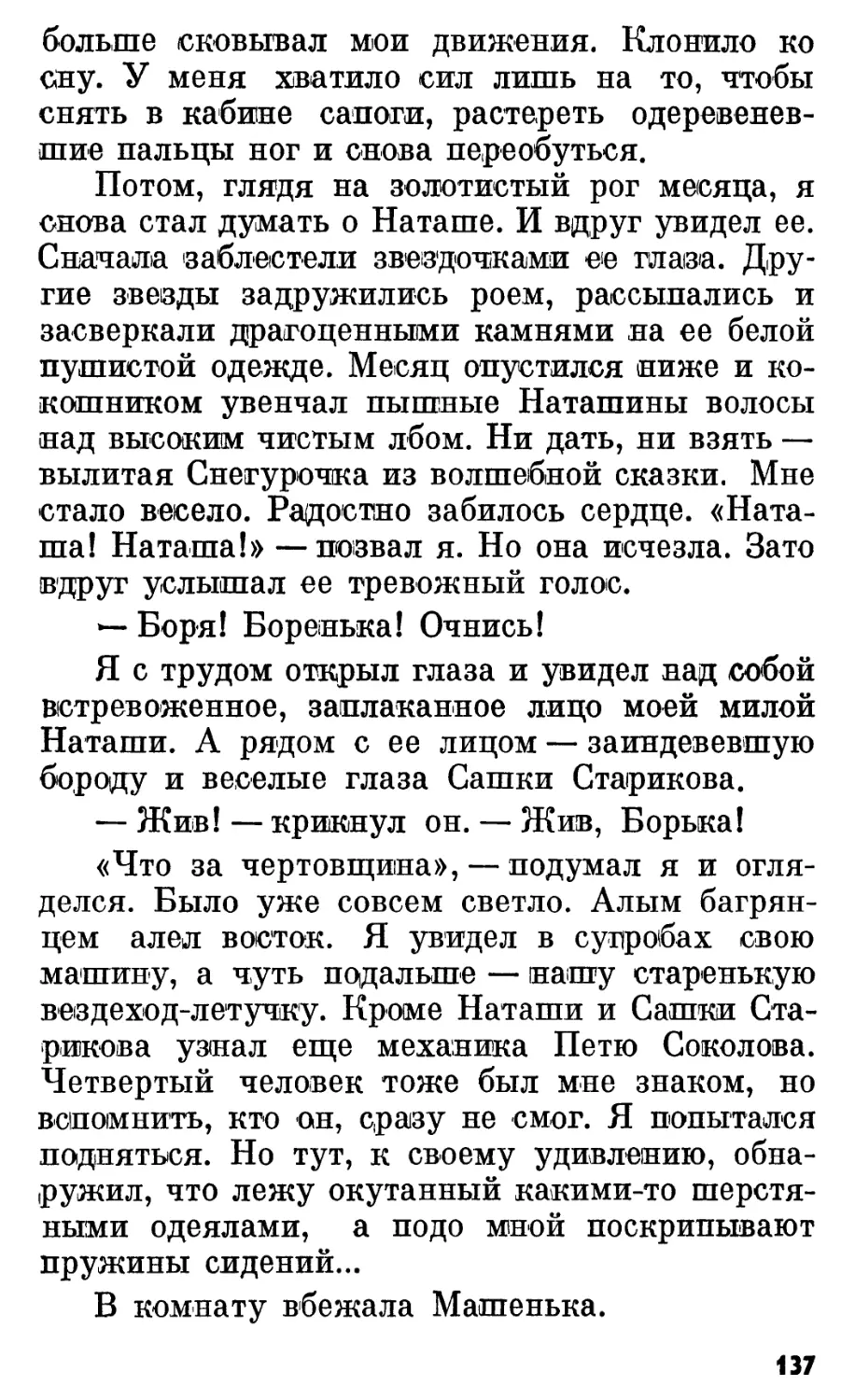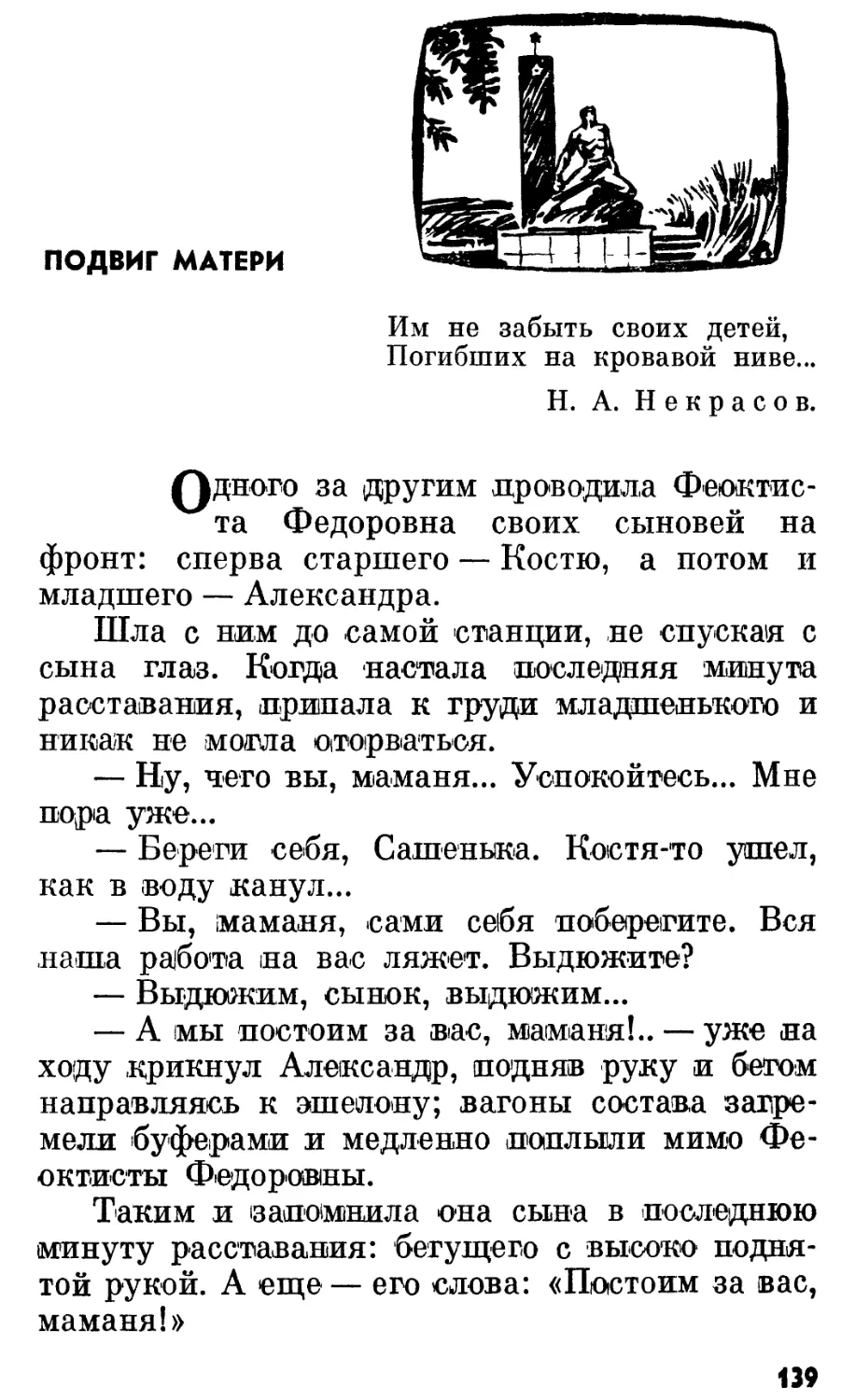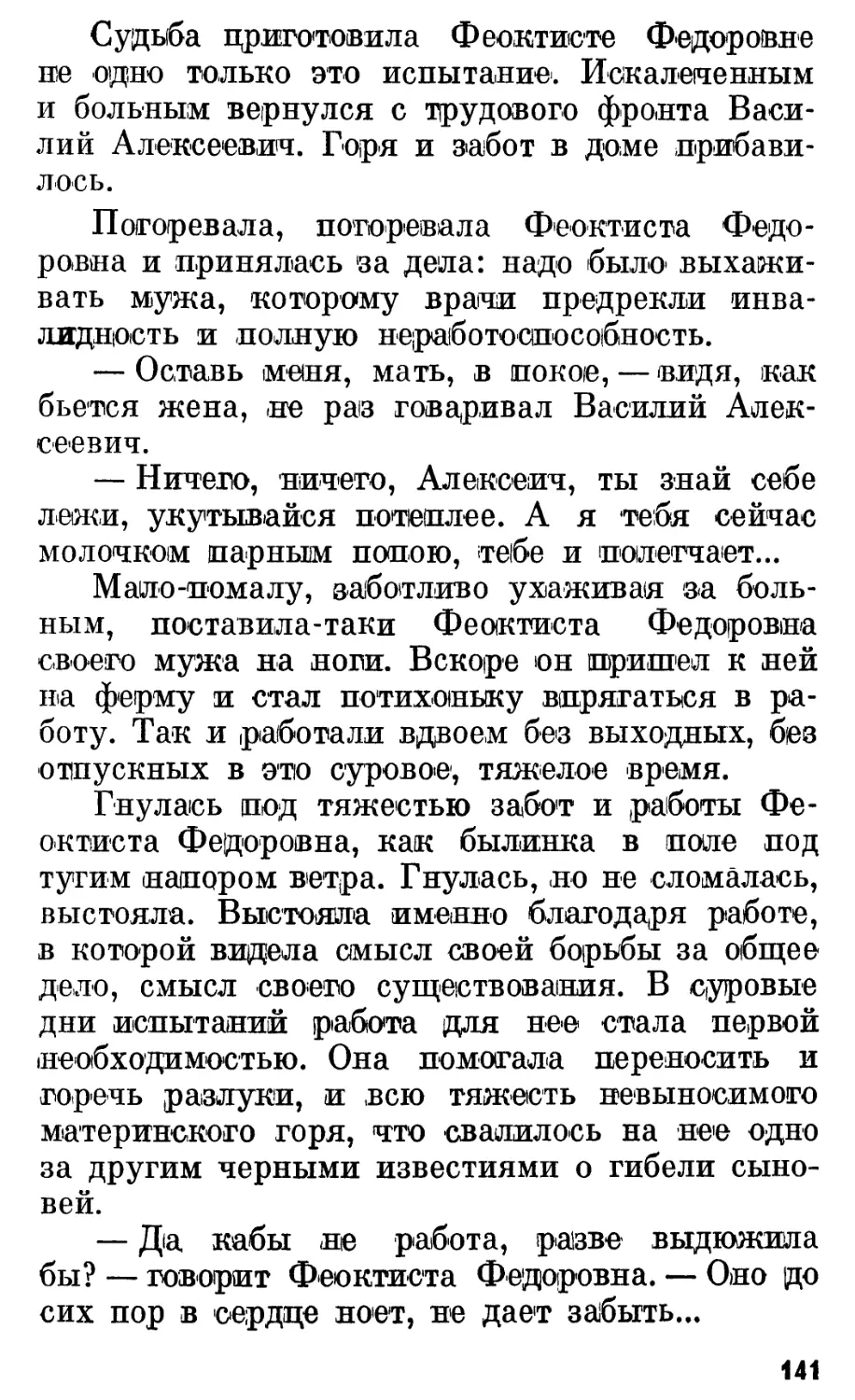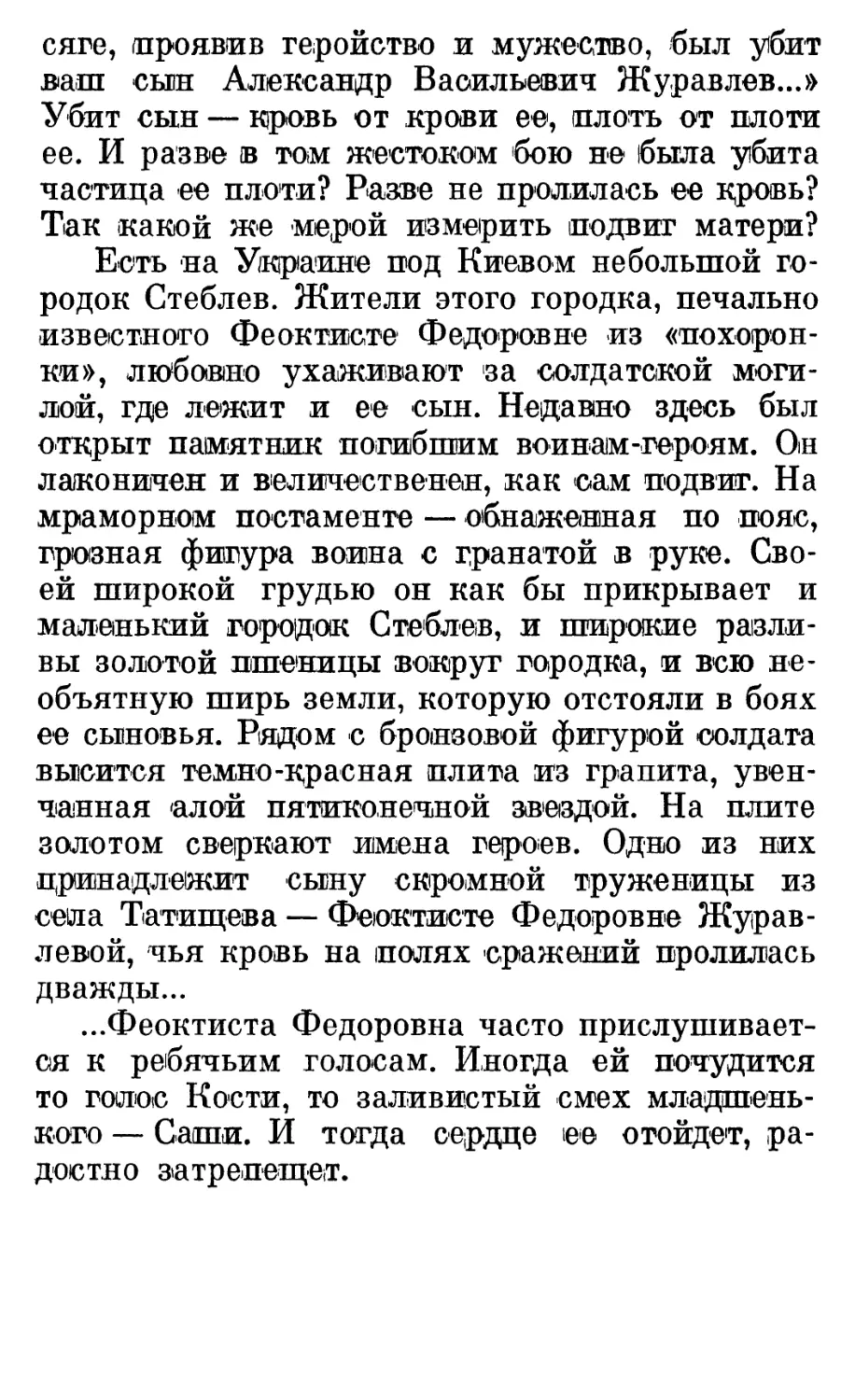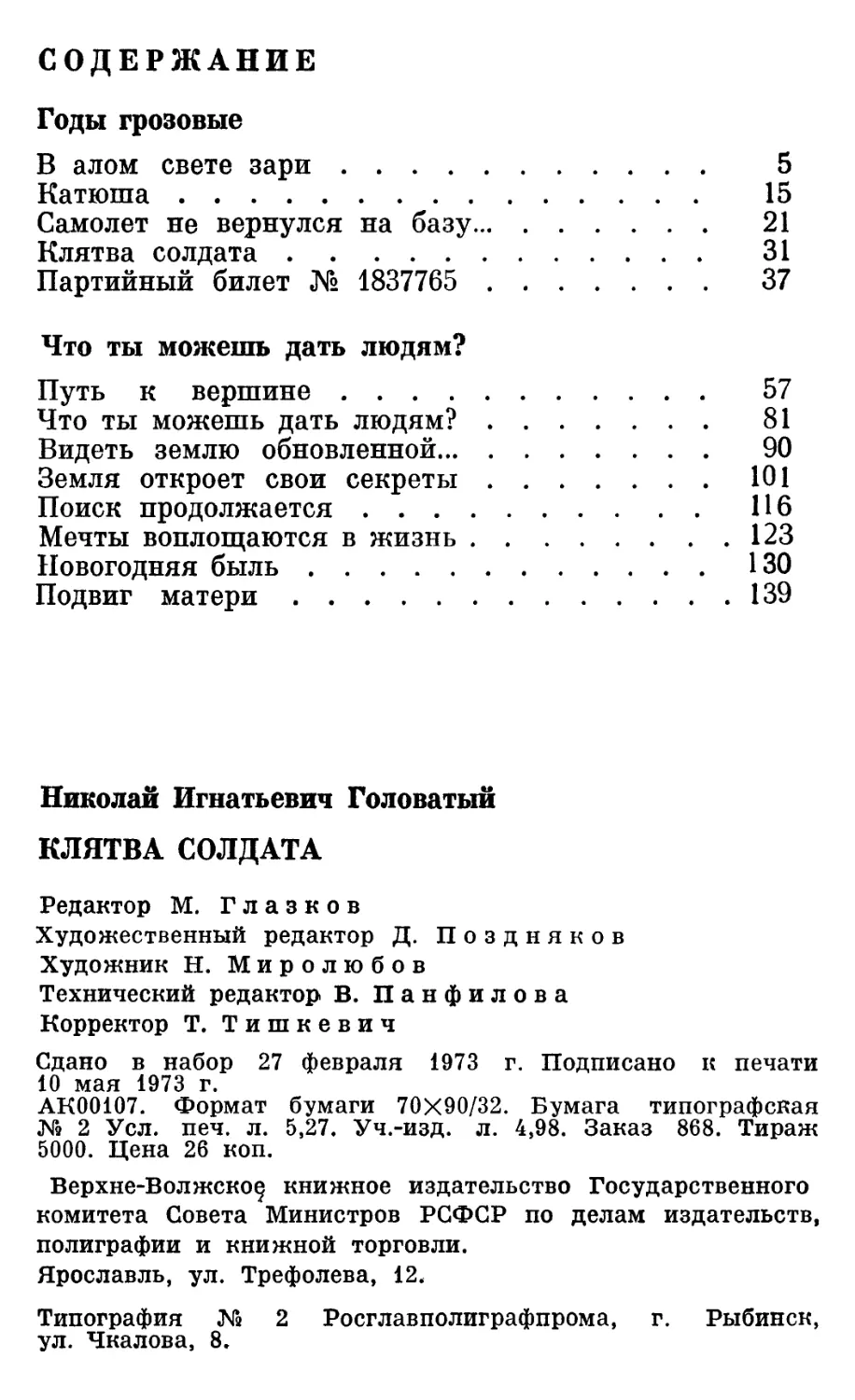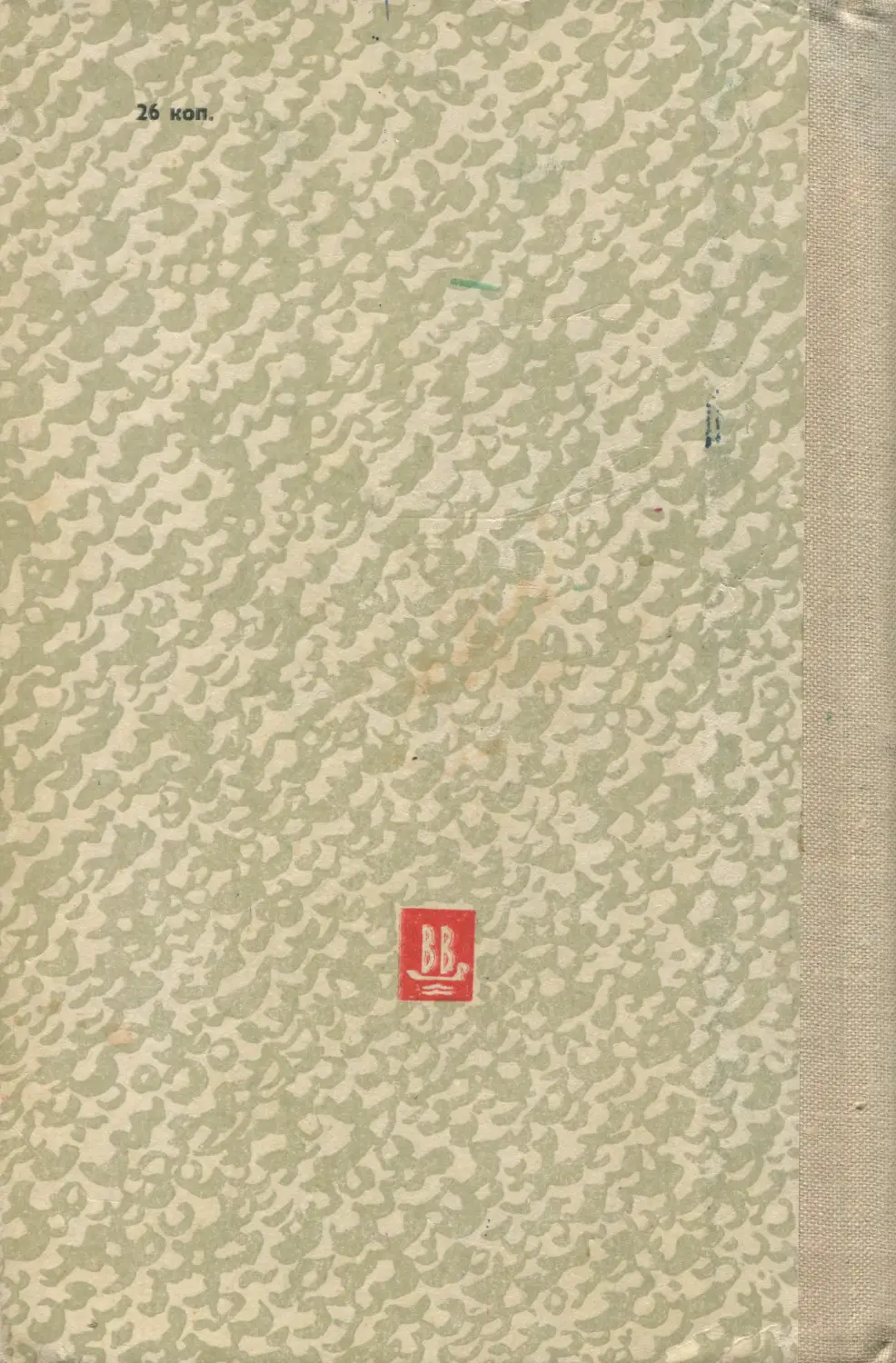Текст
НИКОЛАЙ ГОЛОВАТЫЙ
Верхне-Волжское книжное издательство Ярославль 1973
Р 2 Головатый Н. И.
г 61 Клятва солдата. Ярославль, Верх.-Волж. кн. изд., т. 1973
144 с.
Сборник очерков о мужестве советских воинов в годы Великой Отечественной войны и о трудовой доблести наших современников.
1-1-2
Р-73
Р2
агаюош
В АЛОМ
СВЕТЕ ЗАРИ
U оречье. Обычный рабочий поселок в Ростовском районе. Покоем веет от его улочек, утопающих в летнюю пору в зелени, корпусов завода и от тихой незатейливой речки Сары, что протекает посреди поселка. Впрочем, в определенное время года Поречье преображается. На его магистральных улицах становится шумно, весело и тесно от машин, тракторов, водители которых «штурмуют» завод в надежде быстрее сдать продукцию, выращенную трудолюбивыми руками хлеборобов окрестных колхозов и совхозов.
Все в этой картине кажется обычным, будничным — и теснота запруженных машинами улиц, и кипение водительских страстей. Только не всегда было так в старом приозерном селе, преобразованном сравнительно недавно в рабочий поселок. На заре Советской власти иные страсти бурлили здесь. И в гуще событий новой зарождающейся жизни стоял простой пореч-ский парень, бывший солдат, тертый царской службой и войной, первый коммунист поселка, первый председатель местного Совета Александр Булатов — один из героев гражданской войны. Именем этого человека, вошедшего в легенду, названа одна из улиц поселка, в котором он устраивал и укреплял новую власть. Из далеких
уральских степей долетела до поречан его последняя, посмертная слава: там Александр Булатов сложил голову за власть Советов.
...Тревожным и смутным был июль 1918 года в Поречье, как и в Ростове и Ярославле. Над озером и его окрестностями часто сгущались грозовые тучи. И ползли по Поречью, по его улочкам и закоулкам темные слухи: «Советской власти скоро придет конец... Всех зачинщиков будут вешать, а Булатова Сашку в первую очередь...»
И хотя в волисполкоме по-прежнему кипела работа — столько дел, столько нерешенных вопросов, — село притихло в ожидании грозы.
Этой грозы особенно боялась батрачка Лида. Она-то хорошо знала, кто распускает слухи по селу. Знала она, что это не просто слухи. То в одном, то в другом месте собирались местные кулаки на свои тайные сборища, среди них был и хозяин Лиды, на которого она по-прежнему работала. Сердце бедной батрачки трепетало от страха, коцца она слышала от него проклятья в адрес Совета, в адрес Саши Булатова...
Гроза разразилась белогвардейским мятежом в Ярославле. Эхо его докатилось до Ростова, выплеснулось и на улицы Поречья. Местные торговцы обнаглели. Угрозы в адрес Совета можно было услышать в открытую на улице.
В Ярославле шли бои с мятежниками, дулами пулеметов ощетинился древний Ростовский кремль, выставила свои заслоны рабочая «Роль-ма». Не дремал Совет и в Поречье. Спешно вооружались отряд всеобуча, бедняцкая ячейка сочувствующих, которую возглавил Илья Королев. Сам председатель Александр Булатов уверенно расхаживал по улицам Поречья в своей
неизменной гимнастерке, туго подпоясанной широким солдатским ремнем. Всем своим видом он выражал презрение к кулакам и словно говорил всему Поречью: Советская власть обосновалась здесь прочно и навечно.
А однажды, возвращаясь домой после очередного заседания Совета, Александр заметил в потемках, что кто-то настойчиво преследует его. Он неторопливо перешел мост через Сару и прижался к лабазу.
Прислушался. Тишина. Хотел было уже двинуться дальше, как вдруг услышал осторожные торопливые шаги по настилу моста. Метнулась тень хрупкой девичьей фигуры. Александр вышел из укрытия.
— Ай!—вскрикнула преследовательница, и Александр узнал знакомый голос батрачки.
— Ты? В чем Дело?
Та торопливым полушепотом, то и дело сбиваясь, быстро-быстро заговорила:
— Они что-то затевают... Лодки готовят... Какие-то тюки перетаскивают к лабазам, что к реке поближе. Ой, Саша, боязно мне...
Александр подумал, как бы соображая про себя что-то, затем успокоил девушку:
— Не бойся, все будет хорошо. За то, что сообщила, спасибо. А сейчас беги домой, пока никто тебя здесь не видел...
Сведения, которые получил в ту ночь Александр Булатов, оказались очень ценными.
— Как думаешь, Илья? — делился своими мыслями на следующий день Булатов с Королевым. — Что бы это могло значить? Для чего понадобились лодки в это время здешним мироедам. И что за тюки они припасают?
— Уж не в Ярославль ли метят? — высказал
свое предположение Королев. — Сам посудив по московскому тракту и по железке туда не доберешься — Ростов не пропустит, а по озеру да по Которосли — в самый раз... А?
— Пожалуй, ты прав, Илья, — задумчиво ответил Булатов, — в самый раз по озеру.
Он пристально посмотрел на своего друга и решительно произнес:
— Ну что ж, коль по озеру, так и встретим на озере.
В тот же день было принято решение о создании патрульных постов на озере. Решение это не предавалось огласке, а патрулирование было поручено самым надежным и смелым людям. В нем принимали участие и Илья Королев, и сам Александр Булатов.
Однако на озере было спокойно. Днем выходили порыбачить местные рыбаки, по ночам в озерной глади отражались лишь летние звезды да темные пятна плывущих облаков. Так прошло двое или трое суток. Давала знать себя усталость от ночных дежурств, а отменять их нельзя — время тревожное, неспокойное.
— Пока Перхурова * не сковырнут в Ярославле, нельзя нам отменять патрулирование,— садясь за весла, заметил Булатов, успокаивая тем самым и себя, и своих товарищей.
— А может, проще на Саре пост выставить, чем прозябать на озере? — высказал свое мнение кто-то из патрульных.
— Ну да, — насмешливо заметил Илья Королев, — карауль Сару. А они преспокойненько дадут деру из-под Вексиц или еще где.
* Полковник, возглавивший белогвардейский мятеж в Ярославле летом 1918 года.
Так, собственно, оно и случилось в ту неспокойную, дождливую ночь. G вечера над озером полыхали зарницы, потом небо заиграло громовыми перекатами и полил дождь.
Пройдя в сторону Угодичей двумя отрядами — по середине озера и вдоль его берега, — патрули повернули обратно. Дождь хлестал лица, слепил глаза. Вдруг на передней лодке перестали грести, и Александр Булатов, который шел следом, с ходу чуть не врезался в корму первой плоскодонки. Патрули, осторожно подгребая веслами, развернули свои лодки к берегу, прислушались. По воде густо шелестел дождь. Но вдруг к этим монотонным звукам донесся другой — хлюпающий. Напрягая зрение, патрули заметили, а может, это им подсказало воображение, как неподалеку проплыла продолговатая тень.
— Стой! — громко крикнул Булатов и щелкнул затвором карабина.
В ответ, казалось, еще дружнее зашелестел дождь. Но вот донесся посторонний звук — стук уключины, шуршание камыша: кто-то и впрямь шел рядом на лодке, а сейчас пытался скрыться в прибрежных зарослях.
— Стой! — повторил Булатов и взялся за весла.
На этот раз в той стороне, куда уходила лодка, вспыхнул яркий огонек, и вслед за ним хлестнул выстрел трехлинейки. Этот выстрел привлек внимание и другого отряда, который также ринулся в погоню...
Наутро к Поречью подходил караван. Патрульные привели на буксире лодки, груженные продовольствием, оружием и боеприпаса
ми. Все это добро было конфисковано в ночном бою отрядами местного Совета.
В апреле 1919 года в Поречье на имя председателя волисполкома Александра Булатова пришла телеграмма. В ней говорилось, что молодая рабоче-крестьянская республика в опасности и что поэтому необходимо в срочном порядке направить в Ярославль добровольцев из числа наиболее сознательных трудящихся для формирования частей Красной Армии.
В тот же день, прежде чем объявить запись добровольцев, волисполком провел совещание. Оно было непродолжительным, но бурным. Ознакомив членов волисполкома с текстом телеграммы, Булатов заявил, что он, как коммунист, давно считает себя мобилизованным на борьбу против мирового капитализма. А сейчас, когда настал такой момент, что Красной Армии нужны новые отряды преданных бойцов, к тому же знающих военное дело, он, как бывший солдат, считает своим долгом первым записаться в число добровольцев.
На мгновение в комнате, где проходило совещание, воцарилась тишина. Потом раздался чей-то голос:
— Мы все считаем себя мобилизованными...
Казалось, этого голоса ждали, как сигнала, потому что вдруг сразу заговорили все.
— Правильно!
— Пойдем и мы добровольцами.
— А ты, Александр Николаевич, не имеешь права покидать Поречье...
— Правильно. Мы тебя избирали... Ты власть наша...
Булатов постучал карандашом по графину, поднял руку.
— Митинговать не будем, — спокойно заявил он. — Что касается власти, то ее еще нужно отстоять с оружием в руках... А это не простое дело, товарищи.
...Провожали добровольцев всем селом до самой станции Деболовск, где на запасном пути пыхтел ветхий паровозик. Он-то и повез по-речан сначала в Ростов, а потом и в Ярославль, подхватывая на станциях и полустанках все новые и новые теплушки, наполненные добровольцами.
На сборном пункте из добровольцев, прибывших из Ярославского, Рыбинского, Ростовского уездов был сформирован рабоче-крестьянский батальон. Командиром одной из рот этого батальона был назначен коммунист Александр Булатов, а командиром одного из взводов подразделения Булатова — его друг Илья Королев. Так и начали друзья свой путь на полях сражений гражданской войны.
Свое боевое крещение ярославские добровольцы получили на Восточном фронте в боях за освобождение города Уральска. При этом особенно отличилась рота Булатова, которая первой ворвалась в пригород и затем в рукопашном бою захватила батарею противника.
Близилась осень. Войска Туркестанского фронта под командованием Михаила Васильевича Фрунзе громили белогвардейскую армию генерала Белова, уральскую белоказачью армию и теснили их все дальше и дальше на север и восток. Обстрелянная, обожженная боями, палящим зноем и степными ветрами, в составе частей и подразделений пробивалась дальше вперед и рота Александра Булатова.
Бойцы подразделения проникались все боль
шим и большим уважением к своему командиру, который даже самых бывалых солдат поражал своей отвагой в бою, выдержкой и хладнокровием. И вообще, в этом человеке слились воедино неудержимая удаль и холодная рассудительность, неисчерпаемая человеческая щедрость, отзывчивость и строгая взыскательность. Так что и проводимая Булатовым постоянная учеба в перерывах между боями воспринималась бойцами подразделения как само собою разумеющееся.
Александр Булатов при этом особенно упорно обучал своих бойцов отражать кавалерийские атаки. Потом на привале он объяснял Илье Королеву и другим командирам взводов так:
—- Сильнее пехотинца — солдата нет. У кавалериста вся удаль в сабле, пике да коне. Сними ты его с коня метким выстрелом, и нет вояки. А у пехотинца земля-матушка да выдержка — главные его козыри. И в открытом бою, если не трус, пехотинец завсегда победит всадника.
Эту теорию Александр Булатов блестяще доказал в последнем своем бою.
Штаб полка с двумя батальонами (в состав одного из них входила рота Булатова) расположился после изнурительного перехода в большом уральском селе. Полковая разведка доложила, что вокруг все спокойно, противник не обнаружен.
Трубач сыграл «отбой», и вымотанные дневным маршем бойцы уснули мертвым сном. Не спали лишь дозорные у околиц села да часовые у штаба части.
Долго не мог уснуть в ту ночь и Александр Булатов. Какое-то безотчетное чувство трево
ги овладело им, и, лежа у окна, на широкой лавке, он с грустью вспоминал батрачку Лиду, которую очень жалел, а может быть, даже и любил.
От этих мыслей его отвлек голубоватый свет вспыхнувшей в небе сигнальной ракеты. Сразу же послышались одиночные беспорядочные выстрелы дозорных и часовых в разных концах села.
Когда Булатов выскочил на крыльцо, на ходу застегивая ремень и портупею, издали доносились уже не только выстрелы, но и топот коней вперемешку с конским ржанием и гиканьем всадников.
«Казаки!» —- догадался Булатов и что есть мочи крикнул выбежавшим на улицу полураздетым бойцам своей роты:
— Пулеметы! Гранаты! Приготовить к бою!
Застигнутые врасплох и теснимые со всех сторон белоказаками, бойцы отступали к площади. Видимо, это и было предусмотрено врагом, потому что с разных сторон площади вдруг ярко запылали соломенные крыши крестьянских дворов, и площадь стала видна вся, как на ладони.
А между тем Булатов приказал взводу Королева перекрыть ближайший переулок, направил пулеметчиков на церковную колокольню, наглухо перекрыл магистральную улицу, ведущую к площади. «Главное спешить врага, не дать ему ворваться на площадь», — лихорадочно думал Булатов, отдавая приказы. Об остальном думать, собственно, было и некогда, потому что заговорил уже первый пулемет его роты, рванули ночной воздух взрывы гранат, прозвучал дружный оружейный залп. Вход на
площадь с той стороны был перекрыт. И все же, казалось, казаки выбьют эту пробку: первые всадники уже ворвались на площадь. Но тут застучал пулемет с колокольни, и ночная атака казаков, на которую они так рассчитывали, по существу сорвалась. Казаки спешились.
Небо на востоке уже начинало алеть. Бойцы накапливали силы для контратаки, а главное, для того, чтобы отбить от наседающего врага штаб части и ее святыню — знамя.
Первым поднял в атаку свое подразделение Александр Булатов. Натиск был таким неожиданным и дружным, что противник, сняв осаду, спешно отступил, не приняв рукопашного боя. Вслед за ротой Александра Булатова поднялись цепи других подразделений, и мощное «ура» разнеслось далеко окрест.
Разгоралась на востоке заря, еще дымились и тлели пожарища, а у крыльца штаба взметнулось полотнище полкового знамени. Его высоко поднял над головой Александр Булатов. Но вдруг из какого-то дальнего, глухого переулка просвистела пуля, и знамя качнулось. Булатов прислонился к резному столбу крыльца и прошептал рядом стоящему бойцу:
— Возьми знамя. Я... убит...
Знамя снова взметнулось в сильных руках и заалело в лучах восходящего солнца. Были в этом алом сиянии наступающего дня и капельки крови простого поречского парня, первого председателя волисполкома, первого коммуниста Поречья Александра Булатова.
КАТЮША
Цромозглое туманное утро на Мгин-ских болотах наступало незаметно. Казалось, в предрассветной тишине кто-то невидимой рукой медленно снимал с ночи темный покров, уволакивая его на запад, где в зыбком мареве темнели холмы, которые на всех топографических картах были занумерованы и значились как высоты. Настороженно присматриваясь к ним, часовые в дозорах и дежурные на КП вдруг замечали наступление нового дня. Они поеживались от холода и сырости, шурша плащ-накидками. Оживали траншеи, землянки, до слуха доносилось бряцание оружия или позвякивание котелка.
На этот раз утро нового дня разведчица Екатерина Мошонина встречала не как обычно, у входа в укрытие, а у ниши, где была установлена аппаратура. Левой рукой девушка прижимала наушники, а правой быстро-быстро записывала чужую речь. После каждой длинной фразы глухой голос на далеком конце провода спрашивал по телефону: «Ферштейн зи?» На это, где-то совсем рядом, выкрикивал другой: «Яволь!» Выслушав приказ, ближний голос повторил все сказанное первым, а Катя, быстро водя карандашом по кривым строчкам, сверяла запись.
Все правильно. Гитлеровцы в 10 утра начнут артподготовку, а потом атакуют, чтобы найти слабое место в обороне. «Как бы не так», — подумала вслух Катя. Она подняла трубку полевого телефона, что соединял ее с командным пунктом дивизии.
— Первый! Первый! Алло, первый! — полетели по проводу позывные.
«Первый» тут же ответил, и лейтенант Мо-шонина коротко доложила:
— В десять ноль-ноль артподготовка... После артналета — атака и попытка прорвать оборону.
— Первый понял! — услышала девушка в ответ и облегченно вздохнула.
С далекого командного пункта дивизии по проводам, которые змейками разбегались по огромному торфяному массиву, в расположение наших подразделений полетели приказы. Солдаты на передовой готовились к отражению атаки. Боевые расчеты артиллеристов, минометчиков заняли свои места, чтобы нанести? в нужную минуту ответный удар.
...Огонь наших орудий и минометов застал гитлеровцев врасплох. Вражеские артиллеристы, которые получили приказ в 10.00 обстрелять передний край нашей обороны, за десять минут до назначенного срока сами попали под артиллерийский обстрел и теперь спешно прятались в укрытие. А мощь огня усиливалась с каждой минутой. Минометы и полковая артиллерия обрабатывали передний край противника, по тылам и дальним укреплениям врага вели огонь тяжелые орудия.
Екатерина Мошонина следила за часами: «Откроют или не откроют теперь гитлеровцы ответный огонь?» Десять ноль-ноль! В науш
никах прозвучала немецкая команда: «Фойер!» И сразу же где-то раз-другой ударило немецкое орудие и умолкло. А по проводам, в перерывы между разрывами наших снарядов, вперемешку с руганью неслась теперь уже бессильная команда: «Фойер!», «Фойер!»
Оглушенные и подавленные огнем советской артиллерии, гитлеровцы недоумевали: как русские сумели разгадать их замысел? И это уже не впервые! Было им невдомек, что под боком сидит советский офицер — разведчик — и вот уже бессменно, которые сутки, слушает телефонные разговоры.
Лейтенант Екатерина Мошонипа, недавняя студентка педагогического института, и была этим офицером-разведчиком.
— Не боишься? — не раз спрашивали девушку офицеры дивизии, дивясь ее хладнокровию и бесстрашию. — Небось страшновато у фашиста под носом сидеть?
Катя, по обыкновению своему, улыбалась и отвечала коротко: «Нет!» А сердца вдруг коснется щемящая боль: вспомнится институт, подруги, бесконечно дорогой Ленинград. Город своей юности ярославская девушка Катя полюбила не только за его белые ночи. Она помнит его и другим, когда он нацелился жерлами орудий на врага и стал на его пути грозный и непобедимый. Запомнила она и взрывы вражеских бомб и снарядов, кровь детей и женщин на улицах. Разве человек, который пережил все это и взял в руки оружие, может бояться или испытывать страх перед тем, кто посягнул на его юность, на жизнь детей, женщин и стариков? И в самом деле, чувство страха неведомо было этой хрупкой девушке, носившей форму офицера.
Знала Катя и другое: ее не оставят в беде в трудную минуту. В дивизии берегли и зорко охраняли храбрую разведчицу. Однажды из подразделения, где она отдыхала, девушку срочно вызвали в штаб дивизии. Вместе со связным ей пришлось пробираться почти по открытой местности в глубь обороны. Гитлеровцы открыли пулеметный и минометный огонь. Смельчакам то и дело приходилось ползти, перебираться через воронки и вымоины, наполненные ржавой болотной водой.
В штаб лейтенант Мошонина явилась далеко не в парадном виде: шинель и сапоги были насквозь пропитаны водой и измазаны торфяной жижей. Начальник штаба взглянул на разведчицу, полушутя, полусерьезно укоризненно сказал связному:
— Эх, ребята, ребята... Неужели так вот и будем ползать по болоту и ничего не придумаем?
Связной, сам перепачканный с ног до головы, виновато переминался с ноги на ногу: попробуй придумать,, когда кругом болото да мелкий кустарник. Но связной был настоящим солдатом. Он не знал слова «нет», когда нужно было что-то предпринять, а потому решительно ответил:
— Придумаем, товарищ полковник.
Солдат сдержал слово. Однажды утром внимание Кати привлекли длинные пулеметные очереди, вой и взрывы гитлеровских мин. Она не могла понять, в чем дело. Гитлеровцы накануне вели себя тихо, у нас тоже все было спокойно. Девушка осторожно выглянула из укрытия в сторону нашей обороны и поразилась. На болоте в расположении наших подразделений,
на открытых участках, был установлен плетень. Он извивался по болоту, уходил в глубь обороны. По нему-то и открыли огонь гитлеровцы. Пулеметные очереди прошивали легкие вертикальные укрытия насквозь, а те стояли как ни в чем не бывало. Убедившись, что таким образом не удается сокрушить эти странные непонятные сооружения, гитлеровцы в конце концов перестали палить. А плетень с тех пор стал надежно укрывать от глаз противника передвижение наших солдат и офицеров по болоту. Изредка гитлеровцам удавалось минометным огнем сделать брешь в плетеной ограде. Но наутро снова все было на своем месте. Враг оказался бессильным перед смекалкой русского солдата...
На 12 января 1944 года наше командование наметило прорыв обороны противника. Разведка дивизии получила задание взять «языка». Лейтенанту Мошониной было приказано следить за поведением врага и предупредить разведчиков в случае опасности.
В расположении гитлеровцев было тихо. Катя слышала, как мимо ее укрытия проползли разведчики. Затем предрассветную тишину разорвали взрывы гранат, треск автоматов, крики сонных гитлеровцев. Разведка окончилась удачно. «Язык» был доставлен в штаб дивизии. Им оказался солдат-гренадер, родом из Бранденбурга. Пленный дал нашему командованию важные сведения.
Спустя несколько дней после прорыва обороны и окружения вражеской группировки гитлеровцы уже «варились в котле», в который захлопнули их наши наступающие войска. А дивизия неудержимой лавиной продвигалась все дальше и дальше на запад. Впереди сражаю
щихся по-прежнему шла разведчица Екатерина Мошонина. Она провела 82 дня у переднего края противника, своевременно раскрывая его замыслы.
...Давно отгремела война. Бывший офицер — разведчик Катюша Мошонина, ныне Екатерина Михайловна Галушко, — живет и трудится на ярославской земле в поселке Борисоглебский. О ее ратных подвигах и годах военной жизни сейчас напоминают правительственные награды да давнишняя седина, которая вызывает чувство уважения и восхищения простой русской женщиной.
САМОЛЕТ
НЕ ВЕРНУЛСЯ
НА БАЗУ...
Д прель 1939 года был на исходе. Ласково и щедро светило солнце. И если бы с озера, покрытого еще рыхлым ноздреватым льдом, не тянуло сырой прохладой, на улицах Ростова было бы уже совсем по-летнему тепло.
Но ни Филипп, ни его закадычный друг Саша Серебряков не замечал этой прохлады. На душе у них было легко и радостно. Легко — от обилия света, весеннего солнца, радостно оттого, что они молоды, сильны и у каждого из них в кармане, у самого сердца, лежал только что полученный в райкоме комсомольский билет.
Уезжать так, сразу, домой, в свой заозерный совхоз, друзьям не хотелось, и они отправились бродить по городу. Побродили по парку, постояли у кремля, поднялись на пригретые весенним солнцем городские валы.
— А не пора ли нам в путь-дорогу? — напомнил Саша.
Филипп ничего не ответил. Он задумчиво глядел в синеющие заозерные дали, и лишь когда Саша тронул его за плечо, Филипп вздохнул полной грудью пьянящий апрельский воздух и произнес:
— Ты взгляни, как хорошо, Саша! Красота! Так бы взмыл сейчас ввысь и полетел...
— Ну, как знаешь — летай, а у меня и на земле дел невпроворот...
— Саша, ты не обижайся, поезжай один... Я еще малость задержусь...
—Хочется ее повидать?
Филипп замялся.
— Как тебе сказать...
— Ну, да ладно уж — валяй, я и один доберусь.
Филипп хотел было что-то сказать, но Саша уже его не слушал. Он бежал с валов, махнул на прощанье рукой и зашагал прочь. А Филипп думал, глядя ему вслед: «Чудак этот Сашка. «Валяй», — мысленно передразнил он друга.— Как будто у человека не может быть и других дел».
Думая так, Филипп слегка покраснел, потому что Саша знал, куда метил, и попал в самую точку. Конечно, же, было бы здорово встретить сейчас Валю — ведь они так давно не виделись!
Однако были у парня и другие дела, о которых даже Саша, его лучший друг, до поры до времени ничего не знал. Филиппу предстояло в тот день еще наведаться и в военкомат, узнать, нет ли вызова из авиаучилища.
Но вызова все еще не было.
Филипп загрустил. Валя (которую он все-таки встретил в тот день) никак не могла понять, почему Филипп — всегда чуть застенчивый, но веселый — сегодня такой неразговорчивый. Девушка терялась в догадках, а потому стала допытываться, как их принимали в комсомол, о чем спрашивали и как отвечал Филипп на вопросы членов бюро. Они долго бродили по тенистым улицам города, по аллеям парка. Валя попросила почитать стихи, которые, она
это знала, он сочиняет и записывает в толстую тетрадь.
Филипп подумал и согласился, но с условием: не смеяться, если стихи покажутся никчемными.
— Разве можно смеяться над стихами, Филя! А твои — все хорошие! Готова слушать сколько угодно.
— Сначала я тебе прочту вот это, из кинофильма...
В мире есть четыре океана,
Их волны бьют о берег разных стран, Но всех сильней, заманчивей и шире Над круглым миром — Пятый океан!
Стихи Филипп читал неторопливо. Он как бы обдумывал и взвешивал каждое слово. А слова те были о дружбе, о крылатой мечте, о рождении прекрасного чувства— любви:
Другой такой не знаю я, Любви иной не ведаю...
Валентина слушала его, затаив дыхание, и Филипп был счастлив. Мог ли он знать тогда, какие испытания ждут его впереди, мог ли предположить, что вскоре придет и вызов из училища, и что предстанет он перед отборочной комиссией, а в курсанты его — здорового, высокого парня все-таки не зачислят?
Такого удара он не ожидал. Приговор медицинской комиссии был безапелляционным. Филиппа признали непригодным к службе в авиации по состоянию здоровья.
...За несколько дней парень осунулся, замкнулся в себе. Саша, как мог, пытался развеять мрачные мысли друга.
— Не пойму, чего тебе еще не хватает. Дело свое ты знаешь, работаешь хорошо, все тебя уважают. Фотографии наших доярок в газетах печатают. А чья заслуга? Твоя, ты их в люди вывел как зоотехник... Это же всем известный факт!
— Преувеличиваешь, Санька! Ну, какая тут заслуга? Люди сами хорошо работают!
— Ну, а то, что ты сам на ферме, как говорят, днюешь и ночуешь... Тоже не в счет? В Ла-зарцеве девчата уже и частушки под гармонь приладили...
Тут Саша шутливо пропел:
Зоотехник молодой Все твердит нам про удой, Днем и ночью он на ферме, И не выманишь домой...
— Не слыхал?
Что правда, то правда. Частушки такие на селе уже действительно распевали. Поэтому Филипп последний вопрос друга пропустил мимо ушей.
— Ферма — это моя обязанность, — произнес он и упрямо добавил: — А летать, Санька, я все равно буду!
После этого разговора, как заметил Серебряков, Филипп стал удивительно жестоким к себе. Едва только забрезжит рассвет, он уже на ногах: то гирю выжимает, то на турнике упражняется. А там, глядишь, уж по проселку бегает, отрабатывает дыхание. И так изо дня в день, вплоть до того часа, когда он снова предстал перед комиссией. Как и в первый раз, медики придирчиво выслушивали, выстукивали, вымеряли, вертели парня. И наконец прозвучало долгожданное: «Годен!»
Зоотехник совхоза «Красный пахарь» Филипп Крышковец стал курсантом Харьковского авиационного училища.
Брат Филиппа — Василий — пишет в своих в оспоминаниях:
«Харьковское авиационное училище Филипп окончил в 1940 году. В дальнейшем его служба была продолжена в одной из авиационных частей на западной границе. Зимой 1940 года, по окончании училища, он приезжал домой в отпуск. В первые месяцы войны он прислал письмо из Москвы. Сообщил, что жив и здоров и что скоро получит новый самолет».
* * *
Каждому дороги и близки родные края. Но когда ты почувствуешь, что они являются лишь частицей огромных пространств твоего Отечества, любовь к родному краю ширится, растет, становится безграничной. Любовь эта — самая благородная, самая сильная, самая неподкупная. Это — любовь к Родине! Именно такое чувство и испытал Филипп Крышковец, летая в родном небе над просторами советской земли.
Мужественно защищал комсомолец Крышковец родную землю. В воздушных боях совершенствовалось и крепло его мастерство. Филипп с первых же дней войны на практике усвоил истину: в бою побеждает храбрейший. Может быть, поэтому храбрость его порою граничила с дерзостью, когда он, расстреляв все патроны, шел на таран.
Получив новый самолет, Филипп охранял небо Москвы. А когда у столицы фашистские полчища были разгромлены, он в составе
своей эскадрильи вылетел на помощь героическим защитникам Ленинграда. Это о его летной части говорилось в те дни в лаконичной сводке Совинформбюро: «Наши летчики, действующие на Ленинградском фронте, произвели успешный налет на воинские эшелоны противника и уничтожили 36 вагонов с пехотой и военными грузами».
В одном из воздушных боев Филипп был ранен. Молодой летчик так увлекся боем, что не заметил, как с тыла его атаковал «мессершмит». Пулеметная очередь прошила фонарь кабины, и пули, как огнем, обожгли руку, парализовав ее. Неуправляемый самолет резко наклонился и ринулся вниз. Лишь у самой земли, ценой нечеловеческих усилий, Филипп вывел самолет из вертикального положения и повел его на посадку.
Когда машина с красным крестом подкатила к самолету, летчик не вылез навстречу санитарам. Он был без сознания... Из госпиталя своим родным Филипп писал позднее, что ему с трудом удалось «дотянуть» до своих и что, «когда выздоровеет, уедет на фронт».
О самом главном Филип умолчал в письме. Родные тогда так и не узнали, что на правой руке в госпитале ему ампутировали пальцы и что в лучшем случае он может теперь рассчитывать на должность инструктора в тылу. Так оно и произошло в действительности. Филипп с болью сообщал своему другу танкисту Саше Серебрякову:
«Понимаешь, Саша, после ранения меня направили в тыл инструктором. А я не хочу, не могу находиться в тылу, когда землю нашу топчет враг!..»
В штабе части, где служил теперь Филипп Крышковец, от настойчивого летчика-инструктора не знали покоя. Он пишет командованию рапорт за рапортом. Содержание их одно: «Я боевой летчик. Прошу отправить на фронт».
Просьбу летчика в конце концов удовлетворили и его направили на фронт, только теперь не в истребительную часть, а в бомбардировочный полк. Своей радостью Филипп спешит поделиться с другом: «Саша, улетаю на фронт! Фашистским гадам не будет пощады!»
* * *
Май 1942 года. Короткая передышка перед вылетом. В землянке грустит гармонь, тихо, задумчиво подпевают летчики:
Бьется в тесной печурке огонь.
На поленьях смола, как слеза...
Песня вызывает у каждого летчика воспоминания о родном крае, о любимой... Филипп думает о своем совхозе, о девушке из старинного города Ростова...
И вдруг — команда:
— Летный состав! К командиру!
Оборвалась на полуслове песня. Землянка опустела. Воздух наполнился ревом моторов, в небо поднялись боевые машины, взяв курс на Брянск.
...Прорвав заграждение яростного огня зенитных орудий и пулеметов, Филипп Крышковец вывел свой самолет к цели. Теперь успех воздушной атаки решали секунды. Летчик сделал расчет, и бомбы, покинув самолет, с нарастающим воем устремились на врага. Крышко-
вец видел внизу яркие вспышки взрывов. Они мгновенно превращались в вихри огня и клубы черного дыма, которыми обволакивались исковерканные железнодорожные вагоны и боевая техника гитлеровцев.
Удачно отбомбились и другие самолеты. Экипажи разворачивали грозные машины и брали курс на восток, на свою базу. Выводя самолет из зоны боевой операции, Филипп неожиданно увидел перед собой белые вспышки и услышал сквозь гул самолета хлопки взрывов.
Проскочить полосу плотного заградительного огня на этот раз не удалось. Взрывы окружали машину зловещим кольцом. Самолет резко тряхнуло, и пилоту стоило огромных усилий, чтобы удержать его в воздухе: снарядом, что разорвался у самой машины, было повреждено хвостовое оперение, часть фюзеляжа, откуда показались языки пламени. Словно поджидая этого момента, на подбитый бомбардировщик, как стервятники, из-за облаков ринулись гитлеровские истребители. Филипп Крышковец принял последний бой.
Самолет на базу не вернулся...
* * *
Летом 1942 года на имя колхозников Никиты Леоновича и Феклы Михайловны Крышковец пришло извещение. В нем говорилось:
«Ваш сын, летчик Крышковец Филипп Никитич пропал без вести в районе города Брянска...»
Долгое время так ничего и не было известно о его судьбе.
Но летчик Филипп Крышковец не пропал без вести. Нашелся человек, который был свидетелем последнего неравного боя мужественного летчика. Вот выдержки ив письма, которое несколько лет назад было прислано в Ростовский райком комсомола:
«Я, секретарь комсомольской организации колхоза имени Горького Карачаевского района Брянской области, считаю своим комсомольским долгом сообщить Ростовскому РК ВЛКСМ Ярославской области нижеследующее.
В мае 1942 года, примерно часов в 12 дня, на территории нашего колхоза упал советский самолет, подбитый во время бомбардировки над г. Брянском. Самолет преследовали и постоянно обстреливали два фашистских истребителя.
У преследуемого самолета было повреждено управление — «хвост». Но, несмотря на это, самолет вел бой. При падении самолет утонул в болоте около д. Воронинка.
Сейчас на этом месте идут торфоразработки. Экскаваторщики обнаружили и достали утонувший самолет. В нем нашли документы владельца. Здесь был и комсомольский билет № 4447207. Он выдан Ростовским РК ВЛКСМ Ярославской области (секретарь РК ВЛКСМ М. Соловьев) на имя Крышковца Филиппа Никитича, год рождения 1920...
В. Сергеев, секретарь комсомольской организации».
* * *
Рассказ Сергеева о гибели героя послужил тогда началом дальнейших поисков. В райкоме комсомола, куда было адресовано письмо, комсомольца Филиппа Крышковца молодые работ
ники аппарата не знали. Но зато хорошо помнили своего зоотехника в бывшем совхозе «Красный пахарь». К тому же после разгрома фашистской Германии вернулся домой демобилизованный танкист Александр Серебряков. И его рассказы о Филиппе нельзя было слушать без волнения. С помощью Александра Серебрякова удалось разыскать вскоре и родных. Мать и отец Филиппа — Фекла Михайловна и Никита Леонович — проживали в деревне Бе-резовец Чернышевского сельсовета Костромской области. Откликнулся и брат летчика — Василий Никитич. В своем письме он сообщал, что Филипп был представлен к правительственной награде, но Василий Никитич не знает, успел ли брат ее получить.
Прислали свои воспоминания и товарищи по оружию, и работники госпиталя, где лечился летчик после ранения. Валентина принесла фотографии. На них Филипп запечатлен в форме военного летчика.
...А по тенистым улицам Ростова, по его бульварам и паркам по-прежнему ходят влюбленные, и, как прежде, взбираются на древние валы ребятишки и с завистью смотрят ввысь на едва уловимые взглядом в бездонном небе серебристые контуры самолетов, которые нет-нет да и пролетят над старинным городом и его окрестностями. И когда звук пролетающего самолета донесется до слуха Валентины, она невольно прислушивается к нему и задумывается. И вспомнится ей вдруг высокий, сероглазый парень, что гулял когда-то с нею по аллеям парка и поверял ей свою крылатую мечту.
Д^рачное это было зрелище. Светило щедрое июньское солнце, а над землей, украшенной яркими полевыми цветами, разливами ржи, пшеницы, тенистыми виноградниками, стлался черный дым пожарищ.
С запада тянуло см;радом. Горели не только хаты с соломенными крышами, которые легко воспламенялись от немецких термитных зарядов, горели на родной земле чужие машины, орудия, черные танки, меченные паучьей свастикой и белыми крестами. Это от них исходило зловоние. С них-то и начал свой боевой счет артиллерист-наводчик Василий Чуркин в 1941 году.
Тяжело было на душе у солдата. Вместе со своей батареей в составе артиллерийского полка он с боями отступал на восток. В населенных пунктах, стоя у обочин дорог, бойцов печально провожали женщины, седоусые старики. Мальчишки, этот шустрый и бойкий народ, даже и те присмирели и, црижавшись к матерям, широко раскрытыми глазами молча глядели на запыленные колонны войск.
Тяжело было покидать этих людей, обреченных на голод, муки и смерть. С тяжелым сердцем отступал Василий, а память то и дело воскрешала события последних дней. Перед
ним возникали картины боя на Днестре, горящие села, разбитый эшелон эвакуированных и тут же сидящая на коленях у груды шлака простоволосая женщина с безумным, невидящим взглядом над трупом мальчика.
Часто в такие минуты, заслоняя собой все, вдруг всплывал образ матери. Вспоминались ее ласковый голос и наставления перед его уходом в армию: «Смотри, Васютка, служи честно, ты ведь у меня комсомолец».
Не мог забыть Василий и образ другой женщины, пожилой колхозницы, ее заскорузлые трудовые руки, которыми она протягивала ему кринку холодного молока, голос, наполненный мольбой и надеждой:
— Невже ж вы його проклятого не зупы-ныте та не покараете за вси злочины? 1
— Не волнуйся, мать. Покараем! Обязательно! — ответил тогда Василий и мрачнее тучи ушел в бой.
Бой закипел жаркий. Находясь на небольшой высоте у своего орудия, Василий видел, как танки фашистов начали теснить нашу пехоту. Он видел, как солдаты кидались с гранатами навстречу черным чудовищам, и, потеряв счет времени, сам бил по танкам и бронемашинам прямой наводкой. Бил и тогда, когда в расчете осталось два человека, бил, наконец, один, когда последний его товарищ свалился к орудийному лафету.
Атака фашистов захлебнулась. На почерневшем от огня поле тускло горели в дыму темные машины.
1 Неужели вы его проклятого не остановите и не накажете за все злодеяния?
2.
Не одну такую атаку отразил Василий Чуркин. Не раз смотрел он в глаза смерти и испытал на себе, казалось, все — и голод, и холод, и огонь фашистской авиации, танков и всевозможного рода «стратегического оружия» гитлеровцев — от «тигров» до шестиствольных минометов. И была еще горечь отступления от западных рубежей нашей Родины до стен Москвы. На войне для него все стало простым и будничным, лишь только эта горечь легла на сердце тяжелым осадком и не давала солдату покоя.
— Дальше отступать некуда! За нами Москва!
Эти крылатые слова панфиловцев облетели весь фронт и стали клятвой каждого солдата, глубоко запали в душу Василия.
3.
Долгожданный час освобождения Родины настал! Снова бои. Но теперь солдату воевалось легче: Василий шел на запад!
...1944 год. Войска 1-го Украинского фронта перешли в наступление на Львовском направлении. После мощных налетов авиации и артиллерийской подготовки, в которой принимало участие и орудие Василия Чуркина, советская пехота взломала первую полосу обороны немцев.
В сводке Совинформбюро в эти дни сообщалось: «Развивая успех, наши войска вышли ко второму оборонительному рубежу, названному немцами линией «принц Евгений».
Фашисты возлагали на эту линию особые надежды и готовились бросить против наших войск крупные танковые силы. Когда об этом стало известно в штабе полка, оттуда в подразделения полетел приказ: не пропустить врага.
Гитлеровцы в тот день лезли напролом с отчаянностью обреченных. На первую батарею, в составе которой был Василий, волна за волной, лязгая гусеницами, шли «фердинанды», «пантеры», «тигры». Золотистое ржаное поле, ставшее ареной битвы, покрылось черными воронками. Полыхали на нем подбитые танки и самоходные орудия.
Был момент, когда гитлеровцам казалось: заслон прорван. Среди орудийного грохота и скрежета металла вдруг наступила тишина на левом фланге. Повернувшись, Василий увидел там развороченную пушку и фашистский танк, устремившийся к ней.
— Развернуть орудие по фронту! — скомандовал Василий. И когда орудие было установлено вдоль фронта, припал на миг к прицелу, затем отшатнулся от него и дернул за шнур: — Получай!
На броне танка сверкнула яркая вспышка. Из него повалил густой черный дым, в котором замелькали красные языки пламени. Мчавшиеся вслед за этой другие машины гитлеровцев начали пятиться назад: фашисты хорошо понимали, что значит для них боковой огонь.
Вся ярость гитлеровцев на левом фланге обрушилась теперь на орудие Василия Чуркина. Под прикрытием танков пошла пехота.
Внезапно в разгаре боя вражеский снаряд разорвался у самого орудия. Отброшенный
взрывной волной, Василий потерял сознание. Очнулся он от противного лязга. «Танк!»
Василий рванулся и застонал от боли. Нога была пробита осколком снаряда. Орудие, поврежденное взрывом, уставилось стволом в синее небо. На месте, где стоял заряжающий, холодной пустотой зияла воронка. А лязг танка все приближался.
«Что делать? — с отчаянием подумал Василий и вдруг вспомнил. — Гранаты! Бутылки!»
Превозмогая боль, он ползком направился к нише, где хранились боеприпасы.
Фашистский танк на предельной скорости мчался к орудию. Автоматчики оторвались от танка. Минута-другая, и 60-тонная масса «тигра» раздавит орудие.
Василий перебрался в воронку, к самому орудию и хладнокровно прикидывал: «Нет, пожалуй, рановато. Бросать надо наверняка, подпущу поближе».
Василий метнул гранаты, когда расстояние до «тигра» было не более десяти метров. Вслед за гранатами полетела бутылка с жидкостью. Лязг прекратился.
Обессиленный, Василий сполз на дно воронки. Истекавшему кровью артиллеристу поединок с танком стоил немалых усилий. Взрыв противотанковых гранат ватой заткнул уши. На короткое время он даже потерял сознание, а когда снова пришел в себя и выглянул из воронки, увидел, как, пригибаясь, через островки уцелевшей ржи молча крадутся вражеские солдаты. Василий потянулся к автомату.
Бил короткими очередями. От потери крови перед глазами плыли темные и красные круги. Фигуры гитлеровцев казались черными. Оглу-
шейный взрывами, Василий не слышал треск автомата, но зато ощущал всем существом каждый свой выстрел.
...Пуля настигла солдата в тот момент, когда он, лежа на боку, менял диск автомата. Диск выпал из рук и покатился на дно воронки. Василий медленно опрокинулся на спину. Он с тоской взглянул в бездонное родное небо и вдруг увидел в нем самолеты. Вот тройка их стремительно ринулась вниз. На крыльях мелькнули звезды. Превозмогая боль, Василий улыбнулся: теперь не пройдут! Улыбка замерла да так и осталась на лице солдата.
Поливая мечущегося врага огнем пулеметов, самолеты шли на треснувшую по всем швам линию «принц Евгений» и на переправу через Западный Буг...
* * *
Высоко оценила Родина подвит ярославского комсомольца Василия Чуркина. За проявленные в боях мужество и настойчивость он был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. На его боевом счету значилось 12 уничтоженных гитлеровских танков и самоходных орудий, 9 автомашин с пехотой, 2 батареи, более четырехсот фашистов.
Василий Чуркин не дожил до светлого дня Победы, но он до конца выполнил свой воинский и комсомольский долг, отомстил врагу за слезы и муки советских людей.
Василий Чуркин погиб, защищая Родину. И Родина, парод будут вечно помнить его светлое имя, его подвиг.
Герои не умирают.
ПАРТИЙНЫЙ
БИЛЕТ № 1837765
«Я коммунист, товарищи...»
g просторный светлый кабинет, где заседала комиссия, вошел, прихрамывая и опираясь на костыль, невысокий изможденный человек. Подойдя к столу, он четко по уставу доложил:
— Политрук седьмой роты 786 стрелкового полка 155 стрелковой дивизии старший лейтенант Боровков.
— Бывший политрук, — ровным голосом поправил офицер, заполнявший анкету.
Лицо Боровкова чуть заметно дрогнуло, и он согласился:
— Так точно: бывший политрук, — и чуть-чуть замешкавшись, добавил: — Бывший военнопленный.
Офицер, который заполнял анкету, привычно задавал вопросы и, не поднимая головы, быстро записывал. Бывший военнопленный старший лейтенант Боровков, сделав полуоборот в сторону офицера, так же быстро и четко отвечал: Боровков Дмитрий Абрамович, 1906 года рождения, русский уроженец деревни Малая Березовка Островского района Костромской области. Ответы следовали один за другим, офицер одобрительно кивал головой.
Но один ответ не удовлетворил его. Он поднял голову и с укором посмотрел на Боровкова. Вопрос повторил председатель комиссии — строгий, худощавый, седоволосый человек:
— Старший лейтенант Боровков, отвечать следует точно: состоял ли раньше членом Коммунистической партии.
— Состоял и состою, — последовал упрямый ответ.
— Хорошо, — подумав, согласился председатель комиссии и коротко потребовал:
— Предъявите партийный билет!
— Слушаюсь, — ответил бывший политрук.
Члены комиссии переглянулись. А старший лейтенант Боровков, волнуясь, расстегнул левый карман полученной недавно солдатской гимнастерки и бережно вынул небольшой сверточек в пергаментной бумаге. Развернул его и протянул председателю комиссии тоненькую красную книжечку.
— Да, — задумчиво произнес видавший виды председатель комиссии, рассматривая потрепанную красную книжицу. — Партийный билет за номером 1837765... Выдан Боровкову Дмитрию Абрамовичу, члену Всесоюзной Коммунистической партии большевиков с октября 1932 года.
Председатель вышел из-за стола, обнял старшего лейтенанта Боровкова и, пытливо глядя в его изможденное лицо, по-человечески просто спросил:
— Как же ты, старший лейтенант, сумел сохранить в плену свой партийный билет?
— Я коммунист, товарищи...
Этот человек, который не мог без помощи костыля стоять на ногах, в котором и сама-то
жизнь, казалось, едва теплилась, заговорил так проникновенно, так убежденно и с таким достоинством, что и убеленный сединами строгий председатель, и члены комиссии все больше и больше проникались уважением к бывшему политруку, старшему лейтенанту Боровкову...
«Держись, политрук!»
Наступление гитлеровцев началось неожиданно. Со стороны Ржева из серой снежной мглы вдруг вынырнули танки. На том месте, где участок дороги простреливался пулеметным огнем седьмой стрелковой роты Иванова, они круто разворачивались и сползали в лощину, готовясь к атаке.
— Сволочи! — отводя душу, выругался командир роты и приказал связному: — Политрука!
Но политрук, старший лейтенант Боровков, который находился на правом фланге и там наблюдал за приготовлением гитлеровцев, уже сам спешил к Иванову.
— Что будем делать, старший лейтенант, — спросил командир роты, когда политрук появился в окопе.
Боровков, раскрасневшийся от быстрой ходьбы, переведя дыхание, деловито заметил:
— Пехоты не вижу, товарищ командир, — и привычным жестом сдвинул на затылок шапку.
Иванов улыбнулся. Деловитый тон политрука, его задиристый вид с расстегнутым на груди полушубком и лихо заломленной шапкой на голове привели командира роты в хорошее настроение, и он весело, как будто сообщал о приятном сюрпризе, пообещал Боровкову:
— Будет тебе, старший лейтенант, сейчас и пехота, — и передал по цепи команду:
— Приготовить пулеметы к бою!
Вскоре на шоссе, вслед за танками стали появляться темные фигурки автоматчиков. Они выскакивали из противоположного кювета, низко пригнувшись, быстро пересекали шоссе и скатывались в спасительную для них лощину, сцрытую от бойцов седьмой роты березовой рощицей.
Пулеметы, которые командир пулеметного взвода Степанов установил на флангах, открыли по гитлеровцам огонь короткими очередями:
— Хорошо, — удовлетворительно про себя отметил командир роты. — Сейчас еще огоньку поддадим. Лейтенант Петровский, —обратился Иванов к своему помощнику, — подготовь минометы.
Вскоре через березовую рощицу в лощину, где притаились танки и автоматчики, полетели мины. Гитлеровцы попали в ловушку. Их первая попытка — развернуться и атаковать укрепленную высотку между деревнями Гороват-ка и Жерносеково — не удалась. А высотка эта, которая вклинивалась в оборону противника и с которой простреливался участок Ржевского шоссе, была у немецкого командования как кость в горле. Поэтому гитлеровцы пытались взять высотку любой ценой.
...Из лощины доносился шум танковых моторов.
— Ну, держись теперь, политрук. Твоя очередь...
Боровков кивнул головой, подхватил автомат, гранаты, выскочил на бруствер окопа. Пригнувшись по фронтовой привычке, он побежал
в Гороватку, от которой, после недавних боев, остались три изуродованные старые липы. Под ними теперь расположился заградотряд, вооруженный противотанковыми ружьями, гранатами. Судьба высотки во многом зависела от того, сумеет ли отряд сдержать натиск танков. Вот почему Иванов послал сюда самого быстрого в решениях и самого хладнокровного в делах, своего верного помощника — политрука, коммуниста Боровкова.
Поединок
На этот раз командир роты Иванов, опытный офицер, не разгадал замысла гитлеровцев. Танки через березовую рощицу (они могли пройти только здесь, так как за Гороваткой простиралось минное поле, а Жерносеково прикрывал с фланга лес) не пошли. Они выползли на шоссе и начали обстрел высотки. Под прикрытием огня гитлеровская пехота стала смелее пересекать шоссе и просачиваться в березовую рощицу.
Рота несла потери. Смолк один пулемет, притихли минометы. Над головой рвались шрапнельные снаряды, свистели осколки. Содрогаясь от взрывов, высотка покрывалась язвами черных воронок. Связь заградотряда с соседними подразделениями прервалась.
Несколько снарядов гитлеровцы выпустили по Гороватке и Жерносекову. Затем танки ринулись вперед. Две машины пошли в обход березовой рощицы, остальные — напролом к высотке. В воздухе снова с воем зажужжали наши мины. Но приостановить гитлеровцев на этот раз оказалось труднее. Танки вырвались на от
крытое место и, ведя огонь, продвигались вперед. За ними шла пехота.
На подступах к Гороватке один за другим прозвучали взрывы противотанковых мин, и сразу же в той стороне шум моторов, к которому тревожно прислушивался заградотряд, утих. Политрук одобрительно крякнул и скомандовал:
— По танкам огонь!
И, как только прозвучали первые выстрелы длинноствольных противотанковых ружей, Боровкова и бойцов заградительного отряда охватил азарт боя.
— Огонь! Огонь!—командовал политрук, и к вражеским танкам, которые вышли на открытую местность, летели наполненные термитом маленькие смертоносные снарядики. Они впивались в бока машин и вспыхивали яркими звездочками. А с высотки и с далекого правого фланга снова вдруг застучали пулеметы Степанова. Гитлеровцы этого не ожидали. Они считали, что оборона сломлена после недавнего обстрела и что им удастся подавить сопротивление роты одним ударом. Вот почему таким неожиданным показались им боковой удар заградотряда и прерывистые пулеметные очереди.
Пехота залегла, а танки правого фланга противника повернули на Гороватку, обстреливая ее с ходу. Положение заградотряда осложнялось. Гитлеровцы засекли огневые точки, и танки повели обстрел наших позиций.
Снаряды рвались один за другим. Головная машина прорвалась к линии обороны, подмяла под себя противотанковое ружье и рванулась дальше. Но Боровков вдруг заметил, как из разрушенного окопчика показалась стриженая,
без шайки, окровавленная голова и рука со связкой гранат. Политрук не узнал бойца и подумал, что, вероятно, тот смертельно ранен. Собрав остаток сил, солдат ринулся из окопчика и швырнул под гусеницу уходящего танка гранаты. Взметнулся взрыв, танк дернулся, завалился назад. Но и боец остался лежать неподвижно на исковерканном бруствере окопчика с вытянутой правой рукой, нанесшей врагу последний смертельный удар.
Очередной взрыв снаряда оглушил политрука. Когда оп поднял голову и отряхнулся, то увидел, что прямо к его окопу приближался танк. Из-под старого разбитого дерева справа хлопнул выстрел противотанкового ружья. Остальные огневые точки молчали. Снаряд рикошетом прошел по броне стальной движущейся коробки, оставив огненный след. Танк развернулся, дал длинную пулеметную очередь и рванулся к дереву.
Политрук приготовил бутылки с горючей смесью. Теперь только выждать, когда танк подойдет поближе. Расстояние сокращалось с каждой секундой. Боровков, кроме стука собственного сердца, ничего не слышал и про себя шептал: «Давай, давай, ближе». Пора! Он так же, как и тот боец, погибший на его глазах, выпрямился в окопчике во весь рост и одну за другой метнул, как метал когда-то на учениях, бутылки с жидкостью. Танк вспыхнул. Боровков приготовил автомат. Из люков горящей машины поспешно выскакивали гитлеровцы. Политрук бил расчетливо, меткими очередями. Когда с экипажем было покончено, решил пробиваться к своим на высотку, где продолжался бой. В эту минуту политрук не знал, что рота получила
приказ отойти и что на высотке продолжал сражаться лишь небольшой заслон.
Прорваться политруку не удалось. За Гороваткой он был ранен в левую ногу, а затем во время перебежки — разрывными пулями в голень правой ноги. Лежа на снегу и истекая кровью, он отстреливался, пока не потерял сознание...
* * *
...Несколько дней спустя, в первых числах января 1943 года, в Борисоглебские слободы на имя жены Боровкова — Глафиры Александровны пришло официальное извещение. В нем говорилось, что старший лейтенант Боровков, защищая свободу и независимость нашей Родины, пал смертью храбрых в бою против немецко-фашистских захватчиков...
Неудавшийся побег
Сознание возвращалось медленно. Временами Боровков бредил в тяжелом горячем забытье, искал свой автомат и снова командовал: «По танкам — огонь!» Потом проваливался куда-то в темную бездну и утихал.
Очнулся Боровков утром. Вокруг было темно, тихо. Лишь откуда-то сбоку пробивался тоненький светлый луч солнца. «Где я?» — недоуменно спрашивал себя политрук, ощупывая вокруг себя соломенную подстилку. Он хотел подняться, но малейшее усилие острой болью отдавалось в ногах. И тотчас он вспомнил бой, свое ранение, прыгающих гитлеровцев перед дулом автомата.
А дальше? Что было дальше? Боровков вы-щдал, когда боль в ногах несколько поутихла, и медленно перевалился на бок, затем на живот и осторожно пополз к свету.
Тоненький светлый лучик пробивался сквозь щель деревянной двери. Боровков припал к щели и зажмурился от алмазного блеска снега, ярко освещенного солнцем. Прильнув к двери, он слабо толкнул ее ладонью. Дверь не поддавалась. Боровков навалился плечом — безрезультатно. Но зато тотчас по скрипучему снегу кто-то подошел снаружи и дернул дверь.
Первое, что увидел Боровков, приподнявшись на руках, — кованые рыжие сапоги с широкими голенищами. Потом он разглядел полы серо-зеленой шинели и поверх нее — свой полушубок с прожженной у костра дыркой.
Перед ним стоял немец с автоматом. Голова солдата была повязана поверх пилотки пуховой шалью. Он с любопытством наблюдал за раненым русским офицером, который в недавнем бою не дрогнул ни перед танком, ни перед пехотой, стоял насмерть.
Боровков невольно потянулся рукой к тому месту, где у него недавно под полушубком висел пистолет. Немец понял этот жест и, чувствуя свое превосходство, засмеялся, потом скомандовал: «Цурюк».
В тот день в землянку поглядеть на русского пленного офицера заходили солдаты, унтер-офицеры. В сопровождении пожилого немца пришел и офицер. Жестами и словами с помощью солдата, говорившего с грехом пополам по-русски, объясни^, что это он, военный фельдшер обер-лейтенант Краус, спас Боровкову жизнь.
Подняв кверху указательный палец, он многозначительно произнес:
— Я тебе дароваль жизнь! Ферштейн?
Боровков из-под насупившихся бровей смотрел на гитлеровца ненавидящим взглядом и бессильно кусал губы. А тот продолжал разглагольствовать.
— Немецкий вермахт штарк... сильный. Россия — капут!
Это было верхом издевательства над бессильным раненым человеком. Боровков опираясь на руки, приподнялся и, превозмогая боль, крикнул в лицо гитлеровцу:
— Врешь, сволочь... Твоему вермахту будет капут, Гитлеру и фашизму будет капут! Россию не возьмешь!
Офицер от удивления поднял брови, а пожилой немец стоял и думал, что, пожалуй, прав этот бесстрашный русский. А еще старый солдат с тоскою думал о том, что ждет в этой непонятной стране его и его сыновей, попавших где-то далеко на юге в сталинградский котел...
Положение, в котором очутился Боровков, было для него настолько противоестественным и необычным, что он не сразу вспомнил о партийном билете. Мысль о нем пришла позже, когда один остался лежать в темной землянке. Зато, когда вспомнил о билете, все остальное отодвинулось на задний план. Лихорадочно он стал искать маленькую красную книжечку, с которой не расставался уже более десяти лет, которую ценил дороже жизни. Карманы гимнастерки, ватных брюк были вывернуты. В них не оказалось ни писем, ни часов, ни денег. Це оказалось и партийного билета. И старший лейтенант Боровков, который ни разу не дрогнул в
бою, мужественно переносил ранение, не обнаружив маленькой красненькой книжечки, вдруг беззвучно заплакал. Впервые, быть может, он почувствовал себя слабым, бессильным и беззащитным.
«Лучше бы остаться там, на снегу, — думал он, — лучше бы пристрелили...»
Да, но почему, в самом деле, его не пристрелили, если партийный билет оказался у гитлеровцев? Коммунистов они не щадят. Эта новая мысль вселила слабую надежду. Боровков успокоился и стал припоминать подробности последних дней.
Вдруг вспомнил! Перед боем он брился и, снимая гимнастерку, документы, чтобы не уронить невзначай, переложил в задний карман летних брюк, поверх которых были надеты ватные. Еще не веря самому себе, Боровков осторожно пощупал задний карман. «На месте!» — облегченно вздохнул он. Когда он окончательно успокоился, у него созрела дерзкая мысль о побеге.
...Уйти к своим Боровкову не удалось — не хватило сил. Немцы обнаружили его вскоре метрах в ста пятидесяти от землянки, потерявшим сознание. Они бросили его в попутную машину, которая доставила пленного на станцию Олени-но. Оттуда, уже по железной дороге, вместе с другими военнопленными, старшего лейтенанта Боровкова отправили в Могилев, в лагерь.
За колючей проволокой
Концентрационный лагерь! Слова эти в годы второй мировой войны наводили ужас на народы Европы, порабощенные фашистскими вар
варами. Муки библейского ада бледнели и меркли перед нечеловеческими страданиями, на которые обрекали своих узников гитлеровские палачи. Не было таких изуверских ухищрений, таких утонченных орудий пыток, которыми не пользовались бы фашистские изверги. Они собрали в своем арсенале самое гнусное, самое мерзкое и жестокое, чтобы с помощью этих средств убить в человеке человека, превратить его в безвольного раба. Посадив человека за колючую проволоку, они морили его холодом, голодом, доводили до отчаяния унизительными пытками, пускали в ход шантаж, запугивания, наконец, предавали мучительной смерти в газовых камерах.
Но ужасы фашистского плена не сломили Боровкова. Как и тысячи других советских патриотов, он и в плену, тяжелораненый, продолжал сражаться против ненавистного фашизма.
Вот каким запомнили Боровкова в плену бывшие его товарищи, узники концлагеря. «Я помню, — пишет из города Асбеста Свердловской области М. Б. Щедринский, — как ты, будучи в лохмотьях, гордо держал себя, как большевик, помню твои пламенные слова, которые воодушевляли окружающих...» Н. Д. Прохоренко из города Волчанска Харьковской области в своих письмах вспоминает: «Когда, Абрамыч (лагерная кличка Боровкова), беру твое письмо, мне кажется, что я разговариваю с Человеком, именно в полном смысле с Человеком, который мог и умел в трудную минуту делить радость и горе пополам. Знаю тебя стойким большевиком, образцовым офицером, стойко перенесшим все муки фашистского лагеря...»
...Могилевский лагерь военнопленных был
первым, куда доставили Боровкова. Его, неспособного даже передвигаться, поместили в «лазарет»—бывшую конюшню довоенной кавалерийской части. Трудно даже было определить, отчего больше страдали здесь люди: то ли от ран, то ли от полчищ насекомых и смрадного спертого воздуха, то ли от сознания полной обреченности. С восходом солнца в конюшне появлялись санитары. В течение всего дня безмолвной тенью они скользили взад и вперед между рядами распластанных изувеченных тел, выбирая тех, кто умирал от страшных ран и невыносимых страданий.
Иногда Боровков забывался тяжелым тревожным сном, начинал бредить. Однажды, очнувшись, увидел над собой склоненного человека. Он смотрел на Боровкова умными, пытливыми глазами и что-то спрашивал. Прошла минута, другая, и, наконец, смысл слов дошел до Боровкова.
— Кости на ногах целы? Не перебиты?
— Кажется, целы, — с трудом проговорил Боровков.
Человек повеселел, в его умных глазах мелькнула лукавинка.
— Тогда крепись, казак! Подлечим и вместе еще плясать будем.
Боровков улыбнулся. Мысль о том, что он еще сможет когда-либо плясать, как-то не укладывалась в голове. Потом Боровков, слегка шевельнув ногой и почувствовав острую боль, подумал, что вряд ли это возможно. Но слова незнакомца с добрыми умными глазами понравились Боровкову, и он ответил:
— Обязательно попляшем, браток.
Так Боровков познакомился с военным врачом Борисом Николаевичем Террмецким, попавшим в окружение вместе с тяжелоранеными, которых не мог бросить на произвол судьбы в полевом госпитале.
У Теремецкого не было необходимых лекарств, не было медикаментов. Но он делал все, чтобы облегчить страдания раненых. Лечил самыми примитивными подручными средствами, лечил добрым словом. Боровкову, к которому он сразу проникся уважением, Теремецкий промыл раны, заново перебинтовал ноги. Он часто подсаживался возле него на корточках поговорить, отвести душу. В этих беседах они присматривались друг к другу. А однажды, как бы невзначай, Боровков спросил:
— Борис Николаевич, а где умерших хоронят — в лагере или за его пределами?
— За лагерем. А что?
— Да так, ничего.
Помолчали. Потом Боровков снова спросил:
— Немцы сопровождают санитаров?
— Нет, боятся здразы. Местных полицейских посылают.
Теремецкий понял, куда клонит Боровков, а Боровков убедился, что и его намеки поняты правильно. Вскоре из «лазарета» стали убывать не только умершие, но и легко раненные офицеры Советской Армии, которых могилевские коммунисты, действовавшие в подполье, переправляли к партизанам.
— Беда мне тут с одним лейтенантом, —пожаловался однажды Теремецкий Боровкову. — Третий раз повязку с головы сдирает, не хочет жить и баста... Может, потолкуешь с ним?
— Перенеси к лейтенанту.
Лейтенант сначала недружелюбно косил на Боровкова глаза, потом безучастно глядел в потолок. А Боровков, как бы про себя говорил и говорил. О чем? О довоенной жизни, о рыбалке, о летних зорьках.
— Ты мне зубы не заговаривай. Фронт где? Молчишь?
— Нет, зачем же... Можно и про фронт... Тебя который интересует?
И, не дождавшись ответа, Боровков повернулся и бережно развернул склеенную карту-схему, вырезанную из разных газет, которые нелегально переправлял в лагерь представитель подпольной группы Илья Гуриев.
— Смотри, лейтенант...
Лейтенант внимательно изучал карту, а потом спросил:
— Тебя как зовут?
— Дмитрий Абрамович... Зови просто по отчеству — Абрамычем, как в нашей Ярославской сторонке обычно называют.
— Спасибо, Абрамыч.
Вскоре лейтенант, фамилию которого так и не узнал Боровков, был переправлен к партизанам. А за Боровковым прочно укрепилась кличка — Абрамыч.
В лазарете после этого случая раненые часто стали просить врача:
— Перенесите к нам Абрамыча.
И коммунист Боровков, с виду беспомощный, почти неподвижный, заражал людей своей глубокой верой в правое дело, пробуждал в них ненависть к врагу и желание бороться за свою свободу.
Красное знамя над лагерем смерти
818 дней плена... Каждый из них выстрадан, вымучен, его нельзя забыть, нельзя зачеркнуть, он гвоздем сидит в памяти, болью отзывается в сердце. С годами эта боль лишь притупляется, но не исчезает, несмотря на то, что все осталось позади —могилевский лагерь, кальварийский, ченстоховский, гамельбургский и самый страшный везувийский. И где бы ни находился Боровков, помнил, что он коммунист и, как знак принадлежности к партии коммунистов, свято берет красную книжечку — партийный билет. Он тщательно его прятал в бинтах на раненых ногах, а однажды, когда пленных раздели догола и обыскивали, он вынужден был на время зарыть билет в песок рядом со своими лохмотьями.
Красная книжечка, прикосновение которой он чувствовал на своем теле, придавала ему силы, и он боролся, как мог — словом, немым протестом. Боролся даже тогда, когда борьба казалась бессмысленной.
...Под сокрушительными ударами Советской Армии гитлеровцы все дальше и дальше катились на запад. Все, что можно было уничтожить за собой, они уничтожали, все, что можно было вывезти, — вывозили. Все дальше и дальше на запад угоняли они и военнопленных. Весной 1945 года Боровков очутился в везувийском лагере, который сами немцы называли лагерем смерти.
Лагерь был расположен на болотах, в 4 километрах от голландской границы. Местность, покрытая вокруг верескам и другой чахлой растительностью, была облюбована гитлеровцами
еще в 30-е годы. Первыми узниками лагеря стали немецкие коммунисты и те, кто боролся в Германии против фашистского режима.
В лагере умирали от лихорадки, туберкулеза, голода и холода. Пищей узникам служила похлебка из брюквы, которой кормили раз в шесть дней, постелью — жесткий вереск на зыбкой земле.
Умирать на этих болотах, когда освобождение уже так близко, было обидно. С востока, громя остатки фашистских полчищ, шла Советская Армия, с запада приближались союзные войска. Охрана лагеря с каждым днем редела. Предчувствуя близкий конец, гитлеровцы разбегались. И тогда группа пленных офицеров, в числе которой был и Боровков, решила действовать. Глубокой ночью, по сигналу повстанческого комитета из всех блоков к проходной и караульному помещению ринулись сотни людей. Они смяли охрану, захватили оружие.
А утром над лагерем в тихое апрельское небо взвилось алое знамя. Повстанческий комитет, в состав которого вошел и бывший политрук старший лейтенант Боровков, взял охрану лагеря и заботу о больных в свои руки.
Через два дня к воротам лагеря подошли танки первой канадской армии. Повстанческий комитет в переговорах с союзниками потребовал связать лагерь с представителями советского командования и оказать помощь в продовольствии и медикаментах.
...Когда Боровкова эвакуировали в советский госпиталь, он весил 35 килограммов. Присутствовавший при эвакуации военный врач союзников удивленно развел руками и, обраща
ясь к представителю советского командования, произнес:
— Вы, русские, опровергли все данные науки. Выжить в таких условиях и бороться — просто немыслимо.
Боровкову перевели эти слова. Он подумал и попросил сказать американцу:
— Передайте ему, что я коммунист...
WQ)
ПУТЬ К ВЕРШИНЕ
0ме,рть крестьянина Василия Чижикова в деревне Кулотино не произвела на ее обитателей особого впечатления. Гроб с телом покойного в скорбном молчании отнесли на погост, наспех захоронили, и как-будтоне было на свете человека. Лишь только вдова, Анна Чижикова, войдя после похорон в избу и взглянув в пустой угол под иконами, где обычно сидел за столом Василий, вышла из оцепенения, которое не покидало ее последние дни, брякнулась вдруг об пол и заголосила не своим голосом. И были в этом надрывном рыдании вековая бабья боль и тоска, безутешное горе и страдание, которые в обычное время бабы глушили в изнурительном крестьянском труде.
...Небогатое и при жизни Василия, хозяйство Чижиковых рушилось на глазах. Анна после смерти мужа как бы надломилась и не могла уже с прежним проворством и легкостью управляться со своими домашними делами, в поле и в огороде. В избе стало неуютно и голодно. Пришел конец и Колиной учебе, и Анна, собирая сына в школу, только тем и могла его приободрить, что обещала:
— Этот год, Коленька, мы еще как-нибудь дотянем, а там, бог свидетель, невмоготу...
Коля и сам знал, что дальше двух классов
ему ходу теперь нет. А мальчишке так хотелось учиться, узнать, как устроен этот мир, откуда на земле бедные и откуда богатые, почему у одних земля хорошо родит, а у других нет. И еще много-много таинственного, неизвестного видели пытливые мальчишечьи глаза, вопросы, один неожиданнее другого, то и дело всплывали перед ним, разжигали воображение, бередили душу.
А сельский сход, спустя немного времени после смерти отца, поставил над Чижиковыми из сострадания к ним опекуна: пять ртов —мал-мала меньше — было у Анны. Но и опекунство не помогло. В третью зиму Анна уже не провожала своего первенца в школу. Он помогал по дому, втягивался в тяжелый мужицкий труд.
Но врожденная любознательность не давала пареньку покоя. Работает, бывало, в поле или на покосе и вдруг присядет, станет разминать пальцами ком суглинка. А то сорвет два колоса ржи или два хвостика овсяницы луговой и сравнивает.
— Чего ты торчишь там, Коля? — окликнет мать.
— Мам, а ты погляди! В этом колосе 85 зерен, а тут и пятидесяти нет... Да все тощие какие... Почему так?
— Знать, и само семя на тощую землю легло.
— А почему говорят: от плохого семени не жди доброго племени?
Мать, обремененная своими заботами, быстро уставала от подобных разговоров.
— Ты, Коленька, дело-то делай. Солнышко-то вон куда покатилось, а у нас с тобой работы непочатый край.
Анна и не подозревала, что, может быть,
вот в такие минуты и рождался в ее старшеньком будущий селекционер. Да она и слов-то таких не знала. Лишь материнское чутье подсказывало ей, что неспроста это сын Коленька всем так интересуется и до всего докопаться своим умом пытается.
В деревне же об этих причудах старшего сына Анны говорили по-разному. Некоторые бабы утверждали, что это от сглазу, и советовали Анне сходить к знающим людям, чтобы снять порчу. А мужики, если приходилось слышать такие разговоры, сплевывали с досады и говорили:
— Не слушай ты, Аннушка, этих дурех. Парень как парень... А что до всего любопытство имеет, так учиться бы ему надо. Жаль, что бедняком на свет народился.
— Вот я и говорю, кабы учиться ему,—радовалась поддержке Анна. — А так он у меня работящий, ласковый и добрый — мухи не обидит. А что любопытство до всего имеет, то какой же в этом грех? Вот и Николай Александрович Морозов, на что, говорят, ученый человек, и тот Коленькой моим заинтересовался, книжки разные ему стал давать.
Да, счастливая судьба свела в то время Николая Чижикова с Николаем Александровичем Морозовым — известным русским революционером, ученым, поэтом, впоследствии почетным членом Академии наук СССР. А заприметил Николай Александрович паренька, возможно, во время своих прогулок, а может, и во время деревенских ребячьих игр, одну из которых — игру в бабки —обожал и сам. Как бы там ни было, но Морозов обратил внимание на скромного, голубоглазого паренька. Одна черта ха
рактера Николая Чижикова, которая особенно проявлялась во время игр, очень понравилась Морозову: неуступчивое упорство и настойчивость при внешней мягкости и почтительности ко всем окружающим. Несколько стеснительный и даже беззащитный на вид, он совершенно преображался в играх, впрочем, как и в ином другом деле, которым увлекался. Это как раз то драгоценное качество русского человека, которое спустя почти полсотни лет подметит в Николае Васильевиче один из московских литераторов и такое сочетание душевной мягкости и твердости характера сочтет особым свойством интеллигентного человека. Эту завидную черту человеческого характера открыл для себя Н. А. Морозов в простом крестьянском пареньке Николае Чижикове. Его выдержке, точному расчету в играх, его обезоруживающей доброте завидовали не только деревенские игроки.
Однако сблизила их, надо полагать, и общая любовь к природе, к нашему суровому и чудесному краю. Встретившись однажды, они целый день пробыли вместе. По Мологе дошли до устья реки Сить. В тот день Николай Александрович с удовольствием отвечал на бесчисленные Колины вопросы, сам рассказывал много интересного и увлекательного. А одна история прямо-таки ошеломила Николая.
Когда они собрались от реки Сить повернуть домой, Николай Александрович вдруг остановился и нарочито-торжественно произнес:
— А знаешь ли ты, отрок, на каком историческом месте мы сейчас с тобой находимся?
«Отрок» широко открытыми глазами с любопытством посмотрел на своего спутника и отрицательно покачал головой.
— Здесь, на реке Сить, марта 4, лета 1238-го произошла великая сеча между войсками князя Юрия Всеволодовича и монголо-татарскими полчищами хана Батыя...
Николай Александрович сделал паузу, чтобы убедиться, какое впечатление оказали его слова, и еще более торжественно, подняв кверху указательный палец, процитировал:
— «И ту убиен бысть великий князь Юрий Всеволодович на реце на Сити и вой его много побища». — И добавил: — Так гласит летопись.
— Николай Александрович, а на каком месте битва проходила?
— К сожалению, мой юный друг, точного места, где совершилась эта трагедия, никто указать не может. Летописные же сведения весьма и весьма противоречивы.
И потом, отвечая уже на собственные мысли, добавил:
— Да, как говорил один великий человек *, это была настоящая трагедия земли русской. Судьба России была решена на два с половиной столетия.
— Николай Александрович, а все-таки можно найти это самое место, где была битва?
Морозов взглянул в синие, вспыхнувшие жаждой поиска глаза Николая и улыбнулся:
— Не знаю, не знаю, мой друг... Попытайся!
— Найду, Николай Александрович, обязательно найду! — И про себя беспрестанно повторял всю дорогу, чтобы не забыть: «И ту убиен бысть великий князь Юрий Всеволодович на реце на Сити».
* К. Маркс (К. Маркс и Ф. Энгельс. Архив, т. 5, 1938, стр. 2241).
С того дня они и сошлись поближе — старый русский революционер, ученый и простой крестьянский парень, имевший, как он любил вспоминать впоследствии, за -плечами всего два класса образования. Правда, на этот счет Николай Александрович не раз шутил:
— Не горюй, братец ты мой. Не важно, что за плечами, важно, что на плечах. Там у тебя, полагаю, вещь стоящая, думающая. А это — главное. Так что любопытствуй, а я помогу тебе всем, чем располагаю. Моя библиотека, молодой человек, к вашим услугам. Вы какие науки предпочитаете?
— Мне бы ту, которую учителя изучают...
— Гм... Педагогику, значит...
Морозов пристально посмотрел на Николая, так как такой ответ был для него несколько неожиданным. Однако он тут же согласился.
— Хорошо. Составим тебе список литературы, программу и — с богом, грызи свою педагогику.
И Николай Чижиков «грыз» таинственную науку педагогику. Устроившись в отцовском углу под образами, он подолгу, часто за полночь, просиживал над книгами. По особо трудным и непонятным вопросам Морозов консультировал своего неожиданного и на редкость способного ученика, устраивал ему экзамен по пройденным разделам того или иного учебника.
Наконец настал долгожданный день, когда напутствуемый добрыми словами, с рекомендательным письмом Морозова в кармане Николай Чижиков уехал из своей деревушки держать экстерном экзамен на звание учителя начальных училищ.
Парню в то время шел девятнадцатый год...
Экзамен, которого немного побаивался Николай, был выдержан блестяще. Экзаменаторы признали, что Николай Чижиков не только полностью освоил курс официальной программы, но и проявил глубокие знания «сверх оной».
— Поздарвляю, поздравляю, мой юный друг, — приветствовал нового учителя Николай Александрович Морозов. — Наслышан уже, наслышан о ваших успехах. Ну и каковы теперь ваши планы на ниве просвещения?
— Предлагают место учителя в Марьинском двухклассном училище.
— Что ж, для начала неплохо, молодой человек. В добрый путь!
Работал Николай Васильевич поначалу с увлечением, самозабвенно. Ему казалось, что следует только как можно больше обучить крестьянских детей — и беспросветная жизнь мужицкая просветлеет.
Но жизнь его учеников не становилась легче и счастливее. Едва закончив два класса, дети, как и он когда-то, уходили из школы и впрягались наравне со взрослыми в работу, гнули спины на чужих землях и наделах, неся на себе тяжелое бремя полунищенского, полурабского существования. И чем больше он убеждался в этом, тем бессмысленнее казался Николаю его труд. Как же помочь мужику выбраться из вечной нужды и кабалы? Вот крамольные вопросы, которые все чаще и чаще стали беспокоить молодого учителя. Даже в тех учебниках, по которым учил он крестьянских детей, видел Николай издевку над простым мужиком.
— А теперь, Ваня, ты прочти заданный урок, — попросил однажды Николай Васильевич ученика на уроке родного слова.
— «Пища и питье», —тихо начал Ваня.— «Без пищи человек умер бы с голода, без питья умер бы от жажды... Самая необходимая пища — хлеб. Самое необходимое здоровое питье — чистая вода».
— Дальше! — механически произнес Николай Васильевич, вдумываясь в смыл слов, столько раз читанных и перечитанных.
— Все, Николай Васильевич. Дальше идут заповеди, пословицы и поговорки.
— Читай.
— «Хлеб наш насущный даждь нам днесь...» После некоторой запинки чтение продолжалось.
— «Ржаной хлеб всему голова. Только ангелы с неба не просят хлеба. Каков ни есть, а хочет есть. Дадут хлебца, дадут и дельца...»
Николай, теряя нить общения с классом, больше не слушал. Неожиданно перед ним всплыло его полуголодное детство, нищета, худые лица сестер, братьев. И уже издалека до него доносился голос:
«...Хлеб да вода — молодецкая еда... Проймет голод, появится и голос...»
— Николай Васильевич, — вдруг перебил кто-то из учеников Ванино чтение.
Николай очнулся. Он окинул взглядом притихший класс и спросил:
— Чего тебе?
— А наш тятя говорит, что хлеба нам нынче и до рождества не хватит и прокорму скотине — тоже только до половины зимы...
Десятки пар пытливых глаз устремились на Николая Васильевича, ждали ответа.
Николай думал и молчал. Наконец вздохнул и тихо произнес:
—- На сегодня хватит. Вы свободны, дети.
На следующий день Николай Чижиков после трехлетней работы в школе впервые не явился в свой класс и подал начальству прошение с просьбой освободить его от занимаемой должности. Причину своего ухода Николай назвать отказался.
...Мужицкое счастье. Каково оно? Где оно? И как приблизить его к крестьянину? Как помочь выбраться из вечной кабалы и нищеты? Почему земля — такая щедрая и обильная — скупа к мужику, что не хватает ему хлеба и фуража на прокорм семьи и скотины? В поисках ответа на эти вопросы Николай изучает свой край, его историю, изучает земледелие, и в частности луговодство, и все пытается найти ключ к повышению плодородия земли и ее изобилия. Впоследствии приобретенные знания очень пригодились Николаю, а до революции он так и не сумел найти им применения.
С восторгом встретил Николай весть о Великой Октябрьской социалистической революции. В первых декретах Советской власти, подписанных Лениным, в пламенных призывах большевиков он находит ответы на все мучившие его вопросы. Вихрь революционных событий подхватил и увлек Чижикова в водоворот борьбы со старыми силами, в строительство новой жизни. Здесь в полной мере проявились его знания и опыт, упорство в достижении поставленной цели. В 1918 году Николая утверждают заведующим отделом народного образования Марьинского волисполкома Ярославской губернии, и он организует на территории волости две начальные, среднюю школы и одну для взрослых с трехгодичным курсом обучения.
Но контрреволюция еще не сложила оружия. Поэтому Николай Чижиков оставляет на время педагогическую деятельность: он — участник разгрома контрреволюционных сил на территории Мологского уезда. А как только утихли раскаты гражданской войны, Николай снова с головой уходит в изучение своего края, организацию просветительной работы, работы по налаживанию сельского хозяйства своего уезда. На этом поприще он выступает пропагандистом всего нового, передового.
Но самым его значительным вкладом в развитие родного края является, пожалуй, организация Марьинской высшей крестьянской школы и краеведческого музея в уездном центре — Мологе.
Большое влияние на общественную жизнь волости оказывает в ту пору Народный дом, где такими энтузиастами, как Николай Чижиков, создаются культурно-просветительная и театральная секции.
Культурно-просветительная секция, возглавляемая Чижиковым, разрабатывает широкую программу деятельности, которая вызвала, однако, снисходительные улыбки и насмешки со стороны членов театральной секции. На этой почве между ее руководителями Константином Никольским и Николаем Чижиковым разгорались порой стычки и ожесточенные споры.
— Поймите вы, Николай Васильевич, милый мой человек! Народу нужно сейчас просветительство, приобщение, так сказать, к культуре, а не разные там курсы. Нужно сперва пробудить интерес и элементарные понятия...
— Позвольте не согласиться с вами, — перебивал в таких случаях Николай. — Вы забывае
те, голубчик, что произошла революция, пролетарская революция. И теперь трудовой человек сам хочет во всем разобраться... А для этого одного голого просветительства мало. Теперь, как никогда, нужны людям знания, нужна грамотность...
И работу секция начала именно с организации курсов для взрослых крестьян.
Горячая убежденность в правоте своего дела помогла Николаю Васильевичу приобрести союзников среди лучшей части сельского учительства — сестер Веры и Ольги Любомудровых, супругов Красносельских. Они вместе с Николаем Чижиковым мечтали о создании высшей крестьянской школы для молодежи. И в этот трудный организационный период засели за книги и искали все, что когда-либо писалось о подобных учебных заведениях. Изучали опыт работы высших крестьянских школ Дании, Англии, Швеции, Германии. Читали и перечитывали Хольмана, Арнольда, Межуева, Шредера, Ри-зона и других авторов. После бесконечных дебатов и споров Николай Васильевич и его друзья решили взять за основу датскую систему, применив ее к местным условиям. При этом организаторы исходили из того, что преподавание в Марьинской высшей школе должно быть основано на принципе локализации, то есть опираться на факты и явления окружающей среды. Однако. по замыслам Николая Васильевича это вовсе не означало, что преподавание должно замкнуться в тесном кругу местных фактов и интересов. Наоборот, мир научных идей я обобщений, основанный на фактах и явлениях окружающей среды, должен был стать для учащихся более интресным и доступным.
На одном из организационных заседаний Николай Васильевич говорил:
— Благодаря пристальному изучению окружающей среды школа сможет подойти и к определению местных природных богатств. Таким образом, школа будет иметь практическую реальную ценность для населения. То же можно сказать и про изучение хозяйственной и общественной жизни края. Накапливая из года в год фактический материал по изучению природы и культуры в чисто учебных целях, школа вместе с тем будет живым и растущим музеем роди-поведения, лабораторией и опытной станцией по изучению родного края, что приобретет огромную культурную ценность.
— А трудовое начало? Какова его роль? — задал вопрос кто-то из учителей.
— Это будет вторым основным принципом преподавания в школе. Здесь уже не приходится говорить о значении трудовых процессов. Не приходится останавливаться также и на стремлении населения изучать ремесла, которые так слабо развиты в нашей волости, и на стремлении приобрести правильные навыки в ведении сельского хозяйства. Здесь важно отметить лишь то, что трудовое начало является лучшим методом подхода к населению как вообще во внешкольной работе, так и, в частности, в крестьянской школе. Дело здесь в психологии взрослою крестьянина. Он смотрит на все с материальной стороны, со стороны выгоды, и поэтому общеобразовательные школы, курсы для взрослых, где не были введены трудовые процессы, не пользовались популярностью среди населения и умерли сами собой. А рукодельные классы, в программу которых ,не введены обще»
образовательные предметы, существуют и охотно посещаются. Поэтому труд в высшей крестьянской школе будет центром внимания и изучения. Соответственно этому должны быть построены и программы...
— А не сузит ли такое направление широты идейного содержания лекций и бесед по тому или другому предмету? — снова последовал вопрос.
— Отнюдь нет, — спокойно возражал Николай Васильевич. — Такое направление даже возбудит живейший интерес слушателей, вызовет самостоятельное мышление и активное отношение к полученным знаниям. Школа должна играть видную роль и в общественной жизни деревни. Она должна подготовить работников и для общественной деятельности. Поэтому дело в школе должно быть поставлено так, чтобы учащиеся не были пассивными слушателями, а принимали в работе и жизни школы самое активное участие.
Когда, казалось, все вопросы были исчерпаны и Николай Васильевич присел к столу, поднялся вдруг со своего места директор Народного дома (его тогда называли еще председателем общества «Народный дом») Завьялов. Он постоял несколько минут, глядя себе под ноги, как бы что-то обдумывая, потом посмотрел на Николая в упор и тихо спросил:
— А деньги на оборудование школы у вас есть?
Этого вопроса Николай Васильевич давно ожидал. Однако волнения своего скрыть не мог и дрогнувшим голосом ответил:
— Денег у нас в волисполкоме пока что нет. Но я верю, товарищи, что Советская власть не
пожалеет никаких средств, когда речь идет о создании школы для крестьян. На то она и власть наша — рабоче-крестьянская власть...
...Деньги на организацию школы в размере пятнадцати тысяч рублей выделил уездный отдел народного образования. А до этого Николаю Васильевичу пришлась не раз съездить в Москву, потом просиживать ночи напролет над составлением сметы на оборудование и содержание школы. Наконец и смета была готова, и объяснительная записка. Но оказалось, что нужен еще и устав школы. Впрочем, если бы даже и был устав, в уезде его утвердить все равно не могли.
— Не можем мы, Николай Васильевич, утверждать уставы... Не входит это в наши функции. Да и опять же, денег у нас нет, сам понимаешь, время-то какое трудное, — говорили в уездном отделе наробраза. — Так что отложи-ка твою идею до лучших времен.
— Не могу, такая крестьянская школа сейчас нужна!
— Ну, как знаешь... Тогда добивайся разрешения в высших инстанциях.
— Добьюсь, — пообещал Николай Васильевич и на следующий день, заручившись нужными документами, выехал в Москву, где намеревался попасть на прием к Н. К. Крупской.
Из Москвы домой возвращался Николай Чижиков, окрыленный успехом своей поездки и личной поддержкой Надежды Константиновны. Она не только приняла Николая Васильевича, но и проявила большой интерес к созданию крестьянской школы. Надежда Константиновна позаботилась о том, чтобы был утвержден устав школы, снабдила Николая нужной литературой
и напутствовала его на прощанье добрыми словами и пожеланиями.
16 февраля 1919 года высшая крестьянская школа в Марьине была открыта. Обслуживая четыре волости Мологского и Мышкинского уездов, она сыграла на заре Советской власти большую роль в пробуждении общественной и политической жизни местного населения.
А Николая Васильевича уже влекут другие дела. И вот проводы, на которые собрался весь преподавательский и инструкторский коллектив. Шутили на прощанье, вспоминали былые трудности. Под конец преподаватель русского языка Ольга Николаевна Любомудрова грустно заметила:
— А все-таки вы зря надумали нас покинуть, Николай Васильевич. Судите сами: школа наша работает теперь без дотации, больше того, мастерские дают прибыль — и немалую...
— Мавр сдалал свое дело, мавр может уходить... — с напускной серьезностью трагическим голосом произнесла преподаватель математики Вера Николаевна, сестра Ольги.
Николай Васильевич рассмеялся:
— Ну, друзья мои, теперь-то, когда литератор заговорил о рентабельности, а математик цитирует классиков, я окончательно убежден, что в школе мне делать нечего.
Так расставались друзья.
...Из Марьина Николай Васильевич переехал в Мологу и с головой ушел в работу. Он преподает луговодство на сельскохозяйственных курсах для учителей, затем заведует Ило-венской базой Государственного лугового института, завязывает широкое знакомство с краеведами Мологи, Рыбинска. И все это время
учится, изучает историю родного края, ведет исследовательскую работу. А когда, бывало, работа не ладилась, жаловался друзьям:
— Эх, жаль, нет у меня высшего образования! То и дело приходится открывать давно открытое. Сколько зря времени уходит!..
И снова книги, учеба. При научно-исследовательском институте он заканчивает Высшие курсы по луговодству, а затем работает в исследовательской партии Государственного лугового иститута по изучению лугов и (болот Моло-го-Шекснинското междуречья. Позднее все его наблюдения, открытия будут им же самим тщательно проанализированы, проверены и выльются в научный труд. А пока что иные задачи, иные проблемы развития родного края волнуют Николая Чижикова. Он организует массовые посевы луговых трав в Иловенской волости, создает рассадник семеноводства луго-пастбищных трав в Молого-Шекснинском междуречье, который был признан в то время рассадником союзного значения. При всем том Николай Васильевич не прекращает преподавательской деятельности и исследовательской работы. Он преподает в Борисоглебском сельскохозяйственном техникуме и продолжает изучать геологическое и историческое прошлое края. Крестьяне всей округи знают Николая Васильевича как прекрасного лектора.
Друзья считали, что Николай Васильевич напрасно распыляет свои силы, что ему нужно щадить себя и работать в каком-нибудь одном направлении, а Николай Васильевич, смеясь, спрашивал:
— В каком таком направлении?
— Вы прекрасный преподаватель и педагог.
Вам нужно целиком посвятить себя этой благородной деятельности...
— А я убежден, что призвание Николая Васильевича — общественная работа. Вы бы послушали, как он популярно читает лекции в нашем музее и в деревнях!..
— Ну, положим, насчет чтения популярных лекций, — возражал Николай Васильевич своему другу Николаю Розову, учителю, краеведу, которому он помогал в организации местного музея, — с вами никто пе сравнится. А вообще-то в принципе, — после некоторого раздумья продолжал Николай Чижиков, — яс вами согласен, друзья. Конечно, человек должен специализироваться в каком-нибудь одном направлении и совершенствовать свое дело, к которому имеет призвание. И в том, что мы беремся за все, скорее не заслуга наша, а наша общая беда. Взять тебя, Гордей, —обратился он к Петухову.—Ты же по призванию художник, а работаешь учителем, сейчас еще заведуешь биологическим отделом музея. И все потому, что учителей у нас не хватает. То же самое я могу сказать и о себе. Очень меня волнует история края, опять же геология. Я же изучаю кооперацию, пытаюсь найти ключ к разрешению зерновой проблемы. Сейчас это главное.
Так понимал свои задачи Николай Васильевич Чижиков — скромный преподаватель сельскохозяйственного техникума, заядлый краевед, лектор-общественник. Но скоро о Николае Чижикове заговорили и в научных кругах, когда он издал в Ярославле труд «Река Молота и ее геологическое прошлое».
Свои работы Николай Васильевич начал публиковать с 1926 года. Поэтому появление еще
одной работы ни для кото не было неожиданностью. Но все же именно о ней заговорили. Заговорили потому, что в своем исследовании автор смело вступил в научный спор с такими признанными авторитетами, как профессор Докучаев и геолог Никитин, по поводу их теорий происхождения рек Мологи и Шексны, а также Молого-Шекснинского междуречья.
Позднее академик В. Н. Сукачев так скажет о Николае Васильевиче и значении его трудов:
— Будучи прекрасным знатоком геологии Ярославской области, особенно ее четвертичных отложений, Николай Васильевич открыл на ее территории целый ряд плейстоценовых погребенных торфянистых и сапропелевых отложений, которые изучались затем рядом исследователей, как геологов, так и ботаников, —Соколовым, Тюремновым, Чеботаревой, Новским и другими...
Поражала его большая эрудиция в геологической истории родной области и умение хорошо разобраться в ее сложных антропогеновых отложениях. Если теперь мы знаем ряд интереснейших захоронений обильной плейстоценовой и голоценовой флоры на территории Ярославской области, изучение которых очень обогатило наши представления о межледниковой и послеледниковой флоре Русской равнины, то этим мы в первую очередь обязаны Николаю Васильевичу Чижикову...
Признание заслуг пришло много позже, а тогда нелегко, ох, нелегко давались преподавателю техникума, краеведу Николаю Чижикову его научные споры с авторитетами. Но он с завидными настойчивостью и постоянством продолжает (для многих непонятные) поиски в
подтверждение своих гипотез. Неутомимая жажда знаний, любознательность сопутствовали краеведу всю его жизнь. Даже в условиях тяжелого военного времени нередко можно встретить у Николая Васильевича такие записи: «Руководил группой ребят на оборонительных земляных работах... Вырытые рвы очень интересные с точки зрения морфологии и генезиса почв...»
Многообразны интересы Н. В. Чижикова, широка его общественная и научная деятельность. И при всем этом он оставался прекрасным педагогом. Пожалуй, в техникуме немного было преподавателей, которые могли бы так увлечь учащихся своей лекцией и пробудить любовь к профессии агронома, ботаника, интерес к исследовательской, работе. Дополняя учебный материал своими личными наблюдениями, Николай Васильевич по существу воспевал природу, нашу прекрасную Родину. Он рассказывал учащимся о золотых закатах и сиреневых рассветах; об исследованиях Молого-Шекснин-ского междуречья; о работе почвенно-ботанического отряда Ачинской комплексной экспедиции (в состав которой входил сам) в Бурят-Монголии. Говоря об эволюции растений, Николай Васильевич рассказывал о развитии общества. Он рассказывал об удивительных загадках и тайнах природы, которые еще ждут своих открывателей. И это был не схоластический разговор, а единый процесс познания и открытий, в котором принимали участие все слушатели Николая Васильевича.
После таких лекций уже никому в техникуме не казались случайными многочисленные экскурсии по родному краю, экспедиции уча
щихся в Крым и на Кавказ, которые с завидной энергией и настойчивостью организует преподаватель техникума Н. В. Чижиков. Об одной из таких экспедиций осенью 1935 года ивановская газета «Рабочий край» писала: «...возвратилась организованная Ростовским аг-ротехникумом студенческая экспедиция, штурмовавшая вершину Казбек... В состав экспедиции входили: начальник экспедиции — преподаватель Н. В. Чижиков, студенты — А. В. Годунов, Б. В. Вязниковцев, В. И. Морозов и пионер Аркадий Чижиков, 13 лет ♦. Это была вторая группа альпинистов.
За время пребывания на Кавказе экспедиция изучила культуру сахароносного и спиртоносного растения топинамбура, ознакомилась с опытной работой по культивированию кукурузы, сои, с особенностями земледелия в горах, собрала образцы почв, гербарий, коллекции минералов...»
Да, это одна из интереснейших экспедиций, организованных Николаем Васильевичем. Для ребят, входивших в состав альпинистской группы, это была не просто прогулка по Кавказу. Для них экспедиция явилась открытием нового мцра, проникновением в царство диких скал и вечных снегов, а восхождение на Казбек — настоящей школой мужества. Вот запись из дневника участников штурма вершины Казбек: «Подъем на седловину — площадку между двумя вершинами Казбека — наиболее труден и опасен. Связались веревками. С трудом и частыми остановками поднялись на седловину, высота которой 5000 метров. Разреженный
* Сын Николая Васильевича Чижикова.
воздух давал себя знать. На седловине лас встретил сильный ветер. Было холодно, как в январский день. Не верилось, что внизу сейчас жаркое кавказское лето. Руки застыли, отказывались надевать на ноги «кошки»... Путь на самую вершину лежал по узкому гребню, по обеим сторонам которого была пропасть. Приходилось часто останавливаться.
Наконец — вершина!.. Общий восторг. Кричим «ура», поем, танцуем, обнимаемся. А ветер рвет и мечет, готовый сбросить нас с маленькой площадки вершины Казбека. Этой картины никогда не забыть: под нами цепи гор, и все они кажутся маленькими. Виден Эльбрус. Из-за этого стоило претерпеть все трудности!»
С Кавказа участники экспедиции привезли не только радость победы. Они вернулись оттуда переполненные новыми впечатлениями, новыми замыслами и идеями, которые зажег в них Николай Васильевич.
Страна в то время расправляла крылья, изумляя мир своими трудовыми подвигами и открытиями. На пепелищах старых заводов и фабрик, на землях необжитых выросла социалистическая индустрия, распахнули просторы колхозные и совхозные поля. Но еще многого и многого не хватало стране Советов. Изыскивались новые источники сырья для промышленности, шли поиски новых сортов сельскохозяйственных культур. И Николай Васильевич со своим беспокойным молодым племенем будущих агрономов и селекционеров не мог не откликнуться на нужды своей страны.
На Кавказе он изучает спиртоносные растения, местные продовольственные и кормовые культуры, с тем чтобы перенести к себе на се
вер, в край Ярославский. Созданная им при техникуме оранжерея и ботанический уголок становятсяодновременно и испытательным участком, и лабораторией. Здесь он и ведет на протяжении многих лет отбор целого ряда культур, ,в том числе томатов, сахарной свеклы, люцерны и даже винограда. Но, пожалуй, особого внимания заслужавают опыты по получению спирта из кок-сагыза, столь (необходимого в то время дополнительного продукта к каучуку. Результаты опытов, кстати сказать, впервые начатые им в Ростовском сельскохозяйственном техникуме, были затем обобщены и опубликованы им же в журнале «Спиртовая промышленность». А в тяжелые годы Великой Отечественной войны Ярославское книжное издательство выпускает в свет брошюру Н. В. Чижикова «Сахарная свекла как продукт народного питания».
Сочетая преподавательскую и опытническую работу в техникуме с общественной работой в обществе «Знание», Николай Васильевич, кроме того, на протяжении десятка лет работает в летних экспедициях академика В. Н. Сукачева, принимает участие в раскопках, проводимых Институтом археологии Академии наук СССР на территории Ярославской области, участвует в научных изысканиях по геологии, почвоведению, луговодству. И поныне еще на территории Ростовского, Переславского районов можно обнаружить шурфы, которые он закладывал в дни проведения практики с бывшими своими питомцами —- учащимися техникума. Вместе с любимым преподавателем они стали инициаторами и непосредственными участниками исследования почв Ростовского и бывшего
Нагорьевского районов. Они же иод руководством Николая Васильевича составили почвенные карты и написали рекомендации по ликвидации кислотности полей и проведению работ по изысканию известковых туфов.
В перечне научных статей, опубликованных Николаем Васильевичем в те насыщенные до предела разнообразной работой годы, можно найти такие исследования, как «Геоморфология и почвы бассейна озера Неро и реки Устье — Которосль», «Озера Ярославской области и их значение для сельского хозяйства», «О кислотности почв в Ростовском районе Ярославской области», составленные им карты для атласа Ярославской области и другие. В этом перечне нет еще одного труда краеведа—труда о трагедии русской земли, разыгравшейся на реке Сить в марте 1238 года.
Случилось так, что свою заветную мечту ему удалось осуществить лишь на склоне лет. Будучи пенсионером, он организовал экспедицию из учащихся города Ростова и повел ее от истоков до устья реки Сить. Экспедиции предшествовала большая исследовательская работа, проведенная Н. В. Чижиковым и его добровольными помощниками в библиотеках, архивах, музеях. Одна из бывших учениц Николая Васильевича, ныне кандидат сельскохозяйственных наук В. А. Липатова, так увлеклась этой исследовательской работой, что в воспоминаниях, присланных автору очерка, писала:
«Николай Васильевич Чижиков, занимаясь вопросами истории Ярославской области, обратился ко мне с просьбой посмотреть по этому вопросу литературу в Ленинской библиотеке. Несколько вечеров провела я там, выпол
няя его поручение, и настолько увлеклась темой, что усомнилась в правильности выбора своей специальности».
И так во всем и всецца: чем бы ни занимался Николай Васильевич, он умел увлечь делом и своих друзей, своих учеников. А как мог он подбодрить любого в трудную минуту! Таким доброжелательным, увлеченным, молодым он остался в их памяти.
Уже на смертном одре, увидев слезы в глазах жены, он тихо улыбнулся ей:
— Не плачь, Машенька. Я не умру. Посуди сама: разве могу я умереть, когда у меня еще столько дел!
— Я не о том, Коленька, — отвечала Мария Алексеевна, боясь расстроить мужа. — Просто мне подумалось, как мало я сделала для тебя...
— Полно, любимая. Ты сделала для меня очень много, ты отдала мне свое сердце... Именно благодаря этому свое собственное сердце я сумел отдать людям...
ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ ДАТЬ ЛЮДЯМ?
ЭД^изнь можно прожить по-разному. Посвятить ее большим делам, с головой окунуться в гущу событий. Больно становится за человека, когда видишь, как растрачиваются понапрасну его силы. Пожалуй, каждому необходимо задавать себе время от времени вопрос: что ты есть, что можешь дать людям, обществу?
Александр Васильевич Сорокин, на мой взгляд, никогда не разменивал и не разменяет своих сил по мелочам.
Возглавляет он на Ростовском льнокомбинате «Рольма» коллектив трубопроводчиков. Сложное хозяйство у них — хитроумное переплетение паро- и трубопроводов, протяженностью семь километров, которые надо не только поддерживать в нужном режиме давления, но и содержать в образцовом состоянии, чтобы работали без перебоев отопительная система и душевые фабрики, отапливались ее жилые дома, общежития, детский комбинат и т. д.
«Открывать» нового человека всегда интересно, а Александр Васильевич оказался одним из тех, о ком принято говорить: обаятельный человек.
Когда-то у меня был друг, рабочий паренек Володя Лукьянов, с которым мы вместе выросли на одной улице и с которым нас навсегда
разлучила война. Внешне Александр Васильевич нисколько не напоминает Володю. Тот был стройным, широкоплечим, темно-русым, кареглазым и розовощеким парнем. У Александра Васильевича светлые глаза и волосы, он худощав, но тоже подтянут и строен. Пожалуй, вот только руки у обоих одинаковые: крепкие, с короткими пальцами, привычными больше к металлу.
Однако не сходство рук вызвало во мне память о Володе-разведчике, когда я познакомился с Александром Васильевичем. В его судьбе я как бы увидел судьбу Володи, вернее, то, как сложилась бы она, вернись разведчик живым после войны. Меня поразило их внутреннее сходство: скромность, доходящая порой до стеснительности, мужество и любовь к Отчизне.
Помню, не раз огорчался я, что уж слишком короткие письма оставил после себя мой друг. Каково же было мое удивление, когда точно такие же — лаконичные, на случайных лоскутках бумаги — увидел я у Александра Васильевича.
— Мои, с фронта, — сказал он и разрешил почитать.
Человека — чуткого, мужественного и бескорыстного увидел я в письмах. Такие же писал и мой друг.
Вначале трогательный поклон родителям и очень скупые сообщения о себе: жив, здоров, ничего нового, стоим на месте, или идем вперед; иногда несколько слов о погоде: на дворе похолодало или стало теплее. Как, однако, далеки эти погодные сведения от наших обычных понятий! Ведь зимой и летом солдат находился
по существу под открытым небом. И труд,но сказать, когда ему было лучше: зимой, в снег и мороз, или летом, когда висели над головой тучи комарья.
— Когда мы прибыли на фронт под Тихвин в апреле 1942 года, знали твердо: фашиста одолеем, вышвырнем его прочь с родной земли...
Я слушаю Александра Васильевича и вижу возвышенность над небольшой тихой речкой Тигодой. Здесь у искореженного войной села Доброе часть стояла в обороне. Выбрав выгодную позицию у дерева, Александр Васильевич вел огонь по врагу. И вдруг в разгар боя взметнулся перед солдатом смертельный сноп огня и рыжей земли. Солдат остался жив: удар приняло на себя дерево. Лишь один осколок попал в плечо. Он на время парализовал руку.
Когда Александр Васильевич понял, что контужен, он не на шутку разволновался: если уйдет из подразделения в тыл, уже не попадет в свою роту! А разве можно так просто расстаться с людьми, дружба с которыми выдержала испытание в боях?
Должно быть, Александр Васильевич (что, правда, и не свойственно ему) просто-напросто схитрил перед командиром, перед товарищами, потому что в тыл его не отправили и он остался на передовой с поврежденной рукой, которую пристроил на подвязке. До поры до времени, пока не вылечил руку, так и воевал, управляясь одной правой.
А потом снова были бои «местного значения», разведка боем. И самое тяжелое — потеря боевых друзей. И каких друзей! Многие из них воевали еще в финскую, сдерживали напор гитлеровцев с самого первого года войны. Разве
забыть командира взвода, который водил за собой в первое боевое крещение солдат из запаса, старшину роты, с которым не раз ходил в атаку и которого в последний раз вынес из боя на себе уже мертвым. Мужественные, смелые люди! Когда требовалось, отправлялись и к немцам в тыл «за языком», и в самое пекло боя.
И еще остро засела в памяти одна деревушка. Было это уже, по всей вероятности, в третье военное лето, когда войска Прибалтийского фронта перешли в решительное наступление. Подразделение, преследуя врага, вышло к шоссе Ленинград-Псков. Тройка разведчиков во главе с молоденьким лейтенантом ворвалась на плечах отходящего противника в деревню и приняла здесь бой.
На смельчаков обрушился шквал огня. Один из солдат был послан к своим за подкреплением. Лейтенанта тяжело ранило.
Александр Сорокин бросился под огнем к нему.
— Сорокин, оставь меня. Спеши к нашим... — прошептал командир.
— Не могу оставить вас, товарищ лейтенант.
Отстреливаясь, разведчик медленно стал отходить.
Рана офицера оказалась смертельной. Он умер на руках своих, куда доставил его, выбиваясь из последних сил, Александр Васильевич.
После фронта, едва отдохнув с дороги, пришел Александр Васильевич снова на фабрику, где оставил в сорок втором году лишь пожилых рабочих да новичков-девчонок. Вернулся в свою бригаду.
А спустя полгода пришлось стать механи
ком паросиловых установок и вести этот участок около одиннадцати лет, то есть до тех пор, пока не началась замена его энергосиловым.
Как человек, привыкший критично оценивать себя, Александр Васильевич решил, что он мало подготовлен к такому делу и принес заявление с просьбой снова дать ему бригаду трубопроводчиков.
Это событие прошло на фабрике незамеченным и давно забыто. Но я вижу в нем особый смысл: нередко то или иное дело возглавляет руководитель, которому оно не под силу. И тогда наступает личная трагедия в общем-то у неплохого человека: он начинает направлять свои силы не на то, что ему поручено, а лишь на то, чтобы любой ценой удержаться у руководства.
Я видел, как Александр Васильевич отдавал распоряжения своим подчиненным, как внимательно они слушали его. Без суетливости, деловито и просто. И убежден, что, как организатор, он, видимо, вполне справился бы с обязанностями механика (в свое время повышал свою квалификацию при институте). Но Александр Васильевич заявил:
— Энергетический участок должен возглавлять инженер. У меня же, сами знаете, образование небольшое.
Я заговорил об организаторских способностях Александра Васильевича, имея в виду не только приведенные факты. Так позволяет утверждать опыт его многолетней общественной работы.
Двенадцать лет подряд возглавлял он первичную партийную организацию, а теперь — член парткома. Он не просто почетный гражданин города Ростова — что многим известно, —
но и деятельный депутат его городского Совета.
Менее известно другое: как трудно Александра Васильевича застать дома после работы. Задерживают дела в парткоме или в горисполкоме, депутатские заботы. То ему непременно надо посетить школу или детское учреждение, то выступить с отчетом или по злободневному вопросу перед избирателями, то разобрать жалобу или изучить запрос, то наведаться к пенсионеру.
Все знают, какой красивый многоквартирный дом вырос в рабочем районе города на Кронштадтской улице. Но мало кто ведает, что не прояви депутат Сорокин настойчивости, дом этот долго бы еще не поднялся выше своего фундамента. Александру Васильевичу пришлось много похлопотать, чтобы изыскать средства на это строительство.
И так во всем — настойчиво, упорно достигает он своей цели. Не потому ли таким уважением пользуется коммунист Сорокин у горожан, не потому ли так чутко прислушивается к его голосу на фабрике свой брат-рабочий?
Мы разговорились как-то об Александре Васильевиче в горкоме партии и мне сказали, что Сорокин не только хороший депутат, но и хороший агитатор на фабрике «Рольма». Мне вспомнились аккуратные стопки газет дома у Александра Васильевича, его привычка читать их по вечерам, подчеркивая все самое интересное, самое нужное, самое значительное; вспомнились его немногословные беседы на производстве с товарищами по труду.
— Вы знаете, — сказали мне в горкоме партии, — такие люди, как Александр Василье
вич, — лучшие агитаторы. Они агитируют не только словом, но и примером всей своей жизни.
Меньше всего хотелось бы, чтобы у читателя возникло представление об Александре Васильевиче как аскете или этаком праведнике...
В его комнате я увидел охотничьи трофеи, патронташ, видел, с какой любовью ухаживает Александр Васильевич за крохотными лимонными деревцами, что стоят на окне. А если найдется слушатель, он охотно расскажет о рыбалке, о повадках пчел, за которыми тоже любит ухаживать как садовод-любитель. Когда взяток большой и меду много, он щедро делится с другими.
По-особому увлекается Александр Васильевич охотой, в которой ищет не выгоду, а отдых. С чем могут сравниться по своей красоте рыбацкие или охотничьи зорьки! Не об этих ли тихих, безмятежных минутах мечтал некогда солдат после боев? Человек, смотревший в глаза смерти, ценит жизнь вдвойне.
Мы как-то разговорились с Александром Васильевичем о будущем рабочего района, о перспективах развития фабрики, наконец, о том, что такое собственно фабрика, завод.
— На «Рольме», — сказал Александр Васильевич, — я в общей сложности работаю около сорока лет, давно пришел к выводу, что фабрика — это прежде всего коллектив, люди. И считаю, что не дело это, когда уходят с производства кадровые рабочие. Как же быть тогдамолоде-жи?! С кого она должна брать пример, по кому равняться?
О своих товарищах по работе он может го
ворить сколько угодно — сказываются его лучшие душевные качества. От Александра Васильевича я узнал о Елизавете Николаевне Пятуниной, которая учила его уму-разуму, передавала свой опыт партийной работы, и о членах его бригады — отличнейший коллектив, так оценивает его Александр Васильевич. Не оттого ли, думалось мне, так самозабвенно служит он людям, что видит в них только хорошее?
А ведь, что греха таить, доводилось слышать иногда Александру Васильевичу, сказанное то ли в шутку, то ли всерьез, и такое:
— Ну чего ты, Сорокин, так печешься о своих делах? Что тебе, медаль дадут за твои старания?
Есть еще у нас люди, думающие только о себе.
Им Александр Васильевич отвечал серьезно:
— Медали есть у меня и без того.
И в самом деле, в праздничные дни все видели его награды: орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги»...
Весть о награждении Александра Васильевича Сорокина орденом Ленина пришла для пего июньским днем как-то совершенно неожиданно. За какие такие заслуги? Вроде бы ничего особого не делал, только выполнял все, что велели рабочая совесть да партийный долг...
И уж совсем растерялся, когда при всем народе на празднике вручили ему высшую награду. Динамики разносили окрест слова Указа, гром аплодисментов. Потом были горячие рукопожатия, поздравления.
Александр Васильевич не сразу нашелся, что сказать в ответ:
— Коллектив воспитывал, направлял... Его заслуга...
* * *
Мы стоим на шумном перекрестке в фабричном квартале города. Ватагой проходят мимо рабочие парни. И вдруг слышим:
— Здравствуйте, Александр Васильевич!
— Здравствуй, Миша! — узнает Александр Васильевич высокого русого парня и объясняет:
— Наш, с фабрики, хороший парень...
ЭДожалуй, впервые за многие годы уборочная пора не застала в колхозе председателя. Застарелый недуг заставил-таки Ивана Сергеевича лечь в больницу. И надо же так случиться — в самое неподходящее время. Может, в другой раз, при других обстоятельствах он и отдал бы себя целиком на попечение больничных нянюшек, сестер и врачей. Да ведь пришла уборка...
Тот, кто сам, своими руками, не растил хлеб, может и не понять тревог председателя. А ему и впрямь не лежалось в больнице на опрятной койке. Мысли одна настойчивее другой упрямо сверлили мозг и несколько проведенных в тихой палате дней показались Ивану Сергеевичу вечностью. Не знаю, как уж он там договорился с врачами, а, может, недуг отступил вдруг, сжалившись над беспокойным председателем, только в свой очередной приезд в колхоз, когда еще многие в районе считали, что Иван Сергеевич лежит в больнице, я встретил его на прежнем месте веселым и возбужденным. Он был доволен, что дела с дооборудованием зернового тока идут полным ходом, что комбайны, несмотря на нехватку аккумуляторов, пошли в работу, а он сам уже успел насладиться запахом хлеба нового урожая. А каких трудов стоило пустить весь
этот слаженный механизм уборки в действие! Больше всего хлопот доставил зерновой ток. Срочно нужен был шестидесятикиловаттный трансформатор, дефицитный кабель. А их ни в городе Ростове, ни в районе не оказалось. Пришлось стучаться в дверь не одной областной организации. И кто обвинит председателя в том, что он, может быть, пустил в ход и свои старые связи, и знакомства, и крестьянскую хитрость. Ведь речь шла о хлебе! Да и возвращаться с пустыми руками просто нельзя, когда знаешь, что тебя ждут, на тебя надеются в колхозе хлеборобы.
Теперь в районе часто можно услышать, когда речь идет о делах колхоза имени Мичурина:
— Этим все нипочем. Урожаи собирают высокие, понастроили всего, машин всяких приобрели... Потому что деньги есть.
Да, верно. В колхозе теперь достаток. Что же касается денег, то разговор о них напоминает мне спор тех мудрецов, которые ломали свои головы над вопросом: что раньше появилось на свет — курица или яйцо? Применительно к колхозу имени Мичурина подобные современные мудрецы должны были бы поставить вопрос так: что раньше1 появилось в колхозе — урожаи, стройки, машины или деньги?
Вопрос отнюдь не праздный, потому что не было всего этого в колхозе еще десять-пятнадцать лет тому назад. Старожилы хорошо помнят то время. Любой из них вам скажет:
— Какие там деньги? По 20 копеек, то есть 2 копейки по нынешнему, иногда выходило, а иногда и не выходило на трудодень...
Так может урожаи все-таки были высокие? — Ишь чего захотел? — скажет тот же ста
рожил. — Урожай на круг сам-сам собирали...
Вот в такую-то пору и сел в шаткое председательское кресло Иван Сергеевич Панин. И особенно трудными были первые шаги. На работе — дела и заботы донимают, а дома — жена:
— И куда ты, Иван, полез? С тебя что — за-ведывания фермой было мало? А тут, на тебе,— в председатели...
— Да не сам же я напросился, пойми. Народ выбрал... К тому же я коммунист...
Но жена, Мария Дмитриевна, не унималась:
— До тебя, поди, и образованнее председатели были, да и то не справились... А тебе не живется спокойно...
Ну что он мог возразить жене? Образование у него и впрямь не ахти какое. Но согласиться с доводами жены все-таки не мог. Хотя бы потому, что люди, избравшие его на пост председателя, верили ему. Они долго и упорно твердили одно: «Хотим, чтобы председателем был коммунист, наш колхозный человек Иван Панин». В райкоме согласились с этим предложением, тем более, что уже знали Ивана Сергеевича как хорошего организатора.
И все-таки трудно, ой, как трудно было поначалу новому председателю. Земля была истощенной, не хватало кормов, рабочей силы.
Самым страшным бичом в ту первую памятную зиму была бескормица. На дворе лютовал мороз, бесились снежные метели, а на фермах скот еле-еле держался на ногах. А ведь в хозяйстве это была чуть ли не единственная отрасль, на которой еще кое-как держался колхоз. Пришлось искать выход.
Вспомнилась Ивану Сергеевичу вдруг среди зимы зеленая пойма реки Устье, которая про
текает заболоченными Шалковскими лугами, и он подумал, что если туда снарядить людей, то, несмотря на снежные сугробы, можно немало собрать тростника, камыша...
Наряжать людей в эту необычную зимнюю экспедицию Иван Сергеевич пошел сам, разговаривал с каждой колхозницей и при этом честно признавался людям, что иного выхода у колхоза нет.
Казалось бы, договорился со всеми. А тревожная мысль где-то шевелилась червячком в глубине сознания, будоражила нервы: «Выйдут завтра с косами на снег или нет». Основания для такого беспокойства у председателя были, потому что по-разному реагировали накануне колхозники на необычное предложение. Иные недовольно ворчали, дожили, мол, другие угрюмо помалкивали. Правда, нашлись, как подумал тогда Иван Сергеевич, и сознательные. Они нисколько не удивлялись и говорили: «Что ж, раз надо, так надо...»
Наутро первым по селу с косой прошел у всех на виду сам председатель. А потом стали появляться и колхозницы. И чем больше их появлялось на месте сбора, тем светлее становилось па душе председателя. А когда наступило время трогать лошадей в путь, он с удовлетворением отметил про себя, что едут все, кто может работать и держать косу в руках.
В Шалковские луга ехали молча, каждый сосредоточенно думал о чем-то своем, изредка перебрасываясь друг с другом парой незначительных слов. А те из соседей, кому пришлось видеть в то неуютное зимнее утро странный обоз с председателем во главе, недоумевали: «Куда это Иван Панин повез свою артель?»
Однако сам председатель был теперь уже спокоен. Он знал, что, может, кое-кто будет и подтрунивать над ним в районе. Но знал он теперь и другое: дело не столько в вынужденной заготовке скудного корма, сколько в том, что поднялись люди всей артелью.
К зарослям тростника шли напролом, как солдаты в яростную атаку, шли по сугробам, кустам, проваливаясь по пояс в снег. Впереди маячила старая ушанка председателя, сбитая набок, и сверкала в искрах снега его коса. А за ним, пробивая каждый свою дорогу, упорно шли люди. Работа все больше и больше захватывала их. В этом едином порыве сосредоточилось теперь все главное: желание покончить с бескормицей, покончить с экономической отсталостью колхоза.
Из Шалковских лугов в ту зиму артель вывезла 200 тонн тростника! Его потом дробили, запаривали, сдабривали и скот весь сохранили. Это была первая победа председателя. Заключалась она, однако, не в том, что накосили столько-то кормов и тем спасли скот (при любых обстоятельствах в районе не допустили бы массовой гибели колхозного скота). Нет, ценность первого успеха состояла прежде всего в том, что люди вдруг приобрели утраченную веру в свои силы, в свой коллективный труд. Приобрести ее помог им коммунист Иван Сергеевич Панин. После той «зимней экспедиции» в колхозе произошла как бы переоценка ценностей. Иными глазами стали смотреть теперь колхозники на свою землю, фермы, на свой общественный труд. И когда на одном из колхозных активов председатель сказал, что надо до весны очистить от навоза скотные дворы, а удобре
ния вывезти в поле, это уже ни у кого не вызывало ни споров, ни сомнений. Больше того, председатель прикинул и доложил колхозникам, что и вывезенных с колхозных дворов удобрений не хватит, потому что земля отощала. А сеять по 2 центнера, да собирать столько же, какой резон? Поэтому правление колхоза обращается с просьбой помочь удобрениями. Здесь, правда, были у колхозников некоторые сомнения и колебания. Однако каждый колхозный двор в тот памятный год дал на колхозные поля в среднем по 20 возов удобрений. Так что теперь на вопрос, что раньше появилось в колхозе — урожаи или деньги? — у Ивана Сергеевича Панина есть все основания ответить: раньше всего у людей появилась вера в успех.
Если бы в колхозе имени Мичурина велась летопись, она отразила бы немало поучительных историй. Одни из них могли бы теперь у нас вызвать улыбку, другие заставили бы глубоко задуматься. И, конечно, особое место в той летописи отвели бы началу электрификации колхоза и мелиорации земель.
В течение нескольких лет предметом насмешек деревенских остряков в колхозе имени Мичурина был так называемый «лаптевский движок». Приобрел его за 5 тысяч рублей для молотилки один из предшественников Ивана Сергеевича. Движок с почестями был доставлен в колхоз. Но затем его убрали под надежные запоры в сарай, где он и простоял без всякой пользы несколько лет.
О злополучном движке уже начали было забывать, как вдруг в колхозе стало известно, что по решению правления куплена электростанция (к тому времени в колхозе уже появились день-
ги). Агрегат был вскоре привезен и под личным наблюдением председателя заколочен до поры до времени дощечками. Все это послужило поводом для новых насмешек местных остряков. Сколько ни доказывал Иван Сергеевич, что к осени, то есть к годовщине Великого Октября, в колхозных избах вспыхнет электрический свет, скептики не унимались. При этом особенно донимал председателя своими разговорами кладовщик колхоза.
—- Слыхали мы все эти обещания. А я вам точно скажу: плакали колхозные денежки. Лаптев, тот хоть за движок пять тысяч рублей выкинул, а Панин тридцать две тысячи дощечками заколотил, помяните мое слово.
Обидно было слышать такие разговоры. Обидно и больно. И вовсе не потому, что вот, мол, для людей стараешься, а они не понимают, не ценят. Нет, обидно потому, что коль так говорят, значит, еще до конца не верят. Правда, к тому времени вернулись из города и других мест многие бывшие «колхозные беглецы». Вернулись, когда самое трудное уже осталось позади. И все-таки обидно. А тут еще оказалось (председатель и сон потерял), что купить электростанцию еще далеко не все. Сколько еще всякого оборудования, материалов нужно. Иван Сергеевич и не подозревал поначалу, что основные заботы по электрификации колхоза впереди. И что придется ему не раз обивать пороги областных организаций, чтобы добиться проектно-сметной документации. А потом, когда будут и проект, и смета, ему придется пускаться в бесконечные поиски различных материалов не только в своей области, но и за ее пределами. А так как централизованным порядком Иван
Сергеевич не смог получить проводов, роликов, предохранительных коробок, то и пришлось ему пользоваться услугами розничной торговли московских магазинов, рде он и колхозный шофер Леонтий Иванович Синицын быстро примелькались продавцам, и те подумали, что имеют дело с новоявленными спекулянтами.
К счастью, все закончилось наилучшим образом. Иван Сергеевич предъявил документы, рассказал, для какой цели вертится он по магазину, чтобы добыть коробок, роликов (их отпускали в одни руки ограниченное количество), и — мир не без добрых людей — продавцы, пренебрегая правилами, отпустили колхозу в нужном объеме имевшиеся у них электротовары.
А в колхозе меж тем полным ходом велись земляные, монтажные работы. Электропровода струнами запели сначала в Шугори, затем линия электропередачи вытянулась за околицу и зашагала телеграфными столбами в Поддыбье. Приближалась годовщина Октября. Скептики теперь помалкивали. А если и говорили о председателе, то только так:
— Ай да Панин! Вот это человек! Настойчив, слов на ветер не бросает. Как сказал, так и сделал!
При этом мало кто знал, каких трудов стоило председателю сдержать свое слово, сколько бессонных ночей провел он в нелегких раздумьях. Но, странное дело, когда, наконец, осенним праздничным вечером вспыхнул в колхозе свет, Иван Сергеевич отнесся к этому совершенно спокойно. Уже иные мысли и планы занимали его. Не в этом ли мудрый смысл исконной крестьянской привычки думать, беспокоиться о завтрашнем дне?
Начало электрификации не прошло бесследно в колхозе. Это была вторая крупная победа председателя. Люди еще больше стали верить ему. Много поучительного вынес для себя и Иван Сергеевич. Даже его, потомственного крестьянина, труженика, поразил такой случай. Как и было запланировано первоначально, электрифицировали сперва Шугорь и Под-дыбье. Но когда в домах колхозников там вспыхнул свет, к председателю явилась делегация из деревни Судино.
— А нам когда же свет проведут, Иван Сергеевич?
— Как и договорились, в будущем году! Да сейчас уже ничего и не сделаешь — зима на дворе, земля промерзла. А ведь надо ямы под столбы копать...
— Ты нам только электриков дай. А ямы мы выкопаем и столбы установим...
Подумал председатель и согласился:
— Копайте!
Судинцы только и ждали этого сигнала. На удивление всему колхозу, столбы между Суди-ным и Шугорью они установили за один день!
Так шел год за годом. И каждый из «них отмечен, как вехой, каким-нибудь значительным событием. Год 1954-й можно было бы назвать годом упорядочения хозяйства, 1955-й — началом строительства общественных объектов, 1956—1957 — годами начала электрификации, год 1958 — началом наступления на Шалков-ские болота и так далее. И я должен заметить, что это не были очередные модные кампании, которые одно время лихорадили наши колхозы. Нет! Это было началом всестороннего развития хозяйства, которое продолжается и поныне. Хо
рошо помню, как начиналось в колхозе строительство общественных объектов. В качестве строительного материала впервые в Ростовском районе колхоз имени Мичурина стал широко применять шлак. Он пошел, в частности, на строительство гаража, склада. Потом, когда появились деньги, в ход пошли другие материалы — силикатный кирпич, железобетон. И, таким образом, в колхозе стали воздвигать добротные хозяйственные и общественные постройки, среди которых особенно выделяется клуб в Поддыбье. И что характерно, строительство в колхозе не прекращается, в том числе и жилищное.
Продолжается наступление на Шалковские заболоченные луга. Земли, занятые болотами и кустарниками осушены и раскорчеваны, на них созданы культурные пастбища. И если раньше снимали по 7—8 центнеров сена, то теперь — по 25—30 центнеров с гектара.
Вспоминается мне один год, студенческий лагерь в Шалковских лугах. Сюда из Ярославля приехали на помощь колхозу студенты. Они рыли канавы, отводили воду... Иван Сергеевич тогда всей душой привязался к этим веселым парням и девушкам.
Ребята добросовестно делали здесь свое дело и часто спрашивали председателя:
— Дядя Ваня, а что здесь будет?
— А вы приезжайте лет через пять —увидите...
Разлетелись в разные концы бывшие студенты. Лопату сменили умные землеройные машины мелиоративной станции. Шалковские луга преобразились. Не раз Иван Сергеевич вспоминал веселых студентов и с грустью думал о
том, что вот никому из них не пришлось полюбоваться всей этой прелестью.
Но он ошибся. На проходившем однажды в колхозе имени Мичурина областном семинаре секретарей райкомов, среди его участников оказался бывший студент.
Он долго и пытливо осматривал знакомые и в то же время совершенно изменившиеся места и удивленно заметил:
— Как все изменилось? Ведь этого ничего не было, когда мы копали канавы...
— «А то ли еще будет» — думает Иван Сергеевич, и земля в его мечтах предстает еще более обновленной.
ЗЕМЛЯ ОТКРОЕТ СВОИ СЕКРЕТЫ
1.
Дето в разгаре. Но на склонах холмов трава уже местами давно повыгорела, да и вдоль обочин дорог стоит жухлая, словно бы неживая. Солнце палит нещадно, и от его немилосердных лучей тяжко сейчас всему живому.
«Ну и сушь», — привычно в такую жару думает Зинаида Дмитриевна, направляясь к машине. Она вглядывается в блеклое, будто вылинявшее от яркого солнца небо, досадует: «Хоть бы облачко где появилось...»
Едва уловимый порыв ветра доносит чуть горьковатый знакомый запах обмолоченного хлеба с полей, откуда-то повеяло ароматом свежего сена. Со стороны села, должно быть, с широкого пруда, потянуло легкой прохладой, а потом неожиданно запахло пересохшим тополиным листом, и Зинаида Дмитриевна вздохнула, снова подумав: «Даже листья сохнут от жары, знать, на сломанной ветке...»
— Куда повернем, Зинаида Дмитриевна?
— Давай, Коля, по бригадам.
Машина фыркнула мотором и вскоре в клубах желтоватой пыли покатила по проселку.
Шофер хорошо изучил подобные маршруты и знал, что председатель колхоза обязательно наведается к комбайнам, потом на стройку —
как там и что — а, главное, поговорит с людьми, при этом кого похвалит, кого пожурит, а кому и скажет: «Зайди после ко мне в конто-РУ».
Зинаида Дмитриевна ехала молча и, как обычно, погрузилась в свои бесконечные думы-заботушки. Они у председателя разные: одни скоротечные, быстро проходят, забываются; другие живут долго, безотвязно, не дают покоя даже по ночам. Она вспомнила свое выступление на одном из областных совещаний. Ей казалось, что тогда не нашла она достаточно убедительных доводов в споре с представителем облколхозпроекта, которого критиковала за устаревшие проекты жилых домов для села. Самые убедительные и неопровержимые доказательства своей правоты пришли к ней позже, сейчас. Тогда, пожалуй, она излишне горячилась, волновалась, и потому многое осталось невысказанным. Пройдет несколько лет, мысленно продолжала она неоконченный спор, и нам, селянам, будет стыдно за те дома, что строим для колхозников по устаревшим проектам. Неуклюжие кирпичные коробки с печным отоплением— зачем они теперь деревне? Есть же у архитекторов и удачные образцы жилых строений — с поэтажным расположением комнат, с водяным отоплением. Такие дома удобны для сельской местности, красивы, уютны...
Внимание председателя привлекла вдруг полоска дыма, что стлался по земле у Боровиц, где зеленели молодые посадки.
— Никак, горит? — встрепенулась Зинаида Дмитриевна, пристально всматриваясь в синеватую полоску дыма.
— Похоже, мальчишки подожгли,—подтвердил шофер опасения председателя и развернул машину в сторону пожара.
Огонь до посадок еще не добрался. Горел слоистый травяной подстил, с треском вспыхивала и окутывалась почти бесцветным на солнце огнем и легким синеватым дымком свежая зеленая трава, что у посадок вымахала по колено. Пахнуло гарью.
Минуту-другую Косарева смотрела на пожар будто завороженная. Она еще никогда не видела, чтобы так споро и с таким треском горела обыкновенная зеленая трава. «Что же будет, если огонь переметнется на посадки?» — ужаснулась она. От этой мысли ей стало не по себе. С таким трудом растили под Боровицами лес, сажали деревца, как капустную рассаду — каждое в отдельности, выдерживали настоящий бой с косарями, что каждый год, пока не поднялись молодые сосенки да лиственницы, вместе с травой сшибали саженцы. Теперь они стоят вот вровень с человеком, и к ним с треском подползает огонь.
Зинаида Дмитриевна вышла из оцепенения и почти крикнула шоферу:
— Быстрей за трактором! Машину с водой!
Николай Павливович Горюнов не заставил себя ждать. Он, что называется, мигом слетал на своем газике к трактору и, пока тракторист прокладывал борозду, отделяя огонь от посадок, примчался на пожарной машине и принялся заливать водой трескучее пламя пожара. А Косарева не уходила до тех пор, пока огонь не утихомирился, укрощенный водой и свеже-вспаханными пластами земли.
2.
На этом месте некогда тоже шумел сосновый бор. Поэтому деревню, что стояла защищенной от злых ветров и суховеев лесом, назвали не зря Боровицами.
Но ветры пострашнее суховеев промчались над деревушкой, и лес в трудную пору послужил людям, отдав себя им всего, без остатка. Когда не хватало материалов, он шел на строительство, не было топлива, опять лес выручал. После войны там, где шумел старый сосновый бор, осталось вырубленное голое место. Чахлую растительность, что появилась здесь, скотина обходила стороной, а путная трава до поры до времени не приживалась. Зато вольготно было ветру. Он бесновался на пустоши, налетал вихрями, поднимал ввысь облака пыли и уносил прочь на хлебные да картофельные поля, постепенно подбираясь и к ним своей разрушительной силой.
Вырубка леса оголила водораздел, нанеся урон и речушкам. Глубокая и полноводная в прошлом. Сара, не получая достаточно притока воды, обмелела, превратилась в жалкую речонку. А в колхозе труднее стало задерживать влагу на полях. Северо-восточный ветер гнал по широкой долине, как по огромному поддувалу, массы холодного воздуха, сметая зимой с близлежащих холмов снег, а летом унося влагу и частицы верхнего плодородного слоя земли.
Зинаида Дмитриевна как опытный работник сельского хозяйства, как агроном, наконец, как председатель хорошо понимала, чем это грозит в ближайшие годы их колхозу, да и соседям то
же, если вовремя не принять нужных мер, не поставить преграду на пути эрозии почвы. Своими мыслями, тревогой поделилась она с людьми. Делала это обстоятельно, не спеша, обдуманно, хотя, если откровенно говорить, еще сама до конца не знала, что получится из се затеи.
Идея возродить лес в колхозе пришлась всем по душе. Мечта о лесе, оказалось, давно жила, а может, и не умирала в каждом колхознике. И в одно прекрасное время, когда в колхоз привезли саженцы лиственницы, ели, сосны, люди дружно принялись за работу. Так на месте старого бора зазеленели робкие поначалу (молодые деревца. Такие же посадки поднялись со временем и в широкой долине вдоль берега речки Сары.
Молодой лес поднялся уже, окреп и как бы в награду людям за их труд, несет свою бескорыстную службу. Он манит прохладой, дает приют мелкому зверю и птице. Под молодыми деревцами зреет летом ягода, а погожей осенью проглядывают из-под травы и хвои шляпки грибов. Началась и главная служба леса: он уже заметно защищает поля колхоза от жестоких ветров, накапливает и держит влагу. За это прежде всего и ценит лес Зинаида Дмитриевна как агроном, как руководитель колхоза, который отдает свои знания, свой талант хлебороба людям, обществу. Любит она лес и просто, по-человечески, как все, как всякий русский. Когда речь заходит о лесе, Косарева с мягкой улыбкой, будто сожалея о чем, говорит:
— Лес растет медленно, очень медленно...
Она обращается к кому-то из молодых колхозников, что наведались по делу в контору:
— Миша, сколько лет вашему лесу?
— Лет десять, Зинаида Дмитриевна.
— Вот, — вздыхает она. — А деревья еще только в рост человека поднялись. Сколько пройдет времени, пока он зашумит высоко над головой? — и добавляет стихами Некрасова, пряча невысказанную грусть:
— Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется ни мне, ни тебе...
3.
Грустить председателю, говорят, по штату не положено, а может, и просто некогда. Только сейчас ее мысли были заняты лесом, а тут звонок телефонный — настойчивый, требовательный. Из сельпо звонят, просят срочно подослать машину... За комбикормами.
— Хорошо, — отвечает председатель. — Подошлем обязательно, — и тут же отдает распоряжение снарядить транспорт.
В иное время она, может, и повременила: машины и в колхозе нужны сейчас позарез, пусть бы из сельпо сами завозили комбикорма для молокосдатчиков — их прямая обязанность. Но мешкать нынче нельзя, год выдался не из легких. Это видно уже по тому урожаю, что собирает сейчас колхоз. Где планировали по 40 центнеров озимых взять, намолотили по 30, а где по 30 ждали, там еще меньше обмолоты. Всего по 23 центнера на круг сняли озимых с каждого из 209 гектаров.
Правда, если мерить старой меркой, то раньше о таких урожаях только мечтать могли. Но в колхозе «Красный Холм» к ним уже стали привыкать, как привыкли к высоким доходам
(в 1971 году они составили миллион 56 тысяч рублей), к денежной оплате труда, к колхозным новостройкам. В сельский пейзаж органически вписываются и новые жилые дома с телевизионными антеннами на крышах, и высокий красивый Дом культуры, и широкие витрины магазина, и здания детского комбината, колхозной столовой, нового животноводческого комплекса... В быт колхозников вошел газ, водопровод, не говоря уже об электричестве, радио.
Да что там говорить! Зинаиде Дмитриевне порою кажется (и она недалека от истины), что целая историческая эпоха прошла с тех пор, когда она, выпускница Ростовского сельхозтехникума, с дипломом агронома в кармане пришла работать в сельское хозяйство. Ведь подумать только! На всю Петровскую зону района приходилось всего 25 тракторов марки «СТЗ» и «ХТЗ». А теперь в одном их колхозе — 29 тракторов. И каких! Не чета прежним, маломощным. А взять автомашины. Их в колхозе пятнадцать. В ту пору во всем районе их насчитывалось всего четыре единицы. Иначе и не назовешь, потому что техника действительно насчитывалась единицами. Некоторых машин, комбайнов, например, не было и в помине. Сейчас в хозяйстве — пять красавцев, пять зерноуборочных комбайнов убирают колхозные поля.
Ну, как не гордиться такой техникой, а главное, — людьми, что познали новый механизированный труд, овладели современными машинами! Вот поди, попробуй, разберись, где пролегает теперь граница между индустриальным и сельскохозяйственным трудом?
4.
Коль скоро речь заходит об этом, Косарева начинает, не спеша, излагать свою точку зрения:
— Изменилось многое в сельском хозяйстве, прямо скажу — до неузнаваемости. Пришли к нам техника, электричество, газ. Изменился труд, быт на селе стал другим. А главное, колхозник — уже не тот крестьянин, каким я знала его прежде, когда начинала работать в колхозе...
Переменилось с тех пор действительно многое и в жизни колхоза, и в жизни людей. Иные заботы и трудности одолевали Косареву поначалу, когда ее избрали председателем. Доходы от хозяйства —- слезы одни. Да и откуда им взяться, когда поля были истощены, фермы — в запустении, завалены навозом. Тут было от чего прийти в отчаяние.
Но Зинаида Дмитриевна свою деятельность как раз и начала с очистки и приведения в порядок скотных дворов. А добро, чтоб не пропадало, — в поле. Так по-крестьянски мудро и по-хозяйски рачительно распорядилась она теми удобрениями, что годами накапливались на задворках ферм. И в первый, по мнению председателя, для него всегда самый трудный год, сделали главное — очистили скотные дворы от навоза и удобрили им колхозные поля.
В Петровской зоне Косарева и до этого случая считалась хорошим агрономом и умелым организатором. А тут колхозники на деле сами убедились, что не ошиблись в своем новом председателе. Она же вплотную занялась культурой обработки почвы.
Теперь в колхозе, пожалуй, никто и не вспоминает, сколько труда, энергии вложила Косарева в нелегкое дело. Колхознику мало только объяснить (по своей крестьянской натуре он не всегда верит на слово), ему надо показать, как лучше готовить землю, потом и убедить в необходимости делать так, а не иначе, по старинке.
Зинаида Дмитриевна, зная психологию крестьянина, не уставала терпеливо объяснять, показывать, убеждать... Потом пришла очередь вводить в колхозе перспективные сорта картофеля, зерна, других культур. Уже тогда она хорошо понимала, что жить одним днем, по старому принципу «даст бог день» нельзя. Надо постоянно думать и о дне грядущем. Как агроном она часто задавала себе вопрос: «Что такое земля? Не что иное, как лаборатория. Хорошо ли мы освоились в ней?»
Многолетний опыт агронома, практика хлебороба не давали еще положительного ответа на вопрос. Ибо картофеля в иные годы в условиях колхоза можно собирать по 240 центнеров с гектара, а зерновых — по 40 и более. Вот даже в нынешний крайне неблагоприятный, засушливый год в Никольском намолачивали по 30 центнеров сухого, годного к амбарному хранению зерна. Высокоурожайная озимая пшеница «мироновская 808», например, с сортовых участков перенесена уже на колхозное поле и выращивается как обычное товарное зерно. Это значит, что урожаи зерновых в ближайшие годы будут и впредь возрастать.
За неустанный подъем культуры земледелия, за высокие урожаи Зинаиде Дмитриевне Косаревой было по праву присвоено звание за
служенного агронома Российской Федерации, а Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1966 года — звание Героя Социалистического Труда.
Двадцать с лишним лет назад, когда принималась за работу в колхозе, на вопрос колхозниц «Когда мы у себя с этой проклятой нуждой покончим», Косарева отвечала:
— Вот погодите, бабоньки, очистим фермы, удобрения в поля вывезем, поднимем урожаи. Тогда и достаток придет в наш дом.
В ту пору колхозники радовались, когда в конце года получили за сданную продукцию 80 тысяч рублей. Но разве это достаток? Горе одно. Теперь только на оплату труда колхозникам хозяйство выделяет 450 тысяч!
— Нашего колхозника ничем не удивишь, — говорит Зинаида Дмитриевна. — Мотоцикл? Так он почти у каждого мальчишки есть.
— Главное, — продолжает она, — не в этом. Главное, что нашего колхозника от рабочего ничем не отличишь. Я не говорю о старых кадрах, может, не так наглядно. Скажу о молодых. Приняли недавно в колхоз Андрианова Алексея, сварщика по профессии. Собирался работать в городе на судостроительном. Поговорила с ним, почему бы, спрашиваю, не пойти ему к нам, в колхоз. «А квартира?»—интересуется он. Квартиру пообещали. Жилья, — как бы вскользь заметила председатель, — строим немало. Согласился Андрианов, работает у нас сварщиком. Как же отличить теперь этого рабочего от колхозного специалиста — механизатора, токаря, электрика, строителя?
Выдержав паузу, Косарева сама же себе отвечает:
— Отличить теперь бывает просто невозможно, хотя само сельскохозяйственное производство еще не достигло уровня промышленности. Да и крестьянская психология нет-нет, а дает себя знать. Она проявляется подчас и в быту, и в производстве.
Построив дом, колхоз выделяет колхозникам квартиры. Казалось бы, чего лучше — плати квартплату и пользуйся всеми коммунальными удобствами. Нет, не устраивает. «Продайте квартиру,—говорят,—уж лучше сразу за все заплачу, но чтоб была моей». И колхоз продает, поскольку колхознику чудно кажется жить у себя в деревне в коммунальной, а не в собственной квартире.
— Или вот механизируем дворы,—рассказывает председатель. — А животноводы к механизации поначалу всегда относятся с недоверием. Все-то им нужно испытать самим, проверить не раз, убедиться, что механизмы действуют исправно, а до тех пор работают по старинке.
В осторожности этой ко всему новому, непривычному и сказываются остатки крестьянской психологии. Дореволюционному крестьянину веками долбили: «Терпи, надейся на бога». А вековой опыт борьбы за свое жалкое существование учил его: «На бога надейся, а сам не плошай». И он не плошал, тянул из себя жилы, сколько мог, надеясь только на свои силенки, потому как помощи ему ждать было действительно неоткуда.
5.
В кабинет к председателю вошел главный агроном колхоза Николай Яковлевич Менячи-
хин, быстрый, порывистый. Он только что вернулся с ПОЛЯ.
— Зерно хоть сейчас на хранение, и сушить не надо.
— По данным анализа, влажность четырнадцать процентов, — подтвердила Косарева, разминая пальцами привезенный с поля колос.
Минуту спустя Николай Яковлевич обратился к Косаревой:
— Тут к нам приехали, так я займусь товарищем.
— Добро.
Коцда Менячихин вышел, Зинаида Дмитриевна сказала о нем:
— Хороший специалист. Хоть и спорим мы часто, а нравится он мне: напористый, решительный. Вот только горяч немного. Подумав, она добавляет: — В колхозе говорят, что мы дополняем друг друга. Наверное, так оно и есть.
В словах Косаревой сквозило глубокое уважение к человеку, о котором она так тепло отзывалась. Та же нотка звучала в ее голосе, когда она вообще рассказывала о людях колхоза, о своих верных помощниках в нелегком хлеборобском деле.
За окном фыркнул мотор.
— Менячихин, знать, в поле, к комбайнам снова поехал, — заметила Косарева. — Ну и мне пора.
Однако не успела она выйти, как телефонный звонок требовательно позвал ее к себе. Звонили из горкома партии. Напоминали о завтрашнем совещании и просили попозже позвонить в отдел пропаганды.
Зинаида Дмитриевна положила трубку, а сама подумала про себя: «Зачем понадобилась?»
Она невольно вспомнила тот неприятный случай, что произошел в колхозе в самом начале уборки. Только уехала к механизаторам — звонок из горкома. Второй секретарь Субботин Михаил Степанович интересуется уборкой. Плохо, отвечают из конторы, — комбайн простаивает, машина под разгрузку не пришла. А из-за той злополучной машины Косарева как раз и отправилась к механизаторам, чтобы немедленно наладить транспортировку зерна.
Пока суд да дело, Зинаида Дмитриевна распорядилась снарядить тракторную тележку и сама следом поехала к комбайну.
Разгрузили бункер. Тракторист ждет второго круга, пока комбайн наберет зерна, чтоб полностью можно было загрузить тележку. Тут-то и подъехал к ним Иван Федорович Соболев — первый секретарь горкома партии.
Поздоровался, потом к Зинаиде Дмитриевне:
— А говорят, в «Красном Холме» комбайны простаивают...
Косарева удивленно посмотрела на Ивана Федоровича.
— Кто говорит?
— Да ваши же колхозники доложили Субботину.
Зинаида Дмитриевна удивленно пожала плечами. Да и Иван Федорович лично убедился, что все идет, как следует. Поинтересовался, как у других механизаторов, по сколько намолачивают зерна, спросил, не требуется ли какая помощь...
Нет, Зинаида Дмитриевна ничего не просила. Она ответила тогда, должно быть, своим обычным: «Управимся сами». В этих ее привычных словах — не каприз, не упрямство или же
лание покрасоваться перед другими — вот, дескать, мы какие. Нет! Это, если хотите, ее особый принцип, порожденный крестьянской гордостью, всем укладом колхозной жизни.
Косарева часто думает: если работаешь на том или ином участке, ты должен любить свое дело, гордиться им. А если так, то зачем свои заботы переваливать на других? Взялся, как говорят, за гуж — отвечай за порученный тебе участок, персонально! И не говори, что не дюж!
* * *
Колхоз «Красный Холм» часто навещают гости. Здесь действительно есть чему поучиться. Не случайно в колхозе время от времени проходят семинары, где изучаются и организация дошкольного воспитания детей, и клубная работа и, само собой, опыт эффективного использования земли.
— Вот об этом опыте, о секретах возделывания культур постоянно просят рассказать, — говорит Зинаида Дмитриевна. — Мы ничего не скрываем, показываем все. А рецептов готовых дать не можем, их просто нет. Потому что живем под открытым небом. Сегодня ясно, завтра — ненастно. И каждый день заставляет тебя думать по-новому: то как сохранить влагу на полях, а то и как от излишней влаги их уберечь. Требуются здесь не только знания, умения, опыт, но и терпение и любовь к делу.
Секреты... Зинаида Дмитриевна задумывается. Она бы и сама многое отдала, чтобы постигнуть все секреты земли. Тут не только что весь
колхоз, каждое поле, каждая культура со своим секретом. Даже тот молодой лес, что посадили десять лет назад, тоже с секретом. Но разве об этом расскажешь? Еще засмеют, чего доброго. Поэтому Зинаида Дмитриевна говорит:
— Главное в нашем деле — любить лес, любить землю. Остальное приложится. Земля откроет свои секреты.
поиск
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ранним утром, едва выглянет солнце из-за горизонта, в деревне Резанка можно услышать треск старенького, довольно потрепанного и неказистого на вид мотоцикла. На нем Николай Матвеевич Кузьминов, агроном колхоза «Вперед», начинает обычный объезд обширных колхозных владений.
Здесь он как дома. Оставит где-нибудь на проселке своего верного ИЖа и, сшибая кирзовыми сапогами сверкающие, точно драгоценные камни, капельки утренней росы, пройдется ровными кустистыми рядами темно-зеленого картофеля. Нагнется, поковыряет землю у стеблей, что-то прикинет в уме, а то и запишет для памяти в свою объемистую записную книжицу, с которой никогда не расстается. А там, глядишь, невысокая коренастая фигура агронома мелькнет уже на посевах голубоглазого льна. Выдернет пучок тоненьких стебельков, помнет своими шершавыми пальцами и приторочит к седлу мотоцикла.
Хорошо в полях — раадолье!
Густой, настоенный живительными запахами земли, прохладный утренний воздух наполняет грудь. Дышится на редкость легко и свободно. А кругом — простор. Невольно залюбуется агроном волнистым мягким зеленым ковром
картофельных полей, сотканным по его замыслам умелыми механизаторами. Сейчас в колхозе многие уже и забыли, как лет шестнадцать тому назад привез агроном шесть мешков семян нового высокоурожайного, не подвергающегося болезням, картофеля. И вот уже его посевы раскинулись на двухстах гектарах и сулят нынче высокий урожай и немалые доходы артели.
А рожь — чем не хороша? Высокая, колосистая. Прислушаешься, и кажется, поет она и звенит на ветру. Слушает агроном песню земли и чудится ему упрек в этой песне.
Вот он раздвигает высокие стебли ржи, ходит по полю. Время от времени останавливается и считает зерна то в одном, то в другом колосе. Хмурится. «Мало, мало», — недовольно сдвигая свои густые выгоревшие на солнце брови, думает агроном.
Своими мыслями Николай Матвеевич как-то поделился и со мной. Оказывается, теперешними урожаями зерновых, которым, кстати сказать, иные хозяйства могли бы позавидовать, он недоволен. И у агронома есть на то основания.
Осенью прошлого года Николай Матвеевич на площади в 5,3 гектара заложил опыт по методу А. Семенова, директора ленинградского госплемптицезавода «Большевик» (об этом методе в свое время подробно рассказывалось в печати). По рекомендованному рецепту приготовил сложный известковый органо-минеральный раствор. Хлеборобы хозяйства обработали им обычные семена озимой ржи и по новой технологии высеяли на гектар по 65 килограммов семян с междурядьями 45 сантиметров.
Сколько было бессонных ночей, тревог, сомнений! Осенью, зимой и весной часто можно бы
ло встретить агронома на опытном участке за деревней Алешкино: проверял, как кустится рожь, как зимует, как перезимовала.
...Мы стоим у края опытного поля. Однако теперь, когда та самая рожь достигла двухметровой высоты, налилась тяжелым крупнозернистым колосом, Николай Матвеевич моих восторгов не разделяет. Я удивился. А агроном неторопливо рассказывает:
— Эффект, на первый взгляд, получен большой. Вместо 180—200 килограммов семян на гектар высеяли примерно в три раза меньше — 65 килограммов. Урожай видовой — 20—25 центнеров вместо обычных 14—15. Опять же зерна, обратите внимание.
Николай Матвеевич, по свойственной ему привычке, снимает очки, прихватывает их губами за кончик заушины и близко подносит к глазам тяжелый колос. Молча считает и отдает мне.
— 86 зерен!
Пересчитываю. Так оно и есть. Потом находим колосья, где попадается 90 и даже 100 зерен. Ничего не понимаю. Беру карандаш, считаю. Высеять на гектар 65 килограммов, а снять с той же площади три-три с половиной тонны. Это же в 30—48 раз больше! А ведь на обычных участках высевают по 180—200 килограммов и получают здесь только в 7,5—8 раз больше. Николай Матвеевич поясняет:
— Очень уж сложна технология, велики затраты. На больших площадях такого не добиться. Для производства этот метод непригоден. Надо искать другие пути.
Ничто не приносит человеку столько радости и счастья, как плоды творческого труда, потому
что в них воплощены воля творца, его мысли, частица его души. И когда я вижу Николая Матвеевича, как он, сильный, уверенный, шагает по полям или мчится пыльным проселком на своем верном «ИЖе», мне не верится, что ему уже за 50. В этом невысоком коренастом человеке, на вид скромном и даже застенчивом, еще много молодого задора, энергии. Он полон творческих замыслов дерзновенных поисков. И я знаю источник его силы. Это труд.
Новый толчок в творческих поисках дали Николаю Матвеевичу решения Пленумов ЦК КПСС, на которых решались вопросы по сельскому хозяйству. До поздней ночи засиживался Николай Матвеевич над газетами и журналами. Взволнованно ходил по комнате, прислушивался к завыванию ветра за окном и думал, думал. Потом снова перечитывал сообщения из Кремля. Прикидывал, что нового можно внедрить на полях колхоза уже в нынешнем году и по долголетней привычке оставлял пометки в своей записной книжке.
Главной нерешенной проблемой в колхозе является кормовая база. Для обеспечения роста поголовья скота нужны корма. Николай Матвеевич выписал необходимую литературу и внимательно изучил опыт Эстонской республики по возделыванию новой кормовой гибридной культуры «куузику», названной так по имени колхоза, который вывел сорт высокоурожайного гибрида капусты с брюквой. В среднем на гектаре в условиях Прибалтики и Ленинградской области получают по 800—1000 центнеров корней и 200—300 центнеров питательной зеленой массы.
Николай Матвеевич берет в руки карандаш, чтобы прикинуть на бумаге ее кормовые досто
инства. Появляются внушительные цифры: 11—12 тысяч кормовых единиц и 1350—1400 килограммов переваримого протеина! Агроном снова и снова взволнованно пересчитывает. Нет, не врут цифры. «Надо обязательно раздобыть семян», — решает Николай Матвеевич и пишет письмо в Эстонию...
Вскоре на имя агронома пришел ответ и небольшая посылка. В ней было упаковано 200 граммов семян новой гибридной культуры. Агроном подобрал надежных людей и роздал каждому своему помощнику по 10 граммов драгоценных зернинок. Весной под наблюдением Николая Матвеевича колхозники вырастили рассаду и передали агроному на опытное поле.
Около 30 тысяч штук рассады высадил Николай Матвеевич на полуторагектарный участок. Новую культуру, гостью из Прибалтики, не баловал, не холил. Ведь ей, по замыслу агронома, предстояло со временем шагнуть в производство на поля во все бригады. Николая Матвеевича интересовало прежде всего, как поведет она себя не в оранжерейных, а в обычных условиях.
И новый гибрид выдержал все испытания, оправдал лучшие надежды агронома.
Она растет теперь на ровном поле, широко раскинув буйные сочные листья. Они напоминают листья обыкновенной кормовой капусты. Под ними, распирая во все стороны землю, вы-гляд ыв ают в ерхушки зеленев ат о - бронзовых корней.
Николай Матвеевич наклоняется, рассматривает трещинки вокруг корней и объясняет то, что пока еще непонятно мне:
— Тесновато корням на ровном уплотненном грунте.
Вынимает записную книжку, делает пометки и продолжает:
— На будущий год высадим на боровках, растениям будет легче раздаваться вширь.
Новому гибриду дивятся не только гости, но и сами колхозники, те, кому Николай Матвеевич давал «на развод» по щепотке семян. То одна, то другая колхозница сообщает агроному:
— Николай Матвеевич, вырастила вашу капусту на гряде и скармливала корове. Так верите ли, сразу молока прибавила. А корни! Так и прут во все стороны.
Николай Матвеевич слушает и улыбается. Знать, недаром пригласил он гостью на поля родного колхоза. Будет прибавка в молоке и по всему колхозному стаду.
Расчеты у него простые. Ни одна кормовая культура в колхозе не может сравниться с новым гибридом. Когда корни нальются соками земли, то достигнут 15—18 килограммов? В пересчете на гектар это свыше двух тысяч центнеров, да в придачу к тому 500—600 центнеров зеленой массы!
* * *
Когда я думаю над опытами скромного колхозного агронома Николая Матвеевича Кузьминова, то прежде всего вижу человека богатой души, человека со светлым умом и щедрым сердцем. Именно эти качества, на мой взгляд, помогают ему добиваться успеха в его трудных поисках и отдавать свои находки людям.
Я мог бы рассказать о других опытах Нико
лая Матвеевича, например, о том, как он пытается возродить на колхозных полях славу такой ценной, полузабытой кормовой культуры, как русский окопник, зеленая масса которого пахнет свежими огурцами, и о том, как агроном пытается вывести сорт крупнозернистой ржи и пшеницы, размножить сорта голозерного ячменя. Но, по мнению Николая Матвеевича, об атом говорить еще рано. Опытническая работа сопряжена с определенным риском. Ему еще и еще раз предстоит проверить свои расчеты, разрешить немало сомнений. Ведь поиск не окончен. Поиск продолжается.
МЕЧТЫ
ВОПЛОЩАЮТСЯ
В ЖИЗНЬ
р^ыла у Ванюши мечта — создать машину. Да такую, чтобы сама лен теребила, сама обмолачивала, расстилала бы на посеребренные росой луговины и поднимала потом со стлищ. Летом, бывало, наигравшись со сверстниками, не раз убегал паренек за околицу родной деревушки Маншино. Сядет на пригорке и, глядя в даль, размечтается. И кажется ему, что сидит он не на земле, а за рычагами необыкновенной машины. Плавно покачиваясь, она плывет по полю, которому не видно ни конца, ни края. А где-нибудь у дороги стоят колхозницы и приветливо машут ему руками. Среди женщин и его мать...
Позднее Ваня узнал, что машина, которая сама теребит лен, уже создана. Это несколько огорчило паренька, но ненадолго. Теперь ему не терпелось поскорее увидеть льнотеребилку, чтобы сопоставить с тою, которую он создал в своем воображении. «В конце концов, — думал Ваня, — это еще не та машина».
— Вырасту, сделаю такую, — говорил он матери, — чтобы все сама делала.
— Сделаешь, сделаешь, — подбадривала мать, ласково теребя вьющиеся волосы сына и глядя в его голубые, как цветочки льна, пытливые глаза.
Ванюшиным мечтам не пришлось сбыться. Грянула война. Она наложила свой суровый отпечаток и на колхозную деревню. Мужчины ушли на фронт, дома остались женщины, старики, которым трудно было управляться одним со всеми делами колхоза. Дненадцатилетнему пареньку Ване Зимину пришлось пересесть со школьной скамьи на жесткое металлическое сиденье плуга.
В плугарях он ходил до конца войны, а потом подался на курсы трактористов. Здесь парню казалось, что он постиг всю премудрость механизатора. Однако настоящую школу пришлось пройти у старого опытного тракториста Ивана Афанасьевича Малкова, к которому Ваню прикрепили вскоре после окончания курсов.
— В нашем деле, парень, главное — смекалка, — поучал Малков.
— Баранкой вертеть и дурак умеет. Машину, брат, умный человек придумал. Вот ты и пойми того человека, что создал для тебя машину. Тогда и служить она будет верой и правдой.
Слова эти не раз повторял тракторист. Другие же механизаторы упрекали подчас Малкова:
Чего ты, Афанасьевич, все парня муштруешь, он ведь и так старается.
— Хочу, чтобы трактористом настоящим стал, — спокойно отвечал на это Иван Афанасьевич.
В том, что из Вани Зимина получится хороший тракторист, он не сомневался. Старые механизаторы обычно не очень-то доверяют своим молодым коллегам. На первых порах они разрешают им лишь очищать машину от грязи, 124
смазывать ее. А к регулировке, перетяжке подшипников — ни-ни, не допускают. Здесь они священнодействуют сами, а молодым милостиво представляют право выступать в роли ассистентов. В этом, пожалуй, есть своя логика, своя закономерность. Что касается Вани Зимина, то он недолго ходил в «подручных». Малков очень скоро понял, что имеет дело со смекалистым и, как говорил механизатор, «настырным» парнем.
Поэтому они стали вскоре равноправными хозяевами. Иван Зимин не только любовно чистил, смазывал машину, но и очень хорошо делал перетяжку подшипников, что являлось тогда вершиной механизаторского мастерства. Он постиг все тонкости регулировок, научился отлично водить трактор. Все, за что ни брался, делал неторопливо, но споро, как и его наставник Иван Афанасьевич.
Давнишняя мечта вроде бы растворилась в повседневных заботах, в тех, что мы называем трудовыми буднями. Растворилась, но не исчезла. Правда, теперь Иван Зимин прекрасно понимал всю наивность ребячьих мечтаний. Но, если говорить откровенно, ему жалко было расставаться с ними. Но раз уж не суждено создать машину, так хоть поработать на ней в охотку. Случай вскоре представился, когда пришла партия новых льнотеребильных машин. На одну из них и попросился Иван Зимин.
С тех пор прошла не одна страда, но как сейчас, до мельчайших подробностей помнит механизатор свой первый выезд на льняное поле.
— Смешно признаться: волновался тогда очень, — признается Иван Алексеевич.
Признание, быть может, впервые высказанное вслух, видно смутило его. Иван Алексеевич на минуту смолк, нахмурился. Лохматые, на взлете, брови сошлись у переносицы и разошлись, будто тень промелькнула на лице.
— Впрочем, что здесь смешного? — спросил он как бы самого себя. — Пустили мы теребил-ку, гляжу, вертятся шкивы, шлепают и шелестят ремни через одну секцию лен проходит, в другой застрял. Глянул назад, остается лен позади невытеребленный. В чем дело? «Стой! — кричу трактористу. — Так не пойдет».
Остановили агрегат. И как пригодились тогда Зимину советы Ивана Афанасьевича Малкова. Зимин вспомнил, как тот не раз говорил ему: «Машину, брат, умный человек придумал. Вот ты и пойми того человека!» Иван Алексеевич Зимин то пускал теребилку в работу, то снова останавливал. Там подтянет ремень, в другом месте ослабит. Мало-помалу все секции машины начали хорошо подбирать и подавать в транспортер лен.
Так на практике постигал Иван Алексеевич тонкости своей новой профессии. В первый сезон вытеребил 119 гектаров льна, в два с лишним раза перекрыв норму. А потом с каждым годом выработка все возрастала — 125, 130, 140, 150 и наконец достигла 180 гектаров, то есть в три с лишним раза больше, чем предусмотрено сезонной нормой. Предел это? «Нет, — говорил Иван Алексеевич, — думаю довести выработку до 200 гектаров».
Да, что ни говори, а лучшие мечты паренька из деревни Маншино все-таки сбываются! Сколько людей освободил он теперь от тяжелого труда! Ведь 200 гектаров — это без малого
семь тысяч человеко-дней, если теребить лен вручную.
Иван Зимин не создал, правда, сам машину. Но зато он, как и сотни подобных ему механизаторов, помог конструкторам усовершенствовать льнотеребилку. О том, что машина старой марки «ЛТ-7» имеет ряд конструктивных недостатков, писал Зимин в специальном льноводческом журнале. К голосам таких вот беспокойных людей, изучивших досконально машины на практике, у нас чутко прислушиваются. Создана, например, новая льнотеребилка, на которой установлены цепной транспортер и шкивы более совершенной конструкции. В колхозе «Ленинский путь» ее закрепили за лучшим механизатором—Иваном Алексеевичем Зиминым.
Со стороны глядеть кажется все простым и понятным. На большой скорости по полю идет трактор. На буксире —• льнотеребилка. На ней сидит машинист Иван Алексеевич Зимин и внимательно следит за действиями машины, то быстро приподнимает теребилку, то вдруг опускает на самую землю.
Равномерно гудит кардан, шумит транспортер, и, скатываясь веером со скатного стола, ровной лентой ложится на влажную землю вытеребленный лен. Иван Алексеевич изредка переглядывается со своим напарником, а агрегат делает крут за кругом, теребит лен и в хорошую, и в ненастную погоду. Многие машинисты льнотеребилок могут не поверить: здесь, мол, чточнибудь не так, в условиях, например, ненастного лета, невозможно вытеребить лен на большой площади. А если Иван Зимин все-таки вытеребил, то, видимо, он знает какой-нибудь секрет.
Так ли это? Иван Алексеевич человек откровенный, секретов скрывать не любит.
— Нет у меня этих самых секретов, — смеется он. — Просто мы с Николаем используем в работе каждую минуту.
И в самом деле, в колхозе «Ленинский путь» часто можно наблюдать такую картину. Идет дождь, а посреди поля стоит трактор с теребил-кой. В кабине трактора двое — Иван Зимин и Николай Большаков. Они ждут терпеливо час, другой. Прошел дождь, Иван Алексеевич подтягивает ремни потуже, а тем временем ветром продует и подсушит стебли льна, узлы машины. И снова агрегат в движении, снова лентой ложится вытеребленный лен. А когда погода стоит погожая, работают при свете фар др глубокой ночи.
— Работать иначе нельзя, совесть не позволяет.
Это не просто красивая фраза. Именно совесть труженика не дает Ивану Зимину покоя, заставляет трудиться в полную меру своих сил.
— А он мог бы сейчас работать спокойней,— рассказывает жена Ивана Алексеевича Зинаида Сергеевна. — Ведь на теребилке он по своей воле трудится. А вообще-то бригадиром тракторной бригады в колхозе утвержден. Оклад приличный имеет, а поди-ка уговори его: как уборка наступает, сдает свои полномочия помощнику и на теребилку. Что поделаешь с таким упрямым?
При этом в голосе Зинаиды Сергеевны чувствуется столько тепла, столько любви, что становится понятным, она не осуждает, а, наоборот, гордится своим мужем.
— У Ивана Алексеевича и Зинаиды Сергеевны двое детей: мальчик и девочка, оба голубоглазые, в отца. Накануне нового учебного года Иван Алексеевич вернулся с работы пораньше. Наутро должна была пойти первый раз в школу его дочь. Сидели допоздна, и чувствовалось в семье приподнятое, праздничное настро-ние. Что думал о своих детях Иван Зимин? Может, о том, как быстро они растут, а может, о другом, о самом заветном: им, его милым малышам, наверняка удастся воплотить в жизнь все лучшие мечты Ваниного детства.
новогодняя БЫЛЬ
ЭДакануне Нового года меня пригласил к себе редактор.
— Вот что, — начал он. — Напиши-ка, дружище, рассказ для газеты в новогодний номер. Этакое что-нибудь веселое, интересное...
В разгар нашей дружеской беседы вошел секретарь редакции. Он, что называется, с ходу подхватил мысль редактора и активно включился в разговор.
— Да, да! Позарез нужен новогодний рассказ, остросюжетный, захватывающий. Ну, скажем, Дед Мороз шагает по городам и весям. Тут можно заглянуть к нашим передовикам или разрешить конфликт между влюбленными... Как это поется в песенке: «Пять минут, пять минут... Помиритесь все, кто в ссоре...»
Я с завистью слушал секретаря. Он низвергал на меня поток интереснейших тем, остроконфликтных сюжетов...
— А что, — вдруг неожиданно повернул секретарь, — если написать новогодний фельетон? Не разоблачающий, разумеется, а такой веселый, поощряющий, вроде юморески с сердечными пожеланиями передовикам производства.
— Нет, — категорически запротестовал редактор. — Фельетон не пойдет. Рубрика не та. Надо все-таки рассказ...
— Или вот что, — продолжал свою мысль секретарь. — Напиши-ка в новогодний номер приключение минутки. Здорово? А? Помнишь, как сказал об этом поэт. —- И он с пафосом прочитал наизусть:
— Столетья разрешаются от бремени, Плоды приносят год и день и час. Пока у нас в руках частица времени, Пускай оно работает для нас!
Я был совершенно подавлен эрудицией, безудержной фантазией секретаря и с завистью подумал: «Вот у кого нам, начинающим литераторам, надо учиться».
— Значит, договорились? — поднимаясь из-за стола, сказал редактор. —• Через три дня приноси рукопись.
Он дружески хлопнул меня по плечу, крепко пожал руку и бодро напутствовал:
— Желаю творческих успехов! Жду. Через три дня!
Да, думал я, направляясь домой. Хорошо им, то есть редактору и секретарю: «Через три дня». А каково мне?
Нужно ли говорить, что я провел без сна дде бесплодные тревожные ночи. Чего я только не делал! Отправлял в путешествие по городу и районам Деда Мороза и Снегурочку — не получается, жидковато. Добавил в их компанию красавицу Зиму, сказочных Снежинок и на всякий случай Снеговика. Рассадил их чин по чину, в новенький комфортабельный автобус, из числа тех, что курсируют по нашим дорогам. Ничего вроде. Намечалась стройная композиция, интересный сюжет. Но... без конфликта. А где его взять? Разве что обрушиться на наше
го дворника — тетю Дуню, которая по забывчивости оставила на проезжей части дороги метлу и деревянную лопату?
Нет, мне явно не везло. Я перебирал в памяти новые темы, сюжеты, которыми меня снабдили в редакции. В конце концов решил написать приключение минутки. Вооружился канцелярскими счетами, логарифмической линейкой и, следуя совету секретаря редакции, со скрупулезной точностью стал подсчитывать, сколько и какой продукции производят в минуту различные городские предприятия и учреждения, колхозы и совхозы. Цифры получались внушительные, солидные. Они вызвали у меня восторг и еще больше укрепили уважения к людям труда.
Но тут меня снова одолели сомнения. «Стоп, — твердо сказал я себе. — Так дело не пойдет. А что если редактору не понравится статистика». Я дрогнувшей рукой перечеркнул на бумаге колонки цифр, что стояли твердые, неопровержимые, как сам факт.
От тяжелых дум и творческих мучений отвлекла меня моя младшая дочь Машенька.
— Папа, — спросила она. — Ты что пишешь?
— Рассказ, — без особого воодушевления изрек я.
Машенька запрыгала и радостно захлопала в ладоши.
— Напиши, папа, про Новый год... —Потом подумала и быстро затараторила, загибая пальчики на своей руке. — И про Деда Мороза, и про Снегурочку, и про елочку нарядную-нарядную...
Этот разговор услышала и моя старшая дочь Уленька. Ей тоже захотелось высказать свои
пожелания. Но, поскольку она была старше и носила уже пионерский галстук, заявка ее не в пример Машенькиной была серьезней, более значимой.
— Папочка, напиши лучше рассказ о дружбе...
— Вы чего здесь расшумелись, не даете отцу работать? — спросила вдруг Наташа, моя жена, заглянув к нам в комнату.
— Мы не шумим, — вступился я за Машеньку и Уленьку, — просто обсуждаем тему будущего рассказа! —Машенька предлагает написать про Новый год...
—Про Деда Мороза, про Снегурочку, — подсказала Машенька.
— А я о дружбе, — добавила Уля.
— Ну тогда примите и мою заявку — на рассказ о любви.
И они, мои первые читатели и судьи, тихонечко вышли из комнаты. В отличие от редактора и секретаря они не навязывали мне острых сюжетов и заковыристых конфликтов, а просто предоставили возможность спокойно работать. А их шутливые заявки вдруг глубоко взволновали меня. Любовь, дружба! Что может быть прекраснее! Не будь всего этого, разве сидел бы я сейчас здесь за письменным столом?..
...Это было ровно двенадцать лет назад в канун Нового года. Зима тогда, вернее ее первая половина, была капризной и неустойчивой. До самого января легкие морозы сменялись оттепелями, снег едва покрывал крыши домов, скверы, окрестные поля. Я, после демобилизации из армии, работал тогда в таксомоторном парке на такси. Был я в то время ровно на двенадцать лет моложе, а потому беспечно и весело разъез
жал по родному городу. Случалось, наведывался и в другие города, далекие поселки, колесил не только по асфальту, но и по глухим проселкам. Но куда бы ни ехал, откуда ни возвращался, маршрут мой всегда пролегал мимо проходной фабрики или подъезда дома, где встречал милую мою Наташу.
В тот вечер она кончала работу в 9 часов, я —в 11. Мы заранее договорились встретить Новый год вместе у 1праздничной, нарядной елки.
Помню, как медленно тянулось в тот день время. Горя от нетерпения, я на предельных скоростях носился взад и вперед по улицам, а стрелки на всех гцродских часах, и на моих тоже, казалось, двигались от этого еще медленней. К вечеру подул ветер, закутерьмили в воздухе снежинки. Я подъехал к нашей стоянке. У будки диспетчера собрались ребята и, отчаянно жестикулируя, что-то доказывали молодому человеку, рядом с которым молча стояла хрупкая женщина.
— Да пойми, дорогой, — убеждал мужчину мой друг Сашка Стариков, которого за окладистую черную бороду ребята просто называли «дедом». — Туда сейчас не проедешь: метель, пурга разыгрывается. За город страшно нос высунуть — заметет, и следу не останется.
Те двое, оказывается, просили отвезти их в поселок совхоза «Заречный». Он стоял вдали от больших дорог. В хорошую погоду доброго хода туда — час, от силы — полтора, не больше. Но в данном случае ребята были правы: в разыгравшуюся непогоду опасно пускаться в такой рейс. Остались на стоянке лишь я да незадачливые мужчина и женщина.
— Может, вы нас подвезете? — с мольбой в голосе обратился ко мне мужчина. — Понимаете, досрочно из больницы жену вот выписал. Новый год ведь... Дома ждут. — Наташа, — обращаясь к своей спутнице, сказал он, — ну скажи что-нибудь.
Сашка, «дед», был прав. За городом уже разыгралась настоящая метель. В свете фар в причудливом, фантастическом вихре кружили твердые, зернистые снежинки. Движение на дороге уже замерло, хотя она была еще сносной. Только изредка машина прыгала по небольшим твердым сугробам.
Спустя час, мы подъезжали уже к поселку совхоза «Заречный». А еще минут через двадцать моя машина неслась уже в обратном направлении — в город, к моей Наташе... Я так размечтался о ней, что на одном из крутых поворотов с ходу плюхнулся с машиной в заполненный снегом кювет. К счастью, задние колеса оказались на твердой почве, и мне удалось сравнительно легко выбраться снова на дорогу.
Я торопился. А дорога становилась все трудней и трудней. Там, где час назад машина проходила беспрепятственно, теперь приходилось чуть ли не на каждом шагу пробиваться через огромные сугробы. Я мельком взглянул на часы. Что случилось со временем? Стрелки часов, казалось, двигались все быстрее и быстрее: десять часов, четверть одиннадцатого, половина одиннадцатого... А спидометр не показывает еще и трети пути.
Ровно в одиннадцать, когда машина с трудом прошла засыпанную снегом седловину дороги, мотор вдруг «чихнул» и неожиданно заглох. Я выскочил из кабины, и тотчас пронизы
вающий, обжигающий морозом и колючим снегом ветер продул меня насквозь. Подняв капот машины, я стал ощупывать горячий мотор. Попытки завести его снова ни к чему не привели — вышел из строя бензонасос. А морозный ветер уносил остатки тепла машины, сыпал под капот пригоршни крупчатого снега, вода в радиаторе быстро охлаждалась. Пальцы рук, в которых я держал ключи, чтобы отвернуть насос, стали удивительно непослушными на морозе.
Отказавшись наконец от попытки снять насос, я открыл краники для спуска воды и забрался в кабину, чтобы хоть немного отогреться и укрыться от злого, леденящего душу ветра.
Часы показывали полночь. В такой необычной обстановке мне и пришлось встречать Новый год. Поеживаясь от холода, который забрался уже и в кабину, я думал о своей Наташеньке.
А вокруг выл и свирепствовал ветер. С правой стороны машины все выше и выше поднимался снежный сугроб. Чтобы не окоченеть от холода и не дать ветру засыпать машину, я достал лопату и принялся не менее яростно, чем ветер, швырять во все стороны снег. /Выдохнусь — отдохну. И снова — за работу. Время двигалась медленно-медленно.
Потом ветер стал стихать. Лишь кое-где по заснеженным волнистым полям мчались тени поземки.
Показались звезды, золотистый рог месяца. Я снова вышел из машины и почувствовал, что стало еще холоднее. Мои кирзовые сапоги стали твердыми, негнущимися. Я потоптался у машины, чтобы согреться, но мороз все больше и
больше сковывал мои движения. Клонило ко сну. У меня хватило сил лишь на то, чтобы снять в кабине сапоги, растереть одеревеневшие пальцы ног и снова переобуться.
Потом, глядя на золотистый рог месяца, я снова стал думать о Наташе. И вдруг увидел ее. Сначала заблестели звездочками ее глаза. Другие звезды задружились роем, рассыпались и засверкали драгоценными камнями на ее белой пушистой одежде. Месяц опустился ниже и кокошником увенчал пышные Наташины волосы над высоким чистым лбом. Ни дать, ни взять — вылитая Снегурочка из волшебной сказки. Мне стало весело. Радостно забилось сердце. «Наташа! Наташа!» -—позвал я. Но она исчезла. Зато вдруг услышал ее тревожный голос.
— Боря! Боренька! Очнись!
Я с трудом открыл глаза и увидел над собой встревоженное, заплаканное лицо моей милой Наташи. А рядом с ее лицом — заиндевевшую бороду и веселые глаза Сашки Старикова.
— Жив! — крикнул он. — Жив, Борька!
«Что за чертовщина», —- подумал я и огляделся. Было уже совсем светло. Алым багрянцем алел восток. Я увидел в сугробах свою машину, а чуть подальше — нашу старенькую вездеход-летучку. Кроме Наташи и Сашки Старикова узнал еще механика Петю Соколова. Четвертый человек тоже был мне знаком, но вспомнить, кто он, сразу не смог. Я попытался подняться. Но тут, к своему удивлению, обнаружил, что лежу окутанный какими-то шерстяными одеялами, а подо мной поскрипывают пружины сидений...
В комнату вбежала Машенька.
— Папа, ты не написал еще про Снегурочку и Деда Мороза?!
— Пожалуй, написал. Зови маму и Улю.
Когда все собрались, я прочитал свои наброски. По выражению глаз Машеньки, можно было определить, что она не совсем удовлетворена услышанным.
— А, Наташа — это Снегурочка? Да? — стала расспрашивать Машенька.
Я утвердительно кивнул головой. Машенька продолжала:
— А дядя Саша с бородой — Дед Мороз? Только про елочку ты ничего не написал, папа.
— Была, Машенька, и елочка. Она стояла на окне в больничной палате, куда привезли меня в новогоднее утро Снегурочка — Наташа и Дед Мороз — Саша. Убирала елку сама Снегурочка.
— А как же нашли тебя, папа! — спросила Уля.
Я посмотрел на Наташу. История двенадцатилетней давности взволновала ее. Но она сидела задумчивая, притихшая. На вопрос Ули она ответила за меня:
— Об этом я вам сама как-нибудь расскажу, дети...
Сегодня должен представить рассказ редактору. У меня его -нет. Придется сдать эту рукопись. Здесь нет рассказа, но зато нет и вымысла. Все, что написано — правда. Одна только правда.
ПОДВИГ МАТЕРИ
Им не забыть своих детей, Погибших на кровавой ниве...
Н. А. Некрасов.
0дного за другим проводила Феоктиста Федоровна своих сыновей на фронт: сперва старшего — Костю, а потом и младшего — Александра.
Шла с ним до самой станции, не спуская с сына глаз. Когда настала последняя минута расставания, припала к груди младшенького и никак не могла оторваться.
— Ну, чего вы, маманя... Успокойтесь... Мне пора уже...
— Береги себя, Сашенька. Костя-то ушел, как в воду канул...
— Вы, маманя, сами себя поберегите. Вся наша работа на вас ляжет. Выдюжите?
— Выдюжим, сынок, выдюжим...
— А мы постоим за вас, маманя!.. — уже на ходу крикнул Александр, подняв руку и бегом направляясь к эшелону; вагоны состава загремели буферами и медленно поплыли мимо Феоктисты Федоровны.
Таким и запомнила она сына в последнюю (минуту расставания: бегущего с высоко поднятой рукой. А еще — его слова: «Постоим за вас, маманя!»
На минувшую войну мы, особенно нынешнее молодое поколение, смотрим через призму далеких лет. Многое уже стирается в памяти, кажется не таким страшным, жестоким. Для Феоктисты Федоровны и ее сверстниц война осталась в памяти такой, какой и была на самом деле: жестокой, неумолимой. Она требовала огромного напряжения духовных и физических сил, она требовала пота и крови, требовала жертв. В то время, как сыновья, поднимаясь, шли в атаку или стояли насмерть, сдерживая натиск заклятого врага, а муж — Василий Алексеевич — рыл окопы, возводил укрепления в прифронтовой полосе, Феоктиста Федоровна выполняла ревностно свою работу на ферме и всякую другую — в поле и по колхозу, которая раньше требовала крепких мужских рук.
Никто не знал в те суровые, тревожные го* ды, когда спала, когда отдыхала (и отдыхала ли?) Феоктиста Федоровна. .Как всегда, спозаранку она уже на ферме. Как всегда, доярки слышат ее негромкий, спокойный голос. Иногда им чудилось, что Журавлева вроде бы разговаривает сама с собой и кому-то отвечает: «Выдюжим, выдюжим».
Занимаясь делами, она и впрямь часто приговаривала себе этим словом и вспоминала сыновей, особенно Александра, которого всегда немного больше жалела, может, потому, что был он у нее младшим.
— Ты чего' это, Федоровна? — спросят, бывало, у нее.
— Да так, сыночков вспомнила, младшенького свого... Как там они?
...Беда не обошла дом Журавлевых. С фронта пришло известие, что погиб Костя.
Судьба приготовила Феоктисте Федоровне не одно только это испытание. Искалеченным и больным вернулся с трудового фронта Василий Алексеевич. Горя и забот в доме прибавилось.
Погоревала, погоревала Феоктиста Федоровна и принялась за дела: надо было выхаживать мужа, которому врачи предрекли инвалидность и полную неработоспособность.
— Оставь меня, мать, в покое, — видя, как бьется жена, не раз говаривал Василий Алексеевич.
— Ничего, ничего, Алексеич, ты знай себе лежи, укутывайся потеплее. А я тебя сейчас молочком парным попою, тебе и полегчает...
Мало-помалу, заботливо ухаживая за больным, поставила-таки Феоктиста Федоровна своего мужа на ноги. Вскоре он пришел к ней на ферму и стал потихоньку впрягаться в работу. Так и работали вдвоем без выходных, без отпускных в это суровое, тяжелое время.
Гнулась под тяжестью забот и работы Феоктиста Федоровна, как былинка в поле под тугим напором ветра. Гнулась, но не сломалась, выстояла. Выстояла именно благодаря работе, в которой видела смысл своей борьбы за общее дело, смысл своего существования. В суровые дни испытаний работа для нее стала первой необходимостью. Она помогала переносить и горечь разлуки, и всю тяжесть невыносимого материнского горя, что свалилось на нее одно за другим черными известиями о гибели сыновей.
— Да кабы не работа, разве выдюжила бы? — говорит Феоктиста Федоровна. — Оно до сих пор в сердце ноет, не дает забыть...
Так выразилась она о своем невыплаканном, памятливом горе.
А труд? Он стал для нее первой потребностью души.
Вот уж и на пенсию вышла. В колхозе ей — уважение и почет. Могла бы, казалось, и не работать, а отдыхать. Но она, как и все тридцать с лишним лет, торопилась на ферму, брала подойник, и вот уже ее неторопливая, спокойная речь выделяется из общего шума трудового ритма фермы.
Говорят, что она не ставила мировых рекордов. И, вообще, ничем вроде бы в жизни не отличилась. А я не верю в это! Вот у меня в руках бумага, карандаш. Считаю. Доярка Феоктиста Федоровна Журавлева надоила от своих коров свыше миллиона килограммов молока! Не знаю, право, какой абсолютный мировой рекорд зафиксирован по этой части, но твердо уверен, что и миллион миллиону — рознь. Кто измерит, кто высчитает, сколько при этом было потрачено сил души, энергии и трудя? И если говорить о рекорде, то к тому миллиону килограммов молока надо прибавить еще сотни тонн сена, силоса, соломы, что переносила на ферме своими руками Феоктиста Федоровна еще задолго до того, как появились в колхозах механизированные дворы и стали внедряться молочные комплексы.
Говорят, она не совершала в жизни подвигов.
А в маленьком домике, что стоит в селе Татищеве за посадом на пригорке, бережно хранится небольшой лоскуток серой, военной бумаги, на котором отпечатано: «В бою за социалистическую Родину, верный военной при
сяге, проявив геройство и мужество, был убит ваш сын Александр Васильевич Журавлев...» Убит сын — кровь от крови ее, плоть от плоти ее. И разве в том жестоком бою не была убита частица ее плоти? Разве не пролилась ее кровь? Так какой же мерой измерить подвиг матери?
Есть на Украине под Киевом небольшой городок Стеблев. Жители этого городка, печально известного Феоктисте Федоровне из «похоронки», любовно ухаживают за солдатской могилой, где лежит и ее сын. Недавно здесь был открыт памятник погибшим воинам-героям. Он лаконичен и величественен, как сам подвиг. На мраморном постаменте — обнаженная по пояс, грозная фигура воина с гранатой в руке. Своей широкой грудью он как бы прикрывает и маленький городок Стеблев, и широкие разливы золотой пшеницы вокруг городка, и всю необъятную ширь земли, которую отстояли в боях ее сыновья. Рядом с бронзовой фигурой солдата высится темно-красная плита из гранита, увенчанная алой пятиконечной звездой. На плите золотом сверкают имена героев. Одно из них принадлежит сыну скромной труженицы из села Татищева — Феоктисте Федоровне Журавлевой, чья кровь на полях сражений пролилась дважды...
...Феоктиста Федоровна часто прислушивается к ребячьим голосам. Иногда ей почудится то голос Кости, то заливистый смех младшенького — Саши. И тогда сердце ее отойдет, радостно затрепещет.
СОДЕРЖАНИЕ
Годы грозовые
В алом свете зари........................ 5
Катюша.................................. 15
Самолет не вернулся на базу............. 21
Клятва солдата ......................... 31
Партийный билет № 1837765 .............. 37
Что ты можешь дать людям?
Путь к вершине.......................... 57
Что ты можешь дать людям?............... 81
Видеть землю обновленной................ 90
Земля откроет свои секреты..............101
Поиск продолжается..................... 116
Мечты воплощаются в жизнь...............123
Новогодняя быль.........................130
Подвиг матери...........................139
Николай Игнатьевич Головатыи
КЛЯТВА СОЛДАТА
Редактор М. Глазков
Художественный редактор Д. Поздняков
Художник Н. Миролюбов
Технический редактор В. Панфилова
Корректор Т. Тишкевич
Сдано в набор 27 февраля 1973 г. Подписано к печати 10 мая 1973 г.
АК00107. Формат бумаги 70X90/32. Бумага типографская № 2 Усл. печ. л. 5,27. Уч.-изд. л. 4,98. Заказ 868. Тираж 5000. Цена 26 коп.
Верхне-Волжско^ книжное издательство Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Ярославль, ул. Трефолева, 12.
Типография № 2 Росглавполиграфпрома, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.