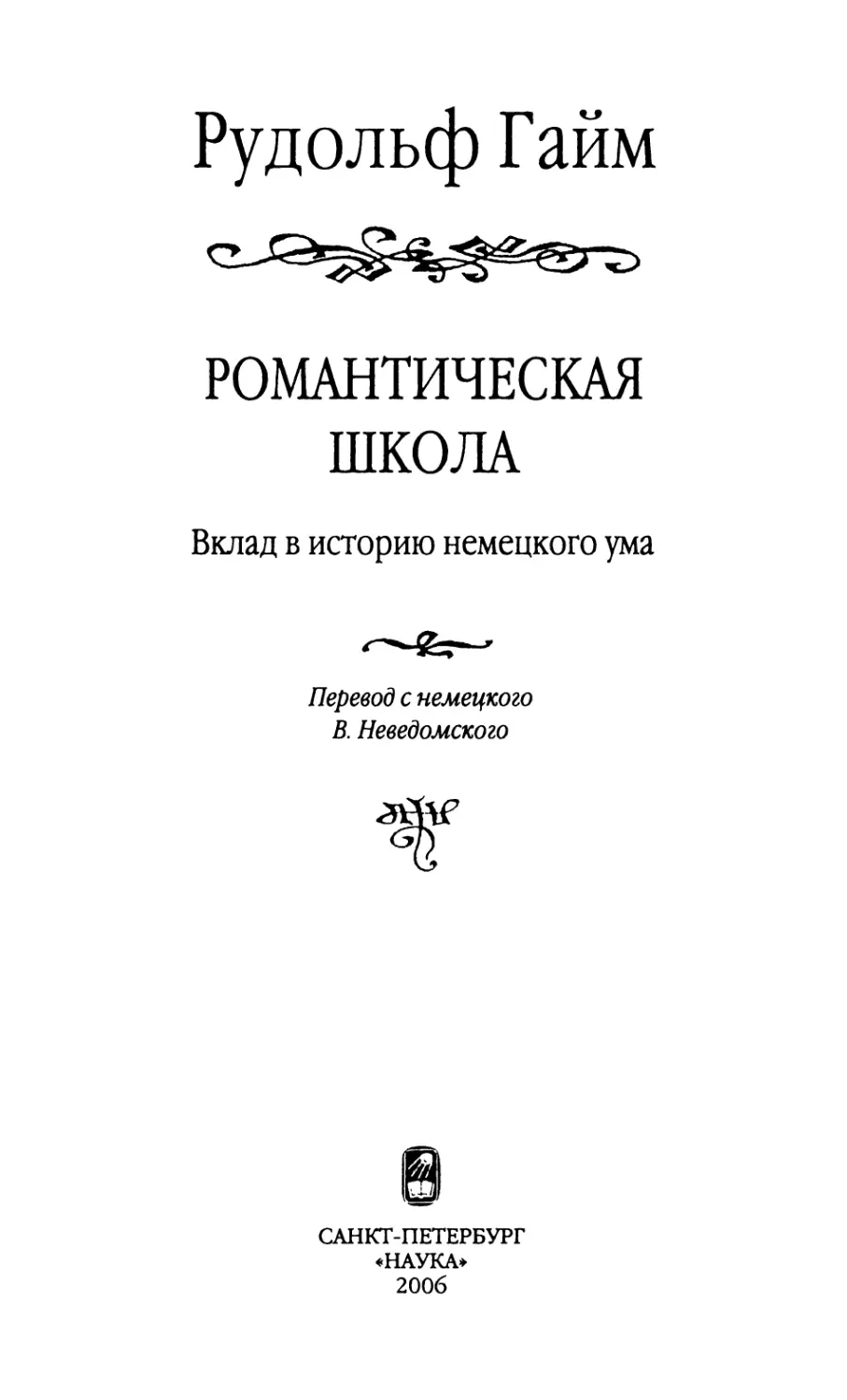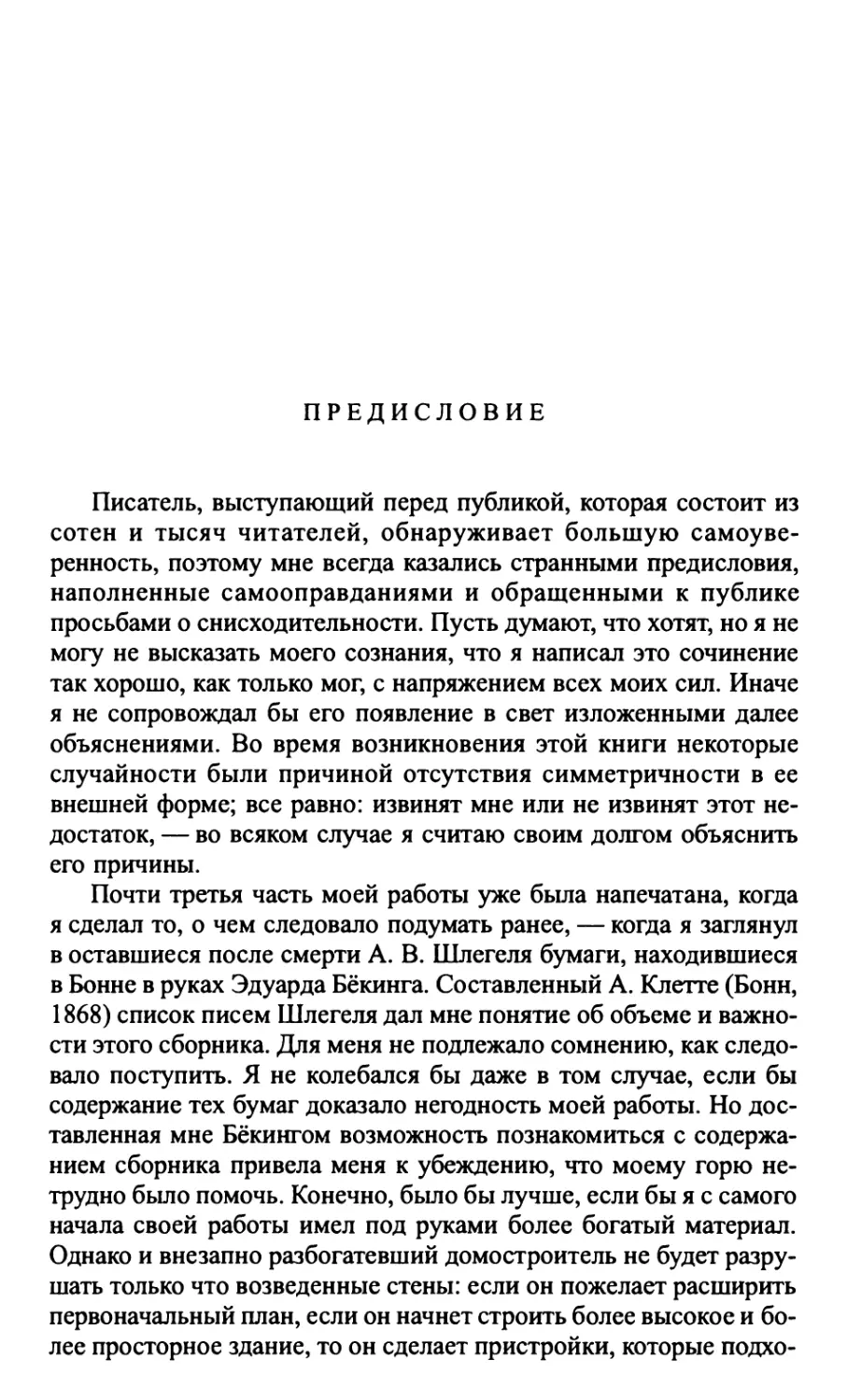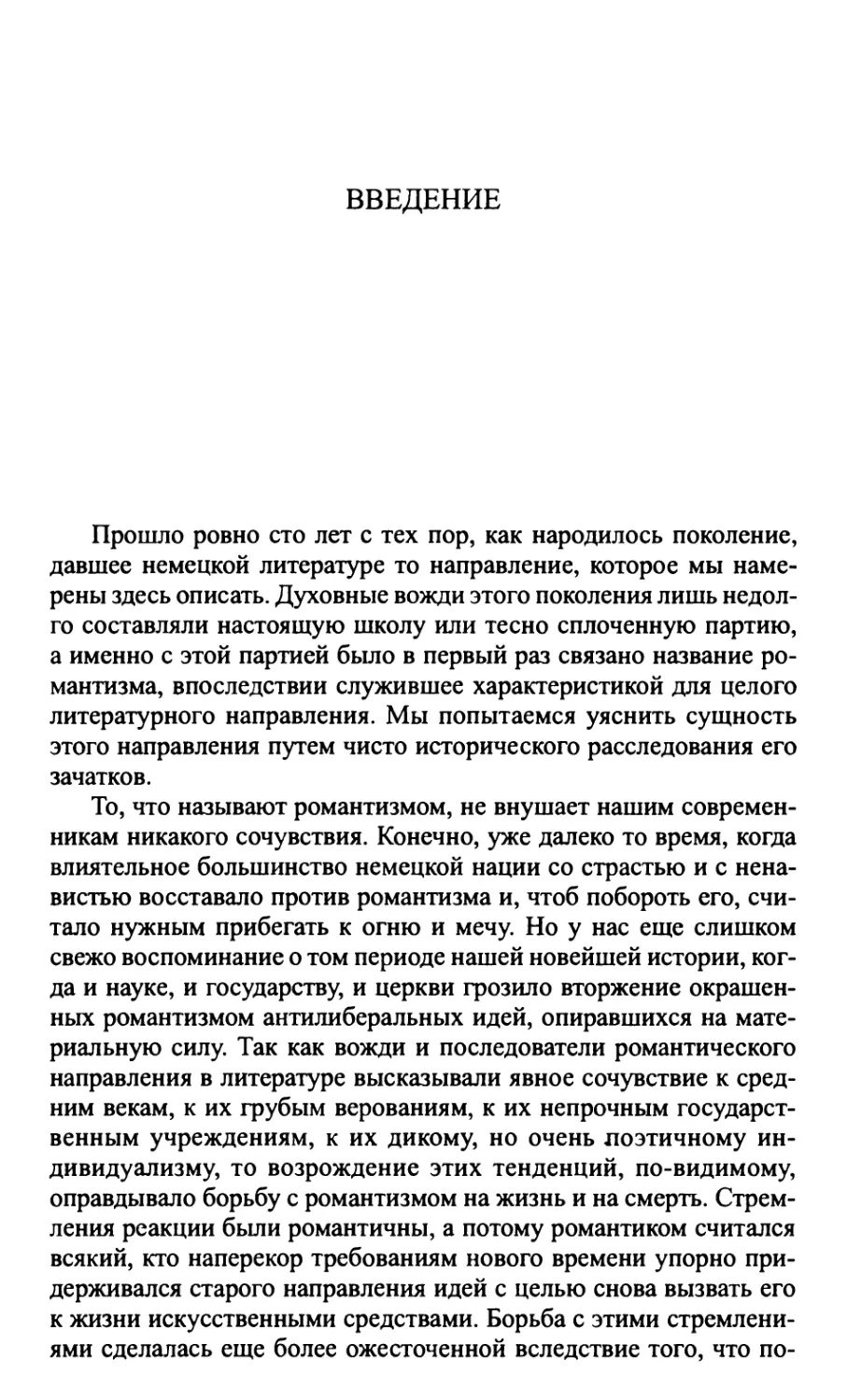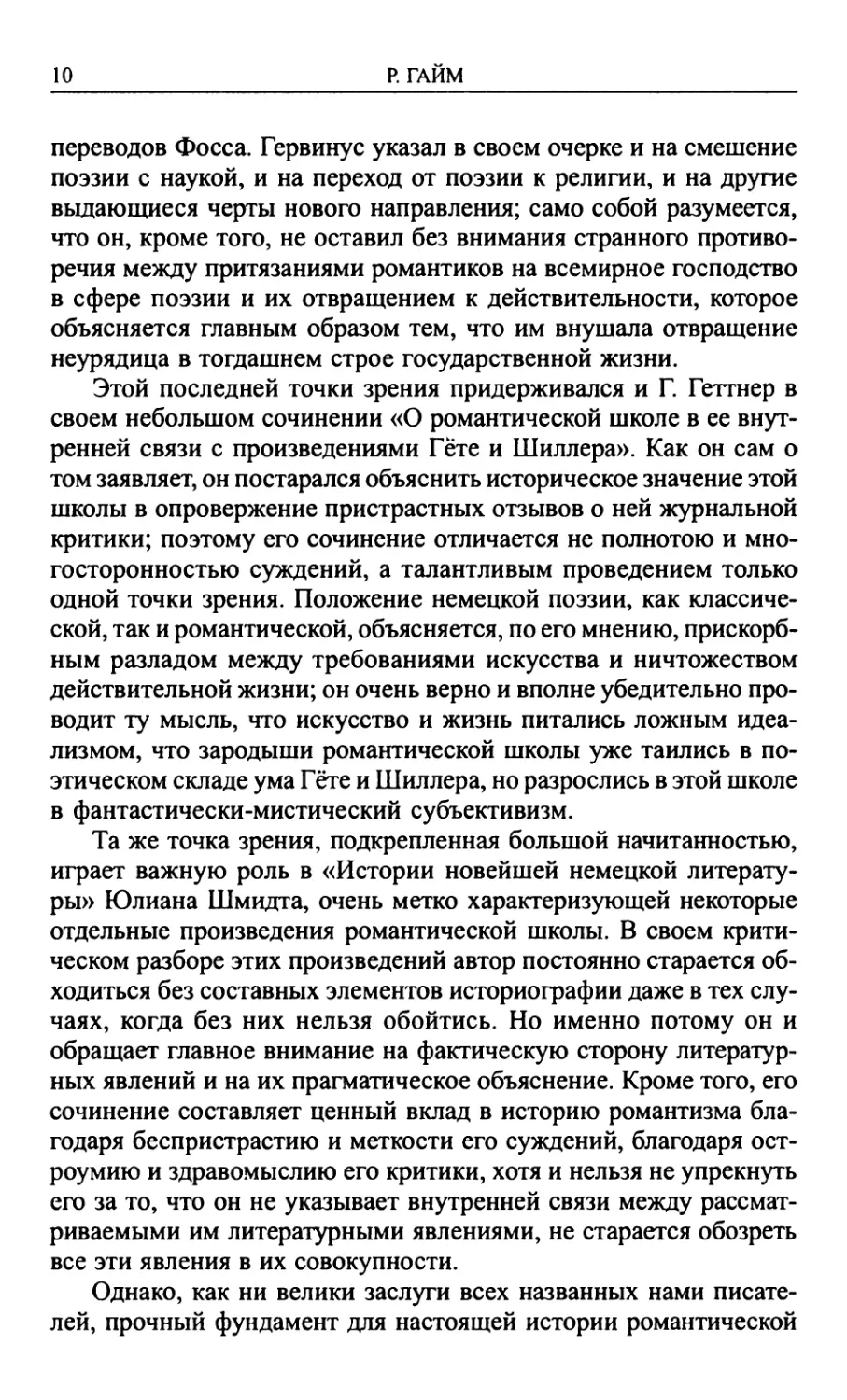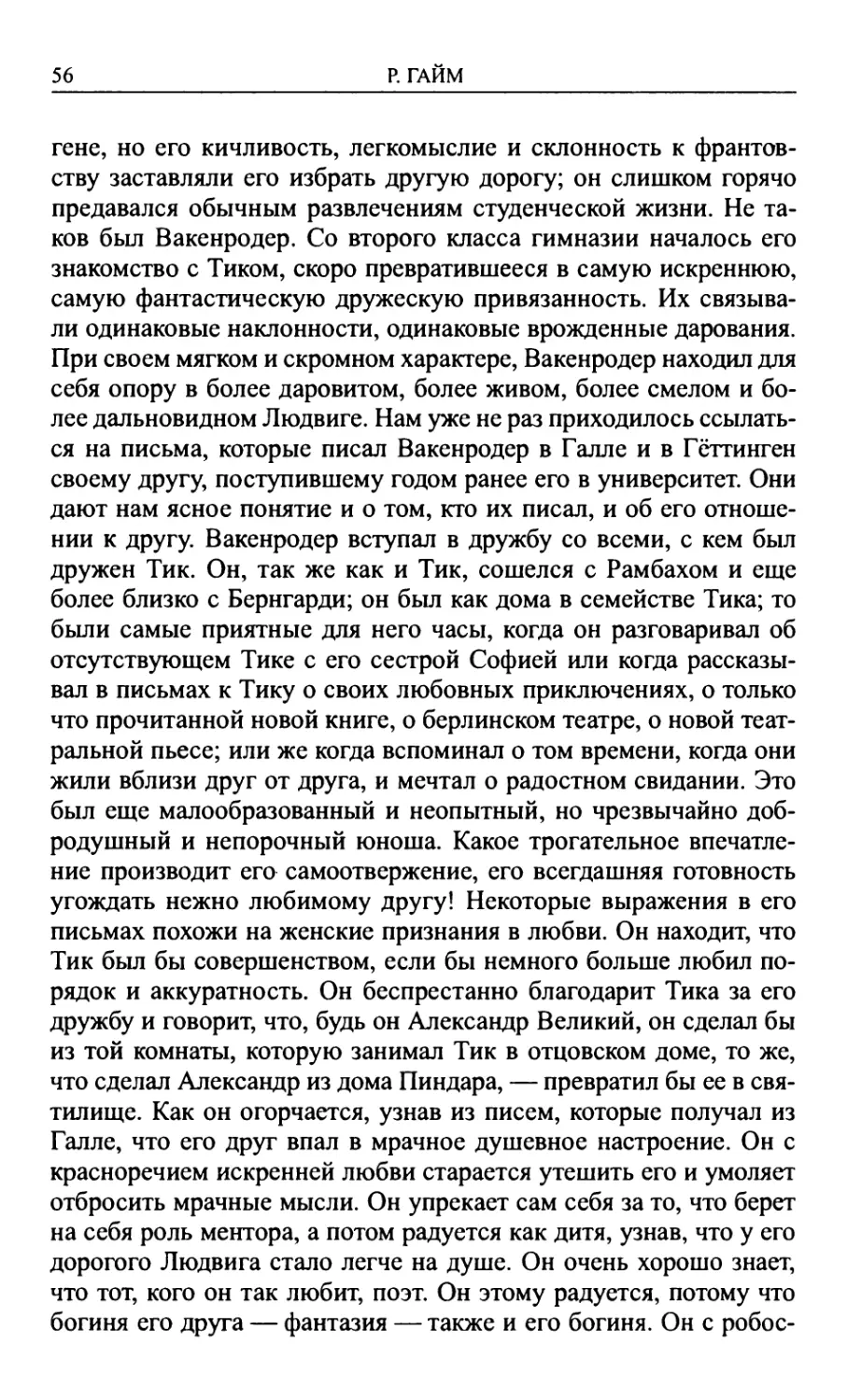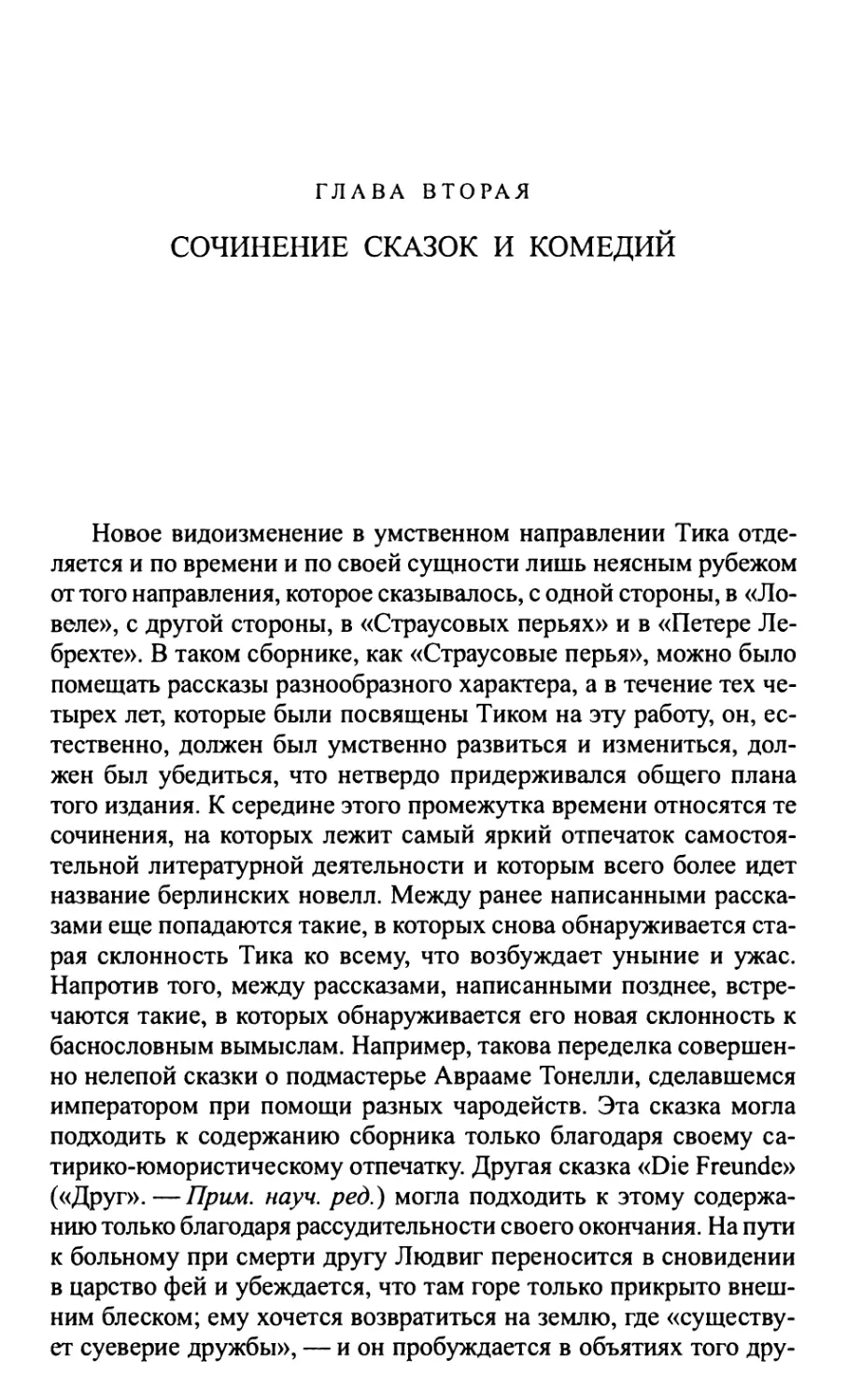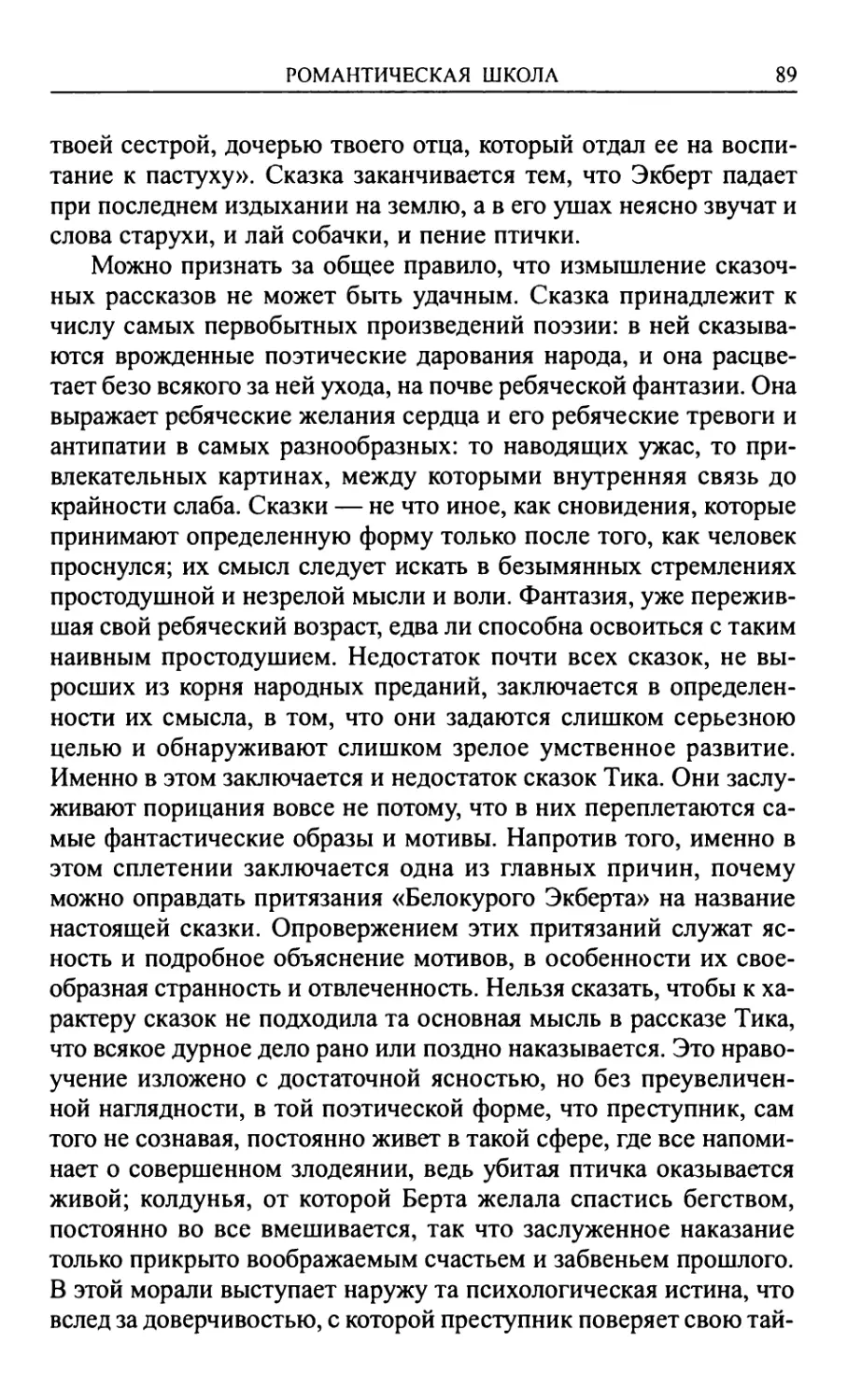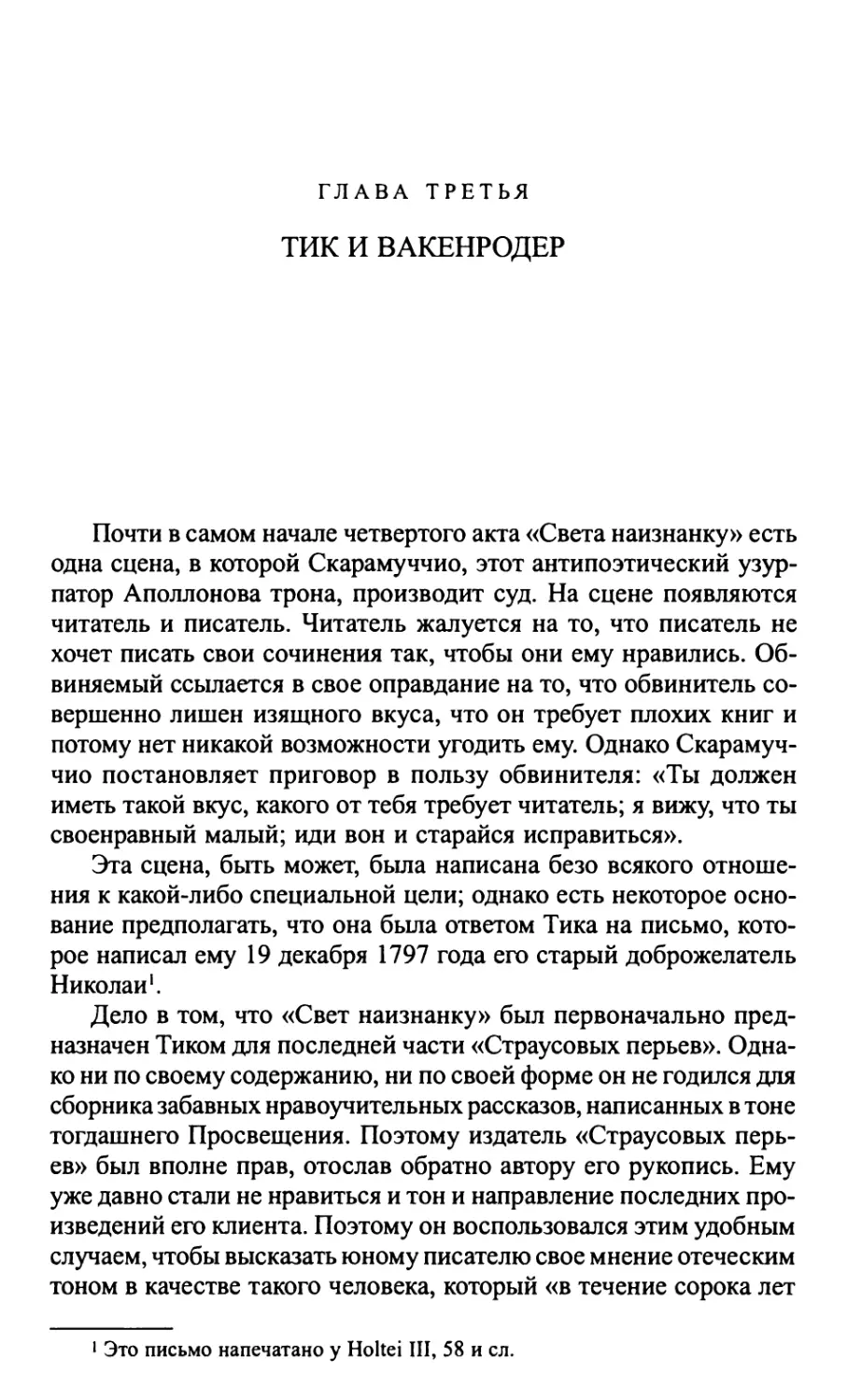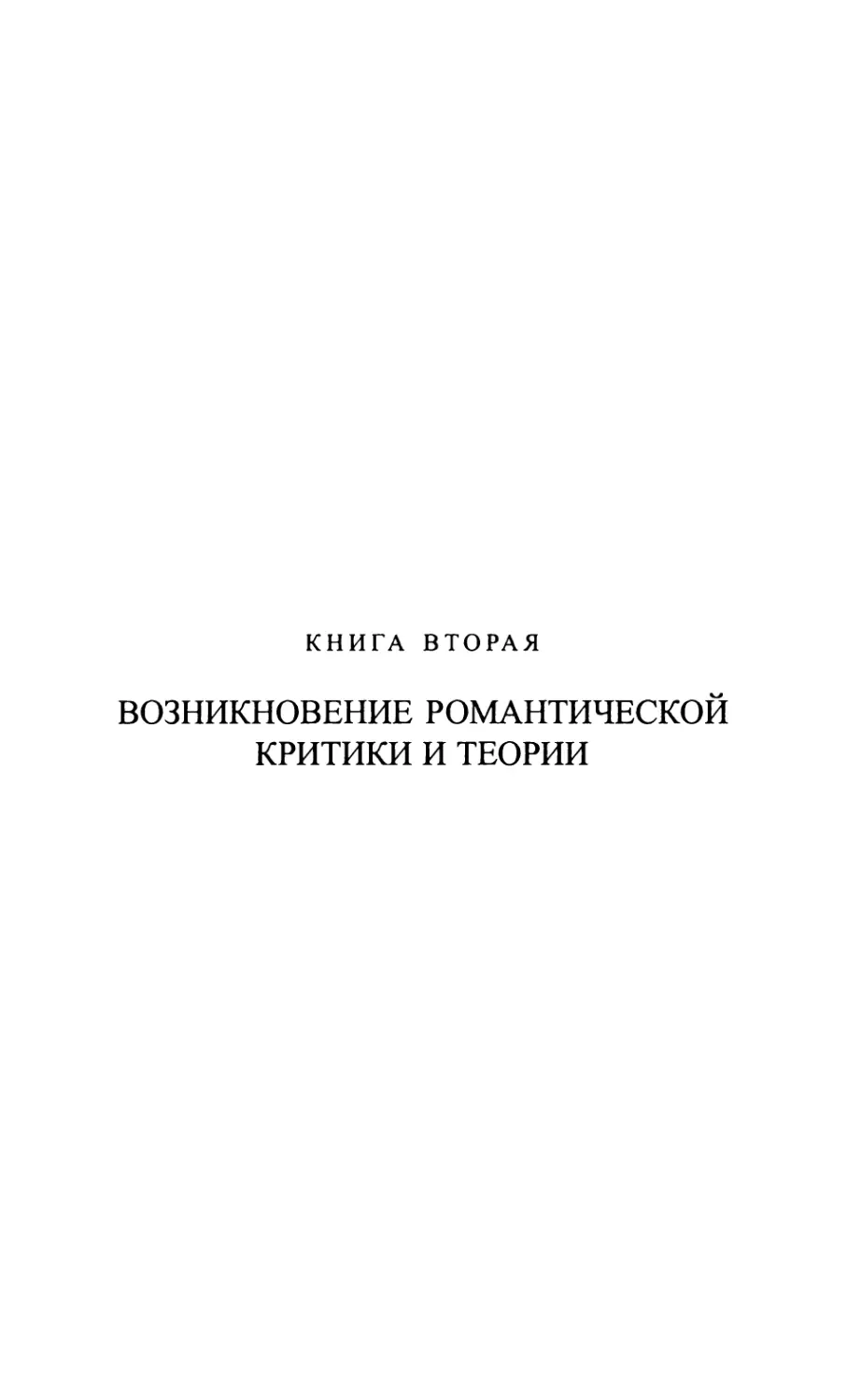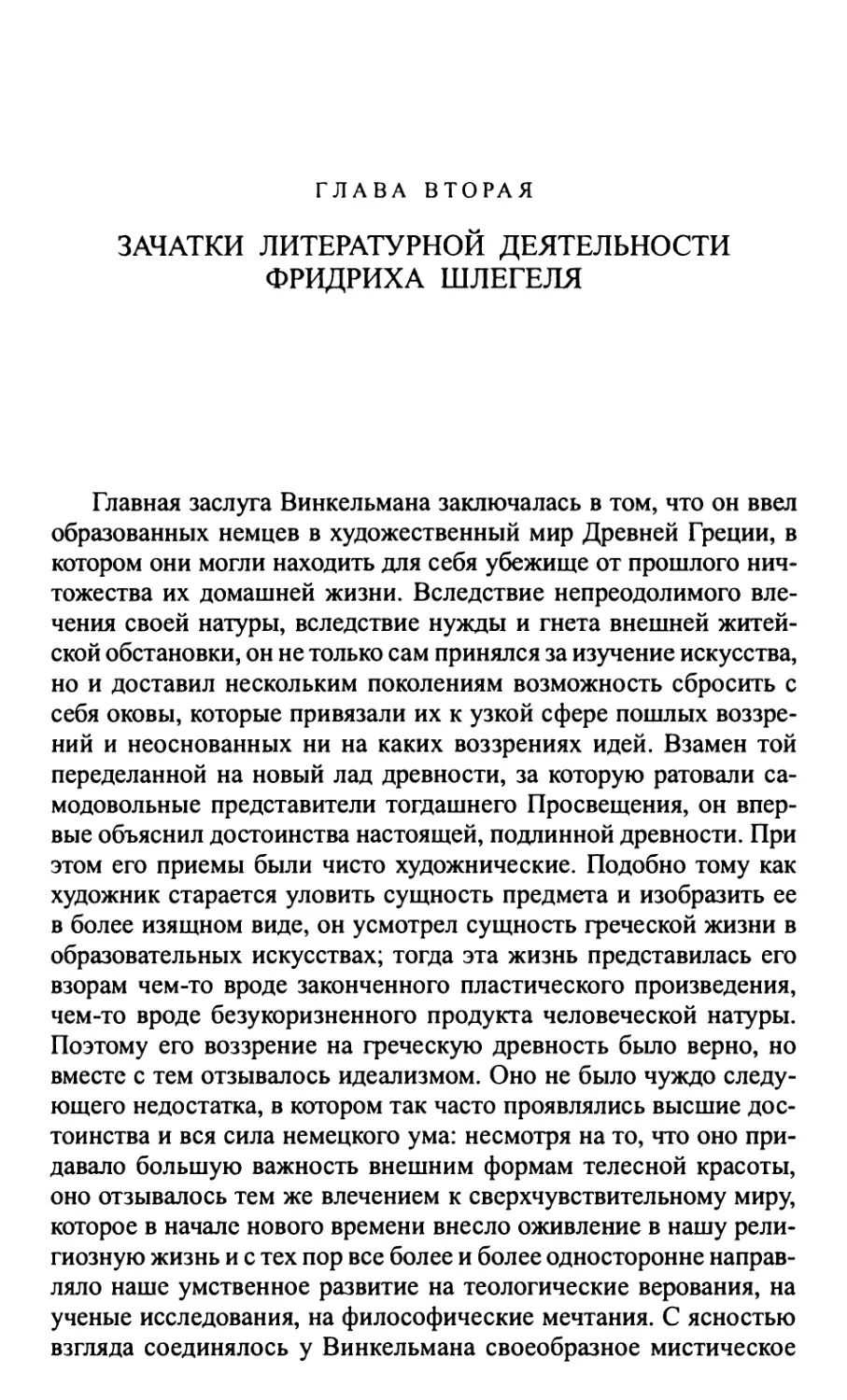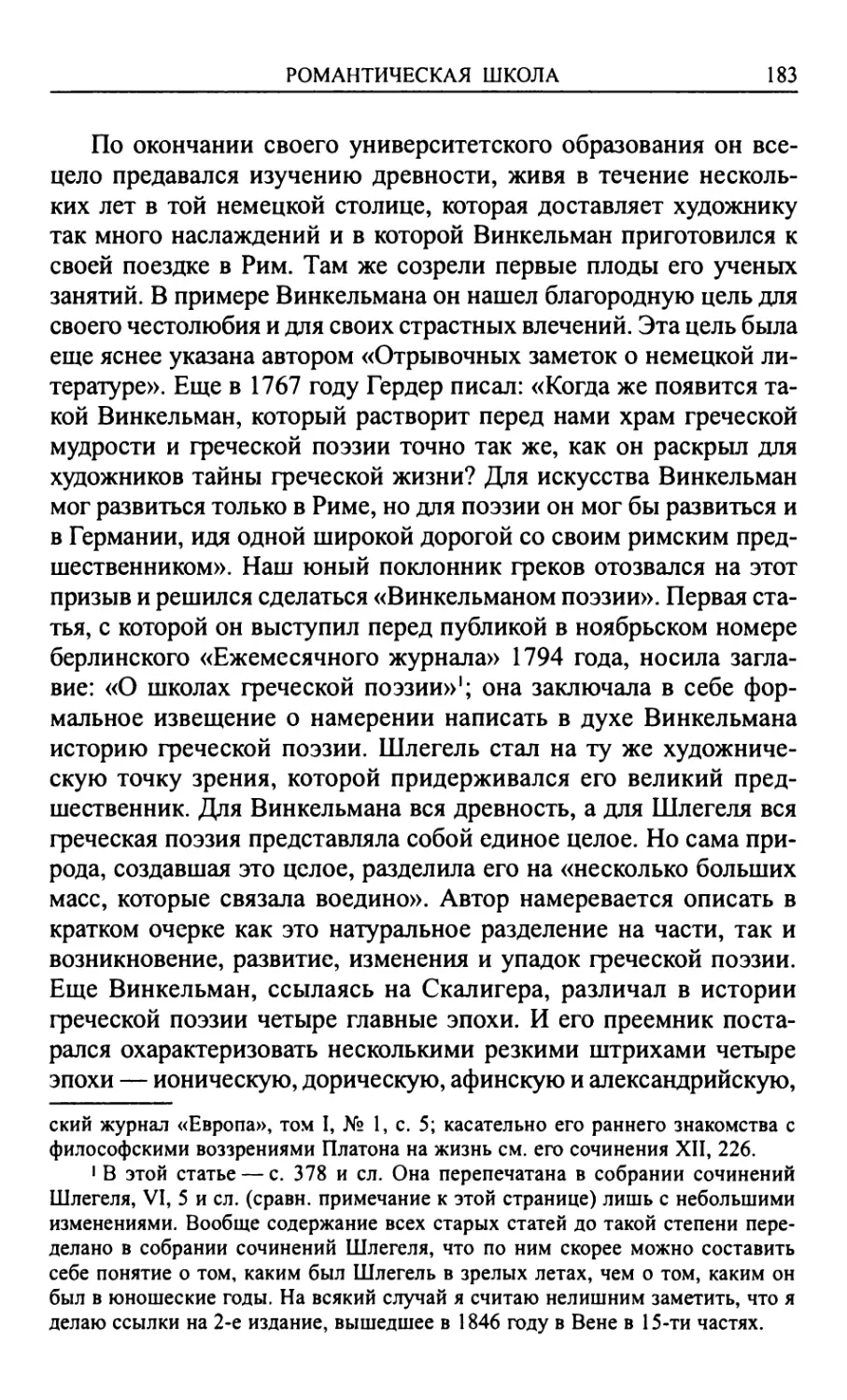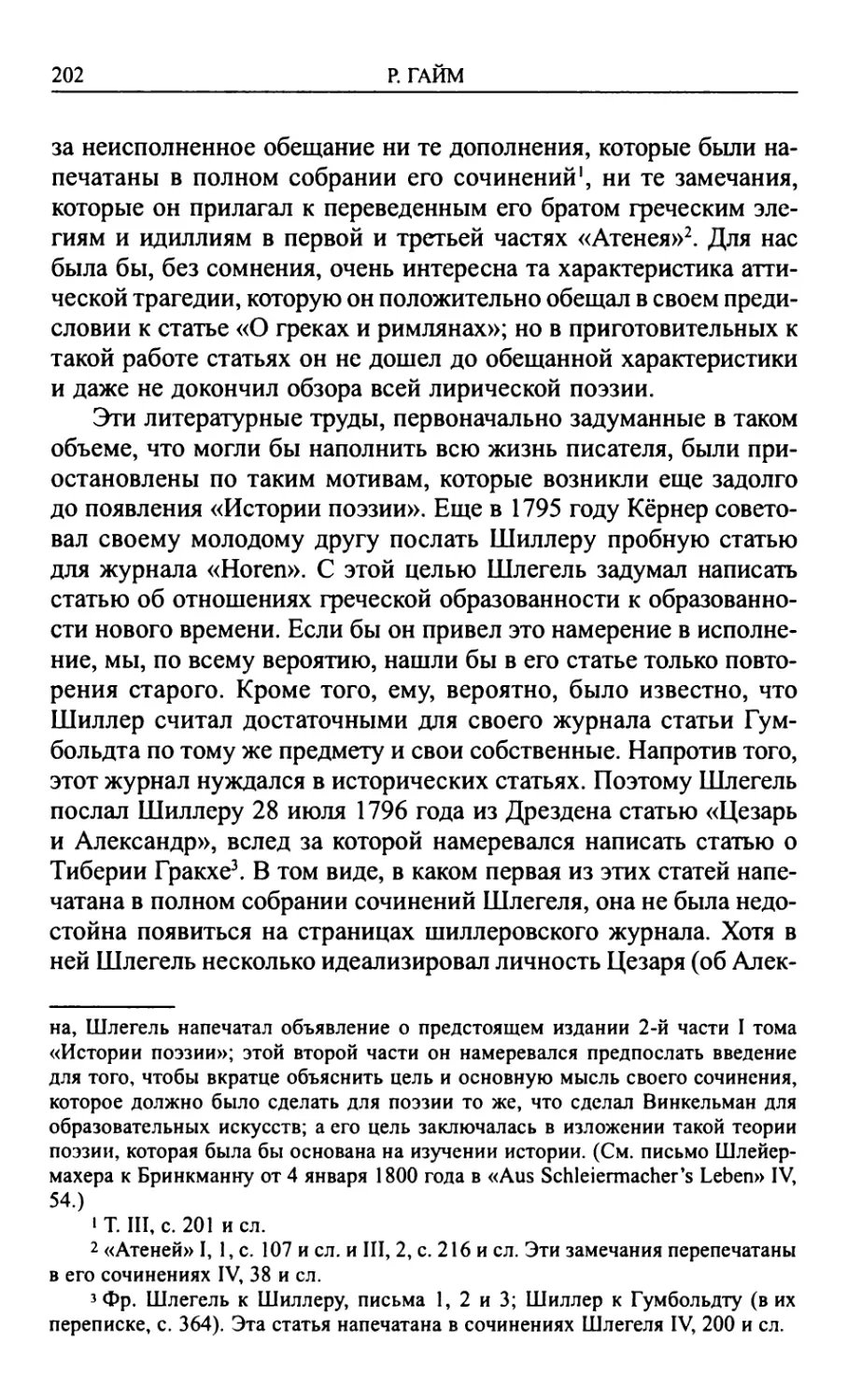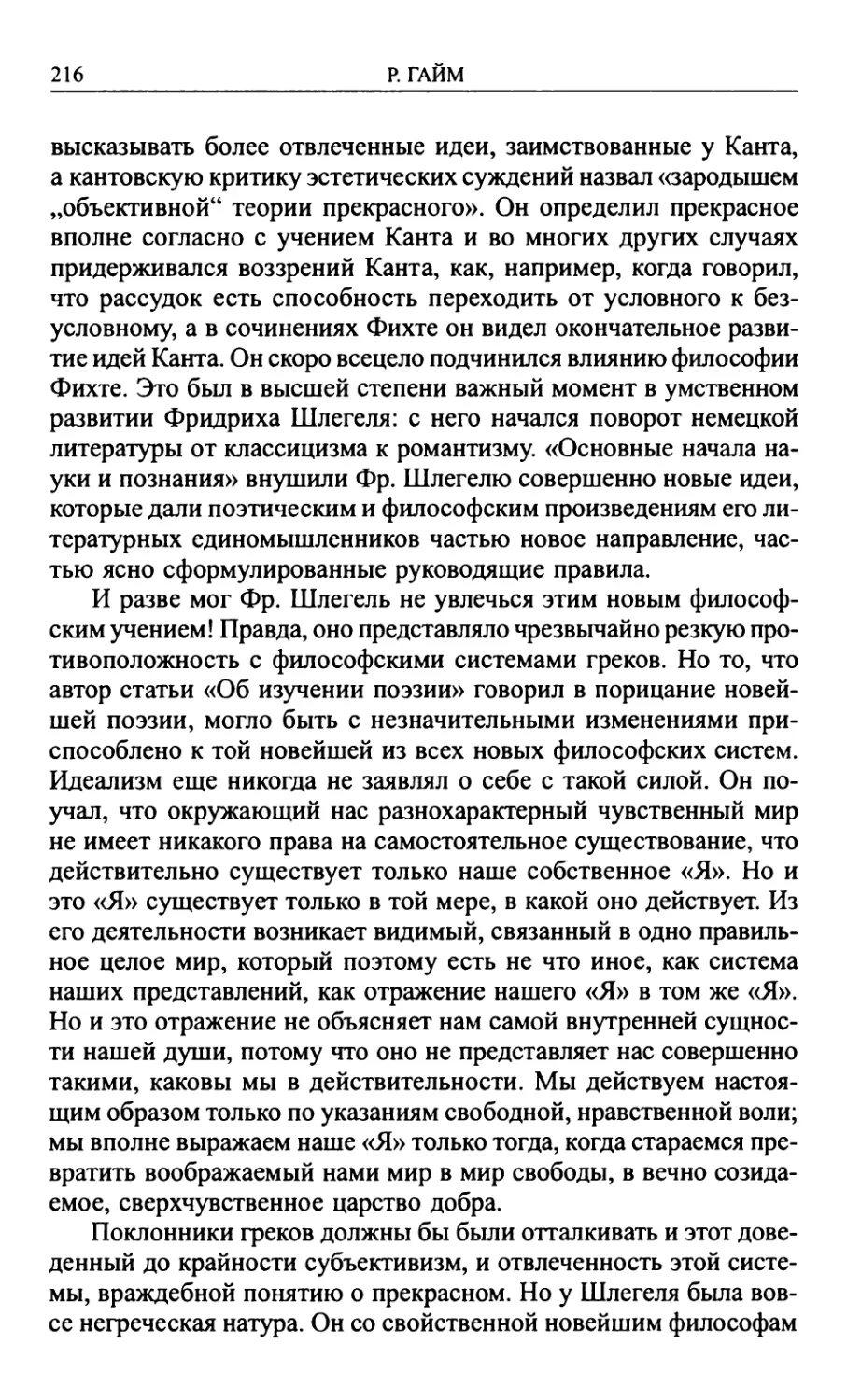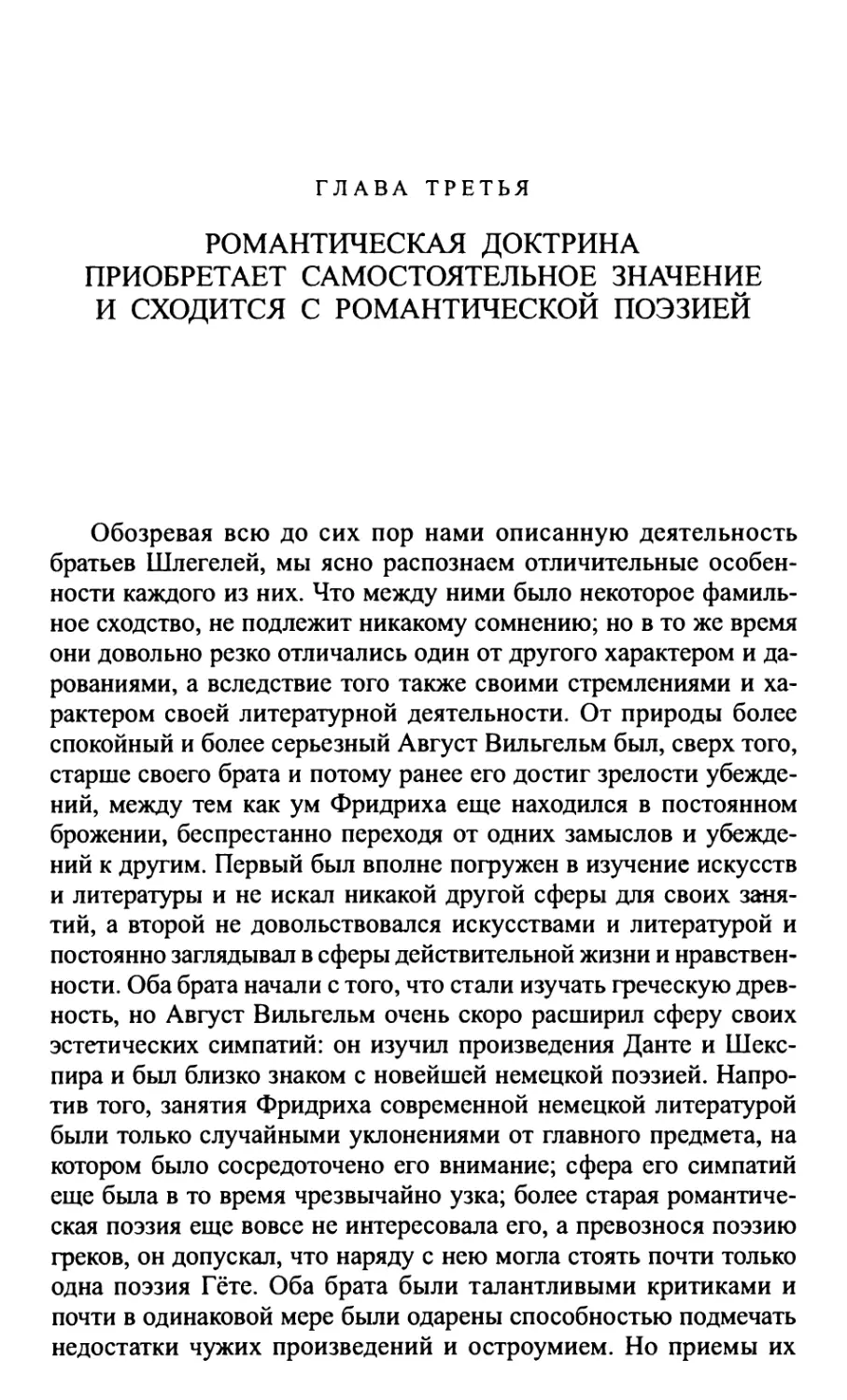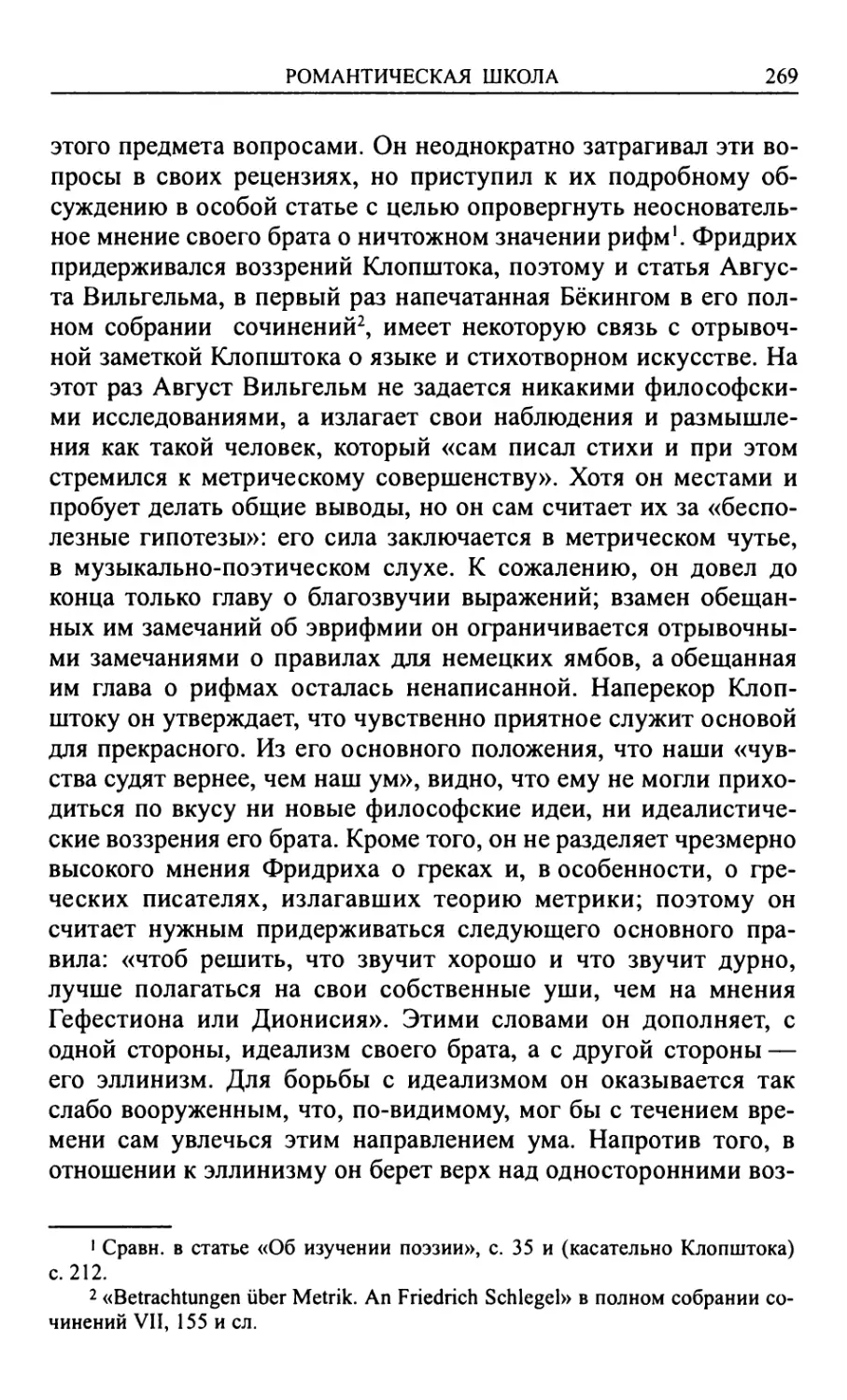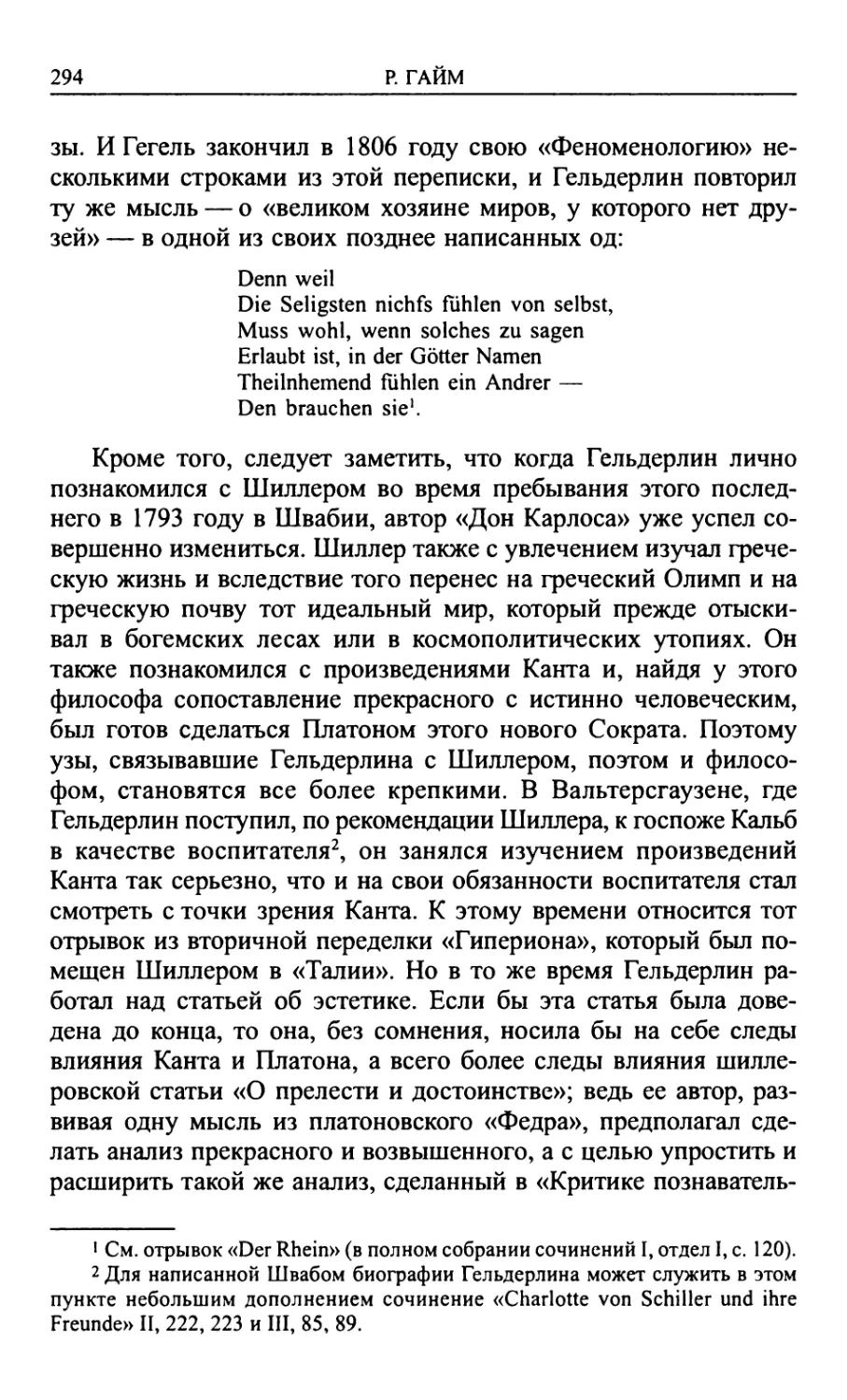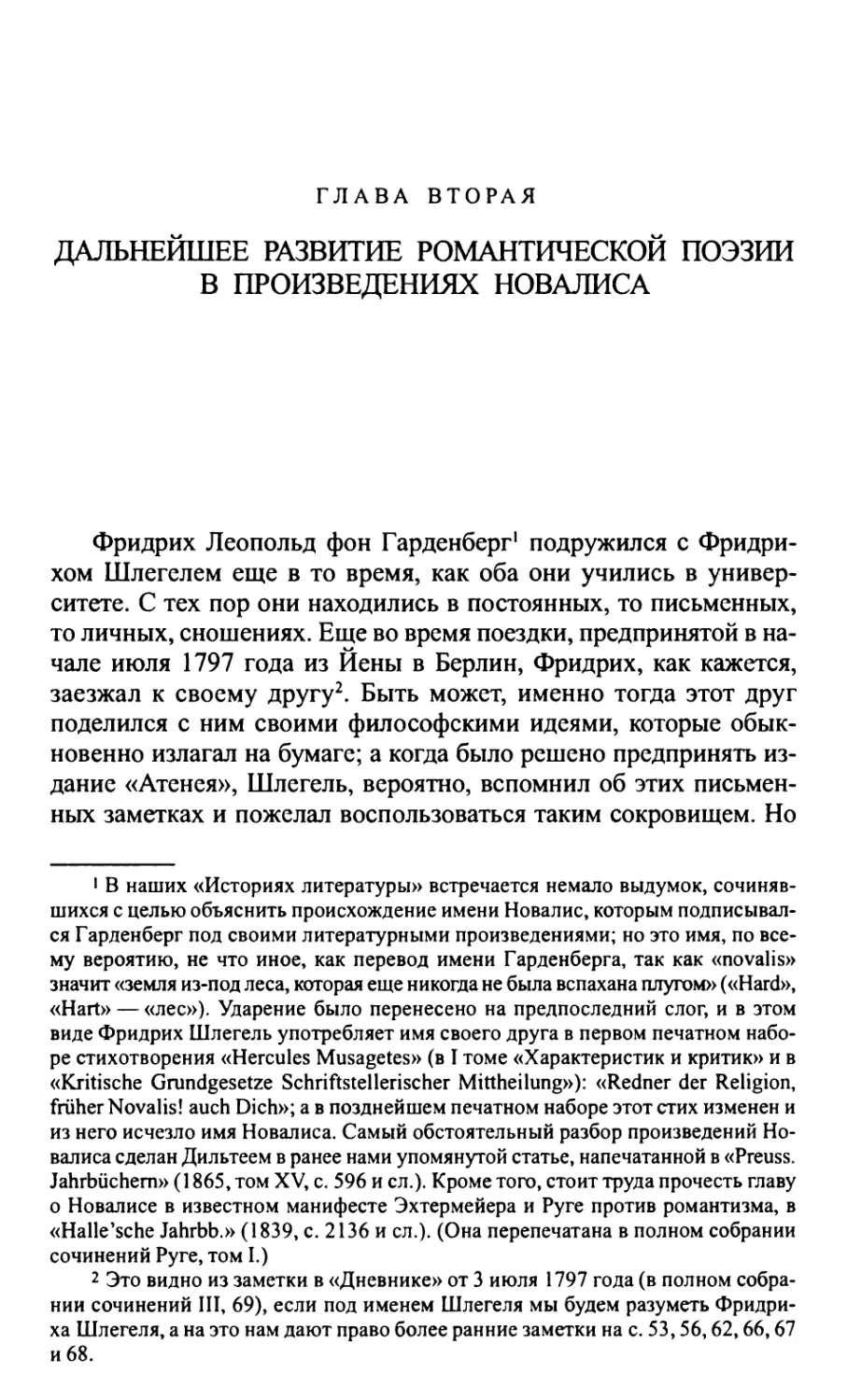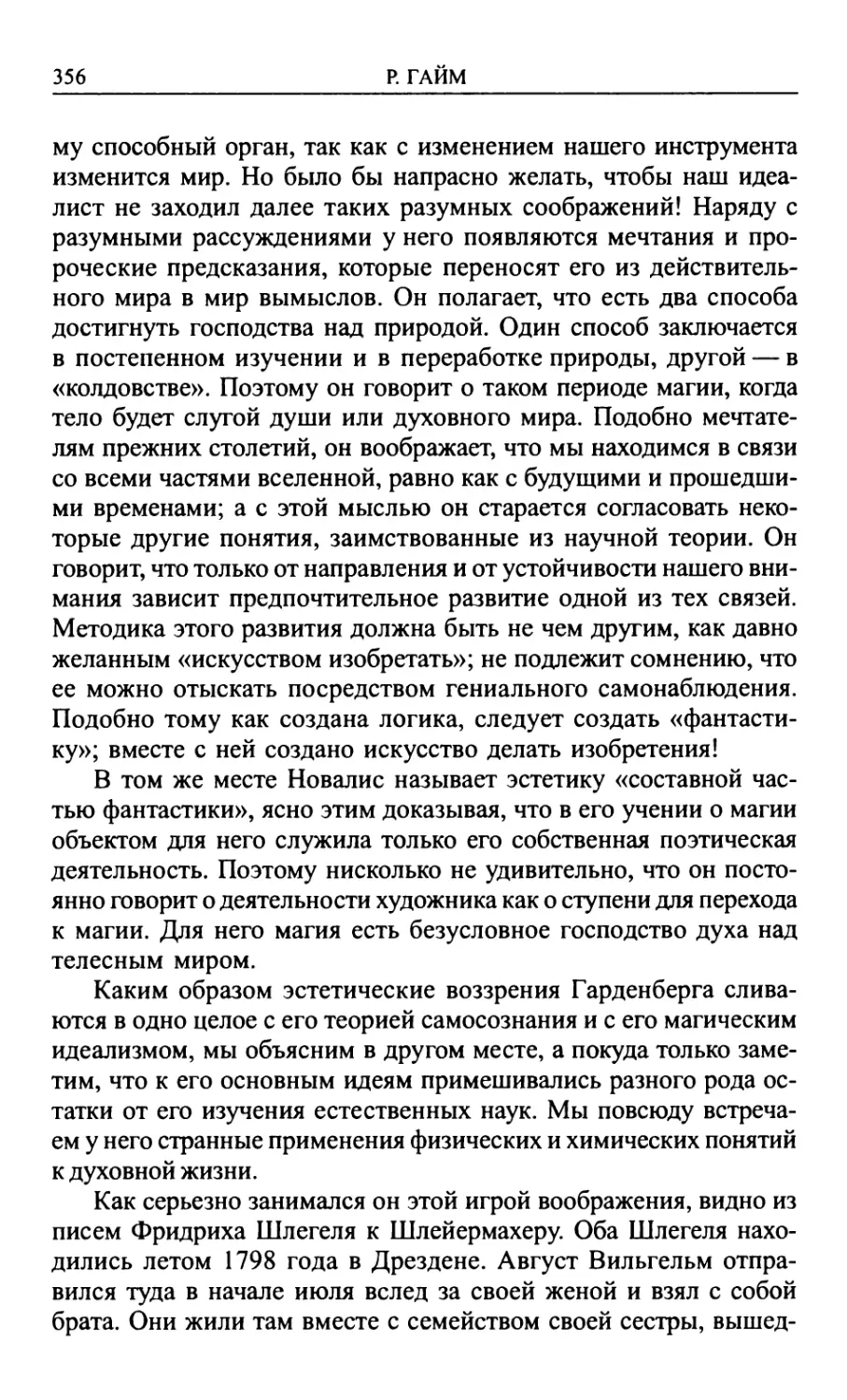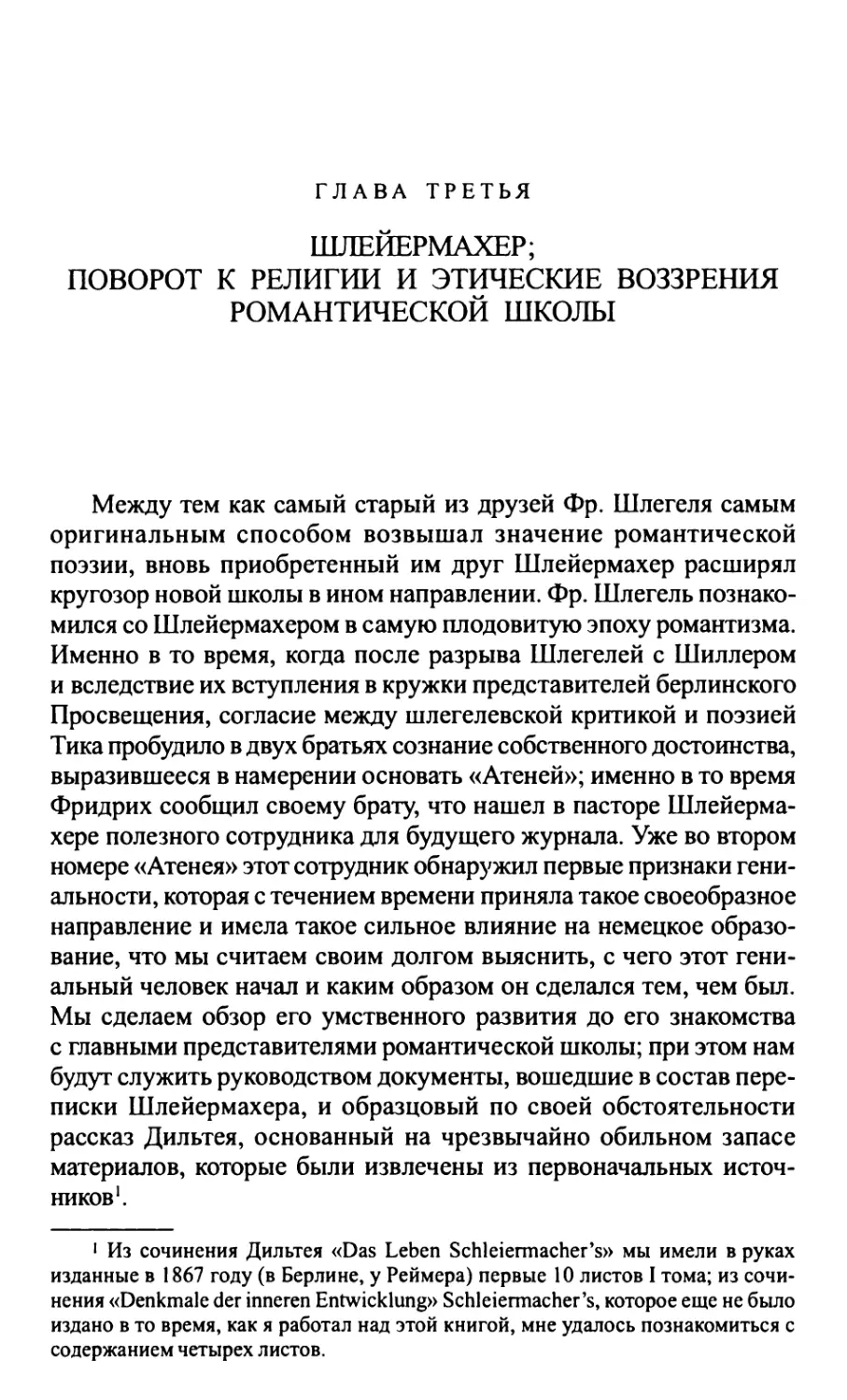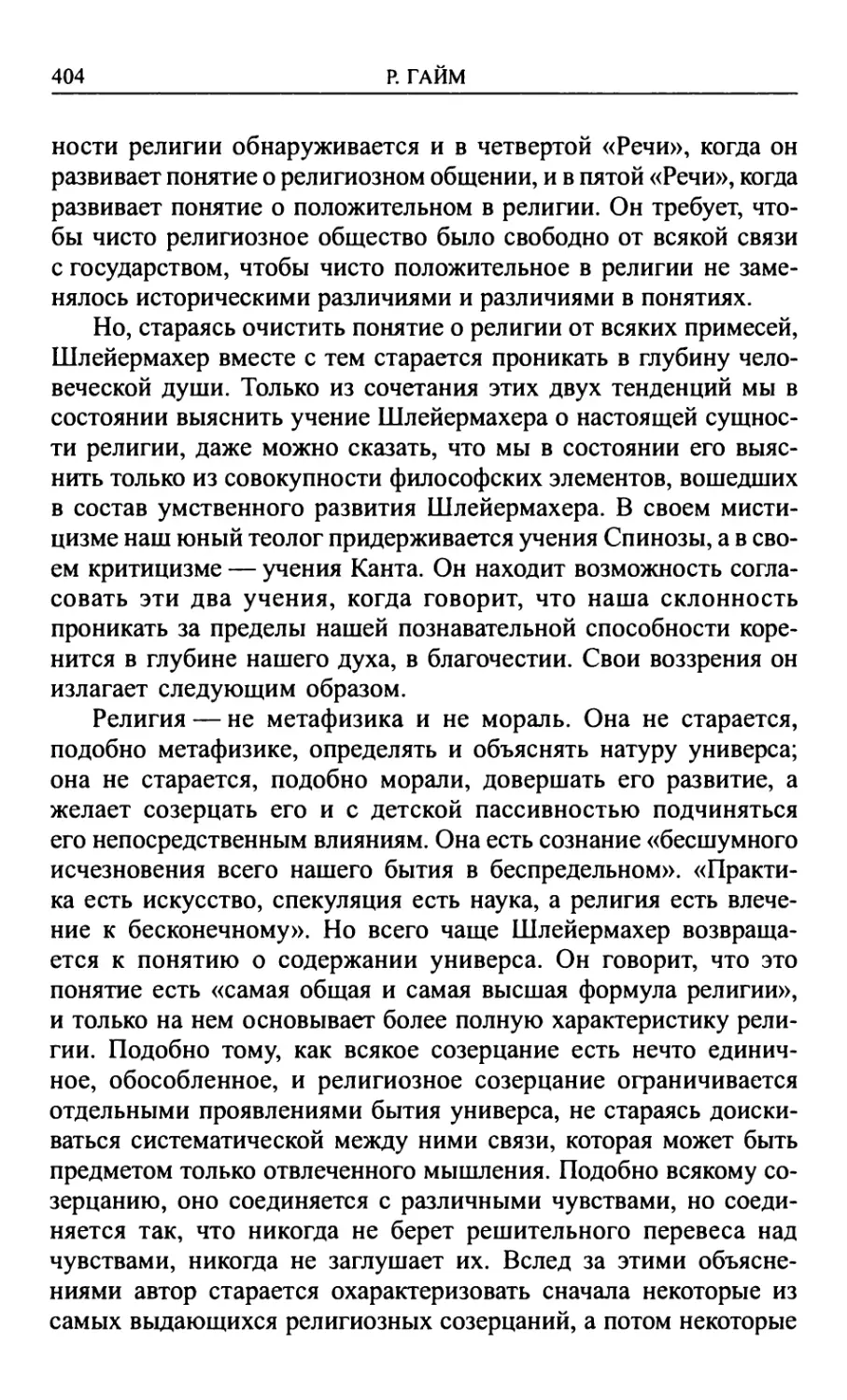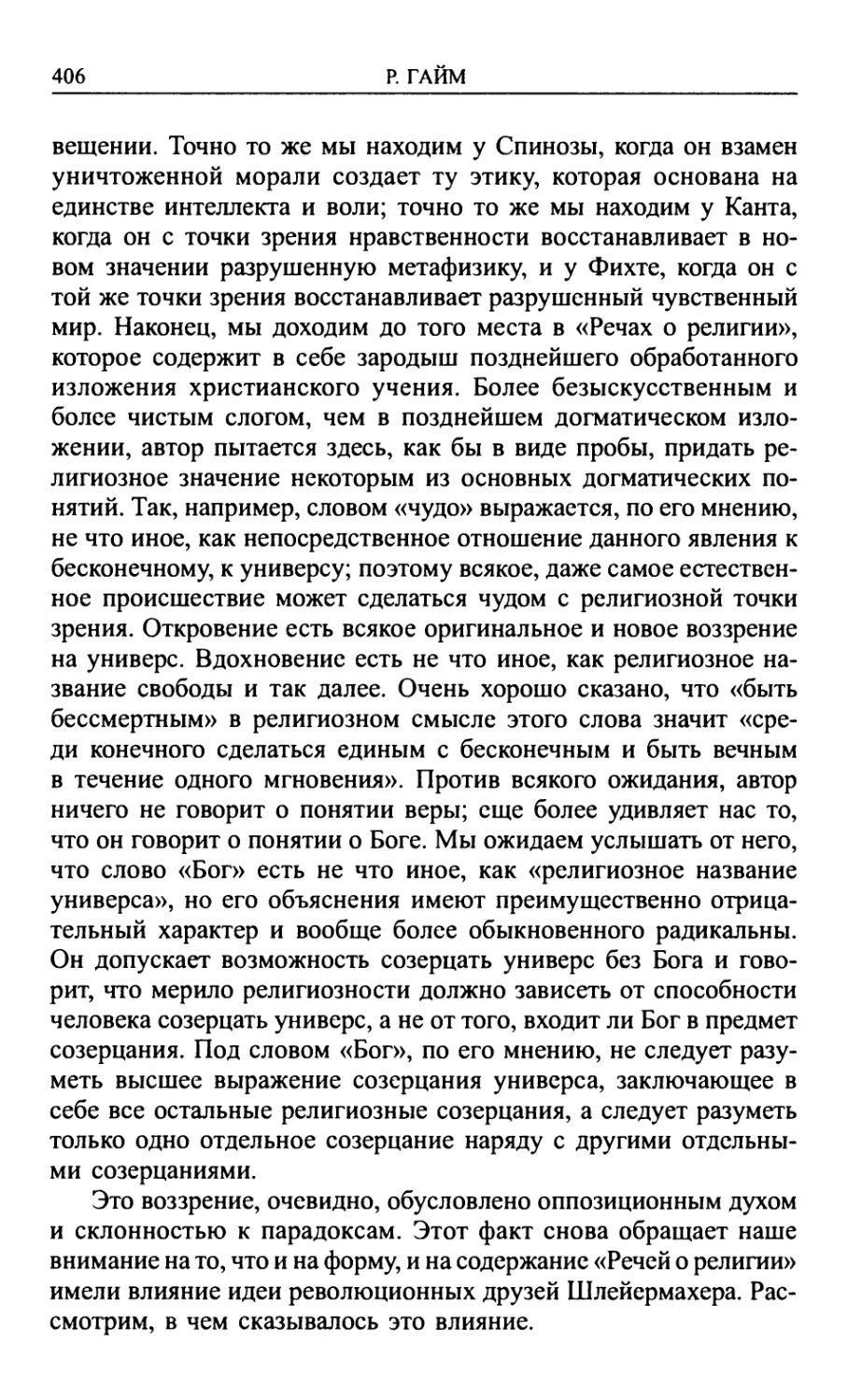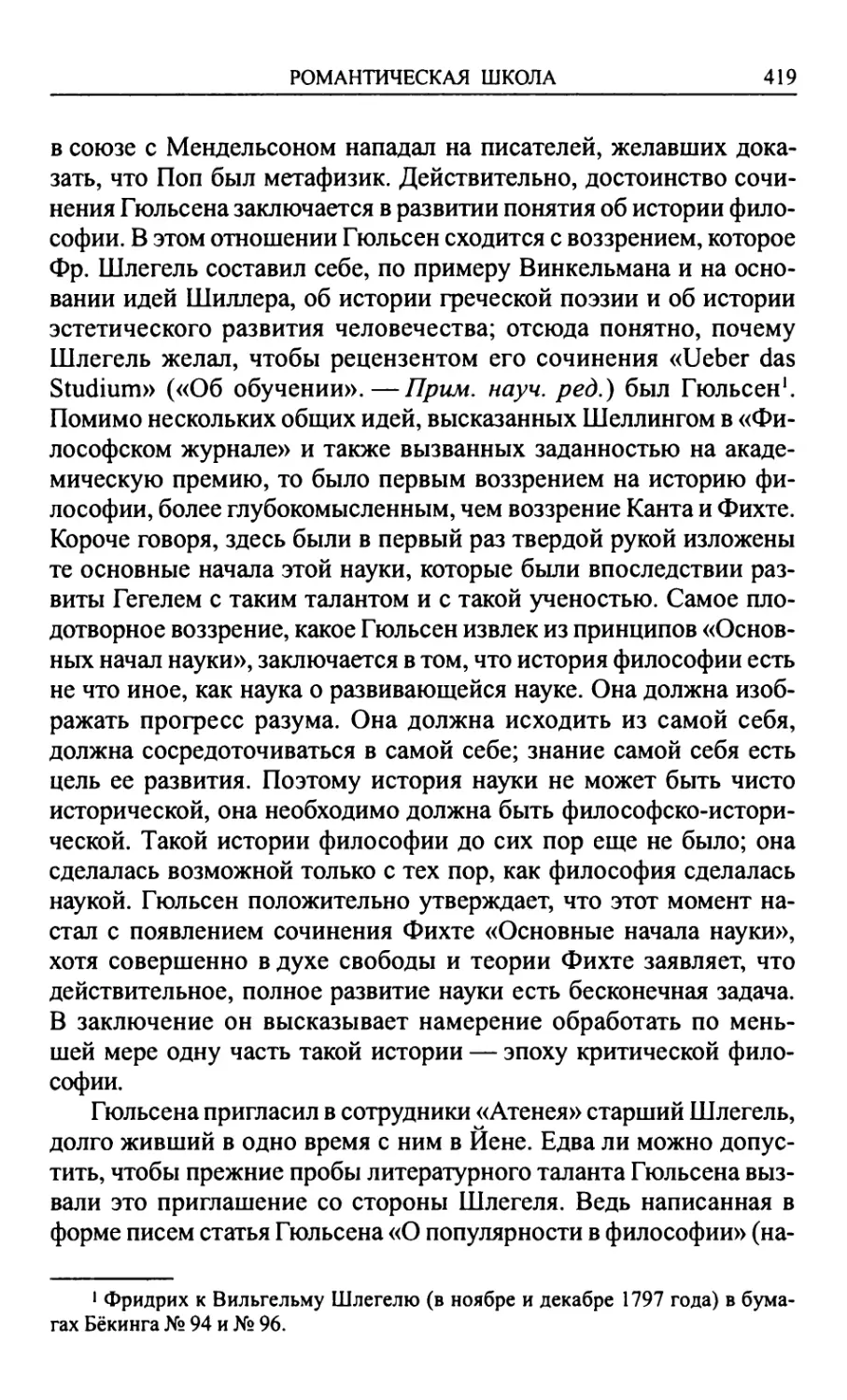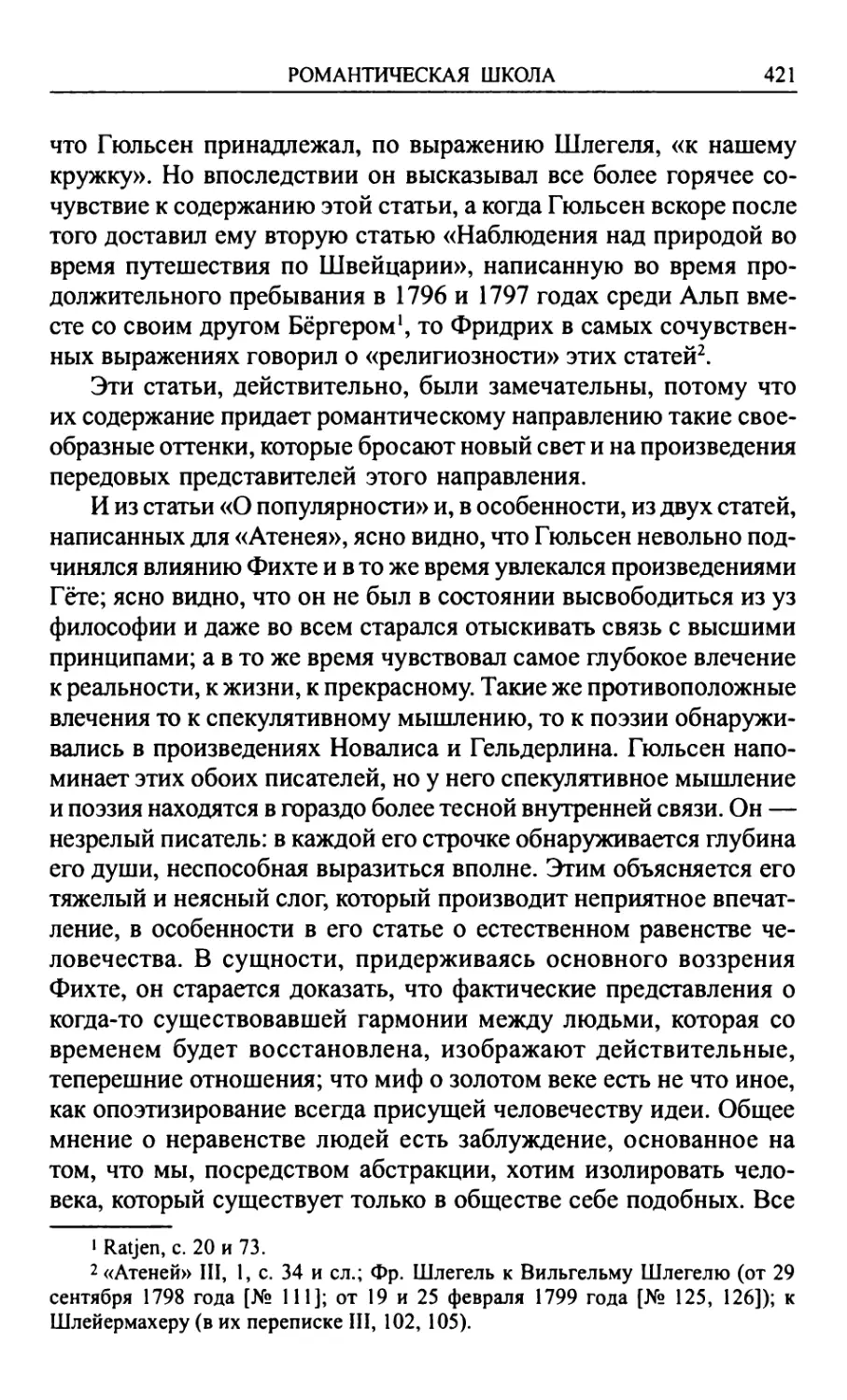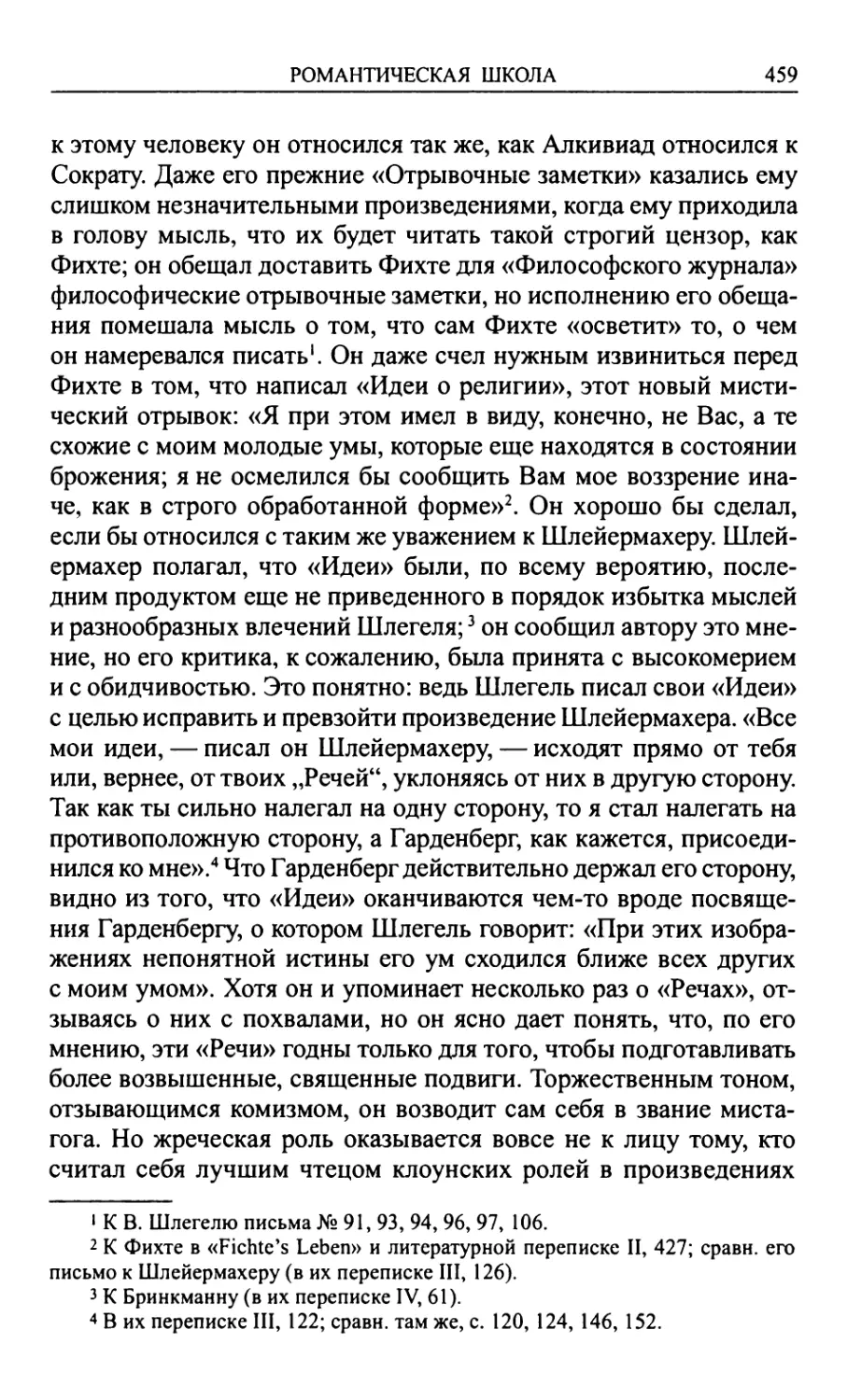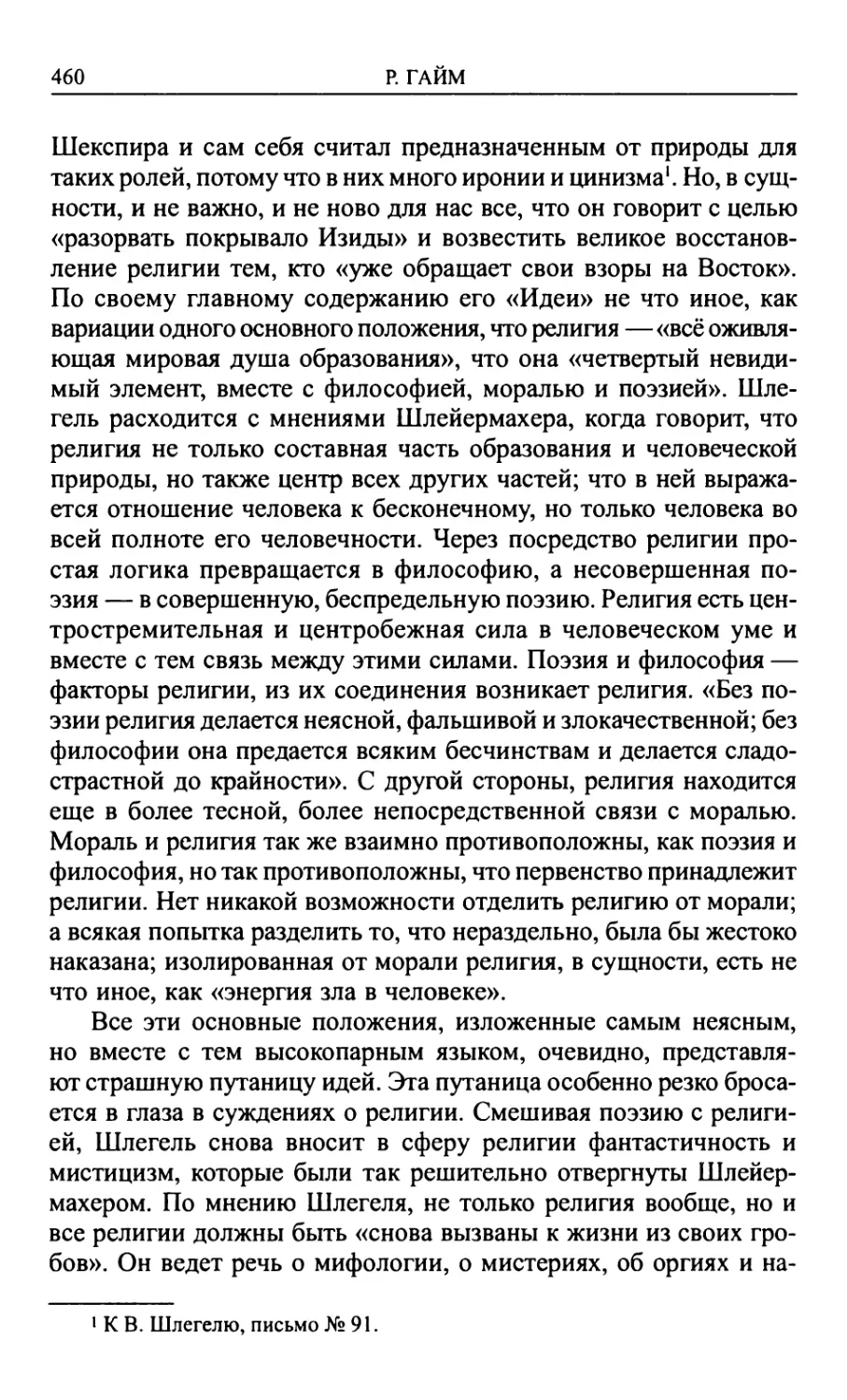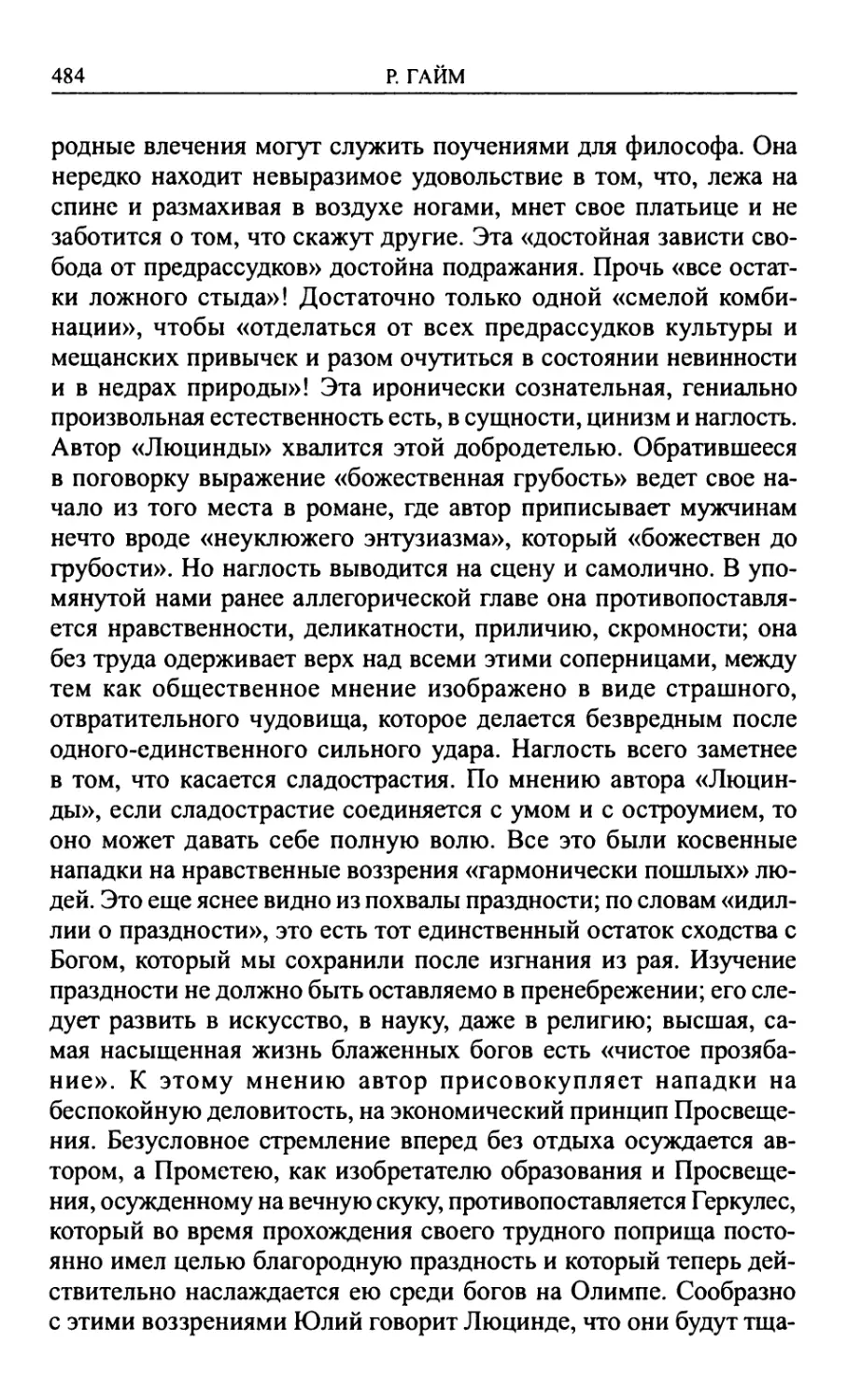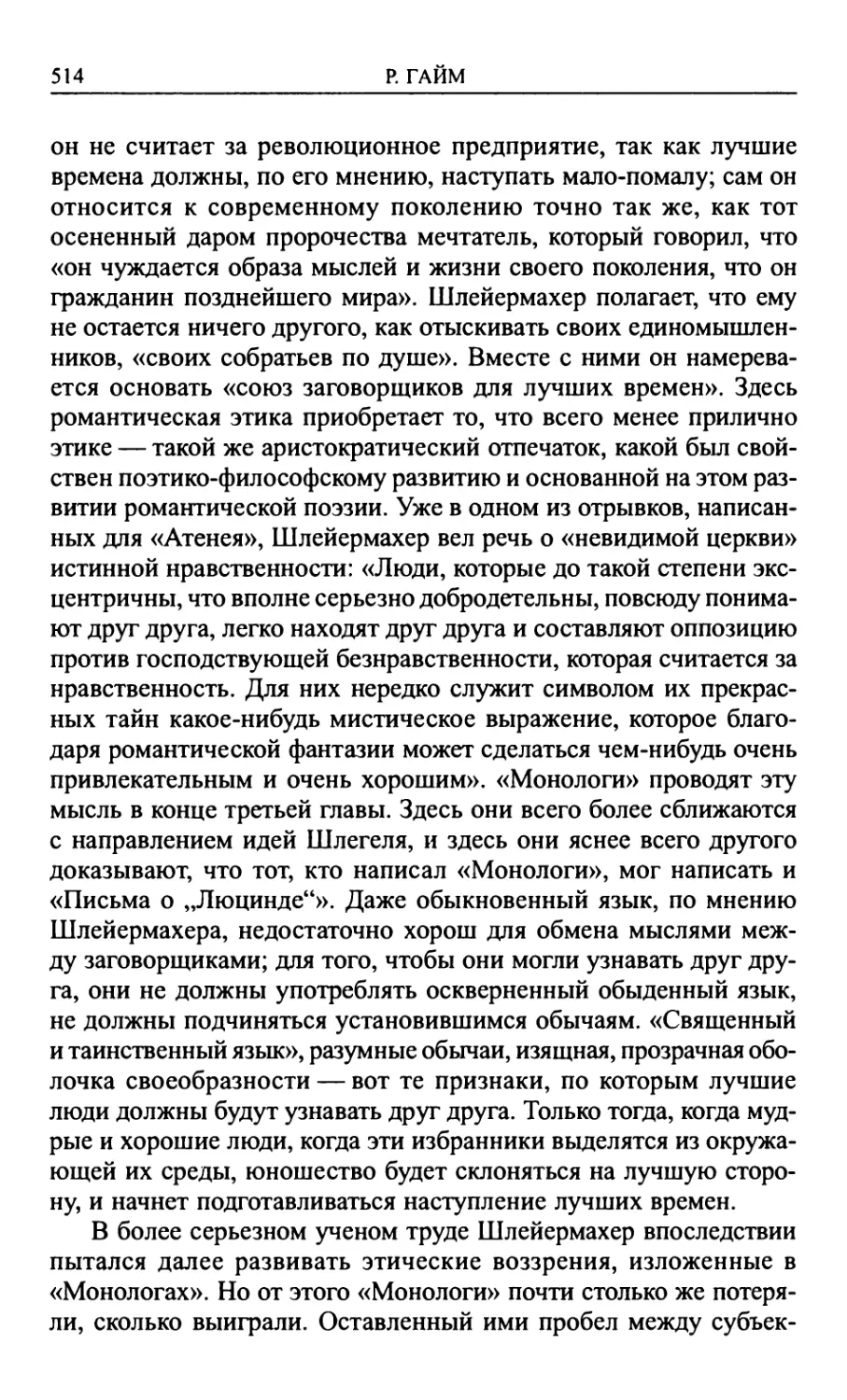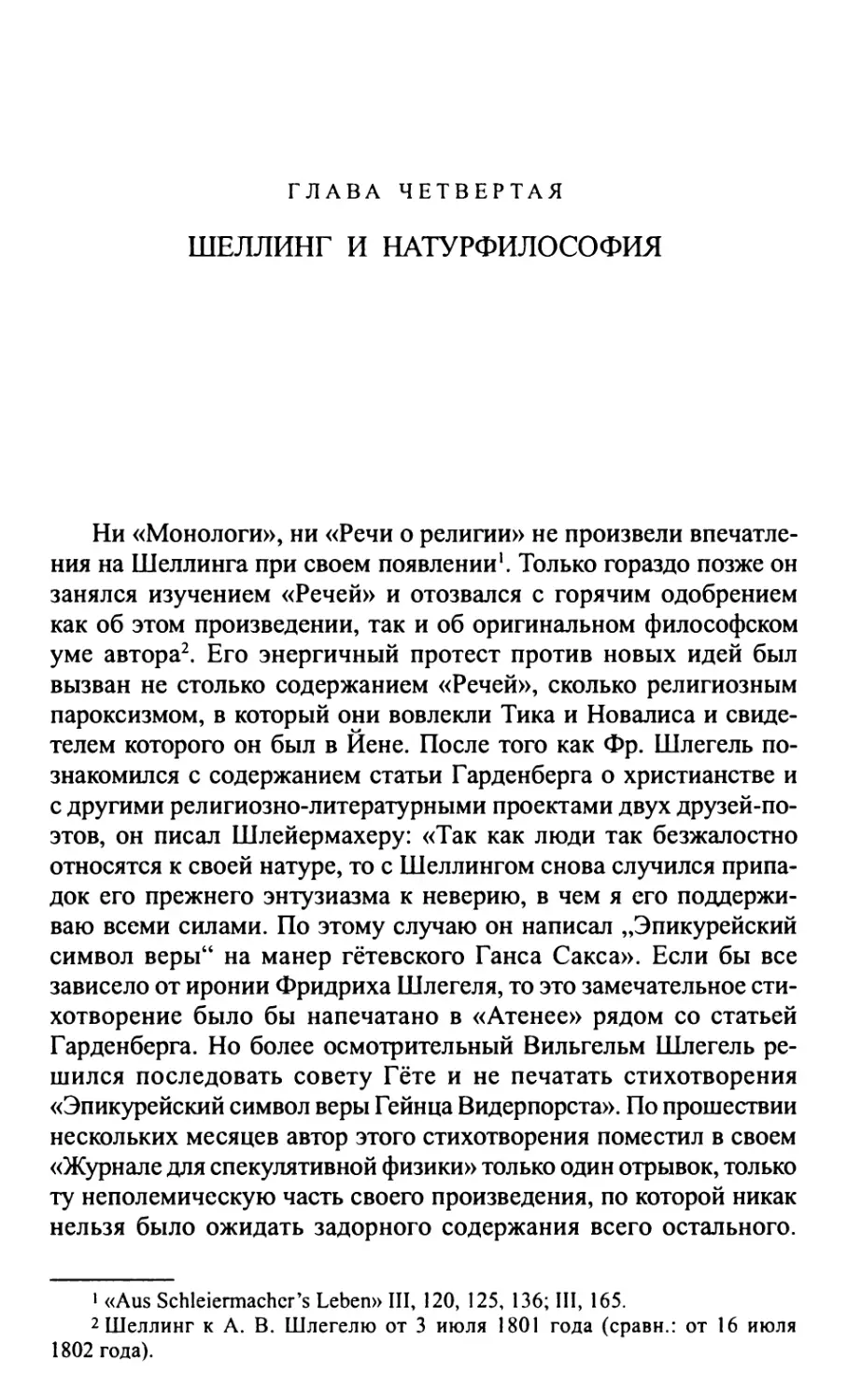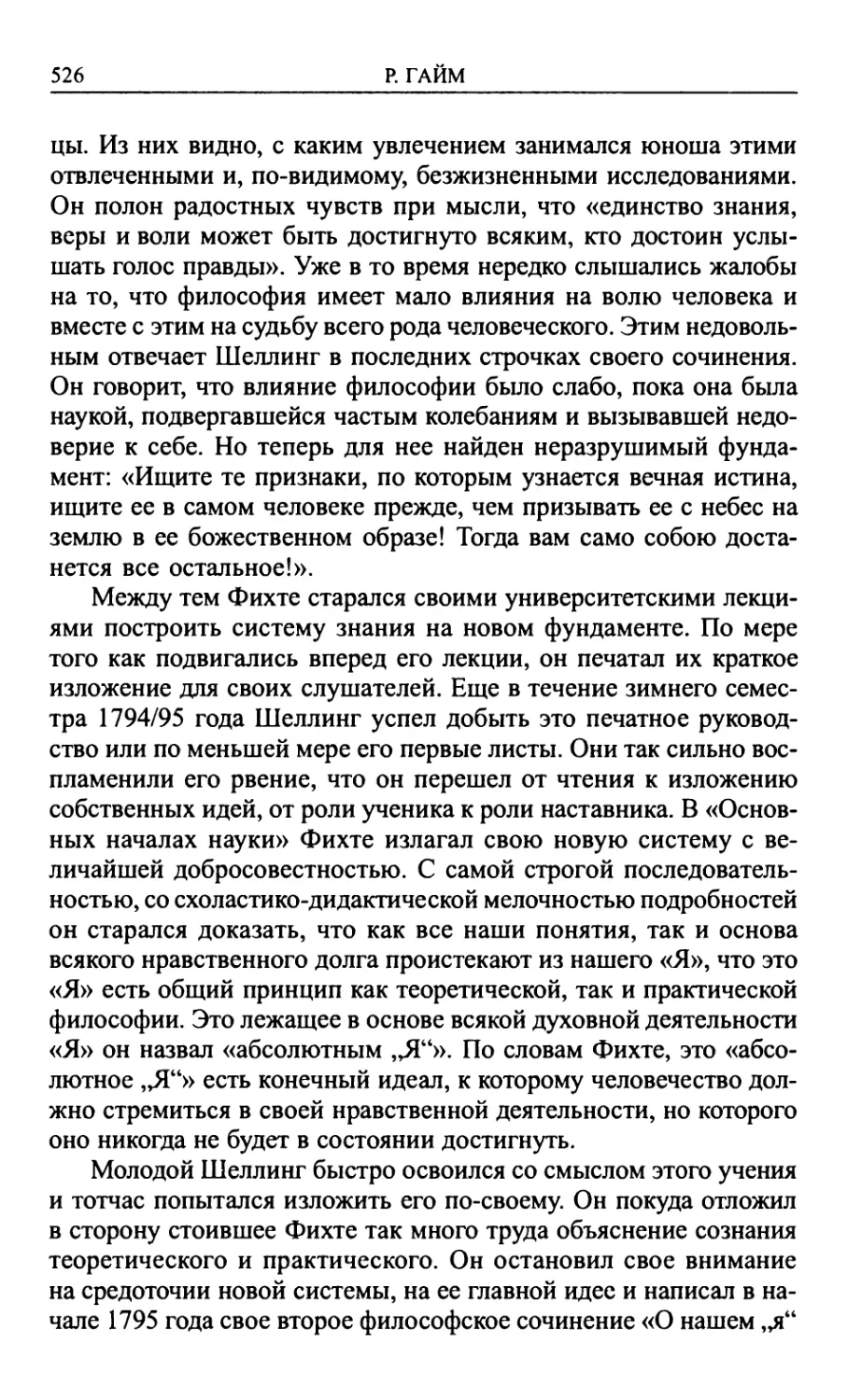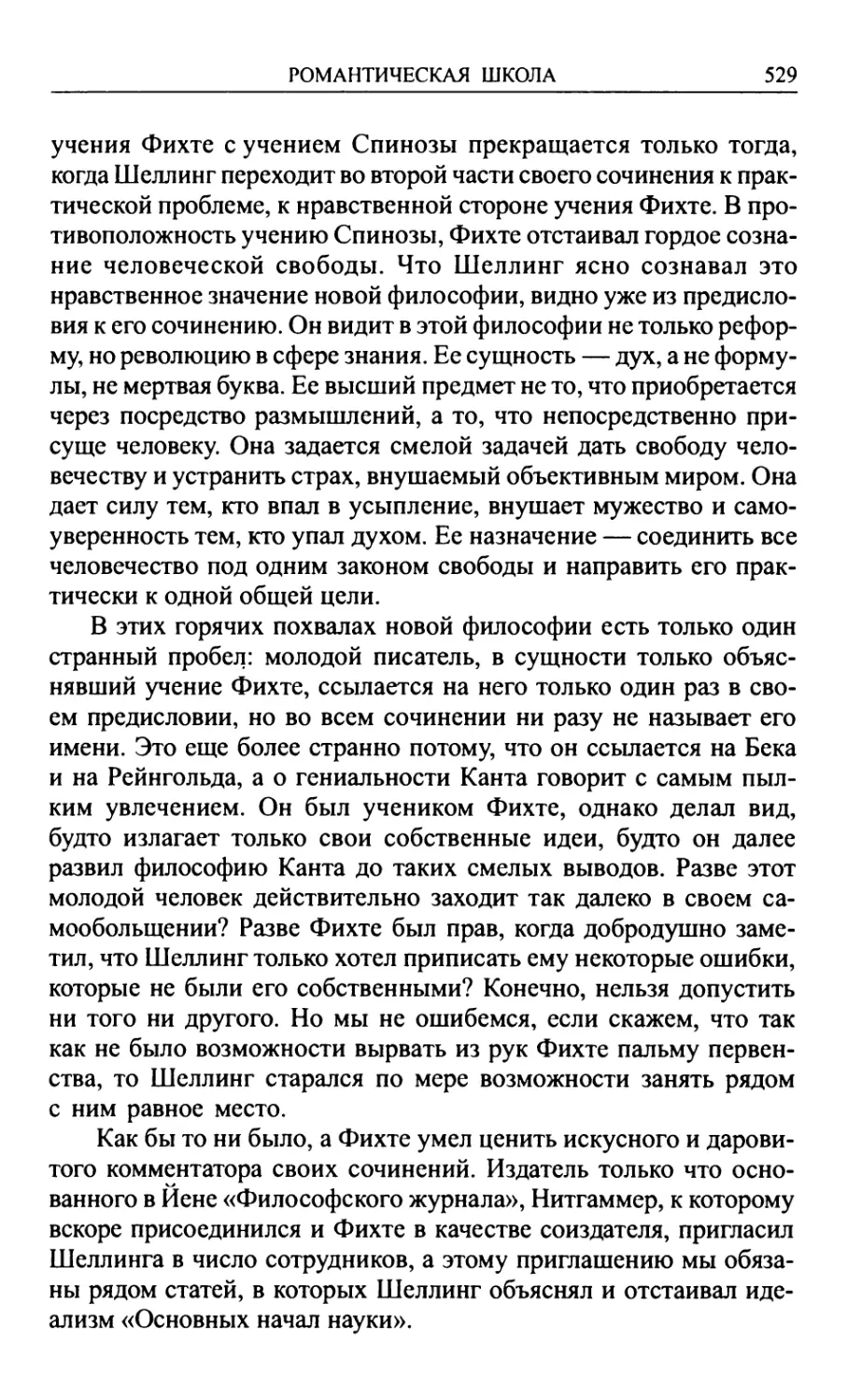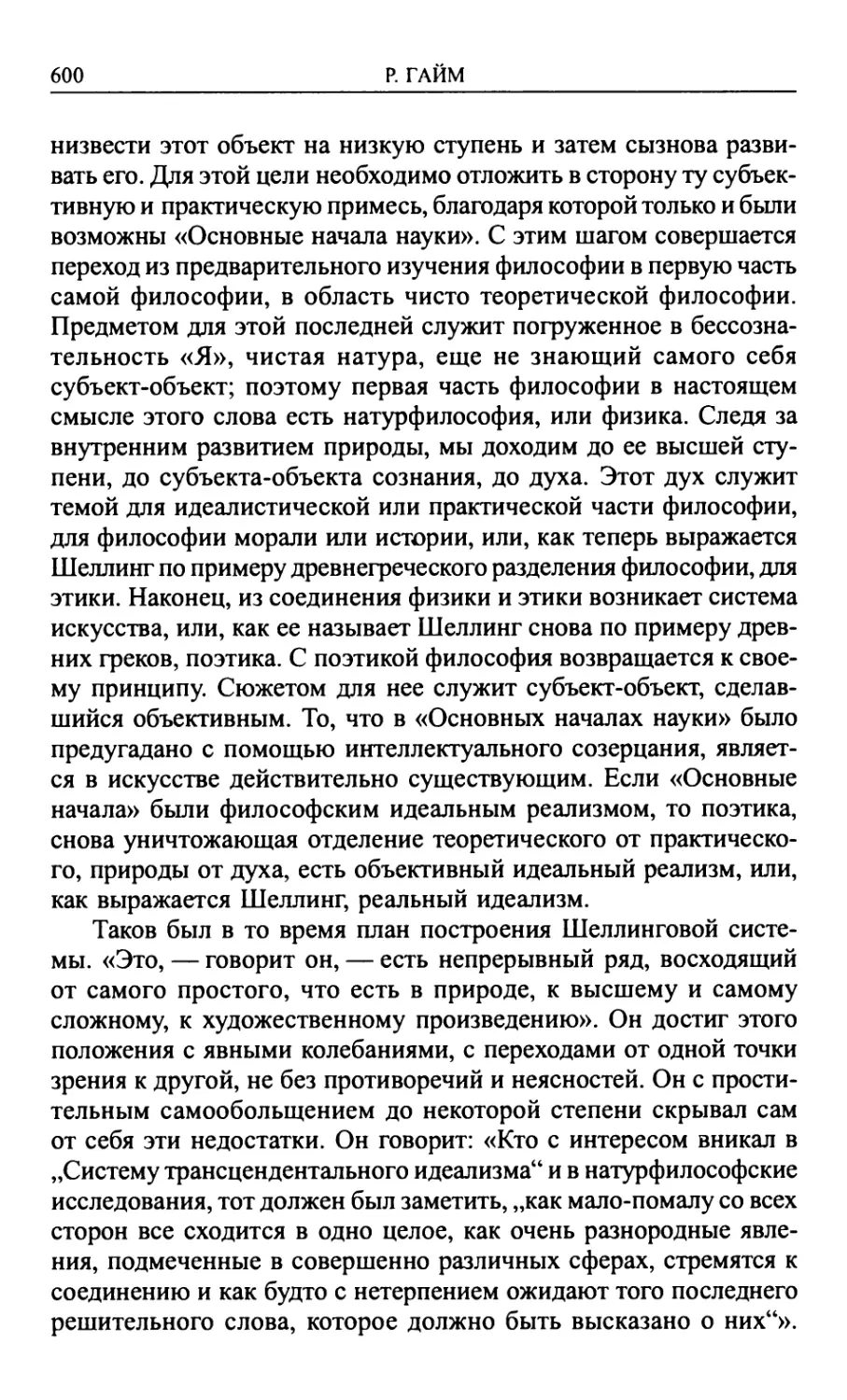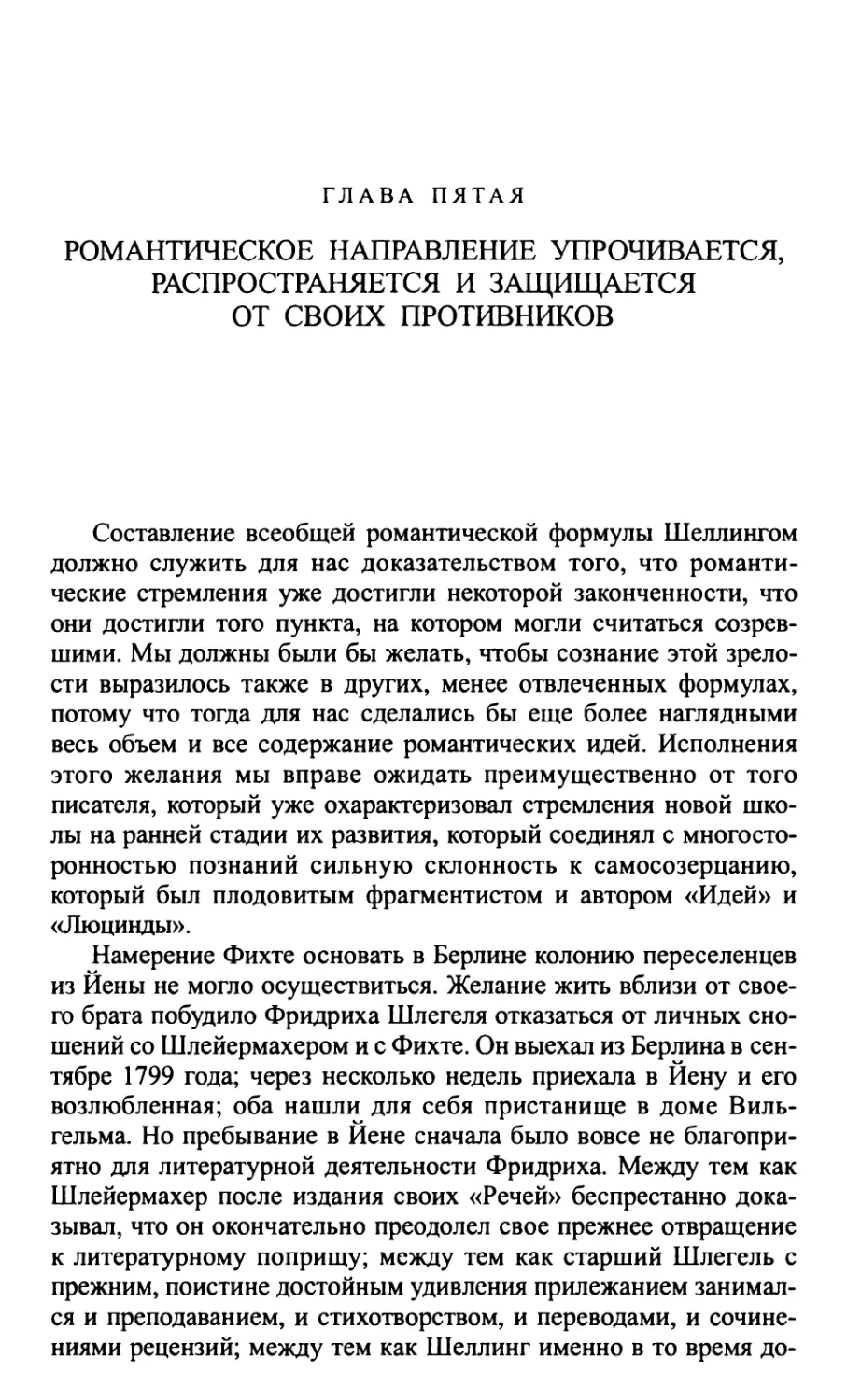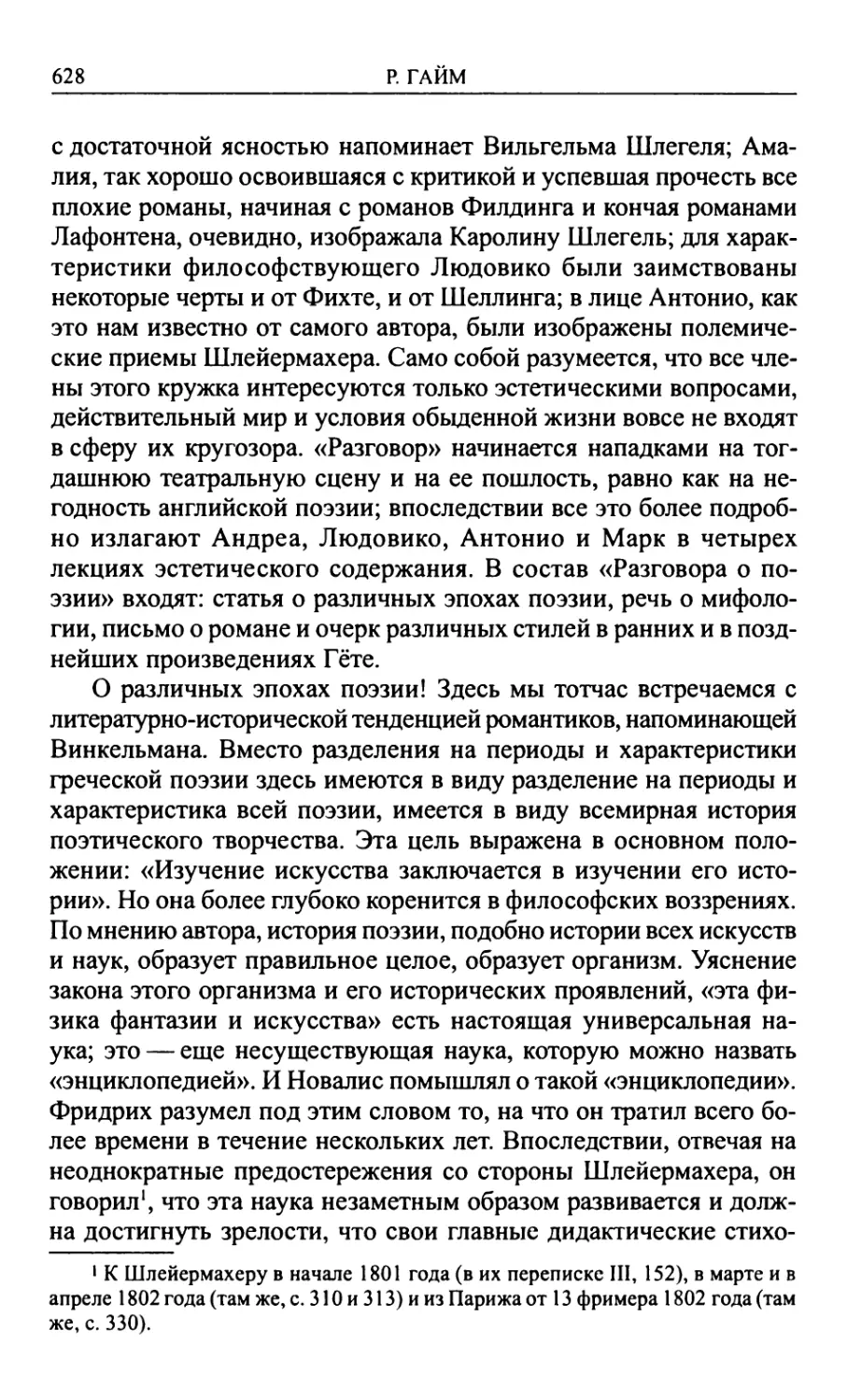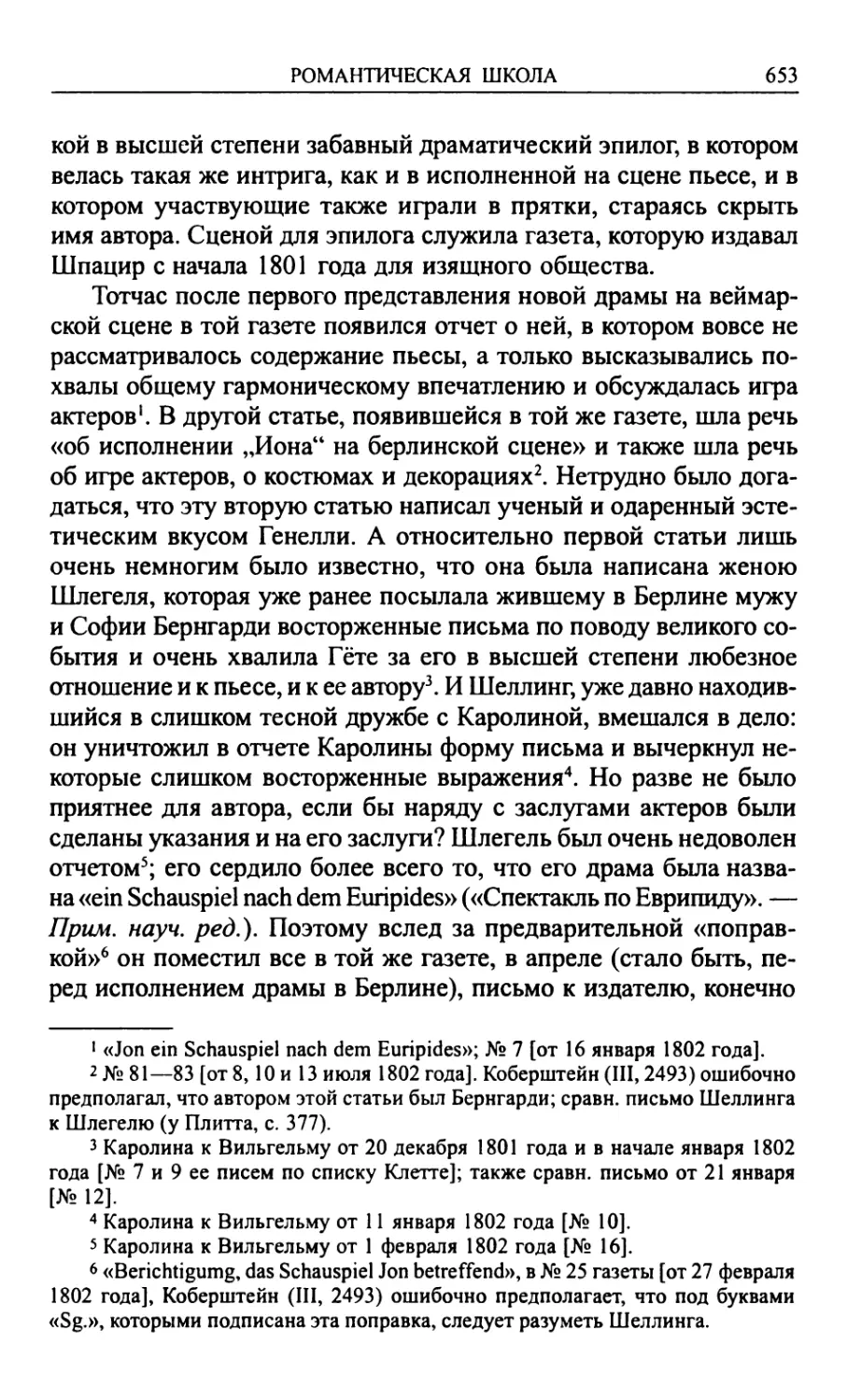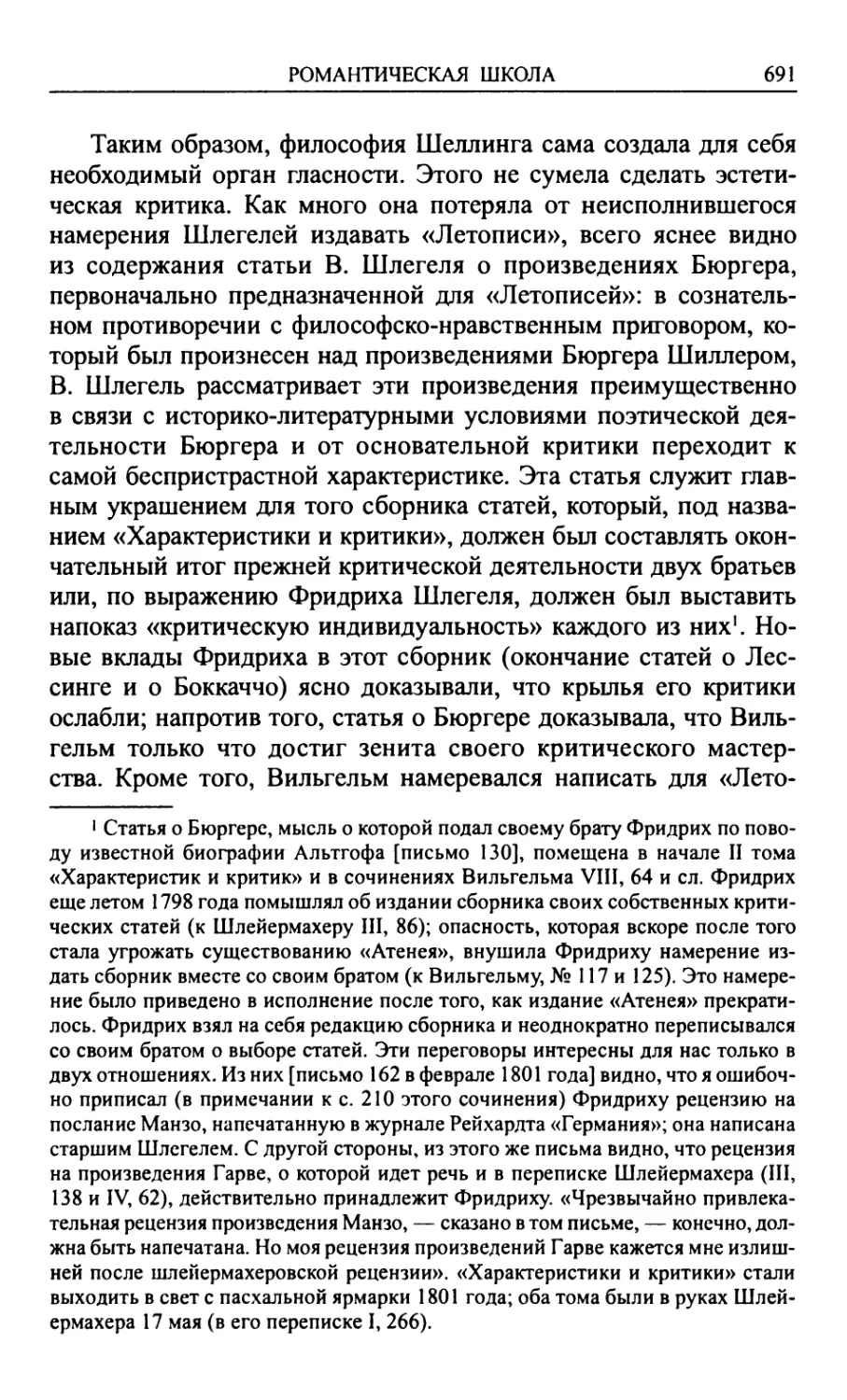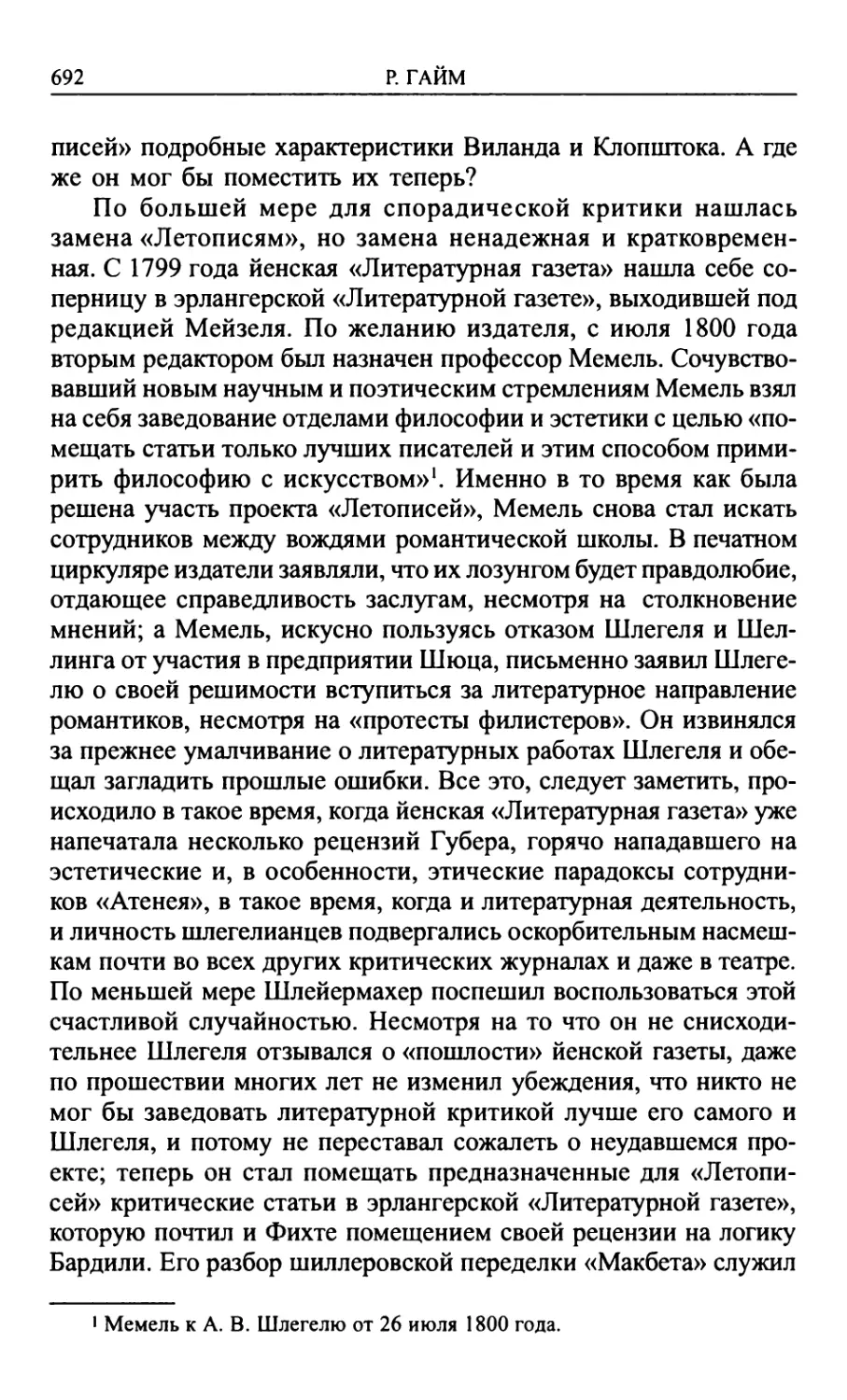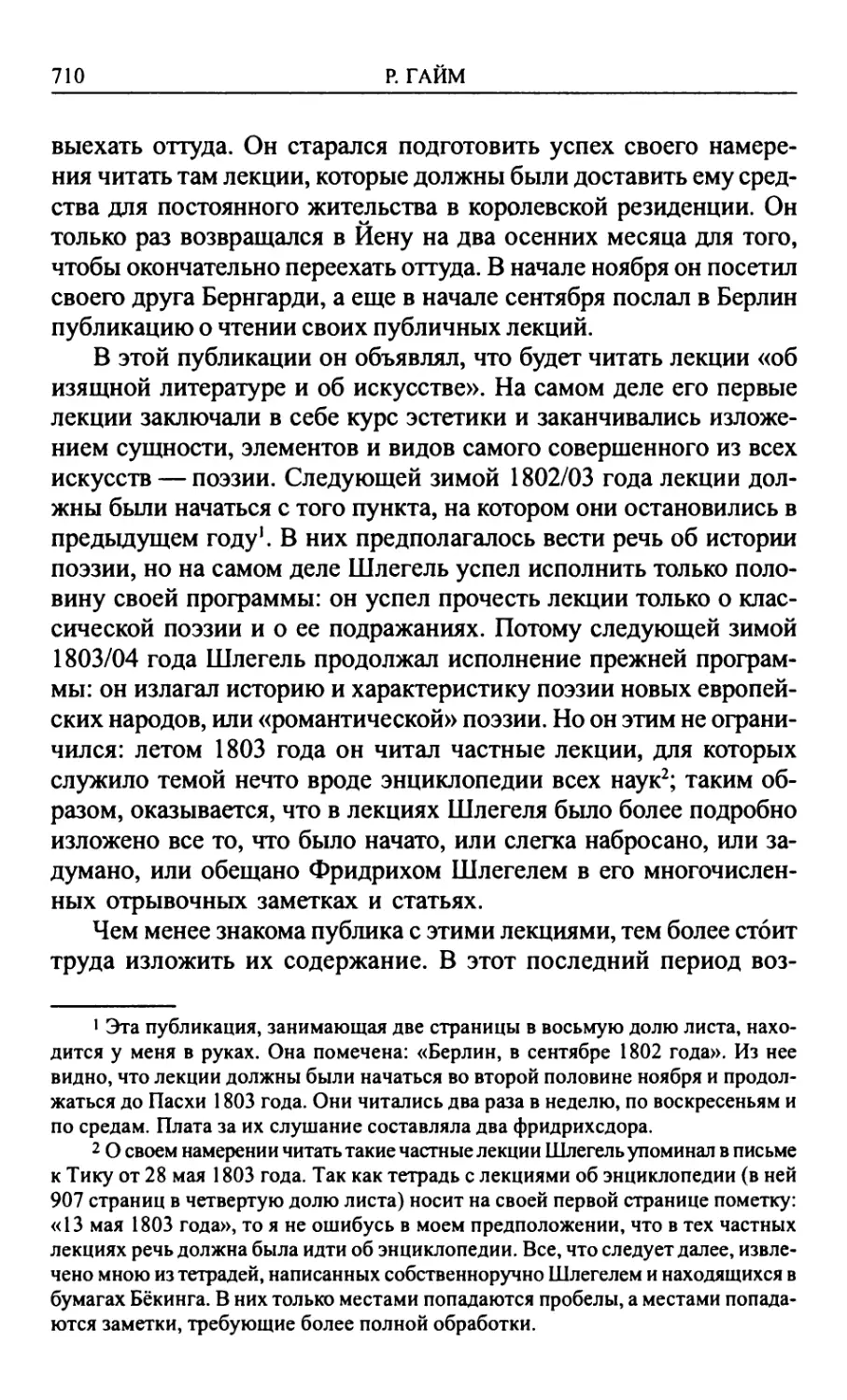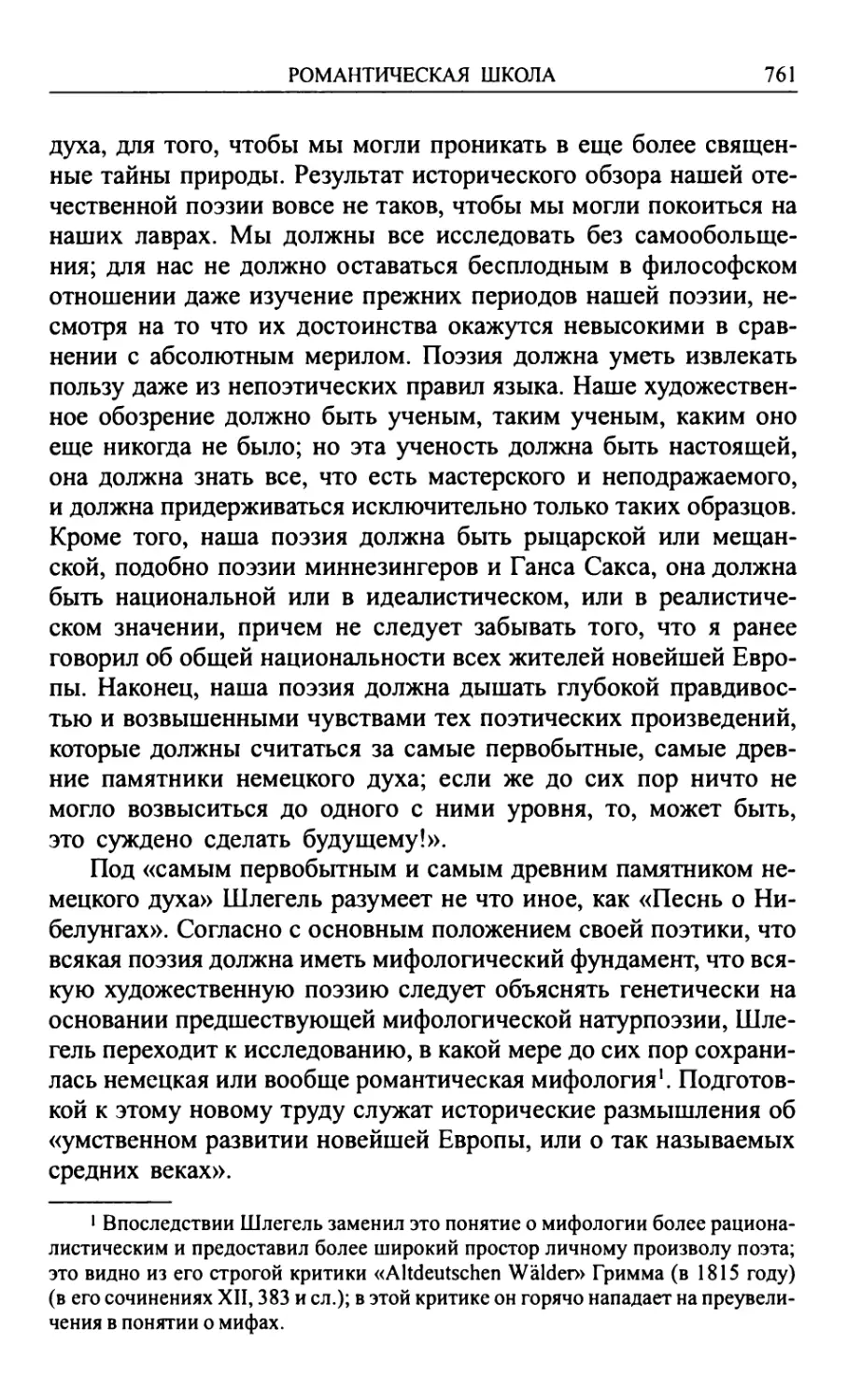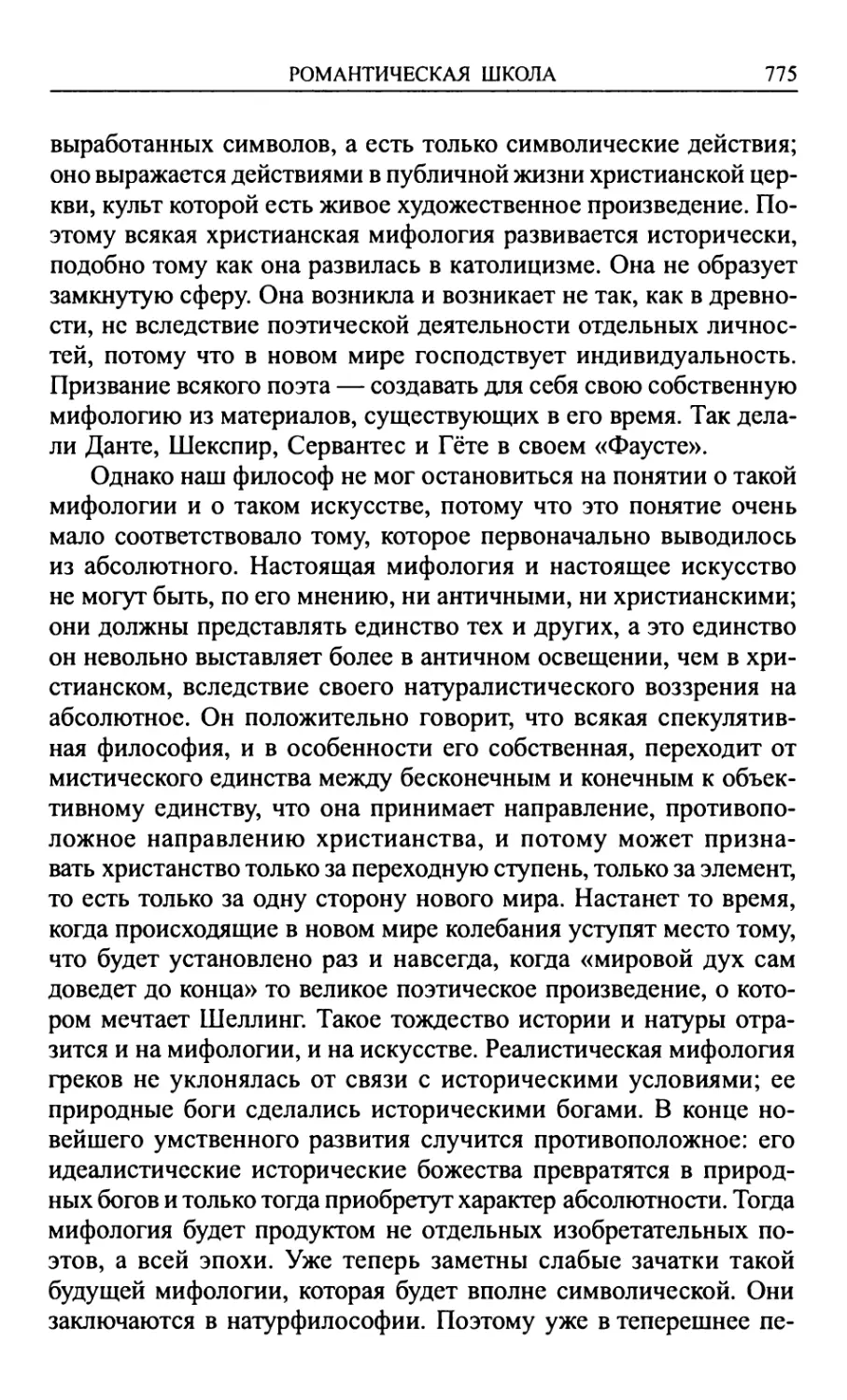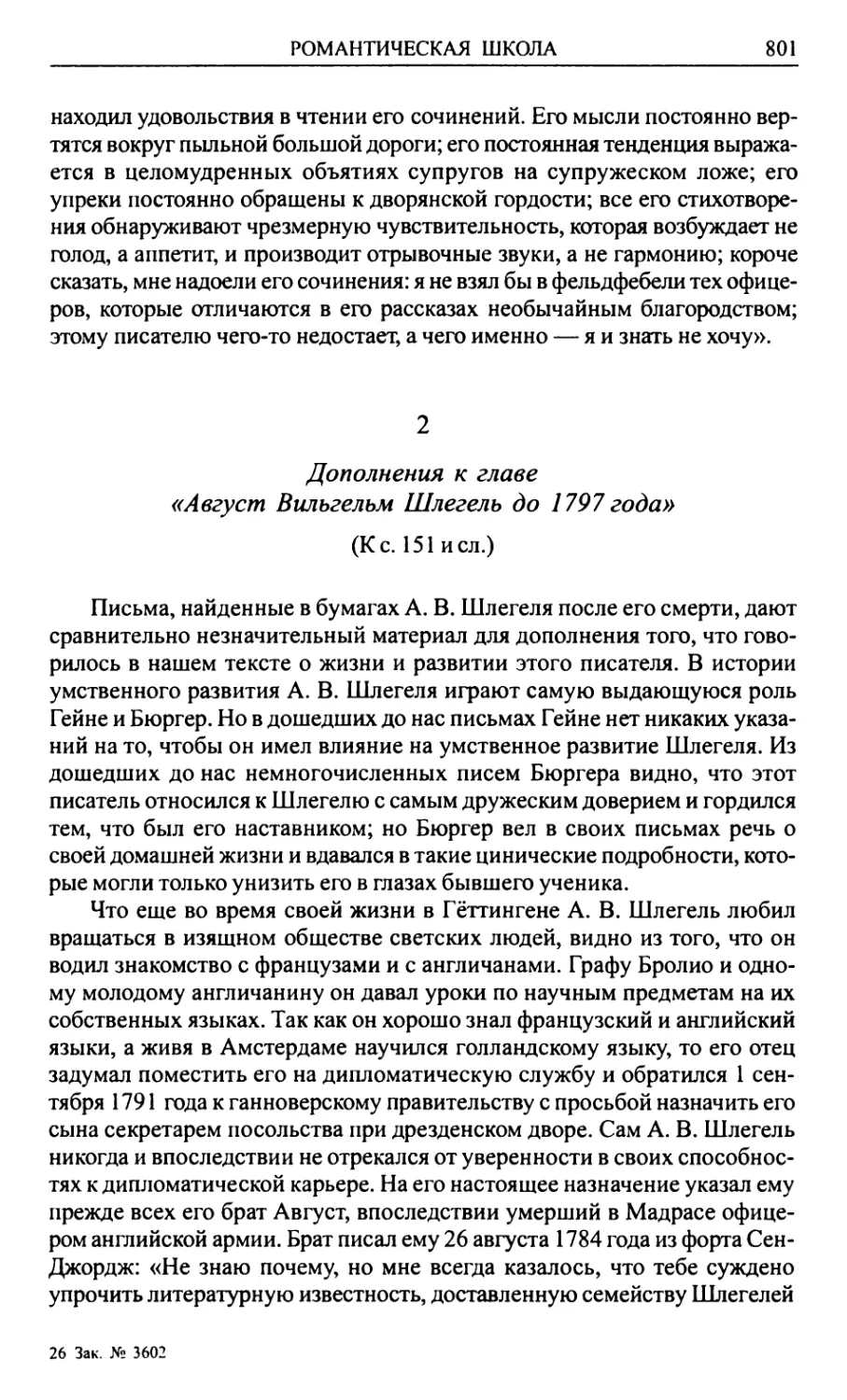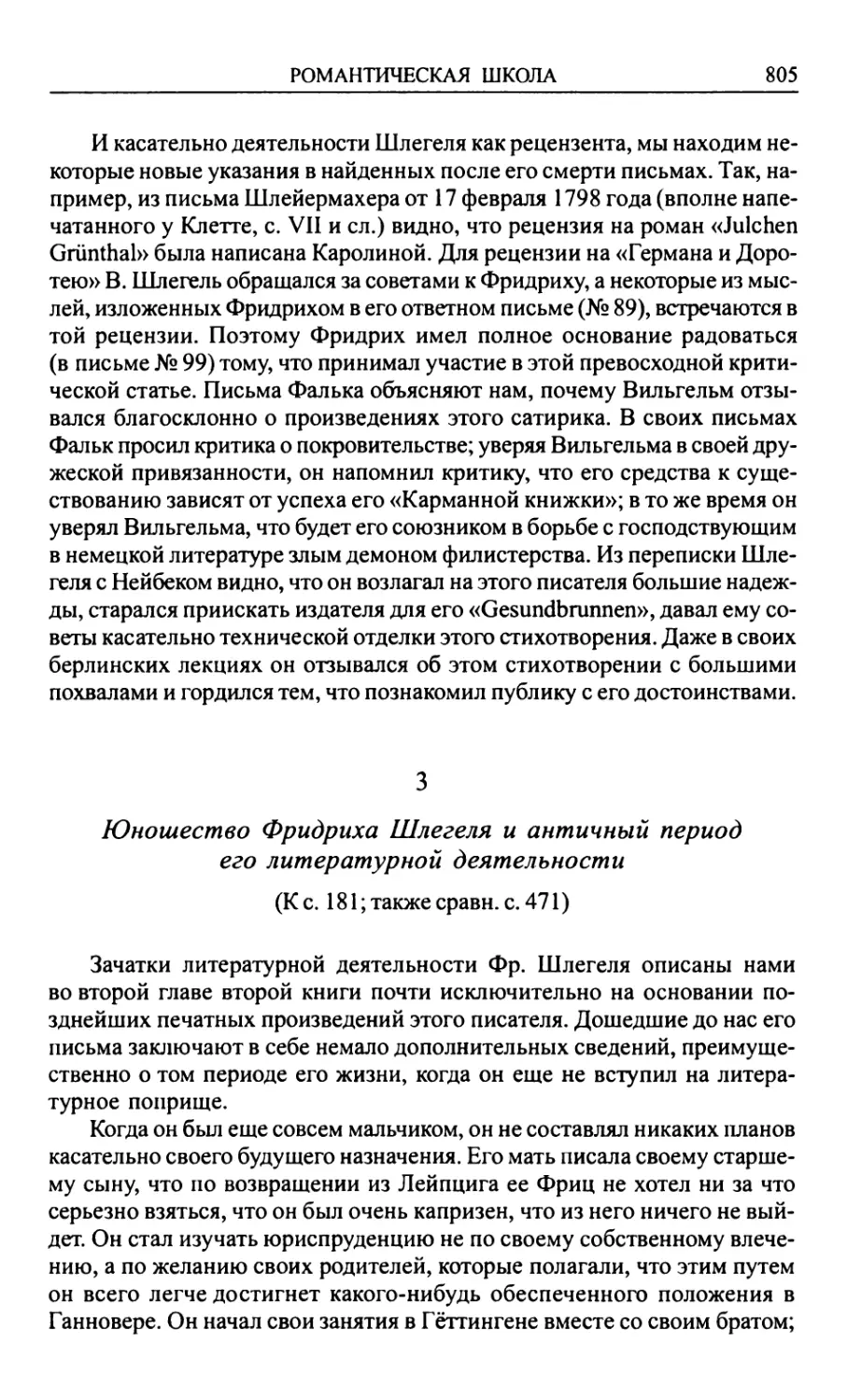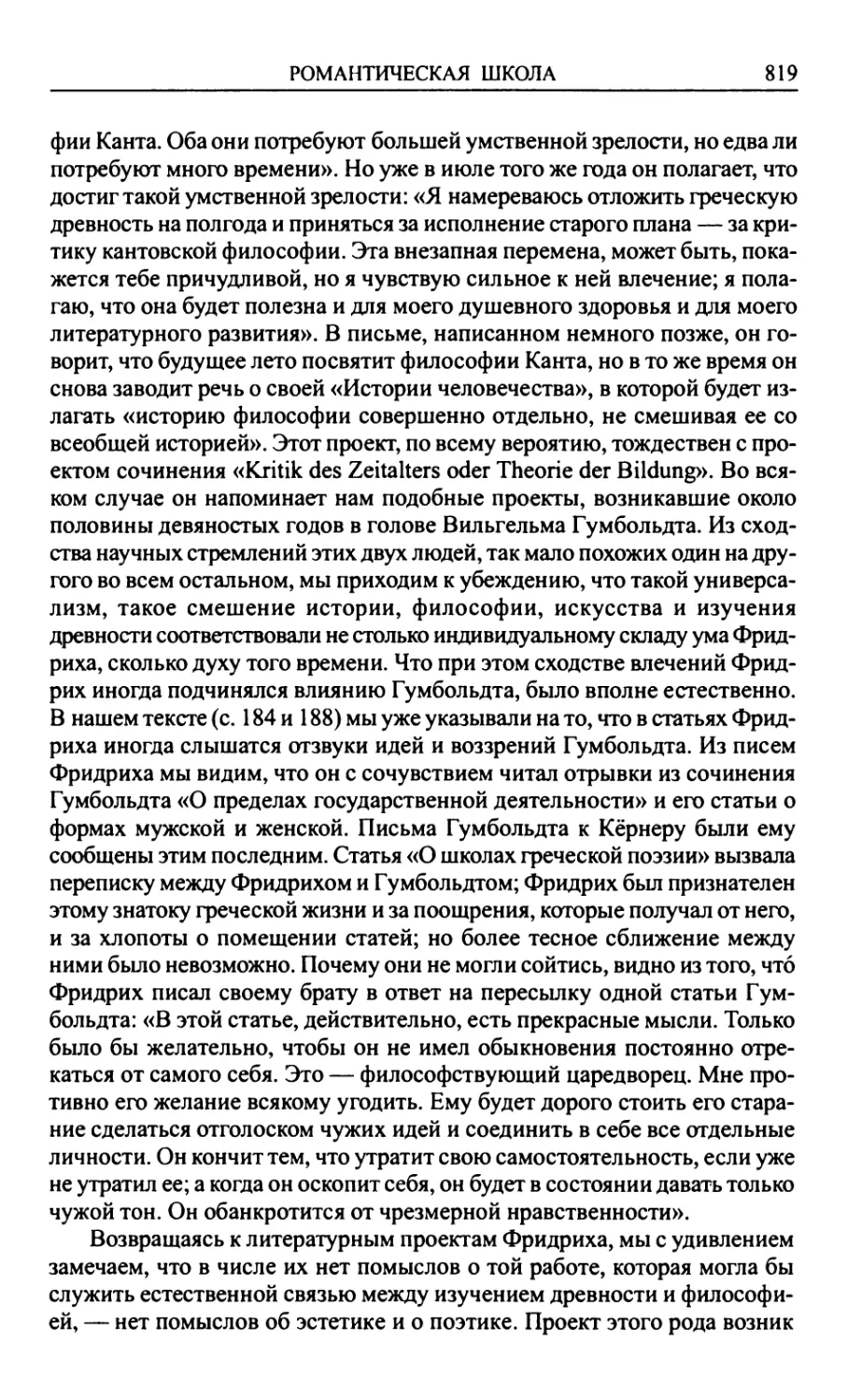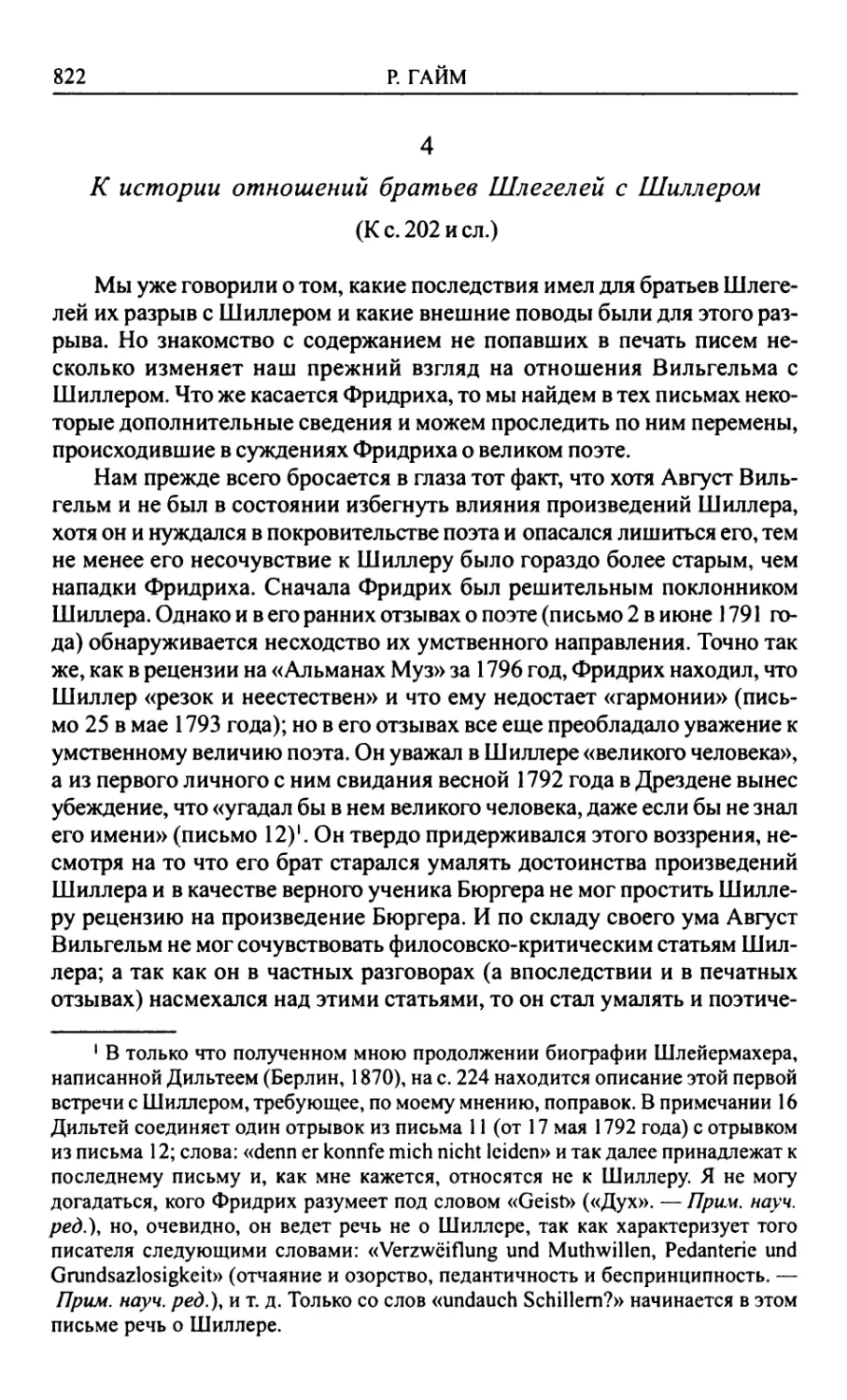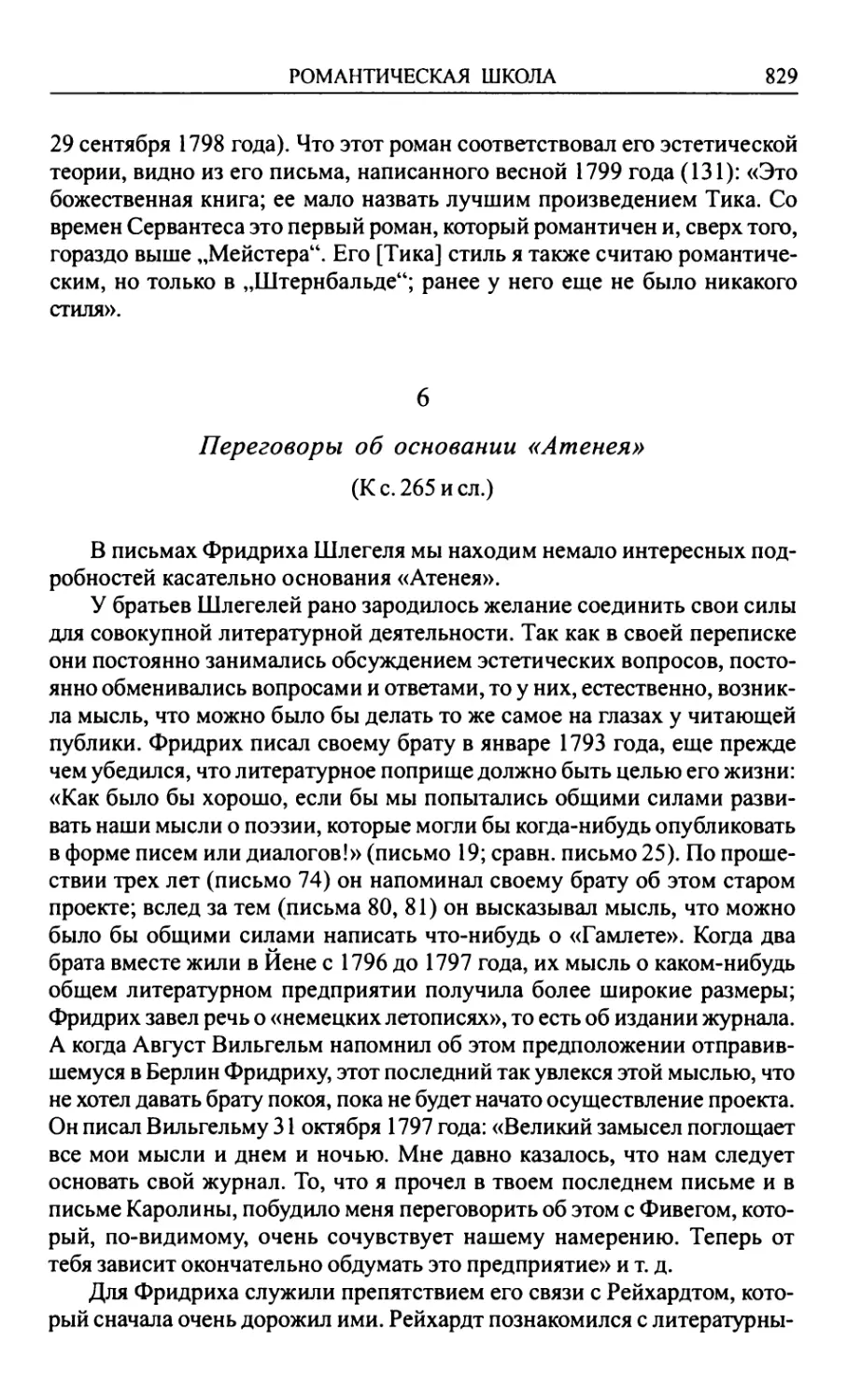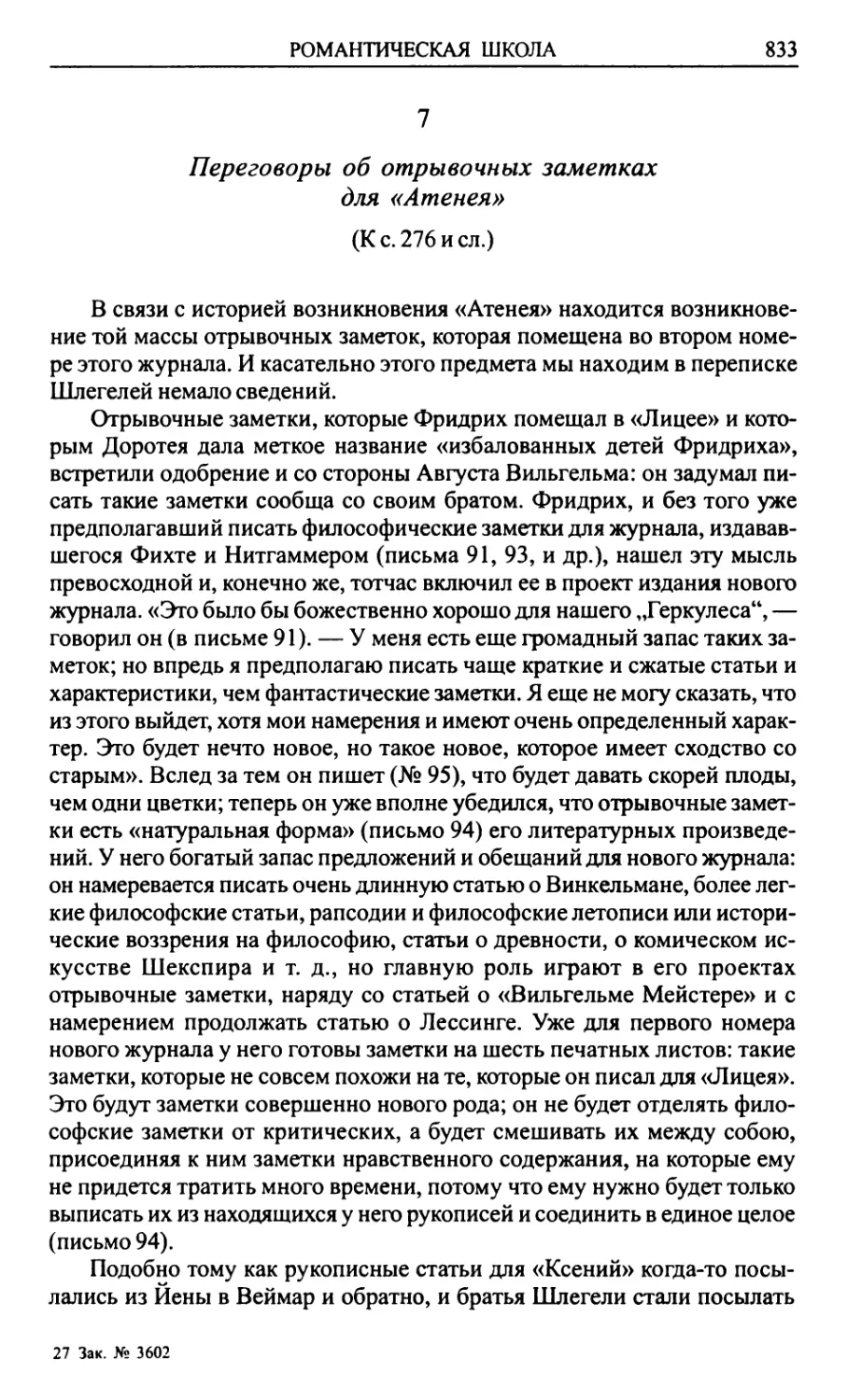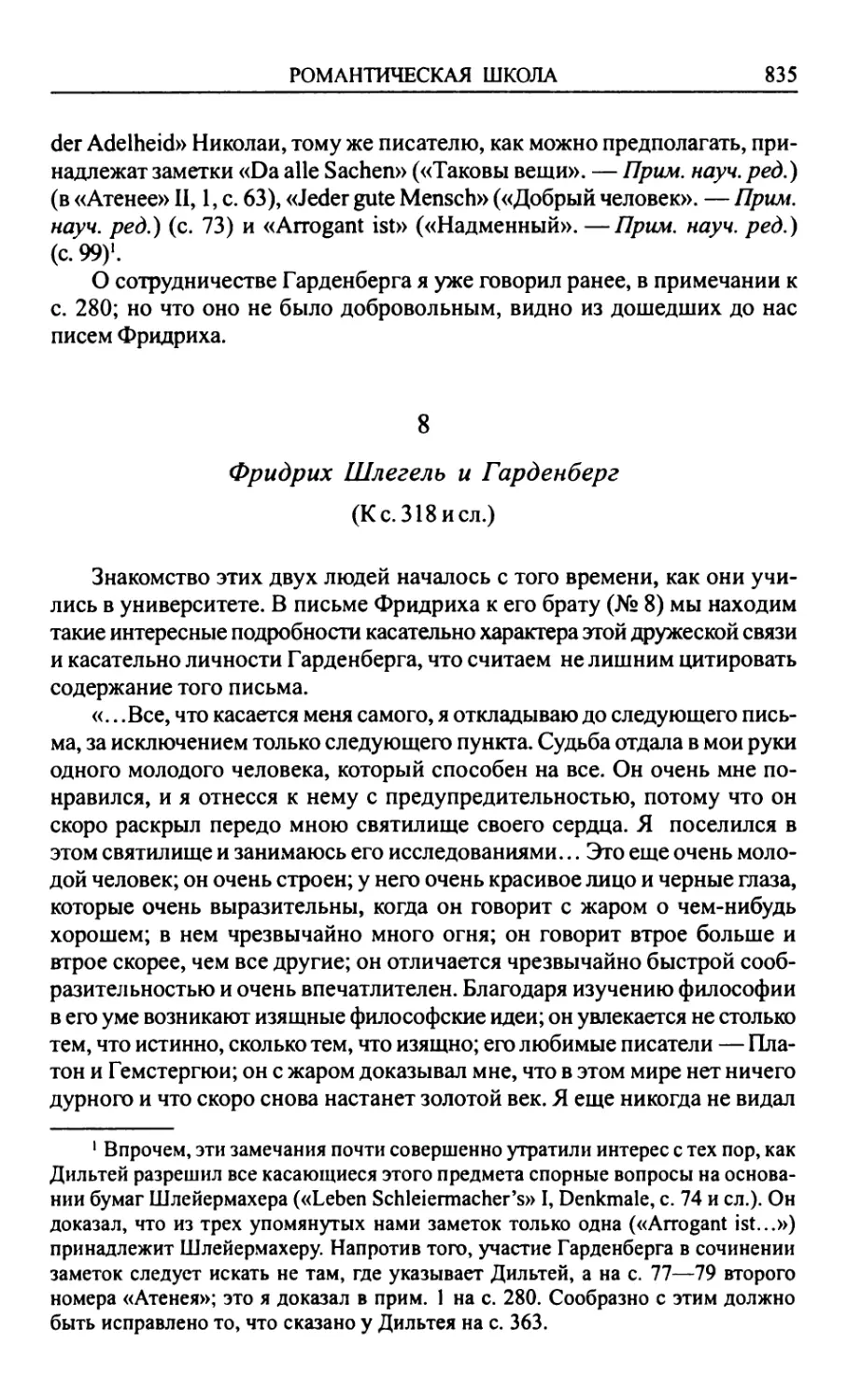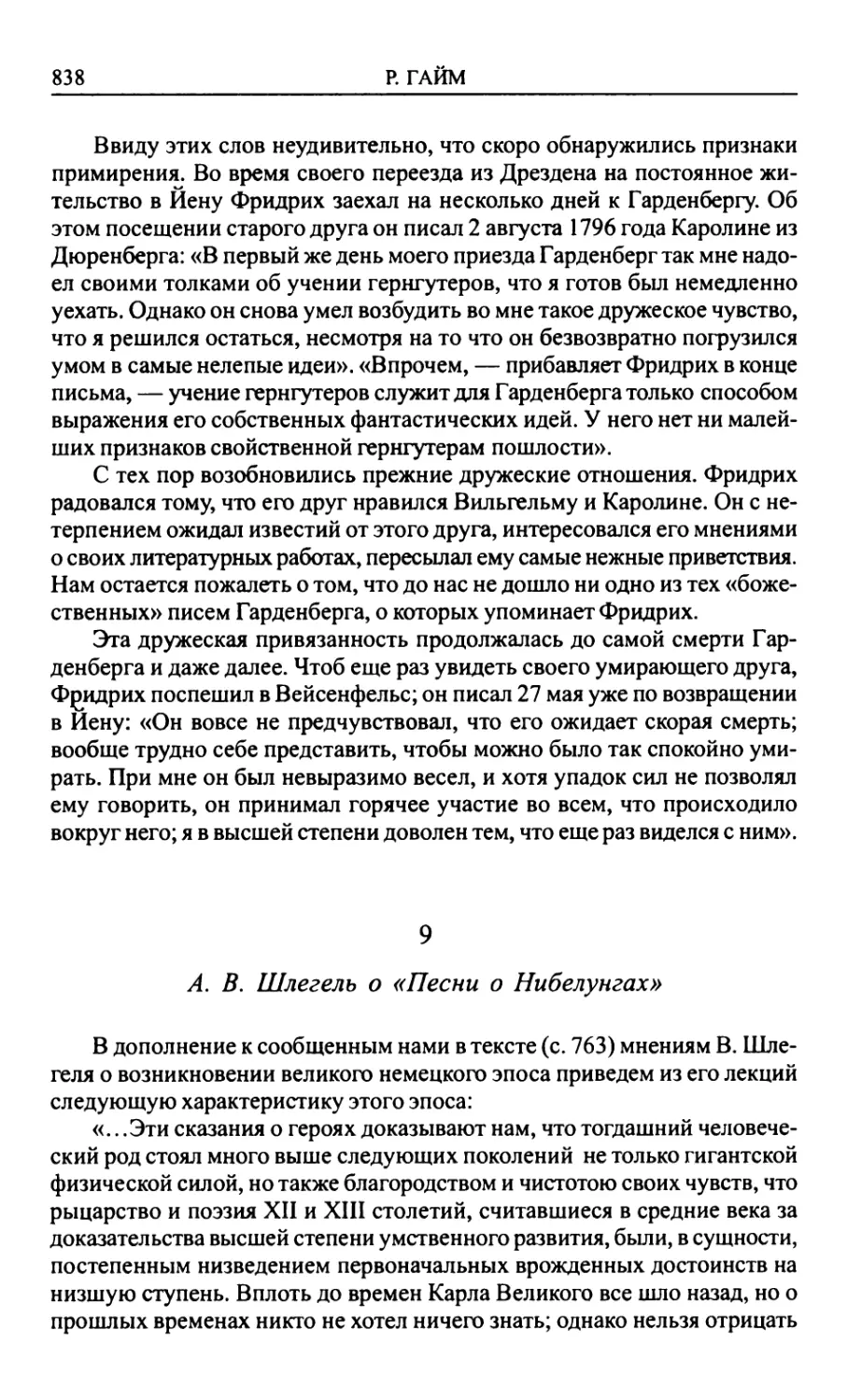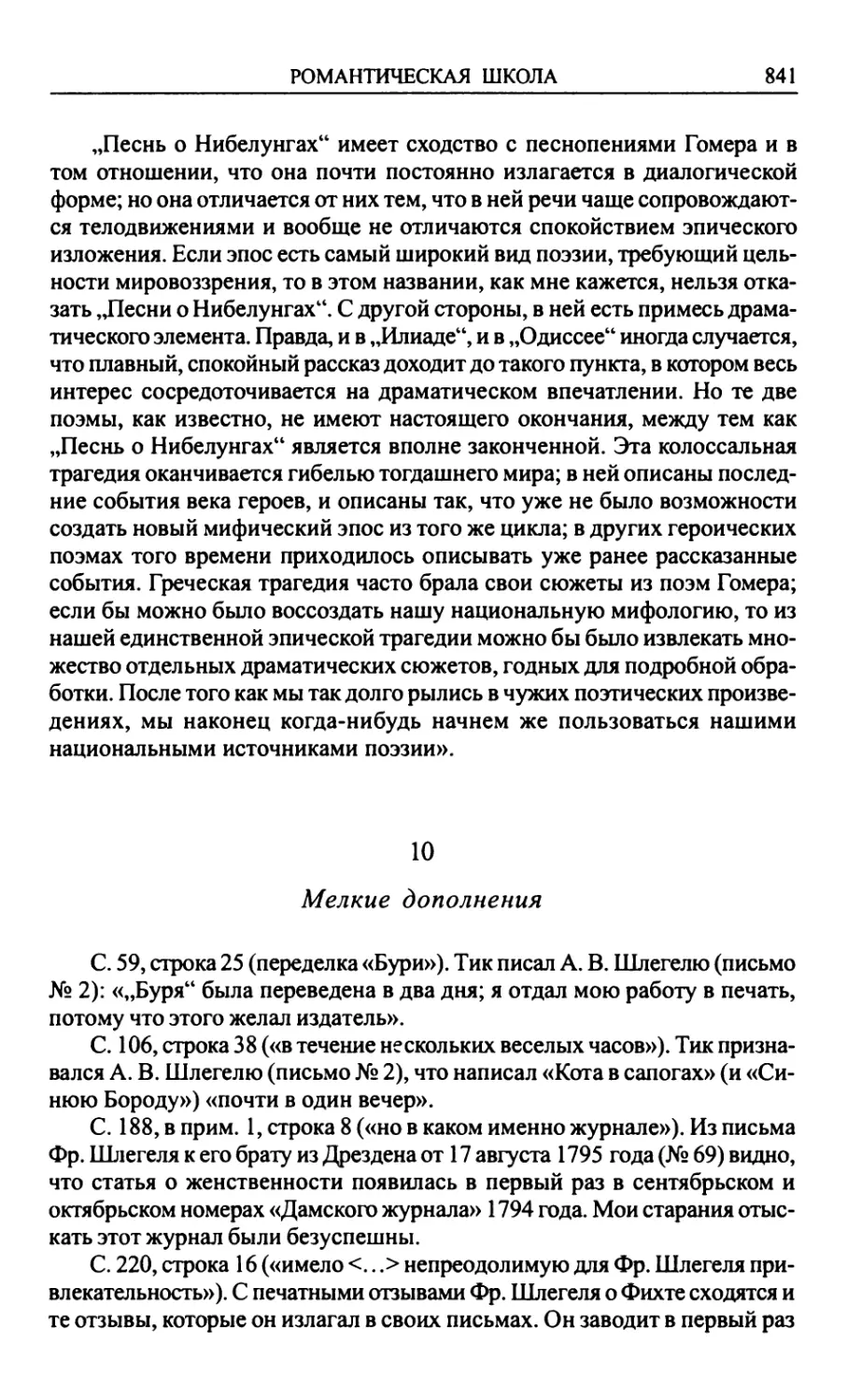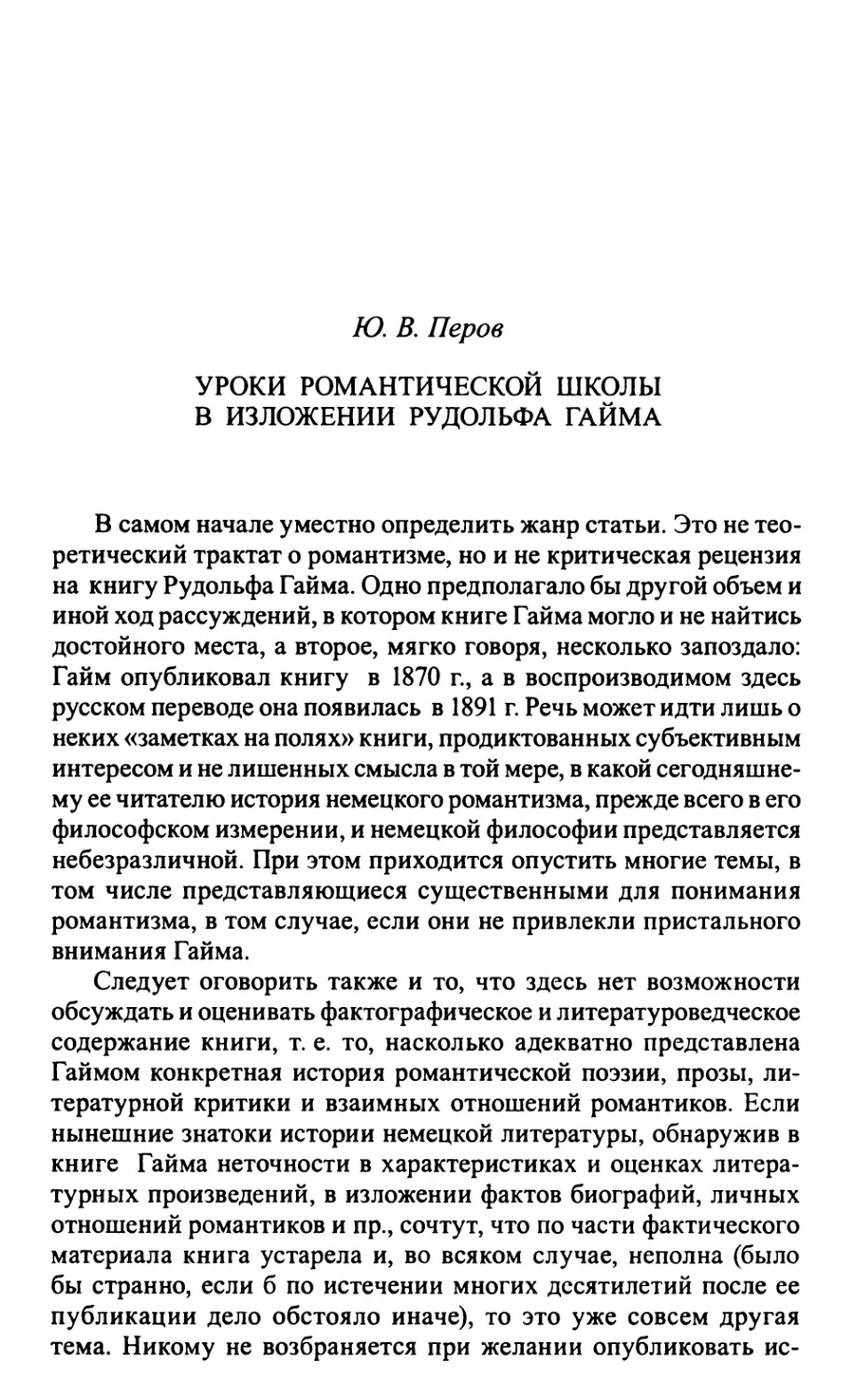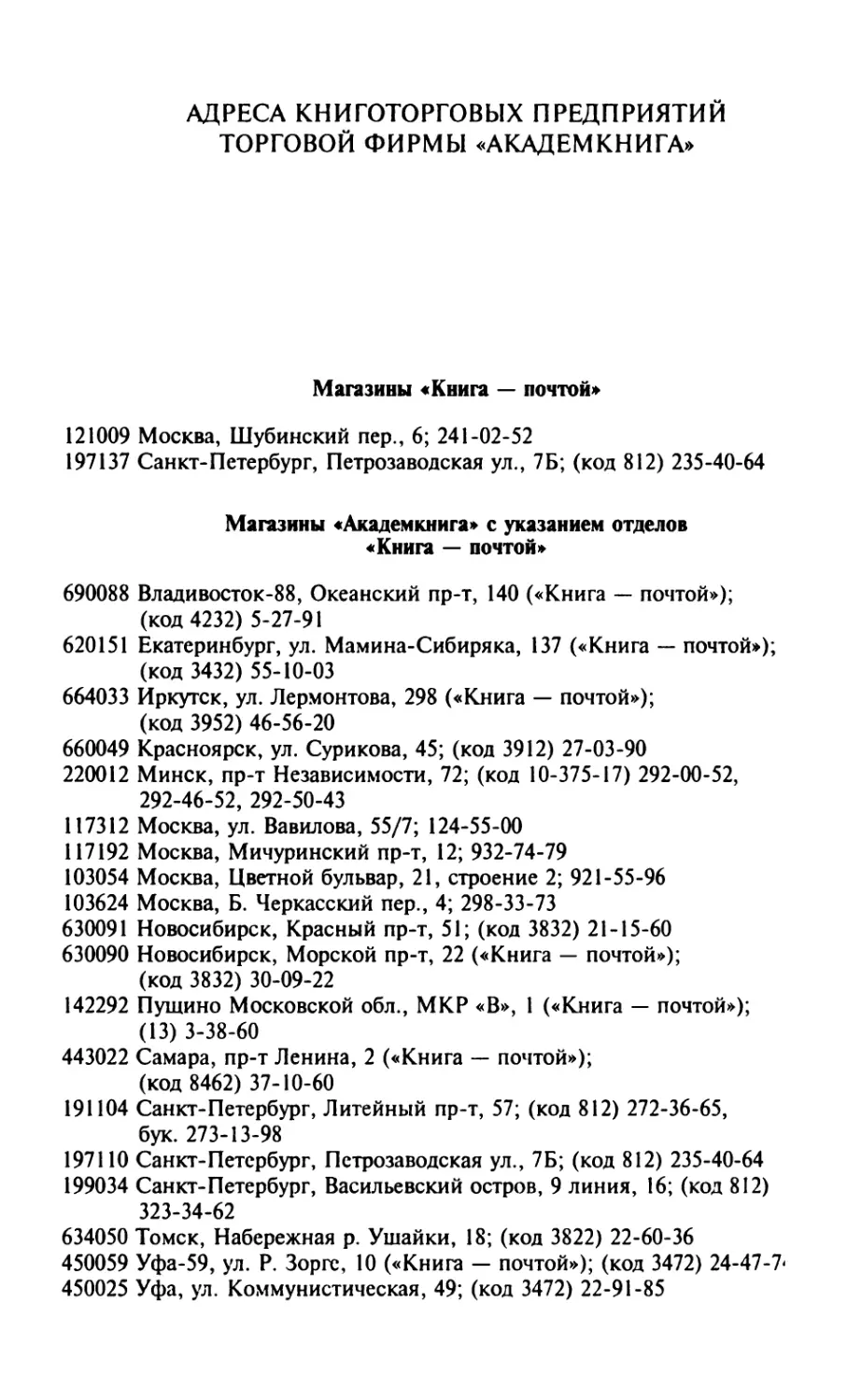Автор: Гайм Р.
Теги: художественная литература на отдельных языках теория литературы художественная литература
ISBN: 5-02-026908-5
Год: 2007
Текст
>ш^
Том 63
Rudolf Haym
DIE ROMANTISCHE
SCHULE
Рудольф Гайм
РОМАНТИЧЕСКАЯ
ШКОЛА
Вклад в историю немецкого ума
Перевод с немецкого
В. Неведомского
'&
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«НАУКА»
2006
УДК 821.0
ББК 83.0
П4
Серия основана в 1992 году
Редакционная коллегия серии «Слово о сущем»
В. М. KAMHEB, Ю. В. ПЕРОВ (председатель), К. А. СЕРГЕЕВ,
Я. А. СЛИНИН, Ю. Н. СОЛОНИН
Научный редактор
В. Ю. БЫСТРОВ
© Издательство «Наука», серия «Слово
о сущем» (разработка, оформление),
1992 (год основания), 2007
ISBN 5-02-026908-5 © Ю. В. Перов, статья, 2007
ПРЕДИСЛОВИЕ
Писатель, выступающий перед публикой, которая состоит из
сотен и тысяч читателей, обнаруживает большую
самоуверенность, поэтому мне всегда казались странными предисловия,
наполненные самооправданиями и обращенными к публике
просьбами о снисходительности. Пусть думают, что хотят, но я не
могу не высказать моего сознания, что я написал это сочинение
так хорошо, как только мог, с напряжением всех моих сил. Иначе
я не сопровождал бы его появление в свет изложенными далее
объяснениями. Во время возникновения этой книги некоторые
случайности были причиной отсутствия симметричности в ее
внешней форме; все равно: извинят мне или не извинят этот
недостаток, — во всяком случае я считаю своим долгом объяснить
его причины.
Почти третья часть моей работы уже была напечатана, когда
я сделал то, о чем следовало подумать ранее, — когда я заглянул
в оставшиеся после смерти А. В. Шлегеля бумаги, находившиеся
в Бонне в руках Эдуарда Бёкинга. Составленный А. Клетте (Бонн,
1868) список писем Шлегеля дал мне понятие об объеме и
важности этого сборника. Для меня не подлежало сомнению, как
следовало поступить. Я не колебался бы даже в том случае, если бы
содержание тех бумаг доказало негодность моей работы. Но
доставленная мне Бёкингом возможность познакомиться с
содержанием сборника привела меня к убеждению, что моему горю
нетрудно было помочь. Конечно, было бы лучше, если бы я с самого
начала своей работы имел под руками более богатый материал.
Однако и внезапно разбогатевший домостроитель не будет
разрушать только что возведенные стены: если он пожелает расширить
первоначальный план, если он начнет строить более высокое и
более просторное здание, то он сделает пристройки, которые подхо-
6
Р. ГАЙМ
дили бы к начатому зданию и придавали бы ему цельность и
целесообразность. И я прибегнул к пристройкам — к дополнениям
и поправкам ранее написанных глав моей книги. Я говорил сам
себе, что следует довольствоваться тем, что возможно, — что если
дополнения не улучшат внешнюю форму целого, то по крайней
мере будут заключать в себе интересные подробности, которые,
будучи помещены в тексте, придали бы ему чрезмерно широкий
объем. В дополнениях могут найти для себя место длинные
цитаты из шлегелевских писем, разные прибавки и поправки. Но само
собой разумеется, что и тут нужно было знать меру! Ведь стоит
только приступить к прибавкам и поправкам, — этой работе не
будет конца. Но именно в то время, когда я кончал свою книгу,
я узнал о выходе в свет биографии Шлейермахера, составленной
Дильтеем. Сколькому я мог бы научиться из этой книги и как
часто мог бы на нее ссылаться! Вместо того я смог извлечь из нее
только несколько дополнений к предпоследнему и последнему
печатным листам своей книги. Однако я даже не стараюсь
заглушить в себе сожаление о том, что не мог пользоваться таким
прекрасным изданием: ведь этому сожалению служит противовесом
мое сознание, что я шел самостоятельным путем иногда во вред
своему предприятию, а иногда, как мне кажется, на пользу. И в
некоторых других частях моей книги, может быть, окажутся
пробелы и неточности, когда выйдет в свет переписка Каролины
Шлегель, подготовленная к изданию Г. Вейцом (G.Waitz). Завтра
или в течение года, может быть, выйдет в свет еще какое-нибудь
издание. Но никакое историческое изложение не может быть
полным, и я желаю только одного: чтобы мое изложение оказалось
неполным ни по каким другим причинам, кроме таких
случайных и внешних пробелов!
Однако и эти слова похожи на извинения и самооправдания.
Поэтому я спешу кончить и ограничусь только замечанием о том,
что, по желанию издателя, к моему сочинению прибавлен
составленный не мною алфавитный указатель, который может
оказаться годным для читателя, желающего пользоваться моей книгой
только для справок*.
Галле, 1870 Р. Г.
* Указатель, приведенный в издании 1891 г., в настоящее издание не вошел
(прим. ред.).
ВВЕДЕНИЕ
Прошло ровно сто лет с тех пор, как народилось поколение,
давшее немецкой литературе то направление, которое мы
намерены здесь описать. Духовные вожди этого поколения лишь
недолго составляли настоящую школу или тесно сплоченную партию,
а именно с этой партией было в первый раз связано название
романтизма, впоследствии служившее характеристикой для целого
литературного направления. Мы попытаемся уяснить сущность
этого направления путем чисто исторического расследования его
зачатков.
То, что называют романтизмом, не внушает нашим
современникам никакого сочувствия. Конечно, уже далеко то время, когда
влиятельное большинство немецкой нации со страстью и с
ненавистью восставало против романтизма и, чтоб побороть его,
считало нужным прибегать к огню и мечу. Но у нас еще слишком
свежо воспоминание о том периоде нашей новейшей истории,
когда и науке, и государству, и церкви грозило вторжение
окрашенных романтизмом антилиберальных идей, опиравшихся на
материальную силу. Так как вожди и последователи романтического
направления в литературе высказывали явное сочувствие к
средним векам, к их грубым верованиям, к их непрочным
государственным учреждениям, к их дикому, но очень лоэтичному
индивидуализму, то возрождение этих тенденций, по-видимому,
оправдывало борьбу с романтизмом на жизнь и на смерть.
Стремления реакции были романтичны, а потому романтиком считался
всякий, кто наперекор требованиям нового времени упорно
придерживался старого направления идей с целью снова вызвать его
к жизни искусственными средствами. Борьба с этими
стремлениями сделалась еще более ожесточенной вследствие того, что по-
8
Р. ГАЙМ
борники умственной свободы (как бы это явление ни казалось
странным, оно было вызвано историческим законом, постоянно
снова предъявляющим свои требования) старались загладить своей
горячей полемикой те заблуждения, в которые сами когда-то
впадали: ведь им прежде всего нужно было очистить самих себя от того
романтического отпечатка, которым они когда-то бессознательно
окрашивали и свою логику, и все свои радикальные воззрения.
Но это время уже прошло. О борьбе, которая велась в течение
сороковых годов, мы вспоминаем как о тяжелом сне, от которого
мы с трудом пробудились. Уже началась более серьезная и более
полезная борьба — началась полная радужных надежд работа во
имя прогресса на почве каким-то чудом приобретенной
национальной независимости. Нам все еще приходится заводить речь о
романтизме, как о призраке, напоминающем такое умственное
направление, которое когда-то было господствующим; но мы уже
говорим о нем без раздражения, потому что он уже не внушает
нам никакого страха, — мы говорим о нем хладнокровно, как о
теоретической отвлеченности, которая уже не может причинить
нам никакого вреда. Его заменили другие лозунги и другие
названия партий, преследующих иные цели. Под словом «романтизм»
мы разумеем теперь все недействительное и несущественное, —
все, что неспособно к жизни и недостойно жизни. Мы убеждены,
что дух романтизма достаточно подавлен в поэзии и в науке, в
государстве и в обществе. Так как на нас лежит обязанность
удовлетворять требования нашего времени, то нам не приходится жить
туманными иллюзиями, увлекаться причудливыми продуктами
фантазии и задаваться такими целями, которые принадлежат
прошлому; мы должны с благоразумием и с твердостью изучать то,
что может быть полезно для наших современников, и
мужественно идти вперед по пути прогресса.
Благодаря такому умственному настроению мы, как кажется,
вполне способны изложить сущность романтизма с чисто
исторической точки зрения, объяснить причины возникновения
романтической школы и сделать беспристрастную оценку ее
направления, — того, что в ней есть долговечного, и того, что в ней было
только временным. Говоря, что такая попытка сделалась
возможной только в наше время, мы должны, с другой стороны,
заметить, что она вполне входит в сферу тех задач, разрешение
которых предстоит нашему времени. И изучению литературы должно
принести пользу то влечение к реализму и ничем не прикрытой
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
9
истине, которое начало проникать в наши общественные
учреждения, во все исследования и произведения нашего времени. При
нашем стремлении к прогрессу мы, между прочим, обязаны
выяснить, при каких условиях совершалось наше умственное
развитие и какое умственное наследство перешло к нам от наших
предков. История умственной жизни немецкого народа
составляет самую замечательную и самую важную главу в описании
великих эпох немецкой истории. Только очень незначительную ее часть
составляет выступление тех идеалистов, которые на пороге от
восемнадцатого столетия к девятнадцатому усвоили поэтические
идеи Гёте и Шиллера и философские идеи Канта и Фихте для
того, чтобы придать им более полное радикальное развитие.
Задуманное нами описание зачатков и полного развития
романтического направления в литературе будет небольшим вкладом лишь
в историю немецкого ума.
Для такого описания уже давно были сделаны
подготовительные работы другими писателями. Чем чаще и чем внимательнее
мы изучаем «Историю немецкой поэзии» Гервинуса, тем более
мы восхищаемся истинно ученым характером этого сочинения и
умением автора делать выводы из огромной массы собранного
им материала. Гервинус ведет речь о романтической поэзии
только в небольшой заключительной главе, которая, по его
собственному признанию, не отличается полнотой изложения. Однако,
несмотря на недостаток точности в подробностях, он объяснил
мотивы и развитие, влияние и характеристические особенности
этого литературного направления с такой широтою взгляда, что с
ним наряду не может стоять ни один из позднейших писателей.
Не оправдывая и не обходя молчанием поэтические и
нравственные недостатки тех идеалистов, он столь же верно, сколь ясно
доказал, что элементами для романтизма служили идеи
гениального периода семидесятых годов, что последователи новой
школы были поборниками немецкого идеализма, так как они
старались распространять, далее развивать и даже применять на
практике идеи наших двух великих поэтов, и в особенности идеи
Гёте. Он доказал, что в романтизме получили более полное
развитие только ранее возникшие идеи, что Винкельман и Лессинг,
Клопшток и Виланд были предшественниками романтиков, что
эти последние пользовались новой филологией и что на их
литературной деятельности отразилось влияние шиллеровской
критики, гётевской поэзии, гердеровской даровитости и мастерских
10
Р. ГАЙМ
переводов Фосса. Гервинус указал в своем очерке и на смешение
поэзии с наукой, и на переход от поэзии к религии, и на другие
выдающиеся черты нового направления; само собой разумеется,
что он, кроме того, не оставил без внимания странного
противоречия между притязаниями романтиков на всемирное господство
в сфере поэзии и их отвращением к действительности, которое
объясняется главным образом тем, что им внушала отвращение
неурядица в тогдашнем строе государственной жизни.
Этой последней точки зрения придерживался и Г. Геттнер в
своем небольшом сочинении «О романтической школе в ее
внутренней связи с произведениями Гёте и Шиллера». Как он сам о
том заявляет, он постарался объяснить историческое значение этой
школы в опровержение пристрастных отзывов о ней журнальной
критики; поэтому его сочинение отличается не полнотою и
многосторонностью суждений, а талантливым проведением только
одной точки зрения. Положение немецкой поэзии, как
классической, так и романтической, объясняется, по его мнению,
прискорбным разладом между требованиями искусства и ничтожеством
действительной жизни; он очень верно и вполне убедительно
проводит ту мысль, что искусство и жизнь питались ложным
идеализмом, что зародыши романтической школы уже таились в
поэтическом складе ума Гёте и Шиллера, но разрослись в этой школе
в фантастически-мистический субъективизм.
Та же точка зрения, подкрепленная большой начитанностью,
играет важную роль в «Истории новейшей немецкой
литературы» Юлиана Шмидта, очень метко характеризующей некоторые
отдельные произведения романтической школы. В своем
критическом разборе этих произведений автор постоянно старается
обходиться без составных элементов историографии даже в тех
случаях, когда без них нельзя обойтись. Но именно потому он и
обращает главное внимание на фактическую сторону
литературных явлений и на их прагматическое объяснение. Кроме того, его
сочинение составляет ценный вклад в историю романтизма
благодаря беспристрастию и меткости его суждений, благодаря
остроумию и здравомыслию его критики, хотя и нельзя не упрекнуть
его за то, что он не указывает внутренней связи между
рассматриваемыми им литературными явлениями, не старается обозреть
все эти явления в их совокупности.
Однако, как ни велики заслуги всех названных нами
писателей, прочный фундамент для настоящей истории романтической
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
11
школы впервые заложен неутомимым трудолюбием и
несравненной добросовестностью Коберштейна. Благодаря тщательной
разработке всех мельчайших подробностей он впервые поставил
историю романтизма на один уровень с историей предшествующих
периодов немецкой литературы. Без его помощи мы не могли бы
взяться за цельное и подробное описание возникновения
романтизма и на каждом шагу осознаем, как много ему обязаны.
Наше изложение отличается от всех ему предшествовавших
преимущественно в одном пункте. За исключением Геттнера,
искавшего зачатки романтической школы исключительно в сфере
поэзии, все прежние писатели не оставляли без внимания
внутреннюю связь поэтического элемента с научными и
практическими стремлениями. Романтики так настойчиво сами заявляли, что
в их смелых нововведениях речь шла не об одной только поэзии,
а также о совершенно новом умственном направлении, для
которого поэзия служила только средоточием: их стремление к
идеалистическому универсализму и к энциклопедизму было до такой
степени очевидно, что даже при более узком воззрении на
историю литературы приходилось не терять из виду ни философских
теорий, ни практических требований религии и нравственности.
Отсюда возникла необходимость придерживаться той культурно-
исторической точки зрения, которую Юлиан Шмидт старался
проводить в истории литературы; но при этом не следует забывать,
что литература какого бы то ни было народа или какого бы то ни
было периода заключает в себе не всю культуру этого народа или
этого периода, а лишь отражает ее, как в зеркале, в своих
прозаических и поэтических произведениях. С самого начала великой
эпохи в истории немецкой литературы поэзия и философия
работали сообща и взаимно дополняли одна другую. Но никогда их
взаимная внутренняя связь не была так же сильна, как в
стремлениях основателей романтической школы. Чем слабее были корни,
пущенные в то время поэзией в почве практической жизни, а
философией в почве реализма, тем более и поэзия и философия
старались сплетать эти корни, старались извлекать для себя пищу
одна из другой. Именно в этой, доведенной до крайности,
всеобщности стремлений, в этом слиянии фантазии с мышлением и
заключается сущность романтизма; этим же объясняется и тот
факт, что с романтизмом могли уживаться самые чистые
проблески духовной жизни — влечение к благочестию. А так как в
романтизме вступали между собой в союз поэзия, философия и ре-
12
Р. ГАЙМ
лигия, то и в описании этого революционерского идеализма
история поэзии должна соединяться с историей философии и
религии. История романтизма не может быть основательно изложена,
если наряду с тем умственным движением, которое сделало
возможным переход от гётевской поэзии к поэзии Тика, не будет
обращено должного внимания на то умственное движение, которое
сделало возможным переход от философии Фихте и Шеллинга
и от пиетизма братских общин к религиозным идеям Шлейерма-
хера1.
При таком широком воззрении на историю романтизма,
естественно, увеличиваются все те затруднения, которые приходится
преодолевать во всякой истории литературы. Хотя эта отрасль
историографии и имеет то преимущество, что в ней можно
ссылаться на подлинные документы, на произведения поэтов и
философов, но при оценке этих произведений недостаточно
ограничиваться объяснением их влияния на деятельность народов и
государственных людей. В этом заключается крайне сложная и
крайне трудная задача. Ведь ни в какой другой отрасли истории
самые распространенные идеи, воззрения и формы искусства не
находятся в такой тесной связи со складом ума и с житейской
обстановкой отдельных личностей. Если верно то, что конечная цель
истории литературы заключается в описании умственной жизни
народа, отражающейся в его литературных произведениях, то не
менее верно и то, что эту умственную жизнь не следует
рассматривать с односторонней точки зрения — только как развитие идей,
совершающееся вследствие присущей этим идеям жизненной
силы. Ведь всякая идея действует на другие лишь через
посредство восприимчивости и даровитости мыслящих и
самостоятельно работающих личностей. Поэтому только история этих
личностей может служить основой для истории того литературного
направления, которое они поддерживали или которое они
создали. Представители всякого литературного направления начинают
с роли учеников, прежде чем сделаться наставниками и
руководителями. Новые идеи, которые они проповедуют, развиваются
1 Выходившие в свет с 1862 до 1864 года в качестве приложений к
программам раштаттского лицея три статьи И. Г. Шлегеля под заглавием
«Новейший романтизм в его возникновении и в его отношениях к философии Фихте»
лишь отчасти дали нам понять то, что обещало их заглавие. Мы находим здесь
большей частью уже устаревшие точки зрения, но не находим того, что более
всего желательно, — подробного исторического анализа.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
13
по мере того, как они сами достигают зрелого возраста, а потому
и характеристика этих идей невозможна без предварительного
объяснения тех индивидуальных влечений, из которых они
зародились. При этом имеют свою долю влияния как реальные, так и
духовные мотивы: время и место рождения писателя, его
происхождение и господствующие в его семействе понятия,
обстановка семейной жизни и школа, личные отношения и занятия, даже
какая-нибудь случайно попавшаяся в руки книга. Но все эти
впечатления перерабатываются в душе юноши и отражаются в ней
сообразно с врожденными влечениями. Поэтому, описывая жизнь
замечательных людей, мы должны следить и за преходящими в
ней явлениями, и за ее общим характером, — мы должны вникать
в характеристические особенности индивидуума, во все, что ему
приходилось пережить и перечувствовать. На его литературные
произведения следует смотреть только как на соединительные
точки, в которых сходятся самые разнообразные жизненные нити.
Эти произведения имеют только внешний вид твердого осадка всех
умственных стремлений автора. Их тщательное изучение в связи
с тем, что им предшествовало и что за ним следовало, изучение
их возникновения и влияния и составляет главную задачу
исторического исследования. Мы должны объяснять причины
литературных явлений, должны, не ограничиваясь перечислением
фактов, объяснять, каким путем они совершались. Само собой
разумеется, что такую задачу можно исполнить только
приблизительно. Ведь в большинстве случаев мы можем проследить
процесс литературного творчества только с помощью догадок,
потому что мы в конце концов никогда не будем в состоянии разогнать
того непроницаемого мрака, которым покрыт момент зарождения
новой идеи. Впрочем, благодаря тому что романтики часто
обменивались в своих письмах откровенными признаниями, мы
поставлены при описании возникновения романтизма в более
выгодное положение, чем при описании многих других периодов
нашей литературы. Привычка анализировать свою собственную
деятельность и отдавать самим себе отчет в целесообразности
своих литературных произведений составляет отличительную
особенность романтиков и вместе с тем одну из слабых сторон их
характера. Но именно благодаря тому, что их умственные
стремления, совершенно отодвигавшие на задний план жизненные
интересы нации, не знали никаких пределов, благодаря тому что их
умственный организм был доведен до болезненной раздражитель-
14
Р. ГАЙМ
ности, мы в состоянии составить себе в высшей степени
поучительное понятие об основных началах их школы. У них все нервы
немецкого ума точно обнажаются перед взорами наблюдателя,
а так как они сплетали поэзию с философией и с религией, то эти
разнообразные стремления оказывают наблюдателю ту услугу, что
взаимно освещают одно другое и дают возможность обрисовать
их с достаточной наглядностью.
Изучение характеристических особенностей целого
поколения дает нам самое ясное понятие о том, в какой мере вся жизнь
индивидуума находится в связи с жизнью всего народа и в какой
мере корень всех умственных влечений кроется в его натуре. А те
люди, которые принадлежали к семье романтиков и жизнь
которых мы намереваемся описать, принадлежали к одному и тому же
поколению. Август Вильгельм Шлегель родился в 1767 году,
а Шеллинг в 1775-м, — стало быть, один из первых
проповедников романтизма был только восемью годами старше одного из
последних. Это обстоятельство имело важное влияние на
умственное развитие романтиков. Оно объясняет нам, почему все
романтики были проникнуты сознанием, что для немецкой литературы
наступила пора своеобразного развития, что все поэтические
произведения и критические статьи писались не для приятного
препровождения времени, а для того, чтобы вызвать к жизни то, что
было своеобразного в духе немецкой нации. Ведь
самостоятельное достоинство поэзии уже было поставлено выше всяких
сомнений благодаря высокому полету поэтических вдохновений
Клопштока; Лессинг уже успел передать немецкой литературе
благородную прямоту своего собственного независимого характера,
а вместе с тем стремление к высшим сферам мышления и
мужественную готовность доискиваться истины, вечно манящей нас
вперед; даже поверхностный и нередко употреблявшийся во зло
талант Виланда был полезен тем, что укрепил веру во
всемогущество поэзии и в ее способность служить органом для самых
возвышенных умственных влечений. Поэзия Клопштока
пользовалась почти безусловным уважением в то время, как появились
на свет представители романтизма. Лессинг достиг в то время
апогея своей эстетико-критической деятельности. Произведения
Виланда находили самое большое число читателей, а их автор был
любимцем образованного общества. Однако уже в то время
начинали шевелиться новые идеи, примыкавшие частью к
произведениям Клопштока, частью — к литературным стремлениям англий-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
15
ских и французских писателей, и стала казаться слишком
стеснительной обязанность подчиняться благоразумным требованиям
нравственности и точно установленным правилам. В той сфере, в
которой все было устроено по указаниям рассудка и которой до
тех пор все были довольны, стали мало-помалу обнаруживаться
пробелы и тогда внезапно возникло желание сбросить с себя все
прежние стеснения. Из искусственно регулированных
общественных порядков отлетела душа, и возникло стремление к тому, что
более согласно с природой. Стремившемуся вперед юношеству
уже было недостаточно той борьбы, в которой сила характера
раздвигает узкие рамки обыденной жизни: оно стало требовать всех
человеческих прав, необходимых для всестороннего человеческого
развития, для употребления в дело всех творческих сил
человеческой натуры. Эти смутные желания стали сказываться прежде
всего в постоянно усиливавшемся пиетизме, в пророческих
предсказаниях Гамана и Лафатера. Они разрослись в уме Гердера в
необозримую массу научных задач. Они высказывались с
увлекательным красноречием в юношеских стихотворениях Гёте. Они
постоянно боролись в уме Якоби с желанием подчиняться уже
отжившим требованиям просвещенного ума.
Первые шумные проявления этих бурных стремлений уже
были пережиты в то время, когда основатели романтической
школы воспитывались в университетах и, стало быть, находились в
том возрасте, в котором юношеские идеалы начинают приносить
плоды. Эти стремления высказывались яснее всего в сочинениях
Гердера. Единственной темой его литературных произведений был
живой человек, подобно Протею, одаренный от природы
способностью к самым разнообразным превращениям. Весь талант
Гердера заключался в способности глубоко вдумываться во все
влечения человеческого сердца, во все временные и местные условия
человеческого существования, во все формы выражения
человеческих мыслей и чувств, в отличительные особенности всякой
эпохи и нации, в нравы и в религию, в свойства языка и поэзии,
как целых народов, так и отдельных личностей. Поэтому его
критика отличалась отпечатком гуманности и, так сказать,
переливала все содержание поэтических произведений в восприимчивую
душу читателя. История принимала в его глазах еще небывалые
размеры, а исторические явления он умел группировать не в
бесцветное, а в полное жизни целое. Но в то время как Гердер
придавал понятиям о человечности беспредельную ширину, из поэти-
16
Р. ГАИМ
ческих уст Гёте раздавались такие звуки, которые
свидетельствовали о врожденном беспредельном богатстве его поэтической
натуры. Наряду с восприимчивым гением этой эпохи появился
гений производительный. В «Гёце», «Вертере», «Фаусте» и
множестве глубоко прочувствованных лирических стихотворений
выразились с неподражаемой энергией все бурные стремления
того времени. Но Гёте на этом не остановился. Из любимца
природы он сделался ее поверенным: ее вечно неизменным законам
он заставил подчиниться свою обуреваемую страстями душу.
Вдумываясь в скрытый от человеческих глаз процесс ее творческой
деятельности и стараясь подражать ее спокойной мудрости, он
стал создавать более согласные с ее законами, более законченные
и более гуманно-изящные произведения. От бурных стремлений
юности он перешел к спокойному здравомыслию зрелого
возраста. «Ифигения» и «Тассо» были проникнуты иным духом,
нежели «Гёц» и «Вертер», а именно они и блестели в глазах нового
поколения на горизонте немецкой поэзии наряду с более старыми
произведениями поэта и наряду с первыми, полными страсти,
произведениями Шиллера. Но этому постепенному переходу от
бурных стремлений так называемого гениального периода к более
полному и более естественному наслаждению изящным всего
более содействовало знакомство с древностью. С тех пор как Вин-
кельман объяснил значение древних произведений искусства,
образованность и поэзия греков сделались более понятными для
немецких писателей; они стали находить в произведениях Гомера и
Софокла живое изображение человеческих чувств и верное
понимание вечных законов природы. Под небом Италии гений Гёте
достиг своей полной зрелости, а на переводе Гомера Фосс
доказал способность немецкого ума усваивать формы иностранной
поэзии с художественной верностью.
Это знакомство с художественным миром греков служило,
с другой стороны, вознаграждением за бесплодную мелочность
тогдашней общественной жизни, а потому и служило уздой для
не знавшей никаких пределов страстности, для чрезмерных
увлечений фантазии, для всех умов, стремившихся в туманную
беспредельную даль. Другой уздой, более суровой и с трудом
подчинявшей себе беспокойные и впечатлительные умы, была
философия. Неподражаемое глубокомыслие Канта перекинуло мост
между прежними понятиями о просвещении и новыми,
искавшими для себя опоры в совокупности человеческих особенностей и
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
17
в гениальности. Направленный на внутренний мир анализ кан-
товской критики систематически далее развивал критику Лессин-
га; он сузил и ослабил притязания гениальности, но, с другой
стороны, побудил умы сознательно стремиться за пределы всего
естественного и конечного. Благодаря своему здравому смыслу и
своей глубоко нравственной натуре Шиллер сочувствовал в этом
случае Канту. Находя для себя опору в Гёте и близком знакомстве
с древностью, он сделался переводчиком воззрений Канта и внес
в сознание долга пылкое стремление к нравственной красоте.
Такова была идеальная сфера, в которую вступили по
достижении совершеннолетия позднейшие представители периода
бурных стремлений в нашей литературе! В ней был невозможен
действительно плодотворный прогресс, было бы тщетно стремление
к новым идеалам, пока оставались без изменения и положение
немецкой нации среди других государств, и отношения граждан
к правительственной власти. Но прежде всего нужно было собрать
в одно целое все уже существовавшие тогда идеальные мотивы,
нужно было освоиться с теми благородными идеями, которые были
уже развиты творческою деятельностью гениальных людей, и
распространить их в низших слоях немецкого общества; нужно было
проверить основательность тех идей в их всестороннем
применении, провести их в самые разнообразные сферы, перенести дух
поэзии в науку, в жизнь, в нравы — одним словом, доставить вновь
открытым идеям неоспоримое господство. Эта работа была
достаточно важной и благодарной для того, чтобы воодушевить
трудящихся и наполнить их жизнь. За нее-то и взялась
романтическая школа.
Но для нее послужило точкой опоры философское мышление,
давшее идеализму того времени отвлеченное направление.
Научная теория сделалась тем поворотным пунктом, на котором
классицизм перешел в романтизм. Такое своеобразное серединное
положение между идеями восемнадцатого столетия и идеями нового
поколения занял Фихте. Этот замечательный человек стоял
последним в ряду представителей старого поколения, но вместе с тем
встал во главе новой генерации. Его система была продуктом его
личного характера. Своей прочностью и своим влиянием она была
обязана беспредельности своих требований. В этом отношении
она была совершенно оригинальным произведением
человеческого ума. С другой стороны, она была не чем иным, как
изложением в новой форме и по новой системе таких идей, которые уже
18
Р. ГАЙМ
были высказаны более даровитыми и более глубокомысленными
писателями. Фихте занял середину между миросозерцанием
наших поэтов и миросозерцанием Канта, проповедуя
всемогущество человеческого ума. В его учении романтики нашли первую
опору для своей деятельности. Они вообразили, что их призвание
заключается в практическом применении этой философии в
более широком объеме. Вот почему вся их деятельность отличается
такою необузданностью стремлений, которая напоминает взрыв
гениальных тенденций семидесятых годов и представляет во
многих отношениях сходство с великим политическим переворотом,
совершившимся почти одновременно во Франции. У немцев
также была своя революция. История романтической школы есть
история литературной революции, которая была сознательно
задумана романтиками и действительно произвела решительный
переворот в литературе.
Эти стремления проявились прежде всего в сфере поэзии, в
поэтических произведениях Тика. В первой книге нашего
сочинения мы постараемся объяснить, в связи с биографическими
подробностями, какие посторонние влияния и какие своеобразные
дарования вызвали появление совершенно оригинальных
произведений этого поэта. Мы постараемся проследить все стадии его
умственного развития до того момента, когда он уяснил для
самого себя отличительные свойства и своей поэзии, и своего таланта.
Но значительную часть поэтических произведений Тика мы
должны приписать влиянию товарища его юности, Вакенродера; а то,
что в его произведениях было непоэтического и касалось
преимущественно критики и теории, было продуктом влияния другого,
более зрелого летами товарища — Бернгарди.
Между тем воззрения предшествовавшего поколения
получали такое же своеобразное развитие в критике и в теории других
романтиков. Август Вильгельм Шлегель придавал формам поэзии
такой же отпечаток чувствительности, какой придавал Тик ее
содержанию. В своих серьезно задуманных статьях о литературе он
основывал свои суждения на близком знакомстве с нашей
классической поэзией и сделался истолкователем всех достоинств
новой поэзии. Он выказал в оценке внешних форм поэтического
творчества такую же даровитость, какою отличался его брат
Фридрих в оценке философских идей и исторических условий своего
времени. И древняя поэзия, в особенности греческая, и поэзия
современная сделались для него поводом для философских умо-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
19
заключений. По складу своего ума он был доктринер, чем и
объясняется его разрыв с Шиллером. Он с вызывающей отвагой стал
нападать на все, что было непоэтично в существовавших на тот
момент произведениях поэтов. С его вступлением на сцену
романтики соединились в отдельную партию. Тогда романтическая
критика и романтическая теория приобрели самостоятельное
значение. Они сошлись с духом поэтических произведений Тика. Под
руководством Фридриха образовались в Берлине зачатки
настоящей романтической школы, высказывавшей свои воззрения в
журнале «Атеней» и нашедшей для себя союзников в Шлейермахере,
Бернгарди и Гарденберге. До этого пункта доходит вторая книга
нашего сочинения.
Стоявший совершенно в стороне от этой партии
идеалистически настроенный эллинизм Гельдерлина и его болезненно
чувствительное понимание изящного наложили на романтическую
поэзию такой отпечаток, который вовсе не имеет сходства с
отпечатком поэтических произведений Тика. Напротив, самую
твердую опору находит новая партия в Новалисе — этом самом
законченном типе романтика, которого сильно влекло к Фридриху
Шлегелю философское глубокомыслие, а к Тику — поэтическая
чувствительность. Тогда Иена сделалась средоточием
представителей новой школы, все более и более осознававшей свою
самостоятельность и все шире развивавшей свои воззрения.
Благодаря Шлейермахеру новая поэзия стала сознавать свое близкое
родство, свою обязательную связь с религией, а вследствие того
был приобретен новый орган для понимания средневековой
поэзии. Между тем как тот же Шлейермахер старался выработать
такой нравственный идеал, который соответствовал бы
современному поэтическому, историческому и философскому пониманию
тайн человеческой натуры, а его единомышленники были не в
состоянии следовать за ним по этому пути, Шеллинг стал
систематически излагать воззрения Гёте на природу, руководствуясь
научной теорией Фихте. Тогда поэзия приобрела новую силу и новые
мотивы, а Шеллинг стал находить в сущности поэзии всеобнима-
ющую формулу: дух романтизма стал нашептывать ему то слово,
которым должна разрешиться загадка всего бытия. В то же время
Фридрих Шлегель вторично попытался изложить в
наукообразной форме все эти тенденции романтической школы. Но роль
руководителя, которую он сначала взял на себя, перешла к его брату,
который был неутомимым критиком, знатоком истории литерату-
20
Р. ГАЙМ
ры, благоразумным и аккуратным деловым человеком, вследствие
чего мало-помалу сделался представителем всех духовных
интересов школы. Хотя его ум и не был способен проникать в глубину
этико-религиозной сферы, он был по меньшей мере способен
обнимать смысл философских теорий. Таким образом, он имел в
своих руках все средства, необходимые для распространения
романтических идей путем полемики и пропаганды. С тех пор как
он стал читать в Берлине свои публичные лекции, влияние
романтической школы стало охватывать новые, более широкие сферы.
Ее цветущее время, описанное в третьей книге нашего
сочинения, уже миновало, и между тем как очень многие из посаженных
ею семян завяли и вымерли, некоторые другие обещают
принести роскошные зрелые плоды.
Мы проследили вплоть до этого кризиса революционные
стремления романтизма, которые, может быть, мало-помалу
развернутся во всей своей ширине на наших глазах.
КНИГА ПЕРВАЯ
ВОЗНИКНОВЕНИЕ
РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ЗАЧАТКИ ПОЭТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТИКА
Главные источники, по которым можно изучать своеобразное
поэтическое направление Тика, хорошо всем известны. Когда Тик
впервые предпринял в 1828 и 1829 годах издание полного
собрания своих сочинений, он помещал в каждом томе этого издания
объяснительные литературно-биографические предисловия; в этих
предисловиях мы находим множество таких указаний на мотивы
появления того или другого из его произведений, находим такие
откровенные признания, которые при более подробном изложении
могли бы стать наряду с признаниями Гёте в его «Dichtung und
Wahrheit» («Поэзия и правда». —Прим. науч. ред.). В таком
подробном изложении эти признания появились в книге, изданной
одним из друзей Тика: из очень разнообразных по содержанию
устных рассказов и из многочисленных писем поэта Рудольф
Кепке составил в 1855 году свое двухтомное сочинение о Тике под
заглавием «Erinnerungen aus dem Leben des Dichters»
(«Воспоминание о жизни поэта». —Прим. науч. ред.). Кроме того, мы в
состоянии проверить достоверность некоторых рассказов Кепке по
изданным в 1864 году Карлом Гольтеем (Holtei) четырем томам
писем, адресованных к Тику и бросающих яркий свет не только
на личность самого Тика, но и на всех представителей
романтической школы. Мы будем с благодарностью пользоваться двумя
названными изданиями, но постараемся предохранить себя от
заблуждений, в которые они могли бы нас вовлечь. И сам Тик, и его
биограф не ограничиваются простыми рассказами, а стараются
придавать рассказываемым фактам такую окраску, которая
настраивала бы ум читателя в желаемом для них направлении. В
особенности юношество поэта представлено в обманчивом
освещении, которое бросается в глаза беспристрастному исследователю
24
Р. ГАЙМ
уже потому, что описываемые подробности заключают сами в себе
немало данных для выводов иного рода.
Атмосфера, в которой развивался ум молодого поэта, вовсе не
была здоровой. Однако и по своему происхождению, и по своей
семейной обстановке он был поставлен в благоприятные
условия. Родившийся 13 мая 1773 года в Берлине, Иоганн Людвиг Тик
был старшим сыном почтенного и достаточно образованного для
своей профессии канатного мастера. Твердость отцовского
характера и кроткий мягкий характер матери, получившей свое
воспитание в доме одного деревенского пастора, повлияли на
умственное развитие сына, а смесь таких противоположных влияний не
могла быть вредной. Дети таких родителей бывают даровиты с
колыбели; с родившейся после Людвига дочерью Софьей мы
впоследствии будем встречаться в литературных кружках романтиков,
а младший брат Людвига, Фридрих, занял почетное место между
новейшими скульпторами. В средних слоях тогдашнего
берлинского населения еще поддерживался старинный дух дисциплины
и порядка, исчезнувший в высших общественных сферах
вследствие развращающей склонности к наслаждениям и к
горделивому вольнодумству. Мать Людвига старалась внушать ему свои
наивные религиозные верования, а отец приучал его к такому
здравомыслию и к таким строгим понятиям о чести и
нравственности, которые могли бы дать всей его жизни твердое и правильное
направление. Но как ни старался отец Людвига сдерживать
впечатлительный ум и чрезмерную любознательность сына, над
родительскими внушениями очень скоро взяло верх влияние
господствовавшего в Берлине направления умов, влияние школы,
товарищей и книг. В столице великого короля все дышали
атмосферой так называемой эпохи Просвещения, а эта атмосфера была
пропитана разными вредными миазмами. Отец Тика также
сочувствовал стремлениям к просвещению и потому содействовал
такому развитию умственных способностей ребенка, которое легко
могло принять крайне одностороннее направление. Рано
развившийся мальчик научился у матери чтению, когда ему было только
три года, а в возрасте восьми лет он уже поступил в Фридрихо-
Вердеровскую гимназию. Но начальником этой гимназии был
назначен незадолго перед тем человек, который старался
поддерживать стремления к просвещению в качестве преобразователя
педагогики и системы школьного преподавания; это был Фр. Ге-
дике, впоследствии сотрудничавший в том берлинском ежемесяч-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
25
ном журнале, который так прославился своим рвением в деле
распространения просвещения. Преподавание в гимназии отличалось
таким холодным здравомыслием, таким самоуверенным
умничаньем, слишком часто походившим на легкомыслие, что
неизбежно должно было направлять умы учащихся в противоположную
сторону. Для поэзии в нем отводилось очень незначительное
место, хотя именно доступ к поэзии не следует загораживать для
юношества; ее полезному, спокойному влиянию всячески
старались препятствовать и, вместо того чтобы извлекать из нее
постоянную здоровую пищу, ее считали за лакомство или даже за
отравленный напиток. Так приучилось смотреть на нее все новое
поколение, воспитавшееся на прозе рассудка и практической
пользы. Тик родился именно в то время, когда наряду с прежним
здравомыслием и с прежнею строгою правильностью суждений
внезапно выступила на сцену та, не признававшая никаких
правил, поэзия, которая нашла для себя сбивавшее всех с толку
увлекательное выражение в драмах Шекспира, в гётевских «Гёце» и
«Вертере» и чуть позже в первых произведениях Шиллера. Чем
меньше поэтичности было в стремлениях большинства немецкой
нации, тем легче оно приходило в упоение от ошеломляющего
впечатления, которое производила на него дикая разнузданность
этой поэзии. Больше всего публике стали нравиться грубые
подражания тем продуктам неподдельной кипучей страстности; тогда
все посвящавшие себя литературной деятельности стали находить,
что выгоднее всего выносить на рынок не чистый виноградный
сок новой поэзии, а еще более возбуждающий искусственный
напиток — водку вместо виноградного вина. И молодому Тику
пришлось делать выбор между этими двумя противоположными
направлениями. Его окружала такая атмосфера, в которой не было
ничего поэтичного и которая даже была убийственна для поэзии.
Между тем было немало причин, возбуждавших в нем влечение к
поэзии. Одаренный пылкою фантазией, он рано и с жадностью
стал бросаться на эту духовную пищу. Еще ребенком он читал
Библию и церковные песни, но недолго ограничивался этим
чтением. В домашней библиотеке его отца нашлось, вместе с
книгами назидательного содержания, несколько новейших
произведений так называемого гениального периода немецкой литературы.
Когда ему в руки попался гётевский «Гёц», он вообразил, что
читает не вымышленный рассказ, а описание исторически
достоверных фактов, и познакомился он с этим сочинением в таком
26
Р. ГАИМ
раннем возрасте, что учился на нем чтению, как сам впоследствии
утверждал. У одного из своих школьных товарищей он нашел один
том эшенбурговских переводов Шекспира и с жадностью прочел
его с начала до конца. Почти в то же время он познакомился с
другим любимым писателем его зрелого возраста: ему случайно
попался в руки переведенный Бертухом на немецкий язык «Дон
Кихот». Таким же путем он познакомился с комедиями датского
писателя Гольберга. Подобно тому как он прежде восхищался
«Гёцом», он впоследствии стал восхищаться шиллеровскими
«Разбойниками», так что его «прежние любимцы стали казаться ему
слабыми и неудовлетворительными в сравнении с Шиллером».
Таким образом, в его уме возникло хаотическое смешение
самых разнообразных идей, воззрений и фантастических влечений.
Оно, естественно, сделалось еще более хаотическим после
чтения множества новых беллетристических произведений,
достоинство которых он, конечно, еще долго не был в состоянии
правильно оценить1. Но была еще одна причина, по которой тогдашняя
поэзия производила на его ум чрезвычайно сильное впечатление.
Именно в то время, то есть в последние годы царствования
Фридриха Великого и в царствование его преемника, под управлением
Энгеля стали развиваться юношеские силы берлинского театра.
Это был тот пункт, в котором даже не поэтически настроенные
люди того времени сближались с поэтами. Даже отец Тика
принимал живое участие во всем, что касалось театра, а
несовершеннолетнего Людвига очаровывали эти чудные зрелища гораздо
сильнее. От ребяческих подражаний игре актеров он
мало-помалу перешел к более серьезным театральным представлениям. Он
завел у себя дома кукольную комедию и вывел на сцену гётевско-
го «Гёца», а иногда и сам брал на себя исполнение какой-нибудь
роли, предпочтительно выбирая самых трагических героев,
вроде Карла Мора или Уголино. Он стал все чаще и чаще бывать в
театре, а из писем, которые он получал после своего отъезда из
Берлина от своего друга Вакенродера, можно составить себе
ясное понятие о том, какое важное значение имела в глазах двух
друзей театральная сцена. Театральные представления
производили на молодого Тика, в сущности, однородные впечатления с
1 О том, что Тик много читал еще в своей юности, свидетельствуют его
сочинения XI, хххи. Если бы нам нужны были доказательства незрелости его
юношеских суждений, то мы могли бы найти их в письмах, которые писал ему
Вакенродер (см. Holtei IV, 195, 202 и ел.).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
27
теми, которые он выносил из чтения своих любимых поэтов: ведь
драматическое искусство, стремившееся к яркой характеристике
выводимых на сцену героев, и, в особенности, гениальная
даровитость актера Флека вполне сходились с натурализмом поэзии
в ее период бурных стремлений.
Влечение молодого человека к театру еще усилилось
вследствие того, что ему открылся доступ в такое общество, которое во
всем Берлине было самым сведущим по части искусства, — в дом
капельмейстера Рейхардта. Этот Рейхардт был музыкантом,
композитором и знатоком теории музыки; вместе с тем он был
многосторонне развитым, начитанным человеком, пользовавшимся
значительным влиянием в обществе. В его доме собирались певцы,
музыканты, актеры, художники и любители искусств. Там
преклонялись перед Гёте даже в то время, когда изящный вкус
берлинцев еще подчинялся стеснительным требованиям старой школы.
К числу близких знакомых Рейхардта принадлежал и Мориц —
один из самых первых и самых восторженных берлинских
поклонников Гёте. Пылкое, любознательное влечение этого
оригинального человека ко всему, что касалось искусства и литературы,
пришлось совершенно по вкусу юному Тику, который стал
слушать вместе с Вакенродером его лекции о древности и по
истории искусства и даже до такой степени усвоил его воззрения, что
Вакенродер прозвал его братом-близнецом Морица1. В доме
Рейхардта не знали никаких общественных развлечений, кроме
занятий искусствами. В любительском театре, находившемся под
руководством Рейхардта, самые важные и самые блестящие роли
поручались Тику как самому богато одаренному от природы
юноше, отличавшемуся, кроме того, выдающимся мимическим
талантом. Если бы имелось в виду приготовить его к профессии актера
(а Рейхардт и сам Тик серьезно помышляли об этом), то он не мог
бы найти лучшей школы, чем та, которую он прошел в доме
Рейхардта. Но отец Тика никогда бы не дал на это своего согласия,
поэтому и театральные упражнения молодого человека привели к
результатам иного рода. В разных мелких сатирических рассказах,
с которыми Тик выступал перед публикой после окончания своих
школьных занятий, он постоянно осмеивал моду на спектакли
любителей и указывал на ее вредные стороны. «Что хорошего в
том, — говорил он, — что актер из любителей старается освоиться
ι Holtei IV, 230, 246.
28
Р. ГАИМ
со всеми отличительными особенностями благородного
характера, самодовольно смотрится в зеркало и пользуется удобным
случаем, чтобы заводить за кулисами любовные интриги, а потом
перед сотней слушателей выражает возлюбленной свои чувства,
декламируя то, что написано в книге!»1. Мы не ошибемся, если
скажем, что молодой автор описывал в этом случае то, что испытал
сам; что же касается любовных интриг, то он, бесспорно,
описывал только то, что с ним случилось: он уже успел найти для себя
будущую невесту в лице младшей сестры Рейхардтовой жены.
Такого рода впечатления могли только препятствовать
умственной сосредоточенности, сбивали молодого человека с толку и не
приносили ему никакой пользы! Действительно, какая могла быть
польза в том, что еще учеником третьего и второго класса гимназии
Тик исчерпал все сокровища библиотек, а учеником первого класса
прослыл за превосходного актера? Для даровитого мальчика было
слишком много соблазнительных приманок в столичных
развлечениях литературой и общественными удовольствиями. К
берлинской рассудочной культуре, не находившей для себя противовеса
в религиозных впечатлениях, примешивалось чрезмерное
возбуждение чувственных и фантастических влечений — слишком рано
развивавшаяся склонность к эстетическим наслаждениям.
Неизбежным последствием такого образа жизни было то, что крайне
впечатлительный юноша, в душе которого фантазия играла
господствующую роль, был совершенно сбит с толку и впал в уныние.
Была еще одна причина, по которой молодой Тик
окончательно упал духом: Рейхардт, навлекший на себя своими
политическими статьями обвинение в сочувствии якобинцам, переехал
в 1792-м в свое поместье — в Гибихенштейн, подле Галле; и
сестра его жены, Амалия Алберти, возвратилась к своим
родственникам в Гамбург. Привычка обмениваться с другими своими
мыслями и находить в обществе стимул к умственной деятельности
заставила поклонника Амалии искать новых знакомств и новых
дружеских связей. В доме Рейхардта гимназист сделался актером,
а новые друзья сделали из него писателя.
Впрочем, он уже давно начал предъявлять некоторые права на
звание писателя. Вместе с мимическим талантом в нем очень рано
стали проявляться поэтические дарования. Еще мальчиком он
начал писать стихи, а потом перевел для себя «Одиссею» наскоро
1 Сравн. то, что говорится в сочинениях Тика XV, 136.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
29
сложенными гекзаметрами. Ему было нелегко справляться с
тяжелым складом немецкой речи, но скоро он раскрыл секрет, как
можно обходить ее педантические требования. Чтобы не
затруднять себя стихотворным размером, он стал писать рассказы и дал
своей фантазии полную волю. Он встретил одобрение со стороны
наставников; это одобрение внушило ему самоуверенность, и к
нему стали обращаться за помощью все менее одаренные
школьные товарищи. Он стал, ничем не стесняясь, удовлетворять свою
склонность к поэтическим импровизациям. Так как он очень
любил театр и был восторженным поклонником Шекспира, ему
более всего нравилась драматическая форма изложения.
Политическое возбуждение, вызванное Французской революцией, прошло
бесследно для Тика, который был в то время
несовершеннолетним, совсем еще мальчиком; однако на него произвела такое
сильное впечатление написанная Линге история Бастилии, что он
сочинил небольшую поэтическую драму, темой для которой послужило
взятие приступом того укрепленного замка; драма эта была
наполнена либеральными риторическими тирадами. В другой раз
он попытался сделать из истории Анны Болейн сюжет большой
трагедии. Под впечатлением «Бури» Шекспира он написал
драматическую волшебную сказку «das Reh» («Косуля». — Прим.
науч. ред.). В том же 1790 году были написаны идиллия «das
Lamm» («Ягненок». —Прим. науч. ред.), одноактная драма «Nio-
be», двухактная пьеса «der Gefangene» («Пленник». — Прим. науч.
ред.). Из этих школьных упражнений только немногие помещены
в изданных Кепке «Nachgelassene Schriften» («Оставшиеся
письма». — Прим. науч. ред.), и мы охотно верим издателю, что в этих
небольших произведениях вовсе нет настоящего драматического
содержания, что в них выводимые на сцену личности
выражаются или риторически, или лирически1.
Этот отзыв не вполне применим к двум другим
драматическим упражнениям. Даже в позднейшую пору своей жизни сам
Тик небезосновательно признавал некоторые достоинства за теми
сценами, которым он дал заглавие «die Sommernacht» («Летняя
ночь») и которые были им написаны в 1789-м, когда ему было
только шестнадцать лет2. Это было первое подражание его люби-
1 «Ludwig Tieck's nachgelassene Schriften». Том I, под рубрикой
«Dramatisches» и «Lyrisches»; сравн. предисловие, с. XI.
2 Там же, с. 3 и ел.
30
Р. ГАЙМ
мому поэту Шекспиру и первый очень многообещающий зачаток
его позднейшей романтической поэзии. Характеристична в
другом отношении и трехактная драма «Алламоддин»1. Здесь мы
находим очень странное смешение тех противоположных
умственных стремлений, которыми в то время увлекался юный поэт.
В одном из очень распространенных журналов была описана
история одного вождя островитян в Маниле, попавшего в руки
испанских иезуитов. По совету одного из наставников Тик решился
написать на этот сюжет драму. Он постарался выставить в самом
отвратительном свете неистовства римско-католического
священника Себастиана при обращении дикарей в христианство, его
прикрытую мнимым благочестием низость, его бессовестное
властолюбие и жестокосердие, а незаконному сыну этого священника
вложил в уста и самые напыщенные тирады (о свободе мысли, о
высокомерии католического духовенства и т. д.), и самые
изысканные аргументы просвещенного ума. С другой стороны, он
постарался сделать из героя драмы образец невинности и
добродетели, благородства и душевного величия, а из управляемого этим
героем небольшого острова образец такого счастливого
государства, в котором жители не разделяются, как в Европе, только на
властителей и рабов; в котором всякий живет среди равных ему
свободных людей, наслаждаясь благодеяниями природы. Эти,
напоминавшие Руссо, чувства и эти просветительские идеи
высказывались и в поэзии бурных стремлений семидесятых и
восьмидесятых годов. Юношеская муза Шиллера уже облекла их в
драматическую форму, но поэтические приемы
семнадцатилетнего Тика не имели сходства с поэтическими приемами
восемнадцатилетнего автора «Разбойников». У этого последнего идеи
его времени переходили в бурную страстность, а эта страстность
возбуждала энергию и творческую деятельность фантазии,
между тем как у Тика не было никакой тесной связи между
просветительскими идеями и поэтическими влечениями. Поэтому юный
поэт выказывал свой талант не в изображении характеров, не в
энергии и живости драматического действия, а в красоте
сценической обстановки, в цветистом описании дальних стран, в
экзотическом колорите, в описании нежных чувств. Его драма
отчасти похожа на лирическую идиллию с живописными декорациями.
ι В полном собрании сочинений XI, 269 и ел. Она была впервые
напечатана в 1798 г. в Лейпциге вместе с другими произведениями Тика по почину Ва-
кенродера.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
31
Поэтому, несмотря на то что он был поклонником Шекспира, из
него мог выйти не драматический писатель, а метко
обрисовывающий различные душевные настроения поэт и искусный
колорист. Вот почему те дышащие наивной чувствительностью пара-
мифии, некоторые из которых дошли до нас1 и которые удавались
ему всего лучше в то время, кажутся нам подражаниями гердеров-
ской поэзии.
Как бы то ни было, а эти наскоро написанные юношей
рассказы, песни или драмы свидетельствовали о его необыкновенной
даровитости. Поэтому можно ли удивляться тому, что его
школьные товарищи и наставники стали считать его гением? Между
этими наставниками было несколько молодых людей, которые
были немного старше своего ученика, развились под влиянием
одних и тех же литературных произведений и, подобно ему,
отчасти придерживались господствовавшего в Берлине направления
умов, отчасти уже принадлежали к тому новому времени, о
наступлении которого возвещали и гениальные произведения Гёте
и Шиллера, и начатая Кантом революция в сфере философии. В
то время как Людвиг оканчивал свое школьное воспитание, он
сблизился с этими молодыми наставниками после отъезда Рей-
хардга, что послужило ему отчасти на пользу и отчасти во вред.
Самым выдающимся между ними, бесспорно, был сын
берлинского чиновника судебного ведомства, Август Фердинанд Берн-
гарди, который был старше Людвига2 только четырьмя годами.
Завершив свое школьное образование в Иоахимстальской
гимназии под руководством Мейротто, он сделался в Галле
ревностным учеником и приверженцем Фр. Авг. Вольфа. Под влиянием
новой философии и поэтических произведений Гёте он то
посвящал себя серьезным филологическим занятиям, то увлекался
эстетикой. Он был от природы одарен способностью к правильным
логическим умозаключениям, был очень остроумен и постоянно
склонен к сарказмам, к пародийной насмешливости и к задорным
1 «Nachgelassene Schriften» 1, 188 и ел.
2 Это утверждает Вильгельм Бернгарди в своей статье «Ludwig Tieck und
die romantische Schule», помещенной в архиве Herrig'a. См. «Studium der neueren
Sprachen», год XVIII, том 33, с. 153 и ел.; там же, с. 160. Сделанная нами
предварительная характеристика Бернгарди основана более на тех письмах Вакен-
родера, которые относятся к юношескому периоду жизни Бернгарди (у Holtei
IV, 212, 236, 237,243—245 и т. д.), чем на содержании предисловия Варнгагена
к изданным Вильгельмом Бернгарди «Reliquien», «Erzählungen und Dichtungen
von Α. F. Bemhardi und dessen Gattin» (Альтенбург, 1847).
32
Р. ГЛЙМ
мистификациям, был интересным рассказчиком, спорщиком и
диалектиком и охотно сделался бы поэтом. Но его тонкое
критическое чутье не могло восполнить недостатка творческих
дарований, и хотя Бернгарди написал несколько небольших
драматических отрывков, безо всякой пользы он тратил свое время на такие
литературные предприятия1. Это не мешало ему чувствовать
влечение к юноше Тику, у которого были настоящие поэтические
дарования; а Тик, со своей стороны, также чувствовал к нему
влечение, потому что находил в нем осмысленное сочувствие к молодой
литературе и мог многому у него научиться. Однако все влияние
этой дружеской связи обнаружилось лишь впоследствии; гораздо
ранее обнаружились последствия дружеских сношений Тика с
двумя другими молодыми наставниками. Один из них, по имени Зей-
дель, взялся учить Тика английскому языку и кончил тем, что стал
пользоваться дарованиями своего ученика, поручив ему завершить
перевод Мидлтоновой биографии Цицерона. Впрочем,
упражнения этого рода могли оказаться полезными для самого Тика.
Совершенно иное и положительно вредное влияние имел на Тика
его третий наставник — Фридрих Эбергард Рамбах, которого
молодой Вакенродер прозвал болтуном. Закончив свое образование,
подобно Бернгарди, в семинарии Гедике, он взялся за
преподавание немецкого языка в старшем классе и стал исполнять свои
новые обязанности самым занимательным образом и для самого себя,
и для своих учеников. Так как сам он был литератором и
любителем всего изящного, то желал, чтобы и ученики первого класса
сделались литераторами и любителями изящного. В классе он
читал вслух новые стихотворения, поощрял учеников к обработке
того или иного сюжета в драматической форме; благодаря
именно этим поощрениям Тик и написал «Алламоддина». Но у
наставника очень скоро зародилось намерение воспользоваться
дарованиями юноши для своего собственного литературного ремесла.
Он действительно делал из своих литературных занятий
ремесло. Он писал под разными вымышленными именами все, что могло
прийтись книгопродавцам по вкусу: и рассказы всякого рода, и
разные драмы. Он принадлежал к тому никогда не вымирающему
разряду писателей, который старается удовлетворить требования
жадной до чтения публики посредством фабрикации
литературных произведений по последней моде. А какая господствовала в
1 Holtei, с. 243 и ел. Сравн. в сочинениях Тика I, xxv.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
33
то время мода, нам уже известно: она отличалась пошлостью и
грубостью и представляла отвратительную смесь
просветительского прагматизма с чувствительностью и неестественною
страстностью. Образцами служили гётевский «Гёц», шиллеровские
«Разбойники», а также «Духовидец». На ярмарки для продажи
привозились груды книг, в которых шла речь о рыцарях,
разбойниках, убийствах и привидениях1. Рамбах соперничал со Шпи-
сом и Крамером, с Вульпиусом и Шленкертом, с Вейтом Вебером
и маркизом Гроссе, а так как его перо не успевало следить за его
изобретательной фантазией, то он нашел и удобным, и выгодным
поручить молодому Тику переписывание набело своих грязных
литературных произведений, однако скоро убедился, что было бы
еще более целесообразно взять молодого человека не в
переписчики, а в сотрудники. Нельзя было придумать более пагубного
способа убивать талант юноши и развращать его ум. Дети,
которые учатся у родителей прошению милостыни и притворству,
и молодые люди, которые вовлекаются по примеру старших в
разврат, не более несчастливы, чем тот юноша, который, по
настоянию своего наставника, делается сообщником в его
литературных прегрешениях. Такой поистине преступный образ действий
Рамбаха мог совершенно заглушить в восемнадцатилетнем
ученике старшего класса всякое чувство достоинства и сознания
святости его поэтического призвания. Разве Тик воодушевлялся
произведениями Гёте и Шекспира, Шиллера и Сервантеса только
для того, чтобы погрязнуть в самом нездоровом и самом
отвратительном болоте немецкой литературы?!
Та сфера литературной деятельности, в которой ученик в
первый раз выступил перед публикой под руководством своего
наставника, действительно была отвратительна! Торговой
предприимчивости книгопродавца Гимбурга была обязана своим выходом в
свет книга «О подвигах и хитрых уловках знаменитых и
гениальных плутов» («Thaten und Feinheiten renomirter Kraft- und
Kniffgenies»)2; это был сборник рассказов о разных мошенничествах,
составленный несколькими анонимными писателями и
приспособленный ко вкусу читателей. На долю Рамбаха выпал последний
рассказ, в котором шла речь о геройских подвигах вора и раз-
1 Прекрасную характеристику этой литературы можно найти в «Phantasus'e»
Тика, в его сочинениях IV, 27 и ел. Корке I, 118 и ел.; сравн. Gödecke, Grundriss
II, 1136.
2 В двух томах. Берлин, 1790 и 1791.
2 Зак. № 3602
34
Р. ГАИМ
бойника, известного под именем баварского Гизеля1. По словам
Рамбаха, этот разбойник обладал самыми выдающимися
умственными способностями, но имел несчастье родиться при
неблагоприятных условиях тогдашнего общественного строя; родись
он среди народа, нравственно неиспорченного или только
свободного, он, конечно, не кончил бы свою жизнь на виселице, а,
может быть, даже прославился бы в качестве народного вождя: «при
его прекрасных природных задатках из него вышел
отвратительный изверг только вследствие неблагоприятных условий его
жизни и внешних влияний». Это размышление во вкусе того времени
было поставлено Рамбахом во главе его рассказа для
«образованных читателей» в добавление к напечатанному в начале книги
наивно-благочестивому предисловию, в котором объяснялось
менее образованным читателям, каким образом в судьбе
баварского Гизеля обнаружились неисповедимые пути Провидения.
Впрочем, Рамбах продиктовал своему помощнику только
несколько глав рассказа; эта работа надоела ему и он поручил Людвигу
самостоятельно продолжать ее и довести до конца. Само собой
разумеется, что Людвиг продолжал начатый рассказ в духе и в
тоне своего наставника: он выражался напыщенным слогом с
самоуверенностью знатока человеческого сердца и психолога. В
конце он заявил, что ему наконец надоело выдавать за героя такого
человека, который в сущности был не кем иным, как
мошенником; но это заявление не было вовсе неподходящим к тону всего
рассказа, потому что и Рамбах местами позволял себе лукаво
посмеиваться над своим героем.
Между тем Рамбах взялся за новую работу, в которой задача
сотрудника была и более привлекательной, и более благодарной.
Под заглавием «Железная маска. Шотландский рассказ» Рамбах
издал в 1792-м роман, под которым подписался вымышленным
именем Оттокара Штурма. Здесь читатель переносится в
сценическую обстановку поэмы Оссиана, а речь идет о таких же
героях, какие описаны кельтским бардом. Для Тика представился
случай выказать его лирический талант в описании того или иного
душевного настроения. Роман был украшен двумя
стихотворениями Тика, в которых автор так же искусно подделывался под
мрачно-унылый тон оссиановских песнопений, как прежде
подделывался в своей «Sommernacht» («Летняя ночь». —Прим. науч. ред.)
1 Там же, 141 и ел.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
35
под тон шекспировской поэзии. Но настоящим лакомством было
для Тика исполнение возложенного на него Рамбахом поручения
написать заключительную главу романа. Ему пришлось
описывать душевные страдания и угрызения совести злодея Рино, а
также его смерть. В этом случае ученик превзошел своего наставника.
Он нарисовал картину душевных страданий, отчасти
напоминающую угрызения совести Франца Мора, но исполнил эту задачу
с таким мастерством, которое возбуждает в нас удивление ввиду
его молодости1.
Нельзя не заметить, что со стороны Рамбаха было грешно
пользоваться такими дарованиями для того, чтобы придать блеск
бриллианта пошлому произведению литературного
ремесленника. К страшному рассказу, в котором все было натянуто и
неестественно, был приставлен такой конец, который мог быть
написан только под впечатлением пережитых самим автором
испытаний. Фантазия Тика, так хорошо умевшая
приноравливаться к изображению самых разнообразных характеров и
ощущений, вдохновлялась непритворной чувствительностью, когда ей
пришлось рисовать картину предсмертных душевных страданий.
Здесь проявляется не одна только даровитость, а также вся
глубина души юноши, из которого вырабатывается поэт. В этот
период его молодости самые выдающиеся из его поэтических
произведений были написаны под влиянием болезненного душевного
настроения.
Эта душевная болезнь называется меланхолией и
ипохондрической тоской. Ею стал страдать Тик еще будучи
несовершеннолетним юношей, когда увидел, что его фантастическое влечение
к дружеским привязанностям не может находить для себя
удовлетворения, когда стал находить холодное, отталкивающее
равнодушие там, где надеялся найти сочувствие и любовь. Пора этих
ребяческих душевных страданий уже миновала. Сердце юноши
нашло для себя новую пищу в более разнообразных внешних
впечатлениях. Но именно избыток этих впечатлений сделался
причиной нового душевного недуга. Его восприимчивый ум был сбит
с толку, потому что с его чрезмерной склонностью к
мечтательности соединялось сочувствие к господствовавшему вокруг него
бесплодному рационализму. В своей душе он находил только беско-
1 Корке I, 121, 122. «Nachgel. Sehr.» I, 195 и ел.; II, 3 и ел.; кроме того, см.
предисловие, с. XVI, XVII. Книги Рамбаха я сам не читал.
36
Р. ГАЙМ
нечный ряд мучительных сомнений. Кроме того, ему пришлось
пережить тяжелую утрату двух друзей. Его прежняя склонность
к ипохондрии, на время заглохнувшая под влиянием новых
впечатлений, внезапно пробудилась с новой силой, и он снова впал в
меланхолию. Это меланхолическое настроение находило для себя
пищу в сомнениях, которые становились в созревавшем юноше
все более и более мучительными. Для него служит иногда
целительным средством юношеская любовь, а всего чаще он находит
для себя облегчение в поэзии. Но пылкость фантазии имеет ту
дурную сторону, что создаваемые ею образы то облегчают
душевные страдания поэта, то усиливают их. Тик нередко сам
описывал это душевное состояние, этих «призраков, тревоживших его
ум». Он рассказывает, как в минуты такого грустного настроения
он со страхом думал о смерти. Его ум, еще не обладавший
достаточным запасом знаний, но уже зараженный ядом
материалистической философии, задавался вопросами о причинах и целях
человеческого существования, но не находил удовлетворительного
ответа. Он тщетно и с мучительной тревогой искал Бога, но эти
поиски кончались тем, что он впадал в отчаяние. Все, что мы
называем любовью, красотой, порядком, — все, что служит для нас
идеалами, казалось ему тогда обманчивой, блестящей внешностью
жизни действительной, а эта так называемая действительность,
в свою очередь, казалась ему необъятной и совершенно пустой
бездной. Когда его ум терялся в таких мрачных мечтаниях, он
чувствовал приливы крови к сердцу и нередко подвергался
головокружениям и обморокам. Ему мерещились привидения,
а крайнее возбуждение ума сменялось бесчувственным
состоянием. Временами он боялся сойти с ума, временами помышлял о
самоубийстве.
Тик периодически подвергался таким припадкам, даже когда
достиг зрелого возраста. Душевные недуги не покидали его в
течение всей его жизни, в старости они лишь приняли более
мягкие формы. Понятно, что их влияние было самым сильным
при переходе Тика в юношеский возраст. Его мрачные мысли
рассеялись, когда он оканчивал курс гимназии и помышлял о
новой жизни, которая ожидала его в университете. Но прежняя
болезнь воротилась к нему, как только он прибыл во время
Пасхи 1792 года в Галле с целью изучать литературу и археологию,
так как решительно выраженная воля отца закрыла ему доступ к
театральной карьере. Он воображал, что знает более того, чему
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
37
мог бы научиться из университетских лекций. Он чувствовал себя
неудовлетворенным и одиноким. Между тем как другие утопали
в избытке физических наслаждений, он добровольно терзал и
свое тело, и свою душу. Под влиянием того болезненного
недовольства, которому кажутся темными даже бросающиеся в глаза
предметы, он стал предаваться ребяческим экспериментам и,
подобно стоящему на краю пропасти человеку, у которого
закружилась голова, стал размышлять о том, каким способом он мог
бы отделаться от ничего не стоящей жизни или подвергнуть ее
опасности. Именно тогда Рамбах выпустил в свет свой
наполненный ужасами роман, который был как будто нарочно написан
для того, чтобы переносить читателя от одного душевного
волнения к другому. Тик созвал нескольких знакомых для того,
чтобы прочесть им вслух двухтомную книгу в один присест с
четырех часов пополудни до двух часов ночи, не давая себе ни одной
минуты отдыха. Следствием такого безрассудного напряжения
был болезненный припадок. С Тиком сделался лихорадочный
бред, он вообразил, что непременно сойдет с ума; он пришел в
себя только благодаря поездке в Гарц; из впечатлений, которые
произвела на него природа, он извлек душевное спокойствие,
веру в Бога и в самого себя1.
Описанное нами душевное настроение было той почвой, на
которой возникли первые действительно оригинальные
произведения юного поэта. Только благодаря ему Тик был способен
написать последнюю главу «Железной маски». Но оно же
послужило поводом для целого ряда стихотворений, написанных Тиком в
промежуток времени с 1790 по 1796 год. В некоторых из этих
стихотворений только отражается, как в зеркале, мрачное
настроение автора; в других более ясно обрисованы его мучительные
сомнения и возникавшие в его уме фантастические видения. К тому
же периоду принадлежит одно произведение, которое возникло
из иных побуждений. Но мы покуда ограничимся теми
юношескими произведениями Тика, которые служат выражением
одного и того же душевного настроения и потому составляют
отдельную группу.
Верным отображением той путаницы идей, с которой
боролся Тик, был небольшой отрывок, написанный еще на школьной
1 Как был настроен ум Тика во время его жизни в Галле, всего яснее видно
из письма Вакенродера от 15 июня 1792 года; у Holtei IV, 188 и ел.
38
Р. ГАИМ
скамье, в 1790 году, под заглавием «Альмансур»1. Автор дал
этому отрывку вовсе неподходящее название идиллии, а на самом
деле здесь выражалось только стремление его беспокойного ума
к идиллическому душевному спокойствию. Одному несчастному
молодому человеку, которому возлюбленная отплатила за
горячую преданность изменой и который с отчаяния задается
вопросом о цели человеческого существования, дают совет
«наслаждаться жизнью, ни во что не вдумываясь»; но он не в состоянии
следовать этому совету и потому ищет для себя утешения в том,
что в уединении наслаждается природой. Это — слабое
подражание сентиментальности Руссо и тем мечтаниям, которым
предавался Вертер под впечатлением картин природы. Тику не
удается сочинение идиллии; он красноречив только в описании
душевных страданий того, кто не находит для себя утешений в
обществе, впрочем, хорошо уже то, что вымыслы фантазии
облегчают его страдания и доставляют ему удовольствие. Он
придает своему рассказу восточную обстановку и внешнюю форму
восточных сказок. Престарелый отшельник Абдаллах дает
такому же несчастному, как он сам, молодому человеку Альмансуру
советы в довольно избитой аллегорической форме: мрачный
человеконенавистник Надир попадает во время своих
странствований по пустыне в волшебный замок, в котором можно видеть
весь мир в миниатюре, то есть можно увидеть толпу людей,
олицетворяющих всякого рода несчастие и безумие, и множество
картин, изображающих две противоположные стороны всех
человеческих деяний — серьезную и смешную. Фантазия юного
поэта находит для себя упражнение и развлечение в таких
аллегорических вымыслах, но она не сбрасывает с себя обычного
отпечатка скептицизма и меланхолии.
Почти то же самое можно сказать о гораздо более обширном
рассказе «Абдаллах», первые главы которого были написаны еще
в школе, за продолжение которого Тик взялся в Галле и который
был доведен до конца осенью 1792 года2. Точно так же, как и
«Альмансур», он отличается богатством метафор и восточным
колоритом; а все необходимые сведения автор извлек из «Тысячи
1 См. сочинения Тика VIII, 259 и ел. «Альмансур» впервые был напечатан
в «Nesseln» Фалькенбейна [Бернгарди] (Берлин, 1798); к сожалению, я не мог
добыть этой книги.
2 В его сочинениях VIII, 1 и ел.; это рассказ был впервые напечатан в
Берлине и в Лейпциге в 1795 году.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
39
и одной ночи» и из описания путешествий Олеариуса и Мандель-
сло1. До какой степени представители тогдашнего просвещения
были лишены поэтических инстинктов и фантазии, всего яснее
видно из того факта, что они, по примеру французов, старались
восполнять сии недостатки заимствованиями из страны чудес и
вымыслов и стали искать на Востоке образцы для подражания.
Наш молодой берлинец, научившийся в школе Рамбаха
литературному искусству, а в библиотеках для чтения находивший
рецепт для изготовления всяких волшебных и страшных рассказов,
предался с пылким увлечением такому безвкусному и пылкому
подражанию восточным поэтам. Но описания привидений и
колдунов служили для него лаком, посредством которого он
придавал глянец своим мрачным воззрениям на жизнь, своей
ипохондрии и своему скептицизму. Биограф Тика замечает, что «Абдаллах»
был едва ли не самым страшным отголоском шиллеровских
«Разбойников»; он говорит, что рассказ Тика походит на шиллеров-
скую драму «смелостью высказываемых сомнений и мощным
полетом фантазии». Но главная отличительная черта «Абдаллаха»
заключается не в смелости сомнений, а в том, что автор не
находит никакого выхода из них. Это литературное произведение было
продуктом не пылкого революционного увлечения, а мрачного
душевного настроения, которому все представляется в черном
свете. Беспристрастный критик признает «Абдаллаха» не за
первое образцовое произведение поэта, лишь обезображенное
неумением всему знать меру и несколькими колоссальными
недостатками, а за ученическое упражнение, подкупающее читателя
несколькими удачно описанными сценами. Здесь нас неприятно
поражает прежде всего философия, которая считает за нечто
реальное только эгоизм и чувственные наслаждения, которая
считает добро и зло за нераздельное целое, свободу воли за глупый
вымысел, жизнь за бесцельную забаву, весь мир за сцепление
механически действующих сил. И Гёте, и Шиллер в молодости
плутали по лабиринту таких воззрений; но как радостно
отбросил от себя Гёте ту бесцветную, мертвящую мудрость, которой
поучала «Système de la nature»; с каким героизмом проложил
дорогу сквозь материалистически-скептические воззрения Шиллер
для своего врожденного идеализма! Нельзя сказать того же о Тике!
1 О том, что Тик читал эти книги, можно найти указание в новелле
«Waldeinsamkeit», напечатанной в 1841 году. В сочинениях Тика XXVI, 512.
40
Р. ГАЙМ
Он ненавидел Визеля, старавшегося жить по правилам этой
философии и набирать ей последователей, ненавидел этого
похожего на Мефистофеля товарища, с которым сошелся в Берлине и с
которым снова встретился в Галле в кружке своих знакомых1; но
воззрения Визеля так близко сходились с его собственными
мрачными идеями, что он был не в состоянии прервать эту связь.
Действительно, фантастическое содержание рассматриваемого нами
рассказа было не чем иным, как зеркалом, в котором отражалось
меланхолическое мировоззрение Визеля. «Абдаллах» был
написан в подражание не шиллеровским «Разбойникам» и даже не шил-
леровскому «Духовидцу», а бывшим в то время в большом ходу
рассказам о разных ужасах и привидениях. В одном из
предисловий к своим сочинениям2 Тик сам признается, что «Абдаллах»
был выращен не столько на почве нашей зарождавшейся
классической литературы, сколько на низменностях очень любимой в то
время литературы для легкого чтения. Весь рассказ состоит из
таких необыкновенных приключений, так сумасброден и нелеп,
что, читая его, нам кажется, будто мы попали в лавочку какого-
нибудь чародея или в дом умалишенных. Основной план рассказа
отчасти напоминает гётевского «Фауста». Чтобы доставить
Омару возможность снова приобрести милостивое расположение ада,
один из адских духов возлагает на него обязанность довести его
родного сына до того, что этот сын предаст смерти своего отца.
Омар приступает к исполнению задачи под видом воспитателя и
друга юного Абдаллаха. Он начинает с того, что отравляет душу
Абдаллаха, внушая ему основные правила новой, фаталистиче-
ско-эпикурейской философии; вслед за тем он пользуется
любовью Абдаллаха к дочери султана. Его дьявольский план удается.
Чтобы достигнуть обладания своей возлюбленной, Абдаллах
предает своего родного отца смерти. Он вступает в брак с дочерью
султана, но угрызения совести терзают его, и брачное
празднество превращается для него в страшный суд. При описании этой
заключительной сцены все, что может наводить на читателя ужас,
доходит до оглушительного fortissimo. В сравнении с этим
кажется совершенно бесцветной та заключительная сцена, когда
оперный Дон Жуан раскаивается в своих преступлениях. Роскошная
1 О Визеле: сравн. Корке I, 137 и цитируемый этим писателем отрывок из
«Denkwürdigkeiten» Варнгагена.
2 В его сочинениях VI, vin.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
41
обстановка восточного брачного пира представляет резкий
диссонанс с теми, созданными фантазией, отвратительными
привидениями, которые терзают душу новобрачного-отцеубийцы. На
протяжении трех глав автор угощает нас этими адскими сценами,
и мы нисколько не сомневаемся в том, что хотя эта книга и не
обратила на себя общего внимания, но при своем первом
появлении заставляла иных читателей проводить бессонные ночи;
впрочем, сам Тик признается, что в то время он еще не умел придавать
описываемым предметам различные оттенки и что равномерное
переполнение всего рассказа ужасами неизбежно должно было
надоесть читателю1.
Такие же и многие другие недостатки мы находим в трагедии
«Карл фон Бернек», которую Тик начал писать в 1793 году,
переделал через два года и напечатал наконец в 1797 году2. Здесь
меланхолическое настроение юного автора хватается за идею о роке,
которая так близко подходит к ни во что не верующему
скептицизму, не находящему никакого ответа на вопрос о цели
человеческих страданий здешней жизни, и в особенности к
болезненной мечтательности, неспособной пользоваться силами разумной
свободной воли. Этот рок представляется ему в таком же грубом
виде, в каком его изображал за несколько лет перед тем Мориц и
в каком его впоследствии выводили на театральную сцену такие
писатели, как Мюльнер, Гувальд, Грилльпарцер, — в виде
пылающего жаждой мести привидения, в виде предка, обязанного
выносить наказание за братоубийство до тех пор, пока «два брата,
от которых ведут свое происхождение фон Бернек, не лишат друг
друга жизни, вовсе не будучи во вражде между собой». В такие
же фаталистические рамки вставлено содержание Эсхиловой
«Орестеи». Впавший в меланхолию старик Вальтер фон Бернек
возвращается после долгого отсутствия домой; любовник жены
убивает его. За это убийство мстит его сын, Карл фон Бернек, —
такой же мечтатель и ипохондрик, как и сам автор. Он убивает
сначала любовника, а потом и свою родную мать. Этот новый
Орест в отчаянии бродит по белому свету, нигде не находя для
себя места. Он наконец находит себе утешение в любви к Адель-
гейде. Но за этой девицей ухаживает и его брат Рейнгард. Рев-
1 В его сочинениях VI, vin, ix.
2 В «Народных сказках» III, I и ел. Эта трагедия напечатана без пролога в
его сочинениях XI, I и ел.
42
Р. ГАЙМ
ность внушает Рейнгарду намерение убить брата. От этой
опасности Орест избавляется перед концом последнего акта, причем
самым неожиданным образом. Рейнгард растроган при виде
своего спящего соперника, и его преступные замыслы братоубийства
внезапно уступают место самой нежной привязанности. Он
отказывается от возлюбленной в пользу своего брата. Однако и это не
ведет к добру. В ту минуту, когда Карл и Адельгейда протягивают
друг другу руки в знак своего согласия на вступление в брак, между
ними появляется дух убитой матери. Карлу приходится
расплатиться за свое преступление, и исполняется старое предсказание.
В отчаянии он просит брата лишить его жизни, и в ту минуту,
когда они бросились друг другу в объятия, Рейнгард вонзает свой
меч в его сердце.
Если правда, как впоследствии утверждал Тик1, что
рассматриваемый нами рассказ написан с целью изобразить любовь как
средство для очищения совести, то эту цель нелегко отыскать под
фаталистическим туманом, который лежит на всем рассказе. Здесь
мы находим новое доказательство того, что у нашего юного
поклонника Шекспира не было и следа той драматической силы и
того эстетического идеализма, которыми отличается автор
«Разбойников». Авг. Вильг. Шлегель, написавший рецензию на эту
«народную сказку» для «Атенея», основательно заметил, что
рассказ в целом очень слаб, и тоном резкого порицания напомнил
автору, что в описании трагических происшествий чрезмерно
легкое изложение неминуемо становится поверхностным.
Впоследствии сам Тик признавался, что впал в ребяческое заблуждение,
выводя на сцену привидений, вместо того чтобы описывать
душевное состояние действующих лиц2. Описывая внешнюю
обстановку, он впадал в чрезмерную растянутость, но оставлял без
объяснений мотивы того или другого драматического положения.
Когда он только задумал свой рассказ, он говорил, что это будет
«Орест рыцарских времен»3. Но в его произведении нет ни
сходства с Эсхилом, ни чего-либо напоминающего дух рыцарства. Его
рыцари похожи на жестяные фигуры и нисколько не лучше тех,
которые описаны в романах Крамера и Шписа. Точно так же, как
1 В его сочинениях XI, χχχιχ.
2 Сравн. отзыв В. Шлегеля в его сочинениях XII, 35.
3 См. письмо, написанное Вакенродером к Тику в январе 1793 года (у Holtei
IV, 257).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
43
и в небольшом рассказе «Адальберт и Эмма» (1792)1
несведущему в истории молодому писателю не удавалась характеристика
средневековых нравов. Его друг Вакенродер укорял его за этот
недостаток и за небрежность его работы. Такие же замечания
сделал ему друг касательно плохих стихов, в которых была изложена
легенда о лошади, и основательно предостерегал его от
подражания рамбаховской небрежности2. В вышеупомянутом рассказе об
Адальберте и Эмме лучше всего удались некоторые
психологические характеристики, но, к сожалению, именно они были
выпущены, когда рассказ был помещен в сборник повестей,
написанных в духе старого времени.
Юный поэт поступил бы благоразумно, если бы сузил сферу
своей литературной деятельности и отказался от исторических
сюжетов. Он сделал и то и другое в трагедии3, написанной ранее
«Карла фон Бернека» в угоду своему другу Бернгарди, который
просил его сочинить для домашнего театра пьесу с двумя или по
крайней мере с тремя действующими лицами. В небольшой пьесе
под заглавием «Abschied» («Разлука») он удовлетворил желания
друга. Молодая девушка, вообразившая, что ее возлюбленный
позабыл и покинул ее, выходит замуж за другого. Новобрачные,
по-видимому, счастливы; но в душе Луизы еще не угасла прежняя
любовь, и она повесила в своей комнате портрет своего первого
возлюбленного, уверив мужа, что это портрет ее умершего брата.
Но тот, кого она считала изменником, приходит к ней, чтобы
навсегда проститься. В них обоих разгорается прежняя любовь. Они
скорбят о несбывшихся мечтах полного счастья; но супруг,
догадавшийся, кто этот незнакомец, по сходству с портретом,
подслушивает их разговор. Его злоба от ревности обрушивается сначала
на портрет, а потом на обоих любовников. Он убивает спящего
незнакомца, а вторым убийством прекращает жалобы и упреки
своей жены. Пристрастный друг автора, Вакенродер, впал в пре-
1 Под заглавием «Das grüne Band» в его сочинениях VIII, 279 и ел.; сравн.
там же, VI, ix.
2 У Holtei IV, 226, 230, 256, 263.
3 Я рассказываю со слов самого Тика; см. его сочинения Ι, χχχνιι; сравн.
Корке I, 153. Впрочем, слова Тика отчасти подтверждаются содержанием
писем Вакенродера (у Holtei IV, 256 и 263). Маленькая трагедия Тика была
впервые напечатана (благодаря заботливости Вакенродера) в 1798 году в Лейпциге
в одно время с «Алламоддином» и с еще одной пьесой Тика. Теперь ее можно
найти в сочинениях Тика II, 273 и ел.
44
Р. ГАЙМ
увеличение, сказав, что эта небольшая трагедия написана в духе
гётевских «Вертера» и «Стеллы». Со «Стеллой» она решительно
никакого сходства не имела! «Стелла» была, бесспорно, самым
слабым из первых произведений Гёте, а «Разлука» была,
бесспорно, лучшим из первых произведений Тика. В той узкой рамке, в
которой происходит действие драмы, автор выказал не только все
искусство, но и всю драматическую силу и страстность, к каким
был способен. Но, в сущности, эта трагедия изображает лишь
различные душевные настроения. Она наводит тоску, а на
действующих лицах лежит мрачный отпечаток. Возвратившийся
возлюбленный смотрит ипохондриком, а его ипохондрия отзывается
фатализмом. Впрочем, сам Тик впоследствии писал1, что в
портрете и даже в яблоке, которое супруг делит в начале пьесы с
Луизой, он хотел изобразить нечто зловещее, нечто похожее на
предсказания оракула; и что исполнение этих предсказаний должно
было произвести драматический эффект.
Но мы едва ли не слишком долго останавливаем внимание
читателей на таких незрелых и полузрелых произведениях
поэта, между тем как до нас дошло такое произведение Тика,
которое сам он называет2 в письме к Зольгеру «мавзолеем многих
таившихся в его душе и нравившихся ему страданий и
заблуждений» и в котором собраны в единое целое все заблуждения его
ума и сердца, бывшие результатом его ложно направленного
юношеского развития. Роман «История Вильяма Ловеля» вышел
в свет в 1795 и 1796 годах3; Тик писал его с 1793 года, то есть в
ту пору своей жизни, когда он уже не находился
непосредственно под гнетом прежних душевных страданий, но все еще
«охотно впадал в путаницу идей». До сих пор осталось верным
высказанное в 1798 году Фр. Шлегелем замечание4, что Тику уже более
никогда не удавалось изобразить с такою же глубиною мысли
такой же цельный характер. Здесь он впервые описывает свое
тревожное душевное состояние почти безо всякой посторонней
примеси. Это, в сущности, не что иное, как более пространно
изложенное содержание «Абдаллаха»; но адские ужасы и
привидения, с помощью которых автор старался сделать своего «Аб-
1 В его сочинениях XI, χχχνιιι.
2 См. оставшиеся после смерти Зольгера сочинения и его переписку I, 342.
3 В трех частях, в Берлине и в Лейпциге. В сочинениях Тика (том VI и VII)
он помещен во втором сокращенном издании 1813 года.
4 В «Атенее» I, 2, с. 128.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
45
даллаха» интересным, частично совершенно устранены,
частично заменены более естественным страхом, который внушают
разные мошеннические проделки. Также устранены и восточная,
и средневековая рыцарская обстановка: вся рассказанная Тиком
история разыгрывается в его время и на той самой почве, на
которую впервые ступил Ричардсон со своими романами. Однако
не Ричардсон, а один французский писатель послужил образцом
для Тика и оказал слишком большое влияние как на содержание,
так и на изложение «Ловеля». Достойно внимания признание
самого автора1, что в то время «Le paysan perverti»
(«Совращенный поселянин». —Прим. науч. ред.) Ретифа де ла Бретона
чрезвычайно нравился ему, но был оставлен всеми критиками2 без
всякого внимания, между тем как этот французский роман, в
сущности, описывает английские нравы и потому давал повод
думать, что и по форме, и по тону изложения был написан в
подражание английским образцам. Не подлежит сомнению, что Тик
подчинился одновременно и французскому, и английскому
влиянию, но придал своим мыслям и чувствам такую окраску,
которая была и не французской, и не английской, а чисто немецкой.
Тем не менее не подлежит сомнению, что из французского
романа Тик позаимствовал не только главные мотивы своего
рассказа, но также приемы композиции и стремление к яркой живости
слога. Безграничная безнравственность французов в
царствование Людовика XV внушает постороннему наблюдателю ужас и
отвращение всякий раз, как приходится читать ее описание в
мемуарах и легких литературных произведениях того времени.
Но между писателями того времени едва ли найдется такой,
который описывал бы тогдашнюю нравственную испорченность с
более неистощимой изобретательностью, с более полным
отсутствием всяческих основных правил и с более циничной
точностью, чем неутомимый Ретиф де ла Бретон. В «Paysan perverti» он
рассказывал некоторые факты из своей собственной жизни, когда
описывал, каким образом один деревенский житель переселился
в город и там, по причине своей неопытности, своей
впечатлительности и чрезмерной чувствительности, сделался жертвой сис-
1 В сочинениях Тика VI, χνπ.
2 Например, сравн. характеристику в статье Розенкранца «Ludwig Tieck und
die romantische Schule», напечатанной в «Hall. Jahrb.», 1838, с 1242 и ел. (она
была перепечатана в «Studien» I, 282 и ел.) и в «Истории немецкой литературы»
Юлиана Шмидта, 5-е изд., II, 13 и ел. Гервинус, 4-е изд., V, 596.
46
Р. ГАЙМ
тематического соблазна, прошел через все ступени разврата й
наконец совершенно погряз в пороках и нищете. Само собой
разумеется, что этот рассказ, в котором нет ни одной страницы,
которая не была бы запятнана самым циничным описанием
сладострастия, был выпущен в свет, по уверению автора, с
похвальной целью предостеречь неопытных людей и наглядно
представить им опасности городской жизни. Но эта мнимая нравственная
тенденция и неподробное описание бесчисленных сцен соблазна
и сладострастия понравились Тику и вовлекли его в подражание.
Его пленила драматическая живость, с которой французский
автор излагал диалектику человеческих страстей, описывая
процесс постепенного нравственного растления. Он нашел, что Ре-
тиф де ла Бретон избрал самую подходящую для своей цели
форму изложения, заставив действующих лиц романа
высказываться в письмах. Он заимствовал из этого романа только
основную цель — подробное описание, посредством каких соблазнов
гнусный интриган вовлекает впечатлительного человека в
пороки. Он шел по пути, проложенному Ретифом, только в том
отношении, что противопоставлял нравственной испорченности еще
не испытавшую никаких искушений добродетель и счастье в
невинности. Наконец, он заимствовал у изобретательного
французского писателя некоторые отдельные черты в характеристике
действующих лиц и внешних факторов; но основное внимание он
обратил на историю сердца своего героя, изложил эту историю
гораздо более подробно и несколько ослабил грубо
доктринерскую заносчивость материалистической мудрости патера Годэ.
Эдмонд из французского романа сделался несколько похожим на
немца, стал немного — и, по правде сказать, очень немного, —
напоминать благородную натуру Вертера, но в очень
значительной мере усвоил ипохондрические размышления и
фантастическое душевное настроение самого Тика — из всего этого и
сложился характер Ловеля.
У Ловеля очень восприимчивая, легко воспламеняющаяся
натура энтузиаста. В эпоху наивной юношеской мечтательности он
обменялся с одной молодой девушкой клятвами в любви. По
желанию благоразумного, но недальновидного отца этот
эксцентричный молодой человек должен был закончить образование
путешествуя для изучения света и людей. Уже в то время, когда он
находился в Париже, его фантазия воспламеняется от
чувственных наслаждений. Этот мечтатель, избегавший общения с людьми
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
47
и живущий только своими чувствами, попадает в сети,
расставленные дюжинной кокеткой — и, конечно, немедля раскаивается
в своем увлечении. Уже ввиду этого факта мы невольно задаемся
вопросом, какой нравственный или поэтический интерес можно
найти в развитии такого лишенного всякой энергии человека,
который делается жертвой всякого мимолетного чувственного
влечения, но торопливо укрощает свою разыгравшуюся страстность
посредством благоразумных размышлений; какой интерес можно
найти в описании такой неустойчивой натуры, такого
бесхарактерного человека. Его мнимое душевное величие оказывается
совершенно бессодержательным, оно выражается в ненасытности
желаний, для удовлетворения которых, как он сам выражается,
«он способен вечно бродить от одного полюса к другому с
вечной пустотой в сердце». С ним случается то, чего следовало
ожидать. Его энтузиазм был не чем иным, как замаскированным
влечением к чувственности, а та чувственная философия, с которой
его знакомит один из новоприобретенных друзей, превращается
в средство для того, чтобы все глубже и глубже вовлекать его в
нравственную испорченность. Он делается последователем
эпикурейской эгоистической мудрости, в которой он, после
некоторых колебаний, все более и более запутывается. «Я сам —
единственный закон всей природы» — таков окончательный вывод из
этой философии. «До сих пор, — пишет он, — я боязливо
взирал на мир и на его наслаждения, как на закрытую для моих глаз
книгу; теперь я смело раскрываю эту книгу для того, чтобы
перелистать ее и отыскать в ней то, что мне нравится». И он начинает
вести образ жизни, согласный с этим образом мыслей. В Риме он
вполне предается чувственным наслаждениям. Насытившись
любовной связью с несколькими римскими развратницами, он
находит утонченное наслаждение в обольщении невинных
девушек. Чтобы достигнуть такого наслаждения, он губит всю жизнь
одной девушки и даже кончает убийством, но он находит
неистощимые средства для оправдания такого преступления. Он доходит
до того, что уже не ожидает от жизни ничего нового и
привлекательного. В одном из своих писем он говорит: «Человеческая
жизнь мелькает перед моими глазами подобно ниткам ткацкого
станка: это — постоянное колебание из стороны в сторону, а
между тем я постоянно томлюсь моим одиночеством!». Итак, наш
герой до такой степени пресытился жизнью, что она сделалась
для него отвратительной; при таком душевном настроении экс-
48
Р. ГАИМ
центричность его натуры принимает свою окончательную
форму. Теперь, когда все его чувства «убиты и лежат безжизненно у
его ног», а сам он томится от бесконечных сомнений при полном
отсутствии каких-либо убеждений, для него служит утешением
вера в чудеса. Во французском романе и речи нет о такой черте
характера, она напоминает шиллеровского «Духовидца». Но в
этой вере в чудеса, которую поддерживает в Ловеле дьявольский
старик Андреа, умевший внушить ему полное к себе доверие,
есть и оборотная сторона: она заключается в убеждении, что все
существующее есть не что иное, как химера, что «мир есть не
что иное, как подвижные китайские тени». Под влиянием этой
нигилистической философии совершаются самые
возмутительные преступления. Мы не будем описывать тех героических
подвигов, тех обольщений и отравлений, с помощью которых
возвратившийся в Англию Ловель снова втирается в общество своих
прежних любовниц и друзей. После этого действие снова
переносится во Францию и в Италию. Ловель впадает в нищету,
делается шулером и вступает в шайку разбойников. В
мучительном положении человека, который то презирает жизнь, то боится
смерти, он возлагает свою последнюю надежду на мистическую
мудрость Андреа. Естественно, и эта надежда оказывается
тщетной. Разочарование и позор — вот все, что ожидает нашего
героя. Наше отвращение к нему и наше презрение еще
усиливаются, когда он даже в этом критическом положении заботится о
сохранении своей жизни для того, как он выражается, «чтобы
уходом за цветами и растениями загладить то, в чем он
провинился перед людьми». Стало быть, этот и без того уже слишком
длинный рассказ мог бы затянуться еще надолго, если бы одно
из преступлений Ловеля не вызвало появления мстителя,
который вызвал его на поединок и убил наповал.
Повторяем: какой же интерес может представлять история
душевных страданий такого негодяя? Однако мы не можем не
похвалить той достойной уважения черты в характере юного
писателя, что ни в рассматриваемом нами романе, ни в других своих
юношеских произведениях он не позволяет себе описывать
сладострастных сцен по манере Виланда, несмотря на то что разные
развратницы и кокетки, о которых он ведет речь в своем романе,
подавали ему немало к тому поводов. Действительно, в
сравнении с Ретифом, которому он так часто подражал в описании
необыкновенных приключений, он был невинен как ребенок; это
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
49
объясняется, очевидно, тем, что сам он не предавался разврату,
а подчинялся влиянию дурных книг и дурного воспитания. Но
разве не плотью и кровью предавался Ловель чувственным
наслаждениям? Нет, он предавался этим наслаждениям и всем другим
преступным наклонностям своим экзальтированным умом, а его
кровь была так же холодна, как у рыбы. Он был способен
совершать свои преступные дела только в своем воображении или же
мысленно рассматривать их как проблемы самого возвышенного
эпикурейства. Другими словами, мы видим в Ловеле не
преступника, а писателя. Если мы ближе вникнем в отличительные
особенности его пылкой фантазии, постоянно занимающейся
анализом его чувственных влечений и постоянно погружающейся в
целый ад софизмов, то убедимся, что это вовсе не живой человек,
а только призрак, на котором писатель Тик упражняет свой
деятельный ум. То, что рассказывает нам Ловель о своих душевных
недугах, о своих сомнениях и разочарованиях, извлечено автором
из собственного опыта. Но то, что Ловель делает и переживает,
есть продукт фантазии автора и, по верному замечанию Фр. Шле-
геля, довольно пошлая и неудачная внешняя обстановка романа.
В конце романа мы узнаем, что всей жизнью Ловеля руководила
интрига. Как Абдаллах находился в полной зависимости от Омара,
так и Ловель был игрушкой в руках старца Андреа, был орудием
его замыслов мщения, — недоставало только этого открытия для
того, чтобы окончательно заглушить в нас всякое сочувствие к
Ловелю как к живому человеку.
В комментарии, написанном по прошествии тридцати с
лишним лет1, сам Тик попытался доказать, что его роман имел более
высокую цель. По его словам, он намеревался разоблачать
лицемерие, нравственную распущенность и ложь, какова бы ни была
их внешняя форма, а Кепке зашел еще дальше в своих
объяснениях цели романа. Он находит, что юный, только что достигший
двадцатилетнего возраста автор совершил над героем своего
рассказа страшную расправу, беспощадно разоблачив всю
несостоятельность его мнимо нравственных стремлений. По мнению
Кепке, Тик глубокомысленно и гениально вывел наружу пагубные
последствия хвастливого самомнения и ложных понятий о
добродетели и старался доказать, что человек не может быть
счастлив без благоразумного самообладания и смирения.
ι Корке I, 205, 206.
50
Р. ГАЙМ
Согласно с этим отзывом следовало бы допустить, что сам Тик
вовсе не был заражен недостатками своего Ловеля, подобно тому
как Гёте не был заражен недостатками своего Вертера. Но
никакой беспристрастный критик не согласится с таким выводом. Тик
как человек стоит, конечно, выше преступного Ловеля, но он
разделяет склонность Ловеля к безвыходным софизмам, к
болезненному и никуда не годному философствованию. Заслуга автора
заключается в умении живо описывать погоню разгоряченного ума
за привлекательными призраками, а вовсе не в умении
сдерживать и укрощать такие пылкие увлечения. Другое достоинство его
романа заключается в том, что он не ограничивается
проведением своей основной идеи только применительно к главному герою
рассказа, а развивает ее в различных видоизменениях
применительно к нескольким другим выводимым на сцену личностям.
Самая выдающаяся из этих второстепенных личностей — друг
Ловеля Бальдер, для характеристики которого автор ничего не
заимствовал из «Paysan perverti». Всякий раз, как Тику
приходилось описывать болезненное душевное состояние, он указывал
на то, что душевные недуги переходят до некоторой степени в
умопомешательство, и сам сознавал, что в его голове легко может
совершиться такой же переворот. Именно такую душевную
болезнь он описывает в глубокомысленном Бальдере.
Неразрешимые задачи доводят легкомысленного Ловеля до отчаяния,
выразившегося в преступлениях, а более глубокомысленного и более
меланхоличного немца Бальдера они доводят до отчаяния,
выражающегося в умопомешательстве; однако и здесь речь вовсе не
идет о наказании — о высшем поэтическом правосудии. Но
наряду с эксцентричным и глубокомысленным Бальдером автор
выводит на сцену людей здравомыслящих, хладнокровных,
расчетливых и коварных. Отец друга Ловеля, престарелый лорд Бёртон,
придерживается, в сущности, одинаковых с Ловелем понятий о
нравственности и одинаковых философских воззрений. Он, так
же как и Ловель, живет себялюбием и презирает человечество;
в течение всей своей жизни он был ловким плутом и лицемером;
все его образование заключалось в изучении характера
Кромвеля; но он находил твердую опору в своем бездушном,
хладнокровном рассудке; его сумасбродства не имеют сходства с
сумасбродствами ни Ловеля, ни Бальдера, и он умирает всеми покинутый в
своей постели; но поэт не подвергает этого негодяя
заслуженному наказанию. Он не подвергает такому наказанию и самое гнус-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
51
ное из всех действующих лиц романа — «того великого мастера,
который всеми руководит в романе». У этого отъявленного
негодяя, ставшего во главе одного тайного общества для того, чтобы
издеваться над человечеством, нервы еще более крепкие, нежели
у всех прочих. Он находит наслаждение в ненависти и в презрении
ко всем людям. В том нигилизме, который доводит до отчаяния
людей эксцентричных и во все глубоко вдумывающихся, он
чувствует себя так же хорошо, как рыба в воде. Он убежден, что
человеческая жизнь ничего не стоит и что все хорошее и
благородное достойно смеха; в этом убеждении он находит для себя полное
удовлетворение. Он вполне олицетворяет те пороки, которые
олицетворяются в других действующих лицах только наполовину;
поэтому можно было бы подумать, что автор намеревался
провести следующую мысль: скептицизм и безверие вредны только для
того, у кого от природы так слабы нервы и так плохо действует
рассудок, что он неспособен сделаться настоящим чертом.
Действительно, можно было бы подумать, что именно таково
убеждение автора, если бы в противоположность выведенным им
на сцену сумасбродам, мошенникам и плутам он не вывел на
сцену людей совершенно иного характера. Но в чем же заключается
эта противоположность? Не в поэтическом ли описании того,
каким образом человек излечивается от убеждения в бесцельности
своей жизни, от своих мучительных сомнений и от меланхолии,
наполняя свою жизнь серьезным нравственным содержанием и
стремясь к осуществлению своих идеалов посредством точного
исполнения своих обязанностей? Вовсе нет! Ловель и Бальдер не
что иное, как тунеядцы и праздношатающиеся; но и все
описанные в противоположность им люди живут в такой праздности, что
уже только от скуки неизбежно вовлекаются, подобно Ловелю, в
мечтательность и в скептицизм. Лишь один из них благоразумно
старается приучить себя к исполнению служебных обязанностей,
но дело кончается тем, что он становится смешным для самого
себя, а разумнейшее из задуманных им предприятий
оканчивается неудачей. Старый слуга Ловеля, добродушно верующий в
Библию и в христианское учение, выставлен таким глупцом, что его
мудрость и благочестие не могут служить противовесом для
скептицизма его господина. А другие люди, принадлежащие к этой
более привлекательной группе? И хотя они не гибнут, подобно
Ловелю, в пучине светских наслаждений и неразрешимых
загадок, но этим они обязаны не благородному напряжению своих
52
Р. ГАИМ
сил, не благоразумным принципам и убеждениям, а единственно
тому, что счастливая натура предохранила их от такой беды. Это —
либо более здравомыслящие люди, либо одаренные от природы
более веселым расположением духа; их хорошие душевные
качества проистекают от их врожденной сердечной доброты или от
такой привычки ко всем относиться дружелюбно, которую никак
нельзя ставить им в заслугу. Вот почему они относятся к
нравственной испорченности других с внушающей отвращение
снисходительностью. Ловель едва не отравил своего бывшего друга,
юного Бёртона; но Бёртон не питает к нему за это ненависти, а
относится к нему с полным сострадания презрением; он даже не
протестует против намерения поставить в каком-нибудь темном
уголке сада памятники своей сестре и ее соблазнителю Ловелю!
Он полагает, что таких людей, как Ловель, следует считать не
злодеями и преступниками, а несчастными безумцами. Он даже
задается в одном из своих писем следующим вопросом: «Разве не
от некоторых счастливых случайностей зависело то, что я сам не
сделался негодяем, и кто поручится мне за то, что я
действительно такой хороший человек, каким сам себя считаю?». Разве эти
рассуждения много лучше тех, с помощью которых Ловель
объяснял себе различие между добром и злом? И разве такая не
уверенная в самой себе добродетель не служит для него скорее
оправданием, чем порицанием? Именно в этом и заключается слабая
сторона романа, что те добродетельные люди, которые не гибнут
в житейском водовороте, лишены всякой энергии. Автор
растрачивает весь свой пафос и все свое красноречие на описание
нравственно искалеченных личностей, а для изображения людей
хороших и счастливых прибегает к самым бледным краскам и к
самым неопределенным контурам. В противоположность тем, кто
изнемогает под бременем сомнений и ведет безнравственный
образ жизни, он выводит на сцену только таких счастливых людей,
которые женятся для того, чтобы иметь детей, вечно сидят дома и
занимаются рассаживанием деревьев. Наконец, вся совокупность
бесцветных философских воззрений автора выражена в
следующих поучениях, с которыми обращается к нему его бывший
товарищ по путешествиям, благоразумный Мортимер: «Только тот
может быть счастлив, кто не ожидает от жизни многого и умерен
как в том, чего от нее требует, так и в своих понятиях о ней.
Гордец, возлагающий чрезмерные надежды на свой ум и
старающийся проникнуть в глубину своей собственной души для того, что-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
53
бы ознакомиться со всеми сокрытыми в ней сокровищами,
приходит к грустному убеждению в ее нищете. Вот почему, друг мой,
я причисляю себя к не пользующемуся уважением разряду людей
умеренных, спокойных, слабых. В умеренности, в смирении
заключается то, что энтузиасты не хотят называть счастьем и в чем я
нахожу настоящее счастье». Так выражается от имени
Мортимера сам Тик, и здесь мы действительно находим то учение о
смирении, в котором биограф Тика усматривает золотое ядро романа. К
сожалению, это золото нельзя назвать чистым. Ведь тот же
Мортимер так грустно насмехается над своей собственной
мудростью; ему должна показаться такой смешной его собственная
физиономия, если бы он посмотрелся в зеркало, что все его счастье
и вся его мораль не производят на нас хорошего впечатления.
Например, то смирение, которое является у Гёте зрелым плодом
разумной деятельной жизни и которое можно назвать радостным
смирением оптимизма, имеет мало сходства с тем смирением
отчаяния, которое является жалким результатом беспомощного
состояния и которое можно назвать смирением пессимизма.
Именно до такого пессимистического смирения, но не далее, дошел
Тик в 1796 году. Он не преодолел своей склонности к
скептической меланхолии, а только отложил ее до некоторой степени в
сторону. Его роман был продуктом в высшей степени шаткого и
совершенно незрелого мировоззрения. Насколько более солидно
было даже то смирение, которому поучал Виланд в своих первых
романах, стараясь заглушить в своем уме точно такие же
сомнения, какими терзался ум Тика; и какую вовсе не схожую с
романом Тика картину представляет нам в «Фаусте» сила гения, сама
себе прокладывающая дорогу, или борьба меланхолии с пафосом
в «Дон Карлосе»! Тик, как сознавался он сам впоследствии,
воображал, что гениальность всегда соединяется с призрачным
блеском, а добро и истина — с душевной холодностью, со слабостью,
с меланхолическим добросердечием. «Что же, — спрашивает
он, — оставалось делать тому, кто не мог сделать окончательного
выбора между этими двумя крайностями»? Он написал «Вильяма
Ловеля», но «Вильям Ловель» не был ответом на тот вопрос, а
только излагал его в форме описаний и рассказов; поэтому тот
вопрос и не переставал возникать в уме автора в разнообразных
отголосках и видоизменениях.
Усилия, потраченные на исполнение этой задачи,
напоминают нам о необходимости проследить целый ряд новых влияний
54
Р. ГАЙМ
на умственное развитие Тика. С его вступления в университет до
появления «Ловеля» протекли четыре года умственной работы и
житейского опыта, а многие из рассмотренных нами
произведений возникли из впечатлений, испытанных именно в этот
промежуток времени.
Еще осенью 1792 года Тик перебрался из непривлекательного
Галле в Гёттинген. Нельзя сказать, чтобы после лекций Вольфа,
которые он слушал в Галле, лекции Гейне могли привести его в
восторг; Гёттинген привлекал его удобствами общественной
жизни, и в особенности своей богатой библиотекой. Как завидовал
ему его друг Вакенродер, вышедший в одно время с ним из
гимназии, но еще скучавший в Берлине вследствие того, что его отец
еще не считал его достаточно подготовленным для слушания
университетских лекций; как манили этого друга в Гёттинген и
сокровища местной библиотеки, и организованный Тиком особый
кружок товарищей, и надежда, что Тик будет объяснять ему
произведения Шекспира! Ведь Тик занимался преимущественно
изучением Шекспира, старинной английской драмы и вообще
английской литературы, а в гёттингенской библиотеке он находил
самые богатые материалом ученые пособия. Мы уже видели,
каким образом эти занятия отразились на содержании «Ловеля». Но
между современниками Шекспира более всех привлекал к себе
его внимание Бен Джонсон, пытавшийся противопоставить
гениальному натурализму Шекспира такое драматическое
искусство, которое было основано на разуме и на строгом соблюдении
установленных правил. Как слабо еще сознавал в то время Тик
отличительные достоинства шекспировского творчества, видно из
того факта, что он относился не только с уважением, но и с
сочувствием к резко отчеканенной прозе и к непривлекательному
здравомыслию шекспировского антагониста. На него, очевидно,
производили сильное впечатление неестественные и карикатурные
характеры действующих лиц в драмах Бена Джонсона. Всякое
преувеличение казалось ему привлекательным и в том случае, когда
оно было продуктом пылкой фантазии, и в том случае, когда оно
было продуктом рассудка. В произведениях Бена Джонсона ему
нравилась также полемико-сатирическая характеристика
современных нравов. Ведь и в своем отечестве Тик находил такие
нравы и такие условия общественной жизни, которые немногим
отличались от выставленных на смех в комедиях английского
писателя! Так как он с ранней молодости предавался скептициз-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
55
му, а свое воспитание получил в Берлине, то и ему была
свойственна склонность к сатире! Этим объясняется, почему он мог
находить наслаждение в лишенных всякой поэзии комедиях
англичанина. Среди этих комедий его интересовал более всего
«Volpone» («Вольпоне». — Прим. науч. ред.). Для собственного
удовольствия он попытался переделать на новый лад эту пьесу,
несмотря на то что она могла лишь оскорблять поэтическое
чувство и пошлостью основной идеи, и неизяществом изложения1.
Впрочем, он не ограничивался изучением Шекспира и английских
драматургов, он стал вчитываться в произведения своего второго
любимца — Сервантеса; он стал учиться у Тихсена испанскому
языку и нашел, что сделанный Бертухом вольный перевод «Дон
Кихота» был ниже испанского подлинника. Мы имеем полное
основание удивляться прилежанию молодого студента и его
способности быстро работать, ведь кроме только что описанных
занятий в течение первой зимы, проведенной в Гёттингене, он
успел довести до конца своего «Абдаллаха», написать «Разлуку»
для своего друга Бернгарди, составить первоначальный план
своего романа «Карл фон Бернек» и приняться за «Вильяма Ловеля».
Он тратил одинаковую энергию и на изучение чужих
литературных произведений, и на свою собственную литературную
деятельность.
И Вильгельм Генрих Вакенродер поступил наконец в
университет к Пасхе 1793 года. Он был сыном жившего в Берлине кригс-
рата и бургомистра юстиции Вакенродера и родился в один год с
Тиком. Не по собственному влечению, а по желанию отца избрал
он юридический факультет и отправился в Эрлангенский
университет, незадолго перед тем поступивший под прусское управление
вместе с княжествами Аншпахом и Байрейтом. Оба друга
пожелали жить вместе, поэтому Тик объявил, что и он перейдет в
Эрлангенский университет. Он не мог бы найти более верного,
более преданного, более услужливого товарища. Почти все другие
школьные и юношеские товарищи, с которыми Тик сблизился в
Берлине, оказались вовсе ненадежными: хотя молодой Бургсдорф
и не прерывал дружеской связи с Тиком ни в Галле, ни в Гёттин-
1 Эта переделка под заглавием «Ein Schurke über den andern oder die
Fuchsprelle» была напечатана в 1798 году в Лейпциге по почину Вакенродера в
одно время с «Алламоддином» и с «Разлукой». Под заглавием «Herr v. Fuchs»
она помещена в сочинениях Тика XII, 1 и ел. Сравн. в его сочинениях XI, χνπΐ
и ел.
56
Р. ГАЙМ
гене, но его кичливость, легкомыслие и склонность к
франтовству заставляли его избрать другую дорогу; он слишком горячо
предавался обычным развлечениям студенческой жизни. Не
таков был Вакенродер. Со второго класса гимназии началось его
знакомство с Тиком, скоро превратившееся в самую искреннюю,
самую фантастическую дружескую привязанность. Их
связывали одинаковые наклонности, одинаковые врожденные дарования.
При своем мягком и скромном характере, Вакенродер находил для
себя опору в более даровитом, более живом, более смелом и
более дальновидном Людвиге. Нам уже не раз приходилось
ссылаться на письма, которые писал Вакенродер в Галле и в Гёттинген
своему другу, поступившему годом ранее его в университет. Они
дают нам ясное понятие и о том, кто их писал, и об его
отношении к другу. Вакенродер вступал в дружбу со всеми, с кем был
дружен Тик. Он, так же как и Тик, сошелся с Рамбахом и еще
более близко с Бернгарди; он был как дома в семействе Тика; то
были самые приятные для него часы, когда он разговаривал об
отсутствующем Тике с его сестрой Софией или когда
рассказывал в письмах к Тику о своих любовных приключениях, о только
что прочитанной новой книге, о берлинском театре, о новой
театральной пьесе; или же когда вспоминал о том времени, когда они
жили вблизи друг от друга, и мечтал о радостном свидании. Это
был еще малообразованный и неопытный, но чрезвычайно
добродушный и непорочный юноша. Какое трогательное
впечатление производит его самоотвержение, его всегдашняя готовность
угождать нежно любимому другу! Некоторые выражения в его
письмах похожи на женские признания в любви. Он находит, что
Тик был бы совершенством, если бы немного больше любил
порядок и аккуратность. Он беспрестанно благодарит Тика за его
дружбу и говорит, что, будь он Александр Великий, он сделал бы
из той комнаты, которую занимал Тик в отцовском доме, то же,
что сделал Александр из дома Пиндара, — превратил бы ее в
святилище. Как он огорчается, узнав из писем, которые получал из
Галле, что его друг впал в мрачное душевное настроение. Он с
красноречием искренней любви старается утешить его и умоляет
отбросить мрачные мысли. Он упрекает сам себя за то, что берет
на себя роль ментора, а потом радуется как дитя, узнав, что у его
дорогого Людвига стало легче на душе. Он очень хорошо знает,
что тот, кого он так любит, поэт. Он этому радуется, потому что
богиня его друга — фантазия — также и его богиня. Он с робос-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
57
тью осмеливается писать или даже печатать небольшие
стихотворения и сам признается, что только в чужих произведениях
находит побуждения к самостоятельному творчеству. Тем с большим
сочувствием следит он за смелыми литературными замыслами
своего друга. Он с пристрастным восторгом отзывается об удачных
произведениях друга, но к неудачным относится с самым
откровенным порицанием. Его искренняя привязанность не мешает ему
обращаться к Тику с укорами и предостережениями. Несмотря на
свою скромность, он высказывает убеждение, что хотя и стоит
ниже своего друга по гениальности и возвышенности идей, но
этот друг может вполне положиться на него во всем, что касается
стихотворного размера, благозвучия, ритма и вообще изложения.
Действительно, у него есть музыкальный слух, которого
недостает его другу. Хотя его суждения и не обнаруживают
безукоризненной чистоты вкуса (так, например, он восхищается «Элизой
фон Бальберг» Иффланда и считает описания характеров в
«Гении» Гроссе неподражаемыми, образцовыми), тем не менее у него
есть тонкое чувство изящного. Он относится с непритворным
энтузиазмом к настоящим художественным произведениям.
Торжество французской свободы вызвало из уст Тика несколько
радостных возгласов. Он также воодушевляется этими событиями, но
не в состоянии следить за газетными известиями о ходе военных
действий. Он признается, что в его жилах нет ни одной капли
солдатской крови. «Все это, — пишет он, — абсолютно чуждо мне,
неясно для меня и вовсе не соответствует идеальному
направлению моей фантазии; я от природы так создан, что мой ум более
всего интересуется идеальной художественной красотой». Но его
впечатлительная, нервная натура столь же неспособна увлекаться
политикой, сколь не способна увлекаться юриспруденцией,
которую он вынужден изучать в исполнение непреклонной воли своего
отца. «Когда же, — восклицает он, — я наконец буду в состоянии
преодолеть свое отвращение и заучить на память терминологию,
разные определения, различия и т. д.?» Он не без страха
помышляет о предстоящей ему деятельности судьи, с которой не могла
бы ужиться его нежная чувствительность. «Мне противно думать
о том, что придется прибегать к моему холодному рассудку для
разрешения таких вопросов, которые можно разрешить только
сердцем... Ведь те самые происшествия, которые при их
представлении на сцене возбуждают во мне самое искреннее сострадание
и вызывают из глаз слезы, мне придется рассматривать как вари-
58
Р. ГАИМ
анты обыденной жизни; придется соображать, подходят ли они
под общие правила или нет». Критика, которой должен
заниматься судья, доставляет почет, но ее никак нельзя назвать самым
благородным из человеческих занятий. «Только творческая
деятельность приближает нас к божеству. Да здравствует искусство!
Только оно возвышает нас над всем земным и делает нас
достойными лучшей жизни на небесах».
При таком противоречии между врожденными влечениями и
обязательными занятиями Вакенродера ожидала невеселая
будущность. Но покуда все его мрачные мысли рассеялись ввиду
ожидавшей его вольной студенческой жизни, ввиду предстоявшего
свидания с другом и вследствие надежды найти новые
наслаждения в памятниках древненемецкого искусства, разбросанных
неподалеку от южнонемецкого университетского города. Тик был
полон точно таких же надежд. Обоих друзей, до сих пор
изучавших только северонемецкое искусство, очень интересовало
знакомство с искусством противоположного характера. Их учебные
занятия и прочитанные ими книги уже давно возбудили в них
желание не ограничиваться только теми сферами искусства, с
которыми их знакомил берлинский театр. Они наконец нашли то,
чего желали. Чем менее новых идей могли они черпать из лекций
Гарлесса и Мезеля, тем сильнее было впечатление, которое
производили на них новая страна и новые люди, новое искусство и
новая природа. В старинном бамбергском соборе они впервые
видели всю пышность католического богослужения; в графском
замке, в Поммерсфельдене, они впервые видели большую
картинную галерею. Они несколько раз побывали в Нюрнберге, а когда
они с благоговейным вниманием осматривали там архитектурные
и художественные произведения, в их воображении воскресало
то давно прошедшее время, когда Нюрнберг был, по выражению
Вакенродера, «полною кипучей жизни школой отечественного
искусства», когда в его стенах царило «неудержимое влечение к
наслаждению искусствами», когда там жили такие художники, как
Ганс Сакс, Адам Крафт, Петр Вишер, Альбрехт Дюрер и Вили-
бальд Пиркгеймер. Но к наслаждениям искусствами
присоединялись наслаждения природой. Два друга воспользовались
вакациями перед Троицыным днем для того, чтобы побывать в Байрейте.
Они осмотрели там горные заводы и рудокопни, потом завернули
в баварские владения и побродили по лесам Фихтельгебирга.
Вынесенные оттуда впечатления со временем послужили содер-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
59
жанием для новых поэтических произведений. Тик, с ранней
молодости привыкший искать наслаждений в природе, имел случай
осмотреть развалины тех рыцарских замков, в которые он так
любил переноситься своим воображением с тех пор, как прочел
«Гёца». Особенно сильное впечатление произвел на него замок
Бернек своими развалинами и сохранившимися преданиями о
страшной участи его прежних обитателей; оттуда он заимствовал
и внешнюю обстановку, и драматические мотивы для своего
«Ореста рыцарских времен», задуманного еще в Гёттингене. Не было
недостатка и в неожиданных приключениях. Одно из этих
приключений, вызванное влечением Тика к театральным
представлениям, было им самим рассказано в «Phantasus'e» («Фантазус». —
Прим. науч. ред.у. В своей биографии Тика Кепке рассказывает,
что легкомысленный Бургсдорф, успевший тем временем
побывать во Франции и сыграть там роль героя целого романа, застал
двух друзей в Эрлангене, отговорил их от намерения посетить
берега Рейна и возвратился вместе с ними в Гёттинген, где они
предполагали продолжить свои университетские занятия.
Тик снова принялся за изучение Шекспира, и уже в то время в
уме его созрело намерение написать обширное сочинение о
Шекспире и о живших в его время драматических писателях с целью
объяснить историческое значение великого поэта, а покуда он
занялся переделкой «Бури» для театральной сцены и по этому
поводу написал статью о сверхъестественном в шекспировских
драмах2. Переделка «Бури» нисколько не улучшила подлинника,
а только изменила производимое им впечатление вследствие
произвольного изменения и расширения лирико-музыкальных
составных частей пьесы; а статья Тика уже по своей теме обнаруживает,
что именно восхищало и интересовало страстно любившего
театр юношу в произведениях Шекспира. По его мнению,
величайшее из драматических совершенств шекспировских произведений
заключается в том, что английский поэт умел очаровывать зрите-
1 В его сочинениях V, 441.
2 Эту статью вместе с пробным переводом Тик сначала передал Шиллеру
для помещения в его «Талии» (Корке I, 174). Обе эти работы были напечатаны
в Берлине в 1796 году; сравн. рецензию А. В. Шлегеля в его сочинениях XI, 16
и ел.; статья была снова напечатана в «Критических сочинениях» Тика I, 35 и
ел. Но он никак не мог добиться, чтобы его переделку «Бури» поставили на
сцене, хотя и воспользовался для этой пьесы содействием композитора Вессели
(Корке I, 199). Также сравн. предисловие к «Критическим сочинениям», vin.
60
Р. ГАИМ
лей самыми смелыми вымыслами и самыми неестественными
рассказами, то есть тем, что выводил на сцену привидения. Сам
Тик любил уноситься в ту же сферу, когда писал «Абдаллаха» и
«Карла фон Бернека»; поэтому он постарался извлечь из
произведений своего любимого поэта полезные для себя указания по этой
части. Он занялся не лишенным остроумия анализом всего, что
есть сверхъестественного в «Сне в летнюю ночь» и в «Буре», в
«Макбете», в «Гамлете» и в «Юлии Цезаре». Но уже в самой
постановке вопроса он обнаружил натуралистическое понятие,
которое составил себе о настоящей цели поэтического творчества.
Так как, по его мнению, главная цель драматического писателя
заключается в умении автора «вводить зрителей в обман», то,
несмотря на меткость некоторых его замечаний, он оказывается
неспособным оценить по достоинству ни эту примесь в
шекспировском творчестве, ни умение поэта пользоваться такими
вспомогательными средствами. Лучше всего ему удается анализ
сверхъестественного в «Буре» и в «Сне в летнюю ночь»;
несравненно слабее его анализ сверхъестественного в той главе, где речь
идет о трагедии. Также о Шекспире шла речь в другой,
изложенной в форме писем, статье об эстампах, которые были в то время
напечатаны в Англии по образцам из находившейся в Лондоне
шекспировской галереи1; на этот раз Тик руководствовался как
тем, что он вынес из чтения произведений английского поэта, так
и тем, что он вынес из лекций гёттингенского профессора Фио-
рилло об истории искусства. Он находит, что кисть живописца не
может верно передать мысль поэта; поэтому он нападает на тех,
кто осмелился искажать в живописи идеи «его друга Шекспира».
Хотя в своих собственных произведениях он еще не умел
воздерживаться от разных неестественных преувеличений, но его
критическая прозорливость уже достаточно созрела для того, чтобы
энергично протестовать против тех карикатурных искажений, в
которые вовлекалась живопись, в чем впоследствии соглашался
с ним и А. В. Шлегель2. Можно без всяких оговорок согласиться
с его основным положением, что живописец, желающий
иллюстрировать произведение драматического писателя, должен при-
1 «Критические сочинения» I, 1 и ел. Эта статья была впервые напечатана в
«Библиотеке изящных наук» (1794) благодаря посредничеству Гейне. Сравн.
предисловие к «Критическим сочинениям», vu.
2 В статье «Ueber Zeichnungen zu Gedichten», помещенной в «Атенее»; см.
сочинения Шлегеля IX, 109.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
61
держиваться точки зрения автора, а не срисовывать с того, что
видит на театральной сцене; но в этом положении мы не находим
ни глубины мысли, ни достаточной ясности выражения. Из
нашего юного критика не мог выйти новый Лессинг; мы даже не
находим никаких указаний на то, чтобы он постарался развить свой
эстетический вкус на изучении «Лаокоона». И в настоящем
случае его основная мысль отзывается натурализмом. Когда он
говорит, что дело художника «подмечать отличительные особенности
природы и превращать их в идеал», то эти слова похожи на
пустую фразу, так как он не дает себе труда подробно развить
высказанную им мысль; в дальнейшем изложении он вовсе даже не
придерживается этой точки зрения, а руководствуется ранее
высказанным мнением, будто главная цель искусства заключается в
произведении иллюзии, что эта иллюзия несовместима с
«неестественностью», и т. д. Наконец, нет ничего удивительного в том,
что и в рассматриваемой нами статье, и в статье о
сверхъестественном встречаются незрело обдуманные и неясно
выраженные замечания. Еще в то время, когда Тик был учеником
гимназии, его влечение к новейшей поэзии, по его собственному
признанию1, мешало ему серьезно заняться изучением древних
поэтов, за исключением Гомера. Но и Гомеру он оказывает только
ту честь, что ставит его манеру изображать характеры
действующих лиц наравне с манерой Шекспира. Еще более
неосновательно то замечание, что смешную сторону характеров составляет
«старинная смесь двух противоположностей — душевного
волнения с хладнокровием» и что, стало быть, всякий субъект
перестает казаться смешным с той минуты, как увлекается
какой-нибудь сильной страстью.
Ровно год продолжалось это вторичное пребывание Тика в
Гёттингене, и в течение этого года Тик написал первые книги
«Ловеля» и занимался первоначальной отделкой «Карла фон Бер-
нека». Осенью 1794 года он возвратился вместе с Вакенродером
в свой родной город после непродолжительной остановки в
Гамбурге, где ему нужно было повидаться с одной красивой девушкой
и где он, кроме того, виделся со знаменитым актером Шредером
и с патриархом новой немецкой поэзии Клопштоком. В течение
трех с половиной лет своего студенчества он не занимался ни
теологией, ни юриспруденцией, ни какой-либо другой наукой, с по-
1 В его сочинениях VI, хи.
62
Р. ГАИМ
мощью которой мог бы найти для себя какую-нибудь
общественную деятельность. Он интересовался только искусствами и
природой и изучал только новейших поэтов, преимущественно
драматических писателей времен королевы Елизаветы. Эти
занятия эстетикой и историей литературы могли пригодиться ему
только в том случае, если бы он сам сделался поэтом и писателем. Он
рассчитывал на свои дарования, а с той минуты, как ему стали
давать деньги за его литературную работу, он не сомневался в том,
что можно жить литературным трудом. Он решил, что и по
выходе из университета будет жить такою же вольной жизнью, какой
жил будучи студентом. Чтобы еще прочнее оградить свою
личную свободу, он поселился на лето неподалеку от Берлина вместе
со своей сестрой, которая горячо сочувствовала целям брата и
давно желала жить вместе с ним. Там, в обществе своих друзей,
он вел приятный и поэтичный образ жизни. Там посещали его и
его брат Фридрих, занимавшийся скульптурой, и неизменный друг
Вакенродер, и живой, разговорчивый Бернгарди, и некоторые из
его новых друзей — молодой врач Бинг, Вессели, композитор
Штурм и многие другие. Там не было недостатка ни в мотивах
для литературно-эстетических прений, ни в остроумной
болтовне, ни в поэтических и музыкальных дарованиях, так что в
праздничные дни нетрудно было устраивать ради забавы
драматические представления. В свободное от развлечений время Тик мог
заниматься продолжением «Ловеля» и употреблять на эту работу
все то искусство, которого не требовалось для более легких
литературных трудов. Но ему скоро пришлось узнать на опыте, что
свобода писателя, живущего своим трудом, в сущности, есть не
что иное, как самое тяжелое рабство, которое можно выносить
только с помощью юношеской беззастенчивости, с помощью
некоторой дозы ветрености и легкомыслия. С Рамбахом, в школе
которого он начал учиться литературному ремеслу, он почти
совершенно разошелся в убеждениях, но не прервал отношений
благодаря посредничеству Бернгарди. Предприимчивый Рамбах стал
с 1795 года издавать вместе с Ф. Л. В. Мейером ежемесячный
журнал под названием «Berlinisches Archiv der Zeit und ihres Gesch-
maks». Этот журнал свидетельствовал о низком уровне
литературного образования тогдашних берлинцев; в нем господствовал
дух самого жалкого модерантизма. Его издатели положительно
заявили, что считают себя покорными слугами публики, вкусом
которой будут руководствоваться как высшим законом, ведь по-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
63
ставленный ими в заголовке эпиграф гласил: «Quae vereri deberent,
etiamsi percipere non possent». Естественно, и для них правда
всего дороже, но в своей программе они признаются, что «сердца их
обливаются кровью, когда они слышат слова правды, сказанные
невежливым тоном». Их скромность оказывается решительно
неуместной в их ежемесячных обзорах политических событий. Они
говорят, что «просвещенному цензору не причинят никаких
забот», а на случай какого-нибудь столкновения с ним заранее
объявляют, что будут готовы сказать ему: «pater peccavi». Кроме этих
политических обзоров содержание журнала составляли разборы
новых книг, статьи о театре, музыке и новых модах, легкие
философские рассуждения, поэтические отрывки и рассказы разного
рода. Издатели заботились не столько об интересах литературы,
сколько о том, чтобы доставить публике интересное чтение, а с
этой целью они пользовались содействием как лучших и самых
известных писателей старой школы, так и самых даровитых
молодых писателей, принадлежавших к школе Рамбаха. В их
журнале появлялись, наряду с именами Клопштока, Глейма, Энгеля и
Рамблера, имена Рейхардта, Йениша, Вейта Вебера и маркиза
Гроссе. Главный контингент сотрудников набирался в Берлине,
но, за исключением престарелого Николаи1, в нем едва ли
найдется хоть одно из имен тех берлинских писателей, которые
приобрели известность в начале девяностых годов.
Кроме того, издателям предлагали свои услуги и Вессели, и
Бернгарди. Этому последнему очень хотелось прослыть за
беллетриста; сверх того, он не без некоторого лукавства иногда
пытался проводить в журнале идею о веротерпимости: в
особенности если мог делать это под прикрытием анонимности. Он даже с
удовольствием прибегал в этих случаях к посторонней помощи.
Вот какие мотивы побудили его помещать в «Архив» некоторые
из статей Тика. Рамбах принял для помещения в своем журнале
небольшой рассказ Тика «Примирение»2, считая его за
произведение Бернгарди. Это была рыцарская повесть, которую автор
«Абдаллаха» отшлифовал со своим обычным тщанием, а написал
наскоро. То же можно сказать о напечатанной в «Архиве» рецен-
1 Хотя Кепке (I, 196) и называет его в числе других сотрудников, но в
«Архив» была помещена только одна его заметка. Сравн. «Zur Erinnerungan F. L. W.
Meyer», с 11, 12.
2 В его сочинениях XIV, 109 и ел.; сравн. с XI, xxxv.
64
Р. ГАЙМ
зии на альманахи и карманные книжки за 1796 год1. Сам Тик
осознавал небрежность этой статьи; он продиктовал ее своему другу
и, очевидно, сознавал, что его критические замечания были так
резки, что не подходили тону журнала. Ведь умел же Мейер в
своем «Беглом обзоре немецкой литературы», написанном для
первых номеров журнала, отозваться с одинаковым сочувствием
и о Клопштоке, и о Лессинге, и о Виланде, и о Гёте, и о многих
других любимцах публики — о Глейме, Гесснере и Рамблере; ведь
мог же он воздержаться от всяких суждений о жалкой
литературной деятельности автора «Боруссии» и любезно умолчать об
исторической драме своего коллеги Рамбаха «Великий Курфирст
перед Ратенау»! А с каким двоедушием Рамбах, в своих «Письмах о
новейших книгах для чтения», посмеивался над своими
конкурентами по фабрикации рыцарских рассказов и вслед за тем все-
таки осыпал похвалами романы Гроссе и Вейта Вебера! Все это
не помешало Мейеру заявить протест против чрезмерной
строгости критических суждений Тика. Впрочем, хорошо уже и то, что
издатели журнала напечатали эти смелые суждения и, в
особенности, отзыв Тика о пошлой манере Шмидта фон Вернейхена
описывать природу! Именно нападки на эти пошлые, лишенные
всякой поэзии произведения и составляют достоинство
написанной Тиком рецензии, тем более потому, что им мы обязаны гётев-
ской шутовской пьесой «Musen und Grazien in der Mark». Этой
рецензией юный критик доказал, что, наперекор своим
натуралистическим воззрениям на эстетику, он ясно сознавал, как
необходимо прочувствовать то, что пишешь, как необходимо
идеализировать то, о чем пишешь. Что же касается остального содержания
рецензии, то Тик выказал себя таким же незрелым критиком,
руководствующимся не столько твердо установившимися
убеждениями, сколько своими чувствами, каким мы знаем его по статье
о шекспировской галерее. Ведь и сам он откровенно признается,
что «не любит остроумных эстетических исследований». А если
бы он любил такие исследования, то не поставил бы
стихотворения Шиллера наряду со стихотворениями Фосса за то, что они
1 «Критические сочинения» 1, 77 и ел.; сравн.: предисловие, с. VIII, и
примечание к с. 89. То, что говорит Тик об антикритике своей рецензии,
доказывает, что память изменила ему. Сравн. в июньском номере «Архива» (1796)
статью: «Pflichtmässige Verbesserung einer irrigen Angabe im diesjährigen Märzstück»
(«Необходимое исправление одного ошибочного сообщения в марте этого
года». — Пром. науч. ред.).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
65
«вторгаются в сферу философии», и не отозвался бы с
пренебрежением знатока о гётевских «Эпиграммах из Венеции».
Его суждения, очевидно, сделались более зрелыми через два
года после того, когда он взялся, по просьбе Бернгарди, за
критический разбор альманахов и карманных книжек1. Впрочем, эта
вторая рецензия была написана под влиянием новых
впечатлений. В то время уже выступили на сцену некоторые писатели,
обладавшие замечательными критическими дарованиями. Но
наша задача покуда заключается не в изложении критических
замечаний, которые Тик писал после своей встречи с братьями
Шлегелями о Лафонтене и об анакреонтиках, а с другой стороны,
о диоскурах, живших в Веймаре и в Йене; мы должны теперь
проследить, каким образом Тик старался доказать на своих
собственных произведениях неосновательность точки зрения тех двух
критиков и какие в высшей степени странные мотивы побудили его
взять на себя такую роль.
Несмотря на свое случайное и прикрытое чужим именем
сотрудничество в «Архиве», он успел высвободиться из-под
влияния Рамбаха2; но зато он попал в гораздо более тяжелую
зависимость от такого человека, который был новым Готтшедом,
настоящим представителем того литературного направления, в
котором не было и тени поэзии, Голиафом филистеров и самым
решительным противником как новой гётевской поэзии, так и
новых философских воззрений Канта. В то время в Берлине все еще
преобладал во всех сферах жизни дух Просвещения, а
берлинский книгопродавец Николаи все еще играл в лагере поборников
Просвещения роль всесильного повелителя. Давно уже прошло
1 «Archiv der Zeit» (1798) 1, 301 и ел.; теперь этот разбор напечатан в
«Критических сочинениях» Тика 1, 98 и ел. Эта вторая рецензия подписана именем
автора, между тем как под рецензией, написанной в 1796 году, стоят только буквы
«Gk.» (то есть последние буквы двух имен Людвига Тика).
2 Впрочем, есть некоторое основание думать, что старая связь между ними
еще не была совершенно разорвана. Последние из напечатанных Рамбахом в
1795 году в ноябрьском номере журнала «Писем о новейших сочинениях»
подписаны буквой «Т.», а скрывавшийся под этой буквой автор заступался за своего
друга Рамбаха. Нет ничего невозможного в том, что эти три коротеньких
письма написаны Тиком. Если предположение это верно, то последнее из этих
писем (в котором речь идет о виландовской «Geschichte des weisen Danischmend»
(«История мудрого Данишменда». —Прим. науч. ред.)) может считаться за
доказательство того, что в то время Тик еще сочувствовал похвалам, которыми
обыкновенно осыпали Виланда.
3 Зак. Xs 3602
66
Р. ГАЙМ
то время, когда Николаи был молод, когда он был представителем
новых, просвещенных воззрений; когда он вместе с
Мендельсоном и Лессингом принадлежал к числу передовых бойцов за
новые идеи, когда он основал «Библиотеку изящных наук» и когда
он помогал Лессингу проводить в «Письмах о литературе» более
новые, более смелые и более основательные понятия о критике.
Теперь он уже состарился, но еще не утратил душевной
бодрости. Представители нового, более даровитого поколения
посмеивались над его холодной и сухой мудростью, но он с
непоколебимой самоуверенностью противопоставлял всем гениальным
нововведениям свой «здравый смысл». Он все еще ласкал себя
приятной мечтой, будто он был преемником своего гениального
друга Лессинга. Он все еще с самодовольством наполнял целые
тома продуктами своей бездушной фантазии и своей опытности.
Он по-прежнему произносил тоном высокомерного,
непогрешимого судьи свои приговоры над каждым новым явлением в
литературе или же печатал чужие приговоры в том же тоне. В
качестве настоящего представителя тенденций своего времени, из
любви ко всему, что приносит практическую пользу, он умел
согласовать свои меркантильные, книгопродавческие цели с
высшими умственными стремлениями. Он полагал, что на нем лежала
обязанность распространять влияние так называемого
здравомыслия и отстаивать требования так называемого изящного вкуса,
а исполнение этой обязанности превращалось у него в торговое
предприятие. Положение, которое он занимал в литературе,
благоприятствовало его книжной торговле, и наоборот: в этой
торговле он находил опору для своей критико-литературной
деятельности. Он был чем-то вроде содержателя приюта для поборников
Просвещения. Целая толпа литераторов была у него на
жалованье и всегда была готова приводить в исполнение его замыслы по
его указанию. При этом немало пользы приносили ему его
недюжинное знание света, его практическая ловкость, его
многолетняя опытность и его неутомимая предприимчивость. Хотя он и не
довольствовался, подобно Рамбаху и его сотрудникам, скромной
ролью литератора, обязанного рабски угождать вкусам публики,
тем не менее и он умел до некоторой степени приноравливаться
к этим вкусам; он старался привлекать к себе всякий вновь
обнаружившийся литературный талант и пользоваться им для своих
торговых целей, а с ролью агитатора и распространителя новых
идей он искусно соединял роль советника и покровителя, роль
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
67
мецената и такого хозяина, у которого можно заработать средства
к жизни.
Еще в Гёттингене Тик вступил в сношения с этим
влиятельным человеком или по собственному почину, или, что более
правдоподобно, по почину Николаи1. При этом роль посредников
играли Эберт и Эшенбург, которых Тик посетил во время своей поездки
в Брауншвейг и Вольфенбюттель. Благодаря их рекомендации
Николаи изъявил готовность принять на себя издание «Абдалла-
ха», а впоследствии согласился издать еще только задуманные
молодым ученым сочинения о Шекспире и о древних английских
драматургах. Он не ошибался в своих расчетах, всячески
стараясь привлечь к себе эту производительную силу. Надежды,
которые он возлагал на Тика, казались тем более основательными, что
этот молодой человек счел своим долгом лично с ним
познакомиться в Берлине и с почтительным молчанием выслушал его
советы и наставления. Таким образом, Тик нашел возможность
зарабатывать своим пером деньги, нашел человека, который мог
доставлять ему такую работу, и поступил к этому человеку на
службу, для того чтобы под именем Николаи просвещать и
приятно развлекать читателей.
Одно очень доходное литературное предприятие оставалось в
течение нескольких лет без движения вследствие невозможности
приискать необходимые для него литературные способности.
Автор «Физиогномических странствований» и очень нравившихся
читателям «Народных сказок», Музеус, предпринял, под
заглавием «Straussfedern» («Страусовые перья»), составление сборника
рассказов, которые были вольной переделкой старинных, уже
всеми позабытых французских повестей и выходили в свет под
издательской фирмой Николаи. Но Музеус умер, успев изготовить для
печати только один небольшой том своего сборника. Другой, очень
любимый в то время писатель Иоанн Готтверт Мюллер,
снискавший расположение публики своим романом «Зигфрид фон Лин-
денберг», взялся за продолжение той работы, но отказался от нее
после издания третьего тома. После продолжительного перерыва
наконец взялся за это дело автор «Абдаллаха». Николаи полагал,
что этот юный писатель справится со своей задачей без большого
1 Варнгаген («Denkwürdigkeiten» («Мемуары». — Прим. науч. ред.) XII, 529)
решительно утверждает, что Тик не вступал ни в какие сношения с Николаи.
Это служит новым доказательством того, как ненадежен авторитет этого
писателя.
68
Р. ГАЙМ
труда, что он сумеет приноровиться к тону своих
предшественников и, может быть, еще лучше этих последних сумеет
воспользоваться этой ролью рассказчика для того, чтобы проводить
просветительные идеи в сатирико-поучительном тоне, в том тоне, каким
был написан «Sebaldus Nothanker» («Себальд Нотганкер». —
Прим. науч. ред.). Сначала Тик несколько затруднялся не с
последним из этих требований, а с первым. Он вовсе не имел желания
подражать ни Мюллеру, ни Музеусу; он признавался, что
чувствовал отвращение к тем легким произведениям французской
литературы, которые ему приходилось подделывать под вкус
берлинской публики и выпускать в свет под новыми заглавиями. Но все
его возражения оказывались напрасными. Николаи прислал ему
на дом целую груду тех книг, в которых заключался необходимый
для него материал: прислал ему и «La Bibliothèque de campagne»
(«Сельская библиотека». —Прим. науч. ред.), и «Amusements des
eaux de Spa» («Отдых в водах Спа». — Прим. науч. ред.), и разные
другие сборники французских повестей1 и новелл. Тик принялся
за новую работу почти с таким же отвращением, с каким еще в
ребяческом возрасте заучивал напыщенные фразы своих
школьных преподавателей: ему казалось, что было бы гораздо легче и
гораздо приятнее плясать не под чужую дудку, а под свою
собственную. А разве что-нибудь мешало ему отбросить всякие
стеснения? Он написал три рассказа, которые были переделкой
французских повестей, а потом отложил в сторону старые, никуда не
годные французские книги и попробовал положиться на свою
собственную фантазию. Уже первый из его самостоятельных
рассказов — «Die beiden merkwürdigsten Tage aus Siegmund's Leben»
(«Два главных дня из жизни Зигмунда».—Прим. науч. ред.) —
вышел таким удачным, что старик Николаи никак не хотел
верить, что это была оригинальная работа его юного клиента. Но
издатель не имел ничего возразить против намерения Тика
продолжать работу по этой новой методе. Ведь Тик снабжал
«Страусовые перья» очень обильным содержанием. Он написал не менее
тринадцати самостоятельных рассказов; а когда эта работа, нако-
1 «Das Schicksal» («Судьба». — Прим. науч. ред.), «Die männliche Mutter»
(«Мужественная мать». — Прим. науч. ред.) и «Die Rechtsgelchrten»
(«Юристы». — Прим. науч. ред.) (они были напечатаны в IV и V томах «Страусовых
перьев», а теперь их можно найти в сочинениях Тика XIV, 1 и ел.); мы
заимствовали из рассказов самого Тика (в его сочинениях XI, ххх и ел.) как эту
подробность, так и вообще то, что изложено выше.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
69
нец, стала надоедать ему, он привлек к участию в ней свою
сестру, которая выступила тогда в первый раз в роли писательницы,
прикрывавшейся анонимностью; Бернгарди также стал иногда
доставлять рассказы, содержание которых было продуктом его
собственной фантазии1.
Тик и Николаи! Тот, кто впоследствии сделался главным
представителем романтизма, на службе у представителя тогдашнего
Просвещения! В истории литературы, как видно, встречаются
странные явления. То, что случилось с Тиком, напоминает нам,
что легкомысленный автор «Агатона» дебютировал
христианскими размышлениями и стихотворениями во вкусе Бодмера, а
потом неожиданно вывел на сцену, под личиной ханжи, кокетку
и ветреную модную красавицу. Но то, что случилось с Тиком,
еще гораздо более удивительно. Загадка заключается не только в
том, каким образом автор рассказов, печатавшихся в
«Страусовых перьях», мог так быстро превратиться в автора «Цербино» и
«Св. Женевьевы», а также в том, каким образом автор «Абдалла-
ха» и «Ловеля» сумел приноравливаться к тривиальным
тенденциям Нестора берлинского Просвещения? Разве это был не тот
самый пылкий юноша, который восхищался Шекспиром и
Сервантесом, увлекался до самозабвения стихотворениями Гёте и
первыми произведениями Шиллера и вместе с Вакенродером
восторгался превосходствами произведений средневекового
искусства, произведений Ганса Сакса и Альбрехта Дюрера? Даже в
самом Берлине уже давно существовала небольшая партия,
которая придерживалась точно такого же направления: которая,
наперекор Николаи, Рамблеру и Энгелю, восхищалась новой
поэзией и без шума, но очень ревностно развивала воззрения
Филиппа Морица и сохраняла традиции семейства Рейхардта.
Каким же образом могло случиться, что молодой Тик не
примкнул к этой партии, а стал придерживаться точки зрения,
господствовавшей в противоположном лагере, и встал под знамя
старой школы?
1 См. Корке I, 203 и прим. κ Ι, 200 (11, 270). Из рассказов Тика,
напечатанных в V—VIII томах «Страусовых перьев», один напечатан теперь под
заглавием «Die Brüder» («Брат». —Прим. науч. ред.) в его сочинениях, VIII, 243 и ел.,
а его комедия «Die Theegesellschaft» («Чайное общество». — Прим. науч. ред.) —
в его сочинениях XII, 355 и ел.; его остальные рассказы напечатаны в его
сочинениях XIV и XV; сравн. хронологический указатель сочинений Тика в конце
сочинения Корке под годами 1795, 1796, 1797 и 1798.
70
Р. ГАИМ
Ведь можно было бы подумать, что он так поступил с
плутовской целью, с целью осмеивать тенденции Николаи,
прикрываясь маской писателя, искренно ратующего за тогдашние
понятия о Просвещении. Действительно, в его рассказах попадаются
такие места, при чтении которых в рукописи Николаи
непременно был бы поражен удивлением; так, например, в комедии «Die
Theegesellschaft» старик Альфельдт рассыпается в самых
нелепых порицаниях суеверия и таких же нелепых похвалах
разумного éclaircissement (просвещение.—Прим. науч. ред.), говорит
разный вздор о «мрачных средних веках», превозносит в
противоположность поэзии яркий свет, разливаемый учеными,
рецензентами, берлинским ежемесячным журналом и т. д., а
«шекспировскую манеру выводить на сцену привидения и тому подобные
призраки» называет совершенно бессмысленной. Но в
вознаграждение за одно из таких подозрительных мест Николаи
находил десяток таких поучительных рассказов, которые и сам он не
сумел бы лучше изложить. Один из этих рассказов носит заглавие
«Ulrich der Empfindsame» («Ульрих Чувствительный». — Прим.
науч. ред.), другой — «Fermer der Geniale» («Гениальный
крестьянин». — Прим. науч. ред.), третий — «Der Psycholog»
(«Психолог».— Прим. науч. ред.), четвертый — «Der Naturfreund», как
будто Николаи давал своему молодому другу указания, на какие
темы и под какими заглавиями он должен был писать свои
рассказы. Разве от автора «Абдаллаха» можно было ожидать
рационалистического объяснения психологических мотивов в историях
о привидениях; разве от него можно было ожидать сатирических
нападок на фантастическое увлечение природой, на чрезмерную
чувствительность, на заносчивую гениальность? Он постоянно
посмеивается над новейшими воспитателями юношества,
усматривающими гениальность во всяком дерзком мальчишке; над
сильно развившейся страстью к театру, к наполненным ужасами
рассказам, к рыцарским романам и к эффектным театральным
представлениям. А в рассказе «Fermer der Geniale» Тик доходит
до того, что едва не ставит «Разбойников» и «Дон Карлоса»,
«Стеллу» и «Клавиго» наравне с «Гением» Гроссе и с крамеров-
ским «Turnier von Nordhausen» («Турнир в Нордхаузене». —Прим.
науч. ред.). Сделай он еще один шаг в том же направлении, и мы
могли бы подумать, что он писал свои рассказы с целью
объяснить, какой вред неизбежно должна причинять новая
эксцентричная поэзия.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
71
Итак, не подлежит никакому сомнению, что автор рассказов
для «Страусовых перьев» приноравливался к целям своего
патрона и старался подделываться под его вкусы. Но этому едва ли
будет удивляться тот, кто изучил весь процесс умственного
развития юного писателя.
Тик погрузился в поток новой поэзии не так, как это сделал
бы здоровый человек, не телом и душою, не для того, чтоб
освежиться в нем и выплыть из него с обновленными силами.
Напротив, при возбужденном состоянии его ума на него производили
болезненное впечатление титанические свойства этой поэзии. Она
имела на него патологическое влияние — приводила его кровь в
волнение, разгорячала его фантазию и доводила его почти до
умопомешательства. Таким образом и возникло то душевное
состояние, которое он лихорадочно описывал в «Абдаллахе» и которое
он снова описал в «Ловеле». Все его мечтания привели только к
тому результату, что он впал в меланхолию, отзывавшуюся
пессимизмом. Его силы истощились от чрезмерного напряжения и
когда он стал подводить итог всему, что перечувствовал и
передумал, то в этом итоге осталась та мудрость Мортимера,
которая осыпает полуискренними, полунасмешливыми похвалами
скромность, благоразумие и умеренность. В той мере, в какой он
сочувствовал таким похвалам, он вполне сходился с
убеждениями приверженцев Николаи. Но лишь только та мудрость начинала
казаться ему смешной и незаслуживающей доверия, он был готов
отзываться тоном сатирика обо всем, что эксцентрично, и, стало
быть, также об эксцентричности той умеренности, которой
отличались представители тогдашнего Просвещения. Действительно,
именно такова была его точка зрения, когда он писал рассказы,
анекдоты и новеллы для «Страусовых перьев». Эти рассказы
написаны именно так, как их написал бы веселый скептик
Мортимер, если бы он был литератором. В «Абдаллахе» и «Ловеле»
сомненья терзают душу автора, а в «Страусовых перьях» они выходят
наружу. Там фантазия автора разгорячается до того, что
вовлекает его в пафос, а здесь она охлаждается до того, что переходит в
хладнокровную рассудительность сатирика. Впрочем и тут и там
попадаются совершенно однородные составные части. Некоторые
рассказы в «Страусовых перьях» наполнены по-старому
необычайными происшествиями; разница только в том, что эти
рассказы приправлены нравоучениями и сатирическими замечаниями.
В рассказе «Die Brüder» нет недостатка ни в восточной обстанов-
72
Р. ГАИМ
ке, ни в привидениях; тем не менее это такой нравоучительный
рассказ, который был бы совершенно на своем месте в
какой-нибудь книжке для детского чтения. Рассказ «Der Fremde»
(«Чужестранец». — Прим. науч. ред.) наполнен такими ужасными
происшествиями, от которых мороз продирает по коже, но во введении
автор сам отзывается с легкой насмешливостью о тех модных
писателях, которые не знают никакой меры в описании разных
ужасов. Сходство всех этих рассказов с содержанием «Ловеля»
всего яснее видно в рассказе «Die beiden merkwürdigsten Tage aus
dem Leben Siegmund's»; он не лишен изящества, написан
довольно искусно и старательно и более всех других напоминает нам
литературные приемы в позднейших новеллах Тика. Вот его
содержание: добиваясь получения служебной должности, молодой
Сигмунд узнает по опыту, что себялюбие и тщеславие —
главные пружины человеческих деяний и что, стало быть, надо учиться
извлекать для себя выгоду из человеческих слабостей. Это — не
что иное, как общий вывод из философских размышлений
«Ловеля» о несостоятельности идеализма; не что иное, как очень
пошлое, скептическое воззрение на цену жизни и добродетели. А
пошлость этого воззрения еще ярче бросается в глаза вследствие того,
что самой красноречивой представительницей такой морали
является одна дама, умеющая ловко извлекать выгоды из своей
красоты. Весь этот рассказ, как утверждает в конце его сам автор,
есть не что иное, как софистическая шарада; к сожалению, Тик
нисколько не старается навести читателя на разрешение этой
шарады! Он не только не заявляет никакого протеста против такой
безнравственности и таких софизмов, но точно так же, как и в
«Ловеле», обнаруживает отсутствие какой бы то ни было
положительной точки зрения. В сущности, он придерживается
воззрений Николаи; но он ежеминутно готов перейти на сторону
противников этого писателя и удерживает за собой право по своей личной
прихоти то вступаться за идеализм и за его поэзию, то
придерживаться благоразумных требований скромной прозы. Именно в этом
и заключается отличие небольших рассказов Тика от того
большого романа, которым он был занят в одно время с теми
рассказами. В романе он с напряженными усилиями излагает мучившие
его ум сомнения и по меньшей мере старается (хотя и
безуспешно) разрешить шараду жизни. Напротив того, его рассказы
обнаруживают в нем полное отсутствие каких-либо убеждений и
совершенно лишены пафоса. Этим объясняется, почему некоторые из
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
73
тех рассказов отличаются возмутительным легкомыслием, а
некоторые другие поразительной пошлостью. Нелегко указать более
скучную комедию, чем «Die Theegesellschaft», в которой автор
приводит содержание тех пошлых разговоров, которые ведутся
вокруг чайного стола в высшем берлинском обществе. Тик говорит1,
что написал ее под влиянием пресыщения теми
сентиментальными сценами, которыми наполнены театральные пьесы; к этому
следовало бы прибавить, что он написал ее также из пресыщения
теми мрачными, трагическими сценами, которые сам слишком
часто описывал. В полном собрании сочинений Тика эта комедия
основательно помещена наряду с двумя рассказами,
переведенными из Бена Джонсона: ведь он старался здесь подражать Джонсону
в сатирической характеристике нравов, точно так же, как в
описании трагических сцен старался подражать страстности
Шекспира. С другой стороны, нельзя представить себе ничего более
бессмысленного, чем история Сигмунда или история того
«гениального Фермера», который после разных остроумных проказ или,
вернее, после разных пошлых дурачеств делается настоящим
филистером, женится на дочери причетника и, чтобы отделаться от
своей прежней любовницы, дает ей достаточную сумму денег для
приискания мужа. Здесь мы тщетно стали бы искать не только
чего-либо похожего на пафос, но даже чего-либо, отзывающегося
поэзией. О «Ловеле» можно по меньшей мере сказать, что его
форма изложения не лишена художественности; а рассказы,
напечатанные в «Страусовых перьях», написаны, за немногими
исключениями, с непростительной и возмутительной небрежностью.
Эта небрежность представляет новую и нелишенную
значения черту в характере молодого поэта. После того как он долго и
безуспешно отыскивал в себе какие-нибудь верования,
какие-нибудь положительные убеждения, он стал находить для себя
удовлетворение в том, что дал полную волю своей способности
выдумывать и описывать разные небылицы. Безвыходный скептицизм
совершенно замучал бы его, если бы его пылкая фантазия не
служила для него источником приятных развлечений. В его
рассказах преобладает то одна, то другая тенденция; их мораль
беспрестанно изменяется. Впрочем, какое ему дело до тенденции и до
морали! Он доволен только тогда, когда находит случай
представить какое-нибудь положение в карикатурном виде, когда описы-
1 В его сочинениях IX, xlvii, xlviii.
74
Р. ГАЙМ
вает нетерпение, с которым юноша ожидает перед балом своего
парикмахера, или когда рассказывает, как г-н Зейдеманн возится
то со своей возлюбленной, которую хочет увезти к себе, но
которая оказывает ему сопротивление; то с лошадьми, которые не
хотят трогаться с места. Импровизация Тика оказывается и
бестолковой, и вовсе не художественной, но он неистощим то в пошлых,
то в смешных выдумках. Ему, очевидно, надоедает главное
течение рассказа. Только ради разнообразия иногда он делает из
анекдота сюжет для комедии, иногда вплетает размышления и
рассказы в бесформенное содержание юмористического дневника. Он
подробно описывает мечтания одного государственного
человека, страдающего геморроем, и наполняет целые страницы
письмами г-на Кильмана к другу и письмами девицы Каролины к
подруге; а вся эта переписка кончается тем, что Кильман извещает
друга, что он жених, а Каролина извещает свою подругу, что она
нашла себе мужа. Другой рассказ под заглавием «Ein Roman in
Briefen» («Роман в письмах». —Прим. науч. ред.) весь наполнен
причудливыми выдумками: в одном обществе все
присутствующие задумали написать общими силами книгу; они решили, что
каждый из них будет описывать в письмах свой собственный
характер. Но одни приготовления к этому предприятию вызывают
предварительную переписку, в которой все участвующие заранее
рассказывают все, что их касается. Таким образом, оказывается,
что роман был готов уже прежде, чем он был начат.
Но главная отличительная черта рассказов Тика заключается
не в причудливости вымыслов, а в том, что их автор ничем не
стеснялся в своих сатирических выходках. Так как у него не было
никакой определенной точки зрения, то он находил очень удобным
восполнять этот недостаток сатирическим тоном своих
произведений. Вот почему трагическая серьезность «Ловеля» уступила
место ироническим отзывам о тех проблемах, над разрешением
которых безуспешно работал ум юного писателя. Тик,
по-видимому, пришел к убеждению, что напрасно придавал тем
проблемам слишком серьезное значение; что противоречия, на которые
мы наталкиваемся при объяснении целей нашего существования,
перестанут тревожить и смущать наш ум, если мы будем
относиться к ним с насмешкой и если будем опровергать одну
нелепость другою нелепостью. В этом случае Тик не мог бы найти
лучшего руководителя, чем его друг Бернгарди. У Визеля он
заимствовал краски для характеристики демонических личностей
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
75
Абдаллаха и Ловеля, а у Бернгарди он мог заимствовать
некоторые черты, напоминающие Мефистофеля. Этот друг Тика
находил одинаково благодарные сюжеты для своей критики и в
жалкой ограниченности филистеров, и в безрассудстве тех, чья жажда
знания не знала никаких пределов. Если бы с его дарованиями
прозорливого наблюдателя соединялось побольше фантазии и
поэтического чувства, он, конечно, был бы в состоянии не хуже
Тика сочинять сатирические рассказы, наполненные
насмешками над заблуждениями его современников и берлинских
жителей. И нельзя сказать, чтобы он не делал никаких попыток в этом
направлении; но об этих попытках мы будем говорить
впоследствии, а покуда ограничимся указанием на то, что своими
колкими замечаниями он нередко возбуждал в Тике умственную
изобретательность и вообще имел чрезвычайно сильное влияние на
содержание «Страусовых перьев». Вот почему все, что наш поэт
сам пережил и перечувствовал, прежде облекалось в туман
меланхолического душевного настроения, а теперь осветилось
насмешливыми рассказами о достойных осмеяния дурачествах.
Теперь он стал грубою кистью и с причудливым остроумием
описывать самого себя в лице того чувствительного, гениального
мечтателя, который окончательно отрезвился от своих
заблуждений; прежде он и превозносил, и бичевал самого себя в «Абдал-
лахе» и в «Ловеле», а теперь он стал описывать самого себя в лице
того Ульриха, который сначала был нравственно испорчен
берлинской искусственной системой воспитания, преждевременным
посещением театра и чтением романов, а потом стал писать
педагогические сочинения под руководством просвещенного Гольма-
на. Здесь на каждом шагу встречаются намеки на юношескую
жизнь Тика, на общественную жизнь и на образованность его
соотечественников. Все эти сатирические очерки возникли на
берлинской почве. Даже по оборотам речи и по сценической
обстановке узнается Берлин. Чувствительный Ульрих, над которым один
воспитанник дессауского филантропического заведения (где
воспитывался друг Тика Бургсдорф до своего поступления в Верде-
ровскую гимназию в Берлине) делает свои педагогические
эксперименты, назван на чисто берлинском языке hoffnungsvolle Pflanze
(многообещающий фрукт. —Прим. науч. ред.). В написанном по
поводу одного стихотворения Вакенродера рассказе о
человечестве и о судьбе в «ученом обществе» несколько дерзких
гимназистов издеваются над ректором, так что весь этот рассказ похож на
76
Р. ГАЙМ
отголосок воспоминаний о случившемся в берлинской школе
происшествии. В «Theegesellschaft» все напоминает о Берлине: и
зоологический сад, и липовая аллея, и палатки торговцев, и театр, и
пивной погреб, и вся внешняя обстановка. В «Roman in Briefen»
берлинизм доходит до того, что один из авторов писем
употребляет неправильные выражения, которые были в ходу у
берлинцев. Но принадлежность автора к числу берлинских уроженцев
всего яснее обнаруживается во всем складе его ума, в том
поверхностном понятии о Просвещении, которое придает критике более
важное значение, чем сущности дела, а остроумию — более
важное значение, чем критике.
Почти совершенно наряду с рассказами «Страусовых перьев»
следует поставить небольшой роман, написанный Тиком в одно
время с теми рассказами и носящий следующее заглавие: «Peter
Leberecht, eine Geschichte ohne Abenteuerlichkeiten»1 («Петер Леб-
рехт. История безо всяких необыкновенных приключений»). Это
не что иное, как разросшийся в ширину рассказ из «Страусовых
перьев». Содержанием для него служит история одного домашнего
учителя, у которого похищают его невесту в день, назначенный
для свадьбы; Тик заимствовал это содержание из присланных ему
от Николаи сборников французских новелл, а с какой
небрежностью он относился к своей задаче при простом переводе
некоторых частей подлинника на немецкий язык, видно из того, что даже
после перепечатки романа в нем остались неисправленными
некоторые галлицизмы2. Впрочем, он нисколько не стеснял себя
содержанием подлинника и главный интерес его романа
заключается не в рассказываемой истории, в которой трудно уловить нить
происшествий и которая прерывается на половине, а в
добавочных юмористических подробностях, размышлениях и
сатирических замечаниях; таких прибавок всего больше во второй части, в
которой автор дает полную волю игривости своего ума. За
спиной у того «Ловеля», последнюю часть которого он отделывал в
1 Напечатан в двух частях в Берлине и в Лейпциге, в 1795 и в 1796 годах;
в сочинениях Тика XIV, 161 и ел. и XI, I и ел.
2 «Ich kam also in Deutschland zurück», «Er schien kaum fünf Iahre zu haben»
и тому подобные выражения. Вообще можно заметить, что в произведениях
первого периода своей литературной деятельности Тик относился довольно
небрежно к требованиям синтаксиса и грамматики. И в «Абдаллахе», и в
рассказах «Страусовых перьев» встречается множество неправильных выражений,
которые частично были не чем иным, как ошибками школьного ученика.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
77
то время, писалась история этого Петера Лебрехта,
представляющего совершенную противоположность с тем несчастным и
развратным искателем приключений. Как в большинстве рассказов,
написанных для «Страусовых перьев», так и в этом романе автор
как будто ищет способа отрезвиться от тех нелепых увлечений
своей фантазии, которыми были наполнены его первые два романа.
Впрочем, автор сам это осознает и ясно высказывает. В самом
заглавии романа заключается объявление войны всяким
необычайным происшествиям. Петер Лебрехт, сам рассказывающий свою
биографию, уверяет в самом начале романа, что читатель не
найдет здесь ни великанов, ни карликов, ни привидений, ни ведьм,
ни смертоубийств — не найдет того, от чего у читателей модных
рассказов маркиза Гроссе и г-на Шписа встают дыбом волосы;
автор даже утверждает, что не хотел посвящать своего героя в
члены какого-нибудь тайного общества и потому не будет иметь
случая описывать разные мистические и иероглифические обряды.
Автор заходит в этом направлении так далеко, что сам осмеивает
ужасный конец своего «Абдаллаха». Но если он намеревался не
описывать никаких необычайных происшествий, то что же
описывал он в своем романе? Он говорит, что своим забавным
прагматическим повествованием намеревается разогнать привидения
и чертей подобно тому, как Музеус своими народными сказками
положил конец сентиментальности Зигварта. Он принимает за
образец «человеколюбивого Стерна», а от читателей требует
способности вникать в «смысл мелочей». Вот почему и здесь самые
удачные страницы те, которые наполнены юмористическим
содержанием, как, например, во второй части описание того
тревожного дня, который был проведен Петером Лебрехтом в
заботах и ссорах, или описание происшествия, случившегося с
лошадью старосты Зинтмаля. Но настоящий юмор лишь изредка
руководит пером нашего писателя. Нам нередко приходится
довольствоваться взамен юмора тем, что сам Тик называет
«умеренной шутливостью и легкой сатирой»1. Здесь мы находим смесь
заимствований из «Тристрама Шанди» и из «Sebaldus Nothanker»,
а объясняется это тем, что для настоящего юмора Петеру Лебрех-
ту недоставало свойственного английскому сатирику уменья
углубляться в смысл положительных фактов. Его юмор возник из
внезапного отрезвления от той болезненной мечтательности, ко-
1 В его сочинениях XI, χχχιν.
78
Р. ГАИМ
торою был заражен «Ловель». Но в глазах Николаи главное
достоинство нового романа заключалось именно в тех здравых
суждениях, отвергающих всякую эксцентричность и всякую
сентиментальность, которые автор вложил в уста Лебрехтова тестя,
честного арендатора Мартина. Тику еще ни разу не удавалось так
хорошо подделаться под вкус своего патрона; поэтому Николаи
передал рукопись нового романа только что принявшемуся за
издательскую деятельность своему сыну, полагая, что не мог бы
сделать ему лучшего подарка. Но Николаи не заметил, что новый
роман был написан «как будто от чужого имени», что
здравомыслие было лишь навязанным автору временным направлением ума.
Тик был вовсе неспособен долго и твердо придерживаться такого
направления. В его собственном характере было гораздо более
легкомыслия. Он сам высказал это в последней главе романа:
«Я дошел до того, — писал он, — что самые серьезные вещи
кажутся мне самыми смешными». Из этих слов ясно видно, что,
несмотря на свою кажущуюся противоположность, «Ловель» и
«Петер Лебрехт» были родные братья, что одно умственное
направление было лишь изнанкой другого. Это была крайне
неустойчивая и, в особенности, очень неясная точка зрения. Она
могла временно сказываться в добродушных нападках на разные
несообразности, которыми наполнены и жизнь, и литература;
в том, что автор часто перебивал рассказчика или критиковал в
одной главе то, что сказано в другой; но разве это игривое
расположение духа не могло перейти в разнузданность, разве автор не
мог направить стрелы своего остроумия в противоположную
сторону и напасть на пошлость тогдашнего Просвещения, на
филистерское здравомыслие? Зачатки такого переворота находились в
таком же изобилии в «Петере Лебрехте», как и в рассказах
«Страусовых перьев». Им стоило только развиться для того, чтоб
вызвать окончательное отпадение Тика от школы Николаи.
Непреодолимое внутреннее влечение толкало Тика вперед
именно в этом направлении. Временная опора, которую он нашел
в тогдашнем Просвещении, скоро выпала из-под его ног. Не
чувствуя под собою никакой твердой почвы, он дал полную волю
своей игривой фантазии и стал, ничем не стесняясь, удовлетворять
свою склонность к критике. Он стал сочинять частию сказки, ча-
стию сатирико-юмористические комедии.
ГЛАВА ВТОРАЯ
СОЧИНЕНИЕ СКАЗОК И КОМЕДИЙ
Новое видоизменение в умственном направлении Тика
отделяется и по времени и по своей сущности лишь неясным рубежом
от того направления, которое сказывалось, с одной стороны, в «Ло-
веле», с другой стороны, в «Страусовых перьях» и в «Петере Ле-
брехте». В таком сборнике, как «Страусовые перья», можно было
помещать рассказы разнообразного характера, а в течение тех
четырех лет, которые были посвящены Тиком на эту работу, он,
естественно, должен был умственно развиться и измениться,
должен был убедиться, что нетвердо придерживался общего плана
того издания. К середине этого промежутка времени относятся те
сочинения, на которых лежит самый яркий отпечаток
самостоятельной литературной деятельности и которым всего более идет
название берлинских новелл. Между ранее написанными
рассказами еще попадаются такие, в которых снова обнаруживается
старая склонность Тика ко всему, что возбуждает уныние и ужас.
Напротив того, между рассказами, написанными позднее,
встречаются такие, в которых обнаруживается его новая склонность к
баснословным вымыслам. Например, такова переделка
совершенно нелепой сказки о подмастерье Аврааме Тонелли, сделавшемся
императором при помощи разных чародейств. Эта сказка могла
подходить к содержанию сборника только благодаря своему са-
тирико-юмористическому отпечатку. Другая сказка «Die Freunde»
(«Друг». —Прим. науч. ред.) могла подходить к этому
содержанию только благодаря рассудительности своего окончания. На пути
к больному при смерти другу Людвиг переносится в сновидении
в царство фей и убеждается, что там горе только прикрыто
внешним блеском; ему хочется возвратиться на землю, где
«существует суеверие дружбы», — и он пробуждается в объятиях того дру-
80
Р. ГАИМ
га, успевшего тем временем выздороветь. Для человека
недостижимо то величие, которому нечего желать. Феи «вкладывают в
наше сердце те желания, которые нам самим непонятны, — те
преувеличенные требования, те безрассудные стремления к
нечеловеческому благополучию, которые доводят нас до такого
меланхолического уныния, что мы делаемся неспособными
наслаждаться прелестями земного существования». Прекрасно! Но
почему же автор не находит это в высшей степени благоразумное
размышление достаточным для того, чтобы сделать свой рассказ
пригодным для «Страусовых перьев»? Ведь он прибавил к этому
рассказу предисловие и послесловие1. В предисловии сказано:
«Нельзя всегда верить только в то, что правдоподобно; бывают
такие часы, когда сверхъестественное привлекает нас и
доставляет нам искреннее наслаждение; тогда воскресают в нашем уме
воспоминания о прошлом, в нашей душе возникают странные
предчувствия или же мы создаем нашим воображением странные
миры; во всех этих вымыслах нет внутренней связи; они то снова
возникают, то опять исчезают; мы утопаем в море призраков, а
потом все снова приходит в свое нормальное положение». А в
заключение автор еще раз просит любезного читателя быть
снисходительным к рассказанному сновидению, «потому что всякий
человек обязан относиться снисходительно не только к
поступкам своего ближнего, но и к его мечтаниям. Разве все мы не
увлекаемся мечтаниями?». Автор, действительно, имел основание
прибегать к таким оправданиям и к таким комическим
воззваниям к снисходительности просвещенной публики. Ведь
содержание рассказанной им сказки очень плохо подходит к ее
заключительному нравоучению. Она как будто написана с целью дурачить
читателя. Преимуществам земли над царством фей рассказчик
придает очень двусмысленный характер. По его словам, земные
радости очень обманчивы, а в царстве фей нет ни дружбы, ни
любви, потому что там царствует правда и «всякий обман тотчас
выводится наружу». Герой рассказа переносится в царство фей
вследствие того, что недоволен здешним миром, а потом снова
возвращается в здешний мир вследствие того, что жаждет
обманчивых наслаждений. Это — такая же бессмысленная диалектика,
1 В «Страусовых перьях» VII, 207 и 231; в полном собрании сочинений
Тика не напечатаны ни предисловие, ни послесловие. Коротенькие
предварительные напоминания в том же роде напечатаны в «Страусовых перьях» перед
началом комедии «Die Theegesellschaft», перед дневником и биографией Тонелли.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
81
какою отличается «Ловель». Но на этот раз ее нельзя назвать
совершенно бесплодной. Из этого парения меж двух миров, из этого
стремления то в одну сторону, то в другую складывается
нелишенная поэзии, туманная картина, — складывается очень
эффектный рассказ.
Но то, что печаталось в «Страусовых перьях» в виде
контрабанды, нашло для себя более полное выражение в иной форме.
Там грёзы автора перемешивались с аллегориями, а в новеллах
Тика склонность к мечтательности и к сочинению небылиц
сталкивается с дидактическими и сатирическими влечениями.
Впрочем, эта склонность была так сильна, что могла выражаться и безо
всякой посторонней примеси. Она была в состоянии обходиться
без того стерновского юмора, с которым был написан «Петер Ле-
брехт». Ведь сам автор откровенно признавался в том романе1,
что он начал сомневаться, одарен ли он способностью
настоящего юмориста придавать интерес мелким подробностям нашей
обыденной жизни. Очевидно, в связи с этим сомнением находятся
его энергические нападки на модные рассказы, наполненные
смертоубийствами и рыцарскими похождениями; на эти «уродливые
произведения праздной фантазии», которые были бы признаны
за продукты сумасбродства, если бы появились только десятью
годами раньше. Впрочем, он осуждает в тех рассказах не
фантастические подробности необычайных приключений, а то, что в их
содержании бессмысленно, высокопарно, преувеличено и
неизящно. В противоположность с этим содержанием он указывает на те
плохо напечатанные и несправедливо презираемые народные
книжки, которые продаются на улицах старыми бабами за один и
за два гроша, потому что, говорит он далее, «в „Рогатом
Зигфриде", в „Сыновьях Эймона", в „Герцоге Эрнсте" и в „Женевьеве"
более даровитой изобретательности, чем в модных романах, и они
несравненно лучше написаны». Вслед за этим он заявляет своим
читателям, что сам намеревается писать для них рассказы в этом
роде, что эти новые произведения появятся под заглавием
«Народных сказок» и что их содержание будет состоять только из
удивительных приключений.
Тик сдержал свое обещание. В 1797 году были изданы
Николай-младшим три тома «Народных сказок Петера Лебрехта».
Какое странное заглавие! Ведь имя Петера Лебрехта ясно указывало
1 В его сочинениях XV, 22.
82
Р. ГАЙМ
на зависимость автора от Николаи, а сочувствие к содержанию и
к тону старинных народных книжек никак не могло совмещаться
с уважением к тому Просвещению, представителем которого
считался Николаи. Или, может быть, автор писал свои сказки в
ироническом тоне Музеуса? Отчасти да, отчасти нет. Под приведенным
выше заглавием умещалось самое разнохарактерное содержание.
Там был помещен заново переделанный «Карл фон Бернек», то
есть такой рассказ, который принадлежал к одному разряду с «Аб-
даллахом» и с «Лове л ем». Там же был помещен рассказ о рыцаре
Синяя Борода, переделанный в драму, которую автор надеялся
видеть исполненной на театральной сцене. В некоторых
рассказах автор, действительно, с точностью придерживался тона
народных сказок и вовсе не прибегал к иронии. Но сборник
заканчивается чисто сатирическим рассказом о гражданах Шильды.
А в своем изложении сказки Шарля Перро «Кот в сапогах» Тик
обнаружил еще больше юмора, чем Музеус. Что же это значило?
Над кем посмеивался автор — над сочинителями сказок или над
публикой?
Постараемся же сделать обзор различных умственных
направлений и поэтических точек зрения, переплетающихся в этих
народных сказках. Крайними полюсами служат, с одной стороны,
сказка безо всякой посторонней примеси, с другой стороны,
сатира в форме комедии, а середину занимает третий, смешанный род
рассказов.
По-видимому, не что иное, как чтение старинных народных
книжек внушило Тику намерение писать сказки. Поэтому он
попытался изложить в новой форме содержание некоторых из этих
старинных произведений народной поэзии. И Гёте, как он сам
нам рассказывает, с большим удовольствием читал в молодости
рассказ о сыновьях Эймона; хотя этот рассказ и состоит большей
частью из самых неправдоподобных приключений, но тот, кого
мог растрогать рассказ Гомера о верной собаке Одиссея,
испустившей дух при виде своего возвратившегося господина, тот не
мог оставаться равнодушным, читая историю той лошади,
которую толкали в воду, предварительно навьючив на нее тяжелые
жерновые каменья, но которая постоянно выплывала из воды,
чтобы ласкаться к своему господину и наконец погибла в волнах после
того, как господин исчез, а она тщетно искала его. Этот
старинный рассказ был заново изложен Тиком в двадцати «altfränkische
Bilden) (старомодных картинах. — Прим. науч. ред.), как сказано
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
83
в заголовке, в безыскусственной спокойной прозе, без всяких
преувеличений, без всяких прагматических дополнений1, так что
«чувства лошади» (по остроумному замечанию А. В. Шлегеля в
написанной им рецензии)2 не были подвергнуты анализу по правилам
лошадиной психологии и сообразно с господствовавшими в
тогдашней литературе вкусами. Рассказчик откровенно признается
в своем намерении перенести читателя в эпоху детства и
сообщить ему такое же душевное настроение, с каким выздоровевший
больной забавляется рассматриванием старинных политипажных
картинок, на которых природа изображена в очень грубых
очертаниях, а фигуры — с явным нарушением законов перспективы.
Все это для нас понятно, потому что сам Тик принадлежал к
числу выздоравливавших больных. В простодушии старинной
безыскусственной поэзии он находит для себя отдых от того
лихорадочного состояния, под влиянием которого был написан «Ловель»,
и вместе с тем от того первоначального лечения, которое
заключалось в сатирической приправе к его новым произведениям. С тем
же душевным настроением, с каким писал он эти «altfränkische
Bilden), он осматривал в Нюрнберге вместе с Вакенродером
памятники старинного искусства и живописи. Этот же друг обратил
его внимание на старинную немецкую литературу. Когда Вакен-
родер, живя в Берлине, в первый раз писал ему, что познакомился
с этими поэтическими произведениями из лекций ученого Коха
об истории литературы, он не обратил никакого внимания на
указания своего друга, потому что был всецело погружен в изучение
своих любимых иностранных поэтов3. Но во время студенческой
жизни в Эрлангене Вакенродеру наконец удалось обратить Тика
на путь истины. После того Тик стал хвалить произведения Ганса
Сакса в написанных для «Archiv der Zeit» рецензиях на
альманахи; в восьмом томе «Страусовых перьев», в разной смеси,
озаглавленной словами «Ein Tagebuch» («Дневник». — Прим. науч.
ред.), он наполнил немало страниц выдержками из
фантастических произведений Филандера фон Зиттевальда и из «Симпли-
циссимуса»; в связи с этим направлением находятся и похвалы, с
которыми он стал отзываться о старинных народных книжках,
1 «Народные сказки» I, 243 и ел. В сочинениях Тика XIII, I и ел.; сравн.
слова Тика в его сочинениях XI, хш и ел.
2 В его сочинениях XII, 31.
3 Holtei IV, 228 и 245.
84
Р. ГАЙМ
а подобно тому, как из-за шутливых выходок в рассказах
«Страусовых перьев» выглядывает ироническая физиономия Бернгарди,
из-за ребяческого сочувствия к поэтическим картинкам
«Сыновей Эймона» выглядывает добродушная физиономия Вакенродера.
Но влияние нежной, музыкальной натуры Вакенродера на
произведения Тика обнаружилось еще яснее в том, каким образом
Тик переделал заимствованную из тех же народных книжек
любовную историю прекрасной Магелоны и графа Петра Прованс-
ского1. Здесь идет речь о благородном рыцаре, который снискал
любовь дочери короля неапольского и бежал вместе с нею, а
потом был принужден расстаться с нею и после разных
странствований по суше и по морю нашел ее в числе ухаживавших за
больными сестер милосердия, сам в качестве больного пользовался ее
услугами и наконец был ею узнан; так как все содержание этого
рассказа пропитано чрезмерною сентиментальностью, то Тик
задумал переделать его так, чтобы он более подходил под
современные понятия о любовной привязанности. Уже в коротеньком
предисловии он заявил, что изложит старинный рассказ в новом
освещении. Но это освещение вовсе не оказалось более ярким.
Сам Тик впоследствии сознавался, что нисколько не улучшил свою
переделку тем, что набросил некоторую тень на верность
возвратившегося рыцаря, а сцену свидания двух влюбленных перенес
из больницы в хижину пастуха. Весь рассказ наполнен такими
мнимыми улучшениями, а наивный эпический тон уступает
место идиллическому и лирическому. Объективный рассказ
происшествий местами принимает внешнюю форму описания
субъективных ощущений. Эти ощущения выражаются в стихах и в
песнях, вложенных в уста двух любовников, вследствие чего весь
рассказ носит колорит оперных арий.
В примеси лиризма не было недостатка и в «Ловеле». И Ло-
вель и Бальдер были настоящими олицетворениями сомнений,
терзавших душу поэта, и потому неизбежно должны были
выражать свои дикие или мрачные мысли в стихах. Однако лирика
играла там второстепенную роль в сравнении с декламациями в
прозе; сверх того, характеру целого вполне соответствовала
философская лирика, напоминавшая своей риторической окраской
1 «Народные сказки» II, 145 и ел.; потом этот рассказ был напечатан в
«Phantasus'e» (1812) I, 324 и ел. и в собрании сочинений Тика IV, 292 и ел. Там
же помещена самокритика Тика, с. 358.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
85
тот тон, в каком Шиллер написал «Resignation» («Отречение». —
Прим. науч. ред.) и некоторые другие из своих ранних
стихотворений. Совершенно другую роль играет лирический элемент в
«Магелоне». Хотя помещенные там песни до такой степени
лишены ясного музыкального смысла, что получают несколько
определенное значение только благодаря тексту рассказа, тем не
менее они имеют внешний вид цветков, ради которых поэт
заботился о ветках и листьях. А. В. Шлегель, который был в лирике
менее сведущ, чем во всех других отраслях поэзии, осыпал те
песни такими похвалами, каких они вовсе не стоили1: ведь кто же
их теперь знает и кто же их поет? Но он был вполне прав,
противопоставив им лирику Гёте. По его словам, эти песни столько же
похожи на мастерские песни Гёте, сколько озаренные
солнечными лучами скопившиеся на горизонте тучи похожи на снежные
вершины гор. Шлегель прав и тогда, когда ведет речь об
отвлеченности этой поэзии, о том, что в ней «слова едва
выговариваются и звучат еще мягче, чем пение». Действительно, песням Тика
недостает солидности содержания. В них выражаются не чувства
и не мысли, а только проблески чувств и мыслей. Тик не был
достаточно поэтом для того, чтобы серьезно разрешать загадки жизни
и человеческого сердца; но его поэтические влечения были так
сильны, что он был не в состоянии обречь себя на прозаическое
смирение после того, как не удались все его гигантские замыслы;
он был достаточно поэтом для того, чтобы бесцельно описывать
неясные воспоминания о том, что пережил, что перечувствовал и
что безуспешно предпринимал. Вот почему он перешел от
прежних преувеличений к чрезмерной чувствительности: он
довольствуется тем, что описывает «мечтания», которые аккомпанирует
меланхолическими мелодиями. А содержание текста
соответствует этому аккомпанементу. Та же музыкальная нежность, какою
отличается лирическое содержание «Магелоны», составляет
отличительную особенность прозаических частей рассказа. Автор
приписывает провансальскому рыцарю те же неопределенные
влечения, какими воодушевлялся он сам в то время, как отделался от
прежней меланхолии и бродил по лесам и полям. На заднем плане
всего, что он рассказывает, появляются картины природы,
нарисованные самыми водянистыми красками. У него все звучит и поет,
1 В ранее нами цитированной рецензии на «Народные сказки» в его
сочинениях XII, 34.
86
Р. ГЛИМ
и все его описания переходят в музыкальные картинки, как,
например, когда он описывает восторг рыцаря, в первый раз
нашедшего случай говорить с прекрасной Магелоной. Расхаживая по саду,
этот счастливец глух ко всему, что происходит вокруг него, потому
что «внутренняя музыка заглушает и шелест листьев, и журчание
водопадов». Но эту внутреннюю музыку потом заменяет
настоящая музыка. При ее звуках чувствительность влюбленного
разражается слезами; ему кажется, что его прелестная возлюбленная
плывет на серебристых волнах музыки, что эти волны «целуют ее
одежду и наперерыв гонятся вслед за нею». Наконец музыка
умолкает: ее звуки исчезают так же, как «исчезает слабая струя света»;
но немедленно вслед за этим снова становятся слышными и
шелест листьев, и журчание водопадов, а для того, чтобы музыка не
прекращалась, самому влюбленному приходится запеть песню, в
которой его любовная страсть выражается набором звучных рифм.
Наконец влюбленный впадает в сладкое усыпление, которое
берет на себя роль умолкнувшей музыки, разгоняя его мучительные
сомнения и очаровывая его «чудными сновидениями».
Итак, мы нашли здесь, в очень узких рамках почти все
составные части той поэзии, которая с тех пор стала развиваться с
бесконечной монотонностью: и сад, в котором слышны журчание
водопадов и шелест листьев, и всякого рода музыку с такими
звуками, которые похожи на краски живописца, и горькие слезы, в
которых выражаются сомнения и страстные желания
влюбленного, и, наконец, пестрый ряд чудных видений; эта поэзия служит
выражением для такого душевного настроения, которое,
утомившись от бесцельных размышлений и возбуждений фантазии, ищет
отдохновения в бессознательных стремлениях и потому не в
состоянии пользоваться благами чувственного мира, а с помощью
картинности и благозвучия выражений старается производить
музыкальные впечатления.
Однако этим еще не исчерпываются все мотивы и все тоны
той поэзии, которая получила название романтической. В ней есть
еще один оттенок, с которым нас уже познакомила сказка «Die
Freunde». Скорбь и сомнения невсегда, как в «Магелоне»,
выражаются в заманчивых идиллических грёзах. В этой поэзии
мечтаний иногда встречаются и такие трагические картины, которые
напоминают нам первые произведения Тика; отсюда возникли те
сказки, в которых из-под легкой фантастической оболочки
проглядывает нечто, наводящее ужас. Этот род поэзии мы находим
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
87
в его полном развитии в третьем номере «Народных сказок». «Der
blonde Ekbert» («Белокурый Экберт».—Прим. науч. ред.) — так
называется этот замечательный рассказ1, сделавшийся
родоначальником целого ряда других рассказов в том же роде. На этот раз
Тик прибавляет к переделке чужого рассказа некоторые
подробности из своей ранней молодости, о которых узнал от своей матери.
В своем замке среди Гарцских гор живет в меланхолическом
уединении рыцарь Экберт вместе со своей женою Бертой, от
которой у него не было детей. Он видется всего чаще с одним из
своих соседей, Вальтером, с которым его связывает сходство
убеждений. Этот Вальтер однажды поздно засиделся у Экберта,
проводя время в интимной беседе перед камином; тогда рыцарь
обратился к своей жене с просьбой рассказать гостю историю ее
молодости. Вот что она рассказала: ее отец был бедным
пастухом, который обходился с ней грубо, потому что она не умела
угождать ему, и она решилась бежать из отцовского дома; блуждая с
места на место, она забрела в дикую гористую местность и
повстречалась там со страдавшей сильным кашлем старушкой,
которая приказала ей идти вслед за собою. Когда они приближались
к цели своего странствования, из маленькой хижины выскочила к
ним навстречу собачка, а в хижине запела птичка, постоянно
повторявшая все одну и ту же, как-то странно звучавшую песенку, в
которой восхвалялось «лесное уединение». Девушка научилась
заведовать домашним хозяйством старушки и присматривать за
собачкой и за птичкой. Она свыклась со всем, что было странного
в этом образе жизни, и стала находить удовольствие в этой
уединенной и монотонной жизни. По прошествии нескольких лет
старушка стала относиться к ней с более полным доверием и
рассказала ей, что красивая птичка кладет каждый день по одному яичку,
внутри которого находится или жемчужина, или какой-нибудь
драгоценный камень. На молодую девушку даже была возложена
обязанность собирать эти яички во время отсутствия колдуньи,
нередко продолжавшегося целые недели и целые месяцы. Ее также
научили чтению, а из содержания тех немногих книг, которые ей
удалось прочесть, ее воображение мало-помалу создало полные
1 См. «Народные сказки» I, 191 и ел., «Phantasus» I, 165 и ел. и в
сочинениях Тика IV, 144 и ел.; сравн. там же, IV, 170; I, VII и Кепке I, 210, также новеллу
«Waldeinsamkeit» («Лесное одиночество». — Прим. науч. ред.), напечатанную
в 1841 году, в сочинениях Тика XXVI, 473 и ел.
88
Р. ГАИМ
страстных желаний понятия об окружающем ее мире и о том
прекрасном рыцаре, который со временем полюбит ее. Она
чувствует непреодолимое желание отыскать этого рыцаря и не придает
серьезного значения случайно высказанному старухой
предостережению, что если она нарушит свой долг, то рано или поздно
понесет заслуженное наказание. Свое намерение бежать она
приводит в исполнение не без сознания своей вины и с тревогой в
сердце. Посадив собачку на цепь, она уносит с собою клетку с
птичкой и сосуд с драгоценными каменьями. Она живет на
деньги, которые извлекает из этого сокровища; но как сжалось ее
сердце, когда долго молчавшая птичка снова запела совершенно
новую песенку, в которой говорилось о раскаянии! Под влиянием
мучительной тоски она задушила неутомимую певунью. К
счастью, скоро она нашла своего рыцаря и сделалась женою
белокурого Экберта. Таково содержание рассказа Берты, сделавшегося
причиной ее гибели. Когда она умолкла, Вальтер, по-видимому,
случайно назвал имя собаки, о которой Берта ни разу не
вспомнила со времени своего бегства. Уж не суждено ли было Вальтеру
иметь влияние на ее судьбу? И Экберт тут же начал сожалеть о
том, что относился к своему гостю с полным доверием: он стал
тревожиться мыслью, что есть человек, посвященный в тайны его
жизни и жизни его жены. Наконец он убивает Вальтера в лесу,
а неспособная заглушить свою душевную тревогу Берта умирает.
После того Экберт живет в самом печальном одиночестве,
мучимый угрызениями совести. Наконец он сводит знакомство с
молодым рыцарем Уго и чувствует непреодолимое желание открыть
ему все свои тайны. Но с доверием к Уго снова соединяется
подозрительность: вглядываясь в черты лица этого друга, он находит в
них сходство с чертами лица убитого им Вальтера. Он приходит в
ужас от этого открытия и, чтоб разогнать свои мрачные мысли,
пускается в дальние странствования; разъезжая на своем коне по
лесу и сбившись с дороги, он встречает крестьянина, который
помогает ему выбраться из лесной чащи; но, вглядевшись в лицо
крестьянина, Экберт снова узнает в нем Вальтера! Он
продолжает свое странствование пешком и попадает в ту местность, в
которой когда-то жила Берта; он слышит, как лает собачка и как
птичка поет новую песенку. Страдающая кашлем старушка выходит к
нему навстречу. «Посмотри, — говорит она, — как всякое дурное
дело само себя наказывает: ведь я была и твоим другом
Вальтером, и твоим другом Уго». «А Берта, — продолжает она, — была
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
89
твоей сестрой, дочерью твоего отца, который отдал ее на
воспитание к пастуху». Сказка заканчивается тем, что Экберт падает
при последнем издыхании на землю, а в его ушах неясно звучат и
слова старухи, и лай собачки, и пение птички.
Можно признать за общее правило, что измышление
сказочных рассказов не может быть удачным. Сказка принадлежит к
числу самых первобытных произведений поэзии: в ней
сказываются врожденные поэтические дарования народа, и она
расцветает безо всякого за ней ухода, на почве ребяческой фантазии. Она
выражает ребяческие желания сердца и его ребяческие тревоги и
антипатии в самых разнообразных: то наводящих ужас, то
привлекательных картинах, между которыми внутренняя связь до
крайности слаба. Сказки — не что иное, как сновидения, которые
принимают определенную форму только после того, как человек
проснулся; их смысл следует искать в безымянных стремлениях
простодушной и незрелой мысли и воли. Фантазия, уже
пережившая свой ребяческий возраст, едва ли способна освоиться с таким
наивным простодушием. Недостаток почти всех сказок, не
выросших из корня народных преданий, заключается в
определенности их смысла, в том, что они задаются слишком серьезною
целью и обнаруживают слишком зрелое умственное развитие.
Именно в этом заключается и недостаток сказок Тика. Они
заслуживают порицания вовсе не потому, что в них переплетаются
самые фантастические образы и мотивы. Напротив того, именно в
этом сплетении заключается одна из главных причин, почему
можно оправдать притязания «Белокурого Экберта» на название
настоящей сказки. Опровержением этих притязаний служат
ясность и подробное объяснение мотивов, в особенности их
своеобразная странность и отвлеченность. Нельзя сказать, чтобы к
характеру сказок не подходила та основная мысль в рассказе Тика,
что всякое дурное дело рано или поздно наказывается. Это
нравоучение изложено с достаточной ясностью, но без
преувеличенной наглядности, в той поэтической форме, что преступник, сам
того не сознавая, постоянно живет в такой сфере, где все
напоминает о совершенном злодеянии, ведь убитая птичка оказывается
живой; колдунья, от которой Берта желала спастись бегством,
постоянно во все вмешивается, так что заслуженное наказание
только прикрыто воображаемым счастьем и забвеньем прошлого.
В этой морали выступает наружу та психологическая истина, что
вслед за доверчивостью, с которой преступник поверяет свою тай-
90
Р. ГАИМ
ну, в его душе возникает недоверие, и прежняя дружба
превращается во вражду. Но главный центр тяжести всего рассказа
заключается в мотивах, которыми руководствуются действующие лица.
Мы видим, как в душе молодой девушки происходит борьба
между очаровательной привлекательностью уединенной жизни и
заманчивым влечением к незнакомому ей миру. Здесь
сверхъестественное примешивается к естественным явлениям в виде чего-то
ужасного и совершенно непонятного, так что все мысли
путаются в голове читателя. Настоящая народная сказка, вследствие
своей наивности, рассказывает нам сверхъестественные
происшествия с непритворным простодушием. Но в сказке Тика Экберт
сам сознает ужас своего положения: когда птичка перестает петь,
он «никак не может понять, в этот ли момент ему грезится
женщина, называемая Бертой, или же она грезилась ему прежде»; он
сам чувствует, как «сверхъестественное примешивается к самым
обыденным фактам»; он начинает терять самосознание и едва не
сходит с ума. Наконец, следует обратить внимание и на
печальное сознание абсолютного одиночества, когда Экберт узнал, что
сделался жертвой обмана и колдовства, воображая, что нашел
друга сначала в Вальтере, а потом в Уго. Эти мотивы совершенно
ясны, они вовсе не подходят к безыскусственному
фантастическому содержанию настоящих сказок, потому что отличаются
чрезмерной утонченностью. Они предполагают способность отличать
естественные явления от сверхъестественных, они проистекают
из такой борьбы с мучительными сомнениями, из такого
расстройства человеческого рассудка, которые возможны только при
многостороннем и неестественном развитии человеческого ума. Для
нас уже не новы ни такое душевное настроение, ни те
размышления, из которых оно проистекает. Все это нам уже известно из
прежних душевных страданий Тика, из необычайных
приключений Абдаллаха, из бесплодных мечтаний Ловеля; мы уже видели
там и страх, внушаемый естественными условиями
действительной жизни, и неспособность установить границы между тем, что
естественно, и тем, что сверхъестественно; и привычку
углубляться в размышления о пустоте и ничтожестве жизни. Стало быть,
рассматриваемая нами сказка есть не что иное, как новая
вариация на старую тему, но такая поэтическая вариация, что
поэтическая форма изложения до некоторой степени вознаграждает
читателя за мрачный характер содержания. Это вознаграждение
заключается в том, что мрачный характер всей сказки заключает-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
91
ся лишь в различных душевных настроениях, которые служат как
бы музыкальным аккомпанементом к фантастическим
подробностям рассказа. Такие произведения не заслуживают названия
поэтических в самом возвышенном значении этого слова; что сам
Тик это сознавал, видно из одного замечательного места в его
«Петере Лебрехте»1. Там автор влагает в уста своего героя
следующие слова: «Я пришел к убеждению, что мое душевное
состояние настроено на слишком мягкий тон и что нас ожидают более
изящные и более благородные наслаждения, если мы будем
облагораживать натуральные чувства и будем уметь находить самую
чистую поэзию в самой сухой житейской прозе. Наши писатели
постоянно стараются из всего выделять так называемый
поэтический элемент и превращать его в свою собственность; вследствие
этого, у них разделяется на части то, что должно составлять одно
целое, и они в состоянии доставлять нам лишь одностороннее
наслаждение; ведь разве найдется другой немец, способный
писать так, как пишет Гёте?» В этих словах, напоминающих нам
всем известное изречение Мерка, заключается в высшей степени
верная самокритика. Именно из этого «так называемого
поэтического элемента» состоят те нити, из которых соткана
рассматриваемая нами сказка; тот же элемент составляет общую
принадлежность этой сказки и «Прекрасной Магелоны». Оба эти рассказа
наполнены лишь предчувствиями, лишь неразлагаемыми
осадками страстей и ощущений. А это душевное настроение,
сложившееся под влиянием пережитых самим автором ужасных
испытаний и выразившееся в неосновательных тревогах Абдаллаха,
служит главным содержанием для рассказа об Экберте; в нем же
заключается и отличие этого рассказа от волшебных сказок,
помещавшихся в «Страусовых перьях», и, с другой стороны,
сходство с этими сказками. Здесь для нас по меньшей мере понятно
объяснение мотивов, побудивших автора писать так поэтические
произведения. Хотя эти мотивы и были ни к чему негодны, когда
они излагались в грубой форме болезненных душевных
настроений Абдаллаха или когда излагались в «Ловеле» с претензией на
психолого-исторический анализ, но в области сказочной
фантазии они, неоспоримо, уместны и не лишены значения. Они
негодны для верного изображения действительной жизни. Их не
следует излагать под видом какого-либо направления ума или
1 В 4-й главе 2-й части в сочинениях Тика XV, 29, 30.
92
Р. ГАИМ
каких-либо размышлений. Когда они составляют главную
сущность изображаемых характеров, они портят и уродуют такие
изображения. Но в рассматриваемой нами сказке вовсе нет этих
недостатков. Здесь душевные настроения точно будто сбросили с
себя все, что лежало на них тяжелым бременем, и парят в воздухе
на крыльях фантазии. Из чтения этой сказки мы выносим
впечатление, что как будто душа самого поэта сделалась более
свободной, играя с призраками; что как будто начинает проясняться
мрачный осенний день и из окутывающего землю тумана образуются
разнообразные формы то полутемных, то ярко освещенных
солнцем облаков. С этой точки зрения ничто не мешает нам
согласиться с мнением А. В. Шлегеля1, который хвалит в сказке Тика
спокойную энергию изложения; при этом Шлегель основательно
замечает, что главное достоинство сказки заключается в ее слоге:
в том, что ее безыскусственная проза похожа на настоящую
поэзию, потому что насквозь пропитана поэтическими идеями.
Впрочем, чисто сказочная поэзия была лишь одной из тех
новых форм, в которые стала теперь облекаться литературная
производительность Тика. Она стала мало-помалу перерождаться в
фантастическую комедию. Мы познакомимся именно с этим
переходным состоянием поэзии Тика, когда рассмотрим
содержание двух других народных сказок — «Die Schildbürger»
(«Граждане Шильды») и «Blauban> («Синяя Борода»).
С первого взгляда могло бы показаться, что первая из этих
сказок — «Die denkwürdige Geschichtschronik der Schildbürger in
zwanzig lesenswerthen Capiteln»2 («Замечательная историческая
хроника граждан Шильды в двадцати достойных чтения
главах») — написана в таком же прагматико-сатирическом тоне, в
каком были написаны сказки Петера Лебрехта или рассказы
«Страусовых перьев». Но мы тотчас замечаем, что она отличается от
тех сказок и рассказов очень характеристической особенностью,
которая заключается в том, что на этот раз опорой для сатиры
служит старинная народная книжка — хорошо всем известный
юмористический национальный роман. Именно господствующий
в оригинальном рассказе элемент добродушной злобы, легкого
сказочного юмора и безвредного, но вместе с тем остроумного
1 В его сочинениях XII, 33, 34.
2 «Народные сказки» III, 227 и ел.; сочинения Тика IX, 1 и ел.; сравн. в его
сочинениях VI, ххн.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
93
дурачества как будто окрыляет сатирическое настроение ума Тика.
В нем опоэтизированы ирония и юмор Петера Лебрехта подобно
тому, как в только что рассмотренном нами сказочном элементе
была опоэтизирована чувственная впечатлительность Ловеля.
Тику еще ни разу не удавалось написать такой легкий и такой
остроумный рассказ. Как забавна глупость в речах жителей Шильды,
собравшихся на совещание! Как хорош рассказ о том уроженце
Шильды, который был посажен своими согражданами, подобно
Диогену, в бочку, с целью сделать неприятность одному
чужеземному королю; но который совершенно забывает свою роль и
просит не солнечного света, а подарка в тысячу талеров! Кого не
рассмешат разные шутливые выходки, частью переделанные из
старых, частью заново выдуманные в старинном стиле; как,
например, рассказ о попытке поймать свет просвещения в
мышеловку и провести его в судейскую комнату или рассказ о
лекарственном употреблении, которое делают жители Шильды из поэзии,
читая пойманным ворам вслух разные оды и стихотворения с
целью исправить их без помощи виселицы и считая театральную
сцену только за «дополнение к лазарету», то есть за
исправительное заведение? Уже из этих немногих примеров видно, что,
переделывая старинный рассказ, Тик не строго придерживался его
смысла и стиля. Эта переделка была большею частью
тенденциозной: она была приправлена колкими намеками на безрассудства
современников. В старинном рассказе предметом осмеяния
служила мнимая мудрость, постоянно «старающаяся выдавать самые
пошлые бессмыслицы за нечто разумное и целесообразное»; а Тик
в своем рассказе осмеивает прозаическую мудрость филистеров
Просвещения, их тривиальность и пошлость. В этом заключается
вторая характеристическая особенность этих юмористическо-са-
тирических литературных произведений. Здесь сатира, делаясь
более поэтической, вместе с тем изменяет и свое направление: ее
центр тяжести заключается в осмеянии антипоэтического склада
ума. Эта тенденция обнаруживается с самого начала рассказа. Еще
гораздо энергичнее, чем в «Петере Лебрехте», автор вступается в
крайне оскорбительных для тогдашнего Просвещения выражениях
за старинные народные книжки, в которых гораздо больше
поэзии, чем в тех новейших нравоучительных рассказах, которые
пишутся для народа представителями Просвещения. Следует
припомнить, что Николаи сам когда-то издал «изящный маленький
альманах» с целью удовлетворить вновь пробудившееся влече-
94
Р. ГАЙМ
ние к народной поэзии; только тогда мы вполне убедимся в том,
что Тик прямо метил в Николаи, противопоставляя крестьянской
поэзии Шмидта и Фосса хорошие старинные охотничьи песни и
старинные наивные любовные песни. А такие косвенные
нападки на Николаи возобновляются в каждой из двадцати глав
рассказа. Нападая на граждан Шильды, автор, в сущности, нападает на
приверженцев Николаи. Уже ранее он неоднократно направлял в
эту сторону стрелы своего остроумия; он постоянно нападал в
особенности на нелепую систему воспитания, придуманную
Базедовом и Зальцманом, и на растянутые, скучные рассказы
Николаи о его путешествиях; в доказательство того, что он очень рано
стал возмущаться пошлостью новейших стремлений к прогрессу,
он сам указывал на те эпизодические картинки, которые сам
выдумал и вставил в «Volpone» Бена Джонсона еще в то время, как
жил в Гёттингене. Но как часто это не мешало ему брать на себя
роль поборника новейшего Просвещения! Противоположного
направления он стал неуклонно придерживаться в первый раз в
«Гражданах Шильды»; там сатирические выходки непрерывно
сыплются одна вслед за другой. И педантическая заботливость
добродетельных людей о нравственности и о практической пользе,
и их равнодушие к прегрешениям против искусства, и их
притворная терпимость, считающая всякие искренние религиозные
убеждения за суеверия, и их нехитрая популярная философия,
постоянно повторяющая одно и то же, и их высокомерные,
написанные начальническим тоном рецензии — все это делается
предметом такого осмеяния, в котором нападки на представителей
Просвещения еще более ясны, чем нападки Виланда на
провинциальные обычаи в его характеристике Абдеритов. Автор не
ограничивался легкими намеками, когда описывал устройство
театра в Шильде, когда осмеивал картины, которые развешивались в
домах семейных людей с целью производить на детей
нравоучительное или трогательное впечатление; когда под именем
Августа, изобретшего президентов и знатных злодеев, и под именем
Ганса Кнопфмахера, выводившего на театральную сцену
«честных и даже едва ли не целиком добродетельных блудниц»,
клеймил позором диоскуров филистерства, любимцев берлинской
публики — Иффланда и Коцебу. Нет, для всякого было ясно, что это
был уже не тот Петер Лебрехт, который осмеивал притязания на
гениальность, сентиментальность и эксцентричность таких
писателей, как Шпис, Гроссе и Крамер. Это была явная измена, а
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
95
сын Николаи не был так глуп, чтобы не смекнуть, что дело
неладно. Так как он разделял убеждения своего отца, то разве можно
осуждать его за то, что он, в качестве издателя, прибавил к
рассказу о гражданах Шильды заявление, в котором говорилось, что
не он автор рассказа и что он познакомился с содержанием новой
книги лишь после того, как она была напечатана?
Итак, сказочные вымыслы служили в «Schildbürger»
(«Граждане Шильды») лишь подкладкой и вспомогательным орудием для
сатиры; но эти вымыслы играют более равную роль с сатирой в
первом номере сборника «Народных сказок», в рассказе, который
был тогда же напечатан отдельным изданием и носил следующее
заглавие: «Ritter Blaubart, ein Ammenmärchen in vier Acten»1
(«Рыцарь Синяя Борода. Детская сказка в четырех действиях»). Там
преобладает сатира, а здесь, напротив того, преобладает
вымысел или намерение «забавлять читателя описанием
фантастических личностей». Это та же самая история о «Barbe bleue» (Синей
Бороде. —Прим. науч. ред.), которую рассказал Перро в «Contes
de ma mère ГОуе» («Сказки матушки Ойе». —Прим. науч. ред.);
но она переделана Тиком в драматическую форму, чем и был
снова подготовлен переход к сочинению комедий.
Но именно эта форма и возбуждает в нас удивление. Сказки
удобнее всего рассказывать, когда смеркается: тогда можно
слушать рассказчика с закрытыми глазами; к чему же придавать
смыслу сказки драматическую наглядность и обстановку? Нас могло
бы удовлетворить драматизирование сказки только при том
условии, чтобы автору удалось, при помощи некоторых
искусственных средств, настроить наш ум на сказочный тон. Такая цель
может быть отчасти достигнута фантастичностью костюмов, блеском
декораций, искусством театральных машинистов, но самой
сильной очаровательницей должна служить музыка; она более всего
другого способна приводить наши чувства в опьянение, усыпляя
наш ум, поэтому она лучше всего другого может внушать нам веру
в чудеса сказочного мира. В своей ранее написанной статье о
1 К отдельному изданию («Ritter Blaubart. Ein Ammenmärchen von Peter
Leberecht». Берлин и Лейпциг, 1797) был приложен пролог в стихах. Ни этот
пролог, ни два предисловия (одно «серьезное», а другое «шутливое»), которые
были прибавлены взамен пролога к этому рассказу в «Народных сказках» (I, 1 и
ел.), не помещены в «Фантазусе» (II, 9 и ел.), где весь рассказ напечатан в
переделанном виде, в пяти актах. В этом виде рассказ перешел и в полное собрание
сочинений Тика (V, 7 и ел.).
96
Р. ГАЙМ
сверхъестественном в драмах Шекспира сам Тик указывал на то,
что именно с такой целью Шекспир прибегал к музыке в «Буре» и
в «Сне в летнюю ночь». «В драматизированной сказке вполне
естественно стремление походить на оперу точно так, как со
стороны сочинителей опер вполне естественно предпочтение, которое
они отдают самым фантастическим текстам». Вскоре после
издания «Синей Бороды» Тик приступил, по совету Рейхардта, к
сочинению фантастического оперного текста под заглавием
«Чудовище и заколдованный лес»1. Мы не считаем нужным взвешивать
поэтические достоинства этого произведения, а намерение
Рейхардта написать на этот текст музыку осталось без исполнения.
Но для нас не подлежит сомнению, что только на этот раз Тик
попал на путь истинный. Когда делается попытка
драматизировать сказку, то за это дело следует браться именно так, как взялся
за него Тик, то есть следует по мере возможности «придавать
музыкальность и положениям действующих лиц и всему
содержанию вымысла». Однако нельзя считать достаточным
удовлетворение только одного этого требования. Драма с баснословным
содержанием должна быть не только музыкальной, но и забавной;
а Тик основательно указывал на исполнение этого второго
требования в произведениях Шекспира и сам вполне удовлетворил его
в вышеупомянутом оперном тексте. Однако забавное содержание
текста должно быть как можно менее искусственным и как
можно более игривым, потому что тогда автору всего легче удается
заглушить в современном зрителе склонность к критике и
примирить его со сверхъестественностью вымысла. Сказочная драма
должна быть музыкальной, а настоящая музыкальная сказочная
драма есть не что иное, как музыкальная волшебная пьеса.
Посмотрим же, подходит ли «Синяя Борода» под
вышеизложенные основные правила. Вследствие тех особых условий, при
которых совершалось его умственное развитие, Тик был так
глубоко проникнут духом сказочных вымыслов, а с другой стороны,
ему с ранней молодости так нравились драматические эффекты,
что он был не в состоянии составить себе ясное понятие о том,
при каких условиях драматизированная сказка может производить
желаемое впечатление. Он был сбит с толку «Сном в летнюю ночь»
и «Бурей». Он не обратил внимания на то, что Шекспир по нсоб-
1 «Das Ungeheuer und der verzauberte Wald. Ein musikalisches Märchen in vier
Aufzügen» (Бремен, 1800). В сочинениях Тика XI, 145 и ел.; там же, LII и ел.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
97
ходимости прибегал к поэзии для произведения тех впечатлений,
которые гораздо успешнее могла бы производить музыка,
получившая с тех пор очень широкое развитие. Но вместе с примером
Шекспира его сбивал с толку и пример Гоцци. Из соперничества
с Гольдони, Гоцци стал заимствовать из волшебных сказок
содержание своих комедий, а именно в ту пору своей жизни, о которой
здесь идет речь, Тик с наслаждением вчитывался в эти комедии1.
Он, конечно, вовсе не имел намерения подражать итальянскому
писателю. И Шиллер, взявшись через пять лет после того за
переделку комедии Гоцци «Turandot» («Турандот». — Прим. науч.ред.)
для веймарской театральной сцены, придерживался своей
собственной методы. Он нашел, что у итальянского автора
действующие лица похожи на марионеток, что они отличаются какой-то
педантической чопорностью, и потому прежде всего постарался
придать им побольше «поэтического чувства», побольше
разнообразия и искренности. С большей самостоятельностью взялся
за такое же предприятие Тик. Он стал не переделывать комедии
Гоцци, а только придерживаться указанного этим писателем пути.
Он задумал отделать рассказ о рыцаре Синяя Борода для
театральной сцены совершенно по-своему, на «немецкий лад», как он
сам говорит, хотя на самом деле он старался подражать
Шекспиру. Он намеревался заимствовать у итальянского писателя только
материал, а этот материал он намеревался изложить в такой же
чисто драматической форме, в какой излагаются фабулы
исторического или повествовательного содержания. Именно в этом и
заключалась его ошибка. Чем строже придерживается писатель
драматической формы, тем более непреодолимых препятствий
находит он в содержании сказки. При правильном
драматизировании сказки автор должен приноравливать фантастические
вымыслы к требованиям причинной связи, а таким требованиям
никак не может подчиняться сказка. В драме можно выводить на
сцену только сложные, художнические организмы, между тем как
сказка похожа на тех живых существ низшего разряда, у которых
органы не вполне развиты. Драматизирование придает
наглядность и осязаемость тому, что в сказке представляется как бы
тенью предмета, у которого нет никаких определенных очертаний.
От драмы мы требуем прагматического изложения событий,
психологического мотивирования и уважения к нравственным зако-
1 Сравн. его сочинения I, vu; XV, 301.
4 Зак. Χ? 3602
98
Р. ГАЙМ
нам, которые признаются всем миром; а именно всего этого нельзя
найти в сказке, которая считается достаточно ясной, если в ней
есть какая-нибудь фантастическая внутренняя связь. Поэтому
всякая сказочная драма есть не что иное, как сознательная или
бессознательная пародия на драматическую форму. Гоцци поступил
благоразумнее Шиллера, придав своим волшебным сказкам
такой характер, что они напоминают театр марионеток, а Шиллер
поступил благоразумнее Тика в том отношении, что хотя и
придал марионеткам итальянского писателя настоящую телесную
оболочку и способность органического движения, но вложил в
них такую фантастическую душу и, в особенности, такую
фантастическую совесть, какие соответствуют характеру сказок. Ошибка
Тика заключалась в том, что он на этот раз постарался исправить
недостатки, которыми страдали его прежние драматические
очерки. В тех очерках характеры действующих лиц отличались
меланхолической вялостью, а поступки — отсутствием ясных мотивов.
Поэтому было вполне естественно, что Тик стал заимствовать из
сказок и их содержание, и характерные особенности
действующих лиц. Но он впал в заблуждение, стараясь привить к корню
сказки серьезную драматическую завязку, драматическую
характеристику и драматическое объяснение мотивов. В своем «Рыцаре
Синяя Борода» он сделал ту первую ошибку, что старался
придать содержанию пьесы разнообразие, напоминающее
произведения Шекспира. Множеством эпизодических сцен (число
которых было впоследствии еще увеличено) он расширил содержание
безыскусственного рассказа; но этим способом он лишь замедлял
развитие основной мысли, а к главному действию сказки он
искусственно приплел добавочный эпизод, в котором вел речь о
любовной интриге и о похищении возлюбленной с целью
наглядно изобразить противоположности характеров. В этом старании
обрисовать все оттенки в характерах действующих лиц
заключается вторая ошибка, потому что при тщательном развитии
основной идеи драмы сказочный характер содержания утрачивает свое
обаяние. Так, например, автор выводит на сцену двух шутов —
одного глупого и одного остроумного, а, переделывая свою пьесу
для помещения в «Фантазусе», он прибавил еще третьего шута,
непохожего на двух первых. В противоположность с ветреной и
веселой Агнесой, впоследствии вышедшей замуж за рыцаря
Синяя Борода, выведена на сцену ее серьезная, томящаяся от любви
сестра Анна. У трех братьев совершенно несходные характеры:
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
99
Леопольд — отважный, легкомысленный искатель приключений,
постоянно действующий на авось; Антон — рассудительный
человек, любящий порядок; Симон — меланхолический мечтатель,
имеющий фамильное сходство с Ловелем, с Бальдером, с Берне-
ком и т. д. К чему все эти тонкости? Они совершенно излишни в
сказке, а для детского ума вовсе непонятны; сказка требует не
художественных, а набросанных грубыми штрихами характеристик.
Наконец, следует обратить внимание и на драматические
эффекты при описании завязки и развязки трагической катастрофы. Тику
уже никогда более не удавалось написать такие же
очаровательные и поразительные сцены, какие встречаются в последних
актах «Синей Бороды». В своей рецензии на эту пьесу1 А. В. Шле-
гель осыпал автора такими похвалами, которые никак нельзя
назвать преувеличенными. По его словам, Тик «мастерски
срисовывал с натуры», когда описывал, каким образом желание
новобрачной проникнуть в запрещенную комнату мало-помалу
переходило от первого, едва заметного побуждения к непреодолимому
влечению; каким образом она вошла в эту страшную комнату, как
билось ее сердце от страха и до какого разгорячения дошла ее
фантазия; как она старалась при помощи разных хитрых уловок
не показывать возвратившемуся мужу запятнанный кровью ключ;
как она после того переходила от упрашиваний к проклятиям, как
она старалась замедлить развязку и как, наконец, к ней пришли
на помощь. В особенности чувство ужаса никогда более не было
изображено Тиком при помощи таких же безыскусственных и так
же хорошо достигающих цели средств; но ему также никогда
более не случалось выказывать столько искусства и творческой силы
в ненадлежащем месте и так неблагоразумно растрачивать свои
поэтические дарования.
Впрочем, от внимания автора не ускользнуло то соображение,
что для сказочной драмы необходима комическая подкладка. Мы
уже ранее заметили, что в его пьесе не было недостатка ни в
шутах, ни в шутовских выходках. Пьеса начинается очень
смешными сценами. Не только шуты, но также герой пьесы, рыцарь
Петер с синей бородой, и все вступающие с ним в борьбу рыцари
производят на нас такое же впечатление, какое мы испытываем
при поднятии занавеса в театре марионеток. Рыцарь Синяя
Борода приказывает отрубать своим противникам головы с таким же
1 В его сочинениях XI, 136 и ел. и XII, 33.
100
Р. ГАЙМ
душевным спокойствием, с каким выпил бы глоток воды; это —
сказочный герой comme il faut: его зверские выходки отличаются
такой естественностью и таким апломбом, что заставлают нас от
души смеяться; и его правосудие, не нуждающееся ни в каких
рассуждениях, и его сватовство седьмой жены, и его
безжалостная домашняя дисциплина — все это не что иное, как мыльные
пузыри, потому что все это делается совершенно бессознательно.
Но все это было бы прекрасно, если бы дальнейшее содержание
пьесы не отличалось совершенно другим характером, если бы с
этим шутовством автору удалось согласовать серьезные,
трагические сцены второй половины пьесы. К сожалению, мы находим
совершенно противное; но именно этим способом и надеялся Тик
придать своей пьесе романтическую привлекательность; он сам
говорит в прологе о своей пьесе: «Это полный волшебных чар
детский грот, в котором царят ужас и наивное простодушие».
Кроме того, когда мы ближе вглядываемся в эти комические сцены
и фигуры, мы замечаем, что их сходство с кукольной комедией
вовсе не так велико, как нам сначала казалось, потому что в них
все отзывается сатирическими выходками и пародическими
намеками. Вследствие этого сказка утрачивает свою ребяческую
наивность. Даже сам рыцарь Синяя Борода становится для нас
подозрительным, потому что осмеивает ту школу поэтов, которая
считает нужным придерживаться установленных правил. Колкие
замечания шута не кажутся нам неуместными, потому что
сатира — его призвание. Но нам внушает подозрения его товарищ,
к которому все обращаются за советами. Этого пустоголового
советника, предъявляющего широкие притязания на философскую
мудрость, но постоянно запаздывающего со своими советами, мы
сначала принимаем за безмозглого простофилю, но потом
замечаем, что он нечто вроде олицетворения популярной
философии. А меланхолический Симон! Одной такой нелепой фигуры
было бы достаточно для того, чтоб испортить всю пьесу; когда он
глубокомысленно философствует на общеупотребительном в
обыденной жизни языке, он кажется нам смешным, а когда доктор
усматривает причину его меланхолии в расстройстве его
желудка, это вполне подходит под тон сказочной поэзии. Но здесь
кроется задняя мысль. Симон философствует о способности нашего
«Я» мыслить о самом себе и ведет речь об идеальном значении
времени; в его нелепостях проглядывают смысл и метод — и для
нас становится ясно, что поэт осмеивает трансцендентальную
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
101
философию Фихте. Но и этого мало: в характере Симона есть еще
третья отличительная черта. С целью согласовать шутовское и
сатирическое содержание пьесы с трагической серьезностью ее
окончания, автор приписывает вмешательству этого
меланхолического мечтателя окончательную счастливую развязку.
Оказывается, что только этот полоумный философ умеет внушать к себе
уважение и страх: он предчувствует, что его сестру ожидает
печальная участь, и благодаря его вмешательству братья
появляются в ту решительную минуту, когда Агнеса могла быть убита.
Каков характер Симона, таков и характер всей пьесы. И в том
и в другом шутовство переходит в сатиру и в заключение
получает трагический отпечаток. Содержание сказки вредит
драматической форме, а драматическая форма извращает смысл сказки.
Несмотря на некоторые прекрасно написанные сцены, вся пьеса
оказывается неудачной вследствие того, что в ней вовсе нет
единства ни в мотивах, ни в основной идее, ни в художественной
форме. Настоящий художник очень хорошо понимает, что как бы ни
был сложен организм, в нем живет только одна душа. Но этого
никогда не мог понять Тик. Он в течение всей своей жизни
никогда не умел соблюдать требований драмы. Это — тяжелое
обвинение, но мы считаем своим долгом высказать его. Тот не в
состоянии создать ничего гармонически цельного, у кого нет цельности
характера, кто не находит твердой почвы в глубине своего сердца
и не имеет твердых убеждений. Именно такой надежной опоры
недоставало автору «Ловеля». В его душе сталкивались самые
разнообразные стремления, поэтому отсутствие цельности в
художественной форме его произведений объясняется недостатком
такого воодушевления, которое направляет к одной цели все
стремления человеческого ума и сердца.
В «Рыцаре Синяя Борода» юмор рассказчика сказок
соединяется с юмором сатирика. Отсюда возникает фантастическая
сатира в форме комедии. Но Тик не умел строго придерживаться этой
формы точно так же, как не умел строго придерживаться чисто
сказочной формы. Когда субъективизм, не находящий
удовлетворения в самом себе, прибегает к поэзии, он способен
довольствоваться легким, как пар, выражением душевного настроения —
тогда он будет создавать сказки; он также может довольствоваться
рефлексией и диалектикой, руководимыми одной фантазией, —
тогда он будет создавать сатирические комедии. Чтобы объяснить
внутреннюю психологическую связь между умственным заблуж-
102
Р. ГАЙМ
дениями «Ловеля» и насмешливыми выходками «Кота в сапогах»
мы не можем сделать ничего лучшего, как указать на эту связь в
одном отрывке из того «Дневника», который был одним из
последних вкладов Тика в сборник «Страусовые перья». «Рассудок, —
говорит Тик, — не приносит большой пользы, когда мы
находимся в мрачном настроении духа, но он нередко бывает мне полезен
для того, чтобы выводить на смех самые задушевные
человеческие стремления. Даже слово „осмеяние" кажется мне вовсе здесь
неуместным; это не что иное, как более широкий и более
свободный взгляд на вещи, употребляющий в дело то орудие, которое
мы называем поэзией, для того, чтобы наш ум не застрял
окончательно в лабиринте мрачных идей». Это — характеристика такого
душевного настроения, которое может уживаться только с
поэзией; это — характеристика такой поэтической софистики, которая
относится ко всему с необузданной иронией, но
преимущественно нападает на врагов шутливости, поэзии и фантазии.
Самый подходящий стиль для такого поэтического юмора уже
был выработан две тысячи лет назад аристофановскими
комедиями. Но не Аристофану старался подражать Тик. Он нашел более
близкие образцы в области новейшей поэзии. Уже кое-что было
написано Гёте в духе карнавальных фарсов Ганса Сакса и также
в духе аристофановского описания праздника Диониса. Именно
гётевские драматические фарсы — «Ярмарка в Плундерсвейлер-
не», «Патер Брей» и некоторые другие — прежде всего приходят
нам на память при чтении во второй части «Народных сказок»
тех, написанных на древнегерманском языке, рифмованных
стихов, которые носят заглавие «Ein Prolog» («Пролог».—Прим.
науч. ред.у. Это нечто вроде гётевских фарсов: в театре перед
началом пьесы зрители вступают между собою в спор, во время
которого осмеивают публику, то есть самих себя, пока Гансвурст не
находит способа примирить противоположные мнения. Это не что
иное, как подготовка к чему-то более широко задуманному; и если
мы не будем требовать от такого мелкого произведения более того,
что оно может дать, то мы найдем довольно забавным и то, как
Петр и Михаил перебивают друг друга, и то, как г-на Антенора
выпроваживают на свежий воздух в наказание за его упорное
отрицание реальности предстоящего театрального представления,
за его слова:
1 II, 265 и ел.; в сочинениях Тика XIII, 239 и ел.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
103
«.. .es wäre nur Alles Trug,
Wir wären uns selber Komödie genug»1,
и то, как один из этих «пискарей партера», г-н Поликарп,
объедается множеством накупленных им сладких пирожков, и т. д.
Автор хорошо бы сделал, если бы всегда изливал свой юмор
в такой же непритязательной форме! Внутри его четырех стен и
для забавы его друзей ему ничто не мешало заниматься
сочинением таких же комических пьес, сколько ему было угодно.
Критика, в сущности, не имеет права предъявлять свои требования к
тем импровизированным произведениям, которые писались для
домашнего употребления, как, например, к той карнавальной
пьесе2, которая была напечатана с рукописного подлинника в
посмертных сочинениях Тика. Но уже здесь проглядывает намерение
расширить до размеров настоящей комедии то, что первоначально
должно было служить содержанием для небольшой комической
пьесы. На этот раз служат темой, с одной стороны,
восстановление низвергнутого Готтшедом Гансвурста во всех принадлежащих
ему правах, с другой — осмеяние французских эмигрантов. Ведь
здесь Гансвурст олицетворяет голыша-принца Артуа, для
которого служит верховой лошадью его слуга, хотя он и выплачивает
этому слуге жалованье фальшивыми ассигнациями; это —
жалкий блюдолиз, который возмущается равенством всех сословий,
но охотно возвысился бы из своего низкого положения
посредством брака с зажиточной женщиной, если бы более счастливый
соперник не отнял у него невесту. Это — фарс intra parietes (в
помещении. — Прим. науч. ред.); композиция до крайности
несвязна; язык до крайности неряшлив; но здесь встречаются такие
остроумные выходки, такие разнообразные намеки, что трудно
указать, какими преимуществами отличаются напечатанные
комедии Тика от этого фарса, оставшегося ненапечатанным.
Напечатанные комедии были тщательно отделаны, более сложны и
написаны более гладким слогом, но и они не что иное, как
импровизация, а импровизация, которая выдает себя за нечто более се-
1 «Все это не что иное, как обман, и мы должны довольствоваться той
комедией, которую сами разыгрываем».
2 «Hanswurst als Emigrant. Puppenspiel in drei Acten» («Гансвурст в роли
эмигранта. Кукольная комедия в трех действиях»); написана в 1795 году. В
посмертных сочинениях 1,76 и ел.; сравн. предисловие Кепке к посмертным сочинениям,
в его собрании сочинений, с. XII.
104
Р. ГАЙМ
рьезно обдуманное, хуже той, которая не предъявляет никаких
нескромных притязаний. Стеффенс рассказывает в своих
мемуарах, что во время его пребывания в Дрездене в 1801 году ему
пришлось услышать достойную удивления импровизацию его друга
Тика1. Задача заключалась в изложении, без предварительной
подготовки, такой пьесы, в которой любовник и орангутанг
оказались бы одним и тем же действующим лицом. Придерживаясь
выдуманной в несколько минут фабулы, Тик дал полную волю
самому необузданному остроумию и осмеял представителей
тогдашнего Просвещения, способных дойти до гуманизирования
обезьян. Он сам исполнял роль своего антагониста и, благодаря
его необыкновенному мимическому таланту, его игривому
поэтическому юмору, его импровизация произвела чрезвычайно
сильное впечатление. Но она произвела более слабое впечатление и
оказалась менее блестящей, когда Тик попытался разделить роли
между несколькими действующими лицами — точно так же, как
присутствовавшие при первом чтении гётевской «Geflickte Braut»
нашли в напечатанной пьесе только слабое сходство с тем, что
они слышали в устном изложении. Такова более или менее
жалкая участь всех скороспелых продуктов юмора. Только это
соображение может дать нам настоящую мерку для оценки всех
комедий Тика. Его поэтические дарования были в высшей степени
дарованиями импровизатора. Но в особенности при чтении его
сатирическо-фантастических комедий мы не должны забывать, что
он был импровизатором не только как поэт, но и как актер, и что
все его юмористические выходки неизбежно утрачивают свою
колкость после очень длинного промежутка времени.
Если мы станем придерживаться этой снисходительной
точки зрения, то первое чтение драмы «Der Gestiefelte Kater» («Кот
в сапогах») произведет на нас приятное впечатление. «Детская
сказка в трех актах с интермедиями, с прологом и с эпилогом» —
таково полное заглавие этой драмы в сборнике «Народных
сказок». В появившемся тогда же отдельном издании прибавлены
слова: «с итальянского»2; они объясняют нам, почему внешняя
форма юмористического фарса разрослась у Тика в форму насто-
1 «Was ich erlebte» IV, 372 и ел.
2 «Aus dem Italienischen. Erste unverbesserte Auflage. Bergamo 1797 auf Kosten
des Verfassers. In Commission bei Onorio Senzacolpa». В «Народных сказках» II,
1 и ел. С новыми прибавками в «Phantasus'e» II, 145 и ел. и потом в полном
собрании сочинений V, 161 и ел.; сравн. сочинения Тика I, vin и ел.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
105
ящей комедии, и преимущественно сказочной комедии. Он стал
изливать свой юмор в форме сказочных фарсов не только
вследствие знакомства с произведениями Гёте, Ганса Сакса и Гольбер-
га, но также вследствие того, что был знаком с произведениями
Гоцци и читал итальянские театральные пьесы Герарди. Этим
способом ему было всего удобнее облекать необузданную
насмешливость в ту внешнюю форму, «которая называется
поэзией». Эта первая комедия Тика кажется нам особенно
привлекательной в сравнении с позднее написанными комедиями именно
потому, что в основе ее лежит забавный народный рассказ о том,
каким образом кот раздобыл своему господину замок и царство.
Этот наивный рассказ идет рука об руку с необузданной
сатирой: из такого сочетания, натурально, должен был возникнуть
хотя и очень оригинальный, но способный жить отпрыск —
причудливая фантастическая комедия; комедия Тика нашла в сказке
такой же пригодный для себя элемент, какой находила старинная
аристофановская комедия в мифологии. Но специальной темой
служило на этот раз осмеяние берлинских театральных
представлений, в которых стремление к естественности все более и более
утрачивало свой грандиозный характер и становилось все более
мелочным. «Кот в сапогах» был написан с целью поставить на
сцену нелепо-забавную и наполненную необычайными
случайностями детскую сказку перед такой публикой, которой
нравились только наполненные естественными происшествиями
пьесы Иффланда и Коцебу, трогательные и поучительные драмы и
эффектные декорации Шиканедера; кроме того, автор
постарался изобразить впечатление, которое должна была произвести на
публику такая смелая попытка; поэтому у него разыгрывают
комедию не только актеры, но и театральная публика. Зрители
беспрестанно исполняют роль актеров, а иногда и вперемешку с
самими актерами. Сидящие в партере знатоки и ценители
искусства, еще до поднятия занавеса, ропщут на то, что им придется
смотреть исполнение детской сказки; они шумят, громко требуя
такой пьесы, в которой соблюдались бы требования изящного
вкуса, описывались бы семейные сцены или счастливое
спасение от угрожавшей гибели, хорошие нравы и свойственные
немцам чувства. Сначала их удается успокоить выступившему на
сцену автору; но их нетерпение, их оскорбленное самолюбие
знатоков искусства заставляют их снова прерывать
представление; особенно громко протестует знаток театрального дела Бёт-
106
Р. ГАЙМ
тхер. Это имя ясно указывает на цель сатиры: именно в то время
у всех была в руках книга Бёттигера «Entwicklung des Ifïland'schen
Spiels in vierzehn Darstellungen auf dem Weimarischen Hoftheater
etc.» («Разработка Иффландских пьес в 14 картинах
Веймарского королевского театра».—Прим. науч. ред.) (Лейпциг, 1796), а
ее автор очень рассердил Тика тем, что указывал на мелочные
прикрасы как на главное художественное достоинство в игре
знаменитого актера. Но не один только Бёттхер поднял страшный
шум; не менее громко шумят Мюллер, Фишер, Шлоссер и Визе-
нер. Чтобы избавиться от протестов и свистков, автор, наконец,
вынужден вывести на сцену «укротителя» с волшебной флейтой.
В промежутке между вторым и третьим актами автор советуется
с машинистом о том, что следует делать; даже в среде актеров
вспыхивает бунт, и лишь с трудом исполнение пьесы доводится
до конца; зрители спокойно прослушивают ту сцену, в которой
придворный шут и придворный ученый спорят о том, хороша ли
пьеса или дурна и т. д. Все это очень оригинально, полно
разнообразия и, бесспорно, смешно, а главный герой пьесы,
благородный кот Гинц, важно расхаживающий в сапогах по сцене, до
конца поддерживает в зрителях веселое настроение духа.
Однако автор должен бы был желать, чтобы мы прочли его пьесу только
один раз, а не перечитывали ее сызнова. Ведь его остроты более
похожи на причудливые выходки, чем на настоящие остроты: к
ним нередко примешивается очень плохая игра слов. Он менее
всего способен соблюдать надлежащую меру: повторяя
несколько раз одну и ту же шутливую выходку, он совершенно
заглушает произведенное ею первое впечатление; сверх того, у него
дурная привычка объяснять нам смысл его шутливых выходок и
убеждать нас в том, что мы должны смеяться. Он не усиливает, а
ослабляет производимое пьесой впечатление, два раза выводя на
сцену «укротителя» с волшебной флейтой, и читателю наконец
становятся невыносимыми беспрестанные указания со стороны
зрителей на причудливое содержание пьесы.
Во всяком случае самыми несправедливыми ценителями
берлинского сочинителя комедий были писатели, ставившие его
наряду с тем великим афинянином, который был «шаловливым
любимцем граций». Нет, благосклонность граций приобретается не
так легко. Не «в течение нескольких веселых часов» Аристофан
написал свои комедии: «Облака», «Лягушки», «Птицы», — и он
не без труда достиг законченности своей художественной фор-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
107
мы, привлекательности своих ямбов и музыкальности своих
хоровых песен. Аристофану, как сам Тик это заметил1, была чужда
та направленная на самого себя насмешливость, с которою автор
«Кота в сапогах» беспрестанно перебивает самого себя и,
осмеивая свой собственный юмор, как будто пишет только для того,
чтобы доказать негодность всего написанного. Напротив того,
Аристофан был одарен именно тем, чего недоставало нашему
романтику! У него все кажется смешным оттого, что самое
серьезное и полное содержания воодушевление служит противовесом
для его причудливых выходок. Этот главный бас, которым
поддерживается мелодия комедии и который так поразительно
звучит в аристофановских «Парабазах», — а разве его можно
отыскать у берлинского Аристофана? И у этого последнего легко
вылетают из лука стрелы насмешки, но у владельца этого лука
нет той страсти в ненависти и в любви, которую он считает за
«пристрастие, внушаемое привязанностью к той или другой
партии». Так как его насмешливость отличается мягкостью и
поверхностностью, то ему многого недостает для роли сатирика.
Комедия может повсюду находить что-либо достойное осмеяния,
но она становится национальной только тогда, когда старается
указывать на слабые стороны государственного устройства и
общественной жизни. Именно такова была цель нападок
Аристофана как на государственных людей, так и на софистическое
воспитание и на софистическую поэзию. Но какую же цель имел в виду
автор «Кота в сапогах», когда он выводил на сцену пугало
Закона, превращающееся в мышь, которую пожирает Гинц для того,
чтоб провозгласить свободу, равенство и владычество среднего
сословия? Здесь нет никаких других целей, кроме чисто
литературных! Здесь имеются в виду только произведения Иффланда и
Коцебу, только разные литературные мелочи и модные статьи.
Правда, наш сатирик обнаруживал более смелости в тех случаях,
когда не боялся полицейского надзора. В вышеупомянутой,
написанной не для публики комедии он позволил себе язвительные
намеки на легитимную королевскую власть и на управление
конвента, на члена высшей консистории Гермеса и на новые
правительственные распоряжения. Но очень наивен тот век, в котором
такие выходки могут считаться неслыханно дерзкими! По этому
1 В том диалоге, который помещен в «Phantasus'e» вслед за комедией «Кот
в сапогах». В сочинениях Тика V, 280.
108
Р. ГАЙМ
поводу нам приходится напомнить, каково было настроение умов
в тогдашнем обществе. Тик не имел в виду никаких
политических целей, да и между его соотечественниками разве много было
людей, преследовавших такие цели? Его интересовали только
вопросы, касавшиеся литературы, поэзии, театра, а предметом
разговора для образованных берлинцев служили, за
исключением некоторых статей Генца, уклонявшихся от таких сюжетов,
«Ифигения» и «Дон Карлос», журналы «Ксении» и «Hören»
(«Оры». —Прим. науч. ред.); в особенности произведения Шпи-
са и Лафонтена, Иффланда и Коцебу. Все проявления немецкой
духовной жизни, все лучшие произведения немецкой поэзии и
философии носили на себе болезненный отпечаток такого же
одностороннего умственного развития, такой же необходимости
ограничиваться узкою сферою частной и индивидуальной жизни.
Ипохондрия, которой страдали действующие лица в главных
юношеских произведениях Тика, могла развиться только потому,
что даровитый юноша не мог дышать здоровым воздухом
общественной жизни, только потому, что перед ним не раскрывалась
никакая сфера плодотворной свободной деятельности, что он не
мог иметь в виду какой-либо благородной практической цели.
Легкомыслие и вялость, которыми отличается содержание его
небольших новелл, были именно такими продуктами пошлого
филистерства, какие успешно развиваются в атмосфере
полицейского государства, считающего своей обязанностью заботиться о
каждом индивидууме, но не дозволяющего этому индивидууму
принимать деятельное участие в том, что касается его
собственных интересов. Наконец, слишком нежные продукты игривой
фантазии нашего поэта, все его сказочные вымыслы могли
возникнуть только в туманной атмосфере такой общественной
жизни, в которой бодрствующему уму запрещено проявлять свою
силу, а человеческой совести и разумной воле нечем дышать. Но
отсутствие серьезных нравственных интересов и жалкое
ничтожество общественной жизни всего яснее заметны в тех случаях,
когда Тик пробовал изобразить положение современного
образования и выступить на публичную площадь с бичом сатирика в
руках. Опыт уже не раз нам доказывал, что самый унылый
меланхолик легко превращается в приятном обществе в самого
шаловливого остряка. То же случилось и с Тиком; но его шутливые
остроты, точно так же, как и его меланхолические мечтания,
отличаются какой-то вялостью: они касаются только мелких лите-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
109
ратурных и театральных интересов. Еще при переделке Джонсо-
нова «Volpone» он выбросил из английской пьесы роль
политического шута и заменил ее ролью шута литературного, который,
подобно Николаи, гоняется за разными мелкими сведениями для
того, чтобы наполнять ими объемистые описания путешествий.
Таков же отличительный характер и рассматриваемой нами
комедии Тика. Она имеет все достоинства, какие могла иметь при тех
порядках, которые существовали в Берлине в 1797 году: это —
невинная литературная комедия, которая была способна
доставлять наслаждение тогдашним знатокам этого дела; но это
неудобоваримая пища для того, кому известна только понаслышке
мелочность тогдашних литературных и театральных споров.
Как бы то ни было, а «Кот в сапогах» произвел при своем
появлении настоящий фурор: его читали с такой же жадностью, с
какой в наше время читают новый номер «Кладдерадача». Но
именно этот успех и оказался едва ли не более всего вредным. Он
побудил Тика писать новые комедии в таком же шутливом тоне и
на более или менее однородные мотивы. В несколько дней он
написал комедию «Die verkehrte Welt»1 («Свет наизнанку»); здесь
служит подкладкой не настоящая сказка, а превращающийся в
сказку юмор, который переходит от одного причудливого
вымысла к другому. Пародия начинается с самого заглавия, так как
автор называет исторической драмой эту пятиактную пьесу,
написанную в подражание водевильной пьесе циттаусского школьного
ректора Вейзе. Наконец, в качестве нового излияния такого же
значительно испарившегося юмора появилась комедия «Der Prinz
Zerbino oder die Reise nach dem guten Geschmack» («Принц Цер-
бино, или Поездка за изящным вкусом»), которая заключает в себе
шесть невыносимо длинных актов и сама себя выдает за «нечто
1 Была напечатана в первый раз в изданной в 1799 году в Берлине 2-й части
«Bambocciaden» («Бамбошады». —Прим. науч. ред.) Бернгарди; там же, 103 и
ел.; сравн. написанное от имени Бернгарди предисловие там же, с. III, IV и
Кепке II, 292; в сочинениях Тика I, XXI и ел. Впрочем, из одного письма
Николаи к Тику (у Holtei III, 59) видно, что эта пьеса была первоначально
предназначена для «Страусовых перьев», а не для «Народных сказок», как ошибочно
утверждает Тик. Касательно возникновения этой комедии можно найти
указания в «Phantasus'e» II, 387 (в сочинениях Тика V, 435) и в письме Тика к Зольге-
ру («Solger's Nachgel. Sehr.» I, 397); она была вторично напечатана, с
многочисленными изменениями текста, в «Phantasus'e» II, 252 и ел., а потом в полном
собрании сочинений Тика V, 283 и ел.
110
Р. ГАЙМ
вроде продолжения „Кота в сапогах"»1. Поэтому мы полагаем, что
будет достаточно вкратце обозреть содержание тех комедий,
которые имеют столь близкое сходство с «Котом в сапогах».
Желание Тика написать вслед за первой сатирой другие две, с нею
однородные, оправдывается только тем, что он стал теперь осмеивать
все тогдашнее Просвещение, впрочем, обращая
преимущественное внимание на его эстетическую сторону. Так, например, в
«Свете наизнанку» Скарамуччио, этот представитель Просвещения,
прозы и бережливой заботливости о практической пользе,
вступает на престол изгнанного Аполлона. Он заводит у подножия
Парнаса пивоварню и булочную, устраивает для кормления
Пегаса стойло, а сидя на этом Пегасе, который не что иное, как
взнузданный осел, он произносит «небольшую речь о пользе
семейных картин»; этот «Свет наизнанку» выходит из своей колеи, когда
в нем заходит речь об успешном заговоре Аполлона; но его
внешняя форма вполне соответствует его заглавию, так как он
начинается эпилогом, а кончается прологом, между тем как его
интермедии состоят из переведенной в слова музыки. Впрочем, вся пьеса
имеет очень близкую связь с музыкой. В ней идет речь об andante
и об adagio, о piano, о crescendo и о fortissime; разве это не
указывает на ее сходство с аристофановскими «Парабазами»?
По-видимому, именно на такое сходство желал указать биограф Тика,
когда он говорил, что здесь «в оглушающих криках безрассудства
слышатся полные аккорды самой глубокой поэтической мысли».
Мы были бы согласны с этим мнением, если бы высказавший его
биограф разумел только такую глубину мысли и поэтического
воодушевления, к какой был способен автор «Магелоны» и
«Белокурого Экберта». Ведь Тику недоставало такой ясности идей,
какая способна находить для себя наглядное олицетворение в
1 В двух первых изданиях эта комедия носит заглавие «Das Spiel»
(«Игра». — Прим. науч. ред.); по словам Тика (в его сочинениях VI, XXI), еще в
1796 году были готовы ее три акта, а в 1797 году ее пять актов, а окончена она
была в 1798 году; она появилась в первый раз в «Romantische Dichtungen»
(«Стихи романтиков». — Прим. науч. ред.) (Йена, 1799, I, 1 и ел.) и одновременно
там же особым изданием, а впоследствии была помещена, с небольшими
изменениями, в полном собрании сочинений Тика (X, 1 и ел.) с заглавием «Ein
deutsches Lustspiel» («Немецкая комедия». — Прим. науч. ред.); сравн.
подробные указания Тика в его сочинениях VI, xxxi и ел. и в письме к Зольгеру в
«Solger's Nachgel. Schriften» I, 396 и ел.; там же можно найти некоторые не
совсем согласные с прежними указаниями объяснения возникновения этой
комедии. Наконец, сравн. Корке I, 236.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
111
действующих лицах; его идеи заключались в меланхолическом
душевном настроении, которое выражалось в
туманно-музыкальных поэтических произведениях. Именно эти туманные
поэтические чувства, выражавшиеся в симфониях, рондо и т. д.,
написанных не музыкальными нотами, а словами, и примешивались к
содержанию его комедий. В «Цербино» еще более, чем в «Свете
наизнанку», смешиваются музыкальные приемы с комическими,
поэзия нежного душевного настроения с причудливым юмором,
то вступая между собою в борьбу, то друг друга дополняя.
Зародыш фабулы для «Цербино» следует искать в гётевском
«Торжестве чувствительности», а для сочетания комического фарса с
романтической любовной историей, вероятно, служил образцом
«Сон в летнюю ночь». Нам нет никакой надобности подробно
разбирать содержание ни комической фабулы, ни вставленной в нее
фабулы романтической. Достаточно будет упомянуть о том, что в
сатирических частях драмы делаются прямые или косвенные
намеки на все без исключения отрицательные, то есть
антипоэтические, элементы тогдашней общественной жизни — на
тогдашнее Просвещение вообще и на его различные направления в
частности, на бессмысленную эстетическую критику, на страсть
к солдатчине и к строгому исполнению формальностей, на
академическую ученость, на ритористическую метрику и просодику,
на «Всеобщую литературную газету» и на направление
журналов, на склонность к нелепым аллегориям, на описания
путешествий Николаи, на волшебное содержание модных романов, на
сентиментальность и на филантропию театральных пьес,
задающихся целью «исправлять человеческие слабости» и т. д.
Противоположность с этой пародией на разные личности и
общественные явления мы находим в поэтическом содержании комедии.
Таким содержанием служит вышеупомянутая приплетенная к
комедии любовная история; она соответствует в «Цербино» тому,
что в «Свете наизнанку» выражается музыкальностью. Сюда же
следует отнести тот «сад поэзии», в который попадает слуга
Цербино, прозаический Нестор, во время своих поисков изящного
вкуса. Здесь выводятся на сцену великие поэты старого и нового
времени — Гёте, Шекспир, Сервантес, Данте, которые названы
«четырьмя святыми», стоящими наряду друг с другом. Есть
основание опасаться, что великие поэты соскучились бы в этом саду,
потому что это сад исключительно поэзии Тика. В нем поэзия
состоит из концерта, в котором участвуют розы, тюльпаны, птицы
112
Р. ГАЙМ
и небесная лазурь, различные музыкальные инструменты, ручьи
и большие реки, буря и горные духи. Впоследствии Тик
признавался своему другу Зольгеру, что писал «Цербино» хотя и с
воодушевлением негодования, но не вследствие необходимости
излить переполнявшие его сердце чувства. Справедливость этих слов
мы испытываем на самих себе при чтении комедии: то, что в ней
принадлежит к области поэзии, неспособно наполнять нашу душу
поэтическими впечатлениями. Но и ее сатирико-полемическое
содержание интересует нас не столько формой изложения,
сколько критическими намеками. С этой точки зрения нам впоследствии
снова придется вести речь о «Цербино». Но для того чтобы
составить себе полное понятие о такой поэзии, которая служит
выражением только для негодования и для различных душевных
настроений и скромно довольствуется сходством с музыкой, мы
должны познакомиться с содержанием следующей главы; тогда
мы поймем, что там, где в «Цербино» идет речь о словоохотливом
охотничьем роге, нетерпеливый Нестор намекает на только что
выпущенного в свет «Франца Штернбальда», на этот продукт
дружбы Тика с Вакенродером.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ТИК И ВАКЕНРОДЕР
Почти в самом начале четвертого акта «Света наизнанку» есть
одна сцена, в которой Скарамуччио, этот антипоэтический
узурпатор Аполлонова трона, производит суд. На сцене появляются
читатель и писатель. Читатель жалуется на то, что писатель не
хочет писать свои сочинения так, чтобы они ему нравились.
Обвиняемый ссылается в свое оправдание на то, что обвинитель
совершенно лишен изящного вкуса, что он требует плохих книг и
потому нет никакой возможности угодить ему. Однако
Скарамуччио постановляет приговор в пользу обвинителя: «Ты должен
иметь такой вкус, какого от тебя требует читатель; я вижу, что ты
своенравный малый; иди вон и старайся исправиться».
Эта сцена, быть может, была написана безо всякого
отношения к какой-либо специальной цели; однако есть некоторое
основание предполагать, что она была ответом Тика на письмо,
которое написал ему 19 декабря 1797 года его старый доброжелатель
Николаи1.
Дело в том, что «Свет наизнанку» был первоначально
предназначен Тиком для последней части «Страусовых перьев».
Однако ни по своему содержанию, ни по своей форме он не годился для
сборника забавных нравоучительных рассказов, написанных в тоне
тогдашнего Просвещения. Поэтому издатель «Страусовых
перьев» был вполне прав, отослав обратно автору его рукопись. Ему
уже давно стали не нравиться и тон и направление последних
произведений его клиента. Поэтому он воспользовался этим удобным
случаем, чтобы высказать юному писателю свое мнение отеческим
тоном в качестве такого человека, который «в течение сорока лет
1 Это письмо напечатано у Holtei III, 58 и ел.
114
Р. ГАЙМ
следил за немецкой литературой». «Из Ваших последних
сочинений, — писал Николаи, — можно заключить, что Вы с
удовольствием предоставляете Вашей фантазии свободу делать
беспрестанные скачки без всякого плана и без внутренней связи. Это, быть
может, и забавляет Вас, но я сомневаюсь, чтобы это могло
забавлять Ваших читателей, которые решительно не понимают, с какой
точки зрения они должны смотреть на то, что они читают <...>
Писатель, который, по-видимому, задается целью дурачить своих
читателей, не располагает их в свою пользу даже в том случае, если
делает вид, будто насмехается над самим собою». Далее Николаи
порицает «Кота в сапогах» за намеки на берлинский театр, а в
музыкальности «Света наизнанку» усматривает не столько
остроумие, сколько старание быть остроумным. «Эксцентричность, —
говорит он, — может быть забавной, но, чтобы развить в себе
недюжинный талант, прежде всего необходимо уметь владеть самим
собою; только этим тернистым путем достигается бессмертная
слава, которой, например, пользуется Шекспир не потому, что в
его произведениях есть много дикости и эксцентричности, а
потому что он умел мастерски изображать настоящую человеческую
натуру». «Если Вы найдете, — говорится в конце письма, — что
я был чрезмерно откровенен, то считайте меня за старого
болтуна, у которого добрые намерения, но который ничего не понимает.
А если Вы будете так думать и через десять лет, то это будет
доказательством того, что я действительно неправ».
Десятилетний срок был слишком короток; кроме того,
следует заметить, что не всегда легко решить, на чьей стороне правда.
Тика могли только рассмешить наставления Николаи, каким
способом можно производить на читателя желаемое впечатление, как
следует отличать неинтересное от интересного и «вычеркивать
его даже после того, как оно было написано»; Тик, конечно,
рассмеялся, читая как этот рецепт, так и уверения старого писаки,
что он сам не знает, сколько мог бы написать в течение одного
дня, если бы излагал на бумаге все, что приходило ему в голову;
а в какую непростительную ошибку впал этот опытный критик,
приняв первую часть «Света наизнанку» за законченное
произведение, а несколько позднее доставленные ему два последних акта
за новую самостоятельную пьесу! Впрочем, как бы ни казалось
смешным это недоразумение, оно отчасти объясняется
отсутствием последовательности и внутренней связи в содержании той
комедии. А отзыв Николаи о достоинстве пьесы и о производимом
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
115
ею впечатлении получил вскоре после того такое подтверждение,
которое должно было заставить Тика поразмыслить, не была ли
правда на стороне «старого болтуна». Книгопродавец Унгер
вовсе не был педантом. Тик намеревался поручить ему издание «Света
наизнанку» и потому сам прочел вслух свою комедию в обществе
друзей, созванных женою Унгера, которая сама писала и прозой и
стихами. Тик был превосходным чтецом, тем не менее ни один из
слушателей не рассмеялся; напротив того, уста всех
присутствовавших точно «были скованы крепким как камень, непреодолимым
морозом»1. Унгер отказался от издания комедии, а сам Тик до
такой степени разочаровался в ней, что подарил ее своему другу
Бернгарди, который напечатал ее (под предлогом, что участвовал
в ее сочинении) во втором томе сборника юмористических
рассказов под названием «Bambocciaden» («Бамбошады»).
Кепке основательно заметил, что в лице Фридриха Николаи и
Людвига Тика столкнулись не два человека, а две эпохи поэзии —
та, которая окончилась появлением поэтических произведений
Гёте, и та, которая начиналась с этого появления; но никак нельзя
сказать, чтобы новое направление, олицетворявшееся в Тике,
имело такое же решительное преимущество над старым, как то
направление, олицетворением которого был Гёте. Причина этого
заключается главным образом в том, что направление Тика было
и по внешней форме и по внутреннему содержанию слишком
глубоко пропитано воззрениями Николаи. Его представитель не мог
смотреть на Николаи с чистой совестью, потому что его
отношения к этому покровителю были очень двусмысленны. Именно за
эту двусмысленность Бернгарди порицал своего друга. Не
подлежит никакому сомнению основательность мнения Кепке, что в
сатирическом рассказе, напечатанном под заглавием «Sexs Stunden
aus Fink's Leben» («Шесть часов из жизни Финка») в апрельском
и майском номерах «Современного архива» 1796 года, а
впоследствии перепечатанном в «Бамбошадах», Бернгарди выводил на
сцену под именем Финка не кого другого, как Тика. Бернгарди
рассказывает, что Финк появился в салоне сановника Буниана в
сопровождении своего друга Гартманна, что там он был
представлен министру, из уст которого узнал о своем назначении на
должность профессора эстетики; что несмотря на то что был
восторженным поклонником Гёте, он из благоразумия и светской веж-
1 См. письмо самого Тика в собрании его сочинений I, ххш.
116
Р. ГАИМ
ливости спокойно выслушивал тирады принадлежавшего к
старой школе министра о безнравственной тенденции «Вертера», что
это вероломство сопровождалось еще более постыдными
криводушными выходками. Эти характеристические черты так грубы,
что их никак нельзя отнести к Тику. Тем не менее, когда мы
читаем разговор, в котором разгневанный Гартманн нападает на
Финка, а Финк старается оправдать свое поведение, нам кажется, что
мы слышим отголоски тех бесед, которые нередко велись между
Бернгарди и Тиком. При этом Финк выставлен таким
непостоянным, легкомысленным человеком, который способен отстаивать
наше право действовать под влиянием минутных впечатлений,
и таким поэтом, который с красноречием софиста вступается за
право поэтических фикций влиять на наши отношения к другим
людям. Здесь попадаются некоторые черты, несомненно,
подходящие к характеру Тика; поэтому есть основание думать, что
конечная цель этой чересчур замаскированной сатиры заключается
в порицании Тика за его чрезмерное старание угождать Николаи1.
Если действительно такова была цель сатиры, то Гартманн-Берн-
гарди не был совершенно неправ. Он требовал от своего друга
неуклонной принадлежности к одной какой-нибудь партии, а
именно к этому была совершенно неспособна гибкая натура нашего
поэта; даже можно сказать, что, стараясь выполнить такое
требование, Тик вступил бы в резкое противоречие с отличительными
особенностями своего таланта, заключавшимися в склонности к
легкомысленной диалектике. Но именно этим объясняются
шаткость направления и разнохарактерность во многих из его
тогдашних литературных произведений; этим же объясняются
неприятности, которые он впоследствии навлек на себя своими
связями с издательской фирмой Николаи.
Как были для него вредны эти связи, видно из его отношений
к Николай-младшему еще яснее, чем из его отношений к
Николай-отцу. Сын Николаи унаследовал от своего отца и умственное
направление, и предприимчивость, и склонность к книгопродав-
ческой деятельности; но ему недоставало и отцовского практи-
1 Описание отношений Тика к Николаи («Bambocciaden» I, 137 и ел.)
подписано в «Современном архиве» теми же, указывающими на Тика, буквами
(«Gk.»), какими подписаны продиктованные Бернгарди Тиком письма о новых
альманахах (см. выше, с. 65). Я позволяю себе высказать догадку, что поводом
для сочинения сатиры послужил образ действий Ф. Морица (сравн. письмо Ва-
кенродера к Тику у Holtei IV, 229).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
117
ческого ума, и отцовского авторитета. В качестве новичка в
издательском деле, он брался издавать все что попало. Еще в то время
как издавались «Народные сказки», Тик переводил для него на
немецкий язык некоторые из новейших английских романов или
по меньшей мере выбирал лучшие из этих романов и поручал их
перевод своим друзьям — Вакенродеру и Весселю1. Но и ему
самому приходилось браться за перо в угоду молодому издателю.
Талантливая Элиза фон дер Реке, уже давно излечившаяся от
слепой веры в способность Калиостро творить чудеса и с тех пор
примкнувшая к кружку Николаи, высказала по случаю появления
«Рыцаря Синяя Борода» предположение, что автор этого рассказа
задался бы интересной задачей, если бы подробно объяснил,
какие влечения и слабости толкали каждую из семи жен «этого
рыцаря» в расставленные для них сети и заставили их сделаться
жертвами его жестокосердия. Николай-младший поспешил задать
работу Тику, а Тик со своей стороны охотно взялся за нее, но
исполнил ее самым нелепым способом. Задача имела психолого-
прагматический характер и была совершенно во вкусе старой
школы, но вместо философского или нравоучительного романа
Тик стал писать комедию, наполненную фантастической и
сатирической всякой всячиной. Вот каким образом возник рассказ
«О семи женах Синей Бороды», рассказ, не подходящий ни под
какую литературную категорию и наполненный самой
бессмысленной путаницей, какая когда-либо выходила из-под пера Тика.
В нем отразилась вся неестественность связи между Тиком и
Николаи, между поэтом — фантастическим мечтателем и
распространителем Просвещения. Вместе с последними вкладами Тика в
сборник «Страусовых перьев», в особенности вместе с
«Дневником», новое произведение нашего поэта обозначает тот крайний
предел, до которого могла доходить уживчивость этих двух
совершенно разнородных натур, благодаря отсутствию какого-либо
ясно определенного направления. Нелепые вымыслы составляют
содержание рассказа о женах Синей Бороды, но уже с самого
начала ясно проглядывает склонность автора к иронии. Уже в
первой главе поэзия осмеивает влечение к практической пользе, а
автор дает обещание, что все дальнейшее содержание рассказа будет
«не чем иным, как великим празднеством жертвоприношений,
1 «Демократ», «Монастырь Нетли», «Замок Монфор»; сравн. сочинения
Тика XI, IX, х.
118
Р. ГАИМ
устроенным для исправления читателя». Здесь, в сущности, все
сводится к забавной сатире, а разница с прежними
произведениями Тика заключается только в том, что на этот раз сатира не
только не облекается в форму комедии, но даже вообще не имеет
никакой определенной внешней формы. Из широкого потока разных
бессмыслиц выплывают наружу некоторые удачные остроты, как,
например, когда идет речь о «стоящей на страже собаке»;
попадаются и довольно сносные вымыслы, как, например, когда
рассказывается, каким образом простосердечный «советник»
превращается из Синей Бороды в выцветшую голову, которая, подобно
детской игрушке или часовым колесам, становится ни к чему
негодной от слишком частого употребления. Кроме того, в сатири-
ческо-фантастическом рассказе иногда слышится настоящий
сказочный тон с таким же мрачным оттенком, как и в «Белокуром
Экберте»; местами заявляет о себе и поэзия музыкального
душевного настроения: здесь точно так же, как и в «Магелоне», «цветы
целуются со звуками». Здесь даже нет недостатка и в выражениях
той меланхолии, которой страдал Ловель, — короче сказать, в этом
с крайней неторопливостью набросанном произведении
участвовали все духи, к помощи которых приходилось прибегать нашему
поэту. Но эти духи задают такой нелепый концерт, который не
совсем приятен для ушей самого поэта. Он кончает откровенным
признанием, что его произведение не имеет никакой
определенной цели, ни малейшей внутренней связи, что оно имеет сходство
с картинами Гёллен-Брёггеля, что оно крайне надоело ему и
похоже на уродливого недоноска.
Николай-младший не мог быть доволен таким исполнением
заказа. К тому же издание новой книги замедлилось вследствие
пререканий с цензором, который усмотрел оскорбление
нравственности в осмеянии поэзии, стремящейся к практической пользе.
Более всего был недоволен книгопродавец Николаи тем, что
обманулся в своих коммерческих расчетах. Стараясь помочь этой
беде, он к фантастической бессмыслице Тика присовокупил свое
издательское остроумие и, чтобы заинтересовать публику
неудачным рассказом, предпослал ему крайне замысловатый заголовок1.
1 «Die sieben Weiber des Blaubart. Eine wahre Familiengeschichte,
herausgegeben von Gottlieb Färber. Istambul bei Heraklius Murusi, Hofbuchhändler der hohen
Pforte; im Jahre der Hedschrah» (1212). Этот рассказ был перепечатан в
сочинениях Тика в числе «Arabesken» IX тома; там же, с. 83 и ел. Сравн. сочинения
Тика VI, XXIII и ел.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
119
Но так как Тик не умел удовлетворить книгопродавческие
ожидания молодого Николаи и, кроме того, не сходился с воззрениями
этого издателя, то он неизбежно должен был порвать свою связь с
Николай-отцом. Мы уже ранее говорили о том, чем был вызван
протест этого последнего против содержания «Schildbürger». Нет
ничего удивительного в том, что он не захотел более слышать о
продолжении «Народных сказок», которые первоначально
предполагал издавать в длинном ряде томов. Но он зашел еще далее в
своем негодовании на писателя, в котором обманулся. С целью
вознаградить себя за понесенные убытки и вместе с тем излить
свою желчь литературного критика, он прибегнул к крайне
оскорбительному для Тика способу: он приступил в 1799 году к
изданию полного собрания сочинений Иоганна Людвига Тика (Берлин
и Лейпциг, 12 талер.), предварительно сделав такую оценку
вошедших в этот сборник сочинений Тика, которая, в сущности, была
самой злобной критикой1. Без разрешения Тика он нарушил
анонимность, под которой тот скрывал свое настоящее имя2. Он при-
1 Более подробные сведения можно найти у Коберштейна III, 2172 (сравн.
сочин. Тика XI, vin и ел.). В объявлении от 20 сентября 1798 года («Nachricht
für Freunde der schönen Litteratur» в указателе, приложенном к октябрьскому
номеру берлинского «Archiv der Zeit» (1798), с. 31) Николаи писал: «Из „Ате-
нея" братьев Шлегелей и из A. L. Z. я с большим удовольствием усматриваю,
что сочинения Иоанна Людвига Тика всеми признаны за образцовые, что они
гораздо интереснее, остроумнее и глубокомысленнее романов Лафонтена и
должны быть поставлены наряду с бессмертными произведениями Гёте, Шиллера
и обоих Шлегелей. Я имею счастье быть издателем большей части этих
сочинений. Но один корыстолюбивый перепечатыватель чужих книг лишил меня той
денежной выгоды, на которую я имел право рассчитывать. По этой причине у
меня находится налицо такое количество экземпляров оригинального издания,
которое может с избытком удовлетворить требования немецкой публики.
Поэтому частью желанье обнаружить обман того бесчестного перепечатывателя,
частью чувство патриотизма заставляют меня предложить немецкой публике
эти книги за половину продажной цены с рассрочкой на полгода <...> Таким
образом, даже небогатый образованный человек будет иметь возможность
насладиться этими произведениями, признанными самим автором за подлинные,
за ничтожную цену — 4 талера и 20 зильбегр.!» и т. д.
2 Тик был в первый раз назван автором «Народных сказок» в объявлении,
которое было подписано буквой «В.», но, очевидно, было написано А. В. Шле-
гелем, и в котором публика извещалась о предстоящем выходе в свет
переведенного Тиком «Дон Кихота»; см. «Intelligenzblatt» во «Всеобщей
литературной газете» № 9 от 17 января 1798 года. В то же время («Intelligenzblatt», № 10)
сам Тик публично признал себя автором «Народных сказок» для того, чтобы
никто не мог упрекать за эти фарсы ни издателя, ни какого-либо другого
писателя. На бесстыдный образ действий Николаи Тик жаловался в «Intelligenzblatt»
120
Р. ГАЙМ
писал Тику переводы, сделанные другими. Он назвал полным
такое собрание сочинений, в которое не вошли даже некоторые из
изданных им самим сочинений Тика. Наш поэт, естественно, был
возмущен таким образом действий, и его связь с Николаи
завершилась процессом, который, конечно, не мог кончиться иначе, как
в пользу истца.
В это мнимое полное собрание сочинений Тика, между
прочим, не вошли такие три произведения, которые указывают на один
из самых важных переворотов в умственном направлении Тика
и о которых мы до сих пор ни разу не упоминали с целью более
тщательно рассмотреть их содержание. Это — «Herzensergies-
sungen eines kunstliebenden Klosterbruders» («Сердечные излияния
любящего искусства монаха»), «Franz Sternbald's Wanderungen»
(«Странствования Франца Штернбальда») и «Phantasien über die
Kunst» («Мечты об искусстве»). Все эти три произведения,
вышедшие в свет в 1797, 1798 и 1799 годах, служат памятниками
дружбы Тика с Вакенродером; каждое из них более или менее
непохоже на другие одновременные произведения поэта; все они
отличаются своеобразным характером, а важнее всего то, что в
них есть такой положительный пафос и такое существенное
содержание, каких мы не нашли ни в одном из ранее
рассмотренных нами произведений Тика.
Мы до сих пор постоянно считали себя вправе упрекать Тика
за то, что ни в одном из своих произведений он не обнаруживал
каких-либо прочно установившихся убеждений. «Ловель» и
однородные с ним произведения раскрывали перед нашими
глазами бездонную пропасть скептицизма и такое меланхолическое
душевное настроение, которое искало для себя утешение в грустном
самоотрицании. Физиономия поэта оживлялась, когда он писал
сатирические фарсы для «Страусовых перьев»; но это оживление
носило на себе отпечаток пошлости и легкомыслия. Энергия его
«Всеобщей литературной газеты» № 161 от 7 ноября 1798 года; он протестовал
против того, что издатель, наперекор его просьбе, напечатал и такие из его
произведений, которые «частью были юношескими пробами, частью не
представляли серьезного интереса и, что всего важнее, отдавались в печать с
безусловным запрещением называть имя автора...». Далее говорилось в протесте Тика:
«С тех пор, как я вступил в близкие сношения с Николаи, он считал полезным и
необходимым развивать во мне изящный вкус и давать мне дружеские советы и
указания в трудном искусстве художественного изложения; при этом он был
так добросовестен, что нередко уклонялся от дружеского тона и в своих
письмах выражался резким, даже грубым тоном».
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
121
фантазии поддерживала в нем душевную бодрость и не
позволяла ему приходить в отчаяние от бессодержательности и
запутанности его идей. Благодаря тому, что ему нравилось летать на
крыльях этой фантазии, он стал писать один причудливый
рассказ вслед за другим и дошел до того, что стал осмеивать в своих
фантастических комедиях тех самых представителей
Просвещения, к которым прежде пытался сам примкнуть. Но и этот юмор,
в сущности, был такого отрицательного характера, что
постоянно переходил в насмешки над самим собой. Более
положительные элементы его поэтического творчества нам приходилось до
сих пор искать частью в музыкальности переделанных им
старинных народных рассказов и легких песенок, частью в тоне
некоторых сказок, как, например, в «Белокуром Экберте». Однако
как все это было жидко, бестелесно, воздушно! Поэзия Тика, по-
видимому, находила пищу только в самой себе; в ней нельзя было
отыскать никакого сколько-нибудь ценного запаса чувств и идей.
Но эти сравнительно более положительные элементы в поэзии
Тика были, как нам кажется, плодом влияния Вакенродера, между
тем как склонность нашего поэта к насмешливо-веселой полемике
находила для себя поддержку в такой же склонности Бернгарди.
Но дружеские отношения Вакенродера и Бернгарди с Тиком
имели неодинаковые последствия: только первый из этих двух
друзей имел плодотворное влияние на поэтические
произведения Тика, а второй, напротив того, сам, безусловно, подчинялся
влиянию нашего поэта. Под впечатлением прочитанного им в
рукописи «Абдаллаха», Бернгарди написал в 1794 году, под
именем Эрнста Винтера, рыцарский роман в двух частях под
заглавием «Die Unsichtbaren» («Невидимые». — Прим. науч. ред.);
здесь шла речь о заговоре рыцарей, желавших низвергнуть
преступного узурпатора с престола, а весь роман до такой степени
наполнен подробными описаниями мучительных угрызений
совести, наводящими ужас фантастическими вымыслами и
многоречивыми софистическими оправданиями порока, что мы имеем
полное право считать его за неудачное подражание «Абдаллаху»1.
1 Я сам не имел возможности прочесть этот роман, а то, что говорю о нем,
заимствовано мною из очень подробной рецензии, напечатанной в «Neue allgem.
deutsch. Biblioth.» (том XIII, тетрадь 6, с. 384 и ел.), и из отзыва Кепке (I, 228);
сравн. статью Вильгельма Бернгарди «Ludwig Tieck und die romantische Shule»
(«Людвиг Тик и романтическая школа». — Прим. науч. ред.) в «Архиве» Герри-
га для изучающих новые языки (XVIII, год 33-й, с. 161).
122
Р. ГАЙМ
Кроме того, Бернгарди неоднократно помещал в «Современном
архиве» статьи Тика, выдавая их за свои собственные.
Юношеское произведение Тика «Almansun> он поместил в книге,
которую издал в 1798 году под заглавием «Nesseln» («Крапива») и
под вымышленным именем Фалькенгейна; наконец, он
выпросил у Тика в подарок «Свет наизнанку» для помещения во
втором томе своих «Bambocciaden»; да и сам Тик, написавший
юмористическое предисловие к первому тому этого издания, нашел
себя вынужденным публично опровергнуть притязания
Бернгарди на участие в сочинении той комедии1. Даже в тех случаях,
когда Бернгарди брался за какой-нибудь самостоятельный
литературный труд, он явно старался идти по стопам Тика. Он
старался соперничать с Тиком в том, что было самого пошлого и
прозаического в литературных приемах нашего поэта — в
сочинении сатирических фарсов и юмористических берлинских
новелл. Это всего яснее видно из рассказа, написанного им для
седьмой части «Страусовых перьев»2, и вообще из содержания
его «Бамбошад». Заглавие этого сборника знаменательно. Оно
заставляет нас ожидать юмористических и сатирических
картинок из сферы будничной жизни. Действительно, в тех рассказах,
которые написаны для этого сборника самим Бернгарди, всего
лучше тщательная отделка мелких подробностей. Но
содержание вымыслов до крайности скудно: оно представляет интерес
самых обыденных городских происшествий; нравственная и
общественная сфера, в которую переносит нас автор, очень узка и
непривлекательна, и в ней нет ничего поэтического. Но
некоторые личности обрисованы очень яркими штрихами, с
расчетливым стилистическим искусством и с беспощадным остроумием,
в котором сказывается прозорливый, хладнокровный и злобно
настроенный наблюдатель. Уже тот рассказ, который был
написан для «Страусовых перьев», в сущности был не чем иным, как
одной из таких «Бамбошад»; в нем написано, как мало-помалу
собирается общество небольшого городка на празднование
помолвки, а между собравшимися выделяется своим юмором
домашний учитель. «Бамбошады» начинаются «историей такого
человека, который совершенно отказался от своего рассудка».
Это — хотя и не изящная, но не лишенная достоинств картинка,
1 См. выше прим. к с. 109.
2 Там же, № XXXIV, с. 119 и ел.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
123
срисованная с действительной жизни; этот филистер из
принципа вступает в противоречие со своими убеждениями, когда у него
появляется желание добыть себе жену: тогда он заводит разные
споры и со своим соперником, и со своей будущей тещей, и со
своим будущим тестем, и со своим начальником. Благодаря
остроумию автора и его искусству рисовать карикатуры, нам
становится интересной даже эта пошлая общественная сфера. Рассказ
Бернгарди «Шесть часов из жизни Финка» уже одним своим
заглавием указывает на свою связь с рассказом Тика «Два
замечательных дня из жизни Сигмунда». Здесь всего лучше
сатирическое описание ученых, собравшихся у сановника Буниана.
Одному злому человеку, очень кстати носящему имя Bissing
(«Зубастый»), вкладываются в уста самые язвительные замечания о
тех ученых. Сценой действия, естественно, служит Берлин, а
между действующими лицами немало евреев; здесь мы
встречаемся с г-жою Мозес, с этой «душой общества», которая
«постоянно маскируется какою-нибудь из героинь гётевских
произведений», но тем не менее, по уверению ее любовников, оказывается
не чем иным, «как г-жою Мозес, когда остаешься с ней вдвоем»;
здесь же мы встречаемся с молодым, просвещенным и
любезным евреем, который в доказательство своей веротерпимости
рисует головки Христа. К критике общества примешивается,
точно так же, как у Тика, литературная критика. В рассматриваемом
нами рассказе она направлена на неоднократно осмеянные
Тиком сатиры, которые писал бесталанный Йениш для
«Современного архива» под именем Готтшалька Некера. В этой
литературной критике заключалась настоящая сила Бернгарди. Под
заглавием «Ученое общество» он в третьей части «Бамбошад»
снова переносится на ту сцену, на которой совершались
похождения Финка; но на этот раз эта сцена служит только рамкой для
осмеяния Иффланда и поклонников этого плодовитого
сочинителя драм. Содержание насмешек изложено в пародии
«Семейная картина в одном действии. Зеебальд, или Благородный
ночной сторож». Мы покуда ничего не будем говорить о том, что
было причиной этих нападок на Иффланда; мы ограничимся
замечанием, что наш сатирик нападает на такого писателя,
который своими прозаическими миниатюрными характеристиками так
часто напоминает его собственные литературные приемы. Во
всяком случае он очень удачно выбрал форму пародии, для которой
у него было вполне достаточно и остроумия и искусства. Но ему
124
Р. ГАЙМ
решительно недоставало этих достоинств, когда он брался за
более возвышенные формы изложения. Комедия, или, как он сам
ее называет, миниатюрная картинка «Die Witzlinge»
(«Шутники». — Прим. науч. ред.), помещенная им во второй части
«Бамбошад», похожа не на настоящую комедию, а на бесцельный
набор остроумных выходок; а если помещенная там же пьеса «Die
Vernünftigen Leute» («Разумные люди». —Прим. науч. ред.)
также была написана самим Бернгарди (что не подлежит никакому
сомнению), то ее превосходящая всякую меру уродливость
служит доказательством того, что даже очень остроумный человек
может превратиться в никуда негодного кропателя, если возьмется
за драматическую поэзию1.
Из всего сказанного видно, что Тик как поэт имел мало
общего с Бернгарди; но его отношения к Вакенродеру были
совершенно иного рода. Если Тику наконец удалось (по меньшей мере на
некоторое время) придать своим поэтическим произведениям не
только положительное направление, но и действительно
солидное содержание, то он был этим обязан тому юноше, который еще
во время университетской жизни в Эрлангене и в Гёттингене
делился с ним своим идеализмом верующего и своей чистой
любовью к искусству. В стихотворении «Сон», помещенном в конце
«Мечтаний об искусстве», Тик воспевает друга, с которым
слишком рано должен был расстаться; он рассказывает, как он бродил
с этим другом в мрачном царстве теней, как потом все кругом вне-
1 В том, что Бернгарди был автором этой пьесы, ручается свидетельство
В. Бернгарди, хотя Тик и утверждает противное (см. его сочинения I, xxiv). Но
некоторые из других указаний Тика в том же месте его сочинений оказываются
неверными. Неточными оказываются и указания В. Бернгарди, когда он
говорит о «нескольких» произведениях, будто бы написанных его отцом для
«Альманаха Муз» Тика и для «Атенея». И изданный В. Бернгарди с предисловием
Варнгагена сборник сочинений Бернгарди («Reliquit, Erzählungen und Dichtungen
von Α. F. Bernhardt und dessen Gattin S. Bernhardi, geb. Tieck». В 3 т. Альтенбург,
1847), к сожалению, неполон и не имеет критических достоинств. В нем
помещены рядом произведения и Тика и Бернгарди без обозначения, который из
двух друзей был их автором. Там помещен написанный для «Страусовых
перьев» рассказ под заглавием «Der Fremde» (I, 261 и ел.), а остальные
произведения взяты из «Бамбошад» I, 1 и ел.; II, 1 и ел.; II, 127 и ел.; II, 225 и ел. («Die
vernünftigen Leute»). Так как Gödecke (HI, 26) приписывает «Die gelehrte
Gesellschaft» Тику, a «Seebald» ставит под отдельным номером, то из этого можно
заключить, что он не читал «Бамбошад» и смешивал то произведение
Бернгарди с носящим такое же заглавие рассказом Тика в «Страусовых перьях» (см.
сочинения Тика XV, 223 и ел.).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
125
запно сделалось ясным, как перед их очарованными взорами
раскрылись чудеса музыки и поэзии, — и он жалобно просит своего
спутника не покидать его:
Ich würde ohne Dich den Muth verlieren,
So Kunst als Leben weiter fortzuführen1.
Мы живо представляем себе образ этого симпатичного
юноши, читая письма, которые он писал из Берлина своему другу,
ранее его успевшему поступить в университет. Теперь он уже
сделался более зрелым человеком или, вернее сказать, его
врожденное детское добродушие развилось в неизменную черту его
характера. Его душа была по-прежнему полна восторженной
любви к искусству и фантастического влечения ко всему
божественному и изящному. Он жил исключительно этими чувствами;
он называл самым дорогим даром, ниспосланным нам с небес,
способность «любить и глубоко уважать». В этом заключалось
его важное преимущество перед Тиком. В своей бескорыстной,
безусловной преданности искусству он с ранних лет находил
твердую опору и надежную охрану от того скептицизма, которым так
долго страдал Тик, время от времени снова впадая в эту болезнь.
Но предметом его пылкой любви была та же самая сфера поэзии,
в которой вращался беспокойный ум его друга. Это был тот пункт,
в котором Тик и Вакенродер понимали друг друга и были
способны помогать друг другу. И как странно распределились
между ними роли! Тик писал с такой легкостью, что работа была для
него забавой; ему достаточно было слегка встряхнуть древо
фантазии для того, чтобы множество зрелых и незрелых фруктов
посыпалось на его голову; чтобы твердо стоять на ногах, ему
недоставало только солидной почвы верований. У Вакенродера
был избыток таких верований, но ему еще не удалось написать
почти ни одного порядочного стихотворения; некоторые из его
полупатетических, полурассудочных стихотворений были
переделаны Тиком в дружески ироническом тоне для одного рассказа
«Страусовых перьев»; одно из них было таким же образом
переделано во второй части «Петера Лебрехта». Но все попытки
Вакенродера написать трагедию оказывались совершенно
безуспешными. Он сам признавался, что «был создан скорее для того,
1 «Без тебя у меня недостанет мужества, чтоб и вперед изучать искусство в
связи с действительной жизнью».
126
Р. ГАЙМ
чтобы наслаждаться искусством, чем для того, чтобы создавать
произведения искусства»; ему не было дано того, что
необходимо требуется от настоящего художника: он не умел «смело и ярко
накладывать на земную жизнь» печать своей фантазии и своего
воодушевления. Но у него был другой своеобразный дар: его
влечение к искусству рвалось наружу, и он излагал на бумаге то,
чем была полна его душа. Эти-то заметки и составляют
содержание «Сердечных излияний» и «Мечтаний об искусстве». Этим
способом он принял участие в развитии нашей литературы,
возбудил желание изучать историю искусства и оказал влияние на
направление идей и чувств не только Тика, но и всей генерации
поэтов, появившихся после Гёте. Мы должны изучить эти
произведения для того, чтобы ближе познакомиться с символом веры
Вакенродера.
Прежде всего следует заметить, что этот задумчивый
мечтатель не имел ничего общего со школьными эстетиками, с теми
теоретиками, которые пытались приводить эстетические правила
в систему. Такие сочинения, как «Харита» и «Венера Урания»
Рамдора, внушали ему отвращение ко всяким подобным попыткам
теоретиков. Он ничего не хочет слышать о тех людях, которые
«от всякого требуют подчинения установленным ими правилам».
«Кто верит в какую-либо систему, — восклицает Вакенродер, —
тот изгнал из своего сердца всеобъемлющую любовь.
Нетерпимость чувств еще более невыносима, чем нетерпимость рассудка;
суеверие лучше веры в систему». Кто своим вопросом «почему?»
подкапывается подо все, что есть самого изящного и
божественного в духовном мире, тот, по мнению Вакенродера, в сущности,
не интересуется тем, что изящно и божественно, а только
заботится об уяснении понятий, с помощью которых устанавливает
свои алгебраические правила. Он придерживается вовсе не такой
точки зрения. Подобно тому, как отважный пловец грудью
рассекает бегущие ему навстречу волны, он старается проникнуть
сквозь массу тревожных идей в самую глубину того святилища
искусств, к которому его с детства влекла непреодолимая
потребность сердца.
В таком тоне еще никто не проповедовал в Германии
евангелие искусства: ни Винкельман, ни Лессинг, ни Гердер, ни Гейнзе.
Это был вовсе не тот чувственный пыл, с которым Гейнзе
превозносил не столько прелесть, сколько привлекательность
красок: вакхическая восторженность автора «Ардингелло» представ-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
127
ляет самую резкую противоположность с целомудренным
влечением Вакенродера к искусству. Это влечение имеет всего более
сходства с воодушевлением Гердера, но оно гораздо более
искренно и нежно и выражается безо всякой склонности к
декламации, безо всякого старания навязывать другим свои
убеждения. Оно также диаметрально противоположно тем строго
критическим приемам, с помощью которых великий ум Лессин-
га старался установить границы между различными
искусствами. Вакенродер мог бы сойтись с Винкельманом и с его отчасти
мистическим понятием о прекрасном, если бы основы и цели
мистицизма не были у этих двух людей совершенно различны.
Мистицизм Винкельмана истекал из исполненных вдохновения
воззрений, мистицизм Вакенродера — из исполненной
вдохновения чувствительности. Чем служила для первого из них
пластика, тем служили для второго живопись и музыка. Первый был
приверженцем всего античного, а второй отдавал решительное
предпочтение средневековому искусству; кроме того, симпатии
Винкельмана к языческому миру не могли сходиться с
влечениями Вакенродера к христианству.
Вот почему главная, основная мысль «Любящего искусства
монаха» заключается в том, что только «из слияния искусства с
религией возникает самый изящный поток жизни». Он хвалит
старинных живописцев за то, что они делали из «живописи
верную служительницу религий»; у Альбрехта Дюрера ему
нравится благочестие столько же, сколько художнические стремления;
он глубоко растроган, вникая в смысл старинного изречения:
«Пока Богу будет угодно!»; он высоко ценит тех людей старого
времени, которые искали в религии объяснения целей земной
жизни, и с удовольствием признается, что картине,
изображающей мученическую смерть святого Себастиана, был «обязан
глубокими и прочными христианскими убеждениями». Однако его
христианское благочестие обнаруживается всего яснее в его
влечении к искусству. Предметом для его благочестия служит само
искусство. Он сходится с Винкельманом во мнении, что только
Бог может созерцать всеобщую первобытную красоту и что
натура и искусство не что иное, как два способа выражения,
посредством которых Бог открывает нам свои тайны, ведь натура и
весь мир, быть может, кажутся Богу тем же, чем нам кажется
художественное произведение. Сообразно с этой точкой зрения,
Вакенродер приписывает Божескому влиянию и непосредствен-
128
Р. ГАЙМ
ной Божеской помощи всякое художническое воодушевление; по
его мнению, люди, как те «двери, через которые со времени
сотворения мира Божеская сила достигает до земли, чтобы
сделаться очевидной для нас в религии и в долговечных
произведениях искусства». Картинные галереи следовало бы, по
мнению Вакенродера, превратить в храмы; молитву он ставит
наравне с наслаждением самыми благородными
художественными произведениями; он считает за святой праздник тот день,
когда способен осматривать такие произведения с серьезным
вниманием и с заранее подготовленным для такого наслаждения
душевным настроением; приравнивая почитание искусства с
почитанием Божества, он доходит до того, что называет
счастливыми тех людей, которые избраны небом для священнического сана;
он даже готов посвятить свою жизнь тому, чтобы «преклонять
свои колени перед искусством и выражать ему свою вечную
безграничную любовь».
Но он сожалеет о том, что почти нигде не находит того
художнического благочестия, которым наполнена его собственная
душа. Век Просвещения, по его мнению, чуждается благочестия
и любви к искусству. Пылкие влечения его сердца находили для
себя удовлетворение только тогда, когда он бродил по «кривым
улицам» Нюрнберга. Поэтому его недовольство светским
равнодушием к искусству переходит в недовольство его временем, в
восторженные похвалы художественному благочестию средних
веков. Впрочем, он не вовлекался в пристрастную
односторонность, не утверждал, что одно только средневековое искусство
достойно уважения. Его предохранили от такого заблуждения
искренность и чистота его художнических влечений; поэтому ему
ошибочно ставили в вину те преувеличения, до которых дошли
позднейшие романтики, шедшие по указанному им пути.
Напротив того, он постоянно повторяет, что настоящая любовь к
искусству должна обходить все его сады и черпать наслаждение в
каждом из его источников. Вакенродер, между прочим, ведет речь
о «всеобщности, терпимости и человеколюбии в искусстве».
Подобно тому, как Создатель наделил всю землю одинаковой
благодатью, и мы не должны считать наше индивидуальное чувство
за средоточие всего прекрасного в искусстве. В этом случае
Вакенродер всего ближе сходится с Гердером. Он, подобно Гердеру,
находит необходимым по мере возможности усваивать чувства
художника для того, чтобы быть в состоянии правильно оцени-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
129
вать его произведения; он, подобно Гердеру, утверждает, что
художественный вкус — «все один и тот же луч света, который
преломляется тысячами различных красок в различно
отшлифованном стекле нашей чувственности». Но Вакенродер, конечно,
не вступает в противоречие с таким всесторонним уважением к
прекрасному, когда он, повинуясь своему собственному
индивидуальному чувству, преимущественно придерживается того
направления, которое именно в то время старалось
противодействовать господствовавшему предрассудку — предпочтению,
которое отдавали античному искусству со времен Винкельмана
и Лессинга и которое одобрял Гёте. Он вступается за
средневековое искусство и за его немецкую отрасль. Он становится на ту
же точку зрения, которой придерживался юный Гёте, когда
вступился вместе с Гердером за «немецкую жизнь и искусство» и
посвятил свою статейку о немецком зодчестве тени усопшего
Эрвина фон Штейнбаха. Он говорит, что не следует осуждать
средние века за то, что в то время строились храмы, не имевшие
сходства с греческими: «настоящее искусство может процветать
не только под итальянским небом, под величественными
куполами и коринфскими колоннами, но и под готическими сводами,
под пестрыми украшениями зданий и под готическими
башнями». Он неистощим в похвалах Рафаэлю и Дюреру. Несмотря на
то что эти два живописца имеют мало общего, оба они
одинаково близки его сердцу; но он более сочувствует Дюреру, которого
любит не только как великого художника, но также как
добродушного человека и, кроме того, как представителя
отечественного искусства. Но его сочувствие к средним векам переходит в
полемику против его современников. Он жалуется на то, что
самостоятельность немецкого характера не обнаруживается ни в
жизни, ни в искусстве; что энтузиазм, который «всех
воспламенял в том героическом веке искусства, теперь слабо мерцает лишь
в немногих сердцах, подобно маленькой лампаде»; что его
современники видят в искусстве только легкомысленную забаву и
гордятся только тем, что льстит их тщеславию, а не тем, что
касается искусства. Он охотно отказался бы от знакомства с
мудростью будущих столетий с тем условием, чтобы ему пришлось
жить в одно время с Дюрером и с Рафаэлем! Поэтому он
старается мысленно переноситься в те времена, когда жили эти два
живописца. В целом ряде очерков он описывает жизнь и
деятельность этих великих художников. В дополнение к хронике
5 Зак. № 3602
130
Р. ГАИМ
живописцев, написанной Вазари, он приводит разные
подробности из жизни Пьеро ди Козимо, Микеланджело, Джотто, Фьезоле
и др. Описывая жизнь художников, он старается возбуждать
интерес к истории искусства.
Впрочем, в одной из рассказанных им биографий художников
речь идет о том, что происходило в его время. В конце
«Сердечных излияний» рассказана «замечательная музыкальная жизнь
виртуоза Иосифа Берглингера»; письмами и статьями Берглинге-
ра наполнена вторая глава «Мечтаний об искусстве». Иосиф
Берглингер посвящает себя музыке наперекор желанию отца, который
хотел сделать из него доктора. Здесь очень трогательно описана
борьба между чувством сыновней покорности и врожденными
влечениями. Эти последние наконец берут верх, и Берглингер
бежит из отцовского дома. По прошествии нескольких лет он
поступает на должность капельмейстера в резиденции одного
епископа. Но тогда он впервые начинает сознавать, что тот идеал
искусства, который таится в его душе, не может уживаться с
внешними условиями, при которых приходится осуществлять его;
тогда в его душе возникает разлад между тем, что желательно, и тем,
что возможно, между его пылкими влечениями и узкими
рамками его художнической деятельности. Его начинают мучить еще
более тревожные мысли. Он вынужден сознаться, что
обязанности деятельной жизни ослабляют влечение к идеальному миру
прекрасного. «Искусство, — говорит он, — соблазнительный
запрещенный плод; кто раз отведал его сладкого сока, тот безвозвратно
должен отречься от деятельной жизни». «Изнеженная душа
художника» не способна подчиняться требованиям деятельной
жизни; художник склонен принимать жизнь каждого человека за
исполнение заданной роли, сферу своей фантазии за ядро всего мира,
а действительную жизнь за плохую оболочку этого ядра.
Благодаря превосходной музыке Берглингер сбрасывает с себя бремя этих
мучительных сомнений, и перед ним снова раскрывается мир
блаженства. Но эти противоположные впечатления
беспрестанно сталкиваются в его душе, и он говорит в заключение: «Моя
душа будет в течение всей моей жизни походить на Эолову арфу,
между струнами которой пробегает ветер то с одной стороны, то
с другой».
Нетрудно угадать, что в лице Иосифа Берглингера Вакенро-
дер описал самого себя и что те убеждения, которые он
приписывает Берглингеру, были его собственными. Еще более живо-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
131
писи любил он музыку, которой занимался сначала под
руководством Фаша и Рейхардта, а потом под руководством Цельтера.
Когда в «Мечтаниях об искусстве» он заводит речь о «чудесах
музыки», о «ее своеобразной сущности», он, очевидно,
переносится в самую любимую сферу своих занятий. По его мнению,
музыка имеет исключительное право называться самым
изящным из всех искусств, таким искусством, которое лучше всякого
другого умеет очищать чувства человеческого сердца от всякой
грязи. Едва ли кто-нибудь был способен лучше него описать
доставляемые музыкой наслаждения и вернее охарактеризовать ту
старинную хоровую церковную музыку, которая звучит
«подобно нескончаемому „Miserere mei Domine" («Помилуй меня,
Господи!». — Прим. науч. ред.) и своими протяжными, густыми
звуками напоминает медленную походку обремененного грехами
пилигрима».
Подобно этой характеристике было глубоко прочувствовано
самим Вакенродером и все то, что говорит Берглингер о своем
душевном состоянии. Хотя Вакенродер с ранних лет избавился от
тех мучительных сомнений, которые не давали покоя Тику, хотя
он и нашел для себя надежное убежище в сфере искусства и
музыки и в сфере верований, однако он не мог избавиться от разлада
между этими верованиями и требованиями внешней жизни. И
после выхода из университета он не мог примириться с
необходимостью читать официальные документы и заниматься юридической
практикой, а его отец не мог примириться с художническим
призванием и с идеальными влечениями своего сына; Тик попытался
разыграть роль посредника между отцом и сыном, но его
увещевания не были в состоянии изменить твердых убеждений старика
Вакенродера. Этим объясняется и отпечаток меланхолии на всем
содержании «Сердечных излияний» и «Мечтаний об искусстве»,
и то, что Вакенродер писал эти заметки втайне: он не
осмеливался печатать их под своим именем. Во время одной поездки,
предпринятой двумя друзьями летом 1796 года в Дрезден для осмотра
тамошней картинной галереи, Вакенродер сообщил Тику о своей
тайне. Тик был поражен содержанием вверенных ему заметок и
постарался дополнить его написанными в том же тоне
размышлениями и стихотворениями. Проезжая через Галле, на
возвратном пути из Дрездена, он дал прочесть рукопись Рейхардту,
которому также очень понравилось ее содержание и который поместил
в своем журнале «Германия» (№ 7, с. 59 и ел.) одну ее часть —
132
Р. ГАЙМ
«Памятник в честь Альбрехта Дюрера» — без имени автора. Рей-
хардт нашел, что все содержание рукописи проникнуто
направлением, напоминающим монаха в Лессинговом «Натане». Тогда
было без большого труда отыскано и приличное для книги
заглавие. Тик написал предисловие, в котором мотивировал это
заглавие при помощи несложного вымысла; таким образом появились
в свет в 1797 году (в Берлине, у Унгера), без имени автора,
«Сердечные излияния любящего искусства монаха». Между тем
несчастный Вакенродер все более и более страдал от внутреннего
разлада в своей жизни. Он не находил никакого выхода из своего
мучительного положения и наконец погиб от врожденной
чрезмерной нежности своего сердца. Он сам сравнил себя с Эоловой
арфой, между струнами которой бушует бурный ветер. Струны
этой арфы лопнули. После продолжительной болезни он кончил
жизнь 13 февраля 1798 года от нервной лихорадки
двадцатипятилетним юношей. Своему другу он оставил богатое духовное
наследство и, между прочим, несколько новых заметок; к этим
заметкам Тик сделал значительные дополнения и назвал себя их
автором: таким образом возникли появившиеся в 1799 году
(в Гамбурге, у Пертеса) «Мечтания об искусстве для любителей
искусства».
В этих литературных памятниках два друга были связаны
такими же тесными узами, как и в своей взаимной привязанности.
Тик воспламенился вакенродеровской благочестивой любовью к
искусству и к нему самому перешло воодушевление Иосифа Берг-
лингера. Он, конечно, был опытнее своего друга в искусстве
литературного изложения. Когда Вакенродер выражал свои чувства
тоном поэтической молитвы и поэтической исповеди, он не умел
обрисовывать яркими штрихами вымышленные личности, как,
например, в «Мечтаниях об искусстве», в неудачном рассказе о
сумасшедшем святом, который наконец излечился от своего
сумасшествия при помощи музыки и превратился в небесного гения.
В этих случаях у Тика, естественно, являлось желание
исправлять недостатки друга; после первого знакомства с содержанием
письменных заметок, он стал исправлять его и переделывать, но
скоро пришел к убеждению, что детский лепет
вакенродеровской искренности и добродушия не требует никаких улучшений,
что он не допускает никаких переделок, а, напротив того, может
служить образцом для подражания. Благочестивая задушевность
монаха, находившая удовлетворение в самой себе, неотразимо
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
133
влекла Тика в свою сферу и производила на него чарующее
впечатление. В борьбе со своей меланхолией и со своим безверием
он до сих пор находил утешение лишь в легкомысленных
упражнениях своей фантазии, лишь в том, что давал полную волю
своему поэтическому таланту. А теперь он научился у Вакенродера
верить в объективное могущество фантазии и искусства; теперь
он в первый раз узнал, что такая вера то же, что религия, и в нем
в первый раз пробудилось религиозное чувство, до тех пор
остававшееся вовсе неразвитым. С другой стороны, следует
заметить, что Вакенродер был вполне годен для такой роли
посредника благодаря тому, что его благочестие было пропитано
поэтичностью и художественностью и было чуждо каких-либо
догматов. Когда Вакенродер утверждал, что всякое поэтическое
творчество заключается лишь в «сосредоточении тех чувств,
которые проявляются то тут то там в действительной жизни», то
можно было бы подумать, что в этих словах выражена сущность
поэзии Тика, интересовавшейся не действительной жизнью, а
только благоуханием чувств. Когда Вакенродер утверждал, что
язык музыки богаче языка, состоящего из слов, то это вполне
согласовалось с умением Тика музыкально выражать различные
душевные настроения; поэтому понятно, почему Тик стал с этих
пор прибегать к помощи музыкальных инструментов. Короче
сказать, между воззрениями Вакенродера и поэтическими
приемами Тика было такое родственное сходство, что Тик, после
прочтения заметок своего друга, усвоил себе и его идеи, и его склад
ума, и его способ выражения. Это мнение никак нельзя назвать
преувеличенным: ведь вакенродеровские заметки отличаются
такой оригинальностью, такой своеобразностью, какой нельзя
найти у Тика ни в вымыслах, ни в поэтическом тоне; а
сделанные Тиком дополнения были не чем иным, как подражаниями.
По этому поводу нам снова приходится удивляться
необыкновенной гибкости его ума и его способности усваивать чужие идеи.
Он начинает подражать своему другу почти точно так же, как
прежде подражал тону гётевских карнавальных фарсов или тону
старинных народных рассказов. Только глаз знатока способен
отличить картину Рубенса от хорошей копии. И мы, быть может,
не были бы в состоянии с уверенностью отличить собственность
одного из двух друзей от собственности другого, если бы сам
Тик не пришел к нам на помощь. По его словам, ему
принадлежат только около седьмой части в «Сердечных излияниях» и около
134
Р. ГАЙМ
половины в «Мечтаниях»1, а сравнение оригинала с
подражанием будет для нас в высшей степени поучительно. Теперь нам уже
нетрудно заметить, что поэт прибегал к разным романтическим
вымыслам с целью придать произведению своего друга более
разнообразия и более привлекательности. Местами он
прерывает прозаическое изложение стихами, которые хотя и кажутся нам
излишними, но тем не менее отличаются некоторыми
преимуществами от стихов настоящего монаха. Но и его проза не
похожа на вакенродеровскую: в ней более изысканности, более
риторики и диалектики; сосредоточенная задушевность Вакенродера
выражается у его подражателя с ораторским красноречием, с
чрезвычайной словоохотливостью. Но важнее всего то, что Тик
более склонен к преувеличениям, более односторонен и
вовлекается в парадоксы. Так, например, он излагает в преувеличенном
виде то мнение Вакенродера о преимуществах музыки над
языком, которого впоследствии придерживался на практике в
«Свете наизнанку» и в некоторых других сочинениях. Он
предпочитает вокальной музыке инструментальную, потому что только в
этой последней искусство независимо и свободно. Торжество
музыки заключается, по его мнению, в симфониях, а
создаваемая поэтом драма ничто в сравнении с той драмой, которая
изображается в симфонии! Так как сам Тик мечтал о сочинении драм
и о соперничестве с Шекспиром, а теперь стал дурно отзываться
о своей излюбленной форме поэтического творчества, то мы
можем составить себе из его собственных признаний ясное
понятие о том, в чем заключались недостатки и слабые стороны его
поэтических произведений. Для него «чистая поэзия» — такая
1 О том, что Тику принадлежала некоторая доля в «Сердечных излияниях»,
он сам заявил в «Послесловии к читателю», помещенном в конце первой части
его «Штернбальда» (1-е изд.), но не вошедшем в полное собрание его
сочинений; о своей доле в «Мечтаниях» он заявил в предисловии к этому изданию. О
своем участии в первом из этих сочинений он выражался более уклончиво в
предисловии к тому сборнику всех заметок Вакенродера, вошедших в
содержание двух сочинений, который был им издан в 1814 году (в Берлине, у Реймера)
под заглавием «Phantasien über die Kunst, von einem kunstliebenden Klosterbruder.
Herausgegeben von Ludw. Tieck. Neue unveränderte Auflage». См. Коберштейна
III, 2168 (но у него неверно сказано «eine veränderte Auflage»). Дополнения,
сделанные Тиком, не были отдельно напечатаны и потому не вошли в состав
полного собрания его сочинений. Впрочем, стихотворение «Сон» («Мечтания»,
с. 270 и ел.) было помещено в числе его стихотворений (II, 77 и ел.), а «Рассказ,
переведенный из одной итальянской книги» («Мечтания», с. 30 и ел.),
перепечатан во втором издании «Штернбальда» (в его сочинениях XVI, 171 и ел.).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
135
поэзия, которая занимается музыкальным выражением
душевного настроения; поэтому он признает за симфониями то
преимущество над драмами, что они «вовсе не зависят от каких-либо
законов правдоподобия, что они не связаны подробностями
какого-либо рассказа или какой-либо характеристики и потому не
выходят из пределов своей чисто поэтической сферы».
Очевидно, только такой сочинитель фантастических вымыслов, только
такой поэт душевного настроения мог принимать зародыши
поэзии за чистую поэзию; только он был в состоянии признавать
торжество музыки над поэзией в следующих стихах,
впоследствии вызвавших так много комментариев:
Liebe denkt in süssen Tönen,
Denn Gedanken stehn zu fern,
Nur in Tönen mag sie gern,
Alles, was sie will, verschönen.
Drum ist ewing uns zugegen,
Wenn Musik mit Klängen spricht,
Ihr die Sprache nicht gebricht,
Holde Lieb' auf allen Wegen;
Liebe kann sich nicht bewegen,
Leihet sie den Othem nicht.
Но Тик доводил до преувеличения не только симпатии Ва-
кенродера к музыке, но также его благочестивые и христианские
чувства. В одном из дополнений Тика к «Сердечным излияниям»
(с. 52 и ел.) живописец Антонио не только преклоняется перед
искусством, но кроме того чтит в произведениях великих
художников «Матерь Божию и великих апостолов», а после того, как
он признался своему другу Иакову, что сделался художником
посредством любви, этот друг объясняет ему, что его любовь
должна быть «религиозной любовью или любимой религией». Если
можно верить одному более позднему признанию Тика,
находящемуся в противоречии с его прежним признанием1, то следует
полагать, что он писал вместе с Вакенродером то «Письмо
одного молодого немецкого живописца из Рима к его другу
(Себастиану) в Нюрнберг», которое помещено в «Сердечных излияниях»
(с. 179 и ел.). Это — замечательный памятник в истории
романтизма! Здесь в первый раз обнаруживается то влечение к
католицизму, которое впоследствии сделалось у романтиков модой
1 Сравн. подстрочное примечание на с. 134.
136
Р. ГАИМ
или даже перешло в эпидемическую болезнь. К
вышеупомянутому жившему в Риме немецкому живописцу неотвязчиво
пристает любовница с просьбой возвратиться к старой, истинной вере.
Пышность католического богослужения довершает то, что было
подготовлено просьбами любовницы. Искусство мало-помалу
притянуло живописца к той истинной вере и только с тех пор он
стал верно понимать и искренно любить искусство. Какое
противоречие между этими убеждениями и тем, что ранее писал Тик!
Кто умеет узнавать автора по слогу, тот не будет сомневаться в
том, что не перу Вакенродера, а перу Тика принадлежит
подробное риторическое описание католического богослужения и
производимого этим богослужением глубокого впечатления. Стало
быть, не кто другой, как Тик впервые пришел к тем опасным
выводам, которые были неизбежным последствием душевного
настроения «Любящего искусства монаха», и отвлеченной
любви к искусству, и сочувствия к средним векам, и избытка
музыкальности.
Но благодаря изобретательности своего ума Тик сделал еще
один шаг в том же направлении. Он не мог довольствоваться
теми сердечными излияниями, в которых его друг выражал свою
любовь к искусству; поэтому он написал подробный
поэтический рассказ, в котором выражались те идеи, которые перешли к
нему от Вакенродера. Письмо жившего в Риме немецкого
живописца к его другу Себастиану сделалось зародышем
самостоятельного романа, который носит заглавие «Franz Stembald's
Wanderungen, eine altdeutsche Geschichte» («Странствования
Франца Штернбальда. Старинный немецкий рассказ») и который был
написан с целью подробнее развить идеи Вакенродера. Тик
утверждает, что план этого романа был им задуман сообща с Вакен-
родером, что они предполагали общими силами описать, каким
образом юный художник, вышедший из мастерской Альбрехта
Дюрера, изучил все ступени развития искусства, наконец
побывал в Риме и возвратился оттуда в свое отечество. Ведь еще в
Гёттингене два друга составили проект отправиться вместе с
Бургсдорфом в Рим для того, чтобы всецело посвятить себя
искусству. Эти мечты потом превратились в намерение создать
поэтическое произведение, которое было бы написано общими
силами и появилось бы в свет под именем автора «Сердечных
излияний». Но Вакенродер занемог и Тику пришлось
рассчитывать только на свои собственные силы; он довел до конца первые
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
137
главы романа, работая под тяжелым впечатлением, которое
произвела на него смерть Вакенродера; в том же 1798 году
появились две первые части «Штернбальда»; это было первое из
самостоятельных произведений, в заголовке которого Тик назвал себя
автором или, вернее, «издателем»1.
Итак, «Штернбальд» был, в сущности, не чем иным, как
вариациями, написанными Тиком на мотивы «Любящего искусства
монаха». Но само собой разумеется, что и в этом случае
воззрения Вакенродера утрачивают под пером Тика свою наивность и
получают более определенный, более односторонний характер.
Вакенродеровское указание на символический смысл явлений
природы превращается у Тика в сомнительное основное
положение, что всякое искусство должно быть аллегорическим, а мнение
Вакенродера, что суеверие лучше систематических верований,
превращается в «Штернбальде» в порицание великого
предприятия Лютера, в убеждение, будто Реформация заменила «полноту
божественной религии сухой рассудочной пустотой, которая не
может удовлетворять требования человеческого сердца». Но
оставим это в стороне. Тик, без сомнения, задался бы прекрасной
целью, если бы постарался наглядно изобразить воодушевление
и субъективное душевное настроение Вакенродера в описании
умственного развития и жизни живого человека. Именно с такой
целью Тик и начал писать свой роман. Он переносит нас в тот
«героический век искусства», возвращение которого было
любимой мечтой Вакенродера; анекдоты из жизни великих
художников, рассказанные «любящим искусства монахом» со слов Ваза-
ри, развиваются в вымышленную историю художника, на которой
1 Только переделка «Бури» была издана под его именем. Первое издание
«Штернбальда» (в Берлине, у Унгера) значительно разнится с той редакцией, в
которой «Штернбальд» был напечатан через сорок шесть лет после того в
полном издании сочинений Тика (том XVI). Касательно этой редакции Тик
говорит в эпилоге к XX тому своих сочинений (с. 459), что «прибавил
несколько сцен с целью округлить изложение добавочными эпизодами». О том,
что он не мог довести свой роман до конца, он говорит в «Послесловии» к
переделке «Штернбальда», напечатанном в полном собрании его сочинений
XVI, 415. В первом издании есть предисловие, в котором сказано, что роман
посвящается преимущественно изучающим искусство молодым людям; кроме
того, в конце первой части напечатано «Послесловие к читателю»: здесь Тик
ведет речь о возникновении романа, о его внутренней связи с «Сердечными
излияниями» и о своем участии в этом последнем произведении (см. выше,
с. 133—134).
138
Р. ГАЙМ
должен лежать отпечаток шестнадцатого столетия. К этой цели
автор старательно стремится в первой части романа: местами он
не только удачно описывает исторические условия того времени,
но и заставляет настоящих живых людей вращаться в этих
условиях. Роман начинается очень привлекательным и
многообещающим описанием мастерской Дюрера, его домашней и
художественной жизни, его отеческой заботливости об учениках. При этом
ярко выделяется очень удачная характеристика нидерландской
живописи в лице Луки Лейденского, к которому Дюрер приезжал
погостить. Но еще более замечательно искреннее сочувствие, с
которым автор говорит о великом нюрнбергском художнике;
особенно трогательно то место рассказа, где автор описывает вторичное
прощанье Франца с его наставником в Лейдене. Однако
продолжение романа нисколько не соответствует такому удачному
началу. Выводимые на сцену личности становятся все более
туманными и причудливыми. На деле оказывается, что нашему поэту не
по силам его задача, что он не в состоянии воплотить идеи Вакен-
родера в живых личностях. Он неоднократно прерывает свой
рассказ предварительными объяснениями, в которых слышится
отголосок «Сердечных излияний». Но всего чаще он влагает свои
собственные воззрения на искусство в уста действующих лиц
романа. Характеры этих действующих лиц становятся
бесцветными вследствие той привычки прерывать рассказ размышлениями
и разговорами, которая впоследствии так надоедала читателям
«Фантазуса» и «Новелл». При этом и основная идея утрачивает
свою наглядность, утрачивает безыскусственную ясность, с
которой она излагалась у Вакенродера; а ее односторонние
преувеличения бросаются в глаза вследствие того, что получают внешнюю
форму не ведущих ни к каким положительным результатам
разговоров.
Но и этого мало. Кроме указанных нами недостатков, в
романе местами проглядывают следы совершенно иного
направления. Конечно, для всякого ясно, что отличительные черты Тика и
Вакенродера сливаются в одно целое, когда автор романа
описывает юношу, который то воодушевляется мужеством, то впадает
от своих сомнений в уныние; который жалуется на постоянные
колебания своего ума, утрачивает в потоке новых ощущений
надежду на исполнение своих замыслов и уверенность в самом
себе, впадает в меланхолическую мечтательность, лишается
необходимой в жизни энергии и от избытка воодушевления не ос-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
139
меливается приступить к исполнению своей задачи. Но при этом
все ярче выступают наружу отличительные черты в характере
самого Тика. По изменившейся тенденции романа можно
угадать, что Вакенродера уже нет в живых. Когда Штернбальд
вглядывается в состояние своей собственной души и не находит в
ней ничего, кроме бездонной пропасти, кроме требующих
разрешения загадок, разве это не верные признаки старой
ипохондрии, уже не находящей разрешения своих сомнений в наивных
верованиях Вакенродера, в его безусловной любви к искусству?
Все это напоминает Ловеля, а в лице выведенного на сцену во
второй части живописца-меланхолика мы без труда узнаем
описанного в «Ловеле» полоумного Бальдера. Наконец, в этой же
второй части проглядывает до сих пор нигде не выражавшаяся
склонность автора к чувственным наслаждениям.
Странствующему живописцу приходится, между прочим, проходить школу
таких наслаждений. Веселый, легкомысленный малый, по имени
Флорестан, о котором уже шла речь в первой части как о
спутнике Штернбальда, доказывает своему товарищу, что развитие
чувственности служит необходимым дополнением к образованию
живописца; так как в жилах Штернбальда течет молодая кровь,
то он оказывается понятливым учеником, предается всяким
наслаждениям, какие доставляет ему счастливая случайность, и
приходит в опьянение от вакхической разнузданности пирушек,
которые устраивались художниками во Флоренции. Флорестан
уверяет его, что «приличия той прозаической жизни, которую
ведут обыкновенные люди, непозволительны художнику; они
неуместны в светлых, чистых сферах искусства, а в среде
художников служат доказательством их пошлости и
безнравственности». Все это звучит подобно прелюдии к той доктрине, которую
впоследствии проповедовал Фр. Шлегель в «Люцинде». Во
всяком случае, эти идеи не только не имеют ничего общего с
целомудренными воззрениями «Любящего искусства монаха», но даже
находятся в самом резком с ними противоречии. Кто же навел
Тика на описание таких сладострастных сцен, на
проповедование такой пошлой художнической морали? Конечно, не Вакенро-
дер, а Гейнзе своим романом «Ардингелло», в котором евангелие
искусства проповедовалось в связи с ничем не прикрытой
чувственностью. Все эти нововведения Тик придумал не сам, а
заимствовал их из «Ардингелло». Уже при рассмотрении
содержания «Ловеля» мы могли убедиться, что описание чувственных
140
Р. ГАЙМ
наслаждений не принадлежало к числу тех недостатков,
которыми страдали произведения Тика. Это была чужая капля крови,
попавшая в его жилы. Следует заметить, что самые негодные
сцены этого рода в «Штернбальде» (да и не в одном только
«Штернбальде») принадлежат к числу самых плохо написанных,
а для правильной оценки умственного направления и вкуса
нашего поэта имеет большую важность то обстоятельство, что при
переделке своего романа в 1843 году он частью выпустил те
сцены, частью очистил их от самых сальных подробностей, частью
заменил другими сценами более скромного содержания.
Однако что же побудило Тика подражать автору «Ардингел-
ло» в таком романе, который был первоначально задуман сообща
с Вакенродером и в заглавии которого должно было стоять имя
автора «Любящего искусства монаха»?
Ответ на этот вопрос заставляет нас перейти ко второй точке
зрения, с которой следует рассмотреть содержание «Штернбаль-
да». В этом романе сначала предполагалось излагать идеи из
«Любящего искусства монаха», но он сделался (без предвзятого
намерения со стороны автора) первым сильным отголоском того
влияния, которое оказал на немецкую литературу гётевский
«Вильгельм Мейстер».
Тик начал подчиняться влиянию Гёте еще в то время, когда
мальчиком читал «Гёца», не справляясь об имени автора; но в
душе юного поэта сталкивалось так много разнородных
стремлений, что он не мог подчиниться чьему-либо исключительному
влиянию. В «Карле фон Бернеке» Тик подражал автору «Клары
фон Гогенейзен» по меньшей мере столько же, сколько автору
«Гёца». «Ловеля» мы могли бы принять за подражание гётевско-
му «Вертеру», если бы нам не было положительно известно, что
образцом для этого рассказа служил один из французских
романов. В рассказах, которые писал Тик для «Страусовых перьев»,
не заметно никакого влияния Гёте. В «Народных сказках» в
первый раз встречаются отголоски гётевских воззрений. Влияние
Гёте сказывается в старании Тика подражать Гансу Саксу и
частью в юморе его фантастических комедий. Повсюду
разбросанные песни, которые Тик писал во второй половине девяностых
годов, похожи на отрывочные отголоски гётевской лирики, а в
привлекательном изложении «Белокурого Экберта» нетрудно
распознать, по верному замечанию А. В. Шлегеля, тот образец
изящного слога, которым служили для Тика «Schlangenmärchen»
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
141
(«Змеиная сказка». — Прим. науч. ред.) и «Вильгельм Мейстер».
Впрочем, влияние «Вильгельма Мейстера» обнаружилось и
другим путем. Этот первый вполне законченный немецкий роман
появился в 1795—1796 годах. В сравнении с «Гёцом» и с «Вер-
тером» он вызвал менее бурные восторги, но зато произвел
более сильное, более глубокое и более прочное впечатление. Без
всякого шума и постепенно он подчинил своему неотразимому
влиянию фантазию целой эпохи. С тех пор сочинение романа
сделалось высшей честолюбивой мечтой поэтов нового
поколения. Роман был признан за всеобъемлющую форму поэтического
творчества, а основные законы этого рода поэзии были, в
сущности, извлечены из содержания гётевского произведения.
Откладывая в сторону вопрос о том, в какой мере влияние
«Вильгельма Мейстера» сказывается даже в наше время, мы ограничимся
замечанием, что в первые годы после появления этого романа
тип Вильгельма Мейстера отражался во многих из написанных в
то время романов. Соперничая с автором «Вильгельма
Мейстера», Жан-Поль написал своего «Титана». Не будь «Вильгельма
Мейстера», ни Каролина Вольцоген не написала бы романа под
заглавием «Agnes von Lilien» («Агнес фон Лилин». —Прим. науч.
ред.); ни Доротея Вейт не написала бы романа под заглавием
«Florentin» («Флорентин». —Прим. науч. ред.). Даже у Шлейер-
махера зародилось в то время намерение написать роман, в
котором он изложил бы все, что вынес из своих наблюдений над
человеческой жизнью. Тик написал «Штернбальда», Фр. Шле-
гель — «Люцинду», Новалис (Гарденберг) — «Генриха фон Оф-
тердингена». Но между всеми этими произведениями именно в
«Штернбальде» всего яснее заметно могущественное влияние
великого образца. В то время как вышел в свет «Вильгельм
Мейстер», Тик задумал написать другой роман, который был им
окончен лишь по прошествии сорока одного года. Даже в своем
теперешнем виде этот роман или, как его назвал Тик, новелла «Der
junge TischlermeisteD)1 («Молодой столярный мастер») является
непосредственным, хотя и очень слабым отпрыском
«Вильгельма Мейстера». Подобно тому как бессмертное произведение Гёте
начинается юношескими воспоминаниями поэта об отцовском
доме и о родном городе, и «Молодой столярный мастер»
начинается воспоминаниями о юношеской жизни Тика, причем сценой
1 В его сочинениях XXVIII (с предисловием на с. 5).
142
Р. ГАИМ
действия является не контора, а мастерская ремесленника. Затем
следуют описания путешествий, подробные рассказы о
посещениях театра, о заведенных там любовных интригах — короче
сказать, это, в сущности, не что иное, как подражание первой
части «Вильгельма Мейстера», очень быстро доведенное до
конца. Конечно, следует предполагать, что если бы Тик тогда же
написал весь рассказ о молодом столярном мастере, он еще
более подчинился бы влиянию образца. Но в ту пору он увлекся
благочестивой любовью Вакенродера к искусству, а это
увлечение дало его фантазии совершенно иное направление. Он не
отказался от намерения написать роман, но его герой превратился
из ремесленника в живописца времен Альбрехта Дюрера. Эта
перемена перенесла его в такую сферу идей, в такую
историческую обстановку, которые вовсе не имели сходства с гётевскими.
Но что же из этого вышло? Мы не считаем нужным высказывать
наши догадки насчет того, чем был бы «Штернбальд», если бы
он был написан до появления «Вильгельма Мейстера». Перед
нами налицо тот факт, что влияние более могущественного ума
заставило более слабый ум свернуть с избранного пути и
наложило на «Штернбальда» такой отпечаток, какого не мог бы
придать ему сам автор по собственному почину. Хотя при своем
зарождении «Штернбальд» и имел много общего с «Сердечными
излияниями монаха», но с течением времени и в его содержании
и в его форме все решительнее сказывалось влияние
«Вильгельма Мейстера»1.
Прежде всего посмотрим, как отразилось это влияние на
содержании поэтического вымысла. Мы взялись бы за
неблагодарный труд, если бы стали вкратце излагать содержание «Франца
Штернбальда», потому что в этом романе вовсе нет внутренней
связи и последовательности. Достаточно будет заметить, что
«Штернбальд» написан по одинаковому плану с гётевским
романом. В нем так же, как у Гёте, рассказана история развития моло-
1 На зависимость «Штернбальда» от «Вильгельма Мейстера» указывали и
прежние рецензенты (см. у Коберштейна III, 2178), и новейшие критики (напр.,
сравн. у Коберштейна III, 2169; Юлиана Шмидта, 5-е изд., И, 49); однако
следует заметить, что этот последний критик впал в хронологическую ошибку,
ссылаясь на описание того, как наряжалась графиня в «Штернбальде», ведь это
одна из прибавочных сцен в издании 1843 года. Всего лучше объяснено
влияние В. Мейстера у Dilthey в его статье о Новалисе, напечатанной в «Preuss.
Jahrbücher» XV, 632 и ел.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
143
дого человека, который страстно любит искусства и который,
благодаря своей склонности к идеализму, переходит из низших сфер
своего первоначального воспитания в сферы знатного общества.
И здесь точно так же, как у Гёте, Провидение руководит судьбой
героя; и здесь описано появление молодой девушки, которая
сначала оказывает мимолетное влияние на идеалы и замыслы
юноши, а потом, после различных колебаний, ошибок и
неприятностей, отыскивает своего возлюбленного и соединяется с ним на
всю жизнь. Наконец, и здесь сестра героя устраивает его брак с
возлюбленной; здесь встречаются действующие лица, похожие на
прекрасную графиню и Лотарио, а романтические сцены действия
напоминают Италию. Вслед за этим автор намеревался описать
штурм и взятие Рима, но ему едва ли удалось бы перенести нас в
исторические условия того времени. Он напрасно задался
мыслью описывать эпоху Альбрехта Дюрера: во всей второй части
романа он лишь с виду придерживается этой цели и все
историческое содержание романа заключается в рассказах о
пилигримах, пустынниках, рыцарях, монахинях, в описании разных
приключений, случившихся с художниками и с любителями искусства.
Все эти действующие лица, чтобы сделаться более
романическими и привлекательными, стараются драпироваться в костюмы из
средневекового гардероба, но, по меткому замечанию Юлиана
Шмидта1, если в них хорошенько вглядеться, их костюмы
окажутся заимствованными не из гардероба шестнадцатого столетия,
а из «Вильгельма Мейстера».
Но некоторые из действующих лиц напоминают «Вильгельма
Мейстера» еще гораздо больше, чем рамки романа. И в том, что
касается внешней формы, фантазия Тика подчинилась влиянию
гётевского романа. Именно в то время, когда вышли в свет
«Сердечные излияния», Гёте вступался в «Пропилеях» сообща со
своим другом Мейером за классико-идеалистическое направление в
живописи и ему, конечно, не могла понравиться новая книга; он
нашел безрассудным старание выдавать благочестие за
настоящую основу искусства и впредь стал обозначать эту ложную
тенденцию насмешливым названием «Sternbaldisiren». Вот какая
резкая была противоположность между воззрениями Гёте и Тика!
Тем не менее «Штернбальд» не был в состоянии высвободиться
1 I, 382 в четвертом издании, которое, благодаря разным критическим
замечаниям, интереснее пятого издания.
144
Р. ГАИМ
из оков, наложенных на него гётевскими романами. К
воззрениям монаха на искусства и на жизнь примешивались те
нравственные и эстетические воззрения, которые изложены в
«Вильгельме Мейстере» в последовательной и гармонической связи.
Всемогущая сила поэзии округлила в этом романе резкие
очертания реальных предметов: она оттеснила в сторону
неизменные нравственные законы и понятия о мещанской честности,
заменив их требованиями изящной натуры, гармонического
развития, благородного образа действий и любезного обхождения.
Здесь являются мерилами нравственности одухотворенная
чувственность и законы изящества; этим идеальным воззрением до
такой степени проникнуты все мельчайшие подробности
описываемой жизни, что они могли бы показаться вполне
основательными, если бы предпочтение, оказанное аристократам, если
бы ошибочное мнение, будто знатность то же, что благородство,
и некоторые другие странности не напоминали нам, что умный
поэт находился под влиянием жалких социальных и
политических условий своего времени и своего отечества. Как бы то ни
было, но этим воззрениям соответствует не только форма
изложения, но даже мелодический язык. Подкладкой для романа
служат факты действительной современной жизни, но Гёте
придает этим фактам внутреннюю гармонию и поэтический
отпечаток. Точно таким же путем идет автор «Штернбальда»,
несмотря на то, что в основе его романа лежат благочестивые идеи;
но благочестие монаха похоже не на благочестие
предприимчивого героя, а на благочестие погруженного в созерцание
художника. Поэтому в «Штерабальде» проводится совершенно иное
воззрение на нравственный мир: здесь, по выражению Вакенро-
дера, «изнеженная душа художника» смотрит на обыденные
явления действительной жизни как на достойную презрения
внешнюю оболочку, под которой скрыта та жизнь фантазии и
сердца, которая одна только имеет цену в его глазах. Здесь,
точно так же, как и в гётевском романе, всему придается отпечаток
изящества, но автор «Штернбальда» позволяет себе в этом
отношении гораздо более причуд, чем автор «Вильгельма Мей-
стера». Только в этих идеалистических преувеличениях и
заключается различие между поэтическими приемами Тика и Гёте.
Мы называем Тика романтическим поэтом в противоположность
поэтам классическим именно потому, что, стараясь
опоэтизировать факты действительной жизни, он поверхностно касается
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
145
этих фактов, довольствуясь внутренней гармонией своего
субъективного душевного настроения. Этим объясняется
непластичность действующих лиц в «Штернбальде», бессознательность
их поступков, внушаемых только влечениями к «чистой поэзии».
Этим же объясняется у Тика странный образ действий
живописца, который руководствуется только своими пылкими
влечениями и, как он сам сознается, беспрестанно теряет из виду свою
цель. Людовик говорит: «Свою цель никак нельзя потерять из
виду, потому что благоразумный человек устраивает свою жизнь
так, чтобы не иметь никакой цели». Именно такую жизнь ведут
все действующие лица в романе Тика. Они постоянно делаются
игрушкой случайностей. Вторая часть наполнена
бессмысленным набором разных любовных приключений. В ней поступки
действующих лиц фантастически неправдоподобны, а между
этими поступками существует только «чисто поэтическая»
внутренняя связь. В них лишь немного более последовательности,
чем в содержании сновидений; поэтому сновидения и играют
очень важную роль в романе. Наконец, по той же причине,
эпический тон изложения иногда переходит в картинное или в ли-
рико-музыкальное описание окружающей обстановки и
душевного настроения. Точно так же, как в «Ловеле» и в «Магелоне»,
мы находим здесь множество песен и стихотворений,
множество бесконечно длинных мелодий, прерывающих течение
рассказа. Очень характеристично то, что эти мелодии влагаются в
уста действующих лиц в качестве импровизаций; они сносны
только благодаря тому, что они импровизированы; автор точно
будто всячески старается развести водой и опошлить одну
каплю той настоящей поэзии, которая бьет ключом в
немногочисленных, но незабвенных лирических аккордах, выражавших
любовное томление Миньоны или безнадежное положение
арфиста. Большинство этих импровизированных песен не
заявляет никаких притязаний на сколько-нибудь определенное
содержание. Друг Штернбальда, Флорестан, высказывает убеждение,
что «в форме стихов можно излагать целый диалог на
различные тоны», а сам Штернбальд (точно так же, как это делалось в
«Цербино») иногда прибегает к помощи музыкальных
инструментов, стараясь извлекать из них поэтические аккорды1. Нако-
1 И эти лирические упражнения, и некоторые другие, им подобные, не
попали во второе издание.
146
Р. ГАЙМ
нец, само собой разумеется, что и здесь музыке суждено
восполнять отсутствие идей и недостатки рассказа. И чем первобытнее
эта музыка, тем она больше нравится автору: он прибегает
преимущественно к валторне и к свирели, а к первому из этих
инструментов прибегает так часто, что в «Цербино» сам смеется над
его частым употреблением. Однако это не помешало ему
сохранить любовь к валторне до самой старости, до того периода его
жизни, когда он занялся сочинением новелл; отсюда можно
составить себе ясное понятие о том, как мало был у него развит
музыкальный вкус.
Все это, как мы выше заметили, встречается не в одном
только «Штернбальде». Но в этом романе было кое-что новое. Свое
ничем не стесняющееся поэтическое душевное настроение,
которое мы будем впредь называть романтическим, Тик до сего
времени выражал только в сказках, в лирике, в юмористических
выходках и, в особенности, в комедиях. В «Штернбальде» он в
первый раз выразил это романтическое настроение в форме
рассказа происшествий из действительной жизни, в форме романа.
К этому побудил его пример «Вильгельма Мейстера». Поэтому
«Штернбальд» представляет двоякую противоположность с
прежними романами и рассказами Тика. «Любящий искусства монах»
внушил нашему поэту убеждение, что в почитании искусства, в
благочестивой душевной кротости кроется такая сила, которая не
менее безрассудного высокомерия способна заглушать всякие
мучительные сомнения. Именно такой положительный пафос лежал
в основе содержания «Штернбальда»; он находится в
противоречии с пафосом всех прежних произведений Тика и, в
особенности, с пафосом Вильяма Ловеля. Ведь в «Ловеле» не было
никакого существенного содержания, а в «Штернбальде» именно такое
содержание служит основой для поэзии. Вторая
противоположность с прежними романами заключается в следующем:
«Вильгельм Мейстер» раскрыл перед глазами нашего поэта ту тайну,
что можно опоэтизировать всякое мелкое и, по-видимому,
совершенно ничтожное происшествие из действительной жизни.
Такой прием все идеализирующей фантазии он довел до крайнего
преувеличения: поэтический элемент рассказа превратился у него
в фантастический, но все-таки он стал рассказывать события
действительной жизни, историю умственного развития одного
живописца. С этой точки зрения, «Штернбальд» представляет
противоположность со всеми прежними страшными рассказами,
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
147
оскорблявшими наш слух своей какофонией в первом периоде
литературной деятельности Тика. В противоположность с ужасами,
которыми наполнен «Абдаллах» и которые снова встречаются в
«Ловеле», в «Белокуром Экберте» и т. д., «Штернбальд»
переносит нас в область приятной, гармонической фантазии; все,
способное наводить ужас, сглаживается и во всем романе
преобладает мягкий тон; здесь идет речь не о том, что способно наводить
на читателя страх, а о сердечных влечениях, о любви, о
склонности к бродячей жизни; здесь преобладает (не так, как в «Ловеле»)
не диалектическая форма поэзии, а музыкальная.
Эти новые поэтические мотивы скоро достигли более высокой
ступени своего развития частью у самого Тика в его «Женевьеве»,
частью у другого еще более оригинального поэта. В «Штернбаль-
де» романтическое направление впервые сложилось из своих двух
самых характеристичных элементов — из благочестивого
преклонения перед искусством и из чрезмерно идеального
опоэтизирования человеческой жизни. Эти элементы еще более
исключительно преобладали в поэтических произведениях одного из
друзей Тика — Новалиса. В своем «Генрихе фон Офтердингене»
Новалис, так сказать, возвел в квадрат содержание «Штернбаль-
да»; у него романтическое настроение ума достигло своего
максимума.
Но уже ранее это направление было признано современной
критикой за поэтическую силу, за новое явление в истории
литературы. Нам уже приходилось мимоходом упоминать о том, как
отзывался о «Народных сказках» Тика А. В. Шлегель; отзыв его
брата Фридриха о «Ловеле» также известен читателю. Но этот
отзыв служит как бы введением к критическому суждению о
только что появившемся «Штернбальде». То, что высказал Фридрих
об этом романе, так замечательно и по своему бросающемуся в
глаза пристрастию, и по своей оригинальной меткости
выражений, что мы считаем нужным привести его собственные слова:
«Штернбальд соединяет в себе энергию и высокий полет Ловеля
с художнической религиозностью монаха и со всем тем, что есть
самого изящного в поэтических арабесках, созданных Тиком из
старинных сказок: мы находим в „Штернбальде" избыток и
легкость фантазии, склонность к иронии и, в особенности,
преднамеренное разнообразие и единство колорита. Здесь все ясно и
прозрачно, а романтический дух точно будто приятно фантазирует о
самом себе».
148
Р. ГАИМ
Итак, с одной стороны, поэтическое творчество, с другой
стороны, критика сходятся на том пути, который был проложен
Тиком вполне самостоятельно для самого себя. Теперь пора
проследить умственное развитие тех людей, которые дошли до
сближения с Тиком, придерживаясь совершенно другой точки
зрения.
КНИГА ВТОРАЯ
ВОЗНИКНОВЕНИЕ РОМАНТИЧЕСКОЙ
КРИТИКИ И ТЕОРИИ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
АВГУСТ ВИЛЬГЕЛЬМ ШЛЕГЕЛЬ ДО 1797 ГОДА
Еще за полвека с лишком до той эпохи, о которой здесь идет
речь, несколько молодых людей предприняли в Лейпциге
издание поэтико-критического журнала, который под названием
«Bremer Beiträge» занял почетное место в истории немецкой
литературы. В этом выразился протест подраставшего нового
поколения против диктатуры Готтшеда и сознательное намерение
перейти от литературного кропанья доктринеров к более свободной
и более живой поэтической деятельности. В кружке этих «Bremer
Beiträgen) («Бременские вопросы».—Прим. науч. ред.) не
последнее место занимали два брата — Иоганн Илья и Иоганн Адольф
Шлегели. Мы не впадем в преувеличение, если скажем, что
первый из этих двух братьев был предшественником Лессинга во всем,
что касалось более правильного понимания драматической поэзии.
За вторым следует признать ту заслугу, что хотя он и не отличался
выдающейся самостоятельностью, но, благодаря своей
бесспорной даровитости во всем, что касалось языка и формы
изложения, был неутомимым руководителем юношества в теоретическом
и практическом изучении поэзии и красноречия.
В последнее десятилетие восемнадцатого столетия и в начале
девятнадцатого другие братья Шлегели снова имели сильное
влияние на судьбу немецкой литературы. Это были сыновья
младшего из вышеупомянутых двух братьев — Иоганна Адольфа Шлеге-
ля, умершего в 1793 году в Ганновере в звании члена консистории.
Дарования, которыми они прославились, как кажется, были
наследственными. Ведь и они отличались не столько способностью
к литературному творчеству, сколько уменьем развивать чужие
литературные дарования; и у них поэтический дар играл лишь
второстепенную роль; их главная сила заключалась в способности
152
Р. ГАЙМ
сочувствовать чужим стремлениям, в меткости, в остроумии их
критических оценок.
Старший из двух братьев, четвертый и предпоследний из
сыновей Иоганна Адольфа, Август Вильгельм Шлегель родился в
Ганновере 8 сентября 1767 года. Еще в то время, как он посещал
школу, в нем стали обнаруживаться его стилистические и
стихотворные дарования; впоследствии он сам говорил1, что еще
ребенком «страстно любил сочинять стихи». Написанное
гекзаметрами стихотворение, в котором он, будучи восемнадцатилетним
юношей, обозрел на училищном акте историю немецкой поэзии,
свидетельствовало о его даровитости и вместе с тем служило
указанием его будущего призвания. То было вполне естественно, что,
поступив в 1786 году в Гёттингенский университет, он предпочел
теологии философию и занялся под руководством Гейне
изучением древней литературы. Гейне принял его в число
немногочисленных избранников, которых собирал в своей филологической
семинарии. Он был помощником Гейне при издании
произведений Вергилия и составил в 1788 году указатель к четвертому тому.
Впрочем, еще прежде того, в первый год своих университетских
занятий, он получил премию за появившуюся в 1788 году в
печати латинскую статью о географии Гомера2. Среди профессоров
академии, называвшейся «Georgia Augusta», он нашел не только
знаменитого филолога, но и знаменитого поэта. Молодого студента
сильно интересовало знакомство с певцом «Леноры». На жившего
в одиночестве Бюргера имела благотворное влияние преданность
прилежного ученика; отсюда возникла та взаимная привязанность,
которая послужила к пользе их обоих. Она была основана
исключительно на любви к поэзии, которая была предметом их
ежедневных бесед. Бюргер называл Шлегеля своим «поэтическим
сыном», своим «любимцем, для которого охотно служил бы
наставником, если бы такие юноши могли нуждаться в
наставниках». Он очень хорошо понимал, что не следовало потакать
юношескому высокомерию ученика, которого все баловали и которым
1 В полном собрании сочинений А. В. Шлегеля (издание Бёкинга)УШ, 68.
Филологические достоинства этого превосходного издания, к сожалению,
оставшегося недоконченным, избавляют нас от необходимости делать ссылки на
первоначальные издания того иди другого из произведений Шлегеля.
2 «De Geographia Homerica commentatio, quae in concertatione civium aca-
demiae Georgiae Augustae 4 Jan. 1787 proxime ad praemium accessisse pronuntiata
est». В «A. G. Schlegelii opuscula Latina» (изд. Бёкинга).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
153
все восхищались; тем не менее он написал сонет, в котором
предсказывал, что для Шлегеля будет сплетен более изящный венок,
чем тот, который украшал его собственную голову. Хотя Шлегель
не вполне оправдал эти щедрые похвалы и предсказания, все-таки
нежная привязанность к нему Бюргера была вполне заслуженной.
В стихах, написанных в 1789 году, Шлегель высказывал
намерение возбуждать своими песнопениями в утомленном поэте
желание снова браться за перо. «Я должен, — писал Бюргер 1 марта
того же года, — отдать ему справедливость в том, что он умел
снова раздуть в моей груди прежний, почти совершенно
угаснувший пламень». И как поэт и как рецензент Шлегель старался
поддерживать в Бюргере уверенность в самом себе, а после смерти
поэта называл его своим «первым наставником в искусстве
песнопений» и с преданностью признательного ученика
поддерживал его известность среди нового поколения, нисколько не
отказываясь от той добросовестности, которая составляет главное
достоинство литературной критики1.
Старик Шлегель еще не перестал заниматься поэзией и
печатать свои стихотворения, когда в печати появились первые
произведения его сына. Бюргер был редактором гёттингенского
«Альманаха Муз» с 1779 до 1794 года; поэтому он там и помещал первые
стихотворения своего любимого ученика. Более длинное
стихотворение Шлегеля было помещено в журнал «Akademie der schönen
Rederkünste» («Академия красноречия». —Прим. науч. ред.),
издание которого было предпринято Бюргером в 1790 году;
наконец, некоторые из стихотворений Шлегеля появились после смерти
1 В доказательство дружеской привязанности Шлегеля к Бюргеру, Кобер-
штейн (II, 1714) указывает на предисловие ко второму изданию стихотворений
Бюргера (изданию Bohz'a в одном томе, с. 330), на сонет Бюргера (Bohz, с. 84)
и на стихотворение Шлегеля (в его сочинениях И, 360); к этим доказательствам
следует присовокупить письма: Бюргера к Глейму от 26 октября и 15 ноября
1789 года (Bohz, с. 492 и 493), Бюргера к Ф. Л. В. Мейеру от 12 января и 1 марта
1789 года и от 14 марта 1790 года («Zur Erinnerung an F. L. W. Meyer» I, 324,
325, 331, 335; также сравн. письмо Таттера к Мейеру, там же, с. 314); кроме
того, сонет Шлегеля к Бюргеру (1790) (в его сочин. I, 352), рецензию на гёттин-
генский «Альманах Муз» за 1796 и 1797 годы (в его сочин. X, 354, 355),
характеристику Бюргера в шлегелевских характеристиках и критических статьях с
позднейшими прибавками (в его сочин. VIII, 64 и ел.; в особенности прим. к
с. 68), наконец, стихотворение «An Burger's Schatten» (1810) (в его сочин. I,
375). Я готов сюда же отнести написанное в 1792 году стихотворение «Aneinen
Kunstrichter» (в сочин. Шлегеля I, 8), хотя я и считаю его написанным с целью
утешить Бюргера, огорченного нападками со стороны Шиллера.
154
Р. ГАИМ
Бюргера в бекеровском «Taschenbuch zum geselligen Vergnügen»
(«Карманная книга для дружеских рассуждений». —Прим. науч.
ред.){. Во всех этих произведениях нетрудно узнать школу
Бюргера. Читая их, тотчас замечаешь, что ученик старается
соперничать с наставником, подделываясь под его тон и главным образом
стараясь усвоить стихотворную технику. Бюргер снова ввел в моду
форму сонета, благодаря тому, что придавал ей много изящества
и художественности. Он был очень доволен тем, что его юный
друг заразился этой склонностью к рифмотворству.
Действительно, изящные небольшие песенки так легко изливались из уст
Шлегеля, что казались его наставнику образцовыми. Но трудно
решить, какое участие принимала в этой работе душа юноши. Нас
не располагает в пользу вырабатывавшегося поэта та легкость, с
которой он владел рифмами. Всматриваясь ближе в содержание
его стихотворений, мы не находим в их изящной внешней форме
неподдельной чувствительности, не находим искренних или
страстных влечений сердца. Даже любовь не была в состоянии
сделать из молодого стихотворца настоящего поэта: его любовные
стихотворения наполнены частью светскими любезностями,
частью хладнокровными размышлениями. Но к влиянию, которое
имел на него Бюргер, присоединилось влияние Шиллера. Он,
подобно Бюргеру, пришел в восторг от элегии «Боги Греции»2 и стал
изучать произведения ее автора. Он заимствовал из прежних
лирических стихотворений Шиллера склонность к метафорам и
высокопарность выражений; стараясь подражать этим образцам, он
стал прикрывать отсутствие пылкой чувствительности изяществом
своего красноречия. Наконец, к его поэтическим влечениям
присоединились его влечения к филологии. Эти последние
сказывались не только в его заботливости о форме изложения, не только в
чистой отделке его поэтических произведений, но и в его
привычке пользоваться мифологией, в частом употреблении
греческих имен. Это всего яснее видно на том полуэпическом, полу-
1 Вместо того, чтобы ссылаться на список сочинений Шлегеля,
составленный Бёкингом до издания полного собрания этих сочинений и заключающий в
себе некоторые неточности, я предпочитаю ссылаться на оглавление к I и II
томам того полного собрания. Касательно помещенного в «Альманахе Муз»
(1789) стихотворения «An ν. Χ. X.», сравн. «Zur Erinnerung an F. L. M. Meyer» I,
324.
2 В его сочинениях VIII, 67 (прим.). Письма Шлегеля к Шиллеру 3-е и 6-е в
«Preuss. Jahrb.» IX, 201 и 207.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
155
лирическом стихотворении, которое Бюргер назвал греческой
балладой и в котором сказание об Ариадне изложено
растянутыми стихами, наполненными блестящей декламацией. Наряду с
небольшим романсом «Die Erhörung» («Услышь мою мольбу». —
Прим. науч. ред.), в котором Шлегель так искусно подражает тону
испанской поэзии, это стихотворение принадлежит к числу
лучших, какие были им написаны в этот юношеский период его жизни.
Но с этой поэтической деятельностью шла рука об руку
деятельность критика. Появившаяся во втором номере бюргеровской
«Akademie der schönen Rederkünste» ' первая из попавших в печать
статей Шлегеля, в которой шла речь о шиллеровских
«Художниках», обещала превосходного эстетического критика. Здесь
Шлегель следит шаг за шагом за каждым словом поэта с
прозорливым вниманием анатома. Правда, некоторые из его замечаний
имеют слишком яркую филологическую окраску и написаны
наставническим тоном; но его способность подмечать
неудовлетворительность рифм, неточность выражений и логические
несообразности не мешает ему оценивать по достоинству роскошные
периоды и блестящие выражения, не мешает ему отдавать
полную справедливость смелости поэтических приемов Шиллера; он
так метко указывал на в высшей степени дидактический характер
этих приемов, что Шиллер имел полное основание быть
довольным его критикой. Гораздо менее достоинств в тех рецензиях,
которые молодой ученый писал по просьбе издателей «Гёттин-
генского ученого указателя»2. Они почти все без исключения
наполнены эстетическим содержанием и доказывают нам, что их
автор был в состоянии составить себе ясное понятие только о
некоторых частных вопросах, а свою общую точку зрения еще не
успел окончательно выработать. По всему видно, что его ум еще
находился под влиянием Баттё и тех статей, которые писал о Баттё
его отец, и что его уважение к более старой литературной школе
еще не было поколеблено. Он все еще придерживается мнения,
что «поучительная драма» имеет преимущество перед другими
родами поэзии. Он осыпает похвалами Тюммеля за его
«Путешествие по южным провинциям Франции», что, впрочем, не мешает
ему написать чрезвычайно меткую характеристику этого произ-
1 В его сочинениях VIII, 3 и ел.; сравн. письмо Шиллера к Шлегелю от
5 октября 1795 года в изданных Бёкингом письмах Шиллера и Гёте к А. В.
Шлегелю, с. 4.
2 В его сочинениях X, 3 и ел.
156
Р. ГАЙМ
ведения. Анакреонтического поэта Гётца он считает
«неподражаемым мастером» в сочинении мелких стихотворений.
Напротив того, его разбор поэтических достоинств гётевского «Тассо»
очень холоден: его похвалы ограничиваются тем, что он признает
«красоту подробностей», «изящество диалога»; и хотя он верно
указывает драматические недостатки пьесы, но вовсе не входит в
подробное изложение мотивов своего неодобрения. Он с более
горячими похвалами отзывается об отрывке из гётевского
«Фауста», но из этих похвал не видно, чтоб он ясно сознавал, что новое
произведение составляет эпоху в истории немецкой литературы.
Наконец, нельзя назвать удовлетворительными и его заметки о
произведениях Шиллера, помещавшихся в «Талии»: он отдает
справедливость смелости идей и глубокомыслию Шиллера, но
желал бы найти у него более ясности, правильности и
осмотрительности.
Во всем этом, бесспорно, обнаруживаются и изящный вкус
критика, и достойная уважения прозорливость. Но мы напрасно
стали бы искать у Шлегеля того высокого полета, которым
отличались юношеские рецензии Гёте, или той дальнозоркости,
которой отличались первые критические заметки Лессинга. Здесь мы
имеем дело с одаренным изящным вкусом и осмотрительным
критиком, но вовсе не с гениальным нововводителем.
Уже по самому началу литературной деятельности Шлегеля
можно было с точностью определить размер его дарований. И как
поэт и как критик, он клал в основу своей литературной
деятельности свое влечение к филологии. Его способность усваивать
чужие поэтические идеи и чужие формы поэтического выражения
побуждала его к изучению иностранных литературных
произведений. Еще в то время, как он был студентом Гёттингенского
университета, он заглядывал в литературу античного мира.
Подражания итальянским поэтам встречаются даже между его
юношескими стихотворениями. Но скоро он выказал всю силу своего
таланта в таком литературном предприятии, для которого
потребовалось сочетание его дарований критика с его дарованиями
поэта. Он написал для третьего номера бюргеровской «Академии»
статью «О „Божественной комедии" Данте Алигьери», которая
вызвала похвалы Гер дера1, потому что была задумана в духе Гер-
1 Шлегель к Шиллеру, письмо I. Шиллер к Шлегелю от 12 июня 1795 (у Бё-
кинга).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
157
дера и написана его манерой; но она была более тщательно
отделана, чем статьи самого Гердера, и более строго придерживалась
определенного философского направления. Шлегель говорил в
этой статье, что он постарается снять монашеское одеяние с
выдающихся достоинств такого поэта, который менее всякого
другого сообразовался с духом своего времени и который мог бы
расширить кругозор немецкой эстетики, если бы был по достоинству
оценен немецкими писателями. Здесь речь шла не о похвалах или
порицаниях, не о том, чтобы соорудить костер из нравственных и
эстетических правил и потом предать его сожжению, а о том,
чтобы «вникнуть в чужую натуру, понять ее существенные отличия
и объяснить, каким образом она развилась». Чтобы понимать
поэта, надо изучить его время и окружавшую его обстановку. «Надо
мысленно перенестись в путаницу героических и монашеских
идей того времени, надо сделаться или гвельфом, или
гибеллином». В этих суждениях постоянно слышится отголосок мнений
автора «Отрывочных заметок о немецкой литературе», «Писем
об Оссиане» и «Песней древних народов». Подобно Гердеру, и
Шлегель придерживается той точки зрения, что для оценки
какого-либо писателя необходимо вникнуть и в исторические условия
его времени, и в его индивидуальные влечения. Поэтому он
описывает ту сферу, в которой вращался Данте, потом переходит к
биографическим подробностям, а характеризуя Данте как
человека, вовлекается в такое же ораторское красноречие, с каким
выражался в подобных случаях Гердер. Наконец, он приступает к
разбору великой поэмы: сначала он дает общее о ней понятие и
указывает на ее аллегорический характер, а потом переводит
некоторые избранные из нее места, стараясь по мере возможности в
точности придерживаться ее внешней формы и ее стихотворного
размера, однако не всегда строго придерживается формы терцин.
Но он доходит только до третьей песни, в которой идет речь об
аде. Лишь по прошествии нескольких лет он стал мало-помалу
помещать переводы следующих глав в других журналах,
преимущественно в шиллеровском журнале «Hören» в первый год его
издания1.
1 Более точные указания на постепенное появление этих переводов в
печати можно найти у Коберштейна (II, 1718) и в указателе к III тому сочинений
Шлегеля; там же см. с. 199 и ел. Но при перепечатке всего перевода были
сделаны некоторые улучшения в первоначальной редакции.
158
Р. ГАЙМ
Сотрудничество в этом журнале составляет отдельную главу
в литературной жизни Шлегеля. Оно зародилось на гёттинген-
ской почве, а потом было вызвано влечением к Йене и к
Веймару. Первыми руководителями молодого человека были Гейне и
Бюргер. Одобрение Шиллера вовлекло его в ту сферу, которая,
безусловно, подчинялась влиянию наших двух классических
поэтов.
Из Гёттингена Шлегель переселился в 1792 году в Амстердам
в качестве заведующего делами одной банкирской конторы. Там
он прожил до лета 1795 года, совершенно оторванным от
литературной жизни своего отечества. Но уже тогда начали сплетаться
те узы, которые впоследствии связали его с самыми
выдающимися из немецких писателей. По всему вероятию, своим анализом
шиллеровских «Художников» он обратил на себя внимание поэта
и был им приглашен в качестве литературного критика в
сотрудники «Талии»1. В конце 1794 года Кернер, познакомившийся в
Дрездене с младшим братом Шлегеля, предложил Шиллеру
новую статью Августа Вильгельма о Данте для ее помещения в
«Hören»2, который предполагалось издавать с начала следующего
года. Шиллер тотчас понял, что ему представился случай
приобрести ценного сотрудника; поэтому он обратился к Шлегелю с
предложением доставлять статьи и для «Hören», и для
«Альманаха Муз». Шлегель охотно принял это предложение. Из его писем
видно, как он дорожил этими так удачно завязавшимися
сношениями. Он видел в них самую лучшую подготовку к своему
вступлению на литературное поприще, которому решился впредь
посвящать все часы своего досуга. Одобрение со стороны Шиллера
заглушило его недоверие к собственным силам и послужило
самым сильным поощрением к литературной работе. Он
рассыпается в выражениях своего высокого уважения и своей
признательности; однако, благодаря основательности приобретенных
познаний и зрелости своих критических суждений, он
достаточно самостоятелен для того, чтобы воздерживаться от
раболепного преклонения перед Шиллером. В своем первом письме к
Шиллеру он говорит, что извлек большую пользу для себя из его статей
о теории искусства и признает огромное значение этих статей в
истории немецкой литературы; однако он позволяет себе слегка за-
1 Шлегель к Шиллеру, письмо I. И для того, что изложено мной далее,
главным источником сведений служила переписка Шиллера со Шлегелем.
2 См. переписку Шиллера с Кернером III, 224 и ел.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
159
метить, что Шиллер нравится ему более как поэт, чем как критик,
а по поводу шиллеровской рецензии на стихотворения Бюргера
он даже осмеливается указать на различие между его
собственным историческим воззрением на поэзию и воззрением
Шиллера, основанным на философских принципах и на идеальных
требованиях. Тем не менее он не мог устоять против могущественного
влияния поэта. Он был не в состоянии оказывать противодействие
этому влиянию в тех случаях, когда произведения поэта
отличались художественностью своей формы. В то время он
восхищался историческими сочинениями Шиллера. Его пленяла и
вовлекала в подражание шиллеровская проза, отличавшаяся своими
антитезами и сравнениями и нередко затемнявшая мысли
симметричностью фраз, — та самая проза, которую Шлегель, под
влиянием оскорбленного самолюбия, впоследствии называл
«abgezirkelte Eleganz» (размеренная изысканность. — Прим. науч.
ред.). Ему захотелось написать таким же слогом что-нибудь
историческое для журнала «Hören». Но он ограничился такой
вольной переделкой одной испанской истории, которая была бы более
на своем месте в «Erholungen» («Досуг». —Прим. науч. ред.) Бе-
кера, чем в шиллеровском журнале. Этот рассказ о султанше Мо-
резела1 замечателен как потому, что он был единственным
произведением этого рода, вышедшим из-под пера Шлегеля, так и
потому, что в нем ярко бросается в глаза подражание шиллеров-
скому слогу. Едва ли менее ярко бросается в глаза подражание
Шиллеру и в стихотворениях2, которые Шлегель стал писать для
шиллеровского «Альманаха». В них не только слышатся
отголоски шиллеровской поэзии, но и проглядывает старание автора
усвоить все приемы и дух этой поэзии. Формы баллады и романса
облегчают ему переход от подражания Бюргеру к подражанию
Шиллеру. Он уже прежде излагал в «Ариадне» заимствованное
из греческого мира содержание, а теперь он стал вместе с
Шиллером на почву греческих воззрений и стал соперничать с ним в
старании вкладывать в форму романса идеальное содержание.
Именно с такой целью он написал стихотворение «Arion». Штраус
1 В собрании его сочинений IV, 204 и ел.
2 Указания на эти стихотворения можно найти в оглавлении к I тому
сочинений Шлегеля; впрочем, там ошибочно сказано, что стихотворения «Die
entführten Gotter» («Похищенный Бог». — Прим. науч. ред.) и «Arion» («Ари-
он». — Прим. науч. ред.) были напечатаны в «Альманахе Муз» в 1799 году; они
были напечатаны в этом «Альманахе» в 1798 году.
160
Р. ГАЙМ
указал на сходство темы этого стихотворения с темой шилле-
ровских «Ивиковых журавлей»1. Теперь нам уже известно, что
Шлегель старался подражать не «Ивиковым журавлям», а
балладе «Перстень Поликрата». Вследствие приглашения Шиллера
написать балладу для «Альманаха» Шлегель выразил желание
предварительно изучить характер тех баллад, которые ранее были
написаны для «Альманаха» Гёте и Шиллером; так как ему
приходилось браться за такой род поэзии, который был облагорожен
этими двумя знатоками искусства, то он считал необходимым
предварительно ознакомиться с тем новым характером, который они
придали балладе. Вследствие этого ему были доставлены два
первых печатных листа «Альманаха» (в их содержание вошел,
между прочим, и «Перстень Поликрата»); немедленно вслед за тем он
прислал Шиллеру свое стихотворение «Arion» и при этом писал:
«Я по Вашему примеру избрал темой один из рассказов Геродота».
Эти слова бесспорно доказывают нам, что Шлегель подражал
непосредственно Шиллеру; и в других стихотворениях, написанных
Шлегелем для «Альманаха», не менее ясно видно старание
подражать духу и тону шиллеровских стихотворений. В «Entführten
Götter» Шлегеля Шиллер нашел тему столь близко подходящую к
сфере его собственных идей, что осыпал автора похвалами, а по
прошествии нескольких лет сам обработал ту же тему в своих
«Antiken zu Paris» («От античности к Парижу». — Прим. науч.
ред.). Но если об «Арионе» можно заметить, что в нем красота
шиллеровского изложения была низведена до степени внешнего
изящества, то еще более неблагоприятно будет для Шлегеля
сравнение с шиллеровскими произведениями тех двух больших
стихотворений, которые были им написаны немного ранее в форме,
по меньшей мере отчасти напоминающей баллады, —
«Пигмалиона» и «Прометея». Как утомительно чтение этого «Прометея»,
несмотря на великолепие стихов и на изобилие риторических
украшений! И как различны приемы двух писателей в отделке
античных сюжетов! Ведь Шиллер умел извлекать из глубины
античных мифов блестящие образы, с помощью которых наглядно
объяснял нам какую-нибудь гениальную мысль, а Шлегель
извлекал из мифа содержание для романа, в котором смысл старинного
1 В прекрасной статье «August Wilhelm Schlegel», помещенной в его
мелких сочинениях (с. 122 и ел.; там же, с. 175 и ел.), есть много очень метких
суждений о других стихотворениях Шлегеля.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
161
поэтического вымысла затемнялся прагматическими
подробностями изложения! Наконец, когда Шлегель, говоря о согревшейся
в руках Пигмалиона статуе, старается придать своему рассказу
вовсе неподходящий чувственный интерес, он напоминает нам
причудливую манеру Бюргера извращать смысл древней
мифологии. То, что у Бюргера доходило до крайнего искажения,
является у Шлегеля в виде едва заметного пятнышка, но это маленькое
пятнышко доказывает нам, какая неизмеримая пропасть отделяет
автора «Пигмалиона» от тех благородных и идеально чистых
поэтических произведений, которым он явно старался подражать.
Нет ничего удивительного в том, что изложенный им позднее
рассказ о прекрасной Кампаспе, возбудившей чувственные влечения
в живописце, для которого служила моделью, и вследствие того
полученной им в подарок от ее владельца царя Александра,
лучше удался, чем обработка такого глубокомысленного мифа, как
миф о Прометее. Однако и этот «Прометей», написанный
бесконечно длинными терцинами, вызвал похвалы и у Гёте, и у
Шиллера. Оба поэта хвалили Шлегеля не только за слог и за стихи, но
также за благородство и за философское глубокомыслие идей.
Впрочем, Шиллер высказал и некоторые возражения касательно
выбора стихотворной формы и касательно аллегорического
изложения. Во всем стихотворении Шлегель беспрестанно переходит
от этико-мистического рассказа к облеченным в форму аллегории
рассуждениям. У него и во внешней форме, и в способе
изложения скрещивается влияние Данте с влиянием шиллеровского
классицизма, а подражая манере Шиллера вносить в поэзию эллинизм
и философию, он доходил до таких преувеличений, что его
поэзия изнемогала под двойным бременем чрезмерной
искусственности внешней формы и отвлеченности идей; мы впоследствии
докажем, что этими преувеличениями Шлегель ввел
романтическое направление в немецкую поэзию, а покуда постараемся
уяснить, в какой мере направление Шиллера наложило свою печать
на его поэзию и на его мышление. Нет ничего удивительного в
том, что оно наложило свою печать на поэзию Шлегеля, но
удивительно то, что оно повлияло на теоретические воззрения
Шлегеля и на внешнюю форму их изложения. Это всего яснее видно
из писем «О поэзии, просодии и языке»1, написанных Шлегелем
для журнала «Hören» почти, можно сказать, под руководством
1 В его сочинениях VII, 98 и ел.
6 Зак. Si 3602
162
Р. ГАЙМ
Шиллера. На эту тему неизбежно должны были навести Шлегеля
и его искусство в сочинении стихов, и его деятельность
переводчика! Его статья была чем-то вроде дополнения к статьям
Шиллера об эстетике. Шиллер вел речь о сущности красоты и поэзии,
а Шлегель задумал объяснить, какой должна быть внешняя
форма поэзии, так тесно связанная с ее сущностью. В этом случае он
в первый раз предпринял самостоятельное изложение своих идей.
Он не скрывал от Шиллера, что ему было нелегко создать из этих
идей нечто цельное, потому что почти во всем, что он до тех пор
писал, он мог придерживаться чьего-нибудь руководства. Он
затруднялся даже с выбором внешней формы. У него ясно
проглядывает старание смягчить сухость сюжета привлекательностью
изложения. Он постарался придать этому изложению такую
благородную легкость, которая могла бы нравиться образованным
читателям и которая требовалась положительно от всех статей,
предназначенных для журнала «Hören»; он стал писать к одной
даме письма о таких предметах, для понимания которых
необходим мужской ум, обладающий достаточным запасом научных
сведений. Но его усилия не увенчались полным успехом. Кернер,
жаловавшийся на чрезмерную сухость изложения, был, конечно,
более прав, чем Шиллер, объявивший, что первые письма
написаны «грациозно и живо»>. Но причиной этой сухости был не один
только сюжет статьи. Шлегель потерпел неудачу, потому что
старался, из подражания Шиллеру, придать своей статье
философский отпечаток. Он писал ее под непосредственным влиянием
статьи Шиллера «О наивной и сентиментальной поэзии».
Заразившись гениальным глубокомыслием своего наставника, он
попытался философски объяснить сущность поэтического ритма, но
во время этой работы сам сознавался, что такое предприятие ему
не по силам. В ответ на некоторые указания, сделанные ему
Шиллером, он сам верно определил размер своих дарований: «Я
чувствую, — писал он Шиллеру, — что я гораздо менее способен к
общим умозрительным выводам, чем к отрывочным
наблюдениям. Мне кажется, что в этой сфере мне всего лучше может
удаваться оценка какого-нибудь отдельного художественного
произведения и более историческая, чем философская характеристика
какого-нибудь поэта вроде той, какую я уже написал, говоря о
1 Шиллер к Шлегелю от 29 октября 1795 года и Кернер к Шиллеру (в их
переписке III, 310, 332); сравн. с. 328.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
163
Данте, и какую мог бы еще попытаться написать, избрав для себя
темой произведения какого-нибудь другого великого поэта».
Основательность этих слов подтверждается результатами его попыток
заглядывать в сферу философских умозрений. У него, очевидно,
переплетаются идеи Гердера с воззрениями Шиллера. Он
основательно подводит и поэтический ритм под высказанное Гердером
мнение, что естественность и всеобъемлемость поэзии есть плод
народной даровитости, и основательно выводит отсюда
заключение, что внешняя, формальная сторона поэтического творчества
зависит от человеческой натуры. Но вслед за этим он смешивает
философскую тенденцию с исторической. Он придерживается
воззрений Гердера и направления своей статьи о Данте, требуя, чтоб
теория поэзии излагалась в исторической форме: «ведь объясняя,
как возникало искусство, всего лучше объясняют, каким оно
должно быть». «Такая теория стихотворного искусства, —
продолжает он, — не будет иметь сходства с теми узкими
систематическими правилами, над установлением которых трудились критики,
имевшие в виду лишь произведения, возникшие в „эпоху
художественного развития"; она возвысится на степень „всемирной
истории фантазии и чувства", обнимающей все, что когда-либо
появлялось среди людей изящного в поэзии». Благодаря такой точке
зрения ему всего лучше удались те части статьи, в которых он
описывал прогрессивное развитие метрики и старался объяснить,
каким образом и эта метрика, и ее изящество видоизменялись под
влиянием бесконечно разнообразного склада человеческой речи.
Но Шлегель оборвался на доисторическом философском
объяснении возникновения метрики, на той идее, что развитие
метрики находится в зависимости от человеческой натуры1, — именно
в этом отношении его силы оказались недостаточными. Он
начинает с происхождения языка, потом переходит к происхождению
поэзии и, наконец, начиная с третьего письма ведет речь о
происхождении ритма в поэзии. Делая косвенные полемические
нападки на Морица и ссылаясь на своего «любимца» Гемстергюи,
этого сократического противника сенсуализма, высоко стоявшего и
в мнении Гердера, он объясняет, что выражающееся в песне
свободное чувство находит для себя в ритме узду и надлежащую меру,
1 Приводя отрывок из этой статьи (III, 2183), Коберштейн указывает на то,
что она была лишь отрывочным очерком, в котором остался без исполнения ее
план, намеченный в конце первого письма.
164
Р. ГАЙМ
на которую вполне естественно наводит его необходимость
внешней формы. Хотя это объяснение и нельзя назвать
сенсуалистическим, но в нем преобладает физиологическая точка зрения.
Понятно, что приверженец Канта Шиллер не нашел в нем
указаний на духовную натуру человека, на то, что делает человека
самостоятельным нравственным существом. Шлегель попытался
воспользоваться этим выражением Шиллера в следующем,
четвертом письме, но его объяснения совокупного влияния
физических и душевных потребностей вовсе не отличаются ясностью.
По прошествии пяти лет, когда он заново издал свои письма
вместе с некоторыми другими статьями1, он сам сознался, что его
объяснения были «односторонни и недостаточно рациональны».
Но уже в 1797 году, в прекрасной рецензии на «Германа и
Доротею», он придерживается не своего собственного объяснения
сущности всякого ритмического размера, а приводит почти слово в
слово слишком рациональное объяснение Шиллера: он говорит,
что сущностью этого размера служит то «проявление стойкости в
изменчивости», в котором обнаруживается «твердость
самосознания»2. Так мало было у Шлегеля самостоятельности и
твердости убеждений во всем, что касалось философии! Он колеблется
в выборе между физиологическими и метафизическими, или
трансцендентальными, объяснениями. Он не знает, какому
способу объяснений следует отдать предпочтение — историческому
или умозрительному; он даже не всегда придерживается своего
основного воззрения на инстинктивное возникновение ритма и
извращает его своим своеобразным рационалистическим
прагматизмом.
Шлегель взялся за то, что было ему гораздо более по силам,
когда он задумал написать о другом великом поэте такую же
статью, какую написал о Данте! Он отложил в сторону свое
намерение расширить свою статью о Данте в сочинение о жизни и
произведениях поэта или даже в историю итальянского языка и
поэзии, а вместо того попытался доставить своим соотечествен-
1 В «Charakteristiken und Kritiken», изданных в 1801 году (I, 318 и ел.). См.
предисловие, с. V (в его сочинениях VII, ххн).
2 Шиллер сказал (в письме к Шлегелю от 10 декабря 1795 года), что ритм
«есть устойчивость в изменчивости и что именно в этом заключается характер
человеческой индивидуальности, выражающейся в этом явлении».
Вышеприведенные слова из шлегелевской рецензии находятся в собрании его сочинений
XI, 193.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
165
никам возможность наслаждаться произведениями великого
английского драматурга. Конечно, не от Бюргера он впервые
узнал о высоком достоинстве произведений Шекспира: племянник
Иоганна Ильи Шлегеля, точно так же, как и Тик, еще школьником
читал Шекспира в переводе Эшенбурга. В попытке перевести на
немецкий язык шекспировский «Сон в летнюю ночь» (это было в
1789 году), по всему вероятию, принимали одинаковое участие и
Бюргер и Шлегель1. Но в выборе метода изложения Бюргер не
мог вполне сходиться ни с филологическими, ни с эстетическими
воззрениями Шлегеля. Как он взялся бы за исполнение своей
задачи, если бы работал без помощи Шлегеля, видно из того, что в
переводе «Макбета» на немецкий язык он, подобно Шредеру,
сообразовался только с требованиями театральной сцены и потому
беспощадно извращал содержание подлинника; а за перевод «Сна
в летнюю ночь» он взялся иначе и искуснее, как это видно из
одного отрывка, полученного, без сомнения, от Шлегеля. Он
отказался от прозы, но при выборе стихотворной формы отдал
предпочтение стихотворному размеру александрийцев. На этот раз он
счел своим долгом верно передать не только театральные
эффекты, но и характер произведения иностранного поэта; однако он
обращался с этим поэтом как с равным ему по гениальности,
обращался почти так же бесцеремонно, как Фальстаф с принцем
Генрихом; поэтому он наложил на некоторые части «Сна в летнюю
ночь» окраску своего собственного тривиального юмора.
Насколько были более верны те основные правила, которые он излагал по
поводу своего перевода Гомера! Этот перевод должен был
представлять совершенную противоположность с переводом Попа. Он
старался как можно строже придерживаться и духа, и
содержания, и внешней формы подлинника. Этому основному правилу
противоречил первоначально им выбранный ямбический
стихотворный размер; поэтому он отказался от ямбов, стал переводить
1 См. письмо Шлегеля к Шиллеру № 7 (непопавшее в полное собрание его
сочинений), предисловие к первой части шлегелевского перевода (1 -е изд., 1797),
письмо Шлегеля к Реймеру, написанное в 1838 году (в его сочинениях VII, 283),
и рецензию на первую часть шлегелевского перевода в «Allg. Lit. Zeitung» (1797.
№ 347 и 348; там же, с. 278); в сочинении этой рецензии, по-видимому,
участвовал сам Шлегель; на это указывает выдержка из Бюргерова перевода «Сна
в летнюю ночь». Из вышеупомянутого предисловия видно, что у Шлегеля
находился в руках написанный рукой Бюргера перевод некоторых частей «Сна».
Из вышеупомянутого письма Шлегеля к Шиллеру видно, что Бюргер перевел
только «несколько песен из рифмованных сцен».
166
Р. ГАЙМ
гекзаметрами и мог вполне основательно похвастаться тем, что
передал «дух и содержание гомеровской поэмы без малейших
прибавок и без всяких урезываний». Шлегель разделял такое
воззрение на задачу переводчика и старался все строже и строже его
придерживаться на практике. Привычка к самостоятельному
поэтическому творчеству служила для Бюргера помехой даже при
переводе Гомера, а для Шлегеля вовсе не существовало такой
помехи. Только из уважения к древнему поэту Бюргер был в
состоянии до некоторой степени отречься от своей
самостоятельности, а Шлегель обнаруживал такое же самоотвержение и при
переводе произведений новейших поэтов. Подобно тому как в
своей статье о Данте он говорил о необходимости строго
придерживаться даже внешней формы подлинника, он объявил, что
будет следовать этому правилу и при переводе произведений
английского поэта.
О таком намерении он заявил «окольным путем» (как он сам
впоследствии выразился) в своей статье «Нечто о Вильяме
Шекспире по поводу Вильгельма Мейстера»1, напечатанной в
журнале «Hören» 1796 года. Он начинает свою статью указанием на
остроумный анализ «Гамлета», сделанный Гёте в «Вильгельме
Мейстере», и общими размышлениями о многозначительном
глубокомыслии такого гениального драматического произведения,
как «Гамлет»; однако читателю вовсе не легко понять цель
размышлений, по-видимому, относящихся не столько к
шекспировской драме, сколько к гётевскому роману. Вслед за тем Шлегель
ведет речь о необходимости поэтического перевода
произведений Шекспира. Он доказывает, что эта задача остается
неисполненной, несмотря на труды Виланда, Лессинга, Гердера, Эшен-
бурга, несмотря на превосходную игру таких актеров, как Шредер
и некоторые другие. В оправдание своего мнения он указывает
на шекспировскую своеобразную форму драматического
изложения, на старание поэта со всех сторон обрисовать
индивидуальные особенности действующих лиц посредством смешения
заносчивых выражений с дружескими, сдержанных — с
несдержанными и на употребление, которое делает поэт из рифм.
Наперекор Дидро, Лессингу и Энгелю и наперекор тем мотивам, по
которым приверженцы естественности протестовали против сти-
1 В его сочинениях VII, 24 и ел.; сравн. там же, с. 64 (позднейшее
добавление, написанное в 1827 году).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
167
хотворной формы в драме, он отстаивает право драматического
диалога облекаться в поэтическую форму. Он утверждает, что
именно поэтический стиль естествен в высшем значении этого
слова и что только правильно размеренная речь, с виду
кажущаяся неправдоподобной, производит впечатление правдоподобия.
Эти замечания вдвойне достойны одобрения, потому что ни в
своем «Тассо», ни в своей «Ифигении» Гёте в то время еще не
старался противодействовать влечению немецких драматических
писателей к изображению прозаических подробностей
действительной жизни; потому что сам Гёте еще не составил себе в ту
пору ясного теоретического понятия об идеализировании
драматического диалога и об употреблении стихотворной формы. Это
такие замечания, которые хотя и не достигают глубокомыслия
шиллеровских замечаний, ни бросающейся в глаза ясности
замечаний Лессинга, но тем более поражают своим остроумием.
Шлегель вполне овладевает своим сюжетом, когда вслед за тем
ведет речь о Шекспире и о том, какими должны быть переводы
его произведений. Можно без всяких оговорок согласиться с теми
основными правилами, которые он при этом излагает,
заканчивая объявлением, что один из поклонников Шекспира попытался
перевести некоторые отрывки из произведений поэта.
Исполнение тех правил составляет высшую цель, к которой он сам
стремится; их можно считать непреложно истинными. По мнению
Шлегеля, переводчик не должен сглаживать никаких
характеристических различий в форме изложения; он должен по мере
возможности передавать все красоты чужой поэзии, ничего к ним
не прибавляя и даже не исправляя шероховатостей слога.
Переводчику бывает иногда нелегко соблюдать такую верность
передачи, потому что ему приходится прибегать к самому
вольному употреблению немецкого языка; но его перевод ни в каком
случае не должен быть неизящным. Лучше пропустить ту
мелочную подробность, которая не поддается переводу, чем позволять
себе перефразировку. Не всегда можно переводить один стих
вслед за другим, но после такого отступления от подлинника
надо немедленно снова идти шаг за шагом вслед за автором.
Нерифмованные ямбы должны быть изящны, но от них не
требуется чопорной правильности. От рифмованных стихов требуется
менее точная передача каждого слова подлинника. Ведь дело идет
не о копии, а о переводе; наконец, надо иметь в виду и
непереводимую игру слов. Вообще можно заметить, что чем более из-
168
Р. ГАЙМ
ложенные Шлегелем правила вдаются в подробности, тем более
они становятся похожи на выводы из собственной практики. Для
всякого было ясно, что тому, кто излагал такие правила,
принадлежали и те переводы, о скором появлении которых он
возвещал.
После этой статьи Шлегель сделал в статье о «Ромео и
Джульетте»1 (напечатанной в следующем году в журнале «Hören»)
такой анализ одного из произведений Шекспира, который имеет
некоторое сходство с гётевским анализом «Гамлета» и может
считаться за образец тонкой сочувственной критики,
освещающей внутреннюю сторону художественного произведения. На этот
раз основная тенденция Шлегеля решительно апологетическая:
он старается поощрить и подготовить к наслаждению
шекспировской драмой. В составлении этой статьи, написанной, по
выражению Лессинга, «при сотрудничестве любви», Шлегелю, без
сомнения, помогала2 его «даровитая подруга», с которой мы
сейчас познакомимся. Здесь и в содержании и в способе выражений
слышится женское чувство, и вообще замечается в слоге такая
мягкость, какая до того времени не была свойственна Шлегелю.
Он делает в самом начале статьи очень меткое и, конечно, ни у
кого не заимствованное указание на тесную связь между
содержанием шекспировских драм и уже имевшимися на его счету
рассказами. Именно тем, что Шекспир приложил всю силу своего
гения к драматическому изложению уже существовавшего
материала, он ясно доказал, что имел более тонкое понятие о
драматическом искусстве, чем то, которое ему обыкновенно
приписывали. Вследствие такого высокого мнения о художественности
приемов поэта Шлегель указывает на эту художественность в
разумном построении пьесы, в целесообразности и красоте
подробностей, в постепенном развитии характеров. Чтобы оценить
по достоинству статью Шлегеля, следует припомнить, какие
нелепости говорил о мнимых непристойностях шекспировской
драмы Христиан Феликс Вейсе в предисловии к своему переводу
«Ромео и Джульетты». Именно то, что у Вейсе (ссылавшегося на
свидетельство Шекспирова соотечественника Гаррика)
выдавалось за недостатки поэта, оказалось изяществом при свете шле-
1 В его сочинениях VII, 71 и ел.
2 Сравн. предисловие к «Kritischen Schriften» Шлегеля, с. XVII (в его
сочинениях VII, xxxiv), и оглавление к I тому.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
169
гелевской критики. Но разве только Вейсе и Гаррик впадали в
заблуждение! Разве Лессинг выяснил характеристическое
отличие шекспировской трагедии от трагедии Софокла? Разве Гер-
дер, так метко указавший на исторические причины этого
различия, ясно понял, в чем заключалась его сущность? Даже Гёте,
говоря в «Вильгельме Мейстере» о «Гамлете» и о том, как
следовало бы приспособить эту трагедию к требованиям театральной
сцены, не поддается всецело обаянию этого художественного
произведения, а относится к нему как самостоятельный художник.
Нет! То, что говорил Шлегель о великом английском драматурге
как в этой статье, так и в ранее написанной, еще никто не
говорил до того времени ни в Германии, ни в Англии. Что Шлегель
вполне освоился с духом английского поэта, всего яснее видно
из того, что в доказательство верности шекспировских
характеристик он ссылался на вызывавшую так много порицаний роль
няньки, смешивающей в «своей бессмысленной болтовне
хорошее с дурным»; также из того, что он отстаивал умение
Шекспира пользоваться трагическим элементом в надлежащей мере и
доказывал неосновательность мнения Гаррика, будто не
следовало заставлять Джульетту проснуться перед смертью Ромео.
Впрочем, в своем сочувствии к Шекспиру Шлегель дошел до такого
энтузиазма, который иногда вовлекал его в софизмы; так,
например, когда в оправдание слишком часто встречающейся у
Шекспира игры слов он ссылался на права поэтической фантазии и
даже на свойственную влюбленным склонность к разным нежным
намекам. Но как же мог бы он войти в душу поэта, если бы у
него не было такого энтузиазма? А ему непременно нужно было
войти в душу Шекспира для того, чтобы передать на другом
языке и форму, и содержание его произведений. Только настоящий
переводчик мог написать такую характеристику своего
подлинника, какую написал Шлегель, и только тот, кто был способен
написать такую характеристику, мог сделать настоящий перевод
подлинника.
Зимой 1795/96 года Шлегель принялся за «Ромео и
Джульетту»; вслед за тем он совершенно переделал прежний перевод
«Сна в летнюю ночь» и только мало-помалу расширил свой
первоначальный план в намерение перевести все произведения
Шекспира1. Образчики его переводов появились в журнале «Hören» и
1 Сравн. его письма к Шиллеру (7-е и 8-е).
170
Р. ГАЙМ
в журнале Рейхардта «Германия»1 почти одновременно с его
статьей о Шекспире. Переводом «Ромео» началась в 1797 году
первая часть «шлегелевского Шекспира», а вслед за тем, вплоть до
1801 года, стали выходить одна вслед за другой семь частей
перевода, заключавших в себе шестнадцать драм. Сначала
переводчику недоставало самоуверенности и навыка. Он по целым часам
просиживал в раздумье над каким-нибудь одним стихом и
нередко откладывал его отделку до другого времени, потому что не мог
найти удовлетворительных выражений. Именно касательно
внешней формы стихов он сначала затруднялся в окончательном
выборе; так, например, при переводе «Ромео» он позволял себе
передавать рифмованные сцены александрийским размером. Мы
охотно верим тому, что он писал Шлейермахеру по поводу
предпринятого этим писателем перевода произведений Платона: что
свои первые переводы долго оставлял в рукописи, прежде чем
отдавать их в печать, и что неоднократно переделывал их2.
Нетрудно заметить, как добросовестно он исправлял свою работу,
если сравнить первые пробы перевода некоторых сцен из «Бури»
и из «Юлия Цезаря» с текстом частей третьей и второй; нетрудно
заметить, какие он делал успехи благодаря навыку, если сравнить
поздние переведенные пьесы с переведенными ранее. Уже по
первому тому было видно, что это было начало мастерской работы;
это публично высказал такой писатель, который своими
похвалами шлегелевских переводов осуждал свои собственные3. Однако
переводчик Шекспира встретил такое затруднение, какого не
встречал переводчик Гомера: только он сам был бы способен
написать такой критический разбор своей работы, который был бы
1 Сцены из «Ромео» появились в третьем номере журнала «Ногеп» 1796 года;
одна сцена из этой драмы была напечатана в пятом номере Рейхардтовой
«Германии» 1796 года; отрывки из «Бури» напечатаны в «Ногеп» 1796 года, №6;
отрывки из «Юлия Цезаря» напечатаны там же, 1797 года, № 4. Вот те
шестнадцать пьес, которые были переведены до 1801 года: «Ромео», «Сон в летнюю
ночь», «Юлий Цезарь», «Что угодно», «Буря», «Гамлет», «Венецианский
купец», «Как вам это нравится» и драмы из английской истории, за исключением
«Ричарда III» и «Генриха VIII»; только в 1810 году появилась в девятом томе
первая из этих двух драм.
2 Письмо к Шиллеру № 8 и письмо к Шлейермахеру в апреле 1804 года.
См. «Aus Schleiermacher's Leben» III, 386.
3 Гарве в предисловии к своему переводу аристотелевской «Этики»; на
его отзыв указал Штраус (с. 141). Кроме того, сравн. статью Mich. Bernay «Der
Schlegel-Tieck'sche Shakespeare», напечатанную в «Shakespeare-Jahrbuch»
(1-й год, с. 396 и ел.).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
171
достоин ее; тем не менее его перевод имел громадный успех; он
сам проложил для себя дорогу и без всякого шума содействовал
развитию поэтических дарований и изящного вкуса немецкой
нации. Подобно тому как Фосс впервые познакомил нас с Гомером,
Шлегель доставил нам возможность познакомиться с Шекспиром.
Неизмеримая пропасть отделяла новый перевод от того перевода
Эшенбурга, о котором Шлегель только из вежливости не сказал
ни одного дурного слова1. Этот шлегелевский перевод мог быть
исправлен в некоторых мелочах, но вообще он был превосходен2:
он заключал в себе ключ к пониманию поэтических сокровищ
всякой новейшей литературы; это был один из самых ценных
подарков, какие можно было сделать немецкой нации именно в то
время, когда стали появляться самостоятельные произведения
великих немецких поэтов; он имел сильное влияние на развитие
немецкого драматического искусства и на то направление,
которое приняла поэзия Шиллера во втором драматическом периоде
своего развития.
Но в деятельности Шлегеля была еще другая сторона,
благодаря которой он сделался посредником не только между
иностранными гениальными писателями и отечественной поэзией,
но также между немецкой нацией и ее собственными
классиками. Чтобы познакомиться с ним в этой новой роли, нам
приходится снова говорить о его отношении к Шиллеру.
Немедленно вслед за получением от Шлегеля первых статей
для журнала «Hören», Шиллер обнаружил желание сблизиться с
таким полезным и деятельным сотрудником. Это желание,
выраженное им в форме легкого намека еще в декабре 1795 года,
вполне соответствовало давнишнему желанию самого Шлегеля,
который в июле того года возвратился в Германию и сначала поселился
в Брауншвейге для того, чтобы иметь возможность пользоваться
вольфенбюттельской библиотекой и обществом Эшенбурга и
некоторых других живших там ученых. Он полагал, что в качестве
1 Письмо к Шиллеру № 8.
2 На сознании этих достоинств было основано намерение немецкого
шекспировского общества снова издать шлегелевский перевод Шекспира с
поправками только в тех местах, где недосмотры переводчика не подлежат сомнению.
Прибавленные в этом издании (Берлин, 1867 и следующие годы) примечания к
каждой пьесе дают возможность обозреть все, что нуждается в исправлении;
эти примечания доказывают, что даже в тех случаях, когда Шлегель вовлекался
в ошибки, его редко можно обвинять в неправильном понимании того, что
хотел сказать поэт.
172
Р. ГАИМ
филолога и историка словесности мог бы восполнить пробел в
местном университетском преподавании, а Шиллер поддерживал
его в этом мнении. Благодаря изданию «Всеобщей литературной
газеты» Йена сделалась чем-то вроде главной квартиры
литературных критиков. Там жил Шиллер, а неподалеку оттуда, в
Веймаре, жил другой, едва ли не еще более великий поэт и, во всяком
случае, еще более могущественный покровитель. Йена и Веймар,
бесспорно, были в то время настоящими центрами немецкой
образованности; вполне естественно, что они имели непреодолимую
привлекательность для того, кто решился посвятить себя
литературной деятельности, кто еще не был связан никакими
служебными обязанностями, которые доставляли бы ему средства
существования, и кто принужден был довольствоваться только тем, что
мог заработать своим пером и своими литературными
дарованиями. В мае 1796 года Шлегель прибыл в Йену после
непродолжительной остановки в Дрездене, где жили его замужняя сестра и
его брат Фридрих и где он познакомился с Кернером. Он очень
скоро завел новые знакомства и в Йене, и в Веймаре и даже скоро
нашел себе жену, быть может, отчасти в надежде улучшить свое
общественное положение. Ученая и талантливая дочь знаменитого
гёттингенского профессора Михаэлиса, Каролина была сначала
замужем за доктором Бёмером. Ее муж умер в 1788 году и она
переселилась в 1792 году в Майнц, быть может, по приглашению
жены Форстера, которая была дочерью Гейне. В том же году она
познакомилась в доме Форстера с Гёте; рассказывали, будто она
была поверенной в тайной связи между Губером и Терезой
Форстер; в то же время ее считали связанной с Форстером узами
дружбы. Во всяком случае она разделяла республиканский энтузиазм
и французские симпатии этого несчастного человека, погибшего
вследствие своей чрезмерной врожденной горячности и своей
неудачной житейской обстановки. За это ей пришлось дорого
поплатиться. В то время, как она спасалась из Майнца бегством, ее
арестовали во Франкфурте и отправили в Кёнигштейн1. Мы не
1 Все вышеизложенное извлечено из письма Лихтенберга к Форстеру от
18 февраля 1788 года и из письма Форстера к Лихтенбергу от 8 декабря 1792 года
(в полном собрании сочинений Форстера VIII, 185). Кроме того, см. письмо
Шлегеля к Шиллеру №11; Клейна «Georg Forster in Mainz», с. 257 (прим.) и
276 (прим.); Ульриха «Charlotte Schiller und ihre Freunde» III, 22 (здесь
ошибочно сказано, что известный майнцский клубный оратор, докт. Бёмер, был
первым мужем Каролины).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
173
беремся решить, был ли с ней знаком Шлегель, еще живя в Гёт-
тингене, и была ли их связь лишь возобновлением старой; нам
положительно известно только то, что Каролина нашла себе в
Шлегеле мужа благодаря своему мужскому уму, своей
даровитости и той кокетливой любезности, которой она очаровывала
мужчин, еще будучи женой Бёмера. Это был настоящий
литературный брак. Сам Шлегель засвидетельствовал о том, что Каролина
«обладала всеми дарованиями, необходимыми для того, чтобы
сделаться замечательной писательницей». Она участвовала в
сочинении прекрасной статьи о «Ромео и Джульетте», а один из
написанных ею рассказов Шлегель передал Шиллеру1. С начала
июня она стала жить в Йене вместе с Шлегелем и стала помогать
своему мужу не только в чтении книг, но также в сочинении
статей и рецензий2. Отчасти с целью поддержать вновь заведенное
домашнее хозяйство, Шлегель придал теперь широкие размеры
своей деятельности рецензента. Его эстетико-литературные цели
налагали на него обязанность знакомиться со всеми новыми
явлениями в области изящной литературы. Едва ли можно назвать
другого рецензента, который изучал бы современную литературу
с такой же, как он, методичностью. Он читал для того, чтоб
писать рецензии, и писал рецензии для того, чтоб читать. И с
издателем «Литературной газеты» Шюцем он вступил в сношения
благодаря посредничеству Шиллера. В качестве благоразумного
полководца, Шюц воспользовался этим удобным случаем, чтобы
немедленно возложить на нового сотрудника довольно
щекотливую задачу. Речь шла о критическом разборе поэтических
произведений, напечатанных в журнале «Hören» в первый год его
издания. В январе 1796 года появилась шлегелевская рецензия; она
оказалась образцовым произведением и вызвала полное
одобрение со стороны обоих поэтов, стихотворения которых были
главным предметом критического анализа. Это была первая из почти
трехсот рецензий. Ведь в течение трех с половиной лет не
проходило почти ни одной недели без появления в «Литературной
газете» более или менее длинной статьи Шлегеля. Когда Шлегель
напечатал в 1800 году длинное оглавление своих рецензий, Доротея
Вейт воскликнула в одном из своих писем к Шлейермахеру: «Ка-
1 Шлегель к Шиллеру, №11.
2 Шиллер к Гёте, № 189 и, касательно участия Каролины в литературных
предприятиях ее мужа, уже ранее цитированное место в предисловии к
«Критическим сочинениям».
174
Р. ГАИМ
кая многочисленная армия!» Невероятная способность этого
человека к усидчивой работе становится еще более для нас
наглядной при обзоре этих рецензий, наполняющих почти целых два
тома в полном собрании сочинений Шлегеля1. Они обнимают все
беллетристические произведения, даже сочинения
теоретического содержания, а иногда и французские, и английские издания.
Критические разборы, естественно, были различного достоинства,
смотря по интересу рассматриваемой книги. Большинство
рассмотренных книг состоит из давно позабытых сочинений, из
таких сочинений, которые, по словам Шлегеля, «было бы лучше
никогда не писать, не печатать, не читать и не подвергать
критическому анализу»; сообразно с этим писались и рецензии.
Нередко одним тяжелым вздохом или одним насмешливым словом
Шлегель вырывал с корнем плевелы такой твердой и искусной
рукой, что читатель начинал верить в возможность прекратить
разведение таких вредных растений. Но если мы сделаем обзор
всей этой армии рецензий, то мы найдем в ней сходство с
гомеровскими полчищами, в которых сражавшиеся на колесницах вожди
выделялись из толпы своим блестящим вооружением и своими
геройскими подвигами. Самыми подробными и самыми
основательными были написанные в 1796 году рецензии на
переведенного Фоссом Гомера. Шлегель употребил на их отделку
несколько месяцев; они возбудили такое общее внимание, какого были
вполне достойны; на строгого критика посыпались со всех
сторон выражения одобрения и признательности; даже великий
критик Гомера, Вольф, выразил Шлегелю свое сочувствие и устно, и
письменно2. Написанная в 1797 году рецензия на «Германа и
Доротею» занимает второе место по своему объему, но по своим
достоинствам, бесспорно, занимает первое место. Вслед за этими
двумя рецензиями следует поместить ранее упомянутый нами
разбор шиллеровских «Hören» и написанные в 1797 году рецензии
на Фоссов «Альманах Муз» и гердеровскую «Терпсихору». Мы
получим полное понятие о критических дарованиях Шлегеля, о
разнообразии его познаний, о духе его критики, если вдобавок к
вышеупомянутым рецензиям примем в соображение рецензии,
написанные на следующие темы: идиллии Гесснера, произведе-
1 Том X, начиная со с. 57, и том XI.
2 См. оба примечания ко второму и третьему оттискам рецензии; в
сочинениях Шлегеля X, 181 и ел.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
175
ния Шамфора, «Сердечные излияния» Вакенродера, сатиры
Фалька, романы Фр. Шульца и драмы Иффланда, «Gesundbrunnen»
(«Целительный источник». —Прим. науч. ред.) Нейбека, «Синяя
Борода» и «Кот в сапогах» Тика и «Бамбошады» Бернгарди. Все
эти рецензии служили в 1796 и 1797 годах украшением для
«Литературной газеты». Из рецензий, написанных в течение двух
следующих лет, выделяются те, в которых речь шла о романе г-жи
Унгер «Julchen Grünthal» («Юльхен Грюнталь». — Прим. науч.
ред.), об «Œuvres poissardes» («Простые труженики».—Прим.
науч. ред.) Вадэ и де л'Эклюза, о немецких переводах Кнебеля и
Тика и об английских переводах Бересфорда.
При оценке чьих бы то ни было трудов по эстетической
критике разве можно избежать сравнений с Лессингом, с тем
писателем, которому бесспорно принадлежит первое место между
литературными критиками точно так же, как Гомеру принадлежит
первое место между эпическими поэтами, а Гёте — между
лирическими? С рецензиями, которые писал Лессинг для «Писем о
литературе», конечно, не могут равняться даже самые лучшие из
шлегелевских рецензий ни по своему внутреннему достоинству,
ни по тому влиянию, которое они имели на развитие немецкой
литературы. Им недостает того, чем отличались рецензии Лес-
синга, недостает увлекательной драматической формы,
полемической колкости и диалектической живости. У Шлегеля мы не
найдем ни совершенно новой точки зрения, ни впервые
высказанных истин, какие мы находим у Лессинга. У него нет и следов
ни свойственной Лессингу энергичной односторонности, ни того
упорства, которое было у Лессинга не чем иным, как упорной
любовью к истине. Достоинства Шлегеля заключаются в сумме
отрывочных критических суждений, а не в вескости впервые
высказанных основных принципов и правил. Откладывая покуда в
сторону разбросанные в его рецензиях замечания о технике
поэзии, мы можем признать его полновластным законодателем
только в такой сфере, которую нельзя назвать вполне
самостоятельной. Как своими первыми переводами произведений Шекспира,
так и своими критическими статьями он внес совершенно новую
точку зрения в теорию переводов. Основные правила, которых он
придерживался в тех переводах, он подробнее развивал и
объяснял в качестве рецензента при всяком удобном случае. Он
навсегда установил и возвел в аксиому то правило, что перевод
поэтических произведений прозой есть «поэтическое смертоубийство»
176
Р. ГАИМ
и что их следует переводить «таким же стихотворным размером,
каким они написаны, если не встречается непреодолимых к тому
препятствий в языке». По поводу перевода Тиком «Дон Кихота»
он высказал следующее требование, к сожалению, оставляемое
без внимания эпигонами: «Следует переводить только
образцовые произведения» и переводить их так, чтоб они оставались
образцовыми и в переводе. В особенности ссылками на пример
переводчика Гомера, Фосса, он старался наглядно объяснить всю
важность своего требования, чтобы перевод в точности
придерживался поэтической формы, стиля, тона и всех оттенков
подлинника. Но он сознавал зависимость переводчика от особенностей
немецкого языка. Поэтому он полагал, что переводчику, который
находится в более невыгодном положении, чем поэт, должны быть
дозволены все те вольности, которые считаются
позволительными в поэтическом произведении; только он не должен
употреблять «измышленных им самим оборотов речи», не должен
вносить в свой язык таких нововведений, которые «находятся в
противоречии с твердо установившимися правилами», и не должен
переступать той границы, за которой начинается сфера,
подсудная грамматику! Таковы основные правила, соблюдения которых
требовал Шлегель при переводе произведений поэзии; в
особенности последние из них слишком суровы и он хорошо сделал, что
впоследствии смягчил их. Тем не менее он остался законодателем
в этой сфере литературной деятельности. Но он не мог быть
законодателем в том, что касалось поэтического творчества. В своих
критических суждениях об этом предмете он обнаруживает
тонкость ума, обширность познаний, изящество вкуса, но он не
принадлежал к числу таких людей, которые благодаря
самостоятельности своего ума способны пролагать новые пути для развития
литературы.
Впрочем, в такой умственной самостоятельности и не
представлялось никакой надобности. Для Лессинга критика была той
внешней формой, в которую он облекал свои поощрения к
высокому поэтическому творчеству; она была в его руках плодотворным
орудием. А Шлегель нашел такое творчество в полном расцвете.
Ему приходилось только знакомить публику с уже имевшимися
поэтическими произведениями и помогать ей отличать плохое или
посредственное от того, что обещало богатые плоды в будущем.
Шлегель был способен исполнить такую задачу лучше всякого
другого. С его мужественной твердостью суждений соединялось
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
177
нечто похожее на женскую способность воспринимать
впечатления изящества, в какую бы форму оно ни облекалось. Он словно
бы унаследовал от Лессинга здравомыслие, а от Гердера —
любящее сердце и гибкость чувств. У него было более
самоотвержения, чем у Лессинга, и более определенности, чем у Гердера,
поэтому он превосходил их обоих своей способностью обсуждать
рассматриваемый предмет с объективной верностью. И когда он
писал свою статью о Данте, в которой обнаружилась его
умственная зависимость от Гердера, и когда он хвалил «Терпсихору»
Гердера за такие своеобразные достоинства, которые
свидетельствовали о его собственном духовном родстве с этим писателем1, он в
сущности придерживался тех приемов гердеровской критики,
которые постоянно считал за самые правильные. Так, например, в
начале своей статьи о Вильяме Шекспире, написанной для
журнала «Hören», он говорит, что настоящая критика не должна
подражать судейским приемам какого-нибудь Джонсона. Когда идет
речь о каком-нибудь гениальном произведении, критике должно
предшествовать наслаждение тем произведением. Она должна
ясно вникнуть в высокий смысл, в творческую гениальность
поэтического произведения и научить менее самостоятельных или
менее восприимчивых наблюдателей судить о том произведении
с более возвышенной точки зрения. В «Литературной газете» он
говорил по поводу произнесенной в честь Шамфора похвальной
академической речи, что «гораздо легче разумно хулить, чем умно
хвалить. Первое можно делать, ограничиваясь только внешней
технической стороной гениального произведения, а второе
требует умения вникнуть в самую сущность произведения и уловить
в словах поэта своеобразный отпечаток выраженной им идеи».
Наконец, Шлегель вполне сочувствует благочестивой любви Ва-
кенродера к искусству, отвергающей требования чересчур умных
теоретиков. Он разделяет мнение «Любящего искусства монаха»,
что верную оценку художественного произведения способен
сделать только тот, кто, отложив в сторону всякие вздорные
требования, погрузился в созерцание этого произведения со спокойной
умственной сосредоточенностью и с готовностью воспринять то
впечатление, которое намеревался произвести автор.
1 Сравн. его письмо к Шюцу касательно рецензии на «Терпсихору» в его
сочинениях X, 408 и ел.; кроме того, X, 356 и то, что он писал позднее в VIII,
92, 93.
178
Р. ГАЙМ
Этих основных правил Шлегель придерживался и на
практике. Его критика представляла резкую противоположность с
появлявшимися в «некоторых Изящных Библиотеках»
бессмысленными критическими статьями, о которых он постоянно отзывался с
презрением. Всякий раз, как ему приходилось писать разбор
какого-нибудь произведения (как, например, в его статье о «Ромео и
Джульетте»), он делал подробный анализ всего содержания.
Точно так мог бы писать критические статьи Гердер в лучшую пору
своей деятельности, если бы он был в состоянии сдерживать свою
чрезмерную чувствительность и отказаться от своей привычки
беспрестанно прибегать к употреблению междометий. Только
благодаря спокойной сдержанности шлегелевского здравомыслия были
наконец возведены в сознательный метод те критические приемы,
которые отзывались у Гердера натуралистическим направлением
и даже заносчивостью. Все равно, хвалит ли Шлегель или
порицает, у него и похвала, и порицание превращаются в
характеристики. Чем более достоинств в разбираемом сочинении, тем
возвышеннее становится тон его критики. Внешняя форма его
критических статей отличается самой тщательной отделкой и
свидетельствует о том, что он внимательно изучил слог Гёте. Нельзя
не заметить, что личные соображения иногда заставляли его
смягчать его приговоры; но его эстетические воззрения всегда
отличались зрелостью. Его вкус развился под влиянием древних
писателей, самых лучших произведений итальянской и английской
литературы, и в особенности произведений Гёте и Шиллера.
Вскоре после его переезда в Йену Гёте писал о нем Генриху Мейеру1:
«Мне кажется, что его основные понятия об эстетике сходятся с
нашими». И через несколько лет после того, когда он
приближался к концу своих лекций о драматургии, он хвалился тем, что
благодаря своим интимным сношениям с двумя великими
немецкими поэтами мог проверять основательность своих понятий об
искусстве. Таким образом оказывается, что в качестве
литературного критика он держался той же точки зрения, какую проводили
те два поэта в своих произведениях. Это точка зрения
классического идеализма, то есть гармонического согласования формы с
содержанием. Поэтому его критические разборы произведений
Гёте и Шиллера состоят из выражений сочувствия, похвал и
объяснений.
1 Письма к Гёте и от Гёте, изданные Римером, с. 31 и ел.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
179
Действительно, классицизм Гёте и Шиллера не мог бы найти
для себя лучшего поборника и истолкователя! Однако было
несколько пунктов, в которых суждения нашего критика
утрачивали свою обычную неподкупность и верность. Ввиду его
пристрастия к сатирической и к дидактической поэзии можно было бы
подумать, что в его уме сохранился осадок от эстетических
воззрений предшествовавшего поколения. Издателю «Карманной
книжки для любителей шутки и сатиры» удалось скрыть от глаза
прозорливого Шлегеля пошлость своих идей благодаря
некоторой дозе остроумия и, в особенности, благодаря напоминавшему
Виланда умению владеть стихом. К сожалению, в области
немецкого классицизма еще не было создано никаких образцовых
юмористических или комических произведений, чем и объясняется
шаткость суждений Шлегеля, когда ему приходилось заводить речь
о произведениях этого рода. Вместо того чтоб указывать на
оригинальность таких дарований, какие обнаруживал Жан-Поль, он
предсказывал, что Фальк рано или поздно сделается великим
сатириком, а «Бамбошады» Бернгарди осыпал щедрыми
похвалами. Что он не всегда восхищался самыми изящными цветками
поэзии, видно из того, что ему нравилось дидактическое
стихотворение Нейбека «Die Gesundbrunnen». В этих суждениях
сказывалось не одно только сочувствие к дидактической поэзии. Уже
в своей оценке поэтических произведений Шиллера и Гёте он
придавал слишком большое значение их внешнему изяществу. По
меткому замечанию Шлейермахера, «и в его критике, точно так
же, как в его собственной поэзии, нередко обнаруживалось
сочувствие к эстетическим воззрениям александрийцев». Изящество
внешней формы и хорошие гекзаметры скрывают от его глаз
поэтическую бессодержательность стихотворений Нейбека. Легкость
стихов Готтера настраивает его критику на снисходительный тон.
Внешняя форма произведений Энгеля так очаровывает его, что
он ставит роман этого автора «Lorenz Starb) («Лоренц Штарк». —
Прим. науч. ред.) наряду с гётевскими «Unterhaltungen deutscher
Ausgewanderter» («Беседы немецких эмигрантов». —Прим. науч.
ред.), а знаменитую похвальную речь в честь Фридриха Великого
называет «законченным образцом панегирического слога». Его
ушам был так приятен ритм фоссовских «Friedensregen»
(«Мирные пробуждения». —Прим. науч. ред.), что он осыпал это
«художественное произведение в самом возвышенном стиле» вовсе
незаслуженными похвалами, а впоследствии даже сравнивал его
180
Р. ГАИМ
с «Марсельезой», как «образец лирического стихотворного
размера». Ему даже случалось мимоходом хвалить вовсе ничтожные
произведения, если в их внешности было что-нибудь
привлекательного. Хотя он насмехался над притязаниями Рамлера на роль
наставника, хотя его собственный формализм отличался более
изящным вкусом, чем формализм Рамлера, все-таки в его
характере есть некоторые черты, напоминающие этого знаменитого
корректора чужих стихотворных произведений.
Другим доказательством его сочувствия к бессодержательной
поэзии служит то, что ему нравились бесцельные фантастические
вымыслы в народных сказках. Он не в состоянии выразить, как
его восхищали гётевские сказки, «самые привлекательные из всех,
какие когда-либо нисходили с небес фантазии на нашу убогую
землю». По той же причине ему нравятся причудливостью
вымыслов «Рыцарь Синяя Борода» Петера Лебрехта и «Кот в
сапогах». А какие важные последствия для теории поэзии имело это
новое направление шлегелевских идей! Наш критик уже
уклоняется от точки зрения немецких классиков, когда в одной из своих
последних рецензий он, по поводу «Дон Кихота», характеризует
сущность романа совершенно одинаково с сущностью сказки;
когда он утверждает, что автор настоящего романа должен
заботиться только о том, чтоб «ряд явлений был гармоничен в своем
причудливом разнообразии, чтоб фантазия не истощалась и чтоб
очарование поддерживалось до конца».
Вследствие своего знакомства с поэтической литературой
народов нового времени, Шлегель, очевидно, не только расширил
свою точку зрения на эллинизм Гёте и Шиллера, но, кроме того,
стал слишком высоко ценить внешность форм и бесцельную
деятельность фантазии — и этим путем придал своим эстетическим
принципам слишком большую ширину и неопределенность. Но
были и другие причины, по которым он изменил свою прежнюю
точку зрения. На него оказали большое влияние его личные
отношения и впечатления, в особенности отношение к его брату
Фридриху, который еще в августе 1796 года переселился из Дрездена в
Иену. Этот пришлец сделался нарушителем общего спокойствия.
Своим неловким и неосмотрительным образом действий он
довел дело до разрыва с Шиллером, а эта ссора немало
содействовала тому, что старший Шлегель изменил свое мнение о гётевско-
шиллеровском классицизме и скоро обнаружил эту перемену во
всей своей литературной деятельности.
ГЛАВА ВТОРАЯ
ЗАЧАТКИ ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФРИДРИХА ШЛЕГЕЛЯ
Главная заслуга Винкельмана заключалась в том, что он ввел
образованных немцев в художественный мир Древней Греции, в
котором они могли находить для себя убежище от прошлого
ничтожества их домашней жизни. Вследствие непреодолимого
влечения своей натуры, вследствие нужды и гнета внешней
житейской обстановки, он не только сам принялся за изучение искусства,
но и доставил нескольким поколениям возможность сбросить с
себя оковы, которые привязали их к узкой сфере пошлых
воззрений и неоснованных ни на каких воззрениях идей. Взамен той
переделанной на новый лад древности, за которую ратовали
самодовольные представители тогдашнего Просвещения, он
впервые объяснил достоинства настоящей, подлинной древности. При
этом его приемы были чисто художнические. Подобно тому как
художник старается уловить сущность предмета и изобразить ее
в более изящном виде, он усмотрел сущность греческой жизни в
образовательных искусствах; тогда эта жизнь представилась его
взорам чем-то вроде законченного пластического произведения,
чем-то вроде безукоризненного продукта человеческой натуры.
Поэтому его воззрение на греческую древность было верно, но
вместе с тем отзывалось идеализмом. Оно не было чуждо
следующего недостатка, в котором так часто проявлялись высшие
достоинства и вся сила немецкого ума: несмотря на то, что оно
придавало большую важность внешним формам телесной красоты,
оно отзывалось тем же влечением к сверхчувствительному миру,
которое в начале нового времени внесло оживление в нашу
религиозную жизнь и с тех пор все более и более односторонне
направляло наше умственное развитие на теологические верования, на
ученые исследования, на философические мечтания. С ясностью
взгляда соединялось у Винкельмана своеобразное мистическое
182
Р. ГАЙМ
глубокомыслие; он смотрел на произведения древних народов и
на всю древность с той любовью, которая способна представлять
любимый предмет в новом освещении. Для такой потребности
своего ума он находил пищу в самой древности и в
произведениях Платона, и подобно тому как Платон усматривал в каждом
явлении чувственного мира какую-нибудь идею, он усматривал в
древнем мире искусств ту высшую бестелесную красоту,
которая, по его мнению, составляет сущность божества. При этом он
до такой степени всецело погружался в то великолепное прошлое,
что приноравливал к нему вместе со своими мыслями и
чувствами все свои понятия о благочестии и нравственности. Его
воззрение на искусство было вместе с тем и его воззрением на жизнь,
оно сделалось отличительной особенностью его характера. Он не
только дал нам новое понятие об искусстве греков, не только
объяснил нам, в чем заключался у древних греков идеал прекрасного,
но, кроме того, заставил нас изменить наше этическое воззрение
на мир, заставил нас придать нашему нравственному идеалу
отпечаток эллинизма и эстетической красоты.
Идеи Винкельмана послужили главной основой для
умственного развития Фридриха Шлегеля в ту пору его жизни, когда в
нем пробудилось стремление к самостоятельности.
Он родился 10 марта 1772 года и, стало быть, был пятью
годами моложе своего брата Августа Вильгельма. Сознание его
призвания к ученой деятельности пробудилось в нем уже после того,
как он посвятил себя в Лейпциге занятиям торговлей. Его
сангвиническая натура, склонная к внезапным переменам и
заставлявшая его со страстью перебрасываться от одной цели к другой,
сначала направила его рвение на изучение древних языков. Он
занимался филологией сначала в Гёттингене, а потом в Лейпциге
и сразу взялся за самые образцовые классические произведения.
Сочинения Платона, греческие трагики и сочинения
Винкельмана составляли, как он сам утверждает, тот духовный мир, в
котором жил семнадцатилетний юноша. Кроме того, он еще в ранней
молодости (в первый раз — в 1789 году) имел возможность
осмотреть пластические произведения греческого искусства в
Дрезденской картинной галерее и этим способом дополнить и
проверить свои юношеские понятия о древних богах и героях1.
1 Сравн. предисловие к VI тому полного собрания сочинений Фридриха
Шлегеля, с. IV, V. Касательно пребывания Фридриха в Дрездене см. шлегелев-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
183
По окончании своего университетского образования он
всецело предавался изучению древности, живя в течение
нескольких лет в той немецкой столице, которая доставляет художнику
так много наслаждений и в которой Винкельман приготовился к
своей поездке в Рим. Там же созрели первые плоды его ученых
занятий. В примере Винкельмана он нашел благородную цель для
своего честолюбия и для своих страстных влечений. Эта цель была
еще яснее указана автором «Отрывочных заметок о немецкой
литературе». Еще в 1767 году Гердер писал: «Когда же появится
такой Винкельман, который растворит перед нами храм греческой
мудрости и греческой поэзии точно так же, как он раскрыл для
художников тайны греческой жизни? Для искусства Винкельман
мог развиться только в Риме, но для поэзии он мог бы развиться и
в Германии, идя одной широкой дорогой со своим римским
предшественником». Наш юный поклонник греков отозвался на этот
призыв и решился сделаться «Винкельманом поэзии». Первая
статья, с которой он выступил перед публикой в ноябрьском номере
берлинского «Ежемесячного журнала» 1794 года, носила
заглавие: «О школах греческой поэзии»1; она заключала в себе
формальное извещение о намерении написать в духе Винкельмана
историю греческой поэзии. Шлегель стал на ту же
художническую точку зрения, которой придерживался его великий
предшественник. Для Винкельмана вся древность, а для Шлегеля вся
греческая поэзия представляла собой единое целое. Но сама
природа, создавшая это целое, разделила его на «несколько больших
масс, которые связала воедино». Автор намеревается описать в
кратком очерке как это натуральное разделение на части, так и
возникновение, развитие, изменения и упадок греческой поэзии.
Еще Винкельман, ссылаясь на Скалигера, различал в истории
греческой поэзии четыре главные эпохи. И его преемник
постарался охарактеризовать несколькими резкими штрихами четыре
эпохи — ионическую, дорическую, афинскую и александрийскую,
ский журнал «Европа», том I, № 1, с. 5; касательно его раннего знакомства с
философскими воззрениями Платона на жизнь см. его сочинения XII, 226.
1 В этой статье — с. 378 и ел. Она перепечатана в собрании сочинений
Шлегеля, VI, 5 и ел. (сравн. примечание к этой странице) лишь с небольшими
изменениями. Вообще содержание всех старых статей до такой степени
переделано в собрании сочинений Шлегеля, что по ним скорее можно составить
себе понятие о том, каким был Шлегель в зрелых летах, чем о том, каким он
был в юношеские годы. На всякий случай я считаю нелишним заметить, что я
делаю ссылки на 2-е издание, вышедшее в 1846 году в Вене в 15-ти частях.
184
Р. ГАЙМ
а в афинской эпохе он снова различил четыре ступени развития
изящного вкуса. Он говорил, что в ионической эпохе
преобладала натура, что дорическая лирика заняла серединное положение
между натурой и идеалом; что в аттической драме идеал был
достигнут, а поэзия сделалась чистым искусством прекрасного,
однако так, что прекрасное возвысилось «от благородства до
совершенства и снова низошло до внешнего блеска, а потом до внешнего
изящества»; но после того как чувство прекрасного исчезло,
искусство превратилось у александрийцев в затейливую забаву и,
наконец, погрязло в варварстве.
Широкий обзор всей греческой поэзии не был единственным
достоинством этой юношеской статьи. В ней Шлегель обнаружил
если не выдающиеся литературные дарования, то по меньшей мере
способность делать меткие характеристики и одним словом
выражать совокупность целого ряда идей, как, например, когда он
говорит, что дорическая лирика была «veranlasste Poesie»
(поэзией «по поводу». —Прим. науч. ред.), была поэзией, «вызванной
обстоятельствами». С другой стороны, в статье встречаются
выражения, заставляющие думать, что, когда Шлегель увлекался
произведениями Винкельмана и смотрел на греков как на
представителей идей прекрасного, он уже был знаком с теми философскими
формулами, в которые облеклось такое же воззрение на греческий
мир в уме Вильгельма Гумбольдта и Шиллера. Через посредство
Кернера он познакомился летом 1793 года в Дрездене с
Гумбольдтом и, как кажется, еще ранее вступил в личные сношения
с Шиллером1. Когда он усматривает животворный принцип
искусства именно в том, что составляло отличительные черты
характера афинян, а в этом характере усматривает «самую
свободную живость и высшую энергию человеческой натуры», то нам
невольно приходят на память те выражения, которыми Гумбольдт
идеализировал понятие о греческой древности как в своей статье
о пределах государственной деятельности, так и в своих беседах
с Вульфом и с Шиллером. Это сходство воззрений неизбежно
должно было вовлечь Шлегеля в ту сферу идей, в которой вращались
названные писатели. Это еще яснее видно из статей, написанных
вслед за тем Шлегелем.
Немедленно вслед за первым общим очерком всей греческой
поэзии была написана статья, касавшаяся только одного пункта
1 См. у Коберштейна III, 2201, прим. И.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
185
этой поэзии, но такого пункта, который был предметом многих
ошибочных суждений. Мы готовы верить словам самого Шлеге-
ля, что его статья «Об эстетических достоинствах греческой
комедии» была плодом продолжительных стараний вникнуть в
смысл произведений Аристофана1. Однако, несмотря на
специфичность избранного сюжета, автор объясняет рассматриваемое
им литературное явление с философско-исторической точки
зрения. Подобно Шиллеру и Гумбольдту, и юный Шлегель любит
сопоставлять общечеловеческие воззрения с греческими, то, что
хорошо, с тем, что изящно. Но такие сопоставления получают
у названных писателей неодинаковое значение сообразно с их
нравственной натурой и с их философским развитием: выводы,
к которым приходит Шлегель, оказываются не совершенно
правильными и несколько произвольными вследствие недостатка
самостоятельно выработанных нравственных убеждений и
вследствие незрелости умственного развития, еще не подчинявшегося
никакой дисциплине. Так, например, прежде чем самостоятельно
уяснить понятие о нравственности, он уже ведет речь о единстве
жизни с искусством; его фантазия наслаждается не ясно
доказанной гармонией этических и эстетических достоинств, а их
смелым смешением. «Радость, — говорит он, — есть „самое
отличительное, самое натуральное и самое первобытное состояние
высшей человеческой натуры", а потому она сама по себе изящна
и хороша». «Изящная радость есть самый возвышенный предмет
изящного искусства». Но необходимый элемент радости
заключается в той же безусловной свободе, на которую имеет
неотъемлемое право и искусство. Эта идея осуществилась в аристофа-
новской комедии, которая есть натуральный продукт деятельности,
в которой развивается человеческая сущность с изящной и ничем
не стесняющейся радостью. Но в своей прекрасной статье «О
прелести и достоинстве» Шиллер руководствовался основной
мыслью, что понятие о красоте как о чисто натуральном продукте
неизбежно извратится под влиянием чувственных влечений, если
не найдет надежных опор в рассудке и в свободе; в этой мысли
ясно выражалась противоположность между кантовским
воззрением и воззрением Руссо; она проглядывала еще в ранее напи-
1 См. берлинский «Ежемесячный журнал», 1794, декабрьский номер, с. 485
и ел. Эта статья напечатана в сочинениях Шлегеля VI, 22 и ел. Сравн.
примечание к этой перепечатке.
186
Р. ГАИМ
санной Шиллером в историческом направлении статье о
трагическом искусстве; наконец, в «Письмах об эстетическом
воспитании человека» это историческое воззрение более точно
сформулировано в основном положении, что все доступные для
культуры народы непременно отдалятся от природы вследствие
своей склонности к лжемудрствованиям, прежде чем будут в
состоянии возвратиться к ней при помощи рассудка. Таким же
воззрением руководствуется Шлегель для того, чтоб связать свои
рассуждения о древней комедии с настоящим и с будущим поэзии.
Он говорит, что в качестве естественного продукта аристофанов-
ская комедия, подобно всем другим продуктам естественных
влечений, могла лишь на одно мгновение отличаться полной
красотой или, вернее, никогда не отличалась такой красотой, потому
что уже наступивший упадок нравственности исторически совпал
с только что начинавшимся развитием комического вкуса. Только
в случае, если бы у которого-нибудь из следующих поколений
законченное умственное развитие снова достигло естественной
свободы, — только в том случае «комедия сделалась бы самым
совершенным из всех поэтических художественных
произведений или, вернее, комизм был бы заменен тем, что возбуждает
восторг; а если бы такая замена действительно случилась, то она
осталась бы навсегда»1.
У нашего юного литератора, очевидно, была опасная
склонность переходить от фактических данных к бесконечным общим
соображениям, в которых он совершенно терялся. Когда у него
было под руками какое-нибудь определенное содержание,
приобретенное старательным изучением предмета, его суждения
отличались ясностью и остроумием; но когда он покидал эту твердую
почву и пускался в философствование, он высказывал самые
смелые суждения, смысл которых было нелегко понять. Этот
недостаток был заметен уже в его статье о древней комедии; но он еще
1 Само собой разумеется, что Шлегель впадал в самообольщение, когда в
примечании к этим словам, перепечатанным в его сочинениях (IV, 33),
усматривал в них зародыш той идеи, которую впоследствии высказал по поводу
произведений Кальдерона, что это было «христианское просветление все
озаряющей фантазии». Но когда Холевиус («Geschichte der deutschen Poesie nach ihren
antiken Elementen», 11, 346) усматривает в основных положениях
рассматриваемой статьи «тайный смысл», который «еще не осмеливается обнаружиться в
надлежащей форме», то он впадает в заблуждение вследствие того, что читал
эти первые шлегелевские статьи в их позднейшей редакции в собрании
сочинений Шлегеля.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
187
более заметен в его статье «О пределах прекрасного»1,
написанной под впечатлением писем Шиллера об эстетике. Шиллер
основательно порицал эту статью за неясность идей, за недостаток
легкости в слоге2. Неясность начинается уже с самого заглавия,
потому что Шлегель ведет речь не столько о пределах, сколько об
элементах прекрасного. Он начинает многоречивыми похвалами
тех совершенств, которыми отличались древние — эти «люди в
высшем значении слова», а их «целости и определенности» он
противопоставляет путаницу идей у новых народов, всего яснее
обнаруживающуюся в искусстве и в отношениях между
искусством и жизнью; однако и на этот раз он находит утешение в том,
что превосходства древних, основанные только на натуральных
влечениях, необходимо должны были исчезнуть и потом снова
возродиться в более блестящем виде при содействии разума.
Именно такие же размышления излагались в более ясном и более
подробном развитии в пятом и шестом письмах Шиллера. И у Шле-
геля, точно так же, как у Шиллера, они служат только введением
к определению сущности прекрасного. Способ, которым Шлегель
доходит до такого определения, напоминает статью Шиллера
«О прелести и достоинстве», но у него идеи Шиллера являются в
измененном виде и затемняются. С одной стороны, заметно
влияние Гемстергюи, с другой стороны, из заключения статьи видно,
что положительной основой для фантастических идей автора
служила на этот раз трагедия Софокла. Именно в этой трагедии
Шлегель усматривает примирение свободы с судьбой. Вслед за этим
он переходит к элементам прекрасного, которые кроются, по его
словам, в человеке и в природе. Прекрасное есть то же, что
натура, в той мере, в какой ее сущность состоит из бесконечного
богатства и жизни. Прекрасное есть сам человек. То, что в
предшествовавшей статье превозносилось как принцип радости, здесь
превозносится под названием любви как высшего душевного
наслаждения свободных людей. В богатство натуры любовь вносит
гармонию. Наконец, богатство и гармония соединяются в
искусстве для того, чтоб создавать самые лучшие образцы
прекрасного: «обе бесконечности дружелюбно встречаются в искусстве и
образуют новое целое, в котором соединяются свобода и судьба».
1 Виландовский «Новый немецкий Меркурий», 1795, том II, с. 79 и ел. Эта
статья перепечатана в сочинениях Фр. Шлегеля IV, 116 и ел.
2 В письме к Кернеру (в их переписке III, 273).
188
Р. ГАЙМ
От этих философских отвлеченностей Фридрих переходит к
более конкретным темам в написанных после того двух статьях
об аристофановской комедии и о положении и достоинстве
греческих женщин. Статья «О том, как изображали женскую натуру
греческие поэты» не имеет большого значения: она была лишь
чем-то вроде подготовительной работы для той статьи «О Диоти-
ме»1, которую А. В. Шлегель основательно считал самой лучшей
из всех, ранее написанных его братом2. По всему вероятию,
исследования Гумбольдта о различиях между натурами мужской и
женской навели Шлегеля на мысль написать характеристику
греческих женщин. Он был достаточно начитан для того, чтобы
наполнить такую характеристику множеством разнообразных
мелких подробностей. Он подробно и частью очень метко рисует
положение женщин в Аттике и в Лаконии и сверх того
рассказывает, как относилось к этим женщинам местное законодательство.
Однако он не приходит ни к каким основательным историческим
выводам вследствие своего пристрастия ко всему греческому и
вследствие своего одностороннего и исключительного влечения
к прекрасному. От него нельзя было ожидать верных этических
суждений главным образом потому, что он составил себе неясное
понятие о прекрасном как о проявлении вполне развившейся и
полной наслаждений жизни; поэтому вся его статья наполнена
причудливыми похвалами греческих воззрений на женскую
натуру. Уже Шиллер хвалил греков не только за их естественную
простоту, но также за сочетание этой простоты с преимуществами
образования, за уменье согласовать форму с богатством
содержания; такие же похвалы доходят в устах Шлегеля до основного поло-
1 Эта статья появилась в первый раз в берлинской «Monatsschrift» (1795),
в июльском номере, с. 30 и ел., и в августовском номере, с. 154 и ел. Она
была перепечатана не без некоторых перепечаток в «Die Griechen und Römer» в
«Исторических и критических очерках классической древности» Фр. Шлегеля
(I [и единственный] том. Нейстрелиц, 1797. С. 253 и ел.) и в очень
значительной переделке в собрании сочинений Фр. Шлегеля IV, 71 и ел. Первая из
вышеупомянутых статей была в первый раз напечатана также в каком-то журнале,
как это видно из оглавления к IV тому сочинений Шлегеля; но в каком именно
журнале, этого не могли доискаться ни я, ни Коберштейн (И, 1864). В
«Griechen und Römer» ранее написанная небольшая статья является (с. 327 и ел.)
«приложением» к статье «О Диотиме»; потом она была снова напечатана в
сочинениях Шлегеля IV, 53 и ел.
2 Шиллер к Кернеру (в их переписке III, 301). Сравн. письмо Шиллера к
В. Гумбольдту (в их переписке, с. 361) и письмо Фр. Шлегеля к Шиллеру № 1 в
«Preuss. Jahrbb.» IX, 225.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
189
жения, что греческое образование даже в своей испорченности
обнаруживало наряду с бодростью отдельных умственных
способностей их достойную уважения совокупную деятельность,
обнаруживало «богатое разнообразие в свободном единстве». С этой точки
зрения ему нетрудно было найти оправдание для образа жизни
гетер и восхищаться нравами обитательниц Лаконии. Но греческая
образованность и греческие нравы, естественно, не имели
никакого сходства с нашими. Поэтому автор горячо нападает на «ложную
стыдливость» женщин нашего времени, однако не объясняет с
достаточной ясностью, где проходит граница между настоящей
стыдливостью и ложной. Эстетическое впечатление, которое он вынес
из Софоклова изображения женской натуры, приводит его к
основному положению, что и женская натура должна, подобно мужской,
очиститься и достигнуть более высокой человечности. С ним
можно было бы согласиться, если бы он ограничился заявлением, что
склонность к преувеличениям так же отвратительна в женской
натуре, как и в мужской; но эту истину он высказывает взамен
доказательств того, что нравы и искусства нашего времени страдают
именно от такого двойного недостатка. Наконец, он утверждает,
что женские личности у Шекспира и у Гёте одарены более
здравым умом, чем у Гомера, но не большей нежностью и красотой, а
софокловскую характеристику женской натуры считает за
недостижимый идеал; поэтому всякий стал бы на сторону Шиллера,
который даже после прочтения шлегелевской статьи утверждал, что ни
у Гомера, ни у греческих трагиков не изображена вся глубина
женской натуры1. Вся статья вертится на вопросе: как могла появиться
в Греции такая женщина, как описанная Платоном Диотима?
Юношеское рвение, с которым автор протестует против «намерения
очернить священные Афины»2, едва ли не всего яснее сказывается
в его чисто романтическом преклонении перед мантинейской
жрицей, которая, как он говорит в заключение, «представляла
сочетание привлекательности Аспазии с душою Сапфо и по святости
своего характера была совершенным образцом человечности».
Однако, несмотря на опрометчивость фантастических
суждений Шлегеля о греческой жизни, его юношеские статьи имели то
достоинство, что рассматривали искусство и поэзию греков в
неразрывной связи с их жизнью и нравами. Он постоянно интересу-
1 В письме к В. Гумбольдту (в их переписке, с. 361 и ел.).
2 Это место опущено при перепечатке статьи в «Die Griechen und Römer».
190
Р. ГАИМ
ется этическими вопросами столько же, сколько и
эстетическими. Нравственной точки зрения при сравнении Древнего мира с
новым он придерживается еще строже, чем Шиллер, который в
своих «Письмах об эстетическом воспитании» принял
нравственные и политические вопросы только за точку исхода, а потом
перешел исключительно на почву эстетики. Эта точка зрения всего
ярче выступала наружу в статье Гумбольдта о пределах
государственной деятельности и принималась в соображение этим
будущим государственным человеком из политических расчетов.
И Шлегелю не были чужды такие же политические интересы. Его
врожденное влечение к практическим целям обнаружилось в том
факте, что среди своих занятий искусствами и литературой он
обращал свои взоры на хорошие стороны греческой
общественной жизни, на связь греческих художественных произведений с
греческими республиканскими учреждениями. Эти учреждения
он хвалит в статье о Диотиме, делая характеристику законов
Солона в противоположность с политической деятельностью
государственных людей нового времени; в статье «О пределах
прекрасного» он называет те учреждения внешней формой настоящего
государственного устройства и говорит, что только при таком
государственном устройстве возможна любовь к отечеству. Однако
он скоро откладывает в сторону эти практические интересы и
обращает главное внимание на немецкую поэзию, в которой он
желал бы произвести такой же решительный переворот, какой
произвела Французская революция в политической сфере. Он
желал бы придать этой поэзии те высокие совершенства, какими
отличалась поэзия древних греков. Чтоб достигнуть этой цели,
необходимо основательно изучить греческую поэзию,
необходимо изложить ее историю. Писатель, который взялся бы за такую
задачу, должен быть знатоком в искусствах. Кроме того, «он
должен быть знаком с научными основами объективной философии
истории и объективной философии искусства для того, чтобы быть
в состоянии понять принципы и организм греческой поэзии».
Эти слова извлечены из замечательной статьи «Об изучении
греческой поэзии», статьи, которая была сдана Шлегелем в
типографию еще осенью 1795 года, но вышла из печати лишь по
прошествии одного года с небольшим1. Шлегель считал себя спо-
1 См. три первых письма Фр. Шлегеля к Шиллеру в «Рг. Jahrbb.» IX, 225 и
ел. Вследствие типографских задержек появились в журнале Рейхардта «Гер-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
191
собным написать именно такую историю, какая, по его мнению,
требовалась. Он был уверен, что отыскал тот исторический
закон, который должен служить ключом к пониманию развития
изящной литературы, он был уверен, что «попал на след
постепенного развития эстетической культуры, удачно угадал смысл
прежней истории искусства и открыл широкую перспективу для
будущей истории искусства». Этот открытый им закон, то есть
философию эстетического развития человечества, он излагает в
вышеупомянутой статье. Это не что иное, как приложение к
философии истории, написанное с практической целью. Такая
философская задача уже давно служила неотразимой приманкой для
многих даровитых людей. Вполне естественно, что она казалась
крайне привлекательной и для такого писателя, как Шлегель, у
которого недоставало терпения для серьезного изучения истории и
философии, но который соединял с жаждой знания решительную
склонность к отыскиванию руководящих формул и к
обобщениям. Такая книга, как сочинение Кондорсе «Esquisse d'un tableau
historique des progrés de l'esprit humain» («Эскиз исторической
картины прогресса человеческого разума». —Прим. науч. ред.),
должна была показаться ему в высшей степени интересной. Он
написал на нее рецензию для философского журнала Нитгаммера1 и
при этом выражался тоном «Ньютона истории человечества»,
способного заранее обрисовать будущий ход человеческого развития.
Этим первым самостоятельным произведением он доказал, что
был отчасти знаком с философией истории. И в конце своей
жизни он читал лекции «О философии истории»; но в 1828 году он
уже требовал «не восстановления истинно изящного искусства»,
о котором вел речь в 1795 году, а «восстановления утраченного
человеком подобия божества»?
Каким же образом излагал Шлегель в 1795 году историю
эстетической культуры?
мания» 1796 года сначала (во втором номере, с. 258—261) одна выдержка из
той статьи, а потом (в шестом номере, с. 398—415) извлечение из первых
десяти листов; после того вся статья была напечатана в 1797 году в сочинении «Die
Griechen und Römer»; вслед за ней помещены статьи «О Диотиме» и «О том,
как изображали женскую натуру греческие поэты». Намерение продолжать эти
очерки (предисловие на с. XXII) осталось неисполненным. В собрании
сочинений Фр. Шлегеля эта статья помещена в начале V тома.
1 См. журнал, том III, № 2 (1795), с. 161 и ел. Что не кто другой, как
Шлегель, был автором этой рецензии, видно из списка рецензий, помещенного в
конце VII тома журнала.
192
Р. ГАИМ
Чтобы ярче выставить свою заслугу, заключавшуюся в
отыскании законов развития этой культуры, он начинает резкими
риторическими нападками на новейшую поэзию. Эти нападки
сводятся к тому, что новейшая поэзия отличается отсутствием всякого
определенного характера, что в ней господствует путаница идей,
что ее развитие не подчиняется никаким законам, что
результатом ее теории является скептицизм. Тем не менее нетрудно
усмотреть, что она представляет нечто цельное, потому что в ней
заметен целый ряд характеристических особенностей; так, например,
мы замечаем в ней постоянно проглядывающую склонность к
подражанию древнему искусству, зависимость от эстетических
теорий, совместное появление поэтических произведений
высшего и низшего разряда, ученых и общедоступных; «решительный
перевес характеристического, индивидуального и интересного»;
неутомимое и никогда не удовлетворяющее читателя
«стремление к новизне, к пикантности, к эффектности». Шлегель
старается доказать, что эти оригинальные особенности истекают из
одного источника и указывают на одну общую цель. При этом он
руководствуется уже ранее установленным им различием между
натуральным образованием и искусственным. «Новейшая
поэзия, — говорит он, — имеет, в противоположность с древней
поэзией, искусственное происхождение; не натуральные влечения,
а некоторые руководящие идеи служили основным принципом для
новейшего эстетического образования». В основе
«фантастических продуктов романтической поэзии» лежат причудливые идеи;
гигантское произведение Данте обязано своей странной
конструкцией «готическим понятиям варвара». Первый зародыш
художественного развития был продуктом новой, христианской религии;
тогда стала мало-помалу предъявлять свои требования
эстетическая теория. Но именно искусственным развитием этой теории
объясняются отличительные особенности новейшей поэзии. По
этому поводу Шлегель старается ярче охарактеризовать поэзию
своего времени, называет ее высшим представителем Шекспира,
а греческой трагедии противопоставляет шекспировскую, в
особенности «Гамлета»; он называет шекспировскую трагедию
«философской» и утверждает, что в ее результате оказывается самая
резкая дисгармония, что производимое ею общее впечатление —
«самое сильное отчаяние».
Вслед за этим Шлегель утверждает, что стремление новейшей
поэзии к заманчивости указывает и на то, в чем заключается ее
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
193
конечная цель. «В стремлении к заманчивости, — говорит он, —
обнаруживается стремление к высшему эстетическому
изяществу». Преобладание заманчивости может быть только
временным кризисом в развитии изящного вкуса; оно может привести
(конечно, только приблизительно) к высшему изяществу, которое,
в противоположность заманчивости, общепонятно, неизменчиво
и необходимо, короче сказать, объективно.
Цель новейшей поэзии объясняет нам и ее задачу. Но что эта
задача исполнима, что именно в настоящую минуту поэзия
достигла достаточной зрелости для эстетического переворота, —
в этом служит порукой одно важное историческое явление.
«Характер эстетического развития нашего времени и нашей нации
обнаруживается в замечательном явлении: гётевская поэзия есть
утренняя заря настоящего искусства и чистой красоты»1. Эта
поэзия, занимающая серединное положение между заманчивостью
и красотой, позволяет ожидать совершенно нового фазиса в эс-
тетическтом развитии. «Произведения Гёте служат
неопровержимым доказательством того, что объективность поэзии возможна
и что надежду достигнуть красоты нельзя считать за иллюзию
нашего рассудка». Для Шлегеля не подлежит никакому
сомнению, что переживаемый поэзией кризис разрешится всеобщим
признанием ее объективности, что эстетическое развитие
достигнет того решительного момента, когда свобода окончательно
возьмет перевес над натурой, а то развитие уже не будет
зависеть от случайности, которой может подчиняться только
натуральная поэзия.
Но какими же средствами можно произвести такой
переворот?
Прежде всего необходимо эстетическое законодательство,
необходимо заменить прежнюю ложную теорию правильной
теорией. В одной из отрывочных заметок, написанных в 1797 году,
Шлегель говорил о «революционном стремлении к
объективности», обнаружившемся в его прежних статьях, которые он
довольно метко называет своими «философскими музыкальными
произведениями»2. Действительно, он прежде считал слово «объ-
1 С. 76 и ел.; эти замечательные слова приведены вполне в Рейхардтовом
журнале «Германия».
2 «Lyceum der Schöner Künster» I, 2, с. 150; сравн. с. 134, где он называет
свою статью «Об изучении греческой поэзии» «вычурным гимном в прозе в
честь объективности поэзии».
7 Зак. № 3602
194
Р. ГАЙМ
ективность» за самое верное выражение совершенств поэзии, а
теперь он утверждает, что и эстетическая теория должна иметь такой
же объективный (или, по принятому в наше время способу
выражаться, такой же абсолютный) характер. Но всякая идея кажется
бессодержательной, если ее изложение не сопровождается
наглядным объяснением. Поэтому Шлегель полагает, что объективная
эстетическая теория может иметь успех только в том случае, если
будет иллюстрирована указаниями на прототипы высшего
эстетического изящества. К счастью, такие прототипы находятся
налицо у греков. «История греческой поэзии, — говорит Шлегель, —
есть всеобщая натуральная история поэзии; она заключает в себе
вполне удовлетворительные образцы»; вслед за этим он
посвящает немало страниц доказательствам того, что греческая поэзия,
и в особенности трагедия Софокла, достигла на почве
натурального развития искусства высшего пункта свободной красоты,
объективности и идеальности. Даже в однородных суждениях
Вильгельма Гумбольдта, Шиллера и Ф. А. Вольфа мы не находим
таких безусловных похвал греческому образованию и греческой
поэзии. Эти похвалы беспрестанно повторялись, пока они не были
приведены в надлежащую меру при помощи здравых
исторических воззрений. Отстаивая свое убеждение, что в греческой
поэзии заключается высший образец натуральной поэзии, автор
нападает на тех, кто хулил греков. При этом он мимоходом излагает
«теорию неизящного» и «теорию неправильностей», то есть
нечто вроде «эстетического уголовного кодекса», а в опровержение
порицаний, основанных на требованиях нравственности нового
времени, он ссылается на эстетическую мораль и на автономию
прекрасного. Но указания Шлегеля на образцовые достоинства
греческой поэзии, по-видимому, сводятся к совету подражать им,
а разве мало было таких подражаний и разве они не оказывались
неудачными? Виною этих неудач, — гласит ответ, — была не
греческая поэзия, а метод подражателей, которые не умели отличать
объективное от постоянной примеси местного колорита. Поэты
нового времени должны усваивать не приемы какого-либо одного
излюбленного поэта, не местные индивидуальные формы поэзии,
а «дух целого, чистый грецизм». Чтоб усвоить этот дух, нужно
понять его, а понять его можно только при помощи
всестороннего философско-исторического изучения греческой жизни.
Эти основные положения напоминают нам суждения Гердера
о том же предмете в его «Отрывочных заметках о немецкой лите-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
195
ратуре». «Прежде чем подражать грекам, — писал Гердер, — мы
должны изучить их жизнь; но разве найдется в Германии такой
„ангел-хранитель греческой литературы, который объяснил бы
нам, каким способом можно изучить греческую жизнь"?» Чтобы
изучить эту жизнь, недостаточно уяснить буквальный смысл
греческих литературных произведений; кроме того, необходимо
вникнуть с философской точки зрения в дух этих произведений,
необходимо с эстетической точки зрения анализировать их красоты,
необходимо с точки зрения историка указать отличия одной
эпохи от другой, одной провинции от другой, одного гениального
деятеля от другого.
Того же требует и Шлегель. Он оканчивает свою статью
такими прямыми указаниями на современное положение немецкой
литературы, каких нельзя было ожидать по началу статьи. Он
старается точнее определить тот пункт, которого достигла новейшая
поэзия в своем стремлении к объективности. По его мнению, эта
поэзия уже пережила два великих периода своего развития, а
теперь вступила в третий, окончательный период этого развития.
Ведь все условия, необходимые для наступления этого
окончательного периода, находятся налицо. С тех пор как кантовская
критика познавательной способности заложила новый фундамент
для эстетической теории, а Фихте заложил прочный фундамент
для критической философии, уже нельзя сомневаться в
возможности объективной системы эстетических познаний. «И
относительно изучения греческой поэзии, — говорит Шлегель, — мы
дошли до такого пункта, что нам остается сделать только
последний и самый важный шаг». Этот шаг заключается в том, чтобы
всю массу греческих поэтических произведений распределить по
отделам сообразно с принципом объективности. Наконец,
Шлегель снова утверждает, что в немецкой поэзии уже иногда ясно
обнаруживаются зачатки объективного творчества. Сначала он
называл одного Гёте, а теперь он, кроме того, указывает на
произведения Клопштока, Виланда, Лессинга, Бюргера и в особенности
Шиллера. Он вполне уверен в том, что в Германии легче, чем во
всякой другой стране, можно восстановить преобладание
настоящего искусства. Эта цель будет, по его мнению, достигнута, лишь
только перестанут стеснять распространение образования, а
искусству дозволят развиваться в элементе свободы и общительности.
Такова нить идей в рассматриваемой нами статье. Она
проводилась с самой благородной, с самой серьезной целью. Вопрос
196
Р. ГАЙМ
заключался только в том, способен ли так легко увлекавшийся
широкими воззрениями Шлегель не терять из виду тех средств,
которые могли привести его к желаемой цели. Хотя Гёте и не
возлагал на исследователей древности обязанностей изучать
современное направление философских идей, хотя многие другие
писатели не возлагали на таких исследователей обязанностей
принимать практическое участие в развитии образования своих
современников, но Шлегель по своей натуре не был способен
стеснять самого себя такими рамками. Хотя он впоследствии и хвалил
способность Винкельмана «сосредоточивать все свои силы на
одной великой цели»1, но он сам не был способен к такой
сосредоточенности. В этом отношении он не имел сходства с Винкельма-
ном; даже при самой тяжелой житейской обстановке он не
отказывался от своих первоначальных стремлений. Этот
впечатлительный, полный жизни юноша, так торопливо излагавший свои
всемирно-исторические воззрения, не имел никаких средств к
существованию. Ему приходилось жить литературными
заработками и, вместо того чтоб исполнять роль «Винкельмана греческой
поэзии», объяснять в мелких критических статьях, в какой мере
современная литература успела достигнуть «объективности»2.
Однако он в течение нескольких лет (но не в течение всей своей
жизни) не отказывался от своего первоначального намерения.
Изучение греческой литературы служило основой для всех мелких
статей, которые ему приходилось писать о современной
литературе. Виланд с трудом убедил его написать несколько филолого-
эстетических статей для своего «Аттического Музея»3. Причиной
такой упорной привязанности к первоначальному проекту отчас-
1 В своих «Лекциях об истории древней и новой литературы». В его
сочинениях II, 199.
2 Так он сам выражался в объявлении о переводе Платона от 21 марта
1800 года; это объявление напечатано в справочном листке «Allg. Lit. Zeit.»
29 марта 1880 года, с. 349, 350.
3 Виланд к Бёттигеру от 15 июня (и 8 июля ) 1796 года в «Litt. Zustände»
Бёттигера II, 153 (и 156). Первая из этих статей, напечатанная в «Аттическом
Музее» (часть I, тетрадь 2, 1796 года, с. 213 и ел.) под заглавием «Die epitaphische
Rede des Lysias» (введение, перевод и критическая оценка), была перепечатана
в сочинениях Фр. Шлегеля IV, 127 и ел. Вторая статья, напечатанная в I томе
«Аттического Музея» (тетрадь 3, 1797 года, с. 125 и ел.) под заглавием
«Kunsturheil des Dionysius über den Isokrates» (перевод и послесловие
переводчика), перепечатана в сочинениях Фр. Шлегеля IV, 166 и ел., но так, что
послесловие превратилось в предисловие и некоторые примечания Шлегеля
помещены под текстом перевода.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
197
ти было впечатление, которое произвели на Шлегеля
появившиеся в 1795 году «Prolegomena» («Пролегомены».—Прим. науч.
ред.) Вольфа. В его глазах, эта книга была «образцовым
продуктом такой дальнозоркости, с которой не могла равняться даже
дальнозоркость Лессинга»; она была чем-то вроде дополнения к кан-
товской «Критике чистого разума». Это мнение он высказал в
начале статьи «О гомеровской поэзии по поводу исследований
Вольфа», статьи, которая появилась в 1796 году в журнале Рей-
хардга «Германия» в качестве первого образчика его истории
классической поэзии1. Она носила заглавие «Отрывок из статьи о веке
греческой поэзии, о ее школах и различных видах». Таким же
отрывком, только более обширным, была появившаяся в 1798 году
«История поэзии греков и римлян»2. Судя по заглавию, этот
небольшой томик должен был заключать в себе только первую
главу первого тома; но ввиду того что автор делал заключительные
выводы почти в середине статьи, едва ли можно было ожидать ее
продолжения. В сущности, здесь идет речь об эпической поэзии и
статья похожа на шлегелевские «Prolegomena» к Гомеру, в
которых филолого-историческая критика Вольфа дополняется эсте-
тико-исторической, а главный спорный вопрос разрешается
согласно с воззрениями Вольфа.
Действительно, после того как в первой главе доказывается,
что так называемая орфическая поэзия возникла позже и что
настоящая история греческой поэзии начинается с эпоса, а во
второй главе идет речь о постепенном возникновении эпического
искусства в «догомеровский период», автор переходит в третьей
главе к золотому веку того искусства и имеет в виду лишь одну
цель — дать «правильное, определенное и ясное понятие о
гомеровской поэзии». Но крайне странен способ, которым он
старается достигнуть этой цели. Его приемы имеют сходство с приемами
Вольфа, у которого разрешение вопроса о возникновении гоме-
1 В № 11 этого журнала, с. 124—156. Эту статью сам автор считал
неоконченной, потому что она оканчивалась словами «Продолжение следует»; но
впоследствии он иначе распределил и значительно расширил ее содержание — и
таким способом сделал из нее историю поэзии. Вот почему она не помещена в
сочинениях Фр. Шлегеля.
2 «Geschichte der Poesie der Griechen und Römer. Erste Abtheilung des ersten
Bandes» (Берлин, 1798. С. 236). Она перепечатана в III томе сочинений Шлегеля.
«Очерк истории греческой поэзии» первоначально должен был служить вторым
томом для сочинений о греках и римлянах (см. предисловие к этому последнему
сочинению, с. VII).
198
Р. ГАИМ
ровских стихотворений переплетается с историей устной
передачи и изменений гомеровского текста. В своем историческом
содержании сочинение Шлегеля напоминает методу автора
«Гамбургской драматургии», излагавшего теорию трагедии в форме
изложения аристотелевских основных положений. У Шлегеля
снова проглядывает влечение к философским выводам в борьбе с
влечением к филологии и к критике, но это последнее
направление берет на этот раз верх. Он оставляет на заднем плане свою
основную мысль, что законы поэзии должны быть основаны на
врожденных свойствах человеческого ума и что эту истину
наглядно доказывает прототипическая поэзия греков1; не на
основании этой мысли, а преимущественно руководствуясь
суждениями древних об искусстве, обрисовывает он характер гомеровского
эпоса. При этом он не придерживается эстетической критики
только какого-либо одного из древних авторитетов. Всего менее он
готов подчиняться авторитету Аристотеля, которого укоряет в
неосновательности эстетических воззрений. Напротив того, он
чрезвычайно высоко ценит суждения древних об искусстве, потому
что создание художественных произведений и суждение о них
представляют лишь различные способы выражения одних и тех
же воззрений. Чтобы быть в состоянии отыскивать те перлы,
которые кроются в критических сочинениях греков, необходимо
ознакомиться со всем содержанием греческой поэзии, с ее
организмом и принципами2. Как будто с целью доказать, что он сам
придерживается этого правила, он постоянно присоединяет к
своему анализу сущности и достоинств гомеровского эпоса
изложение эстетических суждений древних писателей; местами даже
кажется, что темой для его сочинения служит столько же греческий
эпос, сколько история и характеристика греческих суждений об
искусстве. Но при более тщательном чтении статьи оказывается,
что он имел в виду протест против завещанного преданиями
слишком высокого мнения об Аристотеле и о других авторитетах по
части эстетики. Он снова обнаруживает свою склонность к
преувеличениям, когда выражает свое сочувствие к мнению акаде-
1 «История поэзии...», с. 126, 127. Сравн. «Die Griechen und Römen>,
предисловие, с. XXI, XXII.
2 «Об изучении греческой поэзии» в сочинении «Die Griechen und Römer»,
с. 222—229. «История поэзии...», с. 67. Сравн. «Ueberdas Kusturtheil des Diony-
sius», с. 174, и то, что говорится об Аристотеле в статье «О гомеровской
поэзии».
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
199
мика Полемона, что Гомер был «эпическим Софоклом», и
называет это изречение «классическим суждением, таким же вечным,
как и произведения того поэта, к которому относится». Так же
странно видеть, как в его суждениях об Аристотеле
оппозиционные стремления перемешиваются с меткими замечаниями,
преувеличенные порицания — со справедливым признанием заслуг
и с основательной критикой. Разве заступничество Лессинга за
непогрешимость Аристотелевой поэтики может равняться по
своей смелости с резкими, ошеломляющими читателя приговорами
Шлегеля, вроде той сентенции, что автор поэтики «не имел ни
малейшего понятия о настоящем смысле и душе трагедии!»?
Однако такие сумасбродные выходки не должны вводить нас в
заблуждение, потому что наряду с ними Шлегель сделал такую
характеристику гомеровского эпоса, которая большей частью
заслуживает полного одобрения. Нельзя не согласиться с его
мнением, что Аристотелю в некоторых случаях «недоставало
понимания более древних безыскусственных песнопений» и что в его
суждениях о гомеровской поэзии преобладала та точка зрения, с
которой следует рассматривать трагедию. Также нельзя не
согласиться с мнением Шлегеля, что у Аристотеля часто заметно
странное несоответствие между его прозорливой наблюдательностью
и верным чутьем, между его понятиями и предрассудками и что
он нередко высказывает верные суждения не на основании
верных посылок, а как-то бессознательно и ненамеренно.
Изложенная в связи с этими суждениями характеристика
гомеровского эпоса бесподобна, несмотря на то что в ней есть
некоторые слишком резкие штрихи. Она была продуктом более
верного, более чистого поэтического чувства и менее систематична,
чем теперешние школьные понятия о Гомере, которые, однако,
обязаны лучшими своими элементами именно этим суждениям
Шлегеля; в ней мы находим то сочетание гердеровской тонкости
чувств с филологической прозорливостью, которое с тех пор
всеми признается за основу всякой эстетической критики
литературных произведений. Поэтому, если мы не будем
неосновательно требовать от начинающего писателя таких же подробных
сведений, какие были им приобретены впоследствии, мы можем
признать шлегелевскую характеристику за образцовую. Мы
охотно выбросили бы из нее некоторые замечания, как, например,
мнение автора, будто сверхъестественное есть продукт той
свободы, которая должна быть предоставлена в эпосе фантазии. Но
200
Р. ГАЙМ
какой меткостью отличается большая часть и основных, и
побочных суждений Шлегеля? Все, что он говорит о ребяческой
чувственности гомеровской поэзии, о привлекательной
внутренней связи ее частей, соединяющейся с самой живой
наглядностью; об ее эпическом стиле и эпическом стихотворном размере,
об отсутствии в этих песнопениях всякой примеси лирического
элемента, — все это было повторено в написанной А. В. Шлеге-
лем рецензии на гётевскую драму «Герман и Доротея» и
послужило основой для общепринятого в наше время воззрения на
этот предмет. Но главное внимание автор обращает на резкую
противоположность между древним эпосом и трагедией,
стараясь опровергнуть суждения Аристотеля. Он говорит, что
содержанием для эпоса служит не действие, а какое-нибудь
происшествие, что это содержание не связано с личностью только одного
героя и что от него не требуется того единства и той
замкнутости, какие требуются от трагедии. Развивая эту мысль, он
объясняет, в чем заключается своеобразность в построении эпоса,
каким образом эпический рассказ течет без начала и конца, но
несмотря на это округляется в цельное мировоззрение. Именно в
этом пункте его понятие о сущности эпоса сходится с
результатом исследований Вольфа, на которые он ссылается. Единство и
стройность эпоса заключается, по его мнению, в том, что каждая
из его крупных или мелких составных частей живет своей
собственной жизнью и даже отличается большей стройностью, чем
вся поэма1. Эти свойства эпоса объясняются тем, что
гомеровские песнопения не были сочинены по заранее обдуманному
плану, а возникали и развивались сами собой; тем, что они были
продуктами безыскусственной образованности того времени и
созданной самой природой художественной школы. Или же
наоборот: поэмы Гомера получили цельный характер, быть может,
только благодаря позднейшим вставкам, потому что самая
отличительная особенность гомеровского эпоса заключается в том,
что самая мелкая из его составных частей построена и изложена
точно так же, как и более крупная. Стройность конструкций у
Гомера можно скорее назвать «отсутствием нестройности». «Если
действительно существовал Гомер, — так резюмирует свое
мнение Фр. Шлегель, — то он был лишь последним из тех
певцов, которые постоянно совершенствовали эпическое искусство
1 «О гомеровской поэзии», с. 155, 156; сравн. «Историю поэзии...», с. 171.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
201
на длинном ряде эпических произведений, начиная с их первого
зародыша».
Эти суждения составляют главное содержание шлегелевской
статьи. Но, в силу законов всякого естественного развития, вслед
за полным расцветом эпоса у Гомера наступила эпоха его упадка;
об этом Шлегель ведет речь в трех следующих коротеньких
главах: «О гесиодовском периоде эпического века», «О школе Гоме-
ридов», т. е. о гомерических гимнах, и «О среднем эпосе»; под
это последнее заглавие подходят циклики, физиологи,
позднейшие классики эпической поэзии и мифические эпики. В этих
составных частях и в особенности с переходом к лирике статья
Шлегеля ограничивается легкими очерками. Нельзя не одобрить
ее автора за то, что он смотрит на развитие демократических
учреждений и на возникновение лирической поэзии как на такие
два переворота, которые совершились одновременно и взаимно
влияли один на другой; также нельзя не одобрить его за то, что он
проводит резкую границу между характером лирики, как «поэзии
республиканской и музыкальной», и героико-мифическим
характером эпоса; тем более достойно сожаления, что он
ограничивается разделением лирического стиля на ионический, эолийский,
дорический и аттический и несколькими замечаниями
касательно характеристических особенностей ионического племени.
Шлегель оканчивает свою статью без всяких заключительных выводов,
как будто с целью продолжать ее1. К этому его могло бы побудить
одобрение, с которым отозвались о его работе тогдашние ученые2.
По прошествии двух лет он был еще так легкомыслен, что
действительно обещал написать продолжение своей статьи в очень
непродолжительном времени; но его друг Шлейермахер лучше
его знал, насколько было основательно такое обещание. «Шлеге-
лю, — писал он, — недостает для такого предприятия ни
внутреннего, ни внешнего спокойствия. Он еще не уяснил для самого
себя свои воззрения на функции и продукты человеческого ума и
не имеет достаточного самообладания для продолжения такой
работы, которая будет для него мучительна по причине хаоса его
идей»3. Для нас не могут служить достаточным вознаграждением
1 Он сам говорит, что его замечания об ионическом стиле были лишь
отрывочными. Шлегель к Шлейермахеру в «Aus Schleiermacher's Leben» III, 105.
2 См. предисловие к III тому его сочинений, с. IV.
3 В одно время с появлением в справочном листке «Allg. Lit. Zeit.» (29
марта 1800 года) извещения о предстоявшем издании перевода сочинений Плато-
202
Р. ГАЙМ
за неисполненное обещание ни те дополнения, которые были
напечатаны в полном собрании его сочинений1, ни те замечания,
которые он прилагал к переведенным его братом греческим
элегиям и идиллиям в первой и третьей частях «Атенея»2. Для нас
была бы, без сомнения, очень интересна та характеристика
аттической трагедии, которую он положительно обещал в своем
предисловии к статье «О греках и римлянах»; но в приготовительных к
такой работе статьях он не дошел до обещанной характеристики
и даже не докончил обзора всей лирической поэзии.
Эти литературные труды, первоначально задуманные в таком
объеме, что могли бы наполнить всю жизнь писателя, были
приостановлены по таким мотивам, которые возникли еще задолго
до появления «Истории поэзии». Еще в 1795 году Кернер
советовал своему молодому другу послать Шиллеру пробную статью
для журнала «Hören». С этой целью Шлегель задумал написать
статью об отношениях греческой образованности к
образованности нового времени. Если бы он привел это намерение в
исполнение, мы, по всему вероятию, нашли бы в его статье только
повторения старого. Кроме того, ему, вероятно, было известно, что
Шиллер считал достаточными для своего журнала статьи
Гумбольдта по тому же предмету и свои собственные. Напротив того,
этот журнал нуждался в исторических статьях. Поэтому Шлегель
послал Шиллеру 28 июля 1796 года из Дрездена статью «Цезарь
и Александр», вслед за которой намеревался написать статью о
Тиберии Гракхе3. В том виде, в каком первая из этих статей
напечатана в полном собрании сочинений Шлегеля, она не была
недостойна появиться на страницах шиллеровского журнала. Хотя в
ней Шлегель несколько идеализировал личность Цезаря (об Алек-
на, Шлегель напечатал объявление о предстоящем издании 2-й части I тома
«Истории поэзии»; этой второй части он намеревался предпослать введение
для того, чтобы вкратце объяснить цель и основную мысль своего сочинения,
которое должно было сделать для поэзии то же, что сделал Винкельман для
образовательных искусств; а его цель заключалась в изложении такой теории
поэзии, которая была бы основана на изучении истории. (См. письмо Шлейер-
махера к Бринкманну от 4 января 1800 года в «Aus Schleiermacher 's Leben» IV,
54.)
ι Τ. III, с. 201 и ел.
2 «Атеней» I, 1, с. 107 и ел. и III, 2, с. 216 и ел. Эти замечания перепечатаны
в его сочинениях IV, 38 и ел.
3 Фр. Шлегель к Шиллеру, письма 1, 2 и 3; Шиллер к Гумбольдту (в их
переписке, с. 364). Эта статья напечатана в сочинениях Шлегеля IV, 200 и ел.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
203
сандре речи было мало), называя его образцом античной натуры,
и излагал не столько исторические факты, сколько философские
рассуждения, но он сделал мастерскую характеристику своего
героя. Тем не менее понятия Шиллера об историческом стиле не
могли уживаться с резкостью шлегелевского слога — и Шиллер
отказался напечатать статью Шлегеля. Тогда Шлегель отказался
от своего намерения заняться изучением римской древности; он
не привел в исполнение и выраженного в предисловии к статье
«Греки и римляне» намерения написать характеристику
политического образования у классических народов. Его гораздо более
интересовали занятия иного рода: ведь и новая поэзия была ему
хорошо знакома, ведь он «с молодости любил некоторых между
новейшими поэтами, изучал их произведения и даже полагал, что
изучил некоторые из этих произведений вполне»1. Уже в своей
статье «Об изучении поэзии» он указывал на тесную связь между
древней поэзией и новой и постоянно обращал свои взоры то
назад — на классическую литературу, то вперед — на
зарождавшуюся немецкую литературу. В этом случае он, быть может,
подчинялся и влиянию своего брата, всецело посвятившего себя в
Йене интересам современной литературы. В начале августа 1796 года
он переехал из Дрездена на постоянное жительство в Йену2, где
жил его брат. Но его приезд сделался причиной неприятностей и
раздоров. История его постепенного перехода к критике
современных поэтических произведений есть вместе с тем история его
постепенного отчуждения от Шиллера. Теперь нам предстоит
познакомиться с той и с другой в их взаимной связи.
Хотя в статье «Об изучении поэзии» он и осыпал самыми
изысканными похвалами Гёте, но вместе с тем он отзывался и о
Шиллере с таким одобрением, которое походило на льстивые
заискивания, так как он принимал за мерило для своих оценок
«объективность» античной поэзии, а шиллеровский «Валлен-
штейн» еще не был в то время написан. По поводу «Дон Карло-
са» он выражал надежду, что и у немцев появится трагедия,
однородная с греческой. Автора стихотворений «Боги Греции» и
«Художники» он сравнивал с Пиндаром и, как будто предчув-
1 Предисловие к «Die Griechen und Römen>, с. VIII.
2 Шиллер к Гёте № 208, от 8 августа 1796 года. Указание Кернера на время
отъезда Шлегеля из Дрездена (в письме к Шиллеру (в их переписке III, 349))
должно быть исправлено ввиду письма, которое было написано Шлегелем из
Дрездена к Шиллеру от 28 июля 1796 года («Preuss. Jahrbb.» IX, 227).
204
Р. ГАЙМ
ствуя, какие почести немецкий народ будет воздавать
благородному поэту во время празднования его столетней годовщины,
написал следующие слова: «Природа одарила его глубиною
чувства, возвышенностью идей, блеском фантазии, благородством
языка, выразительностью ритма и такой звучностью голоса,
какая необходима для поэта, намеревающегося обозревать всю
массу нравственных явлений, изображать положение народа и
выражать гуманные идеи»1. В письме, написанном Шиллеру еще из
Дрездена, Шлегель рассыпался в выражениях своего уважения и
добивался чести поступить в число сотрудников журнала «Hören».
Эти выражения уважения относились к Шиллеру не только как к
поэту, но и как к философу. После чтения шиллеровской статьи
«О наивной и сентиментальной поэзии» Шлегель стал сознавать
незрелость тех воззрений, которые излагал в своей статье «Об
изучении поэзии», написанной почти на ту же самую тему;
поэтому он написал к этой статье предисловие, в котором частью
исправил свои прежние суждения, частью старался отстоять их
основательность2.
Между тем он уже ранее пытался делать практическое
применение своего убеждения, что «объективность» древней поэзии
должна служить мерилом для оценки каких бы то ни было
поэтических произведений; а теперь он превратился из
одностороннего теоретика в постановляющего приговоры рецензента: он
написал рецензию на шиллеровский «Альманах Муз» за 1796 год и
напечатал ее, не обращая внимания на протесты своего брата3.
» «Die Griechen und Römen>, с. 208, 248, 249.
2 С. X и ел. Сообразно с этим следует исправить мнение Коберштейна (III,
2209, прим. 19), будто все, что говорится в статье «Ueber das Studium» о теории
поэзии, основано на содержании кантовской критики познавательной
способности и шиллеровской статьи о наивной и сентиментальной поэзии. Это
мнение находится в противоречии как с содержанием вышеупомянутого шлегелев-
ского предисловия, так и с письмами Шлегеля к Шиллеру.
3 К издателю журнала «Германия» касательно шиллеровского «Альманаха
Муз» в шестом номере Рейхардтова журнала «Германия» (1796), с. 348—360;
эта рецензия не попала в полное собрание сочинений Фр. Шлегеля. К
сожалению, осталось неисполненным намерение А. В. Шлегеля снова издать
юношеские сочинения своего брата, так как по содержанию теперешнего сборника
его сочинений никто не догадается, что Фр. Шлегель был «чрезвычайно
остроумен в обществе» (см. письмо к Тику (у Holtei III, 299)). Сравн. письма Кернера
к Шиллеру в их переписке III, 350. Что Фр. Шлегель напечатал свою рецензию,
не обращая внимания на протесты своего брата, видно из письма А. В.
Шлегеля к Шиллеру № 13.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
205
Он поставил во главе рецензии заносчивый эпиграф «Fungar vice
cotis» («Пусть стану я камнем точильным». —Прим. науч. ред.) и
задался целью оценить достоинства «Альманаха» сообразно с
чистыми законами красоты, ведь при оценке самых лучших
произведений не существует «обязанности щадить»! Чтобы дать
верное понятие о тоне этой рецензии, достаточно заметить, что даже
самые меткие и самые основательные из своих суждений Шле-
гель портил резкостью своих выражений. Он говорит, что только
один Гёте заслуживает названия великого поэта, а Шиллера нельзя
и сравнивать с ним. Конечно, не подлежит сомнению
основательность замечаний рецензента, что несовершенства Шиллера
объясняются частью беспредельностью его цели, что философское и
этическое содержание его стихотворений служит ручательством
за то, что его поэзия может сделаться только еще более
возвышенной, но не может впасть в пошлость. Однако в то же время
рецензент указывает на невоздержанность Шиллера и на то, что
«разрушенное здоровье вредно для фантазии»: что же давало
юному критику право так же бесцеремонно обращаться с
Шиллером, как сам Шиллер обращался с Бюргером? Не менее
оскорбительны для Шиллера и не менее неуместны были порицания
четвертой и пятой строф «Идеалов»; по словам Шлегеля, эти строфы
были отголосками не «бодрого юношеского воодушевления», а
«судорожного отчаяния»; при этом делались довольно ясные
намеки на молодость Шиллера, на то, что его «небрежное
воспитание заглушило более чистые, гуманные идеи». Рецензент
находил, что, перейдя от метафизики к поэзии, Шиллер приобрел более
энергии в выражении и более ясности, но вслед за тем идет речь о
том первом цветущем периоде поэтической деятельности
Шиллера, когда поэт не простил бы себе такого стихотворения, как
«Пегас», и когда он умел лучше выбирать надлежащий тон и
размер для своих стихотворений. Отзыв рецензента о стихотворении
«Достоинство женщин» именно таков, какого можно было
ожидать от автора «Диотимы»: описанных в этом стихотворении
мужчин следовало бы связывать по рукам и по ногам, а таких женщин
следовало бы водить на помочах. Нисколько не остроумен и совет
исправить это стихотворение посредством замены рифмы
мыслями и посредством перестановки строф так, чтобы последние были
первыми, а первые последними. Но дерзкое умничанье рецензента
становится решительно смешным, когда он по поводу
стихотворения «Идеалы» считает нужным напомнить поэту, что «нередко
206
Р. ГАЙМ
и мелкий типографщ«к может оказывать полезное содействие».
Есть только один способ объяснить несходство этой рецензии с
тем, что говорил Шлегель о поэтических достоинствах Шиллера
в своей статье «Об изучении поэзии». Эта статья была написана
позже именно с целью смягчить и исправить отзывы рецензии.
Сам Шлегель признался Шиллеру, что ее окончание было
написано с целью «кое-что загладить»; кроме того, нам дает ясное
понятие о настоящем положении дела рассказ Кернера о том, что
Шлегель опасался вредного влияния рецензии на свои личные
отношения с Шиллером1.
Но старание загладить прошлое оказалось безуспешным. В то
время, когда Шиллер познакомился с содержанием шлегелевской
рецензии на «Альманах Муз», он мог прочесть только начало
статьи «Об изучении поэзии»2. Что же удивительного в том, что
Шлегелю не принесли большой пользы ни хорошее впечатление,
которое он произвел на Шиллера при первом личном свидании3,
ни старания Кернера придать дерзким выходкам рецензента
более мягкий смысл? Шиллер нашел рецензию высокомерной и
неосновательной, а первая часть статьи «Об изучении поэзии» не
могла ему нравиться. Еще по поводу шлегелевской «Диотимы»
он в письме к Гумбольдту энергически осуждал такую манеру
хвалить безо всякого разбора все греческое. Правда, и он сам в
своих «Письмах об эстетическом воспитании человека»
выставлял достоинства греческого мира в идеальном свете. Но в своей
статье «О наивной и сентиментальной поэзии» он сделал важный
шаг вперед, выработав такую формулу, в которой признавалось
самостоятельное значение новейшей литературы. Он сказал, что
или вовсе не следует делать сравнений между поэтами древними
и новыми, или же следует в таких сравнениях становиться на
более высокую точку зрения, следует признать за главную задачу
поэзии по возможности самое полное выражение человеческого
характера. Но так как человечество находилось в древности в ином
1 Шлегель к Шиллеру, письмо № 3, с. 227; Кернер к Шиллеру III, 350.
Впрочем, я не могу с уверенностью указать, с какого пункта начинается в статье
Шлегеля то, что было к ней позже прибавлено.
2 Фр. Шлегель писал Шиллеру из Дрездена 28 июля 1796 года (стало быть,
незадолго до своего приезда в Йену): «Мой брат сообщил Вам начало
небольшой статьи, с которой я до сих пор еще не мог окончательно справиться».
3 См. письмо Шиллера к Гёте от 8 августа 1796 года; в их переписке —
письмо № 208.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
207
положении, чем в новое время, то и задача поэзии выполнялась у
древних и у новых народов неодинаковым способом: у древних —
посредством подражания действительности, у новых —
посредством описания идеалов. Первым способом создается поэзия
наивная, вторым способом — сентиментальная. Обе они имеют в
сущности одинаковые права на существование. Главное достоинство
наивной поэзии заключается в умении изображать то, что имеет
определенные границы, а главное достоинство сентиментальной
поэзии в умении изображать то, что не имеет никаких границ.
Наконец, это различие заключалось, по мнению Шиллера, не
столько в условиях времени, сколько в поэтических приемах.
Совершенно иначе смотрел на этот предмет автор статьи «Об
изучении поэзии»! По его мнению, то различие было
преимущественно результатом исторических условий. Одностороннее изучение
древних поэтов привело его к убеждению, что всякая истинная
поэзия должна быть «объективна». Он требовал, чтобы новейшие
поэты перестали быть сентиментальными, или, как он
выражается, «интересными», чтобы они возвратились к классическому
стилю и снова усвоили характер греков. Точка зрения Шиллера
отличается идеализмом, а точка зрения Шлегеля — доктринерством.
Резкость шиллеровских требований все более и более смягчается
по мере того, как в своей критике и в своих характеристиках поэт
переходит к разработке подробностей, а требования Шлегеля
становятся все более резкими и оскорбительными всякий раз, как
ему приходится применять их на практике. А разве Шиллер не
был обязан протестовать против такого доктринерства, против
таких преувеличений? Разве его протест не был так же
основателен, как протест Лессинга, направившего в «Драматургии»
стрелы своей критики на приверженцев педантической
правильности? Разве его собственное увлечение греческой литературой могло
заставить его молчать ввиду тех неосновательных выводов, к
которым могли привести воззрения Шлегеля? Разве он должен был
молчать ввиду того, что юный сочинитель парадоксов
превосходил его своими познаниями о греческой древности? Напротив того,
именно ввиду учености Шлегеля ему нельзя было извинять его
заблуждений и стоило труда напомнить ему, что в своих
суждениях о произведениях искусства он должен быть более осмотрителен.
Но прежде всего следовало проучить его за юношеские дерзкие
выходки против поэта Шиллера, — и его действительно
проучили. Именно в то время Шиллер и Гёте готовились подвергнуть
208
Р. ГАЙМ
современную литературу такому уголовному суду во внешней
форме эпиграмм, который дал бы полный простор их стремлениям
к высшему совершенствованию и доставил бы удовлетворение
сознанию их собственных превосходств. В целом ряде «Ксений»
Шиллер выразил им свое несочувствие к воззрениям Шлегеля и
свое негодование на смелые выходки юного критика. Некоторые
из его стихов служат как бы распиской в получении рецензии,
напечатанной в журнале Рейхардта, как например:
Vornherein liest sich das Lied nicht zum besten,
ich les'es von hinten,
Strophe für Strophe, und so nimmt es ganz artig,
sich aus.
(«Если читать песню с начала, она утрачивает свои достоинства;
но я читаю ее с конца, одну строфу вслед за другой, и тогда она
становится совершенно приличной».)
Некоторые другие стихи не что иное, как пародии на
изложенные в статье «Об изучении поэзии» слишком резкие
суждения о древней и новой поэзии, как например:
Oedipus reisst die Augen sich aus, Jokaste erhängt sich,
Beide schuldlos; das Stück hat sich harmonisch, gelöst.
(«Эдип сам ослепил себя, а Иокаста повесилась, не будучи ни в чем
виновными; таким образом, развязка пьесы соответствовала ее
содержанию».)
Или следующие стихи:
Endlich ist es heraus, warum uns Hamlet so anzieht;
Weil er, market das wohl, ganz zur Verzweiflung uns bringt.
(«Наконец, теперь стало ясно, почему Гамлет кажется нам таким
привлекательным: потому что он — обратите на это внимание —
доводит нас до совершенного отчаяния».)
Следующие двустишия заключают в себе характеристику и
порицание основных воззрений Шлегеля:
Kaum hat das kalte Fieber der Gallomanie uns verlassen,
Bricht in der Gräkomanie gar noch ein hitziges aus.
Griechheit, was war sie? Verstand und Maaß und,
Klarheit; drum dächt'ich,
Etwas Geduld noch, ihr Herr'n, eh'ihr von Griechheit uns sprecht.
Eine würdige Sache verfechtet ihr; nur mit Verstände,
Bittich, daß sie zum Spott und zum Gelächter nicht wird.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
209
(«Только что успели мы отделаться от лихорадки галломании, как
занемогли горячкой грекомании. В чем заключались особенности
греческой литературы? В здравомыслии, умеренности и ясности;
поэтому я полагаю, что вам, господа, нужно немного обождать,
прежде чем объяснять нам, в чем заключались достоинства греков.
Вы вступаетесь за хорошее дело; но, прошу вас, будьте
благоразумны для того, чтобы это дело не вызвало насмешек и хохота».)
Сюда же следует отнести «Ксению», в которой идет речь о тех
господах, которые «берутся других учить тому, чему сами
научились только вчера»; также следующие стихи под заглавием
«Gefährliche Nachfolge» («Опасное наследие». —Прим. науч. ред.):
Freunde, bedenket euch wohl, die tiefere, kühnere Wahrheit
Laut zu sagen; sogleich stellt man sie euch auf, den Kopf.
(«Друзья, остерегайтесь громко высказывать самую глубокую и
самую смелую истину: вам тотчас перевернут ее вверх дном».)
Наконец, еще следует указать на насмешки Шиллера над
«гениальным поколением» тех «счастливцев», которым было все
даровано во сне, и на следующие иронические сожаления:
Unsre Poeten sind seicht, doch das Unglück lie'ß sich vertuschen,
Hätten die Kritiker nicht, ach! so entsetzlich viel Geist1.
(«Наши поэты неглубокомысленны, но этот недостаток можно бы
было скрывать, если бы, к сожалению, у наших критиков не было
ужасно много ума».)
Чтоб оставить эти насмешки без ответа, требовалась такая
скромность или такая осмотрительность, какая вовсе не была в
характере смелого юноши. В рецензии на «Ксении», которую он
напечатал в Рейхардтовом журнале без подписи своего имени2,
1 Не во всех двустишиях ясны намеки, которые делались на Фр. Шлегеля
(или на обоих Шлегелей) Боасом, Шиллером и Гёте в «Xenienkampf» I, 164 и
ел. и в «Xenienmanuscript», с. 144. Я нахожу эти намеки частью несомненными,
частью вероятными с № 302 до 308, № 320 до 331, № 341 и 342; напротив того,
считаю их мнимыми или неясными в № 310, 391, 392 и в № 127 и 128 в
«Xenienmanuscript» под заглавием «Sokrates».
2 № 10, с. 83—102. Эту анонимную рецензию Коберштейн (III, 2212)
основательно приписывает Фридриху Шлегелю. О том, что она была написана не
кем иным, как Фр. Шлегелем, ясно свидетельствуют не в меру сочувственные
отзывы о «Пигмалионе» и вообще все приемы рецензента; но мы имеем на это
и внешнее доказательство: в ранее цитированном нами письме к Тику А. В. Шле-
гель говорит: «Я, между прочим, помню, что его разбор „Ксений" был образцом
остроумия».
210
Р. ГАЙМ
он выражался тоном оскорбленного человека, который умеет
отстаивать свою честь. Он характеризует общее направление
«Ксений» с полуироническим юмором: он очень остроумно и вместе с
тем очень язвительно называет «наивной эпиграммой»
заявленное в одной из «Ксений» требование критики Хоризонтов, такой
наивной эпиграммой, что даже сами Хоризонты усмотрели бы из
нее, как «слишком смелый Патрокл» радуется тому, что его могут
принимать за «великого Пелида», то есть за Гёте. Шлегель
выместил нанесенную ему обиду и на журнале «Hören», отказавшемся
напечатать его статью о Цезаре и Александре. Еще в восьмом и
десятом номерах журнала «Германия» он поместил рецензии на
шестой и седьмой номера журнала «Hören» 1796 года. При этом
он по-прежнему пользовался присвоенным себе правом
прилагать «самое строгое мерило» именно к оценке хороших
литературных произведений; но только при разборе с восьмого и до
двенадцатого номеров журнала «Hören» (в двенадцатом номере
«Германии»)1 он излил свое негодование в самой грубой и
неприличной форме. Он направил свои нападки преимущественно на
историческую статью Вольтмана, которую он, очевидно, находил
менее достойной появления в шиллеровском журнале, чем свою
1 С. 350—361. Все три рецензии анонимны и, естественно, не попали в
полное собрание сочинений Фр. Шлегеля точно так же, как и его рецензии на
два годовых издания «Альманаха Муз». Касательно того, что они были
написаны Шлегелем, см. у Коберштейна III, 2211. Хотя относительно рецензии на
шестой номер «Hören» Коберштейн высказывает только догадку, что она была
написана Фр. Шлегелем, но об этом достаточно ясно свидетельствует ее
содержание (напр., в журнале «Германия», № 8, с. 218, одно место, напоминающее
характеристику дорического элемента в «Истории поэзии»; на с. 220 — те
суждения об отчуждении греческих философов от действительной жизни, которые
имеют сходство с суждениями Шлегеля в статье о Диотиме («Die Griechen und
Römer», с. 262); свойственная Фр. Шлегелю привычка употреблять слово
«beinahe» — с. 218 и т. д.). Из остальных рецензий на журнал я приписываю
Фр. Шлегелю ту, которая напечатана в № 8, с. 213—217, и в которой идет речь
о поэтическом послании Манзо, потому что едва ли кто-либо другой, кроме
Фр. Шлегеля, был способен выражаться с такой иронией; но я с уверенностью
приписываю Фр. Шлегелю рецензию гердеровских «Писем о гуманизме», № 9,
с. 326—336, потому что замечание на с. 327 о слиянии античных воззрений с
новыми у позднейших подражателей древней поэзии могло быть высказано
только тем, кто подробнее развивал ту же мысль в предисловии к «Die Griechen und
Römen>, с. XI и ел.; только Шлегель мог сказать (с. 380), что зародыш
сентиментализма уже лежал в христианстве и т. д. Я оставляю без рассмотрения
вопрос о том, принадлежала ли перу Фр. Шлегеля и ироническая рецензия на
мелкие сочинения Фюллсборна (№ 11, с. 225—227).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
211
собственную. Это были косвенные нападки на издателя журнала.
Кроме того, Шлегель беспощадно выставлял на вид промахи шил-
леровской редакции и указывал на уклонения журнала от
первоначально намеченной цели. Он, между прочим, говорил, что
«постоянно изменяющийся „Hören"», по-видимому, вступил теперь в
период переводов, а его издатель, по-видимому, с уверенностью
рассчитывает на снисходительность публики и т. д. Короче
сказать, вся рецензия была наполнена такими обвинениями, которые
могли всего глубже оскорбить противника. Само собой понятно,
что все это наконец вывело Шиллера из терпения. Уже после
чтения того номера Рейхардтова журнала, в котором была
напечатана рецензия на «Ксении», он писал Гёте, что Фр. Шлегель
становится невыносимым: «Он недавно рассказывал Александру
Гумбольдту, что поместил в журнале „Германия" очень резкую
рецензию на „Агнесу". Но теперь, когда он узнал, что она
написана не Вами, он сожалеет о том, что отнесся к ней так строго. И так
этот молокосос заботится о том, чтоб не испортился Ваш вкус.
А это бесстыдство соединяется с таким невежеством, что он мог
считать „Агнесу" за Ваше произведение». Вскоре после этого
Шиллер прочел эту строгую рецензию на роман «Agnes von Lilien»,
написанный его свояченицей Каролиной Вольцоген и частью
напечатанный в «Hören»; но в то же время ему пришлось прочесть
нечто худшее в шлегелевской рецензии на его журнал. Понятно,
что он вынес из этого чтения самые неприятные впечатления. Он
видел, как его самые благородные стремления беспрестанно
искажались критиком, умевшим запускать свое ядовитое жало в
самые слабые стороны своих противников. Его благородному,
откровенному, прямому характеру было отвратительно такое низкое
лукавство. Между ним и таким молокососом не могло быть
ничего общего, даже если бы этот молокосос отличался
необыкновенным умом и остроумием, талантами и знанием. Понятно, что
он решился навсегда прервать всякие сношения с таким
человеком; он полагал, что не стоило тратить свое время на возражения
дерзкому анонимному рецензенту (хотя он сам вызвал этого
рецензента на борьбу своими статьями в «Ксениях»). Но прерывая
сношения с младшим Шлегелем, он прервал сношения и со
старшим. Ведь и А. В. Шлегель нередко выражался, подобно своему
брату, тоном всеведущего мудреца и наставника. Легче волку
ужиться с ягненком, чем настоящему поэту с рецензентом по
профессии.
212
Р. ГАЙМ
Etwas wünscht'ich zu sehen: ich wünschte ein mal von den Freunden,
Die das Schwache so schnell finden, dasgutezusehen!
(«Мне хотелось бы, чтоб друзья, которые так скоро подмечают
недостатки, замечали и хорошее!»)
В этих словах Шиллер выразил такое чувство, которое уже
давно возбуждал в нем Вильгельм Шлегель своей всегдашней
готовностью произносить строгие приговоры; но теперь он стал
выражать свое несочувствие не к одному Вильгельму Шлегелю,
а к обоим братьям, как, например, в эпиграмме о «юном Непоте».
Их личные отношения нисколько не улучшились оттого, что
Вильгельм Шлегель был женат на той самой Каролине Бёмер, которая
взяла на себя роль посредницы между Губером и Терезой
Форстер и была одной из виновниц того, что Губер изменил
свояченице Кернера Доре. У этой даровитой женщины был так же
ядовит язык, как было ядовито перо ее деверя, Фридриха; сверх того,
она была большая кокетка и интриганка, вследствие чего все
женщины ненавидели ее, а Шиллер прозвал ее «das Uebel» («Зло». —
Прим. науч. ред.) или «Dame Lucifer» («Г-жа Люцифер». —Прим.
науч. ред.у. Вследствие болтливости Фридриха Шлегеля в городе
распространился слух, будто «г-жа Люцифер» участвовала в
сочинении оскорбительной для Шиллера рецензии на журнал
«Hören». Тогда выведенный из терпения Шиллер написал только
что возвратившемуся из Дрездена в Йену2 Августу Вильгельму
письмо, в котором, между прочим, читаем: «Я был очень рад, что,
помещая в „Hören" Ваши переводы Данте и Шекспира, я
доставил Вам такие денежные выгоды, каких не всегда можете
получить; но так как я узнал, что именно в то время, когда я Вам
доставлял эти выгоды, г-н Фридрих Шлегель печатно бранил меня за
это и находил, что в „Hören" печатается слишком много перево-
1 См. переписку женщин в III томе книги «Charlotte von Schiller und ihre
Freunde». Там можно найти многочисленные доказательства непрерывного
негодования Кернера, Шиллера и их друзей на обоих братьев Шлегелей, как,
например, на с. 117, 120 и т. д.
2 Кернер к Шиллеру от 17 апреля 1797 года (в их переписке IV, 23) и от
29 мая 1797 года (там же, с. 30); сравн. письмо Доры от 2 мая 1797 года
(«Charlotte von Schillen> III, 22). Здесь постоянно идет речь только о Вильгельме Шле-
геле и о его жене. Догадка, высказанная Коберштейном (III, 2202, прим. 12), и
утверждение Юлиана Шмидта (I, 558 [5-е изд.]) требуют проверки. Что
Фридрих Шлегель находился в это время в Йене, видно из его письма к Шиллеру
№ 4; что Август Вильгельм возвратился в конце мая в Йену, видно из того, что
он уже 1 июня успел ответить на письмо Шиллера от 30 мая.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
213
дов, то я прошу Вас впредь извинить меня. А чтоб раз и навсегда
освободить Вас от такой связи, которая должна быть тягостна для
человека чистосердечного и чувствительного, я прерываю
сношения, которые слишком странны при теперешнем положении
дела и которые слишком часто вводили мою доверчивость в
заблуждение». В ответ на это Шлегель написал письмо, в котором
отказывался от всякого фактического и нравственного участия в
прегрешениях своего брата и горячо упрашивал Шиллера не
прерывать прежних дружеских отношений1. Но раз утраченное
доверие Шиллера не могло быть восстановлено. Август Шлегель еще
не переставал некоторое время доставлять статьи для
«Альманаха Муз» и для «Hören», но его личные сношения с Шиллером
заменила вежливая переписка, а вместе с тем навсегда исчезла
возможность взаимного влияния, которое могло быть плодотворно
для них обоих.
Два великих поэта имели до того времени общих друзей и
общих врагов. Но Шиллер тщетно старался внушить своему
другу такое же отвращение к обоим Шлегелям, какое они внушили
ему самому. Гёте также был оцарапан когтями дерзкого
рецензента за свои песни и за свой перевод Челлини; но он отнесся к этому
равнодушно и никогда не прерывал своих сношений с обоими
Шлегелями. Он так поступал не только из личных интересов, но
также из уважения к литературным дарованиям и заслугам двух
братьев. Так как точка зрения Шлегелей имела близкое сходство с
точкой зрения обоих поэтов, то Гёте не придавал большого
значения разногласиям по некоторым второстепенным вопросам; к тому
же он охотнее выносил остроумную критику Шлегелей, чем
«бесчестные приемы мастеров журналистики». Он мог
придерживаться такого благоразумного и великодушного образа действий,
потому что у него была врожденная потребность как можно более
расширить сферу своего влияния и со всех сторон воспринимать
впечатления. Менее богатая, но более решительно направленная
к одной цели, натура Шиллера не выносила таких личных
отношений, которые не были вполне ясными и искренними. Он
довольствовался тем, что было двое или трое людей с Гёте во главе,
в которых он находил отражение самостоятельно созданных им
1 Письмо Шиллера помечено 31 мая 1797 года (у Бёкинга — с. 16); ответ
Шлегеля от 1 июня напечатан с подлинника в «Preuss. Jahrbb.» (с. 213 и ел.), а в
сокращении — у Бёкинга (с. 17); там же, на с. 19, можно найти ответ Шиллера,
не помеченный никаким числом.
214
Р. ГАЙМ
идей и которые могли быть порукой за правильность избранного
им пути. Поэтому он никогда не относился к деятельности Шле-
гелей иначе, как с отвращением. Они отталкивали его своей
«черствой и бездушной холодностью», отсутствием воодушевления и
искренности чувств в своих литературных произведениях; но
метко указывая на слабые стороны их деятельности, он не замечал
их достоинств. Ему самому это не причинило никакого вреда,
потому что он не нуждался в Шлегелях для того, чтобы сделаться
тем, чем был. Но нельзя того же сказать о Шлегелях. После того
как они стали во главе новой романтической школы отчасти
вследствие своего сближения с Тиком, их неприязнь к Шиллеру вредно
отразилась на их литературной деятельности. Она сделалась
причиной того, что в их эстетических воззрениях обнаружились
некоторые пробелы, а романтическая школа получила отпечаток
зловещей односторонности. Ведь Фридрих Шлегель еще в
1796 году пришел к убеждению, что Шиллер — хороший ученик
Канта, но обладает «нешироким умом» и, подобно Якоби,
принадлежит к разряду «регрессивных сентименталистов»1; а после
разрыва он в течение многих лет преднамеренно игнорировал
второго из великих немецких поэтов, как будто он был в состоянии,
умалчивая о Шиллере, скрыть произведения поэта от глаз
современников и потомства; он признавал только поэзию Гёте,
называл Шиллера «полинялым моралистом», а «Орлеанскую деву»
считал за слабый отголосок «Женевьевы» Тика; вследствие этого
старания унизить величайшего из немецких драматических
писателей, он составил себе неверное понятие о драматической
поэзии и не умел ценить ее достоинств2.
1 Отрывочные заметки 1796 года у Виндишманна; философические
лекции Фр. Шлегеля II, 411 и ел.
2 Только в 1803 году (в журнале «Европа» I, 1, с. 42, 58) снова упоминалось
имя Шиллера, а до того времени оно не упоминалось даже в тех случаях, когда
это было бы совершенно необходимо, как, например, в «Атенее» I, 2, с. 64,
отрыв, заметка 4. Как дурно отзывался Фр. Шлегель о Шиллере в своем
интимном кружке, видно из его письма к Рахили от 8 февраля 1802 года («Vamhagen,
Gallerie von Bildnissen» I, 230, 234). Касательно упомянутых на этих страницах
насмешек над Шиллером, см. «Vorlesungen über deutsche Litteratur und
Wissenschaft», с 189. Касательно пошлых насмешек Боаса, см. «Xenienkampf» II, 266;
сравн. письмо Фр. Шлегеля к Шлейермахеру от 23 января 1801 года («Aus Schle-
iermacher's Leben» III, 257 с примечаниями издателя). Заказанная Фр. Шлегелю
рецензия на шиллеровские трагедии для эрлангенской «Литературной газеты»
не была написана (там же, III, 309).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
215
Все это было очень странно тем более потому, что Фридрих
Шлегель, по своему складу ума, имел гораздо более общего с
Шиллером, чем с Гёте. Не было простой случайностью то, что в
своих самых выдающихся юношеских статьях он шел по следам
Шиллера. Он по примеру Шиллера присоединял к своим
эстетическим и историческим воззрениям философские объяснения.
В этом отношении ученик Винкельмана не мог быть вполне
доволен сочинениями Гердера, даже положительно укорял Гердера
за односторонность его исторической точки зрения, за отсутствие
философских воззрений. Гердеровская манера рассматривать в
каждом произведении искусства не его внутренние достоинства,
а только его зависимость от местных и временных условий
должна была, по его мнению, привести только к тому выводу, что все
произведения искусства могли быть только такими, какими они
дошли до нас1. В этом влечении к философии, в этой способности
переноситься в сферу абстракции и заключалась главная
характеристическая особенность, которою Фр. Шлегель отличался от
своего брата. Уже в его первых статьях проглядывает тот
философский дилетантизм, от которого он не отказывался в течение всей
своей жизни и который нашел для себя выражение в последние
годы его жизни в его общедоступных публичных лекциях.
Первые шаги в этом направлении были сделаны им под влиянием
сочинений Платона и подражавшего Платону Гемстергюи;
сначала шиллеровские идеи лишь неясно проглядывали в его статьях,
как, например, в статье «О пределах прекрасного»; они являются
господствующими в статье «Об изучении поэзии», но при этом
заметно непосредственное влияние Канта и поверхностное
знакомство с сочинениями Фихте. У него все еще встречаются
напоминающие Платона определения прекрасного как полноты
жизни в соединении с цельностью и с гармонией; сообразно с этим
он считает бессвязность за отличительную особенность того, что
безобразно. Он все еще старается объяснять происхождение
прекрасного из чувства радости, а происхождение безобразного —
из чувства скорби; прекрасное он называет «приятным
проявлением хорошего», а безобразное — «неприятным проявлением
дурного». Но потом к этим основным положениям стали
примешиваться основные положения совершенно иного рода; Шлегель стал
1 В конце рецензии на гердеровские «Письма о гуманизме» в девятом
номере Рейхардтова журнала «Германия»; см. выше (с. 210, прим.).
216
Р. ГАИМ
высказывать более отвлеченные идеи, заимствованные у Канта,
а кантовскую критику эстетических суждений назвал «зародышем
„объективной" теории прекрасного». Он определил прекрасное
вполне согласно с учением Канта и во многих других случаях
придерживался воззрений Канта, как, например, когда говорил,
что рассудок есть способность переходить от условного к
безусловному, а в сочинениях Фихте он видел окончательное
развитие идей Канта. Он скоро всецело подчинился влиянию философии
Фихте. Это был в высшей степени важный момент в умственном
развитии Фридриха Шлегеля: с него начался поворот немецкой
литературы от классицизма к романтизму. «Основные начала
науки и познания» внушили Фр. Шлегелю совершенно новые идеи,
которые дали поэтическим и философским произведениям его
литературных единомышленников частью новое направление,
частью ясно сформулированные руководящие правила.
И разве мог Фр. Шлегель не увлечься этим новым
философским учением! Правда, оно представляло чрезвычайно резкую
противоположность с философскими системами греков. Но то, что
автор статьи «Об изучении поэзии» говорил в порицание
новейшей поэзии, могло быть с незначительными изменениями
приспособлено к той новейшей из всех новых философских систем.
Идеализм еще никогда не заявлял о себе с такой силой. Он
поучал, что окружающий нас разнохарактерный чувственный мир
не имеет никакого права на самостоятельное существование, что
действительно существует только наше собственное «Я». Но и
это «Я» существует только в той мере, в какой оно действует. Из
его деятельности возникает видимый, связанный в одно
правильное целое мир, который поэтому есть не что иное, как система
наших представлений, как отражение нашего «Я» в том же «Я».
Но и это отражение не объясняет нам самой внутренней
сущности нашей души, потому что оно не представляет нас совершенно
такими, каковы мы в действительности. Мы действуем
настоящим образом только по указаниям свободной, нравственной воли;
мы вполне выражаем наше «Я» только тогда, когда стараемся
превратить воображаемый нами мир в мир свободы, в вечно
созидаемое, сверхчувственное царство добра.
Поклонники греков должны бы были отталкивать и этот
доведенный до крайности субъективизм, и отвлеченность этой
системы, враждебной понятию о прекрасном. Но у Шлегеля была
вовсе негреческая натура. Он со свойственной новейшим философам
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
217
рефлексией составил себе понятие и о древней поэзии, и о новой.
То, что он превозносил под названием объективности, в
сущности было безусловностью. Подобно тому как он требовал для
искусства безусловной красоты, и автор «Основных начал науки и
познания»1 требует также безусловности. Но у Фихте это
требование было облечено в стройную систему. Его идеи отличались
цельностью и такой безыскусственностью, какой мы не находим
в ранее изложенных идеях Спинозы. В этом заключалось важное
преимущество, которое имела новая форма трансцендентальной
философии пред той, которая была создана самим Кантом. О Канте
можно сказать, что он создал не новую систему, а критический
для ее построения материал; в своей борьбе с догматизмом и со
скептицизмом он старался воздвигнуть для научного знания
скорее крепость, чем храм. Желая сделать эту крепость
неприступной, он не обращал внимания на требования симметрии и строил
бастионы в разнообразном стиле. Он исследовал способности
человеческого ума по частям, а соединительные линии этих
отрывочных исследований нередко были у него проведены так, что
с первого взгляда скрещивались и переплетались. Он признал за
человеческим умом важное участие в возникновении внешних
явлений, но вместе с тем он признавал «вещь в себе», не уяснив,
в чем заключается их взаимодействие. С одной стороны, он, по-
видимому, хотел безвыходно ограничить человека сферой его
внутренней жизни, а с другой стороны, он раскрыл вне этой сферы
такой мир, который вечно был закрыт от наших глаз туманом и
который никогда не поддавался изучению. А разве можно вызвать
этот мир к жизни при помощи доброй воли? Великий философ
отвечал на этот вопрос так осмотрительно, что всякий мог делать
выводы из его слов на свой собственный риск. Но чем
неопределеннее были идеи Канта, тем определеннее были идеи Фихте; ведь
из произведений Канта всякий выносил убеждение, что в них
истина раскрыта точно на половину. Этим материалом
воспользовался более смелый мыслитель. Вышедший из школы Спинозы,
Фихте сделал из критики философскую систему. По его словам,
все, что существует, существует для нас; а то, что существует для
нас, может получать существование только от нас. В
деятельности нашего «Я» заключается все бытие, как чувственное, так и
сверхчувственное. В самосознании он усматривал единство всех
1 Речь идет об «Основах наукоучения» (прим. науч. ред.).
218
Р. ГАИМ
способностей нашего ума, единство всех форм внешних явлений
и лежащей в основе этих явлений «вещи в себе», единство
системы наших представлений и системы наших обязанностей,
единство наших теоретических и наших практических способностей.
В этом единстве заключаются и фундамент и венец всей
философской системы. Так как наше «Я» заключает в себе всю сферу
бесконечной деятельности, то в этой сфере сосредотачиваются все
наши знания и все наши желания. Если же допустить, что в сфере
чистой абстракции объективность есть конечная цель, что
объективность заключается в законченности, в необходимости и во
всеобщей пригодности, то разве все это не доведено до своего
максимума в той округленной форме, которую придал
трансцендентальному идеализму Фихте? Разве его система, взятая в своей
целости, не имеет чрезвычайно близкого сходства с настоящим
художественным произведением? Наконец, разве мастерская
дидактическая форма изложения у Фихте не так же совершенна и не
так же привлекательна, как диалектическая форма изложения у
Платона?
Такие воззрения, конечно, должны были отталкивать от себя
большинство читателей, потому что противоречили
общепринятым понятиям, а по своей оригинальности и неслыханной
смелости шли в разрез с убеждениями так называемого здравого
человеческого рассудка. Но Фридрих Шлегель менее всякого другого
заботился о сочувствии со стороны этого большинства. Напротив
того, для системы Фихте служила в его глазах рекомендацией
именно неслыханная новизна изложенных в ней идей. Он любил
во всем крайности. И на деле, и на словах он гонялся за
неожиданными эффектами. Кроме того, он при своих напряженных
умственных занятиях невольно прибегал к поразительным
контрастам, к напыщенным выражениям. Этим наклонностям вполне
соответствовало мировоззрение Фихте. Оно разрешало загадку
бытия одним словом, выражавшим такой парадокс, с которым не
мог равняться причудливостью никакой другой. По выражению
самого Шлегеля, «Основные начала науки» были парадоксальны
и в своей основной идее, и в своих практических последствиях.
Но в этой основной идее парадоксальность соединялась с
радикализмом. В голове Фихте радикализм возник под влиянием
достопамятной попытки французских революционеров разом
превратить их отечество в государство, управляемое по законам
чистого разума. Философские идеи Фихте развились из его
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
219
политических идей. На его философию возводили лестную
клевету, называя ее «демократической». Он был того мнения, что и
в государстве должны безусловно господствовать разум,
равенство прав и одинаковая для всех свобода. Он смотрел на учение
Канта не только глазами последователя Спинозы, но и глазами
республиканца. Он заметил, что Кант в своих неясных
очертаниях мира чувственного и сверхчувственного осторожно и
нерешительно намечал границы более узкой сферы, в которой
господствует только разумная воля. Он видел в этом компромисс между
знанием и незнанием, между рационализмом и
иррационализмом, между воззрениями идеальными и простонародными.
Таким компромиссом не мог довольствоваться ум Фихте,
стремившийся к тому, что безусловно, и настроенный на революционный
тон. Ему нужна была такая сфера, в которой все ясно, в которой
все без исключения есть выражение свободы; поэтому
единодержавие нашего «Я» было тем всеобщим основным принципом, с
которым могли ужиться и его радикальный ум, и его гордая
отвага. Немало было людей, которым был по душе такой радикализм
(он был по душе и Фр. Шлегелю). Как парадоксы автора
«Основных начал науки», так и его революционное направление были
одинаково заманчивы для того, чье влечение к изящным
искусствам греков соединялось с требованием такой безусловной
автономии для искусства, которая была возможна только в сфере
греческого республиканизма.
Кроме того, следует заметить, что в воззрениях Фр. Шлегеля
на греческую жизнь присоединялись к эстетическим интересам
и этические. Он нашел у Фихте самые чистые понятия о
нравственности. Философия этого мыслителя развилась из глубокого
врожденного влечения к добру и справедливости. В душе Фихте
постоянно старались взять перевес то влечение к ясности, то
влечение к нравственной деятельности. Еще прежде, чем он был в
состоянии облечь свои воззрения в научную систему, он задумал
«пробудить из усыпления и нравственно улучшить своих
современников». Его «Основные начала науки» в сущности были
основными началами этики. По его мнению, бытие объяснялось в
конце концов нравственным назначением человечества.
Безусловному требованию добра он беспощадно приносил в жертву и
чувственность, и красоту, и всю индивидуальную жизнь. Все
формулы, с помощью которых он старался объяснить строго
методическое развитие бытия, сводились к требованию подчиняться нрав-
220
Р. ГАИМ
ственным законам. Это была самая подходящая философия для
юношества, стремившегося к независимости и к полезной
деятельности. Она нашептывала ему то магическое слово, которое
могло превратиться в рычаг для ниспровержения всего
существующего. В ее категорических положениях могли находить для себя
духовную пищу не только благородное стремление к
добродетели и к геройским подвигам, но также страстное властолюбие,
чрезмерная самоуверенность, воинственная страсть к нововведениям.
Фр. Шлегель, всецело отдавшийся тому идеалу нравственности,
который был плодом его изучения древнего искусства и древней
жизни, с жаром ухватился за учение Фихте, которое хотя и
излагало совершенно иные понятия о нравственности, но, подобно
учению Платона, имело центром тяжести этические требования
и старалось применять их к жизни с одинаковым беспощадным
принесением в жертву всего остального.
Итак, учение Фихте имело со всех сторон непреодолимую для
Фр. Шлегеля привлекательность. В целом ряде журнальных статей
он выразил свое влечение к философии, сначала придерживаясь
учения Канта, а потом все более и более склоняясь на сторону Фихте.
Еще живя в Дрездене, он вошел в сношение с редакцией
философского журнала Нитгаммера и написал для этого журнала
рецензию на произведения Кондорсе, которая свидетельствует о
его смелой уверенности, что в глубине человеческого ума
следует отыскивать закон прогресса для истории человечества. Также
еще живя в Дрездене, он написал статью «Versuch über den
Begriff des Republikanismus» («Опыт понятия республики». — Прим.
науч. ред.)\ под впечатлением остроумной кантовской статьи о
вечном мире, в которой он видел новое доказательство
«возвышенных идей мудреца». Тем не менее он уклонялся от учения
Канта в своем воззрении на отношение республиканских
учреждений к другим формам государственного устройства.
Сообразно со своими прежними отзывами о политическом образовании
древних и о превосходствах их государственного устройства, он
стал высказывать чисто республиканские убеждения. Это первое
применение философских идей к политической теме имело очень
близкое сходство с применением тех идей к эстетике. Когда Шле-
гелю приходилось заводить речь о современном политическом и
1 Она появилась (с подписью его имени) в Рейхардтовом журнале
«Германия» (1796), № 7, с. 10 и ел.; но после того нигде не была перепечатана.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
221
общественном строе, он постоянно называл этот строй
негодным. Теперь он стал применять к политической сфере
высказанное им в статье «Об изучении поэзии» убеждение в
необходимости подражать грекам. Подобно тому как эстетическая культура
новейших народов получила ложное направление, однако не
уничтожающее всякую надежду на улучшение, и политическая
культура новейших народов в сравнении с культурой древних еще
находится, по его мнению, в детском состоянии. И подобно тому
как в эстетической культуре он признавал лишь некоторые
временные достоинства, которые должны будут уступить место
«объективности», он полагал, что монархии предстоит
выполнить лишь временную педагогическую задачу, расчистив путь
для республиканизма1. Но его политико-исторические сведения
недостаточно обширны, вследствие чего его доводы отличаются
слишком большой отвлеченностью. В то самое время, как Фихте
вырабатывал свои основы натурального права, и он старался
отыскать основные принципы для кантовских воззрений, конечно, не
с такой последовательностью, как Фихте, и с неумелостью
дилетанта. Чтобы восполнить то, чего, по его мнению, недостает кан-
товским сочинениям, он берется за объяснение смысла
республиканизма и за классификацию политических учреждений a priori.
Для этого он заимствует необходимые средства у Фихте.
Поэтому он берет за точку исхода «высший практический тезис»,
основное положение: «„Я" должно существовать». Вслед за тем из
теоретического положения, что человек одарен способностью к
общительности, он выводит заключение, что «Я» должно
создавать условия общественной жизни. Отсюда возникает
государство; вместе с ним возникает необходимость политической
свободы и равенства, необходимость признавать всеобщую волю за
основное руководство; а отсюда возникает понятие о
республиканизме. Шлегель признает демократическую республику за
единственную форму государственного устройства, соответствующую
требованиям разума, а все другие формы, в особенности какой
бы то ни было вид анархии, отвергает. Он отстаивает против
Канта понятие о народном самодержавии, и мы узнаем в нем
автора статьи о Диотиме, когда он положительно утверждает, что
женщинам также должно принадлежать право голоса. С такой
1 Сравн. то, что он говорил в статье «Об изучении поэзии» (предисловие в
сочинении «Die Griechen und Römen>), с. XXI.
222
Р. ГАЙМ
же радикальной точки зрения он смотрит на условия, при
которых позволительно народное восстание. Тем не менее его
радикализм вовсе не опасен, потому что и до введения описанного
им самого лучшего государственного устройства можно, по его
мнению, сделать много хорошего. Он уже ранее указывал на
господство нравственности как на конечную цель эстетической
революции; то же господство нравственности должно, по его
мнению, служить подготовкой к введению безусловно хорошего
государственного устройства. При разъяснении вопроса об
исторической возможности всеобщего республиканизма среди
всеобщего мира он восстает против мнения Канта, будто в законах
самой природы заключается ручательство за окончательное
торжество того, что соответствует требованиям разума: «только из
исторических принципов политического образования, из теории,
преподаваемой политическою историей, можно сделать
удовлетворительный вывод касательно связи между политическим
разумом и политической опытностью». Но эта идея остается без
подробного развития, поэтому трудно решить, выражалось ли в ней
историческое чутье Фр. Шлегеля или же она была только
отголоском антинатуралистического образа мыслей,
заимствованного от Фихте.
Влечение Шлегеля к философии вообще и к философии
Фихте в особенности могло лишь усилиться вследствие переселения
из Дрездена в Йену. Тогда ученик вступил в личные сношения со
своим наставником. Внушавшей высокое уважение личности
Фихте следует приписать тот факт, что философ умел лучше
Шиллера держать своего юного последователя в зависимости и в
покорности. Впрочем, они имели обоюдное влияние один на
другого. Дружеское расположение Фихте к братьям Шлегель не
ограничивалось, подобно дружескому к ним расположению Гёте,
одним доброжелательством. Шлегели обходились с Фихте почти
как с равным, а последствием этого было то, что не только они
сами вовлеклись в сферу идей Фихте, но и вовлекли этого
философа в сферу своих партийных интересов.
Фридрих Шлегель начал с того, что попытался вступиться за
интересы философии, представителями которой были в то время
Кант и Фихте и на которую было сделано нападение в лице первого
из этих двух философов. Уже в своих примечаниях к письмам
Платона И. Г. Шлоссер заявил ребяческий протест против кан-
товского критицизма с точки зрения чувства и веры, а философ
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
223
намылил ему за это голову в статье «Von einem neuerdings erhobnen
vornehmen Ton in der Philosophie» («Об аристократическом тоне,
недавно возникшем в философии». —Прим. науч. ред.); но
благочестивое рвение Шлоссера только усилилось после чтения этой
статьи. Он излил свое негодование в «Послании к молодому
человеку, желающему изучать критическую философию». В ответе
на это сам Кант ограничился замечанием, что его
невежественный противник неспособен нарушить «вечного мира, который
господствует в философии»; но последователи Канта вступились за
честь философии и постарались проучить наглого Ферсита.
Фридрих Шлегель не пропустил этого удобного случая высказать свое
мужество в защите правого дела. Его статья «Der deutsche Orpheus,
ein Beitrag zur neusten Kirchengeschichte» ' («Немецкий Орфей.
Приложение к новейшей церковной истории») была написана, очег
видно, не столько с целью разъяснить сущность дела, сколько из
желания блеснуть полемическими дарованиями. Если бы ему
нужно было предварительно поучиться искусству уничтожать своих
противников, то он мог бы извлечь необходимые указания из
сделанного Фихте сравнения системы Шмидта с «Основными
началами науки» и из появившейся незадолго перед тем в
«Философском журнале» статьи «Annalen des philosophischen Tons»
(«Анналы философских интонаций». —Прим. науч. ред.). Но он
превосходил своего наставника и остроумием, и язвительностью. Он
очень остроумно заметил, что Шлоссер намеревался выставить в
своем «пасквиле неподражаемый образец площадного тона»; а
чтобы выставить в самом ярком свете ничтожество своего
противника, превозносил как только мог величие философа, за
которого вступался. Нельзя, конечно, не согласиться с мнением,
которое высказал Шиллер в письме к зятю Шлоссера, Гёте, что вся
статья Фр. Шлегеля слишком ясно обнаруживает предвзятое
намерение хулить и привязанность к партийным интересам; но для
пристрастных суждений Шлегеля служили вполне достаточным
оправданием обскурантизм и мистицизм Шлоссера. Нельзя того
же сказать о философском свободомыслии, с которым Шлегель
говорил о «новоорфических христианских верованиях»
Шлоссера и называл его статью «новым вкладом в chronique scandaleuse
1 В Рейхардтовом журнале «Германия», № 10, с. 49 и ел. Что эта анонимная
статья, впоследствии нигде не перепечатанная, была написана Фр. Шлегелем,
видно из писем Шиллера к Гёте (№ 315 и 426).
224
Р. ГАИМ
(хронику скандалов. —Прим. науч. ред.) христианства». Все это
можно бы было извинить, если бы нам не было известно, что
впоследствии сам Шлегель перешел в лагерь Шлоссера.
Но, вступаясь за Канта, он не находил нужным строго
придерживаться точки зрения этого философа, потому что в глубине
души не считал воззрения Канта такими безусловно
«классическими», какими их публично признавал. Он был точно таким же
последователем Канта, каким был Фихте. Мало того: даже
«Основные начала науки» не вполне удовлетворяли его
беспокойный, любознательный ум. Из философических отрывочных
заметок, которые он писал в 1796 и 1797 годах1 и которые
сообщил нам Виндишманн в очень беспорядочной неправильной
форме, видно, что он пытался в то время рассмотреть кантовскую
философию с точки зрения Фихте и потом написать ее
характеристику. Следует заметить, что он намеревался только
охарактеризовать ее, но отнюдь не подвергать критике. В этом случае он
снова обнаружил тот недостаток научных сведений, вследствие
которого его суждения были отголосками налету схваченных
впечатлений, а не результатами спокойного, последовательного
развития его идей. Поэтому его мышление не отличалось
продуктивным характером. Он был более способен делать
характеристики ученых сочинений, чем делать критический разбор их
содержания; но именно поэтому он был способен писать
мастерские характеристики. «Слепым приверженцам кантианизма,—
говорил он, — следует доказать, что произведения Канта нельзя
принимать за талисман истины». Этот протест против
идолопоклоннического преклонения перед буквальным смыслом каждого
кантовского выражения оправдывается до некоторой степени
указаниями на недостатки великого философа. Несмотря на то
что Шлегель нередко ограничивается отрицаниями безо всяких
доказательств, а в своих суждениях позволяет себе резкости,
нельзя не признаться, что он, в сущности, прав и что даже в
своих преувеличениях он очень меток и ловок. Разве он не прав,
указывая на отсутствие у Канта исторической точки зрения?
Разве он не прав, когда говорит, что Кант вносит мораль в политику,
в эстетику и в историю, а, напротив того, в сфере морали
является политиком? Он охотно признает величие философа, но только
1 См. лекции о философии, которые читал Фр. Шлегель в 1804—1806
годах; также отрывочные заметки (том II, с. 403 и ел.).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
225
ввиду этого признания можно находить превосходными те
замечания, которые иначе показались бы безрассудными и
бессмысленными. Он укоряет Канта за недостаток политического и
эстетического чутья, а этим недостатком объясняет односторонность
его морали, которую он излагает так, как излагают алгебру. Он
называет Канта «человеком, качающимся из стороны в
сторону», «тщеславным, неодаренным таким же мощным умом, как
Спиноза или Фихте». Он говорит, что Кант замазывает пробелы
клейстером или ставить на них заплаты, что он во всем
останавливается на половине дороги, что его критика отличается
схоластической осмотрительностью, а он сам — «гениальный педант».
Уже из неоднократных обвинений кантовской философии в
отсутствии систематичности, в запутанности и неясности ясно
видно, что нашему критику всего более нравились в учении Фихте
цельность и систематичность внешней формы. Он постоянно
имеет в виду одну цель — возведение философии в систему.
В этом отношении его не вполне удовлетворяют даже
«Основные начала науки». Поэтому ему хотелось бы создать свою
собственную систему, и он воображает, что такая задача будет ему
по силам. К своим философским идеям он примешивает
воззрения педагогические и исторические. Без сомнения, благодаря
своему близкому знакомству с произведениями Платона он требует,
чтобы наставник прежде всего старался пробудить в ученике
влечение к научным занятиям. С другой стороны, из его
исторического чутья возникло требование, чтобы любовь к научным
занятиям, из которой зародилась философия, развивалась на
основании изучения истории. Эти остроумные, но далеко не зрелые
идеи не составляли, как мы впоследствии увидим,
исключительной собственности Фр. Шлегеля, а составляли его общую
собственность с его другом Гарденбергом. Они были впоследствии
подробно развиты другим писателем в самой изящной форме и
вполне самостоятельно. В этом случае Фр. Шлегель только
приготовил ту основу, на которой Гегель впоследствии построил свою
феноменологию, свою логику и энциклопедию.
Все, что Фр. Шлегель печатал касательно философии до
конца своего пребывания в Йене, не заходило далее содержания
рассмотренных нами отрывочных заметок. Подобно тому как
старший Шлегель был обязан помещением своей рецензии на журнал
«Hören» в «Литературной газете» посредничеству Шиллера,
считавшего его в то время за вполне надежного и преданного едино-
8 Зак. № 3602
226
Р. ГАЙМ
мышленника, и младший Шлегель был обязан влиянию Фихте
помещением на страницах той газеты своей рецензии на Нитгам-
меров «Философский журнал»1. Если в основе этой рецензии
лежат какие-либо определенные философские воззрения, то все они
заимствованы от Фихте. Мы узнаём последователя Фихте и в
объяснении тождества практического и абсолютного «Я», и в
следующем формулировании отношений религии к нравственности:
религия служит не столько обязательным вспомогательным
средством для добродетели, сколько завидной для нее наградой. В
первом случае он заимствовал от Фихте свои воззрения на проблему
свободы воли, а во втором заимствовал от него же воззрения на
веру в Бога. Все это Шлегель излагал в своеобразном смысле, с
гениальной самостоятельностью, но философия немного оттого
выиграла. Короче сказать, из шлегелевской рецензии никак нельзя
было заключить, что ее автор способен сделать самостоятельный
шаг вперед в развитии философских идей; в ней Шлегель
является не столько философом, сколько рисующим меткие
характеристики историком.
Но он уже за несколько месяцев перед тем дал нам поистине
образцовую рецензию в этом роде в своей статье о философском
романе Якоби «Вольдемар», появившемся в 1796 году вторым
изданием2. Ни ранее того, ни после того Шлегель не написал
ничего более остроумного и в своем роде более законченного; в этой
статье нашли для себя выражение все его умственные дарования:
она представляет самый зрелый плод этого первого периода его
умственного развития. Самая тема статьи благоприятствовала
успеху, потому что главная сила Шлегеля заключалась в
характеристиках. Он мог бы попытаться написать для самого себя и
характеристику кантовской философии, но он сам сознавал, что
философия, вполне или приблизительно достигнувшая высшей
1 В этой рецензии речь идет о первых четырех номерах того журнала; из
«Литературной газеты» (1797, март, № 90—92) она была без изменений
перепечатана в I том «Характеристик и критик» (с. 47 и ел.), но не попала в полное
собрание сочинений Фр. Шлегеля.
2 Эта статья была в первый раз напечатана в начале ноября или в конце
октября 1796 года в Рейхардтовой «Германии» (с. 185 и ел.). Она была
перепечатана в «Характеристиках и критиках» I, 3 и ел. Для того направления, в
котором редижировалось полное собрание сочинений Фр. Шлегеля, очень
характеристичен тот факт, что Шлегель не поместил там своей рецензии, о которой
сам впоследствии писал Шлейермахеру («Aus Leben Schleiermacher's» III, 138),
что она не принадлежит к числу самых слабых его произведений.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
227
ступени развития, должна быть предметом не поверхностной
критики, а такой, которая положительно дополняет ее, совершенствует
и приводит в систему; напротив того, философия, возникшая
вполне из личных мотивов, может быть предметом только
характеристики. Именно такова философия Якоби; поэтому писать ее
характеристику — значит в то же время обсуждать ее содержание.
С другой стороны, главное достоинство шлегелевских
характеристик заключалось в указании недостатков, в полемических
приемах. Но основой для шлегелевской полемики служили
положительные убеждения: в эстетическом отношении — те понятия о
красоте, гармонии и объективности, которые были плодом
изучения греческой жизни; а в философском отношении — кантианизм,
приведенный в систему сочинениями Фихте. Он усматривает
отличительную особенность древности в классической
законченности и в способности вводить такие государственные
учреждения, при которых возможна легальная свобода. В то же время он
хвалит стремления нового времени к бесконечному, но требует,
чтоб они выражались в деятельности и соединялись со
стремлениями к гармонии, потому что только тогда доброе и прекрасное
будут составлять одно целое с великим и возвышенном. В религии
он видит самую лучшую награду за высокую нравственность, но
полагает, что было бы крайне опасно делать из религии средство
для поддержания нравственности и костыль, на который должны
опираться люди с испорченным сердцем. Таков его практический
идеал, отражающийся, как в зеркале, и в тех требованиях,
которые он предъявляет к философии. Субъективное условие всякой
истинной философии заключается, по его мнению, в чистом,
бескорыстном влечении к познаванию и к истине, в
сократической жажде знаний, в «логическом энтузиазме», — то есть
именно в том, чего недостает софистам и мистикам. Но внешняя
форма философии должна, по его мнению, заключаться в законченной
системе.
Эти убеждения Шлегель принял за мерило для оценки
воззрений Якоби, изложенных в романе «Вольдемар». При этом он
поступал с последовательностью настоящего философа. Чтобы
вполне уяснить направление Якоби, он счел нужным изучить все
произведения этого писателя. А каким путем сложились
воззрения рецензента, видно из одного письма Жан-Поля к Якоби,
который, понятно, был очень недоволен шлегелевской рецензией и
горько жаловался на «суровость и озлобление, с которыми выра-
228
Р. ГАЙМ
жался этот террорист категорического императива»1. Шлегель
разом прочел и изучил произведения Якоби; сначала он
увлекался их достоинствами и даже приходил от них в восторг; он все
глубже вдумывался в их содержание, пока наконец не выяснил
для себя, в чем заключается главный недостаток изложенных в
«Вольдемаре» воззрений. Не подлежит сомнению, что он
придерживался такой же методы и в других случаях. Точно так же читал
он вскоре после того сочинения Форстера и Лессинга и точно так
же впоследствии перечитывал произведения Платона. Эта
метода вовсе недурна. Она близко знакомила Шлегеля со складом ума
изучаемого писателя, она помогала ему распознавать слабые
стороны его произведений; она была опасна только в том отношении,
что иногда побуждала рецензента направлять на автора то лезвие,
которое охладевший энтузиазм обыкновенно направляет на
самого себя. И достоинства и недостатки этой методы обнаружились
в рецензии на «Вольдемара». По этому поводу Шлейермахер
заметил, что рецензент напрасно выставлял перед публикой
нравственные побуждения автора2; но этот недостаток скорее можно
приписать самому Якоби; шлегелевская характеристика не могла
поступать иначе, и именно благодаря этому она была такой меткой
и колкой. Но она была не только меткой и колкой: благодаря
своему изящному вкусу и своей даровитости, Шлегель сделал из нее
небольшое, вполне законченное художественное произведение.
Рецензент начинает указанием на «полемические» заслуги
Якоби. Он отдает справедливость благородному рвению, с
которым этот писатель восставал против всякого бездушного
обоготворения разума, против всяких поверхностных понятий о
Просвещении. «Однако, — говорит Шлегель, — еще недостаточно
одних стремлений к бесконечному». Хотя «Вольдемар» вовсе
недюжинное произведение, в нем все-таки примешиваются к
достоинствам и недостатки. Чтобы объяснить причину такой
примеси, необходимо вникнуть в отличительный характер
рассматриваемого романа, в его главную цель и в его конечные выводы.
С первого взгляда можно принять этот роман за поэтическое
художественное произведение, но в этом скоро приходится
разубедиться. Рассказ кончается диссонансом безо всякой развязки; по-
1 Жан-Поль к Якоби от 27 января 1800 года. Якоби к Н. от 11 ноября
1796 года; сравн. письмо Шиллера к Гёте от 22 ноября 1797 года [№ 247].
2 В рецензии на шлегслевские «Характеристики и критики» («Aus dem Leben
Schleiermacher's» IV, 556).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
229
чти все положения действующих лиц, характеры и страсти
производят неприятное, отталкивающее и, стало быть, непоэтическое
впечатление; мало того: главное происшествие, служащее темой
для рассказа, отличается крайней неестественностью. Эти
суждения рецензент излагает в форме в высшей степени метких и
остроумных сарказмов. Нельзя назвать вполне удачным
замечание Лессинга, что к гётевскому «Вертеру» следовало бы
прибавить циническую заключительную главу. Оно лучше подходит к
роману Якоби. Совершенно в духе Лессинга Шлегель говорит, что
читатель был бы доволен всякой развязкой неестественных
отношений между Вольдемаром и Генриеттой, хотя бы это была такая
же нехитрая развязка, какую предложила гомеровская Цирцея
Одиссею. Но между Вольдемаром и Вертером Шлегель находит
громадную разницу. Первого из них он превосходно
характеризует как такого человека, который заражен наследственной
болезнью Якоби — желанием быть единственным в своем роде; по
словам Шлегеля, Вольдемар из жажды умственных наслаждений
делается черствым эгоистом, у которого сентиментальные
влечения к природе проистекают из внутренней пустоты, между тем
как в любви Вертера к природе обнаруживается самая искренняя
чувствительность. Отсюда ясно видно, что поэтический элемент
в романе Якоби служил только средством для достижения
задуманной цели. Поэтому возникает вопрос, не представляет ли этот
роман философское художественное произведение. Но в нем
вовсе нет единства философских воззрений. В нем есть только
единство направления и тона, индивидуальное единство, потому что
Якоби, как он сам заявляет, описывал и в этом романе, и во всех
других своих сочинениях свойства не человеческой натуры, а свои
собственные. Этот индивидуальный характер философии Якоби
обнаруживается, по мнению рецензента, во всем, что писал
Якоби. Стало быть, не жажда знания руководила деятельностью
этого писателя. Его философия была не что иное, как «выраженное в
идеях и в словах направление индивидуальной жизни». Этим
объясняются и достоинства его полемико-критических статей, и
недостатки его поучений о наглядном объяснении бесконечного,
о религии откровения и т. д. Страх, малодушие и горделивое
тщеславие составляют главные отличительные черты его характера —
таковы были мнения Шлегеля, изложенные в его черновых
философских заметках. Они же были изложены и в рецензии в
форме несколько более мягкой; но рецензент прибавил к прежним
230
Р. ГАЙМ
замечаниям похвалу, которая в сущности только усилила
высказанные им порицания. Он говорит, что именно гениальная
живость ума Якоби делает крайне опасной «безнравственность» его
произведений. Ведь в этих произведениях сказывается
«заманчивая душевная распущенность», «беспредельная
невоздержанность». Эта тенденция доводится в суждениях Якоби о религии
до таких крайностей, что делает автора рабом лишенного всякой
твердой почвы мистицизма. Склад ума у Якоби отличается не тем
республиканизмом, по которому узнается настоящая гениальность,
а «теологическими дарованиями» и безграничным деспотизмом
надо всем, что касается философии и поэзии. Это замечание,
наконец, дает рецензенту право произнести следующий решительный
приговор над «Вольдемаром»: «Этот роман, в сущности, написан
с целью внушить веру в Бога, а оканчивается это теологическое
художественное произведение так же, как оканчиваются все
бесчинства в сфере нравственности — автор делает salto mortale в
бездонную пропасть Божеского милосердия».
По своей конечной цели эта рецензия сходится с той, которая
была направлена против Шлоссера. Понятно, что ни та ни другая
не попала в изданное в 1822 году полное собрание сочинений
Шлегеля! Ведь они были написаны в осуждение самого Шлегеля.
В особенности рецензия на роман «Вольдемар» отличается таким
здравомыслием, что служит резким порицанием не только для
позднейшего мистицизма Шлегеля, не только для возникшей
впоследствии в его душе ненависти к требованиям разума, но и
для тех невоздержанных выходок против теологии, которые он
позволял себе в более раннюю пору своей жизни. Не вследствие
простой случайности восхищался он произведениями Якоби
после их первого чтения. С автором романов «Allwill» («Альвиль». —
Прим. науч. ред.) и «Woldemar» («Вольдемар». — Прим. науч.
ред.) у него было такое сходство, какого он сначала сам не
сознавал, а из чтения тех романов он вынес некоторые глубоко
засевшие в его уме идеи, несмотря на то что сначала горячо нападал
на них. И в нем самом проглядывали такая же склонность к
невоздержанности и такой же эгоизм, какими отличался Вольдемар.
Он стоял в то время на пороге нового периода в своем умственном
развитии, на том пункте этого развития, с которого начался его
переход к романтизму. Следя шаг за шагом за этим переходом,
мы могли бы в доказательство ложности его направления
ссылаться на вышеприведенные его собственные основные положения.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
РОМАНТИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА
ПРИОБРЕТАЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
И СХОДИТСЯ С РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИЕЙ
Обозревая всю до сих пор нами описанную деятельность
братьев Шлегелей, мы ясно распознаем отличительные
особенности каждого из них. Что между ними было некоторое
фамильное сходство, не подлежит никакому сомнению; но в то же время
они довольно резко отличались один от другого характером и
дарованиями, а вследствие того также своими стремлениями и
характером своей литературной деятельности. От природы более
спокойный и более серьезный Август Вильгельм был, сверх того,
старше своего брата и потому ранее его достиг зрелости
убеждений, между тем как ум Фридриха еще находился в постоянном
брожении, беспрестанно переходя от одних замыслов и
убеждений к другим. Первый был вполне погружен в изучение искусств
и литературы и не искал никакой другой сферы для своих
занятий, а второй не довольствовался искусствами и литературой и
постоянно заглядывал в сферы действительной жизни и
нравственности. Оба брата начали с того, что стали изучать греческую
древность, но Август Вильгельм очень скоро расширил сферу своих
эстетических симпатий: он изучил произведения Данте и
Шекспира и был близко знаком с новейшей немецкой поэзией.
Напротив того, занятия Фридриха современной немецкой литературой
были только случайными уклонениями от главного предмета, на
котором было сосредоточено его внимание; сфера его симпатий
еще была в то время чрезвычайно узка; более старая
романтическая поэзия еще вовсе не интересовала его, а превознося поэзию
греков, он допускал, что наряду с нею могла стоять почти только
одна поэзия Гёте. Оба брата были талантливыми критиками и
почти в одинаковой мере были одарены способностью подмечать
недостатки чужих произведений и остроумием. Но приемы их
232
Р. ГАЙМ
критики были неодинаковы. Насколько старший брат был более
хладнокровен и более рассудителен, настолько же его критика
была более положительной и более беспристрастной; в ней
заметна снисходительная осмотрительность и даже готовность
подчиняться разным посторонним соображениям. Суждения
младшего брата отличались резкостью и односторонностью, потому
что были отголосками его пристрастных симпатий или
антипатий; вследствие своей заносчивости и чрезмерно развитого
чувства собственного достоинства он нередко хулил то, что сначала с
восторгом хвалил. Но именно благодаря своей резкости его
суждения глубже проникали в сущность дела: они касались не только
формы, но и содержания; в них нередко затрагивались вопросы
нравственные. Напротив того, старший брат всего более
интересовался внешней формой. Он судил всего вернее о том, в чем сам
был мастером, и ценил выше всего те достоинства, которыми сам
обладал, — изящество, привлекательность, правильность. Кроме
того, его критика находилась под контролем верного
исторического взгляда, который придавал ей дальнозоркость и гибкость.
У младшего брата также заметна склонность руководствоваться
исторической точкой зрения, но его влечения к филологии были
сильнее его влечений к истории, а еще больше той и другой он
любил блестящие обобщения. В этом пункте всего резче
обнаруживалось различие между двумя братьями. Оба они были
бесспорно даровитыми людьми — старший преимущественно во всем, что
касалось внешней формы; а даровитость меньшего,
по-видимому, обнаруживалась еще ярче потому, что часто являлась
совершенно бесформенной. В ту пору, о которой здесь идет речь,
обыкновенно называли Августа Вильгельма, в отличие от его брата,
поэтом. Почти такое же право имел Фридрих на прозвище
философа. Не одаренный творческими способностями, Август
Вильгельм ограничивался подражаниями чужим поэтическим
произведениям и переводами, а Фридрих, не имевший достаточного
терпения для методического мышления, довольствовался
смелыми сочетаниями идей и отрывочными гениальными выходками.
Первый подчинялся в сочинении стихов влиянию немецких
классических поэтов, второй в изложении своих идей подчинялся
влиянию философии Канта и Фихте. Первый всему придавал
гладкую внешнюю форму, а второй все преувеличивал и превращал в
парадоксы. Этот последний еще не пробовал выступить в
качестве поэта; а если бы у него зародилось такое намерение, он, ве-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
233
роятно, создал бы нечто уродливое по внешней форме. Старший
брат еще только слегка пускался в философские суждения, а если
бы он вовлекся в занятия этого рода из тщеславия или из своего
влечения к подражанию, то он, без сомнения, стал бы только
повторять то, что было продуктом чужого мышления.
Сначала каждый из двух братьев шел самостоятельным
путем, но наконец настало время, когда они стали направлять свои
усилия к одной общей цели и стали подчиняться влиянию один
другого. При этом старший брат, естественно, старался играть роль
руководителя своего меньшего брата, постоянно обнаруживавшего
неустойчивость своих убеждений; а на самом деле роль
руководителя выпала на долю того из них, который был более смел,
более страстен, более остроумен и более богат новыми идеями. Эти
отношения возникли в то время, как оба они жили в Йене, а более
тесная между ними связь возникла вследствие переселения
Фридриха в Берлин.
Одной из последних литературных работ Фридриха в Йене
была «Характеристика Георга Форстера». Она служит
дополнением к рецензии на роман «Вольдемар». Несмотря на то что в ней
нет такой же художественной законченности, какой отличается
рецензия на «Вольдемара», она вполне верна и заключает в себе
всесторонний обзор литературной деятельности Форстера.
Рецензент одобряет образ мыслей этого замечательного человека, а в
похвалах, которые расточает ему, находит удовлетворение для
своей собственной склонности к оппозиции. Не подлежит
никакому сомнению, что сочувствие республиканским убеждениям
Форстера было так сильно, что он счел неудобным высказывать
его с полной откровенностью. В этом случае он обнаружил такую
сдержанность, которая вовсе не была в его характере и которая
даже не требовалась тогдашней цензурой. Он, конечно, не был бы
в состоянии совершенно очисппъ Форстера от обвинений в
государственной измене и потому поступил благоразумно, изложив в
форме литературной характеристики все, что мог сказать в
оправдание Форстера. По его словам, Форстер — классический
прозаик не в смысле античного понятия о классицизме, не в смысле
высшего образца, а в том смысле, что изложенные в его
произведениях идеи были идеями прогресса. Он полагает, что эти идеи
возникли в уме Форстера благодаря той свободе, с которой
совершалось его умственное развитие во время его путешествий, и как
бы в виде протеста против тех стеснений, которыми сам тяготил-
234
Р. ГАЙМ
ся, пишет следующие слова, которые впоследствии так часто
повторялись другими: читая произведения других, даже лучших
немецких писателей, мы чувствуем, что дышим комнатным
воздухом, а когда мы читаем произведения Форстера, нам кажется, что
мы дышим свежим воздухом и под открытым ясным небом
беседуем со здоровым человеком. И этого здорового человека
обвиняют в безнравственности! В старании опровергнуть это
обвинение рецензент обнаруживает все свое пристрастное сочувствие к
этому другу. Он находит в произведениях Форстера никем не
навязанные и не отзывающиеся педантизмом понятия о
нравственности, в основе которых лежит животворное чувство
человеческого достоинства. Он указывает преимущественно на те
сочинения Форстера, которые были им написаны в изгнании, —
на «Парижские очерки» и на «Последние письма» — и старается
доказать, что даже суждения Форстера о революции были
основаны на таких твердых убеждениях, в которых не было ничего
безнравственного. В заключение характеристики Шлегель
называет Форстера «общественным» писателем. Он говорит, что у
Форстера французское изящество и общепонятность изложения
и стремление английских писателей к общеполезности
соединялись с немецкой глубиной чувства и ума. От Форстера нельзя
требовать ни основательных познаний специалиста, ни
законченности настоящих художественных произведений, но мы найдем у
него изложение самых популярных идей. Благодаря тому что он
чувствовал себя всемирным гражданином, он возбудил в среде
образованных людей желание познакомиться с естественными
науками и, наоборот, увеличил интерес своих политических
сочинений, налагая на них отпечаток исследований по естествознанию.
С этой точки зрения общественности и всемирной
гражданственности даже его недостатки кажутся достоинствами; в качестве
«общественного» писателя он был настоящим классическим
прозаиком, которому нельзя отказать ни в чувстве прекрасного, ни в
гениальности и который имеет полное право называться и
художником, и философом.
Однако в этой статье было скрытое оппозиционное
направление, которое не бросалось в глаза при ее первом чтении. Она
была написана таким тоном, который, без сомнения, получил бы
от Гёте название «демократического». Этой статьей Фридрих
Шлегель окончательно закрыл для себя доступ в тот союз,
который был заключен его братом с жившими в Йене и в Веймаре
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
235
руководителями литературы. Так как ему не удалось завязать
сношения с редакцией журнала «Hören», то он поневоле искал
убежища в Рейхардтовой «Германии», охотно распространявшей
оппозиционные идеи молодого писателя, несмотря на то что ее
направление не вполне соответствовало украшавшим некоторые
статьи журнала эпиграфам из сочинений Гердера, Фосса и Штоль-
берга. Между тем цензура создавала для издателя так много
затруднений по поводу отзывавшихся политикой статей его
журнала, что он решился прекратить это издание и стал с Пасхи
1797 года издавать чисто эстетический журнал под заглавием
«Лицей изящных искусств». В первом томе этого нового
журнала появилась и шлегелевская характеристика Форстера1. С тех
пор Шлегель, принадлежавший к числу самых прилежных
сотрудников Рейхардта, вступил в самую тесную связь с
«Лицеем». Рейхардт жил на своей вилле в Гибихенштейне, а Шлегель
решился переехать на жительство в Берлин не потому только,
что его положение в Иене сделалось по его собственной вине не
совсем приятным, а также потому, что желал жить ближе к
редакции нового журнала. В начале июля 1797 года он переехал в
столицу2.
Само собой понятно, что в Берлине его тотчас привлек к себе
тот кружок, в котором под влиянием произведений Гёте
господствовало влечение к свободомыслию и в котором задавали тон
остроумная, дальнозоркая, чувствительная еврейка Рахиль Левин,
красивая, рассудительная и ученая жена доктора Марка Герца
Генриетта и благоразумная, мужественно самостоятельная дочь
Мендельсона Доротея, бывшая замужем за банкиром Вейтом. Этот
небольшой, но не лишенный влияния кружок нашел в лице
Фридриха Шлегеля своего рыцаря и передового бойца. Вследствие
резкой определенности своих эстетических и философских
воззрений Шлегель глубже других членов кружка чувствовал
отвращение к берлинским авторитетам и умел энергичнее других
1 I, 1, с. 32 и ел. Лишь с небольшими пропусками и изменениями эта
характеристика была снова напечатана в «Charakteristiken und Kritiken» I, 88 и ел., но
она не попала в полное собрание сочинений Фр. Шлегеля. Сравн. рецензию
Шлейермахера («Aus Schleiermacher's Leben» IV, 556).
2 См. сочинения Новалиса III, 69; если только здесь действительно шла
речь о Фр. Шлегеле. Предположение, что он в апреле был вместе с братом в
Дрездене, не согласуется ни с содержанием письма к Шиллеру № 4, ни с
содержанием письма Доры Шток от 2 мая 1797 года («Charlotte v. Schiller» III, 22).
236
Р. ГАЙМ
выражать это отвращение. В нем пробудилась во всей силе его
склонность к оппозиции, когда он увидел, что, несмотря на
деятельность Морица и Рейхардта, несмотря на произведения Тика
и Бернгарди, несмотря на все остроумные салонные разговоры,
в Берлине все еще господствовала старая школа, считавшая Рам-
лера за великого поэта, Энгеля — за новейшего Цицерона,
Мендельсона — за очень влиятельного философа, а Николаи — за
оракула критики. Но всего удивительнее было то, что представители
этой старой школы преклонялись перед именем Лессинга и
называли себя его друзьями. Это был такой вызов к борьбе, против
которого никак не мог устоять такой воинственный нововводи-
тель, каким был Фр. Шлегель. В своей статье о Лессинге он
вывел этих «друзей Лессинга» на чистую воду1.
Он написал эту статью с целью «спасти имя высокочтимого
человека от того позора, что он служит для всяких дурных людей
символом пошлости», с целью отнять это имя у тех любителей
«поэтической посредственности и литературной сдержанности»,
у тех «поклонников шаткости убеждений», которых Лессинг
ненавидел и преследовал в течение всей своей жизни и которые
теперь «обоготворяют его, как виртуоза золотой посредственности,
и присваивают его себе, как человека одинаковых с ними
убеждений». Шлегель едва ли достиг бы своей полемической цели, если
бы, как он сам впоследствии заметил, совершенно отложил в
сторону поэтические и критические произведения Лессинга и
говорил о Лессинге только как о философе. Действительно, он
первоначально задался более целесообразным намерением. Он задумал
охарактеризовать всю умственную деятельность Лессинга: он не
хотел подробно рассматривать, чем был Лессинг как критик, как
поэт, как теолог и как философ, а постарался объяснить, каким
общим духом проникнуты все его произведения, вместе взятые, —
«чем Лессинг был и желал быть во всем, что писал». В 1797 году
Шлегель хотел охарактеризовать не только произведения
Лессинга, но индивидуума Лессинга и присущий этому индивидууму
гений. Точно так же, как в своих характеристиках Якоби и
Форстера он старался доискаться, каков был Лессинг не как писатель,
1 Эта статья появилась во второй части первого и единственного годового
издания «Лицея» (с. 76 и ел.); она была перепечатана в «Charakteristiken und
Kritiken» (I, 170 и ел.) с некоторыми не вполне незначительными прибавками,
изменениями и пропусками, но не попала в полное собрание сочинений
Фр. Шлегеля.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
237
а как человек. Что «личность Лессинга имела более высокую цену,
чем все его литературные дарования», — эта мысль и по сие
время должна служить необходимым руководством для понимания
его литературных произведений. Поэтому и в статье Шлегеля
самые блестящие места те, в которых идет речь о личном характере
Лессинга.
Но чем более вдавался Шлегель в подробности, тем чаще он
вовлекался в преувеличения. Так, например, он высказал
сомнение насчет того, действительно ли Лессинг «во всем был поэт»,
действительно ли «он был одарен поэтическим чувством и
художественным вкусом». «Эмилия Галотти» представляет, по
мнению Шлегеля, «прекрасный образчик драматической алгебры»,
«созданное в поте лица мастерское произведение чистого
разума»; восхищаясь ею, мы чувствуем, что нас обдает холодом. «Если
бы Лессинг не написал „Натана", — говорит Шлегель, — то вся
его поэзия казалась бы фальшивой тенденцией, при которой
„эффектная" поэзия риторической сценической драмы не искусно
смешивается с чистой поэзией художественных драматических
произведений, а от этого до такой степени затрудняется развитие
драмы, что оно делается почти невозможным». Но и в «Натане»,
по мнению Шлегеля, немного драматических достоинств; он не
удовлетворяет даже самые умеренные требования в том, что
касается выдержанности характеров и связи происшествий; его
драматическая форма есть не что иное, как вспомогательное
средство, а его действующие лица, в сущности, не что иное, как
станок живописца. Это произведение, «созданное и проникнутое
энтузиазмом чистого разума», имеет в глазах Шлегеля двоякое
достоинство: оно «анти-Гёц номер двенадцатый» и
«драматизированное элементарное руководство для высшего цинизма».
Во всем этом, бесспорно, есть значительная доля правды; даже
слова «элементарное руководство для высшего цинизма» не
смущают нас, потому что под ними Шлегель разумел
отличительную особенность воззрений Лессинга на нравственность, тех
воззрений, которые сказывались безразлично в характеристике всех
действующих лиц: и иудея, и дервиша, и тамплиера, и монаха —
и которые заключались в горячем сочувствии к врожденной
нравственной чистоте. Однако в интересах истины необходимо знать
всему меру. Шлегель доказал свою неспособность всесторонне
и объективно охарактеризовать личность Лессинга, когда
говорил, что в Лессинге мы находим идеал самостоятельной жизни
238
Р. ГАЙМ
и стремление к безусловной естественной свободе, а вслед за тем
называл эту отличительную особенность Лессинга
цинизмом.
Если бы он действительно был способен оценить по
достоинству личность Лессинга, он этим принес бы неоценимую пользу
тому направлению идей, которого сам придерживался и из
личного убеждения, и ради общей пользы, и нашел бы в этом
вознаграждение за то, что потерял вследствие своей размолвки с
Шиллером. Новое поколение того времени еще не составило себе
верного понятия о Лессинге, потому что заслуги этого писателя
затмевались новым направлением гётевской поэзии и пестрыми
красками поэзии романтической и шекспировской; оно
беззаботно смотрело на то, что оставленное Лессингом наследство было
мертвым капиталом в руках тех людей, которые были
непосредственными свидетелями деятельности великого писателя. Тик по
своей натуре не мог питать сочувствия к Лессингу; подобно
своему другу Вакенродеру, он заявил, что «ему не нравятся лукавые
эстетические исследования», а в том, что исследования Лессинга
были лукавы, он был так же твердо уверен, как и в том, что басни
Лессинга были сентиментальны. Мы не находим никаких
признаков влияния Лессинга даже в тех случаях, когда Тик брал на
себя роль литературного критика; мы не находим никаких
признаков такого влияния даже в статье Тика о шекспировской
картинной галерее, несмотря на то что самый сюжет этой статьи
настойчиво напоминал ее автору об авторе «Лаокоона». Отзыв
Новалиса, что Лессинг на все смотрел слишком проницательным
взором и потому не мог испытывать того впечатления, которое
производит обзор неясных очертаний целого, доказывает, как
велика была разница между воззрениями этих двух писателей. Даже
такой от природы даровитый критик, как Август Вильгельм Шле-
гель, не обнаруживал большого уважения к личности Лессинга.
Влияние Бюргера, Клопштока, Гердера не возвысило Лессинга в
мнении современников. Мы впоследствии увидим, что Шлегель
и в более позднюю пору своей жизни не отдавал должной
справедливости Лессингу; в своей статье «Нечто о Вильяме
Шекспире» он не мог избежать упоминания о заслугах этого
«энергичного противника предрассудков», но в то же время он дал понять,
что достоинства «Эмилии Галотти» кажутся ему очень
сомнительными. Фридрих Шлегель, так тщательно изучивший
произведения Винкельмана и так восхищавшийся критикой Вольфа и Кан-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
239
та, должен бы был усерднее всякого другого изучать
произведения Лессинга. Но Винкельман столько же дополнял, сколько
опровергал воззрения Лессинга. Поэтому нас не должно удивлять
признание Шлегеля, что после первого чтения произведений
Лессинга он нашел их неудовлетворительными и понял их цену
только впоследствии. В то время, когда он писал статью «Об
изучении поэзии», он считал автора «Гамбургской драматургии» за
остроумного и одаренного изящным вкусом критика, но находил
его критические приемы устарелыми и, сверх того, называл его
поэтом, очистившим немецкую поэзию. Мы не впадем в
заблуждение, если скажем, что главным образом благодаря влиянию
Фихте Шлегель снова стал изучать произведения Лессинга. Он сам
рассказывает, что не мог оторваться от этих произведений, что
был обворожен их чарами, что читал и перечитывал их с пером в
руках и таким образом вступил в тесную духовную связь с их
автором. Уже в своей рецензии на роман «Вольдемар» он
упоминал о гениальных идеях Лессинга, а в характеристике Форстера
называл Лессинга «Прометеем немецкой прозы». Его
заблуждение заключалось только в том, что свое страстное увлечение
произведениями Лессинга он называл «беспристрастным» на том
основании, что оно вовсе не зависело от сочувствия к
рассматриваемому предмету. На самом деле это увлечение было в высшей
степени пристрастным и субъективным. Ведь все преувеличения
и парадоксы, которые встречаются в написанной Фридрихом для
«Лицея» характеристике, объясняются желанием наложить печать
молчания на уста поклонников Лессинга и предоставить самому
себе исключительное право превозносить достоинства этого
писателя. Он бессознательно стал усваивать и внешние формы
жизни Лессинга, и его умственное направление и характер. В его
глазах Лессинг был именно таким человеком, каким он считал самого
себя, потому что представлял в своем лице совершенно
своеобразное и неопределенное «сочетание литературы, полемики,
остроумия и философии». Он хвалил своего героя в особенности за
несоблюдение правил, за революционные стремления, за
решительность и смелость суждений, за цинизм и за парадоксы, за
полемическое остроумие и за отрывочный способ выражений. А
хвалил он его за это потому, что считал себя способным равняться с
ним этими достоинствами. Ведь внешние условия их жизни
действительно были одинаковы: ведь и Шлегель решил, что впредь
будет жить бережливо и независимо доходами от своей литера-
240
Р. ГАИМ
турной деятельности. Словами «литературный цинизм» он
характеризует теперь свой идеал жизни и цинически выражает свое
восторженное влечение к философской независимости,
утверждая в одном из своих писем, что он способен со всяким померять-
ся своим презрением к искусствам и к науке, что Руссо был в этом
отношении совершенно бесхарактерным, плохим кропателем,
а Лессинг стоит уже гораздо выше. Все его мысли направлены к
одной цели — по примеру Лессинга произвести решительный
переворот в современном направлении умов. Но ему всего более
нравится у Лессинга литературная форма. Он ставит
полемическое красноречие Лессинга наряду с красноречием Фихте,
колкую иронию Лессинга наряду с иронией Платона, но всего более
восхищается отсутствием систематичности у Лессинга и
отрывочностью его суждений; именно таков его собственный вкус, и
потому он надеется, что сам сделается виртуозом в этом отношении.
Почти все, что он писал в ту пору и в течение следующих лет,
имеет внешний вид неоконченных статей и отрывочных заметок.
Ту эпоху в его жизни, которая началась с его переселением в
Берлин, можно назвать «эпохой отрывочных заметок». Хотя он издал
в 1798 году первую часть своей «Истории греческой поэзии», но
он закончил навсегда свои занятия греческой литературой. Свою
характеристику Форстера он сам называет «Отрывком из
характеристики немецких классиков». Он пишет статью о гётевском
«Вильгельме Мейстере», но не исполняет обещания продолжать
ее; он начинает писать роман, но с трудом доходит до окончания
первой части. Все это оставалось неоконченным без предвзятого
намерения. Но он заявляет, что отрывочность есть «настоящая
внешняя форма всеобщей философии и что в ней заключается
найденное Лессингом предохранительное средство от гнили».
Поэтому он с предвзятым намерением пишет только отрывки. И не-
оконченность своих статей, и свою манеру перескакивать от одного
сюжета к другому он оправдывает ссылками на пример Лессинга.
Он делает новое открытие, что такая бесформенность есть
нормальная форма для выражения идей, и возводит удобства
бесформенности в основное правило для философских и литературных
произведений. В этом самообольщении он доходит до того, что
на упрек в бесформенности его статей отвечает следующей
выходкой: эта форма, если отложить в сторону индивидуальный
отпечаток, в сущности, одинакова с главными внешними
очертаниями формы Лессинга!
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
241
Но подобно тому, как Фридрих Шлегель извлек не пользу,
а вред из близкого знакомства с воззрениями Лессинга, он
обратил себе во вред и дружескую связь, которую завел в Берлине с
Шлейермахером. В одном из тех литературных кружков,
которые были в то время в моде в Берлине, он познакомился с
молодым богословом, вступившим почти за год перед тем в
должность пастора. Подобно Шлегелю, и Шлейермахер часто бывал
в доме Марка Герца; их сблизил их общий друг, молодой
дипломат Бринкман, а это сближение перешло через несколько дней в
тесную дружескую связь, и Шлегель переехал в квартиру Шлей-
ермахера. Философия служила главными узами для этой
дружбы, возникшей вследствие совместного чтения философских
сочинений и вследствие обмена философскими идеями. Со времени
своего поступления в университет Шлейермахер непрерывно
занимался изучением критической философии, и в особенности
учения Канта; он отличался от своего друга основательным
философским образованием, которое потом дополнил чтением
произведений Якоби и Спинозы, Фихте и Лейбница, но он имел
еще и другие важные преимущества над Шлегелем. О нем
также можно было сказать, что его личность имела более высокую
цену, чем его научные познания и идеи. Его правдолюбие
заставило перейти от пиетизма гернгутеров к скептицизму и к самым
свободным научным исследованиям. Он, конечно, вполне смог
бы доказать своему другу неосновательность его мнения, будто
правдолюбие и самостоятельность характера непременно
должны соединяться со смелыми, резкими выходками и с
бесформенностью идей. От такого человека Шлегель мог бы научиться
последовательности, хладнокровию и терпению в
осмотрительном развитии прогрессивных идей. Но чему Шлегель не
научился у Фихте, он не научился и у Шлейермахера. Дружеская связь
между этими двумя людьми принесла пользу только тому из них,
который был более способен к правильному развитию своих
умственных способностей. Скромный Шлейермахер
подчинялся влиянию Шлегеля именно вследствие того, что этот
последний поражал его самоуверенным тоном своих колких
замечаний. Из дошедшего до нас письма, которое Шлейермахер написал
своей сестре Шарлотте, видно, какого он был высокого мнения
о друге, с которым мог делиться своими философскими идеями
и который был способен пускаться вслед за ним в самые
глубокомысленные отвлеченности. Он хвалил обширные познания
242
Р. ГАЙМ
двадцатипятилетнего Шлегеля, его оригинальный ум, его
детскую откровенность, его остроумие, соединявшееся с
простодушием и придававшее большую привлекательность его
разговорам, в каком бы обществе он ни находился. По прошествии
нескольких недель после того, как они стали жить в одном доме,
Шлейермахер описал своей сестре и наружность своего друга:
«Его внешность, — писал Шлейермахер, — не столько изящна,
сколько способна привлекать к себе внимание. Нельзя сказать,
чтобы его лицо было особенно красиво, но он здорового,
крепкого сложения; его голова имеет очень оригинальную форму;
у него бледный цвет лица, а свои черные, коротко
обстриженные волосы он не пудрит, одевается он очень просто, но изящно
и как следует джентльмену». Что же касается нравственных
достоинств Шлегеля, то Шлейермахер очень скоро заметил в них
пробелы, но высказывал свои предостережения в самой мягкой
форме. Он считал за отличительную особенность в характере
Шлегеля детскую наивность, и в этом мнении сходятся с ним и
некоторые другие писатели1. Далее говорится в письме Шлейер-
махера: «...он несколько легкомыслен, ненавидит всякие формы
и стеснения, пылок в своих желаниях и влечениях, вообще добр
в обхождении, но, подобно детям, склонен к подозрительности
и часто руководствуется бессознательным чувством отвращения».
Шлейермахер характеризует столько же самого себя, сколько
Шлегеля, когда говорит, что его другу «недостает нежной
чувствительности и способности ценить приятные мелочи
обыденной жизни». Сам Шлейермахер ценит в человеке только
крупные и резкие черты характера: он не находит большой
привлекательности ни в мягкости характера, ни в красоте; по
аналогии со своим собственным складом ума, он находит
неудовлетворительным все, что не поражает своей пылкостью и энергией.
Напротив того, он без всяких оговорок превозносит научные
познания и умственные способности своего друга: «Что же
касается его ума, то я нахожу его таким высоким, что могу говорить
о нем не иначе как с глубоким уважением. Как быстро и как
глубоко проникает в сущность каждой науки, каждой системы,
каждого литературного произведения; с какой замечательной и
беспристрастной прозорливостью критика он объясняет значе-
1 Жан-Поль к Отто от 16 мая 1800 года (в их переписке III, 274); Steffens,
«Was ich erlebte» IV, 302 и ел. Также сравн.: Корке, «L. Tieck» 1, 255.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
243
ние каждого писателя; в какой систематический порядок он
приводит все свои познания; с каким широким планом задуманы
все его сочинения; с какой настойчивостью он продолжает то,
что предпринимает, — все это я научился в нем ценить в это
короткое время, потому что его идеи и возникают и развиваются
на моих глазах».
Мы, конечно, не можем придавать большого значения
суждениям Жан-Поля, который по прошествии нескольких лет
виделся с Фридрихом Шлегелем и нашел, что его философия и его
ученость далеко не полновесны; но уже то, что нам известно о
прежнем умственном направлении и о прежних литературных
произведениях Шлегеля, дает нам полное право утверждать, что
похвалы, которыми осыпал его Шлейермахер, были очень
преувеличены. Поэтому мы придаем очень высокую цену тому
письму от 22 января 1798 года, в котором Август Вильгельм Шлегель
попытался исправить суждения Шлейермахера о Фридрихе.
Август Вильгельм писал, что из «молодого человека» могло бы
выйти что-нибудь хорошее, если бы Шлейермахер взялся за его
воспитание, потому что у Фридриха, бесспорно, нет недостатка
в природных дарованиях, но его манера работать очень
оригинальна: если бы ему ни в чем не мешали, то он стал бы, подобно
кроту, все глубже и глубже копать под своими ногами землю, и
никак нельзя поручиться за то, что в один прекрасный день он не
появился бы среди наших антиподов. Этими словами очень
верно обрисованы те научные приемы Фридриха, которые
произвели на Шлейермахера впечатление систематичности и
устойчивости. Но оборотную сторону этих приемов составляют
отсутствие хладнокровия, отрывочность и бесформенность.
«Моему брату, — писал Август Вильгельм, — гораздо лучше
удаются заметки на полях писем, чем самые письма, точно так же, как
ему гораздо лучше удаются отрывочные заметки, чем статьи, и
резко отчеканенные слова, чем заметки. В конце концов вся его
гениальность сводится к мистической терминологии». Фридрих
похож на такого человека, который «беспрестанно расточает свои
внутренние сокровища на разные безобразия, а все-таки с
крайней заботливостью старается отыскать всякую затерявшуюся
идею, подобно тому как отыскивают потерянную на лестнице
булавку».
Однако именно благодаря этим внутренним сокровищам
Фридрих мог взять на себя роль руководителя в кружке таких
244
Р. ГАЙМ
людей, с которыми всего теснее сблизился. Новое поколение
литературных критиков и поэтов обязано ему тем, что
выработало определенную доктрину и этим путем достигло ясного
сознания своих отличительных особенностей, то есть своего отличия
как от старой школы, так и от школы Гёте и Шиллера. Даже то
обстоятельство, что он в то время полюбил форму отрывочных
заметок, доставило ему возможность изложить все его
тогдашние убеждения самым целесообразным способом. Он никогда не
был бы в состоянии изложить эти убеждения в систематической
форме; только благодаря подмеченной его братом способности к
«мистической терминологии» он мог высказать такие идеи,
которые по меньшей мере издали имели внешний вид научной
системы. Тот период его жизни, который мы назвали «периодом
отрывочных заметок», был самым плодородным в его жизни; он
сам в то время сознавал, что его умственная жизнь приносит
плоды, и хвастался тем, что в Берлине в третий раз помолодел1;
к этому мы можем от себя прибавить, что во второй раз он
помолодел в то время, как студентом стал изучать произведения Вин-
кельмана и греческую литературу. Лессинг, как мы уже ранее
заметили, был в его глазах идеалом фрагментиста в широком
стиле. Но в ту пору он принял произведения одного
французского писателя за образец той настоящей отрывочной формы
изложения, в которой нет никакого педантизма и которая выражает
каждую мысль острым словом. Август Вильгельм поместил в
«Литературной газете» подробный разбор сочинений Шамфора,
изданных после его смерти, и при этом указал на достоинства и
привлекательность афоризмов, которыми наполнен последний том
тех сочинений2. Фридрих Шлегель также увлекся сочинениями
Шамфора, но он ценит в них не общее направление, а только
отрывочные идеи; он и Шамфору дает прозвище «настоящего
циника», которое в то время было в его устах самой высокой
похвалой; он находит, что причудливые идеи и заметки
Шамфора о житейской мудрости отличаются «самородным остроумием,
глубоким смыслом, нежною чувствительностью, зрелым умом,
твердостью убеждений; что в них видны следы самой пылкой
страстности, что, кроме того, они изящны и вполне ясно
выражены и что вся эта книга — самая лучшая и первая в своем
1 К Шлейермахеру («Aus Schleiermacher's Leben» III, 89).
2 В его полном собрании сочинений X, 272 и ел.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
245
роде»1. Разве Шлегелю не должна была показаться в высшей
степени привлекательной задача соединить с революционной
полемикой Лессинга остроумие Шамфора и в этой форме афоризмов
выразить глубокомыслие новой философии и направление новой
поэзии? Он начал с того, что поместил в «Лицее» сборник
«отрывочных критических заметок»2, но, раз войдя во вкус такого
способа излагать свои идеи, он стал неуклонно придерживаться
этих литературных приемов. Однако, прежде чем познакомиться
с историей возникновения журнала братьев Шлегелей «Атеней»,
мы должны сравнить помещенные во втором номере этого
журнала отрывочные заметки Фридриха Шлегеля с его заметками,
помещенными в «Лицее»; только тогда мы будем в состоянии
составить себе полное понятие об этих статьях и о той
эстетической доктрине, которая в них излагалась. Употребление слов
«эстетическая доктрина» кажется нам вполне здесь уместным,
потому что только эстетические воззрения Фр. Шлегеля
получили в тех статьях некоторую определенность и послужили
главной точкой опоры для возникавшей романтической школы. Но
при этом мы должны поступать осмотрительно. Мы не должны
терять из виду того соображения, что и эта «эстетическая
доктрина» не имела никакого права называться «эстетической
системой», что она наполнена незрелым, неопределенным
содержанием, которое обращает на себя внимание только тем, что изложено
в самой определенной и самой резкой форме. Поэтому мы не
должны искать в отрывочных заметках Фр. Шлегеля вполне
удовлетворительной внутренней связи и ясности.
Из того, как до сих пор развивались воззрения Шлегеля, и из
его прекрасной статьи о романе Якоби «Вольдемар» нам уже
известно, что в его уме сталкивались и стремились к соединению
1 Журнал «Lyceum» II, 163, сравн. там же с. 146, 148; «Атеней» I, 2, с. 12,
21, 134. В письме г-жи Унгер от 5 октября 1798 года Шлегель назван «Der
Chamfortirende» («Zur Erinnerung an F. L. W. Meyer» 11, 41). И Стеффенс («Was
ich erlebte» IV, 302) свидетельствует о том, что Шлегель очень высоко ценил
остроумие Шамфора.
2 «Lyceum» II, 133—169. Этот сборник частью перепечатан под заглавием
«Eisenfeile» в продолжении статьи о Лессинге, которое помещено в первом томе
«Характеристик и критик», а оттуда сборник был снова перепечатан на
нескольких отдельных листах (с. 46) под заглавием «„Kritische grundgesetze der
schriftstellerischen Mittheilung, nebst, einem Gedicht Herkules Musagetes" Von Fr.
Schlegel» (Hamburg, bei Carl Anton Heydemann, 1803). Он не попал в полное собрание
сочинений Фр. Шлегеля.
246
Р. ГАЙМ
два направления. Вообще можно сказать, что его влечение к
искусству и к поэзии сталкивалось с его влечением к философии.
С одной стороны, он увлекался той красотой и гармонией,
которые научился ценить сначала в произведениях древних, а
потом также в произведениях немецких классиков; с другой
стороны, ему казался привлекательным субъективизм новейшей
философии с его любовью к свободе и с его стремлениями к
бесконечному. Лишь незадолго перед тем он доказал, что Якоби
тщетно пытался согласовать эти влечения; но он, к сожалению,
лишил сам себя возможности понять, что Шиллер был ближе
всех к удовлетворительному разрешению такой задачи. Ведь и в
качестве поэта, и в качестве теоретика Шиллер сумел примирить
кажущееся противоречие, слив свои понятия о прекрасном и
идеализм кантовской философии в поэзию идеального и в
эстетический идеал. Фридриху Шлегелю, несмотря на то что он не
захотел преклоняться перед гением Шиллера, было суждено
проводить идеи Шиллера с разными искажениями и
преувеличениями. Не обладавший ни достаточными философскими
познаниями, ни творческими дарованиями поэта, Фридрих Шлегель
увлекался то поэзией Гёте, то философией Фихте и старался
отыскать в той и в другой одну общую конечную цель. Мягкая,
богатая идеями, гётевская поэзия была в его глазах
представительницей красоты и гармонии, и он непременно хотел доказать, что
она может уживаться с учением Фихте об отвлеченной свободе и
о высоком значении господствующего над этим миром
человеческого «Я». Сочетание этих двух направлений и составляет
главную основу не только его эстетической, но и его этической
доктрины. Оно служит в течение многих лет неизменным
фундаментом для его воззрений, несмотря на то что он формулировал
эти воззрения не всегда одинаково. Ни одна из его отрывочных
заметок не цитировалась так же часто, как та, в которой он
говорит, что научная система Фихте и «Вильгельм Мейстер»
составляют эпоху в области человеческого ума и по важности
произведенного ими переворота могут быть поставлены наряду с
Французской революцией. Ту же мысль он впоследствии
выразил еще определеннее в следующей форме: «Идеализм Фихте и
поэзия Гёте — два средоточия немецкого искусства и
умеренного развития».
Он еще задолго перед тем видел в гётевской поэзии
многообещающее историческое явление и называл ее «утреннею зарею
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
247
настоящего искусства и чистой красоты». А теперь она даже
омрачила в его глазах блеск античной поэзии и вследствие того
изменила все его воззрения на историю поэзии. Он все еще
усматривает в Древнем мире абсолютно великую, единственную в
своем роде и недосягаемую гениальность; он все еще находит
полное сочетание художественной и натуральной поэзии только у
древних народов и полагает, что «художественная теория поэзии»
должна быть не чем иным, как историей развития классической
поэзии; но теперь он уже указывает на отличие этой
художественной теории от такой «философии поэзии», которая принимает в
соображение и новейшие виды поэзии; он идет далее Винкельма-
на, заложившего фундамент для материального изучения
древности посредством объяснения абсолютного несходства между
античным направлением ума и новым: он требует, чтобы в науке
преобладала такая возвышенная точка зрения, с которой можно
было бы доказать «абсолютное тождество античного
направления ума и нового», и называет Данте, Шекспира и Гёте «великим
тризвучием новейшей поэзии».
Вместе с этим изменилось и его мерило для оценки
различных видов поэзии. Прежде он считал трагедию за высшую
ступень поэтического творчества, а теперь он говорит, что угловым
камнем для «философии поэзии» служит теория романа.
Поэтому он только теперь отдает должную справедливость новейшим
писателям, а между этими писателями драматург Шиллер
утрачивает в его глазах некоторую долю своего прежнего значения;
напротив того, автор «Вильгельма Мейстера» выступает на
первый план. Он по-прежнему подчиняется велению односторонних
впечатлений: теперь он совершенно очарован романом Гёте. Он
находит идеал гётевской поэзии не в «Фаусте», не в «Ифигении»,
не в «Германе и Доротее», а в «Вильгельме Мейстере». Мы уже
указали в свое время на влияние, которое имел этот роман на
поэзию Тика; не менее сильное и не менее зловещее влияние имел
он и на романтическую доктрину Фридриха Шлегеля. Как
тщательно изучил его Шлегель, видно из написанной им для «Ате-
нея» статьи «О гётевском „Мейстере"»1, которая хотя и осталась
неоконченной, но, по всему вероятию, заключала в себе, подобно
1 «Атеней» I, 2, с. 147 и ел.; эта статья перепечатана в «Charakteristiken und
Kritiken» I, 132 и ел. и не без некоторых небольших изменений в полном
собрании сочинений Шлегеля VIII, 95 и ел. Шлегель предполагал написать два
продолжения к ней («Aus Schleiermacher's Leben» III, 80).
248
Р. ГАЙМ
неоконченной статье о Лессинге, все, что желал высказать ее
автор. Сам Шлегель придавал большое значение тому факту, что в
этой статье не было недостатка в иронии1, и действительно в ней
есть такие выражения, в которых восторженное сочувствие
уступает место сомнениям и которые в другое время и при другом
настроении ума могли бы превратиться в колкое порицание, как
это случилось при оценке Шлегелем произведений Шиллера и
Якоби. Но основное воззрение Шлегеля представляет
решительную противоположность с иронией. С тех пор как он в своей
статье «Об изучении поэзии» превозносил греческую поэзию, и в
особенности поэзию Софокла, он еще никого не осыпал такими
безусловными похвалами. Он берет на себя роль не критика, а
истолкователя, с наслаждением объясняющего содержание этой
«новой и единственной книги», этого «божественного произведения»,
в котором все дышит чистой высокой поэзией. А так как эту книгу
нельзя рассматривать с точки зрения прежних понятий о
различных видах поэзии, то приходится изменить прежнюю
классификацию поэтических произведений, в чем и заключается
революционная роль гётевского романа в литературе. «Вильгельм Мейстер»
есть первый образчик такого еще никогда небывалого вида
поэзии, в котором поэзия доходит до своего максимума. Это —
роман, но такой роман, с которым не имеет сходства никакой другой
и который беспредельно расширяет прежние понятия о характере
романа. Всегда готовый к построению новых формул, Шлегель
извлекает из «Вильгельма Мейстера» общее правило, что
настоящий роман есть «Non plus ultra» (непревзойденное. — Прим. науч.
ред.), или «совокупность всего поэтического»; а вслед за этим он
дает этому «поэтическому идеалу» название «романтической
поэзии».
Фридрих Шлегель не всегда употреблял слово
«романтическая» в указанном нами смысле. Точно так же, как и в своем
первом литературном произведении2, он и впоследствии иногда
придавал этот эпитет эпической рыцарской поэзии. Сверх того, он
очень часто употреблял слово «романтический» в смысле
«странного, сверхъестественного, производящего на читателя своеобраз-
1 В письме к Шлейермахеру (в их переписке III, 76, 80).
2 «Die Griechen und Römer», с. 202; там идет речь о романтической поэзии
Тассо, Пульчи, Риччиардетто, Виланда; сравн. с. 34, где Шлегель, указывая на
поэзию Данте, называет «романтической» вообще средневековую и более
старую новейшую поэзию.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
249
ное чарующее впечатление»1; а потом бессознательно стал
придавать этому слову то новое значение, которое указано выше. Этим
объясняется, почему специальный мотив и происхождение новой
терминологии ускользнули от общего внимания и почему
теперешний новый взгляд Шлегеля на понятие о романтизме казался
причудливым, эксцентричным и необъяснимым2. Ключ к
объяснению этой загадки заключается в том, что слова «романтическая
поэзия» употреблялись в смысле поэзии романов. В таком же
смысле употреблял их и Новалис3. Без всякого сомнения, такой
же смысл придавал им и Шлегель в позднее написанных
«Разговорах о поэзии». Но только теперь смысл становится вполне
ясным. Когда в одной из отрывочных заметок, написанных для
«Лицея», он смеется над важной ролью, которую гении играют у
англичан в «драматическом и романтическом искусстве», то для
всякого ясно, что его замечание относится к английским драмам
и романам. Но всякий раз, как Шлегель характеризует сущность
романа, он примешивает к тому понятию о романе, которое он
заимствовал от других представителей этого рода поэзии, и то
понятие, которое он извлек из чтения романа par excellence —
«Вильгельма Мейстера». Поэтому из сопоставления его
разбросанных замечаний о сущности романа и его характеристики гё-
тевского романа мы можем составить себе ясное понятие о том,
какой смысл он придавал словам «романтическая поэзия». Он,
без сомнения, имел в виду гётевский роман, когда говорил, что
никакая другая форма не доставляет писателю таких же удобств
для полного выражения его идей, как роман; что некоторые из
лучших романов представляют нечто вроде краткого описания
всей умственной жизни гениального индивидуума; что, в
сущности, писателю нет надобности писать более одного романа, если
в его убеждениях не произойдет никакой решительной
перемены. В своей статье о Форстере Шлегель говорит, что главная
тенденция романа — «соединить художническое развитие с
умственным и общественным», а в статье о «Вильгельме Мейстере» он
1 Так, например, в статье о «Вильгельме Мейстере» Шлегель говорит о
«романтических песнях» Миньоны и арфиста, об «изящном романтическом
рассказе», в котором Наталья и Тереза олицетворяют нравственные правила
общежития и домашнюю деятельность, и т. д.
2 Даже Коберштейн (III, 2359) высказывал такие обвинения.
3 В его сочинениях II, 167, 169 (я делаю ссылки на тома I и II в их
четвертом издании); III, 225.
250
Р. ГАИМ
старается доказать, что роман есть подробное изображение в
художественной форме умения жить. В одной из написанных для
«Лицея» статей он называет романы «сократическими диалогами
нашего времени» и говорит, что в их свободной внешней форме
житейская мудрость укрывается от школьной мудрости; этого
основного положения Шлегель придерживается и в
характеристике «Вильгельма Мейстера», когда, говоря о стиле этого
произведения, написанного прозой, но принадлежащего к области
поэзии, он высказывает меткое замечание, что рассказ написан
«образованным языком общественной жизни» и даже касается
экономических интересов для того, чтобы поэтически
облагораживать такие предметы, которые не имеют ничего общего с
обычным содержанием поэтических произведений. Наконец, подобно
тому, как в статье об истории греческой поэзии он находил
неосновательным требование, чтобы в эпосе все внимание
сосредоточивалось на одном герое, и в статье о «Вильгельме Мейстере»
он указывает на поочередное выступление на сцену то одной, то
другой личности, а в «Атенее» говорит, что в романах,
заставляющих своих действующих лиц постоянно вращаться вокруг одного
героя, сказывается грубый эгоизм, потому что в хорошем
поэтическом произведении все действующие лица должны служить в
одно время и целью, и средством. От всех этих замечаний
Шлегель сделал только один шаг вперед в том, что говорил о
«романтической поэзии» в своих отрывочных заметках. То, что в статье
о гётевском романе можно было читать между строк, было
высказано в той большой, написанной для «Атенея», статье, на
которую обыкновенно ссылаются как на locus classicus (классическое
место.—Прим. науч. ред.) шлегелевских понятий о
романтической поэзии1; в ней, между прочим, сказано: «только
романтическая поэзия может, подобно эпосу, отражать в себе весь
окружающий мир и быть изображением своего времени». Главная точка
зрения в этой статье, перенесенная Шлегелем с гомеровского
эпоса на роман, заключается в том, что в гётевском романе все до
мельчайших подробностей благоустроено точно в живом
организме, так что отдельные массы в одно и то же время и находятся в
связи между собой, и живут особою жизнью, и «каждая из
необходимых составных частей одного и того же нераздельного романа
представляет сама в себе особую систему». Согласно с этим гово-
1 «Атеней», с. 28—30.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
251
рится в той большой отрывочной заметке, что романтическая
поэзия способна к самому высокому многостороннему развитию как
в отношении содержания, так и в отношении внешней формы,
потому что «во всем, что должно производить цельное
впечатление, она дает всем составным частям одинаковую организацию».
Короче сказать, теория романтической поэзии, обрисованная
Шлегелем смелыми штрихами в отрывочных заметках,
заключает в себе только квинтэссенцию того, что более определенно и
потому более ясно высказано Шлегелем в статье о «Вильгельме
Мейстере»; и наоборот, эта статья служит лучшим комментарием
к тем скорее кажущимся, чем действительным, парадоксам,
которые мы находим в отрывочных заметках. Ведь эти парадоксы
заключаются только в том, что понятие о настоящем романе,
извлеченное Шлегелем из чтения «Вильгельма Мейстера»,
расширяется в особый идеальный вид поэзии, а гётевский роман
выдается за первый и покуда самый совершенный образчик такой
поэзии. Ввиду всего вышеизложенного нам не покажутся
непонятными следующие слова Шлегеля: «Назначение романтической
поэзии заключается не только в том, чтобы снова соединить в одно
целое все разрозненные виды поэзии и привести поэзию в
соприкосновение с философией и с риторикой; она, кроме того, должна
то перемешивать, то соединять поэзию с прозой, гениальность с
критикой, искусственную поэзию с натуральной; она должна
сделать поэзию живою и общительною, а жизнь и общество
поэтическими; она должна облекать остроумие в поэтическую форму,
должна наполнять все формы искусства надлежащим
содержанием и воодушевлять их юмористическими выходками». Нетрудно
заметить, что в этих словах понятие о романе получает такую
эластичность, какая свойственна всякому идеалу, созданному путем
абстракции. Далее говорится о романтической поэзии: «Она
обнимает все, что поэтично, начиная с самых великих,
систематически построенных произведений искусства и кончая вздохом или
признанием в любви, выраженным с ребяческой наивностью в
безыскусственной песне». В беспредельности романтической
поэзии Шлегель усматривает блестящую перспективу для
будущего. В качестве последователя Винкельмана он до той поры считал
древнюю поэзию за такой образец, который нельзя превзойти, но
которому можно только подражать; а теперь, в качестве
последователя Фихте, он выдает тот вид новейшей поэзии, который
называется романом, за высший идеал, который можно осуществить
252
Р. ГАИМ
только приблизительно, но к которому тем не менее следует
стремиться. По его словам, «романтическая поэзия есть
прогрессивная универсальная поэзия; другие виды поэзии уже созрели и
могут быть вполне разложены на свои составные части; напротив
того, романтический род поэзии еще находится в периоде своего
развития; даже можно сказать, что его сущность заключается в
том, чтобы вечно развиваться и никогда не достигать полной
зрелости; эту сущность нельзя исчерпать никакой теорией, и только
обладающая даром пророчества критика может осмелиться
охарактеризовать ее идеал». В заключение Шлегель выражает
абсолютное значение романа в следующих словах: «Только о
романтическом роде поэзии можно сказать, что в нем заключается не
столько особая отрасль поэзии, сколько сама поэзия, потому что
всякая поэзия в некотором смысле романтична и должна быть
романтичной».
И для умственных глаз существует предел, за которым нельзя
рассмотреть неясных очертаний даже при помощи
увеличительного стекла. Шлегель, очевидно, зашел за этот предел, и чтобы
понять смысл вышеприведенных выражений, нам приходится
отложить в сторону увеличительное стекло. Чтобы понять, что
хотел он выразить словами «универсальность романтической
поэзии», мы обратимся за помощью к высказанной им в «Атенее»
мысли, что «роман придает свою окраску всей новейшей поэзии»1.
Нам может оказать хорошую в этом отношении услугу и та
напечатанная в «Лицее» отрывочная заметка, в которой сказано, что
некоторые литературные произведения, даже из написанных в
совершенно иной форме, как, например, «Натан» Лессинга,
получают «окраску романа», если они заключают в себе
изображение всей умственной жизни гениального индивидуума. Но, с
другой стороны, у Шлегеля встречается немало выражений, в которых
слово «романтический» имеет такое неопределенное и
двусмысленное значение, что нам приходится или делать выбор между
различными смыслами этого слова, или совершенно
отказываться от объяснения его смысла и понимать под ним проявление
высшей поэтической даровитости. Нам приходится прибегать к
первому способу, когда автор, очевидно с целью положить конец всяким
1 Бёкинг ссылается на свидетельство Варнгагена в доказательство того, что
эти слова помещены под № 86 в отрывочных заметках Августа Вильгельма
Шлегеля. Но я нисколько не сомневаюсь в том, что они принадлежат Фридриху
Шлегелю.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
253
сравнениям новейшей драмы с античной трагедией, утверждает,
что «все национальные и рассчитанные на произведение эффекта
драмы суть романтичные мимы»; или когда он говорит, что «чем
более популярен древний писатель, тем более он романтичен»;
или, наконец, когда он находит, что «из сочетания причудливости
Жан-Поля и фантастического умственного настроения Петера
Лебрехта мог бы выйти превосходный романтический поэт». Нам
приходится прибегать ко второму способу, когда Шлегель
провозглашает тоном оракула: «Универсальность Шекспира есть
средоточие романтического искусства»; или когда он говорит: «С
романтической точки зрения даже самые эксцентричные и самые
уродливые продукты поэзии имеют свою цену в качестве
материалов и подготовки к универсальности, если только они
оригинальны»1.
Но в шлегелевской характеристике романтической поэзии есть
еще один пункт, на котором мы до сих пор не останавливали
нашего внимания. Шлегель сказал, что эта поэзия способна,
подобно эпосу, отражать в себе, как в зеркале, весь окружающий мир.
Вслед за этим он говорит, что «и она способна, отложив в сторону
всякие реальные и идеальные интересы, летать на крыльях
поэтической рефлексии, доводить эту рефлексию до высшей
степени и отражать ее в бесконечном ряде зеркал». А в конце
отрывочной заметки выражается та же мысль: «Она одна беспредельна,
потому что она одна свободна и признает за свое главное,
основное правило, что произвол поэта не выносит никаких
стеснительных для него законов».
И эти основные положения выражались в различных видах в
характеристике «Вильгельма Мейстера»; но они не сделались
оттого более понятными и не были внушены впечатлениями,
вынесенными из чтения гётевского романа. Кроме того, они не
касаются исключительно романтической поэзии, а заключают в себе
требование, относящееся ко всякой поэзии, и от теории романа
переходят к всеобщей теории поэзии. Из их содержания ясно вид-
1 С цитированными мною выражениями я не смешиваю те, которые
находятся в отрывочной заметке, напечатанной в «Атенее» (с. 40), и в той, которая
напечатана в «Лицее» II, 166; потому что то, что там говорится о
«романтическом глумлении», без всякого сомнения, относится к романтической рыцарской
поэзии, как это видно из одного места в статье «Об изучении поэзии» («Die
Griechen und Römer», с. 202); а также отношу к рыцарской поэзии слова Шлеге-
ля, что Петрарка был романтический поэт, а не лирический.
254
Р. ГАЙМ
но, каким путем они возникли: они возникли вследствие того, что
Шлегель перенес на поэзию те воззрения, которые усвоил из
философии Фихте. То было плодом сочетания гётианизма с фихтиа-
низмом, когда Шлегель требовал, чтобы поэт смотрел на
объективный мир с той же точки зрения, какой придерживалась научная
система Фихте для объяснения мировых явлений. Он выразил это
требование очень ясно, когда сказал, что для поэта пригодна только
одна философия, а именно философия Фихте, «которая одарена
творческими способностями, исходит из свободы и из веры в
свободу, а потом объясняет нам, каким образом человеческий ум на
всем вычеканивает свои законы и почему весь мир есть его
собственное художественное произведение». Человеческий ум
вынужден своим собственным идеальным механизмом обозревать
объективный мир и создавать чувственный материал для своей
свободной нравственной деятельности. В этом заключается
учение Фихте. Оно объясняет существование мира бессознательною
и понятною только для философа деятельностью нашего «Я»,
которое, несмотря на свою свободу, беспрекословно подчиняется
известным законам; стало быть, эта деятельность имеет сходство
с сознательно-бессознательным художническим творчеством, ведь
только творческая фантазия способна играть роль посредницы
между конечным и бесконечным и господствовать над миром
действительности. За эту-то аналогию с художническим творчеством
и ухватывается наш эстетик. Около этого центрального пункта
вращаются все суждения, в которых более остроумный и
гениальный, чем дальновидный и методически мыслящий, Шлегель
сравнивает приемы гения с приемами нашего «Я» и считает себя
вправе называть эти приемы одинаковыми; отсюда же истекает
его требование, чтобы всякое искусство было научной системой,
а всякая научная система искусством и чтобы философия
соединялась с поэзией. Основой для миросозерцания Фихте служило
смелое убеждение, что «он не нуждается в объектах, потому что
они уничтожают его самостоятельность, его независимость от
внешнего мира и превращают ее в призрачную иллюзию». Эту же
мысль Шлегель выражает в следующем парадоксе: «Поистине
свободный и развитый человек должен настраивать свой ум по
своему произволу: философски или филологически, критически или
поэтически, исторически или риторически, на старый или новый
лад, подобно тому, как настраивают музыкальный инструмент».
Но подобно тому как в этой отрывочной заметке он преувеличи-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
255
вает способности субъекта относительно выбора эстетического
направления, в другой заметке он доходит до парадокса,
утверждая, что только субъективное имеет цену. Он напоминает нам
изречение живописца в «Эмилии Галотти», когда говорит: «Не
искусство и не произведения искусства делают человека
художником, а цель, воодушевление и влечение». Этим мыслям мы
готовы не придавать большого значения тем более потому, что
еще неизвестно, не возникли ли они первоначально в другой
голове — в голове Шлегелева друга Гарденберга; но нельзя того же
сказать о требовании Шлегеля, чтобы «произвол поэта не
стеснялся никакими законами». В этом требовании, то есть в понятии
об «иронии», Шлегель довел до крайнего преувеличения
применение философских воззрений Фихте к искусству и к поэзии: оно
превратилось в неизменную доктрину и играло такую важную
роль, что очень скоро стало считаться за последнее слово
романтической теории; поэтому Гарденберг был вправе сказать,
что в отрывочных заметках «Атенея» ирония была «той спадиль-
ей, с помощью которой можно было беспрестанно причинять
уколы».
Но и слово «ирония», подобно словам «романтическая поэзия»,
лишь мало-помалу получило в устах Шлегеля определенное
значение. Он очень рано понял привлекательность той разговорной
диалектической формы изложения, которая знакома всякому, кто
читал произведения Платона, «того сократического смешения
шутливости с серьезностью», которое, как он выражался в
«Истории греческой поэзии», «многим кажется более таинственным
и более непонятным, чем какие бы то ни было мистерии». В
статье о Форстере он говорил, что к этой форме изложения
применимы следующие слова Платона о поэте: «Это — нежное, крылатое
и священное существо». Характеристика этой сократической
иронии служит для Шлегеля исходным пунктом и в тех двух
написанных для «Лицея» отрывочных заметках, в которых он придал
понятию об иронии своеобразный отпечаток1. Он говорит в тех
заметках о «благородном, изящном тоне сократической музы».
Этот тон служит, по его словам, единственным в своем роде
образчиком невольного и вместе с тем осмотрительного
притворства. В нем все и шутливо и серьезно, и чистосердечно откровенно
и глубоко притворно. Он является продуктом сочетания «художе-
« «Лицей» II, 143 и 161.
256
Р. ГАЙМ
ственного понимания жизни с ученостью, натуральной
философии с искусственной». Он необходим, когда философские
воззрения излагаются в разговорной форме и не вполне систематично.
Сказать философу «воздавай должное грациям» — значит сказать
ему «выражайся с иронией и с изяществом», а такое уменье
выражаться Шлегель находит не только у Платона, но в различных
видах также у Форстера, у Лессинга, у Гемстергюи, который был
последователем Платона, и у Гюльзена, который был
последователем Фихте. Однако в этой характеристике иронии,
свойственной в особенности Сократу и Платону, нас удивляют некоторые
не совсем уместные выражения. Так, например, Шлегель
говорит, что ирония есть «постоянная пародия на самого себя». Она
заключает в себе и возбуждает в других «сознание
неразрешимого противоречия между безусловностью и условностью, между
невозможностью и необходимостью полного изложения идей
автора». Далее говорится: «Она — самая смелая из всех
поэтических вольностей, потому что дает поэту возможность отрешаться
от самого себя, но вместе с тем и самая законная, потому что
безусловно необходима». В этих выражениях понятие об иронии,
очевидно, утрачивает свое первоначальное историческое
значение; оно еще более утрачивает это значение, когда ирония
переносится из «места своей родины», из области философии, в
область поэзии. «Только поэзия, — говорит Шлегель, — способна
и в этом отношении достигнуть одинаковой высоты с
философией... И между старыми и между новыми поэтическими
произведениями есть такие, которые всецело проникнуты божественным
духом иронии». Этот дух иронии Шлегель, естественно, находит
и в гётевском романе, в котором «автор, по-видимому, сам
посмеивается с высоты своего гения над своим образцовым
произведением»1. Но в общих понятиях Шлегеля об этой поэтической
иронии почти вовсе нет ничего общего с иронией Сократа.
Упомянутые выше поэтические произведения отзываются, по словам
Шлегеля, «поистине трансцендентальным шутовством». В их
содержании виден ум, который возвышается над всем, что условно,
даже над «своим собственным искусством, над своей
собственной даровитостью или гениальностью; а во внешней форме их
1 Шлегель говорит о Гомере (в «Истории поэзии», с. 143, 144), что, читая
его произведения, следует «настраивать свой ум на тон легкой иронии, от
которой недалеко и до пародии».
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
257
изложения видны мимические приемы хорошего итальянского
буффона».
Из этой неясной характеристики понятия об иронии всего резче
вьщеляются две идеи, по-видимому составляющие сущность того
понятия, — идея о несовместимости различных стремлений и идея
о безусловной свободе все себе подчиняющего субъекта. Шле-
гель старался согласовать эти две идеи при помощи учения
Фихте. По мнению Фихте, весь видимый и нравственный мир есть
продукт борьбы между беспредельной свободой человеческого ума
и его природной ограниченностью. Эта борьба бесконечна и
никогда не прекращается; но она становится менее упорной по мере
того, как наше «Я», путем развития человеческого мышления и
человеческой воли, все более и более реализуется, однако
никогда не достигая полной реализации. Учение Шлегеля об иронии
есть не что иное, как применение этой систематически развитой
идеи Фихте к области эстетики. Основная мысль Шлегеля
заключается в том, что ни в искусстве, ни в поэзии нельзя избежать
противоречия между конечным и бесконечным. Он полагает, что
художник и поэт могут справиться с этим противоречием только
таким же способом, каким справляется с ним философ, —
предоставляя себе безграничное право выражать в своих
произведениях свое собственное «Я». Ввиду такого воззрения нам становится
непонятным ранее выраженное Шлегелем понятие об иронии; но,
с другой стороны, оно становится снова понятным благодаря
некоторым другим выражениям Шлегеля. Что в нелепых выходках
иронии Шлегель видит продукт столкновения между конечным и
бесконечным, едва ли не всего яснее видно из того, что в одной из
написанных для «Атенея» отрывочных заметок он определяет
смысл слова «идея» совершенно так же, как его понимал Кант; он
говорит, что идея «есть развитое до иронии понятие, есть
абсолютный синтезис абсолютных антитез, постоянно возникающая
сама собою смена одной из двух сталкивающихся мыслей
другою». В другом месте Шлегель выражает столкновение между
бесконечностью и конечностью нашего «Я», или понятие о
самоограничении, в следующей форме: «Понятие, развитое до
иронии, есть то же, что понятие, развитое до постоянного перехода
от самосоздания к самоуничтожению». В связи с этим
воззрением он признает иронию за «внешнюю форму парадокса».
Субъективизм, которого требует теперь Шлегель от поэзии,
довершает противоположность между его теперешней эстетиче-
9 Зак. № 3602
258
Р. ГАИМ
ской теорией и той, которую он излагал в статье об изучении
греческой поэзии. Обозревая все, что он говорил о характере
романтической поэзии и о характере иронии, мы замечаем, что почти
для всех упреков, с которыми он прежде обращался к новейшей
поэзии, он находит теперь опору в философии Фихте. Но прежде
он принимал понятие об объективности за мерило высших
достоинств античной поэзии, а теперь он решительно отказался от
такого мерила. Теперь он пришел к убеждению, что для настоящей
поэзии должна служить основой свободная, беспредельная
субъективность, даже можно сказать, что требование субъективности он
окончательно заменил теперь требованием иронии. Поэтому он
отказывается от предъявленного в ранее написанной статье
требования «революционного стремления к объективности» и
порицает эту статью за «совершенное в ней отсутствие необходимой
иронии», то есть за выраженное в этой статье пристрастное
мнение, будто только древняя поэзия может считаться образцовой.
Наконец, если бы мы пожелали наглядно убедиться в том, что его
теперешняя теория находится в прямой связи с научной системой
Фихте, то мы должны прочесть ту напечатанную в «Атенее»
отрывочную заметку, в которой он в первый раз употребляет слова
«трансцендентальная поэзия»1. Он делает неясное определение
этой поэзии, говоря, что ее главная цель — связь реального с
идеальным; но если мы примем в соображение тот факт, что он,
подражая шиллеровскому делению сентиментальной поэзии,
разделял и трансцендентальную поэзию на сатиру, элегию и идиллию,
то для нас станет ясно, что под словами «трансцендентальная
поэзия» он понимал точно то же, что понимал Шиллер под
словами «поэзия сентиментальная». Вот почему трансцендентальная
поэзия представляет, по его мнению, противоположность
«наивной» поэзии; это такая поэзия, которая основана на сознательном
или даже бессознательном противоречии между идеалом и
действительностью. Но, кроме того, Шлегель предъявляет к
трансцендентальной поэзии такое требование, которое, в сущности,
сводится к требованию иронии. Он говорит, что подобно тому,
как настоящая трансцендентальная философия, то есть научная
система Фихте, философствует о философствовании, и
трансцендентальная поэзия должна возвышаться до «художественной
рефлексии и до самосозерцания, должна быть поэзией поэзии». К это-
1 «Атеней», с. 64—65.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
259
му Шлегель прибавляет, что именно эти достоинства мы находим
у Пиндара, в лирических отрывках греческих поэтов и в древней
элегии, а между новыми поэтами — у Гёте; в другой отрывочной
заметке он называет гётевскую поэзию «самой совершенной
поэзией поэзии», а поэму Данте называет «единственной в своем
роде и высшей системой трансцендентальной поэзии»1.
Стараясь выяснить, что разумел Шлегель под словами
«романтическая поэзия» и «ирония», мы добрались до сущности его
эстетической доктрины. Но в более или менее близкой связи с
этими воззрениями Шлегель высказывал некоторые идеи,
носившие на себе отпечаток его индивидуального склада ума или его
склонности к причудливым выходкам. Так, например, у него
встречаются указания на родственное сходство иронии с его
более старым излюбленным понятием о парадоксии. Но в самой
близкой родственной связи с иронией находится, по его мнению,
остроумие. Иронию он определяет словами «логическое
изящество», а остроумие — словами «логическая общительность»;
кроме того, он ведет речь о «мягком остроумии», об «остроумии без
колкостей», которое должно считаться за привилегию поэзии и
потому, по-видимому, должно сливаться в одно целое с иронией;
в одном месте он называет тот вежливый тон, за который хвалит
Платона, «остроумием гармонической универсальности». В
одной из своих отрывочных заметок он пытается разделить
остроумие на различные виды, в другой он ведет речь о различных
ступенях развития, по которым определяется достоинство
остроумия; в третьей он высоко ценит остроумие наравне с
добродетелью и с искусствами, в четвертой и в пятой он говорит о
восторженном, или абсолютном, остроумии как об источнике
научных открытий или как о «принципе и органе универсальной
философии» и называет его «даром пророчества». С этой
характеристикой остроумия сходится и шлегелевская теория
эпиграмматической формы изложения. Но при этом Шлегель выражает
несочувствие к тому направлению, которое он смело порицал
1 «Атеней», с. 68. В этом выражении я придаю особый вес слову
«система», но не берусь решить, имел ли Шлегель в виду различные ступени развития
поэзии, когда сопоставлял трансцендентальную поэзию, романтическое
искусство (представителем которого назван Шекспир) и поэзию поэзии. И на с. 64—
65 отрывочной заметки не все вполне для нас понятно; но для меня кажется
ясным, что здесь снова излагалось учение об иронии, только с некоторыми
новыми объяснениями и видоизменениями.
260
Р. ГАЙМ
еще в своей статье о Лессинге. Теперь он дает этому
направлению название «гармонической пошлости», потому что его
сущность заключается в том, что непоэтично и нелиберально,
неумно и неостроумно.
Эти воззрения, естественно, должны были усилить
разномыслие между двумя противоположными лагерями. Так как они не
отличались последовательностью, то они, конечно, не могли
служить основой для какой-либо особой научной системы; но они
производили впечатление своим остроумным изложением и
очаровывали своими пикантными формулами. Есть основание
полагать, что они имели влияние даже на Фихте. Ведь, прибавляя к
своей «Системе морали» особый параграф «Об обязанностях
эстетического художника», Фихте, очевидно, руководствовался
такими соображениями, которые были вовсе несвойственны
складу его собственного ума. Он не написал бы этого параграфа, он
не сказал бы, что «прекрасно только то, что нравится
образованным людям», если бы письма Шиллера об эстетическом
воспитании не объяснили ему, в чем заключается сущность
прекрасного и как тесна связь между красотой и нравственностью. Он
даже создал формулу, с помощью которой понятие об искусстве
приводится в связь с основными воззрениями его основных
начал науки. Он говорит, что искусство придает
трансцендентальной точке зрения всеобщность. Любитель изящного
бессознательно смотрит на природу и на нравственный мир с той же точки
зрения, какой философ придерживается сознательно и
методически. Разве можно допустить, что Фихте, вовсе не
попытавшийся развить эту богатую последствиями идею и высказавший
ее как бы мимоходом, дошел до нее своим собственным умом?
Разве не более правдоподобно предположить, что на этот раз не
ученик следовал указаниям наставника, а наставник —
указаниям ученика?
Во всяком случае не подлежит сомнению, что Фридрих Шле-
гель имел решительное влияние по меньшей мере на тех
представителей молодого поколения, которые чувствовали влечение к
поэзии или сами занимались поэзией. Он сделался их
руководителем и в их эстетических стремлениях, и в их эстетических
суждениях. В его доктрине сходились, как в крепко завязанном узле,
нити тех романтических идей, которые проглядывали в
поэтических произведениях Тика и в критических статьях Августа
Вильгельма Шлегеля и которые зародились из содержания и из направ-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
261
ления поэтических произведений Гёте и Шиллера; вот почему
Фридрих сделался средоточием того кружка, в котором
господствовали эти романтические идеи.
Кроме того, были и некоторые внешние причины, по которым
он сделался центром для сближения между людьми с
романтическим складом ума.
В тем же берлинском кружке, в котором Шлегель
познакомился со Шлейермахером, он встретился и с автором «Народных
сказок». Более тесное между ними сближение произошло через
посредство зятя Тика — Рейхардта — и редакции «Лицея». Тик
обещал написать для этого журнала письма о Шекспире. По
поводу этого обещания Шлегель обратился к Тику с письмом, в
котором приглашал его к себе1, говоря, что желал бы
побеседовать с ним с глазу на глаз, потому что горячо интересовался его
произведениями и именно в то время перечитывал во второй раз
«Ловеля». Вместе с тем он осведомился о месте жительства Ва-
кенродера и передавал поклон от своего, жившего в Йене, брата.
«Мой брат, — писал Шлегель, — очень доволен и Вашими
произведениями, и теми известиями о Вас, которые я ему сообщаю».
Вот каким путем завязались первые сношения между главным
представителем романтической доктрины и романтическим
поэтом, но они, конечно, не могли привести к интимной дружеской
привязанности. И по своим врожденным влечениям, и по складу
своего ума эти два писателя были вовсе не похожи один на
другого. Тику была почти вовсе непонятна философия Фихте, в
которую Шлегель веровал как в Евангелие; он не только не был ее
поклонником, но даже насмехался над нею в «Рыцаре Синяя
Борода» и в некоторых других сочинениях. Также непонятна была
ему греческая древность, служившая основой и почвой для
умственного развития Шлегеля. Они сходились только в своем
высоком мнении о гётевской поэзии и в своем несочувствии к
пошлой рассудительности и к практическим целям тогдашних
просветителей. Но и этого было достаточно для того, чтобы
установить прочную между ними связь. Шлегель был обязан своему
брату знакомством с произведениями Данте и Шекспира, а Тику
он был обязан тем, что ближе познакомился с произведениями
Шекспира, что стал лучше понимать Сервантеса, и вследствие
того был в состоянии усовершенствовать свою теорию романти-
«Holtei 111,311.
262
Р. ГАЙМ
ческой поэзии. Наоборот, Тик, по-видимому, был способен в
значительной мере осуществлять в своей поэзии понятия Шлегеля
о поэзии трансцендентальной, романтической и поэтической.
Ведь поэзия Тика была поэзией самой субъективной
задушевности, была такой поэзией душевного настроения, которая
разжижала свое содержание разнообразными отражениями рефлексии.
Действительно, в своих сказках и в своих комедиях Тик
позволял себе произвольно обращаться с объективным миром, давал
полную волю фантазии и иронии и не признавал прозаических
законов действительной жизни; поэтому его произведения могли
служить довольно хорошей иллюстрацией для эстетической
доктрины Шлегеля. «Прогуливавшийся по кровле драматического
искусства» кот Гинц был для Шлегеля чем-то вроде символа
иронии. Шлегель сказал, что из сочетания Петера Лебрехта с Жан-
Полем вышел бы превосходный романтический поэт, а еще
ранее он хвалил «Штернбальда» за «богатство фантазии и легкость
изложения», за «умение пользоваться иронией» и за то, что в
этом романе «романтический дух точно будто приятно
фантазирует о самом себе».
Но главной связью между этими двумя людьми, между
доктринерским и критическим направлением, с одной стороны, и
производительно-поэтическим, с другой — служил старший брат
Фридриха Шлегеля. Уже в то время Август Вильгельм сильно
интересовался произведениями Тика; он написал рецензию на
переведенную Тиком шекспировскую «Бурю» и очень одобрительно
отозвался о «Сердечных излияниях любящего искусства монаха».
Эта рецензия и этот одобрительный отзыв появились в начале
1797 года в «Литературной газете». В одном из следующих
номеров той же газеты Шлегель поместил разбор «Синей Бороды» и
«Кота в сапогах»1, и следует заметить, что Шлегель написал эту
последнюю критическую статью, вовсе не подозревая, что имеет
дело с переводчиком «Бури», стало быть, не зная ни имени поэта,
ни места его жительства2. При этом он называл Тика «поэтом в
настоящем смысле слова» и «антиподом сочинителей рыцарских
романов», то есть Шписа и Крамера. Ему очень понравились в
1 В его сочинениях X, 363; XI, 16; XI, 136; сравн. выше, с. 99.
2 Это утверждает Шлегель в тех дополнениях к этой рецензии, которые он
написал в 1801 и 1827 годах по случаю нового издания «Характеристик и
критик» и «Критических сочинений» (в полном собрании сочинений XI, 143,
144).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
263
«Коте в сапогах» насмешки над театральными пьесами Иффлан-
да и Коцебу. Короче сказать, это был первый критик,
возвестивший в Германии о появлении первого и оригинального поэта, точно
так же, как он прежде всех других оценил по достоинству
поэтические произведения Шиллера и Гёте. Тик прислал ему в
доказательство своей признательности три тома своих «Народных
сказок», а он отвечал на эту любезность письмом1, в котором между
прочим говорил о родственном сходстве песен и сказок Тика с
поэтическими произведениями Гёте. При этом он выражал
надежду, что это мнение о произведениях Тика скоро будет
изложено печатно, и высказывал желание лично познакомиться с поэтом.
Он привел в исполнение оба этих намерения. Весной 1798 года
он напечатал статью, в которой называл «Народные сказки» Тика
«воздушными продуктами фантазии, которые то привлекают к себе
читателя игривой шутливостью, то расшевеливают в его душе
самые нежные чувства»2. Но в конце мая Август Вильгельм сам
приехал в Берлин и во время двухмесячного там пребывания3
завел личные дружеские сношения с Тиком. Но какая большая была
разница между этими сношениями и теми, в каких находился Тик
с младшим Шлегелем! Поэта привязывала к литературному
критику признательность за печатно выраженное сочувствие; кроме
того, они сходились в своем высоком мнении о Гёте и в своем
несочувствии к плохой современной литературе и к
испорченному вкусу берлинцев. Их единомыслие не нарушалось ни
различием философских воззрений, ни различием суждений об учении
Фихте. Кроме того, Август Вильгельм был не только
литературным критиком, но и сам занимался поэзией, подобно тому как
Тик был не только поэтом, но отчасти и литературным критиком,
выражавшим свои суждения о чужих произведениях в форме
сатирических комедий. А благодаря тому, что Тику пришлось жить
в одном из главных центров «гармонической пошлости», он
сделал новый шаг вперед в качестве рецензента4. После того как он
вступил в личные сношения с А. В. Шлегелем, он написал в
1798 году для берлинского журнала «Archiv der Zeit» новый
разбор карманных альманахов, наполнявшихся произведениями по-
• От 11 декабря [1797] (у Holtei III, 225).
2 «Атеней» I, 1, с. 141 и ел. «Критические сочинения» I, 259 и ел. (в полном
собрании сочинений XII, 3 и ел.).
3 «Aus Schleiermacher's Leben» I, 176 и 181.
4 Сравн. у Коберштейна III, 2160 и ел., в особенности примечания g) и h).
264
Р. ГАЙМ
эзии1. В этом разборе он обнаружил гораздо более критической
прозорливости, чем в своих прежних рецензиях. Даже если бы он
не делал ссылок на шлегелевские рецензии на переведенного Фос-
сом Гомера и «Германа и Доротею», для нас все-таки было бы
ясно, что он успел многому научиться у Шлегеля. Правда, он
позволил себе то, чего не позволял себе ни один из братьев Шлеге-
лей: он позволил себе несколько невинных упреков Виланду и,
кроме того, выставил в ярком свете жалкое ничтожество сатирика
Фалька, о котором Август Вильгельм отзывался очень
одобрительно; но все это следует приписать склонности поэта к
юмористическим и сатирическим выходкам; то же самое можно сказать о
его несочувствии к басне, о его невысоком мнении об анакреон-
тиках. Но единомыслием со Шлегелем объясняется сходство его
суждений о Лафонтене с теми суждениями, которые были
высказаны почти одновременно самим Шлегелем. Напротив того, и
основательность критических отзывов Тика, и его высокое мнение
о поэзии Гёте и Шиллера, и уверенность, с которой он говорит о
наступившем в Германии «рассвете художественного вкуса», —
все это доказывает, что он нашел для себя опору в критике,
писавшем рецензии для «Литературной газеты». Он, по-видимому,
имеет в виду Шлегеля, когда высказывает желание, чтобы
«какой-нибудь литературный критик, одаренный тонким чутьем и
впечатлительным умом, создал новую теорию поэзии из
стихотворного размера произведений Гёте и некоторых испанских и
итальянских поэтов». Наконец, он, очевидно только из
признательности за одобрительные отзывы Шлегеля о «Синей Бороде»
и о «Коте в сапогах», осыпает напечатанные в шиллеровском
«Альманахе Муз» стихотворения самого Шлегеля такими похвалами,
каких они не стоят. Но он, без сомнения, находил превосходной
метрическую технику этих стихотворений. По этой части поэт Тик
мог многому научиться у поэта Шлегеля. Но он мог многому
научиться и у переводчика Шлегеля. Мы уже упоминали о том, что
Август Вильгельм временами занимался стихотворными
подражаниями Шекспиру. Уже этих занятий было бы достаточно для
того, чтобы сблизить двух людей, одинаково восхищавшихся
произведениями английского поэта. Именно в ту пору и Тик задумал
переводить «Дон Кихота». Итак, Тика сближали с А. В. Шлеге-
1 В этом журнале I, с. 301 и ел.; эта рецензия перепечатана в «Критических
сочинениях» I, 98 и ел.; сравн. выше, с. 65.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
265
лем и переводные работы, и их старания изучить старинную
литературу: английскую и испанскую. Поэтому во время свиданий
в Берлине у них не было недостатка в сюжетах для самого
плодотворного обмена идеями. Они виделись ежедневно, а их
ежедневные беседы укрепили в них сознание, что между ними
существует полное единомыслие.
Таким образом, и из личных, и из литературных сношений
образовался в 1797 и 1798 годах в Берлине первый зародыш
товарищества и особой литературной школы. Что касается личных
сношений, то братья Шлегели познакомились и с другом Тика, Берн-
гарди, который имел с ними много общего по своей любви к
философии и по своему критическому остроумию и который
удостоился от Августа Шлегеля похвал за первый том своих «Бамбо-
шад»1. Кроме того, с Фридрихом Шлегелем был дружен Шлейер-
махер; поэтому и этот юный теолог примкнул к возникавшему
литературному кружку, хотя в то время еще не ступал на
литературное поприще. Что касается литературных сношений, то
прежде всего следует заметить, что к новой поэзии примкнула новая
критика, для которой произведения Тика заменили произведения
Шиллера и стали наряду с произведениями Гёте. Вслед за тем
к романтической поэзии и к романтической критике
присоединилась романтическая доктрина. Романтическую эстетику Фридрих
Шлегель и Шлейермахер поставили в связь с романтической
этикой, а впоследствии Шлейермахер связал с ней и романтическое
учение о религии. Короче сказать, по мере того, как расширялся
кружок людей, стремившихся к одной цели, расширялась и сфера
тенденций и интересов, а понятие о романтизме получало более
определенный смысл.
Этим сходившимся в убеждениях друзьям недоставало
только одного для основания особой школы, особой литературной
партии, недоставало сборного пункта и всеми признанного
знамени: им нужен был их собственный журнальный орган, в котором
они могли бы проповедовать свои идеи. Об этом позаботились
братья Шлегели.
Только под гнетом необходимости Фридрих Шлегель стал
работать вместе с Рейхардтом в журнале «Лицей», и можно было
1 Эта рецензия Шлегеля напечатана в том же номере «Литературной
газеты», в котором напечатана его рецензия на произведения Тика (в полном
собрании сочинений XI, 146).
266
Р. ГАИМ
бы заранее предвидеть, что его сотрудничество в этом журнале
будет непродолжительно: в 1797 году Шиллер с удовольствием
прочел в «Литературной газете» заявление, в котором Фридрих
Шлегель отказывался от сотрудничества в «Лицее». Причиной
ссоры с Рейхардтом была одна шлегелевская статья,
напечатанная в «Лицее» без ведома Рейхардта, вероятно, те отрывочные
заметки, одна из которых заключала в себе обидные суждения о
Рейхардтовом друге Фоссе1. Издание «Лицея» прекратилось.
Тогда наш любитель парадоксов очутился в положении человека,
которого ни один хозяин не пускает к себе в дом из опасения, что
он своими причудливыми выходками нарушит домашнее
спокойствие и все перевернет вверх дном. Однако у него не было
других денежных средств, кроме литературных заработков, и ему
очень хотелось по-прежнему разыгрывать роль Лессинга и как
можно громче проповедовать свои новые идеи. Но почему же он
должен был находиться в постоянной зависимости от прихотей
издателей, почему же он не мог бы создать для себя независимое
положение? Такие же мысли бродили и в голове его брата. Хотя
Август Вильгельм и старался крепко держаться за
«Литературную газету», но ему была вовсе не по вкусу обязанность писать
для этой газеты рецензии не столько от своего собственного
имени, сколько от имени целой коллегии, с направлением которой
он до такой степени расходился, что еще в декабре 1797 года
едва не довел дело до разрыва по поводу некоторых изменений,
сделанных Шюцем в рецензии на гердеровскую «Терпсихору»2.
Его прежние связи с шиллеровскими изданиями уже утратили в
его глазах свою былую привлекательность; кроме того, он,
вероятно, еще в конце 1797 года узнал о печальном положении
журнала «Hören». В то время уже всем было известно, что Котта
жаловался на уменьшение числа подписчиков. Хотя декабрьский
номер журнала и был выпущен в начале июня 1798 года, но уже
1 Заявление Шлегеля, написанное в Берлине 28 ноября 1797 года,
напечатано в «Allg. Lit. Zeit» 16 декабря 1797 года, № 163, с. 1352. Сравн. письмо
Шиллера к Гёте от 2 января 1798 года и ответ Гёте от 3 января. О Фоссе
сказано в отрывочной заметке Шлегеля («Лицей» И, 164): «В своей идиллии
„Луиза" Фоссе является гомеридом, а Гомер является в его переводе фосси-
дом».
2 См. письмо, написанное по этому поводу А. В. Шлегелем Шюцу 10
декабря 1797 года (оно было сначала напечатано в переписке Шюца II, 423 с
ошибочной пометкой 1798 года) в его полном собрании сочинений X, 408 и ел.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
267
в январе было решено прекратить это издание. Почти в то же
время братья Шлегели решились предпринять издание нового
журнала за свой собственный счет, а вскоре после Пасхи был
выпущен из берлинской типографии Фивега первый номер «Ате-
нея». Два брата в первый раз выступили перед публикой рука об
руку. В предисловии1 говорилось, что они предприняли это
издание без всяких сотрудников, что от них не следует требовать
единомыслия, что каждый из них будет лично отвечать перед
публикой за свои идеи, что форма изложения будет самой
свободной и самой разнообразной. Такой же широкий простор
предоставляли себе издатели относительно содержания, которое
должно было обнимать все, «что имеет непосредственную связь
с образованием». Они намеревались обращать
преимущественное внимание, наряду с разносторонними современными
литературными стремлениями, на классическую древность, а с
другой стороны — решительно не допускать ничего, что не имеет
никакой связи с искусствами и с философией; точно то же ранее
говорилось в программе журнала «Ногеп». Наконец, издатели
заявляли, что будут придерживаться следующего основного
правила: «никогда не высказывать, из посторонних соображений,
только наполовину то, что они считают за истину».
От младшего Шлегеля едва ли можно было ожидать каких-
либо посторонних соображений; напротив того, скорее можно
было опасаться, что, чувствуя себя в «Атенее» как у себя дома,
он будет высказывать свои истины еще с большим цинизмом
и с большими преувеличениями, чем прежде. Однако первый
номер «Атенея» имел хотя и вовсе не добродушную, но
сравнительно довольно степенную физиономию. Он отличался фило-
лого-классической окраской. Фридрих поместил в нем только
несколько отрывочных рассуждений о греческой поэзии и те заметки
о греческой элегии, которые служили предисловием к некоторым
из пробных переводов его брата. Но и эти статейки попали в
журнал, как кажется, только для того, чтобы восполнить
некоторые пробелы. Первоначальный план был совершенно иным, но
статьи, задуманные Фридрихом, не были готовы вовремя, и
Августу Вильгельму пришлось заменить их своими собственными2.
1 Оно перепечатано в полном собрании сочинений A.B. Шлегеля VII, с. XIX.
2 Это видно из его письма к Шлейермахеру («Aus Schleiermacher's Leben»
III, 72).
268
Р. ГАЙМ
Он поместил в первом номере «Gespräch über Klopstok's
Grammatische Gespräche» («Беседа о Грамматике Клопштока». —Прим.
науч. ред.) и «Beiträge zur Kritik der neuesten Litteratur»
(«Критика новой литературы».—Прим. науч. ред.)1.
В этих двух статьях точно так же, как и в тех, которые он
впоследствии писал для «Атенея», он не уклонялся от своих
прежних воззрений; но в них проглядывает сознание
самостоятельности, которую он приобрел с основанием нового журнала. Он по-
прежнему занимается стихотворной техникой, по-прежнему
пишет остроумные и бойкие критические заметки и в то же
время доставляет рецензии в «Литературную газету»; но уже из
первых строчек, написанных им для «Атенея», видна перемена и в
его тоне, и в литературных приемах. В статьях, которые он
предназначает для «Атенея», он держит себя как человек, сидящий у
себя дома, а в статьях, которые он писал для журнала «Hören» и
для «Литературной газеты», он держал себя как человек,
находящийся в гостях. Он, конечно, никогда не мог бы сделаться
«циником», но он, очевидно, уже не стесняется прежних
посторонних соображений; он обнаруживает более
самостоятельности с тех пор, как нашел в Берлине кружок, для которого служит
чем-то вроде авторитета, и с тех пор, как сделался другом и
покровителем вновь появившегося поэта; он все более и более
заимствует у своего брата привычку смело высказывать свои
убеждения и даже мало-помалу подчиняется влиянию его доктрины,
но при этом как человек более всесторонне образованный и
более здравомыслящий смягчает в этой доктрине резкость ее
парадоксов.
Содержание диалога «Der Wettstreit der Sprachen» («Спор о
языке». —Прим. науч. ред.) он обдумывал во время бесед с
братом, который, изучая греческую поэзию, дошел и до изучения
греческой метрики. Хотя в своих письмах о поэзии,
ритмическом размере и языке, написанных для журнала «Hören», он
остановился на изложении основных философских воззрений,
но он и после того не переставал интересоваться касающимися
1 Первая из этих статей была перепечатана под заглавием «Der Wettstreit
der Sprachen» в полном собрании сочинений VII, 197 и ел. и еще ранее в
«Критических сочинениях» I, 179 и ел.; вторая перепечатана в полном собрании
сочинений II, 3 и ел. и еще ранее, с некоторыми пропусками, в «Критических
сочинениях» I, 259 и ел.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
269
этого предмета вопросами. Он неоднократно затрагивал эти
вопросы в своих рецензиях, но приступил к их подробному
обсуждению в особой статье с целью опровергнуть
неосновательное мнение своего брата о ничтожном значении рифм1. Фридрих
придерживался воззрений Клопштока, поэтому и статья
Августа Вильгельма, в первый раз напечатанная Бёкингом в его
полном собрании сочинений2, имеет некоторую связь с
отрывочной заметкой Клопштока о языке и стихотворном искусстве. На
этот раз Август Вильгельм не задается никакими
философскими исследованиями, а излагает свои наблюдения и
размышления как такой человек, который «сам писал стихи и при этом
стремился к метрическому совершенству». Хотя он местами и
пробует делать общие выводы, но он сам считает их за
«бесполезные гипотезы»: его сила заключается в метрическом чутье,
в музыкально-поэтическом слухе. К сожалению, он довел до
конца только главу о благозвучии выражений; взамен
обещанных им замечаний об эврифмии он ограничивается
отрывочными замечаниями о правилах для немецких ямбов, а обещанная
им глава о рифмах осталась ненаписанной. Наперекор Клоп-
штоку он утверждает, что чувственно приятное служит основой
для прекрасного. Из его основного положения, что наши
«чувства судят вернее, чем наш ум», видно, что ему не могли
приходиться по вкусу ни новые философские идеи, ни
идеалистические воззрения его брата. Кроме того, он не разделяет чрезмерно
высокого мнения Фридриха о греках и, в особенности, о
греческих писателях, излагавших теорию метрики; поэтому он
считает нужным придерживаться следующего основного
правила: «чтоб решить, что звучит хорошо и что звучит дурно,
лучше полагаться на свои собственные уши, чем на мнения
Гефестиона или Дионисия». Этими словами он дополняет, с
одной стороны, идеализм своего брата, а с другой стороны —
его эллинизм. Для борьбы с идеализмом он оказывается так
слабо вооруженным, что, по-видимому, мог бы с течением
времени сам увлечься этим направлением ума. Напротив того, в
отношении к эллинизму он берет верх над односторонними воз-
1 Сравн. в статье «Об изучении поэзии», с. 35 и (касательно Клопштока)
с. 212.
2 «Betrachtungen über Metrik. An Friedrich Schlegel» в полном собрании
сочинений VII, 155 и ел.
270
Р. ГАЙМ
зрениями своего брата и подчиняет его своему влиянию.
Подобно тому как он уже давно стал заявлять требование, чтоб
наряду с Гомером и Софоклом отдавалась должная
справедливость Данте и Шекспиру, и для метрики он требует такого
широкого кругозора, который не ограничивался бы античным
миром. Он так решительно придерживается историко-литературной
точки зрения Гердера, что не уклоняется от нее даже тогда,
когда ведет речь о свойствах языка и о стихотворном искусстве.
Он нисколько не заражен пристрастием Клопштока к
немецкому языку. Ему хорошо известно, что каждый язык имеет
собственную метрику, соответствующую складу этого языка и его
отличительным свойствам. Он находит смешным «желание в
точности подражать на немецком языке греческому
метрическому размеру». В главе о ямбах он утверждает, что в немецкой
поэзии следует отдавать решительное предпочтение
пятистопным ямбам перед ямбическим триметром, а правила для них
выводит из свойств немецкой просодии.
После чтения этих «Рассуждений о метрике», отличающихся
непринужденной живостью и легкостью изложения и изяществом
слога, нельзя не пожалеть о том, что Август Вильгельм не
исполнил своего намерения написать теорию метрики1. Он, бесспорно,
обладал всеми нужными средствами для того, чтобы сделаться
для этой внешней стороны поэзии тем же, чем был автор «Лаоко-
она» и «Драматургии» для сущности поэзии. В «Состязании между
различными языками» Шлегель лишь облекал в иносказательные
выражения те основные положения, которые составляли главное
содержание его статьи о метрике, и в особенности те, в которых
шла речь о благозвучии языка2. Эти искусственные
иносказательные выражения очень хорошо характеризуют и направление «Ате-
нея», и своеобразную даровитость Шлегеля. Здесь Шлегель в
первый раз прибегает к такой форме изложения, которая отзывается
пародией. Из уважения к заслугам Клопштока, которые он не-
1 См. «Betrachtungen über Metrik», с. 195; «Abfertigung eines unwissenden
Recensenten» в полном собрании сочинений XII, 135; предисловие к
«Характеристикам и критикам» в его сочинениях VII, с. XXII.
2 Что в основе статьи «Wettstreit der Sprachen» лежали размышления,
изложенные в «Рассуждениях о метрике», достаточно видно из повторения
одинаковых оборотов речи и выражений. Напр., «jedem Narren gefällt
seine Kappe» VII, 157 и VII, 210; «die Tasten klappern nun> VII, 160 и VII, 224; и
т.д.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
271
однократно превозносит1, он направляет свою пародическую
полемику против клопштоковских «Grammatischen Gespräche»
(«Разговоров о грамматике».—Прим. науч. ред.). По свойственной
старикам причудливости и вследствие отсутствия изящного
вкуса Клопшток избрал самую нецелесообразную форму для
изложения своих идей о свойствах и достоинствах немецкого языка, о
его употреблении в поэзии и о ритмическом стихотворном
искусстве. Клопшток, вообще любивший воплощать отвлеченные идеи
в лицах, олицетворил и заставил принимать участие в
«Разговорах о грамматике» не только Гений языка, Грамматику, Фантазию,
Ум, но даже составные части языка — грамматические категории
и способы выражения. Шлегель подражает этой форме
изложения, впрочем стараясь избегать ее преувеличений.
Представители языков греческого, латинского, французского и итальянского,
возмущенные предпочтением, которое отдает Клопшток
немецкому языку, собираются для произнесения третейского
приговора над поэзией и над грамматикой. Состязание между ними
начинается после того, как была всеми признана несостоятельность
ультратевтонизма клопштоковской школы. Разговор ведется с
явной тенденцией заменить пристрастные суждения Клопштока о
немецком языке более правильными. Сравнительное благозвучие
каждого языка проверяется на опыте. При этом принимается за
руководство правило, что все, не причиняющее голосовым
органам никакого затруднения, должно быть приятно для слуха;
разговаривающие указывают на влияние климата и окружающей
природы на благозвучие языка и решают, что немецкому языку
должны быль свойственны некоторые существенные недостатки
и резкости. От вопроса о благозвучии они переходят к вопросу о
ритмическом размере. Они среди прочего восстают против
опрометчивой клопштоковской критики гомеровских гекзаметров.
Особенной меткостью отличаются суждения о различии между
переводами французских и немецких сочинений. Немец называет
1 Сравн. письмо к Шиллеру № 6 («Betrachtungen über Metrik», с. 155). Как
внимательно он изучил произведения Клопштока, видно из его рецензии на две
эстетические оценки «Мессиады» (в его сочинениях XI, 153 и ел.) и из его
упоминания о Клопштоке в другой рецензии (в его сочинениях XI, 162 и ел.). Но те
похвалы, которыми он осыпал сочинения Клопштока касательно филологии и
стихотворного искусства (VII, 259) даже в 1827 году по случаю перепечатки
статьи «Wettstreit» и т. д., следовало бы несколько умерить согласно с мнением
ЬоЬеН'я («Entwicklung der deutschen Poesie» I, 215).
272
Р. ГАИМ
односторонним мнение Француза, что иностранный писатель,
занимающийся переделкой французских произведений, должен,
если желает нравиться, и одеваться и держать себя, как француз;
по этому поводу Немец хвастается своей способностью к
образованию; но Поэзия обращается к нему со словами: «Немец,
воздерживайся от преувеличений этого прекрасного свойства; ведь
беспредельная способность к образованию может превратиться в
бесхарактерность». После того как Немец и Англичанин
разъяснили вопрос о мнимой чистоте немецкого языка, среди
собеседников появляется сверчок. Он объявляет, что «немецкий дух»,
возмущенный нелюбезным с ним обхождением, возбудил мятеж среди
всех личностей, выведенных на сцену в «Разговорах о
грамматике». При помощи этого вымышленного известия сверчок
убеждает всех спорщиков разойтись; но, прежде чем разойтись,
спорщики принимают предложенную Грамматикой резолюцию, что
«Клопшток оказал услугу и грамматике и поэзии, возбудив
склонность к таким исследованиям, которые прежде оставлялись в
пренебрежении».
И в своих «Beiträge zur Kritik der neuesten Litteratur» Август
Вильгельм выражается более решительным тоном, чем в
рецензиях, которые писал для «Литературной газеты». Он начинает
указанием на вредное влияние таких рецензий, которые пишутся
по заказу; при этом он, очевидно, намекает на те статьи, которые
писались в заранее указанном направлении для фирмы Шюца и
Гуфеланда. Ему, как он сам выражается, «очень хотелось бы
внести в эту скучную работу хоть немного гениальности». Кто хочет
«верно характеризовать» изящные произведения ума, тот
должен, по мнению Шлегеля, выражаться как можно свободнее. Он
намеревается высказывать только личные мнения человека,
привыкшего вращаться в сфере литературы. Он считает
безрассудным требование, чтобы рецензии отличались систематической
цельностью, и намеревается писать только «рапсодии». Не
менее безрассудным считает он обыкновение рассматривать
содержание только какой-нибудь одной книги: поэтому он будет
сравнивать рассматриваемое сочинение с другими однородными
сочинениями и будет, ничем не стесняясь, делать отступления от
главного предмета.
И письма Лессинга о литературе возникли из такого же
протеста против стеснений, налагаемых на рецензентов. Подобно этим
письмам, и шлегелевские «Beiträge» написаны с полемической
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
273
целью. В них идет речь о романе. Те основные положения, в
которых определяется сущность этой литературной формы, сходятся
в главных пунктах с мнениями Фридриха Шлегеля о романе и о
романтической поэзии. Потом автор переходит к характеристике
Лафонтена, которая сходится с характеристикой, написанной
Тиком для «Archiv der Zeit». Некоторые из очень остроумных
замечаний автора следует, без всякого сомнения, поставить на счет
той дамы, которая помогала ему писать статью о «Ромео и
Джульетте»1. Далее автор говорит, что по некоторым блестящим
достоинствам Лафонтена, по разнообразию красок, по цветистому
слогу, по увлекательному красноречию можно было бы подумать, что
Лафонтен был художником (да и сам Шлегель впал незадолго
перед тем в такое заблуждение)2; но теперь он исправляет свою
ошибку: он говорит, что в романах Лафонтена философия
отзывается пошлостью и что в них нет настоящей поэзии.
Дружба Шлегеля не могла быть полезной для Тика, не могла
навести Тика на более ясное понятие о его поэтической задаче.
Нам уже известно, что Шлегель ставил автора «Народных
сказок» выше Лафонтена и хвалил музу Тика, достоинства которой
могли бы оставаться непризнанными, «потому что она не
старалась расшевеливать страсти, не льстила грубым чувственным
влечениям, не задавалась нравственными целями». Но разве это
непризнание достоинств Тика действительно было результатом
недоразумения? Здесь мы снова усматриваем то же направление
в эстетической критике Шлегеля, на которое мы уже ранее
обратили наше внимание3: он снова слишком высоко ценит внешнюю
сторону поэзии и привлекательность игривой фантазии, имеющей
дело только с призрачными предметами и с призрачными
чувствами. Главное достоинство «Белокурого Экберта» он
усматривает в слоге, который называет «сказочным слогом par exellence».
Не менее ясно характеризуют его точку зрения похвальные
отзывы о песнях прекрасной Магелоны, в которых «язык как будто
отрешается от всего телесного и переходит в духовное парение».
Именно это знакомство с музой Тика усилило его давнишнее
влечение к таким произведениям поэзии, в которых внешняя
1 Что эта дама была сотрудницей Шлегеля и в «Beiträge», видно из
предисловия к «Критическим сочинениям» I, XVII.
2 Сравн. напечатанную в «Литературной газете» рецензию на французский
перевод «Клары Дюплесси» (в полном собрании сочинений XI, ПО).
3 Сравн. выше, с. 179.
274
Р. ГАЙМ
форма играет главную роль, а фантазия поэта имеет дело с
неуловимыми душевными настроениями и с воздушными
образами, то есть усилило его врожденное влечение к романтизму.
Остальное довершили личная дружеская связь с поэтом и роль
покровителя, которую взял на себя Шлегель. Теперь Шлегель
сделался для Тика тем же, чем когда-то был для него самого
Бюргер, и нас нисколько не удивляет, что он хвалит песни Тика
почти в тех же самых выражениях, в каких когда-то хвалил
Бюргер самого Шлегеля.
Только что рассмотренные нами две статьи Вильгельма
Шлегеля и отрывки из его переводов с греческого языка придали
первому номеру «Атенея» своеобразный отпечаток. Шлегель не
переставал интересоваться классической древностью и тщательно
разбирал сохранившиеся отрывки элегических стихотворений
Фанокла, Гермезианакса и Каллимаха, но в то же время вел речь о
языке и поэзии новых народов, заканчивая свои рассуждения
похвалами романтическому направлению поэзии Тика. Свое
сочувствие этому направлению Шлегель, кроме того, выразил в
нескольких афоризмах, напечатанных в «Атенее» под поэтическим
заглавием «Blüthenstaub» («Цветочная пыль»). Эти афоризмы были
большей частью привлекательны своим глубокомыслием и в то
же время поражали своей оригинальностью; но так как они не
заключали в себе почти никакой полемики, то их серьезный смысл
мог оградить их от критики.
Таково было содержание первого номера «Атенея». Лишь
несколькими неделями позже вышел и второй номер1, но он вовсе
не был похож на своего предшественника: по его содержанию
нетрудно было бы догадаться, что он был почти исключительно
наполнен статьями младшего из двух братьев. Шиллер писал в
то время своему великому веймарскому другу: «Эта смелость,
решительность, резкость и односторонность суждений
причиняют мне что-то похожее на физическую боль»; и он не изменил
этого мнения даже после того, как Гёте указал ему на оборотную
сторону этих статей, на их полемические достоинства, на
лежащие в их основе серьезные цели, на некоторую глубину
выраженных в них идей и на их либеральное направление. Еще с
1 Шиллер писал Гёте 15 мая 1798 года, что «только что получил» первый
номер; второй номер еще печатался 16 июня («Aus Schleiermacher's Leben» I,
178); из письма Фридриха Шлегеля от 3 июля (там же, III, 75) видно, что этот
второй номер уже вышел в то время из печати.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
275
большим одобрением отозвался Гёте об «Атенее» в письме к
Августу Вильгельму Шлегелю, хотя в то же время советовал
издателям быть более беспристрастными и более сдержанными1.
Его похвалы не были лишены серьезного основания; но, кроме
того, он не мог отзываться иначе как с похвалой о таком
журнале, который почти на каждой странице превозносил его выше
всех других поэтов. В особенности второй номер «Атенея»
должен был льстить самолюбию Гёте, потому что оканчивался той
характеристикой «Вильгельма Мейстера», которая уже ранее
оказала нам важную услугу при объяснении изложенной
Фридрихом Шлегелем теории романтической поэзии. В одной из
написанных для «Лицея» отрывочных заметок Фридрих сказал:
«Написать настоящую характеристику гётевского „Мейстера",
в сущности, значит изложить все содержание современной
поэзии; при этом пришлось бы совершенно отложить в сторону
критику». Очевидно, с целью разрешить эту трудную задачу Шле-
гель написал свою статью. Он предварительно глубоко
вдумывался в содержание романа и, естественно, старался
придерживаться ранее высказанного в «Лицее» основного положения, что
поэзию можно критиковать только посредством поэзии и что
такие суждения о художественных произведениях, которые сами
не отличаются художественностью, не имеют прав гражданства
в области искусства. Но на деле оказалось, что Фридрих в такой
степени был очарован превосходствами разбираемого
произведения, а с другой стороны — так горячо стремился к
осуществлению своего идеала художественной критики, что был не в
состоянии охарактеризовать «Мейстера» так же удачно, как
охарактеризовал роман Якоби «Вольдемар». Его заботливость о
внешней форме, об округленности и благозвучии слога,
придает его изложению мягкость, отзывающуюся такой
высокопарностью, которая вовсе не в его привычках и не в его характере.
Перечитывая его статью, мы убеждаемся в неосновательности
его романтического принципа, что критика поэтических
произведений сама должна быть поэтична. В настоящее время мы
усматриваем существенные недостатки в дидактических и
критических частях гётевского романа и, в особенности, в странной
символике его последних книг. Но наш романтик, у которого вле-
1 В переписке между Шиллером и Гёте от 23, 25 и 27 июля 1798 года («Aus
Schleiermacher's Leben» III, 76).
276
Р. ГАЙМ
чение к поэзии постоянно сталкивалось с влечением к
философии, не разделяет этого мнения. Мы не можем одобрить его
старание доискиваться даже до того, что осталось невысказанным,
и связывать то, в чем нет ничего общего. Он не в состоянии
убедить нас, что у художника всего более ценны те «цели,
которые он преследует втайне». «Вильгельм Мейстер» не был бы в
наших глазах настоящим поэтическим произведением, если бы
было верно мнение Фридриха Шлегеля, что в этом романе
характеры носят на себе отпечаток «обобщений и аллегорий». Но
Фридрих Шлегель не ограничивается указаниями на скрытую
цель и на символическое значение романа, он обращает
серьезное внимание и на его внешнюю форму. Он очень метко
указывает на то, что особенно привлекательно и своеобразно в гётев-
ском слоге, и на музыкальность этого слога. В этом пункте
романтическая критика вполне сходится с романтической
поэзией, как мы уже это ранее видели на примере Тика.
Впрочем, неодобрительный отзыв Шиллера относился не к
этой части второго номера «Атенея», а к помещенным в его
начале отрывочным заметкам, наполненным самыми
разнообразными, более или менее остроумными замечаниями, по поводу
которых можно бы было написать целые тома эстетических и
философских исследований. Эти разбросанные щедрой рукою
отрывочные идеи, выдававшиеся за не требующие доказательств
истины, были чем-то вроде протеста против рутинной манеры
Вольфа на все требовать положительных доказательств и против
водянистого содержания статей Николаи. Хотя некоторые из этих
идей только издали блестели как золото и были похожи на тех
издали светящихся червячков, которые утрачивают свой блеск,
когда к ним подносят зажженную свечу, но, ближе вникая в их
смысл, нетрудно заметить, что все они проникнуты одним духом.
С другой стороны, нетрудно заметить, что они не вышли из
головы одного и того же человека. Некоторые из них были
выражением таких этических воззрений, которые еще не достигли полной
ясности и определенности. В то время еще никто не мог
догадаться, что эти идеи принадлежали тому юному теологу, который
жил под одной крышей с Фридрихом Шлегелем и вместе с ним
изучал произведения Спинозы и Лейбница1. Тут был еще другой
1 Что написанные Шлейермахером заметки «едва ли занимали один
печатный лист», известно нам из письма Шлейермахера к его сестре («Aus Schleier-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
277
разряд отрывочных заметок, касавшихся филологии и эстетики и
отличавшихся не столько глубиною мысли, сколько пикантностью;
это было нечто вроде осколков литературной критики; их
автором мог быть не кто другой, как старший Шлегель1. Наконец,
mâcher's Leben» I, 178). Но и в этом письме, точно так же как в своих
сочинениях (I, 303 и I, 217), он не указывает, какие заметки были им написаны; что
именно им были написаны отрывочные заметки (107—109) («die Klugheit») и
«Katechismus» (109—111), видно из письма Фридриха Шлегеля к Шлейермахе-
ру III, 74; ему же принадлежит заметка (136—139), как это можно заключить из
того, что Фридрих Шлегель назвал ее «Die cyklische Praxis»; им же написана
заметка «über die Offenheit» (95—99), как это видно из письма III, 80. Кроме
этих четырех больших отрывочных заметок, из которых первая и две
последние носят на себе ясный отпечаток воззрений Шлейермахера, Dilthey полагает
на основании находящихся в его руках бумаг Шлейермахера, что этому же
писателю принадлежат на с. 93 «Viele haben Geist», на с. 99 «Nur die äußerlich», на
с. 192 «Keine Poesie», на с. 104 «Jammerlich ist», на с. 103 «Es ist eine Dichtung».
Сравн. Dilthey, «De principiis ethices Schleiermacheri», с 27, 28, 40, 45. Из того,
что говорит Dilthey (I, 1, с. 37, 38), видно, что Шлейермахером была написана и
заметка «Um den Unterschied» на с. 113. И некоторые из этических заметок
следует приписать Шлсйермахеру, несмотря на то что в них выражены такие идеи,
которые также были идеями Фридриха Шлегеля; то же можно сказать
касательно некоторых заметок о Лейбнице (Dilthey I, 1, с. 27). Все это служит
опровержением исследований Сигварта «Schleiermacher in seiner Beziehung zum
Athenäum» (Blaubeuren, 1861), равно как более старой статьи Kühne, напечатанной в
бюхнеровском «Deutsch. Taschenbuch» (1838, с. 1 и ел.); сравн. «Herrig, Archiv
für neuere Sprachen» (1862, с. 114). Более точных указаний можно ожидать от
Dilthey в «Leben Schleiermacher's».
1 Август Вильгельм Шлегель доказал свое участие в сборнике
отрывочных заметок уже тем, что поместил некоторые из них в «Критических
сочинениях» II, 417 и ел. В полном собрании сочинений (VIII, 3 и ел.) они
составляют 73 первых номера. К ним следует, по мнению Бёкинга, прибавить номера
79, 84, 85, 93—99; кроме того, Бёкинг прибавляет к ним «на свой собственный
риск» номера 107 и 108. Он не ошибся относительно номера 108, но номер 107
следует приписать Фридриху Шлегелю на основании того, что говорится в
«Aus Schleiermacher's Leben» III, 74. На основании указаний Варнгагена
Бёкинг, кроме того, приписывает Августу Шлегелю номера 74—78, 80—83 (и 84),
86—92 (94, 95), 100—106 и 109. Но из этих номеров четыре (75, 80, 101 и 106)
принадлежат Фридриху Шлегелю, потому что были перепечатаны в «Eisenfeile»
(«Charakteristiken und Kritiken» I, 228, 241, 230 и 253) и потом в «Kritischen
Grundgesetze». Но так как указания Варнгагена оказываются ненадежными, то
мы позволяем себе высказать предположение, что и многие другие из
перечисленных нами номеров были написаны младшим Шлегелем. Относительно
номеров 87—92 сам Бёкинг высказывает такое же предположение (с. 25, прим.);
а я думаю, что это предположение может относиться и к номерам 76, 77, 81,
86, 102 и 109. Что Фридриху Шлегелю принадлежит номер 82, видно из того,
что содержание этого номера сходится с тем, что извлек Виндишманн из
278
Р. ГАИМ
младшему Шлегелю принадлежали те отрывочные заметки,
которые носили на себе исключительный отпечаток остроумия. Он
возвел в теорию свою манеру выражаться отрывочными
заметками. Еще в одной из статей, написанных им для «Лицея», он
говорил, что некоторые литературные произведения, вызвавшие
похвалы за гармоническое сочетание изложенных в них идей, не
могут равняться по своей цельности с пестрой массой
отрывочных заметок, стремящихся лишь к одной цели. Настоящая
отрывочная заметка должна, подобно небольшому художественному
произведению, совершенно отрешиться от окружающего мира и
быть сама в себе цельной. Кто не умеет выразить выдающуюся
мысль несколькими штрихами, для того философия никогда не
сделается ни искусством, ни наукой. Короче сказать, отрывочная
заметка имеет, по мнению Фридриха Шлегеля, одинаковое
достоинство с очерком. По его примеру и его брат, и его друг стали
заниматься литературными произведениями этого рода, стали
делать вклады в эту «циническую lanx satura (мешанину. — Прим.
науч. ред.)». Он настоял на том, чтобы весь сборник заметок был
озаглавлен одним словом «Fragmente», a не так, как в «Лицее»,
двумя словами «Kritische Fragmente» («Критический фрагмент». —
Прим. науч. ред.), потому что к этим заметкам идет данное его
братом название «Randglossen zu dem Text des Zeitalters»
(«Заметки о текстах нашей эпохи». — Прим. науч. ред.) только в той мере,
в какой они заключают в себе «fermenta cognitionis (начала
познания.— Прим. науч. ред.) для критической философии»; стало
быть, употребление обоих эпитетов: «критические» и
«отрывочные» — было бы повторением слов, имеющих одинаковое
значение1. Поэтому на всем сборнике отрывочных заметок лежит
отпечаток его собственного склада ума и его манеры выражаться. Ему
самому принадлежит четыре пятых этих заметок, отличающиеся
бумаг Фридриха в своих «Friedrich Schlegel's Philosophische Vorlesungen»
(11,412); да и вообще в этих извлечениях можно найти зародыши тех идей,
которые излагались Фридрихом в его отрывочных заметках, написанных для
«Атенея». С другой стороны, можно с положительной уверенностью
приписать Августу Вильгельму отрывочную заметку на с. 85—87 на основании того,
что говорится в «Атенее» (И, 2, с. 227) в его статье «Über Zeichnungen zu
Gedichten».
1 Сравн. диалогическую заметку «Атенея» (с. 72) с содержанием письма
Августа Вильгельма в «Aus Schleiermacher's Leben» HI, 71; здесь не так, как у
Dilthey, вслед за словами «Kritische Fragmente» следует поставить не слово
«suchen», а слово «heissen».
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
279
особенной «резкостью и определенностью», особенной
пикантностью и революционным направлением. Преимущественно они
и обратили на себя общее внимание; их разносил по Веймару
жадный до новостей Бётгигер с целью дискредитировать все
издание; именно их имел в виду Гёте, когда защищал отрывочную
форму изложения от нападок Шиллера и называл ее «осиным
гнездом, которое является страшным врагом господствовавших в
тогдашней литературе ничтожества, пристрастия ко всему
посредственному, бессодержательности и бесцветности». Наконец,
именно в этих заметках следует искать указания на то
литературное направление, которого придерживались сотрудники «Атенея».
Мы уже ранее говорили об эстетическом характере этого
направления. Гораздо менее зрелую доктрину мы усматриваем в тех
заметках, которые касались истории, критики и характеристики
философии, этики и религии. Но мы покуда оставим без
рассмотрения те зародыши идей, которые касаются этих предметов, и
подождем их более полного развития в голове тех, у кого они
возникли.
Снова возвращаясь к первой части журнала, мы находим в ее
содержании то же направление, которое сказывалось в
отрывочных заметках, носивших заглавие «Цветочная пыль». Точно так
же, как в статьях Фридриха Шлегеля, там постоянно
проповедовались идеи Гёте и Фихте. О Гёте там говорилось, что это
«истинный представитель поэтического гения на земле», а из
философского учения Фихте делалось немало заимствований. Кроме того,
там проповедовали принцип универсального и прогрессивного
образования, объявляли войну филистерскому отсутствию
поэтического чувства, требовали сочетания философского направления
с поэтическим, а под названием юмора превозносили иронию как
результат «свободного смешения условного с безусловным».
Более странно звучали другие основные положения, касавшиеся
религии. Там не было недостатка и в парадоксах, но это были
более наивные парадоксы: в них вовсе не было заметно стремление
к эффектности. Перелистывая еще раз отрывочные заметки во
второй части, мы находим в них такую примесь, которую никак
нельзя приписать ни Шлейермахеру, ни Августу Шлегелю, ни
Фридриху Шлегелю. Это, очевидно, была такая цветочная пыль,
которую занес ветер; так, например, мы читаем:
«Трансцендентальная точка зрения на здешнюю жизнь еще ожидает нас; только
в той жизни она впервые получит для нас свое настоящее значе-
280
Р. ГАИМ
ние»; или немного далее: «Мы близки к пробуждению, когда нам
снится, что мы видим сон»1. Эти парадоксы имеют мало сходства
с парадоксами Фридриха Шлегеля; но, сопоставляя содержание
«Цветочной пыли» с разбросанными во второй части идеями, мы
приходим к убеждению, что и тут и там высказывались
убеждения двух друзей, сходившихся в своих мнениях; вопрос может
заключаться только в том, который из этих двух друзей давал
другому более того, что сам получал.
Автор «Цветочной пыли» подписался именем Новалиса, и тем
же именем были подписаны две статьи, напечатанные около того
времени в «Jahrbüchern der preussischen Monarchie» («Хроники
прусской монархии».—Прим. науч. ред.). Виланду очень
хотелось поскорее узнать, кто скрывается под этим вымышленным
именем2. И нам приходится ближе познакомиться с этим
писателем, который был единственным сотрудником братьев Шлегелей
в первых номерах «Атенея». Но с его вступлением в кружок
романтиков соединяется дальнейшее развитие романтической
поэзии, а с этим развитием шло рука об руку усиление
романтического направления. Поэтому, приступая к описанию эпохи
процветания романтизма, мы должны будем познакомиться и с
этой интересной личностью.
1 Первое из приведенных в тексте основных положений я приписываю Но-
валису, несмотря на то что его нельзя найти в полном собрании сочинений
Новалиса. Относительно принадлежности Новалису других заметок я приведу
доказательства. Заметка в «Атенее» (I, 2, с. 77), начинающаяся словами «Wenn
der Mensch», помещена в сочинениях Новалиса (4-е издание) (II, 180). Первая
половина отрывка, начинающегося словами «Wer sucht, wird zweifeln»,
помещена там же (II, 145) до слов «zu vereinigen scheinen»; его вторая половина
помещена в И, 303 с некоторыми пропусками. Заметка на с. 78 «der Geist führt
einen ewigen Selbstbeweis» помещена в III, 237; там же помещена заметка «Das
Leben eines wahrhaft kanonischen Menschen»; там же (И, 138) заметка «Nur dann
zeige ich», очевидно находящаяся в связи с тем, что говорится в «Цветочной
пыли» (с. 88) о трех способах переводить; напечатанная на с. 78 заметка «Wir
sind dem Aufwachen nahe» в II, 103; там же (II, 142) в несколько измененном
виде заметка «Aecht geselliger Wiz.»; на с. 79 «Geistvoll ist» в II, 80; там же (И,
201) «Deutsche giebt es»; там же (III, 237) «Der Tod ist»; там же (II, 179) заметка
«Brauchen wir», очевидно находящаяся в связи с тем, что говорится в
«Цветочной пыли» на с. 72.
2 Виланд к Бёттигеру в «Litterarische Zustände» Бёттигера II, 182.
КНИГА ТРЕТЬЯ
ЦВЕТУЩЕЕ ВРЕМЯ РОМАНТИЗМА
ГЛАВА ПЕРВАЯ
НОВАЯ ЧЕРТА В ТЕНДЕНЦИЯХ
РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
И в истории возникающего нового умственного направления,
точно так же как и во всякой другой истории, иногда приходится
иметь дело с такими явлениями, причина которых кажется нам
необъяснимой. Внешние связи главных действующих лиц не
всегда соответствуют их убеждениям, а их убеждения не всегда
выражаются в их личных привязанностях. Мы без всяких
колебаний приписываем простой случайности тесную дружескую связь
Фридриха Шлегеля с Тиком, потому что умственное развитие
Шлегеля могло бы обойтись и без этой связи. Мы усматриваем
случайность противоположного характера в том факте, что автор
статьи об изучении греческой поэзии не вступал ни в какие
личные сношения с тем писателем, чьи поэтические произведения
были чем-то вроде комментариев к первым статьям Шлегеля
о греческой древности.
В том же году, в котором была напечатана в берлинском
«Ежемесячном журнале» статья о школах греческой поэзии, появилось
в шиллеровской «Новой Талии» начало романа в письмах под
заглавием «Fragment von Hyperion» («Фрагмент из „Гипериона"». —
Прим. науч. ред.у. Из предисловия видно, что автор романа имел
в виду подробное изложение философской темы. Он говорит в этом
предисловии, что есть два идеала нашего существования —
такое в высшей степени безыскусственное состояние, при котором
наши потребности и наши способности взаимно
уравновешиваются только благодаря нашему природному организму, и такое
несравненно высшее состояние, при котором наши бесконечно
1 В «Новой Талии» (1793, том IV, № 5, с. 181 и ел.), а теперь этот роман
напечатан во II томе, с. 231 и ел., изданного Хр. Теод. Швабом полного собрания
сочинений Гельдерлина (Штутгарт и Тюбинген, 1846).
284
Р. ГАЙМ
разнообразные потребности и наши вполне развитые
способности приводятся в равновесие благодаря такому организму,
который мы сами в себе создаем; в романе описываются различные
стадии, через которые проходят индивидуум и весь человеческий
род на пути от первого состояния ко второму. В третьем письме
говорится, что «священное райское спокойствие» исчезает для
того, чтобы то, «что было лишь даром природы, снова расцвело в
качестве благоприобретенной собственности человечества».
Сценой действия служит для романа Древняя Греция в том
освещении, какое ей придавали новейшие поклонники эллинизма.
Времена Гомера служат изображением того состояния человечества,
при котором все прекрасное давалось «только по милости
природы», а все утраченное может быть снова приобретено
посредством восстановления рая на земле.
Нельзя не заметить, что в этом произведении Гельдерлина
проглядывает та же мысль, которая побудила Шиллера написать
элегию «Боги Греции», и нельзя не вспомнить, что та же мысль
служила для Фридриха Шлегеля руководством в его попытке
обозреть историю эстетического развития человечества. Но одна и та
же основная мысль привела Фридриха Шлегеля и автора нового
романа — Гельдерлина — к различным выводам. Между тем как
автор статьи «Греки и римляне», увлекавшийся своей
склонностью к торопливым умозаключениям, довел до парадокса идею
об образцовых достоинствах эллинизма и о ложном направлении
новейшей поэзии, у Гельдерлина эта идея превратилась в
глубокую веру. Склонный к критике Шлегель извлек из того воззрения
на историю человечества мотивы для резких порицаний и для
безусловных требований, а одаренный мягкой поэтической натурой
Гельдерлин выражался то с горячим воодушевлением, то
трогательным, жалобным тоном.
Это настроение ума Гельдерлина было лишь слегка заметным
в том отрывке, который был напечатан в «Талии», но оно
сделалось вполне ясным в позднее написанном окончании романа. В том
виде, в каком этот роман появился в 1797 и 1799 годах1 в двух
частях под заглавием «Hyperion oder der Eremit in Griechenland»
(«Гиперион, или Греческий отшельник». —Пром. науч. ред.), он
представляет самую полную и самую откровенную исповедь, с
1 В Тюбингене, у Котты. Теперь он составляет вторую часть I тома полного
собрания сочинений Гельдерлина.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
285
какой едва ли когда-либо выступал поэт перед публикой. В
сущности, это длинное лирическое стихотворение, проникнутое до своих
мельчайших подробностей субъективными чувствами, но
производящее впечатление не описанием того или другого душевного
настроения, а тем, что в нем выражены все личные убеждения,
все содержание жизни поэта.
Родившийся в Греции Нового времени Гиперион
рассказывает в письмах к своему другу Беллармину историю всей своей
жизни. Эта форма изложения в письмах более пригодна для
такого романа, в котором описывается не столько то, что пережито,
сколько то, что перечувствовано. И поэт, описавший страдания
юного Вертера, был вынужден прибегнуть к форме лирического
монолога. Но в письмах Вертера мы читаем рассказ не о том, что
принадлежит прошлому, а о том, что герой романа чувствует в ту
минуту, как пишет. В «Гиперионе» эта форма излияния
субъективных чувств доведена до своеобразной крайности. Здесь
письма, за исключением лишь немногих, написаны после того, как все
было пережито. Поэтому здесь автор прибегает к форме писем не
для того, чтоб придать своему рассказу драматическую живость
и наглядность; он избрал эту форму изложения несмотря на то,
что ведет речь о прошлом и что уже пережитые впечатления
могли с течением времени охладеть. Однако в этих письмах вовсе
не заметно такого охлаждения; напротив того, в них чувства
радости и скорби описаны с таким жаром, какого можно ожидать
только от того, кто описывает не прошлые, а настоящие радости
и скорби. Все это не вполне естественно и сбивает читателя с
толку, потому что то душевное настроение, в котором находится
автор в момент сочинения письма, сливается с тем душевным
настроением, о котором у автора сохранились только
воспоминания. Однако автор «Гипериона» не был в состоянии поступить
иначе; он не был в состоянии издали взглянуть на то, что прежде
возбуждало в нем страстные желания, надежды, любовь, и все
это облекал в лирическую форму. Наоборот, он никак не может
уловить того, во что он верит и что любит. Все его чувства
направлены на то, что уже прошло. Он скорбит о том, что
невозвратимо, об исчезнувшем идеале. Поэтому элегия есть самая
подходящая форма для выражения его лирических чувств, стремящихся
в беспредельную даль.
Итак, темой для писем Гипериона служат мечтания об идеале
и скорбь о невозможности осуществить его. Предмет, к которому
286
Р. ГАЙМ
он стремится, представляется ему в различных формах и
олицетворениях. Сначала он всем сердцем привязывается к своему
наставнику. Но и в этом случае его воодушевление утоляет свою
жажду лишь тем, что находит в самом себе; ведь наставник,
которого он называет «алмазом», «полубогом по душевному
спокойствию и умственной силе, по любви и мудрости», также
оказывается человеком еще не нашедшим того, что ему нужно. Он
гоняется за гением более благородной гуманности и ищет его в
мусоре разрушенного греческого мира. В надежде отыскать
давно утраченное у народов, еще полных жизни, он проникает в
глубину Азии. Гиперион снова остается в одиночестве; им овладевает
скорбь о «неизлечимой испорченности его времени», о
человеческих слабостях и о человеческом ничтожестве; но он находит
утешение в дружбе Алабанды. Этот Алабанда похож на Титана,
вращающегося среди карликов. Два друга сходятся и в презрении
в своему «ребяческому веку», и в своих сожалениях о прошлом
величии, и в своей жажде деятельности, и даже в решимости
спасти свое отечество от позора и рабства. Но эта дружба основана
на таких идеальных стремлениях, на таких неясных замыслах,
что не может устоять против некоторых внешних препятствий.
Гиперион узнает, что его друг не привязан к нему всем сердцем,
что у этого друга есть и другие привязанности. Дело доходит до
ссоры и, наконец, до разрыва. Гиперион предается скорби и
отчаянию; он выходит из этого печального положения благодаря тому,
что один из его знакомых приглашает его в Калаврею. Там он
находит в любовной привязанности более полное удовлетворение
своих врожденных влечений, чем то, которое находил в уважении
к наставнику и в обмене идеями с другом. Он находит для своего
идеала новое и более полное олицетворение в божественной
женщине. Вспоминая о той минуте, когда он в первый раз встретился
с Диотимой, он говорит: «Наконец я нашел то, чего искала моя
душа, нашел то совершенство, которое мне казалось
достижимым только в надзвездных мирах, только в конце времен». В Ди-
отиме он любит красоту, а в красоте — осуществление своего
идеала. Поэтому можно было бы ожидать, что теперь элегию
заменит идиллия. Но Диотима может удовлетворять это
беспокойное сердце только в той мере, в какой она может содействовать
исполнению его тайных желаний и замыслов. В то время, как
Гиперион бродит среди развалин древних Афин, Диотима указывает
ему главную цель его жизни в восстановлении прежнего величия
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
287
его отечества. Он решается посвятить себя перевоспитанию своих
соотечественников и этим способом подготовить для Греции
новую блестящую будущность. Но неожиданно полученное от Ала-
банды письмо указывает ему более смелый и более верный
способ достигнуть желаемой цели: Алабанда советует взяться за
оружие. Так как в этом рассказе до сих пор вовсе не было речи о
каких-либо исторических происшествиях, то мы с удивлением
узнаем, что содержание рассказа относится к 1770 году. Россия
объявила войну Порте; на архипелаге появляется ее флот; грекам
обещана свобода, если они восстанут с целью прогнать султана
за Евфрат. Теперь идеал Гипериона получает внешний вид
геройского предприятия. В кротких возражениях Диотимы мы как будто
слышим отзвук шиллеровских писем об эстетическом
образовании, отзвук той мысли, что «красота прокладывает путь к свободе».
Но Гиперион устраняет эти возражения, утверждая, что новые идеи
не могут жить в воздушном пространстве, что священная
теократия прекрасного должна господствовать в республике и что
теперь следует завоевать для нее место на земле. Поэтому он
спешит в Пелопоннес. По примеру Гармодия и Аристогитона он
вместе с Алабандой берется за оружие с целью отвоевать для
своего народа свободу и создать новый мир, который был бы чем-
то вроде «копии» с его возлюбленной. Но полное блестящих
надежд воодушевление скоро уступает место разочарованию. Он
приходит к убеждению, что те отряды буйных волонтеров, во
главе которых он ведет войну, лишь позорят то святое дело, за которое
они сражаются. Ему не остается ничего другого, как упрекать
самого себя за ошибочное мнение, будто можно «создать элизий
при помощи разбойничьей шайки». Ему приходится отказаться от
Диотимы и искать смерти на поле брани. Если бы он
действительно этим кончил, то рассматриваемый нами роман получил
бы драматическую развязку, а элегия превратилась бы в нечто
похожее на трагедию. Но и то, что следует далее, написано в тоне
элегии. Только участь Алабанды получает трагический отпечаток,
потому что он делается добровольной жертвой мстительности
союзников, которых покинул для того, чтобы стремиться заодно
со своим другом к осуществлению общего идеала. Но этот друг
так безрассуден, что хочет переначать то, что уже окончилось
полной неудачей. Он воображает, что в какой-нибудь долине Альп
или Пиренеев может устроить для себя вместе с Диотимой
новую жизнь, полную блаженства. Смерть Диотимы разрушает эту
288
Р. ГАЙМ
мечту. «Такова участь всего прекрасного на земле»: Диотима
умирает только потому, что идеальное не может жить. Что же теперь
делать оставшемуся в живых Гипериону? Его будущее назначение
указано предсмертными словами Диотимы: «Ты должен быть
жрецом божественной природы, и у тебя уже есть зародыши для
деятельности поэта». Гиперион ищет убежища на лоне природы с
той скорбью в сердце, которую не может заглушить земная жизнь.
Он умирает в Греции отшельником. Остальное содержание
романа заключается в элегических воспоминаниях о прошлом и в
выражении желания «слиться воедино со всем, что живет, и со
священным самозабвением возвратиться в лоно природы».
Уже из такого окончания романа нетрудно усмотреть, что
в умственном настроении Гипериона проглядывают некоторые
определенные идеи. Его мечтательность имеет философский
отпечаток, и в его романе немало таких выражений, в которых довольно
ясно сказываются его основные убеждения. Он высказывает Ди-
отиме свое воззрение на историческую жизнь человечества:
разрушающаяся с течением времени красота переносится из
человеческой жизни в духовный мир, идеал делается тем, чем была
природа. Такую же связь автор усматривает в отношениях
искусства и поэзии к философии. Гармония безукоризненной
красоты составляет исключительное достояние поэзии. Философия
возникает из поэзии, с которой в конце концов сливается. Прежде
чем искать вечную красоту в мышлении, ее следует понять
сердцем. Истинному философу всегда присущ идеал прекрасного, и он
разлагает этот идеал на части только для того, чтобы потом
снова соединять эти части в своем уме в одно целое. Умственные
силы, с помощью которых он оперирует, заключаются в рассудке
и в разуме. Рассудок ограничивается тем, что распознает и
приводит в порядок растворенные вокруг явления. Разум не идет далее
требования нескончаемого прогресса. Поэтому идеал
прекрасного представляется истинному философу в том освещении, какое
ему придают рассудок и разум. Прекрасное заключается в том
высшем безусловном целом, которое выше всякого мышления;
оно содержит в себе божественное, которое одно и то же с
истинно человеческим. В этом воззрении, очевидно, сглаживаются
границы, отделяющие философию от поэзии. Здесь, по словам
Гипериона, идет речь о настоящих мистериях. В союзе философии с
поэзией участвует и религия; она есть не что иное, как любовь
к прекрасному; поэтому религия мудреца непосредственно стре-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
289
мится к бесконечному; между тем как простой народ любит
богов, этих детей красоты, философ находит, что этот мир «не так
беден, чтобы нужно было искать еще богов и вне его». Таким
образом оказывается, что эстетико-мистический пантеизм, в
котором Гиперион искал утешения после того, как убедился в
невозможности осуществить свои практические идеалы, был ясно
сформулированным символом веры. Эти верования
проглядывают в различных видах во всем стихотворении. Они отзываются
самым искренним благочестием в тех словах, которые
произносит Диотима перед смертью. Она утешает себя мыслью, что будет
жить и после смерти, потому что умереть есть то же, что
возвратиться в лоно природы, и потому что невозможно разорвать те
узы, которыми вечная любовь связывает всех существ. Те же
верования более мужественно высказываются в прощальных
словах Гиперионова друга. Алабанда также говорит о своих
надеждах, которые заходят за пределы смерти. «Я думаю, — говорит
он, — что мы существуем сами по себе и только по нашему
добровольному желанию так тесно связаны с целым». Стало быть,
и по его мнению мир сам в себе и полон разнообразия, и целен, но,
кроме того, представляет гармоническое сочетание существ,
действующих по своим собственным побуждениям и потому
безначальных и неразрушимых.
Но так как поэзия рассматриваемого нами романа, в
сущности, основана на вышеизложенных глубокомысленных
«мистериях», то вполне понятно, почему она оказывается всего более
блестящей в описаниях природы. Афинские храмы и статуи
обратились в развалины; прекрасная жизнь, которою когда-то
жилось на греческой почве, уже исчезла, а горьким
воспоминаниям приходится иметь дело только с тенями тех великих людей,
которые когда-то там вращались среди своих богов. Но море
и земля остались такими же, какими были во времена Перикла;
греческие ландшафты освещаются всё тем же солнцем,
которое освещало их несколько тысяч лет назад, и по-прежнему там
зеленеют виноградник и мирт, оливковое дерево и лавр.
Описания той местности, которая служила сценой для различных
переворотов в жизни Гипериона, вводят нас в оптический обман:
нам кажется, что перед нашими глазами течет та идеальная жизнь,
которою жилось в той местности в старые времена. Даже можно
сказать, что эти описания вводят нас в двойной обман: ведь
автор представляет греческий ландшафт не в его настоящем ос-
10 Зак. № 3602
290
Р. ГАЙМ
вещении, он освещает этот ландшафт проблесками своей
фантазии и ложного понятия о том райском человеческом счастье,
которое существует только в воображении поэта.
Сводя к общему итогу впечатления, которые производит на
нас «Гиперион», мы приходим к заключению, что энергия и
изящество слога, что блеск и картинность описаний служат лишь
прикрытием для глубоких душевных ран. Мы, очевидно, имеем
здесь дело с поэтом, но для нас не менее очевидно, что этот поэт
был несчастным и больным человеком. Поэтому, чтобы составить
себе ясное понятие о рассматриваемой нами замечательной
книге, мы должны познакомиться с личностью, с образом жизни и с
умственным развитием ее автора1.
Гельдерлин принадлежит к одному поколению с Тиком, Шле-
гелем и Новалисом. Он родился 29 марта 1770 года, то есть в
одном году с Гегелем. Его отец, состоявший на вюртембергской
службе, жил в Лауфене, на берегах Неккара; заботы о воспитании
мальчика лежали исключительно на его матери именно в те
ранние годы его жизни, когда более строгий отцовский присмотр мог
бы заглушить в нем склонность к причудливой мечтательности.
Этим объясняется, почему в течение всей своей жизни он
чувствовал потребность быть любимым такой любовью, которая все
извиняет и для всего находит оправдание, и почему он так часто с
наслаждением вспоминал о своей матери и о ласках своей сестры.
С ранних лет он стал горячо любить и природу. Красивые
окрестности Нюртингена, в котором он провел свое детство, представлялись
его уму, когда он впоследствии говорил в своих элегических
песнях о «лесах, где протекала его молодость», о тех «уединенных
местах», где он любовался волнистыми ручейками и следил
глазами за пущенными по их течению бумажными корабликами.
В швабских школах исстари существовало обыкновение
заниматься изучением классической литературы. Уже в Маульбронне, где
Гельдерлин готовился к изучению теологии, он слыл между
своими товарищами за замечательного эллиниста. Уже в то время он
начал писать стихи, обращавшие на себя внимание своим
благозвучием. Таких же поэтов нашлось немало и в Тюбингенском
университете, куда Гельдерлин поступил в 1788 году. С двумя свои-
1 Жизнь Гельдерлина подробно описана Хр. Теод. Швабом во II томе
изданного им полного собрания сочинений Гельдерлина. Некоторые подробности можно
найти, кроме того, в переписке поэта, помещенной в том же томе.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
291
ми соотечественниками — Нейффером и Магенау, впоследствии
приобретшими некоторую известность в качестве поэтов, — Гель-
дерлин заключил формальный поэтический союз. И из внешней
формы этого союза, и из содержания первых произведений музы
Гельдерлина ясно видно, как сильно было влияние Клопштока на
этих юношей. Стихотворения юного Гельдерлина отличались
чрезвычайной нежностью выраженных в них чувств. Поэт сильно
увлекался поэмой Оссиана; с другой стороны, он заимствовал у
«великого Жан-Жака» понятие о человеческих правах и радовался
тому, что Французская революция подготавливала осуществление
идей этого писателя. В своих гимнах он воспевал добродетель,
свободу, любовь к отечеству и с поэтическим красноречием
излагал идеи, заимствованные из «Contrat social» («Общественный
договор». —Прим. науч. ред.), из «Ардингелло» Гейнзе и даже
из кантовской критики познавательной способности. От
подражания Клопштоку он переходит к подражанию патетической лирике
Шиллера. Он с ранней молодости питал «глубокое уважение» к
Шиллеру. К тому же автор «Песни к радости» был его земляком.
Этот поэт умел увлекательнее всякого другого выражать идеалы
юношеского возраста, горячо нападал на грубые предрассудки
своего времени и соединял со своими возвышенными
стремлениями и верованиями склонность к меланхолии и к разочарованию.
Эта последняя черта его характера всего яснее выходит наружу
в «Дон Карлосе». Поэтому именно в этой трагедии Гельдерлин
находит самое верное выражение своих собственных чувств.
В 1799 году он писал Шиллеру: «„Дон Карлос" долго был тем
волшебным облаком, которым благость Божья окружала мою
юность для того, чтобы я не слишком рано убедился в
ничтожестве и в варварстве всего, что меня окружало». Одно из его
писем, написанное в последний год его университетских занятий,
носит на себе очевидные признаки впечатлений, вынесенных из
чтения шиллеровской трагедии. Его ум настроен точно так же,
как у маркиза Позы: «Предметом любви, — говорит он, —
служит для меня человеческий род... Я люблю поколения будущих
столетий».
Все вышесказанное служит для нас объяснением некоторых
самых выдающихся характеристических особенностей
«Гипериона». Туманная неясность этого произведения отчасти
напоминает нам туманную неясность макферсоновского «Оссиана». В нем
встречаются и такие места, которые напоминают «Вертера» не
292
Р. ГАИМ
так, как копия напоминает оригинал, а как звуки одного
инструмента напоминают звуки другого, настроенного на одинаковый
тон1. Но с вертеровским настроением ума соединяются у
Гельдерлина мотивы, заимствованные из первых произведений
Шиллера. Роман Гельдерлина — не что иное, как «Дон Карлос»,
переложенный на лирический тон2. Гиперион, этот «гражданин в сферах
справедливости и красоты», так же ненадежен в дружбе, как
испанский инфант, и так же ребячески героичен, как Поза. Подобно
тому как этот последний предпринимает освобождение
Нидерландов при содействии своего друга, и Гиперион предпринимает
освобождение Греции при содействии Алабанды. Подобно
Елизавете, Диотима является орудием для основания идеального
государства, с которым начнется новая эра во всемирной истории.
Но Гельдерлин остановился на том пункте, который служил для
Шиллера лишь переходным пунктом от юношеского возраста к
возмужалости. Юношеский высокопарный идеализм Шиллера
превратился в одну из пружин его диалектической драматической
поэзии, между тем как был вреден для его лирики. Напротив того,
идеализм Гельдерлина превратился в отраву вследствие
отсутствия драматического элемента.
В «Гиперионе» есть еще и другие характеристические
особенности, которыми он отличается и от «Вертера», и от «Дон Карло-
са». Чувства, внушаемые созерцанием природы, отзываются в
романе Гельдерлина философским мистицизмом и пантеизмом.
Этико-эстетическое воодушевление автора почти совершенно
тождественно с его страстным влечением к древнему греческому миру.
Поэтому изучение греческой жизни было любимым из
университетских занятий Гельдерлина, а в то время, как он углублялся в
эти занятия, ему, естественно, приходилось отведать колючих, но
сладких плодов философии. Его товарищем в этих занятиях был
Гегель, а товарищем их обоих был Шеллинг, немного позднее их
поступивший в Тюбингенский университет. Гельдерлин с восхи-
1 Те места, которые всего более напоминают «Вертера», указаны Юнгом в
его сочинении «Friedrich Hölderlin und seine Werke» (Штутгарт и Тюбинген, 1848),
с. 89 и ел.; в этой книге встречаются очень меткие замечания среди длинных
отступлений, написанных тоном дифирамбов.
2 В прекрасной статье Давида Мюллера о Гельдерлине («Preuss. Jahrbüchen>,
1866, том XVII, часть 5) на с. 555 почти совершенно отвергается это
непосредственное влияние Шиллера, а, напротив того, делаются указания на сходство
идей Гельдерлина с идеями Жан-Поля. Это сходство идей очевидно, но
действительное влияние Жан-Поля ничем не доказано.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
293
щением читал те самые произведения греческих трагиков и
Платона, в которые углублялся и Фридрих Шлегель во время своих
университетских занятий. Подобно Шлегелю, и Гельдерлин
увлекался Винкельманом и подражавшим Платону Гемстергюи; из
произведений Винкельмана он извлек тему для той статьи,
благодаря которой он получил степень магистра, для «Истории
изящных искусств у греков»; в другой статье он сравнивал «Труды и
дни» Гесиода с изречениями Соломона. Уже в ранее упомянутых
нами юношеских стихотворениях Гельдерлина заметно сочетание
его влечения к священным гимнам с его влечением к греческой
поэзии. Между тем Виланд создал такую поэтическую форму,
которая делала возможным слияние античного направления с
духом Нового времени. Гейнзе видоизменил эту внешнюю форму,
перенеся сцену действия в Италию и в эпоху Возрождения. Под
влиянием этих примеров Гельдерлин задумал написать
«греческий роман» еще в то время, как кончал курс наук в Тюбинген-
ском университете. Уже в то время герой этого романа носил имя
бога солнца — Гипериона. Юный поэт вложил всю свою душу в
это произведение, которое сам называл «изображением идей и
чувств» и о котором нам известно только то, что автор, между
прочим, описывал в нем детство Гипериона и подробно
рассказывал, каким образом Гиперион еще маленьким мальчиком прокрался
ночью к изображению греческой богини Панагии и со страстью
целовал его. Но от изучения Платона не труден был переход в
другие философские сферы. В то время сильно интересовались в
Тюбингене новой кантовской философией. Такого любителя всего
прекрасного, каким был Гельдерлин, должны были привлекать к
Канту изречения вроде следующего: «Природа в своих изящных
формах разговаривает с нами на фигурном языке» или вроде
следующего: «В нашем нравственном чувстве нам даровано
средство понимать язык природы». Однако от этого Гельдерлин не
сделался приверженцем критической философии. Для своей
склонности к мечтательности он находил опору в произведениях
Спинозы, с которым познакомился из писем Якоби к Мендельсону и
изречение которого («'εν χάι πάν») скоро сделалось его любимой
еретической поговоркой.
Но и в своих новых влечениях в эллинизму и к философии
Гельдерлин сходился со своим великим земляком Шиллером.
Уже в письмах Юлии к Рафаэлю излагалась такая
фантастическая философия, которая близко подходила к философии Спино-
294
Р. ГАЙМ
зы. И Гегель закончил в 1806 году свою «Феноменологию»
несколькими строками из этой переписки, и Гельдерлин повторил
ту же мысль — о «великом хозяине миров, у которого нет
друзей» — в одной из своих позднее написанных од:
Denn weil
Die Seligsten nichfs fühlen von selbst,
Muss wohl, wenn solches zu sagen
Erlaubt ist, in der Götter Namen
Theilnhemend fühlen ein Andrer —
Den brauchen sie1.
Кроме того, следует заметить, что когда Гельдерлин лично
познакомился с Шиллером во время пребывания этого
последнего в 1793 году в Швабии, автор «Дон Карлоса» уже успел
совершенно измениться. Шиллер также с увлечением изучал
греческую жизнь и вследствие того перенес на греческий Олимп и на
греческую почву тот идеальный мир, который прежде
отыскивал в богемских лесах или в космополитических утопиях. Он
также познакомился с произведениями Канта и, найдя у этого
философа сопоставление прекрасного с истинно человеческим,
был готов сделаться Платоном этого нового Сократа. Поэтому
узы, связывавшие Гельдерлина с Шиллером, поэтом и
философом, становятся все более крепкими. В Вальтерсгаузене, где
Гельдерлин поступил, по рекомендации Шиллера, к госпоже Кальб
в качестве воспитателя2, он занялся изучением произведений
Канта так серьезно, что и на свои обязанности воспитателя стал
смотреть с точки зрения Канта. К этому времени относится тот
отрывок из вторичной переделки «Гипериона», который был
помещен Шиллером в «Талии». Но в то же время Гельдерлин
работал над статьей об эстетике. Если бы эта статья была
доведена до конца, то она, без сомнения, носила бы на себе следы
влияния Канта и Платона, а всего более следы влияния шилле-
ровской статьи «О прелести и достоинстве»; ведь ее автор,
развивая одну мысль из платоновского «Федра», предполагал
сделать анализ прекрасного и возвышенного, а с целью упростить и
расширить такой же анализ, сделанный в «Критике познаватель-
1 См. отрывок «Der Rhein» (в полном собрании сочинений I, отдел I, с. 120).
2 Для написанной Швабом биографии Гельдерлина может служить в этом
пункте небольшим дополнением сочинение «Charlotte von Schiller und ihre
Freunde» II, 222, 223 и III, 85, 89.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
295
ной способности»1, намеревался сделать еще один шаг далее,
«вне установленной Кантом пограничной черты», подобно тому
как этот шаг уже был сделан в статье Шиллера. Сочетание
воззрений Канта с воззрениями Платона и намерение при помощи
эстетических исследований перейти за пограничную черту,
проведенную Кантом между миром разума и миром фантазии! Это
та же самая задача, над разрешением которой трудились всякий
по-своему Шиллер и Вильгельм Гумбольдт, Фридрих Шлегель и
Шеллинг и которая наконец получила свое смелое и самое
всестороннее разрешение благодаря универсализму Гегеля,
посредством эстетизирования логики, физики и этики. Но в то время,
как появились первые зачатки этого умственного направления,
Фихте делал окончательные выводы из философии Канта. Идеи
Фихте не остались без влияния на шиллеровское
формулирование эстетической проблемы; ими увлекся и Фридрих Шлегель.
Своим грандиозным морализмом они прельстили и
мягкосердечного Гельдерлина, но вместе с тем они послужили препятствием
в его старании сохранять равновесие между его влечениями к
Древнему миру и его привязанностью к миру современному,
между трудной работой ума и приятными мечтаниями о
прекрасном. Еще в ноябре 1794 года он приезжал на несколько недель в
Йену вместе со своим воспитанником, а в январе 1795 года, после
того как он разорвал свою связь с семейством г-жи Кальб, он
приехал туда на несколько месяцев. Там он очутился в самом
центре того умственного развития, которое имело столь
решающее влияние на всех писателей, принадлежавших к новой
литературной эпохе. Он по-прежнему находит главную для себя
опору в Шиллере, который принимал самое искреннее участие во
всем, что касалось «его милого Шваба». Но в то же время он с
восторгом превозносит «титана» Фихте. Однако он не был в
состоянии переваривать ту философскую пищу, которую находил в
лекциях Фихте, несмотря на то что называл ее «нектаром и
амброзией». Эта философия, последним словом которой было
стремление к бесконечному, до крайности усиливала его влечения
идеалиста, но не была в состоянии придать его характеру ту
стойкость, которой ему недоставало. Ведь очень скоро
обнаружились слабые стороны его нежной натуры. Уже при его
первом вступлении на житейское поприще стало ясно, что в его ха-
1 Речь идет о «Критике способности суждения» (прим. ред.).
296
Р. ГАИМ
рактере есть какой-то недостаток, вследствие которого он
никогда не будет наслаждаться душевным спокойствием и
счастьем. Его положение в доме г-жи Кальб было очень приятным
и выгодным. Он сам сознавал выгоды этого положения и с
признательностью говорил об участии, которое приняла в нем
благородная и умная хозяйка дома. Несмотря на это, он очень
скоро стал жаловаться на свое слабое здоровье, на свое тревожное
душевное состояние. Он искал причину своего недовольства в
том, что обязанности воспитателя мешали ему заниматься
собственным образованием. В Йене ничто не мешало ему
заниматься собственным образованием; там он, по-видимому, окреп
духом благодаря разным литературным замыслам и даже одно
время замышлял устроиться в Иене в звании доцента. Но это
продолжалось недолго. Его склонность к ипохондрии создает
вымышленные причины душевных страданий. Близкие сношения с
гениальными людьми возвышают его душу, но в то же время
заставляют его падать духом: он сознает свое ничтожество в
сравнении с этими гениальными людьми; он скорбит о том, что
ему очень далеко до Шиллера; наконец, «желание снова согреть
свою душу подле своих друзей и родных» заставляет его
покинуть Йену и воротиться на родину. Понятно, что в однообразной
жизни своего семейства он окончательно впадает в меланхолию.
Ему кажется, что он живет в ссылке, и он пишет Шиллеру:
«Я мерзну и коченею от окружающего меня зимнего холода;
небо, под которым я живу, так же бездушно, как бездушен я
сам». Как печально было его тогдашнее положение, видно из
того, что он сравнивал себя со стебельком цветка, вырванным с
корнем из земли и брошенным на улицу. Впрочем, эти слова были
написаны в то время, когда Гельдерлин уже нашел для себя
утешение в новой сфере деятельности.
Он мало-помалу снова ожил благодаря тому, что в январе
1796 года поступил во Франкфурте-на-Майне на должность
домашнего учителя, которую ему доставил его бывший
университетский товарищ Синклер. К нему воротилась прежняя любовь к
умственной работе, а первым предметом его занятий сделалась
философия. Чтобы исполнить свое обещание доставлять статьи
в «Философский журнал» Нитгаммера, он постарался привести
в ясность и дополнить свои философские воззрения. В чем
заключались эти воззрения, нам уже известно из содержания
«Гипериона». Кроме того, они были частью изложены в письме, написан-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
297
ном из Нюртингена Шиллеру, и в письме, написанном из
Франкфурта брату. Гельдерлин напрягает все свои усилия на
разрешение недоразумений, возбужденных «Основными началами науки»
Фихте. Он вполне ясно осознает, чего недостает этим «основным
началам» для того, чтобы иметь право называться научной
системой. Он говорит, что в учении Фихте соединение субъекта с
объектом, подобно квадратуре круга, достижимо лишь
приблизительно и что в этой иррациональности находит для себя опору
скептицизм. Однако явления субъективного мира служат порукой
в том, что разрешение этой проблемы возможно. То соединение
субъекта с объектом находится в интеллектуальном
распознавании, о котором говорит Фихте, и в эстетическом воззрении, на
которое указал Шиллер. Но вслед за этим Гельдерлин переносит
это высшее единство из нашего «Я» в бытие. Он говорит, что
есть идеальное бытие, от которого зависят все противоречия в
человеческом уме, противоречия между стремлением к
безусловному и стремлением к ограничениям. Это высшее бытие есть
идеал прекрасного. Только та научная система может быть
вполне удовлетворительной, которая находится в непрерывной связи с
этим идеалом. Стремящийся вперед разум, — говорится в
«Гиперионе», — должен служить освещением для идеала
прекрасного, а солнце прекрасного должно служить освещением для разума
во время его работы, подобно тому как в майский день
освещается мастерская художника. Основные положения разума со
своими теоретическими и практическими выводами, — говорится в
письмах Гельдерлина, — в сущности, зависят от связи, в которую
их приводит разум с идеалом прекрасного. Кроме того, и все
понятия, создаваемые познавательной способностью, находятся в
зависимости от этого высшего идеального бытия. Эти понятия,
как теоретические, так и практические (как, например, понятия о
субстанции и о внешности, оС обязанностях и о правах), суть не
что иное, как отдельные формы, в которых выражается общая
потребность разума согласовать в человеке основное
противоречие; это, по словам Гельдерлина, «результаты» общего
согласования того противоречия; далее Гельдерлин старается объяснить,
каким образом разум создает свои «основные правила» согласно
с этими теоретическими и эстетическими категориями, то есть
каким образом он в познавании и в деятельности применяет эти
правила к эмпирическим данным, к отдельным предметам и
случаям. Итак, Гельдерлин набрасывает здесь легкий очерк такой
298
Р. ГАЙМ
научной системы, в которой прекрасное служит высшим пунктом,
все соединяющим в одно целое. В «Гиперионе» он делает еще
небольшой шаг вперед. Он говорит, что прекрасное имеет такую
цельность, в которой соединяются все противоречия, так что
только понимание прекрасного дает возможность «умственно
разделять целое на части, а потом снова умственно соединять эти
части в одно целое».
Если мы вправе утверждать, что настоящим зародышем
романтического направления ума было смешение поэтических и
философских воззрений, от которого усилилась в конце
восемнадцатого столетия склонность немецкого ума к идеализму, то мы
вправе усматривать в вышеизложенных идеях Гельдерлина
зародыш романтической философии. Уже по этой причине имя
Гельдерлина должно занимать место в истории романтизма. Сходство
его воззрений с воззрениями Фридриха Шлегеля бросается в
глаза. Между тем как Фридрих Шлегель формулировал лишь в
общих чертах свое требование, чтобы научная теория была
настоящей системой, а философия имела характер «полемической
цельности», Гельдерлин излагал конкретное понятие о
прекрасном для примирения противоречия между конечным и
бесконечным. К мнению Шиллера, что внутренние противоречия
человеческой натуры находят для себя разрешение в прекрасном,
Гельдерлин прибавил ту мысль, что разрешение тех
противоречий должно служить основой и указанием целей для всей
философской рефлексии. Ему недоставало только методической
ясности для того, чтобы все возвести к одному целому и все применить
ко всей сфере бытия. Но эту работу продолжали двое его
земляков. О дружеской привязанности Гельдерлина к Шеллингу и к
Гегелю свидетельствует сходство их идей. Гельдерлин
остановился в то время на той же точке зрения, какой придерживался
несколькими годами позже Шеллинг в своей «Системе
трансцендентального идеализма», так как и в этой системе пробел учения
Фихте восполнялся указанием на эстетические способности
человека, а искусство названо вечным «документом и органом
философии». Но то, что было у Гельдерлина на уме, еще более
сходилось с воззрениями Гегеля. Он был в постоянной переписке
с Гегелем. По его совету Гегель поступил в январе 1797 года
домашним учителем в одно франкфуртское семейство. Что
поэтический склад ума Гельдерлина имел влияние на Гегеля,
достаточно ясно видно из элегического послания, с которым этот
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
299
последний обратился к своему другу и которое носит заглавие
«Eleusis» («Элевсин».—Прим. науч. ред.)1. Но мы не имеем
таких данных, на основании которых мы могли бы с исторической
достоверностью определить, в какой мере и философские
воззрения Гельдерлина имели влияние на Гегеля. Однако их
единомыслие не подлежит сомнению. Гельдерлин был соединительным
звеном между философией Шиллера и философией Гегеля. Когда
поселившийся во Франкфурте Гегель стал набрасывать очерк
своей будущей философской системы, он, подобно Гельдерлину, брал
за точку исхода противоречие между конечным и бесконечным.
В позднейшем развитии гегелевской философии Гельдерлин, без
всякого сомнения, нашел бы изложение того, что представлялось
его уму в неясных очертаниях, нашел бы полное подчинение мира
идей закону прекрасного. Разница между ними заключается в том,
что более спокойный и более рассудительный Гегель
продвигался более твердым шагом к подробному изложению общей
основной идеи. В конце 1798 года Гельдерлин говорил в письме к
своему брату, что мир состоит из самостоятельных, но в то же время
тесно и вечно между собой связанных составных частей; что
всякое бытие есть результат субъективного и объективного,
отдельно существующего и целого; мы, конечно, не ошибемся, если
скажем, что такие выражения были отголосками умственной работы
Гегеля.
Но нам пора воротиться к поэтической деятельности
Гельдерлина. В том, что в нем снова пробудилось влечение к этой
деятельности, обнаружилось благотворное влияние его нового
положения во Франкфурте. Те части его романа, в которых Гипери-
он считает свое полное единомыслие с Диотимой за
осуществление идеала своей жизни, были поэтическими отголосками того,
что сам Гельдерлин пережил во Франкфурте. До той поры его
любовные привязанности были чисто ребяческими. По словам
его биографа, он был влюблен в одну юную родственницу своего
друга Наста еще в то время, как учился в Маульброннской
семинарии, а потом, живя в Тюбингене, влюбился в дочь одного
профессора. Его ребяческая душа была ограждена от чувственных
влечений, но, к сожалению, она не была ограждена от тех
опасностей, которые кроются в чрезмерной склонности к
отвлеченным идеям! Требований его сердца не могли удовлетворить ни
1 Rosenkranz, «Hegel's Leben», с. 78.
300
Р. ГАЙМ
один друг и ни одна возлюбленная. Из Йены он писал своему другу
Нейфферу: «Мне, вероятно, никогда не придется любить иначе,
как в моем воображении... С тех пор, как у меня есть глаза,
чтобы видеть, я никого не люблю». Продуктом этих мечтаний о
любви была та гречанка Мелита, о которой идет речь в «Гиперионе»
1794 года и которая была, по словам Гельдерлина, «прелестна и
священна, как настоящая жрица любви». Но его идеализм был
так интенсивен, что он рано или поздно должен был найти
осуществление своего фантастического идеала женских совершенств.
Во Франкфурте он действительно нашел Мелиту, которую
перекрестил в Диотиму. К несчастью, он нашел ее в лице матери
своих воспитанников; эта дама, без сомнения, была достойна
полного уважения за нежность своего сердца и за свой ум, но именно то
обстоятельство, что Гельдерлин никогда не мог бы вступить в
обладание предметом своей любви, окончательно укрепило его в
убеждении, что он наконец нашел идеал, который искал. Письма,
в которых Гёте выражал свою любовь к невесте своего друга
Кестнера, не имеют такого же близкого сходства с письмами
Вертера, какое имеют письма, в которых Гельдерлин говорил о
своем отношении к Сюзетте Гонтар, с письмами, в которых Гипе-
рион превозносил достоинства Диотимы. «Я живу в новом мире, —
писал Гельдерлин Нейфферу летом 1796 года. —Я прежде
воображал, что умею понимать прекрасное, но с тех пор, как я вижу
его, мне кажется смешным все мое прежнее знание. Милый друг!
В этом мире есть такое существо, на котором мой ум мог бы
остановиться на целые тысячелетия и ясно доказать, каким
ребячеством отзываются все наши понятия о природе. В этом
существе соединяются в одно целое любезность, благородство,
душевное спокойствие, живость, ум, веселость и
привлекательная наружность... Тебе уже известно, что мне было противно все
дюжинное, что я жил без всякой веры, что мое сердце было пусто
и что это было причиной моего жалкого положения; разве мог бы
я сделаться таким веселым, как теперь, если бы эта находка не
осветила своими весенними лучами мою жизнь, которая уже
начинала утрачивать в моих глазах всякую цену?» Через несколько
месяцев после того он писал: «Я пережил такое время, когда моя
жизнь была полна счастья... Я и до сих пор так же счастлив, как
в первую минуту, благодаря вечной, священной дружбе с таким
существом, которое не имеет ничего общего с нашим жалким
бездушным веком». Он рассыпается в похвалах красоте этой жен-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
301
щины; указывая на нее приехавшему к нему в гости другу, он
говорит: «Это настоящая гречанка!»; он полагал, что этими
словами все сказано.
Понятно, что при том возвышенном настроении духа,
которое сказывалось в приведенных нами словах, философия
уступила место поэзии. Только тогда Гельдерлин дал своему
«Гипериону» ту внешнюю форму, в которой счел его достойным появления
в печати; а так как он смотрел на свою возлюбленную глазами
Гипериона, то он перенес и в роман те радостные чувства,
которыми была в то время наполнена его душа. К сожалению, его
привязанность была из числа таких, которые служат источником
как радостей, так и горестей. Многие думали, что его любовь к
той женщине, которую он назвал Диотимой, была единственной
причиной его умственного расстройства, которое довело его
через несколько лет до полного отчаяния. Правда заключается, как
кажется, в том, что он был глубоко потрясен душевными
страданиями, которые причиняла ему эта безнадежная любовь, и
необходимостью отказаться от своей привязанности; но это была не
единственная причина его умственного расстройства, потому что
вся его жизнь была наполнена такими же горькими
разочарованиями, которые он сам себе готовил. Вскоре после того, как его
брат и его друг Нейффер посетили его весной 1797 года и
сделались свидетелями его счастья, он разражался такими же
жалобами, какие прежде того раздавались из его уст в Вальтерсгаузене,
в Йене и в Нюртингене и которые свидетельствуют о его
неизлечимой врожденной склонности к меланхолии. Эти жалобы не были
вызваны непосредственно огорчениями, которые причиняла ему
любовь к Диотиме; они только доказывают, что его сердечная
привязанность уже перестала служить для него источником прежних
радостей. В них сказывается скорбь о том, что его идеалу
прекрасного не соответствует то варварское поколение, среди
которого ему приходится жить. Они относятся к «господствующему
в то время вкусу», которому он не сочувствует тем более, чем
менее старается поддерживать живую связь с современной
литературой, за исключением одного Шиллера. Говоря о том, как
древние понимали прекрасное, он замечает: «Разве можно
придерживаться каких-либо правильных понятий о прекрасном,
когда приходится продираться сквозь такую толпу, в которой вас все
от себя отталкивает?». Как на причину своих душевных
страданий он указывает на то, что при желании жить для дорогого его
302
Р. ГАЙМ
сердцу искусства ему приходится иметь дело с людьми. «Мы не
живем в сфере, благоприятной для поэзии, — говорит он, —
поэтому из десятка врожденных поэтических дарований с трудом
успевает развиться только одно». В другой раз он приписывает
все свои неудачи тому обстоятельству, что слишком рано стал
стремиться к великой цели, что «не дал своей натуре время созреть в
спокойствии и в беспритязательной беспечности». Он, очевидно,
все более тяготился несоответствием между своими
стремлениями и достигнутыми результатами. Наконец, он стал винить свое
время и своих соотечественников в том, что «он стоит подобно
гусю в современном болоте и не в состоянии взлететь в
греческое небо». Впрочем, бывали и такие минуты, когда он во всем
винил самого себя: он неоднократно сознавался в том, что был
слишком впечатлителен, что его организм не был достаточно
устойчив. Уже такое ясное сознание врожденных недостатков
было болезненным симптомом и служило предвестником
окончательного умственного расстройства. Читая его собственные
жалобы на его отвращение ко всему дюжинному и посредственному
и его размышления о том, что гибель ожидает того, кто глубоко
чувствует в сердце всякую обиду, мы приходим к заключению,
что его неминуемо ожидал печальный конец. Этот человек не умел
ни к чему относиться слегка; он во всем находил трудную и
серьезную сторону. В нем словно бы воплотился гётевский Тассо! Он
не избегнул бы своей печальной участи, даже если бы не
влюбился в Диотиму, даже если бы вступил в обладание любимой
женщиной: его тянула в пропасть тяжесть его собственной натуры.
Вторая часть «Гипериона» была написана в то время, когда
ее автор снова стал впадать в меланхолию. Она доказывает, что
причиной душевных страданий поэта была не только несчастная
любовь. Жалобы Гельдерлина на «окружающее нас варварство»
вызваны тем, что немецкий народ чуждается всего, что касается
его собственных интересов; что вследствие особого склада
немецкого государственного строя он не принимает никакого
участия в общественной и национальной деятельности. Гельдерлин
ликовал по случаю одержанных французами побед, по случаю
«сделанных республиканцами гигантских шагов»; он осмеивал
бессмысленную политику Вюртемберга, Германии и Европы и
считал себя вправе жаловаться на глупый склад семейной жизни
немцев, на их равнодушие ко всему, что касается достоинства
и интересов их отечества. За все, что он вынес как человек и как
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
303
поэт, за все обманчивые надежды достигнуть известности он
создавал сам для себя вознаграждение в том, что в
противоположность с греками представляет в карикатуре своих
соотечественников. В конце своего романа он влагает в уста Гипериона
язвительную характеристику немцев. Это не что иное, как
вариация на ту же тему, которую затронул Шиллер в своем введении к
«Письмам об эстетическом воспитании человека». На основании
этих же размышлений Шиллера и Фридрих Шлегель направлял
нападки своей критики на раздел в современном обществе, на
жалкое положение современного искусства1. Но нападки поэта
далеко превосходят своей резкостью нападки литературного
критика. Вот как характеризует немцев Гиперион: «Они были
исстари варварами, а благодаря своему трудолюбию, своим ученым
занятиям и даже своей религии сделались еще более похожими
на варваров; они совершенно не способны к каким-либо
божественным чувствам; они развращены до мозга костей и не в
состоянии разделять блаженство священных граций; они
производят своим ничтожеством крайне неприятное впечатление на
всякого человека с благородным сердцем; они бездушны и
беззвучны, как осколки разбитого сосуда». Далее читаем: «Я не могу
представить себе народ, который находился бы в более жалком
положении, чем немцы. Вы найдете между ними ремесленников,
но не людей-мыслителей, но не людей-священников, но не людей-
господ и рабов, юношей и стариков, но не людей!.. Уверяю тебя,
что у этого народа все священное осквернено и низведено на
степень жалкого вспомогательного средства; эти во всем
поступающие с расчетливостью варвары превращают в ремесло даже то,
что у дикарей большей частью сохраняет свою божественную
чистоту, и они не в состоянии поступать иначе». А как
разрывается сердце при виде тех немецких поэтов и художников, которые
еще не утратили уважения к гениальности, которые любят
прекрасное и стараются подчиняться его законам! Они похожи на
страдальца Улисса в то время, как он явился на свадебный пир в
виде нищего. «У немцев юные питомцы муз полны любви,
воодушевления и надежд; а если ты взглянешь на них лет через семь,
ты увидишь, что они бродят, как тени, молчаливыми и ко всему
равнодушными, что они похожи на почву, на которой неприятель
посеял вредные травы для того, чтоб она никогда не производила
ι См. выше, с. 187, 191—192.
304
Р. ГАЙМ
ничего хорошего; а когда они заговорят, горе тому, кто их поймет,
так как он усмотрит в их гигантских усилиях и в их уловках,
напоминающих Протея, только отчаянную борьбу их благородного ума
с окружающим их варварством». В этих словах «горячка греко-
мании» принимает характер такой болезни, которая неизбежно
ведет к смерти. Здесь автор, очевидно, описывает то, что сам
пережил и перечувствовал, и таким образом объясняет нам главную
причину печальной участи не Гипериона, а своей собственной.
Однако нельзя сказать, что Гельдерлин не старался по мере
своих сил бороться с мучившим его недугом. Оставляя в
сентябре 1798 года должность, которую занимал во Франкфурте, он
утешал себя словами Алабанды, что «только в страдании мы вполне
сознаем нашу душевную свободу». Он старался поддерживать
в себе такое настроение ума и искал душевного спокойствия в
постоянной работе или в обществе тех людей, с которыми сошелся
в Гамбурге через посредство своего друга Синклера. Это
стремление к душевному спокойствию совпадает со старанием
достигнуть совершенства в поэтических произведениях. Гельдерлин
недоволен сам собою, когда ему снова случается вдумываться
в неразрешимые философские задачи. Он сам признается, что
изучение философии только возбуждало в нем душевную тревогу, что
тогда его сердце томилось этой несвойственной ему работой,
«подобно тому, как попавший в солдаты швейцарский пастух
томится желанием возвратиться к своему стаду»; ведь он сам говорил,
что философия не что иное, как «госпиталь для неудавшихся
поэтов». Пусть другие ищут для себя убежища в этом госпитале, а
сам он не хочет покидать прелестную отчизну муз; он хочет быть
поэтом и только поэтом. Действительно, именно в этот период его
жизни были написаны его лучшие и самые изящные по внешней
форме стихотворения. Еще за несколько лет перед тем, в то
время, как он только что начинал писать «Гипериона», он задумал
написать драму под заглавием «Смерть Сократа». После того,
уже в то время, когда он был занят окончательной отделкой
своего романа, он задумал выразить свою скорбь о погибшей Греции
в трагедии, в которой роль героя играл бы царь Агис, а главной
темой служила бы борьба с нравственной испорченностью,
погубившей греков. Наконец, он прилежно занялся сочинением
трагедии «Смерть Эмпедокла». Он был глубоко убежден в
необходимости строго придерживаться внешних форм древнегреческой
трагедии. Он не хотел нарушать чистоту этих форм никакой при-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
305
месью романтических элементов, никакими любовными
интригами. Поэтому ему пришлось отложить в сторону тот
изложенный субъективизм, под влиянием которого был написан его
роман. Ведь Гиперион умирает в Греции отшельником, потому что
«не считает себя достойным» броситься, по примеру великого
сицилийца, в пламя Этны и таким образом «непрошенным
перенестись в лоно природы». Поэтому Гельдерлин сделал
решительный шаг вперед, взявшись изобразить трагическую развязку
этого противоречия между внутренними влечениями и окончательной
судьбой. Дошедшие до нас отрывки1 этой трагедии достаточно
многочисленны и достаточно отделаны для того, чтобы мы
могли составить по ним понятие и об основной идее, и о внешней
форме всего произведения. Эмпедокл, этот поэт-философ, этот
пророк, посвященный в тайны природы, погибает оттого, что хотя
и стоял выше своего времени и своего народа, но был их
детищем. Он сам винит себя в том, что в своем глубоком понимании
природы дошел до того, что хотел стать выше природы. Он с
гордостью Прометея эмансипировался от божественного величия
природы и объявил самого себя богом. Вследствие такой
непростительной дерзости он терзается сознанием своего одиночества.
Он не в состоянии жить «одиноким и без бога». Он желает
искупить свое заблуждение. Однако те люди, которые берутся
наказать его, оказываются неправыми. Эмпедокл называет лицемером
того жреца, который возбуждает против него народ, а нетвердую
в убеждениях толпу считает достойной презрения и сострадания.
Ведь тот довод, на основании которого Гермократ, этот
«греческий фарисей» (как его назвал Юнг), доказывает необходимость
отправить Эмпедокла в ссылку и предать его проклятию, есть
настоящий жреческий довод. Вина Эмпедокла заключается, по
мнению Гермократа, в том, что он «смело выражал то, что нельзя
выразить», что он разоблачал глубину своей души и тайны
религии, вместо того чтоб бережливо тратить свою мудрость. Но хотя
Эмпедокл и не признает за таким недостойным человеком права
подвергать его наказанию, он все-таки считает необходимым то
искупление своих заблуждений, которое сам на себя наложил. Его
убеждение в своей собственной вине не изменяется оттого, что
его прежние враги сожалеют о своей ошибке, что они хотят воро-
1 В полном собрании сочинений Гельдерлина I, отдел I, 124—213. Кроме
того, см. у Шваба И, 300 и ел.
306
Р. ГАИМ
тить его из ссылки и даже предлагают ему царскую корону.
Перед смертью он завещает им самое глубокомысленное из своих
воззрений — пантеистическое учение о божественности природы.
Взамен традиционных законов и обычаев, взамен традиционных
богов он открывает для них доступ к «полному жизни Олимпу» и
обещает им, что этим путем они достигнут возвращения
золотого века. Но вслед за этим Эмпедокл с радостью приносит себя
в жертву природе, несмотря на протесты своего верного
приверженца Павсания:
...Am Tod entzündet mir
Das Leben sich zulezt, und reichest Du
Den Schreckensbecher mir, den gährenden,
Natur! damit Dein Sänger noch aus ihm
Die lezte der Begeisterungen trinke:
Zufrieden bin ich, suche nun nichts mehr,
Denn meine Opferstätte.
(«Перед смертью наконец разгорается моя жизнь, а ты, природа,
подносишь мне, томящемуся жаждой, страшный кубок для того,
чтобы твой певец испил оттуда последнее воодушевление: я
доволен и не ищу теперь ничего другого, кроме того алтаря, на
котором я принесу себя в жертву».)
Чем ближе мы вникаем в смысл этого замечательного
стихотворения, тем более мы убеждаемся, что и в нем снова
выражались только субъективные чувства. Подобно Эмпедоклу, и Гель-
дерлин сознает свое отчуждение от своих современников; он также
считает себя среди этих современников изгнанником и ищет для
себя убежища в любви к природе. Он также принадлежит к числу
тех, которые «чувствуют только то, что находят в своей душе»;
принадлежит к тем «нежным натурам», которые «легко
разрушаются». Именно в этом и заключается то главное достоинство
рассматриваемого нами стихотворения, что оно не было
искусственным произведением вроде, например, «Иона» А. В. Шлегеля. Поэт
согрел у своего сердца античную форму изложения. Некоторые
места в этом стихотворении увлекают нас мужественной
искренностью чувств, некоторые другие поражают нас своим
глубокомыслием и мистической торжественностью тона. Язык,
местами обнаруживающий своей диалектической окраской, что это
были лишь первоначальные наброски1, тем не менее чрезвычай-
1 Так, например, слово «nimmen> употребляется в смысле «nicht mehr».
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
307
но изящен. Странным кажется тот факт, что Гельдерлин изучал
шиллеровских «Разбойников» и «Фиэско» с целью освоиться с
драматической формой изложения. Ведь, конечно, никто не мог бы
этому поверить, читая его стихотворение. Напротив того, мы
находим в этом стихотворении вполне явственные отголоски гётев-
ского «Прометея» и вообще находим в нем самое близкое
сходство с гётевской «Ифигенией». По своему слогу, по ширине своих
идей автор «Эмпедокла» более античен, чем Гёте, а по
фантастическому глубокомыслию своих мотивов, по своей способности
проникать в самую глубь индивидуальных чувств он более
сентиментален, чем Шиллер. У него чувствительность Нового
времени не сливается, как у Гёте, с ясностью античных воззрений,
а напротив того, та и другая, по-видимому, ничего общего между
собой не имеют, что однако не мешает им производить
совокупными силами чрезвычайно сильное впечатление. Если бы Гёте
родился в век Перикла, он чувствовал бы себя как дома в среде
тогдашних поэтов; а если бы Гельдерлин мог перенестись в эту
среду, он стал бы считать себя самым несчастным человеком и
стал бы так же безутешно вздыхать среди греков о варварах
восемнадцатого столетия, как среди этих варваров безутешно
вздыхал о греках.
Но до какой степени он был поэтом и каким образом из этого
нездорового корня могли вырасти самые изящные и самые
нежные цветки, всего яснее видно из сравнения с его трагедией той
статьи, в которой он развивал основную мысль этой трагедии1.
В нем уже умер философ, между тем как поэт еще был
совершенно здоров. В этой статье очень трудно доискаться смысла
бесформенных основных положений, а в трагедии поэт очаровывает нас
живописным описанием своих чувств. Его друг Гегель, конечно
не имевший никакого с ним сходства по своим врожденным
дарованиям, умел облекать свои мысли в такую форму, какая была
недоступна для поэта; но между тем как Гегель похож в своих
поэтических опытах на рыбу, выброшенную на сушу, Гельдерлин
легко владеет своими крыльями, лишь только попадает в элемент
поэзии; для него, точно так же, как и для Эмпедокла, загадка жизни
разрешается в живописном изображении душевного блаженства.
Но всего удачнее он разрешает эту загадку в форме богатой
идеями лирики. Его инстинкт не обманул его, когда он начал свою
1 «Grund zum Empedokles» (в его сочинениях II, 253 и ел.).
308
Р. ГАИМ
поэтическую деятельность сочинением од и гимнов. После того
он долго колебался в выборе поэтической формы. Он излил всю
свою душу в романе, который имел очень мало сходства с
настоящими романами и в котором не было никакого эпического
содержания. Он собрал все свои силы для сочинения трагедии по
греческому идеалу, но его силы оказались недостаточными для
соединения изящных составных частей в одно изящное целое. В то
же время он написал замечательное стихотворение «Emilie vor
ihrem Brauttage» («Эмилия накануне дня своей свадьбы»),
которое стало переходом от драмы к роману, а этих обеих форм —
к лирике. Эмилия рассказывает в письмах к подруге историю
своей любви. Здесь мы снова находим точно такие же мотивы, как в
«Гиперионе». Молодая девушка скорбит об утрате своего
любимого брата, который принял участие в войне за освобождение
Корсики и погиб смертью героя. Во время одного путешествия
она встречается с молодым человеком, похожим на ее брата. Эта
поездка описана под влиянием тех впечатлений, которые автор
вынес из небольшого путешествия, предпринятого из
Франкфурта вместе с семейством Гонтар. Роман кончается тем, что
влюбленные соединяются браком, — и элегия переходит в идиллию.
Гельдерлину еще никогда не удавалось так же хорошо описать
счастье, как в этой идиллии. Он сам признается, что торопливо
набрасывал эти нерифмованные пятистопные ямбы. Но было бы
желательно, чтобы он чаще уклонялся от исполнения тех строгих
требований, которые предъявлял сам к себе. Тем не менее форма
изложения была на этот раз результатом тщательно обдуманного
выбора. Автор имел в виду создать новую, особую форму для тех
новейших сентиментальных сюжетов, для которых неудобны
строгие античные формы, как например форма трагедии. В высшей
степени оригинально его понятие об этой новой форме.
Свойственная Новому времени чувствительность соединяется у него со
свойственной древним писателям склонностью подмечать
существенное и типичное. Насколько он красноречив, когда речь идет о его
душевном состоянии, настолько же бедны его письма
описаниями фактов, рассказами о пережитом и виденном. Он откровенно
признается, что лишен способности делать во время путешествий
какие-либо наблюдения, и потому ограничивается описанием
общих впечатлений. Привлекательность его романа, действительно,
заключается в идеализировании мелочных подробностей, в
умении изображать отрывочными штрихами сложную обстановку
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
309
современной жизни. Но не такова цель нашего идеалиста. Он
требует, чтоб и сентиментальные сюжеты излагались в такой
форме, которая по меньшей мере имеет некоторое сходство с
древней трагедией; чтоб все случайное откладывалось в сторону не с
гордым пренебрежением, а с «легким отвращением»; чтоб идеал
целого изображался не со свойственной трагедии
выразительностью составных частей, а лишь слегка и кратко. Эти идеи, конечно,
не отличаются ни ясностью, ни определенностью; но тот род
поэзии, на который намекает Гельдерлин, не нуждался в том, чтоб
его заново изобретали. Он уже существовал в лирических
формах древних писателей — в элегии и в одах Пиндара. Нет ничего
удивительного в том, что Гельдерлину удавались
преимущественно те стихотворения, которые он облекал именно в эту форму,
однако придавая ей новый и своеобразный характер. Самая
серьезная греческая лирика отличается тем, что возвышается в
описании душевных движений до общих нравственных
умозаключений, до чувственной наглядности и из сочетания мудрых изречений
с живописностью составляет художественное целое. Этим же
способом Гельдерлин старался выражать самые нежные
индивидуальные чувства — неудовлетворенную любовь и бесцельное
воодушевление. Из его любви к природе вытекает неистощимый
источник возвышенных и блестящих картинных описаний. Но все
картины природы, которые он рисует с пластической
наглядностью, отодвигаются на задний план перед тем впечатлением,
которое производит на него природа как нечто цельное. Ей он
поверяет свои скорби, а она посвящает его в свои тайны. Перед ее
божественностью он преклоняется с глубоким благоговением. Его
вера в элементарные силы природы есть настоящая религиозная
вера, и никакие молитвы, обращенные к божеству, не могут быть
более горячими, чем те воззвания, с которыми он обращается к
священному солнечному свету, к земле с ее рощами и ручьями и
к «отцу эфиру». Но к этой пантеистической и мистической натур-
мифологии примешиваются понятия, заимствованные из истории
Древней Греции. Воспоминания о Древней Греции и о деяниях
древних греков заменяют в его одах и элегиях те баснословные
сказания о богах и героях, которые служили темой для лирики
древних хоров. Его песни обнимают не очень обширную сферу
идей и чувств. Он воспевает свою возлюбленную, дорогую его
сердцу родину и красоту природы или же мысленно переносится
в те отдаленные времена, когда на берегах Греции и Малой Азии
310
Р. ГАЙМ
жизнь была полна самых тонких наслаждений. Читателю
становится душно в этой узкой сфере идей; ему надоедает
монотонность этих стихотворений, доходящая до повторения одних и тех
же идей и сравнений, в особенности в «Гиперионе» и в «Эмпедок-
ле». И тут и там одно и то же содержание. Большая часть
лирических стихотворений Гельдерлина была бы на своем месте, если
бы была вставлена в содержание «Гипериона», а монологи в «Эм-
педокле», в сущности, не что иное, как лирико-дифирамбические
излияния чувств, которые Гельдерлин мог бы делать и от своего
собственного имени. То, что у него насильственно вставлялось в
форму романа и трагедии, выражено в надлежащей форме и с
художественным совершенством только в его одах и элегиях. Только
в этих произведениях форма вполне соответствует содержанию.
Прозаический склад речи так же ему не симпатичен, как и тот
прозаический склад современной жизни, гнет которого ему так
тягостен. Лишь только разгорячается его сердце, его речь сама
собою принимает ритмические размеры. Это видно и в его
письмах, и в «Гиперионе», и в тех немногочисленных местах его
трагедии, которые написаны прозой. Это такая проза, которая
ежеминутно готова перейти в пение и в стихи. Этим объясняется,
почему он отказался от употребления рифмованных строф, к
которым когда-то прибегал, подчиняясь влиянию Шиллера, и
почему он стал придерживаться исключительно античного
стихотворного размера. Привыкнув до самой старости заклинать злых духов
очаровательными звуками, он придал немецкой речи такую
музыкальность, какую едва ли можно найти у какого-либо другого
немецкого поэта. Его гекзаметры текут легко и удивительно
мелодично; его строфы, написанные стихотворным размером
Алкея, отличаются самым безыскусственным благозвучием, и даже
в тех случаях, когда он, впадая в тон дифирамбов, пишет
рифмами, он скорее прервет нить своих идей, чем нарушит требования
гармонии.
Но он был обязан почти исключительно самому себе и своим
природным дарованиям теми выдающимися и даже
бессмертными произведениями, которые ему удалось создать в узкой сфере
серьезной лирики. Благодаря этим дарованиям он даже был в
состоянии высвободиться из-под подавляющего влияния шиллеров-
ского гения, с которым, как сам признавался, вел «тайную
борьбу». Шиллер постоянно горячо интересовался молодым поэтом, в
стихотворениях которого находил много общего со своими соб-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
311
ственными произведениями, находил «резко сказывавшееся
субъективное чувство, соединявшееся с философским
глубокомыслием». Он верно понял причину болезни Гельдерлина. В ответ
на письмо Гёте, который сообщил ему, согласно его желанию, свое
мнение о двух стихотворениях Гельдерлина «Aethen> («Эфир». —
Прим. науч. ред.) и «Wanderer» («Странник».—Прим. науч.
ред.), он писал: «Положение Гельдерлина я считаю опасным,
потому что таким натурам нелегко оказать какую-либо помощь».
Далее Шиллер говорит, что было бы желательно избавить
Гельдерлина от необходимости «иметь собеседником только самого
себя», потому что при своем тогдашнем положении во
Франкфурте Гельдерлин «все более и более углублялся в самого себя».
А если бы Шиллер попытался руководить поэтическими
стремлениями Гельдерлина, разве он мог бы давать ему какие-либо
другие советы, кроме тех, которые были результатами его
собственного опыта? С этой точки зрения он был вполне прав,
посоветовав поэту, еще во время своего пребывания в Йене, перевести
стансами Овидиев «Фаэтон» — это была такая работа, за
которую Гельдерлин взялся охотнее, чем за какую-либо другую, хотя
впоследствии и назвал ее «вздорной проблемой». Шиллер был
также вполне прав, когда советовал Гельдерлину избегать
философских сюжетов и строже придерживаться чувственной сферы
и когда предостерегал его от чрезмерной расплывчивости,
которая «нередко затемняет самую счастливую мысль
бесконечными подробностями и потоками строф». Если бы Гельдерлин
следовал этому совету, то его ранние стихотворения могли бы от того
только выиграть, как в этом нетрудно убедиться, сравнивая
сокращенную форму рифмованного стихотворения «Диотима» с его
прежней более широкой формой. К этой же цели был направлен
совет, с которым Гёте обратился к юному поэту в то время, как
по просьбе Шиллера виделся с ним во Франкфурте в августе
1797 года. Гёте советовал Гельдерлину писать «небольшие
стихотворения, выбирая для них какой-нибудь человечески
интересный сюжет»; это было сказано, очевидно, в том же смысле, в
каком Гёте немедленно вслед за своим первым знакомством с
поэтическими приемами Гельдерлина писал Шиллеру, что
Гельдерлин, вероятно, поступил бы всего лучше, если бы остановил
свой выбор на «совершенно простом идиллическом факте и
занялся его обработкой». Этот совет был основателен. Даже через
два года после того Гельдерлин сам говорил, что «задушевная
312
Р. ГАИМ
краткость» составляет главное достоинство поэтического
изложения сентиментальных сюжетов. И нельзя сказать, чтобы он
вовсе не следовал совету Гёте. Нельзя, конечно, приписать
неправильному пониманию указаний Гёте возникновение тех
коротеньких эпиграммических од, которые разбросаны между более
обширными одами Гельдерлина1. Автор сам объяснил причину
такой краткости, сказав: «каково мое счастье, такова и моя песня»;
если мы не удовольствуемся таким объяснением, то нам
придется отнести те лаконические стихотворения к числу набросков или
таких зародышей, из которых поэт предполагал со временем
создать нечто более обширное. Стало быть, не в этих лаконических
стихотворениях Гельдерлин следовал совету своих наставников,
а в более подробно отделанных и преимущественно в элегиях. Но
он придерживался этого совета совершенно по-своему, таким
оригинальным способом, своеобразные достоинства которого не были
вполне оценены ни Шиллером, ни Гёте. При чтении отзыва Гёте о
двух известных ему в то время стихотворениях Гельдерлина, что
в них сказываются нежные чувства, искренность и сдержанность,
нам на память приходят те его слова, которыми он впоследствии
отвергал способность лирики Уланда производить потрясающее
впечатление. Этими словами он метко указывал на ту
характеристическую черту, которая была одинаковой у обоих
поэтов-земляков; но он так же, как и Шиллер, не понимал, как много было
энергии в этой искренности; какой трогательной серьезностью
отличалась эта сдержанность и какой величественной красоты могли
достигать эта привлекательность и нежность. Итак, Гельдерлин
проложил сам для себя новую дорогу между риторической и
полной идей поэзией Шиллера и полной наглядности и
воодушевления лирикой Гёте, даже сам того не сознавая, как близко сходился
с направлением этого последнего. Его мрачное душевное
настроение и ум, стремившийся в беспредельную даль, заставляли его
выражаться в форме элегий и од. Только в этой поэтической
форме он мог возвышаться до отвлеченных идей и вслед за тем как
бы для того, чтоб отдохнуть, останавливать свое внимание на
каком-нибудь чувственном предмете. При этом духовное родство
влекло нашего поэта к тем великим древним поэтам, которые сде-
1 Это заметил Давид Мюллер в своей статье на с. 552. Эта статья,
заключающая в себе превосходную характеристику лирики Гельдерлина, может
служить дополнением ко всему вышеизложенному.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
313
лались наставниками и наших немецких наставников. Он,
очевидно, все более и более старался подражать стихотворной форме и
поэтическим приемам греческих поэтов. Даже в то время, когда
его силы были окончательно сломлены, он все еще изучал
оригинальные образцы оды и трагедии. Свои творческие дарования он
наконец совершенно заглушил на изучении Пиндара и на попытке
переводить и объяснять произведения Софокла.
Но тому удовлетворению, которое находил Гельдерлин в
своем сочувствии ко всему прекрасному и к прошлому Греции,
служила противовесом тоска о том душевном спокойствии, которого
он не находил в своей жизни, лишенной всякого определенного
направления. Эта тоска все более и более становится похожей на
религиозное душевное настроение, а благочестивая любовь к
природе все более и более начинает походить на чувства
христианина. Потребность верить и любить пустила в его душе самые
глубокие корни. Он ищет слова для определения той неизвестной
божественности, с которой не следует смешивать наше «Я» и
которая должна быть «по преимуществу единой и все
объединяющей» в беспредельном единстве всего существующего. С этими
стремлениями соединяются воспоминания о его ребяческих
верованиях. Вот почему в стихотворении на день рождения своей
бабушки он с глубоким умилением говорит о том «единственном
человеке», который носил «в своем любящем сердце страдания
всего мира». Вот почему в его описании смерти Эмпедокла
христианские идеи проглядывают сквозь его пантеистическое
почитание природы. И божественное величие пророка, и его
отношение к жителям и к жрецам Агригента, и его добровольная смерть,
и та смиренная покорность, с которой относится к нему его
ученица Панфея, получающая под пером поэта некоторое сходство и
с Девой Марией, и с Софокловой Антигоной, — все это могло бы
служить достаточным доказательством сочувствия к христианству
даже в том случае, если бы некоторые обороты речи в том
стихотворении не напоминали некоторых новозаветных изречений.
Но если бы Гельдерлин формально отрекся от своих языческих
заблуждений и перешел в христианство, он едва ли излечился бы
от своих душевных недугов, а его поэтической деятельности, без
сомнения, настал бы конец. Его мать желала, чтоб он взял на себя
должность сельского пастора на своей вюртембергской родине!
Он неоднократно помышлял об исполнении этого желания, но в
его душе постоянно снова пробуждалось прежнее отвращение
314
Р. ГАЙМ
к тем «людям, которые занимаются божественным делом, как
ремеслом». С этим отвращением соединялось отвращение ко
всяким «определенным деловым занятиям» и ко всякому
«одностороннему существованию». Гельдерлин иногда помышлял об
основании «гуманистического журнала» и о том, что мог бы извлечь
пользу из своего знакомства с греческой литературой, поступив
профессором в какой-нибудь университет1. Но эти проекты,
конечно, не могли бы осуществиться даже в том случае, если бы
они не были скоро отложены в сторону. Гельдерлин не нашел
лучшего способа добыть средства к существованию, как снова
поступить на должность домашнего учителя. После своего
возвращения на родину он жил некоторое время на такой должности
сначала в Штутгарте, а потом в Швейцарии; наконец, он поступил
учителем в дом гамбургского консула в Бордо. Оттого ли, что он
получил там известие о болезни или о смерти Диотимы, или по
какой-то другой причине, он через несколько месяцев
возвратился домой с явными признаками совершенного душевного
расстройства. Его ум прояснился лишь на короткое время; он скоро
окончательно впал в помешательство, которое продолжалось до его
смерти, то есть в течение сорока лет.
Несмотря на то что даже на самых блестящих произведениях
Гельдерлина лежит какой-то мрачный отпечаток, его поэтическое
направление резко отличается от направления Тика и Шлегеля.
С первого взгляда могло бы показаться, что у него было много
общего с романтиками, так как в его произведениях сказывалось
то же глубокое уважение к древнегреческому миру, которым были
проникнуты первые литературные произведения обоих Шлегелей,
и младшего из них в особенности. Но во всем остальном он
придерживался иного направления и иных литературных приемов.
Вместо того чтобы расширять сферу своей поэтической
любознательности, вместо того чтобы знакомиться с поэзией всех
народов и всех времен, он интересовался только тем, что находил на
берегах своей любимой Эллады. Хотя Гёте и говорит, что после
устной с ним беседы заметил в нем «некоторое сочувствие к сред-
1 Этот последний замысел относится, по словам Шваба (с. 305), к 1800 году;
но то письмо, в котором Гельдерлин сообщал Шиллеру о новом проекте,
помечено 2 июня 1801 года (в его сочинениях II, 150). В одном из своих писем
(которое не попало в печать, а находится у меня в подлиннике) Шеллинг спрашивал в
июле 1803 года Гегеля, может ли Гельдерлин рассчитывать на его помощь в
случае, если бы приехал в Иену.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
315
ним векам», но мы не находим в произведениях Гельдерлина ни
малейших следов такого сочувствия. Что Гёте имел на него
некоторое влияние, едва ли может подлежать сомнению, но мы не
находим никаких указаний на то, чтоб он тщательно изучал и
принимал за образец произведения великого поэта. Гельдерлин
отличался от братьев Шлегелей уже тем, что питал самое глубокое
сочувствие и уважение не к автору «Вильгельма Мейстера»
и «Римских элегий», а к своему земляку, к автору «Разбойников»
и «Прогулки»; даже в то время, как братья Шлегели прервали
всякие сношения с Шиллером, он называл себя преданным учеником
Шиллера, от которого находился в «непреодолимой зависимости».
Несмотря на то что у него была чрезвычайно мягкая натура и
что у него была врожденная склонность к лирике, Шиллер
привлекал его к себе глубиною идей, высокими нравственными
идеалами и полным серьезного содержания пафосом. В нем не могли
бы найти поклонника ни шлегелевская теория иронии, ни
придирчивая насмешливость незрелых поэтических произведений Тика.
У него не было ни малейшей склонности к юмору и к какому бы
то ни было комизму; ему казался крайне тяжелым всякий переход
от одного душевного настроения к другому, и он ссылался на
слова, сказанные Клопштоком в осуждение тех поэтов, которые
делают из своих занятий забаву. На характере Гельдерлина лежит
самый резкий отпечаток тех противоположных свойств, которыми
отличались швабские уроженцы от уроженцев Северной
Германии. Разве этот робкий, обидчивый, склонный к меланхолии поэт
мог быть другом тех смелых, бойких, ничем не стеснявшихся
писателей, которые делали из литературной критики приятное
ремесло; разве этот поэт, всегда чуждавшийся всего, что
отзывалось эпиграммой, мог идти одним путем с теми писателями,
которые облекали всякую мысль в форму эпиграммы и
преднамеренно излагали свои воззрения в форме отрывочных парадоксов?
Если к этому прибавить, что, за исключением только
«Гипериона», все немногочисленные стихотворения Гельдерлина появлялись
лишь поодиночке в разных альманахах, то нам вовсе не
покажется удивительным тот факт, что представители юной романтической
школы не обратили почти никакого внимания на нашего поэта. То
было новым доказательством критической прозорливости
Августа Вильгельма Шлегеля, что из всех романтиков он один указал
на выдающиеся достоинства произведений швабского поэта.
В своей рецензии на нейфферовскую «Карманную книжку для
316
Р. ГАИМ
горничных»1 он говорит, что там почти нет ничего хорошего,
кроме произведений Гельдерлина. Он говорит, что в этих
произведениях «много ума и души», приводит в доказательство этого
мнения два стихотворения — «An die Deutschen» и «An die Parzen» и
выражает желание, чтоб общее одобрение побудило поэта
предпринять какой-нибудь более значительный труд2.
Если бы это желание Шлегеля исполнилось и если бы Гель-
дерлин не отказался от своего намерения переселиться в Йену, то
появление среди романтиков такого даровитого поэта могло бы
ослабить преобладающее влияние Тика на новую школу, могло
бы сдерживать в надлежащих границах притязания Шлегеля на
его собственную поэтическую заслугу, на ту заслугу, что он
верно попал в тон греческих поэтов. Через посредство Шеллинга
кружок романтиков мог бы освоиться с южнонемецким складом ума
Гельдерлина, с его философским глубокомыслием и с его
влечением к мистической символике природы. Тогда даже Тик был бы
принужден сознаться, что умственное направление жившего в
Греции отшельника имеет сходство с умственным направлением
«Любящего искусства монаха». Ведь и Вакенродер был так же,
как Гельдерлин, кроток, застенчив и склонен к мизантропии, так
же был непрактичен в своей деятельности, так же мучился
противоречиями между идеалом и действительностью, так же любил
прекрасное и мечтал о прошлом; различие между этими двумя
людьми заключалось только в том, что Вакенродеру
предпочтительно нравился художественный мир немецкий и средневековый,
а Гельдерлину — древнегреческий. Но самое близкое духовное
родство привлекло бы к Гельдерлину Новалиса: этот
единственный настоящий поэт в кружке романтиков был, подобно
Гельдерлину, чист душою и благороден; у него была одинаковая с
Гельдерлином лирико-музыкальная натура, и он питал одинаковое
с Гельдерлином влечение к мистической натурфилософии.
Однако эти два поэта расходились в двух отношениях. Поэтическое
1 «Allg. Lit. Zeit.» (1799) в полном собрании сочинений XI, 364. И
удостоившиеся похвал рецензента мелкие стихотворения Нилльмара принадлежат перу
Гельдерлина; сравн. то, что говорит Шваб в предисловии к полному собранию
сочинений Гельдерлина, с. VII.
2 Новым доказательством сходства романтиков с Гельдерлином может
служить и тот факт, что, по всему вероятию, вследствие вышеприведенных отзывов
Шлегеля были помещены в альманах Фермерена (в 1802 и 1803 годах)
стихотворения «Menon's Klagen um Diotima» и «Unter den Alpen gesungen».
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
317
чутье Новалиса было всецело направлено на то, что происходило
в его собственной душе; поэтому он не был способен рисовать
в подражание грекам такие же пластические фигуры, какие так
часто встречаются в лирике Гельдерлина. С другой стороны, Но-
валис соединял со своей задушевностью такой богатый запас
веселости, что умел преодолевать самую глубокую душевную
скорбь, даже мрак смерти умел украшать душистыми цветами,
умел даже быть любезным в ненависти. Именно в этом
отношении он имел такое сходство с Тиком и с Шлегелем, какого
недоставало Гельдерлину Между тем как Гельдерлин олицетворял в
себе только одну побочную черту романтизма, Новалис
олицетворял в себе главные основные черты этого литературного
направления; благодаря богатству и оригинальности своего ума он
успешнее всех других романтических поэтов старался придать новой
школе твердую основу и самостоятельный характер. Его
сочинения сделались для этой школы чем-то вроде Библии, а кто-то не
без основания заметил, что из них одних можно было бы извлечь
всю сущность нового литературного направления. Об этом
«пророке романтизма» будет идти речь в нашей следующей главе.
ГЛАВА ВТОРАЯ
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ НОВАЛИСА
Фридрих Леопольд фон Гарденберг1 подружился с
Фридрихом Шлегелем еще в то время, как оба они учились в
университете. С тех пор они находились в постоянных, то письменных,
то личных, сношениях. Еще во время поездки, предпринятой в
начале июля 1797 года из Йены в Берлин, Фридрих, как кажется,
заезжал к своему другу2. Быть может, именно тогда этот друг
поделился с ним своими философскими идеями, которые
обыкновенно излагал на бумаге; а когда было решено предпринять
издание «Атенея», Шлегель, вероятно, вспомнил об этих
письменных заметках и пожелал воспользоваться таким сокровищем. Но
1 В наших «Историях литературы» встречается немало выдумок,
сочинявшихся с целью объяснить происхождение имени Новалис, которым
подписывался Гарденберг под своими литературными произведениями; но это имя, по
всему вероятию, не что иное, как перевод имени Гарденберга, так как «novalis»
значит «земля из-под леса, которая еще никогда не была вспахана плугом» («Hard»,
«Hart» — «лес»). Ударение было перенесено на предпоследний слог, и в этом
виде Фридрих Шлегель употребляет имя своего друга в первом печатном
наборе стихотворения «Hercules Musagetes» (в I томе «Характеристик и критик» и в
«Kritische Grundgesetze Schriftstellerischer Mittheilung»): «Redner der Religion,
früher Novalis! auch Dich»; а в позднейшем печатном наборе этот стих изменен и
из него исчезло имя Новалиса. Самый обстоятельный разбор произведений Но-
валиса сделан Дильтеем в ранее нами упомянутой статье, напечатанной в «Preuss.
Jahrbüchern» (l 865, том XV, с. 596 и ел.). Кроме того, стоит труда прочесть главу
о Новалисе в известном манифесте Эхтермейера и Руге против романтизма, в
«Halle'sche Jahrbb.» (1839, с. 2136 и ел.). (Она перепечатана в полном собрании
сочинений Руге, том I.)
2 Это видно из заметки в «Дневнике» от 3 июля 1797 года (в полном
собрании сочинений III, 69), если под именем Шлегеля мы будем разуметь
Фридриха Шлегеля, а на это нам дают право более ранние заметки на с. 53,56,62,66,67
и 68.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
319
его посещение Гарденберга летом 1797 года совпало с тем
периодом в жизни его друга, когда этот последний старался
оправиться от поразившего его тяжелого удара. Лишь за несколько
месяцев перед тем смерть похитила у Гарденберга его горячо любимую
невесту. Это несчастье имело громадное влияние и на его жизнь,
и на его философию, и на его поэзию. Поэтому, чтобы ближе
познакомиться с этим новым последователем романтизма, мы
должны познакомиться с тем, что он пережил до и после того
несчастья1.
Гарденберг родился 2 мая 1772 года в графстве Мансфельд-
ском, в имении, которым владело его семейство в Обер-Видер-
штедте; он воспитывался сначала под руководством своей
матери, а потом под руководством домашнего учителя, а свое
детство провел в Вейссенфельсе, где его отец был директором
солеваренного завода. Ему с ранней молодости внушали
понятия гернгутеров о благочестии, которых придерживались его
родители. Вот почему и он, подобно Шлейермахеру, вносил в
направление своих идей тот дух пиетизма, в котором немецкий
ум искал спасения от безжизненного протестантского
догматизма. Точно такое же сочетание субъективного религиозного
чувства с влечениями к эстетике и к литературе уже ранее
обнаруживалось в романтизме преимущественно в натуралистических
формах. Представители этого направления искали в
развившемся на почве гуманизма образовании избавления от тех узких
воззрений, которые внушались им и их родителями, и их
наставниками; но они бессознательно снова вовлекались в то
направление идей, к которому приучились с детства. Их старание
согласовать эти два противоположных влечения имело сильное
влияние на тогдашнее умственное развитие, которое благодаря
им внезапно осветилось разноцветными отблесками новых,
поражавших своей оригинальностью идей. Точно то же можно
сказать и о Гарденберге. Он начал работать умом, когда ему было
только восемь лет: он стал изучать иностранные языки и
историю, а самый приятный отдых находил в чтении сказок и поэти-
1 Для биографических подробностей о Гарденберге нам служили
источниками, кроме разных разбросанных указаний, кроме писем поэта и его дневника,
два биографических очерка, из которых один написан Тиком (в предисловии к
третьему изданию сочинений Новалиса), другой — Юстом (в начале III тома его
сочинений). В тех случаях, когда указания этих двух писателей не сходятся между
собою, мы отдаем предпочтение указаниям Юста.
320
Р. ГАЙМ
ческих произведений. Ему скоро представился случай подышать
более вольным воздухом. Ему пришлось прожить целый год у
своего дяди, который заведовал областью одного духовного
ордена в Луклуме, подле Брауншвейга1; там он нашел
многосторонние поощрения к умственной деятельности в обществе своего
образованного дяди, в знакомстве с несколькими влиятельными
людьми и в их прекрасной местной библиотеке. Вслед за тем он
приготовился в эйслебенской гимназии к поступлению в
университет, в котором должен был готовиться, по желанию своего отца,
к административной карьере. Но сам он желал эманципировать-
ся от таких занятий, целью для которых служит добывание
средств к существованию, точно так же, как он эманципировал-
ся от строгих религиозных убеждений, навязанных ему
домашним воспитанием. Осенью 1790 года он прибыл в Йену
восемнадцатилетним юношей, в первый раз получившим право
распоряжаться самим собой. Там он сошелся с Рейнгольдом,
который познакомил его с кантовской философией, а в Шиллере он
нашел не только наставника и настоящего поэта, но также
относившегося к нему с отеческим участием друга. До нас дошли
три письма, написанные им после отъезда из Иены, — два к
Шиллеру и одно к Рейнгольду2; все они свидетельствуют о его
безграничном уважении к великому поэту, в котором он находил
олицетворение всех своих идеалов.
Эти же письма знакомят нас с теми врожденными
влечениями, благодаря которым Гарденберг сделался поэтом. Его
неиспорченная, восприимчивая натура всецело подчинялась
влиянию внешних впечатлений. Он не был в состоянии подмечать
1 Коберштейн (III, 2202) полагает, что еще ранее его воспитание было
поручено одному духовному лицу, принадлежавшему к гернгутерской общине в
Нейдитендорфе; но об этом ничего не говорится на с. 7 рассказа Юста, хотя на
этот факт могла бы служить указанием личность придворного капеллана в
«Генрихе фон Офтердингене».
2 Его письма к Шиллеру от 11 сентября и от 7 октября 1791 года помещены в
«Charlotte von Schiller» (III, 172 и ел.); его письма к Рейнгольду и первое из тех
двух писем к Шиллеру также помещены в полном собрании сочинений (III, 129 и
ел.) (сравн. предисловие (III, IX)). Помещенное там же (на с. 143) письмо не было
адресовано к жене Рейнгольда и не относится ко времени пребывания Гарденберга
в Иене, хотя Дильтей (с. 599, 600) и утверждает противное; оно принадлежит к
числу тех писем, которые занимают первые 158 страниц и были адресованы к г-же
Т. Дальнейшим доказательством горячей привязанности Новалиса к Шиллеру
служит письмо Карла Грасса к Шиллеру от 3 июля 1791 года в «Charllotte von
Schulen) (III, 130).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
321
какие-либо несовершенства в том, что возбуждало в нем
энтузиазм: его любящее сердце было способно видеть только
совершенства; оно заставляло работать его ум и согревало его
фантазию; он мог верить, любить и уважать только безусловно. Этой
ребячески наивной потребностью любить он напоминает Вакен-
родера. Стремление к высшим идеалам было у него общим с
Гельдерлином, но эти идеалы не заставляли его впадать в
меланхолию, которая была отличительной чертою Гельдерлина, а,
напротив того, придавали его уму бодрость. Наконец, и с
Фридрихом Шлегелем у него было то сходство, что оба они были
склонны произвольно возвышать условное в степень
безусловного; разница между ними заключается только в том, что
Фридрих Шлегель искал доказательств для своих безусловных
положений только в своем остром уме, между тем как Гарденберг
носил плоды своей мечтательности в своем сердце и опутывал
их блестящими нитями своей фантазии.
Первым фанатическим увлечением Гарденберга было его
увлечение произведениями Шиллера. Сначала оно выражалось в
такой форме, которая не отличалась своеобразностью и
напоминала риторический блеск шиллеровской прозы. Даже в своем
письме к Рейнгольду Гарденберг не может воздержаться от желания
похвалить своего «дорогого и великого Шиллера». Он находит
в Шиллере сочетание человеческих добродетелей с
любезностью и такой совершенный образец гуманности, какой можно было
найти только у древних греков. Цель устремлений его
юношеского сердца заключается в нераздельном единстве прекрасного с
добром и истиной. Этому единству научил его автор рапсодии
«Художники»; оно поражает его в патетических местах «Дон Кар-
лоса», между тем как, с другой стороны, его восхищает
священная, безыскусственная естественность в произведениях Гомера.
У него нет никаких признаков той застенчивой меланхолии,
которой была заражена однородная склонность Гельдерлина к
мечтательности. Он говорит, что хотел бы обнять автора «Одиссеи»
и спрятать свое покрасневшее от внутреннего волнения лицо в
густой бороде этого благородного старца; с таким же искренним
воодушевлением выражает он свою преданность к любимому
наставнику — Шиллеру. «Как бы я желал, — пишет он, — чтоб моя
любовь воспламенилась до такого нравственного изящества, до
такой нравственной красоты и самой чистой, самой благородной
страстности, какие когда-либо согревали человеческую душу!..
11 Зак. № 3602
322
Р. ГАИМ
Я ежедневно стараюсь сделать мою душу более достойной
Граций и ежечасно одерживаю небольшие победы над моими
предубеждениями. Я останавливаюсь на мимолетных впечатлениях,
которые производит на меня созерцание чего-либо прекрасного,
и стараюсь запечатлеть их в своей душе». Так мог выражаться
только поэт или такой юноша, который должен был сделаться
поэтом. О том же свидетельствуют и те маленькие, наивные
песенки, которые Гарденберг писал в самой ранней молодости1. В них
также сказываются счастливая натура юноши и веселое
настроение его ума.
Однако в то время, как Гарденберг писал то письмо к
Рейнгольду, он только что принял твердое решение посвятить себя
изучению юриспруденции. Таково было желание его отца, а Шиллер
со своей стороны старался, по просьбе старика Гарденберга,
поддерживать в этом намерении безусловно преданного ему
молодого человека2. Шиллер знал по собственному опыту, как
печально такое существование, которое вполне зависит от литературной
работы, и потому без большого труда убедил Гарденберга
серьезно заняться тем, что могло обеспечить его будущность. В
одном из своих писем к Шиллеру Гарденберг говорит, что
надеется, не вполне отказываясь от Муз и Граций, «быть верным своему
высшему долгу и с покорностью следовать призыву судьбы, ясно
указывающей ему надлежащую дорогу». Поэтому, несмотря на
то, что он, как впоследствии сам в этом признавался, не
чувствовал никакого влечения к юриспруденции, он покинул Йену в день
св. Михаила 1791 года3 и отправился сначала в Лейпциг, а потом
в Виттенберг с целью изучать юриспруденцию и, кроме того,
математику и химию. Фридрих Шлегель, с которым он познакомился,
по всему вероятию, в Лейпциге, позаботился о том, чтоб он не
пренебрегал и философией4. Летом 1794 года он выдержал в Вит-
1 В полном собрании сочинений III, 83 и ел. (сравн. предисловие (III, Vlll)) и
в «Findlingen» Гоффманна фон Фаллерслебена (I, 139—140).
2 См. письмо, которое писал о молодом Гарденберге Шиллеру профессор
Шмид («Charlotte von Schiller» III, 180).
3 А не в 1792 году, как утверждает Дильтей со слов Тика. Для указаний
времени во всем, что касается университетских занятий Гарденберга, можно
найти верное руководство в том письме, которое помещено в его сочинениях (III,
159).
4 Из того, что говорит Юст, можно заключить, что уже в то время
Гарденберг познакомился с Фихте и с Шеллингом. О его знакомстве с Шеллингом гово-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
323
тенберге свой юридический экзамен и вслед за тем отправился
в Теннштедт с целью поступить на службу под руководством
окружного начальника Юста. Этот Юст сделался его верным
другом, а впоследствии и его биографом. Благодаря рассказам Юста,
нам известно, что Гарденберг умел гораздо лучше Вакенродера
или Гельдерлина согласовать свои идеалистические стремления
и врожденные влечения с требованиями реальной жизни. Биограф
хвалит его всестороннюю жажду знания, эластичность его ума,
благодаря которой он умел устранять педантизм обычной
деловой практики; хвалит его за добросовестное исполнение служебных
обязанностей, которое, однако, не мешало ему находить свободное
время для научных и эстетических занятий. В эту пору его жизни
мы находим лишь редкие указания на то, что он еще не совсем
потерял из виду Шиллера, о котором когда-то составил себе
чрезвычайно высокое мнение. Но именно в это время появились в
печати некоторые из самых увлекательных произведений Гёте, между
тем как Шиллер медленно прокладывал себе дорогу от философии
к поэзии. Вот почему влияние Гёте стало преобладать в уме
юного Гарденберга над влиянием Шиллера. Только что вышедший в
свет «Вильгельм Мейстер» сделался для него такой же любимой
книгой, как и для Фридриха Шлегеля. Он читал ее и перечитывал
вновь, он заучивал из нее на память целые страницы; но для того
чтобы возбудить в нем склонность к литературной деятельности,
не было достаточно влияния новых литературных произведений.
Даже «Вильгельм Мейстер» не был в состоянии пробудить его
поэтические дарования из усыпления; эти дарования пробудились
под влиянием таких житейских испытаний, которые в течение
очень короткого времени сделались для него причиной и самых
сладких радостей, и самой глубокой скорби.
Весной 1795 года он ездил по служебным делам вместе с
Юстом в селение Грюнинген, находящееся на расстоянии двух
часов пути от Теннштедта, и там познакомился с одним
семейством, с которым скоро так близко сошелся, что стал бывать
там как в своем родном доме. Он нашел там дорогое сокрови-
рит и Дильтей. Но все это совершенно неправдоподобно, потому что
Гарденберг выехал из Лейпцига еще в Пасху 1793 года, Фихте выехал оттуда двумя
годами ранее, а Шеллинг переехал туда тремя годами позднее. Есть другие
основания предполагать, что Гарденберг ранее познакомился с Фихте, когда этот
философ еще не успел вполне выработать свои философские воззрения. Верные
указания можно найти у Коберштейна (III, 2203).
324
Р. ГАЙМ
ще в лице дочери фон Кюна, Софии. Ей было только двенадцать
лет1. Это был самый прелестный ребенок, какого только можно
себе представить, но она уже была способна внушать не
ребяческие чувства. Даже на Гёте она произвела очень сильное
впечатление, а свидетельство Гёте избавляет нас от необходимости
ссылаться на другие рассказы о ее необыкновенной
привлекательности. Сам Гарденберг, влюбившийся в нее при первом
знакомстве, все более и более идеализировал ее личность после ее
смерти. К счастью, до нас дошла характеристика его
возлюбленной, написанная им еще в то время, когда София фон Кюн была
жива2. Он смотрел на свою Клариссу не только глазами
влюбленного, восхищавшегося всякой мелкой чертой в ее характере,
но и глазами любящего правду наблюдателя. Непритворная
детская наивность, естественность без всякого жеманства,
девическая застенчивость и недоступность, ясный ум, здравый
практический смысл, никаких признаков сентиментальности и
некоторая склонность к насмешливости — вот те черты, которые
Гарденберг подметил в характере Софии, и нам нетрудно понять,
какой привлекательной должна была казаться такая девушка
нравственно неиспорченному юноше. Весна и лето 1795 года
были, по словам Тика, самым счастливым временем в жизни
Гарденберга. Он проводил в Грюнингене все часы, свободные
от служебных занятий; из дошедших до нас страничек его
дневника видно, каким светлым и веселым казалось ему все, что
его окружало, и какой красивой казалась ему та дорога, которая
вела к его возлюбленной3. Осенью он получил согласие Софии
на вступление в брак и с той минуты все его мысли
сосредоточились на домашнем счастье, которое ожидало его. Он стал
смотреть на свои служебные занятия и на свое призвание иными
глазами, чем прежде, и ему уже не стоило никакого труда
подчиняться желаниям отца; после непродолжительной подготовки
он отказался от должности по судебному ведомству, которую
занимал в Теннштедте, и в феврале 1796 года перешел в Вейс-
сенфельс на должность аудитора при управлении солеваренны-
1 По словам всех биографов Новалиса, она была одним годом старше; но из
одного письма Новалиса (в его сочинениях II, 209) видно, что ей было только
двенадцать лет.
2 Там же, 115.
3 Там же, 47.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
325
ми заводами. Тем временем его София занемогла. Потом она,
по-видимому, поправилась, и Гарденберг уже воображал, что
опасность миновала, когда получил летом 1796 года известие,
что страдавшая опасным внутренним нарывом София
отправилась в Йену с целью прибегнуть к хирургической операции. Но
ни вторичная операция, ни искусство знаменитого доктора Штар-
ка не могли остановить дальнейшее развитие болезни.
Терпеливая страдалица прожила ради лечения несколько месяцев в Йене,
в доме своей сестры г-жи Манделсло1. Гарденберг иногда
навещал ее. Йена была ему мила с тех пор, как он познакомился
там с Шиллером и с Рейнгольдом; а теперь он нашел там Рейн-
гольдова преемника, автора «Основных начал науки», с которым,
быть может, уже давно был лично знаком, потому что у Фихте
были какие-то старые связи с семейством Гарденберга2; кроме
того, он застал в Йене Августа Вильгельма Шлегеля и своего
старого университетского товарища Фридриха Шлегеля.
Поэтому он делил свое время между посещениями своей больной
невесты и беседами со своими друзьями о благородном влиянии,
которое должны были оказать «Основные начала науки» на всю
сферу научных познаний и поэзии. Темами для этих бесед служили
«три главные тенденции века», как их назвал Фридрих Шлегель:
«Основные начала науки», «Вильгельм Мейстер» и Французская
революция. Имена Фихте и Гёте служили лозунгами и для
Шлегеля, и для Гарденберга. Трудно решить, в какой мере обмен
идей с Новалисом повлиял на развитие тех воззрений Шлегеля,
которые уже были ранее нами изложены. Но не подлежит
сомнению, что оба друга старались придать идеализму Фихте еще
более идеальный и абсолютный характер, а Фридрих даже
написал в своей тогдашней «Философской памятной книжке», что он
и Гарденберг, вместе взятые, выше Фихте3. Также не подлежит
сомнению, что и Гарденберг в то время усердно старался
приспособить к своей индивидуальности основные идеи философии
Фихте, старался развить эти идеи до их крайних выводов и
сделать последние общеупотребительными. В начале февраля
1797 года он говорил в одном из своих писем: «Я стараюсь как
можно глубже погружаться в поток человеческих знаний для
1 «Aus dem Leben von J. D. Gries», с. 26.
2 Сравн.: Α. Peters. General Dietrich von Miltitz. Meissen, 1863. С. 2.
3 См. «Философские лекции» Φρ. Шлегеля II, 421.
326
Р. ГАЙМ
того, чтобы в его волнах позабыть те грёзы, на которые меня
наводит судьба». Его склонный к мечтательности ум находился
в самом сильном брожении, между тем как его сердцу грозил
самый тяжелый удар. Но и из энергии своей любовной
привязанности, и из учения Фихте, с самоуверенностью ставившего
человеческую волю даже выше судьбы, он извлекал уверенность,
что его возлюбленная не может и не должна умереть. Это была
обманчивая уверенность! В декабре 1796 года София фон Кюн
возвратилась из Йены в Грюнинген. Каждый раз, как Гарден-
берг посещал там больную, он находил, что ее положение
становилось все более и более опасным. Его фантазия еще не
утрачивала некой надежды на ее выздоровление, но в своей душевной
тревоге он сравнивал себя с отчаянным игроком, «все счастье
которого зависит от того, куда попадет лепесток цветка — в этот
мир или в тот». Между тем Софии минуло пятнадцать лет; она
скончалась через два дня после того, в то самое время, как
находился при смерти и младший брат Гарденберга, Эразм:
«Лепесток цветка, — писал Гарденберг, — перелетел теперь в другой
мир. Отчаянный игрок бросает карты и, как будто пробудившись
ото сна, отвечает смехом на последний призыв сторожа к
надежде, что утренняя заря внушит ему желание начать новую
жизнь в этом мире».
Но именно этот мир утратил всякую цену в глазах глубоко
потрясенного Гарденберга. Из первых писем, которые он писал
после смерти Софии1, ясно видно, что в его веселом, живом,
предприимчивом характере произошла решительная перемена, что
он стал удаляться от людей и искать утешения в глубине своей
собственной души. С одной стороны, он остался таким же, каким
был прежде, а с другой стороны, он совершенно изменился.
Теперь начинают заявлять о себе те основы его духовной жизни,
которые были до того времени скрыты от его собственных глаз, и
в его душе начинают развиваться те зародыши благочестия, из
которых быстро расцветает задушевная, благочестивая поэзия.
«Я так любил эту землю, — писал он, — мне так нравились
привлекательные картины, на которых останавливались мои взоры».
Но ему приходится позабыть обо всем, что было им пережито.
1 К тем письмам, которые попали в полное собрание сочинений, теперь
можно присовокупить его письмо к Дитриху фон Мильтицу, о котором сообщено у
А. Петерса (с. 30).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
327
Взамен воспоминаний о прошлом он обратился в тому
«невидимому миру», силы которого были до той поры погружены в
дремоту. С ним случилось то же, что случается с человеком,
который никогда ничего не слышал о Боге, а потом неожиданно
познакомился с идеей о Высшем Существе. «До сих пор я жил
настоящим и надеждой на земное счастье, а впредь я буду жить
только будущим, верой в Бога и в бессмертие души. Мне будет
очень трудно совершенно отделиться от этого мира, который я
изучал с такой любовью; я буду не раз сбиваться с этого пути, но
я знаю, что в человеке есть такие силы, которые, при тщательном
за ними уходе, могут развиться в замечательную энергию». Под
гнетом своей душевной скорби и из потребности в каком-нибудь
утешении он хочет заглушить в своем сердце любовь к здешнему
миру, но при своем влечении к пиетизму и к аскетизму он
опасается, что не только его кровь и плоть, но и его здравый ум, до тех
пор слишком сильно властвовавший над ним, снова завладеют
его больным сердцем!
Борьба, происходившая в то время в его душе между двумя
противоположными направлениями, всего яснее обнаруживается
в дневнике, ведение которого продолжалось с 10 апреля до
начала июля1. Гарденберг жил в то время в Теннштедте. Он
отправился туда незадолго до смерти своего младшего брата для того,
чтобы быть ближе к «милой могиле». Ведь в этой могиле
сосредоточивается для него весь мир; со смерти возлюбленной для
него начинается новое летоисчисление; со дня этой смерти
начинается и ведение дневника. Это записывание в особую книгу всех
самых сокровенных душевных волнений, эти наблюдения над
самим собой и порицания самого себя были в обычае у
пиетистов. Но то, что другие делали до него и после него с большей или
меньшей искренностью, с большим или меньшим напряжением
душевных сил, он делал так чистосердечно и так своеобразно,
как никто. Его отвращению ко всему земному, его стремлению
к «старому, давно знакомому первобытному миру», в котором он
снова встретится со своей возлюбленной; им трудно было
устоять против врожденной живости своего характера и против
разнообразных интересов, создаваемых многосторонним умственным
развитием. Им было бы трудно устоять даже в том случае, если
бы Гарденберг заперся внутри монастырских стен и подчинил
1 В его сочинениях III, 49 и ел.
328
Р. ГАИМ
себя строгой монашеской дисциплине. Но он захотел найти
успокоение для своей души в самом себе, не стесняя своей свободы
и не стараясь избегать соблазнов, которыми был окружен. Он не
следовал примеру тех кающихся грешников, которые проводят
время в полном бездействии, углубляясь в самих себя. Он
внимательно прочитывал деловые бумаги, аккуратно исполнял свои
служебные обязанности, в обществе принимал участие в
оживленных разговорах, иногда писал бойкие стишки, а приятное
маленькое путешествие, которое он предпринял в первой половине
лета, он был в состоянии описать очень остроумно и с надлежащим
вниманием к мелочам обыденной жизни. Он много читал, с пером
в руке, произведения своих любимых новых и древних писателей,
не прекращал своих занятий философией, излагал на бумаге
выводы из своих размышлений, приводил в порядок свои старые
заметки и даже стал увлекаться новыми философско-литератур-
ными замыслами. Можно ли удивляться тому, что намерение
Гарденберга отречься от здешнего мира выразилось в
совершенно своеобразных, индивидуальных формах? Прежде всего
следует заметить, что упования, в которых нуждалось его сердце,
сливались его фантазией в нераздельное целое с теми упованиями,
которые он мог извлекать из метафизики. Поэтому и
воспоминания о возлюбленной, и его влечения к загробному миру, и его
религиозные чувства получают внешний вид мечтаний,
отзывающихся философией. То самое учение Фихте о беспредельном
могуществе человеческой воли, которое не позволяло ему
допускать возможность смерти своей невесты, внушает ему решимость
переселиться вслед за Софией в загробный мир. Он старается
подкреплять себя в этой решимости почти на каждой странице
своего дневника: его смерть должна наступить в самом
непродолжительном времени по естественному ходу вещей вследствие
его желания, дошедшего до твердой решимости; она не будет
«бегством, не будет таким крайним средством, к которому
прибегают по необходимости», а будет «настоящим жертвоприношением,
будет доказательством его стремлений к высшему миру»; она
убедит человечество в возможности такой неизменной любви,
которая не прекращается даже после смерти. Он ропщет на самого
себя, когда ему кажется, что эта «конечная цель» его желаний не
вполне господствует над всеми его занятиями. Он беспрестанно
укоряет самого себя за то, что недостаточно живет
воспоминаниями о своей возлюбленной, что слишком много занимается
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
329
мелочами повседневной жизни, что дает слишком много воли
своему веселому нраву, своей склонности «подтрунивать над
другими и служить для всех забавой»; он беспрестанно напоминает
сам себе, что ни его философские занятия, ни его надежды на
блестящее развитие научных познаний не должны привязывать
его к здешнему миру. Но, с другой стороны, эти скорбные
мечтания воодушевляют его, освещая своими лучами то
непродолжительное время, которое ему остается прожить на земле. «Этим
летом, — говорит он в одном из своих писем, — я хочу вполне
наслаждаться и быть как можно более деятельным; хочу
укрепить себя как следует в любви и в воодушевлении. Я хочу
приехать к Вам не больным человеком, а в полном сознании моей
свободы и счастливым как перелетная птичка». А в своем
дневнике он пишет: «Я хочу весело умереть, как подобает юному
поэту». В особенности загробную жизнь его фантазия представляет
ему в самом заманчивом свете. Впечатлительность, которую он
обнаруживает в способности наслаждаться красотами природы,
и его влечение к земным благам превращаются в стремление к
тому высшему бытию, в которое он намеревается переселиться.
В те минуты, когда он, глубоко растроганный, стоит подле
могилы своей возлюбленной, в нем воспламеняется решимость
умереть. Тогда ему «невыразимо весело»; тогда «на него находят
такие минуты энтузиазма», во время которых он «одним дуновением
превращает могилу в пыль». Именно в такие минуты и его
благочестие, и его философия находили для себя выражение в самых
задушевных поэтических произведениях. Он написал «Hymnen an
die Nacht» («Гимны к ночи»), с которыми не может равняться ни
одно из произведений нашей классической поэзии и ни одно из
рассмотренных нами ранее произведений поэзии романтической.
В этих стихотворениях сказывалась такая же искренняя,
глубокая грусть, какую мы находим в жалобных звуках поэзии Гель-
дерлина, но в то же время они проникнуты таким душевным
спокойствием, с каким был незнаком автор «Гипериона»; в них вовсе
нет речи и о тех ужасах, которые любила измышлять фантазия
автора «Белокурого Экберта». «Гимны к ночи» были в первый
раз напечатаны в «Атенее» за 1800 год. Нелегко решить, когда
они были изложены на бумаге. В них встречаются такие обороты
речи, которые, очевидно, относятся к более позднему периоду в
жизни их автора. В них идет речь об испытанных у могилы
возлюбленной душевных волнениях, как о чем-то уже давно пережи-
330
Р. ГАИМ
том. В особенности гимны пятый и шестой (в которых
ритмическая проза переходит в стихи и в которых фантазия автора витает
в иной сфере идей) напоминают тон тех «Духовных песен»,
которые были написаны Гарденбергом в 1799 году. С другой стороны,
следует заметить, что именно летом 1797 года Гарденберг читал
«Ночные думы» Юнга. Монотонная растянутость, риторическая
высокопарность и нравоучительное содержание этих
стихотворений не имеют никакого сходства с богатой идеями сжатостью
Гарденберговых «Гимнов», с их наивной задушевностью, с их
мистическим содержанием; тем не менее у обоих поэтов
одинаковые основные воззрения и на религию, и на поэзию. Юнг
выразил поэтическим языком свои жалобы, так же как и Гарденберг,
потому что скорбел об утрате дорогих его сердцу существ; ему
также была приятна ночная мгла, потому что только с ее
наступлением он чувствовал, что его ум вполне свободен; он также
любил переноситься своим воображением в загробный мир и
искать в нем настоящие источники жизни и света. Но каково бы ни
было влияние «Ночных дум» Юнга на Гарденберга, не подлежит
никакому сомнению, что в «Гимнах к ночи» сказываются
впечатления, пережитые их автором летом 1797 года. Здесь иногда
слово в слово повторяются те же мысли, которые мы находим в
дневнике Гарденберга.
Но поэтические видения, которые создавала фантазия
Гарденберга, не могли господствовать над направлением всей
жизни юноши, привыкшего бывать в обществе и получившего
многостороннее образование. Хотя в минуты одиночества он и
высказывал желание, чтобы его «сердечная рана всегда
оставалась открытой», но это желание находилось в противоречии с
требованиями его натуры, полной жизненных сил. Его сердечная
рана стала мало-помалу заживать, его намерение лишить себя
жизни стало все более и более отодвигаться на задний план,
лишь изредка сказываясь в преходящем расположении к грусти.
Уже осенью 1797 года его друзья заметили, что у него снова
пробудилось влечение к научным занятиям. Его более всего
интересовала медицина, а ему приходилось изучать горное дело.
Из желания угодить своему отцу он решился не покидать того
служебного поприща, на котором уже сделал первые шаги;
поэтому он отправился в декабре 1797 года во Фрейберг с целью
приготовиться под руководством Вернера к занятию постоянной
должности по управлению солеваренными заводами. Но в какой
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
331
мере он постоянно интересовался всеми явлениями в
общественной жизни и современными политическими событиями, видно из
тех поэтических и полупоэтических произведений, которые были
им написаны по случаю вступления Фридриха Вильгельма III на
прусский престол.
В начале нового царствования почти всегда возникают
преувеличенные ожидания и надежды. Но редко случалось, чтобы
вступление нового монарха на престол возбуждало такой же
восторг, с каким приветствовали в Пруссии вступление на престол
преемника Фридриха Вильгельма II. На этот раз были налицо
все мотивы, способные внушать самое пылкое воодушевление.
Прежнее дурное управление уже давно обратило все взоры на
юного, хорошо воспитанного наследного принца, одаренного, как
было известно, именно теми добродетелями, недостаток
которых сделал ненавистной систему управления его отца.
Скромность и благонравие, его влечение к семейной жизни, его
здравомыслие, соединявшееся с сердечной простотой и непритворным
добродушием, приходились совершенно по вкусу поколению, не
в меру склонному прикладывать к общественным добродетелям
мерило домашней нравственности и ожидать от просвещенных
воззрений таких политических реформ, которые могут удаваться
только одаренным твердой волей первоклассным
государственным людям. События, которыми сопровождалось развитие
Французской революции, с одной стороны, поддерживали
идеалистические понятия немцев о государственном благосостоянии и о
политической свободе, с другой — внушали отвращение к
насильственным переворотам и усиливали привязанность народа к
царствующему дому. А юная королева, разделявшая миролюбивые
и патриотические чувства своего супруга, довершила охватий-
шее всю нацию очарование: ее симпатичная личность осветила
новую эру лучом поэзии.
Берлинские литераторы, по-видимому воображавшие, что в
истории человечества открывается совершенно новая страница,
составили общество для издания журнала под заглавием
«Jahrbücher der preussischen Monarchie unter der Regierung Friedrich Wil-
helm's III» («Летописи прусской монархии в царствование
Фридриха Вильгельма III»), который должен был следить шаг за шагом
за деятельностью правительства и постоянно доставлять новую
пищу чувству пламенного патриотизма, естественно, всего
сильнее сказывавшемуся в столице. В программе нового журнала на
332
Р. ГАЙМ
первом плане стоял король со всем своим семейством; на втором
плане стояло государство, которое выражает в своих законах и в
своем управлении «ум своего правителя, а в своем счастии
служит для него отражением». Этой программе соответствовали тон
и содержание журнала. На всех страницах журнала сказывается
такое безусловное преклонение перед королевской властью,
которое в настоящее время кажется нам непонятным. Оно находило
для себя удовлетворение в выражениях преданности и
патриотизма, в особенности в рассказах о том, что в характере юного
монарха обнаружилась та или другая благородная черта; наряду с
этим помещались самые сухие статистические сведения о
внутреннем положении государства, организованного на
бюрократических основах.
Люди старой школы — Энгель и Гарве, Гедике и Эбергард —
доставляли в журнал статьи самого серьезного содержания, а Рам-
бах и другие ему подобные поэты снабжали журнал одами. В этой
литературной сфере резко выделялись статьи двух писателей,
принадлежавших к романтической школе. А. В. Шлегель стал
помещать свои статьи в новом журнале, вероятно, вследствие своих
личных связей с издателем журнала, книгопродавцем Унгером,
а Новалис, вероятно, через посредство А. В. Шлегеля. Их статьи
относятся к тому времени, когда празднества, устроенные в
Берлине по случаю вступления нового короля на престол, вызывали
самые восторженные выражения преданности королевскому дому;
но они довольно резко отличались одни от других по своему
характеру. А. В. Шлегель обнаруживал свое мастерство в сочинении
изящных стихотворений и исполнял роль поэтического
церемониймейстера в торжественный день 6 июля. Новалис осыпал
королевскую чету скромными «цветками» и клал у подножия трона
мистические дары. «Цветки» появились в июньском номере
журнала. Рядом с наивными стихотворениями в честь короля и
королевы появилась замысловатая, похожая на оду, песенка, в
которой гений прощается с землей для того, чтоб возвратиться в свою
«старую отчизну», в «первобытный мир», после того, как он
высвободился из наложенных на него оков, после того, как он нашел
в прекрасной королеве то, чего долго и тщетно искал вокруг
каждого трона. Сказывавшееся в этом стихотворении
воодушевление с примесью чего-то похожего на пророческий тон
повторилось в афоризмах, которые были помещены в июльском номере
журнала под заглавием «Glauben und Liebe oder der König und die
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
333
Königinn» («Вера и любовь, или Король и королева»)1. В
предисловии Новалис выдает сам себя за автора загадок, понятных
только для немногих избранников, а содержание своих афоризмов
называет «мистико-политическим философским рассуждением».
Нам кажется смешным, хотя и вполне понятным тот факт, что
самый мистический из всех поэтов почтил такими приношениями
самого здравомыслящего из всех монархов. Фантазия Новалиса
всегда прибегает к одинаковым приемам, но на этот раз она сама
дает нам ключ к объяснению своих загадок. Чем меньше она
способна рисовать ясные образы и воплощать внутренние чувства,
тем сильнее она привязывается ко всякому явлению, успевшему
заинтересовать ее, и вкладывает в это явление чувства и мысли,
которыми живет душа поэта. Она неспособна создавать ясные
образы с определенными внешними очертаниями, а способна
только мечтать. Любовь и поэтическое воодушевление ослепляют ей
глаза и связывают ее по рукам. Именно по этой причине личность
Шиллера уже давно представлялась воображению Новалиса
достойной безграничного обожания, а в своей возлюбленной он
любил die Abbreviatur des Universums (всю вселенную в
сокращенном виде) и дошел в своей любви до восхищения смертью; точно
так и теперь его фантазия превратила Фридриха Вильгельма и
Луизу в идеальную королевскую чету, с понятием о которой были
неразрывно связаны его воззрения на искусства и науку, его
мечты об идеале государства и о счастии всего человечества. Этот
король и эта королева представляются ему «классической четой»;
появление этих «гениев» служит для него предвестием лучшей
жизни. Он говорит (и у него могли бы поучиться самые искусные
льстецы): Фридрих Вильгельм — «первый прусский король: он
каждый день сам надевает себе на голову корону, а для того, чтоб
он был признан королем, нет надобности вступать в переговоры
с иностранными государствами». По его мнению, совершилось
1 Стихотворения «Die Blumen» появились в июньском номере «Летописей»
( 1798, с. 184); были перепечатаны в сочинениях Новалиса И, 204. Стихотворения
«Glauben und Liebe» появились в июльском номере журнала (с. 269 и ел.); они
были только частью перепечатаны в отрывках, помещенных в сочинениях
Новалиса (II, 172, 173, 176 и III, 206—211 ). Как неосмотрительно поступали Фридрих
Шлегель и Тик при издании сочинений Новалиса видно из того факта, что они не
обратили никакого внимания на однородное содержание этих стихотворений и на
внутреннюю между ними связь и только четыре из них разбросали между
«Отрывками». Бюлов поступил нисколько не лучше, поместив еще десяток таких
стихотворений в 1846 году в III том сочинений Новалиса.
334
Р. ГАЙМ
настоящее чудо пресуществления, так как королевский двор
превратился в семейство, трон — в святилище, королевский брак —
в вечный союз сердец. Золотое время должно быть недалеко: ведь
голубка сделалась подругой и любимицей орла. Кто желает
видеть и полюбить вечный мир, тот должен отправиться в Берлин и
посмотреть на королеву. Талантливое описание ее детского и
юношеского возраста должно быть описанием «годов женского
обучения в самом настоящем смысле слова», даже, быть может, не
чем иным, как описанием годов ученья Натальи. «Мне
кажется, — говорит Новалис, — что Наталья (в «Вильгельме Мейсте-
ре») была случайно нарисованным портретом королевы. Идеалы
должны быть схожи между собой».
Частью одновременно с этим замечательным очерком, частью
незадолго до него появились те «Отрывки», в которых Новалис
пытался уяснить понятие о сущности государства и разрешить
некоторые общие вопросы касательно политических принципов.
В этих «Отрывках» виден человек, находящий в своей
собственной практической деятельности охрану от неуважения к тем узам
и обязанностям, которые налагаются государством. Его
собственные воззрения представляют противоположность с очень
распространенным в то время воззрением, будто существование
государств есть неизбежное зло. Поэтому он желает, чтоб появились
люди, проповедующие необходимость государственного
устройства и патриотизма. Он говорит, что государственное устройство
следует считать не за «покойный диван для лени», а за «арматуру
самой напряженной деятельности». Для человека нет более
настоятельной необходимости, чем необходимость жить в обществе,
организованном как государство. Человек должен жить жизнью
государства точно так же, как он живет жизнью своей
возлюбленной. Такая точка зрения не допускает жалоб на бремя
налогов: «чем больше налогов, чем больше государственных нужд,
тем совершеннее государство». Гарденберг вообще не любил
доискиваться правильных выводов посредством сопоставления
доводов с возражениями; его воззрения образуются подобно
внезапно осаживающимся кристаллам или подобно внезапно
вспыхивающим огонькам. По словам тех, кто был лично с ним
знаком, он не принимал участия в тех спокойных беседах,
которые ведутся с целью выяснить какой-нибудь спорный вопрос.
В многочисленном обществе он нередко не раскрывал рта по
целым часам, но когда встречался с людьми такого же склада ума,
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
335
как его собственный, он становился разговорчивым и излагал свои
мысли с поучительной ясностью1. Одно время он мимоходом
увлекался той формой изложения, которой так мастерски
пользовался Лессинг в «Ernst und Falk» («Эрнст и Фальк». — Прим. науч.
ред.); в его сочинениях попадаются диалоги2, но, несмотря на
свою привлекательность, они остаются только набросками и
стоят наряду с эпиграмматическими отрывками. Тем более
достойно внимания то, что, обрабатывая политическую тему, он
старательно взвешивал все доводы за и против. Написанные им на эту
тему «Отрывки»3 кажутся нам чем-то вроде памятника,
свидетельствующего о постепенной переработке его убеждений. Для
него служили точкой исхода республиканские воззрения, но он все
более и более усваивал воззрения монархические. Очень
сильный рационалистический элемент постоянно был присущ его уму
наряду с поэтико-мистическим. Его рассудок постоянно
протестовал против тех доводов, которые говорят в пользу
республиканской формы государственного устройства; его чувствам и его
фантазии были всегда противны отвлеченные воззрения Руссо, и
в особенности новейшая теория конституционного
государственного управления. Поэтому в беседах с самим собою он старался
защищать более полное жизни и более консервативное воззрение
от нападок со стороны радикалов, со стороны близорукого
разума. Достигший зрелых лет человек сознается, что республика
имеет за себя только предубеждение юности; женатый человек
желает порядка, безопасности, спокойствия; он желает жить в
семействе, в хорошо устроенном доме и при «настоящей монархии».
Наш фрагментист очень метко указывает ошибочность в
доводах радикальных теоретиков: он говорит, что мы подчиняемся
«рассудку» и тогда, когда он находится в распоряжении одного лица,
выражаясь в форме законов и разумно устроенного порядка.
Разве нельзя и в этой сфере ввести разделение труда? Разве
государственное управление не есть искусство и даже очень трудное
искусство, которое приобретается только многолетней
опытностью? Неосновательно мнение, будто основанная на начале
представительства демократия указывает единственный способ
искусственно создавать идеальных правителей, которые нигде не
1 Steffens, «Was ich erlebte», IV, 320; «Just», с. 43; предисловие Тика к
сочинениям Новалиса, с. XXI.
2 И, 152 и ел.
3 В его сочинениях III, 215 и ел.
336
Р. ГАИМ
существуют от природы. Напротив того, этим способом
доставляют господство посредственности, светской ловкости, уменью
льстить народным слабостям, а в результате создастся сложный
механизм, который иногда портится от интриг. Гораздо
основательнее предполагать, что единственный правитель в качестве
единственного, избранного народом, представителя будет
наведен своим высоким положением на правильное понимание своих
обязанностей. Так рассуждает Новалис, а его рассуждения все
более и более склоняются в пользу монархии. Однако вследствие
врожденной мягкости своего характера он признает только
«относительное значение каждой формы государственного
устройства»; вследствие либерализма своих основных воззрений он
желал, чтобы республика и монархия были соединены между собой
«союзным актом»; наконец, в качестве поэта, он может
удовольствоваться только идеальным состоянием человечества, а в этом
состоянии, как он полагает, будет отдано предпочтение самой
натуральной, самой изящной, самой поэтической форме
государственного устройства. Идея вечного мира представляется ему в
образе всеобъемлющего семейства — «Один повелитель и одно
семейство»!
При таких полурационалистических, полупоэтических
воззрениях ничто не мешало Гарденбергу присоединить свой голос к
голосу просвещенных приверженцев монархии, к голосу автора
«Fürstenspiegel» («Княжеское зеркало». — Прим. науч. ред.)и
других поклонников юного короля. На темном фоне Французской
революции, вызванной испорченностью французской монархии и,
стало быть, благотворной, его воображение создает образ такой
прусской монархии, которая будет представительницей настоящего
государственного устройства. С постоянными ссылками на
королевскую чету, стоящую теперь во главе такого государства, он
превозносит поэтическое монархическое государство, которое
воодушевляется семейными чувствами и любовью. В этих
афоризмах Гарденберга уже изложены все те точки зрения,
которыми впоследствии руководствовалась романтическая теория
времен Реставрации, только в них нет ни тенденциозной резкости, ни
духа политических партий, ни обскурантизма. «Настоящая
королевская чета, — говорит он, — представляет для человека то же,
что конституция представляет для разума». Конституцией можно
интересоваться только так, как интересуются буквальным
смыслом закона. Не такой интерес возбуждается в нас теми законами,
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
337
в которых выражена воля любимой и достойной уважения
личности! Монарха, конечно, нельзя считать за высшее должностное
лицо в государстве. Он не принадлежит к числу граждан
государства и, стало быть, не может быть должностным лицом. В том-
то и заключается отличительная особенность монархии, что она
основана на вере в высшее происхождение одного человека, на
существовании одного идеального человека. Король «есть
человек, возвысившийся до роли земного Провидения». Это
«поэтическое представление» само собою навязывается человеческому
уму. Только оно одно удовлетворяет высшие духовные
потребности человеческой натуры. Все люди должны сделаться
способными ко вступлению на престол, потому что все произошли от
очень древнего царского рода; а воспитательное средство для
достижения этой далекой цели и заключается именно в короле.
Вслед за этим Гарденберг описывает, то есть представляет в
поэтическом виде, те учреждения, которые составляют
непосредственную принадлежность монархии. Он представляет в
поэтическом виде двор и придворный этикет. Король есть самородный
жизненный принцип государства: он точно то же, что солнце в
планетной системе. Вокруг этого жизненного принципа возникает
высшая жизнь в государстве, возникает атмосфера света.
Поэтому выражения тех граждан, которые принадлежат к числу
приближенных короля, делаются блестящими и по мере
возможности поэтическими: в них сказывается самое сильное воодушевление,
которое подводится под установленные правила и превращается
в натуральный, а не искусственно созданный этикет. Эти
соображения принимают в конце концов форму надежд, желаний,
предположений. Наш милый мечтатель не требует такой же свободы
печати, какой требовал Генц в своем знаменитом сочинении: его
советы похожи на те, которые, вероятно, дала бы доброму
королю и прекрасной королеве простосердечная девушка, если бы
спросили ее мнение о политике. Само собой разумеется, что наш
романтик не сочувствует тому своекорыстному принципу, на
основании которого прусское государство до того времени
«управлялось так, как управляется фабрика». Бескорыстная любовь
в сердце и ее принципы в голове — вот, по мнению Гарденберга,
единственная вечная основа как брачного, так и
государственного союза, который, в сущности, не что иное, как брак. И от
королевы, точно так же как от короля, он ожидает исполнения
изысканных обязанностей: она должна облагородить придворную
338
Р. ГАИМ
жизнь; ее манера одеваться должна служить образцом для
женщин; но важнее всего то, что она должна руководить
нравственным воспитанием своего поколения; с каждым бракосочетанием
должна соединяться внушительная церемония с принесением
присяги королеве; ее портрет должен висеть во всех женских
комнатах во всем королевстве и так далее. Затем дело доходит до
короля! Он должен быть настоящим реформатором и
реставратором своей нации и своего времени. С этой целью он должен
окружить себя не только военными, но также штатскими
адъютантами; это будет рассадник высших должностных лиц,
благодаря которому исчезнет прежняя бюрократическая умственная
ограниченность и пробудится настоящий республиканизм, между
тем как годы обучения, проведенные в непосредственной
близости к монарху, будут для этих адъютантов «самыми блестящими
праздниками в их жизни и источниками воодушевления на всю
жизнь». Кроме того, в лице короля должны сосредоточиваться
научные успехи человечества: благодаря докладам, которые
будут ему представляться о положении наук и об
интеллектуальных нуждах его народа, он будет пользоваться плодами научной
деятельности в Европе и будет стоять на высоте века. Наконец,
он будет художником из художников, так как с высоты своего
всеобъемлющего положения будет заботиться о воспитании
художников и будет служить для них руководителем; он словно бы
призван к исполнению бесконечно многосторонней драмы, в которой
он сам будет и поэтом, и директором, и героем; а как
восхитительно будет зрелище, «если директрисой драмы будет
возлюбленная героя, героиня пьесы; если в ней всякий будет узнавать
ту музу, которая наполняет душу поэта священным пылом и
настраивает его лиру на мягкий небесный тон!»1
Таковы были фантастические мечтания, с помощью
которых Новалис старался придать романтический отпечаток
личностям Фридриха Вильгельма и Луизы; он словно бы нашел в
1 Когда этот «Отрывок» был перепечатан в полном собрании сочинений
Новалиса (II, 172), в нем была пропущена эта последняя фраза, вследствие чего
и намеки на королеву сделались неясными. Вообще следует сверять сочинения
Новалиса с текстом «Летописей». Например, в «Отрывке», помещенном в III
томе (с. 211 ), первоначальный текст так изменен, что сделался почти
бессмысленным. Новалис говорит о тех людях, которые в наше время декламируют против
монархов. Он называет этих людей «бездарными книжниками». «Это, —
говорит он, — такие противники, каких достойны обскуранты для того, чтоб было
вполне ясно, что это не что иное, как война мышей и лягушек».
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
339
королевском семействе и в принимавшем новые формы строе
государственной жизни то счастье, которое еще так недавно
надеялся устроить для себя в своем собственном доме. Он снова
стал интересоваться людскими делами и еще более стал
интересоваться науками. Те фантастико-политические афоризмы, с
содержанием которых мы только что познакомились,
заключают в себе немало разнородных указаний на его тогдашние
занятия естественными науками. Именно в то время он занимался
во Фрейберге изучением химии и физики, минералогии и
геологии; его интерес к этим занятиям еще усилился благодаря
даровитости преподавателей. Из рассказов нескольких современников,
и в особенности из живого рассказа Стеффенса1, нам известно,
какое сильное впечатление производил на своих слушателей
великий ориктолог того времени, Вернер. Точная аккуратность, с
которою он регулировал свой повседневный образ жизни,
сказывалась и в систематической классификации его научных
познаний. Личность этого человека внушала глубокое уважение
любознательному Гарденбергу, несмотря на своеобразный склад
ума этого последнего. Точный естествоиспытатель имел в этом
случае дело с философски поэтическим мечтателем. Не
называя имени Вернера, Новалис обрисовал в общих чертах
характер этого ученого. Он говорит, что, когда ученый был еще
ребенком, ему не давало покоя желание упражнять свой ум. Он
неутомимо собирал камешки, цветки, жуков, раковины и
раскладывал их рядами. Его влечение к этому занятию еще усилилось
во время его путешествий; он «забирался в пещеры,
рассматривал глыбы горной породы и слои земли» и повсюду находил уже
знакомые ему предметы, но в самом разнообразном смешении.
Он скоро стал замечать сочетания и сходство между
предметами своих наблюдений. На это указывали Новалису и лекции его
наставника. Но у него был свой собственный метод
исследования; он говорит: «Я никогда не придерживался правил моего
наставника: все, что я видел, заставляло меня углубляться в самого
себя». Все, что его поражало удивлением в музеях, он принимал
за «указания пути туда, где находится в глубоком усыплении дева,
к которой стремится его душа»... «Мое сердце глубоко
проникнуто убеждением, что я когда-нибудь найду здесь то, чего
постоянно желаю, убеждением, что здесь находится она».
1 «Was ich erlebte» IV, 204 и ел.
340
Р. ГАЙМ
Эти цитаты извлечены из необработанного зародыша
аллегорического романа. Из них видно, какие идеи бродили в то время
в уме Новалиса, но тщетно искали для себя определенной формы
выражения. На заднем плане нового поэтического произведения
проглядывает скорбь о возлюбленной (в годовщину ее смерти он
отправился весной 1798 года в Тюбинген, чтоб помолиться над ее
гробницей); на передний план выступают, с одной стороны,
усилившееся во Фрейберге влечение к изучению природы, с другой
стороны, старое влечение к изучению Фихте, сказывавшееся в
убеждении, что ключ к пониманию природы следует искать в
глубине человеческого духа. На этих мыслях вертится все
содержание отрывка из романа «Die Lehrlinge zu Sais» («Ученики в Саи-
се»)1,хотя и написанного прозой, но нередко попадающего в тон
ямбов. Но господствующий тон отрывка — мистический. Фрей-
бергская школа превращается в школу при храме Саиса.
Преподавателя окружает толпа учеников; на сцене появляются
путешественники, которые приезжают туда с целью отыскать
следы погибшего первобытного народа и остатки первобытного
языка. Заходит речь и об удивительном ребенке, примкнувшем к
толпе учеников; этот ребенок скоро удаляется для того, чтобы, по
словам наставника, когда-нибудь «возвратиться и жить среди нас;
тогда уроки прекратятся». Из небольшой заметки, найденной в
бумагах Новалиса после его смерти, можно заключить, что этот
мальчик — «Мессия природы»; автор, по-видимому,
намеревался применить к природе христианские мифы и дохристианскую
мифологию. Но кто может с уверенностью объяснить, каков был
первоначальный план поэтического отрывка, и кто может
предугадать, что сделал бы поэт из этого плана после того, как
познакомился с Якобом Бёмом и снова почувствовал желание
написать «настоящий символический роман на тему естествознания»?2
Мы не позволяем себе заходить в наших предположениях и
догадках так же далеко, как Дильтей, который находит разрешение
загадки в следующих словах: «если же, судя по той надписи, ни
один из смертных не подымает завесы, то мы должны
постараться сделаться бессмертными». Стало быть, законы природы, с
которой снята завеса, не составляют тайны, а «человеческое „Я"»
1 В собрании сочинений II, 43 и ел., сравн. III, 125.
2 Новалис к Тику в собрании сочинений I, xvi [от 23 февраля 1800 года], у
Гольтея I, 307.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
341
при своем бессмертном характере, т. е. в качестве разумной воли
служит тем же разрешением загадки, какое выражено в
следующем двустишии Гарденберга:
Einem gelang es, — er hob den Schleier der Göttin von Sais,
Aber was sah er? — er sah — Wunder des Wunders! Sich selbst1.
Не подлежит никакому сомнению, что темой для всего
поэтического произведения служит влияние природы на наше
душевное настроение. Но здесь особенно характеристично то, что
способ такого влияния остается необъясненным. В форме разговоров,
которые ведутся сначала между учениками, а потом между
путешественниками, автор излагает целый ряд воззрений на природу
и на то, как должен к ней относиться человек. Он говорит, что
природа показывает себя такою, какова она в действительности,
преимущественно более старым людям, которые, взирая на нее,
сосредотачивают на ней все силы своего ума; поэтически
настроенным естествоиспытателям и объясняющим законы природы
поэтам. Она представляется в различных видах соответственно
умственному несходству тех, кто вникает в нее. Возбуждаемые
природой чувства превращаются у одних в самое благоговейное
уважение к религии, у других — в самое приятное наслаждение;
а художники видят в природе только великие, но заглохнувшие
зачатки, поэтому и днем и ночью стараются создавать образцы
более благородной природы; они трудятся над «искажением
природы». С природой, говорит один из собеседников, человек не в
силах сладить; это — демонская сила, которая увлекает в пропасть
всякого, кто с ней свяжется. На это возражают те участники
разговора, которые бодрее духом. Они говорят, что к природе
следует приближаться с хитростью. Ведь более чистый мир находится
в нас самих. Мужественный человек считает себя владыкой мира,
его «Я» высоко парит над этой пропастью и будет вечно высоко
парить над этими бесконечными переменами. Душа мира —
разум, поэтому тот, кто желает достигнуть познания природы,
должен упражнять свой ум, должен действовать так, как того
требует сокрытый в нем благородный зародыш силы; тогда природа
раскроется перед ним, так сказать, сама собой. Затем
начинаются речи путешественников. Один из них говорит, что взаимодей-
1 «Кому-то удалось приподнять завесу с богини Саиса, но что же он увидел?
Он увидел — о чудо из чудес! — самого себя».
342
Р. ГАЙМ
ствие нашей мыслящей натуры и нашей натуры телесной должно
служить руководством для понимания натуры вещей. По словам
другого, натуру можно считать за продукт непонятного
соглашения между бесконечно разнообразными существами, за оковы,
наложенные на духовный мир, на пункт соединения и
соприкосновения бесчисленных миров. «Во всяком случае, — говорит
третий, — натура не была бы натурой, если бы в ней не было души.
А если у нее есть душа, то у нее есть история, есть прошлое и
будущее; объяснение этого прошлого и предсказание этого
будущего должны служить задачей для настоящего знатока
естественной истории». После непродолжительного перерыва один из
собеседников говорит, что натура имеет свою историю даже в своем
настоящем. Поэтому следует вникать в натуру во всем ее
развитии, следует возвышаться до творческих соображений, следует
занять такую точку, в которой творчество соединяется со
знанием; следует с этого пункта обозревать будущие времена, как
беспредельную драму, и всю историю деятельности природы. Тогда
мы стали бы представлять себе природу такой, какой ее создает
наш ум, но при этом имели бы свою цену, опыт и наблюдения,
результаты которых в конце концов сойдутся с отвлеченной
системой мыслителя.
Все эти рассуждения живо рисуют перед нашими глазами
волнение умов, которые возбуждали в ту эпоху исследования по части
естественных наук. В спорах собеседников отражается как в
зеркале борьба эмпирического воззрения на природу с философским,
причем делаются ссылки на безжизненное механическое и
материалистическое воззрение. Здесь мы находим немало намеков на
стремления Вернера и его школы. Но всего яснее выступает
наружу воззрение Фихте, и едва ли менее ясно выступает наружу тот
оборот, который приняли в то время идеи Фихте в уме Шеллинга.
Но ученик, то есть сам Новалис, не решается усвоить ни одно из
высказанных воззрений. Ему кажется, что все они основательны,
и в его уме возникает странная путаница. В его собственном
воззрении более поэзии и более мистицизма. Человеческое «Я», перед
которым разоблачается природа, превращается у него в
любящее и чувствительное сердце. Выше изложенные мнения
собеседников постоянно клонятся у него к следующим выводам: кто
желает изучить чудное сердце природы, тот должен изучать его
при помощи поэтов; так как мышление есть не что иное, как бред
наших чувств, то человек может достигнуть ясного понимания
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
343
природы только тогда, когда он будет вдумываться в природу,
поэтизируя ее, когда он будет находить в ней «все разнообразие
бесконечно изменчивых душевных настроений», когда его чувства
сольются в одно целое с весенней зеленью лужайки, с
волнистыми струями ручейка. Разве можно было облечь это мистико-по-
этическое воззрение в форму романа? Разве Гарденберг не
находился в таком же положении, как Тик, который выпутался из
противоречий между своими воззрениями на нравственность и на
человеческую жизнь только благодаря тому, что стал, ничем не
стесняясь, рисовать фантастические, лирико-музыкальные
картинки и сочинять сказки? В чем же кроме поэтических мечтаний
мог бы он найти для себя выход из путаницы своих воззрений на
природу? Но его мечтания более веселы и более привлекательны,
чем мечтания Тика, потому что в его путанице идей вовсе нет
тоскливого неверия; эта путаница происходит только от
столкновения его чувств и его фантазии с точными научными выводами.
Он находит от нее спасение в убеждении, что лучший способ
познать природу — сочувствовать ей, делить с ней ее радости,
любить ее. Только любящее сердце способно познавать природу.
И вслед за тем автор рассказывает следующую сказку.
У прекрасного мальчика Гиацинта есть Розанчик — милая
дочка соседа, которая полюбила его до смерти. Это была
тайная любовь, но ее заметили лесные цветки и звери. Фиалка
рассказала о ней по секрету земляничке, земляничка рассказала
своему другу крыжовнику, который стал колоть проходившего
мимо Гиацинта. Таким образом эта любовь сделалась
известной всему саду и лесу, а когда Гиацинт выходил гулять, он со
всех сторон слышал возгласы: «Розанчик, мое сокровище!». Но
счастью скоро настал конец. Появился чужестранец с длинной
бородой, который навел мальчика на мрачные мысли своими
странными разговорами и рассказами и оставленной в его руках
таинственной книгой; эти мрачные мысли доводят мальчика до
того, что он по совету встретившейся с ним в лесу странной
старухи решается искать в дальних странах утраченное
душевное спокойствие. Он стремится туда, где живет «матерь вещей,
покрытая завесой дева». Он пускается в путь, покидая горько
плачущего Розанчика. Он странствует, переходя из одной новой
страны в другую и наконец, чтоб найти душевное спокойствие,
обращается к ручейкам и к цветкам с просьбой указать ему
дорогу к храму Изиды. Сновидение переносит его в святилище
344
Р. ГАЙМ
богини. Там он стоит лицом к лицу перед небесной девой! Он
приподнимает ее легкое, блестящее покрывало — тайна
природы есть не что иное, как удовлетворенное желание любящего
сердца, — Розанчик упал в его объятия.
Ни в одной из сказок Тика мы не находим такого же мягкого,
нежного душевного настроения, такого же избытка игривой
изобретательности. Подобно тому как «Гимны к ночи» были
поэтическим отражением прежнего душевного настроения Новали-
са, эта сказка заключает в себе поэтическую квинтэссенцию тех
чувств, которые господствовали в его душе в настоящее время.
И тут и там поэт Новалис является философом. И те идеи, которые
Новалис намеревался развить в «Учениках в Саисе», и те
глубокомысленные воззрения, которые лежат в основе «Гимнов к ночи»,
снова разбросаны в тех философических заметках, которые были
частью изданы под заглавием «Цветочная пыль», частью
помещены во втором томе «Атенея», а в настоящее время вполне
напечатаны в «Отрывках» во втором и в третьем томах полного
собрания сочинений Новалиса1.
Само собой разумеется, что эти «Отрывки» очень не сходны
между собой по своим внутренним достоинствам. Сам Новалис
называет их в одном из писем к своему другу Юсту (в конце
1798 года) «зачатками интересного ряда идей, текстами для
мышления». «Многие из них, — прибавляет он, — суть не что иное,
как намеки на идеи и имеют лишь временное достоинство;
напротив того, на многие другие я старался наложить отпечаток моих
самых искренних убеждений». Только некоторые из них он
предназначал для печати; он даже надеялся, что самое важное их
содержание будет когда-нибудь изложено в более тесной
внутренней связи, и, подобно не вполне ясному замыслу Тика, замышлял
издание энциклопедического произведения, в котором добытые
опытом указания и идеи касательно различных наук будут
взаимно уяснять, подкреплять и «оживлять друг друга». При этом не
могло быть и речи о какой-либо философской системе, в которой
все идеи находятся в тесной внутренней связи. В этой энциклопедии
находились бы по большей мере только зародыши тех идей,
которые даже у Шеллинга не получили полного органического
развития и были впервые изложены с полным совершенством у Гегеля.
1II, 80 и ел.; сравн. предисловие (I, V, и III, 163 и ел.), сравн. предисловие
(III, ш). Кроме того, см. выше, с. 279—280, и примечание.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
345
О создании именно такой органической системы, или «рая идей»,
помышлял Новалис. Он пророческим тоном говорит о
возможности объединения всех наук, потому что только тогда одна наука
и один дух будут подобны одному пророку и одному Богу. Из
сочетания философских способностей с творческой фантазией
может, по его мнению, возникнуть та полная жизни рефлексия, которая
сделает из зачатков всеобъемлющей организации «до
бесконечности разнообразную умственную вселенную». Но эта полная
система всех наук мелькает перед его глазами в беспредельной дали,
а его идеи о философии сводятся к «мистицизму жажды знаний».
Противоположные течения идей, встречающиеся в
приведенных нами выражениях Новалиса, встречаются и в других
«Отрывках». Он сам предупреждает, что его «Отрывкам» не следует
придавать буквальный смысл: «Это литературные сатурналии,
а чем разнообразнее жизнь, тем лучше!». Мы не должны ни на
минуту забывать, что, несмотря на свои сильные поэтические
влечения, этот человек был одарен здравым умом, чувством долга
и готовностью подчиняться прозаическим требованиям
практической жизни. Он не принадлежал к числу тех несчастных натур,
которые, живя своей фантазией, портят свою обыденную жизнь;
он также жил двойной жизнью — жизнью фантазии и жизнью
действительности, но только освещал эту последнюю светлыми
лучами первой. Этим объясняется, почему он впадал в самые
резкие противоречия, которые, однако, нисколько не смущали его
самого. Этим же объясняется, почему он иногда высказывал
убеждение, что «холодный технический рассудок и спокойное
нравственное чувство скорее приведут нас к разоблачению природы,
чем фантазия, которая, по-видимому, только переносит нас в мир
видений». В другом месте он вкладывает в уста одного из
собеседников очень меткие замечания против игры с гипотезами,
против «научного распутства фантастического разума», а другому
собеседнику вкладывает в уста самую восторженную похвалу
гипотезы как настоящего ключа ко всем открытиям и
изобретениям. Ввиду таких противоречий, конечно, нелегко различать
хорошие зерна от плевел. Поэтому каждый может отыскивать в массе
«Отрывков» зародыши тех идей, которые живо интересуют его
самого. Но когда Дильтей старался этим способом доказать
научную негодность «Отрывков», он впадал в ту ошибку, что
некоторым отрывочным выражениям придавал такое важное
значение, какого им не придавал сам автор. Есть только один способ
346
Р. ГАЙМ
опровергнуть такие субъективные воззрения — отыскивать
среди всех противоречий зародыш зрелых убеждений и вместе с тем
глубже вникнуть и в склад ума Новалиса, и в его своеобразную
манеру работать.
Нам прежде всего бросается в глаза зависимость всей
деятельности ума и фантазии Новалиса от учения Фихте. Что он был
постоянно занят изучением произведений Фихте, видно из тех
страниц «Дневника», которые были написаны летом 1797 года. Он
отмечает в «Дневнике», в каком месте и в какой час он имел счастье
«понять настоящее значение „Я" в учении Фихте». Он читает
сочинения Фихте и делает из них выписки, а при этом чтении ему
приходят в голову самые хорошие мысли. Он наполняет целый
ряд «Отрывков» чем-то вроде заметок к тому, что он читал, чем-
то вроде попыток по-своему изложить мысли великого философа,
нередко прибегая к употреблению школьных формул и
выражений. Но это последнее обстоятельство не имеет большого
значения. Ведь никто не был менее Новалиса расположен не стесняться
рамками системы Фихте и никто не был глубже него проникнут
основным воззрением этой системы. Он вполне определенно
утверждает, что великая загадка бытия была, в сущности,
разрешена с того момента, когда человек напал на мысль искать в
самом себе пункт примирения всех противоречий, средоточие миров,
до того времени считавшихся разъединенными. Он называет
Фихте «новым Ньютоном», открывшим закон внутренней
системы миров; конечно, он имел в виду никого другого, как Фихте, и в
том «Отрывки», где он говорит, что первый гений, отыскавший в
самом себе типический зародыш беспредельного мира, сделал
такое открытие, с которого начнется совершенно новая эпоха в
истории человечества, и что с этого момента уже не
представляется надобности искать тот пункт вне этого мира, о котором
говорил Архимед. Тот человек, который «по поводу каждого явления
углублялся в самого себя» и который написал прекрасные слова:
«Искреннее убеждение есть единственное настоящее чудо,
свидетельствующее о существовании Бога», — тот человек, в
сущности, был от природы последователем Фихте. Он был
последователем Фихте и по нравственной чистоте своей натуры. Поэтому
он ни в каком другом отношении не был так же безусловно
предан своему наставнику, как в отношении учения о безусловном
достоинстве нравственной воли. При своем подвижном уме он,
конечно, не мог придерживаться исключительно этого учения, но
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
347
относился к нему с явным сочувствием и делал из него
разнообразные выводы. Еще в «Генрихе фон Офтердингене»
глубокомысленный Сильвестр заявляет, что совесть есть «настоящая
сущность человеческой натуры в самом полном ее просветлении».
В одном из «Отрывков» Новалис говорит совершенно в духе
учения Фихте, что нравственное чувство есть чувство присущей в
нас абсолютно творческой способности, настоящей
божественности, а в следующих словах он как нельзя лучше опоэтизировал
морализм Фихте: «Каждый человек может своею
нравственностью создать для себя день своего Страшного суда». Для Новали-
са философия и нравственность — понятия, служащие заменой
одно для другого. Система морали, говорит он, имеет много
данных для того, чтоб сделаться единственно возможной системой
философии; в другом месте он говорит, что она должна сделаться
системой природы. Он желал бы, чтоб из морали выводились
причины существования всей вселенной, а с другой стороны, он
ведет речь о том, что натура должна быть нравственна, что мы —
ее воспитатели; что все действительные улучшения, в сущности,
суть улучшения нравственные, а все действительные
изобретения суть изобретения нравственные. Сообразно с этими идеями
воля неоднократно называется «настоящей центральной силой
нашего духа». По словам Новалиса, каждый человек, в
сущности, живет своей волей. «В конце концов мы всегда наталкиваемся
на волю»; она и глубокомыслие «не имеют никаких пределов».
Поэтому мы можем достигать того, чего желаем. Судьбы не
существует. «Судьба, которая нас гнетет, есть вялость нашего ума;
расширяя и просвещая нашу деятельность, мы сами
превратимся в судьбу». Даже нашим вступлением в земную жизнь мы, быть
может, обязаны акту нашей воли, и той же воле мы обязаны
продолжением нашей здешней жизни, а продолжение того полета,
который мы начали в этой жизни и который, по-видимому,
прерывается смертью, «вполне зависит от неизменного направления
нашей свободной воли».
Но с помощью таких фраз, как эта последняя, наш фрагмен-
тист начинает переноситься с твердой почвы учения Фихте в
более привлекательные сферы. Ему во многих отношениях
неудобна научная узкость и отвлеченная односторонность фихтеа-
низма. Ясное понятие Фихте о нашем «Я», сущность которого
составляют чистый разум и разумная воля, превращается у
Новалиса в более богатое содержанием, но вместе с тем в ме-
348
Р. ГАЙМ
нее ясное душевое настроение, а вследствие этого и свет
самосознания скрывается за мистическим туманом. Его нетерпеливая
фантазия не выносит медленных приемов дедукции; она всегда
готова сбрасывать с себя все, что ее стесняет, для того, чтоб
на лету достигать желаемой цели. Поэтому он доходит до того,
что начинает применять учение Фихте не только к
нравственному миру, но и к физическому. В качестве настоящего ученика из
Саиса, он хочет раскрыть тайны природы; при этом мир
внешний и мир внутренний взаимно служат освещением один для
другого. Хотя учение Фихте и преломляется тысячами лучей в
этом сильно нашлифованном кристалле, но оно получает у Нова-
лиса, с одной стороны, мистико-фантастический отпечаток, а с
другой — натурфилософский.
Новалис прежде всего старается не стесняться односторонним
рациональным характером научной теории. Научная теория, или
«логология», как он ее называет, есть, по его мнению, практическое
применение логики и не что иное, как «доказательство
реальности логики»; этим способом Фихте сделал из философии
универсальную науку, так как считал все другие науки за ее
видоизменения; но такую же попытку следовало бы сделать со всеми
другими науками. «Я» имеет для Новалиса не один только
характер разума, придаваемый ему учением Фихте. Правда, он
мимоходом называет орган мышления «абсолютным органом» и
сожалеет о том, что внутренний мир так полон мечтаний и неточностей,
хотя и хвалит его за то, что в нем много задушевности и
симпатичности. Но он говорит, что только вследствие нашего
незнакомства с самими собой, вследствие нашей отвычки от самих
себя, здесь возникает неясность, которая необъяснима. Но можно
ли в конце концов достигнуть ее понимания? «Мы никогда не
поймем ее вполне, — говорит Новалис, — но мы можем и должны
достигнуть гораздо большего, чем этого понимания». Наша
задача — углубление в самих себя, самонаблюдение, психология.
Он ведет речь «о реальной психологии», которая, быть может, и
составляет предназначенную для него сферу; о том, что внутренней
жизнью человека до сих пор интересовались мало и бестолково;
что разум, фантазия, рассудок до сих пор служили плохими
основами для психологии. «Об их удивительных смешениях, внешних
проявлениях и изменениях не говорилось ни слова. Никому не
приходило в голову поискать новые силы и расследовать их взаимные
отношения. Кто знает, какие удивительные сочетания, какие уди-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
349
вительные генерации когда-нибудь будут открыты в нашей
внутренней жизни!» Отсюда видно, что подобно тому, как в
романтической поэзии, как у Тика, у Вакенродера и у самого Новалиса
выражение определенных чувств превращалось в выражение
неопределенных душевных настроений, и наш романтический
мечтатель желал бы довести науку до такой утонченности, что она
стала бы проникать в такую глубину субъективного духа,
существование которой основано только на догадках. Это та же
тенденция к анониму в духовной жизни, которую мы впоследствии
найдем в суждениях Шлейермахера об этических отношениях и
характерах. К сожалению, никто не был менее Новалиса способен
установить ясное различие между составными частями этого
смешанного понятия и описать их научным образом. Он был
совершенно лишен свойственной Шлейермахеру критической
прозорливости. Он был не реальным психологом, а мистическим
трансцендентальным философом. Его психология самая
неопределенная и самая нереальная, какую только можно себе
представить. Мы можем признать за действительные убеждения нашего
фрагментиста только те выражения, в которых он выдает
гениальные задатки за настоящую сущность «Я», и в связи с этим
говорит, что истинное знание есть нечто вроде откровения. В нас,
говорит он, есть высшая способность, называемая инстинктом
или гением; разум, фантазия, рассудок, ум суть только ее отдельные
функции: «Человеку кажется, что он с кем-то разговаривает и что
какое-то неизвестное духовное существо вызывает его на развитие
самых ясных идей. Следует полагать, что это существо
принадлежит к разряду высших существ, потому что оно вступает с ним
в сношения таким способом, который не возможен ни для какого
существа, зависящего от явлений внешнего мира. Следует
полагать, что это — однородное с ним существо, потому что оно
относится к нему как к духовному существу и вызывает его на самую
странную самодеятельность. Это „Я" высшего разряда относится
к человеку так же, как человек относится к природе или как
мудрец относится к ребенку. Человек желает сравняться с ним».
Разве мы не вправе ежеминутно ожидать, что такие описания
бесед с самим собой перейдут в описания бесед с Богом, а
философские рапсодии превратятся в религиозные? Действительно, до
этого недалеко. При посредстве понятия о высшем «Я» и об
откровении Новалис незаметно переходит от субъективизма Фихте
к воззрениям Спинозы. Мимоходом заметим, что это те самые
350
Р.ГАЙМ
места в сочинениях Новалиса, которыми пользовался Фридрих
Шлегель и которые он старался согласовать с идеями Якоба Бёма,
когда впоследствии мучился над построением такой философской
системы, которая стояла бы выше системы Фихте1. Дело в том,
что Новалис завел речь о великом «Я», для которого служат лишь
дополнениями обыкновенное «Я» и обыкновенное «ты»: «Мы вовсе
не „Я"; но мы можем и должны сделаться „Я", в нас есть
зародыши, из которых образуется „Я". Мы должны все превратить
в „ты", во второе „Я"; только этим способом мы сами
возвысимся до великого „Я", которое в одно и то же время едино и все
собой обнимает». Он с истинным глубокомыслием замечает, что
мы представляем себе Бога личностью точно так же, как мы
считаем самих себя личностями: «Бог совершенно так же личен и
индивидуален, как мы сами, потому что наше так называемое
„Я" не есть наше настоящее „Я", а только его отблеск». Он
говорит, что начинать с человека — значит вносить критические
приемы в философию, что эти приемы будут еще более
критическими, если будут начинать с идеального человека, с гения; но
начинать с Бога было бы максимумом критики. Поэтому нас не
может удивлять его симпатия к Спинозе и к понятию этого
философа о «сладострастном знании». Он очень метко называет
Спинозу «человеком, опьяневшим от Божества», а спинозизм —
«пресыщением Божеством». Он даже признает спинозизм, то есть
реалистический идеализм, за истинную философию, потому что
эта философия основана на более высокой вере.
Тем не менее он так глубоко привязан к учению Фихте, так
углубляется в тайны, сокрытые внутри его собственного
существа, что его мысли принимают вышеуказанное направление лишь
мимоходом. Его живая фантазия старается возвышать учение
Фихте, потому что его идеи приняли иное направление. Его
идеализм переходит в реализм не столько потому, что он, по примеру
Платона или Спинозы, придает идеалам действительное
существование, сколько потому, что он признает за идеалами
неограниченную силу и влияние. Это воззрение, сначала облекавшееся
в форму мистических понятий об особых откровениях, внушает
ему ту мысль, что, когда ум имеет дело с самим собой, «мысли
1 Покуда достаточно указать на шлегелевское положение, что «мы только
часть самих себя»; на этом была впоследствии основана вера в «первоначальное
„Я"» (Ur-Ich). Например, сравн. «Философические лекции» (1804-—1806) II, 19
и «Люцинду» (в штутгартском издании 1835 года), с. 135.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
351
превращаются в законы, а желания — в исполнение желаний».
С учением Фихте о создающем миры и господствующем над
мирами «Я» Новалис соединяет уверенность поэта в
могуществе гения и уверенность благочестивого человека, что вера
способна сдвинуть с места гору. Он постоянно повторяет в
различных внешних формах мысль, выраженную Шиллером в
прекрасных строках о Колумбе, и слова Гёте, что жить с идеей —
значит рассуждать о невозможном так, как если бы оно было
возможно. Его любимая тема — «чудотворная сила фикции»; он
говорит: «Всякая вера чудотворна. Бог существует в тот момент,
когда я верую в него», и в другом месте: «Если человек
внезапно проникнется искренним убеждением, что он добродетелен,
он действительно сделается добродетельным». Даже всякое
познавание сводится у него к вере. По его мнению, убеждение
есть душа всякого доказательства, а всякое убеждение
«основано на магической истине»; даже всякий опыт есть «магия и
объясним только при ее помощи». Он сам называет
«магическим идеализмом» этот поэтический и мистический идеализм,
разом превращающий в действительность то, что духовно, и,
наоборот, разом одухотворяющий то, что действительно. Это
всего яснее видно из того «Отрывка», в котором Новалис
распределяет по степеням внутренние достоинства различных
философий. На самую низкую ступень он ставит чистых
эмпириков, представителями которых считает французов. Затем
следуют трансцендентные эмпирики, к числу которых принадлежит
Якоби. «Они служат переходом к догматикам. Затем следуют
мечтатели, или трансцендентные догматики, потом Кант, потом
Фихте и, наконец, магический идеализм». Теперь посмотрим, как
сложилось мировоззрение нашего мага.
Из «Гимнов к ночи» нам уже известно, что для мага не
существует раздельная черта между земной жизнью и загробной
жизнью. Тема этих стихотворений воспроизводится в некоторых
«Отрывках», как, например, когда Новалис называет смерть «брачной
ночью», «тайной сладких мистерий» и пишет следующее
двустишие:
Ist es nicht klug, für die Nacht ein geselliges Lager zu suchen?
Darum ist klüglich gesinnt, werauch Entschlummerte liebt1.
1 «Разве не поступает благоразумно тот, кто ищет ночного ложа рядом с
товарищами? Поэтому благоразумен тот, кто любит усопших».
352
Р. ГАЙМ
Далее он настаивает на обязанности вспоминать об умерших
для того, чтоб жить общей с ними жизнью при помощи веры. Для
него жизнь и смерть — «понятия относительные». Он старается
уничтожить понятие о временной жизни и кончает один
небольшой диалог выражением следующего радостного убеждения:
«От нас зависит [возможность], смотреть на жизнь как на
прелестный, гениальный обман, как на превосходное театральное
зрелище; а старая жалоба на то, что все преходяще, может и должна
сделаться самым радостным из всех помыслов». Та же мысль
повторяется в неоднократно нами цитированном отрывке из
«Цветочной пыли»: «Таинственный путь идет внутрь нас самих; или в
нас самих заключается вечность с ее мирами, с ее прошлым и
будущим, или нигде!». Но он постоянно возвращается к мысли о
смерти: так, например, он говорит, что жизнь есть «болезнь духа»,
что смерть есть «настоящий философский акт». Это объясняется
отчасти тем, что Новалис был от природы обречен на
преждевременную смерть. Фридрих Шлегель, встретившийся с ним в
Дрездене летом 1798 года, писал: «Его лицо вытянулось... его
глаза, подобно глазам духовидца, бесцветны»1. Истощавший его
физические силы недуг питал пламя его идеализма, но он не
ограничивался благоразумной покорностью судьбе, не ограничивался
убеждением, что всякое налагаемое природой стеснение есть
«напоминание о более высокой отчизне»; его болезненное
самосознание наводило его на парадоксальную мысль, что и болезнь,
подобно смерти, принадлежит к числу «человеческих радостей»;
поэтому он вполне серьезно вдумывался в представление о том,
что, может быть, в ту минуту, когда человек начнет любить
болезнь или физические страдания, он будет испытывать самые
радостные наслаждения.
Однако перед взорами нашего мага раскрывались не
только тайны загробной жизни, но также тайны мира и природы. Для
нас в высшей степени интересно проследить, каким образом его
магический идеализм и в этом отношении основывался на
идеализме критическом и каким образом бесцветные очертания
философии Канта и Фихте получали у него разнообразные краски
при свете его фантазии. Он положительно высказывается за кри-
1 «Aus Schleiermacher's Leben» III, 76. Сравн. описание личности Новалиса у
Тика в предисловии к полному собранию сочинений Новалиса (с. XX) и у Стеф-
фенса («Was ich erlebte» IV, 320).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
353
тицизм как за такое учение, которое при изучении природы
заставляет нас делать наблюдения и опыты над самим собой, а при
изучении нас самих заставляет нас делать наблюдения и опыты
над внешним миром. «Это учение, — продолжает он, —
заставляет нас относиться к природе, или к внешнему миру, как к
человеческому существу; оно убеждает нас, что мы можем и должны
все понимать только так, как мы понимаем самих себя и
любимых нами существ, как мы понимаем самих себя и вас. Теперь
мы находим настоящую внутреннюю связь между субъектом и
объектом, теперь мы убеждаемся, что и в нас есть внешний мир,
находящийся в такой же связи с нашим внутренним миром, в
какой внешний мир, находящийся вне нас, находится с нашим
внешним миром; что душу природы мы можем познавать только
мыслями, подобно тому, как внешнюю сторону и тело природы мы
можем познавать только ощущениями». Это был очень шаткий
критицизм: даже тогда, когда Новалис ссылался на самые
простые и вполне доказанные основные положения критицизма, он
преувеличивал их до того, что они разлетались вдребезги под
влиянием его энтузиазма. То было основным воззрением кантовской
философии, что законы математики, в качестве законов нашего
собственного ума, безусловно верны в применении к сфере
внешних явлений. Поэтому Новалис выражался как искренний
последователь Канта, когда называл математику «главным
доказательством симпатии и тождества между натурой и человеческим
духом». Но он заходит за пределы кантовской теории, подобно
тому как в древности открытие некоторых законов природы при
помощи сложных вычислений вовлекло людей в смелые
космические фантазии. Он еще не уклоняется от требований здравого
смысла, когда говорит, что чистая математика есть воззрение на
разум как на вселенную. Но когда он замечает, что в музыке
математика является чем-то «вроде откровения, вроде
творческого идеализма», он вслед за этим совершенно утрачивает
здравомыслие. Настоящую математику он признает за «настоящий
элемент мага», математиков он называет «единственными
счастливыми людьми»; он говорит, что жизнь богов должна быть
математикой, что чистая математика должна быть религией, и
высказывает немало других крайне странных идей. Однако он не
останавливается на том воззрении, что во вселенной
обнаруживается разум посредством математики. В качестве последователя
Фихте, он вполне убежден, что мы познаем только то, что «само
12 Зак. № 3602
354
Р. ГАИМ
себя познает, что, стало быть, натура сама собою непостигаема;
что «мы сами» составляем тот план мироздания, которого ищем;
что натура есть «систематический указатель или план нашего
духа», что вселенная есть «универсальный трон духа», а человек
со своей стороны служит «источником аналогий для вселенной».
Эта мысль стала темой «Учеников в Саисе» и после разных
видоизменений перешла в поэтическую решимость объяснить
природу посредством душевного настроения. Эти вариации
воспроизводятся и в «Отрывках»: так, например, в одном месте Новалис
называет натуру «фантазией, превратившейся в машину», а
физику — «учением о фантазии»; в другом месте он объявляет, что
сердце есть ключ к познанию мира; в третьем месте он говорит,
что натура прошлого есть прошлая свобода.
Но каковы бы ни были воззрения Новалиса на природу,
центром тяжести для магического идеализма неизбежно должно было
служить практическое воззрение на сущность природы и на то,
чем должна она сделаться. Теоретическое миросозерцание
Новалиса переходит в практическое при посредстве тех основных
положений, что всякое убеждение основано на магической
истине, что в моменты высшего самосознания мысли превращаются
в законы, а желания — в исполнение желаний; что всякое
истинное знание есть вера, а всякая вера есть чудотворное хотение;
что воля есть не что иное, как магическая сила мышления. Таким
образом, практическая часть научной теории превращается у
Новалиса в сказку об абсолютном всемогуществе мыслящего,
верующего, желающего «Я» над телом и над всем внешним миром.
Только здесь мы находимся в самом центре магического
идеализма. По словам Гарденберга, «магический идеалист — тот, кто
может превращать идеи в вещи и вещи — в идеи»; а его влечение
к чудесам облекается в форму того морализма, которому поучал
Фихте. Следующие слова Новалиса могли бы быть сказаны и
самим Фихте: «При правильном развитии нашей воли
совершается и развитие нашей способности действовать и нашего знания.
В тот момент, когда мы вполне нравственны, мы будем в
состоянии творить чудеса. Чудо есть добродетельное деяние, есть акт
свободной решимости». Точно то же можно сказать о
следующих словах, в которых Новалис смотрит на магическое только
как на первую ступень нравственного: «Мы должны стараться
сделаться магами для того, чтоб быть вполне нравственными;
чем нравственнее человек, тем он более гармонизирует с Богом,
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
355
тем он божественнее». Ведь нравственный Бог, — говорится
далее, — много выше магического Бога. Можно считать за
основательную поправку учения Фихте следующие слова, в которых
Новалис выдает любовь за сущность нравственности в
противоположность с простой житейской честностью: «Натура и
искусство делаются магическими только посредством их
морализирования. Любовь есть основа возможности магии. Любовь действует
магически». Но с этого пункта начинает брать перевес
мистическое воззрение. В этом направлении Новалис заходит еще
дальше. Все чудесное имеет для него непреодолимую
привлекательность. Он воображал, что силой своей воли мог бы снова
соединиться со своей умершей возлюбленной; теперь он далее
развивает ту же мысль. Так как наш язык и наши телодвижения,
говорит он, повинуются нашему мышлению, то мы должны
научиться сдерживать, соединять и разъединять внутренние органы
нашего тела, потому что все наше тело может быть приводимо
умом во всякое движение. Тогда каждый будет своим
собственным врачом; даже, может быть, человек будет в состоянии
реставрировать утраченные члены, умерщвлять себя одной
силой своей воли и этим способом впервые получать верное
понятие о теле, о душе, о мире, о жизни, о смерти и о духовном мире и
так далее. Но то, что возможно относительно собственного тела,
возможно и относительно всего мира. Частью под влиянием
идеализма Фихте, частью под влиянием поразительных открытий того
времени по естественной истории Новалис высказывает такие
мысли, которые часто напоминают Бэкона Веруламского и даже
не менее часто «Novum Organon» («Новый Органон». — Прим.
науч. ред.) и «Nova Atlantis» («Новая Атлантида». —Прим. науч.
ред.). Подобно Бэкону, он полон надежды, что настанет время,
когда каждое место будет иметь своих естествоиспытателей и
свои лаборатории, когда «наши теперешние гениальные
открытия» сделаются такими же известными, как теперь
нравоучительные изречения; и когда неутомимый человеческий ум будет занят
новыми великими открытиями. Эти ожидания исполнились уже
через несколько поколений после того, как были высказаны.
Новалис не выходит за пределы правды и действительной жизни и
тогда, когда говорит, что инструменты служат для человека
оружием, что для создания нового мира человеку недостает только
подходящего аппарата; что искусство заключается в полном
осуществлении нашей воли, что надо сделать из нашего тела ко все-
356
Р. ГАЙМ
му способный орган, так как с изменением нашего инструмента
изменится мир. Но было бы напрасно желать, чтобы наш
идеалист не заходил далее таких разумных соображений! Наряду с
разумными рассуждениями у него появляются мечтания и
пророческие предсказания, которые переносят его из
действительного мира в мир вымыслов. Он полагает, что есть два способа
достигнуть господства над природой. Один способ заключается
в постепенном изучении и в переработке природы, другой — в
«колдовстве». Поэтому он говорит о таком периоде магии, когда
тело будет слугой души или духовного мира. Подобно
мечтателям прежних столетий, он воображает, что мы находимся в связи
со всеми частями вселенной, равно как с будущими и
прошедшими временами; а с этой мыслью он старается согласовать
некоторые другие понятия, заимствованные из научной теории. Он
говорит, что только от направления и от устойчивости нашего
внимания зависит предпочтительное развитие одной из тех связей.
Методика этого развития должна быть не чем другим, как давно
желанным «искусством изобретать»; не подлежит сомнению, что
ее можно отыскать посредством гениального самонаблюдения.
Подобно тому как создана логика, следует создать
«фантастику»; вместе с ней создано искусство делать изобретения!
В том же месте Новалис называет эстетику «составной
частью фантастики», ясно этим доказывая, что в его учении о магии
объектом для него служила только его собственная поэтическая
деятельность. Поэтому нисколько не удивительно, что он
постоянно говорит о деятельности художника как о ступени для перехода
к магии. Для него магия есть безусловное господство духа над
телесным миром.
Каким образом эстетические воззрения Гарденберга
сливаются в одно целое с его теорией самосознания и с его магическим
идеализмом, мы объясним в другом месте, а покуда только
заметим, что к его основным идеям примешивались разного рода
остатки от его изучения естественных наук. Мы повсюду
встречаем у него странные применения физических и химических понятий
к духовной жизни.
Как серьезно занимался он этой игрой воображения, видно из
писем Фридриха Шлегеля к Шлейермахеру. Оба Шлегеля
находились летом 1798 года в Дрездене. Август Вильгельм
отправился туда в начале июля вслед за своей женой и взял с собой
брата. Они жили там вместе с семейством своей сестры, вышед-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
357
шей замуж за придворного секретаря Эрнста. В украшенной
искусствами столице съехались на короткое время Фихте, Шеллинг
и юный Гриз1. В течение этих месяцев Дрезден несколько раз
служил временным местопребыванием для романтиков, и нам еще
не раз придется мысленно переноситься в этот город. И Гарден-
берг, как кажется, несколько раз приезжал туда, чтобы повидаться
с друзьями2. После одного из этих свиданий Фридрих Шлегель
писал, что гальванизм духа — одна из любимых идей Новалиса,
и забавлялся сочинением пародий на эти «странные идеи» своего
друга. В письмах, которые он писал из Дрездена, била ключом
ирония; он частью наполнял их бессмыслицами, в которых
мистика Гарденберга самым странным образом смешивалась с
остротами. Отсюда можно составить себе понятие о том, какого рода
разговоры вели между собой два друга. Они взаимно вдохновляли
один другого. Из дневника Гарденберга видно, что письма Шле-
геля возбуждали его ум к философствованию, а Шлегель
признается, что он лучше всякого другого умел понимать Гарденберга.
Этот последний превосходит его богатством идей, но,
по-видимому, заразился филологическим остроумием своего друга, его
склонностью выражать мысли вновь изобретенными словами, так как
и сам стал, по примеру Шлегеля, употреблять такие слова, как
«Inconsequentismus», «mystischer Subtilist» и тому подобное.
Новалис в то время сообщал своему другу не только свои идеи,
но и свои сердечные тайны. Он нашел во Фрейберге не только
зачатки новых идей, почерпнутые из знакомства с естественными
науками, но и достаточно мужества для того, чтобы предаться
новым земным радостям. Он еще не вполне отказался от
намерения «умертвить себя», но эта философская мечтательность уже
не могла устоять в борьбе с другими, более человеческими
мечтаниями. Он познакомился с красивой дочерью берггауптмана
Шарпантье: она привлекала его своим мягким характером и
выражавшимся на ее лице отпечатком меланхолии3. В течение всего
лета он был занят ей, а в конце года был с ней помолвлен. Поэтому
он снова счел своим долгом позаботиться о внешних условиях
своего существования и стал искать постоянной должности на
1 «Aus dem Leben von Gries», с. 25, 28. «Aus Schleiermacher's Leben» I, 176,
181. «Charlotte von Schillen> III, 25, 34.
2 «Aus Schleiermacher's Leben» III, 76 и ел.; там же, 88 и 94.
3 «Aus Schleiermacher's Leben» III, 105; сравн.: «Aus dem Leben von Gries»,
с 27; Стеффенс, «Was ich erlebte», IV, 217.
358
Р. ГАЙМ
своей родине, в Тюрингии. В 1799 году, в Троицын день, он
возвратился в Вейссенфельс и был назначен асессором при
солеваренных заводах. Точно так же, как и за три года перед тем, он стал
смотреть на жизнь с радостными надеждами и вторично решился
искать удовлетворения в любви и в семейном счастье. Даже
судьба, по-видимому, во всем благоприятствовала ему, потому что
именно в то время она доставила ему кружок новых друзей, а
между этими друзьями нашелся один, которому он впоследствии был
обязан новой эпохой в своей внутренней жизни, в развитии своих
поэтических дарований.
Это был не кто другой, как Людвиг Тик.
Между тем и Тик успел придать своей жизни более
определенное направление. Свояченица Рейхардта, Амалия Алберти,
которую он полюбил еще студентом, сделалась в 1796 году его
невестой, а в 1798 году — его женой. В том же году он познакомился
в Берлине с А. В. Шлегелем. Этот последний все еще жил в Йене
и даже незадолго перед тем был назначен экстраординарным
профессором Йенского университета за свой перевод Шекспира1.
Он все более привязывался к Йене. Туда иногда приезжал Гёте,
за которым братья Шлегели не переставали ухаживать. Правда,
Фихте был вынужден покинуть этот город, в котором приобрел
известность и создал для себя чрезвычайно приятную сферу
деятельности: за свой спор об атеизме он был лишен
профессорской кафедры и переехал летом 1799 года в Берлин, откуда
только один раз завернул мимоходом в Йену. Но в 1798 году Шеллинг
начал читать в университете свои лекции и своими
натурфилософскими идеями открыл новую перспективу для применения
научной теории. Наконец, наряду с философией стали возбуждать
сильный интерес естественные науки: физика и в особенности
учение о гальванизме нашли тогда многообещавшего
представителя в гениальном Риттере. Все это сильно привлекало к Йене
Новалиса. Он всего более интересовался открытиями и
экспериментами Риттера, но, кроме того, чувствовал личную симпатию
к этому ученому и хлопотал об устройстве его дел2, поэтому
приезжал из Вейссенфельса в Йену так часто, как мог. Такое
стечение выдающихся людей не могло не привлекать в Йену и Тика.
1 «Aus Schleiermacher's Leben» III, 78. Его имя появилось в первый раз в
списке читавшихся в Йене лекций на зимний семестр 1798/99 года.
2Новалис к Дитриху фон Мильтицу (см.: «General Dietrich von Miltitz»,
с. 32, 33).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
359
Чтобы повидаться со своим другом Шлегелем и посмотреть, как
живется в Йене, он заехал летом 1799 года в «город муз» из
Гибихенштейна, где провел несколько недель у своего
родственника Рейхардта1. Там он встретился с Новалисом, который уже
давно восхищался его «Народными сказками»; они, лишь только
лично познакомились друг с другом, тотчас поняли, что их
связывают узы духовного родства. В первый вечер своего знакомства
они вступили в оживленный разговор и раскрыли друг перед
другом душу. Тик описал в «Фантазусе» эту ночь, во время которой
новые друзья бродили после веселого ужина по красивым
окрестностям, обмениваясь своими мыслями о природе, о поэзии, о
дружбе2. В Новалисе Тик нашел вознаграждение за утрату Вакенро-
дера; в Тике Новалис в первый раз нашел такого друга, который
не только, подобно Фридриху Шлегелю, сочувствовал его уму, но
в качестве поэта сочувствовал и его поэтическому душевному
настроению. Эта встреча была похожа на первое знакомство Яко-
би с Гёте. Якоби писал после этого знакомства, что он как будто
«обновился душой»; точно так и Новалис писал 6 августа Тику,
вспоминая о тех днях и часах, которые они провели сначала в
Йене, потом в Вейссенфельсе в доме Гарденберга, куда
отправились вместе из Йены, и наконец в Гибихенштейне у Рейхардта:
«Еще никто не возбуждал мой ум к деятельности так же легко и
так же всесторонне, как ты. Каждое твое слово понятно мне
вполне. Тебе не чуждо ничто человеческое... Ты ко всему относишься
сочувственно, но всего охотнее останавливаешь свое внимание
на цветках»3.
Но двум друзьям было суждено не ограничиваться
воспоминаниями о приятных днях, проведенных вместе, а, кроме того,
вместе пройти часть жизненного пути. В октябре 1799 года Тик
переселился вместе со своей женой и с новорожденной дочерью
Доротеей в Йену, куда в то же время возвратился и Фридрих Шле-
гель. Желание видеться с этими двумя друзьями заставляло и Но-
валиса часто заезжать в Йену. Романтикам еще никогда не
приходилось жить в такой тесной дружеской связи; еще никогда не
1 Он привез от Фихте письмо к его жене, написанное в Берлине 6 июля (см.
«Leben Fichter's» I, 311). Что он заезжал из Гибихенштейна в Йену, говорит
Кепке (I, 246).
2 В полном собрании сочинений IV, 115; сравн. с тем, что говорит Кепке (I,
248).
3 У Гольтея I, 305.
360
Р. ГАИМ
случалось, чтобы они оказывали такое всестороннее и такое
сильное влияние друг на друга. Это было во всех отношениях
настоящим цветущим временем романтизма. Но из всего, что цвело и
зрело в то время, мы покуда отметим только влияние Тика и его
поэзии на Гарденберга. Самое обработанное из произведений Гар-
денберга — доведенный по меньшей мере до конца первой части
роман «Генрих фон Офтердинген» — было, по признанию самого
Гарденберга, первым плодом влечения к поэзии, снова
возбужденного в нем Тиком, и было написано под влиянием «Штерн-
бальда» Тика.
Впрочем, намерение написать этот роман зародилось в его уме
еще до личного знакомства с автором «Штернбальда», в то время,
когда он весной 1799 года прочел в библиотеке майора Функа
легенду об Офтердингене. Этот высокообразованный майор сам
написал биографию императора Фридриха II Гогенштауфена.
Новалис увлекся поэзией великих событий того времени; он
восхищался личностью этого императора, и в его уме зародилось
намерение, напоминающее его афоризмы о прусском короле и о
прусской королеве, — намерение изобразить Фридриха II в своем
романе образцовым монархом. Зиму 1799/1800 года он провел по
своим служебным обязанностям в Артерне, при солеваренных
заводах. В этом уединенном местечке он занялся сочинением
своего романа, часто прерывая работу своими служебными
занятиями. Когда он снова возвратился в Вейссенфельс в феврале 1800
года, его работа уже была в полном разгаре. Написанные им в то
время письма1 доказывают, что он всецело погрузился в поэзию.
Точно так же, как Гельдерлин в лучшее время своего
поэтического творчества, он считал вполне завершившейся свою
философскую эпоху, когда он, «живя среди людей, занимавшихся
умозрениями, сам превратился в умозрение». Он относит философию к
«учебным годам своего образования». Он радуется тому, что
перебрался через «вершины чистого разума» и снова живет «телом
и душою в освежающей сфере чувств». Именно поэтому его
роман должен быть не чем иным, как «апофеозом поэзии». Генрих
есть представитель поэзии. В первой части он, по выражению
самого Новалиса, созревает поэтом, во второй он просветляется
как поэт. Первая часть была окончена 5 апреля, и чтоб прочесть
1 К Юсту (в полном собрании сочинений III, 42) и к Тику (у Гольтея I, 305
и ел.)·
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
361
ее своему другу, Новалис вскоре после того отправился в Йену.
Из второй части нам известны только некоторые отрывки
благодаря Тику, принимавшему участие в издании оставшихся после
смерти Новалис а бумаг. По поводу этих отрывков Тик говорит,
что «смотрит на них с такой же благоговейной скорбью, с какой
стал бы смотреть на кусочек, уцелевший от картины Рафаэля или
Корреджио». Это было мнение романтика и пристрастного друга.
Один из позднейших историков литературы говорит, что анализ
этого романа «входит скорее в историю мечтаний и грез, чем в
историю поэзии». Это — мнение односторонних
рационалистических противников романтизма. Мы не подпишемся ни под тем ни
под другим. «Офтердинген» есть в высшей степени неоконченное
художественное произведение, и следует пожалеть о том, что юный
поэт взял эту личность за образец для подражания.
«Офтердинген» есть одно из самых поучительных и самых замечательных
явлений в истории немецкой поэзии и немецкого ума, а тот, кто
стал бы отвергать выдающееся историческое значение этого
романа, возбудил бы сомнение в своей способности писать историю
литературы. Но вместе с этим «Офтердинген» есть такое
странное произведение, что нас не удивляют ни преувеличенные
похвалы, ни преувеличенные порицания в его адрес.
Прежде всего следует заметить, что относительно изящества
языка и музыкальности стиля произведение Новалиса,
бесспорно, отличается необыкновенной привлекательностью. Его
изложение течет перед нашими глазами тихой струей; мы как будто
слышим равномерное плескание волн ручейка; безыскусственные
выражения, мягкие переходы от одного предмета к другому,
натуральная последовательность идей — все это погружает нашу душу
в приятное очарование. Проза как бы сама собой переходит
местами в стихи, а благодаря ровному благозвучию этих стихов мы
почти не замечаем, что перенеслись в другой элемент. И это еще
не все. В романе есть места, читая которые нам кажется, что мы
действительно «живем телом и душой в освежающей сфере
чувств». Можно назвать перлами настоящей лирики те
включенные в роман песни, в которых автор превозносит горное дело, или
описывает любовную страсть в груди юной девушки, или говорит
о Боге, живущем на покрытых зеленью горах для того, чтоб
сближать людей с небесами. Празднество в Аугсбурге у деда
Генриха и помолвка Генриха с Матильдой служат сюжетами для
прелестных, полных жизни песен! Как было бы хорошо, если бы автор
362
Р. ГАЙМ
обработал эти сюжеты в форме отдельных новелл! Но не таково
было намерение поэта. Он имел в виду еще совершенно другое
просветление натуры и человеческой жизни. Он начал свой роман
двойным сновидением, а первую его часть закончил
аллегорической сказкой. Хотя в сновидениях все происшествия и
принимают странную форму, но у Новалиса они прерываются на половине
нити своего естественного течения, а самое начало второй части
наполнено такими баснословными происшествиями, такими
странными личностями и речами, что поэзия Новалиса кажется нам
окутанной туманом и совершенно непонятной. Именно та
изящная музыкальность языка, которая восхищает нас в изложении
романа, раздробляет его на бессвязные отрывки и производит на
нас впечатление странной загадки, которую мы тщетно
старались бы разрешить. Мы предполагали, что будем читать роман,
то есть что будем читать описание происшествий
действительной жизни, совершающихся согласно с законами этой жизни, и
характеристики личностей, хотя и опоэтизированных, но все-таки
одаренных человеческими чувствами. Но лишь только мы
пытаемся отнестись с сочувствием к этим происшествиям и к этим
людям, мы замечаем, что введены в заблуждение; автор
заставляет нас погружаться в ту сумрачную неопределенность и
замысловатость, которые казались нам такими привлекательными
в сказках о Гиацинте и о Розанчике, и в бездну тех глубоко
затаенных в душе чувств, которые казались нам такими
трогательными в «Гимнах к ночи». Но так и должно быть по замыслу поэта.
Хотя он и перестал быть философом, он не перестал быть
философствующим поэтом. В его поэтическом произведении
отражается его идеалистическое мировоззрение, а поэтическая форма,
в которой выражено это мировоззрение, также вполне
идеалистична. Эта форма напоминает нам, с одной стороны, теорию
Фридриха Шлегеля, с другой — практические приемы Тика. Чтобы
понять это странное произведение, нет другого способа, как изучить
эстетические убеждения автора и связь этих убеждений с его
воззрениями на мир.
Естественно, и в тех и в других заметны колебания. И тут и
там иногда проглядывает сквозь туман мистицизма тот
врожденный здравый смысл, который никогда не пропадал у Новалиса.
Что поэту необходим спокойный наблюдательный ум, что он
должен быть хорошо знаком со всеми условиями человеческой жизни,
этому поучают нас «Отрывки» и этому же превосходно обучает
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
363
нас в романе Новалиса благоразумный Клингсор. Там
настоящий, цельный поэт как будто сообщает романтическому поэту
благоразумные предостережения; мы словно слушаем самого
Гёте, когда Клингсор говорит юному Генриху, что он должен
прежде всего тщательно развить свой разум, свое врожденное
влечение к знанию; должен изучить, как все делается в жизни и как все
приходит во взаимную связь по законам последовательности. Нет
ничего более необходимого для поэта, чем способность вникать
в натуру каждого предмета и знание тех средств, которыми
достигается каждая цель. Воодушевление без рассудка, говорится там,
и бесполезно, и опасно: ведь поэт не будет в состоянии творить
чудеса, если сам будет удивляться чудесам. Молодой поэт не
может быть достаточно хладнокровным и осмотрительным. Для
каждого поэта есть особая сфера, за пределы которой он не
должен переступать, чтобы не утратить свою самоуверенность;
точно так же и вообще для поэзии есть определенная граница, вне
которой поэтические изображения утрачивают свою
определенность и превращаются в бессмысленную небылицу; за этим
следует немало и других разумных советов.
Такие здравые воззрения Новалис, очевидно, извлек в
значительной мере из своего изучения того поэта, в лице которого чтил
«настоящего властелина над поэтическим духом, витающим на
земле». Очень многие из его выражений доказывают, что он
глубоко чтил поэзию Гёте и подчинялся ее влиянию. Он основательно
восхищался изящной простотой и разумной сдержанностью этого
«вполне практического поэта», который никогда не брался за то,
чего нельзя изложить во всей полноте. Именно в то время, как он
только что окончил чтение шлегелевских «Греков и римлян», он
находил у Гёте настоящее сочетание древней и новой поэзии. Он
более всего восхищался искусством Гёте «поэтизировать
обыденную жизнь». Требуя от поэтического изложения, наряду с
углублением в самого себя, «надлежащей наблюдательности над
внешним миром», он подкреплял это требование указанием на
пример Гёте, который обязан широким стилем своего изложения
не чему иному, как самоотверженному углублению в такие
предметы, которые сами по себе не интересны. Даже пластический
характер гётевской поэзии он, подобно Шиллеру, приписывал тому,
что Гёте делает абстракции с удивительной точностью, но при
этом всегда так опишет объект, что ему совершенно
соответствует сделанная абстракция. А доказательство и пример всех
364
Р. ГАЙМ
этих достоинств он находит в «Вильгельме Мейстере», в этом
«настоящем романе, в этом романе без всяких прилагательных».
В том же романе он находит образец того единства и
последовательности, которые считает основными законами всякого
поэтического произведения; он снова напоминает нам одно главное
место в шиллеровском анализе гётевского романа, когда говорит,
что этот роман начинается диссонансом, который потом мало-
помалу исчезает; что у Гёте влечение к изящным искусствам
сталкивается с влечением к деловой жизни; что богиня красоты
ведет с богиней полезности борьбу из-за обладания героем, пока
эти два направления и эти две личности наконец не сливаются
в одно целое с появлением Натальи.
Но именно увлечение Новалиса произведениями такого
великого художника оказалось для него в некотором отношении
вредным. С ним случилось то же, что случилось с Августом
Вильгельмом Шлегелем, хотя и не по одинаковым причинам. Он полагает,
что можно превзойти Гёте в том, что касается содержания,
разнообразия и глубокомыслия его произведений, но что не так легко
превзойти его как художника, потому что в его точности и
строгой правильности едва ли не более мастерства, чем сколько
кажется. Это внешнее совершенство он находит преимущественно
в «Вильгельме Мейстере» и старается доискаться его тайной
причины. Очаровательную привлекательность этого
произведения он в конце концов объясняет магией изложения, вкрадчивой
прелестью гладкого, приятного, безыскусственного и вместе с тем
разнообразного стиля. По его мнению, нас приковывает к той или
другой части романа внешняя его сторона — мелодия стиля; кто
умеет выражаться таким приятным языком, тот может
заинтересовать нас даже самыми пустыми рассказами. В связи с этим
мнением он говорит, что мягкость, гармония и правильные
контрасты составляют главное достоинство всякого художественного
произведения, то достоинство, которое служит
характеристическим отличием искусства от природы. Поэтому он тщательно
старается выяснить различные элементы, из разнообразного
смешения которых составлено содержание «Вильгельма Мейстера»; он
очень верно характеризует чисто поэтические и эпические
элементы в стиле Гёте, когда говорит, что в «Вильгельме Мейстере»
акценты отличаются достоинствами не логическими, а
метрическими и мелодическими. Он снова сходится с одним из отзывов
Шиллера, когда указывает на своеобразную манеру Гёте связы-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
365
вать мелкие, незначительные случаи с более важными
событиями. Причина этой своеобразности кроется в спокойной
объективности и наблюдательности Гёте, в ширине его кругозора, в
верности его взгляда, направленного на весь мир действительности.
Но в этом Новалис усматривает художническое намерение
«поэтически занимать фантазию таинственными забавами».
Разве все это не объясняет нам, почему слишком высокое
значение, которое Новалис придавал внешней форме изложения,
соединялось у него со склонностью одухотворять внешний мир?
Понятно, что под влиянием такого склада ума из учения Канта
о свободной красоте и из основанного на нем учения Шиллера об
«игре фантазии» развилась такая поэтика, в которой
действительность уступала место проявлениям фантазии и душевного
настроения. Вследствие такого склада ума наш романтик неизбежно
должен был выйти за пределы гётевской поэзии точно так же, как
он вышел за пределы философии Фихте. И свои практические
приемы он приспособляет к своему не в меру идеалистическому
миросозерцанию. Прежде всего посмотрим, как он смотрит на
натуру человеческого духа и на значение внутренней, духовной
жизни. Соответственно требованию одной психологии, задавшейся
целью исследовать анонимные силы души, он объявляет, что
людей делают счастливыми не какие-либо определенные чувства,
а душевные настроения и неопределенные чувственные
впечатления; что самое полное самосознание есть не что иное, как
модуляция душевных настроений, а потому и язык, на котором
человек разговаривает сам с собой, тем более близок к совершенству,
чем более похож на пение. Поэтому он, подобно Вакенродеру и
Тику, превозносит музыку, которая выражается на всякому
понятном языке и настраивает наш ум на вольный, неопределенный
тон. Отсюда он делает дальнейшие выводы. Он уже позабыл, что
когда-то протестовал против смешения поэзии с поэтической
музыкой или с поэтической живописью. Он требует, чтобы наш язык,
который сначала был гораздо более музыкален, снова
превратился в пение; он говорит, что настоящий поэтический язык должен
быть «органическим» и «разом выражать несколько идей». Он
прав, называя поэзию искусством возбуждать душевные
волнения, но разве отсюда следует, что поэзия не что иное, как
«изображение душевного настроения», как «изображение внутреннего
мира во всей его совокупности»? Разве можно согласиться с его
мнением, что в «настоящих поэмах» нет никакого другого един-
366
Р. ГАЙМ
ства, кроме единства душевного настроения? Только автор
«Гимнов к ночи» мог вести речь о «поэзии ночи и сумерек» именно
потому, что все далекое от нас и неопределенное поэтично. Эти
слова были, в сущности, характеристикой не самого субъективного
из всех видов поэзии — лирики, — а в большей степени лирики
Тика. Однако Новалис не имел в виду только лирическую поэзию.
В одном особенно замечательном «Отрывке» он говорит:
«Можно писать такие рассказы, в которых вовсе нет внутренней связи,
но в которых, как в сновидениях, есть связь с каким-нибудь
внешним фактом; можно писать такие стихотворения, которые только
благозвучны и состоят из изящных выражений, но лишены
всякого смысла и внутренней связи, так что в них понятны зачастую
только отдельные строфы, похожие на обломки от самых
разнообразных предметов. Эта истинная поэзия может иметь в
основном общий аллегорический смысл и может, подобно музыке,
производить впечатление косвенным путем. Поэтому натура так же
чисто поэтична, как комната чародея или естествоиспытателя,
как детская комната, как чулан или кладовая».
Только что приведенный нами «Отрывок» переносит нас из
той части поэтики Новалиса, которая объясняется его
мистическим субъективизмом, в ту часть, которая служит отражением
его «магического идеализма». Он уже ранее говорил, что
художник, в сущности, то, чем мы все должны сделаться, — чародей,
магический идеалист. В одном месте он говорит вполне ясно:
«Сущность моей философии заключается в том, что поэзия есть
абсолютная реальность, что все тем более истинно, чем более
поэтично». По его мнению, поэт должен преимущественно
очаровывать, а истинная поэзия есть сказочная поэзия: «Сказка служит
для поэзии чем-то вроде основного правила; все, что поэтично,
должно иметь характер сказки». Новалис неизбежно должен был
дойти до такого воззрения по двум причинам: во-первых, потому,
что сказочная поэзия имеет ту музыкальную неопределенность,
которой он требует от всякой поэзии; во-вторых, потому, что она
вполне соответствует магическим поэтическим приемам, потому
что это поэзия чудес, удовлетворяющая все желания нашего
сердца. «Только по причине слабости наших органов, — говорит
Новалис, — мы не переносимся в мир фей». Поэзия восполняет этот
недостаток: «Все сказки не что иное, как мечтания о том мире,
который находится везде и нигде». Все, что в мнениях Новалиса
о характере сказки кажется нам с первого взгляда странным, впол-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
367
не уясняется его миросозерцанием. «Сказка, — говорит он, —
похожа на сновидение без внутренней связи. Это сочетание
странных вещей и происшествий, как, например, музыкальная
фантазия, гармонические звуки Эоловой арфы и тому подобное». Далее
читаем: «В настоящей сказке все должно быть странно,
таинственно и связно; все должно быть оживленно, каждая вещь —
по-своему. Все, что натурально, должно быть странным образом
перемешано с духовным миром; тут наступает время всеобщей
анархии, беззаконий, свободы, натурального состояния натуры,
время до сотворения мира... Сказочный мир представляет
противоположность с миром истины и именно потому во всем сходен
с этим последним, подобно тому как хаос сходен с законченным
мирозданием... Настоящая сказка должна быть в одно и то же
время и пророческим изложением, и идеальным изложением, и
абсолютно необходимым изложением. Настоящий сказочник есть
прорицатель будущего».
Не подлежит никакому сомнению, что, придавая такое
значение сказке, Новалис подчинялся столько же влиянию Тика,
сколько влиянию Гёте. Кроме того, он уже давно смотрел на великий
гётевский роман как на свою «политическую Библию», а «Штерн-
бальд» его друга Тика снова внушил ему расположение к форме
романов. Потому он ставит роман в одном ряду со сказкой. Вполне
согласно с поэтикой Фридриха Шлегеля, он усматривает в романе
также высшую поэтическую форму, в которой все должно быть
поэтично и в которую должны входить все виды стиля. Однако он
этим нисколько не умаляет важное значение сказки. Поэтому
основные понятия Фридриха Шлегеля о поэзии романов1 не всегда
сходятся с мнениями Новалиса. Шлегель приводил
характеристику этой поэзии в самую тесную связь со своим любимым
понятием об иронии. И у Новалиса иногда мимоходом высказывается
то же понятие, но он не разделял мнения Шлегеля, что ирония
есть настоящий критерий истинной поэзии; это видно из
разбросанных в разных местах замечаний о Шекспире, в которых он
сам признавался, что лишь не вполне понимал «шутки»
английского драматурга. Он также говорит о романтической иронии в
«Вильгельме Мейстере», но из его слов видно, как были несхожи
понятия этих двух людей об иронии, а вследствие того несхожи
и понятия о романе и о романтизме. Первый стоял за свободу
1 Сравн. выше, с. 249 и ел.
368
Р. ГАИМ
разума, второй — за свободу душевного настроения. В чем же
заключается, по мнению Новалиса, романтическая ирония? В том
«романтическом приеме, который не обращает никакого
внимания на ранги и достоинства, на различия между тем, что
занимает первое место, и тем, что занимает последнее место, на различия
между тем, что велико, и тем, что мало». Другими словами, его
понятие об иронии и о романе снова сводится к понятию о
чудесном, магическом, баснословном. Поэтому он подводит и роман
под правила сказки. Так как для него весь мир есть не что иное,
как сказка, а история должна со временем сделаться сказкой, то
разве не вполне естественно, что и роман в качестве обширного
поэтического рассказа о человеческих делах казался ему не чем
иным, как полной глубокого смысла сказкой? «Роман, — говорит
он, — есть то же, что вольный исторический рассказ, то же, что
мифология истории... Облекать мысль в форму романа —
значит придавать обыденному явлению высокое значение, придавать
обычному явлению таинственное значение, придавать тому, что
известно, интерес неизвестности, придавать конечному внешний
вид бесконечного». Наконец, его убеждение, что роман должен
быть насквозь пропитан поэзией, вполне сходится у него со
следующим воззрением: «В романе все должно быть так естественно,
но вместе с тем так странно, что читатель начинает думать, будто
иначе и быть не может, будто он до тех пор находился в
усыплении и только теперь стал ясно смотреть на вещи». Но мы с
удивлением замечаем, что понятие о любви служит связующим звеном
между его теорией романа с одной стороны и его метафизикой
и этикой с другой. Он называет любовь той формой
нравственности, в которой кроется возможность магии; поэтому она и должна,
по его мнению, быть душою романа. «Любовь, — говорит он, —
искони разыгрывала романы, то есть искусство любить всегда
было романтическим... Стало быть, любовь есть высшая
реальность, есть коренная основа; все романы, в которых описывается
истинная любовь, суть сказки, магические происшествия».
Но такие воззрения на сущность поэзии и в особенности на
сущность романа, очевидно, были неприменимы к той поэзии,
которая заключалась в «Вильгельме Мейстере». В «Штернбальде»
было меньше внутренней связи и более сказочного содержания,
поэтому он был в глазах Новалиса более хорошим романом, чем
«Вильгельм Мейстер». Наконец, когда Новалис сам задумал
написать роман, он пришел к убеждению, что ясная и натурная по-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА W
эзия «Вильгельма Мейстера» есть профанация настоящей поэзии,
которую он стал теперь находить в произведениях Якоба Бёма.
Уже ранее его не удовлетворяла рецензия на «Вильгельма
Мейстера», написанная Фридрихом Шлегелем1, а теперь он задумал
сам написать рецензию, которая представляла бы совершенную
противоположность со шлегелевской. У него как будто упала с
глаз завеса. В феврале 1800 года он писал Тику, что гётевский
роман кажется ему отвратительным, несмотря на то что
многому научился из него. Он указывает на «мучительную скуку»
конца романа в противоположность веселости, которая господствует
у Якоба Бёма. Он находит «Вильгельма Мейстера» прозаичным,
потому что там идет речь только об обыкновенных человеческих
делах, а натура и мистицизм совершенно позабыты. Это
«поэтизированная мещанская и семейная история, в которой
сверхъестественное положительно выдается за поэзию и за мечтательность».
Он верно указывает недостатки романа: представительство поэзии
дворянством, предоставленный аббату высший надзор и
таинственную башню. Мы также могли бы упрекнуть гётевский
роман как за мистицизм и символику, так и за тот безвкусный
механизм, в который они облечены. Но Новалис думает иначе. Он
находит, что эта противоположность между поэзией и
непоэзией составляет самый выдающийся характер романа и что там
недостаточно мистицизма и символики. В прелестных, взятых
прямо из жизни картинках из сферы актеров ему не нравится то,
что автор «сделал из комедианток Муз, а из Муз —
комедианток». Художнический атеизм составляет, по его мнению, главное
направление романа; он называет этот роман «Кандидом»,
направленным против поэзии. Он сохранил высокое мнение только о
внешней форме романа, о его художественном изложении. Но тем
противнее кажется ему весь роман.
Такого держался он в то время мнения о «Вильгельме Мей-
стере» и из соперничества с Гёте написал «Генриха фон Офтер-
дингена», который даже по своей внешней форме — по одинаковой
печати и по одинаковому формату — обнаруживал намерение
автора состязаться с Гёте2. Здесь поэзия должна была не
уничтожать поэзию, а изображать ее, превозносить и просветлять. Эта
1 «Aus Schleiermacher's Leben» III, 80. Относительно того, что следует, сравн.
Гольтея (I, 307) с сочинениями Новалиса (II, 135, 136).
2 А. В. Шлегель к Тику (у Гольтея III, 254 и 260).
370
Р. ГАИМ
тема проводится как во всем романе, так и в каждой из его частей.
Содержанием служит мистико-магическое миросозерцание
автора. Все мысли, разбросанные Новалисом в других его сочинениях,
блестят в романе подобно молниям; чем дальше мы
углубляемся в содержание романа, тем более видим звезд на этом
поэтическом небе. Повсюду встречаются отголоски «Отрывков», даже
«Ученики в Саисе» как будто заново здесь обработаны. Таково
содержание, а форма вполне соответствует ему. Весь роман
является чем-то вроде попытки согласовать мировоззрение Новалиса
с его поэтикой. Абсолютно поэтизированный мир, то есть мир,
стоящий вне законов разума и вне чувственной действительности,
изображен здесь в своем собственном элементе, в элементе
фантазии, забавляющейся мечтаниями и баснословными выдумками.
Метафизика человеческой жизни, совпадающая с метафизикой
вселенной, изложена в исторической форме, в форме описания
жизни поэта с нестесняемостью метафизической,
трансцендентальной поэзии. Мысль о том, что «мир в конце концов
превращается в душевное настроение», совпадает у Новалиса с мыслью,
что «в конце концов все превращается в поэзию».
Доказательством основательности этого двойственного основного положения
служит «Генрих фон Офтердинген».
Эта романтическая метафизика изложена в форме истории,
а эта история не может быть настоящей: она должна быть
мистической. Но и эта последняя постоянно переходит в чистую сказку
и даже в «более возвышенную», аллегорическую сказку. Поэтому
средоточием для «Генриха фон Офтердингена» служит сказка,
рассказанная Клингсором в конце первой части, а из рассказа Тика
о том, как Новалис намеревался продолжать свой роман, видно,
что в конце романа содержание этой сказки должно было
осуществиться в жизни действующих лиц. Стало быть, эта сказка должна
служить ключом к объяснению плана всего сочинения, конечно,
таким иероглифическим ключом, который годен к употреблению
только при знакомстве с философией автора. Как бы хорошо ни
была известна нам эта философия из «Отрывков» Новалиса, она,
несмотря на свое глубокомыслие, кажется нам более ясной и
более безыскусственной, чем рассказ Клингсора. Для рассказа
Клингсора служила образцом неудачная гётевская сказка, эта
«рыцарская опера», как ее называет Новалис. Насколько этот
рассказ хуже сказки в «Учениках в Саисе»! Об искреннем
наслаждении этим поэтическим произведением не может быть и речи!
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
371
Того, кто мог бы находить наслаждение в изобилии постоянно
сменяющихся образов и в веселой игривости тона, неприятно
поражают то ясные, то непонятные аллегорические намеки, не говоря
уже о множестве непонятных намеков на сферу естествознания,
о разной примеси, которой автор запасся в кабинете физика и в
лаборатории химика. Кроме того, если мы дадим себе труд (за
который нас лишь отчасти вознаградят поэтическое
глубокомыслие, блестящая внешность и приятность слога) несколько раз
перечесть этот роман, то мы найдем в нем еще следующую
характеристическую особенность.
Магический идеализм автора уже неоднократно получал в
«Отрывках» то историческое направление, что единство мира и
духа должно со временем осуществиться на деле; согласно этому,
и в сказке Новалиса описано, как образуется этот истинный, вечный
мир, как снова восстанавливается то царство любви и поэзии, в
котором «великий мировой дух повсюду проявляется и бесконечно
процветает». Подобно тому как смысл великой аллегорической
картины разъясняется подписью, можно бы было объяснить и
аллегорический рассказ Новалиса, поставив над ним вместо
подписи следующие слова, написанные самим Новалисом в одном
из его «Отрывков»: «Теперешнее небо и теперешняя земля
прозаичны по своей натуре; это период практической пользы. Страшный
суд будет началом нового, поэтического периода». Этот
Страшный суд и это превращение прозаического мира в поэтический
изображены в сказке Новалиса точно так же, как и во многих других
сказках, в форме уничтожения наложенных чар. Король Артур и
его дочь живут в своем дворце разочарования среди ночного мрака
и льдов, точно так же, как дух нравственности, прикованный в
настоящий мировой период к строгим формам справедливости.
Они освобождаются из этих уз в настоящее время и в этом мире;
они обязаны своим освобождением Басне, то есть поэзии, и ее
брату Эроту. Это дети трудолюбивого отца — Ума. Ему родила
Эрота преданная, горячо любящая, удрученная горем жена —
Сердце; но молочная сестра Эрота, Басня, рождена
обольстительной Фантазией, дочерью Месяца. Наряду с этими личностями
на сцену выводится Божеская мудрость в качестве заведующей
домашним алтарем. Басня называет себя восприемницей Софии.
Но враждебные силы берут в доме верх. В то время как Любовь
и Фантазия отправились путешествовать, писатель вовлекает
сволочь в заговор; Дух прозы, ограниченного, гордящегося своей рас-
372
Р. ГАЙМ
судительностью Просвещения, по-видимому, торжествует над
более благородными духами; отец и мать связаны, алтарь
разрушен. К счастью, Поэзия спаслась бегством. Она сначала
попадает в Царство зла, в котором хозяйничают смертоносные Парки.
Но оно не может причинить ей никакого вреда; она уничтожает
его, отдавая отвратительных Парок на съедение тарантулам, то
есть страстям. Тогда наступает конец времени и смертности,
безжизненное снова становится бездыханным; живое будет
властвовать и употреблять в дело то, что безжизненно. И смерть матери
на костре, возбуждавшая сильную радость в писателе, обратилась
на пользу не ему, а новому миру. На пламенеющем костре гибнет
блестящее светило прежнего мира, Солнце; пламя
распространяется на север для того, чтобы своим жаром обратить в воду
лед Артурова дворца; но во все вмешивающаяся Басня собирает
пепел матери; Мудрость кладет его в сосуд заново сооруженного
алтаря; Эрот и вместе с ним все, отведавшие божественного
напитка, «слышат внутренний голос, в котором узнают дружеские
приветствия матери». По приказанию Мудрости, Эрот и Басня
направляются сквозь преобразованный, цветущий мир в
королевский дворец. Басня исполнила свое призвание: она ведет Эрота к
его возлюбленной, дочери короля Артура, вместе с которой он
будет вечно царствовать>лгогда строгая Справедливость уступает
владычество Любви и Свободе. Рассказ Клингсора кончается тем,
что Басня громко поет:
Gegründet ist das Reich der Ewigkeit;
In Lieb' und Frieden endigt sich der Streit;
Vorüber ging der lange Traum der Schmerzen;
Sophie ist ewig Priesterin der Herzen1.
То, что здесь сжато изложено в форме сказочной аллегории,
воспроизведено более подробно в самом романе, в
жизнеописании поэта. Судьба мира могла быть описана только в форме сказки,
а человеческую судьбу следовало изложить в романтическом
происшествии, которое лишь в конце переходит в сказку, в истории
развития индивидуума. Написать сказку было легче, потому что
она излагала метафизику в аллегории; написать историю развития
индивидуума было труднее, потому что она излагала метафизику
в действительной истории. Для такой цели нашему поэту была
1 «Основано „царство вечности"; в любви и в мире кончается борьба;
окончился длинный сон страданий: София сделалась навсегда жрицей сердец».
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
373
слишком узка сфера земной, временной и ограниченной
физическими пределами жизни. Ему представлялся только один
способ выйти из этого затруднения: чтобы сделать одного
индивидуума представителем вечной истории духа, он мог бы прибегнуть
к той старой гипотезе, в которой, по мнению Лессинга, можно было
найти разрешение исторической загадки, т. е. мог бы изобразить
индивидуума принадлежащим к нескольким поколениям, так что
его прошлое и его будущее постоянно отзывались бы на его
теперешнем существовании в виде воспоминаний и предчувствий.
Действительно, в рассматриваемом нами романе есть такие
места, которые сделаются для нас вполне понятными, если мы
предположим, что именно таково было намерение автора, что Генрих
уже не раз побывал на земле, что он уже несколько раз умирал
и снова рождался на свет. Это и послужило поводом для
предположения, что гипотеза о переселении душ должна служить
руководством для объяснения исторической связи между описанными
в романе происшествиями1. Правда заключается в том, что эта
гипотеза играет лишь второстепенную роль как в миросозерцании
Гарденберга, так и в его романе. Правда, автор мимоходом
высказывает в «Отрывках» предположения: не переначнет ли свое
земное поприще тот, кто не успел достигнуть на земле своего
полного развития? Не существует ли и в том мире смерть, которая
имеет результатом земное рождение? Поэтому не следует ли
полагать, что человеческий род менее многочислен, чем мы думали?
Но это предположение беспрестанно перемешивается с другими
догадками касательно загробной жизни; оно нигде не
высказывается без всякой примеси; автор сам разрушает все эти мечты о
странствиях по всей вселенной, когда говорит, что вечность со
своими мирами, со своим прошлым и будущим находится только
в нас самих. Ту же мысль высказывает он и в «Генрихе фон Оф-
тердингене». Так как историческая форма была необходима для
изложения метафизики в форме романа, то рассказ Новалиса
иногда наводит читателя на предположение, что герой романа уже
ранее жил на земле; но при внимательном чтении мы убеждаемся,
что это нам только кажется. Мы придали бы воззрениям поэта
несвойственное им рациональное значение, если бы мы
предположили, что основой для его рассказа служит мысль о
переселении душ. В его воззрении гораздо менее исторической последова-
1 Дильтей, с. 644.
374
Р. ГАИМ
тельности и гораздо более мистицизма. Несмотря на то что речь
идет о постепенном развитии поэтического душевного
настроения, автор относится к временным условиям этого развития с
безграничной нестесняемостью. Для нашего поэта время вообще
имеет лишь второстепенное значение наравне с пространством и с
чувственными впечатлениями действительной жизни. Подобно
тому как он не признает никакого различия между
сверхъестественными и естественными фактами, он не признает никакого
различия и между прошлым, настоящим и будущим. В душе
Генриха исчезают различия между земной жизнью и жизнью
загробной, исчезают и различия времен. Автор постоянно
руководствуется предвзятой мыслью, что в конце концов должно произойти
просветление действительности, превращение романа в сказку,
а для такого приема никак не может служить объяснением
гипотеза о переселении душ. Другими словами, в романе Новалиса не
столько метафизика превращается в историю, сколько история
получает характер метафизики.
Метафизическому, сказочному характеру этого романа служит
противовесом только одна черта, придающая рассказу
естественность и вместе с тем человеческий интерес. И содержанием для
«Генриха фон Офтердингена» точно так же, как для всех
поэтических произведений Новалиса, служит то, что пережил сам автор.
Он извлек содержание этого романа из самой затаенной глубины
своей собственной жизни, создал его из полноты своего сердца.
Он облекал в мифологическую форму, в метафизические
обобщения поэтизированную историю своей собственной жизни. Это
апофеоз поэзии, но герой этого апофеоза — сам поэт, сам Гарден-
берг! Это сказка об идеальной внутренней связи в человеческой
жизни. Нам могло бы показаться, что автор выходит из пределов
поэзии и переносится в область дидактики; но описанная им
человеческая жизнь есть жизнь юноши, который, лишившись своей
возлюбленной, стал мечтать о смерти, а потом стал искать в новой
любви осуществления своих надежд. Поэтому его роман
заключает в себе изложение и его метафизических убеждений, и его
поэтическо-художнических идеалов, и всего, что он пережил и
испытал; это очень запутанное произведение, но для его объяснения
мы имеем теперь все необходимые средства.
Генрих был от природы одарен всем, что необходимо для того,
чтобы сделаться поэтом. И его отец был одарен такими же
поэтическими задатками, но не развивал их из привязанности к жи-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
375
тейским интересам. Никакая предвзятая система воспитания не
мешала Генриху развивать его врожденные наклонности; он
провел свою молодость в отцовском доме в Эйзенахе, точно так же,
как ее провел Гарденберг. Сон, имевший в его глазах тем более
важное значение, что точно такой же сон приснился его отцу, когда
этот последний был еще юношей, внушает ему предчувствие
таинственного счастья его поэтической жизни и указывает ему цель
любви в форме удивительного голубого цветка. Вместе с матерью
и в обществе нескольких купцов он отправляется к своему деду с
материнской стороны, в Аугсбург. И от того, что он видит по пути,
и от того, что ему рассказывают спутники, расширяется его
кругозор и в нем пробуждается влечение к поэзии. В одном из
рыцарских замков, где на время остановились путешественники, он
встречается с обитательницей восточных стран, которая
напоминает ему о несходстве воинственных влечений западных и
восточных жителей. Поэзия натуры и истории представляется ему
в образе горного жителя и отшельника. Все, что он видит и слышит,
возбуждает в его уме новые мысли. Но всего сильнее поражает
его то, что в пещере того отшельника, графа Гогенцоллерна, он
находит таинственную книгу, а в этой книге находит загадку
своего собственного существования, которую еще не может
разъяснить; но он узнает, что его существование началось еще до его
рождения и будет продолжаться после его смерти.
Путешественники наконец достигают Аугсбурга, и там, по-видимому, должно
осуществиться земное назначение Генриха. В Клингсоре он
находит вполне развитого поэта, а в дочери Клингсора — предмет своей
любви: «он чувствует то же, что чувствовал в сновидении при
виде голубого цветка». Генрих, по-видимому, близок к своей цели,
но то же самое случилось с Новалисом, когда он после помолвки
с Софией помышлял о тех радостях, которые ожидают его в
семейной жизни. Но это было прискорбное заблуждение!
Возлюбленная утопает в волнах потока. Опечаленный смертью Матильды,
Генрих удаляется в начале второй части из Аугсбурга. Ему
служит самым сладким утешением видение, точно такое же
видение, какое представилось Новалису у гроба его Софии. Он видит
усопшую, он слышит ее голос. Горечь понесенной им утраты
совершенно исчезает. Приводя в связь сообщения Тика с
отрывочным текстом Гарденберга, мы узнаем, что ему
представилось новое видение, похожее на первое. В одном отдаленном
монастыре, «монахи которого составляют нечто вроде „колонии
376
Р. ГАЙМ
духов"», он чувствует себя умершим. Он живет среди мертвых,
он переживает те душевные настроения, которые когда-то
выражал в «Гимнах к ночи». Но он снова оживает; к нему
присоединилось новое, удивительное существо — Киана. Она заменяет ему
Матильду, утверждая, что умершая достигла просветления и
живет вечной жизнью. Ее прислала ему Матильда; то был голос
Матильды, который говорил ему: «Не тоскуй, я с тобою; ты еще
проживешь несколько времени на земле, но эта девушка будет
служить для тебя утешением до тех пор, пока ты не умрешь и не
станешь разделять с нами наши радости». Тогда Генрих снова
начинает привязываться к земной жизни. Автор намеревался
заставить героя своего романа странствовать по Италии, по
Греции, по Востоку и в заключение отправиться из Рима в Германию
ко двору императора Фридриха; а в описание этих
странствований автор намеревался включить в своеобразной форме сказание
о состязании поэтов. Генрих должен был вторично пережить
впечатления от природы, жизни и смерти, войны, Востока, истории и
поэзии в более широком виде, чем в первой части. Романтический
миф, составляющий как бы феноменологию поэтического духа,
должен дойти до конца в загробной жизни. Но эта загробная жизнь
совпадает, по мнению поэта, с нашим внутренним миром. После
того как Генрих испытал все земное, он мог «возвратиться внутрь
своей души, как на свою старую родину». Здесь мир превращается
в чисто поэтическое царство духов. «Мир становится
сновидением, сновидение становится миром». Герой романа снова находит
Матильду. Но она уже ничем не отличается от Кианы. Любовь
Генриха была тем же, чем двойная любовь Новалиса,
сделавшаяся единой: все временные и жизненные различия соединяются
в душе автора в одно нераздельное целое. Наконец празднуется
праздник духа, любви и вечной верности. Поэтическое
произведение возвращается к той сказке, которой закончилась первая
часть. Осуществление ожиданий кончается точно так же, как
кончились ожидания; тогда нам становится понятным двойственный
смысл песни, которую пела Басня:
Gegründet ist das Reich der Ewigkeit;
In Lieb* und Frieden endigt sich der Streit;
Vorüber ging der lange Traum der Schmerzen;
Sophie ist ewig Priesterin der Herzen.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ШЛЕЙЕРМАХЕР;
ПОВОРОТ К РЕЛИГИИ И ЭТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ
РОМАНТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
Между тем как самый старый из друзей Фр. Шлегеля самым
оригинальным способом возвышал значение романтической
поэзии, вновь приобретенный им друг Шлейермахер расширял
кругозор новой школы в ином направлении. Фр. Шлегель
познакомился со Шлейермахером в самую плодовитую эпоху романтизма.
Именно в то время, когда после разрыва Шлегелей с Шиллером
и вследствие их вступления в кружки представителей берлинского
Просвещения, согласие между шлегелевской критикой и поэзией
Тика пробудило в двух братьях сознание собственного достоинства,
выразившееся в намерении основать «Атеней»; именно в то время
Фридрих сообщил своему брату, что нашел в пасторе Шлейерма-
хере полезного сотрудника для будущего журнала. Уже во втором
номере «Атенея» этот сотрудник обнаружил первые признаки
гениальности, которая с течением времени приняла такое своеобразное
направление и имела такое сильное влияние на немецкое
образование, что мы считаем своим долгом выяснить, с чего этот
гениальный человек начал и каким образом он сделался тем, чем был.
Мы сделаем обзор его умственного развития до его знакомства
с главными представителями романтической школы; при этом нам
будут служить руководством документы, вошедшие в состав
переписки Шлейермахера, и образцовый по своей обстоятельности
рассказ Дильтея, основанный на чрезвычайно обильном запасе
материалов, которые были извлечены из первоначальных
источников1.
1 Из сочинения Дильтея «Das Leben Schleiermacher's» мы имели в руках
изданные в 1867 году (в Берлине, у Реймера) первые 10 листов I тома; из
сочинения «Denkmale der inneren Entwicklung» Schleiermacher's, которое еще не было
издано в то время, как я работал над этой книгой, мне удалось познакомиться с
содержанием четырех листов.
378
Р. ГАЙМ
И во внешней и во внутренней жизни предков Шлейермахера
религия играла чрезвычайно важную роль; поэтому можно
сказать, что значение, которое ей впоследствии придал этот великий
теолог, было результатом не только того, что было пережито его
собственным умом, но и того, что было пережито
предшествующими поколениями. Он вел свое происхождение от
протестантского семейства, эмигрировавшего из Зальцбурга. Его дед,
принадлежавший к числу ученых членов реформатского духовенства,
принимал участие в распространении сектантского учения,
которое развилось в первой половине прошлого столетия в Вуппер-
тале в самых безобразных формах. Разочарование, вынесенное
этим правдолюбивым человеком из сообщества с
безнравственными сектантами, навело на более разумный путь его сына,
который юношей был свидетелем переворота, совершившегося в уме
его отца. Этот отец осмотрительно придерживался
установленного церковного учения; стараясь заглушать в себе
рационалистические влечения и научные сомнения, на которые наводил его
дух века Просвещения и от которых его здравый ум никогда не
мог вполне отрешиться, несмотря на его искреннее благочестие.
Он жил в качестве полкового священника в Бреславле, когда его
жена (дочь берлинского придворного пастора Штубенрауха)
родила ему 21 ноября 1768 года сына Фридриха Даниила Эрнста.
Вследствие частых отлучек отца по служебным обязанностям
воспитанием ребенка занималась преимущественно мать,
которая была искренне благочестива, чрезвычайно разумна и
всецело предана воспитанию своих детей; благочестивыми
увещеваниями и благоразумным хладнокровием она старалась сдерживать
самоуверенность не по летам умного мальчика. Ему было десять
лет, когда его родители переехали на жительство в Плесе, в
Верхнюю Силезию; ему было одиннадцать лет, когда они переехали
оттуда в близлежащую колонию Ангальт. Так как при своей
даровитости он нуждался не столько в учении, сколько в
родительском надзоре, то он в течение двух лет жил большей частью в
деревне. Только с двенадцати до четырнадцати лет он жил в Плес-
се в школе, где систематически учился у одного из учеников
филолога Эрнести и полюбил преимущественно древние языки. Но
ему скоро пришлось вынести из другой школы еще более
глубокие впечатления. «Религия, — говорит он в одном часто
цитируемом месте «Речей о религии», — была тем материнским лоном,
в священном мраке которого питалась моя юная жизнь и предуго-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
379
товлялась для еще закрытого в отношении к ней мира; ею дышал
мой ум прежде, чем он нашел свою собственную сферу в опыте
жизни и в науке». Родители решились поместить его в учебное
заведение гернгутерской общины в Ниски. Образ жизни гернгу-
теров, понятно, произвел чрезвычайно сильное впечатление на
юношу с таким складом ума. Окружавшие его проявления
благочестия поражали и трогали его, но вместе с тем возбуждали в его
душе сильную тревогу. В его уме, уже давно увлекавшемся
точностью математических выводов, начали возникать разные
недоумения и сомнения. Еще в то время, как он сидел на школьной
скамье в Бреславле, его сильно смущал один латинский писатель,
которого он был в состоянии перевести, но не был в состоянии
понять. Во время своего пребывания в Плессе он ломал голову
над воображаемым искажением произведений всех древних
писателей и вместе с ними древней истории. Но самым тяжелым
гнетом для его ума были религиозные сомнения. Учение о вечных
наказаниях и наградах и о страданиях, долженствовавших служить
искуплением, заставляло его проводить бессонные ночи, а с его
вступлением в гернгутерскую общину возобновились эти
тревожные думы. Он тщетно старался освоиться с учением о
врожденной испорченности человеческого рода и о сверхъестественном
действии благодати. Ему снова советовали жить мыслями об
Иисусе, но он не был в состоянии последовать этому совету, не
был в состоянии довольствоваться сверхъестественными
чувствами, которые старалась ему внушить окружавшая его среда. Во
время своего пребывания в школе в Ниски, с февраля 1783 года
до осени 1785 года, он был в состоянии заглушать свою душевную
тревогу благодаря своей юношеской душевной бодрости и своей
любви к учению. Он сам рассказывает, как он вместе с другом
своего сердца Альбертини углубился в «колоссальные и смелые»
научные исследования. Несмотря на то что два друга были
снабжены самыми ничтожными вспомогательными средствами, они
прочли всех греческих поэтов от Гомера до Пиндара и смело
взялись за чтение еврейского текста Ветхого Завета, вплоть до Иезе-
кииля; если же они находили там что-либо, возбуждавшее в них
тревожные думы, то у них был под рукой греческий текст, в
котором они находили утешение. Но это утешение стало оказываться
недостаточным с тех пор, как они перешли осенью 1785 года в
гернгутерскую семинарию в Барби; тогда им стала яснее
прежнего видна пропасть, лежавшая между их складом ума и тем ду-
380
Р. ГАЙМ
ховным призванием, к которому их должны были там
подготовить бездушная дисциплина и бездушная догматическая система.
Вследствие ненаучности господствовавшего в семинарии
направления двое друзей, а вместе с ними и некоторые из
воспитанников стали увлекаться скептическими и даже натуралистическими
воззрениями, для которых служили пищей тайно проникавшие в
семинарию произведения новой немецкой литературы, статьи
издававшегося в Иене литературного журнала и некоторые
философские сочинения. Это был рационалистический дух века
Просвещения, не столько проникавший, несмотря на все преграды,
в юношеские умы, сколько проявлявшийся сам собой в
своеобразной форме сообразно с данными условиями. Этот дух считался
в семинарии ядом, который следовало устранять, а возникавшие
в душе воспитанников сомнения заглушались безусловным
требованием покорности установленному учению; это высокомерие
и этот деспотизм отвергавших науку людей лишь ускорили
наступление давно готовившегося кризиса. Счастливы были те, которые
находились в таком положении, что могли без всяких церемоний
сбросить с себя эти оковы! На это решился и Шлейермахер с
осени 1786 года. Для него наконец настал тот момент, который он
так характеризует в посвящении второго издания «Речей о
религии»: «Я решился искать истину, сбросив с себя всякое иго,
собственным умом, прямодушно и не подчиняясь ничьему влиянию».
В начале 1787 года дело дошло до того, что Шлейермахеру
угрожало исключение из семинарии. Тогда он решается во всем
признаться своему отцу и объясняет ему причины своего неверия.
Так как он уже все рассказал начальнику общины и, стало быть,
не может долее оставаться в заведении, то он просит отца
перевести его на два года в Галльский университет. Он говорит, что
желал бы продолжать изучение теологии, потому что тогда,
может быть, нашел бы возможность снова направить свой ум на
правильный путь; он надеется, что результатом его занятий будет
возвращение к отвергнутым верованиям и, быть может,
вторичное вступление в покинутую общину. Отцовский ответ на это
письмо был выражением не столько негодования, сколько глубокой
скорби об «ослеплении», в которое впал неопытный юноша. Он
был написан в таком тоне, что усилил душевные страдания Шлей-
ермахера в момент решительного шага. Но и неохотно данное
отцом позволение было с благодарностью принято сыном,
жаждавшим свободы.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
381
К Святой неделе 1787 года Шлейермахер переехал в Галле.
Он еще долго держал себя, как робкий ученик, не успевший
высвободиться из-под внешнего гнета, под которым жил в Ниски и в
Барби. В лице своего дяди, профессора Штубенрауха, он находил
разумного и доброжелательного руководителя, а с внешним
миром и с местным обществом он стал знакомиться через
посредство своего друга Густава Бринкманна, который также переехал
из Барби в Галле и уже давно занимался там изучением теологии.
Эта дружеская связь с молодым шведом была прелюдией к
дружеской привязанности Шлейермахера к Фр. Шлегелю. В
университете он нашел для своего ума такое неподчиненное никакому
внешнему надзору убежище, в котором мог самостоятельно
доискиваться истины. Он сам впоследствии называл это время
своей жизни таким же странным, «каким был хаос до сотворения
мира». Он учился с напряженным рвением, но безо всякой
системы, руководствуясь только своими собственными влечениями. Эти
влечения не находили для себя удовлетворения в лекциях
галльских теологов Кнаппа, Нёссельта и Нимейера, которые своими
толкованиями Священного Писания и своей догматикой не
поддерживали давно созревших рационалистических воззрений
юноши и вместе с тем не были в состоянии поколебать эти воззрения.
Ни в чем не обнаруживалось и влияние землеревской критики.
Шлейермахер с удовольствием слушал филологические лекции
Фр. Авг. Вольфа. Но он всего более интересовался «историей
человеческих мнений», изучением воззрений древних и новых
философов, а направление его умственной деятельности и в этом
случае определялось частью его врожденными этическими
наклонностями, частью духом его времени и окружавшей его
философской атмосферой. То было время быстрого распространения
кантовской философии, которая встретила в Галле сопротивление
со стороны более старой философии Вольфа и Лейбница.
Опираясь на вольфианизм, модифицированный под влиянием английских
философов, Эбергард вел там борьбу с кантовскими
нововведениями. Дух кротости и умеренности и основанная на изучении
истории философии осмотрительность составляли
характеристическую особенность критики этого почтенного профессора,
который имел в виду преимущественно практические результаты
философии и потому считал Сократа за идеал философа. Это
критическое воззрение на критическую философию и это высокое
мнение о важности нравственных результатов вполне соответство-
382
Р. ГАИМ
вали и складу ума, и умственным влечениям нашего юного
теолога. Под влиянием лекций Эбергарда он стал читать Платона и
Аристотеля, стал переводить и комментировать аристотелевскую
этику. После отъезда из Галле ему казалось, что ничто не могло
бы доставить ему так же много удовольствия, как «прогулка
вместе с Эбергардом по садам Академии»; он воображал, что
всегда будет сожалеть о том, что недостаточно пользовался
советами этого почтенного профессора; тому же Эбергарду он послал
для просмотра свои первые литературные произведения.
Но он выехал из Галле в Пасху 1789 года, а вышеупомянутые
литературные произведения были плодом его пребывания у его
дяди Штубенрауха, который променял свое профессорское
звание на пасторскую должность в Дроссене, в Неймарке. Там, в
библиотеке своего дяди и вне влияния новой немецкой поэзии,
подготовлявшей решительный переворот в чувствах и в идеях всей
нации, он сначала занимался исключительно тем изучением
философии, которое начал вместе с Бринкманном по внушению
Эбергарда. Он неутомимо старается дать своим идеям точную
определенность и ясную внешнюю форму. Он пишет своему другу, что в
его голове «сталкиваются такие идеи, которые, быть может, еще
не возникали ни в чьем уме и которые тем не менее достойны
сочувствия». И мода того времени, и пример Эбергарда наводят
его на более вольные формы выражения его идей, на формы
диалога, писем, очерков. Но легкость этих форм не соответствует
настроению его ума1. Мы с удивлением замечаем, что в своих
более серьезных литературных произведениях, вполне или частью
относящихся к этому периоду его жизни, он пытался разрешить
самые трудные проблемы этической философии с беспощадной
логической последовательностью и с самым хладнокровным
терпением. Он своим здравым умом разорвал фантастические нити,
которыми система гернгутеров связывала нравственные
обязанности и потребности людей со сверхъестественным миром.
Руководствуясь убеждением, что личное достоинство и судьба
человека зависят только от его нравственности, Шлейермахер сначала
поверхностно познакомился с кантовской философией, а потом стал
все глубже вникать в ее содержание. Он находил научное
подтверждение этого убеждения в кантовских гениальных
критических объяснениях натуры и значения нашей познавательной спо-
1 «Aus Schleiermacher's Leben» IV, 25.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
383
собности, равно как в том, что эта критика опиралась на
неизменные понятия о нашем нравственном долге. Для него не
подлежало никакому сомнению, что нет возможности познавать
недоступное для наших чувств и что наше знание должно ограничиваться
сферой внешних явлений. Мелкая война, которую вели с Кантом
Эбергард и его последователи, внушала Шлейермахеру недоверие
не к этим отрицательным выводам «Критики чистого разума»,
а к тем пунктам, в которых эта критика, по-видимому, могла впасть
в противоречия сама с собой. Он боится, как бы «фантазия» не
сбила его с того пути, который должен его привести к познанию
чистой истины. В складе его ума обнаруживается по этому
случаю большое сходство со складом ума Спинозы; оно органично
выразилось и в результатах его философского мышления. Этот
двадцатидвухлетний юноша создает для себя такое воззрение на
жизнь, при котором всякая религия заключается в морали, а мораль
не выходит из границ, установленных рассудком.
Это воззрение изложено в двух статьях — «О понятии высшего
добра» и «О свободе человека»1.
В первой статье Шлейермахер говорит, что будет развивать
свою тему «с честным беспристрастием постороннего зрителя».
Из того, как он ведет свое расследование, видно, что он был
учеником Эбергарда: сначала он только излагает свои рассуждения,
а потом для проверки этих рассуждений рассматривает историю
перемен, которым подвергалось понятие о высшем Добре в
различных философских системах. Он начинает замечанием, что идея
о блаженстве, полная противоречий при близком ее рассмотрении,
была чем-то вроде повивальной бабки, при помощи которой
разум дошел до понятия о высшем Добре. Вслед за этим он
становится на точку зрения Канта и старается очистить то понятие от
всякой эмпирической примеси. Тогда высшее Добро является не
чем другим, как совокупностью того, что возможно по законам
чистого разума; если же считать нравственный закон за данную
алгебраическую функцию, то высшее Добро будет не что иное,
как «та кривая линия, которая есть все и которая заключает в себе
все, что возможно при посредстве той функции». Затем, критикуя
Канта ссылками на слова самого Канта, он высказывает мысль,
уже частью развитую последователями Вольфа и сотрудниками
1 Обе статьи помещены с некоторыми сокращениями у Дильтея в Denkmale:
первая — на с. 6—19, вторая — на с. 19—46.
384
Р. ГАИМ
Эбергардова журнала, что из понятия о высшем Добре нельзя
делать выводы о существовании Бога и о бессмертии души. Он
доказывает, что, пытаясь делать такие выводы, Кант провинился
в смешении идеи высшего Добра с элементами блаженства.
Соединение добродетели с блаженством, лежащее в основе
понятий о Боге и о бессмертии души, немыслимо уже потому, что
добродетель и блаженство разнородны по своей сущности. По
мнению Шлейермахера, блаженство есть потребность нашей
способности желать, и только вследствие того, что Кант поставил
эту способность в чрезмерно близкую связь с разумом, он мог
впасть в ту ошибку, что идею о высшем Добре связал с понятием
о блаженстве, то есть с совокупностью всего, что служит
объектом для нашей способности желать.
Во второй, более обширной статье Шлейермахер старается
разрешить проблему свободы посредством правильного
установления отношений нашей способности желать к
предписывающему законы разуму. Опираясь на строго проверенные
доказательства и устраняя могущие возникнуть возражения, он развивает
субъективный, психологический детерминизм. Исходя из понятия
о нравственном долге как о продукте нашего нравственного
чувства, он задается вопросом: как должна проявляться наша
способность желать, если она должна согласоваться с признанием
нравственного долга? Надо, гласит ответ, чтоб требования
предписывающего законы разума сделались объектами такого
влечения, которое было бы чем-то вроде представителя разума в
нашей способности желать. Существование такого влечения, такого
нравственного чувства вместе с вполне определенной волей суть
первоначальные данные, на которых зиждется понятие о долге.
Дальнейшие данные заключаются в том, чтобы влечение,
служащее представителем разума, перевешивало влияние всех других
влечений. Но основу для такого перевеса можно искать не вне
субъекта, а только внутри его, только в совокупности понятий,
господствующих в его душе. Если предположить, что влияние моих
нравственных понятий ни в каком случае не может быть слабее
противоположных влияний, то я всегда ответствен за мои деяния.
А так как эта теория не устраняет вменяемости, то при ней и эта
вторая форма проявлений нравственного чувства впервые получает
разумный смысл. Вслед за этим излагаются главные положения
статьи, из которых видно, что их автор не был только
последователем лейбнице-вольфовской философии. Вменяемость, го-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
385
ворит он, есть тот приговор, на основании которого мы
приписываем нравственность каждого деяния тому, кто его совершил;
стало быть, это есть приговор о личном достоинстве того, кто
совершил это деяние. Но постановлять такой приговор можно
только в том предположении, что деяния имеют свою основу в
человеческой душе; только тогда есть основание для применения
наказаний, потому что только тогда можно основательно рассчитывать
на их полезное влияние. Эта теория только с виду устраняет
чувство свободы. Ее устранил бы только такой детерминизм,
который поставил бы нашу способность желать под непреодолимое
влияние внешних объектов. А развиваемый здесь детерминизм
устраняет только ту фантастическую свободу, благодаря которой
способность желать не руководствуется никакими мотивами или
даже действует наперекор всем присутствующим мотивам.
Такое фальшивое чувство свободы делает из нашей воли
чудотворную силу, из раскаяния — совершенно бесполезное чувство;
оно заглушает стремления к нравственным улучшениям и
ослабляет сознание личной самодеятельности, между тем как
настоящее чувство свободы находит в сознании необходимости
сдерживающую силу и верное руководство. Наконец, Шлейермахер
отвечает еще на одно возражение, которое может быть сделано
против его понятия о согласовании наших деяний с нравственными
законами. Это возражение основано на идее о Божеском
правосудии, с которой, по-видимому, находится в противоречии то понятие;
на той идее, что высшая степень блаженства соединяется с такой
добродетелью, которая обусловлена данными обстоятельствами
и, стало быть, не может быть поставлена целиком в заслугу
человека. В ответе на это возражение критицизм автора доходит до
своего апогея. Шлейермахер начинает с протеста против попытки
сделать из этического вопроса космический, из
психологического — метафизический. Он говорит, что не имеет обыкновения
«во время первого акта пьесы перелистывать ее конец». Когда он
наконец вынужден прибегнуть к этому приему, он дает своим
идеям такой оборот, что понятие о Божеском плане мироздания
является у него в освещении самого чистого этицизма. По его мнению,
идея о высшем порядке, господствующем во всем духовном мире,
вовсе не требует сочетания добродетели с блаженством. Счастье
не есть привилегия добродетели; оно обусловливается всей
совокупностью душевных свойств, но может совмещаться с
сознанием порочной жизни точно так же, как с сознанием жизни безуп-
13 Зак. № 3602
386
Р. ГАЙМ
речной: «Каждый находит наслаждение в таких деяниях, которые
соответствуют системе его нравственных понятий и в которых он
может созерцать как бы отражение этих понятий». А в связи с
этой идеей автор высказывает еще другую идею. Его отец
рекомендовал ему чтение произведения Лессинга «Воспитание
человеческого рода»1. Влияние Лессинга сказывается в том, что и у
юного Шлейермахера догматическое понятие о Божеском
правосудии превращается в гипотетическое понятие о чисто
нравственном воспитании человеческого рода. Высшая степень возможного
нравственного совершенства есть общая цель, к которой
стремятся все человеческие души различными путями, и уже теперь
план такого совершенствования обнаруживается в разнообразии
индивидуальных нравственных несходств.
Эти две статьи относятся по своему содержанию к тому
времени, когда Шлейермахер жил в Дроссене, но последняя из них
была вполне отделана только в течение следующих лет2.
Свидетельствуя о ранней умственной зрелости юноши, они вместе с тем
обнаруживают грустное настроение ума, которое производит
тяжелое впечатление на читателя ввиду молодости автора. И
решительное отречение от всяких мечтаний, от всяких фантастических
надежд, и логический радикализм, и отсутствие всяких
страстных порывов, и мягкий склад ума, незнакомый ни с горячей
ненавистью, ни с горячей любовью, и как бы преждевременный отказ
от надежды быть счастливым — все это несвойственно
юношеству, а у Шлейермахера, без сомнения, было в значительной мере
результатом разочарований, которые ему пришлось пережить
в раннюю пору его молодости. Вступая на новое житейское
поприще, он не отложил в сторону того отречения от мира, к
которому его приучило гернгутерское воспитание; его правдолюбие и его
прозорливый ум не позволяли ему искать за это вознаграждения в
своей фантазии, в воображаемом блаженстве загробной жизни;
его стесненное внешнее положение даже не давало ему
возможности познакомиться с тем, что есть привлекательного и
радостного в земной жизни. Скептицизм, но не мрачный и во всем
отчаивающийся, а кроткий, улыбающийся скептицизм, был в то время
основным тоном его внутренней жизни. В одном из своих поздней-
1 «Aus Schleiermacher's Leben» I, 83.
2 Касательно времени возникновения этой статьи см. Дильтея: «Das Leben
Schleiermacher's» (с. 132, 134) и в особенности Denkmale (с. 6, 19).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
387
ших писем он признавался, что, несмотря на свою любовь к
истине, он во время своих университетских занятий «утрачивал веру
даже в науку»1. К нашему удивлению, его позднейшие письма ясно
доказывают, что он в то время не изучал никаких других
произведений немецких писателей с таким же вниманием, с каким
изучал произведения Виланда. Веселая сатира великого неверующего
древних времен Лукиана вполне соответствовала его
собственному душевному настроению, и он полагал, что его век более
всякого другого нуждался в появлении нового Лукиана. В Дроссене
ему попались в руки сочинения великого французского скептика
Монтеня, и он нашел в этих сочинениях такой неистощимый запас
здравого смысла и истинной философии, что называл их своей
«карманной Библией», в которой ежедневно искал укрепляющей
пищи для своего сердца. Под влиянием этого скептического
настроения ума он писал в декабре 1789 года Бринкманну, что
совершенно разочаровался в своей авторской деятельности, что
решился отказаться от нее и впредь ограничиться отвлеченным
мышлением.
Нетрудно себе представить, как он относился к теологии при
таких научных убеждениях и при таком настроении ума. Ни его
университетские занятия, ни его пребывание в доме пастора не
ослабили его неверия, его еретических воззрений на
христианство и на христианскую догматику. «Мое умственное
направление определилось бесповоротно, — писал он Бринкманну, —даже
если бы Виценманн и сам Сократ взялись защищать
христианство, они не заставили бы меня отказаться от моих убеждений»2.
Он с удовольствием сообщает своему другу, что его дядя более и
более отступается от «настоящего христианства» и смотрит на
христианство только как «на средство объяснять народу его
обязанности самым успешным и самым красноречивым способом».
Племянник был в своих мнениях еще более радикален: он
полагал, что не кто другой, как софисты сделали из христианства
догматическую систему, которая постоянно будет изменяться
вместе с философскими идеями. Без такого сочетания с философией
христианство осталось бы тем, чем было первоначально, —
сборником годных для всякого нравственных правил с примесью
немногих догматов, которые устанавливались только для иудеев и
1 «Aus Schleiermacher's Leben» 1,226.
2 Дшыпей, «Das Leben Schleiermacher's», с 144 (с ненапечатанного подлинника).
388
Р. ГАЙМ
сохранялись бы только между иудеями и их потомством1. И не
только догматическое христианство, но даже благочестие не
должно, по его мнению, выходить из пределов чистой морали: ведь в
основе благочестия всегда кроется желание сделаться ангелом и
было бы очень плохо, если бы оно заменило желание «сделаться
только хорошим человеком»2.
Как же должен был смотреть на должность церковного
проповедника и на предстоявший теологический экзамен тот юноша,
который высказывал такие мнения? Он неоднократно и в самых
энергических выражениях изливал свое несочувствие к «мрачному
омуту теологии», в который его заставляли окунуться
приготовления к экзамену. К этому присоединялось опасение, что экзамен
может оказаться неуспешным. Но отец и дядя настойчиво
требовали экзамена. Шлейермахер подчинился их требованию не
столько из заботливости о своей карьере, сколько из желания выйти из
своей замкнутой сферы и вступить в такую среду, где нашел бы
более сильные возбуждения к умственной деятельности. «Я только
опасаюсь, — писал он, — что мой добрый гений встряхнет над
моей головой своими крыльями и улетит, когда я буду излагать
в моих ответах на вопросы экзаменатора такие теологические
тонкости, которые в глубине моей души нахожу смешными.
Впрочем, и Эбергард, несмотря на свои еретические мнения, держал
экзамен в консистории». И еретические мнения Шлейермахера
остались незамеченными. В июне 1790 года он успешно
выдержал в Берлине свой экзамен. Благодаря своим познаниям и своей
пробной проповеди он приобрел влиятельного доброжелателя в
лице советника главной консистории Сака, который уже ранее
находился в дружеских отношениях с его семейством; этому
доброжелателю он был обязан местом домашнего наставника в
семействе графа Дона, а этому месту был обязан несколькими из
самых счастливых лет своей жизни.
Сначала было решено, что он отправился в Кенигсберг для
того, чтоб там руководить университетскими занятиями молодого
графа Вильгельма Дона, но потом было условлено, что он
останется в постоянном месте пребывания графского семейства, в Шло-
биттене, в качестве гувернера младших детей. За то, что он
лишился удобного случая продолжать свои ученые занятия при
1 «Aus Schleiermacher's Leben» IV, 29.
2 Там же IV, с. 38.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
389
более благоприятных условиях, он был с избытком вознагражден
теми впечатлениями, которые вынес из жизни в Шлобитгене. Там
он в первый раз получил понятие о женщинах, о которых прежде
знал только по рассказам; ему даже пришлось укрощать в
глубине своей души чувства и желания, которые возбуждала любезность
молодой графини Фридерики. В своих «Монологах» он
впоследствии упоминал о другой пользе, вынесенной им из пребывания в
Шлобиттене: «Живя в чужом доме, я стал понимать, как может
быть приятна жизнь в обществе других людей; я видел, как
свобода облагораживает те затаенные человеческие чувства,
которые всегда остаются непонятными тому, кто чтит в них только
наложенные натурой узы».
Приятное душевное настроение, которое сказывалось в этот
период его жизни в его письмах, не имело ничего общего со
скептической насмешливостью, которую он проявлял в более
раннюю пору. Но разве в его научных убеждениях произошла
перемена? Вовсе нет, так как именно в то время он занимался
обработкой своих прежних произведений. Только в то время его
исследования о свободе получили ту внешнюю форму, в которой
они дошли до нас и в которой Шлейермахер намеревался
напечатать их в маленьком томике «Философских очерков». Но
прежние убеждения получили в глазах Шлейермахера иную цену с
тех пор, как он стал жить в новой сфере. Он старался привести
их в равновесие со своими новыми испытаниями, со своим
расширившимся кругозором, со своими более глубокими
чувственными впечатлениями. Из своих философских исследований он
стал делать выводы, применимые на практике, а от этих
практических выводов стал переходить к наблюдениям над самим
собой. Тогда в нем снова стало пробуждаться то религиозное
чувство, которое было в нем рано развито тщательным воспитанием,
а потом заглохло вследствие борьбы с философскими и
догматическими отвлеченностями, но, как это случилось, не в
состоянии выяснить его биография. Для нас ясно только то, что,
несмотря на его непрекращавшееся несочувствие к догматике
ортодоксалов и представителей тогдашнего Просвещения, в нем
пробудилось сознание, что его собственное мировоззрение не
несовместимо с духом христианства и со званием церковного
проповедника. Переход к этому званию был для него облегчен
тем, что он исполнял обязанности домашнего и семейного
проповедника в Шлобиттене в сфере таких людей, с которыми на-
390
Р. ГАИМ
ходился в близких, дружеских отношениях. В этих проповедях
он, лишь слегка опираясь на самые общие догматы христианского
учения, развивал свое собственное чисто этическое
мировоззрение и старался согласовать его с потребностями человеческого
сердца. Он принимал в соображение сердечные потребности как
своих слушателей, так и свои собственные. Из содержания
проповеди, произнесенной им в первый день нового 1792 года,
возникли монологические рассуждения «О достоинстве жизни»,
которые объясняют нам, каким образом его философская
система стала пускать корни и в его складе ума, и в его сердце; они
вдвойне замечательны тем, что мы ясно видим в них зародыш
позднее написанных «Монологов»1.
По своему характеру эти рассуждения не имеют никакого
сходства с философическими очерками Шлейермахера. Они носят
субъективную окраску и дают нам возможность заглянуть в
самую глубину души их автора. Назначение человеческой жизни
должно объясняться, по мнению Шлейермахера, тем, что
составляет сущность человека, независимо от законов высшего
существа и от идеи о бессмертии души. «Полная и постоянная гармония
между познаванием и желанием,— говорит он, — есть высшая
цель, указанная человеку». Но этому препятствует ограниченность
нашей натуры. Рядом с влечением к добродетели заявляет о себе
желание блаженства. Мы вступаем в жизнь с двоякими
притязаниями. «Мы требуем от жизни условий для нашего счастья и
вместе с тем требуем, чтобы она доставляла нам возможность
употреблять в дело и развивать нравственные достоинства».
В Шлейермахере узнается человек, читавший этику Аристотеля,
когда он старается уяснить участие судьбы в размере
человеческого счастья и когда он высказывает убеждение, что, несмотря
на неравенство дарований, общественного положения,
образования и внешних условий, сумма счастья повсюду одинакова, судьба
справедлива, а «людей вводит в заблуждение только способ
расплаты». Но счастье, говорит далее Шлейермахер, не есть нечто
самостоятельное, имеющее цену само по себе: к нему ведет
бесконечный путь, на котором мы, по установленному Богом
порядку вещей, должны стремиться к совершенно иным целям. Из
этого воззрения далее проистекает душевное настроение, основанное
на бесстрастном смирении. Идеализм нравственности не совме-
1 Denkmale, с. 46—63; сравн. «Leben Schleiermacher's», с. 55 и ел.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
391
щается с мечтательным идеализмом чувств, надежд, ожиданий.
«Не ожидай, чтобы исполнилось что-либо из того, чего могло бы
пожелать твое стремящееся к высшему счастью сердце;
заранее откажись от всего».
Следует ли объяснять случайностью, что статья оборвалась
на этом месте? Или же смирение действительно было
окончательным выводом, к которому пришел Шлейермахер? Не
подлежит сомнению, что оно не могло быть полным выражением его
этических воззрений. Уже в то время он сознавал, как трудно
«жаждущему любви сердцу» согласовать смирение с условиями
общественной жизни. Он ошибался, думая, что для него «уже прошла
пора юности», что его понятия о жизни сложились окончательно.
Он, в сущности, был моложе, чем воображал. После того как он
отказался от должности гувернера в Шлобиттене, он прожил
довольно долго у своего дяди в Дроссене, а в сентябре 1793 года
получил через посредство Сака должность в семинарии Гедике, в
Берлине, и посвятил себя педагогической деятельности. Ни эта
пора его жизни, ни его тогдашние занятия не были благоприятны
для его дальнейшего внутреннего развития. Но в это время ему
предложил место своего помощника его родственник, престарелый
Шуманн, служивший пастором в Ландсберге; Шлейермахер с
радостью принял это предложение. Скромное звание второго
церковного проповедника казалось ему более привлекательным, чем
звание школьного преподавателя и чем столичная жизнь, еще не
успевшая втянуть его в свой водоворот и даже отталкивавшая
его своей надоедливой суетливостью. В своем новом положении
он провел два года — с Пасхи 1794 года до Пасхи 1796 года. Там
он свыкся со своим настоящим призванием, исполняя с величайшей
добросовестностью обязанности проповедника, истолкователя
катехизиса и духовного пастыря. Несмотря на свое несочувствие
к христианской догматике, он находил в проповедовании
христианского учения удовлетворение своего врожденного влечения к
роли педагога. Руководствуясь этим влечением, он стал все
глубже вникать в нравственный и религиозный характер
христианского мировоззрения и нашел, что это мировоззрение сходилось с его
собственными самыми глубокими убеждениями. Из проповедей,
которые он произносил в Ландсберге, ясно видно, что он не
находил надобности прибегать к каким-либо искусственным и
софистическим «нравоучительным объяснениям» христианской
мифологии, а придавал ей только такой идеальный смысл, который,
392
Р. ГАЙМ
независимо от всякой исторической критики и от всякой
метафизики, укрепляет в людях чувства благочестия и нравственности.
Безыскусственные очерки христианского мировоззрения
служили для него рамкой, не выходя из которой он старался объяснять
своим слушателям, как необходимо развивать и очищать свою
волю и возвышаться душой над тем, что мелочно и преходяще.
Благодаря этой связи между нравственным элементом и
умственными доводами установлялось единство между всеми
разнообразными нравственными чувствами и отношениями, а из этого
единства проповедник делал строго правильные выводы касательно
частностей, которые объяснял с самой тщательной
подробностью. С этой стороны и его тогдашние проповеди были чем-то вроде
«Философских очерков». Он усердно занимался их отделкой, а
между тем как он стремился к приобретению популярности
посредством предпринятого вместе с Саком перевода проповедей
англичанина Блэра, он уже помышлял об издании сборника своих
собственных проповедей.
При всех этих практических упражнениях и замыслах он,
однако, не прекращал и своих чисто теоретических занятий. Быть
может, еще во время своего пребывания в Ландсберге и во всяком
случае не позднее, чем немедленно после своего отъезда оттуда,
он познакомился с произведениями Спинозы1.
Первое впечатление, вынесенное Шлейермахером из этого
знакомства, не было совершенно таким, каким можно было
предполагать. Он, по-видимому, должен был прийти в радостное
удивление, отыскав такого писателя, который имел так много общего
с ним и по складу своего ума, и по своим чувствам. Но он читал
произведения великого нравоучителя в неточном и местами
искаженном изложении Якоби. Поэтому он обратил
преимущественное внимание не на религиозно-нравственные мнения Спинозы, а
на его метафизику. Он прежде всего постарался уяснять для себя
основы и настоящий смысл этой метафизики. Он с блестящей
прозорливостью и поистине гениальной сметливостью добрался
сквозь неточности Якоби до настоящего Спинозы и затем
сопоставил теорию этого философа с теориями Лейбница и Канта. Из
1 Дильтей относит это знакомство ко времени пребывания Шлейермахера в
Ландсберге («Leben Schleiermacher's», с. 147). На гораздо более раннее
знакомство указывает одно выражение в письме Шлейермахера к Дельбрюку (IV, 375);
на немного более раннее указывает записочка Шлейермахера к Бринкманну
(IV, 49).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
393
дошедшего до нас изложения спинозизма1 видно, что он вообще
склонялся на сторону Спинозы, не разделяя полного
противоречий лейбницевского мнения о личном абсолюте. Его собственные
убеждения еще яснее высказываются при сравнении Спинозы с
Кантом. Его внимание сначала останавливается на единомыслии
этих двух философов в их основном воззрении, что в основе
внешних явлений, подлежащих нашему наблюдению, лежит ни в чем
не проявляющееся безусловное — «вещь в себе»; он вполне
разделяет это воззрение. Но вслед за этим он переходит к более
точным определениям бесконечного и отношений бесконечного к
конечному, критикуя Канта при помощи Спинозы и Спинозу при
помощи Канта. Он говорит, что если бы Спиноза уже был знаком
с критическим идеализмом, то он не приписывал бы
положительного единства и бесконечности существованию «вещи в себе»
и не стал бы утверждать, что протяженность и мышление суть
атрибуты и даже единственные атрибуты бесконечного существа;
в этих случаях Шлейермахер не расходится с основными
воззрениями Канта. Но его любознательности не в состоянии вполне
удовлетворить ни один из этих двух философов, так как ни один из
них не в состоянии ответить на вопрос: откуда исходит идея об
индивидууме и на чем она основана? Тем не менее уже в то время
были готовы в уме Шлейермахера средства восполнить этот
пробел в нашем знании и ответить на вопрос касательно principium
individuationis. Эти средства заключались в его религиозном и
нравственном чувстве. Из первого он извлек основу для «вещи в себе»,
лежащей вне всякого познавания; из второго он извлек
объяснение отношений между всеобщим разумом и индивидуальной
ограниченностью. Но и для того и для другого он нашел подходящие
выражения только после того, как благодаря соприкосновению с
новыми сферами жизни и образованности достиг более высокого
сознания своих сил и возможности, ничем не стесняясь,
пользоваться тем, что созрело в его уме. Новая эпоха в его развитии
началась вскоре после того, как он переселился из Ландсберга
в Берлин и вступил там в сентябре 1796 года в должность
церковного проповедника при городской больнице.
1 «Kurze Darstellung des Spinozismus» в прибавлениях к изданной Риттсром
(по оставшимся после смерти Шлейермахера бумагам) «Истории философии»; в
полном собрании сочинений III, отд. 4, том I, с. 283 и ел. Другая статья под
заглавием «Spinozismus», о которой упоминает Дильтей в Denkmale (с. 64), не
попадала в мои руки.
394
Р. ГАЙМ
Нам уже известно (в особенности из истории жизни и
умственного развития Тика), из каких элементов складывалась жизнь
в Берлине. Наряду с нравственной распущенностью, с
легкомыслием и необразованностью кружков, придерживавшихся
господствовавших мод, там проявлялось высокомерие представителей
того Просвещения, которое уже давно утратило свое
облагораживающее и укрепляющее влияние и мало-помалу низошло в
своей самоуверенности и в своей мелочности до пошлости. Вместе
с этим там образовались кружки остроумных людей, которые под
влиянием еврейских женщин и девушек старались расчистить
дорогу к новому поэтическому миру, с существованием которого
знакомили произведения великих немецких поэтов. В этих
литературных кружках, занимавшихся чтением вслух и разговорами,
странным образом смешивались старое с новым, восхищение
Энгелем с сочувствием к Гёте, резко высказывавшийся склад ума
эпохи Просвещения с ребяческой чувствительностью, искренние
чувства со свойственным евреям лукавством и женским
кокетством. Именно это смешение берлинской рассудочности с
пробудившейся фантазией, именно это столкновение рефлексии с
энтузиазмом и отразилось на произведениях Тика. И новая
романтическая школа имела много общего с духом берлинских
литературных салонов. Прибытие Шлейермахера в Берлин почти в
точности совпало с упрочением влияния романтической партии
в Берлине. Люди этой партии чувствовали натуральное влечение
к тем кружкам, для которых служили средоточием остроумные
еврейки. Шлейермахер жил с 1796 до 1802 года почти
исключительно в сфере романтиков и тех евреек.
Своим сближением с берлинскими литературными кружками
Шлейермахер был обязан частью своему старому другу Бринк-
манну, променявшему теологическую карьеру на
дипломатическую, частью старшему сыну графа Дона, Александру. Этот
последний ввел его в дом Марка Герца еще во время его первого
пребывания в Берлине; но только теперь ему стало дорого это
знакомство: между ним и Генриеттой Герц возникла самая
искренняя дружеская привязанность. Всех восхищала красота этой
женщины, напомнившей в 1811 году Сульпицию Буассерэ головки
Тициана. Но насколько она была красива, настолько же была она
разумна и образованна; у нее была чистая и впечатлительная
душа. В характере Шлейермахера обнаружилась в первый раз во
время его жизни в Шлобиттене одна новая черта, впоследствии
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
395
все сильнее развивавшаяся в его отношениях с ландсбергской
кузиной, дочерью церковного проповедника Шуманна, и в участии,
с которым он относился к внутренней и внешней жизни своей
сестры Шарлотты, постоянно обменивавшейся с ним самыми
откровенными сообщениями. Это влечение к женскому полу
сказывалось то в намерении читать лекции о свойствах женщин, то в
сделанном его сестре признании, что его натура требует сближения
с женщинами, потому что в его душе есть много непонятного для
мужчин. Из его переписки с женщинами видно, что он разумел
под этими словами. Он обсуждал с женщинами разные житейские
случайности и «милые мелочи», а в связи с ними и самые
деликатные вопросы совести, самые необъяснимые душевные тайны,
и обсуждал так же основательно, как если бы дело шло о важных
практических интересах или о научных проблемах. Он старался
проникать в самую глубину житейской нравственности подобно
тому, как поэзия того времени начала освещать мир чувств и
выражать словами даже безымянные душевные настроения. Этим
объясняется, почему у Шлейермахера самая искренняя
привязанность могла быть совершенно бесстрастной, могла быть не
любовной привязанностью, а дружеской. Именно такова была его
привязанность к Генриетте Герц. Он почти ежедневно виделся с
этой девушкой, предпринимал вместе с ней прогулки, читал и
учился вместе с ней. Они вместе занимались физикой, вместе читали
«Вильгельма Мейстера»; она учила его итальянскому языку, он
учил ее греческому языку и познакомил с произведениями
Платона; ей он впоследствии поверял свои сердечные страдания; ей
он присылал печатные листы еще неоконченных «Речей о
религии».
Уже много времени спустя после возникновения этой
привязанности Шлейермахер познакомился с Фридрихом Шлегелем и
скоро коротко сдружился с ним. Между этими двумя людьми было
так же мало сходства, как и между направлениями их
умственного развития. Шлегель по меньшей мере до некоторой степени
выпутался из сетей своих страстных увлечений и выработал в себе
более ясную волю, более твердые убеждения; напротив того,
Шлейермахер стал переходить от философского здравомыслия
к более полному наслаждению действительной жизнью. Ученые
исследования двух друзей соприкасались во многих отношениях,
но всего более сходились в сфере философии. А всего важнее для
них было то, что каждый из них получал от другого именно то,
396
Р. ГАЙМ
в чем нуждался. Шлегель впервые ввел своего друга в мир
искусства и поэзии и обратил его внимание на понятие Фихте о теории
Канта. Шлейермахер сообщил Шлегелю вполне развитое
воззрение на нравственность и сам явился для него олицетворением этого
воззрения. Нам уже известно1, с какими чрезмерными похвалами
отзывался Шлейермахер об уме и учености своего нового друга;
гораздо более верна характеристика юного теолога, сделанная
Шлегелем в письме к брату. «Очерк о безнравственности всякой
морали» был первым произведением, которым Шлейермахер
возвысился в мнении Фридриха. Поэтому Фридрих хвалит
необыкновенные критические дарования своего друга; по его словам,
Шлейермахер «любит смелые комбинации», но в этом отношении имеет
более сходства с Гарденбергом, чем с ним; парадоксы Шлейер-
махера менее необдуманны, чем большинство его собственных;
Шлейермахер во всем обнаруживает «какую-то своеобразную
легкость приемов», а между тем не уступает Фихте
диалектической силой. Эта характеристика заканчивается так:
«Шлейермахер принадлежит в моих глазах к высшему разряду людей...
Он только тремя годами старше меня, но своими нравственными
понятиями опередил меня чрезвычайно далеко. Я надеюсь, что
еще многому научусь у него. Вся его натура нравственна; у него
заметнее, чем у кого-либо из знакомых мне выдающихся людей,
что нравственность имеет решительный перевес над всем»2.
Намерение Шлегеля пользоваться поучениями Шлейермахера
было вызвано посторонними соображениями. Именно в то время
он был всецело погружен в свою литературную деятельность и
заботился только о снабжении нового журнала отрывочными
заметками и статьями. Его дружба со Шлейермахером так скоро
окрепла, вероятно, главным образом вследствие горячего
сочувствия, с которым Шлейермахер отнесся к намерению основать
«Атеней». В своем даровитом друге Фридрих надеялся найти
сотрудника для нового журнала. Критико-философские статьи
Шлейермахера и обзоры философической литературы,
помещавшиеся Шеллингом в журнале Нитгаммера и Фихте, навели
Шлегеля на мысль обсуждать современную философию в самой сво-
1 См. выше, с. 241, 242.
2 Фридрих к Вильгельму Шлегелю (в ноябре 1797 года) в бумагах Бскинга
№ 95 по списку Клетте; сравн. № 91 от 31 октября 1797 года. И для того, что
следует далее, служили источниками письма Фр. Шлегеля, написанные в конце
1797 года.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
397
бодной и самой популярной форме — в форме рапсодий под
заглавием «Historischen Ansichten der Philosophie» («Исторические
очерки философии».—Прим. науч. ред.). Он рассчитывал на
содействие со стороны Гарденберга и Шлейермахера,
произведения которых, конечно, сам стал бы редактировать! Для таких
«рапсодий» он считал более всех способным Шлейермахера,
который, по его мнению, обладал «широтой размаха и неудержимым
потоком идей». Кроме того, он рассчитывал на шлейермахеров-
скую рецензию на только что вышедшую в свет кантовскую
«Метафизику нравов» и, само собой разумеется, также на содействие
этого друга при составлении «Отрывочных заметок». Главный
недостаток этого друга заключался, по мнению Фридриха, только
в том, что его нелегко было склонить к сочинению статей, что он
«не находил никакого интереса за что-нибудь взяться». «Я мучу
его своими настояниями, — писал Шлегель, — всякий день, лишь
только встречаюсь с ним».
Для Шлейермахера такие настояния были чрезвычайно
благотворны. Его мышление до той поры было, в сущности,
монологическим, а благодаря ежедневному обмену мыслями с Шлеге-
лем его собственные идеи стали представляться ему как бы сквозь
увеличительное стекло. Он находил, что «неиссякаемый поток
новых воззрений и идей Шлегеля» пробуждал в нем то, «что
находилось в дремоте». Но Шлегель побуждал его не только к
мышлению, а также к деятельности. Из писем самого Шлейермахера
видно, что его друг постоянно приставал к нему с просьбами что-
нибудь написать. Шлегель даже стал рыться в его старых бумагах,
извлек из них некоторые дополнения к «Отрывочным заметкам»
и наконец добился того, что некоторые отрывки были написаны
Шлейермахером именно для «Атенея». «Вот до чего довел меня
Шлегель,— писал Шлейермахер в июне 1798 года, — но он до
сих пор не мог заставить меня написать что-нибудь более
значительное»1.
К счастью, старания Шлегеля оказались небезуспешными.
Он не без основания хвастался тем, что при содействии Генриетты
Герц заставил своего друга «вывести на свет» и «обработать»
его идеи. Подобно потоку, который сначала течет под землей, а по-
1 Сравн. «Aus Schleiermacher 's Leben» I, 162, 165, 178 и касательно
«Отрывков» III, 97. Некоторые из «Отрывков» Шлейермахера, очевидно, были
отрывками из «Очерков о безнравственности всякой морали».
398
Р. ГАЙМ
том вдруг широко разливается по земле, и глубокомысленные идеи
Шлейермахера внезапно выразились в своеобразном сочинении,
носящем на себе признаки влияния Нового времени. Его
«Отрывочные заметки» были первым шагом к самостоятельной
литературной деятельности. Его переводы проповедей Фауцетга,
предпринятые им в 1797 году после перевода проповедей Блэра, были
несамостоятельной работой, вызванной только его деятельностью
церковного проповедника. А та книга, которая, по его
собственному выражению, «лишила его литературной невинности»1, была
совершенно иного рода. Она, в сущности, была программой новой
теологии; она открывала новую эпоху в истории немецкой науки и,
в особенности, в истории немецкого образования. Она носит на
себе отпечаток юношеской силы и оригинальности и была
предвестницей такого же богатого последствиями переворота в сфере
научного развития, какой предвещали в сфере немецкой поэзии
гётевские «Гёц» и «Вертер» и первые драмы Шиллера.
Чтобы временно заменить уволенного с должности
придворного пастора Бамбергера, Шлейермахер провел в начале 1799 года
несколько месяцев в Потсдаме, вдали от своих берлинских друзей.
После чрезмерного умственного возбуждения он, наконец, мог
сосредоточиться в самом себе и занимался с января до половины
апреля сочинением «Речей о религии к образованным людям,
презирающим религию»2.
Конечно, на всякого производит очень странное впечатление
тот факт, что в своих письмах к Генриетте Герц Шлейермахер
постоянно рассуждал о той внешней форме, в которую облечет
свои «Речи о религии». Приступая к этой работе, он
предварительно как будто становится в позитуру. Он тщательно старается
придавать своему стилю ораторскую окраску. Он старается
настраивать свой ум то чтением Платона, то чтением других
писателей: можно бы было подумать, что дело идет ни о чем другом,
1 Почти в то же время одна из его проповедей была помещена в большом
сборнике проповедей различных пасторов (сравн. «Aus Schleiermacher's Leben»
(I, 220; III, 116) и проповеди Шлейермахера (IV, 1 и ел.)); кроме того, в письмах
неоднократно идет речь о литературной работе для одного берлинского
календаря, но я не мог добыть точные сведения о ней.
2 «Ueber die Religion. Reden an dei Gebildeten unter ihren Verächtern» (Берлин,
у Унгера, 1799). В нашем изложении мы придерживаемся исключительно текста
этого первоначального издания. Он значительно расходится и с текстом второго
издания, и со следующими изданиями, и с перепечаткой «Речей» в полном
собрании сочинений Шлейермахера (отд. I, том I, с. 133 и ел.).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
399
кроме художественного литературного произведения или кроме
литературной пробы. Даже в законченном произведении видны
самые ясные следы таких литературных приемов. Своим тоном
оно резко отличается и от ранее написанных ученых статей Шлей-
ермахера, и от его проповедей. Ни от чьего внимания не могут
ускользнуть ни подражания Платону, ни натянутость некоторых
оборотов речи, ни проявляющийся местами искусственный
пафос, ни чрезмерно цветистая фразеология. Однако рядом с этой
шаткостью писателя видна в высшей степени твердая
самоуверенность оратора. Во вступительной речи, над которой стоит
заголовок «Апология», автор сам себя причисляет к тем поэтам и
прорицателям, которые занимают серединное место между
спекулятивными идеалистами и запутавшимися в мирских интересах
практическими людьми и на которых лежат обязанности
высшего священства. «Я пишу, — говорит он, — потому что это
внутренняя непреодолимая потребность моей натуры, потому что
это — указанное мне Богом призвание; это то, что определяет
мое место во вселенной и делает меня тем, что я есмь». Он хочет
вести речь о религии, потому что с тех пор, как мыслит и живет,
религия служит самым сильным стимулом для его
существования; ею питалась его юношеская жизнь, и он сберег ее даже
после того, как «Бог и бессмертие души исчезли из глаз того, в чью
душу закрались сомнения». А чтобы ничего недоставало для
принятой им на себя роли прорицателя и реформатора, к его
сознанию личного призвания присоединяется сознание своеобразной
важности того времени, в которое он выступает на сцену. Он
знает, что это такое время, когда его речи о религии могут ожидать
успеха, что это время всеобщих замешательств и переворотов,
когда расшатывается все, что есть дело рук человеческих; когда
желание сохранять борется с желанием ниспровергать, а потому
и «проявления бесконечного иногда совершаются в несколько
мгновений более ясно, чем в течение столетий».
По всему видно, что это тот самый человек, который ребенком
не хотел подчиняться навязанной ему религиозной системе, но
при крушении старых верований в целости сохранил сокровище
искреннего благочестия; который постоянно вращался в сфере идей
своего времени, постоянно все более углублялся в свое
религиозное призвание и создал для своего мышления твердую и
совершенно своеобразную точку зрения. Но в то же время это был
совершенно другой человек. Своей самоуверенностью и высоким
400
Р. ГАИМ
полетом своих идей он был обязан не одному себе, а также своему
вступлению в свет, своему знакомству с теми людьми, которые
стояли в передовых рядах духовных борцов того времени. Форму
«Речей» он объясняет природой их сюжета. Он говорит, что о
религии нельзя писать иначе, как ораторским слогом и самым
художественным языком. Однако это оправдание прямо указывает
нам, в какой школе он этому научился. Сюжет его изложения
находится в близком родстве с тем, о чем всего чаще писали его
друзья-романтики, — с искусством и с поэзией. Поэтому и форма
его изложения должна была иметь сходство с формой
поэтических произведений. Подобно тому, как Шлегели требовали, чтобы
всякий критический разбор настоящего художественного
произведения сам был художественным произведением, и Шлейерма-
хер хотел изложить свои суждения о религии в такой форме,
которая, по его мнению, должна быть специальной формой религиозных
сочинений, в форме ораторской речи. Этим способом он
становился наряду с поэтами и с критиками поэтических произведений.
Вот почему уже в самом начале «Речей о религии», наряду с
содержанием, составляющим исключительно продукт мышления
самого Шлеиермахера, обнаруживается влияние романтического
направления в том виде, в каком это направление развилось без
содействия Шлеиермахера. И во всем сочинении видно одинаковое
сочетание романтических идей, литературных форм и приемов с
новым и более глубокомысленным содержанием.
В этом отношении в высшей степени знаменательна точка
зрения, на которую становится наш оратор. Уже своими прежними
статьями о Канте он доказал, что стоит вне сферы тогдашнего
Просвещения. Он уже давно разделял несочувствие Канта и
Фихте, Якоби и Спинозы к тривиальностям популярной
философии и новой рационалистической теологии. Но только теперь он,
подобно единомышленникам Тика и Шлегелей, стал считать
тогдашнее Просвещение за отличительную особенность одной
литературной партии. Он задается в своем сочинении намерением
извлечь из самой почвы Просвещения понятие о религии и
признание ее необходимости. В качестве человека образованного и
вместе с тем такого человека, для которого религия служит
средоточием умственной жизни, он обращается «к тем презирающим
религию людям, которые принадлежат к числу людей
образованных». Образование служит общей почвой и для оратора, и для его
слушателей, но слово «образование» имеет в его устах совершенно
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
401
определенный смысл, в сущности такой же смысл, какой оно
получило в устах его друга Фридриха Шлегеля. Обращаясь к
образованным людям, он имеет в виду тех людей, которые содействовали
эстетико-философскому перевороту недавнего прошлого, тех
людей, которые «способны возвышаться над общепринятой точкой
зрения и не боятся вступать на ведущий внутрь человеческого
существа трудный путь для того, чтобы доискиваться основ своих
деяний и своего мышления». Он уверен, что придаст их
образованию больше глубины, объясняя им значение религии, которую они
презирают, потому что не понимают; и наоборот, он надеется, что
своими научными и художественными стремлениями они
помогут «восстановлению религии»; этой помощи он ожидает
преимущественно от стремлений «небольшого кружка», именно того
кружка, с которым он сам сблизился и эстетико-философские
интересы которого он в некоторых местах ясно охарактеризовал.
А из этой солидарности с образованными людьми и ведет свое
начало его полемика против современного Просвещения. Как резко
отзывались отрывочные заметки «Лицея» и «Атенея» о
поверхностном модерантизме и о гармонической пошлости старого
образования, так же резко, презрительно и высокомерно восстает
Шлейермахер против современного Просвещения. Мало того: в
«Речах о религии» впервые доходит до вполне развитой
определенности противоположность между романтическим
образованием и образованием эпохи Просвещения. Шлейермахер нападает
на эту последнюю систему образования не с какой-либо одной
стороны и не отрывочными замечаниями, а подробной ее
характеристикой во всей ее цельности. Он рассматривает ее состав, ее
основную мысль и проникает в самое ее средоточие. Он
рассматривает ее со своей собственной идеальной
нравственно-религиозной точки зрения. В особенности в третьей «Речи» он делает
нелестную характеристику того века, в котором господствовало
это рассудочное образование. Он говорит, что оно не было
настоящим образованием и что созданное им Просвещение было
основано на принципе вражды к религии. С точки зрения этого
Просвещения религия не презиралась, а совершенно
уничтожалась. Его настоящая сущность заключается в обращении к
конечному, в старании отвлекать наше внимание от бесконечного и
подавить в нас свободные от всяких предубеждений чувства, в
старании все понять и все объяснить. В разумности и в
полезности заключается, по словам Шлейермахера, основная точка зре-
402
Р. ГАИМ
ния Просвещения. Оно во всем ищет цели и намерения. Оно
старается разделять на части и анатомировать то, что само по себе
цельно. Оно во всем ищет связи с мещанской жизнью, а чистую
любовь к искусству и к поэзии считает по большей мере за
терпимую роскошь. Оно относится враждебно ко всему, что
оригинально и индивидуально; его идеалы — ни на что не годные
обобщения и пошлая рассудительность; оно ценит только «небольшую и
бесплодную сферу без наук, без нравов, без искусства, без
любви, без ума и, в сущности, даже безо всякого смысла». Это плод
отеческой, эвдемонистической политики, заменившей суровый
деспотизм; его господство имеет до сих пор впечатляющие размеры:
его приверженцы до сих пор имеют на своей стороне
решительное большинство и господствуют над воспитанием, над
обществом, над наукой и даже над философией.
Чем же объясняется тот факт, что Шлейермахер так ясно
сознавал противоположность между романтизмом и современным
Просвещением, а его нападки на это Просвещение совпали с
намерением выяснить сущность религии?
Это объясняется тем, что его врожденные влечения и его
умственное развитие во многих отношениях сходились с
врожденными влечениями и с умственным развитием представителей
молодой критико-поэтической школы, а в некоторых других
отношениях заходили гораздо далее. Его воспитание в духе
благочестия имело некоторое сходство с тем эстетическим образованием,
на почве которого стояли его друзья-романтики. Его спокойное
душевное настроение, проникнутое нравственными идеями,
соответствовало превозносимой романтиками гармонии душевной
жизни. Вследствие своей врожденной склонности к мистицизму,
он, подобно Гарденбергу, сочувствовал превозносимой Фр. Шле-
гелем философии Канта и Фихте, которая старалась разъяснить
самые сокровенные тайны духовной жизни. Но это бросающееся
в глаза сходство было так же велико, как и несходство. Ни один
их юных поэтов и эстетиков не мог равняться со Шлейермахером
глубиной идей и искренностью нравственных убеждений.
Своеобразные религиозные влечения были у него общими только с Гар-
денбергом, но у этого последнего они ежеминутно переходили в
поэзию. Кроме того, он методически изучил философию; он один
трудился над самыми обстоятельными и самыми отвлеченными
философскими выводами для того, чтобы быть в состоянии поме-
ряться силами с Кантом и со Спинозой. Действительно, его «Речи
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
403
о религии» были продуктом преимущественно критической точки
зрения. Это было не что иное, как применение критического
идеализма в области религии. Только потому, что строго критическая
тенденция этой философии еще не проникала в область религии,
только потому, что в этой области образование еще находилось
под влиянием внешних и сбивчивых тенденций Просвещения,
религия сделалась, по мнению Шлейермахера, предметом
презрения даже для образованных людей. Ведь это презрение
относится только к внешней стороне исторического возникновения религии,
только к различным религиозным системам и, в особенности,
к «тем некрепко вместе сшитым отрывкам метафизики и
морали, которые называются рассудочным христианством». Шлейер-
махер вовсе не осуждает тех, кто находит это рассудочное
христианство бессмысленным, но он требует, чтоб они проверили
причины своего презрения, чтоб они уяснили для себя не внешнюю
сторону, а сущность религии. Даже Кант не взялся за эту задачу,
даже он впал в заблуждение относительно этого предмета. Он
только очистил от всякой примеси, от всяких внешних наростов
элементы знания, чистой морали и, наконец, чистой эстетики, но
вместо настоящей религии он открыл только такую религию,
которая «не выходит за пределы разума»; этим он обнаружил такую
несамостоятельность человеческого разума, которая вовлекла его
в непонимание настоящей сущности и достоинства религии. На
это обстоятельство настойчиво указывает Шлейермахер. Он
дополняет кантовскую критику относительно религии совершенно
новым анализом, какого не предпринимал Кант. Он говорит, что
подобно тем, кто вступился бы за самостоятельность и за
всемогущество нравственных законов, он вступается за такую же
самостоятельность религии. Он начинает с того, что очищает
религию ото всякой «внешности», в особенности от всякой связи
с какой-либо целью или пользой. Он отводит для нее «особую
сферу в человеческой душе», такую сферу, в которой она
господствует неограниченно. Он твердой рукой обводит границы,
отделяющие эту сферу от тех двух сфер, с которыми ее постоянно
смешивали. Он допускает, что на самом деле религия никогда не
была совершенно чистой, что даже в Священном Писании она
смешивается с метафизикой и с моралью. Но именно потому,
говорит он, и пора «взяться за дело с другого конца и объяснить,
в каком резком противоречии находится религия с моралью и с
метафизикой». Его предвзятое понятие о чистоте и самостоятель-
404
Р. ГАИМ
ности религии обнаруживается и в четвертой «Речи», когда он
развивает понятие о религиозном общении, и в пятой «Речи», когда
развивает понятие о положительном в религии. Он требует,
чтобы чисто религиозное общество было свободно от всякой связи
с государством, чтобы чисто положительное в религии не
заменялось историческими различиями и различиями в понятиях.
Но, стараясь очистить понятие о религии от всяких примесей,
Шлейермахер вместе с тем старается проникать в глубину
человеческой души. Только из сочетания этих двух тенденций мы в
состоянии выяснить учение Шлейермахера о настоящей
сущности религии, даже можно сказать, что мы в состоянии его
выяснить только из совокупности философских элементов, вошедших
в состав умственного развития Шлейермахера. В своем
мистицизме наш юный теолог придерживается учения Спинозы, а в
своем критицизме — учения Канта. Он находит возможность
согласовать эти два учения, когда говорит, что наша склонность
проникать за пределы нашей познавательной способности
коренится в глубине нашего духа, в благочестии. Свои воззрения он
излагает следующим образом.
Религия — не метафизика и не мораль. Она не старается,
подобно метафизике, определять и объяснять натуру универса;
она не старается, подобно морали, довершать его развитие, а
желает созерцать его и с детской пассивностью подчиняться
его непосредственным влияниям. Она есть сознание «бесшумного
исчезновения всего нашего бытия в беспредельном».
«Практика есть искусство, спекуляция есть наука, а религия есть
влечение к бесконечному». Но всего чаще Шлейермахер
возвращается к понятию о содержании универса. Он говорит, что это
понятие есть «самая общая и самая высшая формула религии»,
и только на нем основывает более полную характеристику
религии. Подобно тому, как всякое созерцание есть нечто
единичное, обособленное, и религиозное созерцание ограничивается
отдельными проявлениями бытия универса, не стараясь
доискиваться систематической между ними связи, которая может быть
предметом только отвлеченного мышления. Подобно всякому
созерцанию, оно соединяется с различными чувствами, но
соединяется так, что никогда не берет решительного перевеса над
чувствами, никогда не заглушает их. Вслед за этими
объяснениями автор старается охарактеризовать сначала некоторые из
самых выдающихся религиозных созерцаний, а потом некоторые
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
405
из самых выдающихся религиозных чувств. Религиозные
созерцания, говорит он, развиваются прежде всего из созерцаний
природы. Но природа есть только самое внешнее преддверие
религии и именно те представления, которые всего чаще переносят
нас от природы к универсу, исходят из глубины нашей души, то
есть наша душа есть, в сущности, то, из чего религия извлекает
свои воззрения на мир. «Перед волшебным жезлом
человеческой души растворяются все двери», — было сказано Шлейер-
махером еще в одной из отрывочных заметок, напечатанных в
«Атенее». Но если эти созерцания составляют пассивную
сторону религии, то соединенные с ними чувства составляют ее
активную сторону. К этим чувствам автор относит благоговение,
смирение, любовь, признательность, сострадание и раскаяние;
они принадлежат не к сфере морали, а к сфере религии, потому
что с ними не соединяется понятие о действии. Но то же самое
можно сказать о всех чувствах, «в которых универс составляет
один пункт, наше „Я" — другой пункт, а между этими двумя
пунктами парит человеческая душа».
В этих положениях Шлейермахера постоянно видно
старание предотвратить вторжение спекуляции и морали в область
религии. Тем более открытым остается вопрос, что же следует
думать о тех догматах, которые обыкновенно выдаются за
сущность религии. Некоторые из них, — гласит ответ
Шлейермахера, — суть не что иное, как отвлеченные выражения
религиозных созерцаний, некоторые другие суть вольные размышления о
первоначальных выражениях религиозного чувства, суть
результаты сравнения религиозного воззрения с тем, которое в ходу.
Отсюда следует, что на Шлейермахере лежит задача очистить
от фальшивых примесей рефлексии чисто религиозное
содержание вышеизложенных понятий, перевести их с догматического
языка на религиозный. Кант поступал наоборот, стараясь
посредством нравственного объяснения восстановить цельность
разложенных на составные части догматических понятий. Это
значило вкладывать в них чужую душу, гальванизировать их, а не
возвращать им жизнь. Вместо такого нравственного объяснения
и вместо спекулятивного объяснения, изложенного Гегелем,
Шлейермахер прибегает к единственно возможному
религиозному объяснению. В его изложении научных идей встречаются
поразительные места, в которых целые области духовного мира
внезапно представляются нашим взорам в совершенно новом ос-
406
Р. ГАЙМ
вещении. Точно то же мы находим у Спинозы, когда он взамен
уничтоженной морали создает ту этику, которая основана на
единстве интеллекта и воли; точно то же мы находим у Канта,
когда он с точки зрения нравственности восстанавливает в
новом значении разрушенную метафизику, и у Фихте, когда он с
той же точки зрения восстанавливает разрушенный чувственный
мир. Наконец, мы доходим до того места в «Речах о религии»,
которое содержит в себе зародыш позднейшего обработанного
изложения христианского учения. Более безыскусственным и
более чистым слогом, чем в позднейшем догматическом
изложении, автор пытается здесь, как бы в виде пробы, придать
религиозное значение некоторым из основных догматических
понятий. Так, например, словом «чудо» выражается, по его мнению,
не что иное, как непосредственное отношение данного явления к
бесконечному, к универсу; поэтому всякое, даже самое
естественное происшествие может сделаться чудом с религиозной точки
зрения. Откровение есть всякое оригинальное и новое воззрение
на универс. Вдохновение есть не что иное, как религиозное
название свободы и так далее. Очень хорошо сказано, что «быть
бессмертным» в религиозном смысле этого слова значит
«среди конечного сделаться единым с бесконечным и быть вечным
в течение одного мгновения». Против всякого ожидания, автор
ничего не говорит о понятии веры; еще более удивляет нас то,
что он говорит о понятии о Боге. Мы ожидаем услышать от него,
что слово «Бог» есть не что иное, как «религиозное название
универса», но его объяснения имеют преимущественно
отрицательный характер и вообще более обыкновенного радикальны.
Он допускает возможность созерцать универс без Бога и
говорит, что мерило религиозности должно зависеть от способности
человека созерцать универс, а не от того, входит ли Бог в предмет
созерцания. Под словом «Бог», по его мнению, не следует
разуметь высшее выражение созерцания универса, заключающее в
себе все остальные религиозные созерцания, а следует разуметь
только одно отдельное созерцание наряду с другими
отдельными созерцаниями.
Это воззрение, очевидно, обусловлено оппозиционным духом
и склонностью к парадоксам. Этот факт снова обращает наше
внимание на то, что и на форму, и на содержание «Речей о религии»
имели влияние идеи революционных друзей Шлейермахера.
Рассмотрим, в чем сказывалось это влияние.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
407
Сущность романтического направления заключалась, как нам
уже известно, в том, что оно вносило в современное образование
усиленный субъективизм и идеализм, присоединяя к ним то
влечение к изяществу и к гармонии, которое всего яснее
сказывалось в литературной деятельности Фр. Шлегеля. Именно этого
требовали романтики от людей образованных и именно на этом
было основано притязание религии Шлейермахера считаться не
только необходимой составной частью образования, но и его
высшим совершенством. В конце своей второй «Речи» Шлейермахер
говорит, что только религия дает человеку универсальность. Она
есть нечто вроде регулятора всяких односторонних стремлений.
Силы человека, как бы они ни были велики, не могут находить
для себя полного удовлетворения ни в нравственной, ни в
художественной, ни в философской деятельности, потому что они в конце
концов всегда встречают непреодолимое препятствие в
конечности. Поэтому человеку не остается ничего другого, как отказаться
от этих конечных стремлений, искать убежища в бесконечном и
без всякой определенной деятельности подчиняться впечатлениям
бесконечного. Этим способом «человек находит беспредельное
употребление для избытка своих сил и восстанавливает
равновесие и гармонию в своей натуре». И следует заметить, что ту
силу, которая все уравновешивает и обобщает, Шлейермахер
находит в такой глубине человеческой души, в которую не проникал
даже Фихте. По его мнению, религия есть нечто в высшей степени
субъективное, но вместе с тем она охватывает универс.
Характеристическая особенность его основного воззрения заключается
в попытке вывести субъективизм из пределов, указываемых его
сущностью. В области философии это была такая же попытка,
какая была сделана лирикой Тика в области поэзии. Эта лирика
перешла от выражения полных содержания чувств к выражению
еще неустановившихся душевных настроений и, наконец,
вовлеклась в соперничество с музыкой; точно так и философия
Шлейермахера перешла в такое душевное настроение, которое не
поддается точному описанию и может быть выражено только при
помощи поэзии. Подобно требованию Фр. Шлегеля, чтобы
художник возвышался над тем, что есть самого возвышенного в нем
самом, и у Шлейермахера отдельные религиозные созерцания и
чувства по отношению к природе, к человечеству и к истории
изображаются в виде завялых зародышей цветка; они сами по себе не
религия, так как она является только скрытой позади них силой,
408
Р. ГАИМ
которая дает им жизнь. Сфера мышления и деятельности
отделяется от религии еще более глубокой пропастью. Очищение
религии от всяких посторонних примесей доходит у Шлейермахера до
такой крайности, что всякий переход от религиозных воззрений к
воззрениям теоретическим или практическим становится
невозможным. Лишь только мышление пытается глубже проникнуть в
натуру универса, религиозное созерцание прекращается и в
результате не оказывается ничего другого, кроме пустой мифологии.
Лишь только религиозные чувства приходят в действие, они
переходят на чужую почву, а тот, кто это считает за религию, впадает
в нечестивое суеверие. Религиозные чувства должны только
«сопровождать каждое человеческое деяние, подобно священной
музыке; человек должен все делать с религией и ничего не
должен делать без религии». Но разве можно отгородить религию от
конкретной умственной жизни посредством утверждения, что
признательность, смирение и так далее суть такие чувства, которые
не имеют ничего общего с моралью? И разве можно так
отгородить ее посредством утверждения, что к ней ведут три пути: во-
первых, самосозерцание, во-вторых, созерцание внешнего мира
и, в-третьих, совпадение того и другого в художественном
созерцании? Разве это действительно тройной путь, а не тройной
скачок от тех трех созерцаний к религии?
Но результаты этого доведенного до крайности субъективизма
и идеализма всего яснее обнаруживаются в той главе, где идет
речь о религиозном общении. Общительность религии может быть
основана только на возможности сообщать ее другим. Всякие
убеждения переходят от одних людей к другим преимущественно
в форме идей. Но религия Шлейермахера вовсе не имеет дела с
идеями; поэтому Шлейермахер выпутывается из затруднения
при помощи крайне шаткого основного положения, что человеку
более свойственно сообщать другим людям не идеи, а
созерцания. Какого же рода может быть то религиозное общество,
которое будет ограничиваться таким способом неполного общения?
И внешние проявления религии, конечно, должны соответствовать
характеру созерцания универса. Она должна избегать всякой
публичности. «По основным правилам истинной церкви, миссия
духовного лица есть домашнее дело; домашняя комната должна
быть и тем храмом, в котором он будет возвышать свой голос
для того, чтоб поучать религии». Мало того, религия должна
избегать всякого действительного общения. Так как, по причине
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
409
отсутствия в ней всяких идей, она состоит из множества
отдельных, лишенных всякой систематической связи созерцаний универса,
то и религиозное общество не должно иметь никакой внутренней
связи. Хотя все имеющие религию и должны быть связаны
между собой тесными узами, но так как церковь этого рода есть
идеальная церковь, есть не что иное, как фантастическое
представление о церкви, то и те узы, о которых здесь идет речь, суть не
что иное, как свобода ничем не стесняться. По выражению Шлей-
ермахера, церковь есть «расплывающаяся масса, у которой нет
никаких внешних очертаний, а каждая составная часть находится
то тут, то там, и все они мирно перемешиваются между собой».
При переходе от фантастического понятия о единой истинной
церкви к сознанию необходимости такого церковного учреждения,
которое было бы посредником между теми, кто жаждет религии,
и теми, кто ее имеет, обнаруживается полная неспособность
романтического идеализма создать и организовать что-либо
жизненное. Отыскивая какую-нибудь опору для религиозного
общества, Шлейермахер увлекается фантастической идеей, что такой
опорой служит семейство. Наконец, Шлейермахер, подобно Но-
валису, полагает, что с уничтожением современного
искусственного образования все превратится в волшебный замок, в котором
«Богу земли достаточно будет произнести только одно слово для
того, чтобы исполнилась его воля»; тогда каждый будет иметь
достаточно досуга, чтобы созерцать мир в самом себе; тогда не
нужно будет никаких особых учреждений для сообщения другим
людям своих религиозных чувств! Нет возможности быть более
этого романтическим во всех мечтаниях и нет возможности
заходить далее в манере не признавать никаких границ, никакой
определенности в действительной жизни.
Конечно, нет религии без идеализма и нет ни одной религии,
которая превосходила бы своим идеализмом христианскую
религию. По словам одного писателя, из «Речей о религии» еще не
видно, чтобы Шлейермахер твердо стоял на почве христианства1.
Это замечание основательно в том отношении, что основной
принцип Шлейермахера не может держаться ни на какой определенной
1 Штраусе в статье, хотя и требующей поправок по более новым
биографическим сообщениям и документам, но все еще в высшей степени интересной
«Schleiermacher und Daub, in ihrer Bedeutung für die Theologie unserer Zeit»
(Hallische Jahrbb., 1839, с 97 и ел.); эта статья перепечатана в его «Charakteristiken
und Kritiken», с. 3 и ел.; там же, с. 23, 24.
410
Р. ГАЙМ
почве. Однако несмотря на то что этот принцип становится выше
всякой теоретической и практической определенности, выше
всяких внешних форм верований и религиозного культа, Шлейерма-
хер говорит, что должны возникать бесчисленные положительные
религии, что не только отдельные общины, но и люди могут иметь
свою собственную религию; что наряду с христианством будут
возникать «другие и более новые религии». Но на самом деле он
чувствовал себя на своем месте только на христианской почве;
именно в христианстве он находил ту свободную, подвижную,
способную всякого удовлетворить религию, которая позволяла ему
«сочувствовать и всем существующим религиям, и многим
другим, которые только могут возникнуть».
Если бы мы, в доказательство его привязанности к
христианству, стали ссылаться на его проповеди, то нам пришлось бы
перенестись в другую сферу. Мы предпочитаем, по примеру Гасса1,
сослаться на небольшое сочинение, написанное Шлейермахером
непосредственно после его «Речей» и изданное им в свете, подобно
«Речам», без имени автора. Именно в то время, когда Шлейер-
махер был занят в Потсдаме сочинением «Речей», просвещенное
берлинское общество было взволновано практическим
вопросом — вопросом о еврейской реформе и об эманципации
евреев. Презиравшие религию просвещенные евреи действовали
заодно с презиравшими религию просвещенными христианами; ведь
с тех пор, как честный Мендельсон отвечал решительным
отказом на настоятельные просьбы Лафатера переменить веру, и в
среде евреев стала распространяться склонность к религиозному
индифферентизму. В брошюре под заглавием
«Религиозно-политическая задача» публично обсуждался вопрос о переходе
евреев в христианство как о лучшем и самом удобном способе
устранить неравенство евреев с христианами в правах; а некоторые из
еврейских домохозяев обратились к члену высшей консистории,
Теллеру, с публичным посланием, в котором горячо
рекомендовали этот удобный способ разрешить проблему; они говорили, что
различие между христианством и иудейством, в сущности, очень
незначительно, что достаточно только отменить иудейские
церковные обряды, и тогда все остальные различия легко
мало-помалу изгладятся. В нескольких брошюрах высказывались такие
1 В предисловии к «Переписке Шлейермахера с Фр. Хр. Гассом», с. XXVII
и ел.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
411
же соображения, а после того, как Теллер ответил на обращенное
к нему послание, и Шлеиермахер вмешался в спор по совету своего
друга Марка Герца. Его статья, первоначально
предназначавшаяся для «Archiv der Zeit», превратилась в небольшое сочинение,
которое вышло в свет в июле 1799 года под заглавием «Письма
одного живущего вне Берлина церковного проповедника по
поводу теолого-политической задачи и послания еврейских
домохозяев»1. Шлеиермахер критикует вышеупомянутые брошюры с
язвительной насмешливостью, в которой виден самостоятельный
ученик Лессинга и талантливый полемик2. И с точки зрения
религии, и с точки зрения христианства он решительно восстает
против намерения еврейских домохозяев перейти в христианство. Он
говорит, что это причинило бы очень чувствительный вред и
церкви, и христианству. Но почему же? Потому что нет ничего более
опасного для громадного религиозного общества, чем то, что в
нем будет обращаться лишь небольшая масса настоящей
религии. И без того уже велико число таких равнодушных к религии
христиан, которые причисляют себя к христианам только для того,
чтобы получать свидетельства о своем крещении и оглашать свое
вступление в брак. К чему же увеличивать это число? Зачем
преднамеренно прививать к христианской общине «иудействующее
христианство»? Скорее следовало бы поступить наоборот! Гораздо
желательнее избавить церковь от равнодушных к своей религии
христиан и в увеличении внутренней силы христианства найти
вознаграждение за то, что оно утратило бы в своем объеме! Вот
с какой энергией отстаивает Шлеиермахер не только интересы
религии, но специально интересы христианства. Только
оборотную сторону его религиозных воззрений составляет тот факт, что
в политическом отношении он рекомендует самые либеральные
меры. Он полагает, что ничто не мешает допущению смешанных
браков между лицами еврейского и христианского
вероисповеданий и что вообще от государства зависит разрешение этой
проблемы. Различия между евреями и христианами в гражданских
правах должны быть уничтожены, конечно с тем ограничением,
что евреи должны исполнить некоторые условия; а церковь должна
умолять государство, чтобы оно, ради своей привязанности к хри-
1 Теперь они помещены в полном собрании сочинений (отд. I, том V, с. 1 и
ел.); сравн. его переписку (I, 118; III, 106, 107 и 136).
2 Изучение стиля Лессинга особенно заметно в начале четвертого письма.
412
Р. ГАИМ
стианству, допустило евреев до неограниченного пользования
гражданской свободой; чтобы оно этим способом устранило все, что
может побуждать евреев к переходу в христианство по нечистым,
посторонним мотивам.
Но возвратимся к содержанию «Речей о религии». Ведь они
ближе к христианству, чем «Письма», в которых Шлейермахер
требует гражданской равноправности для евреев с тем условием,
что они предварительно очистят свою религию и откажутся от
надежды на пришествие Мессии. Кроме того, в «Речах» больше
идеализма. Но ведь и в самом христианстве есть романтическая
сторона. Ведь оно повсюду проникло и везде стало господствовать
только благодаря тому, что протестовало против римского
просвещения, против внешней стороны иудейской религии, против
всего мирского и конечного. Автор «Речей» вполне усвоил эти
тенденции христианства, глубоко сочувствовал им, старался
развивать их в самом благородном направлении, старался
приспособить их к чувствам и понятиям Нового времени — ив этом
заключается его громадная заслуга. Он был способен к такой заслуге
столько же благодаря своим личным врожденным влечениям и
своему житейскому опыту, сколько благодаря своим связям с
представителями романтической школы.
Действительно, его личные свойства и его личный опыт имели
громадное влияние на его литературную деятельность. В одном
из писем к Генриетте Герц он говорит: чтоб не придавать «Речам
о религии» превратного смысла, надо знать кроме религии и его
самого. Говоря о «влечении молодых умов к чудесному и
сверхъестественному» и о том, что из этого влечения может развиться
искренняя религиозность, он намекает на один факт в истории
развития его собственного юношеского ума. Когда он говорит, что
нельзя предписывать то или другое религиозное чувство, то в этих
словах жалоба на испытанные им самим душевные страдания при
старании подчиняться установленным формам благочестия в
учебных заведениях в Ниски и в Барби. Когда он, описывая общину
святых, рисует идеал истинной церкви, он лишь изображает
светлую сторону своих юношеских воспоминаний, вынесенных из герн-
гутерского братства. Разве он мог бы такими яркими красками
обрисовать характер настоящего священнослужителя, если бы он
сам не старался своим примером, всей своей жизнью не только
объяснять сущность религии, но также уничтожать ее фальшивую
внешность и «возвышаться надо всем, что грубые предрассудки
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
413
и утонченные суеверия окружили воображаемым величием
божества»? Когда он говорит, что в христианстве священная грусть
есть господствующий тон всех религиозных чувств, он выражает
этими словами свое собственное душевное настроение; это не
могло оставаться незамеченным теми, кто его лично знал, и в
особенности Генриеттой Герц, которой он писал: «Вам известно, что
в грусти я способен работать». Ведь в то же время он говорит в
своих письмах, что воображает себя близким к смерти, что
настанет время, когда он будет не что иное, как fitvom echten Christen-
thum (готов к истинному христианству. — Прим. науч. ред.), а
объяснение этого выражения откладывает до пятой «Речи о религии».
Все это сильно отзывается романтизмом. Рассуждения Шлей-
ермахера о религиозности сходятся с рассуждениями Шлегеля об
эстетике преимущественно в характеристике христианства.
Конечно, только вследствие перенесения эстетического понятия в
религиозную сферу Шлейермахер неоднократно ведет речь о
«виртуозах» религии или христианства. Приписываемая им
христианству полемика против всего, что нечестиво и нерелигиозно,
в принципе то же самое, что Шлегель называет «парадоксами по
отношению к совершенной поэзии»: этим выражается та мысль,
что даже самый совершенный продукт религиозности или поэзии
никогда не может вполне соответствовать идеалу. Шлейермахер
придает своим рассуждениям субъективный характер,
заключающийся в священной грусти, которой должен быть проникнут
христианин: это то же, что проповедует Шлегель под названием
«иронии». Шлейермахер усматривает настоящий смысл христианства
в требовании ничего не щадить, не щадить даже того, что нам
более всего мило и дорого; это то же, что требование Шлегеля,
чтобы в душе занимающегося творчеством художника
господствовало такое настроение, которое бесконечно возвышается над всем
условным, даже над собственным искусством, над собственной
добродетелью или гениальностью. Шлейермахер говорит, что
христианство самую религию обрабатывает как материал для
религии и таким образом становится чем-то вроде ее высшего
выражения; этими словами Шлейермахер отводит христианству такое
же место между религиями, какое шлегелевская теория отводит
поэзии романов между другими видами поэзии. У Шлейермахера
христианство есть «религия религии», есть универсальная
религия; именно поэтому оно указывает нам на находящуюся вне его
самого бесконечную перспективу; точно так и у Шлегеля романти-
414
Р. ГАЙМ
ческая поэзия есть «поэзия поэзии», есть универсальная поэзия с
беспредельным горизонтом. В сущности, религии Шлейермахера
недостает только названия «трансцендентальной» для того, чтобы
довершить ее сходство с трансцендентальной поэзией. Легкое
различие между двумя направлениями, натурально, заключается
в серьезности религии и в игривой веселости искусства; однако
Шлейермахер сожалел о том, что в его «Речах» ничего не сказано
о том, что серьезность и игривость взаимно проникают одна в
другую всего сильнее в благочестивой душе и что отсюда
возникает самое сильное возбуждение к остроумию; он даже
прибавляет, что об этом у него наверно где-нибудь говорится между
строк, потому что это всегда живо представлялось его уму;
стало быть, мы не припишем ему ничего несвойственного складу
его ума, если скажем, что он мог бы вести речь не только о
полемике и о грусти, но также о парадоксии, о священной иронии и об
остроумии христианства.
Вся эта характеристика христианства основана у
Шлейермахера на полемике против любимого понятия представителей
тогдашнего Просвещения о натуральной религии и на протесте
против необходимости положительных религий. Она еще в одном
пункте сходится с воззрениями и стремлениями романтиков. Это
тот пункт, в котором романтики всего более подчиняются
влиянию Гердера. Уважение и сочувствие ко всему своеобразному в
различных произведениях поэзии составляют главную заслугу
Гердера и отчасти заслугу критик и характеристик обоих Шлеге-
лей. В этом отношении Фр. Шлегель всего резче расходился во
мнениях с Фихте. Стараясь дополнить субъективизм Фихте гар-
монизмом Гёте, он постоянно подвергался опасности загрязнить
тот субъективизм индивидуализмом. Но никто не придает
значению индивидуального такую же важность, как Шлейермахер. Это
видно уже из того, что он советует достигать созерцания универса
посредством созерцания человечества. Каждый индивидуум, —
говорит он, — «имеет нечто своеобразное», каждый является
«необходимым дополнением к созерцанию всего человечества».
Далее это видно из того, что он указывает на необходимость
самоограничения при воспитании таким образом, чтобы каждый
старался сделаться чем-нибудь определенным. Наконец, это всего
яснее видно из содержания пятой из «Речей о религии». Он
говорит, что религия по своему существу есть нечто необъемлемое
для разума, есть нечто трансцедентное для познания. Ее содер-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
415
жание не допускает систематизирования: оно состоит из
бесчисленных отдельных созерцаний и чувств. То же самое можно
сказать о ее существовании. В своих внешних проявлениях она не
может быть единой, она может существовать только в
различных индивидуальных формах. Короче говоря, в «Речах» Шлейер-
махера смешивается вечная истина с временным заблуждением
так, что их трудно различить. Эти «Речи» еще долго будут
раздувать в благородных сердцах искры благочестия и всегда будут
служить доказательством того, что искреннее благочестие
совместимо с высоким умственным развитием. Никогда еще не
появлялось такой же книги, которая была бы в одно и то же время и
консервативной и радикальной и которая была бы в своих
парадоксах более близкой к первоначальному духу христианства. Ее
автор ясно проводил ту мысль, что чистая религиозность есть
свободная религиозность. Он отнимает из-под ног богословов ту
почву, на которой возникает «пустая мифология» и на которой
делаются попытки догматически установить достоинство
религиозных чувств и воззрений. Этим вырывается корень религиозной
нетерпимости и возникновения религиозных сект. Религия Шлей-
ермахера — «заклятый враг всякого педантства и всякой
односторонности». Она презирает внешность однообразно
повторяющихся обрядов. «Не тот имеет религию, кто верит в то или в другое
священное писание, а тот, кто не нуждается в священном писании
и мог бы сам его создать»; даже Лессинг не отстаивал с такой
смелостью права ума против мертвой буквы.
Так как «Речи о религии» были, с одной стороны, протестом
против современного Просвещения, с другой стороны, продуктом
положительных воззрений Шлейермахера на образование, то их
влияние обнаружилось в этих двух направлениях.
Представители старой теологической школы, возникшей из
воззрений тогдашнего Просвещения, естественно, отнеслись к
новой книге так же враждебно, как старая литературная школа
отнеслась к фантастическому юмору автора «Света наизнанку».
После того, как Шлейермахер послал своему старому
доброжелателю Саку экземпляр сборника своих проповедей, ему
наконец было доставлено сочинение Сака, изданное еще в начале
1801 года1. Тогда Сак еще яснее прежнего понял, как велика была
разница между церковным проповедником Шлейермахером и ав-
1 «Aus Schleiermacher's Leben» III, 275 и ел.; I, 270 и ел.
416
Р. ГАЙМ
тором «Речей о религии». Подобно тому, как Николаи надеялся
воспользоваться умом и дарованиями Тика для распространения
своих собственных идей, и Сак вообразил, после чтения только
первой «Речи о религии», что Шлейермахер будет его даровитым
помощником в распространении его собственных воззрений на
религию. Но ему пришлось совершенно разочароваться при
чтении следующих «Речей». Он нашел в них «талантливую апологию
пантеизма и красноречивое изложение спинозизма». Он не мог
понять, каким образом человек, считавший религию только за
созерцание универса, мог с чистой совестью вступать на
церковную кафедру; он объяснял эту двойственность характера
предосудительными сделками с совестью, непозволительной манерой не
высказывать всего, что думаешь. Кроме того, его возмущал тон
суждений юного писателя в «Атенее» о людях, державшихся
одной с ним точки зрения — о Лейбнице, Локке, Гарве, Энгеле и
других. Упреки, с которыми он обратился к Шлейермахеру, были
тем более резки, что от его внимания не ускользнули личные и
литературные связи юного писателя с новой школой, внушавшей ему
сильное отвращение своими революционными и
парадоксальными идеями. В своем ответе Саку Шлейермахер энергически
отвергал подозрение, что им руководили эгоистичные соображения;
он утверждал, что спинозизм его «Речей» совместим со званием
священнослужителя, но его доводы не произвели никакого
впечатления на Сака. Этот почтенный человек поседел со своими
старыми идеями и, конечно, не мог променять их на новые. С другой
стороны, и Шлейермахер не нашел и тени правды в письме Сака.
Эта переписка могла только решительнее прежнего загнать
обвиняемого в противоположный лагерь и упрочить его личные и
литературные связи с сотрудниками «Атенея».
Была еще одна сфера нашей умственной жизни, где «Речи о
религии» неизбежно должны были вызвать порицание, хотя и по
совершенно иным мотивам. Они произвели почти отталкивающее
впечатление на наших классиков, которые никак не могли
примириться с религией, положительно отвергающей всякие внешние
формы. В религиозных вопросах они были воспитанниками эпохи
Просвещения. Но из скудности и односторонности такого образа
мыслей они нашли для себя спасение на почве искусства: в нем
они находили замену религии и путь для достижения такого же
душевного удовлетворения, какое другие находили или искали в
религии. Шиллер изложил свой символ веры в «Письмах об эсте-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
417
тическом воспитании», а в другом благочестии, кроме создания
поэтических произведений, он не чувствовал надобности. В
эстетическом душевном настроении он находил примирение
противоположных стремлений человеческого духа, а образцом и
историческим подтверждением такого воззрения служила для него
изящная сторона греческой жизни. Искусство заменяло для него
религию, а греческий гуманизм заменял христианство. Такое же
влечение к греческому миру и еще более глубокая потребность в
пластическом изображении внутренней душевной гармонии
господствовали над гением Гёте. Между тем как шиллеровское
влечение к прекрасному выражалось в идеальной этике, такое же
влечение Гёте опиралось на полное жизни созерцание природы.
Пренебрежение к природе, которое сказывалось в «Речах» Шлей-
ермахера, находилось в решительном противоречии с его
лучшими душевными впечатлениями: он также развивался на учении
Спинозы, также усвоил учение этого философа о cognitio intuitiva
(интуитивном познании. — Прим. науч. ред.), но душу его
наполняло благочестием лишь созерцание чувственного универса.
Поэтому Шиллер отнес книгу Шлейермахера к числу произведений
берлинской школы, к числу произведений котерии Шлегелей и Тика,
и признался, что нашел в ней мало нового, но много претензий.
Гёте сначала хвалил образованность и многосторонность автора,
но когда «Речи» Шлейермахера стали делаться все более
религиозными, его сочувствие перешло в отвращение1.
Естественно, иное впечатление произвела новая книга в тех
кружках, влияние которых отразилось на ее содержании. Ведь
религиозное настроение уже ранее обнаруживалось в тех кружках
независимо от «Речей» Шлейермахера. Самое замечательное из
появившихся одновременно с книгой Шлейермахера сочинений
религиозного, или, вернее, религиозно-этического, содержания было
написано молодым человеком, который за несколько лет перед
тем приобрел известность критикой заданного Берлинской
академией сочинения на премию о развитии метафизики со времен
Лейбница и Вольфа. Сын пастора, Август Людвиг Гюльсен,
родившийся в Премнице в 1765 году, сначала воспитывался в Галльском
университете, где под влиянием лекций филолога Вольфа
почувствовал влечение к греческой поэзии; потом он поступил на долж-
1 В переписке Шиллера с Кернером IV, 151. Фр. Шлегель к Шлейермахеру
(«Aus Schleiermacher's Leben» III, 125).
14 Зак. № 3602
418
Р. ГАЙМ
ность домашнего учителя и на сделанные в этой должности
сбережения снова поступил в университет с целью изучать философию.
Из Киля он переехал в Йену. Он был одним из любимых учеников
Фихте и членом того литературного кружка, который называл себя
«Обществом вольных людей» и к которому среди прочих
принадлежали также Гербарт и Грис, Рист и Бергер; он жил в Йене
с 1794 до 1797 года, то есть именно в то время, когда философия
Фихте находилась в самой цветущей поре своего развития1.
Написанное им вышеупомянутое сочинение было блестящим
доказательством того, что он глубоко проникся духом и методом
«Основных начал науки». Он был осыпан похвалами, но самые горячие
похвалы исходили от Фр. Шлегеля. В «Отрывочных заметках»,
помещавшихся в «Музее», Шлегель говорил, что жалует молодому
писателю вновь учрежденный «Орден иронии», что ирония Гюль-
сена имеет источником «философию философии» и может
превзойти иронию Лессинга и Гемстергюи; в «Атенее» он поместил
особую «Отрывочную заметку» о сочинении Гюльсена и говорит,
что это — продукт чистой гениальности, философское
художественное произведение, что по своей диалектической
виртуозности оно занимает первое место после сочинений Фихте; что оно
отличается спокойной рассудительностью, широтою взгляда и
гуманности; что оно может быть названо мастерским по умению
автора владеть и своими идеями, и своим языком; что оно
проникнуто духом Сократа. Даже в 1813 году Шеллинг повторял эти
похвалы, говоря, что сочинение Гюльсена «насквозь проникнуто
веселой иронией»2; эти слова достойны внимания, потому что
наглядно доказывают, как неопределенны и произвольны были
выражения, употреблявшиеся романтиками. То, что эти романтики
разумели под словом «ирония», в сущности, заключалось только
в возвышенной философской точке зрения автора; ведь во всем
остальном сочинение Гюльсена одинаково далеко и от
сократической шутливости, и от полемического юмора, с которым Лессинг
1 По словам Стеффенса («Was ich erlebte» V, 273), Гюльсен, будучи молодым
человеком, уклонился от воинской повинности. Воспитанник Гюльсена, Фукэ,
ничего об этом не говорит в своей автобиографии (Галле, 1840). О переводе
Гюльсена из Киля в Йену говорит Ratjen в биографии Бергера (с. 20). Сравн., что
говорит Фукэ в предисловии к «Philos. Fragmenten aus Hülsens litt. Nachlass» в
шеллинговой «Allgem. Zeitschriftv. Deutschen für Deutsche» (c. 266); «Aus dem
Lebenv. Gries» (c. 7,10,18) и Гюльсена «Prüfung der von der Akademie der
Wissenschaften zu Berlin aufgestellten Preisfrage» (Альтона, 1796) (с. 200).
2 В послесловии к «Отрывочным заметкам» Гюльсена, с. 298.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
419
в союзе с Мендельсоном нападал на писателей, желавших
доказать, что Поп был метафизик. Действительно, достоинство
сочинения Гюльсена заключается в развитии понятия об истории
философии. В этом отношении Гюльсен сходится с воззрением, которое
Фр. Шлегель составил себе, по примеру Винкельмана и на
основании идей Шиллера, об истории греческой поэзии и об истории
эстетического развития человечества; отсюда понятно, почему
Шлегель желал, чтобы рецензентом его сочинения «Ueber das
Studium» («Об обучении».—Прим. науч. ред.) был Гюльсен1.
Помимо нескольких общих идей, высказанных Шеллингом в
«Философском журнале» и также вызванных заданностью на
академическую премию, то было первым воззрением на историю
философии, более глубокомысленным, чем воззрение Канта и Фихте.
Короче говоря, здесь были в первый раз твердой рукой изложены
те основные начала этой науки, которые были впоследствии
развиты Гегелем с таким талантом и с такой ученостью. Самое
плодотворное воззрение, какое Гюльсен извлек из принципов
«Основных начал науки», заключается в том, что история философии есть
не что иное, как наука о развивающейся науке. Она должна
изображать прогресс разума. Она должна исходить из самой себя,
должна сосредоточиваться в самой себе; знание самой себя есть
цель ее развития. Поэтому история науки не может быть чисто
исторической, она необходимо должна быть философско-истори-
ческой. Такой истории философии до сих пор еще не было; она
сделалась возможной только с тех пор, как философия сделалась
наукой. Гюльсен положительно утверждает, что этот момент
настал с появлением сочинения Фихте «Основные начала науки»,
хотя совершенно в духе свободы и теории Фихте заявляет, что
действительное, полное развитие науки есть бесконечная задача.
В заключение он высказывает намерение обработать по
меньшей мере одну часть такой истории — эпоху критической
философии.
Гюльсена пригласил в сотрудники «Атенея» старший Шлегель,
долго живший в одно время с ним в Йене. Едва ли можно
допустить, чтобы прежние пробы литературного таланта Гюльсена
вызвали это приглашение со стороны Шлегеля. Ведь написанная в
форме писем статья Гюльсена «О популярности в философии» (на-
1 Фридрих к Вильгельму Шлегелю (в ноябре и декабре 1797 года) в
бумагах Бёкинга № 94 и № 96.
420
Р. ГАЙМ
печатанная в 1797 году в «Философском журнале» Фихте и Нит-
гаммера)1 была наполнена самыми бессодержательными отвле-
ченностями и представляла решительную противоположность
с тем, что требуется для популярности. Очевидно, личность
Гюльсена производила совершенно иное впечатление и возбуждала
совершенно иные ожидания. Один из его йенских друзей2 говорит,
что его наружность была во всех отношениях замечательна и даже
величественна: он был высокого роста, с очень выразительными
и вместе с тем мягкими чертами лица; у него были темного цвета
глаза, черная борода, длинные волосы на голове и черные брови.
Его манеры были чрезвычайно просты; с людьми разумными он
говорил разумно, с людьми веселыми он сам был весел, а с
людьми ограниченными был прямодушен. Его друзья впоследствии
утверждали, что его внешность обещала более того, к чему он
был способен как писатель. Шеллинг хвалил его спокойный
характер и привлекательную мягкость манер. Шлейермахер
восхищался его веселостью и детской наивностью и говорил, что еще
не встречал такого же кроткого и прямодушного человека3.
Письма Гюльсена к В. Шлегелю подтверждают эти отзывы. Они
написаны высокопарным слогом, но в них попадаются и такие
места, в которых самый симпатичный юмор остроумно перемешивает
самые глубокомысленные идеи с мелочами обыденной жизни. Для
такого человека были слишком стеснительны строгие
требования системы Фихте. Действительно, он с течением времени все
более и более старался отделаться от господствовавших в
философии школьных понятий и школьных форм.
В первой статье, написанной им для «Атенея», шла речь «о
естественном равенстве людей»4. Это было совсем не то, что
требуется от хорошей журнальной статьи, так как статья Гюльсена была
самого тяжелого калибра и могла быть понятна лишь для очень
немногих избранных читателей. Сам Фр. Шлегель покачивал
головой ввиду такого непонятного содержания и согласился поместить
статью в «Атенее» только потому, что в ней местами попадались
изящные выражения и оригинальные идеи, а в особенности потому,
1 В этом журнале (т. VII, № 9, с. 71 и ел.).
2 J. R. (т. е. Rist) в прибавлении к биографии Бергера, написанной Ратьеном
(с. 67).
3 Fouqué, «Lebensgeschichte», с. 66; Шеллинг в «Zeitschrift für Deutsche»,
с. 299. В переписке Шлейермахера I, 289; IV, 63.
4 Эта статья напечатана в «Атенее» II, 1, с. 151 и ел.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
421
что Гюльсен принадлежал, по выражению Шлегеля, «к нашему
кружку». Но впоследствии он высказывал все более горячее
сочувствие к содержанию этой статьи, а когда Гюльсен вскоре после
того доставил ему вторую статью «Наблюдения над природой во
время путешествия по Швейцарии», написанную во время
продолжительного пребывания в 1796 и 1797 годах среди Альп
вместе со своим другом Бергером1, то Фридрих в самых
сочувственных выражениях говорил о «религиозности» этих статей2.
Эти статьи, действительно, были замечательны, потому что
их содержание придает романтическому направлению такие
своеобразные оттенки, которые бросают новый свет и на произведения
передовых представителей этого направления.
И из статьи «О популярности» и, в особенности, из двух статей,
написанных для «Атенея», ясно видно, что Гюльсен невольно
подчинялся влиянию Фихте и в то же время увлекался произведениями
Гёте; ясно видно, что он не был в состоянии высвободиться из уз
философии и даже во всем старался отыскивать связь с высшими
принципами; а в то же время чувствовал самое глубокое влечение
к реальности, к жизни, к прекрасному. Такие же противоположные
влечения то к спекулятивному мышлению, то к поэзии
обнаруживались в произведениях Новалиса и Гельдерлина. Гюльсен
напоминает этих обоих писателей, но у него спекулятивное мышление
и поэзия находятся в гораздо более тесной внутренней связи. Он —
незрелый писатель: в каждой его строчке обнаруживается глубина
его души, неспособная выразиться вполне. Этим объясняется его
тяжелый и неясный слог, который производит неприятное
впечатление, в особенности в его статье о естественном равенстве
человечества. В сущности, придерживаясь основного воззрения
Фихте, он старается доказать, что фактические представления о
когда-то существовавшей гармонии между людьми, которая со
временем будет восстановлена, изображают действительные,
теперешние отношения; что миф о золотом веке есть не что иное,
как опоэтизирование всегда присущей человечеству идеи. Общее
мнение о неравенстве людей есть заблуждение, основанное на
том, что мы, посредством абстракции, хотим изолировать
человека, который существует только в обществе себе подобных. Все
• Ratjen, с. 20 и 73.
2 «Атеней» III, 1, с. 34 и ел.; Фр. Шлегель к Вильгельму Шлегелю (от 29
сентября 1798 года [№ 111]; от 19 и 25 февраля 1799 года [№ 125, 126]); к
Шлейермахеру (в их переписке III, 102, 105).
422
Р. ГАЙМ
государственные учреждения суть попытки осуществить вечно
присущую нам идею о гармонии между людьми. Эта выраженная
в отвлеченной форме мысль тотчас переходит у Гюльсена в
конкретное понятие при посредстве той мысли, что гармония между
людьми фактически и постоянно существует благодаря связи
между людьми и по происхождению и по природе. Человек,
связанный от природы со всеми другими людьми, «вращается в
гармонии Божества» — и именно в этом заключается ручательство за
бессмертие души, такое ручательство, которое стоит выше
вопросов «где?» и «когда?». Эта мысль прокладывает путь от этики к
натурфилософии, между тем как у Шеллинга этот путь исходит
из теоретической философии, а Гюльсен высказывал ее с акцентом
благочестия и таким возвышенным тоном, который напоминает
тон священных гимнов. Он горячо настаивает на естественных
взаимных узах в противоположность узам государственным и,
наконец, приходит к заключению, что речь идет только о том,
чтобы «осуществить идеал человечества, составляющего одно
семейство».
В каком странном противоречии находится это идиллическое
воззрение с героическим этицизмом Фихте и с политическим эти-
цизмом Гегеля! Мы, конечно, приписали бы такое воззрение
индивидуальным влечениям писателя даже в том случае, если бы не
имели никаких сведений о его личности и о его жизни. Но на деле
оказывается, что ни один из членов романтического кружка,
принимая в расчет даже Шлейермахера, не осуществил так же
верно, как Гюльсен, шлегелевский идеал настоящего «цинизма» в
душевном настроении и в жизни. Он покинул сферу ученых людей
для того, чтобы жить в неизвестности и наслаждаться природой.
Женившись на кузине Фукэ, девице Позерн, которая была его
ученицей, он поселился с весны 1799 года подле Фербеллина в
селении Ленцке, где Фукэ отдал в его распоряжение свой дом вместе
с садом и с соседними лугами; там он посвятил себя воспитанию
нескольких мальчиков, в то же время занимаясь земледелием и
садоводством. Это было, по его собственному выражению,
«воспитательное заведение в форме сократической школы», это было
поэтическое осуществление естественного воспитания во вкусе
Руссо и романтическое добавление к филантропическим
экспериментам Базедова и Зальцманна. «Я пользуюсь свободой и
независимостью, — писал Гюльсен старшему Шлегелю, — и не
нуждаюсь ни в каких других учебниках, кроме натуры и живых людей.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
423
Моя школа будет гордиться не громкой известностью, а правдой,
основанной на понимании человеческой натуры. Пусть ученые
сердятся и бранятся. Мои занятия более полезны и я надеюсь внести
в жизнь такое дружелюбное и спокойное настроение, которое
когда-нибудь положит конец путанице идей»1. К сожалению, это
были непродолжительные грёзы. Гюльсен вскоре после того
лишился жены; обманутый в своем ребяческом доверии к людям,
этот непрактический человек не имел успеха в своих
экономических и педагогических предприятиях, мог лишь с трудом
примириться с необходимостью искать какой-нибудь скромной
должности на государственной службе, а мысль о занятии ученой
должности отверг с отвращением. Он решился возвратиться к
литературной деятельности, намеревался продолжать вместе со
своими друзьями — Ристом и Бергером — издание журнала «Мне-
мозина»2, а в июле 1803 года говорил, что, лишь только найдет
для себя покойный уголок, будет писать «множество сочинений»
и прежде всего «критику искусств и наук». Если бы он написал
такую критику, то она, без сомнения, была бы не чем иным, как
изложением идей Руссо на языке мистицизма и романтизма.
Вместо этого ему было еще раз суждено осуществить ту идиллию,
которую он намеревался описывать. После того как он в момент
крайне стесненного положения нашел добрый совет и помощь у
своего верного друга Вильгельма Шлегеля, некоторые из его гол-
штинских друзей, и в том числе Бергер, сделали складчину и
купили на его имя в Голштинии небольшое имение. Там он снова
нашел во втором браке семейное счастье, жил скромной жизнью
зажиточного крестьянина и завершил жизненный путь в 1810 году
во время посещения своей старой родины3.
Идиллически-элегический пафос, нашедший для себя
выражение в жизни Гюльсена, был душою и вышеупомянутой написанной
для «Атенея» статьи, к которой мы теперь возвращаемся. Гюльсен
далее развивал учение Фихте, занимая своеобразное серединное
1 Из Неннгаузена, 15 ноября 1798 года [№ 3]. Для того, что изложено выше,
служили главным источником также письма Гюльсена; также сравн. «Lebensgesch.»
Фукэ, с. 211, и «Aus Schleiermacher's Leben» I, 242.
2 Этот журнал вышел в 1800 году в Альтоне в двух номерах; в нем нет ни
одной строчки Гюльсена; сравн. «Aus Schleiermacher's Leben» III, 217; Ratjen,
с. 32.
3 Steffens, «Was ich erlebte», V, 274. Fouque', «Lebensgeschichte», с 294. В
письме Φρ. Шлегеля к Шлейермахеру (от 3 апреля 1802 года) (III, с. 313), очевидно,
следует читать «Heimath» вместо «Heirath».
424
Р. ГАЙМ
положение между Шеллингом и Шлейермахером. Он далее
развивал это учение, потому что для него натура была, в сущности,
тем же, чем она была для автора «Основных начал науки», —
рефлексом наших собственных деяний. Он отдаляется от Фихте
и близко сходится с Шеллингом, когда говорит, что натура этих
деяний представляется в идеальной законченности, в достигнутой
бесконечности. Наконец, религиозно-этической, мистической
окраской этого воззрения он отличается от Фихте и Шеллинга и
сходится со Шлейермахером, так как натура, по его мнению, есть
не столько средство для нравственного общения между людьми,
сколько ручательство за наше нравственное назначение, а это
ручательство находит для себя высшее выражение в любви. В
законах природы он видит законы нравственного мира и вместе с
ними Бога и бессмертие души. Фр. Шлегель совершенно верно
назвал «религией»1 это воззрение, которое впоследствии
систематически развил Бергер2 под влиянием Шеллинга и Гегеля. Также
совершенно верно Шлейермахер называл эту религию Гюльсена
«натуральной религией» в отличие от своей собственной «религии
сердца», при которой не могла, по его мнению, существовать
никакая другая религия.
Более чем вероятно, что Шлейермахер имел в виду между
прочим и рапсодии Гюльсена, когда в конце своих «Речей»
говорил о «других, более новых видах религии», которые могли бы
попытаться найти для себя твердую почву рядом с христианством.
Он в то время уже был знаком и с содержанием второй статьи,
написанной Гюльсеном для «Атенея» под заглавием
«Наблюдения над природой во время путешествия по Швейцарии». В
письме к Шлейермахеру Фр. Шлегель говорил, что в этой статье «три
рейнских водопада соединены в философию», а в письме к своему
брату еще более метко называл ее «философической церковной
музыкой», в которой вода служит предметом богопочитания. Он
даже был в таком восторге от этой «новой, глубокомысленной,
единственной в своем роде и божественной» статьи, что
охарактеризовал ее следующими словами в том же номере «Атенея»,
1 Он сопоставлял Шлейермахера с Гюльсеном и в журнале «Европа» (I, 1,
с. 49).
2 Относительно Бергера можно сравнить «Versuch einer wissenschaftlichen
Darstellung der Geschichte der neuem Philosophie» Эрдманна (III, 2, 422 и ел.). Мне
незнакома такая история философии, которая отдавала бы справедливость
своеобразной литературной деятельности Гюльсена.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
425
в котором она была напечатана: «Муза Гюльсена создает в
ненарушимой гармонии изящные, возвышенные понятия об
образовании, о человечестве и о любви. Это — мораль в высшем смысле
слова, но мораль, проникнутая религией при переходе от
искусственности силлогизма в вольный поток эпоса». Но если мы
исключим из этой характеристики похвалы поэтическому достоинству
статьи, то она окажется верной. Даже старший Шлегель находил
в статье «возвышенные гимны» и сделал только ту оговорку, что
по своей внешней форме она не имела сходства с гимнами1.
Фридрих до такой степени увлекался ее мистическим содержанием,
что ставил ее выше гётевской «Поездки на Сен-Готтард»,
которая казалась ему крайне скучной и вялой по причине своей
скромной простоты и ясной наглядности! Всякий беспристрастный
критик найдет, что статья Гюльсена со своей ритмической
прозой, нередко похожей на гекзаметры, представляет с эстетической
точки зрения незаслуживающее похвал смешение прозы с поэзией;
что она, при полном отсутствии чувственной наглядности,
доходит до нелепости, описывая высокопарным языком самые
обыкновенные вещи, и что она во всех отношениях обозначает тот
предел, до которого могло доходить обыкновение романтиков делать
смесь из поэзии, философии и религии. Наш приговор не будет
таким строгим, если мы извлечем из напыщенного изложения
Гюльсена сущность его идей и чувств. Тогда мы найдем у него
ту же натуральную религию, которая излагалась в
предшествующей статье лишь в общих чертах. Чувство, внушаемое природой,
переходит у него в «полную глубокой искренности любовь». Во
всей статье проводится мысль, что натура выражает в своей
красоте нравственно идеальное; что тот, кто ее созерцает, чувствует
«веяние свободной гармонической жизни». Короче говоря, это ми-
стико-этический пантеизм природы, в котором заключается
основная характеристическая особенность религиозности
Гюльсена. В особенности небесные звезды, эти «тысячи тысяч миров»
служат для Гюльсена символом божественности. В одном из своих
писем2 Фридрих Шлегель упоминает о намерении Гюльсена
написать «статью о центральном Солнце» и прибавляет, что Гюльсен
«именно тот человек, который мог бы сделать из астрономии изящ-
1 Гюльсен к В. Шлегелю (от 8 июля 1799 года) [№ 5]; Фридрих к В. Шлеге-
лю (от 25 февраля 1799 года) [№ 126]; к Шлейермахеру («Aus Schleiermacher's
Leben» III, 102, 105). «Атеней» III, 1, с. 23.
2 К своему брату (от 27 ноября 1798 года) [№ 118].
426
Р. ГАЙМ
ную науку». Однако это обожание природы остается
бесформенным, даже более бесформенным, чем у Гельдерлина, которого
Гюльсен напоминает еще более потому, что разделял его
фантастическое сочувствие к греческому миру1. Фр. Шлегель
обратился к Шлейермахеру с просьбой поощрить Гюльсена к
изложению «его мнения о древних богах и о восстановлении греческой
религии»; чтобы объяснить, чем была вызвана эта просьба, мы
приведем несколько выдержек из писем Гюльсена в дополнение
того, что мы знаем из его немногочисленных напечатанных
сочинений2. Так, например, он нападает на систему философов в
следующем дифирамбическом тоне: «Я иногда желаю, чтобы сошел
с неба огонь, и ропщу на людей, но это желание остается сокрытым
в моей груди, а когда я вижу солнечный свет и когда мой взор
теряется в пространстве, я дышу свободно и не вижу ни тумана,
ни набегающих туч. Господство церкви не может долго
существовать, а когда оно разрушится, мы увидим над собою новое небо и
никакая мертвая буква не будет скрывать его богов от наших
глаз. Только в этих богах жизнь. Но люди ищут смерть. Со времен
Аристотеля вплоть до времен Фихте они старались душить друг
друга». В другой раз Гюльсен поражает нас своим пророческим
пафосом по поводу одного денежного дела: «Действительно
жалко, — говорит он, — что благородное блестящее золото так
оскверняют нечистые руки. Но наши потомки должны знать, что во
время самого полного рабства жили и свободные люди; поэтому
постараемся, чтобы солнечный свет снова без всяких препятствий
освещал землю для того, чтобы наши потомки благословляли нас,
когда они снова воздвигнут богам алтари и величественные храмы.
Эти бессмертные желали, чтобы золотые купола храмов были
отражениями их величия и освещали тот день, который
посвящался их празднованию. Когда же возвратится это золотое время
жизни?! Я часто стремлюсь душою в высшие небесные сферы,
чтобы отыскать моего Сократа и его Диотиму, которая одна
может своею мудростью даровать нам свободную, блаженную жизнь.
В наше время приходится довольствоваться только
предчувствиями, посредством которых боги сближаются с нами, проявляя
свою справедливость и свою вечную любовь». Язычество Гюль-
1 Через посредство Гюльсена Фукэ познакомился с «Гиперионом»
Гельдерлина (Fouqué, «Lebensgeschichte», с. 234).
2 «Aus Schleiermacher 's Leben» III, 137; Гюльсен к В. Шлегелю № 5,9,11,12.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
427
сена так же несомненно, как и его благочестие. Его язычество
видно из следующих слов, написанных им вслед за
неодобрительным отзывом о христианских стихотворениях В. Шлегеля: «Ведь
тебе известно, что я не могу оправдывать употребление
христианской мифологии в таких художественных произведениях,
которые должны изображать прекрасное и истинное. Ей недостает по
меньшей мере правдивости свободных идей, а художнику никогда
не удастся создать бессмертное произведение, которое не
исходит из источника вечной правды». О благочестии Гюльсена
свидетельствуют следующие слова в том же письме, написанном в
1803 году: «К богам моего неба я отношусь с доверием, поэтому
надеюсь, что с их благословения я снова заживу прекрасной
жизнью». К смерти его жены относится то, что он писал из
своего голштинского убежища сестре Тика, Софье Бернгарди: «И здесь
и там живут люди, которых сделала бы такими счастливыми
более приятная среда. Некоторые живут также на солнце и на всех
небесных звездах; небесные светила оттого и блещут, что они
должны возвещать нам божественную жизнь, которая нас
ожидает. Правда, нередко случается, что из этой небесной сферы
исчезает какая-нибудь чудная звезда. Только это и непонятно для нас.
Я это видел и не могу этого объяснить». Разве не мог бы
написать то же самое Гельдерлин или Новалис?
Нелегко доказать, что натурфилософ Шеллинг имел с самого
начала непосредственное влияние на Гюльсена, но впоследствии
развившаяся натурфилософия не могла остаться без влияния как
на Бергера, так и на его друга. Из того, что рассказывает Стеф-
фснс об экспериментах, за которыми он застал Гюльсена в
1807 году, видно, что даже в сфере естествоведения Гюльсен не
переставал придерживаться своих религиозно-поэтических
верований и не заглушал своей склонности к мистицизму1. И изданные
после его смерти отрывки почти вовсе не выходят из той сферы
идей, которая нам уже известна. Они вообще напоминают нам ту
эпоху, о которой мы ведем теперь речь, напоминают нам то
странное брожение умов, благодаря которому философия в связи с
поэзией вызвала проявление религиозного чувства. Носившиеся в
воздухе религиозные понятия примыкали в то время к различным
пунктам, образуя более или менее чистые кристаллы. Для
Гюльсена чувства, возбуждаемые природой, были тем пунктом, к кото-
1 Стеффенс, с. 304 и ел.; сравн. Ratjen, с. 34 и ел.
428
Р. ГАИМ
рому примыкали религиозные понятия в форме этического
пантеизма, окрашенного эллинизмом.
Еще до сочинения «Речей о религии» те понятия примыкали к
чувствам, которые возбуждает искусство. «Сердечные излияния
любящего искусства монаха» возвысили любовь к искусству до
степени религии. Восхищение музыкой и итальянской и немецкой
живописью перешло в благочестивое душевное настроение, а это
настроение послужило для подвижной фантазии Тика поэтическим
мотивом в «Штернбальде». У Августа Вильгельма Шлегеля ва-
кенродеровские влечения обнаруживались в еще менее
прочувствованном виде, чем у Тика. Его отношения с религией, и в
особенности к христианской религии, были только вежливыми, но вовсе
не были основаны на сочувствии. Он хвалил Данте, как такого
поэта, у которого эстетические достоинства неразрывно связаны
с его католицизмом. Он только из эстетического вольнодумства
выражал в «Литературной газете» несочувствие к
«одностороннему образу мыслей тех людей, которые постоянно забывают, что
для поэзии все прекрасное истинно»; а вслед за этим хвалил Гер-
дера за то, что в своей «Терпсихоре» этот писатель воздвигнул
Святой Деве капеллу из переведенных им латинских песен
иезуита Бальде. В одном из более ранних выпусков «Литературной
газеты» он с горячим сочувствием приветствовал появление
«Сердечных излияний» Вакенродера и заранее защищал «любящего
искусства монаха» от упреков за то, что в его любви к искусству
обнаруживается влечение к католицизму. Он указывал на то, что
воодушевление искусством неизбежно смешивается с другими,
более возвышенными влечениями; из истории искусства он
извлекал убеждение, что религиозные влечения внушают
художнику желание олицетворять в человеческой форме понятия о высших
существах; наконец, говоря в одной из своих рецензий о Клопшто-
ке, он заметил, что религиозному поэту невыгоден протестантизм
со своим стремлением к такой форме богослужения, которая
ничего не говорит человеческим чувствам1. Он скоро пошел еще
далее. Он даже пошел по стопам «любящего искусства монаха».
В третьем номере «Атенея» был помещен диалог, который он
писал вместе со своей женой и в котором он переходил от оценки
некоторых картин Дрезденской картинной галереи к поэтическо-
1 См. в полном собрании сочинений три рецензии: X, 363 и ел., 376 и ел.; XI,
153 и ел.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
429
му восхвалению сюжетов христианской живописи1. Эта статья
была написана во время посещения им Дрездена летом 1798 года2,
немедленно вслед за тем, как он сошелся в Берлине с другом
«любящего искусства монаха», с Тиком. И здесь Шлегель,
становясь на точку зрения художника, отдает предпочтение
католицизму перед протестантизмом; он превозносит в католицизме
«изящную вольную поэзию» почти так же горячо, как Шиллер
превозносил языческую религию в своей элегии «Боги Греции».
Разница только в том, что у Шлегеля художническое
воодушевление сознает само себя и выдает само себя за то, что есть. По
прошествии сорока лет Шлегель писал одной даме, что это была
une prédilection d'artiste (предрасположенность художника. —
Прим. науч. ред.)3. «Je retraduisis, — говорит он в этом письме, —
quelques-uns des plus beaux sujets pittoresques» («Я перевожу
некоторые из самых живописных сюжетов». —Прим. науч. ред.).
Сюжеты картин стали превращаться у Шлегеля в сюжеты
поэтических произведений: в целом ряде сонетов он воспевал рождение
Христа, Святое семейство, Деву Марию, а в одной легенде
воспевал покровителя живописи святого Луку. Это были отзвуки
поэтизированного христианства и художнического благочестия Ва-
кенродера и Тика, это были продукты воодушевления из третьих
рук. Этому писателю, искусно владевшему языком и формами
выражения, вздумалось, ради перемены, по его собственному
шутливому выражению, «налечь» на религию. Воспевать в изящно
отделанных рифмах святых католической церкви ему стоило не
более труда, чем сколько ранее он потратил на изображение
идеалов греческого мира богов. Он стал теперь в тоне Тика
превозносить стихами святого Луку, подобно тому как ранее он
опоэтизировал в тоне Шиллера миф о Прометее и Пигмалионе. Выбор
между религиями греческой и христианской имел для него так же
мало значения, как выбор между гекзаметрами и
восьмистопным стихотворным размером. Уже в следующем номере «Ате-
нея» он появляется в другом обличий: по выражению своего
брата, он был «дьявольски античен» в элегии «Искусство греков», в
которой он обращался к Гёте, как к восстановителю древнего
искусства; а через несколько месяцев после того он снова воспевал
1 «Атеней» И, 1, с. 39 и ел.
2 См. выше, с. 356, 357.
3 «Œuvres de M. A. G. de Schlegel, publ. par Booking» I, 191.
430
Р. ГАИМ
в аллегории «Союз церкви с искусствами»1, отсылая изгнанные
из Греции искусства к святым, к мученикам, к чудотворцам и
приглашая их поселиться в Вечном городе и в том храме, «ключи
к которому отворяют и запирают врата в Царствие Небесное».
Шлейермахер, как кажется, вовсе не интересовавшийся Ва-
кенродером, напротив того, заинтересовался картинными
сонетами Шлегеля по причине «отсутствия в них религиозности»; он
основательно заметил в письме к Бринкманну, что
искусственность шлегелевского религиозного воодушевления
обнаруживается уже в том, что оно овладевает поэтом только через
посредство живописи или ранее написанных поэтических произведений2.
Но поистине странны высказанные им в «Речах» суждения о
взаимных отношениях между искусством и религией. Они
доказывают, что к искусству он чувствовал еще более слабое влечение,
чем к природе. Он сам это сознавал и сам в этом признавался. Он
догадывался, что существует путь, ведущий от искусства к
религии, но не умел ясно распознать его, а в этом неумении он
усматривал ограниченность своей нехудожнической натуры. Однако он
присовокуплял к этому признанию, что тот путь еще недостаточно
протоптан и что еще никогда не существовало такой основанной
на любви к искусству религии, которая господствовала бы у целого
народа или в течение целой исторической эпохи. Это замечание
было верно только по отношению к тогдашнему положению дел.
Именно потому Вакенродер и желал перенестись из настоящего
во времена Рафаэля и Дюрера. Действительно, тогдашнее
искусство и, в особенности, тогдашняя поэзия мало интересовались
религиозными мотивами. Быть может, Лафатер, Клаудиус, Штоль-
берг и были хорошими христианами, но от этого они были еще
более плохими поэтами. Напротив того, Гёте и Шиллер увлекали
своих современников такой поэзией, которая ничем не была
обязана религиозным или исключительно христианским чувствам.
Вероисповедание этих поэтов, ясно выразившееся в их отзывах о
«Речах» Шлейермахера, заключалось в гуманизме и в эллинизме,
и несмотря на то, что они вообще стояли на почве христианской
цивилизации, никакому историку литературы из богословов не
1 Элегия была в первый раз напечатана в «Атенее» II, 2, с. 181 и ел. Другое
стихотворение напечатано в полном собрании сочинений Шлегеля 1,87 и ел.
2 Фридрих к Вильгельму Шлегелю (март 1799 года) [№ 128]. Шлейермахер
к Бринкманну (IV, 65).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
431
удастся смыть с них блестящее язычество или превратить их в
апостолов. Поэтому в «Речах» не без основания высказывалась
жалоба на то, что религия и искусство дружно стоят рядом, но
неясно сознают свое близкое родство. Вот почему Шлейермахер
обращался к представителям интересов искусства с похожим на
требование вопросом, не сделают ли они важного шага вперед, не
свяжут ли они искусство с религией неразрывными узами, а
своим друзьям-романтикам он высказал надежду, что и они со своей
стороны будут содействовать «палингенезии религии».
Приглашение, или, вернее, предсказание, Шлейермахера не
осталось без последствий. Над осуществлением его всеми
силами трудились Гарденберг и Тик.
Поэтические дарования Гарденберга были насквозь
проникнуты влечениями к религии. Он сам едва ли не лучше всех других
охарактеризовал это сочетание влечений религиозных с
поэтическими, сказав в одном из своих писем к Юсту1, что «фантазия
сердца» составляет самую выдающуюся черту его характера.
Несмотря на пестрое разнообразие красок и вымыслов в его
произведениях, для них постоянно служило фоном врожденное
благочестие, которое с раннего детства поддерживалось в нем
воспитанием, а впоследствии вновь пробудилось под влиянием
тяжелых испытаний. Во всех его воззрениях, изложенных нами в
предшествующей главе, заметна более или менее сильная
тенденция к религии. Религиозность его душевного настроения и его
миросозерцания примешивается и к элементам его смелого
мышления, и к элементам его субъективной фантазии. Чтобы понять
самые своеобразные из его «Отрывочных заметок», мы должны
постоянно иметь в виду религиозное душевное настроение, из
которого они возникли. Потребность религии сказывается у него и
тогда, когда он находит для себя выход из стеснительных рамок
учения Фихте о нашем «Я»; и тогда, когда он превозносит, с точки
зрения морали, чудотворную силу любви; и тогда, когда он в своем
магическом идеализме выражает и всемогущество фантазии, и
всемогущество душевных стремлений, в которых желал бы
сосредоточить всю вселенную. Само собой разумеется, что лишь только
Шлейермахер прочел даже только немногие из сочинений такого
писателя, он тотчас понял, что имеет дело с представителем
благочестия. Ведь и его собственная религия была, подобно религии
1 В его сочинениях III, 37.
432
Р. ГАЙМ
Гарденберга, «религией сердца». В одной из своих «Отрывочных
заметок» Гарденберг говорит, что сердце есть «религиозный
орган», что религия возникает в тот момент, когда сердце
чувствует само себя, делает само себя идеальным объектом; это
выражение имеет в устах Фейербаха чисто полемический смысл, но у
нашего романтика оно не упраздняет реальность божества и небес,
«этих высших продуктов производительной деятельности сердца».
В другом месте он говорит: «всякое абсолютное чувствование
религиозно», а с этим очень хорошо совмещается та тесная
внутренняя связь, которую он постоянно находит между любовью и
религией. Когда возвышают свою возлюбленную на степень
божества, это называется у него «практическим применением религии»;
религия и любовь дороги ему главным образом потому, что он
считает их «предвозвестницами лучшего бытия»; и
действительно, его религиозная мечтательность развилась вследствие
смерти его возлюбленной. Сходство склада ума у Шлейермахера
и у Новалиса, обусловленное их одинаковым сочувствием к
благочестию гернгутеров, прекращается на том пункте, с которого у
второго из них начинается поэзия, то есть почти необузданная
деятельность фантазии. По-видимому, не подлежит сомнению, что
Шлейермахер в своих «Речах» кое-что заимствовал у автора
«Цветочной пыли». «Нет ничего, — говорится в «Цветочной
пыли», — более необходимого для истинной религии, чем
посредствующее звено, соединяющее нас с божеством; в выборе этого
посредствующего звена человек должен быть совершенно
свободен». Сообразно с различными отношениями человека к этому
посредствующему звену определяются ступени религии, начиная
с фетишизма и кончая поклонением Богочеловеку; именно на этом
должно быть основано различие между пантеизмом и
монотеизмом: сущность пантеизма должна заключаться в той мысли, что
все может быть органом божественности, если только будет
возвышено на эту ступень и так далее. В этих несвязно набросанных
идеях нетрудно узнать материал, из которого возникли очень
подробно развитые идеи автора «Речей о религии». Шлейермахеру,
конечно, не было надобности заимствовать у Новалиса
презрение к обоготворению «мертвой буквы», но некоторые смелые
выражения, встречающиеся в «Цветочной пыли» (как, например:
«Когда дух свят, всякая истинная (echte) книга есть Библия»1),
1 В его сочинениях III, 37.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
433
были до такой степени в духе Шлейермахера, что он, при
сочинении «Речей», мог бессознательно говорить нечто в том же роде.
Как бы то ни было, а влияние «Речей» на Гарденберга было
несравненно более сильно. В этом нетрудно убедиться из
«Отрывочных заметок» Гарденберга. Даже если бы он не упоминал
имени Шлейермахера, было бы вполне ясно, что он имеет на уме
«Речи о религии», когда говорит о «виртуозности» в религии, о
«бесконечной грусти религии», о «негативности», то есть о
полемическом характере христианства. По его словам, задача религии
заключается в том, чтобы иметь сочувствие к божеству. Религию
нельзя иначе проповедовать, как в виде любви и патриотизма.
Так как из всего можно сделать сюжет эпиграммы, то следует
все превращать в религиозную эпиграмму, в слово Божие. Еще не
существует никакой религии, поэтому необходимо начать с
учреждения воспитательного заведения для преподавания истинной
религии. Все эти выражения и многие другие им подобные очень
похожи на заметки, написанные при чтении книги Шлейермахера.
Но мы имеем еще гораздо более убедительные
доказательства влияния этой книги на симпатичного мечтателя. Фридрих
Шлегель, переселившийся осенью 1799 года из Берлина в Йену,
естественно, не мог успокоиться, пока все жившие в Йене его
друзья не познакомились с содержанием «Речей»; Тик читал их в
Берлине немедленно после их появления в свет и был до крайности
(grausam) воодушевлен этим чтением. Именно в то время Тик и
Гарденберг вполне наслаждались в Йене своей недавно
возникшей дружбой. Но средоточием их поэтического воодушевления
были религиозные идеи. Фр. Шлегель писал автору «Речей»:
«Гарденберг читал твою книгу с величайшим интересом и был
ею очарован, воодушевлен и восхищен». Подруга Шлегеля,
Доротея, писала: «Христианство здесь à l'ordre du jour (на повестке
дня.—Прим. науч. ред.). Эти господа не совсем в своем уме.
Для Тика религия то же, что для Шиллера — судьба». Вслед за
тем Шлегель снова писал Шлейермахеру: «На Гарденберга ты
произвел громадное впечатление. Он написал нам для „Атенея"
статью о христианстве... Он также читал нам христианские
песни; это самое божественное из всех его произведений»1.
Однако статья Гарденберга о христианстве, написанная под
непосредственным влиянием «Речей» Шлейермахера, была такого
1 «Aus Schleiermacher's Leben» III, 115, 125, 132 и 134.
434
Р. ГАИМ
странного содержания, что ее не поместили в «Атенее», после
того как и Гёте посоветовал не помещать ее. Даже в первых
изданиях сочинений Новалиса она была помещена лишь отрывками;
она была в первый раз напечатана целиком в четвертом издании,
но вовсе не попала в следующее издание1. Она имеет очень
важное значение как для характеристики ее автора, так и для
уяснения хода развития романтизма.
В воззрении Шлейермахера на религию всего важнее было
то, что он считал религию за выражение самого глубокого и самого
сильного влечения человеческой натуры, но в то же время полагал,
что она не должна отнимать прав на самостоятельность ни у
одного из человеческих стремлений, ни у одной из сфер человеческой
деятельности. Он проповедовал мистицизм, но проповедовал его
с критическим здравомыслием. Этого критического здравомыслия
вовсе не было у Гарденберга. У него идеализм Фихте перешел в
магический идеализм, а шлейермахеровское проповедование
религии навело его на мечтания о единодержавии религиозного
органа. Но с этим воодушевлением, не знавшим никаких границ,
соединялись у Гарденберга потребности его поэтической фантазии.
Подобно тому как в «Генрихе фон Офтердингене» история его
собственного сердца превратилась в фантастический роман, и
указания Шлейермахера на высокое значение религии
превратились у него в видение о таких прошлых временах, когда в
религиозном чувстве действительно все сосредоточивалось, и в
предсказание о такой будущности, когда религия снова будет служить
центром для всего. В его статье нет почти ни одной мысли, которая
не находилась бы в связи с какой-нибудь мыслью, высказанной
в «Речах», но также нет ни одной мысли, которая не окунулась бы
в элемент мечтаний и не превратилась бы в фантазию.
Отношение статьи к «Речам» точно такое же, как отношение «Офтер-
дингена» к «Вильгельму Мейстеру». Новалис находил в
произведении Шлейермахера «биение сердца Нового времени». К этому
собрату по убеждениям он хочет отсылать всех людей,
презирающих религию, для того, чтобы растрогались их сердца, и для
1 В его сочинениях [4-е изд.] I, 187 и ел.: «Die Christenheit oder Europa. Ein
fragment». Сравн.: «Aus Schleiermacher's Leben» III, 137, 139, 140; Фр. Шлегель к
Тику (у Гольтея III, 317). Что Фр. Шлегель желал поместить статью
Гарденберга еще во втором издании его сочинений, видно из его двух писем, хранящихся у
меня в подлиннике; эти письма адресованы к Реймеру из Кёльна 24 февраля и
29 марта 1806 года.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
435
того, чтобы они нашли в религии настоящий предмет своих
попавших на ложный путь предчувствий. Он говорит, намекая на
инкогнито автора, что Шлейермахер «сделал для святой новое
покрывало, которое обрисовывает небесные формы ее тела, но
вместе с тем прикрывает их лучше всякого другого». Затем он с
полным отсутствием всякой критики и с полным поэтическим
произволом рассказывает баснословную историю этой святой.
То были, гласит его историко-философская легенда,
прекрасные, блестящие времена, когда Европа была единой христианской
страной; когда эту часть света заселяли люди, исповедовавшие
одну христианскую религию. Один глава церкви служил
руководителем для великих политических обществ и соединял их в одно
целое. Под его начальством духовенство, указывавшее путь на
небеса и упрочивавшее мир на земле, проповедовало изящные,
богатые чудесами и гуманные верования. В эти средневековые,
«настоящие католические» времена, священные чувства
господствовали повсюду и мудрый глава церкви основательно
«противился» смелому развитию человеческих способностей в ущерб
тому чувству и несвоевременным опасным открытиям в области
знания. «Духовное и мирское благосостояние», «гармоническое
развитие всех врожденных задатков» и повсюду процветавшие
торговые отношения доказывали, как этот порядок вещей был
благотворен, как хорошо он соответствовал потребностям
человеческой натуры. Однако это великолепное общественное
устройство подпало под пагубное влияние развивавшейся культуры и
деловой жизни; в особенности духовенство стало приходить в
жалкий упадок, от которого его с трудом удерживали меры
благоразумия. Старые порядки уже обратились в развалины, когда
вспыхнуло то восстание, которое называло себя «протестантизмом».
«Предпринятое с похвальной целью, оно причинило больше зла,
чем добра. Протестантизм дерзко уничтожил единство церкви.
Религия была святотатственно замкнута внутри государственных
границ. Место живой религии заняла буквальная религия Библии,
а недостаточное, отвлеченное понятие о религии, изложенное в
этой книге, до крайности стеснило проявления Святого Духа».
В протестантизме все больше и больше берут верх мирские
интересы, лишь изредка появляются светлые точки, которые снова
быстро угасают, и приближается «полная атония высших
органов, период практического неверия». С Реформацией исчезло
единство христианства, а оказавшееся вакантным место главы церк-
436
Р. ГАИМ
ви стали стараться занять самые сильные государства. Этому
злу не могла вполне воспрепятствовать даже отважная мудрость
ордена иезуитов, этого «образца всех обществ, стремящихся к
бесконечному распространению и вечному существованию».
Ученые наконец одержали решительную победу над
духовенством. Ненависть к святости, ко всякому энтузиазму и ко всякой
поэзии сосредоточивалась в философии французского
материализма и в немецком Просвещении и наконец разразилась «второй
Реформацией», то есть Французской революцией. Это событие
является поворотным пунктом. «Для того, кто способен понимать
смысл исторических событий, не подлежит никакому сомнению,
что настало время возрождения, что предвестниками
восстановления религии сделались именно те события, которые,
по-видимому, были направлены против религии и угрожали ей
окончательной гибелью. Настоящая анархия есть именно тот элемент, из
которого возникает религия. Из уничтожения всего
положительного она возвышает свою увенчанную славой главу в качестве
новой всемирной законодательницы». В особенности в
высокообразованной Германии уже теперь можно с полной уверенностью
указать признаки возрождения. Оно должно быть последствием
чистой духовности, серьезности и многосторонности теперешнего
немецкого образования. Хотя все эти указания покуда лишены
всякой внутренней связи, но такая связь непременно возникнет,
непременно настанет «новое, пророческое, чудотворное и
залечивающее старые раны золотое время, которое будет возбуждать
влечение к вечной жизни». Наука, несмотря на свои заблуждения,
подготовила это возрождение; поэтому даже филантропов и
энциклопедистов мы должны теперь приветствовать дружеской
улыбкой и приглашать к вступлению в новую свободную церковь,
которая скоро будет организована по образцу средневековой. Ведь
подобно тому, как науки нашли для себя высший пункт единения
в «Основных началах науки», и из усилившегося соприкосновения
между европейскими государствами возникнет «государство
государств»; во главе его будет стоять духовная власть, потому что
только такая власть в состоянии примирять борющиеся между
собой мирские силы (с одной стороны — привязанность к старому,
с другой — влечение к новизне) и поддерживать равновесие
между ними. Таким образом, будут созданы новая Европа, новое
христианство, новая видимая церковь, которая будет принимать в свои
недра все души, жаждущие неземного. Ведь дух христианства
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
437
есть всеобнимающий дух, свободный дух. «Христианство, —
говорится в конце статьи, — имеет троякую внешнюю форму. Во-
первых, оно есть тот элемент, из которого развивается религия,
так как оно возбуждает общее влечение к религии. Во-вторых,
это есть вера в то, что все земное способно сделаться вином и
хлебом вечной жизни. В-третьих, это есть вера во Христа, в Его
Матерь и в святых. Выбирайте какую хотите или выбирайте все
три, вы во всяком случае сделаетесь тогда христианином и членом
единой, вечной, невыразимо счастливой общины!»
Таково содержание этой замечательной статьи. Было бы
излишним подробно рассматривать этот фантастический
исторический очерк и противоречия с самим собою, в которые впадает
автор. С одной стороны, он превозносит средневековый
католицизм вместе с его церковной иерархией, с другой — он возвещает
возникновение самого либерального, самого бесформенного
христианства! С одной стороны, он отзывается о Реформации
крайне несочувственно, а с другой — он отдает полную
справедливость новейшему направлению умов, которое уничтожило
средневековую «призрачную религию» и впервые объяснило нам
святость природы, бесконечность искусства, необходимость
знания и смысл истории! Главная причина этого противоречия
заключается в сопоставлении «Основных начал науки» с
учреждением церковной иерархии, а объясняется оно просто наивностью
Гарденберга, который находил удовлетворение для своих
влечений к сверхчувственному и к бесконечному то в самых смелых
философских отвлеченностях, то в блестящих вымыслах своей
фантазии. Однако несмотря на то что в статье не было никакой
серьезно обдуманной основной мысли, несмотря на то что в ней
высказывались явные несообразности, она была привлекательна
примесью кажущейся исторической основы, была изложена с
таким энтузиазмом, что могла быть опасной для людей без
ясных и здравых убеждений. Ее автор не ограничивался
выражением только такой же художнической симпатии к католицизму,
какая проявлялась сначала в «Сердечных излияниях» Вакенродера,
а потом в «Штернбальде» Тика и в картинных сонетах Шлегеля:
он излагал программу того подвергавшегося у Фр. Шлегеля и у
других писателей различным видоизменениям политического
воззрения, которое усматривало идеал государственной жизни в
теократическом режиме, а Реформацию, равно как научное и
политическое развитие Нового времени, считало за греховное свое-
438
Р. ГАЙМ
вольство. Эта статья была пророческим указанием тех
мотивов, по которым члены романтической школы впоследствии так
часто переходили в лоно единой душеспасительной католической
церкви.
Шлейермахер прочел ее в рукописи немедленно после того,
как она была окончена. Он, конечно, не мог быть введен в
заблуждение софистикой мечтателя, заменявшего свою собственную,
примирившуюся с Просвещением религию средневековой
религией и иерархией. Он критически отозвался о статье,
ограничившись напоминанием, что папство было причиной испорченности
католицизма1. Но он совершенно иначе отнесся к написанным
почти одновременно со статьей «Духовным песням» Новалиса2.
Уже в то время он противопоставлял их картинным сонетам
Шлегеля; одну из лучших он впоследствии вставил в
«Weihnachtsfeier» («Праздник Рождества».—Прим. науч. ред.), а его
протестантизм не помешал ему во втором издании «Речей»
воздвигнуть преждевременно умершему поэту памятник наряду со
Спинозой и указать всем художникам на благочестие усопшего
как на образец «истинной любви ко Христу». Действительно,
поэтические произведения поэта не следует подводить под одну
мерку с его фантазиями историческими или философскими. В
произведениях первого рода он имеет полное право обходиться без
критики. Религия Гарденберга была поэтической, а не
критической. Характер своей религиозности он сам объяснил нам в ранее
цитированном нами письме к Юсту. Он с полным самосознанием
писал своему другу, что откладывает в сторону все основанное
на доказательствах и все историческое для того, чтобы
подчиняться «тем более возвышенным внушениям, которые находит в
самом себе»; что в истории и в догматах христианской религии
он усматривает лишь «символическое очертание всеобщей
мировой религии, способной принимать всякую внешнюю форму»; и
что с этой точки зрения у него все религиозные воззрения «мирно
выстраиваются в ряд в восходящем порядке». Поэтому он отно-
1 «Aus Schleiermacher's Leben» HI, 139.
2 В его сочинениях II, 15 и ел.; номера от 1 до 7 были первый раз напечатаны
в «Альманахе Муз» Шлегеля и Тика, с. 189 и ел. С тем, что говорится далее в
нашем тексте, можно сравнить вообще неглубокомысленную статью Rothe
«Novalis als religiöser Dichter» в «Allgem. kirchl. Zeitschrift» (год 3-й, с. 608 и ел.). На
христианское и евангелическое содержание стихотворений Новалиса указал в их
издании Beyschlag на с. 23 (Галле, 1869).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
439
сился к христианскому учению или как к такому священному
тексту, смысл которого он мог произвольно объяснять сообразно со
своими собственными благочестивыми чувствами, или как к
такому полному глубокого смысла поэтическому произведению, на
которое мог смотреть глазами фантазии. Первое воззрение
обнаруживается в одном из его «Отрывков», когда он говорит, что
Евангелия заключают в себе основные черты будущих и высших
Евангелий; второе воззрение обнаруживается в его заключении, что
священная история представляет странное сходство со сказкой,
что история Христа, бесспорно, есть столько же поэтическое
произведение, сколько историческое. Его религиозное воззрение,
очевидно, сходится с его воззрением на сущность и на задачу поэзии.
Такими же, без сомнения, были бы и его проповеди, если бы он не
отказался от намерения написать их: они были бы
противоположностью догматических проповедей. Очевидно, в связи с тем
намерением находились его неоднократные рассуждения о
сущности настоящей проповеди. По его мнению, проповеди должны быть
«ассоциациями божественных внушений, небесными воззрениями»,
должны быть такими размышлениями о Боге, которые лишены
свойственной изображению совершенства монотонности
благодаря пантеистическому всестороннему индивидуализированию
божественности. В другой раз он называет проповеди «молитвами»,
а в одном месте даже называет их «легендами», то есть
религиозными сказками. Он говорит, что они должны быть просты, но
вместе с тем в высшей степени поэтичны. Точно такими же
должны быть, по его мнению, и религиозные песни: они должны быть
более полными жизни, более задушевными и мистическими, чем
лафатеровские; в них не должно быть ничего земного,
нравоучительного и аскетического. Таковы и его собственные духовные
песни. Они в одно время и молитвы, и легенды. Нам уже
известен отличительный характер лирики Новалиса из «Гимнов к ночи».
Господствовавшее в этих «Гимнах» чувство скорби отличается
лишь легкими оттенками от той благочестивой радости, от того
блаженного душевного спокойствия, которые составляют основной
тон в «Духовных песнях». Пятый гимн очень ясно обозначает
переход от прежней, более метафизической лирики к теперешней
религиозной лирике: нам представляется здесь в
историко-философской перспективе противоположность христианской веры и
жизни с верой и жизнью греков, а Христос превозносится за то,
что разрешил загадку вечной ночи, разрешил ту загадку смерти,
440
Р. ГАЙМ
которая наводила страх на веселый греческий мир. Таким образом,
благочестие нашего поэта останавливается то на воспоминаниях
детства, то на установленных христианских догматах; но оно не
ограничивается этими рамками: христианское воззрение местами
переходит в патетическое, как, например, в том дифирамбе, в
котором поэт объясняет «божественное значение Святого
причастия», или в той песни, в которой идет речь об «утешении всего
мира», об «излиянии Святого Духа». Но всех выразительнее,
бесспорно, те песни, в которых Новалис положительно
придерживается христианских верований. В христианстве прошлых веков, по
его мнению, всего более поэтичны любовь к святой, чудной,
прекрасной Деве и преданность Искупителю, тому, кто так
«искренно любил, кто страдал и умер»; в этом и заключается содержание
его духовной лирики. Но эта лирика нередко носит отпечаток его
индивидуальных чувств: он с трогательной скорбью говорит о том,
кто отдал за нас свою жизнь:
Ewig seh'ich ihn nur leiden,
Ewig bittend ihn verscheiden.
Даже предметы христианских верований получают у него
особую физиономию под влиянием того, что он сам пережил. Свою
умершую возлюбленную он сознательно или бессознательно
смешивает с Царицей Небесной:
Ich sehe dich in tausend Bildern,
Maria, lieblich ausgedrückt,
Doch keins von allen kann dich schildern,
Wie meine Seele dich erblickt.
Ich weiss nur, dass der Welt Getümmel
Seitdem mir wie ein Traum verweht,
Und ein unnennbar süsser Himmel
Mir ewig im Gemüthe steht.
В этих словах выражались такие чувства, которые были
совершенно во вкусе Шлейермахера. Они окончательно скрепили
узы дружбы между двумя поэтами. Но и Тик шел одной дорогой
с Новалисом. Религиозная поэзия этого последнего внушила автору
«Штернбальда» желание написать большое сочинение
религиозного содержания, а это сочинение ясно обозначает переход
Тика от религиозного увлечения искусством к художественному
прославлению религии. В конце прошлого столетия появилась
на свет, под заглавием «Жизнь и смерть святой Женевьевы», тра-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
441
гедия, служившая новым выражением того направления, которое
желал придать поэзии Шлейермахер1.
Личность этой святой выводится на сцену уже в конце «Штерн-
бал ьда»2. В одном монастыре герою романа приходится
подновлять старую картину; на этой картине изображена святая
Женевьева сидящей вместе со своим сыном в дикой стране под
уединенными утесами и окруженной зверями, которые ласкаются
к ней. По прошествии года сам Тик изложил эту старинную
легенду в форме драмы, украсив ее самыми пестрыми красками
и поэтическими вымыслами.
Этот сюжет был уже изложен в драматической форме, когда
Тик познакомился с ним в первый раз: в 1797 году, во время
непродолжительного пребывания Тика в Гамбурге, живописец Ваа-
ген дал ему прочесть рукопись трагедии «Голо и Женевьева». Эта
трагедия была написана уже почти совершенно позабытым поэтом,
уже в течение девятнадцати лет жившим в Италии, живописцем
Мюллером, который когда-то не без успеха соперничал с
юношескими стихотворениями Гёте, а теперь пожелал напомнить о
себе немецкой публике изданием лучшего из своих сочинений.
Тик прочел или слегка просмотрел громадный манускрипт,
написанный белесоватыми чернилами и потому очень неудобный для
чтения. Трагедия не произвела на него сильного впечатления: в
его памяти осталась только меланхолическая песня «Mein Gras
sei unter Weiden» («Моя трава на пастбищах». — Прим. науч.
ред.), которую слышал Голо и мелодия которой снова была
исполнена в момент его смерти. Только по прошествии года эта
легенда попала ему в руки в той безыскусственной форме, в какой
она неоднократно печаталась в Германии со второй половины
XVIII столетия, — в форме популярного рассказа о фальцграфине
Женевьеве. Только тогда разыгралась его фантазия. Трогательный
рассказ глубоко запал в его душу; вокруг этого сюжета стали
группироваться различные поэтические идеи, а при этом не была
позабыта и повторенная песня в мюллеровской «Женевьеве»3. К обра-
1 Она была первоначально помещена во II томе «Романтических
стихотворений» (Йена, 1800), а теперь помещена в полном собрании сочинений Тика II, 1 и ел.
2 История Женевьевы упомянута еще в начале «Штернбальда», и уже во
второй части «Петера Лебрехта» о ней сказано, что она принадлежит к числу
несправедливо подвергаемых осмеянию народных романов.
3 Касательно того, что следует далее, сравн. собственный рассказ Тика, в
его сочинениях (Ι, χχνι и ел.) и Кепке (1,239 и ел.).
442
Р. ГАИМ
ботке этого сюжета его побуждали и некоторые посторонние
соображения. По приглашению одного книгопродавца в 1797 году
он стал заниматься переводом своего старого любимца «Дон
Кихота»1. Эта работа, естественно, навела его на изучение
испанских драматических и лирических поэтов. Он стал продолжать
то, что было начато в Гёттингене, стал изучать произведения Лопе
де Вега и Кальдерона и скоро пришел в восторг от великолепия
красок, от богатства форм этой проникнутой горячей верой поэзии.
Именно по этому случаю его фантазия усилила те влечения к
религии, которые возбудила в нем поэзия Вакенродера. Все манило
его к переходу на почву религии. «Речи» Шлейермахера нашли в
нем одного из первых и самых восторженных читателей. Тот
самый немецкий мистицизм, который является у Шлейермахера в
очищенном виде благодаря изящной и благородной форме
изложения, разливался бурными волнами по сочинениям гёрлицкого
башмачника Якоба Бёма. Тик случайно заглянул в произведение
Бёма «Morgenröthe im Aufgange» («Утренняя заря в
восхождении».— Прим. науч. ред.) в ожидании найти там обильный
источник для иронии, но был неожиданно поражен этой хаотической
смесью глубокомыслия, благочестия и фантазии. Он углубился в
рассуждения автора о том, что Бог есть Grund и Urgrund (Основа
и Безосновное. —Прим. науч. ред.) всех вещей, что в нем
зарождаются жизнь и телесность всех творений. Находясь под
впечатлением этого чтения, он встретился летом 1799 года с Нова-
лисом, ум которого вращался в сфере идей, хотя и гораздо более
развитых и более осмысленных, но схожих с идеями Бёма. Тогда
его подвижная фантазия окончательно приняла религиозное
направление и он задумал вставить свои религиозные чувства в
рамку легенды о Женевьеве. Живя летом 1799 года в Гибихенштей-
не, он написал пролог святого Бонифация, а немедленно вслед за
этим и первые сцены; в Йене он очень скоро довел свою драму до
конца, уже в ноябре сообщил ее своим друзьям, а в начале
декабря представил ее на просмотр прибывшему в Йену Гёте2.
В то время Гёте относился к представителям юной школы с
чрезвычайным дружелюбием и предупредительностью. И его от-
1 Унгер обратился с приглашением перевести «Дон Кихота» первоначально
к Фр. Шлегелю; кроме того, Рейхардт рекомендовал издателю Эшена. Фридрих
к Вильгельму Шлегелю (письма № 91,92,94); сравн. письмо В. Шлегеля к Тику
от 11 декабря [1797] (у Гольтея III, 226).
2 «Aus Schleiermacher's Leben» III, 140; Кепке I, 260.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
443
зыв о «Женевьеве» был чрезвычайно лестен для ее автора. Но к
своему девятилетнему сыну, присутствовавшему при чтении
драмы, он обратился со следующими словами: «Ну, а ты что
думаешь об этих ярких красках, цветках, отражениях и чародей-
ствах, о которых нам читал вслух наш друг? Не находишь ли ты,
что все это очень странно?». Эти слова, конечно, не были
сказаны с целью выразить порицание, но в них заключалась очень
сомнительная похвала, и они чрезвычайно верно выражали такое
же впечатление, какое и в настоящее время вынесет всякий
беспристрастный читатель из чтения «Женевьевы». Конечно, даже
недружелюбно настроенный читатель не будет отвергать того,
что поэт довольно удачно подражал фантастическим переливам
красок в кальдероновской поэзии, что ему иногда удается
сообщать читателю свое собственное душевное настроение,
заставлять его то пылать страстью, то печалиться, то раскаиваться, то
снова сокрушаться. Но мы предъявляем к драматической поэзии
более высокие требования: мы ожидаем, что она будет выводить
на сцену людей, действующих под влиянием своих страстей, что
она будет то натягивать струны нашего сердца, то ослаблять их,
то потрясать нашу душу, то успокаивать ее. Поэтому мы не
можем похвалить такого драматического писателя, который
беспрестанно описывает словами то утесы и леса, то благоухание
летнего вечера и осенние туманы, то театр военных действий и луга,
на которых пасется скот; мы теряем терпение, когда он при
всяком важном моменте драматического действия пишет одни
стихи вслед за другими для того, чтобы настроить нас на тон
драматического положения. Это значит браться за ремесло декоратора
и оперного композитора. Тогда содержание драмы кажется
растянутым и безжизненным по причине частых перерывов в
драматическом действии. Короче сказать, это самое верное средство
наводить на слушателей скуку. Касательно драматического
произведения суждение Шиллера, без сомнения, более веско, чем
суждение Гёте, а Шиллер заметил после чтения «Женевьевы»,
что у ее автора грациозная, богато одаренная фантазией и нежная
натура, но что в этой натуре нет и никогда не будет ни энергии, ни
глубины идей; что драма Тика, подобно его прежним
произведениям, наполнена разными шероховатостями и бессмыслицами; он
сожалел о том, что такой выдающийся талант так мало обещает
в будущем, потому что грубая сила и порывистая энергия еще
могут очиститься от своих недостатков, но пустословие и бессо-
444
Р. ГАИМ
держательность никогда не ведут к совершенствованию1.
Действительно, главный недостаток «Женевьевы» заключается в
вялости и в растянутости. Тику причинило вред его знакомство с
романской поэзией. От нее он заимствовал недраматические
формы сонета: октаву и терцину — и стал употреблять их с
неосмотрительным легкомыслием, нередко там, где они были вовсе
неуместны. Этот недостаток делался более заметным вследствие
преднамеренного пренебрежения автора к условиям театральной
сцены вследствие его неосновательного убеждения, будто
театральная сцена сделалась ни к чему негодной, между тем как именно
в то время для нее открывалась новая эра благодаря исполнению
шиллеровского «Валленштейна». Его собственные
недраматические вкусы сходились с учением Шлегеля об иронии, то есть о
преобладающем значении поэтического сюжета. Не
принадлежащая ни к какому разряду безусловная поэзия казалась ему чем-
то более возвышенным и более превосходным, чем та поэзия,
которая стесняется установленными законами и реалистическими
условиями. Он искал осуществления своей художнической
задачи не в правильности композиции и не в единстве стиля, а в ничем
не стесняющемся смешении различных тонов; сам он так
высказался касательно своей задачи: «Достаточно, если посредством
пролога и эпилога целое удерживается в поэтических рамках
подобно сновидению, а потом снова улетучивается; тогда нет
никакого основания требовать какой-либо другой правды, кроме
поэтической, основанной на фантазии!». Кто имел такие шаткие
понятия о поэтическом стиле, тот, конечно, не мог ничему
научиться даже у Шекспира. Ни одним из произведений Шекспира Тик
не восхищался в то время так же сильно, как незрелой драмой
«Перикл». Увлекаясь Кальдероном, он стал вносить в драму
лирические излияния чувств, а увлекаясь самыми несовершенными
из шекспировских драм, он стал смешивать драматическую
форму с эпической; вот почему святой Бонифаций служит не только
прологом и эпилогом для драмы Тика, но появляется на сцене и в
середине пьесы для того, чтобы рассказать десятках в трех
рифмованных октав, что случилось в промежуток времени между
исчезновением Женевьевы и ее возвращением!
Достойно замечания, что Тик заимствовал из мюллеровской
«Женевьевы» только мотив вышеупомянутой меланхолической
1 В переписке Шиллера с Кернером (IV, 211,212).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
445
песни и вместе с ним все, что есть слабого и хилого в характере
Голо. Он мог бы сделать более многочисленные и более полезные
заимствования у своего предшественника. Он впоследствии сам
издал мюллеровскую «Женевьеву»1 и этим опровергнул
распущенный клеветниками слух, будто он выдавал произведение Мюллера
за свое собственное, но вместе с тем он доставил своим
противникам повод для критических сравнений. Полный жизни
сюжет «Женевьевы» неоднократно вызывал писателей на
литературную обработку. Во Франции он несколько раз излагался в форме
романов и драм. В Германии им воспользовался автор трагедий
«Мария Магдалина» и «Нибелунги» Геббель. Итак, на эту тему
появились при трех поколениях три поэтических произведения,
которые могут служить характеристиками трех эпох в истории
немецкой литературы! Мюллеровское произведение есть отголосок
гётевского «Гёца»: оно напоминает нам, вместе с произведениями
Ленца и Клингера, «бурные стремления» семидесятых годов
прошлого столетия; оно основано на неполной, но беспристрастной
оценке Шекспира. Здесь сказывается находящаяся в состоянии
брожения и стремящаяся вперед сила, в которой отражаются как
в зеркале привольное житье и заносчивость тогдашней молодежи
прирейнских стран. Дикость и энергия, сила и страстность
решительно преобладают над нежностью и мягкостью. Благочестие
Женевьевы и ее супружеская верность служат лишь фоном, на
котором с особенной яркостью выступают наружу преступления
и нравственная распущенность развратной Матильды, этой
энергичной женщины (Machtweib), в руках которой сходятся нити
драматического действия и в которой мы без труда узнаем Адель-
гейду из «Гёца», представленную в более отвратительном виде и
с характером, более свойственным мужчине. Способ изложения
не подчиняется никаким более высоким законам, чем требования
естественности, и доходит до поэтического цинизма, который
предпочитает отрывочную речь плавной речи и достигает своего
апогея в грубом идиоме нанятого для Женевьевы убийцы. После
чтения этой пьесы трудно поверить, чтобы можно было написать
что-нибудь еще более отвратительное. Однако ее
натуралистическую грубость далеко превзошла нелепость фантастических
преувеличений. В тридцатых и сороковых годах текущего столетия
1 См. том III «Сочинений живописца Мюллера» (Гейдельберг, 1811) (эти
сочинения были снова изданы в 1825 году).
446
Р. ГАЙМ
в Германии возникла новая драма в этом роде. Самыми
выдающимися ее представителями были Граббе, Бюхнер и, в
особенности, Геббель в начале своей поэтической деятельности.
Примером этого направления может служить «Женевьева» Геббеля.
То, что в этой трогательной легенде наивно выдается за
действительный факт, превращается у Геббеля в проблему, которую он
разрешает по внушению своей фантазии. Благочестие Женевьевы
имеет в его глазах лишь второстепенное значение; нравственной
чистоте и красоте этой женщины он противопоставляет массу
отвратительной нравственной грязи; но средоточием для
драматического интереса служит софистика, с которой он излагает
историю сердца мучителя Женевьевы, Голо, физиологию греха и
преступления, борьбу между чувством долга и похотью.
«Женевьева» Тика занимает серединное место между теми двумя
изложениями легенды, на одинаковом расстоянии от обоих. У
романтического поэта нет ни резкой грубости более старого писателя,
ни психологической тонкости более нового писателя. У него
менее драматизма и более расплывчивости, чем у них обоих. Он
имеет в виду только атмосферу, в которой совершается событие,
только ее тон и краски. Но и эту атмосферу он изображает не с
исторической объективностью, а только в субъективных
впечатлениях. Он описывает вовсе не век Каролингов; он вкладывает в
уста людей того времени выражения такого же душевного
настроения, в каком сам находился после чтения старой легенды.
Он придерживается смысла легенды лучше, чем другие два поэта,
но он неглубоко вдумывается в этот смысл. Главный элемент
легенды, без сомнения, заключается в благочестии.
Благочестивый тон и составляет основной тон трагедии. Но действительно
ли сила благочестивых чувств развязала язык поэту, был ли его
религиозный пафос искренним и оригинальным? Это утверждали
друзья Тика, превозносившие его «Женевьеву» и в прозе, и в
стихах1; он сам долго поддерживал это мнение. Даже по прошествии
1 В «Archiv der Zeit» (в июньском номере 1800 года) Бернгарди зашел далее
всех в своих похвалах. Фр. Шлегель хвалил в письме к Шлейермахеру (III, 134)
поэтичность (III, 171), изящество и привлекательность драмы. В журнале
«Европа» (I, 1, с. 57) он в первый раз хвалил эту драму как образец мистической
поэзии, как «божественное явление». Еще до этого он в одном сонете к Тику (в
его сочинениях X, 20) превозносил в «Женевьеве» образцовое произведение
поэта; а А. В. Шлегель, также в сонете, напечатанном в «Атенее» (III, 2, с. 233; в
его сочинениях I, 367), говорил, что с появлением этой драмы возвратилось то
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
447
шестнадцати лет он писал своему другу Зольгеру, что это
поэтическое произведение «было эпохой в его жизни», что «оно
целиком вылилось из его души», что «он сам был им поражен», что
«оно не было издано, а создалось само собой». У Тика никогда не
было более пристрастного панегириста, чем Зольгер, но в этом
случае эстетическое чутье панегириста взяло верх над его
пристрастием. Зольгер находил, что «Рыцарь Синяя Борода» и «Кот
в сапогах» были самыми совершенными драмами, а в «Женевье-
ве» он, наперекор уверениям своего друга, находил
существенные недостатки1. С его мнением нельзя не согласиться. Как
поэтическое благочестие Вакенродера, Тика и Вильгельма Шлегеля
выражалось в конце XVIII столетия в описаниях святых и
мучеников, точно так и поэтическое благочестие действующих лиц
нашей драмы выражается в благочестивые времена Карла Мар-
телла в этих описаниях. Но автор выдает себя устами самой
Женевьевы, которая, однако, бесспорно была христианкой по
сердцу святого Бонифация! Она, подобно Тику, любит и читает
старинные легенды. «Я читаю их, — говорит она, — не столько из
благочестия, сколько из искренней любви к старым временам и
из сожаления, что в настоящее время мы так мало похожи на тех
великих святых людей!». Другими словами: Тик не умеет
изображать религию как действительное, полное жизни, душевное
настроение; как настоящую душу драматического действия; он
способен только изображать мир фантазии, мифологию религии в
качестве годного для выставки костюма или декорации. Вместо
действительно благочестивого времени он описывает нам время
знамений и чудес, предчувствий и видений. Но «чудо есть
любимое дитя веры»; стало быть, если в вере нет искренности, и
чудеса будут чем-то вроде фокусов и причуд поэтической фантазии.
Разве это не простая причуда, что какой-то неизвестный рыцарь
предсказывает Карлу Мартеллу блестящую будущность его
потомства или что погибший в войне в маврами Ото странствует в
виде привидения для того, чтобы наводить страх на своего сына
Голо и внушать душевную бодрость супругу Женевьевы Зигфри-
доброе старое время, когда драматические сочинения писались на сюжеты,
взятые из Библии и из легенд. Впрочем, Фридрих находил, что чрезмерная длиннота
пьесы была препятствием для ее сценической эффектности, а Вильгельм говорил
в письме к Фукэ в 1806 году (в его сочинениях VIII, 146), что в ней слишком
много фантастичности, или, вернее, что этой фантастичности недостает сжатости.
1 Зольгер, «Nachgelassene Schriften», I, 301; I, 453 и ел.
448
Р. ГАИМ
ду? Что же это, как не декоративная символика, когда к Женевь-
еве сначала подходит самолично смерть, а потом подходят два
ангела для того, чтобы защитить ее от косы смерти?
Действительно, в пьесе слишком ясно видны рука и проволока
поэтического машиниста, и нам нелегко решить, что более разрушает
иллюзию чуда — высокопарные терцины, которыми выражаются
неизвестный и пилигрим, или же слишком вольные стихи,
которыми выражаются оба ангела.
Таков был в «Женевьеве» Тика религиозный пафос, благодаря
которому это поэтическое произведение получило выдающееся
значение в немецкой литературе. Он не был ответом на призыв,
сделанный Шлейермахером в «Речах о религии»; по крайней мере
этого не видно из коротенького отзыва Шлейермахера о новой
драме1. Но приведенный нами выше отзыв Зольгера не остался
без влияния на Тика. Он впоследствии сам признавался, что его
религиозный пафос был лишь стремлением к религии, развившимся
из его любви к поэзии; он оправдывал свои прежние симпатии к
католицизму желанием противодействовать влиянию тогдашнего
Просвещения; он становился на артистическую точку зрения
Шлегеля и в оправдание своего прежнего направления ссылался
на право поэта, ничем не стесняясь, превозносить и богов Олимпа,
и блестящих представителей католической формы христианства.
Итак, из всего вышесказанного видно, что, с одной стороны,
«Духовные песни», с другой — «Женевьева» ясно доказывают, как
далеко может в наше время идти поэзия рука об руку с религией
и дальше чего она не может идти. Та поэзия, которая будет искать
для себя опоры в мифологических вымыслах прошлых
поколений, будет лишена жизненной силы, будет вялой, подобно
облетевшим осенним листьям. Она будет полна жизненных сил
только в той мере, в какой сумеет изображать духовную жизнь старого
времени в связи с существующими на тот момент религиозными
понятиями. «Женевьева» Тика вызвала появление
многочисленных поэтических произведений религиозного содержания, но это
не принесло пользы ни поэзии, ни благочестию. От этого
религиозное чувство не сделалось более искренним, а стало более
прежнего довольствоваться внешними формами благочестия.
Этот путь вел прямо к католицизму. Превозношение чудес и
мученичества сделалось задачей всей жизни Захарии Вернера, а Тик
1 «Aus Schleiermacher's Leben» 1,247.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
449
скоро стал жаловаться на излишек благочестивых чувств в
произведениях поэзии, стал искать средства противодействовать тому
направлению умов, которое сам вызвал.
Положительно известно, что первым из единомышленников
Тика и Новалиса, подавшим впоследствии пример перехода в
католицизм, был тот, который во время возникновения «Женевьевы»,
по-видимому, более всех держался в стороне. Отношение
Фридриха Шлегеля к «Речам о религии» и вообще к религиозному
направлению романтического кружка представляет для нас особый
интерес в особенности потому, что ни один из членов этого кружка
не находился в более близких личных отношениях с автором
«Речей», чем Шлегель, и ни один из них не принимал более
деятельного участия в этом первом литературном произведении
Шлейермахера.
Ввиду этой тесной личной связи можно было бы ожидать, что
Шлегель придет в восторг от произведения своего друга; он
никого бы не удивил, если бы заявил, что к трем тенденциям его века —
к Французской революции, к «Основным началам науки» Фихте
и к гётевскому «Вильгельму Мейстеру» — присоединилась
четвертая в виде «Речей о религии». Но на деле оказалось, что именно
«Речи о религии» в первый раз обнаружили различия в
образовании этих двух людей, в их врожденных наклонностях, во всем складе
их ума; в первый раз провели ту разделительную черту, из-за
которой позднейшее умственное развитие этих двух людей приняло
противоположные направления.
Воззрения Шлегеля на религию, уже известные нам из его
рецензии на «Философский журнал»1, в сущности, не заходят
далее той точки зрения, которой придерживалась философия Канта
и Фихте; в них своеобразно только то, что Шлегель пытался
видоизменять общие понятия о разумности и нравственности, внося
в них элементы исторический и индивидуальный. Поэтому он
смотрел на религию, как на такое дополнение морали, которое
нуждается в контроле критики и подчиняется законам бесконечно
прогрессивного исторического развития. Согласно с этой точкой
зрения, он в своей статье о Лессинге горячо вступался за
либеральные воззрения этого писателя на религиозные предметы. Он
даже находил этот либерализм недостаточным; он говорил, что
автор «Натана» решительно выдает за идеал религии только один
1 Сравн. выше, с. 225, 226.
15 Зак. № 3602
450
Р. ГАЙМ
ее вид; что еще остается сомнительным, признавал ли он во всем
объеме важное основное положение о необходимости особой
религии для каждой ступени умственного развития человечества,
применял ли он это положение и к индивидуумам и сознавал ли
он необходимость бесконечного множества религий. Итак,
относительно религии Шлегель энергично вступался за законы
постепенного развития, за субъективную свободу; вступался так
энергично, что даже позабыл определить сущность религиозности. Такой
же точки зрения он придерживался в «Отрывках». Его понятие о
религии совершенно исчезает в понятии о свободе. По его мнению,
«чем более человек свободен, тем он более религиозен, и чем
больше у него образования, тем меньше у него религии» ■. В другом,
более обширном «Отрывке» он, по-видимому, несколько глубже
вникает в сущность религиозности. Влияние его отношения к Гар-
денбергу и к Шлейермахеру обнаруживается здесь в том, что он
ведет речь о людях трех разрядов: о тех, которые более других
расположены обоготворять посредника между Богом и людьми,
верить чудесам и видениям; о тех, которые имеют более точные
сведения о Боге Отце и умеют объяснять смысл таинственных
вещей и пророчеств; наконец, о тех, которые верят в Святого Духа
и, стало быть, в откровения и вдохновения свыше. Но эта
религиозность тотчас исчезает, так как автор называет людей первого
разряда «мечтателями и поэтами», людей второго разряда —
«философами», людей третьего разряда — «художническими
натурами»; и так как он называет одной из «самых плохих профессий»
занятие религией «как изолированным искусством» и старание
соединить те три вида религии в один. Не составив себе ни
малейшего понятия о религии по собственному опыту, Фридрих и к этой
теме применял свою манеру сопоставлять различные идеи в
разных остроумных выражениях. Так, например, он написал своему
брату2: «Если у Гарденберга больше религии, чем у меня, то у меня
едва ли не больше философии религии; во всяком случае, у меня
не меньше религии, чем у тебя». Допустим, что это была правда!
Но философия религии заключалась у Фридриха только в том, что
он переносил из поэзии в религию свои любимые категории,
принадлежавшие к области эстетики. Так, например, он называет като-
1 В «Атенее» (I, 2, с. 63) почти слово в слово то же, что в рецензии на
«Философский журнал» («Charakteristiken und Kritiken» I, 57).
2 В марте 1798 года [№ 105].
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
451
лицизм «наивным христианством», протестантизм —
«сентиментальным христианством»1 и считает положительной заслугой
протестантизма то, что вследствие обоготворения Священного
Писания он был причиной возникновения такой филологии, какая
соответствует «универсальности и прогрессивности» религии. По
его мнению, протестантскому христианству недостает только
«хорошего тона»; он требует, чтобы содержание Библии
рассматривалось с ничем не стесняющейся свободой критики и
объяснялось поэтически, чтобы было приложено старание ко всему, что
может сделать религию «более либеральной». Он воображает, что,
назвав христианство «универсальным цинизмом», не мог бы
сделать ему лучшей похвалы. Для него христианство есть факт, «но
только зародившийся факт, который поэтому нельзя излагать в
системе, а можно только охарактеризовать критикой,
предвидящей будущее». «Научный идеал христианства, — говорит он в
другом «Отрывке», — есть характеристика Божества в бесконечном
числе вариаций». Наконец еще в одном «Отрывке» он называет
односторонним и высокомерным мнение, что должен
существовать только один посредник между Богом и людьми: «Для
настоящего христианина, с которым более всех имеет в этом отношении
сходства Спиноза, все должно служить посредником». Соединяя
все эти суждения в одно целое, мы получаем религию, которая
так же либеральна, так же всеобща, так же прогрессивна и так
же основана на субъективном произволе, как и та романтическая
поэзия, какой требует Шлегель. Нельзя сказать, чтобы шлегелев-
ской религии недоставало какой-нибудь из тех особенностей,
которыми шлейермахеровская религия должна была
зарекомендовать себя в мнении образованных людей; для сходства с этой
последней ей недоставало только религии. Главное различие
между содержанием «Речей о религии» и мнениями Шлегеля
заключается в том, что «Речи» имеют целью сделать образование
религиозным, а Шлегель имеет только одну цель — сделать религию
образованной. Во время пребывания в Дрездене летом 1798 года
он написал для третьего номера «Атенея» посвященную Доротее,
наполненную остроумной болтовней статью «О философии»2.
Здесь он проводит ту мысль, что как для мужчин поэзия, так для
1 В «Атенее» (I, 2, с. 62); но та же мысль была высказана в его бумагах,
найденных в Йене (у Виндишманна II, 420).
2 «Атеней» (II, 1, с. 1 и ел.). Эта статья не попала в полное собрание сочинений.
452
Р. ГАИМ
женщин философия есть натуральное, необходимое средство,
чтобы приобрести религию. А что он здесь разумеет под словом
«религия»? Это нелегко выяснить. Автор говорит, что религия
должна быть настоящей женской добродетелью, что она
заключается в сердечности и в гармонии женского нрава, что религию
имеют тогда, «когда мыслят, сочиняют и живут божественно; когда
благочестие и воодушевление разливаются по всему существу;
когда ничто не делается по обязанности, а все делается из любви
только потому, что так хотят, и когда так хотят только потому, что
так приказывает Бог...». Религию имеет тот, кто находит в глубине
своей души обильный источник чистого воодушевления... у кого
«внутренний слух способен воспринимать музыку всех сфер
общего образования». Смысл всех этих витиеватых неясных
выражений, очевидно, заключается в том, что религия есть образование,
проникнувшее в глубину души. Вслед за этим автор высказывает
единственную мысль, напоминающую нам Шлейермахера и его
изучение Спинозы вместе с Шлегелем: душа настоящего
образования есть обоготворение универса и его гармонии1. Несмотря на
такую неясность убеждений, он не переставал толковать о своей
религиозности и о своих воззрениях на религию. В письме к
Каролине он говорит, что и теперь, как прежде, есть миряне и есть люди
духовного звания, что Гарденберг и сам он принадлежали к числу
последних, что его религия начинает «вылезать из яйца своей
теории» и так далее в том же роде2. Но именно в то время появилась
настоящая теория религии в «Речах» Шлейермахера; тогда стало
еще более прежнего ясно, что Шлегель не был в состоянии
оценить по достоинству ни философское, ни религиозное содержание
«Речей», ни умственную проницательность, ни глубокомыслие
Шлейермахера. Он понял и похвалил в этой книге все то, что
придавало лучшую окраску религии, понимаемой так, как он сам ее
понимал; но он пропустил без внимания то, что было в книге ново
и оригинально; он не принял сколько-нибудь серьезного участия в
старании Шлейермахера отвести для религии особое место в
человеческой душе и придать ей такое значение, которое поставило
бы ее вне всякой зависимости от научного, нравственного и худо-
1 В то же время в одном из своих писем к Шлейермахеру он с пародическим
юмором говорит о своей верности универсу, в который он «влюблен до
безумия» («Aus Schleiermacher's Leben» III, 81 ).
2 № 114 в письмах к А. В. Шлегелю. В этом письме он постоянно обращается
в Каролине; оно помечено 20 октября 1798 года.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
453
жественного образования. Само собой разумеется, что он сначала
радовался появлению «Речей», которые были написаны
благодаря его непрестанным понуждениям. Ведь Шлейермахер-писатель
был его ученик. Даже в то время, когда писались «Речи», он
говорил их автору, что в них все изложено как нельзя лучше. Но все, что
он говорил о содержании сочинения, было очень незначительно.
По его мнению, мысль о том, что не существует смерти и что
всякий, даже самый дурной человек, есть подобие Божества,
составляет «религисотатоу сочинения». Понятие Шлеиермахера о
Боге кажется ему скудным; то, что говорится у Шлеиермахера о
бессмертии души, хотя, по его мнению, и основательно, но «для
окончания самой важной из „Речей" не ново, или, вернее,
недостаточно оригинально», потому что и Фихте, и Шеллинг имеют
точно такие же идеи, и так далее. Но горячая похвала, с которой он
рекомендовал Шлейермахеру статьи Гюльсена, очевидно, была
косвенной критикой «Речей». Он яснее высказывался в письмах к
брату. Прочитав рукопись Шлеиермахера до конца второй «Речи»,
он писал Вильгельму Шлегелю: «Тут вообще немного религии,
кроме той мысли, что всякий человек есть подобие Божества и
что смерти не существует. Впрочем, эта книга, подобно моим
статьям о древней поэзии, имеет революционное направление и
заглядывает в новый мир... Она изящно изложена, это
классический очерк». Напротив того, первая статья Гюльсена,
напечатанная в «Атенее», была, по его мнению, «священным
сочинением в настоящем смысле слова». «Его уважение к семейству, к
родителям, к детям, — прибавляет Шлегель, — нравится мне
более, чем у Шлеиермахера, в особенности потому, что Гюльсен
сам не знает, что это уважение есть религия. Кроме того, у
Гюльсена более нервности и выразительности, чем у Шлеиермахера,
который обнюхивает каждого субъекта, отыскивая в нем универс».
После чтения размышлений Гюльсена о природе он писал: «Этот
человек имеет то, что я называю религией»!1
На Фридрихе Шлегеле, естественно, лежала обязанность
ввести первое произведение своего друга в свет со всеми
литературными почестями. Но только при помощи вышеприведенных
выдержек из его писем может быть понятен тот странный способ,
которым он исполнил эту обязанность. Он исполнил ее в написан-
1 Фридрих к Вильгельму Шлегелю от 19 февраля 1799 года [№ 125] со
ссылками на с. 268 и 269 первого издания «Речей» и [от] 25 февраля [№ 126].
454
Р. ГАИМ
ной для «Атенея» «Заметке» («Notiz»)1. Он первый ввел эту
новую рубрику «Заметок», заменивших те «Приложения к критике
новейшей литературы», которые Вильгельм начал помещать в
«Атенее» с его первого номера. Фридрих так объяснял своему
брату2 причину этого нововведения: «Нередко случается, что
лучшую рецензию на новую книгу составляет первая о ней заметка
в письме к образованному другу, разделяющему Ваши мнения».
Руководствуясь этим соображением, он изложил свое мнение о
«Речах» к форме двух писем, из которых одно было адресовано
к образованному человеку, презирающему религию, а другое —
к человеку религиозному. Он превозносит стиль сочинения и
считает «Речи о религии» за «необыкновенный феномен», но вслед
за этим начинает сдерживать свой восторг и находит, что в
«Речах» слишком много субъективности3, а религия, которая в них
проповедуется, носит на себе слишком яркий отпечаток личных
воззрений автора. Эти критические замечания не лишены
основания, так как направлены против старания Шлейермахера
поставить религию в изолированное положение, отведя для нее
место в самой глубине человеческой души. Шлегель усматривает
«признаки нерелигиозности» в недостаточном уважении
Шлейермахера к природе, в его старании отделить религию от искусства,
устранить нравственный элемент из сферы благочестия и,
наконец, в его требовании односторонней религиозной виртуозности.
«Ошибка автора, — говорит Шлегель, — заключается в том, что
он не вполне понял полную жизни гармонию различных
составных частей человеческого образования и человеческих
врожденных влечений; не понял, как эти части божественно соединяются
и разъединяются». Но очень жаль, что наш критик не сделал ни
малейшей попытки отыскать причину этой ошибки в философской
точке зрения автора «Речей», что он не счел своим долгом ясно
изложить свое собственное понятие о религии, а потому не объяснил
1 «Атеней» (II, 2, с. 289 и ел.); эта заметка не помещена в полном собрании
сочинений.
2 От 25 февраля 1799 года [№ 126].
3 Фридрих говорил то же самое в письме к Шлейермахеру, указывая, в
особенности, на то место, где идет речь об искусстве (в их переписке III, 109); ту
же мысль он выражал Каролине [в апреле 1799 года, № 133 из писем к
Вильгельму]: «Религия Шлейермахера столько же субъективна, сколько элегия
Вильгельма [к Гёте] классична. Мне снова приходится подымать шум в защиту
объективности».
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
455
нам, в каком же пункте религия соприкасается с другими сферами
умственной жизни, каким образом она должна проникать в эти
сферы или господствовать над ними. Однако разве он был в
состоянии это сделать?! Ведь для него религия была не чем иным, как
пафосом универсального гармонического развития; она служила
у него лишь названием для того идеалистического настроения ума,
которое он развивал преимущественно в эстетическом
направлении. Он воспользовался в своей «Заметке» о «Речах» удобным
случаем, чтобы снова напасть на Якоби и на его «скудную и
посредственную» мистику, заразившуюся хилостью века. Он
выражает свое сочувствие к Шлейермахеру за то, что у этого писателя
(не так, как у Якоби) религия сделалась органом «для
сосредоточения оппозиции того века». Он не замечает, что такое
сосредоточение сделалось возможным только благодаря шлейермахеров-
скому строгому определению границ религиозной сферы и ее
точной характеристике; он не предвидит, что, при своем шатком
понятии о религии, он подвергается опасности вовлечься в еще
более хилую мистику, чем мистика Якоби.
Однако шаткость его понятия о религии сначала толкнула его
в совершенно другую сторону.
То было странным совпадением, что именно в то время, когда
Шлейермахер писал свои «Речи», религиозный вопрос сделался
вопросом дня вследствие обвинения Фихте в атеизме. В своей
статье «Об основании нашего верования в то, что мир управляется
нравственными законами» Фихте основал свои
религиозно-философские выводы на всемогуществе и на безусловном
достоинстве нравственной воли. Он изображал божественность в
виде нравственного мирового порядка и сообразно с этим
проповедовал «религию хороших деяний». В своем «Воззвании к
публике», написанном в опровержение его обвинения в атеизме, он
называл «идолом эвдемонизма» того Бога, в которого веровали его
обвинители; он называл их религию безбожием, а истинное
религиозное душевное настроение приписывал себе и тем, кто
самоотверженным исполнением своего долга возвышается до веры в
неизбежное торжество добра, в существование
сверхчувственного мира, управляющегося определенными законами. Поэтому
религия Фихте, в сущности, была нравственным идеализмом. Она
не имела ничего общего с религией Шлейермахера, кроме
отношений к сверхчувственному, к бесконечному, кроме протеста
против современного направления умов, имевшего в виду только ко-
456
Р. ГАЙМ
нечное, только полезность и внешнюю целесообразность. Намек
на споры об атеизме Фихте можно было уловить разве только
между строк в том месте «Речей», где Шлейермахер говорит,
что становится опасным говорить о Божестве, «прежде чем
неизменное определение Бога и его существования будет легально
выяснено и санкционировано в Германии»1. Во всем остальном
Шлейермахер, очевидно, мог только полемически относиться к такому
воззрению, в котором он, конечно, заметил смешение границ,
отделяющих мораль от религии. Но не того можно было ожидать от
Фридриха Шлегеля. Так как для него был важнее всего протест
его века, а религия Шлейермахера казалась ему не в меру
исключительно религиозной, то ему ничто не мешало горячо
вступиться за Фихте. Еще касательно окончания третьей «Речи»
Шлейермахера он заметил, что у Фихте даже слишком много религии,
хотя она и «philosophiert und gebunden» (скована границами
философии. — Прим. науч. ред.)1. Обвинение Фихте в атеизме имело
последствием его удаление с должности профессора Йенского
университета. Речь шла об участи такого человека, к которому оба
Шлегеля питали самое глубокое уважение, на какое только были
способны. Речь шла об участи той философии, к стремлениям
которой Шлегели питали такое же сочувствие, как и к поэзии Гёте.
Старший Шлегель прежде младшего понял, какую важность имела
отставка Фихте для интересов новой школы. Разве можно было
оставаться праздным зрителем при виде того, что вследствие
удаления Фихте Йена будет утрачена для нового умственного
развития и «погрузится в хаос всеобщей пошлости»? Разве
можно было давать полную волю противникам свободы преподавания
и свободы печати? Разве не следовало открыто вступиться за
дело Фихте, как за свое собственное? Фридрих Шлегель увлекся
воинственным настроением своего брата: он выразил намерение
написать брошюру, в которой доказал бы, что заслуга Фихте
именно в том и заключается, что «он открыл религию». Но ему в этом
помешало только одно обстоятельство: обвинители Фихте сумели
1 Догадка о таком намеке превращается в уверенность при чтении одного
места в письме Фридриха к брату от 25 февраля 1799 года [№ 126], или, вернее,
в обращенной к Каролине приписке к этому письму, где вслед за одобрительным
отзывом о «Воззвании» Фихте говорится: «Шлейермахер полагает, что от
курфюрста Саксонского следует потребовать легального определения Бога и его
существования».
2 «Aus Schleiermacher's Leben» III, 109.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
457
привлечь на свою сторону правительство. Разве можно было
вступаться за Фихте, не сталкиваясь с Гёте, который, хотя и неохотно,
допустил удаление Фихте? Разве такая брошюра не повредила
бы своему автору в Веймаре даже в том случае, если бы вовсе
не касалась политического вопроса? Разве Фридрих не был бы
вынужден покинуть Йену? Под влиянием этих соображений и своей
врожденной вялости характера Шлегель отказался от своего
намерения. После личных объяснений с Фихте он задумал написать
вместо брошюры более обширное сочинение, но и этот проект
бесследно исчез в массе других неосуществившихся проектов1.
Тем не менее до нас дошли некоторые приготовительные
заметки и написанное вчерне начало сочинения2. Здесь нам снова
встречается выражение «gebunden Religion» (скованная религия. —
Прим. науч. ред.); Шлегель говорит, что этой религии у Фихте
бесконечная масса, что именно благодаря ей мышление Фихте
стремится во всех направлениях к бесконечному. Фихте открыл
религию в глубине духа, открыл именно тем, что признал ее
свободу. С такой же неясностью Шлегель говорит далее, что
религия вездесуща, что истинная религия должна, подобно
христианству, относиться полемически к фальшивой религии, и поэтому
Фихте вполне прав, противопоставляя своему собственному
идеалистическому воззрению антиидеалистическое воззрение как
положительное безбожие.
Читая все это, нетрудно убедиться, что мы немного потеряли,
оттого что Шлегель отказался от своего намерения написать
вышеупомянутое сочинение. Отставка Фихте и появление «Речей»
производили на него одновременно сильное впечатление,
возбуждая в нем, с одной стороны, его склонность к мистицизму, с другой
стороны, его полемико-революционные наклонности. Если бы его
врожденная склонность к благочестию была способна подчиняться
каким-нибудь законам, если бы внезапно возникавшие в его
голове идеи могли достигать зрелого развития без методических уси-
1 Сравн. письмо Фридриха к Вильгельму Шлегелю в мае 1799 года [№ 134],
также письмо № 137 и, наконец, письмо, написанное в августе 1799 года [№ 143]:
«Что касается моей статьи в защиту Фихте, то, после совещания с Фихте, я
решился написать ее позднее, но в более широком объеме и по другому плану».
Кроме того, см. письмо Фр. Шлегеля к Фихте в «Fichte's Leben» и в
литературной переписке II, 423,425; и письмо Стеффенса к Вильгельму Шлегелю из Фрей-
берга от 26 июля 1799 года в бумагах Бёкинга.
2 У Виндишманна II, 421—427.
458
Р. ГАЙМ
лий, то он очень охотно взял бы на себя труд осуществить
предсказание, которым Шлейермахер закончил свои «Речи», то
предсказание, что следует ожидать возникновения новых религий, так
как настоящее время, очевидно, обозначает границу между
двумя различными порядками вещей. Поэтому он написал с явными
намеками на последние страницы «Речей»: «К религии мы
должны относиться не слегка, а как можно серьезнее, так как уже пора
основать новую религию. Это есть цель всех целей и их
средоточие. Я даже вижу, как выступает на свет это величайшее
произведение Нового времени; оно выступает на свет так же скромно,
как первобытное христианство, от которого никак не ожидали,
чтобы оно могло скоро поглотить Римскую империю точно так
же, как эта великая катастрофа поглотит в своих дальнейших
кризисах Французскую революцию. Споры, которые возбудил Фихте,
очень кстати совпадают с этим моментом»1.
Это желание разыгрывать роль пророка и делать из религии
занятие дилетанта нашло для себя удовлетворение в такой форме,
под которой всего легче можно было скрыть незрелость
воззрений автора. Непосредственно после окончания «Заметки» о книге
своего друга Фридрих Шлегель уведомил своего брата, что
приготовил для «Атенея» «очень маленькую порцию изысканных идей».
Между тем эта «маленькая порция» мало-помалу разрослась в
целый сборник. Фридрих писал эти «Идеи» с сознательным
намерением соперничать со Шлейермахером; они были напечатаны
в пятом номере «Атенея»2. Намекая на них, Фридрих
впоследствии сам говорил, что в первых номерах «Атенея» критика и
универсальность составляли главную цель, а в позднейших номерах
всего существеннее был дух мистицизма3. В нем самом
действительно произошла такая перемена. Он стал теперь сознательно
облекать свои идеи в таинственный полумрак. Его радикализм
всегда соединялся с бессмыслицами, а теперь он был близок к
тому, чтобы совершенно превратиться в радикальную
бессмыслицу. Однако нельзя сказать, чтобы он сам не сознавал, как были
неясны его идеи вследствие отсутствия в них критики и
вследствие пренебрежения к форме их изложения. Он был почти
испуган, когда узнал, что Фихте читает его «Идеи», потому что только
ι К В. Шлегелю от 7 мая 1799 года [№ 136].
2 «Атеней» III, 1, с. 4 и ел.; не помещены в полном собрании сочинений.
3 В журнале «Европа» 1, 52 (1803 год).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА 459
к этому человеку он относился так же, как Алкивиад относился к
Сократу. Даже его прежние «Отрывочные заметки» казались ему
слишком незначительными произведениями, когда ему приходила
в голову мысль, что их будет читать такой строгий цензор, как
Фихте; он обещал доставить Фихте для «Философского журнала»
философические отрывочные заметки, но исполнению его
обещания помешала мысль о том, что сам Фихте «осветит» то, о чем
он намеревался писать1. Он даже счел нужным извиниться перед
Фихте в том, что написал «Идеи о религии», этот новый
мистический отрывок: «Я при этом имел в виду, конечно, не Вас, а те
схожие с моим молодые умы, которые еще находятся в состоянии
брожения; я не осмелился бы сообщить Вам мое воззрение
иначе, как в строго обработанной форме»2. Он хорошо бы сделал,
если бы относился с таким же уважением к Шлейермахеру Шлей-
ермахер полагал, что «Идеи» были, по всему вероятию,
последним продуктом еще не приведенного в порядок избытка мыслей
и разнообразных влечений Шлегеля;3 он сообщил автору это
мнение, но его критика, к сожалению, была принята с высокомерием
и с обидчивостью. Это понятно: ведь Шлегель писал свои «Идеи»
с целью исправить и превзойти произведение Шлейермахера. «Все
мои идеи, — писал он Шлейермахеру, — исходят прямо от тебя
или, вернее, от твоих „Речей", уклоняясь от них в другую сторону.
Так как ты сильно налегал на одну сторону, то я стал налегать на
противоположную сторону, а Гарденберг, как кажется,
присоединился ко мне».4 Что Гарденберг действительно держал его сторону,
видно из того, что «Идеи» оканчиваются чем-то вроде
посвящения Гарденбергу, о котором Шлегель говорит: «При этих
изображениях непонятной истины его ум сходился ближе всех других
с моим умом». Хотя он и упоминает несколько раз о «Речах»,
отзываясь о них с похвалами, но он ясно дает понять, что, по его
мнению, эти «Речи» годны только для того, чтобы подготавливать
более возвышенные, священные подвиги. Торжественным тоном,
отзывающимся комизмом, он возводит сам себя в звание
мистагога. Но жреческая роль оказывается вовсе не к лицу тому, кто
считал себя лучшим чтецом клоунских ролей в произведениях
ι К В. Шлегелю письма № 91, 93, 94, 96, 97, 106.
2 К Фихте в «Fichte's Leben» и литературной переписке II, 427; сравн. его
письмо к Шлейермахеру (в их переписке III, 126).
3 К Бринкманну (в их переписке IV, 61).
4 В их переписке III, 122; сравн. там же, с. 120, 124, 146, 152.
460
Р. ГАИМ
Шекспира и сам себя считал предназначенным от природы для
таких ролей, потому что в них много иронии и цинизма1. Но, в
сущности, и не важно, и не ново для нас все, что он говорит с целью
«разорвать покрывало Изиды» и возвестить великое
восстановление религии тем, кто «уже обращает свои взоры на Восток».
По своему главному содержанию его «Идеи» не что иное, как
вариации одного основного положения, что религия — «всё
оживляющая мировая душа образования», что она «четвертый
невидимый элемент, вместе с философией, моралью и поэзией». Шле-
гель расходится с мнениями Шлейермахера, когда говорит, что
религия не только составная часть образования и человеческой
природы, но также центр всех других частей; что в ней
выражается отношение человека к бесконечному, но только человека во
всей полноте его человечности. Через посредство религии
простая логика превращается в философию, а несовершенная
поэзия — в совершенную, беспредельную поэзию. Религия есть
центростремительная и центробежная сила в человеческом уме и
вместе с тем связь между этими силами. Поэзия и философия —
факторы религии, из их соединения возникает религия. «Без
поэзии религия делается неясной, фальшивой и злокачественной; без
философии она предается всяким бесчинствам и делается
сладострастной до крайности». С другой стороны, религия находится
еще в более тесной, более непосредственной связи с моралью.
Мораль и религия так же взаимно противоположны, как поэзия и
философия, но так противоположны, что первенство принадлежит
религии. Нет никакой возможности отделить религию от морали;
а всякая попытка разделить то, что нераздельно, была бы жестоко
наказана; изолированная от морали религия, в сущности, есть не
что иное, как «энергия зла в человеке».
Все эти основные положения, изложенные самым неясным,
но вместе с тем высокопарным языком, очевидно,
представляют страшную путаницу идей. Эта путаница особенно резко
бросается в глаза в суждениях о религии. Смешивая поэзию с
религией, Шлегель снова вносит в сферу религии фантастичность и
мистицизм, которые были так решительно отвергнуты Шлейер-
махером. По мнению Шлегеля, не только религия вообще, но и
все религии должны быть «снова вызваны к жизни из своих
гробов». Он ведет речь о мифологии, о мистериях, об оргиях и на-
1 К В. Шлегелю, письмо №91.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
461
зывает фантазию «человеческим органом для понимания
божества». Он впоследствии говорил, что если относиться к
пантеизму поэтически, то он в конце концов приведет к истинной
католической религии; именно из «Идей» и Новалис заимствовал
пантеизм в поэтической форме1. В сущности, «Идеи»
заключают в себе едва заметные зародыши позднейшего шлегелевско-
го католицизма.
Но новое, сбивчивое мистическое воззрение Шлегеля
подчинило своему влиянию и его эстетические воззрения. Он
отказывается от своих прежних мнений, когда говорит, что было бы
напрасно искать в эстетике гармоническую цельность человечности.
Уже не в искусстве, как он прежде утверждал, а в религии
заключается, по его мнению, центр тяжести; от учения Фихте он
переходит к учению Спинозы, от признания «автономии разума» к «идее
об универсе», к этому второму пункту, в котором философия
соприкасается с религией. Прежде он считал роман за высшую
форму поэтического произведения, а теперь он говорит, что без
религии у нас всегда будут «только романы». Последним словом
его прежней эстетической доктрины была ирония, а под словом
«ирония» он разумел беспредельную свободу гениального
субъекта. Но в его теперешнем определении иронии нелегко распознать
его прежнее о ней понятие: «Ирония есть ясное сознание в вечной
подвижности беспредельно полного хаоса»; а свободная
подвижность гениального субъекта, по его теперешнему мнению, связана
с подвижностью создающего миры хаоса, с объективным
содержанием беспредельно богатого универса.
Вот как изменилась эстетика Шлегеля; а его новый мистицизм
еще непосредственнее прежнего связан с его этикой. Однако мы
до сих пор еще почти вовсе не знакомились с содержанием этой
этики. Восполняя этот пробел, мы будем вести речь о новых
умственных направлениях и о новых литературных явлениях.
В то время как Шлейермахер писал в Потсдаме «Речи о
религии» с конца 1798 до мая 1799 года, Фр. Шлегель писал в
Берлине такую книгу, которая хотя и не имела ни малейшего сходства
с «Речами», но возбудила, подобно им, почти повсюду сильное
неудовольствие (конечно, неудовольствие совершенно иного рода).
1 У Виндишманна II, 445, 446.
462
Р. ГАЙМ
Наш фрагментист уже успел пустить в ход немало парадоксов,
но его новые парадоксы, изложенные в первой части романа
«Люцинда», были и безобразнее, и нелепее всех старых1.
Нам прежде всего бросается в глаза тот странный факт, что
человек, занимавшийся исключительно изучением древности,
философией и эстетической критикой, осмелился внезапно
выступить на сцену в качестве автора поэтического произведения.
Действительно, ни в публичных заявлениях Фр. Шлегеля, ни в его
переписке мы не находим до конца 1797 года никаких указаний на
то, что он считал себя поэтом или намеревался приступить к
сочинению поэтического произведения. Его вовлекли в такое
литературное предприятие, с одной стороны, пример других
писателей и его собственная эстетическая теория, а с другой стороны —
его самоуверенность. Он видел, что даже одаренный величайшей
поэтической гениальностью Гёте прибегнул к прозаической форме
романа для того, чтобы изложить в неподражаемо
привлекательных описаниях и свое воззрение на жизнь, и свое знание света.
С другой стороны, он видел, что достаточно очень посредственной
умственной изобретательности и очень поверхностного
литературного таланта для того, чтобы достигать в области романов
успехов, доставляющих, между прочим, и большие материальные
выгоды. В гётевского «Вильгельма Мейстера» он так вчитался,
что воображал себя способным написать нечто подобное. Читая
дюжинные романы, более всех других нравившиеся публике, он
видел, что они были плохо написаны и бессодержательны, поэтому
мог воображать, что способен написать нечто лучшее. В
особенности из чтения «Вильгельма Мейстера» он вынес убеждение,
что роман есть венец новой поэзии и цель всякой истинной поэзии.
Он полагал, что нет ничего более трудного, чем сочинение
хорошего романа, но в то же время его понятие о сущности романа было
таким неопределенным, что он в конце концов стал вкладывать
1 «Люцинда. Роман Фр. Шлегеля». Берлин, у Фрслиха, 1799. 8-vo, 300 с.
Этот роман был перепечатан в Штутгарте в 1835 году и был выпущен в свет в
качестве второго издания без всяких перемен. В 1842 году «Люцинда» была
издана в Гамбурге Христерном, с продолжением. Ее, конечно, было бы напрасно
искать в полном собрании сочинений Шлегеля. Что касается времени
возникновения романа, то первое о нем упоминание находится в письме Фридриха к
Вильгельму Шлегелю [№ 117], написанном в ноябре 1798 года; а в мае 1799 года (в
адресованном Каролине приложении к письму № 137) Фридрих говорит, что
первая часть «Люцинды» уже готова.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
463
в эту литературную форму все, что ни приходило ему в голову;
это понятие имело у него такое близкое сходство с понятием о
настоящей поэзии, что он стал в конце концов считать самым
лучшим сочинителем романов того, кто одарен самой остроумной и
самой причудливой фантазией. Опираясь на эту теорию, Фр. Шле-
гель осмелился соперничать с Тиком и с Жан-Полем, даже с
Сервантесом и с Гёте, несмотря на то что никогда не пытался написать
хотя бы маленькое стихотворение, и несмотря на то что
вследствие своей неспособности писать стихи отказался переводить
«Дон Кихота». Еще в конце 1797 года, в то время, как он был
занят историей греческой поэзии, он говорил по поводу чтения «Дон
Кихота», что непременно когда-нибудь будет интересоваться
романами столько же, сколько интересуется древними
литературными произведениями, и что желает, чтобы скорее настало то
время, когда сам спокойно примется за сочинение романа. В то
время, как он проводил лето в Дрездене в совершенной
праздности, в нем еще усилилось это желание, а когда его брат стал
упрекать его за литературную бездеятельность и посоветовал ему для
обеспечения существования заняться переводами, он вообразил,
что сочинением романа вернее достигнет той же цели. Поэтому и
«для своего временного благополучия, и для своего вечного
счастья» он взялся в ноябре 1798 года за «Люцинду», которая, по его
словам, должна была служить образцом чистой,
романтической, трансцендентальной поэзии; а своему брату и своей
невестке он в то же время писал, что намерен «сделаться
практическим и полезным»1.
Однако хотя и нетрудно было убедить самого себя в
поэтическом достоинстве своего романа, ему нелегко было в том же
убедить других. По мере того как его работа подвигалась вперед, он
сообщал ее отдельными главами своим друзьям и просил их
высказать свое мнение. После того как им были написаны только
первые страницы, он утверждал, что его сердце прониклось
настоящей поэзией, и, по своему обыкновению, тотчас стал придумывать
проекты новых произведений в том же роде. В его голове
возникло намерение написать не менее четырех романов. Вслед за «Лю-
1 Фридрих к Вильгельму Шлегелю, письмо 94-е, в ноябре; 97-е, в декабре
1797 года; 117-е, в ноябре, и 120-е, от 22 декабря 1798 года (в этом последнем
письме говорится: «На моей „Люцинде" я сделал хорошее начало, которым я
доволен и которым не могут нахвалиться Доротея и Шлейермахер. Вот Вы
увидите, что я сделаюсь практическим и полезным человеком»).
464
Р. ГАЙМ
циндой» он намеревался прежде всего написать роман под
заглавием «Фауст», а к концу этого романа прибавить дифирамбы.
Кроме романов он предполагал писать для «Атенея» новеллы,
насквозь пропитанные сатирическим остроумием, и, наконец, «очень
маленький комический роман». Что касается «Люцинды», то он
обнаружил необыкновенную способность обманывать самого
себя. В ответ на критические замечания, приходившие из Йены, он
ссылался на похвалы, с которыми Тик или Шлейермахер
отозвался о той или другой главе нового романа; в ответ на порицания со
стороны мужчин он ссылался на одобрения со стороны женщин;
несочувственные замечания, с которыми обращалась к нему
Каролина, он старался заглушить, ссылаясь на интерес, который
возбуждала новая книга в Рахили, или на приговор Доротеи. Ему всего
труднее было устоять против разумных возражений со стороны
своего брата. Вильгельм настойчиво советовал ему не печатать
его «безумную рапсодию» по причине ее предосудительного
содержания1; на это Фридрих отвечал, что он пишет свое сочинение
«из религиозного чувства», а если недовольные надоедят ему, то
он тотчас начнет писать свою «Библию»; тогда об «Люцинде» не
будет более речи. Вильгельм писал ему, что этот мнимый роман
не что иное, как «Unroman» (антироман.—Прим. науч. ред.)',
ответ Фридриха заключался в горячих нападках на все «романы,
написанные по английским образцам»; он требовал, чтобы читали
«Дон Кихота», «Ловеласа», «Галатею», и говорил, что «Люцинда»
не будет остроумнее «Галатеи», но будет в целом иметь
«остроумную форму и конструкцию». А когда Вильгельм не находил в
«Люцинде» «действительного остроумия», Фридрих все-таки не
хотел сознаться, что такое остроумие не его специальность, и
ссылался на новеллы, которые еще не написаны, но будут им
написаны; он говорил, что в «Люцинде» остроумие не соответствовало
бы его намерениям и испортило бы тон изложения точно так же,
как вставленные в роман песни. Наконец, когда тонкий критик
основательно не одобрял стиля и, в особенности, слишком частого
употребления напыщенных эпитетов, Фридрих ссылался на
неоспоримый авторитет Сервантеса и Платона и говорил своему
брату, что сочинение рецензий портит его вкус и подвергает его
опасности утратить литературное чутье и эластичность ума. Та-
1 О Фр. Шлегеле к Виндишманну в полном собрании сочинений А. В. Шле-
геля VIII, 291.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
465
кую склонность к лжемудрствованиям, основанную на
самодовольстве, конечно, не было возможности осилить. Последней
нелепой выходкой автора были уверения, что его роман частью
«цинический», частью «сафический», что настоящий роман
должен быть не чем иным, как «сафическим поэтическим
произведением», и что «Люцинда» есть «одно из самых изящных
художественных произведений, какие когда-либо были написаны» '.
Несмотря на то что все эти пререкания уже подготовили нас
к появлению очень оригинального произведения, вовсе не
похожего на то, что обыкновенно называется «романом», мы поражены
безобразием формы и эстетической уродливостью этого самого
изящного из художественных произведений. «И для меня, —
говорит Фридрих, — и для этого сочинения нет более
целесообразного намерения, чем то, чтобы с самого начала отказаться от так
называемого порядка, присвоить себе право все привлекательно
перепутывать и пользоваться этим правом на деле». Это
заявление, помещенное на одной из первых страниц романа, заранее
подготавливает читателя к тому, что романтическая муза
субъективного произвола будет сознательно пренебрегать всеми законами
композиции, что автор будет на деле применять следующее
основное положение своих отрывочных заметок: романтическая поэзия
признает своим главным законом право поэта не подчиняться
никаким законам. И Шлегель сдержал свое слово. Совершенная
путаница обнаруживается уже в том, что это заявление сделано в
эротическом письме Юлия к Люцинде. Герой романа, Юлий,
выражается так, как если бы он был и автором романа; говоря
Люцинде о своей любви, он в то же время говорит ей о шлегелевском
сочинении; обращаясь к своей возлюбленной, он в то же время
обращается к публике. Такая же манера автора не
придерживаться объективного содержания своего сочинения возобновляется
далее. Перевернув несколько страниц вперед, мы читаем
«Аллегорию о дерзости» («Allegorie von der Frechheit») и немало удив-
1 Все вышеизложенное извлечено из писем Фр. Шлегеля к его брату №121,
122 («Леви полагает, что я не должен выставлять свое имя в заголовке, но во
всем остальном не должен стесняться ничем. Эти мнения основательны, в
особенности последнее. Ведь и Тик высказывал то же очень энергично»), 123,125 и
так далее. По случаю ссылки на Платона Фридрих говорит, что в течение всей
зимы часто читал «эротические» и другие диалоги этого писателя, имея в виду
«Люцинду» (письмо № 132). Влияние Сервантеса обнаруживается в том, что
название «Люцинда» взято из «Дон Кихота».
466
Р. ГАИМ
лены тем, что в этой аллегорической фантазии, рассказываемой
Юлием Люцинде, подробно излагаются литературные
соображения и намерения Шлегеля касательно как этого романа, так и трех
других, еще не написанных. Фантастический юноша в маске есть
аллегорическое изображение романа «Люцинда»; вторая
аллегорическая фигура — рыцарь — изображает задуманный Шлегелем
роман «Фауст»; две еще менее ясно обрисованные личности —
юноша в греческом одеянии и юноша, одетый по последней
моде, — изображают третий и четвертый романы, которые будут
написаны автором «Люцинды»1. Все эти романы, читаем мы
далее, создало в часы досуга остроумие вместе с божественной
фантазией, а содержание одного из них будет теперь же извлечено
из задушевных мечтаний Шлегеля и изложено волшебным
жезлом. Автор знает, что он «любимый сын остроумия», что
остроумие вознаградило его за неспособность его уст подражать
поэтическим песнопениям и посвятило его в мистерии романтической
поэзии, в искусство проникать в хаос природы при помощи
произвола волшебницы Фантазии! Таким образом, мы уже прочли
значительную часть книги, но до сих пор не нашли в ней почти
ничего другого, кроме изложения мнений автора о самом себе и кроме
его приготовлений к задуманной работе. Устами Юлия Шлегель
объясняет, для кого, собственно, написана «эта сумасбродная
маленькая книжка» и какие различные впечатления она будет
производить на юношей и, в особенности, на женщин; при этом он ведет
речь о Клементине, о Розамунде, о Юлиане. Можно было бы
подумать, что Шлегель только приводит отзывы тех живших в
Берлине и в Йене дам, с которыми он переписывался в начале своей
работы, так как сам еще не знает, чем наполнит свой роман. Но
в том-то и состоит отличительная особенность романтической
поэзии, что в ней считается доказательством красоты и
совершенства именно то, что вне ее считалось бы доказательством
отсутствия всякой поэзии! Автор только остается верным своей
собственной теории, когда постоянно возвышается до
«художнической рефлексии и до изящного самосозерцания»; когда он
заботится о том, чтобы его поэзия во всех изображениях «была также
изображением самой себя» и в то же время была «поэзией поэзии».
Он является романтиком и в том отношении, что с необходимой,
1 Так объясняет «Аллегорию...» сам Шлегель в письме к Каролине, напи
санном в апреле 1799 года (№ 133 из писем к Вильгельму).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
467
по его мнению, запутанностью и с необходимым
самосозерцанием соединяет столько же необходимую универсальность. «С
романтической точки зрения, — говорит он, — даже выродки поэзии,
даже ее эксцентрические и уродливые произведения имеют цену
в качестве материалов и предварительных упражнений в
универсальности, если только они оригинальны». «Люцинда»
представляет самое пестрое смешение и старых, и вновь изобретенных
форм поэтического и риторического изложения. Роман
начинается письмом. На следующих страницах мы находим нечто вроде
приложений к этому письму: сначала мы читаем
дифирамбическую фантазию, потом характеристику, потом уже упомянутую
выше аллегорию, то есть самый непоэтический образчик этого
непоэтического разряда литературных произведений. Затем
следует то, что автор называет «идиллией»; но он также мог бы это
назвать «размышлениями», «мечтаниями» или, судя по концу,
«аллегорической комедией». После этого автор выводит в диалоге
на сцену Юлия и Люцинду, которые обмениваются самыми
нежными любовными признаниями. Мы до сих пор не знаем, кто
такой Юлий и кто такая Люцинда. Но увертюра к роману, по-
видимому, уже окончена. Одна остроумная приятельница автора1
сказала ему, что все, до сих пор им написанное, не столько роман,
сколько «экстракт из романов, из которого каждый сам мог бы
написать роман». Под заглавием «Ученические годы
возмужалости» мы теперь находим более длинный отрывок
повествовательного содержания — историю прежней жизни Юлия. Мы
узнаем, что Юлий — живописец и замечательно гениальный
человек. Увлекаясь своими бурными стремлениями и разными
безрассудствами, он заводил разные любовные и дружеские связи,
имел ложное понятие о любви, об искусстве, о жизни, пока не
нашел в Люцинде такую возлюбленную, обладание которой
объяснило ему сущность любви и представило ему весь мир в новом
освещении. Этот повествовательный отрывок написан самым
напыщенным языком; его пафос беспрестанно прерывается
эпиграмматическими и ироническими замечаниями; он отчасти
служит оправданием дополнительного заглавия, которое автор дал
своей книге, вероятно, в смысле иронии: «Признания неумелого
человека». Действительно, нелегко себе представить более не-
1 Генриетта Мендельсон, как это видно из письма Фридриха к Вильгельму
№133.
468
Р. ГАИМ
умелый рассказ. При крайнем недостатке наглядности и
определенности, здесь в избытке расточаются отвлеченные
психологические характеристики. Это не столько жизнеописание, сколько
философия жизнеописания. Здесь нет ничего похожего на то, чего
мы требуем от романа, точно так же как и от эпоса: нет
приятного течения рассказа, прерываемого лишь интересными
подробностями, нет плавного перехода от одних происшествий к другим;
Шлегель торопится довести свой рассказ до окончательной
развязки: это вовсе не роман, а просто очерк или «экстракт романа».
Короче говоря, Шлегель писал «Ученические годы
возмужалости» точно так же, как он читал «Учебные годы Вильгельма Мей-
стера», с убеждением, что считать описание личностей и
происшествий за конечную цель романа — значит становиться на
крайне низкую точку зрения. Окончание этого эпического
отрывка снова переносит нас к тому пункту, на котором мы находились
в самом начале книги, — к первой поре любовной привязанности
Юлия к Люцинде. Чтобы отдохнуть от усилий, потраченных на
этот рассказ, автор снова переходит к предметам иного рода.
Описанию внешних происшествий он предпочитает изображение
внутренней жизни любящего сердца в божественных символах.
Поэтому он пишет нечто похожее на то, чем были для древних
идиллия и элегия, — пишет «Метаморфозы». Эта небольшая и
незначительная по содержанию глава служит переходом к тому, что
есть лучшего во всей книге. В двух письмах Юлий описывает то,
что он чувствовал, когда узнал, что Люцинда надеется сделаться
матерью и что она опасно больна. Нежная болтовня в форме
писем довольно хорошо удалась «неумелому человеку», а
ожидание семейного счастья и забота о здоровье возлюбленной внесли
сколько-нибудь определенное содержание и оживление в
любовную связь, которая до того времени казалась монотонной и
нереальной. Однако теория романтической поэзии требует единства
поэзии и философии. Несмотря на то что в предыдущем
изложении уже было слишком много философии и разной философской
путаницы, Шлегель пишет новую главу под заглавием
«Рефлексия», — новую цинико-эротическую главу, которую наполняет
метафизическими фантазиями на тему размножения рода
человеческого. Отыскивать внутреннюю связь между этим отрывком и
следующими двумя письмами Юлия к Антонио было бы
напрасным трудом. Может быть, автор намеревался изобразить наряду
с любовью и нелепость дружбы! Он снова заводит речь о любви
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
469
в написанном поэтической прозой лирическом дуэте Юлия и Лю-
цинды; этот дуэт занимает предпоследнее место в этом
образцовом произведении романтической поэзии; в заключение автор «без
всякого предвзятого намерения» желает еще раз «дать волю
внутреннему потоку неиссякаемых идей и чувств». Глава под
заглавием «Шалости фантазии» покрывает все его сочинение
туманными парами.
Итак, «Люцинда» с начала до конца представляет собой
осуществление на практике и примерное объяснение эстетической
теории Шлегеля. Но эта теория была только легкомысленна, а ее
практическое применение было и безрассудно, и бестолково. Даже
некоторые из старых отрывочных заметок Шлегеля, если бы он
имел их в виду, могли бы скорее удержать его от издания «Лю-
цинды», чем критические замечания его друзей. Так как он
упорно хотел сделаться поэтом, то к нему самому было вполне
применимо то, что он сам писал в «Лицее» о «негативном уме», который,
подобно платоновскому Эроту, есть продукт избытка и бедности
и способен только выражать тенденции, создавать проекты,
такие же широкие, как синее небо, или, в моменты высокого
парения, набрасывать фантастические очерки. Его собственный
поэтический талант был именно такого негативного характера, а его
«Люцинда» была именно таким фантастическим очерком.
Другой отрывок — о «сафических стихотворениях» — был поистине
пророческим предсказанием, заранее произнесенным приговором
над «Люциндой». Здесь говорится, что сафические стихотворения
должны вырастать сами собою, что их нельзя создавать, что
извлекать из священной глубины своего сердца самые
священные чувства и выбрасывать их в людскую толпу, быть может из-
за «Da capo» или из-за фридрихсдора, несогласно с чувством
собственного достоинства, а вместе с тем непристойно выставлять
напоказ самого себя как прототип. Если даже допустить, что у
кого-нибудь такая изящная и классическая натура, что ее можно
выставлять напоказ в обнаженном виде, подобно тому как Фрина
выставляла себя напоказ перед греками, то все-таки в наше
время не нашлось бы олимпийской публики для такого зрелища. «К
тому же, — продолжает Шлегель, — ведь это была Фрина. Только
циники любят на народной площади. Можно быть циником и
великим поэтом: пёс и лавр имеют одинаковое право украшать
памятник Горация; но быть похожим на Горация еще вовсе не значит
быть похожим на Сафо. Быть похожим на Сафо никогда не значит
470
Р. ГАИМ
быть циническим». Но в «Люцинде» было много и сафического,
и цинического; она, без всякого сомнения, не выросла сама
собою, а была создана, даже «Da capo» и фридрихсдор
принимались в очень серьезное соображение. Эта книга, в сущности, была
преступлением не только против эстетики, но и против
нравственности. Она была не только нелепым практическим
осуществлением эстетической доктрины ее автора, но и бесцеремонным
выставлением напоказ его собственных житейских испытаний, была
извлечением литературных выгод из такой любовной связи,
которую он был обязан хранить в тайне и из уважения к самому себе,
и из уважения к другим. Еще в то время, когда Шлейермахер был
только поверхностно знаком с содержанием «Люцинды», он
основательно удивлялся тому, что автор описывает такие вещи,
которые имеют для его друзей гораздо более индивидуальный смысл,
чем для публики; он основательно сожалел о той, которая была
более всех задета нескромностями автора, о той, чьи сердечные
тайны были рассказаны публично1. Шлегель включил в
содержание «Люцинды» свой ответ на вопрос: можно ли описывать то,
что едва ли позволительно рассказывать на словах и что
следовало бы только чувствовать? Его ответ был вовсе
неудовлетворителен: «Что чувствуешь, то желаешь высказать, а что желаешь
высказать, то можно и описать». Здесь, очевидно, все сводится к
вопросу: как и в какой мере? Для Шлегеля, который сам себя
называл «неумелым», не могло служить оправданием основное
положение его теории, что содержанием для романов служит
индивидуальная исповедь. Пример, показанный гётевскими «Вер-
тером» и «Вильгельмом Мейстером» и после того «Офтердинге-
ном» Новалиса, мог бы послужить автору «Люцинды» на пользу
только в том случае, если бы он был таким же, как те два
писателя, поэтом и в своих чувствах, и в своих сочинениях. Так как те
писатели были настоящие поэты, то они при описании своего
собственного положения устраняли все патологическое; а Шлегель,
1 См. письмо Доротеи касательно этого предмета («Aus Schleiermacher's Leben»
III, 111). Лучшим объяснением образа действий Фридриха служит шлейермахе-
ровская характеристика таких людей, которые «даже в случае личной любовной
привязанности способны пользоваться такими деликатными сердечными связями
как средством для того, чтобы приобретать новые воззрения на человеческую
натуру, или для того, чтобы философствовать о любви на основании собственного
опыта» («Атеней», I, 2, с. 137). Я нисколько не сомневаюсь в том, что, делая эту
характеристику, Шлейермахер имел в виду странный образ действий своего друга.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
471
чтобы выказать себя поэтом самого высшего разряда, поступил
наоборот: он воспользовался тем, что было патологического в его
положении, воспользовался, с одной стороны, тем, что было в нем
чисто индивидуального, с другой стороны, тем, что было
чувственного; все это он облек в фантастическую мимику и метафизику, а
при этом еще обнаружил сознание произвола и иронии.
В другом месте этой книги1 документально доказано, что
Шлегель описывал свой собственный характер, свои собственные
юношеские заблуждения, свои собственные отношения с
мужчинами и женщинами в той части «Ученических годов
возмужалости», где рассказывается история Юлия до его знакомства с
Люциндой. Об этом знали, конечно, только самые близкие друзья
Шлегеля. Напротив того, в описании отношений Юлия с
Люциндой весь Берлин, конечно, усматривал пародию на такую
любовную историю, которая была известна всему народу. Правда, и в
этом описании автор примешал к правде «аллегорию и
значительную ложь», но публика все-таки была права, принимая Юлия за
Фридриха Шлегеля, а Люцинду — за старшую дочь Моисея
Мендельсона, Доротею, бывшую в замужестве за банкиром Вейтом.
Подчиняясь воле своего отца, Доротея еще в очень молодых
летах отдала свою руку нелюбимому человеку, который не был
в состоянии удовлетворить ни требований ее сердца, ни ее
притязаний на умственное развитие. Согласие между супругами, по-
видимому, ничем не нарушалось в течение многих лет и даже, по-
видимому, упрочилось вследствие рождения двух сыновей; но ему
настал конец с той минуты, как Доротея познакомилась в доме
Генриетты Герц с приехавшим в Берлин Фридрихом Шлегелем.
Она привлекла к себе легко воспламенявшегося юношу не телесной
красотой, а своей любезностью, своим умом и остроумием, тем,
что страстно интересовалась всем, что касалось высшего
образования. Эгоизм Шлегеля требовал безграничной преданности, а
Доротея так долго не знала настоящей любви, что легко увлеклась
пламенными признаниями Шлегеля. Таким образом возникла
странная любовная связь между двадцатипятилетним юношей и
женщиной, на семь лет старше него. Что именно ее описывал
Шлегель в своем романе, нельзя отвергать только на том основании,
что наружность Доротеи не подходила к часто встречающимся в
романе намекам на чувственные наслаждения. И при решении,
1 В дополнениях № 3.
472
Р. ГАИМ
которое принял Шлегель относительно будущей подруги своей
жизни, в его уме, очевидно, господствовали тот же
фантастический произвол и то же смешение остроумия с поэзией, которые
служили темой для его доктрины и внешней формой для его
романа. Нас уверяют, что в чертах лица Доротеи была какая-то не
женская жесткость, отнимавшая у ее наружности
привлекательность1. Фридрих Шлегель не написал ни одной строчки, из которой
можно было бы заключить, что у него было природное влечение
к внешней привлекательности; но он, конечно, только из
любезности уверял Доротею в своем открытом письме о философии, что
он желал бы, чтобы божественное было скорее слишком суровым,
чем слишком красивым с виду; что для него божественность,
соединяющаяся с суровостью, есть самая священная; что в образе
строгой Паллады он всего охотнее признает музу своей духовной
жизни и что он очень хорошо понимает, почему его возлюбленная
иногда внезапно выражает такое вырывающееся наружу чувство,
которое делает ее в глазах толпы странной, резкой или
безрассудной. Дело в том, что он относился к Доротее точно так же, как
Юлий относился к Люцинде. До той поры еще ни одна женщина
не внушала ему прочной привязанности, ни в одной из своих
любовных связей он не находил полного удовлетворения своей любви,
а теперь он нашел такую женщину, которая, подобно ему, «страстно
любила прекрасное»; которая «жила не в обыкновенном мире, а в
созданном ею самою»; которая, подобно ему, была готова не
стесняться никакими житейскими соображениями и которая
решилась жить свободной и независимой и с безграничной
преданностью посвятить ему свою жизнь. В объятиях Люцинды «Юлий
снова нашел свою молодость». Он сознавал, что его дружеская к
ней привязанность была, в сущности, любовью и что любовь может
сделаться полной только в браке. Признания, которые Фридрих
делал своему брату и своей невестке касательно своих отношений
с Доротеей, не вполне сходятся со стилем романа, но они
сходятся с содержанием романа в том, что касается духовной стороны
любовной связи; они свидетельствуют об искренности
привязанности Шлегеля тем более потому, что были вызваны большею
частью насмешками и язвительными замечаниями Каролины.
В начале 1798 года он говорил в своем первом подробном сообще-
1 Fürst, «Henriette Herz», с. 116 второго издания. Можно сравнить анекдот,
который рассказывает Helmina v. Chezy («Unvergessenes» 1, 257).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
473
нии о Доротее1: «Это добрая женщина с большими
достоинствами. Но она очень проста и не имеет никаких других влечений,
кроме влечений к любви, к музыке, к остроумию и к философии.
В ее объятиях я снова нашел мою молодость и теперь никак не
могу себе представить, чтобы я мог жить без нее. Это не
самообольщение, а основательное убеждение, так как мы оба более
богаты рассудком, чем фантазией, и именно так установили
границы нашей связи; в особенности она всегда бывает очень
рассудительна, хотя и отнеслась совершенно по-женски к моему
откровенному и совершенно бесцеремонному определению тех
границ. Даже если я буду не в состоянии сделать ее счастливой, я
надеюсь, что благодаря моей любви она будет носить в глубине
своей души такой источник счастья, которому уже не повредят
окружающие туманы». Как в этих выражениях, так и в некоторых
других проглядывает сквозь любовную страсть почти ничем не
прикрытый эгоизм; в особенности при разрешении вопроса о том,
должен ли Шлегель соединиться со своей возлюбленной
гражданским браком, обнаруживается в более прозаической форме,
чем в романе, то смешение сафического элемента с циническим,
которое составляет характеристику «Люцинды»2. Между тем
любовная страсть стояла на первом плане и связь с Доротеей
приближалась к своей естественной развязке. Брачное сожитие
Доротеи с Вейтом скоро оказалось невозможным; Генриетта Герц
взяла на себя роль посредницы, и в конце 1798 года состоялся
развод. Тогда Фридрих писал своей невестке: «Порадуйтесь тому,
что моя жизнь наконец приобрела твердую почву, средоточие и
определенную форму; теперь могут случиться необыкновенные
1 К Вильгельму Шлегелю № 101.
2 Требования приличия, я полагаю, не мешают мне цитировать еще
следующую выдержку из письма Фридриха от 27 ноября 1798 года [№ 118]: «Мы, в
сущности, никогда не имели намерения сочетаться браком, хотя я уже давно не
считаю возможным, чтобы нас могло что-либо разлучить, кроме смерти. Было
бы несогласно с моими убеждениями уравнивать будущее с настоящим, а если
бы исполнение ненавистного обряда... было единственным условием нашей
неразлучности. .. то мне пришлось бы отказаться от самых дорогих для меня идей.
Кроме всех других соображений я мог бы сослаться и на различие возраста.
Теперь, когда мы оба молоды, в сущности, неважно, что она старше меня семью
годами. Но когда она состарится, я буду еще очень молод и, конечно, не буду
жить в одиночестве. Она, по всему вероятию, не будет моей последней
любовью, хотя бы она и была моей единственной любовью; точно так и ее любовь ко
мне не первая ее любовь».
474
Р. ГАЙМ
вещи». Именно в то время было написано начало «Люцинды», а
Доротея, выслушав это начало, назвала его пустой болтовней1.
Подобно тому как начало «Люцинды» совпало с этим
решительным поворотом в отношениях Фридриха с Доротеей, и
окончание первого томика совпало с изменением отношений
Фридриха с Шлейермахером. Вспыльчивый Фридрих был завистливым
другом, а тем, что он имел, он не хотел делиться ни с кем. Ему
показалось, что Шлейермахер относится к Генриетте Герц с
большим доверием, чем к нему самому; он даже подозревал начало
любовной привязанности, потому что такая дружба, по его
мнению, невозможна без любви; он счел своим долгом предохранить
своего друга от такой слабости; он стал жаловаться на то, что
Шлейермахер делится с ним только своим умом и своей
философией, а свою душу отдал Генриетте Герц и тому подобное.
Шлейермахер разогнал эти ребяческие мрачные мысли и заботы
своими хладнокровными, разумными объяснениями. Это разномыслие
почти совершенно исчезло, лишь слегка отзываясь в невинных
шуточках, которыми два друга почти ежедневно обменивались
во время пребывания Фридриха в Дрездене; однако зародыш
разлада глубоко запал в душу недоверчивого Фридриха; к тому же
эти два человека были несхожи между собою от природы.
Генриетта Герц постоянно утверждала, что у Фридриха нет сердца;
Шлейермахер старался опровергнуть это мнение, но в конце
концов был вынужден сознаться, что у него и у Шлегеля по меньшей
мере неодинаковые сердца и что у его друга преобладают над
сердечными чувствами знания, остроумие и философия. С другой
стороны, нелегко было удовлетворить того, кто постоянно
заговаривал о ненасытности своих дружеских чувств. Подобно
избалованному ребенку, Фридрих хотел, чтобы к нему относились
снисходительно и чтобы старались угождать ему. Хладнокровная
прозорливость Шлейермахера могла бы сдерживать его фантас-
1 Письмо № 120 от 22 декабря 1798 года и письмо № 124 (февраль 1799
года). Кроме того, см. «Henriette Herz» von Fürst, главу «Dorothea ν. Schlegel». Что
Фридрих Шлегель рисовал в своей «Люцинде» портреты, говорила Каролина в
письме к В. Шлегелю от 10 декабря 1801 года [№ 5]; а Доротея писала Каролине
(и В. Шлегелю, письмо № 2) 26 марта 1799 года: «Я надеюсь, что „Люцинда"
будет доставлять Вам больше удовольствия, если Вы будете больше
вчитываться в нее. Меня, дорогая Каролина, не жалейте по поводу некоторых мест в
романе; мое оправдание находится в самой книге, в дифирамбической
фантазии...».
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
475
тические порывы и могла бы сделаться для него неоценимой
опорой, если бы он не требовал, чтобы рука врача не причиняла ему
физической боли, а предписанное лекарство не имело
неприятного вкуса. Из уст Шлегеля уже вырывались временами такие
слова, которые напоминали о старом разномыслии; а когда, вскоре
после возвращения Шлейермахера из Потсдама, только что
оконченные «Речи о религии» послужили поводом для обмена
мыслями между двумя друзьями, старая дружеская связь между ними
могла бы навсегда прекратиться, если бы вспыльчивость одного
из них вызвала вспыльчивость и со стороны другого.
Намереваясь написать для «Атенея» заметку о «Речах», Шлегель осыпал
своего друга такими вопросами, которые требовали чего-то
вроде исповеди, чего-то вроде изложения всего, что таилось в
глубине души Шлейермахера; осыпал такими вопросами, смысл
которых вообще нелегко было понять и на которые Шлейермахер не
дал такого ясного ответа, какого ожидал его друг. Возникшее из
этого обмена мыслями чувство неприязни обнаружилось, как
полагают, уже в той заметке Шлегеля о «Речах»; но Шлегель излил
его вполне в двух дошедших до нас записочках, в которых
жаловался на нарушение дружеских обязанностей со стороны
Шлейермахера, и произнес слова «прощай навсегда», уже висевшие на
его устах в течение нескольких месяцев1. Но он и этим не
ограничился. Из ссоры, возникшей не случайно, а вследствие
несходства характеров и потому затихавшей только на минуту для того,
чтобы беспрестанно вспыхивать снова, он сделал содержание
особой главы в «Люцинде». В лице Антонио он изобразил
Шлейермахера2, и никому другому, как Шлейермахеру, адресованы те
два письма от Юлия к Антонио, которые внезапно и,
по-видимому, без всякой причины прерывают эротическое и
фантастическое содержание «Люцинды». В этих письмах Фридрих во
всеуслышание высказывает своему другу все, что у него лежит на
сердце, и все, что впоследствии повторял иногда слово в слово.
1 «Aus Schleiermacher's Leben» III, 117, 118; кроме того, сравн. I, 226. Но
упомянутое в этом последнем месте письмо, помеченное «середа вечером»,
должно быть поставлено ранее письма от 18 июня 1799 года; оно было, по всему
вероятию, написано в мае, так как следует полагать, что разговор между двумя
друзьями происходил до окончания «Люцинды».
2 Под тем же именем Шлегель впоследствии подражал полемическим
приемам своего друга в «Диалоге о поэзии»; сравн. «Aus Schleiermacher's Leben» III,
151.
476
Р. ГАИМ
Он говорит, что «преждевременная ясность есть вредный
принцип в уме Шлейермахера», что этот писатель заранее
уничтожает возможность соглашения, произнося торопливые приговоры.
Когда Юлий говорит в письме к Антонио, что не следует считать
за добродетель холодную чувствительность и умственные
ухищрения, когда он уклоняется от личных объяснений с Антонио о
прерванной дружбе, то все это не что иное, как верное описание
того, что происходило между автором «Люцинды» и автором
«Речей», и не в меру яркое освещение сущности той дружеской
связи, которая возникла из обоюдной ошибки, а теперь рушилась.
Но если Шлегель не ожидал никакой пользы от разоблачения
причин разрыва, то разве ему не следовало придерживаться
высказанного им впоследствии мнения, что «сломанные цветки нельзя
заставить вновь расти при помощи диалектики»; разве он не
должен был сообразить, что крайне неделикатно делать ссору
сюжетом литературного сочинения и при этом высказывать
следующее замечание: из этого сочинения видно, «с какой необыкновенной
деликатностью люди умеют ненавидеть и прекратившуюся
ссору превращать в окончательный разрыв». Всякий другой на
месте Шлейермахера счел бы эти слова за непростительную
нескромность и поспешил бы прекратить прежние связи с их автором. Но
именно тот, кого только что обвиняли в сердечной холодности,
устоял против всех возведенных на него Шлегелем обвинений с
такой твердостью, которая поистине достойна удивления. Он
выказал себя самым жестокосердным человеком в
диалектическом споре с ученым противником, но в споре с другом оказался
до крайности мягким и снисходительным. Когда возникла
любовная связь между Фридрихом и Доротеей, он всеми силами
старался довести ее до желаемой развязки, а возникшее отсюда
безобразное литературное произведение, которое отчасти было
направлено и против него самого, он стал публично защищать.
Шлегель написал очень поверхностную и переполненную
разными оговорками рецензию на «Речи о религии», а Шлейермахер
написал подробный разбор «Люцинды» и осыпал этот роман
неумеренными похвалами. В другом сочинении, в «Монологах», он
уже ранее отвечал на письма Юлия к Антонио, вложив в свой
ответ столько же сердечной нежности, сколько чистосердечной
откровенности.
Он, по всему вероятию, не взялся бы за перо, если бы речь
шла только о его личных отношениях со Шлегелем или если бы
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
477
«Люцинда» была не что иное, как роман, хотя и написанный по
новым эстетическим правилам. Его статья о «Люцинде» была,
в сущности, статьей о морали в «Люцинде». Действительно,
мораль составляла главное содержание этого романа; в ней
заключалось его главное значение. Описывая в стиле романтической
эстетики свои собственные житейские отношения, Шлегель в то
же время излагал свою собственную, не менее романтическую,
житейскую философию.
Шлегель начал интересоваться этическими вопросами по
меньшей мере так же рано, как и художественными. Его
«Ученические годы возмужалости» напоминают нам ту смутную
юношескую пору его жизни, когда он был всего более занят своим
«Я», своими страстями и своим стремлением к славе. И его
суждения об искусстве и о поэзии были первоначально основаны на
этической точке зрения. В качестве ученика Винкельмана он
превозносил греческую древность, но в то же время выставлял
новым народам за образец политику, нравы и нравственные
воззрения греков. Всего чаще он излагал одно еретическое мнение в
различных видоизменениях: в своей статье о Диотиме и в своей
жалкой критике шиллеровского «Достоинства женщин» он восстал
против современного воззрения на достоинство и на права
женщин. Свое требование большей свободы, нравственной и
умственной эмансипации женского пола он высказывал также в своих
отрывочных заметках, печатавшихся в «Лицее» и в «Атенее». Ум и
образование в сочетании со способностью воодушевляться были,
по его мнению, теми свойствами, которые делали женщину
привлекательной. Ему казались совершенно ложными и
унизительными для женщин расхожие понятия о женской добродетели. Он
горячо нападал на безрассудство и нечестность тех мужчин,
которые требовали от женщин вечной невинности и
необразованности; этим они приучали женщин к притворной сдержанности,
которая есть не что иное, как притязание на невинность, но не
действительная невинность. У лиц женского пола непритворная
невинность может совмещаться с образованностью; она
существует там, где есть религия, способность к энтузиазму. А
мнение, будто свободомыслие менее прилично женщинам, чем
мужчинам, есть одна из тех пошлостей, которые пустил в ход Руссо.
К сожалению, и в сфере поэзии к женщинам относятся не более
справедливо, чем в обыденной жизни. «Женственные натуры, —
говорит Шлегель, — не идеальны, а идеальные — не женствен-
478
Р. ГАИМ
ны». Он называет «рабство женщин» вредным нарывом
человечества, а сообразно с этим составилось и его понятие о браке. В
рецензии на «Вольдемара» он называет «преувеличенным браком»,
если женщина отказывается от своей самостоятельности с
безграничной преданностью. В одном из отрывков «Атенея» он
говорит, что нелегко понять, какие можно сделать основные
возражения против брака вчетвером. Обыкновенно полагают, что он здесь
разумеет женское сожитие, вроде того, какое устроили между
собой Зеппа и Спинелоччио у Боккаччо. Но острие автора
направлено в этом отрывке только против обыкновенных,
ненастоящих браков, против тех «неудачных брачных попыток», которые
государство напрасно поддерживает насильно, таким образом
препятствуя заключению настоящих браков. Разве не для всякого
ясно, что эта полемика против притворной нравственности и
против гнета внешних нравственных правил заходит далее своей цели?
Подобно тому как опошлилось тогдашнее Просвещение, и нравы
сделались во время возникновения романтизма распущенными;
бессовестность, равнодушие, себялюбие и легкомыслие не
находили для себя никаких препон благодаря тому, что прикрывались
соблюдением внешних приличий и установившихся обычаев. Это
постоянно вызывало на революционную полемику молодое
поколение, которое воспиталось на идеальных воззрениях, на
философии, пропитанной духом свободы, на поэзии, проникнутой
влечением к гармонии и изяществу. Из упорного столкновения со
старыми понятиями возникла парадоксальность романтической
критики. В своей борьбе с ложным образованием романтическое
образование вовлеклось в цинизм. В своей борьбе с притворной
нравственностью романтическая этика дошла до презрения к
установленным обычаям, в которых видела не что иное, как
внешнюю оболочку безнравственности. В особенности Фридрих Шле-
гель старался распространять повсеместно новые идеи со
свойственной ему страстной энергией. То было доказательством
многосторонности его ума, что он нападал на нравственную
немощь эпохи Просвещения так же смело, как и на ее бедность
идей и на отсутствие в ней фантазии. Именно в этом и
заключалась та «универсальность», которую он старался придать своим
отрывочным заметкам; именно потому он и старался вносить в
философию и эстетику как можно больше морали. Он полагал,
что переворот, необходимый во всех сферах жизни, требует
самого усиленного труда в сфере нравственности, потому что у древ-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
479
них народов на первом плане была философия, у новых народов —
искусство, а «нравственность оставлялась у тех и у других в
пренебрежении; полезность и законность даже отказывали ей в
праве на существование». Поэтому и с этической, и с философской, и
с эстетической точки зрения он нападает, в сущности, все на
одного и того же врага, а его этическое воззрение совершенно
сходится с его поэтической доктриной. Ему повсюду приходится
бороться с прозаической тенденцией Просвещения к полезности, с
принципом «экономии». В поэзии и в философии он называет
подражателей чужим произведениям «бродячими экономами», а
наряду с ними ставит «экономов морали», то есть тех
«исполняющих законы и приятных людей, которые смотрят на человека и на
человеческую жизнь точно так же, как если бы речь шла о
лучшем способе разводить овец или о покупке и продаже имений».
В другом месте Шлегель говорит: «То, что называют
счастливым браком, относится к любви точно так же, как написанное с
соблюдением всех правил стихотворение относится к
импровизированной песне». Наконец, этика Шлегеля еще ближе сходится с
его поэтикой, когда он говорит, что принцип поэтического
произвола имеет и практическое значение. Есть такие неизбежные
положения и отношения, говорит он, к которым можно относиться
«либерально» только одним способом — «изменяя их смелым актом
произвола и считая их за поэзию». Только дальнейшее развитие
этого основного положения могло бы считаться за нечто похожее
на положительную романтическую этику, между тем как в
отрывочных заметках преобладает отрицательная, полемическая
точка зрения. Автор как будто переносит нас в более ранний период
своего умственного развития, когда говорит, что первое
проявление нравственности заключается в «оппозиции положительной
законосообразности и условной правильности», а также в
«безграничной возбужденности чувств». При этом пылкие натуры, конечно,
могли бы вовлечься в пагубные преувеличения, но только чернь
считает преступниками или примерами безнравственности тех
людей, «которые в глазах действительно нравственного человека
принадлежат к разряду чрезвычайно редких исключений и которых
он считает однородными с ним существами, гражданами своего
мира».
Но та основанная на неизменных принципах и подробно
выработанная романтическая этика, для которой отрывочные заметки
служили только прелюдией, сделалась наконец предметом серь-
480
Р. ГАЙМ
езной умственной работы для Шлегеля. Мы уже ранее говорили
о том, какое внушительное впечатление производила на него
личность Шлейермахера и как он был поражен тем, что говорил
Шлейермахер о безнравственности всякой морали. Шлейермахер
только продолжал свои ранние научные исследования, когда
задумал написать для «Атенея» статью о кантовской метафизике
нравов или о Канте и Фихте1 и изложить в ней критику морали
новейшей философии. И именно потому, что здесь дело шло только
о критике прежней и самой старой морали, Шлегель поторопился
опередить Шлейермахера своими проектами. Он был занят
исключительно ими летом 1798 года, живя в Дрездене. Он сам
признавался, что его высшей литературной целью было «основание
морали». При этом ему должны были служить пособием и
критические статьи, и идеи, и личные свойства его друга. Он с
наивным эгоизмом объяснял, каким образом Шлейермахер мог бы
ему помочь в достижении его литературной цели: «Я нуждаюсь
не столько в твоей работе, сколько в том, чтобы ты оплодотворял
и исправлял мою собственную работу... Для меня неистощимо
плодотворно в тебе то, что ты существуешь. Ты будешь для меня
таким же объектом при изучении человечности, каким были для
меня Гёте и Фихте при изучении поэзии и философии». Под
словом «человечность» он, очевидно, разумел не что иное, как
мораль; ведь основная мысль той морали, которую он намеревался
создать и которая должна была служить положительным
дополнением к шлейермахеровской критике, заключалась в том, что
«в противоположность изолированной философии» следовало
попытаться создать «общие законы полной человечности и
морали», а для этого ему было нужно, чтобы Шлейермахер помог ему
«держаться в центре человечности». К этому великому
предприятию он намеревался подготовиться сочинением целого ряда
моральных очерков, в особенности очерка о самостоятельности. Но
он ограничился одними приготовлениями к этим
приготовительным работам. Все, что он покуда был в состоянии высказать о
морали, он изложил в слегка набросанной статье, которая носила
заглавие «О философии» и была единственным продуктом его
литературной деятельности во время его пребывания в Дрездене.
Содержание этой статьи так поверхностно, что из него нельзя
1 Фридрих к В. Шлегелю, письма № 98 и 111 ; к Шлейермахеру (в их
переписке III, 79, 83, 85, 86).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
481
сделать никаких выводов касательно шлегелевской теории
морали. Шлегель говорит, что «мораль» и «философия» для людей
почти одно и то же, что жизнь должна быть поставлена в связь с
поэзией и с философией; что человеческая натура есть нечто цельное,
а потому не следует изолировать умение жить, не следует
ставить его наряду с обыденными деловыми занятиями; что
нравственность должна находиться в связи с религией, то есть с
пылким влечением к гармонии универса; но все это так неопределенно,
так перепутано, что в авторе неясных очерков мы не узнаем
остроумного фрагментиста. Шлегель только повторяет свою
любимую мысль, когда говорит, что различие между
мужественностью и женственностью составляет главное препятствие для
развития человечности, и когда он протестует против
обыкновения преувеличивать характерные различия между лицами обоего
пола, требуя от мужчин кроткой мужественности, от женщин —
самостоятельной женственности. Ради святости
индивидуальности он объявляет, что всякое нравственное воспитание
совершенно безрассудно и не должно быть дозволено; но это мнение могло
бы служить положительным дополнением к его морали только в
том случае, если бы он обосновал и подробно развил этот
парадоксальный тезис. Статья Шлегеля достойна внимания только
потому, что она обозначает резкую пограничную черту, которая
отделяла основы этики Шлейермахера от основ той этики,
которую намеревался создать Шлегель. В своей болтовне о цельной,
полной человечности он придерживался учения Фихте, а Шлейер-
махер, уже со времени сочинения своей юношеской статьи о
свободе, сталкивался с учением Канта и свободе и еще более с
учением Фихте. В своей статье «О философии» Шлегель доводит
теорию Фихте до самых крайних ее границ. Подобно его
поэтической доктрине, и его воззрение на мораль не знает иной
свободы, кроме произвола. По словам Шлейермахера, всякое
нравственное образование возможно только на основе детерминизма.
Шлегель доказывает противное. Он говорит, что в других сферах
деятельности человеческого ума, в искусствах и в науках, его
развитие совершается по определенным и неизменным законам;
здесь все постоянно идет вперед и ничто не может быть
утрачено. «Не то происходит в сфере нравственности; там постоянно
ставится вопрос: все или ничего? Там ежеминутно снова
возникает вопрос: быть или не быть? Там произвол может с
быстротою молнии поставить приговор навеки, может уничтожить це-
16 Зак. № 3602
482
Р. ГАЙМ
лые массы жизненных явлений так, что они никогда более не
возвратятся, или может вызвать к жизни новый мир. Подобно
любви, и добродетель возникает только тогда, когда ее создают из
ничего».
В «Люцинде» изложены и эти еще не успевшие созреть
этические воззрения, и нападки на расхожую мораль эпохи
Просвещения, и слабые зародыши новой этики, основанной, с одной
стороны, на понятии о цельной человечности, с другой стороны, на
принципе произвола. «Люцинда» заменила и задуманный Шлеге-
лем нравоучительный очерк, и разрабатываемую систему морали.
Романтическая этика в самых причудливых своих чертах
проявилась в форме романа. Здесь остроумная колкость фрагменти-
ста соединилась с неумелостью поэта для того, чтобы
преувеличить и исказить его воззрения на добродетель и любовь, на задачи
и достоинство человеческой жизни. К этому присоединялось
болезненное желание заставить говорить о себе и произвести
поразительный эффект оригинальностью нового литературного
произведения. Еще в то время, когда Фридрих работал над первыми
главами «Люцинды», он говорил в письме к своему брату, что
ему уже давно страстно хочется написать что-нибудь поистине
Furioses (ужасное.—Прим. науч. ред.), что-нибудь похожее на
произведения Бёрка или Эзекиила1. Поэтому он всего охотнее
взялся бы за сочинение Библии. Но он покуда мог удовольствоваться
и сочинением романа, потому что роман мог сделаться чем-то
вроде Библии, вроде пророческой книги или нового Евангелия, если
бы он продемонстрировал всю нелепость господствующих
понятий о нравственности и с пафосом объяснил необходимость
преобразовать эти понятия.
Художественное направление «Люцинды» заключалось в
оппозиции против установленных форм и порядков, ее этическое
направление заключалось в оппозиции против законов и нравов.
В поэзии высшие права принадлежат фантазии, остроумию и
гениальности, относящейся к объекту с иронической свободой. Эта
тенденция уже ранее сказывалась в «Вильгельме Мейстере» и во
«Франце Штернбальде»; авторы этих романов так же, как и Шле-
гель, ставили натуральные влечения, личные симпатии и
антипатии выше нравственных обязанностей и отдавали чувственным
мотивам преимущество перед строгими требованиями рассудка.
1 Фридрих к В. Шлегелю, письмо № 122 от 29 января 1799 года.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
483
Фантастический «Штернбальд» зашел в этом отношении далее
поэтического «Вильгельма Мейстера», а «Люцинда» дошла до
самых крайних выводов из этого направления; соответственно
понятию о поэзии, на котором она основана, она даже в умении
жить предоставляет высшие права остроумию и фантазии,
ироническому произволу и эгоистическому самонаслаждению. В тех
немногих местах романа, где рассказываются происшествия и
описывается положение действующих лиц, это нежелание
подчиняться каким-либо законам принимает форму то ничем не
стесняющейся страстности, то утонченной чувственности.
Первоначальная история Юлия есть непрерывный ряд безрассудных распутств,
которые не внушают ему, несмотря на причиненный ими вред, ни
тени раскаяния. Его отношения с Люциндой и некоторые другие
ранние любовные связи описаны с таким избытком
соблазнительных сцен и вместе с тем так непривлекательно и с такою
примесью прозы, что нам кажется, будто мы читаем плохое
подражание произведениям Гейнзе. Но рассказы и описания служат лишь
дополнениями к содержанию романа. Романтическая этика не
изображается в действии, а излагается, и сам автор говорит, что
ее следует излагать. Созерцая самого себя в зеркале рефлексии,
он сам себя хвалит за такой «удивительный избыток произвола и
любви». Этим он обозначает оба полюса своих этических
воззрений, обе главные пружины своего произведения. Это произведение
должно быть цинико-сафическим поэтическим произведением.
Это, по словам автора, «риторика любви», «апология натуры и
невинности», не более стыдливая, чем римская элегия, не более
разумная, чем великий Платон и святая Сафо, и предназначенная
для разоблачения той великой мистерии, что «только натура
достойна уважения, только здоровье привлекательно». Этот принцип
преклонения перед природой уже ранее был провозглашен Жан-
Жаком Руссо и поэтами бурных стремлений; он был бы не нов,
если бы не соединялся с принципом гениального произвола. Не
новы и протесты против гнета и предрассудков общепринятой
нравственности; здесь ново только то, что автор, требуя
возвращения к естественности, основывает это требование на правах
бесконечно свободной субъективности. Двухлетняя Вильгельмина
способна философствовать. Она иронически насмехается над
своим собственным лукавством и над нашей недогадливостью;
она одарена способностью к шутовству, составляющему главный
отличительный признак романтической иронии. Поэтому ее при-
484
Р. ГАЙМ
родные влечения могут служить поучениями для философа. Она
нередко находит невыразимое удовольствие в том, что, лежа на
спине и размахивая в воздухе ногами, мнет свое платьице и не
заботится о том, что скажут другие. Эта «достойная зависти
свобода от предрассудков» достойна подражания. Прочь «все
остатки ложного стыда»! Достаточно только одной «смелой
комбинации», чтобы «отделаться от всех предрассудков культуры и
мещанских привычек и разом очутиться в состоянии невинности
и в недрах природы»! Эта иронически сознательная, гениально
произвольная естественность есть, в сущности, цинизм и наглость.
Автор «Люцинды» хвалится этой добродетелью. Обратившееся
в поговорку выражение «божественная грубость» ведет свое
начало из того места в романе, где автор приписывает мужчинам
нечто вроде «неуклюжего энтузиазма», который «божествен до
грубости». Но наглость выводится на сцену и самолично. В
упомянутой нами ранее аллегорической главе она
противопоставляется нравственности, деликатности, приличию, скромности; она
без труда одерживает верх над всеми этими соперницами, между
тем как общественное мнение изображено в виде страшного,
отвратительного чудовища, которое делается безвредным после
одного-единственного сильного удара. Наглость всего заметнее
в том, что касается сладострастия. По мнению автора
«Люцинды», если сладострастие соединяется с умом и с остроумием, то
оно может давать себе полную волю. Все это были косвенные
нападки на нравственные воззрения «гармонически пошлых»
людей. Это еще яснее видно из похвалы праздности; по словам
«идиллии о праздности», это есть тот единственный остаток сходства с
Богом, который мы сохранили после изгнания из рая. Изучение
праздности не должно быть оставляемо в пренебрежении; его
следует развить в искусство, в науку, даже в религию; высшая,
самая насыщенная жизнь блаженных богов есть «чистое
прозябание». К этому мнению автор присовокупляет нападки на
беспокойную деловитость, на экономический принцип
Просвещения. Безусловное стремление вперед без отдыха осуждается
автором, а Прометею, как изобретателю образования и
Просвещения, осужденному на вечную скуку, противопоставляется Геркулес,
который во время прохождения своего трудного поприща
постоянно имел целью благородную праздность и который теперь
действительно наслаждается ею среди богов на Олимпе. Сообразно
с этими воззрениями Юлий говорит Люцинде, что они будут тща-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
485
тельно оберегать своего ребенка от всякого воспитания; это, в
сущности, не что иное, как повторение той же мысли, которая уже
была высказана в письме о философии.
К этим соображениям, более или менее подходящим под
рубрику цинизма, повсюду приплетаются соображения сафические.
И любовь, в том, что в ней есть чувственного, подводится под
точку зрения гениальной естественности. Шлегель ведет речь
о «возвышенном легкомыслии» брака Юлия с Люциндой и
называет этот брак «естественным». Употребляя заимствованное у
Дидро выражение, он говорит о «телесной чувственности» как об
основе способности любить, а эта способность должна
постепенно развиваться до «высшего художественного сладострастия», до
полного искусства любить. Высшая степень этого искусства
обнаруживается в «постоянном чувстве гармонической горячности»,
а тот юноша, который ею обладает, «любит не только как
мужчина, но также как женщина». Самое остроумное и потому самое
изящное чувство удовольствия выражается в том, что мужчина
и женщина меняются в любовных заискиваниях ролями и этим
способом доводят мужественность и женственность до полной
человечности. Таким образом, с принципом естественности и
гениального произвола соединяется тот принцип гармонии и
человеческой цельности, на котором наш любящий парадоксы
моралист хочет основать всю свою систему морали. При этом дело не
обходится без новых энергичных нападок на расхожие понятия о
женственности и о браке. В доказательство негодности той
морали, которая основана на отвлеченном понятии о долге и на
неправде, Шлегель говорит, что истинная любовь сама служит
ручательством верности и не допускает ревности; а в заключение он
старается доказать, что искренне любящий человек смотрит даже
на полезность в новом освещении и придает новую цену праву на
собственность и домашней жизни.
Книга, излагавшая в такой форме такую мораль, не могла не
возбудить общего негодования, даже если бы в ней не было
разных личных намеков. В Берлине все единогласно считали ее
непристойной и безнравственной. Шиллер высказал в письме к Гёте1
следующее о ней мнение, в котором и в настоящее время едва ли
можно что-либо не одобрить: «Эта книга характеризует своего
автора лучше всего, что он написал, только с той разницей, что
1 От 19 июля 1799 года (в их переписке II, 221).
486
Р. ГАЙМ
она изображает его в более шутовском виде. И здесь мы находим
обычную бесформенность и отрывочность его произведений,
находим такое в высшей степени странное сочетание туманного с
характеристичным, которое Вы, конечно, никогда не признаете
дозволительным. Так как он чувствует, что ему ничто не удается
в сфере поэзии, то он возвел самого себя в идеал любви и
остроумия. Он воображает, что в его лице соединяется пылкая
беспредельная способность любить с удивительным остроумием, а
составив такое понятие о себе самом, он позволяет себе все и сам
признает наглость за свою богиню». В заключение Шиллер
говорит: «Своей бессодержательной болтовней, производящей очень
неприятное впечатление, эта книга достигает апогея новейшей
уродливости изложения и неестественности; кажется, что будто
читаешь смесь из „Вольдемара", из „Штернбальда" и из какого-
нибудь бесстыдного французского романа». Но всего хуже для
Шлегеля было то, что даже его друзья не посмели идти по его
следам. Гарденберг, понятно, не мог питать никакого сочувствия
к «Люцинде». Гюльсен был крайне недоволен романом и
посоветовал Шлегелю оставить его незавершенным. По мнению Тика,
роман был бестолков, а в Шеллинге он возбудил сильное
негодование1. Братская любовь побудила Вильгельма Шлегеля написать
несколько строк о «возвышенном пыле блистательной Люцинды»2,
но нам уже известно, что как критик он думал совершенно иначе.
Несчастная книга нашла только двух публичных защитников.
Одним из них был молодой приват-доцент Йенского
университета по имени Фермерен, который незадолго перед тем превозносил
«Марию Стюарт» Шиллера, разделял эстетические воззрения
романтиков и из любви к поэзии издавал в течение двух лет
«Альманах Муз», где помещал свои статьи и Фр. Шлегель. В особой
небольшой статье3 он старался оправдать появление романа с
художественной точки зрения и проводил с крайней неловкостью
свою основную мысль, что «Люцинда» не будет производить
неприятного впечатления, если мы не будем забывать, что ее автор
1 Сравн. письма Фридриха к В. Шлегелю № 139 и 142 (Корке 1,255; Steffens
IV, 319).
2 К Фридриху Шлегелю. Сонет, помещенный в стихотворениях 1800 года,
с. 204, а теперь в полном собрании сочинений Вильгельма I, 354. Касательно
времени, когда он был написан, сравн. «Aus Schleiermacher's Leben» III, 146.
3 «Briefe über Fr. SchlegePs Lucinde zur richtigen Würdigung derselben von
J. B. Vermehren». Йена, 1800. [IV и 254 с]
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
487
хотел изобразить любовь от ее первоначальной грубой
чувственности до ее высшего просветления, а при этом имел в виду
человека в его совершенстве, то есть такое положение человечества,
при котором мы, благодаря образованию, очутимся в Аркадии.
В дополнении к этой статье Фермерен ссылается на отзыв о «Лю-
цинде», появившийся в июльском номере журнала «Archiv der Zeit»
за 1780 год, и высказывает догадку, что этот отзыв написан
даровитым автором «Речей о религии». Действительно, Шлейерма-
хер был автором как этой анонимной рецензии, так и
появившихся примерно в то же время «Интимных писем о „Люцинде"»1. То
было одним из самых замечательных и самых загадочных для
поверхностного наблюдателя явлений в истории литературы, что
самым серьезным и самым безусловным защитником «Люцинды»
был Шлейермахер, тот самый Шлейермахер, который был
пастором при берлинском гошпитале и только что издал с указанием
своего имени целый том церковных проповедей.
Чрезмерные похвалы, с которыми отзываются «Интимные
письма» о художественных достоинствах «Люцинды», составляют
самую малую долю странной загадки. Они очень просто
объясняются как тем недостатком в натуре Шлейермахера, на
который он сам неоднократно указывал и ранее, и в «Интимных
письмах», так и тем влиянием, которое имели на него, по причине этого
недостатка, теория и практика его литературных
единомышленников. Несмотря на свою выдающуюся прозорливость, несмотря
на свою способность проникать в самую глубину человеческой
души, он был не способен понимать изящество внешних форм,
был лишен чисто эстетического такта и вкуса. Достойная
удивления последовательность идей в его сочинениях была продуктом
в высшей степени осмотрительной рефлексии, но он слишком
часто впадал в заблуждения в том, что касалось естественной
приятности и привлекательности изложения. Даже «Интимные письма»
напоминают по своей внешней форме «Люцинду». Доротея
основательно заметила, что они были прототипом будущего романа
Шлейермахера. В дополнение к «Ученическим годам
возмужалости» Фридрих намеревался поместить во второй части «Лю-
1 Сравн. «Aus Schleiermacher's Leben» III, 214. Эта рецензия была снова
напечатана там же (IV, 537 и ел.). «Интимные письма» появились в первый раз в
Любеке в 1799 году, потом были снова изданы в Гамбурге в 1835 году с
предисловием Гуцкова, написанным в стиле юной Германии; они также помещены в
первой части 3 отд. сочинений Шлейермахера, с. 421 и ел.
488
Р. ГАЙМ
цинды» «Женские воззрения» в форме «многосторонних писем
замужних и незамужних женщин о хорошем и дурном обществе» и
заранее получил от Каролины обещание участвовать в сочинении
таких писем1. Нечто вроде того, что было задумано Шлегелем,
было сделано Шлейермахером. В его книге о «Люцинде» самое
большое место занимают письма, в которых Фридрих
обменивается мнениями об обесславленном романе с одним другом и,
в особенности, с тремя подругами — с одной пожилой, с одной
молодой и со своей возлюбленной Элеонорой; они условливаются
между собой, что три женщины будут олицетворять в себе
различные оттенки женственности и каждая из них будет обсуждать
содержание романа со своей точки зрения и сообразно со своим
характером. Этому ряду писем предшествует изложенное также
в форме письма предисловие, в конце которого находится
«Посвящение неразумным людям»; оно дополнено вставочной статьей,
излагающей понятие о стыдливости, и несколькими записанными
Элеонорой мыслями, которые возникли в ее уме во время чтения
«Люцинды». Композиция всей статьи не такая пестрая, как в
«Люцинде», в ней больше внутренней связи и последовательности; но
Шлейермахер не умел изображать женственность «в лицах». У его
Эрнестины слишком много мужских манер и воззрений, а что
касается невинной Каролины, то нужно иметь очень странный вкус,
чтобы называть ее письма, как это делает Доротея,
«трансцендентально девическими». Трудно сказать, в чем заключается
невинность и девическая стыдливость этой девочки, которая
относится с таким горячим участием к служанке Лизетте и ведет речь
о «неудавшихся гетерах»; она, очевидно, так же неверно
охарактеризована, как и тот умный не по летам мальчик, личность
которого впоследствии нарушила привлекательность новеллы Шлей-
ермахера «Празднование Рождества Христова». Дело в том, что
Шлейермахер не был в состоянии ни создавать эстетические
произведения, ни давать им правильную оценку. От его прозорливости
не ускользнуло ни одно из черных пятен, обезобразивших
произведение его друга. В заметке, напечатанной в «Archiv der Zeit»,
он порицал — хотя и слегка, но все-таки порицал — отсутствие
всякой внешней связи между теми главами, которые
предшествуют «Ученическим годам возмужалости». В своих «Интимных
письмах» он влагает в уста одной из упомянутых выше трех жен-
1 № 133 из писем к В. Шлегелю (апрель 1799 года).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
489
щин целый ряд критических замечаний: что герой романа не в
меру довольствуется только своей внутренней жизнью, что
влечение к наслаждениям высказывается слишком громко, что
поэзию часто заменяет рефлексия и так далее. Но та же самая
прозорливость Шлейермахера отнимает у его критических замечаний
всю колкость, выдавая за правило, что критик должен
приноравливаться к своеобразному характеру рассматриваемого им
произведения. Этот писатель, обыкновенно отличавшийся
самостоятельностью своих убеждений, не полагался на свои собственные
суждения об искусстве, а во всем, что касалось эстетических
вопросов, подчинялся влиянию доктрин и произведений
романтической школы. Братьям Шлегелям вполне удалось передать ему
свое собственное несочувствие к поэзии Шиллера1; манеру Тика
импровизировать он находил «неподражаемой», находил в
высшей степени назидательными «Кота в сапогах» и «Свет наизнанку»;
а между тем, как он отзывался с презрением об
«отвратительных» стихах в «Мессинской невесте», он отзывался с горячими
похвалами о неудачном «Аларкосе» Фридриха Шлегеля и только
вследствие случайных препятствий не изложил своих похвал
печалю. Его этико-религиозный идеализм и мистическое душевное
настроение внушали ему сочувствие к нелепой теории романа,
которую проповедовал его друг. Как в журнале «Archiv der Zeit»,
так и в «Интимных письмах» он называет неосновательным
мнение, будто роман должен состоять преимущественно из
повествований. Он говорит, что романтизм2 должен, в противоположность
с драмой, давать, по мере возможности, самое полное понятие о
том, что происходит в глубине человеческой души; для этого
недостаточно описания внешней жизни человека, а требуется
такое изложение, в котором «предметы отступают на задний план
перед идеями и совершенно исчезают». И различие между
романом и новеллой он определяет точно так же, как Фридрих. По его
мнению, роман должен изображать развитие какого-нибудь
характера и может обойтись без массы внешних фактов, которые
«всегда имеют многоразличный смысл и которым нет конца»; и
только в новелле позволительно описывать то, что «обыденно и
пошло». Он даже довольно ясно дает понять, что, по его мнению,
1 Что он иначе судил о Шиллере еще в 1795 году, видно из его переписки I,
142.
2 Шлейермахер употребляет здесь слово «романтизм» вместо «поэзии
романа»; он делал это еще в статье о свободе (Denkmale, с. 43); см. выше, с. 249.
490
Р. ГАЙМ
«Вильгельм Мейстер» не что иное, как новелла, а, напротив того,
«Люцинда» — настоящий роман1. С этой точки зрения он
считает безобразную форму изложения в «Люцинде» за такую, которая
развита с художническим искусством, а в своих похвалах всего
романа не находит достаточно сильных выражений. Что
касается самого автора, то он, по мнению Шлейермахера, открыл для
себя сочинением «Люцинды» «новый период в своей жизни
художника»; Шлейермахер видит в появлении «Люцинды» «новый
признак восстановления широкого и изящного стиля в
искусстве»; бедность содержания романа он считает за «изящную
простоту» и даже находит в расплывчивом изложении Шлегеля
«пластические» черты. Всякая критика, говорится в конце «Интимных
писем», должна будет наконец умолкнуть, а «возвышенная
красота и поэзия превосходного и неподражаемого произведения»
останутся предметом «спокойного неистощимого наслаждения и
благоговейных размышлений».
Однако Шлейермахер, конечно, не стал бы публично
высказывать это фальшивое в эстетическом отношении суждение о
«Люцинде», если бы не сочувствовал его [романа] содержанию, его
тенденции и его морали. Художественное достоинство
«Люцинды» вполне совпадает в мнении Шлейермахера с ее
нравственным достоинством в силу высказанного самим Шлейермахером
основного правила, что в художественном произведении
возможна только та безнравственность, что оно не исполняет своей
обязанности быть изящным и превосходным. Самые основательные
доводы, которые он приводит в оправдание небывалой
своеобразной формы романа, заимствованы из содержания романа,
которое будто бы требует именно такой формы. Назначение
«Интимных писем» — писать «вариации на великую тему „Люцинды"».
В своей рецензии Шлейермахер говорит, что «Люцинда» не
только поэтична, но также и религиозна, и нравственна. Она такова
благодаря любви. В ней любовь впервые изображена так, как еще
никогда не была изображена; эта мысль составляет основное
положение в «Интимных письмах» и постоянно в них повторяется.
Все прежние описания любви страдают, по мнению
Шлейермахера, односторонностью, потому что обращают преимущественное
внимание или на чувственную сторону любви, или на ее духовную
1 Так я понял слова Шлейермахера в начале его девятого письма, с. 504;
сравн. со с. 505 (в его полном собрании сочинений).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
491
сторону. Только в «Люцинде» «божественное древо любви»
изображено во всей своей цельности. «Здесь, — пишет Фредерика
Эрнестине, — ты найдешь любовь вполне цельную, здесь
духовное и чувственное соединяются самым тесным образом не только
в одном и том же произведении и в одних и тех же лицах, но также
в каждом слове и в каждой черте характера». По отношению к
любви дух древней культуры примиряется здесь с духом
культуры новой, право древних богов — с правом новых богов, старые
утехи и радости — с самым глубоким и самым священным
чувством, со слиянием двух половин человечества в одно
мистическое целое. Затем Шлейермахер проводит эту основную мысль
в разнообразных видах, следя шаг за шагом за содержанием
романа. По поводу одного из самых непристойных мест в
«Ученических годах возмужалости» он читает целую лекцию о
необходимости «предварительных опытов в любви», с помощью которых
следует предварительно развивать и так усиливать чувство любви,
чтобы не могло быть никакого сомнения в его искренности и
прочности. Он подробно объясняет, каким образом из этого правильного
понятия о сущности любви возникает, для людей действительно
образованных и нравственных, свобода во взаимных отношениях
между мужчинами и женщинами. В статье о стыдливости
говорится, что при законченном образовании человек возвращается
в состояние невинности, что в этой точке, до которой должны
возвышать мужчин искусство и женщины, прекращается возможность
быть безнравственным; и наоборот, притворная скромность и
постоянное старание не нарушать требований стыдливости служат
признаком нравственной испорченности и неизбежно порождают
ее. Таким образом оказывается, что комментатор «Люцинды»
касается даже самых щекотливых пунктов романа и даже самые
нелепые его парадоксы старается облекать в теорию. В
заключение он не только одобряет шлегелевское понятие о любви,
но даже превозносит мораль («riesenhafte» и «ungeheure»
(гигантская и ужасающая. —Прим. науч. ред.), как он ее называет),
которая служит для «Люцинды» непоколебимым фундаментом и
на тон которой настроено все содержание романа. Он не только
не порицает беспутную жизнь героя романа до его переселения в
«рай любви», но даже выводит из нее ту мораль, что человеку
необходимо некоторое время для того, чтобы «найти самого себя».
Короче говоря, по мнению Шлейермахера, это высокое и
единственное в своем роде художественное произведение есть вмес-
492
Р. ГАЙМ
те с тем произведение «серьезное, достойное уважения и
добродетельное».
Впрочем, в письмах о «Люцинде» не было высказано все, что
лежало у Шлейермахера на сердце при чтении этого романа1. Даже
в том, что в них было сказано касательно этики и формы
изложения романа, легкие оговорки иногда примешивались к горячим
похвалам. Так, например, Шлейермахер, по-видимому, не вполне
отвергает основательность требования Эрнестины, чтобы
любящий мужчина и в своих действиях доказывал, что он душевно
изменился от любви; он, по-видимому, не вполне отвергает и
основательность высказанного Каролиной обвинения, что Юлий
обнаруживает безобразное мужское самолюбие. Встречаются и
другие несходства в мнениях между Шлейермахером и Шлегелем.
Первый из них, конечно, не мог согласиться с утверждением, что
между мужчинами и женщинами не может существовать чистая
дружба, потому что иначе он доказал бы, что Шлегель был прав,
строго порицая его отношения с Генриеттой Герц. В дуэте Юлия
с Люциндой он находит две фальшивых ноты: во-первых,
любящая женщина не может, подобно Люцинде, изъявлять готовность
отказаться от своего возлюбленного; во-вторых, любящий
мужчина не может, подобно Юлию, находить в своем сердце достаточно
места еще для другой любви2. Но все эти случаи незначительного
разномыслия лишь ярче выставляют наружу единомыслие в
самых существенных пунктах. Они не только не облегчают, но даже
затрудняют разрешение загадки, как мог Шлейермахер
сходиться со Шлегелем в тех пунктах и что побудило его высказать в
панегирических комментариях его воззрения на любовь и
связанные с ними этические воззрения.
Разрешение этой загадки отчасти облегчается тем
соображением, что сам Шлейермахер был лично замешан в той
любовной истории, которая рассказана в «Люцинде». Он относился с
искренним участием к развитию связи между Шлегелем и
Доротеей. Он был тем Антонио, к которому Юлий относился с такими
странными упреками; кроме того, в романе есть немало и других
намеков на него. Но важнее всего было то, что после отъезда
Шлегеля из Берлина он сам вступил в такую любовную связь,
которая имела некоторое сходство с любовной связью между
1 Фр. Шлегель к Шлейермахеру («Aus Schleiermacher's Leben» III, 201).
2 Сравн. письмо Доротеи к Шлейермахеру (III, 189).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
493
Шлегелем и Доротеей. Жена берлинского пастора Грюнова,
Элеонора, жила со своим мужем в бездетном и в высшей степени
несчастном браке. Шлейермахер познакомился с этой женщиной
и узнал о ее печальном положении. Он был тронут ее горькой
участью; он видел, сколько ума и сколько чувствительности
тратилось на этот противоестественный супружеский союз; а
вследствие частых, почти ежедневных посещений Элеоноры в его
сердце возникла пылкая любовь, которая оказалась взаимной. Что
касается внешних подробностей этой любовной связи, то мы вправе
ожидать их от будущего биографа Шлейермахера; а о том,
какова была Элеонора и на чем было основано взаимное влечение
двух влюбленных, мы имеем немало указаний в опубликованных
сведениях о жизни Шлейермахера. Самые интересные из этих
сведений мы находим в письмах Шлейермахера о «Люцинде». Нам
известно от самого Шлейермахера, что все, что говорится в тех
письмах от имени Элеоноры, было «действительно ее мыслями,
выраженными большей частью ее собственными словами»1. При
обыкновении Элеоноры «во все спокойно вдумываться» и «из всего
делать заключения относительно самой себя и других», она и при
чтении «Люцинды» все применяла к себе и к своему
возлюбленному. Ей пришла в голову мысль, что и они оба должны изложить
историю своей любви и своих воззрений в романе, похожем на
роман Шлегеля. Ее любовь открыла для нее смысл «Люцинды»,
в которой она находила «чистое и изящное изображение любви»
только потому, что все там изложенное относила к себе и к своей
собственной любви. Вот почему она утверждала, что понимает
поэта лучше, чем он сам себя понимает, что она идеализировала
его произведение и облагораживала его воззрения; точно так и
Шлейермахер смотрел в своих «Интимных письмах» на роман
Шлегеля сквозь призму своей собственной привязанности к
Элеоноре.
Что Шлейермахер, отказавшийся от сочинения романа,
подобного «Люцинде», по недостатку художественных дарований, все-
таки написал в форме «Интимных писем» нечто похожее на роман
1 К Виллиху (I, 274); сравн.: Fürst, «Henriette Herz» (2-е изд.), с. 116. Этим
объясняется и замечание Коберштейна (III, 2246), что Шлейермахер «горько
раскаивался» в сочинении писем уже через несколько лет после их издания. То
место в письме Шлейермахера, на которое он ссылается в подтверждение своих
слов (в письме от 25 мая 1803 года, в переписке I, 365 [2-е изд.]), очевидно,
относится к временному разрыву связи с Элеонорой.
494
Р. ГАЙМ
и решился напечатать это маленькое произведение, объясняется
причинами иного рода. Основательно было замечено, что
«Интимные письма» в качестве панегирика совершенно выделяются
из общей массы произведений этого писателя, преимущественно
склонного к порицанию и к критике1. Защитники Шлейермахера
приводили в объяснение этого факта такое же соображение, на
какое ссылались защитники Лессинга: «Письма» Шлейермахера
написаны в духе оппозиции. Приговор общественного мнения над
«Люциндой» был, как и следовало ожидать, в сущности,
основательным, но вместе с тем он был по своей внешней форме грубым
и торопливым, а по своим мотивам в высшей степени неясным
и непоследовательным. Рядом со здравомыслием и с изящным
вкусом в нем обнаруживалось немало ложных понятий, немало
пошлости, филистерства и фарисейства. Та публика, которая
втихомолку наслаждалась сладострастными сценами в романах
Виланда или Кребильона, которой нравились сладкие пошлости
Лафонтена и которая проливала добродетельные слезы над
тривиальностями Коцебу, не имела права строго относиться к «Лю-
цинде» в защиту нравственности. Эта чрезмерная строгость
возбудила негодование в Шлейермахере. Он сравнивал ее (в рецензии,
напечатанной в «Archiv der Zeit») с теми процессами над
ведьмами, в которых злоба произносила обвинительную речь, а
благочестивое простодушие приводило в исполнение обвинительный
приговор. С этим настроением ума и с мужественным презрением к
клевете, которую мог навлечь на себя, он вступился за «Люцин-
ду». Он сделал это тем охотнее, что, как сам писал Бринкманну2,
жалобы на оскорбление приличий служили для большинства
недовольных лишь поводом для того, чтобы напасть на личность
Шлегеля. Он взял сторону преследуемого и оклеветанного,
потому что это был его друг, тот друг, который доставил ему столько
душевных страданий и столько радостей, как никто; которого он
любил от всего сердца и влияние которого он с признательностью
чувствовал на себе, несмотря на то что согласие временно было
нарушено несходством их натур и врожденной горячностью
Шлегеля3. Несмотря на свою полемическую тенденцию, «Письма о, JIio-
цинде"» были выражением дружбы. В начале октября 1799 года
1 Gass в предисловии к переписке Шлейермахера с И. Хр. Гассом, с. XXIV.
2 «Aus Schleiermacher's Leben» IV, 54.
3 Там же, I, 240; сравн. там же, 231.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
495
Доротея отправилась вслед за Фридрихом в Йену. Внешнее
положение влюбленных было очень печально; Фридрих был
раздражен и впал в уныние. Именно в то время Шлейермахер помогал
своему другу советами и деньгами и вместе с тем намеревался
спасти его нравственную и литературную честь. Фридрих был
обрадован известием о намерении Шлейермахера и
неоднократно напоминал ему об исполнении этого намерения. Через его руки
проходила рукопись перед отсылкой в типографию, через его
посредство был найден издатель; и Шлейермахер был доволен тем,
что хоть отчасти достиг своей цели, так как его дружеская
услуга была оценена Шлегелем. Доротея отнеслась к нему с горячей
признательностью, а Фридрих перестал выражаться в своих
письмах к нему таким же раздраженным тоном, каким Юлий
выражался в романе в своих письмах к верному и чувствительному
Антонио1. Но Шлейермахер достиг своей цели не вполне, так как
с его дружеской целью соединялась и цель полемическая.
«Интимные письма» были направлены, с одной стороны, против
пристрастных порицаний, вызванных романом его друга, с другой
стороны, против тех идей, которые, по мнению Шлейермахера, были
причиной порицаний. В этом смысле Фридрих впоследствии
говорил в своем журнале «Европа», что защита «Люцинды» была лишь
внешним поводом для сочинения «Интимных писем», а главная
цель этих писем заключалась в «полемике против многих
общепринятых нравственных правил»2. «Письма» начинаются
протестом против представителей вульгарных понятий о нравственности
и иронически посвящаются людям «неразумным». В этом
несочувствии к поверхностной, внешней, податливой морали эпохи
Просвещения автор «Писем» становился на одну точку зрения с
автором «Люцинды». Он слегка указывает на то, что когда Шлегель
увлекается своим негодованием против общепринятой книжной
и общественной морали, против фальши и несправедливости, его
полемика отзывается «резкостью и преувеличениями»; но, в сущ-
1 См. письма в III томе их переписки, начиная с того письма от 20 сентября
1799 года (III, 121), в котором Шлейермахер в первый раз упоминает о своем
намерении «что-нибудь написать о так называемой нравственности „Люцинды"»,
и кончая тем письмом от 8 декабря 1800 года (III, 247), в котором Фридрих в
последний раз обещает то, что никогда не исполнил, — написать заметку об
«Интимных письмах». Первые готовые экземпляры своих «Писем» Шлейермахер
получил не ранее начала июля; сравн. III, 193, 195.
2 «Европа» 1,1, с. 54 (сравн. список опечаток I, 2, с. 167).
496
Р. ГАЙМ
ности, и сам Шлейермахер не менее резок в своих протестах
против той фальши и несправедливости. Этот пророческий
радикализм уже знаком нам из жалоб на тогдашнее Просвещение,
которые высказывались в «Речах о религии». Там Шлейермахер
говорил, что господствующий дух времени вообще враждебен
религии, а теперь он доказывает, что этот дух времени есть контраст
со всякой истинной нравственностью. Он прямо заявляет
«неразумным» людям, что их мнимая добродетель находится «далеко
вне всякой нравственности», что их потомки «будут вынуждены
придерживаться совершенно других правил» во всем, что
касается нравственности; а эту борьбу со старыми понятиями он ведет
хотя и с резкостью, но с самой последовательной и прозорливой
основательностью.
Но он сходится со своим другом только в направлении своей
полемики, а не в положительных воззрениях на нравственность.
С первого взгляда нелегко понять, в чем заключается несходство
положительных воззрений двух друзей. Так, например, в
помещенной в «Атенее» статье «Катехизис рассудка для благородных
женщин» Шлейермахер требует, чтобы женщины не подчинялись
наложенным на их пол стеснениям; говорит, что воспитание
детей должно быть основано на уважении к их своеобразным
наклонностям; что любовь и брак священны, что девушки должны
воздерживаться от слабодушной мечтательности, а женщины не
должны самоотверженно подчиняться произволу мужей; но этот
«катехизис» и по своему содержанию, и по своей шутливой
форме изложения напоминает почти в каждом из своих основных
положений такие же основные положения Шлегеля. Отрывочная
заметка Шлегеля о браке вчетвером (в которой он между прочим
говорит, что все браки не что иное, как «предварительные
попытки, отдаленные подражания действительному браку») имеет
близкое сходство с тем, что говорит в «Интимных письмах»
Шлейермахер о необходимости предварительных опытов в любви, или
со следующим мнением, которое он высказал в письме к своей
сестре: «Нередко случается, что из трех или четырех пар можно
составить вполне удовлетворительные браки, если мужья
обменяются женами»1. Однако, несмотря на это сходство между
этическими воззрениями двух друзей, они расходились и в основах
своих воззрений, и в своих нравственных правилах. Уже в первом
1 В переписке Шлейермахера I, 169.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
497
«Интимном письме» говорится, что даже самое непристойное
и самое парадоксальное в «Люцинде» было выражением
«невинности» автора. Это было или заблуждением, или употреблением
слова «невинность» в более чем иносказательном смысле. Но
главным заблуждением была та мысль, на которой вертится все
содержание «Писем», написанных в защиту Шлегеля. Насколько
несправедливо, что «Люцинда» — художественное произведение
и что в ней изящно описана любовь, настолько же несправедливо,
будто здесь изображена гармония любви: напротив того, у
Шлегеля любовь представляет собой самое пестрое смешение
чувственных и духовных влечений. Но это заблуждение, в сущности,
разрушает фундамент защиты. С другой стороны, оно разрушает
единомыслие между Шлейермахером и Шлегелем. Оно
происходило оттого, что Шлейермахер вообще идеализировал своего
друга. По прошествии только двух лет после того, как он на горьком
опыте убедился в легкомыслии, в эгоизме и в ненадежности
своего друга, он писал Элеоноре Грюнов: «Я полагал, что в основе
его характера лежит нечто очень возвышенное. Теперь я знаю,
как естественно совмещаются с этим характером недостатки,
противоречия, несправедливости; но я могу и должен быть к
этому более снисходительным, чем другие». Таким образом, ничто
не мешало ему любить в его друге те хорошие свойства, которые
он сам подметил, а точно такими же глазами смотрел он и на
нелепое произведение своего друга. Он хвалил и перефразировал
«Люцинду», потому что ему нравился идеальный образ Люцин-
ды; он писал «Интимные письма», потому что ему нравились те
нравственные воззрения, которые он находил в романе при
помощи оптического обмана. Мы могли бы попытаться уничтожить
этот оптический обман и очистить собственные воззрения Шлей-
ермахера от тех недостатков изложения, которые выставляют их
в неблагоприятном свете. Тогда мы убедились бы, что
субъективизм, соединявшийся со стремлением к гармонии, был внешним
пунктом соприкосновения между этикой Шлейермахера и этикой
Шлегеля, а все вздорное, бесстыдное и циническое превращается
у Шлейермахера в чистейший идеализм. Тогда мы убедились бы,
что комментарии о «Люцинде» были продуктом такого же склада
ума, из какого возникли «Речи о религии». Тогда мы увидели бы,
что задушевность и стремление к истинной свободе были
существенным содержанием комментариев, подобно тому как
задушевность и благочестие были существенным содержанием «Ре-
498
Р. ГАЙМ
чей». Тогда мы с удивлением заметили бы, что у Шлейермахера
в одном произведении примиряется с высшим образованием
нравственность, а в другом — благочестие и что даже при описании
самых соблазнительных подробностей его нравственность
сохраняет свою невинность или, вернее, старается создать более
возвышенную невинность. Тогда мы нашли бы в «Письмах»
Шлейермахера такую же нравственность, какая в его «Речах» отвергает
всякую объективную организацию религии; нашли бы такую
нравственность, которая из уверенности в самой себе не хочет
становиться под защиту установленных обычаев и правил, а
свободному, образованному человеку дозволяет искать выход из самых
затруднительных положений только под защитой «его
здравомыслия и нежности чувств».
Такая попытка определять характер вариации без всякого
внимания к той теме, на которую делается вариация, всегда
приведет к произвольной абстракции и всегда будет неудачной. По
всему вероятию, в том же роде были бы и другие этические статьи,
которые намеревался написать Шлейермахер, статьи о верности
и о невинности1. В том же роде и диалог «О благопристойности»2,
написанный, очевидно, в подражание диалогам Платона. Здесь
Шлейермахер постоянно нападает на расхожие понятия о
благопристойности, а сам определяет ее так: благопристойность есть
господство тех понятий, которые образуются в нашем уме
независимо от воли и овладевают тем, что не было определено волей.
К счастью, есть другое небольшое сочинение, в котором
Шлейермахер ясно и самостоятельно изложил сущность своих
этических воззрений и которое служит как бы дополнением к «Речам о
религии». Это «Монологи», написанные осенью 1799 года
непосредственно перед «Интимными письмами»3.
И по своему отношению к началу нового года, и по форме
разговора с самим собой «Монологи» напоминают нам те
самонаблюдения, которые были написаны Шлейермахером семью годами
1 «Aus Schleiermacher's Leben» III, 78, 79.
2 Он был в первый раз опубликован Дильтеем в «Aus Schleiermacher's Leben»
IV, 503 и ел. Сравн. Ill, 178. Другие диалоги в том же роде были задуманы, но не
были написаны.
3 «Monologen. Eine Neujahrsgabe». Берлин, у Шпенера, 1800. Снова
перепечатаны с 4-го издания ( 1829 год) в полном собрании сочинений в отд. 3, том I,
с. 345 и ел. Первое издание, на которое мы ссылаемся в тексте, нередко
представляет существенные несходства с позднейшими изданиями.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
499
ранее в Шлобиттене1. Только теперь он осмеливается публично
рассказать то, «что в глубине души говорил сам себе», потому
что только теперь он дошел в своих этических размышлениях до
точного вывода, в котором нет пробелов; к своим прежним
наблюдениям он присоединяет плоды совершенно нового периода в
своем умственном развитии, поэтому «Монологи» относятся к тем
ранним наблюдениям точно так же, как созревший плод к еще
неразвившимся семенам. Действительно, содержание нового
сочинения было таким вполне созревшим в душе автора плодом, что
было изложено в несколько недель; он сам говорил в письме
к Бринкманну, что написал «Монологи» так быстро, что, в
сущности, они не существуют в рукописи, а точно будто были
продиктованы типографскому наборщику. Он метко называет это сочинение
«лирическим экстрактом из постоянного дневника», а
впоследствии он радовался тому, что счастливый инстинкт побудил
его изобразить в «Монологах» «самого себя, или, вернее, свои
стремления, лежащий в самой глубине души закон своей жизни».
Своему другу Виллиху он писал, что чувствовал «непреодолимое
желание высказаться вполне без всякого намерения производить
впечатление». Генриетте Герц он писал: «Никакое другое из моих
сочинений не возникло так неожиданно».
Такому возникновению замечательной книги соответствует и
ее изложение. По примеру своих друзей-романтиков автор придавал
такое важное значение форме изложения, что сознательно
заботился о своем стиле. Фр. Шлегель основательно заметил, что язык
«Монологов» слишком цветист и недостаточно прост, а Бринкманн
находил в них натянутую искусственность ритма. Шлейермахер
объяснял то и другое лирическим характером своего сочинения,
которое называл «песнопением»; но в «Монологах» действительно
встречаются такие перестановки слов, от которых затемняется
смысл, а сквозь прозу беспрестанно слышатся отзвуки то ямбов,
то анапестов, то дактилей. Впрочем, главная трудность при
объяснении смысла «Монологов» происходит от смешения
объективного с личным. Сам автор соглашался с мнением своего друга, что
это была «масонская книга». Именно потому, что он говорил о
самом себе с такой откровенностью, с какой не говорят о своих
сердечных чувствах перед прихожанами или в обществе, читателю
часто приходится по догадке восполнять смысл недосказанного.
1 См. выше, с. 388 и ел.
500
Р. ГАЙМ
Шлейермахер говорил, что его «Монологи» следует читать не
только с рассудком, но также с фантазией и с сердцем. И нам стоит
труда попытаться прочесть их так, как желает их автор.
Подобно проповеди, написанной по случаю наступления
Нового года, и подобно тому сочинению «О достоинстве жизни»,
которое должно было служить дополнением к этой проповеди,
и первая из пяти глав «Монологов» находится в связи с
потребностью самосозерцания, естественно возникающей при переходе из
старого года в новый. Однако настоящее самосозерцание
заключается именно в том, что оно ставит человека выше условий
времени. Речь здесь идет о созерцании не только жизни и
происходящих в ней перемен, но также о созерцании самого себя. Еще в
одном из своих отрывков, написанных для «Атенея», Шлейермахер
говорил: «Слово „перемена" применимо только к физическому миру.
Наше „Я" ничего не утрачивает и в нем ничто не исчезает;
вместе со всем, что к нему принадлежит, оно живет в сфере вечности».
Различные вариации и перефразировки этих слов составляют
начало «Монологов». Настоящее человеческое «Я» есть самая
душевная жизнь человека; оно выше перемен и конечности; оно
совершенно свободно; оно составляет неделимое, полное жизни
целое, в котором все находится в связи со всем. Требование
нравственности, в своем общем выражении, заключается в том, чтобы
человек вел свою жизнь не только как смертный, но и как
бессмертный, не только по-земному, но и по-божественному.
Поэтому точка зрения самосозерцания непосредственно
совпадает с точкой зрения нравственности.
Лишь в менее определенной форме это основное положение
уже было выражено ранее Шлейермахером в следующих словах:
«Познавание и желание не должны быть разделены во мне, а
должны составлять одно целое». А в том, что теперь это единство
найдено Шлейермахером в «возвышенном самосозерцании»,
нетрудно узнать воспитанника пиетистов, научившегося и
привыкшего в Ниски и в Барби «вглядываться внутрь самого себя». А в
том, что Шлейермахер находит в нашем «Я» только свободу и
бесконечность, обнаруживается влияние философии Фихте.
Совершенно в духе Фихте мнения автора, что мир есть не что иное, как
созданное самим умом его отражение; что под словом «Бог»
следует разуметь лишь изящную аллегорию на нравственное
назначение человека; что бессмертие не есть нечто неземное и
будущее, так как оно уже теперь присуще самосозерцанию. Но
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
501
Шлейермахер заходит еще дальше самого Фихте. Тенденция
радикализировать идеализм Фихте уже заметна у Фридриха Шле-
геля и у Гарденберга. Проповедуемая у Фихте свобода нашего
«Я» превращается у Шлегеля в произвол, у Гарденберга — в
чудотворное всемогущество; из «Основных начал науки» у первого
из них возникла ирония, а у второго эти «Начала» превратились в
идеализм поэтической магии. Более глубокомысленное, более
глубоко прочувствованное идеализирование всего, что есть самого
идеального во всех философиях, предпринял, опираясь на свои
нравственные воззрения, автор «Монологов». Из страстного влечения
к свободе и Фихте дошел до своей теории, объясняющей всякое
бытие деятельностью нашего «Я» и указывающей на
нравственное назначение человечества. Но по причине той резкости,
которая была в характере Фихте, этот философ скорее
противопоставил чувственному, реальному миру необузданность, смелость
свободы, чем оживотворил его духом свободы. Именно это
подметил Шлейермахер благодаря своей более изящно организованной
и более благородной натуре; поэтому он задумал далее развить
грубый чувственный идеализм Фихте и преобразовать его в более
чистую духовность.
С первого взгляда покажется странным, что, по мнению Шлей-
ермахера, автор «Основных начал науки» еще недостаточно далеко
зашел в своем уважении к свободе и к праву самосознания, по
меньшей мере в том, что касается нравственности. Это
разномыслие обнаружилось, когда Шлейермахер написал в июне 1800 года
для «Атенея» рецензию на сочинение Фихте «Назначение
человека»1. Рецензент охотно признавал прекрасную цель этого
сочинения — «возвысить нас до сверхчувственного». Но, спрашивал он,
разве тот, кто верит в свободу и в самостоятельность, может
задаваться вопросом о назначении человека? Если все бытие
существует только через посредство разума и для разума, то назначение
человека совпадает с его бытием, с его натурой, или, иначе говоря,
с понятием о высшем добре. Эта критика учения Фихте была
в то же время критикой прежнего воззрения самого рецензента,
так как он в своей статье «О достоинстве жизни» еще отделял то,
что есть, от того, что должно быть, — назначение человека для
счастья отделял от его назначения для законченной разумности.
1 «Атсней» III, 2, с. 281 ; теперь в полном собрании сочинений в отд. 3, том I,
с. 524 и ел.
502
Р. ГАЙМ
Но зародыш прогресса уже лежал в тогдашней точке зрения
Шлейермахера. Он был обусловлен тем, что уже в то время
Шлейермахер отдавал предпочтение этике перед метафизикой.
Именно в этом заключался второй пункт, касательно которого
рецензент не сходился теперь во мнениях с автором «Назначения
человека». В этом сочинении Фихте говорил, что для разрешения
вопроса о назначении человека следует начать с обыкновенного,
реалистического воззрения на мир, потом перейти к
идеалистическому воззрению, по которому мир есть продукт нашего «Я», и,
наконец, искать для этого последнего воззрения более глубокую
основу в голосе совести. К чему, — спрашивает рецензент, —
такой окольный путь? Разве от морализма не неизбежен переход к
идеализму? По мнению Шлейермахера, учение Фихте не должно
было допускать никакого другого воззрения на мир, кроме
этического. По мнению Фихте, в обыденной жизни следовало позабыть
о том, что чувственный мир, в сущности, есть создание нашего
«Я». Но к чему же, — спрашивает Шлейермахер, — признавать
разум и свободу человека за источник всего существующего, если
не применять это воззрение там, где оно нужно более чем где-
либо и где оно только и получает свою настоящую цену? По его
мнению, точка зрения самосозерцания совпадает с точкой зрения
нравственности. Поэтому прочь ту дюжинную нефилософскую
точку зрения, которую Фихте признал годной! Подобно тому как
Новалис положительно отверг всякое прозаическое
мировоззрение и хотел превратить мир в поэзию, Шлейермахер не допускал
никакого другого воззрения, кроме этического. Своему другу
Бринкманну он писал: полное отрицание той «дюжинной точки
зрения есть настоящий орден золотого руна для нравственных
достоинств».
На этом убеждении основано все содержание «Монологов».
По словам их автора, это была попытка перенести в жизнь
философскую веру Фихте во всемогущество свободы и
самосознания и изобразить такой характер, который соответствовал бы этой
философии; точно так же, мог бы прибавить автор, как
эстетическая доктрина Фр. Шлегеля есть попытка перенести ту веру в
поэзию и изобразить такой идеал поэта, который соответствовал
бы этой философии. Таинственное единство деятельности и
созерцания провозглашается Шлейермахером за основное
правило уже с первой главы «Монологов». Он не хочет знать о
требовании «художника», чтобы душа совершенно погружалась в произ-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
503
ведение искусства и сама не знала, что она предпринимает;
поэтому он решительно берет сторону Фр. Шлегеля, который
держался противоположного мнения, когда требовал под названием
«иронии» постоянного самосозерцания как необходимого условия
для законченности произведений искусства. Но он также ничего
не хочет знать о требовании «мудрецов», которые говорят:
«Жить — это одно, а теряться в высшем мышлении — это
другое; когда ты отдаешься мирским заботам, ты не можешь в то
же время спокойно созерцать самого себя в самой глубине своей
души». Но почему же, возражает на это Шлейермахер, внешняя
мирская деятельность не может соединяться с умственным
углублением в то, что мы делаем? Приводи в этом мире все в
движение, достигай всего, чего можешь, трудись над священным
делом человечества, но в то же время постоянно вглядывайся в
самого себя и знай, что ты делаешь! Постоянное одухотворение
и просветление всякого действия посредством свободы и
сознания свободы — такова первая отличительная черта в воззрении
Шлейермахера на нравственность.
Конечно, нельзя задаться более возвышенной целью. Вопрос
только в том, не должна ли казаться недостижимой такая цель.
Не заключается ли в ее недостижимости причина того, что
философия Канта и Фихте, несмотря на свои серьезные нравственные
стремления, была не в состоянии одухотворить действительность?
Она положительно утверждала, что добро следует делать только
ради добра, что человек должен пользоваться своей свободой, но
она не могла отыскать пути, который ведет от возвышенного
сознания долга к человеческому счастью. Что же дало автору
«Монологов» смелость провозглашать действительное
существование высшего блага вместо бесконечного стремления к
нравственному совершенству? Он уже ранее высказал в «Атенее»
высокую мысль: кто начинает и кончает тем, что должно быть, тот
может найти вне земного шара тот пункт, который желательно
найти математикам, но он совершенно потеряет из виду Землю,
так как не понимает, что нравственный человек собственной
силой свободно вращается вокруг своей оси. Но эта высокая мысль
требует комментариев. Мы ожидаем от автора, что он объяснит
нам закон и возможность такого свободного движения.
Но не один Шлейермахер и не он первый стремился к той же
цели. Великие художники во все времена старались изображать в
наглядной изящной форме нравственные идеалы своего времени
504
Р. ГАИМ
и своей нации. Счастлив тот народ и счастливо то поколение,
которые силой фантазии изображают в такой форме только
действительно существующую полноту нравственной и благородной
жизни! Наша немецкая классическая поэзия не находилась под такой
счастливой звездой. Она также создала художественную сферу,
главное достоинство которой заключалось в изображении чистой
и нравственно совершенной человеческой натуры. Но в этой сфере
обнаруживалась нетвердость убеждений, которая была
последствием жалкого положения немецкой нации; и в воззрениях наших
двух великих поэтов изящество иногда заменяло добро вместо
того, чтобы служить только выражением для этого последнего.
Правда, и Гёте, и Шиллер в силу своих художнических
инстинктов восставали против «монастырской» строгости кантовской
морали, основанной на чувстве долга; но при этом даже Шиллер
находил для себя опору только в эстетических воззрениях и
формулах. Нравственная гармония больше или меньше заменялась
гармонией эстетической, а добру больше или меньше придавали
эстетические достоинства. Нравственное стремление Вильгельма
Мейстера к гармоническому развитию и к приятному умению жить
заканчивается в высших сферах общества и в промежутках между
обязанностями общественной жизни. Такое умственное развитие
и такое умение жить составляют чисто личную принадлежность
и преимущество немногих людей. И Шиллер ценил господство
разума и нравственности; но он довольствовался господством
«внешнего изящества», которое — так кончается его статья об
эстетическом образовании — «существует в мире надобности в
каждой изящно настроенной душе: в сущности его можно найти,
подобно чистой церкви и чистой республике, в немногих
избранных кружках».
В этой сфере противоречий вращалось понятие о
нравственности в то время, когда Шлейермахер стал искать нового
разрешения великой проблемы. Философия требовала лучшего мира,
наша классическая поэзия мечтала о нем. Первая оставляла
человека с его чувственными влечениями и индивидуальными
наклонностями беспомощным перед требованиями неизменного закона,
вторая считала исполнение требований нравственности за
привилегию гармонически созданных натур. Шлейермахер
соединил эти два воззрения в одно на почве того же развития самых
сокровенных душевных сил, из которого возникли как немецкая
философия, так и немецкая поэзия. Его этика, как и вообще форма
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
505
развития романтизма, есть синтез учения Фихте с учением Гёте.
Нравственный человек «свободно вращается вокруг своей
собственной оси». То, чем он должен быть, и то, что он на самом
деле, — одно и то же. Его назначение быть счастливым
исполняется тем же путем, каким исполняется его назначение быть
добродетельным. Не в эстетически развитой индивидуальности, а во
всякой индивидуальности, в своеобразности каждого
заключается возможность того, что закон сделается действительностью,
а действительность сделается нравственной. Развитию этой
мысли посвящена вторая глава «Монологов».
Постоянное самосозерцание было признано в первой главе за
главное условие всякой нравственности. Созерцать самого себя —
значит созерцать разум, общую человеческую натуру. Кто всегда
носит в себе ясное сознание человечности, тот может быть уверен,
что это сознание не допустит никаких других деяний, кроме тех,
которые достойны человечества. Но более проницательный взгляд
в глубину нашей души приводит нас к более определенным
заключениям. При самосозерцании я познаю не общую сущность всего
человечества, а ту определенную индивидуальную форму, которую
приняла человечность в моем лице. С радостью изобретателя
Шлейермахер описывает тот момент, когда он, при помощи этого
воззрения, нашел путь к высшей нравственности. Долго, —
говорит он, — мне было достаточно того, что я отыскал разум; я долго
думал, что на каждый случай есть только одна справедливость,
что действие должно быть у всех одинаково. Но теперь я думаю
иначе. Для меня стало теперь ясно, «что каждый человек должен
по-своему изображать человечность, должен изображать ее в
своем собственном смешении ее элементов, для того чтобы она
проявлялась во всевозможных видах». «Когда я действую по моему
собственному разумению, фантазия ясно доказывает свободу
моего выбора, указывая мне, что я мог бы действовать множеством
других способов, не нарушая законов человечности». Другими
словами: подобно тому, как человечность приняла в индивидуумах
тысячи различных форм, и закон человечности, то есть долг,
различен сообразно с своеобразностью каждого; из своеобразной воли,
из проявлений своеобразной свободы возникает господство добра.
Шлейермахер выдает это признание прав своеобразности за
одно из своих поздних открытий. Однако еще в своей статье о
свободе он останавливал свое внимание на разнообразии
нравственных совершенств, а в «Речах о религии» он приписывал воз-
506
Р. ГАИМ
никновение положительных религий необходимости обособлять
религиозные воззрения. Нравственность отвлеченного,
однообразного долга имеет в его глазах одинаковую цену с однообразием
так называемой естественной религии. В этом и заключается пункт
соприкосновения между «Монологами» и «Речами о религии»,
пункт, тем более достойный внимания, что названные два
сочинения, по-видимому, развиваются совершенно различными
путями. В своих «Речах» Шлейермахер усердно старался
предохранять религию от всякого смешения с моралью. В «Монологах» он
говорит о нравственности так, что она, по-видимому, не имеет
ничего общего с религией. Однако из этого последнего сочинения
легче, чем из первого, можно выяснить общую их основу.
Впрочем, практическое соединение точек зрения религиозной и
нравственной постоянно замечается в церковных проповедях Шлей-
ермахера, потому что, как он объяснял в письме к Саку, он считал
за возложенную на него существующими церковными
учреждениями обязанность не забывать, что в своих проповедях он говорит
«о религии таким людям, которые должны быть нравственными,
и говорит о морали таким людям, которые считают себя
религиозными». Но более глубокую внутреннюю связь между религией
и моралью мы должны искать как в основных убеждениях Шлей-
ермахера, так и в теоретических принципах. Отыскивая ее, мы
снова наталкиваемся на спинозизм, без помощи которого нельзя
было бы понять воззрение Шлейермахера на религию. Можно
сказать, что «Речи о религии» изображали соответствующее
учению Спинозы настроение ума, а «Монологи» изображали
соответствующий философии Фихте характер; первые односторонне
проводили мысль о зависимости нашего «Я», вторые проводили
мысль о свободе. Но эти развивавшиеся в противоположных
направлениях идеи Фихте и Спинозы, естественно, должны были
сходиться в каком-нибудь пункте. Они сходились при посредстве
того же принципа, который служил связующим звеном между
этикой немецкой философии и этикой нашего поэта. Тот пункт, в
котором «Речи» сходятся с «Монологами», есть principium individui,
который Шлейермахер назвал в письме к Бринкманну тем, что
есть «самого мистического в области философии». Откуда ведет
свое начало идея об individuo и на чем она основана — этим
вопросом Шлейермахер задавался еще в то время, когда начал изучать
систему Спинозы, и именно на этот вопрос дают одинаковый ответ
и «Речи», и «Монологи». «Речи» дают этот ответ в пятой «Речи»,
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
507
где говорится о раздроблении религии на бесконечное множество
несходных между собой индивидуальных религий. Своеобразная
религиозность каждого есть последствие того, что жизнь каждого
человека своеобразна и что каждый человек есть своеобразная
личность. Своеобразная религиозная жизнь возникает потому, что
появляется новый человек, и возникает точно так же, как
появляется новый человек. Окончательная причина этих явлений
заключается в том «непонятном факте», что «частица бесконечного
сознания отрывается и в качестве конечной прикрепляется к одному
определенному моменту в ряду органических эволюции»; если
смотреть на религию с этой стороны, как на пассивное созерцание
универса, то она будет лишь воспоминанием о том «сочетании
бесконечного с конечным», которое предшествовало моменту
отрывания вышеупомянутой частицы. «Речи» основательно
называют непонятным фактом это происхождение
индивидуальности из бесконечного, потому что оно заводит нас за пределы
конечного. Но «Монологи» не обнаруживают в этом отношении
достаточной осмотрительности. В их четвертой главе идет речь
о том же факте, но он уже является понятным актом свободного
самоопределения. Нашему «Я» с его свободой, в силу которой
телесный мир является лишь зеркалом нашего духа, здесь
противопоставляется настоящий мир, универс, «бесконечная
совокупность духов». Но универс является здесь только
«возвышенной гармонией свободы», именно тем, что Фихте назвал
«нравственным мировым порядком». Высший закон человеческой
деятельности заключается, по мнению Шлейермахера, в том,
чтобы вполне сознательно развивать свою своеобразность.
Разве можно удивляться тому, что при таком воззрении на
этическую задачу «Монологи» развивают идеальное преставление о
нравственности сообразно с идеальной личностью своего автора?
Их вторая глава рисует характеристику своеобразности самого
Шлейермахера. Он уверяет сам себя, что в его натуре все
гармонирует одно с другим, что в нем все последовательно. Он
рассказывает то, что можно рассказывать только самым интимным
друзьям. С откровенностью чистой и благородной души он
описывает те черты своего характера, которые описывал в письмах
к своей сестре, к Генриетте Герц и к своей возлюбленной, — свое
душевное спокойствие и веселость, свое отвращение к
одиночеству, свою потребность в дружеских связях, свою способность
любить и не изменять в любви. Здесь же он отвечает на упреки,
508
Р. ГАИМ
с которыми Юлий обращался к Антонио. Он доказывает, что
Фр. Шлегель судил о нем только по внешности и по отрывочным
фактам, подозревая его то в равнодушии к другу, то в
придирчивости, то в скрытности. Он старается устранить все
недоразумения, повредившие его отношениям со Шлегелем, и
действительно достигает этой цели, так как Шлегель после чтения
«Монологов» объявил о своей готовности позабыть то, чем в
последнее время Шлейермахер всего глубже оскорблял его1.
Но в одном пункте разномыслие между двумя друзьями не
прекратилось. Оно касалось резкой противоположности, которую
усматривал Шлейермахер между натурами «художников» и
«нехудожников». Именно для этих последних в «Монологах»
делаются выводы из основного воззрения на нравственность: делаются,
во-первых, потому, что Шлейермахер сам себя устраняет «из
священной сферы художников», а главным образом потому, что он
отмежевывает для этики особую сферу в деятельности, но не в
художественном творчестве, в практической жизни, но не в поэзии.
Пограничная черта, которую проводит здесь Шлейермахер,
более важна, чем кажется. У него повсюду встречаются пункты
соприкосновения между его воззрениями на религию и
нравственность и воззрениями тех из его романтических друзей, которые
ставили выше всего искусство и поэзию. Он даже считал сочетание
нравственности и художественности за признак такого
совершенства, которого он, может быть, был бы в состоянии
достигнуть незадолго до своей смерти. Но именно в этом и заключался
зародыш все более усиливавшегося разномыслия между Шлей-
ермахером и романтиками. Ведь для Тика, для Новалиса и для
В. Шлегеля всего важнее было эстетическое воззрение на мир,
художническое образование. Фр. Шлегель чаще других выходил
за пределы этой сферы, но обыкновенно высказывал только
смелые догадки или все перепутывал. Поэтому он протестовал
против разобщения, в которое ставил Шлейермахер религию, а
теперь он стал протестовать против мнимой односторонности, с
которой Шлейермахер противопоставлял этическое
эстетическому. Какая вышла отсюда неясность и путаница относительно
религии, мы уже видели из шлегелевских «Идей». Такие же
неясные мнения Шлегель излагал и о нравственности. Рядом с
несколькими изречениями, в которых слышится отзвук идей Шлей-
1 В их переписке III, 165.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
509
ермахера, здесь встречаются и такие изречения, которые
совершенно отождествляют нравственное с прекрасным и делают из
них исключительную принадлежность людей гармонически
развитых и одаренных гениальностью: «Истинная добродетель
заключается в гениальности». Она, по мнению Шлегеля,
представляет противоположность не только экономии, но также политике;
а исключительность его художнической морали обнаруживается
в том, что он называет эту мораль «божественным эгоизмом»,
считает развитие индивидуальности за самое высокое призвание
и, наконец, восклицает: «Не растрачивай веру и любовь в
политическом мире, а в божественном мире науки и искусства вноси в
священный поток вечного развития то, что лежит в глубине твоей
души».
Не так понимал Шлейермахер развитие индивидуальности,
а потому и его определения имеют более общий смысл, несмотря
на то, что постоянно относятся к его собственной
индивидуальности. От своей основной формулы, от требования развития
своеобразности, «Монологи» переходят к изложению условий этого
развития. Кто желает исполнить то требование, — говорится в
«Монологах», — тот должен воспринимать в своей душе все, что
находится вне его. Настоящая нравственность несовместима с
бездушной холодностью. Только тот может достигнуть в
определенной сфере собственного совершенства, кто способен относиться
с разумным участием к чужому характеру, к чужим стремлениям
и предприятиям. Первое условие высокой нравственности —
сочувствие ко всему. Но разве такое сочувствие возможно без любви?
Ни собственная жизнь, ни умственное развитие невозможны без
любви: без нее все расплывается в однообразную грубую массу.
Автор «Монологов» вполне сознает противоположность этого
принципа с холодной, бессодержательной всеобщностью законной
морали. Для него нет в действительной жизни ни одного положения,
которое не следовало бы облагородить примесью нравственного
элемента. В разнообразных проявлениях личной воли он видит не
препятствия, а пружины, посредством которых реализуется в
различных формах единственная цель человечности — разумность
и нравственность; таким образом, понятие о долге делается у него
до бесконечности эластичным. Он старается разлить сущность
нравственности по всем жилам человечности. Поэтому в
этическом воззрении «Монологов» обнаруживается тенденция внести
в нравственный мир цельную организацию. В первых главах рас-
510
Р. ГАЙМ
сматриваемой нами книги обрисован идеал нравственности для
отдельной личности. В третьей главе автор делает важный шаг
вперед, стараясь сделать идеал внутреннего развития
плодотворным для общественной жизни, для взаимных отношений между
людьми.
Шлейермахер с самого начала заявил, что при развитии своих
воззрений будет «часто прибегать к полемике»; действительно,
полемика играет немаловажную роль в его «Монологах». В
противоположность обыкновенному образу мыслей, который
постоянно подчиняется духу времени и случайным переменам, он
отстаивал всегда бдительную свободу. В противоположность
букве закона и однообразным понятиям о долге он отстаивал
право на своеобразность; господствовавшим в его время понятиям и
нравам он противопоставляет свой идеал более благородной
общественной жизни. «Как глубоко, — говорит он, — я презираю
поколение, которое хвалится сделанными им улучшениями так
бесстыдно, как ни одно из прежних поколений!» Вслед за этим он
указывает, в чем заключаются эти мнимые улучшения. Они
заключаются, по его мнению, в увеличении чувственных благ и, по
большей мере, в заботе об общем благосостоянии; только в этом видят
добродетель, справедливость и любовь. Но, с точки зрения Шлей-
ермахера, следует заботиться не о чувственных благах, а о
духовных. Он отдает должную справедливость успехам внешней
цивилизации, но конечная этическая цель заключается, по его
мнению, во внутреннем развитии, в старании как можно полнее
развить чистую сущность человечности. Для достижения этой
цели необходима совокупная деятельность умов. Достоинство
всякого общества определяется соразмерно с тем, насколько
достигнута эта цель. И при теперешнем общественном строе
существуют такие духовно-нравственные общины, — но (увы!) они, по
мнению Шлейермахера, унизились до преследования земных,
чувственных целей! Как редко встречается истинная дружба! Как
почти повсюду осквернен брак! Наконец, какое жалкое понятие
составилось о государстве: ведь обыкновенно думают, что
государственное устройство тем лучше, чем менее чувствуется его
гнет, и что оно не что иное, как механизм, без которого никак
нельзя обойтись! В нем видят необходимые опоры теперешнего
общества, а этими опорами служат безжизненные формулы,
бездушные правила и обычаи. Для высшей этической цели
необходимо, чтоб ум и любовь облагораживали и брак, и государ-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
511
ственное устройство, и дружбу, и общественную жизнь. Затем
Шлейермахер описывает соответствующее его идеалу
государство, которому всякий готов принести себя в жертву, потому что
сознает себя частицей его величия и силы, описывает радости
семейной жизни, в которой гармония между мужем и женой
создает новую общую волю. «Ложное образование» составляет
главную характеристическую особенность современного общества;
напротив того, идеал будущности есть «господство образования
и нравственности».
Здесь изображен такой идеал нравственности, который выше
идеала наших великих поэтов и более богат содержанием, чем
идеал наших великих философов. Идеальные воззрения тех и
других превращаются здесь в нравственные требования. Здесь
излагаются не фантастические и оригинальные идеи, не бесплодные
остроумные философские соображения, как у Фр. Шлегеля и у
Новалиса. Здесь речь идет и не о задушевности поэтических
чувств, как у Тика и у Гарденберга. Шлейермахер имел в виду
значительный шаг вперед в развитии немецкого ума; он хотел
перенести творческую силу поэзии и философии в действительную
жизнь, в строй частной и общественной жизни немецкой нации.
Однако и этика Шлейермахера, подобно его религии, носила
на себе отпечаток связи с духом романтизма. Ей недоставало
объективного воззрения на нравственные условия общественной
жизни. Бесспорно верна была мысль Шлейермахера, что
внутреннему развитию, свободе ума должно принадлежать
нравственное господство над жизнью. Но именно это внутреннее развитие —
единственное, какое было возможно в нашем отечестве, — было
само по себе недостаточным для внесения нравственных
принципов в условия реальной жизни. На эту великую задачу следует
смотреть с двух сторон. Возникшие в глубине нашей души
нравственные идеалы не должны критически противопоставлять себя
уже сложившимся внешним формам жизни. Развитая отдельная
личность сама есть не что иное, как продукт врожденных свойств
и того, что приобретено общими усилиями современного
поколения. Следует считать несогласным с указаниями истории и
отвлеченно идеологическим то воззрение, что наше «Я» создает
само себя из своих отношений к универсу, из его недр. По
меньшей мере для того, что в нем ценно, служит первоначальным
мерилом сравнение с той ближайшей к нему нравственной сферой,
которую оно находит в нравственном строе отечества, в сложив-
512
Р. ГАИМ
шихся исторически нравах и обычаях. Допустим, что эти нравы и
обычаи также являются результатом свободы, но эта свобода
обнаруживается лишь в объективных отношениях. Их негодность
и чувственность в тогдашней Германии были причиной
полемического к ним отношения Шлейермахера. По этой причине
свобода и прекрасное искали для себя убежища в поэзии и в науке.
Поэтому и новая этика приютилась в одиночестве и в
идеальности свободного «Я», которому противопоставляется «господство
образования и нравственности», как такой идеал будущего, с
которым не имеет ничего общего. Поэтому хотя Шлейермахеру и
удается согласовать для индивидуума счастье с добродетелью,
свободу — с предназначением, ему не удается то же сделать для
общества. Его преувеличенный идеализм и субъективизм
выступают всего ярче наружу в последней главе «Монологов», в
прекрасном и знаменитом гимне к «вечной юности». Во всяком
внешнем действии, говорит он, должны господствовать благоразумие,
здравомыслие и хладнокровная осмотрительность преклонных лет,
а, напротив того, всякое внутреннее действие, направленное к
развитию собственного ума, всегда должно носить на себе
отпечаток юности. Так было и с самим Шлейермахером. В своей
юности он не увлекался страстями, а в своих преклонных летах он был
полон воодушевления. К нему можно отнести то, что было
сказано о В. Гумбольдте: что он не принадлежал ни к какому возрасту.
Тем не менее это различие между внешней деятельностью и
внутренней, между практической деятельностью и нравственной
представляет такой дуализм, который едва ли лучше
отвергнутого самим Шлейермахером дуализма жизни и философии в учении
Фихте. «Старость, — говорит он, — есть пустой предрассудок;
это есть негодный плод нелепого мнения, будто дух находится в
зависимости от тела». Он допускает, что чувства притупляются
с годами, а вместе с этим слабеют воспоминания, идеи, чувство
удовольствия или неудовольствия. «Но кто же осмелится
утверждать, что и сознание великих священных идей, извлекаемых
нашим умом из самого себя, также зависит от тела, а правильное
понимание внешних явлений зависит от способности употреблять
в дело члены нашего тела?» Этот смелый вопрос, очевидно,
наводит нас на главный недостаток в воззрении Шлейермахера, на
отсутствие связи между человеческим умом и натурой.
Нравственность, при таком одностороннем на нее воззрении, находит
для себя убежище в такой сфере, где есть место только для нрав-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
513
ственного воодушевления, а разве такое воодушевление не то же,
что скорбь в сфере романтической религиозности и ирония в
сфере романтической поэзии?
Одностороннее развитие, которое было свойственно не
только Шлейермахеру, но и лучшим из его современников, и дух
романтизма — вот что мешает Шлейермахеру оценить по
достоинству ту нравственность, которая уже была действительным
фактом, и кое-что позаимствовать от нее. Он постоянно старается
доказать, что можно подчинить себе внешний мир нравственным
способом. У него поток нравственной жизни постоянно
изливается из свободного «Я» на внешний мир, а не из существующего
внешнего мира на свободное «Я». Внешние условия, среди
которых он живет, имеют для него только то значение, что он заново
проверяет на них основательность своего собственного сознания.
Для него важно не то, каковы эти условия сами по себе, а то,
каковы они для него. Мало того: даже только мысли о них
достаточно для развития нравственности. Не что иное, как
воспоминание о его отношениях с возлюбленной, побуждает его искать
ответ на вопрос, как мог бы он сохранить свою свободу, если бы
житейские условия и тайны природы стали ему поперек дороги.
Его ответ есть ответ идеалиста: «Невозможность внешнего
действия не мешает внутреннему действию». Это совершенно в духе
романтизма. Только чувственное воззрение на нравственность
должно требовать ручательства внешних действий за истинность
своего собственного сознания. К морали Шлейермахера
применимо мнение, что если бы Рафаэль родился без рук, то он все-
таки был бы великим живописцем. Он ссылается на
«божественную силу фантазии, которая одна дает свободу человеческому
духу». Ее игра заменяет для него то, чего недостает
действительности; благодаря ее внутренней деятельности он вступает в
обладание всем миром и наслаждается им в спокойном созерцании
гораздо лучше, чем в его внешних явлениях; тогда каждое
явление глубже западает в его душу, производит более определенное
впечатление на его ум, а «в свободном беспристрастном суждении
будет чище отпечаток нашей собственной натуры».
Романтический характер этики «Монологов» всего ярче
бросается в глаза там, где Шлейермахер говорит о способах
утвердить то господство образования и нравственности, которое, быть
может, в далеком будущем должно заменить теперешние
постыдные порядки. Впрочем, утверждение господства нравственности
17 Зак. № 3602
514
Р. ГАЙМ
он не считает за революционное предприятие, так как лучшие
времена должны, по его мнению, наступать мало-помалу; сам он
относится к современному поколению точно так же, как тот
осененный даром пророчества мечтатель, который говорил, что
«он чуждается образа мыслей и жизни своего поколения, что он
гражданин позднейшего мира». Шлейермахер полагает, что ему
не остается ничего другого, как отыскивать своих
единомышленников, «своих собратьев по душе». Вместе с ними он
намеревается основать «союз заговорщиков для лучших времен». Здесь
романтическая этика приобретает то, что всего менее прилично
этике — такой же аристократический отпечаток, какой был
свойствен поэтико-философскому развитию и основанной на этом
развитии романтической поэзии. Уже в одном из отрывков,
написанных для «Атенея», Шлейермахер вел речь о «невидимой церкви»
истинной нравственности: «Люди, которые до такой степени
эксцентричны, что вполне серьезно добродетельны, повсюду
понимают друг друга, легко находят друг друга и составляют оппозицию
против господствующей безнравственности, которая считается за
нравственность. Для них нередко служит символом их
прекрасных тайн какое-нибудь мистическое выражение, которое
благодаря романтической фантазии может сделаться чем-нибудь очень
привлекательным и очень хорошим». «Монологи» проводят эту
мысль в конце третьей главы. Здесь они всего более сближаются
с направлением идей Шлегеля, и здесь они яснее всего другого
доказывают, что тот, кто написал «Монологи», мог написать и
«Письма о „Люцинде"». Даже обыкновенный язык, по мнению
Шлейермахера, недостаточно хорош для обмена мыслями
между заговорщиками; для того, чтобы они могли узнавать друг
друга, они не должны употреблять оскверненный обыденный язык,
не должны подчиняться установившимся обычаям. «Священный
и таинственный язык», разумные обычаи, изящная, прозрачная
оболочка своеобразности — вот те признаки, по которым лучшие
люди должны будут узнавать друг друга. Только тогда, когда
мудрые и хорошие люди, когда эти избранники выделятся из
окружающей их среды, юношество будет склоняться на лучшую
сторону, и начнет подготавливаться наступление лучших времен.
В более серьезном ученом труде Шлейермахер впоследствии
пытался далее развивать этические воззрения, изложенные в
«Монологах». Но от этого «Монологи» почти столько же
потеряли, сколько выиграли. Оставленный ими пробел между субъек-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
515
тивной точкой исхода и реальным миром недостаточно
восполнен в новой научной обработке, но он тем более
удовлетворительно восполнен практической деятельностью Шлейермахера как
оратора и примером его благородной жизни. Лично он не остался
позади идеала своей юности; напротив того, подчиняясь
требованиям своего бурного времени, он усовершенствовал этот идеал.
Когда так глубоко презираемое им современное поколение было
пробуждено из своего усыпления великими общественными
бедствиями, когда прежние порядки были поколеблены в самом
основании, он не ограничился мечтаниями о лучшем мире. Правда, он
по-прежнему ожидал спасения от того, что совершается в
глубине человеческой души, он по-прежнему полагался на
«всемогущество чувств»; но это не мешало ему ко всем обращаться с
возбуждающим к деятельности призывом, не мешало ему не
только словами, но также делом содействовать введению самых
разумных и самых общих форм нравственной жизни, содействовать
спасению своего отечества и его упрочению на новых основах.
Другая, не нравственная, а научная задача заключалась в том,
чтоб восстановить самостоятельное достоинство внешнего мира
насупротив нашего «Я». Чтобы пополнить то, чего недоставало
его собственному воззрению, Шлейермахер был вынужден
прибегнуть к помощи чужого воззрения, того миросозерцания,
которое также приняло идеалистический и романтический
отпечаток для того, чтобы внушить уважение к самостоятельной жизни
природы современному поколению, воспитанному на идеализме.
Шеллинг был тем, кто проложил путь к такому признанию прав
природы и этим заставил романтизм выйти из своих прежних
рамок и принять новое направление. Вслед за великим нравоучите-
лем и церковным проповедником выступает на сцену основатель
спекулятивной натурфилософии.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ШЕЛЛИНГ И НАТУРФИЛОСОФИЯ
Ни «Монологи», ни «Речи о религии» не произвели
впечатления на Шеллинга при своем появлении1. Только гораздо позже он
занялся изучением «Речей» и отозвался с горячим одобрением
как об этом произведении, так и об оригинальном философском
уме автора2. Его энергичный протест против новых идей был
вызван не столько содержанием «Речей», сколько религиозным
пароксизмом, в который они вовлекли Тика и Новалиса и
свидетелем которого он был в Йене. После того как Фр. Шлегель
познакомился с содержанием статьи Гарденберга о христианстве и
с другими религиозно-литературными проектами двух
друзей-поэтов, он писал Шлейермахеру: «Так как люди так безжалостно
относятся к своей натуре, то с Шеллингом снова случился
припадок его прежнего энтузиазма к неверию, в чем я его
поддерживаю всеми силами. По этому случаю он написал „Эпикурейский
символ веры" на манер гётевского Ганса Сакса». Если бы все
зависело от иронии Фридриха Шлегеля, то это замечательное
стихотворение было бы напечатано в «Атенее» рядом со статьей
Гарденберга. Но более осмотрительный Вильгельм Шлегель
решился последовать совету Гёте и не печатать стихотворения
«Эпикурейский символ веры Гейнца Видерпорста». По прошествии
нескольких месяцев автор этого стихотворения поместил в своем
«Журнале для спекулятивной физики» только один отрывок, только
ту неполемическую часть своего произведения, по которой никак
нельзя было ожидать задорного содержания всего остального.
1 «Aus Schleiermachcr's Leben» III, 120, 125, 136; III, 165.
2 Шеллинг к А. В. Шлегелю от 3 июля 1801 года (сравн.: от 16 июля
1802 года).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
517
Только по прошествии почти семидесяти лет появилось на свет
все стихотворение, так долго державшееся под ключом. Оно было
написано в насмешку над мистическим содержанием «Речей»
Шлейермахера и статьи Гарденберга; это был поэтический
памфлет, с намерением написанный почти таким же резким языком,
каким был написан гётевский пасквиль на Виланда. Гейнц Видер-
порст не хочет ничего слышать о созерцании универса, о нашем
«Я», теряющемся в универсе, о разных возвышенных неземных
теориях, о пророческих предсказаниях новых апостолов.
Наперекор этим апостолам он утверждает, что «действительно и
истинно только то, что можно осязать руками»; что нет никакой другой
религии, кроме той, которая заключается в наслаждении
чувственными впечатлениями. Однако он расходится с поэтическими
проповедниками благочестия не так далеко, как кажется. Если бы
непременно должна была существовать какая-нибудь религия, то,
по его мнению, следовало бы предпочесть старую католическую
религию, потому что она полна поэзии и радостной
чувственности. Он, очевидно, читал Якоба Бёма, о произведениях которого
именно вто время Фихте вел спор с Тиком1; а важнее всего то,
что его почитание материи имело совершенно другую, поэтико-
идеалистическую подоплёку. Он, в сущности, почитает не
материю, а природу — эту «публичную тайну, это бессмертное
стихотворение», которое обращается к уму через посредство всех
чувств. Но сущность его «Символа веры» была изложена в
напечатанном в «Журнале для спекулятивной физики» отрывке,
который понравился даже Гёте и который мог бы быть написан
автором «Учеников в Саисе» так же хорошо, как и Гейнцем
Видерпорстом. Ведь здесь речь идет о гигантском духе, который
кроется в природе и, распространяясь и двигаясь, заставляет все
«мертвое и живое стремиться к самосознанию». Наконец это ему
удается: он находит в человеке самого себя. Пробудившись от
долгого усыпления, он с трудом узнает самого себя и хотел бы
снова расплыться в великую природу. Но человек узнает самого
себя; он сознает свое происхождение от природы, поэтому может
бесстрашно противостоять ей и сказать самому себе:
Ich bin der Gott, den sie im Busen hegt,
Der Geist, der sich in Allem bewegt.
1 Köpke 1,253. Düntzer, ненапечатанные письма из найденных после смерти
Кнебеля бумаг II, 19.
518
Р. ГАИМ
Vom ersten Ringen dunkler Kräfte.
Bis zum Erguss der ersten Lebenssäfte
Herauf zu des Gedankens Iugendkraft,
Wodurch Natur verjfingt sich wiederschafft,
Ist Eine Kraft, Ein Wechselspiel und Weben,
Ein Trieb und Drang nach immer höherm Leben!
В этих стихах изложена кратко и в высшей степени поэтично
натурфилософия Шеллинга; это — новое сочетание учения Фихте
с воззрениями Гёте, но такое сочетание, в котором воззрения Гёте,
по-видимому, сильнее преобладают, чем в чем-либо другом. В то
время как молодые приверженцы романтизма большей частью
жили в Йене и лично обменивались своими воззрениями, и эта
натурфилософия пришла в соприкосновение со стремлениями
романтической школы. Какие же мотивы лежали в ее основе и как
развивались убеждения ее основателя?
Учение Шеллинга не может быть изложено иначе, как в своем
постепенном развитии и на основании тех сочинений, в которых
он производил свои научные исследования, так сказать, перед
глазами публики, переходя с одной точки зрения на другую.
С другой стороны, следует заметить, что только недавно
напечатаны, на основании подлинных документов, отрывок из биографии
Шеллинга, обнимающий только его детство и юношество, и
несколько писем с биографическими указаниями1; но эти издания
лишь изредка бросают новый свет на внутреннюю историю
философских открытий и воззрений Шеллинга, на те влияния, плодом
которых были юношеские произведения философа. Поэтому и на
нашем изложении будут отзываться, с одной стороны, избыток
сведений, с другой стороны, их недостаток.
1 «Aus Schelling's Leben. In Briefen». Τ. Ι (1775—1803). Лейпциг, 1869, издание
Плитта. Там же на с. 282 и ел. в первый раз напечатан полный текст Видерпорста.
Он указывает на некоторые небольшие варианты в тех отрывках стихотворения,
которые были напечатаны самим Шеллингом («Журнал для спекулятивной
физики» I, 2, с. 152 и ел. и по списку опечаток II, 1, с. 155 исправлены в полном
собрании сочинений IV, 546). Вышеприведенные цитаты из писем Шеллинга к
А. В. Шлегелю см. на с. 345 (и 375). Из изложений философии Шеллинга самое
согласное с документами то, которое находится в отд. 2, том III известного
сочинения Эрдманна; изложение Куно Фишера скоро будет издано. Публичные
лекции, которые читал о Шеллинге Розенкранц в Данциге в 1843 году, очень
поверхностны. Книга Ноака («Schelling und die Philosophie der Romantik»: [B 2
п.]. Берлин, 1859) хотя и достаточно богата содержанием, но по причине грубого
тона своей полемики не достигает ни цели научного изложения, ни цели критики.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
519
Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг был самым молодым из
всех основателей и первых представителей романтического
направления. Он родился 27 января 1775 года в Леонберге, в вюр-
тембергских владениях, поэтому был восемью годами моложе
А. В. Шлегеля, семью годами моложе Шлейермахера; его земляк,
Гельдерлин, был старше его пятью годами, Гарденберг и Фр. Шле-
гель — тремя, Тик — двумя. Но Шеллинг сравнял это различие
в годах благодаря чрезвычайно быстрому развитию своего ума.
На втором году после его рождения его отец был переведен из
Леонберга, где занимал должность пастора, в Бебенгаузен, куда
был назначен на должность профессора местной монастырской
школы; там молодой Шеллинг так хорошо учился, что в десять
лет был отправлен в качестве образцового воспитанника в Нюр-
тингенскую латинскую школу; но уже по прошествии полутора
лет его пришлось удалить из этой школы, потому что она не была
в состоянии давать его уму необходимую пищу. Его отцу не
оставалось ничего другого, как взять снова в Бебенгаузен не по летам
развитого мальчика и заставить его учиться вместе с
семинаристами, которые были гораздо старше его. Он стал делать быстрые
успехи в науках под непосредственным надзором и руководством
своего отца, который был очень учен и в особенности основательно
знал восточные языки. Так как он хорошо владел древними
языками и, кроме того, изучил еврейский язык, то его богато
одаренный ум скоро сделался способным заниматься и другими
научными задачами. Вместе со знанием, конечно, увеличивалось и
его самомнение. Так как он постоянно был моложе всех других
учеников и постоянно занимал между ними первое место, то он
смотрел на своих товарищей с гордостью, с насмешливостью и с
презрением. То же повторилось и в университете. Осенью 1790
года, когда ему еще не было шестнадцати лет, отец отвез его к
своим приятелям, тюбингенским профессорам, и по случаю его
приема в университет назвал его «praecox ingenium»
(предвестник гения. —Прим. науч. ред.); молодой ученый скоро публично
оправдал это название. Но тем, кто надеялся со временем найти
в нем опору для вюртембергской церкви, пришлось скоро
разочароваться. Хотя молодой Шеллинг и ревностно занимался
изучением филологии, хотя он, подчиняясь влиянию ученого Шнуррера,
серьезно занимался восточными языками и толкованием
Священного Писания, но эти занятия очень скоро нашли опасную для себя
соперницу в философии. Тюбингенские профессора, конечно, не
520
Р. ГАЙМ
были виноваты в том, что он еще до поступления в университет
лакомился философскими сочинениями и читал Лейбница, а в
течение первого полугодия своих университетских занятий прочел
извлечения Шульце из кантовской «Критики чистого разума».
Поэтому ему не могла приходиться по вкусу хотя и отзывавшаяся
рационализмом, но основанная на вере в Библию ортодоксия тю-
бингенского догматика Шторра. И дух критики и обновления,
которым были пропитаны произведения Лессинга, Гердера и Канта,
и указанный Французской революцией пример смелого
ниспровержения устарелых порядков, и влияние близкого знакомства с
греческой древностью — все это, вместе взятое, побуждало
Шеллинга и его друзей не стесняться рамками старой теологии. Гегель
и Гельдерлин разделяли горячее сочувствие Шеллинга к юной
французской свободе, к гуманизму греков, к освободительным
подвигам немецкой критики и философии. Но именно самый
молодой из трех университетских друзей, Шеллинг, первый сумел
придать этому направлению умов научную основу и вывести из
него результаты, применимые к теологической сфере. Со второго
года его пребывания в Тюбингене его ученые занятия
направлены на философско-историческую критику Библии. Чтобы
получить звание магистра, которое требуется от стипендиатов Тю-
бингенского университета в конце второго года их университетских
занятий, он написал «диссертацию о рассказе Книги Бытия о
грехопадении»1. Цитаты в этой диссертации свидетельствуют о
близком знакомстве ее автора как с экзегетикой, так и с
произведениями Канта, Лессинга и, в особенности, Гердера. Здесь Шеллинг
становится на самую прогрессивную точку зрения, на
еретическую точку зрения нового богословия и усваивает мифическое
воззрение Гердера на начало библейского рассказа. Он смотрит
на рассказанную в Книге Бытия историю грехопадения как на
облеченную в историческую форму попытку объяснить
происхождение зла в роде человеческом. Здесь обнаруживается такой ум,
который умеет находить в поэзии привлекательность для
философа, а в философии — привлекательность для поэта; но уже
теперь в нем заметно сочувствие к направлению романтической
школы. Достоин внимания и тот факт, что Шеллинг, начавший свою
1 «Antiquissimi de prima malorum humanorum origine philosophematis Gen. Ill
explicandi tentamen criticum et philosophicum» в полном собрании сочинений 1,1
и ел.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
521
литературную деятельность объяснением одного мифа, окончил
ее по прошествии полустолетия философией мифологии. Даже
Штраусе, также воспитывавшийся в Тюбингенском
университете, ссылается в предисловии к своей «Жизни Иисуса» на
семнадцатилетнего студента, как на своего предшественника. Впрочем,
эта ссылка относится не к упомянутой выше магистерской
диссертации, а к статье, находящейся в непосредственной связи с
этой диссертацией. Эта вторая литературная работа Шеллинга
носила заглавие «О мифах, исторических легендах и философских
системах Древнего мира»; она была напечатана в пятом номере
«Memorabilien» Паулуса 1793 года1. Автор задается вопросами:
что такое миф, как он возникает, по каким признакам он
узнается? Какие различия замечаются в мифах как по содержанию, так
и по форме? На эти вопросы автор иногда отвечает
приукрашенным риторикой живым слогом Гердера. Наряду с влиянием Гер-
дера заметно и влияние Гейне. Автор придает важное значение
различию между мифической историей и мифической
философией, но ему не удается провести между ними достаточно ясную
пограничную черту. Он переходит от Ветхого Завета к Новому, от
первоначальной истории человечества к первоначальной истории
христианства. Летом 1793 года он был занят обработкой целого
ряда статей, для которых должна была служить темой
критическая проверка истории жизни Иисуса и века апостолов. В
дошедшем до нас написанном начерно предисловии2 Шеллинг
развивает понятие о настоящем историческом объяснении какого-либо
рассказа; он говорит, что такое объяснение должно быть
основано на знакомстве с той эпохой, в которую возник рассказ, и что
оно представляет противоположность с односторонним
грамматическим объяснением, которое не опирается на знакомство с
историческими условиями данной эпохи; с другой стороны, он очень
положительно утверждает, что применение того правильного
способа объяснений к Библии имеет целью «разъяснить психолого-
философски происхождение и содержание теологических понятий»
и этим способом предотвратить торопливый догматический
априоризм и «философско-теологический синкретизм». Это, очевидно,
была такая же тенденция в области теологии, какую
обнаруживал в области эстетики А. В. Шлегель в начале своей литератур-
1 Теперь в полном собрании сочинений I, 41 и ел.
2 «Aus Schelling's Leben» I, 39 и ел.
522
Р. ГАЙМ
ной деятельности, но только с большей независимостью от
философских основ; а оба они шли по стопам Гердера и Гейне. Из того,
как Шеллинг исполнил этот план, ничто не появлялось в печати.
Но в руках его биографа находился по меньшей мере один
отрывок из задуманного сочинения — комментарий к истории детства
Христа; отсюда нам известно, что юный критик намеревался
рассматривать эту историю не как мифическое сказание, а как
легенду, и предварительно старался доказать, что, ввиду способа
составления Евангелий, в их состав могли попасть легенды.
Наконец, к числу этих критико-исторических трудов
принадлежит и статья «De Marcione Paulinarum epistolarum emendatore»1,
которую Шеллинг написал в июне 1795 года по поводу сдачи
теологического экзамена и которую он публично защищал. Но это
был лишь поздний плод таких ученых исследований, которые он
уже давно променял на занятия совершенно иного рода. Его ум
принял то направление, которое было указано его врожденными
наклонностями. С весны 1794 года философия оттеснила на
задний план исторические исследования. Юный магистр писал 5
января 1795 года своему другу Гегелю, жившему в то время в Берне
в звании домашнего учителя, что уже около года тому назад
изучение теологии сделалось для него побочным занятием и что он
теперь живет философией. До той поры его интересовали только
исторические исследования о Ветхом и Новом Завете и о первых
веках христианства, но с некоторого времени и они перестали
интересовать его. «Кто же, — писал он далее, — захочет
зарыться в пыли древности, когда события его собственного времени
ежеминутно возбуждают его внимание и увлекают его вслед за
собою?»2 В этих словах сказывается энтузиазм юноши,
стремящегося вперед, увлекающегося полными жизни стремлениями
своего времени и старающегося по мере возможности ранее других
удовлетворить эти стремления. Историческая критика уже
кажется ему недостаточным орудием для борьбы с «философско-теоло-
гическим синкретизмом»; он с нетерпением стремится занять
передовой пост для того, чтобы достигнуть более скорых и более
решительных результатов. В Тюбингене он живет в такой сфере,
где тот синкретизм находится в полном цвету. Учение Канта
усердно применялось в то время к теологии, в особенности в лагере
1 Теперь в полном собрании сочинений I, 113 и ел.
2 «Aus Shelling's Leben» I, 71 и ел.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
523
богословов. Практические постулаты Канта в связи с его
учением о значении нравственности были в то время золотым мостом,
проходя по которому супернатурализм придавал себе
рациональный отпечаток, а рационализм — кажущееся сходство с учением
церкви. Чтобы уничтожить этот компромисс между разумом и
отрицанием разума, это некритическое практическое применение
критической философии, юный Шлейермахер встал на почву
этики. К той же цели стал стремиться юный Шеллинг с большей
страстностью, придерживаясь более возвышенных принципов с
точек зрения метафизики. Он ежедневно видел, что великий
философский переворот, принципы которого он усвоил посредством
изучения произведений Канта, мог сделаться совершенно
бесплодным, что умственная леность, недобросовестность и
консерватизм старались извратить смысл этого переворота и сделать его
безвредным для себя. Негодование, которое возбуждали в нем
эти факты, выразилось без всяких стеснений в упомянутом выше
письме к его другу Гегелю. Он с желчной насмешливостью
говорит о «практическом тюбингенском разуме», который разрубает
узлы там, где теоретико-исторические доказательства
оказываются недостаточными для подкрепления истины догматов. О
ежедневно увеличивающейся толпе мнимых последователей Канта он
говорит: «Они заимствовали от системы Канта (само собой
разумеется, от ее внешней оболочки) несколько составных частей, из
которых изготовили tanquam ex machina, такие крепкие
философские соусы для quemcunque locum theologicum, что теология, уже
начинавшая страдать чахоткой, скоро сделается более здоровой,
чем когда-либо!».
Но к надежде положить конец этому злоупотреблению
философией присоединился интерес, с которым Шеллинг следил
за развитием учения Канта. Он «жил философией» главным
образом потому, что она в то время была самой быстро
развивавшейся из всех наук. В то время Фихте сделал из нашего «Я»,
из живого акта самосознания средоточие философии, а с этой точки
зрения готовился переработать философию в целую систему.
Но юный Шеллинг, постоянно следивший за тем направлением
умов, которое вело к прогрессу, ясно высказал ту мысль, на
которую Фихте сначала только намекнул, предполагая развить ее
впоследствии. Шеллинг прежде всех понял Фихте; он был
первым последователем и истолкователем учения самого
радикального из всех последователей Канта.
524
Р. ГАИМ
Свой принцип, заключающийся в понятии о нашем «Я», Фихте
в первый раз высказал понятным для каждого образом в начале
1794 году, в помещенной в йенской литературной газете
рецензии на статью гёттингенского скептика Шульце «Aenesidemus»,
написанную против учения Канта. Получив назначение в Йену, он
тотчас приступил к обработке этого принципа. В том же году он
издал небольшое сочинение, которое должно было служить чем-
то вроде программы для изложения системы, основанной на том
принципе. Под заглавием «Касательно понятия о теории знания,
или О так называемой философии» он доказывал, что философия
должна исходить из высшего, непосредственно достоверного,
служащего само для себя основой положения, содержание которого
определяется его формой, а его форма — его содержанием. Это
было чем-то вроде гипотетического изложения и можно было
только догадываться, что все вышеупомянутые требования
исполняются основным положением «Я существую». Но для
Шеллинга, еще не достигшего двадцати лет, это было достаточным
поводом для торопливого напечатания такой статейки, которая,
если бы его не предупредил Фихте, заставила бы думать, что не
кто другой, как он, создал теорию знания. Эта статейка была его
первым философским произведением; она была окончена 9
сентября 1794 года и носила следующее заглавие: «О возможности
формы для философии вообще»1. Это та же самая тема, на
которую было написано сочинение Фихте. Читая предисловие, можно
подумать, что автор уже давно думал то же, что Фихте, и что он
нашел в сочинении этого последнего лишь подтверждение своих
самостоятельно сложившихся воззрений. То было понятным
самообольщением со стороны сметливого юноши, что он считал
усвоенные им чужие идеи за свои собственные. Он уже
правильнее выражался в письме, при котором препроводил свою
статейку к Фихте2; здесь он признавался, что его статейка была
написана «преимущественно» по поводу сочинения Фихте и «отчасти
вызвана этим сочинением», открывавшим для философии новую
великую будущность. В этом признании, очевидно, заключалась
правда. Молодой человек чувствовал потребность разъяснить для
себя сущность идей, изложенных Фихте. В то время как он вду-
1 Она теперь напечатана в полном собрании сочинений I, 85 и ел.
2 От 26 сентября 1794 года (в философской переписке Фихте с Шеллингом,
с. I); это письмо было перепечатано в биографии Фихте и в его литературной
переписке II, 296.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
525
мывался в эти идеи, из-под его пера выросла статья, с которой он
имел смелость выступить перед публикой. Она не что иное, как
повторение идей Фихте; она относится к сочинению Фихте точно
так же, как работа школьника относится к работе профессора.
Сочинение Фихте гораздо более зрело, ясно, основательно и в
дидактическом отношении искусно написано. Напротив того,
сочинение ученика имеет одно решительное преимущество. Фихте
еще не сказал ничего определенного о содержании задуманной
им системы. А у Шеллинга это содержание уже было в голове1;
он совершенно положительно утверждает, что тот высший
основной принцип, о котором говорит Фихте, не может выглядеть
иначе, как следующий: «Я есть Я», — потому что только «Я» имеет
основу в самом себе. Из этого первого положения выводится
второе: «Не Я не есть Я» — и далее третье положение, в котором
противоположность между «Я» и «не Я» исчезает в «Я» и из
которого следует выводить всю теорию сознания. Далее Шеллинг
старается выяснить, какие могут быть сделаны выводы из этого
принципа. Здесь снова слышатся отзвуки фихтевской рецензии на
«Aenesidemusa», когда Шеллинг говорит, что если наука будет
иметь дело только с тем, что есть продукт нашего «Я», то
прекратятся все толки об объективных доказательствах бытия Бо-
жия и об объективном существовании бессмертия. Далее он
придерживается намеков Фихте в вышеупомянутой рецензии, когда
это новое воззрение на смысл кантовской философии
сопоставляет с философией Лейбница. В связи с этим он заводит речь о
Декарте и о Спинозе и уже здесь обнаруживает ту способность к
быстрым комбинациям, которая придавала такую
привлекательность его позднейшим сочинениям и его собственным идеям. Все
сочинение кончается попыткой вывести кантовские категории из
вышеприведенных трех основных положений; хотя и в этом
отношении его предупредил Фихте, тем не менее он и здесь
оказывается таким дальнозорким мыслителем, который умеет излагать
усвоенные им чужие идеи в новых разнообразных применениях.
Но чтобы вполне охарактеризовать это первое произведение
философа Шеллинга, мы должны заглянуть в его последние страни-
1 Биограф Шеллинга (I, 54, 58) допускает возможность того, что Шеллингу
были показаны и первые листы «Основных начал науки». На основании письма к
Гегелю (I, 73) я отношу к более позднему времени знакомство Шеллинга с этим
сочинением. Неверно мнение, будто Шеллинг сам упоминал (1,59) в своем
сочинении о «Grundlage» Фихте.
526
Р. ГАЙМ
цы. Из них видно, с каким увлечением занимался юноша этими
отвлеченными и, по-видимому, безжизненными исследованиями.
Он полон радостных чувств при мысли, что «единство знания,
веры и воли может быть достигнуто всяким, кто достоин
услышать голос правды». Уже в то время нередко слышались жалобы
на то, что философия имеет мало влияния на волю человека и
вместе с этим на судьбу всего рода человеческого. Этим
недовольным отвечает Шеллинг в последних строчках своего сочинения.
Он говорит, что влияние философии было слабо, пока она была
наукой, подвергавшейся частым колебаниям и вызывавшей
недоверие к себе. Но теперь для нее найден неразрушимый
фундамент: «Ищите те признаки, по которым узнается вечная истина,
ищите ее в самом человеке прежде, чем призывать ее с небес на
землю в ее божественном образе! Тогда вам само собою
достанется все остальное!».
Между тем Фихте старался своими университетскими
лекциями построить систему знания на новом фундаменте. По мере
того как подвигались вперед его лекции, он печатал их краткое
изложение для своих слушателей. Еще в течение зимнего
семестра 1794/95 года Шеллинг успел добыть это печатное
руководство или по меньшей мере его первые листы. Они так сильно
воспламенили его рвение, что он перешел от чтения к изложению
собственных идей, от роли ученика к роли наставника. В
«Основных началах науки» Фихте излагал свою новую систему с
величайшей добросовестностью. С самой строгой
последовательностью, со схоластико-дидактической мелочностью подробностей
он старался доказать, что как все наши понятия, так и основа
всякого нравственного долга проистекают из нашего «Я», что это
«Я» есть общий принцип как теоретической, так и практической
философии. Это лежащее в основе всякой духовной деятельности
«Я» он назвал «абсолютным „Я"». По словам Фихте, это
«абсолютное ,,Я"» есть конечный идеал, к которому человечество
должно стремиться в своей нравственной деятельности, но которого
оно никогда не будет в состоянии достигнуть.
Молодой Шеллинг быстро освоился со смыслом этого учения
и тотчас попытался изложить его по-своему. Он покуда отложил
в сторону стоившее Фихте так много труда объяснение сознания
теоретического и практического. Он остановил свое внимание
на средоточии новой системы, на ее главной идее и написал в
начале 1795 года свое второе философское сочинение «О нашем „я"
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
527
как о принципе философии, или О безусловном в человеческом
знании»1.
Уже сам автор «Основных начал науки», приводя в систему
кантовскии критицизм, мечтал о такой же последовательности
и цельности, какими отличалась система Спинозы. Если бы было
возможно выйти за пределы принципа «Я существую», то, даже
по мнению Фихте, получилась бы превосходная система,
исходящая из высшего единства всех вещей, из понятия о Боге или о
субстанции. И дальнозоркий Шлейермахер пытался найти связь
между учением Канта и учением Спинозы. От Фихте к Спинозе
переход был легче, потому что эти два философа были прямо
противоположны один другому. Шеллинг со своей стороны
попытался измерить расстояние между ними и в виде пробы
переходил с точки зрения одного из них на точку зрения другого.
Поэтому он усердно вчитывался в этику Спинозы. Подобно
своему другу Гельдерлину и подобно Гегелю, он восхищался
успокоительной ясностью этой книги. Уже в своем первом
небольшом сочинении он имел в виду Спинозу; а в экземпляр того
сочинения, отправленный им в подарок другу Пфистеру, он
вписал цитаты из сочинений Спинозы. А теперь, в то время как он
приветствовал в лице Фихте философа, которому было
предназначено довершить дело Канта, он постоянно имел в виду
систему Спинозы как настоящий идеал системы. После получения
«Основных начал науки» он писал Гегелю: «Я теперь работаю
над этикой à la Spinoza... я буду счастлив, если буду одним из
первых приветствовать нового героя Фихте в стране истины».
Но на него производила впечатление система Спинозы не
только законченностью своей формы, но также своим пантеизмом в
противоположность и деизму Лейбница, и тем
подделывавшимся под учение Канта теологам, которые не извлекали из этого
учения ничего кроме новых доказательств существования их
личного Бога. Гегель обратился к нему с вопросом,
сомневается ли он в возможности доказать существование
индивидуального, личного Бога. В письме от 4 февраля 1795 года Шеллинг
отвечает: «Мы заходим еще далее существования личного
Высшего Существа» — и затем объясняет, в каком смысле он
сделался последователем Спинозы2.
1 Теперь оно напечатано в полном собрании сочинений I, 149 и ел.
2 «Aus Schelling's Leben» I, 76, 77.
528
Р. ГАЙМ
Именно этому объяснению и посвящено сочинение «О „я",
как о принципе философии». Это еще не этика à la Spinoza,
которую намеревался написать Шеллинг, а только программа или рамки
для такой этики. Здесь повторяются метафизические идеи
учения Спинозы в том виде, в каком они представляются с точки
зрения «Основных начал науки». Юный автор в самом начале
сочинения устанавливает различие и противоположность между
принципом Фихте и принципом Спинозы. Речь идет о конечной
основе реальности всякого знания. Поэтому необходимо отыскать
нечто такое, что ничем не обусловлено. Но ничем не обусловлено
«unbedingt», в сущности, может быть только то, что не может быть
мыслимо как вещь, потому что обусловить («bedingen») значит
«сделать вещью» («zum Ding machen»). Не может быть сделано
вещью («Ding») только абсолютное «Я», потому что только оно
может реализоваться само собой. Поэтому абсолютное «Я» есть
истинное безусловное, есть истинный принцип философии.
Спиноза очень хорошо понимал, что точкой исхода должно служить
безусловное; его ошибка заключалась только в том, что он искал
безусловное не там, где следовало, и сделал его вещью, поставив
его вне нашего «Я». Поэтому его философия есть догматизм и
даже законченный догматизм, между тем как философия,
полагающая, что безусловное заключается в абсолютном «Я», есть
законченный критицизм. Помимо этой существенной ошибки,
Спиноза охарактеризовал безусловное как образцовый образец.
Он, сам того не сознавая, охарактеризовал абсолютное «Я»;
потому что только к абсолютному «Я», в сущности, относится все,
что он говорит о субстанции. Поэтому Шеллинг уже заранее
предвкушает наслаждение, с которым он будет обрисовывать
абсолютность нашего «Я» красками субстанции Спинозы, хотя он и
знает, что это «Я» не существует, а есть только цель, к которой
следует стремиться бесконечно. Он даже употребляет
терминологию Спинозы. Он говорит об атрибутах абсолютного «Я»
языком великого философа. По его мнению, к абсолютному «Я»
относятся слова Спинозы, что субстанция заключает в себе все
реальное; к абсолютному «Я» относятся слова Спинозы, что
субстанция беспредельна, неделима, неизменяема. Абсолютное «Я»
есть субстанция в самом высоком смысле этого слова. В нем
философия нашла свое настоящее εν χάι παν. Короче говоря, все,
что Спиноза приписывает своему абсолютному, переносится
Шеллингом на абсолютное философии Фихте. Это сопоставление
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
529
учения Фихте с учением Спинозы прекращается только тогда,
когда Шеллинг переходит во второй части своего сочинения к
практической проблеме, к нравственной стороне учения Фихте. В
противоположность учению Спинозы, Фихте отстаивал гордое
сознание человеческой свободы. Что Шеллинг ясно сознавал это
нравственное значение новой философии, видно уже из
предисловия к его сочинению. Он видит в этой философии не только
реформу, но революцию в сфере знания. Ее сущность — дух, а не
формулы, не мертвая буква. Ее высший предмет не то, что приобретается
через посредство размышлений, а то, что непосредственно
присуще человеку. Она задается смелой задачей дать свободу
человечеству и устранить страх, внушаемый объективным миром. Она
дает силу тем, кто впал в усыпление, внушает мужество и
самоуверенность тем, кто упал духом. Ее назначение — соединить все
человечество под одним законом свободы и направить его
практически к одной общей цели.
В этих горячих похвалах новой философии есть только один
странный пробел: молодой писатель, в сущности только
объяснявший учение Фихте, ссылается на него только один раз в
своем предисловии, но во всем сочинении ни разу не называет его
имени. Это еще более странно потому, что он ссылается на Бека
и на Рейнгольда, а о гениальности Канта говорит с самым
пылким увлечением. Он был учеником Фихте, однако делал вид,
будто излагает только свои собственные идеи, будто он далее
развил философию Канта до таких смелых выводов. Разве этот
молодой человек действительно заходит так далеко в своем
самообольщении? Разве Фихте был прав, когда добродушно
заметил, что Шеллинг только хотел приписать ему некоторые ошибки,
которые не были его собственными? Конечно, нельзя допустить
ни того ни другого. Но мы не ошибемся, если скажем, что так
как не было возможности вырвать из рук Фихте пальму
первенства, то Шеллинг старался по мере возможности занять рядом
с ним равное место.
Как бы то ни было, а Фихте умел ценить искусного и
даровитого комментатора своих сочинений. Издатель только что
основанного в Иене «Философского журнала», Нитгаммер, к которому
вскоре присоединился и Фихте в качестве соиздателя, пригласил
Шеллинга в число сотрудников, а этому приглашению мы
обязаны рядом статей, в которых Шеллинг объяснял и отстаивал
идеализм «Основных начал науки».
530
Р. ГАЙМ
Первая из этих статей, появившаяся в «Философском журнале»
в 1795 году без имени автора и написанная если не ранее статьи
«О „я"», то непосредственно вслед за нею, бесспорно,
принадлежит к числу самых остроумных и изящных произведений
Шеллинга. Она носит заглавие: «Философские письма о догматизме и
критицизме»1. Эти «Письма» снова переносят нас в тюбингенскую
сферу, потому что в них на первом месте стоит полемика против
тех последователей Канта, которые стараются согласовать учение
этого философа с теологией и на которых Шеллинг уже ранее
постоянно нападал в своих письмах к Гегелю. Шеллинг доказывает,
что система этих людей не кантовская и вообще не философская,
что это не что иное, как жалкая попытка низвести учение Канта
на один уровень с установленными формулами и со скучными
пасторскими проповедями. Правильно понимаемая система
Канта, говорится далее, не есть «система слабого разума»; это не
такая система, которая на основании доказанной недостаточности
разума дозволяла бы каждому верить в сверхчувственное столько,
сколько ему хочется. Она основана не на одних только свойствах
нашей познавательной способности, а также на всей нашей
врожденной натуре. Кант был вынужден начать с критики
познавательной способности только потому, что главным образом он имел
в виду борьбу со слепым, не признающим критики догматизмом.
Поэтому хотя повод для тех ложных толкований и был подан
«Критикой чистого разума», но виной их было до сих пор еще не
прекратившееся господство догматизма, «который своими развалинами
все еще держит в плену сердца людей». От ложного понимания
учения Канта «Письма» переходят к объяснению его настоящего
смысла, а после того излагают основную мысль сочинения
«О „я"». Этот правильно понимаемый кантианизм, то есть
учение Фихте, гораздо ближе к догматизму, то есть к учению
Спинозы, чем та неясная полуфилософия с разными примесями. И
учение Фихте, и учение Спинозы разрешают одну и ту же проблему,
которая не заключается в объяснении безусловного, абсолютного
и вообще божества, потому что о безусловном невозможен ника-
1 Из «Философского журнала» (1795, II, с. 3 и III, с. 3) она была
перепечатана в философских сочинениях Шеллинга 1,115 и ел., а теперь помещена в полном
собрании сочинений 1,281 и ел. Для определения времени, когда она была
написана, сравн. письмо Шеллинга к Гегелю от 21 июля 1795 года («Aus Schelling's
Leben» I, 80) и письмо Шеллинга к Фихте от 3 октября 1801 года («Fichte's
Leben» I, 353).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
531
кой спор. Напротив того, проблема всякой философии
заключается в определении отношений условного к безусловному; она
может быть разрешена только практически, только нами самими
посредством свободы. Вопрос в том, как может конечное
возвышаться до бесконечного, как мы сами можем возвышаться до
бесконечного? Этот вопрос может быть разрешен только двумя
способами. Один способ приводит нас к учению Фихте, другой —
к учению Спинозы. Догматизм этого последнего гласит: нет
никакого перехода от бесконечного к конечному, от Бога к миру;
и мир, и мы сами не что иное, как случайные видоизменения
беспредельной субстанции. Но практический смысл этого учения,
положительно выраженный Спинозой в этике, заключается в
нравственном требовании: откажись от своего собственного «Я»,
относись сострадательно к беспредельному могуществу Божества!
Таков догматизм. Критицизм, или учение Фихте, соприкасается
с догматизмом в том, что касается конечной цели. Он, в сущности,
также требует исчезновения в бесконечном. Он отличается от
догматизма тем, что конечную цель считает за предмет нашего
предназначения, за бесконечную задачу. Стало быть, здесь
различие заключается в практическом смысле, который сводится к
требованию: старайся реализовать в себе самом безусловное не
бездействием, а посредством неограниченной деятельности.
Согласно с критицизмом, наше назначение заключается в
стремлении к неизменяемой индивидуальности, к безусловной свободе, к
неограниченной деятельности. Высшее теоретическое основное
положение критицизма гласит: «Я существую». Но оно это гласит,
потому что высшее требование критицизма заключается в
следующем: «Существуй! Старайся не себя приближать к Божеству,
а Божество приближать к себе до бесконечности!».
Не подлежит сомнению, что автор «Философских писем»
стоял, по своим личным воззрениям, на стороне Канта. Ведь, по его
мнению, «последняя надежда на спасение человечества»
заключается в том, что человек наконец начинает искать в самом себе
то, что он так долго искал в объективном мире. Но несмотря на
красноречие, с которым Шеллинг говорит о человеческой свободе,
он местами обнаруживает сочувствие к более мягкому тону
учения Спинозы. Он начинает увлекаться той идеей, над которой
задумывался и Шлейермахер, — идеей о совпадении
нравственности с благополучием. Наконец, он делает то, что никогда не могло
прийти в голову Фихте: он оценивает различные мировоззрения по
532
Р. ГАИМ
их эстетическим достоинствам. Он с увлечением говорит об
эстетической стороне следующего правила, которое проповедуется
догматиками: «Покойся в объятиях мира». Он также с
увлечением развивает воззрение, лежавшее в основе греческой трагедии,
что есть беспредельная объективная сила, но бороться с ней
значит идти на гибель. Вообще можно сказать, что здесь
обнаруживаются такие эстетические влечения, которых было не в
состоянии удовлетворить учение Фихте своим абстрактным морализмом
и своим стремлением к беспредельной свободе. А в этих
влечениях и заключалась та причина, которая побудила нашего
философа перейти от чистого учения Фихте к более поэтическому
мировоззрению, к такому, которое было в духе романтизма.
Шеллинг начал предварительными рассуждениями о форме
философии; затем он стал объяснять принцип настоящей
философской системы, принцип абсолютного «Я», приукрашивая его
идеями Спинозы; между тем он старался в своих «Философских
письмах» доискаться подоплёки идей, изложенных у Фихте и у
Спинозы. Теперь он пошел еще дальше. Он стал освещать новое
учение со всех сторон, стал с его помощью критически освещать
другие философские точки зрения и, наконец, стал применять его
принцип к конкретным вопросам.
Таким применением он занялся в статье, написанной также
как и «Философские письма» в 1795 году, но напечатанной в
«Философском журнале» гораздо позже; здесь он в целом ряде
коротеньких параграфов пытается дать нам «Новое объяснение
естественного права»1. К теории права вообще и к теории
государственного права в особенности его привлекали современные
события, — сделанная Французской революцией попытка
заменить исторически развившееся право таким, которое было
основано на чистом разуме; к этому же побуждал его дух кантовско-
фихтевской философии, которая, в сущности, носила не только
революционный, но и специфично юридический отпечаток.
Поэтому вовсе неудивительно, что Шеллинг, увлекавшийся2 фихтевским
требованием восстановления свободы мышления столько же,
сколько и «Основными началами науки», взялся за разработку
проблемы естественного права. Но также вовсе неудивительно,
1 Год 1796-й, № 4, и год 1797-й, № 4; теперь она напечатана в полном
собрании сочинений 1,245 и ел.
2 К Гегелю [от] 5 января 1795 года («Aus Schelling's Leben» I, 74).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
533
что при своей врожденной склонности к поэзии и при полном
отсутствии юридических способностей, он не имел успеха на этом
поприще. Его «Новое объяснение» наполнено сухим
формализмом, который резко отличается от воодушевления и от свежести
других его произведений. Ни в чем еще он не был менее нов и
оригинален. Когда его статья была напечатана через полтора года
после того, как была написана, Фихте уже иначе разрешил ту же
задачу в своих «Основных началах естественного права». Поэтому
ему уже никогда более не приходила в голову мысль вступать со
своим наставником в соперничество в такой сфере, в которой он
не мог надеяться занять первое место. И его честолюбие, и его
врожденные влечения и дарования заставляли его с течением
времени все решительнее отказываться от практической философии.
Он написал целый ряд других статей, в которых был
совершенно в своей сфере. Издатели «Философского журнала»
пригласили его доставлять им критические обзоры современной
философской литературы. Он охотно принял это предложение, но
заявил, что не будет входить в подробный разбор литературных
произведений, а будет лишь писать характеристики того
направления, которое господствует в современной философии и в
находящихся с ней в связи науках. Он не строго придерживался этого
правила, но написал более того, что обещал. Из того, что было им
напечатано в 1797 году в номерах с пятого по восьмой
«Философского журнала» под заглавием «Общий обзор новейшей
философской литературы», впоследствии он издал самое интересное под
более подходящим к содержанию заглавием: «Статьи,
написанные в объяснение идеализма „Основных начал науки"»1. В этих
статьях он самостоятельно далее развивал учение Фихте и
философствовал в духе «Основных начал науки».
Автор начинает свои статьи самыми резкими выходками
против толпы дюжинных последователей Канта. Он громко и
торжественно объявляет войну всем представителям
посредственности, пошлости, недобросовестности. Едва ли и сам Фихте позволил
бы себе выражаться с такой заносчивостью. Шеллинг доходит
до язвительных насмешек, когда ему приходится говорить о «Dii
minorum gentium» (божествах младшего рода.—Прим. науч.
1 Это заглавие мы находим в философских сочинениях 1809 года I, 201 и
ел. Эти статьи были полнее перепечатаны в полном собрании сочинений I, 343
и ел.
534
Р. ГАЙМ
ред.), о популярных философах или богословах, удовлетворяющих
свои умственные потребности несколькими крохами, которые им
удается вымолить у Канта.
Оставляя в стороне чисто полемическое содержание статей
Шеллинга, мы находим в них доказательства существенного
тождества между «Основными началами науки» и кантовской
критикой. По мнению Шеллинга, учение Фихте есть очищенное
от неизбежных изворотов учение Канта. Подобно хорошо
владеющему языком переводчику, он постоянно приноравливает слова
одного из двух философов к словам другого, постоянно старается
перекидывать летучие мостики для перехода от одной системы
к другой. Ему достаточно небольшой перемены в оборотах речи,
легкого изменения в точке зрения для того, чтобы формулы
Канта сошлись с формулами Фихте. Недаром он рано познакомился с
философией Лейбница. От Лейбница он унаследовал то воззрение,
что все философские системы, действительно достойные этого
названия, проникнуты одним общим духом, который и следует
уловить для того, чтобы не стеснять себя их буквальным смыслом;
он доказывает, что настоящая история философии есть изложение
развития только одной системы разума, которая лежит в основе
всех систем в качестве их первообраза. Согласно с этим
воззрением, он обращается за помощью к другим более старым системам
для того, чтобы приноровить кантовские идеи к идеям Фихте.
Так, например, он ссылается на идеи Платона и Лейбница,
стараясь доказать, что они настолько же верны, насколько верны
соответствующие им воззрения новейшего идеализма. В конце
концов он приходит к заключению, что философия, для которой
главным принципом служит свобода, должна быть непонятна для
тех, кто не в состоянии возвыситься до свободного
самосозерцания. В предпоследней из своих статей он говорит: «Тем
медиумом, через посредство которого люди с умом понимают друг
друга, служит не окружающая их атмосфера, а общая свобода... Если
у человека ум не полон сознания свободы, то для него
прекращается всякая духовная связь не только с другими, но и с самим
собой... Оставаться непонятным для такого человека есть слава
и честь перед Богом и перед людьми: barbarus huic ego sim, пес
taliintelligarullo».
В последней из этого ряда статей Шеллинг переходит к
конкретным вопросам, к применению «Основных начал науки» ко всей
области теоретических и практических знаний. Он объявляет, что
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
535
теперь перейдет от общего к частностям. Он хочет расследовать,
возможна ли философия опыта, применимая к каждой из
составных частей опыта. К сфере опыта относят, с одной стороны,
натуру, с другой — историю. Поэтому Шеллинг считает
необходимыми философию натуры и философию истории. Но, говоря о
философии истории, Шеллинг уже уклоняется от учения Фихте,
который смотрел на практическую философию как на философию
нравственности и права. Этим воззрением он сближается с
учением Канта; он еще решительнее переходит на сторону Канта и
выходит за пределы кругозора Фихте, когда говорит, что к
философии натуры и к философии истории следует прибавить
философию искусства, потому что в искусстве, как уже было замечено
Кантом в его «Критике познавательной способности», натура
соединяется со свободой. Итак, Шеллинг хочет подробно
расследовать, существует ли философия натуры, истории и искусства.
Он начинает с философии истории, критически обсуждая
возможность такой философии, но не доводит это исследование до
конца; его статья прерывается обещанием ее продолжения, после
того как он развил только отрицательную ее сторону, после того
как он объяснил, в каком смысле не может существовать
философия истории1. Продолжения «Общего обзора» не состоялось;
только в особой небольшой статье Шеллинг сделал критический
разбор статьи Нитгаммера об откровении и народном
образовании и доказывал в духе Канта и Лессинга неосновательность
понятия об откровении2. В течение следующих лет он уже ничего
не помещал в «Философском журнале», а продолжение своих
статей, прежде печатавшихся в этом журнале, он стал излагать в
1 Что это было не последним словом Шеллинга, я считаю не подлежащим
сомнению, даже судя только по внешней форме изложения. За поставленным в
заголовке основным положением: «Невозможна никакая история философии»,
очевидно, должны были следовать противоположное основное положение и,
наконец, диалектический вывод, в котором были бы положительно установлены
пределы возможности истории философии. Сколько мне известно, ни один из
наших историков философии не заметил этого факта, откровенно бросающегося
в глаза. Эта статья не была помещена Шеллингом в его философских сочинениях;
ее можно найти в «Философском журнале» ( 1798, VIII, 2, с. 128 и ел.) и в полном
собрании сочинений Шеллинга 1,461 и ел. В подтверждение высказанного мной
в начале этой заметки мнения я могу сослаться на то, что писал Фр. Шлегель
своему брату [№ III от 29 сентября 1798 года].
2 «Философский журнал», 1798, VIII, 2, с. 149 и ел.; теперь в полном
собрании сочинений 1,474 и ел.
536
Р. ГАИМ
особых сочинениях; теперь он стал доказывать возможность
философии природы и даже стал намечать ее основы в статьях:
«Идеи о философии природы», «О душе мира» и «Первый опыт
системы натурфилософии». Это было начало нового, второго
периода в научной деятельности Шеллинга. Это было начало того
периода, во время которого Шеллинг впервые сблизился с
кружком романтиков. Этот период начался 1797 годом и продолжался
до конца 1800 года.
Шеллинг писал свои письма о догматизме и критицизме еще
в то время, как жил в Тюбингене. Летом 1795 года он выдержал
свой теологический экзамен и после непродолжительного
посещения своих родителей поступил в Штутгарте на должность
гувернера двух молодых баронов Ридезелей в доме профессора
Штрёлина. Он принял эту должность в надежде сопровождать
своих воспитанников во время их путешествия по Франции и
Англии. Но проект этого путешествия не состоялся по причине
ожидавшейся войны. Вместо того Шеллингу пришлось сопровождать
его воспитанников в Лейпцигский университет во время Пасхи
1796 года. Из его писем к Гегелю видно1, что он был доволен уже
тем, что распростился с вюртембергской атмосферой, с «отчизною
попов и писак», в которой ему уже давно было тесно; что он мечтал
о приобретении такого самостоятельного положения, которое
доставило бы ему возможность служить своей публичной
деятельностью «доброму делу» свободы и истины. Каким он был
энергичным приверженцем этого «доброго дела», видно из каждой
страницы его путевого дневника2. Его пребывание в Лейпциге и
его обязанности по отношению к его аристократическим
воспитанникам сделались для него приятными с той минуты, как он
убедился в возможности не прекращать и своих собственных
научных занятий. Опираясь на идеалистическую философию,
которая была душой его научной жизни, он перешел теперь из узкой
и бездушной области теологии на вольную почву естественных
наук. Обстоятельства складывались для него так благоприятно,
что он мог заполнить пробелы в своих познаниях. От исполнения
его педагогических обязанностей оставалось много свободного
времени, а Лейпцигский университет имел прекрасных преподава-
1 См. письмо, написанное в январе 1796 года («Aus Schelling's Leben» I, 91
и ел.).
2 «Aus Schelling's Leben» 1, 95 и ел.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
537
телей. Со свойственной ему любознательностью он стал посещать
лекции Гинденбурга по математике и физике. Он, как кажется,
также слушал лекции по химии, а если бы ему пришлось теперь
делать выбор между различными специальными предметами, то
он стал бы изучать только медицину, потому что эта наука, как он
писал в сентябре 1797 года своим родителям, сделала в короткое
время громадные успехи и скоро сделается такой легкой, что тот,
кто посвятит себя ее изучению, может за несколько лет
сделаться в ней знатоком.
Во все времена естествознание было той наукой, которая
сильнее всякой другой толкала философию на новые пути. Из корня
физики выросла древнейшая философия, а Аристотель был в свое
время представителем как высшего пункта в развитии греческой
философии, так и высшего пункта в развитии современного
естествознания. То же мы видим и в последующие времена.
Сбивавшая на теологию средневековая схоластика вышколивала разум,
но не сделала никаких успехов относительно разрешения высших
проблем. Для философии началась новая эпоха только с тех пор,
как в Италии снова пробудились любовь к природе и желание
изучать условия действительной жизни. Вслед за тем Бэкон, вступив
в борьбу с отвлеченностями схоластики, предпринял реформу
научных знаний и указал на «объяснение природы» как на такую
цель, для достижения которой философия дает и средства и
методы. Декарт основывал свое учение на естественных науках и
стремился к объяснению законов природы. Философия Лейбница
получала от естествознания по меньшей мере такие же сильные
импульсы, как и от теологии. Наконец, величайший из
реформаторов, на которых может указать история философии, Кант был
наведен на проблему духовной жизни проблемой естествознания;
выводы его критики принесли пользу не только нравственным,
но и точным естественным наукам. Причина слабости,
односторонности и непрочности фихтевских умозрений заключалась в том,
что эти умозрения развивали только нравственную сущность кан-
товской философии, что они всецело погружались во внутренний
мир, оставляя без всякого внимания мир внешний, — и все это в
такое время, когда повсюду усиливалось стремление к
расширению естествоведения, когда открытия делались одно вслед за
другим, когда едва-едва была основана наука химия, когда возникли
элементы для всех тех важных открытий, которые в наше время
изменили все условия человеческой жизни. То было новым дока-
538
Р. ГАЙМ
зательством философской гениальности Шеллинга, что он с
верным инстинктом понял громадную важность естествознания при
первом знакомстве с ним. Его образование влекло его в
совершенно иную сферу; оно было исключительно философским и
теологическим. Тем не менее он отбросил такую односторонность и
создал для себя новую основу знания и умственного развития.
Точно так же, как при своих первых историко-критических и
философских трудах, он инстинктом угадал, в какой сфере лежали
задатки для богатой будущности. Он понял, что с развитием
естествознания начиналась новая эпоха. Он хотел прежде всех
других, с точки зрения философии, воздать должное новой эпохе и
воспользоваться ее плодами. Учение Канта, получившее более
глубокий смысл при посредстве учения Фихте, и учение Фихте,
дополненное учением Канта, — вот тот философский запас, с
которым он устремляется в поток влечений своего времени к
естественным наукам.
Характеристика этих влечений во всем их объеме есть такая
задача, за которую не в состоянии взяться автор этого сочинения1.
Их общая тенденция заключалась в старании вытеснить
господствовавшее до того времени механическое объяснение явлений
природы. Она объясняется тем, что целый ряд неожиданных
проявлений жизни природы обратил внимание естествоиспытателей
на кроющиеся в недрах самой природы жизненные силы. В
физике всего привлекательнее было открытие электричества: после
создания лейденской банки и после изобретения электрической
машины стали быстро делаться одно вслед за другим
электрические открытия, а в связи с этими открытиями стали создаваться
новые гипотезы. Самое важное из этих открытий было сделано
в 1790 году уроженцем города Болоньи, анатомом Гальвани.
Благодаря самой странной случайности он заметил, что лапы
лягушки, с которых содрана кожа, приходят в сильное содрогание, если
прикоснуться к одному из обнаженных мускулов и к одному из
обнаженных нервов двумя различными металлами, а эти металлы
соединить между собой проволокой. Его земляк Вольта скоро
напал на след причины этого явления, и с этой минуты весь ученый
1 Можно надеяться, что биография Александра Гумбольта, которую
намереваются в непродолжительном времени издать общими силами самые
выдающиеся ученые-специалисты, восполнит недостаток исторического обзора
естествознания в том виде, в каком оно находилось в конце прошлого столетия.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
539
мир стал с напряженным вниманием следить за исследованиями
этого нового вида электричества. В области химии совершился
еще более важный переворот вследствие того, что Пристли открыл
в 1774 году кислородный газ. На основании этого открытия
Лавуазье доказал, что необходимое условие процесса горения есть
кислород, то есть одна из двух составных частей
атмосферического воздуха. Его дальнейшие опыты и исследования получили
окончательное подтверждение благодаря установленному в 1783 году
англичанином Кавендишем факту, что от горения водородного газа
образуется вода. Этими опытами и удачной попыткой разложить
воду на составные части он доказал, что вода состоит из
кислорода и водорода. И в минералогии делались не менее важные
открытия, чем в физике и в химии. В нашей главе о Новалисе мы
уже упоминали о деятельности Вернера во Фрейберге. Он прежде
всех других доказал, как неосновательна была прежняя теория
образования земли, состоявшая из самых ненадежных гипотез.
Хотя и не все его воззрения признаются в наше время
неоспоримыми, но минералогия до сих пор придерживается его метода
исследований и основывается на сделанных им открытиях. И на
органическую природу ученые стали смотреть иными глазами.
Имена Блуменбаха и Кювье обозначают успехи, достигнутые
естественной историей на основании сравнительной анатомии.
Шеллинг был наведен на мысль о сравнительной физиологии
своим земляком, учеником Блуменбаха, другом и школьным
товарищем Кювье, Карлом Фр. Кильмейером. Он говорил, что с
выходом в свет сочинений Кильмейера, занимавшего должность
профессора в Карлсруэ, без сомнения, начнется новая эра в
естественной истории. Сильнее всего его привлекала мысль
Кильмейера о единстве и простоте законов природы. Та же мысль
обратила его внимание на преобразования, которые были введены в
практической медицине теорией шотландца Джона Броуна. Эта
теория, сделавшаяся известной в Германии только в 1790 году,
возбудила там гораздо более сильный энтузиазм, чем на своей
родине.
Само собой разумеется, что вслед за новыми открытиями
создавались новые теории. Можно даже сказать, что склонность к
новым теориям сказывалась в то время гораздо сильнее, чем
теперь. Естествознание находилось в то время в более тесной
взаимной связи с другими науками, чем в настоящее время,
находилось в более непосредственной связи с общим умственным
540
Р. ГАИМ
развитием того времени. Оно еще не пренебрегало помощью со
стороны таких даровитых людей, которые посвятили себя иным
специальным занятиям, а поэты и мыслители еще могли
увлекаться надеждой, что с помощью результатов, добытых
естествоиспытателями, они заставляют человечество сделать новый шаг
вперед на пути прогресса. В то время были в числе
естествоиспытателей и такие люди, которые занимались, кроме
естествоведения, и другими науками, и были такие любители
естествознания, которые находили в этой науке только приятное развлечение,
но тем не менее оказывали ей полезные услуги. Галл ер, Лихтен-
берг, Форстер занимают почти одинаковое место и в истории
естественных наук, и в истории литературы. Все это производило
сильное впечатление на Шеллинга. В своих первых сочинениях
по естественным наукам он много раз ссылался на Лихтенберга.
Другого рода впечатление производил на него Гердер. Эстетико-
этический натурализм этого писателя старался отыскивать
аналогии между натурой и духом, старался одухотворять натуру и
выяснить зависимость духа от естественных условий. Таков был
Гердер и в своих «Диалогах о системе Спинозы», и в своих
«Идеях о философии истории человечества»; хотя Лихтенберг и
считал эти «Идеи» только за кропание в высших науках, но Шеллинг
придавал им более высокую цену. Наконец, в то время жил такой
человек, все величие которого было основано на гармонии между
его натурой и природой. Гёте был великим поэтом, потому что
его творческая деятельность была похожа на творческую
деятельность природы, потому что он и сознательно, и бессознательно
был учеником и любимцем природы, посвященным в ее таинства.
Его научные исследования по естественным наукам находились
в полной гармонии с его поэтическими воззрениями на природу.
В непосредственной связи с естественными науками находилась
и философия Канта. Чтобы применить плодотворные идеи этих
писателей ко всей природе, Шеллинг воспользовался и
«Основными началами науки», и идеалистическим воззрением Канта на
природу и создал из этих воззрений цельную идеалистическую
систему природы. Открытые Кантом законы нашей умственной
деятельности были сведены у Фихте в коренной закон о «Я»,
а Шеллинг вышел за рамки этого «Я» и попытался доказать, что
коренной закон нашего «Я» есть один и тот же с законами природы.
Уже в «Общем обзоре», в этой первой работе, относящейся
ко времени пребывания Шеллинга в Лейпциге, мы можем про-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
541
следить возникновение такого замысла. С самого Введения к этим
статьям высказывается громче прежнего несочувствие автора
к тем, кто, идя по стопам Канта, накладывает на учение этого
философа отпечаток пошлости. Теперь приемы этих людей кажутся
автору еще более низкими, чем прежде, теперь он впервые
окидывает взором всю широту идей, возникающих из знакомства
с естественными науками. Именно в области естествознания и
медицины, говорит он, люди, одаренные философским умом,
сделали без всякого шума такие открытия, которые имеют
непосредственную связь со здравой философией и которые мог бы
собрать в единое целое только тот, кто воодушевляется любовью
к науке: тогда было бы разом изглажено воспоминание о той
печальной эпохе, когда господствовали мнимые последователи
Канта. Автор уже отыскал и твердую опору для соединения всех
открытий в единое целое. Он полагает, что «натура не есть нечто
отличное от законов нашего ума», что она «сама есть не что иное,
как проявление непрерывной деятельности беспредельного ума».
Делая очерк истории самосознания, он постоянно указывает на
то, что различные периоды этой истории отражаются в природе,
как в зеркале. Так, например, он доказывает, что целесообразность
есть самая существенная особенность ума и что, стало быть, ум
есть «природа, которая сама себя организует». Едва успел он
перебросить этот мост для перехода от Канта к Фихте, как уже
пытается перейти от Фихте к натурфилософии. Он говорит: так как
нашему уму присуще беспредельное стремление организовывать
самого себя, то и во внешнем мире должна проявляться общая
тенденция к организации. Это оказывается и на деле: во всей
природе господствует одно и то же стремление «к одному и тому же
идеалу целесообразности, стремление выражать до бесконечности
один и тот же прототип, то есть чистую форму нашего ума».
Эту нить идей Шеллинг самостоятельно развивал далее
прежде всего в написанных летом 1797 года «Идеях о философии
природы»1. Из Предисловия и из Введения ясно видно, что это
сочинение первоначально не было предназначено для издания особой
1 Первая (и единственная) часть «Идей» была издана в Ландсгуте в 1797
году. Второе издание с изменениями и дополнениями вышло в 1803 году. Теперь
«Идеи» напечатаны в полном собрании сочинений Шеллинга II, 1 и ел. Он начал
эту работу еще в начале 1797 года; сравн. его письмо к родителям от 4 февраля
(«Aus Schelling's Leben», с. 188); в начале сентября «Идеи» были напечатаны и
разосланы (к родителям 4 сентября (там же, с. 205)).
542
Р. ГАИМ
книгой. Все Введение можно было бы назвать статьей для
объяснения идеализма «Основных начал науки». Оно служит ответом
на второй из вопросов, которыми задавался Шеллинг в конце
своего «Обзора»: «Выражает ли понятие о философии природы нечто
такое, что может быть подробно изложено?». Шеллинг отвечает
на этот вопрос утвердительно. Он говорит, что человек
первоначально жил в простодушном единении с окружающим его миром.
Разъединение началось с возникновением умозрений. Задача
истинной философии заключается в том, чтобы посредством
свободы снова соединить то, что было первоначально едино в
человеческой душе. Как все эмпирическое естествознание, так и
господствующая полуфилософия последователей Канта стоят на точке
зрения разъединения. Поэтому Шеллинг вступает в полемику с
ними обоими. Он превосходно критикует ничего не объясняющие
понятия о материи как противоположности духа, об особых силах,
присущих материи, о впечатлении, производимом вещами на наш
ум; о «вещи в себе», которая должна получить от нашей
познавательной способности только внешнюю форму, и так далее. Он
говорит: целесообразность органических произведений
природы существует не только в моем уме; напротив того, я вынужден
представлять ее себе реальной и объективной. Здесь, очевидно,
прекращается дуализм духа и материи. «Система природы есть
в то же время система нашего духа». «Натура есть видимый дух,
а дух есть невидимая натура». Развитие этой идеи Шеллинга есть
настоящая натурфилософия. Она не заключается во внешнем
применении философии к естествознанию, а сама по себе есть
естествознание.
Если мы перейдем от Введения к содержанию самого
сочинения, то оно произведет на нас впечатление ученического
этюда. В первой книге автор начинает с проверки прежних теорий,
а во второй делает обзор пройденного пути и старается развить
добытые результаты. По меньшей мере таков план сочинения; но
автор уже в первой книге касается принципов, а во второй
нередко возвращается к фактическим подробностям, так что его
воззрения частью изменяются во время его работы; он не строго
придерживается порядка в изложении, выражается не всегда с
достаточной точностью и часто уклоняется в сторону от
намеченного пути. Во всем этом виден писатель, который еще занят
изучением своего предмета, но который не в состоянии
воздержаться от внесения в свои ученические труды самостоятель-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
543
ных воззрений. Так как он вынужден предоставить настоящие,
практические эксперименты «другим, более него счастливым
людям», то он занимается умственными экспериментами. Он
полагает, что имеет право делать такие эксперименты и пользуется
им в самом широком размере для того, чтобы «подвергать
исследованию возможности». А разве можно оспаривать это право после
того, как в опытных науках постоянно выставлялись одни
гипотезы в опровержение других? В сравнении с теми, кто
придерживается в своих исследованиях одного определенного направления,
одной определенной односторонней гипотезы, философствующий
физик имеет на своей стороне преимущества более
беспристрастной, более широкой точки зрения, с которой он может
проповедовать терпимость; может доказать, что все те теории имеют лишь
условное достоинство, что все они одинаково ложны и что в их
основе лежит одно общее для всех них заблуждение. Но автор
«Идей» не ограничивается этим критико-скептическим
руководящим правилом. Опираясь на сравнительно незначительный
фактический материал и вообще находясь в зависимости от
воззрений и опытов точных исследователей, он высказывает целый ряд
положительных догадок, а от этих догадок незаметно переходит
к вполне определенным целям.
Здесь не место, да и не стоит труда подробно излагать все эти
догадки Шеллинга. Он начинает с рассмотрения процесса
горения, а отсюда переходит к свету, к воздуху, к электричеству и,
наконец, к магнетизму. Эмпирической опорой для его умственных
экспериментов, очевидно, служит сделанное Лавуазье открытие
кислорода. Он ставит в связь с этим важным открытием
различные явления в сущности и в деятельности теплоты и света, воздуха
и электричества: по его мнению, теплота есть не что иное, как
видоизменение света; атмосферический воздух есть производимое
светом химическое соединение кислорода с азотом;
электрическая материя есть не что иное, как разложенный воздух, а
механическое разложение воздуха производит электрические явления
точно так же, как его химическое разложение производит
явление горения. При изложении этих смелых, частью наскоро
придуманных гипотез Шеллинг руководствуется следующей основной
мыслью: «Наш ум стремится к единству в системе своих
познаний; он не допускает, чтобы для каждого отдельного явления ему
приискивали особый принцип; он видит натуру только там, где
находит среди величайшего разнообразия явлений величайшую
544
Р. ГАИМ
простоту законов, а среди величайшего разнообразия внешних
впечатлений — величайшую бережливость в средствах
производить впечатления».
Эта мысль заводит автора еще дальше. Она заставляет его
перейти от простого сравнения и сопоставления явлений к
установлению общего для них всех основного закона, к объяснению
действующей через их посредство натуры. Уже в первой книге он
неоднократно упоминал об этом основном законе, который
заключается, по его мнению, в следующем: «Чтоб сделать
возможным величайшее разнообразие явлений, природа повсюду
противопоставляет разнородное разнородному. Но для того, чтобы в
этом разнообразии господствовало единство, чтобы в этой
борьбе противоположностей господствовала гармония, она хотела, чтоб
разнородное стремилось к соединению с разнородным и только в
этом соединении приобретало цельность». «Величайшая ловкость»
природы заключается в том, что она не допускает в себе ничего,
что могло бы существовать само собою и независимо от всей
совокупности вещей, не допускает ни одной силы, которая не была
бы ограничена противоположной силой и могла бы существовать
вне этой борьбы; не допускает существования ни одного
продукта, который не сделался бы тем, что есть, только благодаря
действию и противодействию, который постоянно возвращает то, что
получил, и под новым видом снова получает то, что возвратил. Та
же мысль короче выражена так: и в малом и в большом, и в
неорганическом и в органическом натура умеет достигать
разнообразия своих явлений при содействии двух противоположных сил —
одной, которая притягивает, другой, которая отталкивает.
Постаравшись подкрепить это основное положение
некоторыми отдельными фактами, автор делает его темой для всех глав
второй книги. Оно было в первый раз высказано Кантом, но только
относительно сущности материи. Шеллинг старается
распространить его на всю природу при помощи вышеизложенных
многосторонних эмпирических подробностей. По его мнению,
притяжение и отталкивание суть принципы общей системы природы и в
этой системе материя составляет лишь низшую ступень.
Динамической следует считать не только материю, но и всю природу.
Чтобы приобресть право это утверждать, автор опровергает
противоположный, механический способ объяснения. Подобно тому
как в философии он противопоставлял чистый критицизм
догматизму, и в натурфилософии он противопоставляет последова-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
545
тельный динамизм последовательному механизму. Лесаж служит
для него классическим представителем той механической физики,
которая пыталась объяснить все явления природы
существованием мельчайших тел, или атомов, их механическим движением
и взаимным противодействованием. Шеллинг ведет эту
полемику с успехом и выходит из нее победителем. Однако он довершил
бы все дело только в том случае, если бы отыскал положительную
основу для своей теории, а в чем же могла бы заключаться эта
основа, как не в том, чтобы найти для кантовского динамизма
подтверждение в самых глубокомысленных принципах
трансцендентальной философии, в средоточии учения Фихте? Кант
основал свое воззрение на материю только на том, что анализировал
понятие о материи как о наполняющей пространство. Он доказал,
что наполнение пространства мыслимо только при
предположении, что существуют силы отталкивающая и притягивающая.
Напротив того, Шеллинг доказывает, что это наполнение
пространства есть дело нашего собственного ума, — совершенно в духе
своих статей, написанных в объяснение «Основных начал науки».
Нашему «Я», говорит он, присущи две противоположные
деятельности — одна, стремящаяся в беспредельность, другая,
устанавливающая для себя известные границы. Только отсюда
возникает созерцание, а вместе с созерцанием и его объективный продукт;
в двух силах, притягивающей и отталкивающей, как факторах
материи, отражаются только те входящие в состав нашего «Я»
деятельности — одна, устанавливающая границы, другая,
стремящаяся в беспредельность.
Выводя кантовское учение о материи из понятия о нашем «Я»,
автор, очевидно, приобретал право распространить это учение на
всю область природы, а также на особые свойства материи, на
взаимные отношения между этими свойствами, на физику и
химию и вообще на все явления органической жизни. Стремление к
такому распространению высказывалось в первой книге «Идей»,
наполненной более эмпирическим содержанием; но оно вовсе не
было преобладающим во второй книге, наполненной более
философским содержанием. Шеллинг решительно отказывается от
попытки объяснить происхождение различных свойств материи.
Он говорит, что силы притягивающая и отталкивающая суть
необходимые условия созерцания. Напротив того, он считает
случайным то определенное отношение, в котором находятся между
собой эти силы в различных материях и в котором мы знакомим-
18 Зак. № 3602
546
Р. ГАЙМ
ся с ними через посредство наших чувств. Он полагает, что все
свойства материи возникают из столкновений между двумя
главными силами и зависят от степени сравнительной интенсивности
этих сил. Однако из этого понятия о случайности свойств материи
Шеллинг извлекает пользу для понятия о единстве всех явлений
природы. Ведь из этой случайности следует, что нет никакого
неизменного элемента, а есть только бесконечные видоизменения
одной материи; это Шеллинг объясняет применительно к свету и
к теплоте. Свет не есть неизменная материя, а есть нечто такое,
что изменяет свои свойства соразмерно со степенью своей
эластичности. То же можно сказать и о теплоте. И она есть не что
иное, как феномен перехода одной материи из более эластичного
состояния в менее эластичное. В связи с этим наш автор
применяет свое динамическое воззрение к химии. Из этой науки видно,
каким образом природа беспрестанно производит новые
сочетания и снова уничтожает их. Поэтому на ее примере можно
наглядно убедиться в том, что материя есть продукт
первоначальных сил, которые постоянно становятся в различные между собой
отношения. Химия есть наглядное, эмпирическое опровержение
механического воззрения на природу. Поэтому автор старается
создать нечто вроде «философии химии», старается установить
общие основы химии как науки. При этом он излагает не только
свои собственные идеи. Еще до него молодой Эшенмейер
попытался в своей академической диссертации применить кантовские
принципы динамики к химии. Шеллинг ссылается на
произведение своего земляка, а содержанием последних глав своих «Идей»
он, очевидно, обязан этому земляку.
Во второй части «Идей» Шеллинг намеревался применить свои
воззрения для утверждения философских основ статики и
механики, а потом и физиологии. Но точное исполнение намеченной
программы не было в характере Шеллинга. Уже в следующем
году, когда его первое натурфилософское сочинение еще не было
закончено, он удивил публику изданием нового сочинения в том
же роде. Перед пасхальной ярмаркой 1798 года появилось его
сочинение «О душе мира»: это была гипотеза из высшей физики,
придуманная для объяснения организма вселенной1.
1 Теперь напечатано в полном собрании сочинений II, 345 и ел. вместе с
прибавленной во втором и третьем изданиях ( 1806 и 1809 годы) статьей о
взаимных отношениях реального и идеального в природе.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
547
Уже из Введения к «Идеям» и даже из «Всеобщего обзора»
нам известно, какую важность придавал Шеллинг понятию об
органическом мире. В том Введении он говорил, что при
созерцании живых существ у человека впервые возникло предчувствие
коренного единства идеального с реальным, что отсюда рано было
перенесено на всю природу понятие об одушевленных существах;
что уже в древнейшие времена высказывалась мысль, будто весь
мир проникнут одним оживотворяющим принципом, который
называли «душою мира». Из этой идеи возникло новое сочинение
Шеллинга. Для него служит основой поэтическое воззрение
вроде того, какое господствовало в древней ионийской и дорийской
натурфилософии. В этом обнаруживается то сочувствие к
греческой старине, которое было возбуждено в тюбингенских
студентах чтением древних писателей и которое выразилось в
сладострастной мистике поэтических произведений Гельдерлина. Ясные
отзвуки этого эллинизма Гельдерлина слышатся и в сочинении
«О душе мира». Шеллинг ведет речь о «возвращении к самому
древнему и самому святому естественному богопочитанию». Он
напоминает о связи, существовавшей у греков между физикой,
с одной стороны, поэзией и мифологией — с другой, когда в
среду научных выводов вплетает мифологические понятия, когда,
говоря об огне, прибавляет «не угасший на земле со времен
Прометея» или когда говорит о верхних слоях атмосферы: «в тех
странах, где, по мнению древних, жили боги». С другой стороны, его
поэтическое воззрение переходит в философское, когда он, говоря
о душе мира, берет за точку отсчета кантовское определение
сущности органического мира. Но он дает очень изящный оборот
этому определению, когда говорит, что организм есть не что иное,
как задержанный поток причин и действий. Этот поток течет по
прямой линии вперед только тогда, когда натура ничем его не
задерживает, иначе он возвращается по круговой линии в самого
себя. В этом заключается основополагающая мысль
шеллинговской натурфилософии: согласие системы природы с системой
нашего духа. Поэтому и природа, подобно нашему духу, бесконечна
только в своей конечности. И мир бесконечен только в своей
конечности, поэтому бесконечное прямолинейное течение причин
и действий немыслимо в целом мире; следовательно, не только
различные разряды органических существ возникли путем
постепенного развития одной и той же организации, но и связью
между органической природой и неорганической служит один и
548
Р. ГАЙМ
тот же принцип. Существенное во всех вещах заключается в
жизни; а случайное есть только род их жизни; даже мертвое в
природе не есть само по себе мертвое, а есть только угасшая жизнь.
Эта же мысль была, в сущности, основой гётевского воззрения на
природу, а у древних она, по мнению Шеллинга, выражалась в
понятии о душе мира. В ней заключается «гипотеза высшей
физики». Ее изложению и посвящено рассматриваемое нами
сочинение Шеллинга.
Но, несмотря на уверение автора, что он намеревается
только восполнить недостатки физики, до того времени
ограничивавшейся лишь указаниями опыта, его сочинение имеет характер
философии, основанной на опыте. Уже из метода изложения видно,
что автор принадлежит к числу последователей Фихте. Это —
метод «Основных начал науки»; здесь господствует убеждение,
что «истина повсюду заключается в сочетании крайних
противоположностей». Автор постоянно обнаруживает тенденцию
соединять противоположные воззрения, подводя их под одно высшее
воззрение1. Так, например, он старается придать новый смысл
теории горения и отчасти согласовать ее с теорией Лавуазье о
кислороде. Относительно электричества он старается доказать,
что прав и Франклин, допускавший только один принцип в
электричестве, прав и Зиммер, находивший в электричестве два
различных принципа; с этой целью он утверждает, что есть только
одно электричество, но что оно действует только при раздвоении
на элементы, находящиеся в борьбе между собой. К такому же
приему он прибегает и в других пунктах, в особенности
касательно проблемы происхождения органических существ. По его
мнению, происхождение этих существ нельзя объяснить ни
безжизненными химическими силами, ни какими-либо особенными
жизненными силами. Не следует думать, что натура слепо
действует по измененным законам, но и не следует думать, что она
действует вполне произвольно, не подчиняясь никаким законам.
Истина заключается в сочетании того и другого. Этим путем
Шеллинг доходит до своего основного мнения о существовании
одного первоначального принципа, вносящего организацию не только
в сферу живых существ, но и во весь мир.
1 Это ясно доказал относительно обоих натурфилософских сочинений
Шеллинга Эрдманн в своем большом сочинении об истории новейшей философии III,
2, 107 и ел.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
549
Второе натурфилософское сочинение Шеллинга похоже на
первое не только методом изложения, но также тем, что в них
обоих автор придерживается объективной точки зрения. В
основе всех отдельных комбинаций Шеллинга лежит понятие о
противоположности между одновременно действующими силами. Он
снова заявляет, что «первый принцип философского естествосло-
вия — всегда иметь в виду полярность и дуализм во всей
природе». Он указывает на эту полярность в атмосферическом
воздухе, в электричестве, в магнетизме, в противоположности между
жизнью животных и жизнью растений и даже в процессе животной
жизни. Этот «дуализм в единстве», по словам Шеллинга, в
сущности, то же, что признавалось древнейшей философией за общую
душу всей природы, а некоторыми физиками того времени
считалось за эфир.
Уже первое натурфилософское сочинение Шеллинга
обратило на себя общее внимание. Им в особенности сильно
заинтересовался Гёте, как это видно из его переписки с Шиллером.
С другой стороны, юный писатель снискал расположение Фихте
своими статьями в «Философском журнале», и в особенности
«Всеобщим обзором». Из желания найти для себя помощника
Фихте возбудил вопрос о назначении Шеллинга в Йену. Этот
замысел встретил горячее сочувствие в Веймаре, а Гёте помог
осуществить его после того, как вынес хорошее впечатление из
личного свидания с Шеллингом и убедился, что в наружности
молодого писателя нет ничего похожего на санкюлотов. В
начале июля 1798 года это дело было окончательно улажено.
Сначала шла речь о назначении Шеллинга экстраординарным
профессором без жалованья. Тем не менее Шеллинг ни минуты не
колебался и изъявил свое согласие. Он хлопотал через
посредство своего отца о своем назначении на открывшуюся в
Тюбингене вакансию профессора философии, но заранее был уверен,
что не будет иметь успеха; он радовался тому, что не будет
иметь дела с тюбингенскими абдеритами; полный
самоуверенности, он писал своему отцу, что звание тюбингенского
профессора логики и метафизики было для него слишком маловажным;
он льстил себя надеждой, что скоро и до его родины дойдет
слух о славе, приобретенной им на самой блестящей арене,
какая тогда была в Германии. Отказавшись от своих
обязанностей гувернера, он тотчас стал готовиться к своему новому
призванию. В августе он отправился в Дрезден и там в первый раз
550
Р. ГАЙМ
сошелся с теми людьми, которые уже давно были ему близки
по складу ума и с которыми впоследствии он был тесно связан
в Иене. Дрезден, этот немецкий Рим или немецкая Флоренция,
служил в течение летних месяцев того года местом пребывания
для многих из числа апостолов нового художественного и
литературного евангелия, для многих друзей Гёте и Фихте. Там жил в
то время неутомимо трудолюбивый Вильгельм Шлегель вместе
со своей женой, между тем как Фридрих проводил время в
праздности, замышляя разные литературные предприятия, мечтая или
остроумно болтая с вызванным из Фрейберга Гарденбергом;
наконец, там же молодой Гриз, увлекаясь примером переводчиков
Шекспира, делал первую попытку переводить Тассо на
немецкий язык. Шеллинг не мог найти лучших товарищей для
изучения дрезденских художественных сокровищ. Братья Шлегели
распоряжались в картинной галерее как у себя дома: они
проводили там почти каждое утро вместе с Гризом и Шеллингом;
даже Фихте, случайно заехавшего в Дрезден в конце сентября,
они старались посвятить в таинства искусства. Гризу, с
которым Шеллинг выехал 1 октября из Дрездена, чтобы
отправиться через Фрейберг к месту своего назначения, мы обязаны
коротенькой характеристикой нашего натурфилософа, которому в то
время еще не было двадцати четырех лет. По словам Гриза,
Шеллинг принадлежал к числу тех немногих людей, которые
своей внешностью еще усиливают благоприятное впечатление,
производимое их сочинениями; он некрасив лицом, но так же
мужествен и энергичен, как его ум. Такое же впечатление произвел
Шеллинг на Доротею Вейт, когда она познакомилась с ним в Йене
одним годом позже. Она нашла, что у него именно такая
внешность, какой следовало ожидать, — мужественная, гордая,
благородная и неизящная. К этому замечанию она присовокупила:
«Ему, в сущности, следовало бы быть французским генералом;
для профессорской кафедры его личность менее подходяща, а для
литературной сферы, полагаю, еще менее»; это мнение нашло
для себя выражение в почетном прозвище «Гранит», данном
Шеллингу Фр. Шлегелем1. Что его личность была не совсем
1 Доротея к Шлейермахеру от 28 октября 1799 года (в их переписке III,
128); Фридрих к Вильгельму Шлегелю № 115 от 29 октября 1798 года
(в сущности, к Каролине) и № 117 от ноября того же года. В этом последнем
письме Фридрих называет Шеллинга «brave Granit»; в предыдущем письме он
говорил вслед за извещением, что Гюльсен женился: «Но где же Шеллинг, этот
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
551
подходящей для профессорской кафедры, было не только
женским мнением, но в некотором смысле и неоспоримой истиной.
Прослушав одну из лекций Шеллинга в 1799 году, молодой Са-
виньи написал в своем дневнике: «Шеллинг стоит на кафедре
хладнокровным и гордым, а говорит он так, что будто торопливо
рассказывает что-то не очень важное»; по прошествии многих
лет и сам Шеллинг признавался, что в ту пору еще не знал, что
главное достоинство публичной лекции заключается в
сдержанности для того, чтобы слова ясно выражали мысли. Как бы то
ни было, но он хорошо знал, что имеет сказать нечто новое и
что нет лучшего места высказать это новое. В Йене его первый
визит был к Шиллеру, который потом хвалил в письме к Гёте
этого гостя за рвение, с которым тот готовился к чтению
университетских лекций. Что Шеллинг был натурфилософ и
последователь Фихте, было уже известно из его прежних сочинений.
То же было видно из программы его лекций на зимний семестр
1798/99 года: philosophiam naturae и idealismi transscendentalis initia.
Свою профессорскую деятельность он начал пробной лекцией в
большой публичной аудитории. Профессора и студенты, как
рассказывает Стеффенс, собрались в большом числе в Auditorium
maximum. Шеллинг взошел на кафедру. «В его наружности было
что-то решительное и даже очень смелое; у него было широкое,
скулистое лицо; его виски резко выступали вперед; у него был
высокий лоб; на его лице выражалась энергия; нос был немного
вздернут вверх; в больших светлых глазах выражалась
способность повелевать. Когда он начал говорить, он только в течение
нескольких мгновений казался застенчивым. Предмет его речи
был тот самый, которым была в то время полна его душа. Он
говорил об идее натурфилософии, о необходимости обозревать
природу в ее целостности, о том, какой свет прольется на все
предметы, если люди осмелятся смотреть на природу с точки
зрения единства разума»1.
гранит, найдет для себя eine Granitin? Ведь, я полагаю, у него есть tant soit peu
способности любить. Если он желает г-жу Ле(вин), то я ее пришлю. Он
произвел на нее впечатление». (Рахиль прожила летом в Теплице и познакомилась с
Шеллингом, вероятно, в Дрездене.)
1 Относительно приглашения Шеллинга в Йену, его пребывания в Дрездене
и первого времени его пребывания в Йене сравн. письма «Aus Schelling's Leben»
начиная со с. 209 и, кроме того, с. 227,240,242 и ел. Кроме того, сравн. йенский
«Index scholarum» и одно место из дневника Савиньи в «Preussische Jahrbb.»
IX, 481.
552
Р. ГАЙМ
Такова была программа, которую нужно было исполнить.
Вместо простых идей о натурфилософии, вместо таких же
гипотетических дополнений к этим идеям, какие были изложены в
сочинении «О душе мира», Шеллинг был вынужден по своему званию
профессора излагать в виде готовой, цельной теории то, что было
еще далеко не зрело в его уме, что во всяком случае требовало
продолжительного времени для своего приведения в
систематическую ясность. Подобно тому как за несколько лет перед тем
поступил Фихте, приступая к чтению своих лекций «Об основных
началах науки», и Шеллинг стал, для удовлетворения своих
слушателей, мало-помалу приводить в порядок свою новую теорию.
К Пасхе 1799 года он составил (выпуская отдельными листами)
«Первый очерк системы натурфилософии» и непосредственно
вслед за тем издал, в виде улучшений, поправок и дальнейшего
развития своей теории, небольшое сочинение под заглавием
«Введение к очерку системы натурфилософии», или, как объяснено
в заглавии, «Понятие о спекулятивной физике и о внутренней
организации системы этой науки»1.
Отложив в сторону мелкие подробности, мы без большого
труда можем выяснить сущность тех идей, на основании которых
Шеллинг построил в вышеупомянутых очерках систему
натурфилософии.
Способ построения этой системы, по-видимому, был уже
намечен в двух первых натурфилософских сочинениях Шеллинга.
В первом из этих сочинений Шеллинг придал кантовскому
динамическому объяснению материи более глубокую связь с
сущностью нашего «Я» и затем попытался распространить это
объяснение на всю природу. Во втором сочинении он дошел в
динамическом объяснении всей природы до открытия принципа,
который воодушевляет весь мир и вносит в него организацию.
Гипотезу такого принципа он поставил в связь с динамическим
дуализмом в природе. Этот дуализм составлял связующее звено
между первым сочинением и вторым; напротив того, во втором
сочинении Шеллинг совершенно отложил в сторону производство
своей системы из понятия о «Я», так что гипотеза о душе мира
осталась без всякой основы. Поэтому, приступая к изложению
1 Оба сочинения были изданы только один раз (Лейпциг и Йена, 1799);
теперь они помещены в полном собрании сочинений Шеллинга III, 1 и ел. и [там же]
269 и ел. «Введение» могло служить пособием для слушателей только при
повторении его лекции о philosophia naturae в летний семестр 1799 года.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
553
своей системы, он должен был бы доказать основательность своей
гипотезы о душе мира и, стало быть, снова опереться на учение
о «Я».
Однако эти наши ожидания и предложения подтвердились не
вполне. В своих очерках Шеллинг придал всему делу иной
оборот. Чтобы доказать основательность своей гипотезы о душе
мира, он не выводит ее из понятия о «Я», а переносит это понятие
на природу: у него природа имеет сходное с духом
существование, является подобием духа.
Было две причины, помешавшие Шеллингу объяснить и
систематизировать всю природу посредством ее форменного
трансцендентального производства из «Я»: во-первых, неудачные
попытки, сделанные в этом направлении самим Фихте, во-вторых,
желание придать новой науке как можно больше достоинства и
самостоятельности.
Попытки Фихте были неудачны, потому что он
сосредоточивал все свое внимание на практической морали. И теоретическую
сущность духа он ставил в связь с целями нравственными.
Продуктом этой теоретической сущности является, по его мнению,
весь внешний мир, природа. Поэтому для него объяснять природу
значит объяснять, каким образом наше «Я» должно создавать из
самого себя посредством созерцания именно такой внешний мир,
какой необходим для безусловных целей практического «Я», то
есть для целей нравственности. Стало быть, фихтевское
объяснение природы было теологическим объяснением. Хотя такие
попытки объяснений и придавали существованию всей природы самые
высокие цели, какие только мыслимы, но эти цели находились вне
природы. Ими никак не мог удовольствоваться тот, кто смотрел
на природу глазами поэта, кто, исходя из кантовской критики
познавательной способности, видел в природе нечто органическое и
признавал это органическое целью для самого себя, кто, согласно
с поэтическо-философской космологией греков, считал природу за
нечто само по себе живое и воодушевленное. Шеллинг
положительно утверждал, что такое идеалистическое объяснение
природы переходит в фантастическую бессмыслицу, что оно не лучше
прежних тривиальных теологических объяснений, в которых все
сводилось к большей или меньшей полезности явлений природы.
Впрочем, следует заметить, что он не безусловно отвергает
основательность идеалистического способа объяснений у Фихте: он
признает, что это объяснение могло бы быть на своем месте в
554
Р. ГАИМ
трансцендентальной философии. Но он заходит дальше учения
Фихте в том отношении, что хочет наряду с трансцендентальной
философией поставить на прочный фундамент самостоятельную
натурфилософию, или «спекулятивную физику», как он ее называет.
Согласно с трансцендентальной философией, природа имеет свою
идеальную основу и свое идеальное значение вне самой себя, в
нашем «Я». Напротив того, натурфилософия считает природу за
нечто самостоятельное: для нее природа имеет в самой себе и свою
идеальную основу, и свое идеальное значение. Эту науку можно,,
по мнению Шеллинга, считать за «спинозизм физики», а это
выражение может сделаться понятным для нас, если мы
противопоставим ему выражение «фихтеанизм физики». Шеллинг заходит еще
дальше. Он говорит, что этот спинозизм физики не есть только
гипотетическая точка зрения, произвольно принятая для того,
чтобы было легче и глубже проникать в смысл отдельных явлений
природы; он положительно утверждает, что эта точка зрения так
же необходима, как фихтевская трансцендентальная точка
зрения. В том небольшом сочинении, которое служит введением к
изложению его систем, он говорит: «Если задача
трансцендентальной философии заключается в том, чтобы подчинять
реальное идеальному, то задача натурфилософии заключается в
обратном, в том, чтобы для идеального находить объяснения в
реальном; стало быть, эти две науки, отличающиеся одна от
другой только противоположными направлениями своих задач,
составляют одну науку; а так как эти оба направления не только
одинаково возможны, но и одинаково необходимы, то обе они одинаково
необходимы и в системе знания».
Едва ли нужно доказывать, что этот дуализм не выдерживает
никакой критики и находится в противоречии с самим собой. И
поэтическое воззрение на природу, и уважение к природе, и изящный
вкус, восстававший против фихтевских объяснений воздуха и
света, были бы более основательными мотивами для возражения,
чем те, которые были придуманы Шеллингом. Ведь для всякого
очевидно, что, признавая самостоятельность природы, наш
философ должен бы был совершенно отвергнуть точку зрения Фихте.
Но на деле оказывается, что он устраняет эту точку зрения для
того, чтобы признать самостоятельность природы, а в то же
время пользуется ею для того, чтобы внести в самостоятельную
природу жизнь и движение, и для того, чтобы создать
спекулятивную теорию природы.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
555
Повторяя то, что писал уже ранее в своих письмах о
догматизме и критицизме, он говорит, что наука может исходить только
из того, что не может быть вещью, из безусловного. И
натурфилософия, в качестве настоящей науки, может, по его словам,
существовать только в том случае, если природа безусловна.
Затем, в качестве последователя Фихте, он говорит, что только «Я»
абсолютно безусловно. Но это не мешает ему бездоказательно и
смело утверждать, что натурфилософия имеет «свое
безусловное»!
Для такого утверждения можно приискать только одно
оправдание: должна существовать особая философия природы. Это
требование облекается у автора в различные формы, как, например,
когда он говорит, что натурфилософия исходит из «безусловного
эмпиризма, как из своего принципа», или когда он называет ее
«эмпиризмом, расширенным до безусловности». Есть только один
способ осуществить это мнение: перенести безусловность
нашего «Я» на природу. Шеллинг возводит природу в абсолютное,
признавая ее за другое «Я». «Философствовать, — говорит он, —
можно только тогда, когда руководствуются генетическим
методом: всякая философия имеет дело с живым, деятельным, а не
мертвым бытием. Поэтому философствовать о природе значит
„создавать природу"». Это выражение более смело, чем метко.
В сущности, только Фихте мог бы сказать: «мы создаем
природу»; и только Шеллинг мог бы сказать: «философствовать о
природе значит представлять ее так, как если бы она сама себя
создавала». Однако именно эта двусмысленность, эта смелая
неточность характеризует точку зрения «Первого очерка».
Теперь Шеллинг совершенно основательно говорит: речь идет о том,
чтобы как будто воодушевить природу свободой, дать ей
собственное свободное развитие. Но немедленно вслед за этим он
отказывается и от этого «как будто», и от этого сознательного
воодушевления природы свободой; он немедленно заводит речь об
«автономии» и об «автаркии» природы, о ее «безусловной
реальности» и вследствие этого сознательно устраняет из
натурфилософии связь с нашим «Я», то есть зависимость от
трансцендентальной философии. Хотя натурфилософия Шеллинга и признает в
нескольких фразах верховенство нашего «Я», но только для того,
чтобы о нем больше не заботиться и развиваться внутри своих
границ с такою же самостоятельностью и даже по таким же
законам, как трансцендентальная философия.
556
Р. ГАИМ
Независимо от ответа, прав или неправ Шеллинг, истина и
плодовитость его идеи о необходимости исследовать не
безжизненное бытие природы, а ее внутренние пружины не зависят от
урегулирования отношений между натурфилософией и
трансцендентальной философией. Ведь нам вообще известно только
то, что само проявилось наружу; всякое познание есть познание
совершающегося явления; даже для того, чтобы понять
недуховное, мы принуждены одухотворять его; этих основных
положений достаточно для того, чтобы оправдать попытку Шеллинга
созерцать природу как деятельную сущность, именно в ее
деятельности. Поэтому производить опыты — то же, что вызывать
явления природы. Натурфилософия обобщает такую деятельность
экспериментатора и возвышает ее до безусловного; она смотрит
на всю природу как на нечто само себя воспроизводящее.
Именно в такое время, когда беспрестанно делались новые
эксперименты с целью исследовать сущность природы, Шеллинг делает
в натурфилософии нечто вроде эксперимента над
экспериментами, — он устанавливает законы постепенного развития природы,
а практическую сторону своего воззрения выражает в словах, что
спекулятивная физика есть «душа настоящего эксперимента и
матерь всех великих открытий». Эта физика представляет
совершенную противоположность с эмпиризмом. Чистый эмпиризм
имеет предметом то, что совершилось, а спекулятивная физика,
напротив того, имеет предметом то, что совершается; для
первого натура есть объект, продукт — natura naturata, для второй
натура есть субъект, производительная сила — natura naturans. Или,
если смотреть на это с другой стороны, можно сказать, что
эмпиризм стоит на точке зрения рефлексии, имеющей дело с
готовыми фактами, а натурфилософия держится точки зрения такого
воззрения, которое основано только на совершившихся фактах.
Такова общая точка зрения натурфилософии Шеллинга. Он
старается развить ее, делая в ней неоднократные поправки и
постоянно перенося сущность нашего «Я» на природу, но не
сознаваясь в этом.
Абсолютная деятельность есть сущность природы. Поэтому
природа всегда находится в состоянии развития, но никогда не
находится в законченном состоянии. То, что мы обыкновенно
принимаем за отдельные продукты природы, в глазах философа не
что иное, как продукты по наружному виду. Чтобы объяснить эти
продукты, следует признать, что абсолютная деятельность при-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
557
роды постоянно сама устанавливает для себя границы, сама себя
сдерживает. Подобно тому как поток течет по прямой линии, пока
не встречает никаких препятствий, а встретив какое-нибудь
препятствие, образует водоворот, и всякий первоначальный продукт
природы есть водоворот. В сущности, всякий продукт природы не
есть нечто неизменно установившееся, а представляет борьбу
вечной производительности природы с задержками. В сущности,
мы видим не существующие продукты природы, а продукты
постоянно воспроизводящиеся. Между тем как природа борется с
препятствиями, она все сызнова наполняет данную сферу
результатами своей производительности. Вслед за этими объяснениями
Шеллинг ставит для себя задачей доискаться тех задержек,
которые лежат в основе разнообразия продуктов природы. Стараясь
создать такую систему, которая по своей законченности была бы
для динамического воззрения на природу тем же, что сделал Ле-
саж для механического воззрения, Шеллинг излагает
напоминающую Лейбница динамическую атомистику в противоположность
обыкновенной атомистике, предполагающей, что материя
состоит из мельчайших материальных частиц. Прежде он производил
материю из столкновения между силами притягивающей и
отталкивающей, а свойства материи объяснял различием степеней этих
двух сил. Но теперь ему нужно было глубже проникнуть в
особенности природы с динамической точки зрения. Он надеется
достигнуть этой цели, допуская существование воображаемых
пунктов деятельности — динамических атомов, или монад. Во
всех этих пунктах, как он полагает, сдерживается, одна и та же
первоначальная деятельность природы. Все частицы стремятся к
воспроизведению одного и того же продукта; в конце концов они
сталкиваются между собой. Несмотря на свою индивидуальность,
они могут в своем бесконечном разнообразии соединяться
вместе. Тогда они будут стремиться к наполнению одного общего для
них пространства, будут стремиться к наполнению этого
пространства каким-нибудь определенным образом, и таким образом
будут создаваться определенные предметы. Но все они будут
взаимно мешать одна другой, то есть будут взаимно отнимать одна
у другой определенную форму. То, что не имеет определенной
формы, есть жидкость, стало быть, должен существовать
принцип, по которому в природе все превращается в жидкое состояние.
Этот принцип есть теплота. В ней ничто не мешает комбинации
противоположных стремлений, между тем как всякое нарушение
558
Р. ГАЙМ
этой комбинации вызывает другие феномены, феномены
электричества и света. Абсолютному равновесию частиц постоянно
противится их первоначальная индивидуальность. Отсюда возникает
зрелище борьбы между формой и бесформенностью. Во время
этой борьбы образуется целый ряд предметов, которые
возникают один вслед за другим. Творческая сила природы
обнаруживается с бесконечными видоизменениями в различных формах, а
эти формы являются различными ступенями развития одной и той
же абсолютной организации, являются рядом динамических
ступеней. Изложение этого постепенного развития и есть настоящая
задача натурфилософии; посредством его история природы
превращается в систему природы.
В «Первом очерке» автор объясняет постепенность
динамического развития в высшей степени неудовлетворительно, делая
частые отступления, повторения и перестановки. Только в
написанной немного позже статье (в «Общем объяснении
динамического процесса или категорий физики»1) он доходит до чего-то
похожего на окончательные выводы; стало быть, только по
содержанию этой статьи мы можем составить себе понятие о
сущности шеллинговской натурфилософии.
В природе, — говорится в этой более зрело обдуманной
статье, — существует коренная противоположность сил, из которых
одна стремится вперед в беспредельность, другая, сдерживающая,
сила возвращается внутрь самой себя. Но над этой
противоположностью двух деятельностей господствует беспредельное
стремление безусловного субъекта, природы, возвратиться к
единству. Поэтому разделение тех двух деятельностей мыслимо только
потому, что оно обусловлено третьей синтетической
деятельностью. Подобно тому как в «Основных началах науки»
противоположные направления постоянно стремятся к объединению в
нашем «Я», и в статье Шеллинга механизм ума переносится на
природу, и отсюда возникает система постоянно облекающейся в
определенные формы материи. Там объясняется история
постепенного развития самосознания, здесь объясняется, каким
образом производительность природы постепенно создает более
совершенные формы материи. Началом для этого объяснения
служит конструкция трех свойств пространства. Свойство длины
1 «Zeitschrift fur specul. Physik» (1800), т. I, № 2. Теперь эта статья
напечатана в полном собрании сочинений Шеллинга IV, 1 и ел.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
559
возникает от соединения силы, стремящейся вперед к
расширению, с той силой, которая притягивает к одному определенному
пункту. Поверхность образуется путем нового синтеза более
свободно действующих двух сил. К синтезу двух сил присоединяется
третья сила — сила тяготения. Затем в природе возобновляются
на более высокой ступени прежде развившиеся синтезы, которые
Шеллинг называет «процессами первого порядка». Природа
воспроизводит то, что было первоначально ею произведено; в ней
начинается новый ряд постепенных процессов, которые следует
называть «процессами первого порядка». Повторение, или
«вторая степень», процесса длины есть магнетизм. Воспроизведение
процесса поверхности есть электричество. Наконец, должен быть
еще третий процесс — динамический процесс, который
соответствует процессу тяготения. Этот процесс есть тот, в котором два
тела взаимно проникают одно в другое так, что вместе
наполняют данное пространство. Это случается в химических
процессах. Творческая сила химического процесса должна быть
названа «силой тяготения второй степени». Она должна обнаруживаться
в видимой природе каким-нибудь эмпирическим явлением. А
каким же? Явлением света. Свет признается за общую причину
«свойств второй степени». Продуктом электричества являются
свойства поверхности — цвет, шероховатость и тому подобное.
Продуктом химической функции являются все химические
свойства тел.
Шеллинг спешил включать в свою систему все новейшие
открытия физиков. Так, например, Вольта нашел в 1800 году способ
усиливать действие гальванического электричества, а Риттер
делал из этого открытия дальнейшие выводы благодаря опытам,
которые производил в Йене. Поэтому в пятьдесят девятом
параграфе статьи Шеллинга гальванизм назван более общим и более
высоким выражением химического процесса. В гальванизме
соединяются, по мнению Шеллинга, все три динамических
процесса — магнетизм, электричество и химизм. Вместе с этим
Шеллинг усматривает в гальванизме переход от неорганической
природы к органической, «пограничный феномен двух натур».
Впрочем, в конце своей статьи он лишь вкратце объясняет
динамический процесс на его высшей ступени — внутри
органического мира. По его словам, материя была первой степенью
производительной деятельности природы, неорганическая природа была
второй степенью, органическая природа была третьей степенью.
560
Р. ГАИМ
Три момента двух первых степеней соответствуют трем
моментам третьей, высшей степени. Таким образом, магнетизм
достигает внутри органического мира чувственных впечатлений,
электричество производит раздражительность, химический
процесс — стремление к пластичности.
В неорганической сфере природа создает все разнообразие
своих продуктов посредством простого смешения магнетизма,
электричества и химического процесса; в органической сфере она
вызывает только чувственные впечатления, раздражительность
и стремление к пластичности, а разнообразие ее продуктов
происходит только от изменения соотношений между этими
функциями.
Такова была до 1800 года натурфилософия Шеллинга в своих
общих чертах. В наше время, конечно, нельзя опасаться
преувеличения научных достоинств этой философии. Не подлежит
сомнению, что то было вполне основательное с поэтической точки
зрения намерение рассматривать природу как «Я», как живой,
творческий дух. Не подлежит сомнению, что все естествоиспытание
основано на вере, что конечные условия деятельности природы
те же, какие лежат в основе мыслящего, сознающего самого себя
человеческого духа. Эта вера предшествует всяким
наблюдениям над законами природы, всяким экспериментам и всякой
попытке объяснить явления природы. Шеллинг совершенно верно
характеризует задачу настоящего, самоотверженно преданного
своему объекту естествоиспытателя, когда говорит, что
динамический способ объяснения указывает нам, как действует сама
природа, между тем как атомистический способ объяснения
указывает нам, как действовал бы тот или другой физик, если бы
был на месте природы. Однако сам Шеллинг делает из этого
принципа динамического объяснения такое употребление, которое
находится в прямом противоречии с самоотверженной
объективностью. Сущность и образ действий духа можно исследовать только
в связи с сущностью и образом действий природы, и наоборот.
Все-таки за натурфилософией Шеллинга остается та заслуга, что
она выразила эту взаимную связь с безусловной уверенностью,
в простой и общей философской формуле именно в такой момент,
когда глубокомыслие Канта и безусловность Фихте освещали
сущность духа ярким светом молнии, а исследователи точных наук в
свою очередь делали поразительные открытия в сфере законов
природы. Громадная ошибка Шеллинга заключалась в том, что
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
561
отвлеченную схему человеческого сознания он нашел
достаточной для того, чтобы посредством ее перенесения на природу
окончательно систематизировать явления природы или, вернее,
тогдашние отрывочные сведения об этих явлениях, для того чтобы
вывести эти явления из одной конечной причины и распределить
их в неизменном последовательном порядке по степеням.
Замечание Бэкона, что силлогизм не дорос до тонкостей природы,
вполне применимо и к этой незрелой попытке Шеллинга: даже фихтев-
ская теория самосознания не доросла до полной определенности
и богатства природы. Ведь не были лишены здравого смысла не
приведенные ни в какую систему рассуждения [, приведенные в]
«Ученика[х] в Саисе» [,] о том, что природу следует объяснять
[исходя] из цельности человеческого существа, что необходимо
вникнуть в ее «чудную душу», необходимо проникнуть до ее
сердца и смотреть на нее, как на выражение беспредельной воли, как
на игру беспредельной, но вместе с тем согласной с разумом
фантазии. Гарденберг не без основания требовал «реальной
психологии» как предварительной подготовки для более глубокого
проникновения в душу природы. Но его мистика нисколько не
облегчала обзора вновь добытых сведений о законах природы, не
говоря уже о том, что она вовсе не касалась единства науки о
природе с наукой о духе. Натурфилософия Шеллинга восполнила
этот недостаток, но при этом она поплатилась тем, чем до сих
пор всегда приходилось платить при открытии великих истин: она
впала в крайнюю односторонность и в такую бросающуюся в глаза
ошибку, которая скоро прикрыла зародыш истины толстой
скорлупой, сквозь которую следующим, более осмотрительным
поколениям трудно добраться до того зародыша.
Гораздо легче добраться до этого зародыша истины, если
встать на историческую точку зрения. Действительно, с этой точки
зрения натурфилософия Шеллинга является существенным
звеном в цепи того умственного движения, которое мы называем
«романтизмом» и которое возникло из сочетания нового
поэтического направления с новым направлением философии, из сочетания
идей Гёте с идеями Фихте. В большинстве явлений, с которыми
мы до сих пор знакомились, преобладал момент задушевности и
субъективизма, тот момент, который получил классическое
осмысленное выражение в «Основных началах науки». Не то мы
находим в спекулятивной физике Шеллинга. Между всеми
образованными людьми того времени, более или менее склонными к
562
Р. ГАИМ
субъективизму, наряду со Шлегелями, Новалисом, Тиком и Шлей-
ермахером, Шеллинг был менее всех субъективен. Между
всеми этими философскими мистиками, поэтами и эстетиками он был
более всех одарен объективным поэтическим умом. Между
всеми этими почитателями, поклонниками и подражателями Гёте он
ближе всех стоял к великому поэту, несмотря на то что был
учеником Фихте и проповедником его учения.
Сознание этого духовного родства обнаруживалось с обеих
сторон. Благодаря Гёте Шеллинг попал на профессорскую кафедру
в Йене. После чтения одной из статей Шеллинга, Гёте признался
ему, что только к его философии чувствовал решительное
влечение и что усердно изучал ее в надежде достигнуть еще более
полного единомыслия. В то время как Гёте обсуждал с
Вильгельмом Шлегелем некоторые улучшения в форме своих
стихотворений, его частые личные сношения с Шеллингом поощряли
его к продолжению его занятий естественными науками1. И
Шеллинг со своей стороны усердно занимался учением о цветах для
того, чтобы быть в состоянии беседовать с Гёте об этом
предмете. В сочувствии поэта Шеллинг находил все более и более
ясные доказательства основательности своей философии. Уже в
сочинении «О душе мира» он цитировал статьи Гёте о
метаморфозе растений и его приложения к оптике; впоследствии число
таких цитат увеличивалось, а ссылки на авторитет Гёте даже стали
совпадать у Шеллинга с восторженными отзывами о
гениальности поэта. Говоря о динамическом процессе магнетизма, Шеллинг
присовокупляет, что его воззрение разделяется тем поэтом,
«который, начиная с первых отзвуков природы, слышавшихся в его
ранних поэтических произведениях, и кончая возвышенною
связью с искусством, которую он придавал явлениям природы в
своих позднейших произведениях, никогда не изображал в природе
ничего другого, кроме беспредельной полноты своей
собственной производительности. Созерцание природы было для него
вечным источником обновления; между всеми позднейшими
поэтами Нового времени ему одному было суждено снова возвратиться
к первоначальным источникам поэзии и открыть новый поэти-
1 См. «Aus Schelling's Leben» 1,246, 314, 324, и письмо Фридриха к В. Шле-
гелю от 26 июля 1800 года [№ 144]; Фридрих говорит в этом письме, что имел
накануне продолжительный разговор с Гёте и что Гёте отзывался о
натурфилософии Шеллинга с особенным сочувствием.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
563
ческий поток, живительная сила которого освежает все столетие
и не дозволит прекратиться вечной юности науки и искусства».
Эта похвала, впоследствии неоднократно повторявшаяся
Шеллингом в различных видоизменениях, ясно свидетельствует о его
сознании, что его натурфилософия была не чем иным, как ученым
дополнением к гётевской поэзии.
Объективная точка зрения Шеллинга и его сочувствие к
направлению гётевской поэзии, как уже было нами замечено в
начале этой главы, были причиной его несочувствия к «Речам
о религии» и к нападкам Видерпорста на влечения Тика и Нова-
лиса к христианству. Этим объясняется отношение Шеллинга к
Новалису. То было вполне ошибочными мнением, что Шеллинг
только развил далее и облек в научную форму фантастические
воззрения Новалиса на природу. Поэтому Фихте не имел
никакого основания говорить о «новализме» Шеллинга; гораздо
скорее можно было бы согласиться с мнением Стеффенса, что
образ мыслей Новалиса ведет к «шлегелианизму естествознания».
У автора «Офтердингена» природа, в сущности, служила лишь
символом для внутреннего мира человека. Так как он ни на
мгновение не переставал быть поэтом, то он ежеминутно изменял
свою точку зрения и не сочувствовал ни односторонности, ни
определенности систематического объяснения законов природы.
Свое разномыслие с Шеллингом он выразил в упреке, что
натурфилософия основана на «ограниченном понятии и о природе и
о философии»; это разномыслие обнаружилось еще яснее в том,
что «коренной двойственности», которую Шеллинг усматривал
в природе, он противопоставлял ее «коренной инфинитизм» («Urin-
finitismus»)1. Было в порядке вещей, что Шеллинг, сознававший
свои ученые превосходства, свысока смотрел на эти
остроумные выходки дилетанта; ему можно извинить резкие слова,
сказанные при выходе в свет сочинений Новалиса: «Я не могу
выносить легкомыслие тех, кто все обнюхивает, но ни во что не
вдумывается»2.
1 Стеффенс к Шеллингу в сентябре 1799 года («Aus Shelling's Leben» 1,277).
2 Сравн. письма Φρ. к В. Шлегелю № 117 (в ноябре 1798 года) и № 134
(в мае 1799 года), Шеллинга к В. Шлегелю от 29 ноября 1802 года («Aus
Schelling's Leben», с. 431 ). Также сравн. письмо Фр. Шлегеля к Шлейермахеру
в их переписке III, 136: «Вследствие того, что у Гарденберга действительно
заметна некоторая шаткость в мнениях, Шеллинг стал относиться с большим
уважением к энергии, которая видна в твоих „Речах"».
564 Р. ГАЙМ
Фридрих Шлегель, естественно, был того мнения, что вина
разномыслия на стороне Шеллинга и что Гарденберг выше
Шеллинга. Он еще не был лично знаком с Шеллингом, когда
высказывал Шлейермахеру свое мнение о «Всеобщем обзоре» и о «Душе
мира». Энергию Шеллинга он сравнивал с красным цветом лица
людей, страдающих чахоткой1. Когда он в первый раз встретился
с Шеллингом в Дрездене, свойственные швабским уроженцам
серьезность и неуклюжесть молодого философа были приняты
виртуозом остроумия за недостаток образования, за грубость и
умственную ограниченность. Он с комически наивной
самоуверенностью говорил: «Философия Шеллинга будет чем-нибудь
эфемерным, если он не будет в состоянии проникнуться духом Нового
времени; а будет ли он в состоянии это сделать, я вовсе не
уверен. Он, по-видимому, был от нас в восторге. От него нельзя
требовать, чтобы он понял меня. Но он должен был хоть сколько-нибудь
понять Гарденберга, однако не понял. Что он очень расположен к
Тику — хороший признак, но он понял направление Тика в очень
дюжинном смысле»2. Смысл этих слов был таков, что нашему
натурфилософу недоставало эстетического склада ума, того
склада ума, для которого служил органом «Атеней»; он был словно
неотшлифованный драгоценный камень, а отшлифовать его
следовало посредством поэзии и личных сношений со Шлегелями.
Немного позже Фридрих писал в том же тоне своим йенским
друзьям3: «Меня очень радует то, что в Шеллинге пробуждается
влечение к поэзии; не подлежит сомнению, что это для него самый
короткий и самый верный путь, чтобы отделаться от грубости
и сделаться членом нашего кружка»4. Однако духовное родство
Шеллинговой философии с идеями Шлегелей было так очевидно,
что не могло оставаться незамеченным. Еще до своего приезда
в Йену Фр. Шлегель писал своему брату о надежде получить от
Стеффенса для помещения в «Атенее» заметку о Шеллинговой
натурфилософии; он даже обращался к своему брату с вопросом,
не следует ли пригласить Шеллинга к сотрудничеству в «Атенее»,
не следует ли пригласить его доставить статью о физике или фи-
1 «Aus Schleiermacher's Leben» III, 78.
2 № 135 (май 1799 года) [из] писем к Вильгельму (и Каролине) Шлегель.
3 № 143 в августе 1799 года.
4 Сравн. письмо Фридриха к Шлейермахеру (в их переписке III, 120): «Ему
нужно спастись от философии посредством поэзии, прежде чем сделаться
способным достигнуть мистицизма».
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
565
лософскую статью на какую-нибудь определенную тему1. Но он
вполне понял значение натурфилософии, когда был в Йене
очевидцем деятельности Шеллинга и свел с ним более близкое
личное знакомство. Тогда он обратился к Шлейермахеру с
приглашением написать разбор сочинений Шеллинга и даже сам
намеревался взяться за эту работу. Наряду с «Речами о религии»
он превозносил сочинение «О душе мира» в сонете,
напечатанном в «Атенее», и, в особенности, в письмах к Шлейермахеру
горячо вступался за новую «филофизику». Теперь он находил, что
в области теории это единственное учение, в котором есть жизнь,
что это единственное в своем роде знамение времени; он
выражал сожаление о недостаточности своих познаний и говорил, что
для него физика покуда не что иное, как «источник поэзии и
возбуждение к видениям», что благодаря личным сношениям с
Шеллингом, с Риттером, с Гарденбергом он все же дошел до того,
что стал немного понимать их, хотя и по сие время имеет лишь
«догадки» о научном достоинстве их идей2.
В этих мнениях обнаруживается крайне легкомысленный
дилетантизм, который, как нам уже известно из содержания «Идей»,
именно в то время начинал сильно отзываться мистицизмом.
Именно по этой причине не Шеллинг был тем, у кого Фридрих находил
самое полное удовлетворение для своих философских бредней,
с плодами которых нам впоследствии придется познакомиться.
Такое удовлетворение он прежде находил у Гарденберга гораздо
более, чем у Шеллинга, а теперь стал находить его у третьего из тех
людей, которых называл своими наставниками, у того писателя,
которому были обязаны многими новыми идеями и Гарденберг, и
сам Шеллинг. Теперь Фр. Шлегель стал знакомиться с физикой при
посредстве Иоганна Вильгельма Риттера, а Риттер стал
знакомиться через посредство Фр. Шлегеля с другими тенденциями
романтизма, с романтической мистикой и с романтической поэзией.
Родившийся в 1776 году в Самице, подле Гайнау в Силезии3,
Риттер был обязан самому себе своим образованием. Сначала
1 Письма 137 и 138, в мае и в июне 1799 года.
2 К Шлейермахеру (в их переписке III, 126, 151, 152, 154). Сонет «О душе
мира» помещен в «Атенее» III, 2, с. 235.
3 Следующее изложение основано частью на словах Стеффенса («Was ich
erlebte» IV, 87 и ел.), частью на содержании предисловия к сочинению «Fragmente
aus dem Nachlasse eines jungen Physikers. Ein Taschenbuch für Freunde der Natur.
Herausgegeben von J. W. Ritten>, [2 тома] (Гейдельберг, 1810).
566
Р. ГАЙМ
он был фармацевтом, потом был провизором в Лигнице; наконец
ему надоело изготовлять порошки и микстуры по докторским
рецептам и наклеивать ярлыки на склянки с лекарствами.
Беспокойное влечение к научным занятиям привлекло его в Йену. Там
он жил в большой бедности, вдали от всякого общества, на одной
из глухих улиц, в бедно меблированной комнате, из которой иногда
не выходил по целым неделям; он занимался сочинением
журнальных статей по естественным наукам и физико-химическими
опытами. И он увлекся умственным возбуждением своего
времени. Богато одаренный от природы, он хорошо изучил физику
и историю этой науки, а недостававшие ему познания умел
приобретать с большой легкостью. Ему недоставало не
прозорливости, не фантазии, а строгой научной дисциплины,
систематического образования. Он с пылким рвением занимался
физическими опытами и мечтал о новых открытиях. Более всего он
интересовался гальванизмом. Ему удалось ранее Вольты или в
одно время с ним объяснить химическую деятельность
гальванической цепи; он стал делать из этого открытия остроумные
выводы, которые сделались посредствующим звеном между физикой
и натурфилософией. И Шеллинг отчасти опирался на выводы,
сделанные Риттером еще в 1798 году в сочинении «Доказательства
того, что непрерывный гальванизм сопровождает жизненный
процесс в царстве животных»1.
Это небольшое сочинение было дальнейшим развитием
реферата, прочитанного Риттером осенью 1797 года в Йене на
заседании общества естествоиспытателей. На основании целого
ряда экспериментов Риттер объяснял условия гальванической
деятельности и доказывал, что эти условия нигде не
встречаются более часто, в более определенном виде и в большем
разнообразии, чем в теле живого животного, так что на каждую часть
такого тела следует смотреть как на систему бесконечно
многочисленных и до бесконечности мелких гальванических цепей.
Дальнейшие догадки находятся в связи с этим выводом. Не
следует ли полагать, что всякое лекарство причиняет телу
животного пользу или вред вследствие того, что изменяет в этом теле
деятельность гальванических цепей? Поэтому не следует ли
полагать, что все тела животных должны быть распределены по
1 Это сочинение, посвященное «великим людям — Ф. А. Гумбольдту и
А. Вольте» (XX и 174), появилось в Веймаре в 1798 году.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
567
разрядам сообразно с их отношением к гальванизму и
параллельно с теми разрядами, на которые их разделяет materia medica?
И тому подобное. Автор высказывает надежду, что отсюда
можно сделать выводы касательно влияния теплоты, света и
электричества на тело животного, касательно связи между
страданиями телесными и душевными, касательно связи между телом и
душой, а эта надежда была впоследствии возведена магическим
идеализмом Гарденберга в самые нелепые фантазии. Далее в
сочинении Риттера высказывается предположение, что
гальваническая деятельность обнаруживается во всей природе, что она
есть идеал всех органических существ, что она есть всемирное
животное Allthier, по нервам которого пробегает небесный эфир
и для которого служат мускулами кровяные шарики и млечные
пути мировых тел. От такой разнузданности фантазии, от таких
скорее риторических, чем поэтических мечтаний автор
переходит в последнем коротеньком параграфе к менее химерическим
соображениям. Именно этими соображениями касательно
аналогии между гальваническим, электрическим и химическим
процессами Риттер помог построению системы Шеллинга.
Всматриваясь в приемы Риттера, в его манеру внезапно
перебрасываться от здравых рассуждений к самым
бессмысленным фантастическим выходкам, от дальнозорких выводов к ни
на чем не основанным догадкам, мы понимаем, что от него
должны были отворачиваться и строгие эмпирики, и люди с
философским образованием. Его не без основания считали сбившимся
с пути истинного гением, у которого неясные идеи
перемешиваются с ясными. С течением времени за ним все более и
более упрочивалась репутация ученого-шарлатана, который так
перемешивает определенные химические процессы и явления с
мечтаниями, в которых слышится отзвук подслушанных им
спекулятивных идей, что из всего этого составляется самая
странная микстура. В особенности Шеллинг скоро перешел от
пользования открытиями и идеями Риттера к гордому презрению и к
презрительным отзывам. Своим поведением Риттер еще
усиливал общее к нему нерасположение. Шеллинг и его
последователи обвиняли красноречивого доцента в том, что он пользовался
своим даром слова для того, чтобы привлекать на свою сторону
самых безрассудных людей и составлять партию против
Шеллинга, что к этому побуждали его и недостаток денежных
средств, и сознание недостатка внешнего лоска, что в его лич-
568
Р. ГАИМ
ности было что-то неприятное и что он держался в стороне ото
всех по причине путаницы в своих идеях.
Но именно то, что отталкивало от Риттера представителей
натурфилософии, казалось привлекательным Новалису и
Фридриху Шлегелю. Новалис посетил жившего в одиночестве
Риттера и успел приобрести его расположение выражением своего
искреннего участия; мы знаем от самого Риттера, какого он был
высокого мнения о Новалисе1. А какого высокого мнения был
Новалис о Риттере мы знаем из его писем, в которых он просил
одного из своих родственников о помощи своему бедному другу
и в которых он называл этого друга одним из самых
благородных людей, задававшимся самыми серьезными целями,
оказавшим науке огромные услуги и вместе с тем сохранившим
ребяческую чистоту характера2. Сочувствие Гарденберга к Риттеру
перешло к Фридриху Шлегелю и к его возлюбленной, Доротее,
которые все ближе и ближе сходились с Риттером в то время,
как жили в августе 1800 года в Дорнбурге, вблизи от Йены. В то
время Доротея называла Риттера удивительным человеком,
одним из редких явлений на земле3. Еще полнее она
охарактеризовала его в одном позднее написанном письме к Шлейермахеру:
«Я могу сравнить его только с электрической машиной, которая
возбуждает в нас удивление только своим хитрым механизмом
и в которой мы сначала ничего не видим, кроме чистой воды.
Но тот, кто умеет с ней обращаться, вызывает из нее
посредством самого легкого нажимания красивые искры; впрочем, у
этого писателя, точно так же, как в первом «Письме о „Люцин-
де"», плутовство смешивается с благочестием, еда — с
молитвой»4. Мнение Доротеи было и мнением Фридриха.
Возложенные им на Риттера надежды он публично высказал в одном из
своих лучших стихотворений, в канцоне, в которой он не только
превозносит Риттера как покорителя природы, но и ведет речь
об «источнике искусства», журчащем в груди Риттера и
поощряющем его к поэтическому творчеству. И в прозе Фридрих не
скупился на похвалы. Еще в обзоре литературы, помещенном в
1 Отрывки из найденных после смерти бумаг, с. XVII.
2 Гарденберг к Дитриху фон Мильтицу (у Петерса, «General Dietrich von
Miltiz», с. 32, 33).
3 К Шлейермахеру (в их переписке III, 222) и почти такого же содержания
письмо № 8 к А. В. Шлегелю.
4 В их переписке III, 242.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
569
первом номере журнала «Европа» (1803), он ставил Риттера выше
Шеллинга и вел речь о риторизме его метода, тогда как у того
вовсе никакого метода не было1.
Фридрих Шлегель и его возлюбленная вели в Йене все более
и более уединенный образ жизни. Уже одно это обстоятельство
служило связью между ними и чуждавшимся общества физиком;
летом 1800 года Риттер был почти единственный человек, с
которым они поддерживали знакомство и виделись ежедневно2. Не
подлежит сомнению, что было немало сходства между
склонностью Фридриха к разным вычурным идеям и болезненной
запутанностью идей Риттера. Но благодаря своему многостороннему
образованию, своим разнообразным познаниям и своей
находчивости Фридрих умел выпутываться из хаотического сплетения
противоположных воззрений или посредством удачно приисканной
формулы, или посредством меткого, остроумного словца. Именно
это и придавало особенную привлекательность его личным
сношениям с Риттером. Мягкость была основной чертой в характере
Риттера; у этого писателя была такая же, как у Жан-Поля,
юношески неопытная и застенчивая натура, способная воодушевлять
других и способная сама воодушевляться чужими идеями.
Фридриху нравилось мечтать вместе с этим мечтателем; ему еще
более нравилось подчинять этого мечтателя своему влиянию.
Само собой, Риттеру стал надоедать наставнический тон друга,
стал внушать ему не душевную бодрость, а упадок духа3, и
только в сближении с Гсрдером он впоследствии нашел такое же
удовлетворение, какое прежде находил в дружбе Гарденберга. Гердер
и Гарденберг были его бескорыстными друзьями, а Шлегель был
своекорыстным другом. Этот последний нуждался в
привязанности Риттера, в его познаниях и в его разговорах, нуждался даже в
его литературных трудах. Стараясь поощрять многообещавшего
молодого человека к умственной деятельности, Шлегель, между
прочим, имел в виду приобрести в его лице полезного сотрудника
для членов своего кружка. Ему хотелось добыть что-нибудь у
1 Канцона, в первый раз напечатанная в «Поэтическом журнале» Тика 1,1, с.
217 и ел., удостоилась заслуженных похвал и от В. Шлегеля, и от Шлейермахера;
сравн. «Aus Schleiermachcr's Leben» III, 199, 218 и 228. И в стихотворении
«Herkules Musagetes» Фридрих воспевал «божественного Риттера».
2 Фр. Шлегель к Тику [от] 22 августа 1800 года (у Гольтея III, 316).
3 Отрывки из найденных после смерти бумаг; то, что говорится на с. XXI и
LH, я без колебаний отношу к Фр. Шлегелю.
570
Р. ГАЙМ
Риттера для «Атенея». Он советовал своему брату поручить Рит-
теру составление обзора истории химии для того критического
журнала, которым предполагалось заменить «Атеней»; а Август
Шлегель со своей стороны не безуспешно поощрял своего
младшего брата исполнить данное обещание — «ввести Риттера в
сферу поэзии»1.
Во всяком случае Риттер мог бы быть более полезным
сотрудником «Атенея», чем автором критико-исторических статей
или поэтических произведений. Он имел обыкновение
набрасывать на бумагу свои мысли и причудливые идеи в самом
пестром разнообразии; ему случалось исписать несколько листов в
один день вовсе без намерения отдавать эти листы в печать.
Эти отрывки имеют некоторое сходство с «Отрывочными
заметками» и Фр. Шлегеля, и Новалиса. «В них все говорилось по
инстинкту: доказательствами служили прояснившиеся
инстинкты». В них говорилось, что «искусство делать золото
заключается в умении обходиться без него». Почему же такие мысли
не могли бы находить для себя место в «Атенее»? Разве то не
были отголоски идей Гарденберга, когда Риттер писал, что
музыка была всеобщим языком, лишь впоследствии распавшимся
на различные языки; что следует отучаться от изложения
мыслей словами, чтобы достигнуть чистого самосознания; или
когда он писал «Ночные мысли»? В других заметках излагаются
фантастические идеи о разных экспериментах и открытиях,
такие идеи, в которых проглядывает свойственное Новалису
«искусство изобретать». Всего реже встречаются попытки
выяснить какое-нибудь понятие путем правильного мышления. Всего
чаще попадаются запутанные, расплывшиеся идеи, полуидеи и
«четверть-идеи», которые разлетаются, как мыльные пузыри.
К непереваренным кусочкам новейшего идеализма
примешивается немного химии или физики. Попадается и примесь
этических воззрений, которые почти исключительно состоят из
вариаций на тему: «Главный козырь в игре жизни — сердце». При этом
проглядывает и удостоившаяся от Фр. Шлегеля похвалы
склонность к поэзии вместе со склонностью к ямбическому
стихотворному размеру2. Попадаются сентиментальности вроде сле-
1 «Aus Schleiermacher's Leben» III, 185; письма Фр. Шлегеля к своему брату
№ 146 и № 155 и к Тику (у Гольтея III, 239).
2 Фр. Шлегель к Шлейермахеру III, 181 : «Когда Риттер хочет парить
высоко, он пишет чистыми ямбами».
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
571
дующей: «Месяц есть тайная любовная записочка от солнца к
земле, это рефлексия любовного влечения высшего человека к
земной возлюбленной». Эти сентиментальности более сносны,
чем те основные положения, в которых воззрения этические,
физические и метафизические смешиваются в явную
бессмыслицу; так, например, Риттер говорит, что свет есть внешнее
проявление тяготения, а любовь — внутреннее проявление; что
развитие Земли, начиная с воздуха и кончая человеком, описывает
круг, на периферии которого повсюду выступает наружу дуализм
Добра и Зла; что Зло является в воздухе в виде азота, в воде —
в виде водорода, наконец, в человеке — в виде совокупности
всего, из чего состоит сам черт! Среди всех этих нелепостей
даже почти приятно натолкнуться на каббалистические
сочетания цифр и словопроизводства вроде тех, какие встречаются у
Кратила и в «De natura Deorum» («О природе богов».—Прим.
науч. ред.) Цицерона. Не подлежит никакому сомнению, что
одной из главных причин этого болезненного и дикого
настроения ума были необразованность и невежество автора.
Из совершенно таких же задатков и условий когда-то
возникла глубокомысленная болтовня гёрлицского башмачника. Тик
стал теперь превозносить этого писателя, как своего главного
святого; Новалис разделял это увлечение: он постарался
подражать старому мистику и обратился к Тику со стихотворением,
в котором от имени Якоба Бёма возводил своего друга в звание
«предвозвестника утренней зари». И Фр. Шлегель
присоединился к этому культу: он возложил на Шлейермахера обязанность
изучить произведения Бёма, этого philosophus teutonicus
(тевтонского философа.—Прим. науч. ред.), потому что именно в его
произведениях христианство соприкасается с теми двумя
сферами, «в которых революционный дух действует в настоящее
время всего успешнее, — с физикой и с поэзией». Риттер также
изучал произведения Бёма и даже намеревался писать о них статью.
Разве он и без этого изучения не был уже достаточно похож на
Бёма нелепостью своих идей! Действительно, жившим в Йене
романтикам не было надобности искать так далеко то, что им
было нужно: в лице Риттера жил среди них Бём восемнадцатого
столетия. Новое время, конечно, не было благоприятно для
людей этого рода. Фр. Шлегель не имел успеха со своими
пророческими предсказаниями. Он был расположен ставить
неразвитые этико-религиозные воззрения Гюльсена выше воззрений
572
Р. ГАИМ
Шлейермахера, он предпочитал неметодические фантазии Рит-
тера методическим фантазиям Шеллинга; но звезды Гюльсена
и Риттера угасли. В 1805 году Риттер избавился от печального
положения, в котором находился в Йене и которое становилось
все более печальным по его собственной вине. В Мюнхене он
попал на такую почву, на которой по меньшей мере мог бы
излечиться от своей путаницы идей. Впоследствии Гюльсен и
Риттер сошлись на меже между натурфилософией и суеверием. Они
умерли почти в одно время: один после спокойной замкнутой
жизни, другой после тревожной жизни, не оправдавшей того, что
она обещала в течение непродолжительного времени. Именно
это непродолжительное время было цветущим временем
романтизма. Риттер служил доказательством того, в какой мере смесь
различных элементов, вызванная романтическим брожением
умов, уже сделалась эпидемической силой. Самые
разнообразные направления ума сливаются у него вследствие мягкости его
натуры и вследствие его самовоспитания. В его уме
перемешиваются самые яркие особенности умов Гердера, Гарденберга,
Шлегеля, Шеллинга и Шлейермахера. Действительно, он усвоил
даже некоторые из идей Шлейермахера. Между тем как
Шеллинг противопоставлял свой эпикурейский символ веры новым
проповедникам католической религии, Риттер усердно читал
«Речи» Шлейермахера, восхищался «Монологами» и
интересовался «Письмами о „Люцинде"». Фридрих и Доротея постоянно
утверждали, что Риттер и Шлейермахер сходились в
убеждениях и будут обоюдно полезны один другому1.
Эти ожидания не оправдались, и Доротее было не суждено
насладиться тем счастьем, чтобы Фридрих, Гарденберг, Риттер
и Шлейермахер составляли, по ее выражению, «всю церковь».
Несмотря на неоднократные и настоятельные приглашения со
стороны Фридриха и Доротеи, Шлейермахер не приезжал в Йену, он
не свел личного знакомства ни с Гарденбергом, ни с Риттером.
Посредником между ними и Шеллинговой натурфилософией был
другой человек, в то время лишь изредка с ним встречавшийся,
но по своему образованию, по своей сильной склонности к
мистицизму и поэтическому направлению своего ума имевший
совершенно иные права на его дружбу, чем Риттер и Шлегель.
Дружеская связь, о которой здесь идет речь и которая была столько же
1 «Aus Schleiermacher's Leben» III, 166, 174, 181, 186 и т. д.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
573
сердечной, сколько научной связью, возникла в то время, когда
Шлейермахер стал с 1804 года работать вместе со Стеффенсом
в Галле. Сначала Генрих Стеффенс был связан крепкими узами с
Шеллингом, который с самого начала своей литературной
деятельности нашел в нем даровитого союзника. Поклонник и
ученик Шеллинга, Стеффенс отличался таким широким воззрением
на природу, таким сильным влиянием на дальнейшее развитие
натурфилософии, что его следует считать не только первым
проповедником нового натурфилософского учения, но и почти одним из
основателей этого учения.
Стеффенс сам описал внутренний и внешний ход своей жизни
со свойственным ему привлекательным красноречием, опираясь
на свою удивительно твердую память. Его мемуары уже
неоднократно служили для нас источником сведений. И теперь они
будут служить для нас руководством для краткого очерка
умственного развития этого писателя; они особенно интересны в том
отношении, что из них видно, каким образом романтическое
направление возникало постоянно по одним и тем же причинам,
несмотря на разнообразие внешних условий, и каким образом оно
сделалось достаточно сильным для того, чтобы взять верх даже
над различиями национального происхождения.
Стеффенс сам охотно упоминает о том, что был норвежским
уроженцем. В Ставангере (в Норвегии), куда его отец,
родившийся в Голштинии, переехал на должность хирурга, он увидел свет
в одном году с Тиком, 2 мая 1773 года. Разнообразными чертами
своего характера он, очевидно, был обязан обоим своим
родителям. Он унаследовал от отца живость характера,
раздражительность и горячность, иногда проявлявшиеся в склонности
красноречиво сообщать другим свои чувства; склонность к
мечтательности и к углублению в самого себя он унаследовал, как
кажется, от матери, которая, по его рассказам, была кроткая,
болезненная женщина, искавшая утешения в религии. В Гельзин-
гере, куда переехали его родители на жительство, он в первый раз
испытал такие впечатления, которые имели решающее влияние
на его жизнь; жизнь этого приморского города возбудила в нем
страсть к путешествиям, желание знакомиться с другими
городами, странами и людьми; тогда в нем зародилась та любовь
к природе, которая уже никогда не покидала его в течение всей
его жизни. В следующем месте пребывания своих родителей, Рес-
кильде, он не переставал находить тихие наслаждения в созерца-
574
Р. ГАЙМ
нии природы. Чтение нескольких сочинений по истории
естествознания заставляло его интересоваться минералогией и царством
растений; в то же время он с жадностью читал отечественную
историю и, ввиду своего предназначения для духовного звания,
занимался, под руководством своей благочестивой матери,
религиозными чтениями и размышлениями. Ему было четырнадцать
лет, когда его отец был переведен в Копенгаген. Этим
переселением и, в особенности, смертью матери были прерваны его
религиозные занятия: естествознание стало все более и более
выдвигаться на передний план. Прежнее школьное образование не принесло
ему большой пользы, потому что с частыми переменами места
жительства менялись и школы, в которых он обучался; плохая
подготовка к университетским лекциям привела к тому, что
внушила ему отвращение к филологии. Вместо филологии он стал
изучать естественные науки из произведений Бюффона и Линнея
и из лекций Ваала. С поступлением в Копенгагенский университет
он отказался от намерения изучать теологию. Так как этот
университет находился в то время в большом упадке, то Стеффенс
не мог там многому научиться; более надежную опору для
своего влечения к естественным наукам он нашел в копенгагенском
частном обществе, основанном для поощрения к изучению тех
наук. Дабы приобресть от этого общества стипендию на
путешествия, он стал заниматься преимущественно минералогией и орик-
тогнозией. Уже в то время он решился печатать свои статьи; они
не всегда были написаны на тему естествознания; по меньшей
мере в одной из них он попытался, по примеру Гердера,
изобразить ход истории человечества в виде непрерывного умственного
развития. Его живой ум, не остававшийся равнодушным и к
идеям Французской революции, очевидно, был способен
одновременно интересоваться и нравственными и естественными условиями
человеческой жизни. К этому двойному интересу присоединялся
интерес к поэзии и к литературе. В то время датские писатели
вообще брали за образец воздержанную, описательную и
нравоучительную поэзию англичан; только драма получила
своеобразную обработку у Гольберга. Не выходя из этих рамок, друзья
Стеффенса занимались эстетикой, критикой и литературной
деятельностью под руководством эклектически настроенного Рабе-
ка. Но сам Стеффенс, научившийся от своего отца по меньшей
мере понимать немецкий язык, знакомил датских писателей с
более глубокими воззрениями немецкой критики и с более богатым
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
575
содержанием юной немецкой поэзии. Он изучал произведения
Лессинга и был в восторге от гётевских «Эгмонта» и «Фауста».
С пылким поэтическим желанием изучить природу во всех ее
разнообразных явлениях и с неясными догадками об ее
таинственной всеобъемлющей сущности, он предпринял свое первое
путешествие на деньги, полученные в виде стипендии. Лето 1792 года
он провел на западном берегу Норвегии для собирания
моллюсков. Но как ни богато было это путешествие добытыми на опыте
сведениями, как ни разнообразны были вынесенные из него
впечатления, впоследствии послужившие темой для обработки в
форме новелл, его научные результаты были незначительны; Стеф-
фенс понял, как недостаточны были его познания, и он впал в
уныние, доходившее до мучительного скептического душевного
настроения. Описание тревоживших его дум напоминает такое
же душевное состояние юного Тика: в одном из своих писем к
Шеллингу1 он говорил, что великолепная цельность природы,
бывшая предметом его мечтаний с самого детства, распалась на
тысячи обломков, которые он тщетно пытался снова соединить в
единое целое; что овладевшее им отчаяние было последствием
того дикого воззрения на природу, которое соединяло
историческую точку зрения с физической и не находило в природе ничего
другого, кроме бесцельного и бесконечного созидания и
разрушения. К этим душевным страданиям присоединилось внешнее
несчастье. Чтобы избежать упреков за мнимую бесплодность
своего путешествия, Стеффенс предпринял поездку в Германию, но
по пути подвергся кораблекрушению; когда, наконец, ему удалось
высадиться на твердую землю в Гамбурге, оказалось, что он не
спас ничего, кроме своей жизни. Не зная на что решиться, он
провел некоторое время в этом городе без всяких занятий, пока
нужда и болезнь не принудили его искать убежища у отца, жившего в
то время в Рендсбурге. Только там в нем снова пробудились его
умственные силы. По прошествии целого года, проведенного в
трудах, он нашел для себя в Киле плодотворную сферу
деятельности в звании доцента. Но к нему в то время не воротилась его
прежняя уверенность в успехе научных стремлений; изданное им
в 1797 году первое немецкое сочинение о минералогии носило на
себе следы этой неуверенности в самом себе; оно, как он
впоследствии сам говорил, было замечательно только тем, что в каж-
1 «Aus Schelling's Leben» 1, 306 и ел. Дрезден, от 1 сентября 1880 года.
576
Р. ГАЙМ
дой его строке можно было прочесть тревожное искание какого-
то утраченного сокровища. Наконец, для него настало такое
время, когда он должен был мало-помалу вновь вступить в
обладание тем утраченным сокровищем посредством отвлеченного
мышления. В сфере немецкой духовной жизни уже с некоторого
времени блистали имена двух великих философов — Спинозы и
Канта. Стеффенс обратил внимание на учение Спинозы
благодаря сочинению Якоби об этом учении. С философией Канта он был
знаком ранее, но она отталкивала его своими воззрениями.
Напротив того, его привлекал к себе Спиноза. После душевных
потрясений, вынесенных из чтения произведений Гёте и Шекспира,
он находил наслаждение в душевном спокойствии, которым веяло
от этики Спинозы. Единство всего бытия, бывшее предметом его
юношеских предчувствий, теперь подтверждалось великим
философом. Гений поэзии помог ему перейти от учения Спинозы к
учению Фихте. Из Германии ему суждено было получить
исполнение тех надежд и разрешение тех сомнений, которые были в
нем возбуждены знакомством с сочинениями Спинозы. В нем уже
стало пробуждаться мужество под влиянием того, что он узнал о
деятельности Фихте, и под влиянием поэтико-философского духа,
сказавшегося в шиллеровском «Hören». Наконец, его мужество
воспламенилось с появлением «Идей» и «Души мира» Шеллинга.
Даже на закате своей жизни он с воодушевлением говорил о том
замечательном моменте, когда он нашел в этих сочинениях новое
освещение мира. «Мне казалось, — писал он Шеллингу, — что эти
сочинения были написаны именно для меня!.. Все сделалось для
меня ясно и светло!.. То, что прежде было для меня надеждой,
сделалось убеждением. Мир сделался для меня более ясным, моя
собственная натура сделалась для меня более понятной, моя
деятельность сделалась более спокойной и более систематичной.
Я снова стал жить жизнью своей юности; мечты детства
сделались для меня милы и вся жизнь природы стала охватывать меня
сильнее, чем когда-либо».
Стеффенс писал это письмо к Шеллингу уже после того, как
прожил более двух лет в Германии. Уже с того момента, как он
познакомился с новой философией, для него стало ясно, что для
своего дальнейшего умственного развития он найдет все, что
нужно, только там, где зародилась эта философия. Полученная
им от датского правительства стипендия на ученую экспедицию
предоставила ему возможность исполнить замысел. Весной
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
577
1798 года он отправился в Германию, полный таких же розовых
надежд, с какими пилигрим отправляется к святым местам или
вдохновленный художник в Италию. Он нашел в Германии едва
ли не более того, чего ожидал. Подобно хорошо
подготовленному ученику, он быстро восполнил недостаток своих научных
познаний. Тогда он понял, из какого смешения разносторонних
умственных стремлений возникла натурфилософия Шеллинга. Он
прочел в первый раз «Основные начала науки» и в первый раз
познакомился с воззрениями и стремлениями обоих Шлегелей;
он вник в связь между философией Фихте и философией Канта и
с сочувствием прочел в «Атенее» указание на три главные
тенденции века. После такой подготовки, он лично познакомился
осенью 1798 года с Шеллингом, и между ними скоро возникла
дружеская связь. В написанных после того сочинениях Шеллинг
сам указал на то, чем был обязан своему новому приверженцу.
А как увлекался Стеффенс идеями Шеллинга, видно из его
собственных красноречивых признаний. Он вообще считал себя
учеником Шеллинга. В качестве иностранца, он, конечно,
находился в зависимости от общего духа времени, от
господствовавшего в Йене романтического направления. Однако это не
мешало ему усваивать по-своему и учение Шеллинга, и эстети-
ко-философские идеи романтиков. Эти идеи, возникшие из
юношеского воодушевления, сделались в его уме еще более
юношескими и еще более воодушевленными. Прежде чем состариться,
они помолодели в уме Стеффенса, которому казалось, что он
снова переживает те счастливые дни, которые проводил в Рес-
кильде. Семена новой умственной жизни стали давать
роскошные плоды, как будто найдя в его душе совершенно свежую,
еще вовсе невозделанную почву. Несмотря на то что он
принадлежал к старому кружку, к первому поколению романтиков, он в
то же время, по-видимому, был передовым представителем
нового, более молодого поколения. Такое впечатление мы
выносим из первого значительного сочинения, написанного Стеффен-
сом в Германии под влиянием направления немецких умов.
В Йене он вступил в сношения с главными представителями
немецкой философии и поэзии — с Гёте и с Фихте; там он часто
виделся с Шеллингом, со старшим Шлегелем и с их близкими
друзьями; постигшую Фихте катастрофу он пережил там с
юношеским участием к судьбе философа. Из Йены он отправился на
четыре недели в Берлин для того, чтобы познакомиться там с Ти-
19 Зак. Χ« 3602
578
Р. ГАИМ
ком, со Шлейермахером и с младшим Шлегелем1. Ему
оставалось познакомиться только с Гарденбергом. Это знакомство он
завел во Фрейберге, куда не совсем охотно отправился для своих
практических занятий, потому что его сердце оставалось в Йене,
а теоретические стремления интересовали его в то время
сильнее практических задач. Однако именно по этой причине его
пребывание во Фрейберге было для него чрезвычайно плодотворно.
В трудах, которыми он там занимался под руководством Верне-
ра, его уму были постоянно присущи те идеи, которые он усвоил
в Йене. Вернеровская геогнозия и Шеллингова философия
сочетались в его голове и вызвали ряд новых плодотворных идей.
Естествознание и история, между которыми всегда разделялись
его симпатии, соединились в его уме в единое целое под
влиянием недавних поощрений к отвлеченному мышлению и породили
более широкое мировоззрение. К этому присоединилось его
влечение к поэзии и отсюда возникло такое сочинение, какое даже
самым даровитым людям удается написать только один раз,
только в самую цветущую пору их жизни: по словам самого Стеффен-
са, он изложил «основную тему своей жизни» в «Приложениях к
естественной истории Земли» («Beiträge zur inneren
Naturgeschichte der Erde»)2.
По меньшей мере в начале этого сочинения видно более
сильное, чем у Шеллинга, старание постоянно ссылаться на факты
и объяснять их внутренний смысл. Здесь натурфилософия,
по-видимому, приобретает плоть и кровь, по-видимому, вырастает
более сочной из почвы естественно-научного опыта. Ссылаясь на
строго эмпирические доводы и на химические опыты, автор
начинает с объяснения, что Земля состоит из двух
противоположных один другому слоев. Геогностические наблюдения Вернера
1 При описании этого пребывания в Берлине (в «Мемуарах», т. 4) Стеффен-
су иногда изменяет память. В то время Фр. Шлегель еще не оставлял Берлина;
также неверно, будто Стеффенс не посещал Шлейермахера. Он писал из Фрей-
берга 26 июля 1799 года А. В. Шлегелю (№ 1 писем Стеффенса к А. В. Шле-
гелю в бумагах Бёкинга): «Мне доставило в Берлине большое удовольствие
знакомство с Вашим остроумным братом... хотя я, конечно, не всегда схожусь
с ним во мнениях»; он также был доволен знакомством с Тиком: «Я мог бы
назвать его эстетиком моей души». «Кроме того, мне доставило удовольствие
знакомство с остроумной г-жою Вейт и с добрым Шлейермахером». Сравн.
письма: Фридриха к В. Шлегелю № 137 и Стеффенса к Шеллингу («Aus
Schelling's Leben» 1, 264).
2 В одной части. Фрейберг, 1801.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
579
приводятся им в доказательство того, что противоположность тех
двух слоев обнаруживается и в великом химическом процессе
земного шара: с одной стороны — в сланцевой формации, с другой
стороны — в известковой формации. Полагая, на основании
некоторых указаний опыта, что первая формация состоит из осадков
растительного процесса, а вторая — из осадков царства
животных, автор задается намерением доказать, что тенденция
природы производить растения и животных объясняется
первоначальной организацией земного шара, задается намерением изложить
историю внутреннего развития земного шара. При разрешении
этой задачи он объясняет, что металлы образуют два слоя,
соответствующие двум слоям Земли — растительному и животному.
Но чем далее развиваются его воззрения, тем слабее становятся
доказательства их основательности. Смелый и талантливый
автор, сначала добросовестно придерживавшийся указаний опыта,
начинает увлекаться полетом своих идей и, уже высказав их,
начинает искать для них доказательства; в его изложении
оказываются пробелы, которые он старается восполнять догадками и
предположениями. Идеалистическое воззрение и
натурфилософское убеждение, что мы должны искать «в глубине нашего духа»
ключ к пониманию тайн природы, отнимают у автора способность
сохранять в своем изложении хладнокровие и последовательность.
Он с нетерпением забегает вперед того, что может быть
доказано, и положительно ссылается на свое право освещать при
помощи «догадок» то, что еще не освещено опытом. Все признаки
строгой методичности, которой он придерживался в начале своего
сочинения, совершенно исчезают, когда он говорит, что кислород
и водород такие же представители электричества, как азот и
углерод — представители магнетизма; что электричество есть
принцип метеорологии, магнетизм — принцип настоящей
геологии. Все это он обещал доказать в следующей части своих
«Приложений». Первая часть кончается торопливо стремящимся к
своей цели очерком или, по выражению Стеффенса, «только
простым рассказом» постепенного развития творческой
деятельности природы. Здесь автор проводит ту мысль, что природа не ищет
ничего другого, кроме самого индивидуального развития.
Ссылаясь на Кильмейера и на «Очерк» Шеллинга, он объясняет, каким
образом над миром растений господствует производительная сила
природы; каким образом с появлением раздражительности
начинается переход от растительной жизни к животной и как при этом
580
Р. ГАИМ
все усиливается восприимчивость чувственных органов. С
постоянным усилением индивидуальности природа все более
приближается к господству интеллигенции. Наконец, появляется на
сцене человек. У Стеффенса все сводится к развитию свободной
личности: «Кто стоит сам за себя и кто тверже всех стоит за
себя, тот достиг самого индивидуального развития, тот есть
самый настоящий человек». Ведь, по мнению автора, и в области
интеллигенции обнаруживается постепенность творческой
деятельности природы. Он оканчивает свое сочинение следующими
словами: «Кому природа даровала способность находить в самом себе
ее гармонию, тот носит внутри себя целый беспредельный мир,
тот есть самое индивидуальное создание — священный жрец
природы!».
Редко случается, чтобы в ученом сочинении запечатлелась
человеческая личность с такой же полнотой, как в «Приложениях»
Стеффенса. Здесь автор всецело погрузился в предмет своих
исследований, поэтому он пришел только к тому результату, что в
заключение возвратился к сознанию своей собственной личности. Это
более того, что сделал Шеллинг. Стеффенс глубже Шеллинга
проникает в смысл чисто физических явлений для того, чтобы
достигать не только философских выводов, но также более
возвышенных поэтических воззрений, более возвышенного
выражения нравственно-религиозных чувств. Исходя из конкретных
начал, Стеффенс достигает конкретных целей. Первыми он
значительно подвинул вперед науку, вторыми он значительно подвинул
вперед всю нашу умственную жизнь. Его многосторонние
химические, физические, геогностические познания в связи с его
остроумным методом обратили на его труд внимание самых точных
исследователей природы. Благодаря богатству своего
содержания его сочинение произвело переворот прежде всего в
натурфилософии. Оно дало основным идеям Шеллинга более твердую
основу и, по признанию самого Шеллинга, имело влияние на его
описание динамического процесса в «Журнале для спекулятивной
физики». Но это было еще не все. Воззрения Стеффенса
оказались плодотворными именно потому, что он сошел со строго
методического пути, примешал к исследованиям свое
воодушевление и придал своему сочинению личную окраску. Стараясь
доказать, что природа развивается исторически, что историю
создает сама природа, что в каждом бытии соединяются в единое
целое природа и история, он сблизил физику с этикой и указал на
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
581
переход от науки к религии. Это был тот пункт, к которому мог
впоследствии примкнуть Шлейермахер. Благодаря Стеффенсу
натурфилософские воззрения вступили с воззрениями
нравственными и религиозными в такую прочную связь, какой они
никогда не могли бы достигнуть при посредстве неразвитых идей
Гюльсена.
Вместе с этим натурфилософия приобретала возможность
оказывать обратное влияние на поэзию. В период своего
первоначального развития она питалась поэтическими
произведениями Гёте; в особенности Стеффенс искал в этих произведениях
опоры для своих поисков животворящего духа природы; из
«Фауста» он извлек луч надежды, когда тщетно искал выхода из
запутанных теорий, рассматривающих природу по частям.
Теперь он счел своим долгом с благодарностью возвратить Гёте
то, что получил от него. Гёте были посвящены «Приложения к
естественной истории Земли». В обширном посвящении Стеффенс
говорил, что в его сочинении господствует дух гётевской поэзии с
ее «вечными гармониями», что поэтому он кладет это сочинение
«в дельфийском храме высшей поэзии»; а к кому другому, кроме
Гёте, могли относиться последние слова сочинения, в которых
законченный поэт назывался «высшим продуктом творческой
природы»?
Сам Стеффенс чувствовал сильное влечение к поэзии, но его
беспокойный ум, постоянно занятый исследованиями природы и
философскими выводами, не был в состоянии предаваться тому
спокойному созерцанию, которое создает образы, выражающие
затаенную мысль поэта. К тому же он еще не был близко знаком
с задачами искусства; он стал мало-помалу с ними знакомиться
в Дрезденской галерее, которую посещал, выезжая из Фрейбер-
га1. Когда он впоследствии стал лучше владеть немецким
языком, ему удавались поэтические произведения в форме
написанных прозой новелл. Только тогда он узнал по опыту, что и для его
богато одаренной натуры существовали определенные границы.
Он долго и упорно пытался переделать в драму одну страшную
историю, случившуюся на его северной родине, но ему никак не
удавалось составить ясный план драматического изложения.
Философ брал в нем верх над поэтом. Ему хотелось написать эпи-
1 Сравн. с «Was ich erlebte» письмо к Каролине Шлегель от 26 июля 1799 года
(«Aus Schelling's Leben» 1,267).
582
Р. ГАЙМ
ческую поэму, «Epos des Alls», как он выражался, но он тотчас
убедился в беспредельности такой задачи. Но если ему самому
было отказано природой в даре поэтического творчества, то он
мог оплодотворять чужую поэтическую деятельность своими
поэтическими идеями. Именно такое влияние он оказал на Тика.
Кроме Новалиса, опоэтизировавшего в «Офтердингене» свою
собственную натурфилософию, и Тик обнаруживал в своей поэзии
сочувствие к тому научному направлению, которое старалось
исследовать и объяснить таинственный дух природы. Любовь
к природе сказывалась почти во всех его стихотворениях, и в
«Штернбальде», и в «Цербино», и в «Белокуром Экберте».
Именно элементарные силы природы, именно неопределенные
очертания цветов, облаков, рек, гор и звезд служили для него способом
выражения тех неясных, невыразимых чувств, которые
преимущественно перед всем другим налагали свой отпечаток на его
душевную жизнь. Поэтому прежнее направление его ума должно
было усилиться, когда он увидел, что натурфилософия
занималась не одними только чувственными впечатлениями, но также
идеями, что она пыталась объяснить деятельность единого духа
в природе. Именно по этой причине он чувствовал влечение к Якобу
Бёму и так близко сошелся с Новалисом. Что же удивительного
в том, что в Йене среди кружка писателей, занимавшихся
физикой и натурфилософией, он мечтал о «филофизике» и нашел в ней
поощрение к новому поэтическому творчеству? Под этими
влияниями он стал чаще прежнего переходить от фантастических
описаний природы к мистическим объяснениям ее явлений. К
«Белокурому Экберту» и к другим «Народным сказкам» он прибавил
новый ряд вымышленных рассказов. Все они отличаются
старанием глубже проникать в тайный смысл естественных явлений и
в их связь с мрачными человеческими страстями,
действующими точно так же, как действует природа. Вскоре после своего
первого приезда в Йену он написал рассказ «Der getreue Eckart
und der Tannenhäuser» («Преданный сторож и Экарт». — Прим.
науч. ред.). Он закончил этот рассказ утром после той ночи, в
которую заключил дружеский союз с Новалисом и снова
пробудил в себе заснувшее влечение к поэзии. Представление о
заколдованной горе, которая служит жилищем для Венеры и находится
под охраной верного сторожа Экарта, соединилось со сказанием
о гамельнских крысоловах в одну страшную историю,
изложенную частью стилем старинных франкских романсов, частью на-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
583
стоящим сказочным стилем; а несвязность этой истории находит
для себя единство только в чувстве ужаса, составляющего
основной тон всего рассказа. Мысль Гарденберга, что человек
находит в природе свою собственную душу, получает у автора
«Ловеля» более мрачный характер: только в состоянии
умопомешательства человек разгадывает тайны природы. Но к этому
мрачному настроению присоединяются другие тона, в которых
сказывается более глубокомысленное и чисто поэтическое
понятие о природе. Автор описывает яркими красками ужасную
магическую силу, с которой действует на чувственность чародей
Венериной горы; мы невольно увлекаемся вслед за ним в ту
пропасть, где текут подземные реки, где живут духи, где кроются те
отдельные тона, из которых возникает земная музыка. В этой
тенденции возбуждать ужас описанием демонических сил природы
сказывается отличие этой поэзии от натурфилософии: ведь
натурфилософия старалась возвысить дух природы до самосознания и
этим способом разогнать страх, внушаемый явлениями природы,
а поэзия Тика, напротив того, производит впечатление тем, что
все разумное и духовное в природе заменяет бездушной
бессознательностью. Хотя Тик и изучал произведения Шеллинга
по-своему1, он нашел опору для такого воззрения на природу не у
Шеллинга, а у Стеффенса. Этот последний был на собственном опыте
знаком с таким душевным настроением, какое господствовало в
произведениях Тика, а его фантазия была ежеминутно готова
воспроизводить эти давно пережитые впечатления. Он познакомился
с Тиком в Дрездене в 1801 году. Тик поселился там с весны на
продолжительное время. Стеффенс, после окончания своих
занятий во Фрейберге, жил в то время вблизи от Дрездена, в Фаранде,
и почти ежедневно приезжал в город главным образом для того,
чтобы видеться с Тиком. Предметами разговора между двумя
друзьями были природа, ее тайны и взаимные отношения между
природой и человеческим духом. Стеффенс описывал Тику
впечатления, которые производила на него гористая Норвегия: ему
казалось, будто земля раскрывала перед ним свои самые
сокровенные тайны, будто она, со своими цветами и лесами, была лишь
приятной для глаз, легкой крышкой, под которой скрывались
неистощимые сокровища; будто она возвышалась в виде гор для того,
чтобы подхватить его и повергнуть в пропасть. Памятником этих
1 Тик к В. Шлегелю № 17 (в конце 1801 года).
584
Р. ГАЙМ
рассказов Стеффенса и своеобразным поэтическим отголоском
натурфилософских воззрений была мрачная сказка Тика «Рунен-
берг»1. Здесь изображается противоположность между
радостным чувством светлой жизни и мрачными мыслями при
созерцании грозных сил неорганической природы. Здесь впечатления,
производимые дикими горными ущельями и ревом
низвергающихся с гор потоков, противопоставляются впечатлению,
производимому приятной для глаз равниной; впечатление, производимое
красноватым блеском холодного металла, противопоставляется
удовольствию смотреть на пестрые, невинные цветки. И в более
позднюю пору своей жизни Тик обрабатывал такие же темы в
своих сказочных рассказах о волшебстве любви, об эльфах, о
кубке, но нигде символика природы не выражалась так ясно, не
излагалась так поэтично, как в «Руненберге».
Таково было влияние натурфилософии на настоящего поэта.
Касательно влияния, которое она могла иметь на теорию
романтизма, мы должны обратиться за сведениями к эстетикам
романтической школы. Фридрих Шлегель называл «филофизику»
«источником поэзии и поощрением к ней». Но его брат еще более
него сходился с мнениями натурфилософа: Август Шлегель
гораздо дольше него занимался ремеслом поэта и, несмотря на
ограниченность своих способностей к философии, чрезвычайно
интересовался физикой. В сонете, в этой обычной форме
романтических декретов, он воспевал великого мыслителя, устами
которого говорит Протей природы, и естествоиспытателя,
«утолявшего свою жажду из источника поэзии». Август Вильгельм
интересовался натурфилософией главным образом потому, что
она была проникнута духом поэзии. Даже гётевская поэзия
природы так сходилась с воззрениями Шеллинга на природу, что
могла быть подведена под одну с ними теорию; можно было
подумать, что в натурфилософии сделан был gradus ad Pamassum (шаг
к Парнасу. — Прим. науч. ред.), было открыто средство
обходиться без индивидуальной поэтической гениальности: стоило
только усвоить поэтическое воззрение на природу, изложенное так
ясно, что каждый мог бы пользоваться им для поэтической
деятельности, — тогда достаточно было бы только уменья владеть
1 Она была напечатана сначала в «Карманной книжке» на 1802 год, а потом
в «Фантазусе» 1,239 и ел. и в полном собрании сочинений IV, 214 и ел. Она была
написана в течение одной ночи; см. письмо к В. Шлегелю № 25 без пометы числа,
но без всякого сомнения от 1803 года.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
585
языком для того, чтобы поэтические произведения à la Goethe
появлялись на свет как бы сами собой. Поэтому Август Шлегель,
всегда старавшийся расширять господство поэзии, пришел к
убеждению, что физика представляет собой новую область для поэзии.
Он выразил эту мысль в одном из своих писем к Шлейермахеру, а
впоследствии в своих берлинских лекциях. «Я вижу, — писал он
9 июня 1800 года Шлейермахеру, — что настоящие физики уже
все перешли на нашу сторону. В этом есть что-то заразительное,
что-то эпидемическое; действительно, процесс депоэтизирования
продолжался долго; наконец настало время снова опоэтизировать
воздух, огонь, воду, землю. Гёте долго мирно блистал на
горизонте, теперь разразилась собравшаяся вокруг него поэтическая гроза
и люди второпях не знают, который из старых заржавленных
снарядов поставить на домах в виде громоотводов против поэзии»1.
Действительно, один из таких настоящих физиков серьезно
пытался превратиться в поэта. Это был не кто иной, как сам
Шеллинг. Между тем как его натурфилософия влияла на
содержание и на теорию поэзии, наоборот, и поэтические стремления
романтиков влияли на него самого. Еще в школе он приобрел
замечательную ловкость в сочинении латинских гекзаметров и
пентаметров, а теперь он стал охотно учиться немецкому
стихотворному размеру у своего друга Августа Вильгельма. Он
нашел в доме товарища другую приманку к стихотворству. В то
время как он читал с Каролиной произведения Данте и пробовал
переводить их, сердце влекло его к дочери Каролины, к
привлекательной Августе Бёмер. По всему вероятию, к ней относились
те стансы, которые были написаны юным поэтом-философом в
то время, как около Рождества 1799 года в доме Шлегеля
господствовало «неистовое влечение к сочинению стансов». Они
должны были служить введением к большому стихотворению,
вроде аллегорической поэмы Данте, к такому стихотворению о
природе, о каком также мечтал Стеффенс и о каком долго
помышлял сам Гёте. Друзья Шеллинга с нетерпением ожидали
появления такого «эпоса природы»; летом 1800 года Шеллинг
действительно обработал начало задуманного произведения, но
чем более он убеждался, что в таком спекулятивном эпосе о
природе заключается высшая задача и настоящий идеал новей-
1 «Aus Schleiermacher's Leben» III, 182. Почти слово в слово то же самое
писал Фр. Шлегель в статье «Lieber die Unverständlichkeit» («Атеней» III, 2, с. 349).
586
Р. ГАИМ
шей поэзии, тем менее можно было ожидать исполнения его
проекта. Он слишком много заботился о внешней форме: искусство
служило препятствием для развития его поэтических идей. Он
неоднократно говорил А. В. Шлегелю о своих уже написанных
элегических и эпиграмматических стихотворениях, но одни из них
находил негодными для печати, в других же был недоволен их
техникой и просил у своего друга советов и указаний. Из этих
опытов элегических стихотворений попали в «Альманах Муз»,
издававшийся старшим Шлегелем вместе с Тиком, только
небольшое стихотворение «Thier und Pflanze» («Животное и
растение».— Прим. науч. ред.), излагавшее неизящным
доктринерским тоном одну натурфилософскую идею; одна эпиграмма «Das
Loos der Erde» («Судьба Земли».—Прим. науч. ред.), также
находившаяся в связи с натурфилософией; одна незначительная
песенка, подражавшая тону старинных немецких народных
песен; и, наконец, похожий на романс рассказ «Die letzen Worte des
Pfarrers zu Drottning in Seeland» («Прощальное слово пасторов
из округа Зеландии».—Прим. науч. ред.), в котором изложено
терцинами одно страшное происшествие, которое Стеффенс
намеревался переделать в драму. Шеллинг не старался
преувеличивать достоинство этих мелких произведений и даже не хотел
поставить под ними свое имя; он хотел подписаться под ними
словом «Venturus» («Удачливый».—Прим. науч. ред.), потому
что сам был именно таков; но Шлегель заменил это слово словом
«Bonaventura» (Счастливая судьба.—Прим. науч. ред.), как бы
желая этим приветствовать в лице Шеллинга будущего поэта1.
1 Касательно отношения Шеллинга к Августе Бёмер сравн. «Aus Schelling's
Leben» 1,247 и ел., в особенности с. 310. Относительно стихотворений,
помещенных в «Альманахе Муз», и других см. там же на с. 343 письмо Шеллинга к
А. В. Шлегелю от 3 июля 1801 года; кроме того, два недостающие у Плитта
письма от 10 ноября 1800 года и от 20 апреля 1801 года (№ 2 и № 4 в бумагах
Бёкинга). В этом последнем письме среди прочего читаем: «Вы желаете, чтобы я
подписался по меньшей мере вымышленным именем. Назовите меня „Venturus",
потому что я именно таков». Извлечения из этих двух писем можно найти в
письмах Вильгельма к Тику (у Гольтея III, 241, 244, 245). И стансы, служившие
подготовкой к «Эпосу природы» (впрочем, с неверным указанием времени их
сочинения), и стихотворение в форме терцин «Lebenskunst» («Искусство жить». —
Прим. науч. ред.) (написанное, по всему вероятию, в 1802 году), и
стихотворения, помещенные в «Альманахе Муз» (за исключением стихотворения «Das Loos
der Erde», которое подписано в «Альманахе» буквами «L. L.»), и опыты
переводов Данте вместе с сонетом к Данте — все это, вместе с позже написанными
мелкими стихотворениями, помещено в полном собрании сочинений Шел-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
587
Как бы ни были незначительны эти поэтические
произведения, они все-таки были однородны с произведениями Шлегелей и
были вполне достойны помещения в «Альманахе Муз». Они
служили доказательством солидарности между новой
натурфилософией и новой поэзией, о чем Шеллинг и заявил публично. Он
сознавал эту солидарность, конечно, преимущественно тогда, когда
приходилось вести борьбу с общими врагами. Представители
тривиально прозаического рассудочного направления, восстававшие
против новой поэзии и критики, естественно, были еще более вправе
восставать против натурфилософии, против проникновения
поэтического духа в естествознание. Для большинства ученых,
специально занимавшихся физикой, смелые Шеллинговы объяснения
природы были не чем иным, как научными забавами; напротив
линга X, 431 и ел. и отчасти перепечатано у Плитта. Отрывок из Данте, взятый из
полного собрания сочинений А. В. Шлегеля и помещенный у Шеллинга (III, 369
и ел.), должен быть приписан Шеллингу, потому что, помимо некоторых
вариантов, сходится с тем, что мы находим в полном собрании сочинений Шеллинга X,
442 и ел.; сравн. Гольтея III, 235; то же следует заметить о сонете к Петрарке
(Шлегель IV, 72; Шеллинг X, 446; ср. предисловие, с. VII, и письма у Плитта,
с. 448,459,463). О плане стихотворения «Ceres» («Церера». — Прим. науч. ред.)
Шеллинг говорил в письме к Шлегелю от 29 ноября 1802 года (у Плитта, с. 432).
Что сочинение стихов оставалось любимым занятием нашего философа до
поздней поры его жизни, доказывается его упражнениями в сочинении латинских
стихов (в полном собрании сочинений X, 425 и ел.). Даже в 1841 году Шеллинг
говорил в Берлине своим слушателям, что намерен удивить их сочинением
стихотворения (Розенкранц, с. 151). Я не решаюсь утверждать, что действительно
перу Шеллинга принадлежат «Nachtwachen von Bonaventura» («Ночные бдения
Бонавентуры». —Пргш. науч. ред.), появившиеся в 1805 году в «Journal von
neuen deutschen Original romanen» (Penig, 1802—1805). Бесспорно, к числу самых
остроумных произведений романтизма принадлежит то причудливое
стихотворение, в котором к целому ряду фантастических рассказов, проникнутых
скептическим юмором, присоединяется вымысел, что поэт, сделавшийся ночным
сторожем, описывает свои ночные приключения. Так как в этом стихотворении есть
некоторые отголоски натурфилософских воззрений, есть много серьезных и
глубокомысленных размышлений, то можно было бы предположить, что оно было
написано Шеллингом. Но примесь чего-то, напоминающего Жан-Поля, и
вымышленные ужасы вроде тех, которые происходят в доме умалишенных и на
кладбище, заставляют думать, что оно было продуктом позднейшей
романтической школы, что оно было написано каким-нибудь поэтом, похожим отчасти на
Арнима и Брентано, отчасти на Т. А. Гофмана; кроме того, я сомневаюсь в
принадлежности этого стихотворения Шеллингу на следующем основании: в
третьей главе рассказывается история прелюбодеяния, а героиней этой истории
является какая-то Каролина; но такой гордый человек, как Шеллинг, едва ли
захотел бы стоять наряду с такими писателями, как Франц Горн, Кюхельбекер,
К. Николаи, Юл. Верден, Вульпиус и т. д.
588
Р. ГАИМ
того, против них громко протестовали и представители
безыдейного эмпиризма, и приверженцы старой механико-атомистической
школы. Каким образом, вследствие этих протестов, Шеллинг
крепко примкнул к новопоэтической секте, будет рассказано далее;
но мы уже теперь должны познакомиться с его мнениями об
искусстве и с причинами его привязанности к романтикам. В
своем «Журнале для спекулятивной физики» он положительно
утверждал, что в отношении к эмпирическим естествоиспытателям он
находится точно в таком же положении, в каком находится новая
идеалистическая поэзия по отношению к непоэтичности таких
поэтов и критиков, как Рамлер и Николаи. В полемике с
издававшейся в Иене «Литературной газетой» он еще определеннее
формировал внутреннюю связь между своими научными
интересами и поэтико-критическими интересами своих
друзей-романтиков. Здесь он вступился за «Атенея». В этом журнале яснее,
чем где-либо, был охарактеризован поворотный пункт, на
котором стояли в то время искусство и наука, обогащая новыми
идеями даже физику. Но Шеллинг сознавал, что был в состоянии
отблагодарить своих друзей за то, чем был им обязан. Он заявил,
что в конце его натурфилософских работ будет ясно, что
произведенный этими работами переворот в естествознании будет самым
решительным не только для философии, но и для поэзии1.
Вместе с этим Шеллинг, подчиняясь влиянию
господствовавшего в Йене романтического настроения умов, всячески
выражал свое влечение к искусству и к поэзии. Он говорил, что
натурфилософия не только возникла из поэзии, но и стремилась
возвратиться к этому своему источнику, что она не только с
самого начала носила поэтический отпечаток, но даже имеет
практическую связь с поэзией. Мало того: он говорил, что она есть не
что иное, как средство для достижения цели, а эта цель
заключается в том, что есть самого высшего, — в поэзии.
Если эти слова не были необдуманно сказанными, а
выражали зрелое убеждение, то разве они не требовали изменения всей
философской системы Шеллинга? Разве Шеллинг мог
по-прежнему придерживаться того дуализма, на основании которого он
принимал за безусловное то наше «Я», то субъект природы? Разве
эти два безусловных не должны были подчиниться поэзии? Ведь
еще до самостоятельной обработки спекулятивной физики он раз-
1 В полном собрании сочинений III, 645 и IV, 528.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
589
делял прикладную философию на философию истории, философию
природы и философию искусства! Ведь еще во «Всеобщем
обзоре» он относил к эстетике учение об интеллектуальном
самосозерцании1, а для понимания как Канта, так и Платона требовал
эстетического вкуса. Ведь в тех письмах, в которых он вел речь о
критицизме и догматизме, мерило достоинств того и другого было
эстетическое2! Во время своих первых двух университетских
семестров он читал и натурфилософию, и трансцендентальную
философию, а на третий семестр он включил в программу вместе
с заключительным отделом натурфилософии, с учением об
органической жизни, лекцию о рациональных началах философии
искусства («philosophiae artis principes rationes»). С этих пор теория
искусства сделалась составной частью его философии. Но она не
могла бы сделаться такой составной частью, если бы не был
положен конец прежнему дуализму его философии. Вследствие этого
точка зрения Шеллинга подверглась решительному и, как мы
увидим далее, зловещему изменению.
До той минуты безусловно безусловным было для Шеллинга
по-прежнему наше «Я». Почва, на которой выросла его
натурфилософия, была не чем иным, как учением Фихте. Поэтому ему
необходимо было снова перейти на эту почву, если он хотел
проникнуть в область искусства. Так он и сделал. В марте 1800 года
он окончил свое новое сочинение «Система трансцендентального
идеализма»3. В этом самом глубоко обдуманном и самом
важном из всех его сочинений он превращается из натурфилософа в
трансцендентального философа: он, при посредстве истории
искусства, вырабатывает новые идеи вполне независимо от учения
Фихте.
Автор намеревается доказать основательность точки зрения
«Основных начал науки» посредством распространения их
принципов на все проблемы, касающиеся главных предметов знания.
Поэтому он намеревается изобразить идеализм в его полном
развитии и изложить все части в их последовательной связи.
Сначала он, естественно, будет излагать общие принципы учения о «Я»,
потом, исходя их этих принципов, будет излагать натурфилософию,
философию истории и философию искусства.
1 Там же, I, 402, прим. 2.
2 Там же, с. 406.
3 Тюбинген, 1800; теперь оно помещено в полном собрании сочинений III,
327 и ел.
590
Р. ГАЙМ
Прежде всего автор старается объяснить происхождение
чувственного и духовного мира из нашего «Я»; для этого он излагает
историю развития нашего самосознания. Сначала из нашего «Я»
происходит материя; потом «Я» переходит от созерцания к
рефлексии; наконец, от рефлексии совершается переход к
абсолютной деятельности воли; вместе с этим совершается переход из
сферы бессознательной производительности нашего «Я» в сферу
сознания, или свободы, и, стало быть, из теоретической философии
в практическую. Подобно тому как из первоначального акта
самосознания возникает весь мир, или натура, и из второго акта — из
свободного, сознательного самоопределения — возникает «вторая
натура», т. е. нравственный мир. Отношение этого второго мира к
тому первому миру составляет главную проблему практической
философии. Оба мира происходят из нашего «Я», стало быть,
составляют один и тот же мир; поэтому следует предполагать
гармонию чувственного мира с нравственным и систематически
объяснить ее в практической философии. Эту задачу решает
Шеллинг, проводя ее по различным ступеням развития, начиная с
индивидуума и кончая всемирной историей. Взаимное отношение
между необходимостью и свободой проявляется в истории как
в своей высшей формуле; поэтому практическая философия в
сущности есть философия истории, между тем как теоретическая
философия есть в сущности натурфилософия. Шеллинг излагает
такую философию истории лишь в ее общих чертах. По его
мнению, история никогда не достигает единства объективности, или
необходимости, с субъективностью, или со свободой. Это единство
есть идея Божества, которая никогда не может быть предметом
знания, а может быть только предметом веры. Шеллинг
отвергает то воззрение на историю, которое относится только к
бессознательному и считает весь ход исторического развития
заранее предопределенным, то есть воззрение фаталистическое; он
также отвергает то воззрение, которое касается только
свободной деятельности и потому не находит в истории ничего
законного и необходимого, то есть воззрение атеистическое; выше этих
двух систем Шеллинг ставит ту систему, которая признает
предустановленную, но никогда не обнаруживающуюся явно
гармонию законности и свободы, — систему Провидения, или «религии
в единственно истинном значении этого слова». По этой системе,
история есть непрерывное, мало-помалу обнаруживающееся
проявление абсолютного, то есть гармонии бессознательного с
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
591
сознательным. По словам Шеллинга, человек является в своей
истории постоянным доказательством бытия Божия. Но Шеллинг
уклоняется от чисто философского развития своих идей, когда
пытается несколькими смелыми штрихами охарактеризовать три
периода в истории: первый, в котором господствует судьба,
второй, в котором господствует природа, и третий, в котором
господствует Провидение. В промежутках строго методического
изложения он внезапно является поэтом: блестящие, причудливые идеи
местами становятся у него наряду с доказанными основными
положениями. Вообще заслуга Шеллинга заключалась в том, что
у него философия глубоко проникнута поэтическим духом его
времени, что он обобщал романтическое направление. Однако
и теперь, точно так же как и впоследствии, он не вполне ясно
осознавал такую задачу. Иногда случается, что его философия не
вполне проникнута романтическим направлением, а только
представляет причудливое смешение поэтических воззрений с
правильно развитыми идеями. И Шеллингу случалось делать то же,
что делали Шлегель и Новалис. Ведь и с Шиллером случилось,
что, отыскивая равновесие между нравственным и эстетическим,
между вечно далеким идеалом и вечно присущим прекрасным,
он впадал в противоречия и в колебания. Его воображению всегда
было присуще представление об идиллическом состоянии,
представление, которое иногда ослабляло его мужество до такой
степени, что его воодушевление переходило в лирические страстные
желания. Эта неясность происходила оттого, что у него парение
идей часто сменялось фантастическими воззрениями,
находившими для себя удовлетворение в самих себе; этим недостатком
всего более страдает изложение его понятий о наивном и о
сентиментальном, о природе, которая просветляется до идеала, но
в этом просветлении всегда должна оставаться непонятой1.
Вокруг этой любимой идеи Шиллера романтики кружились, как
мотылек кружится вокруг огонька, который то манит его к себе, то
причиняет ему боль, то ослепляет его и, ослепляя, сбивает с пути
истинного. Так делали Гельдерлин, Фр. Шлегель, Новалис и даже
Шлейермахер. Именно на этой идее обрывается и Шеллингова
философия истории. Беспредельное прогрессивное развитие
истории, беспредельный нравственный прогресс обрываются
преждевременно на неуместно вставленном изображении гармонии
1 Сравн. тонкие замечания Lotze в «Gesch. der Aesthetik», с. 359.
592
Р. ГАИМ
между свободой и необходимостью; философ внезапно начинает
фантазировать о том, что к первому периоду истории относится
«упадок самого благородного человечества», какое когда-либо
процветало и «новое появление которого на земле есть не более,
как вечное желание». Позднейший реакционный романтизм, как
известно, неутомимо повторял ошибочную мысль, что в истории
человечества рай принадлежит прошлому.
Но наш философ не мог ограничиться таким мифическим
воззрением на гармонию свободы и необходимости, он пытался
согласовать теоретическую философию с практической посредством
эстетики. В органической природе, говорит он, гармония
сознательного и бессознательного проявляется лишь вне нашего «Я».
Органическая природа, в своей слепой целесообразности,
представляет нам первоначальное тождество сознательной и
бессознательной деятельности, но представляет его нам не как такое,
конечная причина которого лежала бы в самом «Я». Система
знания, система трансцендентальной философии будет только тогда
законченной, когда она будет в состоянии доказать, что принцип
того тождества заключается в «Я». Стало быть, следует
доказать, что самой субъективности, самому сознанию свойственна
такая деятельность, в которой «Я» является в одно и то же время
и сознательным и бессознательным. Но такая деятельность есть
эстетическая, есть воззрение на искусство; поэтому философия
искусства есть краеугольный камень всего философского здания.
Уже Шиллер проводил ту мысль, что эстетический человек
есть совершенный человек. Это убеждение лежало в основе того
культа поэзии, который проповедовали Шлегели и их
последователи, за исключением лишь Шлейермахера. Теперь Шеллинг
снова сформулировал это убеждение в строгом систематическом
развитии и отвел ему место в конце своей философской системы. Он
согласовал и привел в систему воззрения Фихте и воззрения Гёте.
Согласование этих воззрений уже лежало в основе
натурфилософии; теперь оно было доведено до более наглядной ясности
посредством развития основного положения, что «поэзия есть самая
высшая и конечная цель». Действительно, ведь «Система
трансцендентального идеализма» исходила из фихтевского понятия
о «Я», из логическо-нравственного духа, а в гётевском понятии о
«Я», в эстетическом духе, она нашла свое завершение. И Фр. Шле-
гель много раз пытался установить связь между поэтической
точкой зрения и точкой зрения трансцендентально-философской;
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
593
и Фихте иногда мимоходом указывал на внутреннюю связь
между этими двумя точками зрения1; но самое удовлетворительное
выражение этого воззрения, его систематическую формулу
впервые изложил Шеллинг на последних страницах своего сочинения.
Чтобы доказать это высшее значение искусства и поэзии,
Шеллинг сначала делает анализ эстетической деятельности и ее
продуктов — художественных произведений. При этом он, в
сущности, повторяет только то, что говорил Кант в «Критике
суждения»2 о сущности художнического гения, и то, что говорил Шиллер
об эстетическом складе ума в своих «Письмах об эстетическом
воспитании человека». Он говорил, что в деятельности гения и в
ее продуктах действительно обнаруживается тождество
бессознательного и сознательного. Сознанием начинается всякая
художническая деятельность, но заканчивается она в бессознательном.
Всякое художническое влечение исходит из противоположности
свободы и необходимости для того, чтобы примирить эту
противоположность в своем продукте — в художественном произведении.
Гений есть не что иное, как природа, действующая через
посредство свободы: всякий художник творит вследствие добровольной
«благосклонности своей натуры». Этим объясняется характер
всякого истинно художественного произведения. Оно объективно
отражает в себе то тождество бессознательного и
сознательного, которое лежит в основе самосознания. Его сущность есть
бессознательная беспредельность, соединение натуры и свободы.
В художественном произведении как в зеркале отражается
чувство бесконечного удовлетворения, возникающее в душе
художника при окончательной отделке этого произведения; поэтому
художественное произведение, как говорит Шеллинг согласно с
Винкельманом, носит на себе отпечаток спокойствия и тихого
величия. То, что в нравственно-исторической деятельности
достигается лишь путем бесконечного прогресса, осуществляется в
художественном произведении: здесь бесконечное изображается в
виде конечного. Но изображение бесконечного в виде конечного
есть прекрасное; поэтому всякое художественное произведение
имеет характер прекрасного.
Отсюда Шеллинг делает дальнейшие выводы. Из
вышесказанного следует, что в художественном произведении становится
1 См. выше, с. 260.
2 Речь идет о «Критике способности суждения» (прим. ред.).
594
Р. ГАИМ
наглядным, для всякого понятным, то созерцание, которое для
философа есть философское созерцание. Ведь для
трансцендентального философа служит точкой отсчета интеллектуальное
созерцание нашего «Я». Оно распадается на теоретическое и
практическое, на происходящее бессознательно и происходящее
сознательно, но философ убежден, что оба этих созерцания по
своему источнику едины. Это убеждение наглядно
подтверждается для него художественным произведением. Здесь
становится реальным цельное, нераздельно действующее «Я»; в
гениальном произведении «Я» наглядно является единством своих
противоположных деятельностей. Говоря словами Шеллинга,
«эстетическое созерцание есть созерцание интеллектуальное,
сделавшееся объективным, а искусство есть всеми признанная
и неопровержимая объективность интеллектуального созерцания».
Отсюда следует, что искусство есть «единственный истинный
и вечный органон и документ философии». Оно, по словам
Шеллинга, «раскрывает для философа то, что есть высшего, потому
что как бы раскрывает перед ним то святилище, где вечно вместе
горит одним пламенем то, что разделено в природе и в истории и
что вечно должно расходиться как в жизни и в деятельности, так
и в мышлении».
Это основное положение, очевидно, доводит автора до такого
пункта, в котором философии угрожает опасное для нее влияние
эстетического воззрения, смешение научного с поэтическим.
Задатки для такого смешения находились в своеобразном складе ума
Шеллинга. Только благодаря этому он мог создать свою
натурфилософию. Человеку с критическим складом ума следовало
выделить поэзию из созерцания и объяснения действительного мира.
Благодаря такому критическому приему Шлейермахер
противопоставил религиозную деятельность ума его деятельности
теоретической и практической. Но для Шеллинга такой критицизм
был невозможен. Правда, он ведет речь о «вечном, неизгладимом
различии» между миром природы и миром искусства, потому что
первый лежит по ту сторону сознания, а второй — по сю сторону;
но в то же время он указывает на родственную связь между
этими двумя мирами. По его мнению, и бессознательно
производительное «Я» находит для себя опору в деятельности фантазии,
а то, что мы называем «поэтическим даром», есть только
высшая степень этой деятельности. Этим замечанием он
незаметным образом низводит то «вечное неизгладимое различие» до
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
595
чисто относительного. Дальнейшими поэтическими оборотами
речи он еще более прикрывает различие между миром природы и
миром искусства и придает еще более наглядности их сходству.
Природу он называет первобытной, еще бессознательной поэзией
духа. «То, что мы называем природой, — говорит он, — есть
поэтическое произведение, лежащее скрытым в таинственной,
чудной книге. Однако эта загадка могла бы быть разгадана, если бы
мы признали в ней одиссею духа, который, находясь в странном
заблуждении, то ищет самого себя, то бежит от самого себя; ведь
сквозь чувственный мир, как сквозь туман, виднеется та область
фантазии, к которой мы стремимся». Впрочем, внешняя природа
должна быть изображением конечного только в своей цельности,
между тем как в мире искусства каждый отдельный продукт
изображает конечность; а при помощи этого основного положения
автор сближает воззрение на природу с воззрением на искусство
уже с другой стороны. Он говорит, что и на мир искусства, точно
так же, как на природу, следует смотреть как на великое целое,
как на «абсолютное художественное произведение, хотя и
существующее в различных экземплярах, но, в сущности, единое, хотя
бы оно еще и не существовало в своем самом первобытном виде».
Отсюда, очевидно, открывается отличнейшая панорама на
историю искусства. Здесь стремления нашего философа, очевидно,
сходятся с историко-литературными стремлениями Шлегелей,
которые также придерживались принципа, что в истории поэзии и
искусства развивается космос человеческой фантазии, фантазии всех
народов и всех времен. И этого мало: у Шеллинга романтизм
доходит до того, что дух поэзии заглушает дух научного познания.
Так как искусство придает объективность философскому
основному воззрению, то, по мнению Шеллинга, следует ожидать, что
«философия, зародившаяся во время детства науки из поэзии и
питавшаяся поэзией, а вместе с философией и все науки,
доведенные ею до совершенства, польются отдельными потоками
обратно в общий океан поэзии, из которого вытекли». Но и этого мало:
наш романтик способен указать даже способ, благодаря
которому наука возвращается к поэзии. С тех пор как он изучал в
Тюбингене теологию, он находил нечто особенно привлекательное
как в поэтическом содержании мифов, так в их научном
содержании. Понятно, что то средство, о котором мы сейчас говорили, он
нашел в мифологии. Он утверждает, что уже много лет тому
назад обработал статью о мифологии, заключающую в себе даль-
596
Р. ГАЙМ
нейшее развитие той мысли, и он ведет речь о возможности
новой мифологии, которая могла бы быть произведением не какого-
либо одного поэта, а нового поколения, как бы говорящего устами
только «одного нового поэта». Способ возникновения этой новой
мифологии он называет такой проблемой, разрешения которой
следует ожидать только от будущих судеб мира и от
дальнейшего хода истории. Но не подлежит сомнению, что он сам надеялся
содействовать этому разрешению. Разве поэзия его
натурфилософии не была уже началом такой мифологии? Разве она не
содержала в себе по меньшей мере материалы для такой
мифологии? В конце «Всеобщего обзора», там, где Шеллинг расследует
возможность философии истории, встречается одно
замечательное место. Там сказано, что всякая религия в той мере, в какой
она теоретична, и всякое учение о сверхчувственном неизбежно
переходят в мифологию; они вообще могут заключать в себе
только поэтическую истину и могут быть истинны только в качестве
мифологии; при этом история заменяет невозможность
объяснений при посредстве естественных законов; греческая мифология
первоначально была не чем иным, как «историческим описанием
природы»1. Но разве обработанная Шеллингом натурфилософия
не была в одно и то же время и объяснением природы и ее
историей? Разве в голове его не должна была неотвязно вертеться
мысль о том, что именно в его натурфилософии заключается
источник и самой истинной, и самой поэтической мифологии?
Нам впоследствии придется говорить о том, каким образом
эта мысль получила у самого Шеллинга более определенную
форму, и также о том, каким образом Фр. Шлегель нашел для
себя в этом пункте опору для того, чтобы обогатить свое
эстетическое учение о физике и украсить его новыми парадоксами.
Покуда же мы еще раз остановим наше внимание на важной
противоположности, существовавшей между романтизмом Шеллинга
и романтизмом Шлейермахера. Мистический субъективизм
Шлейермахера стремится к уничтожению всего
мифологического, а поэтический субъективизм Шеллинга, перешедший в
созерцание природы, находит в мифологии мост для перехода от
философии к поэзии, от поэзии к религии. Только Шеллингу могла
удаться попытка согласовать все романтическое направление ума
1 «Философский журнал» VIII, 2, с. 146; в полном собрании сочинений
Шеллинга 1,472.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
597
с объективным мировоззрением. Это удалось ему вследствие того,
что он перенес опоэтизирование природы на весь духовный мир и
придал своей натурфилософии универсальность. Для этого ему
нужно было прежде всего вполне овладеть сущностью искусства
и поэзии. С того момента, как он признал эту сущность
абсолютной, для него сама собой возникла необходимость подвести весь
мир под формулу искусства, подвести развитие его содержания
под формулу гениальной творческой деятельности. Не логическая,
а психологическая необходимость заставила его перейти от
последней главы его «Системы трансцендентального идеализма» к
изложению так называемой «системы тождества».
Но прежде чем это могло случиться, Шеллингу было
необходимо разъяснить свои запутанные отношения с учением Фихте.
Была ли натурфилософия равноправна с трансцендентальной
философией, как это иногда казалось, или же была ей подчинена,
как это также иногда казалось? Была ли выступившая теперь на
сцену философия искусства только довершением и округлением
учения Фихте, или же она была шагом вперед, выходившим за
пределы этого учения? Эти вопросы, очевидно, требовали ясного
ответа. Это был момент перехода от второго периода
философской деятельности Шеллинга к третьему. А главными
документами для объяснения этого перехода служит, с одной стороны,
переписка между Шеллингом и Фихте, с другой — содержание
«Журнала для спекулятивной физики».
Так как, по мысли Шеллинга, для философской системы
необходимо единство, то само собой разумеется, что нельзя было
допустить дуалистической равноправности натурфилософии и
философии трансцендентальной. Однако было еще более
невозможным кажущееся подчинение натурфилософии философии
трансцендентальной, — подчинение, с которого Шеллинг начал,
к которому он в некоторой мере возвратился в своей «Системе
трансцендентального идеализма» и которое только и могло
соответствовать духу учения Фихте. Оно было основано на том
практическом пафосе, на который сам Шеллинг указывал в своих
прежних идеалистических статьях как на настоящую душу учения
Фихте. Кому свобода и самостоятельность выше и важнее всего,
тот может брать за точку отсчета не объективный мир, а наше
«Я»; для него природа существует только для того, чтобы можно
было проявлять ту свободу и наслаждаться ею. В это
мужественное воззрение Шеллинг с энтузиазмом вдумывался в ранней мо-
598
Р. ГЛИМ
лодости, но только вдумывался: оно не соответствовало его
характеру, вкусам, наклонностям. У него была скорее чувственно
впечатлительная, чем творческая натура. Для него созерцание
было важнее деятельности, теория важнее практики. Вот почему
он с ранних лет чувствовал влечение к чисто созерцательному
уму Спинозы; по той же причине он сочувствовал основанному
на любви к природе направлению гётевской поэзии. В этом, а ни
в чем другом, заключается объяснение того шага, который был
сделан теперь Шеллингом в сторону от учения Фихте.
Натурфилософия есть теоретическая часть трансцендентальной
философии или, по меньшей мере, соответствует этой теоретической
части, потому что натура есть продукт знающего, а не
практического «Я». Поэтому тот, для кого знание выше всего, конечно,
будет ставить натурфилософию выше практической философии;
тот по необходимости дойдет до того, что признает за
натурфилософией первенство перед всей трансцендентальной философией
с ее практическим направлением. Именно это стал теперь
высказывать Шеллинг без всяких стеснений сначала в заключительном
параграфе статьи о динамическом процессе, потом в статье «О
настоящем значении натурфилософии»1, служившей дополнением
к одной из статьей Эшенмейера, и, наконец, в некоторых из своих
писем к Фихте. Он утверждает, что натурфилософии принадлежит
первенство, что она служит основой для идеализма учения о «Я».
«Люди, — говорит он, — поймут это только тогда, когда
научатся мыслить чисто теоретически, только объективно, без всякой
примеси субъективного»; и во многих местах он указывает на
этот «чисто теоретический» характер натурфилософии как на тот
мотив, по которому ей должно принадлежать первенство. Конечно,
можно по своему произволу выбирать любое из двух
противоположных направлений, можно переходить от природы к нашему «Я»
и можно переходить от нашего «Я» к природе, но, присовокупляет
Шеллинг, «для того, кто ставит знание выше всего, настоящий
путь есть тот, которого держится сама природа», — путь от
природы к духу, производство субъективного из объективного.
Шеллинг идет еще дальше. Он не отрицает того, что природу можно
идеалистически производить из нашего «Я», но он заявляет, что
при более тщательном исследовании эта возможность (то есть
1 В «Журнале для спекулятивной физики» И, 1, с. 109 и ел.; в полном
собрании сочинений VI, 79 и ел.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
599
идеализм) основана на заблуждении; он прямо утверждает, что
физика обнаруживает это заблуждение, что она делает из самого
идеализма нечто, допускающее объяснения, и вместе с тем
уничтожает его теоретическую реальность. Вот как он
развивает свое новое воззрение: «Я», из которого он производил природу
в своей «Системе трансцендентального идеализма», было лишь
бессознательно производительным «Я». Но в той мере, в какой
«Я» бессознательно, оно не есть «Я»; бессознательно
производительное «Я» (именно потому, что оно бессознательно) само есть
не что иное, как природа. Только с появлением сознания
бессознательное «Я» становится настоящим «Я»; поэтому кто хочет
придерживаться не практических, а теоретических приемов, тот
должен производить не природу из «Я», а, наоборот, «Я» из природы.
Стало быть, правильный прием требует, чтобы сначала было
объяснено динамическое постепенное развитие природы, начиная
с материи и доходя до живого организма; этим путем мы
доходим до высшего произведения природы, до разума. В человеке
природа достигает своей высшей ступени — сознания: за
натурфилософией следует философия духа.
Здесь возникает еще один вопрос, требующий ответа. Если
начинать с природы, то откуда философ получает право и
возможность излагать конструкцию природы в виде динамического ряда
ступеней? Ведь такое изложение было возможно только
благодаря тому, что принцип самосоздания был перенесен из
человеческого духа на природу. Не оказывается ли снова необходимым
принять трансцендентальную философию за основу для
изложения конструкции природы? Шеллинг не оставляет этот вопрос без
ответа. Он говорит, что трансцендентальная философия должна
в некотором отношении занимать первое место. Чтобы
определить, в чем заключается философствование, мы должны искать
средств в самих себе. Эта философия о философствовании, в
сущности, может заключаться только в размышлении о «Я», то есть
может быть только трансцендентальной философией, только
«Основными началами науки». Но эти «Основные начала» имеют
предметом уже достигшую сознания природу, то есть «Я»;
поэтому они составляют лишь предварительную часть философии и
представляют лишь формальное доказательство идеализма.
Только потом следует материальное доказательство идеализма —
изложение системы Шеллинга. Чтобы рассмотреть предмет
всякой философии в его первоначальном возникновении, следует
600
Р. ГАЙМ
низвести этот объект на низкую ступень и затем сызнова
развивать его. Для этой цели необходимо отложить в сторону ту
субъективную и практическую примесь, благодаря которой только и были
возможны «Основные начала науки». С этим шагом совершается
переход из предварительного изучения философии в первую часть
самой философии, в область чисто теоретической философии.
Предметом для этой последней служит погруженное в
бессознательность «Я», чистая натура, еще не знающий самого себя
субъект-объект; поэтому первая часть философии в настоящем
смысле этого слова есть натурфилософия, или физика. Следя за
внутренним развитием природы, мы доходим до ее высшей
ступени, до субъекта-объекта сознания, до духа. Этот дух служит
темой для идеалистической или практической части философии,
для философии морали или истории, или, как теперь выражается
Шеллинг по примеру древнегреческого разделения философии, для
этики. Наконец, из соединения физики и этики возникает система
искусства, или, как ее называет Шеллинг снова по примеру
древних греков, поэтика. С поэтикой философия возвращается к
своему принципу. Сюжетом для нее служит субъект-объект,
сделавшийся объективным. То, что в «Основных началах науки» было
предугадано с помощью интеллектуального созерцания,
является в искусстве действительно существующим. Если «Основные
начала» были философским идеальным реализмом, то поэтика,
снова уничтожающая отделение теоретического от
практического, природы от духа, есть объективный идеальный реализм, или,
как выражается Шеллинг, реальный идеализм.
Таков был в то время план построения Шеллинговой
системы. «Это, — говорит он, — есть непрерывный ряд, восходящий
от самого простого, что есть в природе, к высшему и самому
сложному, к художественному произведению». Он достиг этого
положения с явными колебаниями, с переходами от одной точки
зрения к другой, не без противоречий и неясностей. Он с
простительным самообольщением до некоторой степени скрывал сам
от себя эти недостатки. Он говорит: «Кто с интересом вникал в
„Систему трансцендентального идеализма" и в натурфилософские
исследования, тот должен был заметить, „как мало-помалу со всех
сторон все сходится в одно целое, как очень разнородные
явления, подмеченные в совершенно различных сферах, стремятся к
соединению и как будто с нетерпением ожидают того последнего
решительного слова, которое должно быть высказано о них"».
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
601
Странно то, что он все еще воображал, будто не расходится во
мнениях с Фихте. Он, подобно Шлейермахеру, признавал
«Основные начала науки» за вполне законченную систему, в которой
«нечего изменять». Поэтому изложение своей теперешней
программы и споры, которые вел о ней с Фихте, он мог закончить
в письме от 19 ноября 1800 года следующим уверением: его
временное разномыслие с Фихте, без всякого сомнения, закончится
самым полным единомыслием; хотя он теперь и перешел с
окружности «Основных начал» на касательную плоскость, но, без
сомнения, рано или поздно, возвратится, обогащенный многими
сокровищами, в средоточие идей Фихте.
По прошествии всего лишь нескольких месяцев Шеллинг
действительно приступил к изложению до той поры лишь обещанной
универсальной системы философии, действительно высказал то
«последнее решительное слово», на которое он ранее ссылался.
В марте 1801 года он закончил то замечательное сочинение,
которое под заглавием «Изложение моей системы философии»
наполнило весь четвертый номер «Журнала для спекулятивной
физики»1. Однако он не возвратился «в средоточие идей Фихте».
Его новая система уже не опиралась на «Основные начала
науки», как на основу всякой философии. Она даже решительно
отклонялась от программы, незадолго перед тем изложенной в том
же журнале.
Первое, что нас удивляет, — форма изложения. Написать этику
à la Spinoza — уже давно было мечтою Шеллинга. Теперь он
излагает свою законченную систему в математической форме
Спинозы. Он это делает, как сказано в предисловии, частью ради
краткости и ясности, частью по следующей причине: так как
содержание его системы ближе всего к учению Спинозы, то он
принял этого философа за образец и в том, что касается внешней
формы.
Внешней форме соответствует и содержание. Спиноза
начинает свою этику определениями и уже в третьем из этих
определений излагает основное понятие своей системы, понятие
субстанции, излагает его просто, без всяких генетических объяснений;
точно так и Шеллинг начинает простым заявлением, что он считает
разум абсолютным разумом, если понимать его в смысле
совершенного неразличения субъективного и объективного. Во втором
1 Теперь оно напечатано в полном собрании сочинений IV, 105 и ел.
602
Р. ГАЙМ
параграфе говорится, что вне этого разума нет ничего, что в нем
заключается все; в примечании к этому параграфу сказано, что
нет никакой философии иначе, как с точки зрения абсолютного,
а насчет основательности этого положения не высказывается во
всем сочинении никакого сомнения! Было бы излишним
доказывать, что и во всем дальнейшем изложении системы
Шеллинга постоянно слышатся отзвуки идей Спинозы, что Шеллинг
положительно ссылается на Спинозу и пытается согласовать свои
собственные определения с определениями Спинозы; уже
приведенные нами исходные основные положения Шеллинга
неопровержимо доказывают, что здесь мы имеем дело с обновленным
спинозизмом, с чистым догматизмом. Универс, или безусловная
совокупность всего бытия, никогда не может быть, по учению
Канта и Фихте, предметом нашего познания; Шлейермахер
находил его в бесформенном виде в глубине благочестивой души,
впрочем, добросовестно допуская, что для нашего сознания
существуют известные пределы; но именно эту совокупность всего бытия
Шеллинг провозглашает за объект, вполне доступный для познания,
за начало и конец всякой философии. Мистицизм, обходящийся без
всякой критики, но не обнаруживающий свойственной мистикам
скромности и даже заявляющий притязание на математическую
точность, — вот к какому результату привело Шеллинга
развитие его прежних идей. Теперь уже нет речи о том, что всякое
философствование субъективно и возможно лишь посредством
размышления о нашем собственном сознании, что, стало быть,
«Основные начала науки» служат фундаментом для философии и
должны быть предпосланы изложению Шеллинговой системы; короче
говоря, воззрение Шеллинга на характер философского познания
совершенно изменилось. Также совершенно изменилось его
воззрение на предмет и содержание этого познания. Не только в
своей «Системе трансцендентального идеализма», но и в позднее
составленной программе своей системы Шеллинг находил в
нашем «Я» тождество субъективного с объективным, а, напротив
того, в мире усматривал лишь стремление к реализации этого
тождества, достигаемой окончательно лишь в продуктах
гениальности. Но «Изложение моей системы» почти вовсе забывает
прошлое, называя абсолютное «разумом». Оно не стремится к
реализованному тождеству, а исходит из него. Оно находит это
тождество присущим всему без исключения; в природе и в истории
оно уже не находит всего лишь неполные, постоянно стремящие-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
603
ся к полноте проявления абсолютно тождественного, а признает
природу и историю тем же, чем прежде Шеллинг признавал
только продукты гениальности, — полными проявлениями тождества.
Итак, на деле оказывается, что «чисто теоретическая» часть
философии превращается теперь у Шеллинга в цельное
философское здание. Его переход от критицизма к догматизму начался
признанием автономии природы, а завершился «Изложением моей
системы». Прежде Шеллинг вел речь только о спинозизме
физики, а теперь он придал спинозизму всеобъемлющее значение.
Теперь он смотрит на всю философию с точки зрения спекулятивной
физики, теперь он натурализирует весь универс.
Но он не только натурализирует универс, а также, если будет
позволено так выразиться, одухотворяет и эстетизирует его. Он
не совсем точно выражался, когда мотивировал спинозизм
физики тем, что для него «знание выше всего». Мы уже давно имели
возможность подметить, что его «чисто теоретический» прием
был скорее поэтическим приемом. Теперь это становится для нас
вполне ясным. Под точку зрения, первоначально установленную
для спекулятивной физики, Шеллинг мог подвести всю
философию только благодаря тому, что стал смотреть на философию с
точки зрения эстетики, философии искусства. По его словам,
разум, или универс, должен быть совершенным неразличением
субъективного и объективного. Но совершенное неразличение
субъективного и объективного, единство сознательного и
бессознательного, духа и природы было, по «Системе
трансцендентального идеализма», лишь продуктом гениальности. Поэтому смысл
его теперешнего учения, хотя и не высказанный им самим
(потому что иначе он сам опровергнул бы все, что писал ранее),
заключается в следующем: абсолютный разум есть абсолютный
гений, универс есть универсальный продукт гения, настоящее
философское познание мира есть нечто вроде эстетического
воззрения или художественного произведения. По программе Шел-
линговой системы, соединением натурфилософии с
трансцендентальной философией служила философия искусства в качестве
объективного, «реального» идеализма. А теперь, вследствие
окончательного устранения критической точки зрения, принцип
искусства возведен в степень всеобщего принципа, так что вся
система Шеллинга превратилась в «реальный идеализм».
Этот эстетический всеобщий принцип единства природы и
духа выражен в следующей поистине странной формуле: «Абсо-
604
Р. ГАИМ
лютное неразличение субъективного и объективного». Стало
быть, этот эстетический принцип, в сущности, понимается в
натуралистическом смысле. Это становится еще более ясным,
когда Шеллинг действительно начинает выводить из
абсолютного бытие природы и духа. Но разве это возможно, если
действительно существует вышеупомянутое неразличение?
Качественного различия между субъективным и объективным не
должно существовать. Остается только количественное
различие, касающееся не сущности, а формы. По мнению Шеллинга,
сила, развитая в природе, в сущности такая же, какую мы
находим в духовном мире; разница только в том, что в природе ей
приходится бороться с перевесом реального, или объективного,
а в духовном мире — с перевесом идеального, или
субъективного. Поэтому весь универс есть, по своей сущности,
абсолютное тождество, но с относительным перевесом субъективного
или объективного. Субъективность и объективность могут иметь
перевес только в противоположных направлениях. Поэтому
форма бытия абсолютного тождества может быть
представлена в виде магнетической линии, на одном конце которой
преобладает субъективное, на другом конце — объективное, а в
середине это преобладание совершенно нейтрализовано. Эта линия
есть внешняя форма для всякого бытия целиком или по частям,
потому что и каждая отдельная часть, в сущности, не выходит
из абсолютного тождества, или по выражению Шеллинга:
«конструкция повсюду должна исходить из реального тождества»;
она развивается в релятивную двойственность и
останавливается на релятивной цельности; это совершается и на различных
ступенях развития духа, и на различных ступенях развития
природы. В статье о динамическом процессе Шеллинг точно так
же исходит из понятия о природе, которая тождественна сама по
себе и заключает в себе две силы — положительную и
отрицательную; но эти две силы постоянно действовали сообща в
синтетической действительности природы. Различие заключается
только в том, что при теперешнем перенесении этого приема на
весь универс прежняя динамическая жизненность превращается
в монотонный, бездушный формализм. Только в симметрическом
построении системы обнаруживается основная эстетическая
мысль; с другой стороны, она обнаруживается в пренебрежении
к логической последовательности и к основанной на
доказательствах внутренней связи. Особенно в конце, очевидно, наскоро
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
605
обработанное изложение все более и более превращается в
романтическую путаницу, в которой методическое мышление
исчезает в массе смелых фантастических идей. Для нас, конечно,
было бы вовсе неинтересно расследование, каким образом
старые натурфилософские воззрения вплетаются в новую систему
в более или менее измененном виде. Для нас было бы более
интересно проследить, каким образом подводится под новую
систему деятельность духа; но изложение прерывается со
вступлением в сферу органической жизни; только в одном из
примечаний сказано, что автор намеревается впоследствии вести
читателя от одной ступени органической природы к другой, пока
не дойдет до высшей ступени органической природы — до
разума; вслед за этим автор предполагал изложить философию духа
и, наконец, дойти до «абсолютного центра тяжести», в котором
соединяются, по выражению Шеллинга, «оба высших
выражения неразличения — правда и красота».
В этих выражениях мы снова находим то слово, в котором
заключается разрешение всей загадки этой «системы тождества».
Эта система, в сущности, основана на отождествлении правды
и красоты, на уничтожении границ, отделяющих философию от
искусства. Шеллинг, в сущности, не приступает к
художественному подражанию великому художественному произведению
природы, но намечает красоты универса или в неясных отвлечен-
ностях, или в сухих математических формулах. Он уже не
придерживается фихтевской точки зрения, основанной на
критической рефлексии, но он все еще придерживается мнения, что
«разум», подобно художническому гению, в одно и то же время и
мыслит, и производит. Поэтому не было самообольщением с его
стороны то, что в предисловии к своему «Изложению» он
выражал уверенность в возможности когда-нибудь снова сойтись в
мнениях с автором «Основных начал науки»; он очень метко
объясняет, в чем покуда заключается его разномыслие с Фихте:
субъективный идеализм Фихте утверждает, что «Я» есть все,
а его собственный объективный идеализм, напротив того,
утверждает, что все равно «Я» и что существует только то, что равно
«Я». Мимоходом заметим, что к этой еще неразорванной связи с
учением Фихте примкнуло то дальнейшее развитие, которое
получила философия тождества у Гегеля. Этот философ первым
взглянул на разум, долженствующий иметь характер гения, как на
абсолютный дух. Он впервые выработал эстетическое воззрение
606
Р. ГАЙМ
на мир из натуралистического и впервые так сплел
рефлектирующую деятельность «Я» с художнической, логическое — с
эстетическим, что только следующему поколению удалось доискаться
до его основной идеи.
Из всего вышеизложенного ясно, что в «системе тождества»
философия Шеллинга достигла одного уровня с романтическими
тенденциями. Эта система не только служила связью между
идеализмом Фихте и поэзией Гёте, но и сходилась с воззрениями Гёте
на природу. Из всех элементов романтизма здесь недоставало
только мистического элемента, представителем которого был
преимущественно Шлеиермахер; но при дальнейшем развитии своих
идей Шеллинг не мог воздержаться и от мистицизма, между тем
как Шлеиермахер, подчиняясь влиянию Стеффенса, стал
склоняться на сторону объективного мировоззрения Шеллинга. Кроме того,
было ясно видно, что «система тождества» отчасти сходилась с
теорией и с практикой Шлегелей. Склоняясь преимущественно на
сторону Фихте, Фридрих поучал, что настоящий поэт должен
писать с ясным, трансцендентальным сознанием. Склоняясь
преимущественно на сторону Гёте, Шеллинг поучал, что настоящий
философ должен смотреть глазами поэта на весь мир, как на
поэму. В поэтических произведениях Шлегелей поэтические
чувства выражались в рефлексии, красота душевного настроения
выражалась в художественной форме. В системе философии
тождества научное знание было испорчено поэзией, а сама поэзия была
низведена до степени отвлеченной формулы. Но то была
универсальная формула. «Система тождества» была не только
дополнением к романтической поэзии, к романтической религии и этике,
но также чем-то вроде кодификации романтического
направления. Она романтизировала весь универс. Она была чемто вроде
общей программы той универсальной поэзии, которой требовал
Фридрих Шлегель, и в то же время была осуществлением той
энциклопедии, о которой мечтали Фридрих Шлегель и Гарденберг.
С точки зрения этой системы, как с большого возвышения,
можно было обозревать все сталкивавшиеся между собой и
дополнявшие одно другое стремления членов романтического кружка.
Она была непрочным зданием, начавшим разваливаться при
своем возникновении, но тем не менее она была необходимым и
составлявшим эпоху явлением. Она служит памятником
притязаний, которые предъявлялись романтизмом, а в своем позднейшем
развитии является отражением судьбы, постигшей романтизм.
ГЛАВА ПЯТАЯ
РОМАНТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ УПРОЧИВАЕТСЯ,
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ И ЗАЩИЩАЕТСЯ
ОТ СВОИХ ПРОТИВНИКОВ
Составление всеобщей романтической формулы Шеллингом
должно служить для нас доказательством того, что
романтические стремления уже достигли некоторой законченности, что
они достигли того пункта, на котором могли считаться
созревшими. Мы должны были бы желать, чтобы сознание этой
зрелости выразилось также в других, менее отвлеченных формулах,
потому что тогда для нас сделались бы еще более наглядными
весь объем и все содержание романтических идей. Исполнения
этого желания мы вправе ожидать преимущественно от того
писателя, который уже охарактеризовал стремления новой
школы на ранней стадии их развития, который соединял с
многосторонностью познаний сильную склонность к самосозерцанию,
который был плодовитым фрагментистом и автором «Идей» и
«Люцинды».
Намерение Фихте основать в Берлине колонию переселенцев
из Йены не могло осуществиться. Желание жить вблизи от
своего брата побудило Фридриха Шлегеля отказаться от личных
сношений со Шлейермахером и с Фихте. Он выехал из Берлина в
сентябре 1799 года; через несколько недель приехала в Йену и его
возлюбленная; оба нашли для себя пристанище в доме
Вильгельма. Но пребывание в Йене сначала было вовсе не
благоприятно для литературной деятельности Фридриха. Между тем как
Шлейермахер после издания своих «Речей» беспрестанно
доказывал, что он окончательно преодолел свое прежнее отвращение
к литературному поприщу; между тем как старший Шлегель с
прежним, поистине достойным удивления прилежанием
занимался и преподаванием, и стихотворством, и переводами, и
сочинениями рецензий; между тем как Шеллинг именно в то время до-
608
Р. ГАИМ
водил до конца самые зрелые из своих сочинений, Новалис
чувствовал в себе пробуждение своих поэтических дарований, а Тик
с легкостью импровизатора писал свою «Женевьеву», Фридрих
мучался неудачами и жаловался на то, что для него все
становится чрезвычайно трудным1. Поэтому его друзья были не
вполне неправы, упрекая его в лени и праздности. Он стал заниматься
тем же, чем всегда занимался, когда его ум отказывался от
авторской деятельности: он читал громадное число книг, читал
итальянских поэтов одного вслед за другим и прочел по порядку все
диалоги Платона. Но все это нисколько ему не помогало. Его
неспособность написать что-нибудь новое была для него тем более
тягостна, что для содержания и самого себя, и своей
возлюбленной ему приходилось рассчитывать на плату от издателей. Он,
без сомнения, поступил бы всего лучше, если бы стал
придерживаться сферы своего мастерства — критики и характеристик.
К несчастью, со времени появления «Люцинды» он непременно
хотел быть поэтом. За периодом отрывочных заметок для него
наступил период поэтических экспериментов, и на этот ничего не
обещавший труд он бесполезно тратил и свое время, и свои силы.
Впрочем, в этом была виновата не только «Люцинда», но и
господствовавший в то время в Йене Genius epidemicus
(эпидемия гениальности. —Прим. науч. ред.). Поэтическое рвение Тика
и Новалиса выдвинуло на первый план поэтические стремления и
интересы; не только теоретически, но и практически они стояли
в течение 1799 и 1800 годов на первом плане: они давали более
или менее определенное направление даже философским,
критическим и филологическим стремлениям всего романтического
кружка. В особенности Август Вильгельм Шлегель проникся
сознанием, что поэзия есть настоящее призвание романтиков, что она,
по выражению Шеллинга, есть «высшая и конечная цель». Теперь
еще более, чем когда-либо, все его честолюбие заключалось в
том, чтобы быть поэтом и заставлять других делаться поэтами.
По воле или против воли Минервы всякий должен был
представить пробу своих поэтических дарований, если хотел называться
«членом Ганзейского союза», — и Шеллинг, и Шлейермахер, даже
Фридрих и Доротея.
1 Фридрих к Шлейермахеру (в их переписке III, 135); см. также письма
Доротеи к Шлейермахеру (там же, с. 127, 128, 147 и т. д.). Гарденберг к Тику
(у Гольтея I, 306 [от 23 февраля 1800 года, по словам Новалиса, в его
сочинениях I, XVI]).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
609
Бедная Доротея, с такой самоотверженной решимостью
связавшая свою судьбу с судьбой Фридриха, действительно
сделалась поэтессой, сама того не зная, как это случилось. В ее душе
было немало таких задатков, которые могут возвышать
достоинство поэзии, если соединяются с творческими дарованиями. Она
была способна к самой самоотверженной преданности, к готовой
на все жертвы верности и доказала среди тяжелых испытаний то
и другое в своих отношениях с Фридрихом, который был и
себялюбив, и притязателен, и вовсе не добродушен. В этом слабом
теле жил твердый дух, твердый в особенности в сдержанности, в
терпеливости и в самоотверженности. Трогательно было видеть,
как она всем сердцем разделяла не только умственные интересы
своего друга, но, что было труднее, также его заботы, выносила
его причуды. Она гордилась тем, что жила одной жизнью с
любимым человеком, все ему извиняла и во всем находила хорошую
сторону. «Объясняя и дополняя» мысли, которыми Фридрих
обменивался с Шлейермахером, она постоянно старалась устранять
возникавшие между двумя друзьями недоразумения и
разногласия. Исполнение ее мучительной роли облегчалось для нее как ее
необыкновенной скромностью, так и неистощимой веселостью ее
характера. В ней не было ничего похожего на слабодушную
сентиментальность. Ее письма, в особенности те, которые были
написаны в начале ее связи с Фридрихом, обнаруживают в ней
рядом с чисто женской чувствительностью богатый запас юмора,
проявлявшегося в разных невинных шутках, а иногда и в очень
колких насмешках. В особенности в более позднюю пору ее
жизни ей иногда случалось раздражаться и выходить из терпения;
но это проходило очень скоро, потому что она, по ее
собственному выражению, «даже проливая слезы, не могла воздерживаться
от смеха, если только находила что-нибудь достойное смеха». Она,
без сомнения, была несправедлива к самой себе, когда
приписывала себе в вину все неудачи Фридриха и при этом заводила речь
о дисгармонии, которая будто бы родилась вместе с ней и никогда
не покинет ее. Но эта дисгармония была не что иное, как
тревожное состояние женщины, вынужденной постоянно подчинять свои
чувства ясному рассудку мужчины. Она была настоящей
дочерью Моисея Мендельсона. Ее чистосердечие и правдолюбие, ее
здравый ум, ее практичность в соединении с другими ее
превосходными качествами делали ее достойной таких мужей, как
Фихте и Шлейермахер. Поистине замечательно, как подвижный ум
20 Зак. № 3602
610
Р. ГАЙМ
вовлек ее в сферу идей и фантастических влечений романтиков и
как она вместе с тем не утрачивала ясности взгляда на
неромантическую действительность, даже на требования бережливости.
Ей иногда казалось, что все эстетико-литературные
произведения, которым она должна была бы придавать большую важность
в качестве почитательницы Фридриха, в сущности, ничего не
стоят. Ей было бы очень приятно видеть в Фридрихе художника, но
она была бы вполне довольна лишь тогда, когда Фридрих стал бы
хорошим гражданином в хорошо устроенном государстве; все, что
делали и чего желали ее друзья-революционеры, казалось ей
таким же не подходящим к литературе, к критике и ко всему
остальному, как великан к детской кроватке; если бы все делалось
по ее воле, то они взяли бы пример с Гёца фон Берлихингена,
который брался за перо только для того, чтобы отдыхать от работы
мечом. Она высказывала это своему другу Шлейермахеру
совершенно откровенно, а читая другие места в ее письмах, живо
представляешь себе, как часто она прерывала непритворным
хохотом слишком глубокомысленные размышления Шлейермахера
или доказывала негодность трансцендентальной иронии
Фридриха и как в этих обоих случаях правда была на ее стороне1.
Само собой понятно, что подруга Шлегеля должна была
сделаться писательницей. В то время как Фридрих работал над «Лю-
циндой», Доротея занималась переводом Фоблаза2. В то время
она еще жила в Берлине. Так почему бы ей было не предпринять
то же, за что взялась с таким решительным успехом жена
книгопродавца Унтера, написавшая роман «Юльхен Грюнталь»3? И
действительно, после переезда в Йену она начала писать роман,
герой которого сначала назывался Артуром, а потом Флорентином.
1 С характером Доротеи нас знакомят, кроме ее писем к Шлейермахеру (в
томе III его переписки), ее письма к А. В. Шлегелю (в бумагах Бёкинга), к Суль-
пицию Буассерэ (в его переписке) и к Каролине Паулюс в Reichlin-Meldegg's
«Paulus und seine Zeit» II, 324 и ел.; но в тех письмах, которые она писала во
время перехода в католическую веру, заметны раздражительность и
пристрастие, которые лишь впоследствии уступили место более мягкому и спокойному
душевному настроению. Сравн. письма Фихте к его жене в «Leben Fichte's» (2-е
изд.) I, 322 и главу о Доротее в «Henriette Herz» Фюрста.
2 Фридрих к Шлегелю, письмо № 125 от 19 февраля 1799 года.
3 Мы не по догадке говорим о соревновании с автором «Юльхен
Грюнталь». Из писем Фридриха видно, что он очень дурно отзывался о «старой
кошке»; он очень радовался «иронической» мысли Вильгельма предложить Унгеру
роман Доротеи («Aus Schleiermacher's Leben» HI, 146).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
611
Она, конечно, не замышляла написать нечто такое, что могло бы
стоять наравне с «Люциндой»! Мысль равняться с
«божественным Фридрихом», конечно, показалась бы ей чем-то вроде
оскорбления Его Величества. Автор «Люцинды» был в ее глазах
художником; она была бы довольна, если бы ей удалось доставить
ему спокойствие и со смирением ремесленницы зарабатывать на
хлеб насущный, пока он сам не в состоянии этого сделать. То, что
она прежде всех исполнила желание Вильгельма, вложив несколько
стансов в уста своего Флорентина, было для нее ребяческим
триумфом. Когда первая часть ее романа была доведена до конца
осенью 1800 года, она с трепетом в сердце и с краской стыда на
лице отправила пробные листы к Шлейермахеру, и никакие
похвалы ее друзей не могли изменить ее скромного мнения о
собственном таланте. Она не переставала стыдиться своих «синих чул-
ков», не переставала смеяться над поправками, которые пришлось
делать в рукописи, потому что «дьявол постоянно властвовал там,
где должен был властвовать падеж дательный или винительный».
В ее книге всего приятнее и всего лучше для нее было имя
Фридриха, который назвал себя в заголовке издателем, и те два
сонета, которые Фридрих написал для нее1.
Однако она могла бы придавать более высокую цену своему
труду. Ее «Флорентин», несмотря на свою несамостоятельность,
был во сто раз лучше, чем «Люцинда», отличавшаяся такими
чрезмерными притязаниями на оригинальность. «Вы найдете, — пишет
Шиллер Гёте, — что в этом романе бродят тени Ваших старых
знакомых. Однако этот роман, наполненный странными
нелепостями, внушил мне лучшее понятие об авторе; он служит новым
доказательством того, как далеко может заходить дилетантизм
по меньшей мере в механических литературных приемах и в
бессодержательной литературной форме». Так как этот критик был
неблагосклонно расположен ко всему, что исходило от Шлегелей,
1 Сравн. письма Доротеи к Шлейермахеру (в ее переписке III, 147, 155,173,
217, 231, 239, 241, 253). Фридрих к Шлейермахеру (там же, с. 135). Шлейерма-
хер к Доротее (там же, с. 244). Первая и единственная часть «Флорентина»
вышла в Любеке и в Лейпциге в 1801 году (у Бона). Сонеты Фридриха помещены в
его сочинениях IX, 115 и 116. Содержание второго сонета «Phantasiebild»
объясняется содержанием письма Доротеи к Шлейермахеру (III, 239). Продолжению
романа воспрепятствовала болезнь Доротеи (к Шлейермахеру III, 268); но даже
в 1805 году Доротея еще не отказывалась от намерения продолжать его
(Доротея к Каролине Паулюс у Рейхлин-Мельдегта в «Paulus und seine Zeit» II, 333).
612
Р. ГАЙМ
то его отзыв можно считать за одобрительный. То, что он сказал
о старых знакомых, было вполне основательно: ведь «Флорентин»,
очевидно, занимает серединное место между «Вильгельмом
Мейстером» и «Штернбальдом» почти точно так же, как «Агнес
фон Лилиен» г-жи Вольцоген занимает серединное место между
«Вильгельмом Мейстером» и романом Якоби «Вольдемар».
Таинственным мраком покрыто рождение и происхождение героя
романа. Он воспитывался под руководством духовенства, в
печальном одиночестве; его готовили к монашеской жизни. Он
спасается бегством, проводит некоторое время в дворянской
военной школе, бродит без всякой цели по Венеции под чьим-то
таинственным надзором; какое-то приключение принуждает его
бежать в Рим; там он живет с одной легкомысленной римлянкой
в качестве живописца, хотя его влечение к живописи было не
более сильно, чем влечение Вильгельма Мейстера к театральной
сцене. Вследствие своей связи с римлянкой он снова принужден
спасаться бегством; он исходил половину Европы музыкантом
или просто бродягой, а в результате всего оказывается, что он
чувствует душевную пустоту и предчувствует, что его ожидает
какое-то предназначение. Даже в «Штернбальде» герой романа
не был таким же безусловным олицетворением бесцельности
жизни. У героя Доротеи всего лишь несколько больше бурных
стремлений и проявляются революционные влечения. Так как «его
интересует зрелище нового государства, которое возникает само
собой», и так как он желал бы воплотить все то, что носит в своей
душе, то он задумал отправиться в Америку и поступить там в
республиканскую армию для того, чтобы сражаться за свободу.
Но ему суждено другим путем разрешить и загадку своего
предназначения, и загадку своего происхождения. Этот переворот в
его умственном развитии и в его судьбе совершается вследствие
случайного вступления в одно знатное семейство. Он находит в
этом семействе друга, а в невесте этого друга находит такую
девушку, которая вызывает в нем сильное душевное волнение.
Этим не ограничивается его находка: в конце романа мы узнаем,
что почтенная, благочестивая тетка невесты, Клементина,
напоминающая «die schöne Seele» (прекрасную душу. — Прим. науч.
ред.) в «Вильгельме Мейстере», находится в самой близкой
связи и с его личностью, и с его происхождением.
И здесь, точно так же, как в «Штернбальде», в «Люцинде»,
в «Офтердингене», темой служит исполнение неясных предчув-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
613
ствий, описание жизни, во время которой герой романа,
увлекавшийся какими-то неопределенными идеалами, впадал в разные
заблуждения и ошибки. Но из всех подражаний гётевскому
роману «Флорентин» ближе других подходит к своему образцу. Здесь
не делается попытки ставить биографию героя в связь с
метафизикой или наполнять ее парадоксами, взятыми из романтического
учения об искусстве и о нравственности. Женская рука рисует
гораздо более верную и гораздо более добросовестную копию
оригинала. Весь рассказ Доротеи со своими немецко-итальянскими
«Wahlverwandschaften» («Родство душ».—Прим, науч. ред.)
похож на виденное во сне повторение гётевских
«Wahlverwandschaften». Мы находим в слабом подражании и тему, и
действующих лиц, и стиль гётевского романа, даже слышим отзвуки песен
Миньоны. Только местами встречаются проблески собственной
изобретательности, как, например, в изображении ротмистра
Вальтера, который, без сомнения, был портретом одного из офицеров
берлинского гарнизона. Еще чаще уклоняется Доротея от своего
образца в способе изложения. Она всего более похожа на саму
себя, когда во вставленных в роман письмах выражается своим
обычным слогом; она всего более занимательна, когда дает
полную волю своему врожденному остроумию, как, например, когда
описывает происходящий на мельнице разговор между
мельником и мельничихой. Если бы у нее было побольше таких
юмористических сцен, если бы у нее было побольше таких живописных
рассказов, как рассказ о свадьбе, то мы искренно пожалели бы о
том, что нить ее романа прервалась на половине. Но врожденный
талант Доротеи, к сожалению, подчинялся влиянию
романтических понятий об искусстве. Впрочем, хотя «Флорентин» и не
принадлежит к числу художественных произведений, он все-таки
принадлежит к числу таких образчиков романтизма, которые не менее
поучительны, чем «Штернбальд». Абсолютная бесцельность
жизни и неспособность понимать ее условия, то есть то, что Гёте
назвал «студенческой чертой» в характере героя, разве это не та
же самая поэзия поэзии, которую романтики старались извлекать
из произведений Гёте и предлагать публике в виде чистого
экстракта из нее? Невинная склонность к рассказам кажется с этой
точки зрения слабостью. Когда Флорентин рассказывает о
приключениях своей прежней жизни, он, по-видимому, желал бы
ничего не говорить о разных происшествиях и о встреченных им
людях, потому что, по его мнению, ему следовало бы вести речь
614
Р. ГАЙМ
только о себе самом, а не о «случайностях» такого рода. Из его
рассказов можно заключить, что он берет за образец историю
учебных годов Юлия: ведь он очень рад, что довел свой рассказ
до конца, и сам удивляется тому, что мог так долго говорить об
одном и том же сюжете. Это ироническое отношение
рассказчика к рассказу есть настоящий haut goût романтизма; да и сама
Доротея, смеясь, признается, что она, в сущности, не годится для
роли рассказчицы, для роли сочинительницы романов. Но с
другой стороны, следует заметить, что роман Доротеи сильно
отзывается и романтической этикой. Поэтические вольности, которые
позволяет себе идеалист и бродяга Флорентин, очень сходны с
теми, которые позволяет себе герой «Люцинды». Он и живет и
пишет стихи, подобно импровизатору, по случайному внушению.
Помочь убийце, посягнуть на честь женщины — для него такие
же пустяки, как и для Бенвенуто Челлини. Основные правила
поэтической, революционной морали не только облекаются в форму
фактов, но также излагаются с целью обратить на них внимание.
Противоположность между человеком гармонически
образованным и человеком дюжинным, естественно, проводится сквозь весь
роман. Характеристика старшего вахмистра с его обязательным
просвещением есть очень меткое глумление над
антиромантизмом. «Изящное легкомыслие», о котором однажды заходит речь,
носит на себе ясные признаки своего происхождения; а когда
проповедуется «самое деликатное уважение к чувственной свободе
ближнего» или когда говорится о тех чувствительных людях,
которые проявляют свою энергию только внешним образом, то нам
становится ясно, что сочинительница романа читала отрывочные
заметки, печатавшиеся в «Атенее», и «Письма» Шлейермахера о
«Люцинде»1.
Между тем как Доротея выпускала в свет вовсе не лишенное
значения литературное произведение, Фридрих тщетно мучился
желанием продолжать свой несчастный роман, или, вернее,
старался уверить и самого себя и своих друзей, будто он в состоянии
написать вторую и третью части романа, лишь только этого
захочет, и даже будто у него, в сущности, уже готово продолжение
1 С вышеприведенным отзывом Шиллера [в его переписке с Гёте № 803],
встретившим одобрение и со стороны Гёте [№ 804], можно сравнить то, что
говорил о «Флорентине» Зольгер, которому был в то время только двадцать
один год; в оставшихся после его смерти сочинениях 1,45.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
615
«Люцинды»1. Вплоть до 1803 года он не переставал заводить речь
о продолжении «Люцинды»2. На самом деле в его словах не было
ничего серьезного, а заглавие его романа служило ему лишь
поводом для сочинения нескольких стихотворений, которые не были
вызваны потребностью высказать то, что было на душе, а потому
имели некоторое значение лишь по своей воображаемой связи с
романом3. Прежде он находил совершенно неуместным вставлять
в свой роман песни и вообще не чувствовал в себе ни малейшего
влечения к стихотворству, а теперь он стал писать стихотворения
почти с таким же рвением, с каким прежде писал отрывочные
заметки. Он, конечно, не задавал себе вопроса, обладает ли он
даром трогать сердца и настраивать струны своей лиры как на
веселый, так и на грустный тон. Для него стихотворение было
искусным продуктом фантазии. Он полагал, что будет в
состоянии писать стихотворения, лишь только «научится владеть
стихотворным размером». А чтобы «перешагнуть через эту гору»,
он мог пользоваться советами и наставлениями, примером и
поощрениями своего брата. Он положительно утверждает, что, живя
в комнате своего брата, «заразился» от него поэзией. Поэзия
Вильгельма, заключавшаяся преимущественно в культе внешних форм,
и к тому же форм самых разнообразных, была более всякой
другой способна возбуждать охоту к подражанию. Ей можно было
1 Сравн. между прочим «Aus Schleiermacher's Leben» III, 203. Впрочем,
говоря о своем намерении написать вторую часть «Люцинды», Шлегель снова
заводил речь и о Фаусте (там же, с. 140).
2 Фридрих писал Вильгельму Шлегелю из Парижа от 15 мая 1803 года
[№ 184]: «Я полагаю, что следовало бы выпустить в свет второе издание первой
части прежде второй части; иначе я выпущу обе части в одно время».
3 Они печатались мало-помалу, сначала в «Альманахе Муз» А. В. Шлегеля
и Тика; стихотворения, помещенные там под заглавием «Abendröthe»
(«Вечерняя заря». —Прим. науч. ред.) и романсы «Von Licht» («О свете». — Прим.
науч. ред.) находятся в связи с «Люциндой», судя по тому, что говорит Варнга-
ген в «Gallerie von Bildnissen» 1,232 и что говорит сам Фридрих в письме к брату
№ 164. Эти романсы были последними стихотворениями, содержание которых
находилось в связи с «Люциндой», потому что все остальное «было так глубоко
сокрыто в ,,Люцинде", что его не могли бы извлечь оттуда никакое искусство и
ничей произвол». Все это Фридрих только воображал, так как вскоре после того
он поместил еще одно такое стихотворение в «Альманахе» Вермерена (сравн.
журнал «Европа» I, 1, с. 88, прим.); наконец, такого же рода стихотворение было
помещено в 1806 году в изданной им самим «Поэтической карманной книжке».
Все это было напечатано в его стихотворениях, изданных в 1810 году, и потом в
полном собрании сочинений.
616
Р. ГАИМ
научиться, а Вильгельм был превосходным преподавателем. Хотя
и нельзя было сравняться с Гёте, но в одном отношении можно
было превзойти его. Теперь были на очереди дня испанские и
итальянские поэты со своими разнообразными стихотворными
размерами. Тогда развилось желание писать канцоны и сонеты,
стансы и романсы. Для Фридриха то был новый мир, полный
неотразимой привлекательности. Его филологический энтузиазм
и мистицизм останавливался предпочтительно на самых трудных
поэтических формах, симметрическое построение и антитезы
которых он стал то воспроизводить в подражаниях, то
видоизменять в придуманных им самим комбинациях. О многих из своих
стихотворений он сам говорит, что они возникли из упражнений
в стихотворной метрике; но мы имеем возможность еще глубже
заглянуть в мастерскую этого поэта. Он был так доволен своими
первыми попытками писать стихи терцинами, что лишь только у
него были готовы три рифмованных стиха, он бросался в комнату
Доротеи, читал их ей вслух и очень сердился, если она не могла
тотчас понять смысла стихов. Вильгельм был вообще чрезвычайно
доволен успехами своего ученика и указывал Шлейермахеру на
«мастерство» своего брата как на поощрительный пример;
однако это не мешало ему посмеиваться над тем, что его брат иногда
трудился целый день над одним стихотворением, над
какой-нибудь одной канцоной. Поэтому Фридрих с гордостью уведомлял
Вильгельма, что написал затейливое стихотворение «Фантазия»
в течение только трех часов. Он, конечно, поступил
благоразумно, назначив зимой 1800/01 года для занятий стихотворством только
субботу и воскресенье каждой недели1!
Понятно, что Фридрих Шлегель стал заниматься
стихотворством с особенным рвением с той минуты, как было решено
издавать свой собственный романтический «Альманах Муз». Здесь
были помещены: одна часть стихотворений, предназначенных для
«Люцинды», переведенные с испанского католические
стихотворения и несколько сонетов, которые, в сущности, должны были
служить предвестниками целого ряда мистико-мифологических
дифирамбов. Но первые плоды внезапно пробудившегося
влечения к поэзии украшали «Атеней»; именно они, вместе с написанной
в начале 1801 года большой элегией «Геркулес Музагет», хорошо
1 Указания на то, что изложено выше, разбросаны в томе III переписки Шлей-
ермахера; кроме того, их можно найти в письмах к Вильгельму № 153, 154, 158,
161, 168, 170, 173.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
617
характеризуют нашего поэта1. Из них видно, что речь шла не только
о том, чтобы выказать свое уменье владеть стихом. Ведь и в
стихотворстве Шлегель по-прежнему оставался доктринером,
мистиком, ироником — и «мессией» романтической школы, как
его называла в Берлине Рахиль. В стансах «К Гелиодоре» он
превозносит самого себя за то, что с каждой науки срывает печать
и всем искусствам воздвигает храм. В пророческих терцинах он
убеждает немцев создать из поэзии новый век, новую Европу.
В «Геркулесе Музагете» он превозносит все тенденции
романтической школы, великих основателей нового искусства и новой
науки, своих друзей и, в особенности, самого себя. Это были не что
иное, как риторико-дидактические, напыщенные стихотворения,
в которых поэзия заключалась большею частью в том, что
Фридрих считал возможным хвастаться так, как было бы неприлично
хвастаться в прозе. В стихотворениях к «Люцинде» мы находим
частью символику природы вроде таковской, частью игривые
размышления об обязанностях легкомыслия и измены. Сонеты и
канцоны были рифмованными характеристиками друзей Фридриха
и их произведений; это были остроумные эпиграммы, основанные
на игре слов, или «сатурналии», как их называл Фридрих2.
Намерение написать мистические дифирамбы осталось
неисполненным3; и изложение в стихах индейской сказки осталось только
обещанным, а «эпиллион», который должен был в трех песнях
1 «К Гелиодоре» (в «Атенее» III, 1, с. 1); «К немцам» (там же, III, 2, с. 165);
«Геркулес Музагет» (в «Характеристиках и критиках» 1,271). В этом последнем
стихотворении находится следующее двустишье, которое Шлегель впоследствии
изменил (в его сочинениях IX, 267) таким знаменательным образом: «Redner der
Religion, früher Novalis! auch Dich. Fester umarm'ich Euch stets, und so lasst mir die
Flammen gevähren!».
2 Намерение писать канцоны («Aus Schleiermacher's Leben» III, 158, 160,
161) ограничилось сочинением только одной канцоны к Риттеру (она сначала
была помещена в «Поэтическом журьале» Тика I, 1, с. 217). Стихотворения к
Шлейермахеру и к Шеллингу превратились в сонеты («Атеней» III, 2, с. 234);
кроме того, был написан один сонет об «Атенее» и один о тиковском «Цербино»;
сонет к Шлейермахеру замечателен тем, что в нем обнаруживается различие
между воззрениями Фридриха и Шлейермахера на религию. Из упоминаемых в
письмах к Вильгельму [№ 154, 162, 164] «Mutwilligkeiten», сонет и двустишие
к Губеру помещены в журнале Рамбаха «Kronos, ein Archiv der Zeit» I, с. 273 и
274(1801).
3 Касательно плана дифирамбов сравн. письма Фридриха: к Шлейермахеру
III, 160; к Августу Вильгельму № 154 и 161. Только принадлежащие к этим
дифирамбам сонеты помещены в «Альманахе Муз» (с. 235 и ел.) вместе с
третьим сонетом.
618
Р. ГАЙМ
«изобразить soit disant (так называемое. — Прим. науч. ред.)
хорошее общество», существовал только в проекте1. Как было бы
хорошо, если бы и все остальные упражнения нашего Геркулеса
Музагета остались лишь задуманными или ненапечатанными!
Была немногочисленная, но избранная публика, относившаяся
к этим упражнениям с одобрением и даже с восхищением; ее
со-ставляли: подруга Музагета Гелиодора, его друг Антонио, его
наставник Вильгельм, критический отголосок Вильгельма Берн-
гарди2, и в особенности сам Музагет, неперестававший
восхищаться и, восхищаясь, хвастаться, что теперь «поток мелодии
с шумом льется из его уст». Что же удивительного в том, что в
своем самомнении он заносился все выше и выше? Из
соревнования с элегией своего брата об искусстве греков он написал
«Геркулеса Музагета». Но теперь его брат имел смелость взяться
за драматическую работу, за переделку еврипидовского «Иона» и
по этому поводу много разговаривал с Фридрихом о
драматическом искусстве3. И Фридрих работал над сочинением драмы с
весны до осени 1801 года. Его трагедия «Аларкос»4 оказалась
такой же нелепостью в драматическом жанре, какой была «Лю-
цинда» в жанре романа. Она была изготовлена по особому рецепту
с целью превзойти драму Вильгельма, написанную в античном
стиле. Ведь она была новым практическим применением
теоретических воззрений автора, в которых главным догматом было
сочетание античного с новым и развитие новейшей драмы из романа.
По собственным словам Фридриха, он писал свою «трагедию» в
античном смысле этого слова, преимущественно по идеалу Эсхи-
1 К Августу Вильгельму письма № 168, 170 и 173.
2 Отзыв Шлейермахера (в его переписке IV, 63); отзыв Бернгарди в
рецензии для «Альманаха Муз», помещенной в его «Kynosarges» I, с. 121 и ел., о
котором будет идти речь далее.
3 Август Вильгельм к Шлейермахеру (в их переписке III, 290).
4 «Alarcos, Ein Trauerspiel». Берлин, 1802 [в начале года]; о напечатании
трагедии заботился Вильгельм (письма Фридриха к нему № 178—180), хотя он
и полагал, согласно с Каролиной (ее письмо к Вильгельму № 19), что намерение
написать драму было внушено Фридриху завистью к брату. Что касается
времени сочинения драмы, то Фридрих обращался к Вильгельму в письме от 27
апреля 1801 года [№ 169] с вопросом, не может ли он найти употребление для сцены
одной драмы, которая скоро будет закончена и напечатана. Я без всяких
колебаний отношу эти слова к «Аларкосу». Касательно того, что эта драма была
закончена в октябре, сравн. письмо Фридриха к Шлейермахеру (III, 295) и
Вильгельма к Тику (у Гольтея III, 271). В сочинениях Фридриха «Аларкос» помещен в
IX томе, с. 1 и ел.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
619
ла, но с романтическим содержанием и в романтическом
«костюме», а сюжетом для нее служил испанский рассказ, с которым
Рамбах незадолго перед тем познакомил немецкую публику. Это
была, по замечанию Шиллера, «странная амальгама античного с
самым новым», а Кернер, как это ему нередко случалось, верно
попал в самое больное место драмы, когда сказал: «Это —
замечательный продукт для того, кто наблюдает за умственными
недугами; здесь обнаруживается, при полном отсутствии фантазии,
мучительное старание создать художественное произведение из
общих понятий; при этом избыток ритмических ухищрений в
контрасте с беззвучностью стихов и явное напряжение всех сил в
контрасте с внутренней пустотой производят такое же забавное
впечатление, как пародия»1. Такое же впечатление произвела эта
трагедия на веймарскую публику, когда была исполнена на сцене.
Теперь и этой публике представился случай встать на точку зрения
иронии; но ее неодобрение, конечно, было бы более громким и
более осмысленным, если бы ее не держал в узде великий тиран
театральной сцены, Гёте, относившийся благосклонно к «Аларко-
су» во имя отвлеченного искусства. Таким образом, на долю
«Аларкоса» выпал самый сомнительный успех — успех
вынужденного уважения2. Но этого было достаточно для того, чтобы
укрепить уверенность нашего романтика в его поэтическом и
драматическом таланте. Если бы можно было писать драмы с такой
же легкостью, с какой пишутся заглавия и делаются
теоретические эксперименты, то Фридрих сделался бы таким же плодовитым
драматическим писателем, как Лопе де Вега. Уезжая весной
1 Достаточно сослаться на указания Коберштейна III, 2439. После
основательных критических замечаний Юлиана Шмидта (1,453 [4-е изд.] и II, 258 [5-е
изд.]) было бы излишним входить в более подробный разбор этой драмы.
2 К сведениям об исполнении драмы, которые мы находим у Коберштейна,
следует присовокупить собственный рассказ автора (в журнале «Европа» I, 1,
с. 7) и указание Шеллинга, что «Аларкос» был четыре раза исполнен на сцене,
вызывая одобрение (к А. В. Шлегелю от 30 июля 1802 года (у Плитта, с. 377)).
Собственное мнение Шеллинга об «Аларкосе» (там же, с. 363), но это, в
сущности, уклонение от решительного приговора. В. Гумбольдт отозвался о драме «с
большим уважением» (Август Вильгельм к Тику (у Гольтея III, 284)); но это
письмо должно быть помечено 15 марта 1802 года вместо 1803 года и должно
быть поставлено вслед за письмом от 1 марта 1802 года [№ XVIII]. Какое
впечатление произвел «Аларкос» на Шлейермахера, видно из его переписки I, 286
(сравн. там же, 297, 298 и III, 312). Судя по тому, что говорится в III, 302 и 313,
следует полагать, что шла речь об исполнении «Аларкоса» и на берлинской
сцене.
620
Р. ГАИМ
1802 года из Германии в Париж, он взял с собой планы двух драм.
По меньшей мере в течение года он мог непрерывно работать
над сочинением драм и надеялся изготовить к пасхальной
ярмарке следующего года три пьесы; он намеревался писать пьесы
разного рода: сатирические комедии, музыкальные трагедии, и пяти-
актные, написанные по всем правилам сценического искусства, и
такие, которые не подчиняются этим правилам; и пьесы в
античном стиле, и пьесы в романтическом стиле, и даже пьесы в
индийском стиле! Среди своих философских занятий, которые
теперь не оставляли ему свободного времени, он заявлял, что поэзия
«его высшее благо, его лучшая радость на земле», и мечтал о
таком положении, которое дозволило бы ему возвратиться к
любимому занятию1.
Впрочем, у него было много любимых занятий, и он нередко
воображал, что только обстоятельства удерживали его от
исполнения его настоящего призвания. И с его философией
случилось почти то же, что случилось с его поэзией. С тех пор как он
познакомился с философией Фихте и написал рецензию для
журнала, издававшегося Фихте и Ниттаммером, намерение изложить
свою собственную философскую систему, далее развивая фих-
тевский идеализм, было одним из тех многочисленных
замыслов, которыми так легко увлекалось его честолюбие. В Берлине
он изучал вместе со Шлейермахером Спинозу и Лейбница.
Напечатанные им в «Атенее» отрывочные заметки носят на себе
следы этих занятий: в них встречаются остроумные замечания,
1 О нескольких драмах шла речь в переписке со Шлейермахером III, 268 и
310. Вильгельму Фридрих писал из Парижа от 16 сентября 1802 года [№ 181] о
«Гомо» и о музыкальной трагедии; то об одной пьесе, то о другой шла речь в его
письмах от 15 января 1803 года [№ 182] и от 14 августа 1803 года [№ 185]. В
конце 1803 года [№ 187] он жаловался на то, что ради своих комедий он должен
был предпринять очень серьезные исследования и что это стоило ему
несравненно более труда, чем «Аларкос» (сравн. письмо Вильгельма к Шлейермахеру
III, 365). Ненапечатанные письма Фридриха к Реймеру дают нам еще более
точные указания. В письме от 4 апреля 1802 года упоминается наряду с «Гомо»
музыкальная трагедия «Адолифа». Вместо «Гомо», о котором уже было
напечатано объявление в ярмарочном каталоге книг, заходит впоследствии [19 фриме-
ра 1803 года] речь о комедии «Флорион», для которой должна была служить
сюжетом фабула романа Боккаччо «Filocopo»; но в изложении этой фабулы
Фридрих предполагал более строго придерживаться того старонемецкого поэта,
который рассказал ее [«Flore u. Blancheflur»]. Он намеревался написать пять
актов с прологом и эпилогом; при этом он не придерживался никакого образца,
разве только за исключением Сакунталы и так далее.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
621
сделанные с целью унизить Лейбница и возвысить Спинозу; в
них, кроме того, постоянно превозносится Фихте в ущерб Канту.
Остальные философские воззрения Фридриха еще более
заслуживали бы названия «пустоцвета», если бы некоторые из них не
были изложены в другом месте, в совершенно иной обработке
и потому с совершенно иными правами на внимание, если бы
они не повторялись в философской системе Гегеля. Что в
систематически развитом уме достигло определенных очертаний,
то было у Фридриха лишь смелыми попытками, лишь пустыми
фантастическими причудами. Так, например, Фридрих говорит в
отрывочных заметках, что философия держится слишком
прямого пути и еще недостаточно «округлена», что вслед за полным
изложением критического идеализма главные задачи философии
заключаются в изложении материальной логики, поэтической
поэтики, положительной политики, систематической этики и
практической истории; далее он говорит, что логика должна быть не
простым орудием философии, а прагматической наукой в
противоположность поэтике и этике. Истинная философия, говорится
в другой заметке, должна искать законченности в критике
своего собственного духа и своих основных правил; она до сих пор
еще не могла отыскать ключ к своей собственной
изотерической истории; она найдет его только тогда, когда перестанут
изолировать одну философскую систему от другой, когда будут
изучать философию исторически и в ее цельности с должным
вниманием к постоянно вновь возникающим в различных видах
одним и тем же спорным вопросам. Короче говоря, Шлегель
требовал, чтобы критика разума была изложена систематически и
исторически; о том, исполнимо ли это требование, Шлегель,
очевидно, еще не составил себе ясного понятия, но оно
естественным образом возникло в его подвижном уме под
одновременным влиянием фихтевского идеализма, эстетических воззрений
и изучения истории. С такими же стремлениями развивался ум
того великого систематика, который впоследствии сделал из
логики систематически законченную критическую историю
разума, а из истории сделал иллюстрацию логики.
Для такой переработки немецкой философии еще не настало
время, а Шлегелю она была далеко не по силам. Но это не мешало
тем неопределенным представлениям и требованиям постоянно
преследовать и мучить его. Его соблазнял пример Шеллинга,
написавшего «Всеобщий обзор», и он в течение всего времени, как
622
Р. ГАИМ
издавался «Атеней», носился с намерением писать для этого
журнала в форме общепонятных рапсодий «Исторические обзоры
философии». Он полагал, что у него под рукой вполне
достаточный материал для таких летописей или обзоров, и воображал, что
легко превзойдет и те философские «стычки», которыми
занимался в своих отрывочных заметках, и даже статьи Шеллинга1. Но
на деле оказалось, что он только занялся новыми философскими
переделками письма к Доротее о философии и мистических,
похожих на прорицание оракула «Идей». Ранее мы уже заметили,
что в этих «Идеях» он расходился во мнениях со Шлейермахе-
ром, который должен был помогать ему при изложении
«Исторических обзоров». Тем не менее он не отказался от своего
намерения написать какое-нибудь философское сочинение вместе со
Шлейермахером. Он стал снова об этом помышлять после того,
как «Монологи» снова сблизили двух друзей, временно
рассорившихся. Предприимчивый Фридрих мечтал об издании журнала, в
котором он поместил бы и свои статьи о Лейбнице, и свои
указания на древнегреческую натурфилософию, и свои замечания о так
называемых мечтателях между философами, и вообще все, что
он в течение четырех или пяти лет писал о философии2. Между
тем критика морали, на которую всего более рассчитывал
Фридрих, превратилась у Шлейермахера в план самостоятельного
сочинения. Фридрих был вынужден отказаться от своего намерения
по причине непрекращающегося разномыслия со Шлейермахером;
тогда он стал утверждать, что те философские «Идеи», которые
он намеревался изложить, по-видимому, складываются в
самостоятельное небольшое сочинение3. Ведь уже ранее он с
хвастовством заметил об одной из своих статей в «Атенее», что она
должна считаться объявлением о выходе в свет его первого
философского сочинения и о его выступлении на «настоящее
философское поприще»4!
Это выступление действительно состоялось, но привело к
крайне плачевному фиаско. К несчастью, и на этот раз, точно так же,
как при выступлении Фридриха на его настоящее поэтическое
поприще, денежные соображения играли очень важную роль. Так
как Фихте уже выехал из Йены, а Шеллинг, проживший все лето
1 К Августу Вильгельму № 95, 97, 106 и др.
2 Сравн. в переписке Шлейермахера III, 158; там же, 163 и так далее.
3 Там же, III, 175; сравн. III, 203.
4 Там же, III, 149.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
623
1800 года в Бамберге, по-видимому, не намеревался снова занять
свою профессорскую кафедру, то Фридрих задумал заменить этих
двух философов, вступиться с профессорской кафедры за
интересы идеализма и этим способом наполнить свой кошелек. Его брат,
также живший в Бамберге с начала августа, тщетно отговаривал
его от этого намерения; и Шлейермахер тщетно предупреждал
его, что университетские профессора непременно будут делать
ему разные придирки; но Фридрих уже не мог или не хотел
сделать попятного шага'. Он начал с того, что стал распространять
слух о своем намерении и этим способом собрал подписки
многочисленных слушателей, с нетерпением желавших познакомиться
с философской системой автора «Люцинды». В то же время он
обратился с просьбой к философскому факультету. Его
освободили от необходимости держать examen rigorosum (строгий
экзамен. — Прим. науч. ред.) и дали ему ученую степень. Пробная
лекция, прочитанная им 18 октября на чисто шлегелевскую тему
«Об энтузиазме, или О мечтательности», была признана
удовлетворительной и ему были предоставлены права доцента; даже ранее
того в публичном списке лекций на зимний семестр 1800/01 года
было помещено извещение о лекциях Фридриха — одной частной
лекции «О трансцендентальной философии» и одной
безвозмездной лекции «О назначении ученых». Ссоры и неприятности
возникли сначала во время диспута, который был отложен для
нового приват-доцента на конец зимнего семестра. Декан, очевидно с
целью сделать Фридриху неприятность, назначил ему двух
официальных оппонентов, ссылаясь на требования факультетского
устава. Один из этих оппонентов, профессор Аугусти, явился на
диспут с «Люциндой» в руках и с одной цитатой из отрывочных
заметок «Атенея». Шлегель отвечал на оскорбление
оскорблением; студенты, державшие сторону Шлегеля, с шумом
вступились за обиженного, и декану лишь с трудом удалось положить
конец суматохе и диспуту2. По мнению большинства, на долю
1 Фридрих к Вильгельму Шлегелю [№ 145]; Шлейермахер к Фридриху (III,
206).
2 Шиллер совершенно верно описал эту сцену в письме к Гёте ([от] 16
марта 1801 года). Изложенные выше более подробные сведения извлечены из списка
университетских лекций, из протоколов и из официальных документов
философского факультета. К ним можно также добавить, что кроме официальных
оппонентов Шлегелю было дозволено самому выбрать еще двух оппонентов;
одним из этих последних был Фермерен; темой диспута были слова: «Non critice
624
Р. ГАИМ
Шлегеля выпала в этом случае лучшая роль, чем на долю его
противников, но то, что случилось с ним на лекциях, было хуже
того, что случилось во время диспута. Намерение Шеллинга
продолжать свое путешествие не было приведено в исполнение
среди прочего и потому, что он «не был в состоянии равнодушно
смотреть, как разрушался хорошо заложенный им фундамент»; он
возвратился в Иену и в нескольких лекциях разбил наголову
своего конкурента. Впрочем, Фридрих сам был главным виновником
того, что его аудитория стала с каждым днем все более пустеть.
Он так привык много обещать, но мало давать, что неизбежно
должен был потерпеть крушение, взявшись за методическое
изложение цельной системы. Он обещал излагать дальнейшее
развитие философии Фихте и Шеллинга, которое сам видел только во
сне; поэтому он наполнял свои лекции парадоксами и полемикой
или же красноречиво болтал об общем характере идеализма, а
когда слушатели стали реже посещать его лекции или замечали
ему, что он иногда впадает в резкие противоречия, то он уверял
сам себя, что эти люди «невыразимо глупы» и что ему следует
смотреть на свои обязанности лектора «с точки зрения иронии».
Тем не менее эти лекции отнимали у него много времени, а в
финансовом отношении оказались очень плохим предприятием! Они
могли бы принести ему существенную пользу, если бы помогли
ему «научиться владеть силлогизмом так же, как в
предшествующую зиму он научился владеть стихотворным размером»1 !
Правда, даже после того, как он с трудом протянул свои лекции до
Пасхи2, он хвастался, что совершенно свыкся с чтением лекций.
sed historiée est philosophandum» («Не критик, но историк обладает
пониманием».— Прим. науч. ред.); Аугусти, возражая Шлегелю, цитировал из одной
отрывочной заметки «Атенея» слова: «Историк есть вывороченный наизнанку
пророк»; Паулюс взял сторону Шлегеля против факультета; вся эта история
имела последствием пересмотр постановлений статута о диспутах. Очень
забавны были мнения декана Ульриха, взявшего сторону Аугусти; он много говорил
о «нелепых суждениях» Шлегеля, о его «transcendirenden Hitze»
(трансцендентном пыле. — Прим. науч. ред.), о его «Excentricité» (эксцентричности. — Прим.
науч. ред.).
1 К Вильгельму от 30 сентября 1800 года [№ 148]. Остальные сведения
извлечены из переписки Фридриха со Шлейермахером (III, 256) и с братом [№ 150,
153].
2 При наступлении рождественских каникул он с радостью воскликнул:
«Слава Богу!». А что он читал свои лекции до Пасхи, я заключаю из письма
Доротеи к Шлейермахеру от 16 февраля 1801 года (III, 263). Кроме того, см. там
же, III, 269.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
625
Но он не исполнил обещания составить компендий лекций,
который, по его словам, должен был отличаться как своеобразным
содержанием, так и изящным методом изложения, точно так же,
как не исполнил намерения издать этику Спинозы и статью, в
которой намеревался изложить свои «идеи о критике философии» '.
У него пропала охота читать университетские лекции.
Назначенные на летний семестр лекции о принципах философии и о поэзии
не были им прочитаны. Вторично вступать в соперничество с
Шеллингом было бы тем менее уместно, что Шеллинг нашел себе
помощника в своем друге Гегеле, который скоро доказал, что умеет
владеть силлогизмом еще лучше автора «системы тождества»2.
Эта система вышла в то время в свет. После того как Шлегель
изучил ее весной 1802 года, он высказал о ней именно такой
приговор, какого следовало ожидать от автора «Идей»: по его
мнению, эта система обнаруживала не столько какой-нибудь прогресс
в развитии философии, сколько усиливающуюся склонность
Шеллинга к мистицизму, чтобы не сказать увеличивающуюся
неясность и запутанность его идей. Еще никогда, как полагает
Шлегель, абсолютная неправда не была высказана так ясно; это —
спинозизм, но, к сожалению, «спинозизм без любви», то есть без
того, что есть лучшего у Спинозы; это — система совершенно
чистого разума, в которой не может быть речи ни о фантазии, ни
о любви, ни о Боге, ни о природе, ни об искусстве — короче
говоря, ни о чем, что стоит того, чтобы о нем говорили. А вслед за
этим Шлегель снова предавался мечтаниям об изложении своей
собственной системы. Ему очень хотелось «хоть раз вполне
изложить свой идеализм перед несколькими друзьями», хотелось
«вставить в мировое здание несколько настоящих философских
плит»3. Такое внезапно возникающее желание превзойти всех
мастеров в мире принадлежит к числу болезненных симптомов
дилетантизма всякого рода. Оно не давало покоя нашему
философу-дилетанту, а исполнить его представился удобный случай в
течение следующих лет, когда Фридрих читал в Париже и в
Кёльне сначала перед братьями Буассерэ, а потом и перед более мно-
1 К Вильгельму от 15 декабря 1800 года [№ 153]; сравн. в переписке Шлей-
ермахера III, 231 и письмо к Вильгельму № 154.
2 К Вильгельму № 156 и № 167, к Шлейермахеру III, 269. Кроме того,
сравн. письмо Шеллинга к Фихте (в «Leben Fichte's» Π, 322) и письмо Фихте к
Шеллингу (там же, 324).
3 К Шлейермахеру III, 313 и 315.
626
Р. ГАЙМ
гочисленной публикой те лекции, которые были изданы только после
его смерти Виндишманном. Анализ этих лекций завел бы нас
дальше того конечного пункта, который намечен для этого сочинения.
Достаточно заметить, что это было нечто вроде системы,
составленной из всех тех незрелых мыслей, которые были
изложены в «Идеях», в «Письме о философии» и, без сомнения, также в
лекциях, прочитанных в Йене. Здесь мы находим эклектизм,
который предпринимает в элементе мистики и путаницы то самое
дальнейшее развитие идей Фихте и Шеллинга, которое
выработалось у Гегеля в элементе рационализма и методического
мышления в настоящую философскую систему. Этот «законченный»
идеализм Фридриха, этот идеализм «безусловного „Я"», до которого
Фихте будто бы не дошел из опасения вовлечься в
мечтательность и который, напротив того, мы действительно находим у Якоба
Бёма, хотя, конечно, не в философской форме, есть не что иное,
как смесь идей Фихте с идеями Бёма. Это не лучше
выдерживает критику и не лучше написано, чем те поэтические
произведения Фридриха, для которых служили образцами Эсхил и
Кальдерой. Здесь выше всего ставится не разум, а любовь. Поэтому
Фридрих признает существование первоначального «Я» («Urich»),
существование Божества, мало-помалу проявляющего себя в мире,
и отвергает противоположность между идеализмом и реализмом.
После того как Шлейермахер в последний раз лично
беседовал с Фридрихом перед Рождеством 1801 года, он писал
своему другу Виллиху, что только при помощи поэзии Фридрих мог бы
подготовить изложение своей очень поэтической теоретической
философии. Действительно, таково и было намерение Шлегеля,
как это ясно видно из той его работы, в которой он по меньшей
мере еще один раз выказал свою настоящую силу. Эта сила не
заключалась ни в поэзии, ни в систематическом и методическом
мышлении. Но там, где поэзия соприкасалась с таким
мышлением, он чрезвычайно успешно обнаруживал и прозорливость, и
живость своего ума. Он был вполне способен написать
остроумные комментарии к тому факту, что в его время все умственные
стремления были более или менее проникнуты духом поэзии и
вращались вокруг нее, как вокруг средоточия. Он часто
уклонялся от своего призвания, но наконец возвратился к нему, когда в
течение первых месяцев своего вторичного пребывания в Йене
зимой 1799/1800 года задумал охарактеризовать все умственное
движение, свидетелем которого был и которое достигло в то вре-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
627
мя своей высшей степени. Написанный им для «Атенея»
«Разговор о поэзии» был чем-то вроде второй, более полной, более
подробно развитой «конституции» для романтической революции. Об
этом «Разговоре» Шлейермахер основательно заметил, что в нем
было много прекрасных идей и что это было едва ли не самое
ясно написанное из всех произведений Фридриха. Еще до своего
возвращения в Йену Фридрих хвастался, что на него снова
снизошли «великие откровения» относительно поэзии и что он будет
очень рад случаю поговорить об этом со своим братом1. Итак, он
снова попал в среду того полного жизни кружка своих йенских
друзей, в среду той смеси «религии с идеями Гольберга,
гальванизма с поэзией», где, по словам Доротеи, «было всего вдоволь —
и остроумия, и поэзии, и толков об искусстве, и едкой критики».
«Разговор о поэзии» был памятником этого возбуждения умов;
а впоследствии, когда Фридрих перепечатал это произведение в
качестве дополнения к написанной пятью годами ранее статье об
изучении греческой поэзии, он говорил, что это было
«воспоминанием о том, какие разнообразные познания и дарования
соединялись в том первом зародыше, прежде чем различные ветви не
разошлись так далеко в разные стороны»2. Это было и по
содержанию и по форме отражением той эпохи. Не подлежит
сомнению, что Шлегель действовал под влиянием своих тогдашних
поэтических экспериментов, выбрав для изложения своих воззрений
не форму отрывочных заметок, а художественную форму
диалога, в которую, впрочем, не стесняясь вставлял и письма, и
монологи, и статьи. Но именно под этой пестрой драпировкой яснее
видно, какими на самом деле были общественные и
литературные отношения между членами кружка. Отсюда еще яснее, чем
из позднее написанного Тиком «Фантазуса», видно, как эти
даровитые люди собирались по вечерам, как они сообщали друг другу
о своих занятиях, о своих замыслах, о вновь возникших идеях;
как они обменивались советами касательно своих
произведений. Мы даже не можем утверждать, что Фридрих не был
хорошим портретистом, так как он умел подмечать выдающиеся
черты той или другой личности. Марк, так настойчиво отстаивающий
в «Разговоре» необходимость изучать метрическое искусство,
1 К Вильгельму от 10 августа 1799 года [№ 142].
2 В его сочинениях предисловие к тому V, где помещен и «Разговор» на
с. 165 и ел. Первоначальный текст сочинения можно найти в «Атенее» III, 1, с. 58
и ел., и III, 2, с. 169 и ел.
628
Р. ГАИМ
с достаточной ясностью напоминает Вильгельма Шлегеля; Ама-
лия, так хорошо освоившаяся с критикой и успевшая прочесть все
плохие романы, начиная с романов Филдинга и кончая романами
Лафонтена, очевидно, изображала Каролину Шлегель; для
характеристики философствующего Людовико были заимствованы
некоторые черты и от Фихте, и от Шеллинга; в лице Антонио, как
это нам известно от самого автора, были изображены
полемические приемы Шлейермахера. Само собой разумеется, что все
члены этого кружка интересуются только эстетическими вопросами,
действительный мир и условия обыденной жизни вовсе не входят
в сферу их кругозора. «Разговор» начинается нападками на
тогдашнюю театральную сцену и на ее пошлость, равно как на
негодность английской поэзии; впоследствии все это более
подробно излагают Андреа, Людовико, Антонио и Марк в четырех
лекциях эстетического содержания. В состав «Разговора о
поэзии» входят: статья о различных эпохах поэзии, речь о
мифологии, письмо о романе и очерк различных стилей в ранних и в
позднейших произведениях Гёте.
0 различных эпохах поэзии! Здесь мы тотчас встречаемся с
литературно-исторической тенденцией романтиков, напоминающей
Винкельмана. Вместо разделения на периоды и характеристики
греческой поэзии здесь имеются в виду разделение на периоды и
характеристика всей поэзии, имеется в виду всемирная история
поэтического творчества. Эта цель выражена в основном
положении: «Изучение искусства заключается в изучении его
истории». Но она более глубоко коренится в философских воззрениях.
По мнению автора, история поэзии, подобно истории всех искусств
и наук, образует правильное целое, образует организм. Уяснение
закона этого организма и его исторических проявлений, «эта
физика фантазии и искусства» есть настоящая универсальная
наука; это — еще несуществующая наука, которую можно назвать
«энциклопедией». И Новалис помышлял о такой «энциклопедии».
Фридрих разумел под этим словом то, на что он тратил всего
более времени в течение нескольких лет. Впоследствии, отвечая на
неоднократные предостережения со стороны Шлейермахера, он
говорил1, что эта наука незаметным образом развивается и
должна достигнуть зрелости, что свои главные дидактические стихо-
1 К Шлейермахеру в начале 1801 года (в их переписке III, 152), в марте и в
апреле 1802 года (там же, с. 310 и 313) и из Парижа от 13 фримера 1802 года (там
же, с. 330).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
629
творения он считает за вклад в такую «энциклопедию» и что даже
его журнал «Европа» имел целью осуществление великой идеи.
Хотя наш фрагментист менее всякого другого был способен
составить такую «энциклопедию», тем не менее его идея
действительно была велика. Это была квинтэссенция его умственного
направления; это был такой проект, в котором скрещивались и его
философские, и его художнические стремления. Если бы он был
способен неутомимо преследовать эту цель, не сбиваясь с пути,
то он действительно нашел бы ту обетованную землю, лишь
одинокими предвестниками которой были все его постулаты и
основные идеи, его романтическая ирония и его старание согласовать
поэзию Гёте с учением Фихте и так далее. Все искусства и науки,
по его мнению, представляют организм, развивающийся в их
истории, потому что сам человеческий дух есть точно такой же
организм; так, например, всякая проявляющаяся в истории поэзия
расцветает сама собою из невидимой первоначальной духовной
силы человечества. Истинный художник есть составной член всей
совокупности искусства, развивающейся у различных наций в
различные века. Поэтому критика и теория поэзии (и мы могли бы
прибавить, в духе Шлегеля, «всякая научная и всякая
философская критика и теория») находятся в самой тесной внутренней
связи с историей поэзии. Каждое отдельное произведение может
быть верно оценено и понято только в связи со всеми
произведениями художника, а дух каждого отдельного художника может
быть верно оценен и понят только в связи со всей историей
искусства. То, что касается критики поэзии, вполне применимо и к
теории поэзии. Настоящая художественная теория поэзии должна
заключать в себе теорию различных видов поэзии и классификацию
поэзии, потому что фантазия поэта не должна изливаться в форме
«хаотической всеобщей поэзии». Но эта классификация должна
быть в одно и то же время и историей и теорией поэзии; она
должна быть извлечена из натуры поэтической фантазии; она должна
объяснять, каким образом фантазия поэта, считающегося
образцом для других поэтов, необходимо должна в силу своей
деятельности сама себя ограничивать и делить на части. Во всех этих
основных положениях так ясна связь с «Основными началами
науки» Фихте, что в подробном ее объяснении не представляется
надобности. «Основные начала» превращаются здесь в теорию
умственного развития. Конкретный ум и, в особенности,
фантазия заменяют здесь отвлеченное «Я». Единство и цельность духа,
630
Р. ГАЙМ
теряющиеся у Фихте в беспредельном стремлении вперед,
выражены здесь словом «организм» вследствие художнического на них
воззрения. Наконец, теряющаяся в беспредельности времен
история самосознания представляется здесь в виде временных
явлений. Таким образом, благодаря эстетическому и
историческому складу ума Шлегеля, логическая схема «Основных начал
науки» получает здесь реальную и как бы телесную плотность.
В сущности, то же самое говорил Гюльсен относительно истории
философии. В сущности, то же самое говорил и Шеллинг в
эстетической главе своей «Системы трансцендентального идеализма»,
когда вел речь об аналогии между миром искусства и универсом
природы1. В сущности, ту же мысль, хотя и односторонне
взваливая все бремя на разум, проводил Гегель в своей логике и
философии истории, в своей эстетике и философии религии; это было
осуществлением мысли Шлегеля об универсальной энциклопедии,
и теоретико-критической и исторической в одно и то же время;
разница только в том, что Гегель облегчил для себя исполнение
такой задачи тем, что сконцентрировал конкретный дух в
«разуме», а с другой стороны, тем, что заимствовал у Аристотеля
понятие о цели.
Но возвратимся к «Разговору о поэзии». Здесь развивается
то воззрение, что вследствие единства человеческого духа
история делается системой, а теория делается историей; а
благодаря такому воззрению и сделанный Андреа обзор развития всей
поэзии оказывается гораздо более положительным, чем тот
обзор, который был сделан Фридрихом в прежнем очерке об
изучении греческой поэзии. Уже в отрывочных заметках, печатавшихся
в «Атенее», Фридрих почти совершенно перестал отдавать
классической поэзии одностороннее и почти исключительное
предпочтение; уже там ценились по достоинству новейшие поэтические
произведения; уже там Данте, Шекспир и Гёте назывались
великим «трезвучием» новейшей поэзии, высказывалась мысль о
высшем пункте единения между античной и новейшей поэзией, а на
основании высокого уважения к «Вильгельму Мейстеру»
превозносилось романическое, или романтическое, то есть, в
сущности, новейшее направление литературы. Но в «Разговоре о
поэзии» сделан шаг вперед. Он заключается в том, что вследствие
более богатого запаса знаний и непрерывного изучения ино-
1 Сравн. выше, с. 419 и 595.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
631
странной новейшей литературы обзор всей истории поэзии
получил более широкую эмпирическую основу, а потому и
понятие о романтизме получило несколько более определенное
историческое значение.
Мы в состоянии отчасти проследить те занятия Фридриха,
которые привели к такому результату. Они начинаются
изучением произведений Шекспира. Между многочисленными
проектами статей для «Атенея» играют выдающуюся роль проекты
статей об английском драматурге. В самом начале своего
пребывания в Берлине Фридрих намеревался написать вместе с
Вильгельмом и его женой что-нибудь об астрономии и о комическом
элементе в произведениях Шекспира. Подобно тому как он «sym-
philosophirte» (совпадал в философских убеждениях. — Прим.
науч. ред.) со Шлейермахером, он хотел «(juyaeritj-ein» со своим
братом. Он предполагал исполнить это намерение посредством
писем, которые служили бы для его брата вызовом на переписку
и возбуждением новых идей. Программа такой критической
переписки была окончательно установлена в начале 1798 года и была
одобрена Вильгельмом1. Хотя она и была очень замысловата, но
отчасти была слишком широко задумана, отчасти требовала
слишком большой подготовки и потому не могла быть исполнена.
Во время своего летнего пребывания в Дрездене Фридрих все
1 Фридрих к В. Шлегелю от 31 октября 1797 года [№ 91], от 12 декабря
1797 года, от 18 декабря 1797 года [№ 98], в начале 1798 года [№ 102]. В этом
последнем письме Фридрих так распределяет роли. Он сам брал на себя
«увертюру» переписки. В ответном письме Вильгельм должен был сделать прежде
всего «характеристику всех романтических комедий». Затем, в третьем письме,
Фридрих предполагал изложить теорию романтической комедии и применить
ее к современникам Шекспира — к Гоцци, к испанским писателям, к Гварини и
так далее («так как я могу читать скорее тебя; кроме того, ты должен выдавать
себя за безусловного поклонника of Shakspearian divinity (божественности
Шекспира. — Прим. науч. ред.) и не должен пятнать себя упоминанием о других
писателях или их характеристикой. Я, напротив того, буду выдавать себя за „εραστής"
остроумия; я интересуюсь Шекспиром только ради остроумия, потому что я
также не характеризую, а только вслед за тобой исторически философствую о
„Я"»). «Четвертое письмо от тебя: о трагическом употреблении комического
элемента у Шекспира, также о комическом элементе в его исторических драмах.
В пятом письме я изложу некоторые теоретические соображения в виде
антистрофы. В шестом письме — твоя характеристика шекспировского остроумия;
в седьмом письме — философия романтического остроумия со ссылками на Ари-
оста, Сервантеса и так далее». Об одобрении этой программы свидетельствует
письмо № 104 (в марте 1798 года).
632
Р. ГАИМ
еще серьезно занимался изучением Шекспира; он намеревался
написать «epistolam Shakspeariam» (послание Шекспира. —Прим,
науч. ред.) к Тику по поводу его критических исследований1;
Вильгельм неоднократно убеждал его приступить к исполнению
установленной программы, а он со своей стороны не переставал
уверять своего брата, что скоро подаст сигнал своим первым
письмом; это обещание он повторял еще в сентябре 1799 года, но с
тех пор об этом не было и речи2. Если бы он намеревался перейти
от Шекспира к другим новейшим драматургам и романтикам, то,
конечно, завел бы речь о Сервантесе, произведениями которого
очень интересовался благодаря переводу «Дон Кихота» Тиком;
впрочем, и сочинение «Люцинды» шло рука об руку с чтением
испанских новелл. Отсюда возникло то напечатанное в «Атенее»
«Указание на перевод Тика», в котором Фридрих вкратце
охарактеризовал «Дон Кихота», «Галатею», «Персилеса» и новеллы
Сервантеса3. Живя в Йене, он, естественно, стал разделять интерес
своих друзей к произведениям Данте; тогда он изучал как
итальянских, так и испанских писателей уже ради своих собственных
упражнений в стихотворстве. Но он изучал их еще и с другой
целью. Он читал Боккаччо и с чисто историко-литературным
интересом. С целью поместить в «Характеристиках и критиках» еще
хоть одну новую статью он написал «Обзор поэтических
произведений Иоганна Боккаччо»4. Эта статья написана преимущественно
в историческом направлении и только в конце переходит в
попытку объяснить сущность новеллы. Фридрих основательно заметил,
что она вызвала одобрение Вильгельма тем, что в ней господ-
1 Сравн. примечание к «Разговору о поэзии» в «Атенее» III, 1, с. 82 (в
полном собрании сочинений V, 184 сделана перемена).
2 «Aus Schleiermacher's Leben» III, 82. Письма: к Вильгельму от 5 февраля
1799 года [№ 123], в июле того же года [№ 139 и 140], к Шлейермахеру III, 121
от 20 сентября 1799 года.
3 «Атеней» II, 2, с. 324 и ел.; не помещено в полном собрании сочинений.
4 Письма к Вильгельму от 24 ноября 1800 года и в начале 1801 года [№ 151
и 158]. Сравн. «Aus Schleiermacher's Leben» III, 168. Эта статья помещена в конце
второй части «Характеристик и критик», с. 360 и ел., и перепечатана в
сочинениях Фридриха (VIII, 5 и ел.) с некоторыми стилистическими изменениями и с
небольшими прибавлениями. Но самые необходимые изменения не были
сделаны. Так, например, еще в 1803 году Фридрих узнал, что сочинение Боккаччо,
названное им «Филопоно», должно называться «Филоконо» (письмо к Реймеру
от 19 фримера 1803 года и в журнале «Европа» I, 2, с. 52; в его сочинениях
VIII, 31); однако осталась неисправленной эта ошибка (причину которой не умел
объяснить даже Витте в предисловии к своему переводу «Декамерона»).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
633
ствует симпатичная Вильгельму историческая точка зрения1. Мы
не ошибемся в нашем предположении, что именно влияние брата
снова пробудило в Фридрихе (во время их совместной жизни в
Йене) влечение к историческим воззрениям.
В статье Андреа вообще господствует историческая точка
зрения. Это — очерк, обнимающий все постепенное развитие
поэзии. Однако здесь греческие поэтические произведения все еще
выдаются за высший Олимп поэзии, за самую сущность поэзии.
В качестве второго средоточия греческой поэзии ямбическое
стихотворство противопоставляется эпическому2; затем сделана
краткая характеристика дальнейшего развития этой поэзии в ме-
лическую, в хоровую и в дифирамбическую лирику, в трагедию
и в комедию. Мимоходом говорится и о дидактической поэзии,
и о подражательном стихотворном искусстве александрийцев, с
которыми становятся наряду римляне, «обнаружившие лишь
непродолжительное влечение к поэзии». Затем наступило
поэтическое безмолвие, продолжавшееся века; тогда поэзию заменили
религия и философский мистицизм. Только «с выступлением на
сцену германцев разлился по Европе чистый поток героических
песнопений; а когда дикая энергия готской поэзии соединилась,
под влиянием арабов, с отзвуками увлекательных восточных
сказок, то на южных берегах Средиземного моря стали сочиняться
приятные песни и рассказы о странных приключениях; тогда,
вместе со священной латинской легендой, стали то в одной, то в другой
форме распространяться и светские романсы, воспевавшие
любовь и военные подвиги». Поэтому Андреа отзывается о всей
средневековой поэзии как о варварской, «феодальной». Но он
высоко ставит Данте, соединявшего религию с поэзией; он называет
Данте, Петрарку и Боккаччо представителями «античного стиля
в новейшем искусстве», которое благодаря этому стилю может
стоять наравне с классическим искусством. Он считает за «новый
отросток» этого искусства итальянские романсы и упоминает о
попытках возвысить этот вид поэзии до эпоса. Однако настоящее
слияние романтического духа с классическим направлением со-
1 Фридрих к В. Шлегелю от 1 июня 1801 года [№ 172]: «Что ты находишь в
моих воззрениях на Боккаччо сходство с твоими собственными, служит для меня
хорошим предзнаменованием; у нас была неодинаковая точка исхода; но мы
сходимся на исторической точке зрения». Сравн. мнение Шлейермахера [IV, 558].
2 Эта мысль ранее уже была высказана в приготовительных трудах для
продолжения «Истории греческой поэзии» в его сочинениях III, 208.
634
Р. ГАЙМ
вершилось не этим, а другим путем, оно удалось только Гварини
в его «Pastor Fido» («Верный пастух». —Прим. науч. ред.), «этом
величайшем и даже единственном художественном произведении
итальянцев, какое появилось после тех великих поэтов!». Это
странное мнение повторяется — в несколько измененной форме —
в статье Фридриха о Боккаччо. Как недостаточны еще были
литературные познания Фридриха, видно еще яснее из того, что он,
совершенно обходя Кальдерона, утверждает, что история искусств
испанцев и англичан сосредоточивается на Сервантесе и
Шекспире. Относительно следующего периода, так называемого
золотого века литературы у французов и англичан, Шлегель
по-прежнему произносит неодобрительный приговор. Начало возрождения
истинной поэзии по-прежнему ведется от Винкельмана и Гёте.
Отличие от прежних мнений заключается только в том, что
возрождение поэзии ведется только от этих двух писателей, что,
например, о Шиллере не говорится ни одного слова. Более подробная
характеристика произведений Гёте сделана Марком в
дополнении к его обзору литературы в «Очерке различных стилей в
ранних и в позднейших произведениях Гёте». Это была лекция, еще
несколько месяцев назад прочитанная в одном берлинском
обществе; это было, как утверждал автор, нечто вроде продолжения
его статьи о «Вильгельме Мейстере»1. В этой характеристике
господствует историческая точка зрения как в целом, так и в
частностях. Подобно Сервантесу и Шекспиру, и Гёте
характеризуется как «второй Данте, как основатель и представитель новой
поэзии»; в истории развития его ума Шлегель усматривает три эпохи,
представителями которых являются «Гёц», «Тассо», «Герман и
Доротея», а в своей целости гений поэта проявился в «Фаусте» и
иным образом в «Мейстере». Цель произведенного Гёте
переворота заключалась, по словам вышеупомянутого «Очерка», в
сочетании античного с новым. Но и здесь точно так же, как в
статье о различных эпохах поэзии, заключительные замечания
касаются друзей автора, приверженцев школы Шлегелей и Тика.
Автор говорит, что философия и поэзия были разъединены даже в
Афинах и только теперь «соединились в одно целое для того, что-
1 Об этой лекции упоминается в обращенном к Каролине прибавлении к
письму № 137 [май 1799 года]. При этом Фридрих заметил, что эта лекция, в
исправленном виде, есть косвенное продолжение статьи о «Вильгельме
Мейстере». Он еще раз указывал на эту связь в письме к Вильгельму от 5 декабря 1800
года[№ 152].
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
635
бы в своем взаимодействии оживлять одна другую и влиять одна
на другую». Переводы поэтических произведений и подражания
им сделались искусством, критика сделалась наукой, а «на
заднем плане этих стремлений проглядывает законченная история
поэзии». Андреа заканчивает свой очерк так: «Теперь уже ничто
не мешает немцам возвратиться к источникам их собственного
языка и поэзии и снова дать свободу тому духу, который до сих
пор дремлет непризнанным в памятниках отечественной
старины, начиная с „Песни о Нибелунгах" и кончая произведениями
Флемминга и Векгерлина; тогда поэзия, превосходно
разработанная у немцев в сказаниях о героях, потом служившая забавой для
рыцарей и, наконец, сделавшаяся ремеслом для граждан,
сделается для настоящих ученых основательной наукой, а для
изобретательных поэтов — изящным искусством».
В первой и четвертой статьях к историко-литературным
воззрениям лишь слегка примешиваются соображения о теории
искусства и философские. В двух остальных статьях мы находим
совершенно противное.
Первая из этих двух статей есть «Письмо о романе». Мы
ожидаем найти в ней изложение мнений автора о романтизме, так
как Шлегель ранее производил от романа понятие о романтизме.
И здесь господствует такое же воззрение, но к нему
присоединяются теперь исторические воззрения, которым автор придает
теперь более важное значение, чем прежде.
Фридрих Шлегель разделял сочувствие Тика к Жан-Полю, что
объясняется безо всякого труда остроумным и фантастическим
содержанием произведений этого писателя. Он высоко ценил
автора «Гесперуса» и защищал его от нападок со стороны
Вильгельма и Каролины1. Поэтому и «Разговор о поэзии» он начинает
с романов Жан-Поля, а в опровержение обвинений, что эти
романы представляют пеструю смесь плохого остроумия с
индивидуальными признаниями, он высказывает следующую
парадоксальную мысль: «Такие грубые выходки и такие признания являются
покуда единственными продуктами романтизма в наш
неромантический век». Ведь, по его мнению, в состав романтизма
должны входить два направления — фантастическое и
сентиментальное в лучшем смысле этого слова, то есть преобладание чувств,
заметное преимущественно в любовных привязанностях. Поэтому
1 Письмо № 114 от 20 октября 1798 года.
636
Р. ГАЙМ
романтизм есть то, «что представляет нам сентиментальное
содержание в фантастической форме». Отсюда автор «Письма о
романе» переходит к старинным романтикам. Он указывает на
присутствие элементов фантастического и остроумного у Ариоста,
у Сервантеса, у Шекспира, на присутствие элемента
сентиментального у Петрарки и у Тассо и, наконец, к этому последнему
элементу присовокупляет связь с историей, ссылаясь на Боккач-
чо. Читая эту характеристику романтизма, нелегко решить,
извлечена ли она преимущественно из новых романов, в
особенности из романов Жан-Поля, или же из произведений таких старых
мастеров, между которыми Шекспир является, по словам автора,
«настоящим средоточием романтической фантазии». Шлегель,
очевидно, старается придать понятию о романтизме
историческое значение. У него романтизм является противоположностью
античного. Для него романтично все, что есть лучшего и
действительно поэтического в новейшей поэзии. Оправданием для такого
употребления слова «романтизм» служит для него то, что
новейшая поэтическая деятельность началась романом, подобно тому
как у греков она началась эпосом. Он находит романтизм «у
более старых из новых писателей, у Шекспира, у Сервантеса, в
итальянской поэзии, и в том веке рыцарства, любви и сказок, из
которого ведут свое начало и романтическое направление, и слово
„романтизм"». Однако, несмотря на определенность этого
мнения, в нем исторические ссылки не сходятся с далее изложенной
характеристикой сущности романтизма. Теоретическая
конструкция понятия о романтизме вовсе не подходит под историческую
точку зрения, так как принимает в соображение по большей мере
отрывочные отличия той «более старой новейшей» поэзии и
соединяет их между собою с явным произволом и не без некоторой
путаницы. Над попыткой установить историческим путем
понятие о романтизме, очевидно, берут верх и образчики новейшего
романтизма, и фантастические воззрения Фридриха, и его
эстетические предрассудки. Понятие о романтизме он переносит на
роман, на «романтическую книгу, предназначенную для
читающей публики». Как здесь перепутываются понятия о
романтическом жанре литературы и понятие о романтизме как об элементе
всякой поэзии! Наконец, когда автор говорит, что ничего не хочет
слышать о родственном сходстве романа с эпосом, когда он
говорит, что роман есть не что иное, как «смесь рассказов, пения и
других литературных форм», когда он утверждает, что романтизм
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
637
должен давать полную волю своему юмору, что роман должен
состоять из арабесок и более или менее прикрытых личных
признаний, разве мы не имеем права утверждать, что только здесь
возводится в общее правило литературная форма «Люцинды»?
Итак, вместо того, чтобы придерживаться своего доброго
намерения выводить законы теории искусства из исторических
явлений, наш неисправимый теоретик снова вовлекается в тот
остроумный фантастический априоризм, которому давал такую
полную волю в своих отрывочных заметках для «Атенея».
Субъективизм, за который он вступался в отрывочных заметках,
проявляется и в «Разговоре о поэзии». Здесь снова идет речь о
«великом остроумии» романтической фантазии, о
непрерывных переходах от энтузиазма к иронии у величайших
представителей этой фантазии. Однако слово «ирония» уже не встречается
так часто, как прежде. Требование субъективности от поэтических
произведений получает теперь несколько иной смысл, а с другой
стороны для него служат противовесом и некоторые
объективные соображения. Эстетическая теория Шлегеля, как было уже
ранее замечено по поводу его «Идей» ', изменяется вслед за
переходом его философских убеждений со стороны Фихте на сторону
Спинозы и вслед за его переходом от рационализма к мистике.
И в эстетическом отношении он сближается со вторым центром
философии. «Самоопределение разума» теперь заменяется «идеей
универса». Этим объясняется странная перемена в его требовании
иронии. Это требование, говорит он, заключается в том, чтобы
все игривые случайности жизни принимались в поэзии только за
случайности. Поэтому для нас должны иметь значение не
описываемые происшествия и не выводимые на сцену люди, а смысл
целого. Смысл целого! Таким образом, догмат иронии
мало-помалу уступает место аллегорическому и дидактическому
назначению поэзии. «Все священные игривые проявления искусства суть
не что иное, как далекие подражания беспредельным игривым
проявлениям мировой силы, вечно самостоятельно
совершенствующемуся художественному произведению. Другими словами, все
прекрасное есть аллегория. Поскольку высшее невыразимо, оно
может быть высказано только аллегорически». В другом месте
говорится, с ясным отзвуком идей Новалиса, что поэзия есть
самая благородная отрасль магии. Ее главное, непосредственное
1 Сравн. выше, с. 461—463.
638
Р. ГАЙМ
орудие есть язык, потому что язык «по своему первоначальному
происхождению тождествен с аллегорией». Далее сюда же
примыкает защита дидактического элемента, который почти даже
отождествляется с романтическим: «Всякое стихотворение
должно быть в сущности романтическим, и всякое должно быть
дидактическим в том широком смысле этого слова, который
обозначает тенденцию к глубокому, беспредельному смыслу». С этой
точки зрения и драма, в качестве «прикладной поэзии», ценится
очень невысоко: она должна быть «романтизирована», как у
Шекспира или (от себя мы прибавим) как в «Аларкосе». Далее
высказывается требование излагать в поэтических произведениях те
идеи, какие приходят в голову, и возвысить поэзию до «искусства
свободно выражать идеи», а это требование снова переносит нас
в сферу прежнего субъективизма. Ведь «поэзия может
сделаться искусством свободно выражать идеи только тогда, когда с ней
обходятся по указаниям личного произвола», когда «высшее
доступно для преднамеренной обработки».
Однако очень странным кажется то, что, хотя наш
доктринер и колеблется в выборе между тем, что он назвал двумя
центрами философии, между чисто субъективными и чисто
объективными влечениями, его воззрение на свободу поэзии, или на
искусство излагать идеи, входит в связь с другим, резко
противоположным воззрением. Его «Речь о мифологии» есть нечто вроде
эстетической подготовки к его позднейшему переходу в
католицизм. Это попытка снова отыскать достойный фундамент для
поэзии, отданной на произвол субъективизма и превращающейся в
аллегорию. Теперешнему поэту, — говорит Шлегель устами Лю-
довико, — недостает твердой опоры для его деятельности; он
должен теперь рассчитывать только на самого себя; он теперь
стоит одиноким и, чтобы достигать высшего, должен полагаться
только на свои силы, вместо того чтоб примыкать к
какому-нибудь однородному целому. Ввиду такого вступления можно было
бы ожидать выражения таких чувств, которые должны
заставлять поэта не отрываться от окружающей его нравственной
сферы, от материнской почвы того народа, среди которого он родился,
и от того государства, в состав которого он обязательно входит в
качестве члена. Можно было бы ожидать указаний на то, что все
отвлеченные поэтические и философские идеи сделаются
живыми и плодотворными только тогда, когда поэт и философ будут в
состоянии понимать, что вызывает биение сердца у их современ-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
639
ников, в чем заключаются практические задачи их собственной
нации. Но Людовико высказывает гораздо более остроумную и
крайне странную мысль: нам недостает того, чем обладали
древние народы. В своей мифологии они находили средоточие своей
поэзии. У нас нет мифологии, но «уже приближается то время,
когда мы будем иметь ее или по меньшей мере будем усердно
содействовать ее возникновению». Древняя мифология возникла
сама собою, как первый плод юношеской фантазии. «Напротив
того, новая мифология должна быть выработана из самой
глубины нашего духа; она должна быть самым художественным из всех
художественных произведений, потому что должна обнимать все
другие художественные произведения, должна быть руслом и
сосудом для старого, вечного, первобытного источника поэзии
и сама должна быть бесконечным поэтическим произведением,
заключающим в себе зародыши всех других поэтических
произведений».
Замысловатость этой мифологической причуды, очевидно,
заключается в значительной мере в старании автора
согласовать две тенденции, противоположные одна другой. Здесь
требование самого утонченного самосознания сходится с желанием
отыскать объективную, бессознательную основу для умственной
деятельности. Уже ранее намеревался наш любитель парадоксов
«основать» религию и «создать Библию»; он даже составлял с
этой целью «проекты очерков». И Шеллинг, как нам уже известно1,
лишь немного позже вел речь о такой новой мифологии; однако
автор «Трансцендентального идеализма» осмотрительно
присовокуплял, что составление такой мифологии не может быть
делом одного человека. Очень может быть, что лично
высказанные Фридриху Шеллингом мнения послужили поводом для
сочинения речи Людовико; но не подлежит никакому сомнению, что
слова Людовико находятся в связи с мнениями Шеллинга в
одном пункте, в том, что касается связи между новой мифологией
и новой натурфилософией; впрочем, Фридрих облек свою мысль
в такую своеобразную форму, что нам нелегко решить, кому эта
мысль раньше пришла в голову: ему или Шеллингу. Он еще в
«Идеях», то есть до переезда в Йену, уже кое-что высказывал
в том же роде: ведь он там требовал связи между поэзией и
религией. Уже там он говорил, что мифология и мистерии древних
1 Сравн. выше, с. 595.
640
Р. ГАИМ
были зерном и средоточием поэзии, что в сфере искусства и
образования религия является мифологией или «Библией», что
мифология есть естественный осадок поэтического энтузиазма
в той мере, в какой поэт проникнут религиозным настроением духа,
что на его современниках лежит обязанность «расчистить хаос
уже существующих религий» и «вызвать из их могил все религии,
а в те из них, которые бессмертны, вдохнуть новую жизнь и
развить их посредством всемогущества искусства и науки»1. То, что
он говорил в то время, теперь полнее развито в «Речи о
мифологии». Господствовавшие в кружке романтиков воззрения на
религию и на естествознание смешиваются теперь с идеями
поэтическими и философскими, а вместе с этим и философская система
автора получает такое освещение, какого ей не давали все
прежние пророческие изречения Фридриха.
Вот как развивает свою мысль автор «Речи о мифологии».
По трансцендентальному идеализму, сущность духа
заключается в том, чтобы определять самого себя, чтоб вечно то
исходить из самого себя, то возвращаться в самого себя. Поэтому и
сам идеализм должен быть способен тем или иным способом то
исходить из самого себя, то возвращаться в самого себя. Таким
образом из его недр должен возникнуть новый и также
беспредельный реализм, а в этом и заключается источник новой
мифологии. В форме философской системы реализм появился уже давно,
он появился в этике Спинозы, у которого мистицизм служил
дополнением к законченной диалектической форме фихтевских
«Основных начал науки». Мимоходом заметим, что с этим
развитием идей Людовико мог бы согласиться и Шлейермахер, хотя
он, конечно, не обратил бы никакого внимания на новую
мифологию точно так же, как не обратил никакого внимания на похвалы
Гарденберга папству2. В Спинозе, — говорит далее Людовико, —
мы находим мягкое отражение божества в человеке, мы находим
такую фантазию, которая знакома только с всеобщим и с вечным
и совершенно отрешается от всяких частностей; мы находим
также всеобщее чувство, неспособное увлекаться преимущественно
каким-нибудь одним предметом и недоступное для страстности.
1 Сравн. «Ideen» в «Атенее» III, I, с. 7 с письмом к Шлейермахеру (в их
переписке III, 137). Помещенный в «Атенее» 1, 2, с. 82 отрывок, на который
ссылается Коберштейн (III, 2363), кажется мне таким неопределенным по своему
содержанию, что я не могу отыскать в нем никаких указаний на новую мифологию.
2 Шлейермахер к Бринкманну (в его переписке IV, 61).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
641
Такой реализм, подобно реализму «великого Якоба Бёма», есть,
в сущности, не что иное, как поэзия. Но необходимо, чтобы он и
облекался в форму поэзии. Если он облечется в такую форму, как
это случилось в поэме Данте, то он разовьется в мифологию. Ведь
та прелестная мифология Данте есть не что иное, как
«иероглифическое изображение окружающей природы в ее просветлении
фантазией и любовью». Новый реализм сведется к чему-то
вроде теогонии и космогонии. А подобно тому как новая мифология
уже кроется у Спинозы и у Бёма под формой философской
системы, она, с другой стороны, уже подготовлена романтической
поэзией. Господствующая в произведениях Шекспира и Сервантеса
«художественно составленная путаница» и ее удивительная
вечная смесь энтузиазма и «иронии» уже есть «косвенная
мифология». Еще в «Идеях» Фридрих говорил, что «ирония есть ясное
сознание в вечной подвижности беспредельно полного хаоса».
Сообразно с этим, теперь он называет арабески «древнейшей и
первоначальной формой человеческой фантазии»; он говорит, что
начало всякой поэзии заключается в том, что «мы отбрасываем законы
разумно мыслящего разума» и снова погружаемся в изящную
путаницу фантазии, в первоначальный хаос человеческой натуры;
к этому он спешит присовокупить, что не знает лучшего символа
для этого хаоса, чем «пестрая толпа древних богов». Наконец, и
тенденцию к тому реализму, который должен исходить из
идеализма, Шлегель находит у своих современников, находит ее в
натурфилософии Шеллинга и Гарденберга, или, по его
собственному, менее точному выражению, «в теперешней физике». Но эта
физика, по-видимому, всего более нуждается в мифологическом
воззрении на природу. Ведь она, на своей высшей ступени, есть не
что иное, как «мистическая наука целого»; уже теперь из ее
«динамических парадоксов» со всех сторон проглядывают самые
священные откровения природы! Поэтому следует вызвать к
жизни, на основании учения Спинозы и новой натурфилософии,
мифологию древних, следует вызвать к жизни и другие мифологии,
сообразно со степенью их глубокомыслия, красоты и внутреннего
развития. Гаманн и Гердер уже указывали на Восток в
противоположность эллинизму. Мистицизм и благочестие Новалиса
обращались к Востоку, как к такой стране, где могли найти
удовлетворение всех своих стремлений, а со времени знакомства с
Сакунталой Новалис с любопытством обращал свои взоры на
Индию. Один из приверженцев Гердера, Майер, назвал мифологи-
21 Зак. № 3602
642
Р. ГАЙМ
ческую поэзию индийцев «утренними снами рода
человеческого». Он специально изучал направление умов в Индии,
руководствуясь источниками, которые были добыты там англичанами, и
свои статьи по этому предмету помещал также в «Поэтическом
журнале» Тика. Все это побудило и Фр. Шлегеля обратить
внимание на то, что в индийской религии и поэзии, в языке и мудрости
индийцев, по-видимому, хранятся еще неведомые для
европейцев сокровища, а живя в Париже он напрягал все свои усилия для
отыскания этих сокровищ. Уже в своих «Идеях» он употреблял
слово «Восток» как магическое слово, обозначавшее все, что есть
самого возвышенного и самого глубокомысленного в
деятельности нашего ума. Что же удивительного в том, что он стал теперь
упоминать и об индийской мифологии наряду с греческой? «Если
бы сокровища Востока, — восклицает он, — были для нас так
же доступны, как сокровища древних народов! Какой источник
поэзии мог бы открыться для нас в Индии, если бы некоторые из
немецких художников, одаренных универсальностью, глубиною ума
и врожденной способностью переводить на наш язык чужие
произведения, воспользовался первым удобным случаем, чтобы
познакомиться с теми сокровищами. На Востоке должны мы
искать высший романтизм, а если мы будем иметь возможность
черпать наши сведения прямо из источника, то южный пыл,
которым нас теперь пленяет испанская поэзия, быть может,
покажется нам таким же слабым, как поэтическое воодушевление
западных народов».
Наши ожидания не обманули нас. Мистико-эпиграмматиче-
ский Фридрих умеет лучше всякого другого формулировать
достоинства и недостатки романтизма. Несмотря на путаницу и
многосторонность сюжетов, в «Разговоре о поэзии» отражается вся
сущность тогдашних романтических тенденций. Вместе с этим
Фридрих выражал свою радость по поводу того, что в его время
совершается великий процесс всеобщего обновления,
представителями которого считали себя его друзья, что для поэзии
начинается новая заря, влияние которой уже чувствуется в среде этих
друзей. Все это высказывалось таким же уверенным тоном, как
и в статье Гарденберга о христианстве. Но Гарденберг не был
так пристрастен, как Фридрих. Этот последний даже
высказывает в «Разговоре о поэзии» мысль, что романтики составляют
особую школу или, по меньшей мере, должны основать особую
школу. Участвующий в разговоре Антонио заводит речь об оборо-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
643
нительном и наступательном союзе в пользу поэзии и о
художественной школе, в которой все мастера и ученики были бы равны
между собою. Напротив того, Марк полагает, что следовало бы
основать общество поэтов, в котором ученики знакомились бы
с техникой; тогда по меньшей мере некоторые из
вспомогательных средств творчества были бы доведены до совершенства.
Итак, все внутренние и внешние побуждения, сказавшиеся
в цветущее время романтизма, были упомянуты в «Разговоре о
поэзии». Даже через два года после того, когда Фридрих Шле-
гель, редижировавший из Парижа журнал «Европа», вздумал
сделать обзор прошлой деятельности романтиков и их литературных
произведений, он, в сущности, только применял на практике
основные положения, изложенные в «Разговоре»; вся разница
заключается только в том, что прикладную, то есть драматическую,
поэзию он теперь, под названием «экзотерической»,
противопоставлял поэзии дидактической, аллегорико-мифологической,
которую называл «изотерической»; и, с другой стороны, в том, что он
мог сослаться на несколько появившихся тем временем
литературных произведений, в которых обнаруживалось все более и
более широкое распространение романтических идей1. В
«Приложениях к истории новейшей поэзии», напечатанных во втором
номере журнала «Европа»2, он излагал только свои
историко-литературные исследования, но не развивал никакой новой точки
зрения. В напечатанных в том же журнале указаниях на картины
(«Gemäldenachrichten»)3 он только применял на практике
воззрения, ранее высказанные о поэзии; говорил, что вся цель
живописи ограничивается более «глубокомысленным аллегорическим
изображением природы»; вел постоянную полемику с
«Пропилеями», отстаивавшими пластическую живопись; утверждал, что
живопись может быть только исторической или символической, что
существует только одна школа живописи — школа старинных
итальянских и немецких живописцев; отвергал различия в колори-
1 Статья, напечатанная в журнале «Европа» (I, 1, с. 41), носит заглавие
«Литература». Она не попала в полное собрание сочинений Фридриха.
2 «Beiträge zur Geschichte der modernen Poesie und Nachricht von provençalis-
chen Manuscripten» в журнале «Европа» I, 2, с. 49 и ел. Эта статья перепечатана
в полном собрании сочинений VIII, 30 и ел.
3 Они печатались под разными заголовками во всех четырех номерах
журнала «Европа» (I, 1, с. 108 и ел.; I, 2, с. 3 и ел.; II, 1, с. 96 и ел., и II, 2, с. 1 и ел., и
с. 109 и ел.) и все вместе перепечатаны в полном собрании сочинений Шлегеля
VI, 9 и ел.
644
Р. ГАИМ
те, придавал значение только «поэзии» картин, а саму «поэзию»
находил в единстве поэтических мотивов с религиозными и с
философскими. Хотя эти статьи и не были лишены достоинств, но
в них только развивалось далее то, что уже было сказано в
напечатанных в «Атенее» диалогах Августа Вильгельма о картинах;
с другой стороны, в них выражались мысли, на которые навел
Фридриха Тик еще в Дрездене1. Действительно, здесь Фридрих
среди прочего говорит, что божественное искусство живописи есть
нечто более высокое, чем только необходимое развитие
человеческой натуры, и что вообще было бы хорошо, если бы
философия ограничилась старанием понимать и выражать находящееся
налицо божественное, а не делать касательно его разные
умозаключения и вследствие этого впадать в атеизм. Эти мысли ясно
доказывают, что Фридрих шел далее по тому пути, который в
конце концов привел его к такой сильной ненависти к разуму, какой
не обнаруживал даже Якоби; это был тот самый путь, по
которому он впоследствии дошел до мистицизма, отзывавшегося
католицизмом. Впрочем, этот пагубный переворот в умственном
направлении Шлегеля обнаружился еще яснее в его других
литературных трудах, относящихся к более поздней поре его жизни
и потому покуда не подлежащих нашему рассмотрению.
Возвращаясь к началу издания журнала «Европа», мы находим у
Фридриха новые идеи только в тех «Размышлениях», которыми
заканчивается первая статья журнала «Путешествие во Францию»2.
Эти «Размышления» уже выходят за пределы той сферы идей,
которая была общей для всех представителей романтической
школы. Трудно себе представить что-нибудь более
бессмысленное, чем изложенные здесь импровизированные философские
суждения о значении нашей части света и настоящего столетия.
Философия истории, как мы уже ранее заметили, была издавна
любимым занятием Фр. Шлегеля. Но когда он дает полную волю
этому опасному влечению своего ума, он не умеет соблюдать
меру и впадает в нелепости. Он совершенно отказывается от
своего прежнего мнения, что настоящее время есть эпоха самого
блестящего Возрождения. Теперь он утверждает, что его время —
настоящие средние века, что господствующие принципы его вре-
1 Сравн. Sulpiz Boisserée 1,558 и предисловие к тому VI сочинений Фр.
Шлегеля, с. VI.
2 «Европа» I, 1, с. 28 и ел. Вся эта статья не попала в полное собрание
сочинений Шлегеля.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
645
мени — нажива и лихоимство, что это время носит на себе во
многих отношениях отпечаток ничтожества. Это более всего
заметно в нашей части света, если принимать ее за органическое
целое. Но это было бы насильственным соединением в единое
целое двух совершенно различных частей — Северной Европы
и Южной. Разъединение есть общий характер нашей части света:
оно обнаруживается во всем, как, например, в отделении
философии от поэзии, в противоположности между духовной
христианской религией и чувственной религией греческой, в дуализме
романтизма классического и новейшего, — в том дуализме, к
уничтожению которого заметно стремление, с одной стороны, в
католической религии, с другой стороны — в отношениях нашей
философии к античной. Уже в древности начал применяться этот
принцип разделения того, что, в сущности, едино и цельно; у
новых народов он принял еще более вредное направление и стал
получать дальнейшее развитие. Но в настоящее время он достиг
своего высшего пункта и этим причинил умственную и
нравственную испорченность, «абсолютное онемение высших органов». Это
может продолжаться еще долго, — может быть, целые столетия.
Тем не менее существуют зародыши высших стремлений и еще
не исчезла надежда, что все это изменится. Но откуда же можно
было бы почерпнуть такую надежду, как не из Азии? Ведь там,
на Востоке, в особенности в Индии, все нераздельно истекает из
одного источника; там можно научиться тому, что значит
религия; оттуда мы до сих пор получали и всякую религию, и всякую
мифологию, и принципы жизни, и коренные идеи. Вся задача
заключается в установлении связи между Востоком и Севером. Но
именно Европе, по-видимому, суждено исполнить эту задачу;
именно упомянутый выше феномен разъединения заключает в себе
задатки для согласования противоположностей. Приближение к
этой цели должно совершаться веками. Тем не менее следует
деятельно способствовать возникновению такой будущей,
настоящей Европы. Мы обязаны помогать природным силам приходить
в единство и в гармонию; мы должны «повсюду вокруг нас
развивать широкими потоками железную силу Севера и блестящий пыл
Востока»; тогда мы были бы вправе ожидать и невидимой
помощи от счастья, были бы вправе ожидать такой удачи, которая
превзошла бы все, чего можно желать!
646
Р. ГАЙМ
Чтобы составить кодекс законов, требуется одно, а чтобы
приводить его в исполнение, требуется совсем другое. Дух
романтизма облекся в уме Шеллинга во всеобщую формулу. Автор
«Разговора о поэзии» изложил многосторонние стремления
романтической школы в теоретической программе. А чтобы
выяснить отдельные статьи этой программы, чтобы указать способ
их практического применения и чтоб отыскать для новой школы
практическую опору, чтобы исполнить эту в некотором роде
политическую миссию, от кого же можно было бы ожидать большего
искусства, как не от Марка, который положительно высказал
в «Разговоре о поэзии» свое честолюбивое намерение основать
особую школу? Ведь Август Вильгельм Шлегель превосходил всех
своих единомышленников своим практическим умом, своим
умением распоряжаться и управлять, заведовать военными и
мирными делами, вести переговоры и исполнять обязанности
представителя романтического кружка. Он был одарен способностями
организатора. Ему, правда, недоставало умственной
изобретательности его брата, но он восполнял этот недостаток прилежанием,
изящным вкусом и склонностью к порядку. Фридрих мог не без
основания называть его Прометеем, а самого себя — Эпиметеем1.
Ведь не кто другой, как Вильгельм, старательно поддерживал
добрые отношения с Гёте, а вследствие того, несмотря на свою
ненависть к Шиллеру, и сам воздерживался от нападок на поэта,
и не допускал нападок со стороны своих друзей; он постоянно
удерживал от безрассудств и своего брата, и других заносчивых
членов кружка и, несмотря на то, что извлекал пользу из
парадоксов своего брата, сознавал необходимость жить в добром
согласии и со здравым смыслом, и с расхожими воззрениями
читающей публики!
Влечение к партийной солидарности не было у романтиков так
сильно, как желал бы старший Шлегель. Тем членам кружка,
которые занимались философией, он не мог помешать действовать
самостоятельно и основать для себя особый литературный орган.
Попытки склонить Шеллинга к доставлению статей для «Атенея»
остались безуспешными. Он отстаивал свои философские
воззрения в «Журнале для спекулятивной физики»; тут он был полным
хозяином и стоял во главе небольшого числа таких
последователей, как Эшенмейер и Стеффенс. И с Тиком не сходились издате-
• К Вильгельму [№ 107].
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
647
ли «Атенея». Когда у братьев Шлегелей в первый раз возникла
мысль об основании «Шлегелеума», Тик говорил Фридриху об
издании нового журнала общими силами и предлагал среди
прочего кое-что написать о старой английской поэзии1. Однако так
как Фридрих был сначала очень невысокого мнения об этом
«молодом человеке», то Тик узнал о решении издавать «Атеней» лишь
незадолго до выхода первого номера, а его предложение
доставить в новый журнал письма о Шекспире, первоначально
предназначавшиеся для «Лицея», было отклонено, потому что Шле-
гели сами намеревались писать статьи на ту же тему; хотя Тик
и согласился на предложение написать взамен этих писем что-
нибудь о Сервантесе, но, несмотря на неоднократные
напоминания, обещанная им статья не была написана2. Не были написаны
и обещанные им позднее статьи о Якобе Бёме, о театре и так
далее3. Поэт предпочел основать свой собственный
«Поэтический журнал», в котором помещал почти исключительно свои
собственные произведения. Впрочем, этот журнал стал выходить
в свет только тогда, когда «Атеней» уже кончал свое
существование; к тому же Тик смотрел на свое издание как на свое личное
предприятие4. Из названия журнала уже видно было его
назначение; он был «посвящен вообще искусству и поэзии»; поэтому в нем
предполагалось помещать частью разборы поэтических
произведений, частью изложения воззрений на искусство, частью
стихотворения, забавные рассказы, наконец, подражания английским,
итальянским и испанским поэтам, равно как статьи о более
старой немецкой литературе. Предисловие, в котором Тик излагал
1 Фридрих к Вильгельму в ноябре 1797 года [№ 95].
2 Фридрих к Вильгельму в апреле 1798 года [№ 109]; к Шлейермахеру (в их
переписке III, 83); к Тику (у Гольтея III, 313); к Вильгельму № 112; Тик к
Вильгельму, весной 1799 года [№ 8 из писем Тика].
3 Фридрих к Вильгельму от 25 февраля 1799 года [№ 126] и Вильгельм к
Шлейермахеру (III, 186).
4 «Поэтический журнал». Издание Людвига Тика. Йена, 1800. Из двух
номеров первого и единственного года издания появились (как это видно из
заявления книгопродавца на обертке): первый — в июле, второй — в августе,
между тем как также в августе вышел последний номер «Атенея». Что Тик издавал
свой журнал вполне самостоятельно, видно, например, из следующих слов Шлей-
ермахера в письме к Вильгельму от 27 мая 1800 года [№ 10]: «Я уже два раза
обращался к Фридриху с вопросом, каков „Поэтический журнал" Тика или
каков он будет. Даже Бернгарди ничего об этом не знает». Из чужих статей в
журнале помещены только канцона Фридриха Шлегеля к Риттеру и статья
Фридриха Майера о мифологических поэтических произведениях индийцев.
648
Р. ГАЙМ
эту программу1, доказывает, в какой мере он усвоил мысли Шле-
гелей об историческом значении поэзии. Он говорит о
ничтожестве «золотого века» новейшей литературы, о заслугах Гёте и о
совершающемся в его время великом перевороте точно то же,
что говорит Андреа в «Разговоре о поэзии»; он повторяет мнения
Фридриха и Шеллинга, когда говорит, что «есть только одно
искусство и только одна поэзия», что «их духом проникнуто даже
то, что отделено одно от другого большими пространствами или
продолжительными временами» и что «все произведения, в
первый раз появляющиеся или в первый раз открываемые, являются
составными частями одной и той же сферы». Наконец, в
«Поэтическом журнале» появляются и «Письма о Шекспире», о которых
уже давно шла речь2; вместе с несколькими мелкими комедиями
и вместе с сонетами, посвященными друзьям поэта, эти «Пись.-
ма» носят на себе самый четкий отпечаток своеобразной
даровитости Тика. Но, в сущности, они были лишь введением к
«Письмам о Шекспире». В них идет красноречивая болтовня о такой
задаче, к разрешению которой делается лишь слабая попытка3;
осыпая насмешками и свой экономический, непоэтический век, и
его предрассудки, автор «Писем» утверждает, что Шекспир —
поэт из поэтов, что в его произведениях можно найти ключ к
пониманию всего, что есть божественного в искусстве и в природе.
Эта вольная, эпизодическая форма изложения, эта манера
заводить перестрелку то направо, то налево приходились не по вкусу
Шлейермахеру и даже не понравились Фридриху, которому
вообще более Шлейермахера нравилась причудливость в форме
изложения; Фридрих основательно заметил, что эти «Письма»
заключают в себе скорее панегирик Тика, чем оценку произведений
Шекспира. Скарамуччио, — прибавляет он, — постоянно более
всех на виду4« Этими словами он метко охарактеризовал то, что
1 Оно нигде не было перепечатано.
2 «Поэтический журнал» I, 18 и ел. и И, 459 и ел.; перепечатаны в
«Критических сочинениях» I, 133 и ел. Эти письма оканчиваются указанием на то, что
комедии Бена Джонсона служат превосходным «косвенным комментарием к
произведениям Шекспира». Поэтому помещенный в «Поэтическом журнале» (II,
259 и ел.) [в полном собрании сочинений XII, 155] перевод «Epicöne»
(«Эпикой». — Прим. науч. ред.) Джонсона может считаться за дополнение к
«Письмам».
3 Сравн. оставшиеся после смерти Тика бумаги II, 126 и то, что говорит Тик
о «Письмах» в предисловии к «Критическим сочинениям» I, с. VIII.
4 «Aus Schleiermacher's Leben» HI, 187 и 203.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
649
придавало «Поэтическому журналу» окраску своеобразных
дарований Тика: и выражавшееся в «Письмах о Шекспире»
безусловное преклонение перед английским драматургом, и веселую
иронию, которой отзываются все «Письма», и защитительную
речь в пользу старого Гансвурста, и нападки на «knaupelnden
Shönheitszergliederer» (исследования красоты вслепую. — Прим.
науч. ред.). С другой стороны, он мог бы порадоваться тому, что
в «Письмах» немало отголосков и его собственных воззрений, и
воззрений его брата на характер века и на сущность поэзии. Это —
шлегелевское содержание в расплывчатом изложении Тика; но
некоторые суждения (как, например, то, что наше время —
настоящие средние века) были высказаны в первый раз Тиком, а от
него перешли к Шлегелям.
Ввиду всех этих обстоятельств понятно, почему Фридрих
поддал своему брату мысль соединить «Атеней» с журналом Тика
в один журнал под названием «Новый Атеней» и под общим
редакторством Вильгельма и Тика. Он подкрепил свое
предложение замечанием, что все они, в сущности, сходятся и в
направлении идей, и в основных правилах, а разномыслие касательно
некоторых подробностей будет всего легче устранено
совокупным участием в издании одного и того же журнала. Но всего
настойчивее он указывал на пользу, которую принесет «Атенею» то
обстоятельство, что в нем поэзия будет еще больше прежнего
средоточием целого1.
В этом мнении о центральном значении поэзии старший
Шлегель, как нам уже известно, давно сходился с младшим. В то
время он занимался поэзией усерднее, чем когда-либо. Он не только
служил для всех оракулом в том, что касалось искусства
стихосложения, не только был для своих собравшихся в Йене друзей
и Аполлоном, и школьным учителем, но также день и ночь
работал в своей поэтической мастерской. Он не переставал заниматься
переводами из Шекспира и за это удостоился заслуженных похвал
в «Поэтическом журнале» Тика. Только около Пасхи 1801 года
эти занятия были прерваны частью по причине ссоры с издателем,
частью по некоторым другим внешним и внутренним причинам2.
1 К Вильгельму от 27 марта 1801 года [№ 166].
2 Его корреспонденция дает нам возможность проследить ход его занятий.
В августе 1799 года (у Гольтея III, 231) он жаловался Тику на то, что ему очень
трудно справиться с проклятым «Ричардом II». В декабре того же года он вслух
прочитал своим йенским друзьям только что доведенного до конца «Генриха IV»
650
Р. ГАИМ
Тем временем Август Вильгельм предъявил свои собственные
права на звание поэта, издав в 1800 году сборник своих
стихотворений1. Вместе со старыми стихотворениями, в которых
слышались отголоски шиллеровской поэзии, здесь были помещены и те
«картинные сонеты», в которых обнаруживались отличительные
черты новой школы. Стихотворство Августа Вильгельма
по-прежнему носило или античный, или романтический отпечаток; оно
(«Aus Schleiermacher's Leben» III, 141). После того он с особенным рвением
занимался переводом Шекспира во время своего пребывания в Бамберге в августе и
в сентябре 1800 года (там же, с. 222 и 226). Он писал Тику (14 сентября 1800 года,
у Гольтея III, 237), что «Генрих V» очень опротивел ему, но что за это он
вознагражден легкостью и скоростью, с которыми перевел «Генриха VI». В конце мая
1801 года был окончен перевод «Генриха III» (к Тику (у Гольтея III, 247)). В том
же письме мы находим намеки на возникшие после того несогласия с
книгопродавцем Унгером. В то же время мы узнаем, что после отпечатанного в начале
ноября 1801 года восьмого тома Шлегель предполагал издать еще тринадцать
томов, в которые были бы включены и те пьесы, принадлежность которых
Шекспиру сомнительна; эту работу он надеялся окончить в течение пяти или шести
лет; в случае надобности, он намеревался издавать эти тома по подписке, а если
бы не нашел поддержки у своих соотечественников, то намеревался отказаться
от этого предприятия. Еще летом 1803 года он писал Гризу («Aus dem Leben von
Gries», с. 52), что наверно доведет до конца перевод Шекспира и что усердно
занимается этой работой. В 1807 году его рвение снова воспламенилось
вследствие того, что Генрих Фосс перевел «Короля Лира» и «Отелло» (Г. Фосс к
Шарлотте Шиллер в «Charlotte Schiller» III, 223). Но по поводу того, что Тик
готовился переводить «Loves labour lost», Вильгельм писал ему 4 апреля
1809 года (у Гольтея III, 295), что радуется своей отвычке от игры слов:
«Вообще мне нелегко справиться с этим распрославленным Шекспиром: я не в
состоянии отказаться от этой работы и не в состоянии довести ее до конца. Однако я
надеюсь сделать этим летом большой шаг вперед. „Ричард III" уже готов, а
„Генрих VIII" начат». С этим согласно и то, что рассказывал («Aus dem Leben von
Gries», с. 91) Гриз о Вильгельме после того, как посетил его в Коппете. Однако в
1809 году вышел только девятый том, в котором не было ничего другого, кроме
«Ричарда III». Еще в 1811 году, после того как издание его переводов Шекспира
перешло от Унгера к Рей меру, Шлегель говорил о своей готовности продолжать
незаконченную работу; но по прошествии восьми лет, в письме от 24 ноября
1819 года, решительно отказался от предприятия и одобрил составленный
Тиком план продолжения работы. В этом же письме мы находим новое
подтверждение того факта, что ссора с Унгером была в 1801 году главной причиной
приостановки перевода. В «Извещении», которое было напечатано Реймером в феврале
1825 года, рассказаны происходившие у него со Шлегелем переговоры и
приведены только что упомянутые письма Шлегеля вместе с письмом Тика,
написанным в феврале 1825 года; в этом письме Тик изъявляет готовность продолжать
работу, не законченную его другом.
1 «Gedichte von August Wilhelm Schlegel». Tübingen: bei Cotta, 1800. С VI и
255.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
651
никогда не было языком сердца, никогда не было естественным
излиянием волновавших душу чувств. Доказательством этого
могут служить стихотворения, которые он клал в виде надгробной
жертвы на могилы тех людей, которых, без всякого сомнения,
любил с отеческой нежностью; однако это не мешало ему
заниматься сквозь слезы самосозерцанием1! Его стихотворство всегда
было искусственным, всегда было в некоторой мере
подражательным или переводным, если только не было рифмованной критикой
или натянутым остроумием. Его любимой темой были
художество и поэзия, художники и поэты, будто внешняя форма поэзии
влюбилась сама в себя и никак не могла отделаться от этой
слабости. Этим объясняется предпочтение упражнений в различных
видах романского стихосложения, в особенности в сонетах,
которые превратились под его пером в эпиграммы, а в некоторых
стихотворениях, как, например, в «Никоне» и «Гелиодоре», мы
находим еще гораздо более замысловатые поэтические приемы. Но
то, что мы сказали, относится только к одной половине его
стихотворства. Другая, лучшая половина — та, в которой он
обрабатывает античные сюжеты античным стихотворным размером.
После того как он высвободился из-под влияния Шиллера, он,
очевидно, стал стараться сравняться с Гёте. Он посвящает Гёте
свою «Элегию об искусстве греков», которая наполнена изящной
ученостью и ученым изяществом и которая точно блестящим
панцирем одевает поэтическую мысль и сдерживает приятно
естественное душевное движение; это стихотворение удостоилось
заслуженной похвалы даже от Шиллера, а Фридрих Шлегель признал
его не только за «самое античное» из всех, какие читал на
немецком языке, но и за настоящее гениальное произведение2. Август
1 Стихотворения, напечатанные в «Альманахе Муз», с. 171, под заглавием
«Todtenopfen> («Жертвенная смерть». — Прим. науч. ред.), написаны по случаю
смерти его падчерицы Августы Бёмер. Такое же описание пролитых слез мы
находим в письме к Тику (у Гольтея III, 237). Это несчастье временно
расшевелило в поэте и его религиозные чувства. Вот почему в этих стихотворениях (из
которых два последних адресованы Новалису) мы находим более ясные
признаки благочестия и расположения к католицизму, чем в прежних художественных и
«картинных» стихотворениях. Сравн. признания, сделанные по этому поводу
автором в «Lettre à Madame**» («Œuvres» I, 191).
2 Фридрих к Вильгельму, письмо 128; к Шлейермахеру III, 103. Каролине
он писал (№ 133 из писем к Вильгельму) очень характеристично: «Что могут
теперь сказать те люди, которые не хотели признать в Вильгельме гения и
которые не признали бы его и во мне, если бы я время от времени не бил их кулаком
в лицо?». Отзыв Шиллера [и Гёте] в их переписке № 645 и 646.
652
Р. ГАИМ
Шлегель, без сомнения, также стал бы подражать Гёте, если бы
исполнил свое намерение написать вторую дидактическую
элегию о созвездиях, а его намерение написать идиллию «в
немецком местном костюме» ясно напоминает «Германа и Доротею»1.
Он возвысился до предприятия еще более смелого. Драма
«Ион», написанная в подражание гётевской «Ифигении» на тему
трагедии Еврипида, основательно всегда считалась самым
выдающимся из самостоятельных поэтических произведений Шле-
геля. И здесь видна совокупная работа историка литературы с
литературным критиком и критика с поэтом. Автор, очевидно,
надеялся создать мастерское художественное произведение; он
хотел, с одной стороны, указать недостатки трагедии Еврипида, а с
другой стороны, написать настоящую оригинальную драму. Он
предполагал избегать недостатков трагедии Еврипида, устранить
все, что в этой трагедии оскорбляет требования рассудка или
нравственного чувства; предполагал достигнуть полной гармонии,
соединив разбросанные у Еврипида поэтические достоинства в одно
цельное, поистине художественное произведение частью при
помощи вымыслов, частью посредством переделок. Сам Шлегель
так объяснил задачу своей работы, и он сделал все, что мог,
чтобы заставить и общественное мнение смотреть на его
произведение с такой же точки зрения. Прежде всего нужно было
уничтожить влияние, которое имели бы на приговор публики ее
предубеждения против автора. Поэтому Шлегель стал работать
над своей драмой в самой глубокой тайне, непосредственно вслед
за тем, как прервал летом 1801 года свои переводы Шекспира;
даже своим друзьям он лишь слегка давал понять, что занят чем-
то очень важным2. Благодаря заботам Гёте новая драма была
разучена на веймарской сцене с самым большим тщанием, была
обставлена с самой изысканной сценической пышностью и в
первый раз была исполнена 2 января 1802 года, а публика все еще не
знала имени автора. Однако несмотря на впечатление,
произведенное удачным исполнением драмы, была необходима помощь
извне, в особенности потому, что уже нельзя было далее
сохранять инкогнито, и потому, что уже берлинская сцена последовала
15 и 16 мая примеру веймарской. Тогда разыгрался перед публи-
• К Тику [от] 23 ноября 1800 года (у Гольтея III, 240).
2 К Тику [от] 10 октября и 2 ноября 1801 года (у Гольтея III, 270 и 273).
В печати «Ион» появился в первый раз в 1803 году (в Гамбурге, у Пертеса).
В сочинениях В. Шлегеля «Ион» помещен в томе II.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
653
кой в высшей степени забавный драматический эпилог, в котором
велась такая же интрига, как и в исполненной на сцене пьесе, и в
котором участвующие также играли в прятки, стараясь скрыть
имя автора. Сценой для эпилога служила газета, которую издавал
Шпацир с начала 1801 года для изящного общества.
Тотчас после первого представления новой драмы на
веймарской сцене в той газете появился отчет о ней, в котором вовсе не
рассматривалось содержание пьесы, а только высказывались
похвалы общему гармоническому впечатлению и обсуждалась игра
актеров1. В другой статье, появившейся в той же газете, шла речь
«об исполнении „Иона" на берлинской сцене» и также шла речь
об игре актеров, о костюмах и декорациях2. Нетрудно было
догадаться, что эту вторую статью написал ученый и одаренный
эстетическим вкусом Генелли. А относительно первой статьи лишь
очень немногим было известно, что она была написана женою
Шлегеля, которая уже ранее посылала жившему в Берлине мужу
и Софии Бернгарди восторженные письма по поводу великого
события и очень хвалила Гёте за его в высшей степени любезное
отношение и к пьесе, и к ее автору3. И Шеллинг, уже давно
находившийся в слишком тесной дружбе с Каролиной, вмешался в дело:
он уничтожил в отчете Каролины форму письма и вычеркнул
некоторые слишком восторженные выражения4. Но разве не было
приятнее для автора, если бы наряду с заслугами актеров были
сделаны указания и на его заслуги? Шлегель был очень недоволен
отчетом5; его сердило более всего то, что его драма была
названа «ein Schauspiel nach dem Euripides» («Спектакль по Еврипиду». —
Прим. науч. ред.). Поэтому вслед за предварительной
«поправкой»6 он поместил все в той же газете, в апреле (стало быть,
перед исполнением драмы в Берлине), письмо к издателю, конечно
1 «Jon ein Schauspiel nach dem Euripides»; № 7 [от 16 января 1802 года].
2 № 81—83 [от 8, 10 и 13 июля 1802 года]. Коберштейн (III, 2493) ошибочно
предполагал, что автором этой статьи был Бернгарди; сравн. письмо Шеллинга
к Шлегелю (у Плитта, с. 377).
3 Каролина к Вильгельму от 20 декабря 1801 года и в начале января 1802
года [№ 7 и 9 ее писем по списку Клетте]; также сравн. письмо от 21 января
[№ 12].
4 Каролина к Вильгельму от 11 января 1802 года [№ 10].
5 Каролина к Вильгельму от 1 февраля 1802 года [№ 16].
6 «Berichtigumg, das Schauspiel Jon betreffend», в № 25 газеты [от 27 февраля
1802 года], Коберштейн (III, 2493) ошибочно предполагает, что под буквами
«Sg.», которыми подписана эта поправка, следует разуметь Шеллинга.
654
Р. ГАЙМ
анонимное, а в заголовке своей пьесы поставил слова «новая
оригинальная трагедия»1. В высшей степени беспристрастный
анонимный автор начинает кратким перечислением недостатков ев-
рипидовской трагедии; затем он анализирует эстетические мотивы
шлегелевского изложения; наконец, переходя к внешней форме
драмы, хвалит ее, что, конечно, в высшей степени
характеристично, за то, что она может по своему изяществу равняться с
произведениями французских драматургов, между тем как по
своим внутренним достоинствам стоит наравне с греческими
трагедиями! Тогда Шеллингу пришлось вступиться за Каролину, с
которой ее супруг обошелся вовсе не деликатно. В надежде, что
Шлегель «сумеет уладить свое дело как следует», Шеллинг
уведомил его, что намеревается напасть на него со всех сторон с
некоторой резкостью. Он исполнил это намерение в двух
следующих номерах газеты2. Его критика была тем более ядовита, что
анонимный автор был против нее беззащитен. В ущерб Шлегелю
он хвалит «Иона» совершенно иначе, чем сам Шлегель. Он
говорит, что лицо, приславшее предшествующую заметку, хвалило
драму с узкой точки зрения и искало ее достоинства не столько в
ее поэтическом, сколько в ее нравственном содержании. Но такое
гениальное произведение имеет совершенно иные права на
похвалу, чем за свое французское изящество и правильность. Также
неосновательно восхвалять нового «Иона» в ущерб старому.
Автор заметки, очевидно, вовсе не осознает, что писать драму для
афинского народа с целью превозносить Афины не одно и то же,
что писать драму для немецкой сцены с общей художественной
целью. А этот пункт имеет большую важность. Настоящий
панегирист должен был бы указать на искусство, «с которым
национальная пьеса, имеющая ясно определенные, почти исторические
цели, переделана в абсолютное произведение с общими
поэтическими и художественными целями». Вот каким способом
Шеллинг постарался доставить личное удовлетворение и себе, и той
1 № 41 [от 6 апреля 1802 года]. Что эта статья написана Шлегелем, видно из
сопоставления письма Каролины к Вильгельму от 1 февраля 1802 года с
письмом Шеллинга к Вильгельму от 16 июля 1802 года (у Плитта, с. 375). А если эта
статья была написана Шлегелем, то, естественно, им же была написана и
«поправка».
2 № 90 и 91 от 28 и 31 июля 1802 года: «К господину издателю касательно
заметки об „Ионе", появившейся в № 41». Доказательством того, что эта статья
была написана Шеллингом, служат его письма от 16 июля, от 19 августа и от 3
сентября 1802 года (у Плитта, с. 375, 384 и 396).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
655
даме, за которую вступился; между тем все споры касательно
«Иона» сводились к тому, что эта драма подвергалась все более
основательной и многосторонней оценке. Автор, конечно, должен
был этому радоваться. Он наконец решился положить конец всей
этой комедии и подписался своим именем под длинной статьей
«О немецком „Ионе"»1. В этом заключительном возражении он
задается целью сделать беспристрастную окончательную
оценку разноречивых суждений об его авторской точке зрения, но оно
могло быть вполне понятным только для немногих, только для тех,
кто принимал участие в полемике. Он, естественно, берет
сторону автора второй статьи против автора третьей. Отвергая
доводы Шеллинга, он снова утверждает, что его «Ион» есть
оригинальное произведение, что «Ион» Еврипида не выдерживает
критики, несмотря на свою патриотическую цель, и, наконец,
указывает на гуманные, нравственные мотивы нового «Иона» в
противоположность пренебрежению своего соперника к таким
мотивам.
Из всего вышеизложенного очень ясно видно, какую цель
преследовал Шлегель; но он далеко не достиг ее. Хотя он и
старался вложить в свой сюжет гуманные и нравственные воззрения
и сделать его более доступным для сочувствия своих
современников, но его рефлексия не нашла для себя достаточной опоры в
искренности настоящего поэтического чувства. Главным
мерилом поэтического таланта служит умение выбирать сюжет. Самое
высокое искусство не в состоянии внушить сочувствие к дурно
выбранному сюжету; оно может только еще ярче выставить
наружу ошибочность выбора. Супруг, примиряющийся с тем фактом,
что его жена еще до брака вступила в любовную связь с
Аполлоном, и соглашающийся признать наследником престола сына,
который был плодом этой связи, — такой сюжет предполагает
чрезвычайно глубокое уважение к божественному праву
Аполлона, привычку афинян гордиться их туземным царским родом,
к которому принадлежала Креуза, и неуважение к иноземцам,
которые, подобно еврипидовскому Ксуфу, принуждены считать за
двойную честь для себя тот факт, что они могли породниться и с
Афиной, и с дельфийским богом. Публика Нового времени не
способна освоиться с такими воззрениями. Мы не верим ни в Апол-
1 В «Журнале для изящного общества» № 100 и 101 от 21 и 24 августа
1802 года; она перепечатана в его сочинениях IX, 193 и ел.
656
Р. ГАИМ
лона, ни в Афину, но верим в святость и ненарушимость
супружеской любви, в женское целомудрие и в мужское чувство чести.
Такая «героическая картина семейной жизни», какую мы
находим в «Ионе», нам вовсе не по вкусу. Автор напрасно прибегает
к разным поэтическим и декоративным ухищрениям для того,
чтобы внушить нам уважение к святости дельфийского бога и его
прорицалища; он напрасно старается выставить в ярком свете
детскую и материнскую любовь. Чем нежнее эта любовь, чем
внушительнее обстановка Дельфийского оракула, тем сильнее мы
чувствуем нравственную неестественность основной темы. Шле-
гелевский «Ион» не выдерживает никакого сравнения с гётевской
«Ифигенией», в которой старинная фабула переделана в
гуманном духе и производит впечатление своей нравственной
чистотой. Но даже и старому Еврипиду следует отдать предпочтение
перед тем романтиком, который задумал улучшить его трагедию.
Допустим, что Еврипид разработал свой сюжет крайне
поверхностно, а Шлегель взялся за дело с осмотрительным искусством;
допустим, что сделанные Шлегелем в старом «Ионе» небольшие
перемены и дополнения были улучшениями (хотя это и
оспаривается на основании доводов, изложенных Бёттигером в той статье,
которая была конфискована гётевской театральной полицией1),
все-таки мы будем вынуждены сказать, что Еврипид достиг
своей политико-поэтической цели, между тем как немецкий поэт не
достиг своей нравственной цели. Одно из улучшений, которыми
хвалился Шлегель, заключается в том, что у него выступает на
сцену не Афина, а сам Аполлон, который «как будто отсутствует»
у Еврипида. Но на чьей же стороне тут более нежное
нравственное чувство? На стороне ли Еврипида, у которого Аполлон
извиняется так: «Мне стыдно предстать перед вами, потому что вы
могли бы упрекнуть меня за прошлое», — или же на стороне Шле-
геля, у которого Аполлон хвалится перед Ксуфом испытанным
наслаждением, вспоминая о нем с восторгом, а сама Креуза
напоминает перед алтарем Феба своему соблазнителю то, что
предшествовало их бракосочетанию в гроте? Новый «Ион» бесспорно
драматичнее старого. Шлегеля можно похвалить за то, что он
перенес изложение сюжета из пролога в самую драму, что он
устранил хор, что он сохранил отзвуки лиризма только в гимне Иона
к Аполлону и в более легком стихотворном размере речи Креузы
1 Касательно этой статьи и образа действий Гёте см. Коберштейна III, 2498.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
657
у алтаря, в четвертом акте; что он увеличил число драматических
мотивов, а нити драматической завязки искуснее перепутывал
и тщательнее распутывал; но, например, к чему эта двойная
разлука — одна, совершающаяся в душе действующих лиц, а
другая — благодаря появлению Аполлона? Как согласовать
выражения нежных и благородных чувств, вложенных в уста Креузы,
с тем фактом, что она перед этим согласилась совершить
покушение на жизнь Иона? Во всем этом обнаруживается негодность
сюжета или, вернее, неспособность автора согласовать свои
нравственные цели с художественными. Шеллинг был вполне прав,
высмеивая попытку новейшего поэта облагораживать
нравственные понятия античного писателя; он был неправ только в том, что
признал это нравственное мерило не главным, а поэта, только
изощрявшегося в художественной отделке, признал гениальным. У него
при этом вырвалось указание на «Edle Lüge» («Высокая ложь». —
Прим. науч. ред.) Коцебу. Откладывая в сторону более
серьезную художественную цель, благородство языка и чистоту
версификации у Шлегеля, мы найдем этот намек еще более уместным,
чем то предполагал сам Шеллинг: ведь если бы Коцебу не был
Коцебу, то он, конечно, нашел бы в появлении «Иона»
чрезвычайно удобный случай, чтобы отомстить за «Ehrenpforte» («Арка
славы». —Прим. науч. ред.) и проучить поэта, вздумавшего
улучшать «Иона», точно так же, как Гёте проучил поэта, вздумавшего
улучшать «Альцесту»1.
О другой драме Шлегеля, «Ehrenpforte», мы будем говорить
впоследствии. Что «Ион» был только первым опытом в античной
драме, нам известно из писем Фридриха Шлегеля. В этих
письмах шла речь также о «Филопоне» и об «Амазонках»2. Но
Фридрих не сочувствовал замыслам своего брата: он полагал, что
античность в драме была бы вялой и могла бы получить значение
только в смысле мифа; а тогда поневоле пришлось бы перейти
в область изотерической поэзии3; он убеждал своего брата и в
драму вносить романтизм. Но его брат проводил свои
романтические воззрения не столько в драматической поэзии, сколько в
1 Касательно отзывов Шиллера, Гёте и Кернера об «Ионе» см. Коберштейна
III, 2438.
2 К Вильгельму 16 сентября 1802 года и 15 января 1803 года [№ 181, 182].
Об «Амазонках» говорил и сам Вильгельм в письме к Тику от 20 сентября 1802
года (у Гольтея III, 276).
3 Точно то же он говорил в журнале «Европа» по поводу «Иона» (I, с. 59).
658
Р. ГАИМ
эпической. Подобно тому как «Der Bund der Kirche mit den
Künsten» («Союз Церкви с искусством».—Прим. науч. ред.) был
романтическим панданом к «Kunst der Griechen» («Искусство
греков». —Прим. науч. ред.), и «Ион» должен был служить
таким же панданом к рыцарскому стихотворению «Тристан»1,
написанному в подражание «Готфриду Страсбургскому» и «Генриху
Брибергскому». Тик сильнее всех влиял на поэта в этой работе, в
которой была совершенно устранена свобода вымысла и
предполагалось только расширить и разукрасить данный сюжет.
Действительно, Август Вильгельм искал опоры у Тика для всего, что
касалось романтизма, точно так же, как он искал у Гёте опоры
для всего, что касалось античного направления. Наряду с
отголосками бюргеровской поэзии явно слышится и влияние Тика в
написанных теперь Вильгельмом легендах и романсах, которые,
однако, не выдерживают сравнения со стихотворениями,
написанными ранее в тоне Шиллера. Тика напоминает Шлегель и своими
нескладными, ребяческими стихотворениями, которые он выдает
за старонемецкие своими неудачными попытками возбуждать в
читателях чувство ужаса и даже своим причудливым складом
речи. Так, например, совершенно во вкусе Тика сонет
«Waldgespräch» («Разговор в лесу». —Прим. науч. ред.), со своими
рифмами, подражающими эхо. И манере Тика писать комедии
Шлегель подражал в «Ehrenpforte» точно так же, как он подражал
карнавальной поэзии Гёте и Тика в своем стихотворении «Vom
alten und neuen Iahrhundert» («От старого и нового столетия». —
Прим. науч. ред.). Этот старый мастер писать сонеты нашел
1 Еще в апреле 1799 года упоминалось в одном из писем Фридриха о
намерении его брата написать большое стихотворение «Lanzelot» [№ 131 ]. Это то же
самое стихотворение, о котором Вильгельм писал 20 августа 1800 года Шлейер-
махеру (III, 222), что «весною окончил первую песнь большого стихотворения»;
что это будет рыцарская поэма под заглавием «Тристан», прибавлял он в письме
от 8 сентября 1800 года. Гёте он был обязан сообщением об обработке
«Тристана» в «Buch der Liebe» (Гёте к Шлегелю от 1 января 1800 года у Бёкинга, письма
Шиллера и Гёте, с. 37). Переговоры, которые он вел касательно этого
стихотворения с Тиком, изложены в письмах этого последнего к Шлегелю № 20 и 21, и в
письме Шлегеля к Тику от 20 сентября 1802 года (у Гольтея III, 277). Это
стихотворение было широко задумано; Шлегель стал писать его стансами на
манер Ариоста, но, несмотря на жалобы Тика, ограничился первой песнью,
которая была напечатана поэтом в первый раз в 1811 году в его «Поэтических
произведениях», а оттуда была перепечатана в полное собрание сочинений 1,100
и ел. Также сравн. предисловие к обработанным сестрой Тика «Flore» и
«Blancheflur» в полном собрании сочинений VII, 276.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
659
«божественными» сонеты Тика, напечатанные в «Поэтическом
журнале». Иногда он сочинял сонеты общими силами с Тиком,
иногда обращался к Тику с просьбой подарить ему какой-нибудь
сонет, но, хорошо сознавая свое превосходство над другом, он
прибавлял к своей просьбе совет: «Но ты должен обработать его
постарательнее для того, чтобы его могли действительно
принять за мое произведение»1.
Ввиду такого единодушия между двумя поэтами Фридрих
убеждал их соединить силы в публичной деятельности.
По-видимому, это скорее могло удаться на почве чистой поэзии, так как
именно в этой сфере разномыслие было самым незначительным.
Август Вильгельм помышлял об этом еще в конце 1798 года,—
конечно, главным образом, с критико-сатирической целью. Он
предлагал Тику издавать вместе с ним, с Фридрихом и с Бернгар-
ди забавный альманах, в котором помещались бы и статьи в прозе;
при этом среди прочего имелось в виду вытеснить из
употребления «Карманную книжку», которую издавал Фальк для
любителей шутки и сатиры. Это предложение неоднократно
обсуждалось друзьями2, но в то время, как все они жили в Йене, было
заменено другим, более серьезным проектом. Вильгельм
предпринял вместе с Тиком издание настоящего «Альманаха Муз».
Подобно тому как «Атеней» в качестве органа шлегелевской
критики заменил шиллеровский «Hören», и «Альманах Муз» Шле-
геля и Тика в качестве сборника поэтических произведений новой
школы заменил шиллеровский «Альманах», который после
пятилетнего существования выходил в 1800 году в последний раз.
Письменные переговоры об этом предприятии начались в
сентябре 1800 года и наполнили немало страниц, в особенности в
переписке Шлегеля с Тиком. Всех серьезнее взялся за это дело,
конечно, тот, кто был руководителем школы и дирижером новой
романтической поэзии. По мнению Вильгельма, не следовало
1 Гольтей III, 232. Написанный общими силами сонет, который, по словам
Доротеи, был «плодом одного восхитительного часа, проведенного
Вильгельмом вместе с Тиком», носил заглавие «à la Burchiellesca»; сравн. «Aus
Schleiermacher's Leben» III, 129 и 130.
2 Вильгельм к Тику [от] 30 ноября 1798 года (у Гольтея III, 229); Фридрих
[к Вильгельму № 130, 131, в апреле 1799 года] желал, чтобы «альманах»
не ограничивался только остроумием. В письме к Вильгельму [весной 1799 года;
№ 8 из писем Тика] Тик говорил о своем намерении «поместить в забавном
альманахе» среди прочего своего «Hercules am Scheidewege», который
впоследствии был напечатан в «Поэтическом журнале».
660
Р. ГАЙМ
принимать в новый журнал ничего такого, что отзывалось бы
нетвердостью воззрений и сомнительной даровитостью. Он
рассчитывал главным образом на самого себя, на Тика, на Новалиса
и на Шеллинга, а если бы со временем удалось добыть несколько
статей от Гёте и от Шиллера (в этом предположении
обнаруживается его практический ум), то можно было бы надеяться, что
новый «Альманах Муз» скоро сделается «Альманахом Муз par
excellence». Гораздо равнодушнее относился к этому
предприятию Тик. Ведь даже если бы он обладал более практичным,
деловым умом и более выдающимися редакторскими дарованиями,
что могло бы привлекать его к такому компанейскому
предприятию при его создании своих поэтических дарований и своей
способности выступить представителем целой школы если не
одному, то при содействии Новалиса? Старший Шлегель, по-видимому
от природы предназначенный для роли редактора, был более всех
других заинтересован в успехе предприятия. Он взял на себя все
хлопоты по приисканию сотрудников, по сбору взносов на
расходы и до такой степени все забрал в свои руки, что Тик стал
жаловаться на то, что «хотя он и фигурирует в роли соиздателя, но
вовсе не имеет права голоса» '. Таким образом, на деле оказалось,
что совокупное редакторство не было благоприятно для успеха
предприятия. Медленно, очень медленно составлялся
образцовый романтический сборник. После продолжительных усилий и
длинной переписки первый номер «Альманаха» был готов только
в ноябре 1801 года2. Он нагляднее всего другого доказывает
хилость романтической лирики: с одной стороны, натянутая
искусственность внешней формы и бессодержательность, не в меру
разукрашенная аллегориями и мистицизмом; с другой стороны,
отсутствие искренних чувств, выражавшееся с большими
притязаниями на их глубину. Лучше всего были стихотворения из
оставшихся после Новалиса произведений. Тик поместил в
«Альманахе» сравнительно немногие и вовсе не лучшие из своих
произведений, среди прочего бесконечно длинный романс «Die
Zeichen im Walde» («Знак в лесу». —Прим. науч. ред.). Самый
большой вклад сделали братья Шлегели. Им помогали Шеллинг,
София Бернгарди и, наконец, некоторые новички в литературе,
1 № 17 из писем Тика к Вильгельму. Касательно подробностей переговоров
можно найти обильный запас указаний в письмах у Гольтея.
2 В его заголовке названа фирма Котты и помечен он 1802 годом; он
заключает в себе отдел VI и 293 страницы.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
661
статьи которых были приняты ради поощрения. В общем, вышло
нечто, не выдерживающее никакого сравнения с шиллеровским
«Альманахом», и никакие похвалы, расточавшиеся Бернгарди и
другими приверженцами школы, не были в состоянии собрать
вокруг новых «Муз» хоть небольшое число поклонников. Первый год
издания «Альманаха» остался единственным годом. Продолжение
этого предприятия было предоставлено молодым подросткам
школы: Фсрмерену, Варнгагену, Шамиссо, которые истрепали в
лохмотья то платье, которое надели на себя из подражания другим.
Нет, Август Вильгельм Шлегель ошибался, думая найти для
новой школы главную опору в поэтических произведениях. Но что
же, кроме таких произведений, могло бы служить связью между
членами романтического кружка? Правда, у них было много
общих идей и воззрений, но как было много и разномыслия по
отдельным вопросам! Они свыклись друг с другом, часто проводя
время вместе, но между ними стали возникать личные
антипатии, и именно их частые близкие сношения сделались причиной
крайне неприятных столкновений, раздоров и вражды.
Действительно, чем ближе мы знакомимся с взаимными отношениями
членов романтического кружка, тем более поражает нас
внутренний разлад, незаметно подготавливавший его распадение.
Доротея сначала посмеивалась над тем, что в Йене «беспрестанно
происходят между мужчинами такие же ссоры, какие были бы
вполне естественны в какой-нибудь республике, управляемой
явными деспотами»; и ей самой, и ее Фридриху сначала жилось очень
хорошо в доме Вильгельма: «их там уважали и любили, как
патриархов»; но им пришлось более всех других пострадать от
внутренних раздоров. Фридрих скоро дошел до ссоры с большинством
членов кружка частью вследствие своего неприятного
характера, частью вследствие своего легкомыслия и своей
беспорядочной жизни, а в особенности вследствие своей расточительности.
Он и прежде никогда не вступал в близкие дружественные
отношения с Шеллингом, который был едва ли не менее его уживчив
и, сверх того, отталкивал от себя своей гордостью; лекции и
философия еще более расширили пропасть между этими двумя
людьми. Но всех сильнее раздувала взаимную вражду г-жа Люцифер:
дружелюбие, с которым Каролина сначала отнеслась к брату
своего мужа и к его подруге, мало-помалу превратилось в
ожесточенную вражду. В переписке Шлейермахера встречаются только
намеки на «проделки Каролины», но из писем Фридриха и Каро-
662
Р. ГАИМ
лины к Вильгельму достаточно видно, до какой степени доходило
ее озлобление. Читая эти письма, нельзя не чувствовать
сострадания к Фридриху и к Доротее, несмотря на то что они иногда
сами подавали повод к неприятным столкновениям, и нельзя не
чувствовать некоторого отвращения к Каролине, неутомимо
старавшейся разжигать ссору и со злорадством выдумывавшей
разные клеветы. Может быть, ей, наконец, удалось бы поссорить
Фридриха с братом1, если бы не вмешались в дело некоторые
другие соображения. История литературы не должна
игнорировать такие факты, но она, естественно, спешит как можно скорее
покончить с ними. Каролина стала ненавидеть Фридриха, но в то
же время разлюбила Вильгельма. В то время как она еще писала
из Йены в Берлин самые ласковые письма своему «милому
Вильгельму», она уже вошла в близкую связь с Шеллингом. Она
старалась утешить Шеллинга в его скорби о смерти его дочери,
внезапно скончавшейся во цвете лет Августы Бёмер. Их сблизили
общая скорбь и взаимные утешения. Мать мало-помалу
заменила для Шеллинга свою дочь, а так как узкие понятия
общепринятой морали не существовали для кружка гениальных людей, то
брачный союз между Каролиной и Шлегелем не считался
препятствием для другой, более искренней привязанности. Эти
отношения частью отразились в литературном эпилоге к «Иону»,
поэтому нам нет никакой надобности освещать на основании
дошедших до нас письменных документов усиливавшееся
несочувствие и столкновения между Каролиной и Вильгельмом и
усиливавшуюся взаимную привязанность между Каролиной и
Шеллингом2. Еще менее оснований требовать от нас, чтобы мы
1 Из следующих слов Фридриха в письме от 31 июля 1801 года видно,
каковы были в то время отношения между двумя братьями: «Мне очень
приятны те братские уверения, которыми ты оканчиваешь свое письмо. Я не
могу без скорби подумать о разладе между нами и надеюсь, что ты ослабишь
нашу взаимную привязанность только настолько, насколько ты это найдешь
необходимым для твоих более дорогих привязанностей». В сентябре между
двумя братьями происходили новые объяснения, касавшиеся Каролины
[письма № 174—177]. Фридрих уверял, что не питает вражды к Каролине: это
было более того, чего можно было от него требовать после разных
гнусностей со стороны Каролины.
2 Из тех сведений об этих фактах, которые были публично оглашены,
следовало бы исключать некоторые подробности. Выпущенное у Плитта (с. 377)
начало письма Шеллинга от 30 июля 1802 года хотя и наполнено деловым
содержанием, но по своему энергическому тону может служить яркой характеристикой и
личности Шеллинга, и всего, что случилось.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
663
определили степень виновности той и другой стороны. Нам
остается только констатировать, что и Шлегель и Шеллинг умели с
дипломатическим искусством устранять от своих научных и
литературных отношений влияние своих личных отношений. Они
никогда не были такими же друзьями, какими были Тик и Новалис;
и после того, как они сделались соперниками по сердечным
привязанностям, они не переставали с взаимным почтительным
участием обмениваться своими мнениями, не переставали считать
себя союзниками и оказывать друг другу как ученые, так и
личные услуги. При этом самая большая заслуга принадлежала,
бесспорно, Шлегелю. Он был тем, кто отстаивал преимущественно
литературные интересы, ставя их выше всяких других
соображений. Он вполне обладал той гибкостью характера, которая
свойственна политическим деятелям. Когда Тик вмешался в ссоры
между Фридрихом и Каролиной, принимая сторону первого из них,
то Вильгельм писал ему: «Я стою за общий мир и всячески
стараюсь оберегать его. Когда я приеду в Йену, должны будут
прекратиться все толки этого рода».
Он желал бы устранить и деловые несогласия точно так же,
как устранил личные. Они были очень значительны даже между
теми членами кружка, которые находились в самых
дружеских отношениях между собой. Шлейермахер старался угодить
своему другу Фридриху, хорошо отзываясь даже о том, что было
самого нелепого в «Люцинде», а Фридрих, напротив того,
разошелся со Шлейермахером во мнениях с самого начала «Речей о
религии». Хотя Тик и научился многому от обоих Шлегелей, но он
не разделял их сочувствия к эллинизму. Он не верил в
безусловное искусство греков и не одобрял стремления к подражанию
греческим писателям1. Поэтому и о поэтических дарованиях Гёте
он судил иначе, чем его друг Вильгельм. Между тем как
Вильгельм находил самыми совершенными те позднейшие
произведения Гёте, которые созрели под солнцем Италии, Тик, напротив
того, находил самую полную поэзию в более страстных
юношеских произведениях поэта, в проникнутых немецким духом «Гёце»,
«Вертере», «Клавиго» и «Фаусте». Он, подобно Шлегелю, не
восхищался Шиллером, но по меньшей мере к «Разбойникам»
относился с горячим одобрением, а именно эту драму Шлегель счи-
1 Сравн. первые наброски статьи о Шекспире в посмертных сочинениях
Тика II, 127.
664
Р. ГАИМ
тал за самое плохое из произведений Шиллера, за грубое и
варварское1. Еще более серьезный разлад обнаружился в кружке
романтиков в другом направлении. Еще зимой 1800 года Стеффенс,
заехавший в Иену из Фрейберга, заметил, что прежний союз
начинал распадаться2. Он нашел, что шлегелианизм не одно и то
же, потому что, как он основательно заметил, произведения
Фихте и Гёте были «точкой солнцестояния» для основных воззрений
братьев Шлегелей, а натура и произведения Гёте были «точкой
солнцестояния» для основных воззрений Шеллинга. Август
Вильгельм, в качестве эклектика от природы, мог бы до некоторой
степени ужиться с таким разномыслием, но ему нелегко было
достигнуть соглашения между представителями несходных
воззрений. Иногда даже случалось, что он сам выходил из терпения;
в этих случаях его властолюбие и его тщеславие брали верх над
его миролюбивыми намерениями и над его дипломатическими
дарованиями. Издание посмертных произведений Гарденберга и
«Альманаха Муз» могло быть в глазах постороннего
наблюдателя доказательством литературного единомыслия романтиков, но
именно по поводу этих изданий возникла между Шлегелем и
Тиком серьезная ссора, не кончившаяся формальным разрывом
только благодаря любезности Тика3.
Но именно по этой причине все члены литературной семьи
более или менее сознавали необходимость действовать как одна
тесно сомкнутая, единодушная партия, несмотря на частые
внутренние раздоры. И в политических точно так же, как в
литературных сферах, необходимость защищаться от общего врага
обыкновенно заставляет людей сдерживать их индивидуальные,
расходящиеся в разные стороны стремления. И политические
партии, и литературные школы возникают из ненависти по
меньшей мере так же часто, как из дружбы, а связующая сила
положительных принципов обнаруживается вполне только ввиду
опасностей или неприятельских нападений. В 1800 году Шлейермахер
писал об этом своему другу Бринкманну хотя и с некоторыми
преувеличениями, но, в сущности, очень верно: причина, по
которой так называемая новая поэтическая школа составляет особую
1 Сравн. Кепке I, 255.
2 «Was ich erlebte» IV, 296 и 302.
3 У Гольтея помещены вслед за бранными письмами Шлегеля
оправдательные и миролюбивые письма Тика, найденные после смерти Шлегеля в его
бумагах 15—19.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
665
секту, находится скорее вне ее, чем внутри ее. «Если мы обратим
внимание, — говорил он, — на то, как непохожи друг на друга
Фр. Шлегель, Тик и А. В. Шлегель и по своим произведениям,
и по своим принципам, и по тому, как сложились эти принципы,
и по тому, как эти писатели смотрят сами на себя, то мы придем
к убеждению, что тут нет никаких задатков для образования
наступательной секты, а в основном есть задатки для образования
секты оборонительной; стало быть, эти люди не могли бы
составить никакой школы, если бы на них не нападали те, которые
воображают, что принадлежат к старой школе. Мне кажется, что и
покровительство со стороны Гёте было вынуждено только
такими же соображениями: ведь те трое писателей так же мало, как и
Гёте, верят в сходство его поэтических принципов с их
собственными; но их силою заставили плотно примкнуть друг к другу;
покровительством Гёте они пользуются точно так же, как в начале
прошлого столетия философы пользовались китайской моралью
для борьбы с ортодоксалами». Эти слова относятся к
романтикам только как к поэтической школе, а написаны они были в такое
время, когда между главными представителями этой школы уже
возникли сильные раздоры. Тем не менее их можно отнести с
небольшими изменениями к сущности романтизма и к тому
времени, когда романтизм достиг высшего процветания благодаря тому,
что его представители жили в одном городе. Подобно тому как
во Франции политическая революция нашла для себя твердую
опору только благодаря войне с соседними государствами, и
литературная революция романтиков нашла для себя опору и
окончательно развила характер романтической школы сначала
посредством полемической критики, а потом благодаря оборонительной
и наступательной войне романтиков с их врагами.
Действительно, они были со всех сторон окружены врагами1.
Против них явно или тайно было всё, на что они наложили опалу
в своих критиках, а опалу они наложили почти на всё, кроме
произведений Гёте и Фихте, — и на всю поэзию до Гёте, и на всю
философию до Фихте. Им уже было бы достаточно работы, если
бы они только продолжали старую борьбу с натурализмом и с
эмпиризмом, с Просвещением и с прозой своего времени, со старой
1 Дополнением к тому, что говорится далее, могут служить подробности,
изложенные у Коберштейна III, 2445 и ел., который с большой
основательностью описал оппозицию, встреченную романтиками, и литературную борьбу,
которая велась против них.
666
Р. ГАИМ
литературной школой и с тем золотым веком немецкой
литературы, который, по мнению Виланда, уже закончился с концом
столетия. Но они задали себе двойную работу, вознамерившись не
оставлять без отмщения всё усиливавшиеся нападки со стороны
противников и по мере возможности заставить этих противников
молчать. Ни один из романтиков не был так способен к такой
работе, как А. В. Шлегель. И по своим врожденным дарованиям,
и по своим врожденным влечениям он был годен именно для
такой деятельности, а не для поэзии. Он вовлекался в заблуждение
и в самообольщение, когда несочувственно отзывался о
литературной критике только как об обязательной работе, а главным
своим делом считал создание литературных произведений.
Вовсе не Фридрих, как иные могли бы подумать, а Август
Вильгельм обладал теми качествами воина, которые служили
ручательством за успех. Лучшие солдаты не те, которые с
самым горячим пылом устремляются на врага, а те, которые
соединяют с рвением осмотрительность и с осмотрительностью
устойчивость. Вследствие недостатка этих двух качеств младший
Шлегель был совершенно негоден для такой войны, которую
нельзя было окончить в одну кампанию или несколькими
удачными стычками с неприятелем. Его сила, как он сам этим
хвастался, заключалась в том, чтобы публике «mit der Faust in's Auge
zu schlagen» (ударить Фаустом по глазам. —Прим. науч. ред.).
Гёте назвал его «жгучей крапивой», потому что он всегда был
раздражен и постоянно старался раздражать других1. Поэтому он
был годен только для того, чтобы вызывать неприятеля на бой, в
рядах же армии был почти ни на что не годен. Лучшая
полемическая рецензия, какую он написал, была та, в которой шла речь о
романе Якоби «Вольдемар». Но без упорного труда нельзя
писать такие рецензии, а он еще по поводу одной рецензии для «Ате-
нея» наивно признался, что у него «уже недостает терпения» для
такой работы; в другой раз он заявил, что краткость есть самая
большая красота в критике2. Все рецензии, написанные им в
течение нескольких лет (как, например, рецензии на «Речи» Шлей-
ермахера и «Дон Кихота» Тика), не заслуживают никакого
внимания; многие другие были им задуманы, но не были написаны. Но
не одна только леность была тому причиной. В его уме готовился
1 Каролина к Вильгельму от 15 февраля 1802 года [№ 19].
2 К Вильгельму № 130 и 143.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
667
решительный переворот. Подобно тому как ирония уже не
занимала первого места в его доктрине, и на практике он стал мало-
помалу утрачивать охоту к задорным выходкам. Его новое
влечение к поэзии и к музыке как будто сделало его более кротким,
более скромным, более трусливым. Правда, в последнем номере
«Атенея» он снова выказал себя таким, каким был прежде. Его
статья «О непонятности» («Über die Unverständlichkeit»)1 была
настоящим фейерверком остроумия, блестящей фугой иронии, в
которой его колкая задорность оказалась такой же игривой и
веселой, как прежде, и в которой он бросил в лицо своим
противникам свои самые едкие выходки, какими отличались его
отрывочные заметки2. Но через несколько месяцев после того он
формально заявил перед публикой, что отказывается от
литературной критики. Он сделал это в том окончании статьи о Лессин-
ге, о котором сам сказал, что хотел «sich der Figur des Hyperbatons
bedienen» (пользоваться фигурой гипербатона. — Прим. науч.
ред.), потому что не был в состоянии ни переработать свою
старую статью из «Лицея», ни докончить ее3. Он заявил там, что
впредь предоставляет Новому времени критиковать само себя, а
свои критические занятия впредь ограничит двумя целями —
историей поэзии и критикой философии. Он сдержал свое слово:
журнал «Европа», изданием которого он с тех пор занялся, оказался в
высшей степени благонравным. Здесь уже кое-что напоминает
нам те «войлочные башмаки», которые он, по выражению его
брата, впоследствии никогда не забывал надевать, выступая перед
публикой. Он, очевидно, был напуган непопулярностью своего
имени и ее неприятными последствиями4; поэтому он решился
никого не задевать и по меньшей мере в начале издания нового
журнала избегать полемики, насколько это окажется возможным5.
1 «Атеней» III, 2, с. 335; эта статья не попала в полное собрание сочинений.
2 Сравн. письмо Шлейермахера к Фридриху III, 204. Там же примечание на
с. 191.
3 К Вильгельму [от] 16 января 1801 года [№ 160].
4 Я высказываю не просто догадку. Фридрих писал своему брату [от 27
марта 1801 года]: «Непопулярность Ваших предприятий служит для
книгопродавцев предлогом для предложения Вам незначительного гонорара; это
единственный существенный вред, который причинили Вам Ваши враги». Поэтому и он
сам, которого считают преимущественно перед другими за «advocatus diaboli»,
не желает, чтобы его имя было выставлено в заглавии «Нового Атенея», об
издании которого шла в то время речь (см. выше, с. 649).
5 К Вильгельму [от] 15 января 1803 года [№ 182].
668
Р. ГАИМ
И в своем предисловии, и в самом тексте журнала он
высказывает такое же намерение. Он даже заставляет себя хорошо
отзываться о Шиллере, хотя в то же время не может воздержаться от
робких иронических замечаний. А когда его брат предложил ему
для журнала «Европа» некоторые из своих прочитанных в
Берлине лекций, он принял это предложение с благодарностью, но с
условием, чтобы в тех лекциях «ничего не говорилось против
правительства и чтобы в них не было никаких прямых литературных
нападок на Гёте или на Фихте»]. Как будто он действительно мог
ожидать таких нападок от Вильгельма! На деле оказалось, что
из присланной ему рукописи он вычеркнул не только нелестную
характеристику Жан-Поля, но также нелестный отзыв о Лафон-
тене и вообще все, что отзывалось литературной полемикой.
Даже Губер, Коцебу, Иффланд, гёттингенские «Gelehrte Anzeigen»
(«Ученые записки».—Прим. науч. ред.), «Библиотека изящных
наук» и «Всеобщая литературная газета» были теперь для него
«Noli me tangere» (явлением Христа. —Прим. науч. ред.). Таков
был тот человек, который в течение некоторого времени
старался выдавать себя за нового Лессинга!
Еще в то время, как издавался «Атеней», можно было
подумать, что два брата поменялись ролями, до такой степени
полемика старшего брата оказывалась более прежнего
целесообразной и в своих шутливых замечаниях, и в своих серьезных оценках.
Хотя он по-прежнему отводил для поэзии центральное место в
умственной жизни и по-прежнему был уверен в окончательной
победе поэтического направления, но он ясно видел, с какой
громадной массой тупоумия, пошлости, староверства,
миролюбивой податливости и настоящей глупости ему приходилось
бороться. «Пока так всё идет на свете, — писал он 9 июня 1800 года
Шлейермахеру, — критика есть необходимый орган великой
революции, и нам приходится самим создавать такое время, когда
можно было бы всецело посвятить себя положительной
деятельности». В этих словах слышится вызов на бой со стороны
всегда готового к борьбе критика. Мы уже ранее говорили о
критических статьях Августа Вильгельма в «Литературной газете» и
о помещенном им в первом номере «Атенея» отзыве о
новейшей беллетристике. В следующих номерах «Атенея» его
критика становилась все более колкой, смелой и задорной. Второй
«От 15 мая 1803 года [№ 184].
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
669
номер «Атенея» обратил на себя внимание парадоксами
отрывочных заметок, а следующие номера возбудили ненависть и
страх рядом критических нападок, которые получили от друзей
Шлегеля меткое название критической «чертовщины». Форма
критических статей была, как нам известно1, по почину
Фридриха, сокращена в форму «заметок». Для таких «заметок»
Вильгельм прислал кроме нескольких более невинных статеек2 разные
мелочи, которые Фридрих назвал «художественными
произведениями грубости» и потому предложил отвести для них особую
рубрику3. Таким образом в виде приложения к четвертому
номеру «Атенея» возник «Der Litterarische Reichsanzeiger oder Archiv
der Zeit und ihres Geschmaks», который по причине своих
язвительных колкостей требовал предварительной цензуры4. Шиллер
вполне основательно заметил, что «Ксении» служили образцом
для этих «добавочных колкостей», которые были довольно
удачно придуманным средством поддерживать существование
«Атенея». Слишком едкая приправа этих новых «Ксений» и
сделанное в них неделикатное замечание о В. Гумбольдте несколько
охладили сочувствие к ним Шиллера. Снисходительнее отнесся
к ним Гёте, радовавшийся тому, что в них содрали кожу с друга
«Ubique» (вездесущего.—Прим. науч. ред.). Следующие
выпуски этого указателя были забавнее нападок на Бёттигера и
разной болтовни о журналистике. Так, например, в них
рекомендовался, в форме медицинского объявления, целебный
«антифилософский морс», приготовляемый в лаборатории Николаи;
в объявлении говорилось, что для употребления этого морса не
требуется никаких особых указаний, но что вместе с
произведениями Шваба и Эбергарда он может служить хорошим
потогонным средством. Там объявлялось, что ищут для «Библиотеки
изящных искусств и наук» сотрудника почтенных лет, который
был бы готов дать присягу на книге Баттё, на этом символе ли-
1 См. выше, с. 453—454.
2 «Атеней» II, 3, с. 285—288 (предисловие) и с. 306—324; они были
перепечатаны в полном собрании сочинений Шлегеля XII, 36—55. Автором письма из
Парижа о ненависти к людям и о раскаянии Коцебу («Атеней» II, 2, с. 321) был
Бринкманн, как это видно из письма Фридриха к Вильгельму от 25 февраля
1799 года [№ 126].
3 № 136 [из] его писем к Вильгельму, от 7 мая 1799 года.
4 Фридрих к Вильгельму № 138 [в июне 1799 года]. Этот литературный
указатель перепечатан в полном собрании сочинений А. В. Шлегеля VIII, 34 и ел.
Отзывы Шиллера и Гёте в их переписке № 645 и 646.
670
Р. ГАЙМ
тературной правильности, и, кроме того, умел бы писать плавно
и обстоятельно. Остроумие гофрата Кестнера «всемилостивей-
ше увольнялось на почетный покой» вслед за признанием его
многолетних заслуг; но в связи с поэзией гофрата Виланда в
Веймаре был открыт конкурс кредиторов по искам Лукиана, Фил-
динга, Стерна, Вольтера, Кребильона и многих других писателей.
Сначала предполагалось продолжать эти «художественные
произведения грубости» именно потому, что они наделали
большого шума, а к этому всех настойчивее поощрял романтиков
Шлейермахер, составлявший проекты новых «чертовщин», еще
более задорных и более смелых, чем шлегелевские1. Он
неохотно подчинился необходимости сообразоваться с некоторыми
необходимыми стеснениями, а когда, по совету Гёте, было
решено не продолжать издание «Указателя», он больше всех сожалел
об этом. Но воинственный дух «Атенея» все-таки не переставал
обнаруживаться, только в иной форме. Август Вильгельм Шле-
гель превзошел не только статьи «Указателя», но даже «Ксении»
и принес богатую жертву «высшему и лучшему богу Кахиннусу»,
когда выказал в следующем номере «Атенея» весь свой талант
к критике и к характеристикам, все свое остроумие и всю свою
злобу, делая оценку поэзии Маттиссона и в заключение
сравнивая эту поэзию с поэзией Фосса и Шмидта2. Его критика
произведений Маттиссона была, по всему вероятию, хорошо
задуманным панданом к известной шиллеровской рецензии и, конечно,
также была панданом к гораздо более благосклонному отзыву,
1 Посмотрите, как радикален он был в своем «уважении к черту»!
Вильгельму он писал 5 октября 1799 года [№ 4 из его писем к Вильгельму]: «Я вполне
разделяю Ваше мнение, что в следующем номере следует поместить грубости.
Но для этой цели не суживайте сферу борьбы. Будьте щедры! Отдайте Иффлан-
да на съедение Тику, Гердера — Бернгарди, а Шиллера — Вашему брату; тогда,
ручаюсь Вам, Вы получите самую божественную чертовщину». В следующем
письме он всего более настаивал на принесении в жертву Шиллера: «Какое было
бы вопиющее к небесному правосудию прегрешение, если бы был оставлен без
внимания такой забавный сюжет, как Шиллер со своим Валленштейном, едва
успевшим вылупиться из своей скорлупы и уже съежившимся! И какое было бы
превосходное доказательство высшей способности никого не щадить, если бы
Вы его хорошенько отделали». Ответ Шлегеля на это письмо помещен в
«Schleiermacher's Leben» III, 131 ; в письме от 24 декабря Шлейермахер неохотно
подчинился мнению Шлегеля [№ 5]; в III, 120 упоминается о «чертовщине»
Шлейермахера против Канта.
2 В «Notizen» «Атенея» III, 1, с. 139 и ел.; перепечатана в его сочинениях XII,
55 и ел. (со сделанными впоследствии дополнениями).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА 671
высказанному им самим ранее1. Он смотрел на сочинения Мат-
тиссона с такой же точки зрения, с какой смотрел на
сочинения Лафонтена. Поэтому он и теперь постарался проследить ход
умственного развития поэта. В ранних произведениях Маттиссо-
на он старается отыскать психологическую причину возникновения
его позднейших произведений и, наоборот, с помощью его
позднейших произведений старается дать настоящее освещение ранее
написанным. Он основательно порицает «притязательную
аффектацию и чопорность, холодность и напыщенность» новейших
произведений Маттиссона и доказывает, что даже в более ранних
стихотворениях этого сентиментального живописца ландшафтов
нет единства в колорите, нет лирического воодушевления, а
потому и его позднейшие произведения являются лишь вычурными
выродками более старых. Такое же ухудшение плохих
литературных приемов находит он и в стихотворениях Фосса, о которых
прежде отзывался гораздо более благосклонно2. Он еще тогда заметил,
что Фосс «ввел домашнее хозяйство в поэзию». Теперь он
держится той же точки зрения настойчивее прежнего для того,
чтобы находить с помощью нее повод для насмешливых замечаний.
Он среди прочего говорит, что «если бы кроме поэзии, как
искусства, еще существовала поэзия, как ремесло, то у песней Фосса
нельзя было бы оспаривать права на место первого ранга».
Кроме того, он ставит Фосса наряду со Шмидтом фон Вернейхен,
который, по мнению нашего критика, всегда был «Non plus ultra
прозы». Чтобы сделать характеристику трех поэтов еще более
основательной и понятной, рецензент прибегнул к сравнениям. Он
вызвал нескончаемые похвалы Шлейермахера неподражаемым
искусством, с которым заставлял каждого из трех поэтов
критиковать двух остальных, и этим способом осмеял и каждого из
них, и все их литературное направление. Все это завершается
состязанием трех поэтов в пении; при этом Шлегель яснее, чем где-
либо, обнаруживает своеобразность своего собственного
поэтического творчества, всегда отличавшегося изысканностью,
критическими целями и подражательностью. Не такими же
забавными, но не менее основательными были полемические
статьи Шлегеля в «Notizen» последнего номера «Атенея»:
написанная в виде дружеской услуги Тику филологическая критика
1 В «Allg. Lit. Zeit» (в его сочинениях XI, 243). Положительно к Шиллеру
относится то, что сказано в «Атенее» на с. 151.
2 В его сочинениях X, 331 и ел.
672
Р. ГАИМ
перевода «Дон Кихота» Зольтау и «oratio pro domo» (речь в
защиту дома. —Прим. науч. ред.), в которой он «слегка подрал за
уши» того невежду, который написал отзыв о его переводе
произведений Шекспира1.
Но для таких критико-полемических походов Шлегелю
нужны были вспомогательные войска, а найти их было труднее, чем
казалось бы. На Фридриха, как мы уже ранее видели, вовсе
нельзя было рассчитывать. Шеллинг был слишком занят своими
философскими интересами. Помощь со стороны Тика была бы очень
желательна. До тех пор еще никто, кроме него, не бичевал на
свой собственный манер и на свой собственный риск всего, что
было безвкусно и пошло в современной литературе, всего, что
было в ней антиромантично. Его личность всего яснее
обрисовалась в «Цербино». Здесь он осмеивал Николаи и Клингера, Ла-
фонтена и Рамбаха, всю толпу тех «фабрикантов» романов,
которые подделывались под вкусы караульни, он осмеивал «Archiv
der Zeit» и журнал Бистера, Фалька и даже Виланда. Поэтому
Шлегель, умевший пользоваться всякими случайными
выгодами, очень радовался тому, что принц Цербино предпринял
путешествие за дурным вкусом в одно время с выходом в свет того
номера «Атенея», к которому был приложен упомянутый выше
«Указатель»; он обратился к поэту с приглашением доставить
какие-нибудь «чертовщины» для продолжения этой рубрики2. Но
это продолжение не состоялось, а для более серьезных «Notizen»
(заметок. —Прим. науч. ред.) от Тика ничего нельзя было
ожидать. Из женщин, пользовавшихся в этой литературной
республике правом голоса почти наравне с мужчинами, только Доротея
доставила небольшую заметку о нравственных рассказах Рам-
дора3, в которой показала себя переимчивой ученицей своего
злоязычного наставника. Каролина, которая, по-видимому, была
способнее всех для такого занятия, ни во что не вмешивалась или по
меньшей мере не выдвигалась вперед. Только сестра Тика
написала для «Атенея» статью4, в которой вовсе не было литератур-
1 «Атеней» II, 2, с. 295 и ел., перепечатана в его сочинениях XII, 106 и ел.; там
же, 133 и ел. Сравн. письма Вильгельма к Шлейермахеру от 9 и от 20 июня 1800
года (III, 185 и 190), к Тику от 14 сентября (у Гольтея III, 237).
2 К Тику от 16 августа 1779 года (у Гольтея III, 231).
3 «Атеней» III, 2, с. 238 и ел.; сравн. письмо Доротеи к Шлейермахеру III, 189.
4 «Lebensansicht», «Атеней» III, 2, с. 205 и ел.; сравн. «Aus Schleiermacher's
Leben» III, 123 и 211.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
673
ной критики и которая была наполнена пустыми фантазиями в духе
романтизма. Таким образом, Шлегелю приходилось рассчитывать
только на Бернгарди и на Шлейермахера. Первый из них, конечно,
мог бы доставлять Шлегелю разные «чертовщины», так как был
автором рассказа «Seebald oder der edle Nachtwächten> («Зибальд,
или Ночной сторож». —Прим. науч. ред.). Для первых «Notizen»,
только приправленных «чертовщиной», он доставил по меньшей
мере одну статью. Так как Шлейермахер отказался от
поручения разгромить автора «Метакритики», Гердера, то Бернгарди
взялся за это дело и исполнил свою задачу довольно успешно1. Он с
достаточной ясностью доказал, что Гердер ошибочно понимал
кантовскую «Критику чистого разума», что его «Метакритика»
была «сплетением грамматических тонкостей», а в
характеристику литературных приемов Гердера Бернгарди вплел немало
колких замечаний.
Но самым горячим литературным бойцом оказался
Шлейермахер. По основательному замечанию Гёте, он был самым ярым
среди членов литературной революционной партии, а по мнению
публики, не менее основательному, его статьи в «Атенее» были
самыми ужасными2. Нельзя сказать, чтобы его критические
разборы были во всех отношениях образцами рецензий. Они вообще
были самого тяжелого калибра, были так глубокомысленны, что
нелегко было понять их смысл, и отличались такой натянутой
искусственностью, что не могли нравиться. Как много времени и
труда они стоили ему, он сам неоднократно рассказывал3, да мы
могли бы и сами это заметить по их содержанию. Но усилия,
которых требовала от него эта работа, по-видимому, только еще
более раздражали его. Он не исполнил своего намерения
написать для «Атенея» «aus dem Gemüthe» (от души. — Прим. науч.
ред.) статью о Спинозе, «Visionen» («Видения».—Прим. науч.
ред.), которые, конечно, имели бы самую тесную связь с
содержанием его «Речей», и, к сожалению, также статью «über die
deutsche Litteratur en masse» (о немецкой литературе вообще. —
1 «Атеней» III, 2, с. 266 и ел. Об этом нападении на Гердера происходила
очень оживленная переписка. Даже Шеллинг обнаружил намерение взять на
себя роль нападающего («Aus Schelling's Leben» III, 123). Сравн. там же, с. 143,
144, 146, 151 и далее.
2 «Aus Schleiermacher's Leben» III, 140, 141.
3 Укажем только следующие места в его переписке: I, 247, 279; III, 195; IV,
62, 63 и так далее.
22 Зак. № 3602
674
Р. ГАИМ
Прим. науч. ред.)1; он доставил только несколько избранных
критических статей, которые, несмотря на некоторые недостатки в
форме изложения, несмотря на недостаток ясности и
наглядности, принадлежат к числу выдающихся. По своему характеру они
не имеют сходства со статьями Вильгельма Шлегеля. Этот
последний умел быть грубым с изяществом, основательным с
привлекательностью, умел всегда выражаться наглядно и пикантно;
Фридрих Шлегель и в качестве критика вовлекался то в
преувеличенные парадоксы, то в мистицизм; Тик брал на себя
преимущественно роль скарамуччио и не брал никакой другой роли;
Шлейермахер с беспощадной прозорливостью анатомировал того
автора и ту книгу, над которыми намеревался произнести свой
приговор; для него и автор, и книга были одной нравственной
личностью, достоинство которой он измерял в своей критике. Это
придавало его рецензиям характер самой резкой жесткости.
Губер написал для «Всеобщей литературной газеты» рецензию на
«Атеней». Так как он под маской самого полного беспристрастия
протестовал против революционного правления и тона «Атенея»,
то он счел своим долгом извиниться в частном письме перед
Вильгельмом и Каролиной, с которыми когда-то был в дружеских
отношениях. Вильгельм отвечал на это письмо высокомерным
тоном и с выражением своего сожаления, а оба письма отослал к
Шлейермахеру. Но его ответ показался недостаточно резким
Шлейермахеру. «Если мне удастся, — писал Шлейермахер
Вильгельму, — исполнить мое намерение написать небольшое
сочинение о немецкой литературе, то Вы увидите, как я отделаю
представителей такого образа мыслей; тогда, я надеюсь, Вы
согласитесь с тем, что я от природы создан для того, чтобы
разговаривать как следует с такими криводушными людьми»2.
Полной иллюстрацией этих слов служат и рецензии
Шлейермахера, помещавшиеся в «Атенее», и вообще все его статьи полеми-
1 Обо всем этом неоднократно шла речь в письмах, как, например, см. III,
138 и 179.
2 К Вильгельму от 24 декабря 1799 года и 18 января 1800 года [№ 5 и 6];
с этими письмами следует сравнить напечатанные в переписке Шлейермахера
письма Шлегеля III, 141 и 147. Письмо к Губеру сообщено Дильтеем из
оставшихся после Шлейермахера бумаг в «Preuss. Jahrb.» VIII, 231 и ел. Но там
ошибочно сказано, будто этим письмом кончилась переписка. Губер написал
возражение от 9 января 1800 года и очень искусно обратил против самого Шлегеля
сделанные им упреки; это возражение находится вместе с припиской от 11
января в оставшихся после Шлегеля бумагах [№ 2 из писем Губера].
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
675
ческого содержания. Лишь только речь шла о разборе
какого-нибудь ученого сочинения, он исполнял свои обязанности
рецензента с беспощадной строгостью и с язвительной колкостью. В своей
рецензии на кантовскую «Антропологию» он старался объяснить
недостатки кантовской системы теми выводами, которые можно
сделать из нее. Подобно своему другу Фридриху, он находил, что
Кант внес в философию страшную путаницу. С той
неблагодарностью, которая так естественна в научной деятельности и которая
составляет до некоторой степени необходимое условие
прогресса, он насмехается над «диетической тенденцией» этой
«Антропологии», и вместо того, чтобы отдать справедливость приятной
болтливости и тонким замечаниям состарившегося философа, он
находит в этом «сборнике тривиальностей», в этой книге
«ненаучной ни по форме, ни по содержанию», ключ к пониманию кантов-
ского склада ума и объяснительные «дополнения к кантологии».
Он также резок в критике произведений Гарве, когда утверждает,
что характеристическая особенность этого распрославленного
«Anmerkungsphilosophen» (критического философа. —Прим. науч.
ред.) заключается в борьбе честных намерений с малодушием и
мелочного ума с важными сюжетами; и ведет речь о
«неисчерпаемом хаосе нефилософских и бессмысленных идей», из которого
как будто сами собою истекают все произведения Гарве.
Прочитав шлейермахеровскую рецензию на сочинения Энгеля, Шлегель
похвалил своего храброго соратника, сказав, что он «pepperd for
this world» (остр для этого мира. —Прим. науч. ред.), что во
всей его статье такое же «brio» (оживление. —Прим. науч. ред.),
как в ее начале, и что в ней вообще видна «самая изящная
грубость». Наконец, шлейермахеровскую рецензию на рассуждения
Фихте «О назначении человека» Шлегель признал за образец
«замысловатости в иронии, в смешном подражании, в
снисходительной, почтительной архичертовщине». Эта рецензия
действительно была так замысловата, что ее едва ли мог понять человек, не
близко знакомый с философскими воззрениями автора, и была так
искусственно натянута, что в каждой строчке обнаруживала
тяжелые усилия рецензента и его борьбу между противоположными
соображениями. Сам Шлейермахер назвал ее «удивительной
горчицей»; таковою она действительно и была, несмотря на глубину
проглядывающих в ней идей. Но именно благодаря этому
положительному содержанию все рецензии Шлейермахера имели еще
совершенно особенное достоинство, на которое не могли предъяв-
676
Р. ГАЙМ
лять притязания рецензии Шлегеля. И остроумие и сатира
облекаются у Шлейермахера в серьезное содержание. Он имеет в виду
не столько поэзию, сколько вновь возникшие нравственные и
интеллектуальные вопросы, сколько внутреннюю сущность
романтического направления. Его рецензии имеют характер статей,
излагающих основные принципы. Его рецензия на произведения
Канта выставляет напоказ резкую противоположность между
новым направлением Просвещения и лишь наполовину
достигающим своей цели и, сверх того, неестественным идеализмом; его
рецензия на сочинения Гарве и Энгеля указывает на
противоположность между новым направлением умов и популярной
философией; наконец, его рецензия на рассуждения «О назначении
человека» объясняет противоположность между новым направлением
умов и односторонностью отвлеченного учения о нашем «Я»1.
Но в то время, как Шлейермахер писал свои рецензии на
сочинения Энгеля и Фихте, уже начинала закатываться звезда
«Атенея», в редактировании которого он сам принимал участие
во время пребывания братьев Шлегелей в Йене. Существование
этого журнала, наделавшего так много шума, постоянно держалось
на ниточке. Тотчас после выхода в свет первого номера
книгопродавец стал жаловаться на незначительность сбыта, советуя
издателям наполнить журнал более разнообразными и более
общедоступными статьями; и Бёттигер поспешил возвестить
в «Меркурии» о предстоящем прекращении журнала.
Книгопродавца не удалось угомонить. Издатели уже помышляли о
превращении своего журнала в более доступный для читающей публики,
в нечто похожее на появившиеся впоследствии «Характеристики
и критики», но взяло верх иное решение. «Атеней» перешел из рук
Фивега в руки Фрёлиха, a «Notizen», и в особенности «чертовщи-
1 Эти рецензии помещены в «Атенее» II, 2, с. 300 и ел. (сравн. переписку I,
226); III, 1, с. 129 и ел. (сравн. переписку III, 138 и 143; IV, 62 и 63); III, 2, с. 243
и ел. (сравн. переписку III, 91, 200, 209 и 218) и там же, с. 281 и ел. (сравн.
переписку 1,247 и 279; III, 195,209,213, 218 и 225; IV, 74). Только три последние
рецензии помещены в полном собрании сочинений (отд. 3, том I, с. 509 и ел.);
рецензия на кантовскую «Антропологию» перепечатана в томе IV его
переписки, с. 533 и ел. Только рецензии на произведения Энгеля и Фихте подписаны в
последнем номере «Атенея» буквами «S-r». Шлегель настойчиво убеждал
Шлейермахера назвать себя по имени (в их переписке IV, 143); на это Шлейермахер
отвечал, что не видит никакой надобности подписываться своим именем под
рецензиями, а если кого-нибудь слишком сильно задел, то охотно будет сам себя
отстаивать (к В. Шлегелю от 24 декабря 1799 года, № 5).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
677
ны» вроде тех, какие помещались в «Указателе», должны были
служить средством для возбуждения интереса к журналу. Но это
была помощь только на короткое время. В начале лета 1800 года
можно было наверно сказать, что шестой номер журнала будет
последним. А. В. Шлегель со скорбью в душе отказался от
предприятия, в котором все ему было дорого, даже придуманное им
название. Он сначала желал, чтобы по меньшей мере как можно
дольше поддерживался страх в его литературных противниках, и,
без сомнения, по его просьбе Рамбах возвестил еще в
февральском номере своего «Кроноса» 1801 года о предстоящем в
скором времени выходе в свет «продолжения „Атенея"».
Действительно, Шлегель не отказывается от намерения издавать такое
продолжение даже летом 1803 года, когда уже выходила в свет
«Европа» его брата; он снова заводил об этом речь и в апреле
следующего года, когда возвратился в Германию его брат,
естественно пригласивший его к участию в своем предприятии1.
Но наряду с привязанностью старшего Шлегеля к «Атенею»
сказывалось его главное желание — сохранить критический
отдел журнала и чем-нибудь заменить «Notizen», для того чтобы
не прекращать борьбы с «массой окружающей глупости». Это
желание еще усилилось вследствие того, что «Всеобщая
литературная газета», служившая для Шлегеля органом
литературной критики вплоть до второго года существования «Атенея»,
была утрачена для его партии, так как перешла в
неприятельский лагерь. Еще в конце 1797 года произошло (по поводу шле-
гелевской рецензии на «Терпсихору» Гердера) столкновение
между Шюцем и Шлегелем, оставшееся без последствий благодаря
уступчивости первого из них2. Шюц, естественно, желал сохра-
1 Все вышеизложенное извлечено из переписки Шлейермахера (III, 91, 170,
185 и 385), равно как из писем Фридриха Шлегеля к Вильгельму (№ 113, 118,
119, 120 и 185). В этом последнем письме [от 14 августа 1803 года] Фридрих
по своему обыкновению очень щедр на обещания доставлять статьи для
«Нового Атенея». Он намеревается доставить свои «Идеи о физике», самое лучшее
из всего, что имеется в его бумагах, беспристрастную статью о своем веке,
статьи об идеализме и об энциклопедии; впоследствии он обещал доставить
также метрический перевод с санкритского языка, статью об этом языке и
статью «Критика Платона».
2 См. письмо к Шюцу от 10 декабря 1797 года, перепечатанное из «Leben
von Schüz» в полном собрании сочинений А. В. Шлегеля X, 408 и ел. Одно
предшествующее и одно последующее письмо от Шюца к Шлегелю помещены в
посмертных произведениях Шлегеля.
678
Р. ГАЙМ
нить самого трудолюбивого из своих сотрудников, который еще
не выступал в роли вождя литературной партии и находился в
хороших отношениях с Шиллером и с Гёте. «Литературная
газета» была основана в 1785 году для того, чтобы быть
представительницей прогресса и умственного движения своего времени;
для того, чтобы примирить ученый мир с гуманизмом новой
филологии и с идеализмом новой философии. Оба издателя — и
филолог Шюц, и юрист Гуфеланд— питали самое горячее
сочувствие к философии Канта. Эта философия мало-помалу
достигла всеобщего признания своих достоинств отчасти благодаря
услугам «Литературной газеты», а эта газета, наоборот,
возвысилась в общем мнении благодаря той философии. Но вместе с
критицизмом проник в эту сферу и новый философский и
поэтический гуманизм. Кант и некоторые из его самых интимных
приверженцев, Шиллер и Гёте, Вильгельм Гумбольдт и Кернер
доставляли в газету статьи, а Шиллеру даже удалось сделать из
нее настоящий монитор поэтического классицизма, сделать ее
органом именно тех умственных интересов, которые он
самостоятельно отстаивал в «Ногеп». И дальнейшее развитие
философских и поэтических идей не могло остаться без влияния на
«Литературную газету» в особенности потому, что центром
этого развития была Иена. Издатели увлеклись потоком новых идей,
не сознавая их важности. От Канта они перешли к Рейнгольду,
от Рейнгольда — к Фихте; всё, что касалось эстетики, они
предоставили на усмотрение А. В. Шлегеля; они приняли в число
сотрудников Шиллера и даже Фридриха Шлегеля, которого
рекомендовал Фихте. Однако сношения с этими необузданными
и властолюбивыми людьми мало-помалу сделались
неудобными для издателей. С тех пор как Фихте был заклеймен званием
«атеиста», а Шлегель вместе со своим братом водрузил
совершенно другое знамя над «Атенеем», издатели стали понимать,
что не следует позволить толкать себя на революционную
дорогу. Радикальные тенденции Фихте и Шлегелей не сходились со
сдержанным, миролюбивым направлением издателей и могли
повредить успеху газеты, потому что шли вразрез с
господствовавшими в среде образованной публики идеями. И радикальные
тенденции, возникшие из идеализма Канта и Фихте, и новая
деятельность Фр. Шлегеля — все заставляло издателей быть
более прежнего осмотрительными. Разве публичное сочувствие к
натурфилософии Шеллинга не уронило бы газету в глазах тех,
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
679
кто стоял за эмпирические науки? Разве можно было вести дело
сообща с автором бесстыдной «Люцинды», сообща с тем
человеком, с которым, как писал Гуфеланд к Вильгельму, никто не
желал иметь ничего общего? В течение некоторого времени
издатели уклонялись от окончательного решения, делая шаг то в
одну, то в другую сторону. Шюц сам написал рецензию на
первый том шлегелевского перевода Шекспира, пользуясь при этом
содействием переводчика; он согласился на предложение
поручить Тику рецензии на следующие тома. Но когда Шлегель
обратился в редакцию газеты с предложением напечатать разбор
сочинений своего брата, когда он стал настаивать на помещении
объявления об издании «Атенея» и изъявил намерение написать
рецензию на «Штернбальда» Тика, то он получил от Гуфеланда
уклончивый ответ: Гуфеланд писал ему, что редакция решила
подождать продолжения «Атенея», что было бы несогласно с
установленными правилами, если бы Тик писал рецензии на
сочинения Шлегеля, а Шлегель писал рецензии на сочинения Тика;
а что касается Фридриха, то он возбудил против себя такое
общее неудовольствие, что никто не захочет взяться за
рецензирование его сочинений. Однако сдержанность и молчание не
могли продолжаться бесконечно. Наконец, надобно же было решить,
будет ли «Литературная газета» за романтиков или против них.
Кто даст себе труд пробежать подробные объяснения,
которыми наполнялись столбцы справочного листка в газете, тот
поймет, что разрыв неизбежно должен был произойти не вследствие
предвзятого намерения, не столько вследствие интриг, сколько
вследствие естественного хода вещей. Вообще нерасположение
к дерзким фрагментистам, консервативные тенденции
издателей и их связи со многими из представителей старой школы —
вот что доставило перевес реакционерам.
Между представителями старого направления никто не был
более тупоумен, более стоек и более самоуверен, чем Николаи.
Для него поэзия Гёте, философия Канта и Фихте были
гениальными сумасбродствами, которым он неутомимо
противопоставлял мудрость здравого человеческого рассудка. Против
Шеллинга и Шлегелей он также позволял себе резкие выходки в описании
своих путешествий и в своем «Семпронии Гундиберте». А
когда стали появляться в «Атенее» отрывочные заметки, они,
естественно, показались ему такой болтовней, которую можно
услышать только в доме сумасшедших. Они не давали ему покоя,
680
Р. ГАЙМ
и он счел нужным снова прибегнуть к своему остроумию,
которое прежде никогда не изменяло ему — не изменяло ни в борьбе
с религиозной нетерпимостью ортодоксалов, ни в нападках на
«Страдания Вертера» и на критический идеализм. Не кто другой,
как Николаи, был автором небольшого романа, появившегося в
начале 1799 года без имени автора, — «Интимные письма Адель-
гейды Б** к ее подруге Юлии С**». Здесь рассказывается
история одного молодого человека, которому вскружила голову
новомодная философия; но одна молодая дама, говорящая книжным
языком Николаи, взяла юношу на свое попечение и сделала из
него такого милого молодого человека, что ей наконец стало очень
трудно уничтожить в нем последний остаток неблагоразумия —
любовь, которую она ему внушила. В этом заключается
педагогическое и в то же время сентиментальное или, вернее,
антисентиментальное содержание романа. Его сатирическое содержание
гораздо более грубо. Та новомодная философия, которой
научился Густав в университете и которая задавала тон разговорам в
том обществе, которое он сначала посещал, есть не что иное, как
сумасбродные идеи романтиков. Густав и его друзья говорят
фразами, взятыми из отрывочных заметок «Атенея». Только в этом и
проявляется юмор автора.
Эта нехитрая сатира была осыпана в «Литературной газете»
похвалами за остроумие и юмор, а имя Шлегелей при этом вовсе
не упоминалось. Поэтому можно ли обвинять фрагментистов
«Атенея» за то, что они заподозрили издателей газеты в
намерении оскорбить их? Как? Разве Шюц мог не знать, с какой целью
писал Николаи свой роман? Не был ли он сам участником в
сочинении вышеупомянутой рецензии на этот роман? Это казалось тем
более правдоподобным, что незадолго перед тем была
исполнена в его доме, по случаю какого-то семейного празднества,
шуточная театральная пьеса, в которой герой забавлял общество
разными вычурными фразами, взятыми из «Атенея». Как бы то
ни было, а улики против Шюца были очень красноречивы;
поэтому А. В. Шлегель, уже давно возмущавшийся двусмысленным
направлением «Литературной газеты», воспользовался этим
благоприятным случаем для того, чтобы перейти из оборонительного
положения в наступательное. Обменявшись с Шюцем
несколькими грубыми письмами касательно вышеупомянутого
домашнего спектакля, он послал в редакцию газеты заявление от 30
октября для напечатания в справочном отделе газеты; это заявление
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
681
появилось в газете 13 ноября, после довольно продолжительных
переговоров с Гуфеландом. Это было коротенькое письмо, в
котором многолетний сотрудник отказывался от участия в газете и
которое было наполнено резкими, оскорбительными для редакции
замечаниями. Шлегель уведомлял читателей, что с половины
1796 года он был автором «почти всех сколько-нибудь
значительных рецензий по изящной литературе», а в предупреждение
протестов со стороны Шюца и Гуфеланда приложил к своему
заявлению полный список своих статей; свой отказ от дальнейшего
сотрудничества в газете он мотивировал тем, что редакция, по-
видимому, руководствуется в своих действиях разными
посторонними соображениями и целями. Редакция, конечно, не оставила
этого заявления без возражений, но ей скоро пришлось вести еще
более трудную борьбу, потому что романтики дружно взяли
сторону Шлегеля и стали действовать с тем большей
самоуверенностью, что могли рассчитывать на поддержку со стороны Гёте
и Фихте. «Литературная газета» сделалась предметом самых
ожесточенных нападок: романтики стали изливать на нее все, что у
них было на сердце против старой школы. Тик очень забавно
описал последний суд над массами печатных листов «Литературной
газеты» и произнесенный над ними приговор. Фр. Шлегель
поместил в «Атенее» статью, в которой один из участников разговора
о поэзии сказал, что читает «Литературную газету» только для
забавы. Но «божественная грубость» всего сильнее проявлялась
в статьях Шеллинга. У него были особые причины негодовать на
«Литературную газету»: его очень оскорбили две крайне плохие
рецензии на его идеи о философии природы. Он желал или сам
писать рецензии на свои сочинения, или поручить их самому
любимому из своих учеников, Стеффенсу; ему было в этом отказано,
после того как он и лично, и в письмах вел ожесточенный спор
с издателями. Эта ссора совпала по времени с ссорой между Шле-
гелем и редакцией; поэтому, лишь только Шлегель подал сигнал
к открытой борьбе, отказавшись от сотрудничества в газете,
и Шеллинг накинулся на эту газету в формальном манифесте,
напечатанном в «Журнале для спекулятивной физики»1 сначала в
виде приложения к написанной Стеффенсом рецензии на его но-
1 В этом журнале I, 1, с. 49 и ел. и потом в особом оттиске; теперь в полном
собрании сочинений III, 635 и ел. По словам Доротеи, большая часть этой
полемической статьи была написана А. В. Шлегелем (в переписке Шлейермахера III,
138, прим.), но эти слова следует понимать cum grano satis.
682
Р. ГАЙМ
вейшие натурфилософские сочинения. В этом манифесте он
отождествлял свои убеждения с убеждениями своего друга Шлегеля.
Он выдавал себя за представителя новых научных идей,
находившихся в союзе с поэзией и с искусством, а «Литературную газету»
он выдавал за центр сопротивления, которое со всех сторон
встречали эти новые идеи. Нелегко решить, принес ли ему пользу тон
его полемики или же причинил вред. Пафос его статьи не
умерялся ни малейшими проявлениями юмора и не попадал в цель.
Высокомерие философа отзывалось молодчеством и не могло
служить рекомендацией для нового направления идей. Он называл
«Литературную газету» «самым отсталым и самым
заржавленным органом печати», называл ее «пристанищем всяких низких
тенденций и страстей», «омутом пошлости и гадости»; но при
чтении этой статьи сам собою возникал вопрос: почему же Шеллинг
так долго участвовал в газете? И в фактическом содержании
своей статьи Шеллинг сделал немало промахов, так что возражения
его противников оказались во многих пунктах основательными.
И Стеффенс неудачно вмешался в эту полемику своим наивным
заявлением. К счастью для Шюца и для Гуфеланда, самый
опасный из противников не вынимал стрел из своего колчана. Шлей-
ермахер прочел полемическую статью Шеллинга с «gaudium»
(с весельем. —Прим. науч. ред.). «Я намеревался, — писал он
28 июня А. В. Шлегелю, — составить заметку и, не касаясь
вопроса о том, кто прав, Щюц или Шеллинг, вести речь только о
полемическом искусстве того и другого, и хорошенько отделать
Шюца. Это была бы настоящая „чертовщина"; мне очень
хотелось написать ее»1.
1 № 9 и 12 [из] писем к Шлегелю; сравн. ответ Шлегеля в переписке Шлей-
ермахера III, 197, 199—200. Документы касательно разрыва с «Allg. Lit. Zeit»
почти вполне изложены частью в письмах, частью в самой «Lit. Zeit». Сюда
относятся следующие номера этой газеты: «Справочный листок» ( 1799, № 145)
[отказ Шлегеля от сотрудничества и объяснения редакции по этому поводу];
«Справочный листок» (1799, № 142) [«Просьба к издателям» Шеллинга
касательно рецензий на его «Идеи» и «Ответ издателей»]; «Справочный листок»
(1800, № 57 и 62) [«Возражения на очень неясные отзывы Шеллинга об „Allg. Lit.
Zeit"» и «Продолжение возражений» Шюца. При этом сообщено содержание
частной переписки с Шеллингом и со Шлегелем по этому предмету];
«Справочный листок» (1800, № 77) [«Дополнительное объяснение Гуфеланда] и № 104
[«Реплика Стеффенса и ответ Гуфеланда и Шюца»]. Я также пользовался не
попавшими в печать письмами Гуфеланда к А. В. Шлегелю, в особенности
письмами от 2 мая и 3 ноября 1799 года, а также ответом Шлегеля на последнее из
этих писем. Из попавших в печать писем я пользовался для моего изложения в
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
683
Шлейермахеровская «чертовщина», конечно, причинила бы
«Литературной газете» больше вреда, чем страстные нападки
Шлегеля и Шеллинга. Но самый большой вред причинила газета
сама себе. Все более и более сближаясь с противниками
романтиков, она была вынуждена довольствоваться самыми плохими
сотрудниками; и рецензии Губера были очень неудовлетворительной
заменой рецензий Шлегеля. Но рамантики не умели ни молчать с
достоинством, ни обеспечить за собой победу с хладнокровием
Шлейермахера. В своем новом «Журнале для спекулятивной
физики» Шеллинг поместил под заглавием «Приемы обскурантизма
в борьбе с натурфилософией» статью, в которой излил свое
негодование на того математика, который написал для «Литературной
газеты» рецензию на его сочинения; вместе с этим Шеллинг
нападал на статью той же газеты, осмеивавшую заданные в Бамберге
тезисы за то, что они были переполнены нелепой, неудобоваримой
натурфилософией; но Шеллинг зашел слишком далеко в своей
полемике: он вел речь о «врожденной скотской низости этих
безумцев», о «мертвых собаках», о «шарлатанах», о «сволочи», так что
даже Шлегель нашел полемику такого рода нецелесообразной1.
К несчастью, эта статья доставила Шюцу повод нанести Шеллингу
оскорбление, которое еще более ожесточило борьбу:
«Литературная газета» стала снова распускать слух, что молодая Августа
Бёмер покончила с собой во время своего пребывания на водах
в Боклэ и что виною ее смерти был Шеллинг, потому что
придерживался способа лечения Броуна. Если это указание, вставленное в
рецензию на одну статью, направленную против натурфилософии,
было сделано с целью нанести смертельную обиду Шеллингу, то
оно достигло своей цели. Отношения, в которых находился
Шеллинг с умершей, усиливали его раздражение и негодование. По
его просьбе в это дело вмешался А. В. Шлегель; в брошюре,
написанной по соглашению с Шеллингом, Шлегель призывал Шюца к
ответу как распространителя гнусной клеветы, возведенной на
литературного противника. Шюц отвечал на этот вызов изданием
другой брошюры, в которой еще раз публично перетряс грязное
белье «Литературной газеты». Мы предоставляем скандальной
особенности письмами: Фихте к Шеллингу в «Fichte's Leben» II, 306 [№ 8],
Шеллинга к Фихте, с. 307 [№ 9], и Шлегеля к Шлейермахеру от 16 декабря 1799 года
(III, 141, 142).
1 Статья Шеллинга теперь помещена в его сочинениях IV, 548 и ел. Заметку
Шлегеля см. у Плитта, с. 389 и 396.
684
Р. ГАЙМ
хронике подробное описание этих раздоров, в которых к
противоположности руководящих принципов постоянно примешивались
неосновательные притязания и оскорбленное тщеславие1.
Но зачем же было ронять авторитет «Литературной газеты»,
если нельзя было противопоставить ей другой орган печати,
который был бы представителем настоящей критики и нравственного
направления научных и поэтических идей? После смерти «Ате-
нея» первоначально предполагалось по меньшей мере не
прекращать издания помещавшихся в нем «Заметок». В этих
«Заметках» принимал самое деятельное участие вместе со Шлегелем и
Шлейермахер: после Шлегеля Шлейермахер всех сильнее
интересовался новым проектом и всех сильнее желал его
осуществления. Между этими двумя писателями сначала существовала
лишь формальная, чисто внешняя связь; они сошлись при
посредничестве Фридриха, и хотя Шлейермахер после своего первого
личного знакомства с Вильгельмом Шлегелем отдавал полную
справедливость остроумию, познаниям и художественным
дарованиям этого писателя, он не находил в нем такой же глубины
идей и задушевности, которые ему так нравились в младшем
брате2. Одинаковая склонность и одинаковая способность к критике
сближали их все теснее. Шлейермахер восхищался
«чертовщинами» остроумного Шлегеля и находил, что в шлегелевских
критиках есть «что-то божественное и неподражаемое», есть что-то
непостижимое для него самого3; он был убежден, что никто не
сумеет вести критический журнал так же хорошо, как Шлегель,
поэтому считал за честь для себя работать под его руководством;
он обещал — как ради общей пользы, так и в надежде многому
научиться —регулярно доставлять «свою порцию рецензий» и во-
1 Документы для обзора этого последнего акта борьбы с «Литературной
газетой» находятся в избытке в переписке Шлегеля с Шеллингом (Плитт, с. 385
и ел.) и в самых полемических статьях. Однако Бёкингу не следовало бы
помещать в полном собрании сочинений Шлегеля его статью «Ans das Publicum. Rüge
einer in der Jenaischen A. L. Z. begangnen Ehrenschändung, von August Wilhelm
Schlegel». Тюбинген: у Котты, 1802 [28 с. 8°]. Возражение носит следующее
заглавие: «Species facti nebst Actenstücken zum Beweise, dass Herr Rath A. W. Schlegel,
der Zeit in Berlin, mit seiner Rüge, worinn er der A. L. Z. eine begangne Ehrenschändung
fälschlich aufbürdet, niemanden als sich selbst beschimpft habe. Von C. G. Schütz.
Nebst einem Anhange über das Benehmen des Schelling'schen Obscurantismus». Йена
и Лейпциг, 1803 [67 с. 8°].
2 Шлейермахер к своей сестре Шарлотте от 30 мая 1798 года (I, 176).
3 Шлейермахер к В. Шлегелю от 28 июня 1800 года [№ 12].
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
685
обще изъявил готовность на всякие услуги, чтобы пустить это
дело в ход. Своим рвением он воспламенил рвение и в Шлегеле.
Этот последний сам признался, что план критического журнала
не выходил из его головы ни днем ни ночью, а этот план между
тем принимал всё более широкие размеры. Возникло намерение
издавать не «Заметки» и не «Критики», а «Критические летописи
немецкой литературы» («Kritische Jahrbücher der deutschen Lit-
teratur»). В течение весны и лета 1800 года в переписке между
Шлейермахером и Шлегелем речь шла почти исключительно о
выборе сотрудников и о распределении между собою сочинений,
на которые будут писаться рецензии. Наконец 7 июля это
предприятие уже настолько подвинулось вперед, что Шлегель
отправил из Йены в Берлин готовый проект «Летописей»1. Этот проект
начинается порицанием тех изданий, в которых помещаются
рецензии. «Газета» не может, по мнению Шлегеля,
удовлетворительно исполнять такую задачу. Уже в заглавии нового издания
должна выражаться цель важного предприятия, так как предполагается
«постоянно следить за современным научным и художественным
прогрессом». Главными предметами рецензий должны служить
философия, естествознание, история, изящные искусства и их
теория, а все это будет рассматриваться в своем общем
образовательном значении; исключение будут составлять только
эмпирические сочинения, написанные с какой-нибудь специальной,
ограниченной целью. Редакция должна быть организована на
основании республиканского принципа: редактор будет только
делопроизводителем и посредником между сотрудниками. Как на
главных сотрудников рассчитывали на членов романтического
кружка — на Фридриха Шлегеля, Шеллинга, Тика, Шлейерма-
хера и Бернгарди, между которыми двое последних считались
самыми надежными. К числу «экзотических сотрудников»
относились Стеффенс и Риттер, а рецензии на романы и драмы
предполагалось поручить женщинам — Каролине и Доротее2. Форма
изложения должна была по мере возможности отличаться от
обыкновенного стиля рецензий; ее выбор предоставлялся сотрудникам.
Предполагалось завести четыре отдела: критические статьи; бо-
1 Он напечатан в полном собрании сочинений Шлегеля VIII, 50 и ел.
2 Я дополняю содержание проекта извлечениями из писем Шлегеля к Шлей-
ермахеру III, 170 и 193; также сравн. письмо Стеффенса к Шлегелю № 2 [в
октябре 1800 года]. В этом письме Стеффенс обещал доставить для нового
журнала обзор положения геологии.
686
Р. ГАЙМ
лее краткие критики, похожие на заметки; объявления о своих
собственных сочинениях и «Критика критики». Последний
отдел предназначался для разных «чертовщин»; предпоследний
имел целью предотвратить взаимные похвалы и упреки в
партийном пристрастии; кроме того, он доставлял возможность
помещать в журнале статьи таких знаменитостей, как Гёте, Фихте,
Шиллер1.
Это был, без сомнения, превосходный план издания. Шлейер-
махер вполне одобрил его, предложив только одно существенное
улучшение: он пожелал, чтобы главному редактору, как президенту
литературной республики, было предоставлено право налагать
veto2. В сущности, это была та же точка зрения, какой
придерживались (по прошествии тридцати восьми лет) основатели
журнала «Hallischen Jahrbücher», а это издание было самым
полезным из всех критических журналов, когда-либо появлявшихся
в немецкой литературе. Если бы задуманный Августом
Вильгельмом Шлегелем и Шлейермахером журнал издавался по
вышеизложенным принципам, то он составил бы эпоху в истории
литературной критики: он привлек бы к себе всё, что было блестяще и
полно жизни; он сделался бы распространителем новых идей; он
сделался бы для романтиков более твердым, чем «Атеней»,
пунктом опоры и мог бы окончательно соединить их в особую
литературную школу.
К сожалению, уже после того, как Котта взял на себя
обязанности издателя и было решено приступить к изданию нового
журнала в начале 1801 года, проект рушился. Но он рушился
вследствие того, что с ним столкнулся проект, возникший в том же
лагере. Романтизму пришлось отказаться от общего для всех его
приверженцев органа литературной критики, потому что между
этими приверженцами возникли несогласия, ежеминутно
угрожавшие разрывом.
Шеллинг, которого могла удовлетворять «Литературная
газета» менее чем кого-либо другого и который выше всех заносился
в своем честолюбии ученого, помышлял (еще задолго до разрыва
между Шлегелем и Шюцем) о совокупной деятельности всех на-
1 Сравн. с этим проектом письмо Шлегеля к Шлейермахеру от 9 июня 1800
года (III, 184). Хотя имя Шиллера нигде не упоминалось, но А. В. Шлегель писал
Тику 14 сентября о своем намерении предложить Шиллеру помещение в новом
журнале его собственного разбора «Валленштейна» (у Гольтея III, 236).
2 К А. В. Шлегелю от 19 июля 1800 года [№ 13].
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
687
стоящих ученых, обсуждал эту мысль с Фихте и, наконец,
задумал основать критический журнал1. Фихте постарался точнее
сформулировать мысль Шеллинга, когда по возвращении из
Берлина в Йену узнал, что борьба с «Литературной газетой» на полном
ходу и что Шлегель также помышляет об основании нового
журнала. Зимой 1799/1800 года он несколько раз обсуждал со Шлеге-
лем этот вопрос и наконец передал ему 23 декабря 1799 года
письменный проект нового издания2. В каждой строчке этого проекта
виден автор «Основных начал науки» и «Замкнутого торгового
государства». В предисловии говорится, что заговорщики
должны взяться за дело с твердой нравственной решимостью. Вслед
за этим излагается «понятие» о главной сущности предприятия.
Новый журнал должен был быть не чем иным, как
«прагматической историей литературы и искусства». Из этого понятия
исходит все остальное в силу логической необходимости. История
литературы и искусства должна, прежде всего, примыкать к
данной эпохе, а затем уже следить за их развитием. Стало быть,
следует установить понятие о науке и искусстве и сравнить настоящую
эпоху с тем принятым за мерило понятием. Новые литературные
явления следует обсуждать по классам и по рубрикам; не должно
быть отрывочных рецензий, а [должны быть] только
систематические обзоры. Внешняя организация редакции должна быть
строго монархической и бюрократической; это должно быть такое
государство, в котором глава один за все отвечает перед публикой,
перед издателем и перед сотрудниками, а под его руководством
будут работать до сорока ученых, разделенных по степеням!
Этот план, очевидно, не мог осуществиться без
существенных в нем изменений. А. В. Шлегель заимствовал из него для
своей программы основную мысль о необходимости исторического
обзора современного умственного развития; но он устранил то,
что находил неудобоприменимым на практике; он
удовольствовался тем, что заменил единством направления и стремлений то
систематическое единство, которого требовал Фихте; он
старался обеспечить разнообразие статей и свободу в их изложении.
1 Фихте к Рейнгольду от 18 февраля 1800 года (в «Leben Reinhold's», с. 218).
Это тот самый «великий план», о котором еще летом 1799 года неоднократно
заходила речь в переписке между Фихте и Шеллингом.
2 Этот проект, не попавший в «Leben Fichte's», помещен в издании
оставшихся после смерти Шлегеля бумаг в качестве приложения к записочке от Фихте
№2.
688
Р. ГАЙМ
Можно было подумать, что соглашение с Фихте не было
невозможно. Но Шлегель не мог примириться с односторонностью
плана Фихте; он был не прочь иметь этого философа в числе
сотрудников, но он мог этого достичь лишь при том условии,
чтобы Фихте были предоставлены исключительные права. Фихте, со
своей стороны, чувствовал отвращение «к высокомерной
мелочности», которую приписывал старшему Шлегелю, между тем как
к «упорной незрелости» младшего Шлегеля относился
снисходительно в надежде, что он еще исправится. Так отзывался он о
двух братьях в одном из своих писем к Рейнгольду1, которые
служат замечательным доказательством его бестактности. Фихте
был велик, когда со строгой последовательностью объяснял
безусловное в человеческом знании и в человеческой воле; но он
вовлекался в забавные заблуждения, даже в мелочность и в
неблагородство всякий раз, как ему приходилось считаться с условной
действительностью, всякий раз, как он старался поступить как
можно благоразумнее и практичнее. Так, например, из опасения,
что его имя или имя Шеллинга могло бы не расположить публику
к новому литературному предприятию, он вознамерился издавать
новый журнал от бесцветного имени Рейнгольда. Разве можно
было согласовать такое намерение с поставленным в начале
проекта требованием, чтобы все его сотрудники обязались не
подчиняться влиянию никаких посторонних соображений? И разве
можно было согласовать с требованием чистосердечия и
правдолюбия тот факт, что, обсуждая свой проект одновременно и с
Шеллингом, и с Шлегелем и тщательно стараясь склонить их на
свою сторону, Фихте объяснял за их спиною Рейнгольду, что без
Шлегелей нельзя обойтись по причине их связи с Шеллингом, но
что он сумеет отвести им второстепенную роль? При всем
уважении к хорошим задаткам в характере Фихте следует
сознаться, что только по причине его дипломатических маневров не
осуществился проект издания «Летописей».
В то время как он вел переговоры с Рейнгольдом, он
несколько изменил свой первоначальный план издания. Он решил, что его
журнал будет «обзором уже существующих критических
журналов», будет «критическим журналом второй степени» и что самые
1 В цитированном уже ранее письме, которое следует читать в «Leben
Reinhold's», a не в «Leben Fichte's» (II, 281 и ел.), где оно искажено с предвзятым
намерением.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
689
выдающиеся писатели будут помещать в нем рецензии на свои
собственные сочинения1; оба этих предложения были включены
в проект Шлегеля. Возвратившись весной 1800 года в Берлин,
Фихте узнал, что между книгопродавцем Унгером и
историком Вольтманном состоялось соглашение касательно издания
нового журнала. Он примкнул к этому предприятию, полагая, что
будет иметь возможность предписывать законы; именно по этой
причине он снова взялся за первоначальный проект,
нравившийся ему своей систематической точностью и своими
монархическими учреждениями. В конце июля и в начале августа он
отправил напечатанную программу А. В. Шлегелю и Шеллингу2;
при этом он просил Шеллинга доставить критический обзор
натурфилософии, А. В'. Шлегеля просил доставить обзор поэзии
и изящной литературы, а Фридриха Шлегеля просил доставить
статью о направлении, цели и теперешнем положении филологии.
Но почти в то же самое время А. В. Шлегель пришел с Коттой к
соглашению касательно содержания своей программы. На его
стороне были значимые преимущества благодаря солидности
издателя и, в особенности, благодаря его многочисленным
литературным связям и содержанию его проекта. Тем не менее он
сделал все, что мог, чтобы отклонить Фихте от соглашения с Унгером
и перетянуть его на свою сторону. И он сам, и его друзья прибег-
нули к дипломатическим приемам единственно с похвальной
целью организовать коалицию. Шлейермахер взялся лично
переговорить с Фихте и исполнил свою задачу с таким искусством,
которое сделало бы честь самому опытному дипломату3.
Шеллинг писал два раза Фихте с той же целью, а желание привлечь на
свою сторону этого могущественного соперника было так велико,
что даже возникла мысль разделить обязанности редактора между
ним и Шлегелем. Но все было тщетно. Фихте сначала письменно
ссылался на данное Унгеру слово. Во время его личных
переговоров со Шлейермахером было заметно, что он был крайне недо-
1 Кроме письма к Рейнгольду, сравн. письма Шеллинга к Фихте № 11 и 14.
2 К Шлегелю письмо № 4 от 30 июля, к Шеллингу письмо № 13 от 2 августа.
Программа напечатана в «Leben Fichte's» II, 99. В ее заглавии также стоят слова:
«Летописи искусства и науки».
3 Письмо, в котором Шлейермахер извещает В. Шлегеля [№ 15 от 29
августа 1800 года] об успехе своей миссии, принадлежит к числу самых достойных
внимания. Ответ Шлегеля на эту «депешу его ministre plénipotentiaire»
находился в переписке Шлейермахера III, 223.
690
Р. ГАИМ
волен составлением встречного проекта, а дружеские
увещевания и предложенные ему Шеллингом широкие уступки не
достигли своей цели. К сожалению, до нас дошел только отрывок его
ответа на эти предложения1. По раздражительному, сердитому
тону этого отрывка можно догадаться, в чем заключался ответ.
Не подлежит сомнению, что в своем ответе Фихте горячо нападал
на Шлегелей, что он напоминал Шеллингу о прежних
соглашениях и убеждал его в возможности предпринять издание «хорошего
ученого журнала» только при участии их обоих, но никак не при
участии тех неученых дилетантов. Правило «divide et impera»
(разделяй и властвуй.—Прим. науч. ред.) оказалось верным и на
этот раз. Слова Фихте еще производили в то время на Шеллинга
такое сильное впечатление и сам Шеллинг так гордился своей
ученостью и чувствовал такое отвращение к младшему Шлегелю,
что внезапно отказался от шлегелевского проекта2. В то же
время Фихте сумел повлиять на Котту. С отказом Котты, не
желавшего ничего предпринимать без участия двух знаменитых
философов, шлегелевский проект «Летописей» был навсегда похоронен
в ноябре 1800 года3. Между тем Фихте не нашел для себя
полного удовлетворения в проекте Унгера и был сердечно рад, когда
этот проект был окончательно отложен в сторону. Но он еще не
отказывался от намерения предпринять вместе с Шеллингом
периодическое издание, которое могло бы иметь еще более важное
значение, если бы в нем приняли участие Гёте и Шиллер. До мая
1801 года эта мысль время от времени высказывалась в
переписке между Фихте и Шеллингом. Она не осуществилась вследствие
того, что автор «Основных начал науки» и автор «Философии
тождества» наконец пришли к убеждению, что в их воззрениях есть
существенные несходства. Тогда Шеллинг основал на свой
собственный риск «Новый журнал для спекулятивной физики», а то,
что он первоначально намеревался предпринять в союзе с Фихте,
вскоре после того осуществилось в издании «Критического
журнала философии», для которого он нашел способного и во всем
с ним согласного союзника в лице своего земляка Гегеля.
« В «Leben Fichte's» II, 319.
2 Он писал 19 ноября 1800 года: «По меньшей мере не должны иметь права
голоса люди вроде того писателя, который уже давно мне противен своей
манерой повторять и преувеличивать чужие суждения. Его брат, у которого есть
свои мнения, и Тик сумеют обойтись и без нас». «Leben Fichte's» II, 326.
3 Там же; кроме того, см. переписку Шлейермахера III, 241, 242.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
691
Таким образом, философия Шеллинга сама создала для себя
необходимый орган гласности. Этого не сумела сделать
эстетическая критика. Как много она потеряла от неисполнившегося
намерения Шлегелеи издавать «Летописи», всего яснее видно
из содержания статьи В. Шлегеля о произведениях Бюргера,
первоначально предназначенной для «Летописей»: в
сознательном противоречии с философско-нравственным приговором,
который был произнесен над произведениями Бюргера Шиллером,
В. Шлегель рассматривает эти произведения преимущественно
в связи с историко-литературными условиями поэтической
деятельности Бюргера и от основательной критики переходит к
самой беспристрастной характеристике. Эта статья служит
главным украшением для того сборника статей, который, под
названием «Характеристики и критики», должен был составлять
окончательный итог прежней критической деятельности двух братьев
или, по выражению Фридриха Шлегеля, должен был выставить
напоказ «критическую индивидуальность» каждого из них1.
Новые вклады Фридриха в этот сборник (окончание статей о Лес-
синге и о Боккаччо) ясно доказывали, что крылья его критики
ослабли; напротив того, статья о Бюргере доказывала, что
Вильгельм только что достиг зенита своего критического
мастерства. Кроме того, Вильгельм намеревался написать для «Лето-
1 Статья о Бюргере, мысль о которой подал своему брату Фридрих по
поводу известной биографии Альтгофа [письмо 130], помещена в начале II тома
«Характеристик и критик» и в сочинениях Вильгельма VIII, 64 и ел. Фридрих
еще летом 1798 года помышлял об издании сборника своих собственных
критических статей (к Шлейермахеру III, 86); опасность, которая вскоре после того
стала угрожать существованию «Атенея», внушила Фридриху намерение
издать сборник вместе со своим братом (к Вильгельму, № 117 и 125). Это
намерение было приведено в исполнение после того, как издание «Атенея»
прекратилось. Фридрих взял на себя редакцию сборника и неоднократно переписывался
со своим братом о выборе статей. Эти переговоры интересны для нас только в
двух отношениях. Из них [письмо 162 в феврале 1801 года] видно, что я
ошибочно приписал (в примечании к с. 210 этого сочинения) Фридриху рецензию на
послание Манзо, напечатанную в журнале Рейхардта «Германия»; она написана
старшим Шлегелем. С другой стороны, из этого же письма видно, что рецензия
на произведения Гарве, о которой идет речь и в переписке Шлейермахера (III,
138 и IV, 62), действительно принадлежит Фридриху. «Чрезвычайно
привлекательная рецензия произведения Манзо, — сказано в том письме, — конечно,
должна быть напечатана. Но моя рецензия произведений Гарве кажется мне
излишней после шлейермахеровской рецензии». «Характеристики и критики» стали
выходить в свет с пасхальной ярмарки 1801 года; оба тома были в руках
Шлейермахера 17 мая (в его переписке I, 266).
692
Р. ГАЙМ
писей» подробные характеристики Виланда и Клопштока. А где
же он мог бы поместить их теперь?
По большей мере для спорадической критики нашлась
замена «Летописям», но замена ненадежная и
кратковременная. С 1799 года йенская «Литературная газета» нашла себе
соперницу в эрлангерской «Литературной газете», выходившей под
редакцией Мейзеля. По желанию издателя, с июля 1800 года
вторым редактором был назначен профессор Мемель.
Сочувствовавший новым научным и поэтическим стремлениям Мемель взял
на себя заведование отделами философии и эстетики с целью
«помещать статьи только лучших писателей и этим способом
примирить философию с искусством»1. Именно в то время как была
решена участь проекта «Летописей», Мемель снова стал искать
сотрудников между вождями романтической школы. В печатном
циркуляре издатели заявляли, что их лозунгом будет правдолюбие,
отдающее справедливость заслугам, несмотря на столкновение
мнений; а Мемель, искусно пользуясь отказом Шлегеля и
Шеллинга от участия в предприятии Шюца, письменно заявил Шлеге-
лю о своей решимости вступиться за литературное направление
романтиков, несмотря на «протесты филистеров». Он извинялся
за прежнее умалчивание о литературных работах Шлегеля и
обещал загладить прошлые ошибки. Все это, следует заметить,
происходило в такое время, когда йенская «Литературная газета» уже
напечатала несколько рецензий Губера, горячо нападавшего на
эстетические и, в особенности, этические парадоксы
сотрудников «Атенея», в такое время, когда и литературная деятельность,
и личность шлегелианцев подвергались оскорбительным
насмешкам почти во всех других критических журналах и даже в театре.
По меньшей мере Шлейермахер поспешил воспользоваться этой
счастливой случайностью. Несмотря на то что он не
снисходительнее Шлегеля отзывался о «пошлости» йенской газеты, даже
по прошествии многих лет не изменил убеждения, что никто не
мог бы заведовать литературной критикой лучше его самого и
Шлегеля, и потому не переставал сожалеть о неудавшемся
проекте; теперь он стал помещать предназначенные для
«Летописей» критические статьи в эрлангерской «Литературной газете»,
которую почтил и Фихте помещением своей рецензии на логику
Бардили. Его разбор шиллеровской переделки «Макбета» служил
1 Мемель к А. В. Шлегелю от 26 июля 1800 года.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
693
новым доказательством основательности и добросовестности его
критики. Его рецензии на сборник статей обоих Шлегелей,
смешанных сочинений Лихтенберга и Энгелева «Лоренца Штарка»
доказывали, что он сделал значительные успехи и в технике
рецензий. Наконец, его рецензия на статью Аста о «Федре»
Платона служит указанием на то, что он готовился к важному
предприятию — к переводу вместе с Фридрихом сочинений Платона1.
Но, кроме Шлейермахера, и Шеллинг пользовался эрлангерской
«Литературной газетой» в целях романтической пропаганды. Им
было написано то объявление о шлегелевской «Kotzebüade», в
котором выдавалось за образцовое поэтическое произведение то,
что было лишь остроумным пасквилем; это вызвало ссору между
Мейзелем и Мемелем; тогда Мемель стал редактировать газету
при помощи другого сотрудника, стал еще решительнее прежнего
держаться принятого направления, но совсем недолго смог
выдержать соперничество йенской газеты. Уже в середине
1802 года эрлангерская газета закончила свое существование2.
Только в 1804 году, когда Шюц переселился вместе со своей
газетой из Йены в Галле и основал под покровительством Гёте
«Новую йенскую литературную газету», романтики нашли в ней для
себя опору. Но даже если бы они составляли тогда тесно
сплоченную партию, они не смогли бы изменить более свободного и
более мягкого направления газеты. Они играли в ней роль
служителей, а не повелителей.
Если бы речь шла только о том, чтобы приобрести прочное
влияние через посредство критики, то следовало бы сознаться,
что всех благоразумнее поступил Бернгарди. Он всегда любил
инкогнито и игру в прятки, всегда придерживался правила, что войну
следует вести на неприятельской территории и за счет
неприятеля. Какое ему было дело до того, что «Archiv der Zeit» объявил
себя покорным слугой публики и ее прихотливого вкуса? Какое
ему было дело до того, что ь этом журнале сотрудничали наряду
1 Рецензии Шлейермахера перепечатаны в томе IV его переписки, с. 540—
579. Сравн. там же, Ï, 307 и III, 253. О рецензии на «Макбета» он писал 17
сентября 1801 года [№ 22] В. Шлегелю, что старался заглушить в себе
«некоторые вовсе не дурные мысли о ведьмах и об утренней песне». Из того же письма
видно, что он был приглашен написать рецензию на шлегелевский перевод
произведений Шекспира, но сознавал, что такая задача ему не по силам.
2 Сравн. Коберштейна III, 2244. Рецензия Шеллинга (которую Фр. Шлегель
сначала приписывал Брентано — в письме от 27 марта 1801 года к Вильгельму,
№ 166) перепечатана в сочинениях Шеллинга VII, 535 и ел.
694
Р. ГАЙМ
с несколькими недурными писателями и совершенно никуда не
годные, вроде того Готтшалка Некера (так подписывавшегося
под своими сатирами), который был самым пошлым из всех йен-
ских писак? Он находил забаву в том, что в том же «Archiv der
Zeit» он осмеял этого жалкого сотрудника в «Sechs Stunden aus
Fink's Leben». Он уговорил и Тика писать статьи для «Архива».
Он воспользовался своими связями с Рамбахом для того, чтобы
завести в «Архиве» с начала 1798 года постоянный отдел для
критики берлинского театра, а с начала 1800 года — постоянный
отдел для новых литературных явлений. Он был похож на лисицу на
голубятне или в курятнике. Он обходился со всеми сотрудниками
дружелюбно и любезно. Он одобрял старание «Архива»
составлять протоколы обо всех проявлениях современных идей и вкусов;
он только просил позволения смотреть на эту задачу с немного
более возвышенной точки зрения: в качестве последователя Фихте
он имел в виду «Историю внутреннего человека», то есть, в
сущности, почти то же, хотя и в менее широком масштабе, что было
впоследствии включено в программу Фихте и в шлегелевскую
программу «Летописей». Самая широкая снисходительность и
самая неразборчивая многосторонность были жизненным
принципом «Архива» и его читателей. Автор статей о театре делает
этим читателям иронический комплимент, высказывая
предположение, что они «несколько односторонни и поэтому любят или
всецело одобрять или всецело порицать». Однако статьи о драмах
не были так односторонни, как можно было бы предполагать на
основании этой цитаты. Хотя они до некоторой степени и
подчиняются влиянию господствующих вкусов, но в них встречаются
иронические замечания о современных вкусах, и в особенности
о мелочном вкусе берлинцев. В них нет недостатка в язвительных
колкостях, направленных против матадоров берлинского театра,
но до безусловного порицания манеры Коцебу они доходят лишь
мало-помалу. Еще снисходительнее они относятся к Иффланду.
Между воззрениями этого драматурга и воззрениями критика,
очевидно, есть близкое сходство. Как пьесы первого, так и
критические статьи второго возникают из присоединения одних метких
подробностей к другим. Таким образом, критика Бернгарди с
трудом вырабатывалась на пьесах Иффланда и едва ли когда-нибудь
достигла бы удовлетворительного развития, если бы личные
столкновения не побудили газету враждебно отзываться о знаменитом
драматурге и актере. Материалы для правильной оценки Иф-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
695
фланда находятся здесь в таком изобилии, в каком их нигде нельзя
найти собранными в одном месте. Не только пьесы, но также
игра Иффланда рассматриваются со всех сторон самым
подробным образом. Наш рецензент умеет самым красноречивым
образом выставлять напоказ недостатки Иффланда — монотонность
содержания, ограниченность мотивов действия, привычку метить
на эффектность и, в особенности, его манеру не находить для
разных сентиментальных нежностей и прозаических происшествий
никакого другого единства, кроме единства «определенной
нравственной тенденции». По-видимому, отсюда неизбежен переход к
решительному порицанию. Однако наш критик снова увлекается
«восхитительными подробностями» в пьесах Иффланда. За такую
пьесу, как «Die Jäger» («Охотник». —Прим. науч. ред.), в
которой сказывается влечение к приятному душевному спокойствию
и к тихой жизни, Бернгарди готов признать автора настоящим
поэтом. За такую пьесу, как «Der Mann von Wort» («Человек
слова».— Прим. науч. ред.), Бернгарди отводит автору очень
высокое место между драматическими писателями. По его словам,
Иффланд так хорошо обработал сцены семейной жизни, что эта
жизнь изображена такой, какой должна быть. Драматическое
художественное произведение [представляет собой] не совсем одно и
то же с театральной пьесой. Между этими последними пьесы
Иффланда занимают самое выдающееся место. Выбором
сюжетов, тонкостью отделки и легкостью остроумия они превосходят
и пьесы Гальдони, и пьесы Мольера. Иффланд обладает
свойственной Дидро правдивостью, но без свойственной Дидро
напыщенности. Наконец, и по содержанию своих пьес, и по их обработке
Иффланд настоящий немец и действительно оригинальный
писатель. Если бы все эти одобрения и порицания соединились в одну
целую характеристику, то критические статьи Бернгарди были бы
достойны больших похвал. Они имеют очевидное сходство с
критическими статьями А. В. Шлегеля. По остроумию, по
наблюдательности и по меткости суждений ученик почти равняется со своим
наставником; ему недостает только такой же, как у Шлегеля,
закругленности, приятности и легкости. Он более натянут и напыщен,
более жесток и более поучителен. Он слишком охотно начинает
свои критические статьи общими объяснениями. Он чувствует
потребность подробно излагать философские основы своего
отзыва. Он не умеет только слегка намекать на них, не умеет незаметно
вкладывать их в содержание своего критического разбора.
696
Р. ГАЙМ
Эти замечания относятся как к театральным, так и к
литературным критическим статьям. Но только в этих последних Берн-
гарди является безусловным приверженцем романтической
школы, только с их помощью как будто переносятся на почву «Архива»
статьи «Атенея», «Заметки» и даже сам «Reichsanzeigen>. Берн-
гарди отчасти превозносит произведения своих друзей, отчасти
выставляет их в выгодном свете посредством их сравнения с
произведениями других современных писателей, отчасти
«отделывает» грубых или придирчивых противников. Самыми
громкоголосыми между этими противниками были словоохотливый
Николаи, циничный Йениш и чванливый Меркель. Николаи
беспрестанно брался за перо по врожденному влечению к
литературным сплетням и ссорам. Что только он один мог быть
автором «Диогенова фонаря», сатирической карманной книжки,
содержавшей разные грязные намеки на личные связи Фр. Шле-
геля и Шлейермахера, — в этом не мог сомневаться ни один из
тех, кто знал этого писателя и еще не позабыл литературного
скандала, которому он намеревался подвергнуть некоего Рейнгарда,
но сам попался на свою собственную удочку1. С помощью
некоторых приемов, отличавшихся изысканной язвительностью, Берн-
гарди удалось устранить своего грязного сотрудника и старого
друга Готтшалка Некера. Так же презрительно обошелся он с
«Briefe an ein Frauenzimmer» («Письмо к одной дамочке». —
Прим. науч. ред.), в котором другой его старый знакомый, Гар-
либ Меркель, высказывал с комической самоуверенностью свою
эстетическую мудрость и судил о Гёте и о романтиках почти точно
так же, как башмачник судил о произведениях Апеллеса2. Коцебу,
1 «Diogenes Laterne». Лейпциг, 1799 [ 12-о]. На прибавлении сделана
пародическая надпись: «Allgemeiner satirischer Reichsanzeigen>. О происшествии с Рейнгар-
дом можно найти самые полные сведения в ряде статей «Архива» (в декабрьском
номере 1795 года, в мартовском, в майском и октябрьском номерах 1796 года).
Также сравн.: Boas «Xenienkampf» I, 159. Намек на это происшествие сделан в
переписке Шлейермахера III, 135; там вместо «Рейхардта» следует читать «Рейн-
гард». Сравн. письмо Гердера к Клопштоку в лаппенбергском сборнике писем
Клопштока, с. 240, «Leben Fichte's» И, 426 и в переписке Шлейермахера III, 149.
2 Касательно Гарлиба Меркеля, сравн. сочинение Юлия Экардта «York und
Paulucci, Actenstücke u. s. w.» (Лейпциг, 1865. С. 5 и ел.) и его сообщения в
«Grenzboten» (1867, II, 265 и ел.) в «Die Unzufriedenen in der Schiller— Goethe
Zeit»; эти сообщения, с одной стороны, сравнивают заслуги Меркеля как
политического публициста с его эстетическими прегрешениями, с другой стороны —
знакомят нас с отношением Меркеля к Гер деру, к Виланду и к Бёттигеру.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
697
действовавший сообща с Меркелем и пытавшийся в своем
«Hyperboräischer Esel» («Гиперборейский осел».—Прим. науч.
ред.) отомстить романтикам за их нападки, также был
мимоходом наказан за пошлость этого произведения. Наконец, Бернгар-
ди печатно объяснил Фальку различие между настоящей сатирой
и простым сплетничеством и, кроме того, написал на его счет
пародическое стихотворение об искусстве «Falkische
Taschenbücher zu machen» («Из записной книжки Фалька». — Прим. науч.
ред.); впрочем, Фалька нельзя было ставить наравне с Йенишем
и с Меркелем: ведь он только через год после того поместил в
своем «Альманахе» пошлости вроде «Диогенова фонаря» и
осмеял Шлегелей и их отношения с Гёте в своей «Gigantomachia»1.
Суждения Бернгарди о других современных писателях
именно таковы, каких следовало ожидать от верного оруженосца
A.B. Шлегеля, — как, например, его суждения о Фоссе, об обоих
Якоби, о Жан-Поле и о Лафонтене. Только относительно Шиллера
он не следовал примеру Шлегеля, не ограничивался молчанием,
а завел речь о шиллеровском «Альманахе Муз». Но он
выражался только таким же неприятным тоном, каким впоследствии Шле-
гель отзывался о любимом национальном поэте в своих лекциях
о драматическом искусстве и литературе. Он с кислой миной
хвалит поэта и с любезностью порицает его. Он сожалеет о том, что
в новом номере «Альманаха» нет ни одного произведения Гёте.
Между произведениями самого издателя стихотворение
«Ожидание» приходится по вкусу романтическому критику гораздо
более, чем «Песнь о колоколе». По его мнению, в «Песни о
колоколе» поэзия заключается главным образом в искусственности; в
этой маленькой драме «интересно проследить, с какой точностью
поэт изображает моменты отливки колокола, пользуясь
удобными случаями, чтобы примешивать к этому изображению верные
размышления и красивые описания, и таким образом возвышаясь
до чего-то вроде аллегории»!
Ведь только романтики были настоящими мастерами в этом
роде поэзии! Только у них можно было найти настоящую
аллегорическую поэзию, и только их искусственность была настоящей
поэтической искусственностью! По мнению Бернгарди, «Жене-
вьева» Тика есть вполне законченное художественное
произведение. Но прежде чем произнести этот приговор, он нашел нужным
1 Сравн. в переписке Шлейермахера III, 198 с примечанием Дильтея.
698
Р. ГАЙМ
объяснить читателям, в чем заключается единственно
правильная метода художественной критики, то есть романтическая
метода. Всякое художественное произведение, — говорит нам
ученик А. В. Шлегеля, — должно быть первоначально объяснено
поэтически, чего до сих пор никто не умел делать, кроме Вакен-
родера, Тика и Шлегеля; затем следует объяснить его
прозаически. Настоящая художественная критика возникает только из
сочетания этих двух приемов, если при этом приводятся
необходимые исторические сведения и если рассматриваемому
произведению отводится надлежащее место между другими
однородными произведениями. Однако не все романтики одобряли
критические статьи Бернгарди; Шлейермахеру не нравились их
несамостоятельность и натянутость1. Бернгарди поместил в
«Архиве» шлейермахеровскую рецензию на «Люцинду»,
распоряжаясь литературным отделом журнала в качестве соредактора; он
писал заметки в защиту «Атенея», написал рецензию на
сочинение Фихте «О назначении человека» и оказал немаловажную услугу
А. В. Шлегелю своей рецензией на его стихотворения. Он
говорил, что для всех этих стихотворений служит средоточием душа
поэта, и недурно заметил, что Шлегель «от внешней формы
прокладывает себе путь в святилище поэзии». В заключение он
относит к самому Шлегелю его слова о новой утренней заре поэзии
и о венках Аполлона, служащих наградой за героические подвиги.
Однако чем пристрастнее были эти похвалы и порицания, чем
яснее сказывалось в них желание поддерживать новую школу,
тем менее они подходили под общий тон «Архива» и тем менее
могли нравиться его издателям. Рамбах, оставшийся
единственным редактором журнала после удаления Мейера в июне
1797 года, старался выпутываться из затруднений при помощи
заметок, в которых отказывался от солидарности с
высказываемыми в театральных статьях воззрениями и с тоном
критических статей Бернгарди. Положение Рамбаха сделалось еще
более трудным с тех пор, как с конца 1798 года он стал
разделять свои редакторские занятия с профессором Фесслером,
когда он стал все более и более склоняться на сторону Бернгарди,
между тем как Фесслер крайне не одобрял «безжалостную
критику» Бернгарди. Статьи этого последнего, наконец, сделались
1 Несочувственный отзыв Шлейермахера о Бенгарди можно прочесть в его
переписке III, 228; сравн. там же, с. 233 и IV, 70 и 84.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
699
причиной окончательной ссоры между издателями и
прекращения журнала в конце 1800 года. Из всех номеров «Архива»
последний был самый интересный. В нем и оба издателя, и автор
статей о театре и литературе публично прощались с публикой,
и каждый из них объявлял о своем намерении продолжать на
свой личный риск предприятие, которое до сих пор велось всеми
ими сообща. Фесслера всего более возмущали нападки Берн-
гарди на издателя театральной газеты Роде. Теперь он вступил
с этим Роде в соглашение для продолжения «Архива» под
названием «Eunomia» и с объяснительным эпиграфом «Omnibus
aequa», a менее сговорчивый Рамбах заявил, что он один может
быть продолжателем «Архива», потому что он был
основателем этого журнала. Но его новый журнал, выходивший под
заглавием «Kronos. Ein Archiv der Zeit», с трудом просуществовал
только двенадцать месяцев1. Фихте поместил там полемическую
статью против Бистера касательно своего сочинения о
замкнутом торговом государстве2. И Бернгарди по-старому держался
за Рамбаха; говоря в «Кроносе» о «Kotzebüade» своего друга
Шлегеля, он развивал понятие о настоящей поэтической сатире
и называл то сочинение «продуктом истинной гуманности»3.
Заявление Шлегеля, что действительно им написана «Kotzebüade»,
и поэтическая насмешка Фридриха Шлегеля над Губером — вот
все, что получил издатель «Кроноса» от романтиков4.
Впрочем, Бернгарди не поместил в этом
мертворожденном журнале того, чему придавал самую большую цену. В
своей прощальной статье, напечатанной в старом «Архиве», он
заявлял о своем намерении выражаться еще резче и определеннее
в другом органе печати, где его не будут стеснять одним
полулистом и где за ним не будет наблюдать никакой трусливый
редактор. Но разве он еще не утратил надежду осуществить шле-
гелевский проект «Летописей»? Или же не помышлял ли он об
1 Он выходил сначала ежемесячно, но в конце года три номера соединились
в один.
2 Его изложенное в диалоговой форме «Объяснение» напечатано в
июльском номере «Кроноса», с. 204—210; но оно не было перепечатано ни в полном
собрании сочинений, ни в его посмертных сочинениях. «Кронос» имел очень
мало читателей, поэтому рано исчез из обращения.
3 В январском номере «Кроноса», с. 47—52. Статья подписана именем
Бернгарди.
4 Это заявление В. Шлегеля то же, что помещенное в «Intelligenzblatt»
«Всеобщей литературной газеты» 1801 года, № 113.
700
Р. ГАИМ
основании своего собственного журнала? Действительно,
немедленно вслед за прекращением «Кроноса» он попытался издавать
на свой собственный риск нечто вроде шлегелевских
«Летописей». Издатель Фрёлих выпустил первый номер нового журнала,
который должен был выходить четыре раза в год; заглавие
«Kynosarges» должно было служить указанием на ту
безусловность и беспощадность, которые издатель выдавал во введении
за свое высшее руководящее правило1. Издатель намеревался
выражаться безусловно и беспощадно, потому что «то
убеждение, которое требуется в науках и искусствах, никогда не
вовлекается в заблуждения». Из этого основного положения уже ясно
видно, что дух романтизма соединяется у этого романтика с
влечением к систематичности, к догматизму и к педантизму.
Из помещавшихся в журнале статей виден характер самого
издателя. Там помещались, наряду с некоторыми
незначительными поэтическими произведениями, статьи научного содержания
вперемешку с критическими статьями. Вышедшему из школы
Фихте диалектику принадлежит отрывочная заметка «О
ступенях и о конечной цели воспитания»; здесь говорится, что
нравственность и честность, наука и искусство составляют ступени
воспитания, а «образование само в себе» составляет его
конечную цель. Философу и в то же время стилисту и ритору
принадлежит статья «Наука и искусство». Здесь Бернгарди старается
согласовать три главные формы философского романтизма, во
многих отношениях напоминая то направление, которое
впоследствии приняла философия Фихте. Но Фридрих Шлегель
основательно заметил, что в этой статье всего сильнее слышится
отголосок «Речей» Шлейермахера2. Не подлежит сомнению, что
эти «Речи» служили образцом для Бернгарди и что Фридрих
основательно насмехался над тем, что «нечувствительный и
любящий пиво» Бернгарди увлекся мистицизмом, религиозностью
и Шлейермахером. В то же время Фридрих нашел безупречной
другую статью того же журнала, и он был бы самым
неблагодарным из людей, если бы не нашел ее безупречной. В ней речь
шла об «Альманахе Муз» Шлегеля и Тика. Она начинается чем-
то вроде философии художественной критики. Затем Бернгарди
1 «Kynosarges. Eine Quartalschrift». Издание А. Ф. Бернгарди. Первый
номер вышел в Берлине у Фрёлиха в 1802 году.
2 В письме к Рахили от 8 февраля 1802 года (у Варнгагена в «Galerie von
Bildnissen» I, 230).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
701
говорит, что лирика «Альманаха» заключает в себе такой же
мистический элемент, какой мы находим в стихотворениях Но-
валиса. Поэтому он придает этому мистицизму самую большую
важность и торопливо возводит свое мнение в систему, на
основании которой мистическое стихотворение есть самое
современное: ведь оно было самым древним, а мифология есть не что
иное, как «неразвитые и несвободные воззрения на универс,
которые мы стараемся снова приобресть различными путями
посредством науки». Но достоинства такого поэтического
мистицизма он наглядно объясняет не на песнях Новалиса, а на
произведениях Фридриха Шлегеля и Тика. «Abendröthe» Фридриха он
называет «мистико-лирическим ландшафтом» и с комической
серьезностью объясняет, что причина совершенств этого
произведения заключается в художественности и в чувственности
созвучий. Он осыпает такими же похвалами «Romanze vom Licht»
(«Романс о свете».— Прим. науч. ред.) того же писателя; а
его романтические теории до такой степени омрачили его
рассудок, что он находит сочинение романса о свете и его колебаниях
таким же естественным, как и мысль воспеть в романсе
возвращение Улисса. Поэтому вовсе неудивительно, что критику с
такими воззрениями показался законченным художественным
произведением «мистико-драматический романс» Тика «Die
Zeichen im Walde», даже показался таким художественным
произведением, которым «никогда нельзя досыта насладиться»! Во
всяком случае критик хорошо сделал, что сам настроил свою
лиру и поместил в своих «Kynosarges» несколько сонетов.
Сентиментальное аллегорическое стихотворение, написанное
стансами, принадлежит его жене. Из его собственных сонетов ему
всего лучше удались три пародико-полемических сонета с
нападками на Рейнгольда, Иффланда и Якоби. Сонет, написанный
на Иффланда, носил заглавие «Der Künstlieg»
(«Искусственный».— Прим. науч. ред.) и принадлежал к числу
многочисленных насмешек, которыми Бернгарди с 1800 года осыпал
великого актера и сочинителя драм. Когда Иффланд дал волю
своему негодованию на театральные критики «Архива» и
сделал в своей пьесе «Die Höhen» несколько намеков на
журналистов, то Бернгарди ответил на эту выходку небольшим диалогом,
не лишенным остроумия. Но Иффланд отплатил за это всем
представителям романтической школы очень неприличной
шуткой. В начале ноября 1800 года он поставил на берлинской сцене
702
Р. ГАЙМ
пошлую пьесу своего друга Бека «Das Kamäleon» («Камале-
он». —Прим. науч. ред.\ в которой, с ясными намеками на
литературную деятельность Тика, Бернгарди и обоих Шлегелей,
вывел на сцену представителя романтической школы,
принадлежащего к разряду отъявленных негодяев. Здесь сатира
превращалась в пасквиль. Так как Тик был ею задет более других,
то Бернгарди уступил ему свое право отвечать в журнале на это
оскорбление, атак как статья Тика долго не была готова, то
Бернгарди сам взялся за перо. Он стал теперь отзываться об
авторе картин семейной жизни совершенно иначе, чем прежде.
Он стал уверять, что писал в «Архиве» свои театральные статьи
с похвалами Иффланду только с целью убедить читателей, что
«Иффланд не поэт и не трагический актер, а описание картин
семейной жизни не принадлежит ни к какому разряду поэтических
произведений». В своих «Kynosarges» Бернгарди завел
постоянный отдел для статей о театре и предполагал помещать статьи
о картинах семейной жизни, о мимике и декламации. В первом
и единственном номере этого журнала он изложил по меньшей
мере основную мысль самых важных статей, которые
намеревался написать, ту основную мысль, что театр и драма находятся
в Германии в самом глубоком упадке; он говорил, что
«непристойные и безнравственные картины семейной жизни» составляют
самый жалкий вид драмы, какой когда-либо был придуман;
наконец он самым резким образом нападал на Иффланда, называл
его «поэтическим нищим» и, в явном противоречии со своими
прежними отзывами, ставил его гораздо ниже Коцебу!
С прекращением журнала Бернгарди романтизм снова
остался без представителя в журнальной литературе, без
представителя перед той публикой, на глазах которой на него постоянно
делались нападки; он был бы лишен возможности защищаться
от этих нападок, если бы не нашел для себя ораторскую
трибуну в «Журнале для изящного общества» («Zeitung für die eleganste
Welt»), который издавался с 1801 года Шпациром1. Нападению
1 Впрочем, Бернгарди, как кажется, не переставал работать и для йенской
«Литературной газеты», несмотря на то что приверженцы Шлегелей прервали с
ней сношения. Ведь Шлейермахер писал еще 12 апреля 1800 года В. Шлегелю,
что Бернгарди без всяких затруднений откажется от заведования литературным
отделом в «Архиве» в угоду «Летописям», но относительно рецензий на романы
нельзя рассчитывать ни на него, ни на его жену, потому что теперь он много
работает по этому отделу в «Allg. Lit. Zeit».
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
703
Меркеля на этот журнал романтики были обязаны тем, что
журнал с первого года своего существования отказался от своего
публично провозглашенного основного правила «ни под каким
предлогом не наполнять свои страницы полемикой» и «не
примыкать ни к какой литературной партии». Хотя изящное
общество обыкновенно не придерживается никакой партии и не
имеет никакого определенного характера, все-таки ему пришлось
читать, наряду с разными известиями о модах, о предметах
роскоши, об искусстве, и более серьезные статьи, направленные
против неромантической сволочи. Шпацир нашел выгодным для себя
вступить в союз со старыми противниками Меркеля и Коцебу,
а благоразумный Бернгарди и изящный В. Шлегель
воспользовались этим удобным случаем, чтобы открыть для своей
эстетики путь в светские салоны. В течение 1802 и 1803 годов
Бернгарди помещал в «Изящном журнале» свои насмешки над
Меркелем и Коцебу, а В. Шлегель писал статьи о берлинском
театре и ряд статей о берлинской художественной выставке в
остроумном фельетонном стиле1.
Однако в прежние годы В. Шлегель вел борьбу на
литературной почве и более серьезным тоном, и тверже
придерживаясь своих основных принципов. Тогда его полемический юмор
вполне сходился с поэтическим. Но потом он научился от Тика,
что для проповедования нового поэтического евангелия и для
обеспечения победы за романтической церковью самый лучший
метод — комико-сатирический. Из этого убеждения возникла
мысль издавать вместе с Тиком «забавный альманах». Этот
«забавный альманах» был заменен более серьезным, а статьи,
которые были для него предназначены, напечатаны, и мы можем их
перечислить.
Тик предназначил для нового издания две юмористические
статьи, которые были потом напечатаны в его «Поэтическом
журнале». Первая из этих статей, «Der neue Hercules am Scheidewege»2
(«Новый Геркулес на распутье»), была наполнена выходками про-
1 Статьи их обоих перечислены у Коберштейна III, 2493; но то, что говорит
Коберштейн о Бернгарди и Шеллинге, следует исправить согласно с нашим
описанием споров об «Ионе» (с. 652 и ел.).
2 Она названа в «Поэтическом журнале» (I, 1, 81 и ел.) «пародией»; под
заглавием «Der Autor. Ein Fastnachtsschwank» («Автор. Карнавальная фарса»)
она была перепечатана в сочинениях Тика XIII, 267 и ел.; сам Тик подробно
анализировал ее во введении к тому XI, с. LIX и ел.
704
Р. ГАЙМ
тив публики и против рецензентов, против современного театра,
против просветителей à la Николаи, против преувеличенных
похвал à la Брентано и была скорей субъективной исповедью, чем
меткой сатирой. Автор напоминал Ганса Сакса, но не Гёте и еще
менее Аристофана. Полемическое острие этого драматическо-
аллегорического фарса притупляется от растянутости изложения
и от нехудожественности вольных стихов. Гораздо остроумнее
вторая статья, написанная прозой, — «Das jüngste Gericht»1
(«Страшный суд»). Это, действительно, очень милая комико-сатирическая
сказка. Автор говорит, что он достиг возможности видеть сны на
любую, заранее назначенную тему. На этот раз ему снится
Страшный суд. Он видит во сне, что Николаи, считающий картину
Страшного суда за продукт преувеличений своей фантазии, от которых
старается предохранить себя, ставя себе пиявки, так надоел
чертям, что по их просьбе осужден отправиться в такое место,
которое не рай и не ад и, в сущности, не существует. Также достается
новейшим теологам, просветительным педагогам и лицемерам, с
которыми возится автор «Гесперуса». Наш мечтатель очень
радуется воскресению и осуждению «Всеобщей литературной
газеты», но один ловкий черт схватывает его за ворот и привлекает к
ответу за его частые нападки на важных и достойных уважения
людей. Он оправдывается тем, что все это говорилось в шутку;
ему на это возражают, что он заранее описал и выставил в
смешном виде даже теперешний Страшный суд, в этот момент он очень
кстати просыпается.
Это, без сомнения, и более забавно, и более остроумно, чем
весь «Цербино» вместе со «Светом наизнанку». У нашего поэта
распускаются крылья фантазии только для борьбы с
определенными противниками и для ответа на лично вынесенные
оскорбления. Ведь полемика и сатира бесцветны, если в них нет некоторой
дозы досады и злобы. Тику очень хотелось хоть один раз
написать настоящее полемическое сочинение, хоть один раз свести
счеты со своими противниками. Он был очень взволнован
упомянутым нами ранее оскорблением, которое нанесли ему и его
друзьям на берлинской театральной сцене Бек и Иффланд. В своей
статье «Замечания о пристрастии, глупости и злобе» он описал
обиды, нанесенные ему и его единомышленникам; затем, перехо-
1 В «Поэтическом журнале» 1,1, с. 221 и ел.; с некоторыми изменениями она
помещена в сочинениях Тика IX, 339 и ел. Сравн. введение к тому VI, с. LUI.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
705
дя от обороны к нападению, он выставил в настоящем свете
образ действий Зольтау и Фалька, Меркеля, Бека и Иффланда1. Он
кое-чему научился и у Лессинга, и у Шлейермахера. Совершенно
в духе этого последнего местами он выражался шутливым
тоном, местами свысока объяснял жалким крикунам, что они вовсе
некстати беспрестанно ведут речь о каком-то литературном
заговоре и о каких-то партийных интригах, что они ведут полемику
с романтиками крайне глупо, безнравственно и пошло. Шлейер-
махер основательно хвалил эту статью за ее сжатый
общепонятный слог, за неподражаемо выраженное в ней спокойное презрение
к противникам и за то, что в ней все идет «crescendo». «Остается
только желать, — писал он 27 декабря 1800 года, — чтобы были
написаны последние страницы и чтобы нашелся для статьи
издатель!»2 Но эти последние страницы не были написаны. Тик взялся
за свою статью неохотно и под влиянием первого впечатления.
Сверх того, у него отбил охоту писать Вильгельм Шлегель,
который, как кажется, не желал портить свои отношения с Иффлан-
дом и потому советовал вести с этими «негодяями» не
оборонительную войну, а наступательную3. В то же время Шлегель писал
ему письма, наполненные колкими упреками за то, что он не
заботится об интересах «Альманаха Муз». Можно ли удивляться тому,
что Тик не имел охоты продолжать работу, за которую никогда бы
не взялся, если бы не считал своим долгом вступиться за своих
друзей, и которая была вовсе неподходящей для его поэтической
натуры4? Он, конечно, хорошо сделал, возвратившись от
полемики к поэзии. Он задумал соединить с полемическими нападками
поэтический вымысел и написать нечто вроде аристофановских
комедий. С этой целью он начал в 1801 году писать пятиактную
комедию с прологом и с эпилогом под заглавием «Anti-Faust oder
Geschichte eines dummen Teufels» («Анти-Фауст, или История о
глупых чертях».—Прим. науч. ред.); он предполагал сделать
1 В его посмертных сочинениях II, 35 и ел.; сравн. у Кепке предисловие к
посмертным сочинениям, с. XIV, и «Leben Tieck's» I, 282. Предшествовавшую
сочинению этой статьи переписку с Иффландом см. у Дингельштедта, «Teich-
mann's Litterarischer Nachlass», с. 281 и ел.
2 Прежние отзывы Шлейермахера можно найти в его письмах от 6 и 23
декабря [№ 19,20,21].
3 А. В. Шлегель к Иффланду (у Дингельштедта, «Teichmann's Litterarischer
Nachlass», с. 275) и к Тику (у Гольтея III, 256).
4 Тик к А. В. Шлегелю, № 15: «Я предпочитаю не пачкаться в грязи
полемической статьи, за которую я никогда бы не взялся ради самого себя».
23 Зак. № 3602
706
Р. ГАЙМ
из нее пародию на сатиры Фалька и настоящую «Карманную
книжку для любителей шутки и сатиры». Однако, что бы ни говорили в
похвалу этого отрывка оба Шлегеля и впоследствии биограф Тика,
он напоминает попытку карлика одеться в платье великана.
Основная мысль комедии, заимствованная отчасти у Бена
Джонсона, отчасти из «Фауста», заключается в том, что глупый черт
задумал снова подчинить весь мир аду, сделавшемуся от старости
слабым, несмотря на господствующее в настоящее время
Просвещение. Автор «Цербино», без сомнения, облек бы эту мысль
в самую уродливую форму: ведь комедия Тика не могла
сделаться похожей на аристофановскую, оттого что ее автор вкладывал
в уста Аристофана и Меркурия такие же резкости, какими
наполнен гётевский пасквиль против Виланда, а множеством неясных
намеков она могла наводить не веселость, а скуку1.
У А. В. Шлегеля было во многих отношениях гораздо
больше, чем у Тика, задатков для роли нового Аристофана. Вместе с
Тиком он написал в конце 1799 года остроумный сонет с
насмешками над Меркелем «Ein Knecht hast für die Knechte du
Geschrieben» («Один слуга писал служанке». — Прим. науч. ред.) и втайне
стал распространять его в Берлине. Через год после того он без
содействия кого-либо поучал автора «Писем к горничной» о
различии между терцинами и триолетами2. И напечатанная в конце
«Альманаха Муз» «shöne und kurzweilige Fastnachtspiel vom alten
und neuen Jahrhundert» (прекрасная и занимательная
карнавальная игра из прошлого и нового столетия.—Прим. науч. ред.)
могла бы служить хорошим вкладом в «забавный альманах»3.
Здесь Шлегель превзошел Тика сжатостью и
привлекательностью внешней формы; и в содержании, и в способе изложения
много остроумия: просвещенная старушка в конце концов унесена
дьяволом, в которого она не верит; ультрареволюционный
ребенок, выскочив из колыбели, восстает против своей мнимой
матери и наконец узнает, что его родители — гений и свобода. Автор
1 Этот отрывок напечатан в посмертных сочинениях Тика I, 127 и ел. Ср.
предисловие Кепке, с. XIII, и его «Leben Tieck's» 1,285; также письменные
переговоры между Тиком и А. В. Шлегелем в № 18 и 20 [из] писем Тика и № XVI и
XVII (у Гольтея III, 270 и 272); из этих последних писем видно, что письма Тика
были написаны в конце 1801 года, а не в 1802 году, как значится в списке Клетте.
2Сравн. в переписке Шлейермахера III, 130 (129) и 250. Шлейермахер к
А. В. Шлегелю [от] 23 и 27 декабря 1800 года [№ 20 и 21].
3 «Альманах Муз», с. 274 и ел.; в сочинениях Шлегеля II, 149 и ел.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
707
подписался под этим фарсом словом «Inhumanus». Этот
безжалостный писатель умел лучше Тика платить за личные обиды и
выбирать жертву своего мщения. Он выбрал самого виновного из
своих противников, когда решился летом 1800 года примерно
наказать автора «Гиперборейского осла». Впрочем, Шлегель хотел
«отделать» Коцебу не за эту пошлую пьесу, а вообще за его мно-
гописакье для театра, и при этом выставил в смешном свете и
его прошлое — его ссылку в Сибирь и его возвращение оттуда.
Таким образом возникла в промежуток времени между июлем и
декабрем 1800 года неоднократно нами ранее упомянутая
«Kotzebüade» — «Триумфальные ворота и триумфальная арка для
театрального президента Коцебу при его ожидаемом
возвращении в отечество»1. В своих письмах к Шлейермахеру и к Тику
В. Шлегель говорил, что это «Privatteufilet» (домашнее филе. —
Прим. науч. ред.) служит для него вознаграждением за
невозможность помещать «чертовщины» в «Атенее»; он ожидал от нее
большего успеха и не ошибся в этом ожидании. Она вызвала
похвалы у Гёте во всех отношениях и даже понравилась Шиллеру.
Ею восхищался Шлейермахер, а Шеллинг и Бернгарди
поспешили объяснить ее высокое художественное достоинство2. В
настоящее время мы нашли бы такие похвалы преувеличенными.
«Kotzebüade» не может равняться с шлегелевской критикой
поэтических произведений Маттиссона, Фосса и Шмидта. В ней
больше остроумия, чем поэзии. Автор пародии не довольствуется
тем, что метко попадает в цель: он, кроме того, старается
выказать свое мастерство, старается доказать, что он сам художник.
В его эпиграммах и сонетах, в одах, песнях и романсах все одна и
та же тема: сатирическая характеристика Коцебу и его
произведений. Для этого сборника пародий служит средоточием шуточная
драма «Kotzebues Rettung oder der tugendhafte Verbannte»
(«Спасение Коцебу, или Добродетельный изгнанник». — Прим. науч. ред.).
1 Эта книжечка вышла в свет без имени автора и без указания места, где
была напечатана; в ее заголовке было прибавлено: «Напечатана перед началом
нового столетия». Шлегель признал себя ее автором в объяснении, которое было
напечатано в «Кроносе» и в «Allg. Lit. Zeit». О ее перепечатке в поэтических
произведениях Шлегеля и в полном собрании сочинений см. эти последние, том II,
с. XII. На время ее возникновения есть указания в письмах Шлейермахера от 7 и
11 июля, 20 августа, 21 ноября, 1 и 16 декабря и в письмах к Тику от 14
сентября и 23 ноября.
2 Сравн. выше, с. 693 и 699; кроме того, см. письма Фридриха к Вильгельму,
№ 158 и 167, Шлейермахера к Вильгельму, №21.
708
Р. ГАЙМ
Здесь много сходства с Тиком, но слишком мало сходства с
Аристофаном: ведь когда сам Коцебу выводится во втором акте на
сцену и выражает такие же цинические понятия о
нравственности, какими пропитаны его произведения, то карикатура
становится такой грязной, какой она никогда не бывает у Аристофана. Здесь
шутка перестает быть забавной и мы охотно переходим к
«Festgesang deutscher Schauspielerinnen bei Kotzebues Rückehr»
(«Торжественное воспевание немецких актрис за спиной Коцебу». —
Прим. науч. ред.), к этой едва ли не самой остроумной и самой
удачной пьесе из всего сборника1. Все-таки «Ehrenpforte» было
самым значительным между чисто полемическими
произведениями романтиков наряду с полемической статьей Шеллинга
против «Всеобщей литературной газеты». Здесь мимоходом также
доставалось Фальку и Меркелю, Бёттигеру и Губеру. Только
Николаи оставался в стороне. По-видимому, он не менее Шюца и
Коцебу заслуживал хорошей головомойки. Шлегель отыскал
лучший способ достигнуть этой цели: ему удалось восстановить Фихте
против Николаи. В начале 1801 года Николаи поместил в своей
«Allgemeine deutsche Bibliothek» статью, в которой своим обычным
тоном произносил свой приговор над романтической «кликой», над
новой «afterphilosophische Partei» (старофилософской партией. —
Прим. науч. ред.); на это Фихте отвечал статьей «Fr. Nicolai's
Leben und saonderbare Meinungen» («Жизнь Фр. Николаи и
странные мнения».—Прим. науч. ред.), которая была больше груба,
чем остроумна, но в то же время более основательна, чем груба:
Фихте доказывал, что великий филистер Николаи был
«действительно существующим представителем пошлого образа мыслей».
Шлегель взял на себя хлопоты о напечатании этой статьи и
отрекомендовал ее читающей публике в предисловии, наполненном
презрительными отзывами о Николаи2.
Подобно своим друзьям, и Шлегель разными способами
находил возможность обходиться без особого литературного органа
своей партии. Ни у одного из этих друзей не было так же сильно,
как у него, влечение к пропаганде своих идей путем полемики. Но
было только одно средство вполне удовлетворить это влечение и
с успехом проповедовать новые литературные воззрения без по-
1 Касательно «Ehrenpforte», сравн. «Kleine Schriften» Штрауса, с. 174.
2 Статья Фихте помещена в полном собрании его сочинений, том VIII;
предисловие Шлегеля помещено в полном собрании его сочинений, том VIII, с. 140.
Также см. Коберштейна III, 2469 и ел.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
709
средства какого-либо печатного органа: оно заключалось в
изложении «viva voce» (живым голосом. —Прим. науч. ред.) тех идей,
которые прежде излагались в «Атенее». Читать публичные лекции
в самом центре филистерства и ненависти к новой литературной
партии, читать их перед любознательной берлинской публикой —
таков был план, составленный предприимчивым вождем
романтиков и приведенный им в исполнение с искусством и с успехом.
Привычка читать публичные лекции уже была им усвоена.
С того момента, как за свои переводы произведений Шекспира
он был в августе 1798 года, то есть почти одновременно с
Шеллингом, возведен в звание экстраординарного профессора по
философскому факультету Йенского университета1, он усердно старался
доказать, что был достоин такого отличия. Фридрих
основательно удивлялся профессорской энергии своего брата: уже на первую
половину зимнего семестра Вильгельм объявил о двух часовых
лекциях по истории немецкой поэзии. На следующие семестры он
назначил лекции о способе изучения древности, об истории
греческой и римской литературы; а всего чаще он повторял лекции
об эстетике и объяснения Горация2. Однако даже эстетику,
которая была главным предметом его лекций, он не мог читать с
желаемым успехом вследствие несочувствия со стороны Шюца и
его единомышленников3. Уже по одной этой причине он задумал
перенести сферу своей профессорской деятельности в другое
место, полагая, что в более просвещенных больших городах
найдет более благодарную и более образованную публику, чем среди
своих йенских земляков. По окончании летнего семестра 1800 года
он покинул свою йенскую профессорскую кафедру. Из Бамберга,
где он провел каникулярное время вместе с Шеллингом, он
отправился на зиму в Брауншвейг, а оттуда в феврале 1801 года в
Берлин. Чем дольше он жил в этом городе, тем труднее ему было
1 Фр. Шлегель к Шлейермахеру III, 78; Гуфеланд к В. Шлегелю от 2
августа 1798 года; Шюц к Шлегелю № 4; сравн. в «Allg. Lit. Zeit.» «Intelligenzblatt»
1800 года, №57, с. 477.
2 Фридрих к Каролине в № 117 [из] писем к Вильгельму. Остальное нами
извлечено из списка лекций Йенского университета.
3 Сравн. статьи Шюца в «Intelligenzblatt» и дневник молодого Савиньи
(«Preuss. Jahrb.» IX, 481). Летом 1802 года, после первого успешного чтения
лекций в Берлине, А. В. Шлегель намеревался возвратиться в Йену для чтения
своих лекций об эстетике (письмо Шеллинга к нему от 10 декабря 1801 года
(у Плитта, с. 352) и письмо Каролины от 18 января 1802 года); но Каролина
полагала, что успех был бы сомнителен.
710
Р. ГАИМ
выехать оттуда. Он старался подготовить успех своего
намерения читать там лекции, которые должны были доставить ему
средства для постоянного жительства в королевской резиденции. Он
только раз возвращался в Йену на два осенних месяца для того,
чтобы окончательно переехать оттуда. В начале ноября он посетил
своего друга Бернгарди, а еще в начале сентября послал в Берлин
публикацию о чтении своих публичных лекций.
В этой публикации он объявлял, что будет читать лекции «об
изящной литературе и об искусстве». На самом деле его первые
лекции заключали в себе курс эстетики и заканчивались
изложением сущности, элементов и видов самого совершенного из всех
искусств — поэзии. Следующей зимой 1802/03 года лекции
должны были начаться с того пункта, на котором они остановились в
предыдущем году1. В них предполагалось вести речь об истории
поэзии, но на самом деле Шлегель успел исполнить только
половину своей программы: он успел прочесть лекции только о
классической поэзии и о ее подражаниях. Потому следующей зимой
1803/04 года Шлегель продолжал исполнение прежней
программы: он излагал историю и характеристику поэзии новых
европейских народов, или «романтической» поэзии. Но он этим не
ограничился: летом 1803 года он читал частные лекции, для которых
служило темой нечто вроде энциклопедии всех наук2; таким
образом, оказывается, что в лекциях Шлегеля было более подробно
изложено все то, что было начато, или слегка набросано, или
задумано, или обещано Фридрихом Шлегелем в его
многочисленных отрывочных заметках и статьях.
Чем менее знакома публика с этими лекциями, тем более стоит
труда изложить их содержание. В этот последний период воз-
1 Эта публикация, занимающая две страницы в восьмую долю листа,
находится у меня в руках. Она помечена: «Берлин, в сентябре 1802 года». Из нее
видно, что лекции должны были начаться во второй половине ноября и
продолжаться до Пасхи 1803 года. Они читались два раза в неделю, по воскресеньям и
по средам. Плата за их слушание составляла два фридрихсдора.
2 О своем намерении читать такие частные лекции Шлегель упоминал в письме
к Тику от 28 мая 1803 года. Так как тетрадь с лекциями об энциклопедии (в ней
907 страниц в четвертую долю листа) носит на своей первой странице пометку:
« 13 мая 1803 года», то я не ошибусь в моем предположении, что в тех частных
лекциях речь должна была идти об энциклопедии. Все, что следует далее,
извлечено мною из тетрадей, написанных собственноручно Шлегелем и находящихся в
бумагах Бёкинга. В них только местами попадаются пробелы, а местами
попадаются заметки, требующие более полной обработки.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
711
никновения романтической школы они решительно выдвинули
В. Шлегеля на первое место между всеми другими
последователями этой школы. Они в первый раз дают нам возможность
вполне обозреть содержание и объем романтических стремлений.
Только в них романтизм является как нечто цельное. В. Шлегель
является в них прежде всего исполнителем замыслов своего
брата. Кроме того, он оказывается искусным систематиком, так как
его систематичности следует приписывать то, что в тех пунктах,
которые имеют решающее значение, он открыто опирается на
философию Шеллинга. В содержании его лекций мы найдем
немного таких идей, которые принадлежали бы ему самому; только в
том, что касается стихотворной метрики, он сам был своим
наставником. Ему принадлежит масса эмпирических подробностей,
но и в этой сфере он ищет для себя опоры у Бернгарди в том, что
касается стиля, и у Тика в том, что касается древненемецкой
литературы. Мы вовсе не находим у него тех глубокомысленных
этических и религиозных идей, которые были внесены в
романтизм Шлейермахером. Зато душою для всех лекций служит
критика и полемика, в которых Шлегель не нуждался в наставнике.
Его полемические замечания иногда собираются в густые
массы, а чаще высказываются в связи с рассматриваемым
сочинением. Хотя благоразумный Шлегель и желал производить по мере
возможности самое сильное впечатление, но он желал прежде
всего убеждать и приобретать единомышленников. Он
положительно говорит, что, излагая перед слушателями свои идеи во
внутренней связи, он старался опровергнуть обвинения в
парадоксальности, возникшие главным образом вследствие того, что и он сам,
и его друзья излагали в кратких отрывочных заметках то, что
было плодом продолжительных размышлений и многосторонних
исследований. Отчасти благодаря такой внутренней связи в
изложении своих идей, отчасти благодаря своему здравомыслию,
Шлегель смягчал и исправлял то, что было самого причудливого
и мистического в романтической доктрине. Только местами,
когда он увлекается пылом полемики, он резко выдвигает
причудливые идеи этого рода, и только в некоторых пунктах он не в
состоянии отделаться от предрассудков своего кружка. Одним из таких
предрассудков было недостаточно высокое мнение о заслугах
Лессинга. Согласно остроумной статье Фридриха, романтики
находили, что Лессинг не был ни критиком художественных
произведений, ни поэтом, а был только бесстрашным укоренителем
712
Р. ГАЙМ
новшеств, был храбрым литературным бойцом. Так, например,
Бернгарди обыкновенно цитировал Лессинга всякий раз, как ему
нужно было прикрыть чьим-нибудь резким словцом резкость
своей собственной критики; но он старался чем-нибудь кольнуть
Лессинга всякий раз, как слова этого писателя не подходили к
причудливости и неопределенности романтического идеала. Такими
же глазами смотрел на Лессинга Тик в своем «Геркулесе на
распутье»; у него Лессинг представлен большим крикуном, который
доказывает старому Николаи, что хотя он и старался
проповедовать настоящую поэзию, но никогда не понимал ее сущности.
Такой же точки зрения придерживается Шлегель в своих лекциях.
Часто делая ссылки на Винкельмана, на Морица и на Гемстерпои,
он упоминает о Лессинге только для того, чтобы при всяком
удобном случае подвергать его строгому суду. Аристотель был для
Лессинга великим авторитетом в критике. Поэтому и к
Аристотелю Вильгельм относится с таким же пристрастным
несочувствием, с каким относился его брат. Лишь немного лучше
относится он к Канту: так как Лессинг и Кант стояли ближе всех других
писателей к новой школе по времени своей деятельности, то они
должны были расплачиваться за все заблуждения старой школы.
Наконец, о Шиллере местами встречаются остроумные
замечания, но о Шиллере как о драматурге и поэте Шлегель старается
по мере возможности умалчивать.
Итак, в ноябре 1801 года Шлегель начал свои лекции,
которые были лекциями в самом узком смысле этого слова, так как
он читал вслух то, что было им тщательно приготовлено и
обработано. Его письменное изложение, вовсе не отзывающееся
риторикой, отличалось изящной легкостью и ясностью. Свою общую
точку зрения он счел нужным объяснить слушателям в первой
лекции. Он, очевидно, намеревался доказать берлинцам
негодность прежней «теории изящных искусств и наук» во вкусе Зуль-
цера, Эбергарда и Эшенбурга и заменил ее более возвышенной
философской теорией искусства, которую он предполагал назвать
«Kunstlehre», или «поэтикой», совершенно устранив слово
«эстетика». Он намеревался излагать философскую теорию и
провозглашал ее автономию, отвергая унизительные для искусства
соображения полезности. Но такая философская теория должна
соединяться с историей и с критикой искусства, она должна
соединяться с историей на основании того воззрения, которое нам
уже давно известно из произведений Гюльсена и Фр. Шлегеля.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
713
Подобно тому, говорит Шлегель, как философия «есть история
внутреннего человека, и история есть философия всего рода
человеческого. Это все одна и та же эволюция человеческого духа:
философ исследует ее и излагает ее законы, считая за нечто цельное
и неделимое; а историк изучает ее в ее зависимости от
временных условий и изображает ее в бесконечном прогрессе». Это
основное положение оратор, естественно, объясняет ссылками на
более наглядные и общепонятные факты. Далее он устраняет все
сомнения в возможности изложить историю искусства: «Все
индивидуальные гении, — говорит он, — суть только отдельные
стороны и проявления одного и того же великого гения
человечества»; отсюда он выводит правила для изложения
настоящей истории искусства. Чтобы приобрести правильную точку
зрения на историю искусства, необходимо, по его мнению,
обозревать большие массы произведений и выбрасывать из них все
никуда не годное, все, что есть плод случайных ложных
стремлений и неудавшихся попыток. Первый пример такого приема
мы находим у Винкельмана. Во-вторых, необходима критика. Она,
по мнению Шлегеля, служит связью между теорией искусства и
его историей. Он ясно доказывает, почему для основательной
критики необходимы исторические сведения, и объясняет
сущность и задачу настоящей критики. Нападая на ту, так
сказать, «атомистическую критику», которая, не обращая внимания
на цельность каждого художественного произведения, применяет
к нему мерило мелочной правильности, он повторяет то, что уже
ранее говорилось в одной из отрывочных заметок «Атенея», что
от критика прежде всего требуется способность «настраивать
самого себя на надлежащий тон»; смысл этого требования
Шлегель объясняет так: «Критик должен быть в состоянии в каждый
момент возбудить в себе самую чистую и самую сильную
восприимчивость по отношению к умственным произведениям всякого
рода». По поводу вопроса о том, можно ли соединять знания
знатока с настоящим энтузиазмом, Шлегель наносит первый легкий
удар Лессингу, называя его холодным критиком, у которого не было
ни понимания поэзии, ни восприимчивости к поэтическим
произведениям. Однако как похожи на мысли Лессинга замечания,
высказываемые Шлегелем немедленно вслед за теми
нападками, что индивидуальность, кроющаяся в сущности каждого
критического суждения, должна обнаруживаться и во внешней
форме и что именно здесь на своем месте «самые смелые, самые
714
Р. ГАЙМ
остроумные и самые непосредственные проявления душевных
чувств».
Но основа этой мысли никем не была так прямо выражена,
как автором «Разговора о поэзии». Вообще во всем этом
введении нет ни одного основного положения, которое нельзя было бы
приписать Фридриху, но также нет ни одного основного положения,
которое не сделалось бы более ясным в руках Вильгельма.
Остановимся на самом важном из них: нам было нелегко объяснить
смысл туманных выражений Фридриха о том, что он разумеет
под словом «романтизм». Было ли его понятие о романтизме
теоретическим или историческим? Производил ли он слово «романтизм»
и понятие о нем от новейших романов или от итальянских
романсов? Разумел ли он под этим названием особый вид или элемент
поэзии? Представляет ли, по его мнению, романтизм
противоположность драматизму или же противоположность античной
поэзии, а в этом последнем случае где же проходила пограничная
черта между двумя противоположностями? На все эти вопросы
трудно было дать ответ, потому что у Фридриха понятие о
романтизме было впервые возникшим и мало-помалу
вырабатывавшимся. Но у Вильгельма мы находим это понятие уже созревшим и
выяснившимся из брожения идей. Он берет это понятие из рук
Фридриха и придает ему самый отчетливый облик. Объясняя
сущность истории искусства, он говорит, что для истории представляет
фундаментальную важность признание противоположности
между новым изящным вкусом и античным. Древние народы
отличаются от новых не степенью, а характером своего развития. «Лишь
недавно, — говорит он далее, — стало высказываться
следующее положение, до сих пор еще встречающее много противников:
произведения, составляющие эпоху в истории новейшей поэзии,
находятся и по своему направлению, и по своей главной цели в
противоречии с античными произведениями, но тем не менее
должны быть признаны превосходными. Характеру античной поэзии
дают название „классического", а характеру новейшей поэзии —
название „романтического"». Таким образом, по мнению Шлеге-
ля, противоположность между античным и романтическим есть
главным образом противоположность историческая; но именно по
этой причине она есть в то же время и противоположность
теоретическая. Именно по поводу этого понятия он раз и навсегда
объясняет взаимное отношение между теорией и историей: по его
мнению, история «выставляет напоказ эту важную общую антиномию
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
715
античного изящного вкуса и нового», а разрешить эту
антиномию — дело теории. Вслед за тем и основы для этой теории
извлекаются из трансцендентального идеализма. Все наше бытие
основано на изменчивости постоянно разрешающихся и
возобновляющихся противоречий. Этому закону подчиняется как натура,
так и история. Поэтому среди явлений внешнего, телесного мира
можно найти наглядные объяснения антиномий искусства.
Античную поэзию можно считать как бы за полюс одной магнетической
линии, романтическую поэзию можно считать за другой полюс,
а историк, который в то же время и теоретик, постарается по мере
возможности придерживаться беспристрастной точки зрения для
того, чтобы быть в состоянии правильно судить об обоих полюсах.
Конечно, наши исторические познания никогда не будут полными:
их придется постоянно дополнять при помощи предвидения.
Впоследствии может оказаться, что то, что мы теперь считаем за
другой полюс, за романтическую поэзию, есть только
переходное, временное явление и что только в будущем возникнет
соответствующее античной поэзии, противоположное ей целое.
В этих основных положениях вполне изложен план, по
которому наш историко-критический теоретик строит и будет
излагать всю историю искусства; но и в них слышится отзвук идей
Фридриха. В них также ясно слышится отзвук идей Фихте и
Шеллинга. Вся история искусства выведена Шлегелем из понятия о
«Я » и построена по плану натурфилософии. Прежде Шлегель
относился равнодушно к философии, не хотел основывать свои
суждения на общих понятиях и по этому поводу не раз сталкивался в
мнениях со своим братом; но близкие личные сношения с
идеалистами и жизнь в философской атмосфере Йены, очевидно,
изменили его и научили искать в основных понятиях
трансцендентального идеализма опору для своих исторических воззрений.
Дальнейшим свидетельством о вновь приобретенных им
философских воззрениях служит следующая глава его лекций. В ней
изложен критический обзор прежних опытов теории искусства и
прекрасного и перечислены возникавшие по этому предмету
системы. При этом Шлегель заводит речь об Аристотеле,
произведения которого будто бы безрассудно возводились Лессингом
на уровень Евангелия, и отзывается о древнем философе с таким
же неуважением, как автор «Истории поэзии греков и римлян»1,
1Сравн. выше, с. 198, 199.
716
Р. ГАЙМ
заодно с которым он превозносит поистине артистический гений
Дионисия Галикарнасского. Переходя к новейшим теориям
искусства, он начинает нападками на популярность философов за
их эмпирико-психологическое объяснение прекрасного и
противопоставляет этому объяснению точку зрения «спекуляции, то есть
свободного умственного сомосозерцания». После краткого
объяснения теории Баумгартена, с одной стороны, и теории Бёрка —
с другой, он переходит к подробному объяснению кантовской
«Критики суждения». Ему вполне удалось изложить содержание
этого замечательного произведения кратко, ясно и совершенно
устранив из него сбивчивую терминологию. Остроумны и
критические замечания, которыми он сопровождает это изложение; их
можно было бы назвать превосходными, если бы Шлегель,
указывая на ошибки Канта, не терял из виду достоинства его
глубокомысленных исследований. Старое несочувствие Шлегеля к
кантовской философии соединяется здесь с доверием к более
новым идеям Фихте и Шеллинга и наводит критика на
односторонне неодобрительный приговор. Он основательно порицает и
ошибочное отделение возвышенного от прекрасного, и не
выдерживающее критики различие между красотой безусловной и
красотой относительной, и подчинение прекрасного
нравственному. Он порицает неудовлетворительность кантовского понятия
об идеальном, а по поводу кантовского понятия о гении говорит,
что Кант «сначала выкалывает гению глаза, а потом, чтобы
загладить это зло, надевает гению очки изящного вкуса». Но
главный недостаток Канта он усматривает в том, что Кант не
знаком с поэтической фантазией и не имеет никакого понятия о
гармонии всех чувств в нашей натуре. Поэтому у него вовсе
нет речи об отношениях прекрасного к бесконечному.
Впоследствии он, по-видимому, возвышался до такой точки зрения, когда
вел речь о возвышенном, об эстетических идеях, о том, что
прекрасное есть символ Добра; но при этом он терял из виду точку
исхода, так что его «Критика суждения» кончается совершенно
иначе, чем началась. Но все это происходит по той же причине,
по которой кантовская философия не может быть поставлена
наравне с настоящей философией: она не разделяет, подобно этой
последней, для того, чтобы снова соединять, а фиксирует
рассудочные обособления, делая их непреодолимыми и внося
разъединение туда, где его вовсе нет и где, напротив того,
существует единство.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
717
Здесь можно было бы ожидать упоминания о Шиллере,
который зашел за пределы того кантовского разъединения, который
не только, подобно Канту, считал человека за «способное к
познаванию существо», но также впервые высказал ту мысль,
которую Шлегель только повторяет вслед за ним, ту мысль, что
стремление к прекрасному как бы очищает нас от грехопадения и снова
переносит нас в состояние невинности, то есть в состояние
«полного единства между внутренним человеком и внешним». Однако
шлегелевская история эстетики не доходит до такого
беспристрастия. По мнению Шлегеля, «истинная философия» есть не что
иное, как трансцендентальный идеализм; поэтому, после краткого
упоминания о мнениях Фихте по этому предмету, Шлегель
приписывает автору «Системы трансцендентального идеализма» ту
заслугу, что он «впервые положительно согласовал основы
философской теории искусства с принципом трансцендентального
идеализма». Короче говоря, во всем, что касается философии
прекрасного, Шлегель является последователем Шеллинга. Правда,
и у него иногда высказывается понятие о той иронии, которая в
течение последних лет была отодвинута на задний план самим ее
изобретателем; но во всех его лекциях встречается не более двух
или трех раз это знаменитое слово, служившее главной темой для
отрывочных заметок «Атенея» и впоследствии снова
удостоившееся незаслуженного почета благодаря философии Зольгера. В том,
что касается эстетики, Шлегель придерживается теории
Шеллинга. Он цитирует Шеллинга, говоря, что задача искусства
заключается в том, чтобы «делать наглядным то, что достигнуто
высшей спекуляцией, интеллектуальным способом». Он приводит
слово в слово основные положения Шеллинга, заимствованные из
той главы, где у Шеллинга речь идет об эстетике. Он
высказывает положительное одобрение сделанному в той главе
определению, что прекрасное есть бесконечное, изображенное в конечном.
Но он позволяет себе предложить небольшое улучшение в этом
определении, улучшение, которое внушено ему автором
«Разговора о поэзии»: по его мнению, следовало бы сказать, что
прекрасное есть символическое изображение бесконечного. Всякая
поэтическая деятельность, говорит он далее, есть вечная
символизация. Всякий предмет служит прежде всего символом для
самого себя, так как обнаруживает свою собственную сущность во
внешнем явлении; затем он служит символом для того, что
находится в самом близком с ним соотношении, и, наконец, он есть
718
Р. ГАЙМ
зеркало, в котором отражается универс. Устраняя всякие помехи
со стороны действительности, фантазия погружает нас в универс,
«заставляя наш ум вращаться в этом волшебном царстве вечных
перемен, в котором ничто не существует в изолированном
состоянии, а, напротив того, все возникает из всего при посредстве
самого чудного творчества». Эти же идеи впоследствии отозвались
на содержании написанной Бернгарди рецензии на «Альманах
Муз».
После этого установления основных принципов изложение
переходит к объяснению отношений между искусством и
природой и к выводимым отсюда эстетическим понятиям. Обо всем
этом мы будем говорить вкратце, потому что все это изложено
в одной из тех глав шлегелевских лекций, которые дошли до нас
напечатанными1. Опираясь, с одной стороны, на изложенное им
ранее понятие об искусстве, а с другой стороны — на понятие
Шеллинга о природе, Шлегель доказывает неосновательность
общепринятых воззрений, которые пустил в ход
преимущественно Баттё, тех воззрений, что искусство должно подражать
природе или «прекрасному в природе», что его высшая цель —
вводить в заблуждение, что художник не должен изображать ничего
неправдоподобного и так далее. Хотя эти суждения и основаны
на материалах, заимствованных от других писателей, все-таки
нельзя не признать их остроумия и меткости. В том, что касается
верного подражания природе, Шлегель сам ссылается на
сочинение Морица о подражании прекрасному, пользовавшееся большим
уважением со стороны Гёте и, очевидно, написанное под его
влиянием; наконец, ссылки на натурфилософию Шеллинга
встречаются повсюду с упоминанием или без упоминания имени
Шеллинга. Можно даже сказать, что в заключительной главе Шел-
линговой «Системы трансцендентального идеализма»
заключался зародыш всех тех воззрений, которые были развиты Шлеге-
лем. Шлегель напечатал в 1808 году эту часть своих лекций; но
уже за год перед тем Шеллинг высказал следующую мысль в
своей знаменитой речи об отношении образовательного искусства
к природе: художник «должен подражать духу природы,
действующему внутри вещей». Точно так смотрел на этот предмет и
1 Эта глава была напечатана сначала в 1808 году в № 5 и 6 издававшегося
Секендорфом и Штоллем журнала «Прометей», а потом в полном собрании
сочинений Шлегеля IX, 295 и ел.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
719
Шлегель с зимы 1801 до 1802 года. Ему принадлежит первенство
в полном развитии этой мысли, а что касается вопроса о стиле
и литературных приемах, то Шлегель очень серьезно занимался
им еще до своего личного знакомства с Шеллингом1.
Но и этой похвалы недостаточно: Шлегель построил
настоящую систему эстетики, руководствуясь отчасти
полуосновательными и причудливыми мнениями своего брата о поэзии и
искусстве, отчасти не доведенной до конца попыткой Шеллинга
облечь идеи Канта и Шиллера в форму трансцендентального
идеализма. Это уже видно из всего, что мы говорили выше, и еще
яснее видно из остальных лекций Шлегеля. Он с даровитостью
зодчего приступает к разделению искусства на виды. Основа этого
разделения философская. Шлегель приобретает ее, соединяя
представление в пространстве и во времени с той точкой зрения, что
прекрасное есть символическое изображение и что для этого
изображения есть столько же способов, сколько есть у человека
естественных способов проявлять свою сущность. Но об
историческом направлении его ума свидетельствует тот способ, которым
он старается согласовать это философское воззрение с научно-
историческим: танцевальное искусство он считает за
соединительный средний член между образовательными и
музыкальными искусствами, за первобытное искусство («Urkunst»), из которого
развились естественным путем, с одной стороны, пластика и
живопись, с другой стороны — музыка и поэзия.
Очередь, в которой он потом рассматривает каждое
отдельное искусство, была установлена им впервые. От пластики он
переходит к архитектуре, потом к живописи, к музыке, к
танцевальному искусству и, наконец, к поэзии. При этом он
рассматривает каждое искусство так остроумно, так основательно, с таким
изобилием эмпирических подробностей, что удивляет нас своей
образованностью и своими познаниями. Он почти повсюду
является не только систематиком, но и знатоком, а о богатстве
его познаний служит свидетельством и его «Статья о берлинской
художественной выставке»2. Тот стал бы, как говорит пословица,
1 Из его письма к Шлейермахеру от 22 января 1798 года (III, 73) видно, что
летом того года он отправился в Дрезден для того, чтобы заниматься поэзией и
«для того, чтобы писать в Дрезденской картинной галерее свою статью о стиле и
о литературных приемах».
2 Она перепечатана в полном собрании сочинений (IX, 158 и ел.) из «Zeitung
für die elegante Welt».
720
Р. ГАИМ
носить воду в море, кто вздумал бы в настоящее время издать
эту часть шлегелевских лекций. Она сделалась излишней после
лекций Гегеля и после появления некоторых ученых трудов, среди
прочего после сочинения Вишера. Но большая часть того
материала и тех руководящих идей, которые и до сих пор составляют
главное содержание эстетики, уже входила в состав шлегелев-
ской теории искусства, а по правильному распределению своего
содержания, по привлекательности изложения и по своей
благородной удобопонятности эта теория должна быть поставлена
выше всех тех, которые излагались впоследствии. И Шеллинг
восхищался лекциями своего друга: он находил, что в
особенности глава об архитектуре отличается возвышенностью
воззрений1. Однако ни глава о пластике, ни глава о живописи нисколько
не уступают той главе по богатству и по основательности идей.
Здесь нас всего более интересуют постоянно возобновляющиеся
указания на противоположность между стилями античным и
романтическим. Нас не удивляет ни мнение Шлегеля, что пластика есть
преимущественно античное искусство, ни его строгий приговор
над ее испорченностью у новых народов. Напротив того, нас
удивляет то, что Шлегель и в архитектуре превозносит исключительно
античный стиль, а за готическим стилем признает «некоторые
достоинства только по отношению к известной эпохе, к известным
нравам и религиозным воззрениям». Совершенно иначе судит
Шлегель о живописи. Во всей главе о живописи он ведет полемику
против воззрений Винкельмана, Лессинга, Менгса и против гё-
тевских «Пропилеев», протестуя против намерения втиснуть
живопись в рамки скульптуры; кроме того, он постоянно отдает
пристрастное предпочтение «простоте наших старинных живописцев»,
недостатки которых старается извинять в духе Вакенродера, но
не с его наивностью. Нас также не удивляет то, что Шлегель
повторяет здесь ранее высказанную им в «Атенее», в «Разговорах о
картинах», мысль, что историческая живопись должна
ограничиваться мифологическими сюжетами; с этой точки зрения он,
естественно, сожалеет о том, что Реформация уничтожила
христианскую мифологию. Он полагает, что, выбирая свои сюжеты в
мифологии, живопись может руководствоваться произведениями
великих поэтов: эта тема уже ранее была подробно им обработана
по отношению к Данте, к Гомеру и к Эсхилу в статье «Ueber Zeich-
1 К А. В. Шлегелю (у Плитта, с. 427).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
721
nungen zu Gedichten und John Flaxman's Umrisse» («О набросках
стихотворений и очерке Джона Флаксмана». — Прим. науч. ред.)1.
Без сомнения, всякий согласится с мнением Шлегеля, что о
выборе сюжета для картины нельзя судить по его драматическим
достоинствам. Но Шлегель не хочет ничего знать и о картинах на
исторические сюжеты, даже на сюжеты из отечественной
истории. «Уже много раз, — говорит он, — высказывалось желание,
чтобы новейшая история каждой страны была обработана; но этим
интересуются немногие, и было бы напрасно думать, что можно
возбуждать энтузиазм посредством картин». Равнодушие публики
к политическим интересам отечества и низкое положение
тогдашней историографии могут служить оправданием или объяснением
таких воззрений нашего эстетика; но он должен был бы
сознаться, что и к уничтоженной мифологии нельзя снова возбудить
энтузиазм посредством теоретических рассуждений и внушающих
благочестие сонетов. Шлегель придает такое же чрезмерно
важное значение художественности внешней формы, когда говорит
об изящном вкусе в садоводстве, повторяя то, что уже ранее
говорил в примечаниях к своему переводу произведений Гораса
Вальполя2.
Отложим в сторону и менее интересную по содержанию главу
о музыке, и очерк танцевального искусства для того, чтобы
скорее перейти к той главе, которая во всех отношениях важнее всех
других, — к главе о поэзии.
Поэзия, по словам Шлегеля, есть самое многообъемлющее
из всех искусств; в ней, так сказать, сосредоточивается дух,
которым проникнуты все искусства. Основой для нее служит язык.
Развитие этого органа поэзии так же беспредельно, как
способность ума возвышаться до рефлексий все более и более
возвышенных. Поэзия усваивает все, что есть своеобразного во всех
произведениях искусства, и таким образом превращается в
«изящный хаос», из которого воодушевление выделяет и
воспроизводит новые гармонические творения. Поэтому вполне
верно выражение «поэзия поэзии». Всякая поэзия, в сущности,
есть «поэзия поэзии», потому что всякой поэзии предшествует
возникновение языка, который сам есть не что иное, как посто-
1 «Атеней» II, 2, с. 193 и ел.; в полном собрании сочинений IX, 102 и ел.
2 Этот перевод вышел в свет в Лейпциге, в 1800 году. Предисловие и только
что упомянутые нами примечания помещены в полном собрании сочинений
Шлегеля VIII, 58 и ел.
722
Р. ГАИМ
янно развивающееся, нескончаемое поэтическое произведение
всего рода человеческого. Кроме того, в ранние эпохи развития
языка, в нем и из него возникает поэтическое мировоззрение,
проникнутое фантазией, — мифология. Затем сам миф делается
содержанием для поэзии; из него развивается свободная,
самосознательная поэзия, стоящая одной ступенью выше
предшествующей. Такое возвышение поэзии на более высокие ступени
может продолжаться, потому что поэзия не покидает человека ни
в какую эпоху его развития; в ней выражается как
первоначальное, так и окончательное развитие человечества; это — «океан,
в который все снова вливается». Она воодушевляет первый
лепет ребенка; она же дает философу возможность проникать за
пределы высших отвлеченностей глазами прорицателя. Она —
вершина науки, объяснительница всякого небесного откровения;
древние справедливо называли ее «языком богов».
Эти основные замечания заставляют нас многого ожидать
от автора, несмотря на то что они часто служат
разъяснениями, дополнениями и поправками для идей Фридриха. Но чего
же хотел Шеллинг, когда он находил именно эту часть лекций
своего друга самой неудовлетворительной и тщетно искал в ней
«центральной идеи поэзии»1? Нам кажется вполне согласным
с научными требованиями намерение Шлегеля объяснить поэзию
генетически и проследить ее развитие по всем ступеням, от
первого пробуждения поэтических инстинктов до законченной
художественной отделки; а мысль Шлегеля, что язык уже сам
по себе служит поэтической почвой для всякого поэтического
творчества, кажется нам такой основательной, что ее, по
нашему мнению, не должен был бы терять из виду Гегель в своей
эстетике.
Итак, Шлегель излагает сначала историю натурпоэзии, или
натуральную историю поэзии, потом историческое развитие
художественной поэзии, или теорию различных видов поэзии.
Далее мы еще более убедимся в том, что не кто другой, как
Бернгарди, навел Шлегеля на мысль, что язык есть корень
всякой поэзии. В этой мысли уже коренятся то воззрение на язык
и тот анализ языка, которые впоследствии излагал В.
Гумбольдт на основании более богатого эмпирического материала
и с неподражаемым глубокомыслием. Теперь и в эту сферу про-
« У Плитта, с. 428.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
723
никло могущественное влияние романтической революции.
И к языку романтизм применяет те основы новой поэзии и новой
философии, которые он ранее применял к критике и истории
поэзии, к сферам нравственной и религиозной. И здесь романтизм
проводит идеи Гердера, придавая им более глубокий смысл при
посредстве более возвышенного понятия о поэзии и более
возвышенных философских понятий. В новом воззрении на сущность
языка всего важнее то, что он подводится под точку зрения
поэзии. Пределами для него служат пределы романтического
воззрения на сущность поэзии и, с другой стороны, ограниченность
тогдашних познаний о материалах, из которых образуется язык.
Старые гипотезы об образовании языка были, как известно,
ошибочны уже по своей точке зрения на эту важную проблему.
Доказывая их негодность, Шлегель становится на гораздо более
возвышенную точку зрения. Происхождение языка, по его
мнению, не должно быть рассматриваемо как временное явление,
потому что язык не перестает возникать, подобно тому как
сотворение мира возобновляется ежеминутно. Без языка человек
не был бы человеком. Можно сказать, что язык есть природный
дар человека, но только в том смысле, что «все дарования,
обыкновенно считающиеся врожденными в человеке, вызываются
наружу впервые его собственной деятельностью». Иные
пытались объяснить образование языка подражаниями крику
животных или внешним предметам. Но это мнение верно только при
том условии, чтобы его понимали как следует. А его понимают
как следует только тогда, когда ему придают смысл
искусственности, стало быть «лежащее в основе образования языка
подражание внешним предметам есть низшая ступень всякого
искусственного изображения, подобно тому как выражение чувств
звуками есть основа музыки». Не следует думать, что язык
возник из необходимости обмениваться своими мыслями с чужими
мыслями. Человек разговаривает прежде всего с самим собою.
Потребность в языке как в средстве достигает самосознания,
предшествует потребности в обмене мыслями. Язык есть
совокупность естественных способов выражения, в создании которых
участвуют и чувственная натура человека, и его духовная
натура; стало быть, это есть такое выражение воззрений на мир,
которое в одно и то же время и внушено природой, и носит на себе
отпечаток человеческой свободы. И в обозначении
чувственного, и еще более в обозначении отвлеченных понятий язык, подоб-
724
Р. ГАЙМ
но всем искусствам, находит для себя опору в способности
человеческого ума символизировать. Благодаря этой способности язык
является и основой, и почвой для всякой поэзии, которая во всех
своих видах, начиная с ономатопеи и кончая олицетворениями,
старательно ищет именно того же, что возникает в языке само
собой и в силу необходимости. Короче говоря, язык есть
элементарная поэзия. К этому замечанию примыкают в шлегелевских
лекциях, с одной стороны, объяснения касательно поэтической
дикции, касательно эпитетов, сравнений, метафор и так далее, с другой
стороны — замечания касательно благозвучия, акцента и так
далее. Сравнительная характеристика старых и новых языков по их
годности для поэзии служит окончанием для главы об языке, —
для этого, так сказать, первого шага на пути к возникающей
поэзии.
Затем следует глава о просодии как об «условии всякого
самостоятельного существования поэзии». При помощи ритма
поэзия отрывает слушателя от действительности и переносит его
в воображаемые времена. На этой мысли основаны
дальнейшие объяснения различий между ритмической системой древних
и новейших писателей. При этом очень хорош коротенький обзор
постепенного введения старых стихотворных размеров в
новейшую поэзию. Шлегель говорит, что попытки, сделанные в этом
направлении Клопштоком, увенчались успехом именно потому,
что Клопшток делал «все навыворот», «с крайней неточностью»;
затем Шлегель вкратце указывает на прогресс, которым мы
обязаны Фоссу, и объясняет, почему дальнейший прогресс возможен,
по его мнению, только при крайнем ригоризме. Насколько он здесь
«чертовски античен» («teufelmässig antik»), настолько же он
оказывается романтиком при изложении новейших поэтических
принципов. Он доходит в своем романтизме до крайности, когда
в заключение излагает длинную апологию игры слов. Здесь он
единственный раз упоминает об авторе «Лагеря Валленштейна»
наряду с Гёте и с Тиком как о таком поэте, который снова ввел
в поэзию игру слов.
Главой о мифологии заканчиваются лекции о натурпоэзии, или
«Общая часть» поэтики. Мифы, по словам Шлегеля, такие
поэтические произведения, которые по своей натуре заявляют
притязание на реальность. Это притязание сделается для нас и
понятным, и основательным, если мы припомним, что и наше
собственное существование, и весь внешний мир суть продукты
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
725
нашего «Я», осадок от бессознательной творческой
деятельности фантазии. Противоположную крайность представляет
художническая деятельность фантазии, которая самосознательно
руководствуется определенной целью и потому не предъявляет для своих
продуктов никаких притязаний на действительность. Между
этими двумя видами производительной деятельности фантазии
серединное место занимает та ее деятельность, которая создает
мифы. В эту серединную эпоху умственного развития
человечества фантазия играет господствующую роль, но не вполне
сознает свое господство, стало быть, не вполне сознает свою
противоположность с рассудком и потому придает своим
произведениям идеальную реальность.
Если признать правильной точку зрения идеализма Фихте, то
нельзя не назвать это объяснение происхождения мифологии
остроумным и, в особенности, более ясным, чем относящиеся к
этому предмету места в сочинении Шеллинга и чем речь Людо-
вико о мифологии. Но в нем во всяком случае бросается в глаза
один недостаток. Не подлежит сомнению, что религия есть
существенный, необходимый фактор при возникновении мифов.
И у Шеллинга речь идет о религии. Он говорит о земной и
естественной религии и, в противоположность с нею, о святой и
духовной религии, сообразно с которой возникает и особая
мифология; как на пример религий этого второго разряда он указывает
на религии христианскую и индийскую. Упоминая о естественной
истории религий Юма, он высказывает желание, чтобы была
написана и история религий второго разряда. Но в состоянии ли он
сам написать такую историю или по меньшей мере указать
основной принцип, которым следует руководствоваться при ее
изложении? Правда, он говорил, что религия есть такой же
первобытный элемент нашего существования, как и поэзия, что всякое
богопочитание исходит не из чувственного страха и не из
чувственных надежд, а из «беспредельного, тайного душевного ужаса», из
«влечения к бесконечному»; что все, возникающее отсюда в
человеческой душе, истинно, и потому никакое религиозное мнение
не следует считать за суеверие, да и вообще вовсе не
существует никаких суеверий. Но разве таких общих, вовсе неразвитых
основных положений достаточно для того, чтобы выяснить
необходимое участие религии во всяком создании мифов? И Шлейер-
махеру было известно, как широка деятельность фантазии в
сфере религии; но он придавал ей лишь второстепенное значение; по
726
Р. ГАЙМ
его мнению, религия возникает из того воззрения на универс,
которое предшествует деятельности и фантазии, и рассудка, и воли.
У Шлегеля мы не находим никаких следов знакомства с этим
воззрением Шлейермахера. Между тем как Шлейермахер выражал
горячее сочувствие к критическим статьям В. Шлегеля и с
ребяческой предприимчивостью пользовался его уроками во всем, что
касалось механической стороны поэтической деятельности, его
собственные глубокомысленные «Речи о религии» как будто
вовсе не существовали для Шлегеля. Религией Шлегель
интересовался, в сущности, только потому, что органом для нее служит
фантазия; в религии он находил нерелигиозный интерес, а в
мифологии находил интерес эстетический. Он защищает от
насмешек рационалистов созданную фантазией мифологическую
форму религии и даже доходит до философских объяснений
чувственной символики католических верований и католического
культа. Действительно, все, что он говорит о Реформации,
отзывается таким сильным сочувствием к католицизму, какого мы не
замечаем в его прежних сочинениях. У него проглядывают такие
же понятия о христианстве, как у Гарденберга, и в то же время
нетрудно заметить, что его расположение к католицизму есть не
что иное, как расположение к более художественной внешней
форме этого вероисповедания. Это всего яснее видно там, где он
говорит о новых явлениях в религиозной сфере, о недавно
возникших протестах против рассудочной точки зрения на религию.
Он упоминает имя Шатобриана. Неужели и здесь он не
упоминает об авторе «Речей о религии»? Он даже не делает ни одного
намека на это произведение! «Влечение к более чистым
христианским воззрениям выразилось в Германии в поэзии», — говорит
он и в доказательство ссылается на «Фауста» и «Тайны» Гёте;
а когда он в заключение делает краткий обзор истории поэзии
относительно ее религиозных и мифологических элементов, он
указывает на «Женевьеву» своего друга Тика как на такое
произведение, в котором высшие идеи соединяются с
безыскусственностью. У него встречается мысль даже его брата, Фридриха,
что в новой физике течет источник мифологии, хоть он и не
говорит ни слова о преднамеренном создании мифологии. Ему было
известно, что Шеллинг собирался писать большое стихотворение
о природе, которое было бы наполнено нарочно для него
созданной мифологией. Поэтому он с сочувствием останавливает свое
внимание на мифологическом воззрении на природу. Он говорит,
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
727
что благодаря многосторонности символов поэзия может не
отставать от каждого шага вперед, сделанного человеческим умом,
и может все более и более просветляться. Никакое
заимствованное из физики воззрение не могло бы оказаться настолько
глубокомысленным, чтобы его нельзя было включить в такую
поэтическую мифологию.
Мы достигли конца общей части шлегелевской поэтики.
Семестр уже приближался к концу, и Шлегель сделал в
нескольких лекциях лишь краткий обзор второй части, в которой шла речь
о художественной поэзии и о ее различных видах. Поэтому мы
могли бы без всякого для себя ущерба оставить без внимания
содержание этих последних лекций, зная, что оно будет
подробнее изложено следующей зимой.
В особенности в первых лекциях второго курса мы находим,
кроме того, и немало нового. В них история и критика берут
перевес над теорией. Шлегель намеревается изложить историю
поэзии по настоящей исторической методе, которую он объяснил
предшествующей зимой; он намеревается рассматривать
поодиночке лучшие поэтические произведения различных времен и
народов и до некоторой степени знакомит слушателей с их
содержанием, пользуясь по мере возможности их переводами на немецкий
язык. По этой причине деятельность Шлегеля как переводчика
была тесно связана в течение тех лет с его лекциями.
В начале своей литературной деятельности он малодушно
сознавался, что у него нет никакого другого таланта, кроме
таланта переводчика1. Теперь же он не с малодушием, а с
некоторой гордостью мало-помалу возвращается к этой верной оценке
своих собственных дарований. Его честолюбие заключается
теперь не в том, чтобы быть вторым или третьим между
немецкими поэтами, а в том, чтобы быть первым между всеми
переводчиками. Даже относительно «Иона» он сказал своим
слушателям, что эта трагедия достигнет своей цели, если ее будут
считать за лучшую критику еврипидовского «Иона». Еще
скромнее было признание, сделанное им в начале его лекций третьего
зимнего семестра. «Кто меня близко знает, — говорит он, —
тому известно, что я не предъявляю никаких притязаний в пользу
моих собственных литературных произведений, что если я могу
1 Фридрих к В. Шлегелю 11 февраля 1792 года [№ 9]: «Твою способность
проникать в самую глубину своеобразности гениальных писателей ты нередко
клеймил названием „таланта переводчика"».
728
Р. ГАИМ
приписывать себе какую-нибудь заслугу, то она заключается в
том, что я был всегда проникнут самым глубоким уважением к
великим писателям и художникам и иногда прежде всех
указывал на их достоинства, таким образом содействуя упрочению их
известности»1. Но чтобы оценить по достоинству скромность
такого признания, следует прочесть то, что Шлегель говорит
далее с целью заставить замолчать тех, кто презрительно
отзывается о деятельности переводчика. По его мнению, всякое
поэтическое произведение есть перевод и нетрудно убедиться в
том, что объективный поэтический перевод есть настоящее
поэтическое произведение, что человеческий ум, в сущности, даже
не может ничего производить, кроме переводов. Таким образом
он возводит в теорию ограниченность своих дарований и
старается превратить недостаток этих дарований в мастерство.
В своих лекциях он по всякому поводу заводит речь о значении,
о достоинстве и о лучшем методе переводов. Склонность к
переводам (само собой разумеется, к художественным переводам)
сделалась его страстью. Он сам признавался в этой слабости,
когда в открытом письме к Тику говорил о своем намерении
«переводить все в своей своеобразной форме — произведения
и древних писателей, и новых, и классические художественные
произведения, и натуральные продукты национального
творчества»; к этому он присовокупил, что не может смотреть на
поэтическое произведение своего ближнего без желания присвоить его
себе, так что «беспрестанно совершает поэтические
прелюбодеяния»2.
Очевидно, самой трудной задачей для него были переводы
древних писателей. Если бы осуществилось его намерение
издавать критические «Летописи», то он поместил бы там общий
обзор переводов Фосса, Альвардта, Эшена и других и по этому
поводу установил бы правильную мерку для определения
достоинства переводов3. Можно считать за доказательство нового,
возникшего в его голове замысла то, что он говорит в «Атенее»,
в конце своей статьи о Джоне Флаксманне, о своем желании,
чтобы появились хорошие переводы греческих драматургов и Пин-
дара. И в своих лекциях он неоднократно говорит о необходимо-
1 Сравн. сделанные в 1811 году точно такие же признания в конце рецензии
на письмо Docen'a о «Titurel» (в его сочинениях XII, 321).
2 «Атеней» И, 2, с. 281 ; в полном собрании сочинений IV, 127.
3 «Aus Schleiermacher's Leben» III, 221.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
729
ста этих переводов. По всему видно, что эта работа привлекает
его, но что он не решается взяться за нее. Он, может быть, и
взялся бы за нее, если бы нашел для себя такого же солидного
сотрудника, какого нашел Фридрих для перевода произведений
Платона. И Шлейермахер, заразившись склонностью
Вильгельма к стихотворству и к переводам, стал соперничать с ним в
таких работах, а впоследствии даже согласился приняться
вместе с ним за перевод Софокла1. Исполнение этого намерения не
состоялось по многим причинам. Так как Шлейермахеру
пришлось одному трудиться над переводом Платона, то и
Вильгельму приходилось одному трудиться над переводом греческих
трагиков. Он не переставал мечтать о переводе Эсхила и Софокла
и о том, что он в дополнение к своим переводам ближе
познакомит немецких читателей с положением театрального
искусства у древних; при этом он рассчитывал на содействие своего
друга Генелли; но на этот раз он встретил препятствие в
предъявленных им самим строгих требованиях, которые были
изложены им в 1804 году в его рецензии на Штольбергов перевод
Эсхила2. Итак, дело ограничивалось приготовительными
упражнениями и опытами. Из произведений трагиков и других
греческих и римских писателей было переведено только то, что было
необходимо Шлегелю для его лекций. Эти переводы отчасти
были напечатаны Шлегелем в журнале его брата «Европа»,
отчасти вошли в состав его лекций о драматическом искусстве
и литературе3.
И переводы новейших поэтов чаще замышлялись, чем
исполнялись. Именно в этой сфере Шлегель начал свою
деятельность переводчика. Еще живя в Гёттингене, он переводил кроме
произведений Шекспира и Данте сонеты Петрарки и даже долго
не отказывался от намерения написать биографию этого поэта,
1 В. Шлегель к Шлейермахеру от 7 сентября 1801 года (III, 290 и ел.);
Шеллинг к В. Шлегелю от 10 декабря 1801 года (у Плитта, с. 352); содержание
этого последнего письма получает несомненный смысл при сличении с письмом
Каролины от того же числа [№ 5]. Даже в 1803 году Шлейермахер не
отказывается от мысли о таком совокупном труде (к В. Шлегелю, [от] 12 октября
1803 года).
2 В его сочинениях XII, 158 и ел. Сравн. его письмо к Шлейермахеру от
26 сентября 1800 года (III, 364).
3 Сравн. только что цитированное письмо к Шлейермахеру и также письмо
к Тику от 15 февраля 1803 года. Касательно остального достаточно сослаться на
указатель к тому III его сочинений.
730
Р. ГАЙМ
вставив в нее местами и образчики его стихотворений1. Но он
уже давно признал это намерение неосуществимым и уже давно
стал смотреть на свои старые попытки переводов, как на
ученическую работу2. В переводе «Дон Кихота» Тиком он
принимал такое серьезное участие, что отсюда у него возникла мысль
перевести вместе с этим другом всего Сервантеса на немецкий
язык. Об этом проекте уже были напечатаны публичные
объявления, но его исполнению помешал конкурент, который
удержал за собою поле битвы, несмотря на удары, нанесенные ему
критикой Шлегеля, и несмотря на легкие уколы со стороны Тика;
поэтому пришлось отказаться от перевода новелл, «Персилеса»,
«Галатеи» и ограничиться «Нуманцией», но и эта последняя
осталась непереведенной3. Между тем Шлегель не переставал
заниматься переводами и упражнениями в сочинении стихов. Он
попытался подражать восьмистопному стихотворному размеру
Ариосто. Его навел на эту мысль Фридрих; он стал переводить
одиннадцатую песнь «Неистового Роланда» и с успехом довел
до конца эту, по его выражению, «бравурную арию»4. Но
большая часть его переводов была обязана своим происхождением
берлинским лекциям. Для иллюстрации своих
историко-литературных характеристик он переводил отрывки из Данте,
Петрарки, Боккаччо, Тассо, Гварини, Монтемайора, Сервантеса и Ка-
моэнса. Некоторые из этих переводов (как, например, перевод
1 Шлегель сам говорил своим слушателям об этом намерении по случаю
характеристики Петрарки. Указания на это намерение встречаются и в письмах
Фридриха к брату от 7 декабря 1794 года и от 4 июля 1795 года [№ 59 и 65].
2 «Атеней» II, 2, с. 283 (в его сочинениях IV, 129).
3 Сравн. Кепке, «Leben Tieck's», I, 251. Объявление о переводе
Сервантеса было напечатано в «Allg. Lit. Zeit» 1800 года, № 1. Затем в № 27 того же
года было напечатано объявление от Сольтау, в № 53 — ответное объяснение
Шлегеля и Тика и в № 83 — новое возражение от Сольтау. Дальнейшим
документом этого спора служит шлегелевская критика перевода Сольтау в
последнем номере «Атенея»; см. также письма Шлегеля к Тику от 14 сентября и 23
ноября 1800 года (у Гольтея III, 237 и 242). Касательно перевода «Нуманции»
см. письма Тика к В. Шлегелю от 10 декабря 1801 года [№ 16] и Шеллинга к
нему же от 21 октября 1802 года (у Плитта, с. 427). Что Шлегель помогал
Тику в переводе третьей части «Дон Кихота», видно из посвящения в пятой
части сочинений Тика.
4 Фридрих к В. Шлегелю, в апреле 1799 года, № 131 и 132. Перевод с
послесловием к Тику напечатан в «Атенее» II, 2, с. 247 и в полном собрании
сочинений IV, 93 и ел.; сравн. рецензию на перевод Гриза 1810 года (в полном собрании
сочинений XII, 244).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
731
«Фьяметты» Боккаччо) остались ненапечатанными. Но большая
их часть, с прибавкой нескольких стихотворений самого Шле-
геля, была издана в 1804 году в Берлине под заглавием «Blu-
mensräusse italienischer, spanischer und portugiesischer Poesie»
(«Цветки итальянской, испанской и португальской поэзии».—
Прим. науч. ред.у. Этот изящный томик, заключавший в себе
и несколько отрывков, доставленных друзьями Шлегеля, мог по
справедливости считаться продолжением романтического
«Альманаха Муз». Ничего в такой же мере законченного еще
никогда не издавалось вне романтической школы. В этом отношении
В. Шлегель мог служить образцом для еще многих следующих
поколений. Но он стяжал на том же поприще и другие лавры. По
совету Тика он взялся за Кальдерона. Сначала он не разделял
увлечения, с которым его друг отзывался об этом испанском
драматурге2; но чем ближе он знакомился с произведениями
Кальдерона, тем более они ему нравились. К старой мысли
переводить общими силами Сервантеса или по меньшей мере его
«Нуманцию» присоединилось намерение издать испанские
драмы, включив в такой сборник кроме нескольких пьес Кальдерона
драмы Сервантеса, Лопе де Вега, Морето и других3. Шлегель
приступил к переводу Кальдерона и выпустил в свет в 1803 году
первую часть «Испанского театра» с тремя им самим
переведенными драмами Кальдерона; вторая часть этого сборника
вышла только по прошествии шести лет еще с двумя драмами
того же писателя4. Подобно тому как о выходе в свет своих
переводов Шекспира Шлегель когда-то возвещал в своей
статье «Нечто о В. Шекспире», напечатанной в журнале «Hören», и
теперь о выходе в свет своих переводов Кальдерона он
возвестил в статье «Об испанском театре», напечатанной в журнале
1 Каким образом содержание этих «Цветков поэзии» перешло в полное
собрание сочинений Шлегеля, видно из оглавления к томам III и IV. Фридрих писал
14 августа 1803 года касательно этих «Цветков»: «Я нахожу превосходной мысль
ограничить содержание этой „Карманной книжки44 одной определенной сферой
поэзии. Через несколько лет нам, может быть, удастся общими силами составить
сборник восточных стихотворений». В одном из позднее написанных писем [№ 187]
он предлагает, на случай продолжения начатого предприятия, доставлять
отрывки из поэзии персидской и индийской.
2 Кепке I, 251; сравн. журнал «Европа» I, 2, с. 80.
3 Шлегель к Тику (у Гольтея III, 275) и Тик к Шлегелю № 16, 21 и 37.
4 Ее предполагалось изготовить в том же 1803 году (Шлегель к Шеллингу
(у Плитта, с. 459)).
732
Р. ГАИМ
его брата «Европа»1. В то время Кальдерон вполне заменял для
него Шекспира, а вышеупомянутая статья носит на себе все
признаки нового страстного увлечения. Шлегель был
совершенно очарован Кальдероном. Он говорил, что, «выбрав такого
поэта, трудно не позабыть обо всех других».
Только на третьем курсе лекции Шлегеля имели связь с
переводами романских поэтов; но и к этому сюжету Шлегель
перешел после длинного, в высшей степени странного и пикантного
предисловия. Превзошедший ожидания успех его предприятия, по-
видимому, очень ободрил его. Поэтому вместо
теоретико-поучительного вступления он предпосылает своим лекциям
полемическое введение. Он собрал, привел в порядок и изложил
в последовательной связи не только все резкие суждения,
которые вырывались из его уст в предыдущих лекциях, но также все
смелые и колкие критические замечания, какие когда-либо
высказывались романтиками, начиная с Фихте и Шлейермахера и
кончая Шеллингом, Фридрихом Шлегелем, Тиком и Бернгарди.
Контраст с прежними лекциями придавал введению особенно
яркую окраску. На темном фоне прозаического,
просветительного настроения берлинских умов романтический склад ума
кажется до крайности красным. Шлегель намеревается сделать
предварительный общий обзор теперешнего положения умственной
жизни, хочет выяснить, «как настроены умы в нашем отечестве»;
при этом он предупреждает, что теперь еще яснее прежнего
обнаружится оппозиция, в которую он становится по отношению ко
многим известным и уважаемым писателям и даже к
большинству своих современников. Затем он напечатал в журнале
«Европа» эти вступительные лекции «О литературе, искусстве и
направлении умов нашего века»2, потому что, как он сам сказал во время
зимнего курса, он желал быть заранее уверенным в том, что его
слушатели не позабудут содержания тех лекций.
Действительно, берлинцы еще не вполне сознавали, как
громадна была разница между гётевской поэзией и прежней
немецкой поэзией. Многие еще разделяли мнение Николаи, что
«Вильгельм Мейстер» был «продуктом неосмотрительной при-
1 «Европа» 1, 2, с. 72 и ел.; эта статья не попала в полное собрание
сочинений. Она была сначала предназначена для «Zeitung für die elegante Welt»; сравн.
примечание к небольшой статье, подписанной буквой «Т.» и напечатанной в
№ 62 этого журнала в 1803 году.
2 «Европа» И, 1, с. 1 и ел.; эти лекции не попали в полное собрание сочинений.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
733
чудливости»; многие еще разделяли мнение Меркеля, что «Lorenz
Stark» Энгеля был образцовым немецким романом; было еще
много людей, полагавших, что золотой век немецкой литературы
закончился Клопштоком, Лессингом и Виландом. Этим
староверам Шлегель прямо заявляет, что у нас «еще нет никакой
литературы и что мы в крайнем случае достигли такого пункта, на
котором можем создать свою литературу». Только народ, только
простолюдины у нас действительно имеют литературу. Эта
литература состоит из так называемых народных рассказов, из тех
старинных стихотворений, которые имеют настоящую поэтическую
подкладку и которые «стоит только освежить рукою настоящего
поэта для того, чтобы они представились нам во всем своем
превосходстве». Чтобы доказать основательность своего
обвинительного приговора, Шлегель делает обзор самых любимых
литературных произведений того времени. Он сначала характеризует
удовольствие, с которым жадно читаются те сочиняемые
массами романы, в которых описываются в нескольких томах
соблазнительные любовные приключения; затем он доказывает
основательность этой характеристики на примере некоторых самых
любимых романистов. Он не называет этих романистов по
именам, но самые догадливые из его слушателей могли бы шептать
друг другу на ухо: это Жан-Поль! это Лафонтен! это касается
Энгеля! Фридрих Шлегель, как нам уже известно, имел
некоторую слабость к Жан-Полю; поэтому он вычеркнул в
напечатанном тексте лекций неодобрительные отзывы своего брата об этом
писателе и о многих других, он вычеркнул даже неодобрительные
отзывы о «Тайном суде» Губера и о «Ринальдо Ринальдини»,
которые были приведены в пример искажения художественных
произведений посредством плохого подражания. Однако стоит труда
привести несочувственный отзыв Вильгельма об авторе «Геспе-
руса» и «Титана» для сравнения с мнениями Фридриха. Учинив
расправу над Лафонтеном, Вильгельм продолжает так: «Другой
писатель одарен от природы болезненной чувствительностью,
какой-то судорожной раздражительностью фантазии и
капризным юмором; не будучи знаком со светом и живя в узкой сфере
маленького городка, он пишет романы, которые скорее можно
назвать беседами с самим собою, и как бессознательный чудак
придает им привлекательность отшельнической жизни. Читатели
находят в его произведениях такую глубокую связь между
серьезностью и шуткой, о какой он сам и не помышлял. Его хвалят
734
Р. ГАИМ
и оказывают ему предпочтение перед другими писателями; он
посещает большие города, попадает если не в лучшие, то по
крайней мере в более обширные общественные сферы; женщины льстят
ему; он знакомится с людьми, занимающимися литературной
деятельностью с художническими целями и хочет равняться с ними,
несмотря на то что при всей своей начитанности не знаком с
великими художественными произведениями и неспособен понимать
их совершенства. Все это уничтожает его первоначальную
наивность, ничем не заменяя ее: теперь он пишет сочинения с
большими претензиями, но они лишь слабый отголосок того, что он
писал прежде». Суждение Шлегеля о модных немецких романах
заканчивается нелестным для его соотечественников мнением,
что в этой сфере они являются «изобретателями
эксцентрической глупости», которая «организована ими в больших размерах».
Дойдя до драматической литературы, Шлегель жалуется на
неспособность немцев к изобретательности, на совершенное
отсутствие национальной немецкой комедии, на непоэтическую узость
описаний немецких мещанских нравов и так далее. И он был прав!
Он был прав и в том, что причиной этого недостатка считал
характер немецкого народа и неимение одной общей для всех немцев
большой столицы. Здесь больше, чем где-либо, наш критик
подчиняется влиянию своих романтических предрассудков. Его
одностороннее восхищение Шекспиром и Кальдероном мешает ему
распознать громадный драматический талант Лессинга и всю силу
драматической фантазии Шиллера. О Шиллере он совершенно
умалчивает, а Лессинга он считает наряду с Дидро
представителем принципа естественности, столь вредного по своим
последствиям. Затем он переходит к дилетантской манере заниматься
стихотворством в мелких видах поэзии, а как на пример
ничтожества таких упражнений указывает на пустые содержанием
«Карманные книжки»; к этим замечаниям он присовокупляет едкую
критику журналов и рецензий, причем так энергично и так
обстоятельно нападает на главные органы антиромантических
воззрений, на берлинский «Monatsschrift» («Ежемесячник». — Прим.
науч. ред.), на «Allgemeine Bibliothek» («Немецкая библиотека». —
Прим. науч. ред.) и на йенскую «Litteraturzeitung»
(«Литературная газета».—Прим. науч. ред.), что издатель «Европы» снова
находит нужным взять на себя роль цензора.
Критический обзор настоящего положения отечественной
литературы расширяется в обзор настоящего положения литера-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
735
туры у других народов, а в результате оказывается, что у
англичан и, в особенности, у французов положение литературы не
лучше, чем в Германии. По мнению Шлегеля, не только поэзия, но
и все другие искусства находятся в глубоком упадке, поэтому
было бы самообольщением считать настоящий век
образованным, просвещенным, разумным. Такое мнение было бы
основано на ложном понятии о мериле достоинства человеческих
стремлений, было бы основано на предпочтении полезности тому,
что хорошо само по себе. Именно к тому, что хорошо само по
себе, человеческий ум стремится в науке и искусстве, в религии
и в нравственности. До сих пор изложение Шлегеля идет
большей частью параллельно с идеалистическими «Речами» Шлей-
ермахера о негодности современных стремлений к прогрессу и
к полезности, находящих удовлетворение в самих себе. Оно
напоминает «Идеи» Фридриха Шлегеля, когда в них заходит речь
о привычке спутывать те четыре направления человеческого ума,
каждое из которых должно занимать равное место рядом с
остальными. Наконец Шлегель заимствует из Шеллинговой
натурфилософии последнее украшение для своих идей. Он говорит, что
философию, поэзию, религию и нравственность можно назвать
«четырьмя странами света человеческого ума» или также
можно сравнить их с четырьмя элементами. Он очень остроумно
проводит эту параллель: религия, естественно, есть восток; югу
«принадлежат ароматические, освежающие продукты изящного
искусства». Запад, не без некоторой натяжки, отмежеван для
нравственности. Но наука «есть север, изображающий строгость
и серьезность; на севере находится неподвижная Полярная
звезда, служащая руководительницей для мореплавателей; на север
указывает магнит, этот самый изящный символ твердости
самосознания, которое служит фундаментом для всякой науки, для
всякого философского вывода». Все это, по-видимому, имело
какой-то глубокий смысл и нравилось некоторым из самых
молодых слушателей и приверженцев Шлегеля; они составили
между собою братский союз, который назвали «союзом северной
звезды» в знак того, что все они будут придерживаться одного и
того же научного направления, а своим девизом они выбрали
слова «το του πόλου αστρον»1.
1 Hitzig, «Leben und Briefe Chamisso's» (в сочинениях Шамиссо V, 33 [5-е
издание]).
736
Р. ГАЙМ
Эта характеристика своего века приводит Шлегеля к
следующему выводу: «Господствующий характер нашего времени
заключается во всеобщем неумении ценить идеи, почти в
совершенном исчезновении идей на Земле». В доказательство этого мнения
Шлегель указывает на отсутствие идеализма в современных
воззрениях, а в противоположность с ними выставляет в
пристрастно ярком свете то прошлое, к которому его современники
относятся с пренебрежением.
Он начинает с положения нау^и. Дойдя до исторической
науки, он порицает обыкновенные приемы ученых, неспособность
верить во все великое и чудесное, привычку обращать внимание
только на самую ограниченную полезность и взамен всего этого
требует возврата к возвышенному историческому стилю древних
писателей. И говоря о новейшей филологии, он отдает
предпочтение древним александрийским филологам и филологам
шестнадцатого и семнадцатого столетий, придерживаясь, очевидно,
точки зрения Гейне. Он сам себе доставляет большое
удовольствие, унижая достоинства эмпирических наук, против которых
восстает в духе Шеллинга и Баадера, Стеффенса и Новалиса для
того, чтобы взять под свою защиту самые первые зачатки
естествоведения, потому что эти зачатки, несмотря на многие
заблуждения, имеют в своей основе глубокую всеобщую истину —
идею о природе как о полном жизни целом. Шлегель доходит в
своих полемических парадоксах до нелепостей, когда заводит речь
о новейшей астрономии и отдает перед нею предпочтение
астрологии: по его мнению, воззрение астрологов на динамическую связь
между небесными телами и человеческими делами основано на
гораздо более возвышенной точке зрения, чем то воззрение, по
которому звезды не что иное, как безжизненные тела,
двигающиеся по механическим законам! В своем «Новом журнале для
спекулятивной физики» и Шеллинг проводил странную мысль, что
в нашей планетной системе ряд небесных тел представляет
такую же постепенность, какую мы находим в ряде металлов1.
Поэтому Шлегель уверяет своих слушателей, что соотношение
между планетами и металлами снова обратило на себя внимание
благодаря «более основательному изучению физики»! Он даже
вступается за магию. Для того чтобы по меньшей мере не те-
1 Что Шеллинг, присылая Шлегелю свой журнал, старался и другими
способами знакомить его с натурфилософскими вопросами, видно из их переписки.
Сравн. у Плитта, с. 430.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
737
рять из виду непрерывно возобновляющееся сотворение мира из
ничего, необходимо, по мнению Шлегеля, во всем внешнем мире
видеть только знамения замыслов, а всякое явление природы
считать вызванным таинственными магическими изречениями!
Такое возведение магического идеализма в принцип критики
точных наук дошло бы до крайнего безрассудства, если бы Шлегель
не прибавил, что астрология и магия необходимы «по меньшей
мере для поэзии». Из этих слов для нас наконец становится ясно,
что поэтическая точка зрения, по мнению Шлегеля, применима
ко всему и что он придерживается одностороннего воззрения на
поэзию, возлагающего все поэтическое бремя на фантазию,
которая творит, ничем не стесняясь и все переделывая по-своему.
Далее Шлегель критикует свой бедный идеями век и
относительно условий общественной жизни. Он доказывает, что и в этой
сфере господствует «экономический дух»; несколькими
колкими замечаниями, заимствованными у Новалиса, он «отделывает»
«политический протестантизм» Французской революции, ведет
речь о правильных политических воззрениях, господствовавших
в средние века, и вполне основательно порицает новейшую
педагогику за то, что она воображает, будто можно вводить «хорошую
нравственность» посредством искусственных мероприятий, и за
то, что в растущем поколении она убивает поэзию еще в ее
зародыше.
Наконец, Шлегель критикует господствующие в его веке
воззрения. При этом он напоминает нам манеру Фихте судить о духе
Просвещения. Он указывает на неосновательность,
непоследовательность и неясность всего прежнего направления умов и
говорит, что для просветителей руководящим принципом служит
полезность, а орудием — рассудок, замкнутый в пределах
конечного. Этот рассудок страшится всего, что нерационально,
страшится тех неразгаданных тайн, на которых основано очарование
жизни и поэзии. Мораль тогдашнего Просвещения сводится к учению
о достижении благополучия, поэтому она всего презрительнее
относится к принципу чести, к этой великой идее, которая
досталась нам, хотя и в урезанном виде, от средних веков и которая
когда-то была источником рыцарской храбрости и любви.
Теология просветителей имеет ошибочное понятие о сущности
религии, которая не может обходиться без таинственности, для
которой служит органом фантазия и с которой неразрывно связаны
мифология и антропоморфизм. Наконец, касательно принадлеж-
24 Зак. № 3602
738
Р. ГАИМ
ностей Просвещения — терпимости, гуманности, свободы мысли,
слова и печати, Шлегель старается доказать, что просветители
очень далеки от того, чтобы вполне серьезно желать этих благ и
что прежним временам следует отдать в этом отношении
предпочтение перед новыми.
В том же роде шлегелевский обзор истории всего столетия.
То, что говорится здесь о влиянии Реформации, уже было ранее и
лучше сказано Новалисом и Фр. Шлегелем; так, например, здесь
говорится, что Реформация носила тогдашнее Просвещение в
своих недрах, что она не столько благоприятствовала прогрессу
европейской образованности, сколько препятствовала ему; что она
уничтожила искусства в момент их расцвета, что она раздробила
цельную Европу на части, разорвала Германию на куски и тому
подобное. Следующие затем объяснения вреда, происшедшего
от открытия Америки, от изобретения пороха и книгопечатания,
могли бы быть более остроумными и интересными, если бы они
были результатом серьезных убеждений Шлегеля. Оправданием
для стольких полуистин и четверть-истин служит тот факт, что
ограниченность кругозора просветителей раздражала Шлегеля,
вовлекая его в причудливые суждения. Ведь его собственная
точка зрения оказывается не менее узкой, чем та, на которую он
нападает. Он с сознательным пристрастием отстаивает против
одностороннего рассудка столь же одностороннюю фантазию. Он
говорит тоном защитника поэзии. Но почему никто другой, как он,
берет на себя роль пророка? Ведь его филиппика против тогдашнего
Просвещения наполнена бессодержательной и сухой риторикой, и
в ней лишь повторяются страстные и смелые суждения
настоящих проповедников романтизма. Даже можно было бы подумать,
что он трудился только из-за того, чтобы у критики, только
«протестующей» против нарушения установленных правил, отвоевать
право на существование для своей своеобразной критики.
Пророческие предсказания Шлегеля становятся еще более
туманными, когда он касается такого вопроса, о котором должен
был бы говорить с большей уверенностью, чем о всяком
другом, — когда он заводит речь о том, чего следует ожидать в
будущем. «И многие из моих друзей, — говорит он, — и я сам, мы
возвещали о наступлении Нового времени и стихами, и прозой, и в
серьезных, и в шуточных сочинениях. Мы, которых бранят
названием „литературной партии", неуклонно сохраняем такую
надежду, не обращая внимания на протесты наших противников. Здесь
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
739
речь идет вовсе не об уничтожении всего прошлого, так как
великие умы старого времени имеют в наших глазах важное значение
и указывают нам настоящий путь. Мы также не отвергаем
исторической необходимости описанного нами отрицательного
направления; все, что появится нового в будущем, будет иметь
неизбежную связь с прошлым, будет продуктом теперешнего образования,
будет оплодотворяться прошлым». Связующим звеном будет
служить, по мнению Шлегеля, философия Канта и Фихте, потому что
в ней «выражена такая высокая степень самосознания, какая еще
никогда не проявлялась в философских системах». Поэтому ею
должен определиться характер новой поэзии, поэзии будущего.
Шлегель объясняет исторически возникновение романтического
направления; «.. .теперешний поэт, — говорит он, — должен иметь
такое ясное понятие о сущности своего искусства, какого не могли
иметь прежние великие поэты; поэтому универсальность есть в
настоящее время единственное средство снова создать
что-нибудь великое. Поэт не только должен предварительно приобрести
самые обширные сведения о древней и новой поэзии, но также
должен быть до некоторой степени философом, физиком и
историком». Это, очевидно, не что иное, как иносказательная
характеристика искусственного, ученого стихотворства самого Шлегеля.
А то, что следует далее, есть новое с его стороны скромное
признание, что он не считает себя настоящим поэтом: «Нет ничего
удивительного в том, — говорит он, — что при требованиях, в
настоящее время предъявляемых поэту, его произведения кажутся
лишь отрывочными опытами». Тем более сознает он
необходимость выяснить связь новой школы с прежними «проявлениями
нового духа». Он называет Винкельмана, даже делает Лессингу
честь причислить его к предвозвестникам нового направления;
он должен был бы назвать и Гердера, но упоминает только о Гем-
стергюи, который был чем-то вроде «пророка
трансцендентального идеализма». Далее речь идет о Канте, которым был вызван
к жизни трансцендентальный идеализм, «находящийся в
настоящее время на ступени самого сильного развития». Таким
образом, мы подходим очень близко к самому центру зарождения
романтики. Шлегель снова указывает на тесную связь романтики
с трансцендентальным идеализмом, когда говорит, что поэт,
умеющий пользоваться этим идеализмом, имеет в своих руках
«волшебный жезл, с помощью которого легко можно облекать дух в
плоть и одухотворять материю». Он хвалит новую физику в той
740
Р. ГАИМ
мере, в какой ее предвидения должны были искать для себя
убежище в мифологии; после признания заслуг Бюргера и
Клопштока он называет «восстановителем поэзии в Германии» Гёте,
рядом с которым мы тщетно ищем имя Шиллера. Шлегель надеется,
что Гёте будет основателем новой школы, состоящей не из таких
поэтов, которые стали бы слепо преклоняться перед ним или
стали бы считать его произведения за высшие образцы, а из таких
поэтов, которые стали бы придерживаться одинаковых с ним
правил и шли бы вперед по указанной им дороге самостоятельно.
Этим заканчивается полемическая пропаганда в пользу
романтизма. Затем Шлегель переходит к главной теме своих
лекций — к истории поэзии. Одна из приведенных им цитат
доказывает, что все, что следует далее, есть более подробное изложение
очерка, сделанного Фридрихом в главе его диалога «Эпохи
поэзии». В предуведомлении говорится, что с историей развития
греческой поэзии должна соединяться история развития римской
поэзии и что сюда же будет включено из новой поэзии все то, что
можно назвать учеными подражаниями древним поэтам. Таков
новый метод Шлегеля, производящий переворот в прежнем
способе излагать историю литературы. Соответственно своему
воззрению на сущность поэзии Шлегель начинает характеристикой
греческого языка и его диалектов и к этому присоединяет
краткий обзор стиля, видов и эпох греческой поэзии. Для главы о
гомеровском эпосе снова служит основой написанная Фридрихом
«История греческой поэзии», к ней Вильгельм прибавляет только
свой собственный анализ «Илиады» и «Одиссеи». Только
переходя к эпосу Вергилия, он перестает придерживаться сочинения
своего брата. Об ученых эпопеях итальянцев, испанцев,
португальцев он говорит сравнительно немного. Только о «Потерянном
рае» Мильтона и о «Мессиаде» Клопштока он говорит подробно,
увлекаясь пылом своей критики, между тем как над «Генриадой»
Вольтера он произносит краткий, но резкий обвинительный
приговор. Что он превозносит Гёте, как восстановителя чистой
формы эпоса, вполне естественно со стороны того, кто написал
рецензию на «Германа и Доротею». Но достойно внимания то, что
он уже здесь говорит о «Песни о Нибелунгах» как о такой
героической поэме, которую можно смело «противопоставить
гомеровской» и которая требует только обновления каким-нибудь
настоящим поэтом для того, чтобы можно было ею наслаждаться.
И шутливым героическим поэтам посвящается особая глава. Наш
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
741
романтик, очевидно, придает принципу остроумия и пародии
такое важное значение, какого он не заслуживает; ведь еще
ранее он рассматривал «Guerre des Dieux» («Война богов». — Прим.
науч. ред.) Парни в «Атенее» в длинной статье1, в которой
доказывал, что этому стихотворению следовало бы дать
драматическую форму. Теперь ему пришлось ограничиться ссылкой на эту
статью, которая принадлежала к числу тех его статей, которые
были самыми остроумными и самыми глубоко обдуманными. Он
сравнивал остроумную поэзию француза с комикой Аристофана и
находил, что игривость ума у новейшего поэта недостаточно
игрива, так как в ней заметна на заднем плане желчная,
непоэтичная серьезность теофилантропа.
Глава о лирической поэзии греков начинается общими
замечаниями о сущности лирики, о том, что настоящая сущность
лирики заключается в «изящной своеобразности». Лирика имеет
различные стили сообразно с различными сферами, в которых
проявляется своеобразность. Таким образом, различия между
стилями ионическим, эолическим, дорическим и аттическим
соответствовали племенным различиям, а в песне можно было различать
два рода лирики, соответствующие несходству между лицами
различного пола: там была мужская лирика, самым лучшим
представителем которой был Алкей, и там была женская лирика, самой
лучшей представительницей которой была Сапфо. Эта
противоположность между характерами лиц различного пола
обнаруживается даже в первых зачатках настоящей лирики, так как
ямбическая поэзия служила выражением мужской страстности, а элегия
служила выражением более мягких женских чувств. Для того
чтобы придать этим замечаниям наглядность, Шлегель
постоянно вставляет лирические отрывки в исторический очерк
греческой лирики. Впрочем, прежде всего он говорит о лирике
ямбической, потом о лирике мелийской и хоровой, а элегию откладывает
к концу, потому что она получила свое высшее развитие только
у александрийских поэтов. Еще из тех статей, которые он писал
для «Атенея», было ясно видно, что он более всего
интересовался элегией, так как этот род поэзии более других соответствовал
его собственным поэтическим дарованиям. Поэтому он
подробно говорит об элегии греческой, римской и новейшей, а Гёте назы-
1 В «Notizen» последнего номера «Атенея» (III, 2), с. 252 и ел.; перепечатана
в полном собрании сочинений XII, 92 и ел.
742
Р. ГАЙМ
вает «восстановителем настоящей элегии у немцев»; при этом он
довольно ясно дает понять, что он сам превзошел Гёте строгой
правильностью стиха: из своей элегии «К Гёте» он неоднократно
цитирует отрывки. И дидактической поэзии он отдает
предпочтение перед другими видами поэзии по той же причине, по
какой так высоко ставит элегию. Он горячо хвалит Лукреция, а его
стихотворение «De rerum natura» («О природе вещей». — Прим.
науч. ред.) сравнивает с «Прометеем» Эсхила и подробно
характеризует. Все тенденции романтизма сводятся к мысли о
высшем сочетании философии и поэзии. Мысль о великом
спекулятивном всеобъемлющем стихотворении занимала и Шеллинга, и
Стеффенса. И Шлегель ведет речь о возможности «такого
философского стихотворения, в котором излагалась бы система,
одухотворяющая воззрения на природу столько же, сколько
эпикурейская система Лукреция была для них убийственной, и в котором
поэтический принцип заключался бы в божественной фантазии,
выразившейся в универсе». Далее Шлегель говорит о
содержании такого стихотворения; оно может быть, по мнению Шлегеля,
или мифическим, допускающим только эпическую форму, или
пророческим по образцу поэмы Данте, потому что тогдашняя поэзия
могла свободно парить и над языческими, и над христианскими
понятиями. Это отступление заканчивается замечанием, что
диалоги Платона заслуживают названия поэтического произведения
в более высоком смысле этого слова, чем всякое объективное
философское стихотворение, потому что в них наряду с
философскими идеями проглядывает ирония, возникающая из
несоответствия между нашей чувственной натурой и недостижимой
задачей. «Натурэпос», то есть новая «божественная комедия»
Шеллинга, остался ненаписанным. Зато Шеллинг закончил летом
1802 года полемико-дидактический диалог «Бруно», а Шлегель
не только нашел для этого сочинения издателя, но и взял на себя
просмотр корректур1. Однако бывший рецензент шиллеровской
рапсодии «Художники» позабыл упомянуть о Шиллере, несмотря
на то что сделал подробный обзор всех дидактических
стихотворений, начиная стихотворениями Арата и кончая
стихотворениями Попа, Буало и Нейбека. Он ограничился нападением на шил-
леровскую рецензию на стихотворения Маттиссона и, с другой
1 Сравн. письма Шеллинга к Шлегелю с 19 марта до 19 августа 1802 года
(у Плитта I, 356 и ел.)·
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
743
стороны, порицанием манеры Лессинга проводить пограничную
черту между поэзией и живописью. По мнению нашего
романтика, есть только одно средство поэтизировать описательные
стихотворения. Это средство нам уже известно из рецензий Бернгар-
ди. Оно заключается в символическом и мистическом воззрении
на природу. Резкая односторонность Лессинга, очевидно,
отнимала очень много у поэзии. Тем не менее мы отдадим ей
преимущество перед той эстетикой, которая выдавала за образцы высшей
описательной поэзии говорящие цветы и кустарники в «Цербино»
Тика и в «Abendröthe» Фридриха Шлегеля!
Вероятно, ввиду любви берлинцев к театру Шлегель говорил
в печатной программе своих лекций, что в своем изложении
истории поэзии будет вести речь преимущественно о драматической
поэзии и о находящейся с нею в связи мимике. Но он исполнил это
обещание только касательно античной драмы. Об античной
комедии мы находим лишь отрывочные замечания в рукописном
оригинале лекций. Вообще все эти берлинские лекции были более
подробно переработаны и в этой окончательной отделке были
прочитаны в 1808 году Шлегелем в Вене перед публикой еще
более многочисленной и более блестящей, чем берлинская, а в
следующем году они были напечатаны1. Их достоинства признаны
всеми; они составляют неотъемлемую часть нашей классической
литературы; они читаются гораздо больше, чем все другие
произведения Шлегеля. Поэтому достаточно будет указать на
прекрасное описание внешней обстановки античных театральных
представлений, на остроумные объяснения значения хора, на
блестящие характеристики трех великих трагиков, на объяснения
сущности и достоинств Аристофановой комедии. Различие между
первоначальными лекциями и теми, которые были впоследствии
подробнее обработаны, заключается, в сущности, только в том,
что в первых проглядывает более сильное стремление к
отыскиванию философских основ, впоследствии уступившее место
стремлению к общепонятности, и что в них встречаются, с одной
стороны, полемические замечания, с другой стороны — ссылки на
мнения Фридриха Шлегеля.
1 На существенное тождество берлинских лекций с венскими в том, что
касается драматической поэзии греков, Шлегель сам указывает во введении к
статье о сценической обстановке греческих драм (в полном собрании
сочинений V, 253).
744
Р. ГАЙМ
В конце характеристики Еврипида (в более старом тексте
лекций) Шлегель замечает, что было бы интересно проследить,
каким образом стремления к романтизму обнаруживались уже
у многих из древних поэтов. Опираясь на установленное
Шиллером различие между наивным и сентиментальным, братья Шле-
гели мало-помалу установили различие между античным и
романтическим. Замечание, что позднейшие представители
античной поэзии были в то же время предвестниками поэзии
Нового времени, было сделано в первый раз Фридрихом в
предисловии к его «Griechen und Römen> («Греки и римляне».—Прим.
науч. ред.); он высказал это замечание с положительными
указаниями на шиллеровскую статью; так, например, он говорил,
что буколические стихотворения сицилийской школы уже
заключали в себе первый зародыш сентиментальной поэзии, а
некоторые оды и эподы Горация были, в сущности, сентиментальными
сатирами и так далее. Категории «античная» и «романтическая»
мало-помалу заменили шиллеровские категории, во-первых,
вследствие того, что новейшая, или, как ее назвал Фридрих
Шлегель, интересная, поэзия все резче и резче
противопоставлялась поэзии античной, или объективной; во-вторых, вследствие
того, что новейшую поэзию стали рассматривать с точки зрения
романа в связи с заимствованными из философии Фихте
понятиями о бесконечном самосозерцании, о трансцендентальное™, об
иронии и о бесконечном прогрессе; наконец, в-третьих,
вследствие более точного знакомства с историей средневековой
поэзии. Поэтому дело дошло до того, что А. В. Шлегель
решительно отверг шиллеровские категории. Находя зародыши
романтизма у Еврипида и у Овидия, он замечает, что этот
романтизм не имеет ничего общего с тем сентиментализмом,
«который находят философские теоретики у некоторых древних
поэтов под господствующей наивностью». «Вообще можно
сказать, — продолжает Шлегель, — что с этим разделением
недалеко уйдешь в истории поэзии: это — относительные понятия
с субъективной точки зрения сентиментальности; кроме того,
они не имеют никакой реальности; ведь для кого же, кроме
сентиментальных людей, наивна так называемая наивность?
Душевное настроение таких людей возникает из субъективного
интереса, а вовсе не из интереса к искусству. Но признавать наивным
поэтом Шекспира, у которого целая пропасть умышленности,
самосознания и рефлексии, и, напротив того, признавать сентимен-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
745
тальным поэтом чувственного Ариоста —это, по-видимому,
большая наивность»1.
Но чтобы окончательно установить понятие о романтизме,
нужно было исторически доказать, что романтизм не совпадает
с сентиментальностью, что он имеет определенный
художественный характер, однородный с античным художественным
характером. За это берется А. В. Шлегель в третьем курсе своих
берлинских лекций. В предисловии он говорил о своем
намерении «охарактеризовать то, что развилось в поэзии новых народов
независимо от классических образцов». Он приписывает себе и
своему брату ту заслугу, что они объяснили противоположность
между античной поэзией и новой. Но только обзор всей
романтической поэзии, — продолжает Шлегель, — может выяснить
сходство между произведениями, по-видимому, разнородными и
доказать, что они составляют единое целое. Такой обзор еще никем
не был сделан; до тех пор появлялись только краткие очерки
истории романтической поэзии; теперь Шлегель вознамерился
говорить об этом предмете так подробно, как еще никто не говорил
в Германии, хотя трудность добыть весь необходимый материал
и не позволяет ему вполне исчерпать этот сюжет.
Это сознание новизны своего предприятия было вполне
основательно. Только с тех пор, как Шлегель прочел зимою 1803—
1804 года свои лекции, существует история романтической
поэзии. В этих лекциях А. В. Шлегель исполнил то, что было только
слегка намечено Фридрихом в его «Epochen der Dichtkunst»
(«Эпохи стихосложения». —Прим. науч. ред.) и на что Тик только на-
1 Что все это было направлено специально против Шиллера, видно из
сравнения с шиллеровской статьей (в его сочинениях X, 300, 311 издания Котты в
восьмую долю листа 1844 года) и из того места в шлегелевской рецензии на
перевод «Неистового Роланда» Гризом (1818), где Шиллер назван по имени
(в сочинениях Шлегеля XII, 275). Из всего вышеизложенного видно, что Гёте не
был совершенно неправ, когда в разговорах с Экерманном (II, 203 и ел.) называл
себя и Шиллера «создателями понятий о поэзии классической и поэзии
романтической» и говорил, что Шлегели «далее развивали» эту идею; не был неправ и
Стеффенс, утверждавший в своей автобиографии (IV, 257), что то различие было
в первый раз подробно установлено в статье Фр. Шлегеля «Об изучении
греческой поэзии». Мне кажется, что все изложенное мною в тексте доказывает и
преувеличение в воззрении Фр. Шлегеля, и субъективность в воззрении Шиллера.
Сравн. выше, с. 248—249 и с. 635—636 и ел. Неясность воззрений Фр. Шлегеля
на этот предмет, между прочим, видна из следующих слов в его письме к
Вильгельму (в ноябре 1797 года, № 94): «Мое объяснение слова
„романтический" мне неудобно прислать тебе, потому что оно занимает 125 листов!».
746
Р. ГАИМ
мекал в своем предисловии к избранным стихотворениям
миннезингеров. В предшествующих лекциях он довел до конца не
оконченную его братом «Историю греческой и римской поэзии», а
теперь он изложил самостоятельную историю новейшей
романтической поэзии, объяснил все литературно-исторические
стремления романтической школы, объяснил перенесение поэтической
критики на историческую точку зрения и развитие истории поэзии
как целого, находящего для себя основу в единстве духа
человеческого.
Он начинает установлением внешних пределов
романтической поэзии. Он говорит, что это — поэзия, свойственная
«главным нациям новейшей Европы». За исключением народов
славянского происхождения и азиатов, он относит сюда народы,
говорящие на немецком языке и на языках, производных от
латинского, те народы, которые, после падения Римской
империи, были главными деятелями в новейшей истории Европы. Та
единоплеменная средневековая Европа, которую Новалис
превозносил с точки зрения религии и культуры, служит и для Шле-
геля основой его историко-литературной характеристики. Но и в
этой единоплеменной новейшей Европе Шлсгель имеет в виду,
для истории романтической поэзии, только «главные нации», а
мерилом для определения, какие нации следует считать
главными, служит для него более или менее деятельное их участие в
развитии образования; поэтому он оставляет без внимания
северогерманские племена; да и с литературой этих племен он не
был знаком. Он полагает, что название «романтическая поэзия»
удачно выбрано, как он уже объяснил это ранее в своей статье о
сочинениях Бюргера1. «Словом романский, „romance", —
говорит он, — обозначались новые диалекты, возникшие из
смешения латинского языка с языком немецких завоевателей; поэтому
написанные на этих диалектах поэтические произведения
назывались „романами"; отсюда произошло слово „романтический";
а так как характер этой поэзии заключается в слиянии
древненемецких элементов с позднейшим римским элементом,
подчинившимся влиянию христианства, то и элементы этой поэзии
обозначались словом „романтизм"». Далее Шлегель говорит
относительно развития искусств, что Италия и Испания опередили
все другие страны; Франция заслуживает внимания по своей ста-
1 «Характеристики и критики» II, 21; в его сочинениях VIII, 80.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
747
ринной литературе, к которой сами французы относились с
пренебрежением; а представителем Англии в романтической поэзии
служит Шекспир. Затем возникает вопрос, какую роль играют
в этой сфере немцы.
Шлегель отвечает на этот вопрос в длинном отступлении,
которое дает нам возможность понять тесную связь между по-
этико-философскими интересами романтиков и немецкими
национальными интересами. Оно объясняет нам, каким образом
романтизм, несмотря на свою кажущуюся отвлеченность, обошел
окольным путем космополитизм и сделался представителем
патриотических чувств и стремлений.
По мнению Шлегеля, немцы стояли во времена рыцарства
позади других главных европейских наций не столько по
достоинству своих старинных поэтических произведений, сколько по
разнообразию умственной изобретательности и по влиянию на
другие страны. Поэтому немцы не могут назвать таких же
великих старинных романтических художников, какими давно
гордятся другие нации; но они могут утешать себя тем, что при
теперешней всеобщей прозаической мертвенности у них, прежде
всех других, снова пробудилось влечение к истинной поэзии, что
у них в настоящее время есть такие художники, которые
достигли еще небывалой высоты и начали вырабатывать совершенно
новый стиль романтического искусства. «Ввиду этого факта мы
должны считать себя счастливыми тем, что принадлежим к
немецкой нации, или тем, что принимаем участие в развитии
немецкого образования, потому что только благодаря этому мы можем,
в противоположность с односторонним пристрастием других
наций, свободно обозревать прошлое и возлагать светлые
надежды на будущее». Шлегель не хочет ничего знать о клопштоков-
ском тевтонизме, не хочет ничего знать о национальной гордости
в общепринятом смысле этого слова. Он полагает, что следует
задаваться вопросом не о том, проникнуто ли то или другое
художественное или ученое произведение немецким духом, а о том,
хорошо ли это произведение. Лучшие немецкие произведения
следует изучать более внимательно и более основательно, чем это
прежде делалось именно теми, кто, подобно Клопштоку, всех
громче кричал о своем немецком патриотизме. Достоинства
немецкого языка еще ни от кого не получали правильной оценки: хотя этот
язык и не может равняться с другими языками по благозвучию,
но он в чем-то чище, в чем-то гибче других и, в противополож-
748
Р. ГАИМ
ность с романскими языками, доступен для полного жизни
развития. Само собой разумеется, что Шлегель не пропускает этого
удобного случая, чтобы завести речь о переводах. Он повторяет
слова своего брата1, который сравнивал мирные набеги,
предпринимаемые немцами в чужую область искусства и науки, с их
средневековыми завоевательными походами на Италию и на
Восток. Здесь, по его словам, речь идет о том, чтобы «соединить в
одно целое все преимущества самых разнообразных
национальностей, вдуматься в них, прочувствовать их и таким образом
создать космополитическое средоточие для человеческого ума». Он
говорит, что универсальность и космополитизм составляют
настоящую своеобразную особенность немцев, а этот недостаток
определенного, одностороннего направления, так долго мешавший
немцам достигать внешнего блеска наряду с более ограниченной
деятельностью других наций, и должен в конце концов перетянуть
весы на их сторону. Всемирногражданский патриотизм и
основанные на нем светлые надежды на будущее заставляют Шлегеля
возноситься до самых смелых историко-философских замыслов.
Чем же, говорит он, объяснить старое влечение немцев к поэзии
романских наций? Тем, что немцы яснее других народов помнят
прежнее единоплеменное единство Европы, потому что они
создали Европу; быть может, именно немцам предназначено снова
возбудить заглохшее сознание единства этой части света после
того, как эгоистическая политика доиграет свою роль. Залогом
такой будущности служит характер немцев, их строгая
нравственность и честность. Выкажем же, — восклицает Шлегель, — эти
достоинства покуда только в той сфере, в которой нам
предоставлена свобода деятельности, в сфере искусства и науки! «Будем
по-старому не предъявлять никаких притязаний на умственное
превосходство, будем глубоко сознавать, что всякое высокое
умственное стремление есть благочестие, что оно может
достигнуть успеха только посредством серьезной и искренней любви;
что талант без нравственности всегда достигал лишь очень
незначительных результатов!»
Все это отзывается риторикой, но здесь встречаются и
такие идеи, с которыми мы должны познакомиться. Здесь всего
чаще слышатся мысли и слова Фридриха. «Гений Европы угас;
1 «Европа» I, 2, с. 49 (во введении к «Beiträgen zur Geschichte der modernen
Poesie etc.»).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
749
в Германии течет струя Нового времени» — эти слова, в
которых выражен смысл стихотворения Фридриха «An die Deutschen»
(«К немцам».—Прим. науч. ред.), составляют тему, подробно
развиваемую Вильгельмом. И в начале, и в конце своей
длившейся целый час речи о «Deutschheit» (немецком характере. —
Прим. науч. ред.) Вильгельм цитировал слова Фридриха
отчасти из журнала «Европа», отчасти из его «Идей», напечатанных в
«Атенее». В своих «Идеях» Фридрих превозносит дух «наших
старинных героев немецкого искусства и немецкой науки», тот дух,
который живет в произведениях Дюрера и Кеплера, Лютера и
Бёма, Лессинга, Винкельмана, Гёте и Фихте. В этих словах он
только повторял то, что высказывал в самый ранний период своей
литературной деятельности1 и что зашевелилось сильнее
прежнего в его душе, когда он отправился в Париж, и после того,
как он начал знакомиться с характером французской нации.
Далее, у Новалиса В. Шлегель заимствовал уверенность, что
спокойное умственное развитие со временем непременно доставит
его отечеству перевес над другими нациями, занятыми войной,
спекуляциями и борьбой партий. И «Речи» Шлейермахера
дышали такой же любовью к отечеству и глубокой уверенностью,
что отечественная почва особенно благоприятна для оживления
религиозного чувства, что только на этой почве религия найдет
для себя убежище от «свойственных тому веку грубого
варварства и холодной земной чувственности». У всех названных нами
писателей симпатия к немецкой умственной жизни служила
противовесом для высокого уважения к греческому миру, но у Тика,
точно так же как у Вакенродера, любовь к древности
соединялась в единое целое с любовью к немецкой древности. Он
воодушевился гётевским «Гёцом» и в особенности более ранними
произведениями Гёте, в которых поэт еще не обнаруживал
склонности к подражанию грекам. Он высоко ценил своеобразный дух
гётевской поэзии даже в позднюю пору своей жизни, как,
например, в написанной в 1828 году статье о Гёте и его времени. Вся
его поэтическая деятельность носила на себе эту немецкую
окраску: ведь он прежде всех задал себе труд освежить
содержание старинных немецких народных рассказов, а в своем
«Штернбальде» превозносил «героический век немецкого
искусства».
1 Сравн. в «Дополнениях...» № 3.
750
Р. ГАЙМ
Сюда примыкают старания наших романтиков возвысить
значение старинной немецкой поэзии. Они естественным образом
лежали на пути исторических исследований всего космоса поэзии,
и им указал это место Фридрих Шлегель в конце своей статьи
«Epochen der Dichtkunst». Поэтому они были необходимым
дополнением к изучению поэзии итальянской, испанской и
английской. С другой стороны, они были вызваны чувством патриотизма
и были в этом отношении естественным последствием поэтической
деятельности Тика и переводной деятельности А. В. Шлегеля.
Все предшествовавшие возникновению новой школы
исследования старинного немецкого языка и старинной немецкой
литературы были лишь приготовительной работой и потому не
приводили ни к каким прочным результатам1. До половины
восемнадцатого столетия труды этого рода предпринимались
только урывками и не из любви к самому делу, а по каким-нибудь
посторонним соображениям. Потом они вошли в связь с
изучением немецкой литературы, но были очень незначительны. Ими
занимались преимущественно те люди, которые старались
возвысить достоинства немецкой поэзии. Готтшед, Бодмер и Брейтингер
обнаружили в этом отношении похвальное усердие. Лессинг, так
горячо отстаивавший самостоятельность новой немецкой
литературы и так горячо протестовавший против французского влияния,
занимался изучением древненемецкой литературы и расчистил
путь для немецких философов. Но еще никто не имел ясного
понятия о достоинстве памятников старинной немецкой поэзии.
Пафос, с которым Клопшток превозносил все немецкое, был
субъективен и не искал для себя основы в изучении прошлого. Гердер
был тем, кто расчистил почву для не стесняющегося никакими
предвзятыми мнениями сочувствия к своеобразностям нашей
старинной национальной поэзии. Гёте был так занят продуктами
своего собственного творческого гения, что не мог увлечься
желанием изучать историческое развитие нашей поэзии. Сверх того,
он придавал такое важное значение внешней форме и
стихотворному размеру, что его привлекал к себе всего более античный
мир. Иоанн Мюллер был тем, кто впервые объяснил историческое
и поэтическое значение великого национального эпоса о Нибелун-
гах. Остальное довершила романтическая школа; труды Эшен-
1 Сравн. у Коберштейна II, 1065 и, в особенности, прекрасную статью Ше-
рера о Якове Гримме («Preuss. Jahrb.» XIV, 643 и ел.).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
751
бурга и Миллера, Гретера и Коха могли приобрести значение для
нашего национального развития только в руках Тика и Шлегелей.
Юный Вакенродер сделал первые шаги в этом направлении
под влиянием ученого берлинского пастора Коха. В 1792 году он
слушал лекции Коха об истории литературы и тогда
почувствовал сильное влечение к старинной немецкой поэзии, о чем
свидетельствует небольшая статья о Гансе Саксе, написанная
им, по всему вероятию, в Гёттингене1. Когда Вакенродер
уведомил Тика об этих занятиях, Тик счел своим долгом
предостеречь его, чтобы он «не портил своего вкуса» старонемецкой
поэзией. Но Тик скоро изменил это воззрение, в особенности
вследствие знакомства с произведениями Якоба Бёма и других
немецких мистиков2 и вследствие того, что усвоил
историческую точку зрения Шлегелей на литературу. В своем
«Поэтическом журнале» он намеревался служить настоящему и прошлому
поэзии, а во введении к этому журналу обещал сообщить
между прочим сведения о старинной немецкой литературе. Но к
более серьезным занятиям этого рода он приступил не ранее весны
1801 года3, а успешных результатов достиг лишь тогда, когда в
конце следующего года переехал, по приглашению своего старого
друга Бургсдорфа, из Дрездена в Цибинген. В этом сельском
уединении он стал сильно интересоваться произведениями
миннезингеров в сборнике Манесса. «Эти привлекательные песнопения, —
писал он, — приводят меня в радостное упоение». Он увлекался
ими точно так же, как Шиллер когда-то увлекался Еврипидом
и Вергилием. «Я полагаю, — писал он в Троицын день 1803 года
В. Шлегелю4, — что еще никто не читал стольких старинных не-
1 Гаген поместил ее в «Neues Jahrbuch der Berliner Gesellschaft für deutsche
Sprache» 1,4, c. 291 и ел. Сравн. письмо Вакенродера к Тику (у Гольтея IV, 228 и 239).
2 Корке, «Leben Tieck's» I, 297.
3 Еще в письме № 17 (на которое служит ответом письмо Шлегеля от 10
июля 1801 года (у Гольтея III, 258) и которое, стало быть, ошибочно отнесено в
списке Клетте к концу 1801 года) ничего не говорится о занятиях древней
немецкой поэзией, хотя Тик и перечисляет здесь все свои занятия в ответ на сделанный
ему его другом упрек в лености. Поэтому следует полагать, что занятия
древней немецкой поэзией скрывались под словами: «Я постоянно изучаю Я. Бёма».
С этим предположением согласно то, что говорит Тик во введении к тому II
своих сочинений, с. LXXVIII, и то, что он говорит в письме к Шлегелю № 24.
Сравн. предисловие к «Критическим сочинениям» I, IX.
4 № 24 с пометой «Pfingstmontag». Список Клетте ошибочно относит это
письмо к 1804 году. Оно должно быть помещено между № XXIII и XXIV шлеге-
левских писем (у Гольтея III, 285 и 287).
752
Р. ГАЙМ
мецких поэтов, как я, так как уже более двух лет я не занимаюсь
ничем другим». Свою переделку песен миннезингеров он послал
на просмотр Шлегелю, который сравнил их с оригиналами. Два
друга разошлись в своих мнениях о том, как следовало
переделывать эти песни. Тик позволял себе смелые и произвольные
изменения, в особенности в более художественных стихотворениях,
потому что предназначал свою работу «не для ученых, а для
любителей». Шлегель желал, чтобы переделка была сделана более
правильным языком и стихом, и главное, чтобы она была ближе
к оригиналу. Несмотря на основательность его замечаний, успех
оправдал точку зрения поэта, который полагал, что
филологические требования могут быть удовлетворены впоследствии, когда
песни успеют произвести желаемое впечатление. Они вполне
достигли своей цели. В 1803 году появились в Берлине «Die
Minnelieder aus dem Schwäbischen Zeitalter» («Песни о любви из
швабской эпохи». —Прим. науч. ред.) в переработке Л. Тика. Это был
первый, проникавший прямо в сердца наших соотечественников
призыв к заботливости о сокровищах нашей собственной старой
литературы; даже Яков Гримм признался поэту, что эта работа в
первый раз обратила его внимание на старую немецкую поэзию и
внушила ему желание приложить свой труд к этой сфере.
Содержанию песен было предпослано остроумное предисловие1. В нем
виден не столько ученый, сколько одаренный нежными и
горячими чувствами поэт. Опираясь на мысль Шлегеля, что история
поэзии есть история человеческого духа, Тик делает обзор всей
романтической поэзии, переходя от одного народа к другому, от
одного периода к другому, от одного эпического цикла к другому.
В середине этого обзора Тик делает очерк поэзии миннезингеров,
указывая на ее «изящное своеволие», на ее тенденцию к
музыкальному благозвучию. После обзора более художественной
поэтической деятельности итальянцев и испанцев предисловие
переходит к произведениям Сервантеса и Шекспира и, наконец, к
немецкой поэзии; при этом автор высказывает желание, чтобы
эта поэзия старалась, по примеру Гёте, соединять естественность
с искусственностью.
Итак, Шлегель мог ссылаться в своих лекциях на Тика. Но
так как он был ученее Тика, то первым дал нам ясную и
последовательно изложенную историю старонемецкой поэзии. Только
1 Оно перепечатано в «Критических сочинениях» I, 185 и ел.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
753
благодаря ему и сам Тик перешел от поверхностных занятий этой
поэзией к более серьезному ее изучению. Достоин внимания и
тот факт, что Шлегель стал посвящать себя этим занятиям, как
кажется, главным образом с целью извлекать из старинной
немецкой поэзии материалы для своих поэтических переводов
и этим восполнить то, чего ему не давала его собственная
поэтическая фантазия. Об этом свидетельствует его «Тристан»1. На
заимствованное у более древнего поэта содержание этого
рассказа он смотрел «как на мифологию, в которой можно многое
видоизменять, расширять, дополнять меткими намеками, но к
которой нельзя прибавлять собственных вымыслов». Впрочем,
это стихотворение осталось неоконченным, потому что Шлегель
стал с конца 1798 года заниматься изучением «Нибелунгов».
В статье2, написанной летом 1799 года для «Атенея», он порицал
привычку смешивать галльскую древность с германской и вести
речь о германских бардах, а также высказывал догадку, что в
«Песни о Нибелунгах» следует искать те песни, которые, по
свидетельству Эгингарда, были собраны в исполнение
приказания Карла Великого. С тех пор его не покидала мысль о
переработке древнего эпоса с целью сделать его понятным для своих
современников. Опыт такой переработки он сделал в своих
берлинских лекциях и, по-видимому, зашел довольно далеко в своем
старании обновлять старинные песни, приноравливаясь ко
вкусам Нового времени3. И относительно миннезингеров он
сходился в одном пункте с Тиком: ведь он первым высказал в статье
1 Сравн. выше, с. 657—658.
2 «Атеней» II, 2 и ел. В полном собрании сочинений XII, 39 и ел.
3 Тик, во введении к тому II своих сочинений, с. LXXIX; Шлегель к Тику
[от] 8 февраля 1804 года (у Гольтея III, 290); сравн. позднее написанную статью
В. Шлегеля «Aus einer noch ungedruckten historischen Untersuchung über das Lied
der Nibelungen» в «Немецком музее» Φρ. Шлегеля, год 1812,1, 1, с. 16 (не
помещена в полном собрании сочинений Шлегеля). Что Шлегель впоследствии
отказался от такой переработки и вместо того стал готовиться к полному изданию
«Песни о Нибелунгах» с критическими и филологическими комментариями,
видно из объявления, напечатанного им в июне 1812 года в «Немецком музее» того
же года II, 10, с. 366. Еще в 1815 году он очень серьезно говорил об этом
намерении (в рецензии «Altdeutschen Wälder» в его сочинениях XII, 409). О том,
что Тик занимался изучением «Песни о Нибелунгах», свидетельствуют введение
к тому II его сочинений, с. LXXVIII {Корке, «Leben Tieck's» 1,315) и объявление
А. В. Шлегеля о занятии Тика переделкой «Нибелунгов»; оно помещено в йен-
ской «Литературной газете» 1805 года («Intelligenzblatt», № 121; в его
сочинениях IX, 265).
754
Р. ГАЙМ
о Бюргере основательное мнение, что миннезингеры не были
настоящими народными поэтами, а, напротив того, писали рыцарские
стихотворения в противоположность произведениям мещанских
и крестьянских поэтов.
Результаты всех этих трудов были изложены Шлегелем в
лекциях, которые он читал зимой 1803/04 года. Его объяснения
сущности и достоинства нашей национальной поэзии проложили ему
путь к «Краткому очерку истории немецкого языка и поэзии».
Этот очерк служит введением к «Истории романтической поэзии»,
а в этой «Истории» он впоследствии обработал только главу о
мифическом героическом периоде; новейшую немецкую
литературу он отнес к концу этой истории, потому что в состав ее входят
произведения новейших романтических поэтов.
В. Шлегель, по-видимому, придерживается содержания статьи
своего брата о школах греческой поэзии, когда разделяет историю
нашей поэзии на четыре эпохи — монашескую, рыцарскую,
мещанскую и ученую1. Повторив свой прежний протест против
мнимых песнопений бардов из дохристианских времен, Шлегель дает
характеристику памятников немецкого языка вплоть до времен
швабских императоров. Его замечания имеют неопределенный и
общий характер: однако он мимоходом объясняет настоящий
смысл слова «theotisce» как «принадлежащего к народному
языку». Его описание поэтических произведений этого первого
периода неопределенно, неполно и отчасти неверно. В обзоре второго
периода, периода рыцарства, он ограничивается такими общими
суждениями о сущности поэзии миннезингеров, которые не
заходят далее того, что говорил Тик в своем предисловии. Дойдя до
эпической поэзии, он говорит, что она была французского
происхождения, что чисто немецкого происхождения были только
«Песнь о Нибелунгах» и «Книга героев», о которых он намерен
говорить подробно в главе об источниках романтической поэзии.
По вопросу о зависимости немецкой лирики этого периода от
провансальской он решительно высказывается в пользу того
воззрения, что влияние провансальской поэзии имело лишь общий
характер. Наконец, его замечания о «диалекте миннезингеров»
сводятся к тому, что «поэт, старающийся обогащать свой язык из
внутренних вспомогательных источников, может чрезвычайно
1 С этим не вполне сходится обзор, помещенный в конце статьи Фридриха об
эпохах поэзии (см. выше, с. 632).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
755
многому научиться от миннезингеров» и что поэт,
обрабатывающий мифологические сюжеты, найдет у миннезингеров «нечто
вроде заклинательного изречения, с помощью которого может
вызывать дух старого времени». Вслед за этим Шлегель объясняет
на примере «Theurdank'a» упадок рыцарской поэзии, «онемение
лесного пения соловьев», а внешнюю причину этого явления
усматривает в изменившихся воззрениях влиятельных князей. Таким
образом, он доходит до мещанской поэзии, до того периода, в
котором грубый реализм заменил идеалистическое мировоззрение
рыцарства и его любовные приключения. Изложение подробно
останавливается только на двух пунктах. Шлегель исправляет
расхожие понятия о характере поэзии трубадуров и протестует
против названия всего этого периода «периодом трубадуров».
С другой стороны, он останавливается на произведениях Ганса
Сакса, которые были «прототипами всего, что было создано в
течение этого периода немецкой поэзии»; в этом случае он
сходится с Тиком и повторяет его похвалы аллегорическим пьесам
нюрнбергского миннезингера.
Гораздо интереснее та глава, в которой Шлегель ведет речь
об «ученом периоде». Он со знанием дела говорит о форме
произведений Опица и Векгерлина, указывает на заслуги Флеминга,
хвалит Гарсдёрфера за его «удачное, поистине поэтическое»
подражание изящным формам южной поэзии, и при этом мимоходом
задевает несчастного Меркеля. Мы не удивляемся тому, что в
такой истории немецкого языка и поэзии, которая ни одним словом
не упоминает о достоинствах Лютерова перевода Библии,
протестантские церковные песни ставятся гораздо ниже
католических. Шлегель ничего не хочет знать об эпиграмматической
поэзии уже только потому, что Лессингу нравились произведения
Логау и Вернике. Зато он защищает Логенштейна от новейших
ненавистников поэзии и уверяет их, что «поэзия не может быть
слишком фантастической и, стало быть, не может впадать в
преувеличения». Следующие затем суждения о Готтшеде и о так
называемом золотом веке нашей литературы не нуждаются в
том, чтобы мы их здесь повторяли. Шлегель серьезно
придерживается аксиомы, что Лессинг обладал всеми дарованиями, кроме
поэтических; поэтому он вовсе не упоминает о Лессинге. Но он
наконец излил всю накопившуюся в его сердце злобу, когда дело
дошло до автора «Оберона», до того поэта, которого можно было
бы считать предвестником романтизма.
756
Р. ГАИМ
Еще в начале издания «Атенея» он намеревался рядом с
критикой Клопштока совершить аутодафе над произведениями
Виланда1. Но только в отрывочных заметках он в первый раз
высказал свое мнение о воображаемой классичности всеми
превозносимого поэта2, а потом в «Reichsanzeiger» позволил себе такие
резкие отзывы о Виланде, которые даже Гёте признал за
«нечестие». Фридрих не был удовлетворен этими отзывами3. И
Вильгельм полагал, что следует вполне расплатиться с Виландом.
После выхода шестого номера «Атенея» он полагал, что ему
будет легче обеспечить продолжение этого журнала, если «он
преодолеет свое отвращение и займется критикой всех произведений
Виланда». Но то, что осталось ненаписанным, осталось и
невысказанным. Из лекций Шлегеля мы можем составить себе
понятие по меньшей мере об отличительных чертах задуманной им,
но ненаписанной критики.
И в этих лекциях точкой отсчета служит высказанный в
«Reichsanzeiger» упрек, что Виланд наполнял свою поэзию
заимствованиями из чужих произведений. Подражания Сервантесу, Лукиа-
ну и другим поэтам доходят у Виланда до литературного воровства.
Что же касается его распрославленной грациозной философии, то
она заимствована у французских энциклопедистов, у Гельвеция, у
Вольтера и так далее и потому отличается таким же
отсутствием философии, таким же нечестием, такой же
безнравственностью, какими отличались произведения тех писателей. Ни от
чьего внимания не ускользнет, что этот немецкий «классик» брал за
образцы непристойные рассказы, романы и волшебные сказки
Гамильтона, Кребильона, Вольтера и других. Вот почему даже в
самых лучших произведениях немецкой литературы до сих пор
заметно подражание французам, этой самой непоэтичной из всех
европейских наций. «В чем же, — восклицает наш критик, — зак-
1 Фридрих к Вильгельму Шлегелю № 94 (ноябрь 1797 года) и № 98 ( 18
декабря 1797 года).
2 Отрывок № 3 у Бёкинга (в его сочинениях VIII, 4). Здесь сначала было
сказано: «Какой-то поэт» и так далее. Этот поэт был назван по имени только
после высказанного Фридрихом замечания, что анонимность, и притом такая,
которую так легко разгадать, напомнила бы «Ксении» № 100 и 102.
3 Фридрих полагал [№ 120], что было бы очень забавно, если бы при
переходе «Атенея» к издателю Фрёлиху было внесено в контракт условие, что над
Виландом будет совершена литературная смертная казнь. Сравн. № 114 и 137.
Касательно того, что следует далее, см. письма Шлегеля к Шлейермахеру III,
170, 198,221.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
757
лючается прогресс с начала ученого периода нашей поэзии? В том,
что Опиц и его последователи подражали французским
писателям до века Людовика XIV; лучшие современники Готтшеда,
Гагедорн, Илия Шлегель, Кронегк, Крамер, Геллерт и другие
подражали французским писателям века Людовика XIV, а Виланд
подражал позднейшему поколению писателей времен Вольтера.
Поэтому если бы мне пришлось делать выбор между всеми
этими писателями, то я предпочел бы писателей среднего класса».
Вслед за этим Шлегель переходит к обвинению Виланда в
безнравственности. Хотя стремления писателей среднего класса,
говорит он, и были ограниченными, хотя их художественная
форма была узка, но они придерживались ее с некоторой строгостью
и этим доказали свою художническую нравственность. Нельзя
того же сказать ни о Вольтере, ни о Кребильоне. Эти писатели
старались нравиться не своим искусством, а своими нападками
на религию и нравственность, своими непристойными,
сладострастными рассказами. «Это, — продолжает он, — самое
вредное злоупотребление, какое только можно сделать из поэзии: ее
делают распространительницей порочных наклонностей. Я не хочу
этим сказать, чтобы общественные приличия не дозволяли
описания непристойных и разжигающих страсти сцен, но надо,
чтобы это делалось ради какой-нибудь высшей художественной цели.
Но те писатели стараются унижать человеческую натуру,
стараются налагать пятно на каждое чистое влечение, выдавать
нравственность за ложь и лицемерие и заставлять нас думать, что
чувственные страсти служат средоточием для всякой
человеческой деятельности. И Виланд провинился в этом важном
недостатке и провинился еще более других, потому что осуществляет
свою дурную цель с более смелой и более холодной фантазией».
У Шлегеля не часто встречаются рассуждения о вопросах,
касающихся нравственности. Он не был выдающейся личностью по
своей нравственности. Некоторые из его незначительных
слабостей, которые было нелегко скрывать, возбудили подозрения в
более серьезных порочных наклонностях. Разве он не был братом
автора «Люцинды»? Поэтому нельзя не удивляться строгости его
отзывов о Виланде. Тем не менее не подлежит сомнению, что он
был так строг ради охраны тех границ, за которые не должно
переходить искусство. У него было больше, чем у его брата, той
нравственности, которая заключается в чистой любви к научной
или художественной работе. И когда он делает характеристику
758
Р. ГАИМ
Боккаччо в своей «Истории романтической поэзии», он говорит о
положительной безнравственности Виланда, сходясь в этом
случае с мнением, которое высказал Шлейермахер по поводу «Лю-
цинды». Не защищая Боккаччо от обвинений в чрезмерном
легкомыслии, он горячо протестует против обвинения ставить
Боккаччо на одну доску с Вольтером, Кребильоном и Виландом и
основательно называет верхом безнравственности то, что этот
последний (как, например, в «Перегрине Протее») извращает
естественные отношения между лицами обоего пола и не мужчину,
а женщину заставляет играть роль соблазнителя. Так же здравы
его суждения о нравственности любовных стихотворений Овидия,
в которых он видит доказательство нравственной испорченности.
Он полагает, что с безнравственностью Виланда находится в
тесной связи и шаткость внешней формы его произведений. Только
невежество способно было дать этому писателю звание
«немецкого Ариосто». «Хотя Ариосто и занимает второстепенное место
между романтическими художниками, но по своей
изобретательности, по мастерству своих описаний и даже по характеру своей
шутливости он — гигант в сравнении с Виландом и вовсе не
легко отыскать хоть одну черту сходства между этими двумя
поэтами. Даже в том, что касается определения разряда, к которому
принадлежат поэтические произведения Ариосто, Виланд
впадает в такое непростительное заблуждение, что смешивает
рыцарские стихотворения с волшебными сказками (в первом
предисловии к „Idris") и повторяет эту ошибку в предисловии к „Оберону"».
В другом месте своих лекций Шлегель говорит о языке
произведений Виланда: он находит, что Виланд, в особенности в «Оберо-
не», сделал слабую попытку восстановить то, что устарело,
обнаружил некоторую находчивость в изображении смешного, но при
этом слишком часто употреблял иностранные, в особенности
французские, слова. «Все его попытки обогатить слог и метрические
формы привели его лишь к шаткости и расплывчивости стиля; он
искал плавности и достиг ее в таком совершенстве, что
напоминает стоящего на берегу реки крестьянина, который ждет, чтобы
протекла вода; и Виланд смотрит на свои плавно текущие стихи,
ожидая, чтобы они все вытекли». Шлегель находит такой же
недостаток в изложенных стихами новеллах Виланда. Он называет
их «Non plus ultra расплывчивости». По его мнению, такая страсть
бесконечно строчить один стих вслед за другим без всякой
определенной цели дает нам понятие о «поэтической окоченелости».
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
759
Все это, вместе взятое, представляет, в сущности, не что иное,
как низведение Виланда до степени ничтожества. Этим
заканчивается характеристика «ученого периода», и здесь должен бы был
кончаться обзор истории немецкой поэзии. Однако Шлегель не
может отказать себе в удовольствии хоть слегка заглянуть в
новейшую историю поэзии, в настоящее и будущее. Поэтому он
упоминает о деятелях периода бурных стремлений, об
односторонних проповедниках естественности и оригинальности. После
того как все покрылось туманом, только один Гёте выдвигается
вперед в качестве вполне зрелого художника. Впрочем, и в этом
периоде, если в него ближе всмотреться, найдутся образцовые
произведения, в которых настоящее поэтическое воодушевление
было, в сущности, захватом владений романтической школы.
Затем Шлегель переходит одним скачком к стремлениям этой
школы. Обзор прошлого доказывает, что каждая эпоха поэзии,
даже самая простая и безыскусственная, всегда примыкала к
существующим в ту пору поэтическим произведениям
предшествующего поколения, развивая их и улучшая. И судьба гениальных
людей семидесятых годов, и дух теперешнего времени, не только
неблагоприятный для поэзии, но и враждебный ей, — все это
доказывает нам, что не следует предаваться природным
влечениям к поэзии без необходимых познаний и без
обдуманности. Поэтому следует с самым горячим рвением подготовить
то, чем могло бы теперешнее поколение превзойти прошлые
поколения, а эта подготовка заключается в изучении философии
и истории.
Итак, А. В. Шлегель исторически объясняет задачу
романтической поэзии и объясняет ее так разумно, как этого никто еще
не делал до него. У него эта поэзия является именно такой,
какой была на самом деле, является высшей ступенью ученой
поэзии и сама это вполне сознает. История и философия служат для
нее опорами; с помощью их она достигает своей цели возвыситься
до художественности. А так как поэзия, по своей натуре, этого не
выносит, то разве можно удивляться тому, что был достигнут не
тот успех, какой имелся в виду? Средства взяли верх над целью.
Остались в выигрыше философия и история, а не поэзия.
Происходившая под влиянием поэзии и ради поэзии разработка
философии и истории утратила свою прежнюю вялость и
воодушевилась новыми стремлениями, а находившаяся в крайнем упадке
история языка и литературы и даже политическая история полу-
760
Р. ГАЙМ
чили такое широкое развитие, за которое мы и до сих пор должны
быть благодарны романтикам.
Доводы нашего проповедника романтизма имеют такое
важное значение, что мы считаем нужным изложить их подробно.
Он хочет, чтобы поэзия его времени была основана главным
образом на новой философии, потому что эта философия теперь
в первый раз попала на тот путь, который ведет к разоблачению
тайны изящного искусства, и, стало быть, дала возможность
вносить в сферу искусства более осмотрительности. Кроме того,
философия теперь в состоянии доставлять произведениям
искусства более возвышенное содержание; в особенности
философские исследования законов природы сами собою стремятся
перейти в поэзию. История также приходит на помощь поэзии
совершенно иначе, чем прежде. Ведь только теперь мы
отделались от того одностороннего пристрастия к классической
литературе, которое было естественным последствием ее
возрождения; только теперь мы отделены от великих мастеров
романтического искусства достаточно большим промежутком
времени для того, чтобы быть в состоянии оценивать их по
достоинству; только теперь мы стали яснее понимать
противоположность между античным искусством и романтическим; при
этом нам должна служить пособием восточная поэзия, в
особенности более древняя и более первобытная поэзия — индийская.
«Короче говоря, мы не только не можем обойтись без учености,
но даже должны быть ненасытны в приобретении учености».
Шлейермахер сказал, что высшее образование заставляет нас
возвращаться к религии, а В. Шлегель говорит, что настоящая
ученость заставляет нас возвращаться к поэзии. Все или почти
все, что было парадоксального в суждениях Фридриха Шлегеля
о новой романтической поэзии, становится ясным и
общепонятным в изложении его брата. Вот как выражается Вильгельм
Шлегель: «Универсальность образования представляет для нас
единственный способ возвратиться к природе, потому что нет
никакого другого средства предохранить себя от последствий
недостаточного или ложного образования. Не для того собираем
мы сокровища прошлых времен, чтобы изготовлять новые
двойные экземпляры уже находящихся налицо произведений
посредством холодных, безжизненных подражаний, а для того, чтобы
познакомиться со средствами и с органами, с помощью которых
мы могли бы выражать еще нетронутые тайны человеческого
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
761
духа, для того, чтобы мы могли проникать в еще более
священные тайны природы. Результат исторического обзора нашей
отечественной поэзии вовсе не таков, чтобы мы могли покоиться на
наших лаврах. Мы должны все исследовать без
самообольщения; для нас не должно оставаться бесплодным в философском
отношении даже изучение прежних периодов нашей поэзии,
несмотря на то что их достоинства окажутся невысокими в
сравнении с абсолютным мерилом. Поэзия должна уметь извлекать
пользу даже из непоэтических правил языка. Наше
художественное обозрение должно быть ученым, таким ученым, каким оно
еще никогда не было; но эта ученость должна быть настоящей,
она должна знать все, что есть мастерского и неподражаемого,
и должна придерживаться исключительно только таких образцов.
Кроме того, наша поэзия должна быть рыцарской или
мещанской, подобно поэзии миннезингеров и Ганса Сакса, она должна
быть национальной или в идеалистическом, или в
реалистическом значении, причем не следует забывать того, что я ранее
говорил об общей национальности всех жителей новейшей
Европы. Наконец, наша поэзия должна дышать глубокой
правдивостью и возвышенными чувствами тех поэтических произведений,
которые должны считаться за самые первобытные, самые
древние памятники немецкого духа; если же до сих пор ничто не
могло возвыситься до одного с ними уровня, то, может быть,
это суждено сделать будущему!».
Под «самым первобытным и самым древним памятником
немецкого духа» Шлегель разумеет не что иное, как «Песнь о Ни-
белунгах». Согласно с основным положением своей поэтики, что
всякая поэзия должна иметь мифологический фундамент, что
всякую художественную поэзию следует объяснять генетически на
основании предшествующей мифологической натурпоэзии,
Шлегель переходит к исследованию, в какой мере до сих пор
сохранилась немецкая или вообще романтическая мифология1.
Подготовкой к этому новому труду служат исторические размышления об
«умственном развитии новейшей Европы, или о так называемых
средних веках».
1 Впоследствии Шлегель заменил это понятие о мифологии более
рационалистическим и предоставил более широкий простор личному произволу поэта;
это видно из его строгой критики «Altdeutschen Wälder» Гримма (в 1815 году)
(в его сочинениях XII, 383 и ел.); в этой критике он горячо нападает на
преувеличения в понятии о мифах.
762
Р. ГАИМ
Несмотря на то что эти размышления служат
характеристическим доказательством сочувствия романтиков к средним
векам, мы не будем говорить о них подробно, потому что они
принадлежат к числу тех отрывков из шлегелевских лекций, которые
были напечатаны1. Между тем как в своих вступительных
лекциях к характеристике теперешнего столетия Шлегель старался
выставлять напоказ отрицательные стороны, то есть непоэтичность
настоящего времени, теперь, напротив того, он старается
выставлять в самом ярком свете положительные стороны, то есть
типичность средних веков. В своем изложении он
руководствуется двумя целями: во-первых, он старается доказать
неправильность воззрения так называемых просветителей на
средневековое направление умов; во-вторых, он старается установить мерило
для оценки поэтических произведений. Поэтому он нападает на
«новомодных писателей, искажающих историю» и выдающих
«рыцарство за шутовство, схоластику — за непонятную дичь»,
нападает на поверхностные суждения новейших историков о
Крестовых походах и о войнах испанцев с маврами и на тех декламаторов,
которые считают религиозные войны верхом безрассудства. Во
всех этих событиях Шлегель старается отыскать или
историческую необходимость, или идеальное содержание, или поэтический
блеск. При этом он как будто не замечает варварства и грубости
поэзии того времени. Он идеализирует средние века в такой же
мере, в какой их старались унижать односторонние поклонники
Нового времени. Эти идеализированные средние века он
принимает за мерило для оценки настоящего положения литературы,
подобно тому как просветители принимали настоящее положение
литературы за мерило для суждений о средневековой литерату-
1 Они были напечатаны в № 11 «Немецкого музея» Фридриха Шлегеля
в 1812 году (стало быть, почти через 9 лет после того, как они были изложены в
лекциях Вильгельма Шлегеля). Они не попали и в полное собрание сочинений
В. Шлегеля, несмотря на то что издатель обещал поместить их в особом отделе,
отведенном только для лекций; см. предисловие издателя к тому VII, с. XVIII.
В печати пропущены только три довольно длинных места, в одном из которых
Шлегель, по-видимому, старается объяснить переселение народов и вообще
большие исторические перевороты при помощи натурфилософской мистики,
влиянием элементарных и сидерических сил: «Если бы мы могли знать, что в то время
происходило во внутренностях земли и в атмосфере, то мы, быть может, поняли
бы, отчего произошло переселение народов». Мимоходом заметим, что Шлегель
заменял в рукописи иностранные слова немецкими выражениями; он это делал и
впоследствии, когда ему приходилось редактировать его прежние произведения.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
763
ре. Объясняя необходимость Крестовых походов антагонизмом
между религиозными принципами Запада и Востока, он сожалеет
об исчезновении «европейско-христианского патриотизма» и, по-
видимому, готов проповедовать необходимость нового
Крестового похода против турок. Религиозные войны служат, по его
мнению, самым убедительным доказательством могущества идей;
это такие войны, которые более всяких других делают честь
человечеству. Объясняя возникновение немецкой феодальной
системы, он превозносит дворянство. С таким же красноречием он
превозносит рыцарство, даже можно сказать, что он гомеризи-
рует рыцарство, потому что почти постоянно делает сравнения с
общественными порядками гомеровских времен. Не без
примеси софистики он говорит с сочувствием о Суде Божием в форме
поединков и даже о строгих местных и охотничьих законах, а
средневековые военные упражнения и празднества хвалит в ущерб
теперешней «мелочной склонности к внешнему блеску». Он
находит поэтичность даже в геральдике, которая в гербах «умела
соединять, подобно романтической поэзии, самые несходные
между собою предметы». Но всего усерднее он вступается за
рыцарскую нравственность. Мимоходом он замечает, что при ярком
освещении и в этой нравственности становятся различимы
темные пятна, но это не мешает ему освещать рыцарский мир во
всей его цельности не только ярким светом, но даже
фейерверком. Но нельзя не отдать ему справедливости в том, что он
остроумен, когда развивает понятие о чести, когда утверждает, что
искреннее благочестие есть спутник храбрости, когда указывает
на противоположность между рыцарской любовью и воззрениями
древних народов на взаимные отношения между лицами обоего
пола и, наконец, когда в образе Мадонны, Девы и Матери, находит
выражение противоположности между новым образованием и
образованием в древние времена: он, очевидно, старается
согласовать то, что несовместимо, и объяснить лежащие в нашей натуре
противоречия между стремлениями к конечному и стремлениями
к бесконечному.
По его мнению, дух описанного им романтического века
отражался самым непосредственным образом в героической
мифологии средних веков. Он различает четыре ступени в развитии
этой мифологии, соответствующие следующим циклам
рыцарской поэзии: немецкие мифы времен Бургундов и Лонгобардов,
рассказы об Артуре и его Круглом столе, мифы времен Карла
764
Р. ГАЙМ
Великого и его двенадцати пэров и, наконец, позднее возникшие
испанские рассказы об Амадисе, не имеющие никакого
исторического фундамента. Говоря о первом из этих циклов, Шлегель
знакомит своих слушателей с «Песнью о Нибелунгах» и с
«Книгой героев». Излагая содержание этой «Песни», он прочел из нее
один отрывок языком, понятным для слушателей.
Любознательность привлекла необычайно многочисленную публику. В числе
слушателей находился и молодой Гаген, незадолго перед тем
вышедший из университета. Лекция Шлегеля внушила ему желание
издать великую поэму, которое он впоследствии и воплотил. В этой
лекции Шлегель прежде всего вел речь об историческом
происхождении «Песни о Нибелунгах»; при этом ему нередко
недоставало ни правильной точки зрения, ни необходимых материалов,
но его замечания о высокой древности первоначального текста
поэмы были основательны. Затем он перешел к вопросу о том,
кто был автором поэмы. Впоследствии он высказывал
предположение, что автором теперешнего текста поэмы был Генрих фон
Офтердинген1. Но в то время он был гораздо ближе к истине. Тик
еще ранее высказывал мнение, что отыскивать одного автора
«Песни о Нибелунгах» был бы такой же тщетный труд, как
отыскивать одного автора «Илиады» или «Одиссеи». Этого мнения
придерживался в то время и А. В. Шлегель. Ссылаясь на
исследования Вольфа о возникновении гомеровских песнопений, он
высказывает уверенность в том, что теперешний текст этих
песнопений не имел настоящего автора, а имел лишь нового переписчика.
Он присоединяет к этой мысли свое объяснение свидетельства
Эгингарда о том, что по приказанию Карла Великого были
записаны старинные народные стихотворения, а затем применяет к
«Песни о Нибелунгах» гипотезу Вольфа о Гомере. Он полагает,
что и «Песнь о Нибелунгах» могла иметь своих диаскевастов,
которые собрали отрывочные рапсодии, сохранявшиеся ранее
1 В этой статье, напечатанной в «Немецком музее» (в 1812 году, № 7, том XI,
с. 1 и ел.), которая, к сожалению, не попала в полное собрание сочинений и о
появлении которой он извещал еще в рецензии на послания Доцена о «Tïturel»
( 1811 ) (в его сочинениях XII, 309). Перемена в его воззрении находилась в связи
с его более здравыми воззрениями на мифологический элемент поэмы. В 1815
году в рецензии на «Altdeutschen Wälder» братьев Гримм он говорил, что хотя
сказания и народная поэзия составляют общую собственность всех времен и
всех народов, но нельзя сказать, чтобы изложение этих сказаний составляло их
общую собственность. В его сочинениях XII, 385.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
765
лишь посредством передачи из уст в уста точно так же, как это
было сделано относительно «Илиады» и «Одиссеи», но и тут и
там без искажений первоначального текста1. И «Песнь о
Нибелунгах» была «не по силам одному человеку»; она была
продуктом совокупных усилий поэтов в течение целого столетия. В ее
построении господствует самое строгое единство, отсюда видно,
что хотя в ее сочинении и участвовали одни вслед за другими
различные поэты, но между этими поэтами было полное
единомыслие. Поэтому эта поэма, «дошедшая до нас в своем
первоначальном виде почти без всяких изменений», считается Шлеге-
лем за удивительное произведение природы, но вместе с тем и за
«высокое произведение искусства». Еще Иоганн Мюллер
заметил, что «Песнь о Нибелунгах» может считаться за «северную
„Илиаду"». И Шлегель утверждает, что это действительно наша
«Илиада»: он это доказывает в своей блестящей характеристике
поэтического и нравственного направления поэмы. Его похвалы
основательны не без некоторых значительных оговорок; это —
суждения идеалиста, вырывающиеся из уст под влиянием
первого сильного впечатления. Но иначе нельзя было ни пробудить
заглохшее сочувствие к великим поэтическим произведениям
немецкой старины, ни воспламенить рвение исследователей, ни
вызвать то изучение германских древностей, плодами которого
мы пользуемся и в настоящее время. Я полагаю, что я заслужил
благодарность читателей тем, что не ограничился кратким
изложением смысла тех слов Шлегеля, в которых было в первый раз
указано высокое значение нашей великой национальной поэмы2.
Хотя эти слова и были сказаны только изустно, они имели такое
же значение, как суждения Фридриха Шлегеля о гомеровском
эпосе в его «Истории греческой поэзии». С тех пор как они были
сказаны, настал конец тому'культу Оссиана, который вовлекал
более старое поколение в заблуждения: этот фантом исчез как
туман перед настоящим северным эпосом.
1 Люди, сведущие в этом деле, едва ли нуждаются в указании на сходство
этого мнения Шлегеля с позднее изложенными воззрениями Лахманна. Укажем
только на следующий интересный факт: из переписки между Лахманном и
В. Гриммом, недавно напечатанной Захером в «Журнале для немецкой
филологии», видно, что эти два писателя находились под влиянием воззрений Шлегеля
и выработали более определенные и более нравственные воззрения благодаря
более ясному пониманию сущности народных сказаний.
2 См. в «Дополнениях...» № 9.
766
Р. ГАИМ
С этими суждениями о «Песни о Нибелунгах» не могут
равняться ни следующие за ними объяснения касательно «Книги
героев», ни объяснение британской и северофранцузской
мифологии, ни дошедший до нас лишь краткий очерк
стихотворений об Амадисе. В своих общих воззрениях Шлегель постоянно
напоминает нам мнения своего брата; в том, что касается
подробностей, он доказывает, что обладает всеми сведениями,
какие можно было добыть в то время; но в нашу задачу не входит
проверка его суждений1. Он указывает на выгодное положение
новейших поэтов, которые могут пользоваться мифологическими
сокровищами старинных рыцарских романов, облекая их в более
выработанные формы языка поэтического искусства; при этом
Шлегель не может воздержаться от ссылки на успех Виландова
«Оберона». Он не устанавливает ясного различия между
понятием о мифе и понятием о легендах, а под словом «романтическая
мифология» разумеет, сравнительно с более художественным
периодом поэтического творчества, более естественные и более
вольные поэтические произведения, которые рассматривает
отчасти как самостоятельные произведения, отчасти как
источники и зародыши романтической поэзии. Сообразно с этим
планом изложения он переходит от рыцарской поэзии к «Tabliaux», и к
новеллам. Сюда же он относит массу романов, имеющих
сходство отчасти с рыцарскими поэтическими произведениями,
отчасти с новеллами. Таким образом он доходит до настоящих
народных рассказов, от которых переходит к романам и другим
народным песням как к последним и самым свежим продуктам
натурпоэзии, как к «отголоскам более старых натуральных
песнопений». Он отдает справедливость заслугам Гердера, но вовсе
1 Достаточно будет указать, ради примера, на то, что в то время он еще не
читал «Титуреля», а впоследствии, в рецензии на послания Доцена (в его
сочинениях XII, 290), он называл эту поэму «цветком настоящего рыцарства», ставил ее
наравне с «Нибелунгами» и называл ее автора «немецким Данте»; эти
преувеличенные похвалы, как известно, долго имели вредное влияние на научное
изложение немецкой филологии. Достойны внимания и указания Шлегеля на древность
и на таинственное мистическое очарование, которыми отличается цикл сказаний
об Артуре от цикла сказаний времен Карла Великого: «Артур и его Круглый
стол не имеют ничего общего с войнами против сарацинов, хотя некоторые
рыцари и предпринимали по собственному почину экспедиции на Восток; это ясно
доказывает, что первая основа вымысла была древнее не только Крестовых
походов, но и войн, которые велись во Франции с маврами, или по меньшей мере
что она возникла там, куда не проникали слухи о тех войнах, что едва ли можно
считать правдоподобным».
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
767
не исправляет воззрений Гердера, когда говорит, что к народной
поэзии принадлежат только те песни, которые слагались для
низших классов и в низших классах населения. Он указывает на
однородный характер немецких, английских и шотландских песен и
сожалеет о том, что у немцев нет такого же сборника, какой
составлен англичанином Перси. Как на источник для такого
сборника он указывает на старинные католические церковные песни,
между которыми песни пилигримов не только вполне
соответствуют тону народной поэзии, но также приобретают характер
романсов, когда рассказывают легенды.
В главе о мифологии Шлегель дошел почти до новейшей
поэзии, а история романтической поэзии заставляет его
возвратиться назад. Ранее он вел речь о тех поэтических произведениях,
которые сделались образцами для романтиков благодаря
содержанию и энергии вымысла, а теперь он ведет речь о тех
произведениях, которые сделались образцами для романтиков по своей
внешней форме. Это — поэзия провансальских трубадуров. Она,
как всем известно, была матерью поэзии итальянской, а
итальянцы, со своей стороны, создали образцы для поэзии испанской и
португальской. В этом порядке Шлегель и излагает историю
романтической поэзии.
Он делает характеристику провансальского языка и духа
провансальской поэзии и в заключение сообщает отрывочные
сведения о содержании этих произведений; он с удивительным
искусством составляет из недостаточных материалов1 цельную
картину и благодаря своему верному инстинкту предугадывает
результаты позднейших исследований. Он неоднократно
указывает на сходство провансальского периода с периодом
немецких миннезингеров, утверждает, что миннезингеры не
были только учениками и подражателями провансальских поэтов,
и выражает надежду, что при новом возрождении поэзии
немецкий язык будет играть такую же роль, какую играл когда-то
провансальский, то есть «сделается природным языком
европейской поэзии». Он основательно замечает, что своеобразность
провансальской поэзии заключается в ее субъективности, не
возвышавшейся далее поучительных целей, что эта поэзия ни-
1 Он цитирует биографии Нострадамуса, публикацию Кресчимбени и Тас-
сони; некоторые сведения он заимствовал у Фридриха и из его журнала
«Европа» (I, 2, с. 67 и ел.); Фридрих неоднократно приглашал своего брата приехать в
Париж и вместе с ним предпринять путешествие в Прованс (письма №181,182).
768
Р. ГАЙМ
когда не бралась за объективные описания, что естественными
источниками для нее служили установившиеся обычаи и
личные страсти певцов. Поэтому она должна была или постоянно
повторяться, или выродиться. «Подобно матери, истощившейся
от своего собственного плодородия, провансальская поэзия
могла по-прежнему процветать только в своих детях, искавших для
себя счастья в других странах». Эта мысль служит для Шлегеля
переходом к итальянской поэзии и в то же время доставляет ему
твердую опору для его исследований.
После немногих замечаний о зачатках итальянской поэзии
Шлегель заводит речь о Данте и отзывается с основательной
похвалой о его канцонах и сонетах и о «Vita nuova». Для того, что
он далее говорит о жизни поэта, о его веке, о содержании
«Божественной комедии», по всему вероятию, послужила основой ранее
написанная им статья о Данте. Это видно из того, что в нашем
тексте нить изложения прерывается и после некоторого пробела
возобновляется только с того пункта, где Шлегель приступает
к характеристике стиля «Божественной комедии». Шлегель
начинает указаниями на неспособность людей его времени объять
органическое построение такого художественного произведения,
как поэма Данте. Он говорит, что для этого усопшего гиганта
настало время восстать из гроба, так как теперь начинают
воскресать философия и теология. Таким образом, он попадает на
такую тему, обсуждение которой ему не удавалось всякий раз,
как он касался ее; ведь чем менее свойственно его натуре
отвлеченное мышление, тем более он напрягает в таких случаях свои
силы и вовлекается в напыщенную риторику, содержание
которой обязано своими идеями Шеллингу. Затем он хвалит Данте как
поэтического теолога и с этой точки зрения ставит первого
великого романтического художника наряду с последним — с Каль-
дероном. По его мнению, «Auto» Кальдерона в самой сжатой
форме совершенно то же, что «Divina commedia» («Божественная
комедия».—Прим. науч. ред.) Данте в своем величественном
объеме — христианско-аллегорическое изображение универса...
Данте более похож на ветхозаветного пророка, а поэзия
Кальдерона имеет сходство с «Откровением св. Иоанна». Далее
приводится отзыв о Данте в «Ragion poetica» («О началах поэзии». —
Прим. науч. ред.) Гравины, а схоластико-мистические суждения
Гравины о необходимой связи физики с теологией служат для
Шлегеля щитом против нападений на новейшую романтическую
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
769
физику; при этом упоминается, единственный раз во всех
лекциях, имя Новалиса1. И когда Шлегель далее излагает свое
собственное воззрение, он с удовольствием останавливается на этом
средневековом соединении физики и теологии и объясняет
символику поэмы Данте; эта символика служит для него
доказательством того, что и в настоящее время возможна научная
мифология и что поэзия может сделаться «органом идеализма». Он
находит, что у Данте философия и поэзия вполне проникают одна
в другую. С этой же точки зрения смотрел на поэму Данте
Шеллинг в третьей статье второго тома «Критического журнала
философии», который издавался им вместе с Гегелем (1803 год)2.
Содержание этой статьи было уже известно Шлегелю. Он
положительно ссылался на замечание Шеллинга, что «Inferno» составляет
пластическую часть «Божественной комедии», «Purgatorium» —
живописную часть, «Paradiso» — музыкальную. Это разделение
поэмы на три части Шеллинг считал за символическое
выражение внутреннего типа всякой науки и всякой поэзии. Понятию о
такой тройственности Шлегель придает еще более широкое
значение. Он вполне серьезно объясняет значение терцин с точки
зрения полупифагорейского, полунатурфилософского мистицизма.
По его словам, число «три» возникает не путем сложения;
единица раздваивается в себе самой и также из себя самой производит
третью часть, занимающую середину между первыми двумя. Это
и изображается в терцинах. Первый стих есть как бы отец
третьего, соответствующего ему стиха, а второй стих и разделяет
их, и соединяет. Конечно, каждая терцина требует еще одного
стиха, соответствующего по рифме среднему стиху; но точно так же
и производительная деятельность природы уравновешивает в
каждом своем произведении взаимную борьбу противоположных сил
и вместе с тем до бесконечности создает зародыши новой
борьбы. Это лежащее в основе терцин указание на будущее придает
этому стихотворному размеру пророческий характер. Нить
терцин может быть замкнута только произвольной прибавкой одного
стиха, точно так же и в развитии конечного ум может составить
1 «Это [цитированные слова Гравины] есть одно из бесчисленных
доказательств того, что стремления многих из сочувствующих мне моих
современников, как например Новалиса, выдававшиеся за безрассудные, будут в самом
непродолжительном времени признаны основательными».
2 «Ueber Dante in philosophischer Beziehung» в упомянутом выше журнале,
с. 35 и ел.; теперь эта статья помещена в сочинениях Шеллинга V, 152 и ел.
25 Зак. X« 3602
770
Р. ГАИМ
проникнутое единством целое только посредством акта
свободной воли, посредством неподдающегося объяснениям скачка.
В объяснениях этого рода сказываются две главные
слабости романтизма — обыкновение преувеличивать значение
внешней формы и влечение к фантастическому мистицизму.
Последней из этих слабостей А. В. Шлегель заразился извне, а первая
находилась в непосредственной связи с самыми выдающимися
особенностями его личной даровитости. Это сочетание двух
слабостей порождает нечто в высшей степени уродливое; оно
свидетельствует о болезненном душевном состоянии, от которого
Шлегель впоследствии избавился благодаря своей рассудительности
и своему изящному вкусу. К сожалению, мы должны заметить,
что это влечение к формализму доходит до своей высшей степени
в главе о Петрарке. Шлегель ведет борьбу «pro aris et focis», когда
утверждает, что сонет есть тот вид лирической поэзии, в котором
«самосозерцание ума, усиливающееся при посредстве философии
и переходящее в поэзию», может находить для себя совершенно
иное выражение, чем в других употребительных формах
лирической поэзии. Он излагает настоящую философию сонета как
вполне развитого рифмованного стихотворения. Он объясняет, какое
можно делать из сонета глубокомысленное употребление. При
этом он иногда высказывает меткие замечания. Разве не
следует называть остроумным его замечание, что лиризм есть «вода»
поэзии в том смысле этого слова, в каком Пиндар называет воду
самой превосходной из всех вещей? Он говорит, что в
лирическом изложении душевные чувства похожи на поток,
движения которого могут усиливаться от легкого колебания волн до
шумного водопада.
Тон лекций снова становится более возвышенным, когда
Шлегель переходит к характеристике духа произведений
Петрарки. При этом он затрагивает один важный эстетический вопрос:
он развивает понятие о романе, столь важное для определения
сущности романтической поэзии. Упоминая о романах, которые
встречаются и в древней литературе греков и римлян, он замечает,
что в приходившем в упадок древнем искусстве отзвуки
романтического направления были признаками испорченности. У
древних было установлено более строгое различие и между видами
поэзии и между поэзией и прозой. Они скорее допускали
проникновение поэзии в прозаическую сферу, а такую «поэтическую
прозу» мы находим как в риторике древних софистов, так и в по-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
771
эзии романов позднейшей древности. Совершенно
противоположное мы находим у новых народов. В новейшую поэзию, с
самого начала ее возникновения, входит прозаический элемент, как
это всего яснее обнаруживалось в оборотах языка и в
стихотворном размере. Таким образом возник особый род поэзии, для
которого проза служила естественной внешней формой. Этот род
поэзии есть роман, который следует считать за представителя
общего характера новейшей поэзии. Он господствует над всей
новейшей романтической поэзией, включая даже драму; все
великие произведения новейших драматургов и все формы наших
драм следует оценивать согласно с принципами романа, так что
тот, кто не умеет справиться с произведениями Сервантеса, едва
ли будет в состоянии понимать Шекспира. Итак, мы
возвращаемся к основному положению, изложенном в отрывочных
заметках «Атенея», к тому основному положению, что «роман дает
окраску всей новейшей поэзии»; но вместо более философского
объяснения сущности романа Фридрихом Шлегелем Вильгельм
придает такому объяснению преимущественно
историко-литературный характер. Он подробно рассматривает связь между
поэзией и историей. Он говорит, что у древних писателей
историческое изложение примыкало к поэтическому, и в особенности
к эпическому; что Геродота можно без всяких колебаний назвать
«Гомеридом». У новейших писателей мы находим противное.
У них поэзия проникла в историю: Данте был историографом
своего времени, а о Шекспире и Камоэнсе можно с уверенностью
сказать, что они были национальными историками, самыми
лучшими, коих только можно желать. Отсюда возник своеобразный
род исторической литературы, достоинства которого
заключаются в том, что он знакомит нас с такими общеинтересными
фактами, для которых нет места в настоящей истории, — с
происшествиями обыденной жизни и с теми замечательными событиями,
которые «случились, так сказать, за спиною гражданских
учреждений и законов». Этот род литературы называется «новеллами».
Но Шлегель недостаточно ясно определяет взаимные отношения
между романами и новеллами. Он называл «Люцинду» «Unroman»,
поэтому понятно, что он не вполне разделял мнение своего брата
о различии между романом и новеллой. С одной стороны, он не
относит к разряду романов те рыцарские рассказы, в которых
создается какой-то идеальный мир; с другой стороны, он
признает «Дон Кихота» за настоящую новеллу; даже «Клариссу» Ричард-
772
Р. ГАЙМ
сона следовало, по его мнению, признать за новеллу, если бы ее
можно было сократить до нескольких печатных листов.
Находящийся в наших руках текст лекций оканчивается
основательными замечаниями о мнимой безнравственности
«Декамерона». Но Шлегель не мог этим закончить свои лекции.
Он, без сомнения, стал бы далее вести речь об Ариосто и Тассо,
о Кальдероне и Шекспире. Но он так долго останавливался на
великих «основателях и отцах романтической поэзии», что с
лекциями этой зимы случилось то же, что и с лекциями
предшествующего года. Мы можем догадаться, что к концу лекций
изложение Шлегеля становилось все более сжатым и что если бы он не
выехал весной 1804 года из Берлина и из Германии, он стал бы
следующей зимой излагать историю поэзии португальской,
испанской, английской или же повел бы речь о двух великих
романтических драматургах — о Шекспире и Кальдероне.
Тем временем Шеллинг изустно объяснял перед иной
публикой характер романтизма и способ применения своей
романтической философии к более широкой сфере человеческих знаний.
Можно было заранее знать, в какую сторону философия Ше-
линга пустит свой первый отросток. Она открыла высшую и
конечную цель искусства и вслед за тем стала выдавать за
общеприменимую ту формулу, которую она составила для искусства.
Поэтому было вполне естественно, что Шеллинг задумал
обработать философию искусства, или «поэтику», точно так же, как он
гзанее обработал физику. До того времени эстетика находилась в
Иене отчасти в руках Шюца, отчасти — в руках А. В. Шлегеля.
Было бы неблагоразумно вступать в соперничество со Шлеге-
лем на той почве, на которой он господствовал богатством
своих познаний. Но Шлегель перенес чтение своих лекций в Берлин;
с зимы 1802 года его имя исчезло из списка йенских профессоров,
а именно этой зимой Шеллинг предпринял чтение лекций об
эстетике1. Он решился на это, как сам писал Шлегелю, «отчасти
назло местному обществу, отчасти из желания развить свою
философию в этом направлении и извлечь для нее из этой сферы
более возвышенные формы». Он действительно нуждался в
таких более возвышенных формах, потому что основа его наскоро
1 Шеллинг к А. В. Шлегелю [от] 3 сентября 1802 года (у Плитта, с. 397).
В списке лекций было сказано: «tradet philosophiam artis sive Aestheticen ea ratione
et methodo, quam in constructione universae philosophiae secutus est et quam alio
loco pluribus exponet».
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
773
набросанной системы тождества находилась в решительном
противоречии с эстетическим принципом, была отчасти
математической, отчасти натурфилософской. Сделанная им в его «Бруно»
попытка изложить эту систему в разговорной форме почти вовсе
не коснулась внутреннего построения его философских идей: ему
еще предстояло подвести под законы искусства и понятие об
универсе, и даже понятие о философском познавании. Вопрос
заключался в том, не закрыл ли для себя наш философ этот путь, не
облек ли он понятие об универсе в такие безжизненные и
отвлеченные формы, что был уже не в состоянии с достаточным
беспристрастием исследовать искусство в его проявлениях и во всей
его своеобразности. Он сознавал, что такая работа потребует
многосторонних познаний и эмпирических воззрений. Он знал, что
некоторые из его идей оказались полезными для Шлегеля, и
полагал, что ему также дозволительно пользоваться признаниями
Шлегеля. По его просьбе Шлегель прислал ему экземпляр своих
берлинских лекций и предоставил ему право пользоваться их
содержанием. Сравнение этого экземпляра с напечатанным
экземпляром лекций Шеллинга1 доказывает нам, что философ
позаимствовал у историка литературы гораздо менее того, что было бы
желательно. Шлегель построил свою систему эстетики на
плодотворных идеях, изложенных в последних параграфах
трансцендентального идеализма Шеллинга. Напротив того, Шеллинг
втиснул свою систему тождества между теми плодотворными идеями
и своими понятиями об эстетике. Он писал Шлегелю2, что его
философия искусства будет не самостоятельной теорией
искусства, а отражающейся в искусстве философией универса; что для
него будет служить предметом не действительное, или
эмпирическое, искусство, а «искусство в себе», то есть корень
искусства, понимаемого в абсолютном значении. Так как к своим
соображениям об универсе как о произведении искусства Шеллинг
намеревался применить и те безжизненные основные положения,
которыми он пользовался для изложения своей системы
тождества, то можно было заранее предвидеть, что из его лекций нельзя
будет извлечь никаких новых поучений.
Однако благодаря своей точке зрения Шеллинг был в
состоянии придать новый смысл понятию о посредническом значении
1 В его сочинениях V, 353 и ел. Сравн. предисловие издателя к тому V.
2 3 сентября 1802 года (у Плитта, с. 397).
774
Р. ГАИМ
мифологии. И для него, точно так же, как для А. В. Шлегеля,
мифология есть настоящий материал искусства. По его мнению,
каждая вещь есть абсолютное целое. С такой точки зрения,
каждая вещь есть идея. Ее сущность есть абсолютное, есть божество.
Поэтому идеи для идеальной точки зрения философии то же, что
боги для реальной точки зрения искусства. Из этих основных
положений само собою следует, что абсолютная реальность богов
одинакова с абсолютной реальностью изображаемых фантазией
идей; что боги одарены блаженством, красотой, что они
составляют единое целое. Уважение к классической древности в связи с
привычкой из всего строить цельную систему доводит Шеллинга
до мысли, что в греческой мифологии вполне исчерпано все, что
кроется в царстве идей; он даже пытается определить
достоинство идей каждого из греческих богов; так, например, он находит
в Юпитере пункт абсолютного индифферентизма и так далее. Но
и для новейшего искусства мифология служит, по мнению
Шеллинга, необходимым условием и главным материалом. Он
является учеником Шлегелей, когда указывает на противоположность
между древним миром искусства и новым и когда говорит, что
новая поэзия отличается от древней не только ступенью своего
развития, но и своим характером; он положительно
придерживается воззрений, изложенных Фридрихом Шлегелем в «Истории
греческой поэзии», когда говорит, что стремление к бесконечному в
противоположность со стремлением к конечному лишь слегка
обнаружилось в первый раз у греков и вполне обнаружилось в
послегомеровской поэзии. Но Шеллинг, естественно, не
довольствуется характеристикой этого различия, а хочет построить из
него правильную систему. Он обобщает это различие и
расширяет его до противоположности между различными веками, до
универсального дуализма, для которого дуализм искусства
служит лишь отдельным симптомом и который всего решительнее
выразился в противоположности между язычеством и
христианством. В греческом мире, увлекавшемся конечным, на универс
смотрели как на натуру, а в стремящемся к бесконечному
христианском мире на универс смотрят как на свободу, как на
достигнутое путем исторического развития уничтожение
противоположности между конечным и бесконечным. Поэтому древняя мифология
была символической, была изображением бесконечного в
конечном, а христианская мифология аллегорична: в ней конечное
имеет лишь значение бесконечного. В христианстве вовсе нет вполне
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
775
выработанных символов, а есть только символические действия;
оно выражается действиями в публичной жизни христианской
церкви, культ которой есть живое художественное произведение.
Поэтому всякая христианская мифология развивается исторически,
подобно тому как она развилась в католицизме. Она не образует
замкнутую сферу. Она возникла и возникает не так, как в
древности, не вследствие поэтической деятельности отдельных
личностей, потому что в новом мире господствует индивидуальность.
Призвание всякого поэта — создавать для себя свою собственную
мифологию из материалов, существующих в его время. Так
делали Данте, Шекспир, Сервантес и Гёте в своем «Фаусте».
Однако наш философ не мог остановиться на понятии о такой
мифологии и о таком искусстве, потому что это понятие очень
мало соответствовало тому, которое первоначально выводилось
из абсолютного. Настоящая мифология и настоящее искусство
не могут быть, по его мнению, ни античными, ни христианскими;
они должны представлять единство тех и других, а это единство
он невольно выставляет более в античном освещении, чем в
христианском, вследствие своего натуралистического воззрения на
абсолютное. Он положительно говорит, что всякая
спекулятивная философия, и в особенности его собственная, переходит от
мистического единства между бесконечным и конечным к
объективному единству, что она принимает направление,
противоположное направлению христианства, и потому может
признавать христанство только за переходную ступень, только за элемент,
то есть только за одну сторону нового мира. Настанет то время,
когда происходящие в новом мире колебания уступят место тому,
что будет установлено раз и навсегда, когда «мировой дух сам
доведет до конца» то великое поэтическое произведение, о
котором мечтает Шеллинг. Такое тождество истории и натуры
отразится и на мифологии, и на искусстве. Реалистическая мифология
греков не уклонялась от связи с историческими условиями; ее
природные боги сделались историческими богами. В конце
новейшего умственного развития случится противоположное: его
идеалистические исторические божества превратятся в
природных богов и только тогда приобретут характер абсолютности. Тогда
мифология будет продуктом не отдельных изобретательных
поэтов, а всей эпохи. Уже теперь заметны слабые зачатки такой
будущей мифологии, которая будет вполне символической. Они
заключаются в натурфилософии. Поэтому уже в теперешнее пе-
776
Р. ГАИМ
реходное время творческие умы могли бы составлять для себя
мифологию из содержания высшей физики. Но еще с большей
уверенностью можно сказать, что в этой физике кроется
возможность создать мифологию и символику усилиями целого
поколения. «Не мы желаем дать богов вашему идеалистическому
умственному развитию при помощи физики. Напротив того, мы
ожидаем ваших богов, для которых у нас уже готовы символы».
Когда Шеллинг еще мечтал о создании «поэмы природы», он
писал летом 1800 года А. В. Шлегелю, что, как кажется, уже
нашел мифологию, заключающую в себе все те идеи, которые он
желал изложить. Но впоследствии он отказался от своего
намерения. Он пришел к убеждению, что в настоящее время
невозможны ни настоящая мифология, ни настоящий эпос.
Изложенные им в главе о мифологии воззрения господствуют над его
воззрениями на теорию искусства. Он говорит, что будущий
современный эпос будет абсолютным дидактическим
стихотворением, что это будет спекулятивный эпос натуры вещей. Он
полагает, что в системе тождества уже заключается по меньшей
мере зародыш такого эпоса, точно так же как в его
натурфилософии заключаются символы для богов будущего: ведь такой эпос
должен изображать отражение универса в знании, а сам универс
есть не что иное, как поэзия абсолютного; поэтому если знание
абсолютно, то оно переходит в поэзию, а самое лучшее и
конечное назначение науки — «обратно течь в тот океан, из которого
она возникла».
Такие основные воззрения с некоторыми своеобразными
видоизменениями повторяются в главе о трагедии; впрочем, эта
глава составляет самую обработанную часть лекций Шеллинга.
Цель трагедии заключается, по мнению нашего философа, в
примирении свободы с необходимостью. Однако он с трудом
отыскивает в трагедиях Шекспира это понятие, заимствованное из
античных трагедий, основанных на идее фатализма. Он находит,
что у Шекспира характер заменяет фатализм, но что поэт
вкладывает в характеры такой фатализм, что в них уже исчезает
свобода... Шекспир велик, даже божественен, но при всей своей
божественности он поэт варварский («barbarisch») и в его трагедиях
высшее совершенство не достигнуто.
В лекциях Шеллинга немало отрывочных остроумных
замечаний, но для нас всего интереснее своеобразность его
воззрений, постоянно уклоняющаяся от воззрений остальных романти-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
777
ков. Шеллинг не сходился в мнениях с автором «Речей о
религии», а это разномыслие неизбежно должно было обнаружиться в
публичной деятельности двух писателей1. Мистику религии Шлей-
ермахера Шеллинг заменил требованием объективной
религиозной символики. Между тем как Шлейермахер лишь намекал в
своих «Речах» на возможность более выразительных и более
изящных форм религии, которые могли бы существовать наряду с
христианством и вне его, Шеллинг излагал в своих лекциях
положительные воззрения на характер такой будущей религии. Но еще
гораздо оживленнее был обмен мыслями между Шеллингом и
А. В. Шлегелем. Философские воззрения Шеллинга на мир
искусства не сходились с историческими воззрениями Шлегеля.
Этот последний не хотел ничего знать об указанном Шиллером
различии между наивной и сентиментальной поэзией, а Шеллинг
положительно опирался на это различие. Поэтому
противоположность между античной поэзией и поэзией романтической получает
у Шеллинга совершенно другой характер, чем у Шлегеля.
Причина этого заключается не только в сравнительной
ограниченности познаний философа, который, как кажется, вовсе не был
знаком с «Песнью о Нибелунгах», но также и главным образом в
том, что древность имела на него более сильное влияние, чем на
остальных романтиков; она имела такое же сильное влияние на
него, как на Гёте и как на Фридриха Шлегеля несколькими
годами раньше. Для друга Гельдерлина и Гегеля все, что не антично,
было не абсолютно, а абсолютное было возвращением к
античному в его высшей потенции. Вот почему Шеллинг придает
ничтожное значение лирике, относит рыцарскую поэзию и роман к
категории эпических произведений, придает господствующее
значение пластическому искусству, невысоко ценит ландшафтную
живопись и безусловно одобряет воззрения Винкельмана. И
братья Шлегели смотрели на сочетание романтического с античным
как на конечную цель художественного развития, но только у
Шеллинга эта цель в первый раз указана категорически и
основана на высших принципах миросозерцания; он выставляет
античное искусство в таком ярком свете, что перед его воззрениями
1 Шеллинг начал литературную борьбу с Шлейермахером (не называя его
имени) в своих лекциях о методе академического преподавания; Шлейермахер
возражал ему в критике теории морали и в рецензии на лекции Шеллинга (в их
переписке IV, 579 и ел.); сравн. письмо Шлейермахера к Реймеру (III, 370) и в его
переписке с Гассом с. 31, 32.
778
Р. ГАЙМ
бледнеют рассуждения В. Шлегеля о равноправности поэзии
античной и романтической. Подобно тому как в своей философии
Шеллинг склонялся со стороны Фихте на сторону Спинозы, в
своей эстетике он переходит со стороны романтической школы на
сторону Гёте. Поэтому хотя он и восхищается «Ионом» и едва ли
не еще более «Коцебуадой» своего друга Шлегеля, но в своих
лекциях о философии искусства он не удостаивает упоминания
поэтические эксперименты своих друзей. Хотя он и упоминает о
«Женевьеве» Тика, но только для того, чтобы противопоставить
ее произведениям Кальдерона и упрекнуть ее автора за то, что он
придает католицизму чрезвычайно мрачный характер. Мы
узнаем в нем ученика Шлегелей, когда он называет Данте, Петрарку
и Боккаччо первыми тремя великими звездами на горизонте
новейшей поэзии, когда он относится с пренебрежением не к
философии Шиллера, а к его поэзии, когда он, говоря о «Дон Кихоте» и
о «Вильгельме Мейстере», вносит в свои рассуждения понятие
иронии; но характеристичен тот факт, что все эти повторения
мнений Шлегелей получают у Шеллинга объективный отпечаток и
вообще приноравливаются к симпатиям Шеллинга к античному
искусству. Эстетика Шеллинга можно назвать романтиком лишь
с очень значительными оговорками. В своей философии
искусства он романтик только в некоторых отдельных пунктах; он
безусловно романтик только в форме и в методе всей своей системы,
так как она вносит научные абстракции в свое воззрение на
искусство.
Но если шлегелевская эстетика превосходит эстетику
Шеллинга богатством подробностей, зато философ имеет
бесспорные преимущества перед историком, когда заходит речь о
цельности научных воззрений. Тенденция подводить все явления под
один принцип была в духе романтизма. И Гарденберг, и Фр. Шле-
гель помышляли о составлении общего, цельного обзора всех
наук, но намерение Фр. Шлегеля взяться за составление
энциклопедии не осуществилось; за это дело серьезно взялись более
богатый познаниями В. Шлегель и постоянно руководствовавшийся
идеей об единстве всех познаний Шеллинг. Их энциклопедические
труды, служившие дополнениями одни для других, являются с
исторической точки зрения предшественниками энциклопедии
Гегеля. Но их навели на эту работу их публичные лекции.
Летом 1802 года Шеллинг объявил, что будет читать
публичные лекции о методе академических занятий. Эти лекции не были
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
779
доведены до конца; они должны были возобновиться и дойти до
конца в летний семестр 1803 года, как это было сказано в списке
лекций. Однако в конце мая Шеллинг выехал из Йены для того,
чтобы туда не возвращаться. Он закончил свои лекции для их
печатного издания: они вышли в свет к пасхальной ярмарке
1803 года1. С целью доставить учащемуся юношеству руководство
для академических занятий и в противоположность находившимся
в употреблении руководствам Шеллинг изложил обзор
органического целого наук, а это целое разделил на части соответственно
университетскому разделению на факультеты. Это есть
применение системы тождества, всеобъемлющей формулы Шеллинга
к универсу наук, к «universitas litterarum». Такую задачу не мог
обойти философ, для которого наука и философия совершенно
отождествлялись. Ее нельзя было обойти в такое время, когда «и
в науке и в искусстве, по-видимому, все стремилось сильнее
прежнего к единству», как выразился Шеллинг в своей первой лекции.
За нее взялся Шеллинг тем охотнее, что стремление к
систематичности было свойственно и его новому союзнику Гегелю,
влияние которого ясно обнаруживалось и во многих других
пунктах, как, например, в полемике против субъективизма, в
упоминании о логике, о естественном праве и о политике. За
произведением Шеллинга следует признать двойную заслугу.
Спекулятивный философ, бесспорно, доходил до
преувеличений в своем понятии о знании и слишком низко ценил
эмпирические сведения. Его высокопарный идеализм соединялся с
заносчивым аристократизмом, не таким чистым и не таким
основательным, как у Платона, который также проповедовал
эмпирикам и просветителям своего времени знание, основанное на
идеях, знание ради знания. К увлечению Шеллинга абсолютным
знанием примешивается слишком сильное сознание своей
собственной гениальности и своего превосходства над ученой
чернью. Это не спокойная гордость ученого, с уверенностью и
хладнокровно излагающего свои познания, а показное высокомерие
мнимой учености, которая смотрит свысока на «охлократию в
научной сфере», на низшие слои общества в республике ученых.
1 Изложенные нами сведения извлечены из «Index scholarum» (где лекции
носят следующее заглавие: «Studiorum academicorum recte in stituendorum
rationes») и из письма к А. В. Шлегелю от 13 мая 1803 года (у Плитта, с. 462).
Второе и третье издания вышли в свет без изменений в 1813 и 1830 годах: лекции
перепечатаны в полном собрании сочинений Шеллинга V, 207 и ел.
780
Р. ГАИМ
Поэтому пафос Шеллинга покажется нам в настоящее время
лишенным серьезного содержания, его утверждения покажутся нам
легкомысленными, а его тон — непристойно заносчивым; мы не
найдем у него ни спокойного нравственного величия Спинозы, ни
энергии характера Фихте. Однако несмотря на эти недостатки,
и в настоящее время сочинение Шеллинга способно
воодушевлять юношей и внушать им убеждение, что всякое отрывочное
знание имеет цену только в своей связи с целым, по своему
отношению к высшим началам, лежащим в основе всех явлений.
В этом заключается одна заслуга Шеллинга. Другая его заслуга
заключается в том, что он по меньшей мере попытался отыскать
средоточие для всех разветвлений науки.
И Шлегель предпринял летом 1803 года чтение лекций об
энциклопедии, вероятно перед немногочисленными
слушателями. Он уже имел перед глазами лекции Шеллинга, но ему, как
историку и филологу, не годилась точка зрения философа.
Система тождества не была его системой. Она служила ему вместе
с натурфилософией только обильным источником идей; он
хотел, чтобы оценка научных достоинств этой натурфилософии
была на время отложена. Поэтому шлегелевская
энциклопедия имеет эклектический характер. В ней повсюду блестят
философские мысли, но они лишь внешним образом связаны с
эмпирическими данными, составляющими главное содержание
лекций. Это энциклопедия в обыкновенном смысле слова. Хотя
отдельные предметы излагаются в таком порядке, который
заявляет притязания на философскую основу, но автор примешивает
к этой основе различные соображения или касательно
источников знания, или касательно его объектов, или касательно его
целей. Мы восхищаемся не столько возвышенностью точки зрения,
сколько шириной кругозора. Шлегель сначала делает краткий
обзор всей сферы наук, а потом подробно говорит о тех науках,
которые специально изучал, — об истории и филологии,
присоединяя к ним в кратком приложении и философию. Подобно Бэкону,
он старается прежде всего вполне обрисовать «globus intellectualis»
и, подобно Бэкону, повсюду указывает пустые места,
остающиеся невозделанными. Он прежде всего требует не только
формальной, но и материальной логики. Необходимость внешних знаков
при деятельности разума наводит его на мысль о символике
человеческого ума, которая должна входить в состав логики. Он
хочет включить в эту символику философскую грамматику, которая
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
781
должна быть поставлена во главе филологии. Затем он
предъявляет требование «основательной истории немецкого языка».
Даже история греческой и римской литературы существует, по его
мнению, только в своих зачатках, а Фридрих Шлегель был, по его
мнению, единственным писателем, далее развивавшим в этой
сфере правильные воззрения Винкельмана. Но замыслы
Фридриха, точно так же как замыслы его брата, заходили еще далее.
Они требовали такой археологии, которая знакомила бы нас со
всеми сторонами античной жизни и античного образования.
Наконец, последнее желание нашего энциклопедиста уже неоднократно
высказывалось в сфере его друзей: он желает появления такого
историка философии, который обозрел бы и с философской, и с
исторической точки зрения все системы, принимая их за различные
выражения одной неделимой и неизменяемой философии.
Все эти хорошие пожелания впоследствии были исполнены и
из них всего яснее видно, как плодотворно было для нашей
умственной жизни романтическое направление ума. Но есть два
пункта, которые в этом отношении заслуживают особого внимания:
Шлегель подробно излагает свои воззрения на историографию и на
философскую филологию.
Наш эстетик обращает свое внимание не столько на
исторические исследования, сколько на историографию; он не излагает
научные принципы, а предъявляет художнические требования. Он
полагает, что и в Новое время можно придерживаться всеобщей
точки зрения на историю; он хвалит средневековые хроники за то,
что они старались объяснять смысл всемирной истории, как
продукта Провидения; он даже вовлекается в некоторые смелые
историко-философские объяснения, пользуясь идеями Шеллинговой
натурфилософии. Он очень неверно судит об остроумном
сочинении Гердера: он находит, что в этой книге нет ни идей, ни
философии, ни истории, ни гуманности; что в ней выдаются за гуманность
личные влечения и мнения автора. Он видит в этой книге верх
новейшей ложной историографии. Для настоящей историографии
он требует практических идей и, в особенности, понимания
государственных интересов в связи с ясными воззрениями на
индивидуальные интересы. Для него всего важнее, чтобы история не
преследовала второстепенных целей и интересовала человека как
человека. Это может быть достигнуто только свободным
художественным произведением, находящим удовлетворение в самом
себе; Шлегель подробно объясняет, каков должен быть художе-
782
Р. ГАЙМ
ственный характер такой историографии. Он не должен иметь
ничего общего со стилем тех новейших каллиграфов, которые
наряжают историческую Музу как «маскарадную пастушку». Он,
скорее, должен брать за образец архитектурное искусство, потому
что подобно тому, как это искусство имеет в виду
целесообразность, историография имеет в виду истину; составные части там
связаны между собою механической силой тяготения, а здесь они
должны быть связаны между собою силой убеждения: историку
прежде всего необходимы основанные на опыте непоколебимые
убеждения. Короче говоря, история есть «поэзия истины» и
потому должна подчиняться законам поэзии. Здесь Шлегель почти
совершенно сходится с мнениями Шеллинга об историческом
искусстве, изложенными в лекциях о методе академических
занятий; Шлегель сам указывает на это единомыслие, и, конечно, он
был в этом отношении скорее наставником, чем учеником
Шеллинга. Следующая далее критика прежней историографии
доказывает, что суждения Шлегеля были вполне самостоятельны. Он
начинает с эпического Геродота и трагического Фукидида. Говоря
о Полибии, он осуждает прагматический способ изложения,
вносящий рассуждения туда, где действуют полные жизни силы,
между тем как историк-повествователь переносит читателя на театр
событий и наглядно рисует перед ним мировую драму. Далее
Шлегель сравнивает Саллустия с Фукидидом, называет
произведения Тацита «первыми великими образцами лирической
историографии»; между новейшими историками он хвалит
Макиавелли, а в произведениях Вольтера видит доведенное до
крайности искажение истории. В сравнении с этим «ложным
энциклопедическим направлением» произведения английских историков
кажутся нашему критику восстановлением исторической истины:
ведь хотя рассудительный Юм и водянистый Робертсон и
обращались к так называемому человеческому здравомыслию, но они
брались за свое дело серьезно. Произведение Гиббона, несмотря
на вычурность, однообразие и высокопарность стиля, может
считаться первым со времен Геродота образчиком чего-то похожего
на универсальную историю. Наконец, признавая Гёте за
восстановителя настоящей поэзии, романтическая критика полагает, что
нашла у него идеал исторического искусства. Оба Шлегеля
всегда высоко ставили автора истории Швейцарии Иоганна
Мюллера. Романтики сочувствовали его полемике против чисто
отрицательного воззрения тогдашних просветителей на средние века и
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
783
на церковную иерархию; с другой стороны, они находили
удовлетворение для своих эстетических требований в его способе
изложения. По словам Шлегеля, это был первый между
новейшими историками, верно понимавший величие средних веков.
Вообще вся историческая глава энциклопедии Шлегеля наполнена
самыми странными противоречиями. В ней Шлегель является то
самым невоздержанным мечтателем, то самым хладнокровным
исследователем исторических данных. Он руководствуется то
свойственной романтикам склонностью к ученому остроумию и к
построению научных систем, то самыми здравыми
практическими соображениями. Он является самым ярким реакционером и в
своих похвалах средним векам, и в своих выходках против
гуманности и Просвещения, и в своей преувеличенной характеристике
экономическо-военного принципа новейшей политики, и в своем
презрении к английским государственным учреждениям, которым
он предсказывает неизбежную отмену. Он вызывает на наших
устах улыбку, когда пытается строить самые нелепые
географические и исторические системы, когда заодно с Шеллингом ведет
речь о минералогическом, растительном и животном принципе
древних государств, когда заодно с Фридрихом Шлегелем ведет
речь об утраченном Европой единстве, об отрицательном духе
Запада и о разных других нелепостях. Но все эти романтические
причуды внезапно исчезают, и Шлегель снова высказывает самые
разумные, самые просвещенные воззрения. Делая исторический
обзор новейших государств, он ведет речь о Пруссии. Следовало
бы ожидать, что, по примеру Шлейермахера и Шеллинга, он будет
доказывать на примере Карла Великого негодность системы
государственного управления в восемнадцатом столетии! Но мы
находим совершенно противное. Очевидность фактов заставляет
даже этого романтика сделаться проповедником политической
мудрости и национального прогресса. Он хвалит искусство, с
которым сильное протестантское государство взяло на себя роль
противовеса австрийскому влиянию и только этим способом сделало
возможным составление национальной конфедерации против
Французской революции, между тем как Австрия заботилась только о
себе, жертвуя интересами Германии. «Абсолютная власть, —
говорит он, — по-видимому, нигде не является менее склонной к
злоупотреблениям, чем в Северной Германии, потому что там уже
давно проникли в нравы населения трудолюбие, бережливость,
порядок и честность. С другой стороны, на монархическое управ-
784
Р. ГАИМ
ление наложена узда научным развитием нации, а это развитие
так широко и так основательно, что может ничего не бояться со
стороны правительственных распоряжений. В таком небогато
одаренном от природы государстве, где ловкость и рвение столько
же необходимы должностным лицам, сколько предприимчивость
необходима рабочему классу населения, не может
господствовать принцип умственной неразвитости. Надежды, возлагаемые
немецкой нацией на прусское государство, основательнее надежд,
возлагаемых на Австрию, еще по той причине, что в этом
последнем государстве большая часть населения не германского
происхождения, что она отчасти сохранила варварский отпечаток в своих
нравах и образе жизни и охотно служит орудием для подавления
Германии; напротив того, в прусском государстве и громадное
большинство подданных и само правительство состоят из
немцев, так что даже вновь приобретенные обширные польские
провинции не могут уничтожить перевеса немецкого элемента.
Пруссия все более и более преобразуется в Северо-Германскую
империю. Ввиду того что политический горизонт покрыт
густыми тучами и что Германия играет бесславную роль в европейских
делах, было бы слишком самонадеянно ожидать от нее спасения
для Европы. Для этого прежде всего необходимо, чтобы
немецкая нация снова начала жить своей собственной жизнью, а этого
можно достичь лишь посредством сплочения крупных
политических масс, так как старые государственные учреждения уже не
соответствуют духу времени».
Теоретическому духу романтики более по силам была
филология, чем историография. Остроумные замечания о сущности
языка служили подкладкой для поэтики В. Шлегеля.
Энциклопедия возвращается к этой теме для того, чтобы обработать ее
более точным и более научным способом. Но она опирается в
этом случае на прекрасную, оконченную в 1803 году работу Берн-
гарди. Этот ученик Вольфа и Фихте, этот друг Тика и Шлегелей
наконец нашел тот предмет, за который мог взяться
самостоятельно и с правом на свои личные заслуги. Его «Грамматика»1,
посвященная его наставнику Вольфу, обозначает, независимо от
философских произведений Шеллинга и Стеффенса, первый
переход романтического духа в сферу строго научную; она также
1 «Sprachlehre von Α. F. Bernhardi». Берлин, у Фрёлиха. Первая часть вышла
в 1801 году, вторая часть — в 1803 году.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
785
обозначает эпоху в развитии филологии, прогресс сравнительно
с легкими намеками Гердера и с трудами Гарриса и Монбоддо,
заслужившими за свои серьезные достоинства выражения
признательности со стороны В. Гумбольдта. Шлегель умел
выставлять врожденный поэтический дух человеческого языка лучше,
чем его друг, превосходивший его своими философскими
познаниями; зато этот друг был в состоянии с методическим
терпением объяснить происхождение всей организации языка из одного
основного принципа и начертать законченную систему философии
языка. Эта система служит как бы дополнением к «Основным
началам науки» Фихте и исходит из изложенных в этом сочинении
основных идей. Подобно тому как «Основные начала науки»
старались объяснить чудное возникновение бытия, «Грамматика»
Бернгарди старается объяснить чудное возникновение языка.
При этом прагматические рассуждения нередко заменяют
чисто объективную диалектику; но это не мешает автору
проводить его руководящую точку зрения до конца с надлежащей
последовательностью. По его мнению, язык есть аллегория человека
и его натуры, есть требуемое рассудком изображение его
сущности, постоянно достигающее высших совершенств под влиянием
фантазии и с помощью членораздельных звуков. Первая часть
сочинения начинается с подражательного образования звуков при
содействии символики и объясняет возникновение слов для
выражения понятий, возникновение целых фраз для выражения
суждений. Там, где автор говорит об историческом образовании
форм языка из человеческого разума и фантазии, он
обнаруживает ограниченность своего эмпирического языковедения. Но даже
тогда, когда он впадает в заблуждения или когда высказывает
только догадки и предположения, он приковывает к себе наше
внимание широтою научной цели и остроумием отдельных
замечаний, как, например, в главе о временах глаголов. Мы с интересом
следим за его изложением, когда он переходит от чистой
грамматики к прикладной, объясняет нам свободную творческую
деятельность языка в поэзии и в науке и, наконец, доводит нас до
того пункта, когда язык переходит в поэзию, как в новую
аллегорическую форму человеческой натуры. Не менее богата
остроумными выводами и та часть сочинения, в которой Бернгарди
ведет речь о риторической прозе, о сущности романа и о
романтической прозе, которую он называет «цветом и венцом
прозаической поэзии». В состав этой части входят основы эстетики, по-
786
Р. ГАИМ
этики, метрики и, с другой стороны, очерк энциклопедии наук; Берн-
гарди положительно обещал написать на некоторые из этих тем
особые сочинения. Но после шлегелевских лекций об эстетике и
об истории литературы, излагавших те же идеи, какие
высказывал Бернгарди, вторая часть рассматриваемого нами сочинения
уже не могла равняться с первой по вызываемому интересу.
Касательно того, что Бернгарди, подобно Герману, вносит в
метрику соображения, заимствованные из логики, Шлегель
предъявляет основательное притязание на первенство; но он вполне
разделяет воззрения своего друга на философские основы языка
и следит за ними шаг за шагом. Поэтому Шлегель мог лишь с
небольшими изменениями извлечь из текста своих
энциклопедических лекций рецензию на «Грамматику» Бернгарди и
напечатать ее в журнале своего брата «Европа»1.
В лекциях А. В. Шлегеля романтика является продуктом
цельности убеждений, стремящихся к возведению в систему.
Если мы, наконец, пожелаем знать, каким образом эта цельность
убеждений отражается в душе поэта, то мы, естественно,
обратим наши взоры на Тика, в котором зародыш романтических
воззрений сначала возник сам собою, а потом всё
многостороннее развивался под влиянием критических,
историко-литературных и философских стремлений его друзей. Преимущественно на
его произведениях Шлегели и в особенности Бернгарди
демонстрировали требования романтической программы. Во время
своего пребывания в Йене Тик собрал в одно издание «Церби-
но», «Женевьеву», «Верного Экарта» и небольшую волшебную
драму «Rothkäppchen» («Красный колпачок».—Прим. науч.
ред.) и выпустил их в свет, по-видимому, под невинным
заглавием «Романтические поэтические произведения»2. В этом
заглавии не вполне выражался тот романтизм, который описывали и
проповедовали теоретики школы, однако оно было одной из
главных причин, по которым новая школа стала называться
«романтической». Но Тик не только помог новой школе в приобретении
1 В журнале «Европа» II, 1, с. 193 и ел.; в полном собрании еочинений XII,
141 и ел.
2 Йена, 1799—1800, 2 тома. «Трагедия» «Leben und Tod des kleinen
Rothkäppchens» напечатана в сочинениях Тика II, 327 и ел. Ср. предисловие к
тому I, с. XXXVI.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
787
особого названия, он также изложил всю совокупность
романтических воззрений на искусство и на жизнь в таком поэтическом
произведении, которое можно назвать «orbis pictus»,
иллюстрацией романтики. «Октавианом» Тик завершил второй период
своего литературного развития, которое начал «Народными
сказками». Летом 1800 года он выехал из Йены. В Гамбурге он нашел
у одного уличного торговца древностями еще неизвестный ему
народный рассказ об императоре Октавиане. Он был поражен
оригинальностью и богатством содержания этого рассказа и
решился сделать из него романтическое произведение. Он
принялся за работу весной 1801 года, а через восемнадцать
месяцев уже довел ее до конца. «Октавиан» основательно ставился
Тиком во главе всех его произведений и считался девизом всего
поэтического направления школы1.
Если бы можно было назвать картиной пестрый рисунок
ковра, то можно было бы назвать и «Октавиана» художественным
произведением. Этим произведением восхищались друзья Тика, но
в то же время они так порицали его, что его можно считать
решительно неудавшимся. Оно так растянуто, как позволительно
растягивать только романы. Оно должно было иметь форму драмы,
но Тик называет его «комедией», а в этой комедии — две части и
в каждой части — по пять актов! Шлегель тщетно убеждал
своего друга наполнить комедию не аллегориями, а сценами из
действительной жизни2. «Октавиан» еще менее «Женевьевы» годен
для сценического исполнения. Ведь романтика обыкновенно не
стеснялась ни требованиями театральной сцены, ни разделением
поэзии на виды. И в этом последнем отношении «Октавиан»
заходит далее «Женевьевы». По мнению Тика, романтизирование
драмы и заключается именно в том, что драматическое изложение
прерывается то эпическими, то лирическими вставками.
Эпическое отступление, которое в «Женевьеве» влагается в уста святого
Бонифация, в «Октавиане» влагается в уста олицетворению
романтической поэзии — Роману, а ради перемены даже Сну. До
крайности утомительны вставные арии и речитативы, эти
музыкальные эксперименты, в которых главную роль играет внешняя форма.
Эпический элемент вводится автором в подражание «Периклу»
1 «Октавиан» появился в первый раз в печати в Иене в 1804 году, а потом
был помещен в сочинениях Тика I, 1 и ел.; сравн. предисловие Тика, с. XXXVII
и ел., у Кепке I, 267 и ел.
2 Гольтей III, 255 и 270.
788
Р. ГАИМ
Шекспира, лирический — в подражание Кальдерону. В «Октави-
ане» мы найдем все виды романских и средневековых
стихотворных размеров, рядом с рифмами найдем созвучия, наряду с
октавами, сонетами, терцинами — рифмованный стихотворный размер
Ганса Сакса, наряду со сжатостью — расплывчивость.
Смешению различных поэтических форм соответствует
неопределенность характера действующих лиц, неопределенность времени,
в которое совершаются описываемые сцены, и смешение
трагического с комическим. Всего лучше удались автору некоторые
комические сцены, как, например, те, в которых выставляется
противоположность между увлекающимся рыцарскими страстями
сыном императора Флорентием и его воспитателем, глуповатым
и прозаически мещанским Климентом; но и здесь старание автора
вызвать смех переходит в тенденциозную иронию, в осмеяние
филистеров, придерживающихся принципа полезности. Над
комическим элементом берет перевес фантастический, а этот
последний расплывается, по словам В. Шлегеля, «в туманные
аллегорические намеки». Когда Шлегель руководствовался в
своих критических отзывах только своим изящным вкусом, он
всегда являлся противником мистицизма и фантастического
сумасбродства. Он осмеивал странные продукты фантазии
своего друга более метко и более язвительно, чем самые заклятые
враги романтики, и высказал ему следующее нелестное
замечание: «Поэзию, пожалуй, доведут до такой утонченности, что
будут выдавать за поэтические произведения только мечтания о
таких произведениях»1. Впрочем, он не строго придерживался
такого здравого реализма в изложении своих теоретических
воззрений; он неоднократно повторял в различных
видоизменениях основное положение своего брата, что поэзия должна быть ди-
дактико-аллегорической, а, по мнению Бернгарди, аллегория есть
верх поэтического искусства. «Октавиан» представляет
наглядное применение этих основных правил. Уже в прологе пьесы
выступление Романа на сцену обнаруживает аллегорическую цель
автора. Но кроме Романа и другие действующие лица — супруга
императора Октавиана Филицита и прекрасная Турчанка —
должны выражать не только личные чувства, но также высокое
значение поэзии и любви; кроме того, по всей драме проводится
аллегорическое изображение розы и лилии! От аллегории недалеко
1 В письмах к Фукэ (в его сочинениях VIII, 147) и к Тику (у Гольтея III, 262).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
789
и до мифологии. Действительно, Тик вносит мифологию в пролог
своей пьесы, очевидно, из подражания «Офтердингену». У него
отцом романов является Вера («der Glaube»), их матерью —
Любовь, слугою отца — Храбрость, слугою матери — Шутка.
Наконец, и содержание и место действия для этого мифологическо-
аллегорического маскарада взяты из средневекового мира. Этот
рыцарский, полный любовных приключений и чудес
средневековый мир совпадает в уме автора с поэтическим миром;
именно его хочет превозносить Тик: и действительно,
грандиозная анархия того времени отражается как в зеркале и в
хаотической бессвязности, и в фантастическом содержании всего
поэтического произведения.
Едва ли можно сожалеть о том, что Тик не исполнил своего
намерения изобразить аллегорию любви в драматизированной
«Магелоне», которая должна была занимать среднее место
между «Женевьевой» и «Октавианом». Не поэзия, а наука
обогатилась вследствие переворота, произведенного в литературе
романтиками. Конечно, и в этом отношении прогресс иногда прерывался
попятными шагами, а освежающее ум воодушевление иногда
вовлекалось в путаницу идей. Дальнейшее развитие благотворного
влияния романтики было обусловлено распадением тех внешних
уз, которыми были в течение некоторого времени связаны между
собой люди, хотя и не сходные по складу ума, но сходные по
воодушевлявшей их цели. Внутренний кризис возник в
романтической школе в то время, когда его члены стали сходить со сцены
или расходиться в разные стороны.
Ранее всех сошел со сцены Новалис, который смотрел на свое
земное существование, как на призрачное покрывало, сквозь
которое старался проникать в тайны духовного мира. Медленно
подтачивавший его физические силы недуг свел его в могилу во
цвете лет, в то время, как его ум был наполнен поэтическими мечтами
и замыслами. Фридрих Шлсгель стоял 25 марта 1801 года у
постели умирающего, глубоко тронутый душевным спокойствием,
которое не покидало поэта до последней минуты.
Романтики стали покидать один за другим тот дружеский
кружок, для которого служила центром Йена. Берлин
по-прежнему служил для них вторым сборным пунктом, а третьим
сборным пунктом был Дрезден. Тик сошелся в Дрездене со Стеф-
фенсом и с Фридрихом, а с В. Шлегелем он вел частую переписку.
Но и в этих письменных сношениях произошел продолжительный
790
Р. ГЛЙМ
перерыв, когда автор «Октавиана» выехал из Мюнхена, где в
последнее время занимался переделкой «Песни о Нибелунгах». Он
отправился летом 1805 года в Италию для излечения упорной
болезни и с целью освежить свои умственные силы.
В. Шлегель снова встретился с Тиком в Риме, где искал
отдыха и от своего неприятного положения при Йенском
университете, и от неприятных условий своей домашней жизни.
Берлин, в котором он жил с 1802 до 1804 года в одном доме с
Бернгарди и с его женой, сделался благодаря ему чем-то вроде
высшей романтической школы. Там примыкали к В. Шлегелю и
к Фихте все более юные умы, сочувствовавшие новому
направлению идей. Шлегель долго мечтал о большом заграничном
путешествии и о жизни в Риме1. Он нашел удобный случай
осуществить это намерение благодаря знакомству с г-жой Сталь
через посредство Гёте. Он вместе с нею выехал из Берлина
весной 1804 года. Покидая свое отечество на несколько лет, он
вступил в новую эпоху своей литературной деятельности, в
которой новые занятия и новые литературные проекты оттеснили на
задний план его прежние занятия романтической пропагандой,
поэзией и переводами.
Шлейермахер мог лишь очень недолго поддерживать личные
сношения с В. Шлегелем. Летом 1802 года он покинул Берлин,
который был так привлекателен для него своей общественной и
литературной жизнью. Его пребывание в уединенном Стольпе
(в Померании) было для него чем-то вроде ссылки; но он увез
туда с собою все новые идеи, какие были в ходу в кружке Шлегеля;
он стал разрабатывать их самым оригинальным способом и стал
задаваться такими целями, которые имели лишь косвенную связь
с целями романтической школы.
Тем временем Фридрих Шлегель жил в Иене в совершенном
одиночестве. Ввиду незрелости его характера и неустойчивости
его убеждений, ему более, чем кому-либо другому, был
необходим приток новых идей извне. Материальная нужда усиливала
его желание во что бы то ни стало приобрести обеспеченные
средства существования. Самое безрассудно смелое
предприятие казалось ему самым целесообразным. Поэтому, заехав в
Берлин и проведя некоторое время в Дрездене, он отправился в
Париж вместе со своей подругой, которая уже была в то время
1 К Каролине [от] 26 января 1802 года (№ 13 [из] писем к Каролине).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
791
его законной женой. Это было похоже на бегство с целью
избавиться от многочисленных обязанностей и перед самим собою,
и перед друзьями, и перед издателями, и перед публикой. Он
практически изнемогал под бременем литературных долгов и
проектов, однако это не мешало ему создавать новые проекты и
приводить в исполнение старые с неутомимой многосторонней
деятельностью. Несмотря на его беспорядочность и
причудливость, нельзя не отдать ему справедливости в том, что в его
деятельности была идеальная подкладка, что он увлекался
широкими замыслами, что его ум был неутомим и ненасытен. Из
Парижа он писал своему брату: «Здесь я считаю себя
идеалистом или поэтом in partibus infidelium (в чужих краях. — Прим.
науч. ред.)». Как и его брат во время своего пребывания в
Берлине, он читал в Париже лекции о немецкой литературе и
проповедовал «романтическое Евангелие». Он даже предполагал, что
оттуда ему будет легче влиять на соотечественников. Именно с
этой целью он стал издавать журнал «Европа» и желал, чтобы
все считали этот журнал за «новый „Атеней"»; здесь он
намеревался распространять в общедоступной форме понятие о том,
что поэзия господствует и над наукой, и над искусством, и над
всем человечеством. По этому случаю ему пришлось узнать на
опыте, что эта форма несколько дискредитирована и что Париж
не такой центр, из которого можно было бы руководить
направлением немецкого ума. Несмотря на то что он обращался с
просьбами о доставлении статей и к Фихте, и к Бернгарди, и к Тику, и
к Шлейермахеру, и к Гюльсену, он скоро убедился, что должен
рассчитывать только на самого себя, на своих немногочисленных
парижских знакомых и на своего брата; его письма наполнены
жалобами и упреками за то, что живущие в Германии друзья
позабыли его и оставляют без всякой помощи1. Принужденный
сосредоточиться на самом себе, он путается в своих идеях.
Вместо того чтобы отбросить свой мистицизм, он начинает
возводить его в систему, а внешним поводом для этого служат
лекции, которые он читает в Париже своим католическим друзьям.
К его влечению к филологии снова примешивается влечение к
1 Для всего вышеизложенного и для того, что следует далее, я пользовался
письмами, которые Фридрих писал Вильгельму из Парижа [№181—187] и
находящимися у меня в подлинниках письмами Фридриха к Реймеру. Так как эта
глава имеет характер краткого обзора, то я не считаю нужным делать подробные
указания на источники.
792
Р. ГАЙМ
философии. Впрочем, его пребывание в Париже было для него
полезно в одном отношении. Роясь в библиотеках, он
заинтересовался персидским и, в особенности, санскритским языком,
который мог открыть ему доступ к индийской философии и поэзии.
Благодаря этим занятиям, доставлявшим его мистицизму
ученую и историческую подкладку, он вступил в новую фазу своего
умственного развития. Подобно тому как он когда-то с
жадностью изучал греческую древность с целью расширить сферу
истории литературы, он стал теперь с жадностью изучать
индийскую древность. Своими первыми сочинениями о классической
древности он значительно подвинул вперед развитие немецкой
науки, а теперь он оказал точно такую же услугу этой науке,
издав гораздо более слабое и неясное сочинение об языке и
мудрости индийцев.
И Стеффенс, переехавший из Германии на постоянное
жительство в Копенгаген, узнал, подобно Фридриху Шлегелю, на
собственном опыте, какие трудности встречает проповедник
романтизма в других странах. Этот «немецкий доктор» читал в
Копенгагенском университете лекции о натурфилософии и о
произведениях Гёте и возбудил сильное волнение в умах своих
молодых соотечественников, но датские патриоты смотрели на него
искоса; поэтому он с благодарностью принял в 1804 году
предложение, полученное им из Галле, куда и Шлейермахер в то же
время переселился из своего заточения в Померании.
Шеллинг выехал из Йены позднее всех других членов
романтического кружка. Он также помышлял о продолжительном
пребывании в Риме. Но приглашение в Вюрцбургский университет
заставило его отказаться от поездки в Италию; сочетавшись
браком с покинувшей В. Шлегеля подругой, он переехал в Вюрцбург
осенью 1803 года. Он желал сделать из южногерманского
университета новое средоточие науки, воодушевляемой идеализмом
философии и поэзии. Он радовался удалению представителей
старого направления в Пруссию и уже воображал, что в разделении
ученых по климатам открыл новый «закон природы», по которому
скоро можно будет определять положение каждого ученого в
научной сфере. Действительно, стало обнаруживаться влияние
чего-то похожего на закон природы, но влияние этого закона было
неверно понято натурфилософом. Симпатии романтиков к
католическому югу Европы сделались пагубными для них самих и еще
более пагубными для романтической философии, которая с тех
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
793
пор стала все более и более впадать в суеверие, стала
превращаться в ту причудливую смесь схоластики с мистикой, в которой
было так же мало здоровых чувств, как и здравого рассудка.
Отсюда и возник кризис в сфере романтики. Лежавшие в ее
основе воззрения стали развиваться частью в прогрессивном,
частью в ретроградном направлении. Шеллинг и Фридрих Шле-
гель до такой степени запутались в лабиринте фантастических
отвлеченностей и мистического умничанья, что один из них
сделался проповедником новой гностики, а другой кончил тем, что
перешел в католицизм. В среде их многочисленных учеников этот
умственный недуг принял еще более отвратительную и более
опасную форму. Из корня романтизма возникло научное направление,
неподчинявшееся требованиям критики, возникла религиозная
и политическая реакция. И поэзия не делала тех успехов, каких
ожидали романтики. Заносчивость и сумасбродный субъективизм
молодого Брентано крайне не нравились романтикам еще в то
время, когда для них служила центром Йена; а с течением
времени Тик был вынужден выразить протест против нелепых
преувеличений поэта, компрометировавших всю романтическую школу.
И А. В. Шлегель не раз жаловался на «неспособность
подражателей», на изобилие «религиозных стихотворений и сонетов», а
Каролина покачивала головой, говоря о «молодых офицерах,
занимавшихся поэзией в гарнизонах», и предостерегала
романтиков от чрезмерной терпимости. Однако Вильгельму так
нравилась роль патрона и сам он так глубоко погряз в поэтическом
формализме, что сочувственно отнесся к сладко-бессодержательным
сказкам Софии Бернгарди и нашел серьезные достоинства в «Лак-
римасе» Шюца. Он руководствовался правильной точкой зрения,
когда помогал молодому талантливому Фукэ и советом и делом,
а когда для немецкой нации раздался призыв ко
всемирно-исторической судьбе, он обнаружил здравомыслие, нестеснявшееся
никакими школьными теориями: тогда он обратился именно к Фукэ
со знаменитым воззванием перейти от преувеличенных
увлечений фантазией к затрагивающей человеческую душу поэзии. Он
отбросил заблуждения и одностороннее направление
романтической доктрины. Его спас тот здравый ум, который никогда не
покидал его, несмотря на его склонность к полемическим и
риторическим парадоксам. И Тик был в значительной мере одарен тем
же здравым умом, о котором романтики обыкновенно отзывались
с презрением, считая его принадлежностью лишь дюжинных лю-
794
Р. ГАЙМ
дей. И в жилах этого поэта текла кровь прежних просветителей;
благодаря этому наследству, которое было обеспечено за ним
воспитанием и происхождением, он впоследствии проложил себе
дорогу к той диалектической новеллистике, которая хотя и не
разрешила проблем новой жизни, но умела обсуждать их разумно. Но
произведенное романтизмом возбуждение умов и глубокие
потрясения в национальной жизни Германии вызвали на сцену новые
поэтические дарования. В произведениях Арнима и Клейста еще
ярче, чем в произведениях Тика, обнаружилась борьба здравого
ума с печальными условиями общественной жизни. Эти два
поэта были самыми выдающимися представителями второго
поколения романтиков.
Но самым блестящим и поистине величественным
явлением было здоровое и полное энергии развитие немецкой науки,
которая вступила на новый путь и приобрела новые органы
благодаря перевороту, произведенному в литературе романтиками.
Непосредственно из недр поэзии возникли исследования братьев
Гримм по истории филологии. Но еще куда быстрее
обнаружился поворот к ясной определенности, к беспристрастным
исследованиям, к мышлению, опиравшемуся на фактические
данные. Кроме того, что было сделано в этом отношении В. Шлегелем
в такой форме, которая, по-видимому, отзывалась дилетантизмом,
мы должны еще раз упомянуть о «Грамматике» Бернгарди.
Между главными представителями романтики Шлейермахер был
самым строгим ученым-ригористом. Он занимался переводом
Платона и в то же время намечал основы критики прежней
морали. На истории того перевода, предпринятого по совету
Фридриха Шлегеля, можно проследить всю историю дружеских
отношений между этими двумя писателями вплоть до их
окончательного разрыва; можно проследить весь процесс разложения
и очищения, происходивший внутри романтической школы1.
Нельзя сказать, чтобы важное литературное предприятие не
пострадало во многих отношениях от того, что перешло в руки
1 Вся эта история довольно подробно изложена в переписке Шлейермахера,
для которой может служить дополнением письмо Шлейермахера к В. Шлегелю
от 17 сентября 1801 года. Это письмо было ответом на письмо В. Шлегеля от
7 сентября (III, 289); в нем снова выражено решительное неудовольствие,
которое проглядывает в письме к Фридриху Шлегелю (III, 270). Для позднейшего
времени могут служить источниками сведений письма Фридриха к Реймеру от
14 сентября 1804 года и от 16 марта 1805 года.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
795
одного Шлейермахера. Поэзия платоновской философии
отодвинута Шлейермахером на самый задний план, а настоящее
историческое распределение диалогов Платона уступило место
искусственному систематическому распределению. Но Шлейер-
махер строго придерживался основной мысли Шлегеля, что
философия и литературная деятельность Платона исходили из полного
жизни, цельного ума и могут быть объяснены только с этой точки
зрения. Он внес методу в идеи своего друга и с неутомимым
философским рвением довел до конца предприятие, за которое этот
друг вовсе не мог бы взяться вследствие своей неспособности
сосредоточивать свои умственные силы на какой-нибудь одной
работе. В критике прежней морали Шлейермахер изложил свои
собственные идеи; ведь в том, что касается этики, не он был в
долгу перед романтикой, а романтика была в долгу перед ним.
От расплывчивости, с которой Шлейермахер излагал свои идеи
во время своей дружеской связи с Фр. Шлегелем, он переходит
теперь к сжатости строго научного изложения, к которой
стремился и в более ранний период своей литературной деятельности.
Прежде он вносил в свое изложение морали остроумие и иронию,
а теперь остроумие и ирония уступили место такой
математической точности, таким отвлеченностям и таким неуклюжим
оборотам речи, что, по собственному признанию автора, чтение его
книги есть самая утомительная работа. Эта работа еще более
утомительна оттого, что в ней над научной тенденцией все еще
господствует романтическая склонность к формализму. Не
наивная неумелость, а сознательная искусственность создала эту книгу,
стиль которой должен был, по замыслу автора, представлять
«синтез стилей Аристотеля и Дионисия Галикарнасского»! Автор
намеревался писать чисто научную критику, только критику
научности прежней теории морали и такую критику, в которой никто не
мог бы отыскать свою собственную мораль; однако, несмотря на
все свои недостатки, она открыла новую эпоху в научном
изучении морали. В ней было нравственно уже то, что в ней романтика
соединила свое революционное направление с понятием о
нерушимом законном порядке, что она попыталась подчинить
требованиям логики и систематичности свой субъективизм и
индивидуализм, свои чувственные и фантастические влечения.
Но самое художественное и самое полное подчинение
романтического литературного направления требованиям здравого
смысла совершилось в другой сфере. Оно находится в связи с
796
Р. ГАЙМ
всеобщей формулой романтизма, составленной Шеллингом.
Дальнейшее развитие, которого не был в состоянии дать своей
философии сам Шеллинг, было ей дано «более поздним пришельцем».
Дополнением к шлейермахеровской критике морали служит
гегелевская «Феноменология духа». Этим произведением было
доведено до своей высшей ступени то сочетание поэзии и науки,
которое было идеалом Шеллинга и его друзей. Здесь вечная история
человеческого духа сливается в единое целое с историей мира.
Здесь с критическими целями романтиков соединяются цели
эстетические, с историческими — систематические, с
художественными — религиозные и нравственные. Наконец, здесь
закладывается широкий и, по-видимому, прочный фундамент
энциклопедии, для которого романтики доставили только неотесанные
камни. Но вместе с тем здесь романтика выходит из своих
собственных границ. Здесь снова заимствуются у презираемого
Просвещения средства для построения научной системы. Здесь мир
и его история делаются сюжетом не поэтического творчества, а
методически изложенной системы, являются продуктом не
абсолютного ума, а целесообразного развития самосознательного
абсолютного ума, являются рассудочным организмом,
соответствующим пониманию условий действительной жизни.
С выступлением Гегеля на сцену разрешился кризис
романтики. Но мы намеревались только указать на него, а не
описывать его подробно. Дальнейшая история развития немецкого ума
не входит в нашу задачу.
ДОПОЛНЕНИЯ И ПОПРАВКИ
1
Одно из сочинений Бернгарди
(К с. 122; сравн. с. 38, прим. 1, и 124, прим.)
Говоря о «Bambocciaden» Бернгарди на с. 122 нашего текста, я только
мимоходом упомянул о другом произведении того же писателя —
о «Nesseln» («Крапива»). Я лишь впоследствии был в состоянии добыть
эту книгу; она носит следующее заглавие: «Nesseln». Von Falkenhain. Berlin,
1798, bei Carl Ludwig Hartmann. 8-vo, 198 с. Ввиду ее редкости я считаю
нелишним сообщить некоторые сведения об ее содержании и характере.
Это рассказ, в котором описываются тогдашние берлинские нравы и
плоды тогдашнего Просвещения; его сатирическая цель уже видна из его
заглавия. Один ветреный и тупоумный офицер ухаживает за неопытной и
сентиментальной женой одного кригсрата; вследствие интриг одной
кокетливой и распутной еврейки дело доходит до эффектной сцены, которая
нарушает согласие между супругами. Один храбрый полковник
разоблачает интригу, наказывает виновных и примиряет мужа с
неосмотрительной, но невинной женой. О поэтическом достоинстве вымысла не может
быть и речи. И происшествия, и характеры, взятые из прозаической
действительности, не обрисованы, а лишь намечены бесцветными
штрихами. Искусство рассказчика может равняться разве только с искусством
автора «Себальда Нотганкера». Нравственная тенденция рассказа
напоминает Иффланда и Николаи, так как наряду с явной нравственной
испорченностью играет роль прямодушие, руководимое практическим
здравым смыслом и незнакомое ни с сентиментальностью, ни с аффектацией.
Различие между Фалкенгеном и автором «Себальда» заключается только
в том, что первый из них сознает свою поэтическую бездарность и, не
будучи в состоянии воздержаться от желания писать, прибегает к форме
сатиры для того, чтоб осмеивать не только других, но также самого себя и
свое произведение. Таким образом возникло это в высшей степени
нелепое произведение, по всему вероятию под влиянием Гиппеля и Жан-Поля
и, конечно, также Тика. Главы рассказа постоянно прерываются критико-
сатирическими главами, в которых автор осмеивает то самого себя, то
эстетические теории Зульцера и Николаи и всю деятельность
рецензентов. Здесь есть и диалоги, и письма, и замечания, и отдельные статьи, и
разговоры с самим собою, но все это не придает рассказу живости. Остав-
800
Р. ГАИМ
ляя в стороне это натянутое остроумие, мы можем похвалить автора за
то, что в одной главе он объясняет сущность сатиры и при этом вступается
за «Ксении» Гёте и Шиллера; он полагал, что разумнее и лучше него еще
никто не рассуждал об этом предмете. Мы действительно можем
согласиться со словами автора в главе 8 рассказа, что у него заметки лучше
рассказа, который служит для него только «нитью, на которую можно
нанизывать всякую всячину». Это можно сказать как об его эстетико-
литературных заметках, так и о тех, в которых он выставляет в смешном
виде людей и нравы. Как рассказчику ему не удалось изобразить его
современников; действующие лица его рассказа похожи на карикатуры (как он
сам их называет), и даже на плохие карикатуры. Как автор заметок он
лучше рассказчика. Так, например, в главе 6 он разделяет всех так
называемых образованных людей на классы и затем делает характеристику одного
образованного берлинского офицера и одной образованной берлинской
еврейки. На с. 28 читаем: «Образованная еврейка относится с
высокомерным скептицизмом ко всему, что изящно и разумно, если только оно не
приходится ей по вкусу. Она воображает, что науки и искусства выдуманы
для нее; она смотрит на них, как на нарисованные сухими красками
картины, которые много теряют, если рассматривать их вблизи. Благоразумные
люди пользуются образованными еврейками как трубачами, чтоб
разглашать свои заслуги, а, приобретя известность, поворачиваются к ним
спиной; после того, еврейки служат барабанщиками для глупцов.
Беспорядочная хозяйка дома, бросающая все белье в угол, находит, надевая его,
что оно изорвано и грязно; и у образованной еврейки никакие идеи не
остаются здравыми и чистыми, потому что она обходится с ними точно так
же, как беспорядочная хозяйка со своим бельем. Образованная еврейка —
олицетворение нарумяненной пошлости, которую принимают при
ярком освещении за ум; в своих разговорах со знаменитыми людьми она
похожа на ворону, которая летает вокруг сеятеля в надежде добыть для
себя пищу, но глотает земляных червей вместо хлебных зерен. Новое платье
и знакомство со знаменитым человеком служат для нее средством для
одной и той же цели — для кокетничанья. Разговор еврейки, желающей
выдавать себя за образованную, есть не что иное, как розничная продажа чужих
идей, за которые еще не было произведено уплаты и т. д.». Это — не
столько остроумная характеристика, сколько характеристика,
наполненная разными остротами. Нисколько неудивительно, что в такой книги
нашел для себя место и «Альмансур» Тика, наполняющий большую часть
первой главы 19 (так как в этой книге две главы 19). Конечно же, к Тику и
к В. Шлегелю относятся следующие слова на с. 194 и 195: «То, что сказано,
заставляет меня обратиться с воззванием к рецензентам, имена которых
начинаются буквами S или Т, так как я уже давно пришел к убеждению,
что они не отзовутся благосклонно о моем сочинении». Что он тем не
менее разделял мнения этих рецензентов, видно из отзыва о Лафонтене,
вложенного им в уста полковника: «Что касается меня, то я никогда не
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
801
находил удовольствия в чтении его сочинений. Его мысли постоянно
вертятся вокруг пыльной большой дороги; его постоянная тенденция
выражается в целомудренных объятиях супругов на супружеском ложе; его
упреки постоянно обращены к дворянской гордости; все его
стихотворения обнаруживают чрезмерную чувствительность, которая возбуждает не
голод, а аппетит, и производит отрывочные звуки, а не гармонию; короче
сказать, мне надоели его сочинения: я не взял бы в фельдфебели тех
офицеров, которые отличаются в его рассказах необычайным благородством;
этому писателю чего-то недостает, а чего именно — я и знать не хочу».
2
Дополнения к главе
«Август Вильгельм Шлегель до 1797 года»
(К с. 151 и ел.)
Письма, найденные в бумагах А. В. Шлегеля после его смерти, дают
сравнительно незначительный материал для дополнения того, что
говорилось в нашем тексте о жизни и развитии этого писателя. В истории
умственного развития А. В. Шлегеля играют самую выдающуюся роль
Гейне и Бюргер. Но в дошедших до нас письмах Гейне нет никаких
указаний на то, чтобы он имел влияние на умственное развитие Шлегеля. Из
дошедших до нас немногочисленных писем Бюргера видно, что этот
писатель относился к Шлегелю с самым дружеским доверием и гордился
тем, что был его наставником; но Бюргер вел в своих письмах речь о
своей домашней жизни и вдавался в такие цинические подробности,
которые могли только унизить его в глазах бывшего ученика.
Что еще во время своей жизни в Гёттингене А. В. Шлегель любил
вращаться в изящном обществе светских людей, видно из того, что он
водил знакомство с французами и с англичанами. Графу Бролио и
одному молодому англичанину он давал уроки по научным предметам на их
собственных языках. Так как он хорошо знал французский и английский
языки, а живя в Амстердаме научился голландскому языку, то его отец
задумал поместить его на дипломатическую службу и обратился 1
сентября 1791 года к ганноверскому правительству с просьбой назначить его
сына секретарем посольства при дрезденском дворе. Сам А. В. Шлегель
никогда и впоследствии не отрекался от уверенности в своих
способностях к дипломатической карьере. На его настоящее назначение указал ему
прежде всех его брат Август, впоследствии умерший в Мадрасе
офицером английской армии. Брат писал ему 26 августа 1784 года из форта Сен-
Джордж: «Не знаю почему, но мне всегда казалось, что тебе суждено
упрочить литературную известность, доставленную семейству Шлегелей
26 Зак. № 3602
802
Р. ГАЙМ
литературными заслугами нашего отца». Август оказывал братскую
поддержку тому, на кого возлагал такие надежды. И живя на далекой чужбине,
он интересовался первыми поэтическими опытами своего брата.
Стихотворение «Die Bestattung des Braminen» («Похороны брамина». — Прим.
науч. ред.) (в полном собрании сочинений Вильгельма 1,82) было обязано
своим возникновением поэтическо-прозаическому описанию
погребения брамина, присланному Августом молодому поэту с настойчивой
просьбой облечь его в приличную стихотворную форму (письмо № 2 из
форта Сен-Джорджа от 4 февраля 1784 года). Посвященная памяти брата,
элегия Вильгельма «Neoptolemus an Diokles» («Неоптолемус в Диокле». —
Прим. науч. ред.) отличается такой искренностью чувств, какую мы редко
находим в стихотворениях Вильгельма (II, 13 и ел.).
В Амстердам В. Шлегель отправился в первый раз не в 1792 году, как
сказано в нашем тексте, а еще летом 1791 года. Он получил там место, как
кажется, благодаря Эшенбургу (письма Эшенбурга к Шлегелю 1 и 6). Что
положение молодого наставника в богатом семействе Мюильмана было
чрезвычайно приятным, видно всего яснее из его переписки с родными;
и из писем как молодого Мюильмана, воспитанием которого руководил
Шлегель, так и старика Мюильмана видно, что Шлегель пользовался их
уважением и вел с ними переписку даже после прекращения личных
сношений. С пребыванием Шлегеля в Амстердаме также связаны
воспоминания о сердечных привязанностях, нашедших отголосок в
стихотворениях влюбленного поэта. Мы не очень сожалеем о невозможности ближе
познакомиться с приключениями, вызвавшими появление тех
стихотворений; ни как поэт, ни как влюбленный юноша Шлегель не может
интересовать нас столько же, сколько Гёте. «Тебя женщины изнежили», —
писал ему его брат Фридрих, вместе с тем упрекавший его за недостаточную
откровенность его признаний. Из всех любовных привязанностей В.
Шлегеля, привязанность к Каролине Бёмер имела впоследствии самое
сильное влияние на его жизнь. Но в письмах Фридриха часто шла речь об
одновременной привязанности Вильгельма к какой-то Софии. Из
Амстердама Фридриху нередко приходили письма с жалобами на несчастную
любовь, но из ответов Фридриха трудно понять, кто именно внушил
Вильгельму такую любовь: мы можем только догадываться, что виновницей
сердечных страданий Вильгельма была Каролина Бёмер. Впрочем, какое
нам до этого дело? Для нас более интересно проследить, как Фридрих
старался поддерживать душевную бодрость в своем брате. Он напоминал
Вильгельму о старых литературных проектах и советовал ему усиленно
заняться работой, которая поможет ему разогнать мрачные думы. По
этому случаю мы узнаем, что кроме статей о Данте и Петрарке
Вильгельм намеревался написать трагедию «Уголино», трагедию «Клеопатра»,
статью об атеизме и историю греческой поэзии. Но с особенной
настойчивостью младший брат советовал старшему заняться историческими
трудами. Так, например, в письме, написанном еще в ноябре 1791 года,
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
803
Фридрих говорил: «Я радуюсь тому, что ты еще не отказался от твоего
давнишнего намерения написать историю греческой поэзии; я думаю,
что тебе должна удаться такая история, которая требует понимания
чужеземного склада жизни». Для Фридриха не подлежало сомнению, что его
брат имеет выдающийся талант для составления биографий. Он советует
Вильгельму написать биографию Рудольфа Габсбургского, заняться
сборником мемуаров, составить хрестоматию из классических произведений
итальянских и испанских историков и предпослать ей введение; в 1794 году
в своих письмах он вел речь об истории романтической поэзии и об
истории итальянских республик, как о старых проектах своего брата. Эти
советы и поощрения не прекращались вплоть до того времени, когда было
предпринято издание «Атенея». Даже во время издания этого журнала
Фридрих обращался к своему брату с просьбами то написать статью об
Иоганне Мюллере или об историческом искусстве, то написать какую-
нибудь биографию или другую историческую статью небольшого объема.
Но если бы кроме писем Фридриха до нас дошли и письма Вильгельма, то
мы еще яснее увидели бы, что интересы эстетические и литературные
постоянно оттесняли на задний план интересы чисто исторические. Что
письма Вильгельма были научного содержания, мы можем заключить из
рассмотренных нами в тексте (на с. 268 и ел.) «Замечаний о метрике»,
которые входят в состав переписки между двумя братьями. По-видимому,
с такой же подробностью Вильгельм излагал в письмах к брату свои
воззрения на гомеровский эпос. Кроме этих статей имелась в виду статья «О
мыслителях, поэтах и пророках». При этом, как видно из ответных писем
Фридриха, непрерывно шли между двумя братьями прения о настоящих
принципах эстетической критики, о достоинстве кантовской философии,
о значении поэтических произведений Клопштока, Бюргера, Шиллера.
Из всех личных связей В. Шлегеля самой влиятельной на его
умственное развитие была связь с Каролиной Бёмер. Сведения об этой женщине,
сообщенные мною в первой главе второй книги этого сочинения (с. 172),
подтверждаются Вайцем (Waitz), a в изданной им переписке находятся
такие подробные сведения о Каролине, каких я не был в состоянии добыть
ранее. Она вышла замуж за доктора Бёмера 15 июня 1784 года в Клаузтале,
родила двух дочерей, Августу и Терезу, и, как видно из ее писем, была
счастлива в супружестве. Доктор Бёмер умер 4 февраля 1788 года; его
вдова отправилась сначала в Гёттинген, потом в Кобург, к своему брату, и,
наконец, в Майнц, куда ее приглашали Форстеры. Из бумаг, изданных Бё-
кингом, ясно видно, что еще студентом Гёттингенского университета
В. Шлегель был знаком с Каролиной и был очарован ею1. Во время своего
1 Для уяснения отношений между В. Шлегелем и Каролиной следует иметь
в виду, кроме писем Фридриха, одно письмо Бюргера (по списку Клетте № 1),
два письма В. Гумбольдта (№ 1 и 2), одно письмо сестры Каролины, Луизы, от
7 мая 1793 года и ответ на него Шлегеля от 18 июня того же года.
804
Р. ГАЙМ
пребывания в Амстердаме он постоянно переписывался с нею. Когда она
отправилась в Майнц, и В. Шлегель намеревался отправиться туда
немедленно вслед за нею (Фридрих к Вильгельму от 16 сентября 1793 года, № 32).
Если бы он исполнил это намерение, то и его собственная жизнь, и жизнь
Каролины сложились бы иначе. Ее привязанность к Вильгельму не была
достаточно сильна, чтобы предохранить ее во время разлуки с ним от новых
увлечений. Ввиду энтузиазма, с которым она относилась к французской
свободе, он предостерегал ее от опрометчивых поступков, которые могли
бы скомпрометировать ее; но его предостережения оказались тщетными.
Ему скоро пришлось хлопотать об освобождении Каролины из крепости.
Летом 1793 года он взял отпуск и выехал из Амстердама с целью
увидеться с выпущенной из крепости Каролиной; он нашел ее в очень
стесненном положении неподалеку от Лейпцига в альтенбургских владениях и
поручил своему брату заботиться о ней. Несмотря на то что, живя в Майн-
це, она изменила ему, по возвращении на родину он стал жить с нею.
Само собой понятно, что эта связь немало затруднила для В. Шлегеля
приискание постоянного места в Германии, после того как он выехал из
Голландии. Он намеревался искать счастье в Америке. В одном из писем
его матери шла речь об этом проекте, от которого старался его
отговорить Фридрих. Кроме того, ему представлялась возможность устроиться
в Брауншвейге, куда его звали друзья еще до получения им должности
домашнего наставника в Амстердаме (Крузе к В. Шлегелю от 6 апреля
1791 года) и где теперь открылась вакансия в «Collegium Carolinum»
вследствие смерти Эберта (Эшенбург к Карлу Шлегелю от 9 апреля 1795 года
и мать Шлегелей к Вильгельму от 19 апреля того же года). Но он
последовал совету Шиллера и решился поселиться в Иене. Что Шиллер обратил
внимание на него еще в 1791 году (с. 158), подтверждается и новыми,
находящимися в наших руках документами. Приглашение к сотрудничеству
в «Талии» было ему передано через его друга Папе, встретившегося с
Шиллером в Карлсбаде (Фр. Шлегель к Вильгельму [от] 26 августа 1791 года
и Папе к Вильгельму [от] 13 октября того же года). Статья о Данте была
доставлена Шиллеру для помещения в «Hören» по настоянию Фридриха и
Кернера (Фридрих к Вильгельму [от] 7 декабря 1794 года и [от] 20 января
1795 года, №59 и 60).
Из других литературных работ старшего Шлегеля была самой
замечательной, наряду со статьей о Данте, попытка переводить Шекспира.
Чтобы убедиться, с каким тщанием занимался В. Шлегель отделкой этих
переводов, достаточно заглянуть в его рукописи. Самыми интересными из
работ этого рода были довольно обширные пробы перевода «Сна в
летнюю ночь». Отрывки из переводов «Гамлета» и «Ромео» были
доставлены Фридриху на просмотр еще в июле и в октябре 1793 года (письма 28
и 34). К чести Эшенбурга можно упомянуть и о том, что он охотнее
всякого другого отдавал справедливость достоинствам и преимуществам
переводов своего соперника (Эшенбург к В. Шлегелю № 3,4 и 5).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
805
И касательно деятельности Шлегеля как рецензента, мы находим
некоторые новые указания в найденных после его смерти письмах. Так,
например, из письма Шлейермахера от 17 февраля 1798 года (вполне
напечатанного у Клетте, с. VII и ел.) видно, что рецензия на роман «Julchen
Grünthal» была написана Каролиной. Для рецензии на «Германа и
Доротею» В. Шлегель обращался за советами к Фридриху, а некоторые из
мыслей, изложенных Фридрихом в его ответном письме (№ 89), встречаются в
той рецензии. Поэтому Фридрих имел полное основание радоваться
(в письме № 99) тому, что принимал участие в этой превосходной
критической статье. Письма Фалька объясняют нам, почему Вильгельм
отзывался благосклонно о произведениях этого сатирика. В своих письмах
Фальк просил критика о покровительстве; уверяя Вильгельма в своей
дружеской привязанности, он напомнил критику, что его средства к
существованию зависят от успеха его «Карманной книжки»; в то же время он
уверял Вильгельма, что будет его союзником в борьбе с господствующим
в немецкой литературе злым демоном филистерства. Из переписки
Шлегеля с Нейбеком видно, что он возлагал на этого писателя большие
надежды, старался приискать издателя для его «Gesundbrunnen», давал ему
советы касательно технической отделки этого стихотворения. Даже в своих
берлинских лекциях он отзывался об этом стихотворении с большими
похвалами и гордился тем, что познакомил публику с его достоинствами.
3
Юношество Фридриха Шлегеля и античный период
его литературной деятельности
(К с. 181 ; также сравн. с. 471 )
Зачатки литературной деятельности Фр. Шлегеля описаны нами
во второй главе второй книги почти исключительно на основании
позднейших печатных произведений этого писателя. Дошедшие до нас его
письма заключают в себе немало дополнительных сведений,
преимущественно о том периоде его жизни, когда он еще не вступил на
литературное поприще.
Когда он был еще совсем мальчиком, он не составлял никаких планов
касательно своего будущего назначения. Его мать писала своему
старшему сыну, что по возвращении из Лейпцига ее Фриц не хотел ни за что
серьезно взяться, что он был очень капризен, что из него ничего не
выйдет. Он стал изучать юриспруденцию не по своему собственному
влечению, а по желанию своих родителей, которые полагали, что этим путем
он всего легче достигнет какого-нибудь обеспеченного положения в
Ганновере. Он начал свои занятия в Гёттингене вместе со своим братом;
806
Р. ГАЙМ
именно тогда и возникла между ними та неразрывная взаимная
дружеская связь, об искренности которой свидетельствуют письма обоих
братьев. Фридрих с признательностью вспоминал о том, что Вильгельм делился
с ним впечатлениями своей жизни художника; совокупные наслаждения
искусствами были, по словам Фридриха, первой причиной их взаимной
привязанности; однако уже в то время (очевидно, вследствие чтения
произведений Платона, Винкельмана и Гемстергюи) Фридрих стал
интересоваться «той философией, которая имеет целью не науку, а объяснения
прекрасного при помощи рассудка, то есть философией Сократа».
Тогдашнее душевное состояние молодого Фридриха видно из того, что он, по
его собственным словам, не заводил никаких знакомств, был как будто
погружен в усыпление и без всякой определенной деятельности
«постоянно наслаждался жизнью рассудком». Он сам признается, что если бы
продолжал идти этим путем, то непременно кончил бы самоубийством.
После последнего непродолжительного пребывания в родительском
доме он отправился на Пасху 1791 года в Лейпциг для продолжения своих
занятий, а Вильгельм немного позже отправился в Амстердам на
должность домашнего учителя. Сначала казалось, что перемена места
жительства имела хорошее влияние на Фридриха. Вскоре после переезда в
Лейпциг он неоднократно указывал на свой новый образ жизни, как на
противоположность с гёттингенским. У него, по-видимому, совершенно
исчезло прежнее нелюдимство вследствие его сношений с философами
Платнером и Гейденрейхом, с другом его детства Вейссе, с Ёзером,
напоминавшим ему своими разговорами Винкельмана, и с другими
многочисленными знакомыми. В конце первого полугодия он писал, что его ум
еще никогда не был так полон энергии и так здоров. Однако к этому
самодовольству примешивалось какое-то тревожное чувство. Из
совокупности всего, что говорил о самом себе этот юноша в своих письмах, мы
можем заключить, что он предавался таким же неясным фантастическим
влечениям, какие высказывались в немецкой литературе с начала
семидесятых годов в самых разнообразных формах. Фридрих Шлегель вовлекся в
такую же путаницу идей, какая была свойственна Тику, впал в такую же
меланхолию, какой страдал Гельдерлин. Подобно Вольдемару в романе
Якоби, он был до крайности самолюбив, из самолюбия жаждал дружбы и
любви, стремился к чему-то возвышенному, но парил умом в пустом
пространстве и был одержим честолюбием величия. Он с презрением
взирал на «дюжинных людей», на «чернь дюжинных грешников». Он вел
речь о своем влечении к деятельности, но под этим влечением разумел
«стремление к бесконечному». Под впечатлением, произведенным на него
представлением «Гамлета», он писал: «Человечество удивительно
прекрасно и обладает бесконечными сокровищами, тем не менее сознание
нашей бедности отравляет каждый момент моей жизни. Бывают такие
времена, что мне становится противным даже то, что есть лучшего во
мне, — добродетель». Далее читаем: «Но то, что во мне более всего дос-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
807
тойно порицания, я не в состоянии выразить словами: ведь мой ум часто
делает скачки от самых возвышенных предметов к самым низким». С
таким болезненным душевным состоянием, естественно, соединялся
атеизм, старавшийся выставлять себя напоказ. И Фридрих Шлегель считал
себя маленьким Прометеем. Для его стремлений к силе и к величию
служило высшей формулой желание «быть своим собственным Богом».
Своему брату, извещавшему его о своей любовной привязанности, он
отвечал: «Знай, что ты можешь рассчитывать на меня и что в угоду тебе я
готов взять на себя то, что в свете называется грехом... Во всем, что бы ты
ни предпринял, действуй ничем не стесняясь, а если не найдешь удачи,
стой на своем. Тогда тебе представится превосходный случай относиться
к божеству с пренебрежением». Другим симптомом душевного недуга
были те мысли о самоубийстве, которые приходили Фридриху в голову
еще в Гёттингене. В письме, написанном в конце ноября 1792 года, он
говорил, что уже в течение трех лет ежедневно помышляет о
самоубийстве. Понятно, что при таком душевном настроении ему нравились
преимущественно такие поэтические произведения, в которых выражались
буйные страсти. Произведения Клопштока и Шиллера он отстаивал
против строгих требований своего брата ради их стремления к возвышенному.
Он находил божественным «Allwill» Якоби, потому что в этом романе
выражено сознание нашей божественной натуры. Он не находил
безнравственным Фернандо в гётевской «Стелле», а окончание этой драмы он
находил превосходным с нравственной точки зрения. В этот ранний
период своей литературной деятельности Гёте нравился ему более, чем в
период своей зрелости: «Гёте мне уже не нравится так, как нравился
прежде, — писал Фридрих. — Сущность его произведений носит на себе
отпечаток себялюбия и холодности. „Вертер", „Гёц", „Фауст", „Ифиге-
ния" и некоторые лирические стихотворения обещали великого писателя,
но из этого писателя скоро вышел царедворец. Но и в названных мною
произведениях истина является результатом тяжелой ученой работы, а не
врожденным чувством...». Но ни одно из поэтических произведений не
произвело на него более глубокого впечатления, чем «Гамлет». Уже в то
время он судил о «Гамлете» точно так же, как в написанной по
прошествии нескольких лет статье «Über das Studium». После неоднократного
прочтения этой трагедии он не знал, чем успокоить свое взволнованное
сердце. «Причина отчаяния Гамлета, — писал Фридрих, — заключается
в величия его ума; если бы он был менее велик умом, он был бы героем...
Сущность самых искренних его убеждений сводится к отрицанию всего:
он презирает мир и самого себя». Что он узнавал в Гамлете самого себя,
всего яснее видно из часто повторяемой им мысли, что и в нем, точно так
же, как в шекспировском герое, разум присваивает себе чрезмерное
господство над всем. Если бы он был в состоянии молиться, то он стал бы
просить у Бога не ума, а способности любить. В одном из писем к своему
брату, дошедшем до нас не вполне, он говорит: «Изучение искусства и об-
808
Р. ГАЙМ
щества должны поддержать мои силы. Но в обществе я нахожу занятие
лишь для ума, потому что я не люблю ничего и никого. Вообрази, что
выражается в этих словах, и считай себя счастливым тем, что у тебя есть
сильные душевные страдания». Когда его брат упрекал его за суровый
тон в письме, он отвечал следующей характеристикой самого себя: «Тон
моего разговора еще более суров, чем тон моих писем; но эта суровость
есть выражение моего душевного настроения. Я сам чувствую в себе
постоянную какофонию и сам вынужден сознаться, что не умею быть
любезным, а это часто доводит меня до отчаяния. Мне недостает
довольства самим собою и другими людьми, недостает кротости и грации,
которыми снискивается любовь... Я уже давно заметил, какое произвожу
впечатление на других. Меня находят интересным и уклоняются от сближения
со мною. Повсюду, где я появляюсь, вокруг меня исчезает приятное
расположение духа. На меня всего охотнее смотрят издали, как на опасную
редкость. Не подлежит сомнению, что многим я внушаю отвращение.
Большинство считает меня за чудака, то есть за безумца с умом». В том
же роде его собственные признания о том, что у него вовсе нет
способности любить, что его считают за «нескромного бездушного остряка»
итд.
Дополнением к этой характеристике может служить то, что он
говорил о своей неспособности любить женщину. Он неоднократно завидовал
и любовному счастью, и любовным страданиям своего брата. Он
говорил, что еще не встречал такой женщины, которую мог бы полюбить,
потому что еще никогда не находил в женщинах того стремления к
бесконечному, которое он считает необходимым в настоящей любви и в
настоящей дружбе. Поэтому он намерен любить только мужчин и позабыть,
что существует любовь к женщинам. Ему несколько раз казалось, что он
действительно нашел такого друга, который был достоин его любви. Он
с восторгом говорил о начале своей дружеской привязанности к Гарден-
бергу1 и о своем знакомстве с молодым графом Швейницем. Но нас
нисколько не удивляет то, что вскоре после этих выражений радости
Фридрих стал высказывать свои сожаления о том, что ошибся в своих ожиданиях.
Его идеалу дружеской привязанности всего более соответствовали его
отношения к брату. Но и они не могли вполне удовлетворить его, потому
что он опасался, что «и с этой стороны, может быть, скоро почувствует
душевную пустоту, может быть, снова будет чувствовать свое полное
одиночество». Это легко могло случиться, потому что неумеренность
желаний и себялюбие были главной причиной такой ипохондрии. Свои
уверения в братской любви к Вильгельму он сопровождает следующими
размышлениями: «Для того, чтобы дружеская связь со мною была
прочной, она должна быть основана с обеих сторон на нравственных мотивах,
потому что такая связь делается с течением времени все более и более
См. далее № 8: «Фридрих Шлегель и Гарденберг».
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
809
крепкой. Но тот, кого я буду любить, должен прежде всего быть
способным жить только для своего друга и все забывать ради своего друга. Прежде
всего нужна такая сильная любовь, которая способна стремиться к
бесконечности».
Человек с таким страстным и требовательным характером
неизбежно должен был рано или поздно увлечься окружавшими его соблазнами
внешней жизни в таком городе, как Лейпциг, где «самая преувеличенная
роскошь и нравственная распущенность распространились от высших
классов общества на все слои населения, вплоть до купеческих
приказчиков», как писал Шеллинг в одном из своих писем 1797 года. Осенью
1792 года Фридрих в первый раз признался своему брату, что своим
невоздержанным образом жизни довел себя до крайне стесненного
положения. Ему нужно было обзавестись всем, что необходимо человеку,
бывающему в обществе. Ради своего здоровья он занимался
фехтованием и ездил верхом; кроме того, он «с отчаяния» предавался разным
распутствам и наделал долгов. Его привлекало к посещению общества
влечение к одной женщине. Свою исповедь он вложил в уста Юлия, который
рассказывает в «Люцинде», что между красивыми женщинами, с
которыми был знаком, он выбрал ту, которая вела самый вольный образ
жизни и более всех других блистала в хорошем обществе. Он ухаживал за
этой дамой самым нелепым способом: «иногда он обходился с ней смело
и самоуверенно, как будто он уже давно обладал ее сердцем, иногда
относился к ней с холодной сдержанностью совершенно незнакомого
человека». К его несчастью, дама стала относиться к нему с
благосклонностью. Он уже начинал упрекать себя за свою нерешительность; но в его
уме внезапно возникло подозрение, что он впадает в заблуждение; это
подозрение превратилось в уверенность вследствие сведений,
доставленных ему одним из его друзей. Он видит, что над ним насмехаются, и в
ярости готов решиться на крайние меры; но он снова начинает
колебаться: «Иногда ему кажется, что причина его душевных страданий
заключается в его странном характере, в его чрезмерной чувствительности, и
тогда к нему возвращается надежда; а иногда он во всем видит результаты
мстительности любимой им женщины». В этих словах рассказана
автором «Люцинды» его собственная история; она еще подробнее изложена
в письмах Фридриха к своему брату; в них Фридрих описывает свои
заблуждения, свои колебания, свою досаду, свое отчаяние иногда теми
самыми словами, какими все это описано в «Люцинде». Короче говоря,
письма, относящиеся ко времени пребывания Фридриха в Лейпциге, служат
самым полным комментарием к «Lehrjahren der Männlichkeit» («Годы
мужества». —Прим. науч. ред.). В роман, естественно, попали разные
вымыслы. Но все, что касается характеристики героя романа, было
вполне согласно с истиной до мелких подробностей. Подобно Фридриху, Юлий
вовлекается в водоворот общественных развлечений; женщины кажутся
ему очень странными, и он ищет дружбы с мужчинами, презрительно
810
Р. ГАИМ
относясь к толпе дюжинных людей. И друзья Юлия были портретами
друзей Фридриха: один из них мог бы удержать Юлия от пути к
нравственной испорченности, но, к сожалению, жил далеко от него; другой
был одарен симпатичным умом, еще невыпутавшимся из хаоса неясных
идей; третий хотя и вовлекся в распутство, но пылал благородным
негодованием против негодности своего времени и намеревался совершить
что-нибудь великое. Это были портреты Вильгельма Шлегеля, Гарденбер-
га и графа Швейница. А недовольство Юлия его друзьями и мысли о
самоубийстве представляют повторение того, что нам уже известно из
вышеприведенных признаний Фридриха. В конце 1792 года, именно в то
время, когда Фридрих ухаживал за упомянутой выше дамой, он имел
самое большое сходство с Юлием. Это был самый печальный период в его
жизни. Он всего более страдал от безденежья. Его беспорядочная жизнь
причинила вред его здоровью. Но он не был в состоянии выпутаться из
оков женщины, которую сам назвал достойной презрения. В то же время
у него возникли неприятности с его другом Гарденбергом. Он впадает
в уныние и в отчаяние. «Зачем мне жить?» — восклицает он немедленно
после того, как завел упомянутую выше безрассудную любовную связь...
«Мне все противно... мне кажется, что для меня все равно быть хорошим
или дурным, быть счастливым или несчастливым». Наконец, в феврале
следующего года, после того как его любовное приключение достигло
окончательной развязки, он пишет своему брату, чтобы тот не ожидал от
него ничего другого, кроме «противного описания разбитого сердца»;
он называет себя одичалым, ведет речь о необыкновенных душевных
страданиях, которые мучают его в течение полугода и истощили его силы;
он кончает мольбами об участии в его положении, о помощи, о спасении.
Кроме материальной помощи, которую он получил от своего брата,
ему помогли выйти из его ненормального душевного состояния,
во-первых, решимость приняться за серьезную работу, во-вторых, принятая им
на себя обязанность заботиться о Каролине Бёмер.
Сначала Фридрих довольно серьезно занимался в Лейпциге
юриспруденцией. «На юридические занятия, — писал он в июне 1791 года
своему брату, — я смотрю гораздо более серьезно, чем ты. Мне кажется, что
стоит труда стремиться к исполнению своего гражданского долга... Твоя
карьера вовсе не годилась бы для меня». Под гнетом денежной нужды он
стал искать выгодного места домашнего наставника; но это было, по-
видимому, только предлогом для исполнения других причудливых
замыслов. «Я не могу далее жить в оковах, — писал он своему брату 8 мая
1793 года, — я должен и хочу жить своей собственной жизнью, animo
fretus! Мои родители должны отказаться от плана, который они мне
навязали и который не обещает хорошего успеха». В следующих письмах он
снова говорит, что должен положить конец мучительной
противоположности между своими врожденными наклонностями и своим
образом жизни, что он не в состоянии наложить на себя бремя гражданских
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
811
обязанностей, что все его влечения, которые он так долго старался
подавлять, заявляют о себе с новой силой; он хорошо знает, что стоит на краю
пропасти, но он должен сам для себя создать положение, потому что он
не может жить без свободы! Родители Фридриха не могли отказать ему
в исполнении просьбы, выраженной с такой настойчивостью. Как
неохотно они это сделали, видно из писем матери Фридриха, которая очень
огорчалась тому, что оба ее сына избрали для себя такой неверный путь;
свой страх за Фрица она выражала в самых трогательных жалобах.
Между тем для самого Фрица было приятно не только то, что он дает
полную волю своим влечениям к науке и к искусству, но также то, что он
будет жить вместе со своим братом. В июле 1793 года он встретился с
Вильгельмом в отцовском доме, в Ганновере. Но у Вильгельма были свои
собственные заботы: он ездил из Голландии в Германию, чтобы
исполнить долг чести. По его вине Каролина Бёмер находилась в таком
положении, которое следовало держать в тайне; она переехала в Лейпциг, а потом
поселилась под охраной Фридриха неподалеку от Лейпцига в небольшом
альтенбургском городке Луке. Там Фридрих посещал ее так часто, как
мог; он переписывался с нею, снабжал ее, по поручению своего брата,
всем необходимым и постоянно сообщал ему сведения о ее здоровье. По
всему этому видно, что для него были благотворны эти заботы о чужих
интересах и было также благотворно влияние Каролины. Раскроем еще
раз «Люцинду». Юлий излечивается от презрения ко всему миру и от
тоски благодаря знакомству с такой женщиной, обладание которой было
бы для него высшим счастьем; но он вынужден отказаться от всякой
мысли о таком счастье, потому что эта женщина уже сделала свой выбор, а ее
друг в то же время и его друг. Юлий играл роль всего лишь
«поверенного»; поэтому он заставлял себя скрывать свои чувства под маской
«ребяческого добродушия и братской нецеремонности». Затем он рисует
блестящими красками портрет этой единственной женщины. Когда Юлий находит
ее нелюбезной, она, ничего не подозревая, дает полную волю своему
остроумию и юмору. «Она была в состоянии в течение одного часа
разыграть комическую сцену с тонкостью опытной актрисы и прочесть
возвышенное поэтическое произведение с увлекательностью
безыскусственного пения. Она была способна все понимать и все выходило
облагороженным из ее творческих рук и из ее сладкоречивых уст. Ничто
хорошее и великое она не находила таким священным или таким пошлым,
чтоб отказать ему в своем страстном сочувствии». Кто знал ее только с
этой стороны, тот мог бы подумать, что она отличается только
привлекательной любезностью и способна очаровывать, как хорошая актриса.
«Однако эта же женщина обнаружила в важных случаях удивительное
мужество и энергию, и с этой же точки зрения она судила о достоинстве
мужчины». С этой стороны она произвела на Юлия самое сильное
впечатление. Он погрузился в молчаливость и стал избегать людского
общества. Он разорвал все свои прежние связи и сделался независимым чело-
812
Р. ГАИМ
веком; стыдясь своего прежнего бездействия, он всецело отдался своему
влечению к искусству.
Все это, за исключением некоторых прибавок и украшений, было
страницей из жизни самого Фридриха. На основании того, что мы знаем
о Каролине из других источников, на основании впечатления, которое
производят ее письма, и на основании отзывов ее различных
поклонников можно утверждать, что ее портрет, нарисованный Фридрихом в «Лю-
цинде», хотя и очень приукрашен вымыслами, но в сущности верен.
Письма Фридриха к его брату не позволяют сомневаться в том, что он описывал
в своем романе Каролину. Немедленно после того, как он в первый раз
видел Каролину1, он признавался своему брату, что она произвела на
него чрезвычайно сильное впечатление, а сквозь его восторженные
отзывы о ней ясно проглядывает нечто вроде готовности к
самопожертвованию. Он восхищался ею вследствие глубокого понимания поэзии; «она
глубоко проникает в смысл поэтических произведений; это видно уже из
того, как она их читает; „Ифигению" она читает превосходно». Он
восхищался ею и вследствие того, что она с энтузиазмом относилась к
современным событиям. Он не разделял ее уверенности в упрочении майнц-
ской республики и был бы очень огорчен, если бы ей удалось вовлечь
Вильгельма в водоворот майнцской революции; но он мог бы ей это
простить ради ее энтузиазма. С той минуты, как ему пришлось заботиться о
ней ради своего брата, он отказался от прежних развлечений и стал жить
уединенной жизнью; он положительно утверждал, что перестал
помышлять о самоубийстве; отделавшись от навязанной ему карьеры, он стал
готовиться к серьезной работе. Он откровенно признавался, что
исправился благодаря влиянию Каролины. Через три года после того он сам
признавался ей в этом в своем письме от 2 августа 1796 года. «Сегодня, —
писал он ей, — ровно три года с тех пор, как я с Вами познакомился.
Вообразите, что я стою перед Вами и благодарю Вас за все, что Вы
сделали из меня. Тем, что я теперь, и тем, чем я буду, я обязан самому себе, но
также отчасти обязан Вам».
Мы до сих пор следили преимущественно за нравственным
развитием молодого человека; теперь посмотрим, что послужило основой для
его развития умственного и литературного. И в этом отношении мы
найдем некоторые указания в истории умственного развития героя «Люцин-
ды». К Шлегелю, во время его лейпцигской жизни, вполне применимо по
меньшей мере то, что говорится в романе об юношеском энтузиазме,
с которым Юлий жадно хватался за разные ученые занятия. Разнообразие
занятий и начитанность молодого человека возбуждают в нас удивление.
В конце самого бесплодного периода своей жизни он сожалел о том, что
1 Из содержания письма 87 видно, что он познакомился с нею 2 августа
1793 года; поэтому следует полагать, что письмо 29 было написано в начале
августа.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
813
потратил так много времени на общественные развлечения. Но он
утешает себя, подводя итог своим более серьезным занятиям: он уже
постарался изучить направление нескольких великих писателей — Канта, Клоп-
штока, Гёте, Гемстергюи, Спинозы, Шиллера, Гердера, Платнера и других.
Изучение физиологии и политики он только что начал, но принялся за него
серьезно; изучение Шекспира и Софокла он был вынужден прервать.
Всего менее он занимался математикой и историей. В одном из ранее
написанных писем он говорил, что разделяет свое время между
юридическими занятиями и метафизикой, а свободные часы посвящает чтению
сочинений о медицине. Около Пасхи 1793 года он писал, что в этом году
посвящал немного времени на юриспруденцию, но «полагает, что
хорошо познакомился с моралью, с теологией, с философией, с кантовской
философией и с политикой». Он хвалится рвением и успехом, с которыми
занимается чтением. Кроме названных выше писателей, к которым
следует присовокупить Винкельмана и Морица, Шлегель читал Вольтера и
Руссо, а после них Монтескье, Фергюсона, Мидлтона и, в особенности,
греческих писателей. О выходивших в свет новых беллетристических
произведениях он аккуратно извещал своего брата, жившего в Голландии.
Он доставлял своему брату точные сведения о «Путешествии по южным
провинциям Франции» Тюммеля, о произведениях Клингера и Бутерве-
ка, о «Peregrinus Proteus» и о новых «Göttergespräche» («Разговоры
богов». — Прим. науч. ред.) Виланда, об Альксингере, Готтере, Маттиссоне
и о многочисленных немецких и французских романах. Он читал,
по-видимому, с бесцельной жаждой знания, но ему не стоило большого труда
дать своим чтениям определенную цель.Один раз он говорил, что имел в
виду формировать свой стиль; в другой раз он утверждал, что «при
беглом чтении громадного числа книг» он старался «ближе познакомиться с
духом немецкой нации и немецкого языка».
Но все это не может скрыть от наших глаз настоящее призвание и
самую сильную склонность молодого человека. Юлий был живописец.
И у его первообраза не было более старого и более сильного влечения,
чем любовь к искусству и к древности. Из его прежних писем уже ясно
видно, что он хорошо изучил Винкельмана. Проводя праздник Пасхи
1792 года у своей сестры в Дрездене, он посвящал изучению
произведений искусства все свое свободное время. Когда его брат обратился к нему,
во время его пребывания в Лейпциге, с вопросом, не чувствует ли он
расположения к литературной работе, он отвечал, что прежде всего
займется сочинением аллегории, а потом будет писать диалоги о поэзии.
Ранее мы уже заметили, что самой старой причиной дружеской связи
между ним и его братом была любовь того и другого к искусству. И когда
они жили в разлуке, эта связь не прекращалась: письма, которые посылал
Фридрих в Амстердам, были наполнены главным образом суждениями о
достоинствах различных поэтов, о различных точках зрения при оценке
поэтических произведений, о разных эстетических вопросах; отсюда и воз-
814
Р. ГАИМ
никла у них мысль о печатном изложении их воззрений на поэзию. С той
минуты, как Фридрих перестал заниматься юриспруденцией, изучение
искусства сделалось его главным занятием. «Для меня, — писал он, —
открыт только один путь — светлый путь к славе. Но к священному
искусству меня влечет, конечно, не честолюбие, а любовь». Поэтому уже в
последнее время его жизни в Лейпциге чтение греческих поэтов
сделалось его постоянным занятием. Вскоре после того он писал из Дрездена,
что надеется со временем приступить к сочинению истории греческой
поэзии. Уже ранее он советовал своему брату предпринять эту работу,
которая служила бы дополнением к сочинению Винкельмана. А теперь
он задумал сам взяться за историю древней поэзии, предоставляя своему
брату историю новой поэзии. Немедленно вслед за тем, как он насладился
«Критическими лесами» Гердера, он писал из Дрездена 27 февраля
1794 года (письмо 50): «Мне приятна мысль, что наши труды, несмотря на
свое несходство, быть может, будут сходиться в единстве нашей цели.
Проблема нашей поэзии заключается, как мне кажется, в сочетании
новейшего с античным; ты меня, конечно, поймешь, если я прибавлю, что
Гёте первый стал приближаться к этой цели, положив начало новому
периоду в истории искусства. Если ты изучишь произведения Данте и, быть
может, также произведения Шекспира, то тебе будет легче понять, в чем
заключается то новое направление, которое я нахожу преимущественно
у этих двух поэтов. Как было бы полезно в этом отношении издание
истории романтической поэзии, о котором ты когда-то помышлял!».
Итак, приведенные нами выдержки из писем Фридриха
подтверждают то, что он говорит о себе в предисловии к тому VI своих сочинений,
что когда ему было только семнадцать лет, его ум развивался на
произведениях Платона, трагиков и Винкельмана. Но с другой стороны, из
дошедших до нас документов куда лучше, чем из писем Фридриха, видно,
почему было приостановлено сочинение истории древней поэзии: из них
видно, что влечение к древнему искусству соединялось у Фридриха с
философскими, этическими, историческими стремлениями и что его
литературная предприимчивость была с ранней молодости парализована
разнообразием его умственных тенденций. Так, например, летом 1795 года,
в то время как он изучал филологию и эстетику, он высказал убеждение,
что его ум развит преимущественно в философском отношении, что его
влечение к философии было если не преобладающим, то очень сильным.
Действительно, почти каждое из его писем свидетельствует о том, что он
хорошо изучил философию Канта, и изучил ее в такой же ранней
молодости, как произведения Винкельмана. В переписке со своим братом он
постоянно разыгрывал роль философа. Но и этикой он интересовался
почти столько же, сколько эстетикой. К занятию метафизикой, как видно
из одного письма, написанного им в 1792 году, он был привлечен
«размышлениями о нравственных предметах и, может быть, также любовью к
искусству». Нравственная точка зрения постоянно руководила его суж-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
815
дениями о поэтах или, по меньшей мере, постоянно сталкивалась с его
эстетической точкой зрения. Этим объясняются и его увлечение таким
произведением, как «Сборник писем» Альвиля, и его высокое уважение
к Клопштоку, и его похвалы Шиллеру, перемешанные с сильными
порицаниями1, и его нерешительные отзывы о достоинстве поэтических
произведений Гёте, и его невысокое мнение о произведениях Бюргера.
С этим вполне сходится и то, что в начале своих серьезных занятий
древностью он называл своей главной целью изучение духа греков и «истории
нравственного человека по их понятию»; ведь именно по этому предмету
перед ним открыто широкое поприще «вследствие нравственного
ничтожества исследователей древности». Но этот этический интерес ведет его
прямо к истории и к политике. Фридрих удивляет нас тем, что во второй
половине своей литературной деятельности читает исторические лекции
и пишет политические мемуары; но наше удивление значительно
уменьшится, если мы припомним, что зародыши таких дилетантских
стремлений кроются в его ранней молодости. И Фридрих, и Август Вильгельм
чувствовали очень сильное влечение к изучению истории.
Преобладавшая в их время культура эстетическая и философская заставила их
ограничиться изучением истории искусства; но если бы наша нация уже в то
время имела развитую общественную жизнь или если бы братья Шлегели
пережили в своей юности такие же душевные тревоги, какие были
вызваны войной за освобождение Германии, то более чем правдоподобно, что
они не ограничились бы изданием сочинений по истории поэзии и
литературы. Фридрих неоднократно поощрял своего брата к историческим
исследованиям. Он сам вынес из своих юридических занятий желание
написать историю падения Римской республики. «Я уже окончил
изучение римской истории, — писал он в августе 1791 года. — Я намеревался
изобразить своеобразный характер этой нации в описании одного из ее
героев и одной из пережитых ею катастроф». Но он отказался от этого
намерения, потому что его исполнение представляло большие
трудности. И в его эстетические проекты входит в значительной мере
исторический элемент. Ранее мы уже упоминали о его намерении написать диалог
о поэзии. По этому поводу он превозносил немецкий национальный
характер в таких выражениях, которые снова встречаются в его «Идеях»,
написанных для «Атенея» (III, 1, с. 25 и 28). Этот характер он находит во
всей полноте только в нескольких великих людях: в Фридрихе, в Гёте, в
Клопштоке, в Винкельмане и в Канте. «Люди этого рода редко
встречаются во всех других поколениях; у них есть такие свойства, о которых не
имеет никакого понятия ни один из известных нам народов... Во всем, что
делают немцы, и в особенности в их ученой деятельности, я усматриваю
только зачатки великой будущности... Я нахожу у нашего народа
неутомимую деятельность, способность глубоко проникать в сущность вещей,
Сравн. далее № 4: «К истории отношений братьев Шлегелей с Шиллером».
816
Р. ГАЙМ
много задатков для нравственности и свободы». Именно немецкой
историей Фридрих и занимался зимой 1791/92 года. Эти влечения пережили
период его беспорядочной жизни. Когда он в конце 1793 года снова стал
бодр духом, он стал усердно заниматься историей и политикой, как
кажется, благодаря влиянию Каролины. «История и политика, — писал
он, — играют немаловажную роль в проектах касательно моей будущей
деятельности». Он прочел так много исторических сочинений и хранил
в своей памяти такой богатый запас исторических сведений, что не считал
себя неопытным в великом искусстве историографии. Он изучал и
новейшие политические сочинения: «В течение нескольких месяцев я находил
самый приятный отдых для ума в том, что следил за ходом замечательных
и загадочных современных событий; вследствие этих занятий начинают
складываться в моем уме такие убеждения, высказывать которые было
бы крайне неблагоразумно». Он, очевидно, сделался республиканцем,
но ни для кого не опасным. Хотя он и не разделял ненависти своего брата
к французам, называл его контрреволюционером и желал сохранения
французской свободы, но о вступлении всех наций в состав Французской
республики судил так же здраво, как и его брат. Он успокаивал своего
брата, опасавшегося, что он приобретет дурную политическую
репутацию и что политика отвлечет его от серьезных ученых занятий. «Чтение
книг политического содержания, — писал он в конце ноября 1793 года, —
служит для меня не только приятным занятием, но также подготовкой к
обработке отечественной истории; этой работой я буду серьезно занят в
Дрездене». По прошествии нескольких месяцев он писал, что посвящает
чтению политических сочинений только те часы, которые остаются
свободными от других занятий, что ему нужна умственная пища, и никакая
другая не подходит к его теперешним и к его будущим планам.
Итак, в то время, как Фридрих собирался переехать в Дрезден, в его
голове возникали самые разнообразные замыслы; кроме только что
упомянутого намерения писать отечественную историю, он предполагал
заняться целым рядом статей, которые надеялся помещать в «Талии» через
посредство Кернера, а именно статей о нравственности и философии
греческих трагиков и о подражании греческим поэтам, апологией
Аристофана и переводом некоторых драм Эсхила. Он готовился к отъезду в
Дрезден с самыми похвальными намерениями: он обещал своему брату, что
будет вести самый воздержанный образ жизни, а в благодарность за то,
что брат доставил ему возможность расплатиться с кредиторами, писал
ему: «Прошу тебя быть неумолимым цензором моей жизни». Он
наконец покинул Лейпциг ранее, чем предполагал, — в январе 1794 года: его
отъезд был похож на бегство, и он лишь мало-помалу стал приводить свои
дела в порядок. Вспоминая о лейпцигском периоде своей жизни, он
писал: «Я считаю этот период естественным, необходимым, даже в
некотором отношении полезным для всей моей будущей жизни, но сам по себе
он был очень плох и я был во многом виноват». Пора «сделаться другим
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
817
человеком», говорил он. На него, очевидно, имели благотворное влияние
и пребывание в доме его сестры, и сношения с Кернером: он сдержал
свои неоднократные обещания быть бережливым, воздержанным и
трудолюбивым. Но из направления, принятого его трудолюбием, ясно
видно, что самым сильным в нем было его старое влечение к греческой
древности: он стал заниматься почти исключительно чтением греческих
писателей. Через год после своего переезда в Дрезден он писал, что
Древний мир по-прежнему будет его отчизной, что в этой сфере он впервые
приобрел известность и что он надеется пробудить склонность к
изучению древности по меньшей мере в Германии. Через три месяца после
того он признавался, что предпочитает древних писателей всем другим, и
этим оправдывал мимоходом сделанное брату предложение отправиться
в Италию и жить вместе на берегах Тибра. Однако нелегко понять, каким
способом он намеревался пробудить склонность к изучению древности.
Он, без сомнения, сам не отдавал себе отчета в том, как следует взяться за
такое предприятие, потому что все его прежние литературные проекты
подверглись значительным изменениям; однако по всему видно, что в
основе написанных им в то время статей лежала широкая цель: в своих
письмах он постоянно вел речь о большом сочинении или даже о
нескольких больших сочинениях, в которых будет изложена история
древности, рассматриваемой со всех сторон. Как широк был объем этого
первоначального плана, видно из слов Фридриха, что его статья «Über das
Studium» была лишь «очерком половины предисловия к большому
сочинению»! Так как для исполнения такого широкого замысла Фридриху
недоставало и необходимых познаний, и необходимого метода и так как
денежная нужда постоянно заставляла его добывать журнальной работой
средства к существованию, то он по необходимости ограничился
подготовкой к своему капитальному сочинению и некоторыми отрывочными
статьями. Каждую из своих статей Фридрих (подобно юному Гердеру)
выдавал за программу большого сочинения, но на самом деле все
задуманные им большие сочинения урезались до размера статей. Так,
например, статья о Диотиме выдавалась им за полный очерк большого
сочинения, в котором будут подробно изложены и дополнены переводами лишь
намеченные в этом очерке главы. Подобно статье о Диотиме, он
намеревался развить в особое сочинение и статью «Софокл. Отрывок из истории
аттической трагедии», написанную для берлинской «Monatsschrift», но
не принятую Бистером. Эти статьи, вместе со многими другими, должны
были войти в состав многотомного сочинения под заглавием «Vermischte
Shriften über griechische Litteratur, Geschichte, Philosophie, Kunst etc.»
(«Различные сочинения о греческой литературе, истории, философии,
искусстве и т. д.». — Прим. науч. ред.) или «Beiträge zur Kenntniss der Griechen».
Этот сборник должен был состоять из трех или четырех томов, но
независимо от него Фридрих намеревался издать большое сочинение, в котором
древность была бы описана со всех сторон. Забавно видеть, как он откла-
818
Р. ГАИМ
дывает от одной ярмарки до другой издание нескольких томов, но эти еще
не написанные тома принимает в расчет при соображении своих
денежных средств. Иногда он сам сознает и свою горячность, и свою
непоследовательность, и свою неопытность. «В работе, — пишет он, — мой
глазомер вводит меня в заблуждения... мои статьи всегда становятся более
длинными, чем я предполагал, и времени требуется на них гораздо более,
чем я думал». Поэтому намерение написать большое сочинение мало-
помалу теряется из виду, а дополнения к этому сочинению, напротив того,
становятся все более и более обширными. Кроме нескольких томов о
поэзии греков Фридрих намеревается написать несколько томов о
«древней политике» или о «политических революциях у греков и римлян»; сюда
же должна была входить особая статья о Цезаре и об Александре; мысль
об этом сочинении так увлекала его в конце его дрезденской жизни, что
ради него он намеревался отложить до другого времени историю
аттической трагедии и одновременно с ним написать «что-нибудь
популярное о республиканских учреждениях». «Не буду от тебя скрывать, —
писал он Вильгельму 27 мая 1796 года, — что республиканские учреждения
более близки моему сердцу, чем божественная критика и самая
божественная поэзия».
Все вышеизложенное уже достаточно объясняет нам, почему
широкие замыслы Фридриха закончились сочинением нескольких отрывочных
статей, почему задуманные «Приложения» ограничились одним томом,
которому было дано, по совету Августа Вильгельма, заглавие «Die Griechen
und Römer», а вместо второго тома появилась не доведенная до конца
«История греческой поэзии». Даже появление этих сочинений должно
удивлять нас ввиду того, что их автор, занимаясь изучением древности,
не переставал интересоваться философией и всеобщей историей. После
того как он прожил в Дрездене только три месяца и, как следовало
полагать, был занят исключительно изучением греческой жизни, он
неожиданно обнаружил намерение читать лекции о философии Канта. «Это, —
говорил он, — будет только началом исполнения великого проекта, о
котором я помышлял в течение целого года». В том же письме от 20 января
1795 года, в котором он уверял, что впредь древность всегда будет его
отчизной, он вел речь о двух других сочинениях, из которых каждое могло
бы потребовать целой жизни писателя. Вот что он говорит об этих
сочинениях: «Буду ли я в состоянии исполнить некоторые из многочисленных
художественных и философских планов, которые покоятся в моем уме
в состоянии зародышей, будет зависеть от воли судьбы... Впрочем, план
моих ученых занятий уже достаточно созрел. Кроме статей о древней
истории... я имею в виду два сочинения. Одно из них я предполагаю
издать под заглавием „Geist der neueren Geschichte" («Дух новой истории». —
Прим. науч. ред.) или же под заглавием „Kritik des Zeitalters oder Theorie
der Bildung" («Критика эпохи, или Теория образования». — Прим. науч.
ред.). Другое будет дополнением, исправлением и окончанием филосо-
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
819
фии Канта. Оба они потребуют большей умственной зрелости, но едва ли
потребуют много времени». Но уже в июле того же года он полагает, что
достиг такой умственной зрелости: «Я намереваюсь отложить греческую
древность на полгода и приняться за исполнение старого плана — за
критику кантовской философии. Эта внезапная перемена, может быть,
покажется тебе причудливой, но я чувствую сильное к ней влечение; я
полагаю, что она будет полезна и для моего душевного здоровья и для моего
литературного развития». В письме, написанном немного позже, он
говорит, что будущее лето посвятит философии Канта, но в то же время он
снова заводит речь о своей «Истории человечества», в которой будет
излагать «историю философии совершенно отдельно, не смешивая ее со
всеобщей историей». Этот проект, по всему вероятию, тождествен с
проектом сочинения «Kritik des Zeitalters oder Theorie der Bildung». Во
всяком случае он напоминает нам подобные проекты, возникавшие около
половины девяностых годов в голове Вильгельма Гумбольдта. Из
сходства научных стремлений этих двух людей, так мало похожих один на
другого во всем остальном, мы приходим к убеждению, что такой
универсализм, такое смешение истории, философии, искусства и изучения
древности соответствовали не столько индивидуальному складу ума
Фридриха, сколько духу того времени. Что при этом сходстве влечений
Фридрих иногда подчинялся влиянию Гумбольдта, было вполне естественно.
В нашем тексте (с. 184 и 188) мы уже указывали на то, что в статьях
Фридриха иногда слышатся отзвуки идей и воззрений Гумбольдта. Из писем
Фридриха мы видим, что он с сочувствием читал отрывки из сочинения
Гумбольдта «О пределах государственной деятельности» и его статьи о
формах мужской и женской. Письма Гумбольдта к Кернеру были ему
сообщены этим последним. Статья «О школах греческой поэзии» вызвала
переписку между Фридрихом и Гумбольдтом; Фридрих был признателен
этому знатоку греческой жизни и за поощрения, которые получал от него,
и за хлопоты о помещении статей; но более тесное сближение между
ними было невозможно. Почему они не могли сойтись, видно из того, что
Фридрих писал своему брату в ответ на пересылку одной статьи
Гумбольдта: «В этой статье, действительно, есть прекрасные мысли. Только
было бы желательно, чтобы он не имел обыкновения постоянно
отрекаться от самого себя. Это — философствующий царедворец. Мне
противно его желание всякому угодить. Ему будет дорого стоить его
старание сделаться отголоском чужих идей и соединить в себе все отдельные
личности. Он кончит тем, что утратит свою самостоятельность, если уже
не утратил ее; а когда он оскопит себя, он будет в состоянии давать только
чужой тон. Он обанкротится от чрезмерной нравственности».
Возвращаясь к литературным проектам Фридриха, мы с удивлением
замечаем, что в числе их нет помыслов о той работе, которая могла бы
служить естественной связью между изучением древности и
философией, — нет помыслов об эстетике и о поэтике. Проект этого рода возник
820
Р. ГАЙМ
только в начале 1796 года. Под влиянием статьи Шиллера о
сентиментальной поэзии Фридрих намеревался написать «Поэтического Эвклида» для
помещения в журнале Фихте и Нитгаммера. Впоследствии он говорил,
что этот эстетический очерк должен войти в состав первого отдела
«Приложений» в качестве дополнения к тому, что он говорил о красоте и
поэзии; но этот «Поэтический Эвклид» не был написан ни в виде
дополнения, ни в какой-либо другой форме. Также осталось неисполненным
намерение делать многочисленные переводы древних и новых
произведений, несмотря на то что оно часто высказывалось или серьезно, или
под гнетом нужды в деньгах.
Занятия Фридриха греческой древностью были прерваны разными
новыми личными связями, в особенности его пребыванием в Йене; а
первая часть его «Истории греческой поэзии», как кажется, была обязана
своим выходом в свет только интересу, который возбудили в нем
«Prolegomena» Вольфа1. Его переезд из Дрездена в Йену был естественным
следствием того, что в Йене поселился Вильгельм. Младший брат
постоянно уговаривал старшего возвратиться в свое отечество и постоянно
высказывал желание жить вместе с ним. Сначала оба брата предполагали
устроиться в Дрездене; когда это оказалось неудобным для Каролины,
Вильгельм стал строить причудливые планы о переселении или в
Америку, или во Францию, или в Швейцарию, между тем как Фридрих указывал
на Италию. Но всего серьезнее и всего чаще Фридрих настаивал на
проекте поселиться в Йене; Вильгельм наконец согласился с его желанием.
Посетив Новалиса в Вейссенфельсе, Фридрих отправился оттуда в Йену.
Письма, которые он писал с дороги своему брату, подтверждают сообщение
Кернера (к Шиллеру III, 349), что он выехал из Дрездена 21 июля; стало
быть, его письмо к Шиллеру («Рг. Jahrb». IX, 227) было, по всему
вероятию, написано не 28 июля (как сказано выше, на с. 203, прим. 2), а 18 июля.
1 О впечатлении, которое произвели на него «Prolegomena»,
свидетельствуют многие из его писем Вильгельму. Он в первый раз упомянул об этом
сочинении в письме от 31 июля 1795 года (67). Воззрение Вольфа было им легко
усвоено и потому, что в письмах его брата излагались такие же мнения о поэмах
Гомера (сравн. письмо 60 от 20 января 1795 года). Фридрих скоро решился
применять к исследованиям Вольфа свою более широкую точку зрения. Так,
например, он писал 23 декабря 1795 года: «В небольшой статье, которую я уже
давно обдумываю, будет идти речь о стиле Гомера и о подлинности его
произведений; в ней будут делаться ссылки на знаменитые „Prolegomena" Вольфа...
Скептическое и критическое содержание этого сочинения я одобряю вполне. Ты
будешь доволен, когда найдешь в нем то, о чем ты так прозорливо догадывался.
Но Вольф вставил в него несколько химерических гипотез... В сущности, в нем
есть что-то гениальное. Но ему многого недостает в том, что касается
философии, изящного вкуса и даже, быть может, знакомства со всей массой греческих
поэтических произведений»(письмо 72, сравн. письмо 74 от 2 января 1796 года и
письмо 75 от 15 января).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
821
В дошедших до нас письмах мы находим еще некоторые указания
только относительно того времени, когда Фридрих жил в Берлине. Там он
снова стал изучать классические произведения. Он писал в ноябре
1797 года, что снова мысленно живет в Афинах. «Я твердо решился, —
говорит он, — так изменить мой старый план сочинения о римской
истории, что из него выйдет „система", хотя и не очень обширная. Я буду
изучать преимущественно исторические и риторические [даже и
грамматические] произведения древних писателей и уже приступил к этой
работе. Здесь я снова чувствую себя как дома». Однако он сам
признается, что уже в течение года находится в таком положении, в каком
находился гётевский Вильгельм во время чтения Шекспира, что он никак не
может справиться с наплывом новых идей, и это делает его несчастным. Это
были такие же идеи, с какими он был не в состоянии справиться во время
своей жизни в Лейпциге. В Берлине он вовлекся в общественные
развлечения. Он жаловался на то, что число его знакомых увеличивается, что
ему пришлось несколько раз обедать и ужинать у Николаи, что он часто
получал приглашения на вечера и т. д. К этому присоединилось влияние
двух привязанностей — одной дружеской, другой сердечной: его дружба
с Шлейермахером снова расшевелила его склонность к философским
занятиям; его отношения с Доротеей побудили его заняться поэтическим
творчеством. Наконец, с его переездом в Берлин совпало возникновение
проекта издавать «Атеней», а участие в этом журнале убедило его, что
его настоящее литературное призвание — писать отрывочные заметки.
Таким образом, на деле оказалось, что «Атеней» и отрывочные заметки
были главными препятствиями для продолжения и окончания «Истории
греческой поэзии». Вильгельм предвидел это. Сначала Фридрих уверял
его, что первая часть будет готова в ноябре, а вторая — к пасхальной
ярмарке. Но его признания скоро стали звучать менее утешительно. В конце
февраля 1798 года он писал, что греческая поэзия страшно тяготит его,
хотя у него уже все готово до малейших подробностей. В конце апреля он
дошел до последних страниц только первой части, утешая и самого себя,
и публику, что впоследствии появятся и следующие части. Увлекаясь
разными проектами, он мало-помалу совершенно позабыл о продолжении
этого сочинения. Он просто пустословил, когда писал в апреле 1799 года
своему брату: «Впрочем, и в том, что касается древней поэзии, я не был
так непредприимчив, как ты предполагаешь: в течение этого года я
наверно тебе пришлю новый огромный том».
822
Р. ГАЙМ
4
К истории отношений братьев Шлегелей с Шиллером
(К с. 202 и ел.)
Мы уже говорили о том, какие последствия имел для братьев
Шлегелей их разрыв с Шиллером и какие внешние поводы были для этого
разрыва. Но знакомство с содержанием не попавших в печать писем
несколько изменяет наш прежний взгляд на отношения Вильгельма с
Шиллером. Что же касается Фридриха, то мы найдем в тех письмах
некоторые дополнительные сведения и можем проследить по ним перемены,
происходившие в суждениях Фридриха о великом поэте.
Нам прежде всего бросается в глаза тот факт, что хотя Август
Вильгельм и не был в состоянии избегнуть влияния произведений Шиллера,
хотя он и нуждался в покровительстве поэта и опасался лишиться его, тем
не менее его несочувствие к Шиллеру было гораздо более старым, чем
нападки Фридриха. Сначала Фридрих был решительным поклонником
Шиллера. Однако и в его ранних отзывах о поэте (письмо 2 в июне 1791
года) обнаруживается несходство их умственного направления. Точно так
же, как в рецензии на «Альманах Муз» за 1796 год, Фридрих находил, что
Шиллер «резок и неестествен» и что ему недостает «гармонии»
(письмо 25 в мае 1793 года); но в его отзывах все еще преобладало уважение к
умственному величию поэта. Он уважал в Шиллере «великого человека»,
а из первого личного с ним свидания весной 1792 года в Дрездене вынес
убеждение, что «угадал бы в нем великого человека, даже если бы не знал
его имени» (письмо 12)'. Он твердо придерживался этого воззрения,
несмотря на то что его брат старался умалять достоинства произведений
Шиллера и в качестве верного ученика Бюргера не мог простить
Шиллеру рецензию на произведение Бюргера. И по складу своего ума Август
Вильгельм не мог сочувствовать филосовско-критическим статьям
Шиллера; а так как он в частных разговорах (а впоследствии и в печатных
отзывах) насмехался над этими статьями, то он стал умалять и поэтиче-
1 В только что полученном мною продолжении биографии Шлейермахера,
написанной Дильтеем (Берлин, 1870), на с. 224 находится описание этой первой
встречи с Шиллером, требующее, по моему мнению, поправок. В примечании 16
Дильтей соединяет один отрывок из письма 11 (от 17 мая 1792 года) с отрывком
из письма 12; слова: «denn er konnfe mich nicht leiden» и так далее принадлежат к
последнему письму и, как мне кажется, относятся не к Шиллеру. Я не могу
догадаться, кого Фридрих разумеет под словом «Geist» («Дух». — Прим. науч.
ред.), но, очевидно, он ведет речь не о Шиллере, так как характеризует того
писателя следующими словами: «Verzweiflung und Muthwillen, Pedanterie und
Grundsazlosigkeit» (отчаяние и озорство, педантичность и беспринципность. —
Прим. науч. ред.), и т. д. Только со слов «undauch Schillern?» начинается в этом
письме речь о Шиллере.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
823
ские достоинства писателя, которому, однако, нередко старался
подражать. Против натурализма своего брата, против его заступничества за
Бюргера Фридрих восставал, доказывая, что поэтические произведения
следует оценивать с точки зрения высших законов; он называл своего
брата человеком, ненавидящим разум, обоготворяющим натуру и т. д.
(письма 31 и 33). И с этой точки зрения, и с нравственной точки зрения он
вступался за Шиллера точно так же, как вступался за Канта. Всего
подробнее он излагал свои мнения в письме (35) от 11 октября 1793 года: «Основа
моей теории заключается в том, что человечество выше всего и что
только для него существует искусство. Не столько Шиллер, сколько Бюргер
ставит искусство выше природы. Даже Гёте низошел в своих преклонных
летах до такого самообожания. Он, по-видимому, с самодовольством
прислушивается к проявлениям своего гения и этим напоминает мне музыку
Моцарта, которая в каждой ноте дышит тщеславием и изнеженной
испорченностью». Это разномыслие обнаруживается в длинном ряде писем.
Но к своим похвалам Шиллера Фридрих постоянно присовокупляет
какие-нибудь порицания; на него, очевидно, производят впечатление
постоянные насмешки его брата над поэтом. В письме (38) от 1 ноября 1793
года он говорит, что слава приобретается поэтами нередко не законченными
произведениями, а законченным выражением своей своеобразности:
«Я ценю произведения Шиллера только ради его личности; как
поэтические произведения, как произведения исторические и философские я ценю
их, может быть, еще ниже, чем Вы». В письме (41) от 13 ноября 1793 года
он говорит, что шиллеровская рецензия на произведения Бюргера
лишена изящного вкуса, но вполне основательна в том, что касается пошлости
и эгоизма Бюргера; он признается, что не понимает, в чем Вильгельм
находит изящество и возвышенность этого поэта. Через несколько дней
после того (в письме 42) он объяснял причину несходства между старыми
и новыми произведениями Шиллера: «Кто живет в юношестве только
фантазией, тот должен в зрелых летах жить только умом... Я всегда буду
высоко ценить в Шиллере его страстное влечение к тому, что вечно».
Наконец, в письме 45 Фридрих пишет своему брату: «Ты унижаешь сам
себя, принимая сторону Бюргера». Он напоминает брату его прежние
похвальные отзывы о «Дон Карлосе»; он допускает, что у Бюргера есть
гениальность, но не такая, как у Клопштока и у Шиллера. Этот последний
и в своей жизни является необыкновенным человеком; этому есть
немало доказательств. Наконец, как будто желая сказать своему брату что-
нибудь приятное, Фридрих пишет: «Таковы выводы, к которым я пришел;
но для того, чтобы ты не составил себе ошибочного о них понятия, я
скажу тебе, что я в сущности не восхищаюсь ни одним из немецких
поэтов, кроме Гёте. Но и Гёте несравненно выше Клопштока и Шиллера не
столько могуществом своего гения, сколько тем, что имеет общего с
греческими, и в особенности с афинскими, поэтами». Итак, по всему видно,
что над этической точкой зрения Фридриха мало-помалу берет перевес
824
Р. ГАИМ
точка зрения односторонне-художественная и что в его глазах поэт
Шиллер все более и более затмевается поэтом Гёте. Стихотворения, которые
помещались Шиллером в его «Альманахе», Фридрих находит пошлыми, а
«Klage der Ceres» («Плач Цереры». — Прим. науч. ред.) Шиллера кажется
ему в сравнении с «Alexis und Dora» («Алексис и Дора». — Прим. науч.
ред.) Гёте не лучше стихотворений Гейденрейха или Маттиссона
(письмо 84). Всего дольше он сохраняет уважение к эстетику Шиллеру. Хотя он
и порицал более старые статьи Шиллера об эстетике за их одностороннее,
не в меру рациональное воззрение на философию Канта (письмо 9), хотя
он (в письме 69) и называл Шиллера и Гумбольдта «простыми пачкунами
метафизики» в сравнении с философом Фихте, однако на него имела
сильное влияние статья Шиллера о наивной и сентиментальной поэзии; и в
своих письмах он часто утверждал, что многому научился из этой статьи,
что вполне одобряет изложенные в ней мысли (письма 75,76,78).
Из всего сказанного нам становится вполне понятным, почему
рецензия на шиллеровский «Альманах Муз» представляет такую пеструю
смесь похвал и порицаний; характер этой рецензии, кроме того,
объясняется неясными юношескими понятиями Фридриха о том, как следует
писать статьи этого рода. Из его отзыва о написанной его братом рецензии
на журнал «Hören» мы узнаем, как, по его мнению, следует писать
рецензии. Он хвалит в рецензии своего брата «άχχινοια» и торжественный тон,
но не находит в ней «δεινώζ». Он хочет, чтобы рецензии были более колки
и язвительны, чтобы они заключали в себе более многочисленные
«sententias vibrantes fulminis justas» (проникновенны и молниеносно
точные предложения. — Прим. науч. ред.). «Рецензия должна быть, по
выражению Лукреция, „tota merum sal"» (письмо 79). Придерживаясь этого
идеала, он прибавил к уже готовой рецензии на «Альманах Муз» «очень
сильно написанный отрывок о недостоинстве женщин» (письмо 82,27 мая
1796 года). Из этого отрывка мы с удивлением узнаем, что прибавленное
к рецензии примечание о перестановке строф было написано по совету
Августа Вильгельма; поэтому мы не можем полагаться на уверение
Августа Вильгельма, что он «настойчиво протестовал» против напечатания
рецензии, а с другой стороны, мы находим основательным негодование
Шиллера и против старшего из двух братьев. Из писем Фридриха Шлегеля
(письмо 83,11 июня 1796 года) видно, что Вильгельм вычеркнул из
рецензии похвальные отзывы о себе самом и что он очень сожалел о том, что
рецензия была подписана именем его брата; он советовал Фридриху
написать Шиллеру, что он не виновен в происшедшей ошибке. Фридрих
обещал это сделать, но вместо того чтобы исполнить свое обещание,
прибегнул к посредничеству Кернера, который постарался оправдать его в
глазах Шиллера (в переписке Шиллера и Кернера III, 350).
Вслед за сделанной ошибкой обнаружилось раскаяние. Надежда
Фридриха сотрудничать в «Hören» могла оказаться тщетной. Он уже давно
помышлял об этом сотрудничестве. «Мои отношения с Кернером, — писал
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
825
он 16 июня 1795 года, — не позволяют мне что-либо посылать прямо
к Шиллеру и подвергать себя опасности отказа. Крупный гонорар был бы
мне кстати». 4 июля он говорил о своем намерении написать для журнала
«Hören» статью о древней религии. Затем 23 декабря он писал: «Для
„Hören" у меня готово очень много мелких и крупных статей. Я ожидаю
только милостивого изъявления согласия на их помещение». Он хотел
прежде всего поместить в «Hören» статью об отношениях греческого
образования к образованию Нового времени, а потом отдал предпочтение
статье о Цезаре и Александре, в которой, как он писал 27 февраля 1796 года
(письмо 80), «сильно досталось бы императору». Из его письма 82
(написанного, как я полагаю, 27 мая) видно, что он был извещен Вильгельмом
о готовности Шиллера принять его статью, если она окажется годной. Но
тем временем он вступил в сношения с Рейхардтом и написал пагубную
рецензию на «Альманах Муз». На пути из Дрездена в Йену он выражал в
письме из Лейпцига от 28 июля тревожившие его чувства. «С
Рейхардтом, — писал он, — я провел здесь вечер, утро и половину дня...
Нехорошо только то, что он, по-видимому, питает ненависть к тем, кто отзывался
и тебе дурно о нем. Следует думать, что случилось что-нибудь такое, о
чем мы ничего не знаем... я не желаю, чтоб меня вносили в Йене в список
„gens suspects"; я решился не примыкать ни к какой партии ученых и
желаю, чтоб это было всем известно. Если бы нашлась возможность
сохранить сколько-нибудь сносные отношения с Шиллером, то я был бы
очень доволен. Ты, быть может, найдешь возможность извлечь пользу из
того, что я писал и в „Библиотеке" и в „Летописях" против двух
рецензентов „Hören"1... Кернер, вероятно, уже писал Шиллеру обо мне; если же
он еще не писал, то ты, конечно, можешь найти случай переговорить с
ним для того, чтоб выпутаться из затруднений». И в следующем письме,
которое Фридрих написал Каролине 2 августа 1796 года из Дюренберга2,
снова идет речь об отношениях с Рейхардтом: «Вильгельм должен
обдумать, позволяют ли его отношения с Шиллером помещать в „Германии"
собственные статьи Рейхардта... Но обо мне не заботьтесь: я буду
остерегаться, чтоб Рейхардт не злоупотреблял моим добродушием для
достижения своих целей». Фридриху, еще до прибытия в Йену, очень хотелось
узнать, примет ли Шиллер в свой журнал статью «Цезарь и Александр».
Во всех трех письмах, написанных с дороги, он с нетерпением просил о
доставлении ему известий об этом.
Эта статья не была принята Шиллером, и тогда дело дошло до той
размолвки, до тех оскорблений, о которых мы уже говорили в свое время.
1 Касательно рецензий на «Hören» сравн. Коберштейна III, 1990. О разборе
этих рецензий Фридрихом шла речь в его письмах № 82 и 83; но я был не в
состоянии отыскать его.
2 Мне непонятно, почему Дильтей, упоминая два раза об этом письме («Leben
Schleiermacher's» I, 223 и 284), говорит, что оно было адресовано Рейхардту.
826
Р. ГАЙМ
Вместе с этим исчезли и последние следы прежнего сочувствия
Фридриха к поэтическому направлению Шиллера. Осталась только
отрицательная сторона его прежней оценки поэта, а вследствие своей склонности к
преувеличениям он мало-помалу превзошел даже своего брата в
насмешках. К нашему удивлению, он отдает справедливость достоинствам одной
песни в «Валленштейне»; но это был последний из его отзывов, не
отличавшийся крайней односторонностью и самой желчной злобой. Он
дошел до того, что в одном из своих писем к Вильгельму называл Якоби
и Шиллера «самыми выдающимися представителями вредного
принципа в немецкой литературе».
5
Первые сношения братьев Шлегелей с Тиком
(К с. 261 и ел.)
Из писем Фридриха Шлегеля ясно видно, что оба брата сначала
относились к Тику как к такому писателю, который нуждался в их
покровительстве.
После первого знакомства с автором «Народных сказок» Фридрих
сообщал своему брату об удовольствии, доставленном этому поэту
первыми частями переводов Шекспира: «Он поручил мне передать тебе от
него поклон (письмо 91 от 31 октября 1797 года); он сам будет писать тебе.
Он часто бывает у меня и очень меня интересует, несмотря на то что
имеет вид человека, постоянно дрожащего от холода и одинаково слабого
и умом, и телом». Из позднейших отзывов Фридриха видно, что он судил
о Тике более строго, чем Вильгельм, который основывал свои мнения
только на литературных впечатлениях и сверх того надеялся извлечь для
себя пользу из близкого знакомства берлинского поэта с произведениями
Шекспира. Тик даже обещал написать рецензию на шлегелевские
переводы Шекспира, но, несмотря на неоднократные напоминания, не
исполнил своего обещания. Только в том, что касается близкого знакомства с
произведениями Шекспира, Фридрих разделял хорошее мнение своего
брата о новом знакомом, но и то не без оговорок. Он хвалил познания
Тика относительно старинной английской поэзии и ожидал от него
хорошей характеристики индивидуального тона различных шекспировских
драм. Он не считал неправдоподобным, что после продолжительных
упражнений Тик сделается столь же хорошим критиком, сколь был
хорошим поэтом; однако он советовал дождаться появления в «Лицее» его
статей о Шекспире, прежде чем приглашать его к сотрудничеству в «Ате-
нее» (письма 91,95). Но относительно поэтических произведений Тика он
не вполне разделял мнение своего брата. С ним можно согласиться только
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
827
в том (письмо 92), что он ставил «Ловеля» выше «Кота в сапогах», а
между «Народными сказками» считал самыми лучшими не те, которые были
изложены в драматической форме (письмо 93). Эти суждения были
высказаны Фридрихом в ответ на написанную Вильгельмом рецензию на
«Синюю Бороду», «Кота в сапогах» и «Бамбошады». По этому случаю
Фридрих сообщает своему брату свое мнение и об этом последнем
произведении. «„Бамбошады", — говорит он в письме 92, — написаны
учеником Тика, Бернгарди, который иногда заходит ко мне. Его, конечно,
хвалят по „Всеобщей литературной газете", потому что он „наполовину"
джентльмен. Из всей этой художественной школы мне всех больше
нравится Вакенродер. У него больше гениальности, чем у Тика, но у этого
последнего, конечно, гораздо больше рассудка. Тик был очень доволен
твоей рецензией». Этих мнений о Бернгарди и Вакенродере Фридрих не
изменял и впоследствии. В письме 94 он говорит, что Вильгельм будет
судить о Бернгарди еще гораздо строже прежнего, если лично
познакомится с ним. О Вакенродере он говорит (письмо 108), что у «любящего
искусства монаха» такое же сердце, как у его автора, и что это
произведение отличается «такой безыскусственной, музыкальной
сентиментальностью, какая не по силам Тику». Он определял границы даровитости Тика
так же основательно, как впоследствии ставил этого писателя ниже Нова-
лиса. Он находил преувеличенными мнения своего брата о Тике, но
полагал, что следует оказывать этому писателю покровительство на
основании таких же соображений, по каким одобрял рецензию на «Бамбошады».
Тик, — писал он (письмо 92), — живет в Берлине «точно in ecclesia pressa»
(в церкви мучеников. — Прим. науч. ред.); в другом письме (98) он
говорил: «нисколько неудивительно, что у Тика много врагов: ведь он нередко
нападал на людей, имеющих большие связи, и вообще был противником
старого берлинизма. В обществе, и в особенности в том, которое я
посещаю, его принимают любезно. Свои странности он искупает тем, что
всегда скромен и нередко бывает очень забавен. Впрочем, он стал реже
бывать в обществе и довольствуется небольшим кружком знакомых».
Отсюда делается вывод, что к такому писателю следует относится с
сочувствием. «Он часто приходит ко мне, — говорится в письме 94, — и
обнаруживает большое доверие ко мне и к моим мнениям. Он ребячески
неловок и неопытен в том, что касается денежной стороны литературной
деятельности... Более высокая плата доставила бы ему возможность
работать и медленнее и лучше... Здесь всякому книгопродавцу известно,
что Николаи дал ему только пять талеров; здесь все против него и все
находят его произведения плохими; поэтому ему можно было бы оказать
большую услугу, доставив ему случай получать более приличное
денежное вознаграждение». Однако, по мнению Фридриха, следует обходиться
с ним только как с писателем, нуждающимся в покровительстве: не
следует преувеличивать его достоинства, не следует баловать его и развивать в
нем склонность к тщеславию. В сравнении с таким человеком, как Шлей-
828
Р. ГАЙМ
ермахер, Тик является совершенно незначительной личностью,
обладающей редким и очень развитым талантом. Только по совету Фридриха Тик
послал своему великодушному рецензенту экземпляр «Народных
сказок» и, преодолев свою «леность», написал письмо, в котором нет ничего
сердечного. А Вильгельм написал ему в ответ слишком лестное письмо!
Это, по мнению Фридриха, слишком много для «мечтателя», для
«молодого человека». «Что касается Тика, — пишет он своему брату и своей
свояченице в Иену (письмо 101), — то я уважаю горячее сочувствие
Вильгельма к его искусству тем более потому, что оно, подобно его прежнему
восхищению произведениями Бюргера и Шиллера, проистекает не только
из источника священной поэзии, но еще более из фантазии. Поверьте, что
я вполне ценю способности и познания Тика; но как человек, этот
писатель еще не что иное, как недоросль. У него нет ни крошки характера, и я
опасаюсь, что, при бросающемся в глаза отсутствии ловкости,
осторожности и благоразумия, он быстрыми шагами низойдет в разряд юных
негодяев немецкой литературы, Вольтманнов и тому подобное. У него
есть что-то похожее на „gentlemanity" и „honesty" (благородство и
честность. — Прим. науч. ред.), но при его бесхарактерности все это может
быть скоро утрачено. Мне подает слабую надежду на дальнейшее
развитие его таланта только то обстоятельство, что он трудится над своей
статьей о Шекспире и никак не может довести ее до конца...»
Мнения Шлейермахера о Тике сначала были только отголосками
мнений его друга. Он приводит только мнение этого друга, когда говорит в
своем письме от 15 января 1798 года, что, по словам Фридриха, Тик не что
иное, как «не подающий никаких надежд юный представитель немецкой
литературы». «Вы пишете, — говорит Фридрих, — о выдающихся
достоинствах и о двух луидорах; но говорить о достоинствах еще рано, а
получать два луидора можно будет только благодаря протекции». Не без иронии
говорит Шлейермахер об этой протекции и в своем письме от 17 февраля
1798 года (напечатанном у Клетте, с. VII).
Одна эта готовность Шлегелей оказывать Тику свое покровительство
приносила прекрасные плоды. Тику действительно нужно было многому
учиться. Так, например, из его первого письма к В. Шлегелю видно, что
ему сначала совсем не нравилось произведение Гёте «Герман и
Доротея»: только шлегелевская рецензия раскрыла ему глаза! Из его второго
письма к его покровителю видно, что участие В. Шлегеля внушило ему
более высокое мнение о своем собственном таланте: он говорил, что
прежде относился с пренебрежением к своим сочинениям, которые писал
торопливо, тратя на них очень мало времени.
Мало-помалу он возвысился и в мнении Фридриха. Фридриху
понравился «Штернбальд»; он признавался своему брату, что, кроме «Мейсте-
ра» и романов Рихтера, никакой другой роман не интересовал его так же
сильно, как «Штернбальд»; он даже изъявил готовность написать рецензию
на «Штернбальда» для «Всеобщей литературной газеты» (письмо 111 от
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
829
29 сентября 1798 года). Что этот роман соответствовал его эстетической
теории, видно из его письма, написанного весной 1799 года (131): «Это
божественная книга; ее мало назвать лучшим произведением Тика. Со
времен Сервантеса это первый роман, который романтичен и, сверх того,
гораздо выше „Мейстера". Его [Тика] стиль я также считаю
романтическим, но только в „Штернбальде"; ранее у него еще не было никакого
стиля».
6
Переговоры об основании «Атенея»
(К с. 265 и ел.)
В письмах Фридриха Шлегеля мы находим немало интересных
подробностей касательно основания «Атенея».
У братьев Шлегелей рано зародилось желание соединить свои силы
для совокупной литературной деятельности. Так как в своей переписке
они постоянно занимались обсуждением эстетических вопросов,
постоянно обменивались вопросами и ответами, то у них, естественно,
возникла мысль, что можно было бы делать то же самое на глазах у читающей
публики. Фридрих писал своему брату в январе 1793 года, еще прежде
чем убедился, что литературное поприще должно быть целью его жизни:
«Как было бы хорошо, если бы мы попытались общими силами
развивать наши мысли о поэзии, которые могли бы когда-нибудь опубликовать
в форме писем или диалогов!» (письмо 19; сравн. письмо 25). По
прошествии трех лет (письмо 74) он напоминал своему брату об этом старом
проекте; вслед за тем (письма 80, 81) он высказывал мысль, что можно
было бы общими силами написать что-нибудь о «Гамлете». Когда два
брата вместе жили в Йене с 1796 до 1797 года, их мысль о каком-нибудь
общем литературном предприятии получила более широкие размеры;
Фридрих завел речь о «немецких летописях», то есть об издании журнала.
А когда Август Вильгельм напомнил об этом предположении
отправившемуся в Берлин Фридриху, этот последний так увлекся этой мыслью, что
не хотел давать брату покоя, пока не будет начато осуществление проекта.
Он писал Вильгельму 31 октября 1797 года: «Великий замысел поглощает
все мои мысли и днем и ночью. Мне давно казалось, что нам следует
основать свой журнал. То, что я прочел в твоем последнем письме и в
письме Каролины, побудило меня переговорить об этом с Фивегом,
который, по-видимому, очень сочувствует нашему намерению. Теперь от
тебя зависит окончательно обдумать это предприятие» и т. д.
Для Фридриха служили препятствием его связи с Рейхардтом,
который сначала очень дорожил ими. Рейхардт познакомился с литературны-
830
Р. ГАИМ
ми трудами Фридриха через посредство книгопродавца Михаэлиса.
Первые десять листов рукописи «Über das Studium», как известил Михаэлис
автора, Рейхардт положительно украл у издателя и показывал их в Галле
Вольфу. Он восхищался республиканскими убеждениями Фридриха и
полагал, что нашел в нем самого решительного единомышленника и
чрезвычайно полезного сотрудника для своего журнала «Германия». «С
каждой новой строчкой своих сочинений, с каждым новым письмом Ваш
брат становится все более мил и дорог для меня», — писал Рейхардт
Августу Вильгельму. Он пригласил Фридриха к себе, предложил ему свой
экипаж для переезда из Дрездена в Галле и совершенно очаровал его
своей любезностью. Несмотря на намерение Фридриха «не примыкать
ни к какой партии», его связь с Рейхардтом послужила главным поводом
для его размолвки с Шиллером. Впрочем, эта связь не была препятствием
для основания братьями Шлегелями особого журнала: ведь по
прошествии года она приближалась к разрыву. Поводом для ссоры послужила
помещенная Фридрихом в «Лицее» отрывочная заметка о Фоссе. В
письме к Вильгельму от 31 октября 1797 года Фридрих говорит: «Рейхардт
обиделся статьей о Фоссе и написал мне пошлое письмо, на которое я
ответил бы очень резко, если бы не решился разойтись с ним самым
миролюбивым образом. Он теперь здесь, и мы живем вместе в полном
согласии. У него много хороших качеств. Но так как он не либерален, то с
моей стороны было бы безрассудно поддерживать общность наших
литературных занятий. Его мнимые республиканские убеждения оказываются
и в политическом отношении и в литературном не чем иным, как старым
„просветительным берлинизмом", оппозицией против обскурантов и
приверженцев французов; в качестве немца он ненавидит и презирает
французов, однако не будучи в состоянии противиться их влиянию; а с другой
стороны, „он, как француз, презирает немцев"». Из этих слов видно, что
причины размолвки были очень серьезны и что дружеская связь не могла
продолжаться. О разрыве с Рейхардтом Фридрих в последний раз вел речь
в своем письме к Вильгельму, написанном в декабре 1797 года (№ 97):
«С Рейхардтом я разошелся не вследствие его упреков за мою статью о
Фоссе. Он не по злости, а по горячности и по глупости хотел оклеветать
меня перед Унгером, и нельзя сказать, чтоб он вовсе не достиг своей цели.
Когда я об этом узнал, я написал ему записку с отказом от
сотрудничества, но выражался дружеским тоном. Он отвечал мне очень длинным и
очень пошлым письмом; тогда я распростился с ним в нескольких словах».
Еще прежде, чем дело дошло до таких натянутых отношений с
Рейхардтом, Фридрих подробно обсуждал в одном из писем к своему брату
проект основания особого шлегелевского журнала. Если мы желаем уяснить,
какую форму принимал этот проект в уме Фридриха, то мы должны
цитировать его собственные выражения, нередко очень сбивчивые и
страдающие частыми повторениями: «Я должен тебе признаться, — писал он
Вильгельму, — что я сообщил Фивегу наш план не в том виде, в каком, сколько
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
831
мне известно, ты его себе представлял. Я говорил Фивегу, что мы не
только будем издателями нового журнала, но мы будем помещать в нем
только наши статьи, что у нас не будет никаких постоянных сотрудников, что у
нас не будут заранее установлены ни форма ни содержание статей, что
мы будем руководствоваться только одним общим правилом — не
помещать совершенно непопулярных статей, больших сочинений или
отрывков из таких сочинений... Подумай о том, как было бы для нас выгодно
все делать только по нашему усмотрению. Разве такому человеку, как ты,
не грешно и не стыдно стеснять себя требованиями, „Всеобщей
литературной газеты"!.. Я надеюсь, что ты не будешь в денежном убытке от
того, что перестанешь писать для „Hören" и для „Литературной газеты",
а свобода и общность наших интересов составят чистый барыш... Я
надеюсь, что и Каролина будет в восторге от нашего прекрасного
предприятия и будет помогать нам больше прежнего... Я сказал, что у нас не будет
постоянных сотрудников. Потому что мы можем отвечать только за себя
самих. Впрочем, я допускаю исключения: мы будем добывать
„образцовые произведения высшей критики и полемики" повсюду, где их можно
находить. Мы будем у себя помещать вообще все, что отличается
возвышенной смелостью идей и неудобно для помещения в других журналах.
Чтоб лучше объяснить тебе мою мысль, я могу сообщить тебе, что Гар-
денберг обещался доставить мне статьи о „Мейстере" и о разных
философских предметах, а я обещал ему взять на себя роль диаскеваста. Эти
статьи, конечно, не могли бы быть напечатаны ни в каком журнале, кроме
нашего. Мой друг Шлейермахер, недавно удививший меня действительно
замечательной статьей о безнравственности всякой морали, имеет в виду
несколько критических статей, которые, как я полагаю, будут мастерски
написаны, но не будут годиться для журнала Фихте. Он относится с
восторженным участием к моему проекту... Другая очень выгодная
сторона этого предприятия заключается в том, что мы приобретем большой
авторитет в критике, такой авторитет, что лет через пять или через десять
сделаемся диктаторами в области немецкой критики, совершенно убьем
,Зсеобщую литературную газету" и будем издавать такой журнал,
который не будет иметь никаких других целей, кроме литературной критики.
Однако чтобы такой журнал издавался как следует, он должен быть очень
объемистым, а для этого нужны сотрудники, но откуда же взять хороших
сотрудников? Сверх того, нужно будет объявить войну всем плохим, но
влиятельным критическим журналам. Для этого у нас недостанет ни
времени, ни авторитета, ни связей. Через десять лет было бы совсем другое
дело. Критические статьи в форме писем без всякой цельности и без
полемики не найдут читателей. Я полагаю, что вообще не следует
придерживаться однообразной формы. Совсем другое дело — рецензии. Это
совершенно бесформенная форма изложения. Если ты распростишься с
„Hören", то возникнет еще то затруднение, что ты не будешь знать, где
помещать свои другие статьи... Касательно твоего прежнего намерения
832
Р. ГАИМ
наполнять наш журнал только критическими письмами, я замечу, что ты
хорошо бы сделал, если бы стал реже писать рецензии, а взялся бы за
какие-нибудь поэтические проекты. Как мне неприятно видеть, что твои
стихотворения помещаются в „Альманахе"! Они были бы превосходным
началом для нашего журнала...».
В том же письме, естественно, идет речь о гонораре, о формате и о
заглавии. «Я и Шлейермахер, — пишет Фридрих, — стоим за
„Геркулеса". Это заглавие наводило бы на мысль о Геркулесе Мусагете: ведь
многие из теперешних Мусагетов не имеют никакого понятия о
геркулесовской работе, которая необходима и в поэзии и в критике. Я сначала
помышлял о названии „Фрея" ввиду его двусмысленности. Но Шлейер-
махеру оно не нравилось. Подумай же об этом. Не следует обращать
внимания на то, что название „Геркулес" смогло бы вызвать насмешки.
Против насмешников есть Геркулесова палица!»
В ответ на это письмо (№ 94) Вильгельм одобрял мысль своего брата
и сообщил, какие статьи предназначает для нового журнала; тогда
Фридрих и со своей стороны перечислил брату статьи, которые намеревался
написать. Фридрих брался за новое предприятие более горячо, чем
Вильгельм. Он неоднократно напоминал Вильгельму, что оба они могут со
временем сделаться диктаторами в области критики. Он находил, что его
старший брат «не обнаруживает такой любви к зрело обдуманному
проекту, какой он заслуживает». Сам он сосредоточивал все свои мысли на
новом журнале и с обычным легкомыслием доказывал неосновательность
возражений Вильгельма: и того возражения, что занятый «Историей
поэзии» Фридрих не будет иметь достаточно времени для журнальной
работы, и того возражения, что, живя вдали один от другого, они будут
лишены возможности работать вместе. Самые продолжительные колебания
касались названия журнала. Название «Геркулес» казалось Вильгельму
слишком заносчивым, а предложенное из Иены название «Диоскуры»
казалось Фридриху «ребячески скромным». Шлейермахеру пришла в
голову мысль, что так как новый журнал должен стать выше «Ногеп», то
его следует назвать «Парками»: «ведь с появлением нового журнала было
бы перерезано немало нитей литературной жизни» (письмо 95). Наконец
Фридрих удовольствовался названием «Атеней» (письмо 99), хотя ему
более нравилось название «Шлегелей» (письмо 94). Он главным образом
заботился о полном согласии со своим братом. Он настаивал (письмо 95)
на том, что в заголовке не будет сказано: «издание В. и Ф. Шлегелей»,
а будут только поставлены начальные буквы имен издателей, «так как
своеобразный характер нашего журнала заключается именно в том, что мы
сами и издаем его и наполняем нашими статьями». В предисловии,
написанном Вильгельмом, положительно высказывался этот принцип;
поэтому Фридрих одобрил это предисловие, сделав в нем незначительные
изменения (письма 104,106).
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
833
7
Переговоры об отрывочных заметках
для «Атенея»
(К с. 276 и ел.)
В связи с историей возникновения «Атенея» находится
возникновение той массы отрывочных заметок, которая помещена во втором
номере этого журнала. И касательно этого предмета мы находим в переписке
Шлегелей немало сведений.
Отрывочные заметки, которые Фридрих помещал в «Лицее» и
которым Доротея дала меткое название «избалованных детей Фридриха»,
встретили одобрение и со стороны Августа Вильгельма: он задумал
писать такие заметки сообща со своим братом. Фридрих, и без того уже
предполагавший писать философические заметки для журнала,
издававшегося Фихте и Нитгаммером (письма 91, 93, и др.), нашел эту мысль
превосходной и, конечно же, тотчас включил ее в проект издания нового
журнала. «Это было бы божественно хорошо для нашего „Геркулеса", —
говорил он (в письме 91). — У меня есть еще громадный запас таких
заметок; но впредь я предполагаю писать чаще краткие и сжатые статьи и
характеристики, чем фантастические заметки. Я еще не могу сказать, что
из этого выйдет, хотя мои намерения и имеют очень определенный
характер. Это будет нечто новое, но такое новое, которое имеет сходство со
старым». Вслед за тем он пишет (№ 95), что будет давать скорей плоды,
чем одни цветки; теперь он уже вполне убедился, что отрывочные
заметки есть «натуральная форма» (письмо 94) его литературных
произведений. У него богатый запас предложений и обещаний для нового журнала:
он намеревается писать очень длинную статью о Винкельмане, более
легкие философские статьи, рапсодии и философские летописи или
исторические воззрения на философию, статьи о древности, о комическом
искусстве Шекспира и т. д., но главную роль играют в его проектах
отрывочные заметки, наряду со статьей о «Вильгельме Мейстере» и с
намерением продолжать статью о Лессинге. Уже для первого номера
нового журнала у него готовы заметки на шесть печатных листов: такие
заметки, которые не совсем похожи на те, которые он писал для «Лицея».
Это будут заметки совершенно нового рода; он не будет отделять
философские заметки от критических, а будет смешивать их между собою,
присоединяя к ним заметки нравственного содержания, на которые ему
не придется тратить много времени, потому что ему нужно будет только
выписать их из находящихся у него рукописей и соединить в единое целое
(письмо 94).
Подобно тому как рукописные статьи для «Ксений» когда-то
посылались из Йены в Веймар и обратно, и братья Шлегели стали посылать
27 Зак. № 3602
834
Р. ГАИМ
друг другу на просмотр свои отрывочные заметки из Берлина в Йену и
из Йены в Берлин. В начале января 1793 года Фридрих послал брату
полсотни заметок, а сам насчитал 36 заметок, полученных от
Вильгельма (письмо 100); через несколько дней после того были посланы из
Берлина новые заметки: «Лишь только прорвалась плотина, — говорит
Фридрих (письмо 102), — поток неудержимо устремляется вперед». Он
постоянно хвалится богатством своего запаса статей. «Поверь мне, —
пишет он, — что чем больше будет отрывочных заметок, тем менее
будет монотонности и тем легче будет приобрести популярность».
Настоящая популярность журнала заключается в том, что всякая читающая
публика находит что-нибудь интересное для себя. Из этого замечания
видно, в чем заключались возражения Вильгельма и Каролины против
заметок Фридриха. Действительно, мнения двух братьев не сходились
насчет того, какого рода заметки следует считать образцовыми.
Вильгельм упрекал своего брата за тяжелый, не для всякого понятный язык;
ему не нравилась философская тенденция заметок Фридриха и, кроме
того, он находил заключающуюся в этих заметках философию
тривиальной; в шутливых замечаниях на полях рукописи он насмехался над
парадоксами своего брата и указывал ему на опасность вызвать пародии.
Фридрих отдавал заметкам брата предпочтение перед своими
собственными ради того, что в них есть «необходимая доза грации и
общепонятности и всегда есть „le mot pour rire" (что-то смешное. — Прим. науч.
ред.)»; но он находил, что они только остроумны и похожи на
эпиграммы; он настаивал на том, что заметки не должны унижаться до
обращений к читающей публике и вообще должны придерживаться одной
установленной системы. По этому поводу возникли между двумя братьями
горячие объяснения, в которых разъяснилась сущность их
разномыслия. Но из напечатанных в «Атенее» отрывочных заметок видно, что
Фридрих не стеснялся замечаниями своего брата и писал свои заметки
по-своему.
А как горячо заботился он об успехе предприятия! Ему удалось
склонить своего брата к сочинению заметок общими силами; некоторые из
заметок Вильгельма он соединил в одно со своими собственными
(письмо 103). Каролину он просил пересмотреть его письма и извлечь из них
материал для заметок этического содержания (письма 102, 103), но сам
нашел этот материал ни на что не годным. Он неоднократно, но
безуспешно обращался и к Каролине с просьбой писать заметки, в которых
сказывался бы «esprit de Caroline» (дух Каролины. — Прим. науч. ред.)
(письма 96 и 108).
Шлейермахер, естественно, также был привлечен к участию в
предприятии. Из писем Шлегелей видно, что отрывочные заметки «О
терпении» (с. 12) и «О цинизме» (с. 11) были им написаны. Дальнейшие
указания на сотрудничество Шлейермахера можно найти в «Schleiermachers
Leben» 1,217. Кроме заметок, приписываемых Шлейермахеру в «Briefen
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
835
der Adelheid» Николаи, тому же писателю, как можно предполагать,
принадлежат заметки «Da alle Sachen» («Таковы вещи». — Прим. науч. ред.)
(в «Атенее» II, 1, с. 63), «Jeder gute Mensch» («Добрый человек». — Прим.
науч. ред.) (с. 73) и «Arrogant ist» («Надменный». —Прим. науч. ред.)
(с. 99)'.
О сотрудничестве Гарденберга я уже говорил ранее, в примечании к
с. 280; но что оно не было добровольным, видно из дошедших до нас
писем Фридриха.
8
Фридрих Шлегель и Гарденберг
(К с. 318 и ел.)
Знакомство этих двух людей началось с того времени, как они
учились в университете. В письме Фридриха к его брату (№ 8) мы находим
такие интересные подробности касательно характера этой дружеской связи
и касательно личности Гарденберга, что считаем не лишним цитировать
содержание того письма.
«.. .Все, что касается меня самого, я откладываю до следующего
письма, за исключением только следующего пункта. Судьба отдала в мои руки
одного молодого человека, который способен на все. Он очень мне
понравился, и я отнесся к нему с предупредительностью, потому что он
скоро раскрыл передо мною святилище своего сердца. Я поселился в
этом святилище и занимаюсь его исследованиями... Это еще очень
молодой человек; он очень строен; у него очень красивое лицо и черные глаза,
которые очень выразительны, когда он говорит с жаром о чем-нибудь
хорошем; в нем чрезвычайно много огня; он говорит втрое больше и
втрое скорее, чем все другие; он отличается чрезвычайно быстрой
сообразительностью и очень впечатлителен. Благодаря изучению философии
в его уме возникают изящные философские идеи; он увлекается не столько
тем, что истинно, сколько тем, что изящно; его любимые писатели —
Платон и Гемстергюи; он с жаром доказывал мне, что в этом мире нет ничего
дурного и что скоро снова настанет золотой век. Я еще никогда не видал
1 Впрочем, эти замечания почти совершенно утратили интерес с тех пор, как
Дильтей разрешил все касающиеся этого предмета спорные вопросы на
основании бумаг Шлейермахера («Leben Schleiermacher's» I, Denkmale, с. 74 и ел.). Он
доказал, что из трех упомянутых нами заметок только одна («Arrogant ist...»)
принадлежит Шлейермахеру. Напротив того, участие Гарденберга в сочинении
заметок следует искать не там, где указывает Дильтей, а на с. 77—79 второго
номера «Атенея»; это я доказал в прим. 1 на с. 280. Сообразно с этим должно
быть исправлено то, что сказано у Дильтея на с. 363.
836
Р. ГАЙМ
такой юношеской бодрости духа. В его чувствах есть непорочность,
корень которой находится в его душе, а не в неопытности. Ведь он уже
много бывал в обществе (он почти со всеми знаком) в течение года,
проведенного в Йене; он сошелся там с талантливыми людьми и с
философами, в особенности с Шиллером. Он очень веселого и мягкого характера и
покуда способен принять всякое направление, какое ему будут внушать...
Приятную веселость своего ума он прекрасно сам выразил в одном из
стихотворений, сказав, что „натура одарила его способностью всегда
весело обращать свои взоры к небесам". Это стихотворение — сонет,
который посвящен тебе, потому что ему очень нравятся твои стихотворения.
Впрочем, оно написано несколько лет тому назад, и оно не должно
служить для тебя мерилом его таланта. Я просматривал его произведения:
в них язык и стихосложение до крайности незрелы; в них постоянно
встречаются уклонения от главного сюжета; они очень растянуты и в них очень
много недорисованных картин, как это бывает, по словам Овидия, „при
переходе от хаоса к мирозданию"; однако все это не мешает мне думать,
что из этого молодого человека выйдет хороший и, быть может, даже
великий лирический поэт: у него есть своеобразная восприимчивость для
всяких оттенков чувственных впечатлений. В „Меркурии" за апрель
1791 года напечатаны его „Klagen eines Jünglings" («Жалобы юношей». —
Прим. науч. ред.). Упомянутый выше сонет он обещал доставить мне. Его
имя — Гарденберг. Сношения с человеком, который моложе меня,
доставляют мне новые наслаждения, которым я предаюсь всей душою».
Стихотворение «Klagen eines Jünglings» не попало в полное
собрание сочинений Новалиса; оно помещено в указанном нами номере
«Меркурия» (с. 410 и ел.) и, что очень характеристично, рядом со стихотворением
Иениша. Оно подписано буквами «v. H***g» и сопровождается
примечанием Виланда. В нем заметно старание подражать Шиллеру; так как не
у всякого читателя найдется тот номер «Меркурия», то я приведу один
отрывок из этого стихотворения:
Seit ich mehr aus schöner Wangen Röthe,
Mehr aus sanften, blauen Augen las,
Oft, wenn schon die scharfe Nachtluft wehte,
Im beseeltem Traume mich vergass;
Meinem Herzen nachbarlicher, wärmer,
Da den Schlag der Nachtigall empfand,
Und, entfernt von meinem Klärchen, äemer
Mich als jeder dürft'ge Pilger fand:
Lachet, ew'ge Gottheit in dem Blicke,
Mich mein sonnenschönes Leben an,
Amor täuscht mich nicht mit List und Tücke,
Ganymeda nicht mit kurzem Wahn;
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
837
Jedes Lüstchen nähert sieh mir milder,
Das, dort Blüthen wild herunter haucht;
Ueppig drängen immer frische Bilder
Sich zu mir, in Rosenöl getaucht.
Фридрих прислал при следующем письме от 11 февраля 1792 года не
один только обещанный сонет, а три сонета; если бы они и не дошли до
нас, мы ничего от этого не потеряли бы. Для нас более интересны отзывы
Фридриха о его новом друге:
«Я часто вижусь с ним, и вижусь охотнее, чем с кем-либо другим.
Сначала мне хотелось совершенно привлечь его к себе; я полагал, что
тогда ближе сойдусь с ним. Господствовать над ним нетрудно; но, я
думаю, даже женщине было бы нелегко сдерживать его ветреность.
Поэтому я полагаю, что лучше оставить его таким, каков он теперь; я редко
стараюсь что-нибудь расшевелить в его душе. Из него может выйти все,
но также может ничего не выйти».
В следующем письме (№ 10) от 13 апреля Фридрих говорит о Гарден-
берге в том же тоне: «Гарденберг опрометчив до безрассудства; он
постоянно полон вырывающихся наружу радостных чувств. Я не прочел
всего, что он написал. Хотя я и читаю быстро, но не читаю все без
разбора. Я радовался неожиданной находке, но я не могу многого для него
сделать. Ведь он сам еще не знает, что мог бы найти во мне». В письме 12
Фридрих говорит, что Гарденберг «получил в его глазах еще более
высокую цену вследствие одной очень благородной черты в своем
характере»; но в том же письме он обнаруживает ту чрезмерную
требовательность, которая всегда мешала ему заводить прочные дружеские связи.
После того Фридрих вступил в связь с одной лейпцигской дамой и стал
менее прежнего интересоваться Гарденбергом. К Гарденбергу
относится в «Люцинде» то, что говорится о друге, который только восхищался
умом Юлия, но относился с недоверием к его сердцу, вследствие чего
Юлий чувствовал себя глубоко оскорбленным. Под влиянием такого же
неосновательного чувства Фридрих писал 21 ноября 1792 года своему
брату: «Удовольствию, которое я извлекал из знакомства с Гарденбергом,
уже настал конец. Чтоб поддержать наши прежние отношения, мне
пришлось бы прибегать к лести и ко лжи... Оскорбленное тщеславие
заставило его думать, что я порицаю его из зависти, что я бесчувственный
человек и т. д. Я все более убеждался в том, что он неспособен к дружбе и что
в его душе нет ничего, кроме себялюбия и склонности к фантастической
мечтательности». Наконец, дело дошло до такой сцены, после которой
Гарденберг утратил всякое доверие к Фридриху1. Этот последний с
сожалением говорил в своих письмах об этой ссоре, «ведь его дружба имела
для меня некоторую цену».
1 Фридрих подробно описал эту сцену; см. «Leben Schleiermacher 's» Дильтея
1,213.
838
Р. ГАЙМ
Ввиду этих слов неудивительно, что скоро обнаружились признаки
примирения. Во время своего переезда из Дрездена на постоянное
жительство в Йену Фридрих заехал на несколько дней к Гарденбергу. Об
этом посещении старого друга он писал 2 августа 1796 года Каролине из
Дюренберга: «В первый же день моего приезда Гарденберг так мне
надоел своими толками об учении гернгутеров, что я готов был немедленно
уехать. Однако он снова умел возбудить во мне такое дружеское чувство,
что я решился остаться, несмотря на то что он безвозвратно погрузился
умом в самые нелепые идеи». «Впрочем, — прибавляет Фридрих в конце
письма, — учение гернгутеров служит для Гарденберга только способом
выражения его собственных фантастических идей. У него нет ни
малейших признаков свойственной гернгутерам пошлости».
С тех пор возобновились прежние дружеские отношения. Фридрих
радовался тому, что его друг нравился Вильгельму и Каролине. Он с
нетерпением ожидал известий от этого друга, интересовался его мнениями
о своих литературных работах, пересылал ему самые нежные приветствия.
Нам остается пожалеть о том, что до нас не дошло ни одно из тех
«божественных» писем Гарденберга, о которых упоминает Фридрих.
Эта дружеская привязанность продолжалась до самой смерти
Гарденберга и даже далее. Чтоб еще раз увидеть своего умирающего друга,
Фридрих поспешил в Вейсенфельс; он писал 27 мая уже по возвращении
в Иену: «Он вовсе не предчувствовал, что его ожидает скорая смерть;
вообще трудно себе представить, чтобы можно было так спокойно
умирать. При мне он был невыразимо весел, и хотя упадок сил не позволял
ему говорить, он принимал горячее участие во всем, что происходило
вокруг него; я в высшей степени доволен тем, что еще раз виделся с ним».
9
А. В. Шлегель о «Песни о Нибелунгах»
В дополнение к сообщенным нами в тексте (с. 763) мнениям В. Шле-
геля о возникновении великого немецкого эпоса приведем из его лекций
следующую характеристику этого эпоса:
«.. .Эти сказания о героях доказывают нам, что тогдашний
человеческий род стоял много выше следующих поколений не только гигантской
физической силой, но также благородством и чистотою своих чувств, что
рыцарство и поэзия XII и XIII столетий, считавшиеся в средние века за
доказательства высшей степени умственного развития, были, в сущности,
постепенным низведением первоначальных врожденных достоинств на
низшую ступень. Вплоть до времен Карла Великого все шло назад, но о
прошлых временах никто не хотел ничего знать; однако нельзя отрицать
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
839
того, что немецкий национальный характер (натурально подвергавшийся
клеветам со стороны выродившихся римлян) носил на себе отпечаток
величия при первом своем появлении в новейшей истории, вскоре после
переселения народов. Не следует, впрочем, думать, что такие
поэтические произведения могут возникать из ничего. Всякой великой поэме
должны предшествовать великие события. Поэзия и история находятся в самой
тесной взаимной связи; в особенности эпическая поэзия нередко бывает
более верным отражением событий, чем прозаический рассказ.
Но это поэтическое сказание о героях было не только чудным
продуктом природы: по моему мнению, его следует признать также за высокое
произведение искусства, равного которому еще ни разу не появлялось с
тех пор в немецкой поэзии... Поэзия, в сущности, есть не что иное, как
яркое выражение всей совокупности и гармонии духовных и физических
человеческих сил. Так называемый образованный век более смыслит во
всем, что касается внешних украшений; ученый художник может
доставлять наслаждение разными доведенными до тонкости изяществами; но
сущность всякой поэзии всегда останется тем, что исходит из нашей души
и проникает в нашу душу, — останется изображением нашей духовной
жизни.
Всего ближе сравнение с „Илиадой". Личность Гомера, натурально,
кажется нам блестящей, потому что он был отцом всей греческой
образованности, потому что мы находим у него намеченными основные черты
того, что впоследствии расцвело и достигло самого изящного
совершенства. Напротив того, наша мифическая древность похожа на обломок
утеса, уцелевший от землетрясения; позднейшая история отделена от нее
глубокой пропастью и отчасти не исполнила возбужденных в то время
ожиданий. Гомер неподражаем по благозвучию языка и стихосложения,
по спокойной, обдуманной чистоте эпической формы изложения. Но в
том, что касается живости и наглядности изложения, величия страстей,
характеров и деяний, „Песнь о Нибелунгах" может смело состязаться с
, Длиадой"; я даже сказал бы, что она стоит в этих отношениях выше
„Илиады", если бы я не признавал за неизменное правило, что никогда не
следует хвалить одно образцовое произведение в ущерб другому. В
песнопениях Гомера в высшей степени замечательны тонкие черты в
изображении характеров и постепенно усиливающиеся мотивы действий.
Но те же достоинства мы находим в „Песни о Нибелунгах" вместе с
колоссальностью внешних очертаний. Кроме того, в ней тайные
пружины действий только намечены, а не указаны; земные влечения не
описаны, а только доступны для понимания прозорливого читателя; характеры
определяются взаимными отношениями между действующими лицами;
все эти достоинства я могу сравнить только с теми, которые мы находим у
Шекспира. Композиция поэмы сжата; всю ее можно обозреть в
соразмерно построенных ее частях; но в то же время она полна
таинственности. Рассказ начинается описанием цветущей юности, ухаживаний за невес-
840
Р. ГАИМ
тами; нить происшествий развивается в нем по законам внутренней
необходимости вплоть до страшной катастрофы; при этом не делается
скачков; всякому моменту уделено надлежащее место. Сначала господствует
элемент чудесного, а в конце — трагический элемент; фантазия
участвует только в той сфере, в которой впоследствии наносятся человеческой
душе неотразимые удары...
Иные основательно насмехаются над так называемым поэтическим
правосудием, над тем, что в конце поэмы обыкновенно каждый
награждается или наказывается за свои дела. Однако такого правосудия требует
серьезная цель поэзии эпической и драматической; на нем основывается
нравственность поэмы. В „Песни о Нибелунгах" нравственность
отличается самой большой строгостью и чистотой. Гибель Зигфрида была
наказанием за его юношеское высокомерие, побудившее его открыть своей
супруге ненарушимую тайну. Хотя он и клянется, что не сказал ничего
оскорбительного для чести Брунгильды, но подарком перстня и пояса он,
в сущности, сделал то, что отвергал. Во всем рассказе обнаруживается
неодобрение обмана, посредством которого Зигфрид (из любви к Крим-
гильде) доставляет Гунтеру Брунгильду, которой он не достоин. Над Брун-
гильдой совершается акт поэтического правосудия — после содействия
умерщвлению Зигфрида она совершенно исчезает со сцены: вследствие
своей завистливости и низкой злобы (происшедших от несчастной любви)
она низводится на ступень ничтожных существ и перестает принадлежать
к миру героев. Наконец, Гаген, так часто нарушавший требования
справедливости и удачно боровшийся с самыми отважными героями,
погибает от руки женщины.
На основании общепринятых правил поэтики, от эпоса обыкновенно
требовалось вмешательство высших существ. Я не знаю, следует ли отнести
дунайских русалок и карлика Альбериха к разряду таких существ, по
меньшей мере не подлежит сомнению, что их действия выходят за пределы
естественности. Но я должен напомнить, что вся поэма имеет
христианский характер. Поэт, конечно, должен был считать за бесчестие
выведение на сцену Высшего Существа в таком произведении, которое имело
светский характер. Поэтому чудесам, совершаемым колдовством,
приписывается в поэме вредное влияние. Так, например, предсказания нимф
выдаются за сделанное несчастному Гагену сообщение из ада; оно
напоминает ему о содеянном убийстве и доводит его до отчаяния. Я полагаю,
что не ошибусь, приписывая поэту намерение доказать, что на отнятом у
Зигфрида волшебном сокровище лежало проклятие: ведь об этом
сокровище упоминается в конце последней речи Гагена, который отказывается
открыть Кримгильде, где оно спрятано. Итак, завистливый подземный мир
снова захватил волшебное золото, после того как оно сделалось причиной
несчастия и для своего обладателя, и для разбойников, и для множества
невинных людей; именно самый любезный из всех героев повсюду сеет
зло вследствие того, что стал заниматься искусством чародейства.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
841
„Песнь о Нибелунгах" имеет сходство с песнопениями Гомера и в
том отношении, что она почти постоянно излагается в диалогической
форме; но она отличается от них тем, что в ней речи чаще
сопровождаются телодвижениями и вообще не отличаются спокойствием эпического
изложения. Если эпос есть самый широкий вид поэзии, требующий
цельности мировоззрения, то в этом названии, как мне кажется, нельзя
отказать ,ДТесни о Нибелунгах". С другой стороны, в ней есть примесь
драматического элемента. Правда, и в „Илиаде", и в „Одиссее" иногда случается,
что плавный, спокойный рассказ доходит до такого пункта, в котором весь
интерес сосредоточивается на драматическом впечатлении. Но те две
поэмы, как известно, не имеют настоящего окончания, между тем как
„Песнь о Нибелунгах" является вполне законченной. Эта колоссальная
трагедия оканчивается гибелью тогдашнего мира; в ней описаны
последние события века героев, и описаны так, что уже не было возможности
создать новый мифический эпос из того же цикла; в других героических
поэмах того времени приходилось описывать уже ранее рассказанные
события. Греческая трагедия часто брала свои сюжеты из поэм Гомера;
если бы можно было воссоздать нашу национальную мифологию, то из
нашей единственной эпической трагедии можно бы было извлекать
множество отдельных драматических сюжетов, годных для подробной
обработки. После того как мы так долго рылись в чужих поэтических
произведениях, мы наконец когда-нибудь начнем же пользоваться нашими
национальными источниками поэзии».
10
Мелкие дополнения
С. 59, строка 25 (переделка «Бури»). Тик писал А. В. Шлегелю (письмо
№ 2): «„Буря" была переведена в два дня; я отдал мою работу в печать,
потому что этого желал издатель».
С. 106, строка 38 («в течение нескольких веселых часов»). Тик
признавался А. В. Шлегелю (письмо № 2), что написал «Кота в сапогах» (и
«Синюю Бороду») «почти в один вечер».
С. 188, в прим. 1, строка 8 («но в каком именно журнале»). Из письма
Фр. Шлегеля к его брату из Дрездена от 17 августа 1795 года (№ 69) видно,
что статья о женственности появилась в первый раз в сентябрьском и
октябрьском номерах «Дамского журнала» 1794 года. Мои старания
отыскать этот журнал были безуспешны.
С. 220, строка 16 («имело <.. .> непреодолимую для Фр. Шлегеля
привлекательность»). С печатными отзывами Фр. Шлегеля о Фихте сходятся и
те отзывы, которые он излагал в своих письмах. Он заводит в первый раз
842
Р. ГАЙМ
речь о Фихте в письме № 69 от 17 августа 1795 года. Он говорит, что в
метафизике Шиллер и Гумбольдт не что иное, как «пачкуны в сравнении
с Фихте»: «Величайший метафизический философ нашего времени —
очень популярный писатель. Это ты можешь видеть из знаменитых
приложений (для исправления суждений о Французской революции), в
которых отделан Реберг. Сравни увлекательное красноречие этого человека в
лекциях о назначении ученого с шиллеровскими упражнениями в
декламации. Это такой человек, какого тщетно искал Гамлет; из каждой черты
его общественной жизни видно, что это настоящий человек». В другом
письме (№ 72 от 23 декабря 1795 года) Фридрих говорит: «Этот философ
заходит далее Канта и Спинозы, а когда он расположен говорить, может
превзойти своим красноречием Руссо». В письме № 77 от 30 января
1796 года Фридрих называет Фихте «unsterblicher Grundleger»
(бессмертный основоположник. — Прим. науч. ред.) и т. д.
С. 220, строка 25 («еще живя в Дрездене»). Что рецензии на
произведения и Кондорсе, и Канта были написаны одновременно в Дрездене,
видно из писем 77 и 78. Автор придавал цену только рецензии на
произведения Канта «Vom ewigen Frieden» («К вечному миру». — Прим. науч.
ред.). Она предназначалась точно так же, как и рецензия на произведения
Кондорсе, для «Философского журнала» Нитгаммера (письмо 84 от 15
июня 1796 года).
С. 228, строка 1 («террорист категорического императива»).
Касательно позднейших отношений Фридриха Шлегеля с Якоби есть
интересные указания во втором томе публикаций Цёпперица.
С. 239, строка 5 («нашел их неудовлетворительными»). В 1792 году
Фридриху Шлегелю было еще так далеко до правильной оценки Лессинга,
что в одном из писем к своему брату он ставил этого философа наряду с
Гарве, Энгелем и Вецелем (несчастным автором юмористических
романов)! «Характер его произведений, — говорит Фридрих, — есть
бездушная холодная правильность».
С. 318, прим. 1. Gosche поместил в «Archiv für Litteraturgeschichte» 1,
325 заимствованную из «Geschichte des Geschlechtes von Hardenberg»
Вольфа заметку, из которой видно, что некоторые из членов этого рода
назывались в XIII столетии в латинских официальных актах по названию
своего поместья «Rode de Novali»; поэтому я отказываюсь от сделанной
мною попытки объяснить происхождение слова «Новалис».
С. 340, строка 12 («Die Lehrlinge zu Sais»). Когда этот отрывок,
считавшийся утраченным, был найден после смерти Новалиса, он привел в
восторг друзей умершего писателя. Тик писал А. В. Шлегелю (№ 21 ), что
он еще никогда не читал ничего лучше; а Шлегель (у Гольтея III, 274) писал
ему в ответ: «Найденный отрывок Гарденберга мы все (находившиеся в
то время в Берлине друзья покойного) читали с восторгом; это
превосходное произведение едва ли не самое оригинальное из всех
произведений Гарденберга».
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
843
С. 419, строка 37. По непростительному недосмотру я позабыл
здесь упомянуть о другой статье Гюльсена «Ueber den Bildungstrieb»,
помещенной в журнале Фихте и Нитгаммера в 1800 году (IX, 99 и ел.).
О форме этой статьи можно заметить то же, что мы заметили касательно
статьи о популярности в философии. По своему содержанию она служит
объяснением для статей Гюльсена, написанных для «Атенея», так как и
тут и там проводится одна и та же основная мысль, что в природе следует
искать идеалы нравственности, что она есть «изображение высшей
свободы и гармонии». И слова Фридриха Шлегеля: «К стремлениям
Гюльсена к образованию я еще не чувствую никакого стремления», конечно,
относятся к этой статье, а не к напечатанным в «Атенее» созерцаниям
природы, хотя Дильтей и говорит противное в своем примечании к
переписке Шлейермахера III, 121.
С. 486, прим. 3. Вместо «Йена, 1800» следует читать «Любек, 1800».
С. 490, прим. 1. Что слова Шлейермахера действительно имели этот
смысл, подтверждается «Дневником» Шлейермахера (в Denkmale, с. 116,
№ 23).
С. 493, строка 10 («от будущего биографа Шлейермахера»). Эти
подробности изложены теперь у Дильтея 1,479 и ел.
С. 498, строка 17 («и другие этические статьи»). Подробности
развития этических воззрений Шлейермахера можно найти у Дильтея, с. 243,
и в Denkmale, с. 74.
С. 661, строка 35 («расширили пропасть между этими двумя
людьми»). Более точные сведения о раздорах между Шлегелем и Фридрихом
и о «проделках Каролины» можно найти у Дильтея I, 512—513.
С. 689, прим. 3 («извещает <.. .> об успехе своей миссии»). Отрывки
из этого письма Шлейермахера напечатаны теперь у Дильтея I, 527.
Ю. В. Перов
УРОКИ РОМАНТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
В ИЗЛОЖЕНИИ РУДОЛЬФА ГАЙМА
В самом начале уместно определить жанр статьи. Это не
теоретический трактат о романтизме, но и не критическая рецензия
на книгу Рудольфа Гайма. Одно предполагало бы другой объем и
иной ход рассуждений, в котором книге Гайма могло и не найтись
достойного места, а второе, мягко говоря, несколько запоздало:
Гайм опубликовал книгу в 1870 г., а в воспроизводимом здесь
русском переводе она появилась в 1891 г. Речь может идти лишь о
неких «заметках на полях» книги, продиктованных субъективным
интересом и не лишенных смысла в той мере, в какой
сегодняшнему ее читателю история немецкого романтизма, прежде всего в его
философском измерении, и немецкой философии представляется
небезразличной. При этом приходится опустить многие темы, в
том числе представляющиеся существенными для понимания
романтизма, в том случае, если они не привлекли пристального
внимания Гайма.
Следует оговорить также и то, что здесь нет возможности
обсуждать и оценивать фактографическое и литературоведческое
содержание книги, т. е. то, насколько адекватно представлена
Гаймом конкретная история романтической поэзии, прозы,
литературной критики и взаимных отношений романтиков. Если
нынешние знатоки истории немецкой литературы, обнаружив в
книге Гайма неточности в характеристиках и оценках
литературных произведений, в изложении фактов биографий, личных
отношений романтиков и пр., сочтут, что по части фактического
материала книга устарела и, во всяком случае, неполна (было
бы странно, если б по истечении многих десятилетий после ее
публикации дело обстояло иначе), то это уже совсем другая
тема. Никому не возбраняется при желании опубликовать ис-
УРОКИ РОМАНТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ...
845
правленную и основанную на «новейших данных» историю
йенской романтической школы, то ли собственного авторства, то
ли переводную, но, думается, и это не устранит оснований для
переиздания книги Гайма1.
Здесь уместна аналогия. Известно, что по своему
фактическому содержанию и во многих обобщениях исторического
«материала» «Лекции по философии истории» Г. В. Ф. Гегеля безнадежно
устарели, и ныне изучать по ним всемирную историю не возьмется
никто. Самым ценным в этих лекциях остается Введение. И хотя не
раз осуществлялись отдельные публикации Введения вместе с его
черновиками и подготовительными материалами, тем не менее до
сих пор преобладает практика изданий полного текста, тем более
что самому Гегелю «историческая часть» его философии истории
представлялась отнюдь не индифферентной по отношению к части
«систематической». Эту аналогию уместно завершить отсылкой к
суждению самого Гайма по поводу того, каким образом в
берлинских лекциях А. Шлегеля была представлена история литературы.
Что же касается подробностей, то, по мнению Гайма, Шлегель
показал, что располагает всеми сведениями, какие можно было
добыть в то время; проверка же его суждений, с точки зрения того
же Гайма, в нашу задачу не входит.
Дополнительным мотивом для переиздания книги Гайма
может служить также и то, что в не столь обильной русскоязычной
литературе по истории йенской романтической школы другого
такого подробного и детального ее описания с тех пор так и не
появилось. Даже книга Н. Берковского «Романтизм в Германии»2,
выполненная в отличие от большинства прочих в
литературоведческом жанре и построенная по «персональному» принципу, эту
нехватку не восполняла. Кроме того, хотя многие главы книги
1 Современный российский читатель помимо многократно
публиковавшихся переводов поэтических, прозаических и драматических
произведений немецких романтиков имеет возможность ознакомиться
с обширным кругом их публикаций на темы философии, эстетики,
литературной и художественной критики. См.: Литературные теории
немецкого романтизма. Л., 1934; Литературные манифесты
западноевропейских романтиков. М., 1980; Эстетика немецких романтиков. М.,
1987; Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. Т. 1,2. М., 1983. Кроме
того неоднократно издавались философские труды Ф. В. Й. Шеллинга и
Ф. Шлейермахера.
2 Берковский Н. Я. Романтизм в Германии. Л., 1973.
846
ΙΟ. Β. ПЕРОВ
Гайма также посвящены отдельным «романтическим личностям»,
они у него все же не превратились в монографические
персональные очерки, т. к. его интересовала вся школа, сформировавшаяся
и существовавшая на основе взаимоотношений ее участников.
В наши дни вывод о тщетности всяких попыток разработать
целостное, однозначное и непротиворечивое теоретическое
представление о романтизме не только широко признан
специалистами, но и активно внедряется даже в учебники с упоминаниями о
трехзначных числах уже существующих его дефиниций. Ю. Л.
Аркан в книге об истории немецкой консервативно-романтической
мысли также наглядно продемонстрировал многочисленные
затруднения, с которыми сталкивались до сих пор все подобного
рода предприятия3. Многие из выработанных исследователями к
настоящему времени характеристик романтизма вступают в явные
противоречия с противоположными, зачастую
представляющимися не менее обоснованными. Умножать примеры тому вряд
ли стоит, тем более что предмет книги Гайма не романтизм как
таковой (всякий), а ограниченная по части персонального состава
и срока ее существования немецкая романтическая школа, чаще
именуемая йенскими романтиками. Этот круг родственных по
мировоззренческим и эстетическим установкам и находившихся
в активном общении творческих личностей существовал в
определенном месте и в столь же фиксированное, очень краткое по
историческим масштабам время. Это, казалось бы, существенно
упрощало задачу Гайма: ему было достаточно суммировать
воззрения этих людей, проанализировать совокупность созданных
ими сочинений разных жанров и обобщить доступные сведения
об их взаимоотношениях и общественно значимых поступках.
В подобном случае проще всего было бы образовать методом
полной индукции «чисто историческое» (эмпирическое) понятие
йенской романтической школы и не заниматься всякого рода
теоретическими премудростями. «Проще», однако, не получается.
Препятствует, во-первых, прилагательное «романтическая», без
3 Аркан Ю. Л. Очерки социальной философии романтизма. Из
истории немецкой консервативно-романтической мысли. СПб., 2003. Из
отечественных публикаций последних лет о философии романтизма
выводы Ю. Л. Аркана представляются наиболее взвешенными и
достаточно достоверными, чтобы в последующем изложении отнестись к ним
со всем вниманием. Также см.: Габитова Р. М. Философия немецкого
романтизма. М, 1978.
УРОКИ РОМАНТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ...
847
уяснения содержания которого никак не обойтись, и, во-вторых,
то немаловажное обстоятельство, отмеченное еще самим Гаймом,
что деятели этой самой школы не только изобрели это название,
но и стали первыми теоретиками романтизма. Сколько бы «ро-
мантизмов» ни обнаруживали в истории и в культурах разных
стран и времен как до йенских романтиков (что проблематично),
так и после них, особое место принадлежит им хотя бы потому,
что именно от них все последующие смогли узнать, что также
являются романтиками. Поэтому вопросы о существе и
содержании романтизма воспроизводятся вновь, и «чисто историческое»
индуктивное собирательное понятие «йенские романтики»
неизбежно обретает также статус понятия историко-типологического,
а то и теоретического.
Нелишне будет заметить, что в отечественных публикациях
о романтизме чаще всего, за немногими исключениями, именно
йенских романтиков предпочитали рассматривать в качестве
образца романтизма вообще (соответственно и предпочтительного
предмета исследования) и уже в гейдельбергских романтиках,
составивших «вторую волну» немецкого романтизма, многие были
склонны видеть симптомы упадка романтизма4. Гайм различал
терминологически «романтизм» и «романтическую школу», но
делал это не везде и существенное значение этому различению
придавал не всегда. Не очевидно, чем в его представлении
«романтическая школа» отличается от привычного «романтизма»
(или от ныне для многих более предпочтительного «романтика»),
поскольку сформировалось настороженное отношение к разного
рода «-измам»: они выглядят излишне теоретичными и
идеологизированными.
Начиная с первых страниц Введения по всему тексту книги
Гайм демонстрировал «суперкритическую» позицию в отношении
романтизма, в первую очередь в его общественно-историческом,
мировоззренческом и идейно-политическом измерениях. Правда,
в других отношениях (о чем еще пойдет речь дальше) некоторые
из его оценок романтизма были дифференцированными, а места-
4 Одно из немногих исключений — позиция А. В. Михайлова. Он
называл гейдельбергских романтиков «зрелым и поздним романтизмом».
И далее: «Романтическая эстетика в ее центральную, „гейдельбергскую"
пору...» (Михайлов А. В. Эстетические идеи немецкого романтизма //
Эстетика немецких романтиков. М., 1987. С. 27, 29).
848
Ю. В. ПЕРОВ
ми даже более чем позитивными. Тем не менее Гайм не пожалел
краски, преимущественно черной, живописуя романтиков как
противников прогресса и откровенных реакционеров. Главную
опасность романтизма Гайм усматривал в угрозе вторжения
инспирированных романтиками «антилиберальных идей» во
все области общественной жизни, включая науку, государство
и церковь.
То, что слово «антилиберальные» стало для Гайма ключевым
негативным словом, объяснимо его личной общественной и
интеллектуальной биографией. Рудольф Гайм (1821—1901), один из
ведущих во второй половине XIX в. историков немецкой
литературы и философии, политический публицист, придерживался в
молодости довольно радикальных либеральных и
демократических взглядов, в 1848 г. стал депутатом Франкфуртского
Национального собрания и неоднократно подвергался преследованиям
за свои взгляды. Время публикации книги Гайма о романтической
школе (1870 г.) стало переломным в истории Германии: в том
году началась Франко-прусская война, завершившаяся вскоре
сокрушительным поражением Франции и провозглашением
Германской империи. К тому времени Гайм, утратив прежний
радикализм, уже стал уважаемым профессором университета в
Галле (позже — деканом философского факультета и ректором),
избирался с 1866 г. в палату депутатов Пруссии и проявил себя в
ней как весьма умеренный либерал, поддерживавший политику
О. Бисмарка.
Именно в этом пункте проявляется зияющий разрыв между
либерализмом Гайма и романтиками. При всей расплывчатости
и противоречивости многих характеристик романтизма,
формулировавшихся его исследователями, приверженцами, критиками
и самими участниками романтического движения, самой,
пожалуй, общепризнанной его чертой является негативная установка
романтиков в отношении современной им общественной
действительности, радикальное отрицание реалий буржуазного общества.
Гайм же пребывал по другую сторону баррикады, склоняясь к
апологетике этого общества из-за полной уверенности в
неодолимом «прогрессе» последнего.
Исследуя, как Гайм обвинял романтиков в том, будто они
являются противниками прогресса и противодействуют ему,
нелишним будет помнить, что сам он и в мысли не допускал никакого
иного прогресса, кроме буржуазно-либерального, и потому никак
УРОКИ РОМАНТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ...
849
не мог счесть достоинством откровенную «антибуржуазность»
романтиков. Их антилиберальные установки в глазах Гайма
означали не просто консервативность, а откровенную реакцию в
буквальном историческом и политическом смысле этого слова,
призыв к возврату назад в феодальное и средневековое прошлое.
Более того, Гайм высказывал мысль, что романтиком можно
считать всякого, кто противостоит либерально-буржуазному
прогрессу; в результате слова «романтик» и «реакционер» стали
для него почти синонимами. Такая точка зрения несколько
преувеличена: даже допустив, что весь и всякий романтизм всегда был
консервативным и реакционным (что само по себе весьма спорно),
обращение этого тезиса таким образом, будто всякий
консерватор и реакционер тем самым уже есть и романтик, не выглядит
убедительным. В истории во все времена было предостаточно
консерваторов, реакционеров и контрреволюционеров, начисто
лишенных каких-либо элементов романтического
мировосприятия. Консерватизм, реакционность и другие очевидные для Гайма
пороки романтизма полностью оправдывали в его глазах борьбу
с ним на жизнь и на смерть, равно как и те страсть и ненависть, с
которыми «влиятельное большинство немецкой нации восстало
против романтизма».
Здесь можно найти немало поводов для дискуссий. Думается,
однозначные утверждения Гайма об изначальной
консервативности и даже реакционности немецкого романтизма были изрядным
преувеличением. Ему ли не знать, что многие из романтиков
первоначально были воодушевлены Французской революцией,
идеалами радикального преобразования общества и человека?
Трудно найти публикации, посвященные немецкому
романтизму, где не упоминалось бы о роли Французской революции и
постреволюционной ситуации в Европе, вне контекста которой
становление романтизма в той его исторической форме было бы
просто невозможным. Это азбучная истина. Даже разочарование
в исходе революции 1789—1799 гг. не устранило в полной мере
революционные по духу романтические умонастроения. Не
случайно, что в знаменитом фрагменте № 216 о трех важнейших
явлениях современной эпохи (к нему еще предстоит вернуться)
Ф. Шлегель счел нужным подчеркнуть, что важные революции
не всегда «протекают шумно и в материальных формах». В этих
условиях их революционный энтузиазм вылился (не без влияния
Ф. Шиллера) в утопические программы радикального преоб-
850
Ю. В. ПЕРОВ
разования общества и человека на новых духовных началах в
результате осуществления «эстетической революции» и создания
новых, романтических форм культуры.
Долгое время в литературе о романтизме (в советской, и не
только) считалось общепризнанным разделение романтиков на
«революционных» и «реакционных». Позже это якобы
поверхностное противопоставление было подвергнуто критике,
обоснованной в той мере, в какой было подвергнуто ему романтическое
движение в целом, и отдельные его участники в разное и даже в
одно и то же время выступали в неоднозначной (по критериям
реакционности—прогрессивности) «исторической функции»,
причем как субъективно (с позиций участников), так и объективно
(по их действительной роли в историческом процессе, насколько
это было возможно).
Нелишне напомнить также и многократно зафиксированный
исследователями вывод об исторической определенности всякого
консерватизма (как и противостоящего ему «прогрессизма»). И тот
и другой помимо всем понятного обыденного смысла являются
соотносительными и обладают конкретной исторической
определенностью по их содержанию и роли в совершенно определенной
общественно-исторической ситуации. Все зависит от того, какую
общественную действительность, с какими целями и какими
способами стремятся преобразовать (консервировать или
восстанавливать), а также от места и взаимодействий данной общественной
и мировоззренческой тенденции с другими сосуществующими с
нею в данное время и в данном месте тенденциями.
Невозможность универсальной однозначной характеристики
романтической школы (не говоря уж о романтизме в целом) по
критериям прогрессивности—реакционности констатировал
по существу и сам Гайм. Негативизм его собственных оценок
романтической школы не абсолютен. Романтизм в его
общественно-политическом и мировоззренческом содержании однозначно
квалифицирован как реакция, но, с другой стороны, по словам
того же Гайма, он стал «вкладом в историю немецкого духа» и
подлинной революцией в истории немецкой литературы,
сознательно осуществленной романтиками, так что некоторые из
посеянных ими семян еще смогут принести в будущем «роскошные
зрелые плоды».
Правда, Гайм все же оправдывал негативизм романтиков в
отношении современного им общества, так же как пороки об-
УРОКИ РОМАНТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ...
851
щественной, политической и духовной жизни Германии конца
XVIII—начала XIX столетия, совершенно неприемлемые даже в
свете либеральных ценностей. Он готов списать романтическое
неприятие действительности на неурядицы в тогдашнем строе
государственной жизни, полагая, что с тех пор все кардинально
изменилось, и эта убежденность Гайма в том, что ныне сам он
вместе с объединяющейся под водительством Бисмарка
Германией «мужественно идет вперед по пути прогресса», достойна
восхищения.
Попутно добавим, что критический пафос романтиков был
направлен в первую очередь отнюдь не против неурядиц
государственной жизни и даже не столько против каких-то
просветительских и иных идей (хотя и не без того), поскольку «нехороший
человек» пребывал совсем рядом с ними. Речь идет об обывателе,
«пошлом филистере» с присущими ему трезвым рассудком,
безнадежной «нормальностью», безграничным самодовольством,
замкнутом в непроницаемую скорлупу внешних приличий и
«пошлого ничтожества» его образа жизни, вкусов и мыслей. Но
ведь именно такие личности, а не герои, и были персонажами
столь любезного Гайму «либерального проекта».
Помимо обвинений в реакционности Гайм нашел основания
для упреков более мягких, но также связанных с
общественно-политической позицией романтиков. Точнее, с отсутствием
таковой. Он обнаружил болезненный отпечаток одностороннего
умственного развития в аполитичности и асоциальности
романтиков, в типичном для них пренебрежении практическими
общественными проблемами, так что, по его словам, почти все самые
лучшие произведения немецкой поэзии и философии той эпохи
были тематически замкнуты внутри узкой сферы частной и
индивидуальной жизни, ограничивались изображением внутренних
конфликтов и переживаний души при явно выраженном недоверии
к объективной природной и общественной действительности.
Зафиксированная Гаймом противоположность между
либеральным и романтическим мировоззрениями может представиться
не столь очевидной и — тем более — не такой важной, но тем не
менее она существенна. Ниже еще не раз придется вернуться к
констатации того, что отношения романтиков ко многим
процессам и проблемам нередко оказывались амбивалентными, особенно
с учетом расхождений между участниками романтического
движения, исторической эволюции романтизма в разных его формах.
852
Ю. В. ПЕРОВ
Взгляды многих романтиков радикально преобразовывались на
протяжении их жизни. Более того, порой амбивалентные
установки у одного и того же писателя-мыслителя парадоксальным
образом совмещались.
К числу таких существенных амбивалентных определен-
ностей романтической мысли относится присущая ей
противоположность между крайними
субъективно-индивидуалистическими установками, с одной стороны, и универсалистскими
(вплоть до мистико-пантеистических) и «коллективистскими»
тенденциями — с другой. Если на время отвлечься от искомого, но
так и не найденного окончательного баланса соотношения разных
романтических идей в их генезисе и содержании и
удовольствоваться расхожими массовыми представлениями о романтизме, то
покажется несомненным, что в них доминирует образ уникальной,
неповторимой и безгранично свободной художественной и (или)
героической личности, противопоставившей себя презренной
мещанской прозе жизни и пребывающей в перманентном конфликте
со своим окружением и с обществом в целом. Иными словами,
романтизм чаще всего и более всего воспринимался и
воспринимается в его субъективно-индивидуалистическом измерении.
В целом этот подход не лишен оснований.
Но ведь и либерализм, приверженцем коего был Гайм, — это
также философия плюрализма и свободы (о чем явно
свидетельствует само его название), причем не свободы общества,
государства, сословия или корпорации, а свободы каждого индивида,
который побуждается к действию своим свободным выбором,
сам для себя определяя, что для него есть добро и что есть зло.
Тогда казалось бы, что в отношении свободы личности либералы
и романтики должны были бы стать скорее союзниками, нежели
непримиримыми врагами. И все же Гайм прав: либеральная
свобода, согласно принятой тогда трактовке, даже если она фактически
еще и не реализована в том или ином обществе, в перспективе
представляется практически осуществимой. Если
воспользоваться вариантом терминологического разграничения
«идеологии» и «утопии», некогда предложенным Карлом Манхеймом,
то либеральная идея свободы — это «идеология», поскольку она
предполагается реализуемой в рамках существующего
общественного устройства без его уничтожения или радикального
преобразования. Свобода романтической личности, напротив, должна
именоваться «утопией» в силу ее неосуществимости не только в
УРОКИ РОМАНТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ...
853
данном обществе (которому она противостоит изначально), но в
ее крайних формах — и ни в каком ином.
Свобода в либеральном проекте — это свобода правовая,
неразрывно «спаянная» с равенством; в отношении к такой свободе
все правосубъекты тождественны, и это радикально отличает их
от неповторимой уникальной романтической индивидуальности.
Буржуазный принцип права подчинил свободу требованию
равенства и взаимности: свобода одних правосубъектов правомерна
лишь в той мере, в какой она не препятствует осуществлению
аналогичной свободы других. И напротив: почти все исследователи
солидарны в признании того, что идеал романтической свободы
изначально конституировался во «внеправовом поле» и что
теории естественного права и естественного закона принадлежали
к числу наиболее неприемлемых для романтической мысли и
отвергаемых ею.
Очевидно, однако, что не только критически-полемический
пафос борьбы с романтизмом подвиг Гайма на столь
обстоятельное и многословное сочинение о романтической школе, тем более
что пафос этот для него представлялся в то время неактуальным.
Полемика с романтиками по поводу отношения к общественной
реальности и содержания их общественного идеала, с его точки
зрения, теперь уже излишня: они были изначально обречены;
время романтизма и даже борьбы с ним, завершившейся его
окончательным поражением, давно прошло, а романтические идеи
осуждены и отвергнуты немецким обществом и (что еще важнее)
самой историей. Гайм не скрывал радости от того, что в условиях
начавшейся в Германии коллективной работы во имя прогресса
дух романтизма подавлен, он не внушает страха и объективно не
представляет никакой опасности.
Если говорить о той «первой» исторической форме немецкого
романтизма, то так оно во многом и было. Но Гайм-то не только
констатировал уход с исторической сцены йенских романтиков, но
и стремился утвердить вместе с тем крах «романтической идеи» в
целом, во всех областях: в литературе, эстетике и философии, но
также и в науке, в государстве и в обществе. Легче всего было бы
подтвердить историческим «материалом», что осуществленные
Гаймом похороны романтизма оказались преждевременными и
что даже в наши дни он все еще скорее жив, чем мертв.
Суть же дела в том и состоит (и мысль эта формулировалась
многократно), что романтизм в разных его формах (и прежде
854
Ю. В. ПЕРОВ
всего в его социально-критической функции) был и остается
неизбежным спутником буржуазного общества с тех пор, как
оно достигло определенной степени зрелости и обнажило свои
внутренние противоречия. И не просто спутником его, а
неотъемлемым внутренним компонентом. Как бы тривиально это ни
выглядело, но ключевым для выявления существа романтизма
является понятие идеала, который мыслился романтиками в его
неустранимом противоречии с действительностью как нечто в
принципе неосуществимое. Констатация того, что
действительность человеческой жизни не соответствует идеалам, сама по себе
не блещет новизной; она издавна была присуща философской
мысли. Непосредственно перед «пришествием» романтизма
европейская просветительская мысль в ее социально-критической
функции также потратила немало усилий для демонстрации того,
что прежние и ныне существующие общественные порядки и
установления «неразумны» и «неестественны», не таковы,
какими они должны бы быть, чтобы соответствовать человеческой
природе и идеалам свободы, равенства и братства. Но при всем
том проекту Просвещения в целом была присуща изрядная доля
исторического оптимизма: да, наличная действительность еще
далека от идеала, но ее можно к нему приблизить, тем более
что в том же направлении обретения все большей разумности
движется исторический прогресс. Нелишне помнить также, что
преимущественным объектом просветительской критики были
элементы сословно-феодальных установлений и привилегий, все
еще сохранявшиеся тогда в европейских обществах.
Для романтиков же убеждение в наличии глубочайшего
разрыва между идеалами и действительностью, вместе с безусловным
предпочтением идеалов, было столь важным, что содержание
последних отходило на второй план. Они могли заниматься поисками
идеала в античном, средневековом или доисторическом прошлом,
в странах Востока, проецировать его в воображаемое будущее,
либо придавать ему откровенно фантастические или утопические
формы. Идеал этот мог быть предельно «индивидуалистическим»
или «универсалистским» или каким-то еще — в каждой
конкретной форме или версии романтизма это существенно, но в гораздо
меньшей степени, чем само исходное противопоставление идеала
и реальности.
Постоянным и неустранимым оппонентом романтизма, его
alter ego, по распространенному признанию, стал позитивизм,
УРОКИ РОМАНТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ...
855
понятый в данном контексте не как специфическое
философское направление (хотя и оно также), а, в первую очередь, как
совокупность многообразных идейных конструкций, образов и
форм, так или иначе оправдывающих и утверждающих
«позитивность» существующего, т. е. выполняющих в отношении него
так называемую «аффирмативную» апологетическую функцию.
Для этого вовсе не требовалось представлять современную
общественную реальность в качестве уже осуществленного
идеала, — достаточно допускать возможность приближения к
нему в перспективе. И позитивизм (как правило, сциентистски
ориентированный), и романтизм — оба были «потомками
Просвещения», но романтизм больше похож на блудного сына, т. к.
открытый конфликт с просветительской мыслью стал для него
необходимым моментом собственного самоопределения.
Создается впечатление, что Гайм, потратив немало усилий
на констатацию реакционности романтического мировоззрения,
не в полной мере акцентировал внимание на этом имманентно
присущем романтизму и широко признанном исследователями
противопоставлении идеалов действительности, на признании
их несоизмеримости в той мере, в какой они этого заслуживали.
Еще менее он был склонен считать романтизм постоянным и
необходимым компонентом буржуазного общества и его культуры,
и это не самая сильная сторона трактовки романтизма Гаймом.
Даже если присущие романтикам противопоставление
идеалов реальности и их противостоящий всякой «позитивности»
«негативизм» в отношении действительности буржуазного
общества счесть главной и исходной определенностью
романтического движения, для интегральной его характеристики этого
будет недостаточно. В литературе о романтизме и в этом пункте
не обошлись без крайностей, когда всех мыслителей и
художников, отвергавших реалии буржуазного общества (неважно,
с консервативных или прогрессистских позиций), стремились
причислить к романтикам; а это уже был бы «романтизм без
берегов».
Гайм рассматривал романтизм как общекультурное
движение, втягивавшее на свою орбиту и подчинявшее себе многие
(если не все) сферы общественной жизни и культуры:
литературу, искусство, философию — и в то же время религию, мораль,
науку, государство, взаимоотношения людей. И, как это принято
считать и ныне, романтизм на самом деле стал универсальным
856
Ю. В. ПЕРОВ
(хотя и не для всех) мировоззрением. Речь при этом идет не
просто о проникновении романтизма во все или большинство
сфер культуры (что и прежде многократно бывало в истории),
а о пропагандировавшейся и сознательно реализовывавшейся
романтиками программе полного слияния воедино «всего со всем»:
поэзии и искусства, философии и наук, морали, религии и образов
жизни — и обретении своего рода «цельного знания».
Однако признание романтизма общекультурным движением
никак не отменяет того, что его исторический генезис, почву и
главное поприще приложения усилий романтиков с полным
основанием традиционно усматривают в литературе и искусстве,
эстетике и философии. Хотя, по многочисленным признаниям
участников романтического движения и большинства его
исследователей, задача соединить поэзию (искусство) с философией
была для романтиков одной из главных и первоочередных, хотя
результаты этих усилий нередко оказывались далеко не
блестящими. Возобладавшие оценки содержания и обоснованности
предпринятого романтиками философского поиска, уровня и
качества их философствования также оказались, за некоторыми
исключениями, более чем скромными. В такого рода оценках
Гайм не одинок. Как отмечал В. Виндельбанд, «руководящая идея
романтизма — полное слияние поэзии и философии. Сами
романтики не были ни великими поэтами, ни великими философами»5.
Гегель задолго до Гайма и Виндельбанда оценил результаты этого
романтического «слияния» еще критичнее: «Поэзия качается
между всеобщностью понятия и определенностью, безразличием
образа; она — ни рыба ни мясо, ни поэзия, ни философия»6. То,
что в собственно философском отношении многие из
романтиков, в том числе братья Шлегели, Новалис (но не Шеллинг и не
Шлейермахер), не были перворазрядными мыслителями,
отмечали многие, и свидетельств тому среди историков философии
вполне достаточно, чтобы не испытывать затруднений в подборе
соответствующих цитат7.
5 Виндельбанд В. От Канта до Ницше. М., 1998.
6 Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии: В 3 т. СПб., 1994.
Т. 3. С. 537.
7 Одним из первых внимание на это обратил все тот же Гегель:
«...Братья Шлегели — Август-Вильгельм и Фридрих — в своей
страстной погоне за всем выделяющимся и бросающимся в глаза, обуреваемые
жаждой нового, усвоили себе из философской идеи столько, сколько были
УРОКИ РОМАНТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ...
857
Тем удивительнее, что и на главном поприще приложения
сил немецких романтиков, а именно в их поэзии и прозе, число
обнаруженных Гаймом шедевров также оказалось весьма
незначительным. При некотором размышлении это не должно
удивлять: новаторские, радикальные и даже откровенно агрессивные
литературные, художественные и эстетические манифесты сами
по себе не способствуют созданию шедевров, что, конечно же,
не исключает того, что другие историки немецкой литературы и
просто читатели как тогда, так и ныне в оценках романтической
литературы в целом, отдельных ее творцов и произведений более
благосклонны, чем Гайм. Верно и то, что, критически настроенный
по отношению к романтической школе и не стеснявшийся отнюдь
не деликатных и откровенно уничижительных оценок участников
романтического движения, их интеллектуальных и
художественных способностей и свершений, Гайм в отношении некоторых из
них порой не скупился и на самые восторженные отзывы.
Негативные характеристики и оценки творческих свершений
романтиков, при формулировке которых Гайм, судя по всему, не
испытывал ни тени смущения, относились как к их воззрениям,
так и к художественному качеству их творений. Для иллюстрации
можно привести оценки Л. Тика, этого главного не столько героя,
сколько антигероя всех трех глав первой книги. Вот что
обнаружил Гайм в творениях Тика, вовсе не претендуя при этом дать
исчерпывающий перечень: «бесцветные философские воззрения»,
«шаткое и совершенно незрелое мировоззрение», «возмутительное
легкомыслие», «поразительную пошлость», «непростительную и
возмутительную небрежность», «безудержную фантазию,
скептицизм, аморализм», «баснословный вымысел», «чрезмерную
чувствительность», «бесконечную монотонность», «поэтическую
софистику», «пошлое филистерство», «самую бессмысленную
путаницу», «отпечаток пошлости и легкомыслия»,
«бессодержательность и запутанность идей», «чисто отрицательный юмор»,
«поверхностность, разведенную водой и опошленную одну каплю
настоящей поэзии», «трудно поверить, чтоб можно было написать
способны воспринять их по существу не философские, а критические
натуры, ибо на репутацию спекулятивного мыслителя ни тот, ни другой
не могут притязать» {Гегель Г. В. Ф. Лекции по эстетике: В 2 т. СПб., 1999.
Т. 1.С. 134). Далее он констатировал их «скудные философские основы».
Гайм, по сути, лишь воспроизвел эти оценки Гегеля.
858
Ю. В. ПЕРОВ
что-нибудь более отвратительное» и др. Если кому-то этого мало,
можно собрать высказывания аналогичного толка о Ф. Шлегеле, и
итог будет не менее впечатляющим. В результате Л. Тик, Новалис
(Гарденберг), Ф. Шлегель, в представлении Гайма, составили один
полюс (кого мы не любим). Другой полюс — это Ф. Шлейермахер,
Ф. Гельдердин, в некоторых отношениях даже А. Шлегель. И все
же суть дела не в личных предпочтениях Гайма. И даже не в том,
что и среди романтиков также могли встречаться и встречались
«очень достойные люди».
В книге о романтической школе Гайм проявил свои лучшие
качества профессионального исследователя истории немецкой
литературы и философии. Монография была хорошо принята как
специалистами, так и широкой публикой, пользовалась
длительным успехом и из всех книг Гайма переиздавалась в Германии
наибольшее число раз. Кроме нее в этом жанре были
опубликованы: «Гегель и его время», «Фейербах и философия», «Артур
Шопенгауэр», «Вильгельм фон Гумбольдт», «Гердер,
представленный по его жизни и его трудам»8.
В публикациях о Гайме принято упоминать о его внимании
к методологии историко-литературных исследований и о
своеобразии его собственного метода. Гайм был одним из ведущих
представителей направления, которое сам называл «культурно-
исторической точкой зрения» и которое в противоположность
господствовавшей прежде в Германии так называемой
«историко-филологической школе» рассматривало литературу и
философию «синтетически», в качестве составляющих общего процесса
эволюции духовной культуры. Иногда Гайма не без оснований
квалифицируют как позитивистски ориентированного
исследователя, что все же справедливо лишь отчасти.
Сам Гайм предпочитал именовать свой метод «чисто
историческим», полагая, что посредством такого «чисто исторического
расследования зачатков» романтизма можно уяснить также и его
сущность и, более того, что подобный метод пригоден для
познания сущности любого культурно-исторического феномена.
Убеждение, будто объяснения процесса происхождения чего-то
достаточно для познания сущности этого чего-то, имеет тысячелетнюю
историю; оно господствовало начиная с эпохи мифологического
8 Большинство их опубликовано в XIX в., в том числе и в России.
Последнее переиздание — «Гегель и его время» (СПб., 2006).
УРОКИ РОМАНТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ...
859
мышления почти вплоть до XX в. С другой стороны, именно
Гегель и за ним К. Маркс обоснованно подвергли ограничению
подобный «генетизм», обратив внимание на то, что это что-то в
процессе своего становления и тем более в процессе
происхождения из чего-то иного, предшествующего, всегда предстает как
нечто еще неразвитое, неспособное обнаружить и осуществить
свою подлинную «сущность». Гегель отмечал, что сущность
жизни может быть постигнута не в простейшей инфузории, а только
в развитых живых организмах. Маркс же стремился обнаружить
сущность капитала в его развитой промышленной форме, а не в
исторически ранней форме торгового капитала.
Нетождественность исторического генезиса общественных и культурных
формообразований с их «сущностями» (с тем, что они есть по своему
внутреннему содержанию, по функциям и значениям) становится
тем более очевидной, если принять во внимание их
историческое существование и последующее преобразование функций и
значений, когда вызвавшие их к жизни условия и причины уже
безвозвратно ушли в прошлое. Нет оснований упрекать Гайма в
недостаточном знании Гегеля, но в данном пункте он предпочел
занять иную позицию. В результате конкретизации такого его
варианта «исторического метода», когда сущность отождествляется
с генезисом, получаются странные результаты: возникновение
объекта объясняется исторически, но сам он внутри себя
оказывается уже лишенным историчности, оставаясь позже таким же,
как и во время становления.
Однако, сколь бы важными ни представлялись рассуждения
на методологические темы, важнее посмотреть, каким образом
Гайм реализовал свой «чисто исторический» метод и к каким
представлениям о романтической школе в результате его
применения он пришел. Важно, что историко-генетический метод Гайм
последовательно редуцировал к объяснению воззрений и
деятельности участников романтической школы их индивидуальными
биографиями, воспитанием и обучением, влиянием жизненных
обстоятельств, родителей и ближайшего окружения. Это очень
похоже на конкретизацию просветительских представлений о
решающей роли среды и воспитания или на более позднюю
позитивистскую программу максимального учета многообразных
факторов формирования психики. В контексте такой установки
появилась возможность считать объяснение индивидуальной,
а через нее и коллективной психики (или психологии) главным
860
Ю. В. ПЕРОВ
предметом исторического познания и общественных наук в
целом. «Чисто исторический» метод в такой его конкретизации
неизбежно преобразовался в психологически-биографические
изыскания.
Предложенное Гаймом объяснение правомерности такого
подхода элементарно до наивности. Он констатировал, что даже самые
возвышенные идеи сами по себе ничего сделать не в состоянии; они
могут оказывать воздействие на людей только через посредство
талантливых личностей. Эта мысль, что взаимодействуют, влияют
и борются не идеи, а люди, их носители, верна, хотя и не столь
уж оригинальна. А вот следующее за нею утверждение, будто бы
только история этих личностей и может служить основой
литературного направления (в данном случае — романтического), не
следует в качестве необходимого вывода, и использованное Гаймом
слово «поэтому», по большому счету, вводит в заблуждение. Само
же допущение, что происхождение и содержание общественных
и культурных движений, направлений и стилей в качестве своих
оснований и причин имеют личные биографии своих участников,
представляется, мягко говоря, далеко не бесспорным. Есть
основания полагать, что общественные явления и процессы должны
объясняться однопорядковыми с ними,
общественно-историческими, условиями и причинами. К примеру (а примеры можно
приводить до бесконечности), знание обстоятельств личной жизни
М. Лютера, Ф. Меланхтона поможет понять, почему эти люди
встали на путь Реформации и действовали именно таким образом,
а также оценить, как они повлияли на ее содержание и форму. Но
достаточно ли ознакомления с этими и другими персональными
биографиями для познания главных причин Реформации, чтобы
считать вовсе излишним анализ социальных, экономических,
политических, мировоззренческих и внутриконфессиональных
процессов в Европе конца XV—начала XVI в. (помимо того, как
они проявились в жизненном опыте этих личностей и как ими
осознавались)? Начало войны объясняют обычно не тем, что
сотни тысяч, а то и миллионы мужчин в силу особенностей их
личных биографий захотели воевать в данное время и именно с
этим противником. Несомненно, что все общественные процессы
и события всегда осуществляются только «живыми личностями»,
и действия каждой из этих личностей являются частью какой-то
определенной биографии, индивидуального жизненного
процесса. Но суть в другом: уже за сто тридцать лет до книги Гайма
УРОКИ РОМАНТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ...
861
Давид Юм показал, что причины, сделавшие необходимым
определенное общественное явление (напомним, что речь шла о
системе общественной нравственности), и причины,
побуждающие отдельных индивидов поступать морально, их моральная
мотивация, совершенно различны, принадлежат к разным рядам
детерминации и не могут заменить друг друга.
Продолжая ход методологических рассуждений, Гайм
констатировал необходимость осмыслять процесс взросления таких
даровитых и мыслящих личностей с учетом всего многообразия
влияний и мотивов, реконструировав при этом все, что довелось
«пережить и почувствовать» каждой из них в ее индивидуальном
своеобразии, и затем проследить процесс их поэтического и иного
рода творчества. Тот, кто, подобно Гайму, берется за такую задачу,
уже не вправе причислять себя к скромным труженикам
«позитивной» науки. Для того чтобы суметь воспроизвести переживания
и чувства уникальной индивидуальности (заметим: чужой!) и ее
творческий процесс, никак невозможно ограничиться приемами
позитивистской фактографии, — это требует необычайно
развитого воображения, но даже в этом случае результат такого полета
фантазии все равно останется недоступным для «строго научной»
верификации.
Дальше дело обстоит еще интереснее. Когда Гайм объявил,
что литературные произведения являются всего лишь
«соединительными точками», фокусирующими в себе многообразие
личных жизненных перипетий писателя и что они лишь
выглядят твердыми и устойчивыми, на деле будучи лишь «осадком
всех умственных устремлений автора», — эти заявления вводят
в ядро уже романтической эстетики. Мысль, что все твердое и
устойчивое в мире представляет собой задержку, остановку
процессов, была излюбленной как в трансцендентальном идеализме
Фихте, так и в натурфилософии Шеллинга, согласно которой все
устойчивые «вещи» в природе есть ее «застывшая» или
«дремлющая» жизнь. А тезис, что произведение искусства представляет
собой объективацию всей биографии и психики, сознательного
и бессознательного, его творца, для романтической эстетики
стал аксиомой.
Удивителен поэтому не сам по себе
психологически-биографический метод Гайма, реализованный и в других его книгах, а
то, что Гайм, вступив в ожесточенную полемику с романтизмом,
не захотел увидеть и осознать, что его собственная методология
862
Ю. В. ПЕРОВ
по сути своей романтическая и была бы невозможна без опыта
романтиков. Для демонстрации того, как он реализовал свои
методологические установки, можно обратиться к любой из глав, в
которых воспроизведены биографии участников романтической
школы. Общая схема продемонстрирована уже в первых главах,
посвященных Людвигу Тику. Сначала подробно рассказывается о
семье и годах учебы в гимназии, затем резкая критика
господствовавшей в Берлине «атмосферы так называемой эпохи
Просвещения» и тамошней «пошлой и грубой» литературной моды. Вслед за
фиксацией таких вредных влияний на Тика предпринята попытка
объяснить некоторые из присущих ему особенностей и стремлений
психической патологией последнего. Далее следовал резко
критический разбор и уже упомянутые выше крайне негативные оценки
Гаймом ранних литературных опытов Тика. Впору удивиться: зачем
Гайм потратил так много страниц и времени читателей на
характеристики и уничижительные оценки произведений Тика, еще
отнюдь не «романтических», истории романтической школы по сути
еще не принадлежавших? Но и в этом повинен биографический
«генетизм» Гайма: для того чтобы объяснить зрелое творчество
Тика, необходимо со всей возможной тщательностью проследить
в деталях все его индивидуальное развитие с детства до этого
времени включительно. Последующие этапы развития личности,
по мысли Гайма, предопределены предыдущими. По аналогичной
схеме он создавал биографически-психологические портреты и
других участников романтической школы. Но, пожалуй, еще
более показательно, как Гайм объяснял отношение к Просвещению
и учение о религии Шлейермахера, идя по пути поиска почти для
каждого существенного положения содержания его учения
мотивов, проистекающих из его личных свойств, фактов личного опыта
и душевных состояний Шлейермахера. Стремление обнаружить в
произведении объективацию всех существенных фактов биографии
и психических состояний автора и, напротив, найти
«биографический и индивидуально-психологический эквивалент» для всех
наиболее значимых содержательных и формальных компонентов
произведения — это самое последовательное и крайнее проявление
исключительно романтической теории творчества.
Гайм не претендовал на приоритет в выработке «культурно-
исторической точки зрения» на романтизм, иллюстрируя, что
она была выработана и реализована до него. Тем не менее он счел
необходимым подчеркнуть отличие своего воззрения на историю
УРОКИ РОМАНТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ...
863
романтизма от всех прежних, выразившееся, по его мнению,
«преимущественно в одном пункте»: Гайм обнаружил сущность
и своеобразие романтизма в максимально возможном единстве
поэзии, философии и религии, в слиянии фантазии с мышлением,
какого никогда прежде не было.
На первый взгляд, это отличие гаймовской
культурно-исторической точки зрения на сущность романтизма в сравнении
с его предшественниками выглядит не столь радикальным и,
более того, даже малозаметным, если учесть, что и они, также не
ограничиваясь романтической литературой, обращались к
проявлениям романтизма в философии, религии и нравственности.
И здесь, как ничто иное, уместно фигурировавшее выше слово
«слияние», понятое не как взаимодействие, а как неразличимая
целостность поэтического творчества и философской мысли.
Тем самым новизну своего подхода он видел в возвышении роли
философской составляющей романтизма до признания ее
равнозначности с поэтическим содержанием. Нетрудно обнаружить,
для чего Гайму это было так важно, — в первую очередь для
подтверждения принятой им схемы происхождения романтизма,
речь о которой пойдет ниже.
* * *
Было бы странно, если б в обстоятельной книге о
романтической школе автор ее удержался от ответа на вопрос: что же такое
романтизм? Столь же естественно, что ответов на него оказалось,
по крайней мере, два, а точнее две группы: как понимали
романтизм сами участники романтического движения и как
воспринимал его Гайм. В идеальном случае желательно было бы обрести и
третий вариант ответа, а именно: чем и каким был романтизм на
самом деле, если отвлечься от его многообразных интерпретаций?
Но, к сожалению, идеал этот недостижим. Подобный ответ мог
бы дать только абсолютный наблюдатель, лишенный какой бы то
ни было определенной и потому ограниченной «точки зрения»,
но таковых среди живущих на Земле в историческом времени
пока не обнаружилось. Не исключена, конечно, и счастливая
убежденность читателя в том, что значения слов «романтизм» и
«романтический» ему доподлинно известны и никаких
затруднений в употреблении этих понятий он не испытывает. Но это уже
сугубо личное дело.
864
Ю. В. ПЕРОВ
Многозначность исходного для понятия «романтизм» слова
«романтический» не была изобретением романтиков, — к тому
времени в европейских языках она уже существовала. В
литературе о романтизме многократно фиксировались такие
существовавшие прежде, до романтиков, его значения, как «связанный
с литературным жанром романа», «с любовным романом», «с
романскими языками и литературами». Романтизм выступал и
как обозначение вымышленных фантастических событий,
ситуаций, предметов и пр. Но только йенские романтики сумели
придать ему теоретически нагруженное и исторически значимое
значение; они нашли нужное слово в нужное время и в нужном
месте. Однако и сами они при этом не обнаружили строгости и
однозначности в трактовке понятия «романтизм». Гайм,
столкнувшись с неопределенностью и двусмысленностью его значений у
первых романтиков (прежде всего у Ф. Шлегеля), оказался перед
альтернативой: выбирать значение произвольно или полностью
отказаться от объяснения его смысла. Поскольку это понятие
является центральным и конституирующим для всего
романтического движения, то ему пришлось отвергнуть оба варианта и
искать новый.
Гайм обнаружил, однако, что искомое «слово уже найдено»
и все тем же Ф. Шлегелем. Романтическая поэзия понята им как
порождение и поприще неограниченной свободы и
субъективности художника в широком смысле, не подчиняющегося никаким
законам, нормам и правилам. В ходе изложения Гайм упоминал
и другие характеристики романтизма (в том числе и довольно
экстравагантные), встречающиеся в написанных романтиками
текстах, но наиболее существенным из последующих смысловых
сдвигов он обоснованно считал обретение этим понятием наряду
с его теоретическим значением исторического измерения, в
контексте которого романтизм был понят как необходимый этап
исторического развития искусства и преимущественно современная
его форма. В этом своем значении эпоха романтического искусства
сопоставлялась с античной и в то же время противопоставлялась
ей, вот почему понятие романтизма лежит одновременно в двух
плоскостях: теоретической и исторической.
Заслуга соединения систематического и исторического
содержания понятия «романтизм», по мысли Гайма, в значительной
степени принадлежала А. Шлегелю. В этом отношении он
действительно стал непосредственным предшественником Гегеля, осу-
УРОКИ РОМАНТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ...
865
ществившего последовательную «историзацию» уже не отдельных
понятий, а всей философии искусства, выразившуюся в
преодолении свойственных прежней эстетике форм «схематизма», т. е.
конструирования универсальных вневременных
классификационных схем искусства, его видов и жанров. Отныне история обрела
место не только в мире самого искусства, но и в его философии,
и это объединение «системности» и «историзма» превратило
гегелевскую эстетику в категорию философско-историческую.
Среди многих характеристик романтизма, выделенных
Таймом, особого внимания заслуживает следующая: сущность этого
романтического направления состояла в том, что оно вносило в
современное образование усиленный субъективизм и идеализм,
присоединяя к ним влечение к изяществу и гармонии. Иначе
говоря, «сущность» романтизма выражена им в трех «ключевых
словах»: крайний субъективизм, идеализм и эстетизм. И это
похоже на правду, хотя и не без оговорок.
Трудности всех попыток дать однозначную дефиницию — и не
только дать дефиницию, но и прояснить существо романтизма —
проистекали не только из того, что исследователи из
многомерного и вариативного комплекса романтических умонастроений
выбирают и гипостазируют отдельные стороны, моменты или
исторические формы романтики. Так оно и было. Но сама эта
избирательность и односторонность, как правило, были следствием
уже ранее сконструированных ими теоретических концепций
существа романтизма. Именно теоретические понятия задают
отбор и интерпретацию эмпирического исторического материала,
определяют выдвижение на первый план одних и замалчивание
или преуменьшение других сторон и моментов. И Гайм не
поступал иначе.
Памятуя, однако, о том, что выше уже обнаружилось в истори-
ко-генетическом методе Гайма, следовало ожидать, что, исходя из
его предпосылок, подлинная «сущность» романтизма методически
строго может быть обнаружена лишь в процессе реконструкции
его происхождения. Так оно и было. Исторические «источники»
происхождения романтического движения, по мысли Гайма, стали
и его (романтизма) внутренними «составными частями».
Уместно заметить, что стремление к конструированию схем,
преимущественно «дуалистических», было характерной
особенностью метода Гайма. Явным образом оно проявилось уже в
книге о Гегеле, где Гайм представил все содержание и эволюцию
28 Зак. № 3602
866
Ю. В. ПЕРОВ
гегелевской философской мысли в контексте взаимодействия
двух тенденций: с одной стороны, «объективной» эстетической
установки, якобы непосредственно заимствованной Гегелем из
античности, и «субъективной» рационально-рефлективной
современной европейской философии — с другой. Вовсе не отрицая
наличия в гегелевской философии этих двух тенденций, есть
основания утверждать, что стремление Гайма вместить в эту
схематическую конструкцию все богатство содержания гегелевской
мысли не обошлось без существенных издержек и что схематизм
Гайма выглядел там чрезмерным и отчасти насильственным.
Аналогичный прием реализован им и в отношении романтической
школы, и здесь результаты также не оправдали надежд.
Согласно схеме, сконструированной и реализованной Гаймом
с упорством, достойным лучшего применения, романтизм возник
путем «слияния» двух тенденций: немецкой классической
литературы Гёте и Шиллера и немецкого идеализма Канта и Фихте.
Поскольку отношения с Шиллером у некоторых романтиков
сложились не самым лучшим образом, а трансцендентальный
идеализм Канта к тому времени был уже подвергнут
нелицеприятной критике, то число источников и составных частей
романтизма сократилось до минимума: проза и поэзия Гёте и
философия Фихте.
Нельзя не признать, что конструирование этой схемы не
потребовало от Гайма значительных усилий; ее теоретический
источник лежит на поверхности. Достаточно еще раз обратиться
к уже упоминавшемуся выше и, кстати, цитированному Гаймом
фрагменту № 216 Ф. Шлегеля: «Французская революция, „На-
укоучение" Фихте и „Мейстер" Гёте — величайшие тенденции
эпохи»9. Как представляется, Гайм поверил Ф. Шлегелю на слово,
но Французскую революцию вынес за скобки (по поводу связей
романтиков с ней у него было особое мнение) и в результате
объявил источниками романтизма только поэзию Гёте и
отчасти Шиллера и философию Фихте. Теперь уместно посмотреть,
к каким результатам привела Гайма конкретизация этой его
схемы на «материале» романтической школы. По мысли Гайма,
поворот немецкой литературы от классицизма к романтизму в
форме «доведенного до крайности субъективизма» произошел
9 Шлегель Ф. Фрагменты // Шлегель Ф. Эстетика. Философия.
Критика. Т. 1.С. 300.
УРОКИ РОМАНТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ...
867
под мощным воздействием идеализма Фихте. Тем самым идеям
Фихте приписана роль не только философской составляющей
романтизма, но также и «первотолчка», изменившего ход собственно
литературного процесса.
Не надо забывать, что описанный Гаймом период
существования романтической школы по историческим масштабам
был очень кратковременным: основное содержание книги
ограничено десятилетием, и даже более поздние воззрения тех
же йенских персонажей остались вне зоны его повышенного
внимания. Обычно при изложении и изучении истории
немецкой литературы и философии имена мыслителей и писателей
выстраиваются в последовательности, создающей иллюзию их
биографической разновременности, порой вопреки реальной
исторической ситуации. Повествовать о чем-то можно только
во временной последовательности — такова природа нарратива.
Реально же Гёте и Шиллер, Кант и Гердер были не только
предшественниками романтиков, но и их современниками; в годы
формирования и расцвета романтической школы все они были
живы10. Фихте же, хотя и был старше почти всех романтиков, начал
плодотворную философскую деятельность почти одновременно с
ними (1794 г. — кафедра философии в Йене и публикация первых
вариантов «Наукоучения»).
По словам Гайма, эти два направления:
художественно-литературное и философское — впервые непосредственно соединились
у Ф. Шлегеля, и это соединение стало неизменным фундаментом
всех его взглядов, несмотря на их последующие многократные
модификации. Все, что в те годы Ф. Шлегель писал о
философии, отмечал Гайм, было заимствовано им у Фихте и излагалось
с гениальной самостоятельностью, но, как он замечал при этом
не без сарказма, философия от того выиграла немного. Не
увлекаясь иллюстрациями, можно ограничиться лишь упоминанием
о том, как Гайм демонстрировал прямую зависимость от Фихте
философских фантазий Новалиса об абсолютном всемогуществе
«Я» над собственным телом и над всем природным и
общественным миром или стремление Ф. Шлейермахера в разных областях
«радикализировать идеализм Фихте». Но не иллюстрации здесь
главное.
10 Гердер умер в 1803 г., Кант — в 1804 г., Шиллер — в 1805 г. Дольше
всех из них (до 1832 г.) прожил Гёте.
868
Ю. В. ПЕРОВ
Одним из центральных пунктов в характеристике Ф. Шле-
гелем романтического искусства стало провозглашение
беспредельной свободы и субъективности художника, его произвола, не
подчиненного никаким законам и нормам. Гайм уверен, что все
это также было прямо заимствовано у Фихте. Гайм был склонен
всемерно подчеркивать степень влияния Фихте на романтиков,
не всегда считая нужным это подтверждать фактами, и, думается,
делал это не без преувеличений. Почти во всех случаях, когда
речь шла не просто об усвоении, но и о преобразовании ими идей
Фихте, при более внимательном рассмотрении обнаруживается,
что на самом деле часто, вопреки их декларациям, они все более
и более удалялись от «ортодоксального» Фихте. К примеру, Гайм
отмечал, что вместо абстрактного «Я» (Фихте) у романтиков
появился эмпирический конкретный человек, постулированное
Фихте «единство и цельность духа» уступило место «организму»,
а реконструированная Фихте «вневременная история»
трансцендентального самосознания сменилась у них эмпирической
историей, осуществлявшейся в пространстве и времени. Но
если все действительно так и произошло, то все,
сохранившееся «в сухом остатке», никак не является наукоучением Фихте.
Подобные метаморфозы возможны только в безудержной игре
фантазии или при совершенно романтическом, т. е. субъективно
произвольном, обращении с философскими идеями; перед нами,
скорее, аналогии, не соответствующие ни букве, ни духу
трансцендентального идеализма Фихте. Трансцендентальный субъект
в философии Канта и Фихте и эмпирический «человек
исторический» романтиков — это понятия взаимоисключающие.
Сказанного достаточно, чтобы понять, в какой мере романтики
приземлили и вульгаризировали мысль Фихте, несмотря на свое
доброе отношение к нему и его к ним. А быть может, не
«несмотря», а как раз «благодаря» им. Сам Фихте не принял у романтиков
главного, а именно осуществленной ими подмены действующего
в стихии чистой мысли трансцендентального (и тем более
абсолютного) «Я» эмпирическим «Я». В 1806 г., когда время его
максимальной близости с романтиками было уже позади, Фихте
специально подчеркивал, что его «абсолютное Я» — это явно
не индивидуум, как пытались истолковать его некоторые, а что,
напротив, индивидуум должен быть выведен из «абсолютного Я».
Правда, он протестовал и против полного разрыва абсолютного
и эмпирического «Я», так как первое присутствует во втором
УРОКИ РОМАНТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ...
869
в качестве его скрытого от сознания внутреннего основания.
Нелишне, правда, заметить, что сам этот принципиальный для
«Наукоучения» Фихте вопрос об отношении
трансцендентального и эмпирического «Я» так и не обрел у него окончательного,
однозначного решения.
Гегель в данном пункте, как и во многих других, был более
осторожен и точен, рассматривая романтиков в ряду «форм,
находящихся в связи с фихтевской философией», но таких, в которых
«фихтевской точке зрения субъективности был придан не
по-философски разработанный оборот»11. Повторим ключевой оборот:
«не по-философски разработанный». Здесь уместна оговорка: все
эти комментарии преследовали одну цель — обратить внимание
на неадекватность восприятия и усвоения романтиками
философии Фихте, но отнюдь не отрицают сам факт влияния его идей
(пусть и тенденциозно интерпретированных) на формирование
и на существенные моменты содержания романтического
мировоззрения, особенно в самом начале нового движения. Принято
считать, что главным связующим звеном между романтиками и
Фихте стало его учение о продуктивном воображении. На этом
моменте стоит остановиться чуть подробнее. Согласно Фихте,
бессознательная деятельность продуктивной способности
воображения абсолютного «Я» порождает телесно-чувственную
реальность, которая воспринимается людьми в качестве
предмета познания и практики как объективная, существующая
независимо от них. Весь внешний мир вещей и даже собственное
тело человека, при таком понимании, есть всего лишь продукт
бессознательной деятельности продуктивного воображения.
Продуктивная способность воображения предстала у Фихте как
предпосылка и основа деятельности всех познавательных
способностей, ибо только она (а не кантовская «вещь в себе») творит и
«дает» им предмет («материал») познания. Реальный мир (точнее,
считающийся таковым) по сути — это всего лишь иллюзорная
система образов продуктивного воображения. Именно эти идеи
Фихте оказались наиболее привлекательными для романтиков.
При этом они «запросто» преобразовали бессознательную
способность продуктивного воображения абсолютного «Я» у Фихте
в безграничный произвол творческой фантазии романтического
художника, взятого в его неповторимой индивидуальности.
11 Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии. Т. 3. С. 536.
870
Ю. В. ПЕРОВ
В результате понятие романтической «субъективности»,
генетически возводимой к идеям Фихте, оказывается по содержанию
многомерным. Во-первых, это субъективность личности
художника. Личность художника оказалась важнее и выше его творений.
Произведения литературы и искусства представлены как лишь
выражения, объективации и воплощения внутреннего мира этой
личности. Во-вторых, это субъективность (внутренний мир души
человеческой) в качестве преимущественного предмета
художественного воспроизведения и осмысления. При этом внешняя
человеку объективная реальность сама рискует превратиться во
всего лишь душевное состояние художника и публики. В-третьих,
это свобода и субъективность художественного метода, форм и
приемов деятельности художника-творца.
Долгое время не подвергалось сомнению, что романтическая
эстетика и теория художественного творчества наиболее
концентрированное выражение обрели в принципе романтической иронии.
Гайм, характеризуя понятие иронии, введенное Ф. Шлегелем и
принятое большинством участников романтической школы, как
воплощение философских взглядов Фихте, доведенных при этом
«до крайнего преувеличения», подчеркивал: этому понятию
принадлежала настолько важная роль в романтической доктрине, что
оно стало ее концентрированным выражением и «последним
словом». Для многих современников йенских романтиков, критиков
и исследователей «ирония» предстала воплощением существа
романтического субъективизма и безграничной свободы художника
в его отношении как к объективному миру, так и к собственному
творчеству. Впоследствии обнаружилось, что с романтической
иронией дело обстояло не так просто и однозначно, как полагали
вначале, что все же не помешало считать именно это понятие
«этикеткой» всей романтической эстетики. Правда, как замечал
некогда К. Маркс, «этикетка» системы взглядов тем и отличается
от этикетки всех других товаров, что она обманывает не только
покупателя, но и продавца.
Читатель книги Гайма вслед за автором обнаруживает
изначальную неопределенность и неоднозначность этого понятия
у Ф. Шлегеля, затем фиксирует различия между романтиками
в понимании автора «Романтической школы» (а со временем и
у самого Ф. Шлегеля) и, наконец, обнаруживает почти полную
утрату этим понятием его прежнего значения и роли. Критику
романтической иронии неоднократно в разных сочинениях уже
УРОКИ РОМАНТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ...
871
предпринимал Гегель, оценивавший содержание романтической
иронии как крайнее проявление субъективизма, отвергающего
серьезное отношение человека и художника ко всякой
объективности и к любому жизненному (в том числе нравственному,
моральному, правовому) содержанию. Гегелю при этом важно было
продемонстрировать противоположность между субъективной
романтической иронией и иронией в методе философствования
Сократа, преследовавшей цели достижения объективной
общезначимой истины. Позже, однако, некоторые из приверженцев и
исследователей немецкого романтизма активно
пропагандировали тезис, будто гегелевская трактовка романтической иронии
(соответственно и критика ее) была ошибочной и совершенно
неадекватной действительному пониманию иронии Ф.
Шеллингом. Не вдаваясь в детали этих дискуссий, можно ограничиться
замечанием, что основания и аргументация столь категоричного
вывода были не во всем бесспорными. Со временем, однако,
под сомнение были поставлены не только романтическое
понятие иронии и его роль в романтических воззрениях, но и
вся та представлявшаяся ранее безусловно господствовавшей в
романтизме «субъективно-индивидуалистическая установка»,
генезис которой было принято возводить непосредственно к
идеям Фихте.
То, что понятие иронии интерпретировалось самими
романтиками, в том числе его творцом и главным теоретиком Ф. Шле-
гелем, неоднозначно и даже противоречиво, менее значимо, чем
их последующий, пусть и частичный, отказ от него. Факт
постепенной эволюции немецких романтиков от демонстраций
воинствующего произвола творческой субъективности к более
«объективистским» формам мировоззрения, будь то
объективный философский идеализм, натурфилософия или религия и
пантеизм, включая мистику, не подлежит сомнению. По сути это
было воплощением общей тенденции всей немецкой философии
той эпохи, прекрасно иллюстрируемой эволюцией Шеллинга
от трансцендентального субъективного идеализма к идеализму
абсолютному и от него — к философии откровения и отчасти
захватившей даже «позднего» Фихте, этого «самого субъективного»
из современных романтикам философов.
Если выше при обсуждении того, как романтики и Гайм
представляли роль идей Фихте в становлении и в содержании
воззрений участников романтической школы, важно было обратить
872
Ю. В. ПЕРОВ
внимание на то, что идеи самого Фихте не были столь уж
«романтическими» и что осваивались и применялись они романтиками не
вполне адекватно, то теперь настала очередь упомянуть о другой
крайности. Блестящий отечественный исследователь
романтизма В. М. Жирмунский в первой из книг о нем считал одной из
главных задач опровержение «обычных воззрений» на немецкий
романтизм12. Речь шла, в первую очередь, об опровержении двух
общепринятых характеристик романтизма, а именно признания
сутью романтизма имманентной противоположности идеала и
действительности и «субъективистских» трактовок романтизма
как эстетического, философского и этического индивидуализма.
Пафос В. М. Жирмунского состоял в утверждении имманентно
и изначально присущих немецким романтикам мистико-пан-
теистических воззрений и чувств единения и слияния с миром
и божеством. Стоит специально обратить внимание на то, что
предметом исследования Жирмунского в этой книге стали не
более поздние воззрения йенских романтиков, в той или иной
форме явно обнаруживавших пантеистические, мистические и
религиозные тенденции, и не гейдельбергская романтика (ей
посвящена другая его книга), а цветущее время йенского романтизма
с 1798 по 1802 г., якобы демонстрировавшего, по его убеждению,
наиболее полное выражение всего самого характерного для
мистико-пантеистического романтического чувства. Поздний
гейдельбергский романтизм в то время казался ему
несамостоятельным и вторичным.
Если бы В. М. Жирмунскому в полной мере удалось
реализовать поставленную им задачу, то почти все написанное о
немецких романтиках в Германии и вне ее, в том числе и книгу Гайма
о романтической школе, пришлось бы отбросить как собрание
заблуждений. К счастью (или к несчастью) этого не случилось.
Сколь-нибудь обстоятельное обсуждение представленных
Жирмунским материалов и аргументации здесь невозможно, хотя
некоторые из его интерпретаций романтизма также могут
выглядеть проблематичными, а отчасти и не во всем
последовательными. Общее же впечатление таково, что Жирмунскому удалось
продемонстрировать односторонность «обычного воззрения» на
немецкий романтизм и тем самым несколько ограничить его, и все
12 Жирмунский В. М. Немецкий романтизм и современная мистика.
СПб., 1996 (первое издание— 1914 г.).
УРОКИ РОМАНТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ...
873
же, вопреки убеждению автора, это обычное воззрение осталось
неопровергнутым. В той или иной мере Жирмунскому пришлось
признать, что и противопоставление идеалов действительности
(важно, правда, как при этом понимать действительность) и
индивидуалистический субъективизм творческой личности, как
и многое другое, что ранее обнаруживали у романтиков, у них
действительно присутствовали. В результате у Жирмунского
все выразилось преимущественно в соотносительности оценок:
что считать самым важным и типичным для романтизма, а
что — второстепенным или случайным.
Естественно, что при таком подходе совершенно иначе
решался и вопрос о предшественниках и источниках романтизма.
Хотя Жирмунский не отрицал полностью, вопреки суждениям
некоторых его комментаторов, влияния на романтиков идей
Фихте, в том числе и о продуктивном воображении, при этом
явно стремился минимизировать его13. Да, полагал он, принцип
свободы творческого субъекта активно пропагандировался и
реализовывался романтиками, но этот принцип якобы не
романтический, а заимствование от штюрмеров и Гёте. Не была забыта
им и важность роли Руссо, общеевропейского сентиментализма
середины XVIII в. и, конечно же, немецкой мистики. Детали
можно обсуждать и уточнять, но все это уже выходит за рамки
«схемы» Гайма.
Автора «Романтической школы» можно упрекать в том, что,
акцентировав внимание на субъективно-индивидуалистических
тенденциях в воззрениях романтиков, он несколько недооценил
место и роль в немецком романтизме противоположных,
«универсалистских» и пантеистических, в том числе эстетических,
мистических и религиозных, тенденций. Элементы таких установок,
проявлявшиеся в одухотворении природы, в стремлениях к
эмоциональному слиянию с миром, в большей или меньшей степени
изначально были присущи большинству романтических поэтов и
художников. На деле же эти универсалистски-пантеистические
установки романтиков не так уж противоречат субъективно-ин-
13 Охлаждение восторгов от идей Фихте налицо и у самих
романтиков. Причисление Ф. Шлегелем в 1798 г. «Наукоучения» к трем
важнейшим тенденциям современной эпохи уже в 1804—1805 гг.
сменилось более скромными и даже критичными оценками собственной
философии.
874
Ю. В. ПЕРОВ
дивидуалистическим, как может представиться это на первый
взгляд. Исследователи романтизма уже обращали внимание
на то, что в процессе пересмотра фундаментальных установок
новоевропейской рационалистической философии романтики
смягчали присущую прежней философии противоположность
субъекта и объекта, духа и природы. Мир рассматривался ими
уже не в качестве чуждого и противостоящего субъекту внешнего
объекта, а как изначально одухотворенный в своем неразрывном
единстве с человеком и внутренними душевными состояниями
последнего.
В литературе о романтизме не раз, в частности А. В.
Михайловым, обосновывалось, что романтизм как в целом, так и в его
конкретных исторических и локальных формах и вариантах не
может быть представлен в виде устойчивой совокупности
содержательных и формальных элементов, идей и образов, а представляет
собой взаимодействие разных, в том числе противоположных и
противоречивых, динамических тенденций. Один из
методологически значимых выводов уже упоминавшейся книги Ю. Л. Аркана
состоял также в том, что большинство историко-философских
и историко-культурных понятий (в их числе — «романтизм» и
«романтическая философия») — это не эмпирические
индуктивные или классификационные понятия и не абстрактно-общие
обозначения неких внутренних «сущностей», а теоретические
историко-типологические конструкты. Такого рода историко-
типологические понятия адекватны культурно-исторической
реальности в той мере, в какой формообразования этой реальности
по способу своего существования сами являются динамическими
типологическими инвариантами, существующими лишь в сериях
многообразных тенденций и индивидуальных вариаций. В
результате динамические, в том числе и противоречивые, тенденции,
образующие существенные определенности романтизма в целом,
его содержательные и формальные «элементы», в различных его
исторических формах и в творчестве тех или иных романтиков
могут присутствовать частично, взаимодействовать и сочетаться
в разных соотношениях и пропорциях.
УРОКИ РОМАНТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ...
875
* * *
Большинство исследователей романтизма солидарно в
признании того, что романтики в своем протесте против
существующей общественной реальности восстали в первую очередь
против моралистического пафоса просветителей, уверовавших в
перспективы морального совершенствования человечества. Более
того, преобладание у романтиков художественно-эстетической
установки по отношению к миру и присущее им откровенное
предпочтение эстетических критериев всем остальным, включая
и моральные, неизбежно умаляли в их представлениях роль и
значение морально-этической проблематики. В глазах же
откровенно презираемых ими филистеров и обывателей сами
романтики выглядели людьми, открыто отвергнувшими все приличия
и покушавшимися на нравственные устои общества. Суждения
об аморальности романтиков надолго обрели силу устойчивого
общественного предрассудка, и этому немало способствовали
сами романтики. Читатель книги Гайма, ранее усвоивший эти
небезосновательные представления, мог бы удивиться,
обнаружив, что многие участники романтического движения считали
осмысление нравственной проблематики чуть ли не важнейшим
делом своей жизни и что морально-этическая составляющая
оказалась весьма существенной в общем комплексе романтических
воззрений. Это обстоятельство иллюстрировано обращением
Гайма к идеям Ф. Шлегеля, Новалиса и, конечно же, Шлейерма-
хера, чья моральная философия, по мысли автора «Романтической
школы», несомненно достойна самого пристального внимания и
уважения.
Даже сочтя в высшей степени неудавшимися попытки
Ф. Шлегеля теоретически обосновать «романтическую этику»
и признав абсолютным провалом его попытки художественно
воплотить ее в романе «Люцинда», Гайм не подвергал сомнению
правомерность революционной полемики молодого поколения
романтиков, руководствовавшихся идеалами свободы и гармонии,
против господствовавших в обществе равнодушия, себялюбия,
лицемерия, пошлости и распущенности нравов, лишь прикрытых
флером моральной риторики и внешних приличий. В то же время
он видел явную парадоксальность романтической критики
морали в том, что, будучи оправданной в отношении «ложной»
нравственности, сама она зачастую оборачивалась безнравственным
876
ΙΟ. Β. ПЕРОВ
цинизмом. Это противоречие между обвинениями романтиков в
безнравственности и их же якобы возвышенными моральными
устремлениями смягчается, если принять во внимание суть той
морали, о которой в обоих случаях ведется речь. Ведется она не
о вечной универсальной морали абсолютных ценностей, которая
была бы равно пригодна для всех времен и народов, а о вполне
определенных и своеобразных исторических формах моральных
воззрений — как тех, против которых выступали романтики, так
и их собственных. Признавая вслед за Гаймом важность этической
проблематики в контексте романтического мировоззрения, нельзя
не видеть, что романтики стремились создать проект совсем
«другой» морали и «другой» этики.
Романтическая мораль, согласно распространенному
мнению, — это индивидуалистическая и духовно-аристократическая
«этика героя» (художника и персонажа), согласно которой
выдающаяся личность, которой «все позволено», пребывает выше
общественно признанной «обычной» морали и вправе не считаться
с ней. Герой романтиков провозглашает свободу ото всех
предрассудков, от обычаев, законов и даже правил приличия, он
отвергает мораль, основанную на принуждении долга — внешнего
и внутреннего. Своеобразие «романтической этики» составили
индивидуалистический волюнтаризм, интеллектуальный
аристократизм и «эстетизация» морали (подчинение ее эстетическим
критериям). Последующий моральный аристократизм, аморализм
и культ сверхчеловека у Ф. Ницше, как бы их не интерпретировали
и не расценивали, явно несли следы романтического
происхождения. С легкой руки романтиков подобные «герои» на многие
десятилетия заполонили европейскую литературу самых разных
жанров, и тем не менее это было отрицание не морали «вообще и
всякой», а вполне определенной либеральной и просветительской
моральности и в еще большей мере практики фарисейства и
мещанского лицемерия, господства частных интересов и принципа
полезности.
В той мере, в какой романтические представления о морали
обретали форму проповеди неограниченного произвола выдающейся
личности, констатировать их непосредственную зависимость от
субъективного идеализма Фихте не составляло труда, и Гайм это
отмечал неоднократно. Отчасти так оно и было, однако именно в
морально-этической проблематике обнаруживается любопытный
пункт, в котором романтики осуществили разрыв со всей предшес-
УРОКИ РОМАНТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ...
877
твующей моральной философией, включая и Канта, и Фихте. Кант,
как известно, полагал, что он в форме категорического
императива открыл всеобщий, обязательный для всех разумных существ
моральный закон практического разума. То, что, согласно Канту,
этот моральный закон устанавливается свободной волей каждого
субъекта, никак не умаляет его необходимости и всеобщности.
Напротив, «форма всеобщности», т. е. пригодности для всех и
всегда в любых обстоятельствах, образует единственное его,
закона, содержание и единственный критерий моральности целей и
поступков. Поскольку же человек есть не только разумное, но также
и чувственно-телесное существо, постольку в отношении к нему
моральный закон выступает в форме повелевающего ему долга.
При всем своеобразии этических воззрений Фихте, тем более с
учетом их эволюции, в сравнении с Кантом, эпитеты «абстрактный» и
«ригористический» применительно к его морализму оправданы не
в меньшей мере, чем к кантовскому, и не случайно его философию
в целом называли иногда «этическим идеализмом».
Спустя более ста лет после расцвета романтической школы
Георг Зиммель, комментируя моральную философию Канта,
задавался вопросом: почему моральный закон обязательно
должен быть всеобщим и безусловным, т. е. обладать значимостью
и действенностью для всех и всегда? Как замечал он при этом,
уже в самой постановке проблемы морального закона у Канта как
обязательно общего для всех, возможно, содержалась ошибка:
«Но то, что Кант считал логически необходимым, — чтобы закон
был общим — представляется нам сегодня только исторически
необходимым. Понятие закона, значимого по своей сущности для
индивида как такового — для Канта contradictio in adjecto...»14.
Если речь идет непосредственно о моральной философии Канта
и Фихте, Зиммеля, то очевидно, что искать у них ответ на вопрос
о причинах, по которым моральный закон должен обязательно
мыслиться только как всеобщий, лишено смысла, — в
трансцендентальной философии некорректна уже сама постановка
такого вопроса. Разум, устанавливающий и формулирующий
моральный закон, не может не быть всеобщим. В соответствии с
духом и буквой трансцендентальной философии моральный закон
14 Зиммель Г. Кант. Шестнадцать лекций, прочитанных в
Берлинском университете // Зиммель Г. Избранное. М., 1996. Том 1. Философия
культуры. С. 96.
878
Ю. В. ПЕРОВ
должен быть априорным, не зависящим от опыта, ибо только при
таком условии он может претендовать на необходимость и
всеобщность для всех и всегда. Но в не меньшей степени требование
всеобщности морального закона стало следствием присущего
новоевропейской общественной и правовой мысли постулата
тождества свободы и равенства индивидов в качестве субъектов
права и морали. Однако вне того своеобразного исторического
контекста принцип абстрактного всеобщего равенства, в том
числе и в моральном законе, не столь самоочевиден, как многим
представлялось в те времена. Существовали и существуют
культуры, в которых нравственные обязанности дифференцированы
не только применительно к разным группам (половозрастным,
сословным, социальным), но и обладают персонально ситуативной
значимостью в зависимости от личных жизненных обстоятельств,
принимаемых людьми решений и поступков.
Философия XIX—XX вв. если и не решила эту проблему, то
во всяком случае иначе ее поставила. При всем своем признанном
«субъективизме» Фихте вряд ли смог бы разделить заявленный
С. Къеркегором и последующей экзистенциальной традицией
протест против общезначимой, а потому на самом деле ни для
кого персонально не значимой и безличной морали. Кант также
наверняка отверг бы саму постановку Максом Шелером вопроса
о возможности конструирования «материальной этики»,
основанной не на всеобщем, а на «индивидуализированном a priori».
Центральной темой в разных вариантах современных
коммуникативных «этик дискурса» стало обсуждение возможностей и
процедур достижения согласия при столкновении изначально
различных нормативных систем и позиций, в том числе морально-
этических. Порой при этом, правда, получается, что обсуждение
процедур достижения такого консенсуса оставляет на периферии
философских интересов (а иногда и вне их) основания и
содержание участвующих в согласовании нормативных и ценностных
систем морали. Вопрос, каким образом в одном обществе могут
бесконфликтно сосуществовать принципиально разные морально-
этические системы и возможно ли это вообще, обладает ныне не
только теоретический, но также прагматической актуальностью
и политической остротой. Разработкой средств практического
обеспечения этого в современных обществах заняты
разработчики многообразных версий теории и практики так называемого
«мультикультурализма».
УРОКИ РОМАНТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ...
879
Как бы ни оценивать упомянутые (и иные) тенденции
этических «индивидуализации» и «плюрализма», их романтические
корни ни для кого не секрет. Конечно, сам философский «принцип
индивидуации» (principium individui) открыли не романтики.
Истоки его наличествовали уже в античной традиции, а в
схоластике и позже у Лейбница он обрел развернутое обоснование.
Однако между «принципом тождества неразличимых» Лейбница,
констатировавшим нетождественность всех «экземпляров» (его
школьный пример: нет двух одинаковых листьев), и
романтическим утверждением высшей ценности неповторимой личной
индивидуальности разница все же есть. Правда, романтики во многом
обязаны философии истории Гердера, представившего плюрализм
и индивидуализацию многообразных исторических и культурных
формообразований в качестве главных тенденций
культурно-исторического процесса, но это не умаляет их собственного вклада
в философское художественное и сознание современной им эпохи.
Основательнее и последовательнее всех из участников
романтической школы к этой теме отнесся Шлейермахер, у которого
индивидуализация (индивидуальное своеобразие человека) стала
общей основой его онтологии, этики и философии религии. А ныне
можно бы добавить: и его философской герменевтики.
Когда Гайм вспомнил о «бурных стремлениях семидесятых
годов прошлого столетия», удивляет не само упоминание, а то,
что оно пришлось на вторую половину книги, когда обсуждение
происхождения романтизма было уже завершено, и что ранее речь
об этих стремлениях не заходила. Своеобразие позиции Гайма в
отношении родословной немецкого романтизма, как полагают,
как раз в том и состояло, что в отличие от многих других он не
считал штюрмеров, участников движения «Буря и натиск»,
непосредственными предшественниками романтизма. Некоторое
исключение было сделано им в отношении Гердера.
Иоганна Готфрида Гердера называли предшественником
романтизма, отцом и даже пионером романтики, подразумевая,
что без его влияния невозможно представить становление
немецкого романтизма, хотя сам он романтиком не стал, как не стали
таковыми Гёте, Шиллер и даже Фихте. После смерти Лессинга
Гердер некоторое время считался самым знаменитым из
современных немецких писателей, пока это место в глазах публики
не заняли Гёте и Шиллер. В последнее десятилетие жизни он,
отчасти из-за своих не самых приятных для общения и дружбы
880
Ю. В. ПЕРОВ
черт характера, отчасти из-за разлада в личных отношениях с
Кантом, Гёте и Шиллером и другими, обрел в литературных
кругах славу озлобленного и завистливого человека. Возможно,
именно это обстоятельство стало поводом для того, чтобы сами
романтики ссылались на Гердера не столь часто, как можно было
бы ожидать. Правда, в статьях Ф. Шлегеля 1794—1795 гг.
эпизодические упоминания о Гердере сопровождались весьма лестными
оценками его философии истории и познаний и восприимчивости
в отношении древних греков, но позже имя Гердера исчезает из
его сочинений15.
Гайм же многократно и в разных контекстах отмечал
прямое влияние идей Гердера на многих романтиков, специально
подчеркивая важность воздействия его исторического чувства и
присущего ему уважения и сочувствия ко всему своеобразному
и индивидуальному в культуре и в поэзии. Если добавить
признание важной роли Гердера в пробуждении интересов немецкого
общества к народной поэзии, культуре и родному языку, его
критическое отношение к внешним государственно-правовым формам
общежития и недоверие к абстрактно-рассудочному мышлению,
роль Гердера в качестве ближайшего предшественника
немецкого романтизма можно было бы счесть неоспоримой. Все это
было прекрасно известно Гайму, опубликовавшему впоследствии
двухтомную монографию о Гердере. Похоже, и в данном случае
он просто предпочел сохранить незапятнанной чистоту своей
«схемы двух источников романтизма» (классическая поэзия Гёте,
Шиллера и рефлексивная философия самосознания Фихте), среди
которых Гердеру места не нашлось.
Непосредственно связанный с обсуждением роли Гердера
вопрос о своеобразии историзма романтической школы обладает
самостоятельным значением, тем более что в суждениях о нем
также не обошлось без крайностей. Неоднократно повторялось
авторитетное мнение, будто именно немецкие романтики стали
первооткрывателями историзма как теории и метода. Им приписывался
приоритет в открытии историчности природной и общественной
реальности не просто как факта исторической изменчивости (что
было известно всем и всегда), но такой реальности, для которой
15 Стоит обратить внимание на то, как резко Гайм отверг
несправедливые характеристики и оценки философии истории Гердера А. Шлегелем
в его берлинских лекциях.
УРОКИ РОМАНТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ...
881
исторический способ бытия является ее сущностной внутренней
определенностью. Романтический историзм был понят в таком
случае как та «основная форма», под непосредственным
воздействием которой якобы сформировались все последующие версии
философского историзма. Оппоненты же, напротив, склонны были
отрицать самостоятельность романтического историзма, считая
его основное содержание заимствованным отчасти у Гердера,
отчасти у Шиллера.
Нет нужды заниматься описанием дискуссий по поводу
наличия или отсутствия так называемого просветительского
историзма, но некоторые отправные пункты принять во внимание
стоит. Общеизвестно, что для многих просветителей история стала
одной из главных тем и что авторство самого термина «философия
истории» принадлежит Вольтеру, и тем не менее вопрос о мере
историзма, присущей европейской просветительской мысли в целом,
остается дискуссионным. Представляется, что споры эти могут
стать плодотворными лишь в том случае, если будет признано, что
историзм бывал разный, что становление философского историзма
осуществлялось дивергентно и что в XVIII—XIX вв.
формировались и сосуществовали в достаточной мере самостоятельные и
различные его варианты, в том числе историзм романтический.
Главный упрек просветительским версиям философии истории
с точки зрения более поздних и «развитых» форм историзма
заключался в констатации того, что осмысление исторического
процесса, формулировка его целей, общей направленности и
смысла и окончательный суд над историей осуществлялись
просветителями с позиций якобы всеобщего универсального разума,
трансцендентного (потустороннего) истории и никак от нее не
зависящего. И напротив, при таком подходе все, существовавшее и
существующее в историческом процессе, оценивается и обретает
смысл лишь в соотнесении с критериями такого внеисторического
разума, не обладая собственным самостоятельным значением.
Именно в этом пункте Гердер осуществил радикальный
разрыв с большинством просветительских версий философии
истории16. Характерной и важной чертой гердеровского историзма
стало обоснование многообразия и вариативности историческо-
16 Версии философского историзма, как известно, складывались до
Гердера, Шиллера и романтиков, в том числе у Вико, Монтескье, Руссо.
Но это были иные его варианты.
882
Ю. В. ПЕРОВ
го процесса, самоценности всех когда-либо существовавших и
существующих форм культуры и общественной жизни, каждого
исторического состояния. Всякая существующая «вещь» (если
она не безжизненное орудие), по словам Гердера, содержит свою
цель в самой себе. Из этого непосредственно следовало
требование оценивать все существующее в истории (народы, культуры,
обычаи, образы жизни, личности и пр.) в соотнесении с внутренне
присущими ему целями, по его собственным критериям. Ничто
в истории не должно измеряться по внешним для него, в том
числе и по неким универсальным, общеисторическим,
масштабам. Если дополнить сказанное упоминанием последовательно
отстаивавшегося Гердером принципом индивидуализации всего
исторически сущего, непосредственное родство романтической
версии историзма с этими его идеями станет очевидным. Если
Фауст стремился обрести прекрасное мгновение, достойное того,
чтобы длиться вечно, то Гердера подобная перспектива никак не
привлекала. Ничто, даже Провидение, писал он, не в силах придать
«противоестественную вечность» единственному, даже самому
высоко ценимому нами мгновению. Более того, осуществись
подобное, это было бы ужасно, — ведь каждое мгновение тем и
самоценно, что оно уникально и преходяще, и других таких не
было и впредь никогда не будет.
Своеобразными были также и связи романтиков и с Ф.
Шиллером. Гайм многократно упоминал об их сложных отношениях,
негативно оценивая последствия для всей романтической школы
разрыва с ним братьев Шлегелей. Но в результате и сам он, называя
классическую поэзию Гёте и Шиллера источником романтической
школы, склонен был отодвигать Шиллера «на второй план». Тема
«Шиллер и романтики» книгой Гайма не была закрыта; к ней не
раз обращались впоследствии, причем многие, начиная с Гегеля,
видели в Ф. Шиллере не только непосредственного
предшественника, но и родоначальника романтического движения в Германии.
Причем в отличие от «схемы» Гайма, в первую очередь, не в
качестве поэта, рядом с Гёте, но как философа, теоретика искусства и
вдохновителя романтического мировоззрения. Фундаментальная
для романтизма эстетическая утопия преобразования общества,
разграничение наивной и сентиментальной поэзии и ряд более
частных моментов воззрений романтиков непосредственно — пусть
и с вариантами — заимствованы ими у Шиллера. Виндельбанд
прямо называл Шиллера главой романтического движения. Ему
УРОКИ РОМАНТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ...
883
же нередко приписывали и авторство романтического
историзма. Шиллер действительно был бы вправе претендовать на роль
предтечи немецких романтиков в большей степени, чем другие
«предромантики», и все же по типу и по форме
философствования он преимущественно принадлежал еще к предшествующей
просветительской эпохе и выразил тенденцию эстетизации
мировоззрения внутри самого Просвещения.
Когда братья Шлегели противопоставляли романтическое
искусство античному, надо было очень постараться, чтобы не
усмотреть в этом сопоставлении прямой зависимости от статьи
Ф. Шиллера «О наивной и сентиментальной поэзии». Приоритет
Шиллера в этом пункте был очевиден большинству
современников, Гёте и самому Шиллеру, а факт, что А. Шлегель, доказывая
свою независимость от Шиллера, был готов пойти на
дискредитацию его мысли, достоин сожаления. Правда, это
противопоставление наивной и сентиментальной поэзии, классического и
романтического искусства, в том числе и у самого Шиллера, могло
бы остаться всего лишь классификационной схемой и обрело
подлинную историчность лишь тогда, когда эти формы
искусства были бы представлены в качестве необходимых ступеней
исторического процесса развития искусства отчасти братьями
Шлегелями и в полной мере Гегелем.
При этом уместно иметь в виду, что сам Гегель придерживался
намного более расширительной трактовки романтического
искусства. В его понимании романтическое искусство явилось третьей
необходимой исторической формой развития понятия искусства
после символической и классической. Классическое античное
искусство, демонстрируя полное соответствие внешней
чувственной формы ее духовному содержанию, стало, как писал Гегель,
«воплощением идеала, соответствующим понятию, завершением
царства красоты. Ничего более прекрасного быть не может и не
будет». Но, продолжал он, «существует нечто более высокое,
чем прекрасное явление духа в непосредственном чувственном
облике»17, и это более высокое есть непосредственное
обнаружение духа во внутреннем мире души, которое и стало предметом
романтической формы искусства. Романтическое искусство, по
Гегелю, — это искусство «бесконечной внутренней
субъективности», и оно со времени утверждения христианства существовало
17 Гегель Г. В. Ф. Лекции по эстетике: В 2 т. СПб., 1999. ТА. С. 538.
884
Ю. В. ПЕРОВ
в формах религиозного искусства, искусства времен рыцарства,
искусства эпохи Возрождения и «пастушеских романов».
Современное искусство романтиков Гегель называл «романическим
началом в современном смысле этого слова», в силу своего
крайнего субъективизма являющимся «разложением романтической
формы искусства» и искусства как такового.
Критическую оценку «остроумных и незрелых» философских
идей Ф. Шлегеля Гайм сопроводил замечанием, что эти идеи позже
были развиты Гегелем, так что Ф. Шлегель якобы «приготовил
ту основу, на которой Гегель впоследствии построил свою
феноменологию, свою логику и энциклопедию». Этот вывод выглядит
странно, если его соотнести с соседствующим там же
утверждением Гайма, будто все, что тогда писал Шлегель о философии,
было заимствовано им у Фихте. Если это так, то получается,
будто содержание всех главных трудов Гегеля было всего лишь
развитием того, что ранее было уже разработано Фихте? И
высказывание такого рода у Гайма не единственное. Но, оставив в
стороне подобные не самые удачные формулировки, стоит
заметить, что и далее в тексте Гайм неоднократно характеризовал
философию Гегеля как развитие и завершение идей, выработанных
и сформулированных тем или иным из романтиков, а то и всеми
вместе. Констатировав, что вся философия абсолютного тождества
Шеллинга основана на отождествлении истины и красоты и на
ликвидации границ между философией и искусством, он вновь
утверждал, что эти идеи позже были развиты Гегелем.
Вывод сей отнюдь не бесспорен, причем в отношении обеих
тем, о которых в нем идет речь. Первая из них — философский
эстетизм, понятый как исторический тип философии,
выстроенной преимущественно на эстетических основаниях, и
романтический эстетизм как наиболее последовательный его вариант;
вторая — отношение Гегеля к романтикам. Уместно обратить
внимание на некоторые несоответствия между трактовками
Гаймом эстетизма романтиков и Гегеля и его к ним отношении.
В монографии «Гегель и его время», где Гайм стремился
показать, что эстетическое воззрение на мир было одним из двух
источников гегелевской философии (второй — новоевропейская
рефлективная философия самосознания), он потратил немало
усилий для доказательства принципиальных различий между
источниками и содержанием эстетических установок Гегеля и
романтиков. Первые он считал классическими, укорененными
УРОКИ РОМАНТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ...
885
исключительно в античности, тогда как вторые — порождением
немецкой классической поэзии Гёте и Шиллера. Теперь, похоже,
это прежнее противопоставление для него утратило смысл, и
Гегель предстал как завершитель шеллингианского и вообще
романтического варианта эстетизма.
Обсуждая выдвинутую братьями Шлегелями программу
конструирования энциклопедического знания, Гайм замечал, что все эти
благие пожелания яснее всего продемонстрировали плодотворность
«романтического направление ума» для духовной жизни Германии,
хотя и воплощены они были лишь впоследствии (речь идет о
Гегеле). Столь положительная оценка вклада романтиков в сравнении
с противоположными оценками роли романтического движения в
других местах книги могла бы показаться удивительной, но еще
интереснее продолжение этой мысли, когда Гайм обнаружил,
что развитие и осуществление «всеобщей формулы романтизма»
было выполнено не сформулировавшим ее Шеллингом (сам он
сделать это оказался не в состоянии), а Гегелем. Еще любопытнее
об отношении Гегеля к романтизму высказался Гайм,
охарактеризовав гегелевскую «Феноменологию духа» как реализацию
программы и идеала романтиков, в которой доведено до высшей
своей ступени сочетание поэзии и науки и где якобы соединились
воедино все цели романтиков: с критическими — эстетические, с
историческими — систематические, с художественными —
религиозные и нравственные. Правда, как своевременно оговаривался
Гайм, у Гегеля романтика уже вышла за пределы своих
собственных границ, и тем самым с участием Гегеля «разрешился кризис
романтизма».
В этих суждениях Гайма немало поводов для обсуждения.
То, что Гайму Гегель был намного симпатичнее романтиков и
Шеллинга, он продемонстрировал уже в своей книге о Гегеле.
Правда, и гегелевская философия оценивалась там намного более
строго и критично. Тринадцатью годами ранее Гайм без устали
убеждал читателей, что Гегелю так и не удалось реализовать якобы
поставленную им самим «сверхзадачу» своей философии, а
именно: органически соединить объективное эстетическое воззрение
на мир с субъективной рефлексией современного философского
самосознания. Теперь, по Гайму, получается, что сделать это ему
удалось.
Показательны и оценки «Феноменологии духа». В монографии
о Гегеле явно преобладали критические суждения о ее компози-
886
Ю. В. ПЕРОВ
ции и содержании, тогда как теперешние ее оценки Гаймом без
преувеличения можно назвать восторженными, в том числе
(что удивительно) и как якобы «самого художественного
выражения» романтических идей.
Сместились в сравнении с прежними и характеристики
отношения этой книги Гегеля к романтизму. Там Гайм интерпретировал
ее как свидетельство полного и окончательного разрыва Гегеля
с романтизмом и с Шеллингом. Здесь же Гегель предстает у него
как мыслитель, впервые в полной мере реализовавший — как
в «Феноменологии духа», так и в философской системе в
целом — почти все главные цели и идеалы романтического
движения, пусть и иными (неромантическими) способами и в
неромантической форме.
Обсуждение действительных отношений Гегеля с
романтиками, с романтизмом, как и вопрос о мере романтических тенденций
в философии Гегеля, — тема специальная, сложная, и обсуждать
ее здесь нет возможностей, да и вряд ли уместно18.
Интерпретировать философию Гегеля как синтез Просвещения и романтизма,
как это иногда делается, вряд ли корректно. Стоит упомянуть
лишь о некоторых моментах, препятствующих попыткам
максимально сблизить Гегеля с романтизмом. В «Лекциях по эстетике»
предостаточно критических суждений о романтической эстетике
и современном романтическом искусстве. Не стоит забывать и об
известной скептической позиции Гегеля в отношении
возможностей искусства в современном мире и его исторических судеб
в будущем. Как проявление «антиромантизма» можно расценить
и критическое отношение Гегеля к эстетизму Шеллинга, когда
он резко выступил против эстетической трактовки абсолютного
тождества в философии Шеллинга и осуществленной им
редукции абсолюта к красоте и искусству. По глубокому убеждению
Гегеля, красота и искусство из-за своих чувственной формы
неадекватны духу, идее, тогда как подлинная стихия духа — это
мышление в понятиях, и только в нем и в его диалектике может
найти адекватное выражение истинное абсолютное тождество.
И, конечно же, налицо явно контрастирующее с романтическим
отношение Гегеля к современной ему общественной действитель-
18 Тем более здесь не обсуждается до сих пор не утратившая
привлекательности для многих гегелеведов тема иррационализма и отношения
к романтизму молодого Гегеля.
УРОКИ РОМАНТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ...
887
ности, предполагающее признание в ней соответствующей меры
разумности и в силу этого примирение с ней. При всем том, что
призыв Гегеля к «примирению с действительностью» порождал и
до сих пор порождает немало критических суждений и дискуссий,
вряд ли кто-то возьмется оспаривать, что в нем, как и во многих
других отношениях, Гегель предстал если и не «позитивистом»,
то в гораздо большей степени «реалистом», чем «романтиком».
Как выше уже отмечалось, здесь не будут обсуждаться темы,
имеющие непосредственное отношение к романтизму вообще и
немецкому в частности, если они не стали предметом
специального рассмотрения у Гайма. Всего один пример из этого ряда:
Гайм оставил без особого внимания и специального осмысления
почти общепризнанный с точки зрения исследователей и
критиков романтизма и прямо провозглашенный самими романтиками
присущий им философский иррационализм, осуществлявшийся
ими пересмотр фундаментальных оснований и следствий так
называемой «классической новоевропейской рациональности».
Причины этого, думается, лежат на поверхности и проистекают
из той же реализованной Гаймом «схемы исторического генезиса
романтической школы», в которой единственным ее
философским источником назван рефлективный (рационалистический)
трансцендентальный идеализм в его классических формах у
Канта и Фихте, не содержавший непосредственных предпосылок
и оснований «неклассического» философского иррационализма.
Зато другие исследователи романтизма, не связанные, в отличие
от Гайма, столь жесткой схемой, не испытывали затруднений в
поисках источников и предпосылок иррационалистических
тенденций в романтизме.
* * *
Содружество духовных вождей нового романтического
направления, по словам Гайма, лишь недолго составляло
подлинную школу или сплоченную партию, кружок
друзей-единомышленников, — как это было в «цветущее время
романтизма» 1798—1799 гг., в то время, когда они дали название всему
движению. Однако главное кроется, конечно же, не в личных
взаимоотношениях участников. Одной из сквозных тем книги
стал вопрос о степени и содержании
«идейно-мировоззренческого единства» внутри романтического сообщества. Вопрос не
888
Ю. В. ПЕРОВ
праздный, тем более что на фоне очевидного изначального
мировоззренческого и литературно-философского индивидуального
своеобразия романтиков почти каждый из них в ходе творческой
эволюции преобразовывал свои взгляды. Некоторые проделали
это неоднократно и радикально. Следует отдать должное Гайму:
он четко фиксировал трудную ситуацию и трудности ее
преодоления. Да, у романтиков было немало общих идей, но не меньше
и расхождений в них; они, хотя и не все, пребывали в дружеских
отношениях, но отношения эти порой оборачивались взаимной
антипатией и открытой враждой и завершились распадом
школы. Все это обстоятельно иллюстрировано в книге. В
результате обнаружилось, что ни поэтическое творчество романтиков
(довольно-таки разнородное и разноуровневое по качеству), ни
идейно-мировоззренческая общность (весьма относительная и
противоречивая), ни личные взаимоотношения романтиков
(оставлявшие желать много лучшего) — ничто из этого не смогло
обеспечить той степени единства, какая предполагается в школе,
пусть даже и романтической.
Выход из этой проблемной ситуации и соответственно вывод
Гайма прост: на самом деле романтическая школа была, по его
словам, в первую очередь «оборонительной сектой».
Романтики сплотились лишь благодаря критике всего, что можно было
критиковать (общественных порядков, образа жизни и нравов,
Просвещения, всей немецкой философии до Фихте и всей
немецкой поэзии до Гёте), а после формирования школы
сохраняли свое единство в открытой идейной полемике с общими
противниками — и лишь благодаря ей. Только в борьбе обрели
они не только «право свое», но и само «бытие свое» в качестве
школы. Возможно, Гайм в этом выводе и не стопроцентно прав,
но момент истины велик: многие историки романтизма обращали
внимание на то, что романтики и впоследствии предпочитали
самоопределяться и консолидироваться в качестве оппозиции на
базе установок не за, а против (анти-\ причем в самых разных
отношениях.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие 5
Введение 7
КНИГА ПЕРВАЯ
ВОЗНИКНОВЕНИЕ РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
Глава первая. Зачатки поэтической деятельности Тика 23
Источники. — Молодость Тика. — Его начитанность и
влечение к театру. — Первые литературные произведения. — Отношение к
наставникам Бернгарди и Рамбаху. — Болезненное душевное
настроение. — Отражение этого настроения в литературных произведениях. —
Переезд из Галле в Гёттинген. — Изучение произведений Шекспира
и Бена Джонсона. — Друг Тика, Вакенродер. — Жизнь в Эрлангене и
возвращение в Гёттинген. — Статьи Тика о Шекспире. — Возвращение
в Берлин. — Сотрудничество в «Archiv der Zeit». — Отношения с
Николаи. — «Страусовые перья» и «Петер Лебрехт»
Глава вторая. Сочинение сказок и комедий 79
Сказки в «Страусовых перьях». — «Народные сказки Петера
Лебрехта»; сказка о белокуром Экберте; их характеристика. — Переход
к сатире. — Характер комедий Тика. — «Кот в сапогах». — «Свет
наизнанку» и «Цербино»
Глава третья. Тик и Вакенродер 113
Столкновение с Николаи. — Столкновение с сыном Николаи. —
Новое направление в поэтической деятельности Тика. — Отношения
с Бернгарди. — Влияние Вакенродера на Тика. — Склад ума, характер
и воззрения Вакенродера; его участь. — «Сердечные излияния
любящего искусства монаха» и фантазии об искусстве. — «Странствования
Штернбальда». — Отличие «Штернбальда» от более ранних
произведений Тика. — Возникновение романтической поэзии
КНИГА ВТОРАЯ
ВОЗНИКНОВЕНИЕ РОМАНТИЧЕСКОЙ КРИТИКИ И ТЕОРИИ
Глава первая. Август Вильгельм Шлегель до 1797 года .... 151
А. В. Шлегель в Гёттингенском университете. — Отношение
к Гейне и к Бюргеру. — Влияние Бюргера (и Шиллера) на его первые
стихотворения. — Самые старые критические статьи. — Статья о
Данте. — Вступает в сношения с Шиллером; влияние Шиллера на его
890
ОГЛАВЛЕНИЕ
поэтические произведения. — Письма о поэзии, стихотворном размере и
языке. — Изучение Шекспира. — Статьи о Шекспире и о «Ромео». —
Перевод произведений Шекспира. — Поселяется в Йене. — Каролина Шле-
гель. —Рецензии в «Литературной газете». — Уклонение отточки зрения
классицизма и переход к романтической точке зрения
Глава вторая. Зачатки литературной деятельности
Фридриха Шлегеля 181
Фр. Шлегель воспитался на произведениях Винкельмана и
древнегреческих писателей. — Его первые литературные
произведения. — Сочинение об изучении греческой поэзии. — История поэзии
греков и римлян. — Статья о Цезаре и Александре. — Переезд из
Дрездена в Йену. — Двусмысленные отношения с Шиллером. — Рецензии
на «Альманах Муз». — Ответ Шиллера в «Ксениях». — Написанная
Фридрихом рецензия на журнал «Ногеп». — Разрыв Шиллера со Шле-
гелями. — Отношение Фридриха к философии, к Канту, к Фихте. — Очерк
о республиканизме. — Статья против Шлоссера. — Рецензия для
«Философского журнала» на роман Якоби «Вольдемар». — Анализ этих статей
Глава третья. Романтическая доктрина приобретает
самостоятельное значение и сходится с романтической
поэзией 231
Параллель между старшим Шлегелем и младшим. — Вступление
младшего Шлегеля в берлинское общество. — Статья о Лессинге. —
Отрывочные заметки. — Дружба с Шлейермахером. — Эстетическая доктрина
Фридриха Шлегеля. — Влияние «Вильгельма Мейстера» на понятие о
романтической поэзии. — Понятие об иронии. — Фридрих делается
средоточием романтического кружка. — Шлегели сводят знакомство с Тиком. —
Основание «Атенея». — Первый номер этого журнала. — Статьи В.
Шлегеля (диалог о Клопштоке, литературные характеристики и т. д.). — Второй
номер журнала. — Написанная Фридрихом характеристика «Вильгельма
Мейстера». — Отрывочные заметки и «Цветочная пыль» Новалиса
КНИГА ТРЕТЬЯ
ЦВЕТУЩЕЕ ВРЕМЯ РОМАНТИЗМА
Глава первая. Новая черта в тенденциях романтической
поэзии 283
Гельдерлин. — Его «Гиперион». — Философская подкладка и
поэтический характер этого романа. — История умственного развития
Гельдерлина. — Влияние Шиллера и Фихте. — Ранние признаки душевного
недуга. — Философские мечтания. — Гельдерлин и Гегель. — Отношения
с Диотимой. — Усиливающееся душевное расстройство. — Стремление
к поэтическому совершенствованию. — Характеристика лирики
Гельдерлина. —Проблески религиозных и христианских воззрений. — Отношения
с романтической школой. — Гельдерлин и Новалис
ОГЛАВЛЕНИЕ
891
Глава вторая. Дальнейшее развитие романтической поэзии
в произведениях Новалиса 318
Общая умственная подкладка. — История молодости. —
Влияние Шиллера. — Любовная связь. — Душевные страдания вследствие
смерти возлюбленной. — «Гимны к ночи». — Политические воззрения
Новалиса. Новалис в Фрейберге. — «Ученики в Саисе». — Отрывочные
заметки. — Магический идеализм. — Вторая любовная привязанность
Гарденберга. — Встреча с Тиком и жизнь в Йене. — Влияние Тика на
поэзию Гарденберга. — «Генрих фон Офтердинген». — Эстетические
воззрения Гарденберга. — Связь содержания «Офтердингена» с судьбою
самого Новалиса. — Цель этого романа
Глава третья. Шлейермахер; поворот к религии и этические
воззрения романтической школы 377
Молодость Шлейермахера. — Его занятия в обществе герн-
гутеров. Выход из общины. Поступление в университет. Разбор кантовс-
кой философии. — Скептическое настроение ума. — Занятие должности
домашнего учителя (статья о достоинстве жизни). — Дроссен, Берлин,
Ландсберг. Занятие должности церковного проповедника. — Знакомство
с сочинениями Спинозы. — Жизнь в Берлине. — Отношения с
Генриеттой Герц. — К Фр. Шлегелю; его влияние на Шлейермахера. — «Речи
о религии». — Их оригинальная внешняя форма. — Открытие
чистой религии. — Воззрение на универс. — Сходство с воззрениями
романтиков. — Христианский характер «Речей». — Их влияние. — Гюль-
сен. Его литературная деятельность. — Сочетание религии с любовью
к искусству. — Вакенродер. Тик. В. Шлегель. — «Женевьева» Тика
и ее поэтические достоинства. — Отношение Фр. Шлегеля к
религии. — Влияние, произведенное на него «Речами» Шлейермахера.
Рецензия на «Речи». — Споры Фихте об атеизме. — «Идеи» Фр.
Шлегеля. — «Люцинда» Фр. Шлегеля. Ее возникновение и форма
изложения. — Она была практическим применением эстетической доктрины
автора. — Для нее служила содержанием жизнь Фридриха (отношения
с Доротеей, ссора с Шлейермахером). — Этические воззрения
Фридриха. — «Монологи» Шлейермахера. — Их возникновение, содержание
и точка зрения. — Отношение к этике Шиллера и Гёте. — Связь этики
Шлейермахера с романтическим направлением
Глава четвертая. Шеллинг и натурфилософия 516
Противоположность между натурфилософией и религиозной
мистикой. — Юность Шеллинга. — Шеллинг в качестве истолкователя
философии Фихте. — Письма о догматизме и критицизме. — Естествознание
и его связь с поэтическим и философским направлением того времени.
Зарождение и развитие Шеллинговой натурфилософии. — Поступление
Шеллинга на университетскую кафедру в Йене и его сношения с
романтиками. — Первый очерк системы натурфилософии. — Достоинства
и недостатки этой системы. — Шеллинг и Гёте. — Шеллинг и
Новалис. — Фр. Шлегель и натурфилософия. — Риттер. Его статья о
гальванизме. Его отношение к Шеллингу, к Новалису, к Фр. Шлегелю. — Стеф-
892
ОГЛАВЛЕНИЕ
фене. Его юношеская жизнь и умственное развитие. — Вступление в
кружок романтиков. — Влияние натурфилософии на поэзию. — Тик и
натурфилософия. — В. Шлегель и натурфилософия. — Поэтические
замыслы Шеллинга. — Солидарность натурфилософии с новой поэзией
и критикой. — Поэзия Шеллинга. — Система трансцендентального
идеализма. — Система тождества
Глава пятая. Романтическое направление упрочивается,
распространяется и защищается от своих противников . . 607
Фридрих Шлегель и Доротея Вейт в Йене. — Роман Доротеи
«Флорентин». — Продолжение «Люцинды» и другие поэтические
опыты Фридриха. «Аларкос» и другие проекты драм. — Лекции Фридриха
в Йене. — Его «Разговор о поэзии», мысль об издании энциклопедии,
рецензия на перевод «Дон Кихота» и статья о Боккаччо. — Содержание
«Разговора о поэзии»: эпохи поэтического творчества, «Письмо о
романе», «Речь о мифологии». — Точка зрения Фридриха в журнале
«Европа». — В. Шлегель как представитель практических интересов
романтической школы. — Журналы Шеллинга и Тика «Поэтический журнал» и
«Письма о Шекспире». — В. Шлегель в качестве романтического поэта.
Элегия к Гёте и «Ион». Полемика касательно «Иона» в «Журнале для
изящного общества». «Тристан». Влияние Тика на поэтические
произведения В. Шлегеля. — «Альманах Муз» Шлегеля и Тика. — Личные
распри между членами романтической школы; их единодушие в борьбе
с противниками. — Статья Фридриха «Über die Unverständlichkeit»; его
поэтический пыл угасает. — «Чертовщины» Вильгельма в «Атенее»;
«Reichsanzeiger» и т. д. — Его союзники: Бернгарди и Шлейермахер. —
Прекращение «Атенея». — Отношение к «Всеобщей литературной газете»,
разрыв и борьба с ее издателями. — Проект Шлегеля и Фихте издавать
«Летописи». — «Характеристики и критики» (статья Вильгельма о
Бюргере). — Эрлангерский «Литературный журнал» (рецензии Шлейермахера
и Шеллинга). — Литературные и театральные статьи Бернгарди в «Archiv
der Zeit». — «Кронос» Рамбаха. — «Kynosarges» Бернгарди. — Романтика
в «Журнале для изящного общества». — Полемические статьи Тика в
«Поэтическом журнале» и «Анти-Фауст». —Поэтико-сатирические
произведения В. Шлегеля; «Ehrenpforte» и сатира Фихте против Николаи. — Лекции
В. Шлегеля. — Лекции в Йене и переезд в Берлин. — Лекции в Берлине.
Первый курс: теория искусства, общая точка зрения и философская
основа; критика кантовской эстетики и одобрение эстетики Шеллинга.
Полная система эстетики. Теория поэзии (язык, стихотворный размер,
мифология). — Второй курс. Находящиеся в связи с лекциями переводы,
в особенности перевод Кальдерона. Полемическое введение ко второму
курсу: о современном направлении литературы. История классической
поэзии. Эпос. Лирика. Драма. — Третий курс: история романтической
поэзии. Пределы романтизма. О немецком языке и литературе до и после
возникновения романтизма («Minneliedcr» Тика и т. д.). Обзор истории
немецкой поэзии в лекциях Шлегеля (характеристика Виланда, настоящее
и будущее немецкой поэзии). Дух средних веков, романтическая
мифология, «Песнь о Нибелунгах». Провансальские и итальянские поэты. Лекции
ОГЛАВЛЕНИЕ
893
Шеллинга о философии искусства. — О методе академического
преподавания. — Частные лекции В. Шлегеля об энциклопедии. Его воззрение
на историографию. Политические воззрения. — Языкознание. —
«Грамматика» Бернгарди. — «Октавиан» Тика как итог поэтических стремлений
романтизма. — Кризис в среде приверженцев романтизма. — Вызванные
романтизмом поэтические произведения и его научные результаты. —
Перевод произведений Платона Шлейермахером и его критика этики. —
Философия Гегеля
ДОПОЛНЕНИЯ И ПОПРАВКИ
1. Одно из сочинений Бернгарди 799
2. Дополнения к главе «Август Вильгельм Шлегель до 1797 года» .... 801
3. Юношество Фридриха Шлегеля и античный период его литератур-
турной деятельности 805
4. К истории отношений братьев Шлегелей с Шиллером 822
5. Первые сношения братьев Шлегелей с Тиком 826
6. Переговоры об основании «Атенея» 829
7. Переговоры об отрывочных заметках для «Атенея» 833
8 Фридрих Шлегель и Гарденберг 835
9. А. В. Шлегель о «Песни о Нибелунгах» 838
10. Мелкие дополнения 841
Ю. В. Перов. Уроки романтической школы в изложении Рудольфа
Гайма 844
Гайм Р. Романтическая школа. Вклад в историю немецкого ума / Пер. с нем.
В. Неведомского; Под ред. В. Ю. Быстрова; Вступ. ст. Ю. В. Перова. — СПб.:
Наука, 2007. — 893 с. — (Сер. «Слово о сущем»),
ISBN 5-02-026908-5
Рудольф Гайм (1821—1901)— историк литературы и философии, политик,
публицист и педагог. Книга «Романтическая школа» была опубликована в 1870 г.
на немецком языке, в воспроизводимом здесь русском переводе — в 1891 г. В ней
представлена эволюция романтической школы как единого целого,
сформировавшегося и существовавшего на основе личных отношений ее участников. Наряду
с литературоведческими и историческими фактами в книге дается философское
измерение творчества йенских романтиков.
Для филологов, историков, философов.
Научное издание
Рудольф Г а й м
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
Вклад в историю немецкого ума
Печатается по изданию:
Р. Гайм. Романтическая школа. М., 1891
Утверждено к печати
Редколлегией серии «Слово о сущем»
Редактор издательства Е. С. Васильева
Художника. А. Яценко
Технический редактор Е. Г. Коленова
Корректоры Ф. Я. Петрова, А. К. Рудзик и Е. В. Шестакова
Компьютерная верстка Е. С. Егоровой
Лицензия ИД № 02980 от 06 октября 2000 г.
Сдано в набор 10.08.06. Подписано к печати 24.01.07.
Формат 60x90 '/ιβ. Бумага офсетная. Гарнитура Тайме.
Печать офсетная. Усл. псч. л. 56.0. Уч.-изд. л. 56.0.
Тираж 2000 экз. Тип. зак. № 3602. С 180
Санкт-Петербургская издательская фирма «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 1
E-mail: main@nauka.nw.ru
Internet: www.naukaspb.spb.ru
Первая Академическая типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12
ISBN 5-02-026908-S
АДРЕСА КНИГОТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТОРГОВОЙ ФИРМЫ «АКАДЕМКНИГА»
Магазины «Книга — почтой»
121009 Москва, Шубинский пер., 6; 241-02-52
197137 Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., 7Б; (код 812) 235-40-64
Магазины «Академкнига» с указанием отделов
«Книга — почтой»
690088 Владивосток-88, Океанский пр-т, 140 («Книга — почтой»);
(код 4232) 5-27-91
620151 Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 137 («Книга — почтой»);
(код 3432) 55-10-03
664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 298 («Книга — почтой»);
(код 3952) 46-56-20
660049 Красноярск, ул. Сурикова, 45; (код 3912) 27-03-90
220012 Минск, пр-т Независимости, 72; (код 10-375-17) 292-00-52,
292-46-52, 292-50-43
117312 Москва, ул. Вавилова, 55/7; 124-55-00
117192 Москва, Мичуринский пр-т, 12; 932-74-79
103054 Москва, Цветной бульвар, 21, строение 2; 921-55-96
103624 Москва, Б. Черкасский пер., 4; 298-33-73
630091 Новосибирск, Красный пр-т, 51; (код 3832) 21-15-60
630090 Новосибирск, Морской пр-т, 22 («Книга — почтой»);
(код 3832) 30-09-22
142292 Пущино Московской обл., МКР «В», 1 («Книга — почтой»);
(13) 3-38-60
443022 Самара, пр-т Ленина, 2 («Книга — почтой»);
(код 8462) 37-10-60
191104 Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 57; (код 812) 272-36-65,
бук. 273-13-98
197110 Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., 7Б; (код 812) 235-40-64
199034 Санкт-Петербург, Васильевский остров, 9 линия, 16; (код 812)
323-34-62
634050 Томск, Набережная р. Ушайки, 18; (код 3822) 22-60-36
450059 Уфа-59, ул. Р. Зорге, 10 («Книга — почтой»); (код 3472) 24-47-7-
450025 Уфа, ул. Коммунистическая, 49; (код 3472) 22-91-85